Мировые бестселлеры. Компиляция. Книги 1-21 [Даниэла Стил] (fb2) читать онлайн
Возрастное ограничение: 18+
ВНИМАНИЕ!
Эта страница может содержать материалы для людей старше 18 лет. Чтобы продолжить, подтвердите, что вам уже исполнилось 18 лет! В противном случае закройте эту страницу!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Лиза Альтер Непутевая
Глава 1
Искусство красиво умирать. Моя семья была одержима идеей смерти. Отец, майор, требовал, чтобы на столе всегда лежал нож для колки льда — на случай, если кто-то из нас подавится куском и ему придется делать трахеотомию. Даже сейчас, спустя много лет, я могу определить место прокола трахеи с такой же легкостью, как место в вену. Нельзя сказать, что майор всегда был мастером предсказывать несчастья. Когда я была совсем маленькой, он был очень деятельным и энергичным. «Вот чушь! — рявкнул бы он на маму, вздумай она сочинять свою эпитафию. — Ты что, хочешь вырастить детей такими же психопатами, как твои родственнички?» Надо было быть, как моя мать-южанка, наследницей побежденного народа, чтобы испытывать страх прежде, чем для этого появятся основания. По крайней мере, если вы родились тогда, как майор, — в 1918 году (до эры создания атомной бомбы). Как бы то ни было, на склоне лет у майора развился дар предсказывать несчастья. Он был по натуре авантюристом, и это привело его из Бостона в Халлспорт руководить единственным в штате Теннесси заводом по производству синтетического волокна. Во время войны в Корее завод с его длинными, почерневшими от копоти зданиями из красного кирпича переоборудовали в военный, выполнявший заказы правительства и поддерживающий контакты со сверхсекретными лабораториями в Ок-Ридже. Летними вечерами майор угощал нас, детей, мягким мороженым в шоколадной глазури, а потом вел на стрельбище, где испытывались новые снаряды. Мы горделиво смотрели, как высокий, элегантный и стройный майор командует испытаниями, словно дирижер — грохочущим оркестром. Вскоре после реконструкции завода майор пережил собственную внутреннюю реконструкцию, да такую, что этого не могла предвидеть даже мама — известный пессимист: он угодил безымянным пальцем с платиновым обручальным кольцом в разболтавшуюся гайку на кузове грузовика, и неожиданно тронувшийся автомобиль тащил его, пока палец не оторвался, как крылышко жареного цыпленка. Более того, ему отдавило ноги задними колесами, и несчастной жертве индустриализации пришлось долго лежать с закованными в гипс ногами, словно ковбой с застрявшими в стременах — по вине собственной лошади — конечностями. Служащие выражали свои соболезнования, завалив нашу кухню ветчиной, лепешками, запеканками и прочей снедью. Вся деловая часть города молилась за его выздоровление.…Айра очень обиделся, когда я отказалась надеть обручальное кольцо. Он считал его символом моего супружеского долга. Муж всегда считал меня фригидной — что ж, нужно ведь было найти какое-то разумное объяснение крушению нашего брака: для него было немыслимо узнать, что он, Айра Брэйсвэйт Блисс, оказался неудачником в супружестве — я отказалась делить с ним постель… Но я забегаю далеко вперед…
Майор очухался от гипса, но метаморфоза уже произошла. Он больше не был самоуверенным и нахальным и первое, что сделал, это переоборудовал подвал нашего дома в бомбоубежище — своеобразный подарок маме ко дню рождения. Негативное отношение мамы к испытаниям в Халлспорте ядерного оружия привело ее в движение матерей за мир (ДММ). В него входила дюжина домохозяек, в основном жен руководителей завода, которые пока не заслужили себе места в Бостоне. Члены ДММ на своих заседаниях прихлебывали чай, комкали носовые платки и храбро утверждали, что русские матери наверняка чувствуют то же, что и американские, по поводу присутствия в костях их детей стронция. Майор издевался над ДММ и продолжал возиться с бомбоубежищем. Мы, дети, были в восторге. Я приглашала туда подружек, и мы долго рассуждали на важную тему: пустить ли сюда соседа — старого мистера Торнберга, когда начнут падать бомбы, или захлопнуть дверь перед его носом, как он перед нашими в День всех святых. Позже мы разрешили спускаться к нам Клему Клойду и прыщавым мальчишкам из усадьбы «Магнолия» — поиграть в «пять минут блаженства»: пока все отсчитывали эти самые пять минут, какая-нибудь пара закрывалась в туалете и целовалась, чтобы выйти потом с искусанными губами, но влюбленными и счастливыми. Крутым петтингом я продолжала заниматься и в старших классах и даже разбила сердце Джо Боба Спаркса — звезды «Халлспортских пиратов» и самого красивого мальчика в школе, потеряв невинность на деревянном настиле в бомбоубежище, пока папа и мама безмятежно спали наверху. Но о Джо Бобе и Клеме Клойде — потом. Несчастный случай не прошел для майора бесследно. Смерть не стала для него неизбежным спутником последних лет жизни, который освобождает каждую душу от земной тюрьмы. Она была по отношению к нему подлой обманщицей, только и ждущей неосторожного шага. Мама была иной. Она относилась к смерти, как дети — к доброму ангелу: незачем расстраиваться, если смерть неминуема. Родители, хоть и по-разному, тихонько готовились к ней, и, по-моему, в этом заключался для них смысл жизни. В маминой спальне стояли в черных рамках потускневшие от времени фотографии. Когда я подросла, мама часто сажала меня на колени и рассказывала о тех, кто уже встретился со смертью. Ее бабушка, Дикси Ли Халл, поранила палец, когда резала хлеб, и умерла от заражения крови в возрасте 29 лет. Дедушка Лестер, аптекарь из Сау-Гэпа, так пристрастился к микстуре от кашля, что бросился однажды ночью под экспресс, идущий в Чаттанугу. Кузина Луэлла в 1932 году угодила в заброшенную каменоломню, когда вся семья собралась вместе на ужин. Еще одну кузину сбил встречный грузовик, когда она высунула из окна машины голову, чтобы прочитать надпись на мемориальной доске в честь битвы на Лукаутской горе. «Я тебя ненавижу! — кричала я после таких рассказов. — Хоть бы ты умерла!», а мама спокойно отвечала: «Не волнуйся, детка, умру. И ты тоже». Там, где менее оригинальные женщины повесили бы гравюры или дипломы об окончании колледжа, у нас висели вставленные в красивые рамки эпитафии с надгробий наших предков, нарисованные черным мелом на отличной рисовой бумаге. Майор всегда планировал семейный отпуск так, чтобы совместить его с деловыми командировками, — во-первых, экономия, а во-вторых, ему не приходилось все время быть привязанным к семье. Мама тоже старалась приурочить поездки к нашим каникулам, чтобы не оставлять надолго могилы без присмотра. Большую часть летних каникул — и так в течение 17 лет! — я проводила на кладбище: пропалывала, подстригала или сажала траву на могилах. Мама считала могильные памятники куда поучительней для детей, чем статуя Свободы или что-то в этом роде. Наверное, такая преданность покойникам — черта наследственная. Во всяком случае, в нашей семье, похоже, это было именно так. Мамины предки занимались земледелием или вкалывали на шахтах и вкладывали деньги, — а большинство из них были совсем не богаты, — в то, чтобы о них помнили потомки. Самые ухоженные могилы, тщательно выделанные урны, подстриженные деревья и памятники с уверенно указывающей в небо рукой неизменно принадлежали моим предкам. А эпитафии? «Остановись и посмотри, раз проходишь мимо. Где ты сейчас, там был и я. Где я сейчас, там будешь ты. Готовься последовать за мной». Но вершиной семейного творчества считалась та, что принадлежала маминой прапратетке Хетти. У мамы был черный блокнот с отрывными листами, куда она записывала свои будущие эпитафии. Победителем (по крайней мере, когда я уезжала учиться в Бостон) была вот эта: «Жизнь трудна и холодна. Ищите убежище в церкви. Не грустите обо мне: тела мрак — души рассвет». Если мама не сочиняла эпитафию, значит, составляла график своей похоронной церемонии. «Послушай, Джинни, — сказала она мне, когда я играла около ее письменного стола из красного дерева, одевая для поминок в черный креп свою куклу. — Как ты думаешь, «Наш Бог — могучая крепость» исполнять до или после «Бог — наше убежище»? — Я подняла голову. — Не забудь, дорогая, — строго продолжала мама, — сценарий моих похорон лежит вот здесь, в этом ящике». Ее очень беспокоило, опубликует ли «Ноксвилльский часовой» некролог о ней. Я привыкла к таким разговорам и переживаниям. Когда мои однокурсники в университете Уорсли страдали на лекциях по физиологии, я совершенно спокойно составляла на полях тетради приглашения: «Майор и миссис Уэсли Маршалл Бэбкок из Халлспорта, Теннесси, и Хикори, Виргиния, имеют удовольствие сообщить о помолвке их дочери Вирджинии Халл Бэбкок с Клемюэлом Клойдом…» Годы спустя, когда время стерло в пыль эти наброски и поменяло имя Клема Клойда на Айру Блисс, я обнаружила, что «Бостон Глоуб» не напечатал бы их, несмотря на то, что я регулярно читала эту чертову газетенку каждое воскресенье в течение двух лет, проведенных в университете. Я понимаю мать. Ей ничто не принесло бы большего унижения, чем отказ «Ноксвилльского часового» печатать некролог.
Глава 2
Суббота, 24 июня. Пошатываясь от выпитого мартини, Джинни пробралась к своему месту около запасного выхода. Она храбро пошутила, стараясь, чтобы ее слова прозвучали как можно легкомысленней: — Не думает ли кто-нибудь захватить самолет? — Поверьте, милая, нужно быть законченным идиотом, чтобы захватывать самолет, направляющийся в Теннесси, — не поднимая головы, ответила стюардесса. Одно дело — знать о смерти, и совсем другое — смириться с ней. Всю жизнь Джинни втайне радовалась, читая об авариях самолетов, что смерть снова промахнулась. Она вытащила из кармашка на переднем кресле пластиковую карточку и начала изучать инструкцию, как пользоваться запасным выходом. Впрочем… Ей пришло в голову, что, если действительно придется им воспользоваться, она просто оцепенеет от ужаса и ее растопчут обезумевшие пассажиры. Скорей всего, предусмотрительные люди не торопились занимать место около запасного выхода потому, что знали то, чего не знала она: вероятность того, что потребуется им воспользоваться, меньше вероятности его самопроизвольного открытия. Тех, кто сидит рядом, попросту вынесет в тропосферу. И все-таки Джинни понимала, что не способна устоять против соблазна устроиться поближе к люку. Глаза других пассажиров, как и положено, уставились в журналы, а она не могла оторваться от ярких неоновых букв «Выход». Когда в детстве по субботам она ходила с майором на фильмы о ковбоях, они всегда занимали места у выхода — вдруг кинотеатр загорится. Майор рассказал ей о пожаре в бостонском театре, когда какой-то кретин прокладывал себе путь к выходу через истеричную толпу, размахивая длинным охотничьим ножом. С тех пор она не могла смотреть кино, слушать лекцию или лететь в самолете без приятного свечения рядом с собой слова «Выход». Так обычно не может спать без ночного светильника ребенок. Стройная стюардесса, легкомысленно улыбаясь, продемонстрировала желтые кислородные маски и объяснила, как пользоваться запасным выходом. То, что на сиденье лежала надувная подушка, было очень слабым утешением. Массивные горы Виргинии, конечно, заставят двигатель дрогнуть, и самолет устремится вниз, как подбитая птица. Джинни вздохнула. Море лежит к востоку миль за триста от гор. Зачем же в горах надувная подушка? Она представила себя плавающей на этой подушке в море из крови, бензина и мартини. В зале ожидания перед посадкой Джинни пристально вглядывалась в лица пассажиров, стараясь угадать: с кем свела ее судьба? Она никогда не понимала, по какому принципу фортуна выбирает самолеты, которым суждено попасть в аварию: потому ли, что в них летят настоящие негодяи, или потому, что те, кому еще предстоит выполнить на этой земле свою миссию, остались внизу? Так или иначе, она внимательно разглядывала своих товарищей по глупости, выискивая откровенно мерзких типов, и, к своему облегчению, увидела трех малышей. Пассажиры этого летающего серебристого гроба тоже следят за ней, подумала Джинни, встретившись взглядом с решительного вида дамой в безвкусном платье. Она смотрела на Джинни так пристально, что не было никаких сомнений: она догадалась, что Джинни уже порвала все узы, связывающие ее с нормальной жизнью. Кто из участниц ассамблеи домохозяек, с шумом рассевшихся по своим местам, потребует парашют, чтобы спуститься прямо в торговый центр Нью-Джерси? В чьей хозяйственной сумке лежит бомба, завернутая в невинную обертку от подарочного набора или спрятанная в коробку из-под соуса к спагетти? Джинни частенько думала, что ей следовало бы самой протащить на борт бомбу, потому что вероятность того, что в самолете найдется еще одна такая психопатка, очень мала. Джинни подозревала, что они все следят друг за другом, как домохозяйки в очереди у мясного прилавка в супермаркете. Что ж, по крайней мере, до сих пор она благополучно летала в самолетах, напомнила себе Джинни. Не то что мать, которая из страха умереть среди чужих («Это так вульгарно, Джинни!») за последние несколько лет почти не выходила из дома. Что чувствует она теперь, истекая кровью, как перезрелый помидор, среди чужих людей в больнице? «Нарушение кровообращения» — так назвала ее болезнь миссис Янси в своем письме, приглашая Джинни побыть с матерью, пока она съездит к Земле обетованной. «Ничего серьезного», — уверяла она в письме. Мать считала, что скоро выйдет из больницы. Но если это так, почему она вообще легла туда — с ее-то ненавистью к подобным местам? И почему, прекрасно зная, что в последние годы Джинни и мать относились друг к другу не лучше, чем Моисей и фараон, она просит Джинни приехать? Прежде чем совсем отказаться от полетов, мать регулярно совершала деловые поездки. Майор рассуждал так: если они будут летать на разных самолетах, то в случае гибели одного другой останется на земле и продолжит семейные дела. — Ты не боишься, что один из твоих чемоданов улетит в Де Мойн? — спросила как-то под вечер Джинни, провожая мать в аэропорт, чтобы успеть на рейс, которым всегда летал майор. Они ехали в огромном черном «мерседесе». Мать очень любила этот автомобиль, и Джинни подозревала, что она «тренируется»: он напоминает ей катафалк. — Не спрашивай меня. Спроси отца. — Мать закрыла глаза в предвкушении аварии от того, что Джинни заговорила при таком скоплении машин. Мать всегда говорила эти слова, если предмет разговора казался ей не стоящим внимания, и даже когда отец умер, она не изменила своей привычке. — Сама не знаю, зачем мне все это нужно, — пробормотала она. — Мне будет незачем жить, если папин самолет разобьется. — Ты бросишься в погребальный костер, — не удержалась Джинни. — Как безутешная вдова. — Ей совсем не хотелось издеваться над матерью, но казалось несправедливым, что она должна во всем потакать ей только за то, что та стирала ее грязные пеленки и вообще живет вместе с ней уже 18 лет. В конце концов, должна же быть свобода личности! — Да, наверное, — вздохнула мать. — И не думаю, что это такой уж плохой обычай. — Еще бы, — фыркнула Джинни. — Тебе не надоело, мама? — Надоело?! — Мать сделала ногой движение, словно тянется к тормозу. — Пожалуйста, мама, я очень осторожна за рулем! Неужели в твоей жизни нет ничего более важного, чем мертвые предки? — Меня действительно не все в этой жизни устраивает. Но, по-моему, это совершенно нормально. — Но если единственное, что тебя интересует, — это огромная семья на небесах, почему ты к ним не присоединишься? Что удерживает тебя здесь? Мать внимательно посмотрела на дочь и искренне призналась: — Это свойство характера. Разве имеет значение, чего я хочу? — Как поняла Джинни из ее дальнейшего объяснения, человеческая душа — это зеленый помидор, который должен созреть под солнцем земных страданий, прежде чем боги соблаговолят сорвать его и использовать для своих целей. Для восемнадцатилетней девушки в этих рассуждениях было мало смысла. Через несколько лет мать очень удивила Джинни своей просьбой: «Обещай, дочка, что избавишь меня от мучений, если я заболею и стану умирать медленной смертью». От неожиданности Джинни не нашла что ответить. Конечно, в каштановых волосах появились седые прядки, а в уголках глаз — морщинки, но мать выглядела по-прежнему молодой и подтянутой. С бессердечием молодости Джинни в конце концов рассмеялась: «Успокойся, мама! Несколько лет у тебя еще есть!» — После тридцати все клонится к закату, — печально проговорила мать. — Все постепенно умирает. Да, одиннадцать лет назад мать не была в восторге от этой жизни. Интересно, думала Джинни, не отрывая глаз от неоновых букв, как она относится к ней теперь? «Ничего серьезного», — написала соседка миссис Янси. Но при чем же тогда больница? Насколько тяжела мамина болезнь? Эти мысли, жужжавшие в голове, как пчелы, на какое-то время отвлекли Джинни от невеселых мыслей «как выбраться живой из этого летающего саркофага?». Она не знала, чего хочет от жизни. В детстве все было проще. А теперь она взрослая, недавно отметила свое двадцатисемилетие, но совершенно не знает, как жить. Все события в ее жизни напоминали станции пересадки: с одним покончено, другое — в тумане. Единственное преимущество своей взрослости она видела в том, что могла есть на десерт все, что захочет. Назойливые стюардессы предлагали значки, сувениры, старые флажки и старались хоть чем-то привлечь пассажиров. Придется воспользоваться гигиеническим пакетом, решила Джинни, а потом попросить одну из них отнести его. Больше к ней приставать не будут. Рядом с Джинни сидела белокурая двухлетняя малышка. Она вертелась из стороны в сторону, то расстегивая, то застегивая привязной ремень, толкала столик Джинни, а потом высыпала на него содержимое своих карманов и торжествующе посмотрела по сторонам, ожидая одобрения. Этого оказалось мало: она сняла туфельки, надела снова, но не на ту ногу, и стала бренчать крышкой пепельницы. Такую неуемную энергию, подумала Джинни, нужно подключить к двигателям, чтобы сэкономить горючее, иначе девочка не успокоится, пока не разломает самолет. Она не сразу поняла, почему малышка так действует ей на нервы. Все дело в прошлом. Как все, перенесшие ампутацию, чувствуют какое-то время потерянную руку или ногу, так Джинни переживала отсутствие Венди. От разочарования, что рядом не дочка, а совсем незнакомая девочка, ей стало больно. Венди в Вермонте, со своим отцом — ублюдком Айрой Блиссом, в жизни которого нет больше места дня развратной жены. Самое обидно, мрачно подумала Джинни, что она вовсе не заслуживает репутации развратницы, которую ей приписывают. Очень легко относясь к сексу, она тем не менее всегда придерживалась моногамии. Всю жизнь, как собака, была верна одному хозяину — до того самого вечера, когда у ее бассейна появился голый Уилл Хок. И даже тогда ее неверность мужу была только духовной, не физической, — хотя Айра ни за что не поверил бы в это, потому что застал их в весьма недвусмысленных позах, которые иначе как совокуплением не назовешь. Интересно, откуда у нее эта верность? Врожденная? Или ей еще в детстве так прочистила мозги мать, для которой не было ничего слаще, чем броситься в погребальный костер мужа? А может, эта верность — результат практичности? Зачем кусать руку, которая тебя гладит? С таким воспитанием, как у Джинни, женщины обычно молят небеса о мужчине, к которому можно прильнуть как к единственному покровителю и повелителю. Люди судят о мужчине по его окружению, а о женщине — по мужчине, который ее содержит. Или по женщине, которая ее содержит, как в случае с Эдной. — У вас есть дети? — с улыбкой спросила мать девочки. — Да, — с гримасой боли ответил Джинни. — Дочка. Такого же возраста. — Отлично, — оживилась женщина. — Тогда вам пригодится вот это. — Она достала из сумочки крокодиловой кожи два листочка и стала списывать что-то с одного на другой. Потом перечитала написанное и протянула Джинни. — Смешайте 2 столовые ложки муки с 1 столовой ложкой соли, добавьте немного воды, 2 чайные ложки растительного масла, пищевой краситель и перемешайте. — Все ясно, спасибо. — Джинни спрятала листок в карман пестрого платья. Она не стала говорить, что ей вряд ли придется воспользоваться рецептом, потому что муж выгнал ее и никогда не разрешит увидеть дочку. — Не перепутайте, — улыбнулась женщина. — Конечно, спасибо. Неужели Айра действительно не позволит ей увидеться с Венди? Неужели сдержит клятву? Неважно, что думали о ней другие. Для Венди она была хорошей матерью. Разве в глазах закона это ничего не значит? Малышка оторвала у куклы руку и стала тыкать мать в бок. «Сейчас заглохнут двигатели», — подумала Джинни; она схватит ручку запасного выхода и полетит, беспомощная, вниз, чтобы стать такой же безжизненной куклой. Все в руках фортуны… Но прежде чем низвергнуться в пучину, самолет стал плавно спускаться над долиной Крокетт. Он вынырнул из белых пушистых облаков, и Джинни увидела сотни крошечных, похожих на капилляры, притоков, которые прорезали лесистые предгорья и сверкали на солнце, как серебро. На одном берегу реки, будто румяная корочка зеленого пирога, показались лесные заросли, а под ними — сам Халлспорт и его опустевшие доки, уныло стоявшие на берегу темной, мутной реки с пожелтевшей пеной. Город раскинулся в красных глинистых предгорьях, изрезанных глубокими оврагами. С высоты восемь тысяч футов он напомнил Джинни скопище застарелых прыщей. Самолет снижался. Джинни отчетливо видела завод — настоящий город из красных кирпичных зданий с сотнями окон, отражавших желто-коричневую гладь реки. Дюжины огромных белых резервуаров с отходами, обвитых веревочными лестницами, усыпали речной берег, словно зашнурованные сапоги. За резервуарами бурлили темные водовороты. Долину окутывал белый густой дым, придавая Халлспорту статус города, известного своим отвратительным, не пригодным для человеческих легких воздухом. Завод мстил Халлспорту. В регионе, годном только для земледелия и добычи угля, его построили ради экономии средств. Он торчал в низине полноводной реки Крокетт, как туалет, скрытый от посторонних глаз позади особняка. Но, подобно всему скрываемому и презираемому, тем не менее играл в жизни города важную роль. На другом берегу, соединенном с заводом железнодорожным, пешеходным и автомобильным мостами, раскинулся сам Халлспорт, названный так в честь своего основателя, деда Джинни по матери, Зедедии Халла, или, как все к нему обращались, мистера Зеда. Уроженец Южной Виргинии, он сбежал оттуда и обосновался в Теннесси, так же, как и на родине, добывая уголь. Потом умудрился убедить Вествудскую химическую компанию профинансировать строительство химического завода и города на другом берегу Крокетт. В те времена провинциальный юг считался у северных бизнесменов отличным полигоном — дешевая земля, покорная рабочая сила, низкие ставки, богатые залежи ископаемых, слабо развитое самоуправление. Мистер Зед нанял всемирно известного проектировщика и сам возглавил строительство. Сквозь иллюминатор Джинни видела город: от Церковной площади с пятью большими протестантскими церквами отходила центральная Халл-стрит — с супермаркетами, мебельными магазинами, кинотеатрами, офисами и банками. На другом конце улицы, фасадом к церквам, расположился железнодорожный вокзал — тоже из красного кирпича. Вокзал и церкви были двумя полюсами — земным и духовным, питавшими энергией и украшавшими город. От центральной оси лучами расходились четыре главные улицы, а остальные соединялись с ними, образуя своеобразные шестиугольники. На этих боковых улицах стояли частные дома и особняки. «Похоже на паутину», — отметила Джинни, прищурившись, чтобы видеть только контуры города и не видеть то, что построили позже. Автор проекта не предусмотрел в 1919 году развития автотранспорта. Ни около церквей, ни на Халл-стрит негде припарковаться, съездить в центр в магазины и вернуться в тот же день стало проблемой. Поэтому несколько торговых центров разместились на боковых улицах. Во времена детства Джинни каждую субботу из близлежащих районов на ржавых «фордах» приезжали фермеры — продать овощи, купить продукты, обменяться сплетнями. Они собирались у железнодорожного вокзала, шумели, выпуская струи коричневого табачного сока сквозь гнилые зубы. Но теперь их нигде не было видно. Железная дорога и речное судоходство обанкротились, не выдержав конкуренции с междугородным автотранспортом. Когда-то красивый вокзал с орнаментом эпохи позднего викторианства был пуст, разрушен и размалеван непристойными картинками и надписями — творчеством учеников Халлспортской средней школы. Там собирались теперь бездомные хулиганы и дезертиры — выпить дешевой жидкости для чистки окон. Ни один из отцов города, и меньше всего дед Джинни, не мог предвидеть странной болезни, от которой погибли почти все старые голландские вязы, обезобразив город. Он и представить не мог, что сюда явится людей в раз шесть больше, чем предполагалось. Приезжие настроят домишки, которые, как пятна экземы, тоже обезобразят город. В Халлспорте были свои знаменитости. Там родилась миссис Мелоди Даун Бледсоу, победительница национального конкурса пекарей в 1957 году, в чью честь тогда Халл-стрит расцвела знаменами и флагами. Уроженцами Халлспорта были и Джо Боб Спаркс — лучший полузащитник штата, и сама Джинни Бэбкок — королева фестиваля табачных плантаций в 1962 году.…Самолет подлетал к выщербленной взлетно-посадочной полосе, которую в Халлспорте громко величали аэропортом. Джинни увидела, как тень от самолета пронеслась над особняком, где прошло ее детство, — огромным белым зданием с колоннами и портиками; над подъездной дорогой; над рощей из высоких магнолий, согнувшихся под тяжестью кремовых цветов. С высоты в тысячу футов особняк казался настоящим дворцом довоенных времен. Но только казался. Дед построил его в 1921 году на пятистах акрах фермерского участка. Проект явно не подходил к восточным холмам Теннесси, зато повторял плантаторские особняки в дельте Мемфиса. За домом тянулись фермы — табачная и молочная, соседствующая с фермой Клема Клойда (первого любовника Джинни), которую построил его отец еще при мистере Зеде. Небольшой дом Клойдов стоял наискосок от особняка, а в противоположном конце участка виднелась деревянная хижина, в которую перебрался дед в последние годы своей жизни в знак протеста против деградации его любимого детища — Халлспорта.
Джинни вспомнилась фраза из письма. «Мальчиков я не прошу приехать, — писала миссис Янси. — У них своя жизнь. Сыновья — не дочери». «Действительно», — пробормотала про себя Джинни, невольно подражая своей наставнице мисс Хед: та в подобных случаях не произносила это слово, а почти пела с самым страдальческим видом. Пока самолет трясся по так называемой взлетной полосе, Джинни вспомнила, как часто приземлялась здесь в прошлом. Мать обожала любительское кино и воспитывала Джинни и братьев, наблюдая за ними в глазок кинокамеры: первая улыбка, первый зубик, первый шаг, первый день в школе, первый танец — и так год за годом. «Кадры семейной хроники» — так называли эти фильмы Джинни и братья. Взлеты, посадки, прощания, возвращения… Вот Джинни в черной шерстяной кофте, наглухо застегнутой на все пуговицы, в обтягивающей юбке и красной корейской ветровке покидает дом, чтобы учиться в Бостоне; вот она в элегантном твидовом костюме, очках в роговой оправе, со строгим узлом на голове — спустя год, когда приехала на каникулы; вот она в светлых джинсах, черном свитере и сандалиях «голиаф» — когда стала любовницей Эдди Холзер и сбежала из университета, вот она в красном блейзере Добровольного пожарного отряда — когда вышла замуж за Блисса. Такой уж она была. Даже в ресторане, сделав заказ, она меняла его, заказывала то же, что и сосед, потому что не верила, будто кухня станет возиться с ее оригинальным блюдом. Нищие, клянчащие деньги на автобус, чтобы навестить умирающую мать; лысые кришнаиты, играющие на тарелках под неряшливым плакатом «Доверься судьбе — и никто не бросит в тебя камень», — такие люди неизменно находили ее в толпе. Надо признать, Джинни была легкой добычей. Наверное, она выглядела несчастной, ранимой и очень доверчивой, и это тот случай, когда внешность не была обманчивой. Джинни была готова поверить во все что угодно. Она вспомнила, как высматривала в иллюминатор свою мать и майора — они всегда приезжали вместе, чтобы сразу увидеть, в каком виде предстанет их непутевая дочь. Но в этот раз никто не стоял у ограды, приготовившись снимать кинокамерой это чудовище в пестром деревенском платье, походных ботинках, с кудрявой африканской прической, с рюкзаком на спине и в пончо из перуанской ламы. «Натуральная ведьма, — вздохнула про себя Джинни, — тринадцатая ведьма из «Спящей красавицы». Никто ее не встречал. Мать лежала на больничной кровати, а майор ушел год назад из этой жизни. Она совершенно самостоятельна. Возвращение домой было совсем невеселым. Никто не бил в барабаны, не маршировал на лужайке перед домом, не бежал навстречу, когда аэропортовский лимузин подвез ее к особняку. Она с трудом поднялась по гравийной дорожке — кое-где пробились пучки травы, чего не было раньше. Тяжелый рюкзак заставлял ее идти неестественно прямо. Над парадной дверью приветливо блестело веерообразное окно. Джинни улыбнулась: дом обманывал, но по крайней мере делал это со вкусом. Перед зарослями магнолии висела табличка: «Продается». — Надеюсь, вы не продадите дом? — спросила она майора, когда приезжала ненадолго в Халлспорт перед его смертью. — Не сомневайся, — ласково ответил он, раскуривая трубку. Левой рукой с изуродованным безымянным пальцем он зажигал одну спичку за другой. — Почему тебя это волнует? — Потому что это наш дом, вот почему! — Неужели вы с мужем станете жить здесь? — Нет, но… — Что «но»? Меньше всего она хотела вернуться в Халлспорт, но иметь что-то стабильное было приятно. Джинни подергала за ручку парадной двери. Заперто. Она сбросила рюкзак и громко постучала большим медным кольцом, на удивление плохо начищенным. От кого она ждала ответа? Мать в больнице, отца нет. От собственного детства? В кино и книгах ключ всегда прячут под ковриком у двери. Джинни наклонилась: так и есть! Интересно, зачем запирать дверь, если ключ кладут туда, где его сразу найдут? Тяжелая дверь качнулась, и Джинни почувствовала затхлый запах. Она взяла рюкзак, вошла и осторожно осмотрелась. Ничего не изменилось. Это чертово место — как капсула времени. Мать всегда отказывалась от ремонта или перемены обстановки, утверждая, что предпочитает вещи, которые помнит с детства. Зеленый ковер, устилавший прихожую и всю лестницу, почти весь был в пятнах. Перила красного дерева немного наклонены наружу — Карл, старший брат Джинни, всегда скользил по ним вниз, таща на поводке собаку. Чуть выше ступенек зеленые с белым обои были сплошь запачканы грязными ручонками, пытавшимися удержать неустойчивые тела. В письменном столе матери не хватало двух ручек. Ее младший брат Джим вырвал их когда-то ради удовольствия свалить вину на Джинни, Над столом висела скопированная карандашом надпись с могильного камня прапратетки Хетти: «Остановись и посмотри, раз проходишь мимо», а на столе стояла самая большая драгоценность матери: часы орехового дерева высотой около фута, наполовину закрытые крышкой. Зеленая стеклянная дверца закрывала циферблат и часовой механизм. По обеим сторонам футляра поднимались пилястры. Римские цифры, филигранные стальные стрелки… Часы принадлежали бабушке Джинни, потом перешли к матери. Один Бог знает, где их изготовили. Они пылились не один десяток лет на столах и полках в домах южновиргинских шахтеров, прежде чем бабушка Халл купила и привезла их сюда, в Халлспорт. Джинни любила заводить их большим металлическим ключом — восемь оборотов, — как делали до нее мать и бабушка Халл. У противоположной стены стоял огромный дубовый шкаф. Одна дверца по-прежнему перекошена. Когда-то Джинни любила прятаться там среди скатертей и белья. Сборный шкаф был еще одной семейной реликвией. Она помнила, как его втаскивали в мамину спальню. В окно над лестницей врывался солнечный свет. Джинни, Карл и Джим когда-то часами наблюдали, как кружатся в лучах света пылинки, и дули на них, заставляя плясать. Карл служит теперь в Германии, в чине капитана, обзавелся семьей: женой и четырьмя детьми. Джим рубит сандаловые деревья где-то в Калифорнии. Джинни мельком видела братьев несколько часов на похоронах майора и удивилась, обнаружив, что им нечего сказать друг другу. Дом был пуст. Джинни охватило знакомое ощущение: она просто не слышит шума. Он есть — этот звуковой аккомпанемент кадров семейной хроники. Собака непременно услышала бы его. Смех, споры, скандалы — этими звуками дом был полон с тех пор, как его построили. «Наверное, нужно только найти подходящую точку», — подумала Джинни, поворачивая голову из стороны в сторону. Снова тишина. Нет, лучше она поживет в хижине.
— Вы что-нибудь можете сказать о маме? — спросила Джинни миссис Янси, когда провожала ее на самолет. — Да. У нее тромбоцитопеническая пурпура, — любезно ответила та. — Простите? — Тромбоцитопеническая пурпура. — Это болезнь крови? — Да. — Вы сказали… она принимала гормоны. А это… помогает? — Ты видела новый рыбный ресторан? — спросила миссис Янси, показывая на красное здание с неоновой рекламой: одноногий пират танцует танго с меч-рыбой. — Называется «У длинного Джона Сильвестра». Подают гамбургеры с рыбой. — Нет, не видела. — Джинни облегченно вздохнула, не получив определенного ответа на свой вопрос. — А вы их пробовали? — Да, очень вкусно. Обязательно зайди. — Непременно, — пообещала Джинни. — Так как насчет мамы? Что мне делать? — Она хотела спросить о здоровье матери, но почему-то постеснялась, словно спрашивала о ее интимной жизни. — Доктор и сестры все держат под контролем, — заверила миссис Янси. — Но ей очень одиноко. Навещай ее каждый день. Только должна предупредить тебя, Джинни, не пугайся, выглядит она ужасно. Вся в синяках, в носу тампоны. Но такое с ней уже было. — Почему же она ничего мне не говорила? — Потому что не чувствовала в этом необходимости, детка. Не хотела тебя тревожить. В тот раз она принимала таблетки, и все прошло. Современная медицина творит чудеса. — Тогда почему же мне сообщили на этот раз, если нет ничего серьезного? — Ну, детка, на этот раз все иначе. Я уезжаю на Землю обетованную, а оставлять ее одну просто стыдно. Ты ведь знаешь, как твоя мама чувствуют себя в чужом месте. — Я рада, что приехала, — поспешила заверить Джинни. — Ей больно? — Не очень. Помахав на прощание миссис Янси, Джинни вспомнила, как год и три месяца назад провожала майора. Тогда она в последний раз видела его живым. Это было в тот приезд, когда она познакомила родителей с Айрой и Венди. Она заехала за майором в час дня и повезла в аэропорт. — Скажи Айре, что в столике у камина — патроны двадцать второго калибра, — бросил он тогда небрежно, будто речь шла о яйцах или молоке в холодильнике. — Зачем? — растерялась Джинни. — Если кто-нибудь начнет приставать к тебе, не стесняйся, — посоветовал отец. Джинни знала, что он не шутит. Неважно, если те, кто пристанут к ней, выдают себя за продавцов Библии. — Если не уверена, что это приличные люди, — стреляй! — Знаешь, папа, ты стал таким же параноиком, как мама. — Ты называешь это паранойей, а я — реальностью. — Если все время ждать беды, невольно навлечешь их на свою голову. — Самым худшим из моих капиталовложений в этой жизни, — задумчиво проговорил отец, — было то, что я отправил тебя в Бостон. Раньше ты была такой послушной, вежливой девочкой. От изумления у Джинни глаза полезли на лоб. — Но, папа, ты ведь был единственным, кто хотел этого. — Я? Уверяю тебя, Вирджиния, я этого совсем не хотел. Вернее, мне было все равно. Джинни ахнула: неужели он сознательно лжет? Или она жила выдуманной жизнью, выполняя родительские желания, которые существовали только в ее воображении? — Я никогда не старался влиять на твой образ жизни, — продолжал отец. От злости Джинни так стиснула руль, что побелели кончики пальцев. Тягостное молчание нарушил отец. — Если я больше не увижу тебя, Джинни, — хрипло сказал он, — хочу, чтобы ты знала: в общем, ты очень неплохая дочь. — Папа, ради Бога! — взвизгнула Джинни, чуть не выехав на обочину. — Ну, если летаешь столько, сколько я… Ты, кажется, не осознаешь, что тоже смертна. Джинни беспомощно посмотрела на него. Жизнерадостный, элегантный, в расстегнутом костюме-тройке… — Разве я могу этого не знать? — вздохнула она. — Что еще я слышала от вас всю жизнь? У аэропорта Джинни припарковала джип. — Пойдем выпьем по чашечке кофе, — предложил майор, забирая после взвешивания чемодан. Он зарегистрировался, взял дочь под руку, подвел к серому металлическому барьеру и заполнил страховой полис на сумму семь с половиной тысяч долларов на имя Джинни. — Спасибо, — рассеянно проговорила она, сложив полис и сунув в карман блейзера. Они сели за маленький столик и заказали ланч. Когда принесли кофе, произошла заминка: каждый ждал, что другой сделает первый глоток. Желание выпить еще теплый напиток не пересилило страх перед смертью в общественном месте из-за того, что кофе отравлен. Джинни подняла чашку и сделала вид, что пьет. Майор поудобней устроился в кресле и стал медленно размешивать сливки. Чтобы выиграть время, Джинни положила себе еще ложечку сахара и спросила: — А как мама относится к идее продать дом? Хотя Джинни и так знала мнение матери: «Майор знает лучше. Как он решит, так и будет». — Она согласна, что дом слишком велик для двоих. Непохоже, чтобы ты или мальчики собирались жить с нами. С заговорщицким видом майор достал из кармана пузырек и вытряхнул пару маленьких таблеток. Бросил в рот и запил водой. От удивления Джинни хлебнула кофе. — Что это? — Комадин. — Комадин? — А что это такое? — Антикоагулянт, — отвел глаза майор. — От сердца? Он мрачно кивнул. — С ним что-то не в порядке, папа? — Ничего страшного. Был маленький приступ. — Когда? — Месяц назад. — Мне ничего не сказали. — Не о чем было говорить. Я просто переутомился. Полежал несколько дней — и порядок. — Он сделал большой глоток и скривился: кофе уже остыл. Джинни стало страшно. Значит, кофе все-таки отравлен? И ей придется встретить свой конец здесь, на покрытом линолеумом полу закусочной аэропорта? Мать всегда советовала надевать перед выходом из дома лучшее белье: ведь никто не знает, где настигнет непредвиденный случай. Но разве Джинни ее слушала? И теперь встретится с вечностью в застегнутом на булавку бюстгальтере. — Что-то не так? — участливо спросил майор. — Ничего, — храбро ответила она. Он уже улыбается, значит, все в порядке. Вот только его сердце… — Ты надолго уезжаешь? — На две недели. — Он широко улыбнулся: деловые поездки в Бостон радовали его, как радует матроса предстоящее плавание после месяцев жизни на суше. — Бизнес? — Больше. Не знаю, говорил ли я тебе, что мы думаем перебраться в Бостон. — Как вы можете?! Это же наш общий дом! — Да, верно. Но я всегда ненавидел этот город. Когда-то собирался прожить здесь всего год, но встретил твою мать, а она и мысли не допускала о том, чтобы уехать из Халлспорта. Один Бог знает почему… — Но как ты можешь так легко бросить все, чем жил тридцать пять лет? — Могу. И очень легко, — улыбнулся отец. Он допил кофе, встал, поцеловал Джинни и поспешил на посадку. Через два с половиной месяца он умер от сердечного приступа.
Проводив взглядом самолет миссис Янси, Джинни медленно поехала домой. Мать — в больнице, отец умер, дом, в котором прошло ее детство, выставлен на продажу… Халлспорт задыхается, будто его легкие поражены раковой опухолью. У нее нет ни дома, ни семьи — с тех пор, как Айра выгнал ее и лишил дочери. За окном показалось огромное здание из красного, как все в этом городе, кирпича с белой отделкой. Халлспортская средняя школа. Вирджиния проезжала мимо стадиона. Каждый кустик, каждая ямка были знакомы: казалось, она только и занималась в школьные годы тем, что маршировала по этому стадиону, стараясь сгибать ноги в коленях под строго определенным углом. Сколько лет она была чиэрлидером? Два года. Ей доверили маршировать впереди всей группы поддержки, размахивая флагом «Халлспортских пиратов». Джинни улыбнулась, вспомнив, как самозабвенно кричала она «Привет!» — в серых шортах, каштановом мундире со шнуровкой на груди и серебряными эполетами, в белых кроссовках с кисточками и высоком пластиковом шлеме с козырьком и страусовым пером, прикрепленным к околышу. Она несла светло-коричневый флаг с эмблемой Халлспортской средней школы, на которой был девиз: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» Круглая ручка флагштока позволяла вращать флаг в любом направлении, и она подолгу тренировалась со своей группой, распевая школьный гимн. Быть чиэрлидером — великая честь! Джинни медленно ехала вдоль стадиона, смакуя былой триумф и думая о том, как легко сделать человека счастливым. Нужно только создать подходящую обстановку. Она вспомнила, как они с Клемом Клойдом мчались на его «харлее» по треку навстречу спортсменам, когда поблизости не было тренера. Из-под колес «харлея» в красные напряженные лица промокших насквозь атлетов летели мелкие камешки. «Прочь с дороги!» — кричали им вслед. Вот и сейчас по гаревой дорожке бегут спортсмены: длинноволосые — по новой моде, — голые по пояс, сверкающие каплями пота под палящим летним солнцем. Джинни резко нажала на тормоз и свернула на обочину. Она где угодно узнала бы эту потную спину! Мышцы, выпиравшие по обеим сторонам позвоночника, ритмично вздымались при беге их владельца. Сколько раз она танцевала, держась руками за эту спину и страстно желая, чтобы это напрягшееся тело опускалось и поднималось над ней! Это был Джо Боб Спаркс собственной персоной!
Глава 3
По лезвию бритвы. Когда я впервые близко увидела неотразимого капитана «Халлспортских пиратов», он словно сошел с плаката: грозный пират с черной повязкой на глазу, цветным платком вокруг лба и с ножом в зубах. Я, конечно, слышала об этом полузащитнике и капитане: он был легендарной личностью, — но никогда не видела вблизи, только на расстоянии. Он жил в новом квартале, и мы учились в разныхначальных школах. Болельщики надрывались на трибунах: «Спарки! Спарки! Ты — наш кумир! Если не забьешь ты — забьет Доул!» (Мне казалось неправдоподобным, что этот свирепый Джо Боб может не забить гол и вообще чего-то не уметь.) Под улюлюканье трибун Доул прыгнул в обруч, разорвав натянутую на нем бумагу. Чиэрлидеры в белых кроссовках с кисточками яростно замахали флагами, обнажив загорелые тела под взметнувшимися вверх рубашками. В центре поля, как лошадь на старте, гарцевал Джо Боб. Музыка стихла. Словно мафиози в окружении телохранителей, вышел тренер Бикнелл со своими помощниками. Игроки моментально выстроились в шеренгу, сняли шлемы, держа их в согнутой левой руке. Я тоже замерла со своим флагом у плеча, как с винтовкой. Команда подняла звездно-полосатый флаг, и я восторженно наблюдала, как Джо Боб прижал к груди огромную правую руку, почтительно глядя на флаг. Потом они собрались в тесный кружок и зажмурились, и Джо Боб, конечно, зажмурился сильнее всех. Тренер Бикнелл напутствовал их на честную игру и, естественно, на победу. В кадрах семейной хроники, запечатлевших тот знаменитый матч, я предстаю в самых разных позах: то размахиваю шлемом с пером с таким видом, будто от этого зависит вращение земли; то кричу в мегафон трибунам: «Громче! Громче!»; то падаю на колени и, воздев к небесам руки, молю Господа ниспослать нам гол; то прыгаю от счастья, когда гол все-таки забили… «Спарки! Спарки!» — скандировали трибуны. (Мне не нравилось, что его так называют. Я предпочитала простое «Джо Боб».) А болельщики другой команды кричали своему вратарю: «Задница! Джим — задница! Джим — педик!» За полминуты до конца матча мы стали громко отсчитывать секунды. Джо Боб, забивший в ворота «Рысей» уже три мяча, повел «Пиратов» в сокрушительную атаку. 4:0! Его вынесли с поля на плечах фанатов под торжествующий бой барабанов и рев трибун. На таких матчах присутствовал весь город. Они напоминали скорее военные действия, чем товарищеские встречи спортсменов соседних городов. Каждый город — самостоятельное государство, а команды средних школ — их тяжелая артиллерия. Танец победы мы разучивали на уроках гимнастики. Я стояла в шортах и кроссовках, сияя ослепительной улыбкой, — это тоже была часть ритуала школьных матчей. В нескольких шагах, смущая меня своим присутствием, стоял переодевшийся в клетчатую рубашку и слаксы Джо Боб. «Отличная игра, Спарки!» — кричали вокруг, а он улыбался своей неподражаемой улыбкой и с самым скромным видом смотрел в землю. И вдруг, как будто отвечая на мои страстные взгляды, направился прямо ко мне. Фанаты расступились перед ним, как перед Христом в вербное воскресенье. Он подошел и скромно представился: «Джо Боб Спаркс», хотя не сомневался, что я, как и все вокруг, отлично знаю, кто он такой. — Привет! — сказал он, улыбаясь своей странной улыбкой, на которую я старалась не обращать внимания все время, пока мы встречались. Улыбка была потрясающая! Она словно не имела никакого отношения к происходящему и возникала сама по себе в самых неподходящих случаях. Я так подробно останавливаюсь на его улыбке потому, что она, как знаменитая улыбка Моны Лизы, отражала всю его сущность. Большинство людей улыбаются нижней частью лица. Но только не Джо Боб. От его улыбки сужались в щелочки глаза, морщился лоб и поднимался ежик каштановых волос. А губы оставались неподвижными. Наверное, из-за жвачки «Джеси фрут», с которой он, по-моему, не расставался даже во сне. Короче говоря, это была улыбка дебила, но тогда я этого не замечала. По крайней мере, до тех пор, пока не бросила его ради Клема Клойда. Все мои мысли были заняты его замечательным телом. Мне нравилось, что у него почти не было шеи: голова так втягивалась в плечи, будто он блокирует противника или перехватывает мяч. Я преклонялась перед скрипящими зубами и покалеченной верхней губой — он уронил на нее штангу, пытаясь выжать 275 фунтов. Я обожала Керка Дугласа за то, что от его удара подбородок Джо Боба стал напоминать перевернутое сердце; восхищалась тем, что над левым глазом у него только половина брови — после удара о флажок судьи на линии, когда он перехватывал мяч и ничего, кроме мяча, не видел. Джо Боб был несокрушим. Для таких, как я, это качество является решающим: ведь меня несчастья подстерегают за каждым углом. Но больше всего мне нравился желобок посреди спины с выступающими с двух сторон развитыми мышцами, которые я с наслаждением гладила, когда мы танцевали или целовались в фотолаборатории. Джо Боб был неразговорчив. Он предпочитал, чтобы о нем судили по его делам, но когда говорил, удивлял своим тихим, детским голосом. Во время разговора он открывал рот шире, чем нужно, и издавал какой-то шлепающий звук. Теперь я понимаю, что у него был дефект речи, но тогда в Халлспорте писком моды было шепелявить, как Большой Спарки. Его любимым выражением — а вслед за ним и любимым выражением всей Халлспортской средней школы — был вопрос: «Чего?» Он задавал его тогда, когда не понимал, что ему говорят, а не понимал он очень часто. Нормальные люди в таких случаях переспрашивают: «Простите?», Джо Боб говорил: «Чего?» Он сказал мне: «Привет!», помолчал и добавил: «Почему я не видел тебя раньше?» От смущения я не нашлась что ответить. Вокруг гремела музыка, и Джо Боб спросил: «Потанцуем?» Медленно, осторожно ощупывая друг друга напряженными пальцами, скрывая дрожь, пробегавшую по телу при соприкосновении бедер, мы кружили в том первом танце. Иногда, не в силах вытерпеть возбуждение, кто-нибудь из нас делал оборот, но тут же поворачивался лицом к партнеру, к его зовущим глазам, будто разлука длилась не секунды, а целую вечность. Душераздирающая песня подчеркивала радость встречи — кругом, как пел Скитер Дэвис, «одна печаль разлуки», а мы нашли друг друга в этом мире. Руки Джо Боба стиснули мою талию, как мяч; я робко прильнула к нему и обнаружила на спине нежную выемку. Мы не танцевали. Мы едва двигались под музыку и сопение Джо Боба. Я почувствовала странную выпуклость у него внизу живота, но не поняла, что это — эрекция, а искренне посочувствовала: еще одна шишка, а может, даже грыжа. Наверное, ему больно, когда я касаюсь ее, подумала я и отодвинулась подальше. Странно, почему он так огорчился? Должна признаться, я никогда не считала себя красавицей — хоть и размахивала на матчах флагом, была подружкой самого Джо Боба и даже удостоилась чести носить корону королевы табачных плантаций. Но я и не хотела быть красавицей. Вот левый крайний «Окленд Рейдерс» — это другое дело. Еще до того, как я поняла — лет в тринадцать, — что люди делятся на женщин и мужчин, до того, как стать чиэрлидером, я играла в футбол. Я подозревала, конечно, что моя футбольная карьера обречена на провал, что мне не суждено играть в «Окленд Рейдерс» всю жизнь и что поправлять сползающие бретельки бюстгальтера мне очень скоро придется совсем в иных ситуациях. В одно несчастливое утро у меня началась менструация. Мама отлично разбиралась в смерти, но ничего не смыслила в сексе. Ей и в голову не пришло подготовить меня к этому наводнению, и в первый момент я решила, что повредила на тренировке какой-то важный орган и теперь умру от потери крови. Я побежала к маме. Смущаясь, заикаясь и не отводя глаз от эпитафии прапратетки Хетти, мама объяснила мне что к чему. Оказывается, это кровотечение будет у меня каждый месяц — плата за то, что я — женщина. — Такова жизнь, — заключила мама осуждающим тоном. (Ее послушать, так нет большего удовольствия, чем проститься с этой жизнью.) — Больше никакого футбола. Ты теперь — женщина. В тот момент я поняла, что должен был чувствовать Бетховен, узнав, что никогда не услышит музыки. Никакого футбола? С таким же успехом она могла запретить солисту балета танцевать. Как можно существовать без ощущения гравия под подошвами кроссовок? Без ласкового прикосновения обтягивающих саржевых трусов? Я поднялась к себе в комнату, надела эластичный гигиенический пояс и поняла: менструация изменила мою жизнь. Очень скоро мне стало ясно, что тело, отбивающее мячи то ногой, то головой, — то же самое тело может испытывать наслаждение не только на футбольном поле. С той же ловкостью, с какой оно уклонялось от назойливых нападающих, мое тело извивалось и кружилось в танце. А грудь? Этот дефект, искажавший форму обтягивающей футболки, оказывается, может быть даже красивым, особенно в бюстгальтере на поролоне, который я называла «ни-за-что-не-скажешь». Вот так я и превратилась из левого крайнего в чиэрлидера и подружку Джо Боба Спаркса. Именно со мной он занимался крутым петтингом в кинотеатре на свежем воздухе. Но я забегаю вперед. Начинали мы куда как скромно. На следующее утро после нашего первого танца Джо Боб заехал за мной перед занятиями. Его белый с откидным верхом «форд» — на заднем крыле красной краской было выведено «Удар Спарки» — прогромыхал по нашей белой кварцевой дорожке. Пока мама, привлеченная сигналом, с ужасом смотрела на него из-за зеленой бархатной шторы столовой, я выскользнула в дверь и побежала к машине. На мне были кожаные сапожки и блузка с отложным воротником. Юбка едва прикрывала колени. Джо Боб одобрительно окинул меня взглядом и сказал: «Привет, Джинни!» Я многообещающе улыбнулась, забралась в машину и расправила юбку, чтобы закрыть шрамы и царапины, заработанные в последней игре, когда я вкатилась в ворота противника с мячом в руках. На Джо Бобе были потертые джинсы, клетчатая рубашка и дешевые сандалии. Мы удовлетворенно улыбались — чистенькие, аккуратные, как все ученики Халлспортской средней школы, за исключением хулиганов вроде Клема Клойда в его неописуемо тесных голубых джинсах с заклепками, черных сапогах, темной футболке и красной корейской ветровке с драконом на спине. В пятницу вечером мы долго катались по Халл-стрит. Затем медленно поехали к вокзалу, там сделали круг и направились к площади, переговариваясь с ребятами, сидящими в соседних машинах. Джо Боб старался обогнать всех, выжимал из «форда» все что можно. Машин становилось все больше. Девушки весело выскакивали из одних машин и прыгали в другие. Наверное, если смотреть с высоты, это походило на атомы, меняющиеся местами с атомами соседних молекул. Мне пришло в голову, что наши игры — это американский вариант старинных испанских развлечений, когда молодые люди чинно прогуливаются по городской площади, поглядывая друг на друга с вожделением и отчаянием на виду у невозмутимых, но бдительных взрослых. В нашем случае роль пожилых матрон играли полисмены — недавние выпускники Халлспортской средней школы, ставшие теперь нашими заклятыми врагами. Они мстили нам за то, что не были больше такими беззаботными, и для них не было большего удовольствия, чем оштрафовать нас за какое-нибудь ерундовое нарушение. Например, придумали, что нельзя ездить по Церковной площади. В обтягивающих накачанные торсы рубашках цвета хаки, они наслаждались, штрафуя всех, кто попадется, или разбивая парочки, уединившиеся на задних сиденьях где-нибудь на заброшенных стоянках или обочинах. После нескольких кругов Джо Боб припарковал машину, мы вылезли и направились по Халл-стрит, глазея на витрины и доверительно сообщая друг другу, что купим в следующий раз. Дольше всего мы стояли перед витриной «Обувного магазина Спаркса», отца Джо Боба, и пришли к выводу, что здесь самый богатый выбор обуви в городе. Мне нравилось, что всякий раз, натыкаясь на бумажный стаканчик или яркую обертку от шоколада, Джо Боб поднимал ее — наручные часы звонко стучали о тротуар — и бросал в урну, неизменно говоря: «Получите халлспортское сокровище». — Ты, наверное, не можешь пройти по улице, чтобы не зацепить какой-нибудь мусор, — сказала я с уважением. — Чего? — не переставая жевать «Джуси фрут», спросил он. — Мусор. Бросают где попало. Он согласно кивнул головой. Мы вернулись к машине, сделали еще несколько кругов и припарковались около «Росинки» — самого популярного в нашей среде ресторана. Мы включили ее в свой маршрут из-за асфальтированных стоянок. Джо Боб всегда тщательно объезжал ухабы и ямы, чтобы не чистить потом радиаторы. Пройдет год, и мы будем мчаться с Клемом Клойдом на его «харлее» не разбирая дороги, как потом с Эдди Холзер на лыжах по склонам Вермонта. Джо Боб заказал в установленный на стоянке микрофон молоко для себя и маленький стаканчик вишневого коктейля даме — то есть мне. — Спасибо, мэм, — прошепелявил он, по-идиотски улыбаясь официантке и не сводя глаз с ее огромной груди. Потом выплюнул жвачку, и один за другим выдул все шесть пакетов молока. Потом вернул жвачку в рот, улыбнулся мне, пробормотал: «Режим!» — и снова уставился на роскошный бюст официантки. — Однажды, — наконец заговорил он, — я был тут с кузеном Джимом. У него «форрлейн», окна открываются нажатием кнопок. Ну вот, та девушка — по-моему, это именно она — принесла ему пачку «Пелл-мелл». Окно было наполовину открыто, и старина Джим хотел его совсем открыть, но не видел, что делает, и нажал не на ту кнопку. — Я одобрительно кивнула: впервые Джо Боб осилил столько слов за один раз. Он вздохнул и еле слышно продолжил: — Ну вот, он хотел открыть окно, но нечаянно закрыл. Я не поняла, почему он рассмеялся, и неопределенно хмыкнула, ожидая продолжения, но Джо Боб только рассмеялся, не думая ничего объяснять. — Я не уверена, что поняла, — пробормотала я. Он покраснел. — Она стояла прямо у окна, понимаешь? Он хотел открыть окно, но считал деньги — хватит или нет? — нажал не ту кнопку и закрыл его. Он как бы отрубил ее… Ну, ты понимаешь, о чем я говорю… Я вздрогнула, представив, как это больно — отрубить грудь, покраснела при таком откровенном упоминании о женской анатомии и по-идиотски хихикнула, будто понимаю юмор. Джо Боб отвернул левый рукав, посмотрел на часы, поспешно включил фары и завел свой ревущий мотор. — Совсем забыл про режим, — пробормотал он. — Боже, тренер убьет меня. Мы с ревом помчались по Залл-стрит к моему дому. — Как это — убьет? — с обидой спросила я. — Очень просто. В десять я должен быть в постели. — Ты шутишь! Он высадил меня у дорожки и предоставил одной пробираться сквозь магнолии к дому. Наш роман походил на немое кино. В те времена мерилом нравственности было расстояние между гуляющими. Одному Богу известно, сколько судеб было сломано немым осуждением окружающих ханжей. В наш первый вечер я не отпускала ручку дверцы — на случай, если Джо Боб попытается меня изнасиловать. Но он не попытался. Несколько недель он позволял себе только брать меня за руку. Сначала мне это нравилось, потом стало бесить. Я притворялась, будто хочу покрутить ручку настройки радио, и прижималась к нему бедром — но он только пыхтел и держал меня за руку. Настал день, когда в самом большом зале Халлспорта — в обычное время там проводились соревнования борцов — выступал знаменитый миссионер — брат Бак. Мы с Джо Бобом сидели на трибуне в окружении одноклассников. Зал был полон, пришлось даже расставлять складные стулья. Был вечер пятницы, и брат Бак приехал сообщить своим братьям и сестрам в Теннесси, что «смерть утратила свое жало». Джо Боб не отрывал от него глаз: брат Бак был его кумиром. Лет десять назад он был известен всей Америке как лучший вратарь Алабамы, а потом, играя в Балтиморе, врезался головой в штангу, потерял на несколько дней сознание, а когда очнулся, бросил футбольное поприще и посвятил жизнь Христу. Массивная фигура заполнила собой весь подиум. Я поняла, что скоро Джо Боб напялит на себя рыже-коричневый ковбойский костюм, галстук-шнурок и ковбойские сапоги: так был одет брат Бак. — Смерть, где твое жало? — гремел брат Бак. Я с надеждой и восторгом смотрела, как задрожал поддерживающий потолок стальной каркас. Брат Бак поднял руку вверх — и все головы повернулись в том направлении, ожидая увидеть по меньшей мере четырех всадников Апокалипсиса. — Я читаю все ваши мысли, — рука вернулась на место, горящий взгляд голубых глаз приковывал наше внимание. — Вы думаете: «Неважно, как я живу. Да, я читаю порнографические книги, любуюсь скабрезными картинками и вытворяю со своим телом что хочу. Я могу пьянствовать ночь напролет, просыпаться в объятиях падших женщин и пропускаю воскресные службы». Ведь так вы думаете? Признайтесь старине Баку. Вы рассуждаете так: «Сегодня я буду жить как хочу, потому что завтра упаду в лужу собственной крови с раздробленными костями и дырками в теле; с кишками, болтающимися на перевернутой машине; с мозгами, растекшимися по шоссе, как маисовая каша». Я скосила глаза. Джо Боб улыбался своей ненормальной улыбкой и жевал «Джуси фрут». Я-то много наслушалась подобной чепухи от родителей и не сомневалась, что моя жизнь будет короткой и несчастливой, но Джо Боб… Неужели ему нравится? — …завтра на нас посыплются страшные бомбы, небо разорвется на куски и разлетится, как мякина под ураганом. Мой самолет врежется в гору, и дикие звери устроят пир, обжираясь окровавленными кусками моего тела. Какой-то псих с пустыми глазами будет проводить надо мной свои жуткие опыты. Поэтому, думаете вы, поживу-ка я в свое удовольствие, пока этот вздох, — он глубоко вздохнул, — не стал моим последним вздохом. О! Брат Бак видит вас насквозь! Мне стало страшно: неужели он видит мое нижнее белье и прокладки, потому что менструация еще не кончилась? С таким же благоговейным страхом я слушала в детстве песенку о Санта-Клаусе: «Он видит тебя, когда ты спишь. Он знает, когда ты проснешься». — Откуда брат Бак все знает о вас? Он сам был таким. И его преследовали извращенные мысли. Он тоже пренебрегал Небесами и возбуждал свою плоть. Он тоже жил в грехе и похоти. Брат Бак отдавал себя развратным женщинам, слишком шикарным, чтобы простой деревенский увалень из Алабамы смог устоять. Он испытал все, друзья, — и потерпел поражение. Тонкая струйка слюны бежала изо рта Джо Боба, но он ничего не замечал. — Что же случилось с братом Баком? Как свернул он с этого жалкого пути? Однажды в Балтиморе он врезался головой в штангу ворот, а очнулся в больнице. Да, друзья, целый месяц я лежал с забинтованной головой, один, в темноте, не в силах ни говорить, ни видеть. Этот томительный месяц перевернул мою жизнь: я потянулся к возвышенному и духовному! Хотите знать, что произошло в тот ужасный месяц, когда я даже не был уверен, что смогу снова играть в футбол? Хотите? — Мы привстали от нетерпения. — Ко мне пришел Иисус! Да, Он пришел! Пришел и сказал: «Не мучайся, сын мой. Я очищу храм твоей души!» Вот потому-то я и стою сегодня перед вами, друзья, — здесь, в этом восхитительном городе… — Он стремительно повернулся к стоящему за ним служке, — Халлспорте в штате Теннесси. Я здесь, чтобы открыть вам одну маленькую тайну, друзья! Боясь упустить хоть слово, мы с Джо Бобом наклонились вперед и неожиданно столкнулись бедрами. Я поспешно отодвинулась и налетела на незнакомого парня, сидевшего по другую сторону. Ничего не оставалось делать, как снова вернуться на место и прильнуть левым боком к правому мускулистому бедру Джо Боба. Мы напряглись, делая вид, что не замечаем этого, а голос брата Бака продолжал греметь: — Вам не обязательно умирать! — Он подождал, пока смолкнет эхо, и снова закричал: — Нельзя умирать, потому что ваши грешные тела… — он замолчал и почти шепотом закончил — это убежище ваших душ. Библия говорит: ваше тело — это храм Святого Духа внутри вас, который есть Бог! Вы не принадлежите только себе. Мы с Джо Бобом крепко прижались друг к другу; я почувствовала, как внизу живота разлился жар. — Я пришел спасти ваши души, — торжественно произнес брат Бак. — Я разделю вашу радость, когда вы придете к Христу. В тот день — в Судный день, друзья, — когда ваши легкие наполнятся кровью и вы не сможете позвать на помощь; в тот день, когда пепел смерти застит вам глаза и вы не увидите тех, кто любил вас; в тот день, когда вы оглохнете от грохота, а зубы будут стучать от страха; в тот страшный день, когда вам откажут ноги, — в тот самый день Иисус придет к вам и скажет: «Вы сами довели до этого землю! Это из-за ваших грехов она искалечена и сбрасывает с себя ваши гнусные тела!» Публика замерла. — Подумайте об этом, друзья, — неожиданно тихо продолжил брат Бак. Он играл нами, как рыбой, пойманной на крючок, — сначала доводил до экстаза, потом давал передышку. — Ваши тела гниют и воняют. Ваша команда проиграла игру, потому что вы излучаете грех. Вы идете в душ в надежде освежить свое бренное тело, а там уже воют и плачут от боли ваши друзья. — Он поднял черную книгу и замахнулся, словно собираясь швырнуть в зал. — Иисус говорит, что его колесницы, как огненный ураган, сметут все с лица земли. Люди будут гореть, как щепки, а он будет только считать трупы тех, кто грешил против него. Не обманывайтесь: ни блудницы, ни их обожатели не унаследуют доброты Иисуса! Тело — не для блуда! Тело — убежище души! В том месте, где мое бедро касалось Джо Боба, пульсировала кровь. Публика корчилась от восторга. Прикажи брат Бак поджечь военный завод майора, все не раздумывая рванули бы туда. — В тот ужасный день, когда проигравшая команда воет в своей раздевалке, что, по-вашему, делают победители? Они смеются и говорят: «Нам нечего бояться! Пусть вертится земля, пусть бушует океан и вздымаются волны; пусть рушатся горы — нам нечего бояться!» — По красному лицу градом катился пот. — Но и вас, победителей, умоляет сегодня брат Бак: очнитесь, парни! Отвернитесь от скверны этого отвратительного, полного мерзости мира! Будьте достойны будущего! Брат Бак умоляет вас: станьте неподкупными, потому что иначе настанет и ваш черед простонать: «Смерть, ты одержала победу!» Дрогнувшим голосом брат Бак пригласил всех, кто вступает в команду Христа, выйти вперед. Мы с Джо Бобом тоже невольно вскочили и присоединились к паре сотен восторженных зрителей. — Возмитесь за руки, братья и сестры, — срывая галстук-шнурок, будто это — веревочная петля, простонал брат Бак. Мы с Джо Бобом схватились за руки. — Помолимся! — приказал брат Бак. — Помоги нам, Иисус! Помоги сыграть нашу игру так, как сыграл свою ты! Помоги избежать соблазнов… — Джо Боб осторожно поскреб мне ладонь пальцем, и от этого у меня где-то внизу все сжалось. — Помоги, милосердный тренер, пригласи членов своей команды в свою раздевалку, хлопни их по спинам и скажи: «Молодцы! Хорошая игра, мои преданные друзья!» — Брат Бак подумал и спохватился: — Аминь! — Аминь! — эхом повторили мы. — Разожмите руки, — приказал он, и мы с Джо Бобом с сожалением выполнили приказ. — Я вижу, — продолжал брат Бак, — что некоторые молодые люди уже получили спасение Господа. Эти красивые дети прямо здесь, в… гм-м-м… Халлспорте, создадут ядро команды Христа. Все на сегодня, друзья! Господь любит вас! — Публика с грохотом вскочила со своих стульев и ринулась к выходу. Джо Боб расправил плечи и решительно подошел к брату Баку. — Джо Боб Спаркс, капитан «Халлспортских пиратов». Моя подружка — Вирджиния. — Он опустил глаза и зачавкал «Джуси фрут». — Постой-ка, — протянул брат Бак. — Я что-то о тебе слышал. Ну и как, удачный был сезон? — 6:0,— просиял Джо Боб. Брат Бак записал нас в члены команды Иисуса и похлопал Джо Боба по плечу. Следующим вечером мы смотрели в кинотеатре на свежем воздухе «Девушки в цепях». Это был потрясающий фильм! Банда женщин носилась на мотоциклах, снимала с велосипедов мужчин цепи и прятала в надежных местах, например, в кузове патрульного автомобиля. Джо Боб осторожно накрыл мою маленькую ручку своей огромной, со сбитыми суставами, лапой — в точности, как стручок — горошину. Я не понимала тогда, что сладкая боль, пронзившая мое тело, — это оргазм, и что испытывать его можно от прикосновения к самым разным местам женского тела. Наши руки жили собственной жизнью: они трепетали, вздрагивали, и хоть мы и притворялись, что следим за развлечениями мотоциклистов, центром внимания были, конечно, наши руки. Фильм кончился, а мы все сидели, не в силах разжать потные пальцы. Наконец Джо Боб включил зажигание, и мы медленно поехали к моему дому. — Как тебе вчерашние откровения брата Бака? — Чего? — спросил Джо Боб. — Брат Бак? — Ничего, — глубокомысленно ответил он. — Мне брат Бак понравился, но, конечно, он ненормальный. «Легкие наполнятся кровью…» Чушь какая-то! Несколько месяцев мы узнавали друг друга: сначала робко держались за руки, потом, наконец, поцеловались крепко сжатыми губами, а потом перешли к пылким поцелуям, стукаясь, как быки рогами, зубами. Я просовывала язык между щербатыми зубами и исследовала им его рот, ощущая ямку на похожем на перевернутое сердце подбородке. Наконец он осмелился прикоснуться к моей груди. Это случилось во время баскетбольного сезона, после игры с «Ревущим камертоном», когда Джо Боб забросил решающий мяч за пять секунд до конца матча и на плечах сгоравших от зависти игроков покинул площадку. Я азартно размахивала своим флагом в самом центре группы поддержки, исполняя сложные упражнения, и мне тоже достались аплодисменты и восторженные крики публики. После матча, на неделю зарядившись отличным настроением, мы отправились на ставшую любимой автостоянку у холма подальше от города. Под нами сверкали огни Халлспорта. Мы прижались друг к другу, я ощутила знакомую нежную впадину на спине, а Джо Боб неуверенно дотронулся левой рукой до моей правой груди, вернее, до маленького холмика под форменным мундиром, а еще вернее — до поролонового бюстгальтера. Я прижалась к нему еще крепче, задохнувшись от счастья, когда он стал массировать мою грудь, как гинеколог, проверяющий, нет ли опухоли. К началу бейсбольного сезона моя грудь была исследована со всех сторон. Вечера пролетали мгновенно, потому что Джо Боб в десять должен был быть в постели, и мы не теряли зря времени. Примчавшись на свою стоянку, которая сослужила добрую службу не одному игроку баскетбольной, футбольной или бейсбольной команды Халлспортской средней школы, мы начинали с того, чем закончили в прошлый вечер, — целовались, обнимались, щипались; потом Джо Боб деловито месил мою грудь — в точности домохозяйка, выжимающая сок из спелых слив, ловко расстегивал ремешок часов, клал их на приборную доску и снимал с меня бюстгальтер. Так мы и сидели в «Ударе Спарки» — я, голая по пояс, крепко стиснувшая колени, и Джо Боб, присосавшийся к моей груди. Я гладила его колючий ежик, накачанную короткую шею и нежную впадину на спине. Но никогда мои руки не опускались ниже. Я помнила о своей репутации. Это был неповторимый вечер! На последней секунде Джо Боб вырвал победу при, казалось бы, неминуемом поражении, а я превзошла себя в искусстве размахивать флагом. Ни один чиэрлидер Халлспортской средней школы не исполнял тех трюков, которые получались тогда у меня. После матча мы помчались на свою стоянку. Времени оставалось мало, и Джо Боб не мешкая вытащил из кармана кольцо. — Джинни, — ласково спросил он, — ты наденешь мое кольцо? Надену ли я его кольцо? Наденет ли Элизабет Тейлор бриллиант надежды? — О, конечно, Джо Боб, конечно! Он протянул мне огромное, позолоченное, с черным ониксом и выгравированными на внутренней стороне инициалами «Д.Б.С.» кольцо. Я надела его на большой палец, но там поместился бы еще один или даже два таких пальца. Джо Боб вытащил «Джуси фрут», прилепил на приборную доску и обнял меня. Традиции нашей школы требовали перехода к новым физическим отношениям при таком подарке. Мы понимали, что готовы к новым исследованиям. Из закрытых глаз Джо Боба выкатилась слеза. — Я так счастлива, — прошептала я. — Чего? — Счастлива! — Я тоже. Он рывком снял рубашку, обнажив красивую грудь и спину, и они — эти грудь и спина — были моими, я могла делать с ними все что захочу. Он снял часы, положил рядом со жвачкой, деловито расстегнул мой мундир, снял его, потом лифчик и прижал меня к себе. Ах, как это было приятно — чувствовать на своей груди нежные пушистые волосы, дразняще сбегавшие вниз, под ремень! Знаменитая своими подачами, легендарная цепкая рука осторожно спустилась вниз и забралась мне под трусики. Мы замерли. Наконец его пальцы стали нежно исследовать мои складочки и вдруг — ах, эти потрясающие молниеносные атаки Большого Спарки! — большой палец ворвался в меня, как палец Джека Хорнера в рождественский пудинг. Путь на голгофу был открыт. Мы посмотрели друг другу в глаза, а потом, не зная, как еще выразить свое одобрение, я покрутила средним пальцем огромное кольцо с черным ониксом. Несколько минут мы сидели неподвижно. Я не знала, что делать, а Джо Боб боялся уступить хоть дюйм из уже завоеванного пространства. А может, он тоже не знал, что делать с пальцем, достигшим заветной цели. Наконец он осторожно пошевелил им. Я одобрительно улыбнулась, и он от избытка чувств наклонил голову и впился губами в мой сосок. Я не знала, что делать со своими руками, но он помог мне: оторвавшись от моей груди, он решительно положил мою руку на выпуклость в брюках, которая, как я уже догадалась, была не грыжей, а чем-то намного более важным для наших занятий. — Потри его! — выдохнул он, и я с восторгом принялась за дело. Ах, как это было приятно! Наверное, с неменьшим наслаждением тер свою лампу Аладдин… Неожиданно Джо Боб выпрямился, палец выскочил из меня, как пробка из бутылки шампанского, раздался треск — это хлопнула резинка моих трусов. Тугая шишка у меня под рукой мгновенно превратилась в мармелад. — Что-то не так? — испугалась я. — Режим! — простонал Джо Боб и схватил часы. — Тренер меня убьет! Скоро одиннадцать! — Но как он узнает? — почему-то с обидой спросила я. — Он объезжает наши дома, смотрит, на месте ли машины и горит ли в спальнях свет, — бормотал Джо Боб, натягивая рубашку. — Ну и что? Пусть смотрит. — Он вышвырнет меня из строя перед началом игры, — мрачно заявил Джо Боб и включил зажигание. Мы помчались по неровной дороге в грохоте пустых пивных банок, выскакивавших из-под колес, и в облаке пыли. Даже знаменитый Джо Боб Спаркс не смел нарушать режим. Мы остановились у зарослей магнолий, и Джо Боб с самым несчастным видом погрозил мне пальцем. — В чем дело? — Голубые яйца, — простонал он. — Что? — крикнула я, но он уже умчался в своем ревущем «Ударе Спарки». Я побежала домой. Голубые яйца? Перед зеркалом в прихожей я остановилась: ничего себе! Мундир застегнут не на те пуговицы, помада размазана, как у клоуна, из хвоста выбился клок волос, тени на веках расплылись, делая меня похожей на енота. На краю кровати в махровом халате сидел майор. Я не сразу заметила его, стараясь как можно тише прокрасться в спальню. — Поздновато! — весело сказал он. — Да, — согласилась я. — Мы ездили после матча в «Росинку», но там было столько народу, что пришлось ждать несколько часов, пока Джо Боб получит свое молоко. — Конечно, конечно. — Он помолчал. — Ты позволила целовать себя? — Папа! — Я протянула ему руку с кольцом и выпалила: — Да! Мы хотим стать женихом и невестой. — Черт побери! Ты спятила? — Нет. Мы очень нравимся друг другу. Он встал и направился к двери. — Что ж, если хочешь всю жизнь быть женой продавца обуви — твое дело. В конце концов, может, это и есть твоя мечта… — Кто говорит о замужестве? — Достаточно посмотреть на тебя, чтобы понять — это твоя цель. Я нахмурилась. А это идея! Вся школа ахнет, когда лучший полузащитник «Халлспортских пиратов» и самый ловкий чиэрлидер поженятся! — Он не собирается торговать обувью! Джо Боб будет тренером. А если даже торговцем? Это лучше, чем делать бомбы на твоем паршивом заводе. — Эти бомбы, милая леди, позволяют тебе носить дорогие тряпки! Ага, отца задели мои слова! Но, по-моему, дело не в том, что отец Джо Боба торгует обувью. Дочери обычно выходят замуж за тех, кто похож на их отцов. По крайней мере, так меня учили на уроках психологии. А если они выбирают других, значит, осознанно или нет, отрекаются от отцов. Не было никого, менее похожего на высокомерного майора, чем Джо Боб Спаркс. Разве что Клем Клойд? Но он возникнет в качестве потенциального зятя позже. Детский роман не так наивен и чист, как кажется: он подсознательно зависит от родителей обеих сторон. — Я не просила рожать меня! — заявила я, оскорбленная упреком. — Не родили бы — и некому было бы покупать эти тряпки! — Ну-ну, ломай себе жизнь. — Майор остановился в дверях и спокойно прибавил: — Даже если придется применить силу, Джинни, я отвезу тебя в университет в Бостон. А когда вернешься — поймешь, что эта компания — не для тебя. — А кто — для меня? — взвизгнула я. — Никуда я не поеду! Здесь мой дом! Он покачал головой и вышел. Известие о том, что мы с Джо Бобом стали женихом и невестой, распространилось по школе, как чума. Все хотели посмотреть мое кольцо. Я искапала целую свечку, чтобы оно не крутилось на пальце. Ударь я кого-нибудь этой рукой — и несчастная жертва долго ходила бы с отпечатком на челюсти. Мы стали самой популярной парой в Халлспортской средней школе. Девчонки завизжали: «Джинни! Ура!», а мальчишки засвистели в два пальца и застучали ногами, когда мы вошли на большой перемене в Халлспорт. Джо Боб улыбнулся своей идиотской улыбкой и поднял — точь-в-точь как рефери поднимает руку боксера — наши руки в победном салюте. Перед последним уроком, когда я сидела в классе, рисуя на полях тетради по латыни женскую грудь, кто-то бросил в меня запиской. «Приходи в 14.25 в фотолабораторию», — узнала я детский почерк Джо Боба. В 14.22 я подошла к столу и попросила разрешения выйти. Тренер Бикнелл, огромный сильный мужчина лет сорока с седым ежиком волос, косыми глазами и совсем без шеи, — его силуэт всегда напоминал мне конус мороженого с вишней вместо головы, — подозрительно посмотрел на меня и прорычал: — Через пять минут быть в классе! Нечего там курить! — Я не курю. — Все вы так говорите. Конечно, я курила иногда — просто ради удовольствия почувствовать себя взрослой и независимой, но теперь, когда я стала невестой Джо Боба, строго выполнявшего своей чертов режим, об этом не могло быть и речи. Я изумленно уставилась на тренера. Ни один учитель не позволял себе так разговаривать с дочерью майора Бэбкока. Наверное, дело в том, что я стала встречаться с Джо Бобом. — Хорошо, сэр, — пролепетала я и выскочила из класса. Фотолабораторией была маленькая темная комната, служившая не столько своему назначению, сколько для свиданий таких, как мы с Джо Бобом. Она запиралась на два замка, но существовало не менее двух дюжин копий ключей, передававшихся из рук в руки. Я тихонько постучала. Дверь приоткрылась, и рука Джо Боба втянула меня в темноту. — Что случилось? — прошептала я, когда он прижал меня к стенке. Твердый пенис уперся мне в живот сквозь ткань джинсов и юбки, слюнявые губы торопливо забегали по лицу. — Это ужасно, — выдохнул он. — Что? — Тренер отстранил меня за нарушение «комендантского часа». И запретил встречаться с тобой до конца сезона. — Ты шутишь? — К сожалению, нет. — О, Джо Боб, — простонала я — точь-в-точь как Вивьен Ли в «Унесенных ветром». — Что нам делать? — Он говорит, что ты мне вредишь. И он не понимает, что я в тебе нашел. — Ах так? — Я постаралась саркастически улыбнуться — как Элвис Пресли. — И что ты отбираешь у меня силы. — Но ты заставишь его взять свои слова обратно? — потребовала я. — А вдруг он прав? Если я не смогу как следует играть в этом году, мне не дадут стипендии. А если не попаду в колледж — не стану тренером. Я представила себя в роли жены простого торговца обувью и проговорила: — Они правы, Джо Боб. И майор, и тренер. Мы не подходим друг другу. — А что говорит твой отец? — Что я зря трачу на тебя время. — Вот как? Но ты заставишь его взять свои слова обратно? — А вдруг он прав? — По-моему, он не смеет указывать Джо Бобу Спарксу, как прожить жизнь. И тренер — тоже. Вот что: возьми вечером машину отца, наври, что едешь в библиотеку, а сама часиков в семь заезжай за мной. — Отлично, — промурлыкала я, довольная перспективой обмануть отца. Джо Боб задрал мне юбку, оттянул резинку трусов и сунул туда руку. Часы приятно холодили мне тело. — Пора возвращаться, — с сожалением прошептала я. — Тренер что-то имеет против меня. Теперь я знаю, что именно. — Чего? — Тренер. Велел мне через пять минут быть в классе. Я отпросилась в туалет. — Ладно… Увидимся вечером, — он отпустил меня и похотливо улыбнулся. Вечером я приехала в новый квартал в черном «мерседесе» с позолоченными инициалами майора на каждой дверце. Из-за самшитового дерева выскочил Джо Боб и быстро юркнул в машину. — Куда? — спросила я. — На нашу стоянку? — Нет, — прошептал он, устраиваясь так, чтобы его не было видно. — Езжай по набережной, я скажу, где свернуть. Мы молча ехали вдоль отравленной заводскими отходами Крокетт. Я поглядывала в зеркало, нет ли на хвосте тренера. — Что ты сказал родителям? — Что поеду с Доулом в «Росинку». — А Доула предупредил? — Чего? — Доул не выдаст? — Нет. — Ты ему доверяешь? Доул, еще один полузащитник «Халлспортских пиратов», был не столько другом, сколько конкурентом Джо Боба. — Чего? Доулу? Приходится доверять. Лучшего я не смог придумать. — Он осторожно приподнялся. — Второй поворот налево. Когда я свернула на немощеную узкую дорогу, Джо Боб выпрямился и облегченно вздохнул. Дорога была вся в рытвинах, но в дорогом «мерседесе» они почти не ощущались. — Налево, — велел Джо Боб. Я повернула и оказалась на заброшенной автостоянке, полной пустых пивных банок и оберток от шоколада. Я выключила фары и заглушила двигатель. Под нами в обрамлении невысоких деревьев торжественно несла свои вонючие воды Крокетт. — Красиво, — авторитетно заявила я. — Почему ты не привозил меня сюда раньше? — Чего? — Откуда ты знаешь это место? — Я с ужасом представила, как на переднем сиденье «Удара Спарки» развалилась другая девушка. Он ухмыльнулся и еще громче зачавкал «Джуси фрут». — Я знаю места и получше. Здесь скоро будет слишком много народу, придется сматываться. — Он помолчал. — Пошли на заднее сиденье. По сравнению с передним сиденьем «Удара Спарки», в «мерседесе» был просто рай. Совсем голая, я разлеглась на кожаном диване, а Джо Боб устроился на коленях между моими ногами. Выпущенный на волю пенис горделиво торчал, указывая мне прямо на нос. Джо Боб торжественно вытащил из кармана джинсов маленький блестящий пакетик. Я уже видела такой в его бумажнике, когда он расплачивался в «Росинке» за молоко, но не сообразила, что это — презерватив, который защитит меня от материнства. Джо Боб оторвал кончик и стал натягивать его на себя, как домохозяйка — резиновые перчатки перед мытьем посуды. Что-то скользкое упало мне на живот. Мне стало не по себе. Я совсем не хотела заходить так далеко. Поцелуи — пожалуйста. Крутой петтинг — ради Бога! Но трахнуться по-настоящему? Это уж слишком. Отказ от университета вдруг показался мне чересчур большой жертвой — даже ради такой любви, как у нас с Джо Бобом. Будет ли он уважать меня после этого? Не станет ли считать такой, как Максин Прютт, которая путалась с Клемом Клойдом и его дружками и которую Джо Боб и его друзья дразнили «Прютт — всем дают»? А режим? А слова брата Бака о прелюбодеянии? «Избегайте блуда», — наказывал он. Я решительно поднялась на локтях. — Подожди, Джо Боб. Давай это обсудим. — Чего? — выдохнул он. — Вот уж не думал, Джинни, что ты будешь крутит мне мозги? Яркий свет вращающейся мигалки ударил в окна. — О нет! — простонала я. Майор оказался прав: он предупреждал меня о полиции. Джо Боб галантно схватил свой джемпер и бросил мне, а сам укутался первым, что подвернулось ему под руку, — моей голубой юбкой, топорщившейся там, где торчал еще не поникший пенис. — Уж не Джо Боб Спаркс ли собственной персоной? — раздался голос патрульного. В страдальческое лицо Джо Боба ударил свет фонаря. — Прости, старина, что прервали твой матч. Подошел второй патрульный, заглянул в окошко и тоже заржал. — Делать вам нечего, — прорычал Джо Боб. — Очень мило, — не унимался первый. — Тебе идет голубое, приятель. — Это жердочка Бэбкока, — удивился второй, наверное, сообразив, что машина принадлежит майору. Я спряталась в уголке, прижав колени к груди и укрывшись джемпером Джо Боба. — Стоянка здесь не запрещена… — На первый раз, Спаркс, мы тебя просто предупреждаем, — милостиво заявил первый патрульный. — Но впредь выбирай места поприличней. А лучше всего — это мой личный совет — делай то, что велит тренер. — Это он послал вас? — пискнул Джо Боб. — Как он узнал? — Нет, не он. Но послушай, сынок, в игре ты неподражаем. Весь город знает, что тебя отстранили. Неужели честь города ничего для тебя не значит? Тренер знает свое дело. Если он велит тебе в десять ложиться в постель, а не таскаться с женщинами, — значит так надо. — Да, сэр. Сломав две юные жизни, патрульные сели в машину и уехали. Джо Боб сел на сиденье, закрыл глаза и застонал. — Что с тобой? — Голубые яйца, — прохныкал он. — Что? — Голубые яйца. — Да что это значит? — А то, что если возбуждаешься, но не кончаешь, — сквозь зубы процедил он, — яйца синеют и могут отсохнуть. — Поехали, — вздохнула я. — Копы велели тебе вовремя ложиться спать. Он торопливо снял резинку и выбросил в окно. Потом схватил меня за руку. — Потри его, пожалуйста. Борясь с отвращением, я взяла его пенис в руки. Кто их знает, эти яйца, вдруг и правда отсохнут? Мне стало жалко несчастного Джо Боба, а главное, я не хотела, чтобы он думал, будто я только дразню его, — в школе таких девушек называли динамистками. Что мне тогда останется? Торчать дома, когда все развлекаются в кинотеатре на свежем воздухе? Пока я с ужасом представляла такую перспективу, мягкая тряпочка в моих руках отвердела и встала торчком. Джо Боб протянул под джемпером руку, и палец привычно нашел свое место. Я вспомнила, как несколько лет назад Клем Клойд учил меня доить корову, и осторожно — вверх-вниз — стала двигать руками. Так мы и сидели — я, укрытая его джемпером с яркими буквами «Х.С.Ш.», и он — моей юбкой. Наши руки двигались, как заведенные. Я подавила зевок и подумала о том, что неплохо бы получить университетское образование… Джо Боб дернулся и затих. Палец скользил во мне медленней, медленней, и, наконец, замер совсем. — Ты в порядке? — я испугалась, что унего эпилепсия, да и сердце колотилось, как бешеное. Этого мне только не хватало: голого припадочного Джо Боба на заднем сиденье «мерседеса» майора. Если он умрет, решила я, мне останется только бросится в Крокетт. Я осторожно приподняла его веко. — Чего? — пробормотал он. — Ты в порядке? — Чего? В конце концов мы разобрали, где чья одежда, и стали одеваться. На новенькой голубой юбке темнело пятно. — Сперма, — идиотски улыбаясь, объявил он. — Ах! — Я отшвырнула юбку. Что делать? Мои познания в этой области формировались мультиками Диснея: в одном из них нехороший Сэмми Сперм прижал к стене милую деревенскую девушку и угрожал ей спермой. Я ненавидела сперму, как коммунистов. — Убей ее! — закричала я. — Убей! Джо Боб засмеялся, решив, что я хочу его посмешить. — Будешь носить мой джемпер? — вдруг спросил он. — Тебе идет. — Меня охватила радость. Такой джемпер с крупными буквами «Х.С.Ш.» — Халлспортская средняя школа — больше, чем простое кольцо. Тем более джемпер Джо Боба — самый знаменитый в школе, с заплатками в виде футбольных и баскетбольных мячей. Я крепко обняла Джо Боба за шею. Он встрепенулся, схватил мой сосок и стал вращать, как ручку настройки радио. — Режим, — шепнула я. Он подпрыгнул и стал одеваться. На следующий вечер после ужина майор отвел меня в сторону и, задыхаясь от ярости, прошипел: — Вирджиния! Я не хочу, чтобы моя дочь шлялась на задворках, как сучка во время течки. Ясно? — Что ты хочешь этим сказать? Сеть фискалов майора могла бы посрамить даже ФБР. — Черт тебя побери! Не понимаешь? — Мы с Джо Бобом просто разговаривали. — Какого черта! Мало того, что ты нацепила кольцо этого кретина, так еще и этот джемпер! — Рукава были слишком длинны, и если бы я не закатала их, они свисали бы до колен. — Ты похожа в нем на идиотку. И знай: если я когда-нибудь увижу вас вместе… — Что тогда? — Если тебе повезло унаследовать у матери инстинкт самосохранения, ты не узнаешь, что будет тогда. Я презрительно тряхнула хвостом и направилась к себе. Что делать? Майор все-таки мой отец, он косил меня на руках, когда я была маленькой …На следующий день в фотолаборатории я вернула Джо Бобу кольцо и джемпер, а потом обняла и чуть не утопила в слезах. Успокоившись, я, как дрессировщик, старающийся вести за хобот упирающегося слоненка, схватила пенис Джо Боба и стала тискать, пока, тяжело дыша и кряхтя, он не кончил в раковину. — Что нам делать, Джо Боб? — Я не хотела, чтобы меня называли «Всем дают» или динамисткой, но хотела соблюсти приличия. — Что делать?! С тех пор во время больших перемен я сидела в окружении умирающих от жалости подружек и бросала тоскливые взгляды через весь Халлспорт на печального Джо Боба. Трижды в неделю мы встречались в фотолаборатории, где он включал на четыре минуты таймер, расстегивал «молнию», и я, как искусная домохозяйка, выдаивала его над раковиной. Потом мы обменивались нежными поцелуями, и я мчалась обратно в класс, где тренер сверлил меня злобным взглядом. Наступило лето, и доступ в фотолабораторию прекратился. Каждый вечер, курсируя по Халл-стрит, — я — со своими друзьями, Джо Боб — со своим, — мы обменивались пылкими взглядами. Однажды Джо Боб высунулся из окна и протянул мне мятую записку. «Завтра в девять вечера будь на углу Халл-стрит и Броуд и жди Доула». Ровно в девять вечера я крутилась на этом углу, провожая взглядом проносящиеся мимо машины. Наконец показался коричневый «додж» Доула — «тюфяк на колесах», как он его называл. За рулем сидел Доул, рядом с ним — его подружка Дорин. «Додж» остановился. Дорин весело помахала мне рукой. Я ждала. Доул вышел, прислонился спиной к дверце и стал смотреть на машины. — Где Джо Боб? — крикнула я, не выходя из-за дерева. Он не ответил, насвистывая что-то сквозь зубы. Наконец появился огромный черный «де сото», подполз к «доджу» и притормозил. Доул широко улыбнулся. Окно опустилось, и я услышала голос тренера: «До комендантского часа осталось сорок восемь минут, Роллер!» — Да, тренер! «Де сото» скрылся с глаз. Доул открыл дверцу. — Залезай! — Чего? — Залезай! Я — лучший друг Джо Боба. Быстрей! — приказал он. Я подошла к машине и увидела лежащего на заднем сиденье Джо Боба. — Ну как? — горделиво спросил он. — Здорово я придумал? — Не знаю, — кисло пробормотала я, устраиваясь рядом с ним. — Так лучше? — он уткнулся губами мне в шею и запыхтел. — Куда мы едем? — Увидишь? Я почувствовала, как в бок воткнулась, будто гангстерский револьвер, твердая палка. Наверное, вот так и похищают невинных девушек, заставляя стать проститутками. Я вздохнула. Джо Боб расстегнул джинсы, я опустила руку и принялась за привычное дело. Я делала все, что могла придумать, лишь бы отдалить мгновение, когда, словно облако пыли под копытами коней гуннов в последние дни Рима, мою руку зальет его сперма. Хлопнула дверца. — Приехали, Спарки! — Осторожно мы сели на своем заднем сиденье. — Вам будет видно? — обернулась к нам Дорин. Я заметила, что она расстегнула блузку и задрала бюстгальтер. — Да, спасибо, — ответил Джо Боб. — Не за что, Спарки. Мы хотим вам помочь. На экране шел фильм «Десять заповедей», но я мало что слышала: с переднего сиденья доносились громкие вздохи, звуки поцелуев и скрип. В самый разгар фильма, когда, казалось, только чудо может спасти героиню, мы увидели голую задницу Доула, ходуном ходившую на переднем сиденье. Притворившись, что ничего особенно в этом нет, мы отвели глаза — и, как солдаты, падающие в окоп при виде вражеского снаряда, сползли вниз: через две машины от нас, невозмутимо жуя поп-корн, сидел в своей черной «де сото» тренер. Подождав, пока возня на переднем сиденье стихла и Доул с довольным видом привстал, чтобы похвалиться своим успехом, Джо Боб прошептал: — Доул! Здесь тренер! Через две машины. — О Господи! Вот дьявол! И уже одиннадцать! — На обоих сиденьях быстро замелькали одежда и руки. — Не думаю, что удастся смыться, пока он там, — сказал Доул. — Ложитесь на пол и молитесь! — Он набросил на нас пахнущее затхлой спермой одеяло. Я была теперь отлично знакома с этим запахом. Такие встречи продолжались и в новом учебном году. Три раза в неделю — в фотолаборатории и раз в две недели — в «додже» Доула. Да еще страстные взгляды в Халлспорте и из окошек машин на Халл-стрит. Иногда нас удостаивали чести читать молитвы команды Иисуса. Тогда мы приходили в маленькую звуконепроницаемую студию, запирались изнутри и нараспев читали: — На все воля Господня, даже на очищение от греха, — читал Джо Боб, расстегивая брюки. — Каждый из вас должен знать, что счастье — не в похоти или страсти, — вторила я, не отрывая глаз от его ширинки. — Не зовите к разврату, зовите к святости, — продолжал Джо Боб, тиская мне грудь огромной, как боксерская перчатка, рукой. — Блуду нет места на земле, — поучала я на всю школу, пока его вторая рука шарила в тайных складочках моего тепа. И, конечно, мы встречались на матчах: я — в саржевых шортах и каштановом форменном мундире, а Джо Боб в форме «Халлспортского пирата». Я с завистью смотрела, как тренер хлопает его по заднице, посылая в игру, обнимает за плечи, держит полотенце и промокает с губ и висков Джо Боба пот. В свободное время — а у меня его стало слишком много — я собирала пробки от лимонадных бутылок. Местная радиостанция призывала определить лучшего спортсмена по числу собранных пробок. Каждая пробка — один голос. Я собрала больше сорока тысяч, а Дорин за Доула — всего тридцать пять тысяч. Тогда она напомнила мне, что они с Доулом делают для нас слишком много, и пора рассчитаться. Поэтому я перестала собирать пробки и дала Дорин возможность победить: самым популярным атлетом стал Доул, хотя вся школа знала, кто на самом деле лучший атлет, а кто только взял плату за аренду заднего сиденья. Майор кое-что заподозрил. — Почему это ты не бегаешь на свидания? — спросил он. — Никто не приглашает. — Неужели? С чего бы? — Не хотят, и все. — А может, боятся связываться с Джо Бобом? — мрачно предположил он. — Я вернула ему и кольцо, и джемпер, — надменно бросила я. — Как ты велел. «Нужно сбить майора со следа, — подумала я. — Если я отвлеку его внимание, сбегав пару раз на свидание с кем-нибудь еще, он отстанет от Джо Боба. Я докажу, что совсем не страдаю, а даже наоборот. Джо Боб восхитился моей идеей, а когда я сказала, что в качестве жертвы выбрала Клема Клойда, пришел в полный восторг: Клем казался таким несерьезным соперником, что даже не заслуживал им называться. Кому могло прийти в голову, что я на самом деле смогу предпочесть хромого хулигана Клема Клойда самому Джо Бобу Спарксу?Глава 4
Суббота, 24 июня. Джинни сидела в джипе и наблюдала, как по беговой дорожке, широко улыбаясь, бежит к ней Джо Боб Спаркс. Когда-то поджарый живот немного отвис, но в общем он мало изменился. Ей стало не по себе, будто прошлое вернулось, поглотив настоящее. Она почувствовала на себе каштановый мундир чиэрлидера и удивилась, увидев, что одета в пестрое деревенское платье. Прошло десять лет с тех пор, как она в последний раз видела Джо Боба, но тело непроизвольно напряглось, как и тогда. «Не разговаривай с набитым ртом», — машинально повторяла она Венди не потому, что была очень заботлива, а потому, что так говорила когда-то ее собственная мать. Она обнимала и целовала Клема, Эдди и Айру в точности так, как научил ее Джо Боб. — Привет! — сказал он, улыбаясь своей ненормальной улыбкой и жуя «Джуси фрут» — наверное, ту же, что и десять лет назад. — А я думаю: ты или нет? Вряд ли твоя мать будет торчать у стадиона. — Конечно я, — неожиданно для себя Джинни почувствовала, что даже голос стал таким, как раньше. — Как поживаешь? — Он облокотился о машину и заглянул в открытое окно. Между его волосатой грудью и лицом Джинни болтался секундомер. — Нормально, — «Незачем перечислять свои неудачи», — решила она. — А ты? — Отлично. Почти отлично. Ты знаешь, что я теперь тренер? — Слышала. И слышала, у тебя неплохо получается. — Да, неплохо. Джинни поискала тему для разговора. Погода? — Видишь того белобрысого? — горделиво спросил Джо Боб, указывая на бегущих спортсменов. Джинни пригляделась. — Да. Отлично бежит. — Еще услышишь его имя — Билл Барнс. Лучший из всех, кого я тренировал. Джинни с любопытством посмотрела на крупного красивого парня с длинными белокурыми волосами. — А ты знаешь, что у тебя появился северный акцент? — засмеялся Джо Боб. — Неужели? — удивилась Джинни. — Извини. — Чего? — Я бы этого не хотела. — Джинни отвела взгляд от гипнотизирующего ее секундомера. — Это совсем неплохо. — Да, может быть. — Я слышал, ты вышла замуж где-то на Севере? Живешь у озера или что-то в этом роде? — Да. Мой муж продает снегоходы. Когда мы решили пожениться, он захотел, чтобы церемония была на бобровом пруду. Чтобы заинтересовать покупателей. Ну, не тебе говорить о рекламе. Джо Боб вежливо улыбнулся. — Ты и сейчас живешь на Севере? Джинни задумалась. Айра ее выгнал, мать — в больнице, дом, где она выросла, выставлен на продажу. — Да. В Вермонте. — Вермонт. Он на море? — Нет. На большом озере. Там много гор и полгода лежит снег. Очень красиво. — Я рад за тебя. — Спасибо. — А ты знаешь, что я женился на Дорин? — Да, слышала. — Джинни приятно удивило собственное равнодушие. Ни сожаления, ни зависти — ничего, одно равнодушие. — Ты надолго домой? — Не знаю. Скорее всего, на пару недель. — Загляни к нам. Дорин будет рада. — Спасибо, загляну. — Мы живем в «Имениях колонистов». Знаешь, где это? — Джинни кивнула, припоминая название одного из новых районов в предгорьях — совсем рядом с той стоянкой, которую облюбовали когда-то они с Джо Бобом. — Ну, мне пора. Рад был повидать тебя. — Я тоже. Увидимся позже. — Она не спешила заводить мотор, глядя вслед удаляющейся фигуре: слава Богу, он не держит на нее зла за то, что она оборвала их роман. — Отлично, парни! Шевелите задницами! — крикнул Джо Боб и щелкнул секундомером. Спортсмены рванули вперед, как голодные волки. Впереди всех мчался белокурый Билл Барнс — вылитый Джо Боб в его лучшие годы. Джинни включила радио и машинально настроилась на давно знакомую волну. Зазвучала музыка. Джип вздрогнул и медленно покатил к дому Джинни. Через милю показался дом Клойдов: его темно-вишневая крыша совершенно не гармонировала с ярко-красной глиной во дворе. За домом — немного вниз — виднелись коричневые сараи, белые амбары и стадо коров. Она решила не сообщать Клему о своем приезде. Зайдет позже, когда узнает, что с матерью. Интересно, каким стал Клем теперь, когда ему нужно вставать в четыре утра доить коров, а не носиться до рассвета на «харлее»? Джинни видела его на похоронах майора — ему было явно не по себе в черном костюме и накрахмаленной рубашке. Они только поздоровались, и он выразил свои соболезнования. Майор хвалил Клема, говорил, что из него вышел отличный фермер. Случаются всякие метаморфозы, но та, что произошла с Клемом, была совершенно неожиданной. Она негромко посигналила, как всегда делали Бэбкоки, чтобы предупредить Клойдов: едут свои, а не воры или вандалы, — проехала еще милю мимо дубовой рощи, платанов, тополей и зарослей кизила — такой же лес был за домом Айры в Вермонте, только там преобладали березы, ясени и клены. Она остановилась перед алюминиевыми воротами, вышла, отперла замок и въехала во двор. Бревенчатая хижина с тускло-зеленой крышей много повидала на своем веку. Году в 1800-м ее построил основатель фермы — из племени авантюристов, конокрадов и дезертиров, которые бежали через Блу-Ридж, спасаясь от береговой охраны Виргинии и Северной Каролины в лесистых предгорьях Кентукки и Теннесси. Когда ее дед, мистер Зед, бежавший с шахт Сау-Гэпа и купивший ферму, обосновался здесь, хижина пустовала уже несколько десятилетий. Дед отремонтировал ее и жил с женой и маленькой дочкой, матерью Джинни, пока не построили особняк. Когда родители Джинни поженились, они тоже жили в этой хижине. Там она и родилась. А потом дед с бабушкой поменялись с родителями и переехали в старую хижину. После смерти жены мистер Зед жил совсем один, стараясь уничтожить то, ради чего жил — завод и весь Халлспорт. Дед сажал виноград. Лозы куджу играли двойную роль: во-первых, укрепляли глинистые склоны оврага, угрожавшие обвалиться в пруд, а во-вторых, были последней надеждой, родившейся в помутившемся мозгу старика. Куджу всегда высоко ценился как самый удивительный сорт. Его цепкие корни не просто снабжали азотом истощенную землю; листва с высоким содержанием протеина не только давала скоту хороший корм — виноградник разрастался так стремительно, что достаточно было нескольких лоз, чтобы засадить целые склоны. Именно по этой причине дед Джинни заботливо рассаживал виноград по всей долине. В мгновение ока все поглощалось куджу — кусты, деревья, булыжники, старый табачный амбар, поржавевшее от времени оборудование… Местами куджу рос стеной шагов в шесть. Когда ровесники деда резались в карты на турнирах в Аризоне, он брал мачете и рубил виноград, угрожавший поглотить лужайку перед хижиной. Но рубил без злости, потому что виноград был его тайным оружием. Под покровом ночи дед сажал его вокруг завода и в городе. Виноград бесшумно творил свое черное дело, и не успевали халлспортцы прийти в себя, как его цепкие усики заглушали цивилизацию, возвращая землю природе. — Это у него старческое, — снисходительно говорили горожане о старике, по ночам сажающем вездесущий куджу, а днем грозящем кулаком дымящимся трубам, площадям и магазинам. — Зря я покинул Сау-Гэп, — жаловался дед, когда Джинни пришла его навестить. — Я — сын шахтера. Я ничего не умел, кроме этого, и наделал столько бед! Вирджиния, детка, никогда не старайся прыгнуть выше своей головы. Будь сама собой. — Но какая я? — спросила себя Джинни. — Какая? Она родилась в этой хижине от матери-южанки и отца — промышленника из Бостона. Имя Вирджиния дала ей мать в порыве географического патриотизма, а фамилию Бэбкок — отец, чье имя запечатлели на стене в холле Гарварда. Каким наукам — экономике, географии или еще чему-нибудь — она должна была посвятить свою жизнь? Она завидовала друзьям, которые смело размахивали флагами на митингах протеста. Сама она обычно оставалась дома и даже во время торжеств гимн не пела, а только еле слышно подпевала. Джинни хотела начать все сначала, уехав из Халлспорта в Бостон. Но чего она добилась с тех пор? Вышла замуж за бизнесмена-вермонтца? Стала хиппи? Жила в провинциальном северном городке? Джинни вышла из джипа, вытащила сумку, несколько пакетов с едой и, спотыкаясь о темно-зеленые лозы, побрела к хижине. Виноград обвил каменные ступени и выщербленные деревянные стены. Никто после смерти деда не сражался с куджу. Она распахнула незапертую дверь, вошла и открыла жалюзи. По углам висели покрывала из паутины, все было покрыто толстым слоем пыли. Она ввернула пробки, и все, что могло заработать — холодильник, электронагреватель, насос, — загудело и заработало. Потом отнесла в веселенькую — благодаря красным льняным занавескам и вязаным коврикам — маленькую кухню продукты, смахнула паутину и подмела темный дощатый пол. В последний раз Джинни была здесь за несколько месяцев до смерти деда. К нему приезжал тогда ее кузен Раймонд: высокий, болезненно худой, под глазами — темные круги. Он был альбинос — почти как выползший из-под земли рак. Он мало говорил, сидел, сгорбившись, и все время тяжело дышал. Дед потом объяснил ей, что все это — впалость щек, одышка — из-за угольной пыли, проникшей в легкие. — Сказать правду, Раймонд, — мистер Зед сердито покачал головой, — я проклинаю тот день, когда покинул Сау-Гэп. — Ты спятил, — выдохнул Раймонд. — Посмотри на меня: это Сау-Гэп постарался. Я ни на что не способен: только сижу и стараюсь дышать. — Халлспорт хуже любой шахты, — настаивал мистер Зед. — Воздух отвратительный, рыба в Крокетт и та передохла. — Держу пари, ты забыл, что такое Сау-Гэп, старик. Там, как в преисподней, одни горы шлака. Насосы не работают, корчишься на четвереньках по колено в воде. Забыл? — Знаешь, что этот придурок, мой зять, делает на своем заводе? Бомбы! Когда падает крыша — это чепуха по сравнению с тем, что будет, упади хоть одна бомба этого кретина. Эти мерзавцы-янки нас всех прикончат. Джинни должна была вернуться через неделю в Бостон к мисс Хед и ее философии, и ее совсем не интересовали ни груды шлака, ни бомбы, ни танки… Не интересовали — пока не появилась Эдди. Она взяла мачете, вышла на крыльцо и стала ритмично, как Айра на тренировке по гольфу, рубить виноградные лозы. Ей казалось, что она живет в дождливом лесу в бассейне Амазонки: стоит опустит мачете — и тебя поглотят вездесущие заросли. Летнее солнце было в зените, освещая то место на гребне холма, где был похоронен мистер Зед. Его надгробие давно исчезло в куджу. Джинни спустилась к пруду, сняла мокрое от пота и виноградного сока деревенское платье и с наслаждением бросилась в воду.Общественная больница Халлспорта была построена из того же красного кирпича, что и все остальные дома. — Это очень разумно, — объяснял майор, когда Джинни возмущалась однообразием зданий. — Сейчас «холодная война». Когда прилетят вражеские бомбардировщики, они не смогут отличить завод от жилых домов. Очень удобно. — Но зачем кому-то нас бомбить? — возмущалась тогда Джинни. Вестибюль был полон народу. Как в зале ожидания на помазание перед смертью: все расстроены, озабочены и терпеливы. Волонтерка-секретарь в бело-розовом полосатом фартуке вопросительно посмотрела на пестрое платье Джинни. — Я — дочь миссис Бэбкок, — сказала она. — Я действительно ее дочь. — Палата 307,— процедила секретарша. Когда Джинни шла по сверкающему чистотой коридору, то тут, то там открывались двери — больные выглядывали посмотреть на нее. «Наверное, после их клизм я — самое интересное событие», — подумала Джинни. Перед дверью палаты 307 она помедлила, собираясь с мыслями. Из соседней палаты доносился монотонный мужской голос: «Вы что, не можете для меня это сделать? Всего твоих новеньких! Можете или нет? Можете прислать мне троих? Да или нет? Из двери напротив выползла толстая старуха в розовом халате. Грязные седые космы лезли в глаза, изо рта текли слюни. Она схватила руку Джинни и пожала ее. — Привет, — неуверенно пробормотала Джинни. Старуха заворчала и ткнула пальцем в пол. Джинни опустила глаза и увидела новые красные шлепанцы, из-за которых ноги женщины казались в два раза больше. — Красивые, — заверила Джинни. Женщина удовлетворенно улыбнулась и вернулась в свою палату. Только тогда до Джинни дошло, что это миссис Кейбл, ее учительница в воскресной школе, объяснявшая когда-то, как отличать правду от лжи, и внушавшая, что Иисус любит всех детей на земле. Джинни стиснула зубы и постучала в дверь. В последний раз она видела мать больше года назад, на похоронах майора, и не подозревала, что та тоже серьезно больна. Мысль о том, что ее сильная, уверенная в себе мать все-таки уязвима, показалась нелепой и дикой. Никто не ответил. Джинни медленно толкнула незапертую дверь и вошла. Стены выкрашены в бледно-зеленый цвет, огромное окно, стол, свежие цветы в вазе на подоконнике, телевизор, два современных кресла, небольшой стол, тумбочка и две кровати… На одной лежала женщина. «Я попала не туда, — мелькнуло у Джинни. — Эта спящая женщина — не моя мать». Она подошла поближе. Когда-то каштановые волосы совсем поседели и поредели, особенно на макушке. Знакомые морщинки вокруг глаз и губ стали резче и глубже, а все лицо приобрело желтоватый оттенок и округлилось. Из носа торчала вата. Лежавшие поверх одеяла руки покрылись синяками — черными, голубыми, красными и зелеными. «Как палитра сумасшедшего художника — какого-нибудь Ван Гога», — подумала Джинни. Перед ней лежала беспомощная женщина, издающая запах разлагающегося тела. Это была ее мать. Она столько лет служила Джинни то образцом благородства, то источником ненависти, что сейчас, глядя на это полуживое существо, Джинни с трудом узнала ее. У Джинни подкосились ноги. Она села на краешек кровати и постаралась успокоиться. Неужели это она? Та женщина, которая с одного взгляда безошибочно определяла настроение Джинни и, казалось, читала все ее мысли? Господи, ее мать выглядит совсем как средневековые жертвы чумы, изображаемые на картинках. Неужели можно иметь такой вид и оставаться в живых? Дверь распахнулась, в палату влетела кудрявая медсестра в белой бесформенной, как кусок вареной картошки, шапочке и стала быстро перекладывать на тумбочке вещи. — Миссис Бэбкок не должна сейчас спать, — сказала она Джинни. — Сейчас время трудотерапии. — Что? — Трудотерапия. — А что она делает? — Вышивает. — Я и не знала, что она умеет вышивать, — удивилась Джинни. Впрочем, она мало что знала о женщине, с которой прожила бок о бок восемнадцать лет. Медсестра протянула ей пяльцы: стежки разных цветов сливались в бессмысленный узор. Может, это новое направление в искусстве? — Что за мужчина в соседней палате? — шепотом спросила Джинни. — Бикнелл, — тоже шепотом ответила сестра. — Он был тренером до Спаркса. — Сердце Джинни упало: ее заклятый враг совсем рядом. — У него был удар. — Жаль, — с плохо скрываемой радостью проговорила Джинни. — Я его хорошо знала. — Он выиграл двести три футбольных матча, а проиграл всего восемь. Здорово, правда? Великий спортсмен. И человек замечательный. «И отвратительный сукин сын, — чуть не вырвалось у Джинни. — А впрочем, нельзя быть жестокой. Он уже не опасен. Если вообще был когда-то опасен». Она вздохнула: незачем травить себе душу. Она сама виновата во всем, что случилось… Медсестра вылетела в дверь, как белое накрахмаленное облако, и до Джинни снова донеслось: «Мне надо вывести на поле троих свежих! Прямо сейчас! Ни больше ни меньше…» На столе лежали журналы. Джинни медленно перебирала их и улыбнулась, когда увидела двадцать второй том энциклопедии: ее неугомонная мать прочитала за последние девять лет все предыдущие тома. Сколько же всяких полезных и бесполезных сведений у нее в голове? Рядом лежал большой, наполненный лекарствами шприц. Джинни осторожно выдвинула ящик тумбочки, вспомнив об обещании, данном матери несколько лет назад: там спрятаны таблетки или бутылочка со смертельным ядом. Однако кроме старого потрепанного молитвенника в нем ничего не было. Значит, это не яд, решила Джинни, оглядываясь, но ничего подозрительного не увидела — только мебель, чистые стены и безупречно белые простыни. Откуда эти жуткие мысли? У матери просто неладно с кровью; миссис Ягси говорила, что это не в первый раз. Конечно, вид у нее кошмарный, но это еще не значит, что она умирает. Мать не настолько стара, что быть смертельно больной. — Извините, — оттолкнула Джинни влетевшая в палату сестра. Она схватила шприц, всадила его в бедро миссис Бэбкок и повернулась к Джинни: — Идите домой. Миссис Бэбкок проспит до утра. — Я только что пришла, — возразила Джинни, — и даже не поздоровалась с ней. — Ничем не могу помочь. — Что это все-таки за болезнь? — Вы еще не разговаривали с доктором? — С доктором Тайлером? Это был врач, несколько десятилетий лечивший всю их семью. Он, кстати, принимал и саму Джинни. — Тайлер уехал. Доктор Тайлер уехал? Не может быть! Неужели он бросил их семью, когда они так нуждаются в помощи? Невероятно… — Кто ее лечит? — Фогель. Новый гематолог. Я не имею права обсуждать болезни пациентов. Поговорите с ним. — Почему? Вы ведь кое-что в этом смыслите? Сестра презрительно оглядела деревенское пестрое платье, фыркнула и умчалась, как разгневанный марафонец. Миссис Бэбкок услышала, как хлопнула дверь, но не шелохнулась, решив обмануть мисс Старгилл, чтобы не заниматься проклятой трудотерапией. Хотя в последнее время она значительно продвинулась вперед, у нее не хватало духу решительно сказать молоденькой медсестре, что она предпочитает в одиночестве зализывать свои раны, — как кошка. Эти девочки думают, что поступают правильно, подбадривая больных, заряжая их своей энергией, болтая о своих школьных делах и личных переживаниях. Они ошибаются. Но какая мать стала бы их разочаровывать? Да, эти девочки в полосатых фартучках совсем не похожи на Джинни, какой та была в их возрасте. Именно это и нравилось миссис Бэбкок. Поэтому она дважды в неделю притворялась, что ей нравится вышивать. Девочки составляли ей компанию, а Джинни всегда была слишком скрытной. Конечно, ей было что скрывать. Когда же она упустила свою дочь? Миссис Бэбкок слушала болтовню волонтерок, вертела пяльцы и думала о Джинни. А может, переступая порог родного дома, эти веселые девочки тоже становятся мрачными и дерзкими? Джинни всегда была трудным ребенком. На Карла и Джима, когда они были маленькими, достаточно было сердито посмотреть — и они уже просили прощения. А вот Джинни… та просто отворачивалась и молчала. Мальчики были предсказуемы. Карл дослужился в Германии до капитана, был, как Уэсли, дисциплинирован и умен. Джиму приходилось заставлять себя работать, чтобы приобщиться к реальной жизни. Сейчас он рубит в Калифорнии сандаловые деревья. Однако без дивидендных чеков, которые оставил отец, ему пришлось бы нелегко. Самой трудной была Джинни, ее средний ребенок. Никто не знал, как подойти к ней, в чью роль она вжилась в эту минуту. Джим тоже иногда заявлял, что совсем не в восторге от буржуев-родителей, но то, что делала Джинни, переходило все границы. Родители никогда не могли угадать, кем их считает сегодня дочь: отъявленными негодяями или благородными людьми. Единственное, в чем дети были заодно, — в требовании к родителям не меняться. Сами они следовали то одной, то другой моде, меняли прически, исповедовали новые идеологии, но родителям это было запрещено, потому что дети подсознательно нуждались в чем-то стабильном, надежном, во что можно было уткнуться головой. «Мама, — запищали бы все трое, выскажи она мысль, которой от нее не ждали, — ты непоследовательна!» Им и в голову не приходило, что больше двух минут подряд они сами последовательными не бывают. Наверное, мисс Старгилл все еще здесь, притаилась в палате и ждет со своими пяльцами. Ну нет! Миссис Бэбкок себя не выдаст, не приоткроет глаза! Какое ребячество! Как в детстве, когда не хочешь вставать в воскресенье утром. Пора выбираться отсюда, а то совсем впадешь в детство! Миссис Бэбкок почувствовала, что кто-то сидит на ее кровати. Она осторожно приоткрыла один глаз. Это явно не мисс Старгилл. Во-первых, она не способна так долго сидеть неподвижно, а во-вторых, этот «кто-то» не в белом халате. Похоже на Джинни. Может быть, это сон? Или галлюцинация? Она ведь столько думает о дочери. Миссис Бэбкок широко раскрыла глаза. Да, это Джинни. Усталая, несчастная с виду Джинни, в пестром деревенском платье с низким вырезом и кружевами на лифе. Какую роль она играет на этот раз? А волосы? Что она с ними сделала? От природы вьющиеся, коротко стриженные волосы торчали во все стороны, как у негритянки, зажавшей в руках неизолированный провод. Эти кудряшки так нежно обрамляли ее румяное личико в детстве! Джинни потратила не меньше трех лет, стараясь выпрямить их огромными, как рулон туалетной бумаги, розовыми бигуди. Отец подразнивал ее, утверждая, что из-за этих кудряшек у нее в голове словно проделаны дырки. В модных журналах ее теперешнюю прическу называют «свободным стилем». Выглядит ужасно, но не хуже, чем те прически, с которыми она щеголяла последние двенадцать лет: нелепый хвост, когда стала чиэрлидером в школе; высоченный начес, когда шлялась с противным мальчишкой Клойдом, — начес делал ее голову вдвое больше, и требовалось минут тридцать, чтобы избавиться от него перед сном; строгий пучок, когда она приезжала на каникулы из университета; коса с лентой, когда притащила в дом ту несчастную девочку Холзер и пикетировала завод Уэсли. Честное слово, если бы Джинни слушалась мать, она выглядела бы куда приличней. Миссис Бэбкок едва сдержалась, чтобы не предложить Джинни намочить волосы и попробовать придать им более привлекательный вид. Но в последний момент поняла, что куда важней прически сам факт присутствия дочери здесь. Что она делает в этой палате? Миссис Бэбкок не могла ничего придумать и решила, что видит сон. Джинни в Вермонте и приезжает в Халлспорт, только когда этого нельзя избежать. Конечно, это наркотик… Ей ввели наркотик… Дверь распахнулась, влетела мисс Старгилл, пошепталась о чем-то с Джинни, но миссис Бэбкок ничего не услышала, забывшись настоящим сном. Утром ее разбудила миссис Чайлдрес. Миссис Бэбкок не понимала, зачем просыпаться так рано, если потом целый день нечего делать, разве что лежать и дремать. Но таково было правило, и не ей нарушать его. Миссис Чайлдрес посчитала ей пульс, деловито глядя на свои огромные мужские часы. Этот ритуал успокаивал миссис Бэбкок. Другие органы могли барахлить, но верное сердце исправно качало кровь. Более восьмидесяти тысяч раз в день оно сжималось и расширялось, заставляя циркулировать по измученному телу почти семьдесят тысяч кварт больной крови. Подари ей Бог нормальную жизнь, оно отстучало бы еще два с половиной миллиарда раз. (Все эти сведения миссис Бэбкок почерпнула из «Семейной энциклопедии».) — Почему вы будите меня так рано? — спросила она. — Так принято. — Миссис Чайлдрес закрыла глаза, подсчитывая пульс миссис Бэбкок. — Так принято. — Она закатала рукав ночной рубашки, надела манжету и стала измерять давление. Каждое утро — одно и то же; точно так же ей измеряли давление в приемном покое, когда она впервые узнала, что у нее не простое кровотечение, а тромбоцитопеническая пурпура. Тогда сам доктор Фогель, белокурый, краснолицый, задыхающийся от быстрого шага, измерял ей давление. Потом авторучкой начертил у нее на предплечье круг диаметром пять сантиметров и через каждые пятнадцать минут подсчитывал крошечные синяки. При норме пять их было несколько дюжин. Во времена пересадки сердца этот допотопный способ показался ей очень странным. С того дня крошечные кровоподтеки — петехии, как их называл доктор Фогель, — появились на всем ее теле. Они росли и сливались в огромные синяки, менявшие цвет. Миссис Чайлдрес еще не измерила давление, а желтые, зеленые, черные и вишневые синяки на руке миссис Бэбкок тупо заныли. Боль растеклась по всему телу, заставив ее застонать. — Простите, дорогая, — не отрывая глаз от стрелки, пробормотала миссис Чайлдрес. Она была хорошим человеком. Миссис Бэбкок была рада увидеть, что ее будит не мисс Старгилл, а опытная пожилая миссис Чайлдрес. Но главное — ее муж работал на военном заводе, и медсестра гордилась тем, что меняет тампоны в носу у жены самого покойного майора Бэбкока. Миссис Чайлдрес знала, что такое боль, страдая время от времени от ишиаса, и была гораздо терпеливей, чем мисс Старгилл. Хотя… у стремительной девушки была перспектива исправиться. Заведет несколько малышей, перенесет сотрясение мозга или еще что-нибудь в этом роде и станет не менее сострадательной. Миссис Чайлдрес записала что-то на карточке и подняла ланцет. Миссис Бэбкок вздрогнула, как собака Павлова перед очередным опытом. — Надо, — твердо сказала медсестра. — Сегодня — анализ на свертываемость. — Но вы же вчера его делали! — Не вчера. Три дня назад. — Миссис Чайлдрес ловко уколола палец на левой руке миссис Бэбкок. «Я для них — как подопытный кролик, — подумала та. — Не на ком больше ставить опыты». Медсестра приложила к кровоточащему пальцу кусочек ваты и ободряюще улыбнулась. Конечно, все эти обходы, анализы, уколы, медикаменты — все очень надоело миссис Бэбкок, но кровотечение все-таки остановили. Она никогда не могла похвастаться умением ощущать время, даже когда была здорова. Уэсли — совсем другое дело: он мог назвать не только число, месяц и год, но даже точное время вплоть до минут, не глядя на часы. Муж относился ко времени как к драгоценному ресурсу и редко делился им с чужими. Его ограбили. Сердце перестало биться значительно раньше, чем отстучало 2,5 миллиарда ударов. Здесь, в больнице, не было ничего, ради чего стоило бы отсчитывать дни. Не было фотографий, напоминающих ей о детях или об Уэсли, когда он был красивым молодым офицером, или о седом сумасшедшем отце, или о дюжине других близких ей людей. Дома она целыми днями могла ничего не делать — только слоняться по комнатам, вспоминая прошлое. Здесь, в сверкающей чистотой больнице, в этой безликой палате, у нее не было прошлого. Будущего не было тоже. Она или умрет здесь, или уйдет, если станет полегче. Больница — как станция пересадки, чистилище настоящего. Конечно, это отвратительно — так рассуждать. Она больше не молода, но и до старости далеко. Еще не уплачены все долги, не прожито все отпущенное ей время. Она не позволит себе так рано проститься с жизнью; она справится с обострением, как справлялась уже два раза. Все пройдет. Миссис Чайлдрес промокала ей ухо каждые пятнадцать секунд. Ее тампоны были шедеврами: она скатывала их так, что по краям набиралось много крови, а в центре — совсем чуть-чуть. Доктору Фогелю достаточно было только взглянуть на ее тампоны, чтобы определить время свертывания. Мисс Старгилл не хватало терпения, ее тампоны были липкими или она ошибалась в подсчетах, слишком рано удаляя образовавшийся сгусток. — Двенадцать минут, — вздохнула миссис Чайлдрес. — Что ж нам с вами делать, дорогая? — Значит, лекарство не действует? — Не знаю. Спросите доктора Фогеля. Но если хотите знать мое мнение, дорогая, — она перешла на шепот, — без него было бы еще хуже. — Она протянула больной две таблетки преднизолона и проследила, чтобы та сунула их в рот. Потом поднесла к ее губам чашку с водой и привычно забормотала: «Сохрани, Господи, наши тела и души на долгую жизнь». Миссис Бэбкок с наслаждением откинулась на подушку, предоставив сестре поменять окровавленные тампоны в носу и вытереть мокрой салфеткой губы и щеки. Кровотечение усиливалось, когда она вставала, но миссис Бэбкок все равно заставляла себя двигаться сколько могла, например, выходила к обеду в лоджию. Ей казалось, что стоит поддаться соблазну лежать дни напролет в постели — и уже никогда не вырвешься отсюда в свой собственный дом, где серебро ждет, чтобы его начистили, чуланы — чтобы в них навели порядок, и где столько разных вещей помогут поверить, что у нее еще есть будущее. — Хотите в ванную? — миссис Чайлдрес всегда деликатно касалась этой темы, не то что мисс Старгилл, которая рявкала, как армейский сержант: «Как насчет сортира?» — Нет, спасибо. — Миссис Бэбкок села и свесила ноги. Сестра надела ей замшевые, отделанные мехом тапочки, с сочувствием осмотрела огромный багровый синяк на левой ноге и помогла встать. Опираясь на руку сестры, миссис Бэбкок медленно направилась по зеленому мраморному полу коридора в лоджию. — Мне снился удивительный сон, — доверительно сообщила она старой медсестре. — Как будто мисс Старгилл и Джинни — моя дочь — о чем-то шептались в моей палате. Интересно, что это значит? — Это не сон, дорогая. Я видела Джинни. Миссис Бэбкок остановилась. — Джинни здесь? Но почему?.. — Разве вы забыли, что говорила вам миссис Янси? — Не помню… — Она полетела в Европу и пригласила сюда вашу дочь. — Зачем? — Миссис Бэбкок действительно ничего не помнила. Странно. Это что — лекарства так действуют? — Но мне совсем не нужна компания. Можно подумать, что я умираю. — Она хихикнула и вопросительно, как заключенный в лицо тюремщика, заглянула в глаза серьезной миссис Чайлдрес. За столом уже собрались все ходячие на этом этаже больные: мистер Соломон, сестра Тереза и миссис Кейбл. Остальные почти не показывались — кому-то нельзя бывать на солнце, а кто-то просто не мог встать. Миссис Бэбкок кивнула и села на свое место между мистером Соломоном и миссис Кейбл. Мистер Соломон был маленький сморщенный человечек с вьющимися седыми волосами вокруг аккуратной лысины. Толстые — в полдюйма — стекла очков увеличивали его глаза до размеров тарелки. «Неоперабельная катаракта», — как-то сказал он. — Сегодня хорошая погода, — широко улыбнулся мистер Соломон. — Да, — холодно согласилась миссис Бэбкок. Она немного знала мистера Соломона. Он заведовал ювелирным отделом в универмаге в старой части города, и Уэсли всегда отдавал ему ремонтировать часы. В день окончания школы они купили Джинни подарок: наручные часики из чистого золота «Леди Булова», которые дочь иногда надевала. Но это еще не давало оснований для дружбы. Миссис Бэбкок предпочитала держать дистанцию. В конце концов, если дружба не возникла за двадцать пять лет знакомства, незачем заводить ее теперь, тем более что ее скоро выпишут. А может быть, и его. Правда, в этом она не уверена. У него эмфизема легких, и выглядит он ужасно… Но она не врач. Миссис Бэбкок посмотрела в окно. Утреннее солнце осветило красные глиняные предгорья за домом Уэсли, и на их фоне выделялась быстрая полноводная Крокетт. Рядом заворчала миссис Кейбл, и она обернулась, решив быть вежливой, несмотря на сальные волосы, косые глаза и ее манеру брызгать слюной. Много лет назад они вместе ходили в епископальную церковь; потом миссис Кейбл учила детей миссис Бэбкок в воскресной школе. Разве она виновата в своем инсульте? И разве виновата сама миссис Бэбкок? Конечно, с ее любовью к одиночеству можно не приходить и не общаться с этими людьми, но ей очень хотелось выздороветь. Будь она дома, ей незачем было бы появляться на людях, чтобы каждый — кто знает, может быть, еще более больной? — портил ей настроение. С чего это доктор Фогель оставил ее здесь? Непохоже, будто она умирает. Вошла мисс Старгилл, толкая перед собой заставленный подносами столик на колесиках. Миссис Бэбкок не могла понять, почему так ждет этих трапез: еда однообразна и вовсе не вкусна. Наверное, дело в том, что эти прогулки были одним из тех немногих действий за целый день, которые не вызывали отвращения. Она открыла теплую кастрюлю и вздохнула, вспомнив мороженое, яичницу-болтунью, нежную ветчину, мамины фирменные гренки и клубничный джем. Сестра Тереза благоговейно перекрестилась, сложила руки на груди и склонила голову. Мистер Соломон и миссис Бэбкок виновато замерли, не донеся ложек до рта, а миссис Кейбл чавкала, не обращая ни на кого внимания. Сестра Тереза представляла собой женщину с красным лицом и собранными в скромный пучок седеющими волосами. На ней был стираный-перестираный казенный халат, а на груди — медальон с надписью: «Не моя воля, но Твоя». У нее был рак; одну грудь уже удалили и собирались удалить вторую, пока метастазы не поразили легкие. Поглощая свои законные яйца, миссис Бэбкок услышала, как колокола на южной баптистской церкви вызванивают музыку из «Истории любви». — Я настраивал эти колокола, — скромно сказал мистер Соломон. — На них можно положиться, — ответила миссис Бэбкок. — По крайней мере, играют самую разную музыку. — Часы отбивали удары: 6, 7. — Не понимаю. — Они электрические. Ручные звонят, если только там есть звонарь. А эти делают свое дело и в дождь, и в жару, и днем, и ночью. Бьют через пятнадцать минут, а каждый час играют новую мелодию. — Гм-м-м, — промычала миссис Бэбкок, вспомнив, как сама звонила в колокола, — перед свадьбой и перед тем, как по настоянию Уэсли перешла в более достойную епископальную церковь. Перезвон колоколов был тогда необыкновенно торжественен. Молодежь записывалась в звонари на месяцы вперед. Она вздохнула, вспомнив, как поднималась по крутым узким ступенькам в белую деревянную башню с колоколами, откуда виднелся весь город. Она видела белый особняк, ферму, рыжий дом Клойда… Стрелой проносились мимо городские ласточки… В клубах черного дыма к станции подходил паровоз, таща за собой вагоны с кучами черного угля с юго-запада Виргинии. В 16.55 она и еще двое начинали играть гимн, осторожно натягивая определенные веревки. Иногда кто-нибудь ошибался, но обычно все проходило прекрасно, и «Вечная твердыня» или «Старый незыблемый крест» разносились по городу, отражаясь от окрестных предгорий. Где бы ни находилисьгорожане, они бросали свои дела и слушали гимн. В 17.00 он заканчивался, и колокола торжественно отбивали время. Зимой они не спешили спускаться, ожидая, когда оранжевый солнечный диск скроется за острыми вершинами сосен — где-то за их семейной фермой. Этот ритуал давал ощущение стабильности и уверенности в себе. Теперь, благодаря современной технике и мистеру Соломону, все изменилось. Незачем стало карабкаться в эту шаткую башню по узким ступенькам, незачем играть старые гимны. Все заменила электроника! Вот вам и прогресс!
Миссис Бэбкок медленно опустилась в прохладную ванну. Конечно, она бы предпочла погорячей, с паром, но доктор Фогель категорически запретил это, утверждая, что кровотечение усилится. Она рассматривала свое тело. Только на груди и ягодицах не было огромных разноцветных синяков: вначале черных или темно-синих, потом побледневших до розового, зеленого или желтого цвета — в точности, как спеющий фрукт. Стоило исчезнуть одному, как тут же, когда лопались капилляры, возникал другой. Тело переливалось всеми цветами радуги. Она могла бы давать детям уроки, как смешивать краски, чтобы получить нужный цвет… Капилляры время от времени лопаются у всех, объяснял доктор Фогель, но множество кровяных телец тут же заполняют разрыв. У нее их было мало. Кровь вытекала из разрывов в ткань, образуя кровоподтеки. Она читала в энциклопедии, что великолепно раскрашенный осенний лист переживает тот же процесс. У Уэсли был избыток кровяных телец, они собирались в сгустки и атаковали его бедное сердце. Если бы только они могли соединить свои кровеносные системы, как соединяли души, тела и жизни… Бледная грудь, отвисшая после трех родов, резко контрастировала с раскрашенным, черно-сине-малиновым телом. Она поправилась на десять фунтов из-за этих гормонов… Хорошо, что Уэсли не видит ее в таком виде. Их совместная жизнь в большой степени зависела от этого тела — его страстно влекло к нему, и оно отвечало тем же. Дети не понимали, что у них с отцом была своя интимная жизнь. Она улыбнулась, вспомнив их смущенные лица, когда они застали родителей целующимися. Однажды в воскресенье, когда Джинни удостоилась сомнительной чести стать чиэрлидером, они с Уэсли уединились в спальне, зная, что никого нет дома. Неожиданно раздались шаги Джинни, взлетающей по ступенькам. Они замерли. Наконец Уэсли скатился с кровати, набросил халат и выскочил, горя от ярости и смущения, ей навстречу. — Папа, мне нужен джип. Я хочу проведать дедушку. — Ну так бери его. — Не могу найти ключи! — Я оставил их в джипе. — А где мама? — Мама и я… в общем, мы спали. — В час дня? — Она рассмеялась. — Ну-ну, спите! — И помчалась вниз. Почему дети не понимают, что у родителей тоже бывают солнечные дни? Джинни думала, что только ее поколение открыло прелести секса, а миссис Бэбкок отлично знала, что благодаря ее телу они с Уэсли поженились и обнаружили в один прекрасный день, что воспитывают уже троих детей. Из-за этого тела Уэсли прожил тридцать лет в городе, который ненавидел. А теперь это тело, столько значившее в его, да и в ее жизни, покрыто множеством гематом, болезненно отзывающихся на каждое прикосновение. Злая шутка судьбы… Уэсли повезло, что он избавил себя от того анекдота, в который превратилась бы их теперешняя жизнь, будь он жив. Миссис Бэбкок взялась за поручень, осторожно вылезла из ванны и надела чистый халат. Постель переменили, на подоконнике появились розовые пионы. Она нежно погладила лепестки, чуть не всплакнув от обиды: из-за проклятых тампонов она не чувствует их аромата. Миссис Бэбкок включила телевизор и легла в постель. Раньше она ничего не смотрела, кроме вечерних новостей. Но теперь… Показывали церковную службу. Миссис Бэбкок подняла пяльцы и стала машинально делать стежок за стежком. Что означает вчерашнее появление Джинни? В последний раз она приезжала на похороны Уэсли. На ней был брючный костюм, длинные волосы аккуратно повязаны шарфом. Что за платье она нацепила вчера? Что ей нужно после стольких лет холодных отношений? Она взяла энциклопедию и открыла статью «Варикозное расширение вен». Еще один том, и с этим проектом — прочитать всю энциклопедию — будет покончено. Хорошо, что девять лет назад она занялась этим; она хотела не только расширить свой кругозор, но и иметь возможность пофилософствовать. Миссис Бэбкок росла в страхе перед адским огнем и проклятием южной баптистской церкви. Епископальная церковь была ей ближе, но к своему старому потрепанному молитвеннику она сохранила самое трепетное отношение. Она начала читать энциклопедию в поисках истины: какой религии доверять? Кем были люди, которые видели вещи такими же, как она? Она понятия не имела, чем займется, когда дочитает последний том. За последние два года ее вера подверглась сомнениям. Раньше главным в жизни был долг — забота о трех юных жизнях и о муже. Но он умер, дети разъехались — и не просто разъехались — они не оправдали ее надежд. Она отдала им всю себя и не понимала, почему так получилось. Карл был серьезен, с чувством ответственности, добросовестно служил в армии и растил детей. Грустно признаваться, но ее сын, ее наследник, — скучный человек, раб по натуре. Джим, рубящий сандаловые деревья в Калифорнии, был другим, с чувством юмора, но тупицей. Его выгнали из колледжа, потом — с позором из армии. Он поменял множество мест, должностей и серьезных приличных девушек, и она не удивится, если он докатился и до наркотиков. Он ничем не увлекался подолгу. Похоже, остепенилась Джинни. У нее прелестная дочка, любящий молодой муж. Но долго ли это продлится? Она непостоянна, как весенний снегопад. Миссис Бэбкок не считала, что выполнила свою главную задачу. Ей поручили дать миру трех славных, одаренных, трудолюбивых граждан, но, нужно признать, она не справилась с этим. Может быть, жизнь прожита впустую, и именно поэтому она лежит теперь здесь, на больничной кровати, уже через год после смерти мужа? Если нет достойного продолжателя рода, зачем она жила на земле? В дверь негромко постучали. Часы посещений — после обеда, персонал никогда не стучит. Кто бы это мог быть? Дверь открылась. «Не желаю слушать никаких оправданий, парень. Ты бежишь, пока не упадешь, потом заставляешь себя встать и бежишь дальше. Понял? Ты понял меня?» — донеслось из соседней палаты. В дверях стояла молодая женщина. На ней был пятнистый полукомбинезон — в таких ходят хиппи — и темно-синяя футболка. — Привет, — сказала Джинни. Мать подняла глаза и снова равнодушно уставилась в книгу. Джинни стало обидно. Неужели она для того проделала такой путь из Вермонта, чтобы ее не узнала собственная мать? — Как ты себя чувствуешь? Миссис Бэбкок внимательно посмотрела на молодую приветливую женщину. Чего она хочет? Кто она? Практикантка? Это объяснило бы неприличные брюки. К ней часто приходили незнакомые люди, рассматривали кровоподтеки, брали анализы… — Ты кто? — хрипло спросила она. — Я — Джинни, мама. — Что за чушь? Мать смотрит так, словно у нее дюжина дочерей и она перебирает в уме их имена. — Да, да, конечно, Джинни. — Она знала, что дочь здесь, ждала ее, но не думала увидеть ее в таком дурацком комбинезоне. Господи, чью роль она играет сегодня? Джинни надеялась услышать, что ей рады, что она — молодец, проделала такой путь из Вермонта… «Из Вермонта…» — повторила она со значением. Джинни подошла к кровати, наклонилась и поцеловала морщинистый лоб. Понимая, что мать насмешливо изучает ее, она отошла к креслу и упала в него, ругая себя и за этот приезд, и за лень писать матери хотя бы раз в неделю. Солнечный свет упал на белоснежную постель. — Чудесный день, — неуверенно начала Джинни. «Когда не о чем говорить — говори о погоде» — этому она научилась давно. — Неужели? — миссис Бэбкок удивленно посмотрела в окно. Ярко зеленели на вязах листья; на ветке раскачивалась рыжая белка. — Еще июнь? — Джинни испуганно кивнула. — Как твоя малышка? Как муж? Очень хотелось выплакаться, рассказать, что он выгнал ее, незаслуженно возомнив себя рогоносцем. Но они никогда не были с матерью откровенны. — Спасибо. У них все хорошо. Приплясывая, как в «Казачке», примчалась мисс Старгилл. — Доброе утро, миссис Бэбкок. Как мы себя чувствуем? — она приветливо кивнула Джинни и повернулась к матери. — Пошли? — Куда? — устало спросила миссис Бэбкок и закрыла глаза. Если бы они все ушли! Ей нужно отдыхать, поправляться, а приходится, как ведущему ток-шоу, развлекать миссис Чайлдрес с ее ишиасом, разговаривать с волонтерами в полосатых фартуках, поддерживать беседу с Джинни… — В лоджию. На обед, — отгибая одеяло, ответила мисс Старгилл. Лоджия Джинни очень понравилась. Огромная, залитая солнцем, застекленная с трех сторон, с видом на сосны и вязы. Вдалеке дымил завод майора и несла свои мутные воды Крокетт. А справа от завода, в предгорьях, выделялись новые районы, и среди них — «имения колонистов», где жили Дорин и Джо Боб. За столом уже сидели две женщины и мужчина. — Привет, Вирджиния! — сказал он, и Джинни тут же узнала мистера Соломона: он продавал замечательные кольца ученикам Халлспортской средней школы, продал и Джо Бобу то огромное кольцо с черным ониксом, которое майор заставил ее вернуть. И часы — «Леди Булова» — тоже купили у него. Странно: мать не узнала ее, а этот чужой человек узнал сразу. — Домой? Погостить? — Джинни кивнула. — Где ты живешь? — В Вермонте. — Она сама поразилась, с какой легкостью солгала. Она не жила больше в Вермонте, но официально, пока не найдет себе другого, ее дом был там. — Вермонт. Вер-монт. Красивый штат. — Вы там бывали? — Проезжал на автобусе. После войны мой миноносец из Германии пришел в Монреаль. Я отправился к дяде в Нью-Йорк через Вермонт. Была зима. Вдоль дороги лежали сугробы футов в шесть, не меньше. Я думал: «Милостивый Боже, что за люди живут в этих местах!» Теперь я понял: они из Теннесси. Все засмеялись. — К счастью, снег лежит там только полгода, — сказала Джинни. — Да, да. А ты замужем? — Конечно. — Джинни покосилась на мать. — И дети есть? — Дочка. Два года. — Ее пронзила боль одиночества. Когда Венди начала ходить, дом Айры напоминал землю после потопа. Игрушки, посуда, книги, одежда — все было разбросано маленькой вездесущей Венди. Она, как ураган, оставляла за собой руины. В конце концов Джинни перестала бороться с этим, пробираясь по дому, как по куче камней. Но этот беспорядок, о котором так любил разглагольствовать Айра, был вовсе не хаосом. Подобно маленькому веселому паучку, Венди плела паутину фантазий, в которые превращала все, что попадалось под руку. Наблюдая, как дочка играет среди шкафов и комодов, Джинни вспоминала собственное детство. Где сейчас Венди? Что делает? Счастлива ли без своей непутевой матери? Джинни поднесла руку ко рту и стала грызть ноготь. — Примите мой совет, — воскликнул мистер Соломон. — Заведите целый дом детей! — Ну, не знаю… — промямлила Джинни. Интересно, почему старики, явно перенесшие климакс, всегда дают этот совет? — Вы все еще продаете классные кольца? — Ах, теперь совсем не та молодежь! Они не покупают кольца, как вы. Знаете, что они носят? Серьги! И мальчики тоже. — Значит, вы продаете классные серьги? — Продавал. Пока не очутился здесь. — Мистер Соломон установил на баптистской церкви электрические колокола, — вставила миссис Бэбкок. — Разве не восхитительно? Джинни неуверенно кивнула. — А это — сестра Тереза, — продолжала мать. — Она учительствовала в школе святого Антония. — Сестра Тереза покраснела и с преувеличенным вниманием уставилась в тарелку. — А миссис Кейбл ты помнишь? Джинни вежливо улыбнулась слюнявой миссис Кейбл и вспомнила, как та раскачивалась на круглой шаткой табуретке, колотя по клавишам и громко подпевая себе слабым сопрано: «Иисус любит маленьких детей». Теперь она была поглощена тем, как донести до рта рис и при этом его не рассыпать. После обеда Джинни взяла мать под руку и медленно повела в палату. Мать села на кровать, халат распахнулся, обнажив ноги. Джинни отвела глаза, чтобы не видеть отекшее черно-голубое тело, и подтянула к груди матери одеяло. В ее жизни самые сильные переживания были связаны с матерью и Венди. Самую сильную физическую боль она испытала, рожая Венди. Самое большое наслаждение — при ее зачатии, а может, при кормлении грудью. Боли она не помнит; но, наверное, еще большую боль она испытывала, рождаясь сама, а сосать мамину грудь, прижиматься и мурлыкать было самым главным счастьем. И о матери, и о Венди она вспоминала по ассоциации с какими-то звуками, запахами, ласками. Как все дети, Венди часто будила ее по ночам. Джинни заворачивала ее во фланелевую пеленку и несла, как кошка котенка, в их с Айрой постель. В заиндевевшие окна стучали ветви, медленно падали снежинки… Венди шумно сосала, сжимая пухлыми ручонками истекающую молоком грудь. В лунном свете мать и дочь тихо любовались друг другом, пока Айра не обнимал их обеих и счастливо засыпал снова. Чувствовала ли ее собственная мать к ней что-нибудь подобное? Джинни вопросительно посмотрела на желтое одутловатое лицо. Конечно, нет. Мать не хотела, чтобы Джинни было хорошо, и всякий раз при одном намеке на то, что у дочери есть тело, требующее чувственного наслаждения, заикалась и смущалась. Порядок восстановился, когда Венди немного подросла. Стоило Джинни утром пошевелиться, как чуткие, словно у олененка, ушки Венди улавливали этот звук, и она радостно кричала: «Мамочка, найди меня!» Джинни входила в детскую, заглядывала в шкаф, корзину для белья, за книжную полку. Чем невероятней было место, куда она заглядывала, тем больше радовалась Венди. Наконец Джинни натыкалась на ерзающий от нетерпения маленький холмик под одеялом и тащила в спальню, где ждал улыбающийся Айра. Иногда Венди хватала Джинни за грудь и шепелявила: — Это сто? — Мой сосок. — Чтобы я пила молочко? — Да. — А это — мои сосочки. — Венди гордо дотрагивалась до собственного крошечного соска. — Для моей дочки. И для детей. — Сколько же их у тебя будет? — спрашивал Айра. Она начинала загибать пальчики. — Девять? — смеялся он. — Измучаешься, пока накормишь. — Мне мама поможет, — серьезно отвечала она. Все! Хватит! Зачем себя мучить? Почему не вернуться к Айре и не завести второго ребенка? Он — добрый, заботливый, надежно устроен. Он примет ее, если она все объяснит… — Слава Богу, я не так плоха, как мистер Соломон или сестра Тереза, — сузив от боли глаза, пробормотала мать. — Что с ними? — У него — эмфизема, у сестры Терезы — рак. У меня, к счастью, все не так серьезно. Скоро я вернусь домой. Тон, которым она произнесла последнюю фразу, напомнил Джинни ребенка, пытающегося убедить себя, что в его кроватке нет чудовищ. — А что говорит доктор? — Что у меня тромбоцитопеническая пурпура. — Что это значит? — Плохо сворачивается кровь. — От чего это? — Неизвестно. — Как же они могут лечить, если не знают причину? — Они не знают, от чего рак, но все-таки лечат. — Она умоляюще посмотрела на дочь. — Когда меня отпустят домой? Джинни испуганно отвела глаза. Роли поменялись. Теперь мать смотрела на нее так, словно она контролирует ситуацию. — Не знаю, мама. Я только что приехала. Ты знаешь об этом больше меня. Я ведь даже не видела доктора Фогеля. Кстати, кто он? И где доктор Тайлер? — Джинни привыкла перекладывать все заботы на плечи матери и теперь, когда мяч оказался в ее руках, поспешила бросить его обратно. — Уехал, — мрачно ответила миссис Бэбкок. — Как это уехал? Нельзя бросать тех, кого лечишь всю жизнь. — Не знаю. Спроси у доктора Фогеля. Но, наверное, и доктора должны отдыхать. — И что говорит этот Фогель? Когда он тебя отпустит? — Я не спрашивала, — печально призналась мать. — Тогда спрошу я. Это было похоже на детскую игру: намазала губы маминой помадой, напялила туфли на высоких каблуках и решила, что она — старше. Джинни прыснула. В этот момент дверь распахнулась и показалось мясистое лицо с остатками белокурых волос на голове. Оно принадлежало высокому плечистому человеку — вылитому левому крайнему «Викингов из Миннесоты». — Ну, как наши дела? — бодро спросил он и заглянул в карточку. — Не слишком ли здесь жарко? — спросил он кого-то невидимого и исчез так же неожиданно, как появился. — Это он! — кивнула мать, и Джинни выскочила в коридор. Массивная фигура в белом халате уже поворачивала за угол. Гремя своими походными ботинками, как лошадь — копытами, она помчалась за ним. Доктор Фогель обернулся и вопросительно уставился на Джинни. — Я… Простите, доктор. Я — Вирджиния Бэбкок, дочь миссис Бэбкок. Можно вас кое о чем спросить? — Я очень занят, мисс Бэбкок. — Только пару минут! Какой у нее прогноз на будущее? — У нее тромбоцитопеническая пурпура. — Я это слышала. Но что это значит? — Причины неизвестны. Возможно, нарушена иммунная система. Возможно, нарушена нормальная функция селезенки. Характеризуется… — Синяками? — Гм-м-м, да… — Скажите, она опасно больна? — напрямик спросила Джинни. — Не беспокойтесь, мисс Бэбкок. Мы проводим все анализы, располагаем целым арсеналом лекарств. Не поможет одно — попробуем другое. — Он покровительственно похлопал ее по плечу. — Все под контролем! Какое счастье! Этот белокурый гигант отлично владеет ситуацией, в его распоряжении — целая армия в накрахмаленных белых халатах и бело-розовых передниках! Они таскают подставки с пробирками и удивительные лекарства. Это не глупенькая Джинни Бэбкок, так и не доучившаяся в университете. Но… если «все под контролем», зачем мать держат в больнице, где каждый день обходится в семьдесят долларов? — Когда ее можно забрать домой? — Когда мы справимся с кровотечением. — Он повернулся и зашагал дальше — вылитый скандинавский Бог.
Джинни ехала точно тем же маршрутом, каким много лет назад они мчались с Джо Бобом к своей стоянке. Она поднялась на холм и увидела вывеску: «Имение колонистов». Подпрыгивая на вымощенной булыжниками дороге, она подъехала к воротам, над которыми с трудом угадывались огромные цифры — «38» — тот же номер, что у лучшего полузащитника «Халлспортских пиратов». Она вышла из джипа и очутилась в объятиях Дорин: та словно хотела оправдаться за то, что десять лет назад совратила Джо Боба. — Однако… — она отступила на шаг и капризно выпятила нижнюю губу. — Ну, знаешь… Я бы тебя не узнала, Джинни Бэбкок! — А я бы тебя всегда узнала, — Джинни стало не по себе от такого откровенно пренебрежительного взгляда Дорин. — Ты совсем не изменилась. Дорин вспыхнула от удовольствия. Она и в самом деле не изменилась с тех пор, как Джо Боб и Джинни встречались с ней и Доулом в его коричневом «додже». Разве что грудь… Она увеличилась дюймов на десять, не меньше, а обтягивающая блузка со скромным вырезом соблазнительно подчеркивала ее формы. Джинни не могла отвести взгляд… Казалось, опусти Дорин подбородок, и он ляжет на эти вздымающиеся холмы. Сияя от гордости, к ним подошел Джо Боб. Джинни узнала бы его везде. В прошлом году ей прислали приглашение на встречу выпускников Халлспортской средней школы, и там она прочитала: «Тем из вас, кто знал Джо Боба Спаркса, будет приятно узнать, что старина Спарки ничуть не изменился с тех пор». Джинни тогда испугалась: нужно быть идиотом, чтобы обрадоваться, если твои друзья не меняются с годами. Она бы, например, не хотела всю жизнь размахивать флагом. Конечно, роль мадам Бовари в Старкс-Боге тоже не слишком престижна, но по крайней мере это что-то новое. Дорин взяла Джинни за руку и повела в дом. Он был обставлен новой, под орех, мебелью — столы, стулья и буфет в столовой; софа, кресла, кофейный столик в гостиной… «Итальянский гарнитур», — сообщила Дорин. Ковры, шторы — все было в тон — цвета спелого хлеба или старинного золота. Одну стену в гостиной занимал огромный, как гроб, итальянский цветной телевизор. — Ну как? — горделиво спросила Дорин. — Вы проделали большую работу, — уклончиво ответила Джинни. — Дорин — настоящая хозяйка, — Джо Боб погладил жену по заднице. — Да, вижу. — Она подарит мне «халлспортского пирата», — он по-хозяйски похлопал Дорин по животу. — Спарки, милый, мы ведь никогда не говорим об этом при чужих. — Джинни — не чужая. Она — друг. Если мы ей не скажем сейчас, она уедет в свой Вермонт и ничего не узнает. Только теперь до Джинни дошло: ребенок! — А вдруг девочка? — спросила она Джо Боба. — Ну, — он с глубокомысленным видом почесал затылок, — значит, будем трудиться, пока не получится мальчик. Джинни знала, что будь это в его силах, он выращивал бы утробный плод в графине на кофейном столике, чтобы видеть, как он растет, а потом спустил в унитаз, если бы увидел, что это — девочка. Но если мальчик?! Он будет напевать этому зародышу боевые песни и тренировать крошечные конечности. Он прислонит к стеклу свой секундомер и будет проверять, хорошо ли тот развивается. — Дорин, милая, ты ведь принесешь мне «Пабст»? — спросил он и, не дожидаясь ответа, включил телевизор, потом еще один — маленький, черно-белый, поставил его наверх и настроил их на разные матчи. — Поболтайте, девочки, — пробормотал он, взял пиво и бухнулся в кресло. — Ты пьешь пиво? — ахнула Джинни. — Я уже покончил с режимом, — усмехнулся он. — Пусть теперь мои парни страдают. — Идем, я покажу тебе дом. — Дорин потащила ее в напичканную электроникой кухню: двухкамерный холодильник, миксер, кофемолка… Все — вплоть до посуды, полотенец и зубочисток — было цвета спелой пшеницы. Дорин махнула рукой на огромные солонины: — По семьдесят три цента банка. С распродажи в супермаркете. — Ничего себе, — неуверенно похвалила Джинни. — Следующая — спальня. — Дорин потащила ее наверх. В комнате не было ничего, кроме одной громадной, накрытой покрывалом цвета спелой пшеницы кровати. — Спарки называет ее «полем Спарки», где он забивает голы, — захихикала Дорин. «Неужели он наконец научился это делать?» — чуть не слетело у Джинни с языка. — О, Джинни, прости меня! Я совсем забыла, что вы с ним… — Ерунда. Прошло сто лет… — Я тебя обидела. — Не бери в голову. Это неважно. Самое удивительное, что это действительно было неважно. Конечно, это мог быть ее дом, ее жизнь, и, если признаться честно, ей ничего не хотелось так страстно, как погрузиться в проблемы вроде того, грязные ли в мойке тарелки. Но поразилась она не этому. Грудь… Она не могла оторвать от нее взгляда. — Потрогай, — хихикнула Дорин. Джинни остолбенела. Неужели Дорин бисексуальна? Сама она больше не считала себя лесбиянкой и уж никак не собиралась заниматься этим с Дорин. — О, Дорин, я не… — Тыкай! Вперед! Джинни вежливо дотронулась до замечательной груди и ощутила твердую, гладкую, с нормальным соском… — Как настоящая, правда? — А разве… — У меня не грудь, а сплошное недоразумение. К прошлому Рождеству я сделала Спарки подарок. — Они великолепны! Джо Боб, конечно, в восторге. — Джинни вспомнила его разочарование, когда он увидел ее бюстгальтер. — Он на них помешан. Знаешь, — она понизила голос, — если ему позволить, он всю ночь будет их тискать… О черт! Джинни, милая, ты никогда не простишь меня… — Успокойся, все в порядке. Дорин повела ее в смежную со спальней комнату и рывком открыла дверцы встроенного шкафа. Серебристые вечерние туалеты, замшевые брючные костюмы; прозрачные блузки, колготки; тонкие, как паутинка, струящиеся водопады чулок; кружевное белье; шляпы; юбки: миди, макси, мини; теплые рейтузы; платья, платья, платья; дюжины пар туфель, сапог и босоножек — каждая с подходящей в тон сумочкой. Джинни подавила зевок. Дорин хихикнула: — Знаешь, я помирала со смеху, слушая, как ты объясняешь Спарки, почему не можешь трахнуться с ним по-настоящему. Как мы с Доулом. Джинни возмутилась. Значит, тогда ее подслушивали? Она кивнула на «поле Спарки». — Неужели тебе не жалко проводить время голой, имея столько туалетов? — и устало добавила: — Моя мать в больнице. Мне пора. — Ах, какой ужас! Надеюсь, ничего серьезного? — Не знаю. Не думаю, что серьезно. У нее это уже бывало. — Спарки, дорогой, — позвала Дорин, — ты знаешь, что мать Джинни в больнице? — Чего? — спросил он, не отрывая глаз от телевизора. — В больнице, дорогой. — Еще рано, детка. У тебя всего три месяца. — Не я. Мать Джинни, любимый. Это она в больнице. — А, черт побери! — он наконец повернулся к ним. — Мне очень жаль, Джинни. Это серьезно? — Не знаю. Мне пора возвращаться к ней. (На самом деле она собиралась ехать в хижину, но зачем им это знать?) — Подожди! Ты не видела еще ванную! — Дорин потащила Джинни по коридору, распахнула какую-то дверь и включила свет. Перед ними было огромное, во всю стену, зеркало. «Ну и вид у меня», — ахнула про себя Джинни. Она отвернулась и скользнула взглядом по желтому кафелю, полотенцам, туалетной бумаге — все в тон, даже круглая сауна, бальзам для волос и косметика. Она вздохнула и перевела завороженный взгляд на Дорин. Какая молодчина! У себя дома, днем, не ожидая гостей, она нарумянилась, подвела глаза, накрасила брови, губы, от нее пахнет духами, а если вдохнуть поглубже — то и малиновым экстрактом для волос. Белокурые волосы уложены в безупречную прическу, ногти отполированы… В глазах — да-да, она не ошиблась — ярко-желтые контактные линзы. Искусственная грудь вздымается при каждом вздохе, в животе — зародыш «Халлспортского пирата»… Интересно, какую часть тела можно назвать ее собственной? В чем смысл жизни Дорин? Если бы не Клем Клойд, на ее месте была бы Джинни. Неужели и она стала бы фальшивым бриллиантом? Или исчезла бы однажды темной ноябрьской ночью, а на следующее утро в зловонных водах Крокетт нашли бы ее мертвое тело? Нет… Но в любом случае она была бы совсем не такой, как сейчас. Ко всеобщему облегчению… — Стыд-позор, — промурлыкала Дорин и выдернула у Джинни седой волос. — В супермаркете столько оттенков коричневого! Не будешь краситься — все поймут, сколько тебе лет. — Неужели? — сухо спросила Джинни. Конечно, Дорин права: иметь такую прическу по меньшей мере неприлично. Не зря мать так осуждающе смотрела на нее. — Я провожу тебя до машины, — галантно предложил Джо Боб. В этот момент распахнулись дверцы швейцарских часов, раздались звуки «Эдельвейса», выскочил человек во фраке и фрейлина в кринолине… Странно, что они не были выкрашены в цвет спелой пшеницы. — Я оставлю вас одних, — Дорин исчезла в кухне, как ученый, торопящийся в свою лабораторию. Джинни пришла в голову шальная мысль: «А что она скажет, если я соблазню Джо Боба?» Впрочем, Дорин вряд ли расстроится. — Удачи тебе! — крикнула Джинни и вместе с Джо Бобом направилась к джипу. — Знаешь, кто лежит в соседней палате? — Кто? — Тренер. — Знаю. — Джо Боб вздохнул. — Очень жаль. Я навещал его пару раз, но он меня не узнал. Великий спортсмен и человек замечательный. Господи! Неужели они говорят об одном и том же тренере? Джинни отвела глаза и села в машину. — Послушай, Джинни, — неожиданно сказал Джо Боб. — Я все эти годы хотел тебе кое-что сказать. Мне стыдно, что я заставил тебя ждать понапрасну в тот день — в фотолаборатории. — В какой день? — Ну, когда мы хотели решить, как сбежать и пожениться. Джинни обомлела. — Ты хочешь сказать, что заставил меня ждать?.. — Ну, по правде говоря, я просто не мог с тобой встретиться. Накануне вечером я сошелся с Дорин. Сам не знаю, как это вышло. Что-то щелкнуло, и… сама видишь, куда нас завело. — Он махнул рукой в сторону дома. — Но мне всегда было стыдно, что я предал тебя и ничего не объяснил. Это моя вина, что ты чуть не погибла из-за того хромоногого Клойда… Это все из-за меня. — Успокойся, Джо Боб, по-моему, это я предала тебя в тот день. (Значит, он тоже не пришел тогда! А она-то считала, что сама его бросила.) — Я рад, что мы можем остаться друзьями, — со слезами проговорил Джо Боб. — Я тоже. — Она протянула ему руку, отлично зная, что больше они никогда не встретятся. Джинни медленно поехала на их старую стоянку. Неровная, доступная только джипу дорога превратилась в ухоженное шоссе. На стоянке, как много лет назад, валялись пустые пивные банки, яркие обертки от шоколада, пробки, искусственные цветы и маленькие флажки США. Внизу, окутанный клубами дыма, раскинулся Халлспорт. Она развернула джип и медленно поехала домой. Надо было совсем одуреть от этой жизни, чтобы не предвидеть, во что выльются ее отношения с Джо Бобом.
Глава 5
Хулиганы, домашнее пиво и «харлей». Клема я знала всегда. В детстве мы были неразлучны: катались по ферме на пони, плавали в пруду, строили в лесу крепости. На холме за его домом стоял деревянный, продуваемый весенними ветрами летний домик; на каменном полу был проложен желоб, по которому текла в маленькую кухоньку вода. Раньше домик использовали для хранения молока, а потом молоковозы стали заезжать прямо на ферму и Клему разрешили переоборудовать его для игр. Он притащил туда старый стол, скамейку и полки, повесил снаружи дверной молоток и замок, а на полках разложил «драгоценности»: швейцарский армейский нож, топорик, мраморные шарики, комиксы и волшебные сказки. Я была единственной, кого он пускал в дом, потому что мы заключили с ним вечный союз: укололи указательные пальцы и смешали кровь, чтобы доказать друг другу, что отныне мы — тайные супруги. Я насобирала коры вместо тарелок и палочек — вместо столового серебра. Он сделал из веток веник, чтобы я следила за чистотой. Еще я готовила из орехов и ягод что-то жуткое. Сроду я не занималась уборкой и стряпней с большим рвением, чем тогда — в летнем домике, пока Клем бродил по лесам, преследуя все живое, а потом возвращался насладиться моей пародией на еду и отдохнуть с чувством выполненного долга. Дни пролетали один за другим. Клем был маленьким, тщедушным юношей. Лохматые черные волосы лезли в серьезные не по годам карие глаза. Его родители принадлежали к племени таинственных темнокожих мелангеонов, населявших восток Теннесси задолго до появления белых колонистов. Их сторонники требовали объявить мелангеонов наследниками потерпевших кораблекрушение моряков-португальцев и дезертиров. Недоброжелатели считали их полукровками, потомками беглых рабов и «предателей-индейцев». Каждый был прав по-своему. Клойдов вся эта трескотня ничуть не интересовала. Они хотели забыть о гонениях, которым подвергались их предки, и спокойно заниматься своей фермой. Единственное, что напоминало об их индейском происхождении, это цвет их кожи. У Клема был старший брат, Флойд. Даже ребенком — высоким, стройным, красивым — он отличался жестокостью. Этот чертов Флойд был нашим заклятым врагом. Его интересовало одно: как бы побольше напакостить, расстроить наши планы и помешать играм. Мы называли его «Флойд-гангстер». Частенько, придя в свой домик, мы подбирали с пола разбросанные комиксы и другие сокровища, а потом запирались и дрожали в углу, пока не понимали, что опасность уже миновала. Флойд — натуральный волк из «Трех поросят» — хитрил как мог, чтобы выманить нас из убежища. Однажды он поймал нас, привязал к деревьям, щекотал и щипал очень долго, пока не надоело, потом забрал у Клема ключ и стащил наши любимые комиксы про дядюшку Скруджа. Несколько раз за лето местные фермеры собирались с семьями и путешествовали, ночуя в палатках, у огромного костра, играя на старинных инструментах и рассказывая друг другу удивительные истории. Я часто ездила с семьей Клема. Мы спали с ним в одном спальном мешке, а потом вдруг, когда нам было по девять лет, по каким-то необъяснимым причинам поняли, что так больше нельзя. Однажды вечером мы разделись в своем домике. Я осталась в одних трусиках, а он — в мешковатых штанах. Мы придирчиво осмотрели друг друга, взяли краску, которую сделали из мармелада, разрисовали спины, животы и грудь, чтобы походить на индейцев. — Когда тебе будет лет шестнадцать, ты уже не будешь расхаживать передо мной голой, — сказал Клем, рисуя вокруг моих сосков яркие концентрические круги. — Ха! Буду! — Хочешь пари? — Да, — засмеялась я. — Пять долларов? — Идет! После того как Клему исполнилось десять лет, отец стал поручать ему кое-какие дела. Я таскалась за ним хвостом, помогала чем могла. Однажды отец велел ему скосить сено. Я сидела рядом на тракторе, вертела от скуки головой и увидела скачущую с поля в лес олениху. На опушке она остановилась, оглянулась, зафыркала, а потом ловко перепрыгнула через колючую проволоку и скрылась в лесу. Клем заглушил двигатель и решил проверить, почему в ровном ряду травы позади оказались пробелы. Мы спрыгнули на землю, пробежали немного и замерли: в окровавленной траве лежал маленький олененок. Он был еще жив. Клем нагнулся и поднял какую-то палку, с которой стекали длинные струйки черной крови. Это было крошечное копытце. Нас парализовал ужас. Увидев, что мы бросили работу, подошел отец Клема. — Бедняжка! — пробормотал он и вытащил из-за пояса нож. — Постой! — крикнул Клем. — Мы с Джинни выходим его, па! Да, Джинни? Я кивнула. — Нет. Надо скорей избавить его от мучений. Нет ничего хуже медленной смерти. Он больше не может жить, как предназначил Господь. — Ловким ударом он вонзил нож в дрожащее горло олененка. Маленькое животное дернулось, закрыло глаза и замерло. Мы с Клемом в ужасе смотрели, как его жестокий отец потащил истекающего кровью олененка в лес, а потом побежали за ним, выкопали в покрытой листвой земле могилу и, бормоча проклятия, похоронили и олененка, и его ножку. Как-то в лесу недалеко от домика мы наткнулись на черную змею, пожирающую лягушку. Бедняжка отчаянно дрыгала лапками, но казалось невероятным, что ей удастся спастись. Клем помчался за своим армейским ножом и вонзил его в скользкое длинное тело. Когда змея перестала дергаться и затихла, он вытащил из ее пасти раздавленную лягушку. Она была мертва. Мы в отчаянии переглянулись, не сговариваясь, побежали в домик и заперлись там. В детстве я дружила с девочками из семей переселенцев, и мы обычно играли в нашем бомбоубежище. Однажды кому-то пришло в голову устроить вечеринку. Каждая — нас было пятеро — должна была пригласить своего приятеля. Мне было некого приглашать, и я назвала имя Клема. Все демонстративно заохали и застонали от отвращения. Через два дня, вооруженные графином лимонада, пачкой «Ореос» и кучей пластинок, мы встречали своих рыцарей. Кроме нас с Клемом, все были старыми друзьями, и мы почувствовали себя не в своей тарелке, когда они сразу предложили поиграть в бутылочку. — Это банально, — заявила самая томная девочка. — Лучше в «Пять минут блаженства». Все восторженно завопили, и нам с Клемом ничего не оставалось делать, как согласно кивнуть. Оказалось, что каждая пара должна уединиться в маленьком туалете, пока остальные громко отсчитывают пять минут. Я не представляла, что можно делать в темноте целых пять минут. Настала наша очередь. Пылая от смущения, мы отправились в туалет. Клем прислонился к стене и проворчал: — Неплохая вечеринка. — Ага, — поддакнула я. — Я вчера скосил треть поля. — Здорово. А сколько стогов? — Как и в прошлый раз. — Молодец. Мы посидели в неуклюжем молчании, пока не услышали: — Эй! Время почти вышло! Кончайте! Кончайте? Да мы еще и не начинали, не зная, что делать. Неожиданно Клем наклонился, решительно взял меня за подбородок и чмокнул в плотно сжатые губы. — Ну вот! — горделиво сказал он и вытер рукавом рот. — Наверное, они этого хотели. Дверь распахнулась. — Поймали! — А вот и нет! — промямлила я и выскочила из туалета. После этого Клем стал моим заклятым врагом. Я увлеклась футболом. Сначала играла с мальчиками из «Магнолии», стараясь попасть в другую команду, если приходил Клем. Не было для меня большего наслаждения, чем перехитрить защитника, наскочить на него и сбить с ног. Или схватить его, маленького, шустрого, за плечи и держать, пока не забьют мяч. Мы оба скрипели зубами и рычали от ненависти. Иногда Клему удавалось выхватить у меня мяч, сбить с ног и упереться коленом в живот. Стараясь не смотреть в лукавые карие глаза, я обвивала ногами его бедра и стискивала, как клещами, пока он не вскакивал, визжа от боли. А потом с Клемом произошел несчастный случай. Он обрабатывал новое поле на склоне холма, как вдруг колесо трактора наскочило на невидимый сверху валун. Трактор перевернулся и сильно придавил Клему ногу. Я навестила его в больнице. Он лежал весь в бинтах, с ногой, подвешенной к блокам и упакованной в гипс. Нам было не о чем разговаривать. Моя жизнь была заполнена футболом, а Клему он стал недоступен. Так Клем Клойд ушел из моей жизни. Он часто ковылял вокруг школы в своих ортопедических ботинках с четырехдюймовым каблуком на поврежденной ноге; на постоянно мрачном лице выделялись злые глаза. Он стал носить ярко-голубые, с множеством бронзовых заклепок обтягивающие джинсы, наверняка сковывающие шаг, темно-зеленую майку и красную ветровку Флойда, привезенную им из Кореи. Ветровка была потрясающая: на спине кричащими желтыми нитками был вышит восточный дракон, а на груди — карта Кореи. Словно желая утешить его за хромую ногу, тело Клема выросло, вытянулось, он казался даже стройным, если бы не волочил одну ногу, из-за чего одно плечо все время казалось ниже другого. Чтобы поменьше ковылять, он предпочитал грохотать на темно-зеленом «харлее», купленном на выигранные в конкурсе «Лучший мотоциклист штата» деньги. «Харлей» был украшен грязными флагами и двумя громадными хромированными трубами. На сиденье красовалась поддельная шкура леопарда, а с антенны свисал хвост енота. Иногда на голове Клема торчал помятый зеленый шлем с флажком конфедерации, а иногда он надевал только желтоватые защитные очки, и ветер развевал черные напомаженные космы. Его репутацию разбойника с большой дороги здорово подмочил запах навоза. Из-за того, что ему приходилось помогать отцу в коровнике, от него в самом деле несло навозом, и кое-кто из учеников Халлспортской средней школы развлекался тем, что демонстративно затыкал нос, проходя мимо Клема. Я стала чиэрлидером, Клем — хулиганом. Он никогда не здоровался со мной, хотя я вежливо кивала ему. Утром перед занятиями у каждого было свое место: я, Джо Боб и другие авторитеты сидели в Халлспорте, а Клем — во дворе, на своем леопардовом сиденье, среди таких же хулиганов, как он сам. Они курили «Лаки Страйк» и швыряли куда попало окурки. После того как мы с Джо Бобом решили обмануть тренера и моего отца, я подошла однажды утром к ссутулившемуся в своем седле Клему, и как подобает чиэрлидеру, ослепительно улыбнулась: — Привет! Он мрачно посмотрел на меня и плюнул прямо в кустик упрямо пробивающейся в асфальте травы. — Можно с тобой поговорить? — Зачем? — Это важно. — Как будто ему могло показаться неважным хоть что-то, касающееся меня! Он мельком взглянул на меня, слез со своего мотоцикла и подковылял поближе. — Чего тебе? — Ты бы не мог оказать мне любезность? Ради нашей старой дружбы? — все еще улыбаясь, спросила я. — Конкретней. — Можешь пригласить меня на свидание? — Тебя? — он подозрительно хмыкнул. — Хочешь подкрутить гайку этому — как его там? — педику? Или что? — Джо Боб будет очень рад, — я не сомневалась, что для Клема нет высшего счастья, чем угодить Джо Бобу Спарксу. — Дело вот в чем… — я объяснила ему ситуацию. Клем глубоко затянулся «Лаки Страйк» и выпустил через нос кольца дыма. — Если я соглашусь, — а я еще не сказал, что согласен, — то уж никак не потому, что хочу оказать любезность тебе или этому — твоему педику. Я соглашусь только в том случае, если сам этого захочу. Усекла? — О’кей, — я была готова на любые условия, лишь бы обвести вокруг пальца тренера и отца. — Заеду вечером в пятницу. Можешь не разоряться: надень мой шлем.— Он согласен, — обрадовала я Джо Боба, отскочив от него в фотолаборатории. — Может, он не такой уж и плохой, — глубокомысленно ответил Джо Боб, кончая в раковину.
В пятницу вечером у нас в гостиной царило напряженное молчание. Я уже два часа не отходила от окна, выглядывая Клема, а майор, демонстративно вздыхая, шуршал газетой. — Ты знаешь, что мотоциклистам грозит сотрясение мозга? — наконец не выдержал он. — Или ампутация переломанных конечностей? — Он даст мне шлем! — А все остальное? — Ну знаешь ли! Конечно, если я всю жизнь просижу дома в кресле-качалке, мне ничего не грозит. Хотя… Вдруг обвалится потолок? — И все-таки не стоит самой накликать на себя несчастья, — вставила мать. Я услышала рев мотоцикла и подбежала к двери, не обращая внимания на мамин крик: «Ты не умеешь быть осторожной!» Клем восседал в своем леопардовом седле и даже не взглянул на меня. Я устроилась позади него и напялила украшенный флагом конфедерации шлем. На запястье Клема блестел серебряный браслет с выгравированным именем «Клем Клойд». Я крепко обняла его узкие бедра и глубоко вдохнула запах навоза, надеясь, что скоро перестану его замечать. — Куда поедем? — Решай сам. Мне все равно, — кротко ответила я. Он завел мотор и, разбрасывая гальку, помчался к Халл-стрит. У светофора мы поровнялись с «доджем» Доула. Я заглянула туда и храбро улыбнулась, встретив несчастный взгляд Джо Боба. «Харлей» взревел и, не дожидаясь зеленого, рванул вперед. Широкая юбка моего костюмчика развевалась, как парус. Мы обогнали черный «де сото», и я весело помахала угрюмому тренеру. Никогда еще я не мчалась к «Росинке» с таким восторгом и ужасом! «Харлей», как сумасшедший, кренился то влево, то вправо, и я не верила, что когда-нибудь это кончится. — Что тебе заказать? — небрежно спросил Клем. — Вишневый коктейль, пожалуйста. — Два вишневых, — насмешливо сказал он в микрофон. Он выпил стакан одним глотком, а я цедила свой, застенчиво опустив глаза, чтобы не видеть удивленных взоров одноклассников. Казалось, они не верят своим глазам: Джинни Бэбкок на заднем сиденье «харлея» Клема Клойда. Наконец я допила свой коктейль, и мы медленно поехали домой. — Ну, довольна? — спросил он, остановившись у моего подъезда. —Видел нас тот, кто должен был увидеть? — По-моему, да. — Отлично. — Большое спасибо, Клем. Если ты не против, мы могли бы встретиться еще раз. — Я повернулась, чтобы идти домой, но он неожиданно слез с мотоцикла и захромал ко мне. Я замерла: неужели он потребует компенсации за потраченное время? При одной этой мысли меня затошнило. — Чего тебе? — Шлем. Ты забыла отдать его, — сказал он насмешливо. — Конечно! Как глупо с моей стороны! — облегченно вздохнула я, отдавая шлем. — Дай мне знать, когда захочешь снова повторить свою игру, — бросил он и поковылял к мотоциклу. «Харлей» взревел и стремительно рванул с места. — Ну и как тебе было? — жалобно спросил на следующий день Джо Боб, прижавшись ко мне в темной лаборатории. — Ужасно! Он так хромает! Я его ненавижу. — Ты святая, что пошла на такую жертву, Джинни, — он торопливо расстегнул мой бюстгальтер и стал самозабвенно жевать мой сосок. Как будто перепутал его с «Джуси фрут». После школы я проходила мимо стоянки, где хулиганы парковали свои мотоциклы. Клем развалился в седле с неизменной сигаретой в зубах. — Привет! — робко сказала я. Он не ответил. Я стояла, бессмысленно перекладывая из руки в руку книгу, и вдруг выпалила: «Как насчет пятницы?» Все еще не глядя на меня, он кивнул и снова глубоко затянулся. Потом снял с руля отвратительные желтые очки и напялил на нос. Я ждала, что он предложит отвезти меня домой, и придумывала, что бы сказать поязвительней, но он завел мотор, нажал на педаль и умчался, даже не оглянувшись.
В пятницу вечером я не отходила от окна почти два с половиной часа. — Не надейся, что мать или я будем опорожнять твой горшок, когда сляжешь, парализованная, — крикнул майор, когда наконец показался блестящий «харлей». Я напялила зеленый шлем, который уже считала своим, взобралась на заднее сиденье и крепко обняла его тощую талию. — В прошлый раз мы ездили твоим маршрутом, — крикнул через плечо Клем, — сегодня поедем моим. Мы помчались вдоль реки. Теплый вечерний ветер бил в лицо, задирал мою широкую юбку, и я поняла, что у Клема были веские причины надевать такие возмутительно обтягивающие джинсы и ветровку. «Придется и мне приобрести что-нибудь в этом роде, если наши поездки будут продолжаться», — решила я. Мы поехали по грунтовой дороге, и я с тревогой поняла, что мы едем к той жуткой стоянке, где нас с Джо Бобом застукал дорожный патруль. Но вместо того чтобы свернуть налево, «харлей» повернул направо и оказался на узкой проселочной дороге. Будь на месте Клема какой-нибудь другой хулиган, я оцепенела бы от ужаса. Но Клем… нет, он не должен изнасиловать или задушить меня, потому что благополучие его семьи зависит от майора. Хорошо иметь хоть какую-то власть! И потом, я верила, что Клем боится, как бы Джо Боб не сломал ему и вторую ногу, если он посмеет обидеть меня. Приятно иметь телохранителя! Но самое главное — я отлично знала, куда мы едем, потому и не испугалась пустынной дороги и темноты. «Ведро крови». Об этом загородном ночном клубе, который открыл брат Клема, ходили легенды. Днем Флойд добросовестно сторожил Ноквилльскую школу для слепых и глухих, а ночью шнырял вокруг города, развозя контрабандное спиртное в черном катафалке с двойным дном. Все трезвенники Халлспорта — и майор в их числе — частенько пользовались услугами Флойда. Кроме этой доставки, он стал хозяином ночного клуба, получившего свое зловещее название после одной поножовщины. Клуб был вполне легальным: там продавали невинное домашнее пиво, но в городе он пользовался довольно дурной славой. Халлспортцы были уверены, что там играют в покер на огромные деньги, дерутся на ножах, смотрят порнографические фильмы, а клиентов обслуживают шикарные проститутки, — в общем, там сосредоточено все зло современного мира. Сгоравшие от любопытства обыватели возмущались близостью такого скандального заведения к городу. Проповедники по воскресеньям оплакивали заблудшие души клиентов «Ведра крови», а прихожане требовали у шерифа прикрыть эту сточную трубу разврата и порока. Но никому еще не удавалось застать Флойда врасплох. Наконец Клем остановил «харлея» у перекошенного маленького здания, спрыгнул на землю и поковылял к двери. — Ну, ты идешь? — спросил он, увидев, что я нерешительно сижу в своем седле. — Разве меня приглашали? — Заткнись! Нечего строить из себя благородную даму! Мне что, расстелить перед тобой куртку, чтобы ты слезла? Если хочешь идти, поднимай свою задницу! Я спрыгнула на землю и с видом оскорбленной невинности подошла к нему. — Как ты смеешь так разговаривать со мной? Он открыл дверь и вошел, не обращая на меня внимания. Густой сигаретный дым мешал рассмотреть тускло освещенную комнату. Перед нами немедленно возникла стройная фигура в белоснежной рубашке и парчовом жилете. Я с трудом узнала Флойда, потому что привыкла видеть его в темно-зеленом рабочем комбинезоне. Он лениво отбросил со лба длинные темные волосы и взял Клема за плечо. — Я не я, если это не хромой принц собственной персоной? — засмеялся он. — А кто же эта принцесса? — Он отвел Клема в сторону и больно ткнул пальцем в его ключицу. До меня доносились обрывки фраз: «Это же сучка Бэбкок; они закроют меня к черту!» Сгорая от смущения, уверенная в том, что все взгляды прикованы к моей персоне, я наконец набралась храбрости и подняла глаза. Мной совершенно никто не интересовался. В матовом оранжевом свете я увидела голые стены, некрашеный пол, пару дюжин стульев с прямыми спинками и несколько квадратных деревянных столов. Я была разочарована: знаменитый клуб напоминал обыкновенный сарай. Роскошные обои, пушистые ковры, красные бархатные шторы — все это существовало только в моем воображении. Но одной стене было несколько окон, выходивших на вонючую Крокетт. На помосте в углу сидели двое: один играл на гитаре, второй — на банджо, а перед ними с микрофоном в руке стояла одетая в узкую черную юбку, блузку с низким вырезом и балетные туфли Максин — «Всем дает» — моя лучшая подруга с первого по пятый класс. В шестом наши пути разошлись: я увлеклась футболом, потом перешла в группу поддержки, а Максин превратилась в «еду для каждого мужчины». Когда-то белокурые волосы Максин приобрели теперь цвет неспелой земляники и дразнящими каскадами локонов падали на спину и грудь. Груди были великолепны: они, как бомбы, едва помещались в чашечках бюстгальтера. Нужно было отдать Максин должное: из нескладного долговязого подростка она превратилась в чувственную, с пышными формами молодую женщину, к тому же прекрасно поющую. Да-да, она пела вполне профессионально. Мне никогда не стать профессионалом ни в чем, если не перестану размахивать флагом и не остепенюсь. «Не приставай ко мне со своей любовью», — пела Максин. Она простирала в мольбе руки к небу, запрокидывала голову и стонала: «Я лежу одна ночи напролет и горько плачу…» За одним столом сидели ярко накрашенная негритянка и пара грубых на вид мужчин в зеленых спецовках. Перед ними стояли вазочки с мороженым и стаканы с каким-то напитком. За другим в напряженном молчании играли в карты. Наверное, Флойд все-таки разрешил мне остаться, потому что Клем проковылял к свободному столику и махнул мне рукой. Я, как во сне, неуверенно прошла вдоль столиков и села на стул, прислоненный к стене. Эта привычка появилась у меня с детства, после того, как я начиталась Хичкока: в его новеллах всегда убивали тех, кто сидел спиной к двери. Уж если мне суждено быть убитой в «Ведре крови», я по крайней мере увижу, кто это сделал. Никто не обращал на меня внимания. Подошел Флойд и поставил перед нами по порции мороженого и стаканы с прозрачным напитком. Клем осторожно отхлебнул из стакана и предложил мне: «Попробуй». Я с ужасом уставилась на него. Самое крепкое из всего, что я когда-то пила, — баночное пиво в кинотеатре под открытым небом, когда Джо Бобу не нужно было соблюдать режим в перерыве между баскетбольным и бейсбольным сезонами. Под пристальным взглядом Клема я послушно поднесла стакан к губам и отшатнулась от мерзкого запаха. — Пей! — угрожающе приказал Клем. Пойло обожгло рот и, могу поклясться, стало дюйм за дюймом разъедать мой бедный желудок. — Ну? — Вкусно, — выдохнула я, почему-то отчаянно желая угодить ему. — Отлично. Ей понравилось, — крикнул он сидевшему за соседним столиком Флойду. Закончив петь, к нам подошла Максин. — Неужели и впрямь это Джинни Бэбкок? — воскликнула она, картинно уперев в пышные бедра руки с неправдоподобно яркими оранжевыми ногтями. — Привет, Максин. Я не знала, что ты поешь. У тебя здорово получается. — Спасибо, — равнодушно поблагодарила она. — Клем, милый, зачем ты притащил сюда этого бедного ребенка? Тебе должно быть стыдно! — У нас свободная страна, — буркнул он. — Неужели? Не пей эту гадость, — посоветовала она мне материнским тоном. — Она сожжет тебе все внутренности. — И, не дожидаясь ответа, подошла к Флойду, немедленно запустившему ей под юбку руку. — Ты часто здесь бываешь? — спросила я Клема, чтобы что-то сказать. — Каждый вечер. — А родители? — Никто не может указывать Клему Клойду, где ему бывать и чем заниматься. Я вспомнила, как мистер Клойд не просто «указывал, чем заниматься», а частенько поколачивал Клема. Наверное, их отношения с тех пор очень изменились. Максин отошла от Флойда и запела: «Моя боль обернется позором…» Я приканчивала уже третий стакан прозрачного «домашнего пива», когда Клем резко встал и скомандовал: «Поехали!» Чувствуя, как земля уходит у меня из-под ног, я потащилась за ним к блестевшему, как майский жук, зеленому мотоциклу, надела шлем и тщательно подоткнула под себя юбку. Мы помчались по пустынной неровной дороге, и я была очень разочарована, что она оказалась такой короткой. Перед подъездом Клем остановился и, не выключая мотор, нетерпеливо застучал по рулю рукой в кожаной перчатке. Я не шевелилась. — Клем? — Да? — Ты знаешь? — Что? — Что теперь с домиком? — Стоит на месте. А что? — недружелюбно спросил он. — Нам было весело там. Я бы хотела… — Нет! — Что — нет? — Тебе там нечего делать. Это мой домик. — О! — меня словно ударили под дых. Домик всегда был нашим. Разве мы не скрепили когда-то свои отношения кровью? Конечно, я уже четыре года не изъявляла желания побывать там… — Слезай! Я спрыгнула и протянула ему шлем. Почему он злится? Я бы разрешила ему поцеловать себя, даже потискать… Может, он болен? Или задержался в развитии? Или, мелькнула страшная мысль, хочет посмеяться над Джо Бобом? — В следующую пятницу? — спокойно спросил Клем. — Да! На следующий вечер мы с Джо Бобом устроились на заднем сиденье «доджа» Доула, и он вытащил какой-то список. — Здесь те, кто трахаются, — гордо сообщил он и стал читать: — Ида Толливер и Стэн Стрилер… — Нет. Ида не позволит. — Да. Стэн клянется, что они трахаются почти каждый день. — Держу пари, — сказала я, изо всех сил стараясь не показать боли — так он тискал мою грудь. — Стэн утверждает, что мы с тобой тоже трахаемся и что ты сам ему это говорил. — Я никогда никому этого не говорил! — Держу пари! Длинный список насторожил меня: может, действительно разрешить Джо Бобу… Кроме того, он сегодня явно не такой, как всегда: лицо красное, сосредоточенное, а рука сразу начала теребить то, что он называл моим клитором. Наконец он потребовал: — Почему ты не рассказывала мне о клиторе? — Чего? — Ты только притворялась возбужденной, а клитор не отвердевал. — Что ты несешь? — разозлилась я. Его рука снова полезла вниз и нащупала мой клитор. Мысль о Бостоне улетела в туманную даль, а перспектива стать женой торговца обувью показалась совсем не отталкивающей. Все тело охватила волна страсти… — Джинни! Настало время доказать, что ты меня любишь. — Где? Во-первых, какое нам дело, кто с кем трахается, и вообще выбрось свой список, а во-вторых, если я даже и решусь тебе отдаться, то где это произойдет? — Здесь, на этом сиденье, — продолжая свой сладкий массаж, сказал он. — Нет! Только не здесь, не с Доулом и Дорин! — Может, попросить их уйти? — пробормотал он, жуя свою «Джуси фрут». — Точно! Я их попрошу! — А резинка? Ты захватил ее? — Конечно! Машина остановилась. Доул пошел за билетами, и вдруг дверца распахнулась: он с помертвевшим лицом стоял перед нами, а рядом — разгневанный управляющий кинотеатром. Джо Боб мгновенно одернул руку. — Чертовы сопляки! Пробираются сюда и трахаются самым наглым образом! Если я еще раз поймаю вас — сдам патрульным! Мне плевать, что вы насобачились играть в футбол! Вон из моего кинотеатра! Только мы с Джо Бобом вылезли из машины, как фары соседнего «де сото» ярко вспыхнули, и нас, словно нарушителей границы, поймали в свете прожекторов. Из машины вышел тренер. — Что вы, черт побери, вытворяете? — Его мощное тело тряслось от ярости. Он схватил Джо Боба и Доула за шиворот и потащил к себе. Нецензурные слова управляющего хлестали стоящих под его испепеляющим взглядом растерянных ребят. Дорин заплакала: — Я никогда раньше этим не занималась, простите меня. Что скажет папа? — Сукины сыны! — грохотал тренер. — Оторву ваши чертовы яйца! — Наверное, ему было мало, чтобы спортсмены соблюдали режим, он хотел, чтобы они были еще и морально устойчивы. Мертвенно-бледные Доул и Джо Боб вырвались наконец из железной хватки тренера и забрались в «додж». — Нас отстранили на две игры, — сквозь слезы проговорил Джо Боб, когда мы возвращались домой. Я погладила его руку, но он не ответил на ласку.
— Ну, поздравляю, Джинни, — сказал за завтраком майор. — Ты своего добилась: испортила Джо Бобу карьеру. Я с ужасом уставилась на него: «Неужели из-за меня Джо Бобу придется всю жизнь только продавать обувь?» — Откуда ты взял? — А ты думала, что в этом городе может произойти хоть что-то, чего я не узнаю? — засмеялся он и с остервенением вонзил нож в ветчину. — Думала, я не знаю, что ты была с Клойдом в «Ведре крови»? Я замерла. Значит, даже среди клиентов Флойда есть соглядатаи майора? Тайная полиция Халлспорта может поспорить с самим ФБР! — Я предупреждал тебя, Джинни, — отец устало вздохнул и пригладил седеющие волосы. — Запретил встречаться с Джо Бобом. Но безрезультатно. Забудь университет. Забудь Бостон. Живи всю жизнь в Халлспорте. Прислуживай тупому мужлану! Мне все равно. — Но я ведь встречаюсь вовсе не с Джо Бобом! — Ах да! Клем Клойд! Какой изысканный вкус, дорогая! Джо Боб Спаркс и Клем Клойд! — Он резко встал и гордо вышел из столовой. — А ты можешь предложить чего-то получше? — крикнула я вслед. — Что-то, — поправила мама, перебирая листочки со своими эпитафиями. — Дорогая, я слышала, что лунный свет сводит людей с ума. Кстати, в «Ведре крови» посетители вооружены? — Я не видела ничего похожего! — успокоила я и поспешила покончить с завтраком. Что ж, майор сам толкает меня в сильные руки Джо Боба! Мы убежим! Господи, конечно, пора бежать. Поедем в Виргинию и поженимся. А потом вернемся в Халлспорт и заживем счастливо. Если майор лишит меня наследства — не беда, Джо Боб отлично прокормит нас на жалованье продавца обуви.
— Знаешь, Джо Боб, — сказала я ему в фотолаборатории, где мы терлись друг о друга бедрами, изнывая от удовольствия, — больше так продолжаться не может. — Я тоже об этом думал. По-моему, нам придется расстаться. — Я хотела предложить совсем другое… — Чего? — Давай насолим им всем! Отцу, тренеру — всем! У нас любовь, Джо Боб. Они просто завидуют, потому что стары и никого не любят. Но я хочу тебя, Джо Боб, хочу с тобой по-настоящему трахаться. Давай удерем в Виргинию и поженимся. — Его пенис больно вонзился мне в бедро. — Господи! — выдохнул он. — А как же… моя стипендия? В этот момент включился таймер. — Подумай хорошенько. В понедельник встретимся и все обсудим. — Я выскользнула за дверь и побежала в класс. В пятницу, после прекрасного вечера в «Ведре крови» с двумя стаканами контрабандного виски, Клем остановился у моего дома и заявил: — Я кое-что решил. — Что? — с пьяным интересом спросила я. Неужели он решил поцеловать меня? — Можешь побывать в моем домике, если пустишь вначале меня в бомбоубежище. — Я удивилась, но промолчала. — После той вечеринки, помнишь? — ты меня ни разу туда не приглашала. Наверное, ему хочется увидеть тот туалет, где он в первый и последний раз поцеловал меня, решила я. Вот уж не думала, что он так сентиментален! — Конечно! Нет, проблем! — Я повесила шлем на руль рядом с его очками, и мы тихонько вошли в дом. На ступеньках я постояла, прислушиваясь, не прячется ли где-нибудь поблизости майор, но сверху донесся мощный храп, я открыла дверь подвала и махнула Клему рукой. Бомбоубежище совсем не походило на те, что обычно строят, — убогие и пустые. В нашем стояли удобные кресла и столы, на полках лежали целые горы консервов и всяких продуктов, а у стены — ящики с патронами и пластиковые контейнеры с водой. — Эта штука запирается? — спросил Клем, указывая на толстую — не меньше фута — металлическую дверь. — Конечно. — Я демонстративно задвинула засов. — Отлично! — Он снял перчатки, расстегнул свою отвратительную красную ветровку и стал медленно раздеваться. Я поразилась, какая у него костлявая — может, по сравнению с мощными бицепсами Джо Боба? — обтянутая черной футболкой грудь. На предплечье были вытатуированы череп и скрещенные кости. Наверное, он сам колол себя ножом и заливал царапины чернилами во время какого-нибудь скучного урока истории. Клем швырнул ветровку в кресло, подошел к куче винтовок, взял одну — с оптическим прицелом, — сделал полукруг, словно целился в бегущего таракана, и осторожно поставил на место. Потом расстегнул кожаный ремень с огромной медной пряжкой, вытащил его, сложил вчетверо и посмотрел на меня. «Сейчас ударит!» Я вздрогнула, но он улыбнулся, швырнул его в кресло, шагнул ко мне, взялся обеими руками за грудь и умело обшарил мне рот и поцеловал. — На этот раз приятней, чем тогда? — спросил он. Я неуверенно улыбнулась. Клем развязал мой пояс, методично расстегнул блузку и держал, пока я не выскользнула из нее. — Ну и ну! — насмешливо хмыкнул он, расстегивая мой бюстгальтер, и внимательно посмотрел на соски, вокруг которых восемь лет назад проводил мармеладной краской концентрические окружности. — С меня пять баксов. — Я непонимающе промолчала. — Тебе уже семнадцать, и ты стоишь передо мной голая. — Я вспомнила наше детское пари и покраснела. — Но я, — он подтолкнул меня к похожему на алтарь деревянному настилу, — сделаю кое-что другое, получше пяти баксов. — Ловким движением он сдернул с меня трусы и опрокинул на спину. Потолок почему-то вращался. Я несколько раз моргнула, стараясь сосредоточиться, и увидела, как Клем отошел к креслу, вытащил что-то из кармана ветровки и выключил свет. Я услышала, как он расстегнул «молнию», потом что-то зашуршало, и прямо надо мной возникло что-то похожее на кусок колбасы, только другого цвета. Пока я с вниманием святой Терезы разглядывала эту фосфоресцирующую стигмату, она снижалась, снижалась и наконец замерла у меня между ног. Я почувствовала странную боль и вскрикнула… — О Боже! Почему ты не сказала, что вы с этим педиком Спарки только тыкались? Я промолчала, довольная, что это наконец произошло и со мной. Да да, со мной произошло то, ради чего люди во все времена жертвовали жизнями; то, из-за чего возникали войны и рушились королевства, и, может быть, Джо Боб тоже разорвет нас обоих на части, если узнает. Но пока не узнал — мы будем наслаждаться этим по самую, так сказать, рукоятку. Клем не обманул моих надежд. Довольно долго он вонзал в меня свою колбасу — как будто убийца вонзает нож в безответную жертву. Наконец он резко выпрямился, колбаса поболталась в воздухе и исчезла. Раздался щелчок, и все стихло. Я лежала в непроглядной тьме и рассуждала: неужели именно к этому мы стремились с Джо Бобом почти два года? Нельзя сказать, что мне было противно; но и особого удовольствия я не испытывала. Меня лишили девственности с той же легкостью, с какой отрывают в мотеле кусок туалетной бумаги. Я не была уверена, что Клем сделал все, как надо, и с тревогой спросила: — По-твоему, это все? Ты кончил? — Не задавай лишних вопросов, — прошипел он, включил свет и стал одеваться. Совершенно сбитая с толку, я молча смотрела на него сквозь пьяный туман. — В пятницу вечером, — бросил он, с трудом открыл железную дверь и исчез, оставив меня лежать в маленькой лужице крови. Бедная мама! Она упустила такой шанс пополнить «кадры семейной хроники!» В понедельник я не пошла в фотолабораторию и так и не узнала, что выбрал Джо Боб: женитьбу на мне или карьеру тренера. Я сделала свой выбор. Или думала, что сделала. Мы стали избегать друг друга. Я бросила молодежную команду и перестала читать по утрам молитвы. Спрятала свой флаг и форму чиэрлидера и не посещала больше бейсбольных матчей и соревнований по легкой атлетике. Наши с Джо Бобом глаза не искали друг друга в Халлспорте, на переменах или в автомобилях, курсирующих вечерами по Халл-стрит. И через оскорбительно короткое время в джемпере Джо Боба стала щеголять Дорин, покручивая на пальце левой руки его именное кольцо. Я не сомневалась, что они трахаются. Обидно! Я даже плакала, когда впервые поняла это. Сначала у меня сводило желудок, когда я видела их вместе, но вскоре это прошло. Я не хотела Джо Боба, но возмущалась, что он предпочел мне какую-то Дорин. Конечно, его стоило за это убить, но… в конце концов, я первая сделала выбор. Оставалось одно: скомпенсировать утрату Джо Боба любовью Клема. Вторая попытка произошла на сыром каменном полу в летнем домике. Однажды вечером мы пробрались по едва уловимой, знакомой с детства тропинке в домик. Клем вытащил связку ключей, отпер сложную систему замков, засовов и цепочек и подтолкнул меня. Внутри было темно. Он чиркнул спичкой, зажег керосиновую лампу и запер дверь изнутри. В сущности, в домике мало что изменилось, разве что он показался мне меньше. Впрочем, ведь я сама теперь выросла. По каменному желобу по-прежнему струилась вода, но стены… В мерцающем свете лампы на стенах висели зловещие плакаты, изображающие самые непостижимые позы женщин и мужчин. Я вытаращила глаза. — Что, жень-щина, потрясена? — несмешливо спросил Клем. Через обтягивающие джинсы отчетливо торчал его пенис. После того случая в бомбоубежище он стал пренебрежительно называть меня «жень-щиной». — Да, — пробормотала я. — Раньше здесь такого не было. — Экзотический вкус Клема поразил меня. Мужчины на плакатах засовывали свои члены во все мыслимые и немыслимые отверстия в телах женщин, детей, животных и других мужчин. Мне стало страшно: уж не попробует ли все это Клем на мне? Джо Боб — уже не мой телохранитель, хотя… Майор по-прежнему имеет влияние на семью Клойдов. — Могу снять, если они тебя раздражают, — предложил он. — Нет, нет, — ответила я любезностью на любезность. — Пусть смотрят! Пусть учатся, как это делается, — прибавила я тоном опытной, пресыщенной женщины, прошедшей огонь и воду. Наша вторая попытка оказалась не намного впечатлительней первой. В свете керосиновой лампы он достал блестящий оранжевый пакетик. — Где ты это взял? — не подумав, брякнула я. «Дикси» Джо Боба по сравнению с этими презервативами были сущей ерундой. Может, именно поэтому я и не отдалась ему? — Флойд где-то раздобыл. Говорит, французские лучше наших. Максин от них балдеет. — Ах, вот как? (Что же у меня не в порядке, если я не «балдею»? А может, когда меня станут часто трахать, я просто не сумею понять, балдею я или нет?) В самый разгар второй попытки Клем откинулся на коленях и пробормотал: «Черт побери, жень-щина, это глупо». Я не понимала, что именно глупо и что я делаю не так. Он натянул свои джинсы с заклепками, которые никогда не снимал до конца, чтобы я не увидела искалеченную ногу, и подошел к полкам, где хранил когда-то свои шарики, волшебные камни и птичьи гнезда и на которых теперь лежали книги в мягких обложках. Он пробежал глазами по корешкам и вытащил одну. — Слушай! «…от мощного усилия лома тяжелая крышка поддалась. В гробу лежала она — единственная женщина, которую он когда-либо любил. Ее тело высохло и превратилось в пыль. Единственное, что осталось от нежного тела, — это белые голые кости. Свеча в его руке оплыла. Он наклонился и поцеловал труп туда, где раньше была щека. И тут же ломкие пряди ее волос обвились с его…» Я перевела глаза на один из плакатов. Крупная соблазнительная женщина стояла на коленях на низеньком столике, бесстыдно выпятив круглую задницу. Огромный, грубый, как скотина, мужчина в маске и черной кожаной куртке стоял позади, наполовину вонзив в нее мохнатый, с прожилками член. На столике сидели крысы и острыми зубами пожирали груди женщины. С них капала кровь… На лице женщины был написан откровенный восторг. — Ах, Клем… — В его рассказе крышка гроба захлопнулась, похоронив героя вместе с его любимой. — Мне пора идти. — В чем дело, жень-щина? — угрожающе спросил он. У меня сразу вспотело под мышками. (Какое счастье, что майор может разорить семью Клема!) — Откуда у тебя эти ужасы? — весело спросила я, натягивая колготки. Холодное безжалостное лицо мгновенно изменилось, и он снова стал самим собой. — Я заказал их в Нью-Йорке. Прислали по почте. — А не боишься, что твой отец найдет их? Или Флойд? — Это МОЙ домик. Сюда никто не суется. Но на всякий случай у меня тут восемь запоров. — Я видела. Ну, мне пора. Отец спросит, где я была. — Конечно. — Он застегнул брюки и встал. Однажды вечером «харлей» привез нас на свалку. Клем поручил мне подержать его «винчестер». Он заглушил двигатель и откатил мотоцикл на обочину. Потом зарядил ружье и протянул мне целую пригоршню патронов. — Приготовься, жень-щина, — прошептал он. По его сигналу я включила фары «харлея». Клем прицелился в кучу мусора и выстрелил. Одна из множества крыс взлетела в воздух, остальные бросились врассыпную. Клем быстро перезарядил «винчестер» и выстрелил снова. Я протянула ему следующий патрон. Крысиное племя совсем взбесилось, отчаянно заметалось в поисках безопасного места, но несколько трупов уже валялись на куче. — Пойдем, — сказал он наконец и выключил фару. — Пусть успокоятся, тогда врежем еще разок. Мы сели на поваленное дерево, и Клем закурил неизменные «Лаки Страйк». «Странный способ приятно проводить время, — подумала я, — но, надо признаться, такая стрельба захватывает куда больше, чем секс». — Клем! — Что, жень-щина? Не понравилось? — Не очень. — Это же паразиты. — Да, но тебе-то какое дело? — Он глубоко затянулся и промолчал. — Разве они тебе мешают? В темноте ярко светился кончик сигареты. Наконец Клем заговорил: — В тот день, когда на меня свалился трактор… помнишь? Так вот, я лежал под ним и думал: «За что? Почему это случилось именно со мной?» Я тогда совсем спятил, даже хохотал. Я не понимал, за что меня так наказали. Я ведь был хорошим мальчиком. Помогал отцу, умывался, учил уроки, был вежлив. Почему же это случилось со мной? Казалось, время остановилось. Я лежал под трактором и думал, думал… Там, под опрокинувшимся небом, я заключил с Господом сделку. Пообещал, что буду каждую неделю ходить с мамой в церковь, если только он поднимет этот чертов трактор. Но чуда не произошло. Я лежал на земле, трактор — на мне, и я решил, что попал в ад. Конечно, было за что: и отметки бывали отвратительные, и папе с мамой я не всегда помогал, и теперь за это придется жариться на вертеле. А потом, я соскучился по людям: маме, папе, Флойду и… тебе. По ферме, по своему домику. Я испугался, что никогда этого не увижу, и, наверное, закричал. Не помню точно, но папа говорил, что услышал мой крик. И знаешь, пока я лежал под той красной махиной и думал, что она раздавила меня, как сноп кукурузы, я успокоился. Я не боялся, я стал никем. Мне даже не было больно, Джинни. Я помню только жару и какой-то странный свет. Смерть совсем не страшна. Честно признаться, я даже разочаровался, поняв, что все-таки жив. — Значит, ты убиваешь крыс, чтобы доставить им удовольствие умереть? — Я знал, что ты ничего не поймешь. Не знаю, зачем говорил об этом? Мы сидели молча, и я уже раскаивалась, что своим непониманием уничтожила единственную попытку Клема довериться мне. — Попробовала бы ты жить калекой! — неожиданно проговорил он. — За что?! За какие грехи меня покарали этой искалеченной ногой? Почему вам, богатым, во всем везет, а нам, беднякам, впору всю жизнь носить траур? Ответь, черт тебя побери! — закричал он. — Заткнись! — тоже не сдержалась я. — Откуда мне знать? Чем я могу помочь такому кретину, если на него даже тракторы падают? — Вот что, жень-щина, — раздельно проговорил он. — Я заплатил свои долги. Старина Клем никому ничего больше не должен. Я сам распоряжаюсь своей жизнью. Я решаю, с кем, когда и где иметь дало. Я жив, поняла, жень-щина? Держись подальше от Клема Клойда! — Мы с ненавистью уставились друг на друга. Поваленное дерево, лес вокруг, свалка — все выглядело угрожающим в тусклом сиянии луны. По дороге домой Клем долго молчал. На спидометре было 90 миль в час. Я крепко стиснула его талию и уткнулась лицом в пахнущую навозом спину. Мы выехали на шоссе, и Клема будто подменили. «Вперед! — заорал он неведомым богам. — Вперед! Убейте нас, ублюдки! Мне плевать на вас!» Его истерика передалась и мне. Я тоже с восторгом что-то орала и смеялась неизвестно над кем. Ветер свистел в ушах, развевающиеся волосы хлестами по лицу, и мне было наплевать на смертельную опасность быть размазанной по шоссе, как арахисовое масло по хлебу. Я не сомневалась, что сделала правильный выбор, доверив свою драгоценную жизнь такому замечательному парню. …Мы спустились в бомбоубежище. Я села на деревянный настил, а Клем с наглой ухмылкой сбросил ветровку и подошел поближе. С предплечья на меня смотрела пустые глазницы ужасной татуировки. Он расстегнул ширинку и вытащил багровый раздувшийся член. — Пососи его, жень-щина, — вкрадчиво предложил он. — Не поняла. — Не притворяйся! Делай, что говорю! — Что? — Соси! — Он схватил, мою голову, как клещами, и стал двигать туда-сюда, чтобы губы касались его страшного члена. — Ты издеваешься? — прошипела я. — Соси, дьявол тебя побери! Я послушно обняла его ногами, сцепила на коленях руки и начала лизать и покусывать его страшилище. «Наверное, это и есть любовь», — думала я. Через пару минут мне надоело это дурацкое занятие, я подняла голову и посмотрела в красивое смуглое лицо с мелангеонскими чертами. Его глаза были крепко зажмурены, он весь напрягся в ожидании оргазма. — Все! — сказала я. — Хватит! Мне пора домой. Он открыл глаза, недоверчиво посмотрел на меня и неожиданно больно хлестнул по лицу. Щеку обожгла резкая боль. Я непроизвольно стиснула зубы и почувствовала вкус крови. — Я закричу, — спокойно предупредила я, увидев, что он снова занес для удара руку. — Папа убьет тебя и выгонит вашу семью из города. Клем отвернулся и что-то пробормотал, одеваясь. Я ждала. Он медленно застегнул ветровку, повернулся ко мне и улыбнулся как ни в чем не бывало. — Как насчет «Ведра крови» завтра, жень-щина? «Откажишь!» — кричал мне инстинкт самосохранения. — «Не встречайся с ним!» Но я не послушалась. — Конечно. — Кстати, — сказал он, когда мы вышли из бомбоубежища, — возьми вот это. — Он протянул мне свой именной серебряный браслет с выгравированными черными буквами «Клем Клойд». Я с гордостью надела его и щелкнула застежкой, словно кандалами. Мы снова стали подругами с Максин. Я подражала ей во всем: нацепила глухой свитер с длинными рукавами, бюстгальтер с торчащими в разные стороны чашечками, маленький золотой крестик на золотой цепочке и прямую юбку, которая обтягивала мою задницу так туго, что даже когда я стояла, казалось, что я собираюсь садиться, и черные балетные тапочки, из-за которых походка казалась шаркающей. Все свое старое барахло — юбки, блузки, плащи — я отдала молодежной команде Иисуса, которая собирала деньги на поездку брата Бака в Европу в гости к сестрам и братьям. Допев душещипательную «Как грустно, что ты обманул меня», Максин раскланялась и подсела ко мне. Клем грозил кому-то в противоположном углу своим швейцарским ножом. — Красивая песня. — Рада, что тебе нравится. Я протянула Максин свой стакан, и она сделала приличный глоток. — Ты знаешь, что совсем не похожа на остальных? — спросила она. Я опешила. — Я? — Да. Никак не могу тебя понять. — Ты? — Помнишь, как ты пришла сюда в первый раз? — Я кивнула. — Для меня было настоящим шоком увидеть саму Джинни Бэбкок в дверях «Ведра крови». — Для меня тоже. — Я решила, что ты пришла посмеяться над нами. — Да ты что?! — Да. Ты была в модном плаще и все такое… Самоуверенная… — Это от смущения. Я не знала, что делать. Прости, если я так выглядела. На самом деле я ни над кем не смеялась. — Почему ты ушла из группы поддержки? — Не знаю. Надоело. Дурацкое это занятие — размахивать флагом и орать «Привет!» — Господи, да будь я на твоем месте… Как это ты бросила Спаркса ради Клема? Я не верила своим ушам. — Клем совсем неплохой. — Но он не Джо Боб Спаркс! — Да, но и Джо Боб Спаркс не Джо Боб Спаркс! — Она удивленно вытаращила глаза. — Не думай, что Джо Боб такой уж замечательный. — Мне стало стыдно, будто я предала и Джо Боба, и чиэрлидерство. Я думала, что Максин и клиенты «Ведра крови» взрослей и опытней школьников, но оказалось, что Максин тоже наивная дурочка. Мимо столика прошел небритый, одетый в зеленую спецовку мужчина средних лет. Типичный чернорабочий с завода майора. — Как дела, Гарри? — окликнула его Максин. — Неплохо. Кто эта твоя подружка, Максин? — Джинни Бэбкок. Майор Бэбкок — ее отец. Мужчина опешил и сразу сел за наш столик. Я еле сдержалась, чтобы не врезать Максин. — Ну, скажу я вам… — пробормотал он и протянул мне через стол руку в масляных пятнах. Я осторожно пожала ее. — Твой папа — это что-то! Я работаю на его заводе. Да, он великий человек — патриот и джентльмен. — Ему было бы приятно услышать это, — промямлила я. — Да, да, патриот и джентльмен, — мечтательно повторил Гарри. — Один Бог знает, как мы жили в Харлане. Я работал там на шахте. Ни одна собака не живет так, как мы. Кровля обвалилась, рабочие задыхались… Ни за что не вернусь обратно, хоть стреляйте! — Он внимательно посмотрел на меня и совсем другим тоном спросил: — А что ты делаешь в таком месте, девочка? — Мне здесь нравится, — возмутилась я. — Нравится «Ведро крови»? — Гарри грустно покачал головой. — А папа знает, где ты? — Нет. То есть да. То есть, он знает, что я бывала здесь раньше. А знает ли сейчас — понятия не имею. — У меня две дочери, — устало вздохнул он, — и если бы они заглянули сюда, я… — А что вы сами здесь делаете? — парировала я. — У вас есть дом, две дочери, а вы сидите здесь? — Я уже ухожу, — виновато проговорил он и встал. — Приятно было познакомиться, мисс Бэбкок. Передайте своему отцу, что Гарри из Харлана передает ему привет. Только… — он замялся, — может, лучше будет сказать, что встретили меня где-нибудь в другом месте? Однажды вечером в «Ведре крови» собрались любители петушиных боев. Стулья были поставлены в ряд, чтобы образовать стенку между зрителями и ареной. Человек десять сели, остальные встали за ними. На одном из столов лежали целые пачки долларов — ставки. Двое крепких мужчин достали из мешков петухов: рыжего с черным хвостом и серого с белым. Стоило им увидеть друг друга, как перья на шеях встали торчком, словно воротники эпохи королевы Елизаветы. На желтых лапах блестели стальные шпоры. Мужчины отпустили бойцов, они подскочили и ударились в воздухе. Вскоре комната огласилась криками: «Черт! Убей этого ублюдка! На куски этого рыжего паразита!» Зрители топали ногами, размахивали кулаками. Вокруг летали перья, капала кровь. Клем, сидевший передо мной, даже не заметил, когда я убрала руки с его плеч и отошла к окну. В лунном свете поблескивали склонившиеся ивы. Мне нравился этот вид из окна. Вечером не было видно этого проклятого завода, который окутывал реку желтым туманом. — В чем дело, детка? — Флойд лениво откинул со лба черные волосы. — Не любишь смотреть на смерть? — Наверное, не люблю. — Странно. Не ты ли носишься повсюду со своим отчаянным дружком? — Ну и что? — А может, пора поискать другого? — он притянул меня так, что я уткнулась носом в парчовый жилет. Чего было еще ожидать от того, кто украл когда-то все наши комиксы о дядюшке Скрудже? — Остынь, Флойд. Он отпустил меня и засмеялся. — Конечно, детка. Но когда тебе понадобится настоящий мужчина, дай знать Флойду. — Договорились. — Дать тебе еще французских штучек? Или у Клема уже не встает? — Убирайся к черту! — разозлилась я. Он затронул тему, которая не касалась никого, кроме нас с Клемом: наши сексуальные отношения, не доставлявшие радости ни мне, ни ему. Однажды он привязал меня за руки и лодыжки к деревянному настилу, в другой раз натянул мне на лицо чулок, как делают грабители. Еще как-то остановил «харлей» в лесу, раздел меня, заставил широко раздвинуть ноги и вонзился в меня, не слезая со своего леопардового сиденья и даже не выключив двигатель. Казалось, он сам не знает, в чем найдет удовлетворение. О том, чтобы доставить удовольствие мне, не было и речи. Он испытывал ужас перед окончательным оргазмом, как он это называл. Ужас, который сковывал его и не давал довести до конца ни одну попытку овладеть мной.
…Двое мужчин поймали своих искалеченных, истекающих кровью, но еще живых петухов. Я не знала и не хотела знать, кто победил. — Пора, ребята! — скомандовал Флойд. Все засуетились, будто он щелкнул хлыстом. Стулья вернулись к столам, клиенты расселись вокруг них, словно и не было кровавой битвы. Флойд поднял крышку люка, двое мужчин вытащили оттуда бочонок и открыли кран. Я услышала, как выливается из него в отверстие в полу «домашнее пиво». Клем собрал со стола бумажные стаканчики и выбросил в люк. Кто-то постучал в дверь, ведущую в другую комнату, и вскоре оттуда вышли Максин, негритянка и двое застегивающих брюки мужчин. Гитарист схватил гитару и сел на помост, к которому Клем прислонил фанерную вывеску «Проповедь протестантов-сектантов». Максин и негритянка тихо запели. Флойд, успевший повязать вокруг шеи черный шелковый платок, открыл огромную Библию и присоединился к певицам. — Джинни, — позвал Клем. — Сюда! Гитарист забренчал на своей гитаре, Максин и негритянка, покачиваясь в такт, негромко пели, а Флойд высокопарно декламировал: «И это сказал Господь…» Неожиданно сверкнули красные огни, раздался вой сирен, дверь распахнулась — и в комнату ворвались, размахивая пистолетами, несколько полисменов. Не обращая внимания на поющих, они стремительно прошли во вторую комнату, потом вернулись и стали обнюхивать посетителей. — «Каждый человек должен покориться авторитетам. Но нет авторитета выше, чем Бог. Кто противится авторитетам — противится Богу», — читал Флойд. — О счастье мое! О счастливый день! — причитали Максин и негритянка. — Иисус пришел! Пришел и указал нам дорогу. — Добрый вечер, шериф, — Флойд с самым невинным видом оторвался от Библии. — Всегда рады вам и вашим парням. — Иди к черту, Флойд! — рявкнул шериф. — Снова ты нас опередил. Но не радуйся: рано или поздно мы тебя накроем. — Он повернулся и вышел, а вслед за ним его люди.
— Не обращайся ко мне за помощью, Джинни, — сказал мне на следующий вечер за ужином майор. — Не знаю, что ты намерена сделать, но молю Бога, чтобы ты сделала это прежде, чем во что-нибудь влипнешь. Я понятия не имела, что я намерена сделать, и сердито уставилась на него. Наверное, сейчас прикажет никогда не встречаться с Клемом. — Мы с матерью все обдумали, — преувеличенно любезно продолжал майор. — Конечно, мы могли бы запереть тебя в доме, повесить на двери замки или попросту вышвырнуть вон и покончить со всем этим безобразием. Или… — он многозначительно помолчал, — я мог бы уволить отца Клема, и сомневаюсь, чтобы он нашел работу в городе. Я с ненавистью посмотрела на него: вот он и выложил свою козырную карту. Что делать? Сидеть и спокойно наблюдать, как рушится благосостояние семьи Клема? Что делать? — Но, конечно, я на это не пойду, — продолжал майор. — Клойд не виноват, что его сын вырос идиотом, так же, как я — что у меня идиотка-дочь. Поэтому мы с твоей матерью умываем руки и предлагаем тебе самую лучшую перспективу: университет. Ты поедешь в Бостон. Он приступил к бифштексу, всем видом показывая, что вопрос о моем будущем решен. Я опустила глаза в тарелку, наполовину закрытую моей торчащей грудью. Я была единственным ребенком, над которым можно экспериментировать родителям-деспотам. Карл устроился на западе, а Джим страдал в военной академии в Чаттаннуге. — Я не хочу уезжать, — пробормотала я. — Мне нравится в Халлспорте. Но если я уеду — то только не в Бостон. — Хорошо! — я поразилась самообладанию майора, не привыкшего, чтобы ему перечили. — Прекрасно! — повторил он и отвернулся. Настала очередь мамы. Она перечисляла всевозможные бедствия, угрожавшие мне, если я не расстанусь с Клемом. Оказывается, я должна разбиться на шоссе; меня задержит полицейский патруль — «Подумай, как их рапорт отразится на твоей репутации, дорогая»; меня ранят в пьяной драке с поножовщиной; изнасилуют где-нибудь на узкой дорожке и расчленят труп, чтобы никто не узнал. Она перечисляла все беды, но ни словом не обмолвилась о главной — беременности или венерической болезни. Значит, о бомбоубежище и летнем домике майору еще не донесли? — Все это неправда, — ответила я. — Вас послушать, так я только и делаю, что ищу на свою голову неприятностей. Они печально переглянулись, и я ощутила себя сидящей в продырявленной лодке, которую родители оттолкнули от берега и ждут, что она пойдет ко дну. Так и случилось. В прошлом году я стала королевой на фестивале табачных плантаций и теперь должна была присутствовать на новом фестивале, чтобы короновать своюпреемницу. Титул королевы вполне соответствовал моему имиджу чиэрлидера, но уж точно не подходил теперешнему — девушки Клема Клойда. Утром в день фестиваля я покорно надела желтое шифоновое платье, ленту с надписью «Королева табачных плантаций» и картонную корону, украшенную блестками. Майор, который был в оргкомитете, отвез меня в Персиммон-Плейс и отправился посмотреть аукцион, на который фермеры привезли свою продукцию. Персиммон-Плейс был маленьким городком, единственным достоинством которого было его центральное расположение среди ферм на востоке Теннесси. В огромном деревянном амбаре, выкрашенном тусклой облупившейся краской, было темно и грязно. На дощатом полу среди корзин с лекарственными табачными листьями толпились фермеры. В помещении витал острый пряный запах табака. Я с нетерпением ждала главного события — коронования новой королевы. Наконец, преисполненная важностью момента, я под рев учеников Халлспортской средней школы напялила корону на голову девчонки — королевы этого года, — поцеловала ее в щеку и улыбнулась в мамину камеру. «Кадры семейной хроники» запечатлели нас в тот день в самых разных позах: улыбающихся, недовольно ворчавших, обнимающихся с совершенно чужими людьми. Ко мне и новой королеве присоединилась жена фермера, чей урожай занял первое место. Она была ненамного старше меня, но волосы — особенно по сравнению с роскошной гривой новой королевы и моими ухоженными волосами — казались тусклыми и немытыми. На ней был линялый комбинезон и простая фланелевая рубашка. Широкая улыбка обнаружила отсутствие нескольких зубов, но главное — у нее не было левой руки. Я обняла ее за плечи и пробормотала что-то утешительное, но она совершенно спокойно объяснила, что порезала руку, когда рубила табачные листья, обернула ее грязной тряпкой и продолжала работать. И даже забыла о ране. Но она стала гноиться, а потом развилась гангрена. Я восхитилась ее мужеством. Меня переполняло чувство зависти, и я совершенно искренне заявила, что тоже хотела бы выйти замуж за фермера и жить по законам природы. Я объяснила ей, что это пытка — жить с такими невротиками, как мои родители. Женщина — я заметила, что она ко всему еще и косит, — недоверчиво выслушала мои излияния и воскликнула: «Милая! Никогда не выходи замуж за фермера! Будь богатой, здоровой и счастливой!» Я подобрала широченную юбку и отправилась к Клему, который ковылял по амбару, презрительно фыркая и нюхая табачные листья. — Мне пришлось это сделать, — начала я оправдываться. — Я ведь была королевой в прошлом году. — Черт с тобой, жень-щина, — проворчал он. — Тебе нравится вся эта чушь. — Черные глаза жадно пробежались по моим голым плечам и глубокому вырезу на груди. — Поехали трахнемся, королева! — предложил он как бы в шутку. — Не знаю, Клем! — я опасливо оглянулась: майор занимался аукционом, а мама снимала его камерой, так что можно было незаметно исчезнуть. Я надела его красную ветровку, напялила шлем, лихо вскарабкалась на «харлея» и подоткнула под себя широченную юбку. Накануне ночью шел дождь, и дорога еще не просохла. Под ярким солнцем влажно поблескивали деревья. Узкая дорога между Персиммон-Плейс и Халлспортом то опускалась вниз, то поднималась вверх по предгорьям. Местами обочин не было вообще, и дорога бежала по краю обрыва.«65 миль в час» — гласил дорожный знак. «Скорость контролируется радарами» — предупреждал другой. Это была любимая дорога Клема, а в тот день он был в своей лучшей форме. Мотоцикл клонился то влево, то вправо. Клем не сбавлял скорости на поворотах и только кричал: «Держись, Джинни! Держись, черт подери! Вперед!» Дрожащая стрелка спидометра медленно ползла вверх. — 65 миль в час, — ликующе крикнула я ему в ухо. — 70! — Убей нас, чертов ублюдок! — орал Клем ветру. — Я не боюсь тебя! — 75! — завопила я, и в этот момент длинная желтая юбка выскочила из-под меня и, как парашют, окутала голову Клема. — Господи, жень-щина! — закричал он. — Ты спятила? Я отпустила талию Клема, чтобы подтянуть эту проклятую юбку, бившуюся на ветру, как бешеный парус. Зеленый шлем ударился о дорогу, как баскетбольный мяч. Я упала с «харлея» и покатилась с обрыва. Этот полет занял, должно быть, секунд десять, но мне показалось, что прошло лет двадцать, которые я летела и летела в бездонную пропасть. Я ждала тепла и света, о которых говорил мне Клем, — он испытал эти чувства в тот день, когда лежал под трактором. Но не было ни тепла, ни света — только злость оттого, что родители и на этот раз оказались правы.
Глава 6
Понедельник, 26 июня. Джинни разбудил яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь опущенные жалюзи. Она лежала на огромной кровати, в которой родилась 27 лет назад, и смотрела, как плавно танцуют в лучах света пылинки. Интересно, пропорционально ли количество пылинок степени чистоплотности хозяйки дома? Если это так, то дом Блисса должен задыхаться от пыли, по крайней мере, с тех пор, как она оставила его, подталкиваемая в спину «винчестером». Джинни прислушалась: из-за закрытой двери доносился непонятный скрип. На кухне явно кто-то был. Она осторожно встала, на цыпочках прокралась к двери и рывком открыла ее. Ни выстрелов, ни внезапного нападения — все было тихо. Она притворила дверь и только повернулась, чтобы идти назад, как скрип повторился; теперь он шел не из кухни. В комнате кто-то был, кроме нее. Она подбежала к окну и резко подняла жалюзи. Старая софа, кресла, покрытые клетчатым пледом, стол. На стенах развешаны ружья, мачете, охотничьи ножи. В углу — камин со старой деревянной доской. Скрип раздавался из камина, но стоило ей подойти к нему, сразу прекратился. Она не поняла, что именно это было — жужжание саранчи? трещотка гремучей змеи? Существо могло быть и птицей, и рептилией, и насекомым. А может, млекопитающим? Джинни выхватила из футляра на стене нож и осторожно отодвинула каминную решетку. Тишина. Она присела на корточки и только тогда увидела, что совсем не одета. Неважно. Рядом нет никого, кто, помня стройную фигурку чиэрлидера, поморщился бы при виде пополневшей фигуры женщины, познавшей материнство. Скрип возобновился. Джинни стиснула зубы в ожидании нападения змеи и, мысленно простившись с каким-нибудь пальцем, отодвинула от стенки камень. Под ним сидел крошечный птенчик размером не больше яйца и с неменьшим любопытством смотрел на нее немигающими черными бусинками. В этот момент раздался новый скрип. Джинни вернулась на кухню, порвала несколько тряпок, устроила в корзине нечто вроде гнезда и положила туда малюсенькое серое существо, покрытое черным пушком, с серьезными черными глазками и желтым клювиком. Потом взяла фонарик и нашла в камине еще четырех. Она обмотала тряпками свои руки — руки человека, сующегося не в свое дело, — вытащила птенцов и положила в корзину. В камине валялись остатки гнезда — скорее всего, оно провалилось сюда через трубу. Птенцы — похоже, стрижи — пищали как сумасшедшие. Им было страшно, они проголодались и хотели к родителям. Им не нужна была Джинни. Впрочем, как и они ей. Она не знала, чем им помочь. Она решительно прошла в спальню, открыла окно и вылезла на тусклую оцинкованную крышу. Тащить корзину и балансировать по скользкой крыше было не так-то легко, но она добралась до трубы и огляделась. За зарослями куджу, полем и пастбищем виднелся темно-вишневый дом Клема. Если бы он захотел, то смог увидеть ее в бинокль — голую, с корзиной в руках. В ярко-голубом небе торчала труба, а на ее верхушке сидел, свесив вниз голову, взрослый стриж. Джинни поставила корзину и поспешно, чтобы не мешать радостной встрече, вернулась в кухню. Все еще неодетая — настоящая свободная женщина! — она приготовила себе тосты и чай, убрала постель, взяла мачете и вышла во двор. Она могла поклясться, что виноград, который она срубила вчера, за ночь снова вырос. Под палящим солнцем тело быстро стало липким и противным от пота. Она бросилась в пруд и поплыла сквозь тину подальше от берега, потом вернулась в хижину и легла отдохнуть. Пора было ехать в больницу, но Джинни не торопилась. Им с матерью нечего сказать друг другу. «Я — твоя мать, а не подружка», — часто слышала Джинни и всегда завидовала тем, кому мать была не только матерью, а и той, с кем можно без опасения, что тебя высмеют, поделиться всем чем угодно. Она вспомнила мать Энн Ландерс и вздохнула. «Секс без брака — вульгарен», — повторяла тоном непререкаемого авторитета ее собственная мать. Джинни всегда приходилось искать предлог, чтобы приблизиться к своей принципиальной матери в те годы, когда ей было это необходимо. Лгать, что она просто дружит с Джо Бобом, что только катается с Клемом на «Харлее»… А потом потребность сближения стала менее острой. За девять лет они виделись всего четыре раза. О чем с ней говорить? О том, что муж выгнал ее из дома, застав трахающейся с дезертиром на семейном кладбище? О чем только думала миссис Янси, когда пригласила Джинни приехать? Вы бы пригласили змею составить компанию жабе? Но, как бы то ни было, мать оставила след в душе Джинни. «Люди вольны делать все, что хотят, — сказал Гоббес. — Но они не вольны в своих желаниях». Как это верно! Влияние матери не прошло для нее бесследно. Даже дом Айры — мужчины, которого она выбрала себе в мужья, — напоминал особняк, в котором прошло ее детство. Джинни понятия не имела, как должны были воспитывать ее родители, но уж, конечно, не развлекаться, наблюдая за смертью неопытного ума. Почувствует ли когда-нибудь себя счастливой Джинни, оставив Венди? Или она так привязалась к ней за два года, что такая свобода ей попросту не нужна? И все-таки главной причиной, почему она не могла заставить себя поехать в больницу, был страх — страх увидеть мать в черных и синих кровоподтеках, с одутловатым, желтым и чужим лицом. Она предпочитала помнить ее сильной, красивой и неуязвимой — своего рода преградой между ней и смертью. Джинни решила проверить, как там на крыше ее птенцы. Спасли ли их родители? Или хотя бы накормили? По крайней мере, есть повод еще немного помедлить с визитом в больницу. Корзина была пуста. Джинни облегченно вздохнула, повернулась, чтобы идти, и ахнула: на горячей оцинкованной крыше лежали два окостеневших трупика. На тарелке посреди листьев салата они сошли бы за костлявую дичь, которую приносил с работы Айра. Ей стало стыдно: она совсем не подумала о том, каково неоперившимся птенцам, привыкшим к темноте и прохладе, очутиться на ярком солнцепеке. Но по крайней мере трое еще живы. Она положила холодные трупики в корзину и стала осторожно отцеплять от трубы трех отчаянно пищавших птенцов. Прямо над ней стремительно пронесся взрослый стриж и исчез под козырьком крыши. — Кретин! — крикнула ему Джинни. — Лучше бы помог своим деткам! Чертов дурак! Что же делать? На крыше жарко, в камине они умрут с голоду. Остается одно: посадить выживших птенчиков на дерево, чтобы родители кормили их и научили летать. Она решительно отодрала птенцов, яростно вцепившихся своими крохотными коготками в щель между потрескавшимися кирпичами (я словно вытаскиваю колючки из собачьей шерсти, мелькнуло у нее), и спустилась во двор. В зарослях куджу, в глубине двора, стояла, касаясь нижними ветвями земли, крепкая сосна. Джинни поставила корзину с живыми птенцами на плоские пересекающиеся ветви, а мертвых швырнула в виноград. Природа лучше, чем она, позаботится о живых существах. Сомнительно, чтобы у нее, Джинни Бэбкок, что-нибудь получилось. Она повернулась к трубе, на которой по-прежнему торчала головка стрижа, и весело крикнула: «Забирай своих малышей!»Рано утром миссис Чайлдрес снова разбудила ее. Миссис Бэбкок была в бешенстве. Она даже не могла вспомнить, когда злилась так в последний раз, — разве что в детстве, когда пони сбросил ее на розовый куст. Будь у нее побольше сил, она разбила бы окно и расшвыряла все эти мерзкие подделки под датский модерн. Она вздохнула, вытащила изо рта термометр и отвела душу, бросив его на пол. Крошечные серебряные шарики ртути, как насекомые, покатились по кафельному полу. Миссис Чайлдрес удивленно уставилась на миссис Бэбкок. — Извините, — промямлила та, сама испугавшись такого взрыва. — Это случайность. Конечно, случайность! Она слишком хорошо воспитана, чтобы показывать свою слабость чужим. И все же… По какому праву ее будят ни свет ни заря, чтобы запихнуть в нос эти идиотские тампоны или взять очередной анализ? Это, в конце концов, ее тело, она сама вольна им распоряжаться! Миссис Чайлдрес протянула ей преднизолон. — Нет! — отвела ее руку миссис Бэбкок. — Сказала — нет! — Дорогая, от лекарства вам станет легче, — терпеливо, как маленького ребенка, уговаривала медсестра. — И не подумаю! Пользы никакой, а от лишнего веса меня уже тошнит. — Откуда вы знаете, что от них нет пользы, дорогая? Вы ведь не знаете, что было бы без них? — Неужели не видно? — Миссис Бэбкок вытянула раздутую, всю в разноцветных синяках руку. — Нужно подождать. — Я уже сказала, что не возьму! — отрезала миссис Бэбкок, сама поражаясь своей дерзости. — Трудно сказать, что тогда произойдет, — вздохнула миссис Чайлдрес. — Хуже, чем есть, уже не будет! — Посмотрим, что скажет доктор, — миссис Чайлдрес положила лекарство на тумбочку и поджала губы. — Пойдемте в лоджию. — Я не хочу завтракать! — Вам нельзя пропускать завтрак, дорогая. У вас и так анемия. — Вы думаете, что та требуха, которую нам здесь подают, способствует моему здоровью? — При воспоминании о неизменных яйцах, апельсиновом соке и черносливе ее чуть не стошнило. — Наш диетолог отлично знает свое дело, — сердито ответила миссис Чайлдрес и вышла из палаты. Миссис Бэбкок поплелась в ванную. Горячая вода, такая, чтобы вверх поднимался пар, — вот что ей нужно. Она легла в воду, закрыла глаза и подняла ноги. Теперь, когда им не нужно было сражаться с силой тяжести, боль отступила. Она лежала в этом полуподвешенном состоянии без мыслей, без чувств, просто отдыхая от ставшей привычной боли. Уэсли… Он снова обманул ее ожидания. Сейчас, когда она так нуждается в нем, его, как всегда, нет рядом. Он возвращался вечерами с завода и уединялся в спальне, ссылаясь на мигрень. Она подозревала, что он весь день мечтал в своем офисе о том, как придет домой, а она принесет ему ужин, положит на лоб компресс и заставит детей ходить на цыпочках и разговаривать шепотом. Но если ей приходилось слечь — он немедленно прятался в своем офисе и задерживался там допоздна. Один Бог знает, на скольких банкетах, благотворительных праздниках, матчах лиги малышей и бойскаутов ей пришлось присутствовать без него. Уэсли всегда вел себя так, словно Халлспорт был его тяжким крестом, и он только приносит себя в жертву капризу жены, по непонятным причинам не желавшей уехать на север. Но она-то знала правду. Знала, что ему никогда не предлагали работу в Бостоне. После Гарварда его сразу направили сюда. Обычно молодые специалисты не задерживались здесь больше двух лет, но с Уэсли все вышло иначе. Через два года его призвали в армию и отправили за океан, а когда он вернулся — все места в Бостоне были заняты, и его снова направили в Халлспорт. И никогда не приглашали обратно. Обстоятельства были тому причиной или он сам не был способен на большее, но в том, что он провел здесь почти всю жизнь, не было ее вины. Более того, щадя его самолюбие, она поддерживала его версию. И все остальные делали вид, что он застрял здесь ради нее. Похоже, она всю жизнь только и делала, что потакала его прихотям. И не только его. Взять Джинни. Как у нее хватило наглости явиться в таком ужасном виде, да еще без лифчика? Это вполне в ее стиле — все делать назло родителям. Но миссис Бэбкок выдержала и этот удар, ни словом не упрекнув ее, не осмелившись попросить переодеться в приличное платье — лишь бы не обидеть дочь. А может, чтобы не разозлить ее? А то нацепит что-нибудь еще более страшное… Но главное, она догадалась, зачем вообще приехала Джинни. Она по натуре — хищница. Раньше она не снисходила до того, чтобы, как все нормальные дети, писать домой письма. Даже чтобы ей приехать, понадобилась смерть майора. Скорей всего, она надеется продать землю и мебель, опередив Джимми и Карла. Неважно, что она, по обыкновению, скрывает свои намерения, — мать видит ее насквозь. Миссис Бэбкок испугалась собственных мыслей. Всю жизнь она была посредником между детьми и мужем. Она вытирала им слезы, мирила, находила плачущих в укромных местах и заступалась перед Уэсли за детей и перед детьми за Уэсли. Никто не интересовался ее собственным мнением, потому что оно ничего не значило. Даже для нее самой. Так было всегда — до этой болезни. Да и теперь… разве их интересуют ее мысли? Она опустила голову и вздрогнула: над внутренней стороной бедра плавала маленькая красная капелька. Она поймала ее ладонью, поднесла к глазам и поняла, что кровь выступила у нее из влагалища. Теоретически это было невозможно: уже несколько лет, как у нее кончилась менструация. В дверь постучали. — Кто там? — Доктор Фогель. Можно войти? — Я не одета. Одну минуту. — Она надела халат и сунула между ног несколько бумажных салфеток. Молодой доктор подошел к ней и протянул руку. — Уберите руки, молодой человек! — холодно сказала она. — Я в состоянии идти сама. Она легла на кровать, думая об одном: у нее снова началась менструация. — Я слышал, вы не хотите принимать лекарство? Ей стало не по себе. Конечно, не мешает спросить его, уверен ли он, что лечит ее правильно? Он смутится, как и положено воспитанному молодому человеку, и ответит, что уверен. Она вздохнула. С тех пор как в далекой молодости она вышла за Уэсли, ее здоровье мало кого интересовало. — Да. Я не буду его больше пить. — Непохоже на вас, миссис Бэбкок. — Откуда вам известно, что на меня похоже? — Но почему? Интересно, почему, с тех пор как она заболела, все относятся к ней как к идиотке? — Оно не помогает, доктор. Вы сами могли бы это понять. С каждым днем кровоподтеков все больше. Течет из носа. К тому же я поправилась на десять фунтов. — Нужно время, миссис Бэбкок. — Я жду уже две недели. Куда уж больше? — Ну, ну. Вы очень пессимистичны, — ухмыльнулся он. — За последние десять дней — никакого улучшения. — Верно, — неожиданно согласился он. — Что ж, не хотите пить таблетки — я назначу уколы. Но подумайте, миссис Бэбкок, если вы откажетесь и от них, я все равно не сниму с себя ответственности за то, что с вами произойдет. — Как вам угодно! — холодно ответила она, стараясь сдержать торжествующую улыбку. — Кстати, доктор Фогель, — прибавила она уже вслед ему, — могут ли у женщины после нескольких лет менопаузы возобновиться месячные? Он резко повернулся. — У вас вагинальное кровотечение? Она кивнула. — Я велю сестре прислать вам подклады. Прошу вас, миссис Бэбкок, пересмотрите свое отношение к преднизолону. Я подозреваю… — он выскочил из палаты. Что он подозревает? Что кровотечение из влагалища имеет ту же причину, что и из носа? Что ж, это лишнее доказательство бесполезности лекарства. Дверь распахнулась. Выдавив из себя улыбку, вошла Джинн и — в своем пестром крестьянском платье. — Привет, мама, — глядя в пол, поздоровалась она. — Это ты? — Да. Я видела доктора Фогеля. Он сказал, что ты отказалась принимать лекарство. — Да. И не пытайся уговорить меня. Я еще не умираю. Джинни не узнавала свою мать. Она помнила ее либо кроткой и терпеливой, либо молчаливой и недовольной. Может, это лекарство так изменило ее? Она помогла матери встать и повела в лоджию. В соседней палате грохотал голос тренера: — Да, случайно здесь тренер — именно я. Я приказал, так и передайте. Меня не интересует его мнение. Здесь тренер я! Когда он будет тренером, пусть поступает по-своему! — Тебе не надоело его слушать, мама? — Надоело? Конечно! Ты бы хотела каждый день слышать одно и то же? — Нет, не хотела. — Зачем же спрашиваешь? Мистер Соломон и сестра Тереза приветливо кивнули Джинни и ее матери. Джинни села в сторонку и молча смотрела на них. — Мама, — не выдержала она наконец. — Ты совсем не ешь. Возьми свеклу. — Я ее не люблю. — Но она полезна при анемии. — Роли переменились: точно так же, как когда-то мать, теперь Джинни играла роль диетолога. Она хмыкнула: родители несколько лет тратят на то, чтобы уговорить детей есть, а дети, вырастая, тратят остаток жизни, стараясь есть поменьше. — Полезна? С каких это пор ты обо мне так заботишься? — С недавних, мама, — кротко ответила Джинни и посмотрела на мистера Соломона и сестру Терезу — не поддержат ли ее? Что за фурия вселилась в кроткое тело матери? Но они продолжали есть, не отрывая глаз от тарелок. — Успокойся, мама. Съешь свою свеклу. — «Ешь свеклу!» Хочешь, чтоб я скорей ее съела, заснула и отпустила тебя? Разве не так? Джинни не ответила. Что бы она ни сказала, мать поймет по-своему. Лучше молчать. — Ладно, — уже спокойней продолжила мать. — По крайней мере, ты хоть приехала меня навестить. Не то что мои сыновья. Джинни открыла рот, намереваясь объяснить, что Германия и Калифорния — это не Вермонт, оттуда так быстро не доберешься, но передумала. — Просил ведь не давать мне кашу, — вздохнул мистер Соломон. — Все без толку. — Швырните ее об пол, — спокойно посоветовала мать. И это ее мать! Женщина, для которой поторопить детей выйти из туалета всегда было высшим проявлением мятежного духа! — Мама! — ахнула Джинни. — Я тебе не мама, — сухо ответила мать. — Я тебя даже не знаю. «Наверное, лекарство свело мать с ума», — решила Джинни, теребя ремешок часов. Неужели мать не узнала ее? А может, узнала, но не может решить, чего от нее ожидать? Джинни помогла матери вернуться в палату и лечь в постель. — Можно, я займусь твоими волосами? — неуверенно спросила она, стараясь перевести разговор на какую-нибудь нейтральную тему. — Расчесать еще чего-нибудь? — Что тебе не нравится в моей прическе? — Все нравится. Но… — Привет, привет, привет… — затараторила, как заигранная пластинка, мисс Старгилл. Она влетела в палату и стала поправлять постель миссис Бэбкок. — Я способна помочь себе сама, — заявила миссис Бэбкок. Мисс Старгилл сунула ей в рот термометр, покрутилась несколько минут по палате, хватаясь то за одно, то за другое, потом вытащила термометр, посмотрела и умчалась в своем накрахмаленном халате к другим пациентам. Джинни включила телевизор: должны показывать «Тайные страсти» — и поудобней устроилась в кресле. «По крайней мере, есть повод не разговаривать с матерью», — подумала она. А кроме того, Джинни с удовольствием смотрела эту мыльную оперу раньше, когда нянчила Венди. Она лежала рядом с дочкой и млела от счастья, чувствуя, как наполняется молоком маленький животик и сравнивая свою счастливую жизнь со страданиями героев. Ей хотелось сказать им: «Заведите детей! Это будет лучшим лекарством от всех ваших переживаний!» Пальчики на ручках и ножках, коленочки, локотки — все сгибалось там, где положено. На пухленьких розовых щечках отдыхали чудесные коричневые реснички, а влажные розовые губки все еще причмокивали во сне. Разве это не чудо? Как могли двое взрослых смертных — она и Айра — создать это миниатюрное совершенство? Но что толку снова бередить душевные раны? Джинни с усилием сосредоточилась на экране: Шейла разговаривала с Эллой по телефону. Странно, что Джо Боб совсем не изменился. Совсем как в этом фильме: герои годами ничего не совершают, не развиваются, только ходят, едят, говорят… Марк до сих пор не признался Шейле, что девочка, воспитанная его сестрой Линдой, — дочь дяди их матери. — Не может быть! — громко сказала Джинни. — Что? Шейла до сих пор ничего не знает? Не знает, кто отец Сюзи? — Джинни чуть не рассмеялась, услышав это от матери. Значит, мать тоже смотрит этот сериал? — Да. Не верю. Разве можно этого не знать? Во-первых, Сюзи совсем не похожа на Фрэнка. Фрэнк блондин, а она — рыжая. — Да, но у Линды темно-каштановые волосы. Кроме того, гены — дело тонкое. — Согласна. — Джинни обрадовалась, найдя общую тему. — Но ты не находишь, что Марк обязан сообщить Шейле, почему дядя Кларенс вычеркнул ее из своего завещания? — Не уверена. — Мать поджала нижнюю губу, как делала всегда в щекотливой ситуации. — В конце концов, неизвестно, как бы она на это отреагировала. У нее и без того хватает проблем. — Вряд ли Шейла расстроилась бы. — Вспомни ее реакцию, когда она узнала, что Регина беременна. Без мужа… Я бы ничему не удивилась: от Шейлы всего можно ожидать. — Гм-м-м, наверное, ты права. Мыльные оперы ни с чем нельзя сравнивать. Они такие же скучные, как сама жизнь. То, что происходило за полчаса в фильме, вполне могло произойти и в реальной жизни. С тех пор как Джинни в последний раз смотрела «Тайные страсти» — год назад, — только и произошло-то, что Фрэнк бросил работу в студии и стал снимать эротические сценки. Линда возбудила дело о разводе, а Шейла после многочисленных абортов выяснила, что бесплодна, и сомневалась, поддаться ли уговорам Марка усыновить малыша. Фильм кончился. Джинни хотела спросить, выключить ли телевизор, и увидела, что мать спит. Она тихонько вышла в коридор и спросила у сидевшей за столиком медсестры, где найти доктора Фогеля. — Посмотрите в лаборатории. Первая дверь. — У него перевязка, — ответили ей там, и Джинни решила ждать. Вскоре он вышел — в белом халате, крупный, стремительный в движениях. — Доктор Фогель! Вы не могли бы уделить мне минутку? — Я занят, — передавая секретарю какие-то бумаги, ответил он. — Одну минутку! Доктор Тайлер лечил их совсем не так: он долго и подробно объяснял пациентам, что намерен делать, почему назначил именно это лекарство. — Вы не хотите попробовать другое лекарство? Старое не помогает моей матери — миссис Бэбкок из триста седьмой палаты. — Существуют разные средства, чтобы поддержать тромбоциты и уменьшить хрупкость капилляров, — ответил он. — Вы найдете то, что поможет? Он поднял голубые глаза к потолку. — Надеюсь. Иначе для чего я здесь, мисс Бэбкок? — Пожалуйста, объясните мне, как они действуют? — Э… ну, ладно. Мы точно не знаем. — Джинни могла поручиться, что ему очень нелегко признать, что он чего-то не знает. — А если она и дальше будет отказываться их принимать? — Сделаем переливание крови. У нее анемия, ей нужна донорская кровь. — Он сочувственно улыбнулся и вернулся к своей работе.
Вернувшись домой, она сразу направилась к сосне. Но ни на ветках, ни на земле птенцов не было. Может, родители дали им несколько уроков и научили летать? Вот и чудесно! Она хотела идти домой, но слабый писк остановил ее: под веткой, вцепившись в нее острыми коготками, вертикально висели три маленьких стрижа. Может быть, они предпочитают висеть, а не сидеть? Пусть висят. Она вернулась в хижину, приготовила сэндивичи с тунцом и подошла к окну. К сосне на согнутых лапах подкрадывалась пестрая кошка. Джинни закричала и стремительно выскочила во двор. Кошка убежала, а птенцы, упавшие с ветки, беспомощно ползали по земле. Она подняла их и снова посадила на мохнатую сосновую ветку. — Черт бы тебя побрал! — крикнула она сидящему на трубе стрижу. — Поднимай свою задницу и лети сюда. Твоим детям нужна помощь! (Конечно, зря она злится, птицы есть птицы, глупо требовать от них человеческих поступков, но, с другой стороны, разве не находят они без всякого компаса дорогу домой через тысячи миль?) Джинни вернулась в хижину и набрала номер доктора Тайлера. Никто не ответил. Ехать в больницу не хотелось, и она выбрала самый длинный путь — мимо Халлспортской средней школы. На треке никого не было — ни Джо Боба, ни его «мальчиков». Около двери в Халлспорт тренировались три девочки с развевающимися над головами коричневыми и серыми флагами. Она остановилась. Казалось, прошлое никуда не уходило: сейчас ей дадут ее флаг… — Вам помочь? — Что? — очнулась Джинни. Около джипа стоял молодой человек с влажными белокурыми волосами. Она узнала Билла Барнса, «лошадку» Джо Боба. — Вы, похоже, чем-то расстроены? Может, вам показать дорогу? Или еще что-нибудь? — Нет, спасибо. Я просто залюбовалась девочками. — Правда здорово? — Неплохо. Я тоже была чиэрлидером, — почему-то не удержалась и похвалилась она. — Неужели? — У него была очень красивая улыбка и белые зубы. Ей стало немного обидно, что он не поверил ее словам, и она едва удержалась, чтобы не начать уверять его, что была тоже стройной, свежей и грациозной — ничуть не хуже этих девочек. — Давно? — Десять лет назад. Непохоже, чтобы за эти годы упражнения изменились. — Вы находите? — Он явно смеялся над ней, и она с грустью ощутила свой бальзаковский возраст. — Мне пора. Спасибо, что предложили помощь. — Она завела джип. — Вас куда-нибудь подвезти? Он покраснел и неуверенно сел в машину. — Конечно. — Куда? Он замялся. Джинни прекрасно понимала его состояние. Он не знал, действительно ли она просто хочет подвезти его или ждет чего-то большего? Джо Боб часто хвастал, что женщины — «мамочки», как они с Доулом называли их — предлагают подвезти его после матча. Бывшие чиэрлидеры или подружки футбольных звезд, старея, хотели приобщиться к былому триумфу. Когда-то красивые, стройные, они поблекли, потеряли свой стиль в монотонной домашней работе и заботах о детях и надеялись хоть на мгновение вернуть прошлое. Джинни сама не знала, зачем предложила парню подвезти его. Может, она тоже «мамочка» в его глазах? — Вы живете в Халлспорте? — краснея, спросил парень. — В Вермонте. — В Вермонте? — Он недоверчиво посмотрел на нее. — Да. А моя мать живет здесь. — Вы приехали навестить ее? — Да. — Она завела двигатель и медленно поехала по Халл-стрит. Интересно, назначит он ей свидание или нет? У нее давно не было мужчины, а безумная связь с совсем юным мальчиком может оказаться именно тем, что ей сейчас нужно: просто сексом, без оглядок на прошлое и надежд на будущее. Одним словом, ерундой. В конце концов, если Айра выгнал ее за измену, которой не было, у нее есть все основания изменить ему. Чем бы они ни занимались тогда с Хоком — это не было супружеской изменой. — В какие спортивные игры вы играете? — Во все. — Но какая-то нравится вам больше? — Наверное, футбол. Я надеюсь получить в следующем году футбольную стипендию. А потом стану тренером. Джинни сделала круг по площади и снова выехала на Халл-стрит. Наступал вечер, и, как во времена ее молодости, молодежь каталась по городу на машинах. — Когда-то мы тоже вечера напролет утюжили Халл-стрит, — вздохнула Джинни. — А в «Росинку» вы еще не ездите? — Конечно. Хотя многие предпочитают «Вершину Сау Гэп». А еще есть «Макдональдс». Единственным отличием этих ребят от них, как удалось разглядеть Джинни, было то, что они носили не короткий ежик, а длинные волосы и усы, одеты не в узкие джинсы и футболки, а расширенные книзу брюки и тенниски. У красного огня светофора рядом с джипом остановился «чеви». Сидящие в нем ребята — наверное, приятели Билла — смеялись и делали неприличные жесты. Он покраснел и отвернулся от них. Джинни стало смешно. До нее дошло, что она — никакая не «мамочка», что восторженная девочка-чиэрлидер и Джо Боб Спаркс давно умерли, и что даже такое накачанное тело, как у Билла, не способно возбудить в ней настоящую страсть. — Вы хотите стать тренером? — спросила она, решив положить конец этому двусмысленному положению. — Я встречалась с вашим тренером, Джо Бобом Спарксом. Парень стиснул колени, охватил себя руками и уставился прямо перед собой. — Тренером Спарксом? — прохрипел он. — Да. Мы встречались почти два года. — Джо Боб, похоже, здорово потрудился, если при одном упоминании его имени — как когда-то имени Бикнелла — парень задрожал и притих. Интересно, крадется ли Джо Боб среди машин в кинотеатре на свежем воздухе, выискивая нарушителей комендантского часа? — Где ты живешь? — мягко спросила она. Парень еле слышно пробормотал адрес, и она отвезла его прямо к дому, с облегчением проследив глазами, как он выскочил из джипа и стремительно влетел в подъезд. Джинни приехала в больницу, когда мать заканчивала ужинать. — Привет, мама, — сказала она, садясь на диван. — Удивительно, что ты соблаговолила прийти, — бросила мать. — Я ведь была здесь днем, — сдержанно напомнила Джинни. — Разве ты забыла? Мы смотрели «Тайные страсти». — Конечно, нет. Ты что, думаешь, я совсем одряхлела? Джинни подошла к окну. Ранний вечер — самое красивое время дня в Халлспорте. Солнце уже село, но еще не спряталось за горизонт. Завод, предгорья, церковная площадь, железнодорожная станция — все купалось в мягких золотых лучах; и все Божьи существа, даже ее сварливая мать, казалось, замерли на мгновение, отрешившись от дневной суеты перед долгим ночным отдыхом и забвением. Она глубоко вздохнула. — Тебе так быстро надоело здесь? — спросила мать. — Учти, я не просила тебя уезжать из Вермонта. — Нет, мама, не надоело. Я просто устала, удивляясь своему терпению, наверное, унаследованному от майора, — ответила Джинни. В палате Джинни снова включила телевизор. После политических карикатур стали показывать спектакль про ковбоев. — Ну, как вы себя чувствуете? — показалась в дверях мясистая голова доктора Фогеля. — А как, по-вашему, я могу себя чувствовать? — отрезала миссис Бэбкок. — Хорошо. Отлично, — неопределенно хмыкнул доктор Фогель. — Доктор, я умираю? Он помолчал и глубоко вздохнул: — Откуда такие черные мысли, миссис Бэбкок? Да еще в такой чудесный вечер… Прошу вас, поверьте: мы делаем все, что нужно. Используем самые новые лекарства, имеющиеся в нашем распоряжении, делаем все нужные анализы. Но… — он снова помолчал, — все это поможет только в том случае, если вы будете с нами заодно. — Он быстро повернулся и исчез. «Почему он дал такой пространный ответ на конкретный вопрос? — удивилась Джинни, тупо глядя на экран. — Что он хотел этим сказать?» Она покосилась на мать. Та сидела с ошеломленным видом и тоже, похоже, обдумывала его ответ. На экране около кучи искалеченных тел сидели два брата-ковбоя и над чем-то смеялись. — Почему я? — неожиданно выкрикнула мать. — Почему я, а не ты? Это ты должна лежать на больничной койке. Ты всю жизнь только и делала, что на это напрашивалась! Моталась на мотоцикле, лакала самогон и шлялась по идиотским митингам! Ты ничего не сделала ценного за всю свою жизнь — разве что гонялась за удовольствиями. Я — вот кто всегда исполнял свой долг! Я буквально на четвереньках ползала, прислуживая тебе, твоему отцу и братьям! И так — год за годом. В кои-то веки хотела попутешествовать, вернуться к преподавательской работе — но ничего не вышло. А теперь — это! Почему? — Почему? — вскипела Джинни, потеряв над собой контроль. — А почему бы и нет, мама? Миллионы людей умирают каждый день, а ты готовилась к этому всегда — сколько я себя помню, ты вечно носилась со своими дурацкими надгробиями и эпитафиями. Только это я и слышала от тебя и майора. Почему же тебя так раздражает то, к чему ты всегда стремилась? — Не смей так говорить со мной, Вирджиния Бэбкок Блисс! — А то, что ты обслуживала нас, — так мы тебя не просили! Тебе просто надо было чем-то заниматься! Ты делала это ради себя, мама, не ради нас. А я… если я всю жизнь только гонялась за развлечениями, то почему я сейчас так несчастна? На круглом желтом лице матери выступили капельки пота. Они устало посмотрели друг на друга, не зная, что еще сказать. Джинни стало стыдно. Она закрыла глаза и поглубже устроилась в кресле. Миссис Бэбкок чувствовала, что в словах дочери есть доля истины. Где-то она допустила ошибку. Она так долго удовлетворяла потребности этих неблагодарных людей — своей семьи, — что быть необходимой превратилось в ее главную цель. Чем еще можно объяснить ту депрессию, которая стала мучить ее после того, как дети покинули дом? Она искала причину то в одном, то в другом, а все дело было в том, что она ощущала свою ненужность до такой степени, что не хотелось жить. Где же она споткнулась? Когда? Когда вышла замуж за Уэсли? Возможно. Она могла подождать, пока не получит степень преподавателя истории, которой очень интересовалась. Но что оставалось делать, если Уэсли уходил на войну и рисковал быть убитым? В то сумасшедшее время все словно с цепи сорвались: заключались самые невероятные браки; словно желая заменить тех, кто может погибнуть, рождались дети; вот и она поспешила выйти замуж, а через десять месяцев родился Карл. Она колесила с ним вслед за Уэсли по военным базам страны, пока через год в Халлспорте не родилась Джинни. Ей было два месяца, когда мужа отправили во Францию. Каждую ночь часа в три девочка просыпалась и безутешно плакала. Единственное, чем можно было ее успокоить, — это взять на руки и петь колыбельную. Она цеплялась за мать, как маленькая обезьянка, и сразу начинала кричать, стоило той сесть или лечь. Тогда просыпался Карл, и двое оставшихся без отца малышей орали наперебой до рассвета. Измученная недосыпанием, она металась от надежды к отчаянию, следила за военными сводками и каждый день ждала — часто напрасно — писем от Уэсли. Вот тогда она и превратилась в оцепеневшего робота. Ее собственные желания не имели значения. Существовали только двое беспомощных малюток, нуждавшихся в ней, чтобы выжить в этом хаосе. И она пела, играла и каталась с ними на полу хижины, хотя больше всего ей хотелось остаться одной, чтобы выплакаться или перечитать пять писем Уэсли. А потом ей уже не хотелось и плакать. Джинни права. Миссис Бэбкок знала, что она — мученица. В те несчастливые военные годы детские потребности поглотили ее собственные, а когда война закончилась, она отвыкла от мыслей о себе и не возвращалась к ним долгие годы — пока не осталась одна. Вернулся Уэсли, а у нее, изнуренной бессонницей и заботами, не было сил даже думать о сексе, и они часто ссорились из-за всякой чепухи. А однажды она чуть не сорвалась — когда занесла над головой Карла тяжелое пресс-папье только за то, что он повадился съезжать по перилам, таща на поводке собаку. Ей стало страшно, и она ухватилась за мысль о смерти — как о спасении. Она навестила свою мать и рассказала о своем отчаянии. Та холодно посмотрела на нее: «Ты должна исполнять свой долг, дорогая». И она исполняла. А теперь она здесь — одна, больная, никому не нужная после стольких лет самоотречения. Дети и Уэсли не были виноваты; виновата только она сама. Джинни, похоже, сама будет решать, сколько иметь детей и как их воспитывать. Уж она-то не принесет себя в жертву. Джинни сидела, закрыв глаза, не в силах ни извиниться, ни снова ринуться в атаку. Самое беспощадное оружие матери — чувство вины — парализовало ее. Каждое слово матери было правдой. Она действительно прислуживала им много лет, не требуя благодарности, но это не значило, что они не ценили ее. Дело не в этом. Неважно, что Джинни жила далеко от дома; она просто была уверена, что мать не одобряет ее образ жизни, и поэтому не стремилась встречаться с ней. Жена Айры, мать Венди — это мать одобряла. Но с этим ведь было покончено… Она вспомнила свое последнее Рождество в Халлспорте — почти за год до того, как уехала в Бостон. Карл и Джим приехали на каникулы. Мать весело суетилась: гирлянды, елка, подарки, стряпня — все сама. В сочельник у них на столе всегда был традиционный гусь, гарнир и пудинг с изюмом. Майор лежал наверху с мигренью. После обеда они вернулись в гостиную и спели перед камином гимн. В тот год каждый из детей спешил на свидание, мысли были заняты другим, и гимн звучал совсем не так, как положено. Джинни предвкушала петтинг с Клемом, Карл мечтал о какой-то девушке, ждущей его на церковной площади, Джиму тоже не терпелось поскорее удрать, и неожиданно дети рассмеялись. Они не знали, почему смеются. Наверное, им было смешно, что взрослые современные люди должны придерживаться бессмысленных традиций. Мать тихо заплакала. Они постепенно успокоились, но не нашли ничего лучшего, как выскользнуть потихоньку, оставив ее одну. Мать не знала, как разрешить им уйти, а они не представляли, как уйти, не обидев ее… — Фогель не сказал, что ты умираешь, мама, — пробормотала Джинни. Миссис Бэбкок промолчала. — Мне уйти? Мать протянула руку и взяла с тумбочки белые таблетки. — Который час? — Около семи. — Я совсем потеряла чувство времени. — Я принесу часы. Немного погодя Джинни рассказала ей о стрижах. — Как ты думаешь, что мне с ними делать? Миссис Бэбкок вздрогнула. Неужели кому-то интересно ее мнение? — Не знаю… Когда вы были маленькими, птенцы тоже выпадали из гнезд. Их подбирали кошки, а вы плакали и кричали, что природа несправедлива. А мне было нечем вас утешить, потому что я тоже не понимала, в чем виноваты птенцы. — Мать помолчала. — Помнишь нашу рыжую кошку Молли? Тебе было лет шесть, когда мы ее взяли. Однажды ты увидела ее с крошечной головкой птенца в зубах. Ты швыряла в нее палки и плакала. Я не знала, как тебя успокоить, и сказала, что вся жизнь состоит из несправедливостей. Ты не разговаривала со мной тогда несколько дней. А родители-стрижи не пытались их покормить? — Думаю, нет. — Неужели спокойно сидят на трубе и смотрят, как их дети умирают с голоду? — Похоже на то. — Джинни удивилась, что мать тоже возмущает такое поведение птиц. — Их нужно пристрелить! — Согласна. Но я не знаю, что делать. У птиц свои законы. — В книжном шкафу у камина есть книга о птицах. Может, найдешь что-нибудь. Они продолжали болтать, будто не было никакой ссоры, пока мисс Старгилл не принесла снотворное.
Проезжая мимо дома Клема, Джинни привычно посигналила. От дерева кто-то отделился и вышел на дорожку. — Я слышал, что ты вернулась, — приветствовал ее Клем. — Иначе бы не узнал. — Он кивнул на ее деревенское платье. — Закончил работу? — Да. Припозднился немного. Мой работник заболел. — Говорят, твоя ферма процветает? — Самая высокая продуктивность в штате! Я только на молоке заработал восемнадцать тысяч долларов, — горделиво сказал он и смахнул тыльной стороной руки бисеринки пота с нижней губы. — Молодчина! Ты знаешь, что моя мать в больнице? — Да, слышал. Очень жаль. У нее был трудный год.Молю Бога, чтобы она поскорей вернулась. Как она? «Молю Бога?» И это Клем, первый хулиган во всей Халлспортской средней школе? — Точно не знаю. У нее это уже было, и она выкарабкивалась. Не понимаю, почему так плохо на этот раз. Выглядит она ужасно, но, по-моему, выздоравливает. — Почему бы тебе не зайти не поболтать с Максин? — Только на минутку, а то тебе рано вставать. Ничего не видя от яркого света, Джинни почувствовала, как Максин схватила ее и прижала к огромной груди. Глаза постепенно смогли снова видеть, и она рассмотрела подругу. Максин заметно постарела. Мощные груди свисали почти до талии, но между ними по-прежнему висел золотой крестик. Бывают женщины, которые, полнея, выглядят просто толстыми, а бывают такие, которым полнота придает чувственности и сердечности. Максин принадлежала ко вторым. Рядом с ней Клем казался совсем тщедушным. Но его лицо… Всегда насмешливое, напряженное, оно смягчилось и подобрело. А главное — он не хромал. Джинни так хорошо знала его, что совсем не замечала искалеченную ногу и ковыляющую походку, но теперь… он действительно не хромал. Она осторожно опустила глаза: левый сапог имел нормальную подошву, а правый больше не был вывернут наружу. Что же произошло? На столе уже дымился ужин. Трое темноволосых ребятишек с чертами мелангеонов уселись на свои места. Спрашивать о происшедшем чуде было не время. — Поешь с нами, — уговаривала Максин. — Спасибо, я уже ела. Мне нужно кое-что сделать в хижине, пока не стемнело. Но я вернусь. — Только обязательно! — приказала Максин.
Глава 7
Материал для Уорсли. Через несколько недель после падения с «харлея» я пришла в себя. В окно ярко светило солнце; я лежала неподвижно — вся в бинтах, с подвешенными к блокам руками и ногами. Все это время я была без сознания — спящая красавица, вернувшаяся к жизни. Клема ко мне не пускали. И очень кстати: я была крайне занята. Майор, воспользовавшись моей беспомощностью, заставил написать заявление в университет. На вопрос: «Почему вы хотите поступить в Уорсли?» — я ответила: «Я никуда не хочу поступать. Меня держат в больнице, как в плену, и заставляют учиться». Из Уорсли очень быстро пришел ответ: «Приглашаем вас на собеседование. С удовольствием прочитали ваше оригинальное заявление». Но не успела я сжевать и проглотить письмо, как майор выхватил его у меня из рук. Как только я смогла сидеть на своей ободранной заднице, он повез меня в Бостон. В знак протеста я вырядилась в черную узкую юбку и кофту, вызывающе подчеркивающую острую грудь, красную ветровку Клема с восточным драконом на спине, рваные чулки — я еле отыскала их в мамином комоде, — черные балетные тапочки и серебряный браслет с именем Клема. Мисс Хед уставилась на меня так, словно перед ней — ожившее произведение искусства восемнадцатого века. Она рассматривала меня, я — ее. У моей будущей наставницы были вьющиеся, тронутые сединой волосы, собранные сзади в тугой пучок. На мертвенно-бледном лице выделялись роговые очки с цепочкой: они рискованно подпрыгивали на носу, когда она говорила. — Должно быть, произошла ошибка, — объявила я этой симпатичной мисс Хед, — вы только посмотрите, какие у меня в аттестате оценки. Я не выдержу конкурса. Будет несправедливо, если я займу чье-то место. Есть столько прекрасно подготовленных девушек, мечтающих здесь учиться! Я не соответствую требованиям Уорсли. — Да, да, оценки… — Мисс Хед посмотрела в мой аттестат и побледнела. — Действительно… — нараспев проговорила она. — Вот видите! Уж лучше я прямо сейчас заберу заявление и избавлю вас от неприятной обязанности сочинять мне отказ. — Я протянула руку, но мисс Хед ловко отодвинула мое заявление. — Видите ли, у нас еще никогда не учились девушки из Халлспорта. — Да, понимаю, — вздохнула я и села в резное деревянное кресло. — И — может быть, мне не стоит говорить об этом? — именно в этом году у нас квота на двух девушек из штата Теннесси. Мы преследуем важную цель: повышаем уровень выпускников школ из самых разных мест. Нам как раз не хватает одного студента из Теннесси. Я уверена, — она с сияющей улыбкой подняла палец вверх, — вы сумеете оценить преимущества Уорсли, мисс Бэбкок. Так что, юная леди, вам придется учиться у нас. — Она походила на акушерку, сообщающую о внебрачной беременности. — Можете идти. Пригласите отца, я сообщу ему эту приятную новость. — Он уехал по своим делам, — мрачно сказала я. — Действительно? — Наверное, она привыкла, что в приемной ждут волнующиеся родители. — Ну, тогда мы просто посидим и познакомимся поближе до его возвращения. — Она улыбнулась и вышла из офиса. Если бы я могла как-то выбраться из этой каменной крепости! Я бы сообщила Клему, он примчался бы ко мне на «харлее»… Я пошарила в кошельке: двадцать три цента. На них нельзя даже позвонить. Я вскочила и начала ощупывать стены в надежде найти потайную дверь в другой мир. Мисс Хед принесла серебряный поднос с серебряным чайником и чайным сервизом. Увидев, что я стою у стены, она удивленно подняла брови. — Любуюсь вашей стеной, — пробормотала я и нежно погладила мокрый валун. — Она чудесна, не правда ли? Во дворе тоже полно камня. Вы полюбите Уорсли, я уверена. Я неопределенно хмыкнула и вернулась на свой стул. Тогда я не знала, что тот ритуал, который за этим последовал, будет единственным, чему я научусь в Уорсли. Движения мисс Хэд были медленными: словно она вела меня по сложным ступенькам, как мастер ученика. Сначала она подняла расписное китайское блюдце, поставила на него чашку с таким же узором и бережно опустила так, что чашка оказалась под инкрустированным виноградными гроздьями чайником. Я смотрела во все глаза. Сейчас она поднимет чайничек… Она ловко наклонила его, не отрывая от подноса, и сильная ровная струйка красновато-коричневой заварки заполнила чашку до середины. Двумя пальцами — указательным и большим — мисс Хед передвинула чашку под краник большого серебряного чайника, повернула его ровно на сорок пять градусов и долила в чашку горячей воды — до верха осталось еще три четверти дюйма. — Молоко? Лимон? — улыбнулась она. — И то и другое, пожалуйста. Она еле заметно нахмурилась, словно я сказала что-то не так, но великолепно засмеялась, так что очки запрыгали на носу. — Конечно. Одну ложечку сахара? Две? — Три, пожалуйста. Она скривилась, положила в мой чай три ложки сахара, добавила чуть-чуть молока и положила на блюдце тонкий ломтик лимона. Потом церемонно протянула мне свой шедевр. — А теперь, мисс Бэбкок, когда между нами не стоит больше эта неприятная обязанность — оценивать вас, расскажите мне о себе. Кто такая Вирджиния Бэбкок из Халлспорта, штат Теннесси? Какие книги она читает? Какие занятия в наибольшей мере отвечают ее восприятию себя как личности? — В наибольшей мере? Мне очень многое нравится. — Я задумалась, стоит ли признаваться, какие книги с полок Клема я запоем проглотила за последний год. — «Безжалостная сделка», «Восставший из гроба», пожалуй… — Ха-ха-ха! Вы знаете, что меня особенно привлекло в вашем заявлении, мисс Бэбкок? «Меня держат в больнице, как в плену…» Действительно! — Но я была пленницей! — Вы восхитительно остроумны, мисс Бэбкок. Подумайте: я читаю бесконечные заявления, написанные как будто под копирку: «Я мечтаю получить образование в Уорсли, чтобы лучше понять окружающий мир». Но ваши ответы, мисс Бэбкок… Вы — отличный материал для Уорсли. Что вы хотели бы изучать? — Она мельком взглянула на часы. — Сказать по правде, мисс Хед, я ничего не планировала изучать. Я надеялась, что меня не примут. Мне нужно подумать. — Я начала смиряться с мыслью, что придется отдать Уорсли четыре года жизни. Мисс Хед, похоже, не самый плохой тюремщик. — А чем же вы собираетесь заняться, дорогая? — сверля меня глазами за толстыми стеклами очков, спросила мисс Хед. — Выйти замуж. — Ее реакция была точно такой, какой у Джо Боба, вздумай я сказать, что его футбол — никому не нужная чепуха. Она откинулась на стуле, закрыла глаза и стала массировать кончиками пальцев виски. — Вы тоже преподаете? — поспешно спросила я, чувствуя себя провинциальной идиоткой из Халлспорта, чудом оказавшейся в альма-матер образованных женщин. — Да, да, конечно. Философию. Семинар Декарта. — В таком случае, возможно, мы не будем встречаться на занятиях. Собственно говоря, я с одинаковым успехом могла изучать и физику, и философию, и домоводство. Мне было все равно. Я сказала, что согласна посещать ее семинар, и мисс Хед успокоилась. Образ Клема Клойда исчез за тенями Канта, Гегеля и еще кого-то с такими же немецкими фамилиями. Вернувшись в Халлспорт, я в первый же вечер пошла в летний домик. После аварии я немного прихрамывала, и врачи решили летом снова ломать мою неправильно сросшуюся кость, чтобы к осени — началу учебы в Бостоне — я окончательно выздоровела. Не поступи я в Уорсли — хромала бы до сих пор. Майор наверняка отомстил бы мне за такое неповиновение. С Клемом мне запретили встречаться, но этот запрет был для меня тем же, чем папская булла для средневековых монахов. Не ожидая ответа, я постучала в дверь. Клем удивленно отступил, увидев меня, но ничего не сказал. Я проковыляла мимо него и огляделась. Порнографических плакатов больше не было, книг на полках — тоже. На столе лежала раскрытая Библия, а на стене — там, где раньше крысы жрали женскую грудь, — висело распятие. — Привет! Клем смотрел на меня так, словно ждал удара, и молчал. — Ты снял плакаты? — Да. От них нет толку. — Будут другие девушки, — нахально сказала я. — Меня больше не интересуют эти глупости. — В самом деле? — «Харлей» я тоже продал. — Ты шутишь? Отец заставил? — Нет. Я сам. Джинни, я очень виноват. Господи, как я виноват! — Ты совсем не виноват! Я сама упала. — Моя вина в том, что я превысил скорость. Я не знаю, что сказать тебе, Джинни, просто мне очень жаль. Я ведь чуть не убил тебя. — Пожалуйста! Не стоит оправдываться! — смутилась я. — Ты ни в чем не виноват. — Я пытался увидеть тебя, Джинни. Даже переодевался санитаром и мыл в твоей палате полы. Я все время думал о тебе. — Я тоже думала о тебе. Ты знал, что я уехала в Бостон? — Да. Отец говорил мне. — Я снова уеду осенью. — Я обрадовалась, увидев, как осунулось его лицо. — Отец заставил меня пройти собеседование. Но там не так уж плохо. Особенно если любишь чай. Клем отошел и сел на лавку, которую сделал, когда нам было по восемь лет и мы смешивали кровь в знак вечной дружбы. Я села рядом. — Может быть, ты приедешь ко мне в гости? — Нам не разрешают видеться даже здесь, — мрачно ответил он. — Вряд ли я смогу уехать за тысячу миль и никто этого не заметит. — Тогда, может, нам лучше забыть друг о друге? — потерянно пробормотала я. В конце концов, сразу порвать — тоже выход. — Нет! Давай хотя бы попробуем. Я сделаю тебе ключи. Приходи в пятницу в два часа. Мы умудрились встретиться шесть раз. Каждый день ровно в два часа Клем ждал меня в домике. Я приходила когда могла. Мы мирно беседовали о ферме. Клем, закончив школу, теперь все время помогал отцу. (Только потому, что я была дочерью майора, мне разрешили сдавать экзамены летом, и я тоже успешно окончила Халлспортскую среднюю школу.) Иногда мы сплетничали об общих знакомых — клиентах «Ведра крови». Часто всплывало имя Максин. Один раз я с неожиданной болью спросила, встречался ли он с ней, пока я болела, но не получила ответа. Как-то само собой получилось, что Клем ни разу не дотронулся до меня. Возможно, узнай об этих встречах родители, они смягчились бы, но мы не стали рисковать и держали все в тайне. За два дня до моего отъезда мы договорились, что встретимся здесь в День благодарения, когда я приеду домой. Мы долго молчали. По едва заметной, спрятанной зарослями малины и дикого винограда тропинке я поднялась на вершину холма. Подо мной лежало начинающее желтеть поле; голштинские коровы выстроились в очередь на дойку. В дверях летнего домика стоял Клем — стройный, смуглый, красивый — и смотрел на меня. Он медленно поднял руку. Я тоже подняла свою в ответ. Потом повернулась и похромала домой.Моя комната в Уорсли была под самой крышей. Я специально выбрала такую из-за соседства с пожарной лестницей. Сверху я обозревала вымощенный плитами двор и небольшое озеро, на котором каждое утро тренировались гребцы. В середине двора на песчаном постаменте красовались огромные бронзовые солнечные часы, украшенные металлическими листьями. А над озером возвышалась богиня охоты — бронзовая Артемида. Моя комната была одной из трех в блоке с ванной. Я с удивлением обнаружила, что ванные комнаты в многоэтажных домах расположены точно одна над другой. Комната была невелика. В сущности, я могла бы сказать, что живу в мансарде. Первые пару месяцев я провела или там, или в библиотеке. Я не хотела заводить знакомства. Меня не интересовала общественная жизнь. Если становилось грустно, я вспоминала Халлспорт. Здесь я постоянно ощущала свою неполноценность. Преподаватель английского вернул мою автобиографию с оценкой «банально»; преподаватель истории назвал меня «фанатик-материалист»… Дело было не в том, что я мало читала или не училась как положено в последнем классе средней школы, — причина крылась в моих умственных способностях. Вернее, в их отсутствии. Короче говоря, оказалось, что я не способна мыслить. В конце концов, раньше мне не приходилось этим заниматься, и теперь я неожиданно для себя оказалась в роли идиотки. Я написала Клему множество грустных писем. Он отвечал такими же. Мы хотели одного: пожениться и жить счастливо, а не страдать в целомудренном одиночестве. Близился День благодарения. Я позвонила майору и сообщила, что скоро приеду домой. — Ни за что! — заявил он. — Еще слишком рано. Ты только что уехала. Кстати, отец Клема сказал, что он получает от тебя письма. — И что в этом плохого? — Ничего. Но и думать не смей о приезде домой. — Мы одновременно повесили трубки. Я подумала, когда он станет старым, больным и несчастным, лучше пусть не стучится в мою дверь. Я написала Клему, попросила приехать на День благодарения и вложила в конверт чек. Он ответил, поблагодарил и сообщил, что чек не поможет: майор аннулировал платеж, а в Халлспорте он распоряжается всем. В кафетерии на Нарвардской площади в компании случайных людей я с ненавистью ела свою индейку. Рядом сидел второкурсник из Бирмингема, такой жалкий и одинокий, что я пошла с ним в его квартиру и легла в неопрятную постель, отдавшись ему без всякого энтузиазма или нежности под полкой, заваленной книгами и конспектами «Стадий жизненного пути» Кьеркегора. Вернувшись в Уорсли, я решила покончить с сексом: мой неуклюжий ум нуждался совсем в другом. Только я начала мечтать о рождественских каникулах, как через несколько дней пришло письмо от Клема. Он писал, что они с Максин обручились. Ему очень жаль, но нам не суждено быть вместе. После всего, что у нас было, он смеет надеяться, что мы останемся друзьями. Я уговаривала себя не обижаться на Клема, но не понимала, как можно бросить меня после всего, что мы пережили. Лживый подонок! Сначала чуть не убил, а потом бросил одну в холодном и мрачном городе, среди равнодушных, чужих людей. А подлая Максин? Я буду драться! Я прилечу домой и прямо из аэропорта брошусь в его объятия! А потом разорву Максин яремную вену… После всех этих мыслей я очутилась в больнице. Сначала с лихорадкой, потом с ангиной. Мисс Хед принесла учебники, чтобы я готовилась к экзаменам, но я отворачивалась, твердо решив умереть. Мне ничего не хотелось. Даже покоя. В сочельник мисс Хед снова появилась в моей палате. Я закрыла глаза, притворившись спящей. — Я принесла вам Декарта, мисс Бэбкок. (Прежде чем я решила умереть, я успешно занималась в ее семинаре — не потому, что мне нравится Декарт, а потому, что нравилась она.) — Но я не положу его на тумбочку. Вы сами должны повернуться и взять его. — Но у меня ничего нет, — заплакала я. — Нет подарка для вас. — Есть, — смущенного проговорила она. — Есть подарок. — Какой? — заподозрила я что-то нечистое. Кто эта женщина, которая так бессовестно манипулирует мной? Сначала приняла в Уорсли, теперь мешает умереть… — Встаньте, оденьтесь и поедем ко мне праздновать Рождество. — Я не могу. У меня пневмония. — У вас нет никакой пневмонии! Я спрашивала доктора. — Откуда он знает? Не он же болен! — И не вы тоже, — сдерживая улыбку, твердо ответила мисс Хед. Несколько недель назад я очнулась в больнице. Меня, как в гроб, положили на кровать за металлическую решетку, приносили еду, но я редко позволяла себе поесть. Приносили и уносили судно. От меня ничего не ждали и ни о чем не спрашивали. Это было похоже на смерть, к которой я так стремилась. Казалось, это очень легко — умереть… Черт бы побрал эту мисс Хед! — Вы переутомились. Нужно было прийти ко мне и попросить облегчить программу. Об этом знали бы только мы двое. В конце концов, это я убедила отдел образования принять вас, и ваше благополучие — дело моей профессиональной чести. Не говоря уже о личной чести. Пойдемте, мисс Бэбкок. Я покорно свесила ноги и впервые за три недели коснулась пола. Я думала, кровь прильет к отвыкшим от вертикального положения ногам, но ничего не произошло. Мисс Хед крепко взяла меня за руку и подвела к стулу, на котором лежала одежда. Я оделась; пошатываясь, вошла в ванную и ахнула. Из зеркала на меня смотрело осунувшееся чужое лицо, а волосы… Жирные, грязные… Уж лучше бы я умерла от страданий! — Волосы можете вымыть у меня, — предложила мисс Хед. Я не верила своим ушам: «Неужели эта неземная женщина может думать о таких примитивных вещах, как грязная голова?» Я набросила красную ветровку Клема и неуверенно пошла по коридору за мисс Хед. Ноги плохо слушались; в том месте, где был перелом, сильно болело. Мисс Хед жила в том же крыле, где и я. Мы прошли по коридору под вдохновляющими взглядами портретов бывших питомцем Уорсли. У одного питомца обе руки были правые. Я была уверена, что мисс Хед не замечала этого. В темной каменной нише под аркой с надписью «В тишине и покое наслаждайся знаниями» поблескивала стальными петлями тяжелая дубовая дверь. Квартира была небольшая: спальня, кухня, ванная и гостиная, обставленная в восточном стиле: чопорные диванчики, хрупкие стулья, покрытые чем-то пушистым и игольчатым… Мисс Хед повесила свой пиджак и мою ветровку и пригласила: — Устраивайтесь поудобней. Я кое-что сейчас приготовлю. Я осторожно присела на краешек стула, на деревянной спинке которого были вырезаны розетки, и поерзала, устраиваясь поудобней, на оказавшемся мягким игольчатом покрывале. Мисс Хед налила себе немного шерри и села напротив на маленький диванчик с золотистой обивкой. — Ну, так как насчет этого? — Чего? — Лежания в больнице и отлынивания от экзаменов? Я пристально посмотрела на мисс Хед, стараясь придумать что-нибудь правдоподобное, и вдруг выпалила: — Мой парень женится на другой. Она молчала. Я тоже. Наконец она недоверчиво спросила: — И это все?! — А разве мало? — Ну, вряд ли это повод бросать учебу. (В то время мне в голову не пришло, что таким образом мне промывают мозги.) — Теперь мне это кажется немного глупым, — пробормотала я. — Ну, может, это не совсем точное определение, скорей, вы поступили нелогично. — Я согласно кивнула, уже зная, что высшим осуждением в устах мисс Хед было слово «нелогично». — Видите ли, человеческий организм имеет ограниченный запас энергии. Если направить ее на что-то одно, можно ожидать, что остальное не оправдает твоих надежд. Если растратить ее на личную жизнь, никогда не станешь образованным человеком. — Вы думаете, мне разрешат сдавать экзамены? — Да. Вы лежали в больнице, да еще учтут, что до поступления к нам вам тоже пришлось провести там много времени, так сказать. Вам нужно подойти к преподавателям — к каждому индивидуально, — извиниться и объяснить обстоятельства — я имею в виду болезнь, и только, — и они, надеюсь, пойдут вам навстречу. Я, по крайней мере, определенно пойду. — О, спасибо, мисс Хед! Что я должна делать, чтобы закончить вас курс? — Написать до конца следующего месяца реферат на любую тему страниц на двадцать. Может быть, по Декарту? И еще: перестаньте читать ту литературу, которую вы считаете художественной. Это в ваших интересах. Я понимаю, вы пропустили много лекций, но я с удовольствием отвечу на все вопросы. У меня словно выросли крылья. Я была готова помчаться в свою мансарду и схватить зачитанного Спинозу. — Сегодня отдохните, поужинайте со мной, можете позвонить родителям, поздравить с Рождеством. Я пару раз разговаривала с вашими родителями, — как ни в чем не бывало, продолжала она. — Что в этом плохого? — Будь здесь моя больничная койка, я немедленно нырнула бы в нее и отвернулась к стене. Мисс Хед оказалась вероломной и ненадежной. Она молча посмотрела на меня, пожала плечами и вышла в кухню. Майор несколько раз звонил в больницу, но я отказалась разговаривать с ним, и в один прекрасный день он появился в моей палате. Я не хотела его видеть. Если бы не он, я была бы уже миссис Клем Клойд и никакой болезни и страданий не было бы и в помине. — Джинни, — прорычал он, — это смешно. Немедленно вставай! Я забираю тебя домой. — У меня нет дома, — процедила я сквозь зубы. — Я не понимаю, о чем ты говоришь. Вошел доктор и вывел майора из палаты. До меня доносился их разговор на повышенных тонах, но в результате я осталась там, где была. Мисс Хед пригласила меня к столу. После больничной посуды этот китайский фарфор, прозрачный хрусталь, инкрустированное столовое серебро и брюссельские кружевные салфетки показались сказочной роскошью. На столе стояла маленькая золотистая индейка, пышное картофельное пюре, оранжевое масло с орехами, соус, картофельный морс, ярко-зеленый горох — и все мое трехнедельное воздержание рухнуло. Я чуть не сунула нос в блюдо с индейкой. Мисс Хед улыбнулась и пригласила меня садиться. Неужели она приготовила этот роскошный обед для меня? А если бы я отказалась? Сидела бы в одиночестве и ела одна? Я чуть не заплакала, когда мисс Хед с улыбкой попросила меня разрезать индейку. Как случилось, что эта самостоятельная, образованная женщина так одинока? Так же одинока, как я, когда неделя за неделей притворялась, что хочу умереть? Есть ли у нее друг? Или тайный любовник, которому она отказала сегодня, чтобы спасти мою душу? Я искренне надеялась, что есть. — Откуда у вас такой замечательный фарфор и все остальное? — От матери. Я была единственным ребенком, поэтому мне все досталось. Правда, я редко пользуюсь всеми двенадцатью предметами сервиза. Я пристально посмотрела на нее: интересно, мучило ли ее одиночество? Я ведь тоже вознамерилась остаться одна — без родителей, любовника и друзей. Можно ли жить совершенно одной? После обеда мы вернулись на свои диванчики выпить чаю с мятой. Потом мисс Хед принесла из спальни отливавшую красным виолончель, села на краешек хрупкого стула и поставила ее между коленями. Внимательно осмотрела смычок и даже прицелилась, как стрелок из лука. Сняла с метронома крышку, завела его и начала играть. Я узнала партию виолончели из «Мессии» — неистовую, бурную, так что стул под мисс Хед подозрительно зашатался, а очки опасно запрыгали на носу. Она опустила голову и на минуту закрыла глаза. Потом прислонила виолончель к стене, посмотрела на часики на груди и негромко сказала: — Уже десять вечера. Вы, наверное, устали, мисс Бэбкок. Я отвезу вас в больницу. — Кажется, мне лучше пойти в мансарду, мисс Хед. Она устало улыбнулась и похлопала меня по плечу: «Дей-стви-тель-но». Я с трудом открыла тяжелую дверь и вышла в гулкий альков. Меня ждали суровые взгляды с портретов. Я передернула плечами и храбро двинулась вперед. До сих пор я обманывала их ожидания. Всю свою жизненную энергию я растрачивала, добиваясь, чтобы меня любил мужчина. Хватит! Больше этому не бывать! Я гордо подняла голову и впервые улыбнулась портретам и высоким деревянным стульям, выстроившимся вдоль тускло освещенного коридора. «Кто создал мир и зачем?» — так называлась тема, которую я выбрала для реферата по философии. Я работала над ней почти всю рождественскую ночь и к четырем утра написала четырнадцать страниц. Пользуясь картезианским методом, я составила изящное доказательство существования Бога, основанное на постулате: нельзя понять то, что не существовало изначально. Я прочитала написанное, восхитилась и довольная, как сам Господь Бог после сотворения человека, отправилась спать. Утром, едва заскочив в ванную, я села за стол продолжать реферат. Но вопрос «зачем» поставил меня в тупик. Моя теория рушилась, как карточный домик. Помучившись еще немного, я вычеркнула из названия слово «зачем» и ограничилась четырнадцатью страницами. Спустя два дня мисс Хед вернула мне реферат с большой красной «С»[1] и сказала, что снизила оценку за то, что я неправильно раскрыла тему, моя аргументация недостаточно логична, а форма изложения вызывает массу нареканий. Но, несмотря на эту неудачу, я поняла, что взяла приличный старт. — Оценка «С» не должна отбить у вас желание трудиться, — закончила свою тираду мисс Хед. — Вы слишком сентиментальны. Придется с корнем вырывать эмоции в доказательствах любого рода. Больше всего я расстроилась потому, что почти ничего не поняла из ее рассуждений. С таким же успехом она могла говорить на языке урду. Я надулась и решила вернуться в больницу, но вместо этого отправилась в магазин, купила Клему и Максин свадебный подарок — два шейкера, — один, очень дорогой, в форме головы быка и второй, подешевле, — коровы, — и отправила их по почте с дружеской запиской: извинилась за опоздание и пожелала им многих лет большого счастья. В отдельный пакет я положила ветровку и серебряный браслет. Потом отправилась в парикмахерскую и уложила волосы в тугой строгий пучок. Купила шесть шерстяных костюмов, несколько свитерочков «под горло» и несколько пар туфель на низком каблуке. Теперь ничто не будет напоминать ту восторженную дурочку, которая попала в больницу из-за разбитого сердца. Облачившись во все новое, я отправилась к мисс Хед. Был последний день рождественских каникул, завтра приедут студентки, и мне хотелось, чтобы мисс Хед ни с кем, кроме меня, не делила свое свободное время. Она внимательно осмотрела меня снизу доверху. — О, мисс Бэбкок! Вас трудно узнать. Очень мило! Я как раз собиралась пить чай. Проходите. Я присела на хлипкий стул и стала следить за точно таким же ритуалом, как тот, что когда-то уже поразил меня. — Вам с молоком? С лимоном? С сахаром? — С лимоном, пожалуйста. Без сахара. Мисс Хед довольно кивнула и протянула мне чашку с чаем. — Я хотела попросить вас, — с чувством собственного достоинства проговорила я, — помочь мне с расписанием на следующий семестр. Я не имею ни малейшего понятия, какие предметы выбрать. — Что вас интересует, мисс Бэбкок? — В том-то и дело, что я не знаю. В школе я ничем не интересовалась. («Разве что сексом, футболом и мотоциклами, которые совсем не интересуют меня теперь», — чуть не добавила я.) — Я не знаю, с чего начать. В моем образовании — сплошные пробелы. — Отлично! — Она радостно посмотрела на свою Галатею. — Прежде всего философия? — Конечно! — Главным образом Декарт и Спиноза. Немного Локка, Беркли, Юма и Гегеля. Это будет великолепно! — Гм-м-м… — И обязательно закончите английский. Гуманитарные науки? Или прикладные? Я неопределенно пожала плечами. — Отлично. Я бы посоветовала начать с химии и физиологии. Еще введение в физику — чтобы сбалансировать английский и философию. К следующему году у вас будет база, и вы сможете выбирать между точными науками и гуманитарными. — Прекрасно! — Я быстро заполнила анкету и протянула ей. — Так… У вас еще что-нибудь? — Нет. Спасибо. — Я поставила чашку и собралась уходить. — Не спешите, — мисс Хед посмотрела на часики. — Я только что закончила работу над книгой. — А что за книга? — Я еще не придумала названия. Сравнение методов эмпириков-философов восемнадцатого века с механистическими методами последователей Ньютона. — О! — изумилась я. — Как интересно! — Да, очень. Я работаю над ней уже семь лет. Я ахнула: — И еще не закончили? — Осталось немного, два-три года, — дружелюбно улыбнулась она. — А что вас привлекает больше всего, мисс Бэбкок? — Мне нужно хотя бы наверстать упущенное. Я написала реферат по истории: «Астролябия в португальских исследованиях пятнадцатого века в Южном полушарии». — Действительно. — Извините, но я хотела бы спросить о моем реферате. Я так старалась! Она небрежно махнула рукой. — Неважно. Потом поймете. У вас, мисс Бэбкок, замечательная способность приспосабливаться к обстоятельствам — что-то вроде защитной окраски, так сказать. Вы обязательно освоите философскую систему доказательств, когда поймете, чего вам хочется. — Вы на самом деле так думаете? (Я могла одеться, как мисс Хед, но начать думать, как она? Это совершенно другое…) — Конечно. Вы звонили родителям? Я нахмурилась. — Мисс Бэбкок, — улыбнулась она. — Неужели вам так нравится мелодрама? — Я звонила им. — И помирились? — Кажется, да. — Отлично! — Она вздохнула и налила себе вторую чашку. Я протянула свою. — Я помню, как тоже ссорилась с родителями, — проговорила она и сняла очки. Глаза были голубые, близорукие и влажные. — Тогда это казалось очень важным. Но они умерли. (Чтобы мои неукротимые родители умерли? Да никогда! Они покроются ржавчиной, но не умрут.) — Из-за чего вы ссорились? Мисс Хед рассеянно посмотрела в окно, на котором зимнее солнце нарисовало таинственные узоры. Почти до середины окна свисали огромные сверкающие и переливающиеся сосульки. — Из-за чего вы ссорились? — повторила я. Она вздрогнула. — Ах да. Ну что ж… Я, как и вы, мисс Бэбкок, выросла в маленьком городке — Моргане, штат Оклахома. — Вы шутите? У вас же нет акцента. — Не забывайте: я уехала оттуда много лет назад. Мой отец бурил скважины, но — увы! — не с нефтью, а с водой. У нас была маленькая школа, и я жила обычной жизнью провинциального городка. Но почему-то — сама не знаю почему — я всегда мечтала о женском университете. Но сама мысль об этом была невыносима для моих родителей. У них не было денег, чтобы отправить меня учиться. Моя юность пришлась на времена Депрессии. Несколько лет я выписывала каталоги лучших учебных заведений. Я прятала их в туалете и иногда запиралась там и мечтала, как стану студенткой. Я переписывалась с одним университетом и даже добилась предложения стипендии. У них тоже была географическая квота, — улыбнулась она. — Но родители… Они не понимали меня. «Почему бы тебе не выйти за хорошего парня и жить как все нормальные девушки Оклахомы? Зачем куда-то лететь?» (Когда она заговорила о родине, я явственно услышала своеобразный восточный акцент и гнусавый выговор жителей Оклахомы. Забавно!) Вот из-за этого мы и ссорились. Победу одержали они. Я отказалась от стипендии в Вассаре и тайком написала в Эмори, Атланту — только потому, что Атланта была не так далеко. Из Эмори прислали предложение на стипендию, и я согласилась. Но никакие аргументы не действовали на моих родителей; степень доктора философии их совершенно не интересовала, и так мы ссорились, пока они не умерли. — Но почему? Она пожала плечами. — Осмелюсь предположить, они просто мечтали о зяте и внуках. У меня был друг — со степенью по химии, — и его отправляли воевать за океан. Он хотел жениться на мне и зачать ребенка, но я как раз готовилась к поступлению в Колумбийский университет и отказала ему. В то время это было верхом бессердечия. Особенно в глазах моих родителей. Его убили. В Бельгии. Но это к делу не относится. Я недоуменно уставилась на нее: если то, что ее любимого убили в Бельгии к делу не относится, то что же тогда относится? — Все родители считают своих отпрысков продолжением самих себя. Если дети выбирают иной путь, они отвергают их и не могут простить такого оскорбления. Но что делать этим детям? — Она печально улыбнулась. — Что делать? Мы все в ловушке. Я пила чай и радовалась тому, что обнаружила новые, совершенно неожиданные черты у своей наставницы. — Но если ваши родители были бедны, откуда этот фарфор? И остальное? — От родственников матери. Остатки былой роскоши. Мать очень любила все эти вещи. Отец не отличал уотерфордский хрусталь от уэлльского стекла с виноградными гроздьями. И не хотел отличать. Помню, он вечно сидел на кухне в своей грязной тенниске и дразнил мать, поднимая огромными ручищами один из бокалов и притворяясь, что хочет его разбить. Мать плакала, умоляла его поставить бокал на место, называла невеждой, болваном и как-то еще, чтобы побольней обидеть. Он и сам понимал, что мать вышла замуж за человека, занимавшего более низкое положение в обществе. Он ставил бокал на место, потом вскакивал и бил ее по лицу. Она проклинала его, а он кричал: «Вспомни, Мод, как тебя трахали твои прекрасные дружки! И ни один не женился! Вспомни!» А она шипела: «Ребенок, Раймонд! Здесь ребенок!» Я в таких случаях старалась спрятаться где-нибудь за креслом. Она била его кулаками по мощной груди, а он — красный, с налитыми кровью глазами — хлестал ее по щекам. И оба плакали. Потом он тащил ее в спальню, запирал дверь, и через несколько часов они выходили: она — величавая и чопорная, а он — ласковый и покорный. Я зачарованно смотрела на мисс Хед. Во время этого психологического стриптиза ее оклахомский акцент стал так же заметен, как мой теннессийский. — Но я добилась своего, — весело закончила мисс Хед. — Сбежала от этого кошмара. И ты тоже можешь добиться. Просто нужно правильно распределить свои силы, так сказать. Неожиданно все встало на свои места: мисс Хед просто отождествляла меня с собой. Я была дочерью, которой у нее никогда не было. Она хотела вылепить меня по своему образу и подобию — как когда-то ее родители. Я не могла понять, льстит мне это или чем-то угрожает. Я не знала, хочу ли преподавать и девять лет работать над одной книгой. Но с ее стороны было очень мило предполагать у меня такое желание. — Но между нами есть разница, — твердо сказала я. — Вы очень хотели учиться, а я — нет. Меня затащил сюда отец. Правда, теперь мне здесь нравится. — О другом отличии я не сказала: майор был до неприличия богат, и в один прекрасный день я тоже стану богата. Если, конечно, переживу его. Кроме того, я не жила во времена Депрессии, чтобы бежать из дома. Мои родители не были такими откровенными мазохистами, как ее. — Иногда самые страстные последователи выходят из новообращенных, — очень тихо проговорила она, не поднимая глаз от своей чашки, словно читала там мое будущее.
Я целиком окунулась в учебу. Вставала в семь утра и завтракала — вареные яйца, кофе и апельсиновый сок — в полупустом кафетерии. Потом все утро занималась, сбегав только в тот же кафетерий на ланч. И снова — до вечера — занятия в библиотеке. Два дня в неделю — в лабораториях химии и физиологии. После ужина я возвращалась в свою комнату и снова занималась до полуночи. По выходным позволяла себе спать до девяти, зато потом занималась допоздна, сделав только один перерыв на обед. Я жила как монахиня. Единственным развлечением были поездки с мисс Хед по Бостону. От них — таких интересных и поучительных — я не могла отказаться. Однажды мы поехали в музей изящных искусств. Одинаковые в своих зеленых приталенных жакетах и шерстяных юбках, мы стояли рядом в гулком мраморном зале, рассматривая картины. — Зачем столько изображений одного и того же стога сена? — возмутилась я. Мисс Хед посмотрела на меня с осуждением. — Нельзя говорить об этом как о стоге сена. Вникните в смысл, мисс Бэбкок, в глубину игры света и теней. Я глубокомысленно кивнула и уставилась на картины, но, как ни крутила головой и ни щурилась, ничего, кроме стога сена, не обнаружила. — Может быть, перекусим? — спросила мисс Хед. — Конечно! Я видела в квартале отсюда закусочную — «Приют кастрированного быка» или что-то в этом роде. — Действительно… «Приют кастрированного быка»… — она осуждающе хмыкнула. — Не нравится? А где же едят в Бостоне голодные люди? Мисс Хед улыбнулась и повела меня в маленький ресторан за решетчатой дверью. — Добрый вечер, Деметриус, — поздоровалась она с тучным официантом, подавшим нам меню. Я пробежала список глазами в поисках гамбургеров и хотдогов. — Можно, я сама сделаю заказ? — спросила мисс Хед. Я оцепенело кивнула. Принесли цыпленка с горохом, баклажаны и пресный хлеб. Я без энтузиазма ковыряла подпрыгивающий в тарелке горох, запивая крепленым вином с запахом креозота, которым когда-то Клем смолил доски. — Вкусно? — Да. — Наверное, это было действительно вкусно, но если душа настроена на мясо по-французски, баклажаны не кажутся вершиной кулинарного искусства. По-моему, мисс Хед привела меня сюда не потому, что обожала горох или лакричный ликер, а в воспитательных целях. В другой раз мы слушали в исполнении Бостонского симфонического оркестра Вторую симфонию Бетховена. Я сидела в зале рядом со своим единственным в Уорсли другом — хотя она упорно называла меня «мисс Бэбкок» — и вместе со всеми аплодировала дирижеру. Правда, мне было не совсем понятно, за что. По-моему, он еще не заслужил аплодисментов. — Сосредоточтесь, мисс Бэбкок, — прошептала мисс Хед. — Обратите внимание на то, как Бетховен в обыкновенной сонате умело развивает тему. Я навострила уши, как домохозяйка, прислушивающаяся, не проник ли к ней в дом грабитель. Я не была уверена, что пойму Бетховена, — впрочем, я не поняла бы его, даже если бы мне разъяснили все подробнее. Стоп! Кажется, я уловила мелодию. Или нет? Да, это точно та же, что звучала вначале. Я растерянно посмотрела на мисс Хед: она безмятежно кивала в такт, запросто ориентируясь в любой мелодии. Быстрая часть закончилась. Я с облегчением вздохнула, но тут мисс Хед наклонилась ко мне: «Внимание, мисс Бэбкок! Обратите внимание, как Бетховен использует сложный ритм, чтобы достичь иллюзии покоя». Я снова сосредоточилась и только начала что-то улавливать, как быстрое скерцо заставило меня подскочить. Я наклонилась к мисс Хед: «Так и хочется потанцевать, правда?» Она посмотрела на меня так, словно я сморозила несусветную глупость. К концу вечера я вспотела от напряжения. — Ну спасибо, мисс Хед. Было очень приятно! — сказала я, когда мы возвращались в ее «опель-седане» домой. — Приятно? — удивилась она, не отрывая глаз от дороги. — Ну интересно. Или возвышенно? — я еще не совсем освоилась с принятой в таких случаях терминологией. — Мне особенно понравилась сладкозвучная вторая часть, — соврала я, надеясь доставить ей удовольствие. Она пригласила меня к себе, угостила чаем и сыграла несколько вариаций, подробно объясняя каждую тему. Когда она подняла от виолончели глаза, то увидела, что я крепко сплю в уголке уютного диванчика. На следующий день она вызвала меня объяснить, какими способами добивался Декарт стройности системы своих доказательств. Я, как попугай, повторила все, что она говорила мне накануне вечером о достоинствах симфонических тем — их чистоте, наивности и способах адоптации к новым мыслям. Она удовлетворенно кивнула и похвалила. Меня охватило беспокойство: адаптируясь к новым условиям, принятым в Уорсли, не предаю ли я Халлспорт? Единственная девушка в общежитии, которую звали Марион, пригласила меня на уик-энд в Принстон. У Джерри — ее приятеля — был сосед по комнате. Не буду ли я так любезна скрасить его одиночество? Первой моей мыслью — чем я очень гордилась — было отказаться: нужно было закончить очень важную работу по физиологии, а я еще почти не приступала к ней. Но очень хотелось посмотреть Принстон, и я согласилась. (Конечно, с единственной целью — расширить свой кругозор.) Вечером в пятницу нас встретили на автостанции двое: высокий добродушный с виду брюнет и белобрысый — коротенький и прыщавый. Он-то мне и предназначался. Увидев, что ему досталась такая дылда, он надулся, и я поняла, что вечер потерян. Их каменное общежитие очень походило на наше, разве что было переполнено сексуально озабоченными психопатами. Мы протиснулись в маленькую полутемную комнатку на третьем этаже, где прыгали человек тридцать пьяных девушек и парней. Чтобы не нарушать гармонию, мы с Марион сразу приступили к джину с апельсиновым соком. Хорошо, что патефон ревел, как разъяренный бык, и мне и белобрысому Рону не нужно было поддерживать разговор. Я стояла, покачиваясь в такт музыке, рядом с ним: его голова доходила мне до плеча, и мне пришло в голову, что он мог бы сосать мою грудь совершенно не нагибаясь. Через пару часов комната заметно опустела, по крайней мере, можно было хотя бы вздохнуть. Кто-то поставил «Бич Бойз». Я не танцевала уже сто лет. С Клемом — из-за его ноги, а с Джо Бобом у нас было более интересное занятие. Когда-то я любила танцевать. Я схватила малорослого Рона, и мы, глядя друг на друга как Давид с Голиафом, стали медленно двигаться в такт. К нашему потешному шоу присоединились другие, и я, одураченная рассуждениями мисс Хед, задумалась о том, какими способами добиваются «Бич Бойз» своей цели… Но музыка, полумрак и джин сделали свое дело. Я забыла о мисс Хед и с удовольствием стала корчиться в объятиях «Бич Бойз». С дивана, забравшись на него с ногами, с интересом наблюдал за танцующими одинокий парень. Музыка резко оборвалась. Я замерла, как марионетка, у которой обрезали веревочку. — Вы не пойдете расслабиться? — икнув, спросила Марион. Джерри запер дверь изнутри. В соседней комнате стояли две кровати. На одну сели Марион с Джерри, на другую — мы с Роном. — Неплохая вечеринка, — весело начала я. Никто не ответил. — Похоже, в вашем Принстоне собрались крутые ребята, — дружелюбно продолжала я, но они только странно посмотрели на меня и промолчали. Джерри опрокинул Марион на спину, впился губами в рот и раздвинул коленом ей ноги. Потом протянул руку и выключил свет. Я сидела в темноте и изо всех сил старалась не слушать вздохи и звуки,доносящиеся с соседней кровати. Они были удивительно знакомы. Неожиданно жадные руки шустрого Рона толкнули меня на спину, расстегнули брошь, нейлоновую блузку и потянулись к лифчику. Непроизвольно вспомнив свое футбольное прошлое, я врезала ему так, что он с криком слетел на пол. Но я недооценила коварного «мальчика-с-пальчика». Он вскочил, задрал мне юбку, и я услышала скрип расстегиваемой «молнии». В следующую секунду он попытался войти в меня, но, к несчастью для него, на мне был гигиенический пояс. Он слетел с меня, как с трамплина, и я вспомнила комара, которого смахивает хвостом корова. Он попытался сорвать мой пояс, и я решила, что это уж чересчур. Мисс Хед права: человек сам должен решить, на что направить свою энергию. Размениваться на всякие скачки в Принстоне? Я нанесла роскошный удар острой коленкой между ног белобрысого. Он взвизгнул и снова слетел с кровати. Я подобрала брошку и рванула к двери, но она оказалась запертой, поэтому я подлетела к выключателю и включила свет. — Будьте любезны, где ключ? — спросила я Джерри и с ужасом увидела, когда глаза привыкли к свету, что его на кровати нет. И Марион — тоже. Но откуда-то доносился ее сдавленный шепот: «Ой, умираю!» Я испуганно огляделась. Что с ней случилось? Что за особый секс по-пристонски? Я встала на колени и заглянула под кровать, но увидела за свисающей простыней только дергающуюся ногу. — О! Матерь Божья! — пискнула Марион. Ей нужна помощь! Скорей! Я сдернула простыню. Там, на полу, между стеной и кроватью, Джерри самозабвенно истязал Марион. Я облегченно вздохнула: оказывается, она занимается этим добровольно, подхватила безукоризненно отутюженные брюки Джерри, вытащила ключ и оставила их в разных углах — хнычущего Рона и ничего не замечающих Джерри и Марион… В Уорсли я сразу направилась в библиотеку и, обложившись книгами, принялась за реферат по физиологии. «Закупорка вен как определяющий фактор в достижении оргазма». Весь остаток пристонского уик-энда я провела в поисках материала. Основной мыслью моего труда было то, что состояние крови является ключевым фактором в сексуальном наслаждении человека. Но почему это происходит? Что заставляет вены наполняться кровью? Наполняться, чтобы потом освободиться и почти немедленно наполниться снова? Я пришла к выводу, что решать эту задачу — все равно что заниматься сизифовым трудом. Кончилось тем, что я ограничилась вопросом «как?» и не стала вникать в вопрос «почему?». Я добавила немного сведений из статистики о влиянии поз совокупления на интенсивность оргазма и с чувством выполненного долга отправилась домой. Я не собиралась всю жизнь заниматься гидравликой. Мисс Хед, похоже, обходится без этих закупорок вен, и я направлю свою энергию в более достойное русло. За эту работу я получила «А». Наверное, помогла беспристрастность ученого, которую я унаследовала от майора.
Мисс Хед пригласила меня на «Аиду» в исполнении столичной оперы. Мама не предупреждала меня о страшной перспективе быть заживо погребенной в могиле. Мне было искренне жаль Аиду, я возмущалась вероломством принцессы Амнерис и переживала за Радамеса, стоявшего перед дилеммой: выдавать или не выдавать своему будущему тестю военную тайну? Я понимала, что это только сказка, но когда Аида и Радамес запели прощальный дуэт, слезы сами покатились у меня из глаз — будто это мне, а не им, не хватало кислорода. — Обратите внимание, мисс Бэбкок, — прошептала мисс Хед, — как Верди нагнетает атмосферу безысходности… и как воздушны мелодии в последнем дуэте. «Прости, земля, прости, приют страданий»… Я вытерла слезы и позволила Аиде умереть. После оперы я предложила пообедать в пиццерии, но мисс Хед повела меня в пакистанский ресторан. Я поразилась ее вкусу. Ну ладно, гамбургеры, хотдоги, жареные цыплята, бифштексы… Но что плохого в пицце? — Как вам опера? — спросила мисс Хед, поглощая что-то мусульманское с рисом. — Ужасно. — Ужасно?! — она закрыла глаза. — Действительно. — Простите, я не так выразилась. Очень мило. Не вам об этом говорить. — Да, конечно. Мило, так сказать. Другими словами, вы находите игру удовлетворительной? — Безусловно. А вы? (Откуда мне знать, хорошая опера или нет? Я никогда не была в опере, мне не с чем сравнивать.) — Не знаю. По-моему, баритону не хватало страсти. И постановка утрирована. С другой стороны, она адекватна содержанию. — Конечно. Адекватна. — У меня возникло ощущение, что мне поставили «С» за реферат. Интересно, я когда-нибудь разовью в себе способность различать, что адекватно, а что — нет? — Хотя сопрано было очень недурным. Вы заметили, как она сумела изменить эмоциональную окраску партии простым изменением тембра? Я нахально кивнула. — Конечно. Аида была великолепна. Утром, лежа в постели в ожидании звонка будильника, я поняла, почему не умею различать, что адекватно, а что — нет. Дело в том, что мои эмоции всегда опережают интеллект. Я представила на месте Аиды и Радамеса себя. Я обманула надежды мисс Хед. Чтобы искупить свой грех, я отправилась в лабораторию биологии, взяла соскоб с внутренней стороны щеки, намазала на предметное стекло и капнула воды. Под многократным увеличением микроскопа я увидела, как крошечные включения в тело клетки постепенно пришли в движение. Протоплазма стала подниматься, ядро прорвало мембрану и поглотило воду снаружи. Я не совсем понимала, что происходит, но из книг знала, что ионное равновесие нарушено, ионы натрия внедрились в протоплазму, нарушив калийный баланс. Я наблюдала гибель клетки. То, что осталось на стеклышке, было не чем иным, как беспорядочной массой измененных протеинов с небольшим количеством деградированных ядер, смешанных с кислотой. Если наблюдать еще, я увижу распад на молекулы. Моя клетка — промежуточное звено между двумя мирами. На атомном уровне протеины хватали электроны, как дети — шарики; через некоторое время протеины превращались в аминокислоты, а они — в гидроген, оксиген и нитроген. Будь аминокислоты буквами в алфавите, вся клетка представила бы собой фразу. Параграфами в книге жизни и смерти были многоклеточные организмы. Клетки умирали тем же манером, что тело Аиды, мое или мисс Хед. Я вымыла стеклышко и убрала микроскоп. Было ровно четыре часа дня, когда я пришла к мисс Хед. Она работала над книгой, но отложила ее и сыграла по моей просьбе арию Аиды. Я не испытывала никаких эмоций. День прошел не зря. Я видела смерть, и она оказалась совсем не страшной. Я поняла: страшна только неизвестность. На следующий день мисс Хед вызвала меня резюмировать позицию Спинозы в отношении человеческих страстей. — Спиноза чувствовал, — безапелляционно заявила я, — что для достижения цели человек должен отрешиться от мимолетных страстей и понять природу этих страстей. Только в борьбе за развитие интеллекта он станет свободным. — Свободным? — удовлетворенно повторила мисс Хед. — Свободным от страстей, которые есть не что иное, как своего рода недоразумение. Если посмотреть на мир как на одно целое, со всеми его взаимосвязанными причинами и следствиями, скоротечные прихоти окажутся совершенно незначительными. Свобода — осознанная необходимость. Сияя от гордости, мисс Хед довольно кивала, слушая мои разглагольствования. Я шла на обед, когда около меня притормозил зеленый «БМВ». — Вы не подскажете, как проехать в Кастл? — спросил приятный мужской голос. — Я никогда здесь не был и заблудился. — Я как раз иду туда. Если вы меня подвезете, я покажу. — Я села в машину. Парень был высок, строен, с каштановыми волосами и насмешливым взглядом. — Кого вы ищете? — Марион Маршалл. — Марион сразу выросла в моих глазах. Этот парень совсем не походил на ее Джерри. Интересно, у нее поклонники по всему северо-востоку? — Она моя соседка. — Это моя сестра. — О! Он припарковал «БМВ», и мы прошли под каменными сводами коридоров в общежитие. В вестибюле я позвала Марион по переговорному устройству, но она не ответила. — Она вас ждет? — Не думаю. Я учусь в Гарварде. Денек слишком хорош для занятий, я решил прокатиться, посмотреть ваше озеро, пригласить ее на ланч. Но, похоже, промахнулся. Я заколебалась. Мне нужно было еще сделать лабораторную по биологии и написать до конца недели реферат, но вежливость требовала пригласить его на ланч вместо Марион. В конце концов, после мисс Хед она была здесь единственной, с кем я поддерживала отношения. Кроме того, я только сейчас заметила, какая чудесная стоит погода: я не помнила такого тепла с последних дней сентября. Трава уже зазеленела, пробивались первые весенние цветы… — Вы можете перекусить со мной, пока она не вернется. — Ну что вы, я не хочу беспокоить вас… — Совершенно никакого беспокойства. Я и так собираюсь обедать. Мы ели спаржу, гренки и голландский соус. Он болтал о себе, о том, как жил в штате Мичиган, как любит ходить под парусом и летать на дельтаплане. Что изучает архитектуру, и даже описал самые интересные здания в Кембридже и некоторые свои проекты. — Приезжай как-нибудь. Я тебе все покажу. После обеда мы снова безрезультатно поискали Марион, а потом погуляли вдоль озера. Он забыл о Марион, я — о лабораторной по биологии и реферате. Мы легли на берегу и, подставив бледные лица весеннему солнцу, вспоминали детство. Где-то у меня в животе — я это отчетливо чувствовала — таяла огромная глыба льда. Над нами бежали причудливые легкие облака; на холме ребятишки запускали разноцветного воздушного змея, еще пара кувыркалась в траве, как маленькие щенята. Мне было хорошо. Его ласковая рука осторожно накрыла мою. — Давай как-нибудь съездим в Кембридж, — предложил он. — Я покажу тебе чудесные здания, о которых говорил. Там есть отличный испанский ресторан, вкусно пообедаем. Я призвала на помощь всю свою выдержку, чтобы не перекувыркнуться от счастья и не прижаться к нему. Ненаписанный реферат стал нужен ничуть не больше, чем прошлогодний снег. Я сама удивилась, что выдернула руку и вскочила, как Золушка в полночь. — Извини, мне нужно в лабораторию, — промямлила я. — Это был замечательный день. Надеюсь, ты найдешь Марион. — Я повернулась и побежала. — Постой! — крикнул он. — Как тебя зовут? Только примчавшись в лабораторию, я перевела дух, облачилась в белый халат и, пробормотав извинения неодобрительно посмотревшему в мою сторону профессору Эйткену, приготовила стеклышко с образцами одноклеточных и прильнула к окуляру… За ужином я столкнулась с Марион. — Я встретила сегодня твоего брата. Он нашел тебя? — Да. Сказал, что познакомился с девушкой из Теннесси. Я сразу поняла, что это ты. Ты ему понравилась, но он сказал, что ты убежала, когда он пригласил тебя в Кембридж. — Я опаздывала на биологию. — По-моему, он решил, что ты дала ему от ворот поворот. — Ничего подобного. — Сказать ему это? Я помолчала. — Я действительно очень занята в этом семестре. У меня нет времени на встречи. Она укоризненно покачала головой. — Ладно, тебе видней. Интересно, внезапно разозлилась я, за кого она меня принимает? Если ей нравится проводить свою жизнь на спине с раздвинутыми ногами, это не значит, что другие должны вести себя так же. У меня все же другая цель в жизни. В этот вечер я заперлась в библиотеке и написала курсовую по биологии. Ее суть сводилась к тому, что человек наследует у родителей не только черты лица, но и эмоции. Например, любовь. Этот яркий пример формы выживания всего человеческого рода. То, что полезно для всего рода, не всегда полезно личности. Например, красочное оперение птиц, усиливая их привлекательность для птиц другого пола, одновременно делает их более уязвимыми для хищников. На лето я уехала в Халлспорт и два месяца ни с кем не встречалась. Никакого секса! Майор устроил меня на свой завод делопроизводителем. Он часто бросал свои дела, чтобы объяснить мне химические процессы, сопровождавшие производство снарядов, и я восхищалась стройностью формул. Мы были очень довольны друг другом. С тех пор как мы — дети — стояли на полигоне с конусами мороженого и наблюдали за испытаниями, все изменилось. Теперь их проводили в специальной камере, следя за ходом реакций по монитору. Снаряды предназначались жителям далекой страны, название которой — Вьетнам — с недавних пор было у всех на слуху. Серия опытов заняла всего двадцать четыре микросекунды. Я поразилась: самая большая скорость метронома мисс Хед не превышала двадцать четыре удара в секунду. Джо Боб на своем треке сражался с секундомером, проградуированным до сотых долей секунды. Клем в то утро, когда чуть не убил меня, мчался со скоростью сто семнадцать футов в секунду, но здесь, перед монитором, мы были свидетелями взрыва, чьи волны развивали скорость до двух тысяч футов в секунду, скорость, которую не определил бы ни один секундомер Джо Боба. В тот теплый весенний день в Уорсли мы с братом Марион наблюдали на экране белые смертоносные волны, похожие на кучевые облака. — Что скажете, майор? — спросил техник в белом лабораторном халате. Майор прочистил горло. — По-моему, Хэл, это то, что мы искали. — Он взял искалеченной левой рукой снимок и поднес к свету. — Идеальная разрушительная сила. Великолепно! — Мы все уставились на белые волны, будто это были вздымающиеся гигантские груди на обложке «Плейбоя». — Все восемь снимков были великолепны. За все лето я только раз встретила Клема. Как-то под вечер я возвращалась с завода и увидела его около трактора. На нем были зеленые рабочие штаны и замасленная футболка. Черные волосы лезли в глаза, лицо было мокрым от пота. Он откручивал что-то в моторе и улыбнулся, увидев меня. Я заглянула в мотор, немного подумала и объяснила ему сходство между карбюратором и легкими человека. Клем хмуро выслушал меня, а потом сказал: «Знаешь, Джинни, ты окончательно спятила в этом Бостоне». К счастью, его мнение меня уже не интересовало. Я изучала Гегеля и знала: если суждения Клема — тезис, Джо Боба — антитезис, то суждения мисс Хед — в чистом виде синтез.
В первый же вечер по возвращении в Уорсли я пришла к мисс Хед согласовать предметы на будущий семестр. Она совсем не изменилась: твидовый костюм, нейлоновая блузка, греческая камея на шее, швейцарские часики на груди. Я чуть не обняла ее и уже приподняла руки, но тут же подавила этот порыв, подумав, что она не одобрит такое бурное проявление чувств. Мы молча стояли друг против друга, сияя от сдерживаемой радости. — Входите, входите, — наконец пригласила она. На обеденном столе красного дерева лежали бумаги. — Надеюсь, я не помешала вам? (Я знала, что она терпеть не может нарушать свой режим.) Она посмотрела на часы. — Действительно. Уже шесть тридцать. Пора отдохнуть. Значит, вы вернулись? — Неужели вы сомневались? — Не знаю… Летние каникулы — хорошее испытание. Я помню, как неохотно приезжала в начале лета в Оклахому и терпела сетования родителей: как было бы хорошо, если бы я бросила свое смехотворное образование, вышла замуж за хорошего человека и подарила им внуков. К концу лета они почти одерживали победу. Я спасалась бегством: пряталась где-нибудь на окраине, наблюдала, как ветер гоняет перекати-поле и уговаривала себя жить так, как хочется мне, а не им. — Мне и в голову не приходило остаться дома, — заявила я, оскорбленная до глубины души. — Отлично. Рада за вас. Вы чудесно выглядите. Наверное, хорошо отдохнули. — Да. Я работала на папином заводе. Это замечательно — то, что он делает. Раньше я его недооценивала. — Что за завод? — Военный, — небрежно ответила я. — Действительно, — уклончиво проговорила мисс Хед. — Вы бы видели, какие они делают снимки, чтобы определить скорость взрывной волны! — Что выпускают на этом заводе? — Бомбы, снаряды… все такое. — Действительно, — она смотрела на меня как-то странно. — Ну… они ведь только делают их. У отца масса проблем, и не его вина, если их продукцией, гм-м-м… злоупотребляют. Ведь так? — Не знаю. Не уверена. Я совершенно аполитична, мисс Бэбкок. Я полностью согласна с Декартом, когда он говорит, что «нужно стремиться побеждать себя, а не фортуну, и скорей изменять себя, чем порядок вещей. Нет ничего существенней собственных мыслей». Я задумалась. Я не совсем была согласна с Декартом. Но если согласна мисс Хед, значит, в свое время я тоже пойму эту глубокую мысль. — Мне нужна ваша подпись. — Я протянула ей перечень предметов. Я очень гордилась, что сама — без ее помощи — выбрала астрономию, физику, философию девятнадцатого века и психологию. Мисс Хед внимательно прочитала список и вдруг побледнела. — Что-то не так? — всполошилась я. — Я думала, вы захотите изучать Декарта или Спинозу под моим руководством. — Да. Но я решила изучить как можно больше предметов — может быть, даже поверхностно, — прежде чем посвящу себя чему-то одному. — Наверное, вы правы. А как насчет средневековой музыки? Или ранней английской прозы? — Не знаю… Я хотела взять и их, но боюсь, что не справлюсь. — Не думаю, что вам доставит удовольствие изучение философии девятнадцатого века, мисс Бэбкок. Она очень отличается от философии Декарта или Спинозы, так сказать. Шопенгауэр, Ницше… — Она фыркнула так, что очки соскочили с носа и повисли на цепочке. — Что касается выбранных вами предметов… Я считаю своим долгом предостеречь вас. — Но от чего, мисс Хед? — Я искренне недоумевала: почему, вместо того чтобы порадоваться моей самостоятельности, она недовольна? — Это слишком много для вас, — туманно объяснила она. — Я просто обязана изучить эти предметы, мисс Хед! Если вдруг передумаю — начну изучать другие. А ваш семинар по Декарту я буду посещать в январе. Она растерянно посмотрела на меня. Ей, никогда не бывшей матерью, была непривычна битва, которую постоянно ведут родители со своими детьми. Она подписала анкету и протянула мне. — Спасибо, мисс Хед. — Пожалуйста, мисс Бэбкок, — холодно ответила она. — Было очень приятно увидеться с вами, — я постаралась произнести эти слова так же холодно, как и она. — До свидания. Она слегка наклонила седеющую голову и деланно улыбнулась. Я резко повернулась и выскочила за дверь. В коридоре мне пришлось держаться за стену, чтобы не упасть от неожиданной слабости. Я заняла ту же самую комнату, что и в прошлом году — маленькую мансарду на пятом этаже с окном, выходившим во двор. Пахло плесенью. Я распахнула оконные рамы и посмотрела на озеро, блестевшее за бронзовой Артемидой, на вытянутый палец которой кто-то нацепил презерватив. Раздался оглушительный грохот, и я услышала, как в соседней комнате кто-то кричит: «Мать твою!» В воздухе пронесся жестяной бидон, а из него на серые флагштоки и фламандские часы во дворе полилась красная жидкость. Из соседней комнаты раздался новый грохот, и тот же грубый голос заорал: «Черт бы тебя побрал!» Бидон с глухим стуком приземлился на мостовую и покатился, извергая остатки жидкости. Солнечные часы и камни во дворе были измазаны ржавыми каплями — будто какой-то разъяренный зверь рвал на части свою добычу. — Черт! — ревел голос. — Ну и дерьмо! Я осторожно постучала в дверь новой соседки. — Кто там? — У вас все в порядке? Дверь открыла высокая, статная девушка в желтых джинсах и туго обтягивающем крупную грудь черном свитере. Густые каштановые волосы были заплетены в косу, резкие черты лица — большой нос, широкий лоб, выступающие скулы — были искажены злостью. — Вы в порядке? — Я не знала, что здесь живет кто-то еще, — неожиданно смутилась она. — Я только что приехала. Мы — соседи. Я — Джинни Бэбкок. — Эдна Холзер. Эдди. Я знала это имя. Она была на предпоследнем курсе, редактор университетской газеты. Я обвела взглядом комнату. Она выглядела так, словно в нее только что вселились: на одной стене прилеплен портрет Боба Дилана, на другой — мексиканский плед. В углу стояла гитара; стол и подоконник были завалены маленькими глиняными фигурками. — Что случилось? — Уронила бидон с томатным соком. Держала на подоконнике, чтобы было чем позавтракать, если просплю. Со мной это часто бывает. — О, понимаю! Ну, рада была познакомиться. Увидимся позже, — сказала я, ретируясь из комнаты. — Рада, что у тебя все в порядке. Этот томатный сок — как кровь. — Ты находишь? — она с интересом посмотрела на меня. У меня мелькнула мысль, будто я только что отдала ей ключ от своей души. — Откуда ты, Джинни? — Из Теннесси. Она фыркнула. — Меня от южан просто воротит. — Почему? — изумилась я такому несправедливому обвинению. — А ты что, не читаешь газет? О гражданских правах рабочих, убитых или искалеченных на ваших дамбах? Господи, неужели они там все идиоты? — Мы ничем не отличаемся от жителей Бостона, разве что акцентом. Ну я пойду, мне еще нужно распаковать сумки. — Я вышла оскорбленная, что пришлось защищать ни в чем не повинных южан. На следующее утро я познакомилась еще с одной соседкой — первокурсницей из Айовы Бев Мартин. Высокая, тощая, с широко раскрытыми бегающими, как у кролика, испуганными глазами, она даже разговаривала полушепотом. Я узнала, что она получает стипендию и подрабатывает, играя на гитаре в каком-то баре в Кембридже. Я не представляла, как она умудряется находить время читать или писать рефераты. Скорей всего, она их просто не писала, а меня уговаривала бросить Уорсли только за компанию: ей так или иначе пришлось бы уйти из него. Но я забегаю вперед. Однажды вечером я лежала в постели и читала учебник по физике, готовясь к семинару по теме «Трение». Мне стало любопытно, сколько лет еще вращаться Земле, пока уровень океанов не достигнет максимума… Дверь распахнулась, и возникла Эдди в своих неизменных джинсах и свитере. — Могла бы и постучать, — проворчала я, недовольная тем, что мне помешали рассчитать день апокалипсиса. — О, извини! Ты мастурбировала? — Я покраснела. — Неужели нет? Попробуй, очень рекомендую. Доставляет массу самых разных ощущений. Или у тебя есть любовник? — Меня не интересуют подобные вещи, — сухо ответила я. — Неужели? Что же тебя интересует? — Она бесцеремонно уселась на кровать. — Истина и все такое… — Ты говоришь так, будто ее можно купить и сунуть в сумку. — Конечно. Можно купить книги, в которых обо всем написано. — И уложить информацию в голове? — Более или менее. — Странно! — Не вижу ничего странного. Главное — найти время, чтобы методично поглощать информацию. — Понимаю, — перебила она и встала. — Я хотела спросить, не примешь ли ты участие в митинге за права человека? Он будет завтра вечером. Каждому, кто вместо ужина поедет требовать перевести черных ребятишек из Роксбери в школы для белых, выдадут по пятьдесят центов. — У меня есть выбор? — Конечно. Если не хочешь, иди ужинать. Я скажу, что ты отказалась. — Да, пожалуй. Видишь ли, я совершенно аполитична и согласна с Декартом, когда он говорит, что «нужно стремиться побеждать себя, а не фортуну, и скорей изменять себя, чем порядок вещей. Нет ничего существенней собственных мыслей». — Декарт! На черта мне то, что он говорит! Даже если бы у меня вылезли глаза, если я его не прочитаю, и то не стала бы читать эту чушь! Этот фашист — сукин сын! — Политика не формирует личное мнение, — надменно ответила я. — На каждого, кто согласен с твоими статейками, найдется несогласный. И столько же логических доводов «против», сколько «за». Может быть, не здесь, в Уорсли, где слишком высок либеральный дух, а в окружающем мире. — Я всегда говорила, что в мире полно фашистов! — Почему ты считаешь, что права? Меня, например, не интересуют чужие мнения. Меня интересует Истина. — Истина! Истина! Джинни, ты просто смешна! Это Декарт-то — Истина? — По-моему, Декарт обладал достаточным интеллектом, чтобы различить, где Истина, а где — нет, а не просто изрекать безответственные заявления обо всем, что происходит под солнцем. — «Я мыслю — следовательно, существую»? Чушь собачья! — Не понимаю, при чем тут «чушь собачья», как ты неинтеллигентно называешь этот замечательный афоризм. Это можно доказать, как математическую теорему. — Ты еще не читала Ницше? — Начну в этом семестре. — Почитай, что он говорит о твоем драгоценном Декарте. Ты, наверное, дружишь с этой курицей Хед? — Мисс Хед — мой друг. Что с того? Эдди вздохнула. — Ты безнадежна. Держу пари, ты даже веришь во всю эту чушь Гегеля — тезис, антитезис… Сразу видно, что ты — южанка. — Тебе-то какое дело? — разозлилась я, но она уже скрылась в дверях.
Поздно вечером я заглянула в комнату к Эдди. Проигрыватель ревел «Унесенных ветром» в исполнении Питера, Поля и Мэри. Эдди недоуменно посмотрела на меня и улыбнулась. — Ха, я не я, если это не моя приятельница-южанка. Что-то не так? — встревожилась она, увидев мое искаженное гневом лицо. — Да! Очень даже «не так»! Я только что прочитала, что этот придурок Ницше говорил о Декарте. Она понимающе усмехнулась. — И что ты об этом думаешь? Решив, что таких сучек, как Эдди, жалеть не стоит, я крикнула: — Твой Ницше — старый членонос! — Членонос? — расцвела Эдди. — А ты хоть знаешь, что это значит? — Почему ты всегда так высокомерна со мной? Черт тебя побери! Ты что, считаешь меня наивной дурой? Знаю! Это то, чем я занималась с Клемом в бомбоубежище! — Ну и что ты об этом думаешь? — О чем? — О сосании. — Какое отношение это имеет к Декарту? — Никакого! — торжествующе заявила Эдди. — Это моя теория: «Я трахаюсь — следовательно, существую!» Каково? — Человек создан не только для… — Человек — дерьмо! Я никогда не спорю с теми, кто пытается растолковать мне, для чего создан человек. Хочешь поговорить о чем-то конкретном — пожалуйста! Но не лезь ко мне со всякими «Человечество — это…». Мне это неинтересно. Шагай к своей мисс Хед! — Она отвернулась, а я выскочила за дверь и весь вечер размышляла о том, что Эдди явно покушается на крепость, возведенную мисс Хед. В почтовом ящике я нашла записку: мисс Хед приглашает меня послушать Вагнера. Мы почти не виделись с ней с начала семестра, и я с радостью приняла приглашение. Мы встретились в вестибюле. Несмотря на бесформенное пальто и строгий седой пучок, она выглядела почти красивой. Я подавила желание броситься к ней и сдержанно протянула руку. Она вздрогнула, покраснела, пожала мне руку и посмотрела на часы. — Машина у подъезда. Мы опаздываем. Нужно спешить. «Когда садишься в машину, осматривай пол — нет ли там бомбы», — всегда советовал майор, но время поджимало, и я быстро села в «опель-седан». По дороге в оперу мы ошиблись поворотом и оказались в каком-то захудалом районе. Вдоль обочин валялся мусор, витрины магазинов явно нуждались в ремонте. Все чаще встречались чернокожие. «Роксбери», — осенило меня. Где-то здесь митинговала Эдди. — Не знаю, — протянула я неуверенно, — может, я зря не поехала сюда в тот вечер. Здесь довольно жуткое место для детей, вы не находите? — Пожалуйста, избавьте меня от сентиментальности, мисс Бэбкок. Вы явно начитались статей этой Холзер. — Но ведь здесь и правда очень тоскливо. (Мы проезжали мимо облупившихся зданий и грязных канав с медленно плывущими фантиками и газетами.) — Не нужно обобщать. Убогое существование иногда приводит к поразительным результатам. Она явно имела в виду себя. — Но вы уехали из Моргана. А как быть с теми, кто остался? — Я бы не сказала, что друзья моего детства несчастны. По крайней мере, не более чем остальные. Им не с чем сравнивать Морган. — Но разве это не ужасно? То, что у них никогда не было возможности реализовать себя? — Чьи-то поступки — не ваше дело, мисс Бэбкок. Ваше дело — найти Истину в каждой ситуации. А для этого, как учил нас Спиноза, нужно усмирить эмоции и пользоваться одним инструментом — мышлением. Беспристрастность, мисс Бэбкок, — это главное. Поверьте мне. — Не знаю… Ницше говорит совсем другое. Даже при тусклом свете уличных фонарей было видно, как она побледнела. — Да, конечно, если вы собираетесь подпасть под очарование мистики, мисс Бэбкок, Декарт вам не нужен. Вы знаете, что Муссолини восхищался Ницше? Конечно, не знаете. На вашем месте я поинтересовалась бы биографией Ницше, прежде чем вставать под его знамена. Мне показалось, что для человека, так страстно ратующего за беспристрастность, мисс Хед подозрительно вышла из себя. В опере мне было очень жаль маленьких бедных нибелунгов, порабощенных силой золотого кольца коварного Альбериха. Они были такие крошечные, жалкие и так добросовестно ковали Альбериху богатства своими малюсенькими кирками… Мое сердце принадлежало им. Будь здесь Эдди, она прыгнула бы на сцену и заставила нибелунгов восстать. От переживаний у меня над верхней губой даже выступили капельки пота. — Обратите внимание, — прошептала мисс Хед, — как медленно раскрывается здесь тема. Эта тональность — намек на тщетность их суеты. Я скрипнула зубами. Хед безмятежно смотрела на сцену поверх очков и слегка кивала в такт музыке седой головой. На следующий вечер я заглянула к Эдди. Она сидела на подоконнике, сдвинув в сторону кипу газет, наигрывала на гитаре и пела «Мистер Тамбурин — мужчина что надо». Она приветливо кивнула мне, но не перестала петь приятным контральто. На полу лежали две глиняные женщины; руки и ноги переплелись, на красноватых лицах царило выражение экстаза — то ли манекены, то ли скульптуры. Я перешагнула через них и подошла к Эдди. Она закончила песню громким торжествующим аккордом, поставила гитару и, как кошка, потянулась своим величавым телом. — Нравится? Я только что слепила их. — Ах это? Очень правдоподобно. — Знаю. У меня отличная техника. Но я спросила, нравится ли тебе? — Конечно. Очень красиво. — Возбуждает? Отстранившись от охватившего меня волнения, я холодно ответила: — По-моему, это здоровая форма сексуального самовыражения. В конце концов, Фрейд утверждает, что человек по существу бисексуален и отдает предпочтение тому или иному виду секса в зависимости от условий. — В задницу твоего Фрейда! Я спрашиваю, какие чувства вызывает эта глиняная композиция у тебя, Джинни Бэбкок? Я вздохнула. — Честно говоря, Эдди, мне не нравится секс подобного рода. — Понятно… — Я по горло сыта извращениями, которые были у меня в юности. Есть более важные вещи. — Действительно, — насмешливо протянула Эдди и посмотрела на меня поверх воображаемых очков. (Вылитая мисс Хед.) — Кстати, хочешь взглянуть на мою петицию президенту Джонсону с требованием прекратить наше военное вмешательство в Южной Азии? — Ты ведь отлично знаешь, что я отвечу. Зачем спрашивать? — Дай мне шанс спасти твою душу. — Спасибо. Обойдусь. — Почему? Ты не хочешь спасти свою душу? — Ты говоришь, что это их дело, и мы не должны вмешиваться. Мой отец утверждает, что Вьетнам — авангард мирового коммунизма и должен быть уничтожен в зародыше. Тебе жаль невинных вьетнамцев, которых калечат и убивают американские солдаты. Ему жаль невинных людей, которым другие люди — не такие невинные — вбивают в мозги всякие дурацкие теории, и американцев, которых калечат и убивают коммунисты. Откуда мне знать, кто из вас прав? — А как ты сама считаешь? — Никак. Мне все равно. Меня интересует факт, а не чье-то мнение. Я думаю, что человеческий интеллект определяется количеством противоположных точек зрения, которые он может одновременно принять в отношении одной и той же темы. — Интеллект! Вот дерьмо! Ты говоришь о параличе, моральном параличе! То, как ты живешь, — политическое дело, хочешь ты того или нет. Как бы ты ни философствовала, а точка зрения есть у каждого. Несколько мгновений мы презрительно смотрели друг на друга. — Кстати, — процедила сквозь зубы Эдди, — чем обязана твоему присутствию? — Я зашла спросить, как дела в Роксбери. — Тебе-то что, фашистка? — Мы вчера проезжали там по пути в оперу, и я отчасти встала на твою сторону в споре с мисс Хед. (Я решила немного уступить, чтобы потом выиграть в более важном.) — Очень мило с твоей стороны. Но не думай, что я поблагодарю тебя или твою мисс Хед. — Но у меня есть вопрос, — не обращая внимания на ее язвительность, продолжала я. Эдди подняла руки ладонями вверх — мол, я вся внимание. — Ты не находишь высокомерным считать наш образ жизни настолько предпочтительней, что они, как обезьяны, должны подражать нам? Вопреки здравому смыслу, я надеялась, что Эдди не сможет ответить на этот аргумент мисс Хед. — Неужели можно назвать высокомерным желание дать ребенку образование? Или желание дать его родителям возможность зарабатывать достаточно, чтобы их детей не мучили по ночам крысы? — А ты не думаешь, что сливки поднимутся сами? — Возможно. Но остальное молоко тем временем окончательно прокиснет. — Откуда ты знаешь, что жители Роксбери недовольны своей жизнью? — Знаю, — мрачно заявила она. — Я тоже выросла в трущобе Бостона. Я тебе говорила, кто мой отец? Я замешкалась. Холзер… У многих девушек в Уорсли отцы были дипломатами, академиками, крупными бизнесменами. Холзер, Холзер… Кем же был отец Эдди, если растил ее в трущобе? — Нет. Не говорила. — Ну как же! Мы беспристрастны… — засмеялась она. — Так вот знай: он был насильником. Затащил мою мать в подвал, сунул в рот кляп и изнасиловал. — Какой ужас! — ахнула я. — Да ну, брось! Если бы этого не случилось, ты бы со мной сейчас не разговаривала. Или, по крайней мере, я была бы совсем не такой, как сейчас. Твое сравнение со сливками — чушь! Сливки не поднимутся, если для них не будет условий. — Неправда! Посмотри на себя! — Знаешь, почему я в Уорсли? Потому что одна вшивая учительница в той дыре, где я ходила в школу, питала ко мне особый интерес. Потому и нагрузила меня всякими премудростями. Я была единственной во всем классе, кто действительно чему-то научился. — Она вызывающе посмотрела на меня, ожидая, что мне остается поднять руки вверх. — Ну и что? По-моему, это только подтверждает мою точку зрения: умные люди — вне политики. — Вздор! Твоя голова набита дерьмом, поняла, сучка? Продолжай в том же духе! Живи как та — с часами на груди! Аккуратно, благопристойно! Никакого риска, а следовательно, и ошибок! Ни друга, ни детей, ни животных — никто не вмешивается в твое драгоценное расписание. Когда особенно одиноко — может обнять ногами виолончель или занять свои мелкие мозги рассуждениями о Декарте. Вот кто твой идеал! Ну и убирайся отсюда! — Жить так, как мисс Хед, вовсе не плохо. По крайней мере, лучше, чем шарахаться всю жизнь от одной неудачи к другой, как я до поступления в Уорсли. — Ничего страшного в таком шарахании! Если, конечно, ты не безнадежная страдалица. — Как ты самонадеянна! Почему ты так уверена в себе? — Потому что знаю: лучше рисковать и ошибаться, делая добро, чем заживо похоронить себя. Единственная страсть мисс Хед — Декарт и Спиноза. — Ну, мне не довелось «делать добро», Эдди, поэтому я и аполитична. Посмотри, сколько зверств совершается под лозунгом «делать добро». Я, как и мисс Хед, предпочитаю заниматься тем, в чем разбираюсь. От возмущения она так затрясла головой, что коса запрыгала на спине. — Тебе это только кажется, что ты в чем-то разбираешься. Ха-ха! — Если даже я допущу, — хотя, конечно, этого не будет, — что прав Ницше, все равно, есть несомненные факты! — Например? — фыркнула она. — Факт, что атом состоит из положительно заряженных протонов и отрицательных электронов, и если они соединены определенным образом, то получается определенный элемент. — И тебя потому не интересуют другие люди, что ты занята проверкой этих важных истин? Ладно. Но ты знаешь, что в Индии есть культура, в которой в качестве основной единицы времени используется время, необходимое для закипания кастрюли с рисом? И они, кстати, отлично живут с такой единицей. Я выскочила, хлопнув дверью, помчалась в лифт и спустилась на первый этаж. Пробежала вестибюль, длинный коридор с внушительными портьерами и, наконец, постучала к мисс Хед. — А, мисс Бэбкок, это вы! А я уже решила, что где-то пожар. Входите. Я устало опустилась на диван. — Что-то случилось? Хотите чаю? Я как раз заварила новый. — Да, пожалуйста. С лимоном. Эдди нагло врала. Мисс Хед посвятила себя другим людям — например мне. Не имеет значения, какие она преследует при этом цели. Мисс Хед разлила чай из своего серебряного инкрустированного чайника. — Итак? Что привело вас ко мне в столь поздний час? — Я вам помешала? Простите! — Нет, нет, все в порядке. Я только что играла Вивальди, — она кивнула на прислоненную к креслу виолончель. — Скажите, еще не поздно поменять философию девятнадцатого века на ваш семинар Декарта? — Гм-м-м, — она пристально посмотрела мне в глаза. — Я вас предупреждала. Конечно, поздновато. Уже прошла половина семестра. Но… я подумаю. К счастью, я декан вашей группы, ваш наставник и преподаватель семинара, который вы решили посещать. Но… все это очень странно. — Я понимаю, мисс Хед, но, по-моему, Ницше мне ничего не дает. — Хорошо, я подумаю. Я приму решение и на днях сообщу вам. Можете на меня рассчитывать. Она поставила свою чашку и включила метроном. Потом установила виолончель и заиграла быструю пьесу из «Времен года». Я внимательно следила за развитием тем и вариаций и вскоре почувствовала облегчение. В полумраке комнаты матово поблескивала виолончель. За окном свисали голубые сосульки… — Спасибо, мисс Хед. — Я поставила чашку и встала. — Мне было очень нужно прийти к вам сегодня. — Заходите еще, мисс Бэбкок. В любое время. И без всякого повода. В среду я сидела в столовой и ела китайское рагу. Неожиданно за мой столик уселась Эдди. Я холодно кивнула. На мне был аккуратный костюм из твида, на ней — желтые джинсы, черный свитер и сандалии «голиаф». Из косы торчали пряди. Весь ее вид оскорблял мои эстетические чувства. — Ну, как поживает придворная дама из Кастла? — Это ты меня спрашиваешь? — Тебя, милочка. — Отлично, спасибо. По крайней мере, пока тебя здесь не было. — Ну, ну, давай, Джинни. У нас впереди еще много месяцев быть соседями. Может, будешь повежливей? — Я всегда вежлива. Если ты помнишь, то это ты первая оскорбила меня, назвав придворной дамой. — Ладно. Твоя взяла. Извини. Знаешь, мне нужна твоя помощь. — Что? — никогда еще ей не была нужна моя помощь. — Мы проводим опыт по психологии. Ты не примешь участие? Это займет не более получаса. — Не знаю… У меня реферат и… — Пожалуйста. — Ну ладно! — мне было лестно, что сама Эдди Холзер просит у меня помощи. После ланча мы отправились в лаборатории. Около бронзовых солнечных часов Эдди остановилась. Украшенный завитками столбик-указатель показывал два часа. — Господи! Уже два часа! — воскликнула я. — В полтретьего у меня встреча с мисс Хед! Эдди засмеялась. — Не паникуй, детка. Еще не два. Эта дурацкая штука — фламандская. Она настроена не на нашу широту. Друзья Эдди уже были в лаборатории — несколько первокурсников и высокая сутулая старшекурсница, — все в желтых джинсах, свитерах и сандалиях, с длинными прямыми волосами или косами. Я сразу почувствовала себя пугалом в твидовом костюме и с пучком на затылке. — Мы собрались здесь, — сказала старшекурсница, — чтобы проделать любопытный психологический опыт. Эдди, я и еще две девушки сидели за столом, а перед нами стояли старшекурсница и ее ассистентка. В углу сидела еще одна девушка и что-то записывала. Старшекурсница объяснила правила. Она показывает нам контрольную карточку, а ассистентка — вторую карточку. Мы должны сравнить их и сказать, короче или длинней ее карточка по сравнению с контрольной. Это казалось совсем простым, даже примитивным. Удивительно: такая суперактивная компания не может найти более достойного занятия. Я сидела с краю и последней высказывала свое мнение, но оно каждый раз совпадало с мнениями Эдди и еще двух девушек. Да, да, эта короче контрольной. А эта — длинней. И так далее. Мне стало надоедать это пустое времяпрепровождение. В конце концов, у меня реферат… Во время шестого опыта трое сказали, что карточка короче, а я была уверена, что длинней. — Длинней, — сказала первая девушка. — Длинней, — подтвердила вторая. — Длинней, — зевнула Эдди. — Они одинаковы. Я украдкой посмотрела на них: они лжесвидетельствовали с самым невозмутимым видом. — Одинаковые. — Одинаковые. — Одинаковые. — Длинней, — пробормотала я. Дьявол! Как они могут считать их одинаковыми, когда вторая — явно длинней? — Короче. — Короче. — Короче, — согласилась Эдди и потянулась. — Одинаковые? — неуверенно предположила я. Она не могла быть короче. Или могла? Эдди с любопытством посмотрела на меня. — Длинней, — сказала первая девушка о карточке, которая была явно короче. — Длинней, — подтвердила вторая. — Длинней, — поддакнула Эдди. — Длинней, — заявила я, не веря своим глазам, и облегченно вздохнула. Приятно чувствовать себя такой же, как все. — Одинаковые. — Одинаковые. — Одинаковые, — пожала плечами Эдди. — Короче, — вздохнула я. У меня, наверное, что-то со зрением. Я зажмурилась, потом раскрыла как можно шире глаза, чтобы исправить дефект, и уставилась на карточки. Эдди и первая девушка удивленно посмотрели на меня и переглянулись. Так они провели целую серию опытов. Все, кроме меня, были согласны друг с другом, кроме тех случаев, когда я притворялась, что тоже согласна, да пару раз — для разнообразия — я действительно соглашалась с ними. Они говорили — «длиннее», я была уверена, что короче, а потом мне начинало казаться, что и правда — длинней. В конце концов меня стало тошнить, глаза заболели от напряжения. Я несколько раз зажмурилась, открыла глаза, карточки поплыли перед глазами, я сползла со стула и рухнула на пол. — Ну-ну, Джинни, — Эдди опустилась рядом со мной на колени. — Это всего-навсего эксперимент. Где же твоя беспристрастность? Я уткнулась лицом в ее плечо и горько расплакалась. — Ты делала все отлично, Джинни, — подошла к намстаршекурсница. — Ты доказывала свою правоту вопреки ответам других в 65 процентах случаев. Нормальный результат — 43 процента. — Какой нормальный? — сквозь слезы спросила я. — Среднее число правильных результатов. — Значит, они притворялись? — Я растерянно посмотрела на Эдди. — Ты все подстроила? — Я думала, ты уже догадалась, — пробормотала старшекурсница. — Значит, я ошиблась? Я замахнулась, но Эдди ловко перехватила мою руку, и я отлетела в сторону. — Извини, Джинни, но это нужно было сделать, — сказала она. — Зачем? Могла бы по крайней мере объяснить! — Если бы я объяснила, ничего бы не получилось. Так? Ты все еще ищешь истину, да? Я выскочила из лаборатории, ударившись о дверной косяк. Перед глазами поплыло. В ванной меня вырвало. Я вернулась к себе, заперла дверь, закрыла шторы и пролежала до следующего дня, пропустив встречу с мисс Хед и несколько лекций. Прошли рождественские каникулы. Зима сменилась ранней весной. Таял снег, журчали ручьи… Я все еще не разговаривала с Эдди, выставившей меня на посмешище перед своими друзьями. Я знала, что они — эта чертова богема! — хихикали за моей спиной, и не могла простить этого Эдди. Я ни с кем не встречалась, кроме мисс Хед, — разве что в аудиториях или столовой. Я слишком усердно искала Истину, чтобы отвлекаться на общение. Под руководством мисс Хед я разработала тему «Свободная воля в сравнении с детерминизмом». Детерминизм победил. Я в пух и прах разбила принципы общественной активности Эдди. Вечерами я заходила в обсерваторию и наблюдала созвездие Гидру, свет звезд которой шел ко мне два миллиона лет. Иными словами, я смотрела в прошлое. Эта мысль потрясла меня. Я с наслаждением изучала спектр Альфарда, доказывающий, что звезда отдаляется от меня со скоростью тридцать восемь тысяч миль в секунду. По физике я изучала мезоны и нейтроны, чье существование можно было доказать, только стреляя ими в жидкий водород: в нем возникали крошечные пузырьки. Некоторые частицы были настолько недолговечны, что даже не успевали оставить след, — их жизнь составляла миллиардные доли секунды. Я размышляла над узостью диапазона воспринимаемых человеком частот электромагнитных волн, и это приводило меня в ярость. Но последней каплей стала теория относительности Эйнштейна. Я не только не смогла согласиться с ней — я не смогла ее даже понять. Науки обступили меня таким тесным кольцом, что я ни о чем, кроме них, не могла и помышлять. Со всех сторон меня бомбардировали сотни разных элетромагнитных волн и атомных частиц, осколки времени, такие малые, что их невозможно даже измерить: лучи света, возникшие задолго до появления жизни на Земле. Лорд Кельвин обещал, что уверенность придет с изучением физики. «Вы знаете только то, что можно измерить», — говорил он. Но уверенность не приходила. Я чувствовала себя предательницей. Кто-то постучал в дверь. Бев Мартин, первокурсница из Айовы. С начала года я почти не видела свою соседку — только несколько раз, встав на рассвете, чтобы закончить работу, я видела ее на залитом солнцем берегу озера — в купальнике, прыгающую или делающую наклоны. Я по крайней мере встречалась с мисс Хед. Она же не встречалась ни с кем. Она выбрала неудачное время, решив зайти поболтать. В это время я страдала над картой Вселенной — Млечный Путь, Солнце, Земля… — и никого не хотела видеть. — Поужинаешь со мной сегодня? — спросила она, покраснев. Наверное, ей было нелегко прийти ко мне. — Извини, Бев, мне некогда. К завтрашнему дню нужно закончить реферат по Декарту… — О, все в порядке. — Все равно спасибо. Как-нибудь в другой раз. — Конечно. — Она повернулась и быстро вышла. Перед сном я пошла в ванную. Мать с детства приучила меня, что, когда я открываю дверь, надо сначала убедиться, что там нет насильника, и только потом входить. Я увидела свисающую почти до пола руку и распахнула дверь. На стуле рядом с ванной тяжело сидела Бев. Она слабо улыбнулась и опустила голову. На полу валялась пустая бутылка. Я переводила взгляд с Бев на бутылку. Суицид? Да. С одной стороны, его можно рассматривать как мольбу о помощи. Иначе зачем она сделала это здесь, а не у себя в комнате, где никто не нашел бы ее несколько недель? По мнению многих специалистов, человек, решившийся на самоубийство, на самом деле не хочет умирать; скорее, он решается на эту отчаянную попытку в надежде повлиять на окружающих. Это просто временное умопомрачение. А потом он продолжает жить и плодотворно работать. Бев пошевелилась. С другой стороны, человеческая жизнь принадлежит только ему. Бев имела полное право распорядиться ею по своему усмотрению. Лишая кого-то этого права, подавляя неприкосновенность личности, можно лишить человека столь необходимого для полноценного существования самоуважения. Бев сползла на пол. В ванную зашла Эдди. Она почти склонилась над раковиной, чтобы почистить зубы, как вдруг замерла: на полу лежала Бев, а рядом с пустой бутылкой в руке стояла я. Эдди недоверчиво покосилась на меня и стремительно выскочила из ванной, а когда вернулась, оттолкнула меня в сторону, опустилась рядом с Бев на колени и сильно хлестнула по щеке. Бев заморгала, села и стала пить стакан за стаканом теплую соленую воду. Я отвернулась, чтобы не видеть, как ее рвет… Появились два доктора и увезли Бев в больницу. Я вернулась к себе, легла в постель и с головой укрылась одеялом. В ту ночь мне снилось морское побережье. На песке в кресле сидела в своем твидовом костюме мисс Хед и кивала седой головой в такт стоящему рядом метроному. Она играла Генделя, а волны набегали и омывали ее ноги. Кресло, виолончель и сама мисс Хед погружались в песок. Волны выбрасывали на берег морские водоросли, окровавленные человеческие конечности и головы. Мисс Хед равнодушно взирала на них и не переставала играть. Я решила не ходить на ланч. Науки лишили меня аппетита. По дороге в лабораторию биологии (я не была там с того злополучного эксперимента) мне представилась вчерашняя сцена: тяжело осевшая на стуле Бев и я — неподвижно уставившаяся на нее. Как советовал Шопенгауэр, я попробовала рассмотреть эту сцену как рожденное в моем мозгу представление. Потом попробовала посмотреть на нее с точки зрения энергетических колебаний, но ни то ни другое не имело успеха. Я только задрожала от ужаса и чувства вины — за то, что не нашла для Бев времени, когда она попросила поужинать с ней. В лаборатории никого не было. Я надела белый халат, взяла из чашки Петри немного бактерий, окрасила небольшую их часть и нанесла на предметное стекло. Поставила под микроскоп и стала наблюдать, как дрожит и вибрирует окрашенная бактерия, ассимилируясь с ядовитым красителем. После героической борьбы бактерии, уничтожив неокрашенные клетки, разрушились и сами. Я вымыла стекло и повесила халат. Возвращаясь домой, я задела какой-то куст, сорвала листок и уставилась на него, будто видела впервые в жизни. Его атомы были такими же, как на моей ладони. Они соединились в молекулы, которые тоже повторяли молекулы моей руки. Ферменты в маленьком листе очень походили на ферменты, существующие в слоне. Наша земля — выжженное скопище минерального пепла, а мы — лист, Эдди, Бев и я — великолепный материал для экспериментов. Материал… Материал для Уорсли. Я схватила одеяло, конспект и прислушалась у двери в комнату Эдди. Никого. Я на цыпочках пробралась мимо кип газет и журналов, отодвинула новую скульптуру — вырезанное из красного дерева полированное женское тело, — открыла окно и вылезла на крышу. С двух сторон ее ограждали стены, защищая от ветра, а с третьей был низкий барьер, над которым открывался чарующий вид на озеро. Я постояла у этого барьера, глядя вниз, — пять этажей и каменный двор. Там репетировали — завтра состоится традиционный праздник весны: с ритуалом встречи, песнями и плясками вокруг девственной охотницы Артемиды. Выберут королеву — госпожу Весну. По либеральным традициям Уорсли, ее красота должна быть уравновешена каким-нибудь недостатком — ампутированной конечностью или цветом кожи. У королевы прошлого года была удалена грудь, и вряд ли она переживет еще лето. Я расстелила одеяло, разделась и легла на живот. Нужно сосредоточиться на философии девятнадцатого века; я внимательно вчитывалась в конспект, но вскоре поняла, что не перевернула ни одной страницы. Нещадно палило солнце, но мне казалось, что его закрыли черные тучи. Я вся дрожала от холода. Я закуталась в одеяло, закрыла глаза и, чувствуя, как синеют губы, старалась побороть беспричинный страх. Раздался какой-то шум, но я не открыла глаз. — Джинни, что с тобой? — спросила Эдди. — Ты ужасно выглядишь. Я хотела ответить, но разлепить губы оказалось непосильным трудом. — Джинни? — я услышала, как зашелестели страницы моего конспекта. Она что-то пробормотала. — Джинни! — вдруг строго сказала она — точь-в-точь нашалившему ребенку, боявшемуся наказания. — Ты подчеркнула все цитаты. «Страсть — это кульминация существования личности». Кьеркегор. Он совершенно прав. Мы все — личности. — И совсем другим тоном прибавила: — Намажь мне спину. Я вчера обгорела на солнце. Я послушно сбросила одеяло, взяла крем и стала натирать упругую смуглую спину. Потом снова закуталась, легла на живот и задрожала от холода. — Давай-ка я и тебя намажу. Ты тоже покраснела. Я промолчала. Она наклонилась, сдернула одеяло, и под сильными массирующими руками я почувствовала, как в меня возвращается жизнь. Тело потеплело. Я перевернулась на спину. Она намазала мне грудь, ноги и живот. Ком в желудке стал таять, как весенний сугроб. Она помассировала мне ступни, потом поднялась к плечам, щекам, лбу; легла рядом и стала гладить нежно и мягко, а я слушала, как стучит ее сердце. Не знаю, долго ли так продолжалось; может, прошли минуты, может — часы. Неожиданно возник громкий гул, по нашим телам пролетел мощный порыв ветра и откуда-то полилась кока-кола. Над нами висел вертолет. «Эй, вы, сучки, — кричала лысая голова, свесившись из окошка, — вы чем занимаетесь?» — Фашисты! — вскочила Эдди. — Фашисты и свиньи! Вертолет улетел. Внизу продолжалась репетиция. Неожиданно королева прошлого года подняла голову и уставилась на голое статное тело Эдди. — Не прыгай! — крикнула она, и весь двор взорвался криками. Люди бросились к дверям, чтобы подняться на крышу и удержать Эдди. — Ха-ха, — засмеялась Эдди. — Слижем друг с друга колу, пока они не явились? Мы подбежали к окну, залезли в комнату и помчались к ванной. У двери я замялась. — Скорей! Будем самыми чистыми! — крикнула Эдди. Я переступила порог с таким чувством, будто сажусь в самолет, обреченный на катастрофу. — Скорей! — Эдди толкнула меня под душ. Она намылила меня, потом я — ее. Мы обнялись и встали под теплые струи. Яростно загудели трубы: кончилась горячая вода… Мы обнимались и целовались… Эту ночь мы провели на узкой казенной кровати, проспав в объятиях друг друга до самого ланча. Проснувшись, я вспомнила все и засмеялась: теперь я знаю, как занимаются любовью женщины. Затем, облаченная в строгий костюм из твида, я спустилась на первый этаж. В это время мисс Хед обычно убирает виолончель и садится за книгу. Я постояла у ее двери, стараясь понять, зачем пришла сюда, и постучала. Мисс Хед неодобрительно покачала головой: я должна знать, что нельзя мешать ей в это время. — Входите. — Я неуклюже потопталась в гостиной, переминаясь с ноги на ногу. Она с любопытством смотрела на меня. — Чаю? — Да. Спасибо. — Отлично. Чем могу вам помочь, мисс Бэбкок? Что-нибудь случилось? Я приободрилась и, ожидая, что слова сами найдутся, открыла рот. Но речевой центр мозга отказал. — Ничего особенного. Я шла мимо и решила зайти. — Очень приятно, — натянуто улыбнулась мисс Хед. Я понимала, что своим появлением расстроила ее планы, — точно так же, как два дня назад расстроила мои планы Бев. — Извините, — сказала она, не дождавшись от меня вразумительного объяснения. — Я только что разучивала фантазию Шуберта. Хотите сыграю? Она установила метроном на медленный темп, взяла смычок и поставила между ног виолончель. — Обратите внимание на изысканность колоратуры, мисс Бэбкок. Поет молодой человек. Весна. Расцвели цветы, поют и вьют гнезда птицы. Но он обезумел от горя и не в силах разделить чувство обновления природы, потому что зимой умерла его любовь. Попробуйте определить методы, которыми Шуберт достигает эмоционального выражения темы жизни и смерти. Я скрипнула зубами, но она не обратила на это внимания и заиграла. Печальная, на низких регистрах мелодия чередовалась с легкой и танцевальной. Я представила солнце, трепещущую листву, поющих птиц… Мисс Хед негромко подпевала себе по-немецки. Она закрыла глаза, опустила голову; на бледном лице заиграл румянец. Медленно тикал метроном. Сквозь окно на восточные коврики падали яркие солнечные лучи. — Это невозможно, — чужим голосом пробормотала я. — Невозможно. Вы должны взрываться, делать ошибки, рисковать… — я говорила не совсем то, что хотела, но не находила других слов. — О чем вы говорите, мисс Бэбкок? — холодно спросила она и выпрямилась. — Что все это значит? Метроном тикал все медленней — то ли кончался завод, то ли вышло время… — Я… Я не смогу закончить этот семестр. — Нонсенс. Сможете, мисс Бэбкок. — Но я не могу! — Не будьте смешной. — Не могу! — Конечно, закончите! — Нет! — Вы должны! — Мисс Хед, я — лесбиянка, — выкрикнула я. Она замерла. Я прочистила горло и крикнула: — Прошлой ночью я занималась любовью с Эдди Холзер, и это было прекрасно! Мисс Хед странно посмотрела на меня. — Действительно. Хотите чаю? Я схватила метроном, выдернула маятник и швырнула об пол. — Вы можете выслушать меня? — Дорогая мисс Бэбкок, — не отрывая глаз от метронома, спокойно ответила она. — Я — не ваша мать. Не ждите от меня одобрения. — Я пришла не за одобрением! Мне плевать, что вы думаете! — Тогда зачем вы здесь? Она попала в самую точку. — Зачем? Чтобы спасти вас, мисс Хед. Спасти от самой себя, пока не поздно. Разве вы не понимаете, куда идете? Вы так одиноки! Вы столько носитесь со своими идиотскими идеями, что у вас не остается времени на живых людей! Это же смерть заживо! — Боюсь, мне придется попросить вас уйти, мисс Бэбкок. Я так и знала! Знала, что она отвергнет меня, если я не смогу приспособиться к ее образу жизни. Я повернулась и гордо пошла к двери. Неожиданно я повернулась. Мы с тоской посмотрели друг на друга, и я поняла, что снова потерпела неудачу. Я сорвала на ней свое бессилие и стыд из-за случая с Бев. Мисс Хед тоже запуталась. Она любила меня как дочь, и я знала это. Но она преследовала иную цель. Седая, усталая женщина оцепенело смотрела на меня. Неужели она не поняла, что мне это было необходимо, — заставить ее оттолкнуть меня? Иначе я перестала бы развиваться. Не зря я учила эту чертову психологию! Я хотела рвануться к ней, объяснить феномен Гегеля, в котором я оказалась… Но она была преподавателем. А Эдди ждала… Я скривилась от боли и выскочила за дверь. Эдди сидела на солнышке на своем подоконнике и любовно натирала льняным маслом женское туловище. Я смотрела на бегающие вверх-вниз руки, растирающие масло на груди и в промежности, и чувствовала, что задыхаюсь. Смущенно улыбаясь новому чувству и непривычному статусу любовницы, я села на ее кровать и взяла валявшуюся там книгу. — Господи! — воскликнула я. — Что за чушь! «Логика, возведенная в многократную степень»… Эдди вытерла руки, забрала у меня книгу, отшвырнула в угол, села рядом, положила мою голову себе на колени и погладила волосы и лицо. Потом медленно, словно ожидая протеста, вытащила шпильки и распустила волосы. Провела по ним рукой и закрыла ими мое лицо. Ловкие нежные пальцы разделили их на три пряди и заплели в одну толстую косу. — Нужно удирать отсюда, — тихо сказала она под звуки музыки. — Это сумасшедший дом.
Глава 8
Вторник, 27 июня. Миссис Бэбкок открыла глаза. Где она? Тихо, темно, как в могиле. Зубы стучат от холода. Она пощупала вокруг: под ней явно кровать. В ее жизни были разные кровати — узкая койка в хижине, когда она была ребенком, огромная королевская кровать, которую они делили с Уэсли… Но эта? Слишком широкая для хижины и слишком узка для супружеской. Где же она? На простыне было липкое сырое пятно. Ей стало страшно. Почему так темно и холодно? Одна ли она? Миссис Бэбкок прислушалась, но ничего не услышала. Она сглотнула слюну, почувствовала соленый вкус крови и в ужасе нашарила рукой выключатель. Она лежала в больничной палате. Подушка и простыня были запачканы кровью. Она смотрела на нее так, словно эта кровь — не ее. Конечно, она не может иметь отношение к этой крови. Что с ней происходит? Она провела указательным пальцем по застывшему пятну и поднесла к губам. Обычная соленая кровь. Господи, что же с ней происходит? Она нажала кнопку звонка. Тут же влетела мисс Старгилл, подскочила к кровати и с плохо скрываемым страхом уставилась на постель. — О, дорогая миссис Бэбкок, — пробормотала она. — Что это? — Простите. Боюсь, я испачкала простыни. — О небеса! Мисс Старгилл помогла ей дойти до ванной и протянула гигиенический пакет. — Подождите минутку. Я поменяю тампоны. Когда миссис Бэбкок вышла из ванной, грязные простыни уже лежали на полу. Мисс Старгилл помогла ей лечь в чистую постель и, пока она лежала, страдая от ощущения, что кровь струится по горлу, переменила тампоны в носу, стерла губкой с лица запекшуюся кровь. — Ну вот, — бодро, как ребенку, сказала мисс Старгилл, — разве не приятно лежать на свежем белье? — Нет, если его меняют в середине ночи. — Она хотела, чтобы это прозвучало остроумно, но вышло жалобно и капризно. — Спасибо, мисс Старгилл. Медсестра выбежала позвонить доктору Фогелю, потом вернулась и дала миссис Бэбкок снотворного. — Он хочет, чтобы вы поспали до его прихода — еще пару часиков. — Ну, как мы себя чувствуем? — разбудил ее вскоре доктор Фогель. — Вполне прилично, — пробормотала миссис Бэбкок. — Если не считать, что сегодняшней ночью я чуть не истекла кровью. Он прочитал ее карточку, осмотрел тампоны и подклады, измерил пульс, давление и температуру, не переставая бубнить себе что-то под нос. — Должен напомнить вам, миссис Бэбкок, — наконец громко сказал он, — что я предупреждал вас о возможных последствиях отказа принимать лекарства. Она молча показала пустое блюдце на тумбочке, обычно наполненное таблетками. Доктор Фогель покраснел и спросил: — Вам не холодно? — Нет. Но я несколько недель не была на улице. Не знаю, как там. — Сегодня жарко. — Он сложил стетоскоп и направился к двери. — Доктор Фогель? Доктор неохотно повернул светловолосую голову. — Я не понимаю, что со мной. Вы можете объяснить? Простыми словами. — У меня обход, миссис Бэбкок. — А после обхода? — Да, конечно. В ожидании завтрака миссис Бэбкок взяла вышивание. Памела, волонтерка, расстроится, что она мало сделала за целую неделю. Она посмотрела в окно: по стволу вяза, размахивая хвостами и деловито вереща, сновали рыжие белки. Интересно, когда придет Джинни? Хорошо бы она принесла часы. Наверняка забудет, она всегда так невнимательна… Судя по солнцу, сейчас около шести. Джинни вряд ли вылезет из кровати раньше девяти. Нужно посоветовать ей вернуться в Вермонт. Здесь слишком тоскливо. Вернется, когда мать выздоровеет. Джинни и в лучшие времена была то слишком угрюма, то насмешлива; это мешало их отношениям стать теплей. Но даже если бы она захотела поддерживать нормальные отношения — это невозможно при нынешних обстоятельствах. Вчерашний взрыв не имел смысла. У Джинни в Вермонте дом, ей есть о ком заботиться… А у нее своя проблема — кровотечение. Они не смогут помочь друг другу. Лучше, если Джинни уедет. Ведь ее ждут дочка и муж.После чая и гренков Джинни пошла к сосне проверить своих птенцов. Они так и висели: глаза закрыты, ротики распахнуты — и тихонько пищали. Родителей нигде не было. Джинни порылась в книжном шкафу и нашла наконец книгу, о которой говорила мать. В. Бёрдсалл[2] вполне доказал всему миру, что имя влияет на судьбу, написав огромную авторитетную книгу по орнитологии. В разделе «Птенцы» он писал: «Только от 10 до 30 процентов птенцов выживают, чтобы достичь зрелости. Остальные умирают от голода, непогоды или болезней. Родители отказываются кормить детей с физическими недостатками. Иногда с ними самими происходят несчастья, и тогда птенцы остаются совершенно беспомощными. Часто они выпадают из гнезда и умирают от голода или становятся добычей зверей. Если повезет — их находят люди. Но некоторые птенцы — например стрижи — не принимают пищу у людей и не живут в неволе. Их лучше убить, чтобы избавить от страданий». Джинни захлопнула книгу и надолго задумалась. Потом пошла на кухню и налила стакан воды. Она заставит птенцов попить! Обмакнув палец в воду, она потрясла им над раскрытым ротиком одного птенца и чуть не вскрикнула от радости, когда розовое горлышко несколько раз дернулось и проглотило несколько капель. Но как покормить их? Она села на ступеньки и представила страшную картину: в одной руке — маленький стриж, в другой — большой камень. Один удар и… Она отшвырнула эти мысли и снова вернулась к сосне. Вода явно не повредила птенцу, надо дать его жестоким родителям еще один шанс. Она — не Господь Бог, чтобы распоряжаться чужими жизнями.
Стоит ли ехать в больницу? Вчера они с матерью кричали друг на друга. Ссора не принесла ей пользы: болит голова, мучают угрызения совести. Может, вернуться в Вермонт? Или уехать куда-нибудь? Если бы было куда! И если бы она точно знала, насколько серьезно больна мать. Она позвонила доктору Тайлеру, но никто не ответил. По дороге она заехала в дом своего детства. Нужно забрать фотографии предков. Матери будет приятно рассматривать их. Она вгляделась в снимок бабушки Халл, бабки ее матери. Говорят, они очень похожи. На снимке ей за двадцать, как Джинни. Белая кружевная блузка, заколотая брошью… Из прически выбиваются непокорные пряди. Джинни подошла к зеркалу в позолоченной раме, висящему над каминной доской, и стала изучать свое отражение. Сегодня она выглядит «ниже среднего». Как всегда, это зависит от настроения. Никакого сходства с изображением на фотографии — разве что у каждой два глаза, один нос и т. д. Дикси Ли Халл. Она была легендарной кухаркой. Порезала палец и умерла от заражения крови, оставив девять детей. Одна из ее дочерей, бабушка Джинни, терпеть не могла стряпню и домашнюю работу и проводила все время на митингах или в клубах. Для нее иметь и одного ребенка — мать Джинни — было более чем достаточно, а ее дочь всю жизнь посвятила семье и домашнему очагу. Поколения чередуются. Каждый новый потомок бессознательно отвергал образ жизни родителей. Еще до рождения судьба Джинни была предопределена: ей суждено было лишиться дочери и быть изгнанной из дома под прицелом «винчестера». Бедняжке Венди точно так же суждено повторить судьбу своей бабки: содержать в образцовом порядке дом, завести ребятишек. Еще Гегель говорил: «Противоречие — внутренний источник развития». Женская линия Халл подтвердила его правоту. В мельчайших клеточках тела прабабки Дикси Ли Халл — этой женщины с пожелтевшего снимка — была заложена сущность самой Джинни, передавшаяся ей через бабушку и мать. Каждый человек несет в себе частичку первоисточника. Ничего удивительного, что человечество сходит с ума: при таком-то количестве кровосмесительных браков… Странно, что фотография так захватила ее мысли. Наверное, это единственный снимок Дикси Ли Халл. Накануне того дня, когда порезала палец, она села в фургон и поехала в ближайший город, чтобы сфотографироваться на память. Джинни снималась сотни, если не тысячи раз в «кадрах семейной хроники». Но как, по какому снимку определят ее сущность потомки? Она не знала сама. Впрочем, если она будет продолжать в том же духе, потомки попросту срежут ее с генеалогического дерева. Айра пойдет на все, лишь бы Венди забыла мать, а о том, чтобы снова выйти замуж и родить другого ребенка, не хочется даже думать. Наверное, женская линия Халл оборвется на ней. Джинни вытащила из альбома несколько карточек. На одной из них она в белом платьице сидит на коленях у матери. Джинни вложила их в конверт и написала адрес Венди в Вермонте. Неужели Айра осмелится не отдать письмо дочери? Она заботливо стерла пыль с остроконечной крышки фамильных часов и привычно завела восемь оборотов — ни больше, ни меньше. Она, Карл и Джим вели настоящую битву за право заводить их раз в неделю. Даже сейчас, в таком печальном расположении духа, Джинни обрадовалась, услышав знакомый скрипучий звук. Неожиданно распахнулась входная дверь и вошла женщина средних лет в белом парике, а за ней — пара в модных летних костюмах. — О, Гарри! — с акцентом жителей Нью-Джерси воскликнула женщина. — Неужели вам не нравится? Дети будут в восторге от такого истинно южного особняка! — Но, дорогая, тут еще масса работы, — проворчал Гарри. — Этот особняк гораздо оригинальней того дома в Халлспорте, — настаивала женщина. — Его построил сам Зед Халл. Если бы вы знали, сколько людей мечтают пожить здесь! — Она замолчала, увидев Джинни. — Кто вы? Держу пари, что не воровка. — Воровка, — дерзко ответила Джинни непрошеной гостье. — Воровка Вирджиния Бэбкок. А вы кто? — Ну, скажу я вам! — воскликнула женщина. — Джинни, дорогая, я тебя так давно не видела, что даже не узнала! Ты выросла фута на два, не меньше. — Нет, я не выросла, — ответила Джинни. (Кто эта крикливая идиотка?) — Простите, я не узнаю вас. — Я — Тельма Бифорд, из агентства «Южная недвижимость», — с обидой проговорила женщина в парике. — О! Конечно, миссис Бифорд! Как поживаете? — Джинни училась с ее дочкой в средней школе, и та так же без умолку трещала, как и мать. — Отлично, спасибо. А ты? — Отлично. Спасибо. — Это — Хочкиссы. Они переехали сюда из Нью-Джерси. Мистер Хочкисс будет работать на заводе твоего отца. Они заинтересовались вашим особняком. — Он очень красив, — вставила миссис Хочкисс. — Вы хотите сказать, что отец перед смертью исправил ошибку в документах? — Какую ошибку? — всполошилась миссис Бифорд. — В бумагах полнейший порядок. — Ну хорошо, — вздохнула Джинни. — Наверное, я зря упомянула об этом. Хочкиссы неуверенно переглянулись. — Что ты имеешь в виду, Джинни? — требовательным тоном спросила миссис Бифорд. — Ерунда, — Джинни заговорщицки подмигнула ничего не понимающей встревоженной миссис Бифорд. Хочкиссы явно были сбиты с толку. — Может, покажете нам другой дом? — спросил наконец мистер Хочкисс.
Мать завтракала в лоджии, и Джинни торопливо повесила на стену над кроватью фотографии и поставила на тумбочку часы. Ничто не заставило бы ее принести их — разве что угрызения совести. Она села и с удовольствием прислушалась к мерному тиканью. Даже сердце стало биться в одном с ним ритме… Опираясь на руку миссис Чайлдрес, вошла мать и медленно обвела взглядом фотографии и часы. На желтом изможденном лице вспыхнула улыбка. — Спасибо, дорогая, — удивленно проговорила она. Угрызения совести сразу исчезли. Оказывается, нужно было просто порадовать мать. Ей не требовалось слишком много. За что столько лет Джинни причиняла ей одни страдания?. — Как ты себя чувствуешь? — Хорошо, спасибо. Лучше. — Миссис Бэбкок устроилась в постели и посмотрела на старинные часы. Тик-так, тик-так… Вошел доктор Фогель и по-хозяйски, всем видом показывая, что не торопится, устроился в кресле. — Ну, миссис Бэбкок, я к вашим услугам. Вы хотели знать, как сворачивается кровь? Хорошо. Существует около дюжины составляющих, влияющих на этот процесс. В результате перехода белка фибриногена в нерастворимый фибрин жидкая кровь превращается в сгусток. Это фибрин образует тонкие нити, удерживающие кровяные тельца. Зачем он это все говорит? Джинни перевела взгляд на мать: та сосредоточенно слушала доктора. — Гм-м-м, гм-м-м, — продолжал он. — Видите ли, пумпура тромбоцитоническая — это результат нарушения нормальной функции клеток костного мозга. Число кровяных пластинок в единице объема уменьшается. При норме сто пятьдесят тысяч — шестнадцать тысяч. — Он помолчал. — Во всяком случае, с помощью пункции мы определили, что у вас — лейкемия ранней стадии. Значит, ошеломленно подумала миссис Бэбкок, она давно могла умереть от лейкемии, потому что никто не потрудился провести нужные анализы. — Гм-м-м, да. Итак, миссис Бэбкок, все говорит о том, что у вас не хватает тромбоцитов. Селезенка функционирует как фильтр. Она выполняет защитную функцию — вырабатывает антитела, разрушает отжившие эритроциты и тромбоциты. Мы делаем все возможное и надеемся получить через несколько дней утешительные результаты. Еще вопросы? У Джинни и миссис Бэбкок был такой вид, словно они — студенты, слушающие лекцию строгого профессора. Наконец Джинни осмелилась нарушить молчание: — А как селезенка разрушает отжившие тромбоциты? — Гм-м-м, да… Мы точно не знаем. — Кто это — мы? — подала голос миссис Бэбкок. — Современная медицина. — Он покраснел и поерзал в кресле. — А зачем вы даете мне преднизолон, если он не помогает? — Гм-м-м… Дело в том, что мы точно не знаем, как действуют гормоны, но в большинстве случаев они все-таки действуют. — Но не в моем. — К сожалению. — Что делать дальше? — спросила Джинни. — Попробуем переливание крови. Свежие тромбоциты задержат кровотечение, а потом отомрут. Плюс облегчат вашу анемию и поднимут давление. Но мы рассчитываем и на вашу помощь. Вы должны верить в выздоровление и помогать нам. Я встречал подобные случаи. — Но как вы можете лечить, если не знаете точно, что происходит? — спросила Джинни. Доктор Фогель встал. — Юная леди, уверяю вас, мы, медики, знаем намного больше, чем непрофессионалы. Бессмысленно спорить с человеком, который говорит о себе во множественном числе. Джинни знала это из опыта общения с Эдди. — Это — риск, — продолжал он, — но оправданный риск. Как только найдем донора — сделаем переливание. Нужна свежая — не старше одного часа — кровь, иначе пластинки могут умереть. У вас, миссис Бэбкок, редкая группа крови. Вы могли бы получать за нее, — он слабо улыбнулся, — по сорок пять долларов за пинту. — Какая? — спросила Джинни. — В, отрицательный резус. — У меня такая же. Я буду донором. — Я не подумал о вас… Сейчас возьмем анализ. — Он быстро повернулся и вышел. — Я так и не поняла, тяжело ли я больна, — пробормотала мать. — А ты? — Я тоже. Но звучало довольно оптимистично. Где же доктор Тайлер? — Отдыхает в Сосновом Бору около Ашвилла. Джинни включила телевизор. Передавали «Приз за эрудицию». В Вермонте она часто смотрела это шоу, занимаясь домашними делами. Призы были замечательные: запас питания для собаки на целую жизнь; прекрасный — до самого потолка — книжный шкаф с собранием сочинений классиков в кожаных переплетах; годовая подписка на самое престижное в Нью-Йорке обслуживание; радиоприемник — не то чтобы необходимо, но все это приятно получить. Главный приз — тур в Ирландию — казалось, был доступен каждому желающему. Миссис Бэбкок всегда мечтала поехать в Ирландию, Шотландию и Англию и посетить те города, откуда были родом ее предки, но Уэсли так и не осуществил эту мечту. У него не было там своих дел. А ей ни разу не пришло в голову, что можно поехать одной. Дом не выдержит ее отсутствия… — Давай поедем в Шотландию, когда я поправлюсь, — предложила она. Джинни не знала, что ответить. Во-первых, она сомневалась, что мать поправится, во-вторых, у нее не хватит на это сил, а в-третьих, сомнительно, чтобы они доехали до окраины Халлспорта и не повздорили из-за какого-нибудь пустяка. — Конечно. Замечательная идея! — весело отозвалась она. Ей тоже хотелось в Ирландию. — …Я считаю эти страдания особой привилегией, — страстно говорила сестра Тереза, когда Джинни привела мать на обед. — Привилегия! — фыркнул мистер Соломон. Из-за толстых линз его глаза казались величиной с тарелку. — Привилегия! Уж не считаете ли вы, сестра, что избраны Богом? Представляю себе! Господь говорит: «Наверное, сестре Терезе будет очень приятно, если я нашлю на нее рак». Сестра Тереза перекрестилась и потеребила медальон на груди: сложенные в мольбе руки и девиз «Не моя воля, но Твоя». — Господь никому не дает испытаний больше, чем он в силах вынести, — ответила она. — Крест и сила духа помогут нам. — Очень великодушно с его стороны! Значит, все ваши несчастья — Божья благодарность за благочестие? — Когда я была школьницей, — неторопливо заговорила сестра Тереза, — я часто возвращалась из школы в слезах из-за того, что меня дразнили. Мать утешала: «Дочка, они не стали бы дразнить тебя, если бы ты им не нравилась». Так я расцениваю свое положение и сейчас, мистер Соломон. — Отлично! Вот вы и высказались, сестра! Ваш Бог — да и мой тоже — просто молодец! Сестра Тереза снова перекрестилась. — Я имела в виду, что мне лестно все, что Бог ниспошлет мне. Я сильная, а эта ноша делает меня еще сильней. — Будь это так, сестра, я давно был бы Атлантом. Она вопросительно посмотрела на него. — Мою жену и троих детей впихнули в товарный вагон, сестра. Я думал, они погибли. Я надеялся, что они погибли. Это было бы счастьем по сравнению с жизнью в концлагере. — Простите, мистер Соломон, — деликатно вмешалась сестра Тереза. — В мире было много зла со времен грехопадения. Зло всегда процветало, но тем не менее люди верили, что Господь — их спаситель. Он все-таки кладет конец испытаниям. Вспомните свой жизненный путь, мистер Соломон, — он труден и светел… — Спасибо, сестра Тереза. — Мистер Соломон откашлялся и с дрожью в голосе продолжал: — И все же это чертовски отвратительный мир. Я не протянул бы и недели, если бы вел свое ювелирное дело так, как Господь — свое. Электрические колокола на баптистской церкви заиграли «Позови меня за собой». Миссис Бэбкок сражалась с кусочком говядины. — Как вы можете называть этот мир отвратительным, мистер Соломон? Посмотрите в окно: солнце, весна, птицы… Когда мистер Соломон ударил кулаком по столу, серебро зазвенело и подпрыгнули тарелки. Миссис Кейбл оторвалась от тарелки и впервые за весь обед с тревогой посмотрела на него. — У меня есть веская причина считать мир мерзким! Бог дал мне жизнь и научил любить, а потом отнял все. Постепенно. Сначала — родителей, потом — жену и детей, дом, родину, а теперь — здоровье и средства к существованию. — Он показал на свои мутные глаза. — Я уже не могу чинить часы. Я даже не вижу, о какой птице вы говорите, сестра. Скоро Он заберет мою жизнь. — Он тяжело вздохнул. — Знаете, как я называю вашего Бога? Садист! — Нет, мистер Соломон, нет! Эта жизнь — только слабый намек на будущее. Смерть — не конец, это только начало. Вы ничего не потеряете, только приобретете. Все, что забрали у вас в этой жизни, вы с радостью вернете на той стороне. Жену, детей, все! Верьте мне, мистер Соломон! — Я понимаю, сестра, вы верите в то, что говорите. Это ваш товар — ваш и многих других. Ваш Паскаль говорил: «Как страшно чувствовать, что течение времени уносит все, чем ты обладал». Скажите, сестра, когда вы ушли в монастырь? Вопрос не по существу, подумала Джинни и покосилась на мать: та внимательно, как за теннисным матчем, следила за спором. — Мне было шестнадцать, мистер Соломон. Почему вы спросили? — Простите, сестра. Я очень расстроен; но разве можете вы понять, что это значит: потерять жену и детей из-за психопата-маньяка? Сестра Тереза покраснела и ничего не ответила. Разговор подошел к концу. Все четверо молча заканчивали есть, Джинни следила за ними с дивана. В этот день она лежала на свободной кровати, а из правой руки по трубке в пластмассовый сосуд струилась кровь. Показывали «Тайные страсти». Шейле явно не везло в бридж. Элла, жена босса Марка, оставила ее одну. Какая-то женщина пыталась шепотом подсказать, какие у партнера карты. Зазвонил телефон. Элла? Хочет объяснить свое отсутствие? До завтра, до семнадцати десяти, они этого не узнают. Началась реклама. — Как ты думаешь, это Элла звонила? — Сомневаюсь, — ответила Джинни. — Скорей всего Марк. Наверное, поцапался с Тедом, и тот не отпустил Эллу. — Ну, Элла не из мягкотелых. — Ты думаешь? — Конечно. Она сама позвонила бы в таком случае. Наверно, с ней что-то случилось. — Может, ты и права. Началась «Западная хроника», которую, как Джинни помнила, показывали уже лет двадцать. «— Сэм, — говорил доктор Марш, — мы — давние друзья. — Что правда, то правда, док. — Понимаешь, когда я говорю, что терпеть не могу… — Док, дружище, ты ведь не хочешь сказать… — Сэм, ты знаешь, я не любитель обманывать друзей… — Ты никогда меня не обманывал, док. — Ты должен быть сильным, Сэм… — Ты хочешь сказать… — Я сделал все, что мог, Сэм, дружище». Сэм, чью жену лечил доктор Марш, разразился рыданиями. Доктор Марш обнял его за плечи. «— Успокойся, Сэм. Все расходы оплатит Красный Крест. Отвези жену домой. Ей там будет лучше. Согласен?» Джинни смотрела, как из вены течет кровь. Ее кровь. Она много знала о крови после уроков физиологии в Уорсли: например, что лишь у полутора процентов американцев такая же группа крови, как у нее — В, отрицательный резус. А в Центральной Азии это самая распространенная группа. Интересно, как она попала на юго-запад Виргинии? Еще она знала, что тромбоциты умирают каждые три-четыре дня, и ее здоровый костный мозг образует их каждый день пятьсот миллиардов. Другими словами, Джинни нельзя возвращаться сейчас в Вермонт. Мать нуждается в ней. Все переменилось. Как непривычно: не она нуждается в матери, а мать — в ней. «Хроника» отошла на задний план; она лежала, прислушиваясь к тиканью фамильных часов, и думала о своем сердце: вот оно сокращается, вот гонит в вены кровь… Неважно, почему люди умирают. И почему живут. Красные кровяные тельца, белые, тромбоциты, антитела, двенадцать факторов свертывания… Удивительно не то, что в этой системе что-то ломается. Удивительно, что она вообще функционирует… Сосуд наполнился темно-вишневой кровью. Доктор Фогель вытащил иглу и велел ей подержать руку над головой. Потом затянул жгутом руку миссис Бэбкок и стал втыкать в вену одноразовый шприц. Казалось, у него ничего не получается. — Молодой человек, — стараясь, чтобы ее слова прозвучали как можно веселей, сказала миссис Бэбкок, — вам обязательно тренироваться на мне? Джинни улыбнулась, стараясь разрядить обстановку. Наконец он нашел подходящее место и вонзил иглу. Кровь дочери потекла по трубке в сосуды матери. «Все-таки то, что сейчас происходит, вполне справедливо», — рассуждала Джинни. В свое время мать делилась с ней кровью, теперь она возвращает ей долг. Хорошо, если кровь матери «научится» чему-то у тромбоцитов Джинни. В конце концов, они хоть таким образом пришли к соглашению, и это было очень приятно. Но интересно, запрограммирована ли на болезнь кровь самой Джинни? А Венди? По крайней мере, это не чужая кровь, думала миссис Бэбкок, следя за потоком крови. Она читала в энциклопедии, что во время сражений римских гладиаторов зрители вскакивали с мест и дрались за право испить крови самых искусных и храбрых гладиаторов, умиравших в грязи, надеясь вобрать вместе с кровью их силу. «…Он поднял чашу, поблагодарил и сказал: «Пейте все. Это моя кровь; она пролилась за вас, за многих из вас, во имя отпущения ваших грехов». Миссис Бэбкок подозревала, что ритуал святого причастия берет начало из символизма. Ученый может взять червя, обученного простейшей деятельности, разрезать на кусочки и скормить необученному, который неожиданно обнаружит умение того, кто послужил ему пищей. Гены, ДНК, хромосомы… аккумулированный опыт, передаваемый через века в закодированном виде. Так и с этим переливанием. Может быть, ее кровь научится быть здоровой у крови дочери… Ей не очень нравилось, что донором стала Джинни. Во-первых, теперь нельзя предложить ей уехать в Вермонт. А во-вторых… не хочется признаваться, но это приводит к нарушению неуловимого баланса между нею и Джинни. Она всегда служила детям примером — пока не заболела. «Я живу, чтобы служить вам», — повторяла она, когда они прибегали и требовали три дюжины шоколадных пирожных для рождественской вечеринки целого класса или двадцать сэндвичей с тунцом для клубного пикника. В этом замечании, даже произносимом шутливо, крылась истина. Перестав служить, она заболела — и физически, и душевно. А теперь ей служит Джинни: лежит с довольным видом и гордится собой! Миссис Бэбкок определенно не по себе из-за того, что они поменялись ролями. Ей казалось, что своей болезнью она заставляет детей служить ей, более того — душит их своими страданиями. Она предупреждала каждое их желание, но не навредила ли им? Не разрушила ли их собственную энергию и уверенность в себе? Может, поэтому Джим и Джинни так упрямы, а Карл фанатично предан порядку? Если б она задумалась об этом раньше, когда они были детьми, не оказалась бы сейчас здесь, в этой палате. Она поступала так, как считала нужным, будучи полным дилетантом в воспитании. А теперь, когда стала профессионалом, вырастившим троих детей, слишком поздно исправлять ошибки, допущенные за время ученичества.
Солнце почти скрылось за горизонтом, когда Джинни вернулась к хижине и сразу поспешила к сосне. Двое птенцов, откинув головки и закрыв глаза, висели на коготках. Она огляделась — где же третий? — и нашла на земле окоченевший трупик с расправленными крылышками и открытым ротиком. Ее затошнило. Она размахнулась и швырнула изящное тельце в заросли куджу. Потом села на каменные ступеньки и задумалась. Она могла спустить их в туалет, и они утонули бы так же легко, как тампон «тампэкс». Могла швырнуть их на каменные ступени. Могла отрубить им головы, или, чтобы не пачкаться, закопать живьем в землю, где диким котам будет не так-то легко отыскать их. Или можно оставить их на сосне — умирать с голоду. Нет, черт побери! Она не послушается вердикта Вильбура Бердсалла, хоть он имировой авторитет. Птенцы питаются жвачкой изо рта родителей, но в этом особенном случае их пищеварительным трактам придется приспособиться к самостоятельному усвоению еды. Казалось совершенно естественным, если в экстремальных условиях развитие произойдет быстрей, чем в обычных. Во всяком случае, стоило попытаться. Она принесла стакан воды и капнула в каждое горлышко. Живы ли они? Грудки теплые и еле заметно вздымаются от дыхания. Через минуту или чуть больше каждый птенчик проглотил свою каплю. А потом и вторую. Она разломала гамбургер и тщательно перемешала тунец и хлеб, получив противную однородную массу. Потом скатала малюсенькие шарики и осторожно опустила один в ротик птенцу. Клювик медленно дернулся, потом быстрей, быстрей — и шарик исчез, как насекомое, пойманное мухоловкой. Джинни обрадовалась, накормила их несколькими шариками и отыскала корзину с крышкой. Они смогут цепляться за нее, а темнота и прохлада создадут иллюзию, что они — в привычной трубе. Не боясь, что испортит руки, она положила птенцов в корзину. Все равно родители отказались от них. Захотела бы Венди помогать ей спасать птенцов? Джинни представила маленькие пальчики, лепящие шарики, нахмуренное от усердия личико… Венди зажала бы птенчика в кулачке и радостно захихикала, когда он завизжит. Надо будет помешать ей раздавить птенцов от избытка энтузиазма. Она откроет их клювики, ткнет палочкой в глазки и расправит крылышки… Джинни так ясно представила эту картину, что совершенно отчетливо поняла: нельзя продавать особняк! Они с Венди будут жить здесь, а мать — в хижине. Три поколения женщин Халл… Она подбежала к телефону и набрала номер доктора Тайлера в Сосновом Бору. — Джинни? Какой сюрприз! Я не слышал тебя уже вечность. — Я давно не была дома. — Очень стыдно. Знаешь, я ведь испытываю особенную привязанность к тем, кому помогал появиться на свет Божий. — Взаимно. Я и правда сижу сейчас на кровати, где вы меня принимали. — Неужели? Ну и ну! Кстати, я очень хорошо помню ту ночь. У твоей матери начались схватки, и вдруг из трубы вылетело с полдюжины стрижей. В жизни такого не видел! Они носились по хижине как сумасшедшие и все измазали в саже — стены, потолок, шторы. А твоя мать как раз накануне навела порядок, чтобы не отвлекаться, когда ты родишься. Ну вот, она вскочила с кровати, схватила швабру — и давай гоняться по всей хижине за этими чертовыми стрижами. Время от времени — при схватках — она садилась на пол, а потом поднималась и — вперед! А твой отец и я гонялись за ней, чтобы уложить в постель. — Они оба засмеялись. — Да, там было на что посмотреть! — И что с ними произошло? — Твой отец наконец выгнал их за дверь. — А почему они влетели в трубу? — Не знаю. Иногда это бывает со стрижами. Я их называю «крысы в перьях». Но ты, конечно, звонишь не затем, чтобы обсуждать птиц. Чем могу быть полезен, детка? — Мама в больнице. — Вот как? Не слышал. Что-то серьезное? — Джинни ожидала, что он сразу начнет выяснять подробности, а он спросил просто из вежливости. — Тромбоцитопеническая пурпура. — Гм-м-м… Как протекает? — Я звоню, чтобы выяснить, опасна ли эта болезнь. — Кто ее лечит? — Фогель. — Фогель? Прекрасный молодой человек. Отличный доктор, она попала в лучшие руки. — Он дает ей стероиды. А сегодня делал переливание крови. — Это стандартное лечение. — Да, но маме стероиды не помогают. — Джинни, деточка, знаешь, что мы делали в таких случаях раньше, когда стероидов не было? Переливание крови. В тяжелых случаях удаляли селезенку. Иногда помогало, иногда — нет. Тогда оставалось одно: беспомощно сидеть и наблюдать, как кровотечение становится интенсивней. А потом пациент умирал от кровоизлияния в мозг. Эти стероиды, как и антибиотики, не имеют цены, если только их правильно применять. Они произвели в медицине настоящую революцию. Если бы ты обратилась ко мне с пневмонией, когда я только начинал практиковать в Халлспорте, тебе пришлось бы целую зиму провести в постели. И то — если бы повезло. Большинство умирали. Теперь поправляются за несколько дней. — Но сегодня, когда есть стероиды и прочие медикаменты, насколько опасна ее болезнь? — Не могу сказать, Джинни, твоя мать — не моя пациентка. Это не очень опасно в детстве, но в зрелом возрасте… Это редкая болезнь. — Значит, мама не умрет? — Джинни, Джинни! Пациенты надеются, что доктора — шаманы, провидцы или еще кто-то в этом роде. Я не знаю. И не уверен, что знает Фогель. Современная медицина многого достигла, но есть немало такого, о чем мы даже не подозреваем. Существуют сотни и тысячи причин, которые могут нарушить нормальные функции человеческого организма. — Несчастна? — Джинни и в голову это не приходило. За исключением недавнего взрыва, мать всегда была очень спокойна. — Она несчастна уже несколько лет. — Я не знала… — Тогда мне не стоило об этом упоминать. Я — старый человек и нарушил профессиональную этику… — Но в чем ее несчастья? — Во всем. У нее была депрессия. — И все-таки? — Тебе лучше спросить у нее. — Мне? — Конечно. Ведь ты — ее дочь. — Но разве депрессия влияет на физическое здоровье? — Даже очень, уверяю тебя. — Почему же доктор Фогель об этом ничего не сказал? — Подобные взгляды не в чести у современных медиков. Сейчас принято искать причины в другом. Но если практикуешь столько, сколько я, если лечил и родителей, и детей в семье, по-другому видишь многие вещи. Болезнь не приходит внезапно. Определенные люди в определенные моменты жизни заболевают определенными болезнями. Иногда их можно предсказать достаточно точно. Джинни деликатно промолчала: Тайлер явно спятил в своем Сосновом Бору. — Но уверяю тебя, Джинни, Фогель сделает все, что в его силах. Джинни втайне рассчитывала, что он прервет отпуск и сам станет лечить мать. — Как по-вашему, сказать маме, что у нее может произойти кровоизлияние в мозг? — Ну, детка, — не сразу ответил он, — это ты должна решить сама. Ты и твои братья. Видишь ли, я слишком стар, чтобы думать о чьей-нибудь смерти, кроме своей собственной. — Да, конечно, — растерянно пробормотала Джинни. — Приятно было поговорить с вами, доктор Тайлер. Спасибо за помощь. — Не за что, детка. Передай маме привет и скажи, что я обязательно посмотрю ее в конце лета. — Передам. До свидания. Она повесила трубку. Кровоизлияние в мозг… На месте матери она бы предпочла, чтобы дочь сказала ей об опасности. С другой стороны, разве не станет ей от этого еще хуже? Лучше ничего не решать. Посмотрим, как развернутся события. Возможно, переливание крови вылечит мать? Она взяла ручку, лист бумаги и начала писать: «Дорогая мисс Хед. Я пишу вам в надежде вернуть долги. Я понимаю, что в Уорсли вы старались научить меня критически и беспристрастно оценивать ситуацию. Ваши уроки оказались неоценимыми. Ваш курс философии, поездки в Бостон и визиты к вам домой были самыми светлыми пятнами в моей трудной и несчастливой жизни, и я благодарна вам от всей души. Я всегда вспоминаю вас с чувством признательности и уважения и только жалею, что обстоятельства, при которых я уехала из Уорсли, были далеко не приятными. Я сожалею, что так разочаровала вас. Этого поступка я стыжусь больше всего в своей жизни. Надеюсь, вы здоровы и заняты своей книгой, а может, уже другой? С искренним уважением, Джинни Бэбкок Блисс». Она поскорей бросила письмо в почтовый ящик за фермой Клойдов — пока не раздумала и не порвала его. На кухне Клема и Максин горел свет. Она решила зайти. — Как твоя мама? — спросил Клем. Она присела за заставленный грязными тарелками обеденный стол и с удовольствием посмотрела на троих темноволосых — копия Клем в детстве — детишек, рисовавших что-то в углу на полу. — Точно не знаю. Сегодня ей сделали переливание крови. Доктор надеется, что оно поможет. — Будешь есть лепешки? — спросила Максин. — Еще немного осталось. Джинни ничего не ела целый день, да еще отдала пинту крови. — Да, пожалуйста. Я проголодалась. — Она полила кетчупом слипшиеся коричневые бобы и жадно вонзила в них вилку. — Тебя что, муж не кормит в твоем Вермонте? — засмеялся Клем. — Какие вкусные, — похвалила она, чтобы перевести разговор на другую тему. Муж! Знали бы они, что он ее выгнал! — Клем, — с полным ртом сказала она, — заставь меня заткнуться, но что случилось с твоей ногой? — Она в порядке. — Вижу. Но почему? Операция? Клем и Максин переглянулись. — Нет, это Господь вылечил ее. — Ну конечно, — усмехнулась Джинни. — Это правда. После той аварии на «харлее» я посвятил себя Иисусу, вот нога и выпрямилась. — Он задрал штанину комбинезона, и пораженная Джинни увидела ногу нормальной длины и формы, правда, похожую из-за многочисленных шрамов на футбольный мяч. — В какую же церковь ты ходишь? — В летний домик. У нас с Максин свой Господь. Мы собираемся по пятницам вечером — пара дюжин человек. — В домике? Прямо там? — Да. Мы и тебе будем рады, правда, Максин? Она кивнула. Джинни молча доедала бобы. — Ну? — потребовал Клем ответа. — Придешь? Можешь только смотреть. — А я никому не помешаю? — Джинни не знала, какой повод придумать, чтобы не приходить. — Нет. Я скажу, что ты — мой старый друг. — Не знаю. — Она полила кетчупом лепешку и принялась за нее. — Он изменит твою жизнь, как изменил мою, — уговаривал Клем. — Но если даже и не изменит, что ты теряешь? Пару часов, не больше. — Вы проповедуете? Или как? — У нас нет расписания. Мы поступаем так, как учит наш добрый Господь. — В котором часу? — вздохнула Джинни, поняв, что Клем обидится, если она откажется прийти. — В семь тридцать. В пятницу. — Хорошо. Я приду. — Отлично! — хором ответили Клем и Максин. — Спасибо за ужин. — Джинни попрощалась и направилась в хижину.
На следующее утро миссис Бэбкок проснулась сама. Она улыбнулась, услышав, как тикают на тумбочке старые часы. Этот звук сопровождал ее всю жизнь. В детстве он наполнял хижину, а потом — гостиную в особняке, куда они переселились с Уэсли. Она часами могла слушать их мерное тиканье, особенно по воскресеньям, когда, вернувшись из церкви, мать разрешала ей завести их большим филигранным ключом — ровно восемь оборотов, ни больше, ни меньше. Когда Уэсли был за океаном, а Джинни кричала каждую ночь, миссис Бэбкок переносила ее в гостиную и расхаживала туда-сюда по всей комнате. Сердце, к которому она прижимала малютку, билось в одном ритме с часами. Расхаживая холодными одинокими ночами с прижатым к груди ребенком, миссис Бэбкок поняла, как важны для них эти часы. Уэсли вернется, успокаивала она себя, когда неумолимый маятник отстучит еще несколько месяцев. И когда он вернулся — почти через двадцать один миллион ударов, подсчитала она однажды ночью, — их страстная любовь тоже сопровождалась этим мерным тиканьем фамильных часов. Дети кувыркались по полу и боролись за право заводить их. Часы тикали днем, когда она присаживалась отдохнуть от бесчисленных дел, и ночью — когда просыпалась от непонятного страха. Точно так же они отстукивали время для ее бабушки и мамы. Жизнь продолжалась; она успокаивалась, страх проходил… Часы шли. Их неумолимый ход приближал ее к старости, к смерти — и отдалял от суетливых дней молодости, когда она была слишком занята, чтобы думать о неизбежном. Миссис Бэбкок открыла глаза: знакомый желтый циферблат, римские цифры, филигранные стрелки. Ее друг, ее враг. Сегодня они были ей другом; сколько раз отстучат они, прежде чем она вернется домой? Сегодня ей лучше. Она проверила тампоны и подклады — чисто. Переливание крови пошло на пользу. Она с наслаждением, как кошка, потянулась под утренним солнцем. Тот, кто никогда не был серьезно болен, кто не следил со страхом за своими жизненными процессами, не сможет понять потрясающего ощущения здоровья. Молодой доктор Фогель знает, что делает. У нее больше нет к нему вопросов. Стыдно, что она отказывалась от стероидов. Миссис Бэбкок встала и надела фланелевый зеленый халат. Синяки на ногах не болели, как раньше, когда она вставала утром. Она подошла к окну. Над предгорьями горело огромное красное солнце. На деревьях скакали деловитые белки… Вошла миссис Чайлдрес со своими пробирками, тампонами и иглой. Она на удивление легко проколола ей ухо и взяла в руку часы. — Семь с половиной минут, миссис Бэбкок! — торжественно объявила она. — Это норма? — Почти. — Сколько норма? — Спросите доктора Фогеля, мне нельзя обсуждать это. — Почему, черт побери? — Он — доктор. — А вы — медсестра. — Норма — четыре минуты, — быстро оглянувшись, прошептала она. — Но у вас было двенадцать, дорогая. — Она помолчала и тоном, каким объявляют, что установлен мировой рекорд, громко сказала: — Отлично! Действительно отлично: семь с половиной минут!
Глава 9
Разделенная верность. Вопреки расхожему мнению, я уверена, что люди подразделяются всего на три категории: тех, кто носит часы; тех, кто не носит часов, и тех, кто иногда носит, иногда — нет. Эдди определенно принадлежала ко второй категории, я — к третьей, но в тот год — год необыкновенной жизни с Эдди — я решительно не носила часов. Мы сняли квартирку в Кембридже, на Бродвее, на третьем этаже облезлого многоквартирного дома, до которого только в следующем десятилетии, как обещали городские власти, у них дойдут руки. Газовые трубы были в металлических заплатах, и даже зимой, когда шел снег, приходилось держать окно кухни открытым. Водой в душе нужно было пользоваться аккуратно: она протекала в квартиру под нами, где жила издерганная нуждой мать пятерых детей: у нее и без ремонта потолка хватало забот. На узеньком балконе, выходившем на шумную грязную улицу, незаконно поселились голуби, ворковавшие и гадившие все дни напролет. Бессовестные владельцы так называемых «меблированных комнат» обставили их всякой рухлядью. Газовые горелки едва теплились, и в застеленной потертым линолеумом кухне вечно воняло газом. Короче говоря, это была убогая конура, но нам с Эдди нравилась. Мы сбежали из Уорсли и наконец-то жили бок о бок с народом. Не наша вина, что народ, занятый одной проблемой — где раздобыть денег, — менялся так часто, что мы не успевали ничем ему помочь. Замученная мать этажом ниже прятала от нас детей и шипела, когда мы проходили мимо: «Мерзкие шлюхи». Мы с Эдди не сердились на нее. Я носила теперь желтые джинсы, черный свитер и сандалии «голиаф», но чувствовала, что в душе не изменилась. Чьи-то глаза следили за нами, когда мы прогуливались в обнимку по улице, шеи негодующе вытягивались в нашу сторону, когда мы держались в кино за руки. «Лесбиянки»… Полнейшее равнодушие к моей персоне, когда я училась в Уорсли, сменилось явным неодобрением: но я по-прежнему оставалась сама собой. Единственным нашим очагом был старый керосиновый обогреватель в гостиной, а самым уютным местом — кровать с матрацем и подушками — трофеями из мусорных контейнеров. Убегая из Уорсли, мы прихватили на память пару тощих казенных одеял. После того как мы заплатили за квартиру, истратив мои дивидендные чеки, у нас было мало денег, и большую часть времени мы проводили в постели, толком даже не зная, день сейчас или ночь. Эдди продолжала играть в баре на гитаре два вечера в неделю, как играла, когда еще училась в Уорсли. Я садилась в темном уголке, слушала, как она исполняет песни протеста, и с гордостью наблюдала, как люди восхищаются ее хрипловатым голосом и грубоватой красотой, подчеркнутой обтягивающим черным свитером и узкой юбкой. В перерывах мы воровали со столиков хлеб, а потом возвращались часа в три ночи, а то и позже, в свою грязную конуру и спали до полудня следующего дня. Один день переходил в другой, и мы потеряли всякое представление о времени. Я достигла совершеннолетия и приобрела право распоряжаться своим трастовым фондом — не совсем понимая, что это такое, но с удовольствием подписывая поступающие от брокеров и юристов бумаги. Деньги стали поступать, но я начала задумываться, откуда этот капитал? У нас с Эдди появилось важное занятие: мы стали заядлыми демонстрантами. Купили подержанные каски и нанесли на них цвета американского флага. Как владельцы конюшен не пропускают ни одних скачек, а фанаты — футбольных матчей, так мы являлись на каждую демонстрацию, митинг протеста, забастовку или марш мира. Мы познакомились с многими такими же любителями всяких сборищ. В один прекрасный октябрьский день мы отправились на окраину Бостона на антивоенный митинг. Вовсю светило солнце, воздух был свеж, тротуар устлали разноцветные листья. Мы ликовали, увидев, как много у нас единомышленников, хотя, с точки зрения клерков, выглядывавших из окон высотных зданий, мы, наверное, походили на рой возбужденной саранчи. Спикер — адвокат, потерявший работу из-за своих политических взглядов, — красноречиво говорил о тщетности насилия. Серьезные молодые женщины со спящими в корзинках на спине малышами согласно кивали головами. Самые удачные моменты сопровождались одобрительными воплями студентов. Бизнесмены в хороших костюмах неистово размахивали транспарантами. Казалось, в такой яркий радостный день во всем мире царит гармония и веселье, а президент Джонсон просто не сможет не прислушаться к требованию народа вывести войска из Юго-Восточной Азии. Нас, стоящих плечом к плечу у сверкающих зданий местной власти, переполняла любовь. А особенно меня и Эдди; мы даже не взяли с собой свои видавшие виды каски, уверенные в том, что никто не осмелится бросить в нас камень. Из окон офисов высовывались служащие, из дома напротив — женщины, дети, собаки и кошки… К горлу подступил комок. Я вспомнила, как в детстве читала молитвы или пела «Америка прекрасна». Мы не сдадимся! Мы с Эдди плакали от восторга. Как хорошо быть добрыми и справедливыми, да еще в такой компании! Мы возвращались домой в приподнятом настроении. Солнце село, и мы уже в сумерках поднялись на свой третий этаж по грязной лестнице — мимо покореженной двери, за которой громко кричали ребятишки и мать. Нас ждала кровать. Прекрасный день должен завершиться так же прекрасно. Наш секс был потрясающе страстен. Мы достигали оргазма по нескольку раз за ночь. Я знала из курса физиологии, что оргазм, — элементарный отклик на раздражение эротических зон, но старалась забыть все, чему училась в Уорсли. Наша возвышенная любовь — и какие-то рефлексы? Чушь! О том, что происходило между мной и Эдди, нельзя прочитать ни в одном учебнике физиологии. Мы не знали, минуты проходили или часы, когда лежали в объятиях друг друга и замирали от наслаждения. Я уже испытывала это чувство полета — когда летела с «харлея» Клема Клойда в обрыв. Любовь лесбиянок не похожа на гетеросексуальную. Чтобы достичь оргазма, нужна фантазия. Ничто не должно омрачать такое счастье! Я лежала рядом с посапывающей во сне Эдди и размышляла над новой проблемой. Знай она правду о наших деньгах, вряд ли ее трепещущий язык с такой нежной страстью пробегал бы по моим потайным местечкам. Эдди всегда считала, что богатством нужно делиться, но приняла бы она кровавые деньги? — Эдди? — Да? — она уткнулась губами мне в шею — точь-в-точь Джо Боб в «додже» Доула. — Я должна кое в чем признаться. — Да? — Ты слушаешь, Эдди? Это очень важно. — Да? И не может подождать? — Она легонько укусила меня за мочку уха. — Нет. Не может. Я обязана сказать тебе прямо сейчас. Я не смогу больше носить это в себе, — чуть не заплакала я. — Что случилось, Джинни? — Ты видела бумаги, которые я подписываю? — Конечно. — А знаешь, откуда у меня деньги? — Откуда? — зевнула она. — С завода моего отца, вот откуда. — Все! Высказала! Что сделает Эдди, знает только она. По крайней мере, я больше не виновата перед ней. — Ну и что? «Ну и что?» Разве я неверно поняла то, чему она меня учила? «Ну и что?» Разве не безнравственно участвовать в маршах мира, живя на деньги, полученные от продажи оружия? Разве не учила меня Эдди, что логика мисс Хед ошибочна, а путь к истине противоречив и сложен? Может быть, это мой сверхрациональный мозг придумал новую проблему? — Я даже не знала, что у твоего отца есть завод, — пробормотала Эдди. — Что он там делает? Вот оно! Правда всегда выйдет наружу. — Взрывчатку, — страдальчески прошептала я. — Для шахт, тоннелей и всего такого? — Нет. Для бомб и снарядов. Для Вьетнама. Ни звука в ответ. — Если ты меня бросишь, — тихо проговорила я, — я пойму. Прости, Эд. Я должна была признаться раньше. Но до сегодняшнего митинга я не понимала, как это серьезно. Эдди молчала. — Ты не разлюбишь меня? — всхлипнула я. — Не разлюбишь? Тишина. Я пригляделась: она безмятежно спала. Если ночью я могла надеяться, что этим все кончится, то утром поняла, как ошиблась. Эдди ходила по комнате, бормотала «О Господи!» и решительно отказывалась даже смотреть в мою сторону. — Прости, Эдди, — несколько раз попросила я, но она была непреклонна. — Ты говорила об этом еще кому-нибудь? — наконец холодно спросила она. Я замотала головой. — Никому не говори. Поняла? Никому! А то моей репутации хана! — Можешь на меня рассчитывать, — обрадовалась я. Из распахнутого окна голубь выклевывал остатки замазки. — Ладно! Насколько я понимаю, тебе придется вложить деньги в компанию по производству протезов, медикаментов и так далее. — Я не могу! — Почему? Это твои деньги? — Мои. Но я не могу ими распоряжаться, пока живы мои родители. Это для того, чтобы избежать высоких налогов. Дело в том, что в их корпорации не выпускают протезов. Одну взрывчатку. — Н-да, — глубокомысленно протянула она. — Господи! — и снова зашагала по комнате. — Коррупция всюду! Я не переживу этого, Джинни. Надо же, я жила на прибыль компании, заправляющей военную машину! — Прости. Я понимаю, ты очень расстроилась. Я бы все отдала, чтобы избавить тебя от этого кошмара, Эдди! Я обидела женщину, которую очень люблю!.. — Я расплакалась и бросилась на хлипкую кушетку. Та треснула и рухнула на пол. Я лежала на линялом ковре и безутешно рыдала. — Ну, ну, успокойся, — Эдди присела на корточки и погладила меня по щеке. — Мы что-нибудь придумаем. И мы придумали. Если нельзя использовать акции военного завода по своему усмотрению, я, по крайней мере, выражу к нему свое отношение. Мы поедем в Халлспорт и станем пикетировать завод.— Господи! — воскликнула Эдди, увидев белый особняк с колоннами. — Ну и средневековье! На лужайке на меня набросилась наша кухарка Мэйбл, и, как я ни пыталась демократично пожать ей руку, чуть не задушила в объятиях. Кончилось тем, что я сама закружилась с ней вместе. — Ну и ну! — засмеялась Мэйбл, увидев на футболке Эдди призыв «Власть — народу!» — Я работаю у Бэбкоков с тех пор, как Джинни под стол пешком ходила. Это я научила ее завязывать шнурки, и вообще, чему только не учила ее старая Мэйбл! — Она трещала и трещала, акцент становился все сильней и сильней, я даже не помнила, что он так заметен. Но я слишком хорошо знала старую Мэйбл, чтобы не увидеть в глазах какого-то непонятного злорадства. На кого? На Эдди? Или меня? — Очень приятно познакомиться, Эдна, — улыбнулась мама, показывая наши комнаты. — Джинни писала о тебе много интересного. — Гм-м-м, — буркнула Эдди. Мама отвела мне мою старую комнату, а Эдди — бывшую спальню Джима. Эдди еще по дороге инструктировала меня, как поступить в этом случае: выложить все честно и откровенно. — Мама, — заявила я, покраснев. — Мы будем спать в одной комнате. Все! Свершилось! Я высунула голову из раковины перед собственной матерью. — Отлично, дорогая, — согласилась мама. — Как вам больше нравится, девочки. Эдди пнула меня ногой. — Я хотела сказать, мама, что мы будем спать в одной постели. — Да, конечно, дорогая. Все, что устраивает вас, устраивает и меня. Эдди пожала плечами. На следующий день мы изготовили два транспаранта: «Рабочие, объединяйтесь!» и «Вествудская корпорация Теннесси — фашисты и прихлебатели империалистических свиней!», отправились на джипе майора к заводу и стали маршировать взад-вперед перед обнесенным колючей проволокой забором, размахивая транспарантами. Вышел охранник, прочитал наши лозунги и миролюбиво сказал: «Знаете, девочки, шли бы вы домой». Эдди рассвирепела: — Мы вам не девочки! Это — дочь майора Бэбкока! — Ну конечно, — заржал охранник. Я вытащила кредитную карточку и помахала перед его носом, как сыщик из ФБР. — Видите? — О! Все в порядке, мисс Бэбкок. Извините, — неуверенно пробормотал он. Загудела сирена. От неожиданности мы уронили транспаранты и заткнули уши, но как только из ворот потекла к автостоянкам ночная смена, подобрали и выпрямились с решительным видом. Большинство рабочих не обращали на нас внимания. Я узнавала их лица: с некоторыми училась в школе, некоторых просто видела в городе. Двое молодых людей в зеленых комбинезонах остановились около Эдди. — Ф-а-ш… — читал один, а второй беспокойно оглядывался: не заметит ли кто-нибудь, что они разговаривают с двумя странными девушками в футболках с надписью «Власть — народу!» и непонятными плакатами в руках. — Фашисты, — объяснила Эдди. — Фашисты. А кто это? — Фашисты? — удивилась Эдди. — Это такие, как Гитлер. — Дерьмо! — выругался рабочий и плюнул на тротуар. — Вам нравится то, что вы выпускаете? — дипломатично спросила Эдди. — Взрывчатку и бомбы для Вьетнама? — Неужели? — Да, болван, — сказал второй и ткнул его в бок. — А мне все равно. Я работаю, мне платят, все о’кей. — А мне не все равно, — заявил второй. — Правда? — обрадовалась Эдди. — Да. У меня там брат, и я ему так помогаю. — A-а… А вы знаете кому не нравится делать бомбы? Рабочие переглянулись. — Если такие и есть, мне об этом лучше не знать, — сказал второй. Мы отошли и в надежде на более покладистую добычу приперли к стене смирного на вид пожилого мужчину. Он попробовал ускользнуть, но не тут-то было. — Послушайте, — зашептал он. — Я не хочу неприятностей. У меня пятеро детей. Я с облегчением узнала Гарри из здания администрации, которого не видела с тех пор, как работала летом на заводе. Он тоже узнал меня, и, несмотря на плакат в моих руках, обрадовался мне. — Джинни! Тебя не узнать! — Он кивнул на мои желтые джинсы, футболку и косу на спине, как у китаянки. — Гарри, ответь мне честно: тебе нравится делать бомбы для войны во Вьетнаме? — Откуда я знаю? — вздохнул он. — Слава Богу, на нас они с неба не падают. — Но, Гарри! — Я ведь их не делаю, девочка. Я — чиновник. Но как бы то ни было, если твой папа говорит, что так нужно, значит, так оно и есть. — Легок на помине, — хмыкнула Эдди. К нам неправдоподобно быстро приближался майор, одетый в свой полосатый костюм. Я невольно вздрогнула. — Чем вы здесь занимаетесь? Я растерянно пожала плечами. — Вирджиния! Если ты и твоя подружка немедленно не свернете свои плакаты и не уберетесь отсюда… я аннулирую твои дивидендные чеки! — Ты не сумеешь! Они на мое имя! — Я сумею в этом городе все, что захочу. Ты, похоже, забыла, что это мой завод. — А может, вы станете выпускать что-нибудь другое? — пробормотала я, наступив ему на больную мозоль. — То, что мы делаем здесь, нужно для национальной безопасности, дорогая дочь! Хочешь мира — готовься к войне. Чем сильней военная машина — тем лучше для государства. Я знаю, что некоторые, — он презрительно покосился на Эдди, — рады бы поставить нацию на колени и отдать коммунистам ключи. Я поняла, что сейчас ему лучше не возражать. — Но я не из таких! Я слишком долго воевал с Гитлером, чтобы спокойно смотреть, как вы призываете к предательству. Кроме того, что производить на этом заводе, зависит не от меня. Это решали в Бостоне. Почему бы вам не вскочить в самолет и не вернуться туда, откуда вы притащили свои дурацкие плакаты и не менее дурацкие политические взгляды? — Ублюдок, — шипела Эдди по дороге домой. — Господи, ну и ублюдок! В Бостоне мы решили, что лучшее, что я могу сделать для своего политического развития, — это порвать все связи с реакционной семьей. Это из-за них у меня неврозы и буржуазные взгляды, и один решительный шаг раз и навсегда вырвет меня из сетей капиталистических пережитков. — Семейные узы не должны превращаться в цепи, — заявила Эдди. Я подсчитала, какую сумму получила от акций Халлспортского завода, и перечислила ее в народную больницу Бостона. Пусть достойные цели оправдывают недостойные средства, решили мы. Однажды апрельским вечером Эдди стремительно взлетела по ступенькам и с самым несчастным видом остановилась в дверях. — Что случилось? — Я подписывала чек в пользу нуждающихся членов Общества борьбы с наркотиками. — Вместо бара будет банк! — Она в изнеможении опустилась на прогнувшуюся кушетку. — Ты шутишь! — Боюсь, это не все. — Что? — Эту навозную кучу, которую мы называем домом, тоже прикрывают. К началу месяца мы должны убраться. — Что? Куда? Наш уютный мирок затрещал по швам. Мы сидели, сбитые с толку, и беспомощно смотрели друг на друга. Потом, когда первый шок отступил, подсчитали свои доходы и расходы и пришли к выводу, что нам придется или урезать расходы на благотворительность, или искать работу. Пару недель мы без особой надежды мотались по объявлениям. Исполнители песен протеста нигде не требовались — в моду вошел тяжелый рок. Без диплома я могла рассчитывать только на место официантки в кафетерии на Гарвардской площади, где обедала когда-то в День благодарения. Эдди старалась внушить мне, что эта работа заслуживает внимания, что здесь легко вступать в контакт с народом и исправлять свои недостатки, доставшиеся в наследство от буржуев-родителей. За две недели до выселения мы решили плюнуть на все и навестить в Вермонте двух приятельниц Эдди. Они были старше ее и редактировали газету в Уорсли, когда она только начала выходить. Эдди питала к ним такие же нежные чувства, как я к лишившему меня девственности Клему Клойду. Теперь они жили на ферме около небольшого городка под названием Старкс-Бог. Мона оказалась худой, высокой, с широко расставленными бегающими глазами, спрятанными за темными очками с вишневыми линзами. Черные волосы с длинной челкой были подстрижены под «храброго принца». Она сутулилась и опускала голову, напоминая очкастого грифа. Этель тоже не уступала ей ростом, но была плотней и эффектней: вокруг головы сиял пышный нимб рыжих волос. Она все время улыбалась, отчего глаза казались узкими щелками. Они обе — Мона сдержанно, Этель — бурно — обняли Эдди. Кроме них на ферме жили пятеро мужчин и одна женщина. Обветшалый белый дом соединялся покосившимся крылом с огромным амбаром, где на утоптанной куче навоза переминалась с ноги на ногу пара коров. Обстановка напоминала Кони-Айленд накануне Дня Независимости: одежда, постели, книги, газеты, тарелки и спящие тела валялись в самых неподходящих местах. Сырые, оклеенные грязными обоями стены кое-где покрылись плесенью. Мы с Эдди помогали им сажать семена в небрежно вскопанные грядки. Под жарким солнцем от влажной земли поднимался пар; в траве жужжали мухи; вдалеке зеленели предгорья. На обед подали мутный суп с полусырыми клецками, похожими на листья с компостной кучи, и зернистый хлеб, который невозможно было разгрызть зубами. Потом все разлеглись на полу в гостиной, оставив грязные тарелки двум кошкам, которые немедленно прыгнули прямо на стол и тщательно вылизали их. — Что случилось? — спросила Эдди у Моны и Этель. — Вы были самыми заядлыми активистками из всех, кого я знаю. Не верю своим глазам. После вас редактором стала я. Политические портреты, статьи о событиях в мире, помощь чернокожим детям в Роксбери — я продолжала ваши традиции. Не понимаю, что случилось? — Надоело, — неохотно ответила Мона и со свистом втянула в себя сигарный дым. Лицо покраснело, стало жалким; она раздавила ногой тлеющий окурок и закрыла глаза. — Неужели ты сдалась? — не унималась Эдди. — Уступила сволочам-радикалам? — Нет, конечно, — преувеличенно бодрым тоном возразила Этель. — У нас своя теория. Знаешь, кто платил мне, чтобы я организовывала митинги в Ньюарке? Пентагон, вот кто! Нельзя бороться против системы и в то же время пользоваться ее благами. Сначала заработай право бороться, живя среди простого народа, а потом выговаривай мне про несправедливость и загнивающий строй. Или не болтай всякую чушь! Мона согласно кивала, затягиваясь следующей сигаретой, потом сходила на кухню и принесла пакет мороженых «Волшебных грибов». — Плоть Господня, — предложила она. — Любимое блюдо ацтеков. Ключ к общению с богами. Я нехотя взяла ледяной кусочек. Можно ли есть плоть Господа? — Ты что? Не балуешься наркотиками? — недоверчиво спросила Мона. — Конечно, балуется, — поспешно заверила Эдди. Мне очень хотелось угодить ей, но воспитание одержало верх: я не доверяла «Волшебным грибам», более того, я читала, что те, кто их ест, рискует умереть в страшных муках. Я не хотела корчиться от боли на грязном полу заброшенной вермонтской фермы. Притворившись, что откусила кусочек, я бросила его кошке, но она презрительно фыркнула и отвернулась. Эдди, казалось, очень заинтересовалась жизнью на ферме. Она задавала вопросы о садоводстве, животноводстве и ценах на землю… — Мона и Этель, они… любят друг друга? — спросила я по дороге домой. Мы сидели на жестких автобусных сиденьях, упираясь коленями в передние сиденья, и смотрели на мелькавшие за окном мокрые луга и вечнозеленый лес. Кое-где еще не растаял снег. — Они не любовницы, если ты это имеешь в виду. Насколько я знаю, их не интересует секс. У них деловые отношения. — Какая тоска! — Ты думаешь? По-моему, это оригинально. Я недоуменно уставилась на нее. — И что, так было всегда? — Не знаю. Я помню, что у Моны, когда она училась в Уорсли, был мужчина, студент-медик. Они встречались в морге, когда он дежурил по ночам, и занимались там любовью. — Господи! — ахнула я. Морг для занятий сексом казался мне таким же отвратительным, как и бомбоубежище. — Но она «залетела». Помню, она призналась, что беременна. Мы сочиняли статью о свободе печати, и вдруг она разрыдалась. Я не верила своим глазам. Мона всегда была для меня образцом сдержанности. В конце концов она успокоилась, высморкалась и сквозь слезы рассказала о своей беде. «Что ты думаешь делать?» — спросила я. «Брошу университет и выйду замуж», — ответила она. А потом — после уик-энда — вернулась вся серая и измученная. Мы ни словом не обмолвились о том, что произошло, но, насколько я знаю, она больше не ходила ни в морг, ни куда-нибудь еще. — И ты ничего не спросила у Этель? — И мысли такой не возникало. По-моему, Этель ничего не знала. Как бы то ни было, не с Этель обсуждать эту тему. Она — единственная двадцатишестилетняя девственница, которую я знаю. — Она тебе об этом говорила? — Нет, конечно. Это только мое предположение. Мы вернулись в Бостон и возобновили поиски работы и квартиры, которую могли бы себе позволить на мои урезанные дивидендные чеки. Эти поиски привели нас на окраину Бостона, где я никогда не бывала прежде. Несмотря на солнечную погоду, узкие улицы с высотными зданиями выглядели серыми и унылыми. С когда-то элегантных фасадов осыпалась штукатурка, урны были полны мусора, словом, на всем лежала печать запустения. Мы разыскали дом, где дешево сдавалась двухкомнатная квартира, и стали осторожно спускаться в темный подвал. Неожиданно Эдди остановилась. — Здесь мой отец — кто бы он ни был — изнасиловал мою мать. — О чем ты? — Я с ужасом уставилась на возникшего из ободранной двери пьяницу. — О чем ты? — Да, это было здесь, — мрачно подтвердила она. Мы молча смотрели вниз на обшарпанные ступеньки и полную битого стекла и пустых бутылок дверную нишу. — Этот подвал — семейная святыня, — вдруг зло засмеялась Эдди. — Мать как-то привела меня сюда и показала это место. Мне было десять лет. Чтобы я поняла, каковы мужчины. — Ты хочешь сказать, что жила неподалеку? — В пяти кварталах к востоку. — Она с вызывающим видом повернулась ко мне. — Что, Скарлетт, ты шокирована? Этим именем — Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» — она называла меня всякий раз, когда я показывала свой южный снобизм. — Не знаю… — Разве имеет значение, где я выросла? Ты росла во дворце с прислугой, я — в трущобе. Что с того? Я торопливо закивала в ответ. Мы снова уставились на дверную нишу, где когда-то проклятое животное изнасиловало несчастную девушку. — Он приставил ей к горлу нож, — проговорила Эдди. — Ей было пятнадцать. Она поздно возвращалась из школы. Она мечтала стать парикмахером, но когда поняла, что беременна, бросила школу. — А… аборт? — В 1944 году? Ты шутишь? В Массачусетсе? Без гроша в кармане? — Она еще совсем не старая. И по-прежнему живет поблизости? Эдди кивнула. — Может, сходим навестим ее? Я хотела бы познакомиться с твоей мамой. Ты же знакома с моей. Помнишь, учили по психологии: мать — очень важный фактор в жизни человека. — Тебе она не понравится. — Но… — Нет! — отрезала Эдди. — Я не видела ее больше года. — Пожалуйста. — Нет! — Я удивленно посмотрела в ее искаженное гневом лицо. — Пора убираться отсюда. — Она схватила меня за руку и потащила назад. Через месяц мы сняли деревянный флигель по соседству с фермой Моны и Этель. Он стоял на холме, спускавшемся к огромному пруду, в котором жили бобры. От флигеля до берегов, заросших камышом, тянулся широкий луг с тимофеевкой. Над водной гладью то тут, то там торчали серые своды затонувших деревьев. В первый наш вечер на новом месте мы поставили на веранде плетенные из тростника кресла-качалки и сели любоваться закатом. Эдди расчесала мои распущенные волосы и заплела в аккуратную косу. — О чем ты думаешь? — не отрывая глаз от неяркого солнца, позолотившего верхушки деревьев, спросила я. — О том, что мы наконец твердо встали на ноги. Конечно, по сравнению с Бродвеем Кембриджа узкая грунтовая дорога в Старкс-Бог была концом света. Тогда мы еще не знали, что приехали не в тихое, спокойное место и что вскоре нас ждут настоящие бои. Первый месяц на ферме был безоблачным и счастливым. Нам казалось, что только теперь, после долгих блужданий, мы попали к себе домой. Никому, кроме Вествудской компании, — чтобы знали, куда высылать чеки, — мы не сообщили свой новый адрес. Флигель примыкал к большому, сгоревшему дотла дому. Его построил несколько лет назад биржевой маклер из Нью-Йорка, и мы недоумевали, почему он решил сдать такой райский уголок. Сам дом когда-то служил нескольким поколениям фермеров, и, естественно, рядом стоял отличный сарай. В порыве энтузиазма мы купили корову по имени Минни, полдюжины черных и рыжих кур и злобного черно-белого петуха и поселили всех в покрытом плесенью сарае со стропилами из тяжелых сосновых бревен. Потом заказали ульи, сбили их стенками друг к другу и высыпали туда присланных из Кентукки пчел. Ульи поставили в старом яблоневом саду за флигелем. Цветы отцвели, оставив вместо себя крошечные зеленые яблочки. Посевная была на исходе, и мы, вооружившись справочниками, спешили посадить огород. Город и семья остались позади. План Эдди, нашего теоретика, состоял в том, чтобы жить без помощи американской капиталистической экономики. Мы решили жить, добывая все, или почти все, своим трудом. Налоги будем платить, продавая кленовый сахар: этого добра — кленов — было полно на высоком холме за флигелем, а в сарае лежало необходимое оборудование. Через некоторое время мы выкупим ферму и постараемся вести дела так, чтобы навсегда избавиться от злейшего врага народа — Вествудской химической компании. Вот тогда мы разделим свою судьбу с судьбой народа. Сколько людей проживало в Старкс-Боге, мы не имели понятия. Изредка ездили туда на стареньком «пикапе» Моны и Этель за продуктами. С холма был хорошо виден весь город. Вокруг болота, давшего ему имя[3], теснились деревянные дома. Как правило, в Вермонте преобладали каменные здания, выстроенные для нескольких поколений, но в Старкс-Боге был единственный каменный дом — Айры Блисса. Наверно, никто, кроме Блиссов, не собирался жить здесь долго. Зимой, если верить Моне и Этель, болото замерзало, а весной превращалось в море грязи, в котором, как мамонты в доисторических топях, тонули заблудившиеся животные. Но сейчас было лето, вокруг болота шелестела трава, а поверхность затянула зеленая блестящая тина, над которой тучами роились москиты. В городе мы проезжали мимо ларька мягкого мороженого, которым горожане лакомились после ужина в предвкушении главного вечернего зрелища: наблюдать, как пытаются выбраться из зловонного моря несчастные звери. Еще одним развлечением было ожидание экспресса «Нью-Йорк — Монреаль». Он проходил не останавливаясь ровно в восемнадцать двадцать семь, и жители города каждый раз тщетно надеялись увидеть что-нибудь очень интересное. Как подобает всякому приличному городу, через Старкс-Бог проходило шоссе, соединявшее Сан-Джонсбери с границей и дальше с Квебеком. Вдоль шоссе выстроились магазины фуража, хозяйственный магазинчик, гостиница, в которой останавливались охотники, мастерская чучел, похоронное бюро, избирательный участок и зал демонстрации снегоходов «Сноу Кэт» с сидящим перед фасадом львом. Все эти здания с карнизами, парадными и черными ходами строились еще до 1800 года и сейчас радовали своей простотой всех, кроме жителей Старкс-Бога, которым до смерти надоела архитектура довоенного периода[4] и которые с удовольствием поменяли бы свои деревянные дома на современные — из пластика и бетона, с зеркальными стеклами и неоновыми витринами. Демонстрационный зал принадлежал Айре Блиссу, а поскольку сейчас было лето, в нем были выставлены не снегоходы, а блестящие желтые велосипеды «хонда» с прицепами. Еще одной заветной мечтой каждого домовладельца был сборный домик на ранчо, где можно было бы хорошо отдыхать на досуге. Мы старались ездить в город как можно реже, но когда все-таки появлялись там, становились объектом общего любопытства: еще бы, мы прогуливались рука об руку в своих желтыхджинсах, футболках с надписью «Власть — народу!». Наши косы болтались в унисон. Наш обычный маршрут проходил от фуражного до хозяйственного магазина. Горожане глазели на нас, как инки на испанцев, впервые появившихся на их земле. От Моны мы узнали, что нас называют «соевые бабы», потому что мы каждый раз покупали соевые бобы. Эдди решила, что было бы политической ошибкой не стать вегетарианцами в то время, когда граждане третьего мира умирают от голода. «Тебе нравится, что бедные животные становятся трупами?» — спросила она, отправляя в плиту кулинарные книги. Через пару жарких, солнечных дней наши продукты стали портиться. Однажды утром Эдди принесла из сарая на завтрак несколько яиц, а я поставила на плиту сковородку и подбросила дров. Потом разбила яйцо в чашку и отшатнулась: в нос ударил отвратительный запах. Яйцо оказалось вонючим и коричневым. — Эд, по-моему, они тухлые! — Она наклонилась над чашкой. Я разбила еще два яйца — то же самое. — Может, собирать их раз в неделю — слишком редко? — спросила я. — Черт! Будь я проклята, если собираюсь всю жизнь только и делать, что собирать яйца! — Она рухнула в плетеное кресло. — Это займет всего несколько минут в день, — возразила я. — Установим очередь. — Очередь! Графики! Таблицы! Тебе никто не говорил, что у тебя душа счетовода? Не удивлюсь, если ты отмечаешь в календаре дни, когда занималась сексом. — Счетовода? — Я задохнулась от возмущения. — Да это чертовски хорошо, что хоть кто-то умеет считать! Не оплачивай я твои счета, Эдди, тебе пришлось бы поднять свою задницу и… — Ага! — торжествующе воскликнула Эдди. — Наконец-то! Я всегда это знала! Знала, что в глубине души тебе жалко делиться со мной этими кровавыми деньгами! Ты ничуть не лучше своих гнусных буржуев! Я читаю тебя, как книгу. — Ах так? Что-то я не замечала у тебя желания зарабатывать другие деньги, мисс Святоша! Тебя вполне устраивало тратить мои кровавые! — Твои, мои! Кому нужны сраные деньги? Засунь их себе в задницу, Скарлетт! — Мы стояли друг против друга, дрожа от ярости. — Убирайся! Убирайся, ты, вонючка! Я выплачиваю ренту, это мой дом! Я не потерплю, чтобы тот, кто живет на мои деньги, называл меня гнусной буржуйкой! Паразитка! Соси лучше член! Я никогда не позволяла себе таких выражений, но сейчас не сдержалась. Эдди испуганно замолчала, потом понимающе покачала головой. — Та-а-к. — Что «так»? — Ты отлично знаешь из психологии, Джинни, что дело не в тухлых яйцах или деньгах. Я хорошо поняла — в чем. — В чем? — Я надоела тебе, Джинни. Ты хочешь мужчину, — с отвращением проговорила она. — Нет! Неправда! — Я ждала этого. Не отрицай. Рано или поздно это произошло бы. Ты только играла со мной, а в сущности ты так же гетеросексуальна, как остальные. — Неправда! Ты — единственная, кого я люблю. Зачем мне еще кто-то? В конце концов, сколько секса нужно одному человеку? Я обняла ее, но Эдди мрачно оттолкнула мои руки. — Все бесполезно. Что сделано, то сделано. — Ничего не сделано, Эдди! Зачем мне мужчина? У меня уже были мужчины. Ты несравненно лучше, даже смешно сравнивать. — Я снова обняла ее и поцеловала в губы. — Ты сошла с ума, Эдди… — Наверное. Я выбросила яйца, вымыла чашку и достала оставшиеся с вечера бобы. Мы молча поели, стараясь не дышать, чтобы запах яиц не отбил аппетит. — Вкусно! — заявила Эдди. — Вкусно! И полно протеина. Солнце ярко отражалось в пруду. На цветах радостно жужжали пчелы… — Эдди, почему бы нам не купить культиватор? Мы все вскопали, пропололи, а смотри — одни сорняки. Надо или что-то срочно предпринимать, или смириться с тем, что они вырастут вместо помидоров. — Культиватор? Ты спятила! Хочешь поддержать экономику, превращающую народ в винтики на конвейере? Экономику, одной рукой делавшую лекарства, а другой — бомбы? По-моему, мы для того и приехали сюда, чтобы избавиться от этого лицемерия. Что, не так? Я ничего не ответила. Я вообще толком не знала, зачем очутилась в Вермонте. Наверное, потому, что так захотела Эдди, а я боялась с ней расстаться. Снова за меня решили другие. Но сказать это — значило признаться в собственном бессилии или, того хуже, в буржуйстве. Поэтому я только кротко спросила: — А как быть с сорняками? — Вырвем руками, — решительно заявила Эдди. — Как все честные люди третьего мира. Почти пятнадцать минут мы пололи помидоры, пока не вспотели. Солнце палило нещадно, и мы спрятались в тени яблони и закурили. — Если помидоры не способны одолеть сорняков, — глубокомысленно изрекла Эдди, — значит, они не достойны жить. Вырвать сорняки — значит ослабить помидоры и сделать их зависящими от людей. — По-моему, слишком поздно. Их уже развратили. Крошечные, изъеденные червяками яблочки, — мы их вовремя не опылили от насекомых, — висели над нашими головами. Мы перевернулись на живот, чтобы не смотреть еще на одно доказательство нашей бесхозяйственности. — Мы только начинаем работать на этой чертовой земле, — сказала Эдди. — Через год будет легче. Мы снова взялись за прополку, поглядывая на ульи под соседним деревом. По крайней мере, у нас будет мед. Мы оставили пчел в покое, вежливо предоставив им возможность самим заботиться о себе. При таком уходе могут выжить только пчелы. Они опускались на цветы и взлетали с грузом нектара. Душа счетовода… Если бы… — В следующем году поставим еще ульев, — зевнула Эдди. — Давай кончать. Пусть сами растут! В день осеннего равноденствия мы отправились в гости к Моне и Этель. Сначала поможем в уборке урожая, а потом отдохнем. Я взяла с собой соевые крокеты — неудобно приходить с пустыми руками. Мы оказались не единственными гостями: на заросшей сорняками земле — ее почему-то называли лужайкой — полулежала дюжина человек: кто одетый, кто полуголый. Я знала только тех, кто жил вместе с Этель и Моной. Над лужайкой, как лондонский смог, висел дым от марихуаны. Женщина в длинной индейской рубашке и с распущенными волосами дергала струны цимбалов и с бруклинским акцентом пела песню шахтеров Кентукки: «Когда я уйду и пролетят года, мое тело почернеет и превратится в уголь. Я выгляну из своего небесного дома и пожалею, что шахтер откопал мои кости. Где двойная опасность, где радостей мало? Где дождь не идет и не светит солнце? Где темно, как в тюрьме? — В нашей шахте». У меня защемило сердце от ностальгии по шахтам Аппалачей, хотя я никогда там не была. Наверное, гены. Коллективный опыт предков, заключенный в каждой клетке моего тела. Полуголый усатый мужчина лежал на темно-синей футболке с белой надписью «Власть — народу!». Этель помешивала что-то в огромной железной кастрюле, висевшей над небольшим костерком. Голый мальчик ковылял вокруг, вцепившись в руку матери, которая еще не нашла, где приткнуться. Я протянула свою посудину Моне. Она подняла крышку, понюхала и сказала: — Соя. Отлично. Несколько человек не спеша направились к заросшему, как наша помидорная грядка, кукурузному полю. Эдди села рядом с цимбалисткой и стала негромко подпевать. Я тоже решила помочь убирать кукурузу. Мы рвали початки, очищали и бросали в корзину. Прошли почти половину поля, когда Лаверна — женщина из дома Моны — нашла недозрелую тыкву, похожую на футбольный мяч, и победно подняла над головой. Лаверна была удивительно величава. Другого слова не подберешь. Большая упругая грудь натягивала футболку, а крутые бедра — джинсы. Натуральные белокурые кудри, голубые глаза… В другое время она была бы кинозвездой или моделью Рубенса. — Футбольный мяч! — воскликнул бородатый мужчина с пронзительным взглядом — вылитый Шерман во время похода через Джорджию. Он поймал тыкву и бросил другому мужчине, на котором не было ничего, кроме джинсов, да и те болтались на нем как на вешалке и держались на поясе, завязанном, как галстук. — Сыграем? — предложил он. — «Рубашки» против «Шкур». Действительно: пятеро были в футболках, трое мужчин — без них. Небрежным движением Лаверна сбросила футболку. — Я буду «шкурой». Все замерли, благоговейно уставившись на соблазнительную смуглую грудь. Похоже, ее часто выставляли на солнце, так она загорела. Притворяясь, что не видим в этом ничего особенного, как и положено сексуально раскрепощенным людям, мы начали азартно играть прямо на поле, топча зеленые початки, перебрасывая друг другу тыкву и поглядывая украдкой на блестящую бронзовую статую с обнаженной грудью. Игра стала грубой. В погоне за тыквой мы толкали друг друга, и я даже упала после одного прорыва свирепого «генерала Шермана», а когда встала, увидела, что играющие перебрались в сад. Тыква летела в воздухе. Лаверна подпрыгнула, но трое мужчин сбили ее с ног, она упала на спину, Шерман — на нее. Я увидела, как он расстегнул брюки и припал к Лаверне. Вскоре он скатился с нее, уступив место другому мужчине: тот взгромоздился на ее живот и закряхтел, как ковбой, укрощающий полудикую лошадь. Я посмотрела в сторону дома. Казалось, никого не волнует это — как выражался Клем — групповое изнасилование. Я подбежала поближе, надеясь, что она попросит моей помощи, и застыла ярдах в десяти: передо мной лежало аппетитное тело, измазанное грязью, потом и спермой, и кричало: «Быстрей! Не останавливайся, мать твою! Быстрей!» Оно выгибалось дугой и судорожно дергалось, как лягушачьи лапы под током. Рядом в живописных позах лежали двое мужчин, а третий пыхтел на ее животе. Кровь прихлынула к моему лицу. Соски напряглись от возбуждения, и я не поняла, чего хочу больше: оказаться под мужчинами или на Лаверне. Я заставила себя отвернуться и побрела к дому. Эдди нахмурилась, когда я села с ней рядом, а Мона сказала: — Какая мерзость! — Отвратительно, — поддержала Эдди. Я промолчала. Этель налила нам по миске супа и громко провозгласила: — Суп доктора Деклейка Виктори! Пивные дрожжи, порошковое молоко и соевая мука. Вкусно и богато протеином! Мы сели на ступеньки. — Тебе понравилось? — как бы мимоходом спросила Эдди. — Что? — Лаверна на кукурузном поле. — Ах это… — Я видела, как ты на нее глазела. — Я думала, ее насилуют и нужна помощь. — Тебе незачем беспокоиться о Лаверне. Вот мне о тебе — стоит. — Обо мне? — Да. Ты была бы не прочь оказаться на ее месте. — Мне это пришло в голову, но… — Все ясно. Я тебе надоела. — Да нет же, — неуверенно проговорила я. — А если бы у меня был пенис? Тебе стало бы легче? — Конечно, нет. Для меня он не имеет значения. Существует масса способов, как скомпенсировать его отсутствие. — Скомпенсировать? Ну, ну, вперед, Скарлетт! Иди, хватай одного из этих молодых жеребцов и тащи в лес! Давай! Не успеешь оглянуться, как приползешь ко мне… — Может, я так и сделаю, — я почему-то не обиделась на Эдди, представив, как окажусь на месте Лаверны. Домой мы вернулись в ледяном молчании, легли в постель и сразу отвернулись друг от друга. Ночью я проснулась от ощущения теплых слез, падающих мне на грудь. — Не бросай меня, Джинни. Пожалуйста, не бросай. Я не вынесу, если узнаю, что ты была с мужчиной. Меня тошнит при одной мысли об этом. Я обняла ее. Она раздвинула мне колени, и я ощутила в себе что-то твердое и холодное. Оно скользило взад и вперед, и это было неописуемо приятно. — Что это, Эдди? — отдохнув, спросила я и включила свет. Она глупо улыбнулась и протянула мне зеленый огурец. — Все в порядке. Он натуральный. Случай с Лаверной, оставивший всех, кроме меня, равнодушными, имел далекие последствия. Прежде всего на следующей неделе к нам переехали Мона и Этель. — Мы не хотим мешать ее «медовому месяцу», — с отвращением объяснила Мона, когда мы уселись после ужина в плетеных креслах вокруг плиты. Воздух был свеж, и мы немного топили. — Ты хочешь сказать… она все еще развлекается с теми мужчинами? — непривычно деликатно спросила Эдди. Мона сардонически хмыкнула. Эдди вздрогнула. — Понимаю. Добро пожаловать к нам. Живите сколько хотите, — предложила Эдди. — Будем откровенны, Мона, — сказала Этель. — Это назревало давно. Она шаркнула топором по точильному камню и попробовала острие на мозолистом большом пальце. Мона согласно кивнула. Они обе курили, глубоко затягиваясь. — К этому все шло, — продолжала Этель. — Они хотели целыми днями развлекаться, а женщины должны им варить. — Нет! — заявила Эдди. Она подвинула кресло так, чтобы сесть за мной, и стала бережно расплетать мою косу. — Да, — подтвердила Этель. — Они могли безапелляционно ткнуть пальцем в пустую чашку и приказать налить чай. — Не верю… — Понимаю, но это правда. Для них это было игрой: они — Тарзаны, мы — Джейн. — В результате все приходилось делать нам с Этель, — вмешалась Мона. — У Лаверны свои дела, но нам они кажутся мерзостью. — Не то слово, — с отвращением сказала Эдди, расчесывая мои спутанные волосы. — Они не виноваты. Их так воспитали матери-мазохистки, трясущиеся над ними и исполняющие любое их желание. — Я очень хорошо знала по своему собственному опыту, что говорю. — Они — буржуа. Их не переделать. — Верно, — согласилась Мона. — Интересно, в какой момент эти отвратительные черты характера передаются детям? И почему дети часто бывают хуже родителей? Мы задумались над этой проблемой. Этель методично точила топор о камень. Эдди встала, подбросила в топку дров и снова занялась моими длинными волосами. От звука топора казалось, что кто-то царапает ногтями по классной доске. — Господи! — вздохнула Мона, поглубже устраиваясь в кресле. — Этот скрип сведет меня с ума. Через пару минут Этель удовлетворенно смазала топор и вложила в коричневый кожаный футляр с таким видом, с каким мать купает, смазывает и пеленает любимое дитя. — Спасибо, что приютили нас, — сказала она. — Мы рады, что вы здесь, — ответила Эдди. — Две спины нам никак не помешают: на этой земле столько работы. Я засмеялась. — Что тут смешного? — ласково спросила она. — Меня еще никогда не называли «спиной». «Башка», «кусок задницы» — только не «спина». Это что-то новенькое. На следующий день Этель учила нас рубить деревья. Небольшой запас дров, оставленный прежним хозяином, почти весь иссяк. Наступила осень, скоро будет невозможно обходиться без дров. Нам с Эдди это почему-то не приходило в голову: мы считали само собой разумеющимся, что дрова не кончатся никогда, а если кончатся — кто-нибудь нас ими обеспечит. К счастью, теперь у нас появились две замечательные «спины». Облаченная в красную клетчатую куртку дровосека, армейские брюки и зеленые резиновые сапоги, Этель чиркнула лезвием топора себе по ногтю, будто не натачивала вчера свою драгоценность целый час, потом высоко подняла его обеими руками, как бейсбольную биту, и ударила по диагонали ствол березы. Пар изо рта, как аура, обволакивал ее рыжеволосую голову. Она вытащила топор, размахнулась и ударила так, что из дерева вылетел большой треугольный кусок. Снова умелый удар, потом еще один — и ствол оказался наполовину разрубленным. Этель зашла с другой стороны и ударила пару раз чуть выше этого места. Дерево медленно наклонилось и упало на землю. — Где ты этому научилась? — с уважением спросила Эдди. — Я выросла на ферме в Огайо, — ответила Этель. — Далеко. Мона, не уступая Этель в ловкости, обрубала топором ветви. Выглядела она не так эффектно, как Этель, но от коротких резких ударов во все стороны летели щепки, и вскоре бревно стало совершенно ровным. Дела на нашей ферме Свободы, как мы стали ее называть, пошли в гору. Каждое утро я готовила завтрак и мыла посуду, а Эдди, Этель и Мона запрягали недавно купленных лошадей и ехали на холм заготавливать дрова. Вскоре у нас был уже приличный запас, но мы решили, что придется отапливать еще и сахарный склад, чтобы к концу февраля, когда клены пустят сок, у нас было все готово. Я наводила порядок, пряла и красила шерсть и вышивала радужные занавески на окна. Мне казалось, что я — Белоснежка, а остальные, конечно, гномы. К тому времени, когда во дворе раздавался цокот копыт, у меня уже был готов обед: соевые оладьи, крокеты или соевый плов. Мы садились вчетвером за скрипучий стол, ели и нахваливали мое кулинарное искусство. — Очень вкусно, Джинни! — говорила Эдди. — Вкусно, — вторили ей Мона и Этель. — И очень полезно, — прибавляла я. Однажды утром я сидела за вышивкой, как вдруг в дверь постучали. Я испугалась, но приоткрыла дверь и увидела Лаверну. За спиной у нее висел рюкзак, в руках — фланелевая сумка. Она выглядела очень соблазнительно в кокетливом комбинезоне и клетчатой рубашке. — Привет, Джинни. — Что тебе нужно? — грубо отозвалась я. — Я хочу жить с вами. — Спятила? Тебя что, выгнали твои дружки? — Я сыта ими по горло! Я подозрительно посмотрела на нее, но разрешила войти. Она сбросила на пол рюкзак и огляделась. Я преисполнилась гордостью: по сравнению с тем омерзительным местом, откуда она явилась, у нас царили чистота и порядок. — Я не знаю, Лаверна. Не знаю, можно ли тебе остаться. Послушаем, что скажут остальные. — Я понимаю. Они не одобряют моих сексуальных наклонностей. — Она привычно облизала нижнюю губу и медленно провела по ней средним пальцем. — Мягко сказано. — Но с этим покончено! Я никогда не захочу мужчину. В эту минуту, запачкав сапогами мой чистый пол, вошли Эдди, Этель и Мона. — Разувайтесь! — крикнула я точь-в-точь как домохозяйка в дневных сериалах. Они разулись и молча уставились на Лаверну. — Так-так, — наконец заговорила Эдди. — Провалиться мне на месте, если это не мужская подстилка. Чем обязаны видеть тебя в нашей целомудренной обители? Лаверна нервно хихикнула. — Она хочет жить с нами, — объяснила я. — Здесь? — Я никогда в жизни не захочу мужчину! — Неужели? — Честное слово! Я сыта ими по горло! Они меня совсем разочаровали. Они — ненасытные животные. Поверьте мне! Мне хватит вибратора! Мы рассмеялись и сели уплетать мои соевые котлеты.
Настало время пойти в народ. Мы так долго тянули с этим, потому что знали, какого мнения о нас горожане: «Соевые бабы — это коммунистки, лесбиянки и атеистки». Ферма Свободы встала на ноги, небогатый урожай уже находился в пыльном подвале, на подносах или в кувшинах; дрова для плиты и сахарного склада заготовлены, наколоты и сложены. Пришло время спуститься в Старкс-Бог и смешаться с народом, ради которого мы выбрали себе такой тяжкий удел. Пора повернуть их головы и сердца к революции! Нашим первым актом солидарности было посещение собрания доноров, которое проходило в Халлспорте средней школы. Там я впервые увидела Айру. Не может быть, чтобы я не встречала его раньше, — он был самым активным молодым бизнесменом, президентом добровольного пожарного общества, завсегдатаем дансинга и членом похоронной комиссии. Но запомнила я его именно там — в средней школе. Мы явились впятером в одинаковых куртках дровосеков, армейских брюках цвета хаки и зеленых резиновых сапогах. Все замерли, когда мы называли свои имена приветливой седовласой даме за столиком. Мы сели рядышком на складные стулья и стали ждать, когда нас вызовет накрахмаленная медсестра. Часть зала занимали деревянные койки на колесиках с пластиковыми сосудами по бокам. Из сосудов торчали трубки, через которые из вен лежащих доноров в них текла кровь. В углу устроили буфет, где оставшиеся в живых болтали и чавкали пончиками. Я узнала владельца фуражного магазина, фермера, живущего вниз по дороге в город, еще пару человек и приободрилась: моя кровь смешается с кровью знакомых. Мы были заодно в благородном деле. Нас по очереди вызвали к медсестре и уложили на койки отдавать свою кровь на благо общества: она вольется в вены вермонтских фермеров, если их придавит трактор; вермонтских женщин, потерявших кровь при родах; вермонтских детей, упавших с санок на ледяной горке. Мы были очень горды собой. В буфете к нам тоже обращались с глубокомысленным «Вам не холодно?» или «Смотрите, какие снеговые тучи несет с севера». После пончиков и кока-колы мы направились к дверям. Там, раздавая маленькие красные сердечки, стоял Айра Блисс, страховой агент миссурийской компании и владелец зала демонстрации снегоходов. У него были высокие скулы, полные губы, карие широко поставленные глаза и густые брови, придававшие лицу испуганное выражение. Темные вьющиеся волосы падали на потный лоб. Он походил на усталого пирата, спрыгнувшего с римского корабля. Под тесной красной спортивной курткой угадывались развитые мускулы, а из-под расстегнутых на груди пуговиц торчали черные завитки. Он стоял прямо в двери; ноздри трепетали, как у бегущего коня. Оглядываясь назад, я могу поклясться, мы обменялись страстными взглядами. Но в тот момент я спокойно смотрела, как он прикрепляет к воротнику моей куртки пластмассовое сердечко, как цветок к корсажу возлюбленной. — Спасибо, девочки, — улыбнулся он, — спасибо за помощь нашим парням во Вьетнаме. Мы с Эдди остолбенели. — Разве это для них? — наконец пробормотала Эдди. — Я думала, это для банка крови, обслуживающего Вермонт. — Обычно так и бывает, — улыбнулся своей приятной улыбкой Айра. — Но сегодня это специально для американских солдат. Всю дорогу домой бледная Эдди держала мою руку. Мы были разочарованы, хотя разочарование немного скрасилось тем, что нас по ошибке назвали девочками. В следующий раз я увидела Айру при менее приятных обстоятельствах. Наши доходы стали нас беспокоить. Дело в том, что мы по-прежнему посылали чеки в подпольные театральные студии и революционно настроенные бары в Бостоне, но, не бывая там, не могли проконтролировать, на что идут наши деньги. Эдди решила, что центр реабилитации наркоманов, которому мы тоже помогали, кишит агентами ФБР, и мы вычеркнули его из своего списка. Кроме того, нам хотелось облегчить жизнь городу, расположенному по соседству. Приезжая за покупками, мы видели молодых женщин нашего возраста, но вульгарно толстых, беззубых, с сальными волосами и вдобавок окруженных толпой детей. Эти женщины были нашими сестрами. Они больше нуждались в помощи, чем бостонские наркоманы. Мы арендовали пустующий магазин на Мейн-стрит, обставили его бросовой мебелью и разложили литературу на тему «Домоводство». Над дверями повесили вывеску: «Центр планирования семьи». Одна из нас дежурила там днем, готовая обсудить с женщинами их проблемы и направить к врачу. В будущем мы надеялись сагитировать их принять участие в движении «За либерализацию абортов». С нами не было только Моны. — Лучше самоубийство, чем аборт, — сказала она как-то вечером. — Нельзя делать аборт, если отец — человек, которого любишь или который любит тебя. Это все равно что отрезать руку или ногу. — Иногда можно пожертвовать и конечностью на благо народа, — отрезала Эдди. Через десять дней у нас появились клиентки. Первой пришла тщедушная молодая женщина с бегающими глазками. Она проскользнула в дверь и нервозно оглянулась: не видит ли ее кто из соседей. — Могу я помочь вам? — сердечно спросила я. — Я… — Она скорчилась перед прилавком, опустила глаза и покраснела. — Я хотела бы… сделать это. — Да, конечно, — с улыбкой сказала я, решив, что передо мной — юная девственница, вступившая в предательское море секса, или старшеклассница, чью нежелательную беременность я могу предотвратить. — Не хотите ли присесть? Она неловко взгромоздилась на стул, готовая тотчас убежать. — Ну, — начала я, подыскивая тактичные слова. — Вы давно знаете своего… партнера? Она странно посмотрела на меня. — Да. По-моему, мы женаты уже четыре года, но ничего не получается. — Вы хотите сказать, — осторожно продолжала я, — что замужем уже четыре года, но у вас ничего не получается? — Что не получается? — испугалась она. — Ну, вы сами знаете. — Меня так и подмывало сказать «трахнуться», но я понимала, что нужно вспомнить синоним, а в голову, как назло, ничего не приходило. — Это. — Это? — Я, наверное, вас неправильно поняла. Вы пришли, чтобы… — Спланировать семью. Разве на вывеске написано не «Центр планирования семьи»? Я ошиблась? — Нет, нет, — заверила я. — Итак, вы замужем уже четыре года. Чем вы пользовались? — Зачем? — Чтобы планировать семью? Она в ужасе уставилась на меня. — Ну, тем, чем всегда пользуются… Я поняла, что понятия не имею, какими противозачаточными средствами пользуются в Старкс-Боге. — Презервативом? Спиралью? Или еще чем-нибудь? Она помолчала, потом тихо промямлила: — Я не знала, что ими нужно пользоваться, если хочешь детей. — Вы хотите детей? Я думала наоборот! — Да. Я зашла сюда потому, что на вывеске написано «Центр планирования семьи». Я четыре года старалась завести ребенка, но ничего не получается. — Вы хотите забеременеть? — Конечно. — Она встала и направилась к двери. — Спасибо. — И выскользнула на улицу. Со вторым клиентом Эдди обошлась с большей ловкостью. Это была забеременевшая старшеклассница. Отец ребенка отчаялся уговорить ее выйти за него замуж. Она упорно не хотела иметь с ним дело. У Эдди была договоренность с одним доктором в Монреале, к которому она отправила девушку, снабдив небольшой суммой денег. Через неделю мы получили письмо: операция прошла удачно, она нашла место официантки в баре и решила остаться в Монреале; что она очень счастлива и благодарна Эдди. Вскоре в «Центр» ворвался Айра. Лоб блестел, ноздри раздувались от гнева. С ним был низенький плотный мужчина в зеленом комбинезоне. Он так хлопнул стеклянной дверью, что она зазвенела. Я оторвалась от статьи о самостоятельном осмотре груди, убедившей меня, что я умираю от рака, и, узнав Айру, приветливо улыбнулась. В конце концов, мы вместе сдавали кровь — неважно, что не для тех, кому хотели. — Я могу вам помочь? — Можете! — прорычал толстяк. — Убирайтесь к чертям из города и прихватите остальных сучек! — Простите? — Я хотел жениться на этой девушке, — сообщил он уже спокойней. — Какой девушке? — Той, которую твоя лесбиянка отправила в Монреаль, чтобы стать сучкой. — Но, может, она не хотела выходить за вас? — Конечно. Именно поэтому я ее и обрюхатил. Я удивленно воззрилась на него. — Значит, вы сделали это нарочно? — А как иначе я мог заставить ее выйти за меня? — Вы думаете, приятно быть беременной против собственной воли? — Я с ужасом представила, что это случилось со мной. — Заткнись, шлюха! — Он стукнул кулаком по прилавку. Айра молча топтался у дверей. — Шайка потаскух! Явились сюда разрушать дом и семью! — Вы хотели жениться на ней, — призвав на помощь свою сообразительность, перебила я. — А она? Она хотела выходить за вас? Может, ей не нужны ни дом, ни семья. — Она хотела этого! Все женщины хотят одного и того же. — Чушь! — подскочила я. — Чушь собачья! Вы, мужчины… Толстяк протянул свои похожие на обрубки руки, схватил афишу и заткнул мне рот. — И ты хочешь этого, детка. Не обманывай себя. — Он повернулся и, не дав мне закончить обвинительную речь, вышел на улицу. — Рони — вспыльчивый парень, — примирительно улыбнулся Айра. — Он любил эту девочку. — И тоже вышел за дверь. Я увидела, как они сели в светло-коричневый автомобиль, на заднем бампере которого было написано: «Аборт — это убийство». Возвращаясь домой, я увидела этот автомобиль еще раз. Его оставили за холмом неподалеку от нашего пруда. На крыше лежал огромный черный бобер, с которого стекали струйки крови, а по бокам были привязаны маленькие бобрята. Я остановила машину и в ужасе смотрела на эту страшную картину. Потом, едва удерживаясь от тошноты, вылезла, схватила их радиоантенну и отломала. Война началась. В следующий раз я увидела Айру на охоте. Рано утром Этель протопала в болотных сапогах на дальний берег пруда, подыскивая дыры в заборе из колючей проволоки. У нас уже было шесть телок, которые завели моду вылезать за забор, а нам приходилось искать их и загонять обратно. Неустрашимая Этель прошла весь забор, заделала дыры и вдруг обнаружила старый блиндаж. Его скрывали серые скелеты деревьев, и мы не догадывались о его существовании. Даже когда Этель показывала на него из окна, мы с трудом отличали его от стволов. — Это наш блиндаж! — авторитетно заявила Эдди. — Пока мы здесь, им никто не воспользуется. Утром я проснулась от грохота ружейных выстрелов. Этот звук не был мне непривычен. Клойды вечно кого-то убивали. У каждого из них было любимое ружье; они висели на стене их дома в количестве, не меньшем, чем распятия в церкви. Отец Клема часто притаскивал нам в подарок окровавленные туши. Мама старалась внушить мне уважение к обычаям других народов: «Крестьяне все любят охоту», — а сама причитала над этими тушами, как мать над порезавшим пальчик ребенком. Каким-то образом она превращала это страшное зрелище в нечто съедобное. Мне стало стыдно: я не писала, не звонила домой почти год; я выбрасывала, не читая, ее письма в Кембридж; я уехала, не оставив адреса, и ее новые письма возвращались со штампом «Адрес неизвестен». Она заслуживала лучшего отношения. Я не сразу поняла, где лежу. Наконец, узнав неотесанную стену флигеля, я заставила себя встать и по холодному полу прошла к окну. Раздались выстрелы, и стая уток, теряя перья, в суматохе поднялась с пруда. Я напрягла зрение и в сером рассвете различила две фигуры (одна из которых, как оказалось, была Айрой), мелькнувшие около блиндажа. По лужайке спешила Эдди. Коса, будто хвост взбесившегося льва, металась из стороны в сторону. За ней в сапогах и одинаковых куртках дровосека тащились Этель, Мона и Лаверна, словно три катера за океанским лайнером. Конечно, об Этель было трудно сказать «тащилась». Она перла вперед, как грузовик по шоссе, держа в руках топор. За ней — величавая и гибкая — шла Лаверна. Доведись ей упасть с крыши — она перевернулась бы в воздухе и легко приземлилась на четвереньки. Вот Этель рухнула бы на землю и пробила в ней кратер, как гигантский метеорит. Последней шла Мона. Насколько привлекательна была внешность Лаверны, настолько отталкивающей и некрасивой казалась Мона. За темно-вишневыми стеклами очков ее широко расставленные глаза косили и казались зловещими. Она походила на следователя гестапо в шпионских фильмах. На берегу пруда Эдди резко остановилась, так что остальные почти налетели на нее. Этель отвязала от столбика темно-зеленую лодку и столкнула ногой в воду. Первой села Эдди, за ней — Этель, Лаверна и Мона. Этель взялась за весла и направила лодку к старому блиндажу. Она скользила среди серых деревьев, как лыжник на слаломе. Впереди, поставив ногу в резиновом сапоге на нос, величественно стояла Эдди: точь-в-точь Вашингтон, переправляющийся через Делавэр. Лодка, погруженная в воду до самого планшира, опасно накренилась; я скрипнула зубами, но она уже достигла блиндажа, из которого торчали две головы. Эдди схватилась за столб и ловко причалила. Она подняла голову и что-то крикнула своим властным тоном. В ответ раздались мужские голоса. Этель ухватилась за ближайший столбик и обеими руками стала раскачивать его, как щенок, впившийся зубами в тряпку. Блиндаж дрогнул и закачался, будто был сколочен из зубочисток, а не огромных бревен. Головы скрылись. Эдди повернулась и что-то сказала Этель. Та опустила весло, спрыгнула в воду, взяла у Моны топор и почтительно вытащила из кожаного футляра. Острое лезвие блеснуло в лучах восходящего солнца. Она мощным взмахом вонзила его в опору. Лодка закачалась на приливной волне, и едва Этель замахнулась еще раз, из блиндажа выбежали двое мужчин с ружьями в руках, вскочили в резиновую лодку и быстро поплыли к берегу. Второй удар перерубил опору, блиндаж накренился и медленно осел в воду. На следующий день по предложению Эдди мы сделали очень важное дело. Рассчитали, сколько нужно столбиков, чтобы через каждые пятьдесят шагов повесить на них таблички: «Не охотиться», «Не стрелять», «Не ставить капканы», «Не рыбачить» и «Не ездить на снегоходах». Мона, вся в стружках, обрубала у бревен ветки; Этель, водрузив на свои мощные плечи, с шумом перетаскивала их на место; Лаверна отмеряла расстояния и вешала на ветви тряпки, а мы с Эдди писали таблички. Покончив таким образом с защитой наших владений, мы сели отдыхать. — Эдди, — неуверенно сказала я. — Все-таки это их охотничьи угодья. Уже несколько поколений владеют ими. И потом, мне казалось, ты против частной собственности. По-моему, ты всегда ратовала за то, чтобы делиться богатством с другими. Или я не права? Она явно не ожидала такого нападения, но быстро ответила: — Коллективное хозяйство эффективно, если его члены — высокосознательные люди. Большинство горожан нуждается в воспитании. Их дикость нужно сдерживать. Они не виноваты, что выросли в обреченном коррумпированном обществе. Откуда им знать, что существует другая жизнь? — «Высокосознательные»? То есть те, кто согласен с тобой? — Я сама поразилась собственной смелости. Но я провела слишком много времени с Клемом, чтобы иметь право рассуждать об уровне развития самых разных социальных слоев. — «Высокосознательные» в смысле «революционные», — подчеркнула Эдди. — Эти дерьмовые мужланы — насильники, убийцы и террористы — стоят на самом низком уровне. Ниже падать некуда. За день мы развесили восемьдесят три предупреждения. «Ну, теперь порядок», — говорила Эдди. Увы! Она жестоко ошиблась! На следующей неделе мы с ней отправились в лес искать своих телок. Под ногами шуршали разноцветные листья. Мы нашли всех, кроме Минни. Она как сквозь землю провалилась. Я забыла, что ее нужно было осеменить, и она давно не доилась, лишив нас молока. В литературе о планировании семьи об этом аспекте секса не было сказано ничего. Мы долго искали ее, удивляясь, что она не приходит, заслышав, как обычно, наши голоса. — О Боже! — ахнула Эдди. Я с ужасом увидела на одном из наших столбов окровавленную коричневую шкуру. Наверху торчала прибитая голова Минни с открытыми глазами, а рядом, на ковре из багряных листьев, валялись коровьи ноги, длинные, как веревки, кишки и белое жирное вымя. — Эти сволочи убили Минни! — завопила Эдди. Меня затошнило, я отвернулась от окровавленной массы и увидела следы шин от мотоциклов. Осторожно сняв шкуру с Минни, мы, плача, побрели домой. На следующей неделе открывалась охота на оленей. Мы сидели у окна, выходящего на пруд, и лакомились соевыми крокетами. Солнце почти село. Мы увидели, как из леса выскочили олень и две оленихи, постояли неподвижно, прислушиваясь и принюхиваясь, и величественно подошли к пруду. Они опустили головы, стали пить, и в этот момент раздались выстрелы. Красавец-олень судорожно взмахнул рогами и низко склонил голову. Оленихи испуганно отскочили, на мгновение остановились и скрылись в лесу. Олень упал в мелководье и замер. Мы вскочили и ринулись к двери. — Сволочи и убийцы! — кричала Эдди. Когда мы добежали до умирающего оленя, вода вокруг уже окрасилась в темно-коричневый цвет. Бедняга услышал нас, фыркнул, слабо вскинул умную голову с девятью ответвлениями на рогах — воистину, охотничий трофей! — и, лишившись в этом протестующем жесте последних сил, замер. — Черт бы вас побрал! — кричали мы в темнеющий лес, глотая слезы. Мы взяли его за ноги, вытащили, кряхтя, из воды и из последних сил потянули на полянку. В белой мускулистой груди виднелась аккуратная дырочка. Мы не знали, что делать. С одной стороны, слишком большое расточительство закопать в землю столько белка; с другой стороны, разве сможем мы его есть? И будь мы прокляты, если позволим забрать тело паршивым охотникам! Стемнело. Только в нашей кухне на вершине холма ярко горел свет. Мы оставили оленя там, где лежал. Утром он исчез. Начались снегопады, и однажды посреди ночи нас разбудил оглушительный рев. Мы с Эдди тихо лежали под служившим нам одеялом спальным мешком и со страхом слушали, как дикий рев приближается к нашему флигелю. В конце концов любопытство одержало верх: мы встали и на цыпочках подошли к окну. По свежему снегу к нам направлялось несколько снегоходов с включенными фарами. Эдди выругалась и выскочила из спальни. У двери уже стояла Этель в неизменных резиновых сапогах и фланелевой ночной рубашке. Она держала топор и с самым безмятежным видом постукивала большим пальцем по его лезвию. Лаверны и Моны не было видно. Мы с Эдди надели сапоги и парки и выскочили на крыльцо. Мимо нас, обдав выхлопными газами, промчались шесть «Сноу Кэт» и описали вокруг флигеля большую дугу — как мародерствующие индейцы вокруг железнодорожного вагона. За рулем каждой машины в неприличной позе стояли фигуры в ватных лыжных костюмах, резиновых сапогах и в огромных шлемах с забралом, как у средневековых рыцарей. Я не сомневалась, что разглядела под забралами Айру и его друга Рони. — Убирайтесь, кретины! Или я вызову копов! — закричала Эдди, но в реве машин ее никто не услышал. В Старкс-Боге не было копов, но выражение ее лица скомпенсировало их отсутствие, потому что, сделав еще один круг, снегоходы один за другим повернули к пруду. На лужайке они остановились, потом сделали несколько сложных фигур, бешено мелькая фарами, и наконец исчезли за холмом по направлению к городу. Утром Эдди повела нас на лужайку. Мы очистили от неглубокого снега маленький клочок земли и выкопали, работая по очереди лопатами, приличную яму: пять футов глубиной и шесть диаметром. Эдди принесла из сарая дюжину палок с острыми концами, похожими на багры, которыми Клойды заготавливали табак. Я догадалась, что мы собираемся делать — ловушку на манер вьетконговских партизан, — и возмутилась. — Эдди! Мы ведь хотели только напугать их, а не убивать! — Кто против? — спросила Эдди, оглянувшись в поисках поддержки. Лаверна пожала плечами. Мона весело сказала: «Я готова не только напугать их!», а Этель согласно кивнула головой. — Я в этом участвовать не буду! — заявила я и отправилась к флигелю. Я подозревала, что среди тех рыцарей будут Айра и Рони, и не хотела видеть, как они свалятся мертвыми на нашем лугу. Одно дело, когда жертвой, налетевшей на острые палки, станут безликие абстрактные люди, и совсем другое — мои знакомые. Я смотрела из-за радужной занавески, как Эдди, Мона, Этель и Лаверна положили на палки сосновые ветки и засыпали снегом. Ловушку и днем трудно было разглядеть, а в темноте, не ожидая подвоха, и подавно. Всю неделю шел снег, а потом в середине ночи нас снова разбудили своим ревом проклятые снегоходы. Мы прильнули к окну: сделав несколько кругов вокруг флигеля, они помчались вниз по лугу, но каждый раз, подъезжая к ловушке, сворачивали в сторону. Все, кроме меня, разочарованно вздыхали. Они сделали большой круг и снова помчались к ловушке. Первая машина, вторая, третья… Но водителю четвертой не повезло. Он зигзагами спускался по лугу, наклоняясь, как лыжник-профессионал, на все лады, — как когда-то Клем на своем «харлее». Неожиданно земля под ним провалилась, водитель отлетел в сторону, и из ямы вырвался сноп огня. Эдди восторженно вскрикнула. Мона ахнула. Мы оцепенело смотрели, как ревущее пламя швыряло снег во все стороны. Водитель покатился по склону. — Ну что? — дрожа от ужаса, спросила я нашего фельдмаршала. — Нужно «помочь», — ненормально улыбаясь, ответила Эдди. Мы набросили парки, надели лыжные ботинки и поехали к яме. Огонь догорал. Все снегоходы сгрудились в кучу. Водители стояли, глядя на сгоревшую машину, и качали головами. К счастью, огонь уничтожил все палки и ветки, и из ямы торчал только обуглившийся каркас «Сноу Кэт». — Ради Бога, что случилось? — спросила Эдди. — Не знаю, — промямлил кто-то. — Он, похоже, не заметил эту чертову яму. — Мы можем чем-нибудь помочь? — поинтересовалась Мона. — По-моему, ему уже никто не поможет, — сурово сказал другой водитель. Мы с Эдди съехали к подножию холма. Несчастная жертва — Рони — лежал без шлема в снегу. Рядом на корточках сидел Айра. Забрало было поднято, и я увидела разрумянившиеся высокие скулы и трепещущие ноздри. Мы слегка улыбнулись друг другу. — Я-то в порядке, — прорычал Рони, — но вот вы… Не знаю, как вы расплатитесь за мою машину. — Я тут же представила, что нас разоблачили, и была готова раскаяться, но Эдди опередила меня: — Ну что вы, нам бы и в голову не пришло платить за вас. — Вы не повесили предупреждение! Вам придется купить мне новую! — В жизни не слышала ничего глупей! Разве вы не нарушили границы частного владения? Не подняли нас среди ночи грохотом своих… газонокосилок? Да еще были настолько глупы, что угодили в яму! — Боже всемогущий! Женщина! Мы катались по этому лугу тысячи лет! Это лучшие снегоходы в стране. Вы не имеете права огораживать эти места! — Имеем, черт побери! — Эдди повернулась и стала «елочкой» подниматься на холм. Мы с Айрой переглянулись и пожали плечами. Потом я вздохнула и последовала за ней. Наверное, со стороны мы походили на больных артритом фламинго. — Увидимся в суде, — крикнул Рони. Снегопад не унимался. Нам приходилось почти все время торчать в доме. Атмосфера накалялась. Мы со страхом ждали, что новенького предпримут наши враги. Враги… А мы собирались подружиться с жителями Старкс-Бога и наставить их на путь истинный. Кроме того, нам было просто не о чем говорить. За несколько недель, проведенных около плиты, мы переговорили обо всем на свете. Услышали подробное описание извлечения утробного плода из матки Моны; Эдди, запинаясь, рассказала о том, как ее мать стала проституткой и приводила клиентов прямо домой; Этель поведала свои детские обиды: ее за высокий рост в школе дразнили «Голиафом». Чтобы казаться меньше, она стала сутулиться и искривила свой позвоночник. А когда ее мучители подросли, ее стали дразнить за сутулость. «Этель-обезьяна» сменила «Голиафа». Мы пришли к единодушному мнению: что бы с нами ни происходило, мы не были виноваты. Мы — только жертвы эксплуататорского общества, исправить которое нам предназначено судьбой. Сейчас мы находимся на пути освобождения из социального тюремного заключения, осознаем свои добродетели и так далее. Каждая из нас занялась своим хобби. Лаверна уединилась в спальне со своим вибратором, наполняя весь дом воплями экстаза; свет в кухне то вспыхивал, то тускнел, а счет за электричество вырос на пять процентов. Я вышивала уже девятую занавеску. Эдди сидела вуглу над гончарным кругом и воплощала свои замыслы в изготовлении посуды. В тот день она лепила большую супницу. За окном хлопьями падал снег, а у огня было очень уютно. Мона и Этель в гостиной занимались тоэквандо, которому научились на курсах репортеров в Бостоне. Хрюканье и неприятный грохот падающих тел смешались со стонами и визгом Лаверны и превращали флигель в средневековую камеру пыток. — Чем вы занимались с Лаверной, когда мы уходили заготавливать дрова? — неожиданно спросила Эдди, окуная пальцы в миску с водой и нажимая ногой на педаль. — Ничем особенным. Я варила, убирала, а она слонялась и делала вид, что помогает. — Голову даю на отсечение! Я воткнула иголку в подол и удивленно посмотрела на нее. — Она пробовала его на тебе? — О чем ты? — Об этом приборе. Пластмассовом фаллосе. — Я его даже не видела. Какая муха тебя укусила? — Я знаю, ты бы хотела сейчас быть с ней. Не думай, что я не замечаю, как вы поглядываете друг на друга, — разглаживая глину пальцами и не глядя на меня, продолжала она. — Эдди! Ты ошибаешься! Если бы я захотела сменить любовника, это уж точно была бы не жен… — Я осеклась, но было поздно. — Не женщина? Я так и знала! Вот ты и проговорилась! К кому ты ездишь в город, Джинни? Кто из этих жеребцов оседлал тебя? Не ври, что ничего не было. Я была в клинике, а ты — неизвестно где, вместо того чтобы работать. Я вспыхнула и виновато отвела взгляд. Она действительно разоблачила меня. В прошлом месяце я несколько раз предавала Эдди. Дело в том, что, отправляясь в город, я брала с собой сэндвичи — хлеб с густым слоем соевого масла. Но я ненавидела сою. Наши банки с запасами сои превращались в террариум с насекомыми; и я во время обеда тайком пробиралась в магазин, покупала франко-американские спагетти и жадно поедала их, выбрасывая пустые банки вместе с ненавистными сэндвичами. Я молчала, не в силах признаться. — Не думай, что я не заметила улыбочки, которую ты подарила тому мерзавцу, чей друг угробил на нашем лугу свою машину. — Я видела его в городе, — машинально пытаясь воткнуть иголку в подол, пробормотала я. — И улыбнулась из вежливости. — Ну конечно! И как это называется, Джинни? После стольких месяцев нашей любви? — Хватит! — Я решительно воткнула иголку в подол. — С меня хватит! Я тебя бросаю. — Ну нет, — заявила Эдди. — Не ты! Это я бросаю тебя! — Она встала. Я тоже вскочила. — Нет, я! Я первая об этом сказала! — И бросилась к двери. Я почувствовала острую боль в голове и услышала, как что-то рядом со мной упало на пол и вдребезги разбилось. Чтобы не упасть, я прислонилась к дверному косяку, дотронулась до лба и с ужасом увидела на руке кровь. — Будь ты проклята, Джинни! — прошипела Эдди. — Не смей уходить, когда я с тобой разговариваю. Чертова сучка! Она подошла ко мне и закричала: — О Боже! Я убила ее! Джинни! Что я натворила! Но рана оказалась пустячной. — С тобой что-то случилось, Эдди, — сказала я. — Обрати на себя внимание. Твоя ревность совершенно беспочвенна. — Может быть, — угрюмо ответила она. — Но я чувствую, что причина есть. Если что-то и случилось, то не со мной. Я так уверена в том, что ты хочешь мне изменить, будто ты сама об этом мне сказала. Я вздохнула. — Эдди, ты всегда утверждала, что нужно выслушать аргументы обеих сторон, а не хвататься за лежащее на поверхности. Ты почему-то уверена, что я разлюбила тебя, а я знаю, что это не так. Кто прав? — Я, потому что знаю, что права! — И я знаю, что права. Как быть? — Я склонилась над своей вышивкой, а Эдди о чем-то надолго задумалась. — Как вы думаете, в какой момент люди перестают просто жить вместе, а становятся коммуной? — спросила она за ужином. Я равнодушно пожала плечами, не отрывая от заплывшего глаза повязку со льдом. — Меня больше не устраивает такая жизнь, — продолжала Эдди. — Мы сведем друг друга с ума. — Ты права, — вздохнула Мона. — Это очень ограниченное существование. — Верно, — подтвердила я. — Нужно что-то предпринять. Но что? Мы уже пробовали… — Поехать в центр — это чепуха, — презрительно фыркнула Эдди. — Я думала об этом весь день. И знаете, что придумала? Здесь, на ферме Свободы, мы создадим коммуну женщин третьего мира! Купим землю, соберем группу чернокожих, пуэрториканок, индианок, построим дома… Спланируем все таким образом, чтобы каждый был одновременно один и со всеми. Построим мастерские, купим гончарные круги, деревообрабатывающие станки и все такое! Мы облагородим эти места! Будем работать все вместе и станем финансово самостоятельными за счет продажи кленового сахара, яблочного сидра и овощей. Для горожан, приезжающих с семьями в отпуск, установим льготы. Мы докажем здесь, в Старкс-Боге, в Вермонте, что самые разные женщины могут жить в мире и согласии, а если кто-то живет иначе — пусть пеняет на сволочей-мужчин, которые ими управляют! Я удивилась, как мы уживемся со всякими незнакомыми негритянками, если не можем обойтись без стычек даже впятером. Но слова Эдди зажгли во всех остальных искру энтузиазма. Холмы вокруг усеют красивые частные домики; на полях плечом к плечу станут вкалывать потные полуобнаженные женщины с разным цветом кожи; на берегу пруда разместится общественный центр, набитый талантливыми мастерицами. Холмы зазвенят гимном женской солидарности… — Эдди, — нерешительно сказала я, боясь, что меня назовут буржуйкой, — а где нам взять шестьдесят тысяч долларов, чтобы купить землю? — Пошла ты со своей душой счетовода! — небрежно бросила Эдди. — У меня идея, — вдохновенно заявила Этель. — Мы устроим женский фестиваль. Фестиваль женщин фермы Свободы! Я разрекламирую его через друзей в Ньюарке и Нью-Йорке. Женщины сами увидят, как мы живем, и, может быть, кто-то присоединится к нам. — Другими словами, — кисло вставила я, — вам нужно подкрепление? Никто не ответил. Бухгалтерскому складу ума нет места в революции. Один Бог знает, как мы разместили в своем флигеле восемьдесят женщин. Весь пол был забит их телами в спальных мешках — точь-в-точь раненые, ждущие эвакуации с поля боя. Они приехали из близлежащих городов, из Монреаля, Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии. Мужчины, с которыми раньше жили Мона и Этель, тоже согласились внести свой вклад в дело борьбы за свободу женщин и нянчили в своей неопрятной гостиной двадцать восемь несчастных детишек с испуганными глазенками, причем далеко не все еще понимали, что такое горшок. Утром, выстояв дикую очередь в туалет и позавтракав тостами из пшеничной муки грубого помола и чаем из шиповника, они расходились по разным комнатам на семинары. Мне вменили в обязанность следить за добровольцами, взявшимися за приготовление общего обеда из того, что каждая привезла с собой. Делать мне было особенно нечего, и я тихонько слонялась по ферме. Группа Эдди — «Женщина и политика» — расположилась в забитом навозом сарае, в котором мы брезговали даже собирать яйца. Оседлав своего конька, Эдди вдохновенно агитировала слушательниц начать простую, скромную жизнь — такую, как наша. Но у нее был дьявольский оппонент — высокая, интеллигентного вида женщина, отпускавшая ехидные замечания, вроде: «Что конкретно ты здесь делаешь, человек? Вокруг рушатся миры, а ты играешь в крестьянку. Это своего рода наркотик, человек». Эдди надменно ответила: — Мало сказать, что ты против войны или против затеявшего ее общества. Мало выступать против смерти. Надо бороться за жизнь. Нельзя одновременно критиковать общество и в то же время пожинать его плоды. Надо производить, а не только потреблять. Мало верить в определенные вещи — надо жить по их законам. — Я живу по своим законам, — возразила женщина и с омерзением посмотрела на кучу навоза. — И не в глухой дыре в Вермонте, а в Бостоне. Я преподаю в университете. Я изменяю общество, воздействуя на умы студентов — будущих лидеров угнетенных слоев общества. Нет более радикального способа борьбы для одной личности, чем преподавание. А ты торчишь в этом заснеженном углу и сама себе морочишь голову. Эдди и эта женщина были достойными противниками. Они могли бы спорить весь фестиваль. — Дерьмо собачье! — крикнула Эдди. — Ловко же ты устроилась в своем храме, где каждый студент смотрит тебе в рот и верит каждому слову! У них такое же происхождение, как у тебя, те же мысли, они повторяют твои слова. Настоящая жизнь не там! Она — среди народа, который презирает тебя. Вот повернуть его лицом к революции — это подвиг! Да, мы работаем бок о бок с простым народом! Мы вторгаемся в их умы и одерживаем победы над их сердцами! Я вопросительно подняла брови. Неужели она говорит о нас — изгнанных из Старкс-Бога и вступивших в борьбу с этим самым народом? Я повернулась и побрела назад. Группа Лаверны — «Женщина и ее тело» — расположилась в моей спальне на первом этаже. Очаровательные зрительницы окружили Лаверну, сидевшую в кресле с подтянутыми к плечам коленями — вылитая курица, подобравшая крылья. С помощью зеркала, пластмассового расширителя и фонарика, она к восторгу собравшихся, демонстрировала, как увидеть собственные половые органы. Я, не в силах сдвинуться с места, тоже глазела на красную мокрую дырку, но — разрази меня гром! — не могла понять, зачем кому-то понадобится рассматривать свою шейку матки. Но задать этот вопрос — значит услышать в ответ: «Буржуйка!» Я продолжала обход. В гостиной расположилась группа Моны — «Женщины и месть». На полу лежала женщина в майке с надписью «Религиозная сестринская община — это сила» и горько плакала. Мона и все остальные сидели вокруг на коленях и гладили вздрагивающее тело. — Спокойно, — тихо говорила Мона. — Мы все — сестры. Мы тоже были на твоем месте. Продолжай. Переложи свое бремя на нас. — Ну вот, — выдохнула женщина, — я сказала ему, что беременна. Я думала, он обрадуется… — Она затряслась от новых рыданий. — Он встал, я решила, что он поцелует меня, подбодрит, а он… знаете, что он сделал? Он дал мне пощечину. Я слетела со стула, а он закричал, назвал меня шлюхой и сукой и обвинил, что я поймала его в ловушку. — Она забилась в рыданиях, а Мона, поблескивая своими темно-вишневыми линзами, начала массировать ей виски. — А ты? — тихо спросила она. — Я просто лежала на полу. Я была сбита с толку, я не ожидала такой жестокости. Я любила его. Он знал, что до него у меня никого не было. Я не верила, что он ударит меня. Он всегда был нежен и ласков. А потом он ударил меня в живот. У него на ногах были армейские ботинки, и он ударил очень сильно. Закричал, что не собирается связываться с такой шлюхой, и все бил и бил в живот… — Она снова зарыдала. Кто-то похлопал ее по груди. На всех лицах царило зловещее выражение. — И что дальше? — грозно спросила Мона. Я никогда не замечала, что у нее такое мстительное лицо. — Он ушел, когда я была на седьмом месяце, и больше не вернулся. Я ползала по кухне на коленях, мыла линолеум. Он был помешан на чистоте. Мне было все равно, блестит ли линолеум, я старалась ради него. Он был тогда без работы, только иногда играл по вечерам в оркестре. Я работала и содержала нас обоих. Ну вот, я не выдержала тогда, склонилась над ведром и расплакалась. Я очень устала, а еще надо было выгладить ему рубашку и идти на работу. Слезы падали прямо в ведро. В эту минуту он и пришел. Он не ночевал дома, наверно, был у какой-то женщины. Он брезгливо посмотрел на меня и сказал: «Господи! Вот страшилище! Лохматая, грязная! Как я мог тебя столько терпеть?» Он бросил в сумку свои вещи и ушел. Больше я его не видела. — Продолжай, — прошептала Мона. — Переложи на нас свое бремя. На лицах женщин жалость сменилась яростью. — Сволочь! — крикнул кто-то. — Сукин сын! Ненавижу этих вшивых мерзавцев! — А дальше? — шепнула Мона. — Я хотела взять острый нож и… Я торопливо ушла на кухню, чтобы не слышать, что она собиралась сделать ножом. Я сочувствовала этой женщине, но никогда не стала бы так откровенничать с теми, кого не видела раньше и вряд ли увижу еще. Фальшивые переживания! Этель возглавляла семинар «Женщина и дело». Я знала, что домоводство и воспитание детей уже были ими обруганы и оклеветаны, и если я осмелюсь сказать что-то в защиту этих занятий, меня снова назовут «буржуйкой». Я села и постаралась не слушать ничьих криков и рассуждений — ни любительниц секса, ни специалистов по валке деревьев. Я чувствовала, что чужда своим сестрам и совсем одинока. Но понимала: послушай я еще несколько минут откровения сестер Моны, тоже стала бы бить кулаками по полу и рыдать вместе с ними. После обеда все отдыхали. Кто-то катался на санках, кто-то лепил снеговика под окном гостиной. Кто-то сидел, курил травку или потягивал вишневую наливку. Пара негромко пела, аккомпанируя себе на гитарах. Вечером мы устроили танцы. Из Бостона приехал известный женский рок-ансамбль. Они установили в гостиной микрофоны, настроили инструменты и громко спели несколько песен начала шестидесятых. Никто не танцевал — словно девочки-подростки, ждущие, что мальчики наберутся храбрости и пригласят их на танец. От разгоряченных тел стало жарко и душно. Лица блестели от пота. Женщины жадно пили наливку, как лимонад в летний день. Первой не выдержала Лаверна. Она величественным жестом сбросила блузку, выставив влекущую, влажную от пота грудь. За ней последовали остальные. Одетыми остались всего несколько женщин; казалось, гостиная так и блестит смуглыми, черными, белыми грудями, качающимися и трясущимися в такт громкой музыке. Мы с Эдди прилегли на чей-то свернутый спальный мешок. — По-моему, фестиваль удался. Как ты думаешь? — спросила я. — Наверно. Только большинство все-таки уедет. — Ну и отлично! Кстати, здесь всего две негритянки. Ни пуэрториканок, ни индианок. Какая же коммуна женщин третьего мира, если в ней нет женщин из этих стран? — Это точно… — Правда, я тоже индианка из племени черокезов. Частично. Она повернулась. — Серьезно? Почему ты никогда об этом не говорила? Стыдилась? Или что? — Да нет, я об этом просто не думала. Похожа я на дядю Тома? — Я рассмеялась собственной шутке. — Стесняешься, — хмуро заявила она. — Стесняешься своего происхождения! Это общество заставило тебя стыдиться своих предков! Ты считаешь индейцев гражданами второго сорта! — Да нет же! Мне просто не казалось это очень важным. Моя прапрапрабабка была из племени черокезов. Значит, я на одну тридцать вторую — индианка. Важность какая! — Важность какая?! Эта «случайность» повлияла на твой характер. Я никак не могла понять, почему ты такая — с такими-то родителями-буржуями! У тебя есть душа, Джинни. — Она страстно поцеловала меня. Я была в восторге, что моя родословная так ее обрадовала. — А мой дед был шахтером, — прибавила я, желая преподнести ей еще один сюрприз. — Все мои кузены до сих пор живут в Аппалачах. — Ты шутишь? — расцвела Эдди. — Ах, Джинни! Вот это подарок! Пошли танцевать! Я хочу обнять тебя! Рок-ансамбль играл медленную песню «Очень давно, давно, давно»… Мы с Эдди прижались друг к другу, уткнулись губами в шею и топтались на месте. В воздухе витал дымок от марихуаны. Он напомнил мне смог от Халлспортского завода. Лампы почти все были выключены. На лестнице кто-то упражнялся с вибратором Лаверны. Некоторые пары уединились в спальнях. Я облегченно вздохнула. Я не чувствовала себя одинокой, у меня было надежное убежище — Эдди Холзер. Дверь резко распахнулась и ударилась в стену. В комнату с клубами морозного пара ворвалась дюжина огромных фигур в валенках, стеганых куртках и шлемах с забралами. Астронавты, только злые и не такие красивые… Музыка смолкла. Танцующие остановились и отпрянули друг от друга. Водители «Сноу Кэт» выстроились у двери. Крошечные, почти невидимые за забралами глазки с вожделением смотрели на полуобнаженных женщин. Мы, как стадо глупых овец, сбились в кучу. Один мужчина протянул руку и схватил первую попавшуюся женщину в низко спущенных джинсах. Она хотела выцарапать ему глаза, но ногти только скользнули по пластиковому шлему; хотела ударить, но он перехватил ее руку и потащил к двери. Мы хотели помочь ей, но темные фигуры сделали шаг вперед, и мы отступили. У них на уме было одно: схватить нас, швырнуть в свои дьявольские машины и умчать в ночь. Я чуть не упала от страха, увидев, как ко мне шагнула одна фигура. Под забралом, да еще в полумраке, невозможно было рассмотреть лицо, но я готова была поклясться, что это Айра. Выражение его глаз не было злым, наоборот, в них читалась тоска. Мне стало жаль его, как Джульетте, смотрящей на Ромео, окруженного ее родственниками. Эдди выскочила вперед. — Вы соображаете, что делаете? — крикнула она голосом, от которого завяли бы весенние цветы. Шум стих, строй вражеских фигур дрогнул. Рядом с Эдди встала Этель. Она многозначительно вытащила из кожаного футляра свой топор, провела лезвием по большому пальцу и безмятежно уставилась на привидения в шлемах, будто это были молодые деревца, которые нужно срубить. — Вот из нашего дома и с нашей земли! — приказала Эдди таким тоном, будто под словом «наши» скрывалось по меньшей мере тридцать восемь процентов американцев-избирателей, а не несколько дюжин перепуганных женщин. Строй замер. Наконец тот, кто шел ко мне — Айра, поднял забрало и робко сказал: — Мы просто услышали музыку и решили составить вам компанию. — Вас не приглашали, — отрезала Эдди. — Разворачивайте свои задницы и убирайтесь! — Она отвернулась и сделала знак рок-ансамблю. Оркестр мгновенно грянул «Великолепного мужчину». Непрошеные гости скрылись за дверью. Эдди выскочила на крыльцо и торжествующе крикнула: — И не возвращайтесь, пока вас не позовут. Чего никогда не будет! Они угрюмо пошли к своим снегоходам. Я услышала, как кто-то крикнул: «Поганые шлюхи!» Проходя мимо голубоватой ледяной скульптуры, они поддали ее плечами и швырнули на снег. На следующий день Эдди сочиняла приглашения тщательно отобранным кандидатам присоединиться к коллективу нашей фермы Свободы. Дойдя до слов о «третьем мире», она подняла голову и небрежно обронила: — Моя подруга частично индианка из племени черокезов, а ее родители — из шахтеров с Аппалач. — Неужели? — засмеялась преподавательница из Бостона. Я бессовестно подбоченилась. — А мой отец был пуэрториканцем, — безмятежно добавила Эдди. Я удивленно воззрилась на нее. Когда женщина вышла, Эдди примирительно объяснила: — Откуда мне знать? Он вполне мог им быть. В тот день нам не удалось обратить в свою веру многих, но семена сомнений мы все же посеяли и предложили сестрам с соседних ферм встретиться как-нибудь за кофе или партией в бридж и обменяться опытом. После отъезда гостей мы навели порядок и отправились кататься на лыжах — все, кроме Лаверны, соскучившейся по своему вибратору. После суматохи фестиваля разговаривать не хотелось. Мы молча ехали через луга и заснеженный лес, пробирались сквозь заросли тсуги и любовались зимними птицами и тусклым солнцем, просвечивающим насквозь облака и вершины деревьев. — Как хорошо, что все уже позади! — не выдержала я. Все посмотрели на меня неодобрительно: снова я оказалась буржуйкой. — Но разве вы не находите, что было слишком шумно и скученно? И все эти тела нужно было накормить, уложить и черт знает что еще! — Эти «тела», — скромно заметила Мона, — наши сестры. — Сестры или нет, хорошо, что они уехали, — не сдавалась я. Мы продолжали кататься. Под лыжами скрипел сверкающий снег, солнце било в глаза. Если не Бог, то кто-то такой же всемогущий создал эту красоту. В мире все гармонично, и как хорошо это чувствовать после приступа хандры, обуявшей меня вчера среди восьмидесяти сестер. Мы «елочкой» поднялись по склону холма и полетели вниз. Неожиданно окрестности огласились оглушительным ревом. — Выпь, — уверенно заявила Эдди, и в этот момент мы едва не наскочили на колючую проволоку. — Что за черт? Мы повернули на юг, поехали вдоль забора и ярдов через пятьдесят уперлись в знак «Назад! Испытательный полигон». Интересно! Мы проехали несколько миль и не встретили ни единой души. Какой полигон, ради Бога? Кому там стрелять? Из-за высокого колючего забора доносились отзвуки выстрелов. Забор повернул, мы — тоже. Через несколько сотен ярдов мы очутились перед запертыми воротами, на которых тоже было написано «Испытательный полигон. Дженерал Мэшн, Вермонт». Мы заглянули в щель: несколько военных возились с огромными орудиями. — Господи! — прошептала Эдди. — Они везде! Пока нас всех не перестреляют, не успокоятся. Я никогда не видела ее такой испуганной: она дрожала, наверное, за всех нас. «Война с горожанами лишила ее мужества», — решила я и взяла Эдди за руку. За другую руку взяла Этель, и так, держа ее между собой, мы заскользили обратно в лес. Там Эдди стала сама собой: успокоилась, а потом крикнула в сторону стрельбища: «Чертовы суки!» На полпути к флигелю нас оглушил рев. Мы воткнули палки в снег и поспешно заткнули уши руками в перчатках. Прямо на нас низко летели три реактивных самолета: плоские, треугольные, похожие на серебристых птиц. — Бог мой! Они достали меня! — Эдди бросилась головой в сугроб. Самолеты пролетели прямо над нами. Мы вытащили Эдди из снега, но она не встала, а закрыла лицо руками и затряслась от страха. — Эдди! Что с тобой? — Мне стало не по себе: ладно, я — трусиха, но Эдди?.. Моя надежная опора? Она успокоилась, и мы поспешили домой. На следующее утро я осталась дома одна. Эдди с Лаверной отправились в клинику. Этель и Мона — на старую ферму одолжить бобов. Я с удовольствием грела на плите ноги, смакуя, как истинная контрреволюционерка, свое одиночество. Что ни говори, а мне до смерти надоело делить себя с «сестрами». Неожиданно на лугу раздался рев снегохода. Я опустила ноги и подошла к окну. Подпрыгивая на своем роскошном «Сноу Кэт» и подняв забрало, ко мне приближался Айра. Я почувствовала радость, но тут же подавила ее в себе. В конце концов, если бы не Эдди, он утащил бы меня в темноту… — В чем дело? — холодно спросила я, выйдя на крыльцо. Айра был в стеганой куртке, из-под шлема беспорядочно торчали темные кудрявые волосы. — Привет, — сверкнув в улыбке белыми зубами, сказал он. — Айра Блисс. — Он снял громадную черную перчатку и протянул мне руку. Я отвела глаза. — Что вам угодно, мистер Блисс? — Айра, — поправил он. — Можно войти на минутку? — Он помахал руками и демонстративно потер одну о другую. Он прав. Действительно, холодно. Я дрожала в своем свитерке. — Не вижу необходимости. — Посмотрите, мадам. Я замерз. — В таком случае разворачивайте свои санки и — шестьдесят миль в час! — Послушайте, — он поднял руки, будто кто-то ткнул ему в бок пистолетом. — Каюсь! Я был в компании хулиганов. Мне не нравилось то, что они делают, но остановить их не хватило решимости. Я приехал извиниться за субботний вечер. Я сочувственно улыбнулась: мы были похожи. Я тоже бывала в компании хулиганов, и мне тоже не хватало решимости быть не такой, как они, даже когда я не одобряла их поведение. — Все в порядке, мистер Блисс. Входите. Погрейтесь у печки. Он сел напротив и расстегнул куртку. Под ней был красный обтягивающий свитер. Я с любопытством смотрела на упругие выпуклые мышцы. Его тело очень отличалось от того, с каким я почти три года имела дело. У Эдди оно состояло из выпуклостей, округлостей и тайных складочек. Оно было не лучше и не хуже любого мужского, оно было просто другим. Я откашлялась. — Ну, — сказали мы хором и улыбнулись. — Есть еще одна причина, почему я здесь, — признался Айра. — Я — страховой агент. Нет-нет, подождите! Прежде чем выгнать, послушайте! Я знаю, что вы и ваши подружки — славные самостоятельные девушки, но думали ли вы о том, что случится, если кто-то из вас умрет? Звучит весьма неприятно, но разве это не то, что мы должны рано или поздно встретить с открытыми глазами? Так принято, что люди рассматривают страхование жизни как способ обеспечить после их смерти жену и детей. У вас нет детей, следовательно, есть шанс обеспечить всех, кто живет рядом, если что-то случится с вами. После вашей смерти кто-то должен стать наследником, так? Впрочем, это не совсем то, что я хотел сказать… Я не выгнала Айру. Я внимательно выслушала его. Мне уже приходило в голову, что Эдди придется очень туго, если я неожиданно умру. Тот факт, что я умру, я считала вполне естественным (сказывалось ненормальное воспитание в моей семье). Но я не знала, как завещать Эдди мои дивидендные чеки. Фонд вернет их майору, который наверняка уже выслеживает меня, потому что я ни разу не написала домой с тех пор, как пикетировала его завод. На что будет жить Эдди, когда меня закопают на глубину шесть футов? Чем ей придется заниматься? Тем, что она терпеть не может? Стать официанткой, горничной, секретарем? Она бедна, я — богата. В этом нет ни ее вины, ни моей заслуги. Я обеспечу ее после моей смерти. Наверно, Айра был удивлен, что его не прервали. У печки было тепло, и его лоб блестел от пота. — Есть два вида страховки: срочная и пожизненная. Срочная требует небольшого взноса, но лицо, которое вы назовете, получит всю сумму, только если вы умрете в определенный период. Пожизненная страховка требует большего взноса. Вы вносите его по частям в течение всей жизни, а если доживете до девяносто шести лет, получите все назад. Что вы предпочитаете? Вы не станете возражать, если я спрошу, на что вы живете? — Какое вам дело? — Извините, — он вытаращил глаза. — Я хотел вам помочь. — Да-да, простите. Я не хотела вас обидеть. Мне это очень интересно, но я не знаю, что выбрать. — Я помогу вам. Скажите, кто здесь живет вместе с вами? Я подозрительно покосилась на него. — Зачем вам это? В конце концов, он вполне мог оказаться грабителем. — Если вы решили застраховаться, я должен знать, сколько человек вы хотите обеспечить. В этот момент я услышала, как подъехала наша машина, и испугалась. Кошмар! Я — наедине с мужчиной, водителем снегохода из вражеского лагеря! Что скажет Эдди? — По-моему, вам пора. — Вашим подругам неинтересно послушать о страховании? — Нет, что вы! — заверила я. — Просто я хочу преподнести им сюрприз. — Я открыла дверь и подтолкнула его. На ходу застегивая куртку, он сбежал с крыльца и около рассыпавшейся на тысячу осколков ледяной скульптуры столкнулся с Эдди. Она показала ему кулак с какой-то зажатой в нем бумагой и крикнула: «Передай своим дружкам, чтоб катились к дьяволу!» Он испуганно повернулся ко мне. — Послушайте… — Идите, идите, — мрачно ответила я. Он уехал. Эдди повернулась ко мне. — Значит, это продолжается, стоит мне уехать? Коварная сучка! Но я поймала тебя! — Ничего не продолжается, Эдди… — Заткнись! Я бедна, но не дура! Я видела, как вы переглядывались, ни дать ни взять сообщники! Я видела, как он застегивает куртку! Не ври мне, шлюха! — Сама заткнись, маньячка! — Мне ничего не оставалось, как пойти ва-банк. — Я никому не вру, и меньше всего тебе! Не ты ли разглагольствуешь о слиянии с народом? Вот что, Эдди, до сих пор я мирилась с твоей ревностью, но сейчас ты меня достала! Богом клянусь, я тебе не изменяла, но ты сама толкаешь меня в постель Айры Блисса. — Перестань, — явно не ожидая от меня такого отпора, пробормотала она. — Не перестану. Я объясняю тебе, чем все это может кончиться. Обрисовываю развитие наших отношений, чтобы оно не оказалось для тебя сюрпризом, если все обернется не так, как ты запрограммировала. Мы стояли над кучей ледяных осколков и гневно смотрели друг другу в глаза. Я вся дрожала. — Господи, — сказала я, истощив весь запас ярости, — я окоченела. Пойдем, я объясню, зачем он приходил. Мы сели у плиты: Эдди, я и Лаверна. — Сначала я объясню, что случилось, — сухо начала Эдди. — Мы пришли в офис и увидели, что окно разбито, замок сломан, а мебель, стены — все измазано красной краской. Литература порвана в клочья, многое уже сожгли в ведре, на полу валяется пепел, а на одной стене надпись: «Аборт — это убийство! Убирайтесь, сучки!» — Бог мой, — простонала я. — Наверное, мы ошиблись. — Мы? Чего можно ожидать от этих фашистов? — Я не стала напоминать, что эти «фашисты» и есть надежда левых радикалов. — Прочти. Детским, почти неразборчивым почерком на куске украшенной цветочками розовой бумаги было написано: «Дорогие соевые бабы! Если вы хотите, как все нормальные люди, создать в нашем городе семьи, ходить в нашу церковь и посылать в нашу школу детей — добро пожаловать в Старкс-Бог! Но если вы хотите разрушить Семью и бросить вызов Богу, мы не позволим развращать наших детей. Это только предупреждение. Искренне ваши, обеспокоенные граждане». — По-моему, это слишком, — пробормотала я. — Понимаешь теперь, почему я так рассвирепела, увидев здесь эту свинью? Прости, Джинни. — Ничего. Все в порядке. — Так что этот паразит здесь делал? — Ты не поверишь, но он приезжал извиниться. Без шуток. И еще — продать нам пожизненный страховой полис. — О нет! — простонала Лаверна. — Ты не купила его? — Нет. Мы только обсуждали эту возможность. — Пожизненная страховка! — поморщилась Эдди. — Как по-буржуйски! — Отлично. Продолжай. Но что будет с фермой Свободы и с тобой, если я умру? — Умрем вместе с тобой, — засмеялась Эдди. — Я-то уж точно брошусь в твой погребальный костер. — Нет, правда? — Что-нибудь придумаем, Джинни. Не думай, что ты незаменима. — Примерно через семьдесят лет я верну все свои деньги, — задумчиво проговорила я. Лаверна и Эдди упали от смеха со стульев. Наконец Эдди успокоилась и серьезно сказала: — Нам не придется покупать полис. Я пожала плечами. — Что ж, но, по-моему, ему нужно об этом сказать. Он — страховой агент. — Нет. Он не страховой агент. — О чем ты? — Ты когда-нибудь слышала о пожизненном страховании женщины в пользу женщины? — Но мы же свободные женщины! — О чем он тебя спрашивал? Я постаралась вспомнить всю сцену. — Спросил, на что мы живем и кто здесь живет. — Вот оно! Я так и знала! Он — агент ФБР. Лаверна задумчиво почесала левый бок. — Продолжай, Эдди. — Эдди, ты что? Он вполне приличный и вежливый человек. — Он втерся к тебе в доверие, Джинни. Неужели не понимаешь? Хотел сделать тебя своим информатором. — Чушь! Ты насмотрелась боевиков! — Джинни, он точно положил на тебя глаз. Я-то вижу, как он на тебя поглядывает. Я не говорю, что ты ему отвечаешь, хоть и исчезала несколько раз неизвестно куда… Мне нужно быть уверенной, что он не причинит тебе вреда. А ты — нам. Этот человек — агент ФБР. Точно! — Ты себе льстишь, Эдди. Зачем ФБР тратить время на таких мелких рыбешек, как мы? Эдди задумалась. — Ну… по многим причинам. Наркотики, политические протесты, деньги, которые мы посылали… Может, они считают нас политическими беженцами или распространителями наркотиков. — Ты ненормальна! — Возможно. Но я права. И знаю, что тебе нужно остерегаться этого человека. — Ты ревнуешь! — Я?! Ревную?! — Она засмеялась. — Ревность — предрассудок, основанный на частной собственности, а я не верю в частную собственность. Ты — самостоятельная женщина, Джинни. Ты вольна приходить и уходить когда хочешь, выбирать друзей и любовников каких захочешь. У меня и в мыслях нет влиять на твои решения. Я только хочу открыть тебе глаза на последствия этого совокупления, могущего повлиять на жизнь твоих сестер; вот и все. — Какого совокупления? Господи, Эдди, я ведь только сегодня с ним познакомилась! Я не трахаюсь с кем попало! Отстань, или… — Не угрожай мне! — Я не угрожаю! Я предупреждаю. — Ну что ж, значит, теперь мы обе предупреждены… Вечером мы сидели вокруг плиты. Я жевала апельсиновую корку за неимением жвачки. Этель точила свой топор. Днем Мона закопала в сугроб на лугу пучки марихуаны, до этого спокойно висевшие в кухне, и теперь перебирала оставшиеся семена. Они с Эдди решили, что вот-вот к нам нагрянет с обыском ФБР… Лаверна обеими руками массировала свои ключицы, закрыв от удовольствия глаза и запрокинув белокурую голову. Эдди сидела рядом и влюбленно смотрела мне в лицо. — Нет, правда, Джинни, в тебе есть что-то индейское. Лоб, скулы… И ты смуглая. — Всего одна тридцать вторая часть, Эдди. У меня шестнадцать прапрапрабабок, и только одна — индианка. Ее кровь слишком разбавлена. — Нет, я точно вижу, что ты — индианка. Правда, Мона? — Конечно, конечно, — Мона откинула на спину черные волосы и посмотрела на меня поверх очков. У бобрового пруда послышался шум. Эдди подлетела к окну и позвала нас: «Скорей!» На вершине холма ярко горели фары, а со стороны города, скрываясь на миг за деревьями, ехали снегоходы. Пруд замерз, и они двигались прямо по льду. Машин было сто или больше. «Шабаш ведьм», — подумала я. На нашем берегу запылал костер. Снегоходы слетали с бобровой хатки, как с трамплина, летели в воздухе и с треском приземлялись через много ярдов. Нас пятеро — против сотни головорезов. Мы вернулись к плите. Мона занялась семенами, а мы — апельсиновыми корками, как коровы — жвачкой. В этот вечер мы долго не могли уснуть… Утром после почти бессонной ночи Эдди решила принять оборонные меры. Мы ведрами натаскали на пруд воду и вылили ее на поверхность, особенно много там, где снегоходы делали разворот. Мороз сделал свое дело, и скоро пруд засверкал ослепительным льдом. Вечером, боясь пропустить представление, мы встали на лыжи и спрятались за редкими кустиками на берегу. Если сидеть неподвижно, в безлунную ночь нас никто не заметит. Вскоре на холмах замелькали огни. Снегоходы спускались к пруду. Водители вышли — среди них я с удивлением увидела женщин и даже детей, — постояли, посмеялись, потом швырнули куда попало пустые банки, бутылки и пакеты и снова сели в машины. Начались гонки. Выкрикивая непристойности, водители, стоя на сиденьях на коленях, рванули вперед. Несколько машин промчались по пруду беспрепятственно. Наши ловушки остались в стороне. Мы уже решили, что ничего не сработало и пора возвращаться, как вдруг один снегоход заскользил и на полном ходу развернулся. Водитель вылетел высоко в воздух, а потерявший управление снегоход врезался в соседний, тот накренился, и его водитель тоже упал на лед. Я со страхом смотрела на них. Неужели водители ранены? Эдди еле сдерживалась от смеха. — Заткнись! — толкнула я ее в бок. Она не выдержала и торжествующе расхохоталась, а вскоре к ней присоединились Мона, Этель и Лаверна. — Тише! — прошептала я. — Услышат! Но было поздно. Нас услышали. Тот, кто вылетел в воздух, встал, схватил за руку второго, выскочившего на лед, и повернулся к нам. Потом оба сняли шлемы и медленно направились к моим корчившимся на льду подружкам. Кто-то включил фары, и мы все оказались как на сцене. К нам подходили Рони и Айра. Неожиданно Рони повернулся, вскочил в ближайший «Сноу Кэт» и направил прямо на нас. — Он нас задавит! — крикнула я и заспешила на лыжах подальше от пруда. Эдди вскочила, схватила палки и встала прямо перед огнями снегохода, приближающегося со скоростью сорок пять миль в час. — Эдди! — закричала я. — Отойди! Она отскочила, как кошка, только тогда, когда снегоход почти коснулся конца ее лыжи, потом подняла палки и швырнула в Рони, как копье в буйвола. Раздался крик. Мы развернулись и помчались к Эдди. Ничего не видя от ярости, с торчащими из бока палками, Рони бросился на Эдди. Она безмятежно стояла в ожидании неминуемой расплаты, загипнотизированная, как олень, светом фар. Айра вскочил в свой «Сноу Кэт» и помчался к Эдди. Неужели он хочет раздавить ее? У нее не было ни одного шанса увернуться от двух машин. Эдди права: Айра не друг, он заодно со всеми. Мы вчетвером изо всех сил карабкались по льду. Две громадные машины надвигались на беззащитную Эдди. Но что это? Лыжи снегоходов столкнулись, послав вверх сноп искр, и, когда Рони невольно свернул, я услышала голос Айры: «Беги!» Эдди медленно поехала в нашу сторону. Без палок она была совсем беспомощна, но если бы слезла с лыж, утонула бы в снегу. Мы с Этель взяли ее за руки и поехали прочь по лугу. В ту ночь мы взяли спальные мешки и покинули свой дом. — Ну, разве похож он на агента ФБР? — спросила я у молчавшей Эдди по дороге на старую ферму. Через несколько дней мы вернулись. Флигель стоял на месте, и было непохоже, что кто-то появлялся здесь в наше отсутствие. Всю следующую неделю мы были очень заняты. Стояла теплая погода, и старые клены пустили сок. Каждое утро четверо из нас на рабочих лошадях отправлялись на холм, а пятая оставалась дома — убирать и варить обед. Через неделю все ведра, бочки, — все, что можно было заполнить, — мы заполнили кленовым соком. Пруд продолжал служить дорогой, соединявшей Старкс-Бог с центром штата. Водители пользовались хаткой бедных бобров, как трамплином. Всюду валялись обертки и банки. От выхлопных газов над лугом и флигелем висел туман. Из-за оглушительного рева машин приходилось повышать голос. Но мы приспособились к жизни в этой зимней Стране Чудес. У нас был только один выбор: жить здесь или не жить нигде. Мы приспособились — все, кроме Эдди. Она топила печь скомканными эскизами дьявольских ловушек, вынашивала планы мести и по-прежнему дулась на меня. — Нельзя просто отсиживаться здесь, — утверждала она. — Человек приспосабливается ко всему, даже к деградации. Но я не могу с этим смириться. Так жить нельзя! Если тебя бьют — давай сдачи, иначе кончишь жизнь с номером на предплечье. Ночью Эдди прятала голову под подушку, чтобы не слышать грохота машин, скрежетала зубами. — Мы натянем внизу между березами тонкую проволоку, — предложила она однажды вечером. — Один конец прикрепим к настоящему забору, чтобы создавалось впечатление, что она была его продолжением. Просто ее забыли убрать. А когда эти дебилы явятся в наши владения, — хрясь! — проволока запутается в их поганых лыжах. — Я не стану в этом участвовать, — сказала я. Удивительно, но меня все поддержали. — Через пару месяцев снег растает, а потом мы найдем другую ферму. — Конечно. Посреди стрельбища, — ухмыльнулась Эдди. — Что случилось, Джинни? Боишься, что твой дружок сломает свою блестящую машину? — Ошибаешься, — устало вздохнула я. — Он, хоть и не мой дружок, спас тебе жизнь. — Спас жизнь! Ради Бога, избавь меня от этой мелодрамы! Я прекрасно справилась бы сама! Кто его просил вмешиваться? Я недоуменно посмотрела на нее, но промолчала. — Клянусь, — весело продолжала она, — вы, подружки, самая трусливая компания, с какой я когда-либо имело дело. Постучи в вашу дверь ку-клукс-клан, вы бы помогли им сделать петли. Особенно ты, Джинни. Как вы можете сидеть и ждать после всего, что сделали эти люди? — Какие люди? — Я совсем забыла о полутора унциях крови черокезов, протекающих в моих жилах. — Я не считаю насилие панацеей от всех бед. — Ерунда! Это все равно что сказать, что не считаешь полезным дождь. Насилие вокруг тебя, детка! — Это не значит, что я должна применять его. — Мао говорит: «Любая власть проистекает из дула оружия», — пробубнила Мона. — Может, стоит поискать более подходящие способы существования, кроме уничтожения горожан или ожидания, что уничтожат нас? — предложила Этель. — Чепуха! Че говорит: «В революции человек или живет, или умирает!» Я порылась в памяти, старясь подыскать кого-нибудь достаточно авторитетного, чтобы противостоять Че и Мао, но кроме недостаточно сильной фразы Биттлзов «Все, что вам нужно, — это любовь», ничего не пришло в голову. — Выживает сильнейший, — продолжала Эдди. — Слабый гибнет. Если вы это не уясните, мне придется одной охранять нас всех. — Она резко отодвинула стул и вышла из комнаты. Мона вызывающе посмотрела на нас и последовала за ней. Привычно облизав нижнюю губу и осторожно погладив пальцем, Лаверна пожала плечами и поднялась наверх. Вскоре свет начал мигать, мы услышали стоны и удовлетворенные вздохи. Этель точила свою драгоценность, склонив от усердия рыжую голову. — Этель, — нарушила я молчание. — Ты знаешь Эдди дольше, чем я. Скажи, она изменилась за последние пару месяцев? Этель вздохнула и подняла голову. — Эдди всегда была очень решительной. Но… Наверное, ты права. — Мне страшно, Этель. В этот момент мы услышали крик и странный шипящий звук, а потом погас свет. — Что это? — Не знаю… Дверь распахнулась. — Они снова напали! — крикнула Эдди. — Что я вам говорила? Сидите как утки! — Она заметалась по комнате, словно подбитая птица. — Кто? — крикнула я. — Где? — закричала Этель. — Что случилось? — вбежала Мона. Наконец Мона сообразила чиркнуть спичкой. При ее свете она нашла свечу, и я увидела притаившуюся в углу Эдди. Глаза дико блестели. В руках она держала фонарь. Но окно было цело, дверь не распахнута. Кроме привычного гула, за прудом снаружи не раздавалось ни звука. — Может, перегорел предохранитель? — предположила я. — А где Лаверна? — вспомнила Мона. — Кто-то кричал, — ответила Этель. — Это не я и не Джинни. Не вы? Мы гуськом — впереди Мона со свечой — поднялись по лестнице. Не дойдя до спальни Лаверны, я почувствовала запах дыма. — Что это? — Они подожгли наш дом! — крикнула Эдди, выхватила у Моны свечу и помчалась к Лаверне. — Скорей! Сюда! Горели мои радужные занавески и часть стены рядом с ними. Эдди подушкой сбивала пламя. Из-за дыма ничего не было видно. — Окно! — крикнула Мона. Этель ударила по стеклу топором. Вскоре пожар был потушен, дым рассеялся, и мы увидели Лаверну. Она лежала под армейским спальным мешком, совершенно белая и не подавала признаков жизни. — Задохнулась, — мрачно констатировала Эдди и стала делать искусственное дыхание: рот-в-рот. — Вызовите врача! — на мгновение оторвавшись от Лаверны, приказала она. — У нас нет телефона, — промямлила я. — Сейчас! — Мона выбежала из комнаты, за ней — Этель. Искусственное дыхание вернуло Лаверну к жизни. Она задышала сама, а через несколько минут я увидела в разбитое стекло, как спешат на лыжах к пруду Этель и Мона. Вскоре от потока машин отделился один снегоход и направился в нашу сторону. За ним мчались Мона и Этель. Не дожидаясь остановки, водитель спрыгнул на землю, сбросил шлем и вбежал в дом. В лыжном костюмедоктор выглядел совсем непрофессионально, но нам было не до его внешнего вида. Он небрежно кивнул нам, осмотрел лицо Лаверны, потом обнажил ее грудь и приложил к ней ухо. Послушал пульс, посмотрел десны, поднял веки и постучал по груди. Потом совсем отодвинул мешок, раздвинул ее колени и нашел внутри бедер багровые следы ожогов. Поднял электрический провод, а за ним весь вибратор. Мы с Эдди тревожно переглянулись. Доктор покрутил в руках этот искусственный фалос, зачем-то понюхал и покачал головой. Вибратор был включен на максимальную скорость. Лаверна наверняка достигла окончательного оргазма. Доктор, седовласый мужчина средних лет, посмотрел на нас и протянул: — Это… как бы сказать… это… — Он отложил вибратор и стал снова осматривать Лаверну. — Ваша подруга без сознания, — наконец сказал он. — У нее электрический шок от этого… гм-м… Плюс надышалась дымом. Нужно немедленно отвезти ее в больницу. Если угодно, могу предоставить свой снегоход. На следующий день я позвонила в Нью-Йорк своему поверенному и рассказала о причиненном пожаром ущербе. Он сказал, что свяжется со страховым агентом, обслуживающим этот район. Однажды вечером я осталась дома одна. Лаверна уехала в Чикаго пересаживать кожу на бедрах, а Эдди, Этель и Мона отправились на соседнюю ферму. Женщина, приезжавшая к нам на фестиваль, родила и через приятеля пригласила нас отпраздновать такое событие. Я решила не ехать. Села у окна и стала слушать, как гудят за прудом машины. Мое одиночество оказалось недолгим. Во дворе послышался рев, я вышла на крыльцо и увидела Айру. Подумав, что агенты ФБР не бывают так обаятельны, я улыбалась: — Привет! — Привет. Я слышал, у вас неприятности? — Да, есть немного. — Не возражаете, если я войду посмотрю? Я уже составил страховой полис на случай пожара, но нужен отчет. Поверенный говорил, что свяжется со страховым агентом. Вряд ли Айра Блисс так ловок, что притворяется им, чтобы учуять спрятанную Моной марихуану. Я внимательно посмотрела в его приветливое лицо и пригласила войти. Мы поднялись в спальню Лаверны. В разбитое окно дул холодный ветер. Айра увидел почерневший угол и присвистнул. — Удивительно, что не сгорел весь дом. Ваше счастье, потому что пожарные были в ту ночь заняты. Он расстегнул куртку и достал из кармана рубашки авторучку и маленький блокнот. — Вы приглашали специалиста составить смету? — Нет. А как… — Нужны два экземпляра. Похоже, у вас неисправна проводка. Вы не включали в тот вечер какой-нибудь мощный прибор? Кофеварку, еще что-нибудь? — Нечто в этом роде… — Так так. Конечно, в этом все дело. Хорошо, что вы сумели погасить огонь. — Он захлопнул блокнот и неожиданно спросил: — Вы всегда… э… жили с женщинами? Вспомнив предупреждение Эдди, я решила раз навсегда отшить его. — Да. У меня отвращение к мужчинам. Он с новым интересом посмотрел на меня. Господи! Я в нем ошиблась. Существуют мужчины, да и женщины тоже, которые считают, что их обаяние способно заставить клены пустить сок в середине зимы. Айра был явно из таких. — Знаете, — торопливо заговорила я, — я долго думала о страховке. (Я и правда долго думала об этом и решила привести свои дела в порядок, оставив все Эдди и ферме Свободы.) — По-моему, это хорошая мысль. Айра расплылся в улыбке. — Конечно! — Он снова раскрыл блокнот. — Я тут прикидывал, можете выбрать… — Он повернулся, чтобы показать записи в блокноте, но задел меня плечом, и, потеряв равновесие, я упала прямо на кровать Лаверны. Ногой я зацепила его колено, и он тоже упал. Мы замерли. Мое лицо уткнулось в курчавые волосы у него на груди… — Я так и знала! — услышала я. Я оттолкнула Айру и бросилась вниз. — Эдди! Это не то, что ты думаешь! Она остановилась в дверях: губы сжаты, лицо — как мел, глаза полны слез. — Я верила тебе, Джинни. — И быстро выскочила на крыльцо. — Я не обманывала тебя, Эдди! Она садилась в «Сноу Кэт», когда я выбежала вслед за ней. — Подожди, Эдди! Выслушай меня! Она показала мне кукиш, завела мотор и поехала по лугу. Потом сделала огромный круг, не снижая скорости на поворотах, и помчалась к пруду. Айра бежал за ней по глубокому снегу. Я побежала тоже, но подвернула ногу и поковыляла, прихрамывая и утопая по колено в снегу. Эдди, как камикадзе, стремительно мчалась туда, где гудели грузовики и снегоходы, словно хотела, чтобы было как можно больше свидетелей ее самоубийства. Она не успела достичь пруда, как «Сноу Кэт» затормозил — и я увидела, как голова Эдди слетела с плеч, подпрыгнула и завертелась на льду, как бешеный баскетбольный мяч. Я не верила своим глазам. «Сноу Кэт» остановился, и тело Эдди упало на лед. Вопли и крики заглушили рев двигателей. Я спешила на помощь, но, как рыба на льду, билась на одном месте. — Ложись и катись! — крикнул Айра. Я послушно легла и покатилась, обхватив руками голову. Надо мной сияла огромная желтая луна. Я не верила в то, что случилось. Это сон. Или я просто катаюсь на льду по залитому лунным светом лугу… Эдди! Я больно ударилась головой. В нескольких ярдах стояли «Сноу Кэт», поодаль — их водители. Я встала и захромала к ним. Они отшатнулись, будто я была прокаженной. В центре круга я увидела доктора. Он разговаривал с Айрой. А на земле, накрытый одеялом, лежал странный холмик. Из-под одеяла торчала коса. Над «Сноу Кэт» блеснула натянутая между двумя березами стальная проволока. — Крови нет, — сказала я и удивленно покачала головой. Подошел Айра. — Как смешно. Там нет крови, — улыбнулась я. Он взял меня за руку, повел к чьей-то машине, усадил на заднее сиденье и медленно повез к флигелю. — Ведь правда? — спросила я дома. — Там нет крови? — Чем я могу тебе помочь? — Я никого не хочу видеть. Уйди. Я проснулась посреди ночи и потянулась к теплому телу Эдди. Она всегда обнимала меня и грела своим телом. Никто не ответил. В постели я была одна. Я опустила ноги на холодный дощатый пол и все вспомнила. Эдди в морге в Старкс-Боге в полном мире с народом. Я сидела, обхватив колени руками, и стонала. Боже! Мне так нужна Эдди! Я поеду на лыжах в город, подкрадусь к моргу, найду ее среди трупов… без головы. Разве может тело, дарившее мне столько счастья, стать холодным и мертвым? Разве может не отвечать мне? Тело, которое дрожало и трепетало под моими руками… Ласкай я его хоть вечность, оно не оживет. Эдди… Где ты, Эдди? Мы не смогли сообщить матери Эдди и похоронили ее сами. Когда привезли из крематория в Монреале пепел, все решили, что я должна сама — совсем одна — похоронить ее. Я взяла урну и вышла в сад. Из снега торчали сорняки и сухие колосья. Я лопатой расчистила место, где была грядка с помидорами. Как лукаво улыбалась Эдди, утверждая, что вредно полоть помидоры! Я рассыпала пепел и засыпала снегом. Мона, Этель и я пытались жить на ферме Свободы, как, конечно, хотела бы Эдди, — не прекращая работы. Мы собирали сок, ухаживали за лошадьми и телятами, убирали и варили еду. Я старалась работать, но мне было все равно. Я бросала дела и подолгу смотрела вдаль, удивляясь, зачем я здесь и зачем что-то делать. Единственное, что удерживало меня на ферме, — это смутное ощущение, что я отдаю дань памяти Эдди. Несколько раз в неделю мы дежурили по очереди в сарае, поддерживая огонь под кленовым соком. Я легла на пол, мокрая насквозь от пота, и стала размышлять о гибели Эдди. Случайно ли она налетела на провод? Или нарочно? Другими словами, подтолкнула ли я ее к самоубийству, заставив ревновать? Или она случайно попала в собственный капкан? Я не знала ответа и не узнаю никогда. Я буду нести крест этой вины до самой могилы… Я что было сил стукнула кулаком в стену и забилась в рыданиях… Успокоившись, я вытерла слезы, высморкалась и услышала какой-то шум. Дверь распахнулась. Вошел Айра. — Послушай, — сказал он. — Я чувствую себя отвратительно после того, что случилось с твоей подругой. Не могу спать. Я точно не понимаю, что тогда произошло, но чувствую, что виноват. Я могу что-нибудь сделать? — Ты не виноват. Пожалуйста, уйди. Оставь меня одну. — Но ты можешь объяснить, в чем дело? — Нет. Он виновато посмотрел на меня и вышел. Следующие несколько дней во флигеле витал неприятный запах. — Смерть. — Мрачно сказала Мона. — Это ее запах. Я содрогнулась. Потом принесла сандаловые палочки, мы зажгли их и походили, размахивая, как ладаном. Однажды утром, когда мы втроем собирали на холме сок, флигель вспыхнул, словно гигантский газовый факел. Он сгорел дотла прежде, чем примчались пожарные в желтых плащах и черных касках. На несколько ярдов вокруг снег мгновенно растаял. Мы стояли, оцепенело глядя на догоравшие руины. — Утечка газа, — подошел к ним Айра. — Очень похоже. — Он стал задавать нам вопросы, и когда мы рассказали, что избавлялись с помощью сандаловых палочек от запаха смерти, посмотрел на нас как на аборигенов. — Вы чувствовали запах газа и зажигали спички? Мона с ненавистью посмотрела на него и отвернулась. Они с Этель отошли к машине, заявив, что отправляются на свою ферму. Я сказала, что приду позже. Я хотела побыть одна. Пожарные, разочарованные, что не пришлось показать свою ловкость, уехали ни с чем. Осталась только красная машина Айры с горящими на крыше фонарями. — У меня огромный дом, — мягко сказал Айра. — Много комнат. Если тебе негде жить, поживи у меня. Я подошла к пожарной машине, села рядом с ним и почувствовала, что моя жизнь все еще впереди.
Глава 10
Пятница, 30 июня. На третье утро после переливания крови миссис Бэбкок обнаружила в унитазе странный черный сгусток. — Это мелена, — объяснил доктор Фогель, глядя в сторону. — Результат желудочного кровотечения. Я перевожу вас на щадящую диету. И назначаю другое лекарство. — Он помедлил. — Сегодня днем введем еще две унции здоровой крови. У вас болезнь Верльгофа, миссис Бэбкок. — Он произнес это имя так, будто говорил о каком-то римском божестве. Миссис Бэбкок серьезно кивнула. Этот белобрысый молодой человек годился ей в сыновья. Довольное выражение лица, когда он произносит медицинские термины, забавляет ее. Как часто она видела в нем своих детей! С таким же важным видом Карл как-то показывал, как научился вязать скаутский узел. Она внимательно смотрела, заставляя себя интересоваться этими колышками и петлями, задавала вопросы и слушала обстоятельные ответы. Он стал демонстрировать свое мастерство, но веревка порвалась и упала. Карл покраснел и смутился. Потом тайком заглянул в записную книжку и сказал, что сделал это специально, чтобы показать, как не надо вязать узел. Конечно, лучше бы рядом был доктор Тайлер. Они через многое прошли вместе: роды, смерти, менопаузу, ангины, поносы, депрессию. По крайней мере, он был человеком одного с ней уровня. Даже если он не знал, что делать, возраст и опыт позволяли ему найти выход. — Молодой человек, — спросила она, — и все-таки: насколько опасно я больна? Он выпрямился и опустил стетоскоп. — Гм-м-м… Вы достаточно больны, чтобы лежать здесь. Согласны? — Я могу умереть? — Я бы не сказал, но… — он откашлялся. — Никто не живет вечно. — И вышел из палаты. Миссис Бэбкок услышала, как он налетел на кого-то и дал волю своему раздражению. — Бегают тут всякие… — долетело до нее. Что с ней происходит? Уэсли умер от сердечного приступа на полу своего кабинета. Через два месяца у нее началось кровотечение из носа, продолжавшееся несколько часов. Доктор Фогель сделал анализ крови и прописал преднизолон. Через неделю она ушла из больницы. Спустя три месяца все повторилось. Три недели назад из носа снова пошла кровь. Лекарство не помогало. Ей сделали переливание крови и новые анализы. Теперь он надеется на новое лекарство. Что же с ней происходит? Почему он обращается с ней как с ребенком? В палату неуклюже вошла Джинни. В застиранной футболке с надписью «Яблочное вино Бун» и каком-то полукомбинезоне. Где она это откопала? Миссис Бэбкок закрыла глаза и вздохнула. — Извини, мама, если тебя это раздражает, — мрачно сказала Джинни, — но это единственное, что у меня есть. — Бедняжка! Я понимаю, трудно сводить концы с концами всего на восемь тысяч долларов в год! — Она снова вздохнула и заставила себя не обращать внимания на наряды Джинни. Ее всегда удивляло, как быстро изменяются дети физически. Будь ее воля, она оставила бы всех в возрасте пяти лет. Она обожала их маленькие тела в этом возрасте. Никогда потом им не требовалось от нее столько помощи, никогда не случалось столько несчастий. Они танцевали под пластинки, и от их трогательного, грациозного вида у нее невольно текли слезы. Они цеплялись за ее колени, требуя успокоить и поцеловать. К сожалению, дети быстро росли. Пошли в школу и стали отворачиваться от ее объятий; старались все делать сами и не искали спасения у нее на коленях. Голоса мальчиков стали ломаться, они превратились в неуклюжих хвастливых подростков. У Джинни началась менструация, развились бедра и грудь. Они — ее дети — могли точно так же, как родители, испытывать желание и страсть, у них могли появиться собственные дети, на которых они будут смотреть, ожидая, что те станут лучше родителей. Особенно тяжело переносил Уэсли выходки Джинни, когда она стала бегать на свидания и возвращаться с размазанным макияжем. Он говорил, что она напоминает ему поросенка, которого нежно растили все лето. А когда они увидели Джинни в больничной палате после падения с мотоцикла мальчишки Клойда?! Страшно вспомнить! Ободранную, в кровоподтеках, как недожаренный ростбиф… Миссис Бэбкок старалась не думать, кто и что делает с оформившимся телом Джинни, телом, которое она одновременно любила и ненавидела. Ради душевного спокойствия Джинни она старалась вести себя с ней величественно-безразлично. В конце концов, это чувство собственности просто смешно. Теперь у Джинни свой ребенок. Интересно, любит ли она свою дочь, как любила ее в детстве мать? Купания, пеленания, кормления, лечение… Разве могла она ожидать, что Джинни вырастет и станет чужой? Не способной думать ни о ком, кроме себя. Иначе она не явилась бы в этом дурацком комбинезончике. Джинни с удивлением смотрела на эту сварливую, зациклившуюся на ее внешнем виде женщину. — Ты сегодня плохо выглядишь, — сказала она, не отрывая глаз от огромного синяка. По правде сказать, Джинни было обидно за мать. — Еще бы! Извини, но я не могу так просто взять и умереть, чтобы избавить тебя от нотаций. — Мама! Ради Бога! — Джинни, я попросила бы избавить меня от твоих замечаний. — Миссис Бэбкок сама испугалась своего эгоизма. Когда она была ребенком, считалось само собой разумеющимся, что дети во всем уступают родителям, ждут их, помогают по дому: но когда стала матерью и была вправе рассчитывать, что пришла ее очередь, мода переменилась, и от родителей снова требовалось уступать. Все перепугалось… Но самое интересное: с тех пор, как приехала Джинни и миссис Бэбкок смогла дать выход своему раздражению, исчезла ее депрессия. Раньше, если дети огорчали ее, она обвиняла себя: не сумела их воспитать. Она все глубже погружалась в черную мглу самобичевания, пила таблетки доктора Тайлера и валялась дома, остро чувствуя свою никчемность. А теперь, когда повод действительно появился, депрессия исчезла. — Расскажи о себе, дорогая, — стараясь быть вежливой, сказала она. — Что ты делала этот год? Джинни скривилась. — Я видела Клема Клойда. — Пожалуйста, не говори мне о нем. Этот тип чуть не убил тебя. — Он изменился. — Волчонок всегда останется волчонком, даже если живет среди людей. — Он правда изменился, мама. Он теперь семейный человек. У него жена, трое детей. — Ну и что? У Аттилы тоже были дети. — Клем стал очень ответственным, мама. Ему больше не нужны смертельные трюки. Папа говорил, что он — отличный фермер. — Да, говорил. — Ты знаешь, что он проповедует? — Мы говорим об одном и том же Клеме Клойде? — Я сказала, он очень изменился. — Поверю, когда сама увижу. Чего никогда не будет. — Ладно. Он много расспрашивал о тебе. Очень беспокоится. — Что слышно от Айры? — Немного. Он очень занят в это время года — продает велосипеды. (Неужели невозможно признаться собственной матери, что Айра выгнал ее и что она совсем ничего не знает ни о нем, ни о Венди? Она позвонила им вечером, но никто не ответил. Ей очень хотелось спросить у матери, что делать. В конце концов, зачем человеку мать? Но она заранее слышит ее ответы: «Секс вне брака — вульгарен», «Детям нужна мать», «Ты должна исполнять свой долг». Но скорей всего, мать оборвет ее исповедь на первой же минуте.) Они сидели молча. Джинни пыталась решить, стоит ли говорить о кровоизлиянии в мозг? Предупредить ли мать об опасности мгновенной смерти? Готова ли она? Если нет, как подготовить? Нет, это ужасно — знать, что в любую минуту твой мозг затопят гейзеры крови. Две женщины обменивались натянутыми улыбками. Молчание затянулось, но разве они не молчали и раньше годами? — По-моему, нужно позвонить Карлу и Джиму, — как бы невзначай сказала Джинни. — Зачем? — Пусть знают, что ты в больнице. — Не вижу необходимости. Я ведь не умираю. По-моему, я и тебе раньше не сообщала. — Да, не сообщала. Но я предпочла бы знать. Почему ты должна всегда страдать в одиночестве? — А какой смысл в том, чтобы кого-то расстраивать? Ты бы только испугала меня, Вирджиния Бэбкок Блисс. Так что, пожалуйста, не звони им. Я сама напишу в следующем письме. — Обещаешь? — Да. Но, честно говоря, я не понимаю, почему это тебя так волнует. — Только потому, что ты всегда слишком скрытна. — Я? Мата Хари называет меня скрытной? — Ладно, будь по-твоему. Но ведь мы — семья и должны быть во всем заодно. Согласна? Слово «заодно» насторожило миссис Бэбкок. Этот штамп сплошь и рядом звучал в телевизионных ток-шоу. — Действительно, мы не «заодно», — ответила она. — Но согласись: это одна из немногих оставшихся мне радостей. Джинни фыркнула: мать бывает забавной. — Ну, ну, продолжай, мама. Обрати все в шутку. — Согласись, дорогая, — снисходительно кивнула миссис Бэбкок, — что заодно нужно быть в особо сложных обстоятельствах. И хватит об этом. — Ну что ж, — вздохнула Джинни. Кровоизлияние в мозг, ее разбитая семейная жизнь… Наверно, это не настолько сложные обстоятельства. — Пойду поищу Фогеля, — встала она. — Хочу спросить о сегодняшнем переливании. На самом деле ей нужно расспросить его о желудочном кровотечении матери. Она вошла в лифт, чтобы спуститься в лабораторию, и увидела в углу маленькую лужицу запекшейся крови. Лифт остановился, но Джинни не тронулась с места. Ее мутило, но вид крови словно пригвоздил к себе. Чья это кровь? Здоровая или больная? Какое у нее время свертывания? Сколько тромбоцитов? Какая группа? Под пристальным взглядом лужица, казалось, ожила и запульсировала. Такая же кровь, как у всех, выполняющая те же функции, — и все же другая. Нет одинаковых снежинок или отпечатков пальцев, и кровь у каждого — своя, особенная. — Мисс? — нетерпеливо спросил кто-то в белоснежном халате. — Простите. В безликой лаборатории, выкрашенной в зеленый цвет, никого не было. Джинни толкнула какую-то дверь и увидела за микроскопом доктора Фогеля. Рядом стояла центрифуга и подставка с пробирками. Время от времени доктор делал торопливые записи на желтом бланке. — Доктор Фогель? Он поднял голову. — Извините, мисс Бэбкок. Я очень занят. Передайте все, что хотели сказать, моему секретарю. — Его нет. Скажите, помогло ли переливание? — Трудно сказать. Результат такой, как мы ожидали: уменьшилась анемия, приостановилось кровотечение. Но тромбоцитов всего двадцать пять тысяч в кубическом миллиметре. — А норма? — Хотя бы сто тысяч. — Можно, я посмотрю? — Ну, не знаю… Это запрещено, мисс Бэбкок. И ваше присутствие здесь… Она заглянула в микроскоп: на разделенной на квадраты сетке маленькие прозрачные тельца. Тромбоциты мамы? Или ее собственные? Доктор внимательно изучал на свет какую-то пробирку, сравнивая с другой. — Что вы делаете? — Проверяем кровь вашей мамы на антитела, чтобы знать, как повлияло переливание на иммунную систему. Нужно назначить новое лекарство. — От чего? Он удивленно посмотрел на нее. — От депрессии, конечно. Конечно? Она вздрогнула. О депрессии говорил доктор Тайлер. Теперь Фогель. Что может так угнетать ее мать? Смерть мистера Зеда? Смерть майора? Или разочарование в детях? Она почувствовала себя виноватой. Чего бы ни ожидала от своих детей мать, она этого не получила. Иначе не говорила бы так о Карле и Джиме — снисходительно и вздыхая. И о Джинни она говорила бы с ними точно так же. Наверное, мать права: только в очень сложных обстоятельствах ее дети могли быть с ней заодно. — Ну, вы убедились, что все под контролем? — Хотелось бы верить… Но все-таки, доктор, насколько опасно она больна? Он покраснел и отвел глаза. — Мисс Бэбкок, вы спрашиваете так, словно я должен дать ответ по десятибалльной шкале. Не могу. Меня учили спасать человеческие жизни. Я делаю все, что могу. — Он склонился над своим микроскопом. Джинни снова не получила ответа. В лоджии спорили мистер Соломон и сестра Тереза. Джинни тихонько села в уголке и стала смотреть, как обедает мать. — …Видите ли, сестра, в человеке нет ничего, что заслуживало бы продолжения после смерти. Неужели вы хотите загробной жизни? Это бессмысленно. Мы — испорченные существа, недостойные жить. — Мистер Соломон, — теребя медальон, терпеливо сказала сестра Тереза. — Не понимаю, как вы до сих пор живы. Вы не понимаете, что Господь уважает нас и поддерживает, несмотря на всю суету и бренность. Неужели вы сердцем не чувствуете эту поддержку? Когда вы видите солнечный свет, заливающий луга и предгорья, неужели не чувствуете здесь, — она прижала руку к своей впалой груди, — что хотите вы того или нет, но Бог — на своем небе, и в мире все в порядке? Поверьте мне, мистер Соломон. Он есть. — Нет, сестра, — он похлопал себя по груди. — Я не чувствую этого. По-моему… — Прекратите! — Тарелка с молочным супом полетела на пол. — Вы можете оба заткнуться? Тарахтите, тарахтите об одном и том же. Вы даже не слышите друг друга! — Миссис Бэбкок встала и с шумом отодвинула стул. — Единственная, у кого здесь есть здравый смысл, — миссис Кейбл. Джинни подскочила, взяла мать за руку и вывела в коридор, предоставив другим убирать разлитый суп и осколки тарелки. — Мама… — Ни слова! Ни слова больше! Что-то произошло. Коридор вытянулся в несколько миль. Она шаркала, опираясь на руку Джинни, и не понимала, куда и зачем идет. Ей было все равно. Она легла на кровать и задремала. Странное ощущение. Не усталость, не депрессия — с ними она хорошо знакома. По сравнению с этим новым состоянием депрессия казалась самой энергией. Из нее словно ушли все силы. Мозг окоченел. Единственной эмоцией, если это можно назвать эмоцией, было полнейшее равнодушие. Это смерть? Она приподняла безжизненную руку: темно-красные, черные, зеленые кровоподтеки. Эта комичная рука — ее? Ради Бога, что за суета вокруг? Палату застилал туман. Вокруг сновали люди, что-то делая с ее жалким телом. Жужжат, жужжат, как растревоженные пчелы… Она хотела сказать, чтобы ее оставили в покое, но не смогла. Прибежал доктор Фогель, осмотрел ее и обернулся к Джинни. — Ничего страшного. Органы чувств функционируют. Может быть, она просто устала. Лежа с трубкой, по которой из ее вены в тело матери текла кровь, Джинни смотрела «Западную хронику». Два красавца холостяка выполняют невозможно сложную операцию, вырывая из когтей смерти маленького мальчика, и одновременно отпускали шуточки, цитировали Шекспира и флиртовали с хирургическими сестрами, умудрявшимися даже в строгих белых халатах и шапочках выглядеть соблазнительно. Постепенно ею овладело полнейшее равнодушие. Как будто она заразилась от матери… Ее не интересовали ни молодые хирурги, ни больная мать, ни Айра, ни Венди. Невероятное напряжение последних недель, казалось, дошло до предела, за которым она уже ни на что не была способна. Никаких эмоций. Так они и лежали — мать и дочь, — окутанные океаном равнодушия. В палату входили люди, отмечали что-то на карточке, поправляли подушки и выходили. По телевизору показывали «Бой часов»: лохматая женщина в желтом плаще старалась удержать на лбу пакет с молоком, летая по сцене на скейтборде, пока огромные часы отстукивали призовые деньги. — Выключите телевизор, пожалуйста, — попросила Джинни. Они — мать и дочь — лежали и слушали, как все медленней тикают на прикроватной тумбочке их фамильные часы. Джинни не понимала: то ли они стали отставать, то ли у нее заложило уши. Ей было все равно. Наконец часы остановились совсем. Джинни с трудом добралась до особняка. В ящике лежало письмо; на конверте почерком мисс Хед было написано: «Вернуть отправителю». Письмо даже не распечатывали. Джинни равнодушно сунула его в карман, прошла мимо таблички «Продается» и направилась в дом. Ее спальня наверху осталась точно такой, как и девять лет назад. Двуспальная кровать под балдахином, туалетный столик, высокий комод в стиле королевы Анны. Мать много раз советовала ей разобрать свои вещи. «Зачем? — огрызнулась Джинни. — Ты собираешься взять жильцов? Что тебя не устраивает?» Как бы то ни было, всякий раз, приезжая домой, Джинни собиралась навести в комоде порядок, и каждый раз понимала, что не сможет ни с чем расстаться. Программки соревнований в Халлспортской средней школе за 1960–1962 годы; ярлычки от бюстгальтеров; детские каракули Джо Боба — список трахающихся пар; поеденная молью форма чиэрлидера с девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться»; лента с фестиваля табачных плантаций; наплечники и закрывающий лицо шлем; комиксы про дядюшку Скруджа… Джинни почему-то всегда была уверена: стоит ей все это выбросить — и мать обязательно пустит жильцов. У этой уверенности не было оснований, но Джинни всегда считала этот старый особняк своим домом, а комнату — своей комнатой. Не каменный дом Блисса в Вермонте, не мансарду в Уорсли, не квартиру или флигель в Старкс-Боге. Прошлое реальней настоящего. Но в этот день Джинни без всякого сожаления вытащила все из комода, связала в узел и отнесла в контейнер для мусора. Когда-то она мечтала, что будет жить в этом доме с Венди, что ее комната станет комнатой дочки и та тоже будет собирать в комод всякий хлам. Но теперь она понимала, что этого никогда не будет. Настало время избавить себя от прошлого. Она вернулась в хижину, равнодушно достала из холодильника липкую массу, скатала шарики и покормила птенцов. Если они умрут — так тому и быть. Ей все равно. Она легла на широкую двуспальную кровать, на которой когда-то родилась, и закрыла глаза. Ни чувства вины, ни удовлетворения, ни страдания — ничего. Даже нет ожидания будущего.Миссис Бэбкок проснулась совершенно разбитая. Тело зудело, будто искусанное пчелами. Какой страшный вчера был день! Она вспомнила свое состояние — наверное, то же чувствуют люди перед тем, как замерзнуть: примиряются со смертью и перестают бороться за жизнь. Она никогда не покинет это ужасное место. У нее еще много дел: поблагодарить за цветы, докончить вышивание, прочитать последний том энциклопедии… Она встала и подошла к окну. По веткам деловито сновали рыжие белки. Какая красота! Тампоны не пропитались кровью, подклад между ног тоже чист. И кровь свернулась — стремительная мисс Старгилл сделала анализ — всего за шесть минут. Переливание снова помогло! Она завела часы — не на восемь оборотов, а до конца. Вчера они отставали. Удивительно, как по-разному течет время. Как пробегали когда-то летние каникулы! Время меняется с возрастом людей. Почему? Она не знала. Часы молчали. Что случилось? Может быть, мистер Соломон… Она вспомнила сцену в лоджии и ужаснулась. Как она смела накричать на него и сестру Терезу, страдающих, может, даже умирающих? Они имеют право говорить о чем угодно. Конечно, нелепо рассуждать, есть Бог или нет, но если им это нравится? В конце концов, можно и не ходить в лоджию. Она с невесть откуда взявшейся энергией пошла к мистеру Соломону и извинилась. Потом — к сестре Терезе. — Пожалуйста, не извиняйтесь, миссис Бэбкок. Я все понимаю. Иногда нелегко понять деяния Господа. Для верующих смерть — продолжение жизни, а для тех, кто не верит, жизнь полна абсурда и мучений. Миссис Бэбкок серьезно кивнула и решила не отвечать. Что бы она ни сказала, прозвучит слишком легкомысленно и цинично по сравнению с такой высокопарностью. Если бы ей пришлось выбирать между ними двумя, она предпочла бы нигилизм мистера Соломона. К счастью, ей незачем выбирать. Она возьмет для себя у одного и у другого то, что облегчит ей муки, когда придет ее час.
Джинни открыла глаза. В окно било солнце; она лежала, одетая, на кровати. Значит, в этом дурацком оцепенении она провалялась весь вечер и ночь? У нее столько дел! Рубить куджу, кормить птенцов… В лекциях по психологии это называлось эгоцентризмом. Она вскочила и подбежала к птенцам. Они пищали и царапались в своей корзине. Странно, что они не умерли с голоду. Она принесла еду и стала их кормить. На нее сердито смотрели черные глазки-бусинки, а крошечные горлышки конвульсивно дергались, глотая шарики. Она капнула в них воды и закрыла крышку. С таким же любопытством, как когда-то в книгу доктора Спока «Ребенок и уход за ним», она углубилась в книгу Бердсалла. Почему они пищат? От голода или просто потому, что маленькие? Бердсалл не выдавал своих секретов. Она вспомнила, как когда-то ждала, что ее осенит и наконец она поймет теорию Эйнштейна, и отложила книгу. «Лучше убить», — советовал автор. «Нет, — проворчала она. — Кто, к черту, был этот Вильбур Дж. Бердсалл? Сидел в своей лаборатории в Чикагском университете, за много миль от настоящей жизни птиц! Что он мог знать? Вполне возможно, что он ошибся в отношении пищеварения стрижей. Птенцы вполне переварили смесь гамбургера и тунца. Их не вырвало. Может, дело в страшной действительности? Они понимают, что здесь не лаборатория профессора Бердсалла? Нужно побороть преклонение перед авторитетами и доверять собственным глазам». Если верить Бердсаллу, птенцам пора летать. Окрепли ли уже их мускулы? Достаточно ли выросли крылья? Вдруг они упадут и разобьются? Нужно проверить. Она предоставит им свободу прежде, чем они привыкнут во всем полагаться на нее. Она заставит их летать, находить семена и строить гнезда. Может, вся информация заложена в их генах? Нужно спешить, пока их инстинкты не притупились. Она открыла корзину, извлекла на яркий свет отчаянно запищавшего птенца, осторожно расправила ему крылышки и подбросила вверх, как конфетти. Он прижал к бокам крылья и тяжело, будто черная пуля, упал в куджу. Джинни вытащила второго и повторила свой опыт. По ее теории — не зря же она играла в футбол! — развитие зависит от необходимости. Она подбросила обоих птенцов еще раз и со вздохом вернула в корзину. В кармане шелестело письмо. Ей стало больно: мисс Хед, которую она любила — да, любила, что бы ни подразумевалось под этим словом, — и которая тоже по-своему любила ее, не хотела иметь с ней дел. Джинни знала, что поступила скверно. Мисс Хед делилась с ней всем, что имела, а Джинни отплатила ударом. Если мисс Хед недостаточно семи лет, чтобы простить ее, значит, она уже не простит никогда. Джинни легла на кушетку и позволила себе роскошь выплакаться. Слезы были солеными, как кровь. Она успокоилась, вытерла слезы и вышла из хижины. Пора ехать к матери. У особняка она остановила джип и по заросшей сорняками лужайке прошла к зарослям магнолий. Лицо утонуло в лепестках душистого кремового цветка. Этот аромат сопровождал ее жизнь в Халлспорте; он витал на танцах в средней школе, на фестивалях и праздниках: главным украшением всегда были эти роскошные цветы. Она сорвала два цветка и бережно положила в машину. Потом торопливо подошла к мусорному контейнеру, решительно вытащила все, что выбросила вчера, и перенесла в свою старую комнату. Как обрадуется Венди книжкам про дядюшку Скруджа, думала она, укладывая все точно в таком порядке, как оно лежало до ее глупого вмешательства. Она расскажет своей очаровательной дочке обо всем — почти обо всем, — что делала и о чем мечтала в детстве. Эту комнату она отдаст Венди. Джинни достала из книжного шкафа свою любимую потрепанную книгу: на мятых страницах были нарисованы животные со своими мамами: счастливые ягненок и овца, жеребенок и кобыла, поросенок и свинья. Потом запечатала книжку в большой коричневый конверт и написала адрес Венди. …В больнице она застала мать, пишущей письмо. Глаза блестели, лицо выглядело не таким одутловатым. — Привет, — сказала она и улыбнулась. — Привет! — Джинни наполнила банку водой и поставила цветы на тумбочку. Она была очень довольна, что догадалась проявить инициативу. — Спасибо, дорогая, — удивленно поблагодарила мать. — Они чудесны. — Правда? — Хотела бы я их понюхать! — Понюхаешь, не успеют и завянуть, — успокоила ее Джинни. Мать безмятежно кивнула. Кто-то оставил мамину амбулаторную карточку. Джинни открыла последнюю страницу: тромбоциты — сто десять тысяч единиц в кубическом миллиметре, время свертывания — шесть минут. — Фантастика! — Да, конечно. Я чувствую себя так, будто все страшное позади. — Ну-ну, не сглазь! Смотри-ка, часы идут! Они ведь вчера отставали? — Не помню. Мистер Соломон что-то сделал с пружиной, и все в порядке. Знаешь, он — удивительный человек. Почти ослеп из-за своей катаракты, но правильно поставил «диагноз» и починил часы. Сказал, что они изумительные. Немецкие. Не представляю, как расстанусь с ними. Они достались мне по шотландско-ирландской линии в нашей семье. — Я знаю. А те часы — в холле — по-моему, голландские? — Да. Но я не думала, что ты слушала мои рассказы. — Рада была бы не слушать, мама. Ты столько рассказывала о своих предках, что хочешь не хочешь, все запомнишь. — По-моему, это неплохо. — Это по-твоему. — Это была не моя инициатива. Вы, дети, вечно заставляли показывать вам фотографии и рассказывать, как они жили и умерли. — Мы? Ты единственная тряслась над своими предками и упражнялась в некрологах и расписаниях похорон. — Прости, дорогая, но ты ошибаешься. Вас — особенно тебя — постоянно преследовали обиды, падения, ожоги. Я не знала, как уберечь тебя и что делать или не делать, чтобы воспитать в тебе храбрость и одновременно осторожность. В конце концов я пришла к выводу, что ты такая неприкаянная потому, что отец оставил тебя в двухмесячном возрасте и ушел на войну. Ты слишком рано стала самостоятельной. — Я помню все иначе. Помню, как ты всего боялась. «Береженого Бог бережет», «Ты упадешь с мотоцикла, дорогая, и на тебя наедет другой мотоцикл», — передразнила Джинни. — Тебя всегда очень интересовала смерть, — продолжала мать. — Ты задавала массу вопросов: «Почему человек умирает?», «Почему Бог допускает это?», «Умрет ли он?», «Есть ли у него жена и дети?», «Умру ли я?», «Когда умрете вы с папой?», «Что будет со мной, когда я останусь одна?», «Достанется ли мне папина машина?» И так без конца. В конце концов нам с папой становилось смешно, а ты плакала и обвиняла нас в том, что нам все равно, умрешь ли ты. Ты помнишь, как уговаривала меня раскопать тела кошек, собак и птиц, которых мы хоронили в углу двора? Ты хотела увидеть, что с ними стало. — Нет, мама, — недоверчиво покачала головой Джинни. — Нет. Это ты твердила о смерти. Ты ночи напролет сочиняла эпитафии и некрологи. И каждое лето таскала нас на кладбище приводить в порядок могилы. — Не преувеличивай, дорогая. Конечно, меня все это интересовало, но что здесь необычного? Люди хотят быть уверенными, что их желания в точности выполнят, и возвращаются к этому, если что-то изменится. В конце концов, близкие могут растеряться, столкнувшись со смертью. Откуда у тебя эти странные мысли? — Не знаю… А надгробные памятники? Признайся, что ты таскала нас черт знает на сколько могил! — Я бы не сказала, что их было много. Памятники больше интересовали меня с художественной точки зрения. Кто из них прав? Почему они помнят об одном и том же так по-разному? — Что с твоими птенцами? Они еще живы? — Да. Я их покормила. Я нашла ту книгу. Ее написал Бердсалл. Он советует убить птенцов, если найдешь. Я накормила их гамбургерами, и они до сих пор живы. — Странно… — хмуро ответила миссис Бэбкок. — Конечно. Но мне пришло в голову, что то, что происходит в лаборатории, отличается от реальной жизни. Бердсалл пишет, что они едят только пережеванную родителями пищу, но моим птенцам придется научиться переваривать другую еду. Похоже, они ее усваивают. Ты согласна? — Конечно. Попробуй дать им яблоко. Натри на терке. Я читала в энциклопедии. После обеда они снова смотрели «Тайные страсти». — И на что нам это нужно? — снисходительно улыбнулась мать. — Подумать только, сколько классики я не прочитала! — Мы все на этом крючке. — Да. Но мне действительно неинтересно, что случится с этими персонажами. — Ну, ну, мама. В душе мы с тобой бессовестные сплетницы. — Что ж, притворимся, что нам просто любопытно, почему миллионы американок каждый день приникают к телевизорам. — Ладно. В этот день серия была покороче. Фрэнк обнаружил, что отец его ненаглядной дочки — двоюродный дядя зятя его жены и что она до сих пор встречается с ним и принимает от него подарки. В душещипательной сцене он выгнал Линду из дома и запретил видеться с дочкой. У Джинни внутри все оборвалось. — Знаешь, — сказала она во время рекламной паузы, — я возмущена. По-моему, этот Фрэнк прекрасно знал, что Марти — не его дочь. — Откуда? Ему это и в голову не приходило. — А тебе не кажется, что он переборщил с Линдой? — Почему? — Неужели секс — самое главное? Стоит ли так суетиться? Миссис Бэбкок задумчиво посмотрела на дочь. — Секс вне брака вульгарен, дорогая. Джинни не успела возразить: фильм продолжился, и они замолчали. Целых полчаса Фрэнк пытался объяснить своей трогательной дочурке, что ее мама уехала навсегда. Джинни до слез тронули детская недоверчивость и страдания, тем более что она знала из психологии: ранняя утрата любящей матери предрасполагает человека к депрессии в зрелом возрасте. — По-моему, — грубо сказала она, — ребенку в этом возрасте плевать, кто его настоящие родители. — Детям необходима мать, — ответила миссис Бэбкок. — Черт побери! И не только одним детям! — крикнула Джинни. Вечером она направилась по знакомой тропинке в летний домик. Она шла рядом с Клемом, Максин — сзади. Снаружи домик ничуть не изменился. Дверь была заперта на замок и цепочку, но теперь над ней висела вывеска «Святой Храм Иисуса». У двери толпились человек шесть. Джинни никого не знала. Скорей всего это были фермеры с окрестных ферм. Они были одеты в отутюженную темнозеленую рабочую одежду и аккуратно причесаны. Некоторые принесли инструменты в футлярах. На женщинах были пестрые платья, носочки и платки. К Клему и Максин они обращались с почтением: «Сестра Клойд», «Брат Клойд». С тех пор, как сгорела ферма Свободы, Джинни не слышала, чтобы люди так называли друг друга. Брат Клойд представил ее как своего старого друга. Она поняла: он верит, что она не расскажет «сестрам» и «братьям», чем занимались они на полу Святого Храма почти десять лет назад. Сегодня Джинни принарядилась: надела свое крестьянское платье и даже намочила волосы в тщетной попытке немного их пригладить. На каменном полу в несколько рядов стояли грубые скамьи, а перед ними — помост. Мебель была та же — Клем сделал ее в детстве, — но книжные полки заставлены не душещипательными романами, а потрепанными сборниками церковных гимнов. Маленький столик, на котором она сидела перед отъездом в Уорсли, превратили в алтарь, накрыв белой скатертью с бахромой. Над ним на стене висел простой деревянный крест. По каменному желобу все так же струилась прохладная вода. Джинни села в последнем ряду и постаралась не привлекать к себе внимания, хотя на нее и так никто не смотрел. Она не переставала удивляться Клему. Дело даже не в его выздоровевшей ноге; она помнила его угрюмым, патологически грубым, а теперь он стоял в дверях домика и приветливо улыбался прихожанам. Совсем другой, уверенный в себе человек, уважаемый фермер, отец семейства, пастырь своей паствы. Джинни знала, что люди меняются, но чтобы до такой степени? Клем — пример того, что для человечества еще не все потеряно. Трое мужчин достали гитару, контрабас и барабаны. Кто-то благоговейно поставил на алтарь большой черный ящик. Собралось человек двадцать. Максин стояла на помосте — точно так же, как стояла много лет назад в «Ведре крови» и пела «Когда моя боль обернется стыдом»… В свете керосиновых ламп поблескивал затерявшийся между огромными грудями крестик. Постепенно песню подхватили все. Прихожане прихлопывали, пританцовывали и даже кричали под музыку «Да, Господь!» и «Любимый, любимый Иисус!» Ритмичные хлопки словно загипнотизировали Джинни. Она тоже начала подпевать и хлопать, и совсем не из вежливости. Сначала просто не хотела обидеть Клема и Максин, но потом и ее захватил наэлектризованный поток эмоций. Женщина рядом упала на пол, судорожно задергалась, что-то забормотала, но Джинни не испугалась. Она пела и хлопала с тем же восторгом, как и все остальные. На помост поднялся Клем и запалил фитиль, торчащий из бутылки с керосином. — Господь повсюду в океане, Господь повсюду в мире, Господь во мне… Стоило Клему заговорить, как все стихло. — Помните, братья и сестры, — спокойно сказал он, — только вы — помазанники Божьи. Нельзя иначе истолковать знамения, чем так, как истолковываем мы. Дьявол прячется здесь и ищет возможность обмануть вас. Не ошибитесь! Не лишайте себя Божьей милости! Он медленно провел пальцами по пламени и протянул бутылку зрителям. Тот, кто поставил ящик на алтарь, вышел вперед, взял бутылку и тоже провел по пламени рукой. И передал дальше. Клем неспешно подошел к черному ящику, открыл его, запустил руку и вытащил змею. Джинни ахнула. Даже с последнего ряда ей было видно, что это — покрытый темно-коричневыми пятнами щитомордник. И Джинни, и Клем, как любое дитя юга,выросли в страхе перед этими змеями. Из-за защитной окраски их трудно было увидеть в траве, а в отличие от гремучих змей, они не предупреждали о нападении. Майор считал своим долгом исподволь внушать детям страх перед щитомордниками, поэтому даже в Вермонте, где для них слишком холодно, Джинни внимательно осматривала каждый подозрительный холмик. Майор научил ее делать ножом Х-образный надрез, чтобы высосать яд. Она перестала хлопать и с ужасом смотрела, как Клем поднес щитомордника к своему лицу, повернул мизинцем его головку, и они пристально уставились друг другу в глаза. Джинни не сомневалась, что змея укусит Клема в щеку. Она вцепилась руками в скамейку и мысленно проверила память: помнит ли, как делать надрез… Все вокруг вели себя совершенно спокойно. Кто-то водил пламенем по разным частям своего тела, кто-то тихонько пел. Клем передал змею дальше, а сам опустил руку в черный гадючник и вытащил вторую змею. Так продолжалось, пока пять щитомордников и две гремучие змеи не прошли круг: все, кроме Джинни, подержали их в руках. Постепенно все щитомордники вернулись к Клему. Двух он держал в руках, две обвили его предплечья, а пятая повисла на шее. Одна гремучая змея спокойно лежала на Библии, вторая — на помосте, и он гладил ее ногой в одном носке. Клем что-то сказал, и музыка стихла. — Говорят, такое может быть только под музыку, — негромко начал он. — Говорят, ее ритм гипнотизирует змей. Но музыка смолкла, друзья. Господь делает то, что хочет Он и когда хочет Он. Я не приручал этих змей. Это Господь. Он сейчас среди нас. Он в любую секунду может убить меня, выпустив дьявола в змеином обличье. Но Он не делает этого, чтобы через меня показать вам свою власть на Сатаной. Джинни нервно огляделась, уверенная, что увидит Бога. — Эти змеи беспощадны, — продолжал Клем. — Не обманывайте себя, братья и сестры. Они могущественны, но не так, как Господь! Смотрите же на могущество вашего Бога! Он поднял змей над головой. Джинни стало плохо. Клем сунул всех змей в большой черный ящик и запер его на замок. — Эти знамения, — подытожил он, — свидетельствуют об истинности веры; моим именем вы изгоняете дьявола. Перед вами — доказательства присутствия Господа. Он исцелит ваши души и ваши тела… Домой они возвращались молча. Первым не выдержал Клем: — Ну, что ты об этом думаешь? — Не знаю… Поразительно! Не знаю, что и думать! — И не думай! А что ты чувствовала? — Чувствовала? Я испугалась. Я очень боюсь щитомордников. — Мы тоже. Верней, раньше боялись. Но, Джинни, неужели ты не почувствовала присутствия Господа, усмирившего змей? — Не знаю, — тщетно попытавшись вспомнить хоть одно из доказательств Его присутствия, честно призналась Джинни. Конечно, сейчас самое время перейти в другую веру. Она жестоко разочарована в личной жизни: все, кто были ей дороги, или обманули ее, или были обмануты ею. Но если поторопиться, будешь всю жизнь носить на шее вместо бус самого красивого щитомордника. — Джинни, — горячо сказал Клем. — Десять лет назад я чуть не убил тебя. Я был бы счастлив наставить тебя на путь истинный и научить жить во Христе. Она отвела взгляд от черных умоляющих глаз. — Не знаю, Клем. Ей хотелось остаться одной и разобраться во всем. И прежде всего в том, что Клем служит не Богу, а Смерти. Может, он снова хочет подчинить ее своей воле? — Подумай. Приходи, когда примешь решение. Решение? Какое решение? Это выше ее понимания — доказывать существование Бога подобными методами. Конечно, что-то во всем этом есть. Подросшая нога Клема, смирные змеи, пламя, которое не обжигает… Но самой иметь дело со щитомордниками? Это не для нее.
Глава 11
Счастливый брак. — Я просто смотрел и не верил, что она уходит. Боже милостивый даже не предупредила! Я считал: все отлично. И мысли не допускал, что она несчастлива. — Айра нахмурился и глубоко затянулся сигарой. Он рассказывал о том, как распался его брак с женщиной из Нью-Джерси: они познакомились, когда он учился на последнем курсе университета в Монтпильере. — Но почему она была несчастна? — Я сочувственно смотрела в обиженное, загоревшее под зимним солнцем лицо. — Я спросил об этом. Она возмутилась, потому что мне и в голову не приходит, что она может быть несчастна! Я, оказывается, эгоист, и ее от меня тошнит! Я до сих пор не понимаю, в чем дело. По-моему, мы были счастливы. — А потом? — Она ушла. — И ты не окликнул? Не вернул ее? Не ударил? — Я? — Конечно ты. Скорей всего, она именно этого и хотела. — Хотела?! — в замешательстве повторил он. — Но я не такой, Джинни. Мне просто нужна спокойная, ласковая женщина, встречающая меня после трудного дня. Я очень одинок в этом пустом огромном доме. После суеты переполненного флигеля ничто не могло быть для меня притягательней, чем пустой огромный дом. Я нежно улыбнулась Айре. Через месяц после моего появления в его доме мы поженились. Церемония состоялась на бобровом пруду. Он надел свой лучший черный костюм, а я, решив, что белое будет слишком торжественным, купила темно-лиловый. Священник облачился в темно-синий костюм, как и лучший друг Айры Рони Ламорекс. Сестра Айры Анжела, одетая во все бледнозеленое, пела песню из «Доктора Живаго». Айра хотел надеть мне обручальное кольцо, но я схватила его и опустила в карман, вспомнив искалеченный палец майора. Айра страдальчески скривился, губы дрогнули, но тактичный священник спас положение, дав мужу знак поцеловать жену. На опушке леса стояли на лыжах Этель и Мона. Я пригласила их, и только из сострадания к заблудшей сестре они согласились прийти. Я хотела, чтобы церемония положила начало примирению горожан и «соевых баб». Решила, так сказать, принести себя в жертву. Но Мона и Этель считали мой поступок предательством памяти Эдди. И все же, когда мы с Айрой сели в его «Сноу Кэт» и отправились домой, они бросили вслед горсти коричневого риса. Я была тронута. Они давали мне понять, что хотят, чтобы брак был плодовит. В брачную ночь в мотеле мы впервые занимались любовью. Айра разделся, и я вздрогнула: его красивый загар заканчивался на шее. Тело было отвратительно белым. Он оказался добросовестным любовником и трахал меня с завидной энергией, будто боялся опоздать на отходящий поезд. Но обо мне этого сказать было нельзя. После долгих минут яростной деятельности Айра задержал дыхание и сказал: — Извини, дорогая, я не могу больше ждать. Я не знал, что женщина может не кончить после почти четырехсот ударов. Я охотно с ним согласилась, и он с новой энергией вонзился в меня. — Я что-то неправильно делаю? — Ничего. Ты — замечательный любовник. В первый раз всегда трудно. — Разве я могла объяснить ему, что никогда не занималась любовью с мужчиной без страха? Страха, что нас обнаружат. А теперь наступила расплата: я оказалась неспособной ему отвечать. Прием по случаю нашего бракосочетания проходил в огромном зале общественной церкви с сосновыми панелями и полом, застеленным линолеумом. Обставленный складными стульями и столами, он ничем не отличался от залов провинциальных церквей. Горожане толпились на другом конце зала — подальше от меня. Ко мне подошел только священник — низенький толстенький человечек с редкими волосами и пенсне с толстыми стеклами. — Называйте меня дядей Луи, — сказал он, оттянув белый воротничок и почесав натертую шею. — Вы извините, но весь город жужжит о том, что невеста Айры предпочла бы католическую церковь. Я промолчала. — Какую церковь, вы сказали, посещаете? — Я не хожу в церковь. Его кругленькое личико покраснело, и мне стало так стыдно, что я готова была признаться, что я — из баптистов, методистов, немецких реформаторов — всех, кто ему понравится. — Но воспитывали меня в духе епископальной церкви. — О, это отличная вера. — Да. — Иногда подобные браки между людьми разной веры бывают очень удачными. Очень. Айра подводил ко мне друзей и знакомых. Ему очень хотелось, чтобы они понравились мне, а я — им. Он представлял нас друг другу и бежал искать новую жертву, оставив меня с новым знакомым молча глазеть друг на друга. — Как поживаете? — спросила я приветливую на вид женщину с копной пышных каштановых волос — Айрину школьную учительницу. — Хорошо. — Приятный вечер сегодня. — Да, неплохой. — Мне определенно нравится Старкс-Бог. — Надеюсь, вы не похожи на ту… покойницу? Подскочил Айра со своей тетушкой — полной пожилой дамой в кружевном костюме. — Это — Джинни, тетя Беренис. Она жила на бывшей ферме Стоквелла, — объяснил он и умчался. — Значит, вот вы какая! — сказала она. — Здравствуйте. По-моему, мы уже встречались. — Неужели? — Я, кажется, видела вас в каком-то магазине. — Может быть. Может быть. — Она смерила меня ледяным взглядом. — По-моему, — с отчаянием предложила я, — пора попробовать этот свадебный пирог. Я проделывала этот трюк уже четыре раза, и уже слышать не могла о свадебном пироге. Я жевала его в полном одиночестве. Не то чтобы общественная церковь была настроена против меня, просто самым общительным в зале был Айра. В отличие от южан, которые могли часами непринужденно болтать с совершенно чужими людьми, вермонтцы были воспитаны иначе. Не подводи ко мне Айра одного гостя за другим, я за весь вечер ни с кем не обменялась бы ни словом. «Лучше думать об этой черте их характера снисходительно, — решила я, — а то еще испорчу себе настроение». — Ну что, миссис Блисс, торжествуешь? — дьявольски улыбаясь, спросил меня Рони. В костюме и галстуке он выглядел почти прилично. — Конечно. Почему бы и нет? — Ну-ну, радуйся, пока можешь. — Я недоуменно смотрела на него. — Давай поговорим откровенно. Айра — мой лучший друг, и он уже совершил одну ошибку. Или обходись с ним как следует, или будешь иметь дело со мной. Он уже натерпелся от женщин. — Почему бы тебе не заняться своими делами? — крикнула я ему вслед. Подскочил Айра. — Тебе весело? — Конечно! Здесь замечательно! — ответила я и улыбнулась. — Я понимаю, тебе трудно — одной среди чужих… — Да, но они очень милы, — слишком поспешно заверила я. (Можно ли будет спасти этот брак?) — Нужно время. Я уверен, они полюбят тебя, когда узнают поближе. Как я. — Он наклонился, чмокнул меня в щеку и отправился искать не представленного мне гостя. — Какую, вы сказали, церковь вы посещаете? — снова подошел дядя Луи. — Я не посещаю церкви, — вздохнула я. — Тогда, — деловито начал он, — смотрите мне прямо в глаза, пусть все думают, что мы просто разговариваем. — А разве это не так? — изумилась я. — Милостивый Боже, помоги твоему слуге, заблудившемуся в своей гордыне, обрести истинную церковь. Благослови ее брак с Айрой Блисс и, если будет на то воля Твоя, подари им детей. Образумь ее, Отец, чтобы она стала хорошей христианкой, содержащей дом в мире, чистоте и здоровье. Научи ее уважать общество и любить мужа и детей. Аминь. — Аминь! — искренне повторила я. Он говорил о том, чего я очень хотела: расположить к себе горожан, завоевать уважение общества, доставлять как можно больше радости Айре, который будет меня содержать. — Но разве все это невозможно без посещения церкви? — Возможно, — он печально покачал головой. — Но сомнительно. Очень сомнительно. Но более важной проблемой, чем посещение церкви, оказалось то, что следующие попытки наших сношений были, с точки зрения Айры, неудачны. Мы занимались любовью по вечерам в понедельник, среду и пятницу. Айра вычитал в «Справочнике читателя», что средняя американская пара занимается сексом два раза в неделю. Мы стали заниматься им три раза. Вечерами по вторникам он был занят в своем Добровольном пожарном обществе, где пил пиво и играл до утра в покер. По четвергам мы танцевали в дансинге, по субботам ездили на его снегоходе на бобровый пруд, по воскресеньям он посещал заседания похоронной комиссии. Так что для секса оставались понедельник, среда и пятница. Каждую неделю он обводил эти дни красными кружочками в висящем на кухне календаре, чтобы не забыть. Я хотела упорядочить свою жизнь. Упорядочила. Каждое утро мы вставали в семь часов. Пока Айра делал свои приседания, отжимания и бег на месте, а потом принимал душ и брился, я готовила ему завтрак: два яйца всмятку, два кусочка ветчины, два ломтика хлеба с маслом, джем, апельсиновый сок и кофе. Он горделиво заметил как-то, что этот завтрак не меняется уже пятнадцать лет. В семь пятьдесят он выходил за дверь, садился в свой красный пожарный автомобиль и ехал на Мейн-стрит. Там, в своем офисе, он продавал «Сноу Кэт» или велосипеды «Хонда» — в зависимости от сезона. Еще изучал страховые претензии и возможность оплаты полисов. Подобно хирургу, владеющему табачной плантацией, Айра сначала продавал клиентам свои снегоходы, а потом страховал их жизнь. Когда колокол на шпиле общественной церкви пробивал двенадцать раз, он входил в дверь. На обед я готовила рисовый томатный суп, болонскую колбасу, сэндвичи с сыром, хлеб и кофе. В двенадцать пятьдесят он возвращался в свой офис. У меня были свои дела. Я гладила Айре рубашки: он любил, чтобы впереди были складочки; чистила унитаз; натирала паркет. Дом был большой, неуклюжий, со старомодными каменными колоннами. Его построил далекий предок Папа Блисс, чей портрет висел над камином в гостиной. Фамильное сходство было очевидным: у Папы Блисса были такие же широко поставленные глаза, румяные щеки и высокий лоб, как у Айры. Вот только волосы были другими. У Айры — темные, курчавые, нависающие на лоб. У Папы Блисса — светлые и прямые, завязанные, как у хиппи, в хвост. Он был шотландским каменщиком, приехавшим в Вермонт после открытия мраморных каменоломен и строившим дома по всему штату, включая тот, в котором жили теперь Айра и я. Еще он вырезал памятники. За домом, на маленьком семейном кладбище, до сих пор стояли ангелы с круглыми лицами и пустыми глазницами, способные напугать любого, вернувшегося с берегов Стикса. В этом доме вырос Айра. Его отец был фермером. Уйдя от дел, они с Айриной матерью продали половину своей земли и купили красивую виллу во Флориде. Родовое гнездо Айры было так огромно, что домашней работе, казалось, не будет конца. Стоило мне вытереть и отполировать старинную сосновую мебель, как пора было возвращаться и снова полировать ее под пристальным взглядом Папы Блисса. В общем, моим уделом стала однообразная утомительная работа. Но я любила ее. Мне нравилось знать, чем я буду заниматься завтра, послезавтра, через месяц. Нравилось знать, где Айра, с кем, чем занят. Я была сыта свободой. Она убила Эдди и чуть не убила всех нас. Лучше провести жизнь в этой древней каменной клетке. Колокол пробил пять, и вошел Айра. Ужин я подавала точно в шесть: отбивные или жаркое, картофель, хлеб, пирог и кофе. После ужина Айра доставал из серебряного ящичка на буфете сигару, потом наливал в стакан чуть-чуть бренди; перочинным ножичком тщательно обрезал кончик сигары, вставлял ее другим концом в рот и с наслаждением посасывал. Потом окунал этот конец в бренди, другой вставлял в серебряный мундштук, зажигал, глубоко затягивался и удобно устраивался в большом плетеном кресле. — Ты счастлива со мной, Джинни? — с беспокойством спрашивал он каждый вечер. — Пожалуйста, скажи, если нет. А то как я узнаю об этом? — Айра, — отвечала я, — как я могу не быть счастлива? Я люблю нашу жизнь. — И так оно и было. — И я счастлив, — заверял он. — Я был так одинок! Как хорошо, что ты здесь. В девятнадцать тридцать Айра уходил на заседание. Я завидовала ему: под некрологом ему подпишутся многие, а под моим — никто. Если этот вечер был обведен кружочком, мы с часик смотрели телевизор, а потом шли наверх и занимались сексом. — Что я неправильно делаю, Джинни? Поверь, у меня никогда раньше не было с этим проблем. Я уверен, что удовлетворял свою первую жену, несмотря на наш несчастливый брак. — Дело не в тебе, — успокаивала я, — дело во мне. Я действительно не понимаю, почему должна обязательно испытывать оргазм. По-моему, я вполне счастлива, видя, что хорошо тебе. Но дело было в том, что я боялась оргазма. С Эдди в таких случаях я теряла всякое представление о времени, переносясь в царство, где существовало только Настоящее. Но с Эдди ушло все таинственное. Теперь мне нравилось знать, сколько сейчас минут и который час. Я не хотела, чтобы время остановилось, земля завращалась быстрей или что-то еще в этом роде. Я хотела полностью управлять своими чувствами. — Но мне не по себе, что кончаю один я, — жаловался Айра. — Мужчины хотят, чтобы женщины точно так же наслаждались сексом. — Зачем? Они веками обходились без этого. Неужели кому-то интересно, что чувствует женщина? Я не знала, как объяснить ему, что я эмоционально опустошена, что от него мне требуется только мир и спокойная жизнь. Конечно, он был современным мужчиной, верящим в равенство мужчин и женщин во всем, даже в сексе. Как убедить его просто пользоваться мной и не мучаться? Но Айра был безутешен. — Джинни, я не могу сделать тебя счастливой, — сказал он как-то после ужина, достав сигару и озабоченно посмотрев мне в глаза. Была первая годовщина нашей свадьбы, среда, и в качестве подарка я решила угодить ему. После восьми минут и двух сотен ударов я заохала, застонала, затряслась и забилась, как Оливия де Хэвиленд в «Унесенных ветром». Вдобавок я страстно прошептала ему на ухо: — О, Айра, я так счастлива! Спасибо! Он скатился с меня, сияя от удовольствия, и включил свет. Зачем-то внимательно осмотрел мою грудь и ткнул в нее пальцем. — Ты притворяешься, Джинни, — несчастным тоном промямлил он. — Ты обманываешь меня. Любопытство взяло верх. Я открыла один глаз. — Откуда ты взял? — Твоя грудь… После оргазма у женщин на груди и шее появляется красная сыпь. «Черт!» — Держу пари, не у всех, — нерешительно пробормотала я. — Но разве ты не обманула меня? Я виновато кивнула. — Я хотела порадовать тебя, Айра. — Боже всемогущий, Джинни! Ни один мужчина не хочет, чтобы его обманывали в подобных случаях! Пожалуйста, не повторяй этого снова! — Не буду. Прости, Айра. Я постараюсь испытать настоящий оргазм. — Я очень надеюсь на это. Наступила весна. Айра теперь играл в гольф и разъезжал не на «Сноу Кэт», а на мотоцикле. Приближался сезон форели. Я потратила три дня на приготовление яблочных пирогов, чтобы Айра взял их с собой в свою семейную рыбачью хижину в соседних горах. Первую неделю сезона он собирался провести со своими родственниками. Он говорил, что каждый отпуск проводил одинаково: неделю — на форель, неделю — на птиц, неделю — на оленей, неделю — на подледный лов. Плюс две недели он проводил со своей Национальной гвардией в лагере барабанщиков на севере штата Нью-Йорк. Если бы я захотела отправиться в путешествие, мне пришлось бы ехать одной. Но что сказала бы его семья? Меня вполне устраивала жизнь в Старкс-Боге. Несмотря на уборку этого каменного мавзолея, у меня оставалось много свободного времени, поэтому я решила принять участие в вечеринках с сюрпризами. Я очень старалась измениться ради Айры, вернее, старалась спуститься на грешную землю. Я спрятала свои армейские шмотки и куртку дровосека, съездила в Сан-Джонсбери и купила несколько пар синтетических брючных костюмов. Я укоротила и распустила волосы, но люди все равно переходили на другую сторону улицы, увидев, что я иду навстречу. Хорошо хоть они не видели бабочку, вытатуированную у меня на бедре, — ее так любила целовать и покусывать Эдди. Только авторитет Айры мешал им вышвырнуть меня из города. Раз в неделю в Халлспорте школы устраивались танцы. Мужчины в ковбойских сапогах и рубашках «вестерн» с большой неохотой подавали мне руку. Женщины в широченных юбках смотрели на меня с отвращением, а когда моим партнером оказывался Рони, он цедил сквозь зубы: «Я начеку, миссис Блисс. Не забывай». Я с облегчением падала в объятия Айры, когда подходила его очередь делать со мной какое-то па, а он прижимал меня к груди и нежно заглядывал в глаза. — Тебе весело, Джинни? Правда здесь замечательно? — Конечно, — отвечала я и переходила к следующему кавалеру. По-дружески ко мне относилась только младшая сестра Айры Анжела. Она работала секретарем в школе в Олбани, а потом смилостивилась над своим школьным приятелем, вернулась в Старкс-Бог, вышла за него замуж и была очень счастлива. — Это все глупости, Джинни! — часто говорила она. — Какая ты хиппи? Я столько насмотрелась на них в Олбани! Где тебе до настоящей хиппи! Анжела возглавляла Женское добровольное пожарное общество и организовывала вечеринки с сюрпризами. Короче говоря, она стала моим ангелом-хранителем. Начинала я очень скромно, посетив вначале вечеринку на окраине города. Гостями были пятнадцать женщин самого разного возраста. Анжела предупредила их заранее, поэтому они не очень побледнели, увидев, что я вошла в дверь. Конечно, двое не выдержали и ушли, раздраженные, но те, кто остались, вели себя безукоризненно, помолчав всего три с половиной минуты. Я как могла приветливо улыбнулась и больше молчала, стараясь уловить их жаргон и интересующие их темы. Беседа текла в трех направлениях: погода, дети, кулинария. И все сначала. Детей у меня не было, бобами тоже никто из присутствующих не интересовался, оставалась погода. Я поймала мяч и рванула вперед. — Вы не находите, Джи, что эта слякоть слишком затянулась? — спросила я крупную седовласую женщину с бородавкой на носу. — Да, конечно, — она явно испугалась, что вставшая на путь истинный «соевая баба» обращается к ней с таким невинным вопросом. — Необычная погода для мая, правда? — Д-д-да. — Я так соскучилась по солнцу, — продолжала я наступление. — Гм-м-м, — она явно удивилась, что солнце могло светить «соевым бабам» так же, как и всем нормальным людям. — Вам не кажется, что эта весна на редкость холодная? — Н-н-не знаю… — она жалобно посмотрела на своих приятельниц: еще подумают, что она добровольно беседует с революционеркой. — Может, мы перепрыгнем через весну и сразу очутимся в лете, — неуверенно улыбнулась я. Она с отвращением посмотрела на меня, а я бесстрашно закончила: — Да, похоже, после гнилой весны наступит чудесное лето. Пока я развивала свои вариации, встала стройная молодая женщина в темно-синем костюме и пригласила нас на кухню. — Ну, девочки, я догадываюсь, что вы слышали о новой замечательной посуде, которая поможет нам в ежедневных хлопотах. Не будем тратить попусту время! — Она показала на стол, где стояли подносы, салатницы, банки для кофе, бокалы и формочки для желе. Все рассматривали их с таким же видом, как знатоки — бриллианты, поворачивая туда-сюда и обмениваясь с соседками мнениями. — Да, девочки, — продолжала дама, — именно эту посуду мы предлагаем для ваших кухонь. Она принесет вам уют и комфорт, облегчит вашу жизнь и поможет сказать новое слово в кулинарии… В конце вечеринки все, кроме меня, приобрели по дюжине пластмассовых предметов. Я не купила ничего. Меня потрясло, скольких нужных вещей не хватает у меня на кухне. Как я только готовила раньше? Я поделилась с Анжелой, и она успокоила меня, сказав, что на следующей вечеринке я смогу купить все, что захочу. Через несколько дней Анжела взяла меня в гости к одной из Айриных кузин, которая была замужем за местным парнем. Несчастная жертва, Ванда Блисс, завизжала от ужаса, увидев в комнате три дюжины своих родственниц и ближайших подруг. Успокоила ее гора подарков. Моим был оловянный поднос с деревянными ручками и изображением моста с надписью «Вермонт. Зеленый Горный Штат». Стоило ей прочитать на карточке, что это от меня, как она немедленно перешла к следующему подарку, будто на моем подносе ей принесли еду от больного чумой. Я сидела рядом с Анжелой. Она разговаривала с пожилой женщиной и вдруг обратилась ко мне: — Невозможно найти подходящий шарф, правда, Джинни? — Конечно, — благодарная за то, что обо мне вспомнили, согласилась я. Всем предложили шампанское. — Ваша семья ест тыкву, Джин? — продолжала беседу Анжела. — Я не могу заставить Билла даже притронуться к ней. — Хэл засмеет меня, если я подам ему тыкву, — призналась Джин. — Айра ее тоже терпеть не может, — доверительно сообщила я. — Ты бы видела на днях Джимми, — продолжала Анжела. — Он достал бритву Билла, намылил лицо и стал бриться. Это в пять-то с половиной! — Пять с половиной! Как они быстро растут! — Знаю. Творят что хотят, а потом приползают к вам на колени. — Это точно, — подтвердила Беренис. — Ладно, Анжела, пусть дети будут детьми! Детство пролетает так быстро. Я решила больше не ходить на подобные вечеринки и сказала об этом Анжеле по дороге домой. Она согласилась и посоветовала мне вступить в Женское добровольное пожарное общество, тем более что оно подчинялось Айре. Анжела тоже состоит в нем. — Что вы там делаете? — В основном убираем комнату после заседаний. Подбираем бутылки и прочее. Иногда готовим закуски. — Это мне нравится, — ответила я.— Я думал о нашей маленькой проблеме, — сказал однажды вечером Айра, ложась в постель. — Какой проблеме? — не сразу поняла я. По мне, у нас все шло отлично. В тот день меня приняли в Женское пожарное общество. Анжела сказала, что против была только Джин, но чего еще было ожидать от этой женщины? — То, что я не удовлетворяю тебя. — Но ты удовлетворяешь! — Пожалуйста, Джинни! Я просил не обманывать меня! — Но я не хочу, чтобы меня удовлетворяли! Верней, мне и так хорошо. Меня вполне устраивает наша сексуальная жизнь. — Нет. Я много думал об этом. И понял, в чем дело. Я с любопытством уставилась на него: разрешить проблему прежде, чем узнаешь о ее существовании, — это верх роскоши… — Ты привыкла к очень… возбужденной жизни, Джинни. Бостон и все твои… разные друзья. — Кто? Я? — Да, ты, Джинни. — Да нет же, Айра! Я просто была в таком обществе, но не участвовала ни в чем плохом, — веря себе, сказала я. — После них жизнь со мной тебе кажется скучной. — Мне нравится такая скука! Да я и не считаю ее скучной! Мне нравится наша жизнь, Айра. Иначе я бы не вышла за тебя. — Поэтому, — не обращая на меня внимания, продолжал он, — я решил сделать наш секс более изысканным. Я очень хочу, чтобы ты была со мной так же счастлива, Джинни, как я — с тобой. — Он сбросил одеяло и обнажил свое великолепное голое тело. Но — Боже! — нижнюю часть его тела скрывала какая-то черная кожаная штука. — Что за черт? — Кожаный чехол, — гордо ответил он. — Давай! Потрогай! Я осторожно ткнула в него пальцем. — Возбуждает? — Не знаю… — Смотри! — Он вытащил из-под одеяла прозрачный плащ. — Надевай. Я надела. — Ну как? — спросил он с мальчишеской радостью. — Приятно. Он выключил свет и обнял меня. Я хрустела, как обертка от туалетной бумаги. — Что дальше, Айра? Он сел, включил свет, взял с тумбочки книгу и проконсультировался. — Так, так… Теперь нужно посмотреть друг на друга. Здесь пишут, что женщин возбуждает запах и ощущение кожи. Мы сели и уставились друг на друга. Потом он сбросил свой кожаный чехольчик, а я — плащ, и он сунул между моих загорелых ног свою лохматую голову. Он любовался, а я размышляла: что лучше — ростбиф или свиную печенку — приготовить завтра на ужин. Я не кончила. Айра поставил на главах «Кожа» и «Полиэтилен» два больших креста. — Ничего, Джинни, не расстраивайся. Мы каждый раз будем находить что-нибудь новенькое. Утром в День памяти павших в гражданской войне я стояла на Мейн-стрит и смотрела, как Айра марширует в своей оливковой форме. За Национальной гвардией гордо выступали бойскауты и ученики средней школы, потом — представители Национальной гвардии близлежащих районов. На грузовике был укреплен каркас с гвоздиками цветов американского флага. Вокруг флага шла надпись: «Служим во имя мощи и свободы Америки». За грузовиком шли добровольцы-пожарные в плащах и резиновых сапогах, а за ними — пожарные машины. После парада мужчин пригласили на стрельбище — то самое, которое когда-то обнаружили Эдди, Мона, Этель и я, — посмотреть новые типы смертоносных ракетных установок для использования во Вьетнаме. Половина горожан работала на этом стрельбище. Женщины торжественно отправились в зал пожарного общества. Анжела читала составленный координатором из Сан-Джонсбери сценарий: — …Очаровательная Джинни Блисс вальсирует летом в своем… Настала моя очередь. В моем дьявольском мозгу мелькнула мысль — выскочить наряженной в Айрин кожаный чехол и прозрачный плащ. Эдди бы так и сделала. Но я старалась забыть Эдди. Я не разрешала себе думать о ней. Только во сне она приходила и укоряюще спрашивала: «Ты думаешь, я мертва?» Я протягивала к ней руки, просыпалась и видела, что обнимаю Айру. Он понимал это как приглашение, залезал на меня и самозабвенно трахал, а я, сдерживая рыдания от разочарования, старалась не представлять, что эти руки, губы, язык принадлежат Эдди. Я была благодарна Айре, что он ни о чем не догадывался. Если уж я не могу заставить себя испытывать с ним оргазм, то по крайней мере не наставляю ему рога, представляя, что трахаюсь не с ним, а с кем-то другим. Я выпорхнула в своем розовом брючном костюме — «в этом очаровательном нейлоновом ансамбле с бесподобными бусами»… Я повернулась, предоставляя публике возможность полюбоваться моим туалетом, и сделала несколько па, чтобы продемонстрировать стройные ножки… «Обратите внимание на изящный медный браслет… — я подняла руку, — и блестящие золотые босоножки — специально для праздника в Старкс-Боге». Я искренне улыбнулась и под гром аплодисментов спустилась с помоста. Я была счастлива. Меня наконец признали. Я перестала быть «соевой бабой». И никто не догадывался о моих ночных грехах. После шоу мы, женщины, разошлись на свои семейные пикники. В городе было всего пять главных семей, одна из них — Блиссы. В День памяти Блиссы всегда собирались в своем родовом гнезде — в доме, где жили мы с Айрой, — и не стали менять традицию из-за злополучной новой родственницы. Я всю ночь чистила картофель для салата, который раскладывала по салатницам. Айра выкатил бочонок вина и пошел встречать гостей. Его родственники были крепкие, ладно скроенные темноглазые люди с седыми вьющимися волосами. Старики обнимали меня и шептали: «Айра — счастливчик, что нашел такую прелестную жену». Айра сиял от гордости и благодарности, что его семья приняла меня. Я ласково улыбалась и вела светские разговоры: — Вам не холодно? — Какой чудесный день для пикника. — Да, конечно, всю неделю шел дождь. — Как вы думаете, к вечеру соберется гроза? — Возможно. Видите тучи на западе? — Надеюсь, не раньше, чем все разойдутся. — Надеюсь. Весна была такая неприветливая, что мы заслужили жаркое лето. — Ах, извините, мне хотелось бы поплавать, пока светит солнце. — Конечно, конечно. — Надеюсь, тучи пройдут стороной. — Надеюсь. Мы разделяли любовь к Айре, и они не считали меня изгоем, а я не считала себя лучше их. Едва ушел последний из Блиссов, как началась гроза. Мы с Айрой сидели около бассейна посреди пустых пивных банок и пустого на три четверти бочонка вина. Мы промокли. Где был сейчас мой прозрачный плащ? Сверкали молнии, гремел гром. Эта гроза была первой за долгую затяжную весну. Какое счастье — гроза — в этом снежном краю пушистого белого безмолвия! Природа вдыхала в нас жизнь. Дождь хлестал и хлестал. Хохоча, как дети, мы помчались домой и стали стряхивать на ковер свежие капли. Айра посмотрел на меня тем взглядом, от которого я сразу вспомнила: двадцать тридцать, пятница, на календаре этот день обведен кружочком… Он расстегнул ремень. — Сегодня ты испытаешь оргазм. — Но, Айра, я не хочу его испытывать! — Меня не интересует, чего ты хочешь. Я хочу, чтобы ты была счастлива. — Темные влажные глаза жадно смотрели на мою грудь под прилипшей блузкой. — Если это не сработает, я не знаю, что тогда сработает! — Что должно «сработать»? — испугалась я. — Стой здесь! — Он побежал наверх и вернулся со своим руководством и «дипломатом». Он читал инструкцию по сегодняшней гимнастике, а я смотрела, как шевелится под «бермудами» его член. Он вытащил из «дипломата» пару наручников. — Боже! — простонала я. Меня уже привязывали когда-то в бомбоубежище к помосту цепью от «харлея». — Айра, лучше я испытаю оргазм в постели, без всяких фокусов. — Нет. Я хочу возбудить тебя, Джинни. Я не хочу надоесть тебе. Я вздохнула и разделась, он — тоже. — Что дальше? — хмуро спросила я. Мне было противно и зябко. Он взял меня за руку и подвел к старинному креслу с высокой спинкой. Потом подтянул второе такое же, залез на одно и велел залезть мне. Я забралась и увидела прямо перед глазами толстую балку, идущую под потолком по всей длине комнаты. Айра защелкнул один наручник на своем правом запястье, перебросил второй через балку и велел застегнуть на левой руке. — Отлично. Опирайся рукой в наручнике о спинку, иначе будет больно. Я добросовестно выполняла все указания. — Так. Теперь медленно слезай с кресла. Я слезла, и вскоре мы болтались на наручниках грудь к груди. Его пенис торчал в стороне, как рука в хирургической перчатке, готовая вонзиться в несчастную жертву. — Ну как? — выдохнул он и наклонился чмокнуть меня под мышкой. — Отлично, — заверила я, чувствуя, как немеет рука, словно окольцованный палец майора. Айра свободной рукой привлек меня к себе. — Прекрасно. Теперь вставляй его. Я недоверчиво хмыкнула, но, желая угодить ему, послушно раздвинула ноги. Я ощущала себя марионеткой, которую дергают не за те веревочки. Наконец я охватила ногами его талию и в таком подвешенном состоянии совершила подвиг совокупления с собственным мужем. — В книге не говорится, что делать дальше? — скривившись от боли в онемевшем плече, спросила я. — Нет. Там только вот что: «Если вы повиснете таким образом, вы легко обнаружите прелесть нового способа, который не надоест вам до самого климакса». — Ох! Вскоре я не выдержала: — Айра, по-моему, нам лучше спуститься. Рука очень болит. Айра вздохнул, поняв, что снова потерпел поражение, и взял ключ. Он хотел расстегнуть мое запястье, но ключ выскочил и упал на пол. Когда до нас дошел ужас нашего положения, мы похолодели от страха. Серебряный ключ насмешливо блеснул на ковре, когда за окном сверкнула молния. Плечо уже не чувствовало боли, зато заныло запястье, посылая SOS в болевой центр моего мозга. Я натерла браслетом руку. — Айра, если ты встанешь в своем кресле и поднимешь повыше руку, я попробую дотянуться до ключа. Он нащупал ногой свое кресло и встал на спинку. Я сползла почти до самого пола, но не дотянулась до блестящего серебряного спасителя. — Ниже, — мягко попросила я. — Не могу, — выдохнул он. В этот момент он упал с кресла, потянув и меня. Мы в отчаянии смотрели друг на друга. — Извини, — прошептал он. — Ты хотел как лучше. — Я хотел, чтобы ты была счастлива. — Что с нами будет? Умрем от голода? Или сначала от жажды? — Кто-нибудь увидит, что меня нет в офисе. Или на заседании. Придет проведать и… — он замолчал. Мы не знали, что лучше: умереть от голода или жить, когда какая-нибудь его тетка найдет нас в таком виде. — Твоя тетя Бетти вернется в воскресенье за своим мороженым. Он кивнул и закрыл глаза. По красивому лбу катился пот. Зазвонил телефон. Мы с надеждой переглянулись. Он стоял на столике у стены прямо под этой чертовой балкой. — Если мы доберемся до телефона… Нужно отталкиваться о стену. Попробуем, Джинни. План Айры удался. Каждый миллиметр причинял невыносимую боль. Айра наклонился, ногой поднял телефонную трубку, подбросил и ловко — позавидовал бы любой орангутанг! — поймал рукой. А потом подтянул весь аппарат. — Кому звонить? Дяде Луи? — Может, лучше в полицию? — У нас нет полиции. — В пожарную часть? — Хорошая идея! — Он начал набирать номер, но вспомнил, что сам — начальник. — Знаю, — вдруг обрадовался он. — Позвоню Рони! — Нет! Я не хочу, чтобы этот мужлан увидел меня голой! — Кто-то все равно увидит. — Только не Рони! — Кто же? — Анжела! — Ты шутишь? Через несколько минут об этом будет знать весь город. — Этель! — Кто? — Женщина, которая жила со мной на ферме. — Согласен. Какой номер? — Он с несчастным видом набрал номер и передал мне трубку. Когда я в последний раз звонила в коммуну, их линия была отключена за неуплату. Господи! Я услышала смех и громкую музыку. Ответил мужской голос. — Почему ты не приезжаешь? — спросила Этель. — У нас праздник, закончили посевную. — Это смешно звучит, Этель, но, боюсь, я привязана. Я не шучу. Мне очень жаль беспокоить тебя в разгар вечеринки, но прошу: приезжай, помоги мне. — Сейчас? Ночью? — Это очень важно, Этель, иначе я бы не просила. — Конечно, приеду. Если найду «тачку»… Ал, можно, я возьму твой грузовик до Старкс-Бога? Конечно, можем все поехать… Алло, Джинни, я еду! — Она повесила трубку, прежде чем я успела попросить не привозить своих друзей. Через несколько минут восемь человек в различной степени опьянения вломились в нашу дверь. Они безмятежно посмотрели на нас с Айрой и отвернулись. — Отлично выглядишь, Джинни, — проворчала Мона, глядя на меня сквозь свои темно-вишневые линзы. — Чем могу помочь? — спросила Этель. Я кивнула на Айру, висящего рядом. — Ты помнишь Айру? Айра, это Мона и Этель, с которыми я жила прошлой зимой. — Как поживаете? — спросил Айра из-под волосатой подмышки. — Я помню, как мы встречались. Вы ведь были на нашей свадьбе? Они вежливо кивнули. — Знаете, девочки, зачем я вас позвала? Видите ключ на ковре? Вы не сможете дать его Айре? И подтолкните нам под ноги эти кресла. Большое спасибо. Айра открыл наручники, и мы слезли, потирая запястья. — Могу я предложить вам пиво? — спросил Айра. — Конечно, спасибо, но мы очень спешим, — ответила Этель. — Похоже, дорогу к ферме совсем размоет, нужно успеть. Айра разлил всем остатки пива. — Спасибо за помощь, — еще раз поблагодарила я. — Как насчет ланча на следующей неделе? Скажем, в понедельник? — Отлично, — ответила Мона. Через два дня Айра уехал на две недели в свой летний лагерь, и я осталась одна. — Где вы были в пятницу вечером? — спросила тетя Бетти, которая пришла забрать посуду. — Я вам звонила. Я оставила свитер. Куда вы пропали? — Мы были привязаны, — честно ответила я. — Замечательный был денек, правда? — Конечно. Но вечером разыгралась гроза. — Ах, что это за гроза! Чудо, а не гроза! — Да, гроза что надо. — Повезло, что она началась после пикника. — Конечно. А потом опять прояснилось. — Я заметила, — закончила тему тетя Бетти. В понедельник днем Этель, Мона и я лежали нагие у бассейна рядом с тарелками, полными косточек от оставшихся с пикника цыплят. Они рассказали, что Лаверна поступила в женский монастырь в Чикаго после того случая с вибратором, чуть не убившим ее. — Ты снова стала буржуйкой? — спросила Мона и махнула рукой на бассейн. — Вроде того, — зевнула я, не испытывая больше стыда за свое буржуйство. — Чем ты занимаешься целыми днями? — с интересом спросила Этель. Я описала свой день — Айрино расписание, бесконечные хлопоты по дому, вечеринки, Женское пожарное общество… Мона восхищенно покачала головой. — Отдаю тебе должное, Джинни. Я думала, ты не справишься с ролью. Но ты справилась. Ты проникла во вражеский лагерь. — Наверное, можно сказать и так… — И ты готова пройти через это? — Через это? — Я совсем забыла причину, по которой, как когда-то я им объясняла, выхожу замуж: чтобы стать заложницей в мирных переговорах между горожанами и «соевыми бабами». — Может, ты уже все выяснила? — глаза Моны воинственно сверкнули. — Насчет чего? — Как насчет чего? Насчет горючего для военных машин… Дело в том, что я не просто проникла во вражеский лагерь — я стала настоящей горожанкой и больше общалась теперь с Анжелой, чем с Моной и Этель. Люди меняются, когда меняются обстоятельства… — Нет, — тихо ответила я. Этель посмотрела на меня разочарованно, Этель — презрительно. — Тебе нравится эта жизнь? — недоверчиво спросила она. — Нравится. Здесь нормально, — ответила я и представила, как была бы шокирована Эдди, увидев меня здесь. — Что бы сказала Эдди? — печально пробормотала Этель. — Я не думаю больше об Эдди, — сморщившись, как от боли, резко ответила я. — Твоя верность оказалась слишком недолгой, — подвела итог Мона. Мы помолчали. Вскоре они оделись и ушли. За те две недели, что я провела в пустом доме, я поняла, что хочу ребенка. Папа Блисс умер сто пятьдесят лет назад, но все еще жил в этом каменном доме. Жил в памяти своих потомков, которые передавали своим детям рассказы о том, как он вырезал миниатюры на могильных памятниках своих пятерых детей, умерших от оспы за один месяц. Он жил в генах потомков. Достаточно было взглянуть на теперешних Блиссов, чтобы увидеть их сходство с Папой Блиссом. Мне не нужно было даже смотреть на портрет над камином — зная Айру и его родственников, я знала, как выглядел Папа Блисс. Живя в его доме, среди его потомков, я постоянно ощущала его присутствие. Я захотела, чтобы кто-то тоже потом ощущал мое присутствие. Это будет мой вызов смерти. — Айра, как ты насчет того, чтобы завести ребенка? — спросила я через пару дней после его возвращения. — Ты не… — Нет-нет. Я только думала об этом, пока тебя не было. Он просиял. — Джинни! Я так хочу ребенка! Моя первая жена и слышать об этом не могла, поэтому я боялся предложить тебе. — Айра, я хочу от тебя ребенка, — решительно заявила я. Был вторник, всего семнадцать пятнадцать, Айра опаздывал на заседание своих пожарных, пятнадцать раз звонил телефон — но мы занялись любовью. Я испытала оргазм. Такой, как когда-то с Эдди. Айра лежал головой на моей покрытой красными пятнами груди и плакал от счастья. Настал сезон охоты на птиц, но Айра остался дома — приносить мне в постель лекарство от тошноты. Выпал снег, но «Сноу Кэт» № 44 так и остался стоять в гараже: его хозяин лежалголовой у меня на животе, слушал, как бьется сердечко, и позволял ребенку толкать его в лицо из своего надежного укрытия. Рони звал его на подледный лов, но Айра отдал ему свой ледоруб и остался дома — массировать мои отекающие лодыжки. Он больше не требовал, чтобы я была счастлива. Он знал, что я счастлива, а я — что счастлив он. Никогда еще свет не видел такого долгожданного ребенка. По крайней мере, мы так считали. Я глотала книгу за книгой в поисках советов, как вести себя во время родов. Оказывается, родив, нужно сразу громко сказать: «Наша дочь! (сын!) Добро пожаловать в этот мир! Счастливые родители под звуки торжественной музыки приветствуют тебя! Я радуюсь, увидев нашего маленького херувимчика. Она (он) очаровывает меня! В глубине души я испытываю благоговение перед таким совершенством!» Наконец-то я стала сама собой. Почему я так долго не понимала, в чем мое предназначение? Однажды на одной из Анжелиных вечеринок я зацепилась за провод торшера и плашмя упала на пол. Анжела захлопотала, а Айрины тетки, кузины и я сама ждали, не будет ли выкидыша. Когда стало ясно, что все обошлось, я с трудом успокоила плачущую и проклинающую себя Анжелу. Я была готова к родам. Но не готова к боли. Такой боли не бывает, говорила я себе, корчась на больничной койке. Сами роды, за которыми я следила в зеркало, были куда живописней того, что показывала когда-то Лаверна: зеленые — от детского места, черные — от волосиков Блиссов, красные — от моей собственной крови. Я забыла произнести вычитанную торжественную речь, потому что испытывала такое облегчение, что нестерпимая боль позади. Венди родилась вскоре после открытия сезона форели, но Айрины удочки так и остались висеть в чулане. Вместо рыбалки Айра лежал в нашей постели и с восхищением смотрел, как крошечная девочка тискает мою распухшую грудь, тычется в нее носиком и шумно сосет. Наконец я нашла профессию, которой могла отдаться со всем энтузиазмом: кормящая мать. — Ну, как сегодня наш маленький ангелочек? Как ее стул? — спрашивал Айра, возвращаясь вечером домой. — По-прежнему твердый? — Нет, на этот раз, слава Богу, мягче. — На что похож? На овсянку? Или банан? — Нечто среднее между вчерашним сливочным супом и омлетом. Только коричневый. — Не зеленый? — Нет, цвета карамели, ближе к шоколаду. — Сильно кряхтела? — Прилично. Но не так, как вчера. — Отлично! — удовлетворенно говорил он. После того как Венди последний раз ела и срыгивала на нашу постель, мы ложились с ней рядом и умилялись каждому крошечному очаровательному пальчику, ручке, ножке — так новоиспеченный владелец автомобиля проверяет каждую вмятину и царапину. Она брыкалась, морщила лобик, поджимала губки, а мы немедленно старались сделать ей что-нибудь приятное. — Почему бы тебе не взять недельку, — предложила я однажды за ужином, — съездим в Теннесси, покажем Венди моим родителям? С тех пор как Айра закончил службу в Фортсе-Дик, он почти не выезжал из Старкс-Бога, разве что изредка в Монреаль или Бостон на хоккей и бейсбол и в летний лагерь. Он заявлял, что, если все остальные города похожи на Нью-Джерси, он никуда не хочет ехать. «Я и так живу в одном из самых красивых мест. Зачем ехать в какой-то Скенектади?» — Ты говорила, твои родители умерли, — удивился Айра. Это была правда. Я говорила ему, что мои родители не могут приехать на нашу свадьбу или в гости потому, что их нет в живых. — Да, для меня. В то время, — неубедительно объяснила я, не зная, как найти оправдание тому, что вычеркнула их из своей жизни в надежде на избавление от буржуйского влияния. Теперь я понимала, что меня трудно простить. Если я приеду с мужем и ребенком, это будет мой жест примирения. — Пожалуйста, Айра. Теннесси совсем не похож на Нью-Джерси. Айра с грустью вернулся к своей отбивной. — Ладно. Заедем тогда во Флориду, покажем ее моим родителям. В марте я буду посвободней. Я знала, что только перспектива похвалиться дочерью может заставить его уехать из Старкс-Бога.
Мои родители встретили нас в аэропорту так, будто мы приехали из Старого Света. Никогда они не обнимали меня так, как тогда, — чуть не сломали ребра. Мамин «Инстаматик» жрал пленку ярд за ярдом, празднуя вместе с ними победу. Еще бы! После более чем четырех лет молчания и кучи нераспечатанных писем со штампом «Адресат неизвестен» их строптивая дочь вернулась домой (конечно, они всегда в этом были уверены!) — и не одна, а с красавцем мужем и очаровательной дочкой. Их Джинни, похоже, остепенилась. Они деликатно не стали вспоминать прошлое. Мама немедленно занялась Венди, позволив ей все разрушать в доме и умудряясь не выражать своего недовольства. Венди училась ходить и хваталась за все что попало, включая белоснежную скатерть с фамильным фарфором. Майор обнял Айру за плечи, — Айра неловко смотрел вниз, чтобы не видеть изуродованного пальца, — и повел показывать завод и ферму. Потом повез в загородный клуб играть в гольф и даже обсудил возможность пожизненного страхового полиса. Венди спала, майор и Айра играли в гольф, а мы с мамой сидели в гостиной и, не зная о чем говорить, слушали тиканье фамильных часов. — Мы так долго ничего не знали о тебе, дорогая, — неловко заговорила мать. — Да, да… — Надеюсь, ты была здорова и счастлива. С плохо скрываемой ненавистью я посмотрела на нее. Она надеялась, что я здорова и счастлива? А я в Вермонте желала им смерти, чтобы избавиться наконец от их вездесущего влияния, и только недавно поняла, что, как ни старалась жить не так, как они хотели, все равно не была полностью свободна и счастлива. К черту теории о свободе! Не верю… — Я была здорова и счастлива, мама. Когда не болела и не была несчастна. — Что ж, — философски заключила мать. — Жизнь есть жизнь. Стоп! Что-то во мне взбесилось. Почему ты не хочешь услышать, чем я болела и от чего страдала? Неинтересно? — Какой замечательный ребенок Венди. — Спасибо. Для разнообразия и я сделала что-то хорошее. Как всегда, мать сделала вид, что не заметила моего вызова. — Не затягивай со вторым, — доверительно посоветовала она, не спрашивая, хочется ли мне присоединиться к когорте многодетных матерей. — Им будет веселей расти вместе. — Сказать правду, мама, мне и в голову не приходило завести второго ребенка, — нагло соврала я. На самом деле я уже поняла, что материнство — мое призвание. Как сказала бы Эдди, я от него «тащилась». Мысль о втором ребенке уже пару месяцев не давала мне покоя, но мамино замечание было очень некстати. Я не считала само собой разумеющимся, что должна следовать ее советам. — Конечно, — удивилась она. — Извини. Просто единственный ребенок часто избалован. С двумя легче. — По-моему, это такая же чушь, как мысль о том, что мы можем выйти из оккупированного Вьетнама, только оккупировав Лаос — резко ответила я. (И почему я не могу не дерзить своей бедной матери?)
Роскошное поместье родителей Айры каменной веткой спаржи возвышалось на окраине Бока-Равтона. «Бока» — называли они его. — Дети! Неужели ты их не любишь? Заводи побольше! Наполни ими дом Папы Блисса сверху донизу! — поучала меня миссис Блисс. Айра с отцом играли в гольф, а мы лежали на пляже. Венди ковыляла за отступающей волной, а потом с визгом бежала ко мне от новой пенящейся волны. Как можно не любить это нежное детское тельце, загоревшее под палящим солнцем? Каждая ракушка, каждая птичка, каждый кусок липких морских водорослей — все для нее удивительно и таинственно. Наблюдать за Венди — все равно что пить нектар. — Нет для женщины большей награды, чем здоровый счастливый ребенок, — разглагольствовала миссис Блисс. — А если он не здоровый? И не счастливый? — Мне очень не хотелось подвергнуться промыванию мозгов тайным агентом богини плодородия. Черт бы их всех побрал! Я хотела второго ребенка, но должна была принять собственное решение. — Да, дорогая, иметь детей — бесконечно интересно. — Почему вы переехали в Боку? — В Вермонте слишком холодно, а с возрастом это особенно ощущаешь. — Вы скучаете по детям и внукам? — Мы с папой заработали отдых. Анжела приезжает со своими четырьмя и просит: «Мама, посмотри за ними денек». По-моему, это слишком долго. — Она уже забыла, что только что агитировала меня завести еще малыша. — У меня их было восемь. Разве мы просили у кого-нибудь помощи? Нет, мы все делали сами, и, можешь быть уверена, я никого не просила присматривать за ними. Я считаю, что заслужила отдых перед смертью. В самолете, когда Венди слезла с моего колена и поковыляла за стюардессой собирать у пассажиров журналы, я сказала: — Твоя мать считает, что нам не мешает завести второго. Айра оторвался от «Дорог и автомобилей». — Отец тоже. И я. А ты как? Похоже, решение принято на всех уровнях. Мне стало обидно: они что, принимают меня за машину по производству детей? — Не знаю. — Не знаешь? Но не можем же мы иметь одну Венди! — Почему? — Так не принято. О, Джинни, ты разве не хочешь сына? Мы вернулись из жаркой Флориды в холодной заснеженный Вермонт. Сугробы взгромоздились до самого подоконника, дней десять держался приличный мороз. — Ах, как приятно побывать на солнышке, — вздохнула я. — Здесь тоже бывает солнце. — Где? Спустя два месяца нам с Венди пришлось снова вернуться в Халлспорт: умер майор. Впервые за несколько лет я увидела Карла и Джима и поняла, что нам не о чем говорить — разве что вспоминать детство. Тело майора предали земле, и меня осенило: этого мало, что он оставил после себя нас, своих отпрысков. Тот факт, что мы понесем его гены в будущее, вряд ли скомпенсирует то, что ему суждено навечно лежать в могиле. Венди стала упрямо тянуться к искусственному питанию, игнорируя мою грудь. Я намеревалась кормить ее еще хотя бы год и очень расстраивалась: разве может такая малышка что-то решать сама? Она предпочитала молочные смеси. Вся кухня — полы, стены — была измазана кашами и кусочками шпината, как насекомыми, прилипшими к ветровому стеклу в разгар лета. Она передвигалась в своих мокрых ползунках по всему дому и по пять раз в день вытаскивала из шкафа книги, которые я каждый раз упорно убирала на место. С режима Айры я перешла на режим Венди. Она просыпалась в шесть тридцать, завтракала фруктовым пюре, теплой булочкой и молоком, а когда я убирала, мыла стены, чистила коврик и готовила завтрак Айре, она ревела от обиды, что я не даю ей свинячить еще. Айра уходил на работу, и Венди до десяти спала. Потом я купала ее — одна, Айра больше не приходил помогать, и кормила кашей и молоком. Потом она гуляла по дому и ложилась спать до двух, а я опять наводила порядок, уничтожая следы ее «прогулок». В два мы с ней смотрели «Тайные страсти» и «Западную хронику», потом ужинали мясным пюре, овощами и молоком, половина которых оказывалась на полу, ее рубашечке и у меня на лице. К приходу Айры я переодевала ее в чистую пижаму и передавала ему. Для себя же мне оставались полтора часа утром и два часа днем, и в десять тридцать вечера я погружалась в спасительный сон, чтобы снова проснуться в шесть тридцать и начать все сначала: покормить Венди, погладить Айрины рубашки, постирать и высушить ползунки, убирать, убирать, убирать… Даже для меня это было чересчур. В конце концов я стала злиться из-за каждого сброшенного на пол тома, каждой мокрой пеленки. Меня раздражали очаровательные ужимки Венди: она хотела рассмешить меня, становилась ко мне спиной, наклонялась и выглядывала между ног. Во дворе она обожала склоняться над краем бассейна, делая вид, что хочет упасть. Иногда убегала за ворота, и мне приходилось ее догонять. Чудесная жизнь превратилась в ад. Безмятежное спокойствие, обретенное в доме Айры, улетучилось совсем. Синтетические костюмы были вымазаны абрикосами, и в довершение ко всему Венди стала отказываться от утреннего сна. Я даже начала подумывать о приходящей няне. Я ничего не успевала. Из Женского общества я давно вышла, ни на одной вечеринке за целый год не была. Единственные, кого я видела, — Айра и Венди. Я постоянно приставала к Айре. Первыми вопросами, когда он приходил домой, были: «Что нового?» и «Кого ты сегодня видел?» Но отвратительней всего был его ответ: «Ничего нового». Он ни разу не принес домой ни одной сплетни: кто кому изменил, кто забеременел, кто спивается. Даже не рассказал, на сколько кто застраховал свою жизнь и имущество. Айра не был ни сплетником, ни завистником, но мне иногда приходило в голову, что я ненавижу его. Ненавижу его добродушие, вежливость, мягкость ко всем и всегда. Ненавижу за то удовольствие, которое он получает, живя в своем узеньком мирке. Я искренне считала, что верхом его добродушия была женитьба на «соевой бабе» и что его достоинства оказали ему в этом случае плохую услугу, заменив проницательность. У Айры не то чтобы не было хорошего вкуса — у него вообще его не было. Например, он женился на мне, а я явно была не той женщиной, которая ему нужна. Разве можно верить словам? Конечно, любая скажет, что она — спокойная и ласковая. Все новое для Айры было хуже всего. Его мерзкий дружок Рони, по крайней мере, кусался, огрызался и дрался за то, что считал правильным. Как Эдди. Неважно, правильно это было или нет. — Что нового? — Ничего особенного. — Кого ты видел? — приставала я. — Никого особенного, — он нетерпеливо пожимал плечами и начинал расспрашивать о зубках и какашках Венди. Каждый раз он с тоскливой надеждой спрашивал меня о моей менструации — вдруг его сперма оплодотворила мою яйцеклетку? Я продолжала тянуть с решением родить ему сына. Однажды он вернулся с работы раньше обычного. Я повисла на нем, заглянула в лицо в надежде услышать какую-нибудь новость из внешнего мира, но он виновато пробормотал: — Я, наверное, поеду на недельку в лагерь. С Рони. Настреляю вам дичи. От неожиданности я опустила руки. Так! Хочет бросить наш дом? Бросить меня и Венди? — Отлично, — сквозь слезы ответила я. — Поезжай, веселись. А мы с Венди будем ждать, когда папочка соизволит вернуться. Да, Венди? С тех пор как я вышла замуж, я решительно избегала читать газеты. В телевизионной комнате еще с прошлого года лежали кипы непрочитанных журналов и газет. Но в этот понедельник, вместо того чтобы заняться любовью, я села просматривать их от корки до корки. В них писали что-то невероятное! Сквозь дождливые леса, оставляя за собой горы трупов, продирались танки-монстры. Земной шар усеяли ядерные боеголовки — точь-в-точь мышиный кал у меня в чулане. Забитые голодные дети ковырялись в коровьих лепешках. Океаны отравлены. Святой Иисус, Эдди была совершенно права! Наше общество несет смерть. Как это я до сих пор жива? И даже раздумываю, не зачать ли второго ребенка? Это уже верх всякого бесстыдства! Я расхаживала взад-вперед по гулкому дому. Что творится?! Потом бросилась на кушетку и уставилась на Папу Блисса с его конским хвостом. Лежит себе, как и майор, в сырой земле. Нарожали потомков… Зачем? Что их ждет? Дым и грязь заводских отходов? Испепеляющий жар ядерных взрывов? Смерть в страшных мучениях? Если повезет, самое большее, на что можно рассчитывать, — это лечь в землю и кормить червей… Мир нуждается во мне! А я… Спряталась в этой глуши, чтобы стирать пеленки и давить бананы! И все ради маленького вампира в образе ребенка, который растет, высасывая мои силы и заставляя сморщиваться и превращаться в жалкую высохшую мумию… В какой-то момент я поняла, что схожу с ума. Я подняла трубку и позвонила Анжеле — единственной женщине в городке, с кем я могла поговорить. После обычных приветствий я перешла к делу: — Тебе не надоело, Анжела? Одно и то же день за днем, год за годом. Сварить, постирать, зашить, убрать… Ванна, пеленки, сон… Утиный сезон, птичий, олений… И так далее. Ничего не меняется. Ты будто в тюрьме. А между тем люди дохнут как мухи, мир рушится и… — Конечно, надоедает, — перебила Анжела. — И что ты делаешь? — Ха! Мы с Биллом кричим друг на друга, деремся и колотим посуду. А потом он тащит меня в постель и делает следующего малыша, — она весело рассмеялась. — Правда? — ужаснулась я. — Тебе нужен еще один, Джинни. Правда. Одного растить труднее, чем двоих. «Она вынуждена так говорить», — напомнила я себе. У нее — четверо; ей хочется верить, что она выбрала лучший путь. Ей не хочется меняться, как другим… — Все так говорят. — Потому что это правда. Поверь, мне легче с четырьмя, чем тебе с одним. Я бы с ума сошла. Так, у Анжелы их четверо. Разница у детей в два года. Как у большинства. Значит, дурное настроение у нее бывало через пятнадцать месяцев после рождения последнего ребенка. Венди уже больше пятнадцати месяцев. Нам давно следовало бы зачать второго ребенка. Но хочу ли я его? Когда Айра вернулся с охоты, я лежала на кушетке, уставясь на портрет Папы Блисса. На полу валялись книги из шкафа. Кухонные стены были в шпинате. Я заканчивала читать приглашения осваивать новые земли. Клондайк, Новая Зеландия, Замбия… «Если сомневаешься, выходи из игры!» Я давненько не следовала своему девизу. — Где мой маленький ангелочек? — спросил Айра и шлепнул передо мной полдюжины полуразложившихся воробьев — ощипать на ужин. — Черт ее знает, — пробормотала я. — Ты не знаешь? — Может, во дворе? Айра повернулся и крикнул: — Венди! Папочка вернулся! Я слышала, как он кричит то тут, то там — все тревожней и тревожней. Айра нашел Венди на дороге в город: она ковыляла в мокрых штанишках прямо по проезжей части. Он трясся от ярости, когда притащил ее — на удивление целую и невредимую — домой. Я никогда еще не видела таким сердитым своего добродушного мужа и с наслаждением смотрела, как мечут молнии его злые темные глаза. Он положил Венди в кроватку, спустился вниз и молча уставился на меня. Я равнодушно пожала плечами. — Я устала. Двадцать семь месяцев я занята только ребенком. — Устала от Венди? — закричал он. — И поэтому отпустила ее на дорогу? Чтобы она больше не надоедала тебе? — Я не знала, что она на дороге. — Это уж слишком! Ты даже не знаешь, где твой ребенок! — Ребенок, ребенок! Меня тошнит от детей! — воскликнула я. — Могу я для разнообразия подумать о чем-то другом, а не о горшке и его содержимом? — Жаль, что тебя тошнит, Джинни, — мрачно ответил Айра. — Нам еще слишком рано оставаться без Венди. Мы ей нужны. Я понимаю: тебе не впервой собирать вещи и уезжать, если что-то надоело. Но, Джинни, ты сама хотела ребенка. Вспомни, это твоя идея. И, черт побери, ты обязана заботиться о ней. Это твой долг! — Убирайся к черту, — спокойно предложила я. — И забери своих дурацких воробьев! Засунь их себе в задницу! — Если ты еще раз заговоришь со мной на языке «соевых баб», Джинни, я тебе его вырву. — Ну-ну, принц, как тебя там, вот ты и показал себя в истинном свете, — неторопливо проговорила я и вытянула босую ногу. — Мистер Ласковый вылез из своего чулана, чтобы примкнуть к плотным рядам своих фанатичных родственников — очаровательных жителей Старкс-Бога. Я подняла голову и увидела, что Айра целится в меня из ружья. — Я размазжу тебе башку, если ты не заткнешь свой грязный рот, — прошипел он. Я спокойно заглянула в дуло. Значит, вот она какая? Смерть подкрадывалась ко мне всю жизнь и теперь брала верх. Значит, мне суждено быть застреленной в каменном доме в Старкс-Боге, штат Вермонт? Неожиданный конец для провинциалки из Теннесси. Что ж, по заслугам. Быть по сему. Я вышла за него без «любви», что бы ни означало это слово, и постепенно возненавидела доброго и славного человека только за то, что не могла жить его жизнью — надежной, дисциплинированной, ответственной, но предсказуемой и безрадостной. Айра выполнил свои обязательства, предоставив мне «нормальную», «правильную» жизнь, но я оказалась совсем не «спокойной и ласковой» женщиной. Я зажмурилась и ждала, когда моя голова разлетится на куски, как подброшенная тыква. Ничего не произошло. Я услышала всхлипывания и открыла глаза: Айра скорчился в кресле под портретом Папы Блисса и горько плакал. Ружье валялось в углу. Так мы провели там всю ночь. Утром я проснулась со страшной головной болью и отвращением к самой себе. Айра с несчастным видом смотрел на меня. Мы бросились друг другу в объятия и стали бешено целоваться. Через час Айра ушел на работу в свой офис, поклявшись начать новую жизнь. — Я так хочу, чтобы ты стала счастлива, Джинни, — сказал он на прощание. — Я счастлива, Айра, — постаралась я убедить нас обоих. — Сегодня мы сделаем сына, — пообещал он и укусил меня за ушко. На ужин я приготовила его птиц. Укрыла их маленькие жалкие головки листочками салата и постаралась отделить мясо от хрупких косточек. — Вкусно, — похвалил Айра. (Так же хвалила Эдди мои соевые крокеты.) — Вкусно, — согласилась я, думая о том, что вечером мне предстоит зачать сына. Мама всегда утверждала, что личные переживания не имеют значения, важно только одно: исполнять свой долг. Это мой долг — родить наследника. Ничего не поделаешь. Но в эту ночь зачатие не состоялось. Айра больше не старался довести меня до оргазма, его заботило другое: определить дни, благоприятные для зачатия мальчика. Он снова стал читать свои брошюры и отмечать в календаре эти дни. Я чувствовала себя средневековой крепостью во время осады. Айра купил спринцовку и приготовил в кружке какой-то раствор. Несколько дней он воздерживался от секса, чтобы накопить перед атакой силы. — Но почему обязательно сын? — Все хотят сына. Но я не была уверена, что хочу второго ребенка. А если так, чем мне заниматься? Как оправдаться перед Айрой? «Нужно исполнять свой долг». Первые две попытки с треском провалились. Айрина сперма растворилась в море теплого содового раствора, который он впрыснул в меня из спринцовки. — Айра, — попробовала возразить я, — я, наверное, рожу гору печенья после этой соды. Стояла поздняя осень. Я сажала Венди в рюкзак и гуляла по полям и долинам. Мне было хорошо, только страшно при мысли, что, когда забеременею, наши прогулки сорвутся. Венди весело подпрыгивала у меня на спине, а когда уставала, клала головку мне на плечо и засыпала. Иногда я не успевала приготовить ужин или приходила так поздно, что Айра откладывал свои заседания и с беспокойством ждал нас. Дом был запущен. У меня не хватало времени наводить порядок. В ванной собиралась куча грязного белья и лежала неделю, а то и больше, потому что я забывала отдавать его в прачечную, и оно покрывалось зеленой плесенью. Айра мрачнел. Он больше не спрашивал, счастлива ли я. — Я не сказал, что от тебя требуется много, — сказал он после ужина, сидя перед телевизором с сигарой во рту. — Немного! — Я по пунктам перечислила все свои обязанности, необходимые для поддержания порядка в концлагере, который он называет домом. — Но, Джинни, это твоя работа. Я весь день делаю массу вещей, которые мне совсем не нравятся, чтобы нам хватало денег на жизнь. Нужно работать, чтобы жить. Это очевидно. Ты не исполняешь свой долг. — Господи! — вспыхнула я. — Иди ты со своей душой счетовода! — Если ты не хочешь жить в моем доме, быть мне женой и иметь моих детей, — назидательно сказал он, — тебе стоит подумать о том, чего же ты хочешь. — Он взял календарь и углубился в определение благоприятных дней в этом месяце. В одну из прогулок я дошла до бобрового пруда. Венди спала. Я остановилась, ожидая, что меня хватит удар. Я бывала здесь после того, как погибла Эдди, но только на Айрином «Сноу Кэт», а это совсем не то, что очутиться здесь одной поздним осенним днем. Я пошла по берегу пруда. Солнце уже садилось, но было тепло; луговая тимофеевка хрустела под медленными шагами, когда я направилась туда, где был флигель. От него осталось только несколько черных обугленных камней. Зимние снега сделали свое дело, а ветер развеял пепел. Наглые лопухи пробивались сквозь серые руины. Пруд был совсем спокойный — не такой, как в ту безумную зиму. По водной глади неспешно бежали легкие волны. Мертвые серые деревья, вовсе не зловещие под ласковым солнцем, стояли, как молчаливые свидетели человеческой глупости. Я медленно вошла в наш яблоневый сад. В нем буйствовали сорняки, а там, где когда-то была помидорная грядка и где я развеяла пепел Эдди, лежали несколько сухих желтых веточек. Я подняла одну и вдела в петлицу. Тропинка, ведущая к ферме Этель и Моны, уже совсем заросла травой. Я решила зайти, поздороваться. Мы не виделись больше года. В последний раз это случилось в городе. Они бросились обнимать меня, а я нервно огляделась: на нас смотрели две Айрины кузины и владелец магазина. Куда делась моя лживая верность? Я уже понимала, что обе враждующие стороны были непримиримы. Я не подала им руку, поздоровавшись только на словах. Я сделала выбор. Но теперь не была уверена, что не ошиблась. Я стояла и смотрела на праздник, который был в самом разгаре. Они или устроили фестиваль, или отдавали дань какому-то малоизвестному индейскому празднику. Над кострами болтались черные котелки; на солнышке загорали полураздетые люди; играла музыка; раздавался смех; витал запах марихуаны. На кукурузном поле играли в мяч. Я широко улыбнулась и направилась к лагерю. И вдруг остановилась. Волна жгучей боли — я давно подсознательно ждала ее — заставила меня стиснуть зубы и крепко зажмуриться. Я поняла, что обратной дороги нет. Я не знала, как идти вперед, но знала, что назад не смогу. Но я хотела назад. Я хотела валяться на солнышке рядом с Эдди, смеяться, курить травку, забыть о спринцовке и грязных пеленках. Мне хотелось наплевать на свой долг! Но я уже жила такой жизнью, которая однажды привела к взрыву безумия, когда я забыла о Венди и Айра нашел ее на дороге. Эдди!.. Венди проснулась и захныкала. Я сняла рюкзак, вытащила ее, села на камень и посадила себе на колено. Я поцеловала пухленькое румяное личико дочери, недовольной тем, что она не выспалась. Венди неохотно улыбнулась. Я подбросила ее и подула в ушко. Она, этот маленький вампир, засмеялась и выхватила из петлицы засохшую желтую веточку. Я заставила себя сидеть и спокойно смотреть, как она медленно, один за другим, обрывает листочки. Потом взяла рюкзак в одну руку, влажную маленькую ладошку — в другую, и мы пошли через лес обратно в город.
Глава 12
Пятница, 7 июля. Джинни учила птенцов летать. Она подбрасывала их в воздух, и они, по крайней мере, стали расправлять крылышки, хотя по-прежнему отвесно, как камни, падали на землю. Она надеялась, что эти упражнения быстрей укрепят их мускулы. Венди тоже долго училась ходить: сначала ползла, потом смотрела на взрослых и неожиданно, в порыве вдохновения, делала шаг. В одно прекрасное утро птенцы улетят, и она их больше не увидит. Ну и отлично! Она выносила их из хижины дважды в день: утром и под вечер. Головки уже покрылись серым пухом и кое-где — черными перышками. Надо признать, они были довольно уродливы, как австралийские птицы киви, и неуклюжи, как все в детстве. Не будь она такой упрямой, давно спустила бы их в туалет. Зачем, черт побери, возиться с двумя птенцами, которые начинают безжалостно пищать, стоит ей войти в хижину? Мало у нее других забот?Джинни помедлила у дверей палаты матери — как в первый раз, более двух недель назад. Тогда она не знала, что мать тяжело больна. Второе переливание помогло всего на четыре дня. Анализы улучшились, мать повеселела. А потом все началось сначала. Она глубоко вздохнула и толкнула дверь. Как, наверное, тяжело женщине, любившей одиночество, оказаться на виду у всех! Мать оторвалась от энциклопедии и улыбнулась. — Привет, мама. Мать кивнула. — Отличная погода! (Когда не знаешь, о чем говорить, говори о погоде.) — Разве? — Помнишь тех птенцов? — Да. Как они? — Хорошо. Я учу их летать. Мать засмеялась. — Это, должно быть, очень забавно. Ты как — размахиваешь руками? — Да нет, — улыбнулась Джинни. — Только подбрасываю их в воздух. Как ты думаешь: у них в генах заложена способность летать? Или должны научить родители? — Гм-м-м, хороший вопрос. Не знаю. А ты смотрела в книге? — Бердсалл тоже не знает. Или знает, но не говорит. Не представляю, удастся ли мне ускорить их развитие? Я должна избавиться от них как можно скорее. Не могу же я торчать здесь всю жизнь! — По-моему, тебе давно пора в Вермонт, — миссис Бэбкок удивилась, как легко слетели с губ эти слова. Собирается ли Джинни вообще возвращаться? У нее есть основания сомневаться в этом, если судить по некоторым замечаниям и недомолвкам Джинни. И сама она вряд ли скоро покинет больницу. Если покинет вообще. Утром на деснах снова выступила кровь. Значит, слизистая оболочка опять кровоточит? Она еще не говорила об этом доктору Фогелю или мисс Старгилл. Ей было жаль их, а еще больше — свою несчастную дочь. Они были молодыми людьми, хлебнувшими каждый своего в этой жизни, но, к счастью, не испытавшими ужаса кровотечения. Значит, мать думает, что она скоро оставит ее? Джинни вздрогнула. Но хуже, что мать верит, будто она вернется в Вермонт. Конечно, ей самой этого хочется больше всего. Какое мучение — возвращаться в пустую хижину. Когда она продохнуть не могла от купаний, кормлений, грязного белья, занятий любовью, самой страстной мечтой было роскошь провести вечер одной без ненасытных ребенка и мужа. А теперь, после двух недель вечеров в одиночестве, она больше не могла их выносить. Ей хотелось поднять трубку и попросить у Айры прощения. Она дюжину раз за вечер открывала холодильник и смотрела в него без всякого желания есть. В гостиной стояли чашки с нетронутым кофе и чаем. Никогда она не уделяла мужу и дочке столько внимания, сколько этим забавным птенцам — меняла в корзине траву, убирала остатки пищи, постукивала по головкам… Ночные звуки — кваканье лягушек в пруду, стрекот саранчи — мешали спать и заставляли по нескольку раз за ночь тревожно проверять, заперты ли ставни и дверь. Она садилась на кушетку, открывала книгу, но мыслями была в Вермонте: Айра сидит в кресле и блаженствует со своей сигарой, а Венди вертится у него на коленях и тычет пальчиком в кольца дыма. Джинни ложилась в холодную постель, обнимала холодную подушку и представляла, что это — Айра. Как она скучала теперь без монотонных и бесконечных домашних дел! Как страдала без запахов Айриных сигар, детской присыпки, полироли для старинной мебели! Тело томилось по прикосновению теплых мужских рук, а указательный палец — по нежной ладошке Венди, держащейся за него, когда они ходили гулять. — Не знаю, считают ли птенцы меня своей новой мамой, — сказала она, — но я должна научить их летать, пока не уехала. Они отправились в лоджию. Из палаты миссис Кейбл раздавались громкие голоса. На открытой двери висела табличка «Не входить». Миссис Бэбкок остановилась. — Я тебе говорила, что миссис Кейбл со вчерашнего дня в коме? — спросила она, заглянув в лицо дочери — не расстроилась ли она. — Нет, не говорила, — стараясь не выдать тревоги, ответила Джинни. — Мне очень жаль. Палата миссис Кейбл была точно такой же, как палата миссис Бэбкок, — только без фотографий предков, цветов и фамильных часов. Такая же стена с окнами, мебель — подделка под датский модерн, такие же две кровати. На одной с закрытыми глазами лежала миссис Кейбл. Из носа и вен на руках торчали трубки, а рядом с кроватью стоял аппарат с кнопками и циферблатами — как приборная доска в космическом корабле. В ногах кровати в темно-синем теплом халате и коричневых кожаных шлепанцах стоял мистер Соломон, а над ним возвышалась сестра Тереза. Его толстые линзы вспыхивали, как передатчик Морзе, когда он сердито тряс головой. — К черту ваши «достоинства» и «самообладание», сестра! Ее душе на них плевать! Вы понимаете, что все кончено? Дайте женщине спокойно дожить последние дни. Ей предстоит еще вечность провести в черной холодной пустоте! — Нет, мистер Соломон, — пылая от уверенности в своей правоте, настаивала сестра Тереза. — У каждого есть душа, которая переживает разложившееся тело. Жизнь на этой земле недостаточно священна, чтобы ее стоило уважать. Душа — мерило жизни, мистер Соломон. Мы должны избавить миссис Кейбл от бессмысленных страданий. Она готова. Она — как птица в клетке. Удерживать ее здесь — против воли Господней. Нельзя привязывать душу этими трубками к гниющему телу — пусть даже у этих безбожников самые благие намерения. — Она нервно теребила медальон «Не моя воля, но Твоя». — Человеческая жизнь неприкосновенна, — бочком оттирая сестру Терезу от миссис Кейбл, воскликнул мистер Соломон. — Драгоценна каждая жизнь. — Он заметил Джинни и резко сказал: — Пожалуйста, позовите мисс Старгилл. Сестра Тереза пытается вытащить трубки. — Не лучше ли спросить разрешения у ее родственников? — миссис Бэбкок странно покосилась на Джинни. — Они кивают на докторов, — ответила сестра Тереза. — Но я знаю миссис Кейбл и знаю, чего бы хотела она сама. — И я знаю миссис Кейбл, — прорычал мистер Соломон, — и я знаю, чего бы хотела она. Поскольку миссис Кейбл уже не могла вразумительно разговаривать, когда попала в больницу, а только трясла головой и пускала слюни, каждый понимал ее по-своему. У миссис Бэбкок было о ней свое мнение, совсем не похожее на мнение мистера Соломона или сестры Терезы. Каждый говорил о ней так, словно уже обратил в свою веру, а она только качала головой и одобрительно притоптывала пушистой комнатной туфлей.
В этот день один из птенцов взмахнул крыльями и пролетел несколько ярдов. Джинни зааплодировала, но он врезался в ствол сосны и безжизненно упал на землю. Она несколько минут не могла поверить своим глазам, а потом, глотая слезы, швырнула его в куджу. Остался всего один. Утром Джинни с трудом узнала лицо матери: к привычным уже одутловатости и желтизне пробивалось что-то новое. Мать странно дернула ртом и пролепетала: — Не могу говорить внятно. Десны заткнули ватой. — Зачем? — испугалась Джинни. — Кровоточат. Джинни погладила мать по нижней губе, чтобы поправить тампоны — такими пользуются дантисты, и беспомощно вздохнула. — Когда это случилось? — Вчера. — Логично предположить, что настанет день — и ее настигнет кровоизлияние в мозг. Знает ли об этом Джинни? Вряд ли. Ей незачем знать. Ожидание худшего часто хуже реальности. Джинни села на кровать у ног матери и задумалась о кровоизлиянии в мозг. Нужно ли предупредить мать о грозящей опасности? Нужно ли ее подготовить? — Очень мило с твоей стороны, что составила мне компанию. Я понимаю, тебе пора домой, к Айре и Венди, — словно невзначай заметила миссис Бэбкок. Джинни отвела взгляд. — Как у Айры дела? — как ни в чем не бывало продолжала мать. (Конечно, нехорошо вмешиваться не в свое дело, но имеет же она право знать, как заботятся о ее внучке!) Джинни пожала плечами. — Сестра Айры присматривает за Венди днем, а он — вечером. К счастью, я не столь незаменима, как ты. Миссис Бэбкок удивленно подняла брови: похоже, она наступила на больную мозоль. — По-моему, Венди повезло, что у нее столько взрослых родственников, — воинственно продолжала Джинни. — Будет с кем цапаться, кроме меня, когда станет подростком. — Я бы на это не рассчитывала, — засмеялась мать. — Знаешь, я всегда запрещала вам жевать жвачку: думала, это отвлечет вас от худших привычек. Но не сработало, верно? — Верно, — улыбнулась Джинни. — Должна признаться, меня всегда поражало, что вы, дети, относитесь ко мне так неприязненно. — Мне казалось, ты не понимаешь, чего я от тебя жду. Помню, я закричала, что ненавижу тебя, а ты невозмутимо ответила: «Что ж, для того и родители, дорогая». — Да ты что? Неужели? Прости. Наверно, я была чем-то очень расстроена. — Да, но майор тебя потом успокоил. Они улыбнулись друг другу, как солдаты, вместе прошедшие войну. В двери возник доктор Фогель — огромный добрый весельчак в белом халате. — Ну, как мы себя чувствуем? — бодро спросил он, заглянул в ее карточку и нахмурился. Осмотрел вату, оставленную после анализа, вытащил изо рта окровавленные тампоны и попросил пошире открыть рот. — Хорошо, — неестественно весело сказал он. — Мы проконсультировались насчет вас с некоторыми специалистами, миссис Бэбкок, и пришли к заключению, что следующим шагом будет удаление селезенки. Миссис Бэбкок и Джинни оцепенели. — Есть основания полагать, что она не разрушает отжившие тромбоциты, — объяснил доктор. — Какие основания? — пробормотала миссис Бэбкок. Она слышала уже столько диагнозов! — Гм-м-м, да. Ваши анализы, миссис Бэбкок. Мы не оперируем без достаточных оснований. Сейчас самое время. Операция прошла удачно. Миссис Бэбкок сделали еще одно переливание, чтобы ослабить послеоперационное кровотечение, и целых пять дней все было в порядке. На шестой день возобновилось желудочное кровотечение, количество тромбоцитов упало, как стрелка высотомера на пикирующем самолете. Джинни спустилась в лабораторию. Осунувшийся и похудевший доктор Фогель отвел взгляд и виновато сказал: — Гистологический анализ селезенки показал неопределенные изменения характеристик ИТП… — Доктор Фогель, — перебила Джинни, — я не понимаю, о чем вы говорите. — Удаление селезенки — терапевтический прием, а не результат неправильного диагноза. — Кто вас обвиняет? — Вы, мисс Бэбкок, вы в чем-то обвиняете меня с тех пор, как появились здесь и не спускаете с меня глаз. — Вы параноик, доктор Фогель. — И в этот момент она поняла, что обвиняет его — в том, что поверила в сказку, будто современная медицина всесильна. Он не мог помочь, какими бы требовательными ни были пациенты. — Возможно. — Что дальше? — Не знаю. — Насколько я понимаю, — объяснила Джинни Клему и Максин, сидя на их шумной кухне, — врачи делают все, что могут. Но ей нужно чудо. Она сразу же пожалела об этих словах. С того вечера в летнем домике она решительно избегала с ними разговоров на религиозные темы. Они искательно заглядывали ей в глаза, ожидая, что она сообщит о решении идти туда снова, но Джинни каждый раз ловко переводила разговор на свое расстроенное душевное состояние. Она не знала, на что решиться, и впервые в жизни боролась с желанием опереться на ближайшее сочувствующее плечо. Глаза Клема фанатично блеснули. — Дай Господу шанс, Джинни. Он вылечил мою ногу, он вылечит кровь твоей мамы. Нога Клема — весомый аргумент. — Что нужно делать? — В конце концов, что стоит Господу совершить еще одно чудо? — Сможешь привести ее в храм? Джинни подумала. — Нет. Она не поднимется на холм. — Неважно. Я сам к ней приду. После службы. Когда почувствую в себе силу. — Было бы отлично, Клем. Но как сказать матери? В конце концов, что плохого в том, чтобы дать Клему шанс? Разве не стоит попытаться? От нее ведь не требуют поменять веру! Джинни вернулась домой и вынесла во двор последнего птенца. Посадила его на палец и пристально посмотрела в крошечные черные глазки. Птенец открыл клюв, вытянул розовое горлышко и запищал: «Покорми меня, мама!» Джинни нетерпеливо наклонила руку, он отчаянно замахал крыльями и удержался. Похоже, его интересует только еда. Она безжалостно подбросила птенца вверх. Он должен летать, черт побери! Птенец плотно прижал крылья к бокам и потерял высоту, как самолет-камикадзе, но, почти столкнувшись с землей, поднялся в воздух, захлопал крыльями и плавно опустился вниз. Еще вчера Джинни волновали две вещи: если он приземлится, сможет ли снова оторваться от земли, и сможет ли он пить и есть самостоятельно? Она ставила в корзину блюдца с хлебными крошками и водой, наклоняла в них клювик, но все напрасно. Он только громче пищал, пока наконец она не кормила его сама, чтобы не спятить от писка. Что будет с этим жалким созданием, пробудь он без нее хотя бы день? Увидит других стрижей и поймет, как опускаться на пруд и пить воду? Или его прогонят за человеческий запах? Умрет ли он от голода? Или вернется сюда, требуя кормить его всю оставшуюся жизнь за то, что вытащила из золы?
Вечером мать не ответила на ее приветствие. — Мама, — сразу перешла Джинни к делу. — Помнишь, я говорила, что нога Клема поправилась? Он хочет помочь тебе. Как ты считаешь, стоит попробовать? Миссис Бэбкок долго молчала. Она выросла в южной провинции среди множества форм религиозных извращений. Ее воспитывали в Южной баптистской церкви, а потом она перешла в епископальную: Уэсли и слышать не мог, чтобы его дети стали баптистами. Она восхищалась торжественным языком англиканских молитвенников, находила утешение в древних ритуалах, но в глубине души по-прежнему питала нежность к сектам фундаменталистов своей родины — целителям верой и заклинанием змей, тем, кому являлись видения и кто толпился в храмах, неистово молясь и распевая псалмы. Она просыпалась ночью и повторяла молитвы из потрепанного молитвенника, но они не помогали. Наверное, ей не хватало совсем малого, чтобы выздороветь, — веры в выздоровление. Если Богу угодно использовать в качестве своего инструмента мальчишку Клойда — она готова вернуться к вере своих отцов. — Почему бы и нет? Попробуем и это. На следующий вечер в зеленых рабочих брюках и свежей белой рубашке в дверях палаты появился Клем. Он держал руки ладонями вверх, как хирург в стерильных перчатках. А может, пальцы были остриями подковы и удача слетела бы с них, опусти он руки к земле? Он весь светился от веры и признательности за доверие. Он поздоровался и начал молиться. Это была бесхитростная молитва: он просил Господа милости, чтобы вылечил миссис Бэбкок. Потом зажмурился, как ребенок, загадывающий желание в день рождения, и положил натруженные руки сначала на голову больной, потом на сердце и операционный шов. Пообещав вернуться после следующей службы, когда зарядится святостью и силой, Клем ушел. Они сидели, не зная, что думать: то ли это элементарная глупость, то ли появилась надежда. На следующий день у миссис Бэбкок произошло кровоизлияние в правое полушарие мозга. Ночью она лежала с трубкой в вене и смотрела левым глазом в окно. Полыхала гроза. Ветер гнул до земли ветки вяза. Белки спрятались где-то в дупле. Молнии чертили по черному небу замысловатые линии. Похоже на трещины на тарелке или землю после землетрясения… Накануне Джинни читала ей последний том энциклопедии. Электрические колокола играли «Заставь мир уйти, сними его с моих плеч»… — Янтра, — читалаДжинни. — Физическая форма, выражающая идею символизма. Используется как объект поклонения в некоторых типах йоги… — Она замолчала. Миссис Бэбкок вопросительно посмотрела на нее. — Я… занималась немного йогой в Вермонте. С другом по имени Уилл Хок. Немного… — Она глубоко вздохнула. — И тебе помогло? — Кое в чем. Но, похоже, не в том, на что я рассчитывала. — После девяти лет чтения энциклопедии я пришла к выводу, что все великие религии сводятся к инструкциям, как умирать. — Неужели? В религии должно быть больше жизни, чем смерти. — Почему? Она смотрела на сверкающие в черном небе молнии и думала о том, что умирает. Этот последний месяц в больнице — просто обряд. Сам процесс продолжается уже несколько лет. Она читала в энциклопедии, что лист начинает умирать с середины лета, хотя еще тепло и дни длиннее ночей. Живые зеленые листья вяза за окном уже начали умирать. В середине лета под действием генов, гормонов и окружающей обстановки неустойчивое равновесие между расцветом и гниением, порядком и хаосом, между развитием и распадом нарушалось в пользу гниения. Количество и вид протеинов постепенно изменялось с течением недель и месяцев, пока лист не сорвется под легким бризом и упадет на землю. Одно она знала точно: живой эту больницу не покинет. Она понятия не имела, сколько еще протянет, если протянет вообще. В последнее время ей все чаще вспоминалось прошлое. Из закоулков памяти возникали люди и события, о которых она не вспоминала годами. Например, она отчетливо видела первую и единственную поездку в Cay-Гэп с тех пор, как в пять лет переехала с родителями в Халлспорт. Когда ей было десять, умер дед по отцу, и они ездили на его похороны. Сто пятьдесят миль по лесистым предгорьям блестящий новенький «форд» одолел за два дня. Дорога была вся в рытвинах. Каждые пару часов они останавливались и вылезали, и отец с помощью досок и бревен вытаскивал автомобиль из грязи. Дважды ему пришлось искать фермеров, чтобы мулами вытащить машину. Им пришлось переезжать вброд реки, проезжать сквозь тоннели. Какая-то деталь сломалась, и отец отыскал ее в куче железного хлама у одного фермера. Мать — в шелковом платье, перчатках и шляпке с цветами — всю дорогу твердила: «Милая, никогда не стыдись своих родственников. Им приходится тяжело работать, но они боятся Бога. Они из племени первопроходцев. Немного отсталые, неповоротливые, но работящие». Эти нравоучения заставили девочку заподозрить, что с ее родственниками что-то не так. В голове возникали вопросы: почему родители никогда не приезжали в Сау-Гэп? Почему уехали? Почему она уже пять лет не видела своих деда и бабку? И теток, и дядей, и кузин? Они успели вовремя: на маленьком кладбище на склоне холма гроб как раз опускали в могилу. Вдалеке поднимались хребты, обрывающиеся в глубокие долины. На немощеной главной улице городка стояли два кирпичных здания: местной власти и суда. Все остальные, включая несколько магазинов и пару церквей, были из дерева. Она стояла в шифоновом платье с лентами и оборками и с любопытством рассматривала своих кузин в чистых платьях из мешковины. Во всем — лицах, одежде, воздухе — чувствовалась неискоренимая вездесущая угольная пыль. Ужин в доме дяди Рубена, брата отца, был многолюдным и шумным. Наутро, прихватив бутыль маисовой водки, Рубен пригласил девочку и ее отца на рыбалку. «Рыбалка» заключалась в бросании динамитных шашек в залив за его домом и собирании оглушенной рыбы. — Это запрещено, Рубен, — сказал отец после первого взрыва. — Противозаконно. — Я сам — закон, Зедедия, — ответил Рубен и хлебнул из бутыли. На следующий день он повез их на шахту, на которой работал отец перед тем, как переехать в Халлспорт и где до сих пор работал сам Рубен. Шахта оказалась темной дырой в склоне холма, в которую вели железные рельсы. Вокруг под крытыми рубероидом навесами были навалены огромные кучи гладкого красноватого камня. Отцу было не по себе в новом костюме и крахмальном воротничке, он нервничал, пока они с дядей Рубеном не уселись прямо на кучу шлака. Дядя Рубен вытащил из-под себя минерал с отпечатками доисторических растений и протянул девочке. — Ничто никогда не изменит этих растений, — серьезно сказал он своей очаровательной племяннице. — Они замурованы здесь уже тысячу лет. А может, и миллион. Она взяла минерал и, порывшись в куче, отыскала еще один. Вечером за ужином в набитой родственниками комнате Рубен спросил: — Почему ты уехал, Зед? Твое бессмысленное бегство, можно сказать, приблизило конец отца. Мистер Зед объяснил. Оказывается, его кузен Зек Халл претендовал на место шерифа от демократов. Мистер Зед был республиканцем, терпеть не мог Зека и заявил, что не будет за него голосовать. «Если ты не хочешь помочь своему родственнику, — сказал Зек, — ты не поможешь никому». Он хотел убить мистера Зеда. Тому удалось удрать на лошади в лес и пару дней скрываться в реке, потому что кузен-демократ охотился за ним как за зверем. Зека избрали, он много лет был шерифом и только недавно погиб в перестрелке с контрабандистами. — Теперь Зек мертв, и я решил, что могу без опаски приехать, — закончил мистер Зед. Миссис Халл рассказала, как работала в школе, пока мистер Зед был шахтером. Однажды среди бела дня ученики хотели перевернуть ее коляску, и она, как Сирано де Бержерак, отбивалась от них длинной шляпной булавкой. Маленькая дочь недоверчиво слушала своих родителей и смотрела на них. Отец был одет в темный костюм с крахмальным воротничком, а мать — в готовое шелковое платье, украшенное брошкой. Теперь у матери были две горничные, и она почти все время проводила в церкви или женском клубе. Перед самым отъездом дядя Рубен хлебнул своей неразбавленной водки и сел покататься в «форд». После нескольких сумасшедших поворотов «форд» подпрыгнул на тугих резиновых шинах, покатился по обрыву и разлетелся на тысячу кусков. Дядя Рубен успел выскочить, как тряпичная кукла, и снова хлебнул из бутыли. Домой они ехали в пассажирском автобусе, зажатом огромными грузовиками с кучами блестящего черного угля. «Зачем мы уезжаем?» — спросила девочка. Ей понравились нарядные тети, дяди и кузины, а шумные обеды были просто праздником по сравнению со скучными обедами в гулкой столовой в Халлспорте, где накрывали только для них троих. — Ради тебя, милая, — засмеялись родители. — Чтобы дать тебе то, чего никогда не было у нас. Что они имели в виду, она поняла позже. Они закатили ей настоящую сцену, когда она чуть не сбилась с пути, позволив своему старому школьному обожателю Неду Кетчуму попросить у отца ее руки, и срочно отправили в университет в Брин-Мавр. Они сияли, посадив дочь в поезд: их дочь, дочь простого шахтера, получит хорошее образование! Образованная миссис Бэбкок вернулась в Халлспорт. Все получилось в соответствии с планом, даже лучше. Она вышла замуж за выпускника Гарварда, и счастливые родители поселили молодых в огромном белом особняке, а сами из хижины следили за их успехами. Мистер Зед, уважаемый человек, умело поддерживал своего жизнерадостного зятя. Ему самому пришлось нелегко, когда бежал из Сау-Гэпа, но теперь он многого добился. И миссис Халл — тоже. Она преподавала в дюжине кружков, все уик-энды митинговала, а в будни висела на телефоне, обсуждая эти митинги. Миссис Бэбкок рано почувствовала, что такая жизнь, как у матери, — не для нее. Она посвятила себя исключительно дому и семье. А потом настал день, когда она пришла в хижину, бросилась на кушетку и, измученная собственным самоотречением, простонала: «Я устала, мама. Я не выдержу. Что мне делать?» И мать холодно ответила: «Ты должна исполнять свой долг».
Мистер Зед разгневался, когда узнал, что Уэсли перевел завод на военные рельсы. Мистер Зед умирал, недовольный своей жизнью, а следовательно, и жизнью дочери. Он называл Уэсли авантюристом и сажал куджу в надежде, что он поглотит и город, и шахты, и завод — все, что стало причиной смерти его товарищей и самого мистера Зеда. А жизнь, которой жила миссис Бэбкок, стала казаться ей скучной и бессмысленной, когда дети разъехались и положили конец халлспортской саге мистера Зеда. На следующий день Джинни и миссис Бэбкок лежали и смотрели «Тайные страсти». Линду мучили угрызения совести. — Так ты бросила их? — спросила во время рекламы миссис Бэбкок. Джинни больно прикусила губу. — Кого? — Айру и Венди. — Я этого не говорила. С чего ты взяла? — Ты несколько раз упомянула об этом. — Неправда. — Откуда же я узнала? — грустно усмехнулась мать. — Джинни, дорогая, боюсь, мы похожи друг на друга больше, чем нам бы хотелось. Джинни неприязненно посмотрела на мать. Она не находила, что у них много общего. За все время они не сказали друг другу ничего интересного, их разговоры были совершенно никчемными. С чего это матери взбрело в голову? Она проговорилась об Айре и Венди? Не может быть. Мать блефует. И вдруг неожиданно для самой себя она беспомощно посмотрела на мать: — Что мне делать, мама? И испугалась. Зачем спрашивать, если знаешь ответ? «Исполняй свой долг, — скажет мать, — возвращайся к ним, исправляйся, проведи оставшуюся жизнь в искуплении вины перед ними». А потом Джинни поняла, что потому и спросила, что надеялась услышать все это, чтобы вернуться и подсознательно всю жизнь обвинять свою несчастную мать. Миссис Бэбкок долго молчала. Первым ее побуждением было протянуть руку, погладить дочь по голове и сказать, что все наладится. Потом она поняла, что нужно просто сказать, как когда-то сказала ей мать: «Исполняй свой долг». Что еще она могла предложить? Так хочется защитить своего ребенка от ошибок, страданий и поражений! Маленькие дети — как планеты, вращающиеся вокруг родителей-звезд. Но с возрастом их орбиты больше похожи на орбиты комет. У них своя дорога в жизни. Нельзя указывать кометам. Взрослые дети делают то, что считают нужным, а родители могут только стиснуть зубы, следить за ними и молиться за них. Что, если долг Джинни по отношению к Айре и Венди совсем не похож на ее собственный? Миссис Бэбкок вспомнила годы своего отчаяния. Кто, кроме самой Джинни, знает, как ей поступить? Родители слишком много хотят от детей. Это нечестно — использовать их в угоду своим амбициям или взглядам. Теперь она это понимала… — Не знаю, Джинни, — с усилием ответила она. — Тебе лучше знать. Джинни широко раскрыла глаза — Спящая красавица, разбуженная поцелуем Принца. Она молча смотрела на больную мать. Та открыла здоровый глаз и тоже смотрела на нее. Неужели заклинание снято? Они улыбнулись друг другу, как не улыбались никогда, — с отчаянием и надеждой.
Глава 13
Татуировка «Мандала[5]». Я лежала в красном бикини у нашего бассейна. Припекало позднее весеннее солнце. Айра уехал со своей Национальной гвардией в лагерь, Венди еще не проснулась. Я наслаждалась двухнедельной свободой от обязанности зачать Эллиота или Сэмми. Эти безуспешные попытки продолжались уже шесть месяцев. Каждый раз Айра заставлял меня на полчаса задирать ноги вверх, чтобы в яичники попало больше сперматозоидов, а в благоприятный день каждого месяца прибегал трахать меня каждые два часа. За пару дней до начала моей менструации мы затаивали дыхание: я — с надеждой, Айра — со страхом. И каждый месяц я втайне торжествовала, когда она все-таки начиналась. Я наслаждалась одиночеством. Больше всего в семейной жизни меня угнетало однообразие: и через тридцать пять лет я буду болтать о погоде с родственниками Айры, убирать, варить и ухаживать за Венди и еще не существующим сыном. Я по-прежнему ходила в свой клуб, но как ни старалась говорить о погоде, мое равнодушие не укрылось от чужих глаз. — Ты что-то скисла, Джинни, — прошептала мне утром Анжела и сочувственно похлопала по руке. — Послушайся моего совета. Рожай второго. Ее слова подхватила соседка, и вскоре только и было слышно: «Нельзя так долго тянуть со вторым», «Единственный ребенок всегда одинок», «Разве дети не восхитительны?», «Ты почувствуешь, насколько легче с двумя, чем с одним», «Чем больше, тем веселей»… Я попалась в капкан, но хуже всего было то, что приготовила его сама. У меня, правда, были мои дивидендные чеки, я могла забрать Венди и уехать. Но куда? Чем я стану заниматься? Я была готова схватиться за любую соломинку, лишь бы избавиться от всепоглощающей скуки. — Эй! — раздалось за дощатым восьмифутовым забором. Айра оградил бассейн, чтобы туда не упала Венди. — Эй! Я набросила халат и подошла к калитке. У черного входа стоял молодой мужчина в замызганном полукомбинезоне и кожаной куртке с бахромой, одетой прямо на голое тело. За спиной висел рюкзак. Конечно, выглядел он необычно, но к нам часто заходили бродяги — позвонить или еще что-нибудь. Я подошла поближе. На длинных каштановых волосах красовался красный носовой платок. В ухе болталось серебряное кольцо с малюсеньким колокольчиком, а из-под спутанной бороды виднелись только губы, нос и глаза. Он очень походил на овчарку. — Да? Он оглянулся. — Я могу вам помочь? — О да, мэм. Не дадите ли мне глоток воды? (Южный акцент? Большая редкость в Вермонте.) — Конечно, подождите минутку. Я принесла воды. Он зачем-то подошел к забору и смотрел в щель на бассейн. На спине проступили пятна пота. Он одним глотком выпил всю воду и протянул мне стакан. — Спасибо, мэм. — Еще что-нибудь? — спросила я в надежде еще раз услышать очаровательный южный акцент. — Нет, спасибо. Все отлично. — Откуда вы? С Юга? Он тревожно посмотрел по сторонам и ничего не ответил. Я, как тренер в окошко «доджа» в Халлспорте, внимательно заглянула ему в глаза. — С Юга? — Как вы узнали? Я засмеялась. — По акценту. — Я надеялся, что уже избавился от него. — Извините. Но я различу южный акцент в уличном гуле, потому что я сама из Теннесси! — Ничего себе! — дружелюбно протянул он. — А откуда именно? — Из Халлспорта. — Будь я проклят! Я проезжал там сотни раз. Ну и дыра, прости Господи! Это там тот трахнутый военный завод? Я холодно кивнула. Я могла ругать свой город как угодно, но чужим его лучше не трогать. И он продолжил: — А я из Джорджии, штат Атланта. Но давно уехал оттуда. — А здесь что вы делаете? — Это долгая история. Как вам нравится эта жара? Я промок, будто в Джорджии в июне. Не знаю, как люди выживают в этом чертовом леднике. — Я тоже, — мрачно согласилась я и, вдохновленная редкой возможностью проявить свое южное гостеприимство, прибавила: — Не хотите искупаться в бассейне? Он снова оглянулся. — Отлично. Я сняла халат, а он расстегнул комбинезон, выскользнул из него и неожиданно оказался голым. Я остолбенела. Я не рассчитывала, что на нем будут плавки или хотя бы трусы, но использовать свой старушечий платок как набедренную повязку он вполне мог. Его тело было довольно красивым, почти как у Айры. Только у Айры не было бороды. В спутанных густых волосах болтался пенис. Я неожиданно увидела нас глазами Старкс-Бога: стоило Айре уехать из города, как я оказалась у бассейна рядом с голым мужчиной. Ну и ну! И черт с вами, вдруг весело подумала я. Мой земляк плюхнулся в воду и поплыл каким-то непонятным стилем. Теперь, когда волосы и борода намокли, он стал больше походить на человека. На загорелых плечах играли блики солнца. Что это? Я с огорчением увидела на его левой руке огромный черный синяк. Что он сделал с собой? Он вышел из воды и сел рядом. Я протянула ему полотенце и увидела, что синяк — вовсе не синяк, а огромная татуировка. Я не могла отвести от нее глаз. В круг были вписаны два похожих на лепестки узора, а в них — по четыре равнобедренных треугольника вершинами вверх, соединявшихся с четырьмя такими же, но вершинами вниз. В треугольниках было не меньше дюжины треугольничков и тетраэдров, а в центре — между лепестками — еще один треугольник, в котором фиолетовыми чернилами было вытатуировано чудовище, какого я не видела ни в одном фильме ужасов в летнем кинотеатре в Халлспорте. Громадные глаза вытаращены от ярости, на голове со звериными ушами — корона из крошечных черепов, из макушки торчит нож для снятия скальпов, рот искажен в страшном оскале, и из этого рта изрыгается то ли блевотина, то ли кровь. Она растекается, сворачивается в спираль, выпрямляется на сторонах треугольников, снова изгибается и — я пригляделась — очерчивает лепестки цветка, похожего на лотос. — Фантастика! — сказал он, натягивая комбинезон. — Спасибо. — Пожалуйста. — Я не могла отвести глаза от его фиолетового монстра. Какой убогой показалась мне бабочка на бедре Клема Клойда! Ручка калитки дернулась. Я знала, что это Венди — проснулась, выкарабкалась из кроватки и отправилась искать маму. Но незнакомец этого не знал. Он припал к земле, как испуганный зверь, и замер. — Это мой ребенок, — объяснила я, открыла калитку и подняла влажную, сладкую, пахнущую грязными штанишками Венди. — Это кто? — спросила она и показала пухлым пальчиком на незнакомца. — Это кто, мам? — Человек, который только что плавал в нашем бассейне. — Это кто? — Человек, который пришел попросить воды. — Это кто? Я знала, что так будет продолжаться целый день, если я не переведу разговор на другую тему. — Хочешь сок и печенье? А вы хотите? — Я не хочу утруждать вас, мэм, — ответил он, но глаза жадно блеснули. — Это вовсе не составит труда, — заверила я, почувствовав себя на Юге. Там, где, как утверждают злые языки, мужчины возводят женщин на пьедестал, а потом используют как скамейку для ног. — Вы не посмотрите минутку за ребенком? Не разрешайте ей подходить слишком близко к краю. Она думает, что умеет плавать, и так и норовит пойти на дно. Он засмеялся, показав крепкие белые зубы. Я принесла лимонад, печенье и чистое полотенце. Венди подбегала к бортику, а незнакомец вставал у нее на пути, и она со смехом утыкалась в его колени. Штанишки сползли с ее толстенькой попки, угрожая упасть совсем, а мужчина со счастливой улыбкой следил за ее ужимками. Мы устроились на траве, и я разлила лимонад. — Вы, похоже, умеете обращаться с детьми. У вас есть свои? — Нет, я еще не был женат. Надо признаться, единственное, что удерживало меня от этого шага, — дети. Я часто играл с чужими, но никогда не хотел иметь своих. — Ну что вы! Разве можно лишать себя удовольствия иметь ребенка, который пронесет твои гены через века? — издеваясь над собой, спросила я. — Я никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Наверное, слишком начитался в школе Шекспира и представлял мир сценой, а ребенка — маленьким актером, который ждет не дождется, когда я сойду со сцены, чтобы ему досталась главная роль. — Гм-м-м. — Интересно, если сказать это Айре, он отступится от своего желания иметь сына? Незнакомец жадно, как голодный волк, ел печенье. — Хотите сэндвич? Даже за шевелюрой и бородой было видно, как он покраснел. — Простите, если я слопал все ваше печенье. Я ничего не ел со вчерашнего утра. — Господи! С колбасой или сыром? — Сыр подойдет, — ухмыльнулся он. — Вы говорили, что путешествуете? — не без задней мысли спросила я. Он подозрительно покосился на меня, запихнул в рот остатки третьего сэндвича и кивнул головой. — Иду домой. В Джорджию. — Долго еще идти? — Несколько месяцев. Не знаю. Когда дойду, тогда и дойду. День клонился к вечеру, но молодой человек явно не спешил. Наевшись, он подложил рюкзак под голову, растянулся на траве и безмятежно уснул. Наступил вечер. Я покормила Венди, уложила спать и спустилась к бассейну. — Послушайте, — разбудила я незнакомца. — Хотите остаться? Скоро совсем стемнеет, вы не найдете шоссе. — Конечно, мэм, — немедленно отозвался он. — Большое спасибо. — Меня зовут Джинни. Джинни Блисс. (Интересно, что сказала бы мама? Что он убьет нас с Венди или стащит фамильное серебро?) Он нервно оглянулся. — Зовите меня Хоком. В ту ночь Хок спал в комнате для гостей. Весь следующий день мы провели у бассейна. Я уходила приготовить еду, уложить Венди спать или усадить на горшок. Мы с удовольствием купались в прохладной воде, разговаривали обо всем на свете и не заметили, как наступил вечер. Хок сказал, что какое-то время жил в Монреале. — Ты не поверишь, как там холодно зимой! — Его передернуло. — Улицы — настоящие трубопроводы. Стоишь на автобусной остановке, а этот чертов циклон несет прямо на тебя столько снега, что не видно даже фар автобуса. О Господи, это так ужасно! Мы обменивались душераздирающими рассказами о заснеженном севере — десятифутовых сугробах, восьмиградусных морозах и смертоносных сосульках. Это была очень интересная вариация на любимую тему жителей Старкс-Бога. — Знаешь, — доверительно сообщил он. — Меня всегда тянуло ко всяким миссионерам. Не знаю, может, тебя тоже? Разве Теннесси не упоминается в Библии? Когда я по воскресеньям катался на машине, единственная радиостанция, которую было прилично слышно, обрушивала на меня всякую религиозную чушь. Но в Монреале — это я точно знаю — не существует ни пламени, ни страсти, только безмолвные сугробы и длинные серые сумерки. — И тоскливые ночи, когда ветер продувает твой дом и хлопает ставнями и шифером на крыше, — поддакнула я. — А улицы покрываются льдом и снегом, пешеходы проваливаются по колено, их сапоги протекают и пальцы немеют от холода. — А в апреле снег тает весь сразу, и поля превращаются в болота, а дороги — в моря грязи. А мухи? Так и норовят залезть тебе в волосы! Мы радостно засмеялись, обретя наконец друг в друге благодарного слушателя, с которым можно поделиться сокровенными воспоминаниями об отчем доме и похохотать над Севером. Безжалостно палящее солнце было нашим союзником. — Почему же мы уехали? — печально спросила я. — Иисус Христос! Да я просто ненавидел лето в Джорджии! Мы оба так и зашлись от смеха. — Конечно, — согласилась я. — Помню, лежишь ночью в постели и молишься о самом легком ветерке. — А днем от стеклянных зданий и прокаленных дорог поднимаются волны жара. А это ужасное ощущение, как будто макадам[6] расползется, и ты вот-вот провалишься по колено. — А выхлопные газы? От них задыхаешься, как собака.— Знаешь, что я тебе скажу? — серьезно проговорил Хок. — Эта американская зима и лето специально такими созданы. — Что-что? — А ты представь, что везде вечная осень или весна — мягкое солнышко, температура восемнадцать градусов. Ты себя прекрасно чувствуешь, все под контролем, но ты помнишь, что где-то есть места, где можно окоченеть на морозе или зажариться на солнце, и понимаешь, что ты — всего лишь жалкое насекомое, не способное выжить в тех условиях. — Ты просто наслушался проповедников! — Послушай, какая у меня идея! Если бы земля не вращалась вокруг своей оси, времена года не чередовались бы. Верно? А теперь представь, что земная ось встанет точно вертикально по отношению к солнцу. На мой взгляд, это самое лучшее положение. Не будет смен времен года. Держу пари: люди, где бы они ни жили, перестанут шляться в поисках подходящего климата. Эскимосы отрастят себе роскошную шерсть и будут радоваться своему виду. Зачем им игла или китовый жир? А в Монреале или Теннесси будет умеренный, как ранней осенью, климат. — Заманчиво. — Конечно, было бы отлично. Но есть одна загвоздка: эта ось зачем-то должна вращаться, а люди не понимают, что их заперли там, где они родились. Их организмы не справятся с другим климатом, если они переедут. Внутренним термостатам, как и мозгам, не хватает гибкости. — Отличный экспромт, Хок. — Спасибо, но это не экспромт. Я читал об этом в книге. — Да? В какой? — Это новая серия. Научно-историческая фантастика. — О? — Я изучил от корки до корки десять или двенадцать томов, особенно те, где говорится о смысле жизни, природе истины и красоты. Но, — он понизил голос до шепота, — я больше ничего не могу сказать, чтобы не навлечь на твой уединенный дом алчные толпы орущих редакторов и литературных агентов. — Понимаю… Он перевернулся на спину, подставив солнцу волосатую грудь, и спросил: — Как ты сюда попала? — Если коротко, я училась в Бостоне, а потом переехала на ферму в Вермонт. — Что? Добровольно? Я улыбнулась. — Ни черта! Не представляю тебя на ферме. — Тогда я еще не остепенилась, как сейчас. Это было в молодости. — Гм-м-м. Я тоже такой. Правда, в последнее время подумываю сбрить эту смешную бороду. — Не спеши. Срезай постепенно, по чуть-чуть. Не остепеняйся слишком резко. — А как ты оказалась в этой мечте хранителя древности? — он махнул рукой на крепость Папы Блисса. — Вышла замуж за человека, которому все это принадлежит. — И что, он тебя бросил? Мне показалось, или я просто приняла желаемое за действительное, но в голосе Хока мелькнула надежда. — Нет. Он просто уехал на несколько дней. — Я съежилась от страха, поняв, что безопасней было сказать, что Айра вернется сегодня вечером. Вдруг этот Хок собирается взять нас с Венди в заложники? — Он местный? Я кивнула. — Ну, и тебе здесь нравится? — Признаться, я предпочла бы Халлспорт, Кембридж или еще что-нибудь. — А чем ты целыми днями занимаешься? — Он перевернулся на живот и уставился на меня, как на лабораторный экземпляр. — Тем же, чем все. Готовлю, мою посуду, глажу белье. Много времени забирает дочка. Мы с ней гуляем, ходим в магазин. Еще я посещаю клуб, вечеринки и прочее. — А, светская жизнь! — небрежно протянул Хок. — А путешествия? — Мы ездили всего раз за четыре года — в Теннесси и Флориду — показать внучку ее бабушкам и дедушкам. И еще я ездила в Теннесси на похороны. — А для души? Чем вы занимаетесь, например, в субботу вечером? — Смотрим телевизор. Иногда катаемся на его снегоходе. Или танцуем в школе. Или родственники — у него тут несметное количество теток, кузин и прочих — устраивают пикники или воскресные обеды. — Какой он, твой муж? — Айра? О, он очень добрый, внимательный и сдержанный. За что ни возьмется, все у него получается удивительно хорошо. И очень симпатичный — смуглый, мускулистый, высокий. Он продает страховки и снегоходы и прилично зарабатывает. Он очень дисциплинированный и надежный. — Я говорила серьезно, но Хок почему-то ухмыльнулся. У меня дрогнули губы. — И поэтому я его ненавижу. Он вздохнул и понимающе покачал головой. — Понимаю. Порядок хорош, только пока за него борешься. Я кивнула, благодарная за то, что смогла облегчить душу. — Хотя это плохо, — закончил он. — Да, поэтому мне грустно. — А тебе не приходило в голову сбежать? — Что ты! Он пустит мне пулю в лоб, но не разрешит… — Да. Такие симпатичные зануды делают это не задумываясь, — предупредил он. — Хаос, против которого мы боремся, однажды поднимет свою уродливую башку и сожрет нас. Против него нет защиты. Я заметила его «нас»: это с его стороны жест великодушия? Или он из тех, кто говорит о себе во множественном числе? — Нас? Он закрыл глаза и покачал головой. Мы замолчали. — Конечно, — решила я разрядить обстановку, — я подумывала о том, чтобы сбежать. Но куда? Я уже жила и в городе, и на ферме. С самыми разными людьми. — А как насчет пригородов? — Не знаю. Но подозреваю, что дело во мне самой. Похоже, я не умею находить золотую середину между двумя стремлениями: к порядку и хаосу. — Ты согласна, что с политической точки зрения в проблемах личности виновато государство? Что общество должно быть переделано? — Да, пожалуй… — Отлично. Тогда мы сможет стать друзьями. — В запутанной бороде сверкнули белые зубы. — Сможем беседовать и быть заодно в ожидании толпы линчевателей. — Он помолчал и с горечью проговорил: — Ведь должен быть способ изменить мир! — Ты в это веришь? — Да. Должен быть. В этот момент засигналила машина, и громкий мужской голос крикнул: — Эй! Есть кто дома? Хок подскочил и помчался к забору. — Никто не должен знать, что я здесь, — прошипел он и упал ничком на землю. Наверное, ему стыдно, что он загорает голышом рядом с замужней женщиной, решила я и подошла к калитке. — Никто! — прошипел он еще раз. В гараже суетился дядя Дин — невысокий человечек с большим животом. — Привет, дядя Дин. — Привет, Джинни. Я хотел занять у Айры пилу. — Его нет, но, пожалуйста, берите. — А где он? — В лагере барабанщиков. — Господи, как же я забыл! Тебе не очень скучно? — Совсем не скучно, — заверила я. — Сегодня отличная погода. — Отличная, просто отличная. Всю неделю обещают такую погоду. — Неужели? — Да, но ты же знаешь, эти синоптики вечно врут. — Такая у них работа. — Что? Ха-ха-ха. Верно. — Он обнял меня и повел к машине. — У тебя еще нет для нас долгожданного известия? — игриво прошептал он. — Что вы имеете в виду? — возмущенно спросила я, отлично зная, что он имеет в виду. — Тебе незачем тянуть со вторым. — Дядя Дин, не всегда получается так, как хочется. — О, мне очень жаль. Я не знал. Прости меня, Джинни. — Все в порядке, — с печальным достоинством заверила я. Хок все еще лежал, прижавшись к забору, как загнанный зверь. — Он ушел, — сказала я. — Ты сказала им, что никогда обо мне не слышала? — Кому «им»? — ФБР. — Это был дядя моего мужа. Да что с тобой? Что ты натворил, что так трясешься? Он вернулся к бассейну и лег на живот. — Я расскажу тебе правду, — с несчастным видом заговорил он. — Теперь, когда я тебя впутал, и у тебя могут быть неприятности. — С чего бы это? — Ты прятала дезертира! Я со страхом уставилась на него. В слове «дезертир» было что-то зловещее. Дезертир — это трус, который бежал со своего поста и стал грабить, убивать и насиловать. Трус, предавший своих товарищей ради спасения собственной шкуры. Я испугалась. Хок внимательно посмотрел на меня и понимающе усмехнулся. — Да. Но это не совсем так. Удивительно, но я все еще доверяла ему. Конечно, в глазах жителей Старкс-Бога Хок способен на самые ужасные вещи, но в глазах малышки Эдди он был бы героем. Я должна хотя бы выслушать его, а потом выгнать из своего дома. — Ну, раз уж ты впутал меня, — предложила я, — объясни, во что именно. — Это длинная повесть. О страданиях и несчастьях. — У нас есть несколько дней, пока муж не вернется из своего лагеря Национальной гвардии. — Твой муж — национальный гвардеец? — расхохотался он. Я возмутилась. — В отличие от тебя, у него есть чувство долга. Не понимаю, почему ты смеешься. — Извини, — успокоился он. — Я не смеюсь. Я вижу злую иронию в том, что жена национального гвардейца укрывает дезертира. Я вздрогнула. Мне стало стыдно, как будто я изменяю мужу. — Продолжай, — приказала я. Отец Хока, армейский полковник, вернулся из Бельгии со второй мировой войны и из Кореи с Серебряной и Бронзовой звездой и Пурпурным сердцем. Ни одна застольная беседа не обходилась без его рассказов о том, как они выбивали из Франции оккупантов, как прыгали на парашютах и переходили границу без компаса и еды. Дед Хока — генерал — сражался во время первой мировой на Сомме. Прапрадед, офицер Конфедерации, был убит в атаке на Лукаутской горе. Игрушками Хока были пластмассовые гаубицы и модели ракет и самолетов. Он сделал из шелковых шарфов парашют и прыгал с деревьев. Он закончил военную академию в Атланте и поступил в Технический университет изучать электронику, первым из всех мужчин в роду Хоков отвергнув карьеру офицера, но наутро после получения диплома он обнаружил, что стоит с поднятой рукой перед фотографией президента Никсона. Вскоре он маршировал в форте Мэйнард, скандируя: «Я поеду во Вьетнам! Я убью вьетконговцев!» — и повсюду, куда ни посмотри, возвышались огромные мишени. — Это были такие тренировки, — объяснил Хок, пока я меняла Венди штанишки — снова не попросилась, хотя доктор Спок уверяет, что в этом возрасте дети уже успешно справляются с этой проблемой. — Нам так задурили головы, что мы выполняли все, что требовалось, совершенно бездумно. Я превратился в робота, выполняющего приказы. Правда, один раз, ковыряя штыком маленькую желтолицую фигуру на мишени, я почувствовал, что мой мозг шевельнулся, застонал и решил посмотреть, что же делает тело. Я как раз орал: «Убью, убью, убью!» Багроволицый сержант, сделавший во Вьетнам уже две ходки, орал: «Бей ниже, мать твою! Выпускай из них кишки!» Мой мозг ударился в панику. Я глупо захихикал, потом засмеялся и вскоре катался по земле, гомерически хохоча. Подошел этот Наполеон и высказал все, что думает о моей заднице и еще кое о чем. Но я не мог остановиться. Он стоял надо мной и рычал: «Давай, парень, давай! Посмотрим, как ты заржешь во Вьетнаме!» Чтобы показать полуавтоматический М-16 в действии, этот парень выпустил мозги кошке, которая рылась в мусорном ящике. Однажды он пригласил меня к себе и показал череп вьетконговца — сухой, как тыква. Потом показал альбом с фотографиями искалеченных тел. «Я не буду на это смотреть, — сказал я. — Ваше хобби, мягко говоря, кажется странным». А он ответил: «Когда посмотришь на них, сынок, мое хобби станет и твоим». Хок отправился во Вьетнам с твердым убеждением: или он станет настоящим мужчиной, или погибнет. Вернется живым — значит победил смерть. Естественно, он свято верил, что вернется, как отец, увешанный орденами. Но во Вьетнаме главной проблемой оказалась невероятная скука. Как-то во время патрулирования он и еще четверо солдат похитили из деревни девушку. Хок невнятно запротестовал, но ему велели заткнуться. Тогда до него дошло, что он очутился там, где царит беззаконие. Девушка плакала и отбивалась, но солдаты ее избили, и кончилось тем, что Хок стал последним, кто ее изнасиловал. Я замерла. Что делать? Я — наедине с насильником. — Я был тогда почти девственником, — хмуро продолжал Хок. — В академии я только просиживал задницу, а в университете сходил разок к черной шлюхе — и сбежал даже не начав раздеваться. Еще как-то я пришел к одной из тех, которая отдавалась всем подряд, и принес виски, чтобы она не заметила моей неопытности. Она напилась до потери пульса, и я все-таки трахнул ее. Мне вообще не везло в любви. На последнем курсе я стал встречаться с одной студенткой, но она страшно боялась забеременеть, и мы не рисковали. Я ушел на войну, уверенный, что она будет ждать меня. Думал: я сберегу себя для нее, а она — для меня, и мы проведем оставшиеся дни, наверстывая упущенное. Я насиловал девушку и смотрел в ее ненавидящее лицо. Знаешь, я только притворился, что кончил, и поскорей встал. Один из парней поставил ее на ноги и велел убираться, но она дала ему пощечину. Он заорал: «Мерзкая шлюха!», она побежала, а он швырнул ей вдогонку гранату. То, что от нее осталось, мы сбросили с обрыва… — Он говорил монотонно, уставясь куда-то в пространство. — Я думал, что я — герой. Но в тот день я понял, что это не так. Мне было и жалко его, и противно. — Но больше всего я испытывал облегчение. Уф-ф-ф! Она исчезла, и я старался не думать о ней. В конце концов, если эти несчастные тощие сучки не могут о себе позаботиться, при чем тут я? Гнить из-за них в этих проклятых дождливых лесах? Солдаты вернулись в лагерь. Он ожидал, что Господь сотрет их всех с лица земли и не отпустит назад, к дяде Сэму, но ничего не случилось. Он даже хотел быть наказанным, но никто не обратил внимания на случай с девушкой. Тогда он наказал себя сам. Он перестал есть и спать. Лежал в своей палатке, плакал и прокручивал в памяти моменты, когда мог спасти девушку. Ему казалось, что его член разрублен на части. Он стал драться со своими друзьями и больше всего боялся, что сам повернет против себя винтовку. Военный психиатр дал ему таблетки и велел расслабиться. Священник рекомендовал помолиться в полковой церкви и переложить свои печали на Иисуса. Лейтенант сказал: «Это война, солдат, а не воскресный пикник». Хок выплакался ему в плечо, он тоже расстроился и посоветовал ему симулировать болезнь. Хок не стал симулировать, он просто удрал. Вернулся в Атланту и сказал своим, что дезертировал и что на пляжах Лос-Анджелеса он будет чувствовать себя в большей безопасности. Отца чуть не хватил удар. Хок поехал к своей девушке и предложил составить ему компанию. Она ответила, что на такого труса ей противно даже смотреть. — Я поехал на Север. Миновал Халлспорт. В Вашингтоне покружил вокруг Пентагона. Мне казалось, что я совершил непоправимое преступление. Проехал Вермонт. Стояла осень, леса поражали своей красотой. В Хайгэт-Спрингс я пересек границу. Пограничник спросил мое имя и место рождения. «Зачем едете в Канаду?» — «Радоваться жизни», — ответил я и впервые за много месяцев улыбнулся. Свобода! У меня будто тяжесть свалилась с плеч, я не обязан был делать то, что прикажут, и мог рассчитывать только на себя самого. Сияло солнце, небо было прозрачным, как бриллиант. Я рассмеялся. Я был на седьмом небе. А когда спустился, понял, что счастлив. Вот и вся история моего дезертирства, Джинни. Я слушала его и не могла избавиться от мысли, что ничего не знала об этой войне. Несколько лет она была для меня каким-то абстрактным понятием. Я впервые увидела человека, который не митинговал, а действительно был там и даже сбежал. Только мужчинам суждено перенести эти тяжкие испытания, а удел женщины — наблюдать за ними с благоговейным трепетом. Точно так же мужчины не могли испытать всей тяжести борьбы против нежелательной беременности. С древнейших времен идет эта борьба: жизни и смерти, долга и прав личности. — Почему же ты вернулся? Вдруг поймают? Чем тебе это грозит? — Пятью годами тюрьмы. Но чтобы объяснить, почему я вернулся, мне придется продолжить свою сагу. — Будь добр, продолжай. — Я получил статус иммигранта, снял комнату во Французском квартале Монреаля и устроился убирать в больнице неподалеку. Потом наступила зима. День за днем — без солнца. Снег выпадал и превращался в серую грязь. Ветер продувал улицы. Друзей я не заводил, чтобы не признаваться, что я — дезертир. Я боялся, что меня выследят и отправят в Штаты. Я замирал, услышав шаги за спиной, прижимался к домам, шарахался от прохожих. Когда в дверь стучал хозяин дома, я разве что не прятался под кровать. Плюс двойной эмоциональный шок. Во-первых, я оказался на гражданке. Четырнадцать месяцев я точно знал, что надеть и чем заниматься, а еду просто ставили передо мной. Теперь за меня никто ничего не решал. Я опаздывал на работу, забывал поесть, постирать одежду. Во-вторых, я тосковал по Америке. Никогда не думал, что такое может быть. Канадцы тоже говорят по-английски, и я даже считал Канаду пятьдесят первым штатом и никак не подозревал, что канадцы терпеть не могут американцев. Во Французском квартале лавочники свирепели от того, что приходится говорить со мной по-английски. А может, мне это казалось из-за моей паранойи. Я чувствовал, что меня все ненавидят: канадцы — за то, что я американец, французы — за то, что говорю по-английски, а весь мир — за то, что я — дезертир. На работе я вытирал полы, отвозил окровавленные бинты и собирал грязные инструменты. Меня окружали горе, кровь и боль. С таким же успехом я мог бы остаться во Вьетнаме. Я написал домой и своей девушке, просил их простить меня, но они не ответили. Я порвал с прежней жизнью, но не сумел устроиться в новой. В какой-то газете я прочитал, как на границе задержали дезертира. Он выхватил револьвер, но был убит пограничниками. Мне стало страшно. Ночью я просыпался от кошмаров, а днем не мог найти себе места от мрачных мыслей. Однажды в книжном магазине продавец спросил меня: «Эй, приятель, ты — дезертир?» Я попятился к двери, а он засмеялся: «Успокойся, приятель. Я тоже дезертир». Потом, когда немного пришел в себя, я спросил, откуда он узнал. Продавец только расхохотался. И правда, меня трудно было принять за кого-то другого — с коротко остриженными волосами, в зеленых походных ботинках и солдатской полевой куртке. С тех пор моя жизнь стала похожей на студенческую. С этим новым приятелем мы таскались на все встречи дезертиров. Я рассказал о той мерзости, какую видел во Вьетнаме, а они — о том, что делали сами. Я больше не был наедине со своим преступлением. Паранойя исчезла, когда мне объяснили, что ФБР не преследует нас в Канаде. Короче говоря, я был в полной безопасности. Наступила весна. Я впутался в антивоенное движение, ходил на митинги, организовывал демонстрации, печатал памфлеты, договаривался об аренде помещений. Шесть месяцев я вкалывал как дьявол. Оказалось, этим занимаются тысячи людей. Это воодушевляло. Но вскоре я обнаружил, что те, кого, я считал, объединяет великая духовная сила, расколоты на дюжину маленьких враждующих групп. Движение за мир оказалось Вавилонской башней. Канадцы осуждали дезертиров, использующих их страну как плацдарм для расширения зоны влияния американской экономики. Одни американцы выступали против слепого копирования канадского образа жизни, другие призывали раствориться среди среднего класса канадцев и нарожать побольше детей. Кто-то агитировал французов выступить против англичан. Беженцы, иммигранты… Одни выступали против войны во Вьетнаме, другие — против капитализма во всех его проявлениях. Кое-кто кричал, что плевать на Америку, Францию, Англию и Канаду и пора готовиться к Апокалипсису. Эта суета высасывала из меня все соки. Я стал несчастней, чем тогда, когда встретил в магазине еще одного дезертира… Я стал почти все время пропадать в своей комнате. Раньше — даже во Вьетнаме, когда вокруг все кололись, — я не баловался наркотиками, разве что изредка курил травку. А теперь пристрастился. Вскоре я пил, курил, кололся и нюхал все, что попадалось в руки: ЛСД, гашиш, кокаин, клей, веселящий газ, резерпин, кодеин, атропин. У меня был друг — дезертир, такой же разочаровавшийся во всем, как и я. Он приходил, и мы принимали ЛСД или что-нибудь покрепче. А когда доходили до кондиции, «выравнивали самолет» декседрином. Мы с ним обменивались своими таблетками, как дети — мраморными шариками. «Я дам тебе шесть зеленоватых и двенадцать черных, а ты мне — восемь вишневых сердечек и восемь декси». После таких уик-эндов вся комната была страшно загажена. — Какие у тебя были ощущения, Хок? — Я слушала его как зачарованная. — А ты что, не балдела на своей ферме? — Нет. Немного травки, изредка мескалин. Честно сказать, ябоялась. — И правильно делала. Я тогда совсем одурел. Если бы человеческое тело имело меньший запас прочности, я бы не выдержал. Нельзя искусственно вмешиваться в сознание. — Да, конечно. Но на что это было похоже? — Ничего особенного. Я возносился на небо и встречал Бога. Он хлопал меня по плечу и называл «сынок». Даже предлагал поселиться с ним вместе, чтобы понять суть мироздания. — Правда? — Нет, неправда. Все это — ужасная ошибка. Я думал, проглочу несколько пилюль — и готовы ответы на все вопросы. Ничего подобного. Я чуть не спятил. Часами сидел в своей комнате, готовый вскрыть себе вены. Меня удерживал только страх перед тем, что ждет меня после самоубийства. Я чувствовал себя так, будто жарился на вертеле. Господь хранит южан-баптистов, поэтому я еще жив. Если, конечно, жизнь — это дар. Я восхищалась этим героем войны, потому что сама никогда бы не сделала того, что сделал он. Неожиданно я предложила; «Хочешь со мной переспать?» — Нет, — с достоинством ответил он. — Спасибо. Я удивилась. Самые разные люди хотели обладать мной, а он отказался. — Почему? — Я не трахаюсь просто так. Честно сказать, с тех пор как я стал военным преступником, у меня вообще не возникало подобных желаний. Идея! Я отблагодарю героя войны, а главное, разгоню эту невыносимую скуку! Я совсем забыла про мужа, чьи моральные убеждения не допускали измены. — Меня не интересует секс, — продолжал он. — Разве что серьезный. По-моему, его нужно использовать, как яд, в гомеопатических дозах, чтобы поддерживать свое жалкое тело. — Джинни, я искал тебя несколько месяцев. Думал, только на Юге смогу найти женщину, настроенную на ту же частоту, что и я. А нашел ее здесь. Станешь моей шакти? — Извини? — Мне очень польстило, что мы настроены на одну частоту. — Тебе было бы интересно приобщиться со мной к таинству Майтханы? — К таинству кого? — Майтханы. Это ритуал совокупления. — Мне показалось, что ты не хочешь переспать со мной. — Да. Я не хочу «переспать» с тобой, — сказал он с таким же отвращением, с каким говорили когда-то о Ницше мисс Хед или о правящем классе Эдди. — Я хочу испытать истинную космическую страсть и использовать слияние наших тел для ее достижения. Мы заставим свои душевные силы добиться невыразимого счастья божественного союза. — Отлично, — ухмыльнулась я. Никто еще не соблазнял меня этаким манером. — Это мой последний шанс, — веско сказал он. — Я перепробовал все что мог и готовился целый год. Если ты, Джинни, не отнесешься к этому серьезно, если тебе хочется просто поваляться с кем-нибудь в этой травке — скажи сразу, и я уйду. Я вовсе не возражала против невыразимого счастья. — Прости. Я не хотела показаться тебе пустышкой. Мне очень интересно, что это такое. — По-моему, мне понадобится около четырех недель, чтобы приобщить тебя к Майтхане. Я присвистнула. — Ха! Вот это я называю «переть напролом». — Ладно. Забудь. — Он встал. — Мне пора. — Ладно, Хок. Я больше не буду. Он снова сел. — Так ты готова отдать себя в мои руки? Я кротко кивнула. — Тогда проникнись мыслью, что духовно я развит лучше тебя и знаю все, что тебе нужно. Ты должна быть покорна душой и телом. Согласна? Я суеверно скрестила пальцы и неуверенно кивнула. В конце концов, я вручала себя в более ненадежные руки, например, Клема Клойда. — Когда вернется твой муж? — Через неделю с хвостиком. — Как он отнесется к тому, что я тебя тренирую? Я поперхнулась. — Я и его смог бы тренировать. — Он об этом и слушать не станет, — расхохоталась я. (А впрочем… Айра так помешан на сексе, что, может, тоже захочет попробовать невыразимого счастья? Хок поможет ему… И вдруг меня осенило: как я объясню мистеру национальному гвардейцу, что он должен слушаться какого-то дезертира?) — Нет, он не согласится. Он сдаст тебя ФБР. — Гм-м. Тогда тебе придется ради спасения собственной души принести в жертву ребенка и мужа. Поедешь со мной в Монреаль? Я испугалась. Хок принес в жертву своих близких, любимую девушку и надежды на будущее, когда дезертировал, и теперь хочет, чтобы я принесла равноценную жертву: бросила Айру, Венди, дом и свою без того хлипкую репутацию. Нет, это невозможно. Меня раздражала скучная жизнь в Старкс-Боге, но теперь, когда появилась возможность избавиться от нее, я воспротивилась. Наверное, это было написано на моем лице, потому что Хок тихо сказал: — Не сейчас. Когда будешь готова. В один прекрасный день ты отчетливо поймешь, что надо делать, и не станешь раздумывать. А сейчас ты не готова ступить на тропу самоотречения. Я облегченно вздохнула. Оказывается, в моей заторможенности есть свои преимущества. Я никогда в жизни не принимала ясного и твердого решения. Меня или несло по течению, или решение вырывали у меня с болью, как зуб мудрости. — Но где же мы будем тренироваться? Если мне нельзя остаться здесь, а ты не готова уйти, нам не провернуть это дело. Меня осенило. — Знаю! У нас в подвале есть потайная каморка. В ней в былые времена прятали беглых рабов, когда они бежали в Канаду. — Отлично! Мы спустились в темный сырой подвал. Каморка была замаскирована под огромную бочку, в одной стенке которой была узкая дверь. Внутри кирпичом выложили пол и стены, оставив маленькое окно. Каморка — футов шесть на девять — была совершенно пуста. — Фантастика! — восхитился Хок.
Я подмела пол, принесла туда койку, маленький столик на колесиках и походную табуретку. Хок уселся в углу на свой рюкзак и стал шумно выражать восторг. Интересно, что сказал бы Папа Блисс, чей дух, несомненно, витал в этом винном погребе? Похвалил бы за то, что я поддерживаю фамильную традицию, пряча несправедливо обиженного и гонимого, или счел бы меня лживой женщиной, наставляющей рога его потомку? — Начнем этой ночью, — заявил он, когда я собралась идти кормить Венди. Я задрожала. С тех пор как я зачала ее, мне не приходилось испытывать эту сладкую дрожь. Я явилась к Хоку в ночном пеньюаре, поставив себе спираль и ожидая Бог знает какого экстаза после многомесячного воздержания. Хок не взглянул на меня. Он сидел, скрестив ноги, на кирпичном полу и рассматривал разложенные игральные карты. Под потолком он подвесил военный фонарь. Окошко было открыто. Знаком он велел мне сесть рядом. Я села, одернула на коленях пеньюар и взяла карты, которые он протянул, чтобы я сняла. Он велел мне вытащить несколько штук, перевернуть и дать ему, а потом углубился в их изучение. Зачем ему карты? Что обнаружил он в этом раскладе? Хок удовлетворенно вздохнул: — Смерть. Точно. Отлично. — Смерть? — Господи, я снова во что-то влипла! — Тише. Расслабься. Эта карта благоприятна. Она символизирует победу страсти над физической смертью. Хиппи в Монреале ликуют, если им выпадает такая карта. Доверься мне, Джинни. Это добрый знак. Знак духовного потенциала. Довольная своим высоким духовным потенциалом, я помчалась наверх. Пусть называет как хочет, лишь бы дело шло хорошо. Утром, когда я пришла за инструкциями, Хок сказал: — Сегодня и завтра можешь не приходить, но потом не беспокой меня и по утрам. Я буду работать над книгой. — Конечно! Принести тебе завтрак? — Да. Йогурт, пшеничные гренки и мятный чай. Сгорая от желания услужить, я перекопала весь чулан, но нашла ему мяту. — Мы займемся специальными упражнениями, — сказал после завтрака Хок. — Мне потребуется твое постоянное присутствие. Сможешь куда-нибудь сплавить дочку? — Постараюсь. — Останешься со мной. Я взлетела наверх и сделала нечто беспрецедентное: попросила Анжелу взять Венди на пару дней, пока я съезжу в Сан-Джонсбери за покупками и навестить друзей. Она была так ошеломлена моей наглостью, — с ее-то четырьмя и младенцем! — что согласилась. Мне нелегко было оставить Венди. Анжела стояла рядом с малышом на руках и понимающе смотрела. — Я понимаю, в первый раз это трудно… Венди с несчастным видом махала мне своей маленькой ручкой. Я несколько раз посигналила ей из Айриной пожарной машины и помчалась домой как на крыльях. Там снова вставила спираль и спустилась к своему Шиве[7], как велел называть себя Хок. В каморке моего Шивы не оказалось. Я помчалась во двор и нашла его возле бассейна. Он сидел голый, вытянув назад одну ногу, а вторая, согнутая в колене, выдерживала вес всего тела. Растрепанные космы закрывали глаза. — Верья стамбханасана, — пробормотал он. — Что? — Поза удерживания спермы, — пояснил он и снова замер в своей странной позе. — Зачем это? — спросила я с удивлением. Хок не удостоил меня ответом. Наконец он выпрямился и велел следовать за ним на кухню. Я приготовила несколько сэндвичей и кувшин воды, и мы спустились в свое подземелье. От возбуждения у меня отвердели соски. Я села на койку. Он вытащил из рюкзака какие-то тряпки и заткнул ими окно. Я удивилась: он боится, что мы сможем видеть свои тела? Или еще что-нибудь!
В каморке стало темно. Хок на ощупь подошел к двери и сказал: — Оставайся здесь сколько можешь. Лежи неподвижно. Захочешь в туалет — в углу банка. Ешь сэндвичи, пей воду. Я буду наверху. В твоих интересах следовать моим инструкциям. Если упустишь момент, придется начать все сначала. — Что я должна делать? — Постарайся ничего не делать. О’кей? — О’кей. Но в чем смысл? — Будешь много болтать, ничего не узнаешь. Я легла на койку и стала ждать духовного озарения. Вот только пойму ли я, когда оно придет? Наверное, я что-нибудь увижу: тень на стене или вспышку; но ничего не было. Я вытянула руку и пошевелила пальцами, но не увидела даже их. Я ничего не слышала, а ведь птицы, должно быть, чирикали за стеной… Через какое-то время я перестала ощущать свои руки и ноги. Они словно исчезли. Спасибо Декарту, от него я знала: я мыслю — значит существую. Я осторожно дотронулась до стены и ощутила холодный неровный кирпич. Я мошенничала: Хок велел мне ничего не делать и не шевелиться. Я положила ладонь на место и уснула. Проснулась я от голода. Взяла сэндвич с колбасой и съела, удивляясь своему аппетиту. Обычно я давилась им, как когда-то соевыми крокетами на ферме Свободы. Я съела еще один и выпила два стакана воды. Не знаю, спала я потом или дремала, видела сны или просто грезила. Дважды я подходила к банке в углу. Хок велел оставаться здесь как можно дольше. Если это сделает его счастливым, я проторчу тут весь день. Я не чувствовала ни особенной ясности, ни особенной интуиции. Может, я не выдержала проверки? Нежели на мне клеймо? Клеймо неудачницы… От расстройства я съела еще один сэндвич. Внезапно мне пришло в голову, что Хок сейчас грузит в машину мебель Блиссов, и пока я лежу здесь в темноте, он исчезнет из города и моей жизни. Но — странно — эти мысли ничуть не огорчили меня; просто я психопатка, вечно ожидающая чего-то плохого. Я снова уснула, а когда проснулась, допила всю воду. Дверь распахнулась. — Ну как? — спросил Хок, вытаскивая из окошка свои тряпки. — Отлично. Но, кажется, ничего не случилось. Мы поднялись на кухню. Я с удовольствием оглядела знакомые стены и мебель: все было таким нарядным и ярким, особенно желтые обои и ослепительные донышки кастрюль! — Ты что, драил мою кухню? — Нет, — смутно улыбнулся он. Мы вышли наружу. На деревьях вопили птицы. Зеленая трава никогда еще так не блестела. — Тебе пора забирать ребенка. — Да нет еще. Я договорилась, что приду за ней утром. — Уже утро. — Что? — Сколько, по-твоему, ты там пробыла? Я подумала. Так… Спустилась я туда утром в восемь тридцать. Съела три сэндвича, выпила воду… Я никак не могла пробыть там сутки. Но почему тогда солнце все еще на востоке? — Сейчас восемь утра! — Не может быть, — выдохнула я. Мне показалось, что я — парижанка, взбунтовавшаяся из-за папы Григория XIII[8], посмевшего вычесть из календаря двенадцать дней. Она потеряла двенадцать дней, я — целую ночь. Хок явно забавлялся моим временным умопомрачением. Дрожа от ярости, я повернулась к нему, но не успела ничего сказать. — Вот что, ты хочешь за мной идти? — серьезно спросил он. — Я ни разу не обещал, что тебе будет приятно, не говорил, что твои представления не изменятся. — Я не хочу быть подопытным кроликом! — Ты не кролик. Я учу тебя, пытаюсь вбить в твое сознание то, что сидит в подсознании. — Ха! — Мне и с сознанием хватало забот, чтобы тратить время еще и на подсознание. Но если это — именно то, что отличает героев войны от простых смертных, я согласна смириться.
— Мамочка! Мамочка! — закричала Венди и обняла меня за колени. Мне стало стыдно. Одетый в розовый костюмчик младенец колотил Анжелу ручонками. На крошечной головке кудрявились каштановые волосики. Слабо пульсировало мягкое темечко. Меня охватила нежность. Словно поняв мое страстное желание подержать малыша, Анжела неохотно протянула его мне. Уже забыв, как их держат, я осторожно наклонилась и вдохнула запах детской присыпки. После суточного заключения это твердое тельце заставило с новой силой вспыхнуть моим материнским чувствам. Дети — вот что нужно! На черта мне медитация? — Айра говорит, вы хотите сына? — Да уж, я бы не стала топить второго ребенка в ванне, — вздохнула я. Венди от ревности вскарабкалась на меня по ноге. Я отдала сладко пахнущего малыша и напомнила себе: все в мире обожают котят, но кому нужна вторая кошка? Счастливая Венди играла дома, а Хок разглагольствовал о ноздрях. Оказывается, они нужны не для того, чтобы дышать, они являются продолжением астрального канала, через который в тело втягивается космическая энергия. — Ты дышишь двадцать четыре минуты лунным дыханием — через одну ноздрю, а потом — солнечным — тоже двадцать четыре минуты через другую. — Нет, — возразила я. Кому какое дело до моего носа? — А если у меня аденоиды? — Когда ты дышишь правой ноздрей, ты возбуждаешь физическую и эмоциональную активность, а когда левой — успокаиваешься. — Разве это не ограничивает мою самостоятельность? — Нет, потому что ты можешь менять ритм как хочешь. Во время Майтханы мы будем оба дышать правыми ноздрями. Я засмеялась, представив, как мы лежим ночью и стараемся синхронно дышать, но ничего не получается — как у Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера, которые тосковали друг по другу только в разлуке. — Джинни, — сурово сказал Хок, — по-моему, ты наплевательски относишься к серьезным вещам. Я думал, ты уже вышла из того возраста, когда смеются над всем, что непонятно. Но если так будет продолжаться, я отменю занятия. — Пожалуйста, Хок! Я постараюсь! Давай продолжать! — Хорошо. Но если еще раз заржешь — пеняй на себя. Он лег на бок и показал, как переключать дыхание с одной ноздри на другую, положив палец на ухо, а остальные — на лоб. Потом объяснил, как активизировать дыхание: оказывается, нужно потереть большой палец ноги, противоположной ноздре. Я подражала ему и вдруг обнаружила, что это действительно помогает. Надо же! Я совсем не знаю возможностей собственного организма. Венди легла спать, Хок медитировал, а я спустилась забрать поднос с завтраком. На койке лежала пачка бумаг. Я не удержалась и взяла их. Оказалось, Хок пишет историко-фантастический роман. Боязливо покосившись на дверь, я прочитала дюжину страниц. Однажды ночью, писал Хок, фермер с женой потерпели аварию на своем снегоходе. Они упали без сознания с высокой горы и погибли бы, не позаботься о них агент аванпоста Млечного Пути. Этот агент — Реп — перебросил их из Вермонта на Млечный Путь и сам материализовался прямо около них. Сначала они увидели ослепительный луч света, а потом — молодого человека с длинным хвостом в стеганом лыжном костюме. Он немного ошибся в формуле, но решил так и остаться, с хвостом, надеясь, что гости, особенно женщина, этого не заметят. «Любопытная планета — Земля», — снисходительно сказал он, считая ее на самом деле самой жуткой дырой во Вселенной. Потом он вспоминал, как несколько тысячелетий назад жил на Земле — как раз когда там разыгралась трагедия. После столкновения с кометой повсюду горели леса, в города бежали дикие звери. Земная ось сдвинулась, вращение Земли замедлилось, кора потрескалась и постоянно сотрясалась от извержения вулканов; океанские волны поглотили огромные деревья и выбросили, как гальку, громадные валуны. Полюса поменялись местами, и Реп — каменотес с озера Титикака, не мог больше телепатически общаться с другими агентами. Он потерял способность дематериализовываться и остался в своем земном теле, как в капкане. Десять лет он боролся за выживание. От постоянных дождей, испаряющихся морей, жара горящих лесов и извергающихся вулканов все вокруг гнило и плесневело. Злаки не росли. Из-за пепла и дыма солнце было словно в тумане. Процветали насилие и грабеж. Реп спрятал семью в пещере и жил, как раб, пока его родственники и друзья не перемерли, не выдержав испытаний, а те, кто выжил, стали алчными и жестокими — совсем не такими, как были до катаклизмов. Из-за нехватки кислорода младенцы развивались медленно и часто болели. Реп не помнил своей миссии на Земле. Главный агент отправил Инспектора узнать, кто из путешественников во времени выжил, но не может покинуть Землю. Инспектор встал у входа в пещеру и попросил приюта, а Реп, узнав его по тембру голоса, все вспомнил и в ужасе упал на кучу костей. Инспектор помог ему оправиться от шока и вознестись на родной Млечный Путь. — Теперь вы знаете, почему я сочувствую вам, жителям Земли, — доброжелательно сказал Реп и пригладил непокорные седые волосы. — Я знаю, вы с радостью грабите и убиваете, но это — не ваша вина. Это результат несчастного случая — столкновения Земли с кометой. — Где я? — пробормотал фермер. — Что за черт? Реп возмутился. Значит, он зря старался? Нужно срочно освежить в памяти обычаи американских провинциалов. Он попросил своего ассистента поговорить с гостями, но гости совсем не походили на мистера и миссис Общительность. Реп вздохнул, включил Х-луч и показал им Землю — черную точку, плывущую в темно-серой мгле и окруженную миллиардами ослепительно ярких траекторий и точек. Он объяснил ошеломленной паре, что сейчас они находятся в карантине — вдруг привезли микробов? Агенты умели защищать себя радиацией и антителами, но на местности все пришлось бы выкорчевывать и засевать заново. Потом Реп провел вермонтцев в лабораторию, где в камерах с микроклиматом выращивались растения, животные и насекомые, ждущие своей очереди материализоваться на одной из планет. Для одной планеты — с высокой степенью притяжения — вырастили коротеньких приземистых существ и теперь разводили различные виды для их размножения. — Это — как игра. Очень интересно создавать формы, цвета, людей…» — Я не удержалась и заглянула в твою книгу, — призналась я Хоку, вернувшись к бассейну. — По-моему, очень развлекательно. — Она не для развлечения. Моя книга будет развивать в читателях духовность, которая в конце концов позволит им понять, что это не вымысел, а реальность. — Понятно… Ты хочешь сказать, что все это было на самом деле? — Похоже, я ошиблась в своем выборе. — Этого я не утверждаю. Просто мне хочется, чтобы читатель понял: эта книга — не для развлечения. — Он раздраженно дернул себя за колокольчик в ухе. Назавтра мы чистили астральные каналы, ведущие от моего эфирного двойника, где бы он ни был, к «вульгарному физическому организму». — Ты вдыхаешь около двадцати тысяч раз в день, — сообщил Хок. — Большая часть этих вдохов слишком поверхностна и заполняет всего одну шестую легких. Тело функционирует на самом минимальном уровне. Тебе придется научиться дышать так, чтобы потенциальная энергия Праны[9] передалась к сексуальной чакре, пробудила твою дремлющую Кундалини[10] и заставила через спинной мозг вдохнуть в тебя всепоглощающее пламя Майтханы Бога Шивы. — Извини? — Я ничего не поняла в этом жаргоне, как не понимала когда-то футбольные разглагольствования Джо Боба или рассуждения о Декарте мисс Хед. Конечно, у меня есть энциклопедия и словари, но я сама не знала, хочу ли, чтобы отношения с Хоком развивались и дальше. После его книги я в этом очень даже сомневалась. (Он сумасшедший? Или пророк?) — Потом поймешь, — небрежно отмахнулся он. Мы сидели, скрестив ноги, у бассейна и старались отрешиться. Интересно, тот факт, что Венди может упасть в бассейн, — тоже мелочь? Мы семь раз вдыхали, делали паузу и выдыхали тоже семь раз. Потом мычали «Аум». Я ждала, когда пробудится моя дремлющая Кундалини. — Ничего не происходит, Хок. — Откуда ты знаешь? Ты же не представляешь, что должно произойти. — Он безмятежно смотрел на меня. — Ты настолько неразвита, что ждешь немедленного результата, а так не бывает. Вроде как я принимал колеса в Монреале — раз — и готово! Слишком много хочешь! Наверное, ты и в сексе сразу кончаешь. — Ничего подобного, — возмутилась я. — Знал бы ты, сколько раз я умоляла Айру не торопить меня! Ты просто сваливаешь на меня собственные недостатки. — Ничего я не сваливаю. Я так подавил свои страсти, что совсем не испытываю желания. Таким невозмутимым людям, как я, незачем что-то сваливать на других. — А как ты определил, что избавился от страстей? — Когда-нибудь поймешь. — Он закрыл глаза и принял позу удержания семени. — Делай как я! Подошла Венди, отставила ножку, пробуя подражать нам, но не удержалась и упала. Я бросилась утешать горько плачущую дочку, а Хок мрачно вздохнул и закрыл глаза. Я отвернулась и отправилась укладывать малышку спать. В заднем дворе около фамильного кладбища Блиссов Хок воткнул в землю четыре палки, расстелил скатерть с моего кухонного стола и положил на нее кучку земли. Нашел камень и разровнял ее так, что получился круг размером с тарелку. Мы сели на скатерть и уставились на этот круг. Оказывается, таким образом мы сосредоточивались на Майтхане. «Огромный и откровенный, гениальный Укрыватель подземных секретов», — бормотал Хок с нежностью пылкого любовника, а я презрительно шептала: «Деньги — к деньгам, деньги — к деньгам» и старалась подсчитать, сколько человеческих поколений прошло за время существования на Земле жизни. Потом он заставил меня открывать и закрывать глаза — как затворы фотоаппарата, — чтобы запечатлеть на сетчатке духовный образ Майтханы. Наконец встал и потащил меня к бассейну. «Наконец-то, — подумала я. — Вот оно!» Он столкнул меня в воду, прыгнул сам и закрыл глаза. — Зажмурься! Видишь его? Я старалась, но, кроме черноты, ничего не увидела. Может, соврать? А то не захочет совершать ритуал совокупления с такой тупицей. — Что? — Светящийся круг, очищенный от материального несовершенства. — Ах… В эту секунду открылась калитка, и Венди — благослови ее Бог! — спасла меня от необходимости признаться, что Хок выбрал себе в партнеры непроходимую дуру. Вечером я отыскала на чердаке елочные гирлянды, мы натянули их — красную и голубую — в каморке и уселись на койку в позе лотоса. Он надел мои «Леди Булова» и велел открыть глаза, когда, по моему мнению, пройдет тридцать минут. Задание показалось мне очень простым. Я стала считать тридцать раз по шестьдесят — на сей раз не подведу! Вскоре это дурацкое занятие мне надоело, я еще посидела, скорчившись, и позвала Хока. Он посмотрел на часы и записал на бумажке время. Потом снял красную гирлянду и велел считать снова. Через какое-то время все повторилось, только я сидела под красной гирляндой. Я сочла это довольно глупой прелюдией к сексу. Неужели не придумали чего-нибудь поинтересней? После четвертого раунда Хок сказал: — Хорошо. Хватит. Под красной и голубой ты назвала двадцать четыре с половиной минуты, под голубой — двадцать семь минут, под красной — тридцать три, без гирлянд — тридцать. Господи, неужели я опять провалилась? Не смогла даже точно оценить время. Нечего и надеяться на неземное блаженство. Я виновато опустила глаза. Что ж, по крайней мере, я старалась. — Это наводит меня на мысль, — задумчиво проговорил Хок, — что тебе ничто не поможет. Я разочарованно побрела наверх в свою одинокую огромную кровать. Утром Хок сухо сказал: — Я надеялся обойтись без этого, но, боюсь, ничего не выйдет. Сплавь на сегодня ребенка. Вернувшись от Анжелы, я помчалась вставлять спираль. Хок ждал меня на койке. На столике стояли кувшин с водой и стакан. Он услышал мое предупреждающее покашливание и жестом велел лечь рядом. Я скромно потупилась, выполнила приказ и закрыла глаза в ожидании поцелуя. Он встал и начал рыться в рюкзаке. — Все в порядке, — прошептала я. — Я уже вставила спираль. — Что? — Он вытащил маленький пузырек и вылил его содержимое в стакан с водой. — Пей. — Что это? Экзотическое возбуждающее? — Я отхлебнула. — ЛСД. — ЛСД? — Расслабься и пей. — Но я не хочу ЛСД. — А участвовать в Майтхане? — Конечно, хочу. Но как ЛСД поможет нам трахаться? — Черт побери! Сколько тебе говорить, что это не траханье? Это не имеет ничего общего с теми отвратительными движениями, к которым ты привыкла! — Откуда ты знаешь, к чему я привыкла? — Мне незачем это знать! В том, к чему я пригласил тебя приобщиться, нет и намека на похоть, какую бы форму она ни принимала. Я пытаюсь внушить тебе, что ты — не просто физическое тело, требующее удовлетворения. Ты — женщина. Я — мужчина. Во время Майтханы мы не просто спариваемся — мы уравновешиваем свои противоположности и торжествуем в единстве! Завороженная такими громкими словами, я залпом допила остальное. Значит, нашей целью не было достижение оргазма? — Я давно готов для Майтханы. Я делаю все это ради тебя. Хочу, чтобы ты испытала запредельное наслаждение. Я уставилась на него: что он мне Дал? Никакого эффекта. — Что-нибудь чувствуешь? — Нет. Совершенно ничего. — Ты думаешь, я тебя дурачу? И это не ЛСД? Я промолчала. В конце концов, не совсем же я идиотка, чтобы всерьез ждать чего-то сверхъестественного от его упражнений? — У меня столько ЛСД, что можно спускать линкор, — продолжал он. — Прошу тебя, поделись со мной видениями, которые скоро возникнут. Некоторые после принятия дозы спят, некоторые ходят, кто-то фантазирует… — Больше всего мне нравится твое лицемерие, — холодно ответила я. Кирпичи над головой стали шевелиться, но я не сказала об этом Хоку — нечего выставлять себя на посмешище. Вернется к своим дружкам-дезертирам и будет рассказывать о моих галлюцинациях после стакана чистой воды… Мне показалось, что надо мной уже хохочет весь мир… — Это не ради забавы. — Неужели я не замечала, что он картавит? И рот у него как у рыбы. — Я покажу тебе скрытую сторону жизни. — Вместо глаз у него ледяные ромбы, а в бороде ползают мохнатые пауки. Да еще и шипят… — Ты что-нибудь чувствуешь? — прогремел гулкий голос, как прибой в океанской пещере. — Нет. Я действительно ничего не чувствовала. У меня не было органов чувств. Телесная оболочка обмякла и спала с меня гниющим, вонючим куском мяса. Я имела к ней такое же отношение, как к отвратительной куче хрящей и мяса, глазеющей на меня льдинами-ромбами. Я захихикала. Вот умора! Я всю жизнь кормила, одевала это тело и преклонялась перед ним, и все — готово! — оно умерло. Вот потеха! Кусок жира у стены заискивающе улыбался. Дурак! Не понимает, что тоже мертв. Хотел отправить меня морем в Марокко, но не успел: тоже умер. Труп продает труп! Я стонала от смеха. Хок медленно — несколько часов — снимал рубашку. Я следила, как ленивые пальцы расстегивали пуговицы; как поднялись — ну и скорость! — вверх руки и выскользнули из рукавов; как шевелится, будто трава под ветром, мех на мускулистой груди. Он встал, начал расти, как стебель боба, и, когда вырос на сотню ярдов, закружился. Кто он? Что ему нужно? Что хочет показать мне? Свою татуировку? Хок поднес руку к моему лицу и стал поигрывать мышцами так, что татуировка дрожала и шевелилась. Я с трудом сосредоточила взгляд на внешнем контуре. Какая совершенная окружность! Она достойна внимания. Татуировка жива! Узор вздрагивал, дышал и кружился. По лабиринту проносились все цвета радуги. Похоже на видимый электрический ток… Я сосредоточилась на лепестках. Какие точные в них треугольники! Ловушка! Меня, как Ганса и Гретель в сахарный домик, вели туда, где жил удивительный монстр: он выплевывал из окровавленной пасти все эти лабиринты, лепестки и узоры с единственной целью — заманить меня в свою берлогу. — …существуют разные уровни личности, — доносился из-под земли голос Хока. Хок заодно с монстром! Конечно! Ведь монстр живет в его бицепсе. Я фыркнула и отвернулась от мерзкой руки. Спасена! Он дотронулся до моего лица — и я снова увидела татуировку. «Нет!» Или мне показалось, что я закричала? — Смотри! — голос отражался от стен, как взрывные волны в испытательной камере на заводе майора. — Смотри! — Нет! Не хочу! — Ты должна! — гремел надо мной голос. Я упрямо закрыла глаза. Меня затошнило. Хотелось привести свои мысли в порядок, но они рассыпались, как кубики Венди, и дико плясали. Оставалось одно: открыть глаза. Я увидела яркие лепестки, треугольники — вперед, в распахнутую пасть монстра-вампира! Из нее вытекала алая кровь, а белые клыки грозились вонзиться в меня. — Сосредоточься! — раздался загробный голос. — Это только подготовка. Сосредоточься! Я широко раскрыла глаза, монстр исчез. Передо мной был череп, похожий на тех, что высекал на надгробиях Папа Блисс. Вместо короны на голове торчали два красивых пятнистых крыла. Я с удовольствием смотрела на череп: неужели можно бояться такого симпатичного существа? — …Правые треугольники олицетворяют Инь и Янь, активное и пассивное, мужское и женское… — бубнил назойливый голос. — Да заткнись, Хок, — весело проговорила я. — …три угла символизируют интеллект, эмоции и физическое состояние… — Да заткнись же! — крикнула я и засмеялась. Вот самонадеянный невежда! Но как выбраться из этой трясины? Я улыбнулась добродушному черепу и вздрогнула: передо мной снова был монстр. Я вспомнила, как уже избавлялась от него, и зажмурилась. Может, сработает? Он действительно исчез, уступив место черепу. Но теперь мне было не до смеха: череп скрежетал зубами, скрипел и издавал какие-то дикие звуки. Я чуть не вскочила и не закружилась, как марионетка на проводах высокого напряжения вместо веревочек, в бешеном танце. Что хуже: ежиться от страха или скакать от непонятного восторга? Я металась между страхом и восторгом уже тысячу лет, боясь остаться наедине то с монстром, то с черепом. Я понимала, что и то и другое не существует, но… Я видела их своими глазами. Наверное, я — шизофреничка. Я догадалась, что могу управлять этим бедламом: нужно только сощуриться и найти нужную точку зрения: появится череп — улучшится настроение. Несчастный Хок! Как он жалок! Сидит, сгорбившись, рядом со мной и скучает. Мысли скакали, как подбитые птицы, и улетали куда-то в космос. Я стала Богом. Я смеялась, как Бог. Я могла создавать и разрушать этот мир. Мне понравилось то, что я создала. Ни войны, ни нищеты, ни несправедливости. Это просто химеры. Епископ Беркли во всем был прав. Существую только я. Как хорошо! Можно считать все страдания развлечениями. Я достигла духовного совершенства… Через несколько веков блаженства я подняла голову и увидела мистера Дезертира: он наклонился надо мной, закрыв бородой свой срам, а в руке блестел шприц. Зачем-то снял мои джинсы. Мне стало смешно: он решил трахнуть Бога. У него был шанс, когда я была просто смертной, но он отказался, а теперь об этом не может быть и речи. Я оттолкнула волосатые руки. — Я спущу тебя на землю, — прорычал он. — Нужен укол. Вниз, вниз, вниз… Я летела с небес по спирали в сумеречную преисподнюю. Шахтеры, придавленные обрушившейся кровлей, беглые рабы, солдаты, выстроившиеся в ряд над несчастной вьетнамкой… Все семь смертных грехов — высокомерие, скупость, сладострастие, гнев, чревоугодие, зависть и лень — царили вокруг. И все принадлежали мне. Я вернулась в свое потное тело, будто в капкан. Мысли были тяжелыми, словно на мозг надели часы Джо Боба. Я уснула… Хок протянул мне стакан воды и две таблетки. — Возьми. Станет легче. По-моему, мне стало бы легче только от цианистого калия. Надеясь, что он хочет убить меня, чтобы ограбить дом, я залпом осушила стакан и через несколько минут почувствовала себя нормально. — О Боже! Я забыла о Венди! Бедная Анжела! — я вскочила и собралась бежать. — Успокойся, — протянул Хок, не отрывая глаз от моих «Леди Буловой». — У тебя в запасе еще полдня. Я села на койку. Мне казалось, что прошла по крайней мере декада. — Это было удивительно… — Пожалуйста! — он затряс головой так, что зазвенел колокольчик. — Я не хочу об этом слышать. — Да, но… — Нечего удивляться, черт побери! На самом деле все очень просто. Должна знать из университетского курса. Галлюциногены уничтожают мозговой фильтр, который управляет количеством и природой чувственных возбудителей, пропуская их в мозг. В результате сознание тонет в ощущениях. Длительность восприятия строго пропорциональна количеству сенсорных впечатлений, полученных мозгом. Большое дело! — Но если это не «большое дело», — огрызнулась я, обидевшись, что мои мистические видения объясняются так просто, — зачем было давать мне ЛСД? — Затем, что ты никогда не поняла бы свойства наркотиков, не испытай их сама.
— Знаешь, — признался вечером Хок, — я никак не могу решить, чем же является моя история — комедией или трагедией? — Разве это имеет значение? — Конечно. Жанр определяет структуру произведения. В комедии жизнь продолжается, герои выживают в самых невероятных ситуациях, а в трагедии, наоборот, умирают и тянут за собой остальных. — И в чем проблема? — Понимаешь, у меня должно быть не менее десяти томов. Я только начал. Я хочу проследить возникновение жизни, земли, солнца, молекул, атомов и охватить период в биллионы лет. Вопрос — комедия это или трагедия — решающий. Представь себе космос. Возможны два варианта: или в результате взрыва изменяется время — это комедия, или возникает Черная дыра, поглотившая солнце, — это трагедия. Нужно решать… Айра приехал точно в тот день, когда обещал. В первый же вечер он черкнул что-то в кухонном календаре и сверкнул на меня глазами: — Сегодня, Джинни! Если не сделаем сына сегодня — не сделаем никогда! Я столько дней копил сперму! — Хорошо. Я уложила Венди, вымыла посуду, послушала с Айрой новости и поплелась за ним наверх. Я ощущала себя Марией-Антуанеттой, идущей на эшафот. Хок вдохнул в меня новую жизнь. Как можно забеременеть от Айры, если все мои мысли крутятся вокруг Майтханы? Пора сделать выбор, решила я, подмываясь содовым раствором. Решительно вошла в спальню. Айра притаился под одеялом. Я вытащила из шкафа свое белье и направилась к двери. — Ты куда? — В комнату для гостей. — Для гостей? — Для гостей. — Прямо сейчас? — Прямо сейчас. — Тогда я пойду с тобой. — Не вижу необходимости. — Но мы же хотим сделать сына, — похотливо хихикнул Айра. — Ничего подобного. — Что? — Я не хочу никакого сына. Он вздрогнул, как от удара. — Не понимаю. — Я не хочу больше детей, — выпалила я. — Не хочешь больше детей? — медленно повторил он. — Айра, не будем погонять мертвую лошадь. Снова потекли однообразные дни. Но теперь я обслуживала троих: Айру, Венди и Хока. Я вставала, готовила завтрак Айре и поднимала Венди. Потом, прячась от Айры, чистила овощи Хоку. Когда он уходил, я кормила Венди, укладывала ее спать и спускалась в подвал. Хок отрывался от книги, завтракал, и мы принимались за упражнения: дыхательные, созерцания и удержания семени. По сто восемь раз в день произносили «Аум» и слушали правыми ушами внутренние голоса: в зависимости от состояния души они должны были звучать то как жужжание пчел, то как звон крошечных колокольчиков, то как прибой океана или как звуки флейты. Должны были… Я слышала только биение своего сердца, и, надо признаться, это меня убивало. Мы смотрели, как от разных частей наших тел поднимались разноцветные волны. (Точнее, смотрел только Хок, потому что я ничего не видела.) Сжимали свои анальные отверстия, чтобы преградить путь ядовитому огню, проникающему в нас таким образом. Закрывали по одной ноздре и вдыхали и выдыхали через другую в сочетаниях, понятных одному Хоку. Надували щеки, представляя, что с каждым вдохом в легкие вливается жизненная энергия. Клали сцепленные руки на солнечные сплетения и представляли, как от дыхания раздуваются яркие языки пламени. Сжимали брюшные стенки и ритмично дышали. Дотрагивались правой рукой до сердца и сорок два раза произносили то «Инь», то «Янь». Я забросила все домашние дела. — Не понимаю, Джинни, — сказал как-то вечером Айра, вытащив из стиральной машины заплесневелые сорочки, — если ты не хочешь быть моей женой, варить, убирать, делить постель и растить моих детей, — что ты намерена здесь делать? Я улыбнулась. Я знала, чего хочу. Вознестись на небо. Лежа на спине. Хок закончил свой первый том. Фермер с женой вернулись в Вермонт как агенты Репа. В качестве жалованья Реп материализовал для них новенький, с иголочки, «Сноу Кэт» с леопардовой шкурой на сиденье. Хок все-таки определил жанр своего произведения: комедия с мощным взрывом в конце. Он был очень доволен нашими тренировками и считал, что мое отношение к Майтхане наконец стало достаточно почтительным и что я усвоила парадоксальную истину: «Самоотречение во имя запредельного!» Мы должны были достичь Майтханы на пятый день после моей менструации, и Хок отметил этот день в календаре с той же тщательностью, с какой Айра отмечал благоприятные для зачатия дни. Приближался ответственный день. Айра ушел на очередное заседание, а я спустилась в каморку беглых рабов для последних упражнений. Хок сидел на полу в позе лотоса и громко, со свистом, дышал. Я знала, что его нельзя беспокоить, когда он поглощает Прану, и тихо присела на койку. На столике горела свеча. Рядом стояло зеркало. Перед столиком — табуретка. Царил полумрак. Я замерла от предчувствия наслаждений. Хок жестом велел мне сесть лицом к зеркалу. — Пора! Сконцентрируй внимание на какой-нибудь части твоего лица — носу, подбородке, губах… Только не на глазах. Я отвергла свой нахальный маленький носик, потому что он слишком близко от глаз, и выбрала губы. — Сделай семь стандартных дыхательных упражнений, — приказал Хок. — Не моргай. Слегка прикрой глаза и смотри на то, что выбрала. Ни о чем не думай. И не моргай! Когда глаза устанут, не мешай им. Не сосредоточивайся больше. Давай! Я подышала, расслабилась и уставилась на свои губы, стараясь не вспоминать, сколько доставили они мне неприятностей в прошлом. Я не моргала. Постепенно зрение расфокусировалось, лицо приобрело чужие черты — я не стала думать, чьи, — зеркало затуманилось, и вскоре я видела в нем только смутное очертание своей головы. Я совершенно растворилась в незаметно подкравшейся дымке тумана… Мне стало страшно. Я несколько раз моргнула, туман сразу исчез, и я облегченно вздохнула, увидев себя в зеркале. — В чем дело? — Я исчезала. — Отлично. — Отлично? Это было ужасно. Я чуть не исчезла совсем. — Успокойся. В этом суть опыта. — Очень остроумно! — Ради Бога, Джинни, где твоя научная объективность? Зачем все превращать в мелодраму? Ты прекрасно бы все проделала, будь поспокойней. Глаза человека… — Я тоже учила физику, — перебила я. — Я знаю, почему человек видит. — Может, и знаешь, но не используешь свои знания в наших опытах. — Может быть. — Кстати, я в твоих знаниях далеко не уверен. Ты совсем не умеешь определять время. Помнишь, я запер тебя здесь одну? Ладно, завтра вечером переходим к Майтхане. Мое сердце упало, дыхание участилось, и я прослушала, что он говорил. «…Только потому, что мы не можем представить себе существование отдельно пространства и времени, еще не значит, что такое существование невозможно. Что произойдет со временем, если отключится вся сенсорная энергия?..» — Мне все равно! — Я помчалась наверх, чтобы как-то скоротать долгие часы до того, ради чего я столько тренировалась. На следующий вечер Айра ушел на заседание похоронной комиссии. Я виновато поцеловала его перед уходом, поскорей уложила Венди, приняла ванну, чтобы смыть с себя биополе, надушилась «Шанелью № 5» — подарок Айры на последнее Рождество, — надела розовый пеньюар и повязала на шею зеленый шелковый шарф. Спираль я не стала вставлять — Хок сказал: «Помешает твоему биополю, а я и так контролирую семяизвержение» — и помчалась на кладбище Блиссов. Хок уже ждал. На нем был коричневый Айрин халат. Он уже приготовился: установил ультрафиолетовую противомоскитную лампу — оказывается, ее волны стимулируют нижнюю чакру, — соорудил из досок и кирпичей низкий помост и накрыл его белым холстом. На помосте стояли две свечи, тарелка с едой, бутылка «Южного счастья», два бокала, графин с водой и два стакана. Рядом с помостом лежал растеленный спальный мешок Хока. На нас уставились мрачные пустые глазницы ангелов, вырезанных Папой Блиссом на могильных памятниках детей. Рядом возвышалось надгробие самого Папы Блисса — скелет, держащий в одной руке косу, а в другой — пустые песочные часы. Чуть дальше росли две акации: одну посадил Папа Блисс, вторую — его жена. Июньское солнце садилось за дальний холм. Мне стало не по себе. — Может, пойдем в подвал? — Выбор места тоже имеет значение. — Кстати, Хок, ты уверен, что мы достигнем Майтханы? — Откуда я знаю? — Он передернул плечами. — Я никогда этим раньше не занимался. Могу только предполагать… — Мы на самом деле трахнемся? — не отставала я. — Или это будет вроде ЛСД? — Ты боишься, Джинни? Признайся. Сказала бы раньше, я не стал тратить на тебя столько времени. — Я не боюсь. Просто интересно. — Кто понимает, на что способно тело, тот приходит к пониманию Вселенной. — Он потеребил бороду. — Мы уделяли все внимание телу не ради него самого, а чтобы использовать его как инструмент для достижения мокши[11]. Я недоверчиво покачала головой. Может, Хок и верил в то, что говорил, но мои мотивы были не так возвышенны. — Люди занимаются этимвеками. — Но не я. — Прошу тебя, не отказывайся. Я готовился к этому вечеру больше года. Это мой последний шанс, Джинни. Как я могла оказаться? Он смотрел так страдальчески. — Ладно! — ответила я. Хок зажег свечи. Мы сели в позах лотоса на помост, сделали двенадцать упражнений и сконцентрировались на нижних чакрах, через которые в нас вольется космическая энергия. — Фэт! — сказал Хок, постучал пальцем по бутылке «Южного счастья», взмахнул рукой и пропел: «Ха-а-нг». Потом поднял бутылку и произнес: «Намах». Мне оставалось надеяться, что он знает, что делает. Он распечатал бутылку, поднес к носу, вдохнул аромат правой ноздрей, потом — левой, наполнил бокалы, и мы выпили залпом. Наполнил снова. Мы взяли с тарелки по кусочку колбасы и хором пропели: «Шива. Шакти. Я очищаю похотливое тело». Съели колбасу — она символизировала животную страсть — и запили «Южным счастьем». Хок снов наполнил бокалы. Мы взяли по кусочку морского тунца — он олицетворял водные формы жизни, — съели и запили вином. Потом взяли по щепотке соли — «соль земли» — и снова запили вином. Мы повторили всю процедуру. Бутылка с квартой вина наполовину опустела. Мне было не по себе. В другом месте, в другое время этот ритуал доставил бы удовольствие, но сегодня, в Старкс-Боге, он казался бессмысленным. Мы закрыли глаза, посидели, медитируя, выпили еще по бокалу и хором проговорили: «Кундалини». Запили вино водой. Хок протянул мне косточки кардамона, мы очистили их, разделили и стали жевать. Я сняла пеньюар и устроилась на спальном мешке, а Хок сел рядом и восхищенно уставился на мое голое тело. Сейчас вонзится в меня самым вульгарным образом! Мое сердце забилось. Все эти недели я мечтала отдаться герою войны. Зачем же нужна эта чушь? Хок положил руку на мое сердце и забормотал: «Я — Шива, я — Шива»… Потом встал на колени и начал гладить мне шею, уши, бедра, колени, ноги… Я ждала. Наконец он дотронулся до лобка. Он рывком сбросил Айрин халат. Пенис, как готический шпиль, торчал в небо. Он лег рядом и стал ждать, пока мы задышим в едином ритме. Потом положил на меня правую ногу, и я почувствовала, как его пенис чуть-чуть вошел в меня. Может, это и есть Майтхана? Прошло примерно тридцать две минуты. Мы лежали, дрожа, и ждали, когда снизойдет Самараза. Нирвана. Транс. Смерть. Бог знает что еще. Мысли путались. Пенис поник и лежал на мне, словно ватный тампон. На лбу Хока выступил пот, лицо покраснело. Мне стало жаль его, я погладила небритую щеку, закрыла глаза и представила, что плыву по волнам «Южного счастья»… Я проснулась от чьего-то плача. Я лежала под яркой лампой, а в ногах у меня свернулся крепко спящий голый Хок. На нас упала чья-то тень. Айра. — Ты уже вернулся, дорогой? Он всхлипнул. Я оттолкнула Хока, села и накинула пеньюар — он был на мне в нашу брачную ночь. От холода тело покрылось гусиной кожей. — Это не то, что ты думаешь, Айра. — А что? — Это не секс, — терпеливо объяснила я. Айра врезал ногой по помосту. Посуда разлетелась вдребезги. — Боже всемогущий, Джинни! Я ведь все видел. — Я понимаю, это очень похоже на секс, но это не секс. Поверь мне, — взмолилась я. — Нет! Не верю! Вы — ты и твои хиппи — думаете, что можно веревки вить их таких доверчивых простаков, как я! Ты использовала меня, Джинни! Вот почему ты отказалась выполнять свой супружеский долг! Держу пари, ты лгала мне всегда! Каким же я был идиотом! Ты таскалась с кем попало! — Неправда! Я ни разу не изменила тебе! И сейчас — тоже. Этот человек и я, мы хотели избавиться от рабства физических тел! — Конечно! Называй это как хочешь, но с меня хватит! Ясно? Ты с того самого дня, как мы познакомились, только и знала, что издевалась надо мной! Убирайся! И забирай своего психопата! — Сейчас? — Сейчас! Сию минуту! Убирайся в свою коммуну! Спи с этим чучелом! Вы оба — звери. Иди куда хочешь! Мне все равно. Только исчезни из моей жизни! — Он снова заплакал. Хок зевнул, сел и огляделся. Колокольчик тихо звякнул. Постепенно к нему вернулась память, и лицо потемнело от боли. — О Боже! Я уснул! Я проспал! Целый год — к черту! Боже мой! — Он увидел меня и простонал — Джинни! Мы все проспали! Я кивнула на Айру. — Айра, это Хок. Хок, это Айра, мой муж. Айра зарычал. Хок подскочил и — истинно южный джентльмен — протянул ему руку. Айра врезал ему по лицу и сбил с ног. — Вон с моего двора! Оба! — А Венди? Детям нужна мать! — Мать, но не сука! Мы с Хоком потащились за Айрой в дом. — Послушай, Айра, — начал в кухне Хок. — Я тебе объясню… — Одевайтесь — и вон отсюда, — спокойно сказал Айра и снял со стены «винчестер». Я надела брючный костюм и бросила в сумочку крем и помаду. Я поняла, что меня выгоняют. В конце концов, это Айрин дом, Айрин город, родственники, мебель… его дочь. Меня просто использовали. Я разозлилась. Он считает, что это я использовала его? А кто готовил ему еду? Стирал и гладил рубашки? Кто терпел его сексуальные фокусы? Это все не считается? Я поднялась к Венди. Она спала: влажная, разрумянившаяся, крошечные ручки сжаты в кулачки. Это его дочь, как и все вокруг. Но, в отличие от всего остального, еще и моя. Я заберу ее. Я наклонилась и поцеловала нежную щечку. В дверях Айра откашлялся и жалобно проговорил: — Мне говорили, что я промахнулся, связавшись с «соевой бабой». Я думал, что смогу сделать из тебя приличную богобоязненную женщину. — Значит, все были правы, а ты ошибся? — Выходит, так. — Не бери в голову, Айра. Змея всегда остается змеей, даже если ты набросил ей на шею цепь. Была полночь. Мы с Хоком проспали больше четырех часов. Айра стоял в дверях со своим «винчестером» и смотрел, как мы потащились по немощеной дороге прочь от его каменной крепости. Ночь мы провели в поле. Хок молчал. Его лицо застыло в маске страдальца. Утром, когда я проснулась, он лежал, закинув руки за голову, и смотрел в ясное летнее небо. — Привет! Куда дальше, Хок? Он не ответил. Я помахала перед его глазами, он даже не моргнул. Потом медленно повернул голову и непонимающе уставился на меня.
— Куда дальше? Весь мир — в нашем распоряжении. Он молчал. Потом снова уставился в небо. — Хок! Он не шевелился. — Хок! — Я потянула его за кольцо с колокольчиком, как фермер за кольцо упрямого быка. — Послушай, Хок, это еще не конец света. Поверь, не конец. Мы будем тренироваться и через месяц снова попробуем достичь майтханы. Большое дело! Только поменяем «Южное счастье» на что-нибудь послабей. Он молча смотрел в небо. — Хок, ну что ты, в самом деле? Это смешно. Он ничего не ответил. Я схватила его за руку и сильно дернула; но она безжизненно опустилась. Я легла рядом и тоже уставилась в небо. Что нам делать — мне и этому зомби? Есть разные варианты. Можно вернуться к Айре. Можно сдать Хока в ФБР, а самой разыграть временное умопомрачение и упросить Айру взять меня обратно. Можно спрятаться в Хоком на ферме Этель и Моны. Можно оставить его здесь, на этом поле, и позаботиться о себе — вернуться в Халлспорт или еще куда-нибудь. Можно обмануть пограничников и провезти его в Монреаль, отыскать кого-нибудь из приятелей и жить с ним, если он согласится, или придумать что-то для себя самой. Я скатала спальный мешок и прикрепила к рюкзаку. Потом растолкала Хока, взвалила ему на плечи рюкзак, взяла за руку и повела, как вьючную лошадь. Мы направились к ферме Этель и Моны. Я чувствовала себя так, словно вернулась домой после долгого изгнания на чужбину. Дом был пуст. Дверь болталась под порывами ветра. На полу гостиной валялся мусор. Мне стало страшно. Я думала, они подскажут, что делать, или, по крайней мере, поддержат морально. Я обошла все комнаты. Пусто. Я сняла с Хока рюкзак, подвела к кушетке и усадила. Он равнодушно рассматривал свои грязные ногти. Он был таким диктатором, когда тренировал меня, всегда точно знал, что когда делать. Где эта уверенность теперь? Она бы так сейчас пригодилась! — Ну что дальше? Он изучал свои ногти, будто не слышал. Я прошла на кухню, нашла несколько больших банок с рисом и соей, сухофрукты, орехи, семена куджута и подсолнухов. Все было покрыто пылью. Я взяла две пригоршни сухофруктов и поделилась в Хоком. Мы сидели и грызли жесткие, как подошвы, абрикосы и груши. Действительно ли за Хоком охотятся агенты ФБР? Если это так, Айра узнает и сделает выводы. Эта ферма будет первой, куда он направит их в приступе патриотизма. Я помогала дезертиру. Что теперь делать? Я внимательно осмотрела Хока. В кожаной курточке с бахромой, узеньких брючках, бородатый, всклокоченный — типичный дезертир. Я принесла ножницы и остригла его, как барана. Потом вытащила из сумочки бритву, которой подбривала подмышки, намылила ему подбородок и щеки и выскоблила их. Сняла кольцо с колокольчиком. Потом помогла ему вылезти из куртки и брюк. В рюкзаке было кое-что из одежды. Брюки с манжетами болтались на нем, как на вешалке, а рубашка была смехотворно тесна, поэтому я оставила его в старой. Он стал выглядеть чистеньким, аккуратным и очень наивным. Подбородок оказался у него совершенно безвольным: немудрено, что он его прятал. — Как ты думаешь, Хок, есть ли смысл добираться до Монреаля? Он изучал свои грязные ногти. — Ты сможешь пересечь границу? Я вздохнула, взвалила на него рюкзак, и мы пошли через лес на север. У самой границы мы забрались в набитый молодежью «фольксваген», а пограничники были слишком заняты поисками наркотиков, чтобы обратить внимание на двух самых старших пассажиров. Я вспомнила, что Хок уже жил в Канаде и был там, в общем-то, дома. В Монреале мы вошли в первый попавшийся отель. Я расплатилась Айриной кредитной карточкой. Кули-китаец взял у Хока рюкзак и повел нас по бесконечно длинному коридору. В отвратительном номере стояли две кровати, окно во всю стену выходило на шумную улицу. Хок сел в одно кресло, я — в другое. — Послушай, Хок, это слишком. Мы выпили «Южного счастья» и уснули. Ну и что? Заменим его виноградным соком. Неужели ты так взял это в голову? — Честно говоря, я чувствовала себя виноватой. Может, мое мошенничество при подготовке к Майтхане сыграло роковую роль в неудаче? Хок поднял налитые кровью глаза и простонал: — Энтропия. — Энтропия? Он яростно потер чисто выбритое лицо обеими руками — точь-в-точь Самсон, обнаруживший, что его остригли. — Они все-таки достали меня. — Кто? — Ты не поняла? Они хотели высосать из меня тепло. Я попался и скоро умру. — Да кто — «они»? — Мне нужно на Юг, — пробормотал он. — Нам нельзя на Юг. Тебя посадят в тюрьму. — Я и так в тюрьме. — Хок, я по горло сыта этим вздором, — отрезала я, как старая классная дама. — Возьми себя в руки. Он тупо посмотрел на меня. — Если ты тоже умерла, скоро почувствуешь энтропию. Она и из тебя высосет тепло. — Он судорожно дернулся и скрипнул зубами. — Здесь очень уютно, Хок, и совсем не холодно: двадцать три градуса. Он затрясся и обхватил себя руками. Что делать? Если обращаться с ним нормально, будто ничего не случилось, может, он так же резко выйдет из транса, как вошел в него? — Заткнись! — рявкнула я, как армейский сержант. — Скоро обед. Постарайся вести себя прилично. Я повела Хока в маленький ресторан «Старый Макдональдс». Горели неоновые буквы. Стойка пестрела яркими обертками. Вместо стульев были старые сиденья от тракторов, насаженные на молочные фляги. На стене висели фотографии домашних животных. Я усадила Хока, заказала «Кровавую Мери» и, чувствуя угрызения совести, что расплачиваюсь Айриными карточками, попросила у официантки, одетой в лохмотья, еще два коктейля. — Два «Рыжих петуха»? — Все равно. В бокалах вместо соломинок торчали малюсенькие вилы. Через несколько минут я пошла в туалет, декорированный под деревенскую уборную, а когда вернулась, Хока не было. Я подумала, что он тоже пошел в туалет, и решила подождать. Рядом сидел мужчина в замшевых брюках и туфлях на платформе и насвистывал «Долину красной реки». — Что вы читаете? — спросил он. Я держала путеводитель по Монреалю. — Автобиографию Алисы Токлас[12]. — Да? Ну и как, интересно? — Ну, если этим заниматься… — А «Рыжий петух» вам нравится? — Что? Ах да, да, конечно. — Еще один? Я удивленно посмотрела на него. Что ему нужно? — Нет, спасибо. Я жду приятеля. — Неужели? Уже десять минут, как он вышел на улицу. — Вы уверены? Он кивнул. Я подскочила и вылетела из ресторана. Я обегала весь район, а потом решила, что он устал и вернулся в отель. Хока там не было. Остался только его рюкзак. Я упала на противную постель и провалилась в тяжелый сон. Утром я обошла несколько офисов борцов за мир, но никто не хотел мне помочь. В конце концов я поняла, в чем дело. Меня принимали за брошенную жену. Я пошла в парикмахерскую и сделала стрижку. Купила пестрое деревенское платье и кожаные босоножки ручной работы и в этой маскировке снова пустилась на поиски. Кое-кто знал его, но не видел уже несколько месяцев. Мне даже дали его старый адрес. На окраине я разыскала облупившийся дом. Толстая женщина за конторкой помнила Хока, но тоже давно не видела. Я пошла в полицию и написала заявление о пропаже человека. Спустя пару дней я предприняла еще одну попытку найти его знакомых. Я предположила, что он пришел в себя и вернулся к старым друзьям. Я побывала в их притонах, но тщетно. Что делать? Я решила устроиться официанткой, снять комнату и искать своего героя. Что еще оставалось мне в этой жизни? Я вернулась в Старкс-Бог за вещами. Автобус остановился прямо у дверей Айриного офиса. Я несла почти пустой рюкзак Хока, оставив его пожитки в камере хранения на автостанции в Монреале. Айра побледнел, увидев меня, но привез на своей красной пожарной машине домой и дал письмо. Миссис Янси приглашала меня в Халлспорт побыть с матерью, которая лежит в больнице с нарушениями системы кровообращения. По пути в аэропорт Айра сказал, что не допустит, чтобы Венди когда-нибудь увидела меня. Ей было плохо, но теперь она счастлива в семье Анжелы. «Исчезни из нашей жизни», — повторил Айра.
Глава 14
Суббота, 22 июля. Джинни смотрела на спящую мать. В носу — тампоны, между ног — прокладка, на руках и ногах — новые синяки. Правый глаз перевязан. Температура повышена. Каждый день могло произойти новое кровоизлияние. Почти неделю мать не вставала с постели, ни с кем не разговаривала. То входили, то выходили медсестры. Джинни казалось, что тело матери, словно яблоко: когда-то наливное, а теперь — упавшее и гниющее. Как у яблока, главным смыслом его существования было одно: растить семена новой жизни. А когда эти новые жизни — Карл, Джим и сама Джинни — стали спелыми яблоками, функции матери были выполнены и она слегла в больницу. Ее тоже использовали. Это несправедливо. Но она сама всегда утверждала, что в жизни нет справедливости. Джинни вышла в коридор. Из палаты тренера доносилось: «Вон! Убирайся! Без всяких «но»!» Непонятно, чем живет тренер: прошлым или настоящим? Кричит ли он оттого, что лежит в больнице, или переживает какую-то драму в прошлом? В дверях палаты миссис Кейбл стояла сестра Тереза, а рядом с ней дрожал от ярости мистер Соломон. — Женщина страдает, сестра Тереза! — Откуда вы знаете, мистер Соломон? Человек — больше, чем биологический механизм. Может, душа миссис Кейбл счастлива в этом, насколько мы можем судить, страдающем теле? — Невмешательство достойно порицания ничуть не меньше, чем преступление, — кипятился мистер Соломон. — Я не могу лежать по соседству и слушать ее стоны, зная, что могу облегчить ее боль. Дайте ей отдохнуть, сестра! Отдохнуть в огромной черной пустоте по ту сторону. — Это не сострадание, мистер Соломон. Вы думаете не о ней, вы хотите облегчить себе жизнь, не слыша ее стонов. Если бы вы действительно сочувствовали миссис Кейбл, то не возмущались бы тем, как она выполняет то, что начертано ей судьбой. — Судьбой! Снова глупости! Нет никакой судьбы, сестра. Есть жизнь. И единственное, на что человек способен, — это прожить ее как можно безболезненней. Отойдите, сестра! Позвольте мне войти! — Он беспомощно схватил ее крепкую руку. — Тому, что вы хотите сделать, мистер Соломон, нет оправданий ни при каких обстоятельствах. Человек не только материя. Нельзя забывать о душе… Джинни вернулась в палату матери. Эдди была права: люди обожают начинать свои рассуждения со слова «человек»… Мать проснулась и следила за рыжими белками на вязе. — Мистер Соломон и сестра Тереза снова спорят. — Да? — Теперь мистер Соломон хочет выдернуть трубки миссис Кейбл, а сестра Тереза мешает. У каждого свои аргументы. Мать улыбнулась. — Они играют словами. Убивают время. — Я заметила. — Джинни снова вспомнила Венди. Ничего удивительного: дочка постоянно жила в ее сознании. По дороге в больницу Джинни всматривалась в каждого ребенка — не Венди ли? В магазине она машинально набивала сумку тем, что любила Венди, а в хижине могла часами сидеть, чавкая печеньем, как когда-то Венди. Несколько раз звонил телефон. Она подбегала в надежде, что это Айра и Венди, хотя понимала, что он не позвонит. Споры мистера Соломона и сестры Терезы почему-то напомнили время, когда Венди еще не умела говорить. Джинни с Айрой разговаривали во время обеда, а Венди постоянно вмешивалась, бессвязно лепеча и сердито жестикулируя для выразительности ручонками. Она переводила глазки с мамы на папу и считала, что ее лепет важен ничуть не меньше, чем слова родителей. И, похоже, так оно и было. — А что ты думаешь об этом? Можно ли убить, если болезнь неизлечима? — Может быть, мать даст ей понять, как поступить с ней самой? — Не думала об этом. Все зависит от многих обстоятельств. — А в случае с миссис Кейбл? — Не знаю. Скорей всего, она давно выразила свою волю на бумаге. — А если нет? Мать пожала плечами. — Это не мое дело. — Мама, однажды ты просила меня помочь тебе умереть легкой смертью, — выпалила Джинни. — Принести тебе пистолет? Или что-нибудь в этом роде? — Все! Плохо ли, хорошо ли, но дело сделано. Мать улыбнулась и надолго замолкла. Джинни покраснела, как много лет назад, когда мать говорила с ней о менструации. Две темы — секс и смерть — были одинаково священны и требовали особой деликатности. Похоже, она сглупила. — Я помню тот разговор, — наконец произнесла мать. — Я была моложе и намного романтичней представляла себе смерть. Спасибо за вопрос, Джинни. Но — нет, мне не нужен пистолет. Мне не очень больно, и у меня еще остались дела — смерть требует тщательной подготовки. Они молча послушали фамильные часы. — Страдания тоже имеют свой пик, — заметила мать. — Как это? — Да, когда радуешься, что заканчиваешь жить и готова к объятиям смерти. — Да, верно. После кровоизлияния Джинни читала матери энциклопедию. В этот день она дочитала последнюю статью, завершив девятилетний проект матери. Мать удовлетворенно закрыла глаза. Одно дело сделано. Потом попросила принести ей из дома кое-какие бумаги и пригласить адвоката. Два дня она что-то писала, положив на колени подушку, консультировалась с адвокатом и наконец протянула Джинни пачку бумаг. Сценарий похорон, перечень расходов, эпитафия, список мебели, которую нужно оставить в семье, какие-то финансовые расчеты, договор купли-продажи… — Мама! — Да? — Но ты не можешь продать его! — Почему? Разве это не мой дом? — Я против! — Дорогая, самое лучшее, что я могла для тебя сделать, — продать дом. Считай это моим подарком. Каждый дом нужно продавать прежде, чем он превратится в памятник. Прошлое, которое очень любят, вредит настоящему, — как о выстраданном, сказала она. Джинни уставилась на мать полными слез глазами. Это хуже, чем быть вышвырнутой: продается само гнездо. — Возьми с собой эти часы, — сказала мать. — Куда бы ни решила идти. — Спасибо, — пробормотала Джинни. — «Тебе мы ослабевшими руками передаем наш факел», — процитировала мать и с печальной улыбкой протянула Джинни фамильные часы. «Я — как бегун в бесконечной эстафете, — подумала Джинни. — Придет время, и я так же передам их Венди. Хотя… Какая разница, существует или нет женская линия Халл — Бэбкок — Блисс, если сама я умру ужасной смертью?» Джинни знала, что у матери есть ее вера. Называй ее как хочешь, но это — вера. Не вера сестры Терезы в загробную жизнь, не вера мистера Соломона в бесконечную черную пустоту и забвение. Ее вера другая. Она украсила всю ее жизнь. Перед уходом Джинни поставила часы на тумбочку, понимая, что матери они нужны сейчас больше, чем кому бы то ни было. — Нет. Забери их, пожалуйста. И фотографии тоже. Вечером Джинни позвонила Джиму по последнему номеру, который дала ей мать. Ответил молодой мужской голос: — Джим уехал. — Куда? — Не знаю. — Это важно. Его мать очень больна. — Молодой человек прикрыл трубку рукой и что-то крикнул. Потом громко сказал: — Говорят, он уехал в Хай-Сьерру. Она позвонила туда в справочную и получила ответ, что без дополнительных сведений его вряд ли быстро найдут. Карл ответил, что приедет из Германии сразу, как только сможет. Похоже, в армии, хоть там и масса дел, к смерти относятся с почтением. На следующий день Джинни сразу заметила, какой пустой стала палата без часов, фотографий и энциклопедии. Пустой и безликой, как все остальные. О том, что здесь лежит ее мать, говорили только вазы с цветами. Мать молча следила за белками. Джинни не знала, о чем говорить. Энциклопедию дочитала; «Тайные страсти» были бы сейчас совершенно неуместны. Она ждала, что мать скажет ей что-то важное, подведет итог своей жизни и подскажет, что делать дочери. Или расскажет, во что и почему верила всю свою жизнь. Но мать молчала, а заговорить самой казалось кощунством. В таком подвешенном состоянии прошло несколько дней. Без привычного тиканья часов время словно остановилось. Они определяли его теперь не по часам, а по тому, когда приходила колоть обезболивающее медсестра, когда заглядывал доктор Фогель. Принесли цветы. Нежный аромат заполнил палату; Джинни внимательно посмотрела на мать. На карточке было написано: «От друга». Цветы были великолепны; надпись растрогала мать… Приносили пресную и однообразную щадящую еду… Они были заключены в палату, как в кокон; время превратилось в пудинг с изюмом и галькой: изюм они с удовольствием съедали, гальку раздраженно выплевывали. Джинни изредка наведывалась в хижину — покормить птенца, поучить его летать и проверить, нет ли писем от Айры и Венди, но в основном неотлучно была рядом с матерью. Не потому, что мать в ней нуждалась. Наоборот, казалось, ей хочется остаться одной, они не разговаривали. Посторонний сказал бы, что мать расстроена, но Джинни знала, что это не так: она просто погрузилась в свои мысли. Не мать нуждалась в дочери, а дочь — в матери. Она смутно надеялась, что ей перепадут крохи материнской мудрости, обретенной в борьбе со смертью. Однажды утром Джинни увидела, что мать снова наблюдает за белками своим единственным зрячим глазом. Белка-папа сидела на ветке и грызла семена. Рыжую спинку золотило утреннее солнце. Она клала семечко в свой крошечный ротик и ритмично помахивала пушистым хвостом. Листья вяза слегка трепетали от легкого ветерка. Из здорового глаза матери катились слезы. Джинни быстро вскочила с кровати и стала бережно вытирать их платком. — Все будет хорошо, мама, — чуть не плача, пробормотала она. — Нет, не будет, — прошептала мать. Джинни не могла видеть, как она плачет. Всю жизнь на лице матери играла вежливая улыбка. Заплакать — значит предать свою веру. Вошла миссис Чайлдрес — изюминка в их пудинге, — принесла ланцет для анализа. Сегодня она была галькой. — Ну-ну, дорогая! Не плачьте! Все обойдется, — запричитала она, увидев на лице миссис Бэбкок слезы, и сунула ей в рот термометр. — Опусти жалюзи, — попросила миссис Бэбкок, когда медсестра, недовольно покачав головой, наконец ушла. — И выбрось цветы. В этот день миссис Бэбкок завязали и второй глаз, чтобы уменьшить напряжение и головную боль. Она лежала в пустой палате, и было невозможно определить, спит она или бодрствует. — Мама! — окликнула Джинни. — Давай я тебе почитаю. — Ей казалось, что матери страшно: одной, в темноте… — Пожалуйста, — тихо ответила мать. — Я хочу остаться одна. Это прозвучало как пощечина. — Да-да, конечно, — вскочила Джинни. В конце концов, во время родов ей тоже больше всего хотелось остаться наедине со своей болью; и еще из занятий с Хоком Джинни узнала, что — осознанно или нет — происходит сейчас с ее матерью: оторвавшись от земной суеты, она хочет подготовиться к переходу в измерение, в котором не существует ни времени, ни пространства. Она разорвала все узы, связывающие ее с этим миром, включая любовь и заботу о собственной дочери. — Но, мама, — с обидой брошенного ребенка воскликнула она, — что мне делать с барахлом в чулане? Мать молча отвернулась. Джинни вернулась в хижину и вытащила птенца из корзины. Он радостно запищал и открыл ротик. Она покормила его маленькими шариками из противного фарша, посадила на палец и вышла во двор. Птенец замахал крыльями и, пролетев несколько метров, плавно опустился на землю. Джинни зааплодировала. Еще немного — и он улетит, оставив ее одну. Ей захотелось плакать. Странно: ее раздражали птенцы, она хотела, чтобы они исчезли, а теперь, по мере приближения дня расставания с последним из них, ее охватила тревога. Справится ли он без нее? Не умрет ли с голоду? Не сожрут ли хищники? Не отвергнут ли другие стрижи? Нет, она еще нужна ему. Или он — ей? Она посадила птенца на ветку. Да, она нуждается в нем; нуждается в ком-то, о ком нужно заботиться и кто хоть в чем-то заменит ей Венди. Материнский инстинкт не перекроешь, как водопроводный кран. Однажды проснувшись, он остается на всю жизнь и ищет себе объект для заботы. Кто у нее останется, когда птенец улетит? Джинни неохотно посадила его на подоконник. Окно давно пора вымыть, но если хижина продана, какое ей до этого дело? Сквозь мутное стекло птенец мог видеть двор, сосну, берег пруда в зарослях куджу. И, конечно, взрослых стрижей на трубе — а среди них своих жестоких родителей. Они стрелой пикировали на пруд, поднимая рябь, а маленькая птичья головка поворачивалась вслед за ними. И это вся благодарность за две недели заботы? Рано утром в палате матери было еще темно. — Мама, это я, Джинни. Мать не шелохнулась: то ли спала, то ли ей было все равно. Джинни легла на свободную кровать и задумалась. У матери чертовски крепкие нервы: сначала принесла ее в эту жизнь, а теперь оставляет, отказываясь даже объясниться! И это после недель, проведенных у ее постели терпеливой дочерью, выполнявшей каждый каприз! С каких это пор ей отказывает в заботе и внимании собственная мать? Черт с ними, объяснениями! Что мать может сказать? О чем? О жизни? О смерти? Замужестве и материнстве? Джинни разозлилась, встала с постели и позвала: «Мама!» Круглое желтое лицо не шевельнулось в ответ. Гнев сменился растерянностью. Джинни снова легла. Господи! Неужели мать бросила ее? Умерла и оставила совсем одну? Ей стало страшно. Забота о матери на какое-то время заполнила ее жизнь, а теперь снова вокруг была пустота. Куда ей идти? Что делать? Как жить после прикосновения смерти? Смерть успокаивает мертвых. Но как жить ей? Живой? — Мама, — всхлипнула Джинни. Ответа нет. Она провела с неподвижной, безучастной матерью еще несколько часов и вернулась в хижину. Полуденное солнце слепило и припекало. Громко жужжали пчелы. Она вытащила из корзинки птенца и посадила на палец. Он пялился на нее черными глазками-бусинками и открывал розовый ротик. Не успела Джинни дойти до двери, как он спрыгнул с ее пальца и, отчаянно махая крыльями, полетел. Она давно ждала этой минуты. Наконец-то птенец научился летать! Жаль, что это произошло не во дворе. Он облетел гостиную и сел на каминную доску. Она подкралась к нему, но он испуганно запищал. Неужели так быстро забыл, кто заботился о нем столько времени? В гостиной было прохладно и сумрачно. Птенец повернулся к стеклу, но ударился клювиком и, не успела Джинни поймать его, взмыл под потолок. Над низким комодом висело зеркало. Птенец устремился к его блестящей поверхности, но испугался собственного отражения, перевернулся в воздухе и отлетел. Она распахнула дверь. Может, он сообразит, куда лететь? Птенец неистово носился по комнате от мутного окна к блестящему зеркалу и назад. Джинни решилась. Она бросится наперерез, он испугается и свернет к двери. Она вскричала и замахала руками. Птенец испуганно запищал и с размаху врезался в окно. Джинни, плача, схватила теплое, судорожно дергающееся тельце с бархатной грудкой и увидела, как черные глазки подернулись мутной пленкой… На следующий день мать не ответила на ее приветствие. Джинни не знала, спит она или только делает вид. Ей было жаль мешать матери разрывать земные узы, но она чувствовала, что должна что-то сказать. — Вчера умер последний птенец, — тихо заговорила она, не зная, слышит ли мать ее слова. — Я понесла его во двор, но он соскочил с моего пальца, стал носиться туда-сюда и в конце концов врезался в стекло. Мама, пойми: он разбился о закрытое окно, хотя рядом была распахнута дверь. Мать не ответила. Спит? Не слышит? Джинни хотела отойти, но мать неожиданно улыбнулась и тихо сказала: — Береги себя, Джинни. — Ты тоже, мама. Джинни позвонили ночью. Она примчалась на джипе в больницу и влетела в палату. Мать была в коме. Она лежала под капельницей, а доктор Фогель поднимал ей веки и слушал сердце. Оттолкнув санитаров, Джинни потянула его за халат. — Пожалуйста, — прошептала она, — дайте ей уйти. — Я занят! — прошипел он. — Она готова. Дайте ей уйти. Он усадил Джинни в кресло и строго спросил: — Вы хотите, чтобы ваша мать жила? Или нет? Она не ответила. Громко жужжала какая-то аппаратура… — Мы делаем все, что возможно. — Я знаю, доктор Фогель. Я ценю это. — Ей показалось, что он вот-вот заплачет. Через час, не приходя в сознание, мать умерла. Джинни вернулась в хижину, легла на кровать, на которой когда-то родилась, и заплакала. Те, кого она любила, выросли, умерли или изменились — потому что горы проржавели, реки изменили свои русла — ничто не осталось неизменным; каждому живому существу суждено умереть — и умереть в одиночестве. Она вытерла слезы, поправила постель и приступила к чтению очень подробных инструкций матери. Вскоре приехал Карл — стройный, высокий, красивый, в военной форме — истинный продолжатель дела майора. Они молча обошли два дома, потом продали лишнюю мебель, кое-что сдали в хранилище и покончили с продажей особняка и хижины преемнику майора. Подписали множество бумаг, сдали в банк наличные для себя и Джима, поцеловались и расстались — скорей всего, навсегда. Она позвонила Айре. — Айра, это я, Джинни. Моя мама умерла. Он долго молчал. — Мне очень жаль, Джинни. Она была хорошей женщиной. — Спасибо. — Она сама не понимала, зачем позвонила. Что ей с того, что мать была хорошей женщиной? — Как Венди? — Она услышала ее плач во дворе. Сердце сжалось. — Отлично. Она ходит к Анжеле, пока я на работе. Джинни едва удержалась, чтобы не спросить, скучает ли по ней Венди, как скучает она? — Бедная Анжела. Она не возражает? — Что для нее еще один? Только веселей, — ответил Айра, не проведший в детстве ни одного дня в одиночестве. — Айра, я… — Она чуть не спросила, нельзя ли ей вернуться. Бедный дорогой человек! Она очень обидела его, бездушно нарушив правила, какими бы глупыми они ей ни казались. — Да? — нетерпеливо спросил он. — Я… я… — Джинни, когда ты вернешься? Ты нужна нам с Венди. Они тоже очень нужны ей! Больше, чем когда бы то ни было. — Айра, я… — Пожалуйста, возвращайся, Джинни. У нас будет еще ребенок, и все наладится. В доме разруха. Я неделями не ем горячего. Венди по ночам плачет. Ей нужна настоящая мать, Джинни. А мне — жена. Настоящая жена. Джинни замерла, подумав о покойной матери: она была настоящей женой и матерью — пока в ней нуждались. Что посоветовала бы мать? Последовать ее примеру? Или нет? Но мать умерла, предоставив право ей самой составлять сценарий собственной жизни. Джинни была ее продолжением, но слишком рано приговаривать себя в двадцать семь лет к медленной смерти. — Нет, — еле слышно сказала она. — Нет? — Я подам на развод, Айра. Я хочу забрать Венди. — И выйти замуж за того мерзавца? — Нет. — Куда ты поедешь? Она помолчала. — Не знаю. — Ты не получишь Венди. Я не могу доверить своего ребенка сумасшедшей. — Сумасшедшей, которая случайно оказалась ее матерью, — разозлилась Джинни. — Неужели бедное дитя мало от тебя натерпелось? Ты сбежала даже не попрощавшись… — Ты выгнал меня ночью… — …А теперь, когда она черт знает из каких соображений тебе понадобилась, ты приползешь назад? Чтобы обмануть ее снова? Не выйдет! Ты не нужна ей! Она уже называет Анжелу мамой. Оставь ребенка в покое! Венди называет Анжелу мамой? У Джинни перехватило дыхание. — Но ты ведь сказал, что она плачет по ночам? — Не помню. — Ты только что это сказал! — Ты себе льстишь. Знаешь, женитьба на тебе была самой большой ошибкой в моей жизни. — Я тоже не считаю это время самым лучшим в своей жизни. — Готова ли она принести ее в жертву богу эмансипации? Или все-таки приползти к Айре и принять его условия? — Мне жаль, что умерла твоя мать, — смягчился Айра. — Она была настоящей женщиной. Тебе до нее далеко. Джинни почувствовала, что сейчас самый подходящий момент помириться. Он уступит, попроси она прощения. Ей далеко до матери? Да, но даже гиперсамоотверженная мать допустила возможность ее собственного развития. Она осторожно повесила трубку, упала на кушетку и разразилась рыданиями. Она звонила, надеясь помириться, а получилось наоборот. Она больше не жена Айры, не мать Венди, не дочь своей матери… Кто же она? Джинни торопливо позвонила в справочную Джорджии и набрала номер Хока. Это был выстрел наугад. — Алло? — спросил уверенный мужской голос. — Я — подруга Уилла. Могу я с ним поговорить? — Простите, — не сразу ответил мужчина на другом конце провода, — могу я узнать, с кем говорю? — Конечно. Я — Джинни Бэбкок. Мы познакомились в университете. — Вот как? Я — отец Уильяма. — Очень приятно, полковник Хок. Уилл говорил о вас. — Она специально усилила свой южный акцент, надеясь войти к нему в доверие. «Болтают два земляка-деревенщины», — сказала бы Эдди. — Буду откровенен с вами, мисс Бэбкок. Уильям сейчас в госпитале в Атланте. Джинни вздрогнула. — Ему сильно досталось в последние годы. Мы с матерью поняли, что с ним не все в порядке, когда он пару лет назад дезертировал из армии. Он воевал во Вьетнаме, а потом появился дома, твердя что-то о военных преступниках, империализме, хиппи и прочем вздоре. Потом сбежал в Канаду. Мы думали, он стал наркоманом, а несколько недель назад он приполз домой. В буквальном смысле, мисс Бэбкок. По траве на собственном животе. Утверждал, что за ним кто-то гонится, чтобы высосать из него тепло. Похоже, он несколько дней не ел и не брился. Мы спрашивали, кого он боится, а он бормотал: «Провидение, энтропия!» Будь я проклят, если понимаю, кого он имел в виду. Ему поставили диагноз «паранойя». У Джинни подкосились ноги. Хок оказался не героем войны, а обыкновенным душевнобольным. Сын не восстал против принципов отца — он просто сошел с ума. — Я понимаю, — пробормотала она. — Мне очень жаль. — Ну, зато теперь он дома, — весело сказал его отец. Она повесила трубку. Каждая клеточка ее мозга пела реквием Хоку, ее герою-пацифисту. Но она оплакивала не его. Она оплакивала свою жизнь. Джинни легла на кровать и стала думать о смерти матери. По крайней мере, одному она научилась: все связи с дорогими людьми и предметами должны быть разорваны. Что удерживало мать в той палате? Больное, гниющее тело? Стерильная чистота? Суетящиеся доктора и сестры? Ее могли удержать фамильные часы, огромный белый особняк, построенный ненормальным отцом; бережно хранимые фотографии предков; рыжая белка на вязе; несчастная дочь, ждущая совета, как жить. Но там, в запредельной сфере, куда перенесется ее душа, не будет ни часов, ни фотографий, ни дочери — ничего, что, как щупальца спрута, опутывало ее на земле. Порвав со всем этим, она высвободилась из больного тела, которое так хорошо ей служило, а потом подвело. Ее смерть — как падение с ветки дерева сухого коричневого листа: легкий ветерок — и он полетел на землю. С Эдди было совсем не так; ураган, вырвавший с корнем молодое здоровое деревце, — вот на что походила смерть Эдди. Она могла столько сделать и столькому научиться! Если у Джинни есть выбор, она предпочитает смерть Эдди. Она чувствовала, что ее время истекло. Она уже пережила несколько маленьких смертей, теряя тех, кого любила. Большая Смерть больше не казалась ей страшной. Все, кто был дрог ей, или умерли на самом деле, или умерли для нее. Нет никого, с кем было бы тяжело расставаться. Зачем ей новые привязанности? Смерть все равно поставит ее на колени. Не проще ли покончить со всем сейчас? Единственный способ перехитрить смерть — самоубийство. Она задремала. Ей казалось, что она стоит на нижней ступеньке едущего вниз эскалатора в каком-то громадном универмаге. Звенели колокольчики, суетились клерки. Джо Боб в спортивном костюме схватил ее за руку и потащил наверх. Ей было трудно, по лицу катился пот, но едва она добралась до верха, где ждал майор, чтобы броситься в его объятия, как Клем — в узких джинсах с заклепками и красной корейской ветровке — схватил ее руку и потянул за собой вниз. Они бежали, как белки в колесе; Клем прихрамывал на больную ногу. Внизу ждала мать. Джинни протянула к ней руки, но седовласая мисс Хед, поблескивая стеклами очков, толкнула ее снова на эскалатор. Наверху, там, где терпеливо ждал майор, ее перехватила Эдди. Потом Айра заставил бежать с ним вверх, а когда она упала в изнеможении, ее подхватил Хок. Матери внизу не было. Она вылетела в набитый людьми торговый зал с ощущением, что не нашла никакой истины. Эскалатор оказался роботом, чуть не сожравшим ее… Джинни надела свой лучший купальник. Мать всегда советовала надевать самое лучшее белье перед тем, как выйти из дома. Кроме этого купальника, у нее не было ничего, в чем не стыдно появиться в халлспортском морге. Она нашла веревку и весла и отправилась к деревянной лодке, привязанной к столбику на берегу пруда. Нашла камень средних размеров, бросила его в лодку и поплыла к деревянной пристани. Обвязав один конец веревки вокруг камня, а второй — вокруг своей лодыжки, Джинни оглянулась и равнодушно посмотрела на холмы, заросшие куджу, и деревянную хижину, где бывала иногда счастлива. Но — хорошего понемножку. Лягушки сожрали кузнечиков, змеи проглотили лягушек, сыновья Флойда Клойда перерезали змей, как салями, а вокруг шныряла Смерть, выжидая удобный момент, чтобы слопать мальчишек. Судьба и так подарила ей двадцать семь лет жизни. Как змея, проглотившая собственный хвост, она вернулась туда, где родилась. Круг замкнулся. Джинни подняла камень, зажмурилась и бросила в воду. Услышала всплеск и замерла, ожидая, что он потащит ее в темную, покрытую пеной могилу. Ничего не случилось. Она открыла глаза: пара витков веревки спокойно лежали на пристани. Она разозлилась, вытащила камень и несколько раз обмотала вокруг него веревку. Затянула узел, окинула прощальным взглядом зеленые холмы и снова швырнула камень в воду. Нога дернулась, и Джинни полетела вниз. Где же вода? Она лежала в лодке, которая неслышно подплыла под пристань, пока она привязывала камень второй раз. Правый бок ныл. Нога неуклюже торчала из лодки. Похоже, она ее вывихнула. Что делать? Джинни обдумала ситуацию. Возможны два варианта: первый — сгниет веревка, и тогда ее тело вынесет на чистую воду, где его найдут рыбаки. Или среди водорослей сгниет тело, и его съедят питающиеся падалью хищники, а то, что останется, осквернит снабжавшую хижину воду. Нет! Даже на краю могилы ни одна уважающая себя хозяйка органически не способна оставить после себя такое безобразие! Джинни отвязала веревку и погребла к берегу. В хижине она сняла со стены ружье, зачерпнула пригоршню патронов и направилась на холм за прудом. Когда она и Клем были детьми, прорывали в зарослях куджу тоннели и устраивали пещеры. Она выроет себе могилу, в которой никто никогда ее не отыщет. Прожорливый виноград, поглотивший надгробие мистера Зеда, поглотит и ее омерзительные останки. Она опустилась на колени. Если сунуть дуло в рот, она сможет нажать большим пальцем ноги на курок. Она посмотрела сквозь листья на пруд и хижину, где появилась на свет. Хижина принадлежит чужакам. Прошлое умерло. Все кончено. Ей некуда идти, некого любить, и вообще все ее белье нуждается в стирке. Она задумчиво покатала между пальцами патрон и решительно подняла ружье. Патрон не входил. Он был слишком велик для этого ружья. Она взяла не те патроны. Возмущенная очередной неудачей, Джинни вскочила и побежала с холма, неся ружье наперевес. В хижине она стала искать другое ружье, но ни его, ни других патронов не оказалось. Карл, чертов ублюдок, забрал их себе! Она сняла со стены охотничий нож, села на каменные ступеньки и сделала на левом запястье пробный надрез. Выступила капелька крови. Если нанести ее на стекло и поместить под микроскоп доктора Фогеля, можно увидеть Вселенную в миниатюре. Рой крошечных частиц, бессмысленно плавающих в плазме. Если правильно приготовить слайд и увеличить его, можно увидеть красные клетки, белые клетки и тромбоциты. Эти крошечные клеточки убили ее мать и майора — у нее их было слишком мало, у него — слишком много. А у Джинни с тромбоцитами все в порядке — по крайней мере сейчас. В свое время гены сделают свое дело… Кровь свернулась. Мисс Старгилл была бы в восторге, делая ей сейчас анализ. Но эта здоровая кровь не смогла помочь матери. Если умудриться усохнуть до размеров микроба и проникнуть в место пореза, можно увидеть целую драму. Полчища фагоцитов[13] заполнят поверхность капилляров и начнут ударять в их стенки, пока не затянут рану. Им придется еще сражаться с тысячами бактерий,которые наверняка есть на лезвии ножа. Фагоциты сожрут этих бактерий. Рана затянется так, что никто не найдет, где она была. Что делать? Что делать ей со своей жизнью? Может, Джинни — клеточка в каком-то бесконечно большом организме, который она волнует не больше, чем шестьдесят триллионов клеток ее собственного тела, пока они исправно выполняют свои функции? Самоубийство будет только пародией, как почти все, за что она принималась. Нужно отбросить эти мысли. По крайней мере пока. Она вошла в спальню, завернула мамины часы в футболку с надписью «Сестринская община — это сила», положила вместе с другим барахлом в рюкзак Хока и вышла из хижины, не имея ни малейшего представления, куда идти. Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Эммануэль Арсан Эммануэль
Седьмое небо
Самолет, выполняющий рейс в Таиланд, вырулил на взлетную полосу лондонского аэропорта Хитроу. Эммануэль была впервые в британской столице. Запах новой кожи, плотно устоявшийся в автомобиле, освещение, так непохожее на парижское, – вот и все, что она могла узнать и почувствовать за несколько часов, проведенных в Лондоне. Она не понимала, что говорил ей улыбающийся человек, провожавший ее к самолету, но это ее ничуть не беспокоило. Сердце ее, правда, билось немножко сильнее, чем обычно, но не из страха – естественное волнение чужестранца в незнакомой стране. Постепенно это волнение переходит в какую-то эйфорию, ей начинает все нравиться: и голубая униформа персонала, и ритуал проверки перед турникетом. Так все и надо, чтобы ей было хорошо и покойно в том мире, который на двенадцать часов полета станет ее миром: миром с правилами, отличающимися от привычных, правилами более строгими, но, может быть, потому и более волнующими. А эта крылатая архитектура металла, отделившая ее от прозрачного полудня раннего английского лета! Место Эммануэль оказывается сразу же за перегородкой: здесь взгляд пассажира упирается прямо в стенку. Экая важность! Эммануэль только бы отдаться покою этого глубокого кресла, погрузиться в него, ощутить затылком эластичность обивки и вытянуть поудобнее свои прекрасные длинные ноги – ноги сирены. Она еще не успела устроиться, а около уже стоял стюард: показывает, как легким нажатием рычага кресло превращается в спальное ложе. А потом запорхали руки стюардессы, устраивающей на полках багаж пассажиров. Здесь же и легкая, из кожи молочного цвета сумка Эммануэль – все, что она взяла с собой в кабину: она не собиралась ни переодеваться во время полета, ни писать, даже читать ей не хотелось. Стюардесса лепечет по-французски, и последние небольшие затруднения Лондона теперь исчезают… Девушка наклоняется к Эммануэль: соломенные локоны англичанки еще более подчеркивают смоль волос француженки. Обе они одеты почти одинаково: на каждой юбка-оттоманка и белая блузка. Однако угадываемый под блузкой англичанки лифчик лишал ее силуэт той легкомысленной свободы, по которой можно было легко понять, что Эммануэль обходится без этой принадлежности женского туалета. И если правила компании строго предписывали первой наглухо застегнутый воротник, то корсаж второй был достаточно широко распахнут, и внимательный наблюдатель, заглянув туда, мог получить полное представление о том, как выглядит грудь юной француженки. Эммануэль понравилось, что стюардесса молода и что глаза ее, так же как и глаза Эммануэль, были окружены россыпью мелких, едва заметных солнечных веснушек. – Салон, – услышала она пояснения, – последний в самолете, ближе всех к хвосту. Здесь немного больше трясет, но (в голосе стюардессы зазвучала гордость) в салонах «люкс» пассажирам «Ликорна» обеспечен полный комфорт – в туристском классе нет ни такого простора вокруг, ни таких мягких кресел, ни занавесок, обеспечивающих полную изолированность от соседей. Стыдиться ли тех привилегий, которые предоставлены Эммануэль в числе других пассажиров салона «люкс»? Конечно же, нет, но от избытка внимания Эммануэль начала испытывать почти физическую тяжесть. А стюардесса уже расхваливала прелести туалетных салонов: – Как только закончится набор высоты, пассажиры могут пользоваться ими. Они многочисленны, расположены в разных отсеках корабля. Если вы ищете общения, к вашим услугам два бара, вы можете побродить по всем закоулкам самолета. Если же вы нелюдимы, то можно и никого не видеть, кроме тех трех пассажиров, которые разделяют с вами вашу кабину. Может быть, вы хотите что-нибудь почитать? – Благодарю, – отвечает Эммануэль. – Вы очень любезны, но мне что-то не хочется. Она думала, о чем бы спросить, чтобы доставить удовольствие очаровательной хозяйке. Поинтересоваться самолетом? С какой скоростью он летит? – Примерно тысяча километров в час. И может находиться в воздухе шесть часов без посадки. Значит, с одной промежуточной посадкой полет Эммануэль займет менее полу суток. Но – разные часовые пояса – она прибудет в Бангкок только завтра утром, в девять утра по тамошнему времени. В общем, ей ничем другим не придется заниматься, как только пообедать, заснуть и проснуться. Двое детей, мальчик и девочка, похожие друг на друга так, как могут быть похожи только близнецы, раздвинули занавеску. Типичные английские школьники, светло-рыжие, старающиеся держаться с достоинством, чуть-чуть высокомерно, но то и дело срывающиеся в каком-нибудь неловком жесте или возгласе. Их места были отделены от Эммануэль узким проходом. Эммануэль, стараясь, чтобы это было незаметно, принялась рассматривать своих попутчиков. Но вот вошел последний из пассажиров, и внимание молодой женщины сразу же переключилось на него. Выше среднего роста, черноусый, с резко очерченным подбородком, он возвышался над Эммануэль, укладывая на багажную полку черную сумку, восхитительно пахнувшую кожей. И костюм, и внешность незнакомца были отмечены Эммануэль. Хорош собой, элегантен, чего еще желать от соседа по креслу в самолете! Сколько ему могло бы быть лет? Лет сорок, а может быть, и все пятьдесят вон какие усталые морщины вокруг глаз, морщины мудрости… С ним мне повезло больше, подумала Эммануэль, чем с английскими ребятишками. Но тут же усмехнулась своей поспешной симпатии: какая разница – ведь это всего лишь одна ночь. Блаженное безразличие, в которое она начинала погружаться, прервалось лишь на мгновенье, когда Эммануэль увидела, как, покидая их отсек, стюардесса задела колени невидимого пассажира, даже не задела – бедро, прикрытое голубой юбкой, прижалось к мужскому колену. Но Эммануэль тут же упрекнула себя за ревность и поспешила отвести взгляд. Строчка из чьих-то стихов проплыла в ее голове: «Средь одиночества и пустоты…» Эммануэль тряхнула головой, волосы упали на щеки, и вдруг занавеска снова раздвинулась. Юная англичанка вернулась: «Не хотите ли, чтобы я представила вам ваших спутников?» И, не дожидаясь ответа, произнесла какое-то имя. Эммануэль услышала что-то похожее на «Эйзенхауэр», и почему-то эта фамилия тоже понравилась Эммануэль. Она широко улыбнулась, и мужчина начал ей что-то говорить, но что? Стюардесса пришла на помощь Эммануэль: она быстро расспросила своих соотечественников и, повернувшись к пассажирке, рассмеялась, кончик языка промелькнул между крепкими ровными зубами: «Никто из ваших соседей не знает французского! Вот хорошая возможность попрактиковаться в английском!». Прежде чем Эммануэль ответила, воздушная фея исчезла, проделав на прощанье изящный пируэт. Эммануэль предстояло снова погрузиться в одиночество. Но мистер «что-то-вроде-Эйзенхауэр» все пытался говорить с нею, старательно, чуть ли не по слогам, выговаривая слова. Эммануэль сделала капризную гримаску и детским обиженным голосом протянула: «Je ne comprends rien». Англичанин покорно замолчал. Но тут ожил запрятанный в складках обивки репродуктор: после того как голос, говорящий по-английски, смолк, Эммануэль, услышала знакомую интонацию прелестной стюардессы, произносящей по-французски (конечно же, специально для Эммануэль) все слова, которые полагается произносить при начале полета. Она пожелала счастливого пути пассажирам корабля, сообщила время, перечислила членов экипажа, предупредила, что через несколько секунд самолет начнет выруливать на взлетную полосу, что должны быть пристегнуты ремни (тут же появился стюард и помог пристегнуться), что пассажиров просят не вставать с мест, пока не погаснут красные лампочки на табло. Зашелестели голоса пассажиров. Эммануэль даже не заметила момента взлета и лишь минут через пять сообразила, что она уже в воздухе. О погасшем табло она догадалась лишь по тому, что сосед поднялся со своего кресла и жестом предложил ей избавиться от жакета, который она неизвестно зачем держала на коленях. Пожалуйста, она весьма, благодарна. С легким поклоном он повесил жакет на плечики под потолком салона, потом сел, раскрыл книжку и погрузился в чтение, ни разу более не посмотрев в сторону Эммануэль. Появился официант (все тот же стюард, но теперь в белой куртке), неся в руках поднос со множеством напитков. Эммануэль выбрала коктейль, показавшийся ей знакомым по цвету, но уже после первого глотка поняла, что обозналась: этот был гораздо крепче. То, что по ту сторону жалюзи должно было называться послеполуденным временем, прошло для Эммануэль в таких важных занятиях: она грызла бисквиты, пила чай, листала, не читая, журнал, предложенный ей стюардессой; она отказалась от более серьезного чтения – так не хотелось рассеивать впечатление, получаемое ею от глагола «летать». Позднее перед нею поставили маленький столик с уймой узнаваемых с трудом блюд. Но вот бутылочка шампанского, укрепленная в углублении стола, была вполне понятной, и Эммануэль не отказала себе в полном стакане этого напитка. Обед длился, как ей показалось, часы, но она не спешила его закончить, так ей пришлась по душе эта игра. Она забавлялась, пробуя то и это – всякие десерты, кофе в кукольных чашечках, ликер в высокой узкой рюмке. И когда пришли, чтобы унести столик, Эммануэль уже обрела полную уверенность в благополучии путешествия и в том, что жизнь прекрасна. В слабом золотистом свете, струящемся из диффузора, ноги Эммануэль под невидимым нейлоном казались совершенно голыми. Пассажир оторвался от книги. Эммануэль понимала, что он любуется ее ногами, ну и пусть – смешно было бы натягивать на них юбку, да к тому же она была и не такая уж длинная. Да с чего бы вдруг ей стыдиться своих колен? Ей, которая так любит выставлять их из-под платья! Она знала, как волнующе выглядят ее коленки: загорелые, цвета подрумяненного хлеба, с ямочками. Она сама смотрела на них и чувствовала, что сейчас в этом рассеянном свете они кажутся более вызывающими, чем если бы она выходила в полночь из ванны под мощными лучами прожектора. Представив себе это, она почувствовала, как кровь все сильнее стучит в ее венах и как набухает кровью низ живота. И вот она смыкает веки и видит себя совершенно нагой. Эммануэль отдается соблазну этого нарцистического любованья, перед которым, она уже знает, окажется беззащитна и на этот раз. Они приближаются, минуты наслаждения в одиночестве: расслабляющая истома охватывает все ее тело. Какие-то неясные желания пробуждаются в ней – это совсем не похоже на то, что она испытывает, вытянувшись на нагретом жарким солнцем пляже. Постепенно, по мере того, как ее губы становятся влажными, соски твердеют и ноги напрягаются, готовые вздрогнуть от легчайшего прикосновения, в ее мозгу возникают образы, бесформенные, неясные, но это именно они покрывают испариной ее кожу и выгибают ее поясницу. Незаметно, но уверенно подрагивания корпуса лайнера передаются всему телу Эммануэль, и она содрогается в этом же ритме. Какая-то теплая волна поднимается по ее ногам, раздвигает колени – именно там находится как бы центр всех этих непонятных пока содроганий, – неумолимо заставляя трепетать ее бедра и всю ее дрожать, как от озноба. И вот смутные образы начинают приобретать очертания: губы прикасаются к ее коже, какие-то неведомые отростки фаллической формы стремятся прижаться к ней, трутся об нее, стараются проложить себе путь от колен выше и выше, раздвинуть бедра, раскрыть расщелину раковины, проникнуть туда; с трудом, с усилием, но им удается это. И вот эти неудержимые фаллосы уже там, один за другим они движутся все дальше и глубже в Эммануэль, насыщая ее своей плотью и отдавая ей свои соки. Стюардесса, решившая, что Эммануэль заснула, нажимает рычаг кресла, опрокидывая спинку. Она прикрывает легким кашемировым одеялом длинные ослабевшие ноги пассажирки, которые при движении кресла открылись еще больше. Сосед встает и проделывает ту же процедуру со своим креслом, Эммануэль снова оказывается с ним на одном уровне. Дети уже давно уснули. Стюардесса желает всем спокойной ночи и гасит плафоны. Теперь только два ночника мешают людям и предметам окончательно растаять во мраке. Эммануэль вся погружена в свое сладкое забытье, она словно и не заметила всех этих маневров. Правая ее рука медленно ползет по животу, останавливается, добравшись до лобка, – это движение нельзя скрыть и в полумраке, но кто его может увидеть? Кончиками пальцев она берется за подол юбки, узкая юбка мешает широко раскинуть ноги. Но, наконец, пальцы нащупывают сквозь тонкую ткань то, что искали, и маленький бутон плоти напрягается под их нежным, но настойчивым прикосновением. Некоторое время Эммануэль позволяет своему телу быть в покое. Она пытается отдалить завершение. Но сил не хватает, и она с приглушенным стоном начинает двигать указательный палец, погружая его все глубже и глубже в себя. И почти тотчас же на ее руку ложится мужская рука. Дыхание Эммануэль перехватывает, словно ее окатило потоком ледяной воды, она чувствует, как напряглись все ее мускулы и нервы. Фильм прервали на середине, у нее не остается ни чувств, ни мыслей. Она замирает. Но это не шок, не ожог стыда. И преступницей, застигнутой на месте преступления, она себя ничуть не чувствует. По правде говоря, она не может себе объяснить ни жеста мужчины, ни своего собственного поведения. Что-то произошло, и все тут, а что именно – она об этом не хочет и думать. Сознание снова в тумане, но только теперь она уже ждет осуществления своих смутных грез. Рука мужчины неподвижна. Но сама ее тяжесть прижимает руку Эммануэль еще теснее к напряженному бутону плоти. И так продолжается довольно долго. Потом Эммануэль почувствовала, как другой рукой он решительно отбрасывает в сторону покрывало, рука тянется к коленям, внимательно ощупывая все выпуклости я углубления. Потом добирается, наконец, до кромки чулка. От прикосновения к голой коже Эммануэль вздрогнула, словно пытаясь прогнать оцепенение, сбросить с себя эти чары. Но то ли не зная в точности, чего же ей хочется, то ли понимая, что ее слабых сил не хватит на то, чтобы вырваться из мужских рук, она лишь неловким движением приподняла грудь, прикрыла, как бы защищаясь свободной рукой свой живот и повернулась чуть набок. Проще всего – она понимала это – было бы крепко сжать ноги, но этот жест показался ей слишком смешным, он отдавал такой недостойной жеманностью, что она, конечно же, не решилась на него. Будь что будет! И она снова опрокинулась в ту сладкую неподвижность, в какой пребывала до этого. А руки мужчины тут же оторвались от нее, словно желая наказать Эммануэль даже за слабую попытку сопротивления. Но не успела она объяснить себе это внезапное бегство, как они вернулись: быстро и уверенно эти руки расстегнули молнию юбки от бедра до колена. Затем поднялись выше. Одна скользнула под трусики Эммануэль, легкие, прозрачные, как все, что она носила. А носила она пояс для чулок, иногда нижнюю юбку, но никогда не пользовалась ни грацией, ни лифчиком. Однако в магазинах Сен-Оноре, где она выбирала для себя белье, она любила примерять и то, и другое. Ей нравилось, когда продавщицы – почти невесомые блондинки, брюнетки, рыжие – склонялись к ее коленям, примеряя чулки, трусики, различные «каш-секс», когда их нежные пальцы, поднося ей лифчик, слегка касались ее груди. Эти прикосновения заставляли Эммануэль блаженно жмуриться от предвкушения чего-то таинственного и сладкого. Тело Эммануэль было теперь в таком положении, что всякая попытка высвободиться оказалась бы невозможной. Мужчина гладил ее крепкий живот, как гладят по холке разгоряченную лошадь, и постепенно спускался все ниже и ниже. Пальцы пробежали по всему паху, потом ладонь принялась как бы разглаживать все складки, и вот пальцы уже на лобке, путаются в руне, покрывающем его, двигаются, словно измеряя площадь треугольника, очерчивают все его стороны. Нижний угол широко открыт (рисунок довольно редкий, однако увековеченный в иных античных изображениях). Нагулявшись вволю по животу, рука пытается теперь раздвинуть бедра Эммануэль. Юбка мешает этому, но все же бедра раздвигаются, и вот уже под рукой горячая, вздрагивающая расщелина. Ладонь ласкает ее будто бы успокаивая, ласкает не торопясь, поглаживает лепестки губ, чуть-чуть раздвигает их и так же медленно приближается к бутону плоти. А он уже ждет, выпрямившись и напрягшись. Кусая губы, чтобы сдержать стоны, подступающие к горлу, Эммануэль выгибает спину. Она задыхается от ожидания спазм. Скорее, скорее! Но мужчина никак не хочет торопиться. В игре участвует только его рука. Сам же он остается совершенно спокойным и безмолвным. А Эммануэль вертит головой во все стороны, стонет, с губ ее срываются чуть ли не слова мольбы. Сквозь выступившие на ресницах слезы она старается хотя бы разглядеть своего партнера. Но вот рука, по-прежнему прижатая к тому месту, где она зажгла столь жаркое пламя, замерла. И снова движение: мужчина склоняется к Эммануэль, берет ее руку в свою и тянет ее к себе, к предусмотрительно расстегнутому клапану брюк и дальше, пока женская рука не натыкается на твердое древко копья и сейчас же обхватывает его цепкими пальцами. То убыстряя, то замедляя темп, мужчина начинает руководить движениями этой руки, пока не убеждается, что может вполне доверить своей подруге действовать по ее собственному усмотрению; теперь он видит, что детская уступчивость и покорность Эммануэль скрывали достаточный опыт и умение. Эммануэль подалась вперед – так ее рукам удобнее справляться с порученной им работой, а сосед расположился так, чтобы как можно щедрее оросить тело партнерши тем, что вот-вот брызнет из него. Но пока он все еще сдерживался, и руки Эммануэль двигались вверх и вниз, все более смелея, и теперь уже переходили к более утонченным приемам: поглаживали взбугрившиеся вены, пощипывали навершие копья, старались даже, несмотря на тесноту брюк, добраться и до тестикул. Сжимая кулачки, Эммануэль чувствовала кожей, как набухает эта твердая и нежная плоть, готовая вот-вот взорваться горячей струей. И вот они потекли, эти длинные, белые, пряные струи на руки Эммануэль, на ее голый живот, на лицо, на волосы. Казалось, поток их никогда не иссякнет. Она чувствовала, как он течет в ее горло, и пила, чуть ли не захлебываясь. Дикий хмель, бесстыдство наслаждения овладели ею. Она опустила безвольные руки, но мужские пальцы вновь прижались к бутону ее плоти, и она застонала от счастья. Заговорило радио. Приглушенным знакомым голосом оно объявило, что через полчаса самолет приземлится в Бахрейне. Местное время – полночь, ужин будет подан в аэропорту. Свет делался постепенно ярче и ярче, словно кабину заливало сияние восходящего солнца. Эммануэль подняла упавшее на пол покрывало, ей хотелось вытереть то, чем она была так обильно орошена. Она задрала юбку, обнажила ноги. Так и застала свою пассажирку вошедшая в кабину стюардесса: сидящей на спинке все еще горизонтально расположенного кресла, старающейся привести в порядок свой костюм. – Вы хорошо спали? – спросила девушка игривым тоном. Эммануэль застегнула пряжку. – Я совсем измяла блузку. Она посмотрела на влажные пятна, проступившие вокруг воротника. – Может быть, вы хотите переодеться? – спросила стюардесса. – Нет, пожалуй, – Эммануэль сделала легкую гримаску, словно удерживаясь от смешка. Глаза двух молодых женщин встретились и поняли друг друга: обе казались немного смущенными. Мужчина внимательно смотрел на их. На его костюме не появилось ни малейшей складки, рубашка была столь же белоснежна, как и в минуту отлета, галстук был все так же аккуратно завязан. – Пойдемте со мной, – предложила юная англичанка. Эммануэль обогнула кресло соседа… Она оказалась в роскошной туалетной комнате, с зеркалами, мраморными умывальниками и креслами из белой кожи. – Подождите меня! Стюардесса исчезла и через несколько минут вернулась с небольшим чемоданчиком. Откинув крышку, она вынула маленький пуловер цвета опавших листьев, такой тонкий, что он вполне мог уместиться в горсти. Девушка встряхнула его, и он, как воздушный шарик, чуть было не взмыл к потолку. Восхищенная Эммануэль подхватила его. – Вы хотите мне одолжить эту прелесть? – Нет, это мой маленький подарок. Возьмите его, пожалуйста. Он вам должен подойти, это ваш стиль. – Но… Стюардесса приложила палец к губам и выпятила их, слегка округлив, как бы предупреждая всякое возражение. Эммануэль не могла наглядеться на сияющие глаза молодой англичанки. Она потянулась было к ней, хотела поцеловать в знак благодарности, но стюардесса уже протягивала ей еще что-то – маленький серебристый флакон: – Попробуйте это средство, оно удивительно. Пассажирка освежила лицо, руки, душистым тампоном протерла грудь и, спохватившись, быстро расстегнула пуговицы блузки. Закинув за голову руки, она сбросила блузку на белый ковер и, довольная, вздохнула полной грудью, внезапно оглушенная своей полунаготой. С пылающим лицом повернулась она к стюардессе. Та наклонилась к упавшей блузке, подняла и зарывшись в нее лицом, воскликнула с усмешкой: – О, что за чудесный запах! Эммануэль замерла. Как некстати сейчас напоминания о недавней невероятной сцене. Ей хотелось одного: сбросить к черту юбку, чулки и остаться совсем обнаженной перед этой восхитительной девицей. Ее пальцы боролись с застежкой пояса. Стюардесса подошла ближе и провела щеткой по волосам Эммануэль: – Какие у вас густые и черные волосы. Какие оттенки! Если б у меня были такие! – А мне нравятся ваши! – воскликнула Эммануэль. О, если бы ее новая подруга тоже захотела бы раздеться! И следующую фразу Эммануэль произнесла внезапно охрипшим голосом: – А можно принять душ здесь, в самолете? – Конечно, но лучше немного потерпеть. В аэропорту роскошные ванные комнаты. Да, впрочем, вам не хватит времени. Через пять минут мы начнем заходить на посадку. Как можно было примириться с этим! Губы Эммануэль задрожали, и она потянула застежку юбки. – Надевайте поскорее, – возразила англичанка, протягивая Эммануэль свой подарок. Она помогла просунуть голову в узкий ворот. Пуловер так плотно обтянул стан Эммануэль, что соски торчали под ним, словно он должен был не скрывать, а подчеркивать наготу. Стюардесса посмотрела на грудь Эммануэль, будто только сейчас ее увидела: – Боже мой, до чего ж вы соблазнительны! И кончиком указательного пальца она словно нажала кнопку звонка. Глаза Эммануэль вспыхнули радостью. – А правда ли, что все стюардессы должны быть девственницами? В ответ послышался звонкий смех, а затем девушка распахнула дверь туалета: – Поторопимся, уже горит красная лампочка. Мы приземляемся. Эммануэль нахмурилась: у нее не было ни малейшего желания снова очутиться рядом со своим соседом. Аэропорт показался ей очень скучным. Да и что интересного может быть здесь, среди арабских пустынь! Все было никелировано, дистиллировано, стерильно, словно внутренность спутника, который как раз сейчас показывали сидящим перед телевизором пассажирам. Без всякого удовольствия стояла она под душем, а потом пила чай, жевала пирожное в обществе нескольких пассажиров, среди которых был и «ее пассажир». Она смотрела на него с удивлением, пытаясь понять, что же было с нею за час до этого. Эпизод так плохо вязался со всей предыдущей жизнью Эммануэль. А вправду, может быть, все это ей почудилось? Ладно, что думать об этом! Она должна просто все забыть. Самолет преобразился за время отсутствия пассажиров. Все было прибрано, новые покрывала лежали на спальных местах, свежий воздух наполнял салоны и кабины. Вошел официант. Желают ли господа чего-нибудь выпить? Нет? Тогда спокойной ночи! Спокойной ночи пожелала всем и стюардесса. И весь этот церемониал снова восхитил Эммануэль, и она снова почувствовала себя счастливой – но уже по-спокойному, по-обычному, не так, как за несколько часов до этого, в начале полета. Она откинулась на спину. Ей захотелось пошевелить ногами. Попеременно она подняла их вверх, сгибая и разгибая в коленях, играя мускулами икр, потирая лодыжки одна об одну. Она наслаждалась этой гимнастикой. Чтобы чувствовать свободней, подобрала юбку. «Разве только мои колени, – рассуждала она, – стоят того, чтобы на них смотрели? Нет, все мои ноги – загляденье. Да разве только они одни? А как мне нравится моя кожа: она загорает легко, никогда не становится смуглой до черноты, а лишь слегка подрумянивается. А разве моя попка может не нравиться? А эти ягодки на кончиках моих грудей? Мне и самой хотелось бы их попробовать». Свет плафона начал ослабевать, и она со вздохом натянула на себя легкое тонкое покрывало, предоставленное авиакомпанией для удобства Эммануэль, чтобы ей легче мечталось и грезилось. Теперь остался гореть только один ночник. Эммануэль повернулась на бок, решившись, наконец, взглянуть на своего соседа впервые после возвращения в самолет. И тут же встретилась с его пристальным взглядом, будто он только и ждал, когда же, наконец, повернутся к нему. Несколько минут они лежали молча, глаза в глаза. В этом молчании, в этом взгляде было что-то такое, что привлекло Эммануэль и тогда, при первой встрече: что-то покровительственное и одновременно заинтересованное. И это опять понравилось ей. И потому она улыбнулась, прикрыв глаза. Она не могла понять, чего же ей хочется на этот раз. Но вот, как рефрен любимой песни, в ней опять зазвучало: «Ах, до чего же я хороша, до чего же соблазнительно выгляжу…» Когда мужчина, приподнявшись на локте, потянулся к ней, она открыла глаза и встретила его поцелуй спокойно, радостно. Губы его были свежи и солоноваты, как вкус моря. Она подняла руки, готовясь стянуть с себя пуловер. Она предвкушала, как красиво возникнут в полумраке ее груди. И она совсем не помогала раздевать себя: разве можно было испортить ему удовольствие? Только чуть-чуть приподняла бедра, когда он стягивал с нее трусики. И только теперь, раздев ее полностью, он привлек Эммануэль к себе, и начались ласки. Повсюду. От макушки до пяток. Ничего не пропуская. А ей так хотелось поскорее заняться любовью, что у нее даже закололо сердце, и комок, подкативший к горлу, начал душить ее. Она испугалась так, что чуть было не вскрикнула, не позвала на помощь, но мужчина снова прилип к ней, а рука его прошла по борозде, разделяющей ее ягодицы, и палец его, расширяя узкую, трепещущую расселину, вонзился вглубь. А губы его впились в ее губы и пили, пили из этого источника… Эммануэль постанывала, не, разбирая толком, откуда эта боль: палец ли, раздирающий ее, или рот, душащий каждое движение, каждый вздох, рот, буквально пожирающий ее. И неотступно было воспоминание о том длинном изогнутом орудии, которое она держала в руках, великолепном, могучем, раскаленном, пышущем нетерпением и еле сдерживаемой мощью. И она застонала так жалобно, что ее, наконец, пожалели: она почувствовала на своем животе то мощное и упругое прикосновение, которого она так иступленно ждала. Сильные руки подняли ее, и вот она лежит на правом боку, лицом к проходу. Меньше метра отделяет ее от близнецов англичан. Она совсем забыла об их существовании. И вдруг осознала, что они не спят и смотрят на нее. Мальчишка был ближе, но девочка почти навалилась на него, чтобы лучше все увидеть. Затаив дыхание, они рассматривали Эммануэль, и глаза их блестели возбуждением и любопытством. Мысль, что весь этот пир сладострастия происходит на глазах у маленьких близнецов, чуть было не отправила Эммануэль в обморок, но тут же она успокоилась – ничего страшного, если они все и увидят. Она лежала на правом боку, согнув ноги в коленях и чуть приподняв крестец. Ее соблазнитель вошел в нее сразу, одним ударом погрузившись во влажную глубину Эммануэль до самого дна. Горячая, взмокшая, билась Эммануэль под напором фаллоса. И он, чтобы насытить ее, все увеличивал, казалось, и свой размер, и силу ударов. В тумане блаженства Эммануэль успела радостно удивиться, как удобно устроился внутри нее этот таран. Значит, подумала она, в ней ничего не атрофировалось за долгие месяцы бездействия, ведь почти полгода ни один мужчина не обжигал ее своим жалом. Так думала пассажирка «Ликорна», а пассажир был еще очень далек от того, чтобы прекратить буравить тело Эммануэль. Ей, может быть, и интересно было знать, сколько же времени он уже соединен с нею, но никакого ориентира нельзя было отыскать: время остановилось. Она сдерживала себя и отдаляла наступление оргазма. Это получалось у нее легко: почти с детства научилась она продлевать наслаждение ожидания, гораздо выше, чем сладкие судороги, ценила она нарастающее сладострастие, высшее напряжение бытия, которым умело управляли ее легкие пальцы, порхавшие с легкостью смычка по упругому, как струна, бугру у входа в трепещущую расщелину, отвечая отказом на безмолвные вопли плоти, пока, наконец, она не разрешала себе финал, чтобы биться в страшных, подобно конвульсиям смерти, конвульсиях страсти. Но после такой смерти Эммануэль воскресла, готовая вновь и вновь испытывать ее. Она взглянула на детей. Их лица утратили всю свою высокомерную напыщенность. Они стали человеческими существами. Не ухмыляющимися, не возбужденными, а внимательными и даже почтительными. Мгновенно пронеслась в ее сознании мысль об этих детях: она попыталась вообразить, что происходит сейчас в их голове, пыталась представить себе их смятение при виде того, чему они стали свидетелями, но она была слишком поглощена, захвачена блаженством, чтобы связно думать о чем-либо. Дыхание участилось, обнимавшие ее руки напряглись, по разбуханию и пульсации пронзавшего ее инструмента она поняла, что вулкан близок к извержению. И всякой ее сдержанности пришел конец. Струя ударила ее, словно хлыстом, и погнала пароксизмы наслаждения. Все время, пока он изливался, мужчина держался в самой глубине, чуть ли не у горлышка сосуда жизни, и даже среди самых сильных судорог у Эммануэль хватило воображения увидеть, как жадно, подобно раскрытому рту, впивает сейчас ее сосуд эти белые густые струи. Но вот все кончилось, и Эммануэль застыла неподвижно, наслаждаясь теперь каждой подробностью бытия: мягкостью ложа и покрывала, уютом полумрака и тихой, крадущейся походкой наступающего сна. Лайнер шел по ночи, как по мосту, не видя под собой ни пустынь Ирана, ни устьев рек, ни заливов, ни рисовых полей Индии. Когда Эммануэль открыла глаза, невидимый для нее рассвет поднимался над цепью Бирманских островов, но в кабине по-прежнему тускло светил ночник и нельзя было определить ни места действия, ни времени. Белое покрывало сползло на пол, и Эммануэль лежала нагишом, свернувшись, как ребенок, калачиком. Ее победитель безмятежно спал рядом. Пробуждение было медленным, сознание постепенно возвращалось к ней. Она повернулась на спину, рука опустилась на пол, нашаривая упавшее покрывало. И вдруг Эммануэль замерла: в проходе стоял мужчина и разглядывал ее. Снизу он казался гигантской статуей и – тут же отметила Эммануэль – очень красивой статуей. И красота эта помогла молодой женщине забыть о своей не совсем приличной наготе: разве можно стесняться античных изваяний? Такой шедевр не может быть живым существом. Ей вспомнились стихи (конечно, не греческие, но о Греции): «Божество разрушенного храма…» Она увидела въявь примулы, желтую траву у ног бога, плющ, оплетающий постамент, ветер, перебирающий завитки овечьей шерсти на плечах бога. Взгляд Эммануэль отметил прямизну носа, остановился на резко очерченном рте, на мраморе подбородка. Продолжая исследование, она увидела белые фланелевые брюки и огромную выпуклость под ними как раз на уровне своего лица. Призрак наклонился, поднял с пола юбку и пуловер. К ним в придачу чулки, пояс, туфли. Затем он выпрямился и сказал: – Пошли. Путешественница села на ложе, коснулась ступнями шерсти ковра и приняла протянутую ей руку. Одним резким движением поднятая с места, она двинулась вперед, нагая, словно высота и ночь переменили все обычаи мира. Они вошли в ту самую туалетную комнату, где совсем недавно Эммануэль так волновали прелести стюардессы. Незнакомец, прислонившись спиной к обитой кожей стене, повернул Эммануэль к себе лицом. Она чуть не вскрикнула, увидев нечто вроде змеи Геркулеса, вставшую перед нею среди рыжелистной чащи на хвост. Эммануэль была ростом гораздо ниже мужчины, и трехглавое чудище уперлось ей прямо в грудь. Мужчина легко поднял Эммануэль за талию, и она почти упала ему на грудь. Молодая женщина сцепила пальцы на его затылке и широко распахнула ноги – так легче было проникнуть в нее. Слезы полились по ее щекам – столь мощно раздирала ее лоно сказочная змея, несмотря на всю осторожность своего хозяина. Эммануэль корчилась, царапалась, хрипела, бормотала что-то невнятное. И когда он, наконец, вышел из нее, она все еще не могла от него оторваться. Она не заметила, как ее бережно поставили на пол, и только тихий голос привел ее в чувство: – Тебе было хорошо? – услышала она вопрос. Эммануэль припала щекой к своему божеству. Она ощущала, как внутри нее движется его семя. – Я вас люблю, – пробормотала она. – Хотите меня еще раз? – Непременно, – ответил он. – Я сейчас вернусь… Он наклонился и запечатлел на ее лбу столь целомудренный поцелуй, что она не нашлась что ответить. И, прежде чем поняла, что он уходит, она осталась одна. Размеренно, не спеша, словно совершая какой-то торжественный церемониал, она направляла на себя струю душа, намыливалась, смывала мыло, вытиралась ароматизированным полотенцем, опрыскивала из пульверизатора затылок, шею, подмышки, волосы лобка, расчесывала шевелюру. Ее образ троился в огромных зеркалах, украшавших комнату. Кажется, она никогда не была такой свежей и такой наполненной жизнью. Незнакомец должен вернуться. Ведь он обещал. Она все еще ждала, когда радио объявило, что приближается Бангкок. Разочарованная, вернулась она к своему креслу, которому чья-то заботливая рука уже придала сидячее положение. Сняла с полки сумку, положила жакет на колени. Ее сосед, на которого она взглянула мимоходом, удивленно поднял брови: «But aren't you going on to Tokio?». Такой английский Эммануэль поняла, она отрицательно мотнула головой. Разочарование выразилось на лице вопрошавшего, он спросил еще что-то. На этот раз Эммануэль не поняла вопроса, да и не хотела его понимать. Выпрямившись в кресле, она смотрела в пространство. Сосед вынул блокнот, протянул его Эммануэль. Конечно, он хочет получить ее адрес, он хочет еще раз встретиться с нею. Но она так же решительно качнула головой. Она спрашивала себя, увидит ли опять так стремительно исчезнувшего незнакомца, этого бога, или же он летит дальше, в Японию. Неужели он не скажет ей даже «прощай»! Она искала его среди пассажиров, спускавшихся по трапу, собиравшихся группами под крыльями самолета, в зале аэропорта. Но не было никого, кто мог сколько-нибудь походить на него ростом и ярко-рыжими волосами. Стюардесса прощально улыбнулась ей, она не ответила. Кто-то отодвинул барьер, показав пропуск, и позвал: «Эммануэль!..» Она шагнула вперед и с радостным криком упала в объятия своего мужа.Зеленый рай
Бассейн, выложенный черной плиткой и наполненный розовой водой, в которой лениво полощутся ноги Эммануэль, – бассейн Бангкокского Королевского Клуба. Дамы и девицы, допущенные в этот изысканный мужской круг, демонстрируют здесь свои ноги и грудь: по субботам и воскресеньям сквозь легкую прозрачную ткань одежды на трибунах ипподрома и совершенно обнаженными в другие дни недели – у бассейна. Совсем рядом с Эммануэль, так, что иногда она чувствует прикосновение коротко остриженных волос к своим бедрам, лежит, положив голову на скрещенные руки, молодая женщина. Ее тело мускулисто, как у юной кобылицы. Она говорит, хохочет, смех ее отражается от поверхности воды. У нее красивый голос, и красота его еще более подчеркивается смелостью ее выражений: – Жильбер решил, что по правилам хорошего тона ему полагается выглядеть оскорбленным после отплытия «Флибустьера». Он дуется за то, что я рванула от него на три дня, вернее, на три ночи. Какого черта я вернулась домой сразу же после «Флибустьера»! Эммануэль знает уже, что эту женщину зовут Ариана, что она жена графа де Сайн, советника французского посольства, и что ей двадцать шесть лет. Собеседница Арианы сидит в красном шезлонге, занятая расчесыванием болонки. Кличка у песика довольно редкая – О. – Какая муха укусила твоего мужа? Он что, изменил своим принципам? – Дело не в том, что я проспала три ночи с капитаном, ужасно то, что я не предупредила об этом Жильбера. Он считает, что был очень смешным, когда разыскивал меня повсюду, чуть было в полицию не обратился. Женщины зажужжали. Поджариваясь под ярким солнцем, они образовали на выложенной плитками жаровне что-то вроде ожерелья из пылающих тел вокруг лежащей Арианы и сидящей рядом с ней Эммануэль. Та, правда, больше воспринимала их слухом, а не зрением: игра воды вокруг ее ног занимала ее больше, чем зрелище красивых обнаженных женских тел. – А где он надеялся тебя увидеть? Хотя это нетрудно угадать… – Единственный раз в этой стране представляется случай развлечься… – Он сказал мне, что в последний раз видел меня на корме «Флибустьера» в конце праздника. Безоружной, беззащитной, между двумя разбойниками-матросами, которые будто бы собирались разделить между собой мои манатки. – И как? У них это получилось? – А я не помню, – рассмеялась Ариана. Оторвав, наконец, взгляд от воды, Эммануэль не могла не восхититься, с какой продуманной непринужденностью распускают купальщицы тесемки бикини, будто бы для того, чтобы не оставлять белых пятен на загорелых телах, а на самом деле, чтобы проходящие мимо знакомые и друзья могли еще раз полюбоваться ими, получая в ответ на свои приветствия небрежные кивки. Ариана приподнялась на локтях. – Дорогая, – обратилась она к Эммануэль, – вы пропустили уникальный случай, визит века, ибо дважды в столетие такого в Сиаме не бывает. В прошлый уик-энд маленький военный корабль бросил якорь в устье нашей реки. Визит вежливости таиландскому флагу. О, если бы вы видели экипаж! А капитан был просто Дионис! Все три дня здесь только и было, что обеды, коктейли, танцы, ну и всякое другое… Раскованность, нескромные усмешки молодых француженок, окружавших Эммануэль, смущали ее. Ее удивляло, что ее опыт, опыт парижанки, совсем не помогает ощутить себя равной в этом странном обществе. Роскошь и беззаботная праздность этих временных изгнанниц казались ей чрезмерными даже в сравнении с самыми дорогими местами где-нибудь в Отейле или Пасси. И все, казалось, говорило, что у этих созданий нет другой мысли и других занятий, кроме как разыскивать существа их возраста, привычек, взглядов, чтобы соблазнить их или самим оказаться соблазненными. Но вот одна из них, с дикой гривой волос, разбросанных по плечам и достигающих бедер, лениво поднимается, встает на краю бассейна, зевая и потягиваясь. Ноги ее широко расставлены, и сквозь тонкую ткань бикини открывается перед Эммануэль зрелище потаенных прелестей: выпуклый холмик и широкое бесстыдное отверстие, и это бесстыдство так контрастирует с невинным выражением лица обладательницы львиной гривы. – А Жан не такой уж и дурень, – заметила она. – Он подождал отплытия «Флибустьера», а уж потом вызвал свою жену. – И напрасно, – откликнулась Ариана тоном искреннего сожаления. – Она бы имела сумасшедший успех! – А я не могу понять, как он мог думать, что в Париже Эммануэль в большей безопасности, – засмеялась одна из полуголых девиц. – Разве ею можно пренебречь? Ариана со все растущим интересом рассматривала Эммануэль. Кто-то за спиной Эммануэль флегматично прокомментировал: – Да, видно, ее супруг совсем не ревнивец, раз он оставил ее одну на целый год. – Не на год, всего на шесть месяцев, – вспыхнула Эммануэль. Прозрачные бикини девицы с львиной гривой были так близко от нее, что она могла бы, чуть потянувшись, дотронуться до них губами. – А я считаю, что он правильно сделал, что не привез вас с собой, сказала хозяйка О. – Он почти все время был на Севере, у него даже не было постоянного пристанища в Бангкоке, он останавливался в гостинице, когда приезжал сюда. Это – не жизнь для вас. Она тут же поинтересовалась: – Вам понравилась ваша вилла? Говорят, она изумительна! – О, она еще не совсем закончена, пока что нет мебели. Что мне понравилось больше всего, так это сад. Там такие огромные деревья. Вы обязательно должны посмотреть на них, – проявила учтивость Эммануэль. Кто-то из свиты Арианы задал еще вопрос: – Так вы собираетесь почти все время проводить в своем прекрасном саду? – Да ведь теперь все инженеры уже приехали, и Жану не надо будет мотаться в Ярн-Хи. Он будет все время со мной. – Ну, – сказала графиня, – в городе хватает места. И видя, что Эммануэль не поняла, Ариана пояснила: – Работа будет отнимать у него лучшие часы. У вас останется и время, и место для встреч споклонниками. Вот еще одна удача: достойные мужчины этой страны заняты работой меньше, чем наши супруги. Вы водите машину? – Да, но я боюсь запутаться в этих улочках, это какой-то лабиринт. Жан, пока я не научусь ориентироваться, нанял мне шофера. – Ну, этому вы быстро научитесь. Я вам помогу. – Ариана научит! Она вас такому научит… – Ерунда, – отпарировала Ариана удар невидимой собеседницы. – В этом Эммануэль учительницы не нужны. А вот я сгораю от нетерпения послушать ее рассказы о парижских забавах; Минут права – только в Париже можно распутничать как следует. – Но мне не о чем рассказывать, – еле слышно проговорила Эммануэль и почему-то почувствовала себя глубоко несчастной. – Ну, не надо скромничать. Вы можете на нас вполне рассчитывать. Мы все немы, как могила. – А что рассказывать? За все время, что я оставалась одна в Париже, – тон Эммануэль был очень серьезен, – я ни разу не изменила мужу. Наступила тишина. Та искренность, с какой Эммануэль сделала свое признание, подействовала на женщин. Графиня взглянула на Эммануэль с подозрением: неужели эта малютка – ханжа? Однако, судя по ее костюму… – А давно вы замужем? – продолжала она допрос. – Уже год, – ответила Эммануэль и, желая вызвать у собеседниц зависть, добавила: – Вышла замуж, когда мне только исполнилось восемнадцать… И поспешила закончить свое объяснение: – Год замужем и половину этого срока в разлуке с мужем. Представляете, как я счастлива снова увидеть Жана. И на ее глаза, к ее собственному удивлению, набежали слезинки. Общество закивало головами сочувственно и понимающе. «Да, видно, это не нашего поля ягода», – подумали все. – Не хотите ли пойти ко мне, попробовать мильк-шейк? Эммануэль даже не заметила, кто оказался рядом с ней и задал этот вопрос. Но, взглянув на вопрошавшую, она улыбнулась: лицо ее выражало желание покровительствовать Эммануэль, быть ее руководительницей в новой жизни. И в то же время это было лицо совсем маленькой девочки. «Ну, не такой уж маленькой, – тут же одернула себя Эммануэль, детство уже закончилось». Тринадцать лет, никак не меньше, но ростом уже почти с Эммануэль. Конечно, до зрелости еще далековато, может быть, это заметнее всего по коже, сохраняющей цвет детства: кожа еще не умеет загорать ровно, не покрывается той солнечной патиной, элегантной, цивилизованной, какой может похвалиться, к примеру, Ариана. Кожа даже кажется какой-то шершавой. Ну, как у цыпленка. Особенно на руках. На ногах она более отполировалась. На ногах… На прелестных мальчишеских ногах. Да, ноги были именно мальчишескими: с резко очерченными лодыжками, крепкими икрами и узкими бедрами. Их пропорциональность и легкая сила были на вид приятнее вызывающих смутные ощущения ног женщины. Их легче можно было представить бегущими по песку пляжа, отталкивающимися от трамплина, чем покорно расслабляющимися навстречу нетерпеливому желанию. Таким же, был и живот: спортивный, мускулистый, с четко обозначенными мышцами, и даже маленький треугольный клочок ткани внизу – вроде того, каким пользуются обнаженные танцовщицы – не казался здесь непристойным. Остроконечные груди были столь малы, что ленточке бикини и нечего было, собственно, скрывать. «Прекрасно, – подумала Эммануэль. – Но зачем она надевает что-то на грудь? С обнаженной грудью было бы куда лучше, и никому бы это не внушало нескромных мыслей». По правде говоря, она тут же усомнилась в правоте своего последнего суждения. Она спросила себя, что могут чувствовать эти маленькие груди, и ей вспомнилась она сама и та радость, которую она испытала, когда ее грудь только-только начала обозначаться. А ведь тогда ее груди были поменьше, чем эти. Они – теперь она пригляделась повнимательнее – и не так уж не заслуживают внимания. Просто подействовал контраст с бюстом графини де Сайн. А эти узкие бедра! А вся стать школьницы! А длинные густые косы, прикрывающие эту розовую грудь! Косы просто ошеломили Эммануэль. Она никогда не видела таких волос, таких светлых, таких воздушных – нельзя было понять, что это за цвет. Золото? Лен? Солома? Песок? Или рассветное небо? Или песцовая шкурка? Тут Эммануэль встретилась со взглядом зеленых глаз и забыла обо всем остальном. Все видела в этих глазах Эммануэль: и серьезность, и иронию, и ум. И даже какую-то властность, какой-то призыв… И тут же они становились тоскующими, задумчивыми, и опять – лукавство, фантазия, резвость светились в этих глазах. – Меня зовут Мари-Анж. Эммануэль молча любовалась ею, и девочка повторила приглашение: – Вы не хотите проводить меня домой? Теперь Эммануэль ответила улыбкой и поднялась с места. Ей пришлось объяснить, что сегодня это невозможно: Жан должен заехать за ней, предстоит несколько визитов и вернутся они слишком поздно. Но она была бы просто счастлива, если бы Мари-Анж смогла навестить ее завтра. Она знает, где живет Эммануэль? – Да, – бросила Мари-Анж. – Договорились. Завтра после обеда. Мари-Анж привез в белой американской машине шофер-индиец в тюрбане, с густой черной бородой. Высадив свою пассажирку, он тут же умчался. – Ты сможешь меня потом проводить, Эммануэль? – спросила Мари-Анж. Эммануэль тут же отметила это «ты». И еще отметила, и более отчетливо, чем накануне, как гармонировал голос с волосами и кожей. Ей отчаянно захотелось расцеловать девочку в обе щеки, но что-то удержало ее. Может быть, эти трогательные грудки под голубой блузкой? Да нет, чушь… Мари-Анж стояла совсем рядом: – Ты не обращай внимания на то, что болтают эти идиотки, – сказала она. – Они хвастают. На самом деле они не стоят и десятой доли того, на что претендуют. – Ну, конечно, – ответила Эммануэль после секундного замешательства так-то аттестует этот ребенок своих старших подруг по бассейну! – Хотите пойти на террасу? – спросила Эммануэль и тут же пожалела об инстинктивно вырвавшемся «вы». Мари-Анж приняла приглашение величавым кивком головы. Проходя мимо своей комнаты, Эммануэль вспомнила о большой фотографии у изголовья постели. Она была изображена там абсолютно голой – вдруг гостья увидит этот портрет. Эммануэль ускорила шаги, но Мари-Анж остановилась перед бамбуковой занавеской, заменявшей дверь. – Это твоя комната? – спросила она. – Можно посмотреть? И, не дожидаясь ответа, откинула бамбук. – Какая огромная кровать! – расхохоталась гостья. – Сколько же вас умещается на ней? Эммануэль покраснела: – Да здесь, собственно, две кровати. Они придвинуты одна к другой. Мари-Анж увидела фотографию: – Какая ты красивая! Кто тебя снимал? Эммануэль хотела солгать, что это работа Жана, но сказала правду, ничего не приукрашивая: – Один художник, приятель моего мужа. – А у тебя есть другие портреты? Их надо тоже держать здесь. Ты ведь здесь занимаешься любовью? Эммануэль посмотрела на нее. Что же это за существо, которое, глядя таким незамутненным, чистым взглядом, с такой непринужденной улыбкой, по-дружески, без малейшего смущения задает подобные вопросы? И самое странное было то, что под этим взглядом Эммануэль чувствовала, что не может обманывать это существо, что попадает под его власть и готова рассказать самые интимные свои секреты. Словно защищаясь, она откинула занавеску: – Так мы идем? Мари-Анж слегка улыбнулась, и они прошли на террасу. Там, расположившись под навесом, защищавшим от палящего солнца, взглянув на реку, струящую свои воды совсем рядом, Мари-Анж всплеснула руками: – Ну и повезло тебе! Во всем Бангкоке нет дома, так хорошо расположенного. Какой отсюда вид и как здесь чудесно! Девочка замерла, любуясь расстилавшимся перед нею пейзажем. Затем, совершенно естественным жестом, она расстегнула высоко подвязанный пояс, стягивающий ее талию, и бросила его на красное плетеное кресло. Без промедления она сверкнула молнией пестрой юбки, и та упала к ее ногам. Переступив через юбку, бросилась в шезлонг и взяла один из журналов, лежавших на столике. На ней была только длинная блузка, доходившая до бедер, да узенькие, похожие на мужские, плавки-трусы. – Ой, я так давно не видела французские журналы! В шезлонге Мари-Анж устроилась быстро. Она вытянула благопристойно прижатые друг к дружке ноги и развернула журнал. Эммануэль вздохнула, стараясь прогнать смущающие ее мысли, и расположилась напротив Мари-Анж. – Что это за штука «Совиное масло»? Ничего, если я немного почитаю? – Пожалуйста, Мари-Анж. И та начала чтение, спрятав за журналом свое лицо. Но неподвижной она оставалась недолго. Вот ее тело начинает вздрагивать, словно начинает резвиться и взбрыкивать молодой жеребенок. Она подняла левую ногу и положила ее на подлокотник кресла. Эммануэль бросила взгляд на выглядывающие из-под блузки трусики. Рука Мари-Анж оторвалась от журнала, опустилась вниз, нашла под нейлоном трусиков какую-то точку и замерла там. Затем она снова задвигалась – трусов уже не было видно. Теперь средний палец был опущен, только он касался кожи, а другие пальцы образовали над ним как бы раскрытые надкрылья. Сердце Эммануэль забилось так сильно, что она испугалась, что этот стук услышат в доме. Она облизнула внезапно пересохшие губы. Мари-Анж продолжала свои забавы. Теперь опустился вниз и большой палец, опустился и раздвинул нежную плоть. Остановился, словно задумался и, помедлив немного, стал описывать круги, дрожа еле уловимой дрожью. Невольный стон вырвался из губ Эммануэль. Мари-Анж опустила журнал и улыбнулась. – А ты разве не ласкаешь себя? – Голова ее лежала на плече, в глазах светился огонек. – А я всегда это делаю, когда читаю. Эммануэль только кивнула головой, слов у нее не было. Мари-Анж отложила журнал, положила руки на бедра и одним рывком сдернула с себя трусики. Она поболтала в воздухе ногами, чтобы окончательно освободиться от этой части туалета. Затем она расслабилась, закрыла глаза и двумя пальцами раздвинула розовое влажное отверстие. – А-а, хорошо. Вот как раз в этом месте. Ты согласна со мной? Эммануэль не могла отвечать, и Мари-Анж продолжала тоном непринужденной светской беседы: – Я люблю это делать долго. Потому что я никогда не трогаю высоко. Самое лучшее – просто делать туда-сюда в дырочке. И она продемонстрировала этот способ. Через несколько минут ее поясница выгнулась дугой, и Эммануэль услышала стон, похожий на жалобу: – О, я не могу больше удержаться… Палец трепетал, как стрекоза над цветком. Стон превратился в крик. Бедра раскрылись и снова сжались, не выпуская руку из своих тисков. Она кричала долго и громко и, наконец, затихла, еле переводя дыхание, открыла глаза: – Это в самом деле очень хорошо, – прошептала она. И снова, наклонив голову, она начала медленно, осторожно вводить внутрь себя средний палец. Эммануэль кусала губы. Когда палец скрылся в глубине, Мари-Анж снова раздала протяжный стон. И вот она уже другая – она просто лучится здоровьем, удовлетворенностью, сознанием выполненного долга. Поласкай и ты себя, – деловито предлагает она Эммануэль. Эммануэль колеблется, но колеблется недолго. Она встает и расстегивает шорты. Они падают на пол, Эммануэль вытягивается в кресле, а Мари-Анж располагается рядом, на мягком плюшевом пуфе. Обе теперь одеты совершенно одинаково: прикрыт только бюст. Мари-Анж почти касается губами щели своей подруги: – А как ты это делаешь? – Как все, – отвечает Эммануэль, думая о легком дыхании девочки, коснувшемся ее бедер. Если бы она положила на бедра руку, это разрядило бы напряжение, и Эммануэль не так бы стеснялась, может быть. Но Мари-Анж не прикоснулась к ней. Она сказала только: – Дай мне посмотреть. Мастурбация была для Эммануэль всегдашней помощью и успокоением. Это был самый надежный способ отъединится от мира, в эти минуты словно непроницаемый занавес опускался на нее, и по мере того, как ее пальцы делали свое дело, спокойствие нирваны воцарялось в ней. На этот раз она не собиралась оттягивать наслаждение. Ей хотелось поскорее найти знакомую страну и упасть на родную почву в сладком обмороке оргазма. Она очнулась и услышала новый вопрос Мари-Анж: – А кто тебя научил этому? – Я сама. Просто мои пальцы открыли, что они могут делать, – усмехнулась Эммануэль. Как всегда в такие минуты, настроение у нее было отличное. – И ты умела это делать уже в тринадцать лет? – недоверчиво осведомилась Мари-Анж. – О, гораздо раньше! А ты? – А где тебе приятней всего ласкать? В каком месте? – О, во многих! И везде, знаешь, ощущения разные: и вверху, и посередине, и совсем внизу. А разве с тобой не то же самое происходит? Опять Мари-Анж уклонилась от ответа. Она сказала: – А играешь ты только с клитором? – Нет, что ты! Ведь самая маленькая дырочка, уретра, тоже очень чувствительна. Я кончаю, как только прикоснусь к ней. – А еще что ты делаешь? – Ну, я люблю ласкать и губы и проникать за них туда, где самое мокрое место… – Пальцами? – Пальцами и еще бананами (в голосе Эммануэль послышалась даже гордость своей изобретательностью). Банан далеко может пробраться, до самого дна. Я их сначала очищаю. Только не нужно, чтобы они были созревшими. Лучше всего такие, какие продаются здесь на Плавучем рынке – длинные, зеленые… Воспоминания об этом удовольствии подействовали на нее так, что она, совсем забыв о свидетельнице, положила пальцы на свое лоно и начала мять его. И все-таки ей хотелось, чтобы в нее проникло сейчас что-нибудь более реальное. Она повернулась лицом к Мари-Анж, закрыла глаза, широко раскинула ноги и после нескольких секунд ожидания начала пронзать себя двумя сложенными вместе пальцами. Быстро. Сильно. Через три минуты все было кончено. – Видишь, я могу ласкать себя много раз подряд. – Ты это делаешь часто? – Да. – Сколько раз в день? – По-разному. Понимаешь ли, в Париже у меня было не так уже много свободного времени, надо было ходить на факультет, бегать по магазинам. Больше двух раз у меня не получалось: утром, под душем, ну и вечером, перед тем как заснуть, парочку раз. Ну и если ночью проснусь, тогда, конечно, тоже. А вот во время каникул я ничем другим не занималась, я могла радовать себя помногу. А сейчас у меня как раз каникулы! Так они долго еще болтали, довольные рождавшейся между ними близостью. Эммануэль была счастлива, что она может говорить о таких вещах. И особенное удовольствие заключалось для нее в том (хотя она не могла бы в этом признаться), что она мастурбировала перед этой девочкой, что та любит на это смотреть и знает толк в наслаждении. Господи! До чего же она хороша! Эти прекрасные волосы и бедра, так невинно и бесстыдно обнаженные перед старшей подругой! – Ты о чем задумалась, Мари-Анж? У тебя такой грустный вид… Эммануэль погладила девочку по волосам. – Я думаю о бананах, – вздохнула Мари-Анж. Она смешно наморщила нос, и обе они принялись хохотать, чуть не задохнувшись от смеха. – О нет, этот способ не для девушек! Что угодно, но только не это. – А как ты начала с мужчинами? – Меня лишил невинности Жан. – И у тебя никого не было до мужа! – воскликнула Мари-Анж с таким негодованием, что Эммануэль пришлось как бы просить у нее прощения. – Нет, то есть почти нет. Разумеется, были мальчики, которые меня ласкали, но это все было не по-настоящему. Эммануэль вздохнула и продолжала: – Вот Жан, он занялся со мной любовью сразу же. Потому что я его любила. – Прямо так и сразу? – На второй день нашего знакомства. Он пришел в гости к моим родителям, они у кого-то познакомились. Он сидел за столом и все время смотрел на меня, и видно было, что я ему очень понравилась. Потом, когда ему удалось остаться со мной вдвоем, он задал мне множество вопросов: сколько у меня поклонников, люблю ли я заниматься любовью. Я была ужасно смущена, но рассказала ему всю правду. И он тоже, как и ты, хотел знать все в точности и в подробностях. А на следующий день он пригласил меня покататься. Посадил меня рядом с собой и одной рукой вел машину, а другой обнимал меня и начал ласкать, сначала плечи, потом грудь. А когда мы остановились на лесной дороге в Фонтенбло, он первый раз поцеловал меня. И сказал мне таким, знаешь, строгим тоном: «Ты девушка, сейчас я сделаю из тебя женщину». И мы сидели в машине прижавшись друг к другу долго-долго. Сердце у меня билось сильно-сильно, а потом успокоилось. Я была счастлива. Все произошло именно так, как мне представлялось. Жан велел мне стянуть с себя штанишки, и я сразу же его послушалась – мне хотелось помогать ему, не быть пассивной участницей своей собственной дефлорации. Он положил меня на сиденье, а сам встал в раскрытой дверце. И совсем не играл со мной, вошел сразу и так умело, что ничуть не было больно. Наоборот, почти тут же стало так приятно, что я отключилась. И пришла в себя полностью, когда мы уже сидели в лесном ресторане за столиком на двоих. Потом Жан спросил номер, и мы занимались любовью до самой полуночи. Я быстро всему научилась. – А что сказали твои родители? – Да ничего. Назавтра я всем растрезвонила, что я уже не девушка, что у меня есть любовник. И они нашли это совершенно нормальным. – И Жан попросил твоей руки? – Да вовсе нет! Мы и не помышляли о женитьбе. Мне было неполных семнадцать, я только что сдала свой «бак» и была страшно горда, что я любовница, метресса солидного взрослого мужчины. – Так почему же ты оказалась замужем? – В один прекрасный день Жан сказал таким обычным спокойным тоном, что фирма посылает его в Сиам. Я чуть не упала со стула от огорчения. Но он так же спокойно объявил: «Я на тебе женюсь перед отъездом. А ты прилетишь ко мне попозже, когда я найду для нас дом». – Ну и как ты на это?.. – Мне показалось это сказкой, слишком чудесной, чтобы осуществиться. Я радовалась и смеялась, как безумная. И через месяц мы поженились. И, представь себе, мои родители ничего не имели против того, что я была любовницей Жана, но просто встали на дыбы, узнав, что я буду его женой. Они говорили ему, что он слишком стар для меня, что я еще невинный ребенок. Как тебе это нравится, а? Но он сумел их убедить. Мне бы очень хотелось знать, что он им сказал. У моего папы чуть не случился инфаркт: он никак не мог примириться с тем, что я должна бросить вышмат. – Бросить что? – Высшую математику. Я занималась ею на факе. Мари-Анж рассмеялась. Эммануэль продолжала: – Это была папина идея – дочка будет крупным математиком… Ну ладно, Жан должен был улететь сразу же после свадьбы. Но вышло так, что, к счастью, его отъезд задержался на целых полгода. И потому я была законной супругой почти столько же времени, сколько была его любовницей. И знаешь, заниматься любовью законно не менее интересно, чем грешить. Хотя сначала мне было чудно, что мы занимаемся этим по ночам. – Где ты жила, когда он уехал? У родителей? – Да нет! В нашей квартире, в нашей собственной квартире на Рю Доттор Бланш. – И он не побоялся оставить тебя одну? – А чего тут бояться? – Как чего? Что ты будешь ему изменять. Эммануэль фыркнула: – Н-ну, не думаю. Мы никогда не говорили об этом. Эта мысль никому из нас и в голову не приходила. – Но потом ты все-таки изменяла ему? – Зачем? Около меня крутилась уйма всяких мужчин, но мне они казались ужасно смешными. – Значит, это правда, то, что ты говорила бабам… – Бабам? – Вчера, в бассейне. Ты разве забыла, что ты сказала, что никогда не спала ни с одним мужчиной, кроме своего мужа. Эммануэль задумалась едва ли на долю секунды, но этого хватило, чтобы встревожить Мари-Анж. Она привстала на коленях и вперила в Эммануэль недоверчивый взгляд. – Ни слова правды нет в том, что ты говоришь, – провозгласила она тоном обвинителя. – Стоит только посмотреть на твое лицо. Эммануэль довольно неумело постаралась спрятать свое смущение. – Начнем с того, что ничего такого я не говорила… – Как! Разве ты не сказала Ариане, что ты никогда не обманывала мужа, не изменяла ему? Вот об этом я тебе и говорю. Потому что я тебе не поверила. К счастью! Эммануэль ответила ей в тон, как адвокат отвечает наседающему на подзащитного прокурору: – Нет, ты ошибаешься. И я повторю, что я говорила совсем не то, что тебе кажется. Я всего-навсего сказала, что я была верной Жану все время, пока была в Париже. Вот и все. – Ну вот, а я что говорю! Мари-Анж пытливо всматривалась в лицо Эммануэль, но та смотрела на нее так обескураживающе правдиво! Однако недоверие Мари-Анж не исчезло. Девочка переменила тактику. В ее голосе послышалось лукавство: – Знаешь, я спрашиваю себя: почему же ты оставалась верной. И вот я поняла – это ты себя за что-то наказала. – Ничего подобного! Просто мне никто не был нужен. Мари-Анж немного помолчала. – Значит, если бы тебе кто-нибудь понравился, ты бы отдалась ему? – Ну, разумеется. – А как это можно доказать? – теперь Мари-Анж говорила, как обиженный ребенок. – А я так и поступила! Мари-Анж как током ударило. Она подалась вперед: – Вот видишь, – сказала она торжествуя. – А ты пыталась меня уверить, что не делала этого! – Я не делала этого в Париже, – терпеливо объяснила Эммануэль. – Я сделала это в самолете. В самолете, которым летела сюда. Ты поняла наконец? – А с кем? – оживилась Мари-Анж. – С двумя мужчинами, которых я никогда не знала раньше. Я даже не знаю, как их зовут. Если она думала удивить Мари-Анж, то ей пришлось разочароваться. Та продолжала деловито выяснять подробности: – Они все получили от тебя? – Да! – А сначала они поиграли с тобой? – Да! – А они вошли в тебя глубоко? – О да! Очень глубоко! Эммануэль инстинктивно прижала ладонь к низу живота. – Поласкай себя, пока будешь рассказывать, – распорядилась Мари-Анж. Эммануэль отрицательно покачала головой. На лице ее появилось выражение какого-то безразличия, апатии. Мари-Анж всматривалась в нее настороженно. И Эммануэль подчинилась. Она начала рассказывать, сначала через силу, скрепя сердце, но постепенно оживилась, вспоминая свое приключение, и старалась не пропустить ни одной детали. Она остановилась, рассказав, как ее похитила греческая статуя. Мари-Анж слушала ее с видом внимательной ученицы, но все же время от времени как-то ерзала, словно стремясь найти место поудобнее. – Ты рассказала об этом Жану? – спросила она. – Нет. – Ты видела потом этих мужчин? – Нет. На этом вопросы Мари-Анж как будто иссякли. Захотелось чаю. На зов Эммануэль явилась служанка – прямой стан, черные волосы с цветком в прическе, пестрый саронг – подлинная мечта Гогена. Обе собеседницы немного приоделись: Эммануэль влезла в свои шорты, Мари-Анж натянула трусики. Пестрая юбка по-прежнему лежала в кресле. Потом, вняв настойчивым просьбам Мари-Анж, Эммануэль принесла все свои голые фотографии. И тогда вопросы возобновились: – Послушай, а ты мне ничего не говорила о том, что у тебя было с этим фотографом. – А ничего, – призналась Эммануэль. – Он ко мне даже не прикоснулся, – добавила она с легкой досадой. – Впрочем, нечего было надеяться. Он – педик. Мари-Анж сделала скептическую гримаску, потом принялась рассуждать: – Я считаю, что художник, прежде чем писать портрет, должен полюбить свою модель или позаниматься с нею любовью. Что за бред позировать тому, кто не интересуется женщинами! – Я тут ни при чем, – Эммануэль уже немного устала от расспросов. – Он сам предложил мне снять меня. Я тебе говорила, он был приятелем Жана. Мари-Анж взмахом руки словно отогнала прошлое: – Теперь надо постараться, чтобы тебя изобразил кто-нибудь настоящий. Не ждать же, пока ты состаришься. Образ этого «настоящего», о котором так серьезно говорила девочка, и неминуемая близость собственной старости рассмешили Эммануэль: – Я не люблю позировать даже для фотографов, а ты думаешь о живописце! – А с тех пор как ты здесь, у тебя ничего не было с мужчинами? Эммануэль возмутилась: – Ты с ума сошла! Мари-Анж озабоченно нахмурилась: – Надо, чтобы ты поскорее нашла любовника. – Это так необходимо? – усмехнулась Эммануэль. Но девочка вовсе не собиралась шутить. С серьезным видом она пожала плечами: – Ты странная, Эммануэль. Помолчала и снова спросила: – Ты же не собираешься провести всю свою жизнь старой девой? И повторила: – Нет, ты очень странная. – Но, – удивилась Эммануэль, – я же не старая дева. У меня есть муж. На этот раз Мари-Анж ограничилась только холодным взглядом. Аргумент показался ей таким нелепым, что дискутировать дальше ей явно не хотелось. Наступило молчание. И Эммануэль пожалела о прежней атмосфере: – А может, ты снова снимешь штанишки, Мари-Анж? Девчонка встряхнула косами: – Нет, мне пора. Она встала. – Ты проводишь меня? – Ты так спешишь, – недовольно протянула Эммануэль, но ей было уже ясно, что своего решения Мари-Анж не переменит. Машина с бородатым шофером уже ждала ее. Девочка еще раз посмотрела на Эммануэль внимательно и строго: – Ты знаешь, я не хочу, чтобы ты погубила свою жизнь. Ты такая красивая. Это ужас, если ты останешься такой же недотрогой, как сейчас. Эммануэль было расхохоталась, но Мари-Анж прервала этот смех: – Это ведь и вправду ужасно, что у тебя в твоем возрасте ничего не было, кроме этих пустяков в ночном самолете. Ты в самом деле ведешь себя, как последняя кретинка. Она с сожалением покачала головой: – Я уверена, ты не совсем нормальная. – Мари-Анж… – Ладно, что говорить о том, что прошло… Зеленые глаза впились в Эммануэль: – Я уезжаю, но сделаешь ли ты то, о чем я тебя попрошу? – Что именно? – Все, что попрошу! – Еще бы! – Эммануэль была зачарована этим взглядом. – Поклянись! – Клянусь, если тебе этого хочется. Она хотела снова рассмеяться, но Мари-Анж не дала сбить себя с серьезного тона: – Сегодня ровно в полночь ласкай себя. Я в это время буду делать то же самое. Ресницы Эммануэль дрогнули. Она наклонилась и нежно поцеловала свою новую подругу. Машина тронулась, и Эммануэль услышала на прощанье: «Не забудь же! Ровно в полночь!». Оставшись одна и вспоминая этот чудесный день, Эммануэль вдруг отметила, что она-то не задала девочке ни одного вопроса. Если прелестное светлокосое создание узнало до мельчайших подробностей интимную жизнь своей старшей подруги, то та не узнала ничего. Она даже не спросила, девственница ли Мари-Анж. Когда вечером свежий, только что из-под душа, Жан вошел в комнату жены, он увидел ее сидящей нагишом на кровати. Он подошел к ней, она обняла его за бедра и потянулась вперед, жадно раскрыв рот. Она припала к бедрам мужа, и в считанные секунды изящный жезл превратился в могучую палицу. Эммануэль втянула ее в себя, и она окончательно отвердела. Тогда Эммануэль принялась лизать эту дубинку по всей длине, проводя языком по голубым вздувшимся венам. Жан пошутил: «Ты напоминаешь мне человека, жующего кукурузный початок». И тогда, чтобы сходство было полным, Эммануэль пустила в ход свои маленькие зубы. А чтобы загладить боль, она стала дуть на кожицу, поглаживать тестикулы, проводя по ним языком. Она заглатывала фаллос все больше и больше, не боясь задохнуться. Делала она все это расторопно, с наслаждением. То, что чувствовали ее язык и губы, передавалось грудям и лону. Она постанывала, на мгновение выпускала фаллос изо рта, щекотала его языком и снова проглатывала трепещущую плоть. Жан обеими руками сжимал голову жены. Но вовсе не для того, чтобы руководить ее движениями и регулировать их ритм. Он великолепно знал, что вполне может положиться на ее умение. Она научилась этому как-то сразу и исполняла это лучше других. В иные часы Эммануэль заставляла мужа просто изнемогать от наслаждения: она не останавливалась подолгу ни на одной определенной точке, собирала нектар с любого цветка, заставляя свою жертву издавать отчаянные стоны, жалкие мольбы, заставляя извиваться, исступленно кричать, пока, наконец, она не завершала свой шедевр. Но сегодня ей хотелось дарить более безмятежные радости. Она только добавляла к губам и языку ритмические движения рукой, чтобы выжать из Жана все, до последней капельки. И когда поток хлынул, Эммануэль пила из него медленно, глубокими глотками, а последнюю, самую драгоценную каплю, она слизнула языком. И она была так готова к оргазму, что пролилась, едва только Жан склонился к ее лону и коснулся губами маленького напряженного бутона плоти. – Теперь я тебя возьму, – пробормотал Жан. – Нет, нет! Я хочу пить тебя снова. Скажи, что ты дашь мне этот напиток. О, ты прольешься ко мне в рот опять, скажи, скажи мне это, я тебя прошу. Это так чудесно, я это так люблю! – А твои подружки, когда меня здесь не было, ласкали тебя так же хорошо? – спросила она, когда оба они перевели дыхание. – Что ты спрашиваешь! Еще не нашлось женщины, которая могла бы сравниться с тобой. – Даже сиамки? – Даже они. – Ты же знаешь, это не комплимент. Если бы ты не была самой лучшей в мире любовницей, я бы тебе сказал об этом. Хотя бы для того, чтобы ты такой стала. Но, ей-богу, я не знаю, чему ты можешь научиться еще. Ведь должны же быть пределы в искусстве любить. Эммануэль задумчиво протянула: – Не знаю… По ее сдвинутым бровям, по голосу было понятно, что сомнение ее совершенно искреннее. – Во всяком случае мне до пределов еще далеко. – Да кто тебе это сказал! – воскликнул Жан. Она не ответила, и он спросил: – Ты что, не считаешь меня подходящим арбитром? – О, что ты! – Я, кажется, неплохой учитель. И вдруг ты оказываешься недовольной своим воспитанием. Эммануэль поспешила его утешить: – Милый! Никто на свете не мог бы обучить меня лучше, чем ты. Но… Как бы это объяснить… Я чувствую, что в любви должны быть еще более важные, более интеллектуальные вещи, чем умение любить. – Ты имеешь в виду преданность, нежность, заботливость, понимание? – Нет, нет. Я совершенно уверена, что эта важная вещь относится именно к физической любви. Но это совсем не добавочные знания, так сказать, не большая ловкость, не большая техника, не больший пыл; это скорее что-то разумное, какое-то состояние мозга… Она тяжело вздохнула: – Я даже не думаю, что это вопрос о границах, о пределах. Это, мне кажется, дело нового взгляда, нового угла зрения… – Другой способ смотреть на любовь? – Не только на любовь, на все! – Может, ты все-таки объяснишь понятней? Она накручивала на пальцы свои локоны, словно они должны были помочь найти слова: – Нет, – решила она. – Мне и самой это непонятно. Но я должна сделать какой-то шаг вперед, найти что-то, что мешает мне стать истинной женщиной, твоей женщиной. А я не знаю что! Она совсем приуныла: – Я думала, что я знаю так много. Но есть еще что-то, чего я не знаю. И она стала лихорадочно, возбужденно рассуждать: – Сначала надо, чтобы я стала знающей. Ты же видишь: я ничего не знаю, я слишком невинна. Я слишком девственница. А это ведь страшно, если сегодня вечером я чувствую себя девственницей. Девственницей везде, я просто утыкана этой девственностью, как репьями. Мне стыдно! – Ах ты, мой чистый ангел!.. – О нет, не чистый. Девственность – это не всегда чистота. Но это всегда глупость. Восхищенный, он обнял ее, а она продолжала: – Это море предрассудков. – Как это прекрасно: слушать жалобы на девственность из тех самых уст, которые только что проделали со мной такую работу! Она засмеялась, но не успокоилась: – Ах, раз, действительно, разум, дух должны снизойти к женщине, я не пропустила бы ни одного мгновения, если бы они снизошли ко мне от тебя. Все эти рассуждения произвели на Жана эффект, немедленно обнаруженный Эммануэль. Она уже привстала, чтобы привести в исполнение свои обещания, уже ее язык коснулся… Но Жан резко отстранил ее. – Кто тебе сказал, что только через эти губы может снизойти дух? Вспомни дух дышит, где захочет! Он рухнул на нее, и в ту же минуту ей так сильно захотелось быть взятой, как ему захотелось ее взять. Двумя пальцами левой руки она сама раздвинула свое лоно, а правая потянулась к древку, помогая ему погрузиться так же глубоко в другое отверстие, как только что оно погружалось в ее горло. Но ей хотелось чувствовать его и сейчас губами. Он целовал ее в рот, проводил по ее губам языком, но воображение помогало ей чувствовать на губах сладкую пряность семени, и то наслаждение, которое полнило ее внизу, бурлило и в ее горле. И она умоляла: «Еще! Еще! Пронзи меня! Сильней, крепче!» Она чувствовала, как в ее глубинах фаллос припал к устам матки и спаялся с ними – так пчела приникает к цветку в поисках нектара. Ей так хотелось, чтобы Жан пролился, и она так старалась, чтобы и живот ее и зад убедили его не медлить: каждый мускул ее тела, тела гибкого, хищного зверя, старался помочь мужчине поскорее испытать последний трепет. Но Жан хотел быть победителем в этой борьбе, хотел, чтобы первой изнемогла она. И он наносил ей удары быстрые, могучие, стараясь, чтобы его кинжал прошел в ней как можно больший путь, погружая его в раскрытую рану по рукоять и почти весь вытаскивая потом наружу. Яростно, со стиснутыми зубами, трудился он над нею, жадно вслушиваясь в ее хриплые крики, впивая ее горячий запах. А она билась под ним, подскакивала словно под ударами хлыста, царапала спину и кричала, кричала, кричала… И, наконец, и крик, и дыхание оборвались, и она вытянулась, успокоенная, едва ощущая свое тело, но в душе сожалея, что такое же возбуждение не овладело и ее рассудком, что ее мозг не смог так же трепетать и биться, как трепетала и билась только что ее влажная плоть. Ей не хотелось, чтобы он двигался, и Жан, словно поняв это, застыл на ней неподвижно. Она прошептала: – Я бы хотела заснуть вот так – с тобою во мне. Он прижался щекой к ее щеке. Черные завитки щекотали ему губы. Он потерял счет времени – сколько же оставались они в таком положении? Потом он услышал шепот: – Я умерла? – Нет, ты живешь во мне, а я в тебе. Он крепко сжал ее, и она задрожала. – Любовь моя, мы и в самом деле одно существо. Я – только частица тебя. Он с нежностью поцеловал ее, и это было толчком к пробуждению. – Возьми меня опять! Еще глубже! Раскрой меня, разорви! Доберись до самого сердца! Она просила и смеялась своим же просьбам: – Лиши меня невинности! Я тебя люблю! Я готова! Я тебе отдамся! Сломай меня! Он принял условия игры: – Отодвинься чуть-чуть. Так, теперь опустись немного. Не бойся, делай все, как я скажу. – Да, – прошептала она, млея от предвкушения. – Да, – повторяла она. Делай все, что захочешь! Не спрашивай меня – делай! Ей хотелось найти в себе способность погрузиться еще глубже в сознание того, что ее берут, совершенно отдаться на волю своего обладателя, быть его безвольной игрушкой, чтобы ее ни о чем не просили, а только приказывали быть слабой, покорной, послушно раскрывающейся навстречу любым желаниям. Существует ли, спрашивала она себя, большее счастье, чем счастье уступчивости, подчинения? И одной этой мысли было достаточно, чтобы приступ оргазма потряс ее. И потом, когда она была точно подстрелянный зверек, окровавленный трофей в охотничьей сумке, она спросила охотника: – Ты думаешь, я именно та женщина, какую ты хочешь? Вместо ответа он поцеловал ее. – Но я хочу быть еще желанней! – А ты с каждым днем становишься все желанней и желанней. – Это правда? Он так улыбнулся ей, что она поверила и успокоилась. Мелодичный ноктюрн плыл по ее жилам, смыкая ей глаза. Но она никак не могла победить те чувств, которые будоражили ее мозг. – Это, наверное, Мари-Анж сбила меня с толку, – вдруг услышала она свой голос и удивилась: она уж никак не собиралась доверить это Жану. Он встрепенулся: – Мари-Анж? А она при чем тут? – Она удивительно смела в обращении. Больше Эммануэль ничего не хотелось говорить. Некое растение продолжало расти в ней, пускать корни, разбрасывать бесконечные ветви с силой более мощной, чем сила разума… Но муж захотел все же выяснить роль Мари-Анж. – Ты думаешь, это она поможет тебе постичь тайны жизни? – А почему бы и нет? Жан усмехнулся, эта мысль его позабавила. – А ты заметила у нее талант в этом смысле? Эммануэль, немного поколебавшись, ответила: – Нет. – Но улыбнулась тем видениям, которые до сих пор так и не покидали берегов, где бродили ее мечты: – Но я очень надеюсь его обнаружить. Жан был настроен снисходительно. Он начал укачивать, дурачась, Эммануэль и петь ей колыбельную: Я вижу, что моя маленькая девочка. Хочет заняться любовью с Мари-Анж. Не так ли? И потому моя маленькая девочка Мучается и мучается… Не так ли? Эммануэль качала головой в такт его словам, словно поддакивая. – Не только это, но и это, – призналась она. Он тихо рассмеялся: – С такой сопливой девчонкой? Она сердито, как избалованный ребенок, надула губы, но голос звучал как бы издалека, устало и смутно: – Я имею право этого хотеть! Разве нет? И Жан снова излился в нее, радуясь тому, что он может столько дать ей, так глубоко проникнуть в нее, так полно на сладиться ею. Радуясь их общей неутомимости… Они лежали, вытянувшись, прижавшись плечами и бедрами, и Эммануэль боялась пошевелиться, чтобы ни одна капля не вылилась из нее. – Спи, – прошептал Жан. Из дальней комнаты доносился бой часов. Полночь. Рука Эммануэль тянется к низу живота, пальцы трогают бутон плоти, раздвигают лепестки, на которых еще не высохли следы Жана. Перед глазами Эммануэль выплывают из тьмы раздвинутые бедра Мари-Анж, и каждому жесту видения Эммануэль отвечает таким же. И она видит, что ее подруга близится к завершению, Эммануэль кричит, и крик ее более страстен, чем тот, что она издавала в объятиях мужа. А он, привстав на локтях, улыбается, глядя на нее, обнаженную, словно испускающую свет наслаждения, с рукой, прижатой к лону, с другой, ласкающей свою грудь. Долго еще дрожат ее ноги. Даже после того, как лоб разглаживается и на лице появляется выражение полного блаженства и покоя.Цветы розы
Эммануэль отправилась в клуб спозаранку, ей хотелось плавать, а не слушать праздную болтовню. Не заботясь ни о времени, ни о взглядах редких в этот час посетителей, она, наверное, уже в десятый раз пересекала бассейн из конца в конец. Она плыла, высоко поднимая руки, ныряла, ложилась на спину, и кончики грудей, вырвавшиеся из купальника, розовели над поверхностью воды, как маленькие коралловые рифы. И снова – плыть, нырять, выныривать… Когда, усталая от всех этих упражнений, тяжело дыша, она подплыла к хромированной лесенке, ведущей из бассейна, оказалось, что выход охраняется. Ариана де Сайн, наклонившись к воде, лучезарно улыбалась. – Проход закрыт, – объявила она. – Нужен пропуск! Эммануэль была не в восторге от того, что одна из «идиоток» обнаружила ее здесь, но постаралась ответить лучшей своей улыбкой. – Так-так. Изображаем наяду, когда порядочные женщины еще спят. Что за прятки? – Но вы-то тоже оказались здесь, – заметила Эммануэль, пытаясь подняться на лесенку. Ариана не спешила освободить путь. – Я! Я – это совсем другое дело, – сказала она с таинственным видом, но Эммануэль не попыталась разгадать эту тайну и молчала под внимательным изучающим взглядом графини. – Вы удивительно переменились, – в голосе графини слышалось искреннее восхищение. И Эммануэль поверила ей. Право же, хотя Ариана была немного странной, но в ней было что-то бодрящее, укрепляющее – с ней можно быть поласковее, посвободнее, без всякой принужденности. . Наконец, Ариана освободила дорогу, и русалка выбралась на берег. Степенно она убрала свою грудь в купальный костюм (хотя верхняя ее часть осталась открытой) Она присела рядом с Арианой, и к ним тут же подошли двое молодых людей – настоящие викинги с виду. Ариана весело болтала с ними по-английски, Эммануэль ничего не понимала из их разговора, но ей и не хотелось понимать. Ариана повернулась к ней: – Хотите что-нибудь сказать этой паре? Эммануэль поморщилась в ответ, и Ариане пришлось объявить претендентам о провале их кандидатур. Они добродушно рассмеялись, но уходить явно не спешили. Эммануэль они казались довольно простоватыми. К счастью, тут Ариана поднялась и взяла ее за руку: – Они надоели мне. Пошли к вышке. Хорошо было лежать, вытянувшись ничком на нитяном ковре восьмиметровой вышки! Ариана проворно сбросила все то немногое, что было на ней. – Вы можете не стесняться, – сообщила она. – Здесь нас никто не видит. Но Эммануэль как-то не захотелось разоблачаться перед Арианой. Она пробормотала что-то о неудобстве своего костюма, который трудно стягивать и натягивать снова, да и солнце слишком уж жаркое. – Вы правы, – легко согласилась Ариана. – Привыкать надо постепенно. И они снова погрузились в полулетаргию. Эммануэль окончательно признала графиню подходящей собеседницей. Ей нравились люди, с которыми она могла обходиться без слов. И тем не менее она сама нарушила молчание. – Чем же здесь все-таки заниматься, кроме бассейна, коктейлей и вечеров у Пьера или Поля? Так ведь в конце концов можно помереть от скуки. Ариана присвиснула, словно услышала невероятную глупость: – Э, да тут много есть всякой всячины! Я не говорю о кино, кабаре и прочей дребедени. Но можно кататься верхом, играть в гольф, в теннис, в сквош, есть водные лыжи. А можно плавать по каналам, осматривать пагоды – их тут больше тысячи. Вот жаль, что море, настоящее море отсюда далековато: сто пятьдесят километров. Но оно стоит путешествия. Пляжи там просто великолепны – широкие, бесконечные, пустынные, с кокосовыми пальмами. Вода ночью фосфоресцирует от миллионов живых существ, глядящих на вас. Кораллы щекочут вам пятки, а акулы подплывают и берут пищу из ваших рук… – Я хотела бы это увидеть… – прошептала Эммануэль. – Там вам даже будут петь серенады, если вы станете заниматься любовью. Днем под солнцем, на мягком песке или в тени сахарных деревьев вы всегда сможете найти прелестного мальчика, готового вас развлечь и сделать счастливой всего за один тикаль. А ночью вы будете лежать на пляже, на границе воды и суши, и волны будут гладить ваши волосы и плечи, а глаза ваши будут устремлены к далеким звездам, и к вам будет склоняться прекрасное юное лицо… Ах, надо не упускать шанса быть женщиной! – Если я правильно поняла, это здесь самый любимый вид спорта? –осведомилась Эммануэль безобидным тоном. Ариана взглянула на нее, улыбаясь несколько загадочно, и ответила не сразу. Но это был не ответ, а вопрос: – Скажите-ка мне, душенька… Она запнулась, словно что-то прикидывая в уме. Эммануэль повернула к ней улыбающееся лицо. – Так что же я должна вам сказать? Ариана продолжала что-то обдумывать. Затем она, очевидно, решила, что новенькая заслуживает полного доверия. Ее голос не звучал теперь столь дурашливо и игриво, как обычно, в нем слышалась дружеская откровенность: – Я убеждена, что вы женщина с темпераментом. Вы вовсе не такая мадемуазель Нитуш, какой хотите казаться. К счастью, конечно. И скажу вам откровенно, вы меня очень заинтересовали. Эммануэль не знала, как отнестись к этой декларации, но на всякий случай насторожилась. Она была скорее рассержена, чем польщена: ей не нравилось, когда в ее искренности сомневаются. И с чего это все эти дамы держат ее за недотрогу? Сначала это смешило ее, а теперь начинает раздражать. – Вам хочется понравиться здесь кому-нибудь? – тон Арианы говорил больше, чем ее слова. – Да, – ответила Эммануэль, понимая, что ступает на опасную тропу, но еще более боясь показаться добродетельной. Радостная улыбка Арианы убедила ее лишь наполовину. – Слушайте, лапочка, пойдемте сегодня со мной на вечеринку. Скажите мужу, что это будет что-то вроде девичника. И вы увидите, что я вам приготовлю! Нигде нет таких галантных и пылких молодцов, как гости Арианы. Умные, молодые, хорошо вышколенные и ловкие. Вам нечего бояться. Договорились? – Но, – засомневалась Эммануэль. – Вы меня совсем не знаете… Вы… Ариана пожала плечами: – Я вас хорошо знаю. Зачем долгие наблюдения, когда я и так вижу, что вы можете сводить с ума и мужчин и женщин своей красотой. А те, о которых я вам говорю, в красоте разбираются. Да мне и в голову не пришло бы вас приглашать, если бы я не была уверена в вас на все сто процентов. Вот так! – А как же ваш муж? – искала Эммануэль повод для отказа. Ариана рассмеялась: – Хорошему мужу нравится, если с женой все в порядке, – и она весело подмигнула. – Я не уверена, покажется ли Жану нормальным… – Ну что ж, тогда вы ничего ему не скажете, – заключила Ариана в видом полного простодушия. И, придвинувшись к Эммануэль, крепко обняла ее за плечи. – Вы хотите говорить мне правду? Тяжелые горячие груди прижались к Эммануэль, у нее закружилась голова, а Ариана мокро дышала ей в ухо: – Не пытайтесь меня уверить, что это прекрасное тело прижималось только к телу своего мужа. Верно? Ну, а разве вы всякий раз признавались ему? «Вот она, начинается пытка новой исповедью», – терзалась Эммануэль. Но стоит ли от нее уклоняться? Должна ли она казаться более неопытной, чем оно есть на самом деле? Эммануэль встряхнула головой, но прежде чем она произнесла ответные слова, Ариана легко, почти незаметно поцеловала ее в губы. – Ты увидишь, – торжествовала она, откровенно любуясь юной француженкой. – Я тебе клянусь, ты не пожалеешь, что приехала в Бангкок! Она уже, казалось, была уверена в том, что соглашение достигнуто. Эммануэль попыталась рассеять это впечатление: – Нет, нет, – быстро проговорила она. – Я этого не могу… И, внезапно воодушевившись, продолжала более уверенно: – И, ради Бога, не думайте, что это из ханжества или по соображениям высокой морали. Нет, нет… Ну… просто… Дайте мне время привыкнуть к этой мысли… Постепенно… – Разумеется, – неожиданно уступила Ариана. – Не будем спешить. Это так же, как с загаром. Она снова сложила свои губы в улыбку, на этот раз учтивую, спокойную, и вернулась в прежнее положение. Но не успокоилась, как выяснилось почти сразу же. – Послушай, – тут же предложила она. – Сейчас мы пойдем делать массаж. Встала, натянула на себя бикини и произнесла тоном, каким обращаются к обиженному ребенку: – Не бойся, девочка, там никого нет, кроме женщин. Эммануэль оставила свою машину на клубной стоянке, и они отправились в путь в открытом «пежо» Арианы. С полчаса кружили они по улицам среди моторикш, велосипедистов, которых было полно в китайском квартале. Наконец, они остановились перед длинным одноэтажным зданием. Рядом было бюро путешествий, с другой стороны – ресторан. Непонятные Эммануэль рисунки украшали дверь, в которую они позвонили. Зал был похож на любой купальный зал в Европе. Японка в расшитом крупными цветами кимоно встретила их, сгибаясь в поклонах, прижимая руки к груди. Она повела их по длинным коридорам, сквозь запах горячего пара и духов, потом остановилась перед какой-то дверью и снова чуть ли не перегнулась пополам. Все молча, и Эммануэль подумала, уж не немая ли она. – Ты можешь войти сюда, – сказала Ариана. – Все массажистки одинаковы. Я буду в соседней кабине. Через час встретимся. Эммануэль растерялась: она никак не ожидала, что Ариана оставит ее одну. Дверь, распахнутая перед нею японкой, вела в маленький банный зал, освещаемый низко подвешенными лампами. Возле массажного стола ее ждала совсем молоденькая азиатка. На ней был голубой халатик, а лицо выражало приветливость радушного хозяина, встречающего долгожданного гостя. Она тоже поклонилась, произнесла несколько слов, совершенно не заботясь, понимают ли ее, подошла к Эммануэль и легкими пальцами стала расстегивать ее одежду. Когда Эммануэль оказалась раздетой, девушка показала ей рукой на бассейн, наполненный голубой благоухающей водой. Она провела смоченной в воде рукой по лицу клиентки и приступила к процедуре: стала методично намыливать ее плечи, спину, живот. Эммануэль задрожала, когда покрытая горячей пеной губка заскользила по внутренней поверхности ее ног. Омовение закончилось, тело Эммануэль было вытерто горячим полотенцем, и сиамка жестом пригласила Эммануэль вытянуться на обитом шерстью столе. Сначала она поколачивала ее ребром ладони легкими умелыми ударами, пощипывала мускулы, нажимая на крестец и икры, потягивая фаланги пальцев, долго мяла затылок, похлопывала по голове. Эммануэль чувствовала себя превосходно в охватившей ее полудреме. Затем массажистка вооружилась двумя аппаратами, каждый величиной со спичечный коробок. Укрепила их на тыльной стороне ладоней, и аппараты сразу же загудели, как запущенный детский волчок. Гудящие руки начали медленно двигаться по обнаженному телу, проникая во все выемки и впадины, скользя по ключицам, под мышками, между грудями, между ягодицами. Затем они перешли к внутренней поверхности бедер, выискивая там самые чувствительные точки. Эммануэль дрожала всем телом. Ее ноги раздвинулись, она грациозным движением приподняла нижнюю часть живота, и губы ее открылись, словно подставляя себя для поцелуя, но гудящие руки отодвинулись и поднялись к груди. Они двигались там взад и вперед, подобно утюгу, разглаживающему каждую складку ткани. Когда послышался еле уловимый стон Эммануэль, руки добрались до сосков и поползли по ним, то слегка касаясь их верхушек, то глубоко и сильно вдавливая их. Поясница Эммануэль начала двигаться, словно ее подбрасывали волны. Она выгнулась дугой, закричала. Но руки все продолжали свою упоительную работу, пробегая по груди, пока потрясающий оргазм не погрузил Эммануэль на время в безразличную вялость. Массажистка немедленно возобновила свои заботы о плечах, руках, лодыжках клиентки. Эммануэль медленно приходила в себя. Она открыла глаза и улыбнулась слабой, извиняющейся улыбкой. Юная сиамка ответила ей понимающей гримаской и что-то произнесла вопросительным тоном. И тут же, протянув длинные тонкие пальцы к своему низу живота, приподняла брови, как бы спрашивая позволения. «Да», – кивнула Эммануэль. Руки, снабженные вибромассажером, тщательно трудились на поверхности и в каждой складке внутри, зная в совершенстве искусство извлекать максимум наслаждения. Без всякой предосторожности, не давая передышки, уверенная в результате сиамка-волшебница виртуозно дополняла электрическую мощь инструмента порханьем, легким царапаньем, растиранием. Эммануэль сопротивлялась изо всех сил, но ее хватило ненадолго. Она начала содрогаться столь сильно, что на лице массажистки отразился даже легкий испуг. И долго после того, как руки оставили ее, Эммануэль продолжала извиваться, судорожно вцепившись пальцами в край белого стола. Когда они встретились у выхода, Ариана сказала: – Жаль, что стены все-таки довольно плотные. Когда ты там была, тебя можно было заслушаться. Теперь можешь меня не уверять, что ты больше всего любила математику. Мари-Анж уже четвертый день кряду приезжала к Эммануэль в послеобеденное время. И всякий раз подвергала хозяйку обстоятельному допросу, интересуясь – и удовлетворяя свой интерес – различными деталями: что проделывала ее подруга с мужем в реальной жизни, какие сцены проносились в ее воображении. – Если бы ты в самом деле отдавалась тем мужчинам, которым ты отдаешься в своих фантазиях, – заметила она однажды, – ты стала бы настоящей женщиной, с тобой все было бы кончено. – Ты хочешь сказать, что я бы умерла? – засмеялась Эммануэль. – Почему же это? – Ты что, считаешь, что заниматься любовью с мужчинами можно так же часто, как в одиночку? – А почему нет? – Милая моя, это же очень трудно – отдаваться мужчине. – Но тебе же не трудно ласкать себя? – Нет. – Сколько раз в день ты этим занимаешься, когда у тебя каникулы? Теперь? Эммануэль стыдливо улыбнулась: – Ты знаешь, вчера я постаралась. Мне кажется, раз пятнадцать, не меньше. – Есть женщины, которые столько же раз в день исполняют это с мужчинами. Эммануэль покачала головой: – Да, я знаю, но это меня не привлекает. И постаралась объяснить: – Поверь мне, мужчина не всегда так прекрасен, как тебе может показаться. Это тяжело, это долго, это даже больно иногда. И, конечно же, он совсем не знает способа, который больше всего приятен женщине. Как ни странно, при всей свободе их отношений, в одном пункте Эммануэль не осмеливалась быть с Мари-Анж откровенной до конца. Иногда только неловко, с трудом позволяла она себе намеки, не уясняя, однако, поняла ее девочка или нет. Она сама не могла объяснить себе эту робость – ведь ничто в поведении ее подруги не заставляло Эммануэль быть застенчивой и скрытной: едва появившись, Мари-Анж сразу же раздевалась, ей ничего не стоило сбросить с себя все по первой же просьбе Эммануэль, и чаще всего подруги проводили время на затененной террасе совершенно нагими. И, несмотря на все это, возбуждение, овладевавшее Эммануэль, выражалось лишь в том, что она разнообразила практику на собственном теле, никогда не решалась ни притронуться к телу подруги, ни попросить, чтобы та прикоснулась к ней, хотя хотелось ей этого до смерти. Стыд и бесстыдство боролись в ее душе. Доходило до того, что она спрашивала себя не ища, впрочем, точного ответа, – не есть ли эта необычная скромность и сдержанность на самом деле лишь высшая утонченность, которой безотчетно требовала ее чувственность; не есть ли отказ от тела Мари-Анж, к которому она себя приговорила, более изощренное и изысканное наслаждение, чем простая физическая близость. В этой ситуации, стало быть, когда девчонка располагала ею как угодно, ни в чем не уступая себя, для Эммануэль открылся не источник страдания, а необычное, тонкое наслаждение. И точно такое же, неведомое прежде наслаждение заключалось для Эммануэль в тайне, которая окутывала сексуальную жизнь Мари-Анж. Эммануэль понимала, что согласившись не нарушать этой тайны, она испытывает больше радости и плотской, и духовной; ей было сладко ставить спектакли сладострастия, а самой не видеть сцен, поставленных по той пьесе другим режиссером. И если она каждый день с таким нетерпением ждала появления своей маленькой подружки, то главным образом не для того, чтобы видеть ее наготу и быть свидетельницей ее похотливых забав, а чтобы самой – что было, разумеется, более смелым и волнующим, – вытянувшись в шезлонге, ласкать себя под испытующим взглядом Мари-Анж. Очарование не исчезало и после ухода подруги: Эммануэль по-прежнему видела перед собой удивительные зеленые глаза и до самого вечера продолжала свои занятия любовью. Мать Мари-Анж пригласила Эммануэль на очередную чашку чая по средам. В большом, хорошо обставленном салоне Эммануэль обнаружила дюжину дам, ничем на первый взгляд не отличимых друг от дружки. Она пожалела, что не может остаться наедине со своей наперсницей: та с видом благопристойной девочки сидела на ковре посредине комнаты. И тут Эммануэль увидела новую гостью, сразу же резко выделявшуюся на фоне всего общества. Вновь прибывшая напомнила Эммануэль дорогих ее сердцу парижских манекенщиц. У нее была их стройная фигура, их выражение некоей усталости на лице, их умение держаться на расстоянии от других. Рот слегка приоткрыт «уста, как роза», черные брови над удлиненными глазами. Эммануэль подумала, что она единственная в этом обществе, которая может понимать, благодаря своему опыту, что может скрываться под этой подчеркнутой скромностью, что эта красота должна быть страстной и необузданной. Она помнила, как часто открывала под масками своих подружек, под «строгим образцом всех гордых изваяний» бодлеровские «благовонья, чары, поцелуи». Мраморные статуи могли превратиться в плоть, но мужчина, веривший в рай недоступный и в богов безжизненных, по-прежнему тянул руки к статуе, и возлюбленная плоть пребывала камнем. Эти воспоминания наполнились сейчас для Эммануэль двойственным ощущением, где было поровну и от привкуса ее школьных забав и от того, что она испытывала в примерочных парижских магазинов моды. Ей самой захотелось быть произведением искусства, прибывшим в Бангкок в виде бесформенной глины и только здесь обретающим форму. И хотя она не могла отчетливо представить себе, во что выльется эта форма, но ей подумалось, что было бы прекрасно, если бы однажды она стала таким же совершенным существом, как эта рыжеволосая красавица стала созданием блестящего мастера, гордящегося делом своих рук. Прежде чем хозяйка дома смогла представить новую гостью, Мари-Анж вскочила с ковра и увлекла Эммануэль в угол, где их никто не мог услышать. Выглядела Мари-Анж как человек, выполнивший трудную и почетную миссию. – Я нашла мужчину для тебя! Эммануэль не удержалась от тяжелого вздоха: – Вот это новость! И как ты торжественно ее объявляешь! Что ж это за «мужчина для меня»? – Один итальянец, очень красивый человек. Я его давно знаю, но не была уверена, что это именно то, что тебе нужно. А сейчас мне стало ясно, что он именно тот. Ты должна как можно скорее познакомиться с ним. Настойчивая поспешность была в стиле Мари-Анж, но все-таки позабавила Эммануэль. В этом «то, что нужно» она не была уверена, но огорчить свою опекуншу ей не хотелось. И с видом глубокой заинтересованности она спросила: – А кто он, твой мужчина? – Настоящий флорентийский маркиз. Я уверена ты никогда такого не встречала. Изящный, величественный, орлиный нос, глаза глубокие, черные, пронизывающие, лицо худое и смуглое. – Да что ты говоришь! – Не хочешь, можешь мне не верить. Но ты не будешь так улыбаться, когда его увидишь. Он тоже родился под знаком Льва. – Тоже? А кто еще родился под этим знаком? – Ариана и я… – Ах, вот оно что! – Но волосы у него черные, как у тебя. Черные с серебром! – Седой! Так значит, он старик! – Какой старик! У него самый подходящий для тебя возраст: он ровно вдвое старше тебя, ему тридцать восемь лет. Вот почему я говорю, что не надо откладывать дело, на будущий год ты уже будешь стара для него. Правда, в будущем году его уже здесь не будет… – А что он делает в Бангкоке? – Да ничего. Он – интеллектуал. Он знает все. Он объездил всю страну. Он осматривает развалины, изучает буддизм. Он находит в музеях вещи, о которых даже хранители не имеют представления. Думаю, он собирается написать книгу. А так он ничем особенным не занимается. Однако Эммануэль думала сейчас о другом. – Скажи-ка мне, кто эта фантастическая дева? – Фантастическая дева? – Ну да, которая только что вошла… – Куда вошла? – Сюда, разумеется! Мари-Анж, ты что, обалдела немного? Посмотри прямо перед собой. – Так ты, насколько я понимаю, говоришь о Би. – Как ты сказала? – Я сказала «Би». Это ты, наверное, обалдела, а не я! – Ее зовут Би? Какое чудесное имя! – Это не имя. По-английски это значит «пчела». «B» и два «e». Но я предпочитаю «B» и «I». Так понятней. – Как это пишется? – Так, как я произношу. Понимаешь, это не ее настоящее имя. Это я ее так зову. И теперь все стали ее так звать, а настоящее имя забыли. – Но все-таки скажи мне ее настоящее имя! – Да зачем? Ты все равно не сможешь его повторить. Эти английские имена они же непроизносимы! – Но я же не могу называть ее «Би»? – А тебе и не надо ее называть. Эммануэль удивилась, но не стала требовать объяснений, она спросила о другом: – Она англичанка? – Нет американка. Но, скажу тебе, по-французски говорит не хуже нас с тобой. Без малейшего акцента. – Чувствуется, что она тебе не очень-то нравится. – Кто? Она – моя лучшая подруга! – Ах, вот как! А почему ты мне ничего не говорила о ней? – Я же не могу рассказывать тебе обо всех моих знакомых девицах. – Но если она твоя любимая подруга, ты могла хотя бы раз упомянуть о ней. – А кто тебе сказал «любимая»? Подруга – вот и все. Это совсем не значит «любимая». – Мари-Анж! Я совсем не могу тебя понять. Ведь, в самом деле, ты ничего не хочешь мне про себя рассказать. И не хочешь, чтобы я познакомилась с твоими приятельницами. Это что, ревность? Ты боишься, что я их у тебя отберу? – Я не понимаю, зачем тебе тратить время на банду девчонок… – Не смеши, Мари-Анж. «Тратить время»! Можно подумать, что оно у меня на вес золота. Послушать тебя, так у меня каждый день должен быть на счету. Мари-Анж в ответ так тяжело вздохнула, что Эммануэль даже забеспокоилась: – Я совсем не чувствую себя стареющей. – Ох, ты знаешь, это происходит так быстро и незаметно. – А эта Би? Она по твоим расчетам тоже одной ногой в могиле? – Ей уже двадцать два года и восемь месяцев. И еще одно хотела выяснить Эммануэль. – Она замужем? – Нет, что ты! – Ну, тогда она еще более старая дева, чем я. Она-то должна это понимать. Мари-Анж никак не прокомментировала это глубокое замечание, и Эммануэль продолжила: – Значит, ты не хочешь меня представить ей? Я правильно поняла? – Ах, вот оно в чем дело! Теперь все ясно, а то ты болтала всякие глупости. И Мари-Анж сделала знак Би. Та сразу подошла. – Это Эммануэль, – произнесла Мари-Анж с видом человека, выдающего совершителя дурного поступка. Серые глаза Би смотрели умно и понимающе. Ей, казалось, не было никакой нужды проявлять в чем-то свое превосходство перед окружающими. Эммануэль подумала, что у Мари-Анж хватает хлопот с Би, и почувтвовала себя отомщенной. Они обменялись самыми банальными фразами. Голос Би удивительно гармонировал с ее глазами. Каким-то свечением счастья веяло на Эммануэль от этой женщины. Как проводит она свое время? Чаще всего гуляет по городу. Она одна в Бангкоке? Нет, она приехала сюда год назад навестить брата, он морской атташе в посольстве Соединенных Штатов. Думала пробыть месяц, но прошел уже год, а у нее нет никакого желания уезжать отсюда. – Когда я решу, что эти каникулы слишком затянулись, я выйду замуж и вернусь в Штаты. Мне не хочется работать. Я обожаю ничего не делать. – У вас есть жених? – спросила Эммануэль. Этот вопрос заставил Би добродушно рассмеяться: – Знаете, у нас помолвки происходят накануне свадьбы. Совсем накануне. Так что я думаю, что даже за неделю до моего исчезновения я не смогу вам точно назвать свой выбор. – Исчезновения?.. Но выйти замуж не означает исчезнуть, – запротестовала Эммануэль. Би мягко улыбнулась и вздохнула. Потом сказала: – Да это не так уж плохо: исчезнуть, спрятаться… «От кого спрятаться?», – хотелось спросить Эммануэль, но она побоялась показаться слишком приставучей. Вопрос задала как раз Би: – А вы довольны, что так рано вышли замуж? – О да! – воскликнула Эммануэль чересчур, пожалуй, порывисто. – Это самое лучшее, что я сделала в жизни! Би снова улыбнулась. Нет, в самом деле, от этого создания исходила почти физически ощутимая доброта! Целый вечер они не отходили друг от друга. Ничего важного не было сказано между Би и Эммануэль, но обеим это общение было приятно. Эммануэль была даже рада, что Мари-Анж забыла о ней, и когда появился Жан, она пожалела, что приходится покидать это общество. Мари-Анж бросила ей на прощание не допускающим возражения тоном: «Жди моего звонка!» И только в эту минуту Эммануэль спохватилась, что забыла спросить номер Би. Как-то безотчетно Эммануэль боялась новых встреч с Арианой, и ее перестали видеть в Королевском клубе. Однажды она спросила мужа, что он думает о молодой графине де Сайн. Жан находил ее очень привлекательной бабенкой. Ему нравилась ее непосредственность, отсутствие всякого кривлянья. «У тебя с ней что-нибудь было?» – поинтересовалась Эммануэль. Нет, но если бы представился случай, Жан не отказался бы. Эммануэль, всегда гордившаяся успехами мужа у других женщин, на этот раз почувствовала, вопреки всякой логике, укол ревности. Конечно, она постаралась, чтобы Жан не заметил этого, но тем не менее утро было испорчено… Как раз на следующий день после этого разговора ей позвонила Ариана. Ужасно противная вещь этот дождь, но у нас есть гениальная идея. Выяснилось, что ей охота поиграть в сквош и научить этой игре Эммануэль. Что это такое? О, это очень просто, это почти как теннис, но играть можно в любую погоду, потому что игра происходит под крышей. Ариана возьмет ракетки и мячи, и все, что требуется от Эммануэль, так это облачиться в шорты, обуться в теннисные туфли и через полчаса оказаться у ворот Клуба. Графиня повесила трубку прежде, чем Эммануэль успела произнести слова извинения и отказа. «Ну ладно, – сказала она себе, – В конце концов, эта игра, о которой я никогда не слышала раньше, может оказаться интересной». И она отправилась в Клуб. Они встретились и рассмеялись: обе были одеты в совершенно одинаковые пуловеры из желтой хлопчатки и черные шорты. – Вы носите лифчик? – поинтересовалась Ариана. – Нет, у меня ни одного нет, – ответила Эммануэль. – Браво! И Ариана, крепко обхватив Эммануэль, оторвала ее от земли легко, без заметных усилий. Кто бы мог подумать, что эта женщина обладает такой физической силой! А Ариана между тем объяснила: – Не верьте всем этим глупостям, что теннис или верховая езда могут испортить грудь, если ее не упрятать в этот дурацкий мешок. Наоборот, чем больше занимаешься спортом, тем крепче она становится. Вот, посмотрите на мою и убедитесь. Эммануэль и глазом не успела моргнуть, как графиня стянула через голову свой пуловер и бросила его на землю, дав возможность оценить ее потрясающий бюст не только Эммануэль, но и всем, кто оказался в этот момент поблизости. Зал для сквоша не представлял собой ничего особенного: дощатый пол, четыре деревянных стенки и навес. Сама игра должна была происходить в галерее, в которую, как в яму, надо было спускаться по лестнице, утопленной в стене и освобождаемой нажатием кнопки. Хочешь выбраться обратно – потяни за шнур, и лестница снова появится из стены. Игра состояла в том, чтобы по очереди длинной узкой ракеткой бить каучуковым мячом о стенку. Маленький черный мячик так стремительно отлетал от стены после ударов Арианы, что Эммануэль металась, как сумасшедшая, стремясь отразить удар. Через полчаса ей начало все удаваться, Ариана дала сигнал к перерыву и потянула шнур, вызывая лестницу. Вытащила из спортивной сумки два полотенца, энергично вытерлась сама и подошла с полотенцем в руках к совершенно выбившейся из сил подруге. Та не могла даже сама стянуть с себя пуловер, он застрял у нее под мышками, и Ариане пришлось прийти на помощь. Эммануэль прислонилась к лестнице, бессильно раскинув руки, и напоминала собой какое-то странное распятие… Ариана легкими движениями вытирала ее грудь и спину, но не прекратила это занятие и после того, как все было вытерто насухо. И к ощущению недостатка воздуха, усталости, жажды прибавилось новое, не лишенное приятности. Внезапно Ариана отшвырнула полотенце и, сомкнув руки на спине своей ученицы, прижалась к ней всем телом. Эммануэль почувствовала, как чужие груди ищут ее грудь, и как только они соприкоснулись, ей стало так хорошо, что сопротивляться этому натиску она не могла. Сквозь шорты она ощутила, как тугой холмик Арианы прижался к ней еще теснее и откинулась, а так как обе они были теперь одинакового роста, губы Арианы оказались на уровне губ Эммануэль. И Эммануэль получила первый настоящий поцелуй Арианы: глубокий, исследующий по очереди, ничего не минуя, каждый миллиметр поверхности ее губ, ее языка, все вмятинки ее неба, ее зубы. Он был таким долгим, этот поцелуй, – минуты он длился или часы? Эммануэль забыла о своей усталости, о своей жажде. Она стала тихонько раскачиваться, чтобы лоно ее проснулось, бутон отвердел и нашел успокоение, прижавшись к плотному животу другой женщины. И когда это наступило и возбуждение достигло такой точки, что бутон ее плоти стал походить на маленькое, но крепкое навершие копья, Эммануэль исступленно сжала ногами бедро Арианы и стала тереться о него своим лоном. Ариана замерла, потом оторвала губы от губ Эммануэль, посмотрела на свою добычу и засмеялась радостно, словно школьница, довольная удачной проделкой. Этот смех немного смутил Эммануэль и объяснил ей, что в этих сплетениях Ариана не искала никаких сентиментальных, нежных чувств. Это был смех плотоядный, жадный, но Эммануэль все равно хотелось, чтобы ее целовали еще, чтобы грудь Арианы не отрывалась от ее груди. Но та снова, как при их встрече, подхватила Эммануэль под мышки и подняла ее еще выше на несколько ступеней. Теперь Эммануэль стояла на лестнице. Она подумала, что Ариана хочет поцеловать ее в грудь, но руководительница игры держала голову на расстоянии и не отрывала смеющихся глаз от лица своей жертвы. И прежде чем Эммануэль сообразила, что же происходит, рука Арианы проникла под шорты и прижалась к влажной коже Эммануэль. Пальцы Арианы были столь же умелы, как и ее губы. Они пощекотали восставшую плоть, а потом два сдвинутых пальца решительно углубились в тело Эммануэль, работая настойчиво и в то же время осторожно. И оргазм буквально смыл Эммануэль, затопил ее, стремившуюся раскрыться как можно шире навстречу столь умело берущей ее руке. Когда, наконец, почти потеряв сознание, она соскользнула с лестницы, графиня подхватила ее, прижала к себе, и если бы Эммануэль могла видеть в эти минуты глаза Арианы, она не заметила бы в них ни искорки насмешки. Однако, когда Эммануэль окончательно пришла в себя, к Ариане вернулась ее прежняя насмешливость. Поддерживая Эммануэль за плечи, она спросила: – Ты сможешь передвигать ноги по лестнице? Смущение овладело Эммануэль, она опустила голову, как пристыженный ребенок. Ариана взяла ее за подбородок, посмотрела ей в глаза. Голос Арианы стал хриплым. Так она еще никогда не разговаривала с Эммануэль: – Скажи мне, другие женщины уже делали это с тобой? Эммануэль сделала вид, что не слышала вопроса, но Ариану было трудно провести. Она спросила еще раз: – Отвечай же! Ты занималась любовью с женщинами? Эммануэль упорно молчала. Ариана приблизила губы к ее губам и страстно поцеловала. – Поедем ко мне, – выдохнула она. – Хорошо? Но Эммануэль замотала головой. Ариана все еще держала подругу за подбородок, но больше не произнесла ни слова. И когда она, наконец, отпустила Эммануэль, ничего в ней не показывало, что она огорчена отказом. – Полезли наверх, – только и сказала она. Уже наверху Эммануэль заметила, что забыла на площадке свой наряд. «О, и ты оставила свой пуловер! Дать тебе его?» – крикнула она и поняла, что в первый раз обратилась к Ариане на «ты». Ариана сделала королевский жест. – Оставь его там. Он ничего не стоит. И она двинулась вперед, держа в одной руке ракетку и сумку, накинув на плечи полотенце, совсем не заботясь о том, что грудь ее обнажена. Другой рукой она обнимала Эммануэль. Они весело отвечали на приветствия встречных, и с каждым взмахом руки грудь Арианы обнажалась все более. Эммануэль испытывала стыд и тревогу. Она поспешила расстаться с Арианой, поклявшись про себя больше не видеться с нею. Ариана наклонилась и едва тронула губами щеку подруги. – До скорого, мой цыпленочек, – проворковала она и прыгнула за руль своей машины. И только когда она исчезла, Эммануэль пожалела, что не попыталась ее задержать. Ей хотелось еще раз увидеть эти груди. И, главное, ей хотелось осязать их, трогать, ощупывать. Ей хотелось быть совсем голой перед Арианой, и чтобы та была так же обнажена и лежала бы на ней, вытянувшись во всю длину своего крепкого тела. Да, пусть они обе будут обнаженными, такими, какими они никогда не бывали, голее самых голых! Ей захотелось прижать грудь к другой груди и свою расщелину к другой расщелине. И она хотела, чтобы ее ласкали женские руки, женские губы, женские ноги. Если бы Ариана сейчас вернулась, с каким упоением отдалась бы ей Эммануэль! Жан со своим давним, еще по совместной работе в Африке, другом Кристофером отправился в город. Эммануэль не хотелось просидеть одной целый день дома. Она села в машину и поехала. Целый час кружила она по городу, пока не попала в китайский квартал. И здесь возле какой-то лавчонки она увидела знакомый силуэт. Она закричала так, как кричат, призывая на помощь: – Би!!! Молодая женщина обернулась и радостно всплеснула руками. – Я вас искала, – сказала Эммануэль и в ту же минуту поняла, что это правда. – Да? Значит, вам повезло, если вы нашли меня здесь, – рассмеялась Би. – Я сюда очень редко хожу. Эммануэль опечалилась на секунду: «Конечно, она мне не поверила». Но надо было не терять времени. – Не хотите ли позавтракать вместе? – в ее голосе слышалась такая мольба, что Би в первую минуту растерялась, но Эммануэль не дала ей ответить. – Я придумала! Поедем сейчас ко мне, у меня много всякой всячины приготовлено, и вы посмотрите, как я живу! – А может быть, я покажу вам местные достопримечательности? – предложила Би. – Здесь совсем рядом есть маленький сиамский ресторанчик. Это что-то особенное, я вас туда приглашаю. – Нет, нет, – Эммануэль энергично замотала головой. – В другой раз. А сейчас я вас нашла и утащу к себе. – Ну, как вам будет угодно, – и, открыв дверцу, Би села в машину. Эммануэль была на седьмом небе. Она снова обрела себя. Она была уверена в своих желаниях и гордилась своей любовью, которой не надо прятаться и томиться ожиданием. Она чуть не кричала от радости, закладывая виражи на узких улочках. Она так и лучилась от счастья, и песня звучала в ее сердце. «Земля, Земля! О, Земля моя, обетованный край! О, милая моя, прилетевшая на зов! О, Земля моя, прилетевшая на зов! О, милая моя, милая моя! Мой залив обетованный, который я нашла. О, мой залив, прилетевший на зов! О, моя земля, моя бухта, мои крылья!» И она вытягивала руки, словно счастливый пловец, добравшийся, наконец, до берега и целующий эту землю-спасительницу Наконец! Наконец! О, как сладостно целовать этот берег, и эти груди, и эти ноги. Все забыто, что было в том, другом мире, все беды, все тревоги, все горести! О, Земля моя! О, милая моя! Би искоса поглядывала на нее с восхищением и недоумением. Убранство комнат очаровало гостью. Она хвалила искусство, с которым Эммануэль, учившаяся икебане, расставила повсюду цветы, ей нравилась мебель, разбросанные повсюду украшения из кораллов и морских ракушек. Позавтракали они быстро и молча. Эммануэль просто-таки потеряла дар речи. Она молча, с нескрываемым восхищением любовалась Би. Потом, несмотря на жаркое полуденное солнце, они вышли в сад. Эммануэль вела свою гостью под руку и слушала ее восторги теперь уже по поводу цветов и деревьев сада. Эммануэль сорвала розу и протянула ее Би. Та приложила ее к своей щеке. Эммануэль поцеловала розу. Когда они вернулись в дом, пот покрывал их лица и шеи. – Не принять ли нам душ? – спросила Эммануэль. Би нашла эту мысль превосходной. Как только они вошли в комнаты, Эммануэль так стремительно сбросила свои одежды, будто они вспыхнули на ней. Би стала раздеваться лишь тогда, когда Эммануэль кинула на пол последнюю деталь своего костюма. Но сначала она сказала: – Какое у вас красивое тело! Затем она медленно развязала ленточку воротника. Под блузкой у нее тоже не было лифчика. Эммануэль ахнула от изумления: у Би была совершенно мальчишеская грудь. – Видите, какая я плоская, – сказала молодая американка. Но смущенной она не казалась. Наоборот, она явно наслаждалась удивлением Эммануэль. А та не могла оторвать взгляда от розовых точек, таких маленьких, бледных, казавшихся совсем незрелыми. Би забеспокоилась: – Вам это кажется уродливым? – О нет, наоборот! Это прекрасно! – воскликнула Эммануэль с такой горячностью, что Би даже умилилась. – Но у вас самой такая прелестная грудь, – заметила она. – Мы с вами удивительно контрастируем. Но Эммануэль нельзя было переубедить. – Что хорошего иметь большие груди? Их можно сколько угодно видеть на журнальных обложках. А вы совсем не похожи на других женщин. Это-то и великолепно. Голос ее стал немного глуше: – Я никогда не видела ничего более волнующего. Честное слово, я не шучу. – Знаете, признаюсь вам, – поведала Би, медленно снимая юбку, – мне это даже забавно. Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы у меня были маленькие груди, но вообще не иметь грудей – в этом есть даже что-то юмористическое, какой-то изыск. И я долгое время боялась – вдруг моя грудь начнет увеличиваться, и тогда я потеряю всю свою самобытность. И знаете, с какой молитвой обращалась я к Богу? «Боже Всемогущий, сделай так, чтобы у меня никогда не было настоящих грудей!» И я, наверное, была пай-девочкой, потому что добрый Бог меня услышал. – Какое счастье! – откликнулась Эммануэль. – Это было бы ужасно, если бы ваша грудь выросла. Я вас люблю именно такой! Да и ноги Би были замечательны: длинные, с такой чистотой линий, словно их писал какой-то великий художник. Узкие бедра дополняли впечатление рафинированности и породы. Но окончательно поразило Эммануэль зрелище, открывшееся перед нею, когда Би сняла трусики. Лобок был начисто выбрит. Эммануэль никогда не видела, чтобы эта часть тела так отчетливо выделялась внизу живота и чтобы в ней было столько кричащей женственности; ничто на свете не могло быть более красивым и более зовущим к любви. Отсутствие волос лишало таинственности расселину, ведущую в глубины тела. Она была открыта взору и влекла погрузиться в темную влажную глубину. Контраст этой вызывающей женственности с бюстом Феба был потрясающ. Эммануэль не могла оторвать взгляда от наготы своей новой знакомой, и ей показалось, что кто-то трогает рукой и ее самое. «Надо, – сказала она себе, – чтобы Би сделала это сейчас же, чтобы она раскрыла створки чудесной раковины, эту расщелину, эту трещину. О, эта расщелина, посмотришь на нее – и дрожь охватывает тебя». Она уже приоткрыла губы, чтобы попросить Би о такой милости, но Би опередила ее. Повернувшись к двери спальни, она спросила: «Это душ?» Эммануэль вздрогнула и, не в силах уже владеть собою, выдохнула: – Пошли! Гостья замерла перед распахнутой дверью и… рассмеялась: – Но мне хотелось освежиться, а не выспаться, – сказала она. Неужели она вправду решила, что ее пригласили вздремнуть часок, или она притворяется невинной, подумала Эммануэль. Она посмотрела прямо в глаза своей обнаженной подруги и – увы – не увидела в них никакого намека. Она приблизилась к Би. – Ладно, мы займемся любовью под душем, – сказала она твердо и решительно.Любовь Би
Разные души были в этой комнате, подлинном храме омовений. Один укреплен в потолке, другой – в стене, а третий, на конце длинной коленчатой трубки, можно было взять в руки и направлять куда захочешь. Стоя рядом под перекрестными струями всех трех душей, обе женщины повизгивали от удовольствия. Эммануэль, чтобы не намочить волосы, собрала их на голове в колоссальное сооружение и сравнялась ростом с Би. Она сказала Би, что хочет ей показать, как можно использовать гибкий душевой шланг. Держа шланг в одной руке, другой она обняла подругу и попросила ее расставить ноги. Би улыбнулась и послушно выполнила просьбу. Эммануэль направила сверху вниз, прямо на лобок американки струю теплой воды, потом приблизила ее и начала водить то спиралями, то вертикально, то по горизонтали. Видно было, что ей хорошо знакомы правила этой игры. Вода струилась по бедрам Би. – Хорошо? – спрашивает Эммануэль. Би молчит, только утвердительно кивает головой, но спустя минуту признается: – О, очень хорошо. Не переставая манипулировать душем, Эммануэль подается вперед и берет губами малюсенький сосок Би. Руки Би ложатся на затылок Эммануэль. Зачем? Чтоб оттолкнуть или прижать к себе покрепче? Эммануэль плотней смыкает губы вокруг этого кукольного соска, трогает его кончиком языка, посасывает. Он тотчас же вырастает под этой лаской, и Эммануэль выпрямляется, торжествуя. – Вы видите. И, пораженная, замолкает. Лицо Би утратило черты безмятежности и покоя: зрачки серых глаз расширены, губы полуоткрыты. Детское лицо исчезло, и Би, такая, какую еще ни разу не видела Эммануэль, искаженная силой наслаждения, наслаждается без крика, без дрожи, словно ей не хочется выдавать всю силу охватившего ее экстаза. Это длится так долго, что Эммануэль начинает думать, помнит ли подруга о ее присутствии. Но вот гримаса страсти постепенно исчезает с лица Би, и Эммануэль жалеет, что это не может длиться вечно. Она так поражена увиденным, что не может произнести ни слова. Би, также безмолвная, улыбается ей. И теперь Эммануэль целует ее в губы. Она стонет от удовольствия, ощущая прикосновение кожи Би к своей. Какая это чудесная ласка сама по себе! А ведь ее можно и разнообразить. Эммануэль еще крепче прижимается к Би, начинает тереться своим пушистым холмиком о гладкий лобок Би. Та догадывается, чего ищет Эммануэль; она осторожно опускается, откидывается назад и принимает Эммануэль на свой живот. Странный вкус ощущает Би на своих губах, вкус ароматного и сладкого экзотического плода. Она чувствует, как судорога пробегает по прекрасному, припавшему к ней телу, и она помогает ему, как умеет. И она слышит слова, в которых звучит зов любви… Эммануэль начинает намыливать тело своей подруги. Она принимается за дело, ее руки так ловко скользят между ногами Би, что та вынуждена защищаться: – Нет, нет, не сразу же, Эммануэль. Я устала, дайте мне собраться с силами. Эммануэль дает ей смыть с себя усталость, вытереться, а потом снова припадает к ней. – Пошли в мою постель. Би отвечает не сразу, но потом прижимается губами к векам вздрагивающей Эммануэль. – Да, пошли в вашу комнату, – говорит она решительно. Опрокинув Би на огромную кровать, Эммануэль вытягивается на ней и начинает целовать американку в лоб, щеки, покрывает поцелуями шею, покусывает мочки ушей, грудь. А потом соскальзывает на ковер у подножья кровати, коленопреклоненная, прижимается лицом к обнаженному животу. – О-о, – стонет она. – Как это сладко! И она щекой, носом, губами трется об эластичную выпуклость. – Любимая! Любовь моя! Би не произносит ни слова в ответ. Эммануэль встревожена: – Вам хорошо вот так? – Да… – Значит, вы будете моей подружкой? Моей любовницей? – Но, Эммануэль… Би замолкает, пальцы перебирают черные волосы. Руки Эммануэль раздвигают длинные ноги Би, прикасаются к разделяющей их щелке, осторожно проникают туда. Би вздыхает, ее руки бессильно свешиваются вниз, глаза закрываются. Эммануэль приближает кончик языка к узкому и чистому, как у девочки, разрезу. Она смачивает краешки по всей их длине, облизывает стенки, находит бутон цветка, вдыхает его аромат, щекочет его языком, заставляя твердеть и подниматься и, наконец, всасывает в себя маленький фаллос. Она опускает палец одной руки в себя, а другой продолжает ласкать подругу. Пальцы Эммануэль увлажняются, и этими влажными пальцами она поглаживает ягодицы Би. Та приподнимается немного, как бы для того, чтобы помочь Эммануэль проникнуть и в самое тесное отверстие. Палец Эммануэль погружается туда чуть ли не на всю длину… И тогда Би кричит. И она кричит все время, пока Эммануэль продолжает ее лизать, сосать и блуждать пальцами повсюду. Первой, как ни странно, изнемогает Эммануэль. Она вытягивается снова на теле американки. Обе они долго лежат, обессиленные, не произнося ни слова. Позднее, когда Би, несмотря на протесты Эммануэль, уже оделась, Эммануэль снова обнимает ее и усаживает на кровать. – Я хочу, чтобы вы сказали мне одну вещь. Но только пообещайте говорить правду! Би отвечает лишь утвердительной улыбкой. Эммануэль говорит: – Я тебя люблю! Би смотрит в ее глаза, пытаясь понять, какую же правду ждут от нее. Эммануэль, посерьезнев, почти патетически вопрошает, крепко сжав руки Би в своих руках: – Ты уверена, что я тебе понравилась? Я хочу сказать… Нет, подожди, дослушай меня, я тебе нравлюсь так же или больше, чем какая-нибудь другая твоя подруга? Тебе было лучше со мной, чем с кем-то? Искренний смех в ответ озадачил Эммануэль: – Почему вы смеетесь надо мной? – Послушайте, Эммануэль, миленькая, – шепчет Би, приблизив губы к губам слушательницы, – Я сейчас вам открою великий секрет. Со мной никогда не бывало того, что было сегодня. – Вы хотите сказать, что душ, что… – Ничего! Я никогда не занималась любовью, как вы это называете, с женщинами. – О, – потирает лоб Эммануэль. – Я вам не верю. – Придется поверить, потому что это чистая правда. И еще признаюсь вам в одной вещи. До сегодняшнего дня, до того, как я узнала вас, мне казалось это смешным. – Но, – бормочет озадаченная Эммануэль, – вы хотите сказать, что вам не нравилось? – Не то чтобы не нравилось, я просто этого раньше не делала. – Но так же нельзя! Негодование, послышавшееся в голосе Эммануэль, заставило Би снова рассмеяться. – Почему? Я показалась тебе чересчур умелой? – спросила, понизив голос, Би. И тон ее, тон сообщницы,появившийся у нее, и это, тоже первое, «ты», даже смутили Эммануэль. – Вы… Ты не выглядела удивленной. – А я была рада. Потому что это были вы. Эммануэль задумалась на минуту. Потом, будто бы очнувшись, будто бы ничего не было сказано из того, что было сказано только что, она спросила еще раз: – Так вы меня любите, Би? Та смотрела на нее на этот раз без улыбки. – Я вас очень люблю. Да, очень. Но Эммануэль ожидала чего-то другого. И она задала еще один вопрос, скорее для того, чтобы прервать молчание: – Но… Вам понравился первый опыт? Вы довольны? Би словно внезапно решилась на что-то: – Так, а теперь, – сказала она, – я буду ласкать тебя. Эммануэль не успела ответить, а Би уже крепко обняла ее и бросила на кровать. Она поцеловала ее так же нежно и в то же место, как целовали и ее. Она вытянула язык, чтоб он мог проникнуть как можно дальше. Эммануэль сразу же окатила волна нежности, и Би не смогла перейти к другим ласкам. Она отодвинулась было, пораженная этим внезапным оргазмом. Но, увидев, что судороги продолжаются, она снова приникла к своей возлюбленной и долго-долго не отрывалась от нее. Наконец, она выпрямилась и сказала, улыбаясь: – Вот уж не думала никогда, что мне посчастливится пить из такого источника! Ну, теперь ты видишь, как я тебя люблю? И тут раздался телефонный звонок. Как он обрадовал бы Эммануэль в другую минуту! Звонила Мари-Анж, она скоро приедет. На этот раз новость опечалила Эммануэль, и понадобилось все благодушие Би, чтобы ее успокоить. Они договорились увидеться завтра. Би приедет с утра. Ее привезет шофер. Эммануэль в ожидании новой гостьи даже не потрудилась одеться. На этот раз, как ни удивительно, у нее не было ни малейшего желания соблазнять свою юную приятельницу. Проницательная Мари-Анж сразу же заметила, что с ее подругой творится что-то неладное. – Что случилось? – спросила она. – У тебя вид девицы, только что получившей предложение. Эммануэль попробовала было уклониться от ответа, но выдержки ее хватило ненадолго. – Я сейчас сообщу тебе потрясающую новость, – наконец решилась она. – Ты сейчас ахнешь. – Ты забеременела? – Ты с ума сошла. Попробуй угадать. – Не буду я угадывать. Скажи сама, что ты мне еще приготовила. – Ничего особенного. Я хочу тебе сообщить, что всего лишь занималась любовью с Би. Эммануэль исторгла из себя признание, не представляя себе точно, какой эффект это вызовет. Но она никак не ожидала от Мари-Анж такой равнодушной реакции: – И это все, что ты хотела мне сказать? – довольно спокойно проговорила Мари-Анж. – Зачем же такая преамбула? Что особенного случилось? – Но все-таки, – пришла в замешательство Эммануэль. – Би просто чудо. И ехидно добавила: – Может быть, она не в твоем вкусе? Мари-Анж пожала плечами: – Эммануэль, бедняжка, как ты можешь быть такой глупенькой? Я не вижу ничего потрясающего в том, что женщина спит с женщиной. А ты объявляешь об этом с видом триумфатора. Просто смешно! Пренебрежение подруги задело Эммануэль. Она попробовала выразиться яснее, определеннее: – Не понимаю, какая муха тебя укусила? Ты, кажется, что-то имеешь против того, что мы с Би трахнули друг друга. Ответ Мари-Анж не допускал никаких возражений: – Трахнуть может только мужчина. И за этой сентенцией последовала еще одна: – Нельзя терять время на болтовню! Я уже говорила, что знаю одного человека, который тебя научит тому, как это делается. И надо, чтобы я вручила тебя Марио, в его объятия как можно скорее. Она наморщила лоб, как бы производя в уме некие расчеты. – Сегодня у нас шестнадцатое. Ты приглашена на восемнадцатое в посольство? Да? В этот вечер я тебя и познакомлю с ним. И если вы не полюбите друг друга при первом знакомстве, значит, это произойдет на следующий день. У нее не было сил ждать. Она вышла на балкон и, опершись о перила, всматривалась сквозь заросли сада в дальний конец улицы. Губы ее дрожали. Приедет ли? Почему так опаздывает? Может быть, нашлись причины, по которым ей нельзя вновь видеться с Эммануэль, и сейчас по телефону она скажет об этом? Наконец, Эммануэль сама решилась позвонить. Ответил мужской голос. Наверное, слуга. И тут же Эммануэль поняла, что ничего не сможет сказать не только потому, что не знает английского, но ведь ей неизвестно и настоящее имя Би. Она не знает, кого попросить к телефону! Она повесила трубку. Но раз трубку взял кто-то другой, значит, Би нет дома, она сейчас в дороге. Она должна появиться с минуты на минуту. А вдруг с ней произошло несчастье? Да нет, наверное, Би забыла адрес и блуждает сейчас в запутанном лабиринте дипломатического квартала. Все улицы похожи, названия их нормальному человеку не выговорить – ничего удивительного, что Би заблудилась. Но тотчас же в сознании Эммануэль прозвучал другой, более уверенный голос. Он напомнил ей, что Би провела в Бангкоке уже целый год и за это время можно вполне изучить город: сама Эммануэль свободно ориентировалась уже к концу второй недели. Нет, тут что-то другое. Однако она опаздывает уже на два часа! Что могло помешать Би, если она забыла адрес, позвонить Эммануэль? А может, самой отправиться на поиски Би? Но она не знает адреса. Подожди-ка, Мари-Анж говорила, что она сестра американского морского атташе! Что же, позвонить в посольство? Да, но кого попросить к телефону? Там ведь может оказаться несколько атташе. И на каком языке обратиться? Бог ты мой, да просто позвонить Мари-Анж! Но тут же она представила, с каким сарказмом обрушится на нее это зеленоглазое чудовище. Нет, нельзя признаваться девчонке, что ты брошена… А в том, что она брошена, Эммануэль теперь уже почти не сомневалась. Она не придет ни сегодня, ни завтра. Уступила вчера порыву, оказавшемуся сильнее ее, но сегодня, вдали от соблазна, она пришла в себя; она не любит Эммануэль; она вообще не любит женщин, эта забава кажется ей скучной и бессмысленной, «смешной», говоря ее словами. Или она стыдится, что вчера дала себя увлечь запретными наслаждениями. Очевидно, говорила себе Эммануэль, у Би есть религиозные правила, моральные нормы, запрещающие ей повторить вчерашнее распутство. Ведь Эммануэль, по существу, ничего не знает о ней: она видит, что та живет, наверное, без любовника и… без любовницы. А вдруг это совсем не так на самом деле? Вот оно что! У Би, вполне возможно, есть любовницы! Нет, этого не может быть. Ну, тогда – любовник! Ну да, она вернулась, покаялась ему, он закатил ей сцену, потребовал отказаться от встреч с Эммануэль. Да, это так, теперь Эммануэль убеждена в этом. Но она не позволит себе так легко уступить. Она будет драться за свою любовь всей силой своей любви… Но через несколько минут только сладость страдания осталась в ее душе. Би никогда больше не вернется, и не все ли равно, по каким причинам – не вернется и все. Боже мой, неужели надо навсегда отказаться от этих рук, тела, от этих губ, совсем недавно произнесших: «Я тоже вас очень люблю…» И впервые со времени раннего детства настоящие слезы полились из глаз Эммануэль. Вечером Жан и Кристофер потащили ее в театр. Ей было безразлично происходящее на сцене, она сидела с мрачным лицом, и Жан не задавал ей никаких вопросов. Кристофер, не понимая, что происходит, тоже помрачнел, он выглядел даже более удрученным, чем Эммануэль. И лишь оказавшись ночью в объятиях мужа, Эммануэль горько разрыдалась и рассказала ему обо всем. По мнению Жана, Эммануэль приняла это приключение слишком близко к сердцу. Весьма возможно, что какая-то серьезная причина помешала Би, завтра пропажа найдется, и все разъяснится. Но если даже Би и впрямь решила больше не видеться с Эммануэль – что из того! Во-первых, хорошо, что все это кончилось так быстро, иначе Эммануэль мучилась бы сильнее. Во-вторых, Эммануэль должна помнить, что она предназначена кружить головы другим и не позволять, чтобы другие могли вскружить ей голову. И если эта Би, которую Жан не видел и о которой ничего не слышал, и вправду так хороша, то все равно в ней нет и половины тех достоинств, какие есть у его милой девочки. И он не позволит, чтобы она печалилась. Единственное, чего заслуживает Би, – чтобы Эммануэль отомстила ей, и как можно скорее, в других объятиях. А разве их трудно найти? И она должна доказать это Би, и чем скорее, тем лучше. Эммануэль внимательно слушала и постепенно успокаивалась. В самом деле, как не стыдно так убиваться. Конечно же, она найдет других, она еще не знает кого, но найдет обязательно! Все парижские платья были решительно забракованы Жаном: они недостаточно открыты, в них нельзя идти на посольский прием! – Но в Париже не было никого, кто бы мог показывать грудь так смело, как я, – не соглашалась Эммануэль. – Дорогая моя, то, что в Париже называется показать грудь, в Бангкоке выглядит, как наглухо застегнутое платье, – убеждал Жан. – Надо, чтобы все увидели, что у тебя лучший бюст в мире. Надо ткнуть им в глаза твои груди. И платье, которое они, наконец, подобрали, вполне годилось для этой цели. Широкий вырез едва доходил до сосков, но стоило наклониться и – оп-ля! – вся грудь, как на витрине. Под платье Эммануэль не надевала ничего, даже маленькие трусики. Еще в Париже, со времени своего замужества, она только так появлялась в свете: чувствовать себя обнаженной в многолюдстве было для нее одной из самых утонченных ласк. А во время танцев это ощущение делалось еще сильнее. Платье обтягивало тело Эммануэль до бедер, как перчатка, а книзу расширялось. И сейчас, чтобы продемонстрировать возможности платья, Эммануэль упала в кресло. Зрелище было столь острым, что Жан сразу же ринулся вперед, ища застежку. Одной рукой он расстегивал платье, другая же старалась высвободить бюст Эммануэль. Она взмолилась: – Жан, что ты делаешь, ты с ума сошел! Мы и так опаздываем, нам надо немедленно выходить. Он перестал ее раздевать, подхватил на руки и понес к обеденному столу посреди комнаты. – Нет, нет! Платье изомнется… Ты мне делаешь больно! А если Кристофер спустится?.. Слуги могут войти… Но как только ее зад коснулся стола, она сама потянула платье кверху. Согнутые в коленях ноги взметнулись в воздух. Удар Жана был короток и могуч, и оба они рассмеялись этому экспромту. Теперешняя поспешность Жана была по-новому неожиданно приятна Эммануэль. Она сжала руками свои груди, словно пытаясь выжать из них нектар: собственная ласка способствовала ее неистовству не меньше, чем старания мужа. Она закричала, в дверях столовой возник слуга. Он застыл, сложив руки на груди, и молча наблюдал за играми своих хозяев. А крики Эммануэль разносились по всему дому. Когда Жан закончил свое дело, он приказал слуге привести стол в порядок и позвать Эа, камеристку Эммануэль, чтобы та помогла своей госпоже восстановить туалет. Они приехали в посольство, опоздав совсем немного. Общество, однако, было уже в сборе. Посол подошел к ним. – Очаровательно, – произнес он, целуя руку Эммануэль. – Поздравляю вас, старина, – он повернулся к Жану, – Надеюсь, ваша работа оставляет вам время и для такой очаровательной супруги? Седая дама остановилась рядом, с явным осуждением глядя на вырез платья Эммануэль. И тут же вынырнула откуда-то Ариана де Сайн; она оказалась как раз кстати, чтобы усугубить положение. – Боже мой! – протянула она руки к Эммануэль. – Вот наш первый вызов ханжеству. О, надо постараться показать его всем нашим. – И она повернулась к элегантному мужчине, занятому беседой с епископом в лиловой сутане: – Жильбер, взгляни-ка! Как ты это находишь? И Эммануэль была вынуждена предстать пред очами советника и прелата. Первый, как ей показалось, оценил ее выше, чем второй. Мужа Арианы она представляла совсем не таким: вместо напыщенного великовозрастного ребенка с моноклем она увидела добродушного, ничуть не жеманного человека, и по первым же словам графа поняла, что он свой парень. И вот уже она окружена солидными господами; слушает комплименты, ловит восхищенные взгляды. Но ее занимает другое: она осматривается, надеясь увидеть среди незнакомых лиц одно знакомое – лицо Би. Ведь сюда приглашен весь дипломатический корпус, а может ли брат прийти без сестры? Эммануэль не знает, как ей себя вести при встрече с юной американкой. И вдруг ей становится ясно, что она не хочет, боится этой встречи. Надо поскорее спрятаться под крылышко супруга. Но того, увы, уже поглотила толпа. Зато рядом вновь оказалась Ариана и потащила Эммануэль сквозь хор комплиментов, сквозь строй мужчин всех возрастов и фасонов. И это вернуло Эммануэль обычную уверенность. Лицо ее оставалось безучастным, но не меньше, чем коктейли, которыми потчевала ее на каждом шагу графиня, пьянили ее эти похвалы. А графиня смотрела на Эммануэль безотрывно, пользуясь любым случаем, чтобы прикоснуться к ее обнаженным плечам или украдкой задеть грудь. Внезапно Ариана резко притянула ее к себе. – Ты великолепна, – прошептала она и осторожно ущипнула двумя пальцами сосок Эммануэль. – Пойдем со мной. Туда, где никого нет, я знаю одно местечко. – Нет, нет, – замотала головой Эммануэль. И прежде чем Ариана смогла что-то сказать, она уже бежала от нее, скользя по залу, пробираясь между многочисленными гостями посла. Пожилой джентльмен остановил ее, предложив показать удивительные китайские фонари на террасе, но тут откуда-то возникла Мари-Анж. – Прошу прощения, командор, – произнесла она со своим обычным апломбом. Мне надо поговорить с моей приятельницей, – И, подхватив Эммануэль под руку, потащила ее подальше от мимолетного собеседника. – Что ты делаешь с этой развалюхой, – заторопилась Мари-Анж. – Я тебя везде ищу. Марио ждет тебя уже целых полчаса. Эммануэль совсем забыла об этом свидании и, по правде говоря, не очень-то рвалась к нему. Она сделала слабую попытку сохранить свободу. – Это так уж необходимо? – Ох, послушай, Эммануэль, – досадливо поморщилась Мари-Анж. – Не ломайся, прошу тебя. Эммануэль послушалась. И прежде чем она успела узнать хоть какие-то подробности о герое, он уже появился на сцене. – Какая милая улыбка, – произнес он с поклоном. – Вот если бы художники моей родины писали такие улыбки! Вам не кажется, что эти флорентийские полунамеки, эти сдержанные усмешки в конце концов всего лишь гримасы неискренности? Это не искусство. Искусство, считаю я, – это изображать открытую, сияющую, побеждающую улыбку. Такое вступление несколько удивило Эммануэль. Мари-Анж не представила собеседников, и Эммануэль спросила: – Мари-Анж все хочет заставить меня быть моделью. Вы, верно, тот художник, которого она нашла для меня? Марио улыбнулся, и улыбка его, надо отдать должное, была на редкость приятной. – Ох, – вздохнул он. – Будь у меня хоть сотая доля таланта других, мадам, я бы рискнул пойти на это. Гений модели дополнил бы все остальное. К сожалению, я богат только чужим искусством. Мари-Анж вмешалась в разговор: – Марио – коллекционер, ты еще увидишь какой! У него есть вещи, которые он привез из Мексики, Африки, Турции. Скульптуры, картины… – Которые могут быть только напоминанием об искусстве истинном. Истинное искусство своим движением и отвагой побеждает мертвые образы. Мари-Анж, миа кара, – добавил он по-итальянски, – не обольщайся кусками коры, опавшей с древа жизни. Я храню их лишь как воспоминание, как сувениры от тех, кто страдал и погибал, оторванный от своего ствола, от своей листвы, кто был опустошен их дыханием, их разумом, их кровью. Иногда это художник, но чаще то, что он изображает. Так что шедевром надо считать не портрет, а возлюбленную портретиста. – Но если она умерла. Умершую? – Нет, когда она умирает, что-то умирает и в этом портрете. – Но картина-то остается жить вечно? – Глупости! Любопытный хлам, самое большее – игра ума или ловко сделанная машина. Искусство существует только в том, что уходит: в гибнущей женщине, к примеру. Живопись – это разрушение ее тела. Искусство не может быть прекрасным в том, что остановилось, в том, что сохраняет неподвижность. Искусство внезапно. Всякая задуманная вещь рождается мертвой. – Меня учили другому, – сказала Эммануэль. – «Жизнь коротка, искусство вечно». – Да кто же заботится о вечности, скажите, пожалуйста, – резко прервал ее Марио. – Вечность не артистична, она уродлива. Ее лицо – это лик мертвых памятников. – Он вытащил платок, провел им по лбу и продолжал, чуть понизив голос: – Вы знаете возглас Гете: «Остановись мгновенье! Ты прекрасно!». Но как только мгновение остановится, оно перестанет быть прекрасным. Все, что стремится красоту увековечить, умерщвляет ее. Красота – не обнаженное тело, а обнажающееся. Не звук смеха, а губы, которые смеются. Не следы карандаша на бумаге, а миг, когда сердце художника разрывается на куски. – Но вы только что говорили, что художник – ничто в сравнении с моделью. – Тот, кого я назвал художником, не обязательно, разумеется, скульптор или живописец. Конечно, и они могут быть художниками, если смогут овладеть сюжетом и разрушить его (он как-то выделил этот глагол «разрушить»). Но чаще всего модель сама выполняет эту миссию, художник только свидетельствует. – Тогда что же такое совершенство? Где оно? – спросила Эммануэль с внезапной тревогой. – Совершенство, шедевр – то, что происходит. Нет, я не правильно выразился. Шедевр – это то, что давно прошло. Он взял руки Эммануэль в свои. – Вы позволите мне на вашу цитату ответить другой. Она принадлежит Мигелю Унамуно: «Самое великое произведение искусства не стоит самой ничтожной человеческой жизни». Единственное искусство, которое заслуживает чего-то, это история нашей плоти. – Вы хотите сказать, что самое важное – это способ, которым достигаешь чего-то? Что именно его надо понимать как шедевр, если хочешь не просто просуществовать свою жизнь? – Ничего подобного я не думаю. Пытаться сотворять – себя или нечто другое – это все напрасный труд. Во всяком случае, если стремиться сотворить что-то прочное. Он вдруг улыбнулся. – Но то же самое происходит, по правде говоря, и с материалом более легким – из мечты, из грезы… И тут же как бы опомнился: – Если бы я имел хоть малейшее право давать вам советы, – поклон был необычайно изыскан, – я бы посоветовал вам жить так, как я вас попрошу. На этом он отвел взгляд в сторону, как бы считая разговор оконченным. Эммануэль стало неприятно. С деланной улыбкой она обратилась к Мари-Анж: – Ты случайно не видела Жана? Он с самого начала куда-то исчез. Итальянца окружили другие женщины. Вот прекрасный случай удалиться, но Мари-Анж не отпустила подругу: – Ты что, арестовала Би? Как ей не позвонишь, мне все время отвечают, что она у тебя. – Она хихикнула. – И так как я не хочу мешать вашим развлечениям… У Эммануэль упало сердце – Мари-Анж смеется над нею! Да нет, вид у нее вполне серьезный, она говорит искренне. Вот ирония судьбы! Эммануэль приготовилась было пожаловаться вслух, но удержалась в последний момент. Как ей признаться Мари-Анж, что она сама не может найти свою любовницу-одновневку? Пусть уж останутся у этой малышки с косичками иллюзии о силе чар ее старшей подруги. Но вот беда – в таком случае Эммануэль не сможет ничего узнать у нее о Би. Ладно, она расспросит Ариану. Но нигде не видно короткой прически, нигде не слышно резкого смеха. Может быть, нашлась другая жертва, согласившаяся пойти «туда, где никого нет»? А Мари-Анж снова заговорила о неуловимой американке: – Я хотела бы хоть попрощаться с нею. Ну, тем хуже для нее. Ты передашь ей мое «прощай». – Как, она уезжает? – Нет, уезжаю я. – Ты? Ты мне совсем ничего не говорила об этом. И куда же? – О, успокойся, не так далеко. Я всего-навсего проведу месяц на море. Мама сняла бунгало в Паттайе. Приезжай нас проведать. Это всего сто пятьдесят километров. Ты должна увидеть тамошние пляжи – полный отпад! – Я слышала. Благословенное место, где акулы берут корм из твоих рук. Я тебя больше не увижу… – Что за ерунду ты городишь! – Тебе будет скучно там одной… Эммануэль расстроилась. Как бы порой ни была несносна Мари-Анж, ее будет очень не хватать. Но показывать печаль не хотелось, и Эммануэль заставила себя улыбнуться. А девочка отчеканила: – Я никогда не буду скучать. Я буду принимать солнечные ванны, кататься на водных лыжах. Да к тому же я беру с собой целый чемодан книг: мне надо готовиться к учебному году. – Ах, да, я совсем забыла, что мы еще ходим в школу, – поддразнила ее Эммануэль. – Ну, не все же так образованны, как ты. – Ты не берешь никаких подруг в Паттайю? – Нет уж, благодарю, мне хочется пожить спокойно. – Ты очень любезна. Надеюсь, твоя мамочка не будет спускать с тебя глаз и не даст путаться с маленькими рыбаками. Зеленые глаза излучали таинственное сияние. – А ты? Что ты будешь делать без меня? Впадешь в свое обычное идиотство? – Ну, нет, – игриво откликнулась Эммануэль. – Ты же сама знаешь, что я собираюсь отдаться Марио. Мгновенно Мари-Анж вернулась к серьезному тону: – Да, тогда уж ты изменишься обязательно. Ты мне обещала, не забудь! Ты теперь связана словом. – Вот тут ты ошибаешься. Я буду делать то, что захочу. – Разумеется, делай, если ты захочешь Марио. Надеюсь, ты теперь не собираешься улизнуть от него? Мари-Анж скорчила при этом такую презрительную гримасу, что Эммануэль даже немного устыдилась себя. Но так сразу ей все-таки не хотелось уступать: – Он не так уж неотразим, как ты его рисовала. Он мне показался краснобаем: произносит фразы и слушает их сам, ему и слушатели-то не нужны! – Ишь ты, какая привереда! Да ты должна гордиться, что тобой интересуется такой человек. Должна тебе сказать, что он-то и в самом деле очень привередлив. – Ах, вот как! И его заинтересовала я. Значит, мне оказана большая честь. – Ну, конечно. Я очень рада, что ты ему как будто понравилась. Могу тебе сказать, что я вовсе не была в этом сначала уверена. – Еще раз спасибо. А почему ты думаешь, что я ему понравилась? Мне, по крайней мере, показалось, что он интересуется только самим собой. – Но ты хотя бы согласна, что я его знаю немного лучше, чем ты? – Ну, разумеется. Я допускаю даже, что ты оказываешь ему, и уже довольно долго, многие милости. Может быть, ты поделишься со мной своим опытом, чтобы я оказалась более подготовленной в момент жертвоприношения. – Ты сделаешь хорошо, если будешь говорить поменьше пошлостей. Он от них в ужас приходит. И вдруг, перейдя на доверительный тон, Мари-Анж добавила: – Но на самом-то деле я знаю, как ты отдашься ему. Иначе я бы вас и не знакомила. И продолжала, все более воодушевляясь: – Я уверена, вы очень хорошо поймете друг друга. Ты скоро станешь счастливей. И будешь еще красивей, когда я тебя увижу снова. Я хочу, чтобы ты становилась все красивее и красивее. Эти слова и особенно выражение зеленых глаз растрогали Эммануэль. – Мари-Анж, – прошептала она, – Как жалко, что ты уезжаешь. – Мы скоро встретимся. Я тебя не смогу забыть, будь спокойна. В их взглядах было столько нежности, что Мари-Анж поспешила вернуться на твердую почву: – Ты обещаешь вести себя с Марио так, как я тебе говорила? Обещаешь? – О, конечно. Если это тебе доставит удовольствие. Впервые со времени их знакомства Мари-Анж потянулась к Эммануэль и ласково поцеловала ее в щеку. Эммануэль попыталась привлечь к себе светловолосую головку, но Мари-Анж отпрянула. – Пока, кошка, которая ходит сама по себе! Я тебе позвоню завтра, перед отъездом. И ты обязательно приедешь на море! – Да, – смиренно промолвила Эммануэль. – А теперь поищем других. И они снова оказались в толпе приглашенных. Эммануэль переходила от одной кучки болтающих к другой, но нигде не задерживалась. Она искала Ариану, но Ариана сама нашла ее. – А вот и она, наша непорочная Виргиния, – послышался резкий голос. – Я думала, где же она занимается умерщвлением плоти, в каком монастыре? Эммануэль тут же отметила, что на людях Ариана не переходит с ней на «ты». – Совсем не то, – ответила она в тон графине. – Один из демонов был занят сравнением моего смеха с искусством стриптиза. – Кто же этот ценитель? – Он мне назвал только свое имя – Марио. Но вы должны знать его. Ариана фыркнула: – О, любезности этого знатока стоят немного. Ваша добродетель была бы в большей опасности, окажись вы прелестным мальчиком. – Вы хотите сказать, что он… – Я побоялась бы сплетничать, если бы он делал из этого тайну. Разве он вам еще не изложил свои любимые теории? Вижу, он вам еще не доверяет полностью – от меня у него нет секретов. Впрочем, он человек изысканный, и я его обожаю. – Может быть, он скрыл от меня свои вкусы, потому что я заставила его засомневаться в них, – возразила раздосадованная Эммануэль. Она рассердилась на Мари-Анж – та утаила от нее главную особенность своего героя. Могла ли она не знать, эта всезнающая девчонка. – Оставь надежду, всяк сюда входящий, – продекламировала Ариана. – Наш эстет – человек принципов: он не изменяет своим добродетелям и ни за что не сворачивает с избранного пути. – О, вы знаете, других мне удавалось исправить, – похвасталась Эммануэль. – Но этот, я думаю, неисправим. – Это мы еще посмотрим! – Браво! Та, что совратит Марио, заслуживает приза золотого Приапа. Ариана понизила голос: – Но я бы на твоем месте не стала тратить время на бесполезные усилия. Я уже тебе говорила, что знаю десятки мужчин, не менее соблазнительных, чем Марио, готовых послужить тебе в любую минуту. Давай, я тебя познакомлю с ними… – Нет, – отрезала Эммануэль. – Я люблю трудные победы. – Ну что ж, помогай тебе Бог, – усмехнулась Ариана. Взгляд, брошенный ею на Эммануэль, был точно таким же, как тогда в клубе. – А в эти дни, – спросила она, – у тебя было что-нибудь? – Да, – ответила Эммануэль. Ариана внимательно разглядывала ее некоторое время молча. – А с кем? – Не скажу. – Но ты в самом деле занималась с кем-то любовью? – Да. Ариана улыбнулась совершенно по-дружески. – Я тебе кое-что приготовила на сегодняшний вечер, если захочешь. Любопытство оказалось сильнее Эммануэль. – Что же именно? – Не скажу. Эммануэль нахмурилась, и Ариана не выдержала: – Два парижанина. Они здесь только на один день. Но я уступаю обоих тебе одной. – А как же ты? – А я возьму то, что от них останется! Эммануэль прыснула, а Ариана придвинулась к ней поближе. – Ты под платьем голая? – Да. – Покажи! Эммануэль на этот раз не могла ответить отказом. Она приподняла край платья. – Хорошо! – почти простонала Ариана, уставившись на смуглый живот, показавшийся из-под платья. Эммануэль ощущала этот взгляд кожей так, будто к ней прикоснулись пальцы или язык. Она напряглась, как напрягалась всегда в таких случаях. – Открой еще больше, – приказала Ариана. Эммануэль повиновалась, но узкое платье мешало выполнить это распоряжение. – Сними его, – сказала Ариана. Эммануэль кивнула головой. Ей и самой не терпелось оказаться обнаженной: соски ее отвердели, внизу живота стало горячо и мокро. Она сбросила бретельки с плеч, расстегнула под мышками застежки. – Ах, – воскликнула Ариана. – Кто-то идет! И очарование кончилось. Эммануэль вернулась на землю. Она застегнула платье, встряхнула головой. Ариана подхватила ее под руку и повела за собой. Слуга прошел мимо них с подносом, уставленным бутылками. Они остановили его, попросили наполнить бокалы шампанским. Пили долго, молча, ничего не видя перед собой, совсем не замечая людей, кружившихся вокруг. Становилось жарко. – Кажется, будет гроза. – Конечно, такая жарища! «Нет, это платье чересчур тяжелое», – подумала Эммануэль. Кто-то окликнул Ариану, но Эммануэль задержала ее: – Послушай, не знаешь ли ты рыжую американку, темно-рыжую, почти медного цвета. Она сестра морского атташе, она… – Би? – прервала ее Ариана. Сердце Эммануэль упало. Она почему-то надеялась, что никто не знает здесь чужестранку и, хотя она искала ее все время, ей было как-то страшно найти ее. – Да, – кивнула она. – Она здесь сегодня? – Должна была быть, но я что-то ее не вижу. – Почему же она не пришла, раз ее пригласили? – Не знаю. Ариане явно хотелось переменить тему, но Эммануэль не отставала: – Как ты думаешь, что она за человек? – А откуда ты ее узнала? – Встретила на чае у Мари-Анж. – Ах, вот как! Ну, конечно, она же одна из ее подруг. – А чем же она занимается в Бангкоке? – Тем же, чем и ты: она вызывает желания. – А ты часто ее видишь? – Довольно часто. – Ее содержит брат? – Не думаю. У нее много денег. Ей никто не нужен. Как погребальный колокол, прозвучали эти слова. Никто не нужен? Да, конечно, это так и есть. НИКТО ЕЙ НЕ НУЖЕН. Что же еще спросить? Адрес Би? Но тогда она себя выдаст. Нет, этот вопрос был решительно невозможен. – Ну, так что же дальше? – спросила Ариана. Эммануэль притворилась непонимающей. Ариана не унималась: – Так я тебя увижу сегодня вечером? – Нет, это невозможно. Мой муж… – Мне он тебя вполне доверит. Однако что-то кончилось, очарование бесповоротно отлетело, и Ариана поняла это. – Ладно, – буркнула она. – Я сама их использую сегодня вечером, – Но внешняя беззаботность все же не могла скрыть ее досады. Вдруг она объявила: – Твой Марио! Я вижу, он кого-то ищет. Наверное, тебя. Не заставляй его долго томиться. Она подтолкнула Эммануэль локтем. Итальянец уже приближался к ним. Ариана удалилась на поиски коктейля. – Мари-Анж много говорила мне о вас, – начал разговор Марио. – Что же она могла обо мне рассказать? – Достаточно, чтобы мне захотелось узнать вас поближе. Не согласились бы вы поужинать у меня завтра вечером? Мы бы могли как следует поболтать без всяких помех. В этой толпе никакого интересного разговора не получается. – Благодарю вас, – ответила Эммануэль. – Но у нас сейчас гостит друг дома, и мне будет трудно… – Ну, что вы! Оставьте его на один вечер под присмотром вашего супруга. Вам разрешается выходить из дому одной? – Ну, разумеется, – сказала Эммануэль, спросив себя, что же подумает об этом приглашении Жан, и не удержалась от некоторого лукавства: – Может быть, будет лучше, если я приду вместе с мужем? – Нет, – без малейшего стеснения отрезал Марио. – Я приглашаю только вас. Вот что значит быть откровенным! И все же Эммануэль была удивлена: это приглашение так плохо вязалось с теми сведениями о Марио, которые доставила ей Ариана. Ей захотелось прояснить дело: – Может быть, не совсем прилично для замужней женщины, – начала она, стараясь, чтобы в ее словах была хотя бы тень шутки, – ужинать наедине с мужчиной. Как вы считаете? – При-ли-чно? – Марио произнес это слово по слогам, словно впервые услышал его и не научился еще выговаривать. – Что значит прилично? Быть приличной это одно из правил вашего поведения? – Нет, нет, – почти испуганно отозвалась Эммануэль, однако от своей попытки не отказалась: – Но женщина должна быть предупреждена заранее о том риске, на который она может пойти. – Все зависит от того, что вы считаете риском. Каково ваше представление об опасности? Итак, Эммануэль сама оказалась в положении вопрошаемого. На все, что она скажет о священных узах брака, о светских правилах, о добрых нравах – ответы Марио можно было угадать. В то же время она не имела еще достаточной смелости (или привычки), чтобы ясно и коротко изложить то, что ее интересует. Она ограничилась коротким ответом: – Я не из трусливых. – Больше мне ничего и не надо, – услышала она. – Итак, вы будете у меня завтра вечером? – Но я не знаю, где вы живете. – Дайте мне ваш адрес, я пришлю за вами такси, – он очаровательно улыбнулся, – У меня нет машины. – Я могу приехать на своей. – Нет, вы заблудитесь. Такси будет у вас в восемь вечера. Договорились? – Договорились, – и она записала в его блокнот свой адрес. Марио смотрел на нее испытующим взглядом. – Вы удивительно красивы, – наконец сказал он очень просто и спокойно. – Стоит ли об этом говорить, – вежливо ответила Эммануэль.Закон
Марио усадил гостью на низкий, красной кожи диван, по бокам которого горели две японские лампы. Одетый лишь в одни короткие голубые шорты слуга принес поднос с напитками, опустился на колени, поставил перед Эммануэль длинный низкий столик. Сложенный из толстых бревен дом Марио буквально висел над поблескивающей чернотой водой канала. Одноэтажный, очень скромный снаружи, он был уютен и даже пышен внутри. Тонкий вкус его обитателя ощущался и в мебели, и в драпировках. Широкое, во всю стену, окно выходило прямо на канал. Со своего места Эммануэль могла видеть барки, на которых шла оживленная торговля рыбой, кокосовыми орехами, бамбуковыми палочками. Освещенные бумажными фонарями барки медленно проплывали мимо, и сидящие в них люди иногда заглядывали в окно. Из соседнего монастыря донесся звук гонга – монахов звали ко сну или к вечерней молитве. Совсем рядом слышался женский голос, напевавший колыбельную. – Должен прийти один мой хороший приятель, – сказал Марио. Его голос так хорошо сочетался с фигурками Будды и другими изваяниями, мерцавшими в слабом свете светильников. То ли от этого голоса, то ли от коктейлей, предложенных молчаливым слугой, Эммануэль чувствовала легкую истому. И неясная тревога пробудилась в ней, тревога, которую, однако, она постеснялась бы высказать. – Я его знаю? – спросила она. И, едва произнеся эти слова, поняла ситуацию – Марио и не собирался оставаться в нею наедине! Он запретил ей взять с собой мужа, а сам позвал другого мужчину, дуэнью мужского пола. – Нет, не знаете, – ответил Марио. – Я сам познакомился с ним только вчера в посольстве. Он англичанин. Очаровательное существо. И удивительная кожа! Только здешнее солнце может придавать коже такой цвет. Цвет… как бы вам сказать… Он вам понравится! Обида и ревность терзали Эммануэль. Марио говорил с ней об этом человеке, как говорят, склонившись над витриной, о каком-нибудь лакомстве, казалось, он вот-вот причмокнет губами. Как она могла усомниться в его вкусах! Ариана была права, он неисправим. Но в то же время что-то неуловимое подсказывало Эммануэль, что прелести ожидаемого гостя предназначаются не только для того, кто их описывает, но и для нее самой. Она устроилась поудобнее на диване. Так. Если Марио хочет ее – она не будет возражать. Она ждет этого – для чего же она пришла сюда; она решилась на этот шаг не только ради Мари-Анж, но и ради себя. Она предвкушала, как будет расстегнуто платье, как она покажет свои ноги, почувствует, как к ее груди прижмется дотоле незнакомая грудь, ощутит первые прикосновения. Она будет задыхаться под тяжестью упавшего на нее тела, ею овладеют грубо, как это делают насильники. А может быть, наоборот: ласково, медлительно, пядь за пядью погружаясь в нее и вдруг останавливаясь, даже отодвигаясь, оставляя ее в ожидании, раскрытой навстречу, покорной, просящей, растерянной – о, сладчайшая отрешенность! А потом он снова возвращается, могучий, жаркий, так невероятно ласкающий все складки ее лона, выпивающий ее до последней капли и оставляющий ее орошенной, засеянной, нашедшей себя… Эммануэль кусает губы, она уже готова, пусть он начинает, ведь он должен любить это медленное овладевание плотью, она жаждет его. Не надо слишком сложных игр, ей известны итальянские вкусы, и она им не очень-то доверяет. Она уже приготовила в уме такое обращение к Марио: «Вы вправе воспользоваться представившимся вам случаем, но удовлетворитесь мною такой, какая я есть. Займитесь со мною любовью, потом отвезите меня домой, в объятия мужа. А уж после этого забавляйтесь, сколько душе угодно со своим англичанином». Но тут же она очень ярко представила, как она будет смущена, когда Марио посмотрит на нее презрительным взглядом и, скрестив руки на груди, произнесет: «Дорогая моя, вы ошибаетесь. Вы мне очень нравитесь, очень. Однако…». И, действительно, она услышала голос Марио. Он говорил: – Я очень хочу, чтобы вы показали ваши ноги. Как можно больше, так высоко, насколько это возможно. Квентин сядет вот сюда, на этот пуф. Смогли бы вы расположиться так, чтобы ваши колени были развернуты к нему и он смог бы заглянуть вам под платье? У Эммануэль помутилось в глазах, а Марио между тем положил руку на ее плечо, кончики его длинных пальцев коснулись начала ее грудей. Одной рукой осторожно развернув Эммануэль, другой он взял за подол платья и поднял его наискось, обнажив левую ногу женщины до половины ляжки, а правую почти до конца. – Нет, не надо их держать сомкнутыми. Прекрасно, вот так. И, ради Бога, не двигайтесь. А вот и он! Руку Марио смыло с бедра Эммануэль стремительной волной. Он принимал нового гостя, бросая в то же время внимательные взгляды на Эммануэль и улыбаясь ей, как улыбается экзаменатор робеющему ученику. Но самым робким оказался англичанин. Он не взглянул на ноги Эммануэль, она отметила это и с досадой и с каким-то удовлетворением от того, что маневры Марио оказались безуспешными. Квентин предстал перед ней теперь скорее союзником, чем неприятелем. Ей захотелось быть с ним полюбезней, показать ему, что он ей понравился. Он и в самом деле был, надо признаться, неплох. Если бы только не его извращенные вкусы! Увы, новый гость не знал ни слова по-французски. «Такое у меня счастье, усмехнулась про себя Эммануэль. – Я просто обречена быть предназначенной лишь тем путешественникам, которые не знают языков». Двусмысленность положения, воспоминания о путешественниках вызвали в ней довольно вольные фантазии: она попыталась представить себе, как язык Квентина находит ее язык, потом спускается к животу… Она пустила его еще дальше, вот он входит в нее… Эммануэль попыталась произнести несколько английских фраз из тех слов, что она выучила за три недели в Бангкоке, и хотя далеко это беседу не продвинуло, англичанин был явно восхищен. Роль переводчика, очевидно, не улыбалась Марио. Он занялся столом, давая приказания слуге на сиамском языке. Наконец, он опустился на ковер перед диваном Эммануэль. Повернувшись к ней вполоборота, он принялся оживленно беседовать по-английски со своим гостем. Время от времени красноречивый взгляд Квентина приглашал Эммануэль принять участие в разговоре. В конце концов она решила, что церемония слишком затягивается. – Я ничего не понимаю, – попыталась она вернуть внимание к себе. Марио встал с ковра и улыбнулся: – Ничего страшного. И, прежде чем она смогла прореагировать на его жест, он оказался рядом с ней, обнял ее за талию, опрокинул назад и крикнул своему гостю с таким воодушевлением и энтузиазмом, что Эммануэль была поражена: – Non e bella, саго? Он не отпускал ее, и она, оставаясь в той же позе, должна была открыть взору молодого англичанина свои поднятые вверх ноги. Затем Марио, пощекотав пальцами ее шею, расстегнул платье. Показались голые плечи, грудь. Марио вытянул губы, наслаждаясь этим зрелищем. – Она прекрасна, не правда ли? – на этот раз Эммануэль поняла, вопрос. Англичанин кивнул. Марио обнажил грудь женщины еще больше. – Нравятся тебе ее ноги? – спросил он. Вопрос снова был задан по-французски, и гость только кивнул в ответ. Марио продолжал: – Они очень красивы. И, самое главное, от пальцев до бедер они созданы только для наслаждения. Ладонью он провел по коленям Эммануэль. – Это же ясно, что их главная функция вовсе не ходьба. Он наклонился совсем близко к Эммануэль. – Мне хотелось бы, чтобы вы подарили ваши ноги Квентину. Идет? Не совсем понимая, чего он от нее хочет, она решила не отказывать ни в чем. Она оставалась глухой к манипуляциям Марио. Его рука снова подтянула край платья, на этот раз гораздо выше. Платье было узким, и Марио свободной рукой приподнял стан Эммануэль, чтобы обнаружились не только ноги, но и низ живота. В этот вечер, впервые за всю свою жизнь в Бангкоке, она, несмотря на жару, надела чулки. Взгляду открылся ромб, образованный поясом для чулок и прозрачными черными трусиками, под которыми благоразумно улеглись шелковистые кудряшки. – Давай, – сказал Марио, – Иди сюда! Она видела, как приблизился к ней англичанин. Потом ощутила мужскую руку на своих лодыжках, одну, потом другую. Затем снова одна. А вторая пошла выше, по икрам, задержалась на коленях, потом снова двинулась вверх и, как бы обрисовав контур бедер, замерла, не решаясь проникнуть в последнее убежище стыдливости, вход в которое открылся потрясенному взору. Тогда другая рука пришла к ней на помощь, и вот они замыкают в кольцо бедра Эммануэль, гладят их с внешней стороны, потом с внутренней, касаются полушарий ягодиц. И, осмелев, становясь все настойчивее, раздвигают ноги Эммануэль, и она кусает губы, чтобы сдержать стон. Марио любуется сценой, но Эммануэль не видит его, пока не открывает глаза. Встретившись со взглядом Марио, она старается прочесть в нем одобрение и указание. Но он улыбается загадочной улыбкой, значения которой ей не удается распознать. И тогда, словно принимая вызов, она стягивает с себя эластичные трусики. Руки англичанина сразу же кидаются к ней на помощь, они протаскивают трусики по всей длине ее ног и бросают на пол. И сейчас же слышится твердый и решительный голос Марио. Он говорит по-английски, а затем повторяет все для Эммануэль по-французски. – Вы не должны отдавать все одному человеку. Квентин получил ваши ноги, на сегодня этого для него достаточно. Сохраните для других, для другого случая остальное ваше тело. Каждая часть вашего тела – для другого мужчины. Насладитесь сначала тем, что будете отдавать себя по частям. Эммануэль готова крикнуть: «А вы? Какая моя часть предназначена вам? Что во мне соблазняет вас больше всего?». «Неужели, – спрашивает она себя, – ему хватило тех жалких прикосновений к груди?». Какое-то мгновение она даже ненавидит его. Но вот он выпрямляется, веселый, оживленный, хлопает в ладоши и радостно кричит: – Мы же собирались ужинать! Кара! Пошли! Я хочу, чтобы вы отведали кушаний, от которых можно сойти с ума! Он подхватывает ее на руки, в свете бумажных ламп ее ноги кажутся еще более стройными и вызывающими. И когда он ставит ее на пол, юбка окончательно сваливается с нее. Нагнувшись, Эммануэль замечает на полу маленький лоскуток черной прозрачной материи, ее трусики, и в замешательствеостанавливается. Марио подхватывает их необычайно элегантным движением и подносит к губам. – Погибнуть для реальности ничто, – читает он нараспев. – Но стоит гибнуть для воспоминаний. И грезами в разлуке рвется сердце. Затем он прячет сувенир под жилет и, галантно предложив Эммануэль руку, ведет ее к низкому столику, вокруг которого поставлены три стула с высокими спинками, что-то очень средневековое и очень изящное. Эммануэль не решается взглянуть на Квентина. Но мало-помалу ее начинает забавлять необычайность эксперимента, и досада на Марио улетучивается. Он, наверное, был прав, помешав ей отдаться этому милому мальчику, который в сущности, ей безразличен. Неужели ей все равно с кем спать? Неужели она будет отдаваться каждому, кто положит руку на ее колени? Достаточно того, что она позволила себе в самолете, она вечно отказывавшая мальчуганам, которые предлагали ей не только руку… Но с Марио, очевидно, все будет не так. Она уже убедила себя в том, что ничего особенного нет, если замужняя женщина делит себя между мужем и любовником. И теперь, когда Мари-Анж вбила ей в голову, ей хотелось бы завести любовника. Но одного! И пусть им будет Марио! Однако ей не хочется, чтобы партия итальянца развивалась так благополучно. И для того, чтобы показать, что из нее нелегко сделать послушную последовательницу его философии, она сказала: – Мне не совсем понятно, как ваша «любовь по частям» уживается с той эстетикой, какую вы вчера проповедовали? Если важно расточать себя, разрушать, не щадить, почему же сегодня вы призывали меня быть осторожной, отдавать себя по чайной ложечке? – Ого! Вы решили начать действовать? И где же вы предполагаете окончить? – Окончить? – Мы говорили об овальном портрете. Когда женщина, позировавшая для него, отдала свою последнюю краску и испустила последнее дыхание, какое же искусство могло остаться еще? Finita la commedia! Когда последний крик наслаждения сорвется с ваших губ, произведение исчезнет. Исчезнет, как сон, и никогда не возродится. Самый важный долг в этом бренном мире, единственный долг заставить все длиться. Разрушаясь при этом? Пусть! Но никогда не оканчиваясь. – Стало быть, вы предрекаете мне близкий конец? Но как вы не сговорились со своей ученицей! Мари-Анж призывает меня растрачиваться, вы – экономить себя. И все это во имя одного и того же – краткости жизни. – Дорогая моя, я вижу, что вы поняли меня совершенно превратно. Это оттого, что я неясно излагаю мысли. Мари-Анж делает это гораздо лучше, она умеет сформулировать то, что мы оба думаем, – и я, и она. У молоденьких девушек есть дар объяснения. С годами он, видно, теряется. – Но ваши уроки абсолютно противоречивы. Вот, к примеру, ваше учение о воздержанности… – Да это самый нелепый упрек, какого я заслуживаю, – засмеялся Марио. – Но вы, возмущаясь воздержанием, в то же время приговариваете нас к нему. – Не понимаю… Вот этот пирог поможет вам понять, что от него, во всяком случае, воздерживаться не стоит. Ну как тут было не рассмеяться! У Марио была очаровательная манера уходить от трудный вопросов. Некоторое время они говорили только на гастрономические темы. Квентин принимал самое скромное участие в разговоре, хотя Марио, как вольтижер, перескакивал с одного языка на другой. Эммануэль пела совершенно искренние гимны столу и буфету. Она признавалась, что до сих пор не придавала серьезного значения этой стороне жизни, но сегодня познала еще одну радость земного существования. – Если вы не считали гастрономию самой большой радостью жизни, то что же тогда занимало ее место? – осведомился Марио. Эммануэль поняла, что беседа направляется к другим высотам. Она призадумалась. Как ей ответить, чтобы остаться в тоне этого дома и в то же время не кинуться слишком откровенно навстречу намерениям хозяина? «В конце концов, я пришла сюда распутничать, а не заниматься философией», – сказала она себе и произнесла вслух тоном как нельзя более естественным: – Главное – много наслаждаться! Марио высказал скорее не одобрение, а нетерпение. – Конечно, конечно, – сказал он, – Но разве все равно, как наслаждаться? Эммануэль не думала над смыслом ответа, ей просто хотелось спровоцировать Марио. – Наслаждаться – и все тут! – Бедный бог, – вздохнул Марио. – Вы переходите к разговору о религии? – удивилась Эммануэль. – Я взываю к богу эстетики, – отозвался Марио. – Вы должны лучше узнать законы этого бога. Я говорю об Эросе. – Вы полагаете, я не умею ему служить? – парировала Эммануэль. – Это бог любви. – Нет, это бог эротизма. – Ах, вот вы о чем… – А разве есть другой бог? Но вы, кажется, не очень-то о нем знаете. – Ошибаетесь, очень хорошо знаю. – Правда? И что же вы знаете об эротизме? – Эротизм – это… Как бы точней… Культ чувственных наслаждений, свободный от всякой морали. – Ничего подобного, – Марио просто возликовал. – Все обстоит как раз наоборот. – Ах, это культ невинности? – Прежде всего не культ. Это торжество разума над мифами. Это не движения чувств, а упражнение ума. Не эксцессы наслаждения, а наслаждение эксцессами. Это не распущенность, а строгие правила. Это – мораль! Эммануэль беззвучно зааплодировала: – Браво! Это очень мило. – Я говорю серьезно, – остановил ее Марио. – Эротизм – не учебник развлечений для общества. Это – концепция человеческой судьбы, мера, канон, кодекс, церемониал, искусство, школа. Это еще и наука, вернее, плод последней из наук. Его законы основаны на разуме, а не на вере. На доверии, а не на страхе. И скорее на вкусе жизни, чем на мистике смерти. Он снова остановил жестом готовящуюся что-то ответить ему Эммануэль. – Эротизм – продукт не декаданса, а расцвета. Он – инструмент нравственности и социального оздоровления, потому что он снимает покровы с сексуальной жизни. Я готов утверждать, что он – непременное условие нравственного развития, ибо помогает воспитанию характера, помогает освободиться из-под власти иллюзий и ведет к ясности и трезвости взглядов. – Ну, это совсем чудно, – рассмеялась Эммануэль. – Вам кажется привлекательной эта картина? Куда приятней оставаться во власти иллюзий! – Гнев, командующий тобою, стремление властвовать и подчиняться, сладострастие от того, что ты причиняешь муки или убиваешь, обольщение, желание, любовь к смерти или к страданию, стремление увековечить эти страсти вот что я называю иллюзиями. Вас они привлекают? – Сказать по правде, нет, – согласилась Эммануэль. – Но что должно меня привлекать? – Я бы очень хотел, чтобы высшей добродетелью была страсть к красоте. В этом и заключено все. Все, что красиво, то истинно; все, что красиво, то справедливо; все, что красиво, то преодолевает смерть. Любовь к красоте делает нас другими, отличает от животных. Наши первые страхи, мысль о том, что земные соки поднимаются по нашим жилам, заставляют нас прижиматься лицом к земле, ползать в этой темной пустыне, где мы разместили своих богов. Чудо же красоты пробуждает в нас бунтующее любопытство и зовет нас к полету. Красота – это крылья мира. Без нее мы не могли бы оторваться от земли. Марио остановился, но выражение лица молчащей Эммануэль словно бы вдохновило его, и он продолжал: – Какой человеческий гений, более бдительный, чем Божий ангел, осеняет нас своим крылом?! Красота науки хранит нас от ужасов магии, красота разума внушает нам отвращение к мифам. Мир движется и над неподвижностью смеется. И в постоянном движении человек находит средство от всех кошмаров и химер. Марио повернулся к Квентину, как бы призывая его в свидетели и, сделав рукой широкий округлый жест, продолжил свою лекцию. – …Ибо наша жизнь удивительно проста: нет другого долга, чем быть разумным, нет другой судьбы, кроме любви, и нет другого знака добра, кроме красоты. Его лицо снова было обращено к Эммануэль. Он предостерегающе поднял палец: – Но помните: красота открывается для вас не в законченных вещах. Красота – не результат, не земля обетованная, не рай после страданий. Она богохульство в адрес молчащего Бога, вопрос, на который не отвечают, поход, который не кончается никогда. Она – вызов и усилие. Она – неотложность вызова и бесконечность усилий. Она равна героизму нашей судьбы. Эммануэль улыбнулась ему сочувственно, и он, казалось, понял, что это ее трогает. Он взглянул на нее дружелюбно, но в то же время было видно, что он еще не вполне уверен, поняли ли его до конца. – Красота не дарована человеку Богом, человек сам избрал ее, придумал, сотворил. Имя ее соблазнительно и поэтично. Она – надежда человечества, добродетель, рожденная людьми вопреки природе, рожденная среди отчаяния и одиночества, куда забросили людей ангелы и демоны. Она – вожделенная победа над джунглями и ливнями. Она – свет воображаемой луны, песни невидимых над поверхностью моря сирен. Итак, утверждаю я, эротизм – это торжество выдумки над природой, – самая высокая поэзия, потому что для него нет невозможного. Это – всемогущий Человек. – Эту мощь я не совсем представляю себе, – заметила Эммануэль. – Плотская связь между женщинами кажется биологическим абсурдом, она невозможна – эротизм немедленно превращает эту мечту в реальность. Содомия вызов природе, эротист становится содомитом. Любовь впятером неестественна эротизм ее воображает, он приказывает, и она осуществляется. Чтобы расцвести, эротизм, разумеется, не нуждается в этих формулах исключения: он требует только молодости и свободомыслия, истинной любви, истинной чистоты, не знающей обычаев и условий. Эротизм – это страсть храбрости. – Послушать вас, так эротизм – это сплошное извращение. Довольно трудно решиться на все это. – Тысячу раз! Разве не наслаждение – пренебречь всеми нашими химерами? И сначала самыми страшными из них – глупостью и трусостью, любимыми гидрами мещанства. Люди не могут признаться себе, что крик Гоббса остается верным и спустя три столетия: «Единственной сильной страстью в моей жизни был страх». Страх быть непохожим. Страх мысли. Страх стать счастливым. Все эти страхи несут в себе смерть поэзии и так высоко ценятся всеми: конформизм, почтение перед табу и всяческими запретами, ненависть к воображению, отказ от новизны, мазохизм, недоброжелательство, зависть, скаредность, жестокость, лицемерие, ложь, бесчестность. Одним словом – зло. Истинный враг эротизма – озлобленный и испуганный ум. – Вы великолепны, – воскликнула Эммануэль. – А я-то думала, что то, что одни называют эротизмом, другие просто зовут порочностью. – Вы сказали «порочность»? А что вы подразумеваете под этим словом? Порок означает недостаток, изъян. Конечно, эротизм, как и все, что создано человеком, не свободен от недостатков, ошибок, падений. Если это так, то будем называть порок тенью, издержками эротизма. Но есть одна вещь, которая существовать не может. Это стыдливый эротизм. Качества, которых требует акт эротизма, – логика и твердость духа перед любым испытанием, воображение, юмор, дерзость. И, конечно, нечего и говорить о силе убежденности, таланте организатора, хорошем вкусе, эстетическом чутье, без которых все попытки будут безуспешными. – Так вот почему вы считаете его моралью! – Подождите, дело не в этом, надо идти дальше. Эротизм требует прежде всего системы. Его адептами могут быть только люди принципов, знатоки теории, а не те ночные гуляки, которые хвастают количеством вина и числом женщин. – Выходит, что эротизм совершенно противоположен занятиям любовью? – Ну нет, это вы заходите слишком далеко. Но заниматься любовью – еще не значит совершать акт эротизма. Нет эротизма там, где сексуальное удовольствие получают по привычке, по обязанности, там, где это животное удовлетворение биологической потребности, желание плотское, а не эстетическое, поиски не духовных, а чувственных наслаждений, любовь к себе или к другим, а не любовь к прекрасному. Иными словами: где есть природа, там эротизма нет. Эротизм, как и вообще всякая мораль, есть средство, придуманное человеком для борьбы с природой, средство победить, преодолеть ее… Вы хорошо знаете, что человек постольку человек, поскольку становится все менее естественным, менее диким; чем дальше он от природы, тем больше в нем человеческого. Эротизм – самый человечный талант человека. Он не противостоит любви, он противостоит природе. – Как и искусство? – Браво! Мораль и искусство – это одно. Поздравляю вас с вашим определением искусства как антиприроды. Не говорил ли я вам, что искусство раскрывает себя только в преодолении природы? Уж сколько лет любители наводить тень на ясный день стараются убедить людей – и чаще всего ударами сапога, что человечество спасется от муки машинобетонной цивилизации, только если провозгласит: «Назад, к природе!». Омерзительное запугивание, гнусное оболванивание! Вернуться к почве, к земляным червям должен тот, кто изобрел математику и придумал пачки балерин? Если это стремление поскорее со всем покончить, что ж, пусть земля снова наполнится питекантропами. «Назад, к природе!». Я ненавижу природу! Пыл его даже вызвал улыбку у Эммануэль, но Марио продолжал оставаться серьезным. – Но что я говорю вам о разрушении, когда разум зовет нас к созиданию! – И он сжал руку Эммануэль с такою силой, что она чуть не вскрикнула. Тон его речи сменился. Вместо патетики в нем зазвучала убеждающая напевность. – Я плыл по Коринфскому заливу. Справа от меня были покрытые снегом вершины Пелопоннеса, слева спускались к морю золотые пляжи Аттики. Газета, которую мне только что подали, отвлекла меня на минуту от этого зрелища, но не заставила меня забыть о нем. В этой газете крупными буквами была напечатана лучшая поэма, которую когда-либо писал человек, поэма, чьи корни уходили в ту же прекрасную землю, которая сейчас тянула ко мне свои губы, открытые морским ветрам и обожженные солнцем, обжигавшим плечи Одиссея. Вот эта поэма: «3 ЯНВАРЯ, В 3.57 СПУТНИК В ВИДЕ МАЛЕНЬКОЙ БЕЛОЙ ЗВЕЗДЫ ПОЯВИТСЯ В ЦЕНТРЕ ТРЕУГОЛЬНИКА, ОБРАЗОВАННОГО АЛЬФОЙ ВОЛОПАСА, АЛЬФОЙ ВЕСОВ И АЛЬФОЙ ДЕВЫ». И звезда появилась, маленькая щепотка металла, брошенная человеком в пучину мироздания. И новый век, начавшийся с этой минуты, – он наш. Отныне пусть погибнет наша Земля и человечество исчезнет – вечно будет кружить в глубинах космоса звезда, сделанная нашими руками, произносящая слова на нашем языке, переворачивающая, разрушающая своим «бип-бип» все холодное молчание Вселенной. О вы, звезды Альфа, отмечающие своими огнями нашу победу, это любовь вытягивает свои обнаженные ноги на ваших берегах! Марио закрыл глаза. Пауза была долгой, а потом он снова заговорил, и снова изменился его голос. – Вы сказали «искусство»? Самое артистичное произведение – это то, которое отстоит как можно дальше от образа Божия. Ах, все, что создал Бог, значит так мало в сравнении с человеческим творением! Как она стала прекрасна, наша планета, с тех пор, как мы наполнили ее пустоту, с тех пор, как мы взъерошили ее нашими стеклянными дворцами и заставили дрожать ее воздух от звука наших песен! Как прекрасна она, исторгнутая из Божьего мрака светочем Человека! Какой удивительной сделали ее вы – музыканты, скульпторы, живописцы, архитекторы – все, превратившие землю и небеса в Царство Человека, слишком прекрасное, чтобы считаться созданием Бога! Марио смотрел на Эммануэль так, будто на ее лице он видел все красоты, которым только что пропел такой пламенный гимн. Он улыбнулся ей: – Искусство! Разве не благодаря ему четверорукое существо выделилось из дикого мира и превратилось в человека? Единственного во Вселенной, единственного, кто оставит после себя больше, чем получил при рождении. Но теперь искусства красок, звуков и линий мало, чтобы утолить жажду человечества, страсть к созиданию. Теперь человек хочет творить из других материалов – из собственной плоти и собственной мысли, подобно тому, как когда-то он соткал из своих сновидений апсар и гурий. Нынешнее искусство не может быть искусством холодного камня, бронзы или холста. Оно может быть только искусством живого тела, искусством жить. Единственным искусством, которое будет мерой человека в космосе, которое уведет его к звездам и дальше, будет эротизм. Выразительный голос Марио взбадривал Эммануэль, как удары хлыста. – Есть ли, спрашиваю вас, искусство более острое, более яркое, чем то, которое берет человеческое тело и делает из этого произведения природы свой собственный шедевр? Легко созданное из мрамора или путаницы штрихов не может оспаривать авторство у Вселенной. Но человек! Взять в свои руки не как гончарную глину, не для того, чтобы почувствовать строение, ощупать контуры вещества, не для того, чтобы любить, но взять именно для того, чтобы похитить его, увести от этого дурацкого ощупывания скорлупы, в которую он заключен, вырвать из нее, отбросить привычную точку зрения, изменить, как у лабораторного животного, наследственность, пересоздать его! Сделать человека снова свободным, чтобы он познал новые, собственные законы, законы, которые управляют не молекулами и кометами, законы, освобождающие его от недостатка энергии и увядания плоти. Это даже не искусство – это сам Разум… Он быстро подошел к окну, выходящему на канал. – Взгляните, – сказал он. – Пропасть не между живым и неодушевленным. Мир делится иначе: на знающих и на все остальное на свете. Этот полицейский и эта собака – они не отличаются от дерева и водорослей, которые точно такие же, как вода и камень. Но другие, посмотрите на них, украшенных своими лохмотьями, на тех, кто гребет в лодках или размышляет о чем-то, с их упрямством, с их короткими волосами, с их скрещенными пальцами… Вот человек! Надо неистово любить человека, чтобы уметь ненавидеть природу! И почти неслышно он прошептал: «Люди, люди мои, как я люблю вас, идущих в такие дали…» Чуть ли не с испугом Эммануэль спросила: – Значит, единственная для вас любовь – это любовь вопреки природе? Она постаралась смягчить вопрос улыбкой, хотя и без этой предосторожности он не мог уколоть Марио, поток слов не остановился: – Это прописная истина. И плеоназм. Любовь всегда – вопреки природе. Она антиприродна по сути. Это бунт против мирового порядка. Стать человеком – это значит с веселым смехом убежать из рая, натянуть нос Господу Богу. – И вы называете все это моралью, – усмехнулась Эммануэль. – Мораль – это то, что делает человека человеком, а не оставляет его связанным, пленным, рабом, евнухом или шутом. Ведь любовь изобретена не для унижения, не для закабаления, не для того, чтобы морщиться от отвращения. Это не кино для бедных, не транквилизатор для нервнобольных, не развлечение, не игра, не наркотик, не погремушка для ребенка. Любовь, искусство плотской любви – единственная человеческая реальность, это подлинное пристанище, твердая земля, единственно истинная часть жизни. Вспомним слова Дон Жуана: «Все, что не любовь, находится для меня в другом мире, в мире призраков. Я становлюсь человеком только тогда, когда меня сжимают в объятиях». Этот его возглас услышан и понят многими. Вы, кажется, сказали «аскетизм»? Для некоторых индусских сект эротизм связан с аскетизмом, аскетизм для них обязателен. – А я думаю о любви как о наслаждении. И никогда не устаю от занятий любовью. Марио отвесил глубокий поклон. – Я в этом не сомневался. – Это аморально – получать в любви наслаждение? – поддразнила его Эммануэль. – Я ничего подобного не говорил, – терпеливо стал разъяснять Марио. – Мораль эротизма – это наслаждение, становящееся моралью. – Если наслаждение морально, оно теряет очень много во вкусе. – Почему? – удивился Марио. – Я не понимаю вас. Для вас мораль – лишение, принуждение? Но если этот принцип лишает вас как раз лишений? Если он обязывает вас пользоваться жизнью? А идея морали, я вижу, отталкивает вас потому, что вам кажется, что она неминуемо связана с сексуальными ограничениями. Мораль ассоциируется у вас с такой, допустим, аксиомой: «Плотские желания должны удовлетворяться только в законном браке», не так ли? Не верьте, прошу вас, этим утверждениям. Они только компрометируют в ваших глазах высокое значение морали. – Послушайте, Марио, вы говорите все загадочней. Я не могу понять, куда вы клоните. Вы начали с эротизма, а кончаете, как проповедник плоти. Я ничего не понимаю. Что вы называете благом, а что злом? – Будьте спокойны, вы это увидите. Но сначала попробуем установить, что подразумевают другие под добром и злом. И начнем с тех «добродетелей», которые для вас тесно связаны с понятием морали: скромность, чистота, целомудренность, супружеская верность… – Почему только для меня? Разве не все называют это моралью? – Я это знаю, и я над этим смеюсь. Потому что, только злоупотребляя доверием, сексуальные табу проникают в царство морали и устанавливают там свои не правые законы. Высший закон не на их стороне. Более того: по самой своей сути, по замыслу они аморальны, они рождены будничным, практичным расчетом: заботой уверить собственника земли в том, что он хозяин и детей, и всяких внешних знаков богатства, – Марио взял с книжной полки тяжелый, с застежками из слоновой кости, том. – Послушайте, я напомню вам заветы Моисея, – он раскрыл книгу. – Вот XX глава книги «Исход». Я читаю то, что было заповедано в скрижалях, выбитых на камне: «Не желай дома ближнего твоего; ни раба его; ни вола его; ни осла его; ничего, что у ближнего твоего». Вот как ясно сказано, без всяких экивоков. Женщина, знай свое место! Его определил сам Всевышний: между гумном и скотным двором, среди прочего имущества. И конечно же, не на первом месте. На первом месте – дом, строение. Жена, ты уступаешь первенство кирпичу и соломе. Раба, ты стоишь меньше слуги, чуть-чуть дороже, может быть, рогатого и вьючного скота. Марио захлопнул Библию, но проповедь его не кончилась. – Говорят, средние века изобрели любовь. Средние века скорее поселили в нас отвращение к ней. Да, сегодня любовь имеет шанс возродиться, потому что наше время – могила всяческих мифов. Даря нам свою «мораль», феодальный грамотей надеялся на века отбить у нас охоту к наслаждению, к игре. Посмотрите, что же осталось от его намерений, от его находок. Пояса целомудрия, которые сеньоры надевали на своих жен и своих ослиц, разбились вдребезги возле возведенных ими проржавевших бойниц и зубцов. Почтим их память, поместив их в музеи. Но сначала отметим, что их гибель в высшей степени моральна, а вот рождение было совсем напротив – аморальным. Он иронически рассмеялся: – Поучительно даже, что цена всей сексуальной морали выясняется в простом лингвистическом исследовании. Посмотрите, что произошло с латинским словом «пулла». От него произошли сразу и «пюсель» – девственница, и «пуль» – курица. Вы видите, как наудачу определяется выбор между добром и злом. Как легко может произойти противоположное: быть курицей – значит быть счастливой и в высшей степени добродетельной, а с другой стороны, – надо остерегаться девственности как преступления против Бога и Церкви. Эммануэль все это время раздумывала. Она понимала нападки Марио на традиционную мораль, но зачем тратить время на возведение новой этики на развалинах старой? Не лучше ли заниматься любовью по своей воле, свободно, не ломая голову над созданием нового кодекса? Разве так уж обязательно провозглашать новые законы? – Но на смену дурным законам не должно прийти беззаконие, – Марио словно подслушал мысли Эммануэль. – Мы не должны возвращаться в джунгли, мы должны признать, что нам известно могущество человека, что современное существо отрекается от атрофии и анархии и что новые законы дадут нам счастье. Новый закон, благой закон просто провозглашает, что заниматься любовью – добро и благо, что девственность не есть добродетель, что супружество не должно быть тюрьмой, «галерами счастья», что наслаждение важнее всего и что надо не только не отказывать, но наоборот, надо всегда предлагать себя, свое тело, отдаваться, соединять свое «я» со множеством других и понимать, что часы, проведенные без объятий, – потерянные для жизни часы. И как бы внушая самое важное, он поднял указательный перст. – Если к этому главному закону вы вдобавок узнаете и другие, помните, что они только разъясняют главный закон, помогая ему привести вашу душу и тело к полному единству и к полному счастью. – Но, – сказала Эммануэль, – если сексуальное табу буржуазии чисто экономического происхождения, то выходит, что говоря об эротизме, вы предлагаете подлинную революцию? Это что-то вроде коммунизма? – Ни в коем случае. Я предлагаю гораздо более важное и более радикальное. Это, скорее, что-то вроде мутации, в результате которой рыба, если ей надоест море, позовет однажды Эммануэль к себе, чтобы она узнала новый вкус жизни. – Выходит, – улыбнулась Эммануэль, – человек эротический станет животным? – Он останется человеком, но будет больше, чем человек, продвинется дальше по эволюционной лестнице. Это – я постараюсь вам сейчас объяснить – выход искусства из глубины пещер. Мы как бы восстанавливаем минуту, когда первый человек отделился от последней обезьяны. И этот миг приближается: так же как искусство отличает человека от зверя, так и искусство эротизма отделит человека гордого и могучего от человека стыдящегося, который стыдится своей наготы и прячет под одеждой то, чем он должен гордиться. – Но кто заставит поверить, что этот поток увлечет человека? Что ваша мораль победит прежнюю, за которой обычай и вера? Может быть, произойдет обратное? – Нет, я не могу поверить, что человек, пройдя такую дорогу, вдруг остановится. Он пойдет дальше! Сначала ощупью, дрожа от страха, но не поворачивая обратно, все более отдаляясь от других тварей. Голос Квентина заставил Эммануэль вздрогнуть. Она совсем забыла о третьем собеседнике. Квентин принялся что-то с жаром рассказывать Марио. Тот слушал его внимательно, лишь изредка прерывая одобрительными возгласами. В конце концов он перевел для Эммануэль рассказ Квентина, и она поняла, что англичанин кое-что уловил из их дискуссии. – То, что рассказал мне Квентин, еще более укрепляет меня в моих надеждах. Оказывается, мутирующая ветвь или, по крайней мере, мутирующая почка уже существует и, что самое главное, существует тысячелетия. Наш друг вместе с известным социологом Верьером Эльвином несколько месяцев был гостем одного племени в Индии. Так называемые «цивилизованные» индусы называют это племя первобытным, но на самом деле оно, по-моему, авангард человеческой расы. Эти люди называются мурья. Их общество построено на основах сексуальной морали, прямо противоположной нашей. Их мораль не запрещающая, а побудительная. Главное в их системе воспитания – общие спальни, в которых дети обоих полов с самого нежного возраста обучаются искусству любви. Этот институт называется… – Готхул. – Да, Готхул. Так вот, там задолго до полного созревания, девочки посвящаются во все таинства плотской любви старшими юношами, а маленьких мальчиков обучают этому девушки. И ничего грубого, животного. Практика любви в результате многовекового опыта доведена до высочайшего уровня изысканности. Так что эта стажировка, а она длится несколько лет, служит одновременно и для формирования артистического вкуса. В промежутках между объятиями пансионеры Готхула проводят свой досуг, украшая стены дортуаров. Их рисунки, картины, скульптуры полны самого разнообразного эротического вдохновения. Квентин рассказал мне, что они так преуспели в своем искусстве, что спокойно пройти по этой галерее невозможно. И видя, одиннадцатилетних девочек, имитирующих самые смелые изображения этого музея любви, показывающих без всякого стеснения, без стыда, при широко распахнутых дверях, под горделивыми взглядами своих родителей такие живые картины, какие в Европе можно видеть только в исправительных домах или на страницах особого рода книжек, понимаешь, что эти мурья не отстали от человечества на тысячу лет, но на многие века обогнали его. Марио замолчал. Квентин возобновил свой рассказ. – Самое замечательное, что эти «практические занятия», которыми занимаются все дети племени, имеют характер системы, строгих и хорошо разработанных правил. Это не распущенность нравов и не врожденное отсутствие морали. Это не разврат, но этика. Дисциплина в Готхуле довольно сурова, младшие глубоко почитают старших. Закон строго-настрого запрещает всякую прочную связь между юношей и девушкой. Никто не имеет права сказать, что та или иная девушка «его». Закон строго наказывает того, кто проведет с одной из них более трех ночей кряду. Все для того, чтобы не возникло чувство собственности и не было ревности. «Все принадлежит всем». Если юноша проявит инстинкт собственности, заявит исключительные права на какую-нибудь девушку, если на лице его появится выражение огорчения, когда он увидит ее во время занятий с другим, он подвергается наказанию. Община помогает ему вернуться на правый путь. Он должен активно помогать другим юношам в овладении той, на кого он заявил было права. Ему придется не только собственноручно ввести член своего соперника-компаньона туда, куда следует, но еще и радоваться этой службе. Таким образом, самым тяжелым преступлением у мурья является не кража, не убийство (которого они, правда, не знают), а ревность. И благодаря этому, когда молодые люди вступают в брак, они не только обладают сексуальным опытом, причем уникальным опытом, но они совсем другие люди: все тени, все муки, все отчаянье нашей цивилизации им чужды. Они счастливы. Этот рассказ, что и говорить, произвел на Эммануэль впечатление. Но сомнения все еще не покинули ее. – Однако, Марио, такая мораль не может сразу овладеть обществом. У этих людей она существует веками. Это должно быть врожденным чувством. Напомню вам, вы только что уподобили дар эротизма дару поэзии. Но нельзя же стать поэтом, лишь захотев писать стихи. Таланту нельзя научиться, это дар, поэтом рождаются. И если ты бездарен, у тебя ничего не получится. – Еще одна общая иллюзия! Надо ли вам повторять, что нет другой поэзии в природе, чем та, какую создал в ней человек. Нет другой гармонии, другой красоты. И человек постигает эту гармонию, обнаруживает свой гений, как правило, уже в зрелом возрасте. Пример мурья ясно показывает нам, что этого можно достичь совсем юным. Не родятся поэтом. Не родятся никем. Всем надо становиться. Мы можем стать людьми, превратиться в человека, явиться в мир в новом одеянии. Так является в мир после линьки рак-отшельник. И, как скорлупу, мы оставим за собой наши мифы, наше невежество. Только так можем мы родиться окончательно, двигаясь с каждым взрывом мутации все ближе к человеку. Учиться – значит учиться наслаждению. Овидий уже сказал это: «Знанью покорен Амур». Эммануэль не читала Овидия, но кивнула головой – дальше, дальше! – Нам ведь многому надо учиться: искусству, морали, науке, красоте, добру, истине. Время незнания кончается. К счастью, есть один прелестный ребенок – Эрос, облегчающий нам работу. Словом, достаточно размышлений, опыта и эротической проницательности, чтобы постичь и поэзию, и мораль, и ясное мироощущение – хотя все это лишь части одного – урока человека, тогда как в старой школе мы проходим только уроки вещей. – Ваши объяснения делаются все более абстрактными, а я простая женщина, мне нужны примеры того, что я должна совершать на деле. – Что совершать? Воображать, видеть и, как бы точнее выразиться, провоцировать по возможности эти положения, эти встречи, эти неожиданные связи, без которых нет подлинной поэтичности. Вот вам пример одного из источников эротизма. – Вы сказали «неожиданные». Значит, в том, что ждешь, к чему готовишься, не может быть наслаждения? – Эротизм, милая моя, в том, что ломает привычку. Наслаждение теряет артистичность, если оно привычное наслаждение. Только небанальное имеет цену, только исключительное, необычное, что дважды никогда не увидишь. – Но выходит, что когда эротическая любовь станет признанной, эротизм потеряет свою привлекательность? Может быть, для ваших мурья заниматься любовью так же скучно, как возиться на кухне. – А я бы таких выводов из рассказа Квентина не делал. Мне кажется, что, наоборот, с малых лет преуспевшие в науке любви, они всю жизнь ничего не ставят выше сексуальных игр. В Индии их и знают как ярых проповедников Ганеши, бога физической любви. Но я согласен с вами, что их опыт может оказаться непригодным для нас. Все-таки наш дух остается в рамках традиционного сексуального ханжества, а ханжество сильнее, чем доводы разума. Но не надо льстить себе, полагая, что мы способны предугадать, что произойдет с психологией наших потомков-мутантов. И давайте признаемся, что для таких узников, какими мы все же остаемся, чудесное освобождение эротических эмоций предстает чаще всего как изъян в обычном. Это так – и к сожалению, и к радости. Сидящие в нас пережитки ложных моральных правил и дают нам наслаждение оттого, что мы эти правила рвем, что мы бываем шокированы или сами шокируем. Это – наш реванш. Для женщины нет ничего эротического в том, что ее супруг оплодотворяет ее в постели перед сном. Но если в полдник она позовет своего сына, чтобы он приготовил для сестрички маленькую тартинку спермы, это будет эротичным, потому что такое меню еще не вошло в употребление. Когда мещане привыкнут к этому, надо будет придумать что-то другое. – Так я была права, когда говорила, что если эротизму нужно только экстраординарное, запретное, то само его развитие угрожает его существованию. В один прекрасный день он станет привычным! Он станет правильным, пресным. – Согласитесь без всякого риска, дорогая, что уже с давних пор ничего нового придумать нельзя. И однако ваши страхи напрасны, потому что эротизм не наследство, не общее достояние, он – персональное приключение. Будьте спокойны – эротизм сохранит свою ценность даже среди освободившегося от сексуального табу человечества. Ведь от того, что известны законы стихосложения, поэтов не прибавляется? Что могла возразить на это Эммануэль? Марио продолжал монолог: – Артист творит заново не для истории, а для себя. В отличие от науки искусство не зависит от уже совершенного. Какая разница, что лошади и люди уже были изображены, – под моими пальцами они рождаются для меня впервые и так же впервые их увидит зритель. Но нужно, чтобы наше произведение увидели. Искусства нет там, где нет зрителя или слушателя. Марио остановился, ожидая ответа Эммануэль. Но она молчала. – Дети мурья, – двинулся дальше Марио, – занимаются любовью на виду у своих товарищей, на виду у случайных гостей. Оставшись вдвоем в стенах комнаты, они быстро соскучились бы. Вы боитесь, что привычка притупит наслаждение. Но взгляды других – может быть, они раскрывают для нас новые горизонты? Вот теперь вы узнаете второй закон эротизма – необходимость асимметрии. – Что это значит? А впрочем, какой был первый закон? – Первый – необычность. Но оба они, как я уже говорил, – «малые законы». Главнейший, необходимый и достаточный закон – верховная простота. – Тот, что тут же переходит в другой – наслаждаться артистично, в постоянно обновляющихся объятиях – означает не растрачивать время попусту. – Примерно так, хотя выражение «постоянно обновляющиеся» не кажется мне удачным. Из него можно сделать вывод, что вы должны бросать прежних партнеров, когда появляются новые. Это страшная ошибка! Увеличение их числа, а не преемственность – вот что повысит степень вашего счастья. От непостоянных сердец Эрос скрывает свои секреты. Зачем же отдавать себя, если вы тут же себя отбираете. Мир для вас окажется не очень обширным. Теперь Эммануэль была само внимание, и Марио воодушевился еще больше. – И, кроме того, поскольку я знаю, как вам дорога эта мысль, для вас я ставлю главный акцент не на наслаждении, а на искусстве. Вы мне это простите? – Ладно, – бросила умиротворенная Эммануэль. – Будем говорить об искусстве наслаждаться вместо «наслаждаться с искусством». Подойдет ли вам, если я так сформулирую: «Всякое время, проведенное не в объятиях все более многочисленных, есть потерянное время?» – Очень хорошо, – одобрил Марио. – У вас определенный дар формулировок. Надо, чтобы вы поупражнялись в этом, и как-нибудь я закажу вам сборник афоризмов. Марио говорил совершенно серьезно, но Эммануэль рассмеялась. Марио решил уточнить. – Разумеется, не надо придавать буквальный смысл словам «в объятиях». Здесь, учтите это, мы имеем в виду не только руки ваши или руки другого, но и зрение его и слух, если он, скажем, находится за дверью или на другом конце телефонного провода; даже его образ в глубине вашей души. Но не будем дальше блуждать в терминологии… – Одну минутку. Может быть, «искусство любить» будет более изящным, чем «искусство наслаждаться»? – Более изящным, без сомнения, но менее точным. Хорошо, вы уговорили меня на «искусство», а я уступаю вам «наслаждение», и не будем больше возвращаться на эту тропу. Чтобы любить, надо быть, по крайней мере, вдвоем, а наслаждаться можно и в одиночестве. – Еще бы, – откликнулась Эммануэль. – И даже надо наслаждаться в одиночестве, – присовокупил Марио. – Царство эротизма закрыто для того, кто не знает, как наполнить свое одиночество. – И тут же спросил: – Вы умеете заниматься любовью в одиночестве? Она утвердительно кивнула головой. Марио не унимался: – И вам это нравится? – О да! Очень. – И часто вы это делаете? – Очень часто. Ей было совсем не стыдно признаваться в этом. Напротив. Ее муж даже одобрял эти занятия. Он сказал ей как-то, что не надо прятаться от него, когда она забавляется под душем, и ей очень понравилось предаваться этому детскому пороку у него на глазах. – Значит, вам легко понять закон асимметрии, – заключил Марио. – Ой, правда, я совсем о нем забыла. Я, признаться, не совсем улавливаю… Необычность – понятно, но при чем тут асимметрия… – Тогда я снова прибегну к научным положениям. Для того, чтобы родиться, эротизму нужны те же условия, какие требуются для появления всякой жизни. Вас, должно быть, учили, что в создании клетки участвуют большие молекулы протеина. Так вот, эти молекулы весьма асимметричны. Не бывает высокоорганизованной материи, не бывает жизни, не бывает никакого прогресса без известного неравенства вначале. Это условие всякой эволюции, и эротизм подчиняется тем же законам. Жизнь и, следовательно, эротизм не терпят равновесия. Марио перевел дух. – Если же мы снова взглянем на эротизм с точки зрения искусства, мы увидим, что искусство должно быть не только незамкнутым, публичным, но и асимметричным. Например, число тех, кто занимается любовью, должно быть нечетным. – О-о, – протянула Эммануэль, скорее заинтересованная, чем шокированная. – Совершенно точно. Например, один – нечетное число. Тот, кто онанирует, есть и актер, и зритель одновременно. Оттого мастурбация эротична в высшей степени, она – шедевр искусства. Эротичен также и адюльтер – треугольник разрушает банальность пары. В паре нет эротичности вне присутствия третьего. А если его нет в действительности, пусть он присутствует в сознании одного из партнеров. Разве никогда в чьих-нибудь объятиях вас не посещал образ другого человека, которому вы тоже расточали ласки? Насколько слаще кажется вам твердая плоть вашего супруга, если в тог же миг перед вашими закрытыми глазами проходит видение берущего вас друга дома или мужа вашей подруги, или киногероя, или любовника времен вашей юности. Ответьте мне: нравится вам это? Бывает такое с вами? Без секунды колебаний Эммануэль кивнула головой. Да, с ней такое бывало. Можно подумать, что Марио читает ее мысли, потому что в предшествующую ночь, когда она стонала и билась в объятиях Жана, в ее воображении ею овладевал Марио. И так же это было с Кристофером в день его приезда, с любовниками Арианы, которых она даже не знала, с братом Жана, когда она с ним познакомилась. А в последние недели ей виделись еще ее спутники по ночному полету, особенно греческая статуя. Все эти образы встали сейчас перед ее мысленным взором так отчетливо, что она боялась пошевельнуться, слушая слова Марио. – Но надо вам заметить, что если оба партнера будут думать о третьем, нечетность исчезнет. Пусть думает о нем только один, а другой должен отдавать себя без остатка, со всем пылом, со всей своей мощью. Избегайте четности! Марио сцепил руки, как бы изображая пару, и сразу же разомкнул их. – Ну, разумеется, реальность всегда лучше воображения: наблюдатель во плоти всегда лучше воображаемого наблюдателя. Самое естественное положение для любовника – место посреди пары. На этот раз Эммануэль решила, что максимы Марио чересчур смелы и не отдают хорошим вкусом. Молчание показалось ей самым элегантным способом дать ему это почувствовать. Но молчание не произвело никакого впечатления. Он продолжал и пошел еще дальше. – Но истинный артист всегда стремится к тому, чтобы зрителей было как можно больше. Эммануэль подумала, что дело начинает отдавать фарсом. – Иначе говоря, – сухо заметила она, – нет эротизма без эксгибиционизма. – Фу, – фыркнул Марио. – Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать этим словом. Но я знаю, что, к примеру, заниматься любовью среди ночи, на улице, где можно встретить иногда прохожих – значит стимулировать дух. – А почему же тогда не средь бела дня, на площади, полной народу? Ирония лишь слегка прикрывала заинтересованность Эммануэль. – Потому что эротизм – подлинный эротизм, эротизм высокой марки – как и всякое искусство, всегда элитарен и избегает толпы. Ему чужды давка, шум, ярмарочные фонари, любая вульгарность. Ему нужны малочисленность, беспечность, пышность, декор. У него есть условности, как в театре. Эммануэль размышляет, ей уже не кажется это фарсом. И с воодушевлением, ей самой не совсем понятным, признается: – Думаю, что я смогла бы это сделать. – Заниматься любовью на улице перед несколькими внимательными наблюдателями? – Да. – Потому что вы вообще любите заниматься любовью или из удовольствия проделать это все публично? – Думаю, что скорее по второй причине. – А если вас попросят притвориться? Если мужчина, только чтобы шокировать публику, будет делать вид, что он вас берет, вы будете довольны? – Нет, – отрезала Эммануэль. – Что же в этом хорошего? Ей хотелось любви сейчас же. Ей хотелось, чтобы Мариовзял ее немедленно или хотя бы пусть он смотрит, как она будет успокаивать себя сама. Она не знала точно, чего ей больше хочется… И сказала, стараясь, чтобы было ясно, что она говорит и о настоящей минуте: – Я ведь хочу и физического наслаждения. – «Много наслаждаться», не так ли? Я понимаю… – Конечно, почему бы и нет, – она начинала злиться, – Что тут плохого? Едва уловимая усмешка, которую она отметила в последних фразах Марио, казалась ей невыносимой. Он медленно покачал головой. – Здесь есть плохое. – И, выждав немного, провозгласил: «Камень преткновения в постижении эротизма – чувственность». – О, Марио, вы утомительны! – И я вам надоел? – Нет, но вы слишком любите парадоксы. – Здесь нет парадокса. Вы, конечно, знаете, что такое энтропия? – Угу, – пробормотала Эммануэль, тщетно пытаясь восстановить в памяти туманные формулировки. – Ну вот, энтропия – это, говоря в общих чертах, истощение, падение энергии. Она грозит эротизму так же, как и всему в подлунном мире. Но у эротизма специфическая форма энтропии, она называется насыщением чувств. Утоленное сладострастие – мертвое сладострастие. Помните очень точные слова Дон Жуана: «Все, что не приводит меня в восторг, убивает меня»? Это то, о чем я говорил, упоминая равновесие. В любую минуту каждому из нас грозит утоление желаний. Оно грозит выставленным напоказ счастьем, сытостью, от которой рукой подать до вечного сна. Счастливый брак, герои нежно целуются перед алтарем, и на экране появляется слово «КОНЕЦ». У хэппи-энда очень мрачные перспективы. И единственная защита против подобной энтропии в том, чтобы отказаться от соблазна утоления, никогда не принимать наслаждения, если нет уверенности, что будешь наслаждаться и дальше. Я скажу более определенно – надо быть уверенным, что после оргазма можешь снова прийти в возбуждение. – Марио, – простонала Эммануэль. Он опять наставительно поднял палец. – Эротизм – не эякуляция. Эротизм – эрекция! Эммануэль не захотела остаться в долгу по части смелости. – Эта ремарка, – заметила она, – по-моему, больше касается мужчин. Женщины в этом отношении имеют преимущество перед большинством своих партнеров. Он удовлетворенно улыбнулся и процитировал: «Психея всегда готова». Но Эммануэль не торопилась безоговорочно согласиться с Марио. Она тоже умеет рассуждать! – В конце концов получается, что под предлогом эротизма надо перестать заниматься любовью. Ведь занятие любовью – это наслаждение? Я вам предсказываю: ваши теории приведут к тому, что в каком-нибудь новом катехизисе будет сказано: «Культивируйте ваш дух и умертвите вашу чувственность». Нет уж, я буду придерживаться моей прежней точки зрения: мне плевать на мораль. И на эротизм, если в нем столько запретов! Я предпочитаю заниматься любовью столько, сколько захочется, дарить моему телу все радости, какие ему нужны. Мне не хочется «дозировать» себя, даже если мой дух от этого взлетит на невиданную высоту! – Очень хорошо, превосходно! Если б вы знали, до какой степени я вас одобряю! Какое счастье найти женщину, готовую полностью посвятить себя сладострастию! Все, что я вам только что советовал, не имеет никакой другой цели, кроме помощи вам именно в таком подвиге. Я же не говорю вам, что вы должны ограничить свои радости. Я только спрашиваю: как вы полагаете, что надо делать, чтобы наслаждаться не только телом, но и душой? Я призывал ведь только к одному: к следованию элементарным законам – берегитесь одинокого существования, ведущего к вечному покою и сну, никогда не считайте себя удовлетворенной, тотчас же ищите другое наслаждение; не успокаивайтесь на утолении, оно ведет к умиранию эротизма; не называйте блаженством грустное животное спаривание, не отождествляйте идею совокупления с понятием пары. Он явно был доволен своей речью. – И не упрекайте меня в том, что я хочу вас ограничить. Как раз я открываю перед вами двери безграничности! Знайте, что ваш кругозор будет необычайно узок, если вы будете желать любви только одного человека. Я не говорил о любви одного, не говорил о любви нескольких, я говорил о любви бесчисленных! Эммануэль надула губы. На ее лице была мина сомнения, упрямства, отказа. И это почему-то привело Марио в умиление. – Как вы красивы! – воскликнул он. Ответа не последовало, он любовался ею в полном молчании, а потом прошептал стихи: «Если хочешь – полюбим друг друга. Пусть молчат наши губы под поцелуями…» Словно сбрасывая наваждение, Эммануэль тряхнула головой и улыбнулась. Марио улыбнулся ей в ответ такой радостной, такой сияющей улыбкой, что она, смущенная, удивленная этой метаморфозой, решилась на прямой вопрос: – Так что же делать? И он ответил ей новой цитатой: – «Оставайся лежать, мое тело, ибо твоя судьба… Наслаждайся насущным, нынешним наслажденьем, не ожидай завтра… Завтра убьет нас…» – Ну вот, – обрадовалась Эммануэль. – Это как раз то, о чем я говорила. – Я тоже говорил это. Она засмеялась: надо же, Марио всегда оказывается прав. – Но я упоминал при этом много важных деталей, добавил он. – Даже слишком много, – пожаловалась Эммануэль. – Все эти ваши законы! Я вспоминаю два первых… – Я только что изложил вам третий – Закон Числа. Умножение – вот важнейшее правило эротизма. И наоборот: там, где ограничение – там эротизма нет. Например, ограничение парой. Я сейчас объясню вам, сколько зла таится в паре. – Ладно, – уступила Эммануэль. – Пусть пара будет вне закона. Но к чему это приведет? Придется отказываться от любви с одним человеком? Предаваться ей только в трио, а то еще квинтетом, септетом. – Если хочется, – согласился Марио. – Но не обязательно. Число существует не только во времени, но и в пространстве. И можно не только складывать и умножать, но можно вычитать и делить. В начале этого вечера, мой друг, я кажется рассердил вас, указав способ, которым можно себя делить? Это напоминание вызвало на ее лице лукавую усмешку, она хотела что-то сказать Марио, но промолчала, и он продолжал: – Что касается вычитания: наслаждайтесь иногда, споря с вашими чувствами. Заставляйте себя отступать перед ними, прежде чем уступить, прежде чем отдать им в конце дороги роскошный дворец. Пусть длится наслаждение, продлевайте желание. И пьянейте от ваших прелестей только сами. Давайте полными пригоршнями одним то, в чем вы откажете другим, несмотря на все их заслуги. Тому, кто приготовился томиться по вас месяцами и бороться за вас, как рыцарь Святого Грааля, отдайтесь неожиданно, в первый же день. Тому же, с кем вы давно уже обменивались самыми интимными ласками, отказывайте в «последнем залоге любви». Незнакомец пусть берет вас без всякой предосторожности и подготовки, но другу, который с детства воображает в мечтах, как он сладостно проникнет в вас, позвольте излиться только в чашу, сложенную из ваших ладоней. – Вы ужасны! И вы думаете, что я буду заниматься всем этим свинством? Слава Богу, что вы говорите это в шутку, чтобы посмеяться. – Да, да, такие слова и говорят для того, чтобы смеяться. Только стыдливость печальна. Но что ужасного в том, что я вам сказал? То, что и руки наши… – Не говорите глупостей, совсем не это… – О, тогда хвалю вас! А сколько женщин думает, что только их живот, грудь, губы пленяют и влекут. Но ведь именно руки делают нас человеком! Что, как не женские руки, превращают нас, мужчин, в человека? Мы можем распутничать с ланью или львицей, ласкать, дрожать под их языком. Но только женщина может заставить нас излиться в свои ладони. Именно по своей человечности этот способ должен быть предпочтен всем другим. Эммануэль кивнула головой, показывая, что она согласна с тем, что все вкусы имеют право на существование. Зачем отнимать у Марио те радости, которые он испытывает, демонстрируя перед ней свой отказ от всего общепринятого? Так вечер станет еще занятней. Но в одном она не торопилась – ей не казалось, что этот закон более важен, чем остальные. – Всей этой математической лекцией вы, я вижу, стремитесь мне внушить что я должна распутничать с уймой людей – с одним так, с другим этак. Вы не говорите, чтобы я стала покладистой бабенкой, но и не предлагаете мне вместо моего тела обзавестись какой-то бесконечной субстанцией. Вот почему я считаю вас легкомысленным соблазнителем. – А почему бы вам не разделить между многими, между бесчисленными любовниками тело, которое могло бы насладиться всем? Что вам тут не нравится? – О Марио! Вы же это хорошо знаете… Она надеялась, что он правильно поймет это ее восклицание. Но он не захотел пойти ей навстречу, и Эммануэль пришлось повторить вопрос: – По какой же причине я должна это делать? – Я уже вам сказал: по причине эротизма. Потому что эротизм нуждается в количестве. Нет большего удовольствия для женщины, чем вести счет своим любовникам: ребенком – по пальцам, в колледже – в ритм занятий и лекций, в замужестве – в тайной записной книжке. И отмечать там особым знаком день, когда к списку прибавляется новое имя: «Смотри-ка, почти месяц после предыдущего». Или с притворными угрызениями совести: «Какой ужас – в одну неделю двое!». Или радостно, бесстыдно: «Ура! В эту неделю – ежедневно!». И, прижавшись к самой близкой подружке, прошептать ей на ухо: «У тебя дошло до сотни?» «Еще нет, а у тебя?» «Да гораздо больше!». О, радость! Эти сотни, тысячи тел, которые смогло вместить одно ваше тело! И вы сожалеете о тех, кого вам не пришлось узнать. Вспомните определение, которое я дал эротизму, наслаждение экстазом. – Подождите, – остановил Марио приготовившуюся что-то возразить собеседницу. – Закон количества требует как необходимое следствие другого, против которого вы, я уверен, возражать не будете: надо остерегаться пресыщения. Ведь так легко понять, почему для наслаждения необходимо множество любовников или любовниц – из страха, чтобы ваши чувства не угомонились, никогда не отдавайтесь мужчине, не будучи уверены, что наготове уже находится другой. – Но ведь это никогда не кончится, – взмолилась Эммануэль. – После одного – другой, потом еще один в резерве? – А почему бы и нет? – ответил вопросом на вопрос Марио. – Но ведь есть же предел человеческим силам, – от души рассмеялась Эммануэль. – К несчастью, – помрачнел Марио. – Но дух может все преодолеть. Важно, что дух вечно неудовлетворен, вечно ненасытен. – Самое верное средство для поддержания духа, если я вас правильно поняла, это – заниматься любовью непрерывно? – Конечно же, нет, – поморщился Марио. – Дело не в том, чтобы заниматься любовью, а в том, как ею заниматься. Сам по себе акт совокупления недостаточен для создания эротических ценностей, пусть он даже будет длиться бесконечно. Может быть, день, когда вы отдадитесь десяти, двадцати мужчинам кряду, станет для вас днем невыразимого блаженства, но он может также вызвать тоску и досаду. Все зависит от момента, от того, что этому предшествует и чего вы ждете потом. Это потому, что существуют законы, но нет правил: чтобы достичь пика эротической законченности, вы можете сегодня отдать свое тело этим двадцати одинаковым способом, не отличая особенно одного от другого, назавтра же вы будете совершенно разной с каждым из них. – Тридцать две позы Венеры, – громко засмеялась Эммануэль. – Абсурд! Эротизм не интересуется позами. Он рождает ситуации. Единственно важные позы – те, что проносятся в вашем мозгу. Пусть в любви участвует и голова! Наполните ее таким количеством органов, таким числом сладострастных переживаний, каких не наберется у всех мужчин мира. Пусть каждое ваше объятие включает в себя и предвещает другое. Пусть берущий вас мужчина будет и тот, кого вы сейчас держите за руку, и тот, с кем вы когда-то читали Гомера. Несмотря на усмешку на губах, Эммануэль была взволнована более, чем ей хотелось показать. – Значит ли это, что если мой муж захочет заняться со мной любовью, я должна буду ему сказать: «Невозможно, дорогой, ведь нас только двое»… – И он будет доволен таким положением, – ответил Марио вполне серьезно. – Но, как я вам уже говорил, если третий не может быть воочию, то дело вашего мозга создать его. Это понравилось Эммануэль. В самом деле, подумала она, до сих пор самым большим из известных ей наслаждений было воображаемое перенесение в объятия другого, выбранного ею по своему желанию в тот миг, когда Жан пронизывает ее. Вот первое эротическое открытие, которое она совершила сама, еще до знакомства с Марио, и которое с начала ее любви к Жану покорялось пять или шесть раз. Теперь, решила она, я буду испытывать это каждую ночь. Прекрасно! Отныне она будет стремиться в объятия мужа не только из любви к нему, не только ради плотского желания, но и для того, чтобы появился любой выбранный ею мужчина, и она без всякого стыда и стеснения будет испытывать его самые интимные ласки и так же нежно и бесстыдно ласкать его. Она поклялась себе, что каждый раз будет теперь вызывать «третьего», чтобы соблюдать закон асимметрии или «нечетности». Она была так взволнована, представив себе все это изысканное угощение, что ей захотелось немедленно оказаться в постели с Жаном, чтобы заняться любовью с «третьим». С кем же? – спросила она себя. Очевидно, не с Марио, это было бы смешно. Значит, с Квентином. – Надо стараться, чтобы по ошибке я не вызвала в супружескую постель двух фантомов сразу, – ехидно произнесла она. – Тогда компания сделается четной, и – бац! – все рухнет. Марио улыбнулся: – Нет, так это все-таки будет асимметрично. Я никогда не буду учить вас любви вчетвером, если вы образуете две пары, в одной постели. Нет ничего более плоского, более кухонного. Но вы ошибаетесь, если решите, что число четыре находится под запретом. Оно открывает большие возможности для разбивки четырехугольника, например, на три и один. То же самое и с восьмеркой, только, разумеется, не с четырьмя парами. Шестеро мужчин и две женщины – комбинация наиболее элегантная, которая для начала доставляет каждой даме трех рыцарей, а заканчивается сочленением обеих образовавшихся групп. Эммануэль попробовала мысленно представить себе эту картину… – Впрочем, я согласен, – сказал Марио, добродушно усмехаясь, – что в простоте тоже есть своя прелесть и что самой сладкой манерой любви для женщины всегда остается, как вы справедливо изволили только что заметить, – отдаваться одновременно двум мужчинам (Эммануэль нахмурила брови, пытаясь вспомнить, когда же она высказала такую мысль). Немногое превосходит эту комбинацию законченностью и гармоничностью, и понятно, почему ее так любят все женщины с хорошим вкусом. Между любовью с одним мужчиной и любовью с двумя – такая же разница, как между рисовым самогоном и высокой маркой шампанского. И он с поклоном подал Эммануэль бокал. Она сделала глубокий глоток. Марио внимательно наблюдал за нею. – В объятиях только одного мужчины женщина выглядит как бы наполовину брошенной. И уж коль верно, что необходимый ответ на требования вашего разума есть кортеж любовников, проносящийся в вашем мозгу, надо, чтобы и тело оставалось в небрежении. И поскольку один мужчина не может быть для вас всем, обладать вами одновременно и там, и тут, – надо, чтобы к нему на помощь пришел второй. И лишь когда эти скрипки зазвучат в унисон, только тогда вы услышите подлинный гимн женщине и ее красоте. И он необычайно вежливо осведомился: – Вам нравится? Эммануэль опустила глаза, закашлялась. Он продолжал без всякой жалости: – Я имею в виду обладание двумя мужчинами одновременно. Не только в мечтах. – Не знаю, – не нашла Эммануэль другого ответа. – Как это так? – совершенно искренне удивился Марио. – Я никогда этого не делала… – Правда? А почему? Она пожала плечами. – Вы возражаете против такого способа? – тон его стал необычайно едким. Эммануэль была в замешательстве: что ответить на это? Марио не приходил ей на помощь. Молчание становилось тягостным, когда вдруг последовал неожиданный вопрос: – Зачем вы вышли замуж? И снова она не знала, что ответить. Ей казалось, что ее схватили за плечи и закрутили вокруг себя, как при игре в жмурки. С завязанными глазами, с беспомощно растопыренными руками, она не может решиться на один-единственный шаг – таким враждебным кажется ей невидимое пространство. Ей не хотелось признаваться Марио, что замуж она вышла из-за любви к Жану или из любви заниматься с ним любовью. К счастью, ей в голову пришла мысль, которая должна была помочь ей остаться на высоте положения. – Я лесбиянка, – выпалила она. Марио пристально посмотрел на нее. – Очень хорошо, – одобрил он, но тут же с подозрением в голосе спросил: – Вы постоянно были лесбиянкой или только занимались этим в детстве? – Я лесбиянка всю жизнь, – ответила Эммануэль с вызовом. И тут же волна тоски и тревоги окатила ее. Правда ли это? Разве когда-нибудь еще сможет она прижать к себе женское тело? Ведь Би потеряна навсегда, а с нею потеряно все… – Вашему мужу известно о ваших вкусах? – Естественно. Впрочем, их знают все, это не секрет. Я горжусь тем, что люблю молодых девушек, а они любят меня. Она трубила сигнал вызова, не думая, повредит он ее репутации или нет. Марио поднялся, зашагал по комнате. Казалось, он был в восторге. Потом он подошел к дивану, очутился на коленях, обнял ноги Эммануэль. – Женщины все прекрасны, – забормотал он, – Только женщины умеют любить. «Останься с нами, Билитис, останься. И если у тебя страстная душа, ты увидишь, как в зеркале, свою красоту в телах твоих подруг». Эммануэль с меланхолической иронией подумала, что ей не повезло: было бы слишком, чтобы в нее влюбились сразу и женщина, которая не вполне лесбиянка, и мужчина, который гомосексуалист чересчур. Марио, однако вернулся к своему обычному спокойствию, и допрос возобновился. – У вас много любовниц? – О да! Она решила, что воспоминание о Би не должно стеснять ее в этот вечер, и поспешила добавить: – Я люблю их часто менять. – И вы всегда, когда захотите, находите новых? – Это нетрудно. Стоит им только предложить. – И не бывает никого, кто бы отказался? – Конечно, есть девицы, которых не совратить. Но тем хуже для них! – Абсолютно верно, – согласился Марио. – А вы? Вам нравится быть покоренной и совращенной? – Да, я люблю быть пассивной. И, улыбнувшись своему признанию, пояснила: – Но при условии, что мои совратительницы красивы. Я боюсь всякой некрасивой женщины. – Совершенно правильное мышление, – снова одобрительно произнес Марио. И вернулся к своей, судя по всему, излюбленной теме: – Вы сказали, что ваш муж в курсе ваших приключений. Но он их одобряет? – Он даже их поощряет. Никогда у меня не было столько связей, как с тех пор, как я вышла замуж. – А он не боится, что ласки ваших подруг отвратят вас от него? – Глупости! Любовь женщин совсем не то, что любовь мужчины. Одно другого не заменяет. Нужно, чтобы было и то, и это. Быть только лесбиянкой – значит слишком от многого отказаться. Такая категоричность неожиданно насторожила Марио: – Предполагаю, что ваш муж тоже пользуется прелестями ваших любовниц… Эммануэль шаловливо улыбнулась… – Особенно тех, которые мечтают об этом, – откликнулась она. – А вы не ревнуете? – Это было бы смешно. – Вы правы, – сказал Марио. – Радость надо делить с близкими. Он прикрыл веки, словно вызывая заманчивые образы. И Эммануэль тоже постаралась представить себе обнаженные тела своих подруг, такие голые, такие горячие наощупь, такие красивые! И новый вопрос Марио донесся до нее из прекрасного далека: – А он? – Он? – Эммануэль широко раскрыла глаза. – Ну да, ваш муж. Он много мужчин для вас добывает? – Что вы, – протянула удивленная до глубины души Эммануэль. – Конечно, нет! – В таком случае, – холодно заключил Марио, – я не могу понять, в чем же для вас обоих заключается преимущество супружеской жизни. Он отхлебнул шампанского, смакуя его, и снова спросил, на этот раз насмешливым, пренебрежительным тоном: – Вы что, запрещаете ему любить других? Эммануэль поспешила ответить отрицательно. В глубине души она не была уверена, что этот ответ ее украшает. – А вы говорили ему, что он может это делать? – Не совсем так, конечно, – прерывающимся голосом выдавила из себя Эммануэль. – Но он никогда не спрашивал, делаю ли я это. Я совершенно свободна. Марио с сожалением покачал головой. – Вот за это вы должны его упрекнуть. Это не та свобода, которой требует эротизм. Прежде чем Эммануэль смогла возразить, последовал новый вопрос. – Когда вы написали мужу из Парижа, вы сообщали ему хронику своих побед? Эммануэль была буквально сражена сознанием собственной банальности и попыталась все же избежать прямого ответа. – Я говорила ему о своих возлюбленных. Жест Марио означал: это все же лучше, чем ничего. Снова наступило молчание. Эммануэль взглянула на Квентина. Тот улыбался с замечательным постоянством. Она спрашивала себя, понимает ли он что-нибудь в этом разговоре или улыбка его – улыбка вежливости, желание показать, что ему не так уж смертельно скучно. – Только, ради Бога, не примите Жана за ревнивца, – возбужденно заговорила Эммануэль, спеша рассеять дурное впечатление, какое, казалось, произвела на Марио ее уклончивость. – Он не более ревнив, чем я сама. Ведь это он научил меня показывать ноги. Он любит, когда я надеваю узкие платья, чтобы при выходе из машины юбка задиралась как можно выше. И вы можете мне поверить, что даже на самых чопорных приемах я веду себя совсем без стеснения. Она нервно рассмеялась. – Не правда ли, это хорошее доказательство, что мы с ним предрасположены к эротизму? – Да. – И потом, он распоряжается моим декольте. Много вы знаете мужей, которые так любят показывать всему свету грудь своей жены? – А вы сами любите показывать свою грудь? – Да, – сказала Эммануэль. – Но особенно с тех пор, как Жан стал мне приказывать это. До знакомства с ним мне нравилось, когда ко мне прикасались. То есть, я хотела сказать, – поправилась она, – когда женщины ко мне прикасались, мне было все равно, видят мою грудь или нет. Я не испытывала никакого удовольствия от этого. А теперь мне это нравится. И она отважно добавила: – Я не родилась эксгибиционисткой. Я ею стала. И это он сделал меня такой. И еще добавила: – Вот видите! – А вы не спрашивали себя, – поинтересовался Марио, – почему вашему мужу нравится выставлять вас напоказ, на публичный осмотр? Если только для того, чтобы вы эпатировали публику, это не очень похвально. А если попросту, чтобы похвастаться вашей красотой и подразнить ближнего, – это ничуть не лучше. Эммануэль не могла допустить, чтобы ее мужа осуждали. – О нет! Это совсем на него не похоже. Если мой муж показывает мое тело, это как раз для блага ближних… – Тогда это как раз то, о чем я говорил, – обрадовался Марио и закончил чуть насмешливым, не допускающим возражения тоном. – Если ваш муж делает это для того, чтобы вызвать у других эрекцию, значит, он хочет, чтобы они с вами занимались любовью. Такое умозаключение никак не могло прийти в голову Эммануэль, но она не нашла ничего, что могло бы его опровергнуть. – Но зачем же, – простодушно спросила она, – Жану хотеть, чтобы я ему изменяла? Что за радость для мужчины в том, что другие пользуются его женой? – Смотрите-ка, моя милая, – строго сказал Марио, – куда вас занесло. Говорили мы, говорили, а вам все непонятно, что мужчина эволюционировавший может хотеть в силу своей утонченности, чтобы его жену соблазнил другой мужчина. Древний мудрец понимал больше вас, когда сказал: «Красота жены радует мужа». Будьте логичны: если муж ваш радуется вашим любовным связям с женщинами, почему он должен иначе относиться к мужчинам? Или действительно разница между гетеросексуальной и гомосексуальной любовью кажется вам такой уж огромной? Я-то абсолютно уверен, что есть только одна любовь и нет никакой разницы, с кем ты ею занимаешься, – с мужчиной ли, с женщиной, с мужем, любовником, братом, сестрой, ребенком… – Но Жан всегда знал, что я люблю женщин, даже до того, как лишил меня невинности; я сказала ему об этом в первый день нашего знакомства. И поспешно добавила: – Ну, разумеется, если бы у меня был брат, я бы занималась с ним любовью, но я была одна у родителей. – И тогда?.. – И тогда… Я хочу сказать, что, лаская женщину, я не изменяю мужу. Марио позабавило это утверждение, и он быстро спросил: – А ваш муж любит мужчин? – Нет! – Эммануэль не могла даже на мгновенье предположить, что ее Жан окажется гомиком. Марио, казалось, угадал ее чувства. – Вы несправедливы, – сказал он кротко. – Но это не одно и то же! Марио улыбнулся так, что ее уверенность поколебалась тут же. – Предпочли бы, чтобы он спал с женщинами? – Я не знаю, – выдавила из себя Эммануэль прерывающимся голосом. – Подозреваю, что… да. – Тогда, – торжествовал Марио, – почему не ждать от него такого же отношения к вашим связям с мужчинами? «В самом деле», – подумала она. – Другой пример, – продолжал Марио, не дожидаясь ответа. – Вы обнажаете вашу грудь и ноги просто по привычке к игре или это всерьез возбуждает вас? – Конечно, это меня возбуждает… – А ваше возбуждение усиливается, если рядом с вами муж? Она задумалась. – Думаю, что да. – И вот, когда вы пристойно сидите рядом с мужем, а другой мужчина запускает в это время вам под юбку свой взгляд, не мечтаете ли вы, чтобы следом туда устремились и руки его, не говоря уже обо всем остальном? – Конечно, – призналась Эммануэль с нервным смешком. При этом она вовсе не была убеждена, что такая картина может понравиться Жану. Марио догадался об этом и вздохнул: – Вам еще многому надо научиться. Всему тому, что отделяет элементарную сексуальность от искусства эротизма. Разговор продолжался. Марио повторил слово, употребленное Эммануэль, с такой иронией, что ей впору было провалиться сквозь землю. – Если ваш муж не хочет, чтобы вы ему «изменяли», то как же он позволил вам прийти сюда одной сегодня вечером? Вы хотите возразить? – Нет. Но, может быть, он не считает, что пойти поужинать с мужчиной значит непременно отдаться ему. Вот это был ответ! Эммануэль могла радоваться: Марио задумался. Но в тот момент, когда она решила, что беседа свернет на другие рельсы, он спросил: – Вы готовы сегодня вечером отдаться, Эммануэль? В первый раз он назвал ее по имени, она постаралась обуздать то чувство, которое пробудил в ней этот вопрос, заданный к тому же таким небрежным тоном. Она ответила так же небрежно: – Да! – Почему? – И все очки, набранные Эммануэль, оказались проигранными, прежнее смущение вернулось к ней. Марио поспешил задать следующий вопрос: – Вы вообще легко уступаете мужчинам? Она почувствовала себя посрамленной. Неужели все эти разглагольствования были лишь для того, чтобы унизить ее? Но она все-таки попыталась поднять свои акции, – Совсем наоборот, – отрезала она с необычной для нее горячностью, – Я вам говорила, что у меня много любовниц, но я не сказала, что много любовников. Чтобы совсем вас убедить (тут ее голос дрогнул – Эммануэль не любила лгать и не любила тех, кто вынуждал ее к этому), скажу, что у меня вообще не было ни одного любовника. Теперь вы понимаете, что мне нечего было рассказывать на этот счет мужу? По крайней мере до сегодняшнего ужина, – добавила она с нахальной улыбкой. Похвалившись своей добродетелью, она подумала, что, собственно, и не лжет. В самом деле, можно ли называть любовниками тех, кто овладел ею по очереди в ночном самолете? Мари-Анж определенно сказала, что они не считаются. Да и сама она мало-помалу начала сомневаться в подлинности того, что произошло с нею в ночном пространстве между небом и землей; она была неверна там своему мужу не более, чем когда воображаемые любовники овладевали ею в момент слияния с Жаном. И вдруг ярко блеснуло у не в сознании: а если бы она забеременела от одного из этих незнакомцев? Она была бы не прочь, но теперь это не имело уже никакого значения. Интерес Марио между тем возрастал. – Вы не смеетесь надо мной? Мне ведь показалось, возможно, я ослышался, что вы любите «также и мужчин»? – Ну да. Я ведь замужем. И я вам только что сказала, что сегодня вечером я готова принадлежать другому мужчине. – В первый раз, значит. Кивком головы Эммануэль сполна подтвердила свою полуложь. И сразу же мысль о том, что Мари-Анж рассказала Марио, обожгла ее. Но, нет, судя по всему, Марио ничего не знает. – Может быть, я могла бы сделать это и раньше, но тогда никто мне не предлагал. Смысл этого «тогда» был понят. Марио взглянул на нее с улыбкой и тут же бросился в контратаку. – А почему вы хотите изменить мужу? Он вас физически не удовлетворяет? – О нет, – прервала вопросы Эммануэль, возмущенная таким предположением, – Жан – отличный любовник. Наоборот… – А, – сказал Марио. – Наоборот. Вот это интересно. Не могли бы вы объяснить это «наоборот»? Она разозлилась. Он провел с ней великолепное собеседование, чтобы доказать ей, что Жан сам хочет, чтобы она завела любовника и, кажется, совсем позабыл об этом. Но почему, спросила она себя, я так легко согласилась изменить Жану сегодня? Откуда впервые в жизни и так внезапно появилось столь жгучее желание стать неверной женой? Она хотела этого, не переставая в то же время страстно любить Жана. Наоборот… Что же произошло с нею? Прерывистым голосом она произнесла: – Этого я не могу… Это оттого, что я счастлива… Это… это потому, что я люблю его! Марио склонился над нею. – Иными словами, вы хотите обмануть мужа не оттого, что он вам надоел, не по минутной слабости, не потому, что вы хотите ему отомстить, – наоборот, потому, что он сделал вас счастливой. И это происходит потому, что он научил вас любить красоту. Любить физическое наслаждение, когда плоть мужчины соединяется с вашей, проникает в вас. Он научил вас прекрасному обмороку любви, когда мужская нагота сокрушает вашу наготу. Благодаря ему вы поняли, что жизнь обновляется, когда вы поднимаете руки, чтобы сбросить блузку, или кладете их на бедра, чтобы расстегнуть юбку и предстать великолепной статуей перед обожающим взором. Он научил вас, что любовь умножает ваше тело, не оставляя его в одиночестве. Он научил вас понимать, что прекрасное не в том, чтобы ждать, пока вас разденут другие руки, а естественно и просто, с радостью и торжеством обнажиться самой и шагнуть навстречу предназначенному для вас телу. Что нет другого счастья и другой судьбы. Завороженная Эммануэль слушала этот монолог, не зная, должна ли она немедленно поступить согласно изложенной только что программе. Она пристально посмотрела в глаза Марио, протянула ему бокал. – Вот поэтому вы отдадитесь? – закончил Марио. Она утвердительно кивнула. – И вы скажете своему учителю, что он может гордиться вами? Она сразу же утратила ясность, в голосе послышалась тревога. – О нет! – И после некоторого размышления: – Не сразу… Марио снисходительно усмехнулся. – Я вижу. Надо, чтобы вы научились… – Господи! Чему же еще я должна научиться? – Наслаждению рассказа, более тонкому, более рафинированному, чем наслаждение тайны. Настанет день, когда вкус ваших похождений станет еще слаще от того, что вы будете долго, с деталями более жгучими, чем самые горячие ласки, рассказывать внимательному слушателю и вновь переживать испытанную вами радость. Но не будем ничего торопить, и пока вы можете утаить от вашего мужа тот успех, какого добилась его ученица. Впрочем, – улыбка его стала лукавой, стоит подождать, пока эти успехи станут настоящими: тем приятней будет для него сюрприз. Но надо, чтобы во время обучения не он, а другой был вашим наставником, вашим проводником, вашим гидом. Пути эротизма слишком круты, и предоставленная самой себе ученица рискует струсить или свернуть не на ту дорожку. Как вы считаете? На этот явно риторический вопрос ответа не последовало, и Марио продолжал: – Но знайте, что ученица должна быть безгранично настойчивой и упорной. Никакой проводник не может заменить вам вашу волю: он только укажет вам дорогу, а уж ваше дело – идти по ней твердым, уверенным шагом, ясно представляя себе, куда она ведет. Посвящение в искусство – это скорее труд, чем удовольствие. Когда-нибудь воспоминание об этих трудах будет вам радостно и приятно. Но сегодня вы должны свободно принять очень тяжелое решение. Готовы ли вы испробовать все? – Все? – осторожно переспросила Эммануэль. Ей припомнилось, что несколькими днями раньше Мари-Анж употребила в разговоре с ней почти такие же многозначащие слова. – Все, – кратко ответил Марио. Что могло значить это «все»? Очевидно, ей предстояло отдаться всем капризам Марио, покориться ему. Но если она готова стать его любовницей, не все ли равно, что он будет с ней проделывать? С некоторой долей иронии она подумала, что ее ментор несколько переоценивает достоинства своего метода, если надеется с помощью тех экспериментов, что он ей предложит, сразу же «переменить» Эммануэль. У нее, правда, почти не было практики с мужчинами, но она была уверена, что для того, чтобы «перемениться», «мутировать», женщине нужно что-то большее, чем причуды ее партнера. Ох, уж эта мужская самоуверенность! Но почему же ей не хочется, чтобы о ее знакомстве с Марио узнал Жан? Марио, наверное, не ошибается в мотивах, побуждающих Жана именно так вести себя с женой, как он себя ведет. И вдруг ей пришла в голову мысль, еще не очень-то ясная, так, что-то забрезжило: «обманывать» любимого мужа было удовольствием особенным, каким-то нежным, тонким; раньше она об этом не помышляла, но тем более взволновало оно ее теперь. Вполне возможно сказала она себе, что в мире эротизма соучастие мужа в адюльтере есть самое высшее и самое утонченное распутство. Но ведь она еще не вступила в этот мир! И пока она еще не постигла те законы, о которых говорил Марио, ей хотелось чего-то более привычного и простого. Пристальный взгляд Марио смущал ее. Она переменила положение, показав ноги так, как она умела это делать. Марио говорил ей о любви с двумя мужчинами, наверное, он хочет предложить себя и Квентина. «Пусть, – подумала она, – я соглашусь!». Она предпочла бы иметь дело с Марио, а Квентин, раз уж от него нельзя отказаться, мог бы быть просто зрителем, ведь и этой роли Марио придавал большое значение. Во всяком случае, она не будет противиться замыслам хозяина дома. Где-то в подсознании она, может быть, хотела и Квентина. Ведь Марио так расхваливал любовь втроем… – Но вы занимались, по крайней мере, любовью с несколькими женщинами? – услышала она вопрос своего героя и опять удивилась его способности читать ее мысли. Она молчала; Марио снова начал читать стихи, она плохо его слушала, но поняв, что он говорит о женских ногах, обрадовалась – ноги, значит, привлекли его внимание. – С несколькими женщинами, – вернулся к прежнему сюжету Марио. – Я имею в виду одновременно. – Да, – ответила Эммануэль. – О, – воскликнул он. – Вы не столь уж невинны! – А почему я должна быть невинной? Я никогда на эту роль не претендовала, – заявила Эммануэль с нервным смешком. Самое худшее, если заподозрят в добродетели. Недостаточно показывать голые ноги, чтобы к ней относились с уважением, она сейчас вскочит на диван и окажется вся голая. Она еле подавила в себе это желание. Но если и подобная демонстрация не убедит ее хозяина, у нее в запасе есть еще что-то, чему она научилась под душем. Она вся полыхала, но итальянец оставался невозмутим. Он, кажется, предпочитает эротизм теоретический эротизму практическому… Но допрос еще не кончился. – А как это происходило, когда вы были с двумя женщинами? Нетерпение сжигало Эммануэль. Чтобы покончить с этим устным экзаменом, она принялась рисовать картины, где воображению было отведено куда больше места, чем реальности. Но Марио нельзя было удивить смелыми образами. – Все это кажется мне детскими игрушками. Пора взрослеть, моя дорогая. И тогда, желая отомстить ему, не понимая, чем она рискует, она выпалила: – А вы? Вы сами-то лучше всего управляетесь с мальчиками? Марио не проявил ни малейшего признака смущения. Голос его звучал негромко, но уверенно: – Дорогая моя, мы вам скоро это покажем. Он что-то сказал по-английски Квентину. Боже мой, перепугалась Эммануэль, неужели они прямо здесь начнут свой показ. САМ-ЛО Квартал, открывшийся перед глазами Эммануэль, совсем не был похож на застроенные громадными домами авеню. Не походил он и на улочки, в глубине которых прячутся за листвой уютные особняки и бунгало. Он не напоминал ничего из того, что встречалось Эммануэль в ее прогулках по Бангкоку. Уж не приснился ли ей этот квартал? Слишком нереальным казался пейзаж в лунном свете. Опасливо переступая туфлями-лодочками на высоких, каблуках, идет она вслед за Марио по узкой – не шире ступни – доске, переброшенной к причалу, Квентин движется сзади. Густая темная вода канала лижет причал. Доска пружинит под ногами, как трамплин: рано или поздно, думает Эммануэль, они свалятся в тину. У причала путь не заканчивается. Надо идти еще дальше, по еще более трухлявой и неустойчивой доске. Так движется это трио, и ничто не предвещает скорого окончания дороги. Эммануэль кажется, что она давно покинула обитаемый мир. Даже воздух здесь пахнет совсем не так, как в оставленном за спиною другом мире. Тени резки, ночь так тиха, что трое путешественников не осмеливаются нарушить этот священный покой не только голосом, но и дыханием. Полчаса назад Марио прямо из окна подозвал лодочника, и они отплыли из бревенчатого дома, нависшего над каналом. Затем они высадились на каком-то причале, к которому надо было еще перебраться с лодки по узкой доске. Эммануэль так и не смогла понять, была ли это заранее намеченная остановка или же Марио принял решение внезапно. И вот теперь они идут вдоль узкого настолько узкого, что даже сиамские лодки не могут сюда проникнуть – канала, лежащего перпендикулярно большому, по которому они плыли. Это скорее желоб, а не канал. По обеим его сторонам стоят приземистые лачуги из бамбука или толя, прикрытые пальмовыми ветвями. Окна и двери наглухо закрыты, как во время чумы. Как они там не задохнутся, удивляется Эммануэль. Она понимает жизнь тех, кто ютится в сампанах, спит под открытым небом, но что спрятано здесь, какие тайны скрывают эти люди за запретными дверями и закрытыми окнами? С каждым шагом впечатление фантастичности усиливается. Почти невероятно, чтобы эта странная улица мертвой воды и мертвых деревьев, по которой идешь, как канатоходец, могла тянуться так долго и никуда не вести. А днем, когда туземцы выползают из своих логовищ, как они умудряются разойтись на этой единственной узкой тропе? Эммануэль с ужасом думает о тех акробатических движениях, которые им придется совершать, если кто-то повстречается на пути. Но вряд ли это произойдет сейчас: страна, куда привели ее спутники, похожа на лунный пейзаж, так что живые люди не могут попасться навстречу. Однако тут же из одной лачуги выходит мужчина. Высокий, мускулистый торс. Темная тряпка, вероятно, красного цвета, покрывает чресла. Он задумчиво распускает ее, глядя на три приближающиеся фигуры. Теперь он голый. Он мочится в воду. Эммануэль никогда не видела, даже в воображении, такие мужские стати. Сейчас, в спокойном состоянии, мужчина вооружен гораздо лучше, чем Жан в минуту атаки. «Здорово», – произнесла она про себя. Мужчина и сам по себе был хорош. Не более метра разделяло их, когда она проходила мимо него, и он взглянул на нее. Она думала только об одном: что же будет, когда эта лошадка встанет на дыбы. Но мужчина смотрел на ее полуголые груди, и никакого волнения не чувствовалось в нем, ничто не пошевелилось. Канатоходцы прошли мимо. Перекресток. Таинственный путь разветвляется. Марио размышляет. Переговорив с Квентином, он выбирает, наконец, одну из ветвей. Эммануэль не уверена в правильности выбора – уж слишком долго они путешествуют. Но она ничего не говорит. Она вообще не произнесла ни слова с тех пор, как они выбрались из лодки и ступили на берег. И вдруг она вскрикивает. Деревянная дорога делает поворот и вливается в какое-то подобие двора. И то, что она издали приняла за дерево, оказывается огромной фигурой Чингиз-хана, с висячими усами, налитыми кровью глазищами, кинжалом на поясе, кинжалом в руке. Вот оно, начинается колдовство! Монголы, делая ужасающее гримасы, возникают перед ней. Сейчас… И Эммануэль заливается смехом. Чары рассеиваются. – Ох, уж эта кинореклама. Как странно выглядит она в таком месте, – произносит Эммануэль первые за эту ночь слова. – Я хотела бы знать, как сюда доставляют эти декорации? Разве сюда можно пройти иначе, чем по этой узкой дощечке? – Нет, – говорит Марио и ничем не дополняет свой ответ. Они пересекают склад рекламных макетов, проходя между ног Великого Хана, входят в маленький дворик, видят пробивающуюся из-под дверей полоску желтого света. Марио стучит, зовет и, не дождавшись ответа, входит. Спутники следуют за ним. Эммануэль начинает беспокоиться все больше и больше. Очень уж неприятно смотрится это место. Трудно определить, чем здесь пахнет: какая-то смесь пудры, дыма, лакрицы и чая. В комнате, куда они вошли, единственная мебель – скамья, покрытая драной циновкой. Грязная, когда-то бывшая голубой занавеска закрывает глубину комнаты. Почти тотчас же она раздвигается, и входит женщина. Ее вид немного успокаивает Эммануэль. Это старая китаянка: ей не меньше ста лет, прикидывает Эммануэль. У старухи морщинистое, круглое, как блин, лицо. Кожа почти оранжевая, седые волосы уложены в шиньон. Глаза и губы едва угадываются в складках кожи. Когда старуха начинает говорить, во рту ее черным лаком поблескивают зубы. Руки спрятаны в рукава кофты из блестящего шелка. Начинается долгий разговор между Марио и беспрестанно кланяющейся старухой. Она кланяется, чуть ли не переламываясь пополам. Наконец, она удаляется в глубь барака, и они следуют за ней, не говоря ни слова. Они идут по совершенно темному коридору, но Эммануэль кажется, что эта темнота движется. Ей страшно. Они входят в очень маленькую комнату, – и новое потрясение для Эммануэль она видит двух очень старых и совсем голых мужчин, вытянувшихся на длинных деревянных нарах. Взгляд Эммануэль сомерзением скользит по их худым, с выступающими ребрами бокам и – о, ужас! – на секунду останавливается на сморщенных, высохших признаках их принадлежности к мужскому полу. Она, содрогнувшись, отворачивается – в следующей комнате, слава Богу, никого нет. Старуха останавливается – именно сюда она их и вела. Снова низкий поклон, и она исчезает. – Что происходит? – встревоженно спрашивает Эммануэль. – О чем она с вами болтала? И что мы собираемся делать в этом притоне? Здесь так отвратительно. Марио возражает. – У вас предвзятые мысли, – говорит он. – Здесь все обветшало, я согласен, но здесь чисто. Появляется другая женщина, гораздо моложе первой, но зато еще уродливей. Она вносит на круглом подносе лампу-спиртовку не выше стакана и толщиной в палец, малюсенькие оловянные ящички, длинные высушенные пальмовые листья и еще один предмет – длинную полированную трубку из бамбука. Она напоминает флейту; кажется, что трубка запаяна с обеих сторон, но, приглядевшись, Эммануэль замечает, что на одном конце просверлена маленькая дырочка. Марио предупредил вопрос своей ученицы: – Перед вами трубка для курения опиума, дорогая. Не правда ли, красивая вещь? – Трубка? Но куда же кладется табак? Не в эту же маленькую дырочку? – Туда кладут не табак, а шарик опиума. И надо сделать только одну затяжку. Затем снова заправить. Но лучше вы сами попробуйте это проделать. – Неужели вы хотите, чтобы я курила опиум? – А почему бы и нет? Я хочу, чтобы вы знали, в чем состоит эта игра или, вернее, искусство. Ничем нельзя пренебрегать. – А… если мне понравится? – Что же здесь плохого? – И Марио рассмеялся. – Успокойтесь, это не курение опиума. Это только прелюдия к нему. – А что происходит потом? – Узнаете со временем. Не будьте нетерпеливы. Церемония опиекурения требует полного душевного спокойствия, даже отрешенности. Эммануэль резко повернулась: – А если мне понравится, я могу вернуться сюда? – Конечно, – сказал Марио. Казалось, его забавляли вопросы Эммануэль. Он смотрел на нее чуть ли не с умилением. Она задала еще один вопрос: – Я думала, что курение опиума запрещено. – Конечно, так же как и внебрачные связи. – А если сюда явится полиция, что нам делать? – Мы отправимся в тюрьму. Марио добавил с улыбкой: – Но мы попытаемся сначала подкупить полицию вашими прелестями. Эммануэль ответила тоже улыбкой, но улыбка эта была скорее скептической. – Я замужем, значит, свою свободу мне придется купить ценой еще одного нарушения закона. – Ну, это преступление представители закона с божьей помощью вам простят, тем более если они будут вашими соучастниками. И, коснувшись рукою обнаженной груди Эммануэль, Марио спросил: – Не так ли? Наконец-то Марио прикоснулся к ней – на лице Эммануэль появилось томное, счастливое выражение, но тем не менее она покачала головой. – Как, вы не согласитесь сослужить для нас троих эту службу? Она поспешила его успокоить: – Соглашусь. Раз вы этого хотите… И, немного помолчав прибавила: – А… сколько полицейских участвует обычно в таких облавах? – О, не больше двух десятков. Она рассмеялась. Служанка между тем расположила посередине нар свой прибор. Марио, обняв Эммануэль за талию, подвел ее к нарам. – Вы устроитесь здесь. – Я? Но здесь не очень-то чисто и довольно жестко. – Зачем заведению тратиться на матрасы, когда этот дым смягчает все углы и делает мягким самое жесткое ложе? И, кроме того, учтите, матрасы трудно стирать, а нары легко скоблить ножом. Пусть эти соображения успокоят вашу тревогу. Эммануэль осторожно присела на краешек нар, а два ее компаньона удобно вытянулись по бокам. Вершиной этого треугольника была лампа. Эммануэль решила преодолеть свое отвращение и последовала примеру своих спутников: вытянулась, оперлась на локти и подперла голову обеими руками. Она не могла оторвать глаз от длинного пламени, прямой струей поднимающегося от лампы. Пламя словно гипнотизировало ее. Китаянка опустилась на колени возле их ложа и открыла один из ящичков. Что-то густое, непрозрачное, похожее на темный мед, наполняло его. Женщина подцепила на кончик длинной иглы частицу этой массы, подержала ее некоторое время над лампой, затем обернула кусочком волокнистого пальмового листа и снова поднесла к пламени. Темная капля потрескивала, набухала, приобретая удивительные оттенки, бросающие на все окружающее чарующие отблески; капля будто оживила все вокруг себя. – Как прекрасно, – прошептала Эммануэль. Она подумала, что это зрелище столь привлекательно только для нее, пришедшей сюда в первый раз. «Это как драгоценный камень, что-то всегда говорящий тебе. Но камни не такие живые и красивые. Двадцать полицейских, – спохватилась она. – Это многовато…» Но чтобы спасти Марио от тюрьмы… она согласна. Ей стало жалко, когда служительница культа, придав капле опиума форму поблескивающего цилиндра, отняла ее от огня и поднесла к отверстию трубки. И вот трубка подана Марио. Он прижал к ней губы, сделал глубокую затяжку. – Теперь ваша очередь, – сказал он, – Не выпускайте дым через нос, не задыхайтесь, не кашляйте. Дышите медленно и глубоко. – Я никогда этому не научусь. – Это неважно. Мы ведь просто решили поразвлечь вас. Служанка стала готовить вторую трубку. Снова коричневое солнце загорелось на конце волшебной палочки, набухающее, трепещущее, словно в чаянии грядущих наслаждений. «Наверное, вот так же набухает и трепещет там, во мне. – подумала Эммануэль. – Вот так же мое тело ждет удара, который вот-вот обожжет его. Как приятно чувствовать, как растет горячая влажность там внизу, по мере того как набухает и вырастает эта капля.» Обряд ей понравился: ей казалось, что ее медленно и торжественно готовят к публичному любовному действу. Она крепко сжала свою грудь, она была на верху блаженства. Для полного счастья не хватало одного – присутствия рядом прекрасного существа, юного и послушного, с лицом самой невинности и радостно-бесстыдным, готовым на все телом. И она сама, и Марио, и Квентин медленно раздевались бы, забавлялись бы каждый с этим созданием по очереди или все вместе – как кому заблагорассудится, каждый по своему вкусу. Какая жалость, что ее ментор не предусмотрел этого! Она хотела упрекнуть его, но не решилась. И все-таки ей так хотелось прижать свои ноги к женским ногам, раздвинуть пальцами горячую влажную плоть, что даже китаянка показалась ей в эту минуту почти красавицей. Ей снова была предложена трубка. Огонек горел, но затяжки не получилось. Не было тяги, и китаянка снова пронзила красноватую жемчужину стальной иглой. Со второй попытки дебютантке удалось сделать маленькую затяжку. Довольная, она рассмеялась. – Мне нравится вкус, – объявила она. – А еще больше запах. Напоминает карамель, но только немного царапает горло. – Надо запивать чаем. Марио распорядился, служанка вышла и вскоре вернулась с тремя маленькими, расширяющимися кверху чашками без ручек и таким же маленьким кипящим самоваром. Чайник-лилипут был доверху наполнен зеленым чаем. Осторожно она плеснула туда кипящую воду и разлила по чашкам: зелье приобрело медный цвет. Мощный аромат поднялся над чашками: пахло скорее жасмином, чем чаем. Эммануэль прихлебнула, обожглась и вскрикнула. – Надо втягивать воздух губами одновременно с глотком, чтобы остудить чай, – наставительно сказал Марио. – Или, точнее, чтобы пить кипящий чай безболезненно. Вот так. И, взяв чашку, он с шумом втянул в себя воздух. – Но это же признак дурного тона, – возмутилась его сотрапезница. – В Китае это считается вежливостью. Возбужденная неведомым прежде опытом, Эммануэль хотела повторить его. – Я уверена, что на этот раз увижу потрясающие видения! Что мне может пригрезиться? – Ничего. С первого раза опиум не дает видений. Он только просветляет вас, избавляет от телесных недугов и психологической немощи. Во второй раз, чтобы был эффект, надо выкурить несколько трубок. – Ну, так я их выкурю! – Вы выкурите еще одну и все. Если сегодня вы пойдете дальше, то единственным удовольствием, которое вы получите, станет то, что я буду крепко обнимать вашу голову, пока вас будет выворачивать наизнанку. Эммануэль не очень огорчил запрет – новая трубка стоила ей приступа кашля и понравилась гораздо меньше. А Марио и Квентин даже и не пытались повторить первый опыт. – Вы так боитесь отравиться? – поддразнивала их Эммануэль. – Дорогая моя, – степенно возразил Марио. – Сейчас вы узнаете великую тайну. Дело в том, что в больших дозах опиум лишает своих поклонников половины их мужских качеств. А мы, насколько вам известно, пришли сюда для радостей физических, а не духовных. – Ах да, – Эммануэль стало неловко. Теперь, когда ее желание прошло, она подумала, что эта рамка плохо подходит для праздника любви. И еще она спрашивала себя, какая же роль ей уготована при этом. – Вы не забыли? – заговорил Марио тихим, но внятным голосом, – Вы спрашивали нас, как мы устраиваемся с нашими мальчиками. Ну так вот, та персона, которая как вы могли убедится, так великолепно царствует в этой тайной курильне, также растит здесь для мирного отдыха хорошо сложенных юнцов. Сейчас по нашей просьбе она и предоставит их нам в полном ассортименте. Он сказал служанке несколько слов, и та улетучилась. Вскоре она вернулась с морщинистой китаянкой, сразу же возобновившей свои поклоны. Марио произнес что-то, старуха снова поклонилась, затем издала какой-то тонкий визг. Подававшая трубки уродина засуетилась. – Вдова говорит только по-китайски, – пояснил Марио. – Причем на таком диалекте, которого никто из нас не знает. Она позвала другую, чтобы переводить. – А на каком же языке вы говорите с ними? – На сиамском. Он снова обратился к хозяйкам. Фразы облетали полный круг, за это время подвергаясь, очевидно, известным метаморфозам. После нескольких минут обмена мнениями Марио доложил: – Она ответила на мою просьбу другим предложением: это в правилах здешнего общества… – Что же она вам предложила? – Разумеется, девиц. Я высказал ей нашу настоятельную потребность. Тогда она предложила посмотреть галантные фильмы. – О, – сказала Эммануэль. – Не так уж и плохо. – Мы пришли сюда не за такой безделицей. Еще она предлагает нам живой спектакль: две юные девушки будут нежно любить друг друга на наших глазах. Но в этом нет ничего интересного для вас, Эммануэль? А? Она сделала гримаску, которую можно было понять как угодно. Марио возобновил переговоры и снова дал о них отчет: – Я сказал ей, что нам требуются мальчики от двенадцати до пятнадцати лет с тонкими умелыми языками, аттическими ягодицами, с живыми характерами и крепкими членами. Инстинктивно Эммануэль полностью обнажила грудь. Старуха пристально посмотрела на нее и заговорила снова каким-то резким, ударившим молодую француженку тоном. Служанка перевела, и Марио ответил одним словом. – Что она сказала? – поинтересовалась Эммануэль. – Она хотела знать: эти мальчики нужны для меня или для вас. – И… что же вы ответили? – Для обоих. Эммануэль показалось, что стены покачнулись. Может быть, это опиум? Да нет, не может быть, Марио ведь предупреждал… Старуха снова затянула свое. Она стонала, подобно пророку Иеремии, беспрестанно кланялась и закончила свои псалмы, воздев к небу руки. – Чувствую, что мы не договоримся, – сказал Марио еще до того, как ему начали переводить. – Так и есть, – вскоре подтвердил он. – Эта старая карга продолжает утверждать, что у нее на эту ночь не осталось никого из воспитанников. Достойные чужестранцы уже опустошили ее конюшню. Сдается мне, что она на самом деле попросту набивает цену. Он снова пустился в дискуссию. Последовали новые жесты отчаяния. Марио долго не сдавался, но в конце концов объявил своим друзьям: – Она ничего не хочет знать. Поищем счастья в другом месте. Он о чем-то долго объяснялся с Квентином. – Он настаивает на том, чтобы остаться тут, – сообщил Марио. – Он уверен, что в конце концов получит то, чего добивается. Я в этом сомневаюсь, но это его дело. Я предлагаю оставить его здесь, а мы с вами пустимся в новый путь. Как вы считаете? Эммануэль ничего другого и не желала. Ее начала тяготить атмосфера этого барака. Но совершенно неожиданно она почувствовала разочарование, даже уколы совести при расставании с Квентином. «Нет, это уж слишком, – тут же упрекнула она себя. – Я приняла его как несносного самозванца, как докучливого визитера, меня злило его присутствие, за весь вечер мы не обменялись и десятком слов. И вот теперь я совсем слабею при расставании с ним! Это чересчур. Надо собраться…» А Квентин и не подозревал о той буре, которую он вызвал в Эммануэль. Они двинулись в обратный путь по закоулкам курильни. Проходя мимо двух скелетов в соседней комнатенке, Эммануэль ехидно предположила: – А эти двое вас не соблазняют? Она постепенно взвинчивала себя все сильнее, наполняясь злостью на Марио и его друга за непременное желание добыть себе мужчин. Разве они не могли хотя бы на одну ночь удовлетвориться ею? Если они в самом деле совершенно не интересуются женщинами, что же они уделяли ей столько внимания, они оба? И как могла пренебречь здравым смыслом эта идиотка Мари-Анж, рекомендуя ее гомосексуалисту? Погоди же, я еще оттаскаю тебя за косы! – И что находит Квентин привлекательного в мальчиках? – набросилась она на своего спутника. – С его стороны не очень-то по-джентельменски бросать нас одних. Она хотела добавить, что он не выглядел таким уж равнодушным к женщинам, когда ощупывал ее ноги, но Марио не дал ей закончить: – Любовь мальчика имеет для человека со вкусом качество, которого почти не бывает у женской любви, – очень серьезно заговорил он. – Она противоестественна, она аморальна. Иначе говоря, она подходит под определение искусства. Это то, что я объяснял вам в начале нашего вечера. Любить мальчика – для меня эротично, ибо, как считают идиоты и мещане, такая любовь против природы. – А вы уверены, что она против природы? Может быть, как раз она в вашей природе и для вас совершенно естественна? – Я в этом не уверен, – сказал Марио. – Мне нравятся женщины. Лечь с мужчиной долгое время казалось мне труднодостижимым, почти невозможным делом. Но я убедил себя. Впервые я испытал это в прошлом году. Нечего говорить, что я был собой доволен. Вы видите, что даже ко мне правильный взгляд на вещи пришел не сразу. «Можно ли верить его утверждениям?» – спросила себя Эммануэль. – А после первого опыта вы часто занимались этим… искусством? – Я всегда стараюсь, чтобы вещи сохраняли свою исключительность, чтобы они были редкостными. – Но, – настаивала Эммануэль, – за этот год вы любили женщин? Марио рассмеялся: – Что за вопрос! Разве я образец целомудрия? – Многих? – Ну, конечно, меньше, чем я имел бы любовников, если бы мне посчастливилось быть хорошенькой женщиной. И добавил с почтительной улыбкой: – Любовников и любовниц! Но этого ответа было недостаточно для Эммануэль. Она начинала раздражаться. – Так что же вам нравится больше? – спросила она почти гневно. Марио остановился. Они достигли того места, где на поляне начинался деревянный настил. Марио взял Эммануэль за плечи и привлек ее к себе. Сейчас он меня поцелует, подумала Эммануэль. – Я люблю то, что прекрасно, – произнес он громко. – А то, что прекрасно, никогда не бывает готовым и никогда не бывает легким. Это то, что создается, своим ли жестом или жестом другого, и уходит в бесконечность прежде, чем успевает умереть перед тобой. – Я учу вас не вседозволенности, я обучаю отваге. – Возьмите меня. Вы меня еще не знаете. Я буду для вас новым лакомством! – сказала Эммануэль. Марио молча покачал головой. – Это было бы слишком легко. Прошу вас, позвольте мне другое, позвольте мне вести вас, управлять вами. И он подтолкнул ее вперед. – Ну-ка, превратитесь снова в канатоходку! Она покорно пошла вперед. Когда они достигли перекрестка, Марио сказал, что они не пойдут по той тропе, которая привела их сюда. – Я покажу вам кое-что необычное, – пообещал он. Вскоре они подошли к берегу широкого канала, клонга, как называют их в Бангкоке. А может быть, это была и река. Берега густо поросли деревьями. – Мы еще в Бангкоке? Почти в самом центре. Но сюда иностранцы обычно не заходят. Теперь они шли по песку, каблуки Эммануэль то и дело вязли, она решила разуться. – Вы порвете чулки, – сказал Марио. – Может быть вы и их снимете? Она была тронута такой заботливостью. Присев на пень, она подняла юбку. Ночной ветерок коснулся ее ляжек. Она вспомнила, что ее трусики покоятся в кармане Марио. – Я не могу насытиться красотой ваших ног. И ваших бедер. Она вся напряглась в надежде и ожидании. – Почему бы вам не снять и юбку, – предложил он, – Вам будет легче идти, а мне приятней смотреть на вас. Эммануэль поднялась без колебаний и развязала пояс. – А что же мне с нею делать? – спросила она, держа юбку в руках. – Повесьте ее на дерево. Мы все равно будем возвращаться этим путем и заберем ее. – А ее не украдут? – Какая важность! Надеюсь, вы сможете вернуться домой и в таком виде. Эммануэль не стала спорить. Поход возобновился. Под черной длинной шелковой блузкой ее бедра и ноги еще ослепительней сияли в ночи. Марио шел рядом. Вот он взял ее под руку. – Мы пришли, – сказал он спустя минуту. Перед ними была невысокая полуразрушенная кирпичная стена. Марио помог своей спутнице перелезть через нее и перепрыгнул следом. Эммануэль огляделась и вздрогнула: человеческое существо сидело на корточках почти рядом с ними. Она вцепилась в Марио. – Не пугайтесь. Это мирные люди. Она хотела сказать: «Но мой костюм». И снова опасение сарказмов Марио остановило ее. Но все-таки ей казалось невозможным сделать хоть один шаг вперед. Ей было бы спокойней, окажись она совсем голой. Марио неумолимо взял ее за руку, повел ее. Они прошли мимо человека на корточках, глядевшего на них во все глаза. Эммануэль не могла сдержать нервную дрожь. – Посмотрите – сказал Марио, протянув вперед руку. – Видели вы когда-нибудь такое? Она посмотрела туда, куда он указывал. Огромное раскидистое дерево было увешано странными плодами. Присмотревшись, она поняла, что на ветвях висят многочисленные фаллосы. Она вскрикнула, но в голосе ее звучало скорее восхищение, чем испуг. Марио объяснил: – Одни из них висят здесь по обету, другие – как искупительные жертвы тех, кто хочет получить сексуальную силу и плодовитость. Их величина зависит или от богатства жертвователя, или от неотложности просьбы. Мы пришли, должен вам сообщить, в храм. При слове «храм» Эммануэль сразу же вспомнила о приличиях. – Но если священник храма увидит меня в таком одеянии… – Вы одеты как раз для храма, посвященного Приапу, – улыбнулся Марио. – Здесь это вполне дозволено. – Эти штуки называются «лингам»? – Эммануэль была все же скорее заинтересована, чем смущена. – Не совсем так. Лингам – это у индусов, и его очертания слишком стилизованы, чаще всего это просто вертикально поставленный столб; нужно очень сильное воображение, чтобы увидеть в нем то, что он символизирует. А здесь, как вы сможете убедиться, фактура вещи не оставляет места воображению. Это осколки природы, а не произведение искусства. Плоды странного дерева были величиной то с банан, то с базуку, но точность деталей они сохраняли независимо от размеров. Все они были сделаны из дерева и раскрашены. Маленькое красное пятно обозначало отверстие канала, глубокие складки шли от крайней плоти. Напряженный изгиб был воспроизведен с потрясающей жизненностью. И они висели не только на одном дереве – на десятках, если не на сотнях деревьев. И рядом с ними горели в подсвечниках свечи. Эммануэль с тревогой заметила, что некоторые огоньки движутся. Ночь посветлела, и не стоило большого труда разглядеть, что эти огоньки – свечи в руках людей. Их было пять, шесть, больше десятка. Как и первый, кого встретила здесь Эммануэль, они сидели на корточках в молчании. И вдруг один из них встал. Начал приближаться. Пройдя несколько шагов, он снова присел, взгляд его был спокоен. Но тотчас же возле него оказалось двое, потом четверо людей со свечами. Один из вновь появившихся был совсем юным, двое других постарше, четвертый почти старик. Никто не произнес ни слова, и все они по-прежнему держали в своих руках горящие свечи. – Вот отличные зрители, – обрадовался Марио. – Что мы сыграем для партера? Он потянулся и сорвал с ветки один из фаллосов сравнительно скромных размеров. – Не знаю, совершаю ли я кощунство, – сказал он с довольным видом, – Но я его совершаю смело. Во всяком случае, они не выглядят оскорбленными. Он протянул Эммануэль кусок раскрашенного дерева. – Не правда ли, он приятен на ощупь? Она прикоснулась к дереву кончиком пальца. – Покажите-ка им на этом макете, как ваши руки воздают честь подлиннику. Эммануэль облегченно вздохнула – сначала она подумала, что Марио прикажет ей использовать этот странный предмет, как пользуются вибраторами одинокие женщины, и мысль о его шероховатости и нестерильности смутила ее. Ее пальцы стали нежно гладить предмет поклонения, словно и вправду могли заставить его проснуться. Наконец, она приняла эту пародию всерьез и даже пожалела, что нельзя пустить в ход губы – слишком уж запылен, неопрятен был этот инструмент. Взгляды мужчин заметно оживились, это она смогла заметить. Лица напряглись. Тут Марио сделал какое-то движение, и она впервые увидела, что представляет Марио как мужчина. Это было гораздо ярче и толще деревянного подобия. – Теперь реальность должна заменить иллюзию, – сказал Марио. – Пусть ваши руки окажутся столь нежными с живым организмом, как и с неодушевленным материалом. Эммануэль, не решаясь бросить священный предмет на землю, осторожно уложила его на сук ближайшего дерева и приблизилась к Марио. Он повернулся лицом к сидящим на корточках мужчинам, чтобы они могли лучше все разглядеть. Время остановилось. Не слышалось ни звука. Эммануэль вспомнила о гуманности принципов, которые разъяснял ей Марио в этот вечер, и голова ее закружилась. Она не могла различить, бьется ли это ее собственное сердце или это пульсирует горячая кровь Марио. Она повторила про себя завет «Не торопитесь с окончанием» и делала все, чтобы «наслаждение длилось». Наконец, он прошептал: «Пора!» И, сказав это, повернулся к дереву, увешанному приапическими плодами. Длинная густая струя оросила листву священного дерева и покачивающиеся на его ветвях жертвы верующих. – Теперь надо что-то сделать и для наших зрителей, – сейчас же объявил Марио. – Кто из них вам больше по вкусу? «Боже мой», – простонала Эммануэль сквозь прижатые к лицу руки. Нет, нет, она не может прикоснуться к этим людям, она не может представить себе, что они прикоснутся к ней! Марио отвел ее руки, заглянул в ее умоляющие глаза. – Мальчик прелестен, по-моему, – изысканно вежливым тоном произнес он, – Я и сам испытываю к нему слабость. Но этой ночью я его уступаю вам. И, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он сделал знак юноше и сказал ему несколько слов. Тот встал, медленно и с достоинством приблизился к ним. В нем не чувствовалось никакой робости, скорее некая горделивость. Марио сказал еще что-то, и мальчик снял с себя шорты. Нагим он был еще красивей: Эммануэль должна была признать это, несмотря на все свое смущение. Она немного утешилась. Мальчик выглядел совершенным мужчиной. – Утолите жажду из этого источника, – распорядился Марио самым обыденным тоном. Эммануэль и не помышляла о непослушании. Она только смутно пожалела, что перед ней не тот могучий мужчина, которого она видела совсем недавно на берегу канала. Она опустилась коленями на мягкую влажную траву, приняла дар в руки. Пальцы ее немного оттянули кожицу, и она сразу же почувствовала, как увеличивается вес и объем – зверь начал расти. Эммануэль прикоснулась к нему губами, словно желая попробовать на вкус. На некоторое время она замерла в таком положении. Затем она решилась, сделала судорожное глотательное движение, подалась вперед так, что губы коснулись голого живота, а нос уперся в него. И вот добросовестно, не пытаясь ни обманывать, ни сократить работу, она начала свои упражнения. И все-таки это было мучительно, в первые минуты она боялась, что не справится с подступающей к горлу тошнотой. И это было вовсе не потому, что ей казалось унизительным заниматься любовью с незнакомым юнцом. Та же игра, если бы Марио толкнул ее в объятия кокетливого, благоухающего одеколоном блондинчика, та же игра, происходящая где-нибудь в светском салоне ее парижской подруги, понравилась бы ей чрезвычайно. Да ведь она однажды чуть было не изменила («изменила», может быть, сильно сказано, дело было с ребенком, это совсем смешно), чуть было не изменила своему мужу перед отлетом из Парижа, уступив ухаживаниям совершенно ошалевшего младшего брата своей любовницы. Но этот не возбуждал ее ничуть, скорее он внушал страх. Сначала она еще подумывала было, что он и не отмыт как следует, но тут же вспомнила о частых омовениях у сиамцев. И все-таки удовольствия она пока не получала. Она делала это из любезности к Марио. «Тем не менее, – сказала она себе чуть ли не с яростью, – я хорошо сделала работу.» Почти профессиональная гордость побуждала ее так обойтись с мальчиком, чтобы он не мог забыть об этой ночи. Зря, что ли, ее муж считает, что ни одна женщина в мире не может сравниться с нею в умении работать губами и языком! Мало-помалу она стала заводиться сама. Она уже не помнила, кому принадлежит этот плод. Она начала пожирать его с такой силой и жаром, что он почти разрывал ей горло. Она чувствовала, как растет напряжение внизу живота, как там набухает и твердеют все части ее гениталий. Наконец, она закрыла глаза и позволила своим ощущениям безраздельно овладеть ею. В момент, когда ее ласки достигли цели, горячая струя доставила ей наслаждение не меньше, чем это бывало с Жаном. Вкус был другой, но он ей понравился. Плевать, что на нее смотрят несколько пар глаз, – она доставляет радость прежде всего себе! Еще до того, как опустошенный сосуд покинул ее рот, она коснулась кончиком пальца своего венчика между ног и, обессиленная оргазмом, почти упала в объятия Марио. Он в первый раз наградил ее поцелуем в губы. – Разве я не обещал вам, что вы будете отдавать себя по частям, – спросил он, когда, освободившись, они присели возле кирпичной стены, – Вы довольны? Она была довольна. Но смущение все же не покинуло ее до конца, и потому она промолчала. Он мечтательно произнес: – Это очень важно для женщины – пить как можно больше этот напиток и из разных источников. Страсть послышалась в его голосе: – Вы должны это делать, потому что вы очень красивы. – А нельзя быть красивой, оставаясь порядочной женщиной? – вздохнула она. – Можно, конечно, но себе в ущерб. Разве простительно не использовать всю силу своей красоты, чтобы получить то, что многие женщины напрасно стремятся получить всю свою жизнь? – Вы считаете, все женщины на свете помешаны на сластолюбии? – А что есть на свете прекраснее этого? Есть ли на свете более высокое благо? Юбку никто не похитил. Надев ее, Эммануэль пожалела даже о своем недавнем комфорте. Они возвращались по незнакомой дороге. Эммануэль спрашивала себя, сколько же еще плестись обратно. Но только она собралась пожаловаться на усталость, как, пройдя сквозь кустарник, они оказались на вполне городской, настоящей улице. – Сейчас мы возьмем сам-ло, если найдем хоть одного, – сказал Марио. Этим довольно редким видом транспорта Эммануэль еще ни разу не пользовалась; хорошо, что ей предстоит узнать еще что-то новое. Наверное, приятно катиться в экипаже велорикши, не рискуя сломать себе шею в бешено мчащемся такси. Через несколько десятков шагов они увидели свободную повозку. Ее хозяин («Они называют себя сам-ло, что значит три улицы», – пояснил Марио) сидел рядом, погруженный в размышления. Завидев их, он сделал приглашающий жест, похлопав рукой по узкой, покрытой красным молескином скамейке. Марио поговорил немного с рикшей, очевидно, договариваясь о цене, затем дал знак Эммануэль садиться и сам сел рядом. Хотя оба пассажира были стройны, им пришлось тесно прижаться друг к другу на узкой скамейке. Марио обхватил рукой талию свой спутницы, и та, счастливая приникла к нему. И, раз это ему нравится, она постаралась повыше задрать юбку, чтобы Марио мог вволю любоваться ее ногами. Повозка двинулась. Внезапно в голове Эммануэль родилась идея, показавшаяся ей безумной, фантастической, очаровательной. Никогда еще не делала она этого, да еще посреди улицы. Но она сделает это! Она собрала всю свою смелость. И вот она поворачивается к Марио и твердой уверенной рукой расстегивает пуговицу на его брюках, потом, осмелев, она нащупывает пальцами усталое дремлющее тело и глубоко вздыхает. – Молодец, молодец, – слышит она голос Марио. – Я горжусь вами. – В самом деле? – Да, ваш поступок дает право гражданства в королевстве эротизма. Ведь обычай требует, чтобы инициатива была у мужчины, а женщина лишь уступала бы ему. Если женщина выступает тогда, когда мужчина меньше всего ждет этого, она совершает в высшей степени эротический поступок. Браво! Рука Эммануэль тотчас же ощутила, что одобрение Марио не только морального порядка. – Вспоминайте эту формулу и в других обстоятельствах, и тогда вы далеко пойдете. – Как это? – машинально спросила Эммануэль, занятая нежными ласками, впервые испытываемыми ею на своем патроне. А Марио умудрился между тем прочитать ей целую лекцию. – Представьте себе, что вы любовница какого-то человека и смело сбрасываете перед ним свои одежды. Что в этом неожиданного? И что в этом эротического? Но вот ваш посол просит вас сопровождать приезжего дипломата в прогулке по городу, показать ему Храм Спящего Будды и так далее. И вы, чтобы восстановить силы после утомительного обхода достопримечательностей, приглашаете этого дипломата на чашку чая. И там, у себя, в вашем маленьком салоне, сидя на великолепной софе, вы, тряхнув своей очаровательной головкой, спокойно расстегиваете корсаж. Будьте уверены, что ваш поступок произведет на гостя неизгладимое впечатление. На своем смертном одре он будет призывать ваш образ. После такого дебюта перед вами естественно и непринужденно откроется масса возможностей. – Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, – прервал Марио плавное течение своего доклада, так как заинтересованная Эммануэль приостановила на какое-то время свое в высшей степени эротическое действие. – Временами вы можете ограничиваться лишь тем, что стоя перед ним с голой грудью и наливая ему весьма церемонно чай, поинтересуетесь, сколько кусков сахара он предпочитает класть в чашку, два или три. Много шансов за то, что он не сможет даже понять, о чем идет речь. Или же, совершенно обезумев, попросит восемь или пятнадцать кусков. Не показывайте удивления, остановитесь на двух кусочках сахара и двигайтесь дальше. Попробуйте действовать с ним так, как вы сейчас действуете со мной, и спросите, что ему больше нравится: развлечься ли до чая или после и каким образом. Спросите, что он предпочитает: воспользоваться ли вашими руками, или ртом, или естественным отверстием внизу. И – климат создан. Шедевр, как вы любите говорить, уже рождается. Вероятнее всего, гость кинется на вас, как фавн на лесную нимфу. В другой раз для разнообразия вы появитесь совершенно нагишом, не переставая ни на минуту оставаться вполне светской дамой. Когда, вытянув свои прелестные ноги, вы непринужденно опуститесь на подушки и будете любезно улыбаться вашему гостю, расскажите ему вдобавок, как вас вчера изнасиловали два великана-негра и какое удовольствие вы получили при этом. Опишите ему подробно мужские стати ваших злодеев и все, что они про делывали с вашим телом. Если же он останется хладнокровным и не шевельнется – покажите ему, как вы умеете развлекать себя в одиночку. А то есть еще один вариант – вы можете спросить его с вежливой улыбкой: «После чая мы, может быть, позанимаемся любовью? Мой муж придет не раньше, чем через два часа…» Эммануэль была так довольна и лекцией Марио, и теми размерами, которые она ощущала в своей ладони! Она сказала, придав своему голосу как можно больше строгости: – Господин профессор, слова, которые вы рекомендуете мне произносить, я уже произносила, обращая их к вам. Поскольку вы мною гнусно пренебрегли, я сейчас сдам вас первому встречному жандарму. Марио добродушно улыбнулся. – Обожаю вашу руку. Но, моя дорогая, не старайтесь показаться глупее, чем вы есть на самом деле. Вы хорошо знаете, что нет ничего общего между только что описанными ситуациями и нашими отношениями. Единственная разница, по мнению Эммануэль, заключалась в отсутствии чая, а ласки, которые она расточала, привели в возбуждение и ее самое. Да еще эти ритмические покачивания экипажа. – Сам-ло и не подозревает, какого спектакля он лишен, – заметил Марио. Он свистнул, рикша повернул голову, его глаза быстро пробежали по обоим пассажирам, и он широко улыбнулся. – Мы ему понравились, – констатировала Эммануэль. – Да, мы нашли товарища, – ответил Марио. – Ничего удивительного, ведь он красив. Существует Международное Сообщество Красоты. Некоторые вещи позволены только красивым. Монтерлан в письме к Блассеру очень верно заметил: «Быть блудником не вульгарно. Вульгарно быть ханжой». – А Куртелен говорил еще раньше, – похвасталась эрудицией Эммануэль: – «Стыдятся всего, что некрасиво». – Значит, вы не стыдитесь своей груди? Вместо ответа она свободной рукой стянула через голову блузку и бросила ее прочь. Марио помог ей. На минутку ей пришлось оставить его без попечения, но это была лишь краткая интерлюдия. – Теперь хорошо бы кого-нибудь встретить, – сказал Марио. – А сам-ло разве не годится в свидетели? – Он не свидетель, он соучастник. Марио опять свистнул, сиамец снова повернулся к ним. Трицикл сделал крутой вираж, и все трое радостно рассмеялись. – Что вы предпочитаете? – спросила Эммануэль, вспомнив недавнюю лекцию. – Мои руки, мои губы или… Марио не ответил. И тогда она наклонилась к нему, приоткрыв рот, и припала к торчавшей ветви этого стройного растения. И тут она услышала голос Марио, читающего стихи:Полюби любовь
«Анна-Мария Серджини»… В звуке «и» этого женского имени, когда его произнес Марио, было что-то нежное, волнующее, – даже в том, как внезапно этот звук оборвался. Девушка продолжала сидеть за рулем своего автомобиля, когда Марио взял ее руку с длинными, не украшенными кольцами пальцами, и поднял вверх как бы вручая Эммануэль. «Анна-Мария» – звучало эхом в Эммануэль; она словно пыталась задержать в сознании эту ласковую дрожь раскатистого флорентийского «р». «Анна-Мария» вслед за словами поплыли отрывки церковных песнопений и запах ладана, и запах тающего воска. PANIS ANGELICUS. Девичьи колени, благопристойно прикрытые юбкой. Восхитительные видения! О RES MIRABILIS! Гортань, в которой рождается это «и», язык, касающийся увлажненных губ, полураскрытых губ, за которыми мерцают ровные белые зубы… О SALUTARIS HOSTIA… И сияние, струящееся сквозь цветные витражи, сияние иного света, для которого нельзя найти слов в бедном школьном словарике. – Она великолепна, – прошептала Эммануэль. – И какая ликующая, уверенная, счастливая собой чистота! – Сердце Эммануэль дрогнуло. – О таком совершенстве можно только мечтать. – От вас зависит сделать эту мечту осуществимой, – произнес Марио, и Эммануэль встрепенулась – неужели он и в самом деле может подслушивать ее мысли? Анна-Мария улыбалась так доброжелательно и непринужденно, что Эммануэль сразу же почувствовала себя абсолютно естественно и сжала руку своей новой знакомой. – Но не сейчас, – сказала Анна-Мария с той же прелестной улыбкой. – Я не могу опоздать на дамский чай, я обещала. Машина ее была очень низкой, и она смотрела на Марио, задрав голову, словно он вырос еще на несколько футов. – Ты найдешь кого-нибудь, кто тебя подбросит. – Но… – Поезжай, сага, поезжай! Колеса взвизгнули на гравии. Опечаленная Эммануэль смотрела вслед уносящейся прочь мечте. – Я думаю, что узнала сегодня самое прелестное существо воВселенной, повернулась она к Марио. – Где вы разыскали этого ангела? – Она моя родственница, – ответил Марио. – Иногда становится моим шофером. И тут же полюбопытствовал: – Она показалась вам настолько интересной? Эммануэль словно не расслышала вопроса. – Она завтра вернется, – сказал Марио и после небольшой паузы продолжал: – Я хочу вам сказать вот что: вы можете не только заинтересовать ее, но, я уверен, и заставить прислушаться к самым серьезным предложениям. – Я? Что вы! – запротестовала Эммануэль. – Как это у меня получится? Я ведь совсем еще новичок. Она даже разозлилась – неужели ее учитель считает свое дело законченным после одного-единственного урока? Теперь они, пройдя по саду, поднялись на террасу и снова сидели в гостиной. – Я уверена, что вы достаточно занимались ее воспитанием, разве я могу что-нибудь добавить к этому? – сказала Эммануэль. – Речь идет не о ее воспитании, а о вашем. Он остановился, дожидаясь ее ответа, но Эммануэль молчала, и выражение ее лица оставалось скептическим. И он начал свое объяснение. – Видите ли, тот процесс, который начался в вас, должен быть вами же и завершен. Нет пока таких форм, которые были бы вашими в степени, достаточной, чтобы дать вам как бы другое существование. Но, может быть, вы и сейчас уже довольны собою? Эммануэль решительно тряхнула копной волос. – О нет! Совсем нет! – Ну, так шагните дальше, – голос Марио звучал почти устало. Однако он продолжал: – Как женщина вы вполне можете быть удовлетворены своей любовью: она в известной степени – достаточное условие существования. Но вы – богиня, и поэтому благоденствие других имеет к вам самое прямое отношение. Она улыбнулась, вспомнив помост, храм, ночь. Он внимательно смотрел ей в лицо. – А вы начали заниматься просвещением вашего супруга? Эммануэль покачала головой. Выражение ее лица было и дерзким, и смущенным. – Он разве не удивился вашему долгому отсутствию? – Удивился. – И что же вы ему сказали? – Я сказала, что вы водили меня в опиекурильню. – И он отчитал вас? – Он потащил меня в постель. В глазах своего исповедника Эммануэль прочитала немой вопрос. – Да, – решительно ответила она. – Я думала об этом все время, пока мы занимались любовью. – И вам это понравилось? На лице Эммануэль можно было прочитать ясный ответ. Она снова переживала в памяти то новое, что испытала, когда в глубинах ее тела семя Жана смешивалось с тем, чем засеял ее недра сам-ло – И вам хочется испытать это снова, спокойно констатировал Марио. – Но я ведь сказала уже, что подчинилась вашему Закону. И это было правдой. Ей трудно было поверить в то, что в ее мыслях могли возникнуть какие-то сомнения. И чтобы убедить Марио, она торжественно повторила то, что он сформулировал накануне: ВСЯКОЕ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НЕ ЗА ЗАНЯТИЯМИ ЛЮБОВЬЮ, – ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ! И тут же спросила: – А что же делать Анне-Марии, чтобы не терять времени? – Готовиться к перерождению. Бежать из мира, где занимаются самобичеванием, в мир, где наслаждаются счастьем. Эммануэль продолжала спрашивать, она рассуждала: – Но, значит, в ее жизни есть-таки другие ценности, кроме эротизма? У нее есть свои идолы и свои законы. Марио усмехнулся. – Что я хочу увидеть, – произнес он, – так это то, как мечта о возвышенном приведет Дочь Человеческую к вечным мукам, а любовь к реальному поможет Духу одержать победу здесь, на Земле. Эммануэль всплеснула руками: – Ну что я за хозяйка! Может быть, вы хотите что-нибудь выпить? Или сигарету? Она сделала было шаг к бару, но Марио остановил ее: – Я надеюсь, по крайней мере, – произнес он с плутовским видом, – под этими шортами у вас ничего не надето? – Что за вопрос? – откликнулась Эммануэль. Шорты были так коротки, что едва виднелись из-под пуловера. Внимательный наблюдатель мог бы увидеть и выбивавшуюся из-под них темную поросль сада Венеры. Однако Марио остался не очень доволен увиденным. – Не люблю эту одежду. Юбку можно приподнять – это калитка, раскрывающаяся для входа. А шорты – стена, которую надо пробивать. Когда вы всовываете свои ноги в такой футляр, они сразу же теряют для меня интерес. Эммануэль окончательно развеселилась. – Да я их вовсе сейчас сброшу. Но вы так и не сказали, что вам налить? У него, однако, были другие намерения. – Почему мы сидим здесь? Я люблю деревья в вашем саду. – Но ведь собирается дождь! – Но он еще не начался. И он повел Эммануэль к месту, которое уже успел полюбить: к широкому гранитному парапету, окаймлявшему террасу. В парке было тихо. Замершие неподвижные купы темных деревьев изредка озарялись посверкивавшими молниями. – О, Марио! Вы только посмотрите, какой прелестный мальчуган прогуливается по улице! – Да, ничего не скажешь, хорош… – Почему бы вам не позвать его сюда? – «Всему свое время под небесами», – говорил Соломон. – Время бегать за мальчиками и время позволять им убегать от нас. – Я совершенно уверена, что как раз последнего, Марио, он и не говорил. Но мне хотелось бы… Он скрестил руки на груди с видом терпеливого ожидания. Она понимала, чего он ждет, пожала плечами, опустила взгляд на свои обнаженные ноги. Шорты оставили на них розовую каемку. Выставить напоказ то, что было выше этой линии?.. – Ну, что же? – О, Марио, пожалуйста, только не здесь. Нас же могут увидеть соседи. Она кивнула на занавешенные окна, за которыми, ей показалось, мелькнули какие-то тени. – Вы же знаете этих сиамцев. Они всегда любят подсматривать. – Ну и прекрасно, – весело воскликнул Марио. – Разве вы не говорили мне, что любите людей, восхищающихся вашим телом? Смущение Эммануэль словно бы вдохновляло Марио. Он продолжал: – Еще раз напоминаю вам: эротика не может быть скромной. Эротическая героиня подобна избраннице богов – она вызывает гнев, раздражение, скандал. Шедевр всегда возмущает на первых порах. Разве нагота, решившись быть наготой, должна прятаться? Самый дерзкий ваш разврат произведет самое ничтожное впечатление, если вы опустите занавеси вашего алькова. Он не сможет освободить вашего соседа от невежества, стыда, страха. Значение имеет не то, что вы обнажены, а то, что вас видят обнаженной; не то, что вы кричите от наслаждения, а то, что ваши крики услышаны; не то, что вы десятками считаете своих любовников, а то, что ваш ближний может их сосчитать; не то, что ваши глаза открыли истину любви к любви, а то, что вы помогаете кому-то – кто рыщет среди своих химер, в своем мраке, – открыть, глядя на вас, что нет другого света и другой красоты, чем ваш свет и ваша красота. Голос его звучал с необычной убежденностью: – Всякий возврат к ложному стыду деморализует толпу. Каждый раз, когда вы начинаете беспокоиться о возможном скандале, подумайте о том, кто ждет от вас указания правильного пути. Не обманите его, не лишайте его этой надежды: неважно, подозревает он о ней или нет. Если робость или сомнение удержит вас когда-нибудь или сейчас, да, именно сейчас, от эротического поступка, подумайте, какое предательство вы совершаете! Он остановился, чтобы перевести дыхание, а потом в его голосе послышались осуждающие нотки: – Какие правила мешают вам совершить поступок? Хотите ли вы, чтобы только вы могли поступать так смело? Или вы желаете этой смелости и другим? Хотите ли вы остаться только Эммануэль или стать одной из тысяч?.. – Конечно, я могу уважать взгляды моих соседей, – защищалась Эммануэль. – Но это же не означает, что я должна разделить их. Если им не по вкусу мои способы наслаждения, почему я должна радоваться, что шокирую их или вызываю скандал? – Если кто-то ведет себя подобно «людям с другой стороны улицы», он оказывается сам «человеком с другой стороны улицы». Вместо того чтобы изменить мир, он размышляет о тех, кто это делает. Эммануэль поразило это высказывание, и Марио успокоил ее: – Это не мое. Это сказал Жан Жене. И продолжал несколько спокойней: – Как говорит другой писатель, в деле любви даже слишком много оказывается недостаточным. Если вы сделали уже что-то хорошо, необходимо сделать еще лучше. Вы должны постоянно превосходить себя и превосходить других. Недостаточно быть образцом, вы должны стать примером для образца, самым первым примером, раньше всех. Эммануэль смотрела в пространство. Она не произнесла ни слова. Сидя на низком парапете, она обхватила руками свои ноги и уткнулась подбородком в поднятые колени. Потом, словно очнувшись, спросила жалобным голосом: – А почему все это должна делать именно я? – Почему именно вы? Потому что вы призваны к этому. Другие способны решать уравнения, писать музыку; ваш гений – в физической любви и красоте. Разве вам не хочется оставить свой след в жизни? – Но мне ведь только девятнадцать лет. Мне еще так далеко до конца жизни! – А разве надо ждать так долго начала действия? Разве вы еще ребенок? Послушайте, я зову вас стать героиней. Не только я зову. Весь мир нуждается в этом. Ваш род, ваш биологический вид требует от вас этого. – Мой биологический вид? – Ну, конечно! Эта доисторическая аминокислота, доисторическая амеба, доисторическое четвероногое, все непостижимое хочет стать постижимым, добиться чего-то, превратиться во что-то! Животное? Позвоночное? Млекопитающее? Приматы? Человекообразное? Человек? Гомо сапиенс? Все это устаревшие ярлыки. Идет предвестник Нового: человек Времени и Пространства, человек беспредельного свободомыслия, человек со множеством тел и единым разумом, человек, создающий и преобразующий людей, которому постоянно угрожают его же собственные создания, который отмечен стигмами своих ошибок и своих тайн. Хотите вы помочь ему? – Значит, если я сниму свои шорты, я ему помогу? – …Вместо этого увековечить иллюзии, обманы, фобии? Увековечить благопристойность? – Вы в самом деле считаете, что для прошлого человечества и для его будущего имеет значение, открыт мой холм Венеры или прикрыт? – Будущее зависит от силы вашего воображения, от вашей дерзости, а не от вашей верности старым обычаям! То, что было мудрым для пещерных людей, превратилось для нас в идиотизм чистейшей воды. Возьмем скромность, так называемое «приличие»: врожденная ли это добродетель, ценная для всех времен? По сути дела, конечно же, нет. Первоначально – глубокая мысль, крепкая, нужная людям, истинное понятие. Сегодня – пустая претензия, бессмысленный софизм, фальшивая драгоценность, прибежище лжецов, сосуд извращенности… – Вы хорошо знаете, что я не ханжа. И я в восторге от вашей проповеди. Но неужели все это надо принимать настолько серьезно? – Человек, впервые спустившись на землю, все еще не мог выпустить из рук свисающие ветки, он боялся когтей и зубов соперников, он прыгал, лазал, скакал по земле среди зарослей и камней. На это у него уходило куда больше времени, чем на ласки своих подруг во влажной темноте пещер. И тот, кто первым подумал о том, что надо предохранить орган, от которого зависит появление и численность потомства, воистину оказал огромную услугу своему виду. Если бы он не возвел эту элементарную предосторожность в этический закон, в ритуал, не придал бы ей налет элегантности, если хотите, некий шарм – кто знает, смог бы он добиться господства над остальными тварями? То, что превратилось в ханжество, было сначала биологическим ясновидением: это шаг в направлении эволюции, хорошая вещь в самом прямом смысле. Марио опустился в кресло подле Эммануэль. – А позднее одежда спасла род человеческий от гибели в ледниковый период. Он с раздражением рванул ворот мокрой от пота сорочки. – А теперь взгляните! Северные олени ушли на север, великие ледники растаяли под солнцем. И тем не менее мы задрапированы в одежде, ибо неприлично ходить голыми! Драматический жест – и продолжение: – Мы сидим на бархате и ходим по подстриженной травке. У наших прирученных животных нет ни панцырей, ни острых клыков. А мы все еще боимся, что кто-то может повредить наши гениталии. Пара штанин все еще священна для нас, хотя их роль давно отыграна, их прямое назначение забыто! И вы еще спрашиваете меня, почему надо освободиться от этой туники Деяниры? Глупо держаться за миф, утративший всякий смысл, – глупо для всего рода людского. Энергия, растраченная на службе чистейшему предрассудку, лишает нас созидательной мощи. Тема явно воодушевила Марио, он продолжал: – В самом деле, задача древних греков, считавших ее самой необходимой, была – сбросить одежды. Вначале, когда они еще пребывали в каменном веке, они укрывали свои фаллосы, но едва наступили времена более высокой культуры, у них появились обнаженные статуи. И если бы народ великих воинов, поэтов и философов не осознал, как смешны эти «священные покровы», мы бы и по сей день оставались варварами. Озорной блеск блеснул в глазах Марио: – Неужели вы думаете, что дорические эфебы предпочитали состязаться в своем пятиборье без всякой одежды только для того, чтобы не стеснять движений? Нет, в первую очередь они старались показать красоту своих тел поклонникам, которые потом обессмертили их. В гимназиумах рядом со статуей Афины Паллады стояла статуя Эроса, и первый урок мудрости мужчина получал у ног бога Любви. На мгновение Марио словно погрузился в грезы об эпохе, в которой Эммануэль это знала точно – он предпочел бы жить. Но, пересилив себя, вернулся к современности: – То, что я вам только что сказал об истории благопристойности, относится также и к другим сексуальным табу. Попробуйте открыто и честно признаться своим знакомым, что вы любите познавать мужчину губами, языком, чувствовать его глубоко в своей глотке. Что каждый день вы доставляете себе радость при помощи собственных пальцев. Или что вы любите делить супружескую постель еще с кем-нибудь третьим! О, какой позор обрушится на вашу бедную голову! Когда-то все эти табу имели смысл. Когда задачей человека было заселение огромной планеты, нельзя было бесцельно расточать сперму, и мысль объявить мастурбацию смертным грехом была просто необходима. Теперь же Земле угрожает перенаселение, и я вообще запретил бы мужчинам извергать семя в женское влагалище; это можно считать допустимым, только если нет риска оплодотворения. Мы так и не избавились от архаичного страха, что жена может принести чужого ребенка – и это при том, что мы теперь можем вполне положиться на противозачаточные средства, а вдобавок к этому – на наши губы, языки, пальцы. Это же просто нелепо и оскорбительно для разума – смотреть в этом столетии на поиски чувственных наслаждений, не ставящих себе целью воспроизведение потомства, как на нечто заслуживающее порицания. И настало время для нас мужчин, признать стремление наших жен к новым и новым встречам и неоскорбительным, и вполне законным. Казалось, Марио ждет реплики Эммануэль, но она не разжимала губ, и он продолжал: – Если мы хотим, чтобы наши дети были умнее, талантливее нас, мы должны оставить им Землю, освобожденную нашей дерзостью от абсурдных запретов и нелепых страхов. Стыдливость, школьное благонравие, то, что французы называют «прюдери», – это оковы. Что могли бы открыть Паскаль или Пастер, если бы они не вырвались их этих капканов? И что бы вы сказали о художнике в шортах и на привязи? Я не рассматриваю эротизм как самоцель. Но я знаю, что он своим желанием быть свободным бросает вызов лицемерию и боязни. Если человечество заблудилось в лабиринте, то эротика – нить Ариадны, которая выведет узника на свободу. Марио вытянулся на полу у ног Эммануэль, положил голову на ее колени. – Может быть, явление вашей вызывающей наготы на этих камнях вернет истомленному, усталому от цивилизации человечеству отвагу и любовь к опасности. Он поднялся, теперь, он возвышался над Эммануэль. – Если роль интеллекта заключается в том, чтобы открыть истину, он должен признавать для решения задачи только один метод – не закрывать глаза; только одно правило – никогда не лгать. Чего же проще – скажете вы. Как бы не так! Он пожал плечами: – Только терпение! Вы же знаете, что сказал один из ваших коллег-математиков: «Истина никогда не торжествует, но ее враги однажды умирают». Внезапная мысль, казалось, развеселила Марио. – Кто знает, может быть, осталось совсем недолго до этого времени, – он улыбнулся своему видению, – В эпоху, которая роботов предпочитает человеческим существам, мы должны поспешить испытать свое тело, прославить его возможности и мощь, если мы хотим остаться во главе мира. Мы уже знаем, что наше самое яркое отличие от другой фауны связано с нашей способностью пить, даже не испытывая жажды заниматься любовью независимо от сезона, в любое время года. И я не удивлюсь, если – и не в таком уж далеком времени – единственная возможность отличить человеческое существо от машины будет основываться на давнем стремлении нарушить упорядоченную сексуальную жизнь безумством эротики. Не сомневаюсь: заисторические андроиды, которые когда-нибудь поведут космические корабли к далеким Вселенным, приобретут в один прекрасный день возможность воспроизведения неполовым путем. Но до тех пор, пока натуральному пути они не начнут предпочитать мастурбацию, пока их женские особи не почувствуют вкус любовного сока их партнеров на своих губах, – мы будем оставаться победителями в игре! Эммануэль выглядела восхищенной этой неожиданной глубокой мыслью. Марио остановился, но не надолго. Тема не отпускала его. – Человеку нужны не только бесконечный ряд чисел и синхротроны, стероиды и пересадки сердца. Наверняка это хорошо, если он улучшает обмен веществ в своем организме и подчиняет себе мезоны и молекулы. Но в этом мире, где тебе известно все: и каков у тебя резус-фактор, и какова длина волны твоих желаний и чувств, – больше, чем когда-либо на нас лежит долг сохранить ценности жизни. Он продолжал со все возрастающей страстностью: – Во всех изменениях, которые могут происходить, – в изменениях формы, в заменах хромосом, в изменениях структур атомов, – мы ни в коем случае не должны потерять ту драгоценную нить Ариадны, которая спасет нас от смертельных ударов о стены наших темниц. Эта нить – любовь к красоте, любовь к любви – не наша врожденная способность, не талант, данный, нам априори. Это самое прекрасное из всех произведений искусства – искусство, творимое людьми, творящее людей; искусство, создающее человека искусства! Искусство любить наше тело – подлинного властителя вечности, победителя вечности! Только произведение искусства может победить смерть. Смерть страшна, когда после себя вы оставите только то, что вы есть. Но как высоко вознесетесь вы над земным прахом, если это тело, которому судили лишь покаянные одежды да саван, ваши поступки превратят в нечто другое: когда под резцом скульптора, а скульптор это вы, ваша жизнь, – ваша любовь превратится в изваянную из бессмертного мрамора Красоту. Марио развел руки, обратил свой взгляд к небу и шепотом, словно голос отказался ему повиноваться, прочел: «До того, как погаснет солнце. И померкнут луны и звезды…» Эммануэль, слушавшая его все это время, обхватив колени руками и опустив голову, взглянула на Марио. Она вспомнила берег клонга и его тогдашние речи. А он продолжал: – Всему приходит свой срок в определенный момент. Даже христианству. Когда-то к смертным, отягощенным страхами, подозрительностью, суевериями, недоверчивостью, явился человек и сказал: «Любите друг друга! Вы единственный род, созданный для братства: нет избранных, нет рабов, нет проклятых. Я освобождаю вас от ваших призраков, избавляю от ваших идолов и мнимой тяжести ваших долгов. Вы больше не найдете никаких ответов у ваших жрецов с их храмами и священными книгами; теперь вы должны сами спрашивать себя, даже понимая, что, может быть, и не найдете единственного ответа. Но вопрошайте все время, лишь в беспрестанных поисках заключается ваше бытие и ваше освобождение». В те дни мир шагнул вперед. Но затем Евангелие стало постепенно утрачивать свою силу и свой смысл, яркое, свежее вероучение превратилось в свод принудительных правил, где всякая радость жизни объявлялась грехом. Мессия служил эволюции, его Церковь мешает ей. И сегодня вам предстоит нести благую весть. Весть Любви. Любви, свободной от всякого стыда, любви, чей лик не смогут исказить никакие фарисеи. Любви, избавляющей от страха и тайны, от слабости. Любви ради Жизни. «Наслаждайся жизнью со своей женой, которую ты любишь», – говорил Соломон. Да, не бесплотное стремление к небу, а любовь к жизни, к живому – вот что важно: «…Ибо живой пес лучше мертвого льва». Итак, тело, плоть наша бренна лишь потому, что мы презираем его, его требования мы считаем ничтожными, и они действительно становятся ничтожными. Но как только его Закон мы положим в основу мира, мы сможем сказать: «Я слышу голос своего тела, повинуюсь ему, и поэтому моя жизнь не будет прожита зря!». И я говорю вам, Эммануэль, – мне нечего стыдиться, если в основу будущего я ставлю ваше прекрасное тело. Чувствовалось, что Марио устал. Он заговорил теперь гораздо спокойнее: – Проповедник вряд ли мог продвинуться дальше, к эросфере, которая, по сути, есть один из этапов ноосферы. Эротизм, который мы вполне можем называть эволюцией, есть ведь не что иное, как одухотворение косной материи. Но наш мозг, наш разум недостаточен, чтобы сделать нас всесильными, нужен фитиль, бикфордов шнур. Этот фитиль – пол. Он поможет нам раздвинуть границы природы. Без него человек не полон. Человек превосходит ангела, превосходит кибернетическую машину только тогда, когда он сплетается в объятиях. Фаллос вот наш шанс. Без него мы были бы всего лишь машинами с ледяными чреслами. На мгновение Марио снова превратился в наставника: – Говоря вам о поле и разуме, об интеллекте и либидо, я, конечно, надеюсь, что в размышлении о двух этих, так сказать, субстанциях вы ни в коем случае не спутаете эротизм как искусство со стремлением к удовольствию. Большинство людей попросту проматывают свою чувствительность: они относятся к ней в лучшем случае как смышленые обезьяны. Эротизм – это ведь прежде всего образ мыслей, достойный человека. Запомните одно: истинный облик эротизма – не чувственность, а любовь. В голосе Марио вдруг зазвучала обида: – Разве я казался вам бессердечным фанатиком? Я, желающий лишь избавить людей от страданий. Я верю в то, что они имеют право на счастье; и верю, что это счастье возможно. Что вы, Эммануэль, сможете стать счастливой, если только вас не оставят смелость и любопытство. Им надо только освободиться от прошлого, приспособить навстречу новому свои законы, свое мировоззрение и мироощущение. Им надо отказаться – вам как математику будет понятно мое сравнение, – усмехнулся Марио, – от четырех правил арифметики и постичь высшую математику чувства и разума. Конечно, надо быть героем, чтобы отказаться от привычного, от повседневного, от затверженного. Но ведь все это приводило лишь к страданиям, а человек обязан быть счастливым. И любовь, которой я обучаю вас, дает счастью еще один шанс осуществиться! Эммануэль залюбовалась Марио, и снова, как при их первой встрече в доме маркиза, его убежденность, его пыл заворожили ее, она даже не вспомнила, что нечто подобное он уже говорил. – Эта любовь – не признак бездушия или декаданса, но символ здоровья всех тех, кто смотрит в будущее. Не может одиночество быть призванием, уделом человека; оно – только необходимая первая ступень к познанию, детская болезнь, душа взрослеет и вылечивается от нее. Я уверен, что будущее рода лежит в соединении, а не в изолированности, сначала в соединении двоих, троих, четверых, потом целых групп; превращении в единый организм различных частиц; соединении разных сознаний в единый дух. Добродетель эротизма именно в том и состоит, что он взрывает стены одиночества. В том, что он помогает человеку приохотиться к другому, узнать вкус истинно человеческого. И я уверен, что в этом смысле эротизм окажется удачливее всех других учений, и не сравнится с ним никакая аскеза, никакие религиозные таинства, никакие наркотики. Теперь вы понимаете, почему для меня обособленность и ревность кажутся преступлением, посягательством на эволюцию человеческого рода. Они рождены скрытым лицемерием изуверских сект, фарисеев, святош и прочих чудовищ. И если вы впускаете в свою любовь кого-то, кроме вас двоих, это ничуть не вредит любви, ни в коем случае не означает ее крушения, это не измена любви – наоборот, вы открываете двери в изумительную жизнь, где укрепляется любовь любящего и не унижен любимый. Эта любовь, к которой мы когда-нибудь окажемся способны, означает конец тупоумия и невежества, приход времени, когда человек становится достойным своего звания. Сияющий хоровод наших золотистых грудей, танцующих рук, наших расправленных крыльев, скольжение и прыжки наших обнаженных ног придут на смену мрачным шествиям прошлого. Юность среди гробниц! Да, меня не надо убеждать, я верю в то, что это время наступит, и это единственное, во что я верю! Взгляд Марио прямо-таки обжигал Эммануэль. И он сказал еще: – Мир будет тем, во что превратят его изобретательность и безрассудство вашего тела. Но те, кто придет после нас, должны быть настороже. Когда наступит господство эротизма и он сам превратится в религию со своим культом, своими церквями, епископами и ересями, своими алтарями, своей латынью, изгнанием бесов и папской курией, и мир снова станет погружаться во мрак, делаться тоскливым и упорядоченным, новые люди должны быть уже научены мудрости, чтобы оказаться способными к новому бунту. Но сейчас все это лежит в нас: фальшивые божества с их безотрадными храмами, с их ритуалами, в которые никто не верит. Эммануэль, освободите нас от этого ига! Она смотрела на него, словно ожидая чего-то. Ее веки дрогнули раз, другой. Потом она плотно сомкнула их и замерла, вся вытянувшись, насторожившись. Прошло несколько бесконечных минут, пока Эммануэль медленно подняла блузку, расстегнула шорты, спустила их до колен, потом до лодыжек. Затем резким движением ноги отбросила их еще дальше, в траву, подступавшую к террасе. И мягкая теплота камня коснулась ее обнаженной кожи. Она послушно повиновалась Марио, когда он попросил ее лечь навзничь, выставив напоказ все, что можно. Она сделала даже больше: словно полностью предлагая себя, широко раздвинула бедра, ее ноги свесились по обе стороны парапета, низ живота подался вперед, завораживающе вздрагивая мускулами под безупречной кожей.Приглашение
Ее не могли увидеть с улицы – слишком густы были деревья. Но она не сомневалась, что соседи ее замерли сейчас у занавешенных окон, выходящих в сад, и любуются зрелищем. Кто они? Она не имела понятия об этом. Она никогда не видела их. Может быть, они возмущены? А может быть, мастурбируют, глядя на ее наготу. Она представила себе движения их рук – и возбуждение стало расти в ней, посылая властные импульсы во все уголки вздрагивающего тела. Голос Марио заставил ее очнуться: – Вы когда-нибудь ласкаете себя при ваших слугах? – О, конечно. На самом деле в те утренние часы, когда Эммануэль забавлялась сама с собой в постели или под душем, а после ленча в шезлонге, читая или слушая радио, только Эа, ее камеристка, бывала свидетельницей игр своей хозяйки. Остальные слуги – по крайней мере, так думала Эммануэль, – были лишены этого зрелища. – В таком случае, – продолжил гость, – будьте великодушны, не отказывайте в моей просьбе. Позовите вашего боя. Да, прямо сейчас. Он такой славный! Эммануэль решила, что она ослышалась. Нет, это уж чересчур! Марио должен же понимать… И как строго он смотрит на нее. Он что, хочет наверстать упущенное? И вдруг ей показалось, что она слышит позывные судьбы – «бип-бип, бип-бип». Словно напоминание о ее долге. Одна, еще одна – сколько минут отпустила ей вечность? Она знает, что рано или поздно она станет тем, что предсказывал ей он (Марио не приказывал, он как-то вложил в нее это понимание), и стоит ли сопротивляться этому. И она произнесла имя боя сначала тихим голосом, чуть слышно, а потом почти выкрикнула его. И как только он явился, глазами и поступью напоминая сиамскую кошку, Марио подозвал его и поставил на колени прямо перед Эммануэль. – Вам не хочется, чтобы он довел вас до экстаза? – вкрадчиво спросил Марио. Она кусает губы, ей надо предупредить Марио, что мальчишка понимает французский. Но Марио уже начинает говорить с ним на языке, который она никогда до сих пор не слышала. Бой отвечает почти шепотом, глаза его потуплены, он смущен не меньше Эммануэль. Голос Марио звучит, как голос доброго, терпеливого наставника. «Как прекрасно это выглядит, – усмехнулась про себя Эммануэль. – Урок эротологии на тайском просторечии». Несмотря на всю щекотливость положения, она нашла это весьма забавным. Все же она испуганно вздрогнула, когда без всякого предупреждения Марио положил руку боя на ее бедра. Он показал мальчику, что тот должен делать, предостерег его раздеваться не надо! – поправил его первоначально неловкие движения. Но уже через минуту мальчишка показал, насколько он понятлив, и Марио допустил его пальцы до самостоятельной работы. – Он признался мне, что без ума от вас, – сказал Марио. – Разве не жестоко было заставлять его мучиться? Эммануэль ничего не ответила, и он добавил: – Или это слишком унизительно для вас? – Ну что вы! Разумеется, нет, – возмутилась Эммануэль и неожиданно произнесла следующую сентенцию: «Мужчина есть мужчина!». – Конечно. Это один из тех голодных и жаждущих вашего тела, вашей груди, живота, губ, лона. Он так стремится дотронуться до вашего тела и погрузиться в него. С того самого дня, когда вы приехали, ему снились сны, как он соблазняет вас. Но ведь подумайте, и в этом случае и во всех других: разве здесь не ваша собственная инициатива, ваша отвага и дерзость? И вдруг тоном приказа добавил: – Думайте об Анне-Марии! Она попыталась выполнить этот приказ, но перед ее закрытыми глазами неожиданно возникла Би. Может быть, ей напомнил Би дурманящий запах роз из сада? И она стала повторять про себя строки письма, написанного ею накануне своему потерянному другу. Крики и жалобы, совершенно бесполезные, потому что Би никогда не прочтет их: «Я лишь хотела тебе сказать, что наступает еще один сиамский день для нас с тобой, и солнце, чьи первые лучи озаряют тебя, возвещает мне и мое пробуждение. Оно, это солнце, как звонарь, поднимающийся в урочный час к своим колоколам, находящий в своей пунктуальности радость. Это наше солнце и наш призыв. Мы неразрывны, и только небо может разлучить нас. Я тянусь к тебе, а ты для меня за многими стенами, которые все говорят о твоем отсутствии. Но в мечтах я прижимаю тебя, еще не очнувшуюся ото сна, к своей груди, и мое дыхание увлажняет твои губы. Я леплю тебя. Мои пальцы открывают тебе глаза, укладывают твои волосы, дарят твоим ногам шелковистую кожу и покрывают твое лицо нежным румянцем. Я воссоздаю тебя, моя прекрасная сестра, такой, какая ты есть. Как на экране, показывает мне память твою поступь, и я подчиняю свою жизнь тебе: соразмеряю ее с ритмом твоих шагов, и эти часы точнее всех других. Я окутываю тебя светом утренней зари, поднимающейся из глубин пространства. Но я все еще планета без солнца. Я ищу тебя среди деревьев, мой лесной родничок, у которого я смогу узнать покой, я знаю это. Припасть к тебе, вытянуться возле тебя и увидеть отражение своего лица в прозрачной воде. После долгих странствий и поисков я хочу возродиться твоей живительной влагой, мой родничок. Я хочу, чтобы ты освежила меня и чтобы ничто не могло оторвать меня от твоих губ. По утрам ты будешь смывать с моей души ночные видения, а вечером помогать забыть тяготы дня…» Волны желания, нежности, самозабвения окатывали ее душу. И она совсем не помнила, чья рука ласкает ее сейчас, чьи глаза всматриваются в нее, перед кем лежит она, бесстыдно раскинувшись на гранитном парапете. И вот Марио и Эммануэль снова в гостиной. – Как вы любите пить чай? – осведомляется она. – Положить вам восемь кусков сахара или четырнадцать? А может быть, вам хочется целый килограмм? – Если вы не возражаете, – ответил он, – я бы предпочел одно дивное блюдо. И, посмотрев на нее внимательно, тихо произнес: – Подойдите ко мне и сядьте рядом. Она садится рядом, готовая приласкать его. Он отстраняется от ее руки, но она остается на месте, счастливая тем, что смотрит на него, готовая учиться дальше. Кто лучше него знает, что нужно делать, чтобы привести себя в исступление? Чем отличается это несказанное наслаждение собственным телом, которое она ощущает сейчас, от того, что испытывают мужчины, спрашивает она себя? Чем? И почему? Она представляет себе, как в глубине ее тела растет и пульсирует чужая плоть, как она расцветает в ее пальцах. И она не может понять, что происходит с ними обоими, она не может понять, его или себя любит она в эту минуту. Минуту высочайшего наслаждения. Их губы полуоткрыты. Кто удовлетворен сильнее, он или она? – Теперь будьте женщиной, – говорит он. Она не согласна; ей хочется быть для него мужчиной, так же, как она была женщиной для других женщин. Она объясняет ему это, спрашивает, почему бы ему не полюбить ее как мальчика. – Не надо предлагать мне то, что я могу получить у других, – холодно возражает Марио. И Эммануэль уступает, блузка снова снята, и Эммануэль улыбается своей сияющей наготе. Ее руки привычно скользят по своему телу, находят грудь, поднимают ее, потом пощипывают соски, и те тотчас же выставляют свои рожки, но руки неожиданно отпускают их, пробегают вдоль всего тела, опускаются к бедрам, медленно поглаживают их, словно успокаивая, и снова бегут вверх к подмышкам, на обратном пути оттуда снова встречают грудь и вознаграждают ее за долгое ожидание, как бы говоря: «Спасибо, что ты так терпеливо дожидалась нашего возвращения». Ее губы трепещут в поисках других губ, грудь поднимается навстречу другой груди, тело стремится прижаться к другому телу. Но нет здесь другого тела, кроме ее собственного. И вот руки Эммануэль спускаются ниже, и как бы случайно пальцы ее находят крохотную точку, узкую щель в нежной розовой плоти, раздвигают ее, и начинается пошлепывание, подергивание, почти незаметное царапанье ногтями. Глаза ее закрыты, ягодицы напряжены, ноги раскинуты, и в сумерках она выглядит причудливым живым распятием. Она ошеломлена собственными ласками, слезы появляются на ее ресницах, с губ срываются стоны; она плачет от собственной радости, не стесняется своих слез и в этом сладостном унижении черпает новые силы. Напрасно она старается продлить это дивное время ожидания, помиловать себя, не дать себе погрузиться без остатка, потерять то, что она сейчас испытывает. Нет, она не может, она не останавливается, она продолжает двигаться к тому рубежу, который – она знает последний, который она никогда не сможет перейти, никогда… Кисти ее рук выгибаются наподобие раковины моллюска, словно прикрывая от нескромного взгляда тайные прелести и в то же время сдерживая рвущуюся оттуда ярость; будто потоки наслаждения хлещут через Эммануэль, словно распались земля и небо, и она сама брошена на грудь наблюдающего за ней создания, как огромная белая птица. Пальцы Марио сплелись с руками Эммануэль, и она не может понять, кто дарит ей эти восторги, – он или она сама. Но вот он осторожно высвободился и положил женщину на шелковую обивку кресла. Она уткнулась лицом в шелк, черная грива разметалась по обнаженным плечам, спина все еще конвульсивно вздрагивает. – Сегодня, – сказал Марио, – я пришел как королевский посланец. Теперь самое время выполнить мою миссию. Голос его зазвучал торжественно: – Его Королевское Высочество принц Рме Сена Ормеасена будет счастлив видеть вас на приеме, который он дает послезавтра в своем дворце Малигат. Мне доставит большое удовольствие сопровождать вас туда. – А я знаю этого принца? – вяло поинтересовалась Эммануэль, все еще не справившаяся с дрожью. – Он не был еще представлен вам и потому не мог взять на себя смелость передать вам приглашение лично. Во всяком случае, я ответил ему, что постараюсь убедить вас принять приглашение. – А Жан… – Ваш супруг? О нем ничего не сказано, мне кажется, его не ждут… – Но тогда… Однако Марио не дал ей закончить: – Дорогая, я должен объяснить вам, какой случай представляется в связи с этим приглашением. Там будет изысканная кухня, великолепный погреб, музыка и танцы. Но самое главное – там вам предоставится возможность осчастливить своим телом любого из присутствующих, разумеется любого из тех, кого вы найдете достойным этой чести. И ваши достоинства помогут вам в приобретении дальнейших знаний, в совершенствовании ваших способностей. Я не сомневаюсь, что тамошние гости смогут дать вырасти вашему прирожденному дару. – Понимаю, вы хотите повести меня на оргию. – Фу, милая, что за слово – «оргия»! Я бы назвал это праздником плоти. К тому же вы увидите, что если вам не захочется испытывать все это, никто силой не вовлечет вас ни во что. Чтобы не оскорбить чьих-нибудь взглядов, наш хозяин предоставил право выбора только гостьям, а не гостям. Эммануэль размышляла совсем недолго: – И после такой ночи я, вероятно, стану гораздо ближе к вашему идеалу? И прежде чем Марио успел ответить, она закончила: – Ладно, я готова попробовать. Но какое-то беспокойство все-таки не покидало ее: – А что же я должна сказать Жану? – Мне кажется, вы не спрашивали его разрешения до этого. – Но он не позволит мне сбежать на всю ночь, даже не поинтересовавшись, куда я пошла и чем буду заниматься… – Ну, так рано или поздно он это узнает. – И что тогда? – Тогда вы сможете узнать, обманывались вы или нет… – Обманывалась в чем? – В его любви к вам. – Но я никогда не сомневалась в этом. – Любовь, как мне уже приходилось объяснять вам… Эммануэль вспоминает те положения, которые развивал перед ней Марио в своем нависшем над черной водой доме. Но она все еще не знает, должна ли она верить в их полную истинность. – Испытайте себя! – предлагает Марио. – Сделайте опыт. – И если я увижу, что Жан любит меня не так, как вы думаете? – Тогда у вас все потеряно, возможности духа и любви. – Я люблю Жана, – размышляет она вслух. – И не хочу ни терять его, ни быть потерянной. – Так вам кажется спокойней уклониться от решения? – Но я не хочу только Жана и себя, – призналась она. – Мне хочется чего-то большего. – Теперь вы никогда больше не будете владением, собственностью, частным участком. Вы можете выбрать другой путь – стать для вашего мужа личностью. – А кем буду я для тех мужчин, которым буду принадлежать? – Сначала решите, что они для вас, – и тогда узнаете ответ. Вы полагаете, что они отличаются от вас? – Я это люблю так, что мне хотелось бы поделиться этим счастьем и с другими. – Не хотелось бы так думать. Скажите, дорогая, а когда вы отдаетесь, вы думаете только о своем удовольствии? Стесняет ли вашу свободу мужское стремление обладать вами? Это их желание не оскорбляет ваши чувства? – Да я просто в восторге от этого! – Увеличивается ли ваш восторг, когда они просят вас утолить их жажду? – Вы знаете мой ответ. – Я-то знаю, но знают ли они? Мужчины никогда не бывают уверены в себе. Вы должны ответить им. Только тогда вы узнаете, кто они для вас, что они собой представляют, когда они перестают вас бояться. И только тогда, когда их желания исполнены, вы перестаете отличаться друг от друга. Бессознательно они стремятся к этому – слиться с вами – уже с незапамятных времен. – И, стало быть, мне нельзя никого разочаровывать? – Никого. Мужчина только тогда мужчина, когда он связан с вами, когда он находится в вас. Она рассмеялась. Он добавил: – Да и ваша собственная сущность, смысл вашего существования зависит от других. На мгновение Эммануэль, подобно улитке, спряталась в свою раковину. Но напоследок вытянула оттуда свои рожки: – А если… если я забеременею? Я даже не буду знать, от кого у меня ребенок! – Конечно, – согласился Марио. – Вы должны совершенно точно это себе уяснить. Эммануэль не призналась, что это не было для нее такой уж большой проблемой. Когда-то, еще в Париже, они с Жаном договорились пока не обзаводиться потомством. Но со времени ее приезда в Бангкок она отбросила всякие предосторожности. Она не думала об этом ни в самолете, ни в приключении с сам-ло Тем более, что однажды Жан сказал ей, что если она подарит ему ребенка, для него не имеет значения, будет это его ребенок или нет…* * *
– Ну, как вы проводите здесь время? – в тот же вечер спросила Эммануэль Кристофера. – Жан, что же ты не познакомил нашего друга с какой-нибудь прелестной сиамочкой? Не показал ему местные увеселения? – Это идея, – отозвался Жан. – Например, китайский стриптиз. – Ужас! – воскликнул Кристофер. Его гримаса восхитила Эммануэль. – Боже мой, – всплеснула она руками. – И как это ему удается быть таким добродетельным? – Он прикидывается. Молодой англичанин что-то пробурчал под нос, а Жан добавил для ясности: – Виле. То как он заглядывается на маленьких девочек! – На девочек? – в голосе Эммануэль послышалась легкая хрипотца. – Да, вот на таких девочек, – и Жан показал рукой едва ли не метр от пола. Жена его сморщила нос. – Такие маленькие! Фу! – произнесла она. Кристофер, решив, что нельзя быть таким некомпанейским, принужденно рассмеялся. Однако после ужина они выбрались из дома и погрузились в лабиринты китайского квартала. Целью их путешествия был театрик, выглядевший, как небольшой крытый рынок. Сотни полторы зрителей с лоснящимися от волнения лицами, стоя перед сценой, любовались вереницей обнаженных девиц. По правде говоря, девицы не были совершенно голыми – вновь прибывшие сразу же увидели это, едва их усадили на скамью, стоявшую прямо перед сценой, свободную. Так как места на ней стоили немало. На тоненькой ленточке, опоясывающей каждую из артисток, болтался небольшой четырехугольный кусочек клеенки величиной с игральную карту. Ритмическими движениями приподнимали они этот пустячок, обнажая на мгновение черный треугольник Венеры, и зрители восторженным ревом откликались на каждый такой жест. У трех европейцев хватило терпения на полчаса, и все это время ничего не менялось вмизансценах. Однако это не мешало им обсуждать чары отдельных исполнительниц. Эммануэль объявила, что ей нравится «вон та большая без грудей», но никто не разделил ее мнения. Затем она и Жан принялись дотошно объяснять друг другу, как им нравятся сочные губы, окаймляющие расщелину одной из девиц. – Никогда в жизни не встречал семейную пару, рассуждающую о подобных вещах, – сказал Кристофер, скорее удивленный, чем возмущенный. Эммануэль не удержалась и добавила: – Мне так хочется переспать с нею. «Да она меня просто дразнит, испытывает, – догадался Кристофер. – Ну, это мы еще посмотрим!». Но обнаженные ноги Эммануэль, касавшиеся его ног, волновали его куда больше, чем китаянки на сцене. – Что касается меня, – выдавил он наконец, – я бы куда охотней отправился в постель с вами. Сказал – и тут же испугался: «Она решит, что я блефую. Но, надеюсь, мне не придется идти дальше». – Кристофер постепенно умнеет, – усмехнулся Жан. Англичанин не знал, что ответить. Может быть, его друг не расслышал последней фразы из-за шума в зале? Вряд ли… Но Эммануэль-то явно слышала реплику Кристофера. Сколько воодушевления было в ее голосе, когда она произнесла: «Я сделаю это сегодняшней ночью!». И, повернувшись к мужу, добавила: «Ты позволишь мне отдаться Кристоферу, дорогой?». – Да, – ответил Жан, и она поцеловала его с необычайной нежностью.Битва Евы
На следующее утро раздался звонок Арианы. Не навестит ли Эммануэль ее сегодня днем? Цель приглашения отгадать было нетрудно. Эммануэль отказалась у нее много неотложных дел, она должна помочь Жану. И только положив трубку, она спросила себя – почему она увильнула? Разве Ариана не привлекает ее больше? Да при одной лишь мысли о той власти, которую имела над нею молодая графиня, тело Эммануэль обмякло в истоме. Конечно же, ей нравились ласки Арианы. Так почему же? Может быть, она хочет остаться верной Би? Да, далеко ей еще до полного выздоровления… Печаль ее стала как-то воздушной, теперь мучилась скорее гордость, а не сердце. И Эммануэль поспешила с выводом, что ее равнодушие к Ариане объясняется привлекательностью той юной особы, с которой она познакомилась вчера у садовых ворот и чью тайну еще не объяснил ей Марио. «Анна-Мария Серджини», – сказал он. Ну, а что дальше? Кто она? Она какая-то другая… И Марио спрашивал, может ли она навестить Эммануэль сегодня после обеда. И в самом деле, около трех часов она появилась у ворот Эммануэль в своем миниатюрном автомобильчике. Эммануэль досадливо наморщила лоб: просто невозможно видеть ножки этого ангела упрятанными в брюки. И нельзя увидеть ее грудь – гостья была одета в плотно завязанную у ворота блузку. И все же, глядя на Анну-Марию, она вынуждена бала признать, что вполне одетый человек может быть не менее соблазнителен, чем совершенно голый. Так она стояла, глядя на свою гостью и не пытаясь даже скрыть свой интерес к ней. Анна-Мария не могла удержаться и рассмеялась. Эммануэль сконфузилась: – Я неприлично веду себя? – О нет, вы ведете себя как надо. Что знает о ней Анна-Мария? Эммануэль насторожилась: – Почему вы так сказали? Марио рассказал вам, что мне нравятся девушки? На самом деле в эту минуту она не испытывала ничего подобного. При встрече с красавицами она бывала обычно непринужденной и предприимчивой, но здесь что-то мешало ей, что-то отпугивало. К счастью, юная гостья отвечала с таким полным отсутствием смущения, что Эммануэль перестала ощущать неловкость: – Ну, конечно же! И еще более того. Он говорит, что вы просто ненасытны. – О, неужели Марио говорил с вами о таких вещах! – Может быть, это сплетня, а? Куча эскапад в туземных кварталах, приступы эксгибиционизма, забавы втроем. Бог знает что еще! Я уже позабыла половину всего, что слышала. Нескромность Марио не очень-то рассердила Эммануэль. Она ведь сама хотела такой рекламы. – И что же вы думаете обо всем этом? – спросила она почти деловым тоном. – О, я слышу подобные вещи от моего прелестного кузена так давно, что уже перестала обращать на них внимание. Эммануэль отметила, как тактично ее собеседница обходит возможность дать прямую оценку ее поведения и нравов. Но в силу какого-то мазохистского комплекса ей самой не хотелось быть настолько деликатной. – Ну, а как насчет меня? Считаете ли вы, что мне можно… например, наставлять рога мужу? – Так же, как и всем. Спокойный тон и улыбка Анны-Марии непонятны Эммануэль. Так осуждает она ее или нет? – Надеюсь, вы пристыдили Марио за такие вещи? – Ничего подобного. На него бессмысленно сердиться. – На него? А на кого же я должна сердиться? – Ну, разумеется, на самое себя. Ведь вам это доставляет удовольствие. Эммануэль отметила это как точное попадание в цель. Но ей хотелось решить принципиальный вопрос. – Но если бы не Марио с его теориями, я, может быть, и не была бы такой. В чистом, как звон колокольчика, смехе Анны-Марии не было ничего обидного. Она сидела на маленькой деревянной скамеечке под раскидистым тамариндом, защищавшим их от палящего солнца таиландского августа. Они сидели лицом к лицу, подавшись навстречу друг другу. Анна-Мария была вся в голубом, на Эммануэль были крошечные трусики, едва видневшиеся из-под лимонно-желтого пуловера, выгодно подчеркивавшего ее бюст. Густые черные волосы падали ей на лоб и щеки, она отбрасывала их, вскидывая голову, как молодая кобылка, или ловила их зубами и вновь отпускала слегка повлажневшими. Снова быстро и внимательно она оглядела Анну-Марию, чувствуя, как в ней просыпается вожделение. Она находила Анну-Марию прелестной; более желанной, чем Ариана с ее полуголым антуражем, восхитительней Мари-Анж с ее кошачьими повадками и лукавыми глазенками. Более притягательной, чем даже Би… Эммануэль почувствовала легкий укол совести. Но осудить себя не смогла: все, даже Би, были какими-то земными, здешними, а Анна-Мария была оттуда. Тайный посланец другой планеты. На мгновение Эммануэль увидела эти далекие галактики, черное небо, свет звезд и дальний путь, дальний путь… Голос Анны-Марии вернул ее на землю. – О, теории Марио, – сказала девушка. – Я их знаю. Более того, я полностью с ними согласна. Она заметила удивление Эммануэль и продолжала с чувством. – Ну, в Высшей школе искусств много дворянских отпрысков расставались со своими предрассудками. – О, вы были в Риме? – Нет, в Париже. – А Марио хотел меня убедить, что вы чопорны и строги. – Эти качества в парижских ателье быстро выветриваются. – Я даже подозревала за вами и другие ужасы: целомудренность, стыдливость, мораль, религия. Анне-Марии пришлось улыбнуться: – Дело обстоит не так уж плохо. Я в самом деле еще девушка, живу воздержанно и мыслю свое существование как существование дочери Бога и Церкви. Она явно обрадовалась, увидя на лице Эммануэль гримасу отвращения. – Хотя я вам сказала, что меня совершенно не смущают ваши похождения, начала она объяснять. – Я никогда не скажу, что стала бы поступать так же. Более того, мне кажется, что это очень печальная жизнь. К ней у меня такое же отношение, как к природе: меня это не шокирует, не возмущает, но я – против этого. – Но как же можно быть такой глупой! – выпалила Эммануэль. – Вы ведь очень красивы. Анна-Мария ответила любезной улыбкой. – Спасибо, – сказала она, – Вы тоже выглядите совсем неплохо. Эммануэль вздохнула. Ситуация была непривычной. Обычно подобный обмен комплиментами совершенно логично приводил к обмену прикосновениями: в дело вступали грудь, губы, ноги. Анна-Мария смотрела на нее с сочувствием. – Вы считаете, что красивой женщине не подобает верить в Бога? – Да, я считаю это почти непристойным. Это противоестественно. – Ну, и я говорю то же, – легко согласилась Анна-Мария. – Совершенно неестественно, это против собственной натуры. Это-то меня иногда и злит. Мне иногда нужна и маленькая помощь природы. Я не рождена для абсолютной чистоты. – Вы хотите сказать, что и в вас иногда просыпается чувственность? – А я вам кажусь фригидной? – Не знаю, – Эммануэль помедлила и наконец решилась: – И как вы в таком случае поступаете? – Я сдерживаю себя. Эммануэль скривила рот. – И вы еще ни разу не позволили себе самой?.. Этот вопрос как будто ничуть не смутил Анну-Марию: – Это бывало. Но потом я очень мучаюсь. – Почему? – возмутилась Эммануэль. – Потому что всякий раз, когда я поддаюсь искушению, я раскаиваюсь. Удовольствие, которое я испытываю, не может перевесить угрызений совести, приходящих следом. Оно не стоит того, чтобы ради него жертвовать всем другим. – А что это – «все другое»? – Все, что отличает человека от животного. Назовите это как угодно: дух, душа, надежда, наконец. – Но это же совсем не так, – запротестовала Эммануэль. – Я вовсе не собираюсь жертвовать своим духом. Или душой. Что же касается надежды, то у меня ее более чем достаточно. – Смотря что называть этим именем. Если вы не верите в жизнь вечную, о какой надежде можно говорить! – Я верю просто в жизнь. Этого довольно. И у меня есть надежда. Я даже счастлива. И ни один мой день не испорчен угрызениями совести. И моя любовь к наслаждению вовсе не означает, что я забываю о душе. Я наслаждаюсь жизнью, потому что в этом все, что я есть. – Почему вам надо постоянно смешивать жизнь с физическими удовольствиями? Я не меньше вас ценю счастьем красоту, но истинное благо – это вовсе не телесная радость. Она заставляет биться сердца и животных. А наша жизнь бесконечно прекрасней жизни зверей и растений. Она ушла от природы, освободилась от нее, оторвалась далеко от земли. Наша жизнь – это то, что поднимает нас выше мира сего. Человеческая эволюция ведет нас от торжества плоти к торжеству души. – Пожалуй, – отвечала Эммануэль, – то, о чем вы говорите, можно принять, если под этим подразумевать сознание, разум, поэзию, наконец, но это же нисколько не противоречит телу. Когда я наслаждаюсь, то ведь это мой разум, мой мозг, мой дух заставляют наслаждаться мое тело, и я ни на йоту не приближаюсь к животному. Жизнь прекрасна вся, целиком, потому что не отличить радостей духа от радостей плоти. Зачем же нужно так отделять одно от другого? Вы хотите, чтобы дух, разум получали радость только в себе – почему? И если вы не хотите наслаждаться в этом мире, то где же? Разве где-то есть лучше? – Вечная жизнь, – торжественно произнесла Анна-Мария. – Разве это ничего не значит для вас? – Нет, как же! Мне тоже хочется, чтобы жизнь длилась вечно. Но не так, как вы это себе представляете. Не в вашем парадизе. Мне не хотелось бы прожить жизнь ирреальную, презревшую все земное. По мне, бессмертие состоит в том, чтобы всегда жить такой, какая я теперь. Не стареть, не делаться безобразной. Жить так прекрасно! Это неповторимое чудо! И как было бы ужасно покидать эту Землю, которая даровала нам жизнь, не позволила остаться холодными и бесчувственными камнями. – Я не вижу, чтобы Земля была такой, какой она видится вам. На этой Земле есть обманутые, убитые, голодные и холодные, есть мучающиеся от неизлечимых болезней… На Земле больше страдания и ненависти, чем красоты и радости. – О, я не так слепа, я это тоже вижу. Но именно поэтому я хочу, чтобы все силы людей, все их знания, все их воображение были брошены на помощь Земле, вместо того, чтобы примириться со своим несчастьем и искать утешения где-либо в другом месте. И я уверена, что если они соберут свое мужество, упорство и будут неотвратимо идти по этому пути, Земля и жизнь на ней станут прекрасными для всех. Пожалуй, никогда еще Эммануэль не приходилось произносить столь длинных монологов, и это произвело впечатление на Анну-Марию. Она смотрела на собеседницу внимательно и как-то присмирев, но вдруг глаза ее блеснули. – Эммануэль, – сказала девушка. – Вы хорошо знаете, что делать с вашей жизнью, но что сделаете вы со своей смертью? Эммануэль молчала недолго и взорвалась: – Ничего! Почему вы спрашиваете об этом? Это ваши христиане только и думают о смерти! – Вовсе нет! Мы только хотим найти в ней смысл. Эммануэль пожала плечами. Смерть была для нее в высшей степени очевидным абсурдом, непонятной несправедливостью, болезнью, от которой не найдено лекарства. В смерти не могло быть никакого смысла. Ей был неприятен интерес Анны-Марии к тому, что однажды Эммануэль погаснет, превратится в не-Эммануэль, еще хуже, в анти-Эммануэль, в противоположность всему тому, чем она была. Она почувствовала, как что-то сдавило ей горло, как выступили на ее глазах слезы, и голос, который произносил слова ответа, был почти не ее голос. – Думайте лучше о моей жизни. Когда случится нечто, после чего не останется ничего; когда я буду больше не в состоянии видеть этот полный цветов и звезд мир; когда я больше не смогу узнать, что делают на этой Земле люди, жившие рядом со мной; когда все, что было для меня прекрасным, перестанет радовать меня, тогда вы не сможете больше расспрашивать меня, не сможете больше любить меня, узнавать обо мне все больше и больше. И я перестану жить, перестану что-то знать, ничего больше не увижу, ничего не услышу, ни к чему не прикоснусь. Умоляю вас, не ждите так долго, до тех пор, пока я не умру! Я не хотела бы слишком поздно открыть, что я родилась на этот свет, чтобы прожить жизнь, чтобы жить вовсю, не хотела бы, чтобы из меня сделали легенду, миф! Мне невероятно тяжко представить себе, сколько дней, чудесных дней, гораздо лучших, чем нынешний, наступит потом, после меня, как поплывут столетья за столетьями, и люди так же будут просыпаться навстречу солнцу, как мы просыпаемся сейчас, а я умру. Умру, прежде чем состарюсь. Вот почему я плачу сейчас. Ведь та жизнь, на которую я надеюсь, настоящая жизнь, может прийти после того, как уйду я… А я чувствую себя так уверенно. Я так хочу разделить со всеми все чудеса этого мира! Но решено: я умру. Все останется существовать без меня. И меня ничто не утешит: даже если некий Бог предложит мне другой мир, я откажусь от него. Я не хочу ни на что менять мою Землю и мою жизнь. Я потеряю все – это мне известно. Но я никак не уступлю, ни за что! Я не спрячусь от этой жизни ни в какое, самое уютное, убежище, ни в какой рай. Не надо мне безопасного, надежного приюта. И когда у меня похитят мою жизнь, я буду плакать, я завою от тоски на весь белый свет. Не от тоски, что нет больше жизни. Не от раскаяния за прожитое, не из угрызений совести, а только от любви к моей Земле, с которой пришла пора расставаться… Моя Земля, к которой я хотела бы вечно прикасаться. На которой я хотела бы остаться вечно. Только здесь. С людьми, а не с Богом! Эммануэль смотрела мимо Анны-Марии, словно она видела какую-то точку среди листвы деревьев, в далекой дали. Внезапно она вновь повернулась к своей гостье, вгляделась в нее и произнесла с неожиданной для себя горечью: – Смерть? Ваш Бог ничего не знает о ней, он-то ведь не умирает! Только мы, живущие, можем знать, что такое смерть.* * *
– Изрядную скуку навела на меня ваша кузина, – с этой жалобы начала Эммануэль вечерний разговор с Марио по телефону. – Хорошее дело она мне предложила: тратить время в теологических спорах. – На самом деле она может заняться и чем-нибудь поинтереснее. – Да ее интересует только потустороннее. – Вы что же, забыли, что ваше дело спасти Анну-Марию? – Я даже не знаю, с чего мне начать. Мне еще не приходилось соблазнять монахинь. – Тем большую награду получит ваша душа, – утешил ее Марио. – …Ее имя… – Эммануэль словно продолжила вслух свои потаенные размышления. – Разве я не назвал его? – Как же, назвали. Но мне интересно… Оно звучит как славянская форма вашего имени. Она не итальянка? – Итальянка, но мои предки наслаждались жизнью, не признавая никаких границ. И этот цветок расцвел на тосканской ветке с великорусским привоем, взятым из александровских кустарников. А их корни вообще уходят в почву Византии. – Ага. Я это учту. – Занесите в историю еще и садовницу. – Мне что-то неохота снова влюбляться. – Тогда развлекайтесь сами. Сходите куда-нибудь. – Да я вчера вечером попробовала это. – Так расскажите же. Эммануэль описала танец с игральными картами в китайском театрике. – …Потом был исполнен довольно безобразный образец гимнастического искусства. Она всунула крутое яйцо во влагалище, а потом вытащила его оттуда разрезанным на ломтики. То же самое она проделала с бананом. Затем укрепила между ног зажженную сигарету и стала пускать дым кольцами. Напоследок в дело пошла китайская кисточка для туши, и она написала ею на полотнище шелка целое стихотворение очень красивыми безупречными иероглифами. – Банально, – сказал Марио. – Это мне приходилось видеть в Риме. – Потом появился индус в тюрбане. Он выволок из своего дхоти колоссальный пенис и стал на нем развешивать всякие тяжелые предметы, причем копье ни капельки не гнулось. – Это может любой крепкий мужчина. И как же был вознагражден этот несгибаемый воин? – Не знаю. Но ушел он в таком состоянии, в каком вышел на сцену. – Странно. Наверное, это протез. Ну, а дальше? – Дальше была совершенно прелестная девица под прозрачным покрывалом. Она вытащила из корзины бело-голубую змею метра в два длиной и такую же красивую, как она сама. Наверняка такие экземпляры попадаются в Индии раз в сто лет. Она начала танцевать со змеей, обвивая ее вокруг шеи, рук, талии. Потом она сбросила покрывало: мы увидели, что змея плотно обхватила кольцом ее грудь и как будто покусывает соски. Потом принялась лизать ее рот и глаза. Девушка была так захвачена этим, так, казалось, влюблена в змею, что я чуть ли не заревновала. А потом она начала медленно втягивать змеиную головку себе в рот, и все время, пока она там была, как бы посасывала ее. Глаза закрылись, и мне почудилось, что она словно выпивает змею. И вот сброшен широкий золотой пояс, и она предстала перед нами совершенно обнаженной. И питон тотчас же скользнул по ее животу вниз, стал извиваться между ногами, потом пополз по ягодицам вверх, добрался до талии, обвил ее и вдруг ринулся снова вниз, прямо к жемчужно-розовой раковине Венеры. Своим раздвоенным языком он так проворно стал лизать жемчужину вверху полураскрытых створок раковины, словно заводил пропеллер, ей-богу. Девушка стонала от наслаждения. На сцену принесли подушки, и она легла на спину, раскинула ноги прямо перед нами. И вся она раскрылась передо мной, как большая розовая раковина. – А что же питон? – А он был в ней. Девица использовала его голову как фаллос, пока она совсем не исчезла внутри. Я даже удивилась – там же можно задохнуться. – Она ввела в себя только голову? – Нет, и часть туловища тоже. Видно было, как вздрагивает чешуя, просто ходила волнами. Наверное, тварь еще и лизала ее там. – А какой толщины была змея? – Потолще, чем фаллос. С мой локоть. А вот голова была заостренной и легко проникала. – А что же делала девушка? – Она вытаскивала белого питона, а потом снова пускала его в себя. И так много раз, я сбилась со счета. И она сама извивалась на подушках, как змея, стонала и вскрикивала. – А вы-то получили удовольствие? – Еще бы! Если бы у меня была такая змея! – Я подарю вам такую. – А когда все кончилось, Жан рассказал мне, что у этой девицы каждый вечер множество мужчин. – Вы тоже могли бы попытать у нее счастья. – С удовольствием. Но как только подумаю о толпе мужчин у ее дверей, меня тошнит. – Но какой важный опыт вы бы приобрели! – Что делать, вместо реальности я предалась воображению. – Что же вы воображали? – Обычное: будто я ее люблю, а она меня. Но у меня были только мои пальцы и никакой змеи. – И сейчас вам ее больше не хочется? – Что вы! Еще больше! – Из-за ее чешуйчатого друга? – Нет, суть совсем в другом. Мне хочется хотя бы раз переспать с женщиной, которую я куплю. – А к кому вас больше тянет: к Анне-Марии или к девушке с питоном? – К девушке с питоном. – Она подумала немного и добавила: – Я даже не могу себе представить Анну-Марию со змеей. На том конце провода наступило молчание. Марио задумался. Эммануэль напомнила ему: – Вы в самом деле подарите мне змею? – Я же обещал. – Такую, которая бы умела любить? – Я сам займусь ее просвещением. Эммануэль весело засмеялась. Но допрос не окончился. – Что же было дальше? – Снова появились танцовщицы. Мы ушли. – Вам хватило впечатлений? – А там больше нечего было смотреть, – вздохнула Эммануэль. – А вы сами разве не могли что-нибудь показать? – Могла, да не получилось. – Ну-ка, расскажите! И Эммануэль доложила, как внезапно ее потянуло к Кристоферу и как ее супруг великодушно откликнулся на ее просьбу разрешить ей переспать с гостем. – Надеюсь, вы мной довольны? Марио был доволен и сказал ей об этом. Этот шаг, заметил он, имел бы для духовного развития Эммануэль такое же значение, как первый шаг в вертикальном положении для гуманоида на пути превращения его в человека. И он поинтересовался, как же прошла любовная ночь с гостем. – Да не было никакой любовной ночи, – призналась Эммануэль, и в ее голосе слышалось неподдельное сожаление. – Как так? – Когда мы пришли домой, у меня все кончилось. Я очень устала. И только чмокнула Кристофера у дверей его комнаты в щеку и в лоб, да слегка прикоснулась к губам. И пошла. Он был в полном недоумении. – Che peccato! Какая жалость! – от волнения Марио перешел на родной язык. – Подождите, к счастью, на этом все не закончилось. В постели всю мою усталость как рукой сняло. И мы с Жаном позабавились вовсю. Было мне гораздо лучше, чем обычно. И каждый раз, когда я кричала, я вспоминала о Кристофере. А он был совсем рядом, за тонкой деревянной стенкой, и наши голоса, конечно, не давали ему спать. Ну, мы говорили, разумеется, не о нем. Мы говорили только о том, что мы проделывали. Вы знаете, я до этого никогда не слышала от Жана тех слов, какие услышала в этот раз. Он все называл своими именами, подробно-подробно объяснял разные способы. И когда он, наконец, уснул, я еще долго не могла уснуть. Меня вдруг снова потянуло к Кристоферу: вот так прямо пойти и, еще не остыв от Жана, отдаться Кристоферу. И все же я не осмелилась. Меня напугало – вдруг он будет шокирован этим! И так я долго мучилась сомнениями, пока, вконец измучившись, не уснула. И сегодня утром, чтобы отомстить Кристоферу, я сидела с ними обоими за завтраком абсолютно нагишом. – О-о, – похвалил Марио. – Сегодня же вечером, еще до прихода Кристофера, заберитесь к нему в постель. – Невозможно. Его нет. – Нет? – Да, но, правда, всего на пару дней. Жан получил срочное предписание вылететь на плотину, и Кристофер, разумеется, не мог отпустить друга одного. – Жаль. А скажите, смогли вы поговорить с мужем о приглашении принца Ормеасены? – Нет. – Не хватило храбрости? – Не в этом дело. После вчерашней ночи я не боюсь его ни о чем спрашивать. Но… я не знаю… как мне сказать… – А если бы он не позволил вам чересчур развлекаться с другими мужчинами? – Я стала бы его обманывать долго-долго. Но если бы он позже разрешил мне, то я, наверное, не воспользовалась бы этой возможностью. – Вам предстоит нечто лучшее… Подготовились ли вы как следует к великому моменту? – К какому великому моменту? – К ночи в Малигате. – Нет, но я, кажется, уже и так многое испытала. Что мне еще предстоит открыть? – Радость количества, радость числа. Многие надеются обратить на себя ваше внимание. О том, что вы будете участвовать в празднике, толкуют повсюду. Мужчины просто с ума посходили при мысли, что та, которую считали недоступной, может оказаться доступной любому. – Как, вы обо всем рассказали? – Зачем же лишать тех, кого вы очаровали, радости ожидания, надежд на исполнение желаний? Разве предвкушение встречи с вами менее волнующе, чем сама встреча? Да и вы сами, наверное, уже дрожите от ожидания? – После того, что вы мне сказали, я дрожу от страха. Не вижу ничего привлекательного в том, чтобы на меня накинулась свора распаленных мужиков. И как подумаю о том, что все эти люди склоняют мое имя… что они сообщают друг другу… Марио рассмеялся в ответ, и из глаз Эммануэль чуть не брызнули слезы. – Вам весело, что вы можете с вашими друзьями потешаться надо мной. Воображаю, как вы эдак небрежно тянете: «Как, вы еще не познакомились с этой малюткой? Она только что прибыла из Франции. Я тут между делом кое-чему обучил ее: оказалась недурной ученицей. Но что-то она мне разонравилась, вы можете ею заняться, если хотите…» – Вы в самом деле считаете, что вы мне разонравились? – спросил Марио на удивление кротко. Не дождавшись ответа, он продолжал: – Вы ошибаетесь только в этом, да еще насчет тона моих разговоров. Я действительно расписывал всем вашу молодость и свежесть, отсутствие большого опыта с мужчинами. Когда-нибудь вы станете желанной, потому что за вами будет тянуться хвост из сотен любовников, но сейчас привлекательна именно ваша невинность. Тон Марио внезапно изменился, он заговорил четко и громко: – Вы еще девственница, Эммануэль. Благодаря мне завтра вы перестанете быть ею. Вы еще не знаете своего могущества. То, с чем вы познакомитесь завтра, важней для вас, чем чаша Грааля для средневековых рыцарей. И вы хотите, чтобы я об этом молчал? Чтобы посвященные вам не готовились к этому торжеству? Как вы могли думать, что мы смеялись над вами или грязно болтали о вашем теле? Мало есть на свете столь же драгоценного, что можно было бы предложить мужчинам, – положитесь на них, они сумеют оценить дары. Я приглашаю вас на коронование со всеми почестями, со всеми церемониями, со всеми возлияниями. Неужели вам это не ясно? Неужели все мои уроки пропали даром? И Эммануэль пристыжена, к ней приходит раскаяние. Марио может быть совершенно спокоен: с сомнениями покончено. Она не побежит от опасности навстречу былому незнанию. Завтра ночью в Малигате она ему это докажет. А до этого пусть он говорит, что хочет, своим знакомым. Пусть! Она согласна. Ее тело ждет встречи с другими. Ждет. Страждет. Вожделеет. После длинного телефонного разговора Эммануэль вытягивается на большой и кажущейся очень пустой кровати. Картины, вызванные речами Марио, пробегают перед ее глазами. Вопреки всему, что она себе наговорила, тревога не покидает ее. Нервы все не могут успокоиться. Надо, надо уснуть: завтра она еще успеет поразмыслить о предстоящем испытании. А сейчас она хочет только покоя и забвения. Тщетно – ее страх бодрствует вместе с нею. Ладно, у нее есть проверенный рецепт успокоения. Она прибегает к нему, но, к ее удивлению, результат заставляет себя ждать. Такого с ней еще не бывало. Нетерпеливые руки делают свое дело, но мысли ее где-то далеко: новое, незнакомое искушение накатывается на нее, затопляет горькой и в то же время сладкой волной. Она сопротивляется. Она отбивается, не хочет уступить. Наконец, силы оставляют ее. Побежденная, она гасит свет, скатывается к краю кровати, нога свешивается вниз. Она вся – как распахнутые ворота. Рука тянется к кнопке звонка в изголовье кровати, пальцы нажимают кнопку. Рука снова падает вниз, по телу пробегает судорога, грудь напрягается: она слышит, как бой открывает дверь, откидывает противомоскитную сетку и входит в спальню.Ночь Малигата
Длинная ионийская туника, которую надела Эммануэль, была светло-зеленого цвета, такого светлого, что казалась почти белой. Одно плечо было обнажено, на другом одежда держалась застежкой в виде маленькой совы из чистого золота. Пояс – цепь с крупными плоскими звеньями – был повязан высоко, выше талии. Никакого шитья, никакого убранства, кроме ткани в крупных складках, украшенной висящим между грудей кулоном из тусклого золота с отверстием посредине и орнаментом по краям. Вероятно, он был монетой в каком-нибудь давно рассыпавшемся в прах королевстве. Да еще на правом запястье был смарагдовый обруч, похожий на невольничье кольцо. – Ну, я определенно готова к жертвоприношению, раз решилась на одеяние Ифигении… – Вы прекрасны, – заметил Марио – Но многовато строгости. Не отвечая, она подошла к столу, на котором стояла лампа: свет был слабый, но его хватило, чтобы ноги Эммануэль просвечивали сквозь платье, словно оно было из стекла. Но Марио все еще казался: недовольным. Эммануэль засмеялась и выставила вперед левую ногу: платье тотчас же само распахнулось от пояса до конца. Во время танца ноги Эммануэль будут обнажаться при каждом шаге. Их можно будет легко коснуться. Легко доступными оказывались и низ живота, да еще и другое… – Посмотрите! Черный треугольник ее волос был унизан блестящими бусинками. Четыре часа понадобилось терпеливой Эа, чтобы укоротить эти упрямые завитки и украсить их подобным образом. – Никогда еще не видел таких украшений, – проговорил Марио. – А обратите внимание на это декольте! От левого плеча до бедра платье было разрезано так, что, взглянув на Эммануэль, когда она поднимала руку, каждый мог увидеть ее обнаженную грудь в профиль. Пораженный Марио захотел осмотреть весь гардероб Эммануэль: неужели это платье было приготовлено за два последних дня! Портниха, в таком случае, потрудилась на славу. «Удивительно!» – восклицал он на каждом шагу при осмотре этой выставки. – Как-нибудь вы снова проинспектируете мои туалеты. Все, что вам не понравится, можете сжечь. – Я так и сделаю, – серьезно ответил Марио. Малигат – это множество самых разнообразных строений из мрамора, соединенных садами с фонтанами или сводчатыми галереями, где смешанный с лунным сиянием свет бумажных фонарей создавал волшебный, неповторимый эффект. С террас можно спуститься в аллеи, окаймленные белыми колоннами и живой оградой из ибикуса. Там и сям разбросаны увитые вьющимися растениями беседки, широкие ровные поляны среди высоких деревьев, заглушающих городской шум. Журчанье фонтанов, звуки далекого медленного танца да неразличимое жужжание человеческих голосов – вот все, что можно здесь услышать. Только дурманящий запах каких-то кустарников с мясистыми цветами и великанов-гардений в китайских вазах сопровождает идущих по длинному коридору среди пурпурно-красных светильников. Коридор приводит в зал, но там никого нет. Где же хозяин, пригласивший их сюда? Может быть, он встречает гостей в другом месте? Или Марио и Эммануэль заблудились в этом лабиринте журчащих струй и скользящих теней? Или они прибыли слишком рано? – Кто же приглашен еще? – еле слышно осведомляется Эммануэль. – Все, кто осчастливил Бангкок своим умом или красотой, – отвечает Марио. – Чтобы быть приглашенным сюда, надо быть или очень умным, или очень красивым. – И вы уверены, что мы к ним относимся? Марио смеется. Каким же должен быть владелец этих мест, спрашивает себя Эммануэль. Несомненно, очень богатым. Конечно же, изысканным. Может быть, экстравагантным и даже извращенным. Все может быть в этом непонятном королевстве. Разве она знает, что ее ждет? Захотят ли принц и его друзья отпустить ее назад, к Жану? Еще можно уйти. Никто ее не видел. Огромный парк пуст, никаких следов охраны. Но Марио… Что он об этом подумает? Какой упрек бросит ей? По меньшей мере, в малодушии… Она пошла за ним, как в кошмарном сне. Нет, не правда: она все знала, и надо набраться мужества и бежать, бежать… Однако они двигались дальше. Перед ними лежала пустынная широкая терраса. Как славно было бы расположиться здесь – ночь только начиналась! «Марио», выдохнула она так тихо, что он не услышал. Он смотрел на окна, озаренные изнутри красноватыми отблесками огня. То ли смех, то ли крики слышались оттуда. Еще несколько шагов, и они оказались в небольшой комнате. Трое мужчин и женщина – рядом на софе. Эммануэль облегченно вздохнула: слава Богу, а то она боялась наткнуться здесь на какую-нибудь группу вроде эротического Лаокоона. Женщина была очень молода, почти девочка. В ее одежде не было ничего вызывающего, и Эммануэль вдруг с горечью осознала, как, наверное, нелепо выглядит она со своими разрезами. Может, Марио снова сыграл с ней шутку? Он что-то сказал по-сиамски. Девушка отвечала ему очень серьезным тоном; очевидно, он получил все нужные разъяснения и повел Эммануэль к выходу из комнаты. – Куда мы идем? – захныкала Эммануэль. – И кто это был? Не кажется ли вам, что девица немного молода, чтобы присутствовать здесь? – Праздник устроен в ее честь. Она единственная дочь принца. Сегодня ей исполняется пятнадцать лет. Пока она постигала значение этого сюрприза, они вошли в просторный, но слабо освещенный салон. Здесь было много танцующих, но никто не обратил внимания на вошедшую пару. Правда, к ним тут же подошла служанка и предложила очень сладкий и очень крепкий фруктовый коктейль. – Я принимаю это как любовный напиток, – пошутила Эммануэль, поднося бокал к губам. (Сиамочка была прелестна: крохотный лубяной передник оставлял открытыми живот с очаровательным углублением в центре и бедра. Эммануэль смогла оценить стройные ноги и наливные яблоки грудей). – Разумеется, – ответил Марио. – Все, что едят и пьют в Азии, вызывает любовные желания. Стало совсем темно. Как бы он не оставил меня здесь, подумала Эммануэль. В ту же минуту, словно подслушав ее, к ним подошел один из гостей. Марио представил его Эммануэль, но она тотчас же забыла его имя. Учтивый, исполненный достоинства поклон сопроводил приглашение к танцу. Не очень охотно Эммануэль последовала за ним, придерживая на бедре свое распахивающееся платье. Он был высокого роста и, наклоняясь к Эммануэль, почти касался щекой ее лица. Он спросил, сколько ей лет, где прошло ее детство, каковы ее любимые занятия. Вопросы, вопросы, вопросы. Любит ли она читать? Часто ли бывает в театре? Кого из писателей предпочитает? Ей не очень-то понравилась эта настойчивость, она отвечала односложно, сухо. Но потом забыла обо всем, волны ритма унесли ее. И вдруг она как бы со стороны совершенно отчетливо увидела, что прижимается к партнеру всем своим телом и почувствовала, что это возбуждает его. Вот так всегда – танцы, эрекция и даже оргазм были для нее рефлекторны, связаны в неразрывный феномен. Парижские флирты (в которых ее поклонники, несмотря на все удобства, связанные с положением «соломенной вдовы», не осмеливались попросту потащить ее в постель) достаточно показали ей, сколько удовольствия можно извлечь из этого. И она послушно предавалась ему. Ее тело, видимо, действовало автоматически, когда наступала желанная ситуация: оно не хотело зависеть от желаний партнера, от воли Эммануэль – оно само знало, что ему делать, чтобы танец дал танцующей паре всю возможную радость. До сих пор это простодушное распутство всегда успокаивающе действовало на Эммануэль: она наслаждалась, сохраняя при этом супружескую верность, ухитрялась, по пословице, и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Вот и сегодня она так тесно прижалась к гостю Малигата, что почувствовала упругое прикосновение к своему животу. Но эти прикосновения и объятия случайного спутника показались ей убежищем и защитой от того, чего она и хотела, и боялась – от неведомых причуд восточного вельможи. И она прильнула к партнеру. А он как будто был радостно удивлен способностями своей партнерши, но, оказавшись уже почти на самой щэани, умело старался не дать ей успешно завершить свой труд. Эммануэль была раздосадована. Ей было непонятно, как может нормальный мужчина пренебречь возможностью достичь апогея радости, словно он твердо уверен, что дождется более благоприятной минуты. Но жить-то ведь надо сейчас! Он явно догадывался о причине ее неудовольствия и, взяв ее за палец, украшенный кольцом с диамантом, спросил, замужем ли она. – Еще бы, – буркнула Эммануэль с таким видом, будто ей нанесли личное оскорбление. О, так это прекрасно! А есть ли у нее любовник? – Да я уже год как замужем! А в самом деле, спросила она себя, есть ли у меня любовник? Есть! Один-то уж точно – Марио. Но тут же спохватилась – чушь! Хорош любовник, с которым никогда ничего не было. Но если считать только тех, с которыми было, тогда это два незнакомца в самолете, сам-ло… Можно ли прибавить к ним еще и того юношу из храма? А почему тогда и не тех молодых людей, что терлись об нее во время танцев? Если эякуляция – основание для зачисления в ее любовники, тогда все мужчины, обладавшие ею в своем воображении, имеют на это право! Такое умозаключение заставило ее громко рассмеяться, и она забыла о своих огорчениях. – А что значит любовник, сударь? Он вежливо улыбнулся, встретив этот вопрос как кокетливое дамское остроумие. Но Эммануэль разъяснила ему проблему точнейшим образом, не упуская интимных деталей, поражаясь своей полной открытости перед этим чужим, хотя и слившимся с ней в танце человеком. Она без всякого стеснения выкладывала ему все свои тайны, которые не были открыты не только Жану или Мари-Анж, но даже что было особенно удивительно – и Марио. Теперь ее кавалер заинтересовался по-настоящему. Он стал вытягивать из Эммануэль самые дотошные подробности, и она продолжала свой невероятно откровенный рассказ. И это обязывало его с той же откровенностью отвечать на ее самые трудные вопросы. – Я вижу, вы придаете большое значение терминологии, – сказал он в конце концов. Они продолжали кружиться, тесно прижавшись друг к другу. – Итак, вы не можете определить, кто из ваших мужчин мог бы считаться вашим любовником. Думаю, что тот сиамский парнишка вполне был им, ну и пассажиры в самолете, и рикша. А вы как считаете? – Я думаю, вы правы, – задумчиво проговорила Эммануэль. – А мои партнеры по танцам в Париже? Она заметила, что он, по забывчивости или из деликатности, пропустил Марио. – Вот здесь есть небольшая разница. Наслаждение, которое вы им дарили, было в известной степени формой отказа. Может быть, здесь и есть точка различия. Вы ведь не шли им навстречу, чтобы остаться верной своему мужу. И это, я думаю, отличается от того случая, когда вы ласкали молодого сиамца? – Но я чувствовала себя верной мужу и тогда, когда занималась любовью с какой-нибудь девушкой. Как вы объясните мне это? Но он не стал ничего больше объяснять. По нему было видно, что ему пора от теоретических выкладок переходить к практическим занятиям. Он так крепко прижал Эммануэль к себе, что она тоже забыла о теории. Их губы встретились, и она думала теперь только о наслаждении. Она выставила ногу, и та сразу же оказалась сжатой его ногами. Вот так, шаг в шаг, прижатые друг к другу могущественной силой, они продолжали двигаться по кругу, но их движения уже мало напоминали танец. Изредка они сталкивались с танцующими парами. Занимались ли и те подобными ласками? И вдруг глаза Эммануэль словно раскрылись, способность воспринимать окружающий мир вернулась к ней. Но странная вещь: как похожи на нее другие танцующие женщины (их было пять или шесть), словно она отражалась в огромном многостворчатом зеркале. И в каждой створке были такие же красивые, в такой же прозрачной одежде, с такими же распущенными по обнаженным плечам черными волосами, создания. И каждая неотступно следила за нею. Интересно, подумала Эммануэль, а как они выглядят, когда занимаются любовью. Как хотелось бы насладиться этим упоительным зрелищем! Однако ее партнер, очевидно, решил, что такой спектакль должна дать именно она. Не выпуская ее из своих объятий, он выплыл с нею на примыкавшую к залу просторную террасу. Общество гостей там было гораздо многочисленней. Выпустив ее из объятий, он опустился на крытый зеленым шелком стул и привлек Эммануэль к себе так, что она прижалась ногами к его коленям. Он раскинул полы греческого одеяния, показались стройные ноги; еще одно движение – и Эммануэль уже всего лишь всадница, оседлавшая своего незнакомца. И в ту же минуту, когда низ ее живота обожгло прикосновение горячего крепкого тела, она услышала приказ: – А теперь попросите, чтоб я взял вас! – Да, – простонала Эммануэль. – Возьми меня! – Громче! Так, чтобы все могли услышать! Она откинула назад голову и выкрикнула: – Возьми меня! Он не отставал: – Еще! Повтори! Громче! Она подчинилась, и привлеченные этим криком зрители стали наблюдать, как она раскачивалась, подпрыгивала и опускалась. А потом они услышали ее хриплый от возбуждения голос: «О-о-о, все, я готова… Ах, как это прекрасно…» Обессилевшую и послушную, он все еще держал ее в своих крепких руках, пока чувства снова не вернулись к ней. Он не торопился, однако, покинуть ее, опять заставил ее извиваться, подпрыгивать, пронзая ее два, три, десять, двадцать раз. Стоны вырывались из гортани Эммануэль; впившись зубами в ее плечо, мужчина изливался в нее, и она, подстегиваемая обжигающими ударами, взмывала ввысь, словно молодая орлица. Кто-то из зрителей попросил внезапно любовника Эммануэль отпустить ее с ним. Она привстала навстречу. Она даже не успела подумать о том, кому она так много рассказала о себе, как уже видела себя как бы со стороны подающей руку новому пришельцу, идущей вслед за ним в услужливо распахнутые перед ними двери. Появился слуга с подносом: – Вуаля, – сказала она себе, надкусывая пирожное. – Вот я и совершила это с совершенно посторонним человеком. А теперь собираюсь повторить еще с одним. Не знаю, можно ли двигаться вперед более решительно. Ее новый обладатель стоял перед ней, и при свете стоящей на столике лампы с довольным видом рассматривал свою добычу. – Я искал вас целый час, – вздохнул он. – Меня, вы сказали? Именно меня? – удивилась Эммануэль. – Я думаю, здесь хватает и других одаренных в этом смысле особ. – Возможно. Но я пришел сюда только ради вас. – О, понимаю. Марио раструбил повсюду… – Вы совсем не похожи на других женщин. – Чем же я отличаюсь от них? Он снова вздохнул: – Я все еще не могу поверить, что вы здесь. Что я могу видеть вас под вашим платьем совершенно обнаженной… Внезапно Эммануэль надоел этот унылый певец. – Вы можете видеть меня еще более обнаженной. Каждое утро. На пляже. Ее глаза уже бегают кругом, стараясь отыскать кого-нибудь, кто мог бы ее избавить от докучливого собеседника. Куда запропастился Марио? Как гнусно с его стороны бросить ее здесь на милость всяких кретинов! Она убегает. Она идет прямо вперед. Она проходит мимо людей, у которых как будто нет другого дела, чем слоняться по дворцу, не обращая на нее никакого внимания. Словно здесь собрались два братства, каждоеиз которых ведет жизнь по своим правилам, совершенно не соприкасаясь с другим. Это ощущение вызвало в памяти Эммануэль старый замок на Луаре. Вместе с туристами шла она вслед за гидом, не слушая ни его объяснений, ни оживленных перешептываний ее товарищей по поездке. И вдруг на лужайке возле замка она увидела владельца. Он сидел за маленьким столиком, попивая чай, поглаживая собаку и не обращая никакого внимания на проходившие мимо толпы туристов… Двое мужчин в смокингах и молодая женщина в вечернем платье остановили ее, пытаясь что-то объяснить на нескольких языках. Наконец один из них, перейдя на вполне приличный французский, поведал ей, что они ищут подходящую девушку, чтобы вне дворца, на какой-нибудь лужайке, составить «четверку». Предложение выглядело соблазнительным, но именно сейчас, когда случай сам подвернулся, она заколебалась: может быть, не надо так легко откликаться на приглашения. Пока она размышляла, появилось другое трио и, не говоря ни слова, потащило ее через анфиладу комнат. Эммануэль не успела опомниться, как оказалась перед полуоткрытой дверью, из-за которой доносились взрывы смеха и музыка. Они вошли, и картина, развернувшаяся перед Эммануэль, заставила ее вскрикнуть от изумления. На широком, покрытом мехом диване развалилась со своей всегдашней полуулыбкой Ариана де Сайн. Рядом с ней – двое мужчин, так же, как и она, совершенно голые. Услышав вскрик Эммануэль, Ариана приподнялась на локте и, ничуть не удивившись, радостно закричала: – О, наша непорочная дева! Присоединяйся-ка к нам! Боже мой, какой наряд! Снимай его поскорее. В правой руке Ариана с элегантной непринужденностью держала напряженный символ мужской мощи одного из своих соседей по дивану, на левой груди покоилась та же деталь другого. Все трое радостно улыбались Эммануэль. – Попробуй-ка мангового пирожного, – продолжала Ариана. – Ты, верно, умираешь с голоду. И глотни шампанского. Это папский сорт. Глазам Эммануэль было больно от внезапного света: с самого прихода в Малигат она видела только тусклое освещение залов и переходов. В ее представлении Малигат был как бы царством тени и сумрака. Но теперь вокруг нее было столь ярко освещенное пространство, что в первую минуту ей подумалось, что ее привели на сцену или киносъемочную площадку. Свет был так ярок, что Эммануэль даже не могла понять, как высок потолок этого зала; его пространство было причудливо декорировано. Такое может только присниться – картина Клее на дверях буддийского храма. Одна стена была безупречно бела, гладко оштукатурена; в середине другой этрусский рельеф изображал обнаженных танцовщиков; третья сверху донизу была завешана богато расшитыми коврами, под которыми трудно было угадать двери. Связка позолоченных или эмалированных шестов, которые Эммануэль приняла сначала за алебарды, в действительности оказались галерными веслами. Они, словно дамоклов меч, нависли над монументальным ложем Арианы и ее обожателей. Кроме этого ложа в комнате не было никакой мебели – лишь множество широких ларей или сундуков из черного дерева, кожи, бронзы. За ними, как за столами, располагались гости, пришедшие раньше Эммануэль. Они пили, весело беседовали и поглядывали на Эммануэль любопытствующими глазами. – Приветствую вас под моим кровом, – раздался за ее спиной незнакомый голос. Эммануэль помертвела: да это, должно быть, сам принц! Она не решилась повернуться к нему, и тогда он сам обошел ее и, остановившись перед нею, внимательно осмотрел все: лицо, грудь, живот, ноги – всю, от макушки до ступней. И она снова почувствовала себя участницей некоего конкурса. И хотя она тут же утешилась мыслью, что в этом конкурсе ее ждет победа, голос ее прозвучал как-то жалобно: – Я пришла сюда с маркизом Серджини. Он говорил мне… – Я знаю, – прервал ее принц. – Благодарю вас, что вы приняли мое предложение. Надеюсь, все, что здесь происходит, вам нравится? Она улыбнулась, прежде чем ответить. Принц продолжал сверлить ее внимательным взглядом. Она подыскивала ответ понеопределенней, но тут хозяин дома показывает ей жестом в направлении большого дивана, и она, все еще молча, смотрит туда. Первый мужчина уже соединился с Арианой, в то время как второй устроился между ее грудей. Молодая графиня извивается, корчится, выгибается дугой, ни один ее мускул не остается без работы. – А вам не хотелось бы присоединиться к ним? – спрашивает принц. «Ни в коем случае» – думает Эммануэль, но вслух отказываться не решается. – Вам будет гораздо удобнее, если вы снимете одежду, – следует новое предложение. Не заставляя себя просить дважды, Эммануэль расстегивает пояс, ищет взглядом место, куда бы можно его положить. Принц протягивает руку. Туда же следует и брошь, скреплявшая платье у плеча. Длинной волной туника скатывается к ее лодыжкам и ложится у ног нежно-зеленой пеной. Эммануэль застывает, вытянувшись в напряженном ожидании. Принц восхищен и не скрывает этого. «Что же дальше?» – спрашивает она себя. Занимавшийся бюстом Арианы встает, подходит к ней, берет за руку. Она послушно следует за ним. Он укладывает Эммануэль на диван, раскидывает ее ноги так, что вся ее выставка жемчужин мерцает перед ним на фоне черного руна. Мужчина опускается на колени, она чувствует прикосновение его языка. Она закрывает глаза, отдаваясь этой ласке, сосредоточившись только на ней. Она досталась умелому мастеру: вскоре она уже была лишь наслаждающимся телом, забывшим все свои недавние страхи и тревоги, сотрясающимся от криков: «О, как хорошо! Я уже… уже…» Он оставляет ее лишь после того, как силы почти покидают ее. И все-таки, ощутив прикосновение его древка к своим бедрам, она протягивает руку, и ее цепкие пальцы ведут его к только что подготовленному полю битвы. Он согласен и принимается за нее осторожно, медленно, сдерживая себя, пока громким стоном удовлетворенного сладострастия она не дает ему сигнал, и тогда шлюзы открываются, и пряный поток, который она так любит чувствовать ртом, хлещет в тайные закоулки ее тела. Между тем возле нее уже другие, они стаскивают ее партнера, хватают ее за ягодицы, играют грудью, опрокидывают на подушки. Она слышит чей-то короткий приказ, произнесенный на непонятном языке. Ей переводят: поднять ноги так, чтобы колени упирались в грудь. Она подчиняется, и тут же острая боль пронизывает ее анус. Она кричит, вертит головой, зовет на помощь. Над ней склоняется лицо Арианы, Эммануэль хватает ее за руку: – Нет, нет! Я не хочу туда… Прогони их… В ту же минуту штурмующих как волной смывает с тела Эммануэль. Она опускает ноги и благодарно обнимает подругу. Ариана шепчет ей на ухо: – Вот тот джентльмен (и она указывает на того, кого Эммануэль только что видела яростно накачивающим Ариану) совсем без ума от твоего рта. Но он стесняется просить тебя позволить ему… Что ты скажешь, миленькая? Эммануэль утвердительно качает головой. Ариана исчезает, и на ее месте оказывается мужское тело. Мужчина ложится на нее во всю длину, наваливается всем своим весом. Губы ищут и находят ее губы, язык проникает внутрь, лижет ее зубы, все уголки ее гортани, встречается с ее языком, борется с ним, жаркий, влажный, вызывающий слезы предвкушения на ресницах Эммануэль. Она в таком восторге, что, кажется, вот-вот – и снова настанет самая сладкая минута, просто так, от одних поцелуев. Но она сдерживает себя, нельзя поддаваться слабости. Нет, она сдастся потом, насладившись вовсю игрой, будет пассивной, недвижной, а потом ошеломит и его, и себя бурным экстазом. Вцепившись в ее плечо пальцами, крепкими, как когти, мужчина любовался ею. – Чувствуешь, – прошептал он, – мой живот на твоем животе. Я поднимаюсь еще выше. Я дойду до твоей груди, а потом и до лица. А своей шпагой я просверлю твою грудь. Я буду брать тебя не между грудей, понимаешь, а именно в грудь, сначала в одну грудь, потом в другую, прямо в каждый сосок. Я выпью твое молоко. Ты позволишь? Что могла она ответить? И он продолжал: – А когда я справлюсь с твоей грудью, я войду к тебе в горло, вонжу свою шпагу в твой рот и буду двигать ее туда-сюда всей силой своих мускулов, и тебе не помогут ни сомкнутые зубы, ни закрытые губы. Я возьму тебя, и твои слезы, слезы боли и наслаждения, будут литься на мой живот. Давай, пора! Широко, до боли в скулах, приходится открывать рот, чтобы приготовиться принять столь исполинскую порцию. Но мужчина не успел привести в исполнение свои зловещие угрозы: он уже извергается обильным, густейшим, неиссякаемым потоком, неистовствуя от счастья. – Выпей все до последней капли, – лихорадочно бормочет он, – И не двигайся: я еще долго останусь в тебе, меня намного хватит. Лицо Эммануэль почти расплющено тяжелым животом, и вдруг она чувствует, как кто-то раздвигает ее ноги. Тщетно она пытается сопротивляться: невидимка буквально распарывает ее, овладевая ею без лишних нежностей. Тогда, отдавшая врагу и уста, и лоно, она приходит в панический ужас: погибла, ничто ее не спасет, она умрет сейчас, задохнется! Но тут же и ругает себя за этот девический испуг, и, если бы она могла кричать, ее крик был бы криком триумфатора! «Ну вот, видишь, – поздравила она себя. – Меня берут сразу двое мужчин. Вот это опыт! Это как вторая дефлорация. Обряд посвящения, о котором говорил Марио». Она избавилась от последних остатков невинности. И в самый разгар страсти она не могла сдержать довольного смешка. Она воспевала свою истинную славу: «Все сделано, все кончено! Я больше не девственница». Ей даже захотелось обнять тех, кто помог ей расстаться с тяжким грузом и поцеловать их по-дружески в обе щеки. В своем энтузиазме она совсем забыла, что рот ее по-прежнему занят. Но ей и в самом деле стало тяжко: она стала задыхаться, и мужчина сжалился над нею. Но не успела она как следует перевести дыхание, как его место оказалось занятым другим. И снова она, покорная, почти бездыханная, оказалась в объятиях двух любовников. Немного времени спустя, когда чьи-то руки подняли ее и понесли, стараясь по дороге изучить ее анатомию, она смогла разглядеть одного из тех, кто только что отметил ее своим раскаленным тавром. Она никогда прежде не встречала таких волосатых мужчин. Он был весь в шерсти: шерсть покрывала ноги, живот, грудь, плечи. И он был мускулист, как призер-борец или боксер. И у него были черные густые брови, сходящиеся над переносицей. «В нем что-то есть», – подумала Эммануэль и спросила: – Вы откуда? – Из Грузии. Я возьму тебя туда. Он выглядел лет на сорок, ошибиться можно было на год-два, но когда Эммануэль сказала ему об этом, он широко улыбнулся: – Нет, не угадали, милочка. Мне шестьдесят четыре. Эммануэль остолбенела. Какой ужас! Нет, это невозможно… Он не должен быть таким старым! Не могла же она лежать вот сейчас рядом с обнаженным телом человека, который старше ее дедушки! Ее дедушки, командора Почетного легиона, седого, величественного и… старого! Даже в самых смелых своих снах она не могла себе представить, что в один прекрасный день станет заниматься с ним любовью. И вот это произошло! Этот мужчина, которого она явно выделила бы среди всех, он, который так хорошо умеет любить, вдруг оказывается старше дедушки… Ну и что, сказала она себе, мне было хорошо с ним. Она подумала, как бы она выглядела в объятиях командора, целующая его белые – нет, черные! – волосы. От этих грез ее отвлек голос ее нынешнего сподвижника: – Дай мне твою грудь. Она привстает на коленях, опирается на локти так, что ее левая грудь нависает над усами грузина, потом наклоняется еще ниже, приближая маленький, полный горячей крови кружочек к губам, которые так радовали ее поцелуями. Под правой рукой Эммануэль появляется лицо Арианы. Она спрашивает волосатого мужчину: – Ты ничего не имеешь против, если я к тебе присоединюсь? – Конечно, нет. – Впрочем, – добавила Ариана доверительным тоном, – она любит, когда ее делят на части. Это правда, признается себе Эммануэль, это сущая правда! Вот так, отданная двум страстным ртам, Эммануэль отпускает себя на волю, на волю собственного тела. Она плывет в волнах легкого ветра: тысячи пенных шапок, тысячи языков водорослей, тысячи мягких коралловых щупальцев ласкают ее корпус, нагруженный до краев драгоценным грузом изумрудов и пряностей, добытых для нее золотокожими людьми с неизвестных островов…* * *
…Появились новые гости, – и Эммануэль, прекратившая к этому времени свои забавы с Арианой и ее сотоварищем, решила немного передохнуть от любовных игр за болтовней. Постепенно к ней вернулась обычная ее смелость, и она не могла даже вспомнить то ужасное состояние, которое испытала за какой-нибудь час до этого. Ей казалось совершенно естественным, что она в чем мать родила находится посреди салона, заполненного, несомненно, элитой местного общества: большинство так и оставалось в вечерних туалетах, застегнутых на все пуговицы, – далекие, казалось, от любых непристойных посягательств. Ну что ж, пусть все идет своим путем, философски успокоила себя Эммануэль. Кто хочет быть одетым, пусть будет. Кто хочет быть голым, пусть остается нагишом. Но в этом дворце в ней постепенно росло чувство некоего смещения, изменения не только места, но и времени. Мистерии, в которые ее посвящали, пришли, наверное, из орфической или дионисийской древности, но они были одновременно как будто и гостями из будущего. И ей все чудились инопланетные города и нагие женщины, прогуливающиеся среди металлических строений в обществе жабоподобных обитателей Галактик и джентльменов в черных фраках. И именно двое таких джентльменов вежливо, вполголоса попросили ее лечь на спину, а Ариану так же степенно и предупредительно поставили на четвереньки так, что ее холм Венеры оказался лишь в нескольких сантиметрах от губ Эммануэль. Так, подумала она, классическое расположение лесбиянок! (Она освоила эту позицию за несколько последних свиданий с Арианой и уже, по правде говоря, пресытилась ею). Сейчас они попросят нас… Но она ошиблась: один джентльмен расстегнул свои безупречно элегантные брюки и принялся наносить Ариане энергичные удары прямо перед глазами – нет, буквально на глазах! Эммануэль, так что она не могла упустить ни малейшей детали этого спектакля. Долго, бесконечно долго лежала Эммануэль, наблюдая, как медленно, с основательностью работает поршень: погрузился, вышел, снова погрузился. Никогда в жизни не приходилось ей видеть столь возбуждающего зрелища: сцена разыгрывалась так близко от ее губ и снималась столь крупным планом. Туда-сюда, туда-сюда, и эти беспрестанные хлюпающие звуки. Но она не могла оставаться до бесконечности лишь зрителем, безучастным свидетелем; она стала кричать, биться в судорогах, но никто не прикасался к ней, и все-таки она первой из троих достигла апогея упоения, не прибегнув даже к помощи своих пальцев. Однако после первых же спазм второй джентльмен, тот, который до сих пор не вступал в действие, крепко схватил ее правую руку, положил точно на ее напряженный бутон плоти, и ей пришлось вернуться к испытанному методу. Потом он вытащил маленький фотоаппарат и сфотографировал всю эту сцену. Но Эммануэль не обратила на это ни малейшего внимания, ее глаза неотрывно следили за всеми перипетиями любовного действия. И вот наступает решающий момент: копье показывается наружу и тут же погружается в жадно открытый рот Эммануэль, донося до ее обоняния запах незнакомого мужчины и хорошо знакомый аромат Арианы.* * *
Она все еще была поглощена питьем волшебного коктейля, как вдруг ее руку отбросили, словно кто-то намеревался сам занять это место. Ариана? Но нет, слишком крепко, по-мужски действовала рука. Значит, это второй фрак. Она подняла глаза – это был совсем другой человек. Впрочем, она его знала. Совсем недавно они свели знакомство на приеме в посольстве. Тогда на нем была форма морского офицера. Сейчас он был почти голый. – Моряки никогда, кажется, не загорают, – подумала она вслух, – Чего ради так обнажаться? – Видя вас, я должен был бы стесняться своей наготы, – он усмехнулся. – Но мужчины несут в мир не красоту… – А что же? – Власть. Ни капли не оставалось в нем робости и почтительности, отмеченных ею четырьмя днями раньше. Это была лучащаяся уверенной улыбкой сила, привычная к тому, что ей принадлежит все. – А в чем же тогда моя роль? – спросила Эммануэль. – Что я должна делать? – Ничего особенного, подчиняться, только и всего. Само собой разумеется. Именно так и надо отвечать. И хотя Эммануэль сказала: «Больше мне ничего и не нужно», ей вдруг захотелось большего. Ее стопроцентная покорность была такой потому, что была публичной, демонстрировалась в открытую. Так, чтобы распространиться повсеместно. Ибо этого хотела не только ее плоть, но и ее репутация. Капитуляция ее не должна остаться альковной тайной, должна прославить ее победителей. Она спросила: – Вы расскажете о том, что вы меня покорили? – Что вы! Конечно, нет! – возмутился полуголый офицер. – Почему же? Разве не удовольствие похвастать победой над женщиной? – Но не над такой женщиной, как вы. – Нечем хвастать, хотите сказать? Он ограничился в ответ усмешкой; он ясно понимал, куда она клонит, испытывая его таким странным, хотя и не слишком элегантным и современным способом. Они устроились на широком диване на известном расстоянии друг от друга, он – напряженно вытянувшись, она – свернувшись, подобрав под себя ноги. – Так как же, – настаивала Эммануэль. – Если вы меня не стыдитесь, вы можете спокойно все рассказать. Мне даже польстит, если ваши друзья узнают, что я была вашей. – Вы говорите всерьез? – Он всматривался в Эммануэль, пытаясь разгадать, не шутит ли она. Видно было, что он в замешательстве. – Вы… да нет, это удивительно, – пробормотал он. – Я ожидал прямо противоположного… Может быть, это эксгибиционизм?.. Непонятно, что хотела выразить Эммануэль звуком, вырвавшимся из ее горла. При желании его можно было принять за знак согласия, но ей было безразлично, как переведет его ее собеседник; она сама не могла ответить на этот вопрос. Да и не хотела: для тонкого анализа здесь было неподходящее место. – Ладно, – сдался моряк. – Раз вы хотите, я буду рассказывать. Между тем он так сильно желал ее, что был близок к тому, чтобы наброситься на нее тут же, но сдержался. Нет, он должен сначала уяснить себе все до конца. – И вам будет все равно, если я назову ваше имя? – Да я прошу вас об этом! Так и есть: сознание, что ее новые распутства станут предметом пересудов, только возбуждало эту женщину – какая-то сверхрафинированная перверсия. – Вы оригинальное создание, – проговорил он почти грубо. – За все время, что вы в Бангкоке, вы ни разу не изменили мужу, были ему верной, даже чересчур верной, как считают многие. И вдруг сегодняшним вечером вы перещеголяли всех других. Что с вами случилось? – Вы ошибаетесь, – невозмутимо ответила Эммануэль. – Я всегда так жила. В самом деле, разве она изменилась именно этой ночью? Конечно, Марио подтолкнул ее, но он повел ее по старому, а не по новому для нее пути. Она сама чувствовала, что любить любовь ей повелевает долг, и учитель только изложил это ясным и очевидным образом. Моряк замолчал и молча любовался ею. Потом он резко вскочил и подхватил ее под руку: «Мы только понапрасну потеряем время, если будем продолжать нашу дискуссию. Пошли». – Куда вы ее тащите? – взмолилась очнувшаяся Ариана. – Она не может уйти с вами. Она принадлежит нам! – С этой минуты она принадлежит мне, – ответил моряк. – Но ты, по крайней мере, вернешься? – прокричала вслед Ариана. Эммануэль ответила утвердительным кивком.Гетерион
В час ночи к столу в Малигате были поданы такие блюда: бульон из красного и зеленого перца, приправленный лимоном, базиликой и мятой; густая похлебка из кальмаров с сердцевиной лотоса; акульи плавники в крабовом соусе; морской еж, нарезанный так искусно, что его довольно непристойной формы ломти выглядели, как живые; клешни омара, фаршированные семенами кардамона; мясо барракуды, смягченное кокосовым молоком, сваренное в смеси из 27 видов пряностей, контрабандно привезенных из Китая, Индонезии и Вьетнама; маленькие жареные птички, которых поедают целиком, вместе с длинным тонким клювом, хрустящими лапками и мягким жирным мозгом; гребешки гвинейских петухов, приправленные обжигающим небо шалфейным араком, и, наконец, какие-то прозрачные, переливающиеся, студенистые волокна, которые можно было принять за вермишель, но которые на самом деле были щупальцами так называемой развивающейся медузы, мужской особи в раннем возрасте, обоеполой – в среднем и женской – в старости, поедаемой сырой из-за высокого содержания протеина и фосфора, несмотря на не очень аппетитный вид и вкус. Сверкающие голыми ягодицами юноши, чья одежда состояла только из низко повязанных пояса и небольшого фартука спереди; молоденькие, с едва распустившимися грудями девушки, украшенные внизу живота белыми и алыми цветами жасмина, с шеями, окаймленными шелковыми лентами, на которых висели амулеты из слоновой кости, сделанные в виде маленьких фаллосов, чей размер позволил, кстати, некоторым гостям лишить невинности их владелиц (девственниц, специально отобранных для того, чтобы донести свою девственность лишь до конца праздника), сновали по всем залам и террасам, предлагая эти деликатесы, а также много других блюд – от соловьиных яиц до молодых ростков бамбука. Эммануэль попробовала по кусочку всего: на десерт она отведала засахаренную гигантскую бабочку, корень мандрагоры, выпила несколько глотков знаменитого ликера Каунг-Тонг, рисового пива из Кората и даже решилась на стаканчик «Солнечной воды» из южных провинций, крепкой, как удар бича для мулов. После дегустации этих напитков она с трудом могла бы объяснить, откуда она, какой сегодня день, час, век. Еще менее она могла бы сообразить, в какой же части дворца находится сейчас. Она сидела среди незнакомых людей, смеющихся, болтающих, вполне довольных жизнью. Огромный смуглокожий детина, вытянувшись на голубом толстом ковре, положил голову на ее колени, в то время как другой гладил ее ноги. Сердце Эммануэль пело хвалебную баркаролу: «О, чудная ночь! Удивительная ночь!». Появляется принц, извлекает ее оттуда, ведет к своему столу в другую комнату. Представляет ее гостям. Те окружают ее, женщины и мужчины любуются ею, прикасаются к ней, целуют, обнимают ее. Ей трудно различить чье-нибудь лицо, ей душно, она умоляюще взглядывает на хозяина празднества, и тот, поняв ее, предлагает ей руку и выводит из круга веселящихся во внутренний дворик-сад. Свежий воздух отрезвляет ее. Не могла бы она получить обратно свое платье? Конечно, говорит принц, подзывает слугу, отдает распоряжение. Они ждут, Эммануэль надеется, что молодой человек отыщет ее прелестную светло-зеленую тунику, жаль было бы потерять ее. Слуга, однако, уже несет желанное одеяние и к тому же пояс и золотую брошь – он ничего не забыл. Жестом он указывает ей, где можно найти зеркало, одеться, причесаться, снова привести себя в порядок. Она благодарит его. Он кланяется, сложив ладони перед собой. И вот они снова с принцем вдвоем. – Пойдемте со мной, – говорит принц, – Вы еще не видели моих садов. Нам будет полезна небольшая прогулка. «Неужели он тоже примется за меня?» – спрашивает себя Эммануэль. Все-таки после всего, что проделывали с нею, она еще не совсем пришла в нормальное состояние. Она следует за властелином мимо фонтанов, бассейнов, клумб, гадая, овладеет ли он ею здесь, на влажной от водяной пыли каменной скамье, или там, на траве, в тени огромного баньяна. Интересно, снимет ли он при этом свой сказочный наряд? Тогда он много потеряет в своем величии. А может быть, и нет… Две молоденькие девушки выскочили при их появлении из беседки и в два прыжка – только вздулись вслед за ними их саронги – исчезли из поля зрения. – Я знаю, вы любите и девушек. Хотите развлечься с какой-нибудь этой ночью? Она запротестовала: – Господи! Кажется, все знают обо мне все! А я в Бангкоке всего три недели. Есть ли здесь хоть один, кому обо мне не рассказали… – Во всем городе, наверное, есть… Но в этом дворце такого не найти. И все так долго ждали вашего появления, и все восхищены вами. – Почему? Мне кажется, здесь такое множество женщин… – Можно любить только сестер-близнецов, или настоящих, или сиамских, сказал когда-то один знатный человек. Так что совершенно естественно, что мы вас любим. – А что Анна-Мария Серджини, она не из ваших сестер? – спросила все еще не усмиренная Эммануэль. Но принца нелегко было вывести из равновесия. – Кто может это сказать? – ответил он мягко. – Иногда надо прожить всю жизнь, чтобы встретить брата. Или даже несколько жизней. – Вы верите в переселение душ? – Я ничего не знаю об этом. Я даже не знаю, смертны ли мы. – Да, я знаю только, что я не хочу умирать. – Значит, вы и не умрете. Он посадил ее на ступеньку мраморной лестницы, спускавшейся к небольшому бассейну. – Послушайте-ка стихи. Их написал молодой китаец, инженер, наш современник:* * *
Она очнулась в ужасе, не понимая, что она делает здесь, в этом парке, придавленная к земле телом никогда не виденного ею прежде мужчины, который, может быть, мертв… Потом память вернулась к ней, тревога рассеялась, но оставаться здесь ей больше не хотелось. И она попросила своего спутника отпустить ее восвояси. Она устала. Ей хочется спать, спать в своей постели, спать долго-долго, как сурок в норе. Он стал отговаривать: еще рано, лучше дождаться начала дня. Эммануэль была раздражена и раздосадована. Она лучше попытается разыскать Марио. Она оделась, и прикосновение материи к коже несколько успокоило ее. Возвращаясь во дворец, она вспоминала о ванных комнатах с их золотом и серебром, где прислуживали юноши и девушки с округленными от восторга и желания глазами. Она заглядывала в комнаты, наконец, нашла то, что искала, и оставила свой эскорт у двери, попросив не дожидаться ее. Наполнила ванну почти кипятком и потом долго занималась своим туалетом: высушилась, напудрилась, надушилась, сделала себе массаж, с нежностью лаская свое тело. Она уже приготовилась провести здесь остаток ночи, но вдруг в дверях возник принц, несомненно, предупрежденный Майклом. – Там столько жалоб на то, что вас монополизировал кто-то. Вы не хотели бы вернуться и прекратить эти жалобы? – Я только что проходила по дому, и мне не встретился ни один мужчина. Я решила, что все они отправились спать. – Я собрал в удобном месте нечто вроде гетериона. Его участники относятся к играм прошедшего вечера как к прелюдии основного. Я думаю, нет ничего лучше, чем присоединиться к ним. – Только скажите мне, кто был тот прелестный мальчик, которого вы представили мне в парке? – Майкл? Я думал, вы знакомы. Он морской атташе Соединенных Штатов. Эммануэль вздрогнула. Брат Би! И она любила его, ничего не подозревая! Как могла она быть столь слепой? Те же глаза, та же улыбка, те же губы, эти короткие волосы… Та же манера разговаривать. Это был не брат, это был двойник Би! И она не сумела его узнать! Удрученная, не замечая ничего вокруг, шла она следом за принцем, пока они не остановились перед массивной, из мореного дуба, дверью. Дверь была украшена столь причудливыми узорами, что будь Эммануэль в другом настроении, она долго изучала бы их таинственные письмена. Принц толкнул дверь, пропуская гостью вперед. Она вздрогнула: кондиционеры делали здесь воздух прохладным, но тяжелый острый запах, запах Китая, какая-то смесь имбиря и шалфея, запах трав, а не цветов, окутал ее и, казалось, пропитывал ее кожу. Все было подернуто красноватой туманной дымкой. Несмотря на то, что глаза быстро приспособились к этому странному, волнующему полусвету-полумраку, Эммануэль все-таки не могла разглядеть что-нибудь дальше трех-четырех шагов. То, что она различила ясно, были три женские фигуры, полулежащие на широких пестрых подушках. Все три женщины выглядели еще моложе Эммануэль. Они лежали, не касаясь одна другой, широко раскинув ноги. Одна из женщин была дочерью принца. Несколько мужчин, встав вокруг, наблюдали за ними. Эммануэль обернулась к своему хозяину. Ей захотелось услышать его голос, и она спросила первое, что пришло ей в голову: – Ариана… Она здесь? – Вы хотите ее видеть? – отозвался принц. – Я могу послать за ней. – Нет, нет, – поспешно сказала Эммануэль, словно исправила грубую ошибку. Потом как можно небрежнее добавила: – Она хорошо провела время? Она заметила, что употребила прошедшее время, как будто праздник уже закончился. – Если хотите знать мое мнение, – улыбнулся хозяин Малигата, – у нее был самый большой успех сегодня. «Почему?» – спросила Эммануэль самое себя: она не любила допускать чье-либо превосходство. – Даже больше, чем у меня? – с удивлением услышала она свой вопрос. Какие-то нотки не понравившегося ей самой высокомерия прозвучали в голосе, и она поспешила смягчить вопрос: – Это потому, что она красивее меня? – Нет, – ответил Ормеасена. – Тогда почему же? Если я красивее, я имею право иметь больше любовников, чем кто-то другой. Ее голос звучал вызывающе громко, на всю красную комнату. Какой-то человек выплыл из сумрака, схватил ее за запястье. – Это нам решать, – сказал он. Она с ужасом узнала его. Это был тот самый моряк. Он потащил ее в красноватую мглу, расступавшуюся перед ними и открывавшую все новых и новых людей, главным образом мужчин. Тут были и совсем мальчики – белолицые, с короткой стрижкой пилоты с американских бомбардировщиков, и другие – более матерые, с продубленными, сибирскими чертами лица, с резкими ироническими морщинами у глаз. Тут были всякие… Руки надавливают ей на плечи, и вот она сидит на чем-то холодном и скользком. Ее трогают, раздвигают ноги и сразу же начинают ощупывать, не дав даже времени раздеться, без поцелуев, без какого-нибудь нежного слова. Она не осмеливается сама опрокинуться навзничь, понимая, что многие и сразу же возьмут ее всеми возможными способами. Ей больно от ползающих между ее ногами чужих жадных рук, но она не жалуется даже тогда, когда они грубо стараются раскрыть ее совсем и проникнуть внутрь. Она приняла решение покориться и убеждается, что это ей по нраву и по силам. Внезапная вспышка гордости обжигает ее – она понимает, что ей ничего не страшно: тело ее не боится, разум ничуть не смущен. Звучит приказ моряка, и все руки внезапно оставляют ее. Она свободна, она одинока: тем, кто только что жадно накидывался на нее, достаточно сделать шаг назад, и они потеряются для нее в игре света и тени, растворятся совсем… – Пошлите за Арианой, – раздается приказ невидимого корифея хора, и она слышит, как кто-то выходит из комнаты. Дверь открыта, и Эммануэль понимает, что есть еще возможность убежать отсюда, что это, может быть, ее последний шанс. Она знает, что никто не двинется, чтобы задержать ее. Открытая дверь означает выбор. Она остается. Не из апатии или из фаталистического безразличия. Ей хочется остаться. Она чувствует это желание в глубине глотки, в гортани, словно сжавшейся в кулак. Ее язык оттаял, пульс бьется живее, она чувствует, как розовеет, накаляясь, вход в ее глубины. Такого желания она не испытывала прежде. Почему они не спешат, вздыхает она про себя. Они же видят, что я готова на все. Пусть пользуются моим телом, как им заблагорассудится. – Что позволите вам предложить? – спрашивает распорядитель игр, и Эммануэль чувствует в этом голосе неприкрытую иронию. Она не понимает, то ли моряк не правильно оценил ее улыбку, то ли это входит в правила дальнейшей церемонии, но он продолжает допрос: – Кого вы предпочитаете, мужчину или женщину? И тут же отвечает вместо нее: – Впрочем, это не имеет значения. На известной ступени эротизма различие между полами исчезает. И тоном приказа он заканчивает: – Покажите-ка себя! Опираясь на левый локоть, Эммануэль откинулась назад. Приподняв подол туники, развела по сторонам ноги: среди черных завитков блеснули жемчужины. Медленно, двумя пальцами раскрыла себя. – Вперед! – командует офицер, адресуясь, несомненно, к тем мужчинам, которые ее окружают. Сколько их, много или мало? Может быть, их тысячи? Пусть! На что она надеялась, так это на то, что среди них найдется несколько достаточно крепких молодцов, которые не дадут этой чудесной ночи превратиться в детскую забаву. Она успокоилась, когда здоровенный малый, толстогубый, с вьющейся шевелюрой, приблизился к ней и опустился перед ней на колени. Он отбросил ее ладонь, которой она прикрывалась, как фиговым листком, и, опираясь на одну руку, взял в другую свое оружие, и Эммануэль почувствовала такую крепкую и горячую мощь, что о лучшем она и мечтать не могла. Более того, для первого приступа она удовлетворилась бы и чем-нибудь не таким впечатляющим. Делом чести было подавить жалобный крик, но все же слезы показались на ресницах Эммануэль, словно она все еще оставалась девственницей. А мужчина врубался в нее все глубже и глубже: Эммануэль даже и не предполагала, что в нее можно так далеко проникнуть. Наконец, он, кажется, достиг крайней точки, не уступив ни сантиметра пространства своей партнерше. И тогда он приостановил свое движение, замер на миг, потом возобновил его, но это не было движение поршня туда-обратно: он ворочался, как могучий зверь, ищущий, как бы поудобнее улечься в логове. Он словно расширял внутренности своей подруги, пока она не стала сама влажным разгоряченным зверем, издававшим хриплые крики наслаждения. И тут он снова изменил характер движения: он вышел и снова погрузился, вышел и снова… Темп все более убыстрялся, заставляя Эммануэль выть от наслаждения при каждом ударе. И он аккомпанировал ей густым тяжелым звериным рыком, пока тяжелый поток не ударил в нее и не проник так глубоко, что Эммануэль, казалось, ощутила пряный вкус на своих губах и языке. Но и после бурного извержения, погрузившись лицом в ее волосы, он не отступился от своей жертвы; он подбрасывал и опускал свой крестец, словно каждая спазма порождала следующую, и это дало Эммануэль новое острое и невероятно сладкое ощущение. Она прижалась к его шероховатой щеке, покусывала, целовала ее, плакала от радости. А мужчина все продолжал действовать в ней, поддерживая все тот же ритм, все ту же меру погружения. Она никогда не предполагала, что найдется способный на такие долгие усилия человек, и она изливалась чаще и сильнее, чем когда-нибудь прежде. Она подумала, сколько еще неизведанного для нее в стране любви! Не встреть она этого иностранца, она так бы и прожила свою жизнь, не зная ничего о подобном наслаждении. «Я должна превзойти самое себя, – подумала она, – И сегодня ночью я сделаю это». Но после последнего, самого разрушительного оргазма, ударившего в нее, как слепящая молния, она почувствовала, что ей довольно. Бушевавшая в ней огненная буря сменилась величественным покоем, ясностью, безмятежностью. Если то, что она испытывала перед этим, было наслаждением, то теперь ну ступило полное счастье, нирвана. С протяжным громким стоном мужчина извергся во второй раз и застыл на ней, словно пораженный в спину ревнивым кинжалом. Другие оттащили его и заняли его место. А она и не замечала, кто его сменил и сколько их было. Когда ощущения вернулись к ней, она спросила себя, сколько же этих незамеченных ею любовников прошло через нее. «Надо было считать, – упрекнула она себя, – иначе это не имеет никакого смысла». Но так как они продолжали прибывать, она открыла новую форму удовлетворения: не чувственный пароксизм на этот раз, а некий рассудочный вид наслаждения, даже более восхитительный. И она поздравила себя, что поднялась от оргазма тела к более высшему оргазму – оргазму духа. Что значит отдаться по зову бездумной страсти – истинный эротизм в том, чтобы отдаваться сознательно, обдуманно. Эротизм начинается там, где кончается похоть: нельзя распознать его могущественное значение, пока главенствует удовольствие. Ее стало беспокоить, однако, что не всем здесь удается провести с ней время должным образом, а ей хотелось бы раздать им всем по кусочку своего тела. Так было бы печально, если кому-нибудь надоест ждать и, устав от нетерпения, он отправится искать что-то другое. Беспокойство оставляло ее тогда, когда она чувствовала, что кто-то новый приближается к ней, чтобы сменить предшественника. И совсем приятно было ей видеть, как партнер выходит из нее, сползает к ее ногам и исчезает в мерцающем полумраке, даже не поднявшись на ноги; все в этой комнате происходило в горизонтальной плоскости, вертикали избегались. Одни приклеивались к ней губами и качались в упоительном ритме, другие возвышались над нею, опираясь на руки, чтобы видеть выражение ее лица во время действа. Для всех них она использовала всю свою ловкость и умение, приобретенные под наставничеством Жана. Всякий раз, когда ее партнер кричал от наслаждения, она мысленно посылала слова признательности своему супругу, благодаря его за то, что он сделал ее столь умелой любовницей – разве она была такой, когда принесла ему в дар свою лесбийскую девственность? То ли по молчаливому уговору, то ли по распоряжению моряка-церемониймейстера, никто из мужчин не ласкал ее. Такой деловойподход, каким бы обидным ни показался он ей в других, более банальных случаях, точно соответствовал ее нынешнему настрою мыслей. Она смотрела на себя как на инструмент для наслаждения многих мужчин – и только. Ей хотелось, чтобы им пришлось по вкусу все, что они узнавали в ней, чтобы они наслаждались игрой ее мускулов, чтобы они удовлетворяли свою эгоистическую похоть, а о ней совсем не думали. Это было самоотречение художника. Весь свой любовный талант, всю свою изобретательность она пустила в ход, только бы насытить их, только бы понравиться им, чтобы они могли рассказать всему городу, что в деле любви она превосходит самую дорогую и изысканную проститутку и полна разнообразных сюрпризов. И вот наступил момент, когда ей стало плохо. Она уже не могла ни чувствовать, ни думать. И наконец – полная остановка. Никто больше не занимался ею.* * *
Много позже она пришла в себя, разбуженная чьим-то голосом. В комнате сделалось как-то прохладнее, дышать стало легче. Эммануэль подняла глаза, чтобы разглядеть, кто же обращается к ней, благо в комнате стало намного светлее, чем раньше. И ее все еще затуманенные сном глаза увидели, что кто-то стоит над нею, расставив ноги. И какие ноги. Боже правый! А там, выше, где они соединялись, какая поросль: юная, свежая, сладострастная, зовущая. И какой огненный цвет! Поросль покрывала холм таких размеров и так выдававшийся вперед, что он казался почти ненормальным. Эммануэль вспомнила, что однажды она уже любовалась этим бутоном: в то время он был небрежно прикрыт – именно прикрыт, а не спрятан окончательно – малюсеньким бикини. И тогда ее страстно потянуло к этой девушке именно из-за маленького кусочка белой ткани: он подчеркивал не только заросли холма Венеры, но и само ущелье – скрытые там выступы и жемчужины так выпирали из-под белой ткани, что привлекли бы, наверное, больше восхищенных взоров, чем если бы все это было обнажено полностью. И сейчас Эммануэль почти с сожалением вспомнила о том развратном бикини. Но все же как было прекрасно видеть этот нахальный холмик, ждать, пока парящие вверху соски опустятся к ее губам. О нет! Гораздо лучше, если не грудь, а то, что ниже, опустится к ее рту, заполняя его, как некий пряный плод, своим освежающим соком. – Я вас знаю, – сказала Эммануэль, убедившись, что все это ей не снится. – Я видела вас в бассейне. Но я не помню, как вас зовут. – И вдруг добавила: – Львенок, вот вы кто! – Меня зовут Мерви, – ответила девушка, – Римляне называют меня Фьямма, потому что я зажигаю их, или Рената, потому что я возрождаю их из пепла. Мой любовник зовет меня Мара, как индийского демона. Но я – Майя. И Лилит. – Как прекрасно носить столько имен, – прошептала Эммануэль, хотя эта маленькая речь позабавила ее. – У меня есть и другие имена, только я не могу их сейчас вспомнить. Те, что я назвала сейчас, я ношу только обнаженной. И, чуть прищурясь, без тени улыбки она добавила: – И, конечно, у меня совсем другие имена, когда я бываю мальчиком. Эммануэль подняла брови. Она решила использовать ситуацию максимально. В самом деле, после всего, что было, почему бы и не это странное существо. Только одна небольшая формальность: – Но когда вы бываете мальчиком, у вас остаются волосы? Как было бы досадно потерять эти невероятные заросли, густые, длинные и такого цвета. Красные, как китайское золото! «Мальчик или девочка, сказала она себе, какая разница! Я хочу это существо!» Ее взор снова пробежал по пылающим джунглям. Создание тоже смотрело на нее. Потом Эммануэль услышала: – Как жаль, что вы не приехали в Сиам раньше. Я бы могла вас дорого продать. И, сморщив губы, существо продолжало совершенно серьезным тоном: – Ну ладно, дело не в этом. У нас еще будет время. – Вы торгуете женщинами? – поинтересовалась Эммануэль. «Львенок, – думала в это время, не дожидаясь ответа, – принадлежит, очевидно, к тем, кто не различает добро и зло, порок и добродетель. И у нее нет возраста: глядя на ее лицо, ей можно дать лет десять, но грудь у нее, как у двадцатилетней, а вот ее холм Венеры делает ее бессмертной. Как ангела. Или как дьявола». – А где же Ариана? – спросила Эммануэль. Мерви пристально посмотрела на ее губы. – Пойдемте со мной в ванную, – сказала она спокойно, словно вопрос Эммануэль не заслуживал никакого ответа. Зачем? Эммануэль была удивлена. Она понимала, что это не приглашение к любви, во всяком случае, к любви в обычном смысле этого слова. Неясно, смутно она представляла, что можно ожидать чего-то этакого от женщины-львенка. Ей хотелось бы согласиться, но надо было для этого вставать, идти… Прежде чем Эммануэль успела понять, в чем дело, послышались приближающиеся шаги, и Мерви исчезла. Здесь, в Малигате, казалось, поддерживался определенный, с правильными интервалами ритм чередования приемов пищи и приступов любви. Шаги на этот раз означали приближение блюд с яствами и напитками. И действительно, тут же Эммануэль почувствовала, что голодна. Эммануэль не могла припомнить, видела ли она раньше кого-нибудь из своих соседей по столу (или, точнее, по пестрым подушкам). Были ли среди них те, которые так хорошо провели с ней время совсем недавно? Но, может быть, оставаться в таком неведении было гораздо пикантней?.. Пошли по кругу трубки, наполненные опиумом. Полумрак приобрел теперь голубой цвет и терпкий запах. Опиум не соблазнил Эммануэль. Она уже знала его вкус. Она услышала, как кто-то читает стихи: «Воздух так сладок, он не даст умереть». Где она слышала это? Она не могла вспомнить, ей было лень вспоминать… Но как только она задремала, ее разбудили. – Так что вы собираетесь делать с вашим супругом? – спросил ее какой-то молодой человек. Она ограничилась беглой улыбкой: это был сложный вопрос. «Здесь Ариана», – объявил чей-то голос. Но дверь не открывалась, и не было никакого движения в комнате. Ей хотелось пить. – Вот, – сказал тот же молодой человек, поднося к ее губам стакан. Потом вздохнул: – Я бы хотел снова любить вас, но, сказать по правде, у меня уже нет сил. У меня тоже, подумала Эммануэль. Так-то вот. Нельзя все время заниматься одним и тем же. Она оглядела себя. Фантастика: она была совсем голой! Значит, после всего они стащили с нее одежду, а она даже не заметила. Ноги ее были раскинуты, она сомкнула их. Грот, подумала она, в который никто не стремится смешная вещь. А ей и не хотелось, чтобы туда кто-нибудь сейчас стремился. Который час? И где моя милая туника? Теперь-то она, кажется, потеряна наверняка. Как же добраться до дому? – Так что я должна сказать Жану? Собеседник покачал головой, с симпатией глядя на Эммануэль. Потом осчастливил ее идеей: – А почему бы вам не предложить ему Мару? «Так вот он, ее любовник», отметила Эммануэль. – Вы бы жили втроем, – продолжал он, все более воспламеняясь. – Вы бы очень продвинулись вперед. Не сомневайтесь, вам именно так и надо поступить. Почему Мара – или Рената, или Фьямма, как ее там на самом деле зовут, подумала Эммануэль. Почему она, почему не Ариана или, еще лучше, Мари-Анж? Или какая-нибудь другая женщина? Анна-Мария, например, совсем была бы неплоха. Но можно понять и этого молодого человека: для него-то нет в мире женщины лучше, чем его любовница. – О, да, – сказала она, – это было бы прекрасно. Он воодушевился: – Тогда не надо терять времени. Просто смешно, если вы с Жаном не воспользуетесь такой возможностью. «Какой?» – спросила себя Эммануэль, но как-то вяло, без истинного любопытства. И какая комбинация лучше: две женщины и один мужчина или одна женщина и двое мужчин? Последнее сочетание показалось ей более соблазнительным. Вторым мужчиной мог бы быть Кристофер. Или Марио. Нет, не Марио. И Кристофер – тоже нет. – А что вы думаете об этом? – спросила она молодого человека. – Две женщины кажутся мне более логичным вариантом, особенно если они к тому же лесбиянки. Но, во всяком случае, главное – это начать. Тем путем или этим – разница небольшая. Я пришлю вам свою книгу… – Что-нибудь о браке втроем? – И еще о многом другом. – Хорошо, я должна ее прочесть, потому что я ведь толком не знаю, как это делается. Наверное, это напоминает танец втроем? – Совершенно верно. Эммануэль постаралась показать свое удивление по поводу такого простого решения вопроса. Но собеседник продолжал: – Правда, это немного покрепче, слава Богу! Если бы это напоминало детские игры, то что же здесь хорошего, правда? Не было бы ничего возбуждающего! Мы здесь не для того, чтобы забавляться, подумала Эммануэль. Мы пришли в этот мир, чтобы дать завтрашним существам их шанс, не бросить вызов морали, не переступить ее, а создать новую. В эпоху звездолетов смешными кажутся мученья сэра Галахада. Пить яблочный сидр добрых старых дней, старой доброй морали можно было в старые добрые времена. Но мы должны найти нечто лучшее, если мы намерены лететь к Бетельгейзе. «Однако, – подумала она, – я играю роль Марио». – Я не думаю, что мы сможем в самом деле все это изменить, – продолжала она свои размышления вслух, – но если мы хотим, чтобы наши дети были смелее нас, мы должны идти этим путем. Собеседник кивнул с самым серьезным видом. – Вы сентиментальны. – Я? – возмутилась Эммануэль. – Для нас, для нас. Мы проницательны и умны, но наши чувства выше вашего понимания. Мы рассуждаем подобно Эйнштейну, а любим в стиле Поля и Виргинии. Она пожала плечами: – Законы Эйнштейна не имеют и никогда не будут иметь отношения к человеческой любви. Любовь – не предмет физики. – Совершенно верно, совершенно верно, – согласился молодой человек. – Здесь и начинаются трудности. Человечество знает только теперешнюю жалкую ступень любви. В этом трагедия рода. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы сейчас уже превзойти наши возможности, но пока мы можем только конструировать нашу любовь для нас самих. Неудивительно, что конструкция так неудачна. – Мир, – сказала Эммануэль, – холодный, гладкий кусок перкаля, но мы должны сделать его более выразительным, собрать в складки, поставить на нем свое личное клеймо. – Время – великий утюг, оно позаботится об этом. Вернитесь через пару тысячелетий назад и посмотрите, останутся ли ваши следы от вашего портновского искусства. – Может быть, любви больше и не будет, но следы ее останутся. Молодой человек прихлебнул из большою бокала и решил переменить тему: – Провести афинскую ночь с целым стадом мужчин – это дело не метафизики, это дело фантазии. Вы здесь прекрасно проводите каникулы. Но это же исключение из правил вашей обычной жизни: вы уклонились от морали, но не создали никакой новой, своей. – Вы ошибаетесь, я пришла сюда и делала всю ночь то, что я делала, потому что считаю это правильным! – «В чистоте все чисто, и нет ничего нечистого самого по себе», – говорит святой Павел, но добавляет: «Все позволено, но не все из этого обязательно». Если вы хотите изменить мир, то не думаете же вы, что его можно изменить только на таких веселых вечеринках. Вы должны приступить к осуществлению вашей новой морали у себя дома, и не только по праздникам, но и в будни. Ваше отношение к делу приобретет вескость неопровержимого доказательства, коль скоро ваше поведение в Малигате станет для вас ежедневной рутиной. А пока вы остаетесь конформистом, примирившимся с условностями, пока вы превращаетесь в неистового любовника только после захода солнца, что же я могу думать об этом? Я только тогда стану вашим последователем, когда вы скажете, например, что вы привели Жана к Маре. Или когда вы расскажете своему супругу, что после обеда отдались его друзьям. Не по секрету, а на виду у всех. Не только этой ночью, но и во всякую ночь. Он замолчал. Эммануэль встала, не боясь показаться невежливой. Интересно, можно ли отыскать снова Мерви? Вдруг она наткнулась на металлический орнамент двери. Она не думала уходить, но дверь была открыта, и Эммануэль воспользовалась ею. Она прошла пустынную галерею. Была жаркая ночь. Она заглядывала в разные комнаты, все были полны народу. И вдруг она увидела Марио! Она вскрикнула от радости, но он не услышал ее, не заметил: он слишком был занят любовью с каким-то юным Ганимедом… Она подошла на цыпочках, стараясь сдержать смешок, и заглянула через плечо Марио на бьющееся под ним обнаженное тело. Это была Би. Эммануэль чуть не потеряла сознание. Ее чистая маленькая Би! Марио, который никогда не интересовался женщинами, яростно совокупляется с той, к кому Эммануэль напрасно стремится уже столько дней. Она еще раз взглянула, но глаза ее уже ничего не могли различить. Слезы обиды застилали ее взор. Она пошла, сама не зная куда, пока в одной из комнат не увидела Ариану, сидящую в группе гостей. Эммануэль кинулась к ней, упала на колени, положила голову на бедра графини. – Возьми меня отсюда, – взмолилась она, – Я не хочу здесь больше оставаться. Пойдем отсюда! – Но в чем дело дорогая, – спросила Ариана с притворным участием, кто-нибудь обидел тебя? – Нет. Никто. Но я хочу домой. – Домой? Но там никого нет. Что ты будешь там делать? – Тогда возьми меня к себе. – Ты в самом деле хочешь ко мне? – Да. – И останешься у меня? – Да, да! – И будешь моей? – Да, обещаю. Буду. Я хочу этого. – Ты не обманываешь? – Разве ты не видишь, у меня нет никого, кроме тебя! Ариана наклонилась и поцеловала ее. – Поехали! Эммануэль провела рукой по волосам Арианы. – Я буду делать все, что ты захочешь Подруга взяла ее за руку и повела по залитым лунным светом мраморным ступеням вниз, в сад. – Но я же совсем голая, – пожаловалась капризным голосом избалованного ребенка Эммануэль, – А, какая разница! Они ехали в автомобиле Арианы, не нарушая молчания. Голова Эммануэль лежала на плече Арианы. Начинался рассвет, один за другим гасли уличные фонари. Мимо них проплывали автобусы, торговцы устанавливали свои тележки. На перекрестке, где машины и люди ждали зеленого света, уличные мальчишки таращили глаза на открытый «родстер», в котором сидела совершенно обнаженная женщина. Лакей открыл тяжелые двери посольства. Обе женщины поднялись в комнаты Арианы. Эммануэль тут же кинулась в постель, свернулась калачиком. Голос Арианы долетал до нее уже сквозь сон. Графиня сняла кимоно, свидетеля ее подвигов в Малигате. Открыла маленькую дверь в соседнюю комнату. – Иди-ка сюда, посмотри, – произнесла она, прижав палец к губам. Ее муж подошел к краю кровати. – Смотри на нее, – прошептала Ариана. – Она моя, но я буду ее одалживать тебе. Потом, сделав ему знак, чтобы он ушел, она упала на постель рядом со спящей Эммануэль. Обхватила ее обеими руками и провалилась в сон.Счастье Арианы
Жизнь у Арианы стерла и дни, и ночи. Долго ли оставалась у нее Эммануэль? Вернулся ли уже ее муж? Она не имела об этом ни малейшего представления. – Всякий раз, когда я застану тебя бездельничающей, я буду тебя наказывать, – так предупредила Ариана Эммануэль. И она держала свое слово, ведя точный учет часам, которые Эммануэль проводила, наслаждаясь своим телом самостоятельно. Если же Эммануэль слишком долго спала по утрам или же проводила много времени за туалетом, ее подвергали немедленному наказанию. Она обязана проводить время в постели, подвергаясь обучению интенсивному и в строгом ритме, таком, какого она не знала до сих пор. – Будь ненасытной, – увещевала ее наставница, и, к своему великому изумлению, Эммануэль такой и становилась. «Аутоэрастия» – так называла этот вид занятий Ариана, и хвалебная песнь этой страсти постоянно звучала из ее уст. – Это необходимо так же, как нужна меткость в бейсболе или крокете… Любить – без этого человек не может обойтись так же, как без еды и дыхания. И если кто-то считает мастурбацию потерянным временем, тогда потерянное время и писание портретов на холсте, и сочинение концерта для флейты… Если хочешь знать, мастурбация – это поэзия! И еще она говорила: – Я могла бы перенести, если бы ты сказала, что больше не хочешь заниматься любовью, но я бы тебя убила, услышав, что ты отказываешься от мастурбации. И еще: – Когда ты познакомишься с новой девицей, спроси ее, сколько раз в день она забавляется сама с собой. И если она делает это не так часто, как ты, она не стоит твоего внимания. Или же: – Знаешь ли, что многие мужчины женятся, даже не пытаясь узнать, мастурбировали ли когда-нибудь их невесты? Что за любовь может быть у них? И снабжала это таким примечанием: – Есть мужчины, которые предпочитают жениться на женщинах, совершенно равнодушных к своему полу… Я думаю, что это извращение! Ариана заставляет свою узницу ласкать самое себя до изнеможения. Потом она вытягивается на ее неподвижном теле и трется о ее ноги, ее живот, грудь, лицо, пока сама не оказывается в сладком обмороке. Порой она ложится на спину, закинув руки за голову, и Эммануэль приникает к ней. Бутон плоти Арианы, выпуклый и твердый, вырастает от прикосновения языка Эммануэль, и та иногда подолгу держит его во рту. Когда Ариана утомляется, она зовет Жильбера и указывает на Эммануэль: – Теперь ты! И он сливается с Эммануэль по два, по три, по четыре раза в день. Теперь он занимается любовью только с нею. И когда он изливается в Эммануэль, Ариана наклоняется к ней и пьет этот коктейль. – Ты не думаешь, – сказала она однажды своему супругу, – что Эммануэль была бы для тебя идеальной женой? И твоим друзьям она очень подойдет – они имели бы ее, когда захотят. Когда они снова оставались одни, Ариана продолжала наставлять Эммануэль: – Одного супруга тебе никак не должно хватать. – Но… А как же ты? – Я люблю раздаривать своих мужей. – Мужей? Разве их у тебя несколько? Прекрасная графиня засмеялась: – Я имею в виду будущих. Эммануэль подозрительно посмотрела на подругу: – Ты больше не любишь Жильбера? – Почему ты так думаешь? – Но ты же отдаешь его мне. – Если бы я его не любила, я бы его тебе никогда не дала. – Значит, ты решила делить его с другими? – Не совсем так… Ты знаешь, я никогда ничего не решаю заранее. Я прихожу в ужас от всяких планов и проектов. Я жив и живу. И что бы ни происходило, все идет к лучшему. – Так. Если ты останешься с мужем – это хорошо. А если ты его потеряешь это тоже хорошо? – Конечно. – Значит, ты его не любишь. – В самом деле? – Ариана посмотрела на Эммануэль так, что та смутилась, но все же спросила: – Ариана, а ты пробуешь все просто потому, что тебе нравится все испытать? – Конечно. – И ничто не кажется тебе отвратительным? – О, почему же… Мне многое кажется отвратительным: все ограничения и все запреты. Все те, кто не хочет ничему научиться. Все люди, живущие, как слизни, в своей молочнокислой добродетели, удовлетворенные собственным окружением, упоенные своим нежеланием узнать что-либо. У них единственный резон – не хочу этого знать, потому что мне это не нравится. А ты спроси их, в чем причина их неприятия этого, почему им это не нравится, и они – к твоему удивлению – даже не смогут ответить. Вот в чем сущность зла, отвратительного, как ты выразилась, – в наслаждении собственным незнанием, в отсутствии любознательности, в отказе от жажды открытий. – Но разве, возможно заняться чем-то, что тебе не нравится? – Наслаждение можно найти во всем, если не мешает какой-то врожденный порок. – Но ведь и то, что доставляет наслаждение, может тоже надоесть. – Никогда, если ты умеешь обновлять себя. Вот мы говорим: «Ох, этот малый, как он был хорош в постели!». Но в постели все хороши, лишь бы это делать с кем-нибудь впервые. – Но зачем тогда выходить замуж? – А ты думаешь, брак – это какая-то наглухо запертая башня? Замуж выходят чтобы быть свободнее. Умная девушка докажет, что после свадьбы у нее будет больше любовников, чем прежде: разве это не стоящий сам по себе резон? – Это было бы прекрасно, если бы с этим соглашался муж. Но если женщина идет замуж, чтобы спать со многими мужчинами, мужчина-то женится на ней для того, чтобы она спала только с ним. – Так вот жена и должна его перевоспитать, а не хныкать и жаловаться. – Даже рискуя расстаться с ним? – А как же! Это все равно лучше, чем повернуть назад. – Твой муж думает точно так же. Почему же ты хочешь расстаться с ним? – Кто тебе сказал, что я этого хочу? – Но ты говоришь, что он должен жениться на мне. – А разве это означает, что он непременно должен разводится со мною? Жильбер может иметь другую женщину, он может вообще находиться в другом полушарии, но я все равно всегда буду существовать здесь для него. – Даже если снова выйдешь замуж? – Могу ли я перестать быть Арианой? Я просто буду любить на одного мужчину больше. – Но… Если у Жильбера другая женщина, а у тебя другой мужчина, что же общего останется между вами? – Наша любовь, разумеется. И, видя недоумевающий взгляд Эммануэль, Ариана продолжала: – Жильбер и я, мы любим друг друга, но это не та любовь, когда, вцепившись в руку другого, не могут отвести от него зачарованного взгляда. Самая большая радость для нас – видеть, что другой не упускает своего шанса. – Но ведь хорошо жить с тем, кого любишь. – Конечно, разве я это отрицаю? – Как будто… – Нет, моя радость, я вовсе этого не отрицаю. Я знаю только то, что жизнь состоит из перемен – вот это-то и прекрасно в ней. Не страшно, что перемены сопряжены с какой-то неизвестностью, приводят к непостоянству – жизнь за это обязательно вознаградит нас. И лучше броситься в этот ноток, жить жизнью. Как только ты подумаешь о том, что ты знаешь, чем это закончится, что ты нашла свою конечную форму и всеми силами своей души будешь стремиться эту форму сохранить, у тебя появится право на постоянство, приличествующее твоему возрасту, и ты получишь свое законное место среди прочих черепов и костей в фамильной усыпальнице, полной тех, кто успокоился раньше тебя. Ариана де Сайн улыбнулась портретам своих высоко-добродетельных предков. – Конечно, я рада, что у меня такой муж, как Жильбер. Но каждый из нас будет рад за другого, если тот отправится в какое-то новое плавание. Перемена – не потеря, и сопротивляться этому – просто малодушно. Ариана посмотрела задумчиво на свою гостью: – Если Жильбер умрет, я покончу с собой. Ты не представляешь, что означает это слово: любовь. – Может быть, – согласилась Эммануэль, – может быть, ты права: я еще не знаю, что это такое. Но я учусь. В другой раз Эммануэль стала размышлять о мистериях Малигата. – Кто эта девица с дикой львиной гривой? – Командорша нашего Ордена. – Она, должно быть, вступила в него в очень нежном возрасте? – Нет, просто ее достоинства были оценены с самого начала. – Мне хочется поближе узнать ее. – Я могу тебя с ней познакомить. – Не беспокойся, мы уже познакомились. Правда, не очень близко. – А зачем тебе это знакомство! – Глупый вопрос! – Смотри, не обожги крылышки на этом огне! – Слышала от тебя такие предостережения! Ты же всегда звала меня к новым приключениям и трудным испытаниям. – Видишь ли, я не знаю, как далеко ты собралась зайти. – Скажи мне лучше, какие опасности мне грозят? – Ну, знаешь ли, есть наслаждения и смертельные… – От чего это зависит? Какие-нибудь сильные наркотики? – Не совсем то, что тебе кажется… Не спрашивай меня больше! – Но… А у тебя уже были подобные опыты? – Я тебе сказала – не спрашивай больше! – Все-таки мне ужасно хочется узнать Мерви поближе. – Позволь тогда тебя спросить: а что ты сделаешь, чтобы она тебя захотела? – А разве недостаточно, чтобы хотела я? Ариана смотрела на Эммануэль оценивающим взглядом. – Скажи-ка, – спросила она, – все-таки ты в самом деле больше любишь женщин, чем мужчин? Эммануэль нахмурилась, задумалась. Она и сама не могла решить для себя этот вопрос. – Я сама не знаю точно. Они мне нравятся. Я люблю это: притрагиваться к грудям, играть языком в их рту, прижиматься к ним и чтобы они ложились на меня. Я люблю их бедра между моими бедрами. Я люблю ощущать их сок на своих губах… В ее глазах появилось мечтательное выражение, потом она призналась: – Но я люблю и сок Сатира. И еще люблю, когда в меня что-то вонзается. – Что касается этого, то тут я могу тебе помочь. – Нет, это совсем не то же самое. – У меня может быть кое-что и получше. – Это зависит от того, кто берется за дело, – усмехается Эммануэль. – Решайся же! Хочешь, чтобы я привела сюда какого-нибудь мужчину или положишься на меня? – Да лучше ты! – воскликнула Эммануэль. Ариана наклонилась и поцеловала ее: «В награду я позволю тебе опорожнить Жильбера». Она вышла и тут же вернулась, неся в руках сундучок из флорентийской кожи с позолоченными застежками по углам. Он был величиной со шляпную картонку и так тяжел, что Ариана несла его с видимым усилием. Она поставила ношу на край кровати. – Ну-ка, открой. Эммануэль поискала хоть какую-нибудь щель в плотной обшивке. Тщетно. – Эта штука, видно, с секретом, – констатировала она. Ариана торжествующе взглянула на нее и кончиком ногтя поддела невидимую пружинку. Крышка откинулась, и Эммануэль всплеснула руками: – Вот это коллекция! – Она засмеялась и спрыгнула с кровати под жалобный стон пружинного матраца. Беспорядочно разбросанные, различной длины, в причудливом разнообразии окрасок и форм – фаллосы! Целая плантация этих растений! Одни были змееобразные, другие напоминали грибы. Были прямолинейные, с отверстиями, уставившимися в небо; были и изогнутые, восточного типа, окрашенные в медный цвет; одни длинные, другие короткие, стройные тонконожки и коренастые крепыши, гладкие и шершавые… Основания стволов были скрыты в чем-то мягком. Владелица, гордясь, вынимала фаллосы из сундука один за другим. Некоторые из них были сделаны из пористой резины, на ощупь напоминающей человеческую плоть, другие – из фарфора или фаянса и могли извергать из себя жидкость. Они выстроились теперь по порядку – от гигантских шишек до сущих крысиных хвостиков. Часть была снабжена грушеобразной приставкой – нажмешь на нее, и размер увеличивается вдвое, а то и больше. Некоторые, сделанные из дерева, раскрашенные и полированные, воскресили в памяти Эммануэль храм, куда пришла она с Марио и где пережила свое первое бангкокское потрясающее приключение. Далеко же она ушла от того места! Эммануэль выбирает вещь из эбенового дерева, взвешивает ее в руке. Черные узловатые жилы выступают на поверхности, напоминая корни баньяна. Другие не привлекают Эммануэль. Нет, она предпочитает это изделие из редкого материала. Вот он, «олисбос», плавно изогнутый, такой приятный на ощупь – она так хорошо отдастся ему! Но у Арианы на уме другое. – Да брось ты эти натюрморты! А вот что ты скажешь об этом произведении? И она показывает своей ученице предмет из слоновой кости. Он совершенно необычайной формы. Вовсе не заботясь о правдоподобии, смело и бесстыдно импровизируя, мастер создал что-то вроде короткого вздутого банана, закругленного с обоих концов. Эммануэль не может понять, как удержать эту штуку после того, как введешь ее. Чего доброго, она выскользнет из пальцев и совсем исчезнет в гроте Венеры. – Вот как надо им пользоваться, – приступила к объяснению Ариана. – Видишь: он внутри полый и наполнен ртутью. Тебе совсем не надо использовать его как любовника, по методу «ввести-вывести». Ты просто вводишь его и оставляешь там. А теперь можешь походить или усесться в кресло-качалку. – В кресло-качалку? – Я же тебе сказала: полость наполнена ртутью. А ртуть все время в движении, разбухает там, съеживается, переливается, ударяет в бока, ни на секунду не останавливаясь. Разве тебе непонятно, как это можно использовать? – Я хочу прямо сейчас попробовать! – Подожди. Взгляни сначала и на это… С первого взгляда в новом экспонате не было ничего замечательного. Сделанный из какого-то блестящего металла, средних размеров, традиционной формы, он ничем не мог заинтересовать. Правда, поражал его вес. И еще Эммануэль заметила длинный шнур, отходящий от его основания. – Это, кажется электролюбовник? – догадалась она. – Это вибромассажер. Он доставит тебе те же ощущения, которые ты испытала, когда я тебя водила в одно купальное заведение. Но он заставит тебя ощутить это в самом твоем нутре, а не на периферии, как было там. – Так это должно быть забавным? – Да неплохо, но есть кое-что и получше. Вот здесь. И Ариана вытащила из сундучка новый предмет. Он выглядел столь убедительно, что сердце Эммануэль забилось: так это именно то, что есть у каждого настоящего мужчины! Крепость, подвижность этого инструмента, линии и складки его кожи и даже теплота, как будто исходящая от него, – поразительно! Эммануэль схватила его, и он тотчас же напрягся и вспух, словно она прикоснулась к живому существу. Эммануэль пронзительно вскрикнула и уронила игрушку. «Слава Богу, – подумала она неожиданно, – он упал на постель, ему не больно». – О, это уж слишком, – протестует она. – Это, наверное, подарок самого дьявола. Ариана усмехнулась: – Я никак не думала, что ты из секты манихейцев. Она поднимает этот плод своего договора с Князем Тьмы, поглаживает его. Мгновенно он словно переполняется, делается пурпурного, цвета, пульсирует в ее руке. Железы набухают, натягивается кожа – он готов к работе. – Видишь, он уже как будто в тебе, а ты ведь ничего еще с ним не делала. Ты можешь спокойно лечь и лежать совсем неподвижно, а все остальное – это уже его забота. Он будет двигаться туда-сюда, становиться тоньше, короче, потом снова расти и делаться твердым, как палка. Будет меняться его температура, ритм, он сможет даже посылать волны, от которых ты будешь извиваться и кричать. И, наконец, когда он убедится, что ты уже не один раз испытала оргазм, он прольется в тебя. – Послушай, ты что, принимаешь меня за идиотку? – Ну, если ты мне не веришь, попробуй его прямо тут же. Но Эммануэль не соблазняется. Дивный прибор, по правде говоря, даже пугает ее. – У него внутри ведь что-то есть? – Сплошная электроника: батарейки, транзисторы, всякая всячина. Он великолепно оборудован, если ты понимаешь что-нибудь в таких вещах. Знаешь, честно говори, он для меня слишком кибернетичен. – Ну, не знаю. Иногда хочется попробовать что-то экстравагантное. Ариана размышляет некоторое время: – Вообще советую тебе быть в этих делах поэкстравагантней. Обиженный вид Эммануэль снова вызывает улыбку Арианы: – Мне хотелось бы посмотреть на тебя в доме одного моего знакомого. Там ты могла бы поиграть с более искусными механизмами, а не с такой игрушечкой, как эта. Но ты, кажется, противница прогресса. Ее гостья не реагирует на это провокационное заявление, и Ариана продолжает: – Я вижу, тебе неинтересны вещи, о которых я могу рассказать? Любопытство Эммануэль оказывается явно сильнее ее осторожности, и, уяснив себе это, Ариана становится хозяйкой положения: – Что ты мне пообещаешь в обмен на мою историю? – Я отброшу последний стыд. – Хорошо, тогда вот что. Сегодня вечером, на теннисе, ты надень свою плиссированную юбочку и чтобы под ней ничего не было. И не обращай на это внимания, прыгай, как горная коза. – И для кого же этот бенефис? – Для Каминада. Он еще не встречался с тобой и очень этого хочет. – Ты никогда мне о нем не говорила. – А мне нечего о нем сказать. Он для меня сплошной вопросительный знак. – Он молодой или старый? – Твоих лет. – Бедняга, ему не повезло! – А разве ты вышла замуж не за молодого? И, кажется, ты не отказываешься от совсем невинных. – Чтобы учиться чему-то, мне нужны люди постарше, поопытней. Или ты думаешь, что я уже настолько продвинулась в своем обучении, что могу сама давать полезные уроки? – Уроки мальчишкам, которые выстраиваются в очередь, чтобы увидеть твои ноги и умереть от желания? – Ну, пусть так. Но я думаю, что ты поможешь мне обучать их чему-то лучшему в жизни. Мы могли бы вести наши занятия вместе. – Вот для начала ты и можешь попробовать моего приятеля Каминада. – В чем он наиболее слаб? – Ему пока не хватает удовлетворения. Но вот, представь себе, что ты ведешь урок в своем классе. Что ты будешь делать, чтобы твой ученик не занемог от неудовлетворенного желания? – Я постараюсь претворить его мечты в действительность. – Но тогда ты ни в чем не должна будешь отказывать! Это будет совсем новый мир. – Ты мне сказала, что первую фазу уже втайне изучила. – Только не думай, пожалуйста, что роботы заменяют мужчин оттого, что они, так сказать, сверхчеловечны. – А что же в них тогда хорошего? – Они помогают нам ждать. – Ну так, значит, люди стоят не меньше, чем их изобретения. – Перестань спрашивать. Я сейчас тебе кое-что расскажу. Ариана устроилась поудобнее, положив голову на живот Эммануэль, медленно лаская ее соски одной рукой, другой она занималась своей грудью. – Прежде всего, представь себе стальную стену, холодную, как ледяная скала, всю испещренную циферблатами, ручками, микрофонами и выключателями. Три другие стены покрыты шелком лилового, коричневого или еще какого-нибудь пастельного мягкого тона, у каждой стены – кабины. Кабины эти невелики: шесть футов длины, пять ширины, а высота такая, что вполне можно стоять во весь рост. Окон нет… да, разумеется, нет. Свет струится из какого-то скрытого источника. Кондиционеры. И все время слышится музыка, скорее беспокоящая, чем успокаивающая. Такое впечатление, что ты в какой-то лаборатории или современной клинике, безликой, равнодушной. Ничего, что напоминало бы будуар. Ты стоишь там и не имеешь ни малейшего представления, что же надо делать. Нет ни кровати, ни кресла. Ариана замолкла на мгновение, наслаждаясь прикосновением своих пальцев к двум мягким полушариям, слегка вздохнула и продолжала: – Но вскоре ты понимаешь, что тебе придется лечь на пол, и убедиться в этом тебе помогает покрытие пола. Это шелк, но более роскошный и мягкий, чем настенный, напоминающий о комфорте старины. И в самом деле – там большое стеганое пуховое одеяло и подушка из мягкой пористой резины. Так… Опытный ты человек или нет, но дверь, тоже покрытая шелком, за тобой закрывается, и ты остаешься одна или вдвоем с ассистентом, мужчиной или женщиной, это уж как ты пожелаешь. И он начинает тебя вводить в курс всей этой машинерии. Объясняет значение всех этих кнопок, ручек и циферблатов. Ты, конечно, ни черта не можешь понять, и вы оба весело смеетесь над этим. Если бы в этой кабине была ты, Эммануэль, я боюсь, что ты плюнула бы на всякую механизацию и всласть понатешилась с ассистентом… Но ладно, предположим, что это был кто-то менее импульсивный… – Как ты, например! – Да, вроде меня. Ну так вот, опускаю все эти технические подробности и стараюсь запомнить только самое главное. Отпускаю ассистента и начинаю действовать по инструкции. Ложусь на спину, ногами к металлической стене, конечно, раскинув их пошире. В тот же миг я замечаю, что потолок, казавшийся мне совершенно голым, начинает оживать! Появляются силуэты самой разной формы и раскраски, и передо мной разворачиваются самые разные эпатирующие сцены. Чего там только нет! Бородатый старик с маленькой девочкой; еле созревшие мальчики друг с другом; пятеро дикарей забавляются с прекрасной пленницей, все одновременно, используя все возможные части ее тела, не пренебрегая никаким отверстием; дриады спариваются с кентаврами и лебедями; современные юные твари, дико сосущие друг друга или отдающиеся ослам и собакам. Эти соблазнительные картины сами по себе способны оживить мертвеца, но тут еще подошвами ног я нащупываю под покровом две большие педали. Чуть-чуть нажимаю на них, и из стены начинают одновременно выдвигаться (в зависимости от того, как хорошо я запомнила инструкцию) металлические щупальца, напоминающие душевые шланги. Они появляются очень медленно, плавно, и вдруг на конце одного из них я вижу великолепный мужской орган! И тут же убеждаюсь, что и другие снабжены не хуже. Все они на вид мягкие, как кожа ребенка, нежные, как звук гобоя, и все они готовы превратиться в нечто еще более богатое и причудливое. Вот и вообрази себе, что при этом должна испытывать женщина. Но она должна сделать выбор… И вот тут-то гений изобретателя этой кабины становится очевиден. Какой бы неопытной ты ни была, как бы ни был слаб импульс, посланный тобой через педали, к тебе направится тот, о котором ты подумаешь. Вот они пускаются в медленный, волшебный танец, извиваясь, переплетаясь друг с другом, приближаясь к тебе, но не прикасаясь. И когда ты в отчаянии, разгоряченная, уже готова приступить к мастурбации, в тот же миг одна из этих очаровательных рептилий приникает к тебе и не промахивается! Точно попадает куда надо! Ощущение абсолютно потрясающее, и ты не можешь удержаться от крика: «О да! Как раз сюда! Задайте мне!». Ты ошеломлена, потрясена, а почему бы и нет: такова мощь искусства и науки. Там, где ты ждала встречи с презренным металлом мягкое и нежное дыхание любовника. Ты ждала глубокого пронизывания, всяческих увечий, но ласки и проникновение так сладки, что ты чуть ли не плачешь от счастья. И это делается все крепче, это вырастает и поворачивается, и вдруг становится страшно: ты же не знаешь, когда это прекратится, и тебя будут накачивать, пока ты не умрешь от наслаждения. Но чудесным образом это творение знает лучше тебя, твои возможности и исследует тебя, как никто до этого. Твое тело теперь лежит широко раскрытое, как на уроке анатомии. И очень скоро ты перестаешь о чем-нибудь думать, ты смеешься, плачешь, содрогаешься, изнемогаешь, умираешь, живешь незнакомой жизнью, улетаешь в другой мир. Ты думаешь, что это все, но гениальные педали снова расшевеливают гнездо нежных змей. Другая голова заменяет ту, что так сладко истерзала тебя только что. Новые ощущения. На этот раз это напоминает могучий и регулярный поршень, который продолжает действовать все решительней с каждым движением, и ты вопишь от наслаждения. Пока ты лежишь, задыхаясь, положение меняется, и снова новая частота движений и их сила. Теперь ты лежишь, растянутая гигантскими аппаратами, и длинные, тонкие, гибкие прутья трепещут внутри тебя… – И так без конца? – Нет. Могучие, как роботы, они все же остаются мужчинами. Они кончают тогда, когда все эти искусственные символы мужской силы достигают своего максимума и закачивают в тебя свои соки, если им удалось проникнуть в тебя, или извергаются на твои груди, на твой живот, лицо. Или же они порхают в воздухе над тобой. Их сперма удивительно жирна и пахнет мускусом. Если хочешь, ты можешь вволю наглотаться ею и утолить жажду. Один за другим громадные стержни проникают в твой рот, они более сочны на вкус, чем человеческая плоть, и извергают длинными струями свой сок. Потом, по сигналу машины, появляются ассистенты и переносят тебя из кабины в другую комнату, где ожидающие клиенты, – а они уплатили целое состояние за эту привилегию, – приступают к тебе, прежде чем ты успеешь ощутить их присутствие. Так вот ловкие хозяева этого заведения извлекают многостороннюю выгоду: получают круглую сумму с тебя за пользование автоматами и с других – за пользование твоим телом, причем о второй продаже ты можешь даже и не знать. Из своей сокровищницы Ариана извлекает два длинных каучуковых фаллоса, абсолютно одинаковых, с огромными головками. Она соединяет их основания, создавая двойной «дидлос», перевязанный посередине кожаным поясом. Изо всех сил она сгибает этот агрегат, как стальную пружину. Две головки соединяются, а потом отскакивают друг от друга, возвращая сооружению первоначальную форму. И этот «иттифаллос» Ариана погружает как можно глубже в лоно Эммануэль. Затем, раздвинув ноги подруги, приближает к ней холм Венеры. Насаживает себя на другой стержень и опускается все ниже и ниже. Ложится на Эммануэль, как сделал бы это мужчина-любовник, и ласково и осторожно начинает раскачиваться. При каждом толчке она чувствует отдачу упругого копья и начинает постанывать, склоняется еще ниже и страстно целует Эммануэль, кусая ее губы. Она шепчет нежные слова, соски ее трутся о соски Эммануэль. Крепкие ягодицы Арианы прыгают вверх и вниз во все убыстряющемся темпе, и ощущения ее так похожи на мужские, что ей кажется, что у нее происходит эякуляция. С той лишь разницей, что она не обессиливает Ариану, а только придает ей силы. И она продолжает работать над своей подругой, а та бьется в оргазме, плачет слезами наслаждения и чуть ли не до крови царапает скульптурную спину своей любовницы. И так они продолжают, забыв обо всем на свете, до наступления ночи. Жильбер выходит из своей комнаты, смотрит на них и на цыпочках возвращается обратно. – Жильбер, скажи мне, у Арианы было много любовников? – Много. – А как это началось? – Еще до знакомства со мной ей просто нравилось хорошо проводить время. А я научил ее любить хорошо проводить время с другими. – Выходит, она обязана тебе своим уменьем? – Ну, не только мне, у нее было много и других учителей. Вообще-то самоучкой многому не научишься. – Да, но сколько девушек, и умных девушек, так и остались без учителей до самой смерти! – Да. Ты же не перестала быть девственницей даже после седьмого любовника. – Ариана, расскажи мне, как ты потеряла свою невинность. – Когда нас помолвили, я была безумно влюблена в Жильбера и нравилась всем его друзьям. Однако их достоинство не позволяло им показывать это. Жильбер часто поручал меня их попечению, причем делал это так, что мне иногда становилось не по себе. Он мог, например, после какой-нибудь вечеринки спокойно пожелать мне доброй ночи и попросить кого-то из приятелей проводить меня домой. Сначала я злилась: может быть, я ему надоела? Он сыт мной по горло? Я мешаю ему в чем-то? Но потом я поняла, что он все это делает не потому, что хочет сохранить какую-то дистанцию между нами, а для того, чтобы предоставить меня другим, а после пофантазировать о том, чем мы там с ними занимались. Ведь еще раньше, когда мы бывали с его друзьями, он просто наслаждался, видя, как у них, стоит им посмотреть на меня, чуть ли не рвутся молнии на брюках. Именно поэтому он так часто и приглашал друзей. А уж совсем было для него наслаждением, если бы он мог сидеть и любоваться, как я отдаюсь этим людям. Я научилась, и довольно быстро, разделять это ощущение: я трепетала, как струна. Сначала, правда, было немного страшновато,но вскоре мое воображение разыгралось: аппетит приходит во время еды. Как было здорово, сидя в автомобиле, мчавшемся сквозь ночь, между двумя самыми близкими друзьями своего жениха, сжимать под вечерним платьем свои ноги! Я никогда не делилась с ним и не просила его об этом. Но в один прекрасный день это новое, незнакомое прежде чувство свободы переполнило меня и дало совсем неожиданное удовольствие. И вот я ехала в этой машине, все время думала о Жильбере, у меня просто все раскалилось между ногами при мыслях о нем. Но в то время я украдкой старалась все больше искушать моих спутников, – а то, что я для них великий соблазн, это я понимала. То как бы случайно коснусь грудью руки, то прижмусь плечом к плечу… А если мы ехали издалека, я обязательно засыпала и клала голову кому-нибудь из них на плечо, и мои волосы щекотали его шею. И если рука одного из них оказывалась, совершенно случайно, разумеется, на моей развилке, то я уж позволяла ей там как следует отдохнуть и отогреться… Я уже совсем была готова лечь в постель с одним из них, но у них не хватало решимости. Когда мы прощались у ворот моего дома в полной темноте и безмолвии, я позволяла им целовать меня в щеку и так крепко прижимать меня к себе, что они должны были понять, какие желания меня обуревают. На следующий день я рассказывала Жильберу, как мне нравятся его друзья и как намокают мои трусики, когда я сижу между ними, сжатая с обеих сторон, как ветчина в сэндвиче; после таких рассказов он еще больше влюблялся в меня, и всякие чудесные мысли рождались в моей голове… Все так и продолжалось, его друзья часто провожали меня, и с каждым таким провожанием мое желание все увеличивалось. И вот однажды ночью один из провожатых прикоснулся ладонью к моей груди; я не стала ему противиться, и тогда он начал расстегивать мое платье, путаясь в крючках, а я почти бессознательно стала помогать ему. И вот он ласкает меня, проводит рукою по моей коже и замирает, нащупав сосок и сжав его пальцами, словно понимая, что на первых порах этого для меня достаточно – я уже была готова. Не помню, как долго продолжалось это состояние. Автомобиль медленно двигался дальше, водитель смотрел на дорогу, но я чувствовала, как он напряжен, и обмирала от предвкушения. Машина резко остановилась. «Боже, – подумала я, – я не скажу ни слова, ведь они знают, что им надо делать. Но если они испугаются, я возненавижу их». Потом я подумала, что неплохо было бы повстречать Жильбера сразу же после того, что приключится, но тут же устыдилась: это уж – зайти слишком далеко. Они не очень торопились, ну и пусть! Первый все играл моими сосками, а второй, водитель, сидел и смотрел на нас. Я хотела отдаться им совсем голой я знала, как их мучает представление о моей наготе. Раньше я наслаждалась этими пытками, дразня их своими обнаженными ногами, вдруг появлявшимися из-под вечернего платья. Но теперь я хотела, чтобы они видели не только мою грудь, но и всю меня, чтобы они ощупывали меня и спереди и сзади, я хотела чувствовать их руки на себе, горячие руки не Жильбера, не того, кому я «вручена» и кому я изменяю еще до того, как стала его женой. Только вы, неверные жены, можете понять, что я тогда испытывала! Да нет, даже вы не можете. Отдаться друзьям своего жениха, который притворяется, что доверяет тебе так, как можно доверять только невесте: конечно, неслыханно, что такой надежный эскорт, такая молодая женщина могут уничтожить целый миф несколькими удачными движениями – да вы не имеете ни малейшего представления о том, какая восхитительная мечта вот-вот осуществится! Я посмотрела на свои ноги. Человек за рулем смотрел на них же. Как возбуждающе они выглядели! Извиваясь под ласками, я плавно подняла платье. Я хотела, чтобы они увидели мою бородку, все еще упакованную в кружевные трусики. Я подалась вперед, и тотчас же рука отпустила мою грудь и рванулась вниз, к моему гроту любви. Потом они открыли дверцу автомобиля, вынесли меня оттуда и в тени деревьев уложили на ложе, сотворенное ими из сброшенной тут же своей одежды. И принялись за меня. Они пропустили меня через весь свой секс-репертаур, и все это молча, не обменявшись ни словом друг с другом, не говоря уж обо мне. И так мы лежали там, замерзшие, покрытые грязью, потом и семенем, совершенно измученные, спина моя болела. Но как мы смеялись потом! Как смеялись! А я смотрела на себя с восхищением: вот она я в чем мать родила, с отпечатками веток и листьев на всем теле, ночное чудо, хорошенькая пай-девочка, раздвинувшая ноги на влажной пряной земле перед двумя мужиками, пьяная от счастья и собственной отваги. Эммануэль не прерывала Ариану. Она слушала, лежа на животе, опираясь на локти, похожая на сфинкса, готового заниматься любовью. – Ну, после этого Жильбер и я вполне созрели для брака. Я не стала ему ничего рассказывать и его друзья, разумеется тоже. Зачем? Быть его женой – как я хотела этого – оказалось праздником! Сначала мы вели себя как все молодожены: не могли оторвать глаз друг от друга, и дни и ночи наши сердца бились рядом. Но потом мы вспомнили об оставшейся части человечества и вскоре убедились, что среди них, друзей и посторонних, много тех, кто заслуживает нашей любви. И поиски их – это и есть история нашего брака. Мы хорошо помним слова Создателя нашего: «Человек не может быть один». Мы это хорошо понимаем. Вот и весь наш секрет, наша маленькая сладкая тайна. И всем этим я обязана своему мужу. Он научил меня… дружбе. Эммануэль поражалась спокойному – будто только что удовлетворено желание лицу Арианы. – И я уяснила себе, что друзья, которые не испытывают к нам никакого желания – не настоящие друзья. А тем, кто томится по нашему телу, мучается страстью, но не дает себе воли, предстоит еще долгий путь, прежде чем они станут достойными нашей дружбы. – И как же нам поступать с ними тогда? – Так же, как поступаю я, когда отдаюсь им. Чего я хочу для друзей? Причинять им страдания? Искать их лишь для того, чтобы лишить их моих ценностей? Ведь это они сделали эту землю приемлемой для меня: значит, они имеют право на все, что у меня есть. А у меня нет ничего лучшего, чем мое тело. И Ариана так закончила свою исповедь: – Жильбер был моим первым и самым лучшим другом. Лучшим даже после всех, кого я знала потом. И когда я вижу его нагим в моих объятиях, это решает проблему, вызванную двойственностью моего прежнего воспитания, ибо голого любовника не отличишь от голого друга. Скажи-ка мне, Эммануэль, повернешься ли ты ко мне спиной сегодня ночью, если я признаюсь тебе, что ты для меня одна и та же женщина, зову ли я тебя своей любовью или своим другом?Возраст мудрости
– А мы уже все решили, что вы пропали, – говорит Анна-Мария, выходя из машины и вытаскивая мольберт и ящик с красками. – Может быть, – отвечает вялым голосом Эммануэль. – Куда идти? Эммануэль взмахивает рукой: – Вот сюда, на террасу. На этом месте, вспоминает она, передо мной открылись прелести Мари-Анж. Но Анна-Мария не ведает об этом. Мимоходом Эммануэль берет шоколад и кока-колу, распоряжается, чтобы Эа приготовила свежий лимонный сок. – С тех пор, как я стала к вам присматриваться, – сказала Анна-Мария, взяв Эммануэль за плечи и усаживая ее посреди раскиданных подушек, – я знаю, что вы не можете обойтись без различных эскапад. Эммануэль упрямо покачала головой. – Смотрите на меня, – гостья твердыми пальцами взяла Эммануэль за подбородок и подняла ее лицо. Потом она пристально посмотрела в глаза своей модели. Эммануэль услышала биение собственного сердца. Анна-Мария села, скрестив ноги, прямо на мозаичный пол террасы напротив дивана, на который она усадила Эммануэль. Появился мольберт с небольшим куском холста. – Вы хотите, чтобы я уместилась на таком кусочке? – спросила модель. Художница улыбнулась, когда Эммануэль закончила свой вопрос. – Может быть, лучше, чтобы я разделась? – Это мне не важно. Я стараюсь поймать ваши глаза. Эммануэль недовольно протянула: – Но я не люблю позировать. – А вы и не позируйте. Начните просто рассказывать мне о тех ужасных вещах, которые вы испытали у Арианы. – Вас это интересует? – А почему бы и нет? Это, может быть, поможет мне лучше понять вас. – Чтобы «поймать глаза»? – Да кто знает… Во вздохе Эммануэль слышалось все, что угодно, но только не смирение. Она мучительно раздумывала, что ей сказать, чтобы вывести Анну-Марию из равновесия. Ага! – Это самое худшее время моей жизни. Я так хорошо могу изобразить… Анна-Мария смотрела на Эммануэль, как бы спрашивая, что же в происшедшем такого плохого. И Эммануэль объяснила, не дожидаясь прямого вопроса: – Представьте себе, позавчера я выяснила, что после всего этого не забеременела. Целых четыре дня мне казалось, что мне надо готовиться стать матерью. Но, наверное, это была перемена климата или еще что-нибудь. Она, казалось, забыла обо всем, погрузившись в какие-то сложные вычисления, загибала пальцы, что-то шептала про себя. Анна-Мария явно решила не следовать за нею по дороге, вымощенной дурными намерениями. Не говоря ни слова, она занялась работой: провела на холсте несколько линий черной и серой краской, образовавших какой-то странный пейзаж. Эммануэль, разочарованная тем, что предмет ее рассуждений не вызвал никакого интереса, потянулась к холсту. – Можно взглянуть? – Нет, там еще ничего нет! И, если можно, давайте не говорить о том, что я делаю, пока я все не закончу. – А когда вы думаете закончить? – Но ведь спешки никакой нет. Вы же сами сказали, что вы мечтали об этом, об этих четырех-пяти днях. – Есть множество хороших вещей, которыми можно заняться в это время, должна я вам сказать. О, Анна-Мария не сомневалась, что это за хорошие вещи, – конечно же, разнообразные формы любви! Но она решила не углубляться в детали. – И Несмотря на все, – сказала она, – вы вернулись к мужу. Ариане, наверное, это не очень-то понравилось? Эммануэль раздраженно пожала плечами: – Вы ничего не понимаете. Я очень хотела найти Жана, но как-то прозевала его. – Так вам хотелось пригласить его на чашку чая с вашими новыми товарищами по играм? – Я именно так и поступила. – И как же он реагировал на это? – С очень большим чувством юмора. Мы потом сидели все вместе, объедались пирожными и хохотали вовсю. – И это все? – А потом мы с Жаном улетели, как два влюбленных голубка. – Бедная Ариана! – Почему? Я увижу ее еще не раз. – А граф де Сайн? – Он будет иметь меня в любое время, когда захочет. На этот раз молчание Анны-Марии было почти угрожающим. Потом она спросила: – И Жан вам так ничего и не сказал по поводу ваших приключений? – Он был рад, что мне было хорошо. Вот именно это он и сказал. – А вы? Как вы могли развлекаться, зная, что он одинок? – Он не был одинок, я думала о нем постоянно. С ним были мои мысли о нем. Лицо Эммануэль вспыхнуло: – И потом, не надо преувеличивать. Не на такое уж долгое время я «предала» его. Он провел без меня всего две ночи. – А что бы вы сказали, если бы он их провел с какой-нибудь вашей приятельницей? Эммануэль посмотрела на нее широко раскрытыми глазами – что за дурацкий вопрос! – Но это было бы прекрасно! Ничего лучшего и представить нельзя! Если бы я только лучше знала Мерви… – Мерви?! – А что такого? Разве она не прелестна? – Прелестна?.. Не знаю. Но Жан и… она! – Почему вы так удивляетесь? Разве они не могли бы поладить? – Эммануэль, милая, вы в самом деле немножечко ненормальны или, возможно, более невинны, чем я могу себе представить. Вы сказали, что вам понравилось бы, если бы этой девице представился случай увести Жана? – Увести его? Что это такое? Разве женщина не может спать с моим мужем, никуда его не уводя? Видя изумление собеседницы, Эммануэль громко расхохоталась: – О, Анна-Мария, послушайте: я занимаюсь любовью с мужчинами, которые делают это лучше, чем мой муж. И несмотря на это, у меня и в мыслях нет уйти от него и остаться с ними. Наоборот, после них я его люблю еще больше! Как вы это объясните? – Я не собираюсь в этом разбираться… – Но это же так просто! Это показывает только две вещи: первое – я люблю Жана, второе – чем больше я занимаюсь любовью, тем больше я узнаю, как надо любить его. Анна-Мария сделала гримаску. Эммануэль продолжала: – Если любовь чувствует, что не в силах перенести того, что другие умеют заниматься любовью лучше – так зачем же тогда любви жить? Ей же нечем тогда и похвалиться. Не так ли? – Так это один из резонов, по которым вы предпочитаете женщину, все-таки остающуюся с мужем, – объяснила Анна-Мария, стараясь придать голосу спокойную убедительность. – Кто «предпочитает» это, – в тон ей ответила Эммануэль, – так это только перепуганные люди. Это все тот же добрый старый страх, на котором построена вся наша добродетель. – Но если Жан мучается от вашего распутства и только старается не высказывать этого? – Жан не боится этого и не мучается, вот потому-то я его и люблю. – Может быть он вас сам подталкивает к другим мужчинам? Эммануэль вздохнула – если бы! – Нет, он этого не делает. Он только дает мне разрешение. И добавила с типичной для нее откровенностью: – По правде говоря, было бы куда лучше, если бы Жан в этом смысле поступал, как Жильбер. Вот это сделало бы меня одной из самых счастливых женщин в мире! – Жильбер? А что же он делает? – Он одалживает Ариану своим друзьям. Вот как ей повезло! – Какой ужас! – Опять вы за свое! Совсем потеряли голову от страха. – Но, Эммануэль, неужели вы окончательно перепутали понятия о том, что хорошо и что плохо? Как вы можете одобрять мужа, торгующего телом своей жены, словно это какой-то предмет потребления?! – Торгует – это не то слово, он ведь ничего не просит взамен. А вот потребление – это вы хорошо сказали. И я люблю, когда меня потребляют. Она была явно довольна меткостью своего последнего выстрела. – Конечно, такой дележ, такой «лэнд-лиз» только усиливает чувство собственности. Муж-ревнивец, который не выпускает жену из своих лап – скупец, зарывший талант в землю. – А в таком случае, почему вы не предложите Жану стать вашим сводником? Эммануэль подняла бровь: похоже, что ей подарили неплохую идею! Некоторое время обе молчали. Анна-Мария снова погрузилась в работу. Но вот она оставила кисть, оперлась локтем о диван. Эммануэль рада была услышать, что художница вернулась к предмету беседы: – Значит, Ариана отдается только тем мужчинам, которых ей предлагает муж? – О нет! – Тогда она, согласно вашей теории, совершает не правомочный акт. Она лишает Жильбера его права предоставлять жену мужчинам по его выбору. Она просто нарушает сто супружеские права. Она ведет себя не как жена, а как свободная женщина. Воодушевленная своими успехами в логике, Анна-Мария отважилась продвинуться дальше: – А вы поступаете еще хуже: вы отдаетесь тем, о ком Жан вообще ничего не знает. – Есть много способов быть хорошей женой, – задумчиво произнесла Эммануэль. – Главное, конечно, в том, чтобы запрячь всю эротическую энергию в супружескую коляску. А после этого все, что мы хотим, – это установить счастливые любовные отношения. – Я очень сомневаюсь в ваших методах. – И зря. Я уже сказала вам, что чем больше я занималась любовью, тем больше я училась любить. – Выходит, дело просто в технике? – Нет, мой прогресс был не только в технике. Здесь была не только физиология, но и психология. Я научилась не страдать от того, что не должно причинять страдания. Ведь любовники больше мучают друг друга вместо того, чтобы просто любить. Я вылечилась от этих ужасных привычек. Я не хотела, чтобы любовь мучила, я хотела, чтобы она успокаивала. Не экзаменационной, так сказать, неделей, а вечными каникулами. Да, я поняла это в самое время. И всякий, прежде чем захочет научиться жить в браке, должен научиться просто жить. – Но право на нетронутость – это же неотъемлемое право будущего супруга. – Так все еще утверждают. Но есть и другой путь: вместо невинности, фаты, букетика флер-д'оранжа и прочих предрассудков невеста приносит мужу любовь к любви, знание науки и искусства любви! Или, если уж она не решилась пройти все это перед свадьбой, она должна немедленно научиться этому после. Сразу же приступить к этому. И мужья будут гордиться и восхищаться теми женщинами, которые будут рыскать вокруг и возвращаться из своих набегов свежими, как цветы, вместо того чтобы вянуть в сумерках супружеской верности. – Что за поэтическая речь! Стало быть, каждая порядочная пара приговорена к вымиранию. – Просто так устроена жизнь. Брак можно обновлять только стимулированием, только бесконечными, как вы выражаетесь, эскападами – такова природа, соль, превращающая нашу еду в пищу богов. – Но если эта приправа отравит ваши кушанья? Если ваш брачный союз умрет от таких приправ? – Тогда туда ему и дорога! Значит, это был никуда не годный союз. Что жалеть о пролитом молоке! Развал такого союза никому не повредит. – Значит, имеет значение только послушание Эросу, как вы говорите? Ну, а ревность тех женщин, у которых вы отбираете мужей? Они-то имеют на что-нибудь право? – А я разве обязана быть хранительницей их очага? Защитницей этого дикого пережитка? Я слышала, среди некоторых племен существует обрезание для девочек. Им ампутируют клитор, чтобы они не очень-то рвались к наслаждениям. Там даже не надо прибегать к помощи медиков: их матери сами соглашаются провести такую операцию. Так вот: я ненавижу тех, кто смотрит на мир глазами этих женщин из африканского племени. – Ну, а будет ли ваш муж в восторге, когда в один прекрасный день вы подарите ему ребенка от чужого отца? А потом еще и еще? – Эти дети не будут от «чужого отца». Они будут детьми человека. А происхождение человеческого существа никого не должно интересовать. Если у меня будут дети, я не буду заботиться о том, сколько ошибок сделают они в школьных сочинениях, я буду заботиться о том, чтобы они жили в прекрасном мире. И если это не будет терпимый и свободный мир, тогда мой ребенок окажется в самом деле просто гибридом. Анна-Мария оторвалась от своих кистей и подняла голову: – Скажите, Эммануэль, а вы все позволите вашим детям? – О нет, я запрещу им вернуться в XI век. – А о какой любви вы расскажете им? – Существует только одна любовь, и она неделима. – Но разве вы их будете любить той же любовью, какой любите Жана? – Я же говорю вам, у любви только один путь. – Но с Жаном вы спите, хотя и не считаете это его исключительным правом. – И что? – Что же, вы с детьми будете идти тем же путем? – Ничего не могу сказать вам сейчас. Но вы узнаете это, когда я познакомлюсь со своими детьми. – А вы позволите им любить друг друга? – Позволю? Ну конечно! Чудовищно запрещать им это. – Да, я вижу, что хуже ничего не придумаешь… – Так и есть! Вы в ужасе! Это же самое страшное табу, да? – Но ведь это же законы от Бога! И разве вы не понимаете, что это законы самой природы? Вы что же, считаете, что их не существует? – Я принимаю их все: у меня нет другого выбора. Мои электроны вертятся вокруг ядра, как им заблагорассудится, сила тяжести тянет меня книзу, и в один прекрасный день я умру, ибо все смертны. Пока наука не в силах помочь мне опровергнуть эти законы, – а она вряд ли сможет это сделать, – мне ничего не остается, как соглашаться с ними. Но я не вижу в них ничего, что запрещало бы брату любить сестру. А если по правде, то мне кажется, что иногда природа не то чтобы запрещает, а даже поощряет такую любовь. – Вы имеете в виду любовь без физического контакта? Но это же, в вашем понимании, невозможно. – Это вы так говорите, это вы придумываете ограничения. Я говорю только то, что ничего невозможного нет. Эммануэль потянулась, как кошка, зевнула, совсем не стремясь скрыть, что дискуссия начала ей надоедать. И вдруг вспыхнула: – Любовь без объятий, объятия без любви – вот уже две тысячи лет ханжи кружат вокруг этого вопроса, как мошки вокруг лампы. Ничего страшного, если они повредятся чуть-чуть в уме, но они ведь хотят, чтобы тронулась вся планета! Они нацепляют фиговые листки, придумывают для таитянок ситцевые платья. Они хотят заставить нас бояться собственного тела. Это все равно, что обривать кого-нибудь в наказание. – Но есть и другие ценности, кроме телесных. – Опять за свое! Телесных! Да моя душа воспарит гораздо выше, чем у каких-нибудь вечно молящихся святош. – Ох, Эммануэль, вы вещаете просто пророчески. Ей-богу, я начинаю колебаться. Если бы вы разъяснили мне более убедительно свою истину, может быть, у меня и родилось бы желание идти по вашим стопам. – Ну что ж, посмотрите, пожалуйста, на меня. Выгляжу ли я, как дьявольское создание? Похоже ли мое лицо на лик демонов? И посмотрите на мое тело найдете ли вы там знак проклятия? Она быстро рванула с себя свитер, как две чаши, взяла в руки свои груди и поднесла их прямо к лицу Анны-Марии. Анна-Мария улыбнулась. – Говорят, что дьявол красив, – вздохнула она, – но я в это не верю. Красота исходит от Бога. – И опять ошибка, – сказала Эммануэль. – Красота исходит от человека. Анна-Мария любовалась Эммануэль, не произнося ни слова. Потом вздохнула, и в этом вздохе слышалось какое-то сожаление. И она начала собирать свои художнические принадлежности. В воскресенье днем Жан повел жену и Кристофера на скачки. Эммануэль всматривалась в толпу, но знакомых лиц не видела. На нее, как обычно, бросали восхищенные взоры, но в них не было ничего, что говорило бы о том, что таланты Эммануэль известны любопытствующим. Так, подумала Эммануэль, элита на скачки не ходит. Еще большим было ее удивление, когда она наткнулась на Ариану в сопровождении двух не очень примечательных иностранцев. – Показываю знакомым дипломатам город, – сообщила графиня. – А ты что здесь делаешь? – Жан учит меня ставить на лошадей и выигрывать. – И ты выигрываешь? – Все время. – Еще бы, ты ведь самородок! Они рассмеялись. По радио проблеяли что-то непонятное, и Эммануэль изящно повернулась на каблуках, чтобы увидеть, что происходит; юбка взлетела кверху, ослепив на мгновение мир зрелищем двух выпуклых ягодиц, и потом снова опала. – Неплохо, – одобрила Ариана. – Вот бы показать это Кристоферу. Что ты так вытаращилась? – Он влюблен в меня. – А ты? – По-моему, он милый. – А в постели хорош? – Это я тебе расскажу позже. Она переменила тему: – Я получила письмо от Мари-Анж. – Господи! И что же она пишет? – Пишет о море, о ветре, о песке, о волнах, о языках пены на берегу… Чрезвычайно поэтично. – Видно, она что-то скрывает. – А подписалась так: «Преподобная мать Мария из Святого Оргазма, приоресса нашей приснодевы Мастурбации». – Это звучит лучше. – И еще она написала, что виделась с Би. – Ах, вот как! – Слушай, как ее настоящее имя? – Чье? – Би. Перестань притворяться. – Ах, Би! Абигайль. Абигайль Арно. – Слушай, этого не может быть. Смущенный вид Эммануэль удивил Ариану. – Что с тобой? – Но ведь это же моя фамилия. Я – урожденная Арно… – Ну и что здесь необычного? Я уверена, что какой-нибудь твой двоюродный дед эмигрировал в Америку. – Не говори глупостей. – Конечно. Но вообще-то я хочу тебе сказать: я думаю, что Би не существует, ты ее выдумала. Эммануэль потерла лоб. – Знаешь, мне иногда самой так кажется… Но, а как же ее брат? Он тоже плод моего воображения? – Для меня нет, – сказала Ариана многозначительно. – По крайней мере после Малигата. – Он любил тебя в ту ночь? – О-о, и делал это божественно! – И со мной то же самое. – Правда? Браво, крошка. Нам обеим выпала большая удача. – Что здесь неожиданного? – Потому что, должна тебе сказать, он ни на кого не смотрит, кроме сестры. – Своей сестры? Он ее так сильно любит? – До умопомрачения! Эммануэль задумалась: – Значит… Он… Ты думаешь, что она его любовница? – Что за вопрос! А ты этого не знала? Они и не делают никакого секрета из этого. Майкл и Абигайль, Абигайль и Майкл – это звучит, как Дафнис и Хлоя. Она разве тебе не рассказывала? Эммануэль, совершенно потрясенная, ничего не ответила. Она только прошептала, как в полусне: «Они любовники…». – И тебя это возмущает? – Нет, нет… – Вспомни, что говорят эксперты: «Кровосмешение укрепляет семейные узы и, следовательно, содействует преданности родине». – Ариана подмигнула, – Те, кто лежат рядом и встают рядом. И Эммануэль неожиданно широко улыбнулась. – Они торчат там уже два часа и смотрят на своих четвероногих друзей, заметила Ариана чуть позже, – Тебе интересны все эти рысаки? – Честно говоря, нет. – Прекрасно! Почему бы вместо них не посмотреть на мужчин? Кто знает – там ведь тоже есть чистопородные особи. – Потрясающая мысль. Увидимся попозже. Она отыскала мужа: – Ничего, если я пойду прогуляюсь немного? Я перед последней скачкой вернусь. – Отлично. Не найдешь нас здесь, ищи в баре. Она шла по зданию, отделявшему ипподром от теннисных кортов и бассейнов. Может быть, ее готовность к риску отражалась на ее лице: взгляды мужчин делались все определеннее. А может быть, это объяснялось тем, что свет сентябрьского солнца, бивший ей в спину, когда она шла длинным коридором, превращал ее чесучевое платье в совершенно прозрачное, и она двигалась под мужскими взглядами совсем нагишом. Этот костюм Эммануэль считала достаточно скромным. Платье носилось застегнутым спереди на все пуговицы. Но, как всегда, Эммануэль верхние пуговицы расстегнула, и грудь ее выглядывала из выреза платья. К тому же, чтобы не мешать шагу, она как бы случайно приподняла подол платья. Встречные останавливались и никак не могли уверить себя, что им не померещился черный треугольник ничем не прикрытого холма Венеры, мелькнувший перед ними сию минуту… Эммануэль спокойно расстегнула еще несколько пуговиц от низа до пояса: теперь каждый шаг открывал взорам ее обнаженные ноги. «Мои ноги прекрасны, – пела она себе. – Моя грудь прекрасна. Все мое тело прекрасно. Я хочу полюбить кого-нибудь». Она шла, обжигаемая взглядами встречных мужчин. Но прежде, чем они могли сообразить что-либо, она уже уходила дальше, и никто не мог ее догнать, никто не решался следовать за этим чудесным видением. Эммануэль хотелось петь. И она пела. Люди останавливались и смотрели на нее улыбаясь. Она двигалась подобно танцовщице и пела. Она пела: – Я счастлива. Я больше не буду страдать. Возраст незнания кончился. Я знаю теперь, что значит любить. Я умею любить. Она добралась до огромного паркинга, сплошь заставленного машинами всех цветов, форм, размеров. Неторопливо двигалась она мимо зеленовато-желтых и голубых американских марок, мимо мощных красных итальянцев, мимо малолитражек, «белых карликов» (ностальгическая память подсказала ей: последняя книга, которую она читала на факультете, называлась «Изучение спектра белых карликов», – она мечтала стать великим астрономом, пока Марио не объяснил ей, что ее талант совершенно в другом). Со вздохом погладила она короткую мордочку маленького белого автомобильчика; конечно же, это англичанин, думала она, щурясь от нестерпимого блеска лакированных крыльев. – Вам понравился Гэсси? – весело спросили ее по-английски. Она вздрогнула, потом посмотрела на того, кому принадлежал этот голос. Молодой человек с приятным ироничным лицом сидел за рулем автомобиля. Он был коротко подстрижен и смотрел так чисто и ясно, что глаза у него, конечно же, должны были быть голубыми. Взгляд, брошенный на Эммануэль, был одобряющим. – Как насчет маленькой прогулки? – молодой человек продолжал говорить по-английски. Он похлопал ладонью по бокам своей металлической лошадки, от которой исходил приятный запах кожи. Он хорош, подумала Эммануэль, и он понимает, что меня можно пригласить. Она согнула ногу в колене и прикоснулась к дверце машины: молодой человек успел оценить увиденное. Он прищелкнул языком и сказал: – Вы славная девочка! И тут же показал на свободное место рядом с собой: – Поехали, малыш! Эммануэль вскарабкалась на задний багажник и по нему съехала на сиденье. Юбка задралась до пояса, продемонстрировав полное отсутствие под нею чего бы то ни было из предметов дамского белья. Эммануэль вопросительно посмотрела на юношу. Он расцеловал ее в обе щеки, коснулся губ, что-то сказал. Она прижалась к нему, не понимая, что же мешает ему прикоснуться и к ее холмику. Наконец мотор включен, машина трогается с раскаленной стоянки, и они едут через город, потом мимо затопленных мутных рисовых полей. Буйволы поднимают свои медленные головы и мычат, провожая их взглядом. Горланят утки и гуси. Голова Эммануэль по-прежнему лежит на плече ее спутника, обе ноги тесно прижаты к нему. Пока они набирают скорость, он поглаживает ее свободной рукой, все еще не осмеливаясь пуститься в путешествие по буйному черному кустарнику или пройтись по раскрытой навстречу ветру груди. Иногда Эммануэль кажется, что она видит оазис из тамариндовых или капоковых деревьев, и она взмахивает рукой: «Туда!», но они уже промчались мимо, и оба смеются своей глупости. Но вот небо начинает заволакивать тучами, и это не нравится молодому человеку. На одном из перекрестков он, не снижая скорости, закладывает крутой вираж, бросающий Эммануэль на него, и они мчатся назад, в город. Эммануэль решает, что на этот пейзаж она уже достаточно нагляделась по дороге туда, и меняет позицию: теперь ее голова лежит на коленях молодого человека. Отделанный металлом и деревом руль так грозно нависает над ней, что она все крепче и крепче прижимается к животу своего спутника. Наконец она чувствует, что под ее головой начинается некое долгожданное отвердевание. Легким нажатием затылка она помогает этому процессу и так успешно, что сама больше не может удержаться: опускает руку между своими раздвинутыми ногами и… время исчезает… Страшный тропический ливень не мог помешать ее экстазу. Но вот машина остановилась, молодой человек схватил Эммануэль в охапку и понес к маленькому коттеджу. С волос Эммануэль текло, платье прилипло к коже. Он положил ее на плетеный диванчик и высушил губами дождевые капли на ее лице. Следом за этим стянул с нее платье и, не вспомнив ни о каких предварительных ласках, сразу же вошел в нее. И почти сразу же пришел в исступление: он бил в нее длинной струей, скрежеща зубами, закрыв глаза, а она крепко обнимала его, не думая о собственном наслаждении, вся отдавшись его эгоистической мужской похоти. Наконец он вышел из нее, поднялся. Он изумительно хорош, подумала Эммануэль, мы очень подходящая пара. – Мне хочется принять душ, – негромко произнесла Эммануэль. Он показал ей, где находится душ, и она насладилась там в полной мере. Вместе с потоками воды ее черные волосы заструились по спине и груди. Молодой человек не выдержал и снова крепко обнял ее. Прижимаясь к ее телу, он укусил ее, и она вскрикнула. – Моему мужу не понравятся эти следы, – упрекнула она его суровым голосом, но глаза поддразнивали и обещали. Казалось, охваченный раскаянием, он принялся разглаживать неуклюжим массажем следы своей порывистости. Эммануэль осторожно высвободилась из его объятий, опустилась перед ним на колени, открыла рот и… молодой англичанин замер по стойке «смирно». Щеки Эммануэль надувались и опадали, язык порхал, как мотылек над цветком, и это продолжалось до тех пор, пока она не почувствовала приближение взрыва. Тогда Эммануэль оторвалась и откинувшись назад, стала любоваться плодами своего искусного труда. Его тело было красным, словно ему грозил апоплексический удар. Не откликаясь на немой призыв, Эммануэль принялась натирать все тело своего партнера густой ароматной мыльной пеной. – Не мешай мне, все будет хорошо, – попросила она с очаровательной улыбкой. Обеими руками она описывала плавные круги по всему телу своего неожиданного любовника, массируя его мускулы, стягивая кожу и дуя на пузырьки пены. Она натирала его ноги, спину, грудь, а он стоял, не мешая ей ни единым движением, пока, наконец, она не добралась до двух ягодиц, а затем и до его копья. Она усердно работала ладонями и кончиками пальцев, переходя от мягких долгих поглаживаний к быстрым резким рывкам, пока белопенная мачта не начала содрогаться. Ее владелец стоял, и хлопья пены не позволяли ему даже увидеть, что происходит. Воля была подавлена, он ни о чем не мог думать, всецело отдавшись во власть этих ласк: они могли убить его, – он даже не пошевелился бы. Бедра его были напряжены, колени болели, он тихо постанывал. Эммануэль, похожая на центральную скульптуру какого-нибудь фонтана, не отрывала взгляда от своего подопечного и видела даже сквозь густую пену, как то, что привлекало ее больше всего в мужчинах, обретает пурпурный цвет. Она то прикасалась к его ядрам, гладя их и царапая ногтями, то продвигалась со своими ласками дальше, добираясь до ануса. Под конец она крепко ухватила древко копья и стала оттягивать его мантию так далеко, насколько было возможно, пока яростная струя не хлынула из навершия прямо в жадно раскрытые губы Эммануэль. Вкус мыла придал этому напитку изысканную горечь. Она пожалела, что не успела захватить все, и подумала, как было бы великолепно, если бы в ее распоряжении находилось два подобных источника. На следующий год в день своего двадцатилетия ей надо бы устроиться так, чтобы двадцать – по числу ее лет – мужчин смогли бы дать ей испить свой сок двадцать раз подряд. Вот это будет настоящий праздник! Эта мысль так восхитила ее, что она подпрыгнула от радости, влюбленная сразу и в своего настоящего любовника, и в будущих. – Дай-ка я тебя ополосну, – сказала она, выводя его из состояния шока. Она смыла с него мыло, вытерла его, вытерлась сама и объявила: – Мне пора ехать, уже поздно. И дождь, слава Богу, кончился. Вышла из душевой комнаты, подошла к лежащему на полу платью, подняла его платье словно только что вынули из воды. – Да, – проговорила она, – это я на себя не могу напялить. Было понятно, что в распоряжении молодого человека нет никакой подходящей для нее одежды. – Боюсь, что мне придется остаться здесь, пока это не высохнет. Такая проблема, видимо, поставила в тупик хозяина коттеджа. – А если я попрошу служанку прогладить, и все высохнет? – сказал он на безупречном французском языке. Эммануэль улыбнулась его наивности. – Может быть, вы попросите ее одолжить мне саронг? – А у меня есть здесь рубашка и брюки… – Брюки – благодарю покорно, но вот шорты мне пригодились бы. Я их как-нибудь прилажу. Она стянула слишком широкий пояс и в этом наряде выглядела вполне привлекательной. Молодой человек двинулся было к ней, но «отвезите теперь меня домой и побыстрее» остановило его. И снова белый спортивный автомобиль двинулся по улицам Бангкока. – Где вы живете? – Подбросьте меня к спортклубу. Муж меня там и ждет. Стоянка уже опустела, когда они снова оказались на ней. Только две машины, и одна из них как раз ее. Шофер, как обычно, стоял возле. Он сказал с забавным вьетнамским акцентом: – Месье поехаль домой. Месье прислаль машина за мадам. – Видите, как мне надо спешить, – обратилась Эммануэль к своему спутнику и выскочила из его «родстера», держа платье в руках. – Да, понимаю… Но как мне вас опять увидеть? – Не знаю. Я должна бежать, – и она с улыбкой, сложив кончики пальцев, послала ему воздушный поцелуй. Он покорно откинулся на спинку сиденья. Они проезжали плавательный бассейн, отделенный от дороги невысокой живой оградой из кактусов. Кто-то позвал Эммануэль. Или ей послышалось? Она дала знак шоферу остановиться. Огляделась. На тропинке, выложенной мозаичными плитами, виднелась чья-то фигура, делавшая в направлении Эммануэль широкие приглашающие жесты. Кто бы это мог быть? На прежних знакомцев Эммануэль не похоже. Но тут приглашающий приблизился, и Эммануэль смогла его разглядеть. Это была женщина, немолодая, по представлению Эммануэль, то есть ближе к тридцати, чем к двадцати. Она была тоненькая, великолепно сложена от элегантной шеи и плеч до бедер; живот был мускулист и даже казался впалым, ноги были длинны, изящны. Она была одета так, что при каждом ее движении становилась видна грудь, напоминавшая о статуях в храмах Индии. И плотная, и необычайно легкая одновременно. Совершенно ошеломленная, Эммануэль любовалась ею, а потом перевела взгляд на лицо женщины. Темные большие глаза с каким-то огоньком в глубине. Короткий точеный нос, свежий рот, чуть тронутый белой помадой. – Пойдемте поплаваем, – сказала женщина, и ее глубокий странный голос тронул Эммануэль не меньше, чем ее внешность. – Но я уже и так опаздываю, – пробовала она отказаться, вполне готовая, однако, откликнуться на приглашение. И другая мысль пришла ей в голову: – И у меня нет купального костюма. – Это неважно, там никого нет, кроме нас. Это «нас» попахивало тайной, и Эммануэль снова остановилась в нерешительности. Женщина открыла дверцу машины и протянула руку. – Прошу вас. Ее голос решил все. – Подождите меня на стоянке, – сказала Эммануэль шоферу. – Я на минутку. Она протянула незнакомке руку и быстрыми шагами последовала за ней. Через несколько секунд они уже были по другую сторону ограды. И вдруг Эммануэль чуть не наткнулась на свою проводницу – так неожиданно та остановилась. Эммануэль не успела промолвить и слова, как незнакомка быстро освободила ее от рубашки и шортов. Впервые Эммануэль оказалась голой в месте, которое можно было бы назвать публичным. И хотя уже наступали сумерки, до ночи было еще далеко, тем более, что свет огромных, подвешенных на высоких столбах ламп и не позволил бы ночи покрыть все своим покрывалом. Двое мужчин стояли в бассейне, который был совсем неглубоким – вода доходила им до пояса. Женщина повела Эммануэль к ним, пришлось спуститься по ступеням. Один был представлен ей как муж незнакомки. Он был высок и костист, лицо в глубоких морщинах, черные пронзительные глаза; он так пристально вглядывался в Эммануэль, словно хотел прочитать ее самые сокровенные мысли. Может быть, он был кем-то вроде факира, ясновидящего? Другой, как будто бы одних лет с Эммануэль, выглядел более ординарно, он показался ей симпатичным. «А теперь, – спросила она себя, – что же мы будем делать?». Ясно, что это трио пригласило ее для каких-то любовных забав, вероятней всего, для чего-то извращенного. Ладно, она подождет, пока они не объяснят ей ее роли в их планах. – Кто она? – спросил старший мужчина. Его жена пожала плечами, показав, что ей самой это неизвестно. – Как! Вы не знаете меня? – удивилась Эммануэль. – Но я слышала, как вы назвали меня по имени! Как же это? – Я вас видела сегодня утром на скачках. У вас под платьем ничего не было. – Это было видно? – Но мне кажется, вы старались изо всех сил, чтобы это можно было увидеть. Эммануэль улыбнулась. Такая непринужденность и откровенность были ей по нраву. Женщина продолжала: – Вы нимфоманка, да? Эммануэль посмотрела на нее с недоумением. Почему не шизофреничка? Или клептоманка? Или эпилептичка? Да мало ли чего можно вспомнить! Ее улыбка на этот раз была более принужденной: – У вас какие-то странные представления обо мне! Но тут решительно вмешался муж: – Но это же прекрасно – быть нимфоманкой! Если вы не нимфоманка, надо постараться стать ею! Эммануэль не знала, что и думать. Может быть, в конце концов, она не знает точного смысла этого слова? Она была уверена, что в ее природе нет ничего болезненного… Но что значит здоровье?.. И что значит болезнь?.. И тут в разговор вмешался молодой мужчина: – Да я ее знаю! Это лесбияночка, жена директора строительства плотины. Определение позабавило Эммануэль. – Неплохо для начала, – одобрила она. На лице молодого человека появилось выражение разочарования. – И ее вовсе не интересуют мужчины, – объявил он. Старший посмотрел на него совершенно невозмутимо. – Что ж, так даже лучше, – сказал он. Эммануэль еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. И она постаралась выглядеть совершенно спокойной, когда смуглый мужчина начал ощупывать ее груди, зад, лобок. И она так успешно симулировала свою фригидность, что тот решил обратиться к своей жене: – Иди сюда. Она уже готова для тебя. Верная избранной ею роли, Эммануэль почти упала на руки партнерши, которая легкими кончиками пальцев начала разведку ее, глубин. Прикосновение великолепной груди этой женщины к ее собственной было таким удивительно возбуждающим, что Эммануэль не выдержала: – Почему вы не снимете лифчик? – взмолилась она. Та не удостоила ее ответом и продолжала мастурбировать Эммануэль, строго глядя ей в глаза. И больше Эммануэль не могла сдерживаться. Свет ламп заколебался в ее глазах, волосы коснулись поверхности воды. – Так, а теперь поспеши, – сказала женщина, предлагая супругу трепещущее тело жертвы. Он спустил наполовину трусы, взял в руки свое тяжелое орудие, раздвинул ноги Эммануэль и одним ударом вошел в нее. Жена продолжала поддерживать ее за плечи, и к ней присоединился теперь и третий участник: поддержка осуществлялась в четыре руки. Они двигали Эммануэль взад и вперед, как большую резиновую куклу, купленную в секс-шопе. Когда это сравнение пришло на ум Эммануэль, она даже обрадовалась: я не что иное, как вагина, огромная анонимная вагина, утварь на службе у Бога… Два помощника не сводили глаз со своего лидера, следя за нарастанием его восторга: они то убыстряли, то замедляли темп движения. Эммануэль легко двигалась в их крепких руках, и так же легко и ритмично двигалось в ней мужское тело. И она начинала чувствовать, что ей не хватает больше сил, что вот-вот ее охватит неистовое пламя наслаждения. Чтобы тесней соединиться с партнером, она подняла колени и обхватила бедрами его ноги, а руки закинула вокруг его шеи. Теперь ассистенты покинули ее, и она работала самостоятельно. Она была готова для своего победителя на все: пусть он даже продаст ее сейчас на аукционе (только бы ее купил его молодой товарищ, если только он любит женщин!) Она быстро оглянулась на него, чтобы хоть мельком увидеть, что он собой представляет, чем снабдила его природа. Зрелище, представшее пред ней, заставило ее вскрикнуть: держа обеими руками свое оружие, он яростно онанировал, не сводя глаз с совокупляющейся перед ним пары. Но неэто занятие смутило Эммануэль, а размеры ядер и копья они воистину были нечеловеческими! Если это, подумала она, войдет в меня, я не на что больше не пригожусь: меня разорвет на мелкие кусочки. Умоляющий взгляд ее обратился к двум другим – они не ответили ей. И тут она увидела то, что вернуло ей силы: великолепное зрелище извергающегося вулкана – словно пузырящаяся лава текла из молодого человека. Она закричала от восторга, и ее партнер отозвался на этот крик – лицо его выразило глубочайшее удовлетворение. Но он выскочил из нее, так и не пролив ни капли. Все трое подняли Эммануэль и положили ее на кромку бассейна, у самой воды. Минуту они молча любовались ею. – Ты думаешь сделать это прямо сейчас? – спросила дама. Ее супруг, казалось, пребывал в нерешительности. Наконец он сказал: – Это ведь, в конце концов, твоя находка. Тебе и решать. – Завтра у нас будет больше времени, – заметила женщина, и они обменялись долгим понимающим взглядом. Когда Эммануэль пришла в себя, ее недавний любовник сказал ей вежливо, но твердо: – Завтра в три часа я жду вас у себя дома. Надеюсь, вы будете пунктуальны. Этот тон приказа не показался Эммануэль оскорбительным. Разве мужчина, помогавший женщине провести время таким упоительным способом, не имеет права на этот тон? Но она хотела уточнить: – А как мне вас найти? – О, это очень просто. Вы знаете небоскреб? Я живу на самом верху. На двери вы увидите мое имя: «Доктор Марас». Она подобрала шорты и рубашку. Задумалась на секунду: а не пойти ли домой нагишом? Но выбрала компромисс: по парку пройтись так, как есть, и одеться лишь перед тем, как сесть в машину. Ожидавший ее шофер даже бровью не повел.Вознаграждение за пустяк
Мари-Анж словно сгустилась из влажного воздуха и возникла перед глазами Эммануэль, как самая важная часть пейзажа. В ожидании Анны-Марии Эммануэль сидела на пороге своего дома, опустив подбородок на колени. Прошло уже больше недели со времени последней встречи с художницей. – Это ты! Ты! – вскочила Эммануэль. – Откуда ты? Как ты здесь очутилась? Обеими руками она крепко схватила свою подружку за косички и засмеялась от удовольствия, прижавшись губами к ее пахнущим солнцем и морем щекам. – Я здесь с папой. Мама послала его повидать наших друзей, прилетевших из Парижа. Мы будем здесь целую неделю. – Только неделю, – разочарованно вздохнула Эммануэль. – А что ж ты не приходила к нам на побережье? – спросила Мари-Анж, – я ведь тебя звала. И затрясла головой: – Ой, не надо тянуть меня за волосы. Больно! Легкими движениями Эммануэль затянула косы девочки в узел вокруг шеи, словно собиралась удавить ее. – Я тебя не узнала бы. Ты так похорошела! – Значит, ты забыла меня? – Нет, правда, ты стала еще красивее! – Но это же нормально. С гримасой беспокойства Эммануэль спросила: – А как я? Ты меня еще любишь? – Конечно, разве я это не доказала? А чем ты занималась все это время? – Ох, ужасными вещами! Просто ужасными. – Правда, ужасными? А какими? – Давай на этот раз поменяемся местами. Ты будешь рассказывать, а я буду слушать о твоих злодеяниях. Я же говорю: роли переменились. – Как это? Объясни мне, почему? – Потому что за это время я стала менее девственной. Огонек недоверчивости блеснул в зеленых глазах Мари-Анж. Потом роковое создание произнесло с деланным равнодушием: – Кажется, в эти дни ты плохо относилась к Марио. Давно ты его видела? – О, в эти дни у меня было столько потрясающих успехов! Он должен ждать своей очереди наравне со всеми. И сразу же, чтобы показать, кто теперь хозяин положения, Эммануэль перешла в наступление: – Ладно, не пытайся сбить меня с верного пути. Скажи-ка лучше: а у тебя было много приключений? – О, тысяча и одна ночь! – Ну, давай послушаем хотя бы об одной для начала. Но в ту же минуту появившийся на дороге низкий спортивный автомобиль отвлек их внимание. – Что это за машина, – поинтересовалась Мари-Анж, – и кто сидит за рулем? – Это Анна-Мария Серджини. Ты ее знаешь? – Ах, это она! Она пишет твой портрет. Хотелось бы взглянуть на нее. – Ого, да ты все знаешь! Откуда такая точная информация? Мари-Анж прикрыла веки и потом, быстро взглянув на подругу, ответила в своей обычной манере вопросом на вопрос: – Надеюсь, он получился прекрасно, этот портрет? – Да, я в этом уверена. Но изображено только мое лицо. К сожалению. – Тебе надо найти мужчину-художника, чтобы он дорисовал все остальное. – Занимались любовью? – весело прощебетала Анна-Мария. Эммануэль была поражена этим тоном. – Вы задаете такой вопрос? – Ну да. Если не заниматься любовью с таким очаровательным существом, как-то деловито констатировала Анна-Мария, – то с кем тогда заниматься любовью? – Вы смеетесь надо мной. – Отнюдь. Просто стараюсь думать по-вашему. Мари-Анж произнесла несколько высокомерно: – Никогда не следует верить Эммануэль, когда она говорит, что она лесбиянка. Это она рассказывает всем мужчинам. – Ты соображаешь, о чем говоришь? – внезапно ощетинилась Эммануэль. – Анна-Мария права: сейчас самое время заняться тобою. И она подняла голос до тона приказа. – Что ты тут делаешь со своими этими одежками? Ну-ка, живо раздевайся! – Но зачем же шокировать нашу гостью… – Ничего подобного, – молодая итальянка окончательно привела Эммануэль в изумление, – совсем наоборот. – Ах, вот как! – и Мари-Анж сделала подчеркнуто изысканный реверанс. В мгновенье ока оказавшись совершенно голой, она стала вертеться в разные стороны перед старшими. – Итак, я вам нравлюсь? – О, еще бы! – сказала Анна-Мария. – Мне хочется, чтобы вы мне позировали. Вот закончила бы портрет Эммануэль и взялась бы за вашу скульптуру. – Из какого же материала? – Пока еще не знаю. Что-нибудь мягкое на ощупь. – Вот каким образом Анна-Мария хочет узнать нравы острова Сафо, засмеялась Эммануэль, – с помощью медиума из мрамора. – Мне это нравится, – протянула Мари-Анж. – Я люблю людей, ласкающих мою статую. – Иди сюда, – сказала Эммануэль, – дай мне попробовать твои сосочки. Мари-Анж немедленно послушалась, и Эммануэль стала обеими руками растирать ее груди, искоса поглядывая на Анну-Марию. Итальянка при виде этого зрелища и бровью не повела. – Я вам, наверное, кажусь отвратительной? – спросила Эммануэль. Анна-Мария изобразила полнейшую невинность: – Разве я могла бы лепить портрет этого чуда, если бы мне нельзя было делать то, что сейчас делаете вы. – Все зависит от намерений, – сердито буркнула Эммануэль. Анна-Мария рассмеялась: – Что за мир, в котором считается преступлением прикосновение к груди этой ожившей Танагры? – А почему же вы не прикасаетесь к моей? А? Анна-Мария ничего не ответила. Эммануэль решила двинуться дальше: – А что вы теперь скажете? Она запустила палец между бедер Мари-Анж, прямо к нежному, цвета полярной рыси, пушку. Анна-Мария осталась неподвижной, она не произнесла ни слова, но Мари-Анж пискнула: – Щекотно! Хватит, ты не знаешь, как это делается. Огорчение, сильное, как боль, охватило душу Эммануэль. Изо всех сил пыталась она подавить в себе это чувство. «Дура я, – сказала она себе, – это все моя суета, торопливость. Нет… Это еще хуже». И она вспомнила свое страстное влечение к Би. Почему, почему, спрашивала себя Эммануэль почти в бешенстве. И вдруг этого горького чувства как не бывало – вместо него пришло совсем другое. Нет, просто Мари-Анж еще не готова к этому, как и я в свое время. Но час настанет, и она поймет, для чего мы с ней созданы. Она улыбнулась своей подружке, словно только что получила самый нежный поцелуй. – Ты права. Мы будем любить друг друга, когда нам этого захочется. Не сейчас. Сейчас не та атмосфера. Она обернулась и поймала на лице Анны-Марии выражение, столь быстро промелькнувшее, что Эммануэль подумала, не показалось ли ей: словно юная художница была разочарована, словно она ожидала другого развития событий. Эммануэль несколько ободрилась. Мари-Анж сделала движение, чтобы поднять с пола свою одежду. – Нет, останься так, – попросила Эммануэль. Если она согласится, подумала Эммануэль, значит, она меня любит… Мари-Анж снова отбросила одежду. О, жизнь прекрасна! – Пройдемте на террасу, – предложила Анна-Мария. – Послушай, будь так добра, – обратилась Эммануэль к Мари-Анж, – попроси, чтобы нам принесли чаю. Мари-Анж улыбнулась и отправилась на кухню. – Ничего плохого, если Мари-Анж обнажена в нашем обществе, но посылать девицу в голом виде к слугам – это уже извращение, – неодобрительно сказала Анна-Мария. – Вы ничего не понимаете, – возразила Эммануэль, – голая девушка в ванной – это безделица, не имеющая никакой ценности, но голая девушка на кухне – это уже совсем другое дело. – Вы имеете в виду ценность эротическую? Но эротика не критерий добра и зла. Тело Мари-Анж имеет общечеловеческую ценность, тело прелестной тринадцатилетней девушки. И для эстетики безразлично, вызывает ли это тело сексуальные эмоции. – Но это как раз и говорит о том, что художники вероломны. Если они пишут и лепят обнаженную натуру охотнее, чем натюрморты, это ведь не потому, что искусство не сексуально. Это как раз потому, что и они сами, и те, кто будет потом любоваться их творениями, выбрали именно эту, сексуальную дорогу. Их намерения совершенно очевидны. Когда же они снова успокаиваются, вот тогда они изображают груду яблок на столе. Каких еще доказательств вы хотите? И, не давая времени прервать свое диалектическое рассуждение, тут же продолжила: – И не пытайтесь вы, маленькая лицемерка, стыдливо прикрываться вуалью. Я вижу, как возбуждает вас тело Мари-Анж! – Да это абсурд! Мари-Анж совсем на меня не действует таким образом. Хотя бы потому… Анна-Мария осеклась на полуслове, словно досадуя на себя за что-то. Эммануэль буквально прыгнула к ней, обхватила ее за шею и, глядя ей в глаза, засмеялась: – Хотя бы потому, что есть я? Вы не можете писать меня обнаженной, потому что боитесь за себя, боитесь, что все ваши принципы полетят в тартарары. Разве не так? – Нет, нет, уверяю вас. Скорее наоборот. – Наоборот? Что это значит? Ну-ка, объясните, пожалуйста. Анна-Мария была в столь явном затруднении, что, глядя на нее, Эммануэль подумала: а не поцеловать эти прелестные надутые губки, чтобы они улыбнулись? Но как раз именно в этот момент вернулась Мари-Анж. – Вы просто не хотите понять, Эммануэль, – собралась с духом Анна-Мария, это не вопрос добродетели или порока. Вы любите женщин, и вам кажется, что все должны быть такими же. Но вы ошибаетесь: большинство из нас выбрало другой путь. – Тогда почему же вы не хотите попробовать это на вкус! – воскликнула Эммануэль. – За всю жизнь вы без всяких затруднений научились разным вещам, а от этого почему-то убегаете. С тех пор, как я себя помню, я видела много девушек, очень неплохо забавлявшихся друг с дружкой. – Потому что ты научила их этому? – спросила Мари-Анж, удобно расположившись во всей своей наготе на широких подушках дивана и разглядывая иллюстрированный журнал. – Нет, просто случай научил их этому. Неважно, какой случай, но почему бы в один прекрасный день женщине не захотеть испытать любовь другой женщины? Хотя бы из любопытства, раз нет другой причины. – Или из лени, – учительским тоном произнесла Мари-Анж, – скорее потому, что нет под рукой мужика и им лень идти и искать где-то. Или потому, что они уже занимались любовью сами с собой. Почему бы не попробовать сыграть этот мотив в четыре руки вместо двух? Эммануэль рассмеялась: – Вот типичная школьная философия. А истина заключается в том, что женское тело прекрасно и желанно само по себе для всех человеческих существ, не только для мужчин. Любой здоровый человек знает это почти инстинктивно. А те женщины, которые стараются не обращать внимания на чары женщин, или попросту фригидны, или боятся признаться себе, что на них действует иго социальных условностей и табу. Так или иначе – они инвалиды. У них ампутирована огромная часть их существа. – Вообще пол ампутирован, – прибавила Мари-Анж. – Правильно, и они никогда не узнают, что такое любовь. Если вы не любите себя, не любите свой собственный пол, то кто же может полюбить вас? Появление чая на некоторое время прервало этот занимательный разговор, но вскоре предмет беседы снова выплыл на поверхность. Одна реплика Мари-Анж о вкусе дала Эммануэль удобный повод развить эту мысль: – Вот как обстоит дело с лесбийской любовью. Прежде всего это вопрос эстетики. Если вам не нравятся красивые женщины, у вас просто нет вкуса. Анна-Мария должна бы понять, что с тех пор, как она ушла из Школы искусств, она все время проваливается на экзаменах. – А я очень люблю красивых девушек! Но только по-нормальному. Почему вы все время утверждаете, что гомосексуальность естественна? – Более естественна, как мне кажется, чем любовь к Святой Деве. Не обращая внимания на оскорбленный вид молодой католички, Эммануэль двинулась дальше: – Разве вы не говорили мне, что ваш художнический взгляд никак не должен ограничиваться рамками «нормального»? Я-то всегда считала, что цель искусства – открывать новые перспективы. – Но должна же я отличить божественное от дьявольского! – О, не надо мне говорить, что вы и в самом деле верите в дьявола: Бога вполне достаточно. Во всяком случае, почему вы верите или в одного, или в другого, а не в обоих одновременно? Я, например, никому не могу отдать предпочтения. Аргументы Анны-Марии иссякли. А Эммануэль продолжала развивать тему, перескакивая с лесбоса на теологию и обратно, и возражать ей было невозможно. Вдруг она остановилась: «Минуточку, я сейчас вернусь!». Она вернулась с большой толстой книгой, на обложке которой были изображены многочисленные геометрические узоры разного цвета. – Вот здесь то, что вы, я уверена, поймете… – Мондриан? – Он самый. Вот здесь: «Чистая красота – это то же самое, что порыв к божественному в прошлом». Анна-Мария ничего не ответила. Эммануэль положила книгу. И тут раздался тоненький голосок Мари-Анж: – Скажите мне, не потому ли вы стали такой красивой, что влюблены в Эммануэль? Анна-Мария и Мари-Анж остались обедать. За столом Жан рассказывал: – В старые времена кхмеры приводили в храм Ангкора своих дочерей, и монахи главного святилища лишали их невинности. Девочкам было не больше десяти лет. Только в бедных семьях случались девственницы постарше, потому что этот ритуал дорого стоил, и бедняки могли совсем разориться. Монахи использовали либо собственное копье любви, либо палец. Кровь дефлорации они смешивали с вином, и вся семья смачивала этой священной жидкостью губы и подбородок. Каждому монаху полагалось не больше одной девочки в год. А потом, когда девочки вырастали и достигали брачного возраста, женихи выбирали их тоже в Ангкоре: девицы купались в священном озере, и женихи видели их наготу и могли как следует оцените физические достоинства будущих жен. – Ничего не изменилось, – сказала Мари-Анж на следующее утро, когда они с Эммануэль нежились возле плавательного бассейна, – Бонзы по-прежнему любят маленьких девственниц. – Откуда ты знаешь? Ты разве бывала в их храмах? – А разве я не могу этого знать и так, без личного опыта? – Но говорят, что буддийские монахи никогда не прикасаются к женщинам. – Девственница – не женщина. – Вот те на! Что за странное утверждение! – Конечно, они же отличаются от нас. – И где же монахи находят этих весталок? – Вот это теперь стало трудно. Нынешние сиамцы не похожи на древних кхмеров. Сегодня бонзы должны платить за свои удовольствия. – Как платить? Ведь религия запрещает им иметь деньги? – Они расплачиваются золотом. – Ладно, Мари-Анж, перестань выдумывать! Ты просто хвастаешь разнузданным воображением! – Если ты не веришь мне, можешь спросить у Мерви. Эммануэль не кинулась тотчас же искать Львенка. Она вскоре забыла об этом совете своей маленькой подруги. Но однажды жарким солнечным утром, покупая орхидеи на огромном Цветочном рынке, раскинувшемся возле Пагоды Изумрудного Будды, она встретила львиноголовую сиамочку. Прическа Мерви была так же причудлива, как извивы сиамских каналов и сиамской архитектуры. – Вы схожи с буддийской архитектурой, – заметила Эммануэль. – Вы гомотопны. – И, добавив этот термин, она улыбнулась своему математическому прошлому. – А вы интересуетесь буддизмом? – В сущности, не очень. Она посмотрела на двух проходивших мимо монахов. В своих шафрановых тогах, босые, с обнаженным правым плечом, с гладко выбритыми головами, они шествовали, казалось, ничего не видя перед собой, всецело погруженные в свои мысли. Две девочки в коротких белых блузках с вышитыми на них инициалами школы пересекли дорогу монахам. Их выпуклости аппетитно вырисовывались под короткими красными штанишками. Святые люди, казалось, не обратили никакого внимания на эти крепенькие задочки. – Кто-то говорил мне, что они как-то связаны с нимфетками… – Это не их возраст, – возразила Мерви, – им нужны девушки. – Так, значит, это правда? – Эммануэль вспомнила о словах Мари-Анж, – я как раз хотела вас расспросить об этом. Львенок посмотрела на вопрошавшую таким испытующим взглядом, что та почувствовала себя, словно под рентгеновскими лучами. – Вы это спрашиваете из простого любопытства или интересуетесь этим всерьез? В словах сиамки была такая же значительность, как и во взгляде. На какой-то момент у Эммануэль закружилась голова… – Чего эти монахи боятся больше всего, – с расстановкой проговорила Мерви, – так это осквернения. А лечь с девственницей – это не запятнает их чистоты. – Я полагаю, что они не слишком часто этим занимаются, а? – спросила Эммануэль игривым тоном. – Не обязательно, чтобы это были девственницы в полном смысле. Мудрейший сказал: «Все в этом мире призрачно…». Беседа становилась все более увлекательной. У Львенка, оказывается, есть не только шкурка, но и коготки. – Вот вы, например, – сказала Мерви, – они вас очень высоко оценят. Очень. – Кто? Монахи? Ох, ты! Они что же, надеются, что я еще девственница? Мерви не отвлекалась от дела. – Я обо всем этом позабочусь сама, – она плутовски улыбнулась, – Вы совершенно подходящий для них человек. – Но… Я не вижу ничего соблазнительного в том, чтобы заниматься любовью с монахом, даже если этот монах – буддийский. Я совсем не ощущаю в себе избытка святости… – Дело не в этом. Вы как-то сказали, что позволите мне продать вас. Вот этим мы и наймемся… Эммануэль вспомнила, что Мерви делала такое предложение, но не смогла вспомнить, соглашалась ли она на него. Она улыбнулась этой восточной хитрости. – Разве я не права? – спросила та, глядя на Эммануэль своими холодными глазами. «Наверное, я схожу с ума, – подумала Эммануэль, – но мне хочется знать, как чувствует себя женщина, которой торгуют». – Вы это сделаете за деньги? – Угу. Вы могли бы завтра? – Да. Когда мы встретимся? Ценный ли я товар, спросила себя Эммануэль, много ли они за меня дадут? Она уже забыла, что в стоимость входит и ее девственность.* * *
Подталкиваемая шестом туземца, лодка бесшумно скользила по охряно-розовой поверхности воды. Река после дождей была полноводной, они плыли недалеко от берега, и Эммануэль могла касаться руками кокосовых орехов, зеленых и пурпурных плодов, свисавших с ветвей склонившихся к воде деревьев… Вода была густой, как сперма, она была почти вровень с бортами их узкой, сделанной из тикового дерева пироги. Эммануэль думала, что она обязательно свалится в воду, прежде чем они достигнут цели своего путешествия. Может быть, так будет лучше? В реке было полно купальщиков, Эммануэль присоединилась бы к их веселым забавам. Вон какие совсем голые молодцы цепляются за нос пироги, не обращая внимания на крики лодочника: может быть, им хочется перевернуть лодку? Один из них приблизился к ней, глаза его сияли, как два маленьких солнышка, и Эммануэль улыбнулась ему. Он наполовину высунулся из воды, лег грудью на борт лодки, протянул руки. Пока Эммануэль думала, чего же он от нее хочет, ответ последовал сразу же: жадные юношеские руки скользнули под ее юбку, раздвинули ноги, пощекотали в зарослях сада любви и даже глубже, и вот это юное существо уже снова в воде и плывет, оглашая воздух радостными криками. Эммануэль начинает вычерпывать воду. – Держу пари, что пока мы доедем, мы не один раз перевернемся. Мерви спокойно отвечает, что ничего страшного не произойдет: лодка достаточно тяжела, чтобы не перевернуться. Да, правда, вспоминает Эммануэль: Мерви везет с собой большой сундук, там одежды для Эммануэль, она должна переодеться для совершения ритуала, который теперь больше забавляет ее, чем страшит. – ведь эти святые люди хотят просто развлечь себя телом молодой женщины. Для чего же все эти маскарады и обряды, когда дело такое ясное? Ладно, если ее снаряжение намокнет, она предстанет перед монахами в чем мать родила – ничего страшного не случится… После ночи в Малигате и намеков Арианы она хорошо знает, что ее ожидает. Что ж, она решилась на все, отдалась на волю Львиной Гриве и сделает все, что ей прикажут. Просто она узнает еще кое-что и прибавит еще одну жемчужину к своему ожерелью. …Молодой монах повел Мерви и Эммануэль за собой к небольшому прямоугольному павильону с покрытой мхом крышей. Только одно отверстие виднелось в его выкрашенных белых стенах – дверь, хрипло застонавшая, когда они вошли. Сладко пахнущие свечи в оловянных подсвечниках освещали помещение. Несколько шкафчиков в виде усеченных пирамид с позолоченными дверцами, тростниковые циновки и два низких столика с металлической посудой на них составляли все убранство комнаты. Но в углу виднелась фигура птицы, сделанная из красного дерева. В глаза были вставлены драгоценные камни, ноги походили на журавлиные. У птицы была женская грудь. Что-то женское было и в изгибе не то клюва, не то рта, сделанного из стеклообразной массы. Эммануэль посмотрела на птицу почти с благоговейным страхом. Монах сел, обмахиваясь веером. Маленький мальчик вошел с чайным подносом в руках. Он налил чай в невероятно крошечные чашки: их надо было выпить одну за другой, чтобы почувствовать вкус. Но как только чай был разлит, аромат жасмина наполнил комнату. Эммануэль смаковала аромат и спрашивала себя, не в этом ли возмещение аскетизма. И вот, держа чашечку в руках, монах обращается к ним. Говорит он так быстро и неразборчиво, что Эммануэль ничего не может понять. Но Мерви отвечает. И она говорит долго. По-сиамски. Она торгуется, соображает Эммануэль, она устанавливает на меня цену. Монах по-прежнему выглядит равнодушным, он даже не смотрит на предмет сделки. Но Эммануэль знает: это старый трюк лошадиных барышников – не проявлять заинтересованности. Но как жалко, что она не принимает участия в обсуждении условий! Потрать она больше усилий на изучение местного языка – какое удовольствие она сейчас бы получила! Внезапно монах прервал разговор, поднялся и вышел. Дверь за ним закрылась, они остались одни. Аромат курящихся свечей довел Эммануэль почти до тошноты. Надо уйти из этой комнаты. Но Мерви, всезнающая Мерви, держала на уме другое. – Переодевайтесь, я помогу вам, – сказала она. Она расстегнула школьное платьице Эммануэль и быстро стянула его через голову жертвы… Затем, вытащив из сундука одеяние из белого тончайшего шелка, отделанного кружевами, быстро и ловко обмотала его вокруг стана Эммануэль. Это было что-то вроде тоги, и Эммануэль подумала, что вся эта красота свалится с нее при первом же движении. Но, может быть, так и было задумано. Она посмотрела на себя в зеркало. Великолепно! – Теперь пошли, – сказала Мерви. Они оказались в длинном коридоре. Мерви шла впереди, почти шепотом считая двери, мимо которых они проходили. Возле восьмой по счету они остановились. – Вы войдете туда одна, – проговорила она. Эммануэль вошла. Там был тот же молодой монах. Он указал на одну из циновок, покрытую квадратной формы подушками. – Присядьте здесь и подождите, – сказал он, старательно выговаривая французские слова. И снова вышел. Эммануэль поступила, как приказано – села на циновку, подогнув под себя ноги: она видела, что так сидят сиамские женщины в пагодах или на королевских приемах в традиционном стиле. Комната была без окон, и в ней было довольно прохладно. Слабый смолистый запах ощущался в воздухе – может быть, так пахли деревянные стены? Стен она, правда, не видела – единственный источник света, масляная лампа, напоминала ночник и ничего, кроме себя, не освещала. Но Эммануэль догадалась, что комната невелика, почти келья. Ничего из убранства она не могла разглядеть. Через несколько минут она привыкла к полумраку и уже могла различить стену, возле которой стоит лампа, а потом вид на дверь, более низкую и узкую, чем та, через которою она сюда вошла. И она видит, как эта дверь открывается. Очень тихо, почти бесшумно. Сердце Эммануэль бьется сильнее. Она привстает на циновке. Но за раскрытой дверью ничего не видно, кроме мрака, царящего там. И в ту же секунду кто-то или что-то гасит свет. Наступает полная темнота. Какой-то звук срывается невольно с губ Эммануэль. Кричать здесь нельзя, это она понимает, но как страшно все это… Она чувствует, что в келье кто-то есть… Это не тот молодой монах, он не дышал так тяжело. Но что же будет с ней делать этот фантом, пожелавший остаться неизвестным? Она так напряжена, так стянуты ее мышцы, так напряжены ее нервы, что она вскрикивает, почувствовав прикосновение чьей-то руки. Эта ребяческая пугливость (именно так она тотчас же в мыслях назвала свою реакцию) помогает ей успокоиться и избавиться от внезапно возникшего страха. Обычное хладнокровие вернулось к ней, и она даже позволила себе улыбнуться в темноте. Но невидимый гость отпрянул – он, очевидно, испугался больше. «Что ж я наделала, – упрекнула себя Эммануэль, – хороша же я буду, если он сейчас попросту бросит меня, убежденный, что ему подбросили совсем не то, что он ожидал. Как я посмотрю в глаза Мерви, совершившей такое путешествие зря?». Но, с другой стороны, возразила она первой мысли, мой девичий испуг совершенно согласуется с моей ролью. Нет, не надо в нем раскаиваться. Мало того: мрак и таинственность атмосферы, надо думать, предназначались не столько для того, чтобы поразить ее, сколько для того, чтобы не оскорбить монашеского чувства стыда. Это он чувствовал себя грешником и должен был прятаться! Совесть же Эммануэль могла быть спокойной, она на высоте положения и не сомневается, что сможет извлечь из этого какие-то блага. Теперь, когда она уже больше не боится, она предвкушает, что неплохо проведет время. Итак, святой человек думает, что она невинна. Как он будет поражен! Святотатство! Святотатство! Все эти мысли пробежали в мозгу Эммануэль, и ее губы снова растянулись в улыбке. Она вытягивает вперед руки, ощупывая пространство вокруг себя. Вскоре ее пальцы касаются чего-то мягкого – это была материя, оранжевый шелк, разумеется. Значит, чуть выше и левей должно быть голое плечо. Так, вот оно… Тело было мускулисто, монах оказался крепок, хотя и далеко не юного возраста. Властная рука вдруг схватила руку исследовательницы, разжала ее пальцы и крепко стиснула ее ладонь в своей, чтобы предотвратить дальнейшие поиски. О, разумеется: никакая женщина не должна прикасаться к священному телу святого человека. Но тогда зачем она здесь? Нет, Эммануэль не собирается играть в лицемерном спектакле. Она пытается освободить свои пальцы от цепкой хватки. И когда в этой попытке она оказалась еще ближе к своему невидимому хозяину, потрясающая мысль приходит ей в голову: она его разденет. Ей пришлось преодолеть такое сопротивление, что белое шелковое одеяние распустилось и упало на пол, прежде чем Эммануэль распутала узлы шафрановой тоги. Но буддийский мудрец менее искусный ратоборец, чем Эммануэль: она так умело пускает в ход свои ногти и зубы, что у соперника тоже вырываются крики, и это не крики восторга. Однако Эммануэль беспощадна. И, наконец, запыхавшаяся, она вытягивается во весь рост на обнаженном мужском теле, она может испытать торжество полной победы: крепкий, как стальной прут, фаллос и дыхание, обжегшее ее лицо, – достойная цена ее усилий. Она заслужила минуту отдыха. Костлявые пальцы монаха ощупывают ее волосы, крепко сдавливают шею. Больно, но это та боль, от которой приятно. Потом пальцы бродят по спине, пробегают по всем позвонкам и неспешно поглаживают зад. В то же самое время тело мужчины выгибается, и его копье становится еще больше: навершие упирается в пупок Эммануэль, и она делает почти незаметное движение бедрами, чтобы усилить наслаждение. Невидимые руки снова приходят в движение, проводя борозды по спине Эммануэль, и вдруг с силой нажимают на ее плечи, заставляя соскользнуть с мужского тела. Она покоряется, ее лицо на мгновенье прижимается к пахнущей сандалом груди, а потом в ее рот вонзается горячий кусок плоти. Она начинает феллацию покорно, исполненная сознанием долга, особенно не усердствуя, не желая демонстрировать свой талант. Это, казалось, разочаровало монаха. Внезапно он оттолкнул ее голову и, прежде чем она догадалась о цели его движений, крепко прижал ее подбородок к ее же груди, а потом резко поднял ее ноги, согнул их в коленях и прижал к голове так, что Эммануэль оказалась в позе человеческого эмбриона в утробе матери. И тут же твердокаменный стержень принялся за работу, прокладывая себе путь в заднюю расщелину Эммануэль. Он был скользким от слюны, и эта смазка помогла ей на первых порах удержаться от крика. Боже, прошептала она, как же узко у меня там и как это больно! Когда же мужчина вошел в нее окончательно, она пришла в еще большее смятение. Какой же он длинный! Она не чувствовала его величину, когда он был у нее во рту, а сейчас он проникал так далеко, что мог вот-вот разорвать ее. Она думала, что больнее всего первые моменты проникновения, но теперь, когда он двинулся дальше, глаза Эммануэль наполнились слезами. Она не могла бы точно определить, когда к боли стало примешиваться наслаждение, но оргазм пришел позже и был длительнее обычного. После исступления монах не прекратил ее содомировать, он работал все с той же силой и напором, и она билась в сладких судорогах несколько раз подряд. Теперь она кричала еще громче, чем при болезненном начале процедуры. И она не могла сказать, сколько прошло минут, часов, дней, когда ее невидимый любовник пролил в нее первую струю. И вот теперь, снова одна, она лежала в темной келье. Удовлетворенная усталость царствовала в ее теле. Она ждала, сама не зная чего ждет, не решаясь шевельнуться. Может быть, она понадобится еще кому-нибудь? Другим монахам? Ей хочется, чтобы расступился этот непроглядный мрак, он начинает давить на нее. Наконец, кто-то открывает наружную дверь. Она видит солнце, небо. Уже далеко за полдень. Входит тот молодой монах, который привел ее сюда Он стоит у двери и смотрит на нее. Долго. Внимательно. Она тоже смотрит на него, размышляя, нельзя ли попробовать и с ним. Но он вряд ли окажется прекраснее того, кого она принимала под покровом темноты Хотя тот был гораздо старше. Невероятно… такой возраст – и такая сила, такая страсть! А может быть, это был сам Главный Настоятель! Его Святейшество Высокий Патриарх Малой Оболочки!.. Невольно она улыбнулась своему проводнику, но тот словно и не заметил улыбки. Он просто проговорил ровным бесстрастным тоном: – Мадемуазель может идти. Мадемуазель? Ах да, конечно, я совсем забыла, что я девственница, И эта мысль развеселила ее, она громко рассмеялась. Понимая, чего хотел от нее старый монах, она, как ей показалось, могла его одурачить. Но он взял ее сзади, оставив ее парадный подъезд столь же «девственным», каким он был до его появления. В самом деле, она могла спокойно удалиться. Или же – возникла у нее еще одна мысль – эти монахи имеют в виду другой тип девственности, так сказать, задний? Но в таком случае, как они могли убедиться, что именно они первыми входят через эту дверь? Очень уж они должны быть доверчивыми, подумала Эммануэль. Или очень мудрыми. Она, правда, не с тщательностью Мерви, обернула вокруг себя белый шелк и последовала за молодым монахом по галерее, переступив порог своего недавнего пристанища. Через несколько шагов он открыл какую-то дверь, и они оказались в просторной, с широкими окнами комнате. Монах направился к большому четырехугольному ларцу, стоявшему на пьедестале в одном из углов комнаты, открыл его и только теперь повернулся к Эммануэль. – Наше братство хотело бы предложить вам этот подарок, – и он протянул Эммануэль изящную инкрустированную шкатулку. Она была в затруднении. Принимать ли этот подарок? Входил ли он в условия, о которых договаривалась Мерви? Но во всей этой обстановке, в тоне, которым говорил монах, она не чувствовала ничего подозрительного и решилась взять маленький ящичек. – Откройте, – сказал монах. Она снова заколебалась. Шкатулка была сделана из дерева, какой-то неведомый тонкий аромат исходил от нее… Эммануэль все-таки открыла шкатулку и, увидев то, что там хранилось, не могла сдержать крик удивления и восторга. Это был золотой, в натуральную величину, фаллос: казалось, он только что выплавлен; вряд ли был он полым внутри, слишком тяжел был его вес. Он был длинный, толстый, изогнутый кверху, вены, тянущиеся вдоль него, были словно переполнены спермой. Ничто в коллекции Арианы не могло сравниться с этим произведением искусства. Такая великолепная игрушка предназначалась для нее? Ей никак не хотелось передавать ее Мерви. Разве она сама не сможет воспользоваться им, когда придет желание? Монах поклонился и направился к выходу. Эммануэль следовала за ним. Они вышли из павильона к ожидающей Мерви. Провожатый повернулся и ушел, не сказав Эммануэль ни слова, даже не попрощавшись. Она хотела было кинуться за ним, сказать ему… Но что она могла ему сказать? Она остановилась, крепко прижимая к груди шкатулку. – Я не понимаю, – пробормотала она, – такое вознаграждение за такой пустяк. Мерви, увидев шкатулку, не произнесла ни слова. Над рекой уже опускались сумерки. Лодка со скучающим лодочником дожидалась их. – Не хочу возвращаться в город в этом наряде, – сказала Эммануэль, освобождаясь от белого шелка. «Как хорошо быть голышом», – подумала она про себя. Вода соблазнительно поблескивала у бортов лодки. – Поплаваем? Мерви покачала головой: – Поздно уже. Мне еще нужно сегодня повидать кое-кого. Вздохнув, Эммануэль надела на себя свою обычную одежду. – Мне тоже очень хочется заняться любовью, – сказала она, ступая в лодку. – Со мной? – спросила Мерви. – Нет. С каким-нибудь симпатичным молодым человеком. – Так я найду его для вас, – оживилась Мерви. – Лучше я сама его найду. Или заставлю его найти меня. Лодка скользила по течению мимо иллюминированных берегов. – Это верно, – согласилась Мерви, – у вас лучше получается, когда вы берете инициативу на себя. – Но это же так восхитительно эротично быть схваченной и пронзенной, произнесла Эммануэль мечтательно, – Ведь мы все-таки женщины. – Да дело не в эротизме, – нетерпеливо бросила Мерви. – Дело в том, кто владетель, победитель. Пассивность вообще ни к чему. – Ну, я-то на это не могу пожаловаться, – добродушно сказала Эммануэль. – Что вы имеете в виду? – Я говорю о тех, кто хочет меня взять. Им достаточно посмотреть на мои ноги, на мою грудь, чтобы понять, что я стою усилий. – А если они не поверят своим глазам? – Ничто не мешает им узнать это на ощупь. – А для этого им может не хватить смелости. – Даже если я задеру юбку? – Они решат, что это им кажется, что это от их самоуверенности. Они испугаются собственных желаний, не поверят в их осуществимость. Ведь больше всего мужчины боятся нарваться на отказ. – А если я подмигну им? – О, это их смутит еще больше. – Тогда я подойду и прижмусь к ним. – Это станет только дальнейшим доказательством вашей чистоты и невинности. И они будут думать, что, решись они воспользоваться вашей доверчивостью, вы сейчас же позовете на помощь полицию. – Тогда я раздвину коленкой их ноги. – Молоденькие девочки часто делают такие бессознательные провокационные жесты. Джентльмены понимают это достаточно хорошо. – Ладно, сдаюсь! А я всегда считала, что у них в мыслях только одно: как бы переспать со мной. – В мыслях-то да, но у них не хватает мужества. – Значит, самое большее, они могут поцеловать меня? – Только герои отваживаются штурмовать цитадель. А какая крепость более неприступна, чем жена соседа, этакий монумент добродетели? – Так что же мне прикажете делать? – Не ждать, пока они кинутся на вас. – Поднять белый флаг? – Единственная вещь, которую мужчина хочет знать, прежде чем что-то предпринять, это какой-нибудь признак, что успех ему обеспечен. А еще лучше, если другой человек идет ему навстречу. Намеков недостаточно: ситуация должна быть ясной, точной, недвусмысленной. Намеки, символы, умолчания, паузы, как бы они ни были многозначительны, только раздражают их. И оживляются они лишь тогда, когда встречают шлюху. И не потому, что проститутки особенно красивы или талантливы, но потому, что они берутся за дело прямо и в очень понятных выражениях. – Так вот почему вы решили сделать из меня проститутку! – Я торговала вами не для того, чтобы оказать услугу мужчине. Я не на их стороне. – Странно, что вы делите мир на мужчин и женщин. Я-то считала, что все они в одном лагере, на стороне любви: пол не имеет никакого значения. Вот мы, например, разве мы не наслаждаемся полностью, когда любим женщин? – Я не солдатская подстилка, не пятиминутный стоячий матрац. Это они могут быть рабами и хозяевами, победителями и побежденными, а я из рода королев. Мужчины существуют для меня! Эммануэль удовлетворенно улыбалась. Лодка неслышно двигалась по реке. Вечерний воздух благоухал. Все было прекрасно. Мерви снова заговорила, понизив на этот раз голос: – Наступило время переделки мира Слишком долго мужчины гонялись за женщинами, теперь наш черед броситься за ними в погоню, хватать их, вязать, бросать через седло, продавать и обменивать, как монеты разного достоинства. И, конечно, должны перемениться наши вкусы и наше поведение. У них были свои бордели, где они могли выбирать, оценивать наше свежее мясо. А я говорю, что теперь мы должны завести свои собственные клубы, где мы выбирали бы мальчиков по вкусу. Я бы заперла там всех мужчин, которых я соблазнила, и наслаждалась бы их «девственностью», высасывая из них соки. Эммануэль рассмеялась. – Вы будете так жестоки с ними? – Жестока и добра. Мужчин легко насиловать, потому что они думают, что это они насилуют нас. – А может, они и не так уж ошибаются? Не все ли равно, кто кого – они нас или мы их, – наслаждение одинаково. – Вовсе нет. Вспомни Тирезия. – Кто это? – Это старая история. За то, что он вмешивался в их шашни, боги превратили его в женщину. Эта операция не повредила ему, не послужила ему наказанием, как надеялись на это боги: они ведь всегда плохо информированы о том, что делается на земле. Так вот, когда Тирезий снова стал мужчиной, он рассказал Зевсу (к большому удивлению всех богов), что наслаждение женщины в девять раз сильнее того, что испытывают мужчины. – В девять раз? – Да, ни больше ни меньше. – Какие же мы счастливые! – воскликнула Эммануэль. – Бедные, бедные мужчины. Мы должны быть с ними очень добрыми. В следующий раз я уж постараюсь передать хоть часть моего удовольствия этим беднягам. Мерви прыснула. Эммануэль удивилась: – Разве вы не считаете, что королева должна быть милостивой и бескорыстной со своими подданными? Мерви ответила вопросом на вопрос: – Так, значит, вам стыдно делать это за деньги? – Разумеется. Но, правда, в этом стыде есть что-то возбуждающее. Задумавшись на мгновение, Эммануэль добавила: – Несколько раз меня спрашивали в эти дни, нимфоманка ли я, или проститутка, или Бог знает что еще. Я не думаю, что я на них похожа. Ведь что-то меня от них отличает? – Только намерения. На этот раз Эммануэль утвердительно кивнула. Мерви подалась вперед, расстегнула несколько пуговиц на ее платье и объявила: – Не пойду я на это свидание. Я возьму вас с собой. – Сколько вам лет? – спросила Эммануэль, как будто ее решение зависело от возраста Мерви. – Мы с вами родились в один день, только я на год позже. – Невероятно, – восхищенно проговорила Эммануэль. На несколько минут наступило молчание. – А у вас мужчин было так же много, как у Арианы? – Я не подсчитывала ее любовников. У меня каждый день новый. – Но вы говорили, что у вас есть близкий друг? – Я с ним не сплю. Я никогда не делаю этого дважды с одним мужчиной. По-моему, это скучно. – А вы уверены, что наслаждаетесь вдевятеро больше, чем они? – Вы думаете, что я фригидна? – Нет, не думаю… Не фригидна, но мы в самом деле очень разные. Вас по-настоящему не интересует ни один мужчина, ни одна – я боюсь – женщина. А я – совсем наоборот. Все они восхищают меня, все они меня возбуждают, я люблю их всех. Я была бы совершенно счастлива, если бы нашла себе любовника, единственного на всю жизнь. И если я себя так расточаю, то это не из необходимости. – Для меня это игра. – А для меня это дело красоты. Я ваяю любовь, как скульптор статую. А можно ли изваять только одну? Я должна постараться, чтобы после меня во Вселенной было больше красоты, чем до меня. Я занимаюсь любовью, потому что призвана к этому. Была бы я поэтом, я бы выражала себя в песнях. Была бы живописцем, преображала бы реальность краской и формами. Но я Эммануэль, и мне остается только выгравировать черты своей плоти на этой Земле. Я хочу этого, чтобы остаться теплой и живой через тысячи лет после того, как исчезну, и для этого я отдаю тело тысячам и тысячам других существ, и они все – моя любовь. Она увидела отсутствующий взгляд Мерви. – Возможно, вы часто спите с кем-нибудь так же, как и я, Мара, – она бессознательно употребила одно из многих имен Львенка, – но я не уверена, делаете ли вы это с таким жесамоотречением. Но я знаю, и притом лучше, чем кто-либо в этом городе, а, пожалуй, и лучше, чем кто-либо в этом мире, зачем я это делаю. И как вы недавно очень верно сказали, в этом вся разница.Райские птицы
Мари-Анж вернулась на побережье. Кристофер просто сбежал в свою Малайзию, так и не найдя в себе смелости хотя бы прикоснуться к жене друга. Подходил к концу сентябрь. Анна-Мария закончила писать глаза Эммануэль, и теперь та позировала ей обнаженной – Анна-Мария вместо скульптурного портрета Мари-Анж делала портрет Эммануэль. Эммануэль ничего не предпринимала для совращения своей подруги. Во время сеансов она избегала разговоров о любви, так же как и тем «наслаждение» и «мораль нового времени». Прекрасная итальянка была влюблена в Эммануэль, и та это знала. Однако она не хотела чтобы Анна-Мария могла ее впоследствии упрекнуть в том, что ее соблазнили. А Эммануэль получала свое от Арианы и от сиамки, чья матовая кожа не переставала восхищать ее. Марио покинул ее. Она так и не видела его у себя после ночи в Малигате. Он путешествовал по Греции и присылал ей оттуда нежные письма. Между тем приближался день рождения Арианы. Надо было заняться подготовкой этого празднования. В Сиаме, где возраст, в отличие от всего остального мира, рассчитывается по циклам, окончание каждого цикла отмечается особо торжественно. Друзья Арианы и она сама решили ни в чем не отступать от местных обычаев. А начать праздник с фантастического костюмированного бала для всего круга знакомых. Приглашенные должны были сами приготовить себе маски под руководством Мерви, посвященной во все тайны этого деликатного и тонкого ремесла. Эта работа уже сама по себе была праздником. Долгие часы проводили молодые женщины у Арианы. Пол был усыпан перьями лебедей и цапель, перышками канареек, хвостами попугаев, пухом голубиных перьев; здесь были перья чайки и радужной птицы-лиры, и райской птицы – чего здесь только не было! Работа продвигалась медленно – больше обсуждали, чем работали. Планы рассматривались, принимались и снова поступали на обсуждение – слишком велико было удовольствие говорить об этом. Наконец, условились, что маски должны плотно прилегать, закрывать все лицо, волосы и даже шею, глаза будут спрятаны под шелковыми ресницами и веками. В продолжение всего бала никому не позволялось снимать маску. Таким образом, никто не будет узнан и смело сможет делать все то, на что было бы трудно решиться с незамаскированным лицом. Костюмы из тончайшего материала будут плотно обтягивающими и абсолютно прозрачными. Мерви (опять эта Мерви!) знала, какими должны быть эти одеяния. Она отобрала десять черных и десять красных – оттенка, который зовется «палачески-красный», – костюмов. Это определило число женщин-птиц – их должно было быть не больше двадцати. Разумеется, эти одежды годились не для всех. Только определенных размеров грудь могла выглядеть привлекательной в таком тесном наряде. Предварительное освидетельствование сверх достоинств вынудило потому многих кандидаток согласиться, хотя и неохотно, на роль зрительниц, чтобы не отказаться от участия в празднике. У костюмов были длинные, достигающие запястий рукава, и возник вопрос: надо ли прибавить к костюму еще и перчатки? Проконсультировались с руководительницей церемонии, и она, подумав, объявила, что прикосновение тончайшего нежного шелка действует более возбуждающе, чем прикосновение голой кожи. Таким образом были выбраны тонкие шелковые перчатки: черные – для черных трико и пурпуровые – для красных. И, по правилам, перчатки не должны были сниматься ни при каких обстоятельствах. Ариана и Эммануэль думали сначала, что Мерви сделает костюмы, подобные тем, в каких выступают танцоры: они закрывают только верхнюю половину тела, с трудом достигая талии. Мерви предложила продлить их получулками-полуштанами в виде крупноячеистой рыболовной сети; если носить это без трусиков или чего-то подобного, как возбуждающе будет выглядеть такое зрелище! Но на этот раз соучастницы не согласились: человеческое терпение не беспредельно, и этим штанам не остаться целыми на всю ночь именно благодаря их привлекательности! А уж коли гости обязаны не снимать масок и перчаток в течение всего праздника, с какой же стати делать исключение для штанов, или как их там хочет назвать Мерви. Таким образом, законопроект Львенка был забаллотирован. В порядке разъяснения Эммануэль предложила, что уж лучше им быть с самого начала вечера совсем обнаженными ниже пояса. Мару, к примеру, если она поднимет чуть-чуть кончики перьев, будет вполне украшать ее естественный пушок. Дело не в костюмах, заметил кто-то. Дело в том, кто их будет надевать: вот в чем трудность! Легко можно отыскать и больше, чем двадцать прекрасных женских статуэток. Но ведь мысль состоит в том, чтобы устроить парад красоты. Это должен быть парад интеллектов без предрассудков, и связанных друг с другом взаимной симпатией. Ведь это был не чей-нибудь день рождения, а день рождения Арианы, и готовить надо не просто спектакль, а пиршество любви! Организационный комитет просматривал списки участниц, ревизуя их ежедневно, сначала из эстетических соображений, потом из практических надобностей, заполняя бреши, образовавшиеся вследствие отъезда, нездоровья или просто малодушия приглашенных женщин. Наконец, все было утрясено, и когда подсчитали число масок, стало ясно, что успех обеспечен. Затем на обсуждение был поставлен вопрос о гостях мужского пола. Должны ли они также быть в масках? Нет, это должно быть привилегией женщин. Только им предназначалось быть загадкой на этом празднике, – птицам со спрятанными лицами и открытыми телами. Мужчинам в эту ночь отводилась роль скромных прислужников богинь. И только богини будут полуобнаженными. Мужчины обязаны явиться в вечерних костюмах! А сколько их будет? Столько же, сколько и женщин? Ну уж нет, это было бы слишком легко для них. Пусть они соперничают друг с другом, пусть выстраиваются в очередь. Пусть их будет больше, неважно на сколько, но больше. Обсуждалось также, следует ли приглашать мужей. Ни одного, сказала Мерви. Ариана придерживалась противоположного мнения: среди них есть вполне заслуживающие приглашения, например, Жан. И обе они смутились, когда в спор вмешалась Эммануэль. – Нет, Жана не надо, – отрезала она. – Без Жана. Ведь Анна-Мария не сможет прийти, вы ведь знаете. При чем здесь Анна-Мария, удивились обе спорщицы. Но Эммануэль не стала вдаваться в объяснения, и они ее больше ни о чем не спрашивали. Накануне большого праздника приятельницы Арианы собрались в последний раз для примерки своих костюмов. Великолепные в своих тяжелых бархатных плащах, подметающих пол, – они сбросят их позже, только после того, как зрители как следует истомятся, – они долго молча наслаждаются зрелищем своих масок, в которых много из царства птиц, но еще больше из царства грез; масок, под которыми трудно узнать смертных женщин. Маска Эммануэль – маска молодой коринфской совы с ржаво-красным хохолком над ушами – выглядела торжественно и серьезно: глаза были обрамлены бриллиантовыми слезками. Но Эммануэль казалась себе в этой маске не только совой, она выбрала себе другое имя – «Нимфа Ночи». Оранжевый, высокий и плотный гребень, высокомерное выражение глаз и голубоватый клюв придавали внешности Арианы почти мистическое очарование. Какое женское, сердце могло устоять перед подобным волшебством? Мерви предстала райской птицей с ярко окрашенной грудью и высоким султаном на шлеме – может быть, это была корона древних инков, за которой так охотились когда-то конквистадоры? Одна африканка соорудила на голове подобие трибуны с флагами – именно так выглядели длинные перья, спускавшиеся со лба и металлически шумевшие, как знамена на ветру. Только звук был резкий, неприятный, такой, что бил по нервам. Это таинственное шествие пораженных своими собственными произведениями художниц расцветило паркет пустого зала в красное и черное, а перья и хохолки исполняли в полумраке притушенных ламп феерический танец. И появляющиеся, наконец, обнаженные ягодицы так ошеломляюще соблазнительно контрастировали с причудливыми масками на лицах! А как различны по цвету эти длинные, волшебные ноги – загорелые у блондинок и тускло поблескивающие у сиамок! Таинственный взгляд и красно-оранжевое петушиное оперение с великолепным султаном, отороченным темно-пурпурной каймой, епископская мантия и непомерно длинный шлейф райской птицы – все это больше, чем маскарад: это сюрреалистические фигуры спутниц, явленные из мужских снов, из их попыток разгадать тайну Вечно Женственного. Воплощаясь ярким оперением, превращаясь в буйство красок, не были ли они более могущественны и привлекательны, чем тело возлюбленной? Птицы пообещали друг другу, что чудо будет длиться как можно дольше. Ни страсти, ни насмешки не позволят им скинуть чары, и они будут сиять своим сказочным оперением, своими неразоблаченными тайнами, скорее пробуждая отчаяние, чем успокаивая его. Метаморфозы были такими совершенными, что даже посвященные с трудом могли распознать под красноперой манишкой какаду или мягкими плечиками гиацинтового ара, под празднично окрашенной или смешно заостренной куколью бразильского колибри кудри шестнадцатилетней алжирки, совершенно неузнаваемые даже теми, кто столько раз гладил и целовал их. Разумеется, просто из мужчин мог вполне простительно пошутить и внести в ход праздника нарочитую сумятицу. Они сделали бы это не без задней мысли спутать Лауру и Мерви, опознать в Джамиле Мали, предположить, что под Марией скрывается Эммануэль, а под перьями Мариам – Дафна. И если, не в силах отказаться от своих желаний, они все-таки им отдадутся, в мужских объятиях близкие существа обернутся недоступной красотой, виденной, казалось, уже где-то и когда-то. Как удивятся они потом, осчастливленные незнакомыми и в то же время такими знакомыми подругами! Весь день дамы наслаждались предвкушением этой игры. Они заранее предоставили своим поклонникам возможность всяческих злоупотреблений. Для них это удобный случай познать бессмертное, сверхчеловеческое, неведомое дотоле: что может быть лучше в этих обстоятельствах, чем тянуться к женщине и овладеть… гением. Зал был разделен на две половины спускающимся с потолка занавесом из белого шелка. Лампы были погашены, и только в глубине, за занавесом, горел яркий прожектор. Гостям, расположившимся в мягких глубоких креслах, предлагались напитки на любой вкус. В темной половине зала были только мужчины и женщины, не участвовавшие в маскараде. На белом полотнище экрана возникают смутные видения, почти галлюцинации: осторожно взятые тонкими пальцами, словно нежные цветы, фаллосы разных размеров и форм; их два, четыре, восемь… В медленном ритме паваны кружат они вокруг фантома, вокруг призрака женщины, чье реальное тело живет там, в запретном пространстве между прожектором и шелком… Силуэт ее изгибается в сладкой истоме и, словно надломившись, опускается вниз; ее едва можно различить теперь. Видна только грудь. О, если бы эта нераспознаваемая фея сняла со своей головы волшебное оперенье! Чья-то прозрачная рука возникает из ничего, описывает в воздухе параболу, одна ладонь ложится на невидимый живот, становится различим палец, двигающийся взад-вперед там, где скрыт признак пола. Этот фаллический призрак все убыстряет ритм танца, наконец, он танцует бесшабашную джигу, а женское тело выгибается, опираясь о землю только пятками и затылком, превращается в натянутую струну. Внезапно палец исчезает, Приап успокаивается, силуэт бледнеет, экран погружается в темноту… Как только он вспыхивает, становится виден новый профиль с остро торчащей грудью, длинными стройными ногами, голову украшает воздушная прическа, высокая, как корона. С левой стороны возникает еще одна фигура; танцуя под аккомпанемент глухо звучащих колокольчиков, она приближается к первой, и признак мужественности выдается вперед решительно и строго, как на этрусских фресках. И вот два образа соединяются. Легко, как пушинку, поднимает мужская тень женскую. Выгнув спину, крепко стоя на невидимых ногах, мужчина с силой проникает в балерину, а та заключает его в крепкие объятия. Все это ясно видно под искусственным лунным светом. И снова ночь покрывает слившиеся силуэты своим покровом. Но начинает светать, и в этих искусственных утренних сумерках вновь стала видна женская фигура, неясно только, та ли, что была прежде, или другая: легче отличить друг от друга летающих райских птиц. Она садится, подогнув под себя одну ногу и вытянув другую. Мужчина, а может быть, фавн, приближается к ней, опускается на колени. Женский силуэт кладет ногу на его плечо и делает движение навстречу жаждущему рту. Тень мужской головы зарывается в тень женских бедер, и женщина откидывается назад, подставив грудь небесам. И свет медленно меркнет… На переднем плане четвертой картины предстает сидящий мужчина. Тень женщины – нет, музы! – возникает перед ним из мрака. Ее волосы подобны облаку, и походка ее воздушна; танцуя, она приближается к нему, склоняется все ниже. Фаллос героя медленно вырастает ей навстречу и, наконец, сливается с этим туманным неразличимым ликом. Но потом снова появляется и вновь исчезает, окунаясь вглубь торжественно, священнодействуя, творя какой-то ритуальный обряд. Женщина исчезает. Полубог остается один. Но ненадолго – из черной пелены вырисовывается еще одна фигура. Мужчина простирает к ней руки, привлекает ее к себе, поднимает – и с силой вонзает в нее свой член. Мягкие женские округлости сливаются с лепной мускулатурой любовника. Руки обвивают его шею, губы прижимаются к губам. И тело женщины изгибается с океанической гибкостью, вытягивается к воображаемому потолку, опускается и снова парит в воздухе. И при каждом движении жезл плодородия появляется и снова погружается в глубокую тень. Зрители вне себя: каждая жилка, каждый нерв напряжен, неукротимая сила пульсирует в их потаенных членах. Но представление продолжается. Женщина подпрыгивает, взмахивая руками в воздухе, волосы распущены и касаются земли, живот мужчины сотрясают судороги. Кажется, животворный сок так и хлещет из него. Следующая сцена являет зрителям покоящуюся на высоком ложе женщину. Ее плечи и лицо совершенно исчезают под густой копной волос. Широко раскинув ноги, она словно ждет кого-то. И он появляется. При его появлении женщина поворачивается спиной, выгнув поясницу, становится на колени. Исполнитель мужской роли вонзается в нее сзади так глубоко, что дальнейшее движение становится, по-видимому, невозможным. Поэтому он внезапно застывает. И женщина каменеет. Сразу же от левой кулисы отделяется другая женская фигура. Плавными шагами подходит она к замершей паре. Выступающий наружу бугор Венеры прикасается к женскому изваянию: женщина сразу же оживает, поднимает голову, становится виден ее профиль, жадными губами она впивается в приманку. Это возвращает к жизни и мужчину. С внезапной яростью он начинает терзать бедра пленницы, и та, разорвав привычную тишину театра теней долгими дикими криками, исчезает в ночи. Какое-то время экран пуст. Потом на нем появляются двое стоящих друг против друга мужчин. Они сближаются так тесно, что два их ясно различимых, торчащих вперед стержня сливаются в один огромный, толщиной в руку, фаллос. За спиной каждого нечто вроде стола или алтаря. Слева и справа два женских существа, напоминающие барельефы на нубийских вазах. Груди выступают над плоскими животами. Обе фигуры медленно приближаются к центральной группе. Но правая останавливается на полпути, а левая опускается между двумя мужчинами на землю и образует с ними одно целое. Нужно быть особенно внимательным или обладать ярким воображением, чтобы увидеть, как она берет в рот этот двойной лингам. Потом она поднимается и вытягивается на одном из стволов. Голова ее на уровне мужских бедер, и мужчины немного придвигаются к ней так, что могут губами прикоснуться к женскому телу. Вторая женщина повторяет в точности весь ритуал и устраивается на втором столе, образуя с первой полную симметрию. Теперь обе средние фигуры прерывают свой несколько гомосексуальный тет-а-тет, делают полуоборот и приближаются к алтарям: губы женщин раскрываются им навстречу, и каждая из лежащих завладевает фаллосом своего любовника. Затем показываются две женские тени, несущие между своими грудями мужские символы. Грациозными обольстительными движениями снимают они с шеи искусственные приапы и прививают их к жаждущим телам. Потом опускаются на колени между бедер этих новых гермафродитов и приникают губами к тем нежным росткам, которые они только что постарались облагородить. Еще двое мужчин: они появляются справа и слева и приближаются к коленопреклоненным женщинам. А те в тот же миг отворачиваются от искусственных приапов, которые они только что всадили своим возлюбленным, и стремятся отведать вновь прибывших. Их сноровка привлекает внимание двух других мужчин, от которых они оторвались, и те снова поворачиваются и подступают к этим женщинам сзади, приподняв их за бедра: по движениям мужчин видно, что они проникли достаточно глубоко. Двух стоящих мужчин, чьи стержни были во рту превратившихся в андрогинов женщин, разделяло небольшое расстояние, и это пространство требовало заполнения. Показались еще две мужские персоны. Они встретились в центре экрана, задвигались, закружились в пустом пространстве и наконец приняли точно такую же позицию, которую сначала занимала первая мужская пара. Все четверо касались друг друга ягодицами. Едва утвердились они в таком положении, как с обеих сторон экрана на сцену выпрыгнули две новые женщины, потом еще две. Первые расположились вдоль алтарных столов и принялись целовать груди лежавших там, ласкать следы, оставленные искусственными фаллосами. Две другие, присев на корточки возле приникших к приапам женщин, потянулись к низу их животов – ведь их любовники избрали другой путь. Свободной рукой каждая женщина ласкала грудь партнерши. Шесть групп образовались на сцене: в каждой группе один мужчина и две женщины. Мужчина, обняв одну из них за талию, укладывал ее на спину так, что ее голова упиралась в пятки другого представителя сильного пола, того самого, кого в это время содомировала поклонница искусственного приапа. Другую ученицу располагали так, чтобы ее удобно было вылизывать той, что лежала на спине. А руки «верхней» женщины должны были быть достаточно длинны, чтобы дотянуться до мужских плеч и суметь потрогать мужскую стать третьего из четверки, вонзившегося в зад ее подруги. Эти сцены разворачиваются на обеих сторонах дипти-хона. Мужчины, приведенные четырьмя последними исполнительницами, занимают окончательное место на телах своих возлюбленных; но если раньше работали только губы и языки, то теперь соитие совершается по всем правилам. И в то же время каждый из них ласкает грудь той, которую лижет его подруга и соединяет на ее бутоне мужской и женский языки. Их движения в постоянной гармонии с поведением других: с жестами женщин, в которых они вонзаются, с теми, кого они ласкают языком и руками, в то время как их ласкают другие мужчины и женщины. Вся прелесть картины именно в этой координации межчеловеческих отношений. Между тем свет мало-помалу меркнет, и нужно приложить немало усилий, чтобы различить отдельные силуэты. Сгущающаяся тень стирает изображения с экрана, заполняет последние пустоты между фигурами и все-таки не заканчивает игры. Тонкой игры черных и серых тонов, которые движутся, вздрагивают, пробуждая в тех, кто наблюдает за ними, какие-то могучие желания…День радости
Улица бежала к морю вдоль поросшего лотосами канала, по которому сновали моторки и парусные лодочки. Тяжелое колесо с деревянными спицами поднимало тинистую воду, чтобы оросить ею фруктовые сады и жаждущие влаги рисовые поля. Сети на длинных деревянных шестах кое-где перегораживали канал, и при приближении суденышка мальчишки, оберегавшие эти сети, с громкими криками оттягивали их к берегу. Машина обгоняет монахов, степенно бредущих гуськом среди этой жужжащей, как рой насекомых, толпы. У каждого монаха, кроме медной маски, куда набожные женщины складывают им ежедневное подаяние, в руках еще и тяжелый солнечный зонт. – Чего это они так навьючены? – удивляется Эммануэль. – Они же не открывают зонтов, хотя солнце ухе жарит во всю. – Это не совсем обычные зонты, – объясняет Жан, – это скорее палатки. Когда наступает ночь, монах останавливается на ночлег там, где она его застала, снимает шелк с палки и укладывается в него. Так и ночует, никому не платя за пристанище. – А если идет дождь? – Тогда он вымокает. – А не лучше ли монахам для богомолья, для путешествия пилигримов подождать сухого времени года? – А сухое время года как раз и начинается. Сегодня вечером мы увидим тысячи корабликов из кокосовой скорлупы, из кожуры бананов. На них будут гореть свечи, и кораблики, приносящие счастье, будут плыть по каналам и речкам, а Матери Вод будут приносить жертвы цветами и плодами. Это «Лой Кратонг» – День Радости и Счастья. В этот день влюбленные обручаются, а обрученные женятся. – Оказывается, существует мир, где не каждый день посвящается любви? – с деланным возмущением воскликнула Анна-Мария. – Бедная Эммануэль, ей придется ждать конца сезона дождей! – Я укорочу все сезоны! Накануне они сидели все втроем, Анна-Мария – между Эммануэль и ее мужем. Жан сообщил им, что ему предстоит поехать к границе. Дорога будет идти через Патайю. Эммануэль радостно воскликнула: – Навестим Мари-Анж! – По дороге туда у меня не будет времени. Но я тебя там оставлю, а на обратном пути заеду за тобой и побуду там подольше. – А ты долго пробудешь в Шатобуне? – Всю неделю, вернусь в воскресенье. – А если я возьму с собой Анну-Марию? – Прекрасно! Я сниму тебе тогда бунгало, чтобы вы ничуть не стесняли Мари-Анж и ее матушку. Анна-Мария погрузила в машину мольберт и кисти, Эммануэль захватила с собой в этот крестовый поход кинокамеру, журналы, книги, пластинки. Жан расхохотался при виде этого снаряжения. К тому же блузка, которую надела Эммануэль, была столь крупной вязки, что оба ее соска торчали наружу и выглядели даже более вызывающе, чем обычно. Что же касается юбки, то на этот раз она была из прозрачного джута и так коротка, что когда Эммануэль садилась, она выглядела обнаженной чуть ли не до пупка. И, конечно, это не могло остаться незамеченным. Пассажиры и механики обступили в восторженном изумлении машину, едва Жан притормозил около первой же бензоколонки на выезде из города. Эммануэль была в таком беспредельном восторге, что Анна-Мария не решилась ни на какой упрек. Но все-таки она сказала с усмешкой: – Эти славные люди теперь будут все измерять в вашем масштабе. Они этого зрелища не забудут никогда. В разговор вмешался Жан: – Этой стране не хватает мыслящей субстанции. И всякий, кто помогает ей избавляться от этого недостатка, совершает акт человеколюбия. Вы знаете, что моя жена всегда готова к этому. – Фу, – фыркнула Эммануэль, – да я прокатилась нагишом через весь Бангкок, и никто этого вроде бы и не заметил. – Нет, – возразил Жан, – весь город до сих пор говорит об этом. – Секрет искренности Эммануэль в том, – стала рассуждать Анна-Мария, – что она любит как раз то, что показывает. И принимая это во внимание, на нее можно не обижаться. Машина рванулась с места, и Эммануэль откинуло на спилку сиденья так, что взгляду открылся ее нежно-коричневый живот и матово поблескивающие завитки волос. – Может быть, это вам не нравится? – спросила она молодую итальянку. И так как она не ответила, Эммануэль взяла ее руку и приложила прямо к своему руну. В первый раз дотронулась Анна-Мария до столь интимной части тела Эммануэль. Сердце ее учащенно забилось. Это была и боязнь ранить свою подругу, и боязнь показаться ханжой, если бы она слишком поспешно отдернула руку после почти двух месяцев довольно близких отношений. Но ей не хотелось показать, что она придает чересчур большое значение этому жесту. Эммануэль постаралась хотя бы частично облегчить совесть Анны-Марии, удерживая руку итальянки. И все же Анна-Мария оказалась в затруднительном положении, поскольку ситуация затягивалась, и она разрывалась между тем, что ей предписывала мораль, и соблазном отклониться от морали. А еще больше усиливало ее смущение присутствие Жана. Зато Эммануэль блаженствовала, и ее, казалось, ничуть не трогало зрелище мучений своей подруги. Она крепко сжала ногами эту вожделенную руку и почти незаметными движениями бедер доставляла себе радость самых утонченных ласк… Растущее наслаждение и расслабляющая нежность трепетали на губах Эммануэль, и смущение Анны-Марии мало-помалу уступало ощущению удовлетворенности и некоей гордости. Никто никогда не доставлял ей такого сладострастного чувства, как эта плоть, вздрагивающая под ее рукой, как живая птица, и отдающая поглаживающей ласковой руке свое тепло. У Анны-Марии дрожали пальцы, а прекрасное, сияющее тело все плотней и плотней прижималось к ней. «Она счастлива, – сказала себе Анна-Мария, – и разве можно злиться на нее. Да кроме того, я же люблю ее, надо быть логичной». Эммануэль обняла Анну-Марию и прижалась щекой к ее щеке. – Ты возлюбленная моя, – прошептала она, обмирая от счастья. – Любовь моя, ты моя возлюбленная! Анна-Мария не знала, что отвечать. С каждым движением пальцев ее все больше пьянила открывающаяся ей радость плоти. Она вздрагивала всем телом. Желание, оказавшееся сильнее всех опасений, всех защитных механизмов юной девушки, раскрывало в ее душе доселе скрытые надежды и силы. Она дала Эммануэль свои губы, позволила рукам Эммануэль сжать ее груди, а потом скользнуть вниз по животу. «О нет, – подумала она, – Нет». Но не сделала ни единой попытки сопротивления, и пока Эммануэль по-хозяйски распоряжалась ее телом, путаные мысли кружились в ее опустевшем сознании, и она не могла уяснить себе, наслаждение ли она испытывает или нечто другое. Но то, что она любит, она поняла. И все, что было, кроме этого понимания, в этой неразберихе чувств, картин, мыслей, которая могла взорвать ее разум, выразилось в крике, банальном, пошлом крике, ясно и просто вместившем в себя ту истину, которую так мучительно ищут все живые создания и которая помогает им освободиться от их изолгавшегося здравого смысла: – Вот! Вот оно! Эммануэль не скоро прервала молчание. – Завтра придет Марио, – сказала она. – Мы должны считать себя осчастливленными, потому что он решил: я должна броситься к его ногам. – А где он разместится? – поинтересовался Жан. – У нас. У Мари-Анж мало места. Анна-Мария забеспокоилась: – А у нас хватит кроватей? – Нет, – сказала Эммануэль, – но он ведь твой кузен. – Благодарю покорно, – запротестовала итальянка. – В нашем роду еще не было кровосмешения. – Тогда он будет спать в моей постели, – отрезала ее подруга. – Вот это гораздо лучше, – одобрил Жан. Автомобиль несется на полной скорости, и Анну-Марию прижимает к Эммануэль. Она поспешно отодвигается и, нахмуря брови, задает Жану вопрос: – Жан, а вам безразлично, если другой мужчина спит с вашей женой? – Мне? – Вам. – Меня это радует. «Не скажу больше ни единого слова», – мысленно клянется Анна-Мария. Впрочем, она все же осмеливается сказать, едва только Жан поворачивается к ней. Любопытство пересиливает. Неужели возможно, чтобы Жан всерьез одобрял эротические спектакли Эммануэль? Нет, она заставит его высказаться ясно и недвусмысленно. – Значит, вы ее не любите. Как и следовало ожидать, Жан отнесся с полным равнодушием к подобному обвинению. Он лишь спросил: – Как же можно говорить, что я не люблю, если я радуюсь, видя ее счастливой? – Не рассказывайте мне, что равнодушие и жертвенность супруга заходят так далеко, – усмехнулась Анна-Мария. – Помилуйте, да я бы со стыда сгорела, если бы меня считали жертвенной натурой! – Что за высокомерие! Или, вернее, что за нелепость! – Нисколько! Подумайте хорошенько, и вы убедитесь, что то, что в глазах общества может выглядеть как жертва, в общем-то не что иное, как отвратительная смесь самомнения и трусости: добродетель кланяется пороку. Это не мой жанр. – А что ваш жанр? – Или мне поступок Эммануэль кажется плохим, и тогда я против него, или я оставлю ее в покое, потому что согласен с ним. Это всего-навсего здоровый эгоизм безо всякой ложной стыдливости: все, что я нахожу подходящим для нее, подходит и мне. – Вы хотите мне внушить, что Эммануэль становится лучше после того, как побывает с первым встречным, или что вы ей благодарны, когда она торгует собой, чтобы улучшить семейный бюджет? – Моя точка зрения гораздо проще: Эммануэль для меня Эммануэль – и ничто другое. – Что это значит? – Ее нельзя отделить от меня, а меня отделить от нее. Она – это я. – Нельзя же ревновать самого себя, – пояснила Эммануэль. – Два партнера могут ссориться, у них могут быть разные интересы, – продолжал Жан, – или же один может подавлять другого. Но мы не партнеры. Невозможно, чтобы ее радость была моей горечью, чтобы то, что доставляет ей удовольствие, внушало мне отвращение, чтобы ее любовь была моей ненавистью. И здесь нет моей заслуги. Я хочу для нее добра, потому что это добро и для меня. – То, что делает один, побуждает и другого поступать так же. Нам и не нужно физически существовать обязательно вместе. Все равно: там, где Жан, там и я. – Мы одно существо, – опередил Жан. – Вот-вот, – обрадовалась Эммануэль, – мы двуполая клетка, и, вернее всего, нам предстоит размножаться делением! – Ее тело становится моим: она несет женский принцип, а я – мужской инстинкт. Ее грудь, когда ее ласкают, – это моя грудь, ее живот – мой живот. Она раздвигает для меня пределы возможного и открывает ворота мира, в которые никто из мужчин не входил до этого. – А вы не чувствуете себя при этом, раз уж вы так отождествляете себя с нею, – а она ведь бывает любима другими мужчинами, – немного гомосексуалистом? – Когда я – это она, я – женщина. И если она любит женщин, я предаюсь лесбийской любви. Анна-Мария залилась краской. Жан рассмеялся. Но молодая женщина быстро пришла в себя и продолжила расспросы: – Вы это в самом деле чувствуете или только миритесь с неверностью Эммануэль, чтобы не потерять ее? – Меня потерять? – удивилась Эммануэль. – Да это невозможно, чтобы мы с Жаном потеряли друг друга. Разве я ему изменяла когда-нибудь? – Эммануэль мне верна: разве может часть изменить целому? И мы никогда не испытывали страха расставания. – Как вы уверены в себе, – с некоторой горечью сказала Анна-Мария, – Между вами существует, наверное, какой-то род телепатии, позволяющий не сомневаться? – Этой телепатии столько же лет, сколько и человеку. Она носит несколько высокопарное, но точное имя: взаимная любовь. Тот, кто может сострадать другому, не может не обрадоваться его радости. – Анна-Мария, душа моя, Жан ответил тебе на самый главный вопрос, который ты ему все время задавала. – Какой? – Подумай, и ты догадаешься. Однако Жан больше не открывал рта, и Анна-Мария смотрела рассеянно на бесконечные мангровые заросли по обеим сторонам дороги. На какое-то мгновение все трое словно погрузились в дремоту. И чтобы стряхнуть с себя оцепенение, завороженность прошедшей беседой, юная итальянка решила отчаянно протестовать против этой логики, на что, впрочем, ее спутник не обратил внимания. – Но тот, кто так живет, отчаянно рискует! Разве вы не боитесь, что другой мужчина увидит вашу жену обнаженной, что ее трогают, ложатся на нее. Неужели вам хочется… Перекресток. Никаких указателей. – Я думаю, мы должны повернуть вправо, – говорит Жан. Он резко поворачивает, шины взвизгивают, и Анну-Марию со всей силой прижимает к нему. А он, будто не замечая смущения спутницы, продолжает прерванный разговор: – Бдительность была бы лучше? Но когда ревнивый любовник упрятывает красоту под замок, у нее в руках оказывается отмычка. И потом, я думаю, будь я трусом, я не мог бы понравиться Эммануэль. Малодушие, моя дорогая, большая глупость. А кого я накажу, если из боязни, что кто-то увидит ее обнаженной, стану постоянно прикрывать ее? Прежде всего – себя, лишившись этой красоты. Можно ли прятать то, что любишь? Вы сами, Анна-Мария, точно заметили недавно, что Эммануэль любит свое тело, гордится им и потому так охотно демонстрирует его. Для меня нет ничего хуже, чем представить, как какой-нибудь узник сует своим товарищам по тюрьме фотографии и объясняет с сияющим видом: «Вы только посмотрите, какая она уродина. Страшная, как старая ведьма. Я на ней только потому и женился, что с такой рожей она никогда не сможет мне изменять». – В ревности, конечно, есть что-то безумное. Но ее нельзя отделить от любви. Разве возможно не мучиться от того, что другой берет вашу любимую женщину. Так какой же вы мужчина после этого! – «О девы гнев, услада из услад, склоняюсь пред тобой», – насмешливо продекламировала Эммануэль. – «Берет ее», – задумчиво сказал Жан, – язык любви так зыбок. Что берет мужчина, даря женщине самую большую радость? Он берет ее? В крайнем случае, он берет что-то из ее радости. А что он берет у меня? – Он берет то, что она могла бы отдать вам. – Есть какая-то мера, соотношение? И как установить норму этого, как распределить рацион? Я этого не знаю… Но она не дает другим ничего из того, что принадлежит мне. – Разве не унизительно делить ее тело с первым встречным? Не достойнее ли все отдавать вам, чем впускать к себе чужих? – Думаю, вы сами уже ответили на этот вопрос. Вы все время говорите о гордости, о ценности вещей, о радости обладания, о праве исключительного владения. Я же говорю о любви. – Но ведь эта любовь должна быть чем-то святым. Вы оба насмехаетесь над моим религиозным чувством. Но религия плоти внушает еще меньше доверия. – Разве вы можете себе вообразить меня отдельно от ее тела? Спросите себя самое. Но моя любовь вовсе не ограничена пределами плоти. Они обозначают не конец нашего путешествия, а только начало его. Я не знаю, мог ли я вообще любить до того, как встретил Эммануэль. Я только знаю, что беспредельность любви открылась для меня лишь после встречи с Эммануэль. Но не думайте, что путь к этому пониманию был безболезненным. Несмотря на то, что мы не знали ревности. Если я иногда боялся (потому что я отнюдь не совершенство, и страх овладевает мною, как и всяким смертным), то это не из опасения, что ее не будет для меня, а как раз наоборот: что ее не будет для себя. Что осталось бы мне, если бы я лишился необходимости заботиться о ней, если бы ночью, когда она раскроется во сне и начнет мерзнуть, я не мог бы укрыть ее? Кому я должен был бы подносить лекарство, когда грипп превращает ее в беспомощного ребенка? Как бы я выглядел перед друзьями, если бы сказал им: я ничего не сделал, чтобы сберечь женщину, которая доверилась мне? Ведь все они не мои соперники, а мои союзники. Анна-Мария не ответила. Дорога сузилась настолько, что лежала перед ними, как железнодорожная колея, уходящая в ничто. Жан сбросил скорость. От пыли першило в горле. – У Жана нет никакого основания ревновать меня к моим любовникам, – сказала Эммануэль. – Скорее они могут ревновать к нему. Никто из них не может дать мне того, что дает он. Не подумай, что я имею в виду только свободу. Он сделал из меня женщину, превосходящую всех других женщин. И это счастье я полностью оценила. Он ждет от меня одного – быть личностью. И чтобы я смелостью отвечала на его доверие. Анна-Мария, тебе хотелось бы, чтобы я его разочаровала? – Единственно нужная свобода, – сказал Жан, – это та, что освобождает от страха. И если человек не боится правды, этого достаточно, чтобы чувствовать себя могучим. Я – это она, никто этого не может отрицать, но я и ее попечитель, я отвечаю за нее. И никто другой не может сказать о себе этого. И я ее люблю, потому что хочу и от нее помощи. – Моя задача – показать, что ничего, что происходит от любви, не может быть дурным, – сказала Эммануэль. – Или ты, о хладная дева, станешь утверждать, что плотская любовь – не любовь? – Плоть, – ответила Анна-Мария, – это источник добра или зла. – Если бы я не любил ее тела, – сказал Жан, – я бы вообще не мог сказать, что люблю ее. – Жан, – спросила Анна-Мария, – были бы вы обижены, если бы Эммануэль была женщиной только для вас? – Она не заслужила бы моей любви, если бы могла отказаться от самой себя. Единственное, что имеет цену, это верность себе. – Значит супружеская верность – пустой звук? – Ну, в этом случае ее еще можно было простить. – Значит, слова больше не имеют никакого смысла? – Те, под которыми прячутся фарисейство, ограниченность, конформизм, так называемое чувство приличия – да. И та «верность», под которой скрываются все эти чудовища, не содержит в себе ничего прекрасного, благородного, сердечного. – Довольствоваться одним мужчиной, – вмешалась снова в разговор Эммануэль, – когда у тебя есть силы для многих, – это все равно что подрезать крылья птице и отобрать у нее природный дар полета. – А разве не достаточно любви вдвоем? Отдаться тому единственному, кого любишь? Зачем нужны тогда другие? – спросила Анна-Мария чуть ли не со слезами на глазах. – А зачем запирать свои двери? – спокойно возразила Эммануэль. – Земля полна твоими друзьями… Гребни тянувшихся вдоль моря крутых скал с угрюмой красотой вырисовывались на фоне неба. Вдруг, приблизившись, они оказались прозрачной коралловой стеной, внутри которой словно поблескивали чьи-то внимательные глаза. – Давайте-ка остановимся здесь и перекусим птичьими гнездами, – предложил Жан. У отверстия в скале стоял вооруженный часовой. При виде трех иностранцев он приветливо улыбнулся. Они подошли к расселине; оттуда внезапно дохнуло таким холодом, что они было остановились. Но расселина расширилась, и они оказались в колоссальной пещере, куда свет проникал сверху через глубокую шахту. Множество птиц сновало под ее сводами, здесь стояло несколько столов доски, брошенные на грубоотесанные камни, да хлопотал возле передвижной кухни веселый китаец. Несколько туземцев подцепляли из мисок палочками какую-то желеобразную массу. Вновь прибывшие подсели к их столу. – А для чего стоит у входа солдат? – удивилась Анна-Мария. – Эта пещера – настоящая сокровищница, – объяснил Жан. – Гнезда государственная собственность. К тому же и птицы защищены законом. Даже кобру нельзя убить – на вас наложат огромный штраф. – Это ласточки? – Нет, они принадлежат к подсемейству стрижей, очень бойкому и, как вы слышите, довольно громкому подсемейству. Их называют стрижи-саланганы, а по-здешнему – «йаны». Кормятся они насекомыми, водорослями и планктоном. – И из этих водорослей строят свои гнезда? – Отнюдь. Рискуя вызвать ваше отвращение, скажу вам, что они делают гнезда из своей слюны, – это нечто среднее между желатином и яичным белком. И вот из, этой субстанции, богатой протеином, йодом и витаминами, получается кулинарное чудо для знатоков, к каковым принадлежите и вы. Улыбающийся повар поставил перед ними огромное блюдо. – Так как коготки йаны не годятся для ветвей и сучьев, – продолжал лекцию Жан, – то они устраивают свои гнезда не на деревьях, а на скалах и утесах необитаемых островов или в таких пещерах. Некоторым жителям этих мест дарована привилегия собирать такой урожай. Их называют чао-хо – люди пещер. И вот они, когда приходит пора, карабкаются по длинным канатам из бамбуковых волокон вверх, рискуя жизнью и нередко теряя ее, укрепляя своей кровью птичьи гнезда. – Нет, – вздрогнула Анна-Мария, – я расхотела есть. Изящный, с благородной осанкой мужчина в сопровождении четырех молодых и очень хорошеньких женщин, каждая из которых несла на голове большую корзину, прошествовал мимо них. – Вот один из чао-хо, – сказал Жан, – со своими женами. – Четыре! Я думала, что законы Сиама не разрешают многоженства. – На законы ему плевать. Тот, кто живет рискуя, учится любить жизнь. Охотник за гнездами бросил заинтересованный взгляд на обнаженную грудь Эммануэль. Женщины хихикнули. – Гляди-ка, – сказала Эммануэль, – они не ревнивы. – Может быть, им хочется быть впятером, – сказала Анна-Мария. – Поехали, – сказал Жан. – Пора, через полчаса мы будем на месте. Жаркое сияющее солнце заставило их онеметь, когда они вышли наружу, и пролетело немало километров, прежде чем Анна-Мария снова взялась за свое. – Должны ли женщины племени жить вчетвером с одним мужчиной, потому что большинство других гибнет во время своей охоты в скалах? – «Должны»! – возмутилась Эммануэль. – Кто сказал тебе, что они должны? – Они свободны в выборе, – объяснил Жан, – но вообще-то они неохотно соглашаются на моногамию. – Почему? – Они стыдятся этого. – Брак вдвоем, если он не расширяется, ведет обычно к крушению, авторитетно подтвердила Эммануэль. – Супружеской неверности уже недостаточно, – ужаснулась Анна-Мария, переходим к полигамии! – Давайте оставим этот старый обман, – вмешался довольно добродушным тоном Жан, – быть полигамным – значит делиться. Мы ищем постоянно растущего единства. Того, что обогатит парный брак возможно большим количеством людей. – Вот, к примеру, брак втроем, – воскликнула Эммануэль, – это же противоположность полигамии. – Ах, вот как? Еще одна химера! Удивительно, что она еще не осуществляется. – Полигамия в прошлом, дуэт – наше настоящее, а трио, гармоническое трио, – это новизна, пока будущее не предложит нам новых рецептов, – улыбнулся Жан, – ведь мы до сих пор только начинали, эволюция пойдет дальше. – Откровенности, доверчивости и в браке вдвоем приходится тяжко, вздохнула Анна-Мария, – подумайте: ведь брак втроем превратит жизнь в ад. – Лучше думать о том, что он будет раем. – По всей вероятности, – продолжала Анна-Мария, – один из партнеров рано или поздно будет отодвинут, заклеймен как захватчик, и сердцевина вашей триады превратится в уютный, привычный двусторонний союз. Не такой, безусловно, каким он был вначале, но он станет чем-то новым. – Хороший брак может состоять из трехпар, – категорически заявила Эммануэль. – Как это? Шесть человек? – Нет, три человека. Один мужчина, живущий с двумя женщинами, образует пару с каждой из них, как я и Жан; две женщины соединяются в третьей паре. – Значит, без гомосексуальности никакое трио не может быть полным? – Очевидно, нет. – А если двое мужчин любят одну женщину, они тоже вступают друг с другом в связь? – Разумеется. – А двое мужчин и две женщины не лучше? – Я считаю, что да, но Марио предпочитает нечетное число. – Ах, значит, – сказала Анна-Мария, – вы будете ставить эксперимент с Марио? – Нет, – сказала Эммануэль, – с тобой. Эммануэль и Анна-Мария лежат на мягком теплом песке у самой кромки моря. Полночь уже миновала. Море молчит, мерцая во мраке. Они, поздно вернулись от Мари-Анж, и когда добрались до террасы своего бунгало, их сторож, старик с черными пиратскими усами, уже спал на пороге их жилища сном праведника, сжимая в руке толстую палку. Но они хорошо знали, что бояться им некого. Присутствие этого телохранителя было лишь символом их достойного положения. Эммануэль тут же предложила искупаться еще раз. Анна-Мария, не дожидаясь просьбы подруги, стянула с себя купальный костюм и бросила его возле спящего сторожа. Она ступила на песок и двинулась по лунному пляжу. Впервые видела ее наготу Эммануэль. И вот теперь, бок о бок с этим покоящимся телом, странная, незнакомая сдержанность парализовала руки и губы Эммануэль. Ей не хотелось, чтобы Анна-Мария говорила о любви, о мужчинах, о них обеих, а только о простых и прекрасных вещах: о пене прибоя, о бормотании моря, об острых краях раковин, царапающих кожу, о черных призраках вдали, тянущих из глубин моря тяжелые сети, наполненные живым серебром рыб. – О чем ты думаешь? – спрашивает, наконец, Эммануэль. – Ни о чем. Я счастлива. – Почему ты счастлива? – Из-за тебя. «Если б я не полюбила ее с первого взгляда, – думает Эммануэль, – я бы никогда не полюбила ее. Только поэтому могла я ждать». – Я еще не видела тебя, – говорит Эммануэль. – Смотри же. – Господи, я могу тебя любить, тебя, которая настолько прекрасней меня! – Мне уже поздно запрещать тебе это. – Ты все еще думаешь, что я дьявол? – А ты все еще думаешь, что я ангел? – Ты моя любимая, ты женушка моя. – Я буду жить с тобой и Жаном. Я буду принадлежать вам. – И я буду тебя обучать. Всему, что я люблю. – Только не торопись: я, ты видишь, еще не освободилась от страха. – Больше храбрости, моя мещаночка! Я не буду тобой командовать. Я буду обладать тобой. – Ты не станешь меня удерживать? – Растрачивать тебя не значит тебя потерять. Ты же не думаешь, что я буду терзать тебя, как хищная птица, и пить твою кровь? – А меня хватит, чтобы тебя насытить? – Нет, я ненасытна. Я всегда ищу нового. Увидеть небо… – Ты же хочешь, чтобы я о нем забыла. – Это небо ты можешь видеть. И ты увидишь, как прекрасна и счастлива наша Земля. Это наш путь, он принадлежит нам. – Что еще мы можем найти? – Все, все! Подумай о том, что нас ждет еще! О, это невозможно: этот мир никогда не будет закончен! – Будь уверена, – сказала Анна-Мария с неожиданной страстностью, – Жан и мы, все, кто походит на нас, все, кого мы любим, достигнут совершенства. – Мы – нет. Никогда. Только те, кто придет за нами. – А кто придет за нами, за мной и тобой? – Наша дочь. – Кто же ее родит? Я, ты? И кто подарит нам ее? Жан? – Или ты мне, или я тебе. Это ничего не значит. Мы будем этому учиться, рожать. Мы переделаемся. Мы изменимся. – А другие? – Остальные научатся у нас. Или их дочери и внуки их дочерей. – Но нас тогда уже не будет, – у Анны-Марии перехватило горло, – как бы я хотела оказаться в далеком, далеком времени! Когда люди станут великанами! – Молчи! Ты помнишь фавна, что говорил он еще? «Эти нимфы…» Суженая моя, сестра моя, я породила тебя, но этого мало. Любовь к тебе делает мои мечты исполненными. Я ощущаю такую жажду вечности! – Чего же ты хочешь? – Увековечить нас. Я хочу тебя. Я люблю тебя! Слиться с тобой! Взгляни сюда: здесь вода, здесь камешки, водоросли и песок. А теперь посмотри на мое тело… – О, как оно прекрасно, когда его трогают мои руки и мои губы. – Делай с ними что хочешь. В эту ночь Эммануэль покончила с девственностью юной итальянки. Над крытым камышом домиком начинало сереть утро. Сквозь широко открытые окна первые лучи солнца окрасили темным золотом два сплетенных тела. Спала ли Эммануэль? Она не знала этого. Она смотрела на солнце, встающее над предгорьями. Она смотрела на море. Ей так хотелось погрузиться в него сейчас, чтобы в его волнах почерпнуть растраченные силы. Анна-Мария еще дремала и во сне улыбалась. Эммануэль осторожно высвободилась из ее объятий и крадучись вышла из комнаты. Она никого не увидела на террасе: только белые огромные кораллы тянули к ней свои причудливые щупальца. Сторожа уже не было: он ушел вместе с ночным мраком. Видел ли он обнаженные тела, прежде чем уйти? Не помешали ли его сну их страстные стоны? На пляже Эммануэль потянулась, чтобы размять уставшее тело. Ее появление вспугнуло бакланов и альбатросов, устроившихся здесь на ночлег. Мягкий песок ласкал ее подошвы. Она присела на корточки, мириады песчинок потекли между ее пальцами. Она снова выпрямилась, глотнула воздух, повернулась лицом к волнам и, наконец, вошла в воду. Она стала черной точкой, то и дело появляющейся и исчезающей среди белогривых волн. Три фигуры идут вдоль моря. Они идут неспешным прогулочным шагом, проходят мимо домика под камышовой крышей. Бросают взгляд на него: на террасе никого нет, а спящую Анну-Марию они видеть не могут. Это молодые, красивые, загорелые люди. Все трое – блондины с интеллигентными, энергичными лицами. Это, несомненно, братья. Они останавливаются, смотрят на море, о чем-то говорят между собой. Один из них пробует ступней воду, и все трое прыгают в море и плывут, пока не скрываются из глаз. Но вот пловцы возвращаются. Теперь их четверо: трое мужчин и Эммануэль. Они догнали ее в море и обрадовались этой неожиданной встрече с незнакомкой. Они окружили ее, улыбались ей, спрашивали, кто она, откуда, давно ли здесь или она постоянная жительница этих мест, – словом, говорили все, что говорят молодые люди, когда хотят познакомиться с молодой женщиной. Эммануэль отвечала, и вскоре они знали о ней все, кроме одного: только тогда, когда все четверо оказались на мелководье, они увидели, что их новая знакомая купается нагишом. Они оживились еще больше, подошли к ней вплотную. Сначала один из них, потом все вместе. Они стали трогать ее грудь, бедра. Они говорили, что никогда еще не встречали такой прелестной девушки. И у нее нет любовника? И она не любит целоваться? И вот чья-то рука уже устраивается у нее между ногами, пальцы ощупывают ее, стараются раскрыть. Она бежит к берегу и почти возле самой террасы падает на песок. Преследователи догоняют ее, и она уже ощущает тяжелое тело одного из них возле себя, его губы ищут и находят ее губы. Она чувствует, как твердый, подобно окружающим бухту скалам жезл раздвигает ее бедра. Ей понятно его нетерпение, и она распахивается навстречу ему, покорно отдаваясь мощи его натиска. Она счастлива, она радуется тому, что ее победитель так настойчив, что он не интересуется, казалось бы, ее желаниями, без всякой подготовки, без предварительной игры, он попросту наваливается на нее. А другие ждут своей очереди. Но нет! После первого неистового штурма он успокаивается, и в его движениях проступает что-то рафинированное: он ласкает ее умело и нежно. И вдруг он сползает с нее, поворачивается на спину и привлекает ее на себя. Она понимает его намерения в то самое мгновение, когда руки второго начинают раздвигать ее ягодицы, и этот юноша неудержимо проникает в нее с другой стороны, в то время как первый по-прежнему остается в ней. И, несмотря на мгновенную боль, она, чувствуя на своих губах соль моря и жаркое дыхание мужчины, спрашивает себя: можно ли быть счастливее? Ах, как прекрасны эти двойные удары! Как ощущают ее живот и поясница вес этих двух мужчин. Кажется, вот-вот они прорвут тонкую перегородку и встретятся там, внутри, подобно двум счастливым друзьям! Но этого мало: остается еще один вдох, еще одна гавань этого безбрежного тела свободна. Она поднимает голову, и третий мужчина становится обладателем ее широко раскрытых губ. Схвачено! Все трое – туда, глубже, глубже, сильнее! Она празднует мистерию страсти, улыбается, поет, ликует. Ах, как хороши три ее героя! Их трое? Нет, это один ее любовник, один с тремя орудиями наслаждения, с тремя головами, с тремя парами рук, ласкающих ее тело. И вот все четверо содрогаются в невероятных судорогах и замирают. Эммануэль освобождается и в один прыжок достигает террасы. Она откидывает бамбуковую занавеску и входит в комнату, где спит Анна-Мария. Эммануэль опускается на колени, раздвигает обеими руками ноги своей возлюбленной. Она прижимает губы к вздрогнувшему лону и вдувает туда весь жизненный сок, которым наполнен ее рот.Бартл Булл Отель «Белый носорог»
Коротко об авторе
 Бартл Булл
Бартл Булл
После бурного успеха, выпавшего на долю его первого произведения, «Сафари» — хроники ста пятидесяти лет африканских сафари, — Бартл Булл задумал описать захватывающие приключения на «черном континенте». В результате на свет появился «Отель «Белый носорог». Более тридцати лет Булл изучал Африку. Его отец во время второй мировой войны служил в гвардейских частях «Колдстрим» в Эфиопии, Ливии и Египте, а дед дружил с Генри Райдером Хаггардом, автором первого значительного произведения на африканском материале — романа «Копи царя Соломона». Бартл Булл — юрист, живет с сыном в Нью-Йорке.
«Отель «Белый носорог» гостеприимно распахивает двери перед охваченными «земельной лихорадкой» переселенцами, устремившимися в Восточную Африку после первой мировой войны. Здесь, уставший от условностей большого света, аристократ лорд Пенфолд радушно принимает гостей, пока его стареющая супруга стремится удовлетворить свой сексуальный аппетит. Здесь хитроумный карлик, бармен Оливио Алаведо, обуреваемый страстями и жаждой мести, изобретает все новые способы ублажать пресыщенных дам. Здесь чувствуют себя желанными гостями предприимчивый, воспитанный цыганами английский юноша, ослепительная уроженка Уэльса, братья-ирландцы с темным прошлым, американский ковбой и африканский вождь, разрывающийся между двумя цивилизациями, португальский шулер и его обольстительная сестра. Их влекут в Африку золото, земля, свобода, приключения и любовь — да мало ли что нужно человеку под обжигающим солнцем, и мало ли какие страсти бушуют в похожем на джунгли человеческом сердце! Бартлу Буллу есть о чем рассказать, и он делает это в прямой, откровенной, запоминающейся манере. Никаких розовых очков! В романе действуют живые люди… и много секса». «Вашингтон Пост»

ПРОЛОГ 12 ноября 1918 года
Глава 1 Отель «Белый носорог». Наньюки, Кения
Похожий на краба, Оливио карабкался вверх по стремянке позади широкой освинцованной стойки. Он подтягивался на руках до тех пор, пока крохотные ножки в сандалиях не нащупали полку. Тогда карлик вытащил из-за шафранового кушака льняное полотенце и, кое-как балансируя, заскользил по ней до конца стойки, внимательно осматривая ее поверхность: не осталось ли следов вчерашней попойки, окурков сигар или пятен кларета. Послышался громкий свист — кто-то звал Оливио на второй этаж, дуя в пустую латунную гильзу от маузера седьмого калибра. Бармен извлек из ледника последнюю бутылку шампанского и, поставив вместе с бутылкой темного пива и парой стаканов на поднос, обтянутый кожей носорога, стал подниматься по лестнице, держась маленькой ручкой за перила. Приблизившись к четвертому номеру, Оливио приставил широко раскрытый глаз к двери. На полу валялись два белых платья. Слышался мелодичный звон крохотных колокольчиков. Черные Тюльпаны! Оливио облизнулся и склонил голову набок, чтобы в поле зрения попала кровать. Ему хотелось во всех подробностях рассмотреть, как прекрасные сомалийские близнецы выполняют свой профессиональный трюк: подвергают клиента танталовым мукам разжигания и утоления страсти без проникновения. — Прочь отсюда, урод! Изнутри комнаты на дверь обрушился тяжелый ботинок. Ручка расцарапала карлику висок. Богатый опыт работы в ночных клубах Бомбея и Британской Восточной Африки подсказал Оливио: нужно сматывать удочки. Англичане весьма чувствительны во всем, что касается их отношений с африканскими женщинами — насколько вообще могут быть чувствительны англичане. Он отомстит — потом. Как многие гоанцы, Оливио Фонсека Алаведо вел длинный счет обидам. Вот уже четыреста лет португальцы оккупируют его родину — остров Гоа у берегов Индии. Когда-нибудь им дадут пинка под зад. И он, Оливио, еще проучит этого наглого англичанина, мистера Губку Хартшорна — на свой особый манер. Только англичанин мог построить в предгорьях центральной Кении отель, пристанище всех фермеров с воспаленными глазами и странствующих охотников за слоновой костью от Найроби до Абиссинии. Что они смыслят в цивилизации? Хотя во всей Британской Восточной Африке насчитывалось не более двух тысяч гоанцев, Оливио и его соотечественники построили Гоанский институт — одно из первых каменных зданий в Найроби. Три с половиной столетия назад, когда забитые английские крестьяне, как дикари, тряслись от холода в жалких лачугах с соломенными крышами, португальские мастера инквизиции уже очищали от еретиков Западную Индию. Отец Оливио — подумал он с гордостью — наверняка был побочным сыном покойного архиепископа Гоа, дона Тиаго де Кастаньеда-и-Фонсека. Оливио представил себе предполагаемых родственников — португальских вельмож, пользующихся всеми привилегиями своего класса и даже не помышляющих о его существовании — и стал прикидывать величину наследства. Рожденный в тени кафедрального собора, возведенного португальцами в шестнадцатом веке на острове, где индусы и мусульмане на протяжении многих столетий плодились и воевали, пока наместник короля дон Альбукерк в 1511 году не уничтожил последнего магометанина, Оливио научился с первого взгляда распознавать варварство. И сейчас дикий голос варварства долетал до него с просторной деревянной веранды, сопровождаемый стуком костей на столе для игры в триктрак. — «Ява»! Кофе! — выкрикнул хриплый голос. — Шевелись, парень! Одна нога здесь, другая там! С черным кенийским кофе на подносе Оливио не спеша двинулся к веранде. Проходя мимо бара, он залюбовался делом своих рук — сверкающей стойкой. Шагнув через порог и вдохнув напоенный пьянящими ароматами ветер африканского утра, он на мгновение замер. Прислушался к перекличке хохлатых удодов. Птицы весело порхали кругом, охотясь на червей и ящериц. Временами Оливио, как индиец, был всем сердцем на стороне ящерицы. А то вдруг в нем взыгрывал дух конкистадоров, и он болел за охотника. Ночью играли в триктрак. Как обычно, ставкой была земля. Никакие деньги не продержали бы неотесанных фермеров за столом всю ночь напролет. Проигравший (как правило, ставили десять акров за раз) предпринимал отчаянные усилия вернуть свою ферму. Карлик давно усвоил: англичан интересует одна земля. Даже Африка казалась им тесной — а ведь здесь можно топать много дней подряд и не встретить ни души. Если у этих людей дома была земля, они рвались в колонии за деньгами на ее содержание. А если не было, устремлялись к чужим берегам за самой землей. Теперь, когда кончилась война, они будут убивать друг друга из-за земли. Оливио подошел к игральному столику. С легким поклоном вручил победителю счет. На морщинистом, багровом от возбуждения лице фермера проступила усталость. Он протер глаза и, вытащив кипу смятых расписок, вручил одну изумленному бармену. — Откуда у меня деньги, Оливио: я же фермер. На вот, расплатись за меня. Остальное возьмешь себе — на память об окончании войны. Чертова ферма Амброза не стоит и фартинга. Какой дурак станет там жить? Обходя территорию отеля, бармен задержался во дворике позади двухэтажного здания, возле вывезенного из Англии розового куста. Не обращая внимания на шипы, он погрузил лицо в душистые ветви и, зажмурившись, вдохнул божественный аромат. Как все-таки мало люди пользуются своим носом!.. Оливио оборвал источенные насекомыми листочки. Носком сандалии раздавил белую ракушку и безжалостно расправился с ее обитательницей улиткой. И строго-настрого наказал мальчику-садовнику поливать куст так, словно это последний кукурузный стебель на плантации его отца. Семь лет назад, когда отель был уже построен, а жестяную крышу еще не привезли, хлынули апрельские ливни и залили комнаты. Тогда-то Адам Пенфолд и посадил этот розовый куст, доставленный вместе с землей из его родового поместья в Уилтшире. Спустя несколько месяцев, обеспокоенный слабостью молодых побегов, Пенфолд приказал выкопать у основания яму и привести быка, страдающего клещевой лихорадкой. Из ноздрей животного сочился гной, бока стали похожими на рыбий скелет. Пенфолд выстрелил ему в ухо из «уэбли» сорок пятого калибра и, подтолкнув агонизирующее животное в свежевырытую могилу, собственноручно засыпал ее и утрамбовал землю. Оливио нянчился с кустом, как с щенком, и тот наконец покрылся белыми цветами. Его светлость страшно гордился тем, что обеспечил кусту четыреста фунтов ходячего удобрения и таким образом спас этот маленький уголок Англии. Оливио стряхнул с себя воспоминания и полез в карман, пришитый к внутренней стороне широкого кушака, — за распиской. «Я, нижеподписавшийся, передаю подателю сего десять акров поливных земель на ранчо «Антилопа канна» у излучины Эвасо-Нгиро. Ричард Амброз, 12 ноября 1918 года». Когда-нибудь пригодится. Оливио подошел к открытой двери кухни. Оттуда, держась за руки, выскочили две стройные фигурки. Белые платья из хлопка давали достаточно полное представление об остроконечных грудях. Точеную шею каждой девушки туго охватывало колье из серебряных колокольчиков. Весь во власти неудовлетворенного желания, Оливио повернулся в сторону деревни. Там, среди акаций, жило племя кикуйю. Внимание карлика привлекла стайка молодых девушек. Сощурив глубоко посаженные глаза, он долго рассматривал их с видом знатока. Но где же та, которую он ищет? Из-под плоских камней для приготовления пищи выбивались языки пламени и курился дым. Женщины плели корзины. Мальчишки пасли скот. Несколько мужчин слонялись близ круглых, крытых соломой хижин в ожидании приятного момента, когда жены принесут им выдолбленные тыквы с густым медом — ньохи. Оливио заговорил с одним из них; тот сразу бросился на поиски вождя — приятное подтверждение раболепного уважения, с которым жители деревни относились к карлику. Они знали: от бармена зависит распределение благ, перепадающих им от отеля. После небольшой, но досадной задержки из своей хижины вышел вождь Китенджи. Худой, угловатый, как саранча, он медленно шел, опираясь на резной посох красного дерева. Остановившись у едва заметной черты, отделявшей деревню от территории отеля, старик присел на бревно. Ясно: не хочет, глядя сверху вниз, раздражать карлика. А за глаза, как и прочие дикари, называет его Чура Ньякунда — Желтая Лягушка. Оливио приготовился отражать попытки хитрого африканца что-нибудь вытянуть из него, не поступаясь ни малейшей толикой собственного имущества или власти. Кончится тем же, чем и всегда: подношением. Правда, сегодня Оливио имел в виду кое-что получше. — Приветствую тебя, великий Баба, отец моей деревни. — Где мои замечательные шкуры, старик? — прошипел Оливио. — Где корзины, которые мне обещали сплести твои старухи? — Шкуры? Это какие же, Баба? — спросил вождь, возвышая голос и закатывая водянистые глаза. — Вчера я дал тебе фасоль и крупные тыквы. А шкуры? Откуда я возьму шкуры? Моим людям запрещено охотиться. — Шкуры — на антилопах, иди и сдери. Обработай как следует и принеси мне — иначе не получишь воды из источника его светлости. — Не получу воды? Но, возлюбленный Баба, ведь тогда мои дети не смогут служить тебе. А мужчины, которых я отдал тебе, когда началась война? Вспомни, Баба: восемнадцать крепких носильщиков для английских солдат. Им пришлось идти далеко-далеко, в страну злобных дикарей, львов и болезней. Разве мои братья вернулись домой? Разве их дети сыты, а жены — согреты? Если они вернутся, станут ли почитать своего вождя после всего, что вытерпели от англичан: носили их на своем горбу, голодали и много, много раз прощались с жизнью? Какими глазами они будут смотреть на меня, бесценный Баба? — Я, что ли, начал войну, старик? — возразил карлик, ни на минуту не забывая о цели своего визита. — Я забрал себе этих людей? Заставил носить себя на закорках? Нет. Это все англичане. Жены? Покажи мне хоть одну, оставшуюся в одиночестве. Нет, они, как и прежде, приносят детей. От тебя потребовали двадцать пять мужчин — семерых я выторговал обратно. Умолил знакомого его светлости. Так что ты еще должен мне семерых, или трех молодых девушек, или одну — особенную. Оливио почувствовал, как ощетинился вождь. — Твоя дочь Кина. Только она может спасти твоего несчастного сына, подлого Кариоки. Ей уже почти двенадцать. У нее нежные, гордые грудки. Самое время… Вот оно — то единственное, в чем вождь до сих пор отказывал Желтой Лягушке! Китенджи обернулся и кликнул: — Нгери! В голове Оливио молнией пронеслось воспоминание о том довоенном дне, когда Кариоки помешал ему позабавиться со своей сестрой. С тех пор Оливио проявил бездну терпения — ждал, когда она созреет. Нехотя подошел Нгери. Он заранее знал, чего потребует Китенджи. С точки зрения колониальных властей, Нгери был злостным браконьером, зато жители деревни считали юношу своим лучшим охотником. В его жилах смешалась кровь землепашцев-кикуйю и обитателей джунглей, непревзойденных устроителей засад — нанди. — Ступай, Нгери, принеси бесценному Баба две прекрасные шкуры — все, что у нас осталось. В это время к отелю подъехал автомобиль. По-прежнему сверля Китенджи острым взглядом, Оливио машинально прислушался к шуму двигателя. Старый седан «напье». Два раза просигналил рожок. Леди Пенфолд. Придется отложить свои дела на потом. Вождь понял: на этот раз пронесло, и почтительно склонил голову. Карлик побрел к отелю. Нетрудно догадаться, каких услуг потребует хозяйка. С тех пор как леди Пенфолд убедилась в способности карлика — после соответствующей подготовки — целиком погружать руку в ее плоть, она не давала ему прохода. Даже сегодня, возвращаясь домой после бурно проведенной ночи, леди Пенфолд время от времени закрывала глаза и представляла, как крохотный, но подвижный кулачок Оливио, словно тропический цветок, распускается в ее жарких глубинах. Еще в юности Оливио постиг нехитрую истину: человек с физическими недостатками должен трудиться. И он постоянно совершенствовал свое мастерство, чтобы соответствовать доставшейся ему роли. Чем большее отвращение он внушает женщинам, тем изощреннее должны быть его ласки. Другие завоевывали женщин благодаря эффектной внешности, власти, деньгам или обаянию. Большинство мужчин, будь то англичане или кикуйю, шли к женщинам за своим кратковременным удовольствием. Мало кто, особенно из англичан, заботился о том, чтобы подарить наслаждение самой женщине. Зато карлик только об этом и думал. Давая женщинам то, чего они не получали от других мужчин, он стал предметом их грез, объектом неутолимой страсти. Оливио вошел в прихожую и поклонился хозяйке. Высокая, еще больше исхудавшая, леди Пенфолд не удостоила его взглядом, но, проходя мимо, уронила несколько распоряжений — быстрее, чем кикуйю бросали семена в борозду: — Скажи, чтобы мне приготовили ванну. Сам хорошенько вымойся и приходи со счетами. За многие годы Оливио научился распалять женщину и никогда не удовлетворять полностью. Он, как всегда, подчинился. Подождал, пока леди Пенфолд разомлела в ванне, и только после этого предстал перед ней в горячих клубах пара, как джинн, со счетами в одной маленькой ручке и кремом для массажа в другой. В серых глазах карлика появилась отрешенность. На какие-то несколько минут он станет лордом Пенфолдом. «Но почему, — думал Оливио, с тайным неудовольствием глядя на распаренное, костлявое тело одной женщины и мечтая о другой — юной, прелестной, как цветок, — почему меня всегда ждут не за той дверью?»Глава 2 Большой Виндзорский парк. Беркшир, Англия
Старый заяц-самец гордо стоял на задних лапах и оживленно фыркал. Длинные белые усы гордо пошевеливались на пронизывающем ноябрьском ветру. Наконец заяц немного сместил центр тяжести, подвинув одну лапу к кусту можжевельника. При этом он едва не угодил в петлю из зеленой лески, оставленную на тропе. Счастливо избежав западни, рыжевато-коричневый зверек жадно обгладывал иголки и шаг за шагом углублялся в кустарник. Распластавшись на земле среди крепких корней тиса, примерно в тридцати футах от зайца, лежал юноша и не отводил от зверька напряженного взгляда. От голода у него свело желудок. Всякий раз, когда стихал ветер, до его слуха доносилось потрескивание иголок, которые хрупал заяц. Юноша завидовал теплой заячьей шубке и представлял себе шиллинг, который дали бы за зайца на Виндзорском рынке. Всего один шиллинг — за восемь фунтов мяса и шкурку! Но до чего же медленно старик ест свой ужин! «Терпение, — говаривал его наставник-цыган. — В нашем деле главное — терпение!» Однако время было дорого. Энтон знал: за ним тоже охотятся. Самые ушлые в Англии егери — крестьяне с хитрецой в глазах — превратили Большой Виндзорский парк в западню для браконьеров. Они ненавидели тех, кто ставит капканы. В неполные восемнадцать лет Энтон мог не бояться тюрьмы, но побить — побьют. Его здесь слишком хорошо знают, чтобы рассчитывать на поблажку. Он не мог без ужаса представить себе еще одну унизительную порку. Хуже того — возобновятся гонения на табор. И, конечно, цыганам это не понравится. Энтон издал горловой звук, точную копию хриплого покашливания горностая. Голос извечного врага потряс заячье сердце. Зверек обернулся и запутался в петле. Молодая березка, которую Энтон пригнул к земле, взвилась, как пружина; зайца подбросило в воздух. Он беспомощно закувыркался и заверещал, точно обиженный ребенок. Юноша метнулся к нему и, схватив визжащего зверька за уши, с силой ударил его ребром ладони по хребту. Ножом пользоваться нельзя. Заяц дернулся и затих. Энтон подавил в себе чувство уважения и раскаяния, охватывавшее его всякий раз, когда ему случалось убить животное. Он отвязал от березы леску и спрятал за подкладку шапки. Затолкал зайца в клеенчатый мешок за спиной вельветовой куртки, перевел дух и побежал домой. Неожиданно из-за дуба выскочил бородатый мужчина и саданул Энтона в грудь стволом дробовика. Ошеломленный юноша упал и услышал звон далеких колоколов. Задыхаясь, он сел на земле; в глазах было темно. Егерь направил на него ружье. — Это опять ты! Энтон кашлянул и отвел со лба прядь прямых светлых волос. В ушах барабаном пульсировала кровь. Колокола звонили со всех сторон. Им вторили залпы из мелкокалиберной пушки. Юноша наконец-то сообразил: это Конная артиллерия устроила салют по случаю окончания войны. Он просительно посмотрел на своего врага. — Сегодня счастливый день для Англии — а стало быть, и для тебя, мальчуган, — растрогался лесничий. Он похлопал Энтона по плечу и почувствовал под рукой теплое заячье тельце. От улыбки морщины на лице стали глубже. — Оставь себе свой ужин да приготовь повкуснее. Для скольких парней колокола звонят слишком поздно! — Спасибо, сэр, — выдохнул Энтон. — Послушайся доброго совета, мальчуган. Держись подальше от этих мест. Не для тебя это — шастать по лесу. За все сорок лет, что я охочусь за браконьерами, ты — лучшая добыча. Тот смуглый черт вышколил тебя на славу. Но лес — не твой, так же, как и не мой. Оставь Виндзор, оставь Англию. На этом чертовом острове ты никогда не станешь свободным. В мире есть другие страны: Канада, Австралия, да хоть Восточная Африка. Земли там хватит на всех, да и золотишка, и дичи — тоже. А теперь — гони во весь дух, и чтоб я тебя больше не видел!* * *
По вечерам изо рта у цыган валил пар, но они веселились и пили под звуки скрипки. Энтон сидел отдельно от других на крутых узких ступеньках одной из разбросанных по опушке леса кибиток — вардо. Вход в кибитку был расположен спереди, чтобы в пути можно было разговаривать с кучером. По обе стороны от него в землю были воткнуты деревянные оглобли. Сзади шел пар от установленного на трех колышках котелка, где до сих пор булькали на догорающих углях остатки варева из зайца. Энтон поднял воротник куртки над завязанным узлом дикло — цыганским шейным платком, который он носил вместо шарфа, и, устремив взгляд в ночное небо, прищурился, стараясь различить в вышине свои любимые звезды. Правой рукой он теребил золотое кольцо, висевшее на кожаном шнурке у него на шее. То была ушная серьга Ленареса, обучавшего его премудростям бродячей жизни. Вскоре после рождения Энтона его мать сошлась с Ленаресом, а когда он погиб, стала часто мотаться в Лондон, оставляя мальчика одного в кибитке. Чтобы начать новую жизнь — ласково объясняла мать, — ей нужна свобода действий. Однажды она не вернулась. Может, она искала, утешал себя Энтон, но потеряла след табора. Он придумывал для нее все новые оправдания. С исчезновением матери исчезла и надежда когда-либо узнать, кем был его отец — и каким. Красивым? Сильным? Любил ловить рыбу или охотиться? Энтон вспомнил дни и ночи, когда они с Ленаресом вместе промышляли рыбной ловлей или браконьерством в лесу, как цыган учил его охотиться на зверя без ружья и ловить рыбу без удочки. Главное — иметь терпение, залечь и не шелохнуться — «срастись с землей», как выражался Ленарес. Теперь Ленареса нет: в первые дни войны вместе с товарищами подорвался в Монсе. Перед уходом на фронт он впервые за многие годы снял серьгу. — Обручальное кольцо моей бабушки. Дедушка сделал ей к шестнадцатилетию из украденных монет. Оно счастливое — лучше кошачьего зуба. — Ленарес поцеловал кольцо и передал Энтону. Воспоминания искрами вспыхивали во мраке и исчезали в прохладной вышине вечернего неба. Энтон представил себе: сегодня школьники по всей стране отмечают окончание мировой войны. У них есть школы, дома и семьи — то, чего он никогда не знал и не узнает. Мать кое-чему научила его — он единственный в таборе умел читать. И его — в виде исключения — не учили красть. Другие мальчишки смеялись над ним, застав с книжкой. Изгой из изгоев, Энтон часто пристраивался на ступеньках повозки с высокими колесами и с головой уходил в чтение заветных книг. У него была своя библиотека — целая полка, прибитая над резной дверью кибитки. Здесь стояли книги Чарльза Диккенса — единственного писателя (говорила мама), которого любят все до одного англичане. Однажды вечером он спешил домой, чтобы скорее взяться за любимую книжку. Герои Диккенса стали его семьей: Пеготти, Эмили, мистер Микобер… Запыхавшись, Энтон подбежал к кибитке и поискал книжку глазами. «Дэвид Копперфилд» валялся в грязи под лесенкой. Энтон опустился рядом на колени. На глаза навернулись слезы. Первая обложка сгорела. Страницы прожжены насквозь, так что видна последняя обложка. Потом он наткнулся на небрежно намалеванные углем стрелу и крокодила: цыганский знак дурных новостей и тяжкого оскорбления. Энтон стиснул зубы. Почему его не оставят в покое? По-прежнему глядя в огонь и стараясь извлечь из кладовых памяти хоть что-нибудь хорошее, Энтон перебрал все, чему успел научиться — конечно, не в школе. Ловкость рук, торговля лошадьми, приемы вольной борьбы. Умение со свистом бросать нож, выигрывать в кости, гадать на картах, предсказывать судьбу, показывать фокусы и резать по дереву. Ощущение близости к природе. Умение сосредоточиться, достичь предельной остроты чувств, как у животного. И еще один важный дар: привычка к бродячей жизни и способность всюду чувствовать себя как дома. Закутавшись в несколько одеял, Энтон лежал под повозкой с гладкой серьгой в руке; к спине, согревая ее, прижались две дворняжки. Одна хрустела костями недавно пойманного ежа. Другая подняла голову и принялась вылизывать котелок, подвешенный ко дну повозки. Прямо над Энтоном на тупых железных крючьях висели сковородки и корзины для цыплят — когда повозка трогалась в путь, они болтались внизу. Он выглянул наружу из-за деревянных спиц и ног щипавших траву ослов. Бронзоволицые цыганки пели об одиночестве и строили планы на будущее, когда они починят кибитки и отправятся домой, в Европу. Теперь, после окончания войны, их братья вернутся в родные места — в испанские горы и румынские леса. Пора уже. Пора, мысленно повторил Энтон, мне тоже пора. Здесь, в Англии, я никогда не стану свободным.Глава 3 Немецкий лагерь в Касаме. Северная Родезия
С наслаждением вдыхая запах кофе и любуясь сверканием росы на колючих кустах, окружающих лагерь военнопленных в восьмиста милях южнее его отеля «Белый носорог», Адам Пенфолд спросил фон Деккена: — Подходящее утро для войны, не правда ли, капитан? — Для войны любой день годится, милорд, — буркнул немец и нагнулся — ослабить ремешки на кожаных крагах. Для лорда Пенфолда и капитана фон Деккена мировая война еще не кончилась. В шортах защитного цвета и видавшей виды форменной куртке африканских конных стрелков, Пенфолд лежал на носилках, стараясь не обращать внимания на жжение в забинтованной правой ноге, которая все еще ныла от застрявшей в ней шрапнели. Он откинул назад тронутые сединой волосы, пригладил усы и длинные крылья бровей над карими глазами и повернул к немецкому офицеру грубое, словно высеченное из гранита, лицо с орлиным носом. Капитан, дородный мужчина с желтым от малярии лицом, сидел, откинувшись на спинку походного брезентового стула и сжав ладонями гладко выбритые виски. Теперь, когда он из-за болезни не мог руководить налетами, снискавшими ему прозвище Бвана[1] Сакарини — Свирепый, — фон Деккен отвечал за идущих с немецкой колонной пленных. Будучи старшим по званию, Пенфолд представлял интересы пленных перед противником. И даже начал получать удовольствие от этих регулярных встреч, обычно происходивших за завтраком. — Что будете делать потом, капитан? — О своем будущем Пенфолд предпочитал не думать. — Что значит «потом»? — После капитуляции вашего кайзера. — Сначала наведаюсь в Моши, где я родился, в предгорьях Килиманджаро. Буду потягивать с папашей яблочный шнапс; посмотрю, что осталось от плантации. Малость постреляю. Покувыркаюсь с женским полом. — А дальше? — Дальше, милорд, вцеплюсь в свой кусок Африки. Как сегодня нога? — Ваши парни гораздо искуснее загоняют металл внутрь, чем извлекают наружу. Чертов баварский эскулап обещает, что эти последние осколки так и останутся в ноге. Как раз то, что нужно для торговли джином! Пенфолд отпил глоток конфискованного у португальских плантаторов в Мозамбике превосходного черного кофе и продолжил наблюдение за уткнувшимся в карту местности фон Деккеном. Вот уже восемь месяцев Пенфолд участвовал в большом переходе с немецкими войсками и перенес три операции в полевых условиях. Командующий немцев, генерал фон Леттов-Форбек, целых четыре года — то пешком, то на белом муле или велосипеде — водил по Африке свою колониальную армию и всякий раз ухитрялся ускользнуть от англичан, преследовавших его через всю Германскую Восточную Африку, Северную Родезию и Португальский Запад, как англичане называли Мозамбик. И сегодня, наблюдая за тем, как фон Деккен, скособочившись над картой, с удовольствием разглядывал главного союзника своего командующего — бескрайние просторы Африки, — Пенфолд ловил себя на желании помочь немцу, недавно напоровшемуся правым глазом на колючую слоновью траву. Пенфолд допил свой кофе, и его отнесли обратно в полевой госпиталь. Временами, когда боль становилась невыносимой, он переступал через свою гордость и просил драгоценного спирта или морфия — зная, что обрекает на мучения кого-то другого. Не было европейца, который бы не страдал от ран и болезней. Сегодня они получали по бутылке португальского вина — вместо лекарства. Когда Пенфолда несли обратно от аптечного пункта (лекарство — бутылка сладкого белого портвейна — лежало рядом на носилках), из госпитальной палатки донесся протестующий голос африканца: — Нельзя, бвана! Только для операций! Последовали два хлопка — два удара. Из палатки выскочила темная фигура в грязном полотняном костюме и налетела на носилки. Ногу Пенфолда пронзила боль. Носильщики с трудом удержали носилки лорда. — Что за шум, Фонсека? В устремленных на него черных, глубоко сидящих глазах португальского плантатора Пенфолд не заметил и тени раскаяния. И в который раз подивился: как у этого грубияна может быть такая обворожительная сестра? — Что все-таки случилось? — Ничего. Поганый кафр вечно путается под ногами! Португалец сжимал в кулаке какие-то маленькие штучки. Когда он разговаривал, мясистые губы кривились над прокуренными зубами. Пенфолд обратил внимание на его ботинки. Типичная обувь знатного европейца: слишком изящная, чтобы лазать по кустам, с острым носком и на изрядном каблуке. Из палатки вышел санитар-африканец с разбитой губой. Из рваных сапог выглядывали обмотки. Рубашка — в пятнах запекшейся крови. Он сплюнул кровь в сторону и произнес всего одно слово: — Морфий. — Покажи, что у тебя в руке, Фонсека, — приказал Пенфолд. — Не твое дело. — Португалец сунул кулак в боковой карман куртки. — Я отвечаю за всех пленных. — Я — не твоя английская шваль. — Сейчас же покажи, или, клянусь, будешь иметь дело с генералом. Васко Фонсека вытащил руку из кармана. Дрожа от ярости и сверля англичанина злобными глазами, разжал пальцы. Когда он передавал санитару пять крошечных ампул, Пенфолду бросились в глаза его длинные холеные ногти. Он приподнялся на локтях и тихо, но внятно произнес: — Наркотик предназначен для умирающих, а не для любителей острых ощущений. И еще. Ты не на Португальском Востоке. Не смей поднимать руку на африканцев. Если мои парни узнают, что ты поднял руку на санитара, семь шкур спустят. Был бы я здоров, сам бы тебя отдубасил. — Что ж, Пенфолд, мы не последний день в Африке. Я тебе этого не забуду. — Я тоже, — ответил англичанин. Слава Богу, после войны он больше не увидит эту скотину. А как же Анунциата? Вот было бы здорово, если бы в один прекрасный день она появилась в «Белом носороге»! Анунциата много рассказывала о своем хитром и жестоком брате. В Африке Васко удерживало тщеславное желание стать крупным землевладельцем. Отгрохать роскошную фазенду. Владеть богатейшим поместьем, где бы он мог править как принц — как его предки правили в Мозамбике и Амазонии. Пенфолд стиснул зубы. Носильщики понесли его к палатке фон Деккена. — Выпьете со мной, капитан, пока повар осмотрит мою ногу на предмет паразитов? — Не могу же я допустить, чтобы старый солдат пил в одиночестве. — Фон Деккен открыл портвейн и налил в две жестяные кружки. — Стыд-позор, что вы выбрали такое молодое вино. Англичане ничего не смыслят в выпивке. — Может, я еще усвою эту науку. Пенфолд поднял свою кружку. — Почему бы вам, капитан, не оставлять за собой каменные указательные столбы, по примеру Седьмого легиона? — Что за Седьмой легион? — Древние римляне. Крутые были парни, точь в точь как вы: вечно искали, с кем подраться на дальних рубежах империи. Наверное, воображали себя столпом цивилизации. Преследовали и порабощали варваров. И всюду оставляли памятные вехи: «Здесь прошел Седьмой легион!» — Мы оставляем другие памятники, — взгляд фон Деккена скользнул по склону горы, где похоронная команда из африканцев вбивала в землю деревянные кресты рядом с холмиками из камней. Пенфолд молчал. Один за другим оставались позади указательные столбы старушки Кении. Ему было ясно: эта война — не для пожилых фермеров. Как и многое в Африке. Пусть молодежь играет в эти игры. Где бы они ни разбивали лагерь, взгляд натыкался на частокол крестов — но это не надолго. Иногда, покидая на носилках лагерь, Пенфолд не успевал произнести слова молитвы, как на кладбище уже хозяйничали откормленные пятнистые гиены. Вспомнив о Риме, он в сотый раз пожалел о своем Гиббоне с пометками на полях. В минуты скуки или когда что-нибудь не ладилось: ржа портила пшеницу, жена Сисси начинала брюзжать, — «История упадка и разрушения Римской империи» становилась его отдушиной. Подобно любви и земледелию — двум человеческим увлечениям, в которых Пенфолд отчаялся когда-либо преуспеть, — война сводилась к элементарным вещам. Ответит ли женщина на ласку? Пойдет ли дождь? Сколько протопает за день измученный воин? Бессонными ночами, когда боль в ноге пульсировала в унисон с цикадами, Пенфолд закрывал глаза, чтобы не видеть колдовского неба над головой. А затем, если не приходила прекрасная португалка, вызывал в памяти карту с маршрутами пунических войн. Парнишка-ординарец начал брить фон Деккену лицо и голову. Внезапно с берега реки донеслись выстрелы и громкие возгласы. Подбежал возбужденный солдат — туземец из племени аскари — и, отдав честь, сообщил новость: — Бвана Сакарини! Гиппопотамы! Много — больших и жирных! Отлично, подумал Пенфолд, значит, люди вновь разделят торжественную трапезу — возможно, в последний раз. Каждый изголодавшийся воин мечтал о любимом блюде. Для фон Деккена это, скорее всего, пухлые клецки, брусника и мелкая кислая смородина с берегов Рейна. Сам Адам Пенфолд обожал горячие «самоса» — треугольные индийские пирожки с острой начинкой. Фирменное блюдо «Белого носорога». А также рубленую брюссельскую капусту, мясо газели Томсона и собранные после дождя на склонах горы Кения крошечные лесные грибы,запеченные в костном мозге антилопы канны, с тамариндовым соусом собственного приготовления. И еще — сдобные бутерброды с тетеревиным паштетом… Пенфолд закрыл глаза. Немцам, их союзникам-аскари и пленным нередко приходилось голодать вместе. Чтобы выжить, люди пекли хлеб из батата и риса. Жгли мангровые кусты и употребляли золу вместо соли. Жевали кожаные ремни. Пенфолду начало казаться, что на свете нет ничего такого, из чего при соответствующей обработке нельзя испечь буханку хлеба или — еще лучше — скрутить сигару. Когда, после дальнего патрулирования, в лагерь возвращались немцы и аскари, их было невозможно различить. От жажды все лица сморщились, как изюм; никто не мог разлепить обескровленные губы. Некоторые пили собственную мочу или кровь пернатых. Каждый день у Адама Пенфолда сменялись жизнерадостные — несмотря ни на что — носильщики. Колонны черных и белых людей с заброшенными через плечо ружьями растягивались на многие мили. Продираясь сквозь кусты, они горланили походный марш «Гей, сафари!». Даже пленные проникались его боевым духом. Посасывая гальку, чтобы хоть немного утолить жажду, Пенфолд зажмурился и попытался вызвать в памяти дивные пейзажи своих далеких поместий. Англия и Кения, Уилтшир и Белые горы переплелись в его воспоминаниях. Будущая жизнь после войны представлялась Пенфолду отвесной скалой, неприступной вершиной. В глубине души он страшился испытаний мирного времени. Долги, нескончаемая работа, страх потерять землю. Сможет ли он хотя бы просто выжить, избежать катастрофы? С окончанием войны ему будет нечем оправдывать унылое прозябание, отказ от деятельной жизни. Он и так уже потерял большую часть своей английской недвижимости, погнавшись за состоянием в Африке. Знает ли Сисси, что они разорены и им даже не на что вернуться домой? Год за годом он распродавал куски родового поместья, чтобы иметь возможность возделывать землю в Африке. Впрочем, он не так уж и плохо устроился. Земля, слуги и занятия спортом здесь довольно дешевы, и можно поддерживать видимость приличного образа жизни. Обтрепанная куртка соответствующего фасона запросто сойдет в Наньюки, но не в Белгравии. Он часто спрашивал себя: пригодится ли в мирной жизни опыт этих изнурительных переходов? Умение приспосабливаться, терпеть и импровизировать. Жалко, думал Пенфолд, что я не могу руководить фермой и «Белым носорогом» так, как колбасники разрабатывают свои военные операции. Зато теперь, после победы над этими дьяволами, перед нами откроются новые перспективы. А потом — новая драка. Мы как сорвавшиеся с цепи мальчишки, высыпавшие после уроков на спортплощадку. Может, объединить Кению, Танганьику и Уганду в одну процветающую колонию — что-нибудь вроде Индии, или Канады, или Америки, как ее задумывали? Каждый день на глазах у Пенфолда таяло германское колониальное войско. Сначала воинов Великой Германии и преданных им аскари, вкупе с немецкими поселенцами и матросами, поддерживали прибрежные арабы. Но, подобно тому, как умирающее от голода животное в первую очередь теряет мягкие ткани, после первых же сражений ряды арабов существенно поредели, а потом и вовсе сошли на нет. Ныне армия походила на обглоданный скелет или истончавшее от многократного употребления (и ставшее еще острее) лезвие. Пенфолд подсчитал: от трех тысяч немцев осталось сто пятьдесят человек. Правда, в лагерях вдоль реки были рассеяны пять тысяч аскари, плюс обслуга, плюс родившиеся в походе детишки и молодые африканцы, принадлежащие арабам. Сегодня будет пир горой: солдаты колониальной армии захватили у португальцев больше вина и шнапса, чем могли унести. — Я вижу, вы больше не берете в плен португальцев, — заметил Пенфолд. Немец рыгнул. — А, пусть себе, как цесарки, шныряют в буше. Они больше едят, чем передвигаются. Вы, англичане, хотя бы идете наравне со всеми. А кстати, милорд, почему ваши офицеры отказываются брататься с пленными португальцами? — Нам не нравится то, что они несут с собой. — Несут? Я еще не видел ни одного португальца, который бы что-либо нес. И какова же их ноша? — Сифилис. — Верно. Но их пороки подчеркивают наши достоинства. После трех веков португальского ига туземцы приветствуют нас как освободителей. С берега Замбези вновь донеслись радостные крики. Пенфолда отнесли на склон и дали взглянуть вниз, на кровавую бойню. В завихряющейся, розовой от крови воде барахтались два самца-гиппопотама. Солдаты-африканцы палили в них из маузеров. Раны животных в водных струях распускались, точно алые цветы. Еще четыре смертельно раненных гиппопотама медленно уходили на дно; выпученные глаза перископами выглядывали из воды. Через три-четыре часа туши всплывут на поверхность. Единственная самка лежала мертвая на берегу — ее подстрелили при попытке скрыться в убежище. Из огромной разинутой пасти хлестала кровь. Выше по течению вода была розовой по другой причине: солдаты полоскали бинты. К Пенфолду подбежал курьер и отдал записку.«Дорогой майор Пенфолд! Прошу Вашу светлость оказать мне честь и принять участие в праздничном богослужении по случаю немецкой оккупации Северной Родезии — первой британской территории, которую солдаты великой Германской империи отвоевали в этой мировой войне. Мы также приглашаем к нашему столику вашего португальского товарища по оружию, сеньора Васко Фонсеку с сестрой. П. фон Леттов-Форбек».
* * *
Ближе к вечеру туши гиппопотамов, вздувшиеся от газа из-за брожения попавших в желудок трав, начали выскакивать на поверхность, точно резиновые игрушки в ванне. Каждый зверь весом в три тысячи фунтов сулил не только гору мяса, но и большое количество белого жира, столь любимого африканцами. Топленый жир был таким чистым и густым, что таял на солнце, как масло. Когда рядом никого не было, Пенфолд чистил им сапоги и портупею. Во время марша на обед давали черствый хлеб, намазанный жиром гиппопотама. Из кожи, в дюйм толщиной и жестче, чем у носорога, изготавливали ремни, обувь и плети. Некоторые мужчины вырезали себе искусственные зубы из клыков гиппопотама — прочнее слоновой кости. Другие привязывали к поясу полоски языка этого могучего зверя — сушили про запас. Чтобы вытащить туши на берег, аскари принесли веревки. Из страха перед крокодилами к реке подходили чрезвычайно осторожно, под прикрытием товарищей. Засверкали лезвия. Надрезы делались сначала вдоль живота, затем от горла до подбородка и вдоль каждой конечности. Когда отделили кожу от мяса, многим показалось, будто внутри гиппопотама жило другое существо. Каждая туша превратилась в мясную лавку; мужчины резали и рубили, отделяли жир; их руки стали липкими, а одежда покрылась кровью. Они вычерпывали содержимое трехкамерного желудка и кромсали истерзанные туши до тех пор, пока не осталось ничего, кроме потрохов, вынутой из желудков травы, отрубленных хвостов и огромной лужи крови. Аскари взваливали увесистые куски скользкого мяса на плечи и несли к общему костру. Растопленный жир собирали в миски. Кровь подогревали и помешивали до тех пор, пока она не становилась густой. Повар генерала фон Леттова ждал тушу самого маленького гиппопотама. Все это действо доставило ему огромное удовольствие. Рядом стояли шустрые поварята с мешками. Как только разрезали тушу, повар растолкал конкурентов, восклицая: «Для генерала!» Несколько молниеносных движений — и у него в ладонях оказалось сердце гиппопотама; повар держал его бережно, словно собираясь свершить жертвоприношение. Потом вставил в пасть зверя лопату, чтобы не закрывалась, и вырезал язык — любимое лакомство командующего. Бросил сердце и язык в мешок и приказал поваренку охранять их, как свои собственные. Под конец повар вырезал ребра и отрубил особенно толстые передние ноги — ведь им приходилось поддерживать тяжелую грушевидную голову. По крайней мере, в Африке знаешь, что ты ешь, подумалось Пенфолду. Не то что в Лондоне: кухарка приносит готовое блюдо, и кто его знает, что там намешано. Вернувшись к костру, повар сгреб горячие угли в две ямки — запечь ноги гиппопотама. Он счистил с них остатки кожи и натер солью. Потом завернул ноги в дикий лук и опустил в ямки. Засыпал горячей золой и углями и оставил печься. А сам занялся языком. Голодный, с тоской поглядывая на пустую бутылку, Пенфолд попросил отнести носилки к его палатке, по соседству с генеральской. Он застал командующего за приготовлениями к торжественному обеду. Худой и более чем обычно похожий на ястреба, фон Леттов теребил обтрепавшийся край чистого, пожелтевшего от времени кителя. На левой стороне поблескивал Железный крест, лично посланный в Африку кайзером Вильгельмом. — Я вам рассказывал, милорд, как танцевал в этом кителе с баронессой Бликсен на борту «Адмирала», когда мы в 1914 году плыли в Африку? И о том, почему я ношу его в джунглях? — Не помню, генерал. Но я нисколько не сомневаюсь, что у вашего кителя богатая история. — Я ношу его, майор Пенфолд, дабы мои солдаты не забывали о высоких немецких принципах. Личный пример гораздо эффективнее порки или казни. Подошедший капитан фон Деккен щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание командующего. Позади него стояли два туземца с пленным мотоциклистом. — Мой генерал, мы только что перехватили английского связника. В планшете — зашифрованное послание. — Вольно, капитан. — Окинув внимательным взглядом пленного офицера, командующий достал из запыленного кожаного планшета конверт, надрезал перочинным ножом и дважды прочел письмо. Перед тем как он повернулся и направился в свою палатку, Пенфолду показалось, что он расслышал сказанное шепотом: «Ну вот и все».* * *
Закончив одеваться, фон Деккен распрямил могучие плечи и двинулся впереди носилок Пенфолда на поляну под акациями, где должно было состояться торжественное собрание. Стульями служили ящики с боеприпасами. Между двумя кострами воткнули бамбуковый флагшток. Черный орел Гогенцоллернов трепыхался на ветру. Пенфолда обрадовал вид напитков, расставленных на сорванной с петель двери, которая поочередно служила операционным столом, стойкой бара и обеденным столом. Офицеры привыкли подолгу стоять, дожидаясь, когда сотрут песком кровавые пятна. Но до чего же расщедрились португальцы! Вино, мадера, портвейн — пожалуй, всего даже не выпить. Огромный красный солнечный шар медленно погружался в оседающую пыль. И вдруг, как всегда неожиданно, африканская ночь простерла над землей иссиня-черное покрывало. Офицеры прифрантились — насколько позволяли условия. На каждой латунной пуговице сверкал германский орел — на этот раз его не стали в маскировочных целях залеплять грязью. Никто не был экипирован полностью, как положено. Некоторые были не в силах стоять. Но зато, как требовал генерал, каждый был гладко выбрит. Взгляд Пенфолда выхватывал из темноты изможденные лица товарищей. Некоторых он знал даже слишком хорошо. Фон Деккен слегка наклонил голову. — Мое почтение, майор Пенфолд. Могу я предложить вам чашечку вашего любимого рубинового портвейна, герр фон Суэка? Как дела у давних союзников? — Нормально, — буркнул португалец и некоторое время молча буравил немецкого офицера тяжелым взглядом черных глаз, в котором, как всегда, проглядывало высокомерие. — Моя фамилия — Фонсека. Но позвольте спросить, капитан: с какой стати в этой вонючей пустыне мы с вами общаемся по-английски? И почему, лорд Пенфолд, вы с таким тщанием зубрите туземные диалекты, но не удосужитесь выучить хотя бы один язык цивилизованной Европы? Фон Деккен молча пил. — Поздравляю с отменным вином, Фонсека, — произнес Пенфолд и обратился к немцу: — Послушайте, капитан, давайте оставим раненым. Мне бы не хотелось, чтобы все выдули тыловики. Как вам нравится эта часть Британской империи? Жарковато, вы не находите? — Мы, немцы, должны привыкать ко всякому климату. «Надеюсь, скоро такая необходимость отпадет», — мысленно возразил Пенфолд. Теперь он уже знал, чем кончилась война. Слуги наконец-то очистили «стол». Поставили ящики с боеприпасами и один походный стул. Фон Леттов и шестеро офицеров приготовились сесть. Носилки Пенфолда поместили позади импровизированных стульев, справа от генерала. Остальные устроились вокруг костров. Стоя во главе «стола», генерал покосился на незанятое сиденье слева от себя. — Где же наша прекрасная гостья? — Сеньора Фонсека ухаживает за ранеными, генерал, — ответил полковой врач. — Сейчас она приведет себя в порядок и присоединится к нам. Она просила не ждать ее. — Завидую раненым, — пробормотал капитан фон Деккен. Фонсека поигрывал золотыми карманными часами с поясным изображением охотника. Пенфолд узнал подарок Сисси. Эти часы Фонсека выиграл у него в карты. Пенфолд питал слабость к азартным играм, и, разумеется, это не ускользнуло от искушенного в таких делах португальца. Будучи доверчивым, Пенфолд слишком поздно подметил закономерность: Фонсека предпочитает играть с теми, кто страдает от лихорадки или истощения. Над столом повисло молчание. Изголодавшиеся мужчины жадно рвали на куски свежеиспеченный хлеб и запивали неразбавленным красным вином «Эстремадура». За этим последовали печеные яблоки и хрустящая жареная свинина — напоминание о Германии и последнем стаде свиней, пригнанном с Португальского Востока. Вскоре с молодой свиньей было покончено. Откупорили новые бутылки. Пенфолд почуял знакомый крепкий запах гиппопотама — слуги ставили на стол тарелки с жареным мясом. Генерал поднялся и отставил свой стул. Пенфолд скосил глаза в сторону. Из темноты выступила стройная, длинноногая, очень женственная фигура в латаных военных брюках и облегающей рубашке цвета хаки. У Пенфолда в который раз дрогнуло сердце при виде густых темных волос и сочных, многообещающих губ. — Прошу прощения, генерал. Офицеры оставили даме поесть? — Конечно, Анунциата, — опередил генерала фон Деккен, отвечая страстной улыбкой на взгляд ее огромных карих глаз и наполняя оловянную кружку. Вскоре вниманием гостей завладела нога гиппопотама. Генерал лично нарезал язык тонкими ломтями. Пенфолд заметил: Фонсека, как всегда, положил себе больше, чем положено, — особенно сочного костного мозга. Подавшись вперед на своем ящике, фон Деккен обратился к брату красавицы: — Пусть вино и свинина поступили от португальцев, зато гиппопотам — из Родезии, британской колонии, и, стало быть, немецкий трофей. Да, фон Суэка? — Фонсека, — поправил португалец, жадно обсасывая липкие от костного мозга пальцы. — Фонсека. — Как вам будет угодно. Один вопрос. В Германской Африке мы на своем опыте убедились — даже такой грубый солдафон, как я, — что на туземцев — а они непосредственны, точно дети, — больше действуют цивилизованные методы, а не жестокость, насилие и лень, если вы улавливаете мою мысль. Однако на вашей плантации мы увидели хлысты, чернокожих в кандалах и ни одного работающего португальца. Вы считаете такой порядок действенным, фон Суэка, или он просто доставляет вам удовольствие? — Фонсека, капитан. Действенным, говорите? Что значит — действенность? Разве вы не поднажали бы, если бы при каждой заминке по вашей спине гулял кнут? Небольшое физическое воздействие не повредит. Но не вам, немцам, удивляться. Разве не вы проявили вкус к истреблению черномазых? — Мы убиваем, когда велит долг, — парировал фон Деккен. Фонсека наставил на него обвиняющий перст. — Черный для вас — всегда черный! Зато для нас образованный африканец — тот же португалец. Бывая в Лоренсу-Маркише, я вожу свою мулатку в шикарные рестораны; ее принимают в обществе. А вы, немцы и англичане, не разрешаете чернокожей женщине прислуживать вам за столом. — Передайте вино, — попросил фон Деккен. — У нас далеко идущие планы. Мой дед испокон веку защищал интересы Португалии в Африке. И мы будем продолжать в том же духе. Мы разводим сахарный тростник. Вы потребляете сахар. А вы что разводите? — Во всяком случае, не маленьких черненьких ребятишек, — фон Деккен громко расхохотался и оскалил зубы. — Простите глупую женщину, — вмешалась Анунциата Фонсека. — Что немцы и англичане построили в Африке? Дар-эс-Салам и Найроби — большие деревни. В нашем Лоренсу-Маркише — и музеи, и рестораны, и кафедральный собор, и арена для боя быков. Когда окончится война, джентльмены, мы с братом сделаем все, чтобы восстановить родовой замок в Африке. Вы, немцы, вчера пришли, а завтра, может быть, уйдете. — Да, я немец, — припечатал фон Деккен. — Но также и африканец. Увидите — я тоже останусь. Все вернулись к еде и выпивке. Фон Леттов что-то шепнул санитару. Тот обошел все костры, и вскоре несколько сотен мужчин — белых и черных, арабов и африканцев, одни на костылях, а другие с помощью товарищей — собрались в единый круг под акациями и раскидистыми хинными деревьями. Фон Леттов встал. Его китель в темноте белел, как привидение. Отблески огня подчеркнули морщины. Все затаили дыхание. У генерала заблестели глаза. Он обвел взглядом окружающих и посмотрел вверх, на четыре яркие звезды Южного Креста. На какие-то несколько секунд воцарилась мертвая тишина — только пронзительно стрекотали цикады да где-то вдалеке слышался львиный рык. — Кончилась наша война, — возвестил генерал, глядя в ночь и словно адресуясь к ветру. — Я получил донесение: в Европу вернулся мир. Но мы здесь, в лагере, не считаем себя побежденными. Этим вечером мы пьем за его императорское величество, кайзера Вильгельма. Лежа на носилках, Пенфолд слышал хор голосов, поддержавших тост: «За кайзера!» Васко Фонсека стоял, поджав губы; его сестра сидела. В глубокой тени справа от генерала, позади женщины, Пенфолд пробормотал: «Боже, храни короля!»— и опорожнил кружку. Смуглые пальцы коснулись его руки, а затем погладили обнаженную ногу. Пенфолд зажмурился. — Все мы будем скучать по этому мужественному переходу, — продолжал генерал. — Несмотря на боль и утраты, мы нигде больше не встретим такого товарищества, такой близости к этой колдовской земле. Возможно, нам еще придется воевать на африканских просторах. Но так или иначе завтра для каждого из нас начнется новое приключение.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1919–1920
Глава 4
Гвенн Луэллин подняла воротник поношенной военной шинели и, прислонившись к стене, сжалась в углу заброшенной часовни, одной из сотен на холмах Уэльса. Грубая ткань не спасала от сырости. Гвенн кое-как затянула негнущимися пальцами шарф и подняла зеленые глаза к открытому люку. Проплывавшие над склонами облака просачивались через дверь и окна часовни. Казалось, сырость навсегда повисла в воздухе. Дождь не имел направления, а также начала и конца. Гвенн облизнула губы — и ощутила дождевую влагу. Во время войны, во Франции, она молилась Богу, чтобы в ее жизнь вернулась холодная чистота Денбишира — вместо грязных, разбитых дорог Западного фронта. И вместо шума. Никогда ей не забыть этот шум. Стоны и крики раненых, надсадное кряхтение двигателя и нервный стук колес, когда она в отчаянии нажимала на тормоза и перегруженная «скорая» замирала, подобно вышколенному солдату. Кто-нибудь из ходячих раненых садился рядом — непривычно застенчивый, готовый оказать посильную помощь. Однажды она подобрала раненого, не заметив, что он истекает кровью. Немного погодя, когда «рено» хорошенько тряхнуло, труп качнулся вперед и ударился мертвым лицом о ветровое стекло. Гвенн опустила глаза и увидела, как грязь на его сапогах блестит от еще не засохшей крови. Слава Богу, этот кошмар кончился. Никогда больше она не увидит человеческое тело с разверстыми ранами. И Алан жив, хотя и пострадал. Он все еще на чужбине, в госпитале. Гвенн потеребила обручальное кольцо и достала из кармана пальто конверт с телеграфным сообщением. Длинные серые полоски с отпечатанными словами были наклеены на лист бумаги. Как ни странно, послания военного времени — будь то телеграмма военного ведомства о ранении Алана в Месопотамии или обычное, хотя и прошедшее через цензуру, письмо мужа — не сближали, а делали разлученных людей еще более далекими. Без этих клочков бумаги Гвенн могла живо вспоминать сумбурные, исполненные болезненной чувствительности шесть недель их брака. Но раздражающе безликие, всегда несвоевременные писульки вносили разлад в ее душу. Она развернула смятый листок.СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ВЫПИСЫВАЮСЬ ГОСПИТАЛЯ ДЕМОБИЛИЗУЮСЬ БОМБЕЕ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЛУЧШЕ ПЛЫВУ ВОСТОЧНУЮ АФРИКУ ПОПЫТАЮСЬ ВЫИГРАТЬ ФЕРМУ СОГЛАСНО ПЛАНУ ЗАСЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ РАЗДАЮТ УЧАСТКИ ЗЕМЛИ РАЗЫГРЫВАЮТ ЛОТЕРЕЮ ТЕЛЕГРАФИРУЮ ИЗ НАЙРОБИ МОЛИСЬ ЗА НАШ СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС НАДЕЮСЬ ТЫ ДОБРОМ ЗДРАВИИ ЛЮБОВЬЮ АЛАН.Гвенн надела варежки. Ей припомнилось их первое свидание — в этой самой покинутой часовне. Был погожий весенний день, каких жители Уэльса ждут весь год. От болот и насквозь пропитавшегося водой вереска под нежданно жаркими лучами поднимался пар. Лишайник на камнях — и тот казался приветливее. Гвенн смотрела, как стройная фигура Алана поднимается по холму ей навстречу. Он, как всегда, опаздывал и, приблизившись к горбатому каменному мосту, ускорил шаг. Вскинул голову. Помахал рукой. И тут вдруг его внимание привлекли камни. Гвенн улыбнулась. Алан любовно гладил блестящие гладкие каменные плиты, окаймлявшие мостик. Его чрезвычайно заинтересовал серо-стальной монолит, застывший в торжественной задумчивости на полпути к вершине холма. Их было несколько таких — выстроившихся в прямую линию, указывающую на север. Алан нагнулся и поднял гладкий овальный камень. Обтёр его вереском, очищая от овечьей шерсти и черного помета. Потом поспешил к Гвенн и, чмокнув в щеку, протянул ей камень со стеснительной улыбкой. — Другой нарвал бы колокольчиков или примул, — упрекнула она. — Камни вечны. — Алан откинул назад длинные темные волосы и вперил в нее взгляд поэта. — Оставим его здесь и будем каждый раз добавлять по одному. Потом, если ты согласишься взять меня в мужья, Гвенни, это будут делать наши дети и внуки, пока не сложат настоящую пирамиду. Он рассказал ей о своем дедушке. Тот зарабатывал на жизнь в каменоломне: добывал известняк и кашлял, надышавшись густой серой пылью скал, все равно что шахтеры — черной угольной. С этого холма, учил дед, открывается панорама, отражающая всю историю Уэльса. Мегалиты древних жрецов-друидов. Римский путь внизу, в долине. Далекий форт норманнов. Заброшенные раскольничьи часовни. И крутые темные горы шлака, окружающие деревни, как черные стены адской крепости. В тот раз Гвенн предложила Алану остаться с ней, укрыться в часовне и полюбоваться звездами — такая возможность нечасто выдается в Уэльсе. Если рассвет будет ясным, они увидят море. Это было бы неправильно, возразил Алан, и они спустились в низ, держась за руки. В небе носились стрижи с серповидными крыльями — словно кто-то метал в насекомых длинные лезвия. Гвенн вернулась в сегодняшний день. Стемнело. Она присела на пятки в углу часовни. Ее тревожило ранение Алана и то, как оно отразится на их совместной жизни. Стало холодно. Гвенн посмотрела на белеющий во мраке дверной проем. Встала, похлопала руками по бокам. Тело слегка покалывало; нервы натянулись. Ей захотелось спеть школьный гимн — его любили в долине. Гвенн задумалась о тяжелой деревенской жизни. Что будут делать члены общины, когда солдаты вернутся домой? Уже сейчас бастуют шахтеры и рабочие сталелитейных заводов. Социальный нарыв угрожает вот-вот прорваться. Демобилизованные воины рыщут в поисках работы. Что ждет ее мужа? И ее самое? А с другой стороны, если Алану посчастливится выиграть ферму, как-то они заживут в незнакомой Африке? Перед глазами прошли картины безрадостной шахтерской жизни в долине, до поры состарившей ее мать. Они с трудом наскребали несколько фартингов на мясо и обувь; дни проходили в ожидании мужчин из забоя и в постоянном страхе услышать пронзительный рев парового гудка — сигнал об очередной катастрофе. И ненавистная черная пыль в складках белья и на только что вымытых тарелках… После всех приключений во Франции Гвенн боялась, что деревенская жизнь покажется ей еще более унылой. Она скомкала телеграмму в кармане и попыталась представить себе, что их ждет в Африке. Одно было ясно. Что бы ни случилось, явись хоть сам дьявол, но где-нибудь она создаст семью — теплый, уютный дом, их собственную крепость. Гвенн охватила руками колени и, смежив веки, принялась молиться. Ей пригрезилось: тощие друиды подкрались и следят за ней из-за каменных столбов. Они размахивают длинными посохами. Плащи раздуваются, будто папоротник-орляк на ветру. Приблизилась отара. Жалобно заблеяла овца: волк утащил отставшего ягненка. Лохматое животное с длинной шерстью повернулось в сторону Гвенн и понеслось к ней. Она почувствовала его теплое дыхание. Гвенн очнулась: шершавый язык лизнул ее лицо. Овчарка. Друг. Она обняла собаку и, с трудом подняв одеревеневшее тело, побрела к выходу. Серые, жирные, в мелких кудряшках, овцы жались к подветренной стене часовни. Утренний туман начал рассеиваться. Там, где извивались вагонетки с углем, курился черный дымок. На горизонте четко выделялись острые углы норманнской башни. Безбрежный морской простор притягивал взгляд и властно манил к себе.
* * *
— Чертовы твои глаза, парень! — завопил мастер. — Хватит витать в облаках и пялиться на ящики — подставляй хребет! Энтон больно закусил губу: не выносил, когда на него кричали. Однако нельзя допустить, чтобы его вышвырнули из дока. Он скользнул взглядом по рядам деревянных ящиков, тянувшихся в тумане вдоль одного из каменных пирсов Портсмута, или Помпи, как его называли матросы. В свое время от этого причала — рассказывали старые портовики — первые в мире боевые танки и британские канистры с отравляющим газом отплыли в Шербур и Гавр. Теперь грузы изменились, а портами назначения стали Сантьяго и Сидней, Калькутта и Кейптаун. На этот раз они загружали корабль до Момбасы, Британская Восточная Африка. — Есть, сэр, — ответил Энтон и принялся за работу, одновременно давая волю воображению. Перетаскивая на своем горбу громоздкие металлические конструкции, он пытался представить себе судьбу каждого ящика с инвентарем и приправами. Внимательно изучал бирки с указанием груза и получателя. Вот полногабаритный бильярдный стол от «Райли», средство от бессонницы, белые теннисные туфли из лосиной кожи и консервированная сельдь в томатном соусе; получатель — «Каримджи Дживанджи лимитед» в Найроби. Чайники из пушечного железа, лотки для промывания золотоносного песка, остроконечные кирки, сепараторы и патроны — для Центрально-Африканской торговой компании в Момбасе. (Неужели в Кении и впрямь есть золото?) Дальше шли трактора-фордзоны и кукурузные сеялки. Перед этим Энтон и другие докеры три дня разгружали щедрые дары Восточной Африки. Ломило спину, но сердце пылало надеждой на будущее. Целый день по сходням двухмачтовика «Гилфорд-касл» сновали грузчики. Сначала на берег доставили костлявого льва с черной гривой — надменного и апатичного, в грязной клетке. Огорченный жалким видом узника, Энтон отвернулся и стал, затаив дыхание, рассматривать ящики с грузом. На ярлыках значилось: семена кунжута, кедровые доски, пекановые орехи, шкуры антилопы, перья страуса и слоновая кость. Пятидесятифунтовые мешки с кофе свалили на одну сторону; от них доносился отчетливый запах. На каждом мешке был трафаретный рисунок — горы, а чуточку выше — надпись: «Кенийский кофе лимитед». Энтон вперил восхищенный взгляд в изображение двуглавой вулканической горы Кения. Однажды он ее увидит. Даже названия компаний-отправителей ласкали взор. Кора австралийской акации и шерсть с «Экваториального ранчо»; рогатые трофеи от «Ньюленд энд Тарлтон»; чай и лен с плантации «Тетеревятник» — на каждом контейнере искусно нанесен профиль летящего ястреба. От короткокрылых птиц веяло немыслимой свободой. Энтон спрятал в карман клочок промасленной оберточной бумаги, на котором тщательно скопировал ястреба. Это будет его эмблема. Теперь трюмы этого британского почтового корабля опустели; нужно загрузить их заново. Как сказал десятник, кругосветные путешествия — привилегия крыс. В соседнем доке стоял почти невидимый в тумане «Гарт-касл» — брат-близнец разгружаемого судна. До Энтона доносились стук и лязг — механики и клепальщики ремонтировали довоенное судно. Вскоре «Гарт-касл» отправится в Африку. И Энтон окажется среди людей, которые не знают его как цыгана или гаучо. Над головой зависла большущая пустая сетка — как паутинообразный саван с небес. Сбившись в центре, она опускалась, качаясь на стреле подъемного крана. Энтон вовремя отступил в сторону. — Загружай ее, ребята, — приказал десятник. — Да побыстрее — опаздываем! Сначала — трактор и кофемолки. Кровельную жесть и все, что полегче, — наверх: чтобы не болталась. Края сети затянули вокруг груза и вновь прицепили к крюку. Энтон и старший докер взобрались на вершину тяжелого груза. Ботинки застревали в ячейках сетки. Возбужденный работой, Энтон держал закрепленный на палубе расчаливающий канат. Другой рукой он схватился за погрузочный крюк. Седовласый докер с багром поднял свободную руку и описал в воздухе две окружности. Энтон прищурился, всматриваясь в туман. В это время включили корабельную лебедку, и крюк начал подниматься. Энтон наслаждался скрипом растягивающихся канатов. Груз поднялся на четыре фута над причалом и завис. Под ногой Энтона кровельная жесть съехала на одну сторону. Груз качнулся. Нижний край сети висел всего лишь в нескольких дюймах над палубой. — Пошла! — крикнул десятник, проверив, держится ли груз. Он поднял руку, и лебедка заработала. В пятидесяти футах над пирсом листы жести рассыпались, будто колода карт; центр тяжести сместился. Старый докер потерял точку опоры. Он выронил багор и с криком упал. Энтон успел освободить буксировочный канат и подхватить падающего человека. С минуту Энтон удерживал докера, уцепившись правой рукой за его ремень. Нагруженная сеть болталась из стороны в сторону, как безумная. Под ногами обоих мужчин острые края листовой жести резали канатную сеть. Лебедка дернулась и остановилась. Энтон услышал треск разрываемых веревок. Докеры понеслись в безопасное место. Трактор, контейнеры с кофемолками и жесть обрушились на пирс. Одного докера зажало между двумя контейнерами. Другого резануло краем листа жести по лицу. Не обращая внимания на разыгравшуюся внизу трагедию, Энтон стиснул крюк левой рукой и держал до тех пор, пока старый докер не ухватился за вращающуюся сеть и спасся.* * *
— С меня бутылка рома, юный Райдер. Ну и хватка у тебя — как у железнодорожного зайца! Седой докер улыбнулся Энтону и татуировщику с полосатой, как у зебры, кожей. Те ждали его за столиком в глубине кафе «Старый Помпи». Старик держал за руку молодую женщину с утомленными глазами, забывшую о своей молодости, но все еще привлекательную. — Девочка поможет тебе отвлечься. Ты только предоставь Хетти свободу действий — и не почувствуешь иголки. — Спасибо, — смущенно пробормотал Энтон. Хетти поймала его взгляд и улыбнулась, словно между ними возникло что-то общее. Энтон потупился, больше нервничая из-за девушки, чем из-за иголок. На столе перед Зеброй лежал мятый клочок промасленной оберточной бумаги с ястребом-тетеревятником. Рисунок расправили и закрепили на поверхности стола четырьмя маленькими чернильными пузырьками. Энтон закашлялся от дыма. Лицо без возраста и лысый череп татуировщика были сплошь покрыты зигзагообразными черными и белыми полосами. Они спускались к шее и исчезали под вязаным свитером с высоким воротом, из которого голова мужчины выступала, как голова черепахи из панциря. И вновь появлялись на запястьях и кистях рук. Энтон вцепился в дальний край изрезанного стола. Долго ли будет больно? Женщина подвинула свой стул и положила руки ему на плечи. Пальцы коснулись шеи. Энтон напрягся. Что у нее на уме? Зебра открыл обитый медью ларец из камфорного дерева, в котором хранил иглы. Выбрал одну — из китового уса. Раскупорил бутылочки с черными, серыми и темно-синими чернилами. Полосатой рукой туго натянул кожу; Энтон приготовился терпеть. Зебра вонзил ему иглу в правое предплечье, а тем временем женщина гладила бока до самых бедер. Собрав все свои силы, превозмогая боль, Энтон безмолвно боролся с обоими ощущениями, стараясь сосредоточиться на работе мастера. Не отвлекаясь, поочередно тыча иглой то в бутылочку, то в кровоточащую плоть, Зебра совершал методичные движения. Девушка прижалась худым телом к спине Энтона. Потом взяла в одну руку стакан матросского рома и поднесла к его губам. Другая рука скользнула в карман его брюк. — У тебя есть терпение, — похвалил Зебра, закручивая пробки. Потом сбрызнул татуировку ромом и жесткой рукой стер алкоголь вместе с кровью. — Бывают слюнтяи — еще не успеешь уколоть, а они уже вопят, будто их режут. Гордый и счастливый, Энтон залюбовался птицей. Хетти пересела к Зебре. — Зачем тебе эта татуировка? Когда ты шевелишь мускулами, кажется — ястреб летит. — Чтобы не забыть, зачем я отправляюсь в Африку. Про себя Энтон молился, чтобы ему не пришлось пожалеть. Прощайте, леса, прощай, цыганский табор — все, что до сих пор составляло его жизнь! По ночам он не мог уснуть: пытался представить Африку. — И зачем же? — Хочу увидеть всех этих зверей. Хочу стать свободным и богатым. В Помпи нет приличной работы. Стоит кому-нибудь покалечиться, десяток демобилизованных дерется, чтобы занять его место. Хочу верхом на собственной лошади объезжать собственную землю!Глава 5
Швейцар клуба «Мутхайга» в Найроби почтительно наклонил увенчанную чалмой голову: — С возвращением, бвана, милорд! — Ты все еще в строю, Хавилдар? Адам Пенфолд качнулся на костылях и похлопал старого сикха по плечам. Этот белобородый сержант по-прежнему носил полосатые ленты давней викторианской кампании. — Не задерживайся, мое сокровище, — предупредила леди Пенфолд, проходя в вестибюль впереди мужа и устремляя взгляд светлых холодных глаз в большое настенное зеркало. Она поджала губы и разгладила ладонями цветастое платье, свисавшее с угловатых плеч. — Боюсь, что не все члены клуба сегодня сдадут тебе ружья и тропические шлемы, — продолжил Адам Пенфолд. — Увы, милорд. Девятнадцать человек сложили головы во славу короля. Сухопарый, прямо держащий спину индус бросил взгляд в дальний конец подъездной аллеи, туда, где алые бельгийские маки окаймляли мемориальное сооружение в честь павших воинов. — Грустно, Хавилдар. Только львы да малярия унесли больше жизней, если не считать захлебнувшихся джином. — По крайней мере, мы исполнили долг перед отечеством, — бормотал про себя Пенфолд, входя в широкие двери. — «Расслышали за морями трубы Англии…» Процент потерь среди европейского населения Кении, до войны составлявшего семь с лишним тысяч человек, был самым высоким в Британской империи. Из двухсот человек, отправленных воевать во Францию, уцелело всего семь десятков. Клуб «Мутхайга» лишился половины своих членов. — Слава Богу, они не стали наводить марафет, то есть переворачивать все вверх дном, — с облегчением заметил лорд Пенфолд, опускаясь в свое любимое кресло — глубокое и удобное, с потрескавшейся сафьяновой обивкой. — Если я согласилась терпеть этот задрипанный бар, — раздался над ухом голос жены, — надеюсь, ты не станешь целый вечер обсуждать со старыми занудами, чем травить овечьих паразитов и кофейных клещей. — Кофейных клещей не существует, — спокойно ответил Пенфолд, доставая трубку. Сисси проигнорировала реплику. — До войны это был нескончаемый треп о львах. Потом — целых четыре года — кто взял в плен больше колбасников. Теперь все помешались на борьбе с саранчой. Почему обязательно нужно кого-то убивать? — Хочешь «Пиммс», дорогая? Пенфолд постучал костылем по паркету, подзывая официанта. А заказав выпивку и арахис, в который раз задумался о том, почему он предпочитает «Матхайгу» лондонским клубам. Там тоже царила атмосфера доброжелательности и уважения к маленьким слабостям каждого. Но здесь к ним добавились терпимость к излишествам и ребяческой лихости. Как будто это тоже Англия, но не совсем. К примеру, можно бить посуду и разбрасывать бильярдные шары, если выдался плохой урожай — или, наоборот, хороший. Пенфолд перевел взгляд на массивный камин, согревший до войны столько вечеров! На каменной поверхности кто-то вырезал надпись на суахили: «Я приношу удачу». Скольких друзей и однокашников он больше никогда не увидит! Пенфолд вздрогнул. От стойки бара донеслось насмешливое: «Сердце Ронни вернулось в Африку, а ноги остались в Бельгии». Мысли леди Пенфолд витали в другом месте. Притихнув — только лед звенел в бокале, — она наблюдала за тем, как муж опустошает тарелку с неочищенными земляными орешками. Он совсем не изменился. «Мужчины — большие дети, — любила повторять мать Сисси, — падкие на лесть и сладости». Сладости бывают разные — это Сисси усвоила много лет назад. Но до чего же странно, думала она, оглядывая обшарпанные обои и с сожалением вспоминая об их первоначальном цвете, что ее добрый, надежный муж, все еще интересный мужчина, не способен удовлетворить ее ненасытное тело, в то время как отвратительный карлик заставляет ее корчиться от наслаждения. Да и сам Адам — нельзя не признать — не особенно нуждался в ней, предпочитая возиться с оловянными солдатиками. Когда супруги Пенфолд лежали рядом в постели, температура их тел понижалась до могильной. Зато стоит ей подумать о безобразном Оливио, ее бросает в жар. Маленькие мужчины — учила мать — самые лучшие любовники. Но этот карлик — что-то особенное! — Неужели этого паразита приняли в клуб? — удивленно воскликнул Пенфолд, завидев в дверях Губку Хартшорна, и отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом. Сисси не удостоила мужа ответом. Тогда он продолжил: — Этот проходимец ни разу не заплатил за выпивку. Клуб должен учредить приз за мошенничество — специально для него. Он заметил наконец, что Сисси не слушает, но по инерции пробурчал: — Этот субъект — из тех, кто всю жизнь носит галстуки чужого колледжа. Корчит из себя щеголя, а вкуса ни на грош. Типичный государственный служащий, если ты понимаешь, что я имею в виду. Теперь Пенфолд развлекался тем, что делил арахис на две неравные кучки: с двумя ядрышками — налево, с одним — направо. Ему попался орех с тремя ядрышками. Поколебавшись, он отправил его в рот. Мысли по-прежнему были обращены к Губке Хартшорну. Вот ведь что интересно. В Найроби Хартшорн занимает положение, о котором в Лондоне не мог даже мечтать. И уж конечно, Губка не слышал «труб Англии». Благодаря службе в Министерстве по делам заморских территорий, его война была тихой, абсолютно не опасной. Время от времени Хартшорн натягивал перчатки и отправлялся встречать поезд с больными и ранеными, прибывающими в Момбасу и Найроби. А главное — медленно, но верно распространял свое влияние на земельную политику — ключ к будущему Кении. Будучи сам членом земельного управления, Пенфолд прекрасно понимал его игру. На долю этого органа выпала щекотливая задача распределения участков на площади, вчетверо превышающей территорию Англии, между белыми поселенцами и сорока двумя племенными группами. Благословенная в каждой своей части, от ледника до пустыни, поначалу Кения щедро оделяла землей всех желающих. Пенфолд вспомнил то утро в 1907 году, когда он впервые поднялся на центральное нагорье. Ветер донес до него специфический аромат задолго до того, как он подъехал к последней горной гряде. Его кобыла вскидывала голову и пританцовывала от нетерпения. С горы Кения нисходила бодрящая свежесть почти шотландского бриза — только гуще, насыщеннее, с обещанием тепла, резким запахом ясменника и горных цветов, зарослей шалфея и кедровых лесов. Как молоды они тогда были! Плато на высоте 6000 футов над уровнем моря казалось идеальным местом для фермы европейского образца — с пшеницей и овцами. Возможно, он добавит к ним кофейные и чайные плантации. Пенфолд соорудил мазанку, потом коттедж, продал еще несколько мелких ферм в Англии и вызвал Сисси. Он был уверен: жена полюбит эти места. А какой это будет рай для ребятишек! По вечерам прямо возле крыльца бродила дичь — самая великолепная и разнообразная в мире. Главное — не нужно было вытеснять черных. Территория оказалась практически необитаемой — больше антилоп, чем африканцев. Только масаи время от времени надменно шествовали мимо: здесь было слишком высоко и холодно для их скота и образа жизни. Адаму Пенфолду и другим первым поселенцам Кения сулила рай земной. Однако действительность оказалась суровой. У одних не хватило сил. Другие не смогли приспособиться. Недомогания и болезни не обошли ни одну семью, ни одно поле и ни одно стадо. Изнурительный труд и затраты казались бесконечными. Потом началась борьба за землю. Переселенцам пришлось столкнуться с местной традицией общинного владения землей, сезонной миграцией и правом сильного. Древние племенные обычаи схлестнулись с европейским уважением к праву собственности. Английские фермы стали буферами между владениями враждующих племен. Война 1914 года отодвинула решение спорных вопросов, сгладила противоречия, вернула фермам их первозданный вид: мужчины ушли на фронт. Теперь же, после окончания войны, крупным землевладельцам пришлось спорить из-за будущего страны с Министерством по делам заморских территорий в попытке примирить права демобилизованных с эффективным землепользованием. Пенфолд, который представлял интересы первопоселенцев и в то же время сочувствовал африканцам (чему чиновникам еще предстояло учиться), знал, как трудно начинать с нуля и как нуждается этот край в семьях, сочетающих выносливость с капиталом. Взятые по отдельности, выносливость и капитал ничего не значили. Самому Пенфолду — как он успел убедиться — не хватало ни того, ни другого. Завидев Пенфолдов, Хартшорн двинулся к ним — со свойской улыбкой на широком добродушном лице. Казалось, его рот никогда не закрывается. Глазабыли широко распахнуты и немного выпучены, словно он во что-то вглядывался. — Добрый вечер, милорд, леди Пенфолд. — Хартшорн, — уронил Адам. Сисси не откликнулась на приветствие. Однако за неимением других развлечений бросила на Хартшорна оценивающий взгляд. Его холеные, отполированные ногти вызвали у женщины раздражение. Потом она отметила оттопыренные уши и покатые плечи. Этому рыхлому, нездоровому типу чего-то не хватало. Чересчур экспансивен для гомосексуалиста — однако ни единого намека на мускулы. Зато она обнаружила в Хартшорне ловкость, заменявшую силу. Окончательный вердикт был таким: не Бог весть кто, но целеустремлен и не без претензии нравиться. Пройденный этап для самой Сисси. Чего-то он ждет от сегодняшнего вечера? — Завтра — ваш великий день, — без особого энтузиазма произнес Пенфолд. — Посмотрим, насколько вы, парни из Министерства колоний, разбираетесь в местной специфике. Ваш план солдатских поселений либо спасет страну, либо угробит ко всем чертям. — Правильно, милорд. Это — величайшая земельная лотерея в истории Африки. Мы поставили перед собой цель расселить полторы тысячи ветеранов на трех миллионах акров невозделанных земель — главным образом в буше, в сотне с лишком миль севернее «Белого носорога». Вам же станет веселее. Или нет? — Возьмите орешек. Для новых поселенцев это будет та еще увеселительная прогулка. Им понадобится помощь. В душе Пенфолд волновался: хоть бы Хартшорн не взял последний орех с одним ядрышком — симпатичный такой, пузатенький! — Не нужно им ничьей помощи, — возразил Хартшорн (он таки не унизился до арахиса). — Им и так чертовски повезло. Сейчас Министерство по делам заморских территорий ставит во главу угла интересы дикарей. В Лондоне это называют «правом первородства». — Смотря кого считать дикарем. Масаи, например, получили свой кусок. Пятьдесят тысяч нилохамитских бездельников слоняются по резервации больше Уэльса. — И еще жалуются! А тем временем другие племена считают эту землю своей. Как прикажете работать с подобными троглодитами? Если бы не мы, они бы сожрали друг друга. — Мы тоже хороши, — буркнул Пенфолд, вспомнив о кайзеровской бойне, и почесал трубкой орлиный нос. Хартшорн внимательно изучал свои ногти — растопырив пальцы ногтями вверх, а не сложив в кулак, как делают мужчины. — Как ты можешь курить эту гадость! — не глядя в его сторону, упрекнула мужа Сисси. Обычно женщины находят точку приложения своих сил в детях, незлобиво подумал Пенфолд, или в бренчании на пианино, а Сисси — в брюзжании. Ни дать ни взять Ксантиппа — сварливая супруга Сократа. Неужели это та самая девушка, с которой он познакомился на развеселой вечеринке в Гемпшире, где они все, до одури молодые, встречали новый, 1900 год. Первый день Новой эры. Уже тогда в ее внешности было что-то лошадиное, но школьнице это даже шло — а в седле Сисси прямо-таки поражала изяществом. В канун Нового года они галопом пронеслись по тропе под яркой полуночной луной. В деревне ударили в колокола. Им никогда больше не было так хорошо вдвоем. А теперь и подавно нечего делить, разве что старческие невзгоды — и то в будущем. Возможно, если бы у них были дети… Сисси услышала громкий голос с характерными американскими интонациями и посмотрела в сторону стойки. — Двойное виски со льдом! Это был Рэк Слайдер, белый охотник-янки. Долговязый и вездесущий. Он изогнул спину дугой, чтобы опереться на прилавок, и, постукивая по медной подставке для ног стоптанным каблуком ковбойского сапога, лениво разглядывал честную компанию. — Побросаем кости, а, Губка? — оживился он, завидев Хартшорна. Тот подошел к нему и, взяв кожаный стаканчик для бильбоке, покатал по столу. — Ставки как всегда. Будь добр, называй меня Джеймсом. В тот самый момент, когда из стаканчика на прилавок высыпались пять кубиков из слоновой кости, в дверях показалась смуглая женщина в сопровождении такого же бронзоволицего мужчины в сшитом на заказ белом костюме. Длинные ноги, густые темно-каштановые волосы и элегантное льняное платье, облегающее стройные бедра и всю соблазнительную фигуру португалки, приковали взгляды всех мужчин в баре и привели Сисси в раздражение: она почувствовала, как в ее апатичном муже шевельнулась звериная похоть. Адам был до того изумлен, что не пошевелился, даже когда красавица уверенно направилась к их столику, оставив своего спутника у стойки. Опомнившись, Пенфолд поспешно встал и протянул руку. Анунциата Фонсека чмокнула его в щеку, оставляя след алой помады. — Дорогая, — пробормотал покрасневший как рак Адам Пенфолд, — позволь представить тебе мисс Фонсека, моего боевого товарища с Португальского Востока. Моя жена, Сисси Пенфолд. Он нервно пригладил брови. У стойки, за спиной Анунциаты, Васко Фонсека здоровался с Хартшорном. Что нужно этому мерзавцу в Найроби? — Очень приятно, миссис Пенфолд. Ваш муж много сделал для пленных во время нескончаемого перехода. — Не сомневаюсь, — сквозь зубы процедила Сисси. Она не преминула отметить гладкую, без единого изъяна, оливковую кожу португалки и темные бархатные глаза. Красотка явно создана не для бриджа и возни в саду. — Странная кампания, не правда ли? Хотите выпить? — Благодарю, мне пора возвращаться к брату. Он ведет деловой разговор с приятелем. Пенфолд беспомощно наблюдал за удаляющейся Анунциатой, гораздо более эффектной и обольстительной, чем ее образ, запечатлевшийся в его памяти. Он вспомнил, как впервые погладил ей ногу, когда она остановилась рядом с его носилками. И то, как, прежде чем склониться над ним, Анунциата расстегнула блузку. А теперь она сидит за маленьким столиком и деловито что-то обсуждает с братом и Хартшорном. Какого черта португальцы превращают клуб в офис? Пенфолд раздраженно выколотил трубку. — Какие у Хартшорна могут быть дела с иностранцами? — с напряжением в голосе спросила Сисси. — Какие-нибудь земельные махинации, — ответил ее муж, наблюдая за тем, как Фонсека развернул карту и что-то показал Хартшорну. — Эти двое вместе — комбинация хуже не придумаешь. Гости все прибывали. Слышались оживленные голоса и хлопанье пробок. Хартшорн со Слайдером возобновили игру. Наконец американец перевернул кожаный стаканчик вверх дном, залпом опорожнил стакан с виски и хлопнул Хартшорна по плечу. — Деньги твои, приятель. Надеюсь, ты найдешь им применение.* * *
Дожидаясь своей очереди в коттедже для гостей клуба «Мутхайга», две ладные девичьи фигурки не спеша облачались в школьную форму. Они застегнули белые блузки и натянули серые фланелевые шорты. Надели длинные зеленые шерстяные гольфы и джемпера в тон, аккуратно завязали галстуки в зеленую и желтую полоску, а затем шнурки на практичных мальчиковых ботинках. Посмотрелись в зеркало. Сдвинули на один глаз школьные береты. Потом, повернувшись друг к другу лицом, принялись обниматься, тереться носами, облизывать и посасывать друг другу уши. Одна запустила руку в шорты другой. Вдруг послышался звук ключа, поворачиваемого в замочной скважине. Кто бы это мог быть? — безмолвно спросили друг друга Черные Тюльпаны. Необузданный американский охотник? Или бледный англичанин с приятным лицом и любовью к извращениям?* * *
Королевский театр резко выделялся из всех окрестных зданий — непрезентабельных, крытых жестью домов на единственном проспекте Найроби. Здесь шли любительские спектакли и проводились собрания общественности. О Королевском театре до сих пор судачили в связи со скандальной премьерой «Школы злословия». А сегодня, в соответствии с планом солдатских поселений, здесь намечалось провести земельную лотерею. Рабочий день начинался в девять, однако люди с пяти часов стали занимать очередь. Алан Луэллин и еще четыреста жаждущих отхватить кусок Африки, переминались с ноги на ногу. Остальные, утомленные долгой дорогой, спали в запряженных быками повозках и фургонах с высокими колесами, растянувшихся вдоль пыльной улицы до голубых эвкалиптов за чертой города. Некоторые протопали на своих двоих тысячу миль от Северной Родезии. Алан Луэллин и еще несколько человек, напрягая зрение в неярком утреннем свете, изучали вывешенный на двери театра бюллетень земельного управления. Там же красовались афиши, извещавшие о чемпионате Восточной Африки по боксу, премьере спектакля «Ты масон?» и «Иммигранте» — комедии Чарли Чаплина. — Что ты раньше выращивал, парень? — спросил сосед по очереди. — Ничего, — честно ответил Алан, безуспешно стараясь принять такую позу, чтобы центр тяжести пришелся на левую ногу. Почечная лоханка казалась раскаленным камнем и ни на минуту не давала забыть о себе. — Я им солгал. До войны я работал в шахте. — Для Министерства колоний мы все — фермеры. Сам-то я был почтальоном. Но, говорят, здешняя землица — такая плодородная, что нужно только бросить горстку семян или посадить чайные кусты — и жди себе, пока не вырастут деньги. Эй, парень, что с тобой? Алан прислонился к каменной стене и закрыл глаза. Он весь вспотел. По ноге неудержимо текла струйка мочи. Он заскользил вдоль стены и, приземлившись на тротуар, вытянул перед собой ноги. Вот так же он сидел в запряженной мулами санитарной повозке, когда они отступали от стен Багдада в Кут. Цеплялся за грубо сколоченный борт повозки, чтобы не сползти вниз. Изнутри кололи сломанные ребра. Три дня подряд лишенная рессор повозка тряслась по каменистым дорогам; кровь привлекала мух и москитов. По ночам холодные дожди Месопотамии начисто отмывали повозку. Боль отступила. Горячий пот сменился холодным. Алан встал и прислонился к стене. Вспомнил Гвенн, их долину в Уэльсе. В его роду три поколения мужчин работали в шахте; угольная пыль въелась в кожу и заполнила легкие, стала частью их организма — как ребра и почки. Их отцы и братья, один за другим, становились жертвами завалов и легочных болезней. Как шутили его однополчане из Уэльских стрелков: «По крайней мере, в окопах умираешь на свежем воздухе, разве что тебя отравят горчичным газом». Для Алана, с его хрупким сложением и ранением в почечную лоханку, страшнее угля не было ничего на свете. Ему повезло: окончание войны застало его в Бомбее. Он тотчас сел на пароход и отправился через весь Индийский океан в Момбасу. Гвенн не подведет: будет крепиться и даст ему шанс начать новую жизнь в Африке. Сегодня все решится. Подобно Алану, почти каждый европеец в Найроби оставил родной дом и пустился за тысячи миль в надежде обрести клочок земли в Восточной Африке. По слухам, в Кении не было ни одного предприятия, фермы или плантации, которые бы не зависели от расклада в сегодняшней лотерее, где разыгрывался первый миллион акров «земель Британской короны». Если прибавить пять миллионов акров, уже официально переданных европейцам, к концу лотереи пять процентов плодороднейшей кенийской земли будут заселены белыми. Для африканцев ставки также были высоки. Годами крупные племена вели между собой войны. Одни, как масаи, пользовались поддержкой со стороны белых; другим — например, вандоробо и вальянгулу — приходилось рассчитывать на свои силы. Малочисленные, разобщенные вандоробо довольствовались сбором меда и выслеживанием дичи в густых бамбуковых и кедровых рощах и не нуждались в признании. Неутомимые жилистые вальянгулу — прекрасные стрелки из лука и искусные охотники на слонов — также старались сохранять дистанцию. Найроби был для них таким же чужим, как Лондон. Сторонясь белых и не интересуясь их планами, кочевые племена придерживались своих традиций, не всегда отдавая себе отчет в том, что в ближайшем будущем они могут лишиться значительной части своей территории. Объявив эти земли необитаемыми, англичане не приняли в расчет интересы кочевников. Одни лишь кикуйю поняли правила игры. Наделенные большей гибкостью, знающие свою выгоду, всегда готовые работать на белых землевладельцев и промышленников, они больше других выигрывали от принесенных европейцами мира и духа предпринимательства. Десятилетиями их грабили и гоняли с места на место более воинственные племена; нанди и масаи жгли их хижины, уводили с собой детей и домашнюю скотину. И теперь кикуйю, подобно вождю Китенджи и его племени, селились на принадлежащих европейцам землях при условии, что они будут не только работать на хозяина, но и возделывать собственные участки. Впервые за многие десятилетия они почувствовали себя в безопасности. Этим утром группа кикуйю, собравшись в кружок у небольшого костра, мирно подтрунивала над «зловонными» масаи. Если повезет, у извечных врагов кикуйю отберут ворованную землю. Взошло солнце; вдоль улицы протянулись длинные тени. Двое фонарщиков начали гасить масляные лампы у входа в государственное здание. Очередь к Королевскому театру росла и привлекала всеобщее внимание. Сюда начали сходиться зеваки, группируясь по расовому и племенному признакам. Торговцы-арабы предлагали слоновую кость и серебряные брелоки. Индийские купцы посылали к стоящим в очереди слуг с чаем и печеньем на медных подносах. Верхом на зебре явился первый фотограф Найроби; сзади трусил помощник с тяжелой камерой. Репортеры из «Восточно-африканского штандарта» и «Ассошиэйтед пресс» расплачивались за интервью напитками. Они называли предстоящую лотерею величайшей — после броска на Оклахому — сделкой с недвижимостью. Седобородый писарь-сикх, которому чалма придавала величественный вид, поставил свой стол под палисандровым деревом, удобно расположив на нем письменные принадлежности. Заказчик, которому понадобилось написать родственникам в Бомбей, склонился над стариком и оперся локтем о стол, закусив нижнюю губу и подперев ладонью подбородок. Потом воздел глаза к небу и начал диктовать нечто выспренне-лирическое: ученый индус поправит, если что не так. Все оживились, когда к голове очереди проследовали четыре женщины — единственные представительницы слабого пола, допущенные к участию в лотерее. Эти женщины служили в Добровольных санитарных частях — как Гвенн Луэллин, перевозили раненых. Огрубевшие от непосильной работы, привыкшие под артобстрелом сражаться с перегруженными «рено» и «фордами», а по прибытии на перевязочные пункты вытаскивать своих окровавленных пассажиров вперемешку с трупами, эти женщины были достойны жизни в Африке. Около девяти часов прибыл Джеймс Хартшорн в губернаторском автомобиле с опущенным верхом. Его сопровождали двое молодых секретарей из Министерства по делам заморских территорий. Они привезли с собой пузатый бочонок. Восемь черных констеблей в коротких, безукоризненно отутюженных брюках и сверкающих кожаных куртках заставили очередь перед двойными дверями театра посторониться. На чиновнике земельного управления были тесный полотняный костюм-тройка, галстук в полоску и тропический шлем. — Простите, сэр, можно взглянуть на карту? — обратился к нему один солдат. Хартшорн не удостоил его ответом. Когда констебли захлопнули за ним двери, он осмотрел зал и с неудовольствием отметил, что в каждом окне за ним во все глаза наблюдают африканцы. В глубине зала расположилась узкая сцена. Считая кресла в ложах и бельэтаже, а также скамьи в партере и оркестровой яме, Королевский театр вмещал двести человек. — Поставьте у двери несколько столов, — распорядился Хартшорн. — Требуйте от каждого, чтобы предъявил демобилизационное удостоверение и свидетельство из отборочной комиссии. Я не могу верить всем подряд. Эта шпана глазом не моргнет — убьет за клочок земли. После проверки участники лотереи должны были по очереди подходить к установленному на сцене вращающемуся барабану. Проигравшим достанутся чистые карточки. Выигрышные были пронумерованы от одного до четырехсот: эти цифры указывали порядковый номер, под которым счастливчики будут выбирать участки из каталога, подготовленного ведомством Хартшорна. В каталоге указывались площадь угодий, высота над уровнем моря, арендная плата, технические характеристики и рекомендации по использованию. На выбор предлагались две альтернативы: «земледелие и скотоводство» и «выращивание льна или кофе». Никаких сведений об африканском населении и местных обычаях. Крупные племена уже получили свои резервации, а мелкие по-прежнему селились где попало. Земельные участки разделили на две категории. Небольшие фермы площадью до ста шестидесяти акров отдавались даром, если не считать символической арендной платы: одна рупия за десять акров в год. Во вторую категорию вошли фермы покрупнее, по цене фунт стерлингов за три акра, или тринадцать рупий. Из тысячи трехсот ферм семьсот должны были распределяться по лотерее в Найроби, а остальные шестьсот — в Лондоне. Все участки сдавались в аренду сроком на 999 лет; владельцам вменялось в обязанность вкладывать средства в постройки и культивацию земли. Алан Луэллин твердо решил претендовать на большую ферму. Перед этим ему пришлось пять дней вести изнурительный торг с жирным ростовщиком из Гоа Раджи да Сузой. «Один заем — за саму ферму, под залог права владения, — втолковывал да Суза Луэллину, грозя пальцем и диктуя текст договора писцу-сикху. — А второй — естественно, за большие проценты — за содержание и развитие. Под залог твоей пенсии по ранению — хотя ее и недостаточно». Так как индийцам и гоанцам не разрешалось приобретать недвижимость за городской чертой, да Суза и его соотечественники были вынуждены пробираться к цели окольными путями. Сам да Суза выступал как банкир и маклер от лица многих азиатских ростовщиков и коммерсантов, среди которых не последнюю роль играл гоанец из Наньюки Оливио Фонсека Алаведо. Эти люди вкладывали деньги как кредиторы, а не как владельцы. Со временем они найдут способ узаконить право владения землей. «Англичане называют это честной игрой, — желчно размышлял да Суза. — Перевезти в Восточную Африку тридцать тысяч индийских кули на строительство железной дороги — при этом тысячи надорвались и погибли. Разрешить привилегированной индийской касте — гоанцам — открыть свое дело. Однако лишить их возможности владеть богатством из богатств — землей — под тем предлогом, что это огорчило бы африканцев». Сам лицемер, да Суза не мог не считать это верхом лицемерия. Его восхищало представление британцев о «землях Британской короны» — иначе говоря, колониях. Это же надо придумать: будто землей в Африке — и во всем мире — владеет никому не известный островной король! Устремив взгляд через улицу, стараясь не смешиваться с грязными кикуйю, Раджи да Суза внимательно наблюдал за очередью, особенно Луэллином и другими своими клиентами. Как это английские солдаты пропустили женщин вперед? Луэллин вызывал у да Сузы большие сомнения. Кожа да кости — не слишком подходит для предстоящих трудностей. Если выиграет, придется за ним присматривать. В то же время, этот ветеран наивен и безнадежно честен. Случись ему вытянуть счастливый билет, он вызовет жену и будет вкалывать, не поднимая головы, как осел у колодца. Как говорил отец да Сузы: «Бывает, самый худой осел идет дальше всех». В Индии англичане брали деньги и не смотрели, кто покупает землю, лишь бы индийцы вкалывали. Здесь же, в Африке, да Сузе придется покрутиться. — Откройте дверь и запускайте этот сброд — только не всех сразу, — распорядился Хартшорн. Толпа рванула к входу. Констебли с трудом сдерживали ее напор, впуская по одному, пока в зал не набилось четыре сотни возбужденных претендентов. Остальные отмечались у дверей и присоединялись к разгоряченной, взволнованной массе. — Лейтенант Джордж Хеннел, капитан Генри Дьюберли, доктор Гарольд Фицгиббонс, — выкликал Хартшорн, вытаскивая карточки с именами и бросая помощникам. Крики радости и стоны отчаяния заполнили театр и рвались на улицу. С каждым счастливым номером оставалось меньше шансов на выигрыш. Ближе к вечеру все было почти кончено. Плотно подкрепившись за кулисами светлым пивом и бутербродами, Хартшорн наблюдал за регистрацией новоявленных счастливчиков. Обводя взглядом толпу суетящихся оборванцев, он дивился: почему это он работает, а они получают землю? Разве он не имеет права на свою часть Африки? И он ее получит — даже если для этого придется иметь дело с темными личностями наподобие плантатора из Мозамбика. Корчит из себя португальского аристократа — будто такие существуют в природе! Как иностранцу, Фонсеке приходилось иметь дело с земельным управлением. И недаром. — Алан Луэллин, — вызвал Хартшорн одного из последних участников. Ошеломленный Алан схватил свой счастливый билет и устремился к выходу. На улице его ждал Раджи да Суза. Четверо или пятеро его клиентов уже проиграли и с горя ринулись по улице Виктории в бар отеля «Нью-Стэнли». Он увидел Алана Луэллина. Тот ошалело моргал: солнечный свет ослепил его. Заметив гоанца, он поднял вверх карточку с номером. Да Суза обрел победителя! Но для тщедушного жителя Уэльса даже счастье стало непосильной ношей. Он был все так же бледен. Темные волосы свисали на воспаленные глаза. Да Суза повел его вдоль по улице, одолжил несколько монет на телеграмму жене и спешно связал его долговым обязательством на кабальных условиях. Впрочем, напомнил себе да Суза, у Луэллина должно сложиться впечатление, будто он — полновластный хозяин фермы. Иначе кто же будет стараться? А присматривать за Луэллином будет знакомый да Сузы — африканец по имени Артур. Пусть поработает на его подворье. Следующим этапом стал выбор фермы. Луэллин был сорок седьмым. И тут уж все зависело от того, чтобы знать об участке больше, чем написано в каталоге. Да Сузе сроду не приходилось слышать, чтобы кто-то честно описывал свой товар, даже если это была обыкновенная приправа. От приятелей и должников среди правительственных служащих (главным образом индийцев и гоанцев) он знал: и сегодня не ожидается исключений из древнего правила. С их помощью он провел свое расследование — не сказать доскональное, но объективнее каталога. Слушая, что выбирали первые сорок шесть очередников, он вычеркивал пункт за пунктом — то цедя сквозь зубы проклятия, то удовлетворенно кивая. — Наша очередь! — жарко прошептал да Суза на ухо Луэллину и схватил за руку, но тотчас отдернул: это же не рука, а голая кость! Часы показывали половину десятого вечера. Фонарщики только что закончили обход. — Если вам нужны мои деньги, мистер Луэллин, вы возьмете участок номер восемьдесят восемь. Он у воды; вы непременно разбогатеете. Измученный, чувствуя, как пульсирует кровь в жилах, Алан Луэллин молча кивнул. Он вновь вошел в Королевский театр. Думая о Гвенн, выбрал участок номер восемьдесят восемь. Две тысячи двести акров земли на реке Эвасо-Нгиро. Он вложил — с помощью да Сузы — семьсот тридцать три фунтов стерлингов в будущее его семьи в Африке. И не пожалеет усилий.Глава 6
Пароход «Гарт-касл» уверенно держал курс на юг, мимо берегов Франции, Испании и Португалии. Его палубы вместили четыреста двадцать человек — переселенцев и прочих пассажиров. Он вошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море. После загрузки углем в Порт-Саиде прошел Суэцкий канал и двинулся дальше на юг: по оживленному Красному морю и открытым водам Индийского океана, — чтобы в конце концов бросить якорь в восточно-африканских портах Момбасе и Дар-эс-Саламе. Энтон Райдер нанялся младшим стюардом и зарабатывал на проезд, надраивая умывальные комнаты и столовые на этой видавшей виды посудине. Его заставили подписать контракт на «туда и обратно»; разумеется, он скрыл от вербовщика, что намерен сбежать в Момбасе. Среди вони и грязи, сопутствующих его нынешней профессии, Энтон мог думать только об одном: как он явится свободным человеком в Африку. Ему исполнилось восемнадцать; он вытянулся и возмужал, а проработав год портовым грузчиком в Портсмуте, стал обладателем рук и плеч профессионального боксера. По вечерам, заканчивая уборку (по палубе в это время слонялись изнемогающие от жары пассажиры), Энтон забирался на место впередсмотрящего на передней мачте, где приходилось постоянно уклоняться от копоти из единственной дымовой трубы. Далеко внизу подрагивало битком набитое судно, а черная равнина моря сливалась с черной равниной ночного неба. Куря сигарету и любуясь луной и звездами южного полушария, юноша забывал обо всем на свете. После того как они миновали Судан и Эфиопию, ночное небо стало будто бы даже яснее и просторнее. Однажды ночью, после более чем трехнедельного плавания, их пароход приблизился к берегу, чтобы обогнуть мыс Сомали. Фосфоресцирующий океан сверкал и искрился. Ветер доносил до них горячее, благоухающее дыхание пустыни. Вздымались валы. Энтон упивался ароматами Африки. Он закрыл глаза и припомнил путевые дневники бывалых охотников, которые некогда читал при свете масляной лампы. Девятнадцатилетний Фредерик Селоуз пустился один за тысячи миль, имея при себе двустволку и пару фунтов чая. Гордон Кемлинг с одним лишь ножом и кожаным ремнем нырнул в Лимпопо, чтобы вытащить раненого гиппопотама. Выпадут ли на его долю такие же приключения? Готов ли он к встрече с ними? Иногда в такие моменты Энтон ощущал холодок под ложечкой. Он хорошо знал биографию Селоуза — тот учился в английской школе-интернате и ложился спать на деревянном полу рядом с кроватью. Однажды его застал директор и спросил, в чем дело. Селоуз объяснил: «Сэр, я мечтаю поохотиться в Африке и усиленно закаляюсь: ведь придется спать на земле». Энтон вздохнул. Уже сейчас он в воображении видел перед собой бескрайнее, поросшее пыльным сухим кустарником пространство — буш — и экзотических животных. В его мечты ворвалось чье-то пение. На нижней палубе несколько человек — очевидно, ирландцев — от души выводили старинную солдатскую песню:* * *
Гвенн Луэллин стащила через голову шерстяную фуфайку. Слава Богу, соседка по каюте ушла на палубу. Оставшись в одном корсете, чулках и туфлях, Гвенн посмотрелась в висевшее на стене треснувшее зеркало. Обычно у нее не было ни времени, ни желания любоваться своим отражением. Но на борту «Гарт-касла» ей, впервые с тех пор, как началась война, выпало несколько свободных часов. Она тревожилась за мужа, за их будущее. Найдет ли Алан ее по-прежнему привлекательной? Тусклое освещение как будто задалось целью щадить ее самолюбие. Она чувствовала себя далеко не в лучшей форме. В душной каюте в центральной части судна было нечем дышать. В столовых и туалетах накурено — и пропасть народу. Все у всех на виду. Невозможно даже толком помыться. Одна радость — стоя на палубе, любоваться океаном. Но и там трудно уединиться. Один из пассажиров не давал Гвенн проходу. Их было двое братьев — выпивох и, как поговаривали, бандитов. Тот, что ухлестывал за ней, пугал ее дикой напористостью. Он будто бы воевал вместе с ее мужем — и под этим предлогом следовал за ней по пятам. Каждую минуту она ожидала какой-нибудь выходки. За время путешествия ее лицо и руки обрели свой природный цвет. Кожа на высоких скулах посвежела, но щеки оставались впалыми. Пухлые губы побледнели. Круги под глазами не стерлись полностью. Война еще не отпустила ее. А Алана? Гвенн выпрямила спину и перевела взгляд на длинную шею и угловатые, немного мальчишеские плечи. Потом на груди — вот они нисколько не изменились. Не слишком велики, но по-прежнему упруги и красивой формы. Нижние ребра немного выступали над плоским животом и точеной талией. Гвенн нахмурилась. Стоит ей похудеть, как начинают выпирать ребра. Хорошо бы набрать несколько фунтов до встречи с Аланом. Но вообще-то и так неплохо для двадцати семи лет. Временами на Гвенн накатывало чувство неприкаянности — тело тосковало по мужчине. И по ребенку. Она облизнула, а потом немного покусала губы — они порозовели. Поправила рыжеватые волосы. Повернула голову в одну, другую сторону, задрала подбородок. Вгляделась в свои глаза — по уверениям бабушки, самое красивое, что у нее было, — но не смогла толком определить цвет. У двери послышался шум. Гвенн замерла, остро ощущая свою наготу. Потом вскочила и сдернула с узкой койки халат. Кто-то замолотил тяжелым кулаком по металлической двери. Спохватившись, Гвенн бросилась задвигать щеколду, но было поздно. Ручка повернулась. Господи, хоть бы не он! — А вот и я, — возвестил ирландец, рывком отворяя дверь. — Мик. Гвенн осталась стоять в узком проходе. Слава Богу, она успела туго завязать пояс халата. Крупный рыжеволосый мужчина заполнил собою дверной проем. Гвенн преградила ему дорогу. Он наклонился и стиснул ее плечо. Гвенн дернула плечом, чтобы стряхнуть его лапищу. От мужчины несло перегаром и кислым потом. — Я просила оставить меня в покое, мистер Рейли. — Мы только посидим на твоей койке и выпьем. — Рейли осклабился и вытащил из кармана бутылку. Гвенн старалась не замечать его неровные желтые зубы. Свободной рукой он облапил ее талию. Женщина вздрогнула, но осталась стоять на пороге, чтобы не дать ему войти и захлопнуть дверь. К счастью, по коридору кто-то шел. Это была ее соседка с двумя матросами. — Всего хорошего, мистер Рейли, — громко произнесла Гвенн. — Прощайте. — Не беспокойся, детка, я еще вернусь, — посулил он и, потрепав ее по щеке, отчалил.* * *
Энтон упорно искал среди членов экипажа таких, кто мог бы рассказать ему об Африке. Большинство знали только порты: Момбасу, Лоренсу-Маркиш, Порт-Элизабет да Кейптаун, и то их воспоминания не шли дальше нескольких развеселых денечков на берегу. Один лишь судовой врач мог поделиться полезными сведениями. — В Момбасе будет ничуть не легче, чем в Помпи, мой мальчик, — изрек этот седовласый джентльмен, пальцем мешая виски. — Всю знакомую тебе работу — то есть тяжелую физическую — выполняют черные. Белому трудно устроиться — разве что на ферме, а какой смысл, если это не твоя земля? Что ты еще умеешь? — Охотиться, — ответил Энтон. — А как насчет добычи слоновой кости? Или золота? — Если говорить о золоте, то покамест находят только разрозненные крупицы — в одном, другом месте. Зато золотоискатели прибывают пачками, с каждым пароходом. Бедняги! А слоновая кость перестала быть прибыльным делом. Это раньше слоны так и путались под ногами — знай добывай бивни. Сегодня еще можно разбогатеть на львиных шкурах и мясе антилоп, но у этого промысла нет будущего. Опять-таки, раньше можно было наняться проводником к богачам, прибывающим на сафари, но с началом войны и эта лавочка закрылась. Ни у кого нет таких денег. — Что-нибудь придумаю, — откликнулся Энтон. Как бы там ни было, в Африке вряд ли будет хуже, чем в зачуханной клетке — Англии. Однажды вечером, после беседы с доктором, Энтон спускался по трапу, соединяющему пассажирскую палубу с нижней. Внезапно до его ушей донесся душераздирающий женский крик. Он замер, прислушиваясь. Крик повторился — на этот раз приглушенный, но не менее ужасный. Энтон в несколько прыжков добежал до каюты. Он рванул дверь и увидел рыжего верзилу, который всей своей жирной тушей навис над распростертой на полу женщиной, бившейся в истерике. Насильник с размаху хлестнул свою жертву по лицу. Она ударилась головой о стальную палубу. Растерзанная блузка валялась под голыми коленями мужчины — там же, где его ремень и брюки. Длинная юбка и изодранное в клочья белье сбились у женщины на животе. Он все еще был у нее внутри. — Пошел вон! — гаркнул Энтон, делая шаг вперед. — Оставь ее в покое! Мужчина освободил одну руку и сильно надавил женщине на грудь, пригвождая ее к полу. Другой рукой он схватил ее воздетые над головой запястья. Женщина продолжала вопить и отчаянно извиваться. Зеленые глаза яростно сверкали сквозь растрепанные, песочного цвета волосы. После секундного замешательства Энтон почувствовал, как всем его существом овладевает гнев. Мускулы отвердели. — Катись к чертовой матери! — прорычал верзила. Юноша обхватил руками его мокрую от пота голову и впервые в жизни ощутил удушливый запах секса. Локтем правой руки он защемил мерзкую рожу противника Бандит уцепился за его ремень и попытался повалить Энтона на пол. Юноша ухватил его за бычью шею — что-то хрустнуло. Насильник заорал благим матом и отделился от женщины. Она откатилась к металлической койке. Разъяренный насильник с трудом поднялся на ноги. Мясистое, в складках жира и мускулов, его тело было сплошь усеяно веснушками и покрыто липкой рыжей шерстью. Энтон загородил собой женщину и, сжавшись в пружинистый комок, выхватил свой цыганский нож — чури. Насильник ринулся вперед, но промахнулся. Лезвие полоснуло его по подбородку. Он с трудом развернулся в тесной каюте. Маленькие прищуренные глазки не отрывались от ножа. Громила стоял, тяжело пыхтя и глядя в синие глаза юноши. — Добавить? — спросил тот. — Ну, парень, я тебе припомню! Ты мне еще заплатишь! По шее насильника текла кровь. Он влез в свои брюки и потопал к двери. — Проговоришься — убью! Энтон укрыл рыдающую женщину простыней и уложил на койку. Она со стоном отвернулась к стене и, плохо сознавая, что делает, с силой ударила кулаком о металлическую переборку. В Энтоне боролись боязнь показаться назойливым и желание помочь. Он неуверенно направился к двери. Тело женщины все еще сотрясали рыдания, и она молотила по стене кулаками. — Я за водой, — тихо произнес Энтон. Едва он вышел, Гвенн вырвало на стену. Энтон принес ведро, мыло и полотенце и оставил в каюте, настояв, чтобы женщина заперла за ним дверь. Когда она потянулась за полотенцем, перед ним на какую-то долю секунды мелькнул ее обнаженный торс. Пристыженный, он поспешил уйти. На другой день, занятый своей обычной работой, Энтон увидел на открытой палубе группу рогочущих «томми» и среди них — знакомую тушу ирландца. Рядом стоял еще один рыжий исполин, похожий на этого. «Братья, что ли?» Бандит с поцарапанной физиономией поднял голову и вонзил в него заплывшие жиром глазки. Энтон отвернулся. Вечером он увидел в столовой третьего класса одиноко сидящую жертву. Пораженный ее красотой, он невольно припомнил тепло и аромат ее кожи, упругую девичью грудь. Ему стало стыдно. Да и она ли это? У нее были ясные глаза цвета зеленых яблок. Высокая, стройная, с нежным овалом лица, женщина казалась на шесть-восемь лет старше него. Она была прекрасна — даже синяк на скуле не мог этого изменить. Энтон неловко закружил по залу со стопкой грязных тарелок. Женщина встала и подошла к нему. — Я должна вас поблагодарить. Это какой-то кошмар. Не могу поверить, что это действительно произошло. — Она подняла на Энтона полные слез глаза. — Вы так молоды. Меня зовут Гвенн Луэллин. — Энтон Райдер. Гвенн пришлось сделать паузу, чтобы справиться с волнением. Воспоминания о пережитом позоре были слишком свежи в памяти. Она вспыхнула, однако уже через минуту овладела собой. Нельзя позволить этому мерзавцу сломать ей жизнь! И она почти спокойно добавила: — Я еду к мужу в Восточную Африку. Прошу вас никому и никогда не рассказывать. Дайте честное слово. Этот подонок встречался с моим мужем на фронте. Говорят, они с братом убили двух человек в Голуэе и на другой день завербовались. Будьте осторожны!* * *
Несмотря на занятость, Энтон явственно ощущал, как пассажирами овладевает приятное возбуждение: близилось Рождество. И Момбаса. — Семейные, — расфилософствовался как-то доктор, — находятся в гораздо более сложном положении, чем ты, мой мальчик. Ты всего лишь скитаешься по свету, как охотники былых времен, в поисках свободы и приключений. Ты, Энтон, все еще сосунок, хотя и большой. А они пожертвовали всем, что составляло их жизнь — как говорится, сожгли мосты. Многие уже не молоды. Африка — их последняя надежда. Охваченный нетерпением и не зная, куда себя деть, однажды Энтон свернул в узкий коридор на нижней палубе. Навстречу топал громила — брат Мика Рейли. Позади раздался грохот шагов по металлу. После года в доках Помпи, Энтона не могла удивить встреча с насилием. Он выхватил нож и прижался спиной к переборке. Дыхание сперло. Он обернулся и увидел самого Мика. — Перо тебе больше не поможет, молодой петушок! — осклабившись, Рейли сорвал со стены огнетушитель. Его брат ринулся вперед. От удара огнетушителем правая рука Энтона повисла, как плеть. Он рухнул на палубу, роняя нож. Бандиты открыли дверь вспомогательной котельной и потащили туда отчаянно сопротивлявшегося Энтона. Ему удалось толкнуть старшего из братьев так, что тот ударился головой о стальную переборку, но они все-таки втащили его в тесное помещение и захлопнули за собой дверь. В комнате было полутемно. Старший Рейли поволок Энтона к паровой трубе, приводившей в движение брашпили и лебедки. Рейли похлопал ладонью по трубе. — Как раз то, что нужно, Пэдди. Прямо пышет жаром. Пэдди подтащил Энтона к оголенной части трубы и заломил здоровую руку за спину. Содрал с правого плеча рукав рубашки. И прижал сгиб локтя к трубе. — Нет, ты только посмотри на татуировку! — воскликнул он. — Скормим птичке немного жареного мяса? Энтон скорчился от невыносимой боли и лягнул Мика Рейли в пах. Тот согнулся пополам. Брат Мика обрушил на голову юноши тяжелый, как дубинка, кулак и вновь приложил его руку к раскаленному металлу. Запахло горелым мясом. Из раны потекла кровь. Когда Пэдди отнял руку Энтона от трубы, на металле остались кровь и ошметки кожи. Бандит удовлетворенно осмотрел рану. — Ну что, он спекся? — спросил Мик Рейли. — Не совсем. — Пэдди в третий раз приложил руку Энтона к трубе. Юноша потерял сознание. — Ну, хватит, — произнес Мик Рейли. — Сопляк получил урок на будущее. Пусть только еще раз мне попадется — убью! Братья швырнули Энтона на пол и вышли из котельной. В коридоре Пэдди подобрал цыганский нож. Энтона разбудила боль. Внутренняя поверхность руки представляла из себя месиво из черной запекшейся крови, сырого мяса и волдырей. Он поднялся, хватая ртом воздух. Поискал чури — безрезультатно. И заковылял к доктору. — Мой мальчик, ты взрослеешь на глазах, но «Гарт-касл» и не такое видывал. Старик дал Энтону стакан виски и осмотрел изувеченную руку. — Надо же — перед самым Рождеством! Как тебя угораздило? — Я не могу ответить на ваш вопрос, доктор, — ответил Энтон и стиснул зубы от жгучей боли: врач обрабатывал рану. Он пообещал Гвенн молчать об изнасиловании — и даже виски не развязало ему язык. Ночью злая, пульсирующая боль не давала Энтону уснуть. Черт, горько размышлял он, стоило уезжать из Англии, чтобы его опять избили! Но больше он этого не допустит. В Африке никто — ни егерь, ни десятник и ни старший стюард — не посмеет им командовать. Он обретет свой мир свободы и приключений. Будет путешествовать пешком или в седле, с винтовкой за плечами. Ночевать где заблагорассудится. У него будет много денег и друг или девушка, чтобы посидеть рядом у костра. Перед глазами возникла нарисованная на мешках с кофе двуглавая вершина горы Кения. Остаток дня Энтон сторонился Гвенн. Правая рука была на перевязи и болела. Он стремился избежать расспросов. Ночью на судне не спали: праздновали канун Рождества. Мачты украсили национальными флагами Великобритании. Ветераны — особенно ехавшие с семьями — болтали и пели под брезентовым навесом на тесных палубах. Энтон заметил в тени несколько парочек: будущие новобрачные прощались со своими временными кавалерами. Утром капитан обвенчал девушку из спасательной шлюпки, и теперь она и свежеиспеченный супругискали, где бы уединиться. Люди передавали друг другу переписанные от руки экземпляры рождественского гимна. Ребятишки, забравшись в спасательные шлюпки, горланили подходящие к случаю народные песни. На Энтона накатило чувство тоски и одиночества. Вспомнились жаркие цыганские костры на снегу. Он не был плаксой, но не принадлежал и к тем, из которых слезу нипочем не вышибить. Он бродил по правому борту и вовсю напрягал зрение, чтобы различить долгожданный берег. Потом подсел к вентилятору (там горела лампочка) и, вытащив из кармана вельветовой куртки книжку, отыскал нужный отрывок. «Долгая, мрачная ночь окутала меня, и сколько призраков былых упований преследовали меня в этой ночи, сколько призраков дорогих мне воспоминаний, ошибок, горестей, бесполезных сожалений! Я уехал из Англии…» — Что вы читаете? — послышался женский голос. — «Дэвид Копперфилд». — Энтон повернул голову и от восхищения вскочил. Какая же она красавица! — То место, где он покидает родину. — Что у вас с рукой? Он замялся. — Свалился с трапа. До свадьбы заживет. Гвенн дотронулась до повязки. — Правда? «Пошли вам Бог счастья, джентльмены! — грянул хор голосов. — И пусть вас ничто не огорчит!» Энтон потупился. Гвенн не спешила убрать руку. Он любовался длинными, тонкими пальцами с голубыми жилочками. — Погадать вам? — Не знаю… Почему бы и нет? — Она протянула ладонью вверх правую руку. От прикосновения к этой бархатной руке у Энтона закружилась голова. Он подвел Гвенн ближе к свету и немного согнул ладонь — линии стали отчетливее. Он сразу пожалел о своем порыве. Безмолвно оторвал взгляд от ладони молодой женщины и погрузил его не в зеленые — скорее серые в тусклом свете лампы — озера ее глаз. — Скажите, что вы увидели! — Наверное, нельзя заниматься этим в канун Рождества. — Пожалуйста, скажите правду. Энтон разволновался. Но Гвенн казалась такой спокойной, что он послушался. — Главное — линия ума. Она у вас прямая, четкая и глубокая. Вам присущи ясный ум и целеустремленность. В то же время она не пересекается с линией жизни, опоясывающей бугорки Венеры и Марса. Это значит, что вы независимы, отважны и не отступаетесь от цели. — А сердце? — Линия сердца проходит между большим и указательным пальцами, начинаясь от угла Юпитера. Ваши привязанности — глубокие и постоянные. Вы склонны жертвовать собой и не ждете от жизни слишком многого. Он запнулся и снова посмотрел ей в глаза. — Энтон, а что меня ждет в будущем? — Линия судьбы берет начало от линии жизни и тянется к вершине руки: вы добьетесь своего и будете счастливы. Но… Он различил угрожающий островок, разбивший линию судьбы на равнине Марса. Любой цыган знает, о чем говорит искривленная линия ее брака. — Но что? — Гвенн побледнела. — Энтон! Скажите мне все как есть. — Но сначала вас ждут страдания. — Ну что ж… Будем надеяться, что вы ошиблись. Стоя рядом, они вглядывались поверх поручня в быстро светлеющее небо. Потом взгляд Гвенн упал на палубу. Рейли с братом пьянствовали на носу судна. Гвенн похолодела; к горлу подступила тошнота. Она чувствовала себя оскверненной. Убить бы это животное! Интересно, что бы она тогда почувствовала? Можно ли таким способом избавиться от гнева и унижения? Дети угомонились — щенятами уснули на дне спасательных шлюпок. На горизонте показалась светлая полоска. «Гарт-касл» приближался к берегам Африки. Стоя бок о бок, Энтон и Гвенн молча смотрели вдаль; их руки на перилах почти соприкасались. Энтону захотелось накрыть ее руку своей ладонью. В рассветных лучах им раскрыла свои объятия гавань Килиндини в Момбасе. Их приветствовали кокосовые пальмы и манговые деревья, беленые стены домов, красные черепичные крыши и арабские жилища. Корабль бросил якорь за рифами. С берега к нему устремились многочисленные лодки и лихтеры. На необъятном песчаном пляже собралась толпа: поселенцев встречала вся Момбаса. От волнения Энтон потерял дар речи. Наконец-то он в Африке! — Где вы будете жить? — спросил он немного погодя. — У подножия горы Кения. Он несказанно обрадовался знакомому названию. Не дождавшись ответа, Гвенн повернулась к Энтону, и у нее захватило дух от голубизны его глаз. Сколько в нем жизни, как он отличается от ее сдержанного мужа! — Наша ферма — у реки, севернее Наньюки. — Надеюсь, еще увидимся, — сказал Энтон и представил двуглавую гору. — Может, сойду в Дар-эс-Саламе. — Удачи вам. И счастливого Рождества. — Счастливого Рождества. — Он наклонился и поцеловал молодую женщину в щеку. — До свидания. — Кому на берег, садитесь в лодки! — проорал боцман. Гвенн тепло улыбнулась. — До свидания. Может, и правда увидимся. И ушла собирать свои жестянки и потертые кожаные чемоданы. Потом она спустилась по сходням в лодку, и та понеслась, разрезая волны, к берегу. Дул свежий ветер. Гвенн оглянулась и помахала рукой. Энтон не видел ее глаз — только светлые, развивающиеся на ветру волосы. — Не вздумай сойти на берег, Райдер! — гаркнул старший стюард. — Работы полно. Мы опаздываем. Вам, новичкам, заплатят только в Помпи. Так что марш драить каюты!Глава 7
Оливио услышал вопрос леди Пенфолд, обращенный к Анунциате Фонсека, и уловил в нем непривычные нотки вкрадчивого дружелюбия пополам с любопытством: — Что привело вас с братом в нашу глушь? Видно, дамочка заподозрила муженька в возобновлении фронтовых шашней. Может, застукала его светлость, когда он ночью крался по коридору. Иначе с какой стати ей выказывать интерес к другой женщине? Ах, как хотелось Оливио оказаться на месте лорда Пенфолда и обладать не его женой, а любовницей! Вот это был бы шик! Однако пора идти наверх и заняться багажом гостей. С тех пор как окончилась война, в «Белом носороге» становится все интереснее. Мало ли что может случиться! Особенно сейчас, когда его светлость на берегу — встречает новых поселенцев. Карлик взял пустой кофейник и принялся не спеша вытирать стол. Дамы не обращали на него внимания. — Васко понадобилось осмотреть северные участки, — ответила Анунциата, — и он взял меня с собой. Считает эти места перспективными. — Я бы очень удивилась, — сказала Сисси Пенфолд. Женщины поднялись из-за стола. Карлик попятился, давая им пройти, а затем сошел с веранды и направился к бунгало Пенфолдов. Проходя мимо конюшни, он зажал ноздри, чтобы не вдыхать омерзительный конский запах. Он всегда сторонился этих гигантских животных, боялся их длинных ног и возмущался показной элегантностью наездников. — Вы часто катаетесь верхом, дорогая? — спросила Сисси, подходя вместе с Анунциатой к конюшне. Она не могла не заметить, как отлично сидят на португалке ее собственные брюки из саржи. У Анунциаты был высокий таз — достаточно круглый, чтобы привлечь внимание мужчин, и достаточно упругий, чтобы возбудить зависть женщин. Хуже того: у нее оказалась более тонкая, чем у Сисси, талия. А груди под спортивной рубашкой казались спелыми плодами — вот-вот лопнут. Сколько же лет смазливой сучке? Прикидывается, будто двадцать шесть — двадцать семь. Но гусиные лапки вокруг глаз и рта выдают тридцать два — тридцать три, а то и тридцать четыре. У этих смуглых шлюх морщины появляются позже, предупреждала мать. Но уж зато когда такая начнет расплываться, то превращается в гору коричневого студня. Сисси считала, будто имеет полное право вынюхивать, что связывало ее муженька с этой смуглой вампиршей. Независимо от ее собственных грешков (карлик, разумеется, не в счет), нельзя допустить, чтобы Адам блудил в их отеле! — Иногда мы объезжаем нашу плантацию в Мозамбике, — ответила Анунциата. — Но меня пугает манера Васко ездить верхом. Он грубо обращается с лошадьми. — Почему бы вам не прокатиться на Удаче? Она не слишком высока ростом, и у нее легкая рысь. И галоп тоже, мысленно добавила Сисси, всегда уделявшая отбору лошадей особое внимание. Выращивать кофе и школить тупых туземных слуг — то еще удовольствие! Зато во всем, что касалось собак, лошадей и плотских утех, Сисси чувствовала себя знатоком. Она вспомнила выступление трехлетней Удачи в Сомали на состязаниях по скачкам с препятствиями. Это было незадолго до войны. Охваченная почти истеричным азартом, Удача сразу после взмаха флажком, не обращая ни малейшего внимания на жокея-араба, устремилась вперед и пришла второй. Это было великолепное, захватывающее дух зрелище! Посмотрим, подумала Сисси, умеют ли идеальные португальские ножки управляться с чем-нибудь, кроме мужчин. Перед тем как взобраться на своего гунтера[2], Сисси бросила взгляд на отель и увидела, как в окне ее спальни дрогнула занавеска. Уж не Оливио ли прячет свою уникальную круглую голову? И кого же он выслеживает: ее или португалку? Грум удлинил для Анунциаты стремена. В сопровождении трех гончих наездницы понеслись по пыльной дороге. Ага, подумал Оливио, чертовы дворняги тоже слиняли. Будь проклят тот день, когда этих жутких тварей привезли из Англии! То был последний раз, когда хозяин с хозяйкой вместе чему-то радовались. Возбужденные, словно дети, валандались со слюнявыми зверюгами. Самая страшная, Джиневра, в первый же день пребывания в «Белом носороге» дважды сбила Оливио с ног. Любвеобильная и экзальтированная, она так и бросилась на карлика — выставила его на посмешище. Прямо при слугах положила передние лапы ему на плечи и лизнула лицо длинным тонким языком. По прошествии нескольких дней ему ничего не оставалось, как отравить ее медленно действующим ядом, более других пригодным для симуляции симптомов болезни. Из людей один только повар заподозрил Оливио, догадался, кто свершил правосудие. Зато собаки поняли намек и оставили карлика в покое. Женщины ехали рысью по холмам позади отеля, между рядами кофейных деревьев. Под ногами стелился белопенный ковер из лепестков: десятилетние деревья наконец-то начали плодоносить. Сисси это не волновало. Нет спору, некоторые деревья были красивы, с парными глянцевыми вечнозелеными листочками и кистями тяжелых зерен. Но других — с жалкими, сморщенными, как изюм, пупырышками — было гораздо больше. Краем глаза Сисси наблюдала за Анунциатой. Как только Адам может спать с этой «прости-Господи»? Бедрам португалки было тесновато в бриджах, когда она плавно приподнималась в такт с лошадью. Анунциате не хватало элегантности. Она чуть заметно сутулилась, а маленькие ступни казались параллельными земной поверхности — никакого подъема! Но ей не откажешь в кошачьей грации. Гончие — вот еще одна, более серьезная проблема. Даже для этой породы собаки были слишком худы, короткошерстны и чувствительны. В этом гиблом краю все их природные качества развились до максимума. Выпирающие ребра делали их похожими на птичью клетку. У вожака по кличке Ланселот через все левое плечо шел безобразный шрам. Из четырнадцати собак уцелело только три — а ведь когда-то была лучшая свора во всем Уилтшире! Как почти все, вывезенное из Англии, гончие оказались слишком хороши для Африки. Из поколения в поколение их обучали поднимать оленя или зайца. Чуткие, легкие на подъем, собаки были просто не способны отказаться от погони. Их губило Хорошее воспитание. Четыре особи за какие-то считанные секунды погибли на глазах у хозяйки во время охоты на льва, которая поначалу напомнила ей ирландскую охоту на хищников. Преследуя в долине громадного зверя с темной гривой, свора истощила его терпение. Лев остановился и подпустил их поближе. И вдруг — молниеносный выпад — и гончая с перебитым хребтом летит вверх тормашками, как волан. Прежде чем Адам, никогда не отличавшийся снайперскими достоинствами, уложил его из своей винтовки — и то с четвертого выстрела! — лев умертвил еще троих. Не говоря уже о том, что последняя пуля прикончила раненую! Еще двух собак, подсчитывала Сисси, задрала гиена, когда они тащили из густых зарослей подстреленную антилопу. Еще одну утащил леопард — прямо с охотничьей стоянки. Как она надрывалась, бедная, когда гигантская урчащая кошка волокла ее в буш! И надо же — другие собаки отказались броситься в погоню. Остальные смерти были не столь драматичны: болезнь, перебитая лапа, змеиный укус. Даже теперь три оставшиеся собаки с короткой памятью стрелой неслись впереди наездниц, бросаясь то вправо, то влево, фыркая и вынюхивая дичь. Сисси пришпорила лошадь, пуская ее в легкий галоп. Удача тотчас отреагировала — резко набрала скорость. Анунциата покачнулась. Вскоре лошади уже неслись во весь опор. Собаки начали травить. Удача натягивала удила, норовя захватить лидерство. Сисси первая заметила блестящую черную стрелу, летящую низко над землей. Шакал! Вот теперь посмотрим, умеет ли шлюха ездить верхом! Она видела: Анунциата дает лошади неправильные команды. Движимая одним-единственным стремлением удержать равновесие, наездница привстала в стременах и наклонилась вперед, к лошадиной холке. Не чувствуя тяжести седла — так бывало, когда жокей пускал лошадь в галоп, — Удача всей душой отдалась бешеной скачке. Шакал, гончие и лошади, точно безумные, неслись сквозь колючий кустарник — буш. Совсем как настоящая английская охота, подумала Сисси, вот только в финале не будет приличной еды и выпивки — отпраздновать победу. Шакал изгибался и вилял, используя как укрытие каждый куст и каждую выбоину, каждый камень и каждое дерево. Собаки бежали, низко пригнув головы и вытянув морды вперед. Впалая грудь ходила ходуном, словно кузнечные мехи. Гончие неслись во весь опор по дикой местности, преодолевая препятствия. Колючий шип пропорол Ланселоту нос и выколол левый глаз; однако пес, ни секунды не мешкая, бросился вместе с братьями на штурм следующих кустов. Сисси придержала свою лошадь. Опытный наездник пришпоривает на открытой местности и сдерживает скакуна в густых зарослях. Зато Удаче никто не мешал. Она вся покрылась потом; из пасти показалась пена; глаза округлились и горели, когда она неслась по прямой за гончими. Анунциата больше старалась удержаться в седле, чем контролировать лошадь; может быть, даже рассчитывала возглавить гонку. Собаки разделились, чтобы обогнуть высокое, все в колючках, дерево. Заставив свою лошадь податься немного в сторону, Сисси не оставила Удаче пространства для маневра. Анунциата что было сил прижалась щекой к взмыленной шее лошади. Ее левое колено зацепило ствол. Женщина вскрикнула и вылетела из седла. Сисси резко осадила лошадь и, описав круг, подъехала к Анунциате. Оглушенная падением и онемевшая от боли, та застонала и прикусила губу. — С вами все в порядке, дорогая? — спросила Сисси. — Я волнуюсь за собак. — Наверное. Только нога болит. Оставьте меня, поезжайте. Задержите мою лошадь. Сисси нахмурилась и потрусила за Удачей и гончими. Теперь шлюха несколько недель проваляется в постели. «После стольких лет прозябания в "Белом носороге", — подумала Сисси, — я имею право на небольшую потеху».* * *
Пальцы мясистой руки Оливио шарили в карманах белого мятого пиджака. Он с заботливостью часовщика вынимал каждый предмет и клал на место. Чувство опасности и пугало, и будоражило. Оливио вспомнил тот единственный случай, когда его поймали с поличным. Жалкий гоанский беспризорник, увечный и неприкаянный, он не гонял с индийскими мальчиками мяч на улице или с португальскими — во дворе школы. У него была своя игра — перебирать содержимое ящиков стола или комода, запоминая точное расположение каждой вещи и оставляя каждую книгу или шарф сложенными в точности, как раньше. Но однажды Оливио дал маху. Работая коридорным в меблированных комнатах Бомбейского клуба, он нашел под стопкой шелковых сорочек записную книжку в переплете из свиной кожи. Но сначала он занялся рубашками. Разворошив их радужное многоцветье, выбрал одну, голубую, гладкую, как потаенные местечки его первой девушки, и, расстегнув пуговицы, напялил поверх мешковатой униформы. Закатал рукава — а то они свисали и делали его похожим на пугало. Зато воротничок идеально облегал его короткую толстую шею. Карлик впился взглядом в свое отражение в зеркале, любуясь идеально круглым черепом. Гордо вздернул подбородок и победоносно ухмыльнулся. Потом вернулся к записной книжке с вклеенными фотографиями. И, уйдя с головой в созерцание восхитительных картин другой, незнакомой жизни (чай в кругу семьи на зеленой лужайке, сцены охоты), не заметил, как в номер, расстегивая на ходу портупею, вошел высокий военный — и разразился руганью. Это был настоящий великан — его ярость заполнила комнату; глаза метали молнии. Он стегнул Оливио ремнем по лицу и сильно порезал лоб. Откуда офицеру было знать, что последнее слово останется за Оливио? Ибо, подобно тому, как некоторые люди наделены от природы талантом дружить, Оливио обладал редкостным даром мщения. И бомба замедленного действия произвела разрушительный эффект; жаль только, ему не довелось при этом присутствовать. Зато он лишний раз убедился в надежности Королевской почты. Оливио вскрыл над паром письмо офицера к молодой жене, оставшейся в Корнуолле, и дополнил парой любовных записок и фотографиями его бихарской наложницы, не забыв и несколько счетов за презенты. Письмо пересекло моря и океаны, а с обратной почтой пришло известие о том, что молодая женщина пыталась отравиться. Ее удалось спасти — чего нельзя сказать об их неродившемся сыне. Этот случай лишний раз показал Оливио достоинства шпионажа, и он довел выслеживание и вынюхивание до степени искусства. Как другие искусно перевязывают артерию или играют на пианино, так Оливио мог виртуозно обыскать комнату либо выпотрошить и уложить обратно содержимое чемодана. Слишком гордый, чтобы красть, и слишком любопытный, чтобы оставить чемодан необследованным, он собирал информацию, как другие — урожай. Этим утром, убираясь в баре, он наткнулся на белый полотняный пиджак кого-то из посетителей. В карманах оказались испещренная пометками карта Центральной Кении, четыре сигары в потрепанном кожаном портсигаре, колода карт, золотые карманные часы и горсть монет: индийских, английских и португальских. И конверт с двумя выцветшими фотографиями, выполненными в сепии. Оливио повертел часы. Да это же лорда Пенфолда! Он открыл крышку и ухмыльнулся, прочитав надпись: «Вечно твоя Сисси». На одной фотографии была изображена шикарная вилла с несколькими террасами и крыльцом с колоннами. Кругом простирались холмы и виноградники. Меж виноградных кустов маленькие фигурки склонялись над круглыми корзинами. Другие работники несли полные корзины с поля, сгибаясь под их тяжестью. На втором снимке — старом, с оторванными уголками — были сфотографированы двое мужчин — судя по всему, братья. Бросались в глаза их массивные носы, толстые губы и колючие маленькие глаза под широкими бровями. Один стоял, выпрямившись во весь рост, в белом военном мундире с наградными знаками и при шпаге. Надменный португальский офицер. Сеньор Фонсека собственной персоной! Опершись одной рукой на эфес шпаги, другой он обнимал за плечи своего спутника, сильно уступавшего ему ростом. Шея этого другого утонула в высоком, тугом воротнике священника. Этот человек показался Оливио знакомым. Он носил огромный блестящий крест на тяжелой цепочке. Длинная мантия и украшенный кистями кушак кардинала доставали до ботинок с пряжками. Облачение архиепископа? Карлик всмотрелся в решительные, глубоко посаженные глаза этого человека. Протер фотографию манжетой. Потом положил оба снимка обратно в конверт. Повесил пиджак на спинку стула. Он привычно взобрался по стремянке на свою полку и начал полировать освинцованную стойку. Однако в мыслях он то и дело возвращался к фотографиям из конверта, на обороте которого виднелся герб с фамилией «Фонсека». Второе имя Оливио — тоже Фонсека. Вдруг это его родичи?* * *
— Держитесь крепче, мэм-саиб! — покрикивал жизнерадостный африканец-лодочник, когда лодка взрезала носом волну. Наконец-то Африка стала для Гвенн непосредственным впечатлением! И сама она уже не была сторонним наблюдателем, томящимся в ожидании писем от Алана или пассивно сидящим на палубе, пока носильщики управляются с багажом. Белая гребная шлюпка то и дело ударялась о поднимаемые ветром буруны. Четверо гребцов синхронно орудовали веслами и переговаривались на суахили. Лодка благополучно протиснулась между двумя коралловыми рифами. С широко открытыми глазами, вцепившись обеими руками в деревянное сиденье, Гвенн любовалась опрятной белой униформой гребцов и кружением чаек над волнами. Теплые брызги промочили ее шерстяное пальто. Она вспомнила дожди и туманы Уэльса и со смехом слизнула с губ морскую соль. Потом обернулась туда, где остался «Гарт-касл», но не увидела застенчивого юношу, который поцеловал ее на прощанье. Примерно в сорока ярдах от берега лодка наткнулась днищем на белый песок и, как всякого новоприбывшего, поставила Гвенн перед выбором: брести к берегу вброд или позволить африканцам доставить ее туда на закорках. Она взяла туфли в руку и спрыгнула в воду. Длинная юбка кувшинкой раздулась вокруг талии. Гвенн двинулась к берегу, глазами отыскивая Алана. Других пассажиров встречали друзья и родственники; люди обнимались, целовались, сгребали в охапку детишек. Гвенн дважды прошлась взад-вперед по длинному пляжу, стараясь не обращать внимания на счастливые пары. Разочарование мешалось с тревогой. Неужели Алан настолько плох? Окончательно убедившись, что ее никто не встречает, она взяла из кучи сложенных под гигантской пальмой вещей свои чемоданы. Теперь, когда схлынула эйфория, ей открылось, что поднять в Африке семью будет не так-то просто. Гвенн села на старенький чемодан и отряхнула ноги от песка. Зашнуровала тяжелые туфли и побрела вверх по склону, к видневшейся за пальмовыми рядами полоске твердой красной земли. Там на узких путях стояли местные трамваи: шесть маленьких тележек, укрытых от солнца полосатым брезентом; на двух обращенных друг к другу скамейках могло усесться четыре пассажира — как в гондоле карусели в городском парке. Эти трамваи — гордость Момбасы — перевозили людей от причала до железнодорожной станции. Их толкали группы весело горланящих песни африканцев. Пассажиры, которым повезло — их встретили, — с помощью друзей и слуг первыми набились в вагончики. Перегруженные трамваи медленно тронулись с места. Гвенн обнаружила, что у нее пропал один чемодан. И еще — что за ней следует приятный на вид африканец. — Я — Мальва. Давайте помогу. Он смотрел на нее умными, живыми глазами. У него были приплюснутый нос, решительный подбородок и правильные черты лица. Он стоял перед ней в поношенной голубой гимнастерке Королевских африканских стрелков и брюках цвета хаки. Вместо ремня брюки поддерживала завязанная узлом веревка. Из ботинок — сапог с отрезанными голенищами — выглядывали пальцы ног. — Я родом из племени вакамба, мэм-саиб, это далеко отсюда. Могу работать. За еду или за деньги. Не зная, куда идти, Гвенн обратилась к молодой парочке, чьи вещи как раз грузили на запряженную мулами двухколесную тележку. У мужчины один пустой рукав был приколот к рубашке. — Вы не могли бы мне помочь? Меня зовут Гвенн Луэллин. — Прыгайте в двуколку, — живо откликнулась девушка, немного ошалевшая от дороги коренастая блондинка. — Будете моей подружкой. Она представила Гвенн своего спутника: — Это мой жених, Тони Бевис. А меня зовут Джилл, и мы прямиком направляемся в церковь, правда, Тони? Правда? — Конечно, дорогая, — подтвердил Бевис. У него были каштановые волосы, причесанные на прямой пробор и двумя аккуратными дугами обрамлявшие лоб. Отчаявшись найти пропавший чемодан, Гвенн вместе с Джилл и Бевисом взобралась на сиденье. Она уже знала: женихов и невест венчают без всяких проволочек, сразу по прибытии. Нельзя же девушке путешествовать одной или в компании мужчины, который не является ее мужем. Мальва закинул наверх ее пожитки. Он показался Гвенн заботливым и добросовестным работником. Возчик — индус в чалме — обращался исключительно к англичанину. — Готово, саиб? Церква? Джилл захихикала. Тони Бевис кивнул и пожурил невесту: — Нет ничего смешного, дорогая. Эти черти хотя и коверкают слова, зато говорят на четырех или пяти языках — не то что мы. Возчик взобрался верхом на тяжелое дышло и, заверещав на хинди, привел сонных животных в чувство. Гвенн поморщилась: поводьями служили вдетые в ноздри быков веревки. Мальва следовал на расстоянии, вертя в руке посох из красного дерева с набалдашником в виде пениса. В этот день англиканская церковь бурлила не хуже карнавальной площади. Деревянная, с белеными стенами и стрельчатыми готическими окнами, она казалась в собранном виде доставленной сюда из дома. Ни дать ни взять — церковь Святого Златоуста в Денби, где Гвенн венчалась с Аланом пять лет назад. Окна узкого нефа были открыты. Ветер доносил благоухание красного жасмина и гибискуса. Алтарь был увит белыми лилиями. Церковь заполнилась гудением голосов пятнадцати брачующихся пар и их сопровождающих. Каждая группа дожидалась своей очереди. Девственная белизна удачно гармонировала с тропической одеждой; каждая невеста и каждый жених надели хоть что-нибудь белое. С пробковых шляп с широкими полями свисали белые кисейные косынки или плиссированные шарфики из муслина — заменяя собой строгие английские вуали. Гвенн и Джилл с Тони сели на скамью со спинкой в одном из первых рядов. С началом службы уныние Гвенн рассеялось. Венчались по три пары одновременно. Гвенн поймала себя на том, что улыбается, разделяя их радость. Тучный священник безбожно путал имена. — Согласен ли ты, Гарольд, взять в жены Лидию? — Вообще-то нет. Моя невеста — Розмари. Гвенн и Джилл нервно захихикали. Один свидетель шепнул приятелю: — Как думаешь, разводить их будут тоже по три пары за раз? Настал черед Бевисов. Гвенн тоже шагнула к алтарю. Побледнев, как мел, Тони повернулся к ней и в ужасе зашептал: — Послушай, извини — у тебя есть кольцо? — Кольцо? — Ну да. Я же должен надеть ей кольцо на палец. — О… у меня только свое. Но я могу одолжить. — На Гвенн накатил романтический порыв. И — сразу вслед за ним — холодный душ дурного предчувствия. Стоя перед алтарем, она казнилась виной перед Аланом и в то же время усиленно лизала безымянный палец. Наконец ей удалось снять кольцо — впервые после того, как надела. Служба продолжилась. Бевис с трудом надел кольцо на пухлый палец невесты. — А теперь куда? — спрашивали новобрачные своих друзей, выходя на улицу и щурясь от яркого африканского солнца. Гвенн уже знала: в Момбасе почти некуда пойти. — Поехали в клуб, отметим, — предложил Тони Бевис. — Один приятель обещал замолвить словечко. Гвенн чувствовала себя лишней, но ей было некуда деться, и она согласилась. Клуб располагался в районе старой португальской гавани. В холле, создавая уют, красовалась огромная кадка с казуариной; на поникших ветвях висели картонные ангелы. В баре и на веранде гостей приветствовали, уставившись стеклянными глазами, точеные головы сернобыков и грустных бизонов. Багроволицые члены клуба в вечерних костюмах — черных брюках и коротких белых кителях — уставились на новоприбывших поверх старых английских газет. Гвенн и Бевисы начали с шампанского и гигантской жареной креветки. Мальва остался сторожить вещи. Ровно в семь, когда перед ними только-только поставили мясо антилопы, в зал вбежал гордый своей миссией парнишка-сомалиец в белой феске. В одной руке он держал колокольчик, а в другой — табличку с надписью: «Не для дам!» Официант срочно вручил Бевису счет. Англичанин непонимающе посмотрел на него. Пришлось официанту объяснить: по местным правилам, в семь часов дамы должны покинуть клуб. Изумленно бормоча: «Да-да, конечно», — Бевис стер с подбородка соус и нацарапал имя своего поручителя. Голодные, они вышли из клуба и поехали в «Гранд-отель». Названный так на манер европейских собратьев, но за двадцать лет основательно запущенный, «Гранд» держался на плаву лишь благодаря конкуренции. Уличная аркада не пропускала свет в окна. Под грязной облупившейся краской виднелись трещины на стенах. Гвенн и Джилл подождали в холле, пока Бевис вел переговоры у конторки. Гвенн рассеянно прикидывала, каких же размеров должен быть паук, соткавший в углу устрашающую паутину. Из бара, держа в каждой руке по высокому бокалу, вышел мужчина — очевидно, один из проживающих в отеле. — Да будет мне позволено заметить, — сказал он, оглядывая женщин, — здесь не так плохо, как кажется. Здесь гораздо хуже. В сезон дождей больше крыс, чем прислуги. Причем некоторые крысы даже крупнее. Тем временем Бевису сказали, что все номера заняты, но можно взять одеяла и переночевать на полу в бильярдной. Он попросил дам подождать и отправился наводить справки относительно других гостиниц — «Африка» и «Цецилия». Гвенн вышла и дала Мальве флорин. Потом они с Джилл посидели в баре, потягивая джин с индийским тоником и стараясь не обращать внимания на пристальные взгляды мужчин. Если бы Алан ее встретил, ей не пришлось бы мириться со всеми этими неурядицами. Кажется, дорога в Найроби будет долгой. Бевис устало взобрался на запряженную верблюдом двуколку. В ответ на просьбу отвезти его в отель «Африка» возчик-индус снисходительно улыбнулся. — Если заблудитесь, саиб, нос всегда приведет вас к «Африке» — и даже не по одному, а по многим запахам сразу. Построенная из вонючих стволов мангрового дерева, широкая и приземистая «Африка» показалась Бевису противной жабой на обочине. Здесь пахло канализацией, тухлой едой и свалкой. Колодец был до краев заполнен густым акульим жиром, которым смазывали сапоги (для прочности) и стены (в качестве защиты от древоточцев). В холле трое матросов, сидя на груде антилопьих шкур, тянули джин прямо из бутылки. Края шкур пожелтели, задубели и загнулись, словно древние свитки. Бевис подошел к клюющему носом портье и спросил, нет ли свободной комнаты. — Он в отключке, — подсказал один матрос, — и не кумекает по-английски. Если бы даже у него нашлась комната, так непременно без двери — вряд ли вас устроило бы. Утомленный поисками, чувствуя боль в ампутированной руке, Бевис понял: ему ничего не остается, как провести брачную ночь на бильярдном столе в «Гранд-отеле». После нескольких рюмок и тушеного мяса буйвола Гвенн обратилась к Бевисам: — Если вы не против, я почитаю на стуле в баре. Прихватив масляную лампу, одеяла и бутылку бренди, молодожены удалились в бильярдную. Все еще сердясь на Алана, раздраженная тем, что весь день прошел среди чужих радостей, Гвенн закрыла глаза и попробовала помечтать о будущем. Внезапно до нее донесся запах ароматного трубочного табака. Она вспомнила отца и услышала стук трости по деревянному полу. — Прошу прощения, — послышался дружелюбный, прекрасно поставленный голос английского джентльмена, — но так не пойдет. Гвенн вздрогнула и открыла глаза. Перед ней, опираясь на бамбуковую трость, стоял седовласый мужчина аристократического вида. Он вынул изо рта трубку и, сощурив глаза в улыбке, представился: — Адам Пенфолд. Пожалуй, будет лучше, если я посижу в баре, а вы — в моей комнате. — Он протянул руку, помогая ей встать. — Вы очень добры. Мое имя Гвенн Луэллин. Я приехала утром, но муж почему-то не встретил. — Должно быть, он ждет в Найроби. Нам пришлось отправить туда часть встречающих: железная дорога и без того перегружена. — Пенфолд поднял ее небольшой саквояж. — Я из земельного управления, заскочил в Момбасу посмотреть, как идут дела. Завтра отправим вас к месту назначения.Глава 8
Энтон обратил внимание: лишь немногие члены экипажа цеплялись за свое одиночество — хотя в свое время оно-то и погнало их в море. Большинство обзавелись постоянными приятелями, с которыми можно было выпить, перекинуться в картишки и потолковать. Объединялись, как правило, по вахтам или смежным профессиям: кочегары и судовые механики, стюарды и повара. В каждой вахте были свои записные игроки. Эти ставили на карту все до единого пенса и просаживали жалованье, иногда даже не успев получить. После пары дней плавания становилось ясно, кому везет, кто честно платит, а кто отлынивает. Всего одна ночь, и заработка за несколько недель каторжного труда как не бывало. Вист, джин, покер, двойной черт — во всем этом Энтон чувствовал себя как рыба в воде. — Мы идем как бы на двух разных судах, — сказал однажды судовой врач. — Пассажиры — на одном «Гарт-касле», команда — на другом. — Следи за другими игроками, — наставлял его Ленарес, подкрепляя слова жестами и гипнотизируя своего двенадцатилетнего ученика взглядом печальных темных глаз. Тасуя карты, он рассказывал о нажитых и утраченных состояниях. — Учись читать по губам, глазам, коже — особенно по коже: это труднее контролировать. Смотри, как она натянулась или на ней выступил пот. Руки никогда не солгут! На пароходе играли ради острых ощущений или чтобы снять напряжение. Но Энтона цыгане учили другому. Для них это была та же охота: выслеживание и подкрадывание, сочетание инстинкта и дисциплины, привычка голодать и терпеть. Они знали приемы, но также и то, когда от них выгоднее воздержаться. Их правилом было — выжидать, проигрывать понемногу и никогда слишком много не выигрывать. К тому времени, как «Гарт-касл» вышел из гавани Килиндини в Момбасе и на всех парах двинулся на юг, чтобы за ночь преодолеть расстояние до Дар-эс-Салама, Энтон выиграл ровно столько, на сколько отважился. Он знал цену золоту (может, сам найдет его в Африке) и при каждом удобном случае обращал долги в купюры, а купюры — в золотые соверены, иногда немного теряя при обмене. В специальном кармашке у него на поясе было зашито сорок фунтов стерлингов золотом и пятерками. До сих пор Энтон избегал садиться за карточный стол с другими стюардами, остерегаясь своего босса — старшего стюарда. Он ждал удобного момента. Но сегодня, когда большинство пассажиров высадились на берег, бдительность стюардов должна была притупиться, а кошельки лопались от чаевых. Во время полуночной вахты Энтон задержался в туалете. Он расстегнул высокий потертый воротничок форменного кителя, вымыл волосы и сполоснул лицо теплой водой. Поморгав, стряхнул с ресниц липкую соленую воду и бросил оценивающий взгляд на свое отражение в зеркале. На счастье завязал на шее цыганский шейный платок — дикло — и оставил воротничок расстегнутым. По его расчетам, к этому времени мелюзга должна была уже отсеяться, и игра велась между «акулами». Энтон почувствовал приятное возбуждение. Он обставит их с такой же легкостью, как простых деревенских парней. Он вошел в столовую первого класса, служившую по вечерам кают-компанией. Это просторное помещение с расколотыми зеркалами и поломанными стульями имело убогий, но уютный вид. За столиком в углу резались шестеро мужчин. На столе перед ними красовался натюрморт из стаканов, крошек табака и денег. Остальные клевали носом, откинувшись на стульях или облокотившись на столы. — Прошу прощения, джентльмены, — учтиво произнес Энтон, подходя к круглому столу, куда его жестом пригласил один из игроков, — как называется эта игра? — Покер. Ничего страшного. Ставки на столе. Рост ограничен, — отрывисто произнес старший стюард, не отрывая взгляда от карт и мусоля во рту погасшую сигару. — Хочешь играть — бросай соверен на стол, бездельник. Левой рукой (правая еще болела) Энтон отсчитал четыре фунта монетами по шиллингу и полкроне, положил на стол и, не говоря ни слова, сел на незанятый стул слева от сдающего. Второй стюард передал ему колоду. Круглолицый мужчина справа снял. К тому времени, как пароходный гудок дважды прорезал тишину и «Гарт-касл» вошел в гавань, из пятерых игроков за столом двое вырвались вперед. Энтон был осторожен: ограничился вторым местом. На столе перед ним лежало тридцать четыре новеньких фунта, включая двухнедельное жалованье старшего стюарда. — Последняя сдача, — объявил босс и выплюнул окурок в пустой стакан. — Цинциннати. Каждый ставит пять шиллингов. Один игрок выбыл из игры из-за нехватки денег. Осталось четверо. Маловато для хорошей игры, подумал Энтон и встал. — Сядь, Райдер, — скомандовал старший стюард и, вытащив застрявшую между зубами крошку табака, щелчком отбросил ее на дальний конец стола. Двое других игроков поставили по пять шиллингов. — Сядь. Энтон вновь занял свое место и поставил на кон две полкроны. Глаза его соперников осоловели; сказалась ночная усталость. Замечательно. Стюард сдал каждому по пять карт, а еще пять положил в центр стола. Энтон знал: чтобы выиграть в Цинциннати, нужна крепкая карта. Скажем, полный дом или что-нибудь получше, потому что каждый игрок имеет право выбрать лучшие из десяти карт, которые может посмотреть. Очевидно, будет пять кругов торга — по одному после того, как откроют очередную карту в центре стола. Он внимательно вгляделся в свои карты. Три четверки, дама и пятерка. Для начала неплохо, но у кого-нибудь может оказаться лучше. Он знал правило: если у тебя сильная рука, не раскрывай ее слишком рано, при первых же ставках. Подержи соперников в подвешенном состоянии. Пусть другой начнет делать ставки, твой удар впереди. В центре стола лежали пять ничейных карт вниз лицом. Старший стюард, как сдающий, открыл одну карту. Пятерка. Пригодилась бы Энтону для полного дома из трех четверок и двух пятерок. Он обдумал положение. Если остальные будут играть до конца, у кого-нибудь может оказаться такая же или даже более сильная рука, чем у него. Банк равнялся всего одному фунту. Энтон внимательно наблюдал за игроками. — Пас, — объявил круглолицый. Энтон тоже спасовал. Посмотрим, как поступят остальные. Слева от него сидел сверхсрочник с оливковой кожей и узким крючковатым носом; приятели называли его Хукером. Он тоже объявил пас. Сдающий — старший стюард — последовал его примеру и открыл следующую карту. «Проклятье!»— мысленно выругался Энтон. Никто не хочет играть, а в банке — сущая ерунда. Но если он пойдет по крупной, это насторожит игроков. Следующей в остатке оказалась шестерка. Энтону это ничего не давало, зато могло усилить руку кого-нибудь из соперников. Все еще раз дружно спасовали по кругу. Дважды проклятье! Сдающий открыл третью карту из остатка. Дама. Интересно, но без толку — даже несмотря на то, что у него теперь был полный дом, а три четверки бьют двух дам. Круглолицый добавил соверен. Остальные сделали то же самое. Теперь в банке было уже пять фунтов. Это уже кое-что. Все заплатили за право увидеть еще одну карту. Это оказалась последняя четверка. У Энтона екнуло сердце. Теперь ему светит набор из четырех карт одного достоинства. Забойная карта! Однако он постарался не показать своей заинтересованности. Круглолицый спасовал. Энтон последовал его примеру, рассчитывая, что следующий игрок поднимет ставку. Хукер почесал нос и бросил на стол пятифунтовую бумажку. Очевидно, у него тоже сильная рука. — Смотрю твои пять и добавляю два. — Старший стюард положил в банк семь фунтов. — Слишком шикарно для меня. — Круглолицый выругался и сложил свои карты. Старший стюард стрельнул в Энтона пронзительным взглядом воспаленных глаз. Тот без единого звука бросил на центр стола семь фунтов. Хукер добавил еще два — стало двадцать шесть. Что же у них на руках? — Ставки сделаны. — Старший стюард открыл последнюю карту из остатка. Дама. Вокруг его рта чуть заметно натянулась кожа. В остатке теперь были пятерка, шестерка, четверка и две дамы. — Моя партия, сопляк! — Старший стюард бросил оценивающий взгляд на кучку денег перед Энтоном. Потом с торжествующим видом отсчитал четыре банкноты по пять фунтов и бросил в центр стола. В комнате воцарилась мертвая тишина, не нарушаемая даже храпом закемаривших мужчин. Энтон потеребил свои банкноты. У него осталось около тридцати фунтов. Он наверняка выиграет. Четыре четверки — отличная комбинация. Но он тянул с ответом, изучая руки соперника. Поскольку у него самого одна дама и одна пятерка, у босса не может быть четырех дам или пятерок. И вряд ли у него окажутся четыре карты другого достоинства. Скорее всего, еще одна дама из остатка укрепила позиции старшего стюарда, и теперь он рассчитывает на полный дом с дамами — вместо пятерок или шестерок. Хорошая карта, но у Энтона лучше. А что у Хукера? Может у него быть сильная рука? Что-то он слишком уж безучастно следит за торгом. Энтон заколебался, бессознательно теребя красный дикло. «Смотри, — внушал Ленарес, — всегда оставляй что-нибудь в лесу или за карточным столом: будет к чему возвращаться». Пробило шесть склянок. Конец ночной вахты. Четыре часа утра. — Твоя партия. — Энтон кивнул и, положив свои карты на стол, поднялся. Старший стюард подался вперед, чтобы сграбастать деньги. — Минуточку, — устало проронил Хукер, ковыряя в носу. Старший стюард побагровел, но отдернул руку. Все замерли. Хукер сложил свои карты стопкой вниз лицом и напряженно уставился на старшего стюарда. Потом перевел взгляд на пять карт остатка. — Смотрю твои. — Хукер отсчитал двадцать фунтов из лежащих перед ним на столе и добавил в банк. Выражение лица старшего стюарда снова неуловимо изменилось. Он выругался и нехотя открыл свои карты. Две пятерки, тройка, валет и дама пик. Мертвая карта, как говорят цыгане. Энтон порадовался тому, что вышел из игры. — Полный дом. Дамы перебивают пятерки, — буркнул старший стюард. Хукер открыл три свои карты: сплошь шестерки. — Четыре шестерки, — объявил он, потянувшись за шестеркой из остатка. — Недурная карта, скажу я вам. Действительно недурная, мысленно согласился Энтон и возблагодарил Ленареса за науку. Итак, у него осталось двадцать пять фунтов — и трудная проблема: как бы смыться на берег? И стать свободным. Он пошел на правый борт и стоял до тех пор, пока в той стороне, где должна была быть Танганьика, не появилась светлая розовая полоска. С замиранием сердца следя за игрой красок в рассветном небе, Энтон вспомнил другой рассвет — три года назад в Англии. На нем не было ничего, кроме кепки из твида. Он стоял, дрожа всем телом, узамерзшего края декоративного озерца в Мидленде. Пальцы на ногах закоченели. Щурясь от первых солнечных лучей, он всматривался в голые ветви вязов на островке в центре озера. Гнезда цапель на верхушках деревьев казались огромными черными корзинами. Энтон знал: цапли одними из первых вьют гнезда, и, должно быть, в каждом гнезде уже лежит по нескольку яиц. Он закусил нижнюю губу и шагнул в окутанную туманом воду. Через несколько месяцев — лето, и можно будет разбросать по всему озеру ловушки — маленькие плоты с леской и крючком. А в итоге — свежая щука, запеченная и фаршированная пудингом. Некоторое время Энтон ступал по дну, а затем бесшумным брассом переправился на остров. Там он вышел из воды и стал карабкаться на дерево. Жалко, что не дуб: они пониже, и больше сучьев — удобнее лазать. Не переставая дрожать, Энтон задрал голову вверх и различил улетающих цапель. Зато в гнезде дожидались четыре крупных голубых яйца. Он положил две штуки в кепку вместе с пригоршней защитных веточек из гнезда. Потом проделал то же самое с другим гнездом. И снова вошел в воду с зажатой в зубах кепкой. Он плыл себе спокойно, глядя на туманный берег, и вдруг увидел, как из леса вышел какой-то человек и остановился рядом с его одеждой. Это оказался рыжий паренек его возраста. Он разделся до трусов, сунул одну ногу в воду и присвистнул. Энтон рассмеялся — и еле успел подхватить кепку с яйцами. Парнишка вздрогнул, но тотчас успокоился. — Ну, ты даешь! — восхищенно воскликнул он. — Ты кто? — Энтон Райдер. — А я — Стоун. Четвертый класс, Рагби[3]. А ты где учишься? Энтон смутился. — Что, тоже коллекционируешь яйца? Дать одно? Мальчик оделся и с удовольствием выбрал одно яйцо. Вытащил из кармана рогатку. Потом сел на бревно и заостренным кончиком рогатки проделал на каждом конце яйца аккуратные отверстия. Подул в одно отверстие — из другого потекло содержимое. Облизал губы. Вытер подолом рубашки яйцо и конопатый подбородок. Следующие пять недель Энтон и Стоун встречались каждое воскресенье. Вместе совершали набеги на гнезда сорок, грачей и дроздов. Ставили капканы и обдирали водяных крыс и куропаток. Складывали пустые яйца в дупло ясеня. Иногда они рассказывали друг другу о своих приключениях. Стоун охотно делился школьными новостями. Не желая рассказывать о страхе и унижениях кочевой жизни, Энтон переводил разговор на охоту или учил нового друга бросать нож. — Что вы сейчас проходите? — спросил как-то Стоун, складывая башню из камешков. — Диккенса. — Мы тоже. Что тебе больше всего нравится? — «Дэвид Копперфилд». Но у меня пропала книжка. Сердце сжалось от боли и злости. Энтон подобрал увесистый булыжник и в сердцах швырнул в воду. Утром Вербного воскресенья они встретились в последний раз. — На следующей неделе пасхальные каникулы, — запинаясь, проговорил Стоун. — Не хочешь погостить несколько деньков у меня в Мэнтоне? Будут еще двое из нашего класса. Энтон был польщен, но, конечно, не мог не понимать, что будет белой вороной. В лесу-то они на равных, но в Мэнтон-холле… — К сожалению, не смогу. Я должен побыть с родными. (Ах, если бы это было правдой!) После Пасхи увидимся. — Вряд ли. Я участвую в соревнованиях по крикету. — Стоун достал из кармана книгу и протянул Энтону. — Думаю, это тебе понравится. Полгода спустя Энтон увидел Стоуна на цыганской лошадиной ярмарке в Нортгемптоне. Тот возмужал и выглядел весьма элегантно в черной визитке и жилете (тогда как на Энтоне были испачканные навозом сапоги). Стоун расхаживал с важным видом, вместе с двумя однокашниками с лихо сдвинутыми набок цилиндрами. Рядом с Энтоном цыгане-барышники показывали бдительным крестьянам двух гарцевавших кобыл. Каких-нибудь пару недель назад это были измученные клячи с ободранной шкурой и пустыми глазами, выдававшими привычку к тяжкой работе. Зато теперь кобылы лоснились, словно от сытой, довольной жизни. Один цыган, щеголявший в высоких сапогах, плисовом жилете и длинном черном пальто, с небрежным видом потер перед мордой лошади пригоршню камешков-голышей. Глаза животного загорелись. Кобыла дернулась и вскинула голову с живостью годовалого жеребчика. Каждый день этот мошенник трещал у нее перед носом галькой в жестянке, доводя до безумия. Другая кобыла резко всхрапнула и раздула ноздри. Энтон знал: ее свежее дыхание — от розмарина, который ей натолкали в специально просверленные отверстия в зубах. А еще он видел, как барышники натолкали лошадям под хвост имбиря: от этого лошадь рвалась встать на дыбы и гордо задирала хвост. Он с ужасом думал о том, что будет, если какой-нибудь крестьянин разоблачит цыган на глазах у Стоуна. Стоун заметил его и принужденно улыбнулся. — Надо же — Райдер! Как там наша коллекция? — Кто-то их все разбил. Куница, наверное. Стоун отвернулся и помахал кому-то в толпе. И ушел, как другие. Для цыган, подумал Энтон, я — гаучо. Для друзей Стоуна — цыган или неотесанная деревенщина. На глазах выступили жгучие слезы унижения. В Африке все будет по-другому. Но при всем страстном желании начать новую жизнь, Энтон почувствовал спазм в желудке: в зареве рассвета обозначилась Танганьика. Отчаянно стремясь сойти на берег в Даре и зная, что стюарды уже не так нужны, Энтон сказал первому помощнику капитана, что он опытный портовый рабочий. Помня, что парню не заплатили, помощник не опасался, что он сбежит. А поскольку рука у Энтона была на перевязи, этот доброжелательно настроенный офицер поручил ему руководить одной из разгрузочных бригад, когда судно встанет на якорь. Вскоре после рассвета «Гарт-касл» пришвартовался возле старого немецкого пирса, на чьей каменной поверхности до сих пор были видны следы от попадания снарядов с британских крейсеров, штурмовавших гарнизон фон Леттова в 1914 году. Энтон увидел узкие рельсы, на которых ждали своего часа легкие подъемные краны. Группки мускулистых африканцев с лоснящейся кожей стояли вокруг, готовые немедленно приняться за работу. Мгновенно открыли люки; заскрипели лебедки; стрелы корабельных кранов вынесли контейнеры с бензиновыми двигателями и гигантские катушки медного телеграфного кабеля. На причале Энтон расставил по местам дюжину рослых африканцев во главе с десятником — арабом, немного говорившим по-английски. Нужно было рассортировать и уложить груз, пока приемщики подпишут транспортные накладные. Денек выдался жаркий. А в конце рабочего дня первый помощник отозвал Энтона в сторонку. — Пошли, Райдер, пропустим по стаканчику. А потом я покажу тебе, что делать завтра. Энтон небрежно (однако позаботившись о том, чтобы из кармана не выпал подаренный Стоуном «Дэвид Копперфилд») перебросил куртку через плечо и последовал за первым помощником капитана мимо отеля «Кайзерхоф» и ряда магазинов с белеными стенами и тонкими деревянными колоннами. Владельцы — арабы и индусы — наперебой предлагали прохожим-англичанам медные подносы, отрезы набивного ситца и фигурки из слоновой кости. Шагнув на тротуар, первый помощник капитана провел Энтона через занавес из разноцветных бус в прохладное помещение, куда свет проникал сквозь щели в толстых, оштукатуренных стенах. Там они увидели судового врача: восседая на парчовой подушке, он помешивал пальцем напиток и выражал восхищение серебряными браслетами, которые держала на подносе арабка в чадре. — Добро пожаловать в бар «Рамси», — приветствовал их доктор, поглаживая ногу женщины; она же не обращала на это ни малейшего внимания. Они подсели к доктору за низкий медный столик. — Что здесь подают? — полюбопытствовал Энтон. — Все, о чем только может мечтать нормальный мужчина. — Врач просунул одну руку между ниспадающими полосками хлопковой ткани, закрывавшими пухлый зад арабки. «Неужели ей это нравится?» — подумал Энтон, имея в виду главным образом то, что палец у доктора — в виски. — Они работают даже во время артиллерийского обстрела. Бывало, только колбасники выйдут и запрут за собой заднюю дверь, как старик Рамси раздвигает бусы и впускает посетителей-англичан. Виски? — Пиво, пожалуйста. — Энтон вздрогнул, услышав женский смех в соседней комнате. — Хочешь заглянуть туда? — Лучше пошли, салажонок, отдохнем перед завтрашней сменой, — вмешался первый помощник капитана, залпом опорожняя свой стакан и поднимаясь из-за стола. — А то этот старый развратник доведет нас до беды. Офицер подвел Энтона к узкому длинному строению, где располагался товарный склад. Они постучали кулаками в дверь с латунными ручками, и старый араб с седой бородкой клинышком впустил их внутрь. На старике было что-то вроде белого балахона, подпоясанного шелковым кушаком. Держа над головой масляную лампу, он пристально вгляделся в посетителей. Первый помощник капитана представился. Араб повел их на склад. Когда глаза Энтона привыкли к темноте, он различил несколько вделанных в стены железных колец, с которых свисали ржавые цепи и что-то похожее на кандалы. Многие доставали до пола, но попадались и короткие, легкие — как будто предназначенные для детей. Вдоль стен бежали пустые каменные желоба, как в коровнике. — Невольники, — с усмешкой объяснил араб. — Черное золото. Но это уже в прошлом. — Он снял с крюка длинный гибкий кнут с острым концом. — Любимый школьный учитель моего отца, эфенди, вырезал это из хвоста морского дьявола — гигантского ската. Старик сделал неуловимое движение рукой. В воздух взметнулась пыль. Щелчок кнута показался Энтону оглушительнее выстрела. — Во времена моего отца, — продолжал сторож, — по этим желобам бежала жидкая каша. Не пропадало ни капли. И ни одно место не пустовало. Их были сотни — каждый в воротнике и браслетах. Бурунди, нгони, даже вагого. Однако потом ваш королевский флот покончил с этой профессией. Весьма печально. Теперь у нас есть только белое золото — слоновая кость, — но даже его не удается вывозить из-за вашей нечестивой войны. — Завтра удастся, — посулил первый помощник капитана. Араб поднял лампу. Затрепыхались и разлетелись по дальним углам летучие мыши. Свет лампы заблестел на сложенных рядами бивнях; те, что остались в тени, белели, как привидения. Их было несколько сотен — может быть, даже тысяч. Некоторые были сложены в десять рядов; самые крупные стояли вертикально, составленные громадными пирамидами. И все разные — как люди. Одни — толстые и короткие. Другие — тонкие. Много толстых и длинных, с закругленными или отбитыми кончиками. Попадались с желтыми или коричневыми пятнами, словно зубы курильщика. В конце длинного — не менее сорока ярдов — коридора из слоновой кости Энтон различил верстаки и шлифовальные круги. В деревянных тисках тоже были зажаты бивни, терпеливо ожидающие резца. Сторож показал им самую роскошную пару — два длинных и толстых бивня. Энтон поставил один вертикально. Нижняя часть — высотой примерно два фута — оказалась светлее и грубее всего остального. — Это основание — оно находилось в пасти слона, — объяснил араб. Бивень был почти одного с Энтоном роста: шесть футов два дюйма. Старик предложил юноше поднять его. Энтон поднял — обеими руками. Бивень оказался на удивление тяжелым: где-то около ста семидесяти или ста восьмидесяти фунтов. Энтон провел рукой по гладкой, как жемчуг, поверхности, ощущая кожей каждую крошечную бороздку, каждую зазубринку. Слоновая кость как будто оживала у него под рукой. Энтону стало не по себе, словно он совершает кощунство. Он обратился мыслями к самим слонам. Какие они? Что, если бы все исполинские животные, чьи бивни собраны на этом складе, воскресли и медленно двинулись через джунгли, ломая ветви и фыркая, невозмутимо трубя о своем приближении? Перед уходом первый помощник капитана пообещал прийти завтра — договориться насчет погрузки. — Здесь пахнет смертью, — сказал Энтон и поежился. — Давай вернемся к Рамси, а то док там все разнесет. — Если не возражаете, сэр, я хотел бы вернуться на судно. — Спокойной ночи, парень, и с Новым годом! Они расстались. Первый помощник капитана поспешил к Рамси, а Энтон зашагал по направлению к доку. Немного погодя он остановился и посмотрел в небо, на Южный Крест. И, развернувшись на сто восемьдесят градусов, пошел прочь от берега.Глава 9
В бурлящей толчее вокзала в Момбасе беспрестанно кричали индусы: — Деньги! Деньги! Рупии, фунты, пенсы! Гвенн огляделась и увидела древние грузовики и запряженные волами повозки с новыми партиями переселенцев. С платформы соскочили носильщики и поспешили на помощь. Проводники-сомалийцы в белой накрахмаленной униформе из хлопка и красных фесках продавали билеты: первый класс — для европейцев. Африканские женщины торговали на улице плодами манго, папайями и бананами, доставая их из широких мелких корзин. Европейские женщины из церковной общины предлагали чай и лимонад с тележки; слуги разливали чай и присматривали за чашками. Гвенн вспомнила Киплинга. Тревожась из-за обмена, она приобрела у менялы индийские рупии. Потом взяла билет и купила завернутые в банановый лист орехи кешу. На дальнем конце платформы показался Адам Пенфолд. Он помогал супружеской паре с багажом. Она залюбовалась довоенными вагонами угандийской железной дороги, удачно перекрашенными в кремовый и светло-шоколадный цвета. Из-под громадных колес «болдуинов» — американских локомотивов — повалил пар: поезд готовился преодолеть триста тридцать миль до Найроби. Гвенн забралась внутрь и отыскала свое место. После чего, опустив окно, выглянула наружу. — Надеюсь, вы благополучно доберетесь до Найроби, — с улыбкой сказал Пенфолд, стоя на платформе и салютуя тростью. — У старика «болдуина» героическое прошлое. Он дважды сходил с рельсов, подорвавшись на минах фон Леттова, и с тех пор от него постоянно идет пар. Как от меня. Он уже не способен карабкаться от Найроби вверх до озера Виктория, только и остается, что гонять его до Момбасы и обратно. — Я уверена: все будет хорошо. Еще раз спасибо за ночлег. Жалко, что вы не позволили мне заплатить. — А мне жалко, что я не могу составить вам компанию. Нужно встретить и отправить следующую партию. Может, еще догоню вас по пути на север. Там только одна дорога. Паровоз дважды просвистел. Заскрипели буфера. Поезд медленно потащился прочь от Момбасы, увозя в четырех маленьких вагончиках девяносто пять усталых поселенцев. После трех дней в Момбасе Гвенн и Бевисы стали закадычными друзьями. В баре клуба их усердно потчевали информацией и советами, и они особенно тщательно выбирали места. Первой напастью была пыль. Большую часть пути приходилось укреплять рельсы балластом, но это оказалось не слишком эффективно. В сезоны дождей состав поднимал фонтаны жидкой грязи и качался из стороны в сторону на рельсах, идущих по раскисшей земле, больше похожей на болото. Зато в засушливые периоды земля затвердевала, точно скала, и колеса подпрыгивали, как ненормальные. Сейчас был как раз засушливый период. Когда поезд пересекал пустыню Тару, красная латеритная пыль даже при закрытых окнах проникала в вагоны, особенно хвостовые, и окутывала пассажиров слепящим облаком. В отличие от современных вагонов с узкими проходами, купе здесь (недаром их называли «лошадиными стойлами») открывались прямо наружу. На ночь в каждом купе откидывались четыре полки, однако в переполненных поездах, чье расписание было приурочено к прибытию парохода, пассажирам приходилось спать либо по очереди, либо сидя — на протяжении всех тридцати часов до Найроби. Кроме Бевисов, соседями Гвенн по купе оказались Голты — сильно нервничающая супружеская пара с двумя маленькими девочками. Мальва, очевидно, уже считающий себя частью домашнего обихода Луэллинов, устроился в багажном вагоне в хвосте поезда, отдыхая среди кучи корзин и чемоданов в обществе других африканцев и «зайцев» из числа европейцев. Дочери Голтов — восьми и десяти лет от роду — засмотрелись на банановый лист в руках Гвенн, из которого на пол упали два орешка кешу. Старшая нарисовала на красном от пыли лице сестры что-то непонятное. Кряхтя и пыхтя — вот когда в полной мере сказался возраст! — локомотив начал карабкаться на прибрежное плато. Гвенн развернула банановый лист и угостила попутчиков орешками. Когда поезд сбавил ход на подъеме, она хорошо рассмотрела иссушенную почву, покрытую чахлым кустарником. Вечно страдающий от жажды, «болдуин» чуть не каждую минуту бросал вызов машинисту. Спустя час после того, как они оказались за пределами Момбасы, стрелка водомера резко пошла вниз. Среди кустов за окнами стали попадаться обгорелые: искры от паровоза зажгли мини-пожары. На семидесятой миле машинист затормозил возле громадного резервуара с водой. Гвенн увидела длинную трубу, по которой вода из водоема, расположенного примерно в девяноста ярдах от железнодорожной колеи, поступала в возвышающийся над землей большой деревянный бак. Потные кочегары спрыгнули на землю. В поезде открыли все двери. Пассажиры тоже вышли из вагонов — размяться. Для большинства это было первое знакомство с африканской растительностью. Гвенн с удовольствием вдыхала ее резкий запах, немного похожий на запах шалфея. Девочки Голтов в мятых клетчатых юбочках выскочили из купе и понеслись вдоль состава — догонять двух мальчишек, которые бросали камни в суслика. «Смотрите, змея!» — вскрикнул один мальчик. Миссис Голт бросилась к детям, громко взывая о помощи. Мальва в мгновение ока оказался рядом с детьми. Палкой, похожей на рогатину, он пригвоздил змею к земле, а затем поднял за хвост и показал детям извивающееся чудовище. Родители пришли в ужас. Змея стала вертеть головой, поворачивая ее в одну сторону, пока ее туловище не превратилось в штопор. Она вдруг сбросила кончик хвоста и, снова свободная, юркнула в кусты. — Не бойтесь, — произнес Бевис, успокаивая миссис Голт. — Это всего лишь песчанка. Во время войны в окопах мне приходилось видеть, как они охотятся на крыс. Рацион лучше нашего. Песчанка безобидна. Вот кого следует остерегаться, так это мамбы: она бегает быстрее человека и посылает в нокаут почище маузера. — Ты не должен был делать ей больно! — закричала на африканца десятилетняя Анна Голт, тряся запыленными косичками. Голубые глазенки гневно сверкали. Она вырвала из рук Мальвы змеиный хвост. — С хвостом было красивее. — У нее вырастет еще один, мисси, — успокоил ее африканец и подмигнул Гвенн. Три часа спустя поезд остановился на станции Вои, как раз напротив столовой. Грубые деревянные шесты, словно колонны, поддерживали жестяную крышу. Гвенн поразил контраст между убогой обстановкой и прекрасным обслуживанием. Сама деревня Вои — скопление одноэтажных строений — расположилась в сотне ярдов от станции. Один из четырех населенных пунктов между Момбасой и Найроби. — Назарет рад приветствовать вас! — весело произнес хозяин-гоанец, кланяясь и широко разводя руками, приглашая путешественников в свое заведение. Гвенн заметила: то, что хорошо для Назарета, плохо для обслуживающего персонала. Не успевшие отдохнуть после обслуживания двух предыдущих поездов, в замызганных белых перчатках, официанты-индусы помогли женщинам и детям рассесться. Мужчины, больше томимые жаждой, чем голодом, взяли из бадей с холодной водой бутылки с пивом «Таскер» и пошли пить его на свежем воздухе, любуясь быстро догоравшей полоской закатного неба. — Раньше здесь было интереснее, — разглагольствовал Тони перед группой новичков, угостивших его виски «Сэнди Макдональд». — Был случай — в девяносто девятом — итальянец, немец и англичанин устроились на ночлег в спальном вагоне, стоявшем на запасной ветке недалеко отсюда, в Цаво. Они не закрыли дверь, чтобы дышать свежим воздухом. Колбасник забрался на верхнюю полку. Макаронник растянулся на полу. Англичанин сидел у окна, высматривая людоеда, за которым они и приехали в эту глушь. И что вы думаете? Итальянец проснулся и обнаружил, что лев поставил одну лапу ему на спину и как раз намеревается схватить англичанина! Бевис промочил горло и продолжил свой рассказ: — И вот, значит, колбасник прыгает с полки прямо на хищника, а тот хватает зубами англичанина и сигает в окно — попировать на свежем воздухе. Заметьте — лев был крупным специалистом: людоед старой закваски! — А правду говорят, — спросил один солдат, тараща глаза, — что львы предпочитают европейцев: вроде бы у нас мясо более соленое? — А что бы сделал ты на его на месте? — ответил Бевис, приканчивая виски. — Видишь ли, у этих людоедов из Цаво выработался вкус к иностранцам. Обычно они начинают с задницы, сдирают кожу жесткими, как наждак, языками, лакают кровь — и только после этого принимаются за мясо. Передайте «Таскер», пожалуйста. Назарет зажег висящие над столами газовые лампы; к ним тотчас устремились жирные мотыльки и полчища москитов. Анна пальцами выудила из тарелки с супом хлопающего крыльями мотылька. Бережно держа трепыхающееся насекомое за брюшко, девочка вытерла его салфеткой и нежно подула. И страшно расстроилась, когда клочки хрупких крылышек осыпались на скатерть, словно старый пергамент. — Неужели было бы лучше дать ему утонуть? — воскликнула она сердито. Саманте Голт повезло еще меньше: она лишь глубже вдавила бабочку в жирный кусок бомбейского масла. — Не волнуйтесь, дорогая, — сказала другая мамаша в утешение миссис Голт. — Эта тухлятина ни на что больше и не годилась. Она старше поезда — смотреть противно. — К счастью, — гнул свою линию Бевис, пока остальные мужчины время от времени отлучались порыться в багаже и возвращались с бутылками и флягами, — ни один томми не отправляется на прогулку без того, чтобы основательно проспиртоваться. Людоеды от этого не в восторге. К тому времени, когда пришел черед мужчин садиться за столы, от супа из хвостов антилопы канны, пудинга с папайями и пива ничего не осталось. Уложив детей, Гвенн и другие женщины болтали в тени, гадая о будущем, а если и вспоминали об Англии, то не слишком. Завтрашний день и новый дом в Африке волновали их гораздо больше. Мужчины набросились на жаркое и жареную цесарку. — Слыхал я о мясе импалы, — сказал один, — но, черт побери, это самая восхитительная грудинка, какую я когда-либо пробовал. — Вообще-то это не импала и уж во всяком случае не грудинка, — авторитетно заявил Бевис, перегибаясь через соседа, чтобы угоститься джином Голта. — Это козел. Верхняя часть. Держу пари, ангорский. Наконец спиртное иссякло, и официанты убрали со столов. Пассажиры разошлись по вагонам — спать. Все стихло. Несколько человек растянулись на замызганном полу под навесом. Не в силах уснуть, Гвенн Луэллин сидела у окна в своем купе, держа на коленях голову Анны. Устремив взгляд в темноту, она машинально потирала палец без кольца и думала. Найдет ли она Алана в Найроби? Что с ним сделала война? Что они почувствуют в миг встречи: радость или неловкость? Или ничего? Можно ли рассказать Алану об изнасиловании? Временами этот ужас казался бесконечно далеким — словно и не было. Но иногда по ночам или когда она видела мужчину, схожего с Рейли телосложением или лицом, она заново переживала гнусное надругательство. Вспоминала позор унижения, когда он разорвал на ней одежду и шарил по ее телу мерзкими ручищами. Смрадный запах пота и алкоголя, когда приблизил к ее лицу свою гнусную рожу. Свою унизительную беспомощность и невозможность отмыться после того, как он грубо использовал ее. Гвенн содрогнулась и вознесла молитву: только бы обошлось без последствий! И без того проблем по горло. Она уже поняла: лучше держать изнасилование в секрете. Она старалась не думать о пророческих словах Энтона. «Но сначала вас ждут страдания», — сказал он, глядя ей прямо в глаза синими глазами. Гвенн приподняла головку Анны и погладила гладкую, как лепесток, щечку. Потом встала и уложила девочку на свой маленький саквояж. В детстве она так же заботливо перекладывала к стенке уснувшую сестренку, чтобы самой лечь с краю. Гвенн вышла в ночь. Барак-столовая и Вои были по другую сторону поезда. Она пошла прочь от вагона. Величественная африканская ночь простерла над ней свой шатер, и поезд показался совсем маленьким. Глядя в глубокое, иссиня-черное небо, ослепленная блеском и неповторимостью каждой из звезд, Гвенн преисполнилась благоговейного чувства. Никогда еще она так полно не наслаждалась великолепной картиной ночи. Поезд остался далеко, превратился в темный задник, на котором время от времени вспыхивали табачные искры. Гвенн закрыла глаза и помолилась о мирной, счастливой жизни, о семье, которую надеялась вместе с Аланом создать в Африке. Но будет ли у них все по-прежнему после такой долгой разлуки? Разделяет ли он ее страстное желание иметь детей? Внезапно до ее ушей донесся отрывистый лай. Она в страхе открыла глаза. — Гиена, мэм-саиб, — раздался рядом голос Мальвы. — Вернитесь, пожалуйста, в поезд.* * *
В первый день нового, 1920 года Энтон наблюдал восход солнца на старой немецкой дороге в трех милях западнее Дар-эс-Салама. Он сидел, прислонившись спиной к заржавевшему крылу брошенного «даймлера». Сиденья и все, что еще могло служить, растащили, но, прошедший цыганскую школу, Энтон легко уснул в кузове грузовика. Сон, в котором он видел обнаженную Гвенн Луэллин на дне спасательной шлюпки, был прерван шорохом в кустах: там скрывалось какое-то животное. При воспоминании о сцене насилия к горлу Энтона подступила тошнота. Сон лишил его душевного равновесия. Чтобы отвлечься, он стал смотреть в ночное небо и, узнав яркую звезду Сириус, припомнил, как в дождливую погоду пропадал в кибитке «фурии» — цыганки-астролога, самой мудрой и почитаемой женщины племени. Низкий потолок, стены и двери ее жилища были облеплены древними астрологическими картами, отпечатанными в Бухаресте. В промежутках висели связки чеснока, кастаньеты и скелет огромной летучей мыши. «Никогда не женись на девушке, которая не умеет готовить чеснок», — говаривала старуха. Поначалу ее приют казался Энтону неописуемо мрачным, черные стены напоминали тюрьму. Но по мере того как он брал у старой фурии уроки мудрости, учился готовить и убирать, фургон превратился в волшебный шатер, где каждая светлая точка стала добрым другом. Одни имена чего стоили: Кастор, Бетельгейзе, Беллатрикс!.. И теперь, лежа в кузове брошенного грузовика, Энтон вглядывался в южное небо и, ликуя, узнавал своих сверкающих спутников. — Привет, Феникс, Павлин! — громко приветствовал он их, дружески махая рукой. Вскоре скопления небесных тел сложились в знакомые узоры. Утром Энтон инстинктивно потянулся за цыганским ножом, который всегда носил за поясом. Ему недоставало привычной процедуры — точить лезвие о сапог. Когда-нибудь он разыщет братьев Рейли и вернет себе чури. А пока нужно как-то отвлечься от голодного урчания в желудке. Ощупывая пустые ножны и чувствуя тупую боль в руке, Энтон принял решение: двинуться на север, в Британскую Восточную Африку. Там его ждет двуглавая вершина, а в небе парит ястреб-тетеревятник. Он купит винтовку и будет путешествовать по суше, как Селоуз, время от времени делая остановки, чтобы заработать деньжат, и избегая приграничных городов. У него были только морские документы, и он боялся встреч с представителями власти. Встало солнце, и Энтон согрелся. Он встал, подвязал больную руку и пошел в сторону, противоположную солнцу. Вскоре за спиной послышался шум громыхающего на ухабах легкового автомобиля. Обернувшись, Энтон увидел грязный, окутанный облаком пыли, «рагби дюран» с багажником, переоборудованным в узкое ложе. Деревянные колесные спицы погнулись и кое-где превратились в щепки. На помятой дверце была изображена огромная кошка, а над ней надпись: «Ферма «Гепард». Из машины вылез мужчина плотного телосложения в серых немецких галифе и потрескавшейся кожаной куртке. — Немец или англичанин? — зычным голосом поинтересовался он. — Англичанин, сэр. Я могу чем-нибудь помочь? — Эрнст фон Деккен. — Владелец «рагби дюрана» обследовал содержимое багажника. — Зайди с другой стороны. Шевелись! Не сможешь подтянуть тросы одной рукой — значит, никуда не годишься. Сможешь — подброшу. Энтон промолчал. За поднятым капотом ему не было видно, что делает немец. Он изо всех сил натянул трос левой рукой и прищемил немцу пальцы. — Ах, черт! Чем тебя кормили в детстве, а, парень? Закрепи-ка понадежнее и полезай в машину. Как тебя зовут? — Энтон Райдер. — Ты не слишком любишь говорить о себе, а? — Да, сэр. — Куда держишь путь? К англичанам? — К горе Кения. — Пятьсот миль на север. Как думаешь добираться? — Наверное, на своих двоих. — Что ж, это полезно для здоровья. Эрнст повел машину на северо-запад по целине, поросшей сизалем; в это время года поле было усеяно белыми цветами. Остроконечные мечевидные листья напоминали гигантские артишоки. Каждое из этих растений, просветил немец Энтона, богато самыми прочными в мире волокнами, идущими на шпагат и ковры, канаты и мешковину. Они подъехали к тому месту, где дорогу пересекал ручей. Немец свернул от брода туда, где было глубже, и выключил мотор. — Пять лет назад, — начал он, обводя рукой заросли сизаля, — мой старик, одержимый мечтой разбогатеть, заказал пару вязальных машин из Билфелда для изготовления мешков из пакли. Их доставили в Дар в четырнадцатом году, за неделю до прибытия вашей проклятой флотилии. Фон Леттов реквизировал все средства передвижения в порту, и их не на чем было перевезти. — Ну вот, — продолжал Эрнст фон Деккен, — новые машины остались гнить в порту; это отбило у папаши вкус к коммерции. Теперь все, что ему нужно, это потереться о свою черномазую бабенку да в обществе одной лишь двустволки пошастать в буше, рискуя стать добычей льва — если до этого его не сожрут паразиты. Энтон почувствовал, что скоро умрет от голода. — Почему вы остановились на глубоком месте? — Думаю, после четырех лет охоты на англичан под началом у этого психа фон Леттова я заслужил бочонок шнапса и месяц в Баден-Бадене, где местные красотки будут делать мне массаж, а не гнуть спину по четырнадцать часов в сутки, приводя в порядок чертову плантацию. — Все-таки почему вы остановились посреди реки? — Пусть спицы пропитаются водой, а то рассохлись. А ты думал, откуда такой грохот? К полудню они добрались до Халинзе и затормозили возле одного из старых немецких арсеналов. Эрнст объяснил: его построил фон Леттов, чтобы обеспечить быстрое передвижение войск. Теперь это каменное строение было приспособлено под магазин, ресторан и склад. — Кофе, герр эфенди? — спросил хозяин-араб, кланяясь старшему из посетителей. Он был явно удивлен тем, что немец с англичанином вместе путешествуют. — Конечно. Каждому по четыре яйца, мясо, пиво, картошка, лук, хлеб. Пиво — немедленно. Убери со стола. И покажи моему неразговорчивому другу твои лучшие ножи. Опасно путешествовать с пустыми ножнами. Араб вытер стол и принес две бутылки пива. — За Новый год! — провозгласил Эрнст. Он залпом, без остановки, опорожнил три первые кружки, рыгая и требуя повторить. Потом вытер рот тыльной стороной руки и с тем же рвением принялся за еду. У него были большие квадратные руки. Надежный, сильный и без комплексов, решил Энтон. — Что у тебя с рукой? — Эрнст наклонил тарелку и ребром вилки соскреб остатки еды. Потом откинулся на спинку стула и той же вилкой указал на перевязь. — Кое-кто пытался преподнести мне урок. — Получилось? — Эрнст подцепил кусочек мяса с его тарелки. — Не думаю. В голове у Энтона пронеслось воспоминание: братья Рейли, их мерзкие рожи. Сейчас они уже далеко. Он закончил есть и подвинул то, что осталось, своему спутнику. А сам направился в магазин посмотреть ножи. Хотелось бы такой, чтобы по размерам подошел к ножнам. Ему приглянулась пара острых ножей из Золингена. Он поднес их ближе к свету и, сняв перевязь, подержал каждый в правой руке. — Попадешь в баобаб, мой мальчик, заплачу за твой завтрак, — предложил Эрнст, остановившись в дверях и вытирая рот широкой ладонью. — Куда попаду? — Я сказал, в баобаб, то есть вон в то высокое, толстое дерево. Понял, дурень? Промажешь — топай пешком. — Я имею в виду: в какую часть баобаба, мистер фон Деккен? Эрнст опешил. Энтон метнул нож. Тот дважды перевернулся в полете и вонзился в дальнюю тонкую ветку. — Одно слово — англичанин! Чуть-чуть не промахнулся. Второй нож уже взвился в воздух. И воткнулся в дюйме от первого. — Естественно — с прекрасной немецкой сталью! — проворчал Эрнст. — Ладно, ты заработал завтрак. На рукаве рубашки, просочившись сквозь бинты, выступила кровь. Энтон вернулся в магазин и купил первый нож. Немец заплатил по счету, и они поехали дальше на север, в Моши.Глава 10
От лучей восходящего солнца даже пыль на оконном стекле засверкала искрами. Гвенн рано проснулась. Она слышала, как кочегары загружают в топку дрова, поддавая пару для поездки протяженностью в день до Цаво, Киу и Найроби. Грязные, с затекшими руками и ногами, пассажиры вышли из вагонов. По традиции мужчины отошли налево, а женщины — направо. Официанты Назарета разносили горячую воду для бритья в жестяных тазиках. Мужчины устроились в кустах с опасными бритвами. В расчете на обещанный завтрак в Цаво путешественники ограничились крепким чаем со сгущенным молоком и вернулись в вагоны, втискиваясь между сонными ребятишками. Гвенн наблюдала за тем, как красная пыль серела в утренних лучах; стали чаще попадаться безлистые чахлые деревья, подлески с переплетенными ветвями и колючие кусты со смешным названием «подожди немного». Посмотрев поверх головы Анны влево, она различила вдали, на границе с Германской Восточной Африкой, окутанную облаками горную вершину — скорее всего, Килиманджаро. Мелькнула непрошеная мысль: где-то сейчас Энтон Райдер? Хорошо бы, ему удалось сойти на берег в Дар-эс-Саламе. Гвенн поняла: все это время, не отдавая себе в этом отчета, она думала о нем. А как же Алан? Преодолев расстояние в тридцать миль, поезд подошел к реке Цаво; ее бурные воды были окаймлены высокими мимозами. Они сделали остановку на окраине маленького городка ради полноценного английского завтрака: теплый хлеб, яйца и свежая колбаса. Пока паровоз пополнял запасы дров, Гвенн наблюдала за тем, как Анна и другие дети бросают в реку камешки. — Раньше на этом отрезке железной дороги было гораздо интереснее, — посетовал Тони Бевис, когда поезд отошел на пару миль от Цаво и за окнами показались развалины бывшего лагеря железнодорожных рабочих. — Нет ли у кого-нибудь печенья? Уж не собирается ли он поведать еще одну душераздирающую историю, подумала Гвенн. Точно школьник, старающийся произвести впечатление на товарищей рассказами о привидениях. — Двадцать лет назад, — начал Бевис, лениво жуя печенье, — львы Цаво пристрастились к мясу индийских кули. Наконец две тысячи этих страдальцев укрылись за баррикадами из листов жести, стройматериалов, веток с колючими шипами. Не соглашались выходить на работу, пока не застрелят двоих людоедов. По вечерам развлекались с девчонками из племени лумбва и гибкими арабскими мальчиками с побережья. Бедные кули спали по очереди: либо на деревьях, как голуби, либо в ямах, вырытых под палатками. Сверху спальные ямы заваливали заранее приготовленными бревнами. Дежурные стучали чайниками, поддерживали огонь и поджидали львов. — Интересно, почему львы так полюбили бедных кули? — Анна подвинулась к Гвенн поближе. — Разве им не хватало животных? Бевис посмотрел на девочку и ничего не ответил. Проехав еще сорок миль, поезд начал карабкаться на возвышенность между Чиулу-хиллс и плато Ятта. Растительность здесь выглядела более свежей и зеленой. Мучимый жаждой «болдуин» затормозил подле заправочной цистерны. Однако она оказалась пуста. Кочегары решили проверить трубу, соединявшую резервуар с отдаленным источником воды. Случалось, трубу повреждали звери. Пассажиры неохотно вышли из вагонов, потягиваясь и ворча из-за опоздания. Взяв в свою компанию Мальву, Анна, Саманта и другие дети последовали за кочегарами. Немного не доходя до поросшей густым кустарником донги[4], рабочие остановились заделать пробоину. Анна взбежала на бугор над ущельем и, обернувшись, обеими руками помахала Гвенн и матери. — Я нашла воду! Скользя и шаркая туфлями по пыльному склону, девочка спустилась к источнику и встала на колени перед кустом, чтобы рассмотреть черепаху. Клетчатая юбка покрылась пылью. Девочка протянула руку и погладила твердый панцирь. Прямо над черепахой, расправив разноцветные крылья, на ветке отдыхала большая бабочка. Анна залюбовалась толстым брюшком и легкими антеннообразными усиками. И вдруг увидела на той же ветке грациозную серую ящерицу. Над рыльцем торчал маленький рог; еще два росли под глазами. Хамелеон — догадалась Анна. Ящерица обхватила ветку длинными когтистыми лапами; голова и туловище медленно подвигались к бабочке. Прежде чем Анна успела спугнуть и таким образом спасти несчастное насекомое, ящерица молниеносным движением выбросила вперед длинный язык и схватила бабочку за крылышко. Та неистово хлопала свободным крылышком, а хамелеон тащил ее в рот. Секунда — и хищник заглотил крылышко бабочки и потянулся к грудке. На мгновение обе замерли. Завороженная Анна наблюдала, как с другой стороны ветки к бабочке подкрадывалась другая, более крупная ящерица. Мгновение — и в ее алчном рту исчезло второе крылышко. Между хищными челюстями хамелеонов осталось лишь тельце бабочки; оно судорожно дергалось все время, пока ящерицы боролись за добычу. Более крупная отдернула голову назад и вырвала бабочку. Первая ящерица моргнула и замерла на ветке с испачканными пыльцой губами. И только теперь Анна почуяла тошнотворный запах. Она подняла голову и всмотрелась в покрытые шипами ветви акации. Ее взгляд уперся в янтарные глаза льва. Зверь поднялся на длинных лапах. Прямой, как железный прут, хвост задрался кверху. Девочка издала душераздирающий вопль и замахала ручонками.* * *
Еще затемно Энтона разбудил веселый дуэт тропических сов. Ему захотелось взглянуть на них, и он, дрожа от предрассветной прохлады, голым выбрался из койки и распахнул дверь своего маленького флигеля. Небо начало светлеть. Как-то вдруг, в одно мгновение, на западе заискрилась блестящая серебряная полоска. Энтон впервые в жизни увидел заснеженную вершину Килиманджаро. Постепенно рассвет выявил подножие горы на необъятной равнине. Второпях, не отрывая глаз от проступающих во тьме контуров вулкана, Энтон натянул брюки и ботинки. Он согнул и прижал к туловищу больную руку, но решил обойтись без перевязи. Наконец-то он волен брести куда глаза глядят по дикой местности! Жаль, нет винтовки. Он потрусил рысцой на запад через ухоженный фруктовый сад. Каждая яблоня была окружена низеньким земляным валом. Много лет назад Гуго фон Деккен возмечтал перевезти с собой в Африку три атрибута родной Германии: сад, который подарит ему тень, фрукты, шнапс и яблочный пирог, дом и жену — молодую блондинку. Он распорядился разобрать свою любимую охотничью сторожку. Каждую доску и каждое бревно пронумеровали и морем отправили в Африку. С ними поплыли ящики новых немецких гвоздей, колышки и болты. Пока Гуго фон Деккен добывал слоновую кость, чтобы оплатить счета, Гретхен руководила реставрационными работами. Когда он вернулся, каждый резной карниз благоухал тюльпанами. На стене столовой звонко отбивали время баварские часы с кукушкой. Спустя год на свет появился Эрнст. А еще через год умерла Гретхен — от малярии. Истаяла, словно свечка, прямо на глазах у мужа. Энтон задержался в саду. Съел три кислых рейнских яблока. Ладонями снял с травы обильную росу и умыл лицо. И побежал вдоль ровных рядов сизаля — культивированного родича сансевьеры, которую Эрнст называл любимым лакомством слонов. Нежный аромат фруктового сада сменился резким запахом дикорастущих кустов. Потеплело. Со стороны Килиманджаро повеял легкий утренний ветер. Культурные насаждения сменились девственными зарослями. По обширному невозделанному пространству были разбросаны островки терновника и похожих на зонтики хинных деревьев. Под ногами Энтон ощущал пыльную твердую почву. Кривые шипы цеплялись за плотные шерстяные брюки. Приблизившись к водоему, он вспугнул стадо диких свиней — бородавочников. Крупные серые животные отступили ровным строем, задрав головы и хвосты. Трое детенышей нырнули в земляную нору. За ними последовали родители. Замыкал шествие крупный агрессивный боров. На сморщенной коже росли в беспорядке шесть длинных бородавок. В последний раз сверкнув неровными желтыми клыками, зверь скрылся в своем убежище. Водоем представлял из себя что-то среднее между маленьким озером и большой лужей. Почва возле него была мягче и светлее. Энтон присел на корточки. Всюду виднелись следы животных — столько видов вряд ли водилось во всей Европе. Приученный безошибочно определять мельчайшие клочки лисьей шерсти на кустах, бусинки кроличьего помета и отпечатки лап барсуков и оленей, Энтон был потрясен их разнообразием. Он обвел следы пальцем, покатал на ладони шарики помета, определяя по степени сухости возраст каждого зверя и гадая, чем же они питаются. Не зная, чьи какие, восхищался отпечатками лап зебры, носорога, леопарда, жирафа, шакала и трех видов антилопы: гну, топи и импалы. А также многими другими — сухими и влажными, застарелыми и свежими. Одни следы накладывались на другие. Энтон узнал отпечатки раздвоенных копыт бородавочника и следы буйвола — намного крупнее его одомашненных сородичей. Энтон выпрямился. Пора возвращаться. Он предпочел бы полежать в засаде, посмотреть на всех этих зверей, когда они придут на водопой. Но работа на ферме «Гепард» начиналась рано, а Энтон хотел, чтобы от него была польза. Голодный, он побежал обратно между аккуратными рядами сизаля. Косцы уже вышли на плантацию. Сверкали длинные лезвия. Рабочие пангами обрубали листья у основания и обрезали колючие верхушки. Следом, подобно стрелкам в цепи, двигались воловьи упряжки. На телеги грузили кипы листьев. Энтон обратил внимание: работа велась куда аккуратнее, чем уборка сена в Англии. Он услышал, как заводятдвигатель от старенького «бенца». Отрывистое покашливание возвестило: Гуго фон Деккен приступил к работе. Один только этот двигатель и связывал старого плантатора с прошлым. Снятый с развалившегося грузовика, он теперь красовался на подставке из красного дерева. Одетый в деревянный каркас, вращался десятифутовый вал. Как на рабочем станке сапожника, он приводил в движение четыре ремня из кожи антилопы канны, а те, в свою очередь, вращали колеса, сдиравшие с твердых листьев сизаля белые перистые волокна. Неподалеку, в поле зрения фон Деккена, двое мужчин были заняты изготовлением новых ремней из антилопьей кожи. Как с яблока, не отрывая ножа, срезают тончайшую кожуру, так и громадная шкура выходила из станка одной длинной полосой, закручиваясь спиралью. Начав с шеи, мужчины вырезали ремень сужающимися концентрическими кругами, пока не дошли до середины. Потом длинную — порядка шестидесяти футов — ленту туго натягивали на две жерди и зачищали кругляшом из дерева яблони. Через несколько дней кожа станет эластичной и без единой шерстинки. Гуго фон Деккен взглянул на свои карманные часы, без слов давая Энтону понять, что он опоздал. Рядом с хозяином сидел тощий африканец с пучками жестких седых волос над ушами. Лицо избороздили глубокие морщины — как будто он постоянно щурился от яркого солнца. Единственной рукой он смазывал неподвижную часть вала. Сам сморщенный, точно старый слон, фон Деккен посмотрел на гостя слегка слезящимися серо-голубыми глазами. Словно оценивал. — Вижу, ты уже отметился в буше. Да? Не пора ли надеть нормальную одежду? — Как вы догадались, сэр? — У тебя на ботинках свежая красная пыль. И дурацкие английские штаны порваны. Если англичане и научили меня чему-нибудь полезному — всему остальному я сам их научил, — так это носить в Африке шорты. Когда ты в шортах, колючки не мешают ходьбе, да и шума меньше. Кожа — ерунда. Закалится. Я подошлю к тебе девчонку — сшить шорты. С тех пор как умерла Гретхен, я всегда держу девчонку для шитья и всякой такой работы. Африканца зовут Банда, он мой денщик. Старше и мудрее меня. Энтон с улыбкой протянул руку. Банда сжал ее жесткими пальцами. Юноша повернулся посмотреть, как разгружают первую телегу сизаля. Наблюдал за сменяющими друг друга телегами, фон Деккен одобрительно кивал, когда Энтон сам брался за деревянные вилы, чтобы подгрести остатки и заправить в декортикатор. — За каждым растением, сынок, необходимо ухаживать пуще чем за ребенком. После двух лет в теплице оно тебе все еще по колено. Еще через два года его можно срезать. Но настоящей спелости сизаль достигает только к семи годам. Как раз в этом возрасте мальчику дают подержать его первое ружье. На веранде ударили в гонг. По мере приближения к дому в воздухе все явственнее пахло вкусной едой. Рот наполнился слюной. Сев за стол, Эрнст положил себе закуску и налил кофе и пива. Из-за горы холодной жареной свинины, колбасы, печеных яблок, яиц, толстых ломтей свежего хлеба и жареной картошки с луком было невозможно разглядеть тарелку. В центре массивного деревянного стола стояла корзина зеленых яблок. Точь-в-точь такого цвета, как глаза Гвенн. Фон Деккен согнул одеревеневшее тело и понюхал картошку. «Следи за чертовым поваром, Эрнст, чтобы жарил картофель в точности по рецепту твоей матери. Каждый день нужно тратить время на их воспитание! Иначе все полетит к чертям, и наша жизнь не будет стоить ломаного гроша. Сначала тебе чересчур мелко порежут картошку — как сейчас, потом работа остановится — и конец ферме "Гепард"!» После еды оба немца съели по зеленому яблоку с кофе. — Освежает дыхание, — объяснил фон Деккен, — и очищает зубы. Энтон тоже взял яблоко. Вспомнились слова старой колдуньи: яблоко возбуждает женщину, а груша — мужчину. Потом он помогал открывать ящики с швейными машинами. Гуго фон Деккен наблюдал издали, хмурясь и сложив руки на груди. Эрнст с Энтоном вытащили гвозди и опустили деревянные борта. Всякий раз, когда какой-нибудь африканец останавливался посмотреть, фон Деккен прогонял его обратно в поле. — Осторожно, не погни! — предостерег фон Деккен, глядя, как Эрнст плоскогубцами выдергивает расшатанный гвоздь. — Доски и гвозди — ценнее, чем эта так называемая техника. Наконец одна машина освободилась от оков и свободно стояла на дне ящика — черная полированная глыба, прочная, смазанная машинным маслом, точь-в-точь как в тот день, когда ее сгрузили с корабля. По солидному металлическому основанию бежала надпись: «КОХ И АДЛЕР, БИЛФЕЛД». Фон Деккен подошел и пальцем снял немного масла. Растер пальцами и понюхал. — Превосходная смазка — столько лет, а машина в отличном состоянии! Как это мы проиграли войну? После обеда, сидя на ступеньках веранды и наслаждаясь кофе и напитками, трое европейцев любовались Килиманджаро. — Самая высокая гора в Германии, — гордо произнес фон Деккен. Устало потягивая пиво, Энтон прислушивался к рассуждениям своих хозяев о том, как, по их мнению, британское правительство распорядится оккупированной территорией. — Может, теперь, после смерти королевы, они вернут Кили Кении, — предположил отец. — Виктория всего лишь подарила ее своему внуку, кайзеру Вильгельму, чтобы у него тоже была своя гора. До меня дошли слухи, будто англичане будут конфисковывать немецкие фермы. Они называют наши земли «собственностью врага». — Почему бы и нет? Они и так отовсюду свезли в Кению все, что могли. А теперь здесь нашли золото — стало быть, мы на очереди. Эрнст опрокинул в глотку стакан яблочного шнапса и покосился на Энтона. — Золото? — встрепенулся тот. — Сначала англичане контрабандой вывозили луковицы и побеги сизаля. Потом — кофейные деревья. В Китае вы стибрили чайные кусты. Теперь все это благополучно произрастает в Кении, на земле, украденной вами у чернокожих. Энтон поднялся. — Я слышал, весь «немецкий» сизаль был вывезен из Флориды тридцать лет назад. — Ну-ну, мальчики, — вмешался Гуго фон Деккен. — Не стоит снова начинать военные действия. Мы и сами стянули клочок земли. Ради Бога, Эрнст! А ты, парень, иди со мной. В доме фон Деккен отпер ящик с оружием и вынул из отдельной ячейки с зеленой фетровой подкладкой «манлихер-шенауэр». Старик любовно протер винтовку промасленной тряпкой. — Моя первая винтовка. Двустволка пятьдесят шестого калибра. Легкая и бьет без промаха. Гретхен всегда предпочитала ее. Он вернул «манлихер» на место и достал семимиллиметровый маузер и двуствольный «гебрюдер-меркель-450». Набил карманы линялой спортивной куртки патронами. Выйдя из дома, вручил маузер Энтону, оставив себе более тяжелое оружие. Они двинулись вдоль рядов сизаля. Энтон обратил внимание: в буше старик ступал легче, пружиня шаг. Словно прочитав его мысли, фон Деккен похвастался: — Знаешь ли, временами я забываю о своем возрасте. Он зарядил свой тяжелый «меркель» и передал Энтону один патрон для маузера. — На охоте, если ты не способен поразить цель с первого выстрела, не стоит даже пытаться. Знаешь, как с этим обращаться? — Вроде бы. Маузер удобно разместился у Энтона на ладони. Он был в отличном состоянии. Чтобы проверить ствол, Энтон посмотрел сквозь него на ослепительно голубое небо. Оружие было идеально вычищено. Как бывало в английском лесу, у Энтона обострились все чувства. Им овладел азарт охотника — сродни тому, что испытывает беговая лошадь на старте. Заряжая винтовку, он поймал на себе понимающий взгляд фон Деккена. Некоторое время они шли молча. Энтона поразило разнообразие шипов и колючек, цеплявшихся за одежду. Каждое крохотное растение было чертовски умно и настроено воинственно. Шипы оберегали маленькие белые и желтые цветочки. Фон Деккен винтовкой указал вниз. — Свежие следы топи, — прошептал немец. Каждый отпечаток отчетливо делился надвое — похоже на английскую лань. Пройдя еще сотню ярдов, они увидели множество сходных с этими следов, однако помельче. — Теперь мы ее не найдем, — буркнул фон Деккен. — Проклятая импала! Энтон сделал небольшой круг и жестом подозвал немца, чтобы тот вновь возглавил преследование. Дул встречный ветер — антилопа не почувствует их запаха. Через сто двадцать ярдов они увидели топи. Это был крупный одинокий самец, достигавший в холке четырех футов, с лоснящейся рыжевато-лиловой шерстью и крутыми острыми рогами. Фон Деккен положил руку Энтону на плечо и заставил опуститься на колени. — Попробуй добыть нам ужин. Энтон терпеливо наблюдал за пасущимся невдалеке зверем. Время от времени топи поднимал голову и бил оземь передним копытом. Изучив повадку зверя, Энтон стал подкрадываться к нему слева до тех пор, пока его и антилопу не разделила акация. Укрывшись в ее тени, совершенно забыв о больной руке, он продолжал ползти, целиком сосредоточившись на своей добыче и подмечая каждый сучок, каждый запах и каждое движение. Пока топи жевал траву, Энтон двигался вперед. Как только зверь поднимал голову и настораживался, он замирал. Он повторял все движения животного, как партнер в танце. Так учил Ленарес. Когда между ними осталось пятьдесят ярдов, Энтон выскользнул из укрытия и, стоя на коленях, прижав к плечу маузер, стал ждать, когда зверь повернется к нему. Топи сделал шаг и сильно ударил по земле передним копытом. Потом повернулся в профиль и поднял голову. Энтон нажал на спуск и бросился к падающей антилопе. Фон Деккен осмотрел рану и всю тушу убитой антилопы. — Глупо подбираться так близко: ты вполне мог его упустить. Зелен ты еще для бонго. Видишь когти леопарда на ляжках? В тот раз топи посчастливилось. Знаешь, зачем он царапает землю копытом? Отмечает свою территорию — приманивает самку. В точности как люди — только вместо денег и уютного дома приманкой служит особый запах, выделяемый из желез у него на ногах. — А что такое бонго? — Гигантская ярко-рыжая антилопа, что прячется в лесах у подножия горы Кения. Пугливая, словно призрак. Многие ищут ее всю жизнь, но так и не находят. Убьешь бонго — станешь настоящим охотником. А теперь поспешим домой — пришлем мальчишек за твоим красавцем, пока его не утащили гиены. Слушая фон Деккена, Энтон проворно распорол ножом брюхо антилопы. Будь у него цыганский нож, получилось бы намного аккуратнее. Он выскоблил свернутые кольцами кишки. Вычистил грудную клетку и полость желудка и отрубил голову. Потом встал и взвалил тяжелую тушу себе на спину. Две ноги антилопы он скрестил у себя на груди и придержал одной рукой, а в другую взял винтовку. И последовал за фон Деккеном на ферму «Гепард». — Ну и ну! — одобрительно произнес Эрнст, поджидавший на веранде со стаканом шнапса в одной руке и сигарой в другой. — Кажется, нашему юному англичанину сегодня повезло. — Не знаю, как насчет везения, — возразил его отец, — но лазает мальчишка, как француз в окно борделя. У него отличный нож. Старик наблюдал, как Энтон обдирает шкуру. Отделяя кожу от диафрагмы и мяса, он не пролил ни капли крови. А когда закончил, поволок тушу на кухню. — Твое счастье, что этот парень не охотился за тобой на войне, — сказал фон Деккен сыну. — Нам довелось подстрелить не одного охотника. Энтон вымыл руки и отправился во флигель. И очень удивился, увидев, что в его комнатушке горит масляная лампа. На кровати лежала африканка в белой униформе прислуги. Завидев Энтона, она села, свесив длинные черные ноги. Не первой молодости, но довольно аппетитна. — Пришла снять с тебя штаны. — Что-что? — Залившись краской, Энтон замер у двери. — Ну, снять. Мерка. Шить штаны. Женщина сняла одну из висевших у нее на шее веревок и, подойдя к Энтону, обвила веревкой его талию, прижав к его телу тяжелые наливные груди. Он разволновался, ощутив аромат манящего женского тела. Ее пальцы неторопливо ощупали его спину, бока и живот. Зажав в зубах веревку, женщина затянула узел и с улыбкой посмотрела Энтону в глаза. Он еще больше покраснел. Второй веревкой она обвила ему ягодицы, подержала их в ладонях и тоже завязала узлом веревку. — Теперь я знаю размер. Очень хорошо. Папа Деки слишком стар. — Женщину забавляло его смущение. — А ты, может, слишком молод?Глава 11
Из ущелья появился Мальва с Анной на руках. Тело девочки висело, как рваная, пропитавшаяся кровью тряпичная кукла. — Ее загрыз лев! — Саманта Голт с ревом бросилась к родителям. Гвенн помогла Мальве положить ее на одеяло и внести в вагон. Трясясь всем телом и причитая, миссис Голт сидела на подножке, вцепившись в Саманту. — Вам лучше не смотреть на нее сейчас, миссис Голт, — посоветовала Гвенн. К ней вдруг вернулась спокойная уверенность, граничащая с мертвящей отрешенностью — как во Франции. Вспомнился блестящий от крови пол «скорой помощи» после того, как из нее выносили последнего раненого. Юбка и блузка Анны были изодраны в клочья. Лицо, волосы и порванная одежда потемнели от пыли. Из-под юбки ручьями текла кровь. — Тони, — обратилась Гвенн к Бевису, пока Голт успокаивал жену, — попроси у машиниста два ведра воды. Отфильтруй через чистую материю. Пусть Том держит Саманту и ее мать в соседнем купе. Потом собери любые медикаменты, какие найдешь. Солдатским ножом она разрезала на Анне одежду и осмотрела юное обнаженное тело. Служба в Добровольных санитарных частях приучает ко многому, но ее ужаснули повреждения, нанесенные этому ребенку. Глубокие рваные раны на боках и бедрах были словно сделаны ножом для разделки мяса. Гвенн еще раз процедила ржавую воду из паровоза через марлю и обмыла бесчувственное тельце. Работая, Гвенн вспомнила свое первое посещение хирургической палаты. Первый месяц работы водителем санитарной машины вообще был ужасен. Но в тот день на перевязочном пункте под Нью-Чапелом каждого, кто не был ранен, заставили помогать. Задуманный как вспомогательный полевой госпиталь для поверхностного ухода за легко раненными, перевязочный пункт стал первым прибежищем после кровавой бойни, превращавшей деревья, людей и лошадей в черное крошево. Из палатки вышел молодой врач-англичанин с исполненными страдания запавшими глазами. Его медицинский халат приобрел сходство с фартуком мясника. Он приказал Гвенн и четырем ее подругам помочь ему. У него тряслись руки. Из палатки за его спиной доносились нечеловеческие вопли… Верхняя часть тела Анны осталась почти неповрежденной, если не считать двух ран на животе от зубов людоеда. Из правого бедра хлестала кровь. Оно было все растерзано когтями хищника — а ведь когти, как было известно Гвенн, — опаснейший источник заразы. — Как, черт возьми, это случилось? — спросил Бевис проходившего мимо окна вагона кочегара. — Мы услышали в донге крик ребенка и бросились туда, — ответил черный от копоти индиец и указал на Мальву. — Вон тот человек бросился догонять льва, тащившего девочку в зубах. Слава Богу, лев был тощий, хромой на одну ногу. Этот человек попал в него дубинкой. Лев выронил девочку и убежал. — Ладно, иди, разведи огонь в топке. — Бевис повернулся к стоявшему рядом машинисту. — Постарайтесь скорее попасть в Найроби. — На это уйдет минимум девять часов. Впереди гористая местность, а «Болди» уже не тот, что прежде. Гвенн молча работала в первом купе. Бевис смотрел и оказывал посильную помощь. Ее и удивило, и обрадовало его молчание. Она промыла рваные раны карболовым мылом и кипяченой водой. В царапины от когтей — среди которых попадались глубокие — попали разлагающиеся частицы плоти предыдущих жертв хищника. Гвенн обработала раны и сделала раствор марганцовки. Опасаясь, что продукты гниения поразят здоровые ткани, она раскрошила между двумя монетами кристаллы перманганата калия и присыпала открытые раны. — Пока мы не довезем ее до больницы, — сказала Гвенн, — потеря крови представляет даже большую опасность, чем инфекция. Нельзя ли ехать быстрее? Всякий раз, когда она снимала жгут, из бедренной артерии ударял фонтан крови. Гвенн понимала: здесь требуется виртуозное искусство хирурга, а что может поделать она сама, да еще когда поезд трясет на стыках? Полностью остановить приток крови к ноге — значит потерять ногу. А если позволить крови течь девять часов подряд, ребенок может умереть. Гвенн надеялась уменьшить кровотечение умеренным прессом на поврежденную артерию. Она наложила на рану тугую повязку. Спустя час Анна пошевелилась. Гвенн боялась, что, очнувшись, девочка начнет метаться от боли. Поэтому она сделала ей укол морфия и дала подышать эфиром. Локомотив с трудом карабкался на возвышенность. Приближение к Кибвези — в сотне миль от столицы — вылилось в сплошную борьбу между быстрым скатыванием вниз и трудным продвижением вверх по склону. Как усталый велосипедист, машинист старался набрать побольше скорости на спусках, чтобы облегчить очередной подъем, но эффект оказался совсем небольшим. За восемь миль до Кибвези давление в котле упало. Гвенн беспомощно сознавала: поезд вот-вот остановится. Рядом с ней обивка сиденья пропиталась свежей кровью. Энергия паровоза истощилась от долгого подъема на холм и собственной тяжести. Перед самой вершиной поезд остановился и заскользил назад. Пронзительно заскрежетали колеса: машинист изо всех сил нажал на тормоза. Поезд скатился в долину. Бевис побежал к паровозу — поговорить с машинистом. Потом он посовещался с группой отставных военных; те сразу же приняли решение. Восемьдесят пассажиров вышли из поезда. Остались только дети и сильно покалеченные ветераны. Поезд взобрался на холм, резво скатился вниз и, взобравшись на следующий холм, остановился, поджидая пассажиров. Через двадцать минут все заняли свои прежние места. Три пассажирских и один багажный вагон отцепили и оставили на запасном пути в Кибвези. В паровоз загрузили дрова, воду и горючее. Бевис передал начальнику станции телеграмму — отправить в Найроби. Несколько семей втиснулись в без того переполненные купе. Большинство осталось ждать следующего локомотива. — Плохие новости! — крикнул, подбегая к машинисту, сикх — начальник станции. — С телеграммой ничего не получается. Повреждение на линии. То ли жираф, то ли собаки-масаи утащили проволоку на бусы. Если вы не поспешите, можете столкнуться с встречным поездом. Локомотив, топливный тендер и один вагон мигом вылетели из Кибвези. Анну, к которой временами начинало возвращаться сознание, успокаивали морфием. Обеспокоенная бледностью девочки из-за большой потери крови, Гвенн наложила на правое бедро жгут. Нога начала синеть. За четыре мили до Улу (последняя заправка топливом перед Найроби) — новая непредвиденная остановка. Гвенн выглянула в окно — на путях лежал мертвый жираф. Вокруг шеи обвился медный телеграфный провод. Кочегары и все пассажиры спрыгнули на землю. Животное весом не меньше двух тысяч фунтов за ноги оттащили в сторону. В Улу пополнили запас дров и отправили телеграмму. Гвенн вытерла лицо Анны. Девочка была без сознания. Гвенн вернулась к окну. Наконец-то восхищенному взору Гвенн явилась та Африка, которую она представляла себе в воображении. По серо-зеленому ландшафту разбросаны островки акации, и повсюду, куда ни глянь, — экзотические животные. По бескрайней равнине бродили страусы, зебры, газели Томсона и всевозможные антилопы. Гвенн мысленно вознесла к небесам молитву: пусть Анна выживет и увидит все это! Сердце девочки еще билось, но с каждым разом слабее. Уже перед вечером поезд подошел к вокзалу в Найроби. На перроне столпились встречающие. Казалось, все население города явилось на станцию — в фургонах, открытых автомобилях, верхом на лошадях, пешком или на рикше. Подкатила машина «скорой помощи» с белым деревянным кузовом. Врач и две европейские медсестры стояли наготове. Когда девочку подняли, чтобы положить на носилки, Гвенн заглянула под одеяло и ужаснулась: пониже спины виднелся небольшой сгусток запекшейся крови. Еще одна рана. Потная, в пыли и копоти, Гвенн сошла на платформу и помогла внести Анну в машину «скорой помощи». Она вдруг осознала свой неопрятный внешний вид и нервно оглядела платформу. На нее смотрел высокий темноволосый мужчина в болтающейся, как на вешалке, одежде. Бог мой, неужели это Алан? Он очень постарел и осунулся. После секундного замешательства Гвенн бросилась к мужу. Он двинулся навстречу скованной походкой. Гвенн плача обняла его и ощутила кости. Алан обвил ее слабыми руками. Она закрыла глаза. — Слава Богу, ты здесь! Ты здоров? — Как доехала? — спросил Алан. — Ты не представляешь, что случилось! На эту маленькую девочку напал лев. Она потеряла ужас сколько крови. Я пыталась помочь. Гвенн подняла голову и всмотрелась в лицо Алана, надеясь отыскать прежние черты своего возлюбленного. — Гвенни, у нас есть ферма! — жарко прошептал он ей на ухо. — Две тысячи акров на берегу большой реки. Она наша собственная — как ты всегда мечтала! А вот и наша повозка. — Как же мы будем содержать такую ферму? — удивилась Гвенн и всем телом откинулась назад. Казалось, Алана не заботила пострадавшая девочка. У него изменились глаза: стали глубже, тоскливее. Из них ушла молодость. Должно быть, и она стала другой. Господи, что с ними сделала война! Гвенн повернула голову и увидела доверху нагруженную, запряженную четырьмя мулами повозку. Сбоку стояли африканец и жирный индиец в роскошной одежде. — Давай поедем за «скорой помощью» — убедимся, что с Анной все в порядке. — Один мой новый друг помог с деньгами. Познакомься, Гвенни, это мистер да Суза. А это — Артур. Алан помог жене взобраться в повозку и усесться на скамейку. Гвенн ответила кивком на поклон индийца. Запекшаяся кровь привлекла внимание Алана к ее пальцам. — Где твое обручальное кольцо?* * *
Энтон пробудился до рассвета. Протер глаза и издал тихий чирикающий звук. Пришлось повторить несколько раз, пока не получилось как следует. Он позвал сов — сначала спокойно, потом настойчиво. Одна птица ответила. Начался утренний разговор. Вскоре в него включилась другая сова. Энтон встал и натянул тяжелые шорты, сшитые из старой палатки. «В Африке невозможно достать приличные кожаные шорты, — брюзжал Эрнст фон Деккен. — Из того, что есть, эти — наилучшие». Сам фон Деккен берег свои брюки из серой добротной немецкой кожи (за тридцать лет их ни разу не стирали) для особо торжественных случаев. Сидя в полумраке на крыльце, Энтон надел новые ботинки: слишком короткие и, как ему показалось, чересчур тяжелые, зато прочные. Потом он проверил маузер и побежал к водоему, взяв, по совету фон Деккена, два патрона: один для охоты, а другой — чтоб вернуться домой. Небо просветлело. Энтон забрался в заранее облюбованное укрытие. Это нагромождение каменных глыб, стволов и веток деревьев было словно специально создано руками великана и служило незаменимым наблюдательным пунктом Энтону и всякому хищнику, ведомому тем же интересом. Он увидел перед собой на камне вырванный с мясом пучок игл дикобраза — очевидно, стоивший жизни его владельцу. Подобрав одну иглу, Энтон залюбовался ее совершенной формой и правильным чередованием серых и белых полос. Вогнутая, заостренная, легкая, однако очень жесткая, игла подходила для убийства лучше остроконечной медной пули. Энтон засунул пучок в карман рубашки. Он провел пальцами по камню в том месте, где лежали иглы. На пальцах не осталось ничего, кроме степной пыли. Послюнив палец, он повторил процедуру. На этот раз к пальцам прилипло что-то похожее на запекшуюся кровь. Неподалеку Энтон заметил кучку мелообразного помета. Гиена! Каждый известковый катышек — остаточный продукт переваренных костей жертвы, безжалостно растерзанной хищными челюстями. Однако дикобраз — не самая удобная добыча для любителей падали. Энтон огляделся и обнаружил еще одну кучку катышков меньших размеров. Видимо, кто-то помельче из кошачьих, подумал он, сетуя на скудость информации. Возможно, виверра. Вот когда он услышал невдалеке от себя шорох. Длинная узкая морда раздвинула ветви акации и повернулась — сначала направо, потом налево. Это была крупная желто-коричневая антилопа-бубал. Успокоившись, зверь побрел к водопою. Странное существо с тупой мордой, широко расставленными рогами и выпуклым, похожим на горб, затылком показалось Энтону на редкость неуклюжим. За ним подошел еще один бубал, потом целое стадо, насчитывающее восемьдесят или даже сотню животных. Изумленный таким изобилием, Энтон мысленно вернулся в Чевиот-хиллс в Нортумберленде. Там каждая встреча с животным была событием. Он снова пережил напряжение, испытанное им во время выслеживания, вдвоем с Ленаресом, красного оленя. Их окутала морозная предрассветная дымка, спустившаяся с Шотландских гор близ Колдстрима. Чтобы не привлекать внимания лесничих, Ленарес, как правило, делал только один выстрел из мелкокалиберной винтовки — обычно в узкой лощине, чтобы берега приглушили звук. И никогда — при ясном свете дня. Окоченев после ночи, проведенной под открытым небом, Энтон с цыганом лежали на подстеленном одеяле среди папоротника и мирта. И вдруг на опушке леса возник красавец-олень с ветвистыми рогами. Он огляделся и осторожно пошел к воде. Они понимали: этот роскошный олень — не для них: королевская добыча. Все равно что дорогие блюда в меню, выставленном на витрине шикарного ресторана. Молодой самец ступил в воду. Ленарес передал тринадцатилетнему Энтону свое ружье. Тронутый доверием, мальчик взял оружие. И, не сумев справиться с волнением, пальнул вперед и вверх, ранив молодого оленя в загривок. Тот погрузился в поток. На него обрушился Ленарес со своим ножом, стараясь перерезать горло. Человек и животное барахтались в окровавленной ледяной воде. Наконец олень сбросил охотника и, с трудом поднявшись на ноги, побрел через реку, с цыганским ножом, застрявшим в шее. Ленарес с Энтоном начали палить вдогонку. Они преследовали раненого зверя до склона горы — бежали по камням, скользили на опавших листьях. Запыхавшись, остановились на гребне, пристально оглядывая местность. Все углубления и впадины затопил утренний туман. Наконец они заметили оленя на фоне просеки; ног не было видно, казалось — он плыл в облаке тумана. Потом остановился — на трех ногах — и стал безнадежно вскидывать голову, чтобы избавиться от ножа. А затем, прихрамывая, побрел в частный лес. Энтон с Ленаресом пошли по кровавому следу. Занималось утро; туман рассеялся. На севере виднелись отдаленные холмы, поросшие темными елями. Ленарес, сильно нервничая, бежал, низко опустив голову и не отрывая взгляда от земли, горя желанием довершить убийство и вернуть свой нож, пока не пробудились окрестные деревни. Они еще раз увидели оленя в отдалении — тот двигался медленнее; рукоятка ножа стала длиннее: очевидно, лезвие уже не так крепко сидело в ране. Лес поредел и стал похожим на парк. Со старых дубов и тисов были аккуратно срезаны засохшие сучья; под ногами не было завалов из валежника, где обычно скрывается мелкая живность. Двое охотников — взрослый и мальчик — продолжали преследование. Всякий раз, когда они выходили на поляну, Ленарес начинал нервничать. Внезапно он предостерегающе поднял руку и в тот же миг, увлекая за собой Энтона, припал к земле. Тело цыгана напряглось. Он положил между ними свое ружье и зашептал Энтону на ухо: — Больше нельзя стрелять. Если что-нибудь случится, не думай обо мне — беги за оленем с винтовкой. Запомни: пока меня не взяли с оружием, все не так страшно. Иначе — тюрьма. Послышались приближающиеся голоса. Хромающий олень развернулся и пошел прямо на них. Очевидно, услышал голоса и почуял человеческий запах. Из загривка по передней ноге струилась кровь; всякий раз, когда оленю случалось остановиться, там образовывалась алая лужица. Нож Ленареса едва держался в ране. Острое, как бритва, лезвие влажно блестело и покачивалось из стороны в сторону. Подойдя к рощице, олень остановился и резко мотнул головой. Нож взвился в воздух. Завороженный этим зрелищем и одновременно расстроенный муками животного, Энтон видел, как клинок упал в кучу желудей и листьев. Ленарес вскочил на ноги и схватил его. Олень на трех ногах метнулся прочь. — Вот он! — раздался громоподобный голос. — За ним, ребята! Ленарес бросил Энтону нож. Лезвие по рукоятку вонзилось в дерн, в каких-нибудь нескольких дюймах от левой руки Энтона. Мальчик лежал, неподвижный как изваяние, сжимая в другой руке винтовку. На какой-то миг в прогалине над землей мелькнула голова Ленареса — лиса, выбирающая путь к спасению. Энтон отполз поглубже в чащу. Прежде чем зарыться в ворох опавшей листвы, он успел сунуть нож за пояс. На поляну выскочили трое мужчин. Лесничие. У одного был топор, у другого — резак дровосека с длинным кривым лезвием. Самый молодой — рослый, богатырского сложения парень без оружия — продолжил погоню за Ленаресом. — Гони, Руп, если поймаешь, ставлю выпивку! — прокричал «дровосек» вслед стремительно удаляющейся фигуре. Старшие лесничие удобно расположились на траве и вытащили из карманов теплых твидовых курток глиняные трубки. — Опять эти чертовы цыгане, — проворчал человек с резаком. — Так и норовят что-нибудь стибрить. Не знают, что такое честно работать. Давно пора вышвырнуть их из страны к чертовой матери. До Энтона донесся слабый запах табака. От страха он весь покрылся липким потом; его била дрожь. Вот когда Энтон понял: всякий раз, выходя на охоту, сам становишься объектом охоты. Спустя несколько минут вернулся Руп, подгоняя Ленареса мощными ударами кулаком по голове и плечам. Из ссадины под глазом цыгана текла кровь. Тонкое черное пальто было порвано; служившие пуговицами монеты вырваны с мясом. В руках он держал свои ботинки — больше не убежит. Энтон только сейчас заметил, как он мал ростом и тщедушен. Самый крупный мужчина отдал свою трубку лесорубу и приблизился к цыгану. — Вот тебе за то, что ранил молодого оленя и оставил умирать от потери крови! — проревел он, впечатав тяжелый кулак в живот Ленареса. Тот охнул и сложился пополам. Энтон крепче вцепился в винтовку, страстно желая помочь другу, но не представляя, как это сделать. Если он выскочит из кустов и пригрозит им винтовкой — успеет ли Ленарес выпрямиться и убежать? Он вспомнил наказ Ленареса, а также то, что угрожать людям оружием тоже считается преступлением. — А это — за осквернение наших лесов! — Лесничий отвесил Ленаресу две здоровенные оплеухи. — За то, что не даете честным людям покоя! Ленарес рухнул на землю, поджал ноги к животу и в тот же момент взвыл от сильного удара в бок. Энтон закрыл глаза. До ушей доносились звуки ударов по ребрам и ногам цыгана. Тот непрерывно стонал. Наконец удары перестали сыпаться. Энтон открыл глаза. — Убирайтесь из наших мест — с вашим воровством и колдовством! — Мужчина припечатал левую руку Ленареса каблуком. Тот издал дикий, протяжный вой. Двое других лесничих оттащили своего разошедшегося товарища от полумертвого цыгана. И все трое скрылись в лесу. Плача от жгучего стыда, Энтон подбежал к другу. Сидя на земле, тот стонал и зажимал правой рукой два сломанных пальца левой. Энтон натянул ему на ноги ботинки. Они молча побрели к табору. Сегодня, волнуясь подумал Энтон, мой первый день самостоятельной охоты в Африке. Нужно сделать все чисто. Пока бубалы утоляли жажду, он присматривался к самкам и их детенышам, стремясь усвоить их повадки и чем они отличаются от других антилоп. Потом выделил крупного самца, одиноко чесавшегося о грубую кору дерева. Энтон выстрелил. Самец упал. Остальные антилопы разбежались. Энтон перезарядил винтовку и бросился к водоему. Там он склонился над агонизирующим бубалом — и вдруг услышал в кроне у себя над головой почти неуловимый шорох. Он поднял голову и увидел пятнистый хвост. Гибкое тело леопарда изготовилось к прыжку. Их взгляды встретились. Глаза громадной кошки злобно сверкнули. Юноша вскинул винтовку. Леопард обрушился на маузер как раз в момент выстрела. Энтон, маузер и зверь свалились на землю. Быстро придя в себя, хищник пополз к человеку — обнажив клыки и грозно рыча. Из раны хлестала кровь. Энтон заметил позади леопарда африканца. Тот, не теряя ни секунды, вонзил в зверя копье. Леопард дернулся; копье вошло в него подобно шомполу. Он схватил темнокожего за бедра и повалил на землю. Хищнику мешало копье; он отчаянно махал когтистыми лапами и изгибался, чтобы дотянуться до лица и шеи человека. Энтон молниеносным движением вырвал копье. Леопард повернул к нему голову с жутким оскалом. Зеленые глаза угрожающе сверкали. Энтон что было сил вонзил копье в горло зверя. Внезапно все стихло. Копье воткнулось в горло леопарда до шейного позвонка. Небольшая круглая голова безжизненно повисла. Левая рука Энтона до плеча была в крови — частично его собственной. Он склонился над африканцем. Тот сидел на земле, стиснув зубы, и рассматривал свои раны. Вырванный с кожей пучок волос — скальп — свесился на одно ухо. Правое плечо и грудь были разорваны до костей; кожа и мясо исполосованы, словно ножом мясника. Из глубоких порезов на животе сочилась кровь. Энтон помог ему подняться, и они побрели к озерцу. Африканец окунулся. Однако кровь не унималась. — Спасибо тебе, — сказал Энтон, разрывая на себе рубашку и бинтуя африканцу плечо. — Ты спас мне жизнь. Давай я отведу тебя на ферму. Африканец кивнул. — Меня зовут Энтон. — А меня — Кариоки. Кариоки Китенджи, — ответил африканец по-английски. Они с трудом преодолели пару миль до плантации. Одной рукой Энтон поддерживал Кариоки, а в другой нес винтовку и копье. Когда они вошли в заросли сизаля, африканец снова упал. Энтон поднял его за плечи. Пришлось бросить копье. Пошатываясь, Энтон дотащил Кариоки до своего флигеля и, положив на кровать, побежал в дом хозяина. — Похоже, ты и впрямь познакомился с Африкой, — пошутил Эрнст. Он сидел за столом с толстой сосиской в руке. Гуго фон Деккен внимательно изучил три глубокие окровавленные борозды у него на предплечье. Крикнув повару, чтобы принес кипятку, Эрнст направился к флигелю с походной аптечкой. — Этот получил сполна, — легко произнес Эрнст, осмотрев раны Кариоки. — Хотя с черномазыми трудно знать наверняка. На вид — могучий дикарь. Подержи-ка ему голову, пока я зашью вот тут. Ничего страшного — обыкновенная штопка. По крайней мере, если выкарабкается, мне будет не стыдно на него смотреть. Горя желанием помочь и стараясь не выказать отвращения, Энтон обеими руками зажал голову африканца. Из-за пота, крови и липкой грязи она так и норовила выскользнуть. Он вытер ладони о шорты и снова зажал голову Кариоки. Тот слабо пошевелился. Энтон вспомнил цыганское правило: человек не должен рождаться или умирать в помещении — только на свежем воздухе. — Отлично, — удовлетворенно произнес Эрнст, делая стежок за стежком, пока Энтон с фон Деккеном держали раненого. Энтона удивило беспечное поведение обоих немцев. Они словно набивали трубку или резали хлеб. Война, что ли, приучила их так легко смотреть на вещи? Или Африка? Эрнст быстро пришил скальп, а затем — широкую полоску кожи и мышц возле ключицы. Взяв перочинный нож, обрезал концы прочной хирургической нити. — Я сделал ее из сухожилия гепарда. Получается отличная тетива. Если бы такой ниткой пользовались в Берлине, пузатым бюргерам не было бы сносу. — Прямо скажем, недурно получилось, — сказал Эрнст, полоща руки в ведре. И снова подошел полюбоваться своей работой. Потом вцепился Энтону в предплечье и начал быстрыми, ловкими движениями обрабатывать порезы. Энтон прилагал бешеные усилия, чтобы не застонать. — Он не похож ни на кого из наших, — проговорил фон Деккен; тем временем его сын рыскал по карманам шорт защитного цвета, в которые был одет африканец. — Это английские армейские штаны. Эрнст выудил покореженную медную пуговицу и несколько пустых гильз от винтовочных патронов. На пуговице был выгравирован лев, а чуть ниже — буквы: К.А.С. — Так этот черный ублюдок воевал с Королевскими африканскими стрелками! Знал бы — я бы зашил его несколько иначе. Потом фон Деккен повел Энтона и Эрнста на веранду — выпить шнапса. Энтон почистил винтовку и рассказал о случившемся. — Ты совершил две ошибки, сынок, — сказал фон Деккен, втирая ему мазь в поврежденные места. — Никогда не смотри леопарду в глаза. Посмотришь — а тем более если ранишь, — непременно нападет. — Понятно, — отозвался Энтон, вертя в пальцах иглу дикобраза. — А что еще я сделал не так? — Сосредоточился на чем-то одном — и стал слеп и глух ко всему остальному. У тебя на родине сосредоточенность действительно приносит успех. Но только не в. Африке, где опасность подстерегает со всех сторон. — Что-нибудь еще? — без малейшего раздражения спросил Энтон. — Да. Ты взял иглы дикобраза. Это приносит несчастье. Воспользовавшись разрешением уйти, Энтон побрел в свою хибару. Мысли вертелись вокруг цыган — их суеверий, чрезмерного увлечения такими понятиями, как счастье и удача. А еще ему по-прежнему не давали покоя воспоминания об охоте на оленя с Ленаресом, когда он не смог защитить друга.* * *
— Много лет назад, — сказал однажды вечером старый фон Деккен, отдыхая на веранде и глядя в сторону Килиманджаро, — я мечтал нажить в Африке состояние и вернуться домой богатым, как принц. Купить большое поместье на берегах Рейна и танцевать на балах с дамами. Как ваш Клайв Индийский. Только он сэкономил время, грабя магараджей. Или я ошибаюсь? — Нет, вы правы. Энтон вспомнил свои собственные мечты: свобода путешествовать, охотиться в незнакомой стране, чувствовать собственную землю под копытами собственной лошади. Ну, может, еще найти золото. Он сидел на верхней ступеньке крыльца, прислонившись к колонне из кедра и уставившись в ночь. Эрнст устроился рядом — толок в скорлупе кокоса кусочки сахарного тростника и карболового мыла. Когда припарка была готова, он передал ее Энтону и посоветовал: — Если хочешь и дальше приносить пользу, парень, намажь этим свои гноящиеся от шипов раны. На войне мы называли это бальзамом Леттова. — К счастью, мне так и не удалось скопить достаточно денег для возвращения домой, — продолжил фон Деккен. Он вытащил из кармашков для патронов спереди на рубашке три темные сигары и передал две молодым людям. — Наконец я понял: деньги ничего не значат. Даже очень большие деньги не делают человека свободным. Он всегда будет хотеть еще, еще — и постоянно дрожать над ними, как банкир. Так что я предпочитаю выходить в вельд[5] с моим другом-«меркелем». Правда, когда Эрнсту исполнилось двенадцать лет, я послал его учиться в Германию, чтобы из моего маленького дикаря вышел настоящий пруссак. — Когда я понял, как это противно, — подхватил Эрнст, — было уже поздно. По ночам я лежал на своей узкой кровати и мечтал об Африке. Закрою глаза — и почувствую запах кустов после дождя. Учителя читали нам истории о животных. Мои товарищи были в восторге. А я уже в девять лет карабкался на акацию и наблюдал за тем, как пара львов рвет на части живого буйвола. Помнится, он храпел, брыкался — однако был слишком молод, и рога еще не выросли. В конце концов львица вспрыгнула ему на спину, а лев лапой придавил морду и сломал шейные позвонки. Какие уж тут «школьные истории о животных»? — Когда я был мальчишкой и жил в Германии, — вновь перехватил эстафету отец Эрнста, — Черный лес казался мне сказочными непроходимыми джунглями, сказкой, населенной дикими вепрями и оленями. А приехав туда после нескольких лет жизни в Африке, я как будто навестил свою старую классную комнату. Даже зверье было — сплошь мелюзга, к тому же весьма малочисленная. После вельда самый большой лес в Европе казался парком. В тот вечер фон Деккен много рассказывал о слонах и щурился в темноту, словно высматривал серых колоссов. Наконец Эрнст не выдержал — взял свой шнапс и отправился в библиотеку. Устроившись поудобнее, старик отвечал на вопросы Энтона о прошлом Восточной Африки, когда доктор Карл Петерс добыл изрядный кусок для Германской империи благодаря тому, что дробил племена и искусно подталкивал англичан двигаться на север, в Кению. — В 1890-м мне довелось встречать последних охотников на слонов — старой закваски. Африканеров и англичан — Хартли, Финоти и других. Эти люди знали первозданную Африку — какой она была, прежде чем мы ее испохабили. — Какими они были? — спросил Энтон, стараясь не показать своего отвращения к крепкой сигаре. — Это были крутые парни, знавшие, как выстоять в одиночку. Они всю жизнь следовали за громадными слонами на север. Сначала Трансвааль и Бечуаналенд, затем Земля Машона и Ньясаленд и, наконец, Восточная Африка, Уганда, Судан. Никто не умел так убивать и никто не любил слонов так, как они. А в итоге слоны убили их — так или иначе. Затоптанные посевы. Самовзрывающиеся винтовки. Буйволы. Малярия. Змеи. Одиночество. — Расскажите, как вы с ними охотились, — попросил Энтон, втайне радуясь тому, что осилил сигару. — Африканеры повстречались со мной в лесах на реке Руфиджи. В их глазах я был прокаженным. Они вели себя как ревнивые любовники: Африка принадлежит им и больше никому. Но я все-таки не был британцем. Мало-помалу мы подружились — во всяком случае, со мной можно было поговорить. Со временем я стал таким же, как они. В каждом новом белом видел захватчика, собирающегося оттяпать у меня кусок Африки. Старый плантатор покинул кресло из ротанга[6] и медленно сошел с веранды. Светящийся нимб седых волос выделялся на фоне иссиня-черного неба. Фон Деккен выбросил окурок и, положив руки на плечи Энтона, впился в него глазами. — Представляешь, сынок, каково это было — провести здесь молодость в те давние времена? Целыми днями мы ходили и бегали за этими чертовыми буйволами, а то и от них. Двадцать, двадцать пять миль в дремучих зарослях. Мы брали с собой только наши великолепные винтовки; шипы рвали на нас одежду. В конце охоты мы разбивали лагерь там, где падали слоны. По ночам, сняв сапоги, сидели у костра, натирая песком мозоли. Мы вырезали палки из терновника и поджаривали свежие ломтики слоновьего хобота. Уже сам запах дарил ощущение праздника. Всюду валялись части слоновьих тел — и казались почти живыми. Ноги. Сердца. Хоботы. Темные, застывающие лужи крови. Мы сами казались себе почти зверями. Слоновые бивни — в пять, шесть, семь футов длиной, весом до сорока фунтов —складывали в тени, подстелив брезент. Некоторые высасывали сладкое содержимое лобной кости. Оруженосцы чистили винтовки, остальная молодежь пировала у костра. Старые пираты буша пьянствовали, курили и делились секретами своего ремесла. Господи, как они тосковали по тем временам, когда еще не было правительств! От мертвой хватки фон Деккена у Энтона болели плечи. Саднили раны. За спиной старого охотника, как призраки его молодости, трепетали на ветру белые волокна сизаля, развешенные на веревках для просушки. — Мы выходили затемно, — продолжал фон Деккен. — Охотились по берегам рек и водоемов. На родине всякие идиоты твердят: лев — царь зверей. Но когда старый слон приходит на водопой, звери знают, кто — царь. Все они — лев, буйвол, носорог — линяют в кусты, чтобы не мешать ему напиться. Постепенно слоны начали заранее узнавать о нашем приближении, даже в другой стороне. С каждым годом их — особенно крупных — становилось все меньше, а охотиться — все труднее. Мальчишки-оруженосцы следовали за нами по пятам, чтобы не спугнуть зверя. Их были десятки — ополоумевших, как мы, одержимых слонами и такой жизнью. Они приходили и оставались с нами ради мяса. Каждый тащил по бивню, завернутому в шкуру антилопы, затолкав в отверстие табак и амулеты. Мы возвращались домой либо до смерти исхудавшие от лихорадки, либо могучие, как боги. Мальчишки шествовали по деревне, словно на параде, разукрашенные, как черти, с перьями страуса в волосах, шатаясь под тяжелой ношей — слоновой костью. Нет, Африку открыли не жалкие миссионеры, не солдаты и не торгаши. Африку открыл слон. — Жалко, меня здесь не было, — проговорил Энтон. — Вы помните своего лучшего слона? Гуго фон Деккен ухмыльнулся. — Слоны как женщины. Самый лучший — тот, на которого ты будешь охотиться завтра. Но скажи мне одну вещь, сынок. Моя сладкая черномазая, которая дарит мне тепло, утверждает, будто ты ее оттолкнул. Это правда? Или ты испугался, что старый папа Деккен сойдет с ума от ревности? Энтон залился краской. — Не знаю, сэр. Я растерялся. Перед тем как уединиться в своем флигеле, Энтон подошел к костру, где Кариоки вел беседу с оруженосцем фон Деккена. Молодой африканец поправлялся быстрее, чем Энтон мог себе представить. Неровный розовый шрам вдоль ключицы ярко выделялся на блестящей черной коже. Сейчас Кариоки говорил о возвращении домой, к подножию горы Кения. Фон Деккен предупреждал: если Энтон надумает двинуться на север, прежде нужно подыскать надежного спутника. — Это добрых триста-четыреста миль на своих двоих — и можно наткнуться не только на леопарда. Кариоки — именно тот, кто тебе нужен. Ловкий и живучий. Не ожидал от кикуйю. Если я правильно понял, его освободила ваша армия, и он как раз направлялся домой. Он здесь не задержится. А пока что я попрошу старого Банду научить его присматривать за тобой. Присев на корточки у огня, Энтон первым поздоровался со старшим из мужчин. — Джамбо, отец Банда. Как дела у моего друга? — Намного лучше. Но вы, глупые мальчишки, должны оставить скверную привычку играть с леопардом. На подобную глупость не способны даже грязные масаи. Перед смертью леопард обязательно покалечит: чтобы помнили. — Этот глупый мальчишка, Тлага — Зоркий Глаз — спас мне жизнь, — сказал Кариоки. — Нет, это он спас меня. — Энтон сжал руку африканца. — Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, свистни в этот свисток, — Кариоки вручил Энтону пустую гильзу. — Знаешь, отец Банда, — сказал Энтон, — мы с Кариоки скоро уйдем отсюда. — Да, но мой бвана сказал — сначала мы устроим небольшое сафари — чтобы вы, молодежь, кое-чему научились. Энтон усмехнулся и встал. Кариоки тоже поднялся. — Если ты хочешь идти вместе, Тлага, должен предупредить. Сперва мы пройдем через владения врагов моего народа — вонючих масаи. А когда наконец придем в деревню моего отца, возле отеля Большого бвана-лорда, там меня будет ждать дьявол. Он очень маленький, Чура Ньякунда, но злой. И хитрее леопарда.Глава 12
Гвенн с Аланом провели неделю в палаточном военном городке в пригороде Найроби. И вот наконец наступил последний день перед их отъездом в Наньюки и дальше — на берега Эвасо-Нгиро. Они проверили список вещей, проштудировали буклеты о выращивании кофе и льна и вступили в Ассоциацию ветеранов. Гвенн каждый день наведывалась в больницу для европейцев. Алан дважды сопровождал ее — мерил шагами коридор, пока она сидела у постели Анны, держа девочку за руку. По вечерам Артур готовил пищу, и Гвенн с Аланом ужинали на свежем воздухе. Между ними не было физической близости. Изможденный и безучастный, Алан противился проявлениям нежности. Не позволял смотреть на себя, когда раздевался. Как-то утром она заметила шрамы у него внизу живота. Алан сослался на ранение в области таза. Ласки жены не вызывали в нем ответной реакции. Сначала Гвенн запаниковала, но потом вспомнила, как по-разному относились солдаты во Франции к своим увечьям. Некоторым дисгармония тела и души доставляла адские страдания. Гвенн пришлось смириться. Очевидно, им нужно время. В первый же день в честь новоприбывших устроили чаепитие на лужайке позади «Солсбери-Хауса», под навесами, приберегавшимися для празднования Дня империи и дня рождения монарха. Это мероприятие застигло Гвенн врасплох. Прямо с поезда и после посещения больницы они оказались втиснутыми в колонну транспорта на грязной дороге перед резиденцией губернатора. Между двумя телеграфными столбами висел транспарант: «БВА приветствует солдат Ее Величества!» Гвенн знала: БВА — это Британская Восточная Африка. Когда они добрались до места назначения, подошел африканец и придержал их мулов. Из грузовиков, повозок, фермерских фургонов и старых машин повысыпали люди. Дамы из организационного комитета, украсив одежду цветами Британского флага, встречали гостей. Гвенн покосилась на свои грязные руки и бурые пятна на одежде. — Хотите умыться перед чаем, дорогая? — спросили рядом по-английски. — Меня зовут Флоренс Деламир. Гвенн соскочила с повозки и представилась. Потом вынула из саквояжа чистую одежду и последовала за Флоренс. — Так лучше? — с улыбкой спросила она Алана по возвращении. — Просто замечательно, — ответил муж и после секундного замешательства взял ее руку в свои и, подавив стон, поднялся. После краткой приветственной речи губернатора слуги сдернули с накрытых столов полотнища, и поселенцы изумленно воззрились на горы крошечных сэндвичей, печенья и микроскопических пирожных. Пока они приходили в себя, над столами проворно порхали морщинистые, коричневые — точь-в-точь как у африканцев — руки, по-свойски управлявшиеся со снедью. Фермеры, правительственные чиновники, торговцы уплетали все подряд. — Налетай, Гвенн, а то старожилы все разметут, — предупредил возникший из толчеи Тони Бевис с горкой сэндвичей на тарелке. — Министерство колоний редко распахивает двери перед гостями, но уж если оно раскошелилось, спешите набить брюхо. — Нельзя ли мне получить обратно мое кольцо? — напомнила Гвенн. — Вообще-то это не слишком удобно. Оно слишком тесное. Джилл никак не может его снять, даже с мылом. Не представляю, как она ухитрилась его надеть. Гвенн начала раздражаться. Вдобавок она чувствовала на себе взгляд Алана. — Девушка всегда сумеет надеть обручальное кольцо. Но, боюсь, вам придется купить другое. Гвенн соскребла с нескольких сэндвичей масло на край тарелки. — Извини, Джилл, позволь, я помогу тебе снять кольцо. Джилл протянула левую руку и, поджав губы, уставилась на кольцо. На глаза навернулись слезы. Двое мужей молча наблюдали за происходящим. Гвенн взяла руку Джилл в свои и, намазав маслом ее безымянный палец, стала равномерно, однако с каждым разом все настойчивее, поворачивать золотой ободок. Джилл закусила губу. Гвенн резко дернула кольцо. Джилл Бевис ойкнула. Жирное кольцо соскочило с пальца. Гвенн вытерла его уголком скатерти и надела. — Что здесь делает эта пиявка, дерьмовый ростовщик? — послышался голос Джеймса Хартшорна. Он стоял рядом с Луэллинами, с тропическим шлемом под мышкой. — Не так громко, Губка, — предостерег его товарищ. — Старый клоп может услышать и удвоить проценты. Гвенн обернулась — к ним приближался да Суза. — Добрый вечер, ваше превосходительство, — приветствовал он Хартшорна, натянуто улыбаясь и благоразумно воздерживаясь от рукопожатия. — Здравствуй, Суза. Не беспокойся, скоро я с тобой свяжусь. — Без сомнения, ваше превосходительство. Позвольте представить вам мистера и миссис Луэллин. Хартшорн кивнул Алану и восхищенно уставился на Гвенн. — Повезло вам, да, Алан? Ведь ваш участок — у реки? — Да, кажется. Пока мужчины беседовали, да Суза отвел Гвенн в сторонку. — Мистер Луэллин немного ослаб, а на ферме очень много работы. Держите меня в курсе, дорогая миссис Луэллин. У меня есть друг, который сможет вам помочь. Мистер Оливио Алаведо из Наньюки. Это в ста пятнадцати милях севернее Найроби и всего в тридцати милях от вашей фермы. Смело обращайтесь к нему по любым вопросам. Я и сам всегда буду помнить о мистере и миссис Луэллин. В отсутствие губернатора и сэндвичей вечеринка выдохлась. Поселенцев предоставили самим себе. Многие отправились пополнять запасы продовольствия и снаряжения, полагаясь — насколько это было возможно — на излишки, распродаваемые Комитетом спасения. Алан сказал жене, что да Суза уже закупил почти все необходимое, по минимальной цене. В то время как остальные поселенцы переплачивали за каждую лопату и каждый колышек, да Суза водил Алана из лавки в лавку, немилосердно торгуясь, раздуваясь от возмущения и заставляя торговцев сбавлять цену. По пути в военный городок Луэллины заехали в больницу, узнать, как там Анна. Алан остался ждать в фургоне. В палате Гвенн застала миссис Голт, без сил сидящую на стуле. Она подняла на Гвенн воспаленные глаза и тихо выговорила: — Нужно бежать отсюда — всем нам. Мы не созданы для жизни в Африке. Анна лежала без сознания, с маленьким бледным личиком. Гвенн перевела взгляд на нижнюю часть ее тела под простыней и похолодела от ужаса. Потом наклонилась и, поцеловав девочку в щечку, стремительно бросилась в приемную — поговорить с медсестрой. — Что с ней сделали? — Пришлось ампутировать правую ногу. Но это еще не самое худшее. Лев прокусил ей позвоночник. Доктор считает, что она останется парализованной ниже пояса. Он все удивлялся, как это вы довезли ее живую. В лагере Гвенн и Алан немного посидели на складных брезентовых стульях, пока Мальва с Артуром ставили палатку. Алан по-прежнему держался отчужденно. Неужели это тот человек, за которого она вышла замуж? — Надеюсь, небо услышит наши молитвы, Гвенни, и все будет хорошо. Ничего, если я прилягу? Я все еще немного не в себе. В палатке их узкие койки стояли рядом. Гвенн не спалось. Снаружи слышались смех и возбужденные голоса: другие супружеские пары готовились к ночным приключениям. Гвенн вспомнила бессонные ночи в доме родителей в Денби. Поев хлеба с бульоном, она все еще бывала голодна; рядом, свернувшись клубком, спала младшая сестренка. Под стук дождя Гвенн представляла себе другие, солнечные дни — цветастые юбки, качели, романтические воздыхатели! А за дверью, ведя спор с дядей, кашлял наглотавшийся угольной пыли отец. — Уезжай в Новую Зеландию! — уговаривал отец своего младшего брата. — Займись разведением овец. Сделай это, пока молод: женишься — будет поздно. Станешь рабом шахты. Конченым человеком, как я, вынужденным кормить детей. И никогда не узнаешь свободы. Гвенн погладила мужа по руке. Он застонал во сне. Гвенн вызвала в памяти уроки военного времени. Ее сильно тревожило его ранение. Судя по непрекращающейся боли, у Алана могут быть задеты нервные окончания, ведущие от позвоночника к пенису. А это чревато импотенцией. Неужели они больше не смогут быть близки? Но если нервные окончания только задеты, а не мертвы, через несколько месяцев мужская сила может вернуться. Плохое питание только усугубит положение. Бывало, девочкой она не раз стояла у окна, носом рисуя на запотевшем стекле сердечки и высматривая, когда Алан пойдет в школу. Она всегда выделяла его среди прочих мальчишек — стройного, с изящной головой художника или джентльмена. А теперь она чувствует в своей руке его исхудавшую руку, в которой еле теплится жизнь. Ладонь Гвенн скользнула по его боку, но муж так и не проснулся. В последний день перед отъездом Гвенн проснулась на рассвете. Надела длинную юбку и тяжелые туфли и пригнулась, чтобы выйти из палатки. Сидя на корточках у костра, Артур кипятил чай. Мальва кормил мулов. Это просто удивительно, как легко и естественно двое африканцев распределили между собой обязанности. Они ничего не требовали, кроме пропитания и малой толики денег — шиллингов или рупий. Час спустя они уже заново сложили вещи в фургон, меняя центр тяжести. Мешки с семенами, сельскохозяйственный инвентарь, запас провизии. Личные вещи Гвенн — чемоданы и несколько сумок — поместились в серой цинковой ванне. Заметив вдалеке пробирающегося к ним сквозь скученный лагерь мужчину, Гвенн замерла и вгляделась внимательнее. Она узнала эту массивную фигуру и содрогнулась от чувства омерзения. Ненависть сковала все ее существо. Охваченная одним желанием — убить его, Гвенн не проронила ни слова, когда Мик Рейли приблизился и предложил свою помощь. Он по-приятельски хлопнул по плечу Алана. — Как дела, старый вояка? — осведомился Рейли, помогая Мальве водрузить ящик на место. Сделав шаг назад, он на мгновение задел Гвенн. Ее передернуло от брезгливости. Рейли подмигнул ее мужу. — Хорошо тебя заштопали, приятель? Побледнев от натуги, Алан собирал силы для ответа. Гвенн обвила рукой талию мужа. — Артур, — обратилась она к слуге, — помоги, пожалуйста, мистеру Луэллину забраться на сиденье. Мальва, сложи оставшиеся вещи в мешок и привяжи сзади. — Все еще дуешься, любовь моя? — Рейли осклабился, показывая гнилые щербатые зубы. — А ведь нам придется часто видеться. Вместо того чтобы поддаться золотой лихорадке, мы с братом решили поработать на эту португальскую шишку — мистера Фонсики. То есть, прибрать к рукам несколько участков, где есть вода. Гвенн на минуту оставила работу. Выпрямившись, она уставила взгляд в похожие на изюм в пудинге, близко посаженные глаза Мика Рейли и вновь ощутила гадливость и гнев, как тогда, когда он, пыхтя и отдуваясь, подмял ее под себя. — Если ты еще хоть раз заговоришь с моим мужем или со мной, — ровно проговорила она, — я упеку тебя за решетку, Майкл Рейли. Чего бы это ни стоило. А потом тебя отправят на родину и повесят за твои злодеяния. Не забудь, у меня есть свидетель. — Это не свидетель. Я видел, как ты таскалась с ним на пароходе. Хочешь, чтобы я сказал Алану? Пусть только твой слюнявый хахаль сунется в эту страну, мы его так отделаем, что он уже никогда никому ничего не скажет. Мы уже проучили его там, на судне. В следующий раз я убью его. Гвенн пошла садиться в фургон. Рейли как ни в чем не бывало улыбнулся. — Вот увидишь, любовь моя, ты ко мне еще привыкнешь. Артур повел мулов через суматошный, перенаселенный лагерь. Мальва шел позади, помахивая дубинкой. Алан держал поводья. Гвенн примостилась рядом с ним. Из головы не шел Рейли с его угрозой. Это из-за нее они преследуют Энтона. Значит, они таки избили его, а он ей ничего не сказал. Это не должно повториться. Проезжая по окраине Найроби, они миновали отель «Норфолк». На веранде пили кофе и курили несколько мужчин. Завидев новых поселенцев, один поднес руку к шляпе и крикнул: — Желаю удачи! — Она им чертовски понадобится, — ухмыльнулся его товарищ.* * *
Оливио радовался почте, как возвращению блудного сына. Ее каждый вторник и каждую пятницу — по железной дороге или в почтовой карете — доставляли из Наньюки. На одной стороне брезентового мешка красовалась королевская эмблема — буква V над изображением льва и единорога, а на другой — устрашающий профиль белого носорога. Небольшой висячий замок оберегал содержимое мешка от любителей сунуть нос не в свое дело. Для гостей и хозяина «Белого носорога» получение почты было самым обычным делом. Каждому свое. Зато карлик считал всю почту своей собственностью. За восемь лет работы в отеле Оливио научился судить о содержании корреспонденции по внешнему виду мешка — подобно тому, как фермер в момент рождения ягненка с первого взгляда определяет его достоинства. По весу и конфигурации, по звуку, с которым мешок плюхался на прилавок, он судил о ценности сведений. Иногда ему даже не нужно было читать письмо. Конверт, его объем, марка, поведение адресата говорили о его содержании больше, чем сами строки. Этим утром почта обещала праздник. Карлик отпер замок своим ключом и, разложив содержимое мешка на стойке, начал сортировать корреспонденцию. Лорду Пенфолду почта, как всегда, не сулила ничего хорошего. Кроме счетов от двоих торговцев, ему пришли два письма от банкиров — одно из Найроби, другое — из Лондона. Плюс объемистый конверт от управляющего его поместьем в Уилтшире. Одно письмо — от недавнего постояльца — предназначалось для леди Пенфолд и было отправлено из Флоренции. Ясно, она не заинтересована в том, чтобы оно попалось на глаза мужу. В одном случае адресатом был он сам, а отправителем — Р. да Суза из Найроби. А вот и сочная слива в пудинге — тяжелый коричневый конверт на имя «сеньора Васко де Кастаньеда-и-Фонсека». А перед пометкой «конфиденциально» и подавно было невозможно устоять. Автором письма оказался некий Антонио Гама из Лиссабона, нотариус. Что еще могло случиться? Карлик вспомнил фотографию Фонсеки и еще одного мужчины. Он спустился по лесенке и вышел в коридор, чтобы разложить письма по специальным ячейкам. А проходя мимо зеркала, остановился и стал почтительно изучать свое отражение. Безупречные кожаные сандалии, нарядный плетеный кушак, девственно белая униформа и, главное, голова. Вот именно! Голова идеально круглой формы! Карлика охватило приятное возбуждение — он даже вспотел. Перед его мысленным взором встало изображение приземистого священника на фотографии. Это же он сам! Много ли еще в мире таких голов? И многие ли их обладатели носят имя Фонсека? Наверняка архиепископ — его дедушка! Карлик взял себя в руки и вновь направился к стойке. В холле он с раздражением отметил на покрытом лаком полу пыльные отпечатки босых ног одного из мальчишек. Взобравшись на стремянку, он распечатал письмо от своего банкира, написанное аккуратным почерком на почтовой бумаге с гербом Гоанского института в Найроби.«Дорогой Оливио Фонсека Алаведо! Шлю вам хорошие новости. Хотя дела подвигаются медленно и понадобится много лет, прежде чем земля станет нашей, наши деньги работают. К счастью, всю черную работу за нас сделают другие. Простые англичане, миссис и мистер Алан Луэллин, поднимут целину и подготовят землю для настоящих хозяев. Вышеупомянутый мистер Луэллин пострадал на войне, но, похоже, очень терпелив и готов приложить все усилия. Не знаю, насколько серьезна его болезнь. Зато жена кажется крепкой. Вам следует подружиться с ними и позаботиться, чтобы дела на ферме шли как можно лучше. Если они ее угробят, мы не увидим ни денег в кармане, ни земли под ногами. Остаюсь вашим преданным другом, Раджи да Суза».
* * *
На седьмой день Гвенн почувствовала себя в Африке как дома. Она шла впереди, рядом с Мальвой, завороженная необозримым простором вокруг. Ей было важно самой, путем непосредственного контакта, открывать для себя каждый новый пейзаж, а не любоваться им, сидя в фургоне, выглядывая из-за подрагивающих ушей непокорных мулов. Гвенн не думала, что может быть такой климат. Она представляла себе обжигающий зной колонии — в противоположность пронизывающей сырости Уэльса. А вместо этого нашла теплые солнечные дни и прохладные вечера. Воздух вокруг светился. Легкое дуновение ветерка доносило свежие ароматы дикорастущих цветов и трав. После тесных, замкнутых лощин Уэльса с каждого нового склона открывался неохватный, как океан, ландшафт. Пологие холмы тянулись на многие мили. Горизонт казался почти недосягаемым для взора. Однако дорога была трудной, и продвигались они крайне медленно. Вся в глубоких рытвинах, покрытая на шесть дюймов сухой красной пылью, она понижалась к центру, а с боков была обрамлена высокими насыпями. Вынужденные постоянно напрягаться, мулы натерли холки. Гвенн остановилась и улыбнулась Мальве, когда он указал на пасущегося на соседнем холме самца антилопы. Они постояли, поджидая отставший фургон. Наметанным глазом Гвенн тотчас определила, что Алану хуже, чем он пытался показать. Пальцы судорожно вцепились в край деревянной скамьи. Он закрыл глаза. Для него эта поездка была тяжелейшим испытанием. Фургон съехал на обочину и остановился. Гвенн с Артуром помогли Алану сойти. Она старалась не замечать, что у мужа спереди мокрые брюки. Он сел отдохнуть, прислонившись к твердому красному муравейнику. — Прости, старушка, я правда в порядке, — пробормотал Алан, гадая, что о нем думает жена. Он стал совсем беспомощным! — Что, уже пора ужинать? Артур собрал хворост. Гвенн достала винтовку мужа. Алан показал ей, как заряжать «энфилд», и обратился к Мальве: — Ты старый солдат, почему бы тебе не научить миссис Луэллин стрелять? Спустя час они вернулись. Гвенн несла винтовку, а Мальва — переброшенную через плечо маленькую газель. — Здорово, Гвенни! — немного окрепшим голосом произнес Алан. Артур заухмылялся и захлопал в ладоши. — Нет, это Мальва. У меня пока не получается. Вблизи они слишком красивые. Я ждала, чтобы они пустились бежать. А когда начало темнеть, отдала винтовку Мальве. — Мэм-саиб недостаточно голодна. Когда как следует проголодается, сразу попадет. Мальва занялся газелью, а Артур — палаткой. Вскоре в котелке на трехножнике уже тушились ломтики мяса, лук и картошка в мундире. Артур куда-то пропал, а когда вернулся, в руках у него были маленькие хрупкие веточки с серо-зелеными листочками. Он смял и растер листья пальцами и бросил в котелок. Гвенн узнала запах дикого розмарина. Наблюдая за тем, как тушится мясо, Алан ожил. Даже начал рассказывать о том, как они с Раджи да Сузой делали покупки. «Если покупать котелок, — советовал грузный гоанец, — так на трех ножках: он не перевернется и вы не лишитесь ужина». — Когда доберемся до Наньюки, нужно будет повидаться с его другом, мистером Алаведо, — сказала Гвенн и пошла в палатку за шалью. — Неужели и впрямь оленина? — донесся до них бодрый голос, явно принадлежащий англичанину. Из темноты вышел рослый прихрамывающий мужчина в коричневых бриджах для верховой езды. Он вел под уздцы лошадь и, приподняв коричневую фетровую шляпу, поприветствовал Алана и африканцев. — Здравствуйте. Я — Адам Пенфолд. Если у вас найдется закуска — у меня есть виски. — Присоединяйтесь к нам, — предложил Алан. — Адам! Добро пожаловать! — воскликнула Гвенн, выбегая из палатки и от радости хлопая в ладоши. — Как я рада! Мы задолжали вам ужин. Алан, это тот добрый человек, что уступил мне свою комнату в Момбасе. Гость расседлал лошадь. Ласково погладил лошадиную морду. Снял уздечку и повесил на ветку. Достал из седельного вьюка горсть овса и скормил Рафики. Потом нашел зеленую полянку и, почистив лошадь, пустил пастись на длинном поводке. Мужчины-европейцы сделали по нескольку глотков из серебряной фляжки Пенфолда. Некоторое время все молчали. — Самая вкусная еда, какую мне приходилось есть! — воскликнула Гвенн. — Да, мадам, прекрасное жаркое. К нему бы еще чуточку мармита[7]. Будете в Наньюки — непременно поужинайте с нами в «Белом носороге». Говорят, у нас лучшая кухня от Найроби до Хартума. — В «Белом носороге»? — Да. Это мой отель. Мой последний заскок, как выражается супруга. Все остальное я уже перепробовал. Перья страуса, кору акации, антилопьи шкуры, скот, земляные орехи, ячмень. Хорошо, что я уже стар и слаб для добычи золота. — Наш участок — на берегу Эвасо-Нгиро, — сообщил Алан. — Что бы вы посоветовали разводить? Лен? Кофе? Или овец? — Вот мой совет, молодой человек: не слушайте моих советов, — с улыбкой ответил Пенфолд, передавая Алану фляжку. — Но, возможно, вам покажется, что ваша ферма расположена слишком низко для кофе, слишком высоко для льна и слишком далеко от железной дороги для баранины и шерсти. А сейчас мне пора на покой, и Рафики тоже. Нам рано двигаться в путь. Надеюсь, еще увидимся. — Заметив, как посерело от усталости лицо Алана, Пенфолд заключил: — Старайтесь, чтобы гора Кения все время была справа от вас — и мимо «Белого носорога» не проедете. Спокойной ночи, мадам, и благодарю вас за чудесный ужин.* * *
— Господи, это же собака! — воскликнула Гвенн на второй день пути, вглядываясь в еле ковыляющее через буш лохматое существо. Мальва с Артуром разгружали фургон, чтобы устранить поломку. Гвенн подняла «энфилд» и пошла навстречу собаке. А приблизившись, увидела в вышине грифа. Птица терпеливо парила над предполагаемой добычей. Собака заскулила и, высунув язык, свернулась клубком у ног женщины. Левый глаз налился кровью. Из растерзанного уголка глаза стекала кровь, попадала в рот. На плече открылась старая рана. Черная морда собаки была разодрана посередине; ноздри раскрылись, словно темная раковина. Под разорванной верхней губой обнажились десны. Гвенн взяла не оказавшую сопротивления гончую на руки и, вернувшись к своим, положила собаку на одеяло в тени фургона. — Помоги мне, Мальва, — попросила она, доставая из груды сваленных на землю вещей аптечку. Алан, держась за бок, сел на землю отдохнуть. — Мальва, подержи ее туловище между ног и крепко зажми руками голову. Гвенн приготовила кривую хирургическую иглу, губкой смыла с собачьей морды грязь и вытерла полотенцем. Отец и военный хирург в разное время дали ей один и тот же совет: если нужно сделать что-нибудь неприятное, делай это как можно быстрее. Как только собачья морда оказалась, словно в железных тисках, в руках африканца, Гвенн вонзила в нее иглу и сделала несколько аккуратных стежков, соединяя ноздри. Она оставила собаку рядом с мужем, попросив время от времени выжимать ей на язык мокрое полотенце. Тем временем Артур с Мальвой выгрузили последние припасы. Работа спорилась. Все дело оказалось в разбитом шплинте. Когда фургон затрясся по камням, ржавая заклепка треснула и правое переднее колесо соскочило с оси. Фургон завалился на бок. Напуганная грохотом, Гвенн обернулась. И не зря: Алан упал на землю. — Почти как на войне, мэм-саиб. Фургоны то и дело ломаются. Скоро починим. Не волнуйтесь, пожалуйста, — утешал ее Мальва. Когда повозка опустела и стала легкой, они с Артуром подтащили под накренившуюся ось ящики, как домкрат. Приладили колесо. Мальва скрылся в зарослях с топором и вскоре вернулся с охапкой толстых сучьев. — Железное дерево, — объяснил он и начал обрабатывать твердую древесину пангой, придавая ей форму сломанного шплинта. На следующее утро, идя впереди фургона, Гвенн на минуту задержалась на развилке, чтобы изучить запыленные указатели. Слева лежал Наньюки, справа — отель «Белый носорог». Она повернулась и махнула Алану, чтобы поворачивал направо.Глава 13
Ранним утром они вышли из дома. Путь лежал на север, по краю болота у подножия Килиманджаро. Эрнст с Энтоном держались вместе. Банда с Кариоки ушли вперед — искать слоновьи следы. Позади брел Гуго фон Деккен в окружении повара и шестерых слуг с провизией. Горя желанием отведать свежего мяса, африканцы ступали легко, несмотря на тяжелые вещмешки. Время от времени охотники, не сговариваясь, собирались вместе и тщательно исследовали землю. Впервые увидев слоновьи следы, Энтон затрепетал. Он присел на корточки и потрогал затвердевшие отпечатки. Необыкновенно круглые, не похожие ни на какие другие. — Как по-твоему, каковы ее габариты? — спросил Эрнст и сам ответил: — Что-то около семи футов в холке. Умножь обхват передней ноги на два. Передние крупнее, потому что на них приходится тяжесть головы и бивней. Видишь, как аккуратно она ставит задние ноги в следы от передних? Кариоки опустился на колени рядом с Энтоном. Когда Эрнст отошел, он сказал: — Их несколько, Тлага. И они умны. Ставят ноги в следы впереди идущего. Четыре-пять, полагаю. — Как по-твоему, давно они прошли? — продолжал Эрнст экзаменовать догнавшего его Энтона. Тот снова припал к земле. Он заметил на следах нетронутый росистый узор. Кое-где появились крохотные песчаные холмики, сделанные муравьями. Природа трудилась над приведением тропы в прежнее состояние. Энтон поднялся и прошел по следам вперед. На тропе валялась кора акации и сломанные ветки; листья уже засохли. Янтарная смола, выступившая из ран, затвердела. — Я бы сказал, вчера вечером. — Неплохо для англичанина. Обращай внимание на слюну на ветках и стручках акации. Слоны останавливаются пожевать. Если слюна влажная, готовь винтовку: они совсем близко. — Здесь только самки с детенышами, — продолжил Эрнст. — Взрослые самцы держатся вместе с самками только в брачный период. Бивни растут до самой смерти. Самцы с самыми ценными бивнями слишком стары для игр и предпочитают одиночество — или общество других ветеранов. Зато молодые самцы сбиваются в небольшие стада и дерутся в периоды полового возбуждения — ни дать ни взять студенты Гейдельбергского университета. Потом стадо распадается: каждый выбирает себе подругу. Кариоки подобрал засохшую кучку слоновьего помета с прилипшими грубыми волокнами и щепками. Он разломил ее — словно разбил яйцо — и показал Энтону темную, влажную сердцевину, где, среди роскошного удобрения, гнездились семена акации. — Посмотри, Тлага, — начал Кариоки. — Это старая корова, — уронил Эрнст, словно не слыша его слов. Африканец бросил помет и отвернулся. Энтон понял состояние Кариоки, слишком знакомое ему самому. — Пища не до конца переварилась, — продолжал немец, — из-за искрошившихся зубов — хуже, чем у моего предка. Как правило, если слон не станет добычей охотника, он погибает, когда износится шестой комплект коренных зубов — примерно в шестидесятилетнем возрасте. — Как думаешь, — обратился Энтон к Кариоки, — сколько это пролежало? — Два часа. — Устроим привал на краю болота, — предложил Эрнст. — Пока не подойдут остальные, заляжем у воды. Смеркалось. Спрятавшись в зарослях травы и камыша, Энтон с Гуго фон Деккеном затаились в ожидании на крутом берегу реки, пересекавшей болото. Немец, словно дитя, баюкал свою винтовку. Энтон распростерся на животе с ружьем Эрнста фирмы «Зауэр и сын». Это была винтовка с двумя стволами, расположенными один поверх другого. Не такая устойчивая, как «меркель». Непривычное, тяжеловесное оружие — как сам Эрнст. Как-то оно себя поведет? Всякий раз, беря в руки двустволку, Энтон поражался ее совершенству. Немного громоздка, но все подвижные части идеально подогнаны друг к другу. И долговечна — тысячи мощных взрывов внутри стволов не оставляли ни малейшей царапины. Разбирать их — и то удовольствие! Энтон осторожно переломил оба ствола пополам и большим пальцем сдвинул рычажок, чтобы проверить два латунных патрона, удобно разместившиеся в специальных углублениях. Мягко сработала пружина — Энтон вернул стволы в прежнее положение. Он ощутил под рукой приятную гладкость металла и слегка выщербленного приклада из орехового дерева. Просто чудо — по сравнению с примитивным оружием его юности. Перед его глазами тянулись ввысь остроконечные лезвия жесткой болотной травы. Каждое растение росло обособленно — как хутор. Подле длинного стебля лилии покоилась белая, как слоновая кость, раскрытая раковина улитки, величиной с его кулак. В воздухе разлился аромат желтых цветов. Энтон увидел, как спиралеобразная верхняя створка раковины превратилась в подобие лестницы для крохотных красных муравьев, которые двигались по ней живой нескончаемой лентой. А вот и предмет их вожделений — скопление личинок на верху раковины. Тонкая полупрозрачная оболочка вряд ли способна служить им защитой от жал маленьких хищников. Энтон сощурил глаза, чтобы не пропустить момент штурма. Раковина качнулась. Показались два далеко отстоящих друг от друга подергивающихся усика. Следом возникло узкое черное рыльце, затем два длинных трехколенных щупальца и круглая голова. Дальше оттуда же, из раковины, выполз крупный черно-оранжевый жук и устремился вверх по стеблю лилии. Когда он остановился, чтобы отгрызть кусочек стебля, Энтон узнал его — не зря все свободное время на ферме «Гепард» рылся в библиотеке! Это долгоносик, травоядный жук — его еще называют железным! Энтон поднял голову. В тридцати ярдах от него, на другом берегу реки, стоял слон — водный поток заглушил шаги. Зверь медленно хлопал ушами; когда они шлепали по плечам, поднимались облачка пыли. Не спеша, явно не слыша подозрительных звуков, слон поднял хобот и повел загибающимся кончиком сначала вверх, а затем вниз по реке — нет ли непривычного запаха? После чего двинулся к воде. Энтон был потрясен: вместо дикой грации он наблюдал настоящее врожденное величие. За первым самцом вереницей последовали другие — живые монументальные глыбы, горделиво выступавшие в торжественном марше. Крупные самки по колено вошли в воду и стали окунать хоботы, а затем выпускать изумительной красоты фонтаны. Потом они напились. Между ними, путаясь под ногами, бродили детеныши — взбалтывая воду и экспериментируя с тонкими, точно рожки, хоботами. Энтон осторожно положил винтовку на траву и уставился на слоненка, который только что поскользнулся на илистом берегу у кромки воды и беспомощно барахтался, не в силах подняться. Острая мышиная морда потемнела от грязи. На помощь пришла молодая самка. Обвив своего отпрыска хоботом, она бесцеремонно, как табуретку, подняла его в воздух и поставила на все четыре ноги. Малыш попытался напиться, но вода вытекала прежде, чем он успевал донести до пасти свой тонкий хобот. Мать сама напоила его, обдала мощной струей воды и вытерла хоботом. Утолив жажду, слонята начали резвиться, брызгаясь и барахтаясь, как щенки. Самки постарше обливали водой свои спины, чистились и освежались, не обращая внимания на детскую возню под ногами. Начало смеркаться. Внезапно Энтон ощутил позади себя движение. Под ним задрожала земля. Он осторожно повернул голову и увидел в пяти ярдах справа от себя фон Деккена. Старый охотник предостерегающе поднял руку, давая понять: не делай резких движений! Стрелять было уже поздно. Энтон оперся на правое плечо и незаметно повернул голову назад. И увидел сквозь траву гигантскую, надвигающуюся на него серую стену. То была вереница слонов, простиравшаяся до тех пор, пока хватало глаз. То ли сорок, то ли пятьдесят особей. Передние выступали бок о бок, по нескольку в ряд, задрав хоботы и чуя воду. На реке затрубили их напившиеся собратья. Приветствуя или объявляя войну? Энтон лежал неподвижно, как бревно, готовый либо стрелять, либо кубарем скатиться в воду. Он так тесно прижался к земле, что золотое кольцо цыгана на кожаном шнурке больно впилось в грудь. Первый слон остановился слева от него — всего в двенадцати ярдах. Огромная черная глыба на фоне закатного неба. Энтон двигал только зрачками. Он вспомнил совет Ленареса: хочешь остаться незамеченным — не смотри на зверя. Животное, подобно человеку, чувствует, когда на него глазеют. Энтон опустил взгляд. Слон протопал мимо; каждый шаг громом отзывался у Энтона в ушах. Наконец животное вошло в воду. Река кишела слонами. Вновь прибывшие легонько стукались бивнями с уже напившимися, переплетали хоботы и издавали трубные звуки. Две молодые самки засунули кончики хоботов друг другу в рот. Сгустились сумерки. Гуго фон Деккен еле слышно окликнул Энтона. Они ползком, не проронив ни звука, добрались до дороги в лагерь. — Такое чувство, будто я побывал у истоков мироздания, — нарушил молчание Энтон. — Хорошо, что мы не стали стрелять. — Темновато для стариковских глаз, — ответил фон Деккен, — да и не по душе мне убивать самок. И все-таки завтра мы возьмем свою слоновую кость. А молодежь угостится мясом. На рассвете охотники вернулись к реке. Они пошли вверх по течению — туда, где река распадалась на несколько неглубоких озер. Банда обнаружил группу слонов. Охотники залегли в засаде на берегу под темно-зелеными кронами фиговых деревьев. Фон Деккен достал из сумки горстку пепла и развеял в воздухе. — Если я подам знак, стреляй первым, — обратился Эрнст к Энтону. — Запомни: метиться нужно в сердце. Череп новичку не пробить. Правда, мозг у слона побольше твоего: примерно с буханку черного хлеба, — зато спрятан так, что ты вовек не доберешься. Не успел Энтон ответить, как к воде подошли три самца. Лежа справа от Энтона, Эрнст показал на него пальцем, а затем постучал по своим зубам. Энтон стал выискивать экземпляр с лучшими бивнями. Напившись, два слона устроили поединок. Поставили торчком уши и сделали несколько обманных движений. Соприкоснулись хоботами, потом отступили и опять наскочили друг на друга. Застучали бивни. Борьба шла ожесточенная, но не насмерть. Более крупное животное теснило сопротивляющегося противника назад. По обеим сторонам головы выступила густая темная влага. Это особый секрет, предупредил Эрнст, вырабатываемый железами слона в брачный период, когда он особенно возбужден и опасен для охотника. Слон покрупнее поцарапал своим бивнем бок соперника. Энтон поднял винтовку. Меньший слон взвыл и обернулся. Юноша снял предохранитель и спустил курок. И вдруг услышал шум с той стороны, слева от себя, где находился Банда. Энтон увидел огромного гиппопотама с разверстой пастью. Выставив чудовищные клыки, зверь ринулся на Банду, но промазал и, вместо того чтобы проткнуть, подмял его под себя. И тотчас метнулся к воде. В мгновение ока оказавшись на ногах, Эрнст взмахнул винтовкой. Стрелять он не мог — боялся угодить в Энтона. Гиппопотам с поразительной для своих габаритов быстротой плюхнулся в воду. Энтон выстрелил из второго ствола. Пуля попала зверю позади уха в последний миг перед тем, как он ушел под воду. Бросившись к Банде, Энтон вспомнил о слонах и обернулся. Двое самцов взобрались на противоположный берег. Третий и самый крупный тяжело передвигал ноги. Бок был весь в крови. Дойдя до подъема, слон поднял ногу и яростно затряс головой; хобот беспомощно болтался из стороны в сторону. Самец, его недавний противник, вернулся и дотронулся до него хоботом. Третий присоединился к ним. Упершись головой в бок раненого товарища, он подталкивал его до тех пор, пока тот не ухватился хоботом за дерево и не взобрался на кручу. И они удалились; раненый — посередке. Энтон, Кариоки и фон Деккен склонились над Бандой. Ниже пояса тело африканца превратилось в кровавое месиво из мяса, клочков одежды и раздробленных костей. Единственной рукой со сжатым кулаком он прикрывал глаза. Губы беззвучно шевелились. Энтона затошнило от острого чувства бессилия. Фон Деккен подложил руку под голову умирающего и лег рядом, пытаясь разобрать его шепот. — Зато мы преподали этим глупым мальчишкам урок — не становиться на пути у гиппопотама, — еле выговорил Банда. — Буду ждать вас, бвана, у нашего следующего костра. Юноши отвернулись. Фон Деккен обнял мертвого слугу. Рубашка и шорты пропитались кровью. Наконец фон Деккен поднялся. Энтон хотел помочь, но старик сам поднял покойника и отнес к фиговым деревьям. У него покраснели глаза. По щекам бежали слезы. — Помоги мне выкопать могилу в тени, Кариоки, — попросил фон Деккен. — Только поглубже, чтобы не почуяла гиена. А англичанину с Эрнстом предстоит довести охоту до конца. Отправь четверых парней на подмогу. Энтон и Эрнст переходили с одной отмели на другую, высматривая в наиболее глубоких местах гиппопотама. На другом берегу Энтон замешкался, охваченный ужасом. Но они все-таки взобрались на кручу и пошли по широкому следу из сломанных сучьев и смятых кустов. В одном месте Эрнст остановился и окунул пальцы в слоновью кровь. — Видишь пузыри? Ты попал в легкое. Будь осторожен: они узнают о нашем приближении. Примерно с час охотники шли быстрым шагом, храня молчание. Крови стало больше. Она забрызгала ветви и собиралась в грязные, похожие на алую кашу, пузырящиеся лужицы. Выйдя из буша, мужчины ярдах в шестидесяти впереди себя увидели слонов. Животные шли, тесно прижавшись боками; здоровые самцы поддерживали раненого. Он первым почуял людей и остановился. Самый маленький слон сделал шаг навстречу и покачнулся, словно от нерешительности. Он высоко задрал хобот и поднял уши. Оставшись без поддержки, раненый самец рухнул на колени. Энтон выстрелил и попал ему в лоб. Слон беззвучно завалился на бок. Его младший товарищ бросился вперед, с поразительной скоростью продираясь сквозь колючие кусты, широко расставив ноги и пронзительно трубя. Эрнст пальнул в землю у его ног. Однако это не остановило разъяренное животное — оно продолжало нестись вперед. Эрнст выстрелил из второго ствола. Пуля угодила слону меж глаз. Он свалился в пяти ярдах от охотника. Третий слон издал одинокий трубный звук, развернулся и убежал в кусты. Через несколько минут подоспели слуги. Эрнст сел на землю и закурил сигарету, а африканцы принялись отрубать слоновьи хвосты и бивни. Шкуродеры вспороли брюхо старшего слона и вырезали сердце и печень. Несмотря на гибель Банды, люди работали с воодушевлением, шутили и пересмеивались. На ночь они устроились под фиговыми деревьями. Повар с фермы «Гепард» подал Эрнсту тарелку со слоновьим мясом и клецками. Кариоки решил приготовить мясное блюдо для себя и Энтона по особому рецепту. Остальные африканцы пировали у второго костра. Кариоки соорудил из собранных на берегу камней подобие круглой плиты. Уложил на раскаленные камни длинные ломтики сердца и печени слона, накрыл дикой травой и присыпал пеплом. Энтон порезал лук с фермы; Кариоки бросил его на сковороду с краю плиты, где уже шипел картофель. Они досыта наелись. Только старому немцу кусок не лез в глотку. Онбеспрестанно ходил к реке и обратно, отказываясь от помощи Энтона и собирая камни для надгробия. Поздно ночью, завернувшись в одеяло, Энтон размышлял о Банде и слоне, впервые не испытывая никакого удовольствия от удачной охоты. В мозгу то и дело вспыхивали воспоминания. Как раненый слон опирался на своих товарищей. Их безграничное терпение — несмотря на преследование. Не многие люди в такой ситуации проявили бы столько мужества и самоотверженности. В памяти всплыл эпизод из прошлого, когда он не сумел защитить Ленареса от жестокой расправы. Перед тем как забыться сном, Энтон успел подумать: охотник и объект охоты — одно и то же. Как леопард. Как егерь в Большом Виндзорском парке. Пока ты ведешь охоту, за тобой тоже охотятся. Утром он застал фон Деккена сидящим на могиле Банды. Энтон принес ему кофе в жестяной кружке. Старик вымученно улыбнулся. На лице явственно проступили прожитые годы. — Ну вот и все, мой мальчик. Пора возвращаться на ферму. Если не хочешь тащить тяжелые бивни, я приму твой подарок. — Конечно, мистер фон Деккен. Я в любом случае собирался предложить их вам. — Прими и ты два подарка. Вот первый. — Фон Деккен протянул Энтону свой «меркель» и коробку с патронами. — Пусть они принесут тебе удачу и почаще напоминают о старом охотнике. К горлу Энтона подступил комок. Он молча взял оружие, понимая, что старый немец больше не будет охотиться. И что сам он никогда не выстрелит в слона. Перед завтраком все искупались в реке. Ниже по течению качалась на волнах туша гиппопотама, время от времени наталкиваясь на камни. Пока повар готовил завтрак, африканцы вырезали два крупных нижних зуба. Энтон и Кариоки готовились к путешествию на север. Каждый взял с собой одеяло и немецкий вещевой мешок — полинявший и с многочисленными латками. В мешки положили кофе, табак, засоленное слоновье мясо, маис и сахар. Эрнст взял у отца и вручил англичанину небольшой сверток. Энтон ел не торопясь: ему хотелось продлить последнюю трапезу с друзьями. А закончив, достал свой немецкий нож и поточил о ботинок. На одном из клыков гиппопотама он вырезал свои инициалы и эмблему британского флага. Потом они с Кариоки забросили за спину вещмешки и попрощались с остальными. Эрнст крепко пожал юноше руку. — Удачи тебе, англичанин. Не давай клинку затупиться. Энтон взял свою новую винтовку и подошел к фон Деккену. — Спасибо вам за все, сэр. Прошу принять памятный сувенир. — И он вручил старому немцу клык гиппопотама. — Жалко, я не могу тебя проводить. — Фон Деккен крепко, с невесть откуда взявшейся силой обнял Энтона за плечи. — Пусть кикуйю прикрывает тебя со спины. Держите курс на северо-запад. Сейчас мы как раз на границе. Ты найдешь дорогу.Глава 14
До ушей карлика донеслось ржание лошади. Он выглянул наружу и увидел своего хозяина, неловко вылезавшего из седла. — Добрый вечер, милорд. Оливио хлопнул в ладоши, подзывая конюха. — И тебе добрый вечер, Оливио Алаведо. Пенфолд повесил поводья на перила. Оливио подал хозяину бамбуковую трость. — Наконец-то я дома. Оставался ли ты преданным мне, как Евмей Одиссею? — Я веду ваше хозяйство как свое, ваша светлость, — с поклоном ответил карлик, гадая про себя: это еще кто такой — Евмей? — Как мое войско? — Каждый отважный воин на своем месте, милорд. Вчера вечером я собственноручно стер с них пыль. — Португальцы еще здесь? — Да. Сеньора Фонсека внизу. Ее брат пьет кофе в своей комнате, номер четыре, с двумя компаньонами. Говорят о делах. Комната увешана картами. Сеньор Фонсека заставил своих друзей ждать. Этот джентльмен не из тех, кто встает рано, милорд. — Не сомневаюсь. Даже фон Леттову не удавалось в рассветный час вытащить этого дьявола из постели. Помоги мне снять сапог, ладно, Оливио? Потом принесешь горячих «самоса» и холодного пива. Эта сволочная нога не действует, пока не выпьешь. Пенфолд заметил в дальнем конце веранды Анунциату. Она грациозно устроилась в некрашенном плетеном кресле с широкими подлокотниками. На ней было льняное платье в складку цвета слоновой кости. Левая нога с коленом в гипсе покоилась на обитом жестью ящике из-под чая. Пенфолд доковылял до нее и поцеловал в смуглую щеку. — Что с ногой? — Упала, катаясь верхом с твоей благоверной. Для женщины ее возраста она слишком увлекается быстрой ездой. — Верно, — пробормотал Пенфолд. Его терзало подозрение: неужели Сисси проделала это нарочно? — Мне очень жаль. — Совсем как в старые добрые времена, мой милый лорд. — Анунциата дотронулась до его трости своей. Ее глаза потеплели. — Надеюсь, твоя палка скоро не понадобится. Адам Пенфолд с покорностью школяра взирал на прекрасную португалку. Явился Оливио в сопровождении слуги в длинной белой тужурке. Тот принес настольный комплект оловянных солдатиков и несколько пузырьков с разноцветной эмалевой краской. Лорд Пенфолд встряхнул один пузырек. Ему не терпелось продемонстрировать свое искусство. — Кто эти неотразимые атлеты с длинными копьями? — полюбопытствовала Анунциата. — Македонцы. С одной такой фалангой плюс несколько десятков тракийских метателей копья наш друг фон Леттов запросто завоевал бы всю Африку. — Пенфолд окунул кисточку и умелыми движениями нанес на фигурку несколько слоев серебряной краски. — Что задержало вас с Васко в нашем захолустье? — У Васко какие-то планы насчет северных участков. Сроду не видела, чтобы он столько работал. Говорит, это сделает нас миллионерами. Оливио осторожно подсматривал за ними сквозь планки жалюзи и, прислонившись к стойке, вертел в пальцах кожаный стаканчик от костей для игры в триктрак. От него не ускользнуло мерное колыхание груди красавицы. Он вспомнил Кину и стиснул кулачок. Он слишком долго ждал. Три года назад цветущая, пышущая здоровьем восьмилетняя Кина впервые привлекла его внимание. Она была ростом с него и ходила практически обнаженной; от нее веяло свежестью, а кожа у нее была гладкая, как ни у одной африканской девушки. Годами он наблюдал за тем, как она ходит по деревне, и время от времени угощал мятными шоколадками ее светлости, пользуясь случаем отечески положить руку на плечо или бок девочки. Кина обладала великолепной осанкой и аппетитным, но высоким и тугим задиком; пару раз Оливио удалось до него дотронуться. В девять лет у нее сформировались грудки — пышные, однако гордо торчащие вперед и широко расставленные, так что он видел их даже со спины. Кто еще проявил бы столько терпения? Нужно спешить, пока эти дикари не сделали Кине обрезание и не свели на нет его мечту: подарив девушке наслаждение, сделать ее своей рабыней. Время на исходе: ведь к двенадцати-тринадцати годам ее сверстницы обычно уже замужем. При первых же признаках половой зрелости девушкам племени делали обрезание, чтобы маленькие шлюшки были верными женами. Без клитора — какое уж тут удовольствие? Большинство мужчин, к которым женщины так и липнут, занимались сексом для собственного удовлетворения. Оливио, чтобы удержать женщину, не мог позволить себе руководствоваться своими эгоистичными интересами. За тридцать лет, прошедших с тех пор, как он впервые познал женщину, карлик научился ублажать каждый уголок, каждую клеточку женского тела. В этом он уподоблялся бедному крестьянину, который старается извлечь максимальную пользу из каждого квадратного дюйма земли. Или мяснику, который, разделав тушу, тщательно сортирует куски мяса, чтобы использовать каждый по назначению. Некоторые неглупые мужчины искали путь к телу женщины, апеллируя к ее душе, а Оливио, наоборот, находил путь к душе через тело. Вместо того, чтобы, добившись своего, оставить женщину терзаться множеством мелких обид, часто сопутствующих соитию, карлик дарил им чувство изумления: сколько же нового они узнали о себе с его помощью! Он называл это «открыть в себе другую женщину». От всех этих размышлений дыхание Оливио участилось. Следуя за взглядом, мысли перенеслись на другой объект. Он представил себе португалку обнаженной. На любой другой европейской женщине кремовое льняное платье выглядело бы старомодно, даже безвкусно. Но в данном случае его холодноватая строгость только подчеркивала жар скрытого под ним тела — как снег на склонах дымящегося вулкана. Несомненно, Анунциата была фронтовой подругой хозяина. Что здесь такого? Только корысть или любовь к извращениям способны заманить мужчину в постель леди Пенфолд. Неудовлетворенный лорд разделял лишенные всякой утонченности вкусы английского плебея. По наблюдениям Оливио, англичане занимались любовью только в подпитии. Зато в Анунциате он распознал родственную натуру. Ее тело говорило на понятном ему языке. Эта сочная, медово-смуглая женщина принадлежала к той же расе, что его дедушка. На какие-то несколько минут карлик забыл о Кине. Вдруг португалка — его кузина? Что ж, тем лучше. Даже вернувшись в отель после несчастного случая — с грязным, мертвенно-бледным лицом, по которому струился пот, — сеньорита Фонсека была воплощением соблазна. Когда слуги внесли ее в номер, Оливио размечтался. Прикованную к кровати красавицу будет нетрудно приручить. Сначала он коснется ее руки, ставя на кровать поднос с едой. Потом ее тело одеревенеет от долгого лежания в постели — предложение легкого массажа окажется весьма кстати. Анунциата согласится, считая его абсолютно безобидным. Сейчас португалка не видит в Оливио мужчину. Но как только по ее гладкой коже запорхают его чуткие пальцы, она поймет, что они — из одного теста. Ей передастся его страстное желание. Она будет корчиться в сладких судорогах; он измучает ее сначала смягченными кремом пальцами, потом языком и, наконец, — рукой. И что же? Анунциата сразу встала на ноги — заковыляла по «Белому носорогу», время от времени отдыхая на веранде или оживляя бар сиянием карих глаз. Между тем Оливио приходилось присматривать за этой скотиной, ее братом, пока тот пил и резался в карты. Почему он так часто выигрывает? Ему все время шла хорошая карта. У Фонсеки была отработанная система: выигрывать наличные и проигрывать в кредит. А когда дело доходило до уплаты долга или чаевых, он становился мелочнее любого шотландца. Цеплялся за самую мелкую монету. Зато расписки сыпались в его карман, точно рис в мешок. Никогда, с тех пор как он покинул Гоа, Оливио не сталкивался с таким наглым высокомерием. Заказывая выпивку, этот тип смотрел сквозь тебя, словно ты не человек. Пора подавать обед, напомнил себе бармен. Пенфолды, разумеется, будут обедать с гостями. Оливио прошел на кухню, в смешанное царство Африки, Индии и Англии. На простых, неотшлифованных деревянных полках громоздились корзины батата и зимних дынь, связки бананов, груды мохнатых кокосовых орехов, банки с измельченным карри. Оливио заглянул в приоткрытую дверь кладовой. Там поваренок крепил к двери отодранную от ящика с чаем свинцовую пластинку — она должна была оградить кладовую от набегов крыс и разных вредных насекомых. До потолка высились поставленные одна на другую банки бламанже и концентрата заварного крема. Оливио с отвращением уставился на любимые маринованные овощи хозяина — «Пан Ян», сухой бульон «Боврил», уостерширский соус и копченую селедку. На отдельном столе красовались продукты из огорода его светлости. Элитные англо-саксонские сорта в Африке принесли невиданный урожай. Превышающая все мыслимые размеры морковь, невероятно крупная фасоль и настоящее дерево брюссельской капусты ждали своей очереди быть сваренными на английский манер — кипеть в кастрюле до тех пор, пока совершенно не разварятся. Почувствовав за спиной присутствие карлика, повар-кикуйю напрягся и отступил в сторону, давая Оливио подойти к плите. Толстые самодельные кирпичи обрамляли прямоугольную выемку, заполненную раскаленными углями. Крышка была сделана из металлической дверцы старого «форда». Благодаря хромированной ручке, верх сдвигался. Оливио поднял крышку кастрюли и с наслаждением вдохнул ароматные пары. У него потекли слюнки. Ноздри расширились и затрепетали. Он взял обеденную тарелку и помешал варево пальцами, чтобы затем обсосать и снова запустить в кастрюлю, выбирая и складывая на тарелку кусочки мяса газели. — Оставишь это для меня. — Оливио! — послышался оклик лорда Пенфолда. — У нас гости! Карлик вышел из кухни. Повар выругался и смачно сплюнул в тарелку с карри. На веранде бармена ожидало неприятное зрелище. Новые английские поселенцы — голытьба, с которой одна возня и никаких чаевых. Он увидел допотопный перегруженный фургон, сопровождаемый двумя черномазыми. Один — вероятно, кикуйю — в поношенном английском армейском свитере. В повозке, словно приклеившись к скамейке, сидел тощий англичанин — и молодой, и старый в одно и то же время. Лорд Пенфолд, прихрамывая, подошел поздороваться с более приятной особой. Это была разгоряченная и грязная с дороги молодая женщина — слишком худая, но с соблазнительными щиколотками. На вид ей не было тридцати. В ответ на приветствие она улыбнулась поразительными изумрудно-зелеными глазами. — Ланселот! — вскричал вдруг лорд Пенфолд с энтузиазмом, который словно нарочно приберегал для собак. Карлик с ужасом увидел на коленях Алана спящую гончую. Последнюю из тех жутких тварей. К счастью, две другие не вернулись из буша. Пропали без вести, как выразился его светлость. Не обращая больше ни на кого внимания, лорд Пенфолд гладил любимого пса. Тот приподнял морду и лизнул руку хозяина. — Отобедайте с нами, — предложил Пенфолд, беря собаку на руки. — Оливио, будь другом, дай этим ребятам перекусить. И пусть кто-нибудь позаботится о мулах. И заковылял на веранду. На крыльце, стоя спиной к Анунциате и Адаму, Сисси доставала из только что полученной из Англии бандероли новые граммофонные пластинки. Объемистая бандероль заняла большую часть стола; македонцев Сисси бесцеремонно сдвинула на край. — Ты что, собираешься перепачкать этой дурацкой краской весь отель? — пошла она в атаку, заслышав шаги мужа. И нетерпеливо рванула оберточную бумагу, сломав себе ноготь. Показались пластинки: оркестровые танцевальные пьесы Джека Хилтона. «Красавица как мелодия»… Эту музыку они с Адамом слушали в «Савое»… — Как насчет того, чтобы поздороваться с Ланселотом? — проговорил Пенфолд. — Наши друзья подобрали его на обочине. Ему здорово досталось. Сисси крутнулась на каблуках. Три бравых греческих воина запутались в шпагате, которым была перевязана бандероль, и от резкого движения женщины свалились на пол. У одного отвалился изогнутый щит, у другого — голова. — Хвала небесам! — воскликнула Сисси и погладила бок собаки. Та вздрогнула. — Бедняжка! Но чего можно ожидать в этой ужасной стране? Под раздраженным взглядом Сисси и восхищенным — Адама Пенфолда Анунциата сильно подалась вперед и подняла обезглавленного македонца.Глава 15
Ноги налились свинцом. Пять суток Кариоки упорно шагал вперед — по двенадцать, а то и больше, часов без передышки, ожидая, когда белый юноша запросит пощады. Подростком Кариоки не раз побеждал в марафоне с молодыми мужчинами-кикуйю. — Может, сделаем привал, Тлага, глотнем воды? — спросил он. — Попозже, Кариоки, — если только ты не устал. Дойдем вон до той гряды. Они шли почти прямо на запад, зная, что где-то здесь должна быть обширная долина. Местность была труднопроходимой: каменистой и сплошь в колдобинах. Однако временами попадались и ровные, поросшие зеленью участки. Колючий кустарник придавал ей единообразие. В этом засушливом краю он был низкорослым, серым и жестким — любимый корм носорогов и геренуков, или жирафовых газелей. Эти грациозные, с длинной шеей, животные обходились без воды — стоя на стройных ногах, ощипывали деревья. Они были слишком изящны, чтобы палить по ним из винтовки. Когда путники вошли в менее засушливый район, терновые кусты стали походить на деревья. Враждебный — ко всем, кроме слонов и жирафов — ландшафт сменился почти дружелюбным. Подобно кактусам, терновник был поразительно живуч. Каждая колючка, казавшаяся Энтону совершенным творением природы, была снабжена либо крохотными крючками, либо трехдюймовыми шипами, которые не подпускали одних голодных зверей и запросто позволяли ощипывать свои листочки другим. Постепенно Энтон утратил чувствительность и шел как сквозь струи английского дождя. Ноги и плечи покрылись царапинами. Сначала они шли молча, потом разговорились — на смеси английского, кикуйю и суахили. Вот когда Кариоки пригодились полученные на войне уроки! Чуткое ухо Энтона улавливало в его речи напевы Африки. Когда им попадались человеческие следы, Кариоки припадал к земле и тщательно их осматривал. Потом презрительно, словно плевок, ронял: «Масаи!»— и уводил Энтона в сторону. Дважды они наткнулись на поляны, вытоптанные полчищами парнокопытных, а один раз — на заброшенную деревню за оградой из терновника, устеленную сухими лепешками крупного рогатого скота. Их никто не встретил — одни лишь полчища мух, как утомленные стражи, лениво поднялись вверх, заполняя округу монотонным жужжанием. Энтон заглянул в одну хижину и не обнаружил признаков жизни — только блохи да спертый воздух. Он почувствовал себя взломщиком. — Нет хуже запаха, чем запах белого человека, — сказал как-то Кариоки, натирая спину Энтона куском влажного слоновьего помета. — Особенно для такого умного животного, как слон. — Кто научил тебя понимать слонов, Кариоки? — В детстве я слушал рассказы старых охотников о тех временах, когда здесь еще не знали огнестрельного оружия. Они были вынуждены убивать слонов: ведь те поедали их просо и обгладывали банановые листья. Натираясь пометом и мускусом, люди моего племени сами превращались в слонов и, как леопарды, прятались на деревьях и сверху бросали в слонов отравленные копья. Однажды разъяренный самец сорвал с дерева моего дедушку. Раненый, с торчащим из шеи копьем, слон обхватил его хоботом, швырнул на землю и, придавив к земле, оторвал хоботом обе ноги. — Ужас! Но разве ты не отомстил бы тому, кто вонзил бы в тебя отравленное копье? — Настоящий мужчина убьет всякого, кто нападет на него с оружием в руках. Энтон сел на землю, чтобы натянуть ботинки. Кариоки ущипнул себя за нос и поморщился. Голые по пояс, но при оружии, они продирались через буш, пока не вышли к водоему — большой луже с мутной водой, среди темных, сплошь в трещинах, скал. Там они залегли под прикрытием трех громадных валунов. — Здесь водятся змеи? — прошептал Энтон, лежа на животе в тесном укрытии. Липкая, вся в волокнах, слоновья лепешка царапала живот. Мог ли он предположить, что его самочувствие будет зависеть от того, насколько тщательно слоны пережевывают пищу? — Вряд ли. В этих местах мы опасаемся скорпиона. У цыган скорпион — знак опасности, вспомнил Энтон. Разделив поровну последний ломтик слоновьего мяса, они молча жевали. Через четыре дня — 14 февраля, день рождения Энтона. Хорошо, что он утерпел — не развернул раньше времени второй подарок фон Деккена. Этот сверток, да если повезет, роскошная трапеза в обществе Кариоки — чего еще можно желать? В памяти всплыл другой — четырнадцатый — день рождения. Тогда ему остро недоставало друга. Ленарес погиб, мать скрылась, Энтон остался один в кибитке. Прислушиваясь к шуму дождя, он радовался горячим углям в маленькой железной печке и уютному, тесно заставленному вещами фургону — точь-в-точь каюта на диковинном корабле. Стены украшали шарфы с роскошной бахромой и медные черепки. Со сводчатого потолка свисали присобранные сатиновые занавески. На стене над лавкой красовался бубен. На одной его стороне был изображен рыцарь Печального Образа, а на другой — сердце, пронзенное стрелой. Он разогрел на сковороде картошку с кровяной колбасой и наслаждался, слушая, как шипит и постреливает свиной жир. Потом вслух поздравил себя с днем рождения и стал есть — прямо со сковородки. Потом он лежал на своей койке, в тепле и сытости, тихонько напевая себе под нос и читая при свете лампы «Трудные времена». Его уже почти сморил сон, когда ему показалось, будто кто-то толкает кибитку снаружи. Через несколько секунд она уже ходила ходуном из стороны в сторону. Энтон вскочил и прижался лицом к запотевшему стеклу. Впрягшись в повозку вместо лошадей, группа подростков-цыган раскачивала его жилище. По смуглым смеющимся физиономиям бежали дождевые струи. Увидев его в окне, парни начали скандировать: «Га-у-чо! Га-у-чо!» Разъяренный, Энтон натянул штаны. На крюке бешено качалась масляная лампа. Книги и сковородки падали и скользили по полу. Два колеса оторвались от земли. Каких-то несколько секунд кибитка сохраняла равновесие на двух других колесах, а затем опрокинулась. Лампа разбилась о стену, забрызгав кипящим маслом резные деревянные филенки. Энтон рванул дверь. Ступенек не было. Он завопил: «Пожар!» — и, как был, босиком спрыгнул на землю. Тотчас из остальных кибиток высыпали цыгане, неся кувшины с водой. Энтон яростно набросился на своих обидчиков. От всех этих воспоминаний он ощутил холодок под ложечкой. — Скоро явятся, — прошептал Кариоки, возвращая товарища в сегодняшний день. Тот кивнул. Они продолжали лежать в засаде. В голове молнией сверкнула мысль: что подумала бы Гвенн Луэллин, увидев его полуобнаженное тело, распростертое на песке среди камней и разрисованное слоновьим пометом? Есть от чего прийти в волнение!* * *
На этот раз Энтон услышал слонов прежде, чем увидел. Приложив к земле ухо, уловил их топот по каменистой дороге. И вдруг почувствовал над собой чье-то дыхание. Огромная, вся в складках, серая нога мелькнула в нескольких дюймах от щели, служившей им наблюдательным окошком. Когда громадная подошва с четырьмя отростками тяжело опустилась на землю, на Энтона пахнуло мускусом. Слонов было двое. Войдя в мутную воду, они начали забавляться: набирать ее в хоботы и пускать пузыри. Ни один из них не пил. Потом самец приблизился к берегу и, скребя правой передней ногой, сделал в плотно утрамбованном песке что-то вроде рва, который тотчас наполнился просочившейся сквозь песок и поэтому чистой водой. Стоя бок о бок, слоны стали пить, словно парочка в баре, наполняя хоботы водой и выливая друг другу в клювообразные рты. Самка снова отошла к озерцу и приветливо помахала хоботом. Самец похлопал себя по бокам и навострил уши. Заостренный кончик его хобота скользнул самке в рот. Некоторое время оба стояли как вкопанные. Затем самец вынул хобот и небольно шлепнул им самку внизу живота. Загнутый кверху кончик скользнул к влажному отверстию ее вульвы. Оттуда брызнул густой темный секрет. Самец был примерно на ярд выше самки, достигая двенадцати футов в холке. Он напряг хобот и прижал к мерно колышащемуся заду своей подруги. Энтон увидел изогнутый половой орган в четыре фута длиной — на удивление розовый и беззащитный. Самец рассчитанным движением взгромоздился на слониху. Он обхватил передними ногами ее бока, основная тяжесть его тела пришлась на менее массивные задние ноги. Его половой орган скользнул в манящее отверстие. Под тяжестью в несколько тонн, обрушившейся на ее тыльную часть, слониха вскрикнула, как ребенок. Потом наступила тишина. Животные слились в единое целое. Затем самка рванулась вперед, а самец опустился на передние ноги. Она погладила орган хоботом. Обмякший, роняющий последние капли семени член вернулся в свое укрытие. Слон поднял хобот и погладил лобную кость подруги. Они снова напились и исчезли из поля зрения.* * *
Где, черт побери, Энтон? Куда он запропастился, дрянной белый мальчишка, как раз когда Кариоки отчаянно нуждался в нем? Кариоки уже мчался во весь дух в предгорьях Лойты, но выносливые масаи все равно наступали ему на пятки. Не поворачивая головы, Кариоки прекрасно представлял себе, как они выглядят. Предводитель бежал впереди, за ним — группа из четырех дикарей, все тощие и нагие, если не считать страусиных перьев. Их тела с удлиненными мышцами были сплошь в красных пятнах от охры и блестели от пота и прогорклого масла, которым они натирались. Мочки ушей походили на длинные петли: их оттягивали бусины вместо серег и флаконы с нюхательным табаком. Привыкшие пасти скот, воевать и охотиться на львов, во всех остальных случаях масаи проявляли себя ленивыми и агрессивными дикарями. Мораны — молодые и наиболее воинственные члены племени — бегали, слегка откинув головы назад, без напряжения; сзади развевались сальные волосы, заплетенные в тугие косички. Глаза были вечно выпучены и абсолютно пусты. В правой руке, не поднимая высоко от земли, каждый моран держал копье. Слишком тяжелые, чтобы бросать на дальние расстояния, эти копья были специально рассчитаны на львов. Один железный конец делали тяжелым, квадратным в поперечнике и тупым. Его втыкали в землю, пока охотник, встав на колени, готовился вонзить его в сердце рычащего хищника. Деревянную рукоятку в центре тщательно полировали. И, наконец, лезвие — в два фута длиной, тонкое, однако способное пробить толстую шкуру зверя. Кариоки знал: если в него попадет такое копье, его грудь или живот словно взорвется изнутри. Потому что, прежде чем метнуть копье, моран специфическими движениями ладони придавал ему вибрацию — пока оно не начинало гудеть. Последним, что предстоит Кариоки услышать в случае попадания, станет песня летящего копья. Они бежали уже очень долго. Кариоки рассчитывал описать дугу и привести моранов туда, где их встретит Энтон с винтовкой. Парень должен был вернуться в лагерь к тому времени, когда солнце окажется в зените, и этот миг почти настал. Но можно ли положиться на Тлагу? Сумеет ли Зоркий Глаз безошибочно выбрать момент, чтобы выстрелить в человека? Кариоки вспомнилось то утро, когда немцы пошли на штурм Намакурры. Южно-африканские войска были вынуждены отступить в одну сторону, а португальские — в другую (и как сквозь землю провалились). Немецкие аскари и «руга-руга» (дикари хуже масаи) просачивались в ряды беженцев и устраивали резню. Продержались только Королевские африканские стрелки да фузилеры[8] — и то недолго. Устоит ли Тлага, не дрогнет ли при виде человеческой крови? Кариоки взглянул на солнце, а потом назад — проверить, где сейчас преследователи. Один моран был уже довольно близко. Мчась дальше, Кариоки спешно перебрал в памяти все, что его дедушка рассказывал о масаи. Из поколения в поколение они совершали набеги на кикуйю — убивали мужчин и угоняли скот и женщин. Но теперь европейцы удерживали масаи на обширной — даже слишком большой и плодородной — территории, часть которой когда-то принадлежала кикуйю. Сейчас он находился в южной части этой территории, где жили самые свирепые масаи. Кариоки был сильнее любого масаи и гордился своим проворством. Но южные масаи умели загонять людей, как стая диких собак — антилопу. Вожак прямо на бегу вырывал клок из брюха жертвы, и оттуда начинали вываливаться кишки; ослабленное животное легко становилось добычей всей своры. Спринтер-масаи уже измотал Кариоки и теперь отстал, давая другим завершить погоню. Они убьют его, как убивают льва: пока он будет драться с одним, остальные образуют круг, потрясая копьями, ошалевшие от охотничьего азарта, сообща довершая то, что ни один из них не мог бы выполнить в одиночку. Не прекращая бега, Кариоки обдумал такой вариант: остановиться и принять бой, драться до последней капли крови. Но их было слишком много. Может, если он затянет гонку, большинство выдохнется и останется всего два-три масаи? Через плечо у Кариоки висел на кожаном ремне отцовский «сими» — длинный обоюдоострый клинок. Копье, которое он выменял вдалеке от дома после окончания войны, не слишком подходит для здешних мест. К тому же оно мешает бежать. Он поскользнулся, не заметив узенького ручья, и стрельнул взглядом назад. Началось! Предводитель масаи сделал резкий рывок, оставляя других далеко позади. У Кариоки закололо в легких. Он сделал над собой усилие и начал бегом карабкаться на холм в надежде увидеть впереди их лагерь и, свистнув в латунный патрон, предупредить Энтона. Но спринтер-масаи дышал ему в затылок. Добежав до вершины, Кариоки резко остановился и обернулся; грудь его вздымалась. Он метнул копье — масаи удалось увернуться, но он споткнулся, и это дало Кариоки возможность увеличить разрыв. Кикуйю выбился из сил. Его душила злость: в лагере никого не оказалось. В точности как на войне. Разве можно положиться на белого? Пробегая мимо лагеря, Кариоки зацепился правой ногой о кривой корень дерева. Пока он пытался встать, сверху на него обрушились сразу три дикаря. Он яростно защищался и не понимал, почему он еще жив. Один выхватил его «сими» и начал выводить у него на животе специфический узор из длинных линий и точек. Так масаи клеймили плененных женщин. Итак, ему уготована не смерть, а лютый позор, страшное надругательство. Он попытался вырваться; вожак масаи ударил его по шее тупым концом своего копья. Кариоки затих. Остальные продолжили свое гнусное занятие. Эх, если бы с ним шел не Тлаги, а собрат-кикуйю, такого не случилось бы. Один масаи поднес нож к его лбу. Кариоки обжег вожака полным ненависти взглядом. Тот спокойно стоял одной ногой на земле, а другой придавил колено своего противника. Рукой он опирался на копье. Внезапно раздался взрыв, и копье выпало из рук вожака. В мгновение ока среди масаи почему-то оказался Энтон. Он оглушил одного дикаря прикладом винтовки, схватил за горло другого и вырвал у него «сими». Тем временем Кариоки прыгнул на вожака масаи и, распластав на земле, сделал у него на лбу две глубоких разреза. Остальные бросились бежать. — Стреляй, Тлага! — завопил Кариоки. — Убей их всех! — Нет, мой друг. И этого мы тоже отпустим. Нас ждет долгий путь и целые орды дикарей. Ты в порядке? Энтон протянул руку, чтобы помочь последнему масаи подняться. Тот предпочел уползти на четвереньках. Над бровями сочилась кровь. Не выпуская из рук свой «меркель», Энтон вернул дикарю копье. Вскинул винтовку. И на глазах у врага выстрелом расщепил пополам ветку дальнего куста. Масаи словно ветром сдуло. — Ты должен научиться вовремя убивать, — раздраженно произнес Кариоки. — Убить масаи — долг настоящего мужчины. Ладно, добавил он про себя, парень все-таки не уклонился от схватки. Кариоки стал яростно натирать раны на животе пеплом от костра, стараясь затушевать позорный знак. Какая девушка захочет заклейменного мужчину? Энтон поднял свои пожитки и пошел дальше на запад. Много часов спустя, когда зашло солнце, они приблизились к гряде облаков, спускающихся с гор. Энтон указал винтовкой на группу из нескольких деревьев среди огромных валунов. Внезапно один валун пошевелился. — Антилопа-канна! — прошептал Кариоки. И поразился той ловкости, с которой Энтон пополз по-пластунски в направлении движущегося силуэта. Где он мог этому научиться? Это и впрямь оказалась гигантская антилопа с остроконечными рогами длиной приблизительно в семь футов. Она паслась себе, преспокойно ощипывая деревья. Ветер дул от двоих мужчин в ее сторону. Канна подняла голову, принюхалась и отступила в сторону. Энтон вскочил на одно колено и выстрелил с плеча. Антилопа дернулась и рухнула на землю. Она даже не стонала, а охала, как старик, и дрыгала длинными ногами в воздухе. Кариоки подбежал и перерезал ей горло. — На этот раз, Кариоки, нам придется тащить костер к животному. Энтону очень хотелось, чтобы Кариоки его похвалил, и он страшно обрадовался, когда тот одобрительно кивнул. Неважно, что он так и не поблагодарил товарища за спасение от масаи. Главное — на этот раз Энтон вмешался в ход событий, пусть даже с небольшим опозданием. Не так, как в давнем случае с Ленаресом. Вскоре среди камней на продолговатом уступе заполыхал огонь. С одной стороны пушистые облака образовали что-то вроде стены из ваты. Энтон приблизился к антилопе с ножом. Его особенно поразили мощная холка, мохнатый подгрудок и великолепные бока с белыми полосками. Только голова казалась непропорционально малой для столь могучего зверя. В открытых карих, почти живых глазах застыло умоляющее выражение. Несмотря на голод, Энтон никак не решался пустить в ход клинок. Отерев нож пучком сырой травы, чтобы не осталось следов от крови масаи, Кариоки распорол антилопе брюхо. Потом вырезал грудинку. — Запомни, Тлага, мясо антилопы-канны — лучшее из лучших. Даже поганые, пьющие кровь масаи иногда лакомятся им. Они называют канну «Божьей скотиной» — это единственное, в чем они не ошибаются. Они отнесли потроха подальше от лагеря — чтобы не привлечь льва или гиену. Для цыган такой проблемы не существовало: дворняжки быстро уминали отходы. Вдвоем разделали тушу. Орудуя ножом, Энтон постоянно чувствовал на себе испытующий взгляд кикуйю. Обернув брезентом, они подвесили куски мяса антилопы к дереву. Кариоки не ожидал от молодого европейца столь бережного обращения с припасами. Он неплохо владеет ножом и когда-нибудь освоится в буше. Уже сейчас он делает поразительные успехи. Но настоящим мужчиной становишься только после первого убийства, мысленно заключил Кариоки. Энтон бросил на дно оловянных кружек последние кусочки сахару. Сев на корточки, поставил воду для кофе. И пока она закипала, пристально смотрел на языки пламени, метавшиеся на ветру из стороны в сторону. Потом он бросил в кипяток драгоценные кофейные зерна. Помешал прутиком. Какое-то время зерна гонялись друг за дружкой в водовороте. Густой аромат кофе смешался с запахом жареного мяса. Энтон вспомнил другие запахи — костров, оленины, кролика и крепкого английского сидра. Он разлил кофе в две оловянные кружки. — Кариоки, сегодня — мой день рождения. Девятнадцать лет назад я появился на свет. — Ну, Тлага! Сегодня тебе положено наесться за следующие девятнадцать! Боюсь, для этого придется убить еще одну антилопу! Кариоки с улыбкой положил Энтону руку на плечо. С роскошного мяса антилопы, жарившегося на костре на палочках, в огонь с шипеньем капали жирные брызги. Энтон представил себе всех, кого больше никогда не увидит. Цыган с цыганками, Стоуна, судового врача, Гвенн и Эрнста. Неужели ему суждено всю жизнь расставаться с друзьями? Он полез в свой мешок и достал аккуратно завязанный сверток — немецкая работа! Под оберточной бумагой оказался слой вощеной, а под ней — четыре изумительно красивые луковицы сизаля — жемчужины Германской Восточной Африки, запрещенные к экспорту. На этих луковицах можно было нажить состояние. К подарку был приложен большой коричневый конверт. Энтон достал письмо и прочел выведенные готическим шрифтом строки: «Мой юный английский друг! Пусть эти луковицы принесут тебе богатство, а семена — счастье!» Кроме записки, в конверте оказался пакетик с семенами яблок. И, разумеется, инструкция. — Эй, Тлага, посмотри-ка! Энтон поднял увлажнившиеся глаза и вгляделся в ночь. Сердце замерло. Ветер прогнал облака с иссиня-черного неба. Перевернутый серпик луны осветил землю. Примерно в трех тысячах футов от них подножие высокого утеса утонуло в ночи, и казалось — верхушка плывет по воздуху. Внизу, под океаном звезд, простиралась необъятная долина — то ровная, то каменистая — и уходила дальше и дальше в ночь. Вот он, простор без конца и края, о котором он всегда мечтал! Вот она, свобода!Глава 16
Сисси была не в духе и раздраженно выговаривала мужу: — Не понимаю, зачем тебе понадобилось приглашать этих примитивных людишек. У них прямо на лбу написано: «Уэльс». — Она ухмыльнулась и добавила: — А у мужа, плюс ко всему, такой вид, словно он — конченый человек. Я хочу сказать — в постели. — Он исполнил свой долг, — возразил Пенфолд и тотчас пожалел о своих словах. Правильно говорил отец: «Никогда не спорь с женщиной!» Страшно подумать, во что превратилась бы сама Сисси после нескольких месяцев в Месопотамии. Пенфолд вздернул подбородок и, не глядя в зеркало, завязал галстук. Его жена облачилась в старинное вечернее платье, надевая его не через голову, а снизу, высоко задирая длинные худые ноги — ни дать ни взять лошадь, переходящая вброд ручей. Дожидаясь у двери, Адам Пенфолд закурил, предварительно постучав кончиком сигареты о серебряный портсигар. Сварливый голос Сисси преследовал его. — А этот лицемер-португалец с сестрой-потаскушкой? Они наверняка спят вместе. Если бы ты выделил им отдельный столик, можно было бы, по крайней мере, взять с них плату за обед. В этих словах, произнесенных нарочито бесстрастным тоном, содержался намек на Гималаи нераспечатанных — не говоря уже о том, чтобы их оплатить — счетов. Сисси подождала, когда муж откроет перед ней дверь бунгало. Оттуда супруги отправились в отель — в гордом молчании. Однако перед тем как войти в столовую, Сисси взяла мужа под руку. Адаму Пенфолду не привелось обедать в обществе детишек-сорванцов и нежно любящей супруги, которая, как он мечтал в молодости, станет украшением его стола. Правда, жена существовала во плоти, но она не принесла ему ни детей, ни доброты — только нескончаемое брюзжание и леденящую холодность. Последней общей радостью оказалась покупка гончих, а теперь остался один лишь отважный Ланселот. Говорят, будто некоторые мужчины с возрастом становятся похожими на своих собак. Вот и Сисси приобрела сходство с гончей и даже превзошла ее длиной носа и худобой ног. Неужели это никогда не кончится? По крайней мере Анунциата, когда была в соответствующем настроении, помогала ему почувствовать себя молодым. Больная нога начала пульсировать. Пенфолд допил свой джин и разлил по бокалам рейнвейн. Подняв свой бокал, он обреченно улыбнулся и при тусклом свете сальных свечей окинул взглядом собравшуюся за столом компанию. Анунциата с Васко Фонсекой. Сисси и Луэллины. Совмещение несовместимостей, как выражался его старый учитель. «Каждому, — вещал сей мудрец в неизменно черном сюртуке, — время от времени доводится чувствовать себя Овидием среди скифов. Вроде бы не один, а поговорить не с кем». Вот когда Пенфолд в полной мере оценил справедливость этих слов! Молодой паре придется туго, размышлял Пенфолд, а Луэллин — не герой. Алан сидел с потухшим взглядом, в котором Пенфолд подметил столь знакомое ему самому чувство неприкаянности. А тут еще коварный потомок римлян положил глаз на Гвенн. Мало того — португалец явно придумал хитроумный план, как наложить лапу на лучшие участки, выделенные молодым семьям. В Мозамбике, откуда явился Фонсека, уже возродились рабство и распущенные нравы Римской империи. А тут еще среди кикуйю ходят слухи, будто этот человек нарушает закон об охоте, гоняясь за слоновой костью к северу от Наньюки. Для таких нет ничего святого. Если уж европейцы не хотят соблюдать законы, чего можно требовать от африканцев? — За моих друзей — покорителей Африки! — провозгласил Пенфолд, поднимая бокал. — За вас, Гвенн и Алан. За удачное начало. И за край, где мы живем! От его внимания не ускользнуло, как Сисси передернуло. Ее обычная реакция на любое проявление инициативы со стороны мужа. — У вас ферма в горах? На Эвасо-Нгиро? — дружелюбно спросил Гвенн Фонсека. «Как, черт возьми, он это узнал? — удивился Пенфолд. — Видимо, от Губки». — Да, мы как раз направляемся туда. Вы знаете эти места? — Собираюсь купить там кое-какую недвижимость. Возможно, мы еще увидимся. Подали плоды авокадо, только что поступившие из Момбасы в ящиках с соломой, словно хрупкие яйца, фаршированные перечным маслом. Пенфолд зачерпнул ложечкой и положил сверху немного мармита. — Можно спросить, Адам, что вы туда добавляете? — поинтересовался Фонсека. — Капельку Англии, дорогой Фонсека, всего лишь капельку Англии, — ответил Пенфолд, получая немалое удовольствие от покровительственно-надменного обращения португальца. Он добавил к авокадо еще немного густого темного соуса. — Кто-нибудь хочет попробовать? — Сомневаюсь, мое сокровище, — процедила Сисси. Алан Луэллин потянулся к соуснику. — Те из нас, кто во время войны пробовал пирог из крыс и жареные обезьяньи мозги, научились ценить мармит по достоинству, — без малейшей иронии произнес Пенфолд. Истосковавшись по ласке, он вдруг ощутил у себя на ноге пальцы Анунциаты с длинными ногтями. В последнее время он чувствовал ее охлаждение, но, возможно, усилия Сисси вновь вернут ему расположение португальской красавицы. Все равно как хорек, сам того не зная, загоняет кролика в пасть барсука. В присутствии Аунцианты Сисси держалась напряженно и почти враждебно, и ее трудно винить. Должно быть, это имеет отношение к женскому инстинкту. Пенфолд поднял глаза и увидел, как Фонсека ухлестывает за Гвенн — с масляной улыбочкой, не отводя хищного взгляда от ее искрящихся изумрудно-зеленых глаз. Кажется, между супругами натянутые отношения. Жаль. Бедный молодой человек совсем пал духом. Где же картофельное пюре к отбивным котлетам? Пенфолд предупредил Оливио, чтобы не забыли подать брюссельскую капусту. Но все равно — какой обед без картошки? А Фонсека неправильно носит смокинг. Все эти выскочки из Южной Европы одеваются дорого, но безвкусно. Если уж тебе приспичило надеть длинный белый сюртук, позаботься, по крайней мере, чтобы ворот был двубортным, тесно облегал шею и был застегнут на все пуговицы, а не нараспашку, как рабочий халат бальзамировщика. Но что с него взять? Поникший Луэллин в уэльском твидовом костюме и то элегантнее! «А вот и мой верный Оливио Алаведо, человек со множеством неоценимых достоинств. Стоит себе под чучелом бородавочника, присматривая за слугами — лоснящаяся кукла с круглым черепом. Всегда аккуратный и безупречно вежливый, в алом парадном кушаке, черных брюках и коротком белом смокинге. Да, ничего не скажешь, карлик умеет одеваться. И приучает к этому лакеев». Пенфолд не мог не восхититься их белыми накрахмаленными куртками, кушаками и алыми фесками. Увы! Один мальчишка все-таки неправильно повязал кушак. Хоть бы Оливио не заметил и не задал парню взбучку. Расправляясь с очередным бокалом, Пенфолд припомнил параграф из Гиббона, где приводится описание Оливио — гораздо более точное, чем если бы это сделала мать гоанца. «Большая круглая голова, смуглый цвет лица, — описывал автор предводителя гуннов Аттилу, — маленькие, глубоко посаженныеглазки, приплюснутый нос, жидкие волосенки вместо бороды и короткое квадратное туловище — непропорциональное, однако исполненное живости». Несколькими минутами позже, наверху, Оливио отпер комнату номер четыре. Самое подходящее время: все сидят за столом. И хозяева, и гости, и персонал — все при деле. Сразу после того, как подали котлеты из мяса газели Томсона и лорд Пенфолд добрался до своего любимого кларета, карлик беззвучно поднялся на второй этаж. А очутившись в четвертом номере, запер дверь изнутри. Бармену не составило труда найти письмо из Лиссабона: его кончик торчал из-под открытого флакона с помадой для волос Эразма Уилсона. Флакон стоял на высоком комоде, и карлику пришлось подставить стул. Раздраженный таким беспорядком, Оливио закрутил крышку, стараясь не запачкаться прозрачной маслянистой жидкостью. И, вытащив из конверта два листка плотной бумаги, прочел официальное послание от лиссабонского поверенного. Его достопочтенная клиентка, сеньора де Кастаньеда-и-Фонсека, только что скончалась на семьдесят седьмом году жизни, у себя дома, на вилле «Сан-Антонио» в пригороде Опорто[9]. У нее не было ни мужа, ни детей. Наследство достанется детям или внукам мужского пола, рожденным от двух ее покойных братьев. Встав на цыпочки, Оливио снова вгляделся в фотографию, которую Васко Фонсека поставил на трюмо. Прямо-таки впился взглядом в двоих мужчин. Так и есть! Круглый шар головы, маленькие глазки. Властное выражение лица приземистого священника привело Оливио в восторг. Неужели это его дедушка? Карлик придал своему лицу величественный вид и точно так же наклонил голову. Да! Он и Васко Фонсека — кузены! Их дедушки были братьями! Вспотев от волнения, Оливио продолжил знакомство с письмом от лиссабонского юриста. Старший брат сеньоры де Фонсека, его преосвященство дон Тиаго де Кастаньеда-и-Фонсека, архиепископ Гоанский, естественно, не оставил после себя детей. Таким образом все неделимое имущество сеньоры де Кастаньеда переходит к сыновьям или внукам ее младшего брата, ныне покойного. Судя по документам, ныне здравствует только один внучатый племянник госпожи, проживающий на своей плантации в Португальской Восточной Африке, — сеньор Васко де Кастаньеда-и-Фонсека. Значит, они не знали, что архиепископ тоже зачал сына, а тот — своего сына! Оливио Фонсеку Алаведо собственной персоной! На следующей странице приводилась предварительная опись имущества сеньоры де Кастаньеда, включая коллекции кружев и серебра, старинный, нуждающийся в ремонте замок близ Лиссабона, фазенды в Бразилии и Африке, денежные счета в банке «Эспирито Санто», пробковый лес в Коста-Верде и одна из роскошнейших загородных резиденций в мире — вилла «Квинта Кастаньеда» на берегу реки Дору. И половина всего этого принадлежит ему! При отсутствии завещания, писал нотариус, по португальским законам для передачи такого богатого состояния потребуется некоторое время, но если сеньор Фонсека напишет нотариусу и пришлет документы, удостоверяющие его личность, тот сразу предпримет необходимые действия. Естественно, предстоят издержки. Оливио порылся в ящиках стола в поисках карандаша и бумаги, чтобы записать фамилию и адрес нотариуса. Но, выдвинув верхний ящик, заслышал у двери шаги. Он стал задвигать ящик, но тот, как назло, заклинило. Типичная африканская халтура. Оливио с силой надавил на ящик корпусом — и, потеряв равновесие, упал со стула — прямо на кровать. Кто-то с силой задергал ручку. Послушалось грязное португальское ругательство. В считанные доли секунды Оливио водрузил опрокинутый стул на место, а сам очутился у окна. Повиснув снаружи, цепко держась пальцами правой руки, левой он пытался снова закрыть окно. Однако не удержался и рухнул прямо в розовый куст. А когда отодрал колючки и отряхнулся, увидел, что из деревни на него во все глаза уставилась Кина Китенджи. Карлик собрал остатки достоинства. Даже в столь щекотливой ситуации он не мог не восхититься красотой девушки, ее раздобревшим телом. Оливио ринулся на кухню — смыть кровь с лица. И уже совсем спокойно вошел в столовую с непочатой бутылкой кларета. Сходил в бар за штопором. Фонсека еще отсутствовал. — Должно быть, не может отыскать свои сигары, — сказал гостям Пенфолд. В коридоре Оливио украдкой повесил ключ от четвертого номера на крючок. А вернувшись в столовую, услышал раздраженный голос Фонсеки: — Я не нашел свой ключ. В моей комнате кто-то был. — Невероятно, — уронила Сисси, наблюдая за тем, как ее муж вполголоса беседует с Анунциатой. Оливио шмыгнул в коридор и тотчас вернулся. — Вот ваш ключ, сеньор. Висел на гвоздике третьего номера.Глава 17
Энтон представил себе: он изгибает крылья, тесно прижимая к бокам восхитительные перья, и бросает взор с высоты две тысячи, три тысячи футов; затем вдруг, прервав полет, выпускает когти, в падении широко расправляет крылья и хватает змею или крольчонка. И снова, так и не коснувшись земли, взмывает вверх, тяжело хлопая крыльями. В Англии он часто задирал голову вверх, следя за парением в небе ястреба, но, когда тот бросался вниз, быстро терял его из виду. А здесь, стоя на утесе на границе провинции Рифт-Валли, он сам смотрел вниз с высоты птичьего полета, следил взглядом за каждым крылатым хищником, за тем, как они внезапно меняли повадку, переходя от расслабленно-созерцательного состояния к напряженной, несущей кому-то смерть сосредоточенности. Он мечтал, подобно ястребам, разить без промаха и брать только необходимое для выживания — ничего лишнего. До нового полнолуния Энтон и Кариоки жили в лагере на утесе у Рифта. Пока у Кариоки заживала нога, Энтон в одиночку исследовал окрестности. Они питались роскошным мясом антилопы-канны. Энтон научился спускаться с отвесной скалы, как маленькая горная антилопа. Теплыми вечерами он лежал под высоким терновым деревом на уступе и созерцал игру теней внизу, в долине. На первых порах ему удавалось разглядеть немногое. Глаза еще не были натренированы на ландшафт и животных. Но постепенно он начал различать все разнообразие форм жизни. По мере смещения теней он вдруг замечал пятнистый узор на чем-то, что ранее казалось ему стволом дерева. Наконец это что-то обретало форму жирафа, иногда даже двух, трех жирафов. Когда одни ветви колыхались на ветру, а другие нет, он узнавал в этих последних спиралевидные рога куду — лесной антилопы. А когда ветра не было, припоминал старый совет: вместо того чтобы высматривать очертания зверя, искать движение. Ленарес был бы от Африки в восторге. Прямо перед Энтоном, на уровне его глаз, парил орел-змееед — так близко, что Энтон различал трепыхание в воздухе коричневых кончиков перьев. Птица высматривала добычу, достойную ее божественного броска. Энтон скосил глаза на татуировку: есть ли сходство? Когда Кариоки окреп, они стали охотиться вдвоем, с удовольствием делясь опытом. Естественно, запевалой в их дуэте был африканец. Хотя Энтону грешно было жаловаться на зрение, он пока еще не видел всего многообразия живых существ, которое их окружало. Он ни за что не ожидал встретить человека, чья близость к природе была большей, чем у цыгана, его учителя. Кариоки сам был частью природы. Энтон мечтал достичь такого же совершенства. А еще он мечтал заслужить уважение своего друга-кикуйю и не потерять его, как всех остальных. Бесценные пули «уттендо» были тяжеловаты для мелкой дичи, а копье — слишком громоздко, поэтому молодые охотники предпочитали капканы, цыганские силки и африканские ямы-ловушки, сочетая опыт жизни в буше с цыганскими хитростями. Кариоки посвятил Энтона в тонкости отношений между животными. Оказалось, что злейшие враги, как правило, обитали по соседству. У леопардов и павианов, змей и мангустов, львов и буйволов была общая территория — один и тот же театр военных действий. По вечерам Энтон рассказывал Кариоки о звездах. Потом наступала очередь африканца. Он устремлял взор в огонь и воспроизводил древние предания кикуйю: «Как Гиппо потерял свой рог» или «Почему у Носорога маленькие глазки». Они словно заключали бартерную сделку: меняли рассказы о Стрельце и Скорпионе на «Сказание о Бонго, который забыл спрятаться». Однажды вечером, повторив на бис любимую африканскую сказку Энтона «Слепой мальчик, который плавал с крокодилами», Кариоки сказал: — Запомни эти предания, Тлага. В них — жизнь моего народа. Когда рассказывают сказку, каждый, кто когда-либо слышал ее — старик или ребенок, — вновь незримо присутствует с нами у костра. Цыгане тоже без конца повторяли любимые предания своего племени: о вожаках, старейшинах и колдуньях. А также о травах, заклинаниях, зверях и магических деревьях. В такие минуты Энтону иногда казалось: Ленарес сидит рядом с ним и нашептывает на ушко мудрые советы. Энтон и Кариоки создали свой язык — смесь суахили, английского и кикуйю. Постепенно из их отношений ушла настороженность: африканец признал Энтона своим другом. Энтон вспомнил дружбу со Стоуном: как легко им было находить общий язык в лесу и как трудно — в других местах. В лесу и в буше люди равны, и очень скоро понимаешь, на кого можно положиться. Возможно, поначалу он обращался со Стоуном так, как Кариоки — с ним самим: слишком подозрительно, ни на минуту не забывая о социальных барьерах. Может, комплекс неполноценности и есть первопричина многих проблем? Но он все-таки обрел друга. — Ты уже научил меня очень многому, — сказал как-то Энтон, сидя рядом с Кариоки у костра и вырезая из жесткой антилопьей шкуры заплатки для ботинок. — Давай-ка теперь я научу тебя читать. А ты научишь меня языку твоего народа. Энтон достал из вещмешка потрепанный томик и усмехнулся, прочитав на штампе: «Школа в Рагби». Он показал Кариоки иллюстрацию: белого мальчика в коротких штанишках, с широким круглым воротником до плеч. — Этого мальчика зовут Дэвид. Он научит тебя азбуке. Возьми палочку и черти на песке то, что я буду чертить ножом. — Что такое азбука? После секундного замешательства Энтон ответил: — Это что-то наподобие твоих сказок. Зная азбуку, или алфавит, можно составлять слова, объединяющие людей. По утрам, во время перехода, они повторяли алфавит. Чертили буквы на земле во время привалов. А вечером выбирали в книжке какое-нибудь слово, и Энтон объяснял, как оно произносится. Потом он вслух читал отрывки из книги с подзаголовком: «Жизнь, приключения, испытания и наблюдения Дэвида Копперфильда-младшего из Грачевника в Бландерстоне, описанные им самим (и никогда, ни в каком случае не предназначавшиеся для печати)». За знакомыми словами в ночи перед ним вставала Англия. А что они значат для Кариоки? — Почему этот Урия Гип — такая змея по отношению к Дэвиду? — спросил однажды утром Кариоки, посасывая высушенный на солнце ремешок из мяса антилопы. — Подкрадется — и укусит. Они шли по открытой местности. Энтон снял ботинки и повесил через плечо — чтобы сберечь подметки и закалить ступни. — Потому что он трус и завистник. Интриган. Опять же, девушка и ее деньги. — Однако же Урия умен. Неужели у него не хватает коз и коров — купить себе собственных жен? Расхохотавшись, Энтон хлопнул африканца по спине. — За сколько коз девушка могла бы купить тебя самого, а, Кариоки? — Никаких коз не хватит, Тлага. Пейзаж изменился. Когда откос остался далеко позади и путники двинулись на восток, к деревне кикуйю, их овевал освежающий ветерок. Над бушем у подножия дальних, окутанных облаками гор Энтон различил темно-зеленую полоску. — Смотри, Зоркий Глаз — видишь там, где кончается небо, Абердарские горы? За ними находится священная гора Кения, обитель Бога. Скоро ты увидишь деревню моих предков. Но прежде ты должен поохотиться в горах, как Кариоки в детстве. Ты малость староват, но я все-таки покажу тебе, как это делается. Когда ты убьешь самого трудного зверя, Кариоки возьмет тебя в свою деревню. — Какого зверя? — Бонго. Иногда подле ручья или соленого камня на опушке леса можно встретить самку или детеныша. Но случается и прожить в лесу много лет: и в Большие дожди, и в сезон туманов, и в период яркого солнца, — да так и не увидеть самца. Он очень сильный, почти красный, с белыми полосками. Его рога черны, как кожа прекрасной девушки. И он неуловим, как тень, пуглив, как Дэвид в раннем детстве. — Боюсь, что в таком случае нам никогда не попасть в твою деревню. Ты этого хочешь? — Нет, Тлага. Я горю желанием увидеть костер моего отца и мою сестру Кину. — Ты говорил, что тебе предстоит встреча с заклятым врагом. Кто это? — Чура Ньякунда — Желтая Лягушка. Он могуществен и коварен, как Урия. Однажды перед уходом на войну я нигде не мог найти Кину. Обрыскал всю деревню и наконец услышал ее плач, доносившийся из дома этого человека. Я бросился туда и нашел ее. Она стояла перед ним без передника, по щекам текли слезы. Этот человек натирал ее кокосовым маслом — как мясо перед тем, как изжарить — и трогал там, где женщинам нравится, когда их трогают. Моя сестра была слишком мала, ей еще не сделали обрезание. Я сбил его с ног и забрал Кину. Он поклялся меня уничтожить. — Расскажи мне о твоей сестре, — попросил Энтон. Они вошли в зону густого терновника, и он сел на землю, чтобы обуться. — Она очень красива, но не может говорить. Ее язык непослушен, как у геренука — жирафовой газели. Из-за этого отец держит ее при себе. У моего народа есть обычай: молодые мужчины покидают деревню и разбивают лагерь в буше. Это помогает им стать воинами. Молодые девушки, еще до того как созреют, чтобы иметь детей, относят им еду и забавляются с ними всю ночь. Только в эту счастливую пору наши девушки способны наслаждаться мужчинами, потому что их тела остаются целыми. А когда они возвращаются в деревню, им делают обрезание — чтобы они стали верными женами. Потом их выдают замуж, они рожают детей и работают в поле. Но мой отец не отпустил Кину в лагерь, потому что старейшины и шаман сказали, что она — особенный ребенок. Так что ей не довелось, подобно другим девушкам, изведать наслаждение. Но теперь уже пора сделать ей обрезание. — В каком же возрасте, Кариоки, девушки навещают будущих воинов? — От десяти до двенадцати лет, Тлага. Это пора расцвета. — В десять лет?! — Ну конечно, Зоркий Глаз. А сколько лет было твоей первой женщине? — Ну… мне кажется, Кариоки, десять лет — слишком юный возраст, — ответил Энтон, уходя от щекотливого вопроса. Не мог же он признаться, что еще не знал женщин! — Скоро мы дойдем до твоих гор? Продолжая путь, Энтон вспоминал детские свадьбы у цыган. Обычно пара обручалась в восемь лет, а в десять цыган и цыганка объявлялись мужем и женой. Но, разумеется, речь не шла о сексе — вплоть до второй церемонии по поводу наступления половой зрелости. К этому времени многие браки распадались, зато остальные длились по семьдесят лет. Муж и жена знали множество способов наслаждаться друг другом — не то что гаучо. Энтон утер лицо красным шейным платком. На память пришел еще один цыганский обычай. Когда парень и девушка впервые занимались любовью, они надевали такие платки — дикло, — которыми потом вытирали друг другу гениталии. После чего оба платка скручивали вместе, и цыганка хранила амулет среди постельного белья. Интересно, у народа Кариоки есть подобный обычай? Они все шли, а пологие склоны Абердар всякий раз отодвигались вместе с горизонтом. Зато зеленая полоса была уже совсем близко. Энтон ускорил шаг. С тех пор как он покинул Англию, ему ни разу не пришлось наслаждаться лесной прохладой. Они ступили под душистую сень из ветвей каштана, кедра и камфорного дерева; под ногами стелился ковер из опавшей листвы и хвои. В чаще царило безмолвие. Потом Энтон услышал плеск воды. Это напомнило ему заповедные леса Англии. На поляне у ручья Кариоки присел на корточки. В воде стояла крупная красновато-коричневая антилопа с белыми пятнами и огромными ушами. Не снимая вещмешка, Энтон вскинул к плечу свой «меркель» и выстрелил. Пуля поразила животное в сердце. — Это и есть бонго? — Нет, Тлага, — с усмешкой откликнулся Кариоки, — это бушбок. Мой белый брат еще не готов выйти из леса. Настоящий бонго в три раза больше. Ты узнаешь его, как только увидишь. Ночью Энтон проснулся от шума дождя. Кариоки продолжал спокойно спать, закутавшись в шкуру бушбока. Энтон поднялся, чтобы поддержать огонь в костре. Из этого ничего не вышло. Утомленный, он оставил эти попытки и, дрожа, вновь забрался под отсыревшее одеяло. Ночная тьма сменилась предрассветной мглой. Где-то над головой — должно быть, в кроне дерева — Энтон услышал отрывистые крики. Постепенно он различил качающиеся на ветвях белые пятна. Обезьяны! Стаккато их голосов ни на минуту не умолкало, словно назойливый припев. На берегу ручья мелькнули тени четырех или пятерых мужчин, низкорослых и стройных. Он услышал свист натянутой тетивы лука. В небо взвилась стрела. Кто-то испустил жалобный, одинокий крик — и снова воцарилась тишина. — Джамбо! — весело позвал Энтон. — Доброе утро! Люди скрылись в лесу. Кариоки подскочил, как пружина. — Что, Тлага? Энтон указал на противоположный берег. Кариоки вгляделся. — Это доробо. Лесные охотники. Они большей частью безобидны — если их не испугать. Доробо известны тем, что превосходно стреляют из лука, собирают мед и пользуются отравленными стрелами. Энтон опустился на колени перед колобусом — длиннохвостой обезьяной. В ее массивной грудной клетке застряла оперенная стрела. Древко обезьяна сжимала длинными пальцами. Черная, с белой манишкой и сморщенным лицом, она была похожа на маленького старичка на смертном одре — седовласого, с белоснежными бородкой и бакенбардами. Энтон смутился: обезьяна почти ничем не отличалась от человека! С мыслью об Англии он спросил: — Когда пройдет дождь? — Не скоро. Перенесем лагерь в другое место. Все утро они шли — вперед и вверх. Лиственные леса поредели, уступая место остроконечным стрелам молодого бамбука. Скользкая, влажная почва была выстлана узкими копьевидными листьями. Трубчатые желто-зеленые и коричневые стебли неудержимо тянулись ввысь, достигая пятидесяти-шестидесяти футов; молодые густо росли из полусгнивших остатков. Сквозь них просачивался загадочный свет сумерек. Под высокими старыми деревьями с раскидистыми кронами земля была чище. Эти деревья напомнили Энтону дубовые рощи Англии. Острые, как бритва, листья оставляли на лицах порезы. Энтон и Кариоки упорно взбирались по склону. Мощные стебли бамбука колыхались на ветру и ударялись друг о друга; казалось, они то ли вздыхают, то ли негромко беседуют под шум капели. Энтон старался не отставать от Кариоки. Завернутая в одеяло винтовка болталась у него за спиной, и он хватался свободными руками за бамбуковые стебли, как за перила. Один раз он поскользнулся, но успел схватиться за толстый стебель, оказавшийся гнилым; он сломался, и Энтон кубарем покатился вниз, царапая себе лицо. Наконец они вышли к ущелью. В пелене дождя их глазам открылось небольшое озеро. Справа, низвергаясь со скалы высотой тридцать футов, струился водопад. — Это — мои места. Сюда Кариоки наведывался в юные годы, — сказал кикуйю, и Энтон почувствовал: ему оказали большое доверие. — Здесь он может охотиться с закрытыми глазами. Кариоки дважды полоснул двусторонним «сими», расщепляя крепкие стволы бамбука. Получилось что-то вроде крюков, на которые они повесили рюкзаки. — От хомяков, — объяснил африканец и срезал верхушки еще с двух стволов, оставляя пни высотой в пять футов. В каждом он сделал выемку и уложил поперек одну из отрубленных верхушек. Потом прислонил к горизонтальному стеблю по диагонали верхушку поменьше. Энтон срезал несколько виноградных лоз, и они крепко связали шесты вместе. Соорудили навес из разлапистых листьев, напоминающих листья папоротника. Энтон каблуком продавил в земле канавку по периметру шалаша — чтобы стекала вода. Шалаш был развернут на водопад. Кариоки подобрал щепки у входа и вытер о внутреннюю поверхность шкуры. Сложил их в кучку и взял у Энтона восковые спички. — Бамбук горит даже в дождь. Запомни, Тлага: охотник должен уметь обходиться одной спичкой. Однако бамбук только чадил. Спичка догорела. — Может, Дэвид нас выручит, — сказал Энтон, вырывая чистую страницу. Возясь с костром и жаря куски антилопы, он вспоминал традиционный английский завтрак. Яичница с ветчиной, гренки, толстая кровяная колбаса и крепкий чай. Как он соскучился по чаю! Кариоки притащил охапку крапивы — той самой, что немилосердно обжигала Энтону голые ноги, пока они взбирались по склону. — Табаи, — уронил он и, оборвав листья, бросил в кипящую воду. Они подкрепились жареным мясом антилопы и запили отваром из крапивы. Энтон подумал: похоже на шпинат. Недурной напиток — особенно если проголодался и продрог. Не чай, конечно, но помогает согреться. Вечером, лежа в укрытии, Энтон вгляделся сквозь пелену дождя в туманное озеро и увидел огромного черного борова — в два-три раза больше суффолкского. Он схватил Кариоки за руку. Из просеки в бамбуковых зарослях вышли и направились к озеру десять, двадцать, тридцать животных. Энтон замер, стараясь не обращать внимания на крапивную сыпь. Молодые серые кабанчики, похрюкивая, рыли берег забавными пятачками. Взрослых животных почему-то больше не было. Энтон беззвучно вскинул на плечо винтовку и пальнул из одного ствола. Довольно крупный хряк свалился на землю. Перед глазами Энтона проплыл роскошный завтрак: колбаса, ветчина, свиные отбивные. Страстно мечтая поохотиться на бонго, Энтон стал нетерпелив. А Кариоки не спешил покидать лагерь и, казалось, не замечал, как один за другим проходят дни. По ночам до ушей Энтона доносилось похожее на кашель отрывистое рычание леопарда; в мокром лесу разносилось эхо — словно звук спиливаемого дерева. На рассвете он дрожал от холода. Убийственная сырость Нортумберленда стала казаться благодатными солнечными днями. Энтон начал тосковать по Англии. По ее деревням, нежно-зеленым холмам, мерцанию серебристой форели в воде ручья. — Когда будет готова наша одежда, — сказал Кариоки, сидя у костра и обрабатывая сваленные у ног звериные шкуры, — мы пойдем охотиться на твоего бонго. Сшитые вместе на манер цыганской шали, шкурки выдры и белохвостого мангуста перемежались с обрывками шкур бушбока и длиннохвостой обезьяны. Из шкурок более мелких животных охотники сшили себе плащи и жилеты — мехом внутрь, чтобы удержать тепло. Энтон подметил: любимая одежда Кариоки — из мягкой, легко поддающейся обработке шкурки древесного дамана[10]. Эти пушистые зверьки величиной с кролика — пухлые и коротконогие — по ночам выдавали себя визгом. Запомнив направление, на рассвете Кариоки отправлялся обшаривать дупла. Он брал с собой бамбуковый шест с расщепленным в виде вилки концом и осторожно погружал его в дупло до тех пор, пока палка не упиралась в мягкую шубку. Тогда Кариоки надавливал и протыкал дамана, а затем вытаскивал шест вместе с добычей. Однажды утром Кариоки остался у костра — выделывать шкуры и шить одежду, — а Энтон отправился на охоту. Он шел по просеке, образованной в густых, высоких — до двадцати футов — зарослях бамбука каким-то крупным зверем. Энтон полностью сосредоточился на следах небольшой южноафриканской антилопы; все чувства обострились. Внезапно его слуха коснулся высокий, пронзительный звук — охотничий сигнал доробо. Охотнику тотчас ответили двое соплеменников, словно предупреждая об опасности. Раздался крик человека. Энтон опустился на колени, держа наготове винтовку. Как спички, затрещали толстые стебли. В просеке перед ним мелькнуло что-то черное. Прямо на него, как пушечное ядро, раздвигая бамбуковые заросли рогами и могучими плечами, несся огромный кейптаунский буйвол. Энтон выстрелил из обоих стволов и в тот же миг сиганул вбок. Последним, что он видел, были налитые кровью безумные глаза зверя, белая пена из ноздрей и стрелы, торчащие из массивного загривка. Энтон очнулся у ручья, куда его принесли два доробо. Грудь раздирала боль. К нему подбежал Кариоки. — Банда был прав, Тлага: нельзя становиться на пути у зверя. К счастью, это оказался детеныш. Я не должен был отпускать тебя охотиться в одиночку. Этот лес слишком опасен для моего белого друга. Ощупав грудную клетку, Энтон понял: сломано три ребра. Плечо было зверски исполосовано. На животе — длинная резаная рана. Мышцы рядом с ней омертвели. Над Энтоном, энергично жестикулируя, склонились доробо; от них пахло лесом. Их почему-то не интересовали сломанные ребра и плечо — все их внимание было приковано к ране на животе. — Ты ранен отравленной стрелой доробо, выскочившей из плеча кейптаунского буйвола. Они смочили кончик стрелы в самом сильном яде, — объяснил Кариоки. Энтону не понравилось выражение его глаз. — Насколько это серьезно? — Если яд оставить в ране, Тлага умрет. Этим можно свалить слона. Один доробо обмакнул бамбуковый шест в грязь. Кариоки уложил Энтона на спину. Второй доробо расширил рану, а его товарищ провел по краям шестом, смазывая их грязью. Он проделал это трижды. Энтон изо всех сил вцепился зубами в кусок антилопьей шкуры. Рана начала гореть; края побагровели. Доробо промыл рану водой из озера. Другой наклонился и стал высасывать яд, время от времени сплевывая и прополаскивая рот. Из крохотной тыквы, подвешенной к мочке уха, африканец высыпал в рану несколько кристаллов каменной соли. Кариоки видел, как Энтон стискивает зубы и сжимает кулаки, и дивился тому, что он ни разу не вскрикнул. Несколько минут спустя один доробо вымыл из раны соль, а тем временем другой собрал с бамбуковых стволов древесный гриб — киранги — и затолкал в рану прозрачные пластинки. Его товарищ докрасна раскалил на горячих углях нож и, стянув края (гриб остался внутри), прижег рану. — Получилось, Кариоки? Яда больше нет? — прошептал Энтон, страдая от сильной пульсирующей боли в животе. — Поживем — увидим.Глава 18
Гвенн заметила: после трех дней пребывания в «Белом носороге» Алан и мулы значительно окрепли. В этот последний день ей хотелось избежать встречи с Фонсекой. Однако пылкий португалец, держа в одной руке типичную для плантатора шляпу с широкими полями и поминутно отирая пот со лба, проводил ее до фургона и помог взобраться на сиденье. На нее пахнуло запахом сигар и одеколона. Как они все добры, думала она. Слуги Пенфолда отремонтировали фургон и укрепили раму. Адам лично проверил ноги и зубы мулов и научил Алана распознавать симптомы лихорадки и гниения копыт. Даже смешной любопытный бармен настойчиво твердил, чтобы в случае нужды они сразу обращались к нему. Скоро на северной дороге откроется новый магазин, и он лично позаботится о том, чтобы Луэллины всегда пользовались там кредитом. С веранды, прихрамывая, спустился Пенфолд с плетеной корзиной в руке. — Ланселот посылает вам гостинцы в дорогу. Здесь есть кое-что интересное — от одного ветерана другому. Где же Мальва? Гвенн огляделась и увидела его чуть поодаль рядом с красивой африканской девушкой. Она от всего сердца желала Мальве добра, но в конце концов ей все же пришлось его окликнуть. Африканец подбежал к фургону и повел мулов вдоль подъездной аллеи. Гвенн обернулась — бросить прощальный взгляд на отель «Белый носорог» и его обитателей. На веранде стоял карлик, впившись взглядом в махавшую Мальве девушку. Дорога шла в гору — то утопая в пыли, то через чахлый кустарник. Они миновали заброшенный огород, длинные ряды кофейных деревьев, сломанную изгородь и несколько полей, которые медленно, но верно возвращались в исконное состояние. Однажды им попалась чайная плантация с жалкими увядшими кустиками. Вечером они разбили лагерь у подножия высокой, похожей на горб скалы, возвышавшейся среди буша. Они уже неплохо освоились. Алан распряг мулов. Мальва натянул палатку, а Артур собрал хворост и приготовил обед. Гвенн с винтовкой отошла на некоторое расстояние от лагеря. Если она хочет выжить в Африке, нужно научиться охотиться. Опустившись на колени, она произвела несколько пробных выстрелов, целясь в какой-то плод с твердой кожурой, висевший на баобабе. И, разумеется, промазала. Они уже проделали добрых двенадцать — четырнадцать миль, прикинула Гвенн, изучая геологическую карту провинции. Не завтра, так послезавтра доберутся до Эвасо-Нгиро. «Мутная вода» — такое обескураживающее название дали реке масаи, но Пенфолд авторитетно посулил им прекрасные пастбища и тьму-тьмущую носорогов и крокодилов. Луэллины сделали исключительно удачный выбор — лучше многих других поселенцев — и найдут участок в полном порядке, с указательными столбами по периметру. Как бы ей хотелось в это верить! Алан случайно задел жену рукой, и она ласково погладила эту руку. Он едва не отпрянул. Почему он избегает прикосновений? Она ведь не чужая. Вернутся ли к нему силы? Удастся ли им основать здесь ферму? И создать семью? Этим вечером «гостинцы» лорда Пенфолда избавили их от необходимости готовить ужин. Еды вполне хватало на четверых; правда, Артур и Мальва ограничились сэндвичами. Обоих чрезвычайно удивило приглашение на ужин. Гвенн обнаружила в корзине пару жареных цесарок, сэндвичи из хлеба домашней выпечки с помидорами и огурцами, жареное мясо импалы и газели Томсона и — от одного ветерана другому — кувшин мармита. Когда они легли спать в палатке, пристроив в головах винтовки, Гвенн услышала тявкающие, похожие на кашель, звуки, а потом — раскаты отдаленного грома, эхом прокатившегося в низине. Лев! Ее кольнуло воспоминание об Анне Голт. Она соскочила с койки и опустилась на колени, чтобы прошептать молитву.* * *
— Животные чуют раньше человека, — сказал Мальва, шагая рядом с Гвенн. Впервые за все время мулы неудержимо рвались вперед. — Река близко. Гвенн покосилась на Алана. Прикрыв глаза и немного наклонившись вперед, он безучастно сидел на скамейке. Похоже, до его реки еще далеко. О чем он думает? Неужели его пугает жизнь в Африке? Они взобрались на высокий холм, оказавшийся крутым берегом. Внизу извивалась Эвасо-Нгиро, шириной приблизительно в тридцать ярдов. На берегу крохотные, окруженные идеально отполированными камнями, озерца чередовались с песчаными склонами. Мальва помог Алану сойти с повозки. Гвенн обняла мужа за талию. Они стояли, молча взирая на зеленую долину на противоположном берегу, плавно переходящую в предгорье. Рощи сменялись полянами, поросшими сочной свежей травой. В низинах густо зеленел терновник — признак наличия подземных вод. Сзади дул освежающий ветерок с горы Кения, унося их запах туда, где паслись сернобыки, зебры и газели Гранта. У Гвенн захватило дух. — Оставим здесь фургон, — негромко предложил Алан, — посидим немного у воды. Он помог слугам распрячь мулов. Гвенн продолжала любоваться открывшимся видом. — Осторожно, — предупредил Мальва, — в озерах водятся крокодилы. Алан повел животных к воде. Артур отнес туда пару походных стульев, чайник и свою пангу. И начал разводить костер. Гвенн наконец-то распаковала коричневый пузатый чайник для заварки от Рокингема. Любовно подержала его в руках. Вспомнила, как он согревал ее студеными вечерами в Уэльсе. Потом сполоснула его в реке и отдала Артуру. Умылась. Вымыла ноги в мелком озерце и босиком села пить чай. Она ждала, что Алан подойдет и сядет рядом. Но он завозился с фургоном и пришел, когда чай уже остыл. Гвенн натянула носки. За их спинами мирно паслись мулы; длинные веревки, которыми их привязали к акациям, не слишком ограничивали свободу передвижения. Неподалеку, среди хинных деревьев с плоскими вершинами, лопотали бабуины. Обезьяны поменьше шныряли вверх-вниз по стволам, раскачивались на сучьях, цепляясь то одной, то другой конечностью, и играли с бурыми стручками и розовыми цветками. Один крупный бабуин ковырялся в своих ярко-розовых деснах и длинных желтых зубах. Молодые самцы несли вахту, переминаясь с ноги на ногу и время от времени качаясь на руках. Внезапно бабуины-«охранники» пронзительно заверещали и заметались. Шерсть на затылках встала дыбом. Они мигом вскарабкались на высокие деревья. Все четыре мула в панике заревели. Они вставали на дыбы, как необъезженные жеребцы, и наконец, оборвав веревки, бросились к реке. Минута — и они исчезли в буше на другом берегу. Мальва ринулся за ними. Вода в реке доходила ему до пояса. Гвенн собралась последовать его примеру. — Оставайся здесь, Алан! — сказала она мужу, видя, что он хочет подняться на ноги. По его лицу пробежала тень унижения и обиды. Гвенн ласково дотронулась до его руки и понеслась к воде. Ее удивили сила течения и многочисленные ямы. Когда она выбралась на берег, на ней не осталось ни одной сухой нитки. Махнув Алану, она бросилась догонять Мальву. Без мулов на ферме можно ставить крест. Они с Мальвой загонят обезумевших от страха животных обратно. Будут кружить, тесня их к кромке воды, а там и через реку. Без обуви, в одних носках, Гвенн заставляла ноги ступать по сухой красноватой земле и колкой траве меж терновыми кустами. Наконец она различила знакомые очертания. Животные удалялись от нее, черные от пыли, помахивая длинными тонкими хвостами. Гвенн вошла в буш и бегом описала широкую дугу, как бы заключая в нее взбунтовавшихся мулов. Потом взобралась на высокий муравейник и увидела их примерно в двухстах ярдах впереди себя. Где же Мальва? Гвенн побежала дальше. Она снова потеряла мулов из виду! Окончательно выбившись из сил — к тому же ее подташнивало, — Гвенн опустилась на валун и уронила голову на руки. Потом учинила беглый осмотр своих изодранных носков и порезов на ногах. Она только сейчас почувствовала боль и спазмы в животе. И вдобавок ко всему поняла, что заблудилась. Главное — выйти к Эвасо-Нгиро! Тут на Гвенн повеяло мертвечиной, и она заметила на земле бурые пятна крови и следы волочения. Судя по отпечаткам копыт, жертвой была зебра. Не ее мул — потому что трупный запах был крепок. И тут она увидела другие следы, которые невозможно спутать с другими. Круглые кошачьи следы льва. Гвенн вспомнила Анну Голт, и ее прошиб пот. Господи милосердный, взмолилась она, пусть буш окажется ко мне милосерднее, чем к этому бедному ребенку! Она повернулась и бросилась бежать. Только бы ноги каким-то чудом вынесли ее к реке! И вдруг она услышала свое имя. Измученная, в неверном свете сумерек увидела три мужские фигуры: Алана, Мальвы и Артура. Мальва держал в руках винтовку. Артур вел под уздцы мулов. Гвенн взмахнула рукой и без сил опустилась на землю. Алан как только мог спешил ей навстречу. — Леопард, — сказал Мальва. — Мы обнаружили следы под деревьями, где раскричались бабуины. Должно быть, мулы учуяли запах. Лев, леопард — пронеслось в голове у Гвенн. Она беспомощно огляделась, ошеломленная дикостью открывшейся панорамы. Ни заборов, ни каменных стен, которые служили защитой крестьянам в Англии. Вернувшись к костру, Алан откупорил бутылку бренди. Гвенн вымыла ноги. Утром Алан встал первым. А когда вернулся в палатку, чтобы разбудить Гвенн, его голос показался ей немного более энергичным. Она села и протерла глаза. Так он больше походил на уэльского парня, за которого она вышла замуж. — Гвенни, я нашел первый межевой столб. Номер восемьдесят восемь. Это наш участок! В трехстах ярдах вверх по реке! Следующая веха должна быть ниже по течению. Целых пять дней Гвенн и Алан знакомились со своей землей. Их царапали ее шипы, освежали ее ручьи, пачкала ее пыль. Они вдыхали всевозможные запахи, менявшиеся с переходом от утренней сырости к погожему дню и вечерней прохладе. Растирали меж пальцами образцы почвы: от песка до суглинка. На высоте почти шесть тысяч футов днем по-прежнему было тепло, а то и жарко, но ветер нес прохладу. По вечерам на них веяло прохладой с далеких гор. На северной границе участка, где ручей перешел в заросшее папирусом болото, они обнаружили разрушенную ограду заброшенного крааля[11]. Шесть круглых хижин почти полностью вросли в землю. Различные оттенки смешались в один — серый. Покосившийся забор потерял форму. С ветвей осыпались пыль и птичий помет — как разложившаяся плоть со скелета. — Самбуру, — процедил Мальва. — Противнее, чем их родственники — грязные масаи. Когда-нибудь они вернутся — с копьями и голодными козами. — Они нападут на нас? — спросил Алан. — Нет, бвана, вас и мэм-саиб не тронут. Только коров и других животных. Каждое утро их будил аромат свежего хлеба — его выпекали в жестяной коробке на горячих углях. Они умывались в своей реке, пили крепкий чай и ели холодное мясо с теплым хлебом; с ломтей капал темный дикий мед. Потом оставляли Артура в лагере с мулами и дробовиком. Гвенн и Мальва брали винтовки, а иногда и лопату. Алан шел с общей тетрадью. Иногда Гвенн помогала Мальве копать ямки для проверки глубины плодородного слоя. Время от времени они с Аланом присаживались отдохнуть на валун. Алан записывал результаты измерений или разворачивал карту провинции. Положив руку на плечо мужа, когда он разглаживал ладонями мятую бумагу, Гвенн старалась не замечать невероятной худобы и слабости его пальцев. С востока и юга участок огибала Эвасо-Нгиро. Далеко на востоке простиралась Лолдайкская возвышенность. На севере холмы переходили в плато Лероги. На западе, уже вне пределов видимости, буш пересекали Эвасо-Нарок и другие реки, а за ними тоже вздымались холмы, ведущие к открытым пастбищам Лайкипии. К своему изумлению, Гвенн нашла охоту увлекательным занятием. Вынужденная изучать повадки животных и разбираться в них, она ощутила странную близость к тем существам, которых должна была убивать. — Мэм-саиб скоро станет заправским охотником, — сказал Мальва, глядя голодными глазами на только что добытую ею газель Гранта. С гордой улыбкой и ни о чем особенно не думая, его хозяйка коричневыми от загара руками перезарядила «энфилд». Ближе к вечеру, когда Гвенн охотилась, Алан отдыхал, набрасывая в общей тетради, которую он стал называть журналом, подробные карты каждого уголка их земли: с ручьями, колодцами, скалами, деревьями, красной почвой, засушливым бушем, оленьими тропами. Он носил журнал в своем вещмешке. Гвенн не могла припомнить, когда еще чувствовала себя такой молодой. На рассвете она поднималась, радостно возбужденная, словно юная девушка, собирающаяся на первый в жизни бал. Промозглая сырость Уэльса, кровавая мясорубка на полях сражений во Франции, позор и ужас на борту «Гарт-касла» — все это осталось далеко позади, в какой-то другой жизни. Она никогда не получала такого удовольствия от еды, как в эти первые дни в лагере. Каждый кусочек жареной цесарки или газели Гранта был несравненно вкуснее рождественского барашка в Денби. Гвенн возвращалась домой в сумерках, ступая по своей земле, проголодавшаяся, мечтая о еде. Ее бесконечно радовал приветственный рев мулов. За терновыми кустами весело потрескивал и манил к себе костер, разведенный Артуром для приготовления пищи. За чашкой чаю у огня Гвенн с Аланом изучали его записи и наброски и выбирали самое подходящее место для постройки дома. Даже обсуждать это — и то было счастьем, невообразимой роскошью. Наконец они выбрали место на полдороге вверх по высокому холму, откуда открывался самый живописный вид. Этот холм располагался на небольшом полуострове у излучины Эвасо-Нгиро. Алан приволок четыре крупных речных камня — отметить углы. С одной стороны будущего дома, словно зонтик, раскинуло плоскую крону хинное дерево. На ровной площадке за домом они разбили сад; скалы и крутой склон горы защищали его от ветра. У подножия горы они обнаружили родник и провели желоб до реки. Просто идеальное место, подумала Гвенн. Ясным солнечным утром отсюда была видна заснеженная вершина горы Кения. Этим вечером они засиделись у костра. Смотрели в сверкающую звездами ночь и мечтали — о бунгало, об урожае, о будущем. Впервые за все время пребывания в Африке они с Аланом поцеловались, как влюбленные. — Я хочу кое-что сказать тебе, Гвенни. — Алан завладел ее рукой и подался вперед. Ей стало страшно. — Я не уверен, что мы сможем иметь детей. Врачи сказали, мне понадобится какое-то время для восстановления. Гвенн не проронила ни слова. Подтвердились ее худшие опасения. Она откинула голову и поморгала, чтобы удержать слезы. Потом встала и поцеловала мужа в щеку. — Пора ложиться. В палатке она лежала без сна, не слыша звона цикад и кваканья древесных лягушек. Она протянула руку и нащупала худую, холодную как смерть руку Алана. Всю последнюю неделю она с ужасом считала дни. Задержка все увеличивалась. Гвенн все чаще вспоминала пророчество Энтона Райдера: «Но сначала вас ждут страдания».Глава 19
Энтон лежал в шалаше почти без движения. Рана на животе от отравленной стрелы доробо словно обуглилась — покрылась черными струпьями. Две ночи подряд он бредил. Боль была повсюду, она распухала в нем, жгла внутренности. На шестой день осталась только боль от ожога; однако стоило ему пошевелиться, как напоминали о себе сломанные ребра. В последующие дни он уже мог читать — вслух или про себя — любимые главы. «Глава 9. Памятный день рождения». «Глава 11. Я начинаю жить самостоятельно, и это мне не нравится». Иногда они с Кариоки возобновляли занятия. Или он просто лежал и думал. Слушая шелест дождя и громкий шум водопада, размышлял об Англии, цыганах, девушке из спасательной шлюпки, Гвенн Луэллин и о привольной жизни в Африке. Что ждет его в Кении? Встретит ли он еще Гвенн Луэллин? Хорошо, что он поцеловал ее. Энтон не мог забыть ее глаза, волосы и теплую гладкость кожи. И ее ладонь в его руке во время гадания. Вспоминает ли она о нем? Два африканца-доробо навещали его каждый день — приносили еду. В первый вечер они принесли полый стебель бамбука, наполненный кровью буйвола. Кариоки вылил содержимое стебля в кастрюлю, посолил и разогрел на костре. — Выпей скорее, Тлага: в тебя вольется сила черного быка. — С этими словами Кариоки поднес к его губам вкусный темный бульон. Никогда прежде Энтон не знал такой заботы. Доробо приносили мед, лесные ягоды и свежее мясо. Чтобы ускорить его выздоровление, они заставляли Энтона есть толстые медовые соты, в которых иногда застревали неповоротливые пчелы. Вместо ложки запихивали липкую животворную массуему в рот щепочкой бамбука. В этот предвечерний час, оставшись один и слушая шум дождя, Энтон отложил книгу и сделал то, от чего его настоятельно предостерегали все гадалки. Он сложил ковшиком ладонь и стал изучать понятные любому предсказателю бугорки и линии. Что он прочитал бы на этой широкой, мозолистой ладони, если бы она принадлежала постороннему человеку? Линия жизни сильна, но еще не вполне оформилась. Этого человека ждут путешествия. Женщины. Два брака, двое детей и неплохой шанс разбогатеть. Но вот эта прерывистая ломаная линия неопровержимо свидетельствует о насилии. Кариоки частенько садился у входа в шалаш, поддерживая огонь и укрывая Энтона от холода. Однажды рано утром Кариоки взял копье и ушел, оставил в пределах досягаемости Энтона винтовку. Вернулся он уже в сумерках, с чем-то, завернутым в бамбуковые листья и перевязанным так называемой лесной травой — тонкой, но прочной. Энтон развернул сверток и обнаружил шарики желеобразного животного жира. — Это жир муравьеда, гигантского пожирателя муравьев, — объяснил Кариоки. Он часто удивлялся: почему на белых все так долго заживает? На войне он не раз наблюдал, как молодые офицеры умирали от ран, которые уложили бы африканца в постель на какие-нибудь сутки, не больше. Но, по крайней мере, этот белый — хороший ходок, когда здоров, и не скулит, как баба, если ранен. — В моей деревне старики употребляют жир муравьеда для крепости рук и ног. Благодаря ему мы поставим тебя на ноги раньше, чем эти знахари-доробо успеют тебя прикончить. Когда выздоровеешь, посмотрим, кто такой Тлага: охотник или заблудившийся в лесу мальчонка. И под силу ли тебе убить бонго. По утрам Кариоки натирал плечи, грудь и живот Энтона жиром муравьеда. А вечером клал ему руку на плечо и начинал нашептывать, и смеяться, и возвышать голос от возбуждения, рассказывая сказки о юном Копперфилде, охотящемся у подножия горы Кения. — Я уже рассказывал тебе, Зоркий Глаз, о том, как Дэвид отплясывал с дикими кабанами? Однажды поутру Энтона затошнило от собственного запаха; он встал и немного скованной походкой направился к озеру. Скинул меховой плащ. С неба сыпался мелкий моросящий дождь. Энтон вошел в воду — прямо в грязной рубашке и шортах. Прохладная свежесть утра придала ему бодрости. Он разделся догола и, забросив одежду на берег, поплыл к водопаду. Мышцы в воде расслабились; тело больше не было напряженным. Он подплыл туда, где вода низвергалась с последнего уступа, и взобрался на него. Вода выдолбила на площадке гладкое углубление. Энтон забрался туда и лег на спину. Сверху на него низвергались радужные струи. Наконец он поднялся, дрожа от холода, и снова спрыгнул в озеро. У подножия водопада дно было особенно глубоким. Энтон нырнул и открыл под водой глаза, чтобы как следует рассмотреть песчаное дно и ступенчатое подножие скалы. Потом он с шумом вынырнул на поверхность и поплыл обратно. На уровне его глаз стелился туман. Энтон вспомнил, как он, зажав в зубах кепку с голубыми яйцами цапли, переплывал озеро в окрестностях Рагби. Как однажды увидел на берегу Стоуна. Его окружал собор из высоченных деревьев. Дождь еще шел. На дальнем берегу озера Энтон заметил сквозь туман карликовую антилопу с короткими рожками. У нее была каштановая шкура с красноватым оттенком. Не та ли это африканская антилопа, которую он упустил, когда на него напал буйвол? Неужели это тоже Африка? Энтон выбрался на берег близ водопада — нагой, но чистый и наконец-то здоровый. Обеими руками стряхнул с себя воду. Потрогал темный рубец на животе и застарелый след от ожога на сгибе локтя. Провел пальцами по груди и нащупал то место, где срослись и уже почти не причиняли боли три ребра. Ущипнул шишку на переносице.* * *
— Вот теперь ты похож на мужчину, Зоркий Глаз, — с гордостью произнес на следующий день Кариоки. Он открыто любовался Энтоном — тот был в серых пятнистых шортах, потрепанной рубашке, жилете из кожи дамана и обезьяньем плаще. — Но стоит мне закрыть глаза, как я чувствую запах белого человека. Хуже водяного козла. Перед тем как охотиться на бонго, нужно будет смыть с тебя этот запах. Ну, а теперь — в путь. Забросив вещмешки за спину, они обогнули озеро и двинулись сквозь бамбуковые заросли в ту сторону, где вставало солнце. Густая, непроходимая чащоба, которая оттолкнула его в первый раз, теперь представлялась Энтону если и не садом, то лесопарком — с тайными тропами, хитроумными охотниками, медом, пением птиц, белками-летягами, летучими мышами, барсуками и еще какими-то не известными ему существами. — Скоро Тлага увидит обитель Нгаи, — торжественно сообщил Кариоки, бросая свой плащ и вещмешок на опушке бамбуковых зарослей. — Вот зачем нужно было дожидаться конца сезона дождей. Золотые лучи восходящего солнца разогнали туман и глубоко проникли в открывшуюся их глазам обширную долину — с сочной зеленой травой, пересекающими ее во всех направлениях ручьями и банановыми рощами. Здесь пахло вереском и ранней альпийской весной. На опушке леса паслись два черных носорога — длиннорогая самка и детеныш. Энтон вытащил из вещмешка и отдал товарищу несколько угольно-черных свиных отбивных. Они сели перекусить и одновременно полюбоваться очищающимся от туч небом. На горизонте высились две вершины. Слегка ослепленный ледяным блеском двух пиков-близнецов, Энтон узнал гору Кения. Набрав горсть земли, Кариоки поднялся и, беззвучно пошевелив губами, бросил ее перед собой в направлении горы. Потом развернул шкуру и угостил Энтона куском медовых сот, которые уберег от насекомых. Но прежде чем начать лакомиться, уронил на землю несколько капель меда. — Это для Нгаи, — ответил он на невысказанный вопрос друга. — Надо бы мне научить тебя почитать Бога. — Видишь ли, Тлага, — сказал Кариоки, когда они подошли к ручью, — отсюда, со святой горы Нгаи, пошли люди. Сначала Бог сотворил Кикуйю — высокого и могучего. Потом Мамби — главную жену, мать девятерых крутобедрых дочерей. Энтон сложил руки ковшиком и напился из ручья. Никогда он не пил такой чистой и свежей воды! — Из их чресел вышло девять кланов моего народа, — продолжил Кариоки. — Потом, немного расслабившись, Нгаи создал зверей, масаи и — в последнюю очередь — белого человека.* * *
Когда они вернулись за вещевыми мешками, с оставшегося куска сот поднялось облако маленьких белых бабочек. Они шли вперед по заболоченной долине; под ногами чавкал и прилипал к ботинкам зеленый мох. Наконец Энтон и Кариоки немного поднялись по склону и вошли в лес. Здесь было гораздо суше, чем на месте предыдущего привала. Характер леса постепенно менялся. Поначалу преобладали продолговатые островки бамбука — словно болото тянуло вверх хищные пальцы. Выше пошли густые заросли древовидных папоротников. Потом лес начал редеть; стали чаще попадаться зеленые поляны. Залитые солнцем прогалины поросли горной травой и незнакомыми лилово-розовыми цветами с удлиненными лепестками. Путешественники устроили лагерь у подножия скалы под раскидистой кроной дикого инжира; массивные серые ветви свисали чуть ли не до земли. — Переночуем здесь, Тлага: священное дерево моего народа принесет нам удачу. Вверху затрещали сучья. Подняв голову, Энтон увидел карликовых обезьян, лакомившихся крохотными плодами на коротких черенках — фигами. Отведя в сторону ползучие лианы, Кариоки прижался лбом к гладкой коре дерева. — Не будем разводить костер. Пусть твое ружье молчит до тех пор, пока ты не отыщешь отца всех бонго. Кариоки разбудил Энтона затемно. — Разденься, Тлага, и натри этим свою вонючую кожу. — А ты, Кариоки? — полюбопытствовал Энтон, втирая в кожу что-то вроде слоистого табака. — Даже в темноте, Зоркий Глаз, твое тело до неприличия бело — словно брюхо у крокодила. Взгляни на мое. Черное, как рога бонго, и безукоризненно гладкое, если не считать тех мест, где твой немецкий друг поставил на него заплаты — все равно что слепая старуха пыталась починить плетеную корзину. Ну вот. Наконец-то от тебя пахнет лесом. Оденься и возьми с собой винтовку и кусок мяса — больше ничего. И довольно разговоров. Голос белого человека еще противнее его запаха, а у бонго большие чуткие уши. Кариоки окинул Энтона критическим взглядом и подавил в себе желание рассмеяться. Он допоздна водил друга по лесу. Не обращая внимания на прочую дичь, переходил от ручья к ручью и от скалы из каменной соли к водоему, выискивая на земле отпечатки раздвоенных копыт бонго. Кого только они не встретили! Гигантских лесных кабанов, носорога, небольшое стадо южноафриканских антилоп и дикобраза. Перед наступлением темноты они наткнулись на круглые отпечатки слоновьих ног. Чтобы заглушить звук шагов, Энтон начал ставить ноги в отчетливые слоновьи отпечатки. — Так мы никогда не найдем бонго, — упрекнул Кариоки. — Всем известно: ходить по следам слона приносит несчастье. На четвертый день свежее мясо кончилось, и они перешли на ягоды и сухие ломтики копченого мяса бушбока. Их путь пролег через густой темный лес, где все — и деревья, и воздух — пропиталось сыростью. Приходилось ползти по земле, прячась под поваленными стеблями бамбука. Им попался мелководный ручей, с водой, достающей до колен. Энтон и Кариоки пошли по воде. Она смыла следы и приглушила звук шагов. Холмистая местность понемногу выровнялась, а ручей влился в маленькое озеро. С трудом передвигая окоченевшие ноги, Энтон выбрался на сушу. Кариоки присел на корточки и стал изучать застарелые следы на мягкой траве. Наконец он поднял вверх два пальца одной руки, потом один, а другую низко над землей, ладонью вниз. Все это означало: самка с детенышем. Энтон впился глазами в овальные, чуточку вогнутые с внутренней стороны отпечатки копыт. Кариоки указал на куст с частично обглоданными листьями. Энтон внимательно изучил оголенные побеги, определяя по длине засохших концов время кормления. Он достал из кармана щепотку золы, чтобы определить направление ветра. Кариоки одобрительно кивнул. Путешественники вновь вошли в воду и прошли примерно тридцать ярдов против течения. Выйдя затем на берег, юноши залегли в подлеске, откуда хорошо просматривалось озеро. Энтон беззвучно молил Бога, чтобы самец бонго явился на водопой. Направление ветра изменилось. Всю ночь они пролежали на животе. Плащи из шкур задубели на ночном холоде. Время от времени до их ушей доносился рев бушбока или трубный клич слона. На заре лес огласился птичьим пением. Обезьяны с красными спинами и белой оторочкой вокруг шеи выглядели почти элегантно и, качаясь на ветвях, устроили оживленную перекличку. Энтон вырыл в земле ямку и, бесшумно перевернувшись набок, облегчился. Кариоки проснулся, но целый час лежал без движения. Потом они встали и молча зашагали по берегу ручья, в сторону верховья. Примерно через час охотники наткнулись на свежий помет двух бонго. Они долго шли по следам — пока те вдруг не пропали под свежеопавшими листьями бамбука. Юноши бросились описывать круги, прочесывая лес, и нашли следы, однако те привели к воде — и снова исчезли. Пошел дождь. Энтон и Кариоки вырыли яму и залезли туда на ночлег, накрывшись вывернутыми мехом внутрь шкурами. Энтон проснулся в тревоге. По его левой ноге под плащом из обезьяньей шкуры кто-то полз — медленно и щекотно. Время остановилось. Энтон подавил желание вскочить на ноги. Его словно коснулось большое мокрое бревно — только живое, потому что оно ритмично раздувалось и сжималось. Прикосновение было очень легким, почти неуловимым — даже в момент разбухания. Потом Энтон и вовсе перестал что-либо чувствовать. Он по-прежнему не двигался — зато в голове с лихорадочной быстротой проносились мысли. Он понял, что это такое. Гигантская змея. Слева от него, в каких-нибудь двух-трех. футах, спал Кариоки. Невидимое существо — возможно, привлеченное исходившим от юношей теплом — снова зашевелилось. Энтон ощутил его прикосновения сразу в нескольких местах: у сгиба левого локтя, возле лица и в области лодыжки. Такая длинная и толстая змея могла быть только питоном! Он вспомнил иллюстрацию к одной из книг из библиотеки фон Деккена. Восемь африканцев шествуют гуськом; каждый, словно полено для костра, несет на плече обрубок туловища питона. А неподалеку на земле валяется огромная голова и футов пять туловища; из чудовищной разверстой пасти удава, как из тугого воротника, торчит голова молодого бушбока. Две пары мертвых глаз производили жуткое впечатление. Только рога жертвы помешали удаву, вслед за переломанными ногами и туловищем бушбока, сожрать голову. Два ряда загнутых назад зубов вонзились бушбоку в шею. Текст под картинкой гласил: сам по себе укус питона не смертелен, но оказывает парализующее действие. Когда змея снова затихла, Энтон прикинул: ее голова — величиной с голову маленького осла — должна находиться на уровне его собственной. Ему удалось справиться с паникой. Все было тихо, только капли дождя барабанили по их меховым плащам. Три головы лежали в ряд. Спят ли те двое? Энтон понимал: винтовка здесь не поможет. Он начал медленно — ужасающе медленно и осторожно, чтобы не шевельнулись остальные мышцы — высвобождать правую руку из-под тяжести тела. Потом точно так же освободил от ножен свой нож. И замер. Минуты казались вечностью. Энтон не знал, способен ли питон ощущать страх, как другие животные. Или тепло. Может быть, дождь и запахи мертвых шкур притупили его обоняние? Рядом что-то дернулось. Энтон вскочил, ничего не видя в темноте и боясь пустить в ход нож, чтобы не ранить друга. — Тла..! — только и успел выкрикнуть Кариоки. На берегу ручья разгорелась схватка. Человек и питон барахтались в месиве из грязи и опавших листьев. Понимая, что он может помочь Кариоки, только разделив опасность на двоих, Энтон набросился на вздымающуюся массу. К этому времени питон успел дважды обвиться вокруг торса Кариоки и прижать одну его руку к боку, а другую захватить челюстями. Левой рукой Энтон скользнул вдоль тела питона, но, не дойдя и до середины, ощутил мощные спиралеобразные движения колец, подбиравшихся к шее жертвы. Кариоки с силой взбрыкнул, и все трое свалились в ручей. Три тела сплелись в один тугой комок, стали как бы одним существом. Голова Энтона очутилась под водой. Гигантская змея обвилась вокруг его ног и сжала так, что он перестал их чувствовать. Энтон задержал дыхание и вонзил в питона нож — в том месте, где он обвился вокруг спины Кариоки. По твердому, толстому, как ствол дерева, телу змеи пробежала судорога. Питон изогнулся над водой и выдернул Энтона на поверхность, а тот, вцепившись в него одной рукой, продолжал неистово орудовать ножом, словно пилой. Он боялся, как бы у Кариоки не сломался позвоночник. Нож прошел сквозь тело питона и ранил Кариоки. Только узкая полоска кожи и мышц еще соединяла две части туловища омерзительной гадины. Яростно изогнувшись, питон разорвался надвое. Нижняя часть содрогнулась — и умерла. Хвост питона больше не держал ноги Энтона мертвой хваткой. Отчаянно работая руками, Энтон выбрался на берег и стащил с себя мертвые кольца. Но не успел он встать, как на него обрушились Кариоки и верхняя, еще живая часть змея. Пытаясь ощупью найти в темноте шею питона, Энтон наткнулся на твердую приплюснутую голову. Он вонзил в нее нож. Змея разомкнула челюсти и отпустила руку африканца. Энтон продолжал кромсать. Кариоки вскрикнул от острой боли. Энтон почувствовал, как отсеченная голова питона скользнула вдоль его торса. Несколько секунд, показавшихся Энтону вечностью, оставшаяся часть туловища — что-то около десяти футов — еще жила: билась и изгибалась, то ослабляя хватку, то с новой силой стискивая Кариоки. Энтон продолжал полосовать ее, спасая друга. Наконец все стихло. Оба юноши рухнули на берег, под дождем, дрожа и задыхаясь. Страх уходил медленно, постепенно. В свете занимающегося утра стало видно: рубашка на Энтоне разодрана; вся грудь — в омерзительно розовой слизи. Охотники искупались в ручье. Энтон окинул взглядом то место, где только что разыгралась кровавая схватка. Развороченный, словно по нему прошелся плуг, берег являл собой месиво из сломанных веток, шкур убитых животных и окровавленных кусков питона; чешуя оливкового цвета переливалась в рассветных лучах. Хищная голова наполовину покоилась в воде. Обрывки кожи и раскромсанной плоти обрамляли ее кроваво-красным воротником. Энтон не был ранен, только ребра вновь напомнили о себе. Зато Кариоки стонал и прижимал ладонь к лицу. Уже находясь при последнем издыхании, питон повредил ему левый глаз. Энтон зажал лицо друга ладонями — как в тот раз, когда Эрнст «штопал» его на ферме «Гепард» — и большими пальцами разлепил веки. Энтон всмотрелся в глаз. Зрачок остался круглым, но нижняя часть роговой оболочки покрылась царапинами и помутнела. Кариоки промыл глаза. Энтон оторвал от того, что было его рубашкой, один рукав и, тщательно прополоскав, забинтовал левый глаз Кариоки. — Следуй за Тлагой обратно в лагерь, Кариоки, — произнес Энтон, подбирая копье, винтовку и то, что осталось от их одежды. — Завтра мы отправляемся в деревню твоего отца. Оставим бонго до следующего раза. Этот лес слишком опасен для моего чернокожего друга. В лагере Кариоки лег на берегу ручья и опустил голову в воду. А когда поднял, обратился к Энтону с вымученной улыбкой. — Вечно твоя помощь немного запаздывает, Тлага. — Энтон так и не понял, шутит Кариоки или говорит серьезно. — Ну, а теперь тебе придется поискать особый древесный гриб — киранги. Он растет только на старых стволах бамбука. А я пока разведу огонь. День уже клонился к вечеру, когда Энтон подошел к самому большому островку бамбука, на который он обратил внимание неделю назад, когда они вошли в лес. Инстинкт подсказал ему передвигаться как можно тише; он шел, пригибая голову, под сломанными стволами, стараясь сохранить равновесие, ступая по скользким упавшим веткам, и безотчетно избегая опираться на стволы: они могли оказаться гнилыми. Голова его то и дело подпрыгивала и ныряла, как у дятла: он боялся поранить лицо об остроконечные побеги. На краю просеки стояло несколько очень высоких бамбуков, задыхающихся в цепких смертоносных объятиях виноградных лоз и лиан. Энтон вспомнил наставления Кариоки — искать самые старые деревья. Он нашел древесный гриб у основания самого высокого дерева — сначала в виде похожей на тончайшее кружево плесени, а затем — в виде губки. И, прислонив «меркель» к поваленному стволу, достал немецкий нож. Уже собравшись соскоблить «губку» на кусочек кожи дамана, который он носил в кармане шорт, Энтон услышал на другом конце поляны треск ломаемых сучьев. Взявшись одной рукой за винтовку, он осторожно выглянул из зарослей бамбука. Он застыл, как вкопанный. Сначала в бледных лучах заходящего солнца блеснули янтарным блеском кончики рогов. Наконец показались и сами великолепные черные рога длиной около трех футов, закрученные спиралью. Два больших овальных уха подрагивали, прислушиваясь к тому, что не дано услышать человеку. На поляну вышел роскошный самец винторогой антилопы. Бонго оказался куда массивнее, чем представлял себе Энтон, — с крутым, словно горб, загривком, могучей шеей и сильными задними ногами. На лоснящихся густо-каштановых боках отчетливо выделялись двенадцать вертикальных белых полос. Животное повернуло голову в сторону бамбуковых зарослей. Энтон увидел на каждой щеке по два больших белых пятна и еще одно — меж глаз животного. В голове мелькнуло: «Отмеченный Богом». Бонго легко повернулся на черно-белых ногах и стал ощипывать высокие кусты. Энтон вспомнил другое животное, которое так же мирно лакомилось листочками, — старого зайца в Виндзорском парке. Того самого, из-за которого он очутился в Африке. Гигантский самец продолжал есть. Энтон убрал нож в ножны. Приноравливая свои движения к мерному постукиванию друг о друга бамбуковых стволов и шороху листьев, поднял винтовку. Зверь глубоко погрузил величественную голову в крону дерева. Энтон снял предохранитель. Гуго фон Деккен был бы доволен. Идеальный выстрел в сердце с расстояния в сорок ярдов. Бонго повернул голову в профиль и потряс тяжелыми рогами. На янтарных кончиках рогов еще мелькали отблески заката. Он был слишком прекрасен, чтобы его убить. Энтон опустил винтовку.ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1920
Глава 20
Все четверо сидели на веранде, наслаждаясь выпивкой и горячими индийскими пирожками с горохово-луковой начинкой. По подъездной аллее приближались две атлетические фигуры в плащах из обезьяньих шкур. — Алан Квотермейн собственной персоной! И Амбопа, будь я проклят! — воскликнул Пенфолд, обращаясь к жене и Васко Фонсеке с сестрой. На рабочем столе рядом с креслом Адама Пенфолда ждали пузырьки с разноцветной эмалевой краской и пять оловянных фигурок, среди которых четверо были персидскими стрелками из лука, а одна — греческим воином. Богато инкрустированный щит грека уже почти высох. Скоро он сможет воевать. — Кто это — Алан Квотермейн? — поинтересовалась Анунциата, не отводя глаз от приближающейся фигуры англичанина в плаще из звериной шкуры. — У него такие же плечи, как у этого? — Квотермейн — отважный герой «Копей царя Соломона», — ответила Сисси. — Этакая романтическая чушь, привлекающая английских мальчишек в Африку. Адам обожает такие вещи. Правда, мое сокровище? — Истинная правда, дорогая. — Пенфолд перевел взгляд на Анунциату и стряхнул с кисточки из шерсти импалы немного бронзовой краски. — А Амбопа был негром, слугой Квотермейна. Расхаживал в чем мать родила. — Вообще-то Амбопа был сыном короля и верным другом Квотермейна, — нехотя поправил Пенфолд, сознавая бессмысленность своей попытки. Он вгляделся в двоих мужчин. — Кажется, этого чернокожего дикаря я уже встречал — не припомню, где. Не доходя до отеля, мускулистый африканец с кожаной повязкой на глазу свернул с аллеи и устремился в деревню. — А по-моему, белый — тоже дикарь, — лениво заявил Фонсека, стряхивая с мятого белого пиджака сигарный пепел. — Он практически босой. Копыта моей лошади — и то чище. — Почему бы тебе не спросить у него самого, дорогой братец? Анунциата пристально разглядывала рослого молодого человека с потрепанным вещевым мешком и начищенной, без единого пятнышка, двустволкой. — Здравствуйте, — сказал Энтон, приподнимая коричневую шляпу. — Приветствую вас, сэр, — живо откликнулась португалка, выпрямляясь в плетеном кресле и рукой поправляя блестящие черные волосы. — Мое имя — Анунциата Фонсека. Мой брат, присутствующий здесь Васко Фонсека, жаждет выяснить: вы случайно не дикарь? — Возможно, мэм, но предоставим ему самому судить об этом — после того, как он задаст мне соответствующий вопрос, — беззлобно ответил Энтон, наслаждаясь их обществом после затянувшегося пребывания в буше. — Меня зовут Энтон Райдер. — Добро пожаловать в «Белый носорог». Я — Адам Пенфолд, — представился владелец отеля, ощущая некоторую неловкость из-за перемены в Анунциате. Тем не менее, он с дружелюбной улыбкой протянул Энтону руку. — Похоже, вам не мешает выпить. Оливио! Оливио! — Может, присядете? — предложила Сисси, указывая на свободный стул рядом с собой. — Отобедайте с нами. Если, конечно, не боитесь скуки. — Спасибо, мэм. — Энтон опустил на пол вещмешок, повесил на перила меховой плащ и сел на ступеньку. — Если здесь есть где умыться и переночевать, буду счастлив составить вам компанию. — Вечно ты весь вывозишься в краске! — попрекнула Сисси мужа. — И все кругом пачкаешь. Энтон смотрел, как Пенфолд закручивает крышки на бутылочках, и вспоминал Зебру.* * *
У женщин нет ни стыда, ни совести, думал Оливио, стоя на своем посту под барсучьей головой с перекинутым через руку полотенцем и время от времени шепотом отдавая приказы официантам. На его глазах хозяйка с Анунциатой на все лады изощрялись перед молодым англичанином, соперничая между собой, как две мартовские кошки. Уже нарядившиеся к обеду, после появления парня они рванули в свои комнаты — наводить красоту. Но одной это не пошло на пользу. Румяна на щеках леди Пенфолд ничуть не омолодили ее, а лишь подчеркнули лошадиную форму головы. Зато Анунциата — с замиранием сердца подумал карлик — распахнула врата ада. Шелковая кремовая юбка вздымалась, как волны вокруг корабля. Ворот был расстегнут на одну пуговку больше, чем обычно. Если бы Анунциата была бутылкой шампанского, пробка так и вылетела бы в потолок. — Из какой вы области Англии? — спросила Сисси Пенфолд, вперяя в молодого человека манящий взгляд. Обычно ей не составляло труда установить это по выговору. Опять же — предлог для привлечения внимания. — Отовсюду понемножку, мэм. «Что только эта стерва о себе воображает?» — мысленно возмутился Оливио, наполняя бокал хозяина и вытирая горлышко бутылки. Если этому огородному пугалу удалось попользоваться его собственными милостями, она уже возомнила, будто способна заарканить такого парня! — Называйте меня Сисси, — жеманно улыбнулась леди Пенфолд, от чего сухая кожа на ее физиономии натянулась еще больше. Запах — вот чем ее всегда привлекали молодые мужчины! От этого пахло медом. Так и хочется всего обнюхать! — Вы ездите верхом? — Да. — Чудесно! Участвуете в сафари? Или в соревнованиях? — Скорее в загородных ярмарках, — туманно ответил Энтон. Ему было неловко и немного смешно от такого ажиотажа. — Понимаю, — начала Сисси, но Анунциата не дала ей договорить. — Кататься с нашей хозяйкой — незабываемое приключение! А вы бы не поучили меня обращаться с вашей замечательной винтовкой? Скажем, сегодня вечером, когда станет прохладнее? — Конечно, мэм. — Энтон скосил глаза на пшеничный пудинг и тушеные плоды манго, только что поставленные перед ним официантом. Сисси поджала губы. С одной стороны, ее шокировала подобная наглость, а с другой — может, эта сучка отстанет от ее мужа? «Стыд-позор! — негодовал Оливио. — Обе сделали стойку на этого мальчишку. Похоже, он из тех, кто ловит без удочки». — Боюсь, нашему юному другу Райдеру так и не дадут отдохнуть, — произнес Пенфолд, страшно огорченный интересом Анунциаты к молодому человеку. — Как по-твоему, Фонсека? Хоть бы поесть дали. Самое разумное — отступить. Если он хочет, чтобы она когда-нибудь вернулась, нельзя обнаруживать свою ревность. «Лучший забор — никаких заборов», — говаривала одна его старинная приятельница. — Этот край понемногу становится бойким местом, — продолжил Пенфолд. — Всех потянуло на север. Как-то там дела у Луэллинов? Хотите мармита, молодой человек? — Если вы будете так добры. — У Энтона подпрыгнуло сердце. — Вы сказали «у Луэллинов», сэр? Он почувствовал на себе пристальный взгляд Анунциаты. — Прелестный дикий цветок по имени Гвенн таскает за собой по нашей дикой земле своего увядшего мужа, — пояснил Фонсека, отставляя свой стул и при этом безбожно царапая пол. Он вынул из кармана конверт и, не поворачивая головы, протянул карлику. — Время сиесты. На вот, отправь письмо. Оливио поклонился. — Конечно, сеньор. После кофе он пристроился на кухне, за бочкой любимых маслин хозяина. Во внутреннем кармане кушака лежало письмо Фонсеки лиссабонскому адресату. Оливио сжал ладони и растер между ними сухие шершавые листочки — получился замечательный порошок зеленого цвета. И вдруг увидел в окне ненавистную фигуру Кариоки, устремившуюся к бунгало хозяина. Еще одна неприятность! Неужели ему никогда не удастся покончить с врагами? Оливио вспомнил тот вечер, когда Кариоки застал его, невинно забавляющегося с маленькой Киной. Кроме этого дикаря, только два человека на свете посмели поднять на него руку. При мысли о такой беспримерной жестокости Оливио крепче стиснул ладони. Всякий раз, стоило ему, благодаря смекалке и огромным усилиям, чего-то добиться, как какой-нибудь обидчик напоминал о его физическом несовершенстве. Первые двое мучителей — главарь банды уличных подростков в Индии и английский офицер, застигнувший его за актом шпионажа, — уже заплатили. На коврике в углу заскулил Ланселот. Отвратный звук напомнил Оливио о его намерении. Он добавил к ядовитому порошку щепотку жженого сахара. Глядя в окно на хижину Китенджи, карлик размышлял о том, как бы свести счеты с другим своим врагом. Ответ мог быть только один: Кина. Он повернулся к жалобно подвывающему зверю. Худобой Ланселот уже перещеголял свою хозяйку. Оливио нагнулся к нему и принюхался. Чуткие ноздри уловили запах гниения и близкой смерти. Он положил адскую смесь в собачью миску. Что, кроме мести, может дать человеку столь сильные и острые ощущения? Любовь? Видал он любовь — не раз наблюдал за тем, как она всходит и заходит быстрее зимнего солнца! Но месть — о, месть передается из поколения в поколение, иногда даже из века в век. В воспоминаниях Оливио заново пережил свой первый опыт мщения. Два года молодой Рамшан издевался над ним — над его маленьким ростом, смешением рас в его крови, даже над круглым черепом. Другие мальчишки учились выпрашивать милостыню, красть и совершать набеги на темные аллеи и шумные базары Гоа, но Оливио не был допущен в их компанию. Он был слаб, медлителен, не умел как следует играть, драться или удирать от погони. Но однажды он предложил им хитроумный план ограбления — более соблазнительный и менее рискованный, чем прежние. Предполагалось свалить вину на мальчишек из других шаек. При этом новом способе даже его маленький рост становился преимуществом. Однажды вечером, перед закрытием, карлик спрятался под столом в лавке медника. Выждав сколько нужно, он отпер дверь и впустил Рамшана и остальных. Но когда парни удирали, прихватив светильники, тарелки и кастрюли, один из них зацепился за порожек и упал. Поднялась тревога. Попался один Оливио. Оказавшись перед выбором: подвергнуться порке или получить вознаграждение, — пятнадцатилетний карлик выбрал второе. Он выдал Рамшана. Спустя неделю разъяренный хулиган нашел его. Весь в синяках и ссадинах после порки, Рамшан заставил Оливио влезть в мешок и, затянув веревку, потащил в док, волоча по разбитым, в навозе, улицам. Наконец мешок разорвался, и показался Оливио — весь в порезах. Никогда ему не забыть пережитого в тот ужасный день! Он услышал возбужденный гул голосов — собрались мальчишки. Оливио снова запихали в мешок и сбросили в какую-то вязкую жидкость, которая быстро впиталась в мешковину. Карлик принюхался. Оливковое масло. Но прогорклое — не то ароматное оливковое масло, которое он обожал. Потом парни бросили мешок на каменный пирс и разрезали. Схватили Оливио. Поднесли к открытой бочке. Там плавала дохлая крыса со вспоротым животом и распухшими внутренними органами. Парни сорвали с карлика одежду и окунули в бочку вниз головой. Они измывались над ним несколько часов подряд: заставляли играть с крысой, высмеивали его имя, вынуждали пить масло и есть протухшие оливки. Под конец они вываляли его в красном порошке карри и пустили по улице, где промышляли проститутки. К счастью, в Индии месть — плевое дело! Оливио понадобилось полгода, чтобы, поработав массажистом в борделе, собрать нужную сумму. Опять же, там он постиг искусство интимного массажа, стал подлинным мастером сурьмы и киновари — чернил женщинам веки, красил губы и обводил карминной краской соски. Он научился пользоваться своим толстым языком, когда приходилось каждую ночь трудиться над увядшими прелестями индийской мадам — и представьте, даже ее удавалось привести в чувство! В отличие от Африки, где все делается кое-как, в Индии и Гоа над удовлетворением любой человеческой потребности трудятся профессионалы, у которых за спиной — опыт многих поколений. Каждая каста и подкаста занимается своим ремеслом. Уголовный мир тоже имеет свой устав и приверженцев. Однажды утром Рамшан сидел, скрестив ноги, на воровском рынке — надеялся обменять на что-нибудь подходящее рулоны краденого хлопка. Над ним склонился какой-то человек и предложил большой кувшин масла для лампы. Сообщник этого человека подкатил запряженный волами фургон странствующего кузнеца. В глубине повозки на массивных цепях держалась переносная печь; горели угли, и калилось железо. Одно колесо повозки нечаянно наехало Рамшану на правую ногу, раздробив тонкие кости. Парень завопил. На него так же нечаянно опрокинулся кувшин с маслом, а затем открылась печь; на Рамшана посыпались раскаленные угли. Масло воспламенилось. Последним, что сохранилось в памяти Оливио, наблюдавшего за спектаклем из соседнего закоулка, была огненная фигура, которая силилась подняться на одной ноге и бешено размахивала руками, что делало ее похожей на пылающий крест. Совсем как фейерверк, удовлетворенно подумал Оливио, устраиваемый португальскими моряками в день их святого. Вот какие воспоминания пронеслись в голове у карлика, пока он подсматривал за вышедшими из убогой хижины Китенджи и его сыном Кариоки. На этот раз старый мошенник опирался не на посох, а на плечо сына. Он собрал вокруг себя жителей деревни. К сожалению, Оливио не мог слышать их разговор, но с отвращением наблюдал за почестями, воздаваемыми сыну вождя по случаю его возвращения. К собравшимся подбежала Кина; пухлые голые груди стояли торчком. Вот что значит молодость! Оливио облизнулся. Кариоки отстранил других и обнял сестру. Как можно так бесстыдно обниматься — пусть даже с братом? Безобразие! Пора вырвать ее из лап этих собак!* * *
— Я правильно держу? — спросила Анунциата, лаская Энтона взглядом больших карих глаз. Она стояла рядом с ним на коленях на дне высохшей речушки. Крутые берега поросли терновником и маленькими желтыми цветами с пурпурной середкой. Анунциата оперлась локтем левой руки на колено. К правому плечу она приставила тяжелый «меркель». — Покажи еще раз. Энтон опустился рядом на корточки и заглянул в оба подрагивавших ствола, остро ощущая близость ее тела. Волосы женщины коснулись его щеки. Он затаил дыхание, упиваясь ароматом ее духов. Пульс участился. Только бы она не заметила! — Положите левую руку вот сюда, чтобы сместить центр тяжести. Крепче прижмите оружие к плечу. Вот так. Португалка откинулась назад. Они оба свалились на землю. Лежа на спине, Энтон смотрел вверх, в смеющиеся глаза Анунциаты. Ее грудь прижалась к его торсу. — Какие у тебя глаза! — Она провела языком по его губам. Энтон зашевелился: его беспокоило то, что винтовка валяется на песке. — Лежи тихо. Она села на него верхом. В вышине трепетали листья акации; сквозь них и сквозь волосы Анунциаты просвечивало голубое безоблачное небо. Энтон разволновался — но волнение было приятным. Анунциата приблизила свои губы к его губам. — На природе — слаще всего! — словно в забытьи, прошептала она и взяла левую руку Энтона. Он почувствовал прикосновение острого кончика ее языка к своим пальцам. Потом она провела его рукой по своей груди. — Вот так. Теперь другую. Так-то лучше, Синеглазик. Она расстегнула пуговку, и Энтон поразился: под блузкой было голое тело. Отвердевшие соски уперлись в льняную кремовую материю. Анунциата откинула голову назад. Она тяжело дышала и, прикрыв глаза, наслаждалась его прикосновениями. Потом ее острые ноготки поползли вверх по его животу и груди. Он весь напрягся. Соски покалывало. — Откуда у тебя это уплотнение? — Спросила она, целуя то место, где у него срослись сломанные ребра. — Подрался с буйволом, — глухо ответил Энтон. Сбросив блузку, Анунциата наслаждалась его восхищением. Потом отодвинулась немного назад. Бежевая юбка в складку закрывала бедра. — Я буду твоей первой женщиной? — Надеюсь. — Его плоть отвечала на призыв ее плоти. — Мой брат был прав: ты — молодой дикарь. Пора тебе кое-чему научиться. Она поднесла его руки к своим грудям и заставила крепко сжать их. У Энтона захватило дух. — Не будем мять юбку. Анунциата расстегнула серебряную пряжку, сняла и, вывернув наизнанку, аккуратно сложила юбку. Энтон смотрел на нее в изумлении. Шелковое нижнее белье Анунциаты было цвета слоновой кости и контрастировало с оливковой кожей слегка выпуклого живота. Она положила руку на его тугой живот и стала покачиваться из стороны в сторону. Энтон жаждал очутиться у нее внутри. Сначала неловко, потом все более страстно, он начал знакомиться с ее телом. Сжал и поласкал груди. Погладил шею, плечи, талию. Анунциата выпрямилась и запрокинула голову. Потом наклонилась и, подложив руку ему под голову, приподняла так, что он уткнулся лицом в ее груди. Ошалев от медового тепла ее кожи, Энтон зажмурился; по телу прошла невероятно мощная и сладкая судорога; все завершилось взрывом. Анунциата упала на землю рядом с ним. Прошло несколько минут, прежде чем он почувствовал на себе ее спокойный взгляд. Он лежал на спине; веки трепетали; сердце грозило выпрыгнуть из груди. Нижнее белье женщины валялось неподалеку. Страшно смущенный, думая, что все кончено, Энтон простонал и попытался взять себя в руки. Он выставил себя на посмешище! Это должно быть по-другому! Анунциата стащила с него запачканные шорты и стала, как кошка, лизать его. — Я научу тебя думать не только о себе. Видишь ли, Синеглазик, англичанину нетрудно завоевать женщину, но чтобы удержать ее, нужно действовать не так, как они. Ошалев от ее прикосновений, Энтон не мог сосредоточиться на словах. В нем снова шевельнулось желание. Выгнув спину и запрокинув голову, Анунциата уселась на него верхом и начала медленную скачку, время от времени заводя руку назад, чтобы легонько провести коготками по его ноге. Энтон отчаянно заморгал. Небо вспыхнуло искрами и заходило ходуном. Вселенная покачнулась. Наконец-то он внутри женщины! Им овладело никогда прежде не испытанное чувство полноты жизни. Подняв сухую ветку терновника, Анунциата провела ею по его животу. Энтон подавил стон: боль напомнила ему о действиях татуировщика. Не прекращая плавных движений вверх и вниз, Анунциата залюбовалась двумя длинными, алыми полосками. — Сосредоточься, — приказала она, делая еще одну царапину. Энтон судорожно глотнул воздух. Анунциата напряглась. Что она собирается делать? Она отбросила ветку и погладила его израненный живот. — Сейчас я покажу тебе путь к сердцу женщины. Она со вздохом скатилась с Энтона и легла рядом, так что ее колени оказались на уровне его головы. Бережно взяв в ладони лицо Энтона, она прижала его к себе. Энтон вдохнул удушливый запах мускуса и отдернул голову. Этот запах был ему знаком по приключению на «Гарт-касле». На мгновение в голове мелькнул образ другой женщины. Смочив два пальца в любовной влаге, Анунциата погрузила их Энтону в рот. Он вспомнил двух слонов у озера и удивился неожиданной сладости у себя во рту. — Поцелуй меня, Синеглазик. Анунциата легла на спину, поверх его рубашки. Энтон покорно встал на колени. Разведя ноги, она засунула внутрь себя его большой палец, а среднему дала попутешествовать в нежных складках плоти, пока он не приблизился к отверстию. Завороженный, Энтон стал пощипывать и массировать тонкую, разделяющую оба пальца, мембрану. Анунциата застонала и издала звук поцелуя. Руками она вцепилась юноше в волосы и направляла его голову до тех пор, пока он не начал — сначала неловко, потом все более уверенно — ласкать ее языком. Она тоже ласкала его, приводя в готовность. — Puta! Puta![12]— раздался сверху грубый мужской голос. Энтон вскочил — в одних ботинках, с мокрыми щеками и горящими глазами, прикрывая ладонями причинное место. С берега на них взирал Васко Фонсека, сжимая в руках винтовку. Потемнев от ярости, он кричал сестре что-то по-португальски. Энтон сделал шаг к своей винтовке, однако ничуть не смущенная Анунциата спокойно и твердо положила ладонь на его «меркель». — Пошел прочь! — крикнула она брату. Фонсека сплюнул и, еще раз выругавшись, исчез в буше. Растерянный, не в силах произнести хотя бы слово, Энтон стал трясущимися руками натягивать шорты. Анунциата приподнялась и привлекла его к себе. Они обнялись. У Энтона голова шла кругом. — Теперь ты никогда не забудешь меня, Синеглазик, — пробормотала Анунциата. Энтон улыбнулся и уже новыми глазами посмотрел на нее. На обнаженной женской груди искрились песчинки. Он расстегнул шорты и медленно провел рукой у нее между бедрами.Глава 21
Оливио поспешил к небольшому, крытому соломой флигелю, служившему ему домом. В потайном кармане его кушака лежало письмо Фонсеки. В одной руке он нес чайник с кипятком — пар так и рвался наружу. «Дворец Тюдоров в буше», — окрестил этот маленький коттедж лорд Пенфолд, любуясь прямоугольными кедровыми бревнами, которые пошли на углы, ниши и подоконники. Пока не построили «Белый носорог», во флигеле жили сами Пенфолды, а затем он достался Оливио, как бы подчеркивая привилегированное положение карлика. Вот только кто они такие — Тюдоры? Оставив сандалии за дверью, Оливио вошел в гостиную. Деревянный пол был сплошь устелен плетеными индийскими циновками, поверх которых красовались изумительные бенгальские коврики. Подле каждой из стен расположились вышитые подушки. Вокруг низенького медного стола были расставлены расшитые бисером пуфики. На столе стояла фотография в рамке. Карлик заглянул в спальню — чтобы в очередной раз прийти в восторг от поистине королевской кровати. Он привез ее из Гоа. Вырезанная из сандалового дерева, эта вместительная, высоко поднятая над полом кровать могла принадлежать только в высшей степени достойному человеку. На одной подушке, рядом с аккуратно сложенным номером «Англо-Лузитано» — гоанской газеты, выходившей в Бомбее, — лежало распятие. Где еще подобает следить за ходом мыслей португальского консула о гоанском представителе в Совете общины Момбасы? Или за перипетиями соревнований по крикету между командами железной дороги и Гоанского института? Или прочитать беспримерный по наглости проект заменить белыми тысячу гоанцев на государственной службе в Кении — он несомненно будет отклонен, потому что труд европейцев ценится гораздо дороже? На стенах спальни висели зеркало и яркая картина: трое всадников-конкистадоров ведут караван сдобычей — слоновой костью и невольниками; шея каждого раба прикована к тяжелому деревянному ярму. Первый всадник держит на плече громадный крест. Сдвинутый назад защитный шлем сверкает на солнце. Карлик уселся на круглую кушетку в гостиной. Водружая на стол чайник, взглянул на фотографию. Старинная сепия выцвела, как память о давнем сне. На ней были изображены фасад и выщербленные ступени колледжа Св. Павла сиротского приюта в Гоа. Здесь Оливио провел счастливейшие годы своей юности. На лестнице застыли в неестественных позах учащиеся, наставники в сутанах. В переднем ряду сразу бросался в глаза один мальчик — маленького росточка, с круглой как шар головой и без всякого выражения на лице. Маленькие, глубоко посаженные глазки равнодушно уставились в объектив. Оливио вспомнил, как специально для съемки надел ботинки на самых высоких каблуках. А когда фотограф нажал на спуск, поднялся на цыпочки. Скоро он сможет сделать новое перечисление на банковский счет колледжа Св. Павла для сирот смешанной расы. Настанет день, и на табличке с именами жертвователей выгравируют: «ОЛИВИО ФОНСЕКА АЛАВЕДО». Его имя будет жить в веках. Карлик поднес уголок конверта к носику чайника, откуда выходил пар. И вдруг, не оборачиваясь, почувствовал чье-то присутствие. Вождь Китенджи, вонючий вор-кикуйю! — Что тебе нужно в моем доме? — Я пришел просить вас, Баба, почтить своим присутствием торжества по случаю возвращения с войны моего сына Кариоки. — Как? Ты являешься ко мне с пустыми руками? Разве я разрешил поднимать шум в вашей крысиной норе? Беспокоить гостей его светлости? Ну так послушай, я тебе кое-что скажу! — Но, возлюбленный Баба, господин лично разрешил нам устроить праздник. — Стоя в дверях, вождь Китенджи неуклюже опустился на корточки. — Хозяин еще не знает обо всех преступлениях, которые вы совершили в его отсутствие. А также о преступлениях гнусного отродья, которое ты зовешь Кариоки. До сих пор я заступался за твою семью, старик. Но теперь ты заплатишь сполна. Завтра на рассвете твоя дочь Кина станет моей служанкой. Никаких ей торжеств! Будет на этой циновке! — Мой сын не совершил ничего дурного, великолепный Баба. А моя дочь не может говорить. — У нее хватит других достоинств. Я и так слишком долго ждал. Ей уже двенадцать. Кто еще проявил бы такое терпение? Завтра же с восходом солнца ты приведешь ее ко мне, или я раздавлю твоего единственного сына, как зерно между жерновами. — Я вижу, вы вскрыли конверт, — проговорил вождь после длительной паузы. — Выбирай, что тебе можно видеть, старик! Если я увижу в хижине твоего сына вещи, украденные из отеля, он живо очутится в английской тюрьме. Убирайся! Ступай, скажи Кине, какое счастье ее ждет. Пусть приготовится. Выпроводив бедного старика, Оливио развернул письмо Васко Фонсеки лиссабонскому поверенному, где Фонсека подтверждал, что является единственным внучатым племянником покойной донны Кастаньеда. Несомненно, писал Фонсека, сеньор Гама получит вознаграждение за сложный и кропотливый труд по передаче наследства многоуважаемой тетушки в руки законного наследника. Но уже сейчас, требовал автор письма, поверенный должен изыскать способ перевести крупный аванс в «Стандарт-банк Южной Африки» в Найроби, так как Фонсека собирается вложить деньги в покупку земли здесь, в Британской Восточной Африке. Оливио запечатал конверт крохотными капельками расплавленной канифоли, переписал адрес и вернулся в «Белый носорог» — распорядиться насчет ужина. Он бесшумно вошел в столовую и, пристроившись под чучелом барсука, осмотрелся. Прекрасно знакомый с кое-какими потребностями своей хозяйки, он моментально понял, что леди Пенфолд сгорает от неудовлетворенного желания. Из бирюзового платья с огромным вырезом выпирали костлявые ключицы. Когда она вставала, казалось — платье вот-вот свалится с нее, как с вешалки. От карлика не ускользнуло, что под столом она злобно сжимала кулаки. Вот бы вложить ненасытную похоть леди Пенфолд в организм другой женщины! То, что внушает отвращение в леди Пенфолд, было бы неотразимо в другой. — И почему эти дебильные кикуйю не способны хоть что-нибудь делать как следует? — возмущалась Сисси. — Даже не могут разогреть подливку. Вон как загустела — жир плавает сверху! — Нет плохих солдат, — пробормотал Пенфолд. — Это еще что значит? — Старая полковая поговорка, дорогая. Нет плохих солдат, есть плохие генералы. — Ты не слушал, что я сказала, — заявила Сисси, кладя конец дискуссии. Ей вдруг бросились в глаза морщинки у нее на руках. Господи, как страшно стариться! — Попробуйте, Райдер, надеть мои старые сапоги, — предложил тем временем ее муж — больше для того, чтобы сменить тему разговора. На душе было скверно: он снова потерял Анунциату. Но разве можно обижаться на юного Райдера? Пусть берет сапоги, впридачу к любовнице. Пенфолд продемонстрировал гостю блестящие темно-коричневые «веллингтоны». — Они старше вас, мой мальчик, но при надлежащем уходе им не будет сносу. Мне, с моей больной ногой, они вряд ли понадобятся. — Вы очень великодушны, сэр, — сказал Энтон, изо всех сил стараясь поддерживать разговор. Анунциата ласкала пальцами ног его ступни. Хоть бы карлик не заметил! На мгновение перед его мысленным взором встала картина: обнаженная Анунциата седлает его, лежащего на песке. Ему не терпелось снова ласкать ее. В то же время он спрашивал себя: как бы это было с Гвенн? — Как ваши уроки стрельбы из винтовки? — спросил Пенфолд Анунциату. — Кажется, я была слишком нетерпеливой, — ответила она, останавливая взгляд бархатных карих глаз на Энтоне. — Но я уверена — наш юный охотник научит меня своим правилам. Да, мистер Райдер? — Сделаю все от меня зависящее, мэм. — Энтон с трудом отвел глаза от ее пышного бюста. Хорошо бы кое-что попробовать. Может, сегодня ночью она впустит его в свою комнату? Оливио бесстрастно наблюдал за этой сценой. Кажется, леди Пенфолд что-то подозревает. Неужели она права и эти двое согрешили в буше? Вполне возможно. Ревнивая стареющая женщина безошибочно определяет такие вещи. В самом деле, за ужином молодой человек держался несколько рассеянно. Делал вид, будто не обращает внимания на знойную красавицу. А Анунциата кажется еще увереннее, чем прежде. Но как же вопиющая разница в возрасте? Португальская богиня как минимум на десять-двенадцать лет старше своего избранника. Карлик выскользнул из столовой. Бесшумно отпер чулан, где хранились ружья. Там, на полке из камфорного дерева, среди оружия его светлости он обнаружил винтовку Энтона. Прижал к дулу чуткие ноздри. Нюх никогда не подводил его! Он втянул носом воздух. Никаких следов выстрела! Никаких запахов, кроме запаха хорошо смазанного оружия. Из винтовки ни разу не стреляли! Новая ложь! Что делать честному человеку в этом гнезде воров и лицемеров? После ужина его помощник отнес на веранду кофе и бренди. Сисси покрутила ручку проигрывателя. Ее муж, стоя на крыльце, курил сигару. Анунциата подошла к нему. — Прости, Адам. Но ведь ты женат. — Я понимаю, — ответил Пенфолд, стараясь не выдать глубокой грусти. — Должен признать, он славный юноша. Налить тебе бренди, дорогая?* * *
— Закрой дверь, мой дикий цветок, и встань рядом со мной на коврик, — ласково молвил Оливио, когда Кина вошла в его бунгало. Она упорно смотрела в пол. Руки опущены и сжаты в кулачки. — Это мой дом, ты можешь надевать один фартук или юбочку, как в деревне. Сними это безобразное английское платье. Оно годится для отеля или для церкви. Дрожа от страха, девочка стащила платье через голову. С обвивавшего талию шнурка свисала крохотная кожаная юбочка. Карлик приблизился. Его рот находился на уровне ее пупка. Оливио поднял глаза и изобразил улыбку. Потом обошел Кину кругом. Он пришел в восторг от мускулистых рук и спины девочки, от ее длинной шеи и неправдоподобно пышных грудей. Он прижался носом к ее коже и принюхался. Кина вздрогнула. Оливио снова втянул ее запах. — Ты чистоплотна для кикуйю, — был вердикт. Он приложил ладонь к немного выпуклому животу девочки. У нее напряглись мышцы. Ни единой складки жира! Только мускулы — как у здорового дикого животного! Карлик зашел сзади и, приподняв юбочку, взвесил на ладонях ягодицы. Он столько ждал! — Встань на колени, — приказал он, — и не двигайся. Со стороны деревни сквозь жалюзи проникал раздражающий карлика шум. Деревня готовилась чествовать ее брата. Теперь, когда Кина опустилась на колени, их лица оказались вровень. Торс Оливио был длинноват для ног, но он рассчитал, что, если встанет на табуретку, Кина сможет ублажать его французским способом. У нее как раз подходящие груди. Он приподнял ее лицо за подбородок так, чтобы их взгляды встретились. В деревне ударили в барабан. В глазах Кины загорелись искры. На каких-нибудь несколько секунд Оливио утонул в опасной глубине этих черных глаз. — Не слушай этот дикий шум. Здесь, со мной, у тебя будет другая жизнь. С Оливио Фонсека Алаведо тебе не грозит ужасная церемония, когда у тебя отрежут драгоценную часть твоей женской плоти и швырнут шакалам, чтобы ты никогда не изведала наслаждения. Ты не будешь спать в провонявшей дымом лачуге, ненавидимая старшими женами презренного варвара — твоего мужа. Тебе не грозит через пять лет состариться, и твои груди не станут похожи на вымя масайской коровы, потому что ты будешь каждый год приносить по детенышу. Твой стан не согнется от непосильного труда на кукурузном поле, в то время как мужчины будут лакать спиртное. Нет. Здесь ты станешь ученицей Оливио Фонсеки Алаведо и его королевой. Схватив со стола ножницы, карлик разрезал нитки, на которой держались желтовато-красные бусы, висевшие у нее на шее, предплечьях, запястьях и щиколотках. Все они были сделаны из скорлупы яиц страуса или засушенных ягод и плодов инжира. Когда эти сокровища посыпались на ковер, глаза Кины наполнились слезами. Оливио вцепился ей в мочку левого уха, чтобы, причинив минимум боли, вырвать медный обруч. Потом он взял ее порванное ухо в рот и пососал, чувствуя привкус крови. Не обращая внимания на слезы в глазах девушки, он проделал то же самое с ее правым ухом. Наконец-то она избавилась от варварских украшений своего племени! Там, за окном, бой барабанов становился все громче. Это еще не оглушающий грохот, доводящий до исступления, а мерные, монотонные удары. Кина затрепетала, но Оливио не мог сказать, на что она реагирует — на него или на привычную музыку? Настал момент сделать ее своей женщиной. Если он не подчинит ее своей воле сейчас, это уже никогда не случится. Он сунул руку во внутренний карман своего кушака и достал зеленый шелковый платок. Медленно, один за другим, отвернул уголки, и взору девушки открылась пара сережек из старинного серебра и слоновой кости. Он взял их у одного постояльца «Белого носорога» в виде платы за ужин. — Когда мы будем здесь одни, малютка, можешь носить эти драгоценности. Оливио подержал серьги на ладони, давая Кине как следует полюбоваться. Шелковым платком вытер ей глаза. Потом отдал ей драгоценности и снова поласкал губами мочки ее ушей, да так, словно ласкал заветные местечки женского тела. Продел серьги ей в уши. Слоновая кость и серебро составляли изумительный контраст с темной кожей девушки. Оливио бросил к ее ногам вышитую подушку. — Встань сюда коленями. За окном сгустились тени. Грохот усилился. Должно быть, дикари затеяли свою варварскую пляску, как в те времена, когда здесь еще не было белых. Мужчины оголили зады, размалевали ноги и туловища яркими полосами, увенчали головы перьями и встали в круг. Оливио зажег масляную лампу и подвесил над ней маленькую тыкву. Угостил Кину ирисками. С благодарностью вспоминая уроки, полученные в гоанском борделе, налил на ладонь немного разогретого пальмового масла. Он начал массаж с затылка и постепенно добрался до ложбинки между ягодицами. Под его руками тело девушки трепетало и вздрагивало в такт музыке. Какое счастье, что он вырвал ее из рук дикарей! Божья милость. Кина зажмурилась и, запрокинув голову, издала низкий горловой звук. Оливио зашел спереди и сунул ей в рот палец. Это вывело девушку из транса. Она пососала палец. Он почувствовал бугорки ее неба. Девушка с силой стиснула его плечо. Оливио освободился и задул лампу. Смазал ей пупок и стал массировать весь живот. Кина покачнулась. Он сделал шаг назад. Она вновь обрела равновесие. Когда Оливио вернулся с новой порцией разогретого масла, флигель ходил ходуном от грохота барабанов и диких воплей. Еще не успев прикоснуться увлажненными пальцами к соскам Кины, карлик увидел, что они напряжены и блестят. Рядом с одним рос крошечный волосок. Нужно будет о нем позаботиться. У Оливио пересохло в горле. Он дотронулся до Кины и почувствовал, что начинает возбуждаться. И вдруг Кина обеими руками, точно куклу, подняла карлика и бросила на подушки.* * *
— «Таскер», пожалуйста, Оливио, — попросил Энтон. Его привели в восторг точные движения карлика, когда тот, пританцовывая, вытер бутылку полотенцем и повернулся к полке на стене за стаканом. Но почему у него исцарапано лицо? И глаза запали. Как будто он перенес сверхчеловеческие нагрузки. Энтон вспомнил о своих приключениях с Анунциатой и посочувствовал карлику, лишенному радостей жизни. А еще при виде Оливио Энтон всякий раз вспоминал о бродячих лилипутах, прибивавшихся к табору, чтобы под защитой цыган посещать ярмарки и участвовать в деревенских развлечениях. Он подсаживался к их костру, и они делились с ним едой. Лилипуты не знали полутонов и либо бурно веселились, либо впадали в мрачное уныние. И всегда умирали молодыми. Однажды, когда мать его бросила, Энтон два месяца провел в фургоне лилипутов. По утрам, во время тренировок, он вместе с ними отрабатывал акробатические номера. Но напрасно он старался развить быстроту и ловкость — ему так и не удалось достичь такого же совершенства. — Если бы ты научился, как мы, управлять каждым дюймом и каждым фунтом своего тела, — подбадривал его старший лилипут, — с тобой не сравнился бы ни один мужчина в Англии. — Спасибо, Оливио. Бармен замер от изумления. — Как? Вы говорите на хинди? — Извините, я задумался. Так говорят цыгане. И вы знаете, этот язык в самом деле пришел из Индии. Родственник хинди. Маленькие серые глазки Оливио засветились изнутри. — Так у нас — общее прошлое? Энтон припомнил цыганские истории о древних связях с Индией, о том, как цыгане переняли у индусов их «презренные» занятия: дрессировку животных, азартные игры, танцы и предсказания судьбы. — Бармен! Два двойных виски! — крикнул какой-то англичанин. — Одна нога здесь, другая там! Где же Анунциата? Энтон повернулся к игральному столу, где ее брат играл в покер с четырьмя фермерами (и, как всегда, выигрывал). — Подумаешь — нет наличных! — сказал Фонсека одному игроку. — Черкни на клочке бумаги: мол, ты уступаешь мне акр-другой земли. Энтон с Оливио заинтересовались игрой. Португалец подозрительно Часто выигрывал. Мухлюет? Энтон перестал следить за картами и впился взглядом в руки игрока. Он не забыл реакцию Фонсеки, когда тот застал его с Анунциатой. Хорошо, что ненависть уступила место глухому раздражению. — Невезение хуже засухи, — буркнул фермер, складывая карты. Энтон навострил уши: Фонсека начал сдавать. И снова различил этот звук. Не глуховатый стук карты, падающей на стол сверху колоды, а легкий шорох, как будто одну карту вытаскивают из положения между двумя другими. Этот тип — шулер, сдает из середины колоды. А верхнюю карту — скорее всего туза — придерживает наверху, чтобы потом сдать себе. Энтон шагнул к игрокам. — Можно присоединиться? Он сел справа от Фонсеки. Хорошее место: мало того что он последним делает ставку, так еще и удобно следить за руками Фонсеки. Он вспомнил сцену в балке и решил, что это не должно повлиять на игру. — Ну, если у тебя есть деньги, — процедил Фонсека. — Хочешь шикарную сигару — «Антильский крем»? — Нет, спасибо. Простой покер? Мистер Оливио, нет ли у вас нераспечатанной колоды? Один фермер снял новую колоду. Энтон играл медленно, как бы неуверенно, зная, что глубоко посаженные глаза Оливио следят за каждой картой. Положение начало выравниваться. Перед Энтоном на столе выросла горка выигранных денег. Другой фермер, у которого осталось всего несколько монет, вышел из игры. Вошел Пенфолд с блюдом горячих «самоса» с начинкой из козьего мяса и, угостив игроков, устроился неподалеку с двойной порцией джина. Он платил за выпивку для проигравших. На столе перед Фонсекой лежали золотые карманные часы, проигранные им португальцу в немецком лагере военнопленных. Настала очередь Фонсеки сдавать. Он обвел игроков тяжелым взглядом, на мгновение задержав его на Энтоне. Потом сдал каждому по одной карте вниз лицом. Энтон внимательно следил за большими пальцами Фонсеки: от них в первую очередь зависело счастье шулера. Левый, короткий и толстый, был прижат к центру колоды. Энтон обратил внимание на необычно широкое седло дьявола — изгиб между большим и указательным пальцами. — Прошу прощения, мистер Фонсека, — сказал он, — это не та карта. — Что? — прорычал португалец: руки застыли над столом. Он стрельнул взглядом в сторону — в бар только что вошла Анунциата. Подойдя к Энтону, она ласково потрепала его по затылку. — Будьте добры пересдать, — сказал Энтон. — По-моему, вы подменили карту. — Какого черта?! — Вы подменили карту. Пересдайте. Что тут такого — ведь никто еще не видел ни одной карты. Как по-вашему мистер Амброз? Оливио подивился мудрости молодого человека: заручается поддержкой другого игрока. — Если он сжульничал, — резко откликнулся Амброз, откидываясь на спинку стула, — мне мало пересдачи. Он уже оттяпал у меня полфермы. — Ты обвиняешь меня в мошенничестве, щенок? Лицо Фонсеки побагровело; он тяжело оперся обеими руками о стол. — Я сказал, что вы сдали вторую сверху, — ровным голосом уточнил Энтон. — Возможно, по ошибке. — Успокойся, Фонсека, это всего лишь игра, — примирительно проговорил Пенфолд. — Почему бы тебе не пересдать? — Это дело чести! — Если вас действительно волнует честь, — Энтон начал медленно подниматься из-за стола, — обсудим этот вопрос на улице. Но у меня есть более спортивное предложение. Если верхняя карта — туз, вы отдаете мне свою ставку. Если нет, я отдаю вам мою. Или так: мы делим все имеющиеся в игре деньги на четверых и идем играть в дартс. Фонсека бросил на Энтона испепеляющий взгляд, но ничего не ответил. — Отличная идея, — оживился Амброз. Видя, что второй фермер кивнул, он быстро раздал деньги и двинулся к доске для метания дротиков. Португалец превратился в соляной столп; лицо застыло, как маска. — Послушай, Фонсека, — раздался голос Пенфолда, — знаешь, как самбуру наказывают того, кто ворует мед? Фонсека по-прежнему не шевелился. — Подгибают ему руки и ноги и крепко привязывают к телу кишками дамана. К тому времени, как кишки сгниют, человек уже не в состоянии разогнуться. Мне как-то довелось встретить одного такого бедолагу в буше: он передвигался на локтях и коленях, собирая коренья и ягоды. Энтон предложил Фонсеке три дротика. — Хотите бросить первым? Тот наконец-то разлепил губы. — Игра для плебеев. Он собрал свою часть денег и собрался уходить. И вдруг шагнул назад и приблизил свое лицо к лицу Энтона, так что на того пахнуло табачищем. — Ты мне заплатишь, сосунок. С процентами!Глава 22
Гвенн лежала на боку между двумя кустами остролистой сансевьеры и ждала, когда на поляну выйдет газель Гранта. Она устала. Пять месяцев, прошедших с того рождественского дня, когда она сошла на берег в Момбасе, были невероятно трудными. Ее тело изменилось, вытянулось, приспосабливаясь к новым условиям. В то же время она не утратила женственности. Груди и бока пополнели. Новая жизнь вызревала в ней. Поначалу, догадавшись о своей беременности, Гвенн испытала отвращение. Ребенок Рейли показался ей монстром. Она пришла в ужас от того, что связь с этим человеком продолжается, будет продолжаться всегда. Лучше бы этот ребенок умер! Все, что угодно, лишь бы очиститься от скверны — Рейли и его отродья! Начать новую жизнь и, если потребуется, убить обоих — отца и ребенка! Но со временем ею овладели другие, более сложные чувства. Сколько женщин тщетно умоляют небеса послать им ребенка! Сколько сыновей и мужей полегло на войне! Над нею довлел страх, что Алан никогда не сможет дать ей ребенка. И она смирилась. Отвращение сменилось тайной радостью. Чувство материнства забирало все большую власть над всем ее существом. Она пыталась представить себе будущего ребенка: каким-то он будет? Только бы он ничего не унаследовал от своего отца! Гвенн пристрастилась к свободной одежде, особенно старым армейским рубашкам. Но временами ее удивляла и раздражала слепота мужа. Он абсолютно ничего не замечал. Очевидно, ее тело больше не входило в сферу его интересов. Ее больно ранила холодность мужа. Пусть даже им недоступна физическая близость — разве они не нуждаются в простом человеческом тепле? Иногда они по нескольку дней не дотрагивались друг до друга. Неужели у других супругов такие же отношения? Гвенн старалась не ложиться на живот и говорила себе: нужно открыть Алану глаза. Однако день за днем откладывала и благодарила провидение за то, что ее беременность не слишком заметна. Она дорожила каждой настоящей минутой, зная, что потом все изменится. Алан никогда по-настоящему не почувствует себя отцом этого ребенка, а может быть, и она — матерью. Сможет ли Алан жить с этим — или еще безнадежнее укроется в своей каменной уэльской крепости? Побрезгует когда-либо прикоснуться к ней? В нескольких футах перед ней, возле заброшенного муравейника, мелькнула тень. Какой-то зверек юркнул в вентиляционное отверстие. Затем появились мордочка и два крошечных умных глаза. Изящные полукружия ушей не портили силуэт. Зверек медленно вылез из норы и встал на задние лапы, стройный и гибкий, как змея. Возможно, это мангуст? Бдительный, как часовой, зверек осторожно водил глазами слева направо и обратно. Потом пригнулся к земле и замер. То была неподвижность стрелы, готовой в любой момент сорваться и поразить цель. Не шевелясь и почти не дыша, Гвенн отчаянно вращала глазами в попытках разглядеть предмет внимания зверька. И наконец разглядела. Это оказалась пестрая, в серых и красных пятнах, ящерица, с треугольной головой и толстым брюшком. Спит она, что ли, или тоже охотится? Пока Гвенн любовалась ящерицей, мохнатая стрела взвилась в воздух и впилась когтями в туловище рептилии, вонзая ей в горло острые клыки. После короткой схватки мангуст потащил еще дергающуюся добычу в щель между камнями. Но перед этим гордо встал на задние лапы и пронзительно взвизгнул. Мокрая красная мордочка блестела. Тотчас из своих нор повылезали еще девять или десять мангустов и заторопились на пиршество. У Алана были свои занятия. Это началось в первые же дни их жизни на Эвасо-Нгиро. Превозмогая боль и усталость, он брал ружье и шел на дальний конец их участка. Подобно древним языческим жрецам-друидам, он собирал камни — иногда вытаскивая их из реки, но большей частью выворачивая из земли. Подняв камень, он руками стряхивал с него грязь, а затем либо выбрасывал, либо тащил туда, где уже собралась целая куча. Если требовалось, Алан мыл камни в реке. Особенно тщательно он укладывал основание круглой пирамиды. Аккуратно клал слой за слоем, подыскивая подходящие по размеру булыжники и обломки скал. Гвенн дивилась: откуда столько энергии? Наконец выросла почти идеальная пирамида в виде конуса, высотой четыре фута. То и дело отбрасывая со лба длинные темные волосы, Алан без конца осматривал ее, заменял отдельные камни, проверял свой шедевр на устойчивость. Когда пирамида была готова, он бросал оставшиеся камни обратно в реку. И так — несколько раз подряд. Каждую новую пирамиду он отмечал на карте. Гвенн не забыла, как влюбленными они отмечали каждое свидание, добавляя по одному камню к пирамидам, отделявшим одно пастбище или один горный участок Уэльса от другого. И до них — особенно во времена пограничных войн — многие поколения отдавали жизни за право построить такую пирамиду. Алан утверждал: это — единственный рукотворный памятник, не оскверняющий землю. «Мой друид» — вот как она его называла. Но теперь работа практически подошла к концу. Еще одна пирамида — и вся ферма окажется в каменном ожерелье. За три с половиной месяца они добились многого. И все-таки это только начало. Их бунгало было, в сущности, не чем иным, как однокомнатной мазанкой. Временной крышей служили ветви и солома, скрепленные ремнями из шкуры зебры. Полом они были обязаны белым муравьям. Это из их муравейников люди добыли клейкое вещество, надежно цементирующее красную пыль. Мальва знал, в каких пропорциях развести его в воде, чтобы лучше держалось. Гладкий утрамбованный пол было удобно подметать. К тому же он давал прохладу. Артур готовил пищу под открытым небом, позади хижины. Плитой ему служили какие-то особенные плоские речные камни, на поиск которых он потратил несколько дней и которые считал «даром Нгаи»: ведь их омывали воды Эвасо-Нгиро, берущие начало в горных потоках, низвергающихся с вершины священной горы Кения. Если камни слишком толстые, объяснял Артур, они будут долго разогреваться, а если слишком тонкие — не будут удерживать тепло. Если есть трещины — жди неприятностей. Овощи — Гвенн воспользовалась драгоценными семенами из подаренных бабушкой пакетиков — орошались при помощи узких канавок, идущих от источника. Выбирая место для постройки дома, Гвенн вооружилась киркой, лопатой и совком и, опустившись на колени, долго переворачивала, рассматривала и растирала в ладонях первый комок красновато-коричневой земли, очищая ее от мелких камешков и веточек терновника. Она удобряла землю навозом мулов и не могла дождаться, когда у них будет свой лук, репа, картофель, капуста и горох. На очереди были помидоры, ревень, чеснок и зелень. Когда Гвенн немного освободится, она посадит под фруктовыми и лимонными деревьями несколько грядок клубники. На склоне холма, возле заводи, они разбили опытный участок, где посадили чай, кофе и лен. А удлинив крышу бунгало, устроили веранду с земляным полом и посадили хинное дерево. По вечерам они с Аланом отдыхали там, делясь впечатлениями за день и строя планы на завтра. Если бы у них были помощники, сколько они смогли бы сделать до октября — ноября, когда наступит сезон дождей! Но им приходилось рассчитывать только на себя, как на необитаемом острове. Вчетвером они не скоро освоят всю ферму. К тому же Артур увиливал от любых земледельческих работ, ворча, что ему следовало бы вернуться в Найроби и заняться бизнесом. «Это не мужское дело», — неизменно отвечал он на просьбы Гвенн вскопать землю или посеять семена. Скоро придут дожди, а там и конец года. На высоких кустах, где паслась газель Гранта, затрепетали серебристые листочки. Потом оттуда выпорхнул выводок цесарок. Гвенн подняла винтовку. Ветви раздвинулись, и на поляну вышла упитанная лошадь, неся на себе рослого седока в фетровой шляпе с широкими полями. — Не стреляйте! — весело крикнул он. — Вы?! — поразилась Гвенн. Всадник непринужденно держался в седле. Его сапоги были мокрыми от росы; рукава закатаны. У передней луки висела двустволка. — Юноша с парохода? Простите, вы не… — Энтон Райдер, миссис Луэллин. Как поживаете? С минуту Энтон разглядывал Гвенн. Она очень изменилась: окрепла и помолодела. Соломенная шляпа не помешала африканскому солнцу покрыть ее лицо бронзовым загаром. Она коротко остригла рыжеватые волосы. Пополневшие груди натягивали ткань армейской рубашки. В одной руке она привычно держала винтовку. От нее веяло уверенностью человека, чувствующего себя дома. Глаза цвета зеленых яблок радостно улыбались. Энтон спешился и снял шляпу. Гвенн словно онемела — даже не ответила на приветствие. Он возмужал и стал таким уверенным! Прежними остались только шишка на переносице да опасные синие глаза. — Спасибо, — пробормотала Гвенн, принимая от Энтона цветы. Их руки соприкоснулись. После Анунциаты Энтон решил, что никогда больше не будет чувствовать себя скованно в обществе женщин. Однако теперь к нему вернулась прежняя застенчивость. — Джамбо, — поздоровался он с подоспевшим Мальвой и добавил несколько слов на кикуйю. И вновь повернулся к Гвенн. — Следом за мной едет в фургоне ваш друг Адам Пенфолд. Он застрял у реки — ищет брода. Идемте, поможем ему. Гвенн отдала Мальве свой «энфилд» и взобралась на лошадь впереди Энтона. — Как зовут вашего жеребца? У меня такое чувство, будто я его где-то видела. — Рафики. На суахили это значит «друг». Он наполовину абиссинской породы и легче переносит укусы мухи цеце. — Энтону очень хотелось, чтобы Гвенн оценила его познания. Он пустил лошадь в легкий галоп и уверенно положил руку на талию Гвенн. На берегу Эвасо-Нгиро они обнаружили Пенфолда, тщетно пытавшегося заставить мулов перейти реку. Пенфолд сам вошел в воду и что было сил натягивал поводья. Однако мулы заупрямились. Один сделал резкий рывок назад. Пенфолд поскользнулся на раненой ноге и упал. Энтон направил Рафики в воду. Он по-прежнему крепко прижимал к себе Гвенн. Вместе они перебрались на другой берег. Прикосновения Энтона странным образом успокоили Гвенн. Намокшая от речных брызг рубашка прилипла к телу, отчетливо вырисовывая линию грудей и живота. Подъехав к фургону, они спешились. Она почувствовала на себе испытующий взгляд Энтона. — Мулы боятся крокодилов. Может, почуяли их на берегу, — сказал Пенфолд, подпирая правым плечом повозку. — Нужно как-то перетащить это на другой берег. Гвенн, если вы сможете двинуться вперед на Рафики, они последуют за вами. А мы с Райдером будем подталкивать сзади.* * *
Впервые в жизни Кина лежала на кровати. Она сосала испачканный в шоколаде большой палец и, запрокинув голову, любовалась своим отражением в зеркале. Свет от нескольких зажженных свечей отражался в ее серебряных сережках, посылая волшебные блики по всей комнате. Она вдыхала нежный аромат пенджабского ладана и время от времени издавала вздох блаженства или уютное мурлыканье. Ее лицо в легкой испарине казалось угольно-черным по контрасту с кремовыми льняными наволочками Оливио. Трудясь под простыней, он хотел, чтобы она почувствовала: это — постель джентльмена! Даже круглые плечи девушки, черневшие на фоне безупречной материи, доводили его до исступления. На шее у Кины красовались четки Оливио — пятьдесят девять бусинок. Распятие из слоновой кости доставало до райской долины — ложбинки между ее грудями. Сами груди, не прикрытые белоснежной простыней, казались двумя спелыми черными дынями на фарфоровом блюде. Кина в последний раз облизала пальцы и, сунув руку под простыню, погладила круглую, как шар, голову карлика, подрагивавшую у нее между ног. Оливио пришел в восторг и стал с удвоенной энергией расточать ей знаки внимания. И вдруг он почувствовал что-то не то. Когда Кина ущипнула его за ухо, ее ладонь оказалась липкой. Не может быть! Эта юная дикарка посмела вывозить его постель в шоколаде! Круглая голова Оливио в мгновение ока вынырнула из-под простыни — мокрая, раскрасневшаяся, с открытым ртом и высунутым языком. Он был взбешен, прямо задыхался от возмущения. — Ах ты свинья! Испоганила мою постель! Обеими руками он схватил ее левое запястье и уставился на замазюканные пальцы. Потом, вне себя от ярости, впился в эту руку зубами. А почувствовав во рту смешанный вкус шоколада и крови, окончательно озверел и укусил еще больнее. Кина вскрикнула и запустила правую руку в коробку шоколадных конфет на ночной тумбочке. Оливио, как терьер, вцепился в ее окровавленную конечность. Тогда она вывалила ему на голову липкое месиво из раздавленных конфет; по лицу и туловищу Оливио побежали противные сладкие струйки. Он ахнул и ослабил хватку. Кина схватила его за уши и заставила снова нырнуть под простыню.* * *
— Лен, Луэллин, вот что вам нужно! Как можно скорее посейте эти семена! — настойчиво твердил Пенфолд после ужина, указывая здоровой рукой в сторону привезенных им мешков. — После окончания войны у нас на родине острый дефицит тканей. Уже сейчас платят триста фунтов за тонну — и цена все время растет. Их долг Раджи да Сузе составлял тысячу сто фунтов. — Что из него делают? — спросила Гвенн. — Да все, что угодно. Паруса, манишки, постельное белье для моей дражайшей половины и пеленки для карапузиков. Когда я умру, меня наверняка завернут в саван из льна. Он нежнее и вдвое прочнее хлопка. Обязательно засейте поле побольше! Попробуйте также сизаль, если достанете луковицы. — Мы можем рассчитывать только на троих-четверых, — напомнил Алан. — Может, юный Райдер протянет вам руку помощи, — Пенфолд покосился на ноги юноши и поморщился, — после того, как почистит сапоги? Гвенн посмотрела на освещенное огнем костра лицо Энтона. — Боюсь, что нет, сэр: какой из меня фермер? — со смехом возразил Энтон и тотчас почувствовал, что Гвенн разочарована. — Ну, может быть, временно, пока не приедет Кариоки. Мы собираемся поохотиться. Ему стало стыдно, что он не позаботился о сапогах — отличных «веллингтонах», подарке Пенфолда. Как отнеслась бы к нему Гвенн, будучи свободной? Сочла бы слишком зеленым и перекати-полем? В смятении Энтон представил себе Анунциату — как она, обнаженная, наслаждаясь риском, крадется по коридору «Белого носорога», чтобы попасть в его комнату. Она являлась как сон и застывала у изголовья, одной рукой гладя свою грудь, а в другой держа бутылку шампанского. На ней не было ничего, кроме шляпы с широкими полями. Она ждала его пробуждения. Лунный свет серебрил обнаженные ягодицы. Энтон просыпался, и вместе с ним просыпалось желание. Анунциата поворачивалась к нему спиной и, положив руки на подоконник, опускала на них голову. Неужели она точно так же ведет себя с другими мужчинами? Долго ли она будет принадлежать ему? — Ваш друг Кариоки немного грустит из-за сестры, но, думаю, все же оценит радости оседлой жизни в деревне и перестанет рваться на войну или в буш, — предположил Пенфолд, любуясь Энтоном. Вот бы иметь такого сына! — Понимаете, Райдер, кукурузное пиво и женские прелести могут показаться ему привлекательнее мук голода и смертельных схваток с гуннами или питонами. И я его пойму. — Что случилось с его сестрой? — полюбопытствовала Гвенн. — Кина теперь прислуживает моему маленькому прохвосту, Оливио, и вроде бы увлеклась. Я бы даже сказал, она от него без ума. Странно, да? В таких случаях никогда нельзя знать заранее. В глазах Пенфолда, устремленных в огонь, застыло одиночество. — А как там брат и сестра Фонсека? — Анунциата по-прежнему царит в баре. Такая же неугомонная. А ее братец гребет к себе всякий клочок земли, на какой только может наложить лапу, в том числе в ваших местах. Ирландцы из его окружения говорят, будто он поклялся отравить жизнь нашему другу Райдеру. Заметив огорчение на лице Гвенн, Пенфолд решил сменить тему разговора: — Да, кстати, Алан, когда вы с Гвенн ждете ребенка?* * *
Лежа на койке лицом к стене, Гвенн сквозь дрему услышала, как встает Алан. В голове промелькнули ужасные события этого вечера. — В сентябре, — ответила она на вопрос Пенфолда, остро чувствуя, каким ударом стал этот вопрос для ее мужа. Он отодвинулся подальше в тень, а потом и вовсе встал и ушел в бунгало. Немного погодя она последовала за ним. И там, сидя на полу и баюкая его в объятиях, шепотом рассказала об изнасиловании на борту «Гарт-касла». Худое тело Алана напряглось и застыло. Гвенн разрыдалась. Алан положил ей на плечо одеревеневшую руку, и они поплакали вместе. Господи, если бы обнял ее, показал, что все еще испытывает влечение! Может, забраться к нему в постель? Но она не решилась. — Гвенни, почему ты мне раньше не призналась? — после долгой паузы спросил Алан. — Потому что я люблю тебя, мой друид, — с интимной интонацией ответила она. — Я мечтала, что мы начнем новую, чистую жизнь. Не хотела, чтобы ее что-нибудь омрачило. Как обычно, с первыми лучами солнца Алан натянул сапоги и вышел наружу. Гвенн повернулась на спину и стала разглядывать травяной потолок. Руки покоились на животе. Несмотря ни на что, жизнь продолжается. Она вдруг похолодела. Может, это и есть те страдания, которые нагадал Энтон? Гвенн резко села на койке и повела взглядом по комнате. Недоставало общей тетради Алана и его ружья. Гвенн зажала рот ладонью и вскочила. Накинула на себя какие-то тряпки. Она молнией пронеслась мимо палатки, где заночевали Пенфолд с Энтоном, и метнулась к обрыву. Миновала несколько каменных пирамид. А когда, преодолев неширокую полосу терновника, вырвалась на поляну, до ее ушей донесся отдаленный выстрел. Гвенн добежала до края обрыва и посмотрела на реку. Алан лежал на отмели лицом вниз, сжимая в руке ружье. От его головы расходились алые круги. Гвенн кое-как скатилась с обрыва и опустилась рядом с ним на колени. В воде плавали черные волосы Алана и клочок кожи. В беззвучной истерике Гвенн прижалась щекой к плечу мужа и закрыла глаза. Это она его погубила! «Алан, мой Алан», — шептала она, баюкая бездыханное тело. Странное движение в воде заставило женщину очнуться. Она открыла глаза и похолодела.* * *
Энтон уже не спал, когда Гвенн опрометью пронеслась мимо палатки в сторону Эвасо-Нгиро. Потом он услышал выстрел. Он вскочил, напялил шорты и с винтовкой бросился на берег. Гвенн стояла в воде; к ней неслись два упитанных крокодила. Первый уже принял вертикальное положение, изготовившись для нападения. Брюхо наполовину высунулось из воды; он алчно, оскалив пасть, глазел на окровавленное тело. Тут подоспел второй — и ринулся в кровавый водоворот. Гвенн выпрямилась; концы волос плавали по воде. Энтон выстрелил из правого ствола. Первый крокодил шлепнулся на брюхо. Лязгнули клыки. Хвост бешено трепыхался на поверхности воды. Энтон боялся снова стрелять: Гвенн оказалась между ним и вторым крокодилом. Хищник вонзил зубы в плечо Алана. Гвенн вскрикнула и нагнулась за камнем. Энтон пальнул из левого ствола; пуля попала крокодилу в шею. Юноша спрыгнул с обрыва и побежал вдоль берега, параллельно с раненым зверем, утаскивавшим добычу туда, где глубже. Энтон схватил ружье Алана. Крокодил держал труп человека в зубах, как цапля держит в клюве рыбешку. В несколько прыжков догнав зверя, Энтон приставил дуло к его голове, меж глаз, и спустил курок. Мертвого крокодила унес поток. Бездыханное тело Алана качалось на воде. Некоторое время Энтон безмолвно стоял, держа на руках труп — неправдоподобно легкий, словно тельце ребенка. Гвенн по-прежнему стояла в реке, сцепив руки. Перед и рукава ее рубашки были в крови. Энтон понял: он снова опоздал. В следующий раз он сумеет защитить ее.Глава 23
Португальцу как всегда везло: то один, то другой фермер расставался с заветными акрами земли. — Этак ты скоро заграбастаешь всю чертову ферму. — Амброз провел ладонями по багровому обветренному лицу и, заказав порцию джина, бросил кубик из слоновой кости. — Впрочем, от нее все равно одни неприятности. Того и гляди, сгоришь на солнце или, наоборот, утонешь — и, вдобавок ко всему, семьдесят миль до железной дороги. — Во всяком случае, это не деньги, — буркнул Васко Фонсека и в свою очередь бросил кубик. Потом черканул расписку и, после того как Амброз ее подписал, небрежно сунул в карман. И повернулся к подпиравшему стойку американскому охотнику. — Сыграем? — Да нет, эта чепуховина не для меня, — отозвался Рэк Слайдер, грызя деревянную спичку. — Я тут кое-кого ожидаю — со второго этажа. На носу сафари. — Разве у вас в Техасе не играют в триктрак? — Слайдеры родом из Оклахомы, — отрезал американец и, повернувшись к Фонсеке спиной, подтолкнул к Оливио пустой стакан. Бармен рассеяно полировал прилавок. Как вернуть себе контроль над юной наложницей? Но он все-таки время от времени поглядывал на кузена, как стал мысленно называть ненавистного португальца. Еще немного — и Фонсека вчистую разорит беднягу Амброза. Ему вспомнилось утро после пирушки в честь окончания мировой войны. И как он сам взял у Амброза в счет уплаты документ о переходе в его собственность десяти акров земли. Похоже, Фонсека разделяет его мнение о том, что Амброза даже не нужно обманывать: его разорят собственное слабоволие, пьянство и тугодумие. Тем не менее, игра представляла для карлика интерес. По словам лорда Пенфолда, ферма Амброза располагалась на Эвасо-Нгиро, как раз напротив участка Луэллинов. Скоро в этих краях появятся новые поселенцы из ветеранов. Несколько холостых ирландцев решили объединиться и общими усилиями поднять большую ферму. Еще один крупный участок принадлежал сорока инвалидам; каждый вносил посильную денежную или трудовую лепту. Только англичане, подумал Оливио, способны отдать землю калекам! Поселенцы прибывали из Найроби и, прежде чем отправиться дальше на север, как правило, останавливались в «Белом носороге». Здесь их встречали Пенфолд и Фонсека. Первый — с советами и предложением дружбы, второй — с выпивкой и картами. Португалец уже выманил приличный кусок земли у близлежащих фермеров, плохо справлявшихся с тяготами жизни на невозделанных землях в буше. У Оливио был свой интерес, касающийся фермы Луэллинов. Карлик достал из кушака письмо от Раджи да Сузы и перечел то место, где его друг отзывался о докторе Гонсало Баррето как о самом авторитетном лиссабонском адвокате, к тому же близком к «матери церкви» и, уж конечно, не склонном довольствоваться какими-нибудь сапфирами. Но если этот адвокат все же возьмется за дело Оливио Фонсеки Алаведо, претендующего на свою долю наследства семьи Фонсека, овчинка будет стоить выделки. Вот только можно ли ему доверять? Как понадежнее заинтересовать юриста? Сойтись лицом к лицу со столичными интригами и стать их хозяином, а не жертвой. Мысли Оливио ненадолго вернулись к двенадцатилетней девчонке, ожидающей его во флигеле,развалившейся среди сверкающих бисером подушек, точно жирная кошка. Чем она занята? Умащает ли груди ароматным пальмовым маслом, как он приказал ей делать каждый день, или бездельничает, рыщет по дому в поисках спрятанных шоколадных конфет? На веранде послышались неверные шаги хозяина. — Слушай, Оливио, будь другом, притащи мне пива и блюдо «самоса». И немного лимонного чатни. Это была трудная поездка. Пенфолд устало кивнул Амброзу и Фонсеке и поправил перевязь. — У Луэллинов несчастье. Завтра снова еду туда — кое-чем помочь. — Что там стряслось, Адам? — осведомился Фонсека. — Луэллин нечаянно выстрелил в себя из винтовки. Если Гвенн не засеет поле до сезона дождей, она рискует потерять участок. А если новые поселенцы не справятся со своей задачей, из этой страны никогда не выйдет ничего путного. — Боюсь, милорд, у нас в «Белом носороге» тоже плохие новости, — сказал Оливио, глядя на босса распахнутыми, полными ужаса глазами. — В чем дело? — Храбрый Ланселот приказал долго жить. — Оливио вспомнил почерневший язык пса, когда тот в последний раз лизал сладкую отраву. — Никаких слов не хватит, чтобы описать его агонию. Он лизнул мою руку, и в тот же миг его душа нас покинула. «Зато тело досталось гиене», — мысленно добавил карлик.* * *
Энтон с остервенением вонзил лопату в красноватую грязь, выворачивая последний камень. Работая в одних шортах, он весь вспотел и покрылся красной пылью. Жилы на руках вздулись. Костяшки пальцев выступили, как когти, когда он вцепился в камень и потащил его из земли. Но камень словно врос в землю. Пошарив руками, Энтон нашел корень растения, удерживавший камень на месте. Он перерубил корень топориком с короткой ручкой и, подняв глаза, увидел Гвенн, сидящей под тамариндом с общей тетрадью в руках. Ему было любопытно, но он старался не подсматривать. Старался не думать. Гвенн подняла глаза и, встретившись с ним взглядом, попыталась улыбнуться. Он такой сильный и уверенный в себе! А ее бедный Алан изнемог. Но она не имеет права сравнивать! Гвенн вернулась к обнаруженным возле незаконченной пирамиды записям Алана. Наконец она захлопнула тетрадь, зажав между страницами алый цветок тамаринда с желтыми прожилками. Встала и пошла в бунгало, ощущая тяжесть в животе. Что она скажет ребенку? Неужели она недостаточно любила Алана? С камнем наконец-то было покончено. Энтон бросил его в кучу. Концы разрубленного корня оливы оказались чистыми и почти белыми внутри. Возможно, корень еще будет жить. Энтон придал яме нужную форму. Он стоял на краю, выжатый как лимон; по всему телу струился пот. Со стороны реки донесся чей-то голос. Энтон привстал на цыпочки и увидел посреди реки фургон; на скамейке сидели двое — мужчина и женщина. На мгновение ему показалось, будто женщина гладит своего спутника по ноге. Громко понукая мулов и рассекая воду рукоятью копья, Кариоки переводил фургон на другую сторону реки. Энтон бросился на помощь. Из фургона махали руками Пенфолд и Анунциата. Позади них Энтон заметил гроб и груду полотна. На противоположном берегу осталось пять женщин из племени кикуйю. — Тлага! — радостно воскликнул Кариоки, и они обнялись посреди реки. — Вижу, ты привел помощниц для миссис Луэллин? — Да, чтобы Тлага и Кариоки смогли отправиться на охоту. — Правильно, Кариоки! — Однако в следующее мгновение Энтон подумал о Гвенн, как тяжело ему будет оставлять ее одну, и его радостное возбуждение угасло. — Но сначала немного поработаем на ферме.* * *
Гвенн сидела на жестком утрамбованном полу, прислонившись к одному из трех ящиков, на которых лежало тело ее мужа, зашитое в парусину. На коленях она держала тетрадь Алана. Ночью, оставшись с телом наедине, Гвенн спрашивала себя: что ей делать дальше? Продать землю (вырученная сумма вряд ли покроет долг) и возвратиться в Денби — беременной, бездомной и безмужней? Может, родить ребенка у бабушки и оставить его там, а самой поискать работу? За два дня, прошедшие после гибели Алана, она много думала об Уэльсе и о матери с отцом. В памяти всплывали то картины детства, то последний день перед ее отъездом в Африку. Особенно часто вспоминалось, как она настежь распахивала дверь, чтобы впустить вернувшегося из шахты отца. Он всякий раз объяснял, что слишком грязен и ей нельзя его поцеловать. Образ стоящего в дверях отца, благодаря ее усилиям, приобрел четкие, почти зримые, очертания. Он был человеком подземелья, и с каждым днем в нем оставалось все меньше человеческого. У него не было сил говорить, и он молча раздевался в передней, бросал одежду на постеленную в углу газету и забирался в цинковое корыто. На столе возле корыта ждала стопка чистого белья. Мать носила кувшин за кувшином горячей воды и обливала плечи мужа. После того как он добрых полчаса соскребал с себя грязь, отец заходил на кухню, кивком здоровался с детьми. Его мучил голод. Он садился во главе стола. Из застегнутого ворота рубашки выпирал темный кадык. На лице и шее, на фоне въевшейся угольной пыли, выделялись белые борозды морщин. Могильная чернота под глазами, грязь и смертельная усталость сливались воедино. Неужели отец и вправду, как утверждала мама, был когда-то молод и красив? Когда он ел, костяшки пальцев выпирали, словно сквозь дыры черных перчаток. Мама садилась сбоку и смотрела на отца, сложив руки на коленях. Того, что она положила на его тарелку, было явно недостаточно. Может, все-таки остаться в Африке? Одной создавать ферму и поднимать ребенка в буше? При всей суровой красоте этих мест, смогут ли они когда-либо почувствовать себя здесь как дома? Возможно, некоторые и смогут — например Энтон Райдер. Правильно сделали Голты, что уехали. Всю первую ночь она проплакала, ощупывая обеими руками округлившийся живот, а если засыпала, то видела во сне ту жизнь, какая могла быть у них с Аланом. Утром она ждала того момента, когда муж встанет и по привычке начнет искать под койкой свои сапоги. Сквозь щели в стенах просочился утренний свет. Ей предстояло прожить этот страшный и неизбежный день — первый день одиночества. Гвенн прислушалась к уханью сов на деревьях; снаружи тянуло дымком и свежеиспеченным хлебом. Она провела несколько часов, изучая записи Алана — это был единственный способ почтить его память. И перед ней, впервые после ухода Алана на войну, со страниц общей тетради предстал тот Алан, которого она любила. Здесь было много набросков — нарисованных карандашом и иногда заштрихованных. Буш и дальние холмы. Костры лагерей и складные походные стулья. Мальва с Артуром. Птицы и антилопы. Скалы, растения, муравейники и — вновь и вновь — ее лицо и руки. Их бунгало на всех стадиях строительства, но всегда — с хинным деревом, словно ангелом-хранителем дома. Карты их участка — чем дальше, тем точнее и аккуратнее. Гвенн дошла до середины и разрыдалась. Вот он, дом, о котором она мечтала: бунгало на два крыла, одно из камня, над излучиной, с хинным деревом у крыльца. На заднем плане уходили вдаль ряды посевов; одни растения — низкорослые, в цвету, другие — четкие, высокие, как солдаты в строю. Лен, злаки, чай? На необозримых пастбищах паслись на воле овцы и крупный рогатый скот. У костра перед бунгало — три маленькие фигурки. Под рисунком — два слова: «Ферма "Керн"». «Керн» по-уэльски — «пирамида»… Ей вспомнились узкие улочки родного Уэльса, ряды домов с высокими кирпичными трубами и громадные горы шлака, опоясывающие каждую деревню. Гвенн вытерла глаза и захлопнула журнал. Мимо мелькнул Артур — торопился встретить лорда Пенфолда с женщинами кикуйю. Она вышла на солнечный свет и тепло поздоровалась с теми, кто прибыл разделить ее горе: — Добро пожаловать на ферму «Керн». Ближе к вечеру все собрались на берегу, подле свежевырытой могилы. Адам Пенфолд отслужил панихиду, причем даже не заглядывая в молитвенник. Анунциата, набросив на голову шарф, тихонько молилась. Восемь африканцев безмолвствовали, пока трое англичан исполняли сто двадцать первый псалом. На горизонте ярко-оранжевое солнце тонуло в волнах лавандовых зарослей. Возможно ли, чтобы все оставалось как прежде? Гвенн подняла с земли один из крупных булыжников, собранных Аланом для последней пирамиды, и водрузила на свежий бугорок. Энтон положил рядом свой камень. Пенфолд и Мальва сделали то же самое, а потом все двенадцать человек продолжали до тех пор, пока не выросла пирамида — не столь аккуратная, как у Алана, но зато на том самом месте, где он хотел ее видеть. — Идемте выпьем, дорогая, — Пенфолд взял Гвенн под руку и повел к огню. — Мы привезли жареное мясо канны и ящик кларета. Нужно как следует подкрепиться, чтобы завтра взяться за работу. — Спасибо. Откуда вы знаете службу? — Лучше бы не знал. Немцы научили. Гвенн высвободила руку и отошла в сторонку. Друзья медленно, стараясь не мешать, потянулись к дому. Она задрожала всем телом и разрыдалась.* * *
— Сейчас же развяжи меня, или я скормлю твою вонючую бабушку гиенам, как сделал бы твой зловредный отец до прихода англичан! Ползая на четвереньках вокруг медного стола, Кина проверила, крепко ли затянуты ремни из необработанной кожи, которыми она привязала Оливио к столу, и удовлетворенно захихикала. Она даже подложила ему под голую спину большую плоскую подушку — чтобы не озяб и не поцарапался о шершавую крышку стола. Каждая из четырех конечностей карлика была привязана к ножке. Макушка выходила за край стола. — Сделай как я сказал, мой дикий цветочек, да поскорее, и твой возлюбленный даст тебе сладкую конфетку! Девчонка уползла в спальню и затихла. Получив, таким образом, время на размышление, Оливио начал сочинять в уме текст послания доктору Гонсало Баррето, если тот возьмется защищать его интересы. За небольшую мзду Раджи да Суза вытянул фамилию этого видного юриста из начальника канцелярии Гоанского института в Найроби — также весьма осведомленного и делового чиновника, державшего в руках многие ниточки управления португальской империей — можно сказать, он оплел ее паутиной, словно жирный паук. Но где гарантия, что этот заморский адвокат сделает все от него зависящее? Ответ может быть только один. Миром правит железный закон личной выгоды! Кина принесла горшок меду и порошок карри на блюдце. Она опустилась на колени возле выступавшей за край стола головы Оливио. Глубоко посаженные глаза карлика уперлись в круглые возвышенности ее грудей. Где еще найдутся такие сосочки? Кина обмакнула большой палец в мед и поднесла к губам своего повелителя. — Я купил его для тебя, моя прелесть, — пробурчал карлик сквозь зубы. — Ты знаешь, я его терпеть не могу. Он крепко сжал губы. В глазах Кины заплясали задорные огоньки. Она ущипнула его за нос, зажав волосатые ноздри. Оливио задохнулся и открыл рот. Кина тотчас сунула туда свой, густо намазанный медом, палец. Но это было еще не все. Она насыпала ему на язык обжигающий, словно перец, порошок карри. Оливио почувствовал во рту густую, омерзительную замазку. Стоя на коленях, Кина повернулась к нему задом и, задрав кожаную юбочку и раздвинув ноги, зажала его голову у себя между бедрами. Его липкий рот оказался прижатым к ее ненасытной вагине. Он вдохнул опьяняющий запах женщины и вновь погрузился в размышления. Итак, лиссабонский адвокат. Близок к церкви. Наверняка продажен и изобретателен. Какова может быть его цена? Мысли о португальском деле отвлекли его внимание, и Оливио опередил события. Девчонка заерзала, застонала и еще крепче сдавила мускулистыми бедрами его уши. Оливио было не привыкать к тесноте, но сейчас ему стало нечем дышать. Он вонзил зубы во влажную, мягкую плоть. Вкус женщины смешался с омерзительным вкусом меда и специй. Кина взвизгнула и обернулась; глаза до того расширились, что показалось — у нее нет век. Она больно хлестнула Оливио сначала по одной, а затем по другой щеке. Он застонал. Кина вновь водрузила ему на голову свой роскошный зад и удовлетворенно замурлыкала: на этот раз Оливио принялся ублажать ее всерьез, со знанием дела. Вот что он сделает! Отдаст четвертую часть всего, что для него выторгует адвокат, ему самому, а еще четверть — матери-церкви. Нет — лучше по одной пятой. Если уж это не гарантирует преданность до гробовой доски, то и ничто не гарантирует. Прилежно работая языком, Оливио думал: как гордился бы дедушка! Блаженной памяти архиепископ Гоанский не терпел алчности — в ком-то другом. Если этот дьявол, Васко Фонсека, ищет неприятностей на свою голову, пусть судится со святыми отцами — те пожирали и не таких гадов, как он! Сладкий нектар из жарких недр Кины оросил его истерзанные щеки. Со сладострастным стоном Кина всей тяжестью навалилась на его голову, и карлик почувствовал, как острый край медной крышки стола врезается ему в затылок. Он снова укусил ее. Может, отдать дворец в Эсториле под приют для престарелых кардиналов? Нет подлости, которую они не совершили бы ради такого подарка! Девчонка с воплем обрушилась на него. Стол опрокинулся. Карлик грохнулся на пол лицом, но при этом основательно лягнул Кину ниже спины.Глава 24
Вот уже целую неделю на этом месте, на большой муравьиной куче, появлялся воин-самбуру — моран — с великолепной осанкой и при оружии. Солнечные лучи отражались от металлического воротника, похожего на ошейник. — Опять он стоит, — с тревогой заметила Гвенн. «Слава Богу, — подумал Энтон, — что я задержался на ферме». Из его отношений с Гвенн ушла скованность. Работая, обходя участок или сидя рядом у костра, они рассказали друг другу все о своей жизни в Англии. О шахтерском поселке и цыганском таборе, завалах и лошадиных ярмарках, лесах и горах. Энтон сам удивлялся своей откровенности. Как-то вечером Гвенн, заложив руки за спину и стесняясь, точно школьница, спела ему старинные уэльские гимны. Интересно, спрашивал себя Энтон, могла бы Гвенн вести себя как Анунциата? Без малого три месяца он и Кариоки разрывались между работой на ферме и охотой, открывая для себя неизведанные земли. Но как бы далеко ни уводило сафари — на запад, вдоль берега реки Эвасо-Нарок, или на север, где в дремучих лесах водилась антилопа куду, — им все казалось мало. Каждый заход солнца манил Энтона дальше на запад, в овеянный легендами край слонов — Карамоджо Белл — или к истокам Альберт-Нила. Северный ветер приносил с собой дыхание сухого буша, навевая грезы о Судане и Абиссинии. Тем не менее, возвращаясь на ферму «Керн», юноши выкладывались так, как сами от себя не ожидали. Энтон с ужасом думал о предстоящих пахоте и севе. Зато они ничего не имели против расчистки участка, ремонта инвентаря, отстрела диких зверей ради мяса и ухода за домашней скотиной. Порывшись в памяти, Энтон вспомнил старинные цыганские рецепты — как лечить и обращаться с мулами. Если они натирали шею и в конце дня едва волочили ноги, он отводил их к реке и долго купал в ее водах. Прикладывал к ранам целебную мазь, а при вздутии живота очищал желудки. По вечерам Кариоки ужинал с женщинами-кикуйю, а Энтон сидел вместе с Гвенн у костра между бунгало и его палаткой. После ужина он описывал свои приключения. Благодарная за помощь, Гвенн делила его интересы и, прежде чем выложить свои проблемы, неизменно спрашивала юношей об их подвигах и добыче. Сейчас они вместе наблюдали за неподвижной долговязой фигурой, застывшей, словно часовой на посту. — Где один самбуру, — предупреждал Кариоки, — там и другие. Стадностью они похожи на белых людей и гнусных масаи — ближайших родственников этого козлиного народа. Если наконечники их копий оголены, Тлага, готовься к бою. Энтон прислонил их оружие — винтовку и дробовик — к баобабу и повел Гвенн знакомиться с воином-самбуру. Ветер с долины принес душистый запах акации. Моран оказался крупнее тех масаи, с которыми Энтону довелось столкнуться во время их с Кариоки перехода на север. У него была коричневая лоснящаяся кожа с еле заметным красным оттенком и длинные ноги. Воин стоял в непринужденной позе, держа под мышкой одной руки метательную дубинку, а в другой руке — два копья, достигающие шести футов в длину. Одно копье — прямое, деревянное — заканчивалось острым листообразным наконечником. Другое было более массивным, с острием из металла. Оба копья покоились в чехлах из кожи антилопы. Украшением одному копью служил черный помпон из козьей шерсти, а другому — пучок перьев страуса. Ниже пояса на самбуру была шкура антилопы, тщательно отшлифованная при помощи глины и жира. Волосы заплетены в пять аккуратных косичек, доходящих до спины, плюс одна короткая — над бровью. На левом предплечье выделялись два алых шрама. В ушах он носил диски из желтоватой слоновой кости. Шею окаймляли разноцветные бусы и то ли воротник, то ли ошейник из медной проволоки. Самбуру безмятежно взирал на Гвенн. Энтон почувствовал, как напряглись ее пальцы, когда она дотронулась до его плеча. — Джамбо, — поздоровался Энтон и добавил несколько слов на самбуру. В руке он держал мешок с кукурузой. Он ободряюще кивнул Гвенн. Пора ей подружиться с соседями. Он не сможет торчать тут всю жизнь, а она нуждается в поддержке и защите. Какое-то время моран безмолвно изучал обоих — и вдруг улыбнулся. Темные глаза просияли. Энтон поставил мешок на землю и развязал веревку. Не глядя на подношение, самбуру свистнул сквозь зубы. Явились две молодые женщины, а потом трое подростков с козой. Женщины обошли Гвенн, дивясь ее сапогам и длинной юбке. Они потрогали ее светлые волосы и обменялись мнениями по поводу зеленых глаз. Гвенн покивала самбурянкам и указала на подарок. Женщины пропустили сквозь пальцы по горстке кукурузных зерен и унесли мешок. Моран сделал белым людям знак следовать за ним. Он привел их к иссохшему руслу бывшей речки. Там другой самбуру, младше этого, строгал длинную палку. Из песка, словно стебли, торчали два копья, возвышаясь на шесть футов над землей. Закончив обрабатывать палку, самбуру воткнул ее как можно глубже в песок. Моран наблюдал за его действиями, сидя на корточках. — Схожу за нашими ружьями, — сказал Энтон. Гвенн присела отдохнуть на большой валун, мерцающий кварцевыми искрами. Самбуру с копьем поднял голову и улыбнулся. Гвенн пришла в восхищение от его тела: гладкого, мускулистого, с гордой осанкой. Она перевела взгляд на возвращающуюся фигуру Энтона. Никогда прежде она на него так не смотрела. Пожалуй, ему недоставало свойственных самбуру кошачьей грации и постоянной готовности броситься на добычу. Энтон был шире в плечах, с богатырскими предплечьями; движения и походка отличались размашистостью. Если бы не перебитый нос, его можно было бы назвать красавцем. Вот только молодость… Что он смыслит в любви? Самбуру быстро-быстро завертел деревянный шест в ладонях, покачивая из стороны в сторону и расширяя дыру в бывшем дне реки. Потом он медленно вытащил шест. Конец — примерно пять дюймов — блестел от влаги. В солнечных лучах сверкнули капли воды. Самбуру передал палку Гвенн; та поднесла ее к губам. Вода была сладковатой и прохладной. Она вернула шест. Подошла полная женщина с тыквенной бутылью. Гвенн вытащила пробку и вдохнула острый запах козьего молока. Отпив глоток, она хотела отдать бутыль, однако женщина мотнула головой и указала на ее округлившийся живот. — Она права, — произнес Энтон. — Пей. Выпив молоко, Гвенн взяла его под руку, и они побрели к дому через буш и засеянное поле. Смеркалось. Энтон наслаждался теплом руки Гвенн и нежным запахом ее волос.* * *
О чем толкуют эти свиньи? Стоя босыми ногами на подушке, брошенной на пол третьего номера, Оливио ждал, когда глаза привыкнут к темноте. Нужно быть очень осторожным. Уж он-то знал, как скрипят в «Белом носороге» полы и как тонки стены. Он достал из-за кушака полотенце и тщательно протер хрустальную чашу леди Пенфолд для полоскания пальцев — последнюю из набора. Большая часть разбилась при перевозке — то ли в поезде, то ли в фургоне. Остальные пострадали от рук неловких слуг-кикуйю; это всякий раз непостижимым образом совпадало с приступами дурного настроения у леди Пенфолд, когда она вымещала злость на прислуге. Эту последнюю чашу Оливио припрятал для более высоких целей, чем омовение костлявых пальцев хозяйки. Когда на хрустале не осталось ни пятнышка, он провел указательным пальцем по кромке — стекло завибрировало. Оливио пальцем же остановил вибрацию и, приставив чашу к стене, общей с четвертым номером, приложил к донышку ухо. Голоса гремели, как барабан. Оливио знал: другие приставляли к стене стакан, но кто, кроме него, догадался использовать для этой цели чашу для полоскания пальцев? — Это мои деньги — и расписки тоже! — гаркнул Фонсека. — Так что все будет по-моему! — Мистер Фонсека, мы не в Макао и не на Португальском Западе, — возразил гнусавый голос англичанина. Наверное, это та жирная свинья — мистер Губка Хартшорн. То-то его светлость удивлялся — что привело этого городского франта в Наньюки? — Без поддержки представителя Министерства колоний Его Величества — а если конкретно, то чиновника земельного управления, такого, как я, — никакие сделки с землей не состоятся. Я ясно выразился, мистер Фонсики? — Фонсека, мистер Хартшорн, Фонсека. Ваша задача — помочь мне набрать как можно больше самой лучшей земли и по самой низкой цене. Все, что требуется, это мои деньги, печать вашего правительства и подставные владельцы — скажем, мистер Рейли с братом. — Да уж, без нас вам не обойтись, — послышался резкий голос ирландца. — Эту землю отобрали у ниггеров, чтобы отдать нам, ветеранам. Вы, Фонсека, не очень-то смахиваете на покалеченного в бою британского воина, да и на ниггера тоже, хотя некоторых португальцев в темноте можно и не заметить. — Мы оба — сеньор Фонсека и я — гордимся партнерством с двумя ирландскими джентльменами, — примирительным тоном произнес Хартшорн. — Но давайте посмотрим карту. Карлик встал на цыпочки и приложил здоровый глаз к дырочке в стене, которую когда-то сам и проделал. Три мужские фигуры склонились над картой. Хартшорн постучал по ней ногтем. — Главное — вода. В этих краях один год из трех не выпадает осадков. Но если вам посчастливилось отхватить участок на Эвасо-Нгиро, вам не страшна никакая засуха. Правда, река — не без фокусов: мечется из стороны в сторону, как сомалийская проститутка. Неделя проливных дождей — и она заливает берега и затопляет балки, иногда меняя при этом русло. — У Рейли здесь уже есть своя земля, — сказал Фонсека. — Это большая часть бывшей фермы Амброза, плюс несколько клочков земли в разных местах, согласно выданным мне безмозглыми британцами распискам. — Эти «безмозглые британцы» прогнали фон Леттова из вашего паршивого Мозамбика, — окрысился Рейли. — Где были вы в это время? — Ну-ну, парни, давайте играть в одни ворота, — с истеричными нотками в голосе вмешался Хартшорн. — Вот чем нам предстоит заняться в первую очередь. Фермой Луэллинов и той, что рядом. А потом мы оттяпаем жирный кусок земли у калек. Оливио, который изо всех сил старался не менять положения и не скрипеть чашей по шероховатой стене, подумал о круглой сумме, которую они с Раджи да Сузой ссудили Луэллинам. Каждое зернышко, каждая лопата и сама ферма частично принадлежат ему! Опять этот дьявол Фонсека посягает на его имущество! Но этой собаке невдомек, что Оливио владеет десятью акрами участка Амброза — через реку. — Теперь, когда она осталась без мужа и денег, — возразил Фонсека, — с участком не предвидится особых хлопот. Мы даже сделаем красотке одолжение. — Это единственная ферма, где есть своя вода, помимо реки, — объяснил Хартшорн. — Источники и водоемы. Многие даже не отражены на карте. Поэтому я специально отметил, кто выиграл этот участок. Рейли отвратительно ухмыльнулся. — Деньги — не единственный ключик. Девочке нужен мужчина, а я близко знаком с ней — еще по пароходу. — Может, вы прогуляетесь туда вдвоем с братом — посмотрите, что да как? — предложил Хартшорн. — Нужно завершить перераспределение участков, пока никто не знает, где пройдет новая железная дорога. — Я могу задержаться, — пообещал Рейли. — Познакомлю ее с лучшими образцами ирландской поэзии.Глава 25
Адам Пенфолд с довольным видом вытянул больную ногу и подвинул Оливио свой стакан. — С самого бала холостяков в тринадцатом здесь не было такого веселья. Сказав это, он целиком сосредоточил свое внимание на блюде с горячими индийскими пирожками с начинкой из баранины. Он выбрал самый наперченный. — Кто тебя так отделал? — На меня кое-что упало, — туманно ответил бармен, на мгновение представив тугие, влажные бедра Кины. Он налил хозяину двойное виски и обвел глазами переполненный бар. Несколько плантаторов с севера — усталых фермеров с крутых склонов Абердарского хребта — шумной ватагой устремились к доске для игры в дартс. — Целую неделю только и делал, что травил мышьяком красных пауков и розовых клещей, — посетовал один, разбавляя виски элем. — Пора и самому отравиться. — Буйволы топчут оросительные каналы, гусеницы жрут кофейные зерна, а варвары-кикуйю расправляются с кукурузой почище саранчи, — подхватил другой и, встав на цыпочки, метнул дротик в глаз Владимиру Ленину. Эта газетная фотография с изображением большевистского лидера, выступающего с пламенной речью перед рабочими паровозного депо, сменила на доске для игры в дартс портрет кайзера Вильгельма. Оливио прочитал в «Англо-Лузитано», будто британские моряки (делать им больше нечего!) высадились на российский берег, чтобы помочь свергнуть бородатого возмутителя спокойствия. Выходит, британцы — не такие уж и простаки, во всяком случае некоторые. Россия ведет войну — и, стало быть, лишена возможности экспортировать лен. Неплохой шанс для льноводов здесь, в Кении! — Чего мне не хватает, так это доброго английского воскресного пикника, — вздохнул один фермер. — Встать на зорьке, кого-нибудь подстрелить… Чуть поодаль, за спинами метателей дротиков, группа мужчин окружила столик для игры в триктрак. На неудачника градом сыпались советы. Окутанный сигарным дымом, Васко Фонсека ухмыльнулся и заказал выпивку. На другом конце бара, рядом с вешалкой из рогов антилопы для оружия и портупей, четверо завсегдатаев бросали кости. В центре бара, за квадратным столом, двое развлекались реслингом. Они крепко сцепились руками, поставив локти на «экватор». Каждый из борцов сосредоточил внимание на своей правой руке. Оба пыхтели, стискивали зубы и что есть силы упирались локтями в крышку стола. На обнаженных руках вздулись жилы. Левой рукой каждый, для сохранения равновесия, опирался на внутреннюю сторону бедра. Возле каждого на столе горела свечка. Опускаясь на стол, кисть побежденного неизбежно должна была коснуться пламени. Борцы были настоящими великанами: верзилами с могучими плечами. Волосы старшего посеребрила седина; на войне ему ампутировали правую ногу ниже колена. У более молодого на низкий лоб свисали рыжие кудри. — Кто еще хочет поставить на Пэдди? Или на капитана Джоса? — выкрикивал другой рыжий — очевидно, тоже ирландец. — Еще не поздно! Ставка два шиллинга! Чья свечка раньше погаснет? — Ставлю на Джоса! — Один из зрителей бросил на край стола серебряную монету. Рядом группа бывших солдат затянула любимую песню:Глава 26
Еще одна борозда, и на сегодня хватит. Перед глазами Гвенн тяжелый лемех фирмы «Дир» резал и переворачивал землю. Снабженный специальными приспособлениями, плуг с легкостью уклонялся от камней и пней и легко справлялся с африканской целиной. Десять волов, из которых шесть поступили совсем недавно и от них пока было мало толку, рвались из цепей. Передняя, глубоко погруженная в землю часть лемеха ровно резала землю. Задняя блестела на солнце. — Тише, тише, — сдерживал волов Кариоки. — Не надо так торопиться. Он повесил поводья на плечи и, улыбнувшись Гвенн, поднял вверх обе руки в жесте капитуляции. Хорошо хоть Кариоки здесь, подумала она, скучая по Энтону. Она понимала овладевшую им жажду перемен, но не могла не досадовать. Что он так долго делает в «Белом носороге»? Два месяца назад она бы выжала все соки из кикуйю и скота — и, скорее всего, запорола бы плуг. Сегодняшняя Гвенн, так же как и волы, знала, когда нужно остановиться. Она пошла на край поля — за киркой. Кариоки зашел впереди плуга. Нагнувшись, Гвенн почувствовала прилив крови к голове. В глазах потемнело. Она бессильно опустилась на камень и, закрыв глаза, прислушалась к движениям нового существа. Каким-то он будет, этот малыш? Осталось не более трех-четырех недель. Через две недели она воспользуется приглашением Пенфолдов — рожать в Наньюки. Какая роскошь! Но Гвенн волновалась за ферму. Энтон обещал присмотреть за ней, если еще будет в этих краях. Гвенн знала: он делает это не из любви к земле, а из добрых чувств к ней, как одолжение. Если Энтон не сможет, Пенфолд обещал прислать кого-нибудь из еще не определившихся солдат, оставшихся без земли и не желающих возвращаться на родину. В голове прояснилось. С реки дул приятный ветерок. Открыв глаза, Гвенн посмотрела на юго-восток, через равнину и невысокий горный хребет Лолдайка — туда, где высилась вдали гора Кения. Вот уже и август. Проливные дожди кончились, и на фоне кристально чистого неба вулкан показался ближе. На крутых склонах темные пояса из кедровых рощ сменялись снежной мантией, питающей Эвасо-Нгиро. Адам предупредил: в скором времени можно ожидать слонов. Они спустятся с гор, перейдут ручьи, где водится радужная форель, пересекут плантации европейцев и маленькие фермы туземцев и отправятся дальше, на равнину. Обычно они путешествуют маленькими группами или семьями, но бывает, что за несколько дней их проходит несколько сотен. По дороге на северо-запад через плато Лейкипия слоны задержатся на Эвасо-Нгиро, чтобы, подобно человеку, освежиться и утолить жажду. Слоны, как примерные ученики, избегали топтать посевы: за этим часто следовала смерть. Но случалось и так, что голодные или испуганные животные за одну ночь уничтожали кукурузное поле. Хорошо бы успеть вернуться до их перехода. Гвенн окинула взглядом поле. Присланные Адамом Пенфолдом широкорогие волы выносливой африканской породы неподвижно застыли с чисто бурским терпением. Уже сейчас Гвенн могла бы сказать, что волы научили ее большему, чем она их. Каждое утро она помогала запрягать, поправляла упряжь так, чтобы им было удобно целый день вести ровную борозду. Малейшая небрежность — и борозда будет кривой. Гвенн взглянула на свои руки и напомнила себе о необходимости надевать перчатки. Движимая отчаянным стремлением прижиться в Африке, в первые недели после смерти Алана она поднималась затемно и выгоняла в поле своих помощников. Сбруя то и дело лопалась, а волы худели. Кариоки и женщины-кикуйю ворчали, что даже на злобного карлика Чура Ньякунду работать было легче. По крайней мере, Желтая Лягушка не заставлял их возиться в земле. Со временем она поняла особый ритм рабочего дня африканцев. Сколько бы она ни давила, как бы поздно они ни приступали к работе, к концу дня результат был один и тот же: один акр глубоко вспаханной земли. Если Гвенн чересчур свирепствовала, все бунтовали: кикуйю, волы, даже сама земля. Кариоки ждал ее терпеливо, словно старое дерево. Пять женщин-кикуйю, которым было поручено очистить землю от сорняков, камней и веток, болтали в нескольких ярдах позади нее. Никто никуда не спешил — кроме самой Гвенн. К счастью, мужчины-кикуйю не отказывались пахать, потому что даже при их традиционной лени все связанное со скотом считалось мужской обязанностью. Гвенн встала и отнесла кирку Кариоки. Через пару дней можно будет прокладывать поперечные борозды. Многие новоявленные фермеры не утруждали себя такими тонкостями; Адам тоже допустил такую ошибку. Семена все равно взойдут, но земля не сможет дышать, не будет здоровой и сильной. И еще — перед тем как переворачивать землю, нужно произвести повторную мелкую вспашку — сначала на шесть, потом на три дюйма глубиной, чтобы разбить крупные комья, оставшиеся после предыдущей вспашки. Лен требует особенно тщательной обработки. В конце будущего месяца, или в начале октября, первые тридцать акров будут подготовлены к севу. Лучшие двадцать она отведет под лен, а остальные десять — под кукурузу, бобовые и пшеницу. Семена льна нужно вносить поглубже, а не разбрасывать. Пшеница требует меньше влаги. Волы и овцы большую часть года смогут пастись на естественных пастбищах. Но в засушливый период им понадобится силос, запасы зеленого корма — люцерны или южноафриканского маиса с поливных земель. Каждой корове или волу требуется десять акров, овце — три. Нужно купить еще семян и инвентаря, скота и техники. Раджи да Суза через своего друга Оливио Алаведо предложил ей дополнительный кредит. «Ничего не жалеть для фермы "Керн"»! — так он выразился. Но, конечно, больше всего Гвенн нуждалась в мужчине — фермере, который разбирался бы во льне и болезнях домашних животных. И тут Энтон ей не опора. Что он будет делать, когда повзрослеет? Осядет ли на земле? Чем станет зарабатывать на жизнь? Гвенн шла за плугом, проверяя правильность борозды и следя за тем, чтобы Кариоки не попытался облегчить себе и волам работу, приподняв лемех. При неровной или мелкой борозде в октябре и ноябре дождевая влага будет стекать по склону, а не впитываться в почву. Чтобы понизить испаряемость, Гвенн решила после сильного дождя взрыхлить землю. Закончив последнюю борозду, Кариоки погнал волов домой, сделав остановку у реки, чтобы искупать животных. Он помахал уходящим с поля женщинам. Одна, самая молодая, задержалась и подождала его, Гвенн шла медленно, время от времени нагибаясь, чтобы поднять и отбросить в сторону сучок или камень. Итак, сорок две борозды шириной в шесть футов. Не образец аккуратности, как пирамиды Алана, но лучше ей в этом году не сделать. Против своей воли Гвенн испытывала горечь и обиду на Алана. Как он мог взвалить на нее одну тяжкое бремя выживания? Потом она почувствовала себя виноватой за то, что не тоскует об Алане так как следует. И чересчур беспокоится об Энтоне — как бы уберечь его от мести Мика Рейли. Но временами, злясь на себя, Гвенн страстно желала, чтобы Энтон был рядом. Вместе, рука об руку, возвращаться с поля… Она еще раз наклонилась, и ее вдруг пронзила острая боль. Ахнув, она опустилась на колени и поползла туда, где под тамариндом зеленела трава. Там она повалилась на землю и зажмурилась. Боль возобновилась и не отпускала. Целый час Гвенн пролежала на боку, напоминая себе, что сроки еще не вышли; однако боль то и дело пронзала все ее существо и затихала, давая ей возможность собраться с силами. У нее отошли воды. Ребенок! Гвенн распростерлась на спине, подняла колени. Тело покрылось испариной. Нужно глубоко дышать. Вспомнить, что делала бабушка, когда ее кузине пришлось рожать без акушерки. По спине побежали мурашки. Мышцы напряглись. Тело больше не слушалось Гвенн, живя по своим особым законам. Юбка намокла. Гвенн развязала поясок и, поворачиваясь с боку на бок, сняла юбку и подстелила ее вместо простыни. Через ткань спину кололи осыпавшиеся стручки тамаринда. Боль накатила, утихла и вернулась вновь. Над головой шумела листва и ярко светило солнце. Вдруг в кустах зашуршало. Раздвинулись ветви. Гвенн запаниковала. Господи, как дотянуться до винтовки? Но было поздно. Оружие слишком далеко. Гвенн с трудом села. Голова перестала кружиться. Она приготовилась к схватке. — Гвенн-саиб! — воскликнула женщина-самбуру. — Виктория! Слава Богу! Помоги мне добраться домой! Виктория бросила пустой мешок и опустилась на колени в ногах у Гвенн. Потом велела ей лечь. Стащила нижнюю юбку из грубого холста. Развела ноги. Потрогала живот и заглянула между ног. — Не домой, нет. Поздно домой. Примерно с час Виктория сидела рядом, держа Гвенн за руку. Та лежала с закрытыми глазами. Схватки все усиливались. Боже милостивый, началось! Виктория снова встала на колени у нее в ногах и, взяв руки Гвенн в свои, с силой потянула молодую женщину на себя, вынуждая сесть. Потом она встала, заставила Гвенн встать на корточки — так, чтобы вес равномерно распределился между носками и пятками. Локти Гвенн она поместила ей же на колени и помогла сцепить пальцы. Встав позади, она потянула Гвенн на себя, давая ей опереться выгнутой спиной на свои ноги. Мысли Гвенн завертелись вокруг ее новой помощницы и подруги. В свое время ей никак не удавалось запомнить самбурянские имена, и она дала женщине имя Виктория — за необычайное сходство с Ее Величеством. Тот же прямой, открытый взгляд, те же пухлые щеки, полное круглое лицо и величавая осанка. И надежность. По телу Гвенн пробежала судорога. Новая жизнь неудержимо рвалась на волю. Виктория схватила молодую женщину за плечи. Гвенн натужилась. Бедра разверзлись. Гвенн дернулась и повалилась на бок. Виктория успела подхватить ребенка. Зубами перегрызла пуповину. Омыла младенца в воде неглубокого водоема, пару раз шлепнула и подставила лучам заходящего солнца. Чей-то мощный рев привел Гвенн в чувство. Вики передала ей новорожденного, завернутого в грубую мешковину. Полные слез глаза Гвенн не могли разобрать пол ребенка. Она погладила головку с курчавыми волосенками. — Богатырь, — одобрила Вики. — Настоящий мужчина.* * *
— Я заволновался, когда ты не приехала в «Белый носорог», — сказал две недели спустя Энтон, распрягая Рафики. Ему было жаль, что он пропустил миг рождения человека. — Решил вот съездить, посмотреть, как дела. Так хотелось присутствовать при родах! Но я опоздал. Он опустился на колени и пощекотал младенцу животик. Голенький наследник фермы «Керн» лежал на шкуре импалы, взбрыкивал ножками и разевал ротик. У него были рыжие кудряшки и зеленые глаза. — Какой красивый! — восторгался Энтон. — Жалко, что меня здесь не было — помочь! — Ну, от тебя было бы мало толку, — Гвенн всеми силами старалась не показать, что рада его приезду. — Мне помогла Вики. Руки Гвенн до запястий были молочно-белого цвета. Волосы обсыпаны творожными крошками. «Должно быть, я страшна как смертный грех», — подумала она и украдкой посмотрела на Энтона. Возможно, в «Белом носороге» он встречался с Анунциатой. — Ты любишь сливочный сыр? — с гордостью спросила она. — Его не так просто сделать, как кажется. Зато перевозить и продавать удобнее, чем сливочное масло. Вот только у нас оно почему-то получается кислым и на удивление белым. — Тебе помочь? — сам себе ужасаясь, спросил Энтон. Вид кухонного стола поверг его в панику. На одном краю лежала стопка белых промасленных тряпиц. На другом ждали своей очереди пустые жестяные формы. Если утратить бдительность, она сделает из него дояра. Энтон понюхал высокий бидон с молоком. — По-моему, слишком кисло. — Сыр выдерживают неделю, — с раздражением в голосе произнесла Гвенн. — Потом все, кроме последней ложки, вываливается в сложенный втрое кусок хорошего полотна и хранится сутки. И только после этого добавляют соль. — Чем плоха последняя ложка? — Ничем, если не считать того, что на дне собирается твердая масса, которая портит сыр. Разверни, пожалуйста, вон ту тряпку. Соскреби все в середину. — Как ты назвала ребенка? — спросил Энтон, закатывая рукава и ребром ладони собирая крошки. — Веллингтон[14] — за выдающийся нос. Нет, Энтон. Это делают всей ладонью. Гвенн накрыла его руки своими и показала, как собрать в центр творожную массу. На мгновение их пальцы переплелись. — А теперь переложи на чистую материю. Хорошенько загни углы и положи сверху груз — десять фунтов. Через двенадцать часов получится отличный кусок белого сливочного сыра. Энтон, ты не прогуляешься на реку — поищешь камней по десять фунтов? Он облизал пальцы. — Веллингтон — неподходящее имя для фермера. По-моему, не хватает соли. Гвенн откинула со лба волосы и поджала губы. Не хватает соли? В зеленых глазах запрыгали искры. — Возможно, он станет доблестным воином. Или вторым Энтоном Райдером — храбрым охотником, который раскатывает по свету верхом на коне и стреляет диких зверей. Когда ты уезжаешь? — Пойду, поищу камни, — Энтон ухмыльнулся, вспомнив совет лорда Пенфолда: никогда не спорить с женщиной. «Ну зачем мне понадобилось вредничать? — упрекнула себя Гвенн. — Буду вести себя как старая стерва — он ни за что не вернется». Энтон притащил три сверкающих речных камня. Гвенн как раз кормила. Из расстегнутой блузки выглядывала полная левая грудь с розовым соском и капельками молока. Веллингтон передохнул и снова припал к груди. — Спасибо, Энтон. Положи, пожалуйста, груз на творог. Он подошел к столу. — Можешь развернуть первую тряпицу — под мешочком с гвоздями — и посмотреть, готово ли. Если да, то, будь добр, разрежь творог на куски и разложи в формы. Веллингтон оторвался от материнской груди и загугукал. Энтон снял мешок с гвоздями и, достав цыганский нож, всадил в творожную массу. «Знать бы, что мой старый чури будет использован подобным образом, лучше бы я оставил его той жирной свинье», — сказал он себе с мрачным юмором. — Нет-нет, сливочный сыр нельзя резать ножом. Вон там деревянная лопатка. — Обещаю никогда больше этого не делать, — Энтон против воли улыбнулся. — Лучше вернусь в отель — помогать на кухне. — Будешь смешить, — сказала Гвенн, пристраивая Веллингтона к другой груди, — он меня укусит.* * *
— Золото! — Эрнст фон Деккен зажмурился и откинул голову на спинку стула. — Да, золото! Его добротные немецкие сапоги остались висеть, привязанные к седлу. Он допил фирменный шнапс «Гепард» и передал Энтону пустую бутылку. — Вот он, ответ на все вопросы! Хочешь, будем работать на пару? От земледелия никакого проку. А чтобы добывать золото, мне нужен партнер-англичанин, вроде тебя. Немцу не дадут лицензию. — Золото? Энтон разволновался. Сейчас ему нечего предложить женщине. Золото — великолепный шанс разбогатеть и все-таки остаться свободным. Тогда у него появится возможность быть с Гвенн и в то же время не заделаться поденщиком на ферме. Всю прошлую неделю Гвенн была холодна и надменна — вряд ли она в нем нуждается. Возможно, после изнасилования и смерти Алана она хочет отдохнуть от мужчин. А эта одержимость фермой — и все вытекающие отсюда сложности! — Золото? — переспросил он Эрнста. — В 1867 году его впервые обнаружили в Земле Матабеле. Англичане живо отобрали эту территорию у кафров и назвали Родезией. Потом, в восемьдесят шестом, они нашли золото в Трансваале и отняли его у буров — получилась Южная Африка. И наконец, перед войной мы отыскали золото в Германской Восточной Африке. Вы с Лигой наций тут как тут — хватаете всю территорию, включая ферму «Гепард», и объявляете Танганьикой. Теперь золото находят даже в этой несчастной стране. — Мне жаль, что так вышло с фермой. Надеюсь, твой отец в порядке? — Это его чуть не убило. Но он крепче старого носорога. Подался в Каир — вроде бы выращивать хлопок. Англичане разорили наши фермы. Всех немцев отсылают домой. Но мы еще вернемся, вот увидите. Беда в том, что «Гепард» был настоящим домом. Теперь они распродают немецкие земли и предприятия на аукционе, как «собственность врага». Так что давай, мальчуган, хапнем нашу долю. А потом выкупим ферму на твое имя. — Ты не говорил, что там есть золото. Где? — Совсем недавно обнаружили новые, легкие для разработки залегания по обе стороны границы, недалеко от озера Виктория. По нашу сторону — в низовьях реки Лупа. По вашу — близ Лолгориена. Говорят, оно там залегает открыто — приходи с лотком и мой песок. — Едем! Только сначала погостим на ферме моих друзей. Я немного помогу в поле, а ты поохотишься. Там водятся замечательные сернобыки и антилопы Гранта. Ты уже покормил лошадь? — Моя коняга не нуждается в пище. — А в воде? — Не в воде, а в бензине. Это старый мотоцикл. Шесть с четвертью лошадиных сил, два цилиндра, коляска, три скорости, свет, насос, инструменты — все как полагается. При желании способен летать. Вырастешь — купи себе такой же.* * *
— Ав! Ав! Медленно передвигаясь на четвереньках, Оливио потерся плечом о ногу Кины, словно выточенную из черной слоновой кости. Девушка обхватила его короткую шею и стала щипать там, где кончался старый кожаный ошейник покойного Ланселота. Мерзкая псина! Однако Оливио послушно повторил: — Ав! Ав! Он опустил круглую, как шар, голову и, восхищаясь подъемом, лизнул ногу Кины — да не кончиком языка, а всей поверхностью, точно слюнявый щенок. И отметил про себя: после всех ножных ванн и его интимных услуг это дитя природы по-прежнему пахнет чем-то отвратным. Он крепче прижал губы к ноге Кины и ощутил твердые молодые косточки и эластичные сухожилия. А какие сокровища ждут его выше! Оливио аж вспотел от предвкушения. — Ав! Ав! Продолжая лизать эту дивную ножку и в то же время думая о своих врагах, Оливио спросил себя: а что ему оставалось? Ему вспомнилась древняя легенда о скале над ущельем. Если до нее дотронется честный человек, она сорвется и раздавит всех его врагов. Ну что ж, он уже дотронулся до этой громадины. Уже бороздит океан его письмо лиссабонскому адвокату. Скоро пароход встанет на якорь в одной из крупнейших гаваней, откуда четыре столетия назад отплыл в Индию великий Васко да Гама. Мешок с почтой бросят на берег и доставят в столицу. Наутро его послание ляжет на стол юриста, доктора Гонсало Баррето. Собственно, это даже не письмо, а составленное по всем правилам и заверенное у нотариуса обязательство поделиться богатством с Баррето и матерью-церковью, плюс ссылки на дневники-исповеди покойного архиепископа, хранящиеся в тайном архиве кафедрального собора в Лиссабоне. Там святые отцы найдут все доказательства. Довольный тем, что наконец-то хоть верхняя часть ступни Кины стала чистой, Оливио прижался щекой к циновке и взял в рот большой палец. Только с большими это и получалось: остальные пальцы юной дикарки были загнуты книзу. Карлик пососал и куснул повыше ногтя. Кина вскрикнула и натянула поводок. Ошейник сдавил ему адамово яблоко. Оливио издал булькающий звук, побагровел и начал хватать ртом воздух.Глава 27
Указывая тростью на кучу брошенного инвентаря в канаве близ «Белого носорога», Адам Пенфолд со вздохом произнес: — Остатки былой роскоши. Все, что осталось от моей фермы. Иногда мне кажется, что я с тем же успехом мог бы разводить малину на развалинах Карфагена. Может, мы не созданы для жизни в Африке? Пенфолд подвел Энтона с Эрнстом к ржавому культиватору. — Эта свалка — результат пятнадцатилетнего эксперимента — моих попыток стать своим на этой чертовой земле. Каждый кусок металла стоил мне нескольких акров земли в Уилтшире. Я наделал кучу ошибок, а как уедешь? Всякий раз, когда Сисси требует паковать вещи, я закрываю глаза и вдыхаю здешние ароматы. Опять же, работа. Мой отель. — Ваши английские друзья не постеснялись вышвырнуть меня с моей собственной фермы, — пробурчал Эрнст. Энтон был настроен на практический лад. — А это что? Он потыкал палочкой в груду кофемолок, лущилок и приспособлений для прополки от Резерфорда. Над всем этим богатством возвышался сепаратор «Динго». — Моя любимая машинка для очистки кофейных зерен. Но после того как гусеница озимой совки сожрала зерна, мы использовали ее для чего угодно, только не по назначению. Кончилось тем, что поварята покорежили лезвия и ее пришлось выбросить. А что касается «Динго», то в хорошую погоду старушка перерабатывала по пятнадцать галлонов в час. — Нельзя ли тут что-нибудь починить? Может, Гвенн пригодилось бы. — В коляске нет места для всякого хлама, — буркнул Эрнст. — Можно отправить ей льнотрепалку «Спидо» и насос от Майерса. Отличная вещь. Я все равно отдаю инвалидам, что ни попросят. Они тут нынче проезжали в своем фургоне — тяжелое зрелище! Марш обреченных. Будет чудо, если у них что-нибудь получится. Они забрали мою гордость — ветряную мельницу. Правда, там не хватает пары лопастей. Эрнст схватил Энтона за плечо. — Нам пора ехать. Меня тошнит от этой мертвечины. И потом, я уже не в том возрасте, когда ночуют без палатки, доброго повара и пары молодых бабенок. Они вернулись в отель. Эрнст проверил свой «эксельсиор». Переднее крыло отсутствовало, но вообще мотоцикл был в полном порядке и блестел как новенький. Весь день Энтон грезил о Гвенн. Она являлась ему сердитой, с расстегнутой блузкой и крошками творога в волосах. С веранды сошла Анунциата и приблизилась к нему. Конечно, она все понимает. Энтона все еще тянуло к ней, и он весь напрягся, когда она положила руку ему на грудь, а затем поцеловала, всем телом прижавшись к нему. — Синеглазик, мой непобедимый рыцарь. Анунциата оторвалась от Энтона и робко заглянула ему в глаза. Эрнст оседлал своего железного коня и завел мотор. Энтон кое-как втиснулся в коляску, между двумя немецкими винтовками. Пенфолд подал ему вещмешок. Машина взревела и выстрелила выхлопными газами. — Без переднего крыла, — громко проворчал Эрнст, надевая авиаторские очки, — порадуешься, что запасся добрыми немецкими окулярами. А вот для твоих синих глаз у меня ничего нет, мой юный англичанин. Из отеля вышел Оливио и, быстро перебирая маленькими ножками, приблизился к мотоциклу. За ним поваренок нес дергающийся мешок. — Куры, — задыхаясь, пояснил Оливио. — Четыре живых цыпленка для дорогой миссис Луэллин. Передайте ей, мистер Энтон, что мы постараемся достать все, что ей будет нужно. Вот документ на кредит в индийском магазине. Это скромный магазинчик, но кое-что у них все-таки имеется. Оливио привязал брыкающийся мешок к коляске позади Энтона. «Эксельсиор» сорвался с места. Поваренок захлопал в ладоши. Гости «Белого носорога» подняли в воздух стаканы и помахали им с веранды. — Скажите Гвенн, что она может приезжать в любое время, с ребенком и все такое прочее! Старая колыбелька ждет! — прокричал вслед хозяин «Белого носорога» и с грустью добавил про себя: «Ею так ни разу и не воспользовались!» — Если из этих цыплят выйдет что-то путное, — брюзжал Эрнст, — я лично их зажарю. Мотоцикл устремился вниз по пыльной дороге. — Guter Gott[15], английские калеки! — воскликнул Эрнст несколько часов спустя. «Эксельсиор» на огромной скорости огибал скалу. За поворотом их глазам открылись широкая река и — всего в нескольких ярдах от дороги — высокий обрывистый берег. Прищурившись, Энтон всматривался в поднятое колесами мотоцикла облако пыли. Он различил мутную воду и сырой песок с разбросанными по нему опрокинутыми фургонами, воловьими упряжками и людьми. Коляска подскочила, наткнувшись на корень фигового дерева. Эрнст резко затормозил и слетел сначала на берег, а затем — прямо в воду. Энтон вылетел из коляски. Сидя в мутной воде, он беспомощно смотрел, как течение уносит мешок с цыплятами. Бедные пассажиры отчаянно трепыхались. Какой-то человек схватил мешок и выбросил на берег. — Небольшая ванна не повредит, сынок, — весело произнес одноногий солдат и протянул Энтону руку помощи. Его костыль глубоко увяз в песке. — Ребята кличут меня «капитан Джос». Я видел тебя в «Белом носороге». Неподалеку человек двенадцать мужчин ставили «эксельсиор» на колеса. Энтон склонился над Эрнстом — тот выплюнул песок, потрогал правую ключицу и застонал от боли. — Они таки добились своего. Мне капут. Эти английские свиньи меня достали. Четыре года войны — и все кости целы. И что же? Теперь я ломаю шею, стараясь не раздавить бродячий английский госпиталь! Энтон перевел его на другой берег, где ждала запряженная четверкой мулов шотландская повозка «скорой помощи» с большим белым крестом на борту. Очевидно, она только что перебралась через реку — как раз перед тем, как опрокинулась первая перегруженная повозка со скарбом инвалидов. К сиденью врача была привязана клетка с откормленным оранжево-зеленым попугаем. Птица чистила крючковатым клювом перышки. Чуть подальше, между двумя ящиками с медикаментами на носилках лежал человек. Врач — долговязый и тощий как жердь — со вздохом спустился на землю. — Парад увечий никогда не кончится. Моя фамилия Фицгиббонс, военврач. Второй Ланкаширский. Опираясь на плечо Энтона, Эрнст прищелкнул каблуками и вздернул подбородок. — Капитан фон Деккен, Третий полевой, Германская колониальная армия. — У моего друга сломана ключица, — сообщил Энтон. — Если только вы — не дипломированный хирург, юноша, позвольте мне самому поставить диагноз. — Врач взял у Энтона нож и одним махом рассек сзади рубашку. — Выгружайте обе аптечки. Постелите сверху одеяло и положите этого горе-мотоциклиста на его толстый живот. Энтон подчинился. А потом бросился к реке — вытаскивать из воды винтовки. Кругом барахтались люди и животные. Убедившись в том, что «эксельсиор» благополучно доставили на берег, Энтон вернулся к санитарному фургону. Как-то там Гвенн? Сколько они здесь проторчат? — Чем я могу помочь? Острая кость распирала Эрнсту плечо подобно тому, как большой палец выпирает из-под одеяла. — По-моему, у тебя должно лучше получаться с четвероногими, — проворчал Фицгиббонс, возвращая Энтону нож. На него вдруг напал сильнейший кашель; худая грудь заходила ходуном. Он сел на подножку и зажал рот ладонями. Наконец приступ кончился. Врач отер рот рукавом и посмотрел на немца. — Прошу прощения, это ваш горчичный газ. Ну, а теперь, парень, беги к реке и позови Бевиса. Он тут самый опрятный — даром что однорукий. Хоть твой приятель и колбасник, попробуем его починить. — Держи колбасника! — заверещал попугай. — Держи колбасника! — Не обращайте на Кайзера внимания, — сказал врач. — В его лексиконе всего две фразы. Эрнст пришел в негодование. — Как вы посмели назвать мерзкую птицу именем императора? Фицгиббонс зажал ему рот и нос повязкой, пропитанной хлороформом. — Пусть Бевис приведет кого-нибудь покрепче. Я хочу сделать твоему приятелю растяжку. Это не совсем то, о чем он всю жизнь мечтал, но все-таки не нож. У него и так не шибко эстетичный вид. — Под нож его! — заголосила птица. — Под нож его! Весь вечер, пока врач возился с Эрнстом и другими больными, Энтон помогал инвалидам разгружать тяжелые фургоны и связывать попарно самых крепких волов. Наконец тридцать два вола и дюжина мужчин вытащили из реки и снова загрузили повозки. Офицер из транспортной службы проверил каждую и проследил, чтобы животных накормили. Поставили палатки. Зажгли лампы. Время от времени то один, то другой наведывался к врачу. Энтон сел на землю рядом с Эрнстом и стал чистить винтовку. Закутанный в одеяло, немец устроился на походном стуле. Левая рука была на перевязи. Голову он откинул назад. Из открытого рта доносились булькающие звуки. — Повар! — позвал Джослин. — Хорошая новость! У одного мула сломана нога! Заколи его и приготовь жаркое. Смотри только, не попорть шкуру. — Правильно, капитан Джос. — По лагерю пронеслось эхо одиночного выстрела. — Как быть с мозгами и требухой? — Нам приходилось глотать и похуже, приятель, — ответил, отрываясь от карт, одноглазый «томми». Огонь костра выхватил из темноты его бледное лицо с черной повязкой. Он пустил по кругу бутылку матросского рома. — Давайте зажарим цыплят, — предложил кто-кто. — Извините, сэр, — возразил Энтон, — это подарок для друга. Завтра я добуду вам мясо. Он с наслаждением вдыхал аромат фасоли, мяса и лука, к которому примешивался запах горящих дров. Ветераны разложили по тарелкам жаркое с гарниром из дикого шпината. По всему лагерю слышался звук ложек, скребущих по дну тарелок. Дальний рык леопарда напомнил Энтону об Абердарах и горе Кения. Он принес Эрнсту еду. И подергал за здоровую руку, чтобы разбудить. — А? Что со мной сделал этот мясник — твой соотечественник? Достань чего-нибудь выпить, пока я ем эту бурду. — Если бы я был мясником, капитан, — послышалось из темноты, — вы бы уже были в кастрюле. — Там колбасникам и место, — поддакнул одноглазый. — На всех бы хватило. Он передал Эрнсту ром и, сходив в палатку, вернулся с аккордеоном. — Подобрал в вашем окопе. Единственное, что не воняло. Спойте с нами — или отдельно. Ребята, что вам сыграть? — «Вальсирующую Матильду». И все запели. Энтон вспомнил цыганские песни под гитару, Ленареса и сказки у костра. Глаза заблестели. Он поймал на себе взгляд Эрнста и подмигнул. — Твоя очередь, — сказал Эрнсту одноглазый. — Я знаю только одну песню, — чопорно отозвался немец, застегивая здоровой рукой грязный воротничок. Энтона поразила грусть в голосе друга. Эрнст оперся на его плечо и со стоном поднялся. — «Гей, сафари!»— объявил он название любимого марша Германской колониальной армии. Все в лагере притихли. Английские солдаты молча смотрели друг на друга. Фицгиббонс подавил кашель. Энтон по-прежнему вслушивался в темноту, но рык леопарда смолк, слышалось лишь шарканье мулов да визг древесных даманов. Завтра он увидит Гвенн. Энтон подхватил песню.* * *
— Если руки теплые, Гвенн-саиб, корова даст больше молока, — учила ее Вики, подставляя руки под мощную струю коровьей мочи. Гвенн последовала ее примеру. Потом женщины приступили к дойке. В двадцати ярдах от них, там, где самбуру нашел воду, вырыли яму глубиной восемь футов и окружили стеной из терновника. Сейчас в яме, по пояс в воде, стоял молодой самбуру и передавал наверх воду в кожаных корзинах. Двое парней выливали ее в узкий деревянный желоб — поилку для крупного рогатого скота, ослов и коз. Два стреноженных верблюда со снисходительно-терпеливым видом жевали жвачку. — Настанет день, Виктория, мы заведем на ферме самых лучших коров, — пообещала Гвенн. — Фризской породы. Если повезет, с примесью джерсийской крови. Тогда у нас будет наконец желтое масло. А сливки — такие жирные, хоть ложку ставь. Так говорила моя бабушка. То-то Велли наестся! Закутанный в старое армейское одеяло, Веллингтон Луэллин лежал под акацией и переводил зеленые глаза с одной женщины на другую. Ему исполнилось два месяца. У него были рыжие кудряшки и две отчетливые ямочки на щеках. Длинный нос подрагивал от запаха парного молока. Он замахал пухлыми ручонками, требуя внимания. Возвращаясь поздно вечером домой — с тыквенной бутылью в одной руке и тяпкой в другой, — Гвенн часто заставала Энтона играющим с Веллингтоном. Он провел на ферме целую неделю, но Гвенн казалось, будто его больше интересовал Велли, чем она. Она задержалась у порога, чтобы счистить комья грязи с сапог. Из-за кустов доносился звучный голос Энтона, медленно, с выражением читавшего «Дэвида Копперфилда». Гвенн забыла про усталость. Черты лица смягчились. «Поэзия и история шлют сонмы героев, их величественным полчищам как будто нет конца… вызывая в моей памяти того мальчугана, каким был я сам, когда впервые пришел сюда. Но тот мальчик как будто не имеет ко мне никакого отношения, он остался где-то позади на жизненном пути, я никогда им не был, я просто прошел мимо него, и, кажется мне, это кто-то другой, не я…» Энтон читал так, словно знал наизусть каждое слово. Гвенн пошла к ним. Кариоки лежал на боку, закрыв глаза и положив рядом винтовку. Энтон сидел, подвернув под себя одну ногу, а другой упершись в плечо африканца. Спиной он привалился к стволу тамаринда. Веллингтон Луэллин сладко посапывал у него на коленях. На животе у него лежал Диккенс; в кулачке был зажат бобовый стручок. «Почему так не может быть всегда?»— подумалось Гвенн. «А где эта девочка, которую я увидел в день моего появления у мистера Уикфилда? Нет и ее»… Гвенн вышла на полянку и приложила к губам палец. Усмехнувшись, Энтон продолжил чтение: «Неужели я опять влюблен? Да. Я обожаю старшую мисс Ларкинс». Странный юноша, подумала Гвенн, в который раз поражаясь синеве его глаз, сверкавших на загорелом лице. Ферма «Керн» словно оживает с его приездом. Скоро он уедет, и она снова останется одна. Ноябрьские дожди на исходе. Эрнст поправился и готов предпринять новое путешествие. Если бы мужчины остались, она довела бы ферму до ума. Но только ли по этой причине все ее существо противится разлуке? Благодаря заботам Пенфолда и деньгам гоанцев, Кариоки пригнал из Наньюки отару мериносов и породистых фризских коров (впрочем, теперь он проводил больше времени с подругой Виктории Альбертой, чем со скотиной). Даже Эрнст внес посильную лепту: пользуясь одной рукой, высадил на опытной делянке позади бунгало драгоценные луковицы сизаля, подаренные Энтону его отцом. При этом он немилосердно брюзжал и сыпал проклятиями. Каждый день, если не было дождя, Эрнст руководил полевыми работами, зычным голосом отдавая приказы. Сначала африканцы возмущались (как и сама Гвенн), однако потом стали принимать Эрнста таким, как он есть. В солнечную погоду Энтон помогал Гвенн и ее помощницам-кикуйю сеять лен. А в дождь обтесывал бревна для коровника. Но однажды она с грустью услышала, как он сказал Эрнсту: «Из меня никогда не выйдет фермер». Сегодня, впервые за три недели, дождь так и не пошел, но над горой Кения сгустились свинцовые тучи. Энтон захлопнул Диккенса, оставив закладку — засушенный желтый цветок с темной середкой. Ребенок тотчас захныкал. — Скоро Велли не уснет без «Дэвида Копперфилда», — пошутила Гвенн. В горах послышались первые раскаты грома. — Скоро я научу его бросать камешки. — Идемте пить чай. Гвенн взяла сына на руки и прижалась лицом к теплому животику. Велли захихикал и задрыгал ножками. Она наслаждалась нежным тельцем, запахом детской кожи. Но иногда приходили непрошеные мечты о других прикосновениях. Они пошли вдоль Эвасо-Нгиро, минуя пирамиды и наблюдая за вздувшейся рекой, почти сравнявшейся с берегами. Возле бунгало стоял Эрнст с винтовкой в руках и мрачно всматривался в противоположный берег. Когда подошла Гвенн, он указал на процессию из автомобиля с поднятым верхом, троих всадников и четверых пеших африканцев. Гвенн похолодела. — Твои вшивые союзники, — прокурорским голосом сказал немец Энтону. — Шулер-португалец и его ирландские бандиты. Высматривают, у кого бы оттяпать землю. Молю Бога, чтобы они решились пуститься вброд — вон какое течение! Если их не сожрут крокодилы, так искупаются в сомалийских водах. — Я их не боюсь, — заявила Гвенн. Только бы уберечь Энтона от нового столкновения с братьями Рейли! В ней закипал гнев. — С этой публикой у меня нет ничего общего. (Вдруг на обратном пути они застанут ее одну? Что делать, Господи?) Спустя несколько минут маленький отряд исчез из виду. Гвенн налила мужчинам чаю. Они сидели на веранде с плотно утрамбованным земляным полом и соломенной крышей. Благодаря кольцевому рву, возле дома было сухо. Вдалеке хлынувшие с неба потоки дождя словно стеной отгородили гору Кения. В ушах у Гвенн стояла угроза Рейли в лагере переселенцев в Найроби: «Мы теперь будем часто видеться!» — Пройдут дожди, — проговорил Энтон, глядя в сторону и одновременно ломая голову, как обеспечить безопасность Гвенн, — съезжу на ферму инвалидов, попрошу кого-нибудь тебе помочь. Хочешь, прогуляемся вместе?* * *
Гвенн лежала в постели и, дергая за шнур, качала гамак, где спал Веллингтон. От костра доносились мужские голоса: — Золото… Озеро Вик… Лолгориен… «Эксельсиор»… Анунциата… «Анунциата? Неужели Энтону нравится эта женщина? Она даже старше меня!» Гвенн стало стыдно за свою ревность, и она заставила себя слушать дождь, бушевавший в горах. Скоро на ферме будет сухо. Почему Энтон ее стесняется? Считает старой? Или занудой? — Тлага, — тревожно произнес Кариоки, — вода прибывает. Мы ничего не оставили в низине? Гвенн натянула сапоги и надела поверх ночной рубашки длинную юбку. Трое мужчин, стоя на берегу, вглядывались во тьму. Эрнст держал факел — длинную головню. Чуть ли не у самых ног бешено неслась река. Из воды кое-где торчали верхушки затопленных кустов. В верховьях реки раздался грохот — как будто приближающийся паровоз громыхал на стыках. Шум заполнил собой пространство. Тяжелая вода поблескивала, словно лемех гигантского плуга. Энтон схватил Гвенн за руку и увлек на кручу. Разверзлись небеса. Факел погас. Все четверо безмолвно внимали реву неудержимой стихии. Энтон сжимал Гвенн в объятиях. Мокрая одежда облепила фигуру молодой женщины. Гвенн не пыталась освободиться — наоборот, всем телом прижималась к нему. Они словно стали одним существом. Гвенн зажмурилась и на минуту забыла о ферме. — Тлага, за домом!.. За их спинами загромыхало. Энтон выпустил Гвенн, и они, спотыкаясь, бросились к бунгало. Эрнст выхватил из непогасшего костра другую головешку. Позади бунгало несся другой водный поток. — Мы на острове, — объявил немец. — Река вышла из берегов и затопила высохшую балку — свое прежнее русло. Река обрела новые берега и понемногу начала успокаиваться. Бунгало и крохотный клочок земли перед ним возвышались над водой, точно плот. — Наверное, пора пить кофе? — принужденно улыбаясь, спросила Гвенн. — Пора пить добрый немецкий шнапс с фермы «Гепард», — возразил Эрнст, доставая последнюю бутылку. — Мы у себя в Германской Африке не привыкли лакать всякую гадость.Глава 28
Кариоки недовольно ворчал, сажая вместе с Энтоном саженцы яблонь: — Это работа для женщин, Тлага, — недовольно проговорил. Даже белому мужчине не подобает становиться на колени. — Не для этого я, Кариоки Китенджи, сын вождя, учил тебя охотиться! — Скоро твоя очередь, старина. Хочу, чтобы после моего отъезда мой брат Кариоки позаботился о миссис Луэллин. — Ради тебя, Тлага, я это сделаю, но мои руки не коснутся земли. — Просто позаботься об их безопасности — ее и Велли. — Это я тебе обещаю. Белый мальчишка нуждается в мужском воспитании, чтобы не быть в буше таким беспомощным, как ты когда-то, и не копаться в земле, на коленях, вместе с женщинами. Да и, по правде говоря, здесь следует еще за кое-кем присмотреть. — Он погрозил пальцем проходившей мимо женщине. Та горделиво вздернула подбородок. — Слава Богу, этим не десять лет. — Не волнуйся, Тлага, молоденькие тоже набегут сюда с дарами, как только узнают, что Кариоки решил задержаться на ферме «Керн». — Мужской разговор? Сзади подошла Гвенн с провизией в корзинке и дробовиком. Кариоки ухмыльнулся и отошел в сторону. — Что ты сажаешь, Энтон? — Сюрприз для хозяйки. Яблони из Германии, высший сорт. Подарок отца Эрнста. Сеянцы еще молоды, но я хочу посадить их до своего отъезда. — Почему она молчит? — Тебе еще надо бы посадить груши и чеснок. Гвенн не шелохнулась. — Съездим с тобой к инвалидам, — продолжил Энтон, — а потом мы с Эрнстом отправимся добывать золото. На душе скребли кошки. Будет ли Гвенн в безопасности? А может, ему просто не хочется с ней расставаться? Может, он, как последний идиот, бежит от того, что ему по-настоящему дорого? Гвенн без слов опустилась рядом. Она твердо решила не давить на Энтона. Если он решит остаться, пусть сделает это по своей воле. Энтон выкопал во влажной земле еще одну маленькую квадратную ямку. Достал из деревянного ящика сеянец и укрепил как следует перед тем, как засыпать. Он посадил уже целый ряд из восемнадцати будущих деревьев, заботливо укутал основание соломой и окружил низенькой земляной насыпью. Потом огородил весь участок проволочной сеткой для курятника. Рядом, за двойной сеткой (защита от мелких хищников), бегали и сами цыплята. Превосходные красные куры, подарок Оливио, жирные и необычайно драчливые — особенно после появления Адама, петуха леггорнской породы. — Почему ты копаешь квадратные ямки? — немного раздраженно спросила Гвенн. — Так учил мистер фон Деккен. Энтон достал из кармана мятую рукописную инструкцию. «Непременно делай квадратные ямки, — вслух прочитала Гвенн, восхищенная четким почерком Гуго фон Деккена. — Если они круглые, корни закручиваются внутри круга, а если квадратные — устремляются в углы и дальше пробивают себе дорогу в земле. Так деревья вырастут более крепкими. Сделай все как положено,сынок, и, если даже ты не станешь фермером, мои яблони будут радовать твоих внуков». Щеки Гвенн окрасил румянец. — Пора, — коротко произнес Энтон и выпрямился. Взял свой «меркель» в чехле из шкуры газели и повел Гвенн по наспех сколоченному мосту, соединившему бунгало с остальной территорией фермы «Керн». С одного берега на другой перебросили два ствола высоких хинных деревьев и сделали настил из прибитых к ним гвоздями сучьев и веток. Утром Энтон в очередной раз обследовал реку. Старое ложе Эвасо-Нгиро уже немного подсохло и начало затягиваться илом. Пока оно не совсем исчезло, небольшое озерцо отделяло дом от земли на востоке. Внимание Энтона привлекла стайка ткачиков, занятых строительством висячего гнезда на суку фигового дерева. Вот из кого вышли бы первоклассные фермеры! Гвенн сложила брезент, которым был укрыт «эксельсиор», Энтон проверил бензин и зажигание. Гвенн прикрепила к заднему сиденью тушу только что подстреленной импалы — подарок инвалидам. Потом повязала шарфом голову и, надев авиаторские очки Эрнста, забралась в коляску. Они понеслись на север по необозримой равнине. При виде нового пейзажа Энтон ожил. Его радовал встречный ветер и рев двигателя. Справа от них под дубом завтракала колония бабуинов. Рассевшись, как для чаепития, они аккуратно брали пищу пальцами, не спеша поглощая омытые дождем белые и розовые цветы. Даже на средней скорости «эксельсиор» нещадно бросало из стороны в сторону, когда Энтон огибал крупные валуны и колючие кусты. Обитатели буша разбегались перед ними, как косяки рыбы перед рассекающим волны носом корабля. В траве прошмыгнула стайка турачей. Метнулись зебры, поднимая пыль, и, отбежав на приличное расстояние, оглянулись — что происходит? Из-под колес выскакивали зайцы и карликовые антилопы — дукеры. Белобрюхие дрофы разбегались, как стаи гусей, и взлетали вверх. Энтон различил невдалеке повернутые в их сторону головы трех любопытных жирафов. Он сбавил скорость и показал их Гвенн. Она с улыбкой кивнула. Перед ними поднялись в воздух еще две элегантные дрофы с серыми и черными перьями. Они долго, как перегруженные аэропланы, бежали впереди мотоцикла и наконец, набрав скорость, оторвались от земли. Час спустя они достигли каменистого ступенчатого холма, выступающего из густого буша, как стопка серых тарелок. Энтон притормозил и повернулся к Гвенн. Ее щеки под авиаторскими очками были исцарапаны в кровь. В кожу лица впились колючие шипы. — Ох, извини, — покаянно проговорил Энтон. — Это я виноват. Гвенн покачала головой. Он осторожно, одну за другой, вытащил колючки. В ранках выступила кровь. Энтон вспомнил, как Анунциата исцарапала ему живот. «На природе — слаще всего!» Он оторвал полу рубашки и, смочив водой, вытер Гвенн лицо. Его поразил откровенный взгляд зеленых глаз. — Спасибо. — Она наклонилась и поцеловала его в щеку. Энтон вспыхнул. Ему страстно хотелось заключить Гвенн в объятия, но она подхватила корзинку и спрыгнула на землю. Они вскарабкались на вершину холма. Поднялся ветер. Волосы Гвенн разметались на ветру. Энтон залюбовался ею, вспоминая, как шлюпка уносила ее к берегу Момбасы. — Интересно, что там, за горами? В этом-то все и дело, подумала Гвенн. Она понимала: Энтон хочет быть с ней, но ему не нужна ферма. Ему нужна Африка. Они перекусили в небольшом песчаном углублении между камнями, вдыхая аромат желтых цветов. Смеялись, болтали о Велли и Кариоки, Оливио и Пенфолде — и ни слова о предстоящем отъезде Энтона или о проблемах на ферме «Керн». И все это время Энтон чувствовал поцелуй Гвенн. Он не был уверен, что понял значение этого поцелуя, но знал: нельзя упускать момент. Он должен к ней прикоснуться! Он погладил щеку Гвенн, а потом завел ладонь ей за голову и запустил пальцы в волосы на затылке. Она закрыла глаза и запрокинула голову, чтобы полнее насладиться лаской. Неожиданно снизу послышался шорох. Они подползли к краю углубления и посмотрели вниз. Там сбилось в кучу семейство длинноногих красных обезьян. Две крупные обезьяны — очевидно, родители — стояли на задних конечностях, для устойчивости опираясь также на отвердевшие хвосты. Они впились глазами в густой кустарник. Самка — чуть ли не вдвое меньше самца — стиснула в руке небольшую ящерицу. Самец отступил к вершине холма и залез на высокий куст акации. Окольцевавшая шею шерсть встала дыбом. Самец продолжал напряженно вглядываться в кусты. Маленькие круглые уши трепетали. Близко посаженные глаза сверкали из-под густых длинных бровей. Внезапно он обнажил клыки и с пронзительным воплем прыгнул вниз. Самка спешно увела детенышей в сторону. — Наверное, леопард, — прошептал Энтон. В ушах запоздало громыхнуло предостережение Гуго фон Деккена: правило номер один — никогда не ходить в буш без винтовки или дробовика. Он осторожно свел Гвенн вниз. Они спрыгнули на песок и услышали жуткий рев со стороны мотоцикла. Зажав в одной руке нож, а в другой — камень, Энтон подкрался ближе; Гвенн — за ним. Сначала им показалось, будто там пируют гиены. Потом они увидели большие круглые уши и длинные стройные лапы. Дикие собаки! Пять похожих на волков хищников, каждая весом примерно шестьдесят фунтов. Винтовку Энтона вытащили из коляски. Три поджарые собаки с короткой шерстью нещадно терзали чехол из кожи газели. Еще две сорвали брезентовое покрывало с туши импалы. На черных собачьих мордах блестела кровь. Они еще не почуяли людей. Энтон не глядя протянул руку и на ощупь вытащил из кармана куртки Гвенн четыре патрона. Отдав ей нож, он с громким криком, подбив камнем одну собаку, подскочил к хищникам и прыгнул в коляску, где осталось заряженное ружье Гвенн. Застигнутые врасплох собаки взвыли и завертели головами в поисках возмутителя спокойствия. Энтон пальнул из обоих стволов; две собаки рухнули наземь. Остальные шмыгнули в кусты. Пока Энтон перезаряжал «меркель», Гвенн забралась в коляску. На поляне показались еще собаки — целая стая. Некоторые почти добрались до мотоцикла. Энтон включил зажигание. Когда «эксельсиор» рванул с места, хищники бросились врассыпную. Энтон передал Гвенн свой шейный платок и два патрона. Она перезарядила ружье и повязалась цыганским дикло. Они понеслись по камням и рытвинам. Там же, где попадалась земля, она поросла колючими кустами и карликовой акацией. Энтон убавил скорость, чтобы мотоцикл не развалился на ходу. Собаки не унимались. Энтон не видел, но чувствовал: их преследует возбужденная стая. Один раз он позволил себе оглянуться и увидел сорок-пятьдесят диких псов — желтых, коричневых и черных. Его поразила их своеобразная красота. Низко пригнув головы, высунув языки, они неслись на длинных, тонких ногах; за ними по воздуху летели хвосты с белыми кончиками. Местность стала более открытой. Энтон довел скорость до двадцати пяти — тридцати миль в час. Собаки растянулись в длинную линию; расстояние между вожаками и мотоциклом составляло пятьдесят — шестьдесят ярдов. Хищники стремились измотать свои жертвы. Энтон вспомнил истории о том, как стаи диких собак загоняли льва. Гвенн обернулась. Сильно откинувшись назад, она ножом Энтона отсекла болтающуюся за седлом мотоцикла тушу импалы. Туша выпала из брезента и покатилась под ноги хищникам. Стая разделилась. Первые десять или пятнадцать собак стали рвать зубами антилопу. Еще несколько набросились на пропахший мясом брезент. Остальные продолжили гонку. Энтон смотрел вперед. Стараясь не угодить в канаву, он отчаянно выворачивал руль мотоцикла и думал, как бы попасть в появившийся впереди просвет между двумя скалами. Старый «эксельсиор» явно устал: к ровному тарахтению двигателя добавился пугающий скрежет. Коляска, в которой сидела Гвенн, вихляла и вибрировала, словно мечтая оторваться и пуститься в самостоятельное путешествие. Главная соединительная распорка уже дважды сваривалась; Энтон очень боялся, что она не выдержит. Он глянул через плечо и увидел, что наевшиеся собаки нагнали передних. От стаи отделилась примерно дюжина диких псов и рванула наискосок, стремясь отрезать людям дорогу к узкому проходу между скалами. Гвенн проверила свое ружье и сняла предохранитель. Вынужденный снизить скорость перед скалами, Энтон отдавал себе отчет в том, что это дает хищникам выигрыш во времени. Отрыв составлял тридцать — сорок ярдов. Несколько собак стали заходить с правого фланга. Мотоцикл заревел и устремился вверх по холму, громыхая на камнях. Энтон убавил скорость. Собаки с правого фланга почти догнали их. Самая быстрая бежала вровень с Гвенн; язык свесился набок. Привыкший рвать брюхо удирающей жертве, зверь подобрался ближе и оскалился. Энтон еще больше снизил скорость. Собака бросилась на мотоцикл — и, отброшенная на камни, размозжила голову. Энтон изо всех сил старался сохранить контроль над машиной. Три собаки, как будто слившись в одно целое, бросились на мотоцикл. Гвенн выстрелила. Выстрел снес голову одному хищнику. Гвенн еще раз нажала на курок. Две собаки рухнули под ноги своим собратьям; возникла заминка. Энтон тем временем набрал скорость; «эксельсиор» вырвался из каменного плена на равнину с жесткой зеленой травой. Посреди поля возвышались — верхом на мулах — двое мужчин-европейцев. За их спинами несла свои воды Эвасо-Нгиро. Примерно в двухстах ярдах левее виднелись палатки и грубо сколоченные хибары, крытые соломой. Энтон нажал на тормоза и спрыгнул вниз, не выпуская из рук винтовку. Пуская слюни, хищники потоптались на месте и повернули назад. Энтон снова пальнул из обоих стволов; ни одна пуля не пропала даром. Две собаки остались лежать на земле; стая растворилась в буше. — Прокатились с ветерком? — усмехаясь, спросил капитан Джос. Доктор Фицгиббонс, зажав платком рот, кивнул в знак приветствия. — А ты неплохо управляешься с винтовкой, — похвалил Джос. — Я сам был инструктором, но так шустро у меня не получалось. — Все было замечательно, — ответил Энтон, — вот только импалу, которую мы вам везли, сожрали собаки. Да старый драндулет малость потрепало. — Всех нас в Африке малость потрепало, но оно того стоит. — Джос посмотрел на Гвенн. Она сняла авиаторские очки и цыганский дикло. На красном от пыли лице ярко блестели изумрудные глаза. Гвенн перевела дух и постаралась успокоиться, унять дрожь в руках. Это просто поразительно, как тяжело все дается в Африке — приходится постоянно быть начеку. Гвенн вытерла исцарапанное и исколотое лицо и вспомнила поезд — как Анна рисовала у сестренки на лице. Она покосилась на Энтона. Он уже вполне освоился и был радостно возбужден, как мальчишка на крикетном поле между подачами. С небольшой помощью, думала Гвенн, я наведу порядок на ферме, но как справиться без мужчины со всеми смертельными опасностями? Здесь никому не выстоять в одиночку — ни мужчине, ни женщине. Она должна думать о Велли и их будущем. — Мое почтение, мэм, — поздоровался Джос, дотрагиваясь до своей шляпы. Спешившись, он помог Гвенн выйти из коляски. — Примите наши соболезнования по поводу несчастного случая с вашим мужем. Мы можем чем-нибудь помочь? — Спасибо, мне как раз нужны помощники на ферме. — Пожалуй, я кого-нибудь подберу. Беда лишь в том, что здесь собрались офицеры — любители отдавать приказы, и ни одного рядового, чтобы их исполнять. Сейчас чуть ли не все заняты преследованием муравьеда. Вечером сварим его вместо импалы. — Кто это — муравьед? — Это такой земляной зверь, гигантский пожиратель муравьев. Изрыл нам все поля. Восемь наших парней с утра роют землю — стараются добраться до его норы. Они уже выкопали траншею длиной в двадцать футов и глубиной — в десять, но только и увидели, что огромный рыжий хвост. Пустить бы этих зверюг рыть окопы во Фландрии, сколько сил можно было бы сэкономить! Ветераны и африканцы собрались в шумный кружок на окраине лагеря. Здесь было несколько женщин и детей — белых и темнокожих. Энтон с Гвенн присоединились к толпе и увидели, как двое мужчин с остервенением орудуют кирками возле входа в нору. Возбуждение нарастало и разрешилось восторженными возгласами при виде рыжего хвоста и двух когтистых лап. Кто-то схватил муравьеда за хвост; двое товарищей ухватились за ноги державшего. Секунда — и он по пояс исчез в норе, однако сразу же задохнулся и выпустил муравьеда. Утомленных землекопов сменили отдохнувшие товарищи. Снова показались задние лапы зверя. Теперь уже двое ринулись вперед. Они в мгновение ока привязали к лапам веревки. Под ободряющие крики зрителей муравьеда вытащили из норы — словно невод с рыбой из морской пучины. Крупный — пять или шесть футов в длину — муравьед ошалело моргал на солнечном свету. Энтон обратил внимание на форму хвоста — как у кенгуру — и горбатую холку. Морда муравьеда походила на свиное рыло. Зверь высунул блестящий от липкого мускуса язык. Повернувшись к своим мучителям, он сел на задние лапы, выпрямил спину и замахал лапами с огромными прямыми когтями. Люди отшатнулись. Зверь что было сил вцепился в одну из веревок. Кто-то выстрелил из ружья. Муравьед дернулся. Дробинки попали ему в шею, однако без особого эффекта. Сразу несколько человек ухватились за длинную веревку. Африканец саданул муравьеда по лбу увесистой мотыгой. Зверь заревел и, поднявшись на задние лапы, оборвал веревку, сделал сальто и сиганул через все поле; люди пустились в погоню. Муравьед добежал до следующей норы и нырнул в нее. Снова принялись копать. Одни землекопы сменяли других, выплевывающих песок и глину. Принесли прочные веревки и во второй раз вытащили муравьеда из норы за ноги. Он брыкался и царапался. — Можно, капитан? Джос кивнул. Энтон спустил курок. — Даже мои парни не станут есть эту гадость, — сказал Джос, — но хоть выскоблят шкуру: сгодится на ремни. — Здесь все на что-нибудь годится, — Энтон вспомнил, как Кариоки лечил его в Абердарах. — Доктор Фицгиббонс, жир муравьеда отлично заживляет раны. — Опять пытаетесь меня учить, молодой человек? — со вздохом упрекнул врач. — Да я орудовал ножом еще до того, как ты надел свои первые ботинки. Если, конечно, они у тебя были. — Под нож его! — заверещал попугай. — Под нож его! — А что, Кайзеру пришла в голову здравая мысль, — прошептал Фицгиббонс и подгреб рассыпавшиеся ветви в огонь. — Что ты делаешь, Тони? — спросил Энтон, наблюдая, как Бевис вытаскивает из разных мешков семена льна и сыплет на большую, стоящую на раскаленных углях сковороду. — Этого даже мулы не едят. — Если семена трещат и подпрыгивают на сковороде, значит, они живые и годятся для сева. Как вот в этом мешке. У них нет запаха, и они скачут, как безумные. Они-то и помогут нам разбогатеть. А вот эти сморщились — мертвые, от них никакого толку. Чувствуешь — несет затхлостью? — Мы тоже — как эти семена, — пробормотал Фицгиббонс. — Только одному из десяти удается выстоять. — Здоровые семена или больные — со льном все равно одна морока, — проворчал Джос. — Нужно расчищать участок, сеять, ухаживать, выдергивать из земли, трепать, мочить, сушить, сортировать, убирать в мешки. И так без конца. Да еще требуются склады и фургоны для доставки на железную дорогу. А откуда нам знать, какой в будущем году ожидается спрос на лен в Глазго или Одессе? Может, лучше ограничиться табаком и пшеницей? Если бы мы тут все не были калеками, отправились бы, как этот парень, на озеро Вик добывать золото. Энтон метнул тревожный взгляд в сторону Гвенн. Ее глаза затуманила грусть.* * *
Утром двое ветеранов отремонтировали мотоцикл. Гвенн и Энтон позавтракали вместе с капитаном Джосом и Бевисами. Наконец они собрались уезжать. Их снабдили провизией в дорогу и пообещали прислать помощников. — Ты умеешь водить? — спросил Энтон, освобождая для Гвенн место за рулем. — Да, Энтон. Умею. Перед ее мысленным взором встала школа «скорой помощи» под Дувром. Поначалу это казалось увлекательным приключением — пока из Франции не стали возвращаться первые водители. Постаревшие на несколько лет женщины с запавшими глазами рассказывали о битве на Марне, о поле боя, сплошь усеянном ранеными и убитыми. Стоны и вопли сливались в шум, похожий на рокот прибоя — рассказывала одна женщина, стараясь подготовить подруг к тому, что их ожидает, и предупредить тех, кто не уверен в своих силах. Гвенн стряхнула с себя воспоминания и села за баранку. Она вела осторожно и медленно, щадя мотоцикл. Проезжая по знакомой равнине, они не встретили ни одной дикой собаки. Подкатив к ступенчатому каменному холму, Гвенн затормозила. Энтон спрыгнул вниз с провизией. Они молча, взявшись за руки, вскарабкались на его вершину. Там они отыскали прежнее углубление с песчаным дном и желтыми цветами на коротких стеблях. И с минуту сидели неподвижно, привыкая к месту. — Где я был раньше? — прошептал Энтон, беря в ладони лицо Гвенн. Она зажмурилась и ответила на поцелуй. Потом легла на бок и долгим взглядом посмотрела на Энтона. Он опустился рядом. Они целовались до тех пор, пока их тела не слились воедино. Потом они лежали, обнаженные, ничком на теплом песке и обсыхали, любуясь расстилавшимся у подножия холма простором. Плечо к плечу, бедро к бедру, нога к ноге. Даже цыганский дикло оказался связанным с шарфом Гвенн. Энтон положил левую руку ей на спину и погладил шею. Внизу, меж колючими кустами, шныряли песчанки.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 1921
Глава 29
Американец посмотрел на кости, и на его обветренном лице отразилось крайнее изумление. — Ну, парень, ты даешь. Сроду не видел чтобы человеку все время везло. Что будешь пить? — Светлого, если не возражаете, мистер Слайдер. Энтон лениво повел взглядом по вместительному, задымленному курильщиками бару отеля «Нью-Стенли» в Найроби. — Рэк, Тони. Я же сказал: зови меня Рэк. Я тебе не какой-нибудь пижон в сверкающих ботинках и с грязными мыслями, как вон та шайка-лейка в углу. — Нисколько в этом не сомневаюсь, Рэк. — Кстати, о грязных мыслях. Когда Черные Тюльпаны закончат с твоим приятелем-колбасником, его придется отдирать от стены, как букашку. Рванул наверх, похотливый, как кролик! Впрочем, после того что Тюльпаны вытерпели от грязных ирландских свиней, он покажется им галантным, как герцог Уэльский. — Что за ирландские свиньи? — Парочка головорезов с твоего парохода. Особенно один, Пэдди. Здоров как бык и страшен как смертный грех. Он потребовал такое, что непереносимо даже для Черных Тюльпанов. Они пытались улизнуть, но эти гангстеры избили их до полусмерти. Бедные девушки неделю не могли работать. Многим фермерам пришлось задержаться здесь. — Кажется, я знаю, о ком вы говорите. — Энтон машинально потер шрам на внутренней стороне руки и вспомнил о цыганском чури. В нем снова вспыхнула ненависть. — Еще бы ты не знал. Говорят, они разыскивают одного шустрого молодого человека, который перешел им дорогу. Энтон сменил тему. — Давайте правую руку, я вам погадаю. — Ладно. Только смотри, нагадай что-нибудь хорошее, — Слайдер повернул руку ладонью вверх. — Имей в виду: это — не моя линия. Энтон свел пальцы американца вместе и внимательно изучил шрамы и ссадины. — Ну что, я умру не в своей постели? Энтон твердо встретил прямой взгляд охотника. — Да. Но еще не сейчас. — Хорошего понемножку, — Слайдер выдернул руку и залпом выпил виски. — Почему бы тебе не послать подальше жирного колбасника и махнуть на север охотиться? — Спасибо за предложение, но мне пора нажить состояние. Вчера я открыл счет в банке и оплатил лицензию на добычу золота — двадцать два шиллинга. Мы продали мотоцикл и купили грузовик и все необходимое оборудование. Завтра отбываем в Лолгориен, на реку Мигори. — Когда приползешь обратно, малыш, с переломанными костями и трясясь от лихорадки, ты будешь чертовски рад составить компанию старине Рэку. Это все-таки наличные. А женские ножки у костра! Не был бы таким щенком, я бы заставил тебя покувыркаться с Черными Тюльпанами — просто узнать, что это такое. Пора уже тебе завести подружку. Вон идет одна — пальчики оближешь. В самый раз для янки. Представляешь, что там, под блузкой? — Рэк Слайдер спрыгнул с высокого табурета у стойки и, осклабившись, заломил поля своей ковбойской шляпы. — Могу я угостить вас рюмашечкой, мэм? — Здравствуй, Синеглазик! — Не обращая внимания на американца, Анунциата обвила руками шею Энтона и поцеловала в губы. — Я соскучилась. Зайдешь ко мне в номер — выпьем по бокалу шампанского? — Здравствуй, Анунциата, — ответил Энтон. — Это мой друг, мистер Рэк Слайдер. Он предприниматель и обожает покупать шампанское. Ему хотелось самому подняться наверх, но он знал: это будет уже не то.* * *
— А сейчас я на минуточку закрою глаза и увижу сон о Ганзеле и Гретхен. Эрнст надвинул шляпу на глаза и откинул голову на спинку потрепанного кожаного сиденья. — Гони дальше на северо-запад и буди меня, если что-нибудь случится. Гордый тем, что он уже в третий раз ведет машину, Энтон осторожно управлял «студебеккером». Этот урожденный родстер[16] после столкновения с носорогом превратился в короткий грузовичок с кабиной и открытым деревянным кузовом. Вдоль каждого борта расположились деревянные лавки; к ним привязали ящики с оборудованием и канистры с горючим. Здесь же свалили в кучу кастрюли, топоры, бочонки с сахаром и солью, боеприпасы и сложенные палатки. Погрузка — и та доставила Энтону ни с чем не сравнимое удовольствие! Он опустил боковое стекло и постучал костяшками пальцев по деревянной панели на дверце со стороны водителя, где собственноручно нарисовал гепарда. Жалкая копия — по сравнению с прежней эмблемой фермы Гуго фон Деккена! Эрнст спал, широко разинув рот. Его мощный храп заглушал гуденье всех шести цилиндров «студебеккера», карабкавшегося на Нгонг-хиллс. На склонах там-сям виднелись ровные ряды кофейных деревьев. Ближе к вершине, вынырнув из зарослей акации, Энтон увидел черную тушу мирно пасущегося буйвола. Он затормозил и выключил зажигание. Спрыгнул на землю с полевым биноклем Эрнста. Осмотрел местность. Буйволов оказалось целое стадо: двадцать — двадцать пять особей. Бинокль приблизил их настолько, что Энтон удивился: почему он не слышит, как они двигаются? Где буйволы, там и львы… Он опустился на колени среди дикорастущих цветов и мерно колышащейся травы. Вытер лицо шейным платком — подарком Гвенн. — Новый дикло для бродячего лудильщика, — пошутила она. Он снова повязал шею. С одной стороны гребень холма напоминал костяшки сложенной в кулак человеческой руки в зеленой перчатке. Африка распахнула перед Энтоном свои горизонты. Он чуть ли не физически ощущал запах свободы. Не этот ли бескрайний простор снился ему темными ночами в убогой каморке, которую он снимал в Портсмуте? Он засыпал, положив ладонь на открытую страницу «Африканской охоты» Болдуина. С другой стороны койки лежал «Охотник на львов» Камминга. Энтон подбросил в воздух шляпу и заорал во всю мощь легких: — Ура-а-а! — Чертов молокосос, ты что, спятил? — взвился Эрнст. На рассвете следующего дня они выехали из захолустного городка Найваша, пополнив свой багаж четырьмя ящиками пива и по-прежнему держа курс на северо-запад. Вскоре перед ними заблестела река Мелава — широкая, но мелководная, так что можно было переправиться вброд. Эрнст снова усадил Энтона за руль. — Слушай, что я скажу в пользу вашей империи, — с редким великодушием произнес Эрнст. — Она, конечно, распухла, как супоросая бельгийская свинья, но есть две вещи, которые вы, англичане, делаете на совесть в этих треклятых колониях: варите пиво и натаскиваете местных проституток. Наши лежат, как коровы на скотобойне, так что нам, немцам, приходится самим выполнять всю работу. — Эрнст рыгнул и опорожнил вторую бутылку «Таскера». — Зато ваши шлюхи вертятся, как потревоженные пчелы, — возьми Тюльпанчиков. Стройные, гладкие, с серебряными колокольцами — так и заглатывают мужика живьем, особенно немца — ваши-то никуда не годятся. — Потолкуй об этом с Рэком Слайдером. — Слайдером? Да будет тебе известно: если на свете и есть что-нибудь такое, в чем янки ни бум-бум, так это бабье. Они, видите ли, пытаются их удовлетворить — глухой номер! Женщину можно распалить, привести в бешенство, жевать — но удовлетворить ее невозможно! Взгляды Эрнста на женщин оставили Энтона равнодушным. Ему хотелось поговорить о чем-то более существенном. — Эрнст, ты хорошо разбираешься в добыче золота? — Фон Леттов, юноша, однажды преподал мне урок. Это было, когда я пялился, как он вырезает себе из куска кожи сандалии. В Африке, как только ты берешься что-то делать своими руками, сразу становишься специалистом. По-твоему, фон Леттов всю жизнь работал сапожником? — Но все-таки — что ты об этом знаешь? — Что знает голодный о бифштексе? Изменившаяся дорожная ситуация заставила Энтона временно переключиться на другое. «Студебеккер» подозрительно резво скатывался по узкому горному серпантину, чуть ли не по самому краю отвесной стены Большого Рифта высотой в несколько тысяч футов. — Тормоза не подведут? — Сам проверял. Старушка дело знает. — Да, конечно. Энтон переключил на вторую передачу. Раздался пронзительный скрежет. Натужно загудел двигатель. В голове Энтона мелькнуло воспоминание: Кариоки, их лагерь в горах и свой день рождения. Как-то его друг справляется на ферме «Керн» — с Викторией, волами и чтением? «Дэвид Копперфилд» окончательно распался на две примерно равные части — в том месте, где Дэвид признается Доре в любви. Первую часть Энтон оставил на ферме. Гвенн обещала каждый день заниматься с Кариоки. Гвенн… Вспомнилось, как он отирал ее расцарапанное лицо и утонул в зеленом омуте глаз, когда она его поцеловала. Она всегда казалась такой холодной и гордой! А в тот момент Гвенн вся трепетала. Энтон страшно скучал по ней и не знал, правильно ли сделал, что уехал. — Осторожно! — завопил Эрнст. Изо всех сил вцепившись в рулевое колесо, Энтон с трудом вписался в крутой поворот. Песчаный край дороги резко обрывался вниз; их немного занесло; посыпалась галька. Передние колеса заскользили к краю обрыва. К счастью, перегруженная задняя часть перевесила и удержала грузовик от падения. — Нас спасло пиво, — констатировал Эрнст. Энтон сосредоточился на вождении. Преодолевая ярус за ярусом, они почти спустились в долину, когда, нарушая сладкий сон немца, раздался оглушительный скрежет. Отказала вторая передача. Энтон перевел рычаг в нейтральное положение. После того как «студебеккер» набрал скорость на новом спуске и перед очередным крутым поворотом, Энтон нажал на ручной тормоз. Неожиданно в кабине запахло горелым. Новый поворот был не слишком крутым, однако машина рванула напрямик и, сколько Энтон ни выворачивал руль, сила инерции неудержимо влекла ее вперед и вниз. Колеса оторвались от земли. Взбесившийся грузовик лег в воздухе на борт, однако потом все-таки приземлился на все четыре колеса и ворвался в буш. И остановился, врезавшись в гигантский муравейник. Из радиатора валил дым. — Ну и вонища, — поморщившись, буркнул Эрнст. — Моему юному англичанину пора принять ванну.* * *
Кариоки почти брезгливо наблюдал за тем, как Веллингтон ползет к набитому соломой чучелу теленка. Как может ребенок быть таким ненормально белым? Даже противнее взрослых, захвативших эту страну. Почти совсем бесцветный — если не считать розоватого свечения из-под младенческой кожи, — мальчик напомнил Кариоки сало антилопы канны. Только, в отличие от антилопы, у малыша были густые рыжие кудряшки. Хорошо хоть пухленький, как положено, на локтях и коленках — ямочки. Если не считать колен, ребенок был гладким, как речной камень-голыш. Коленки же у него были практически постоянно покрыты грязью и царапинами, как у любого нормального мальчишки. Придет время, и они с Тлагой научат Веллингтона охотиться. Велли поднялся на неокрепших ножках и вцепился теленку в шею. В тот же миг оба повалились на землю. Швы лопнули, и чучело рассыпалось. Привлеченные шумом, Виктория и горбатая дойная корова разом повернули головы: что стряслось? Чучело теленка сделало свое дело — способствовало выработке молока у матери. В возрасте шести дней от роду теленка загрыз леопард. Самбуру сделали из него чучело и приставили к высохшему терновому кусту — словно жертвенного агнца. Чтобы дитя не голодало, корова продолжала давать молоко. Но вообще-то эти самбуру недалеко ушли от животных, напомнил себе Кариоки. Временами они бывают дикими и опасными, как гиены. Впрочем, у них есть свои достоинства. Старшие из поколения в поколение передают младшим тайны окружающей природы. Они не гоняются за богатством — только бы выжить. Возможно, ему следовало бы познакомить с этой философией мэм-саиб Гвенн. Но, похоже, женщины-самбуру уже поделились с ней кое-какими премудростями. Белые фермеры норовят взять от земли как можно больше. Они вырубают леса и убивают дичь; потом следует неудача с какой-нибудь культурой или породой скота, и они либо ищут более подходящую, либо бросают захваченную и разоренную землю. Теперь они хотят, чтобы кикуйю выполняли за них всю черную работу, с каждым годом заставляя их все больше лезть вон из кожи — с этой целью они облагают кикуйю непомерными налогами. На словах они вроде бы разрешают местному населению работать на себя, но если его племя сажает кофейные деревья, полиция забирает урожай, сославшись на то, что кофе способствует распространению вредителей и болезней. Гвенн зашла в деревню самбуру за сыном. Теребя сухой стебель, прикидывала, что еще нужно сделать. Будет ли у нее когда-нибудь время для себя? Пока она бьется, спасая кур леггорнской породы от глазных болезней, другие женщины развлекаются на дамских авторалли или в составе женской Восточно-африканской лиги борются за гражданские права женщин. Она подошла к изгороди, где Виктория и Кариоки играли с Веллингтоном. Как хорошо, что Энтон оставил на ферме друга! Веллингтон поднял ручонки и сделал несколько неверных шажков к матери. Гвенн подхватила сына на руки, покрыла поцелуями, пощекотала носом все его ямочки, а он пищал и, как щенок, дрыгал ножками. От него пахло землей, соломой и парным молоком. — Вики, я же просила: давай ему только кипяченое, — с досадой произнесла Гвенн, проверяя кудрявую головку сына — нет ли клещей. — Какая же ты вредная! — Я дала всего несколько капель — чтобы он вырос сильным, как воин самбуру. — Или болезненным, как житель Уэльса в Африке. Ну ладно. Кариоки, давай отведем Веллингтона домой. Как подвигается «Дэвид Копперфилд»? Повторил вчерашний урок? — Мэм-саиб, Дэвид такой одинокий! — Кариоки нахмурился и подошел ближе, с ружьем в одной руке и потрепанным томиком в другой. Он ткнул уголком книги Веллингтону в животик. — Для Дэвида наступили тяжелые времена. Этот Урия Гип устроил на него охоту — как шакал в ожидании падали. Надеюсь, у нашего друга Тони дела идут на лад. — Я тоже надеюсь. Гвенн посадила Веллингтона на бедро и взяла свободной рукой тыквенную бутыль с молоком. По дороге она несколько раз останавливалась — проверить, как растет лен. Ее беспокоила неоднородность всходов. Одни растения были прямые и здоровые, а вот другие начали чернеть, пухнуть и ломаться. Неужели головня? Вот будет ужас, если смертоносные споры заразят почву! Дойдя до моста, она решила навестить овец-мериносов, последний дар Адама Пенфолда. Сумеет ли она когда-либо его отблагодарить? Завезенные из Австралии, эти испанские красавцы с роскошной шерстью прекрасно чувствовали себя на богатых сочной травой пастбищах вдоль Эвасо-Нгиро. Велли нагнулся и ухватил своего любимого мериноса за коричневое руно. Гвенн тем временем осматривала уголки овечьих глаз — нет ли паразитов? — Мэм-саиб! Скорее сюда, мэм-саиб! — Через огороженное пастбище к ней несся Мальва. — В доме чужие! Гвенн отдала ему Велли и поспешила к дому. Перебежав через мост, она увидела трех привязанных возле бунгало лошадей. У тлеющего костра на любимом походном стуле Алана расселся какой-то тучный субъект с бутылкой пива. В дверях коттеджа выросла темная фигура. — Добро пожаловать домой, детка, — игриво приветствовал ее Мик Рейли, выходя на свет. Гвенн с ужасом узнала его рыжие космы. Она выхватила у Кариоки ружье. — Убирайся с моей земли! И забирай с собой брата! Я предупреждала, Майкл Рейли: если ты еще раз сунешься, я обращусь в полицию! Но что у него в руках? Журнал Алана с подробным описанием фермы «Керн»! — Как ты посмел? Немедленно отдай! Гвенн протянула руку. Ирландец с отвратительной ухмылкой спрятал тетрадь за спину. Гвенн чуть не дотронулась до него грудью. Рейли вырвал у нее ружье и сунул журнал в карман. Кариоки сделал шаг вперед, чтобы защитить Гвенн. Пэдди грузно поднялся со стула и швырнул в золу пустую бутылку. На поясе у него болталась кобура. Он с размаху ударил Кариоки по лицу. Юноша пошатнулся, но удержался на ногах. Все его тело напряглось; мускулы отвердели; проступили застарелые шрамы. Он буравил ирландца немигающими кошачьими глазами. Пэдди вытащил револьвер. — Это становится интересно, — пробормотал Рейли и схватил Гвенн за плечо. Она дернулась, но он держал ее мертвой хваткой. Кариоки выхватил из огня тлеющую головню и шагнул к Пэдди. Тот прицелился. — Стой, ниггер! Назад! Это не твое собачье дело! — Не смейте трогать миссис Луэллин! Не обращая внимания на лизавший пальцы огонь, Кариоки сделал еще один шаг к своему врагу. В это время из коттеджа вышел третий мужчина. Ирландцы замешкались. — Не обижайтесь на моих друзей, миссис Луэллин. Они простые, грубые люди. Васко Фонсека коснулся своей шляпы и вытер рукавом пот с лица. Вынул изо рта сигару и раздвинул мясистые губы в улыбке. — Угостите нас чашечкой кофе. А потом мы потолкуем о делах — пока мои партнеры обследуют участок. — Нам не о чем толковать! Сейчас же убирайтесь с моей фермы — все вы! — Миссис Луэллин, ваш дом стоит на моем берегу реки Вы должны его освободить. — Докажите это земельному управлению! Гвенн рванулась, пытаясь стряхнуть с себя лапищу Рейли. Кариоки приготовился к прыжку. Пэдди спустил курок. — Нет! — закричала Гвенн. Африканец выронил головню и качнулся вперед. Охнув, схватился за живот. Глаза сверкали, как у леопарда. — Не особенно чистый выстрел, — бесстрастно констатировал Фонсека, доставая двуствольный пистолет с рукояткой из слоновой кости. — Что вы делаете! — завопила Гвенн. — Вы не имеете… Пэдди выстрелил во второй раз. Кариоки рухнул на землю. Нижняя часть его туловища и предплечье блестели от крови. Он пошевелил ногами. Гвенн отчаянно лягала Рейли и молотила кулаками, стараясь освободиться и помочь своему другу. Несчастный африканец силился подняться, но только и смог, что встать на одно колено. Фонсека шагнул к нему. Истекая кровью и дрожа всем телом, Кариоки встал на четвереньки. Он хватал ртом воздух и прожигал врага насквозь горящими углями глаз. По щекам текли слезы. Фонсека приставил к его виску пистолет. Гвенн издала душераздирающий вопль. Фонсека спустил курок. Кариоки упал на землю вниз лицом. Ноги лизал огонь. Гвенн укусила запястье и наконец-то вырвалась. Подскочив к Кариоки, она потащила его из огня. Ей бросился в глаза торчавший из кармана его шорт потрепанный томик. Она устремила сверкающий взор на португальца. — Понимаете, миссис Луэллин, — хладнокровно проговорил Фонсека, вынимая пустую гильзу из пистолета, — даже в этой стране нападение негра на белого считается преступлением. — Вы убили его! — рыдала Гвенн. — Он всего лишь защищал меня! Вы хуже зверей!Глава 30
Сидя рядом с Энтоном в «студебеккере», Эрнст занимался любимым делом — брюзжал. — С тех пор как ты сломал вторую передачу, эта колымага ведет себя как французская шлюха: или мечется как угорелая, или едва шевелится. — Яволь, капитан! — весело откликнулся Энтон и посмотрел в окошко с выбитым стеклом. Доказывать что-то немцу — все равно что спорить с горным потоком. — Как это вы умудрились проиграть войну, а, Эрнст? — Только не в Африке. Если бы не ваше вероломство, она была бы нашей — несмотря ни на что. — Как это? Эрнст угрюмо стиснул баранку. — Четыре года мы были отрезаны от своих и не получали ни боеприпасов, ни провизии. Жили охотой, как дикие звери. У наших колониальных войск был всего один шанс. В семнадцатом из Болгарии стартовало гигантское воздушное судно — дирижабль. Это была созданная германским гением гондола длиной в семьсот футов, груженная пулеметами и медикаментами. Ее парусиновая оболочка должна была пойти на палатки, емкости с газом — на спальные мешки, а муслиновые чехлы — на бинты. Трапы были обшиты кожей для изготовления обуви. Из проволочного каркаса можно было наделать радиоантенн. Экипаж при полной амуниции должен был заменить наших погибших товарищей. Получи фон Леттов этот дирижабль, ему ничего не стоило бы покорить Африку. Эрнст умолк и провел ладонью по лицу. Затем выстрелил в Энтона колючим взглядом и продолжил: — Как гигантский орел, эта штука летела на такой высоте, где она была недосягаема для ваших паршивых аэропланов. Она пересекла границы Греции и Турции, Египта и Судана. Радиоприемник работал с перебоями, но над Хартумом они все-таки получили сообщение на немецком языке: «Генерал фон Леттов сдался в плен. Возвращайтесь домой». Генерал фон Леттов сдался! Это была дезинформация — козни англичан! Командир экипажа, бывалый моряк, приказал развернуться и лететь обратным курсом. Это был самый длинный перелет дирижабля в истории человечества. И все напрасно — из-за коварства англичан! Энтон не знал, что сказать. На горизонте показался частокол акаций. Часом позже они въехали в зеленые заросли на берегу широкой реки. — Прыгай вниз, мальчуган, и поищи переправу, — подобревшим голосом произнес Эрнст. — Должно быть, это Мигори. Не бойся промочить ноги. Небольшая ванна тебе не помешает. Он остановил «студебеккер». Энтон отправился на поиски брода. Из-за реки за ними наблюдали несколько африканцев. Энтон дважды входил в воду, но ноги тотчас увязали в иле. — Ну что ты копаешься? — потеряв терпение, крикнул Эрнст. — По мне, так тут в самый раз. Проскочим на полной скорости! Энтон мотнул головой и показал в сторону верховья. Эрнст проигнорировал его мнение. Взревел мотор. «Студебеккер» рванул к краю обрывистого берега и полетел дальше. Дверца со стороны пассажира распахнулась, и грузовик с громким всплеском плюхнулся в реку, как раз посередине. Колеса сделали несколько оборотов и завязли. Сыпля проклятиями, Эрнст выключил зажигание и открыл свою дверцу. В кабину устремилась вода. На противоположном берегу громко залопотали туземцы, сопровождая возгласы энергичными жестами. Энтон дошлепал до «студебеккера» по воде. Взяв с заднего сиденья трос, привязал к скрывшемуся под водой бамперу. И отправился на другой берег. — Джамбо! — поздоровался он с африканцами и потянул за трос. Шестеро африканцев отложили в сторону копья и обтянутые буйволовой кожей щиты и подошли помочь. Эрнст командовал, стоя на подножке. «Студебеккер» и не думал двигаться с места. Вода хлестала в одну дверцу и выливалась из другой, прямо через голову нарисованного гепарда. Африканцы — наверное, нанди, смекнул Энтон — были темнее всех, с которыми ему довелось сталкиваться. Убедившись в непосильности задачи, они моментально бросили тащить и помогли Энтону разгрузить кузов. Тем временем пара ребятишек сбегала в деревню за подкреплением. Эрнст восседал на заднем сиденье, на вещевом мешке: потягивал пиво, осуществлял общее руководство и демонстративно кряхтел от боли всякий раз, когда требовалось помочь — водрузить кому-нибудь на голову полный мешок, да так, чтобы вес распределился равномерно. Вскоре появился старейшина с обритым черепом. Изборожденное морщинами лицо возвышалось над стройным, молодым телом. В оттянутых книзу мочках ушей виднелись две овальные дырки. В руке он держал посох с набалдашником. С ним пришло человек восемьдесят. У большинства волосы были заплетены в косички. Каждый был вооружен острым копьем. Их сопровождала ватага ребятишек. — Я — вождь, — объявил пожилой африканец на суахили и указал длинным скрюченным пальцем на свою свиту. — Это мои сыновья. — Здесь очень глубоко, — после небольшого молчания продолжил он с нотками превосходства в голосе, словно разговаривая с умственно неполноценными. — Это не первый грузовик, застрявший в Кипсоное. Одни были меньше, другие больше. Всякий раз белые люди просили о помощи. Но никто не нуждался в ней так, как вы. Вождь приблизился к груде выгруженных вещей. Поднял пангу и, потрогав широкое лезвие, презрительно швырнул в сторону. Туда же полетели алюминиевое ведро, табак, сахар, пара лопат и рулон хлопка. — Вы крепко засели. Потребуется немало нанди, чтобы вас вытащить. — Жадный паук — по глазам видно, — вполголоса процедил Эрнст, наблюдая за тем, как вождь и бритые старейшины строят своих людей в шеренги по два. — Если бы ты не угробил вторую передачу, мой безмозглый друг, я бы обошелся без помощи этих грабителей.* * *
— Опять проигрываешь, Пэдди, — упрекнул его второй ирландец. — Иди лучше возьми у недомерка пару пива. Пэдди с трудом оторвал свое грузное тело от стула и, шаркая ногами, поплелся к стойке. Его портупея с револьвером тридцать восьмого калибра висела на стене. Он с громким стуком опустил тяжелые ладони на сверкающий чистотой прилавок и открыл было рот, но опешил, натолкнувшись на взгляд Оливио. Но уже в следующее мгновение карлик опустил глаза — чтобы увидеть грязные пальцы с дубовыми костяшками и сломанными ногтями. Одного ногтя вообще не было — вместо него виднелся грубый роговой нарост. Бармен приготовился чистить стойку. Краем глаза он видел, как американский охотник лихо бросает дротики. — Пару «таскеров», — потребовал Пэдди. — Охлажденных. Оливио снял с полки на стене две бутылки пива. В ушах звучали непривычные инструкции лорда Пенфолда, последовавшие за гибелью гнусного Кариоки: никакого кредита —ни Фонсеке, ни обоим ирландцам. Они объединились, чтобы отобрать у миссис Луэллин ферму. Оливио провел пальцами по жирным складкам у себя на шее. Нарочно лапая края, снял с деревянных крючков пару кружек. — Четыре шиллинга, сэр. — Они же по шиллингу — значит, всего два. — Другой джентльмен не уплатил за два первых, сэр. — Запиши на мой счет, — рявкнул со своего места Мик Рейли. — У вас нет счета в «Белом носороге», сэр. — Кто сказал? — Хозяин. Четыре шиллинга, пожалуйста. — Ты что о себе воображаешь, урод? — завопил Рейли, вскакивая. — Здесь открыт счет для всякого американского педика! Мы что, хуже? — Может, хуже, а может, и нет, — подал голос Рэк Слайдер. Должно быть, это те самые скоты-ирландцы, которые издевались над Черными Тюльпанами и собираются расправиться с молодым Тони. Слайдер снял с крючка шляпу и нахлобучил на голову. Ухватив Оливио за руку, Рейли потащил его из-за стойки. Ноги карлика оторвались от полки. Не поворачивая головы, он вспомнил о том, что портупея американца висит рядом, на вешалке из рогов антилопы. — Сдается мне, коротышка от этого не в восторге. Может, оставите беднягу в покое? — предложил Слайдер, кладя на прилавок дротик. — Не следует поднимать шум в приличном заведении. — Пошел отсюда, чертов янки! — Рейли рванул карлика к себе. — Когда я надумаю отпустить этого недоделанного, он приземлится далеко отсюда. Рейли выволок Оливио из-за прилавка. Карлик почувствовал, как в нем пробуждается ненависть. Слайдер потянулся к кобуре. Схватив дротик, Пэдди с силой воткнул его в левую руку Слайдера, пригвождая ее к стойке. Охотник взвыл от боли и с трудом оторвал от прилавка окровавленную руку. Дротик так и остался торчать между пальцами. Он крутнулся и смазал Рейли по физиономии. — Мой глаз! — взвизгнул тот, хватаясь обеими руками за лицо. Между пальцами показалась кровь. Освобожденный Оливио ударился головой о прилавок. Подняв голову, он увидел, что американец держит обоих мерзавцев на мушке. — Если вы, ублюдки, не уверены, что стреляете лучше меня, выметайтесь, пока я не показал вам, чем заканчиваются такие истории у нас в Элк-Сити. Слайдер опустил трясущуюся левую руку на прилавок. Дротик все еще торчал из нее. Зато его правая рука твердо держала револьвер. Пэдди вывел брата на улицу. Оливио снизу не было видно, но он заранее сокрушался: Слайдер наверняка заляпал прилавок кровью. — Мы этого так не оставим, паршивый янки! — проорал Пэдди с веранды. — Коротышка, когда сможешь держаться на ногах, — проговорил Слайдер сквозь стиснутые зубы, не спуская глаз с двери и по-прежнему сжимая в руке револьвер, — забирайся сюда и вытащи эту штуку. А потом сбрызни рану самым лучшим виски и дай мне допить остальное.Глава 31
У него была белая борода и курчавые седые волосы до плеч. Он опирался на длинный черенок лопаты, вонзив лезвие в темную влажную почву с буйной растительностью. Его тяжелые короткие брюки держались на широких кожаных помочах. На шее на двух кожаных шнурках болтались очки и кожаная трубка. Неподалеку на вещмешке лежало ружье с выщербленным прикладом. — Давай, парень, проходи, — сурово окликнул Энтона золотоискатель. — На этом ручье все занято. Одной рукой Энтон раздвинул тесно переплетенные ветки, в которых запутались его исцарапанные ноги, а другой поддерживал на плече незаряженную винтовку. — Но если тебя интересует не золото, а котелок горячего чая, — более дружелюбным тоном произнес старик, — тогда милости просим. — Я бы не отказался, сэр, ни от одного, ни от другого. Но вообще-то сейчас хорошо бы чаю. — Меня зовут Грэхем, Шотовер Грэхем. С трудом передвигая негнущееся тело, старатель повел Энтона вверх по склону, туда, где был расположен лагерь. Среди дикорастущих фиговых деревьев с бледно-желтой корой стояла просторная, когда-то зеленая, а теперь сильно полинявшая, во многих местах залатанная палатка. На брезентовом полу — ни пятнышка. На складном стуле у костра, невдалеке от входа, сидела с книгой привлекательная женщина. В ее позе чувствовалось достоинство. Она была смуглая, однако не африканка, с высокими скулами, широким лбом, ясными карими глазами и — несмотря на возраст (что-то около пятидесяти) — стройной фигурой. На ней были мужская рубашка и брюки на помочах, как у Грэхема. — Это моя жена Иезавель. — Очень приятно, миссис Грэхем. Окидывая взглядом идеально обустроенный лагерь, Энтон пытался по акценту угадать национальность хозяина. Женщина захлопнула книгу и налила ему чашку чаю из жестяного бидона. — Мистер Грэхем, вы случайно не из Австралии? — Упаси Бог, сынок. Мы люди грамотные, из Новой Зеландии. Я занимался разведением овец — пока не подцепил золотую лихорадку. А ты чего это надумал — рыть землю в одиночку, безо всякого снаряжения, кроме винтовки? Здесь нет дичи — только змеи да мухи. — Я ищу место для лагеря, чтобы начать мыть песок. Мой компаньон с машиной остался в десяти милях отсюда. Я должен разведать дорогу. Еще одной бани грузовик не выдержит. — Стало быть, новички. Вам придется не легче, чем вашей колымаге. Я мыл песок от Юкона до Ранда, но эта река — та еще шлюха! Так и заводит, так и распаляет! Можно месяцами копать, промывать и просеивать, трудиться не разгибая спины — и ничего. И вдруг, когда ты уже готов зашвырнуть лоток в воду, у тебя замирает сердце — вот оно! Адский блеск. Искры богов. Всего одна волшебная песчинка. Первый поцелуй. И ты снова с удвоенной силой моешь песок, делаешь заявку, нанимаешь рабочих и вгрызаешься в берега, роешь, пока не сдерешь всю кожу с рук — будто перчатки. И — ни зернышка. Ни крупинки. В этом деле или в мгновение ока старятся, или навсегда остаются молодыми. — Выпейте еще чашечку, молодой человек, — ненавязчиво предложила Иезавель, окидывая взглядом Энтона с головы до ног. — Мистера Грэхема хлебом не корми — дай потрепать языком. — В трех милях отсюда, — произнес Грэхем, терпеливо набивая табаком скрученные полоски бумаги, — в прошлом месяце нашли следы золота — и всего-то промыли дюжину унций. Теперь там то ли семьдесят, то ли восемьдесят стоянок на пространстве в шестьдесят миль вдоль по реке. Вкалывают даже африканцы — главным образом за еду, конечно, — перетаскивают песок и носят воду… Оставайся поужинать с нами, сынок, — предложил Грэхем. — Пока жена мешает в кастрюле, я расскажу тебе о нашей профессии. Утром возьмешь с собой нескольких парней из племени кавирондо, сходишь за своим товарищем. Моя жена — маори, лучшая повариха в буше. Только никогда не спрашивай, что в горшке, а то твои волосы станут такими же, как мои.* * *
— Это не работа для немецкого офицера, — проворчал Эрнст пару дней спустя. Он стоял рядом с Энтоном и Шотовером Грэхемом и брюзжал насчет бешеной активности золотоискателей на обрывистом берегу Мигори. Мимо река несла свои воды, мутные от ведущихся в верховьях работ. Несколько групп людей, белых и цветных, с корнем вырывали растительность и перекапывали землю. Корчуя и скребя, рыли траншеи и возводили насыпи, безжалостно изменяя ландшафт. Каждая бухта и каждый приток обрастали десятком безобразных каналов. Выше, на берегах и склонах примыкающих холмов, рабочие бурили пробные скважины, ставили указательные столбы и вгрызались в землю. Вдоль по реке Энтон видел множество людей, трудившихся, словно пчелы в сотах. Одни толкали грубо сколоченные тачки и переносили на плечах увесистые корзины. Другие строили перемычки и гнули спины над длинными деревянными промывочными лотками и корытами с желобами или филенками для отделения драгоценных частиц от песка, ила и гравия. — Пора приниматься за работу, — сказал Шотовер. Он сел на корточки и, достав из висевшего на шее продолговатого кожаного футляра, развернул плотный лист бумаги. Подобно картам древних, эта была сделана от руки и являлась чем-то большим, нежели карта. Испещренная крестиками и крошечными рисунками (чаще всего изображениями лопаты), она была окаймлена выполненными карандашом виноградными лозами, листьями и кустами. То там, то здесь встречались чернильные пометки — зашифрованные знаки, указывающие, где находили золото. — Это тонкое ремесло, — делился опытом Грэхем. — Весь фокус в том, чтобы твои помощники таскали оборудование и выполняли для тебя всякую другую работу, пока не вырисуется картина, смысл которой ты схватываешь раньше них. Я слишком стар, чтобы ворочать землю и таскать ведра с водой, но еще в состоянии пошустрить — было бы ради чего. Нутром чую: золото где-то рядом. И не какая-нибудь мелочь вроде тех частиц кварца, с которыми мы сейчас работаем, а настоящая залежь, жила длиной в тысячу футов. Даже в Родезии находили не более трехсот футов. — А пока, — Грэхем постучал по карте огрызком карандаша, — на вашем месте, мальчики, я бы копал вот здесь или здесь. Когда ситуация прояснится, найму нескольких человек кавирондо или ватенди — вам в помощь. — Может, сначала наймем черномазых? — буркнул Эрнст. Энтон взял винтовку, пангу и лопату. — Пошли, Эрнст. Ничего с тобой не случится, если ты чуток помашешь лопатой. — Нет, вы представьте себе, — разглагольствовал Эрнст вечером у костра. — Сначала этот щенок гостит на моей ферме в Германской Африке. Потом я спасаю ему жизнь во время драки с гангстерами. Теперь я лезу вон из кожи, чтобы он разбогател. И какова благодарность? Он сует мне лопату и всячески эксплуатирует в этой забытой Богом дыре. В ожидании виски Энтон чинил Шотоверу карандаш. — Эрнст, отдай мистеру Грэхему виски. Завтра рано вставать. — Я бы разбавил водой, — сказал Шотовер, принимая ополовиненную бутылку «Длинного Джона» и наполняя две маленькие рюмки, — но эту паршивую реку до того взбаламутили, что даже чай стал — жуткая бурда. Он отпил глоток скотча. — Вам не понять. Если не считать нескольких старых псов, как я, на этой реке нет ни одного порядочного золотоискателя. Остальные — простые фермеры, покалеченные войной солдаты или перекати-поле вроде этого немца. Ни один не сумеет снять лопатой корочку с рисового пудинга. — Давным-давно, — продолжал Грэхем, — когда я впервые бросил овец на произвол судьбы, одна и та же компания переходила с прииска на прииск — с такой же легкостью, как вы пересекли бы вон ту полянку. Австралия, Юкон, Земля Машона. Менялись только туземцы. На каждом прииске один из двухсот богател, тридцать-сорок отдавали Богу душу, а остальные возлагали надежды на следующее месторождение. — Почему вы нам помогаете, Шотовер? — полюбопытствовал Эрнст, одним глазом косясь на стряпню. Иезавель порезала листья папоротника и заправила жаркое. Возле кастрюли валялись лапки и перышки мелких птиц. — А потому, молодой человек, что мы можем принести друг другу пользу. Бывает, пожилому человеку невмоготу в одиночку. Не с кем словом перемолвиться — даже несмотря на то, что со мной — моя прекрасная Иезавель. А твой юный друг умеет располагать к себе, как говорит моя хозяйка. Она бы не прочь, чтобы он остался в лагере — да, Джез? Эти девчонки-маори до смерти не уймутся. Он взял руку жены в свои. — У вас есть еще какие-нибудь карты? — спросил Энтон, делая вид, будто не замечает подмигивания Иезавели. — Сколько угодно. Клондайк. Охотничья Тропа. И сама река Шотовер. — Река Шотовер? — переспросил Энтон, наслаждаясь запахом жаркого. — Видишь ли, мальчуган, первой золото находит вода, а не человек. Потом мы узнаем места и копаем до тех пор, пока не найдем жилу. Иногда этого так и не происходит. В сущности, река проделывает ту же работу, что и мы с лотками и желобами: отделяет золотой песок от обычного. Чем быстрее течение, тем дальше оно уносит золотые крупицы. И все-таки рано или поздно они оседают. Причем из-за своей тяжести они часто проваливаются под ил. — Посмотрели бы вы на моего мужа в молодости, — мечтательно произнесла Иезавель. Шотовер скрутил сигарету почти идеальной формы. Иезавель повернулась к мужчинам с тяжелой чугунной крышкой в одной руке и половником в другой. Рот Энтона наполнился слюной. Он взял щепотку соли и бросил в пылающие угли. — Высокий, сильный — как ты и твой друг, только без пуза, — продолжила Иезавель и хлопнула по брюху Эрнста половником. Тот вытер это место и облизал палец. Энтон склонился над костром. Он больше ничего не замечал, кроме возникающих в пламени узоров. От волнения на лбу выступил пот. Энтон отер лицо новым шейным платком и продолжал вглядываться в языки огня. Не было больше искр. Не было ни голубого, ни красного — перед ним сияла роскошная золотая монета. — Однажды в Новой Зеландии мой парень взял меня в горы, туда, где мужчины искали в снегу золото, — рассказывала Иезавель. — Это было на Южном острове. Люди моего племени там не живут, и белым приходилось все делать самим. Они так и не нашли достаточно золота и обленились. Решили — пусть река за них работает. Река Шотовер брала начало высоко в горах и протекала сквозь золотые залежи. Один человек, даже красивее моего Грэхема, решил, что, если заставить реку течь по новому руслу, на обнажившемся дне они найдут пляж из сплошного золота. И вот съехались мужчины со всей земли: от Калифорнии и Южного Уэльса — с динамитом, лопатами и мечтами. И мой молодой красавец взял меня туда, и я стала звать его «Шотовер». — Это длилось два года, — продолжил Грэхем рассказ жены. — При помощи динамита мы проделали в горе туннель в добрую милю и пустили по нему реку. Когда старое русло высохло, мы начали копать. Слабые не выдерживали и погибали, оставляя товарищам обувь, инструменты и секретные карты. Мы то и дело наталкивались на небольшие каменные углубления. Сотни лет там скапливались крупицы золота — особенно в зимнее время, когда течение ослабевало. Во время дождей галька и большие булыжники закрывали эти впадинки. Нам приходилось перебирать их камень за камнем, зернышко за зернышком. Мы добывали достаточно золота, чтобы прокормиться. Это было высоко в горах. Нам никто не помогал. Мы отогревали дно кострами. Четверо мужчин держали большие медные решетки, через которые мы промывали ил. Сколотив состояние, многие бросали это ремесло. Они, словно боги, спускались с небес, богатые и сильные, как быки, с мешками и маленькими кожаными кошельками, подшитыми к внутренней стороне пояса или спрятанными в подкладке пальто. После ужина Эрнст добрался-таки до донышка бутылки. — Пора спать, если мой английский друг не потерял желания завтра самоотверженно трудиться.* * *
— Спасибо, мэм, и желаю вам удачного дня, — сказал Энтон, заканчивая точить бритву о сапог и принимая из рук Иезавели кружку, в которую она налила душистого темного чая. Дымящийся напиток согрел Энтону руки. Вдыхая свежий утренний воздух, он вспомнил, что их лагерь находится на высоте четыре тысячи футов, всего в тридцати милях от озера Вик. Ломота в спине вызвала в памяти первую рабочую неделю грузчиком в Портсмуте. Следом явились воспоминания об оживленных завтраках у другого костра, вместе с Гвенн, Веллингтоном и Кариоки. Шотовер уже отправился на свой утренний променад. Каждое утро он, с частыми передышками, осиливал милю-другую вверх по реке. Наблюдал за работой других старателей. Болтал с подсобными рабочими из туземцев. Выменивал щепотку табаку на чашку чаю, когда останавливался поболтать с приятелями. Вернувшись к завтраку, разворачивал карту и делал новые пометки — водрузив на переносицу очки и вовсю орудуя карандашом и резинкой. Энтон сделал глоток чаю и подтолкнул ногой несколько откатившихся от костра угольков. Нагнулся раздуть огонь. До него донесся громкий храп Эрнста. — Капитан фон Деккен! — гаркнул Энтон. — Ахтунг! Англичане пошли в атаку! — Прекрати издевательства! — рявкнул Эрнст. — Из-за тебя я больше никогда не смогу подняться! Энтон сел с кружкой на корточки у огня. Шотовер уже возвращался. Над рекой поднимались дымки от утренних костров. Энтон натер сапоги салом. — Хочешь еще? — спросила Иезавель. Юноша заглянул в кружку. На внутренних стенках образовалась грязноватая пленка. На дне кружки, словно водоросли в реке, плавали чаинки. А между ними в утреннем свете показались четыре или пять ярких блесток. — Золото!* * *
— Что ты читаешь, дорогая? — полюбопытствовал лорд Пенфолд, удивленный тем, что застал жену с книгой. — «Пятилетний ад в приходе графства», мое сокровище. Преподобного Сайнота из Распера. Ну, слава Богу. Пенфолд протянул Оливио пустой бокал. Карлик вручил ему «Восточно-африканский штандарт» за прошлую неделю и монокль для чтения в потертом замшевом футляре. Пенфолд без особого интереса стал листать «Штандарт» с конца. Наконец его внимание привлекли объявления о шляпах для сафари и «стальном муле» от Бейтса. Двадцать пять лошадиных сил, высоченные гусеницы, сделано в Джолиете, штат Иллинойс, ни больше ни меньше. Вот было бы здорово — купить такой трактор! Может, тогда ему удалось бы воскресить ферму. Но цены! Пенфолд со вздохом перевернул страницу. «Остановить туземцев, выгоняющих из дома больных и немощных членов семьи, чтобы они умирали под открытым небом!» — требовал один читатель. «Кто хозяин кенийского золота: чернокожие, белые или король?» — страстно вопрошал другой. — Недурная мысль! — воскликнул Пенфолд, обращаясь к жене. — Знаешь, как туземцы борются с бабуинами, уничтожающими их кукурузу? Сисси и не подумала оторваться от книги. Пенфолд продолжал: — Один парень из Трансвааля рассказывает: они поймали одну обезьяну, остригли наголо, окрасили в голубой цвет и отпустили. И все. Больше в округе не видели ни одного бабуина. Что ты об этом думаешь? Сисси не удостоила его ответом. Пенфолд пробежал заголовки. «Кампания против сумасшедшего муллы в Сомали». «Городские крысоловы применяют капканы «Брейк-Бэк Ниппер». «Индийцы крадут страусиные яйца для мечети». «Выборный комитет по сексуальным посягательствам туземцев на европейских женщин распущен за отсутствием инцидентов». И почему законодательное собрание в Найроби подняло такой шум вокруг билля против колдовства? А возня вокруг колоний строгого режима и телесных наказаний? Впрочем, на родине еще хуже. Безработица. Забастовки шахтеров. Хлопоты с розовыми социалистами. В Ирландии неспокойно. Немцы не хотят платить военные репарации. Копят силы для реванша? Несомненно. В последнее время от них все больше неприятностей. Эти никогда не изменятся, подумал он, вспомнив, как фон Леттов снял сапоги и три недели топал по бушу босиком, потому что у многих солдат не было обуви. — Кажется, у меня опять начинается ангина, — сказала Сисси. — Сейчас все болеют. Проклятая страна! Пенфолд как раз наткнулся на объявление: тонизирующее средство «Петоген» — от нервов. Как раз то, что нужно, но она не согласится. Или вот — соли «Алки». «Засорение кишок способствует образованию в организме отравляющих веществ». Нет, это тоже не подойдет. — Почему бы тебе не попробовать пилюли Бичема? — Ты невнимателен, мое сокровище, — раздраженно заметила Сисси. — Они от запоров и закупорки желчных протоков. Все дело в этом ужасном климате. — Извини, дорогая. В таком случае прими четыре порошка хинина. Он посмотрел, какая погода была в прошлом месяце в Лондоне, и отложил газету. Низкая температура и повышенная влажность в Уилтшире… — Сказать, чтобы тебе принесли ужин на подносе? — Господи, разумеется, нет. — Ужин через полчаса, милорд, — уточнил Оливио. — Отлично. Надеюсь, будет пастуший пирог из импалы? Мне, пожалуйста, несколько маринованных манго на отдельной тарелке и чуть-чуть «Радости джентльмена». С нами кто-нибудь ужинает? Положение владельца караван-сарая дает определенные преимущества, лениво размышлял Адам Пенфолд. Главное — им с женой редко выпадает ужинать тет-а-тет. Вокруг всегда крутятся гости. Сегодняшний вечер грозил стать исключением. Собак нет — о чем разговаривать? Или это будет один из тех безмолвных ужинов, когда он слышит хруст брюссельской капусты у себя во рту, а Сисси шевелит губами только затем, чтобы пожаловаться на слуг? А как прелестны были эти губы в молодости! — Еще не разобрал почту, Оливио? — Пенфолд взял один конверт с изображенным на марке трехмачтовым парусником. — Из Лиссабона? Должно быть, для Фонсеки. Надо отдать португальцам должное: у них отличные марки. Каждая нация хоть на что-нибудь, да способна. Извини, Оливио, это тебе. А вот точно такая же марка. На этот раз — для Фонсеки. Я ему сам отдам. — Хорошо, милорд. Карлик засунул свою корреспонденцию между складками кушака и спустился по лесенке, досадуя, что от него ускользнуло письмо для Фонсеки. В своем бунгало он прислонился к притолоке и потянул носом воздух. В гостиной было темно, но из открытой двери спальни лился мягкий свет. Оливио принюхался к курившемуся там ладану. Слишком приторному — на вкус джентльмена. Кина опять перестаралась. Карлик разделся и снял с низкого крючка возле двери собачий ошейник. Задрав подбородок, надел его на шею. Хорошо уже и то, что она больше не заставляет его носить ошейник Ланселота. Он зажег керосиновую лампу и, голый, уселся на кушетку. Почесался и распечатал конверт.«Многоуважаемый сеньор Алаведо! Мне выпала почетная миссия — уладить ваше дело на предложенных вами условиях — одна пятая часть вашей доли наследства. Пусть даже этой миссии сопутствуют определенные трудности — на первый взгляд ваши претензии представляются мне вполне обоснованными. В Португальском королевстве и его разбросанных по всему свету владениях незаконное происхождение не может служить препятствием для получения наследства. Церковь и монарх оказывают покровительство каждому, кто родился на территории, находящейся под их юрисдикцией. Я изложил основные моменты вашего дела секретарю кардинала и удостоился аудиенции. Его преосвященство приветствует, как доказательство истинной веры, ваше намерение пожертвовать церкви одну пятую вашей доли наследства. Но он настаивает на том, чтобы, прежде чем определить размеры вашего имущества, церкви была возвращена золотая табличка, которую покойный архиепископ вывез из монастыря Св. Моники в Гоа. Секретарь кардинала — набожный и в то же время деловой человек. За символический знак внимания и памяти — который всего лишь даст ему возможность содержать скромную усыпальницу по дороге в его родную деревню и, может быть, достроить фамильную часовню — он несомненно обеспечит достойную организацию дела».Протяжные стоны из спальни отвлекли Оливио. Он поправил ошейник, с отвращением чувствуя запах псины. Дрянная девчонка — чем это она занимается? Разве он не запретил ей самостоятельно ублажать себя — ведь это его привилегия! Но, возможно, она не в силах сдержаться, думая о нем? Оливио с усилием вернул свое внимание церкви.
«При всем том могут возникнуть трудности с вашим кузеном, Васко Фонсекой. Я уже имел беседу с адвокатом сеньора Фонсеки, типичным агрессивно настроенным консультантом коммерческих кругов. Пребывая в полном неведении относительно существования вашего превосходительства, вышеупомянутый юрист впал в ярость и отверг мое предложение о разделе имущества поровну. Очевидно, он пошлет своему клиенту соответствующие инструкции. Не отчаивайтесь, сэр, и не теряйте веры в то, что ваше дело — правое и получило благословение самой матери-церкви. Я приложу все усилия для восстановления справедливости. Ваш преданный слуга, доктор Гонсало Баррето».Итак, в ближайшее время Фонсека узнает о притязаниях родича! Оливио вернулся было к началу письма, но стоны и вздохи из соседней комнаты оторвали его от этого занятия. Дрожащими руками он вложил листок бумаги в конверт и спрятал под соломенным тюфяком, чтобы позднее перепрятать в несгораемую шкатулку под кроватью. Оливио затянул широкий кожаный ошейник так, как ей нравилось, и встал на четвереньки.
Глава 32
Не давая Энтону с Эрнстом немедленно броситься на реку, Шотовер воскликнул: — Ни в коем случае! В одной руке он держал кружку; между чаинками блестели золотые точки. — Если поднять шум, не успеем мы зачерпнуть лотками воду, здесь уже вырастет лес заявочных столбов. Отсюда вам видна только одна партия из дюжины человек, но на Мигори работают еще четыре сотни белых золотоискателей. Прежде всего, Джеззи, скажи, когда и где именно ты брала воду, девочка моя. Иезавель указала на громадную бочку. — Две недели назад. Я хорошенько вымыла бочку и наполнила ее на Крокодильей стрелке, вверх по реке, где вода свежее. Каждое утро я хожу туда стирать, а на обратном пути зачерпываю ведерко — долить бочку. Шотовер приготовил четыре лотка. Наполнил каждый до половины водой из бочки — та почти опустела — и, встав, потеребил пальцами рубашку Эрнста. — Как раз то, что нужно. Эрнст, дай мне твою рубашку. — Это еще зачем? Она у меня парадная. — Знаю, но, может быть, благодаря ей мы разбогатеем. Кроме того, все, что на тебе висит, заслуживает компенсации. Энтон хлопнул приятеля по спине. Шотовер постелил серую рубашку из плотного хлопка на дно пятого лотка. Энтону бросился в глаза аккуратный шов — Гвенн зашила после того, как доктор Фицгиббонс разорвал на Эрнсте рубашку, чтобы вправить ключицу. Шотовер вылил туда остатки воды из бочки. Процедил и размазал осадок по поверхности мокрой материи. Все безмолвно опустились перед лотком на колени, благоговейно взирая на темную массу из песка, комочков глины, зернышек кварца и крошечных извивающихся живых организмов. Эрнст брезгливо поморщился. — Такое способны пить только англичане. Шотовер перенес рубашку на большой деревянный ящик, служивший им с Иезавелью комодом. — Выпьем по чашечке, пока будет сохнуть. Все тело Энтона от волнения покрылось потом и натянулось как струна — словно после схватки с буйволом. Он закусил губу и отошел к костру. — Запоминайте порядок, — сказал Шотовер. — После того как мы выберем место, нужно сразу же получить охранную грамоту комиссара территории. Это десять шиллингов. Как можно скорее оградить участок шестидюймовыми колышками. Потом у нас будет две недели, чтобы решить, где поставить заявочный столб. Каждая заявка охватывает площадь сто квадратных футов и обходится в десять шиллингов. Заявить можно столько, на сколько хватит денег. — А тем временем придется платить за еду, оборудование, труд рабочих, — задумчиво произнес Энтон, отдавая себе отчет в том, что у него единственного в этой компании есть деньги — поболее нескольких шиллингов. — Нам потребуются еще деньги. — Вот то-то и оно, мальчуган. Деньги. А тут еще кафры продают яйца по пятьдесят штук шиллинг, не говоря уже о бананах и микроскопических ананасах. Один раз позавтракать стоит примерно столько же, сколько оформить заявку, особенно если принять во внимание выдающееся во всех смыслах пузо нашего немецкого друга. Придется бедному гансу затянуть пояс. — Прежде чем начать, внесем окончательную ясность, — сказал Эрнст, с явным удовольствием принюхиваясь к своему грузному, потному телу. Потом он потянулся, почесал белое брюхо. Бронзовая от загара шея казалась от другого туловища. — Делим все на три равные части. — Четыре, — поправил Шотовер. — Золото нашла Джеззи. — Четыре, — согласился Энтон. Немец отвернулся. Часом позже на расстеленной на комоде рубашке осталась лишь малая горстка блестящих зернышек кварца да черных частиц — вроде бы угля. Шотовер протер очки и снова водрузил себе на нос. Затем он склонился над материей и подул. Чешуйки кварца разлетелись по сторонам. Более тяжелые угольные частицы остались. — Угольная пыль, серый колчедан, — пояснил Шотовер и вгляделся в застывшие лица товарищей. Потом набрал в легкие побольше воздуха и дунул сильнее. Темные частицы поднялись в воздух и отлетели к краю рубашки. Остались одни лишь запутавшиеся в волокнах хлопковой ткани частицы золота. Энтон поборол волнение. Все бросились обниматься. Джеззи принесла из палатки жестяную коробку от сигарет «Сеньор сервис». Там оказался пинцет. Мужчины напряженно следили за тем, как она собирает в жестянку крупицы золота, а затем прячет коробку в карман. Вечером, у костра, трое мужчин с нетерпением ждали, когда Иезавель откроет заветную жестянку. Наконец она осторожно сняла крышку. Все молча любовались собравшейся в углу золотой пылью. Шотовер еле заметно тряхнул коробку, и разнокалиберные частицы заплясали в центре. — Это только начало, — утомленным голосом молвил Шотовер. — Конечно, нам нужны не эти жалкие пылинки, а их источник — золотая жила, возможно, скрытая в глубине кварцевой породы. — Как же мы ее узнаем? — заволновался Энтон. — Узнаем. Это все равно что впервые увидеть прекрасную женщину. Вдруг перестаешь замечать остальных. Кварц, как одежда, показывает ровно столько, сколько нужно, чтобы захотелось ее сорвать. Сколько ухажеров вынуждены были уйти с разбитым сердцем! Зато когда красавица наконец-то капитулирует, это — как дыхание вечной жизни.* * *
— Работай спиной, парень, — наставлял его Эрнст, наблюдая, как Энтон мучается с киркой среди переплетенных подгнивших стеблей. — Ты никогда не сравняешься силой с черномазыми, если не будешь потеть. — Немец указал ножкой жареного цыпленка в сторону землекопов-кавирондо с лоснящимися черными спинами. — В твои годы я мог работать целый день не разгибаясь. — Эти корни уходят на три фута в глубину, а потом еще фут чистой земли, прежде чем доберешься до золотоносного слоя. Было бы гораздо лучше, Эрнст, если бы ты взял кирку и помог. У нас осталось всего пять дней, чтобы подать заявку. — Нет-нет, только не сейчас. Нужно нанять побольше кафров, а мне хватит с лихвой — руководить этими бездельниками. Ты только посмотри на них. Два шиллинга в неделю, плюс жратвы под завязку, и будь я проклят, если они тотчас не начнут бить баклуши — стоит только отвернуться. Эрнст обсосал жирные пальцы. — Чем больше мы будем делать сами, тем меньше понадобится наемных рабочих, — проворчал Энтон. Прошло уже две недели, а они так и не нашли золото. Он посмотрел на другой берег ручья, где Шотовер, с трудом согнув жесткое туловище, проверял кончик щупа. Землекоп-кавирондо — как Энтон, богатырского сложения — держал перед ним шестифутовый шест. Рядом работало еще несколько африканцев. Каждый погружал свой шест в воду до тех пор, пока он не упирался сначала в илистое дно, а затем в твердый слой гальки и сопутствующего золоту кварца. Шотовер обследовал кончики шестов, решая, стоит ли выдергивать в этом месте водоросли и раскапывать дно. В тридцати ярдах вниз по ручью, где он впадал в Мигори, стояла на коленях Джеззи, напевая про себя балладу маори и покачивая из стороны в сторону лоток. Потом она выливала воду. Джеззи работала самостоятельно, но под вечер бросала это занятие и шла готовить ужин и наводить порядок в лагере. — Добро пожаловать, джентльмены, — сказал вечером Шотовер и снял очки. — Карты уже ждут. Энтон поднял глаза от «Дэвида Копперфилда» и увидел троих африканеров[17]. Жена Дэвида, Дора, скоро умрет, и он опять останется один. — Может, молодой человек или немец тоже захотят сыграть несколько партий, — сказал Шотовер гостям. — Познакомьтесь с миссис Грэхем. Первый африканер скользнул равнодушным взглядом по лицу улыбающейся темнокожей женщины. Он, как и его компаньоны, был одет во все черное — от сапог с толстыми подошвами до круглого котелка. Энтон впервые видел, чтобы кто-нибудь в Африке носил такую тяжелую, неудобную одежду. У африканера было обветренное лицо, изборожденное морщинами. Даже для этой глухомани, где большинство европейцев отпускали бороду, африканер казался на редкость лохматым. Длинная всклокоченная белая борода стояла торчком, словно наэлектризованная. Энтону вспомнился рассказ Гуго фон Деккена о старых африканских охотниках за слонами. — Наша фамилия Вегкоп, — по-английски представился бур и, бросив оценивающий взгляд на две колоды карт, кивнул компаньонам. — Это мой брат с сыном. Пусть, пока мы будем играть, племянник почитает у костра Библию и вымолит для нас прощение. Он еще молод для этого греха. Карты, как золото и женщины, — воплощение дьявольских козней на этом свете. — Вот именно, майн герр, — с угрюмым видом поддержал его Эрнст. — Для того мы и созданы: грешить и каяться. Вокруг комода расставили стулья и поместили в центр импровизированного стола масляную лампу. Братья Вегкопы покивали головами и уселись. Энтон, Эрнст и Шотовер присоединились к ним, Иезавель возилась в лагере. — Чашку бульона? — предложила миссис Грэхем после того, как мужчины сыграли немало партий. Она разлила бульон в кружки и протянула одну чернобородому молодому человеку, сидевшему на бревнышке у костра с раскрытым «Ветхим заветом» на коленях. Братья взяли бульон и уставились в свои карты, а затем обменялись взглядами и покачали головами. Энтон старался не смотреть на кучку монет возле себя на столе. Все карманы опустели. Рупии и шиллинги, флорины и гульдены, даже два серебряных доллара и золотая канадская монета перешли к нему. Он перевел взгляд на руки братьев Вегкопов. Никогда еще ни у матросов, ни у фермеров или шахтеров он не видел таких натруженных рук. Короткие толстые пальцы и квадратные ладони казались одной сплошной мозолью. Младший из братьев хотел прекратить игру, но старший не мог остановиться. — Главное — вера в победу, — убеждал он брата. Из-под прямых широких полей шляпы и седых косм сверкали борозды морщин. — У нас больше нет денег. На что мы будем играть? Должно быть, это кара, ниспосланная нам свыше. — У меня идея, господа, — с довольным видом произнес Эрнст, сгребая деньги и передавая Энтону. — Папа учил меня: деньги — дьявольское проклятие. Зато работа — работа сама по себе — главное богатство. Отставим деньги. Вместо монет сыграем на столько-то дней добросовестного труда — на вашем участке или на нашем. Седой африканер покосился на пузо немца. — Гульден есть гульден. — В тусклом свете масляной лампы его глаза приняли стальной оттенок, как ружейное дуло. — Если ты проиграешь, сможешь ли ты работать так, как я? Эрнст, ни разу не моргнув, выдержал недоверчивый взгляд африканера. — У меня сломана ключица, но, видит Бог, я сделаю все, что в моих силах. К тому же мой друг, этот славный атлет, готов вкалывать за двоих.* * *
В своем коттедже в Денби Гвенн мелко дрожала, оттягивая тот момент, когда не сможет больше терпеть и разведет огонь в маленькой печурке. В период с октября до марта каждой шахтерской семье бесплатно выдавали шесть ведер угля в неделю. Разведение огня стало для Гвенн первой в жизни обязанностью. Если поспешить, тепло не продержится весь вечер. А если пропустить момент, понадобится больше угля. Дрожащими негнущимися пальцами она поискала спичку. И вдруг резко проснулась, почувствовав, как что-то шлепнулось ей на щеку. Гвенн хлопнула ладонью по лицу и ощутила твердый гладкий панцирь большого жука. Он дрыгал ножками, больно царапая ей кожу. Она все-таки раздавила жука и сбросила на пол. По телу прошла судорога. Гвенн потянулась за сползшим на пол одеялом. И услышала. Над головой в соломе что-то шуршало. Возбужденно пищали летучие мыши. Потом раздался звук быстрых мелких шажков. И наконец, ей на подушку шлепнулся визжащий зверек, а еще один — на одеяло. Полевые крысы! Гвенн вскочила, стараясь не вскрикнуть, чтобы не испугать Веллингтона. Слава Богу, в своем гамаке из ремней, вырезанных из кожи зебры, мальчик в безопасности! Под босыми ногами Гвенн задвигался пол. Она перебирала ногами, словно в танце, пока крысы, визжа и рыча, искали выход. Сотни острых коготков искололи ей ступни и щиколотки. Она зажгла висячую лампу. Плотно утрамбованный земляной пол был покрыт живым красно-бурым ковром. Рыжие муравьи! Через их дом прошло целое войско. Грызуны и насекомые сыпались вниз сквозь солому, выставляя крошечные клещевидные когти. Гвенн увидела у своих ног скорпиона, важно, как паша, восседавшего на спинах двух муравьев. Свисающий хвост без толку жалил насекомых. Рядом упал черный жук-скарабей; лапки облепили рыжие муравьи. Гвенн вспрыгнула на кровать. Ей на плечо опустился жирный паук с облепленными муравьями конечностями. Муравьи стали карабкаться вверх по ножкам кровати. Самые шустрые уже ползли по одеялу, чувствуя себя немного неуверенно на этой незнакомой территории, шарахаясь то влево, то вправо. К ним присоединились осыпавшиеся со стен. Они были похожи на вышедших из окружения солдат, мечущихся в поисках своей части. Гвенн съежилась в изголовье, прижав к груди голые колени. Комната жила своей жизнью. Пронзительно заверещал Велли. Веревка, за которую Гвенн покачивала гамак, превратилась в осклизлый красно-бурый кабель. Мальчик кричал и брыкался. Гвенн сорвала с него облепленное насекомыми одеяло. Муравьи полезли ей на руки. Велли продолжал надрываться. Его белый пухлый животик потемнел от муравьев. Они проваливались в ямку пупка и вновь вылезали на поверхность. На ножках и шее ребенка пролегли широкие темные полосы — шеренги муравьев. Отдельные экземпляры забрались ему в нос и рот. Мальчик отчаянно чесался и царапался. Гвенн схватила сына в охапку и по ковру из муравьев бросилась наружу, зовя на помощь Мальву с Артуром. Те сами только что проснулись и вместе с хозяйкой устремились к реке. Гвенн окунула Велли в темную воду. При свете луны очистила его кожу от муравьев. Некоторых пришлось отдирать: так крепко они вцепились в детское тельце. — Мэм-саиб, это муравьи-солдаты! — объяснил Мальва и побежал за керосином. Вернувшись с канистрой, он натер ребенка. Тогда только муравьи оставили мальчика в покое. Их унесла река. Гвенн еще раз искупала Велли у бережка. Он дрожал и лягался. Мимо них по мосту шествовало муравьиное воинство; некоторые падали в воду. Они заполонили весь остров. Гвенн стояла по щиколотку в воде, прижав к себе малыша. Она велела Мальве развести костер и разбросать угли. За спиной, как будто их режут, квохтали леггорнские куры. Даже для наших животных, подумала Гвенн, Африка стала злой мачехой. Она села у огня — дала Велли просохнуть. Эта земля не признает их своими хозяевами. Любая вывезенная из дома живность встречала здесь все новых и новых врагов. Блохи. Саранча. Гиены, отгрызавшие у коров вымя. А теперь еще Фонсека и Рейли нацелились на ее коттедж. Как любовно Алан отмечал речными камешками углы их будущего жилища, как корпел над чертежом дома с каменным крылом! Гвенн стоило огромных усилий не разрыдаться. Но Веллингтон — уже часть этого странного мира. У Гвенн почему-то было такое чувство, будто его поздно увозить в Уэльс. Однажды в детстве она сидела возле подъемника, ожидая, когда стальные тросы вынесут на поверхность отца. Клеть мучительно медленно карабкалась наверх по стволу шахты — и наконец поднялась. Двое мужчин, похожих на чертей из-за угольной пыли, открыли решетчатую дверь. Гвенн ждала, что сейчас выйдет ее отец с напарниками — в касках с прикрепленными к козырьку фонариками и с пустыми ведерками, в которых они брали с собой в шахту еду. Однако груз оказался иным. Это был шахтерский пони. Он лежал на боку — мертвый. Его поспешили доставить на поверхность, пока трупный запах не отравил воздух. Передние ноги были раздроблены, лошадь была черна, как смертный грех. Только свежие раны оказались относительно чистыми. Наконец-то глаза пони вновь обратились к свету! Гвенн знала: под землей работают сотни лошадей, для них там построена специальная конюшня. Раз в году лошадь поднимали на поверхность — подкрепиться сочной летней травой на горном склоне. Ее купали, но природный цвет было невозможно восстановить. Однажды вечером Гвенн видела таких лошадей пасущимися на холме. Табун прокопченных кастратов жался к краю долины. Лошади имели такой же загнанный вид, как и шахтеры. Сопротивлялись ли они, когда приходило время возвращаться в шахту? Гвенн поймала на себе сочувственный взгляд Мальвы. — Сколько обычно длится муравьиное нашествие? — Если это одно войско, Гвенн-саиб, то один-два дня. А если придут новые полчища, то четыре-пять. Однажды, при жизни моей бабушки, после большого лесного пожара, муравьи-солдаты маршировали по деревне целых семь дней. Обычно они совершают переходы перед дождями. Мальва вытащил из огня еще пару головешек и рассыпал угли по кругу, защищая горстку людей от муравьев. Гвенн заметила: насекомые двигались узкими колоннами. Живая лента шириной в фут текла по прямой, через дом, оказавшийся у них на пути. При необходимости они просачивались сквозь щели в стенах или под стенами. А преодолев препятствие, воссоединялись и по-прежнему неудержимо двигались на восток, туда, где их приветствовали первые лучи восходящего солнца. — Мальва, одолжи мне, пожалуйста, твои ботинки. Она передала Велли Артуру и, надев грубые мужские ботинки с многочисленными латками, побрызгала на них керосином. Вбежала в дом. Кругом копошились муравьи. Кровать кишела насекомыми. Муравьи сыпались ей в волосы. Гвенн схватила свои туфли, ружье и кое-какую одежду для Велли. Собралась было искать журнал Алана, но вспомнила, как Рейли, издеваясь, сунул его в карман и посулил, что будет спать в ее постели. Она гневно сжала кулаки. Отдав вещи Мальве, Гвенн облила керосином собственные туфли и побежала в яблоневый сад позади бунгало. Там, за проволочной оградой, сеянцы Энтона стояли целые и невредимые. Зато от трех леггорнов остались только перья, клювы и когти. Уцелели лишь Адам и одна курица. Петух забрался в дальний угол курятника, под проволочную крышу, и запутался в проволоке — это-то его и спасло. Он всю ночь провел в подвешенном состоянии. А последняя курица устроилась на ночлег на ветвях тернового куста. Сейчас она методично склевывала муравьев со своих лапок и брюшка. Гвенн освободила Адама и отнесла обеих птиц к костру. Там она шнурками от ботинок привязала их к походному стулу. Тем же утром Гвенн перевезла Велли на другой берег. К счастью, винторогие мериносы, за которыми ухаживали кикуйю, остались целыми и невредимыми и еще больше потолстели. Даже зерновыеустояли против муравьев, которые все еще маршировали по краю делянки со льном. Карабкаясь по стеблям, некоторые муравьи пожирали желтых гусениц и других, притаившихся под листочками, вредителей. Хоть какая-то польза. Гвенн взяла пангу и, порубив сухие колючие кусты, выложила из веток что-то вроде моста, ведущего с берега не на другой берег, а в реку. Муравьи-солдаты браво продолжили путь. Гвенн посмотрела на сына. Велли сидел с довольным видом на краю одеяла. Потом он переполз на другой край и, низко склонившись над землей, стал изучать кучку рыжих муравьев, а те изучали дырки в земле, из которых время от времени появлялись их черные собратья. Последние вступали с рыжими в схватку, унося добычу в норки. Если несколько рыжих муравьев одолевали одного черного, другие черные устремлялись на подмогу. Для сына Гвенн, юного африканца, это была игра. Мальва подпалил кучу хвороста на опушке буша. Дым стелился по земле, окутывая войско муравьев, отважно топающих в реку. Пламя распространилось на «мост»; муравьи лопались и шипели, как сухие зерна на сковороде. Гвенн зажала ноздри и отвернулась. Может, было бы лучше отдать дом муравьям, подумала она и тотчас устыдилась своего малодушия. Она посмотрела на Велли и пригладила руками коротко остриженные волосы. Пора приниматься за работу. Строить новый, каменный дом на своей земле.Глава 33
Васко Фонсека по-испански воскликнул: — Не может быть! Я тут двадцать лет надрываюсь, создавая богатство для своей семьи и дожидаясь смерти старой карги, а этот паршивый урод требует половину наследства! Я раздавлю его, как клопа! Стоя на цыпочках на двух подушках, Оливио подсматривал за ним в дырочку в стене встроенного одежного шкафа. Ухмыляясь, смотрел, как его кузен с перекошенным лицом мечется по комнате, зажав в руке письмо от своего адвоката. Настойчивый стук в дверь заставил Фонсеку немного успокоиться. Вошли двое. — Что с твоим глазом, Рейли? — спросил Губка Хартшорн. — Все та американская сволочь. Теперь глаз гноится. Может, я его и потеряю, но этот ублюдок Слайдер еще заплатит! Костей не соберет! Оливио так и сяк поворачивал голову, чтобы рассмотреть пострадавшего. В щеку вонзилась заноза. Он приставил к стене чашу леди Пенфолд для омовения пальцев и с наслаждением ощутил прикосновение холодного хрусталя к своей коже. — К делу, — послышался раздраженный голос Фонсеки. — Пора завладеть фермой Луэллинов. Мы дали ей достаточно времени на размышление. Правительство вот-вот объявит о прокладке новой железной дороги, и земля подскочит в цене. — Что от нас требуется? — спросил Рейли. — Теперь, когда река изменила русло, Фонсека должен предъявить права на землю, на которой стоит коттедж, на том основании, что Амброз продал ему все владения на восточном берегу. Тогда мне будет несложно провести через земельное управление нужное решение. Тем временем Фонсека предложит купить у нее остальную землю, а управление подберет ей другой участок. — Будет артачиться, — вмешался Рейли, — можно устроить на ферме еще одну заварушку. Я лично не прочь нанести дамочке дружеский визит. Я нравлюсь ей гораздо больше, чем она хочет показать. — Еще одно, — произнес Хартшорн. — На железной дороге можно неплохо заработать. Фонсека должен ускорить строительство завода по производству креозота, о котором мы говорили. — Какого еще креозота? — удивился Рейли. — Это что-то вроде древесного дегтя. Все шпалы и телеграфные столбы пропитываются креозотом — для защиты от сырости и термитов. Ваш брат Пэдди с этим справится. Это элементарно просто, а он, с его дремучими мозгами, все равно больше ни на что не годится. — Вы, чертовы педики, вечно заставляете нас, ирландцев, делать за вас черную работу, — огрызнулся Рейли. — Это мы выиграли войну! Придет время, когда вам, педикам, придется самим таскать каштаны из огня. Фонсеке наконец удалось вставить слово: — Может быть, вы, британские джентльмены, как-нибудь потом выясните отношения? Мне еще нужно уладить одно семейное дело. Опять кузен что-то затевает, с тревогой подумал Оливио.* * *
Удовлетворенный и обессиленный, Оливио лежал, распятый на своем королевском ложе; каждая из его конечностей была привязана к ножке кровати туго натянутой веревкой. На голове красовался белый вязаный чепчик для новорожденного. Отделанный кружевами, чепчик был позаимствован из комода леди Пенфолд, где хранилось так и не пригодившееся детское приданое. Завязки больно давили Оливио на кадык. Прочая детская одежда, перепачканная и изодранная, валялась на полу. С каким удовольствием Кина его наряжала! Как ревновала бы леди Пенфолд, если бы пронюхала! Нагое, сытое тело Оливио в разных местах было измазано шоколадом и любимым порошком какао лорда Пенфолда, смешанным с ореховым маслом. Голова карлика покоилась в изножии кровати, ниже уровня ног. От прилива крови у него началось головокружение. Кина спала в гостиной, как щенок, свернувшись калачиком на подушке в углу. Ее прекрасное лицо и паховая область были липкими от шоколада; у ног валялась бутылка знаменитого белого портвейна лорда Пенфолда сорокалетней выдержки. Оливио потянул носом. Ноздри заполнила смесь всевозможных запахов: ладана, остатков керосина в догорающей лампе, пота и шоколада. И чего-то еще. Дыма. Горящей соломы. Через дверь в комнату вползла слабая струйка дыма и поползла к кровати. Пожар! — Кина! — истошно завопил карлик. — Кина! Проснись! Он сжал крохотную правую ладошку. Изо всех сил стиснул пальцы и попытался вытащить руку из веревочной петли. Потом попробовал проделать то же с левой рукой, уменьшая ее в объеме. Послышался треск. Оливио попробовал пошевелить ногами. Но Кина прошла хорошую школу. Он сам учил: чтобы как следует возбудить мужчину, играя на чувстве страха, его нужно надежно связать. Противоположная стена начала светиться. Висящие на гвозде четки потемнели. — Кина! — заорал он во всю мощь своих легких. — Кина! Неужели девчонка так здорово нализалась? Или угорела? Сверху сильно запахло керосином. Оливио поднял голову. В одно мгновение вспыхнула соломенная крыша. На висящей над изголовьем картине отважные конкистадоры верхом на своих скакунах устремились в огонь. Жалюзи из ротанга, закрывающие близлежащее окно, раскалились и вспыхнули, отворяя перед всадниками врата ада. В ночной рубашке, закутавшись в одеяло, Адам Пенфолд выскочил из своего бунгало как раз в тот момент, когда Рэк Слайдер начал пинать ногой дверь коттеджа Оливио. Флигель пылал словно факел на фоне ночного неба. В тени притихли группы африканцев; ни один не бросился на помощь, как будто это их не касалось. Пенфолд слышал, как кто-то процедил: «Проклятый Чура Ньякунда» — Желтая Лягушка. Он ворвался в кухню и намочил в лохани с мыльной водой несколько полотенец. Хромая, выскочил наружу. Из флигеля, пошатываясь и хватая ртом воздух, вышел Слайдер, волоча за ноги бесчувственную Кину. Рубашка на спине американца загорелась, но он не замечал этого. — Где Оливио? — крикнул Пенфолд, набрасывая ему на спину мокрое полотенце. Обнаженное тело Кины было сплошь в ожогах. Она закашлялась. Вождь Китенджи подхватил дочь на руки. — Должно быть, в спальне, — еле выговорил охотник. Пенфолд обернул голову и плечи полотенцем и, вырвав у одного из зрителей пангу, ринулся в дом. Над ним пылала крыша. Дым вверху был гуще. Пенфолд опустился на земляной пол и пополз в спальню. Матрас уже начал тлеть. Пенфолд вслепую добрался до изголовья кровати. Нащупал голые ноги Оливио. Потом веревки. Пенфолд рассек их одну за другой и, схватив Оливио на руки, прижал к груди, как дитя. С запястий и лодыжек карлика свисали обрывки пут. Пенфолд рубанул пангой по обгоревшей стене и шагнул в отверстие. Из толпы выбежал Фонсека. — Ну как, Адам, он в порядке? Я могу чем-нибудь помочь? Пенфолд молчал. Волосы и брови были в саже. Он отнес Оливио в бунгало. Положил на свою кровать. Карлик лежал, как обугленная кукла, чернея на белоснежной простыне. К обожженному черепу пристал лоскут от бывшего чепчика из комода Сисси. Пенфолд прильнул правым ухом к его груди. Сердце карлика билось. Адам Пенфолд почувствовал запах горелой человеческой плоти и волос. Как на войне. И почему от горящего человека пахнет жареной свининой? Пенфолд заметил в дверях Сисси. — Принеси, пожалуйста, воды и несколько полотенец. И попроси на кухне кастрюлю с охлажденной чайной заваркой. Это поджог. Кто-то облил крышу керосином. Он начал омывать тело Оливио. Ожоги на верхней части туловища распространились равномерно, словно человека поджарили в гриле. Сквозь слезы Пенфолд с трудом различал, как обожженная плоть карлика реагирует на его прикосновения. На лице и туловище вздулись волдыри. Между ними отслаивались частички кожи. Пенфолд осторожно снимал их полотенцем.* * *
— Под нож его! — надрывался попугай. — Под нож его! Эти крики в приглушенном виде проникали в тот ад, где Оливио корчился от боли. Карлик ничего не видел, но ощущал на своем лице влажное полотенце. Он узнал запах чайной заварки и понял, что жив. Одурманенный опиумом, с пересохшими ртом и глоткой, Оливио прижал к полотенцу разбухший язык и уловил противный запах Кайзера, восседавшего на жердочке в изголовье кровати. — Пенфолд, что вы дали ему в качестве обезболивающего? — прошептал врач. — Нет ничего болезненнее ожогов. — О нем позаботился бог Морфей. Я вкатил ему дозу морфия, Фицгиббонс. У меня немного осталось после ранения. Еще немного — и он пристрастится к наркотику, как какой-нибудь чинк[18] в притоне. Опять же, частые ванны. Первые пару дней его рвало, а теперь он делает под себя пи-пи, как престарелый викарий. Что-что, а канализационная система у него в порядке. — Я осмотрю лицо, а потом мы проткнем самые крупные волдыри и искупаем его в соленой воде. Главное — не допустить инфекции. Каждое утро давайте ему сульфаниламиды и патоку — чтобы моча была ярко-оранжевой. А где девушка? — Ее только что принесли. Кикуйю вышвырнули ее прочь, как только узнали, что этот маленький дьявол сделал ей ребенка. — Да ну? Давайте посмотрим, что тут у него, — Фицгиббонс отвернул простыню и присвистнул. — Вы только посмотрите! Роскошная штука — для такого малыша! Оливио преисполнился гордости. От двери послышался шум. Несколько мужчин внесли еще одну койку. Оливио услышал, как стонет Кина, и в тот же момент в его бедном теле запульсировала адская боль: кончилось действие наркотика. Фицгиббонс вздохнул. — У девчушки останутся шрамы. Зато беби в порядке. А теперь посмотрим, что у бедняги с лицом. Задерните шторы. Огромным усилием воли Оливио постарался отвлечься от своей агонии. Он вызвал в памяти запах керосина над головой. Керосин! При мысли о заклятых врагах боль отступила. Уж не думают ли они, что он не догадывается, чья это работа? С лица Оливио сняли полотенце. Он попытался моргнуть. Одно веко не поднималось. Другое непроизвольно дергалось. В открытый глаз ударил свет, как будто в голову налили масла и зажгли, как фонарь. Голова кружилась. — Интересно, — протянул врач. — Эктопия. С самой воины не видел ничего подобного. — Эктопия? — Да, Пенфолд. Видите, веко вывернулось наизнанку вместе с мембраной? Ну, тут еще можно попробовать что-то сделать. А вот с другим похуже. Изъязвление роговой оболочки. Придется носить повязку. А что до кожи, то навряд ли она когда-либо примет нормальный вид. Во всяком случае, маникюр ему не понадобится. — Что я должен делать? — Возьмите тряпку и оботрите его. Перед купанием нужно очистить кожу от мертвых тканей, как змея освобождается от старой чешуи. А потом мы устроим ему походную ванну, как на сафари, — Фицгиббонс указал на стоящее в углу большое корыто, снаружи обшитое дубом. — Вот-вот — именно то, что нужно. А вам, милорд, — произнес врач после небольшого молчания, — не мешает потренироваться. Главная работа — впереди: этак через недельку, когда его тело разберется, что оставить, а от чего — избавиться. Вам придется отдирать мертвые куски и устроить еще одну солевую ванну. И уж тогда его не удержит никакой опиум. — Вы приедете? — Разве Господь не дал вашей светлости две руки? С ребятами на ферме не соскучишься. — Фицгиббонс начал задыхаться. — С этим справится любая школьница. Вы тут совсем обленились. Нет на вас колбасников! — Держи колбасника! — радостно завопил Кайзер.Глава 34
Держа за руку Веллингтона, Гвенн спросила с порога: — Можно войти, мистер Алаведо? Мальчик вытаращил глазенки на две забинтованные фигуры, из которых одна была маленьким мужчиной, сидевшем среди подушек, словно разряженная кукла, а другая — крупной чернокожей леди в кресле у его кровати. — Конечно, дорогая миссис Луэллин! — отозвался Оливио и отвернулся, чтобы Гвенн не видела его забинтованное лицо. Никогда прежде он не сталкивался с такой адской болью и такой заботой, какой его окружили в последние полтора месяца. — Это моя невеста, мисс Кина Китенджи, — представил Оливио, стараясь как можно меньше шевелить губами. Любое движение причиняло почти нестерпимую боль. — Как дела на ферме «Керн»? — Очень приятно, Кина. Овцы и коровы жуют себе жвачку, а урожай кукурузы превзошел все ожидания. А вот лен почти полностью погиб. Чай и кофе тоже пока не приживаются. Говорят, нужно было хранить семена в древесном угле, чтобы повысить всхожесть. Бевисы взялись присмотреть за тем, что осталось. — В будущем сезоне будет легче, миссис Луэллин. Вот увидите. Что привело вас в «Белый носорог»? — Хочу оставить сына на несколько дней, пока улажу кое-какие дела в Найроби. Этот негодяй Фонсека претендует на тот участок, где стоит мой дом. Через два дня слушания в земельном управлении. Мы можем все потерять. Я должна повидаться с вашим другом, мистером да Сузой, раздобыть денег и нанять адвоката. — Я дам вам письмо к сеньору да Сузе. К вашим услугам будут все необходимые средства и лучшие юристы Найроби. — Надеюсь, мне повезет с адвокатом больше, чем Дэвиду Копперфилду, — пошутила Гвенн. Ей вспомнились слова Урии Гипа: «Хоть я и юрист, мистер Копперфилд, но я хочу сказать только то, что сказал». — Не знаком с этим джентльменом, — признался Оливио. Он что-то лихорадочно соображал. — У нас с вами крупный счет к Васко Фонсеке. Это правда, что он владеет соседней с вами частью бывшей фермы Амброза? — Похоже, он заранее знал, где пройдет железная дорога. — Миссис Луэллин, редкий зверь ходит напрямик. Одно могу обещать: под каждым камнем сеньор Фонсека найдет скорпиона. Это вы, милорд? — Я, дружище, принес тебе лекарство, — Пенфолд нагнулся, чтобы вручить Велли раскрашенную фигурку волынщика. — Я могу быть чем-нибудь полезен? — На этот раз да, милорд. У меня под кроватью есть такая красивая циновка. Под ней — тайник, а в нем — запертый на ключ металлический ящичек. Ключ висит в баре, под прилавком. — Хорошо. — Как дела в баре, милорд? Все блестит? — Стараюсь, но куда мне до тебя! Ладно, пойду откопаю твой сейф, пока миссис Луэллин научит Кину делать перевязку. Гвенн, перед этим нужно дать Оливио морфий. После того как женщины закончили, Оливио набросился на свою жестянку. Однако ключ то и дело выпадал из забинтованных — каждый по отдельности, как сигареты — пальцев. — Пожалуйста, милорд, вы не могли бы мне помочь? — Охотно, — Пенфолд повернул ключ в замке и заглянул внутрь. — Похоже на расписку от 1918 года. Тебе передаются в собственность десять акров земли. Боже мой! Это же часть бывшей фермы Амброза! И как раз в центре, на реке! Может, продашь ее Гвенн? Это заставит мерзавца призадуматься. — Нет, милорд. Извините, но вы не понимаете. Карлик собрался с духом. Как заставить такого мужчину, как лорд Пенфолд, войти в положение слабого маленького человечка, который может расправиться с могущественным врагом одним-единственным способом — чужими руками? Нужен сильный союзник! — Видите ли, сэр, миссис Луэллин и так с ним судится. Если я отдам землю ей, от этого ничего не изменится. Я преподнесу Фонсеке более изысканный подарок — нового врага! Такого, который еще ничем здесь не владеет. Соседа, который мертвой хваткой вцепится в эти десять акров. Например, молодого мистера Энтона. Когда-нибудь он возместит мне золотом. А теперь, милорд, если вы не против, сожмите мою руку в своей, чтобы ручка не выпала, я хочу отписать мою землю Энтону Райдеру. А миссис Райдер — я хочу сказать, миссис Луэллин, прошу прощения — передаст документ стряпчему в Найроби. Гвенн зарделась. Пенфолд достал с полки перо и чернила. Сел на кровать. Положил расписку поверх жестянки. Его худые пальцы стиснули крошечные пальцы Оливио. Вдвоем они составили документ о передаче земли. После всех усилий Оливио чувствовал себя разбитым. Но в мозгу вершилась интенсивная работа. Мог ли он подумать, что существует такая дружба? Велли засунул голову под кровать и шумно выражал недовольство по поводу укатившегося волынщика. Пенфолд поставил под документом свою подпись. Гвенн смущенно обратилась к нему: — Адам, вы не дадите мне адрес, по которому я могла бы связаться с Энтоном? Мне понадобится его помощь в Найроби. Вряд ли в полиции меня станут слушать без свидетеля. — Лолгориен, почтамт, до востребования. Туда поступает почта для всех золотоискателей. А в чем дело? — Хочу, чтобы он дал свидетельские показания под присягой. Я намерена привлечь Майкла Рейли к ответу за изнасилование.* * *
— Нет, ты можешь себе представить? — возмущалась Сисси, заводя патефон. — Эта дамочка входит в здание Верховного суда в центре Найроби и заявляет, что ее изнасиловали! Каково? Изнасиловали, прошу покорно! — Почему бы тебе не прокатиться верхом, дорогая? — Во что они превратили страну! Что о нас подумают африканцы? И за каким чертом она пустилась в путешествие без мужа? Говорят, иногда она даже снимает обручальное кольцо! Вы когда-нибудь слышали об изнасилованной леди? — Я — нет, не слышал. — Кстати, сокровище, тебе пора выставить из нашего дома эту черную потаскушку и ее гнома. От них такая вонища — и эти струпья! Из-за его скулежа я не могу уснуть. Воет и воет, пока у тебя не лопнет терпение и ты не накачаешь его опиумом. И потом — Бог знает, что они вытворяют, когда остаются одни! Ах вот оно что! До Пенфолда наконец дошло. Сисси сроду не трогали шашни в стенах отеля. Джаз «Пикадилли» в очередной раз заиграл «Танец в "Савое"». Пенфолд отвернулся и, выдавив на стойку несколько капель ружейного масла, начал тереть тряпкой. В баре было чисто, но не так, как прежде — небо и земля. Почему у него не выходит как у Оливио Алаведо? Карлик лежал на медной кровати лорда Пенфолда. На душе было легко. Она словно парила в воздухе, отдельно от тела. Где-то неподалеку забивали гвозди. Он что, снова в Гоа, в квартале каменщиков и плотников? Или это колокола бьют тревогу в древней морской крепости и на него веет свежим ветром с океана на Малабарском берегу? Неужели он вернулся домой? Нет — неравномерный стук молотка говорит о том, что работает африканец. Оливио открыл правый глаз и, повернув голову к окну, увидел свет и копошащиеся фигуры. Боль вернулась. Да, точно! Для него строят новый коттедж! По словам его светлости, вспомнил Оливио, он скоро будет готов, роскошнее и удобнее, чем первый. С верандой, детской и отдельной ванной комнатой! Он закажет красную черепицу из Гоа. То-то все удивятся! — Кина, можно войти? — послышался голос лорда Пенфолда. — Оливио, тебе письмо из Лиссабона — судя по виду, от какой-то важной шишки. И еще одно — от твоего толстого приятеля да Сузы из Найроби. Не то что моя почта. Скоро у нас в Уилтшире не останется никакой собственности, кроме древнего колодца, и тот триста лет как высох. — Милорд, вы не могли бы прочитать мое письмо? — Конечно, старина. Вот только спущу на пол Веллингтона. Пусть Кина с ним поиграет. Очевидно, такая замена Веллингтона не устроила: он потопал к походной ванне и пустил плавать пустые ореховые скорлупки. Позднее, немного одурманенный опиумом, Оливио с удовольствием почувствовал возле своей ноги заветную жестянку. Все надежно заперто. Ключ под подушкой. Он задумался о своей счастливой судьбе и обо всем, что для него сделали его светлость и Гвенн. Нужно будет перевести дополнительную сумму на счет приюта для сирот смешанной расы в Гоа. Рядом на кровати сидела Кина. Она сунула карлику в рот соломинку. Он пососал ее. Свежий ананасный сок приятно холодил рот. К тому же в него добавили рома. Это напомнило Оливио любимый напиток его народа — фени, из сока гоанской пальмы. Доведется ли ему когда-нибудь вновь насладиться лучшим на земле напитком — кешу-фени? Перед его мысленным взором встали частные виллы богачей. По прохладным террасам прохаживались важные гоанские дамы. Солнечный свет с трудом пробивался к ним сквозь решетчатые стены, украшенные идеально отполированными ракушками. Ценные деревья кешу охранялись пуще наследника престола. Каждая состоятельная гоанская семья держала мальчишку-садовника из касты хинду, в чьи обязанности входило следить за восемью анакардами[19]. Маленькие красные плоды кешу росли прямо над орехами. Если из такого плода выжать сок, да процедить, да выдержать в течение восемнадцати лет в темном месте, получается сказочный напиток. Оливио проглотил слюнки. Наконец-то паршивый повар из «Белого носорога» научился хоть что-то делать прилично. Но можно ли ему доверять? Вдруг он задумал отравить Оливио? Может, пусть сначала Кина снимает со всего пробу? Карлик привык копить маленькие радости, чтобы компенсировать все, чего был лишен. Есть масса способов получить удовольствие! Он почувствовал прикосновение к своему телу чьей-то руки. Откинули одеяло. Темнокожая девушка начала массировать ему пальцы ног и ступни, используя глицерин в качестве болеутоляющего. Это ничуть не хуже содержащегося в чае танина. Полные груди щекотали его бедра. Да что же это такое? Они стали еще пышнее! Итак, размышлял Оливио, поглаживая забинтованной рукой свою жестянку, первый бой выигран. В письме секретарь кардинала доводил до его сведения, что сам председатель палаты по делам о наследстве признал его прямым наследником его преосвященства, покойного архиепископа Гоанского. На очереди дележ. В Африке дела шли не столь блестяще. Да Суза получил от своих осведомителей в земельном управлении неприятное известие. Ферма Луэллинов и их капиталовложения — в опасности. Под влиянием Хартшорна земельное управление намеревается передать всю ферму Фонсеке. Время от времени Кина делала паузу и лизала карлика языком. Она что — хочет, чтобы он обратил на нее внимание? Надо же — не забыла его уроки! Работа мастера! Кина медленно продвигалась вверх, воскрешая ту часть его плоти, на которой не было ожогов.* * *
— Пора проверить, честно ли эти отвратные буры выполняют свои обязанности, — проворчал Эрнст, кладя себе в кофе лишнюю ложку дикого меда. — Если бы ты работал как Вегкопы, мы бы уже сейчас были богаче кайзера. — Энтон бросил в деревянную тачку ведро и лопату и взялся за ручки. — Они делают все, что могут. Он покатил тачку туда, где в реку впадал ручей. Сегодня — их последний день работы на сухом участке частично запруженного русла. Завтра они сломают дамбу и дадут потоку вернуться в привычные берега, а сами возведут плотину в другом месте и начнут раскапывать дно. Деревянное тело Шотовера отказывалось сгибаться, и он продвигался вдоль ручья с самодельными граблями. Из деревянной перекладины торчали четыре гвоздя длиной в четыре дюйма. Он прочесывал слой ила и глины в поисках сопутствующего золоту кварца. За ним следовал рослый кавирондо с корзиной. — Беда в том, — произнес Шотовер, заслышав за спиной шаги Энтона, — что эта чертова жила никогда не располагается по прямой. Мечется по всему руслу, как коза. Да и само русло не отличается постоянством. Мы так ничего и не нашли. Но где-то же она есть. Не исключено, что полоса кварца в три фута шириной скрывается в одной из этих складок, между слоями гальки и глины. Шотовер то и дело останавливался и заставлял себя сесть на корточки, согнув колени и прямо держа спину. Он погружал ладони в дно и растирал пальцами илистую массу. Один или два раза он призывал кавирондо — тот бросал ком земли в корзину и относил к ближайшему желобу для промывки. Желоба высотой в десять футов были равномерно распределены по всему участку. Возле каждого трудился один из Вегкопов. Мутная вода уносила вниз более легкие частицы. Потом африканцы вываливали в лотки то, что осталось. Под немигающим оком африканеров еще трое темнокожих просеивали осадок. Триста лотков в день. Время от времени, хотя и не часто, мимо проходила Иезавель, собиравшая редкие золотые пылинки в коробочку из-под сигарет. В конце дня они рассаживались вокруг костра. Шотовер разогревал золотинки и сдувал черную железную пыль. Каждый вечер Вегкопы получали свою долю. Остальное Шотовер убирал в палатку. Пока что набралось только две жестянки. Время и деньги были на исходе. Энтон закатил тачку на вершину холма. Шестеро ватенди, оживленно переговариваясь, рыли туннель. Перед глазами Энтона встала золотая монета, явившаяся ему в пламени костра. Старший ватенди со скорбным лицом указал на заброшенную яму в шесть футов глубиной. Там жила пара песчаных змей — туземцы считали их своим талисманом. Энтон встал на колени и заглянул в яму. Дохлые змеи лежали на дне. Большая съела меньшую. Но почему она сама сдохла? Энтон расчехлил нож и спрыгнул в яму. В памяти мелькнуло воспоминание: питон душит Кариоки. Он зажал змею у основания головы и, сделав надрез, увидел частично переваренную жертву, чья вставшая дыбом чешуя и позвонки застряли в горле крупной рептилии. Неужели — сознательный акт мести? — В чем дело? — крикнул сверху Эрнст. — Ты проголодался? — Еда съела едока, — пробормотал Энтон. По-прежнему держа в руке обеих змей, он поднял глаза и остолбенел. Вдоль стены ямы вилась сверкающая лента кварца. — Нужно скорее позвать Шотовера! — вновь обретая дар речи, крикнул Энтон Эрнсту и провел по жиле рукой, счищая грязь. — Кажется, змеи и впрямь сделали нас богачами! Шотовер стоял на берегу, опираясь на грабли. Энтон крикнул с вершины: — Мы ее нашли! Золотую жилу! Старик устремился вверх по склону — навстречу своим партнерам. К нему как будто вернулась молодость. Однако он быстро выбился из сил и едва волочил ноги. Тело вновь одеревенело, грабли выпали из рук. Тогда Энтон сам устремился к нему. Шотовер дрожал, словно дерево в бурю. И вдруг обмяк и рухнул наземь, как мешок. Энтон опустился на колени, чтобы поддержать голову Шотовера. Руки старика безвольно повисли. Глаза выкатились из орбит. В горле булькало. Изо рта текла слюна. Энтон держал его до тех пор, пока он немного пришел в себя. Тогда он вытер лицо Шотовера своим дикло и помог пожилому старателю подняться. Иезавель с Эрнстом ждали в лагере. У Шотовера был сонный вид. Тело вновь обмякло. Уложив мужа, Иезавель вышла из палатки. — Кажется, мы нашли жилу, — сообщил Энтон. — В старой змеиной яме. Он поставил для женщины стул у костра и налил три чашки чаю. — Я так и знала, — без тени грусти молвила Иезавель, — что мой старый Шотовер не перенесет удачи. Из палатки послышался шорох. Смочив в чае платок, Иезавель поспешила туда. Приподняв голову мужа, приложила мокрый платок к его губам. К Шотоверу вернулся голос — поначалу в виде хрипения. Он прокашлялся. — Как я здесь очутился? Выведите меня на улицу. Я хочу видеть небо. Мужчины вынесли раскладушку с Шотовером на свежий воздух и поставили под инжиром. Сквозь листву проникали солнечные лучи. — Так лучше, — слабым голосом проговорил Шотовер и отключился. Утром старик потребовал, чтобы его отнесли к яме на раскладушке. — Хватай кирку, парень, и сигай в яму, — скомандовал он, возбужденный, как мальчишка. Стоя внизу, Энтон передавал Эрнсту и рабочим-ватенди отколотые куски кварца. Иезавель протерла очки мужа, и теперь Шотовер внимательно изучал каждый осколок. У него дрожали руки. — Мне нужно самому взглянуть. Опустите меня туда. Энтон бросил вопросительный взгляд на Иезавель. Та кивнула. Энтон положил на дно ямы свою кирку. Встав на колени на краю ямы, Эрнст, как ребенка, опустил Шотовера. Старый золотоискатель трепетал, как лист на ветру. Он вгляделся в жилу, зажмурился и поводил по отвесной стене ладонью. И вдруг открыл глаза и начал, как безумный, скрести ее ногтями. — Шотовер Грэхем! — испуганно крикнула Иезавель. Старик тяжело вздохнул и приблизил свои губы к уху Энтона. — Мы нашли ее, сынок! Наконец-то! Это она, наша жила! Не скажу, что длиной в тысячу футов, но все-таки это золото. Твои змеи — молодцы. Теперь нужно раздробить кварц. Голос Шотовера звучал все глуше. Вскоре он уснул. Наутро Шотовер составил план работы на день. Откинувшись на подушки, он медленно, но внятно давал указания. Еще через день Энтон помог ему сесть на складной стул у костра. Жена принялась массировать онемевшие конечности. Здоровой рукой Шотовер достал карту и начал объяснять. Эрнст слушал с непривычным уважением и время от времени кивал. Энтон тем временем брил старика своей бритвой. — Так не пойдет, — заявил немец днем позже, перебивая пространный инструктаж Шотовера. — Нельзя руководить операцией на расстоянии. Слишком много ошибок, напрасной работы. Вы должны быть на месте работ. Так что пусть наш дорогой англичанин покопает с бурами, а я сделаю вам кресло Селоуза. К вечеру кресло было готово. Эрнст прибил к складному стулу два длинных шеста — получилось что-то вроде носилок. На следующее утро два рабочих-ватенди поступили к пожилому старателю носильщиками. — Пускай старый черт отрабатывает свою долю, — буркнул Эрнст.* * *
— С днем рождения, юноша! — с улыбкой сказала Иезавель и, привстав на цыпочки, потерлась носом о нос Энтона. — Спасибо, мэм. Он с нетерпением ждал утреннего чаепития. Этот день рождения обещал пройти гораздо интереснее, чем бывало в Англии. К тому же, сегодня один золотоискатель должен был вернуться из Лолгориена с почтой. Энтон надеялся получить весточку от Гвенн. — А мне потереть нос? — пожаловался Эрнст. — Тереться носами — обычай моего народа, — сказала маори. — У Энтона нос солиднее, да еще с шишкой. И потом, у него день рождения. — Работать, парни, — окликнул со своего кресла Шотовер. — Золото не ждет.* * *
«Дорогой Энтон». Лежа на своей койке, он теребил пальцами золотую серьгу Ленареса и читал письмо Гвенн при свете масляной лампы. «Велли и Дэвид Копперфилд по тебе соскучились». А сама Гвенн — разве она не тоскует по нему? Так надо понимать? «У меня для тебя плохие новости. Брат Рейли и Фонсека убили Кариоки — будто бы в порядке самообороны. На самом деле он пытался защитить меня». Ошеломленный, Энтон сел и отложил письмо. Кариоки, его лучший друг! Умер! Покинул его, как Ленарес, и виноват в этом он, Энтон. Он сам должен был остаться и позаботиться о Гвенн. Энтон отер слезы. Беда снова пришла от братьев Рейли! Что же делать? Бросить прииск — сейчас, когда они нашли жилу и у него появился шанс разбогатеть? «Я собираюсь подать на Рейли в суд за изнасилование и нуждаюсь в твоей помощи. К женщинам, выдвигающим подобные обвинения, плохо относятся, особенно здесь, к тому же Рейли отрицает, что это было насилие». Значит, она все-таки решила поквитаться с этой свиньей Рейли? Давно пора. Однако Рейли и его шайка — гангстеры, а дело об изнасиловании может вылиться в грандиозный скандал и повредить репутации самой Гвенн. Обычно женщины держат это в тайне. Энтон ощутил гордость за Гвенн. Но как это отразится на Велли? Что он станет думать о своем отце? Энтон вспомнил свое детство, вечное одиночество, утрату друзей, жажду путешествий. Кто был его отец? Почему мама никогда не рассказывала о нем? Может, сама не знала? Тяжело придется Веллингтону, когда он вырастет. Но, может быть, здесь на это смотрят проще? А Гвенн — не из тех, кто бросает своих детей. Может, попозже он сам будет заботиться о Велли, как о нем — Ленарес. «С твоим другом Оливио произошел несчастный случай — если это можно так назвать. Сам Оливио считает, что Фонсека покушался на его жизнь, устроив поджог коттеджа. Оливио говорит, если бы ты приехал и помог мне в деле Рейли, у него есть для тебя подарок». — С днем рождения, Энтон! — заорали у костра. Он отложил письмо Гвенн и поспешил туда. Все уже собрались: Эрнст, африканеры, Грэхем, рабочие кавирондо и его собственная бригада ватенди. И золотодобытчики с других участков — несколько десятков человек. Одни принесли с собой рыбу, насаженную на рукотворные вертела, другие — выпотрошенных цыплят, оставалось только поджарить. Ватенди предложили к столу песчаную змею, нарезанную ломтиками, как хлеб. Запах жаркого смешался с запахами жареных бананов и испеченного Иезавелью пирога с изюмом. «Пятнистый Дик» — так она его называла. Энтон изобразил улыбку, отвечая на мокрый поцелуй Эрнста и его подарок — последнюю бутылку пива. И вдруг часто-часто заморгал и обвел собравшихся растроганным взглядом. Опять он, как Дэвид, должен распроститься с друзьями. Ему будет недоставать Эрнста, Иезавели и Шотовера. И ужасно жалко бросать золото. Позднее, когда угли догорели и лагерь погрузился в сон, Энтон лежал на спине в своей палатке и вспоминал прошлый день рождения, проведенный с Кариоки на Рифте. Друг любил охотиться в окутанных туманом Абердарах. «Знаешь, Тлага, — сказал он однажды, — когда я умру, мой дух будет возвращаться сюда на охоту». Мысли Энтона перекинулись на Гвенн. Он должен позаботиться о ней. Как светло она улыбалась ветру, когда шлюпка мчала ее в гавань Килиндини! А разве можно забыть, как его рука забралась ей под блузку на ступенчатом каменном холме — сначала на спину, а потом перебралась на грудь?.. Энтону не спалось. Время от времени он выглядывал наружу, чтобы полюбоваться бескрайним звездным простором. В темноте раздались чьи-то шаги. Он напрягся. Человеческая фигура заслонила звезды. Иезавель опустилась на колени у его изголовья и потерлась носом о его нос. — Мистер Грэхем просил передать тебе подарок ко дню рождения.Глава 35
Энтон спешился. После долгого пребывания в седле ноги не очень-то слушались. Абиссинский скакун бил копытом по воде и выдувал из ноздрей воздух, пуская пузыри. Он терпеть не мог мутную, засоренную частицами ила проточную воду и теперь с удовольствием пил из незамутненного озерца с песчаным дном. — Пей, Рафики, это все твое. Энтон побрызгал водой на лицо и шею. Потом взобрался на невысокую скалу и повернулся на восток. От подножия горы Кения с зеленеющими внизу склонами расстилался буш, переходящий в саванну с чахлой растительностью, а дальше — в равнину, уходящую далеко на север. Энтон достал из седельной сумки карту. Как он ни торопился — на своих двоих и на любом попутном транспорте, — путешествие от золотых приисков до отеля «Белый носорог» заняло две недели. Скоро он увидит Гвенн. Только сначала нужно отыскать его собственный участок — десять акров плодородной земли, выкупленной у Оливио за жестянку золотой пыли. Его земля! С дичью для охоты, водой и всей Африкой впридачу! Напившись, Рафики поднял голову. Энтон вскочил в седло. Рафики встряхнул гривой и поскреб копытом песок на берегу, давая понять, что он мечтает упасть на передние колени и поваляться на теплом песке. Однако Энтон погнал вверх по склону, в заросли акации, над которыми выделывали пируэты грифы. Ветер дул в лицо. Вдруг Рафики нервно загарцевал на месте: повеяло падалью. Энтон пришпорил своего скакуна и достал винтовку из открытой американской седельной кобуры, предназначенной не столько для защиты оружия от внешних воздействий, сколько для того, чтобы им можно было быстро воспользоваться. — Думаете, она мне пригодится, мистер Слайдер? — засомневался Энтон. — Пригодится, сынок? Знаешь, что ответил ковбой с Дикого Запада, когда его девушка спросила, почему он все время таскает с собой в Амарилло револьвер? «Можно прожить на Ручке[20] год-другой — и ни разу им не воспользоваться. Зато уж если он тебе понадобится, так понадобится!» В пыли лежали две разлагающиеся туши молодых слоних. Рядом валялись сломанные сучья и ветви акации с необъеденными стручками. Сморщенная серая шкура была сплошь в пятнах помета грифов и марабу. Вздувшиеся животы были распороты — здесь явно не обошлось без льва и гиены. А потом им на смену пришли грифы. Их головы с длинными шеями и сейчас копались во внутренностях. Нетронутыми остались только хоботы. Грифы подняли головы; из крючковатых клювов свисали куски слоновьего мяса. Но эти хищные птицы слишком отяжелели, чтобы взлететь при приближении человека. Они только сбились в шумный полукруг и злобно шипели. Более трусливые марабу закаркали и улетели. Энтон не мог не восхититься красотой их полета, когда эти важные и чрезвычайно полезные птицы — лучшая защита от саранчи — подобрали длинные ноги и втянули шеи в розовые мешки. Спрыгнув с винтовкой на землю, Энтон привязал возбужденного жеребца к выступающему высоко над землей корню. Прислонив свой «меркель» к ноге слона, взобрался на тушу, чтобы присмотреться к пяти маленьким дырочкам — явно от пуль. Две угодили в голову, одна в область легкого и еще две в лопатку — прямо напротив сердца. Энтон достал нож и разрезал толстую кожу. Вскоре он уже держал пулю, прострелившую легкое. Энтон дотошно обследовал пулю и убрал в карман. Вытер руки сухой травой и несколько раз обошел место происшествия. В семи ярдах от убитых слонов он обнаружил следы автомобильных шин и три стреляные гильзы. Отпечатков ног не было. Он поехал по следам шин на север — это примерно совпало с его собственным маршрутом. Следы привели к месту прокладки новой железной дороги. Энтон снова спешился и обследовал лежавшие на земле деревянные шпалы. Этот конечный участок узкоколейки явно предназначался для связи с фермами на самом краю африканских владений Британской империи. Он провел по шпале ладонью и понюхал. Рука стала липкой; от нее исходил резкий, противный запах. Креозот. Оливио был прав: Фонсека с ирландцами уже развернули на принадлежащей ему земле производство креозота. Сердце кольнуло воспоминание о Кариоки. Мерно покачиваясь в седле, он поехал дальше, погруженный в тяжелые размышления. Слоны. Гвенн. Ленарес. Увидеть бы его еще разок — у костра, со сверкающими угольно-черными глазами. Потолковать о том, о сем. Послушать сказку. Вместе прислушаться к ночным голосам Африки. Он бы объяснил Ленаресу, какой голос кому принадлежит. И что значит день в буше. Энтон ехал между рельсами и колеей, проделанной автомобильными шинами. Наконец его внимание привлек штабель из телеграфных столбов, пропитанных чем-то темным и липким. Два часа спустя он миновал заросли акации и въехал на гребень холма, где высился указательный столб с едва заметной надписью «Амброз». Энтон перевел дыхание и огляделся. Вот она, его собственная часть Африки! Он спрыгнул с лошади и растер в пальцах красный песок. Снизу, от подножия холма, валил густой дым. Энтон хлестнул Рафики по загривку. — Ты где это раскатываешь? — грозно прорычал Рейли, пытаясь схватить Рафики под уздцы. Позади ирландца на козлах были установлены два длинных — примерно с железнодорожный вагон — стальных цилиндра. У того, что пониже, подле открытой металлической двери суетилось человек пять африканцев с закрывающими нижнюю часть лица повязками. Вонь стояла невозможная. Очевидно, это и был креозотовый завод. — Рейли, ты нарушаешь закон об охоте. Стреляешь слонов, молодых самок, без лицензии, из автомобиля. — Только не я. Должно быть, кочегар. Обожает поохотиться — ночью, с фонариком. А теперь выметайся. Рейли подал знак группе ирландцев, работавших возле второго, более массивного цилиндра, установленного на высоких козлах — он висел на них наподобие жирного паука, подстерегающего жертву. Из цилиндра горячий креозот закачивался в резервуар поменьше, создавая необходимое для пропитки дерева давление. В верхней части каждого цилиндра Энтон заметил измерительные приборы за особо прочными стеклами: один для измерения давления, а другой — температуры, поддерживаемой на уровне 160 градусов. Мужчины приблизились и обступили его полукругом. Энтон выделил грузную фигуру с замасленным гаечным ключом в руках. Пэдди. И револьвер тоже на месте. Он вспомнил о Кариоки и почувствовал, как в нем закипает бешенство. Терпение. Только терпение! — Где я могу найти Фонсеку? — спросил он, не обращая внимания на окруживших его мужчин. — В дороге. Он переезжает в новую резиденцию — бывшее жилье Луэллинов. Не вздумай его беспокоить. — Рейли почесал больной глаз под повязкой. — Похоже, он решил приударить за моей бывшей подружкой. — При следующей встрече, Рейли, мы немного поработаем над твоими манерами. Это будет нелегко. А пока лучше бы тебе и твоей команде собрать вещички. Вы здесь не задержитесь. Пэдди ударил Рафики по голове гаечным ключом. Лошадь взбрыкнула. Энтон ее успокоил. Ирландцы гоготали у него за спиной. Отъехав ярдов на сто пятьдесят, он остановился. Бандиты все еще смотрели вслед. Молниеносным движением он выхватил из кобуры свой «меркель» и всадил пару пуль в измерительные приборы на резервуарах с креозотом. — Это послужит им предупреждением, — произнес он вслух и двинулся дальше. У реки Энтон проверил, нет ли крокодилов, и погнал Рафики вброд. До фермы «Керн» было еще далеко. На другом берегу он пустил лошадь в легкий галоп. Лицо обвевал приятный встречный ветерок. Запахи буша успокаивали. Мимо пронеслись пять жирафов; при виде всадника их любопытство быстро сменилось страхом. Энтон приподнял шляпу, гикнул и пришпорил лошадь. Вскоре они обогнали жирафов. Энтона опьянили стук копыт, ароматы цветов и трав и даже поднимаемая ими пыль. Он миновал деревню самбуру и вскоре добрался до фермы «Керн». Глаза невольно выискивали признаки перемен. В памяти всплывали чертежи, карты и воспоминания онесделанной работе. Коварство сменившей русло реки стоило Гвенн коттеджа, но земля все еще принадлежала ей. Через прореху в изгороди Энтон въехал на пастбище. Слез с лошади и поправил изгородь. Проезжая мимо пшеничного поля, он заметил горы камней и мусора. Нужно будет приложить руки. Лен действительно имел бледный вид. А на краю поля, у реки, стояло тамариндовое дерево. Энтон пересек овечий выгон. Возле двух палаток и брезентового навеса трудились человек пять: укладывали камни, возводили стены нового дома. В стороне беззаботно играл малыш. Вот когда Энтон понял, что значит вернуться домой! Все еще сидя на лошади, он привстал в стременах и помахал шляпой. Возле строящегося дома стояла женщина. Она вдруг выронила камень, Отерла лицо. Откинула назад волосы. И, подобрав юбку, ринулась навстречу. Когда Гвенн подбежала, задохнувшаяся и счастливая, Энтон нагнулся и одной рукой подхватил ее в воздух.* * *
Кина стояла на коленях меж колючими кустами и обеими руками рвала сморщенные белые цветы. Наконец она наполнила с верхом одну корзину. На ложе из чабреца и шалфея покоились бледно-лиловые лилии и желтые гибискусы. Сложив ладони ковшиком, она зачерпнула побольше цветов и поднесла к лицу. Сидя на своей кожаной юбочке, держа полную корзину на коленях, Кина положила на левую ладонь несколько длинных срезанных листьев. Выщипала из нескольких цветков семена и обернула листьями. Все это она скатала в маленький шарик и растерла между ладонями, высвобождая скрытые ароматы. Понюхала. Улыбнулась и положила в пустую корзину. Извлекла из сердцевины лилий горькие желтые тычинки и скатала новые шарики. Наконец дно второй корзины покрылось неровными зелеными шариками. Кина понюхала ладони и растерла оставшиеся в первой корзине цветы и листья. К лицу прилипли лепестки; некоторые упали на грудь. Кина опустила глаза. Почему ее маленький повелитель в таком восторге от ее грудей? Другие девушки считали их слишком большими. Мало ей одного изъяна — немоты! После седьмого ребенка ее груди обвиснут ниже пояса и станут волочиться по земле во время работы в поле. Кина потрогала одну грудь и лишний раз убедилась: она стала тяжелее и тверже. Скоро она будет кормить своего первенца. Девушки вечно смотрели на нее сверху вниз: ведь она не посещала вместе с ними молодых парней-кикуйю в буше. Девушки возвращались оттуда разбитыми, счастливыми и с ворохом смешных историй, а потом начинали готовиться к ритуалу обрезания. Зато теперь она наслаждается всеми радостями жизни. Кина рассеянно поласкала себя и задумалась об удивительной жизни, которую ей предстоит разделить с могущественным мужчиной, который ее любит. Она потрогала шрамы на лице. Чем бы еще его порадовать? Когда-нибудь она добьется того, что он и ее отец станут друзьями. Кина встала и начала карабкаться на холм. За ее спиной, как могущественная покровительница, высилась гора Кения. Кина искала то, что ей нужно. Наконец она нашла его — местное дерево, которое африканцы называют мукураве. В пору зрелости его плоская темно-зеленая крона сплошь бывает усыпана роскошными белыми и розовыми цветами. Старухи высоко ценят его целебные свойства. Настой коры служит жаропонижающим. Толченые стручки помогают при расстройстве желудка. Но это деревце — еще совсем молодое, с тонкими густыми ветвями. Как раз подходит для ее целей. Кина поставила обе корзины на землю и проверила несколько веток: согнула и подергала. Наконец она выбрала один молодой сучок и отрезала у основания. Отсекла мелкие, отходящие от него веточки и обстругала — получила прутик; она взмахнула им и порадовалась пронзительному свисту. Оливио будет доволен. Кина подняла свои корзины и пошла дальше. А вот и ее любимое дерево — муго — с двумя стволами, светло-коричневой корой, отмеченной красными вертикальными трещинками, и пышными желтыми соцветиями. Она неуклюже — из-за увеличившегося живота — залезла на дерево и уселась на развилку между стволом и толстым, прочным суком, свесив ноги, как в детстве. Кругом болтались плоды в виде розеток. Кина надломила одну спиралевидную капсулу. Внутри коричневой оболочки было множество семян, каждое — с двумя крохотными прозрачными крылышками, чтобы их разносил ветер. Кина высыпала их на ладонь. Старательно надула щеки и что было сил дунула. Кина просила Нгаи о сыне. Семена улетели.* * *
— Пора нанести визит твоему другу-ростовщику, — сказал Энтону Тони Бевис и, отдав Мальве пустую тарелку, отошел от костра. Энтон ущипнул Велли за нос и отдал хихикающего малыша матери. Бевис с Энтоном переплыли реку и вышли на берег. — Прочь с моей земли! — заорал Васко Фонсека с крыльца бывшего коттеджа Луэллинов. Не обращая на него внимания, непрошеные гости проследовали к стоявшему неподалеку «виллису» и вытащили из кузова две скрученные шкуры зебры. — Вы нарушили границы частного владения! — бушевал Фонсека. — Отойдите от моей машины! Согласно решению земельного управления это моя собственность! — Мистер Фонсека, познакомьтесь с мистером Бевисом. Он — местный представитель охотничьей инспекции. — Энтон развернул одну шкуру — оттуда выкатились два небольших слоновьих бивня. — Я знал, что вы плутуете в карты, но и представить не мог, что вы охотитесь на слонов на автомобиле. — Мистер Фонсека, покажите вашу винтовку, — потребовал Бевис, катая на ладони уцелевшей руки стреляную гильзу. — Вашу «джеффри-404». Фонсека презрительно покосился на пустой рукав Бевиса и сжал кулак. — Ваша богадельня у меня вот где! Я выкупил закладную. Вы просрочили взносы за несколько месяцев. Так что или вы не будете совать нос не в свои дела, или я вышвырну ваших калек к чертовой матери! — Мистер Фонсека, пятого числа в Наньюки состоится заседание Департамента по охоте. Там и поговорим. Не забудьте прихватить с собой винтовку. А пока что я конфискую эти бивни и патроны. — Прочь с моей земли! Прежде чем уйти Энтон как бы между прочим произнес: — Кстати, мистер Фонсека, вы построили креозотовый завод на моей части бывшей фермы Амброза. Будьте добры до конца недели освободить его.Глава 36
Анунциата, надевшая, по случаю свадьбы Оливио, обтягивающее шелковое платье, спросила: — Неужели, Синеглазик, я и вправду тебя потеряла? Прекрасная фермерша похитила твое сердце? Энтон замялся. Анунциата прижала к его губам два пальца. В карих глазах притаилась печаль. — Будь осторожен, мой прекрасный англичанин. Свадьбы — вещь заразная. Что бы женщины ни говорили, а каждая мечтает именно об этом. На веранде «Белого носорога» показалась Гвенн — в тот самый момент, когда Анунциата, встав на цыпочки, поцеловала Энтона. Одной рукой она забралась к нему в карман брюк и прошептала. — Оставайся таким, как сейчас. Когда она отошла, Энтон прочел записку:«Берегись Васко. Мой брат очень опасен».
* * *
Измученный очередной перевязкой, с пульсирующей в висках кровью и забинтованными щеками и лбом, Оливио в последний раз сел на складной походный стул в спальне лорда Пенфолда. Сегодня он и его молодая жена проведут ночь в своем новом доме. Снаружи будет стоять охранник с копьем. На карлика напялили бежевые брюки и застегнули ремень. Рубашка осталась незастегнутой; из прорехи виднелась безволосая обожженная грудь. Оливио поднял руки, чтобы застегнуть верхнюю пуговицу, и чуть не застонал от пронзившей все тело адской боли. Пальцы не слушались. Некоторые из них — без ногтей, гладкие, словно в резиновых перчатках, еще сохранили чувствительность, однако нервные окончания остались без защиты, и от этого боль была просто невыносимой. Наконец ему удалось зажать пуговицу между большим и указательным пальцами правой руки. Он сосредоточился и попытался захватить воротничок левой рукой, но она никак не хотела помогать правой. Парализованные нервные окончания утратили способность передавать информацию, и Оливио не понимал, добрался он уже до петли или нет, Зато другие заставляли его судорожно хвататься за материю. Вместо того чтобы служить ему, эти некогда чуткие антенны стали его хозяевами. Оливио повторил попытку. Ничего не вышло. Карлик заплакал. Сердце разрывалось от любви и ненависти. — Можно войти, старина? — послышался голос Пенфолда. — Прошу вас, милорд. — Оливио отер слезы. От напряжения он весь вспотел, но чувствовал это только одной частью тела. В одной руке Адам Пенфолд держал пару бокалов, в другой бутылку шампанского, а в зубах — белую уилтширскую розу. Кремовый полотняный костюм Пенфолда был идеально отглажен, но мешковат и удобен, как старый друг. Галстук в черную и бледно-голубую полоску свободно болтался поверх застегнутого пиджака. Пенфолд поставил напитки и розу на стол. — Оливио, если ты не уверен, сейчас самое время сбежать. Твой последний шанс. Рафики под седлом. Оливио выдавил из себя улыбку, чтобы не выдать свою унизительную беспомощность. — Давай-ка, я тебя соберу. — Пенфолд, кряхтя, опустился на колено и расшнуровал крохотные белые туфли карлика. Вытащил шнурки, помял, чтобы стали податливее, и снова вдел и завязал. Потом он застегнул на Оливио рубашку и повязал красно-зеленый галстук Гоанского института в Найроби. Конец галстука он заткнул за пояс. И передал Оливио бокал. — Желаю тебе здоровья. И счастья. Они выпили. Между бунгало Пенфолдов и новым коттеджем бармена поставили просторную бело-розовую палатку. За две недели до этого Адам Пенфолд, в качестве посаженного отца, нанес визит вождю Китенджи и официально попросил у него руки Кины для Оливио Алаведо. Пенфолд принес два кубка из рогов буйвола и тыквенную бутыль «ньохи». Кина стояла за спиной отца. Пенфолд наполнил оба кубка и предложил один вождю. — Дочка, — сказал тот, поворачиваясь к ней; в глазах светилась грусть утраты, — должен ли я это выпить? Кина дважды кивнула, не поднимая глаз. Ее отец с англичанином выпили. Потом эти старые друзья договорились о выкупе за невесту: девять телочек, двухлетний бычок, полдюжины шерстяных одеял, завернутые в банановые листья родезийский табак и нюхательная смесь и двадцать бутылок «ньохи». И вот теперь Пенфолд стоял в глубине палатки, рядом со священником, держа в руке кольцо, чтобы выполнить свою обязанность шафера. В другом конце он увидел Анунциату, любезничающую с Рэком Слайдером. Ради такого случая американец даже снял шляпу. Здесь же, заложив руки за спину, стоял Раджи да Суза в чалме. Всякий раз, встречаясь взглядом с лордом Пенфолдом, тучный ростовщик сиял и кланялся. Пенфолд знал: Сисси не придет. Она уехала на весь день кататься с новым постояльцем, в сопровождении только что доставленной своры волкодавов. Предстоящую брачную церемонию она назвала «смехотворной и неприличной». Зато собаки, кажется, приживутся в Африке. Замечательный гибрид: помесь датского дога с шотландской борзой. Плюс толика крови русской борзой. Гвенн ждала у входа с букетом для новобрачной. По мнению Пенфолда, медовый загар и великолепная осанка сделали ее еще неотразимее. Из-под соломенной шляпы с широкими полями виднелись светлые кудряшки. Зеленые глаза светились радостью. Веллингтон таскал за собой игрушечную оловянную пушку и безбожно путался под ногами у матери и африканцев. Официанты облачились в парадную униформу: белые кители, сандалии и кушаки и фески лимонного цвета. Некоторые были босиком, зато в плащах. Из бара сюда перетащили пианино; Джилл Бевис заняла свое место на вращающемся табурете. Рядом стоял доктор Фицгиббонс с неразлучным Кайзером: клетку водрузили на крышку пианино. Любимый мангуст Веллингтона по кличке Нэппи крался вдоль стен, вынюхивая ящерицу. Не зря же Велли прозвали Змееедом — в честь французского тирана. В Африке все выглядит абсолютно естественным, подумал лорд Пенфолд, чего нельзя сказать о любой другой точке земного шара. Не потому ли он так ни разу и не съездил домой? Здесь даже католическая церковь терпимее — хотя обращение Кины, крещение и конфирмация обошлись ему в несколько гиней. Старый священник объяснил это тем, что на протяжении четырех веков, с самого завоевания Гоа, португальцы испытывали острую нехватку европейских женщин; приходилось мириться со смешанными браками. Вдруг все стихло. Вошел Энтон с походным стулом в руках. Черные сапоги блестели. На деревянном сиденье восседал Оливио с белой розой в петлице. Энтон поставил стул между священником и лордом Пенфолдом. Оливио немного подался вперед. Его левый глаз был безжизненно тусклым, зато правый сверкал из-под бинтов, словно лампочка на каске шахтера. У входа послышался шум. Одетый в плащ из обезьяньей шкуры, появился вождь Китенджи, ведя за руку дочь. Он остался стоять у порога — с бесстрастным лицом, сжимая в руке неизменный посох. Одна щека невесты была обезображена шрамами, но все равно она выглядела на удивление женственно в белом платье из хлопка. Казалось, она робеет. Гвенн дружески подтолкнула ее вперед. Джилл Бевис ударила по клавишам. Грянуло что-то вроде «Наш Бог — нерушимая крепость». На пальце Джилл красовалось новое обручальное кольцо. — Извините, падре, — прошептал Пенфолд священнику, — она не знает ничего другого. Пенфолд подал знак. К нему прошествовали две женщины и вождь Китенджи. Он же не мог надивиться на Гвенн. Нет, вы только посмотрите! Будь он хоть чуточку моложе, провалиться ему на этом месте, если бы он не надел кольцо на ее палец! О чем только думает юный Райдер? Чего дожидается? Девушка — первый сорт: искушенная, но не испорченная. Она страдала, но осталась чистой и непобежденной. А что за красотка! Пенфолд протянул руку Оливио; тот ухватился за нее обеими ручками в белых перчатках. Дрожа от перенапряжения, маленький человечек встал. И зашатался в новых ботинках. — Во имя Отца, Сына и Святаго духа… — зачастил священник. Он не собирался затягивать церемонию. Произнеся скороговоркой нужные латинские слова, повернулся к Кине. Она в знак согласия опустила глаза. Оливио прошептал: «Да», — а лорд Пенфолд от его имени надел обручальное кольцо на темный палец невесты. Все было кончено. Пианино выдало «Иерусалим» — не без скрипа, однако весьма торжественно. Потом все выпили по бокалу «пиммс». Восседая на своем троне и не выпуская ладошку Кины, Оливио дружелюбно кивал или тихонько что-то говорил каждому гостю по очереди. Забыв о боли, он упивался знаками уважения. Раджи да Суза произнес тост. С Пенфолдом в качестве запевалы все хором спели «Потому что он отличный парень». После этого Энтон взял Оливио в охапку и отнес в новый коттедж. Наконец-то избавившись от одежды (если не считать бинтов на голове и пары мягких перчаток), Оливио сидел на кровати и с разинутым ртом рассматривал свое новое жилье. Изголовье кровати было сделано из резного сандалового дерева. А в изножие вместо зеркала вставили картину — роскошный дар Гоанского института в Найроби. Центральное место на ней занимал величественный Дворец инквизиции в Гоа. Стены из известняка, тщательно отшлифованного под мрамор, блестели. Дворец освятили в 1560 году, когда Гоа был одним из крупнейших городов мира — больше Лондона, больше самого Лиссабона! Прищурив правый глаз, карлик с упоением вглядывался в каждую деталь. И возликовал, когда понял: картина посвящена первому дню аутодафе — исполнению приговора! Твердо решив разделаться с врагами, церковь превратила церемонию казни еретиков в ни с чем не сравнимое действо. Закованные в кандалы индусы и магометане пали на колени перед членами верховного трибунала. Позади них церковники в капюшонах руководили художественным оформлением помоста и старались сделать костер как можно живописнее. Вдохновляющий пример! Неужели Оливио Фонсека Алаведо станет подходить к своим врагам с менее высокими мерками, чем церковь его предков? Карлик вновь, как делал всякий раз, творя утреннюю или вечернюю молитву, напомнил себе о своем долге Васко Фонсеке и его ирландским приспешникам. Эти люди не понимают ничего, кроме алчности и насилия. А как насчет мести? В этом они — сущие младенцы. Дикари. В каком-то смысле, причинив ему адские муки, они сделали Оливио одолжение. Все. Теперь у него развязаны руки. Он ни перед чем не остановится. Кто именно облил его крышу керосином, кто поднес зажженную спичку — это уже детали. Оливио не мог оторвать от картины глаз. Разве святые отцы не разводили костры еще до вынесения приговора? Неужели он уступит им в мщении? Даже если забыть о поджоге, его враги совершили вопиющие преступления. Присвоили его собственность в Португалии и Африке. Издевались в баре. А оскорбительная надменность Фонсеки! Шрамы на лице его невесты!.. Кина! Куда делась его жена? Оливио услышал голоса в прихожей — Гвенн прощалась с новобрачной — и успокоился. Ну, как там Кина, готова ли она? Все стихло — за исключением почти неуловимого шороха. Похожими на обрубки пальцами ноги Оливио нащупал маленький комочек из тех, которые Кина разбросала по постели, и поиграл с ним, хихикая, когда становилось щекотно. Чтобы как следует выполнить супружеский долг, Оливио запасся морфием. Во рту пересохло. Губы, язык, даже небо и гортань молили о влаге. На ночной тумбочке стояла бутылка — свадебный подарок Раджи да Сузы. Карлик взял ее обеими руками. Это наверняка не какая-нибудь дрянь, выросшая и забродившая в Кении, а медовый эликсир Гоа. В соседней комнате послышался приятный свист — Кина пробовала хлыст. Потом раздался щелчок — она стегнула свою драгоценную плоть — и восторженный визг. Его чернокожий ангел готовит ему новое удовольствие! Оливио положил бутылку на живот и попробовал передними зубами выдернуть пробку. Ничего не вышло. Он в изнеможении откинулся на гору подушек, усыпанных желтыми цветами. Поморщился от боли и попробовал коренными зубами. Внезапно бутылка открылась, и на живот Оливио выплеснулась густая жидкость. Амброзия. Не просто пальмовая настойка, нет — драгоценнейший из всех нектаров мира, напиток богов — фени-кешу! От счастья Оливио чуть не потерял сознания. Однако пробка застряла у него в зубах. Более того — она проникла слишком глубоко, чтобы взять и выплюнуть. Оливио начал задыхаться. Он сунул в рот руку, но лишь закашлялся и причинил адскую боль своим обгорелым пальцам. Дверь отворилась. Голая, с огромными торчащими грудями над выпуклым животом, с отвердевшими, черными как смоль сосками, Кина юркнула в постель с новым хлыстом в руке. Она впилась в рот мужа поцелуем и высосала пробку, оставив у него на языке терпкий вкус чего-то приторно-сладкого. Шоколад! Господи, подумал Оливио, неужели до этой девчонки никогда не дойдет? Ее еще воспитывать и воспитывать! Противный запах шоколада смешался с неземным ароматом настойки из плодов кешу. А потом всеми чувствами Оливио завладела его жена.Глава 37
Втягивая в ноздри крепкий сигарный дым, Оливио решил: «Либо "Сенатор", либо "Антильский крем"». Облачко дыма вползло в полутемный бар раньше самого курильщика. По крайней мере, карлик не утратил свой нюх, которым очень гордился. Васко Фонсека швырнул на стол панаму и навис над столом, поставив одну ногу в ботинке на высоком каблуке на стул. Потом вынул изо рта изжеванную сигару и тяжело уставился на Оливио. Как раз в этот день карлику разрешили снять бинты; его жуткий череп напоминал череп фантастического животного. Он, как яйцо или эмбрион, был начисто лишен пигмента. Вместо волос голову карлика украшали многочисленные рубцы. Боль и жара сделали свое дело. Лицо Оливио утратило всякое человеческое выражение, сохранив чисто физиологические функции. Левое ухо представляло собой дыру, по форме напоминающую ручку кувшина. Тонкая, туго натянутая на крючковатом носу кожа угрожала вот-вот лопнуть. Бровей не было. Осталось лишь несколько волосков на макушке, да кое-где чудом уцелели реснички. — Приветствую вас, кузен, — поздоровался Оливио, наполняя два бокала красным портвейном «Фонсека-27». — Ты мне не кузен! — Фонсека топнул ногой и придавил свою панаму любимым портвейном лорда Пенфолда. — Мать-церковь придерживается другого мнения. — За такой куш кардинал не побрезговал бы крестить обезьян. Посмотри на себя, урод! — Каждый гектар земли, каждая повозка, свинья, оливковое дерево, конюшня, ложка, фамильный портрет и бутылка вина — в Эсториле, Опорто, Мозамбике, Макао и Амазонии — наполовину мои. — Да я скорее лягу с собаками, чем разделю с тобой хоть одно поместье! — Если вы не захотите договориться, кузен, мои дети будут танцевать на балах во дворце нашей тетушки. Маленькие такие, черненькие, в пышных одеждах — они будут само совершенство! Весь Лиссабон будет добиваться их расположения. — Что тебе нужно? — Я отдаю вам мою половину португальских поместий в обмен на всю недвижимость здесь, в Африке. И еще: вы оставляете в покое моих друзей. Вот документ. Вам остается только подписать. Фонсека вскочил и шагнул к стойке, буравя карлика глубоко посаженными глазами. Куполообразный лоб покрылся испариной. Он залпом осушил бокал и, выхватив «документ», швырнул вместе с остатками портвейна в лицо Оливио. Потом он взял свою шляпу и ушел. На прилавке остались осколки. По лицу Оливио текли густые, как кровь, капли красного вина.* * *
— Плохие новости для Гвенн, — сокрушенно произнес Энтон, возвращая лорду Пенфолду постановление земельного управления. — Пожалуй, съезжу к ней, может, чем-нибудь помогу. Заодно удостоверюсь, что Фонсека прикрыл креозотовый завод. — Сначала у нее отобрали дом, — проговорил Пенфолд, беря у Оливио свой утренний стакан с виски. При этом он подумал: когда парня ждет такая девушка, надеюсь, у него хватит ума думать не только о креозоте? — Теперь — весь участок. Я сделал все, что мог, но Хартшорн был прав. Земельное управление проводит политику объединения земли и построек в одних руках, так что все получает Фонсека. Ей предлагают новый участок за озером Баринго, где, кроме слонов, ее никто не увидит. — Вот что я думаю, милорд, — задумчиво произнес Оливио. — Пожалуй, мне тоже не помешает прогуляться на ферму «Керн». Мне нужно многое обсудить с миссис Гвенн и своими глазами посмотреть, что там творится. — Лучше бы тебе остаться: дорога трудная. Пенфолд старался не замечать изуродованное лицо карлика. Оливио налил стакан для Рэка Слайдера. — Четыреста лет назад, милорд, страдая от жесточайшей лихорадки, Васко да Гама отплыл из Момбасы, чтобы найти морской путь в Индию. Двадцать два дня он шел через весь Индийский океан на судне, длиной в три раза превышающем эту комнату. Рядом с ним на лавке ночевала смерть. — Оливио капнул на пальцы в перчатке из кожи импалы немного ружейного масла и начал не глядя, расширяющимися кругами, натирать стойку. — На двадцать третий день Васко да Гама привел свой корабль в Индию. — Знаешь что, коротышка, — сказал Слайдер, — забирайся-ка ты вон в ту старую колымагу, а я поеду вперед с винтовкой. Кто знает, что нас ждет. Нельзя допустить, чтобы парнишка угодил в передрягу.* * *
— Мистер Слайдер, я посоветовал бы вам укоротить постромки, — сказал Энтон, в то же время помогая Оливио устроиться в фургоне, среди подушек. — Еще свалитесь. — Эх, мальчуган, да я подвязывал собак, когда ты еще не надел свои первые ботинки — конечно, если они у тебя были. Вы, англичане, понятия не имеете, что такое настоящее седло. Судите с точки зрения мула или какой-нибудь старой телеги. «Подвязывал собак?» — удивился Оливио. Что американец имеет в виду? Любимый волкодав леди Пенфолд по кличке Мерлин встал на задние лапы и начал царапать его сиденье. Оливио содрогнулся. Может, предложить американцу денег, чтобы вздернул этого монстра? Мерлин переменил позу и облегчился на переднее колесо. Энтон хлестнул мулов, и они отправились. Для Оливио это была первая поездка на север от «Белого носорога». Он оглянулся. Лорд Пенфолд и Кина махали вслед. Карлик уцепился обеими руками за сиденье и в ответ покивал им головой. Наконец-то он совершает настоящее мужское путешествие! — Не слишком быстро? — спросил Энтон, однако его мысли блуждали далеко отсюда — в Англии, по следам цыганских кибиток. Потом они переключились на Кариоки и все, чему научил его друг. На этот раз ему выпала более трудная задача. Сможет ли он правильно выбрать момент для смертельного удара? — Может, чуточку передохнем? — взмолился немного погодя Оливио. У него ослабли руки. Громадная, не по размеру, соломенная шляпа царапала лоб. Голова превратилась в пылающий бочонок. Они остановились под сенью тернового дерева. Слайдер не спеша поехал на Рафики дальше. Карлик облизал пересохшие губы. Энтон дал ему оловянную флягу. — Что привело вас в Африку, мистер Энтон, так далеко от дома? — У меня не было дома, Оливио. Я приехал сюда за свободой и богатством. — Точно так же, как и я! И что же — вы нашли то, что искали? — Не уверен, — Энтон усмехнулся. — У меня есть сто двадцать фунтов на счету в банке в Найроби и три коробка из-под сигарет, полных золотой пыли. Вот только не знаю, долго ли еще я останусь свободным. Он вспомнил Гвенн. Кто знает, что она такое, свобода? — Значит, вы теперь богаче его светлости. К тому же он не свободен. Понимаете, мистер Энтон, для всякой женщины брак — это безопасность, а зачастую — и богатство. А для мужчины — сущее разорение. Интересно, стали бы женщины выходить замуж, если бы было наоборот? Едемте дальше. Ближе к вечеру они разбили лагерь. Оливио попотчевал их блюдами из кухни «Белого носорога». — Мистер Слайдер, — сказал он немного погодя, — зачем у вас впереди седла эта шишка? — Это передняя лука, Оливио. У нас на Ручке Сковороды мы присвинячиваем к ней коров для клеймения. — Вы жарите коров на сковороде и приправляете свининой? — Ладно, хватит болтать. Нашему юному другу пора бай-бай. А ты что, никогда не спишь? — Под открытым небом — никогда. Отдыхайте, пожалуйста, мистер Слайдер, а я постерегу.* * *
Утром, продвигаясь вперед верхом на Рафики, Энтон размышлял о карлике. Проснувшись на рассвете, первым, что он увидел, была гротескная фигура, закутанная в одеяло и сидевшая у потухшего костра. Как плюшевый медвежонок. Мертвый глаз был похож на пуговку — глаз игрушечного зверя. Зато другой сверкал, как раскаленный уголь. Энтону пришло в голову, что разные глаза выражают сущность Оливио, временами примитивного, как звереныш, а иногда — на редкость живого и чувствительного. Энтон взобрался на вершину холма. От креозотового завода курился дым. Возле резервуаров копошились человеческие фигуры. Он достал из седельной сумки немецкий полевой бинокль. Его охватил охотничий азарт. Подъехали Слайдер с Оливио. — Оливио, может, вы отдохнете, пока мы с Рэком спустимся, посмотрим, что они затевают? Карлик наблюдал за всадниками в бинокль. Боль никуда не делась и не денется, но он не обращал на нее внимания. Мулы остались запряженными, их привязали к нижнему суку хинного дерева. Оливио понимал: друзья не хотели его обидеть, однако испытал горечь. Как когда-то сверстники в Гоа, его считают недостойным мужского приключения. Хотя некоторые дамы считают иначе. Он поводил биноклем из стороны в сторону. Облизал губы и наставил окуляры на два длинных стальных цилиндра, штабеля бревен и запыленный «виллис» его кузена. Из сарая вышел Фонсека с деревянными козлами в одной руке. На земле, возле ямы с опилками, валялись две длинные пилы с двумя ручками. Третья, с удлиненными зубьями, была воткнута в бревно. Подъехали Энтон со Слайдером. — Опять браконьерствуете, мистер Фонсека? — Энтон спрыгнул на землю и заглянул в кузов «виллиса», где валялись рога носорога и леопардовые шкуры. — Стреляете из автомобиля? — Вам, англичанам, только и есть дело, что до животных. Сколько ты хочешь за свой участок? — Сейчас же сворачивай завод и убирайся. Ты портишь мою землю и отпугиваешь дичь. — Красавец был молодой носорог, — Рэк Слайдер подержал на ладони закрученный рог. — Это подстрелил кто-нибудь из твоих ирландских головорезов? — А ну бросай оружие в яму! — В дверях сарая показался Пэдди с наведенным на Слайдера ружьем. — И тебе не советую заикаться о рогах, Райдер, а то я знаю, куда их засунуть. Энтон напрягся. Цыганский нож словно бы начал тихонько продвигаться к руке. Наверху холма маленькая человеческая фигурка изо всех сил хлестнула обоих мулов. Фургон покатился вниз. Одно переднее колесо наткнулось на муравьиную кучу, и повозка продолжала путь уже на боку. Обезумевшие мулы протащили ее через колючий кустарник. — Если ты соскучился по своему другу Рейли, — обратился Фонсека к Энтону, — то знай: он поехал с визитом к своей давней милашке. Миссис Луэллин слишком много времени проводит одна. Слайдер дотронулся до пряжки своего ремня и подмигнул Энтону. Незаметно поворачиваясь к яме с опилками, американец метнул в Пэдди рог и выхватил револьвер. Сверкнул нож Энтона. Пэдди выстрелил. Грудь Слайдера окрасилась в красный цвет. Он свалился в яму с опилками. Острый цыганский клинок поразил Пэдди в живот. Энтон бросился на ирландца. Он успел схватиться за ружье, и вторая пуля пришлась в воздух. Бандит ошалело посмотрел на свое брюхо и вытащил чури. Энтон отбросил ружье и атаковал Пэдди. Рыча и истекая кровью, тот встретил его с ножом в руке. Сцепившись, они рухнули на край ямы с опилками. Пэдди напоролся спиной на зубья пилы и свалился в яму; Энтон упал на него сверху. Из опилок на Энтона смотрели мертвые глаза Рэка Слайдера. Энтон боролся с раненым громилой. Пэдди мертвой хваткой вцепился в левую руку Энтона. Одновременно он пытался схватить противника за горло. Энтон нащупал в опилках свой нож. Их лица сблизились. В поросячьих глазках Пэдди горела лютая ненависть — как во время их поединка по арм-реслингу. Лапища ирландца добралась до горла Энтона. У того потемнело в глазах. В мозгу предостережением вспыхнули слова Кариоки: «Тлага, ты должен научиться вовремя убивать». Энтон вонзил чури в ту же рану у Пэдди на животе и повернул лезвие ножа вверх, к грудине. Он вспорол Пэдди, как рыбину. Тело ирландца обмякло, только глаза еще несколько секунд продолжали жить, но и они погасли. Энтон выбрался из ямы. Нужно торопиться к Гвенн! Но когда он попытался встать с четверенек, Фонсека огрел его бревном.Глава 38
Гвенн пыталась представить себе переезд. Стоя на берегу реки, под тамариндом, она подбросила камешек к одной из пирамид Алана и устремила взгляд за реку, туда, где на горизонте проступали очертания горы Кения. Она растерла на ладони и понюхала горстку красной земли. Присмотрелась к своим обломанным ногтям и напомнила себе о необходимости надевать перчатки. Господи, что может быть прекраснее этих мест? Как оставить ферму, ведь она стала роднее Уэльса! Под этим деревом Велли появился на свет. А под этими камнями покоится прах ее мужа. Каждая борозда оплачена тяжким трудом и борьбой. Уже переезд из бунгало в новый каменный дом оставил глубокий след в ее душе. И потом, новый участок расположен в такой глуши! Все придется начинать сначала. Третий дом, другая земля, непривычные звери и растения. Возможно, новые друзья. А Энтон? Уедет ли он вместе с ней? Увидится ли она еще с Адамом Пенфолдом, Оливио и Викторией? Сзади послышался плеск воды. Гвенн обернулась — Рейли. В ней тяжело заворочались гнев и страх. Ее обидчик въехал в реку верхом на абиссинском пони. Он явно спешил — то и дело вонзал шпоры в бока животного. Гвенн вскочила и понеслась по полю к своему новому коттеджу. Компактный, построенный по чертежам Алана, с толстыми каменными стенами, он был ничуть не хуже тех, в которых жили фермеры в Уэльсе. Сердце стучало, как барабан. Гвенн ворвалась в гостиную и побежала дальше — в недостроенную кухню. Не найдя ружья, схватила нож. Всего несколько часов назад она оставила свой дробовик в сарае после того, как прогоняла нахальных скворцов с кукурузного поля. Один ствол еще был заряжен. Она выбежала через заднюю дверь, подхватила юбку и помчалась к открытой двери сарая. Перемахнув через забор овечьего выгона, Гвенн угодила в гущу мериносов. Рейли уже был на берегу и на своем пони скакал навстречу. Овцы бросились врассыпную. Гвенн добежала до дальнего забора в тот самый момент, когда Рейли, неуклюже сидя на лошади, срезал угол и помчался по диагонали через кукурузное поле. Задыхаясь, Гвенн вбежала в продолговатое, крытое соломой строение. Ружье стояло в другом конце. На голубовато-серых кончиках стволов играли солнечные блики. Гвенн спотыкалась об инвентарь, горы мешков и вязанки сухих кукурузных стеблей. Она бросила нож и схватила дробовик. Рейли, пыхтя, накрыл ее руку своей. — Счастлив видеть. А ты? — Пусти! — Мистер Фонсека послал меня проверить, освободила ли ты его владения. Все это теперь принадлежит ему. Он у себя на заводе. Если твои друзья попробуют сунуться, уж он постарается их задержать. Тем более что теперь все знают, милочка, как мы с тобой близки, — сама раззвонила. Свободной рукой Рейли стиснул плечо Гвенн. Она залепила ему пощечину. Рейли осклабился. — Разве так встречают старых друзей? Его лапа поползла к ее груди. Одновременно ему удалось вырвать у нее ружье и отбросить в сторону. Гвенн затошнило от его пота и нечистого дыхания. Он завел ее руку за спину и прижал ее к деревянной стене. Гвенн отчаянно сопротивлялась. — Изнасилование, да? — Рейли рванул на ней блузку — посыпались пуговицы — и запустил лапу между грудями. — Я убью тебя, Рейли! — Гвенн лягнула его лодыжку. Во второй раз она этого не допустит! — Это же мой байстрюк гоняет здесь с черномазыми. Да подожди, глупая баба, ты ко мне еще привыкнешь и выйдешь за меня замуж, и ферма снова станет твоей. Слава Богу, что она отправила Велли в «Белый носорог» вместе с Бевисами! Рейли сорвал с нее блузку и сунул руку за пояс юбки. Гвенн саданула его коленом между ног. Они вместе рухнули на гору пустых мешков. Чувствуя на себе его тяжесть, Гвенн сосредоточила все усилия на том, чтобы не дать Рейли засунуть ей руку между бедер. Он разорвал на ней нижнее белье. Она завела руку за голову и стала лихорадочно шарить по полу в поисках ружья, но его не оказалось. Тогда она расцарапала Рейли физиономию и сорвала с глаза пластырь. Рейли все норовил впиться ей в губы своим поганым ртом. Его щетина колола ей лицо. Рука Гвенн продолжала искать ружье. Она нащупала цинковое ведро. Запустила руку внутрь и поняла, что там такое. Ядовитый порошок для борьбы с паразитами у овец. Смесь мышьяка и соли. Рейли откинулся назад и стал расстегивать ремень. Гвенн захватила горсть адского порошка и сыпанула ему в глаза и рот. Рейли вскочил. Он отчаянно мотал головой и отплевывался. При этом он орал так, будто его режут. Гвенн тоже вскочила. — Сука! — истошно вопил бандит. — Мои глаза! Он ухватил Гвенн за плечо, но она вырвалась; на коже остались царапины. Схватив пони под уздцы, Гвенн, как была, без блузки, вскочила в седло. Только на берегу она позволила себе обернуться. Рейли продолжал реветь, одной рукой держась за лицо, а другой отыскивая оружие. Брюки спустились ниже колен, наружу вывалилось белое брюхо. — Будь ты проклята! Гвенн заставила пони войти в Эвасо-Нгиро. Очутившись на другом берегу, злая и испуганная, она хлестнула пони и помчалась кратчайшей дорогой на юг — через участок Энтона. Стыдясь своей наготы, низко пригнулась к холке лошади. Пришло время задуматься над словами Рейли. Что Фонсека и ирландцы замыслили против ее друзей? Конечно, они жаждут смерти Оливио — из-за наследства, а Энтона потому, что ему принадлежит земля, на которой Фонсека построил свой завод. И потому что он — единственный свидетель изнасилования. Успеет ли она предупредить Энтона? Лошадь начала уставать. Гвенн погладила ее и успокоила ласковыми словами. На руках осталась пена. Гвенн присмотрелась к лошади. Она явно не робкого десятка, неприхотливая и выносливая. Как раз то, что нужно в Африке. Гвенн порылась в седельной сумке — может, сыщется какая-нибудь тряпица? Однако нашла только бутылку виски, кусок колбасы и журнал своего мужа. Они въехали в кедровую рощу. Свежий лесной воздух остудил разгоряченное животное. Гвенн огляделась. Среди прямых, голых стволов кедра стали попадаться камфорные и фиговые деревья. Возможно, когда-нибудь здесь можно будет добывать камфорное масло. Она расправила плечи. Ее внимание привлекли круглые отпечатки слоновьих следов; кое-где виднелись огромные свежие лепешки — живые, влажные, густо нашпигованные семенами и веточками. Энтон дал Фонсеке неделю, чтобы тот убрался с его земли. Сегодня как раз истекает срок. Значит, Энтон должен приехать. Нужно его предупредить! Взбудораженная слоновьим запахом, лошадь перешла на рысь. Гвенн ударила ее пятками, заставляя пуститься в галоп.Глава 39
Энтон лежал без чувств у ног Васко Фонсеки. Тот подошел к краю ямы с опилками и уставился на мертвые тела Пэдди и Слайдера. Эти двое стоили друг друга! Он плюнул и подбросил в яму опилок. Бросил бревно и вернулся к Энтону. — Сейчас мы тебе накачаем легкие кипящим креозотом. Рубашка Энтона пропиталась кровью его врага. Сверху налипли опилки. По лбу бежала струйка его собственной крови. Фонсека нагнулся и потащил Энтона за ноги к цилиндру. Там он зацепил ступни Энтона за нижнюю ступеньку и выпрямился, чтобы передохнуть. Посчитал ведущие к двери ступеньки. Придется сначала забраться самому, а потом втащить Райдера. Фонсека заглянул внутрь стального цилиндра и увидел на липком полу ружье Пэдди. Снаружи, у другого конца цилиндра, Оливио подобрался к лесенке, ведущей на крышу, и стал бесшумно карабкаться вверх, представляя себе, будто это его персональная стремянка в «Белом носороге». Прежде чем нагнуться и втащить в цилиндр Энтона, Фонсека сам шагнул внутрь цилиндра. Гулко застучали по металлическому полу кованые каблуки его ботинок. Он поднял заляпанное креозотом ружье и выбросил наружу. Провел пальцами по трубе с пробитыми отверстиями, через которую в резервуар поступал горячий креозот. — Отлично, — удовлетворенно произнес Фонсека по-испански. Дверь захлопнулась. Он бросился туда. — Какого дьявола? Проклятье! Кто там? Выпустите меня! Снаружи дверь заперли на щеколду. Фонсека услышал у себя над головой топот маленьких ног. Сквозь узкое — примерно шесть дюймов в ширину и три дюйма в высоту — смотровое окошко с особо прочным стеклом в цилиндр проникал узкий столбик света. Фонсека протер стекло рукавом и, прижавшись к нему лбом, посмотрел наружу. За стеклом белело чье-то перевернутое лицо — словно белая, в трещинах, яичная скорлупа. Его взгляд уперся в чужие, странные глаза. Один был мертвым, молочно-серым. Другой — распахнутый, немигающий — глядел на него со свирепым изумлением. Оливио лежал на крыше резервуара. Он изнемог. После крушения фургона все тело терзала жесточайшая боль. Рубашка была изорвана в клочья. Карлик долго смотрел в полные тревоги глаза кузена. Потом постучал о стекло указательным пальцем и спустился по ступенькам. Добравшись до последней, приблизился к металлическому колесу, прочно запиравшему дверь. Но карлик не мог до него дотянуться. Он вцепился обеими руками в спицы. Кожа на груди натянулась — вот-вот лопнет. Однако ему все-таки удалось повернуть штурвал по часовой стрелке, крепко-накрепко блокируя дверь. От боли Оливио заскрипел зубами. Но медлить было нельзя. Он спустился на землю и осмотрел бесчувственное тело своего друга. По лбу Энтона бежала струйка крови. Оторвав кусок материи от своей рубашки, Оливио смочил его в воде из фляжки и отер Энтону лицо. Потом заковылял ко второму цилиндру. Присмотрелся к нехитрому механизму закачки резервуара. Поднял голову и заметил поднимающийся над котлом черный дым. К открывшимся ранам правой руки приклеилась перчатка. Оливио попытался повернуть красный рычаг управления в рабочее положение. В руках совсем не осталось сил. Без спасительного опиума каждый нерв кричал о невыносимой боли. Карлик подавил стон и предпринял новую попытку. Рычаг не поддавался. Оливио лег на землю. Впервые в жизни он выполнял настоящую мужскую работу. Он развел руки в стороны. Фонсека яростно барабанил кулаками по металлическим стенкам цилиндра. Подтянув колени к груди, Оливио уперся в рычаг ногами. Рычаг шевельнулся. Карлик замер. По трубе в цилиндр устремился кипящий креозот. На шкале прибора заметалась стрелка. Когда температура достигла восьмидесяти градусов, Оливио встал и пошел к первому цилиндру. Приложил руку к трубе и через перчатку ощутил тепло. Потом — сильный жар. Не обращая внимания на боль, Оливио тонко улыбнулся. И снова вскарабкался по лестнице. На крыше цилиндра он остановился — перевести дух и прочувствовать торжественность момента. Видели бы его сейчас мальчишки из Гоа, лорд Пенфолд, мистер Энтон, мистер Слайдер и Кина! И дедушка-архиепископ. Как бы он гордился внуком! Оливио лег на крышу, прижавшись к ней голой грудью. Свесил голову. Заклепки на стальной крыше врезались в свежие рубцы. Оливио широко раскрыл правый глаз и прижался к узкому окошку. На него смотрел Васко Фонсека. Глаза вылезли на высокий лоб. Рот немо кривился. Фонсека вновь забарабанил кулаками по металлическим стенам. Цилиндр затрясся. Карлик приложил ухо к узкой щели между дверями и стальной рамой. Он услышал звериные вопли, усиленные эхом. Снова заглянул в окошко и встретил безумный взгляд кузена. Оливио усмехнулся. Даже вися вниз головой, он видел, как Фонсеку обступает черная жижа. Он представил себе, как она заполняет ботинки, брюки, рубашку, липнет к коже. Беспомощно подпрыгивая, кузен исполнял танец отчаяния, время от времени отскакивая от окна и лишая Оливио столь приятного зрелища. Чувствуя, как накаляется поверхность цилиндра, Оливио вспомнил несколько недель своего заточения в коконе из бинтов. Вспомнил адские муки и то, как на груди лопалась кожа, как у пережаренного цыпленка. И роскошное, обезображенное тело его невесты. И док в Гоа, где его пытали в бочке с оливковым маслом. Вдруг Оливио отдал себе отчет в том, что распростертый на земле Энтон шелохнулся. Рядом стоял верный Рафики,облизывая хозяина. Энтон пошевелился еще раз. Нужно будет, как только он очнется, сказать, чтобы мчался во весь опор к миссис Луэллин. Цилиндр накалился. Оливио в последний раз приложил здоровый глаз к запотевшему стеклу. При этом он расплющил о стекло нос, как мальчишка у витрины кондитерской. Голова Фонсеки выступала из густой черной массы, как из воротника. Жив он или уже умер? По глазам не было видно. Рот Фонсеки был открыт; он шевелил губами, словно приветствуя первые глотки маслянистой жидкости.* * *
Лошадь насторожилась — поставила торчком уши. Гвенн прислушалась. Навстречу им по лесу мчалось крупное животное. Секунда — и на тропе появился Энтон верхом на Рафики: они чуть не налетели на нее. Две лошади резко остановились и нервно, но дружелюбно обнюхали друг друга от головы до хвоста. Энтон схватил Гвенн в объятия. Испуганная тем, что он весь в крови, Гвенн бросила поводья и обеими руками потянулась к его израненному лицу. К глазам подступили слезы. — Ты всегда катаешься в таком виде? — прошептал он ей на ухо. — Один твой приятель сорвал с меня блузку. Они спрыгнули на землю и привязали лошадей к кедровым деревьям, подальше от тропы. Энтон отдал Гвенн свою рубашку. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его. Невдалеке затрещали толстые сучья. — Слон, — тихо произнес Энтон. В кронах заверещали и смолкли обезьяны. Пригибаясь, Энтон повел Гвенн к небольшой полянке меж двумя скалами и высоким кедром. Они легли, подстелив его рубашку. Кругом росли грибы и желтые лесные цветы. Тревожно ржали лошади. Время от времени хрустели сучья. Потом послышалось громкое бульканье — слон справлял нужду. И наконец они увидели: величаво переставляя колонны ног, слониха вывела на поляну детеныша. Лежа на земле, Энтон и Гвенн наблюдали за тем, как мать ласкает слоненка хоботом, а он неуверенно перебирает ножками. Слониха засунула ему в пасть свой хобот. Слоненок начал сосать. Из кедровой рощи вышел слон — спокойно и уверенно, как фермер выходит на свою кукурузную делянку. Энтон перекатился на бок и достал из-за пояса окровавленный клинок. Завороженная синевой его глаз, Гвенн следила за его действиями. Не отнимая другой руки от ее обнаженной спины, Энтон перерезал кожаный шнурок. На землю между ними упало золотое кольцо Ленареса.ЭПИЛОГ 1921
Глава 40
Упиваясь запахом горячих пирожков с грибами, Адам Пенфолд резюмировал: — Душераздирающая история. Да, не повезло португальцу. Стыд-позор, что рядом не нашлось никого, чтобы его вызволить. Не мог же ты сам повернуть колесо, да, Оливио? — Истинная правда, милорд, — подтвердил карлик, надраивая стойку. — У меня слабые руки. — Надо будет нам с фон Деккеном прогуляться туда, вытащить беднягу из бочки с дегтем — хотя, возможно, там ему и место. Напомни мне взять кусок старого брезента, чтобы не запачкать фургон. Или попробовать отмыть его в реке? — Вот что я нашел среди личных вещей сеньора Фонсеки, — Оливио протянул Пенфолду золотые карманные часы с поясным изображением охотника. — Достаточно, чтобы выкупить долговые расписки? — Разумеется, старина, — Пенфолд любовно завел часы и поднес к уху. — Разумеется. Какое счастье, что он не носил их с собой. Пенфолд попробовал свой джин и добавил лимонного сока. Прихватив с собой блюдо с треугольными пирожками, доковылял до кое-как склеенного квадратного стола. — Как насчет горячих «самоса» с тамариндовым чатни? — спросил он троицу гостей. Дамы щеголяли в модных плиссированных юбках и французских туфлях на высоченных каблуках. Их грузный кавалер схватил самый большой пирожок. — Дам пропускают вперед, капитан фон Деккен, — Пенфолд подвинул блюдо поближе к его очаровательным спутницам. — Non, merci[21], — поблагодарила одна, тщетно пытаясь открыть круглую коробочку из-под балканского табака. — Восемь месяцев в буше, когда этот тип был абсолютно беспомощен и нашпигован немецкой картечью, генерал Леттов и я его кормили, — обиженно пробурчал Эрнст и положил себе на тарелку еще два пирожка, — а теперь он так и норовит уморить меня голодом. — Наши прусские друзья не умеют вовремя остановиться, — парировал лорд Пенфолд, рассеянно наблюдая за тем, как Веллингтон скармливает Нэппи сороконожку. Пенфолд подозвал мальчика и дал ему крутое яйцо. — Это не последняя война. Вот увидите. Веллингтон покатил яйцо через весь бар, а сам отошел к стойке, чтобы с помощью Оливио вскарабкаться по стремянке. Он выставил на прилавок пару оловянных волынщиков. Карлик вытаращил глаза и в который раз подивился глупости англичан. Как мужчины могут носить юбки, да еще в их промозглом климате? Тем не менее, он внимательно присмотрелся к двум коротеньким юбочкам. Теперь, когда он богат, можно позволить себе купить такую юбку в желтую и зеленую клетку для жены. Короткую, плиссированную. Говорят, под них ничего не надевают. В самый раз для Кины. Нужно будет попросить портного скопировать фасон. Пенфолд следил за тем, как мангуст мучается с яйцом, слишком крупным, чтобы прокусить скорлупу. Наконец Нэппи подкатил яйцо к стене, сам повернулся к ней спиной и захватил яйцо передними лапами. Потом поместил его между задними конечностями и прижал к стене. Скорлупа треснула. Мангуст слопал содержимое. После смерти Фонсеки, размышлял Оливио, португальская часть наследства переходит к Анунциате. Это сделает ее еще более желанной. Сам же он скоро станет богаче губернатора. Втайне Оливио вынашивал новый план: открыть при колледже Св. Павла в Гоа интернат для сирот смешанной расы имени Оливио Алаведо. Его имя будет увековечено на табличке у парадного входа, и, проходя мимо, студенты — особенно студентки — будут с благодарностью вспоминать о своем щедром покровителе. Похоже, у немца тоже завелись деньжата, иначе с чего бы этим двум красоткам липнуть к этому мужлану? Что у него в коробках? Карлик заглянул под стол. Одна из дам засунула руку под край шорт тучного немца. Другой рукой она — гораздо с большим усердием — ласкала бедро своей подруги. Оливио облизнулся. В этот самый момент коробочка открылась и соскочила на пол. На полу образовалась дорожка из золотой пыли — как раз на линии «экватора». Зазвенели сто серебряных колокольчиков — это вскочили Черные Тюльпаны. Проворные, как кошки, пригнулись к полу и начали собирать твердые песчинки на блюдце и в пепельницу. Но им мешали длинные алые ногти. Отдельные песчинки провалились в щели между неровными планками из красного дерева. — Не волнуйтесь, чернушки, это не мое, — Фон Деккен обсосал пальцы и с восторгом уставился на аппетитные грушевидные зады красавиц. — Половина коробочек принадлежит юному англичанину. Это была одна из них. Пусть роет пол, когда вернется. Он не перетруждался. Оливио взял чистое полотенце и, смочив белым портвейном из подвала лорда Пенфолда, накрыл золотую дорожку. А когда поднял полотенце, оно было сплошь усеяно прилипшими золотинками. Оливио положил его на блюдо. — Когда алкоголь испарится, милорд, я стряхну это в ванну ее светлости. Мысленно он добавил: какое счастье, что там не окажется самой леди Пенфолд! — Где твоя жена, Адам? — полюбопытствовал немец. — На скачках в Найроби. Англичанки обожают лошадей. — А куда делся мой юный англичанин? — На сафари — со своей любимой. Давно пора. Они наслаждаются друг другом в передвижном лагере, путешествуя налегке в кедровых рощах на нижних склонах. Хотят полюбоваться переходом слонов от горы Кения до Абердарского хребта. — Совершенно идиотский способ проводить время — теперь, когда они наконец-то вместе! Ели бы русскую глазунью и купались в шампанском. Карлик закатил глаза. — Мы в Африке.Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Генри Денкер Голливудский мустанг
Моей жене ЭДИТ
Первая глава
— Заставьте Престона Карра сняться в этой картине, и вы получите контракт. Этими словами президент завершил их встречу; извинившись, он объяснил, что спешит на самолет, вылетающий в шестнадцать тридцать в Нью-Йорк. Шестью минутами позже Джок Финли и его агент, Марти Уайт, стояли на студийной автостоянке между длинным белым «роллс-ройсом» Марти и красным двухдверным «феррари» Джока. — Это завуалированный отказ, — сказал Джок; в его голубых глазах бушевала ярость; внутреннее напряжение делало красивое лицо режиссера еще более худым, чем обычно. — Это не отказ, — возразил Марти. — Ему не понравился сценарий! — заявил Джок. — Но он не пожелал признаться в этом, потому что автор — тоже твой клиент. — Это не отказ, — задумчиво повторил Марти. — Тогда почему он потребовал Престона Карра? — Потому что ты сам упомянул Карра, когда он спросил тебя, кто подходит на главную роль, — сказал Марти и тут же добавил: — Правда, ты назвал еще Ланкастера, Дугласа, Грегори Пека и Тони Куинна. — Совершенно верно! Почему он остановился на Карре, который уже два года не желает сниматься и, вероятно, не изменит своего решения до конца жизни? Зачем этому миллионеру работа? Самый простой способ отказаться от подписания контракта — это потребовать участия Престона Карра. Говорю тебе, ему не понравился сценарий! — Возможно, дело не в сценарии, — осторожно произнес Марти, огорченно глядя в сторону. Это была его обычная тактика: сообщая клиенту неприятное известие, он задумчиво, с огорченным видом смотрел в сторону. Особенно когда предвидел реакцию собеседника. — Я не первый режиссер, которого заменили во время съемок! — взорвался Джок. — Во время столь важных съемок? Да еще в Лондоне? На глазах у всего света? — сказал Марти. — У картины должен быть один хозяин — он или я! Мною пренебрегли, как мальчишкой! Чертов гомик! — Малыш, — напомнил Марти, — этот чертов гомик — одна из величайших звезд нашего времени. Фильм с его участием значительно поднял бы твой авторитет. Значительно! — Даже если бы лента получилась дрянной? — с вызовом произнес Джок. — Его картины не бывают дрянными. Его неудачи называют творческими победами. Он даже проигрывает блестяще. Эта картина стала бы важной для тебя, — с сожалением сказал Марти. К широким ступеням административного здания подкатил черный «кадиллак»; на подобных лимузинах ездят президенты компаний и участники похоронных процессий. Из подъезда вышел президент; глава студии, несший его пальто и черный «дипломат», казался мальчиком на побегушках. Президент сел на заднее сиденье лимузина. Когда глава студии положил пальто и кейс рядом с боссом, президент заметил Джока и Марти и помахал им рукой через тонированное стекло. Они ответили на его жест. Приветливо улыбнулись, пытаясь прочитать мысли, таившиеся за пухлым лицом и темными глазами. Сами слова президента менее важны, чем то, как они произносятся; выражение его лица существеннее любого жеста. Но сейчас физиономия этого человека была абсолютно непроницаемой. — Что скажешь? — спросил Джок, по-прежнему улыбаясь в сторону лимузина. — Этого черта не раскусишь, — Марти тоже улыбался. «Кадиллак» тронулся с места, увозя президента в аэропорт Лос-Анджелеса, а затем в Нью-Йорк, к битве с акционерами, к телефонным звонкам из Рима, Лондона, Мадрида, из других городов, ставших центрами американской киноиндустрии. Когда лимузин свернул за угол, глава студии явно испытал облегчение: очередная нервотрепка пережита — и стал подниматься по ступеням. Улыбка на лице Марти сменилась выражением тревоги, душевных мук. Он иногда считал необходимым переигрывать, общаясь с клиентами, чтобы подготовить их к своей очередной просьбе, предложению или приказу. — Малыш, — произнес Марти свое любимое обращение, — малыш, дело не в сценарии. Я бы не помог тебе, позволив думать, будто это так. Боюсь, причина в тебе. — Ты же говорил, что все закончилось! — выпалил Джок. — Сол Стейбер продал свою киностудию! Ты сказал, что после двух хороших независимых картин пришло время вернуться сюда. — Я имел в виду не это, — серьезно произнес Марти. — Я говорил о Лондоне. Вот в чем причина. Он боится, что ты не сможешь работать с кинозвездой, не справишься с большой картиной. А это — большая картина! Марти бросил обсуждаемый сценарий на правое сиденье «феррари». На обложке из материала, имитировавшего сыромятную кожу, причудливым шрифтом было оттиснено название — «Мустанг». — Я не справлюсь с важной картиной? — возмутился Джок. — Я? А как же «Черный человек»? — Ну и что? — выпалил Марти и пояснил тем сдержанным, бесстрастным тоном, что красноречиво выдает волнение говорящего: — Стоимость — один миллион сто тысяч. Доход от проката в стране и за рубежом — пять миллионов девятьсот тысяч. Это большая картина? Важная? — Она принесла прибыль, верно? — Несомненно. Но это не большая картина. Это не «Мустанг». — Марти усмехнулся, бросив взгляд на сценарий. — Эта картина должна обойтись в сумму, превышающую всю твою прибыль. Если, конечно, подойти к съемкам правильно. Но Джок, желавший защитить себя, не услышал слов агента. — А как насчет «Скажи правду»? Одни мои любовные сцены получили такое количество отзывов в прессе, какого не удостаивался ни один американский режиссер. Марти резко перебил его: — Послушай, малыш, сделай мне одолжение! Не цитируй отзывы критиков! И сделай одолжение себе. Не упоминай на людях о тех двух фильмах! Иначе тебя до конца жизни будут считать блестящим юнцом, создавшим пару жемчужин, пригодных только для фестивалей и закрытых просмотров. На лице Джока появилась злость. Его голубые глаза стали жесткими, холодными. Марти понял, что следует продолжить. — Могу я обратить твое внимание на кое-что еще? Оба эти фильма — о черных. Ты хочешь, чтобы тебя считали режиссером, который может работать только с неграми? Эта мода скоро пройдет. Тогда тебе придется забыть о Сидни Пуатье, Сэмми Дэвисе, Дайанн Кэрроллс, о журнальных статьях и рецензиях «Нью-Йорк Таймс». Мой мальчик, тебе нужен фильм, который принесет двадцать, тридцать миллионов прибыли! Фильм, который пойдет в «Мюзик-холле» и кинотеатрах для автомобилистов! Тогда ты — режиссер! Вот чего я надеялся добиться с помощью «Мустанга»! — Прошедшее время! — резко произнес Джок. Марти Уайт, похоже, не понял его. — Что? — Ты только что употребил прошедшее время. Ты сказал: «Вот чего я надеялся добиться…» — Господи! Говоря с творческими людьми, необходимо тщательно взвешивать каждое слово, — пожаловался Марти. Но на самом деле Марти Уайт всегда тщательно взвешивал каждое свое слово. Его называли Филином не только за внешность. Да, он был низкорослым, полным, обладал лоснящейся, пропеченной под калифорнийским солнцем лысиной. Марти постоянно носил черные очки с толстой оправой. Он действительно напоминал гигантского филина. Его называли Филином за хитрость, мудрость, бесчестность — все эти качества делали Уайта самым преуспевающим агентом Голливуда. Марти преднамеренно употребил прошедшее время. Он следовал собственным правилам. Общаясь с клиентом, Уайт считал нужным в одних случаях воодушевить, ободрить человека, укрепить его веру в себя самого, а в других — причинить боль, вызвать растерянность или даже страх. Он видел в этом проявление любви и заботы. Марти иногда говорил: «Если бы хирург мог излечить рак без обезболивающих средств, разве бы ими стали пользоваться?» По мнению Марти, агент являлся по отношению к своему клиенту одновременно отцом, матерью, исповедником, сводником, психиатром, хирургом, брачным советником, но в первую очередь — опекуном, который управляет делами идиота, обладающего лишь талантом, случайно дарованным Богом. Поэтому каждое слово, произнесенное Марти Уайтом после того, как они покинули кабинет президента, преследовало одну цель: он хотел размягчить Джока Финли, пробудить в нем растерянность, мучающую творческих людей в промежутках между работой. Джок Финли, которому исполнился тридцать один год, был еще слишком молод, чтобы всерьез почувствовать себя проигравшим. Воспоминания о восторженных отзывах оставались еще слишком свежими и спасали от чувства страха. По многим причинам личного характера Марти стремился разжечь в Джоке страстное, непреодолимое желание снять «Мустанга». Страх был началом. Уайт был заинтересован в успешной карьере Финли, но она не являлась для него единственной, приоритетной целью. На первом месте стоял сценарий. Он был неплохим, хотя и не лучшим из всех предложенных Марти. Сценарист, Ирвинг Уорфилд, в данный момент не являлся самым модным, однако имел хорошую репутацию. Марти следовал определенной тактике: он находил приличный сценарий, добавлял к нему своего режиссера, сам подбирал одну-две звезды. Если бюджет оказывался большим, сам факт дорогостоящей постановки мог обеспечить фильму кассовый успех даже при слабой литературной основе. Десять процентов от гонораров сценариста, режиссера и исполнителей одной-двух главных ролей обеспечивали Марти неплохой доход. Если к тому же картина оказывалась той одной из двадцати, что приносит доход. Марти становился победителем. В кинобизнесе люди не помнят неудач, если время от времени человек добивается очередного успеха. Получая солидный куш раз в два-три года, Марти Уайт слыл волшебником. И, когда он просил президента любой кинокомпании об аудиенции, он всегда получал ее. Люди типа Марти Уайта, заключавшие пакетные сделки, а не торговавшие талантами поштучно, фактически становились продюсерами. Уайт слыл специалистом в области пакетных контрактов. Его доходы превосходили гонорары других агентов. Этот маленький домашний человек знал о кино больше, чем кто-либо в Голливуде, Лондоне и Риме. Марти умел обращаться с талантами. Умел воодушевлять одаренных людей, обольщать их, запугивать и морально уничтожать. Он знал, кто был садистом, а кто — мазохистом, кто нуждался в поддержке, а кто — в хлысте. Знал стремления каждого. Приступая к решению проблемы, он спрашивал себя: «Каким образом я могу получить от клиента то, что я хочу?» Понимая, что в данном случае лучше начать со страха, Марти видел также, что, сотрудничая с Джоком Финли, следует делать ставку на стремление гордого молодого человека отыграть упущенные возможности. Финли испытывал желание доказать кое-что этому городу. Марти не хотел рисковать, действуя слишком явно. Как бы утешая и ободряя Джока, он произнес: — Слушай, малыш, дай мне немного подумать. Жди моего звонка. Марти шагнул к дверце своего «роллс-ройса», замер на мгновение и, внезапно повернувшись, добавил: — А пока что ни о чем не волнуйся. Филин забрался на заднее сиденье «роллс-ройса». Его круглая лысая голова виднелась в окне. Машина тронулась. Марти помахал рукой Джоку, который ответил ему тем же. «Негодяй! С феской на голове он сойдет за египетского короля Фарука», — подумал Джок. Не открывая дверцы, Джок прыгнул на сиденье «феррари». Когда мотор угрожающе заурчал, Финли выехал со стоянки и направился по бульвару Заходящего Солнца в сторону Беверли-Хиллз. Автомобильные пробки, казалось, испытывали его терпение. Имея под капотом четыреста пятьдесят лошадиных сил, невыносимо простаивать у каждого перекрестка. В эти томительные минуты Джока терзали слова Филина. Возможно, Марти использовал прошедшее время случайно, без всякого умысла. Но как относиться к его последней фразе: «А пока что ни о чем не волнуйся»? Почему Марти произнес ее? Джок Финли не волновался. Он злился. Но не волновался. Однако Марти считал, что он будет волноваться. Почему? Может быть, Марти знал нечто такое, чего не знал он, Джок? Может быть, Марти предлагал «Мустанга» и Джока Финли другим студиям и получил отказ? Не забыл ли он сказать ему об этом — или сознательно промолчал, не желая огорчать клиента? Возможно, пакет предложений был отвергнут другими кинокомпаниями, и они даже не пожелали встретиться с Джоком Финли. Это могло стать причиной для волнений. И значило бы, что он по-прежнему находится в «черном списке». Зажегся зеленый свет. Джок устремился вперед слишком поспешно, и ему тут же пришлось укротить мощь четырехсотпятидесятисильного мотора с помощью особых дисковых тормозов. Визг резины заставил других водителей посмотреть в сторону нетерпеливого молодого человека. Пошли они к черту, подумал Джок. Конечно, кое-что из сказанного Уайтом содержало в себе правду. Два хита Джока удостоились восторженных откликов модных элитарных критиков «новой волны», писавших для таких малотиражных изданий, как «Нью-Йорк» и «Саттердей ревью». Но сам Джок, выступая недавно перед студентами лос-анджелесского университета, заявил следующее: «Фильмы стали тестами Роршаха; кинокритики видят в них отражение своего больного, измученного сознания». И это было правдой. Так же как и то, что оба фильма Джока имели скромные бюджеты и принесли огромную прибыль. Оба были сняты вне Голливуда и посвящены неграм — извините, цветным. Марти, возможно, прав. К режиссеру могли приклеить определенный ярлык, и это представляло опасность. Сукора назвали «женским мастером». Именно поэтому Кларк Гейбл не позволил ему снять «Унесенных ветром». Кто предложил бы Джону Форду фильм с диалогами на целую страницу? Но самым мучительным для Джока было то, что с момента возвращения из Лондона… с того дня, когда его заменили другим режиссером… он не получил ни одного предложения, которое мог бы принять. Правда, кое-какие предложения поступали. Но лишь от независимых продюсеров; речь шла о фильмах со скромным бюджетом, без звезд первой величины. О фильмах «реалистичных». Джок возненавидел это слово. Этот эвфемизм продюсеры с ограниченными средствами применяли для дешевых, малобюджетных лент. Не было ни одного предложения из Нью-Йорка. Обычно, когда режиссер с репутацией Джока, начинавший с театральных постановок на Бродвее, заканчивал работу над картиной, или отказывался от каких-то съемок, или даже отстранялся от них, его тотчас начинали забрасывать пьесами, ждавшими талантливого постановщика, способного увлечься материалом, заманить какую-нибудь звезду, найти спонсора, театр — словом, решить все организационные проблемы современного Бродвея. Но сейчас никто не предлагал Джоку Финли пьесы для театра. К тому же Марти не хотел, чтобы Джок вернулся на Бродвей. «Чего ты добьешься, малыш? — говорил агент. — Ты уже доказал, что можешь ставить спектакли. Тебе нужна большая картина на известной киностудии.» Под «большой» картиной подразумевалась лента не обязательно хорошая, но сулившая значительную прибыль. Все в городе искали сценарий подобный тому, что лег в основу фильма «Звуки музыки». Агентства, студии, продюсеры, режиссеры забыли о том, как долго все они отвергали этот сценарий, пока его наконец не приобрела кинокомпания «Фокс». Сегодня это был главный образчик «большой» картины. Этот пример Марти использовал во время их первого обсуждения, состоявшегося в кабинете агента после того, как Джок прочитал «Мустанга». — Помилуй, Марти, — сказал Джок, — и это ты называешь большой картиной, настоящим вестерном? Марти посмотрел на него сквозь свои очки с толстой оправой. — Малыш, ты меня разочаровываешь. Я думал, ты сумеешь увидеть потенциал, возможности. Марти замолчал. Филин умел рассчитывать паузы с точностью до секунды, создавать нужное напряжение и интерес к своим дальнейшим словам. — Конечно, это вестерн. В этом есть вызов. Разве самые кассовые фильмы были сняты по гениальным сценариям? Нет! Возьми «Звуки музыки». Существовал ли более банальный и слащавый сценарий? Было ли в нем что-то особое, оригинальное? Нет! Но как его использовали! Точный подбор актеров обеспечил успех. — А теперь возьми это, — Марти указал на сценарий «Мустанга». — Здесь есть главные ценности. Действие. Цвет. Конфликт. Секс. Все компоненты кассового фильма для широких масс. Если ты добавишь к этому свой личный стиль… ауру… черт возьми, как это всегда называют критики?.. — Многозначительность? — подсказал Джок. — Да, точно. Добавь свою многозначительность, и ты завоюешь критиков. А значит, обкуренных юнцов и настоящих ценителей кино. Получишь и кассу, и престиж! Ты не можешь проиграть. Один такой фильм, и ты до конца жизни будешь диктовать условия в любой студии этого города. Все остальное забудется. Забирай его домой. Перечитай сценарий. Марти Уайт придвинул лежащий на столе сценарий к Джоку. — Что скажешь, малыш? Джок не ответил прямо, потому что он не знал, что сказать, — разве что: «Пошел ты к черту, Марти Уайт». Вместо этого он по-мальчишески улыбнулся: на его худых щеках образовались ямочки, голубые глаза обезоруживающе засветились. — Что тут забавного? — раздраженно спросил Марти. — Я подумал: почему ты, Марти, агент, которого когда-то звали Моррис Вейсс, называешь твоего клиента, в прошлом Джека Финстока, малышом? Где ты подцепил это обращение? — Послушай, Джок, с меня довольно твоего сарказма! Я хочу, чтобы ты всерьез задумался о важной проблеме. Сейчас ты находишься в критическом положении. Либо в течение следующих двух лет ты снимешь большой фильм, либо ты будешь до конца своих дней ставить всякую дешевку и получасовые короткометражки для телевидения. Тут нет ничего смешного! Он прав, признался себе Джок. Финли никогда еще не видел обычного невозмутимого, вежливого Марти Уайта столь близким к ярости. Марти, вероятно, тоже это понял и тотчас приступил к более сдержанному объяснению. — Послушай… хм… — он едва не произнес «малыш», — послушай, приятель, я прожил в этом городе много лет. Работал курьером, таскал портфели за лучшими агентами. Я вижу, как изменился Голливуд. В прежние времена студии создавали звезд — актеров, режиссеров, сценаристов — медленно, шаг за шагом. Сейчас все обстоит иначе. Репутации создаются мгновенно. Киностудия стала нервной, нетерпеливой. Если человек не торопится, поднимается по служебной лестнице без спешки, осваивает профессию постепенно, методично, люди начинают говорить: «Он работает уже пять лет и не добился успеха. Значит, у него нет таланта». Такой человек становится мертвецом. Сегодня надо наносить удар быстро. Или отказаться от всяких надежд. Успех приходит мгновенно или не приходит вовсе. Ты еще молод, у тебя есть шанс успеть. Но нельзя терять время. Когда Филин замолчал, Джок уже не улыбался. Его красивое лицо стало сдержанным, почти мрачным. Агент снова придвинул сценарий к Джоку, и режиссер взял его. — Малыш, все, что тебе нужно, — это одна большая картина. Ее хватит до конца твоей жизни. Затем, если ты захочешь время от времени снимать малобюджетные стильные фильмы, Бог с тобой. Но сначала сделай мне одну большую картину! Джок поднялся с кресла, держа в руке сценарий. Марти остановил его, заговорив ласково, по-отечески: — Возьми его домой, малыш. Перечитай. Если тебя что-то не устроит, предложи идеи по переделке. Но дай сценарию шанс захватить твое блестящее воображение. Тогда ты сможешь честно сказать главе студии или президенту кинокомпании… Здесь Марти сделал паузу, как бы импровизируя, и продолжил: — К примеру… ты мог бы сказать, что этот сценарий лежал в твоем чемодане все время, пока ты находился в Лондоне. Что ты спешил разделаться с той «голубой» картиной, чтобы поскорее заняться этой. Что вылетел домой первым рейсом, так как испытывал потребность немедленно приступить к работе. Ты знаешь, что это будет великолепная лента, настоящий эпос! Если бы ты мог, например, сказать, что она будет обладать художественными достоинствами 'Черного человека» и к тому же соберет огромную кассу! Если ты почувствуешь, что сможешь сказать все это, дай мне знать, и я устрою встречу за тридцать шесть часов. Марти всегда произносил слова «например», «к примеру» тем тоном, каким осторожный, тактичный адвокат подталкивает клиента к даче ложных показаний. Уайт никогда не требовал от клиента произнести какие-то определенные слова. Но то, что следовало за словами «к примеру», содержало в себе необходимую подсказку. Если человек использовал ее позже во время деловой встречи и ленча, сделка обычно состоялась в соответствии с обещаниями Марти. За исключением этого раза, напомнил себе Джок, собираясь свернуть с бульвара Заходящего Солнца на Рексфорд. Вместо слов «Вы получите контракт» президент произнес: «Заставьте Престона Карра сняться в этой картине, и вы получите контракт.» Этим президент хотел сказать, что сценарий, даже блестяще представленный Джоком Финли, продемонстрировавшим нужный энтузиазм, не гарантировал успеха. Как и репутация Джока Финли, снявшего два хороших, но малобюджетных фильма с независимыми продюсерами. В чем бы ни была причина — в лондонской замене Финли другим режиссером или в чем-то ином, — но ни сценарий, ни Джок не могли обеспечить кассу без помощи Престона Карра. Джок свернул на Рексфорд и прибавил газу; «феррари» с громким, сердитым ревом устремился вперед. Через два квартала Финли затормозил и въехал на стоянку, расположенную перед большим домом. В любом другом районе Америки столь крупное и эффектное здание было бы окружено по меньшей мере несколькими акрами земли. Но угодья в Беверли-Хиллз представляли такую ценность, что арендованный Джоком дом отделялся с обеих сторон от соседних вилл буквально десятком футов свободного пространства. Джок заглушил поворотом ключа четырехсотпятидесятисильный мотор и выпрыгнул из машины, не открывая дверцы. Он был дома. Если бы Марти не уговорил его заключить долгосрочный договор аренды, он разместился бы в небольшой новой квартире на бульваре, но агент сказал: «Покажи им, что ты вернулся в город, чтобы остаться здесь!»Когда Марти пришел в свой офис, ему сообщили о двух звонках Ирвинга Уорфилда, автора «Мустанга». Известный сценарист и старый друг Уайта Уорфилд отстал от возникшей в киностудии моды на молодежь. Он не работал уже полтора года. Он и Марти принадлежали к одному поколению, разделяли тайное отвращение к молодежи, имели сходные пристрастия в отношении секса. Марти редко заставлял Уорфилда долго ждать ответного звонка. — Ну, как прошла встреча? — спросил Уорфилд после обмена любезностями. — Им понравился сценарий? — Они от него в восторге! — А от Финли? — Тоже. — Тогда контракт у нас в кармане? — Практически, да. Марти почувствовал разочарование автора, хотя Уорфилд ничего не произнес. — Если мы получим согласие Престона Карра, контракт будет подписан. — Престона Карра? Последний раз он снялся в «Кровавом острове»! Это было четыре года назад! — Три, — уточнил Марти. — Хорошо, три! Они не хотят Финли! — заключил Уорфилд. — С той замены в Лондоне он — мертвец. — Ирвинг… — произнес Марти. Но Уорфилд перебил его: — Я говорил тебе, что будет ошибкой включать его в пакет предложений. Большой ошибкой! А сценарий превосходен! Я верю в него, Марти! В Голливуде человек может без стеснения хвалить самого себя; надо только правильно подобрать слова. — Послушай меня, Ирвинг, — сказал Марти, — мы получим контракт. Но это займет некоторое время. — Время? Господи, Марти, я объяснил тебе все насчет той земли в Палм-Дезерт. Сейчас цена минимальная. Но мне срочно нужны наличные. Я прикинул, что, если мы получим аванс в размере ста тысяч долларов, я смогу приобрести участок, не продавая акции, и заплатить налоги без банковской ссуды. Я и так по уши в долгах, Марти. Тебе это известно. Хуже всего то, что я не могу ликвидировать фирму, не рассчитавшись с налоговой инспекцией. Я совсем на мели, Марти! — А я говорю — не беспокойся, Ирвинг, — сказал Марти, всегда чувствительный к проблемам его творческих клиентов, особенно авторов. — Марти, как ты собираешься заполучить Престона Карра? Даже если ему понравится сценарий, что может и не произойти, на то, чтобы заручиться согласием его агента и юриста, уйдет два-три месяца! — Ирвинг, дорогой, разве я сказал, что это будет легко? — Мы должны поискать другого режиссера! Человека с большим авторитетом! И без всяких «историй» в прошлом, — заявил Уорфилд. — Ирвинг, Ирвинг, успокойся. Я обещал тебе, что ты получишь за сценарий четверть миллиона долларов, и я добьюсь этого. Но действуя так, как считаю нужным. Я хочу, чтобы фильм снял этот малыш! Он хорош для пакетной сделки. Он отличный режиссер. И он молод! Это важно! Он знает вкусы молодежи. Знает вкусы новых критиков. Кинобизнес изменился, Ирвинг. Пришла новая эпоха. Миром правят юнцы! — Знаю, — грустно согласился Уорфилд. — Молодежь раскопала старые ленты Престона Карра, и внезапно он опять оказался в моде. Будь жив сегодня Боггарт, благодаря этим мальчишкам он снова стал бы звездой. — Совершенно верно. А теперь не волнуйся. Мы получим Престона Карра. — Каким образом? — Я что-нибудь придумаю, — ответил Марти. — Знаешь, — задумчиво произнес Уорфилд, — Карр — отличная идея. Эта картина соберет кассу! — Конечно! — Марти, на твоем месте я бы сейчас позвонил Финли и… — А вот этого я не стану делать. — О'кей, о'кей, поступай, как считаешь нужным. — И, как бы извиняясь за грубую ошибку в стратегии, Уорфилд спросил: — Да, Марти, ты когда-нибудь встречал крошку, которую зовут Долли Эванс? — Блондинку? Худенькую, но с хорошими грудями? — Да. Ну и что? — Запиши телефон. Она делает потрясающий минет! Умеет работать язычком. Я чуть с ума не сошел. Марти записывал телефон в свой блокнот, когда ему позвонил театральный продюсер из Нью-Йорка. Он интересовался пьесой. Поколебавшись, Марти поднял трубку. — Мистер Уайт, вы меня помните? Это Дэвид Фрэнк из Нью-Йорка. Недель пять тому назад я послал вам новую пьесу Уильямса для Джока Финли. Мы хотели бы знать… — Послушайте, Фрэнк, я бы мог поморочить вам голову, но это не в моих правилах, — перебил собеседника Марти. — Джок прочитал вашу пьесу. Она ему не понравилась. Она неплоха, но не для Финли. Вы понимаете? — Может быть, если бы он перечитал ее и мы могли бы обсудить… — Какой в этом смысл? — снова перебил продюсера Марти. — Джок Финли не собирается ставить спектакли в обозримом будущем. Извините. Мне бы не хотелось быть грубым. Но я предпочитаю в таких делах честность. Она позволяет сберечь ваше и мое время. Положив трубку, Марти нажал клавишу переговорного устройства. — Ивлин, несколько недель тому назад мы получили от Дэвида Фрэнка пьесу. Найди ее и отправь обратно. Спустя четверть часа Ивлин сообщила, что не может отыскать рукопись. — Она должна находиться в офисе, — возмущенно заявил Марти. — Ее не выносили отсюда.
Часы показывали почти половину седьмого. Красное солнце висело низко над горизонтом; розовые шлейфы от реактивных самолетов тянулись по небу, затянутому желтоватым смогом. Прошло два часа с тех пор, как Уайт расстался с Джоком на автостоянке. За это время Финли несколько раз брал в руки сценарий, а затем откладывал его в сторону. Он знал, что повторное чтение не поможет. Джок подошел к телефону, который находился у бассейна, намереваясь позвонить Марти, но не стал делать это. Сценарий при первом чтении не понравился ему. Тогда почему его мучило то, что они услышали от президента завуалированный отказ? Или же его действительно задели слова Марти? Агент начал срывать с Джока имидж «талантливого молодого человека», которым Финли гордился. Сравнивая свои немногочисленные достижения с успехами других режиссеров, превосходивших его по возрасту, и желая утешить себя, Джок мысленно произносил: «У них нет того, что есть у меня. Будущего!» Но в замечании Марти насчет быстрого успеха была доля истины. Особенно в этом городе, где время значит все. Задумчиво глядя на телефон, Джок вдруг понял, что если он сейчас не искупается, то позвонит Уайту. Это было бы тактической ошибкой. Нельзя демонстрировать страх перед диким животным и голливудским агентом. Джок стянул с себя французскую трикотажную рубашку, сбросил английские туфли ручной работы, снял шелковые боксерские трусы, сшитые на заказ Салкой в Париже, и, оставшись нагишом, шагнул к фаю бассейна. Он стоял, глубоко дыша и напрягая мышцы плоского живота. Девушка-врач, с которой у него была последняя связь в Нью-Йорке перед возвращением на Побережье, сказала однажды: «По твоему телу можно изучать анатомию.» Затем она уселась на него и сделала почти все сама, словно оберегая тело и энергию Джока, как драгоценный природный ресурс. После той встречи Джок перед прыжком в бассейн, или после душа, или собираясь одеваться напрягал мышцы живота — особенно если рядом находилось зеркало. Мысли Джока, стоявшего у воды, перескочили с доктора — сексуально агрессивной молодой еврейки — на Марти Уайта и его внушавшие тревогу слова: «не волнуйся». Финли внезапно сказал себе: «Когда Марти позвонит, не снимай трубку!» Он нырнул в чистую, теплую воду; запах хлорки ударил ему в нос, хотя он и задержал дыхание, опускаясь вниз. Медленно шевеля руками, Джок красиво доплыл до края бассейна, затем вернулся назад; теплая вода ласкала его худощавое тело. Когда он был совсем юным и не слишком хорошим актером, он приучил себя ревностно следить за своей фигурой. «Это — достояние актера», — с долей кокетства говорил он. Правда заключалась в том, что Джок был тщеславен в отношении своего тела и лица, хотя и демонстрировал досаду, когда кто-то говорил, что он больше похож на кинозвезду, чем на режиссера. На самом деле он чувствовал себя польщенным. Общаясь с актрисами, он замечал, что сексуальная внешность помогает ему больше, чем режиссерские познания. Он перевернулся на спину; его обнаженный член поднялся, отвердел. «Сейчас я бы не отказался от той медички», — подумал Джок. Он услышал, как к дому подъехала машина, и в первый момент испытал желание вылезти из бассейна, облачиться в махровый халат. Джока преследовали подозрения, что Марти — гомик. На самом деле они были ошибочными. Однако Джок всегда чувствовал себя немного неловко в обществе Марти. Сейчас стратегия требовала, чтобы Марти застал его расслабленным, отдыхающим в бассейне, забывшим о дневном поражении. Джок перевернулся спиной кверху и легко поплыл вперед, собираясь у фая бассейна заметить Марти и разыграть удивление. Когда он, сделав поворот, поднял голову над водой и лег на спину, то обнаружил, что разыгрывать удивление нет нужды. У дальнего бортика не оказалось Марти Уайта. Там стояла Луиза и улыбалась. Она держала в руке черный переплетенный сценарий; на шее у нее висели маленькие часики. Луиза была идеальным образчиком добросовестной, толковой помощницы режиссера, хотя по росту и привлекательности значительно превосходила большинство девушек ее профессии. Заметив улыбку на лице Луизы, Джок крикнул: — Что тут забавного? И тоже улыбнулся, потому что знал, как он выглядел; он лежал на спине, его член стоял, как мачта корабля. — Не смотри так. Сделай что-нибудь! — со смехом закричал Джок. Она положила сценарий на металлический столик и начала медленно, методично раздеваться. — Ну, как прошла встреча? Расскажи мне! — Неплохо, — ответил Джок, подплыв к бортику и положив подбородок на белый кафель, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, как она раздевается. — Ты получил контракт? — Не совсем, — сказал Джок. Луиза замерла, задрав майку над головой; ее груди приподнялись. — Что значит — не совсем? Он начал объяснять; Луиза освободилась от майки и сняла с себя слаксы, обнажив длинные, сильные ноги. Потерпев неудачу в качестве актрисы, она три года проработала пловчихой в гастролирующей водной феерии; у нее было упругое, красивое тело. В отличие от балерин, ноги у пловчих обычно сильные, великолепные. Когда Луиза обхватывала ими Джока, он испытывал восхитительную, почти невыносимую боль. У нее были также превосходные бедра и столь плоский живот, что, занимаясь с Луизой любовью, Джок мог сосчитать ее пульс по биению брюшной аорты. Сняв трусы, она обнажила две узкие белые полоски от крошечного бикини. Они оттеняли ее загорелую кожу и светлый пушок на лобке. Когда Джок без излишней скромности пересказал ей содержание беседы, Луиза уже приготовилась нырнуть в бассейн. Она прыгнула через его голову и погрузилась так глубоко, что ее соски коснулись голубого дна. Луиза поднялась на поверхность в дальнем конце бассейна под доской для прыжков; она тряхнула головой и внезапно сказала: — Престон Карр? Она словно только сейчас поняла то, что Джок сказал несколько секунд тому назад. — Если бы им на самом деле понравился сценарий, они бы согласились на Ланкастера. Или Холдена. Или даже Митчема, — твердо произнес Джок. — Не знаю, — задумчиво и обеспокоенно отозвалась Луиза и поплыла. Держа голову над водой, она двигалась по бассейну за счет быстрых, изящных, ловких движений ног. Достигнув бортика, она перевернулась на спину и поплыла к центру; ее белые груди возвышались над водой; соски сморщились — предвечерний воздух уже стал прохладнее подогреваемой воды. Она погрузилась чуть глубже; сейчас ее груди казались более полными и светлыми, чем прежде. — Если президент потребовал Престона Карра, значит, он не удовлетворится никем другим, — произнесла она серьезным тоном. Не желая продолжать этот разговор, Джок оттолкнулся от бортика, нырнул в глубь и поднялся на поверхность прямо перед Луизой. Она ощутила бедрами его эрекцию. Это было окончанием беседы. Их связь длилась уже несколько месяцев; они никогда не обменивались словесными нежностями. Вопреки своей внешней сдержанности Луиза обожала секс, однако была весьма разборчива. Одновременно она встречалась только с одним мужчиной; ее романыпродолжались много месяцев. Но с подходившем ей человеком она держалась совершенно свободно, раскованно, без жеманства, тирании и уловок, к которым большинство женщин прибегают из кокетства или во имя фальшивой скромности. Она верила в равенство партнеров и ждала от мужчины удовлетворения в той же мере, в какой давала его сама. Луизе повезло — исключительная привлекательность позволяла ей в большинстве случаев самой выбирать любовников. Когда Джок впервые приехал в Голливуд, ему не понравились бассейны с подогревом воды. Они напомнили ему о любви и неге и разложении нравов, приведших к падению Римской империи. Однако позже он понял, что теплая вода усиливает сексуальность. Она придавала акту дополнительную чувственность, превосходившую ту, что Джок испытал однажды на шелковых простынях римского отеля с итальянской кинозвездой. Джок и Луиза успели дважды овладеть друг другом, прежде чем Финли заметил, что уже стало темно и холодно. Он выбрался из бассейна, чтобы взять теплые халаты и зажечь освещение. Луиза тем временем плавала взад-вперед, словно совершая омовение после близости с мужчиной. Когда она вышла по ступеням из воды, Джок протянул ей красный махровый халат. На мгновение ее тело покрылось мурашками, соски отвердели. Джок закутал Луизу в халат и повернул так, чтобы ему было удобно сжимать теплыми руками ее бюст. Однако она высвободилась и прилегла на двухместный шезлонг. Поколебавшись, Джок направился к бару, чтобы приготовить напитки. Луиза лежала в шезлонге. Голубоватый свет падал на ее тело. Обычно после хорошего секса она выглядела расслабленной, умиротворенной, но сейчас ее явно что-то беспокоило. Джок заметил это. — Как у тебя дела? — спросил он. — Как идут дела на телевидении? Мизансцена, съемка. Мизансцена, съемка. Если актеры произносят все слова приблизительно в нужном порядке, режиссер переходит к следующему эпизоду. — Я не об этом, Лулу. Это было единственное ласковое имя, которое он позволял себе произносить, обращаясь к ней. Не ответив, она вдруг заметила, что ее бокал опустел. Девушка начала подниматься. Но Джок забрал у нее бокал. Он стоял у бара спиной к Луизе, когда она внезапно произнесла: — Я должна тебе кое-что сказать, Джок. Он резко повернулся. — О Господи, ты не беременна? — Нет, конечно. Я должна сказать нечто о тебе самом, — осторожно заявила она. Джок вернулся с двумя бокалами. Она попробовала напиток. — Слишком крепкий. Луиза приподнялась, чтобы добавить содовой, но Джок протянул руку и крепко схватил ее за бедро. — О'кей, Лулу, что именно? Наконец она медленно заговорила, имея в виду происшедшее в бассейне. — Сегодня я впервые почувствовала, что ты испытываешь страх. — О чем ты говоришь, черт возьми? — В большинстве случаев ты — отличный партнер. Сильный, приятный любовник. Раскованный, свободный от обязательств. Да, иногда ты говоришь в шутку: «Когда-нибудь я должен жениться на тебе». Но ты этого не сделаешь. Тебе это известно. И мне, что гораздо важнее, — тоже. Но тут все нормально. А иногда ты состоишь из одной злости. Тогда ты занимаешься сексом, а я просто присутствую рядом. Неважно, кто твоя партнерша. Ты нападаешь на нее. Используешь член в качестве оружия. Женщина — всего лишь жертва. Так было в первую неделю после твоего возвращения из Лондона. Я отнеслась с пониманием к твоему состоянию. Старалась не злиться. Так уж ты устроен. Но сейчас… — она заколебалась, — сейчас, когда ты был во мне, я вдруг поняла: Господи, ему страшно. Она сделала паузу и отпила спиртное, потом осмелилась добавить: — Я впервые видела тебя таким… — По-моему, ты сошла с ума, — сердито перебил ее Джок. — Причина в том, что Марти не позвонил? — Марти позвонит! — исступленно выпалил он и, чтобы сменить тему, резко добавил: — Оденься, мы поедем куда-нибудь поесть. Не желая привлекать внимания Джока к его собственной нелогичности, она мягко произнесла: — Если Марти позвонит, нам лучше не уходить. Я что-нибудь приготовлю. — Я закажу еду! — заявил Джок. — Из китайского ресторана. Я позвоню в «О-Фонг», что на Беверли. — Отлично, — слишком быстро согласилась Луиза. Он оказался более чувствительным и растерянным, чем она думала.
Прошел почти час. Вечерний воздух был прохладным. Все погрузилось в темноту, только вокруг бассейна светились фонари. Вверху шелестели ветви пальм, раскачиваемых ветром. Марти не позвонил, но сейчас это не имело большого значения. Джок снова занимался любовью с Луизой. На двухместном шезлонге у бассейна. Возможно, он хотел показать, что ее слова не рассердили его. Однако он с раздражением ощутил, что ему не нравится прикасаться коленями к пластмассовому креслу. Мужчина не должен замечать такое, предаваясь любовным утехам. Зазвенел звонок входной двери. У Джока мгновенно пропала эрекция; он извинился, встал, схватил халат и направился к двери, бормоча: «Сукин сын!» Придерживая одной рукой края халата и сжимая другой деньги, которые он извлек из сумочки Луизы, Джок попытался отпереть дверь; звонок зазвенел в четвертый раз. — Я здесь! Я здесь! — крикнул Джок. Наконец он справился с замком. Посыльный оказался юношей студенческого возраста; он был строен, высок и, судя по лицу, неглуп. — Извините, но вам необходимо иногда есть, — сказал парень. Джок взял большой теплый пакет в одну руку, протянул посыльному деньги за заказ плюс один доллар чаевых и собрался закрыть дверь плечом; внезапно юноша произнес: — Спасибо. Ваша лекция была великолепной, мистер Финли. Публика редко узнает режиссеров, даже известных. Исключением был Хичкок, часто появлявшийся на телеэкране. Джок не сумел скрыть своего удивления. — Я учусь в лос-анджелесском институте кинематографии. — О, да. Спасибо, — Джок пожалел о том, что дал юноше на чай только один доллар. — Это правда? — спросил парень. Джок застыл в недоумении. — Насчет вашего имени. Как вы его получили. У нас в институте ходят две версии. Изумление Джока заставило студента кое-что объяснить. — Мы обсуждаем всех известных режиссеров «новой волны». Ребята утверждали, что вы получили такое прозвище[1] за то, что вам лучше других американских режиссеров удается насытить фильм атмосферой секса. Так утверждал один критик из Тулейн Драма Ревью». — То был Эрл Уилсон из «Нью-Йорк Пост», — поправил Джок. — Да? Однако, по мнению девушек, прозвище пристало к вам потому, что вы — настоящий голливудский мустанг! По слухам, вы именно таким способом добиваетесь от актрис наилучшей игры. Режиссер действительно должен поступать подобным образом? Проникать в актрису, разделять ее глубинные страсти? Говорят, у вас был роман с девушкой из фильма «Скажи правду» на протяжении всех съемок. Что именно так вы отсняли те потрясающие любовные сцены. Это правда? Из темноты донесся насмешливый голос Лулу: — Джок, дорогой, мне не терпится поскорей порепетировать с тобой ту сцену. Посыльный улыбнулся и покачал головой: — Извините, что я помешал вам. Юноша удалился к своему пикапу, решив, что он получил ответ на свой вопрос. Джок захлопнул плечом дверь и, повернувшись, увидел силуэт обнаженной Лулу, за спиной которой светились фонари. — Ты весьма забавна, крошка. И все же, будь ты хорошей актрисой, тебе не пришлось бы стать помощницей режиссера! Позже, когда они ели, Джок внезапно спросил: — Господи, неужели эти глупые студенты из института кинематографии действительно говорят так обо мне?
Телефон зазвонил утром в половине девятого. После третьего звонка Джок, окончательно проснувшись, понял, что он сидит один в кресле возле бассейна. Он поежился от холода и босиком прошел по влажному бетону и взял телефонный аппарат. — Малыш, — приветливо произнес Марти. — Я тебя разбудил? — Нет, — неубедительно солгал Джок. — Нам надо поговорить! Приезжай ко мне, позавтракаем вместе. Когда ты сможешь появиться здесь? — Через полчаса. — Хорошо. Буду ждать. Энтузиазм Марти вселял надежду. Джок зевнул и осмотрелся по сторонам. Луиза ушла, вероятно, час или более тому назад, чтобы переодеться дома и к восьми прибыть на студию. Финли, зевая и почесывая затылок, думал, что ему сделать — искупаться в бассейне или принять душ. Проще было поплавать. Он сбросил махровый халат, шагнул вперед, нырнул в воду и понял, что фонари горели всю ночь. Проплыв несколько раз от одного края бассейна до другого, он выбрался из воды, вытер себя полотенцем, обмотал его вокруг своих стройных бедер и отправился в дом за одеждой. Через несколько минут он запрыгнул в свой красный «феррари». Сиденье было влажным, и Джок напомнил себе о том, что необходимо на ночь поднимать крышу либо ставить машину в гараж. Финли отъехал от дома и вскоре оказался возле главных ворот Трусдейл Эстейтс». Въехав в них, Джок начал подниматься по широкой крутой дороге к вершине холма, где стоял большой холостяцкий дом Марти Уайта. Заметив, что он прибыл раньше времени, Джок свернул на боковую улочку и подождал там несколько минут не выключая мотора. Если Лулу, заметившая вечером его страх, была права, то ему не следует приезжать к Марти слишком рано и выставлять напоказ свое волнение. Убедившись в том, что он уже опаздывает, Джок медленно тронулся с места, вырулил на главную дорогу и продолжил подъем. Он приехал с десятиминутным опозданием. Японец-дворецкий повел его к изысканно обставленному современному дому. На белой мраморной веранде маленький пухлый человек ждал режиссера, чтобы позавтракать с ним. Марти Уайт был одним из тех толстяков, которые в «Чейзен», в «21», в студийных столовых строго и неукоснительно ограничивают свой рацион сыром, фруктами и черным кофе. Он постоянно жаловался, что никакая диета не помогает ему. У себя дома, однако, он не сдерживал свой аппетит. Сейчас на покрытом белой эмалью столе под зеленым тентом стояли космополитические яства, ставшие доступными благодаря реактивным самолетам. Клубника была доставлена из Франции, сливки к ней от Ната и Эла, осетрина — от Барни Гринграсса. Нарезанная тонкими ломтиками копченая лососина прибыла из Шотландии. Уайт собирался попробовать все. Несмотря на уговоры Марти, Джок согласился выпить только кофе с топленым молоком. Он потягивал его медленно, потому что приехал сюда слушать, а не есть. Филин говорил и ел, жестикулируя ножом и вилкой. Он умолкал лишь для того, чтобы нанести толстый, но ровный слой сливочного сыра на тост. — Малыш, я думал об этом весь вчерашний вечер. Всю ночь. Кажется, я знаю, что делать. Он замолчал, чтобы положить на тост поверх сыра кусок осетрины. — Знаешь, заключение контракта, — продолжил он, — напоминает джиу-джитсу. Ты должен приложить силу к слабому месту противника. В чем слабость нашего славного президента? Что он имеет в виду, когда говорит: «Заставьте Престона Карра сняться в картине, и вы получите контракт»? Он мысленно произносит следующее: «Я готов заплатить Карру миллион долларов плюс проценты от прибыли — это его обычные условия». Наш мерзавец знает, что с учетом стоимости натурных съемок и прочих гонораров эта лента обойдется в семь, возможно, восемь миллионов. То есть, малыш, эта картина будет большой! Но почему она вдруг понадобилась ему? Сегодня ранним утром, в девять по нью-йоркскому времени, я позвонил моему другу в сценарный отдел восточного офиса. Я установил причину. Хитрый сукин сын нуждается в большой картине. В этом году его ждут неприятные объяснения с акционерами; ему необходимо запустить в производство большую кассовую ленту, чтобы сдержать свои щедрые обещания. Вот в чем его слабость! Вот почему он нуждается в таком необычном событии, как возвращение Престона Карра! Точным движением хирурга Марти разрезал пополам ломтик шотландской лососины и положил оба кусочка на один тост. — В чем заключается наша сила? Ему понравился сценарий. Он увидел его потенциал. Он нуждается в нем. И я спрашиваю себя: если ему так необходимы сценарий и Престон Карр, почему он рискует упустить контракт? Почему? Теперь, малыш, наберись терпения. Я объясню тебе, как перехитрить лису. В нашем пакете есть одна составляющая, которую он не хочет принять. Джок почувствовал, что в его горле, желудке, мошонке закипает злость. На самом деле это была не настоящая злость, а страх, который Лулу уловила вчера вечером. — Пошел он к черту! Предложи пакет другой компании! — воскликнул Джок. — Я думал об этом, малыш. Тут есть две проблемы. Во-первых, мы не знаем, какая киностудия захочет снять сейчас столь дорогую картину. Во-вторых, такой пакет — все равно что девушка. После первого предложения она теряет девственность. Девушка может постоянно объяснять, как это произошло, но это уже ничего не изменит. Конечно, я мог бы обратиться в «Уорнерс». Или «Фокс». Но сегодня утром они уже будут знать о вчерашнем предложении. И мне придется объяснять неудачу. Что я скажу? Что президент не пожелал доверить картину стоимостью в семь-восемь миллионов молодому режиссеру, пусть даже весьма талантливому? Тогда захотят ли рисковать другие — «Фокс» или «Уорнерс»? У них тоже недоверчивые, осторожные акционеры. Нет, другая студия — это не решение проблемы. Есть только один выход. Один хороший выход. — Заполучить Престона Карра? — сказал Джок. — Это лишь часть ответа. Если Карр прочитает сценарий и он понравится ему, какой первый вопрос он задаст? Какой первый вопрос любой звезды? — Кто будет режиссером? — Совершенно верно! Так что выход состоит не в том, чтобы заставить Карра прочитать сценарий и полюбить его. Надо заставить Карра сказать: «Я буду сниматься в этой картине, лишь если режиссером станет Джок Финли!» Вот решение, малыш. Вот как мы покажем свою силу и приложим ее к слабому месту студии. Вот как спасем весь пакет! — Я бы не стал посылать сценарий Карру через его агента, — заявил Джок. — Пошлем рукопись непосредственно актеру. — Можем ли мы быть уверены в том, что человек, в течение трех лет отвергавший все, прочтет сценарий? Марти специально задал этот риторический вопрос, надеясь на определенную реакцию. — Есть один выход, — внезапно произнес Джок. — Я сам поеду к нему. Останусь там до тех пор, пока он не прочтет его. — Правильно! Поезжай к нему. Заставь его прочитать рукопись! Продай ему Джока Финли! Вчера я увидел — ты умеешь продавать, малыш. — Где живет Престон Карр? — спросил Джок. — Он — человек, любящий уединение. Он может быть в своем доме в Малибу. Или, что более вероятно, на своем ранчо. Сейчас он проводит там немало времени. Я это проверю. — Выясни, где он, Марти. Остальное сделаю я. — Хорошо, малыш. Вместе мы перехитрим лису.
Еще слыша рев удаляющегося «феррари», Марти набрал личный нью-йоркский номер президента. — Боб? Это Марти Уайт. Как я и обещал, Финли поедет за Карром. — Отлично! Думаешь, он его уговорит? — спросил президент. — Этот малыш — настоящий убийца, когда речь идет о его работе. Он, возможно, сам этого не знает, но я заметил это, когда впервые увидел его в Нью-Йорке. Он уломает Карра. — Марти, есть один момент… — неуверенно произнес президент. — Да, Боб? — Вчера в самолете, возвращаясь домой, я постоянно думал. Финли молод. Речь идет о большой картине. Мне придется объясняться с акционерами. — Ну, Боб… — медленно, задумчиво произнес Марти, — если у тебя есть сомнения, я скажу тебе, как можно поступить… Я никогда этого не делал, Боб… Но ради тебя я соглашусь выступить в качестве исполнительного продюсера. Я уверен в этом пакете. И в моей способности управлять малышом! — В дополнение к твоим комиссионным ты хочешь получить продюсерский гонорар, — сказал президент. — Боб! Мы же друзья! Забудь о гонораре! Я согласен на процент от прибыли. Просто я всегда хотел заняться продюсерской работой, — произнес Марти небрежно, как бы спонтанно, словно принося большую жертву.
Вторая глава
Для Беверли-Хиллз утро выдалось ясным, солнечным. Желтая опасность, как называл Джок ядовитое облако смога, опустилась ниже, в долину. Небо над Беверли-Хиллз было голубым, воздух прохладным и сухим. До полудня смога не ожидается. А в полдень Джок Финли будет уже далеко, на полпути к ранчо Престона Карра, находящемуся в Неваде. Рядом с Джоком на сиденье «феррари» лежал сценарий с оттисненным на обложке названием: «Мустанг». Финли уже доводилось лично представлять сценарий звезде. Но этот случай был самым ответственным. Джок тщательно продумал и отшлифовал свой подход к Престону Карру. На режиссере были старые полинявшие джинсы, простая голубая рубашка и стоптанные ковбойские сапоги. То, каким образом сценарий представлялся звезде, имело огромное значение. Если он посылался почтой, его могли перехватить агенты, менеджеры, жены, любовницы, помощники — любой человек, желавший ради своей личной выгоды устранить рукопись. Могло случиться так, что звезда не получила бы ее. Иногда актер даже не узнавал о ее существовании. Но если кто-то привозил сценарий звезде и предварительно рассказывал о нем, хвалил его и наконец вручал, как драгоценность, рукопись обретала ауру потенциального киношедевра. Актер прочитывал ее с предвкушением, более охотно. Не следовало заранее предупреждать звезду о визите. Большинство знаменитостей при наличии выбора отказалось бы принять гостя. Они не любили чувствовать себя обязанными, когда вероятность положительного ответа мала. Поэтому Джок решил, что, даже когда речь шла о Престоне Кар-ре, ценившем свое уединение, стоило рискнуть и явиться без приглашения. Риск получить отказ, сделав предварительный звонок, был более высок. Поскольку Карр не знал ни режиссера, ни предлагаемого сценария, Джок тщательно подготовился к поездке. Финли собрал как можно больше информации о Карре. Он решил, что недостаточно просмотреть последние шесть лент Карра. Важнее понять, какие мотивы руководят Карром — личностью и актером. Остались ли у Карра слабости, способные заставить его согласиться на участие в этой картине после множества отказов? Сейчас Карр проводил много времени на ранчо. Он любил лошадей. Джок чувствовал, что это хорошо. Но также Карр любил авокадо. И грецкие орехи. Он получал хорошие доходы от разведения лошадей, выращивания авокадо и грецких орехов. Но больше всего он любил жизнь вблизи природы. Ему придутся по душе «Мустанг» и характер Линка — героя, которого он должен сыграть. Главной задачей было расположить Карра, чтобы известный актер проникся симпатией и уважением к Джоку и согласился сняться в его фильме. Финли потратил пять дней на изучение Карра. Быть талантливым молодым режиссером недостаточно. Важнее казаться таковым. Сейчас игра — самое главное. Он, Джок, должен выглядеть, говорить и действовать как человек, способный снять Престона Карра в большом вестерне! Джок ежедневно проводил четыре часа у бассейна, добиваясь темного, красноватого загара, который не только подчеркивал близость к природе, но и прекрасно оттенял обезоруживающие голубые глаза — эффективное оружие Финли. В эти часы Финли читал литературу о разведении и обучении мустангов аппалузской породы. Он был одним из лучших лошадников страны. По утрам Джок брал уроки верховой езды — он не рассчитывал стать мастером в этом деле, но хотел бы понять требования, предъявляемые к наездникам и скакунам. Параллельно Джок обесцвечивал новые джинсы. Он замачивал их в бассейне, сушил на солнце и снова замачивал. Джинсы спровоцировали его размолвку с Луизой. Однажды, под вечер, когда он укладывал их на раскаленном бетоне возле бассейна, Луиза приехала без предупреждения. Съемки телесериала проходили на Малхоллэнд-драйв. Они закончились с приближением сумерек. Оказавшись возле дома Джока, Луиза решила заехать к нему без звонка. Застав Джока за возней с линяющими джинсами, она испытала удивление и не скрыла это от Финли. И начала смеяться. — Что с тобой, черт возьми? — спросил он. — Так поступают старшеклассники, — отозвалась она. Неудачное сравнение или то, что она застала его за комичной подготовкой костюма для визита к звезде, привело к тому, что Джок почувствовал себя незащищенным и униженным. Начав заниматься режиссурой, Джок Финли выработал одну привычку: когда его ловили врасплох и он не знал, что ответить актеру, костюмеру или сценаристу, Джок сам переходил в наступление. — Как ты додумалась приехать без звонка? — спросил он. — Мы закончили съемки чуть раньше обычного, и я… — А если бы здесь находилась другая дама? — перебил он ее. Слова о «другой даме» были излишними, злыми. Луиза не считала себя просто очередной дамой. И он сам знал это. Резкость Джока объяснялась его смущением, чувством неловкости. Не желая ссориться, она насмешливо сказала: — Тебе следует повесить у входа фонарь с надписью: «Тихо, идут съемки». Она наклонилась, чтобы потрогать джинсы, не подозревая, что этот безобидный поступок приведет его в ярость. — Черт возьми, не трогай их! Луиза отпрянула назад и направилась к бару. Она пришла сюда, рассчитывая освежиться в бассейне, позаниматься сексом, пообедать, но сейчас у нее пропало желание раздеваться. Луиза приготовила напиток и села в железное кресло, не собираясь снимать с себя одежду. Самолюбивые молодые люди, особенно с характером Джока Финли, не умеют с легкостью извиняться. Джок медленно разделся, нырнул в бассейн, лениво поплавал, полагая, что Луиза присоединится к нему. Но она допила спиртное, встала и направилась к своему автомобилю. — Не уходи! — крикнул Джок. Мольба прозвучала как приказ. Луиза замерла, повернулась. Джок вылез из бассейна; он взял полотенце, чтобы вытереться и прикрыться им, затем подошел к Луизе и наконец произнес: — Послушай… я не ждал тебя. Не ждал тебя. Никого не ждал. Никого не хотел видеть. — Я поняла. Поэтому я ухожу. — Ты не понимаешь. Подожди. Пожалуйста. Последнее слово было у него весьма редким, оно заставило ее задержаться. — Неужели тебе не ясно? Это спектакль! Игра! На карту поставлена главная картина всей моей карьеры. Городской парень Джок Финли из Бруклина будет снимать вестерн! Достаточно крутой поворот? Но мне нужен Престон Карр. Поэтому я готовлюсь провести его всеми известными мне способами. Я должен походить на заправского лошадника. Говорить, как лошадник. Быть им. Разбираться в кобылах и жеребцах, потому что таковы интересы Престона Карра. Я должен произвести впечатление на Короля кинематографа, последнюю из великих звезд, великий символ американского мужества. И я произведу на него впечатление! Одних линялых джинсов для этого недостаточно. Я должен выглядеть как ковбой, стать им. Неделю тому назад я впервые сел на лошадь. Сегодня я учусь ездить верхом. Я не Джон Уэйн. Но я могу научиться ездить верхом. Да, это надувательство. Ты застала меня за подготовкой к беседе, и мне это не понравилось. Поэтому я вспылил. Я рассердился не на тебя. Я разозлился, что ты увидела меня в этот момент. Извини. Извини. Извини. Извини. Я за всю свою жизнь не произносил это слово столько раз. Ну, хорошо? — Хорошо, — еще не простив его, тихо и обиженно сказала Луиза. Он взял ее за руку, притянул к себе, игриво коснулся ее рубашки. Луиза оставалась неподвижной. Он расстегнул верхнюю пуговицу, обхватил рукой полную, обнаженную грудь, которая не нуждалась в бюстгальтере. Провел рукой по соскам, желая возбудить ее. Она не сопротивлялась и не отвечала. Джок принялся гладить левый сосок и почувствовал, что он набухает, твердеет. В Джоке проснулось желание. Она заметила это и отстранилась. — Пожалуйста, Джок, не надо. У них были в прошлом такие моменты; Джок всегда одерживал верх. Сейчас он обнял Луизу, прижался к ней, чтобы она ощутила всю силу его страсти, но девушка вырвалась из объятий Джока. — Лулу? В этом слове заключалась мольба. Он спрашивал ее, что с ней происходит, почему сегодня у них не может быть так, как прежде. Стоя к нему спиной, она сказала: — В этом городе больше секса и меньше любви, чем в любом другом месте на земле. Он быстро встал перед ней, обхватил руками ее голову. Она посмотрела на него. — Я не хочу, чтобы меня сегодня использовали. Если ты ненавидишь мир и то, что тебе приходится делать, чтобы выжить в нем, признайся в этом. Я смогу понять. Если ты боишься завтрашнего дня, или следующего месяца, или очередной картины, скажи это. Я выслушаю тебя. Но не используй меня физически. Это рассердило его; загорелые щеки покрылись краской. Луиза продолжила: — Я никогда не требовала от тебя любви. Я не говорю, что она мне не нужна, но я никогда не требовала ее. Меня устраивает страсть. Но что-то другое — нет. Поэтому не обрушивай на меня свои страхи и ненависть. В этом городе шлюхи и психоаналитики получают пятьдесят долларов в час. Я не то и не другое. Она шагнула, чтобы уйти, но он схватил ее за руку, притянул к себе, поцеловал в губы, пытаясь проникнуть языком внутрь; она не отвечала ему, однако, отпустив ее, он заметил, что отвердевшие соски Луизы упираются в шелк рубашки. Она оставила его одного.Двигаясь в направлении Невады и ранчо Карра, Джок думал о том, что Луиза может и не вернуться к нему. Прошлым вечером он дважды звонил ей и не услышал ответа. Оба раза он оставил ей сообщения. Но она не позвонила. — Черт с ней! — рассерженно произнес Джок. Сейчас для него было важно только одно дело, один человек — Престон Карр. Ничто не остановит его. Во всяком случае, не женщина. Сейчас будет не так, как в предыдущий раз. Он не протрахает свою карьеру. Буквально. Ему могли не нравится манеры и привычки Марти Уайта, его странные обороты речи, неразборчивость в средствах, но агент был великолепным стратегом, ветераном голливудских войн. Когда Марти планировал кампанию, его указания следовало исполнять. Когда он предупреждал о чем-то, его стоило выслушать. Если бы тогда, в первый раз, шесть лет тому назад Джок внял словам Марти, его карьера сложилась бы совсем иначе. Джок до сих пор помнил, что тогда сказал Марти: «Малыш, здесь ты можешь протрахаться к славе или несчастью». Уайт предупредил его до того, как все произошло. Но Джок не послушал его. В итоге Джоку пришлось покинуть Побережье, вернуться в Нью-Йорк и поставить еще четыре спектакля на Бродвее и за его пределами, а также два малобюджетных фильма. Затем он подписал контракт на английский фильм. Эти годы ему следовало бы провести в Лос-Анджелесе в качестве клиента Марти. Джок Финли мог быть в числе самых известных молодых режиссеров Америки. Однако судьба распорядилась так, что теперь Марти Уайт вынужден разрабатывать специальный план, цель которого — назначение Финли на должность режиссера «Мустанга». Если Джоку удастся сделать кинозвезду своим союзником, шестилетний запрет на использование Финли в этом городе будет преодолен. Это стало возможным лишь потому, что Сол Стейбер продал свой контрольный пакет акций кинокомпании «Стейбер и братья». Он потерял свой вес среди киномагнатов, и они уже не считали необходимым поддерживать его. Марти Уайт решил, что пришло время вывести Джока Финли из черного списка. Джок попал в него отнюдь не благодаря своим политическим убеждениям. Вопреки распространенному мнению, в Голливуде существовали два, а не один, черных списка. Помимо политического, о котором много говорили и писали последние двадцать лет, имелся второй список. В него попадали люди, совершившие возмутительные безнравственные поступки, нанесшие ущерб имиджу киноиндустрии или затронувшие личные интересы влиятельных лиц из числа руководителей основных студий. Одним из первых в этот список угодил Толстяк Эрбакл. И уже недавно в нем оказалась Ингрид Бергман. Об Эрбакле ходил слух, будто он, напившись, ввел девушке во влагалище бутылку из-под «колы», которая, разбившись, привела к кровотечению. На самом деле он разорвал ей внутренние ткани своим громадным членом. Потенциальные потребители семейного развлечения не простили бы никому подобных слухов, истинных или ложных. Дело Ингрид Бергман было более простым и чистым. Она не делала тайны из того, что, будучи замужем за одним человеком, она вынашивала ребенка, зачатого от другого. Серьезность ее проступка усиливалась тем, что предполагаемый отец был иностранцем. За то, что эти звезды скомпрометировали киностудию, они были изгнаны из Голливуда — Эрбакл навсегда, Бергман на много лет. В этот же список попадали несчастные, навлекшие на себя гнев кого-то из киномагнатов и ставшие объектом мести. Когда Сол Стейбер разругался со своим сыном от первого брака и изгнал его со студии, лишив должности вице-президента, все другие студии города поддержали старика. Молодой человек нигде не мог найти работу; ему пришлось заняться недвижимостью; он преуспел в этом деле, не доставлявшем ему удовольствия. Задолго до этого эпизода известный режиссер соблазнил четырнадцатилетнюю певицу, которую один из голливудских магнатов сделал почти звездой. Режиссер был на восемь лет отстранен от работы. Глава студии заявил тогда: «Только извращенец способен трахнуть несовершеннолетнюю звезду». Джок Финли попал во второй список по незнанию. Такое могло случиться с любым молодым, красивым мужчиной, не успевшим усвоить голливудский сексуальный протокол. Даже самый юный, привлекательный, мужественный человек ни при каких обстоятельствах не смел заводить роман с женой или любовницей президента компании или главы студии. Можно трахнуть ее раз или два, возвращаясь под утро с вечеринки, или даже на влажной от росы лужайке клуба, или в кабинке для переодевания у бассейна, или в темном патио. Но это событие должно быть случайным, незапланированным, не имеющим ни для кого значения. Если эти правила соблюдались, дама имела право стать вашей покровительницей, продвигать вас на студии, расхваливать ваши таланты или картины, произнести ваше имя за столом при обсуждении кандидатур для подписания контракта. Но заниматься любовью регулярно, на протяжении недель или месяцев, заставив людей говорить о вас, было серьезным личным оскорблением, которое ни один голливудский босс не спустил бы с рук даже самому талантливому молодому человеку. И даже молодой лесбиянке. Но Джок Финли узнал обо всем этом, когда было слишком поздно. Он познакомился со Сьюзен Стейбер на большом приеме, куда Марти Уайт привел его вскоре после прибытия Джока в Голливуд. Джок впервые получил возможность увидеть близко знаменитых звезд. Они показались ему менее обворожительными и впечатляющими, чем он думал прежде. Женщины с красивыми лицами имели неважные ноги. Мужчины оказывались более низкими и старыми, чем предполагал Джок. Общество приняло его весьма радушно; когда Марти представил Джока как «блестящего театрального режиссера из Нью-Йорка», внимание к гостю стало даже избыточным. Павловский рефлекс в Калифорнии включался двумя кнопками. Возле одной было написано «театр», возле другой — «Нью-Йорк». Нажатие любой из них вызывало обильное выделение слюны. Все это льстило молодому человеку, которому только что исполнилось двадцать шесть лет, и особенно то, что хорошенькая темноволосая женщина не отводила от него глаз с того момента, как он вошел в просторную белую гостиную. Казалось, что ее взгляд был способен даже прожечь дыру между лопаток, если человек поворачивался к ней спиной. Она выглядела великолепно: высокая, узкобедрая. Блестящие темные волосы, стянутые в тугой узел, подчеркивали совершенство ее нежного профиля. На ее удлиненном лице горели черные глаза; полные, ярко-красные, всегда влажные губы были чуть раздвинуты. Позже Джок обнаружил, что они оставались такими даже после того, как он стирал с них помаду своими губами. За ними виднелись ровные белые зубы — настоящие, а не те искусственные, которые археологи будущего смогут в изобилии обнаруживать на территории Южной Калифорнии. На ней было черное атласное платье — возможно, слишком роскошное для воскресной вечеринки в Беверли-Хиллз, однако его покрой отличался классическим совершенством линий и строгостью. Оно подчеркивало изящество белой шеи, тонкость рук и неожиданную полноту бюста. Ее лицо сразу же показалось Джоку знакомым. Очевидно, какая-то звезда прошлых лет, давно не снимавшаяся, подумал он. Однако понимал, что она была молода и поэтому не слишком известна. Он видел где-то ее фотографию. В «Лайфе», «Взгляде» или, возможно, «Воге». Женщина держала в руке бокал и разглядывала Джока. Когда он тоже посмотрел на нее, она внезапно отвернулась и с улыбкой на лице заговорила с Уайтом, который стоял рядом. Джок едва не рассмеялся — коротышка Марти доставал ей до груди. Когда он отвечал своей собеседнице, казалось, будто у нее на бюсте спрятан слуховой аппарат, и Марти говорит в него. Джок, покинув пятиметровый диван, направился к камину, возле которого стояли Марти и женщина. — Джок, малыш, я хочу познакомить тебя со Сьюзен, — сказал Марти. — Сьюзен Стейбер, — он выделил голосом фамилию; это не произвело на Джока никакого впечатления. Финли взял женщину за руку и сказал: — Здравствуйте, Сьюзи. — Марти только что сказал мне, что вы — талантливый театральный режиссер из Нью-Йорка, постановщик последнего хита Джулии Уэст, — услышал он голос Сьюзи. — Отлично! Именно это я и велел ему говорить, — ответил Джок и отпустил руку Сьюзи. Они смущенно рассмеялись; внезапно Сьюзи протянула Марти свой бокал и попросила его: — Дорогой, я хочу «маргариту» со льдом. Марти не хотелось оставлять их одних, но у него не было выбора. Теперь все внимание Сьюзен сосредоточила на Джоке Финли. — Вы, думаю, приехали сюда, чтобы заняться кинобизнесом, — сказала она. — Как и все прочие. — Это правда? — внезапно спросила она. — Что именно? — Ну, ваше имя. — Вы хотите знать, всегда ли меня звали Джок Финли? — Я о другом. Джок — это сокращение от «джок-сок», что значит «мужская сексуальность»? — О, — произнес он, пытаясь изобразить смущение. — Это придумал критик Эрл Уилсон. — Если где-то скромность не украшает мужчину, то это в постели, — сказала Сьюзи и улыбнулась. Марти вернулся с «Маргаритой». Взглянув на бокал, Сьюзи сказала: — Дорогой, разве я просила со льдом? Пожалуйста, замените. Марти перевел взгляд с жадных черных глаз Сьюзи на лукавые голубые глаза Джока и снова удалился в сторону бара. На этот раз Уайт не вернулся; он попросил одного из дворецких отнести бокал Сьюзи. Перед Марти встала проблема непростого выбора. Он боялся вызвать раздражение у жены Сола Стейбера и позволить своему клиенту совершить серьезную ошибку. По голливудским нормам вторая опасность была более серьезной. Марти понял, чем все неизбежно закончится, когда позже, после стандартного чейзхеновского фуршета, старый Сол Стейбер подошел к своей жене и сказал: — Ангел мой, кажется, нам пора. Уже поздно, утром я жду прокатчиков из Нью-Йорка. К этому часу Сьюзи Стейбер уже скинула туфли и танцевала народный израильский танец, который ей показывал Джок. Ее темные волосы свободно падали на белые плечи. Она улыбнулась мужу и произнесла: — Поезжай, дорогой. Я скоро буду дома. Сол не сдвинулся с места, и Сьюзи добавила: — Не беспокойся, пожалуйста. Мистер Финли меня проводит, да? Джок, возбужденный своей победой, радостно кивнул и сказал Солу: — Положитесь на меня, мистер Стейбер. Она будет в полной безопасности! Сол бросил на Джока Финли долгий недоверчивый взгляд, затем он посмотрел на свою красивую темноволосую жену и сказал: — О'кей, Финли. Ласковый, вкрадчивый тон Сола вызвал у Марти испуг. Но Джок не понял, что он совершил ошибку. Все его внимание было приковано к полногрудой, стройной, темноволосой Сьюзи Стейбер; он начал показывать вторую часть танца. Почему-то желание Сьюзи танцевать иссякло очень скоро после ухода старого Сола. Когда Сьюзи и Джок собрались уезжать, Марти предпринял последнюю попытку предотвратить несчастье; он предложил Сьюзи отвезти ее домой в своем «роллс-ройсе». Но Джок к этому времени так увлекся женой Стейбера, что лишь рассмеялся в лицо Марти. Джок и Сьюзен уехали. Марти повернулся к хозяину дома, старому продюсеру из компании Стейбера, пожал плечами и сказал: — Хэл, ты видел. Я сделал все, что мог. — Я уверен, Сол поймет, — отозвался продюсер, пытаясь успокоить Марти.
Они ехали от Беверли-Хиллз к Бель-Эйр; дом Стейбера стоял на Каньон-роуд. Поскольку было уже темно и Джок плохо знал Лос-Анджелес, Сьюзи постоянно указывала ему, где необходимо поворачивать. Ничего не подозревая, Финли начал удаляться от Бель-Эйр; наконец он обнаружил, что забирается на вершину Малхолланд-драйв. Оказавшись наверху, Сьюзи тихо сказала: — Остановись здесь. Я хочу показать тебе кое-что. Он свернул на стоянку возле смотровой площадки. Сьюзи взяла его за руку и сказала: — Идем! Они прошли к ограждению стоянки. Посмотрев вниз, Джок увидел простиравшуюся под ним сетку улиц, зеленые, голубые, красные огни, дома, особняки Лос-Анджелеса и городов-сателлитов, составлявших гигантский мегаполис. Вдали мелькали красные и белые фонари самолета, поворачивавшего над черным океаном. — Здесь всегда снимают сцены, когда продюсер или агент говорит молодой актрисе: «Милая, слушайся меня, и все это станет твоим». Сьюзи засмеялась над избитым клише. Джок растерялся. Она дразнила его? Это шутка или предложение? Будь она менее привлекательна, он бы усмотрел в ее словах предложение и посмеялся бы вместе с ней. Но сейчас его мучило желание. Стройные бедра придали смелость рукам Джока. Внезапно Финли обнял жену Стейбера и крепко поцеловал ее влажные губы, ожидая, что она раздвинет их. Но Сьюзи не ответила ему, хотя Джок чувствовал, что она не сердится. — Малыш, я — не начинающая актриса. И ты — тоже, — шепнула Сьюзи. Финли подумал, что она кокетничает, желая подтолкнуть его к дальнейшей агрессии. Он снова поцеловал ее, на этот раз коснувшись груди Сьюзи. Она высвободилась. — Нет! Нет! Он решил, что она сердится на него, но вдруг услышал: — Не здесь. Сьюзи направилась к машине; Джок проследовал за ней. Развернул автомобиль и, подчиняясь указаниям Сьюзи, съехал вниз к бульвару Заходящего Солнца; они двигались в сторону Бель-Эйр. Молодые люди почти не говорили. Сьюзи много курила; иногда Финли замечал, что она пристально смотрит на него. Джок испытывал боль в паху — Сьюзи сильно возбудила его, а потом оттолкнула. Он сердился, и она знала об этом. Машина подъехала к большим железным воротам стейберовского особняка. Было темно и безлюдно. Сьюзи дотронулась до его руки. — Остановись здесь, — сказала она. — Я думал, что я уже остановился там, — сказал Джок с подавленностью молодого человека, у которого от неудовлетворенного желания распухли яйца. — Не сердись на меня, малыш, — сказала она. — Просто я не хочу заниматься любовью в спешке. У меня нет в этом нужды. Она вышла из машины. Джок был готов взорваться от ярости, когда Сьюзи тихо добавила: — Сбереги свои силы. До завтра. В час дня. «Охотничий домик». Это мотель в Долине, куда ты попадешь, если поедешь дальше по Малхолланд. Сегодня я просто показала тебе дорогу. Она улыбнулась; он разглядел в темноте ее блестящие губы. — О'кей, детка. Сьюзи подошла к массивным воротам; воспользовавшись собственным ключом, она отперла железную дверь и скрылась за ней. Джок подождал. В доме зажегся свет. Он развернул машину и поехал по бульвару к Беверли-Хиллз.
— Мистер Финли? — обратился портье к человеку, вошедшему в отель перед Джоком. — Финли — это я, — произнес режиссер. — Вам оставили сообщение. Срочное. Меня попросили передать его вам тотчас, как вы вернетесь. Позвоните немедленно мистеру Уайту. Джок поднялся к себе, снял трубку, продиктовал телефонистке номер. Марти ответил после первого звонка. — Малыш? — Да, Марти. — Что произошло? — Ничего. — Не лги мне, малыш! — Честное слово, ничего! — раздраженно сказал Джок. Марти испытал облегчение. — О'кей. Пусть все так и остается. Не заводись, малыш. Ты меня слышишь? — Не обещаю. Я лишь сказал, что пока ничего не произошло. — Малыш, послушай меня… Это не Нью-Йорк. Здесь свой сексуальный кодекс. В нем расписано, с кем, как и когда можно это делать. Первое правило таково: не трахайся с женой или подругой президента компании, главой студии, исполнительного продюсера. Это не слишком ограничит твой выбор. Тут хватает других женщин. К тому же жены по большей части — безобразные старухи. Ты столкнулся с редким исключением. Не делай глупости. Сегодня мы проделали важную подготовительную работу, пока ты не связался со Сьюзи. Солу это не понравилось. Весьма не понравилось, малыш. Я хочу, чтобы ты пообещал мне никогда больше не встречаться со Сьюзи Стейбер. Никогда. Джок не дал такого обещания и не стал возражать Марти; агент продолжил одновременно сердито и грустно: — Я знаю, вы договорились о встрече. Тебя ждет утреннее свидание с любительницей мотельных забав. — Послушай, Марти… — Малыш, не надо отрицать. Не лги мне. Сейчас ничего не желаю знать. Пусть я услышу все от Сола и смогу выглядеть удивленным. Джок молчал. — Малыш, здесь дорога, идущая через постель, ведет либо к славе, либо к несчастью. Марти положил трубку. Когда на следующий день Джок приехал в «Охотничий домик», к нему обратился сидевший за стойкой администратор: — Мистер Финли? Джок кивнул. Клерк протянул ему ключ: — Ваш секретарь заказал номер по телефону. Джок взял ключ, сел снова в машину и, двигаясь по стрелкам, добрался до уединенного коттеджа, расположенного поодаль от остальных строений. Открыв дверь домика, он обнаружил копию типичной новоанглийской спальни, обставленную мебелью из клена; на стенах были обои с красно-белым рисунком, на полу лежал мягкий ковер. В спальне пахло свежестью, чистотой; шум кондиционера заглушал рев грузовиков, доносившийся с бульвара Вентура. Джок закрыл дверь и, вспомнив предостережения Марти, запер ее. Финли услышал тихий, спокойный голос. — Малыш? Сьюзи находилась в ванной. Ее голос был, как и вчера, весьма сдержанным, но Джок уловил в нем ноту радости. Она вышла из ванной в пеньюаре с кружевной каймой, плотно затянутом на тонкой талии иподчеркивавшим полноту ее груди. Сьюзи расчесывала свои блестящие черные волосы. Ее окутывало облако столь сильного аромата, что Джок уловил его из дальнего угла спальни. Он испытывал знакомую боль желания. Это произошло внезапно, мгновенно; к Финли вернулось разочарование вчерашней ночи. Сьюзен подошла к Джоку и поцеловала его, продолжая расчесывать волосы. Он поднял ее голову и посмотрел в лицо. При дневном свете она выглядела весьма недурно. У нее были бездонные черные глаза, вокруг которых Джок не заметил морщинок. Высокие скулы Сьюзен обладали безупречной формой. Меж влажных, чуть раздвинутых губ виднелись ровные белые зубы. Его рука переместилась от ее лица к плечу, затем еще ниже. Джок без труда справился с поясом, завязанным на один узел «бантиком», и распахнул пеньюар. Сьюзи продолжала расчесывать волосы даже тогда, когда он схватил ее и принялся целовать — сначала в губы, затем в нежную белую шею; он добрался до грудей, оказавшихся не только полными, но и твердыми. Это удивило Джока — Сью, похоже, давно разменяла четвертый десяток. Почувствовав его эрекцию, она прошептала: «Не спеши». Джок решил, что сейчас повторится вчерашняя ночь. Он вырвал расческу из ее пальцев и швырнул в сторону. Расческа ударилась об стену и упала на ковер. Финли не взглянул на нее, потому что был занят грудями Сью. От них исходило благоухание. Он касался языком и губами ее крупных, твердых, набухших сосков. Сью отвернулась от Джока, убрала его руку от левой груди и повела к кровати, тихо сказав: «Идем, малыш». Возле кровати он попытался снова обнять ее, но она ловко ускользнула. Заставила его опустить руки и произнесла: — Позволь маме. Сьюзи начала раздевать Джока: сняла с него куртку, рубашку, брюки. Она словно совершала какой-то ритуал. Его раздевали с той торжественностью, с какой одевают матадора. Во время этой процедуры Джок понял: обращение «малыш» подразумевало, что Сьюзи должна играть роль матери, доминировать в сексуальных отношениях. Раздев Джока, Сьюзи взяла его руки и прижала их к своим грудям так сильно, что, несомненно, испытала боль, но она, похоже, желала этого. Затем она толкнула его так, что он сел на кровать. Сью приблизилась к Джоку, раздвинув его ноги, и крепко прижалась бюстом к его лицу. Он почти задыхался. Но она держала его в таком положении довольно долго. Все это время отвердевший орган Джока упирался в белые бедра Сью, но она не пускала его внутрь себя. Она заставила Джока вытянуться на кровати, опустилась на колени между его ног. Кончики ее блестящих черных волос касались его восставшего члена. Она начала раскачиваться, дразня, возбуждая Джока своими волосами. Он снова испытал боль. Когда он попытался схватить Сьюзи, она с силой оттолкнула его, словно он помешал ей испытать блаженство оргазма. Следуя инстинкту, Финли попробовал овладеть ею, но она вонзила свои длинные красные ногти в его бедра так яростно, что он поморщился. Сьюзен продолжала ласкать Джока волосами, двигаясь все быстрее и быстрее, пока он не испытал мощный оргазм. Только тогда она легла на Джока, прижалась к нему, поцеловала в губы, как бы благодаря его, словно весь акт совершила не она, а он. Спустя некоторое время Сьюзен перекатилась на спину, зажгла сигарету и сделала глубокую затяжку, словно желая восстановить силы с помощью табачного дыма. — Ты мне подходишь, малыш. Очень подходишь. И я могу доставить тебе удовольствие. Только всегда разрешай маме делать то, что она хочет. В тот день Джок понял, что Сьюзен имела в виду. Он кончил шесть раз, хотя она так и не позволила ему войти в нее. Однако Сью казалась более удовлетворенной, чем любая из девушек, с которой Финли когда-либо занимался сексом обычным способом. Она с гордостью отметила, что он совсем не устал и под конец был таким же сильным, как вначале. Внезапно Сью сказала: — Господи, уже поздно. Я должна бежать. Она поднялась с кровати, оделась быстро, но тщательно. Через несколько минут перед ним стояла роскошная дама из Беверли-Хиллз, с которой он познакомился на вчерашней вечеринке. Перед уходом Сьюзи сказала: — Ты не можешь звонить мне. Сол прослушивает все телефоны. Во время очередного свидания мы будем договариваться о следующем. Если Сол внезапно уедет куда-нибудь, я оставлю сообщение в отеле. А пока до пятницы. «Ривьера». Это в Бербенке. В то же время. Она шагнула к двери и остановилась. — Комната оплачена. Ты можешь просто выйти, сесть в машину и уехать. Пока, малыш. Она исчезла. Он лежал на спине, положив руки под голову, и мысленно произносил: «Господи! Вот это дамочка!» Он дал себе слово поставить на этом точку. Но к пятнице снова желал ее. Даже поехал в «Ривьеру». Финли приезжал каждый раз в указанное ею место. И каждый раз она была лидером и агрессором. Использовала разнообразный арсенал любовных приемов, чтобы пробудить, усилить и удовлетворить его желания. Волосы были ее любимым оружием, в конце концов с их помощью она доставляла Джоку наибольшее удовольствие. Каждый раз опустошенный Финли говорил себе, что это свидание станет последним. Но потом в указанный день и час снова приезжал в выбранный ею мотель. Постепенно Сьюзен раскрывала перед ним свое прошлое. Она приехала в Голливуд, когда ей исполнилось пятнадцать, и уже была красавицей, решившей стать кинозвездой. Изящная, но с неожиданно полными для столь юного возраста грудями, она прибавляла себе года. Сьюзен стала любовницей, а затем и женой художника-постановщика с киностудии Стейбера. После долгих уговоров она добилась того, что муж организовал для нее кинопробу. Сол Стейбер, ожидая просмотра текущего съемочного материала с Эрролом Флином, увидел ее. Тогда он еще не был стариком. Сьюзен произвела на него впечатление. Муж одел Сьюзи так, чтобы подчеркнуть в ней все самое лучшее. Сол вызвал ее в свой огромный кабинет, чтобы побеседовать с ней наедине. Он называл Сьюзи «молодой леди», хотя ей еще не исполнилось и шестнадцати лет. Узнав об этом, Стейбер сильно огорчился. Он не хотел, чтобы его обвинили в соблазнении несовершеннолетней. Сославшись на ее юный возраст, Сол настоял на том, чтобы она немедленно наняла агента для защиты своих интересов. На эту роль прекрасно подошел агент ее мужа. Решив пренебречь обычной практикой, Стейбер сам лично провел переговоры с агентом, который добился весьма выгодного для Сьюзи контракта. Также был подписан новый долгосрочный контракт с ее мужем. Не прошло и года, как Сьюзи развелась с художником-постановщиком. Сол также расторг свой брак. Затем он сделал ей предложение. Поскольку ее карьера складывалась не слишком удачно, брак с Солом Стейбером казался весьма правильным ходом. Бывший муж продолжал работать в компании Стейбера. Он получал весьма солидные гонорары. По сути, Сью перешла из одних рук в другие в результате сделки, выгодной для всех, кроме самой девушки. Оказалось, что Сол хотел полностью владеть Сьюзи и не собирался делать из нее звезду. Теперь она оправдывала свою супружескую неверность, считая ее местью Солу, погубившему ее карьеру. Она выбирала себе все более и более молодых мужчин. Ирония ситуации заключалась в том, что сейчас Сол не мог развестись с ней, сколько бы она не изменяла ему. Для снижения налогов Стейбер переписал на ее имя добрую половину принадлежавших ему акций. Все это Сьюзи постепенно рассказала Джоку; они сближались, лучше узнавая друг друга. Джока изумляло то, что она всегда выбирала новые мотели. Сколько молодых мужчин у нее было? Когда она успела познакомиться с таким количеством мотелей и их администраторов? Но цифры интересовали Джока не слишком сильно, поскольку Сьюзи обладала дразнящими черными волосами, восхитительными благоухающими грудями и всегда влажными губами.
Если бы они встречались только днем, их связь могла продолжаться долго и закончиться сама собой без последствий. Но после первых пяти недель при каждом отлете Сола в Нью-Йорк, Лондон или Рим Джок находил в своем гостиничном почтовом ящике записку. «Вторник, девять, «Сьерра», Уэствуд». Или: «Пятница, десять, «Фронтир», Норт-Голливуд». Свидания всегда происходили после обеда. Сьюзи не желала рисковать, обедая с ним в ресторанах. Они приезжали раздельно в мотель и покидали его поодиночке. Они отступили от своих предосторожностей лишь однажды, когда Сол отправился в десятидневное турне. Ему предстояло посетить Лондон, Рим, Ближний Восток, Дальний Восток. Сьюзи осмелилась принять предложение Джока пообедать с ним в ресторане Санта-Моники. Темное укромное заведение казалось вполне безопасным. Оно и правда было таким. Дважды Джок забирал Сьюзи от особняка Стейбера, чтобы увезти ее в выбранный ею мотель. Дважды он доставлял ее назад к огромному темному дому за высокими железными воротами. Во второй раз они сидели в машине с выключенными фонарями: болтали, целовались; она дразняще водила по его загорелой груди ногтями, иногда вонзаясь ими в кожу. Целуя Сьюзи, Джок проникал языком в ее горячий влажный рот. Она начала ласкать его член, причинять ногтями возбуждающую боль. Внезапно их обоих ослепили два ярких снопа света, обративших ночь в день. Джок услышал крик разъяренного человека: — Дерьмо! Подлое дерьмо, я убью тебя. Убью! Это был Сол Стейбер, но гнев изменил его голос почти до неузнаваемости. Его старое, сердитое лицо горело сквозь стекло автомобильной двери; ярость сделала глаза старика огромными, безумными. Сначала Джок решил, что старик обращается к нему, затем он услышал: — Я убью тебя, грязная шлюха! Ты получишь, сучка! Вытащите ее оттуда! — приказал Сол. Двое мужчин в форме студийных охранников вынырнули из мрака. Один из них шагнул к правой дверце машины, распахнул ее, схватил Сьюзи за руку и вытащил женщину из салона. Второй мужчина открыл левую дверцу и схватил Джока за рубашку с такой силой, что тот едва не задохнулся. Маленький старый гном Сол Стейбер подошел к Сьюзи и дважды наотмашь ударил тыльной стороной кисти по ее нежному овальному лицу. На восхитительных губах женщины появилась кровь. — Шлюха! — снова закричал он. — Я тебя купил. И я продам тебя, когда сочту нужным. Еще одна такая выходка, и я убью тебя… Ты слышала? Убью тебя! Обессилевший от ярости и рукоприкладства старик тяжело дышал. Он произнес хриплым шепотом: — Иди домой. Шлюха. Бесстыжая шлюха. Когда охранник отпустил Сьюзи, она едва не упала. С окровавленным лицом она молча направилась к темному дому. Жена Стейбера шла не опуская головы, мобилизовав все свое самообладание. Когда она скрылась из виду, старик повернулся к Джоку, которого все еще удерживал здоровенный охранник. — Вытащите его из машины, — произнес старик без прежней ярости. Охранник вытащил Джока из автомобиля. Когда Джок попытался ударить противника, второй охранник быстро подошел к Финли и перехватил его руки. Старик шагнул к Джоку, посмотрел ему в глаза и сказал: — Что касается тебя, то твоя карьера в кино закончилась. Я покажу тебе, чем чреваты игры с моей женой. С завтрашнего утра ты мертвец для Голливуда. И больше не получишь работу в этом городе! Джок уже решил, что все закончится угрозами, однако старик тихо приказал охранникам: — Проучите его. Один из охранников держал Джока. Второй ударил его длинной дубинкой по бедрам на уровне мошонки. За первым ударом последовали другие. Джок закричал от безумной боли, пронзившей пах. — Проучи его хорошенько! — крикнул старый гном. Охранник продолжал избивать Джока. Наконец неистовая боль в паху заставила Финли потерять сознание.
Придя в себя, Джок понял, что находится в своем автомобиле на обочине пустынной дороги в Уэствуде, неподалеку от университетского городка. Застонав, он приподнялся, стал искать следы крови, но ничего не обнаружил. Он посмотрел в зеркало заднего вида. Его лицо было цело. Только в паху Финли чувствовал невыносимую боль. Его профессионально избили люди, которым, очевидно, уже доводилось выполнять подобную работу. Результат достигался без видимых следов; не каждый станет заявлять о таком нападении в полицию. Превозмогая боль, Джок доехал до отеля, бросил машину на улице за зданием и вошел в него через задний двор. В столь ранний час он мог остаться незамеченным никем, кроме портье, подметавшего вестибюль. Джок решил подняться по лестнице, но ему не удалось одолеть второй пролет, и он вернулся к лифту. Пока он ждал его, один из гостиничных клерков поздоровался с Джоком: — Доброе утро, мистер Финли. Несомненно, клерк решил, что Джок недурно провел ночь в чьей-то постели. Марти привел к нему врача. Заключение доктора было следующим: никаких серьезных повреждений нет, со временем боль пройдет. Воспоминание об этой ночи может на какой-то период осложнить сексуальную жизнь Джока, но серьезных нарушений ждать не следует. Заключение Марти было более зловещим. Ситуация плоха, весьма плоха. Надо подождать, тогда станет ясно, что произошло. Но Марти не давал Джоку больших надежд. Он посоветовал ему вернуться в Нью-Йорк, немедленно приступить к работе над спектаклем и выждать. Человек в возрасте Сола Стейбера не может жить вечно. Однажды Джок случайно встретил Стейберов на приеме после премьеры в «Четырех временах года». Глядя на них со стороны, можно было подумать, что они — одна из тех счастливых супружеских пар, о которых пишут в воскресных приложениях к общенациональным газетам. Вопреки событиям той ночи, грубости Стейбера, его обвинениям и физической жестокости в обращении со Сьюзен, сейчас в их отношениях присутствовали теплота, доброта, уважение. Когда кто-то, не знавший об их давней связи, представил Сьюзи Джоку, миссис Стейбер протянула руку так, словно они не были знакомы. Она быстро закончила беседу и отошла к другим гостям. «Стала ли та ночь концом ее связей или она по-прежнему наказывает старого Сола, только с большей осторожностью?» — подумал Джок. Он так и не узнал этого. Предупреждавший его Марти оказался прав. Дорога, шедшая через постель, привела Джока к несчастью. Возвращение не могло быть легким. Таланта было недостаточно. Времени — тоже. Двери Голливуда открылись перед Джоком Финли снова, лишь когда Сол Стейбер продал акции, принадлежавшие ему и жене. На сей раз, решил Джок, он добьется большого успеха. Покажет им всем. Дешевые фильмы и бродвейские спектакли навсегда станут для него делом прошлого. Но для этого он нуждается в Престоне Карре. И получит его.
Джок и не предполагал, что ранчо Карра окажется таким огромным. Миновав открытые ворота с большой буквой «К», закрепленной наверху, Джок долго ехал, не видя никаких строений. Наконец Финли добрался до них. Они находились в превосходном состоянии. В своем большинстве строения были новыми. Все ранчо производило впечатление процветающего предприятия. Для бывшего бруклинского паренька Джока Финли слово «ранчо» ассоциировалось с чем-то простым, архаичным; он увидел нечто совсем иное. Загон для скота тоже был не совсем обычным. Трибуны, возведенные с одной стороны, вмещали несколько сотен зрителей. Нет, это были не декорации для съемок эпизодов с участием ковбоев в потертых кожаных куртках, объезжающих диких лошадей. Несколько мужчин, сидевших на заборе, молча наблюдали за опытным всадником, заставлявшим великолепного мустанга-аппалуза проделывать сложные упражнения. Когда «феррари» Джока остановился неподалеку от загона, никто не повернул голову в его сторону. Джок выскочил из машины, не открывая дверцы, подумал, не взять ли с собой сценарий, и решил пока этого не делать. Он направился к загону раскачивающейся, ритмичной походкой ковбоя. Еще не дойдя до ограждения, он понял, что всадником был Престон Карр. Сидя на небольшой лошади, Карр казался более крупным, чем предполагал Джок. Он управлял животным с легкостью и уверенностью, и Финли вдруг понял, почему последние двадцать лет Карра называли в мире кино «Королем». Красивый, мужественный, уверенный, сильный, загорелый, с черными волосами и тонкими усиками, он выглядел на двадцать лет моложе. Стиль есть стиль. Им обладают хорошие авторы. А также режиссеры. Если вы имеете чутье, вы можете уловить стиль в человеке или лошади. Даже если вы знаете очень мало о лошадях и наездниках. Джок видел, что Престон Карр обладает стилем. Повернувшись лицом к трем мужчинам, Карр крикнул: — Он готов, Смитти. На самом деле готов. Это был комплимент тренеру и лошади одновременно. Карр подъехал к ограждению; тренер спрыгнул на землю, чтобы забрать животное. Карр соскользнул с лошади одним плавным, непрерывным, грациозным движением, которое много лет восхищало кинозрителей, как мужчин, так и женщин. Карр оказался выше ростом, чем ожидал Джок. И шире в плечах. Он был хорошо сложен, твердые бицепсы растягивали короткие рукава его английской рубашки. На предплечьях Карра бугрились мускулы. У него были сильные руки наездника. Джок шагнул к нему. — Мистер Карр? Престон ответил вполне приветливо: — Да, малыш. Что такое? В обращении «малыш» не было ни теплоты, ни враждебности. Так мужчина говорит с мальчишкой. Джоку это не понравилось. Зрелый мужчина не отдает себя в руки малышу. Джок произнес с твердостью в голосе: — Финли. Джок Финли. Он надеялся, что Карр вспомнит его фамилию. Однако этого, похоже, не произошло. — Привет, Финли. Что я могу для вас сделать? Джок начал злиться. Карр произнес эти слова так, словно он говорил с молодым торговцем сельскохозяйственной техникой, который нанес ему первый визит. Или с конюхом. Джок понял, что сейчас ему необходимо утвердиться, заявить о себе — быстро и решительно. Он твердо, но без злости произнес: — Джок Финли. Вы можете сделать для меня следующее: спросите, почему я потратил пять часов на то, чтобы приехать сюда к вам. Если бы Джок сказал это без улыбки, такая дерзость не сошла бы ему с рук. Но его улыбка, невинность, излучаемая голубыми глазами, спасли положение. Поколебавшись, Карр тоже улыбнулся. — О'кей, почему вы потратили пять часов на то, чтобы приехать сюда? Пожалуй, будет лучше, если вы ответите мне за бокалом спиртного, поскольку вы, похоже, нуждаетесь в нем. Карр провел его в дом, стоявший за загоном. Но это строение оказалось вовсе не «домом». Это был бар, игровая и бильярдная одновременно. За весьма скромным фасадом скрывалась комната, обшитая красным деревом и обставленная мебелью из натуральной кожи. В ней работал кондиционер. Сидя в кресле с бокалом в руке, человек мог через большое окно наблюдать за происходящим в загоне. Или любоваться невадскими горами — пурпурными, коричневыми, серыми, со снежными вершинами, окутанными нежными белыми облаками. «Кондиционеры, окна с живописными видами, массивные кожаные кресла из Нью-Йорка — вот что такое простая ковбойская жизнь сегодня», — подумал Джок. Они оба пили шотландское виски. Финли — с содовой, Карр — чистое, со льдом. Джок отметил, что спиртному было восемнадцать лет; Престон потягивал его медленно, как истинный ценитель, а не как алкоголик. Джок все еще думал о фразе, произнесенной Карром: «…за бокалом спиртного, поскольку вы, похоже, нуждаетесь в нем». Имел ли Престон в виду долгую поездку под жарким солнцем? Или внутреннее напряжение Джока? Его неуверенность? Неужели это заметно? Не говорил ли Карр то же самое, что пыталась сказать в тот вечер Луиза? Если у Престона и были скрытые мотивы, то он не выдавал их. Во всяком случае тем, как он наливал спиртное и протягивал его Джоку. Тем, как он сам пил виски. И той непринужденностью, с которой он ждал объяснения. Если бы Карр хоть немного раскрылся, Джоку стало бы легче. Финли пришлось произнести несколько лестных фраз. О впечатляющем ранчо. О красоте животных — здесь Джок вставил несколько профессиональных терминов, усвоенных им недавно. О виде, открывавшемся из окна — он почувствовал, что его следует отметить. Карр принимал каждую банальность приветливо, с улыбкой. Престон отвечал фразами, которые он говорил сотни раз посетителям, продюсерам, журналистам. Было очевидно, что он вежливо ждал объяснения. Джок внезапно точно бросился в воду вниз головой. Совсем не так, как планировал. — Мистер Карр, я — режиссер, — выпалил он, — кинорежиссер! Карр продолжал приветливо улыбаться. — «Черный человек», — произнес Джок. Увидев, что Карр не реагирует, Джок добавил: — «Скажи правду». — О, да, — произнес наконец Карр. — Да, я слышал. Кажется, в Нью-Йорке эту картину оценили весьма высоко. Чтобы смягчить еле уловимую иронию, Карр пояснил: — Сейчас я редко смотрю кинофильмы. Разве что по телевизору. Престон улыбнулся, подумав о том, что он часто видит на экране самого себя. — Я понимаю, — продолжил Карр, — фильмы вроде ваших не попадают на телеэкраны. Это был намек на то, что фильмы «новой волны» насыщены обнаженной натурой, откровенными сценами, даже сексуальными извращениями. Джок улыбнулся. Но это была улыбка вежливости. Ему не нравилось, как проходит встреча. Не совершил ли он ошибку, приехав без предварительного звонка, без приглашения? В любом случае сейчас от него требовалась дерзость. — Мистер Карр, если вы хотите знать правду, я приехал сюда, чтобы понять, насколько вы искренни. Нет ли в вас фальши? Улыбка продолжала играть на коричневом лице Карра, но его глаза стали сердитыми. Джок понял, что удар достиг цели. Он еще не мог оценить значения маленькой победы. Но Финли привлек к себе внимание Карра, вызвал в нем гнев, а возможно, даже и уважение к себе. — Давайте внесем ясность в ситуацию, мистер Карр, — Джок не без язвительности выделил голосом слово «мистер». — Я получаю полторы сотни тысяч за картину. Вот «феррари», стоящий шестнадцать тысяч. Я потратил пять часов моего драгоценного времени, чтобы приехать сюда. Я проведу здесь остаток дня и потрачу еще пять часов на обратный путь. Завтра. При слове завтра лицо Карра начало багроветь. Но Джок, избрав такую тактику, теперь уже не смел повернуть назад. — Я хочу до моего отъезда получить ответ на этот вопрос, мистер Карр. Так что если вы намерены избавиться от меня, вам следует позвать двух крепких мужчин, чтобы они оттащили меня к «феррари», привязали к машине и отвезли за пределы вашего ранчо. Другим путем я не покину его. Сегодня! Карр промолчал. Это были самые долгие мгновения, какие доводилось переживать Джоку Финли. Затем Карр начал смеяться. Он словно хотел сказать: «Я сталкивался с наглостью, но не такой! Малыш, а ты не из робких!» Наконец Джок почувствовал в его смехе уважение. — О'кей, Финли, что заставляет вас считать меня неискренним? — спросил Карр, когда смог заговорить. — Вы сидите здесь, окопавшись среди роскоши, которую можно купить за деньги. Вы заявляете миру, что вернетесь в кино, как только появится подходящий сценарий. Но мне кажется, что вы окопались здесь навсегда. У вас есть все необходимое. Поэтому подходящий сценарий не появится никогда! Подходящий для вас. Потому что в вашей душе поселился страх. Пришло новое время. Вы боитесь, что ваша игра покажется бледной, слабой по сравнению с тем, что демонстрирует молодежь. Или что режиссер моего типа будет слишком силен и склонен к реализму, к которому вы не привыкли. Если я прав, скажите это. И я сяду в мой итальянский автомобиль и уеду отсюда. Сам. Без посторонней помощи. Но если я ошибаюсь — очень надеюсь на это, — тогда я смогу предложить Престону Карру роль, которая станет его лучшей ролью! Режиссерская интуиция Джока подсказала ему, что сейчас надо замолчать. Карр беззвучно вращал массивный хрустальный бокал; большим пальцем он стер с него конденсат. — Оставьте сценарий. Я сообщу вам о моем решении. Джок отрицательно покачал головой. — Я должен прочитать сценарий и обдумать. Джок кивнул. — Тогда оставьте его. Джок снова отрицательно покачал головой. На лице Карра появилось сердитое выражение. Это вселило в Джока надежду. Он, кажется, задел нерв, который искал. Почувствовав себя уверенней, сильней, Джок сказал: — Я подожду, пока вы будете читать и обдумывать его. Завтра вы скажете свое слово. Оно будет последним. Я не стану спорить с вами. Но я хотя бы получу ответ на мой вопрос. Да или нет. Я не буду ждать вашего отказа неделями, месяцами, как это было с другими режиссерами. Вы поймете, мистер Карр, что я не такой, как другие режиссеры! Поколебавшись, Карр спросил: — Где сценарий? — Я принесу его. И Джок направился к «феррари» той ковбойской походкой, которую он освоил за последние несколько дней.
Карр поместил его в один из коттеджей для гостей. Но они обедали вместе в главном доме. После обеда они сидели в просторной гостиной, обшитой деревянными и каменными панелями, перед большим полыхающим камином — вечер выдался прохладным. Они пили бренди. Опять самое лучшее. Во время обеда Карр не вспоминал о сценарии. Он говорил в основном о прежнем Голливуде, о выдающихся личностях, о знаменитых шутниках, о талантливых алкоголиках и, наконец, как водится, о сексуальных подвигах звезд. То были великие дни; еще не появились телевидение, соперничество с зарубежными фильмами, новые критики, новый стиль; тогда «Голливуд» было волшебным словом, а Престон Карр — Королем. Ни слова о сценарии. Вдруг Карр внезапно произнес: — Те сцены с девушкой. Я гожусь ей по возрасту в отцы. Как отнесется к этому зрительская аудитория? Услышав этот вопрос, Джок понял, что у него есть реальный шанс заполучить Престона Карра, контракт, восьмимиллионный бюджет! Но он также знал, что сейчас необходимо действовать крайне осторожно. Он еще не почувствовал, насколько силен интерес Карра к психологии персонажей и к глубинному значению их сексуальных отношений. Джок ощущал лишь, что его объяснение должно оказаться впечатляющим, убедительным и очень лестным для Престона Карра. Вставая, Джок улыбнулся. — Сейчас вы произнесли магическое слово, мистер Карр. Теперь я знаю, что мы найдем общий язык. Аудитория, мистер Карр. Аудитория! Это ключ ко всему, что я делаю и о чем думаю. Ключ к каждой сцене, которую я ставлю. Именно это делает «новую волну» действительно новой. Это дает силы мне, «малышу», которого зовут Джок Финли… да, мистер Карр, первое слово, которое я услышал от вас, было «малыш». Но этого «малыша» знает весь мир. Вот что важно! В глазах критиков Джок Финли кое-что стоит. Почему? Отчасти причина во мне. А отчасти — в том, что я знаю о них кое-что! Аудитория! Я знаю о ней кое-что такое, о чем она сама не догадывается. Мы живем в новом мире, мистер Карр! Это сделало телевидение. Но не так, как вы думаете. Не соперничеством с кино, а тем, что оно, телевидение, изменило характер аудитории. Когда-то люди собирались в кинотеатрах. Они нуждались в обществе друг друга для того, чтобы получить удовольствие от фильма. Сидеть в пустом зале было грустным занятием. Вам знакомо чувство, которое испытываешь, сидя в одиночестве в просмотровой комнате? Но с появлением телевидения весь мир, вся аудитория привыкла смотреть и слушать в одиночестве. Не только фильмы, но и новости. Самые потрясающие, волнующие, ужасные события сегодняшнего дня. Мы смотрим их одни. Часто нам не с кем поговорить, разделить наши чувства, реакции. Джок принялся ходить по огромной комнате, жестикулируя. Он, казалось, находился в собственном мире. Ему удавалось произвести впечатление на Карра. Джок тайком наблюдал за актером. Пока его слова впечатляют Короля, он будет говорить. — Внезапно, в один прекрасный день, без всякого предупреждения, мы стали одинокими зрителями всего происходящего! Мы больше ни в чем не участвуем! Аудитория распалась на совокупность индивидуумов. Теперь каждый человек отрезан от других. Больше нет общности, называемой аудиторией. Есть только множество одиноких людей с глазами, ушами и еще кое с чем. Они смотрят, смотрят, смотрят, но не участвуют. С этой новой зрительской массой происходит нечто странное. Ее обработали. Люди хотят испытывать чувства, быть частью мира, общаться с другими людьми. Но при этом оставаться защищенными от подлинной вовлеченности, от настоящей боли. Мы стали наблюдателями. Сегодня люди смотрят фильмы, чтобы прикоснуться к жизни, которую они не смеют прожить. Теперь я знаю это. Знаю аудиторию лучше, чем она сама. И должен знать ее так, потому что, снимая фильм, я живу и чувствую за сотню тысяч человек. Я должен быть более чувственным, более эмоциональным. И более требовательным. Да, мистер Карр, я хочу предупредить вас. Когда я стараюсь воплотить мечты, желания несчастных индивидуумов, обреченных на жизнь без риска, без любви, без сильных страстей, я проявляю беспредельную требовательность к себе и к другим. Я делаю фильмы для одной собирательной личности, которая называется аудитория. Я убеждаю ее отдать мне свои тайные чувства. Смотрю ли я на нее с презрением? Нет! С жалостью? Да! Я делаю ее жизнь более терпимой, менее скучной, менее одинокой. Специалисты говорят, что фильмы — это обезболивающий наркотик для зрителей. Я с этим не согласен. Я причиняю людям боль. Часто. Хватаю их, удерживаю, меняю. Разрушаю одиночество, создаваемое телевидением. Протягиваю им мою руку и говорю: «Эй, давайте испытаем это вместе!» Джок повернулся лицом к Карру, словно извиняясь за то, что так сильно раскрылся перед ним. Тихо, как бы устало, произнес: — Вот мое отношение к аудитории. Вот почему я испытал облегчение и радость, услышав, что прежде всего вы заговорили о зрителях. Что скажут о вашей связи с девушкой? Я отвечу вам, что они скажут. Потому что я сам заставлю их сказать это! Во-первых, сексуальный импульс исходит от девушки. Это уже само по себе избавляет вас от осуждения публики. Более того, эта девушка отчаянно нуждается в мужчине вашего типа. Зрелом, красивом, обладающим животной сексуальностью. Но с большой силой отца, вселяющего уверенность. Ей необходимо ощущение безопасности, которое способен дать только зрелый человек. И вы интуитивно чувствуете это. Вы знаете, что нужно девушке, чтобы помочь ей выйти из состояния растерянности и душевной муки. Именно поэтому в конце концов вы уступаете и сближаетесь с ней. Заметьте, вы не соблазняете девушку. До знакомства с вами она была шлюхой! На самом деле вы спасаете ее от постоянного поиска новых партнеров! Вы встречаете запутавшуюся, избитую девушку, которую использовали многие мужчины, а оставляете ее помудревшей, более зрелой, готовой выйти замуж и вести добропорядочную жизнь с мужчиной ее возраста. Вы поступаете так, хотя и любите ее. Я представляю это как самое благородное, неэгоистическое проявление любви, какое когда-либо видели кинозрители! Карр молчал. Он налил Джоку новую порцию бренди. Но режиссер не приблизился к бокалу. Он продолжал импровизировать, разыгрывать эпизоды из сценария, сочинять новые. Всякий раз это были сцены, связанные с характером Линка — героя, которого предстояло сыграть Карру. Линк раскрывался как человек действия, обладавший глубиной, душевной тонкостью, силой. Джок обещал, что даже сцены с дикими мустангами не станут просто сценами чистого действия, как бывало в прежних фильмах Карра. Джок утверждал, что они вместят в себя нечто большее, нежели конфликт человека с животным. Они станут символом новой школы. Отразят столкновение старого мира с новым. Индивидуума с системой. Линк не просто пожилой кочующий ковбой. Он — последний великий индивидуалист, сражающийся с подавляющей личность системой. Закончив свои описания благородного, смелого вызова, бросаемого обществу, Джок приблизился к Карру и заговорил тихо, но с огромной убежденностью: — Снимитесь в этой картине, мистер Карр. Сделайте это так, как я скажу. Обещаю вам, мы утрем носы авангардным критикам из Нью-Йорка, Лондона и Парижа! После «Мустанга» ваше прозвище «Король» будет символизировать не только кассовый успех. Вас наконец признают серьезным актером. В зрелом Престоне Карре после этой глубокой, значительной картины увидят личность, о существовании которой раньше не знали. Величайшими лицедеями оказываются не актеры, а режиссеры. Происходит это не перед камерой, а задолго до того как будет отснят первый фут пленки. Спектакль разыгрывается режиссером, который убежден, что без данного актера фильма просто не будет. Джок Финли был мастером по части таких сцен. Сейчас он превзошел самого себя вопреки тому, что все это время испытывал сознаваемую враждебность, сильную антипатию к Карру, к своей роли. Великий режиссер, молодой или старый, не должен зависеть ни от студии, ни от звезды, ни от сценария. Он не должен спорить, умолять, просить, унижать себя ролью марионетки, уговаривать тщеславных или глупых актеров, по той или иной причине имеющих громкое, «кассовое» имя. Джок понял, что он обрушил свой гнев на Луизу, потому что не мог выплеснуть его на Престона Карра. Но спектакль почти закончился. Оставалось только услышать от Карра — «да». Результат шестичасового разговора, игры, лести, изобретений, импровизаций. Карр допил последние капли своего дорогого бренди. — Звучит отлично! Джок едва сдержал улыбку торжества. — Я обязательно подумаю об этом, — добавил Карр. Он еще будет думать об этом! Внутри Джока закипела ярость. Надменный сукин сын! Ты вынудил меня разыграть этот спектакль. Пустить в ход все мои уловки. Ты оставил меня почти безоружным. А теперь говоришь: «Я обязательно подумаю об этом»! Джок посмотрел на Карра своими невинными голубыми глазами. — Карр, я расскажу вам, что я сказал Полу Муни, перед тем как снимать его. Карр невольно оторвал взгляд от бокала и посмотрел на Джока, как бы недоверчиво спрашивая: вы снимали Муни? Джок отлично понял это, но, вместо того чтобы избавить Карра от сомнений, он продолжил: — Я сказал: «Да, мистер Муни, я хочу, чтобы вы подумали об этом. Не соглашайтесь поспешно. Если вы хотите работать со мной. Потому что я не делаю ничего поспешно и примитивно. Я предупреждаю вас сейчас. Я буду требовательным, тяжелым. Я — фанатик в отношении моей работы, потому что делаю только то, что считаю важным». Именно так я сказал Муни. Это было еще до того, как я поставил два хита на Бродвее. До моих кинокартин. Речь шла о телепостановке. Я только начинал карьеру режиссера. В те годы продюсеры доверяли театральным режиссерам, а на моем счету была одна внебродвейская работа. И я решил пригласить Муни. Телекомпания и автор согласились, что он отлично подойдет на эту роль, но они считали, что мне не удастся уговорить его. Я верил в сценарий и хотел заполучить Муни; я послал ему рукопись. Тогда он жил в Санта-Барбара. Он долго не звонил мне. Время шло. Телекомпания начала нервничать. Спонсор — тоже. Я сказал, что полечу к Муни и встречусь с ним. Все решили, что это не поможет, но все же дали добро — это могло стать хорошей рекламой для спектакля. «Джок Финли летит к Полу Муни, чтобы обсудить готовящуюся телепостановку». Нет нужды рассказывать вам, Карр, как преподносят такую информацию публике. Я прибыл в Лос-Анджелес. Сел в автомобиль, взятый напрокат в аэропорте; мне подробно описали, как проехать в Санта-Барбара и найти дом Муни. Всю дорогу я репетировал вступительную фразу: «Мистер Муни, я настолько сильно убежден в том, что для этого сценария подходите только вы один, что в случае вашего отказа порекомендую телекомпании не осуществлять постановку». Неплохая вступительная фраза для разговора с великим актером? Она должна была заинтриговать его. Только мне не довелось произнести ее. Когда я прибыл, дверь открыла его жена. Она вышла из кухни, где следила за поваром, готовившим ужин. Я представился, и она сказала: «Муни сейчас на берегу». Она произнесла это с сожалением. Словно я хотел забрать его в тюрьму или психушку. Я прошел через прелестный сад и увидел в его конце Муни. Он любовался океаном. Был ранний вечер. Солнце почти касалось горизонта. Огромное и усталое, оно еще роняло свои золотистые лучи на неспокойную воду. Муни наслаждался этой картиной. Он жестом предложил мне сесть в кресло рядом с ним. Он смотрел на воду, пока солнце не погрузилось наполовину в океан. Потом Муни сказал: «Вот что вы хотите отнять у меня. Вы не желаете, чтобы я наслаждался этим! Верно? Малыш, послушайте меня! Я работал долго, упорно и теперь могу до конца моих дней смотреть, как солнце опускается в воду. Вот что я намерен делать! К тому же я не нужен вам. Вам только кажется, что я вам нужен. Потому что я — Муни. Хотите знать правду? Если вы заставите старика играть роль старика, вы не добьетесь хорошего результата. Возьмите молодого человека, полного жизненных сил. Тогда вы кое-что получите! К тому же я слишком стар, чтобы заучивать слова. И плохо слышу. Вы это знали? Когда я слушаю, я немного поворачиваю голову. Критики называют это вовлеченностью в сцену, умением слушать других актеров. На самом деле если бы я не смотрел на них, то не понимал бы, что они говорят, и пропускал свои реплики. Вам ни к чему такой старый пес, как я. Старую собаку не обучишь новым трюкам. И старого актера — тоже. Я не вытяну длинную сцену. Мне не хватит терпения. Я не вижу одним глазом. Мой слух слаб. И это, — он указал на сердце, — тоже работает неважно. Зачем я вам нужен?» Он посмотрел на меня в упор. Я понял, что не могу произнести заготовленную фальшивую фразу. И задал ему вопрос, который тотчас показался мне глупым: «Вы хотя бы прочитали сценарий?» Он раздраженно взглянул на меня и сказал: «Если бы я не прочитал его, разве бы я чувствовал себя таким несчастным? Идиот! Что вы за shmuck? Для режиссера у вас совсем нет sechel. Вы понимаете mama-lushen?» — «Да, — ответил я, — понимаю. Даже говорю на идише». Я произнес несколько слов. Он в первый раз улыбнулся: «Ты не так уж и безнадежен. А теперь, сынок, послушай меня. Актер Муни был бы счастлив сыграть эту роль. Мне понравился сценарий. Понравилась роль. Я никогда не имел дела с телевидением, это для меня вызов. Но пациенту Муни строго наказано ничего не делать. Если бы мне не понравился сценарий, я бы сослался на запрет врачей. Но он мне понравился, и поэтому я не знаю, что сказать». Он долго молчал. Ждал ли он, что я буду просить, умолять, спорить, настаивать? Я не знал этого, поэтому просто сидел. Солнце исчезло. Сумерки сгущались. Становилось сыро. Внезапно он произнес: «Слова. Я уже не способен запоминать слова…» — «Мы сможем читать их вам через наушники. Можем сделать вашего героя слабослышащим». — «А движения? Разве я могу двигаться?» — спросил Муни. — «Четыре камеры и монтаж создадут иллюзию движения», — сказал я; на примере одной из ключевых сцен я объяснил, как камеры позволят обойтись почти без перемещения актера в пространстве. Беседа длилась еще полчаса несмотря на то, что Муни начал кашлять из-за сырости; его трижды звали ужинать. Не признаваясь в том, что он хочет сыграть эту роль, он словно просил меня, умолял настоять на этом. Наконец он заявил: «Я не могу отказать вам. Вы меня уговорили!» Мы пошли через сад к дому. Только тут я заметил, что он опирается на трость. Я увидел его жену; она стояла на веранде. Ее глаза были печальными, обвиняющими. Но она молчала. Муни сказал: «Этот малыш поужинает с нами. Он, оказывается, из Бруклина; надеюсь, наша пища его удовлетворит. Человек, пожив в Бруклине, привыкает ко всему самому лучшему». Он шутил, избегая взгляда жены, ее упреков, вопросов. Но выражение ее лица не изменилось. Она грустно посмотрела ему вслед, когда он направился в столовую. Ты бы послушала этого малыша, — сказал актер своей жене. — Если верить его словам, он — настоящий гений. Расскажи ему о некоторых гениях, которых мы знали! Если бы среди них оказался хотя бы один талантливый человек!» Муни ушел. Когда я последовал за ним, миссис Муни впервые заговорила: «О'кей, вы добились своего. Но не гордитесь своей победой. Он собирался согласиться, даже если бы вы и не приехали. Он хочет поехать, сыграть роль на телевидении. Пол думает, что новое техническое средство подарит ему новую жизнь, вернет ему молодость. Но вы наносите вред моему мужу. Он слишком стар. Если вы можете отступить, сделайте это! Пожалуйста! Сделайте это!» Ни один молодой режиссер, получив шанс снять Пола Муни, не отказался бы от него. Никогда! Во время ужина жена молчала; говорил в основном Муни. О своем прошлом, о известных ролях, о неудачах, о своей теории актерской игры, о своем «секрете». Годами в театре все говорили о «секрете» потрясающей игры Муни. Он сказал лишь следующее: «Мой секрет заключается в том, что я более добросовестен и осторожен, чем другие актеры, потому что я испытываю страх. И прихожу лучше подготовленным. Вот и все». Я уехал только около полуночи, отклонив четыре его настойчивых предложения заночевать. Когда мы расставались, Муни уже не был стариком. Он воодушевился, снова ожил. Пол не опирался на свою трость, он искусно жестикулировал ею. Он вновь обрел то, ради чего стоило вставать утром. Разумеется, репетиции не были легкими. Жена Муни постоянно присутствовала на них. Она заботилась о нем, следила за тем, чтобы ее муж не простудился и не перегрелся. Поила Пола в перерывах горячим бульоном и чаем, заставляла его отдыхать, когда это было возможно. Она продолжала обвиняюще смотреть на меня. Я делал свое дело, несмотря на ее присутствие или даже благодаря ему. Дважды во время репетиций Муни испытывал отчаяние и хотел все бросить. Однажды он замолк, и даже подсказки не помогли ему. Он покинул сцену, вернулся в гримерную и заплакал. Я пытался поговорить с ним. Его жена не пускала меня к нему. Пока он не настоял. Чтобы взмолиться. «Послушай, малыш, я старался. Ты знаешь это. Я отдал тебе все мои силы. Но они иссякли. А теперь, пожалуйста, сделай для меня кое-что. Сходи в телекомпанию и скажи им, что я больше не могу работать. Я слишком устал и ослаб. Скажи что хочешь. Что я не справлюсь. Что я загублю постановку. Опозорю телекомпанию. Буду выглядеть ужасно. Отпусти меня. Пожалуйста». Карр, тогда мне было двадцать четыре. Компания доверила мне четверть миллиона долларов. На карту была поставлена моя репутация, будущая карьера. Что может сделать молодой человек, оказавшись в таком положении? Мог ли я вселить уверенность в великого Муни? Мог ли я спасти постановку, удержать всю творческую группу от распада? Хуже всего было то, что он плакал. Понимаете ли вы, что это такое — видеть, как плачет такой великий человек, как Муни? Это были настоящие, неподдельные слезы, совсем не те, что проливают актеры на сцене. Его душа разрывалась на части. Нельзя в двадцать четыре года видеть, как рассыпается твой кумир. Навеки. Ямобилизовал все, что есть во мне. Мужество, страх, chutzpah, неистовое желание избежать поражения. Я включил монитор в гримерной и ушел. Собрал группу. Провел обсуждение ситуации при работающей камере. Объяснил труппе и техническому персоналу, что у мистера Муни возникли проблемы с этой сценой, потому что она фальшивая. Мы должны разобраться, в чем тут дело, исправить эпизод. Мы не можем заставлять великого актера играть сцену, в которую он не верит. Я хотел с их помощью проанализировать это место. Затем я, плохой молодой актер и хороший молодой режиссер, напуганный до смерти, не знающий слов, с книгой в руке, сыграл эту сцену. Актеры изо всех сил старались помочь мне, я тоже полностью выкладывался, хотя и без большого успеха. Если моя игра была плохой, то во всяком случае в ней присутствовала искренность. Закончил я со слезами на глазах; сценарий лежал на столе, я нес отсебятину. В студии воцарилась тишина. Все боялись сдвинуться с места и заговорить; они не знали, каким актером я оказался — очень плохим или очень хорошим. Вдруг из дальнего угла огромной студии, из темноты донесся голос, громкий и сильный, без следа слез: «Вы что, отключили кондиционер? Что за запах? Малыш, что ты делаешь с моей ролью?» Он, конечно, шутил. Муни никогда не оскорблял чувства людей, особенно молодых. Он любил молодежь. Улыбаясь, он вышел на свет, шагнул ко мне, обнял меня и как бы представил актерам: «Этот малыш уничтожит в одиночку все искусство актерской игры, если мы дадим ему шанс!» Затем он развернул меня лицом к аппаратной и, шлепнув по заду, как ребенка, отправил прочь. «Сынок, ступай туда и смотри. Мы сыграем эту сцену, как актеры. Хотя мне понравились некоторые фразы, которые ты сочинил. Мы можем воспользоваться ими…» После этого он был великолепен. Это давалось ему нелегко. Он боролся с возрастом, потерей слуха, памяти, страхом. Но желание все бросить исчезло. Усилия окупились. Он получил «Эмми» за эту постановку. И я — тоже. Я получил премию лично. Он находился в Санта-Барбара и был не в силах добраться даже до Лос-Анджелеса. Но Муни позвонил мне в тот вечер, чтобы поблагодарить. Сказать, что из всех наград эта для него самая важная, потому что она — последняя. Он знал, что больше не сыграет ни одной роли. И был рад, что я заставил его сыграть эту роль, настоял на своем, посмел занять его место в главной сцене. Он вспоминал и смеялся. Потом Муни тихо произнес: «Малыш, актеру, сыгравшему свою последнюю роль, остается только ждать смерти. Сегодня я смотрел, как садится солнце. Я сидел на своем обычном месте и смотрел на закат. Я подумал: «Почему актеры не могут уходить молча, красиво, как это солнце? Почему мы должны стареть, терять способности, чувства? Почему?» Затем он сказал: «Ты будешь хорошим режиссером, потому что ты молод, безжалостен, энергичен; твоя сила передается всем актерам. Это важно. Всегда помни, малыш, одну вещь. Автор придумывает спектакль. Актеры его проживают. Но создает его режиссер. Ты сделал этот спектакль, малыш. У тебя есть талант. Да благословит тебя Господь!» Джок помолчал, чтобы сказанное им отложилось в сознании Престона Карра. Слезы заволокли голубые глаза режиссера; он тихо произнес: — Это серьезное воспоминание. Пол Муни, произнесший: «Да благословит тебя Господь!» Но ничего бы не произошло, если бы я не проявил настойчивость, даже жестокость, ради достижения цели. Моей и, в конце концов, его тоже. Когда мы закончим работу над «Мустангом», надеюсь, вы скажете мне то же самое. Это был последний удар, которому Джока научили на курсах по страховому делу — он посещал их до того, как полностью посвятил себя театру. Потенциальный клиент загонялся в такое положение, что ему не оставалось ничего иного, кроме как сказать — «да». Но Карр не сказал ничего. Он надолго задумался. Затем произнес: — Вы уверены, что связь с девушкой будет принята нормально? История с Муни сделала свое дело, успокоил себя Джок. — Даю вам слово, — сказал режиссер. — Я подберу такую актрису и заставлю ее сыграть так, что негативной реакции не будет. Теперь, окончательно решил Джок, Карр скажет свое «да». Но вместо этого актер лишь заметил: — В таком вопросе всегда надо проявлять максимум осторожности. Поднявшись, Карр покинул комнату; он не пожелал Джоку спокойной ночи, не дал окончательного ответа. Лишь когда Карр удалился, Джок заметил, что начинается рассвет. Первые золотисто-розовые лучи утреннего солнца падали на горы и пустыню. Джок понимал, что он должен реагировать на эту красоту. Но он был опустошен. Карр использовал его, как он мог использовать девушку — для удовлетворения страсти, тщеславия, для того, чтобы заново пережить свою старую славу. Затем он покинул его, не дав ответа. Джок чувствовал, что при любом решении Карра он будет ненавидеть его. Престон не был плохим человеком. Просто он — звезда. Для Короля киномира он даже был исключительно добрым, внимательным, приветливым. Это заключалось не в Карре, а в самой системе звезд. Но ярость и усталость мешали Джоку видеть такие детали. Для него Престон Карр символизировал всех звезд сразу. Всех ненавистных ему актеров.
Прошло четыре часа, Джок проснулся, принял душ, побрился в самой изысканной ванной из всех, какие ему доводилось видеть. Она была великолепно оборудована; Джок обнаружил бритвы четырех типов; струйки воды, вырывавшиеся из душа, ласкали кожу нежнее, чем любая женщина. Сверкающая душевая установка с двенадцатью головками действовала сразу на все эрогенные зоны. Надев свои полинявшие джинсы, рубашку, старые сапоги, Джок с влажными волосами и бронзовым лицом отправился в главный дом, в столовую. Присутствие в этой обшитой деревом и красным камнем комнате только одного человека подчеркивало ее размеры. Длинный стол был накрыт на троих. За ним сидела очень хорошенькая темноволосая девушка лет двадцати пяти. Ее улыбка была живой и приветливой, голос — нежным, с техасским акцентом, придававшим каждому слову оттенок многозначительности. — Доброе утро. Вы мистер Финли? На лице Джока появилась приятная благодарная мальчишеская усмешка. — Да, мэм, — ответил он и тут же отметил, что всегда использует это обращение, говоря с южанками, даже со шлюхами. Человек из Бруклина, подумал он, всегда испытывает неловкость, общаясь с уроженцами юга, особенно с женщинами. Словно это они одержали победу в гражданской войне и терпят нас. — Позавтракаете? — поинтересовалась она как хозяйка дома. Не успел Джок ответить ей, как она нажала ногой кнопку звонка. В дверном проеме мгновенно появился слуга-мексиканец. На территории Юго-Запада мексиканцы — национальное меньшинство, которое прислуживает, улыбается, угодничает. — Мануэль, — сказала девушка. — Послушай, что будет есть мистер Финли. Обратившись к Джоку, она посоветовала: — Я рекомендую juevos rancheros. Никто не готовит их лучше, чем Дорита. Разумеется, у нас есть многое другое. В том числе блины с икрой. Глядя на нее, Джок сказал Мануэлю: — Меня устроят яйца. Когда Джок сел напротив девушки, она сказала ему: — Прес делает зарядку. Каждое утро. — Это заметно, — сказал Джок, ища ключ к девушке. — Он находится в превосходной форме. — Для мужчины его возраста? — недовольно закончила она. — Нет, он лучше мужчин, которые вдвое моложе его. Девушка улыбнулась, гордясь тем, что может утверждать это. — Вам известен его большой секрет? Бокал с апельсиновым соком замер на полдороге к губам Джока. — Он именно таков, каким он кажется. Славный, добрый, сильный, полный жизненных сил. Такой, как на экране. Он не играет. Это он сам, — сказала девушка. Джок осушил бокал, думая: «Карр не только выбирает для себя молодых и красивых, но и создает из них клуб своих поклонниц. Этот сукин сын беспокоится, как воспримет публика его связь со шлюхой, которая могла бы по возрасту быть его дочерью? Как отреагировала бы публика, узнав о существовании этой девушки?» Джок не мог определить, на какой срок она приглашена сюда — на ночь, неделю, месяц, навсегда. И что думают на сей счет другие обитатели дома, ранчо. Судя по поведению Мануэля, они принимали ее и относились к ней с уважением. Они, похоже, одобряли любой поступок Карра. Наверно, потому что он действительно славный. Прибыли яйца — пышный, аппетитный омлет с фасным и зеленым перцем, мелко нарезанной ветчиной и луком. Он был таким большим, что взрослый человек мог питаться им неделю. Во время еды Джок задавал осторожные вопросы; наконец в комнату вошел Карр. Он был в костюме для верховой езды — в английских бриджах, блестящих сапогах, желтой рубашке для поло. Джок снова увидел загорелые бицепсы, сильные, мускулистые предплечья. Мышцы Карра играли, даже когда он поднимал бокал с соком. — Мы едем утром к Мак-Алистерам, — обратился он к девушке. Этими словами, сознательно или невольно, Карр отпустил ее. Она встала, и Джок заметил, что ее платье туго обтягивает крепкие молодые груди. Тут есть на что посмотреть, сказал он себе. Когда она ушла, Карр спросил: — Как омлет? — Отличный, — с восхищением произнес Джок, чтобы порадовать хозяина. Чертова марионетка, обратился он к себе, не старайся понравиться! — Малыш, я бы хотел продолжить разговор, но я обещал Маку приехать к нему на ленч. Надо обсудить с ним нефтяной контракт. — Я понимаю, — сказал Джок. — Вы и так проявили большую любезность, уделив мне столько времени. Тем более что вы меня не ждали. Вежливый, приветливый Джок. Пока Престон Карр дает понять, что он может сняться в картине, Джок Финли будет вежливым и приветливым. Повернувшись к Джоку, Карр внезапно улыбнулся. Джок улыбнулся в ответ, но он испытывал чувство неуверенности, и это было заметно. Карр усмехнулся и произнес: — Вы явились не совсем неожиданно. На самом деле вы даже немного задержались. Последний кусок ароматного омлета еще находился в горле Джока. Режиссер едва не подавился им. Только это помешало ему задать вопрос. Карр избавил его от такой необходимости, продолжив: — Обычно, когда киностудия говорит молодому самоуверенному режиссеру: «Получите согласие Престона Карра, и контракт будет подписан», он приезжает сюда на следующее утро. Иногда даже в тот же самый день. Один глупец прилетел на застрахованном самолете, чтобы произвести на меня впечатление. Он не знал, что мне принадлежат три личных самолета. Я скажу, что мне в вас понравилось. Вы потратили пару дней на то, чтобы обдумать ситуацию. О, я знал о встрече с президентом уже в тот день, когда она произошла. Мой агент Герман Паркс и мой адвокат Харри Клейн имеют больше осведомителей, чем ЦРУ. Когда Герман позвонил мне в тот день и сказал: «Готовься к приезду очередного режиссера», я решил, что вы явитесь утром. Вы заинтересовали меня тем, что явились только через пять дней. Вы оказались не из числа тех алчных, недостаточно талантливых, глупых молодых режиссеров, что мечтают создать себе репутацию с помощью моей былой славы. Хотя все сказанное Карром было в основном лестно для Джока, режиссер почувствовал, что в его душе закипает ярость. — Я знал о лондонских неприятностях. Но, черт возьми, такое может случиться с любым режиссером. Я выгнал со съемок многих режиссеров; скажу честно — я не всегда был прав. Джок ощутил, что к его щекам приливает фаска. В желудке, наполненном пищей, образовался комок из злости. Но он не перебил Карра. — Отчасти я восхищаюсь вами. Какой-нибудь мальчишка стал бы заискивать и расшаркиваться перед звездой, чтобы закончить съемки важной, престижной картины. Вы так не поступили. Это хорошо! Услышав об этом, я уже захотел с вами познакомиться. Но, когда вы подкатили сюда вчера на красном «феррари», я сказал себе: «Ну вот, начинается. Зеленый сопляк, которому нечем гордиться, кроме своего итальянского автомобиля. Похоже, очередной пижон, который дома тайком учится прыгать в свой «феррари» и выскакивать из него, не открывая дверцы. Терпимым этот монолог делало только то, что Карр приветливо улыбался. Джока бесило каждое слово этого человека, но он был потрясен проницательностью Карра, его умением разобраться в чужом характере. К тому же Престон трезво, практично смотрел на самое безумное занятие в мире — создание кинофильмов. Джок помнил, что девушка назвала Карра славным, честным, искренним и всегда естественным. До этой весьма неловкой минуты Джок не имел оснований считать это мнение ошибочным. Но Престон еще не закончил. — «Феррари» — это ошибка. Но ваш костюм! В какой костюмерной вы раздобыли этот костюм конюха? Он фальшив, как искусственная кожа, из которой сделана обложка сценария! И это название, выжженное, точно клеймо! Господи! Малыш, на свете есть ковбои. И есть ковбои-джентльмены. Никогда не приезжайте к ковбою-джентльмену в таком виде. Вы что, обесцвечивали джинсы в прачечной? Вы не работник с ранчо. Вы — режиссер! Приезжайте сюда одетым, как режиссер! Человек, способный говорить о кино так, как это делали вы вчера вечером, не очковтиратель. Зачем изображать из себя обманщика? Ручаюсь, если бы я вчера предложил вам сесть на одного из моих аппалузов, вы бы это тоже сделали. Несмотря на то, что вы не умеете ездить верхом. Да? — Я немного ездил верхом. Я взял несколько уроков, — сказал правду Джок. — Я рад, что вы достаточно честны и не уверяете меня, будто знаете о лошадях все. Потому что я убежден, что на данном этапе развития кино вестерну требуется свежий глаз. Взгляд городского человека, для которого лошади, пустыня, дикая жизнь, присутствующие в сценарии, являются чем-то новым, незнакомым. Я не стану критиковать сценарий. Это хороший вестерн. Уорфилд — талантливый автор. Но этого недостаточно. Карр повернулся лицом к Джоку. — Вы можете снять эту картину так, словно она станет вашим единственным вестерном? Джок кивнул осторожно, еле заметно. — Хорошо. Потому что тут может получиться шедевр. Но только если фильм окажется свежим и важным для вас. Тогда он будет свежим для публики. И важным для критиков. Но вы должны отдать ему все ваше мастерство. Всего себя. Делайте его так, словно вы занимаетесь любовью с удивительной девушкой и знаете, что эта ночь будет единственной. То, как этот человек говорил о фильмах, о процессе их создания, пробуждало в Джоке новое уважение к Карру. Он не просто звезда. Большая звезда. Или даже Король. Он настоящий человек кино, любящий и уважающий свое дело. Девушка права. Карр именно таков на самом деле, каким он кажется. Он честен и искренен. Даже те слова Карра, что заставили Джока неуютно поежиться, почувствовать, что студийные сапоги сжимают ноги, осознать фальшь своего появления, были произнесены дружелюбно. Карр просил Джока проявить больше достоинства, гордости и любви к себе. Это было важным для любого творческого человека. — Еще два момента, — сказал Карр, — и я должен буду уехать. Во-первых, я бы хотел сняться в вашей картине. Джок надеялся, что он выслушал эту фразу с достаточным спокойствием и выдержкой. — Во-вторых, я должен поговорить с моим адвокатом, агентом и доктором. Только после этого я смогу дать согласие на съемки. Вероятно, последнее слово останется за адвокатом. Если он придумает, каким образом я смогу вложить миллионный аванс в нефтяную сделку Мак-Алистера, не заплатив слишком больших налогов, это станет серьезным аргументом в пользу участия в фильме. Да, малыш, так обстоят дела сегодня. Добро на картину дает юрист. Или губит ее. Отхлебнув кофе, Карр продолжил: — Заключение врача — это формальность. Последние одиннадцать лет перед подписанием контракта он прочитывает сценарий и обследует меня. Не для того я вкалывал все эти годы, чтобы умереть раньше времени, не насладившись результатами. Я хочу вкусить все, ради чего я работал. Хочу, как Муни, любоваться восходами и закатами. Но мне нужно больше. Лучшая пища, лучшие виски, лучшие лошади и самолеты. И лучшие женщины. Молодые, крепкие. Любящие секс. Мне нравится касаться рукой твердого соска на свежей груди. Я люблю настоящий, бурный секс. Люблю юных девушек с длинными ногами и руками, обнимающими меня. Мне нравится быть желанным. По-моему, это лучший способ начинать день и завершать его. И я намерен жить так до моего последнего дня, который, надеюсь, наступит еще не скоро. Лаура, — Карр жестом дал понять, что говорит о девушке, сидевшей за столом, — именно такая. Она обладает всем, что я ищу в женщине. Пока это обстоит так, она будет жить здесь. В тот день, когда один из нас почувствует, что наши отношения начали иссякать, все будет кончено. Она знает это. Я тоже. И все, кто живет здесь. Тут нет ничего постыдного. С ней обращаются весьма уважительно. Я бы не хотел заниматься любовью с женщиной, которая не уважает себя. Тогда она не могла бы относиться с уважение к тому, чем занимаюсь я. Не ценила бы меня. В прежние времена в Голливуде было принято говорить о каждой девушке, как о шлюхе. Я никогда не следовал этой моде и не называл так девушек, с которыми имел дело. Для меня постель — это место, где люди встречаются, потому что они любят друг друга. Нельзя употреблять гадкие, унизительные слова по отношению к женщине, с которой считаешь возможным заниматься любовью. Я женился четыре раза. Изменял всем моим женам. Но не оскорблял их. Даже в самом конце. Внезапно Карр встал и протянул руку Джоку. — Если Харри и мой доктор скажут «да», я, вероятно, снимусь в вашей картине. Я сообщу вам о моем решении. Шагнув к двери, он добавил: — Мак-Алистеры ждут нас. Возле порога Карр остановился и, повернувшись, спросил: — В сцене с мустангом мы используем каскадера, да? — Конечно, конечно, — тотчас ответил Джок.
«Феррари» Джока Финли со скоростью девяносто пять миль в час мчался на запад по двухполосному шоссе. Джок не стремился ехать с такой скоростью. Он даже не замечал этого. Он думал о Карре и о сказанном им. О данном им обещании. Неокончательном. Все упиралось в налоги. Джок что-то слышал об их снижении при вложении средств в добычу нефти. Это давало шансы на успех. Сейчас Джоку казалось, что Престон Карр подпишет контракт с киностудией. Что это будет означать! Новость мгновенно разлетится по всему свету. Престон Карр возвращается! Он будет сниматься у Джока Финли, молодого талантливого режиссера! Шесть лет, потерянных из-за Сьюзи Стейбер, будут возмещены одним махом. Горькие воспоминания о Лондоне окончательно сотрутся. Профессионалы переложат ответственность с Джока на знаменитого английского гомика. О, если бы только Карр повторил в интервью то, что он сказал о нежелании Джока пресмыкаться перед кинозвездой. О том, что он предпочел уход унижению. Если бы только… В жизни каждого человека бывают моменты, когда он должен добиться чего-то или умереть. Речь может идти о конкретной женщине. О личной собственности. О важном шансе. О чем-то, имеющем в данный момент решающее значение. Сейчас, по дороге в Лос-Анджелес, для Джока Финли таким моментом было участие Престона Карра в «Мустанге». Но что, если адвокат Карра скажет «нет»? Что, если его доктор скажет «нет»? Есть дюжина причин, по которым Карр может отказаться. Великий Режиссер, сидящий на небесах, мог все перечеркнуть. Джок превосходно сознавал это. В одной из последних пьес, поставленных Джоком на Бродвее, играла величайшая звезда. Три года Джок прожил без хитов и нуждался в громком успехе. Прошло четыре года со дня премьеры хита с Джулией Уэст в главной роли. Джок уже начал отчаиваться, терять веру в себя. Затем ему достались хорошая пьеса и знаменитый актер. В театре заранее устроили вечеринку по случаю грядущего успеха, который гарантировало имя звезды. На пятый день репетиций актер не проснулся. Просто не проснулся. Он умер во время сна в своем «люксе» на четвертом этаже отеля «Алгонкин». Постановку отменили. О ней просто забыли, отказавшись от поисков новой звезды. Автор, труппа, блестящий двадцатидевятилетний режиссер остались без работы. Это произошло после того, как Джон потратил пять месяцев на доводку пьесы и подбор актеров. После этого случая всякий раз, когда какая-то звезда становилась слишком упрямой, несговорчивой, требовательной, Джок вспоминал свою удобную личную формулу. Он говорил себе: «Если этот актер умрет завтра во время сна, кто устроит меня в качестве замены? Пригласим этого человека и забудем о самоуверенном наглеце!» Ни одна звезда не занимала слишком большого места в сознании Джока Финли! Однако сейчас президент заявил: «Заставьте Престона Карра сняться в этой картине, и вы получите контракт». Он не сказал «кого-нибудь вроде Престона Карра». Или: «Нужно найти второго Престона Карра.» Чем сильнее зависел Джок от какого-нибудь человека, тем яростнее ненавидел его. Когда Джок добрался до тонущих в смоге окраин Лос-Анджелеса, он уже готов был ненавидеть Престона Карра. Если Карр не согласится сняться в «Мустанге»…
Подъезжая к своему дому. Джок рассчитывал увидеть возле него автомобиль Луизы. Но ее машины там не оказалось. Джек вошел в дом. Он был пуст. Джок понял, что сюда приходила женщина, регулярно убиравшая в доме. Но ни здесь, ни возле бассейна Финли не увидел Луизы. Он позвонил телефонистке. Девушка не оставляла ему сообщений. Звонил лишь Марти Уайт, дважды — вчера вечером, четырежды — сегодня утром и трижды за последний час. Марти настоятельно просил срочно связаться с ним. Джок заставил себя сначала выпить возле бассейна, затем взял телефон, сел на пластмассовое кресло и набрал номер Филина. После трех гудков в трубке раздался торопливый голос Марти: — Подождите, я сейчас! Семь минут Джок слушал, как Марти Уайт отчаянно уговаривал какого-то упрямца. Наконец Филин произнес в трубку: — Алло! Кто это? — Это я, Марти. — Джок, малыш! Извини, что заставил тебя ждать. Но у меня неприятности. Большие неприятности. Ты знаешь Пэт Ноулз? Я подыскал ей большую картину в Риме. А она, оказывается, на шестом месяце! Ты слышишь — на шестом месяце! И к тому же не замужем. Это религиозная картина. Студия умоляет ее выйти замуж. Парень, малоизвестный актер, согласен. Но она не хочет. Во всяком случае, до рождения ребенка. Сейчас среди актрис модно пренебрегать общественным мнением. Трахаются они, как обычные женщины. Свой нонконформизм они проявляют только в отношении брака. У меня не было никаких проблем с девушками с тех пор, как я убеждал Дейзи Доннелл уйти из театральной студии и сняться в кино. Мне приходилось умолять ее: «Дейзи, пожалуйста, перестань работать на чердаке и снимись в картине с сэром Лоренсом Оливье». Ну и мир! Но к черту все это! Почему ты не позвонил мне вчера вечером? Где ты, черт возьми, пропадал? Невозмутимым елейным тоном, с подчеркнутым спокойствием, Джок сказал: — Я не мог позвонить. Мне пришлось остаться на ранчо. — Он предложил тебе остаться? — спросил Марти, однако без того возбуждения и интереса в голосе, которые рассчитывал услышать Джок. — Мы проговорили весь ужин, половину ночи, а затем завтрак. — Ну? Он будет сниматься? — спросил Марти. — Возможно, Марти. Возможно. Вот все, что он сказал. Марти Уайт захохотал. Джок представил себе маленького человека с трясущейся лысой головой, сидящего в обитом натуральной черной кожей кресле. — Я не шучу, Марти. Он не взял на себя никаких обязательств. — Послушай, малыш, скажи мне правду! — Марти задыхался от смеха. — Я сказал тебе, что произошло! — возмущенно повысил тон Джок. — Меня не зря называют Филином. Малыш, малыш, не играй в карты с дядей Марти, — дружелюбно попросил Уайт. — Я не обманываю тебя! — Режиссер всегда узнает последним! — снова засмеялся Марти. — Малыш, послушай меня. Послушай меня внимательно. Меньше чем час назад Герман Паркс позвонил в Нью-Йорк. Карр попросил его «расследовать» это дело. Это означает, что Карр согласится! Если условия его устроят. Ты слышишь меня, малыш? — Да, Марти, слышу, — Джок пытался справиться с охватившим его возбуждением. Спокойствие Джока заставило Марти произнести: — Малыш, речь идет о картине с Престоном Карром. Ты понимаешь, что это значит? Я могу сделать основой для контракта на три фильма. Знаешь, что мы должны создать? Компанию! Она понадобиться тебе, малыш, для снижения налогов. Загляни ко мне утром. Я приглашу сюда моего бухгалтера, мы все обсудим. Я уже поступал так с некоторыми из моих клиентов. Мы зарегистрируем компанию и станем партнерами, это даст нам большую свободу действий. Я смогу выступать от твоего имени, когда ты будешь в отъезде или занят съемками. Я тебе все растолкую. Картина с Престоном Карром! — ликующе закончил Марти. — Сколько времени это займет? — спросил Джок. — Создание компании? Неделю или две. Почему ты спрашиваешь? — Я имел в виду получение окончательного ответа от Карра. — Несколько дней. Звонок Германа означает, что они хотят подписать контракт. Если бы позвонили со студии, переговоры заняли бы больше времени. По-моему, Карру нужны деньги. — Да, — сказал Джок, понимая, что решающим аргументом стал нефтяной контракт, который Карр собирался обсудить с Мак-Алистером за ленчем. Не «Мустанг». Не Джок Финли. Ну и ладно. Главное — получить Карра. Проглотив порцию напитка, Джок услышал голос Марти. — Малыш, я предвижу только одну проблему. — Какую, Марти? — спросил Джок, всегда настороженно относившийся к «постскриптумам» агента. — Он может потребовать, чтобы за ним закрепили право решать художественные вопросы. — Пошел он к черту! В моих фильмах все художественные вопросы решает режиссер. Я отказался от завершения съемок в Лондоне. И я откажусь от этой картины, если возникнет такая проблема. — Малыш… малыш… — попытался успокоить режиссера Марти. — Я не сказал, что он обязательно потребует этого. Я лишь предупредил, что это возможно. Мы должны быть готовы, только и всего. — Ты лучше будь готов к тому, чего захочу я! — сказал Джок. — Малыш, я работаю на тебя. Защищаю твои интересы. Я предупреждаю тебя о том, что может произойти. И я справляюсь с этим. Не беспокойся, малыш. Прощаясь, Марти казался почти испуганным. Это позабавило Джока. Опуская трубку, он улыбнулся. Его голубые глаза блестели. Значит, контракт будет подписан. Король сказал «да». Или весьма близок к тому, чтобы сделать это. Снимая старые, стоптанные ковбойские сапоги, которые он успел возненавидеть, Джок все еще улыбался. Затем он стянул с себя застиранную рубашку. Снял полинявшие джинсы, высмеянные Карром. Внезапно Джок скатал джинсы в клубок и бросил их через бассейн. Проделал то же самое с рубашкой и сапогами. Они ударились о стену, обвитую плющом и «живой изгородью». Финли стоял в одних трусах — стройный, сильный, загорелый, молодой. Он держал мир за хвост. Конечно, благодаря Престону Карру. Джок чувствовал, что его член, сдавленный узкими трусами, становится твердым. Он сорвал трусы и нырнул в бассейн. Сейчас Финли казалось, что он может трахнуть весь мир. Разумеется, в переносном смысле. В такой момент торжества он мог выйти на улицу и изнасиловать первую хорошенькую девушку. Ощущение победы имело для Джока агрессивный характер. Так же как и чувство любви. Он вынырнул на поверхность и лег на спину. Его член гордо поднимался над водой. Ох уж эти калифорнийские бассейны с теплой водой! Картина Престона Карра! Картина Престона Карра! Джок вслух передразнил Филина. И тут Джока кое-что потрясло. Ликование исчезло вместе с чувством гордости и эрекцией. Член Джока стал мягким, как после оргазма. Филин не произнес ни слова о Джоке Финли. Картина не Джока Финли, а Престона Карра. И маленький постскриптум — режиссура молодого Джока Финли. Или малыша Финли? Престон Карр может оказаться опасным подарком. Да, он гарантировал семи- восьмимиллионный бюджет. Но теперь Джоку придется бороться за свою индивидуальность. Его внутренности поедал маленький червячок, которого звали «право решать художественные вопросы». Марти «вспомнил» об этом как бы невзначай, мимоходом. В сочетании с его советом не беспокоиться это замечание вселяло серьезную тревогу. О'кей, мистер Престон Карр, мистер Король, я буду покладистым, уступчивым малышом — пока не подписан контракт. Но после — берегитесь! Кто бы ни снимался в картине, боссом буду я, Джок Финли. Не забывайте об этом! Джок заметил, что эрекция вернулась, он почти испытывал боль. Торжество и враждебность были неразделимы для Джока Финли. Он внезапно ощутил свое одиночество и захотел встретиться с Луизой. Разделить с ней свое ликование и сильное физическое возбуждение. Он вылез из бассейна. Мокрый Джок схватил телефон, набрал номер. Сначала никто не отвечал. Очевидно, Луизы не было дома. Потом он услышал голос телефонистки, которая не знала, где находится Луиза, но обещала передать ей сообщение. Джок назвал свое имя и сказал: — Пусть она, когда появится, немедленно позвонит. Но Луиза не позвонила. С наступлением темноты голодный, одинокий Джок решил прыгнуть в «феррари», поехать в «Ла Скала» перекусить. Он уже направился к двери, когда зазвонил телефон. Лулу?! Он поднял трубку после четвертого звонка и с нарочитой небрежностью произнес: — Алло? Но это была не Луиза. — Малыш, я знал это заранее! Все в порядке! За исключением одного момента. Этот негодяй действительно заговорил о художественном руководстве. — А что сказал ты? — спросил Джок резким от злости голосом. — Я сказал категорическое «нет»! — отозвался Марти. — И именно тогда над контрактом нависла угроза. — Извини! — отчеканил Джок. — Но отказаться от художественного руководства для режиссера — все равно что позволить отрезать себе яйца! — Понимаю, малыш, понимаю. Я не говорю, что тебе следовало согласиться. Просто теперь все сорвалось. — Я сказал тебе, что он, вероятно, согласится. Это ты решил, что контракт уже практически подписан! — Джок заметил, что перешел на крик. — Малыш, малыш, успокойся. Я обдумываю компромисс. — Какой? — настороженно спросил Джок. — Например, ты мог бы сказать, что испытываешь безмерное уважение к Престону Карру. Ценишь его опыт, способности, талант. И отнюдь не хочешь унизить его. Однако весьма опасно давать любой звезде право художественного руководства съемками. Я могу привести полсотни примеров, когда звезды являлись также продюсерами, и напомнить, какие плачевные результаты это дало. Но ты не будешь это говорить. Ты скажешь, что рискованно позволять актеру принимать художественные решения. Даже такому, как Престон Карр. Однако ты не собираешься ничего ему навязывать силой. Хочешь поддерживать с ним добрые рабочие отношения. Поэтому ты готов пойти на компромисс… — Марти, компромисс в вопросе о художественном руководстве невозможен! — перебил Джок агента. — Малыш, выслушай меня до конца. Официально право художественного руководства получит исполнительный продюсер. — Исполнительный продюсер? — насторожился Джок. — Это позволит тебе стать фактически художественным руководителем, не превращая эту проблему в неустранимое препятствие. — Каким образом мы сохраним за собой право художественного руководства, отдав его исполнительному продюсеру? — насмешливо спросил Джок. — Ты сам ответил на этот вопрос, малыш. Все дело в словах «каким образом»? Если я предложу себя на должность исполнительного продюсера, художественное руководство останется за нами. В твоих руках. Престон Карр не возненавидит с самого начала картину, тебя и все остальное. Джок надолго замолк. Марти ощутил необходимость срочно заполнить паузу. Он внезапно произнес: — Господи! Какой я болван! Я забыл сказать тебе главную идею сделки. В обмен на отказ от художественного руководства ты хочешь стать одновременно продюсером и режиссером. Это важно, малыш, очень важно. Марти дал этой мысли время проникнуть в сознание Джока. — Что скажешь, малыш? Это приемлемый компромисс? Ты будешь продюсером-режиссером. Я — исполнительным продюсером. Таким образом художественное руководство останется за нами. — Карр пойдет на это? — Герман думает, что, вероятно, да, — отчеканил Марти, намекая на то, что этот вопрос обсуждался. Агенты решили, что они смогут уломать своих клиентов и получить сотни тысяч комиссионных. Джок испытал желание сказать: «Я подумаю», — как сказал ему Карр. Но в конце концов Джок произнес: — О'кей. Если ты сможешь это устроить. — Думаю, смогу. — Марти давал понять, что это еще всего лишь возможность. Джок положил трубку, вышел из дома, к своему красному «феррари». Он приблизился к машине, собрался прыгнуть в нее, смущенно замер, открыл дверь и сел за руль. Джок завел мотор и сорвался с места, выплескивая свою враждебность к Престону Карру на всю Роксфорд-драйв. Прежде чем Джок Финли достиг «Ла Скала», Марти Уайт связался по телефону с президентом, находившимся в Нью-Йорке. — Боб, я говорил с Германом. А также с моим парнем. Они согласны. — Отлично, Марти, отлично! Я сообщу новость на собрании акционеров в четверг! — Есть один момент. Президент помолчал. Он достаточно хорошо знал агентов типа Марти Уайта. За такой фразой могло последовать какое-нибудь немыслимое требование. — Один момент? — осторожно спросил президент. — Какой? — Малыш и Карр так быстро нашли общий язык, что они боятся вмешательства постороннего лица, скажем, продюсера, назначенного студией. Это могло бы породить проблемы. Так что если ты скажешь мне сейчас, что Финли будет продюсером-режиссером, ты получишь этот пакет. Президент помолчал несколько мгновений. — Ты будешь исполнительным продюсером? Ты сможешь контролировать действия малыша? — Я дал тебе слово, Боб, верно? — Да, верно. — Так что ты скажешь? — О'кей! Положив трубку, Марти посмотрел на блокнот, лежавший возле телефона. На белом листке было выделено рукой агента: «Марти Уайт, исполнительный продюсер… Марти Уайт! Исполнительный Продюсер!.. Фильм Мартина Уайта с Престоном Карром в главной роли!»
Третья глава
«Теперь главная задача — найти подходящую девушку! Защитить картину!» Этот приказ поступил из Нью-Йорка. Глава студии передал его Марти Уайту, исполнительному продюсеру. А Марти Уайт в свою очередь — Джоку Финли, продюсеру-режиссеру. Найти подходящую девушку! Защитить картину! Это стало главной задачей. Президент, сказавший, что он рискнет миллионами долларов, если Джок заручится согласием Престона Карра, сейчас испытывал смущение и робость перед лицом требований и ожиданий акционеров. Теперь они рассчитывали услышать нечто большее на очередном собрании и годовом отчете. Акционеры способны на сострадание в такой же степени, как французская чернь, собравшаяся вокруг гильотины. Поэтому прозвучал призыв — защитить картину! Найти нужную актрису! Джок располагал восемью, максимум — десятью неделями. Натурные съемки начнутся уже скоро, когда погода в пустыне Невада станет наиболее устойчивой. Внезапно фактор времени стал весьма важным. Найти подходящую девушку! Подходящая — это такая девушка, имя которой подняло бы престиж картины у критиков; она также должна будет привлечь публику достоинствами совсем другого рода. Подходящая — это девушка с явной, бросающейся в глаза сексапильностью, измеряемой в кино размером бюста, глубиной ложбинки между грудей, дразнящей выпуклостью ягодиц. Иногда эти компоненты можно подчеркнуть, усилить. Но их нельзя полностью сымитировать. Поэтому подходящая девушка должна на самом деле обладать ими. Подходящей могла стать девушка, которая в сочетании с Престоном Карром проявляла бы то таинственное свойство, которое в Голливуде называют «химией». «Химия» означает, что сексуальная близость двух звезд обеспечивает публике, обладающей войеристскими наклонностями, почти реальное физиологическое удовлетворение. Этот фактор являлся едва ли не решающим по значению. Существовало и другое требование. «Мустанг» был ковбойской лентой, но более высокого класса, чем обычный вестерн, поэтому для него требовалась актриса, пользующаяся уважением критиков. Если помимо всех прочих достоинств актриса окажется способной расположить к себе критиков, она станет идеальной исполнительницей главной роли. Некоторое время вице-президент, отвечавший за зарубежный прокат — эта фигура была весьма влиятельной в те дни, когда значительная часть кассы поступала из Европы — настаивал на приглашении Софи Лорен. Он считал, что Карр и Лорен привлекут в кинотеатры всю Европу. Но ему объяснили, что тогда придется изменить весь сценарий. Героиня была чисто американским персонажем, существовавшим в чисто американском окружении. Вице-президент быстро принял эти аргументы, однако предложил дублировать голос Лорен в американском варианте. Джоку Финли пришлось полететь в Нью-Йорк и убедить его в том, что американские зрители привыкли к итальянскому акценту Лорен, ждут его и не воспримут голос другой актрисы. К тому же Лорен слишком зрелая и опытная для этой роли, требовавшей невинности. Грязной, использованной, потасканной невинности. Вице-президент согласился со всеми доводами Джока. Однако, расставшись с Финли, он позвонил президенту и сказал: — О'кей, не будем использовать Лорен! Но берегитесь этого малыша. Он сумасшедший! Знаю, знаю, он принадлежит к «новой волне». Но, Боб, скажите мне, что означает «грязная, использованная, потасканная невинность»? — Запишите это, — сказал президент. — В этом — ключ к рекламной кампании.Поиски подходящей девушки продолжались. Обсуждали кандидатуры только звезд первой величины. И отвергали их. Малоизвестные, начинающие актрисы даже не упоминались. Нужна была настоящая звезда, способная защитить картину. Истинно американская девушка. «С сиськами». Словно на свете мало девушек «с сиськами». Но в Голливуде это означало тридцать шесть дюймов или больше. Желательно больше. В поисках девушки Джок проводил много часов в темных, прокуренных кинозалах; он смотрел фильмы и куски из лент, где были представлены многие актрисы. Агент каждой из них уверял, что именно она — «идеальная партнерша для Престона Карра». Подходящей девушки не было. Или казалось, что ее нет. Или не было подходящей девушки, которая располагала бы временем для съемок. Такое заключение сделали одним грустным днем в кабинете главы студии. Джок, Марти, глава студии, человек, отвечающий за поиск актеров внезапно осознали это, когда Джок произнес: — Нет ли какой-нибудь неизвестной девушки, которую мы смогли бы сделать звездой? На Бродвее мы иногда обнаруживали, что это наилучший выход. Публика любит открывать новых звезд. Человек, отвечающий за поиск актеров, раскрыл свой огромный альбом с фотографиями. — Подождите! — заговорил Марти Уайт. — Я дал Бобу слово, что мы защитим картину. Я не согласен брать неизвестную девушку. — Вспомни Дастина Хоффмана и Катрин Росс в «Выпускнике», — почти рассерженно произнес Джок. — Их никто не знал. — Малыш, малыш, не торопись. Если бы у меня не было идеи, я бы не сидел тут, отвергая всех неизвестных актрис. — Ты хочешь сказать, что у тебя есть кто-то на примете? — спросил Джок. — Господи, Марти, — вмешался глава студии, — нас поджимают съемочный график и погода! Что ты утаиваешь? — Если бы я сказал это месяц тому назад, вы бы набросились на меня и заявили, что я проталкиваю моего клиента. Поэтому я не хотел ничего говорить. Но раз мы перебираем малоизвестных актрис, я скажу. — Говори же, — нетерпеливо попросил глава студии. Тихо, просто, без нажима и полутонов Марти Уайт произнес: — Дейзи Доннелл. В кабинете надолго воцарилась тишина. Идея была столь блестящей и пугающей, что ни Джок Финли, ни глава студии не посмели отреагировать на нее. Человек, отвечавший за поиск актером, произнес: — Она — то что надо. Но, поскольку его мнение обладало наименьшим весом, никто не согласился с ним вслух. Наконец глава студии произнес: — Если думать о кассе, лучшей защиты для фильма, чем Дейзи Доннелл, нам не найти. Но эта девчонка обеспечит нам головную боль! Мы намучаемся с ней. К тому же она потребует семьсот пятьдесят тысяч аванса плюс процент с прибыли. — Миллион долларов! — тотчас поправил Марти Уайт, словно контракт уже обсуждался. Когда глава студии недовольно посмотрел на агента, Марти пояснил: — Дейзи Доннелл никогда не соглашается на гонорар меньший, чем у ее партнера. — Хорошо! Если мы совершим эту глупость и заплатим ей миллионный аванс, мы потеряем еще один миллион из-за ее опозданий и капризов. — Знаете, что говорят о ней? — сказал человек, отвечающий за поиск актеров; он хотел поддержать своего шефа. — Если вы снимаете Дейзи Доннелл, не приглашайте режиссера. Пригласите психиатра! Джок молчал. Он думал. Предложение Марти было одновременно совершенно логичным и совершенно неприемлемым. Физически она подходила идеально. Во всех остальных отношениях — тоже. Было только одно «но». Дейзи Доннелл не снимали в ролях, требовавших глубины, тонкости, истинного, неподдельного огня, которым обладают лишь немногие звезды. Он называется просто — актерский талант. То ли Марти почувствовал, что Джок не готов высказаться, то ли агент руководствовался другими, личными мотивами: маленький человек поднялся со своего кресла. Агент заговорил с той торжественностью, с которой Уинстон Черчилль во время войны обращался к парламенту. — Вы хотите сказать, что она странная девушка. Неуравновешенная. Кому это известно лучше, чем человеку, уже восемь лет представляющему ее интересы? Я видел Дейзи Доннелл во время трех ее браков и трех разводов! Во время истерик и попыток самоубийства! Мне известно, что она прибегала к помощи шести, да, шести психоаналитиков. Так что не надо говорить мне о том, что она странная девушка. Я мог бы прочитать лекцию об этом. Но… Но! — Марти перевел взгляд с главы студии на Джока Финли, — кто в большей степени обладает невинностью — использованной, потасканной, грязной? Спросите себя — кто обладает этим свойством в большей степени, чем Дейзи Доннелл? Он выиграл очко — Джок знал, что его собственное описание персонажа идеально подходит к Дейзи Доннелл. Но существовал громадный риск; она могла сломаться посреди съемок. Она — неважная защита для фильма. И для режиссера тоже, подумал Джок. — Господа, если бы золото было легко находить и добывать, оно валялось бы на улицах,как собачье дерьмо. Внутри этой девушки спрятано золото! Но кто-то должен извлечь его! Я еще не сказал ей ни слова о «Мустанге». Я даже не знаю, хочет ли она сниматься в этой картине. Или в какой-то другой. Я лишь утверждаю, что она нам подходит. Если мы сможем получить ее. Глава студии посмотрел на Джока и сказал: — Я позвоню в Нью-Йорк. Выясню все обстоятельства. А пока что подумайте об этом. Последняя фраза адресовалась Джоку, который должен был одобрить подбор всех актеров до принятия окончательного решения. Когда они покидали административное здание, Джок наконец спросил агента: — Марти, ты уверен, что делаешь это не из-за комиссионных? Марти повернулся к нему и ответил не сердясь, почти ласково: — Ты имеешь в виду, что я преподнес эту идею весьма ловко дождавшись подходящего момента? — Именно. — Малыш, хочешь знать настоящую правду? Я не упоминал Дейзи раньше, потому что не говорил с ней. Последние десять дней я звонил ей по дюжине раз в сутки. Она не отвечает, хотя и получает сообщения. Я не знаю, согласится ли она на съемки. Но мы должны попытаться ради «Мустанга». Ты должен попытаться. Джок посмотрел на круглое, поднятое вверх лицо Филина. Маленький человек тоже глядел на режиссера. — Малыш, я говорю тебе правду. Если ты хочешь Дейзи Доннелл, ты должен получить ее. Если ты получишь ее, сумеешь найти к ней подход, она окажется бесценной. Но лишь Господь ведает, можно ли найти к ней верный подход после всего, что она пережила.
Джок шел по киностудии к художественному отделу, чтобы посмотреть на акварельные эскизы декораций, сделанные художником. Что известно Марти? Или его последняя фраза насчет Господа была случайной? Нет, это предупреждение. И вызов. Именно тот вызов, который любил Джок Финли. Он сделал первый серьезный шаг к славе, взяв на главную роль сумасшедшую алкоголичку и заставив ее продемонстрировать в бродвейской постановке блестящую игру, хоть поначалу пьеса казалась посредственной. Тогда Джока тоже предостерегали; ему говорили, что поначалу все пойдет гладко, затем актриса начнет забывать свои слова, уйдет в запой, и этим дело кончится. Именно так и произошло. Однако Джок перебрался жить к актрисе. Работал с ней над ролью, следил за тем, чтобы актриса регулярно питалась. Даже сблизился с ней, хотя она была старше его минимум на двадцать лет. Но усилия Джока окупились. В день премьеры она выглядела на сцене великолепно. Ее блестящая игра помогла Джоку заслужить репутацию человека, способного осуществить невозможное. И вот теперь Дейзи Доннелл. Ее считали невыносимой. Сумасшедшей. Странной. Именно в странности, трогательной беззащитности, которая придавала ей сходство с беспризорным уличным мальчишкой, заключалась привлекательность Дейзи, а также в ее грудях и заде. Каждый мужчина испытывал желание защитить Дейзи. И переспать с ней. Мужчины не стыдились самих себя, мечтая о ней; их жены не ревновали. Она была идеальным символом для голливудских фильмов, еще одной блондинкой, желавшей сделать карьеру. Дейзи стала любовницей помощника режиссера по подбору актеров на одной из крупных студий. Ему удалось со временем добиться для нее маленькой, несложной роли в фильме, который неожиданно для всех оказался «большим». Это означало, что картина получила признание и принесла больше прибыли, чем ожидалось. Благодаря этому фильму Дейзи открыли. Необычные, уникальные качества, отличавшие ее от других актрис, проявлялись перед камерой сильнее, чем в жизни; они вдруг привлекли к себе внимание всего мира. При первом просмотре отснятого материала президент компании, продюсер, режиссер единодушно сошлись в том, что Дейзи заслуживает главных ролей. — Она нуждается в более значительной роли, — уточнил режиссер. — Да, — согласился президент. — Я приглашу ее к себе и поговорю с ней. Кто ее агент? — Марти Уайт, — ответил продюсер. — О, — застонал президент, предвидя множество проблем.
Марти Уайт знал, что делал правильный ход. Исполнительный продюсер отдавал себе отчет в том, что Дейзи — драгоценная собственность. Он хотел, чтобы с ней обращались соответствующим образом. Следовало уделять больше внимания ее макияжу, прическе, туалетам. Но самым важным было подбирать ей роли, не представлявшие чрезмерно высоких требований к ее скромным артистическим способностям. Ставка делалась на мальчишескую сексапильность Дейзи. Картины с мисс Доннелл не могли претендовать на премию Академии, зато имели большой кассовый успех. Как обычно, Марти проявил чутье и оказался прав. Она была для них ходячей шуткой. Приятной, забавной, но все же шуткой. Критики не признавали за ней никаких талантов, кроме сексуальности. К ней прочно приклеилось клише «секс-символ». Оно кочевало из одного интервью в другое. Это огорчало Дейзи. Но для студии и для Марти это означало деньги в банке. Поэтому в каждой картине старательно эксплуатировался ее статус всемирного секс-символа. К ее платью пришивались специальные бюстгальтеры — порой их число доходило до четырех за одну съемку; конструкция лифчика определялась ракурсом и тем, какой глубины ложбинку требовалось открыть для зрителя. Искусный костюмер-гомик изобрел для Дейзи особую складку на юбке или платье, подчеркивавшую аппетитную округлость ее ягодиц. Важным гостям из Нью-Йорка снова и снова демонстрировали кадры, где Дейзи Доннелл поднималась по лестнице. Люди обменивались остротами. Ближе всего к истине была фраза: «Дейзи Доннелл — самый ценный кусок мяса на свете». Она слышала эти слова. Неоднократно. Они приводили ее в ярость. Но также придавали уверенность. Быть ценной — значит быть нужной. Дейзи Доннелл испытывала потребность быть нужной. Тогда. И сейчас. Первый шумный успех обеспокоил ее. Испугал. Чем большую изобретательность проявляли костюмеры и операторы, льстившие ей с помощью кисеи, шелков, специальных линз, фильтров, тем сильнее она боялась постареть. Этот страх заставлял ее опаздывать на съемки. Пропадать на несколько дней. Ее постоянно приходилось ждать утром; она убегала раньше времени со студии, чтобы поспеть к психоаналитику. Когда первый врач не смог избавить ее от страха, она обратилась к другому, потом к третьему. Двое врачей пытались овладеть ею в кабинете. На кушетке. Один доктор намекал на это, маскируя свои намерения вопросами о том, уверена ли она в своей женственности и не испытывает ли сильного желания убедиться в ней. Отвергнув домогательства, Дейзи отправилась к следующему психоаналитику. Ему было лет под семьдесят; он производил впечатление человека, постоянно погруженного в глубокие размышления. Белобородый венский психоаналитик, на самом деле уроженец Кракова, также похотливо поглядывал на Дейзи, но возраст удерживал его от явных посягательств на ее тело. Что позволило Дейзи чувствовать себя с ним более спокойно, уверенно и делало общение возможным. Для обретения этим врачом сексуального удовлетворения от Дейзи потребовались бы усилия, мастерство и изобретательность, превосходившие ее возможности. Доктор решил относиться к ней просто как к пациентке. Самое важное событие в ее курсе психоанализа произошло в пятницу, под вечер. Пожилой доктор делал пометки в блокноте: он составлял список вещей, которые собирался взять с собой в Палм-Спрингс, где у него был дом. Вспоминая, какие деликатесы он должен купить у «Ната и Эла», врач внезапно заметил, что в сеансе образовалась пауза. Чтобы занять Дейзи и закончить перечень яств, доктор высказал предположение о том, что девушка не примирится со своим истинным врагом-подсознанием, пока она не избавится от чувства неуверенности, от ощущения, что она неспособна быть актрисой. Возможно, сказал он, остановившись на дюжине особых кошерных франкфутеров, в следующей картине Дейзи надо отойти от образа секс-символа и сыграть более глубокую, содержательную роль — классическую или историческую. Тогда критики наконец воспримут ее всерьез, и она испытает себя как актриса. Такой совет не представлял опасности. Любой психоаналитик, чьи пациенты принадлежали миру кино, отлично знал, что ни одна студия не станет рисковать миллионами, пригласив на главную роль в серьезной картине Дейзи Доннелл. Также ни одна студия не станет рисковать ее статусом звезды, предложив ей роль, которую она не вытянет; чрезмерные усилия могли привести лишь к полному провалу. Поэтому он понимал, что его идея безопасна. Дейзи есть о чем подумать до понедельника. Она не будет беспокоить его отчаянными звонками и даст ему отдохнуть в Палм-Спрингс. Добрый доктор закончил составление своего списка. Он заметил, что Дейзи уже давно молчит. — Мисс Доннелл, вы сегодня очень молчаливы. Дейзи, как и другие пациенты врача, черпала спокойствие и уверенность не только в его солидном возрасте и аккуратной, белой, псевдофрейдовской бородке, но и в его акценте — иногда венском, иногда еврейском. Тем временем сеанс закончился. Доктор не догадывался о том, какую бомбу с часовым механизмом он заложил своим предложением в пораженное страхом сознание Дейзи. Добросовестная Дейзи закончила сниматься в фильме. Когда была завершена работа над последним эпизодом, она незаметно покинула Голливуд. Дейзи объявилась в Нью-Йорке, в «доме истинной игры». «Дом истинной игры» — эвфемизм, изобретенный группой модных критиков, писавших для «Нью-Йорк Таймс», «Нейшн», «Тайм», «Ньюсуик», «Саттертей Ревю» и ряда авангардных изданий, провозгласивших новую театральную школу единственной «подлинно американской». Изящество, обаяние, краски, блеск, разнообразие, даже костюмы покинули нью-йоркские театры до начала этого погрома, учиненного критиками. Власть захватили однообразие и грязь. Пот стал признаком таланта. Или его заменой. Этот культ упрощенчества возник и стал всемогущим. Актеры и актрисы, действительно обладавшие обаянием, вкусом, дикцией, были изгнаны из американского театра и стали бездомными беженцами, странствующими с котомками за спиной. На протяжении нескольких последующих лет если и встречался на американской сцене талантливый американский актер, он оказывался импортированным из Англии. Дейзи Доннелл, как и другие американцы с мозгами, промытыми критиками, знала, что Нью-Йорк — Мекка подлинной актерской игры. И что в священном городе есть только один истинный храм. Любой настоящий поклонник театра должен посетить эту святыню, называвшуюся Студией, и получить там наставления. Дейзи не могла придумать более эффективного рекламного трюка. Внезапное появление актрисы в Нью-Йорке удвоило внимание к ней всего мира, которое и так было сфокусировано на Дейзи после ее бегства из Голливуда. Прибытие Дейзи в «дом истинной игры» стало новостью номер один. Студия обрела дополнительную известность. В первые дни Дейзи держалась тихо. Она лишь наблюдала за происходящим, воспринимала как привилегию право слушать «апостола» истинной игры, анализировавшего попытки актеров импровизировать, во время которых они выплескивали наружу собственные неврозы. Речь «апостола» была особой, специфичной смесью из психоаналитического и актерского жаргонов. Терминология обладала загадочностью и действовала на слушателей так же одурманивающе, как латынь — на католиков, а иврит — на евреев, не знающих своих исконных языков. Сначала Дейзи испытала растерянность, страх, точно путешественник, оказавшийся в чужой стране. Но она проявила упорство; актриса делала вид, будто принимает разглагольствования оракула. С ее лица не сходило сосредоточенное выражение, изображать которое она научилась во время съемок серьезных крупных планов. Иногда Дейзи делала записи в маленьком черном блокноте с обложкой из настоящей крокодиловой кожи. Однако большинство газетчиков и критиков продолжали относиться к ее присутствию в Нью-Йорке и в Студии как к трюку или даже как к дурной шутке. Шутка быстро исчерпала бы себя, если бы «апостол», руководствуясь собственными соображениями, не уговорил Дейзи подготовить и представить в Студии одну сценку. После многочисленных изнурительных репетиций с молодым актером, заставивших Дейзи потерять восемь фунтов, она почувствовала, что наконец готова продемонстрировать результат своей работы. В тот день на деревянных некрашеных скамейках Студии не осталось ни одного свободного места. Минут сорок казалось, что прослушивание вовсе не состоится. Наконец после долгих уговоров и убеждений Дейзи сказала, что она готова. Бледная, более худая, чем обычно, с аскетическим лицом, белизну которого подчеркивали черные слаксы и майка, Дейзи вышла на сцену. У нее был такой вид, будто она вот-вот упадет в обморок. Однако ее страх и напряжение подчеркивали важность момента, создавали атмосферу. Заговорив, она пошла вперед. За несколькими фразами диалога следовали долгие, пугающие мгновения тишины. Молодой партнер Дейзи, потрясенный отличием ее игры от игры на репетициях, постоянно находился в напряжении, ловил каждое ее слово. Страх Дейзи сообщал сцене привкус неуверенности, которая вызывала жалость, сочувствие даже у начинающих актрис, ненавидевших Дейзи, завидовавших ей, — она получила шанс, о котором те только мечтали. Когда Дейзи закончила, все начинающие актеры и актрисы испытали чувство удовлетворения — они убедились в своем значительном превосходстве над «великой» голливудской звездой. Уже одно это породило сдержанные аплодисменты. Взволнованная Дейзи с болезненным комком в животе убежала со сцены. Только через полчаса ее уговорили выйти из женского туалета и выслушать оценку ее интерпретации. «Апостол» успокоил Дейзи первым произнесенным им словом: «Очаровательно!» Затем он продолжил: «За все годы, проведенные мной в театре, я никогда не видел такого напряжения, такой интерпретации страха. Вы заметили неровный ритм сцены? Слова словно сами вырывались из души, а не были придуманы холодным, расчетливым О'Нилом. Эта интерпретация отражает муки автора и упреки, которыми он изводил себя. Думаю, мы стали свидетелями не просто игры, а излияния искренних чувств. Подлинного реализма в лучшем смысле этого слова. Правды. Да, правды. Мы буквально ощутили, пережили ее. Это была едва ли не лучшая игра, которую я когда-либо наблюдал». Он пожал руку Дейзи, поцеловал ее бледную щеку. Случилось так, что слабость обернулась силой, страх — чувством, неуверенность — ритмом; ужас породил правду. В тот же день слух распространился по Сорок Четвертой и Сорок Пятой улицам, по переулку Шуберта, по «Сарди» и «Дауни». «Апостол'' сказал свое слово. Он высоко оценил игру Дейзи. Хотя Дейзи боялась появиться перед публикой в спектакле, критики начали видеть в ней новые ростки таланта. Из ходячей шутки, из секс-символа она превратилась в «хорошую актрису» со скрытым потенциалом», который грубый, вульгарный Голливуд слишком долго скрывал и портил. Когда следующая картина Дейзи вышла на экраны, критики, долгое время видевшие в ней «секс-символ», внезапно открыли в актрисе «большой талант». Ее тело, служившее объектом грубых шуток, теперь отражало тонкие нюансы, обрело значимость. Мастерство, с которым она пользовалась им, превосходило, по оценкам знатоков, дар Линн Фонтейнн. Простые реплики, срывавшиеся с ее пухлых губ, становились поэзией. Благодаря одобрению «апостола истинной игры» Дейзи Доннелл наконец навсегда поднялась над бесконечной чередой сексапильных голливудских звезд, обреченных играть пустых блондинок с того момента, как какая-нибудь кинокомпания приклеивала к ним соответствующий ярлык. Дейзи Доннелл стала серьезной, почитаемой актрисой, получила достойный статус. Дейзи Доннелл обрела силу, позволяющую выдержать любой профессиональный шторм. За исключением одного — бушевавшего в ее объятой страхом душе. Что бы ни говорили о ней критики, как бы высоко они не ценили ее «реализм» и «искренность» — эти два слова постоянно мелькали в посвященных Дейзи статьях, — она так и смогла поверить в собственную реальность. Чем доброжелательней и благосклонней становились к ней критики, тем больший страх она испытывала. Превращаясь в легенду, она сама все ниже и ниже оценивала свои способности. Ее страх только возрастал. Она постоянно находилась в состоянии паники. Дейзи все реже и реже подписывала контракты. Чаще всего даже не приступала к съемкам. Почти полностью отказалась от светской жизни. Редко звонила по телефону и не отвечала на звонки. Иногда она читала оставляемые ей сообщения, но не реагировала на них — особенно в тех случаях, когда речь могла зайти о новом фильме. Страх перед неспособностью соответствовать своему новому образу в конце концов вынудил Дейзи покинуть мир кино. Актриса не заявила публично о своем уходе. Он просто стал фактом. Дейзи превратилась в испуганного отшельника в городе, где могла быть Королевой. Ее агент Марти Уайт уже привык к такому положению дел. Иногда, под сильным давлением какого-нибудь режиссера или студии посылал Дейзи очередной сценарий. Но результат всегда был одинаковым. Она держала рукопись у себя в течение недели, а затем возвращала ее с короткой запиской, выведенной почерком маленькой девочки: «Спасибо, Марти, но мне это не подходит». На самом деле сценарий почти всегда оставался непрочитанным. Марти определял это по чистой, гладкой, совершенно неизмятой обложке.
Когда Уайта осенила идея пригласить ее на роль в «Мустанге», он попытался дозвониться до Дейзи, но не добился успеха. Однако Марти был уверен в том, что она находится дома. Через десять дней он сдался. Исполнительный продюсер знал, что она имеет привычку, обвязав платком голову, садиться в свой «форд» с откидным верхом и уезжать на север или на юг вдоль берега Тихого океана. Она останавливалась на бензоколонках, возле закусочных, в людных местах, чтобы понаблюдать за тем, какое впечатление она производит на мужчин без ухищрений костюмеров, операторов с линзами и фильтрами, дорогих сценаристов, сочинявших для нее реплики. Часто Дейзи даже не узнавали, что приводило к истерикам, бессоннице, сеансам белобородого венского психоаналитика. Когда же на нее обращали внимание, Дейзи испытывала стресс другого рода. Ей казалось, что она разочаровывает окружающих. Ее снова охватывала паника, и актриса глотала пилюли. Марти Уайт сказал сущую правду. С появлением Дейзи Доннелл возникали проблемы. Но наибольшую проблему она сама представляла для себя самой.
Джок находился в кабинете художника. Стены комнаты были увешаны эскизами, которые режиссер признавал великолепными. Его восхищение росло по мере того, как он рассматривал один набросок за другим. Художник уловил цветовую гамму «Мустанга». Джока отвлек телефонный звонок. Глава студии разыскивал его повсюду. — Джок, малыш! Я только что говорил с Нью-Йорком. Боб сказал, что, если мы получим согласие Дейзи, она — наша! Даже на условиях Марти! На следующий день Джок без предварительного звонка подъехал к дому Дейзи, окруженному садом. Он ждал, сидя в своем красном «феррари». Она не появлялась. Он заглянул в гараж, находившийся в цокольном этаже. Автомобиль Дейзи стоял на месте. Но она не выходила. То же самое имело место на второй, третий, четвертый дни. На пятый день, решив, что «феррари», возможно, выдает его, Джок взял напрокат «шевроле» и запарковался на некотором расстоянии от дома. Вскоре желтый «форд» с откидным верхом выехал из гаража. За рулем сидела девушка в темных очках; платок скрывал ее светлые волосы. На ней была спортивная куртка из верблюжьей шерсти. Она вырулила на улицу. Джок направился вслед за Дейзи. Она двигалась в сторону Тихого океана; оказавшись на шоссе номер сто один, покатила на север. Джок следовал за «фордом» на почтительном расстоянии, чтобы «шевроле» не отражался в зеркале заднего вида ее автомобиля. Когда она остановилась, чтобы заправить бак, Джок проехал мимо нее дальше, чтобы не привлекать к себе внимания. Развернувшись на первом перекрестке, он возвратился на бензоколонку с другой стороны. Когда Дейзи платила за бензин, ее не узнали. Лишь после отъезда актрисы служащий бензоколонки, очевидно, догадался, кого он обслужил. Джоку пришлось поторопить изумленного человека, которому хотелось поговорить о необычной встрече. Когда половина бака заполнилась горючим, Джок бросил служащему смятую купюру; он боялся потерять Дейзи.
Время ленча давно миновало, но Дейзи не останавливалась, чтобы поесть. В районе Большой Отмели она свернула с шоссе, спускаясь на берег Тихого океана. Дейзи затормозила возле безлюдного пляжа, отделенного от главной дороги каменными глыбами скал. Она вышла из машины, развязала платок, тряхнула своими светлыми волосами, сняла с себя всю одежду и побежала с ярким пляжным полотенцем в руках к океану, накатывавшемуся на берег высокими грохочущими волнами. Увидев, как она бросилась в воду, Джок испугался — такая реакция возникла бы у любого человека, помнившего, как Фредерик Марч бросается в Тихий океан в фильме «Рождение звезды». Со дня выхода на экраны этой картины кинозвезда на берегу океана ассоциируется с самоубийством. На мгновение Дейзи скрылась из виду, но потом она снова появилась. Дейзи хорошо плавала. Через несколько минут она позволила сердитой волне вынести ее на то место, где вода доходила ей до бедра. Обнаженная, она поднялась из пены; ее белая кожа блестела на солнце. Спутанные мокрые волосы придавали ей трогательное сходство с беспризорным ребенком. Если бы рядом с Джоком находился сейчас оператор с камерой, режиссер запечатлел бы эту сцену, еще не зная, как она вмонтируется в фильм. Профессиональная интуиция подсказывала ему, что такой кадр нельзя снимать дважды. Также он знал, что попытается сделать это для «Мустанга», даже если такой кадр не предусмотрен пока что сценарием. Он дал ей время вытереться. Прежде чем она начала одеваться, Джок заявил о своем присутствии, окликнув ее: «Дейзи!» Он полагал, что внезапный голос вызовет у Дейзи шок. Он хотел этого. В общении со звездой он всегда считал полезным лишить ее уверенности. Повернувшись, она прикрылась полотенцем так, как дюжину раз делала в фильмах. Туго затянутое чуть выше бюста, оно мини-юбкой падало на бедра. Похожая на мальчика, сейчас она могла украсить любую кинокартину. Если она испытывала растерянность, была застигнута врасплох, то ей хорошо удавалось это скрывать. Джок шагнул к Дейзи, чтобы представиться. Но она ждала его появления. — Что случилось с вашим фасным «феррари»? Он изобразил на лице обезоруживающую, застенчивую улыбку сельского паренька, ослепляя Дейзи светом, исходившим от его невинных голубых глаз. Он изображал из себя мальчишку, которого застали в тот момент, когда он запустил руку в банку с печеньем. — Вы меня давно вычислили, — виновато произнес Джок. — Когда вы проехали мимо бензоколонки и вернулись с противоположной стороны, я едва не расхохоталась, — сказала Дейзи. — Я сказала себе: «Надеюсь, он более талантливый режиссер, чем детектив». Она улыбалась. — Тогда смейтесь! Хохочите! — Джок изобразил глубокую обиду. На самом деле он воспрял духом: она знала, что он — режиссер. — Да, Дейзи, — продолжил он, — я днюю и ночую возле вашей двери. Уже пятые сутки. Как потерявший голову поклонник. Или как сексуальный маньяк, который, посмотрев на вас, возвращается домой, чтобы заняться онанизмом. Извините меня, леди, за резкость и прямоту. Но я действительно обижен. Глубоко обижен. Да, я — режиссер. И я езжу на красном «феррари». У меня есть для вас отличная роль в отличном, правдивом фильме. И я не могу даже связаться с вами. Когда наконец мне удается увидеть вас, вы находите это забавным. Как мне не обидеться? Джок Финли знал некоторые основные вещи о человеческой природе. Чувствительных, уязвимых людей легко шантажировать, ссылаясь на собственную чувствительность. Если, унижая себя, он завоюет ее доверие и сострадание, он пойдет на это. Его метод, похоже, сработал. Она поискала в глазах Джока следы нанесенной обиды. Будучи неплохим актером, он сумел изобразить душевную боль. Будучи беспринципным сукиным сыном, он мог заставлять других людей излучать ее в широкоугольный кинообъектив. — Извините, — тихо промолвила Дейзи голосом, который она эффектно использовала в интимных сценах. Джок понял, что сейчас она не играет. — Я не хотела посмеяться над вами, мистер Финли. Джок испытал потрясение. Они не были знакомы прежде. Однако Дейзи знала его. Джок не смог скрыть свою реакцию. — Когда я находилась в нью-йоркской Студии, ваша группа разыгрывала сценку. Я наблюдала за вами, когда вы смотрели на актеров. Я никогда не забуду этого. Вы были частью маленькой труппы, их отцом. Как замечательно, подумала я, иметь режиссера, который всегда с тобой. Любит тебя, является твоей частью. Дейзи говорила тихо, словно они находились наедине в маленькой комнате, а не на песчаном, ветреном берегу возле ревущего океана. Джок невольно заговорил таким же тихим ласковым голосом. — Если вы чувствовали это, почему не отвечали на наши звонки? Мы с Марти уже две недели пытаемся до вас дозвониться. — Потому что я знала, что вы заговорите о фильме. И я не смогу ответить вам. — Почему? — мягко спросил он. Она пожала плечами. Отвернувшись от Джока, уставилась на океан. Джок изучал Дейзи. Сирота на берегу. Преследуемая мужчиной, который хотел предложить ей миллион долларов и роль в фильме с Престоном Карром. Она боялась принять решение. Порядочный, истинно чувствительный человек сказал бы: «Дейзи, оденьтесь. Поезжайте домой. Не терзайте себя. Не позволяйте мне мучить вас». Но ставка была слишком высока, шанс сулил слишком многое. Необходимо осуществить постановку «большого» фильма. — Дейзи, я удаляюсь. Оденьтесь. Я буду ждать вас на вершине холма, — скромно произнес Джок. Он повернулся и ушел. С вершины холма, глядя вниз на берег, можно было увидеть солнце, опускающееся в воду. И девушку, снявшую с себя полотенце на то время, которое необходимо для того, чтобы надеть трусики и платье. Джок Финли отвернулся от всего этого, точно был порядочным и благородным человеком. Но при более пристальном рассмотрении можно было увидеть другого Джока Финли, глаза которого выдавали его расчетливое предвкушение. Если бы удалось взглянуть с малого расстояния на Дейзи, то выяснилось бы, что она провожает взглядом удаляющегося Джока Финли. Ее лицо выражало уважение, почтение, страх перед человеком, принятым в качестве режиссера в нью-йоркском «доме истинной игры».
Она не захотела выпить. Поэтому они сидели в «форде» и разговаривали до тех пор, пока солнце не опустилось в Тихий океан. Когда стемнело, Джок вспомнил, что она даже не съела ленч. Они доехали на двух автомобилях до маленького ресторанчика, расположенного в конце длинного пирса неподалеку от сто первого шоссе. Этот заурядный ресторан мог оградить их от толпы, которая не оставила бы их в покое в «Чейзене» или «Ла Скала». Во время обеда они говорили о фильмах. О жизни. И наконец о «Мустанге». Дейзи сама затронула эту тему, так как знала, что это неизбежно. — Хорошо, расскажите мне о своей картине, — предложила она равнодушным, отстраненным тоном, указывавшим на ее внутреннее напряжение и желание в конце концов закрыть этот вопрос. То, как она попросила Джока, заставило его понять, что он должен проявить большую осторожность при ответе. Даже в общении с Престоном Карром от Джока не требовались такая тонкость и умение владеть полутонами. Карр был мужчиной с выраженной мотивацией. Он хотел сниматься при двух условиях. Хороший сценарий. Хорошие деньги. С этой девушкой, испытывавшей страх, не уважавшей деньги, а боявшейся их, он должен разговаривать исключительно осторожно. Или исключительно смело. В самом начале режиссерской карьеры Джок установил для себя одно правило. Чтобы произвести впечатление на критика или завладеть вниманием публики в банальной ситуации или сцене, всегда делай нечто самое обычное, но самым необычным способом. Что, как правило, говорит режиссер звезде, согласия которой он добивается? У меня есть для вас отличная роль в превосходном фильме! У меня есть для вас потрясающая роль в лучшем из фильмов!!! В последние годы Дейзи Доннелл слышала это едва ли не при каждой встрече с очередным режиссером. Джок знал, что необходим другой путь. Поэтому он не ответил ей сразу, а продолжал есть, словно не желая погружаться в эту тему. Наконец он произнес так, словно делал весьма личное признание: — С девушкой из сценария не все в порядке. Она меня ужасно беспокоит! Сейчас он не был режиссером, говорившим со звездой. Так режиссер мог говорить со своей женой. Или со своим агентом. Так продюсер мог говорить с главой студии. Здесь звучала скрытая жалоба: надо мной нависла опасность. Помоги мне! — Это гнетет меня! Сводит с ума! Я не сплю из-за этого. Буду с тобой абсолютно честен. Именно по этой причине я хочу снимать тебя. Студии, возможно, нужно твое имя. Но мне — нет. Мне необходимо то, что ты можешь сделать для этой картины, для меня. Дейзи, знавшая многих режиссеров, такое услышала впервые. Актриса немного напряглась. Она вообще не хотела связываться с любым фильмом, даже если бы ее убедили в том, что сценарий и роль великолепны. Но сообщение о том, что со сценарием и ролью есть проблемы, не могло не вызвать тревогу. Джок ощутил ее испуг, увидел его на лице девушки, смотревшей не на собеседника, а на океан. Но он завоюет ее! — Я уже несколько недель пытаюсь убедить автора в том, что он не знает женщин. Разумеется, он знаком со старым стереотипным голливудским представлением о женщинах. И даже слишком хорошо. Но реальную женщину! Нет! Он не знает ее и не позволяет мне позвать кого-то на помощь. Поверь мне, если бы речь шла не об оригинальном сценарии, я немедленно прогнал бы автора! Но мои руки связаны. Что весьма плохо. И… душа также… Он посмотрел на нее, чтобы понять, отреагировала ли она на слово «душа». Да, отреагировала. — Мне следовало бы отказаться от его сценария. И я сделал бы это. Если бы интуиция не подсказывала мне, что картина может получиться превосходной. Ее надо сделать. Я знаю, что должен ее сделать. Только бы решить проблему с героиней. Этот фильм станет лучшим за всю карьеру Престона Карра, если мы сумеем правильно показать отношения Карра с девушкой. Фильм станет лучшим для актрисы, которая сыграет героиню. Если роль будет доработана. Вот зачем мне нужна ты. Только ты одна можешь помочь мне. Да, только ты! Дейзи повернулась и посмотрела ему в лицо. Он чувствовал, что она ждет дальнейших объяснений. — Эта девушка так же одинока, как ты. Так же напугана. Обижена. Да, Дейзи, именно так. Мне нужно то, что находится внутри тебя. Не снаружи. Мне не нужны светлые волосы, хорошенькое бело-розовое личико. Красивые дразнящие груди. Аппетитный зад. Мне нужно то, что внутри тебя. Сначала на бумаге. Потом в фильме. Я говорю тебе следующее: если ты не хочешь поработать со мной над сценарием, тогда ради нас обоих — тебя и меня — откажись от роли, когда Марти снова позвонит завтра. Или не отвечай на его звонки. Это избавит тебя от боли отказа, объяснений. Она не ответила ему. Джок не давил на нее.
Почти через два часа Джок и Дейзи сидели в темном углу кафе для хиппи, высоко над Малибу. Их никто не узнавал; они потягивали кофе и смотрели на мерцающее пламя свечи, стоявшей в пустой, заплывшей воском бутылке. Оба мало говорили с того момента, когда Джок попросил Дейзи о помощи. Дрожащее пламя сообщало дополнительную грусть его голубым глазам. То ли из-за сочувствия к Джоку, то ли из-за собственного душевного разлада Дейзи внезапно тихо заплакала. Он вытер кончиками пальцев ее слезы. — Извини, Дейзи. Я не хотел перекладывать на тебя мою проблему. Она на самом деле моя. Если ты сама не сделаешь ее твоей. Но в таком случае я обещаю тебе — это будет актерский опыт, который ты никогда не забудешь. И никогда о нем не пожалеешь. Ты сможешь гордиться им до конца своей жизни. Расчувствовавшаяся Дейзи сидела с мокрыми глазами. В ней нуждались, ее умоляли — на сей раз из-за ее внутреннего содержания, а не из-за тела. — Ты сделаешь это? — спросил он ее. Через некоторое время она кивнула и произнесла: — Да, сделаю. Джок взял ее маленькую, холодную, напряженную руку, поцеловал пальцы, потом сжал обеими своими руками. — Я хочу, чтобы мир один раз, хотя бы только один раз увидел настоящую Дейзи Доннелл. Люди полюбят ее еще сильнее, чем ту, которую они знают сейчас. Мы начнем работать над сценарием завтра днем. Я приеду к тебе и прочитаю вслух нынешний вариант. Потом мы возьмемся за дело! Он поехал за желтым «фордом» до ее дома, проводил Дейзи до двери квартиры. В какой-то момент она могла пригласить его к себе, и он ответил бы согласием, но она не сделала этого. Они постояли, глядя друг на друга. Дейзи хотела верить Джоку. Его глаза говорили: «Верь мне, верь мне, верь мне». Она достала ключ. Финли взял его, отпер дверь, распахнул ее, включил свет и, убедившись в том, что с Дейзи все в порядке, протянул ей ключ. Девушка взяла его. Джок поднес ее руку к своим губам и поцеловал. Дейзи вошла в квартиру. Финли подождал, пока она не заперла дверь. Джок вышел из холла в сад и вернулся к своему автомобилю, чувствуя, что Дейзи следит за каждым его шагом через щель в шторах.
Финли вернулся домой после полуночи. Несмотря на поздний час, он позвонил Марти. Агент уже засыпал, но его сон тотчас улетучился, когда Джок заговорил. — Марти! Ты можешь позвонить в Нью-Йорк. Она согласна! — Сегодня! — сказал Марти. — Сегодня она согласна. Подожди до завтра. Или просто несколько часов. Когда ты положишь трубку, она может позвонить и сказать, что передумала. Я не стану звонить в Нью-Йорк, пока не обрету уверенность. — Она не передумает, — твердо сказал Джок. — Послушай, малыш, я ее знаю. А ты — нет. — Говорю тебе — на сей раз она не передумает! Можешь утром звонить в Нью-Йорк. — Если бы я получал доллар всякий раз, когда режиссер или продюсер говорит мне это о ней! — Потому что она испытывала страх, Марти. Боялась. Я не позволю ей бояться. С начала съемок у нее не будет времени на то, чтобы думать. Ей будет некогда испытывать страх. Марти, вот увидишь — она не станет больше бояться.
Со следующего дня Джок педантично следовал своему плотному, тщательно продуманному расписанию. С восьми утра до полудня он составлял в своем студийном кабинете график съемок, обсуждал и одобрял костюмы, декорации, решал, какие эпизоды будут сниматься на натуре, а какие — в павильонах, договаривался насчет отлова мустангов и присмотра за ними. Джоку повезло с оператором. Джо Голденберг оказался свободен; ради Престона Карра он согласился снимать «Мустанга». Это имело большое значение. Джо был ветераном, пять раз выдвигавшимся на соискание премии Академии, причем трижды за цветные фильмы. И дважды удостаивался этой награды. Мустангов, необходимых для съемок, предстояло поймать на натуре; поэтому требовались профессиональные конюхи, умеющие обращаться с лошадьми, лечить их, ухаживать за ними, способные обеспечить их готовность к съемкам. Никакие обсуждения и проблемы не задерживали Джока на студии после полудня. Начиная с первого дня, когда он приступил к чтению сценария вслух Дейзи, и до того момента, когда сценарий обрел вид, подходящий для съемок, Джок регулярно проводил вторую половину дня с актрисой. Просторная, красивая, светлая квартира Дейзи все же чем-то напоминала тюремную камеру. Сначала Джок решил, что она действует так только на него. Но позже он уловил капризное, неустойчивое настроение девушки, о котором предупреждал Марти, и понял, что Дейзи была уже не такой, как в первый вечер. Джок заподозрил, что квартира угнетает, сковывает, закрепощает и ее тоже. Они стали выезжать из Лос-Анджелеса. По дороге к Дейзи он обычно останавливался, чтобы купить еду для пикника — сыр, вино, фрукты, затем заезжал за девушкой, и они ехали или на север вдоль океана, или на юг в сторону Ла Джоллы и Палм-Спрингс. Там они находили какой-нибудь безлюдный пляж или лужайку на вершине холма. И только тогда Дейзи оживала, дышала свободно, без напряжения. Она становилась девушкой с того пляжа. Джок наконец понял: дело не в квартире, а в городе, студиях, бремени кинобизнеса, от которого она бежала. Оставшись вдвоем, без посторонних, они могли говорить о сценарии, об отдельных эпизодах, о фразах из диалогов, смущавших, настораживавших Дейзи, остававшихся непонятными ей. Мягко, деликатно он подсказывал Дейзи, как надо произносить те или иные реплики. Этот этап работы раздражал большинство актрис. Он медленно раскрывал перед ней характер героини, суть сюжета, ее отношения с Линком — персонажем Престона Карра. Они говорили, обсуждали детали; Дейзи даже спорила. Раньше ей не хватало на это уверенности в себе. В те моменты, когда Джок и Дейзи откладывали сценарий в сторону, они смеялись, ели, пили. Джок пытался проникнуть в ее прошлое, надеясь, как все доморощенные психоаналитики, что ему удастся отыскать тот единственный факт, рану или шрам, которые сделали Дейзи такой, какой она была сейчас. Конечно, этого не произошло. Но он продолжал надеяться, пытаться. Джок знал одно: наконец она чувствовала себя с ним легко, раскованно. Ее руки, которые в тот первый день были ледяными, теперь потеплели. Тело освободилось от напряжения. Девушка дышала свободнее, глубже, чем в начале их знакомства, и не находилась постоянно на грани паники. Сейчас ее незащищенность проявлялась только в двух моментах. Иногда, без видимых причин, она хватала его за руку и держалась за нее, точно маленькая девочка — за руку отца. Это происходило, когда актриса слушала его объяснения, касающиеся сцены, или когда они ехали, или когда она просто смотрела на океан. Затем смущенно отпускала руку Джока. Другой симптом напряжения был более непосредственно связан со сценарием и фильмом. Слушая Джока, Дейзи впадала в долгую задумчивость. И вдруг предлагала ракурс, реплику или движение, успешно апробированные в предыдущей картине. Так часто поступали актеры и актрисы, сомневающиеся в своем таланте. Джок уже сталкивался с этим раньше — особенно часто подобное случалось с комиками, впервые игравшими в спектакле и не слышавшими столько зрительского смеха, сколько им удавалось вызывать его в ночных клубах Лас-Вегаса. Если патриотизм — последнее прибежище подлецов, то развязность — первое прибежище испуганного комика или актера. Желание спрятаться за личное старое клише иногда становится непреодолимым. Спасти от этого может только вера в режиссера. Именно это происходило с Дейзи. Но, поскольку Джок хорошо изучил этот синдром, каждый раз, когда она предлагала использовать прежнюю реплику, знакомый ракурс или ретроспекцию, он мягко и осторожно объяснял: — Дейзи, Дейзи, нет. Прежде всего мы все — ты, я, Престон Карр — стремимся уйти от всех клише в кинопроизводстве. То, что какой-то прием принес успех в прошлом, уже достаточная причина для отказа от него в этой картине. Мы собираемся снять самый нестандартный вестерн всех времен! Сделать тебя трогательно романтичной, совсем непохожей на прежнюю Дейзи Доннелл! Вспомни, что я сказал тебе в первый вечер. Ничего не бойся. Доверься мне. Верь в меня хотя бы вдвое слабее, чем я верю в тебя, и ты сыграешь великолепно! В подобные минуты она брала его руку, прижимала ее к своему кашемировому свитеру, к своей груди. Так начался их роман. Во время шестнадцатой встречи. У края скалы, нависавшей над Тихим океаном. Испуганная Дейзи держала Джока за руку. Ее пальцы снова стали холодными. Джок спрашивал себя, в чем причина. Он лишь сказал: «Через две недели мы начнем». Она взяла его за руку, прижала ее к себе, задрожала. Он не видел такого с самого первого вечера и поспешил успокоить Дейзи и обнял ее, словно мог таким образом унять ее дрожь. Но ему не удалось это сделать. Она уткнулась в его плечо, шею, ища убежища, защиты. Он ласково приподнял ее лицо и поцеловал Дейзи в дрожащие губы, желая ободрить ее. Когда он сделал это, она полностью раскрылась перед ним. Отчаянно, неистово обняла его. Почти каждая женщина в определенный день и момент превращается в одну сплошную эрогенную зону. Тогда достаточным оказывается одного маленького прикосновения. Даже контакта через одежду. Просто близости. Даже мысли. Женщина открывается мужчине. Почти любому. В определенные дни. Дейзи, прижавшись к Джоку, позволила ему раздеть себя. Когда он посмотрел на ее тело, она смущенно отвернулась. Он принялся целовать ее груди; она крепко прижималась к нему. Ее руки, обнимавшие его спину, оставались ледяными, а тело — напряженным. Она хотела его, нуждалась в нем — отчаянно, но как-то странно. Джок участвовал в ее объятиях, стонах, оргазме и одновременно отсутствовал. Когда все закончилось, он остался между ее нежных, белых бедер; Финли посмотрел на ее лицо. Глаза Дейзи были закрыты. Она дышала медленнее, чем он ожидал. Коснувшись ее тела, он почувствовал, что девушка успокоилась, наконец-то избавилась от напряжения. Не открывая глаз, она поискала его руку. Нашла ее. Рука Дейзи была теперь теплой, расслабленной. Девушка поднесла его кисть к своему лицу, прижала ее к щеке. И улыбнулась. Ее глаза еще были закрыты, когда она заговорила: — Сначала мы будем снимать на натуре, да? Мы еще не скоро окажемся в студии? — Не скоро, — ответил он и передвинулся вперед, чтобы быть ближе к ней. Она обняла его за шею и привлекла к себе. Джок снова занялся с ней любовью. Отныне он делал это каждый день. Финли понял кое-что. Это был единственный надежный способ ослабить ее страх, снять напряжение. Пока она будет нуждаться в нем, обретать благодаря ему уверенность, чувство защищенности, сексуальное удовлетворение, он сможет добиваться от нее хорошей игры.
Четвертая глава
— Снимать всю картину на натуре? — спросил Марти; его круглое лицо постепенно становилось багровым. — Ты понимаешь, что это означает? В смысле стоимости? И во всех прочих отношениях? Съемочный день сократится. Следы от реактивных самолетов будут мешать монтажу. Нет, малыш! Снимать всю картину на натуре — слишком большой риск. — Но, Марти… — взмолился Джок, — поверь мне, так будет лучше. И даже, возможно, дешевле в конечном счете. — Это еще почему? — спросил маленький человек. — Как ты будешь просматривать текущий съемочный материал? — Его будутдоставлять на вертолете. А смотреть — в проекционном трейлере, — быстро ответил Джок, продумавший все детали. — Тебе известно, во что обойдется двухмесячная аренда такого трейлера? Ты не будешь снимать всю картину в пустыне. Даже не говори об этом. Сейчас, когда лондонский скандал забыт. Это обошлось бы в лишний миллион-полтора! Марти задумался и продолжил: — Не говоря уж о Престоне Карре. Он не брал на себя обязательств сниматься на натуре. Он не любит надолго уезжать. И жить в таких условиях. Ему нравится жить в комфорте. И я не виню его. Так что забудь об этом, малыш. — Марти… Марти, а если я скажу тебе, что не смогу довести Дейзи до конца картины при съемках на студии? — медленно произнес Джок, желая вселить в Марти чувство страха и неуверенности. Ему это удалось. Марти, на мгновение потеряв дар речи, посмотрел на Джока. Затем он снова заговорил. — Что случилось? Скажи мне! — Ничего не случилось. Пока. Но Дейзи боится этого города. Киностудий. Они вызывают у нее клаустрофобию. Она — самое напуганное существо, какое я видел. Вдали от Голливуда я могу управлять ею, добиваться отличной игры. Здесь, вблизи студий, при наличии давления, сплетен, требований, вины, чувства ответственности, я не могу ничего гарантировать. Пожалуйста, Марти, не ради меня. Ради нее! — Это должен одобрить Нью-Йорк. Карр должен дать свое согласие. Это будет нелегко, малыш. — Я сам отправлюсь в Нью-Йорк. Поеду к Карру. Получу его согласие. — Если Нью-Йорк даст добро… — Марти начал сдаваться. — Если Карр не станет возражать… я тебя поддержу. Джок шагнул к двери. Голос Марти остановил его: — Малыш, ты не влюблен в эту девушку? Джок сердито обернулся. — Что за вопрос? — Ты с ней спишь? — невозмутимо спросил Марти. — Не твое дело! — взорвался Джок. Марти кивнул с облегчением. Теперь он знал. — Тогда все в порядке, малыш. Она никогда не выходит замуж за того, с кем спит. Ты в безопасности. Отправляйся в Нью-Йорк.Джок добился своего, затратив на это почти целый день. Беседа началась в одиннадцать утра в кабинете президента и продолжилась во время ленча на втором этаже «21». Затем они снова вернулись в офис и пробыли там до половины пятого. Президент сдался, лишь когда Джок пригрозил, что это единственный способ защитить картину. — О'кей, снимайте всю картину на натуре, если хотите! Не успел Джок спуститься на первый этаж, как президент уже говорил по телефону с Марти Уайтом. Агент был готов к этому звонку. — Боб, дорогой, если тебе нужна эта девушка, уступи Финли. — Господи, мы уже так разрекламировали ее участие! Акционеры пришли в восторг, когда я объявил им. Мы должны снимать только ее! — Тогда сделай, как я советую. Согласись, — сказал Марти. — Я уже дал добро. Просто я беспокоюсь.
Джок нашел Престона Карра на выставке аппалузов, где лошади актера уже получили четыре награды. Они обсудили проблему, пока Карр с гордостью поглядывал на своих животных, которых готовили к выходу на демонстрационный круг. Карру не понравилась перспектива провести все время на жаре, в пустыне. Несомненно, в таком случае число съемочных дней увеличится. Джок рассказал о специальном трейлере с кондиционером; эта машина превосходила по размерам любую предшествовавшую модель; это был однокомнатный «люкс» на колесах, оборудованный по последнему слову техники. Но Карр лишь посматривал на своих лошадей и, казалось, не хотел уступать, пока Джок внезапно не попросил с искренностью в голосе: — Пожалуйста, Прес? Сделайте мне одолжение. Я прошу вас. — Конечно, малыш, если это так важно. И если ты раздобудешь этот трейлер. О'кей! Когда Джок сообщил Дейзи о том, что съемки всего фильма пройдут вдали от Голливуда, она испытала облегчение, явно обрадовалась. Ее напряжение исчезло, словно Джок только что позанимался с ней любовью. Она импульсивно расцеловала его, счастливо засмеялась. Затем Дейзи прильнула к нему. Ее руки не были дрожащими и холодными, как тогда, когда она была близка к панике; сейчас она просто хотела ощутить его внутри себя, там, где тепло и влажно. Он поцеловал ее; губы Дейзи раскрылись, язык девушки оказался во рту Джока. Джок испытывал страстное желание немедленно овладеть Дейзи, однако любопытство заставило его уступить ей инициативу. Она превратилась в агрессора. Ожили ее руки, рот, ноги; она участвовала в акте любви вся целиком. Кончив в нее, Джок перевел дыхание; он ощущал биение ее пульса явственнее, чем собственное. Он слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Дейзи лежала лицом вверх с закрытыми глазами и улыбкой удовлетворения на полных губах. Джок сначала обрадовался, но потом внезапно подумал: «Я тут ни при чем, просто она избавилась от страха перед студийными съемками. Она благодарит меня. Так даешь доллар служащему стоянки за то, что он подогнал твой автомобиль. Она не умеет благодарить иначе».
Наступил великий день. Они отправились на натуру, в Неваду. Исход евреев из Египта был скромной экспедицией по сравнению с отъездом первоклассной съемочной группы из Голливуда. Армии передвигаются с меньшими сложностями. «Мустанг» предстояло снимать несколько дней в тщательно выбранном захолустном городке возле калифорнийской границы; основные съемки должны были проходить в засушливых предгорьях, характерных для Невады, где еще обитают небольшие табуны диких лошадей. Также планировалась сцена на озере Мид; Джок уговаривал Уорфилда ввести ее в сценарий, желая представить Дейзи Доннелл в наиболее выигрышном виде и тем самым дополнительно «защитить» картину. Бог видит, они платят ей огромный гонорар, говорил Джок; актриса должна оправдать его. Наконец было решено, что сцена, которую первоначально предполагали снимать вечером в баре, будет перенесена на берег озера Мид. Уорфилд сопротивлялся, утверждая, что диалог, который хорошо прозвучал бы в полумраке, подчеркнутом сиянием неоновых огней, погибнет на залитом солнечным светом берегу озера. Но Джок уже начал мысленно переписывать сцену — ему с самого начала не нравился этот диалог. Уорфилд подозревал это. Он сам срочно переделал эту сцену, чтобы избежать поездки на натуру.
Когда Джок прибыл на натуру в своем красном «феррари», там уже возводился город. Посреди пустыни внезапно появились грузовики с генераторами, бензовозы, походная столовая, камеры, краны, вертолеты, загоны для диких мустангов. В течение восьми, десяти, четырнадцати, пятнадцати недель этот мини-город будет жить, функционировать, поддерживать жизнь в изолированном оазисе, а затем исчезнет. Джок Финли находился в центре этой деятельности и сознавал свою ответственность за ее нормальное течение. Джок Финли, бывший бруклинский паренек, худой, красивый, голубоглазый, проживший на свете тридцать один год, возводил на невадской земле город, превосходивший размерами первый британский лагерь Цезаря. Режиссер непрерывно решал массу вопросов, связанных со строительством, размещением людей и техники. Дейзи прибыла через три дня после приезда Джока. Еще через день появился Престон Карр. До начала съемок оставалось два Дня.
Первые кадры любой картины исключительно важны. Даже если это самые тривиальные кадры. За несколько первых дней формируются моральный настрой, дух, ожидания центральных участников процесса. Особенно это существенно для картин, снимаемых на натуре. Один великолепный кусок ленты, пусть даже совсем маленький, понравившись администрации студии, обеспечивал режиссеру свободу и возможность впоследствии превысить бюджет. Этот первый кусок фильма также мог вдохновить актеров. Удачные футы ленты вселяют в них уверенность в том, что они находятся в руках умелого режиссера, что картина будет хорошей, важной, кассовой, что она благотворно повлияет на их карьеру, репутацию, гонорары. Это делает исполнителей более сговорчивыми, послушными, управляемыми, позволяет режиссеру быть более требовательным. Душевное состояние актеров, съемочной группы, студийной администрации, даже самого режиссера формируется под воздействием первых отснятых сцен. Особенно это было справедливо в отношении «Мустанга». В значительной степени из-за Дейзи. Джок знал, что первая сцена должна вселить в нее огромную веру в картину и режиссера, а главное, в себя. Появление Дейзи Доннелл вызовет у всех на натуре и в студии чувство ликования по поводу ее возвращения. Однако первая сцена Дейзи не могла быть первой сценой картины. Джок знал, что риск слишком велик. Также в первых сценах не должно быть и Престона Карра. Джок хотел завоевать дополнительное уважение актера до начала съемок важных эпизодов с его участием. Карр по-прежнему называл режиссера «малышом» — ласково, приветливо, дружелюбно. Но Джок не ощущал того глубокого уважения хорошего актера к хорошему режиссеру, которое может оказаться весьма важным фактором в случае возникновения разногласий. Джок видел это, злился и хотел завоевать уважение Карра любой ценой. Единственный способ добиться этого — снять превосходную первую сцену. Идеальная первая сцена также даст всем ясное, четкое представление об уровне реализма, который Джок хотел выдержать во всем фильме. Она покажет, что «Мустанг» не просто очередной вестерн, пусть даже хороший, но рассказ о реальных людях, глубоко психологичный, с ненадуманными конфликтами, имеющий универсальное значение, объясняющий многое в современной жизни. Если конфликты реальны, опасности также должны быть настоящими, впечатляющими. Задолго до приезда на натуру Джок понял, что первая сцена должна благотворно подействовать на всех мужчин. А главное, на одну женщину. Она обязана пробудить в каждом глубокое, искреннее уважение к режиссеру, его таланту, к работе, которую им предстоит выполнить под его началом. Джок приехал с уже готовым решением, которое он не разглашал. Первые кадры будут замаскированы. Он назовет их «цветовым тестом». Они будут отправлены в студийную лабораторию якобы только для определения качества цветопередачи используемой пленки и изучения естественного освещения в разные часы дня. Таким способом он, Джок Финли, застрахует себя на тот случай, если первые кадры не оправдают возлагаемых на них надежд. Так что на черной доске было выведено мелом:
Мустанг 4 января Режиссер: Финли Оператор: Голденберг Цветовой тест: дубль первый
Поскольку в фильме планировались панорамные виды, Джок решил для «цветового теста» заснять диких лошадей. Эта впечатляющая, волнующая картина могла задать ритм и фактуру всего фильма. Первые пробные съемки предполагалось осуществить с вертолета; камера будет опускаться в глубокие ущелья и каньоны, туда, где пасутся мустанги; вертолет вспугнет их и погонит по каменистым тропам, высохшим речным руслам, по пустыне. В соответствии с его общим правилом — делай обычное необычным способом — Джок не пошел на то, чтобы в вертолете с камерой работал помощник Голденберга, Дейв Грэхэм. Он попросил Джо лично управлять «Митчеллом». Джо, сговорчивый от природы, особенно когда он имел дело с молодыми режиссерами, в которых видел нахальных испуганных юнцов, уступил Джоку, хотя уже много лет не прикасался к камере.
«Митчелл» был надежно закреплен сбоку от корпуса вертолета, возле люка. Джо Голденберг и Джок пристегнулись длинными ремнями, позволявшими высовываться из салона вертолета достаточно далеко и видеть, что попадает в объектив. Машина поднялась в воздух; поиски лошадей начались. Под ними мозаикой из солнечного света, теней, земли проплывали пустыня и предгорья. Наконец они заметили маленький табун диких лошадей, пасущихся под скалами. По сигналу Джока пилот сбросил высоту; грохочущая машина оказалась в пятидесяти футах от земли, позади табуна. Животные перестали щипать траву, насторожились. Затем снизу донеслось испуганное, сердитое ржание; мустанги обратились в бегство. Вертолет начал преследовать их, двигаясь за основной группой. Джо Голденберг высунулся из кабины, Джок из-за его плеча наблюдал за тем, что попадает в объектив камеры. Внизу раздавалось ржание напуганных мустангов, грохотали копыта, клубилась пыль. Вверху свистели лопасти, рассекавшие воздух. Джок испытывал такое же возбуждение, как боксер при первых ударах в ответственном бою; желание драться и одержать победу заглушало страх. Ощущение силы, а возможно, мощный садистический импульс при виде бегущих испуганных животных доставляли Джоку огромное наслаждение, захватывали его; он завороженно наблюдал за восхитительными животными, пытавшимися убежать от механического чудовища. Джо Голденберг, маленький, спокойный человек с бородкой, один из лучших в мире кинооператоров, походивший на бухгалтера или стоматолога, предложил закончить съемку. Для цветового теста было отснято достаточное количество футов пленки. Если же Джок преследовал иную цель, то разумнее до начала основного действия не злоупотреблять эксплуатацией красот природы. Когда Джок предложил совершить еще один круг в воздухе, Джо возразил, сославшись на то, что солнце уже поднялось достаточно высоко; тень от вертолета попадет в кадр. Только это заставило Джока дать пилоту команду возвращаться назад. Они приземлились. Джок выскочил из вертолета, прежде чем лопасти остановились. Он ощущал слабость в ногах, которые, казалось, дрожали с частотой вращения винта. Но Джок понял, что дело не в вибрации машины. То, что он видел и в чем участвовал, служило источником возбуждения. Если бы удалось передать зрителям ощущение полета в опасной близости от скал, неподвластности силам земного притяжения! Тогда публика сможет разделить страх животных. Однако для полноты эффекта необходимо как бы поместить зрителя внутрь табуна. Находясь в воздухе, пусть даже в пятидесяти футах от земли, человек чувствовал бы себя защищенным, он парил бы над опасностью, но был отделен от нее. Надо придумать нечто более впечатляющее… Возможно, поддаваясь соблазну, Джок понял, каким образом можно вызвать у публики и критиков ощущение вовлеченности в происходившее, избежать фальши сцен, снимаемых традиционным способом, когда каждое движение, каждый ракурс тщательно выверены и спланированы. Да, такой способ существовал! При воспоминании об этом режиссера охватила дрожь предвкушения. Финли уже успешно использовал подобный прием в прошлом. Он фиксировал с его помощью секс, волнения городской толпы; две его предыдущие картины обладали убедительностью документальных лент. Он снова воспользовался этим методом. Кадры, снятые с вертолета, будут чередоваться с кадрами, полученными с помощью камеры, находящейся в руках у оператора. Есть только один способ передать естественную дрожь движения, которая убедит зрителей и критиков в реальности событий. В том, что перед ними подлинная опасность, неотрепетированная жизнь. Пусть пыль клубится в объектив, пусть даже его заденет копыто мустанга. Он, Джок, передаст ощущение страха. Пусть зрители проникнутся им, поддадутся ему.
Трейлер Джока изнутри походил на хорошо обставленный кабинет, каких немало в Беверли-Хиллз. Узкое вытянутое помещение было устлано дорогим зеленым ковром; неяркий свет падал на большие удобные кресла. Находясь здесь, человек мог забыть о том, что его окружает пустыня. Обтянутый кожей бар в дальнем углу был заполнен напитками. Джок стоял возле него, держа в руке большой хрустальный бокал с порцией шотландского виски. — Достаточно, Джо? — спросил он. — Достаточно, — отозвался Голденберг. — Добавить лед? — Не надо. Джок протянул бокал Джо и принялся смешивать для себя виски с содовой, одновременно излагая идею съемок бегущего табуна с помощью камеры, находящейся в руках оператора. Джо так и не донес бокал до своего рта; Финли объяснил, что он хочет поместить зрителей «внутрь» табуна. Единственный способ осуществить это — снимать с руки. Глядя на Джока, оператор спрашивал себя: «Неужели он говорит серьезно? Неужели он так плохо знаком с техникой?» Медленно, спокойно, как всегда при общении с молодыми режиссерами, Джо произнес: — Я знаю, что вам нужно. Я могу сделать это, не подвергая никого опасности. Я воспользуюсь стопятидесятимиллиметровым объективом с трансформатором, размещу его в сорока футах от лошадей, и всем зрителям и критикам покажется, что они находятся внутри этого табуна. Поверьте мне. Джо наконец отхлебнул виски. Заметив, что его предложение не устраивает Джока, оператор опустил бокал и терпеливо объяснил, что необходимо разместить платформу с камерой над узким перевалом, куда табун будет направлен преследующим его вертолетом. При правильно выбранных ракурсах и объективе создастся впечатление, что лошади мчатся прямо на зрителей, буквально через них. При этом грозные животные останутся в сорока футах от людей. Джо развил свою мысль. С помощью двух спаренных камер они получат за один раз необходимое количество съемочного материала — все будет выглядеть весьма реалистично, а главное, никто не подвергнется опасности. Но Финли по-прежнему молчал. Наконец Джо произнес последний аргумент: — Поверьте мне, любой хороший режиссер удовлетворился бы этим. — Я не «любой хороший режиссер», — тихо и серьезно заявил Джок. — И это не просто очередная картина. Если бы я хотел получить просто любого хорошего оператора, я бы не добивался именно вас. И не платил бы вам такой гонорар! Вот что заявил тридцатиоднолетний Джок Финли шестидесятитрехлетнему Джо Голденбергу, дважды награждавшемуся премией Академии. Оператор чуть заметно покраснел. — Я хочу оказаться среди мчащихся мустангов. Среди пыли и камней. Среди испуганных лошадиных глаз. Ноздрей, которые извергают пламя. Мне нужны их раскрытые пасти с пеной на губах, красные языки, опасные, огромные, белые зубы. Мне нужны детали. Соединив видеоряд со звуком, я дам каждому зрителю самые потрясающие ощущения, какие он мог бы испытать в кинозале! Вот к чему я стремлюсь. На натуре не существует тайны. Любовь, ненависть, разногласия — все почти тотчас становятся всеобщим достоянием. Спор между Джоком и Джо Голденбергом не стал исключением. К обеду о нем уже все знали. Когда Джок ужинал, сидя за длинным столом, его помощник, небрежно одетый молодой человек в очках, которого звали Лестер Анселл, заговорил о планах на следующее утро. Джо Голденберг, Дейв Грэхэм, Престон Карр, пилот вертолета, старший конюх продолжали поглощать пищу, но Джок почувствовал, что они желают услышать его решение по спорному вопросу. Он видел, что Карр ждет, так как именно он первым предложил пригласить Голденберга. Они оба принадлежали к одному поколению кинематографистов; это порождало определенную солидность. Джок также знал, что Престон Карр при наличии выбора поддержит вариант, обеспечивающий успех без большого риска. Не отрываясь от тарелки, Джок изучал карту, которую держал перед ним его помощник. Режиссер повернулся к пилоту. — Уолтер, если мы воспользуемся узким проходом для того, чтобы вы могли погнать мустангов к платформе с камерой, какое место порекомендуете выбрать? Услышав слова «платформа с камерой», Карр, Джо, Дейв Грэхэм, старший конюх Текс полностью переключились на еду. Вопрос был решен в пользу Джо. Пилот захотел еще раз изучить сделанные им с воздуха снимки и вышел из-за стола. Джок присоединился к нему и направился в производственный трейлер. Они вместе склонились над фотографиями. Вскоре туда пришли Джо, Дейв Грэхэм и Престон Карр. Возле карты было принято решение, где именно будет возведена платформа из прочных железных труб и толстых досок высотой пятнадцать футов; на верхней площадке размерами двадцать на тридцать футов разместятся два «Митчелла», две обслуживающие их бригады, а также режиссер — в общей сложности человек двадцать пять. Конструкция будет находиться над мчащимся табуном; рельеф местности обеспечит природную воронку, засасывающую мустангов с одной стороны и выталкивающую их с другой. Все согласились, что место размещения платформы выбрано удачно. Джок отдал распоряжение своему помощнику Лестеру Анселлу: работу начать немедленно, так как к послезавтрашнему рассвету два «Митчелла» должны быть готовы для предстоящей съемки. Помощник Джока отправился руководить рабочими. Когда он дошел до двери трейлера, Джок добавил: — И напомни мне: надо убедиться в том, что две портативные камеры «Рефлекс» заряжены и готовы к съемкам. Все посмотрели на Джока — Джо Голденберг, Престон Карр, пилот, помощник режиссера. Что-то — бравада, злость или желание унизить Джо Голденберга — заставило Джока спокойно произнести: — Нам не помешает иметь наготове две портативные камеры. — Если только вы сумеете заставить кого-то спуститься вниз и воспользоваться ими, — сказал Джо; белая борода оттеняла вспыхнувший на его щеках румянец. — Контракт предусматривает материальное вознаграждение за риск, — напомнил Джок. — Я не стану заставлять моих людей делать это! — заявил Джо с твердостью, не допускавший возражений. Но Джок снова повернулся к своему помощнику. — Я хочу, чтобы два «Рефлекса» были подготовлены. Пусть каждый зарядят тысячефутовой пленкой. Понятно? — Кто, по-вашему, настолько безумен, что согласится держать их? — спросил Джо, глядя в упор на Джока и ожидая вмешательства Карра. — Я, — тихо, невозмутимо произнес Джок. — Вы не член Гильдии! — выпалил Джо. — Однако это не мешает мне знать существующие правила. Если член Гильдии отказывается выполнить задание, которое он считает опасным, то режиссер или продюсер имеют право лично сделать то, что нужно для съемок. Это не является нарушением правил Гильдии. Верно? — Гильдия заявляла в прошлом… — начал объяснять Джо. — Я не прошу никого из членов Гильдии рисковать собой. Рисковать буду я. Я делаю это после отказа члена Гильдии. Если вы хотите сообщить об этом руководству Гильдии, я не возражаю. Можете воспользоваться радиотелефоном, — сказал Джок, не повышая голоса, однако его глаза напоминали сейчас льдинки. Повернувшись, Джо обратился к своему помощнику: — Дейв, я дам тебе список вещей, которые понадобятся мне на платформе. Голденберг покинул трейлер. Но Джок знал, что делает с человеком гордость. Это известно каждому режиссеру, потому что воздействие на гордость — наиболее эффективный прием, которым он располагает. Меньше чем через час, как и предполагал Финли, Джо Голденберг вернулся. Он поговорил со своей группой. Дейв Грэхэм, превосходно владевший техникой, согласился снимать переносной камерой. Больше Джо ничего не сказал, но Финли был уверен, что главный оператор обсудил этот вопрос с Престоном Карром. Джок решил, что это даже хорошо. Важно, чтобы вся съемочная группа, включая звезд, знала, что Джок Финли — сильный, настойчивый, бескомпромиссный человек. Это принесет в дальнейшем большую пользу.
Натурный городок напоминал военный лагерь перед атакой. Люди разговаривали слишком громко или слишком тихо. Незначительные события вызывали чрезмерно громкий смех. Во всем ощущалось напряжение. Люди, не участвовавшие в возведении платформы, сидели маленькими группами в столовой и спокойно беседовали о своих завтрашних делах. Когда Джок Финли зашел туда, чтобы выпить последнюю за день чашку кофе, кое-кто играл в джин или покер. Он сел за стол в одиночестве и принялся медленно потягивать кофе. Периодически люди украдкой поглядывали на него. Никто из присутствующих в столовой не был на последнем собрании, но все знали каждое произнесенное там слово, чувствовали, что они находятся рядом с гением или безумцем. Или с юнцом, готовым ради успеха фильма рисковать всем и всеми. Джок ощущал, что сейчас его отделяет от прочих участников съемок пропасть шириной в несколько миль. Ну и черт с ними! Он добьется своего! Он докажет свою правоту! Всегда кто-то первым осмеливается сделать то, что до него казалось невозможным. В современном кино это происходит постоянно. Таков Джок Финли! Пусть они знают это! Пусть весь мир знает это! Он поставил свою белую кружку на стол с такой силой, что остатки кофе выплеснулись через край. Джок решил перед сном заглянуть в трейлер Дейзи. Ее там не оказалось. Это испугало его. Финли выскочил из «люкса» на колесах; дойдя до конца трейлера, он увидел девушку. Она смотрела на луну, поднимавшуюся над далекими темными горами. Финли испытал облегчение, поняв, что с ней все в порядке. Девушка снова спросила его о том, когда будет сниматься ее первая сцена. Он успокоил Дейзи, сказав ей: — Я хочу, чтобы твои отношения с Престоном в картине начались и развивались естественно, постепенно, как в жизни. В твоей первой сцене ты знакомишься с ним. Мы займемся ею через несколько дней. Дейзи кивнула, улыбнулась, но он видел, что она испытывает страх. Эта девушка боялась всего — даже того, что она делала превосходно. — Не работай больше над своими словами, — тихо сказал Джок. — Хорошо? Она удивленно посмотрела на него. Любой другой режиссер обратился бы к ней с противоположной просьбой. Лунный свет льстил Дейзи сильнее, чем любой фильтр или кисея. — Помни, что я говорил тебе. Когда мы начнем сниматься, мне понадобишься ты сама. Не слова, написанные другим человеком, не актерская игра. Я хочу увидеть тебя. На самом деле он имел в виду следующее: я хочу увидеть себя. Хочу освободить тебя от твоей дрожащей души, заново сформировать тебя, взять от тебя то, что ты можешь предложить, и обратить это в актерскую игру с помощью моей воли, моего таланта. — Ты веришь мне? Веришь в меня? — вкрадчиво спросил Джок. Она с нежностью поцеловала его. Это было ее ответом. Ежедневная работа и близость с Дейзи вознаграждались. Актриса верила ему. Если он говорит: «Подожди, не волнуйся», она будет ждать, хотя вряд ли сможет не волноваться. — Надеюсь, завтра все будет хорошо, — сказала Дейзи. — Спасибо. Его глаза, в которых отражался сильный, ясный лунный свет, были сейчас абсолютно честными. Он игриво коснулся пальцем ее вздернутого носика. Взял Дейзи за руку — якобы чтобы поцеловать ее, но на самом деле — чтобы дотронуться до пальцев девушки. Они были ледяными. Болезненно холодными. Финли еще не видел Дейзи такой напряженной. Он привлек ее к себе и крепко обнял. Девушка попыталась тоже обнять Джока, но лишь вцепилась в него, как тонущий ребенок, а не как страстная женщина. Он поцеловал ее и сделал бы нечто большее, но она, словно почувствовав, что это будет значить на самом деле, выскользнула из его объятий, быстро подбежала к трейлеру, зашла в него и закрыла дверь. Джок услышал, как щелкнул замок. Финли повернулся и пошел к своему «люксу» на колесах, говоря себе: «Никто, никто не должен испытывать такой страх». Сев на койку, он снял ботинки, рубашку и принялся изучать карту, где было помечено место завтрашних съемок. Дейзи сидела в своем трейлере перед туалетным столиком с зеркалом. Раздеваясь, она изучала свое лицо в поисках возрастных изменений, признаков старения. Актриса делала это каждый вечер. Она сжала свои груди, чтобы убедиться в их упругости. В конце концов Дейзи погасила свет и легла в постель. Нащупав в темноте рукой нижний ящик столика, вытащила оттуда пузырек со снотворным. Актриса уже научилась принимать лекарство без воды. Она проглотила одну таблетку, затем еще одну, а третью положила в неиспользованную пепельницу. Утром солнце поднялось из-за гор, обнаружило просыпающийся лагерь кинематографистов и окрасило его в золотые и розовые тона. Пилот и механик проверили вертолет. Рабочие отправились достраивать платформу. Джо Голденберг и его группа собрались обсудить план на день. Многочисленные электрики и осветители занялись подготовкой гигантских алюминиевых рефлекторов, которые могли понадобиться. Как в армии, каждый специалист занимался своим делом, однако все были готовы выступить единым фронтом. Джо Голденберг и Дейв Грэхэм решали особую проблему: как пристегнуть портативную камеру к Дейву, чтобы она не упала при ударе и позволила оператору управлять ею; требовалось обеспечить подвижность камеры. Обычный хомут не решал этой проблемы. Но Джо нашел выход из положения. Когда Джок появился к завтраку, все было почти готово. Вскоре к нему присоединился Престон Карр. Актер сел, и Джок обратился к нему: — Вы сегодня не снимаетесь. Зачем так рано встали? — Я не хочу пропустить такое, малыш. Эти слова могли означать следующее: «Нас ждет исторический момент, и я увижу его». Или: «Это будет грандиозным фиаско, я стану его свидетелем». На лице Джока застыла сдержанная, холодная улыбка. Он опустил свою чашку на стол и уже собирался уйти, но Карр спросил: — Я могу подняться на платформу с тобой, босс? Снова этот легкий, коварный укол. Он действительно видит в нем босса? Или же малыша, разыгрывающего из себя босса? — Я вас приглашаю, — ответил Джок.
Меньше чем через час все они уже были на натуре. Карр, Джо Голденберг, техники, обслуживавшие две спаренные камеры, поднялись на платформу. Джо возился с экспонометрами, устанавливал объективы, проверял подвижность «Митчеллов». Внизу работал Дейв Грэхэм; к нему пристегнули две полностью заряженные портативные камеры. Джок, спустившись, увидел, что Дейв готов к съемке. Оператор явно нервничал. Джок избегал его обвиняющих глаз. Убедившись в надежности крепления камеры, Джок похлопал Дейва по плечу и снова поднялся на платформу. Джок и Джо Голденберг молча переглянулись. Радист сообщил, что пилот вертолета обнаружил табун. Он готовился погнать его вниз с предгорья по высохшему руслу реки к платформе. Вскоре пилот доложил, что табун окажется возле нее через шесть-семь минут после соответствующей команды Джока. Режиссер оценил ситуацию, ощущая на себе критический взгляд безмолвного Карра. Он взял у радиста микрофон и произнес: — О'кей! Пусть идут! Пилот наблюдал сверху за лошадьми. Они перестали щипать траву, встрепенулись, потом начали убегать от зависшего в небе чудовища. Джок следил за происходящим через бинокль с платформы. Люди, стоявшие там — Джо, Престон Карр, техники, — замерли в ожидании. Собранный, нервный Дейв Грэхэм, находившийся под платформой, услышал крик Джока: «Внизу, готовность номер один!» — и испугался еще сильнее. Рев самолета и топот копыт были слышны уже отчетливо. Стоявшие на платформе люди выглядели напряженными, сосредоточенными. Джок испытывал одновременно восторг и страх. Шум, пыль, лавина мустангов, лица людей, испуг, ненависть — все это, слившись воедино, напоминало потрясающий сексуальный акт. Табун мчался на них. Джо, хладнокровный, как хирург, отдал приказ; стоявший рядом ассистент повторил его. Мотор! Съемка! Лошади, вертолет, люди на платформе, люди под платформой — все работали сейчас. Джока Финли охватило ощущение полноты власти. Сложив руки рупором у рта, он опустился на одно колено и крикнул: — Вперед, вперед! Джо Голденберг, занятый собственной тонкой работой, услышал приказ Джока. Карр и все другие люди, стоявшие на платформе, также услышали его. Как и находившийся внизу Дейв Грэхэм. Двое мужчин, проинструктированных заранее Джоком, вытолкнули Дейва вперед. Дейв слетел с основания платформы навстречу потоку обезумевших лошадей, мчавшихся на него со стороны ровной пыльной пустыни, точно раскаленная, лава, сметающая все на своем пути. Испугавшийся сильнее мустангов Дейв все же не потерял профессионального автоматизма; он снимал до тех пор, пока лошади не окружили его со всех сторон. С платформы было видно, что Дейв упал и исчез в пыли; табун пронесся над ним. Все испытали желание прервать съемку, закричать. Но Джок произнес властным голосом: «Продолжайте, черт возьми!» Только это позволило избежать паники. Табун умчался. Спаренные камеры, повернутые до предела, снимали убегающих лошадей. Животные исчезли. Мрачные, потные, испуганные, возмущенные люди посмотрели туда; где находился Дейв Грэхэм. Джок сорвался с места; перепрыгивая через ступени лестницы, он бросился вниз и побежал по сухой земле сквозь пыль, еще клубившуюся в воздухе. Остальные последовали за ним. Джок первым оказался возле Грэхэма. Первым увидел его вблизи. Дейв лежал неподвижно, лицом вниз; он казался мертвым. Его разорванная одежда была залита кровью. Привязанная к нему камера получила серьезные повреждения, но не развалилась. Финли перевернул Дейва. Лицо оператора находилось в ужасном состоянии, одна скула, похоже была раздроблена. Он потерял несколько зубов. Возможно, один глаз. Через мгновение все сгрудились вокруг Грэхэма. Поднявшись с земли, Джок увидел обращенные на него глаза Джо, Престона Карра, других людей. Он хрипло закричал: — Вызовите вертолет! Мы отправим его в Лар-Вегас! Через пару минут вертолет завис над ними. Люди разбежались, освобождая место для посадки. Машина приземлилась, рассекая лопастями воздух. Джок помог погрузить Дейва. Он отдал лишь один приказ: «Сохраните эту пленку!» — и последовал за оператором. Вертолет поднялся и с предельной скоростью взял курс на Лас-Вегас. Держа окровавленного Дейва Грэхэма, Джок знал, что все это происходит на самом деле. Сейчас жизнь и смерть буквально находились в его руках. И судьба картины — тоже, внезапно вспомнил он. И, возможно, вся его карьера. Задолго до прибытия вертолета в Лас-Вегас радиоволны донесли новость с натуры до Лос-Анджелеса. Через несколько минут Нью-Йорк узнал о несчастье. Телеграфные агентства — тоже. Хотя им остались неизвестными подробности. И то, выживет или нет Дейв Грэхэм. В аэропорту Лас-Вегаса были приостановлены все взлеты и посадки; вертолет ждала машина «скорой помощи» с двумя врачами. Вертолет опустился. Передавая Дейва врачам, Джок пытался разгадать выражение их лиц. Он так и не смог понять, жив или мертв Дейв Грэхэм. Потом были сирены, распашные двери, больничные коридоры, операционная. Джок ждал снаружи вместе с пилотом. Режиссер заметил на своей одежде и руках засохшую кровь Дейва. Он попытался стереть кровь с рук о хлопчатобумажные брюки, но она не отходила. Санитарка принесла салфетки и эфир. Когда она начала оттирать засохшую кровь, Джока вызвали к телефону. Звонили из Лос-Анджелеса. Поколебавшись, он решил не скрываться и направился к аппарату. — Финли на проводе. — Джок? Джок?! Это Марти! Что случилось, черт возьми? — закричал обычно невозмутимый, спокойный, мудрый Филин. — Мне уже дважды звонили из Нью-Йорка! Что произошло? Не поддаваясь истерии Филина, Джок размеренно сказал: — Мы снимали диких мустангов. Произошел несчастный случай. По-моему, не слишком серьезный. Санитарка, оттиравшая засохшую кровь, изумленно посмотрела в его сторону, но он отвел глаза. — Ситуация опасней, чем тебе представляется! — закричал Филин. — Нью-Йорк уже знает! Это плохо! Как это случилось? Говорят, ты затеял какую-то безумную съемку. Этот человек мертв? Ты лжешь мне? Твоему агенту? — Он жив, — твердо произнес Джок, хотя он и не знал этого. Сейчас в операционной обсуждали шансы Дейва Грэхэма выжить. Не пострадает ли зрение? Левый глаз, похоже, серьезно поврежден. Что с мозгом? Не травмирован ли он? — Ничего не делай! Ничего не говори! Не отвечай на звонки до моего разрешения! — порекомендовал Филин в заключение. Состояние Дейва Грэхэма могло проясниться не ранее чем через двадцать часов. Зато вскоре стало известно, что Джока Финли срочно вызывают в лос-анджелесскую киностудию на совещание. Но он отказался выехать, пока Дейв находится в операционной. Финли дважды бросил трубку, когда из Нью-Йорка звонил президент. В киностудии бросить трубку, когда звонит президент, равнозначно самоубийству. Но трагическое происшествие чревато гибелью и для президента, особенно перед собранием акционеров. Через семь минут снова позвонил Марти. Президент по телефону только что обрушил свой гнев на агента, и Марти пришлось пообещать, что он лично гарантирует прибытие Джока Финли в Лос-Анджелес к двум часам дня!
Джок покинул больницу, лишь узнав, что Дейв Грэхэм пережил операцию. Заключение докторов было следующим: серьезное повреждение левого глаза, раздроблена скула; возможно, травмирован мозг. Правая рука сломана в трех местах. Кости поставили на место и зафиксировали; вероятность восстановления подвижности при условии правильного сращения составляла примерно семьдесят процентов.
Прибыв на студию в «ролл-ройсе» Филина, Джок, не успевший снять пыльные ботинки, грязные хлопчатобумажные брюки и куртку, стал объектом восхищения, любопытства, сочувствия, ненависти. Кое-кто из продюсеров и режиссеров испытал облегчение, решив, что на этом карьера «ужасного ребенка» закончилась в практическом плане; именно такого финала они и ожидали. Находившийся возле Джока Филин напоминал адвоката, сопровождающего подзащитного в зал суда. Финли быстро поднялся по ступеням административного здания. Несколько газетчиков пытались интервьюировать его. Но он не остановился и зашагал так быстро, что Марти был вынужден бежать рядом с ним. Не став дожидаться лифта, Финли мгновенно одолел два пролета лестницы, которая вела на этаж, занимаемый руководством. Короткий, полный Филин начал потеть и задыхаться. В приемной главы студии Джока уже ждала секретарша. — Проходите, мистер Финли. Джок проследовал за ней, Марти — за Джоком. Они вошли в кабинет главы студии, стоявшего за своим большим столом. Рядом с ним находились два юриста, исполнительный менеджер студии и шеф отдела по связям с общественностью. Глава студии приказал закрывавшей дверь секретарше: — Никаких звонков! Кто бы ни звонил! Затем он тотчас набросился на режиссера. Джок понял, что каждое слово босса было заранее одобрено юристами, специалистом по связи с общественностью, исполнительным менеджером и «Нью-Йорком». — Молодой человек, что вы пытаетесь сделать? Погубить эту студию? — В праведном гневе заявил глава студии. — Мы не давали вам разрешения на подобные дикие трюки. О них не было речи, когда мы обсуждали сюжет, сценарий, съемочный график. Нам придется публично заявить о нашей непричастности к этой ужасной трагедии! Мы гордимся тем, что снимаем хорошие картины! Но также заботимся о людях! Не заставляем семейных людей рисковать жизнью! Беспокоимся о семьях наших сотрудников и о семьях, которые смотрят наши фильмы! Мы уже позвонили близким Грэхэма и обещали им всю необходимую помощь — медицинскую, финансовую, любую! Любую! Трусливый негодяй, подумал Джок, выгораживай себя. Выгораживай студию. Снимай с себя ответственность. Уменьшай потери. Не спрашивай о Грэхэме. Говори только то, что одобрено юристами и отделом связи с общественностью. — Все, что покрывается страховкой, — тихо произнес Джок. — Это вы обязаны сделать. Режиссер никогда еще не видел такого гнева, такого возмущения. Однако он также никогда не видел главу студии, объятого страхом потерять работу с окладом двести тысяч долларов в год. Последовавшая атака могла уничтожить менее сильного человека. Но Джок выдержал ее невозмутимо, спокойно. Даже Марти, стоявший рядом с ним, побледнел, покрылся испариной; казалось, каждое резкое слово главы студии заставляло Филина съеживаться все сильнее и сильнее. Наконец глава студии, задыхаясь после продолжительного крика, закончил свою тираду словами: — Это может обойтись компании в два миллиона долларов! Два миллиона долларов! Значит, они уже оценили потери, подумал Джок. Но его собственные размышления, горькие и ироничные, длились недолго, потому что глава заговорил снова, но уже о практической стороне дела: — За совершение возмутительного, несанкционированного, не вызванного необходимостью поступка без предварительного уведомления студии… Это напоминало документ, составленный юристами; Джок произнес тихо и жестко: — Почему бы вам не зачитать то, что вам написали? Зачем напрягать память и пересказывать содержание? Но глава студии продолжил в присутствии свидетелей: — За превышение ваших полномочий вы снимаетесь с картины! Увольняйтесь со студии! Мы будем добиваться вашего исключения из режиссерской Гильдии! Ваша карьера в кино закончена! Филин опустился в кресло. Он был бледен, его потная лысина блестела. Для Джока это означало следующее: угрозы главы студии реальны и будут осуществлены. Это не только вероятно, но и неизбежно. Повернувшись к шефу отдела по связям с общественностью, глава студии сказал: — Подготовьте пресс-релиз! Шеф «паблисити» кивнул. Юристы своими взглядами заверили главу студии в том, что он сказал все необходимое, сделал все, чтобы свести к минимуму потери для студии. — Картина, — медленно произнес Джок. — Что будет с картиной? — Мы, вероятно, отменим ее производство и забудем о ней. — Кто-то… кто-то должен ее сделать, — негромко промолвил Джок. — Она может получиться превосходной. Глава студии посмотрел на Филина, на своих юристов, на шефа «паблисити». Что за безумный юнец стоит перед ним? Оператор мертв или умирает. Сам только что был уволен. И он еще спрашивает о картине. — К вашему сведению, молодой человек, — взорвался глава студии, — эта картина принадлежит кинокомпании! Именно она решит, будут ли продолжены съемки! Вас это не касается! И никогда не коснется! — Я вложил в сценарий свои идеи… Работал с автором… с Карром… с Дейзи Доннелл… половина сценария написана мной! Половина диалогов! — заявил Джок. — Вам платили за вашу работу! Сценарий принадлежит студии! Ваши доводы просто нелепы! — сказал глава студии, закрывая эту тему и весь разговор. — Я хочу, чтобы было зафиксировано следующее: прежде чем Грэхэм взялся за камеру, я предложил сделать это сам! Вы меня слышите? Я предложил сделать это сам! И я сделаю это! Даже теперь, после случившегося! Если глава студии кричал, то его голос звучал как шепот по сравнению с ревом Джока Финли. — Я возвращаюсь туда! Продолжу съемки! Хотя бы для того, чтобы доказать вам это. Я не прошу других людей делать то, на что не способен сам! — Тема закрыта! — закричал глава студии, пытаясь закончить разговор. — Черт возьми, думаете, мне не жаль Грэхэма? Его семью? Не думайте, будто мне неизвестны возможные потери. Но я не сижу, подсчитывая убытки. Я делаю фильмы! Потому что верю в кино. Для меня оно означает не толькорасходы, прибыль, доход! Картины для меня — живые существа. Опыт. Чувства, которые я делю с миром. Люди, не способные говорить на моем языке, вообще не способные говорить, могут пережить мою картину. Люди, которые никогда не будут владеть акциями, получать дивиденды, беспокоиться о финансовом благополучии этой компании, увидят мои фильмы и запомнят их навсегда! Сохранят их в своей памяти. Навсегда! Вы меня слышите? Я, Джок Финли, живу в сознании миллионов людей! Не вы! Не ваша студия, не страховка, не активы и недвижимость, не ваши юристы! Я! Я! У меня роман с миллионами зрителей всех рас и цветов кожи. Вот что имеет значение! То, что эта картина должна быть сделана! Когда он замолчал, в кабинете воцарилась тишина. Наконец ее прервал телефонный звонок. Глава студии поднял трубку. — Я же сказал вам — никаких звонков! Даже из Нью-Йорка! Лас-Вегас? Да? Все уставились на него, затаили дыхание. — Да? Понимаю. Понимаю. Если дела обстоят так, что я могу сказать? Он положил трубку. — Состояние Грэхэма ухудшилось. Глава студии повернулся к шефу «паблисити». — Доставьте к нему самолетом жену и детей. — Они уже выехали, — ответил шеф «паблисити». — Я позволил себе отправить с ними фотографа. Славно, чудесно, сказал себе Джок. Все так услужливы, что я уже вижу их дающими показания под присягой о том, как юридически грамотно, заботливо, ответственно они вели себя, когда это случилось. Настороженный, взвинченный Джок был готов перейти в наступление. Но глава студии обратился к Филину: — Что касается вас, мистер исполнительный продюсер, то я рекомендую вам подыскать вашему клиенту адвоката! Очень хорошего адвоката. Мы не собираемся брать на себя ответственность за случившееся. Это было его идеей! Он превысил полномочия, предусмотренные контрактом. Это подводило черту под совещанием. Джок не сдвинулся с места до тех пор, пока Марти не положил ему руку на плечо и не заставил уйти. Они вышли из кабинета и направились по лестнице вниз. Филин предупредил Джока: — Ни слова собравшимся внизу репортерам. Ты меня слышишь? Джок кивнул. Подходя к двери, они увидели через стекло ждавших их газетчиков. — Слышишь? — повторил Марти. Они открыли дверь. На них обрушилась лавина вопросов. Марти произнес громко, агрессивно: — Моему клиенту нечего сказать! Он сожалеет о случившемся. Глубоко сожалеет! — Вам известно состояние мистера Грэхэма? — Нет, — солгал Филин. — Говорят, он не переживет сегодняшнего дня. Это верно? — Нам это не известно! — отрезал Марти. — Это правда, что съемки будут прекращены? — Если это так, то нам об этом ничего не сказали, — снова соврал Марти. — По слухам, Джо Голденберг не хотел, чтобы Грэхэм рисковал собой. Это правда? — Голденберг — профессиональный кинематографист. Очень хороший. Он никогда бы не отказался от того, что способно сделать картину лучше. Он не запретил Грэхэму снимать, — сказал Филин, подыгрывая главе студии в вопросе об ответственности. — Неправда, — тихо произнес Джок; все тотчас затаили дыхание. — Джок, малыш, послушай меня, — заговорил Марти. — Это моя идея. Джо Голденберг был против. Я предложил сделать это. И если съемки возобновятся, я сделаю это сам! — Вы выйдете с портативной камерой и снимете это сами? — спросил репортер. — Да, именно, — ответил Джок. — Вы хотите сказать, после случившегося… — Я уже сказал! Громко и ясно! — перебил его Джок. — Мои слова не нуждаются в интерпретации! Комментариях! Разъяснении! Я сделаю все сам! Сбросив руку Филина, Джок зашагал от стоянки, от «роллс-ройса» Марти. Репортеры поспешили за ним, как рыба-пилот за акулой. Но Джок ничего больше не сказал. Наконец газетчики оставили его в покое. Филин, наблюдавший за этим, думал: «Безумец! Если бы он не раскрывал рта, я бы нашел для него другую картину. Менее дорогостоящую. Но нашел бы».
— Сжечь эту проклятую пленку! — приказал глава студии. Угроза судебного процесса и раньше заставляла отдавать такие распоряжения. Однажды знаменитая южноамериканская фа-сотка исполнила перед камерой танец, забыв надеть под платье трусики. Она предстала на экране в интересном виде. Ее адвокаты пригрозили подать в суд, если негатив не будет сожжен. И он был уничтожен. Однако на следующее утро кадры с пленки циркулировали по всему Голливуду. Не каждый приказ главы студии исполнялся буквально, в точности. Чтобы на сей раз все было сделано как надо, глава студии позвонил поздно вечером домой заведующему лабораторией Робби Робертсу. На следующее утро Робби прибыл на студию, чтобы проконтролировать процесс уничтожения пленки. Его встретил один из помощников, работавший всю ночь, который не выглядел уставшим; он находился в возбужденном, приподнятом состоянии. — Робби! Вы должны просмотреть пленку! — сказал помощник. Робби пошел в темную комнату, где ему показали роковой отрывок длительностью всего в несколько секунд… Цвета и резкость оставляли желать лучшего. Но впечатление было сильным. Дрожание удерживаемой в руках камеры, пыль, частично закрывавшая полные страха глаза бегущих животных, крупные ноздри, великолепные головы, копыта, разбивающие объектив, — все это не было записью чего-то происшедшего. Это было самим происшествием. Реалистичные кадры без звука, музыки, монтажа, сюжета являлись зафиксированными на пленке ощущениями. Робби тотчас понял, что никогда не забудет увиденного. Помощник хотел включить свет, но Робби остановил его: — Пожалуйста, еще раз. Помощник перемотал пленку и снова продемонстрировал ее. Эффект оказался еще более сильным, чем в первый раз. Всего двадцать четыре секунды фильма. Но они были исключительно впечатляющими. Невысокое техническое качество восполнялось убедительностью, реализмом. Само дрожание, постоянный уход действия из центра кадра говорили: это не искусная подделка, не ловкий обман, а сама жизнь! Помощник включил свет. Робби задумался. Это вопрос протокола. Дисциплины. Студийной политики. Дипломатии. И работы, его работы. Как сообщить главе студии о том, что тебе стало известно? И как при этом скрыть, что приказ не выполнен? Как сделать нечто другое — сказать Джоку Финли? Робби заколебался. Финли принадлежал к числу дерзких, самоуверенных, молодых выскочек, которые в первую очередь стремятся быть оригинальными, самобытными первопроходцами; они в меньшей степени озабочены тем, как сделать хороший, добротный, массовый фильм, обеспечивающий студию доходом, а людей — работой. Но Финли — профессионал, сказал себе Робби. Возможно, режиссер считает, что сегодня можно делать хорошее кино, лишь отходя от проторенного пути. Какими бы соображениями и мотивами ни руководствовался Финли, Робби видел, что снятый им кусок великолепен. Джок — одаренный молодой человек. И попавший в большую беду. И все же был приказ сжечь эту проклятую пленку. Несомненно, он поступил из Нью-Йорка и получил одобрение юристов и отдела «паблисити». Робби колебался; он рисковал своей работой, которой отдал двадцать два года, к тому же почти не был знаком с Финли. Робби протянул руку к телефону, потом вдруг остановился и сказал: — Выйди, Чарли. Чарли направился к двери. — Я ничего не видел, Робби, — произнес он. — Я не мог сжечь то, что я не видел, верно? Робби нашел телефон дома на Рексфорд, где жил Джок. Набрал номер. Никто не отвечал. Не отправился ли Финли на натуру? — подумал Робби. Если он попытается позвонить туда, это станет известно радисту. Секретность нарушится. Все на натуре узнают. Слишком большой риск. Внезапно задыхающийся Джок Финли снял трубку. — Вы только что вошли? — спросил Робби, решив, что Джок услышал звонок от двери и бросился к телефону. — Что за шутки? — сказал Джок; он лежал на кровати; Луиза только что протянула ему зажженную сигарету. Робби не отреагировал на резкий тон и заговорил сухо, деловито. — Финли, это Робертс. Из лаборатории. Я только что просмотрел двадцатичетырехсекундный кусок фильма. Мне не доводилось видеть ничего лучшего. Его снял некий режиссер, которого считают самым большим негодяем в кинобизнесе. Если вы можете взять эту пленку, не подставляя при этом нас, я помогу вам. Но я получил приказ сжечь ее. Что вы предложите? Джок быстро сел на край кровати, выпустил изо рта дым, задумался. — У вас сохранилась жестяная коробка, в которой поступила пленка? — Конечно. — Что на ней написано? — Цветовые тесты. Почему вы спрашиваете? — Отлично! Теперь объясняю. Вы следовали стандартной процедуре. Только и всего. Мы доставили вам цветовые тесты. Лаборатория обязана срочно проявить их. Человек, дежуривший ночью в лаборатории, проявил тесты и отправил пленку назад на натуру, чтобы я посмотрел их до начала утренних съемок. Это вы сделали бы для любого режиссера, снимающего на натуре, верно? — Верно. — Так сделайте это! Я сейчас полечу назад. Если возникнут вопросы — ваши люди всего лишь получили цветовые тесты, обработали их и отправили назад согласно обычной студийной процедуре. Приказ сжечь пленку поступил слишком поздно. Подумав немного, Робби сказал: — О'кей. — Робби. Я скорее умру, чем признаюсь в том, что вы мне звонили. Так что не беспокойтесь. И спасибо. Большое спасибо! Я вас никогда не забуду. С другого конца провода донесся холодный голос Робби: — Я тоже вас никогда не забуду, Финли. Хотя вряд ли это комплимент. — По-вашему, я хотел, чтобы Грэхэм пострадал? — По-моему, вы бы стали снимать, как делают аборт вашей матери, если бы решили, что из этого получится хороший фильм. Робби положил трубку. Джок сделал то же самое, потом закричал: — Я — режиссер, а не кандидат на выборную должность! И не стремлюсь к популярности! Луиза не знала, что сказал Робби. Девушка посмотрела на Джока, который направился в ванную. Сквозь шум льющейся воды она услышала его яростный монолог, содержавший аргументы и оправдания, которые Джок хотел изложить Робби и всему городу. Финли вышел из ванной, причесывая влажные волосы, с полотенцем на бедрах. — Черт возьми, надень на себя что-нибудь! — крикнул он ей. Удивленная Луиза сердито посмотрела на Джока. — Ты меня не купил, Джок. Так что не приказывай мне. — Ты не хочешь поехать со мной? На натуру. Посмотреть эту пленку! Она растерялась. — Конечно, хочу! — Тогда поднимайся с кровати и оденься! А я сварю кофе. С полотенцем на бедрах он направился к лестнице. В первый момент она испытала возмущение. Затем встала и направилась в ванную, собирая по дороге одежду, разбросанную несколько часов тому назад. На натуре в проекционном трейлере их ждал киномеханик. Пленка была заправлена в аппарат и готова к демонстрации. Джок вошел внутрь, за ним последовала Луиза. — Вы приготовили мои цветовые тесты? — спросил Джок, строго следуя правилам игры. — Цветовые тесты готовы к демонстрации, — киномеханик играл в ту же игру. Он был возбужден, казался заинтересованным, что никогда не происходит с людьми этой профессии. Обычно они с одинаковым равнодушием относятся ко всем пленкам. Но этот случай был особым. Дверь трейлера открылась. Появился Престон Карр в красивом халате из викуньи, с растрепанными волосами. Он небрежно, сухо бросил Джоку: — Привет. — Потом актер обратился к механику: — Вы разбудили меня, чтобы кое-что показать. Надеюсь, я не испытаю разочарования. Внезапно Джок все понял. Механик не только сам просмотрел пленку, но и пригласил Карра, еще не зная, что Джок появится здесь. — О'кей. Включайте! — приказал режиссер. Механик включил аппарат. Джок, Карр и Луиза увидели фрагмент из фильма. Джок жестом попросил повторить. Перемотка и вторая демонстрация заняли шестьдесят секунд. Все молчали. Наконец Карр сказал: — Еще раз! Перемотка, повтор. Карр нарушил долгое молчание — тихо, но с чувством: — Черт возьми! Луиза дотронулась до руки Джока. Не взяла ее. Этот жест был бы слишком сентиментальным для Джока Финли. Она лишь коснулась его руки, выжидая. — Малыш, я согласен сниматься во всех твоих фильмах, — сказал Карр. Джок впервые почувствовал, что Карр произнес слово «малыш» с искренним уважением. Финли внезапно приказал механику: — Уберите это в коробку! Они не сожгут пленку! Не отменят эту картину. Я отправляюсь в Нью-Йорк! Немедленно! Джок выскочил из трейлера. Без извинений, не попрощавшись, он бросил Луизу ранним утром в сотнях миль от дома в обществе незнакомого киномеханика и Короля кинематографа. Она была обижена, злилась, но не имела возможности дать волю своим чувствам в присутствии Престона Карра. — Снимать кино с ним, похоже, будет занятием увлекательным. Что касается всего остального… — Карр замолчал, но, спохватившись, обратился к Луизе: — Пойдем, милая, я угощу тебя кофе. Он открыл дверь, девушка улыбнулась, потому что не могла плакать при посторонних, и вышла из трейлера.
Пересев в Лас-Вегасе с вертолета на коммерческий рейс, Джок преодолел несколько часовых поясов и оказался к середине дня в аэропорте Кеннеди. Держа в руке коробку с пленкой, он вылез из такси перед новым высотным зданием из стекла и бетона, в котором находился, дышал, пульсировал, управлял кинобизнесом «Нью-Йорк». Он поднялся на последний этаж, промчался мимо секретарши в кабинет, где президент компании, полный ветеран боев с акционерами, пешка в руках манипуляторов Уолл-стрит, совещался со своими юристами, вице-президентом по «паблисити» и доктором, присланным страховой компанией, занимавшейся делом Дейва Грэхэма. Для любого человека ворваться на это совещание вопреки строгому запрету было делом неслыханным. Но красивый, одетый в джинсы и грязную куртку Джок Финли просто совершил святотатство. Когда он швырнул на полированный стол из орехового дерева жестяную коробку с пленкой, оцарапавшую гладкую поверхность, президент возмущенно произнес: — Как вы смеете врываться сюда, когда мы пытаемся уменьшить ужасные последствия вашего легкомыслия? — Сделайте одолжение, посмотрите эту пленку, — тихо сказал Джок. — Молодой человек, вы нанесли компании серьезный ущерб, почти погубили ее! Наши акции упали на четыре пункта с момента открытия фондовой биржи. — Посмотрите пленку! — Молодой человек, не думайте, что мы спустим это на тормозах! Мы считаем вас лично ответственным за каждый доллар ущерба. Ваш поступок не был никем санкционирован, вам это известно. — Посмотрите пленку! — Мы взыщем с вас все! Вы потеряете всю вашу собственность, долю прибыли от проката картин, все ваши накопления. — Будете вы смотреть эту чертову пленку? — закричал Джок. Спустя девять минут, когда снова зажегся свет, в проекционной комнате полный человек смотрел на пустой экран. Просто смотрел. В таком же оцепенении находились шеф «паблисити», оба юриста, человек с Уолл-стрит и врач из страховой компании. Первым молчание нарушил президент. Он сказал доктору: — Я… я поговорю со страховой компанией позже. Завтра. Врач понял, что его отпускают, и удалился. — Ну, ну, ну… — произнес полный ветеран войны с акционерами. Он повернулся к Джоку. — Малыш… В кинобизнесе отрицательный ответ обычно начинается словами «молодой человек»… Услышав обращение «малыш», Джок понял, что он победил. Он мог расслабиться и послушать президента. — Малыш, этот кусок великолепен, — сказал президент. — Он живет! Он дышит! В нем ощущается биение сердца Дейва Грэхэма. Это можно почувствовать. Насчет Грэхэма… Возвращайтесь и делайте картину. Мы все уладим относительно Дейва Грэхэма. Возможно… — полный человек задумался, — возможно, мы добьемся присуждения ему специального приза Академии. За безграничное мужество… Шеф «паблисити» кивнул, но тут же заявил: — Академия не любит присуждать специальные призы… Полный человек сказал: — Тогда мы найдем другую организацию. Несомненно, в момент выхода картины кто-нибудь захочет наградить столь смелого человека премией. В любом случае мы позаботимся об этом позже. Возвращайтесь назад и снимайте фильм! Это сейчас самое главное! Джок молчал и не двигался. Сейчас он предоставлял президенту право говорить. Пока тот не сказал: — Это… это самый потрясающий кусок фильма, какой я когда-либо видел… — А теперь и наиболее знаменитый, — вставил Джок. Толстый человек улыбнулся. Шеф «паблисити» произнес: — Люди будут платить только за то, чтобы увидеть его. — Акционерам это понравится, — поздравил себя президент. Он протянул руку, чтобы подвести черту. Джок не отреагировал. — Малыш? — с добродушным удивлением произнес президент. — Мистер президент, мне не к чему возвращаться, — сказал режиссер. — Я остался без работы. И без контракта. Он расторгнут. Главой вашей студии. По вашему приказу. В присутствии моего агента и двух ваших юристов. — Я говорю вам — все в порядке. Возвращайтесь и снимайте фильм. Но Джок не сдвинулся с места. — Моего слова недостаточно? И тогда Джок произнес фразу, которая должна была возместить моральный ущерб от унизительных угроз, обвинений, брани, обрушившихся на него в последние двадцать четыре часа. — Поговорите с Марти Уайтом. Нам придется обсудить новый контракт, который заменит аннулированный вами. Сказав это, он взял коробку с пленкой и ушел. Через сорок восемь часов, когда Дейв Грэхэм наконец вышел из критического состояния, а отдел «паблисити» оповестил об этом весь мир, Джок Финли вернулся в Неваду с контрактом, согласно которому его гонорар удваивался по сравнению с первоначальным. Он собрал всю съемочную группу и объявил, что вопреки слухам съемки картины продолжаются. Затем, запуская в проекционный грузовик группы из восьми-десяти человек, он показал всем отснятый кусок. В присутствии всех он сказал своему помощнику: — Завтра утром мы снова снимаем табун лошадей. Установите на платформу два спаренных «Митчелла». Одна портативная камера будет работать внизу. Джо Голденберг, его новый помощник, Престон Карр, Дейзи, Луиза застыли в изумлении. Прежде чем кто-либо из них успел задать вопрос, запротестовать, возмутиться, Джок продолжил: — Да, мы проделаем все заново. Только с небольшим отличием. Я сам выйду с камерой! Актеры завтра не понадобятся. Только операторская группа! Я хочу, чтобы все было готово! Джок повернулся и ушел. Луиза и Дейзи посмотрели на Джо Голденберга, ожидая его возражений. Но Джо решил на сей раз проявить упрямое безразличие. Только один человек обладал статусом, позволявшим ему спорить с Джоком, убеждать его. Престон Карр. Меньше чем через час Карр заглянул к Джоку, изучавшему карту окрестностей, высохшее русло, естественный путь табуна. Он не поднял головы, когда Карр вошел в трейлер. И даже когда Карр заговорил с ним искренним, обезоруживающим тоном, успешно апробированным в фильмах. — Никто не сомневается в тебе, малыш. Чтобы придумать такую сцену, уже требуется мужество. Ты рисковал своей карьерой. Тебе нет нужды что-то доказывать сейчас. — Этот кусок слишком мал для монтажа. Вы это знаете. — Ну и что? Он уже так широко известен, что даже непродолжительная его часть сделает свое дело. Я считаю, что только моя доля прибыли благодаря ему возрастет на миллион! Что ты стремишься доказать? — Я предложил сделать это сам! И я сделаю это! — Ты бросил вызов в лицо газетчикам. Мы все многое болтаем. Но здесь нет репортеров. — Я запретил им появляться здесь. Теперь они решат, что я сделал это, потому что струсил. — Послушай, малыш… — Я сделаю это! Поколебавшись, Карр закрыл эту тему: — Не причини себе вреда, малыш. Он повернулся и шагнул к двери трейлера. Открыв дверь, он бросил взгляд на Джока и добавил: — Не причини боли никому. Луиза не разговаривала с Джоком после его возвращения из Нью-Йорка. Она избегала его. Не будь она свободной и независимой, он бы решил, что она боится сплетен, которые могло породить ее пребывание на натуре. Под вечер, когда лагерь кинематографистов напоминал готовящуюся к сражению армию, а Джок — ее главнокомандующего, Луиза все же подошла к нему. Она знала, какое раздражение могли вызвать у него женщины в те минуты, когда происходит нечто важное. Но она чувствовала, что обязана рискнуть. — Мне необходимо поговорить с тобой, — сказала она. — Послушай, я занят. Ее полные обиды глаза заставили его добавить: — Хорошо. Иди в мой трейлер. Я приду туда, когда освобожусь. Она добилась не большего успеха, чем Карр. Джок слушал ее, снисходительно, терпеливо улыбаясь. Когда она замолчала, он поцеловал Луизу в полные красные губы, коснулся рукой ее упругой груди абсолютно уверенный в том, что сейчас он овладеет девушкой. Но она отстранилась. — Тебе нет дела до того, кому и как ты причиняешь боль. Ты хочешь получать удовлетворение немедленно. Так вот, сейчас ты нужен мне. Я прошу тебя не убивать себя. Я не вынесу твоей гибели. Новой боли. Сейчас, снова — нет. Джок мягко повернул ее лицом к себе. Луиза плакала. Она никогда прежде не плакала. Какие бы оскорбления, грубости, шутки, розыгрыши он себе не позволял. Слез не было никогда. Также она никогда не говорила о прежних обидах. До этого дня. — Ты действительно боишься за меня. — Я боюсь за себя, — тихо промолвила она. — Я не переживу потерю. Он не уступил и лишь протянул руку, чтобы коснуться ее лица, чтобы погладить ее шею, грудь. Она не двигалась, не реагировала. Потом отошла к двери, задержалась возле нее, чтобы сказать: — Ты опасен. Ты причиняешь людям боль, но еще хуже то, что тебе это доставляет удовольствие. Разозлившись из-за ее отказа, Джок обрадовался уходу Луизы. Он вспомнил, что недавно другой человек сказал почти то же самое, Престон Карр. «Не причини боли никому». Эти двое говорили друг с другом? Или не только говорили? Подозрения усилились в столовой; за длинным столом сидели Джок, Прес, Луиза, Джо Голденберг. Дейзи ела у себя в трейлере. Поглощая пищу, Джок наблюдал. Сначала за Престоном. Потом за Луизой. Его подозрения крепли. Между ними что-то было. Он убедился в этом позже, когда пригласил ее провести ночь в его трейлере. Он сделал это с присущим ему обаянием. Но она отказалась.
Джок Финли, на котором были хлопчатобумажные брюки и куртка «на молнии», спустился по ступенькам трейлера и направился в столовую, чтобы позавтракать. Весь лагерь встал сегодня рано. Люди из операторской группы, которых встретил Джок, поздоровались с ним так, словно утро было обычным. Но исключительность этого утра ощущалась во всем. Везде, куда заглядывал Джок — в помещении для зарядки камер, в радиорубке — царили два настроения. При появлении режиссера все становились подчеркнуто деловыми. Однако окружающие испытывали огромное напряжение, предшествующее неотвратимому несчастью. Никто не говорил об этом, не просил Джока отменить съемку. Он все равно не уступил бы. Но это могло бы снять гнетущее молчание. Финли вернулся в столовую, чтобы выпить чашку кофе. Когда он делал последние глотки, у двери появился новый помощник Джо Голденберга — Эдди. Он произнес: — Джок! Джо говорит, что нужное освещение будет примерно через сорок пять минут! Все перестали есть и пить. Даже повара замерли у плит. Все проводили взглядами Джока Финли, который вышел из столовой.
На платформе царила армейская четкость в распределении обязанностей. Пилот крутил в небе, докладывая обстановку. Джо возился с камерами. Джок появился под платформой. Три человека уже стояли там, готовясь закрепить на нем заряженную камеру. Когда они начали делать это, один из реквизиторов принес предмет, напоминавший древнеримский щит, с вырезом в верхней части для лучшего обзора. Джок вопросительно посмотрел на реквизитора. — Если у вас получится управлять камерой одной рукой, то другой вы сможете держать это, — сказал человек. — Спасибо, Олби. Мне понадобятся обе руки для управления камерой. Огромное спасибо. Олби, заранее знавший, что из его идеи ничего не выйдет, однако считавший нужным сделать все от него зависящее, улыбнулся. — Мы хотели как лучше, босс.
На платформе Джо Голденберг готовился снимать двумя «Митчеллами». Из рации доносился голос пилота, сообщавшего местонахождение табуна и вероятный путь его следования. Все, похоже, складывалось благоприятно. Престон и Луиза забрались на платформу к Джо. Слова были не нужны. Люди расступились перед прибывшими, чтобы они смогли выбрать место с хорошим обзором. Вид, открывавшийся с платформы, был бескрайним, впечатляющим. Пустыня, розовые горы, раскаленное добела солнце. Престон и Луиза полюбовались этой картиной. Потом Карр посмотрел на девушку. — Господи, надеюсь, все… — заговорила она, но тут прозвучал голос пилота: «Начинаю снижаться». Они увидели вдали вертолет, опускающийся к предгорьям, к невидимому высохшему руслу, где скрывались пасущиеся мустанги. Через несколько мгновений появилось облако пыли; вертолет преследовал его. Облако и вертолет двигались над пустыней за бегущим табуном. Наконец стал слышен приглушенный грохот; неистовые, мощные копыта испуганных животных заставляли землю содрогаться, вибрировать. Луиза, Престон Карр, Джо Голденберг, его помощник, техник, радист замерли в напряженном ожидании. Под платформой, за ограждением из скрещенных железных труб, ждал Джок Финли. Заряженная портативная камера «Рефлекс», прикрепленная к его телу кожаными ремнями, казалось, весила не двадцать четыре, а сто фунтов. Пояс с аккумуляторами стягивал живот, мешая дышать. Но он и без того дышал с трудом. Трое рабочих находились рядом; им предстояло вытолкнуть Джока вперед, если он проявит нерешительность. Он сам так распорядился. Возле каждого рабочего лежало по ружью. Эта мера предосторожности была на самом деле бессмысленной, однако ею не пренебрегли. Джок положил палец на пусковую кнопку, мысленно повторяя: «Не позволяй рукам дрожать, держи равновесие». В этом заключались правила работы с портативной камерой. Правая нога — впереди, левая смещена в сторону. Опора на левую ногу. Тогда тело человека обретает наибольшую устойчивость. Волноваться нельзя, так как учащенное сердцебиение негативно скажется на качестве кадров. Если незначительная пульсация делает кадры более натуральными, живыми, то чрезмерная вибрация губит их. Главное — сохранять спокойствие. Теперь Джок не только ощущал ногами приближение табуна, но и видел его. Облако пыли мчалось к Джоку под усиливающийся топот копыт. В какой-то миг он испугался, ему захотелось повернуться и убежать. Но гордость удержала Джока. Мышцы его лица напряглись. В глазах застыла чрезмерная решимость. Главный момент настал. Гордый, смелый, до смерти напуганный Джок Финли выскочил из защищенного места навстречу несущемуся табуну. Крепко держа камеру перед собой, он затянул в окошечко и начал снимать. Животные домчались до него! Обезумевшие от страха мустанги с острыми копытами, оставлявшими глубокие следы в жесткой почве, окружили Джока со всех сторон. Это был поток из огромных голов, яростных глаз, исторгающих пену пастей, оскаленных белых зубов, мускулистых, поджарых тел, пыли, грохота. Все это, казалось, проникло в Джока. С верхней площадки платформы он был виден лишь мгновение; внезапно он исчез под табуном. Густая пыль застилала округу, не позволяя что-нибудь разглядеть. Луиза устремилась вперед. Прес Карр крепко схватил ее — скорее чтобы унять дрожь девушки, нежели удержать. Никто ничего не мог сделать. Табун должен был пройти. Когда он умчался дальше, и Джо проводил его взглядом через видоискатель камеры, все ожили. Люди бросились вниз по ровной, плоской, пыльной, истоптанной копытами земле к тому месту, где лежал на боку Джок Финли. Карр и Луиза подбежали к нему. Рабочие перевернули Джока. Он потерял сознание; его руки со стиснутыми кулаками закрывали камеру. В последний момент режиссер думал о спасении пленки! Его лицо было в крови. Она сочилась из ссадин на лбу и порезов на щеке, которые были ровными, аккуратными, точно их сделали бритвой, а не копытами. Луиза посмотрела на плечо Джока, повернутое странным, неестественным образом. Девушка шагнула к Карру; актер, повидавший большее число раненых, чем она, встревожился сильнее Луизы. Она уткнулась лицом в его мускулистое плечо. Пытаясь успокоить Луизу, он погладил ее по голове. Подъехал джип. Выскочивший из машины врач склонился над Джоком. Одной рукой он нащупал пульс, другой проверил, нет ли явных признаков повреждения черепа. Врач избегал людских глаз, в которых застыл вопрос. Для продолжения обследования он отстегнул кинокамеру и отпихнул ее в сторону, точно хлам. Джо Голденберг поднял «Рефлекс» и передал своему помощнику. — Разряди ее. Осторожно. Срочно отправь пленку в лабораторию! Доктор оценил положение дел. Он ощупал грудь, ребра, живот, лицо, скулы, плечи Джока и произнес: — Помогите мне перенести его в джип. Но только осторожно! Четверо мужчин бережно подняли Джока и положили его на заднее сиденье. Когда автомобиль медленно тронулся с места, раздался чей-то тихий, полный сарказма голос: — Так разбилось благородное сердце. Престон Карр обернулся; его загорелое лицо побелело от возмущения. — Вы не обязаны любить его. Но этот малыш действительно не робкого десятка. Карр и Луиза доехали на джипе до медпункта, размещенного в трейлере. Человек, стоявший возле ступеней, получил приказ никого не впускать. Но он не посмел остановить Карра. Раздетый Джок Финли лежал на столе в трейлере. Сестра помогала врачу, который продолжал осмотр, действуя очень осторожно из боязни усилить старое кровотечение или спровоцировать новое. Одно обстоятельство успокаивало: движение грудной клетки свидетельствовало о том, что он дышит. — Пульс? — спросил Карр. — Не слишком плохой. — Переломы? — Нет. Только вывих плеча. — Кровотечения? — Пока не видно. — Голова? — Надо сделать рентген в Лас-Вегасе. Хотя сейчас лучше его не двигать. В трейлер вошел радист со шляпой в руке. Он напоминал человека, пришедшего выразить соболезнования. Радист тихо, но твердо произнес: — Лос-Анджелес на проводе. Также звонят из Нью-Йорка. — Скажите им, что я сам позвоню, когда смогу сказать что-то определенное, — ответил врач, продолжая работать. — Я не имею права ответить так Нью-Йорку, — запротестовал радист. — Тогда найдите кого-нибудь, кто это сделает, — невозмутимо произнес врач, разбивая ампулу с нашатырем перед носом Джока. Сначала не последовало никакой реакции. Затем Джок бессознательно отпрянул, что ободрило доктора. Он поднес новую ампулу, затем еще одну. Реакция Джока становилась все более заметной. Наконец появился проблеск сознания. Джок открыл один глаз. Затем второй, но никого не узнал. Карр и доктор молча переглянулись. Пошли в ход новые ампулы с нашатырем. Медсестра тем временем стирала влажной салфеткой кровь с лица Джока. Кровотечение останавливалось. Внезапно доктор отложил в сторону ампулу с нашатырем и стетоскоп. Он обошел стол, взял неестественно повернутую руку Джока. Затем без предупреждения приложил значительную силу и вставил ее в сустав. Джок закричал так громко, что даже люди, находившиеся поодаль от трейлера, услышали его вопль и побежали к медпункту. Этот крик холодил кровь. Но он свидетельствовал о том, что Джок еще жив. Боль вернула Финли сознание более эффективно, чем нашатырь. Он снова открыл глаза, заморгал. Потом закрыл их. Дыхание было тяжелым, неровным. На его груди блестел пот, он стекал тонкими струйками. Джок, казалось, задыхался. — Как вас зовут? — спросил его доктор. — Назовите вашу фамилию. Он приподнял пальцами веки Джока и посмотрел в глаза. Затем врач протянул руку, и медсестра подала ему лупу и фонарик. Врач осмотрел зрачок Джока. — Ваша фамилия? — снова спросил врач. Грудь Джока двигалась так тяжело, натужно, со свистом, что Луиза отвернулась, ища утешения на плече Престона Карра. Но актер смотрел на врача, пытаясь понять его реакцию. — Ваша фамилия? — повторил доктор. — Финли? — неуверенно ответил Джок. — Финли? — Где вы находитесь? — Здесь. — Где это — здесь? Джок, казалось, снова потерял сознание. Доктор надавил на вправленное плечо. Боль привела Джока в чувство. — Финли… Финли… Джок Финли, — произнес он. — Где вы? — Невада… натура… картина… — Что с вами случилось? Вы помните? Джок не отвечал, сознание ускользало от него. Доктор снова надавил на плечо. Боль заставила Джока прийти в себя. — Ради Бога, дайте ему что-нибудь! — не выдержала Луиза. — Уведите ее отсюда! — сказал доктор Карру. Луиза ушла сама, без помощи Карра. — Вы помните, что с вами произошло? — повторил доктор. — Лошади. Бежали… дикие… мустанги, — с остановками произнес Джок; его дыхание постепенно выравнивалось. — Вы что-нибудь чувствуете? — Боль. — Сильную? — Да. — О'кей, — доктор продолжил обследование; он искал признаки возможных внутренних повреждений. Джок лежал неподвижно, иногда задыхаясь, потея; кровотечение прекратилось, заботливая медсестра продолжала стирать остатки крови с лица Джока, оно становилось чище. Наконец Джок произнес по собственной инициативе: — Больно… дайте что-нибудь… Доктор, поглощенный осмотром, не отреагировал на просьбу. Сейчас его внимание было снова сосредоточено на голове и глазах Джока. — Док..? — Даже один произнесенный слог заставил Джока испытать страдания. — Мне больно. — Не рекомендую. Это может замаскировать симптомы. Джоку этот аргумент показался убедительным. Он попытался кивнуть, превозмогая боль. Постепенно, осторожно, педантично, доктор устанавливал состояние Джока: трещин в черепе нет, серьезных внутренних повреждений — тоже, вывихнутое плечо придет в норму, шрамы от ран останутся навсегда. Раненого можно отправить по воздуху в Лас-Вегас для подтверждения или уточнения диагноза с помощью рентгена. Заправленный вертолет был готов подняться в воздух. Когда Джока на носилках внесли в тесный салон маленькой машины, там не осталось места для врача, и ему пришлось лететь на втором вертолете. Первый вертолет поднялся в воздух; доктор, Престон Карр, Луиза остались в окружении съемочной группы. В ожидании второго вертолета Луиза спросила врача: — Вам не следовало бы дать ему обезболивающее? — Он не хочет, чтобы обезболивающее маскировало симптомы, — объяснил Карр. Но доктор сердито произнес: — А еще я хочу заставить этого сукина сына уважать человеческое тело. Прежде чем кто-либо успел ответить, все утонуло в рокоте появившегося вертолета.
Рентгенограммы, неврологические тесты, исследование мочеполовой системы подтвердили заключение молодого врача. Через три дня Джок смог покинуть больницу с рукой на перевязи и двумя белыми пластырями на худом побледневшем лице. Фотография улыбающегося режиссера обошла весь мир; его ухмылка, подчеркнутая пластырями, воодушевила миллионы поклонников «новой волны». Кадры, отснятые Джоком, оказались более удачными, чем первые, сделанные Грэхэмом. Но после коррекции цвета эти куски могли быть смонтированы в единое целое длительностью в шестьдесят четыре секунды. Этот короткий, но восхитительный эпизод обещал стать центральным и самым знаменитым моментом всего фильма. Студия и Нью-Йорк перевели дыхание. Особенно сильно радовался Нью-Йорк. Через несколько недель акционеры услышат рассказ о мужестве кинематографистов. Когда Джок вернулся на натуру, его встретили с тем уважением и любовью, какие достаются не каждому обладателю премии Академии. Только Луизы там уже не было. Она исчезла, не оставив записки, не позвонив. Джок не мог заставить себя спросить о ней у Престона Карра. Сам Карр не заговорил о Луизе. Она просто исчезла. Джок убеждал себя, что это даже к лучшему. Теперь он целиком и полностью отдастся работе над фильмом. Луиза — странная девушка, мысленно повторял Джок.
Пятая глава
— При первом чтении больше всего в этом сценарии меня очаровали чистота и поэтический символизм, — сказал Джок Финли. Они сидели за ленчем в трейлере Джока. Дейзи Доннелл. Престон Карр. И Джок Финли. — Конечно, все нюансы, экзистенциальные компоненты, философское осмысление должны явно присутствовать в каждой сцене, не мешая развитию действия и не замедляя темп. Дейзи почти не прикасалась к еде; она постоянно кивала, подтверждая свое участие в беседе. Престон Карр слушал молча, задумчиво, загадочно. Он периодически потягивал остывший кофе. — Разумеется, главный смысл — это мустанг. Он не позволяет поймать себя, поместить в загон, приручить, сломить. Точно так же вы, последние сильные, смелые люди на земле, отказываетесь потерять свободу, подчиниться правилам механического, материалистического общества. Дейзи слушала, имитируя внешние признаки глубокой задумчивости. Ее хорошенькое без следов косметики лицо отражало искреннее желание понять и поверить. Но нежные, слегка выпученные глаза выдавали сильную растерянность. Она испытывала потребность верить, ощущать свою вовлеченность, твердо знать, что она участвует в чем-то более значительном, нежели съемки очередной картины. Этот фильм стал для нее почти таким же священным, как «истинная игра». Дейзи должна была верить, что занята созданием характера, корни которого находятся в ней самой. Что превращается в актрису, чего ей не удалось достичь в Нью-Йорке. И Джок Финли знал об этой ее потребности. — Конечно, мы будем снимать сцены раздельно, одну за другой… Престон бросил настороженный взгляд на Джока — актер впервые услышал об этом. Финли поспешил объяснить ему; для этого он сказал Дейзи: — Как я и обещал тебе. Изначально Джок дал это неосторожное обещание, когда уговаривал ее сняться в картине; теперь Джок чувствовал, что не может обмануть столь неуверенную в себе девушку, как Дейзи Доннелл. — Мы разыграем сегодня днем твою первую сцену, в которой ты знакомишься с Престоном. Возможно, мы даже не будем ее снимать. Вы привыкнете друг к другу. О'кей? Дейзи и Престон Карр кивнули. — Начнем, когда ты будешь готова, дорогая, — сказал Джок. — Я… мне нужно какое-то время побыть одной. В моем трейлере. Подготовиться. Последнее слово она выучила в Нью-Йорке. Оно звучало трогательно, почти забавно. Престон Карр опередил Джока: — Не торопись, дорогая. Я буду ждать тебя, сколько нужно. Она благодарно кивнула и вышла из трейлера Джока. — Мне пришлось пообещать ей, что мы будем снимать сцены раздельно, иначе… — поспешил объяснить Джок. Но Карр перебил его, словно объяснение было излишним. Или словно никакие объяснения его не удовлетворят. — Послушай, малыш, я буду у себя с моим финансовым консультантом. Позови меня, когда она будет готова. Эта сцена породила в киногородке атмосферу оживления. Впервые Королю и Секс-Символу предстояло работать вместе. Съемочную группу охватило ощущение сопричастности, какое испытывают зрители на чемпионате мира по футболу или коронации английской королевы. Сотни газетчиков просили Джока допустить их на съемочную площадку; среди этих репортеров было немало знаменитостей. Все получили отказ. Джок проявил непреклонность. Сам шеф «паблисити» по просьбе Нью-Йорка прилетел на натуру. Он уговаривал, молил Джока, даже грозил ему. И все равно Джок не уступил. Любое произведение искусства нельзя демонстрировать преждевременно, заявил он. На самом деле он ужасно боялся, что Дейзи не выдержит напряжения. Он решил не жалеть времени и дать ей возможность почувствовать себя в безопасности. Для этого требовалось отсутствие посторонних. При съемках первой сцены с участием Дейзи на натуре не будет никого, кроме членов съемочной группы. Этот ход оказался исключительно удачным. Обсуждение причин подобного решения заняло в прессе много места. Высказывались догадки о том, что у Карра и Дейзи начался роман.Джок хотел, чтобы первая сцена, в которой Дейзи Доннелл предстанет перед зрителями, заинтересовала и раздразнила критиков. Используя дублершу Дейзи, он подготовил кадр для Джо Голденберга и его группы. Хотя фильм снимался в цвете, сначала весь экран заполнит изображение мишени в виде глаза быка, которое будет казаться черно-белым. В отличие от обычной мишени, эта картинка начнет дрожать, перемещаться. Камера отслеживает это движение. Затем она останавливается, и мишень начинает удаляться. Вскоре понимаешь, что это не мишень, а рисунок на платье. Девушка с хорошенькой, аппетитной попкой, в туфлях на высоких неустойчивых каблуках идет по пыльной дороге. Она несет обшарпанный чемодан. Девушка движется в никуда, в бесконечность! Таким будет первый кадр Дейзи Доннелл. Затем предстоит снять крупным планом лицо Дейзи. Ее внимание приковано к какому-то удаленному предмету. Камера прослеживает ее взгляд. На экране появляется Линк, персонаж Престона Карра — бродячий ковбой на лошади, который едет навстречу Дейзи. Так они встречаются. Две одинокие души в бескрайних просторах великой пустыни Юго-Запада. Странная случайная встреча. Престон Карр, сидя в своем походном кресле, из чистого любопытства наблюдал за подготовкой к съемкам. Если Престону и нравилось то, что происходило, то он очень искусно скрывал это. Тем временем Джок двигался, излучая творческую энергию, которую он надеялся передать всей съемочной группе. Когда сцену несколько раз повторили с дублершей и Джок дал добро на съемку, Лестер Анселл, ассистент режиссера, сказал своему помощнику: — Позовите мисс Доннелл! Стюи, позови мисс… Но Джок перебил его: — Одну минуту! Я сам позову мисс Доннелл. В глазах Карра появилась загадочная улыбка, известная всему миру; он проводил режиссера взглядом. Джок подошел к трейлеру актрисы, постучал, что-то произнес, подождал. Дверь открылась. Дейзи вышла в точно таком платье, какое было на дублерше, когда готовили кадр. Все смотрели на актрису. Люди внезапно увидели, как сильно могут различаться две красивые блондинки, даже одетые совершенно одинаково. Дейзи разительно отличалась от любой другой девушки с такими же формами, ростом, размерами. Зрителибудут всегда считать, что секрет заключается в ее грудях, или ягодицах, или раздвинутых губах, или светлых волосах. Но в Голливуде можно найти сотню девушек с точно такими же внешними данными, и среди них не будет ни одной Дейзи Доннелл. Тайна ее неповторимости находилась внутри Дейзи и не поддавалась формулировке. Взяв девушку за руку, Джок подвел ее к месту, откуда ей предстояло начать движение. Он подробно объяснил, что она должна делать, как должна идти на этих высоких разбитых каблуках. Как должна нести старый чемодан. И как будет работать под умелым руководством Джо операторская группа… Посмотрев на лицо Дейзи, на влагу, затуманившую ее глаза, Джок замолчал. Она внезапно повернулась и побежала назад к трейлеру, оставляя на произвол судьбы Престона Карра и всю съемочную группу. А главное — бросая Джока Финли посреди его объяснений. Он потерял дар речи; Джока внезапно охватил страх, который может поразить творческого человека, когда он внезапно понимает, что может в одно мгновение потерять все. Погубить месяцы, годы работы, возможно, нанести ущерб всей своей карьере. Финли понял, что должен разыграть убедительный спектакль и вывести девушку из состояния паники. Он бросился вслед за ней, догнал Дейзи на полпути к убежищу — ее трейлеру. — Дорогая… подожди, выслушай меня! Дейзи отвернулась. Финли стал перед ней. Она плакала. Он обнял ее, прижал рукой голову Дейзи к своей груди. К ним подошел Джо. Затем — Престон Карр. Джок движением глаз попросил Джо уйти. Оператор удалился. Но Финли хотел, чтобы Престон остался. — Дорогая, мы уже все обсуждали. Помнишь? — Ты сказал, что все будет по-другому! Что на этот раз люди увидят настоящую Дейзи Доннелл! Она плакала, как обиженный ребенок. — В первом кадре — моя задница крупным планом! — Дорогая. Дорогая. Послушай меня. Послушай Джока, детка. То ли слезы мешали ей говорить, то ли она решила выслушать его, но Джок получил шанс, в котором нуждался. — Дейзи, дорогая, послушай Джока! Я хочу, чтобы слушала ты вся целиком! Дейзи Доннелл, кинозвезда, женщина, маленькая девочка, секс-символ, актриса. Да, в первом кадре — твой зад. Я делаю это нарочито, преднамеренно. Я это запланировал. На шестидесятидвухфутовом экране Мюзик-холла появится твоя знаменитая задница! Ее совершенство будет подчеркнуто специальным платьем, которое я придумал для тебя. Для твоего знаменитого зада. Ты ведь не думаешь, что я делаю это только для того, чтобы еще раз показать всем зад Дейзи Доннелл? Не думаешь? Каким бы режиссером я был, если бы преследовал только эту цель? Ни один кадр моего фильма не решает только одну задачу. Он должен выполнять сразу несколько функций, работать на всю историю, на характер, на создание стиля, объяснять нашу эпоху. И это относится к каждому кадру. Но особенно — к первому, в котором появляется главная героиня. Мы должны в одном кадре раскрыть всю ее жизнь. Пробудить сочувствие, жалость, понимание, любопытство. Кто она? Кто эта явно привлекательная сексапильная девушка, идущая на столь неуместных каблуках по этому забытому Богом краю? Как она очутилась здесь? Куда направляется? Что выпало на долю ее обшарпанного чемодана? Ее бросили? Или она сама убежала от кого-то? Все — в одном кадре. Причина, по которой мы начинаем с крупного плана твоего зада, очень проста и убедительна. Необходимо создать аномалию. Кто может предположить, что из-за черно-белого зада девушки, шагающей в одиночестве по пустынной дороге, откроется широкий вид с насыщенными цветами? Зрители подумают: «Что происходит? Что это значит?» Мы пробудим любопытство! Создадим напряжение! Теперь о твоей героине. О тебе самой. Помнишь, я говорил, что хочу показать в этой картине тебя! Не Рози, а тебя, Дейзи Доннелл! Помнишь? Ее слезы высохли, она внимательно слушала, кивала; в ее глазах зародилась вера. — Помнишь, милая? Вот чем мы начнем убивать критиков. Этих умников. Знатоков. Мы подстроим для них ловушку. Сначала мы заставим их сказать: «Ну вот, снова Дейзи Доннелл «играет» своим вибрирующим задом и глубоким вырезом». А затем… мы покажем им настоящую Дейзи Доннелл… талантливую Дейзи Доннелл. Мы трансформируем обладательницу самой знаменитой задницы в актрису, подлинную звезду, достойную приза Академии! Она услышала. Кажется, поверила. Джок взял ее за руку и тихо произнес, почти прошептал, в ухо: — Мы заставим их публично извиниться за все гадости, которые они говорили о тебе, дорогая, обезоружим их вначале, а потом отрежем им яйца! Мы же договорились сделать это! Помнишь? Актриса кивнула, почувствовала себя спокойнее, увереннее. Он объяснил ей, почему она должна сделать именно то, что ей меньше всего хотелось. — А теперь зайди в трейлер и позволь Стелле поправить твой макияж. Когда будешь готова, ты выйдешь и скажешь: «Все в порядке», и мы снимем эту сцену. Она задумалась на мгновение, кивнула; увлажненные глаза делали Дейзи еще более трогательной и привлекательной, чем обычно. Она шагнула к своему трейлеру, но Джок схватил ее за руку, нежно поцеловал в губы и отпустил. Он повернулся назад; расслабленная поза режиссера, неторопливое дыхание говорили о том, что он после серьезного стресса наконец испытал облегчение. Карр ждал Джока. — Малыш, если эта картина удостоится премии Академии, то ее получишь ты. Джок лишь мгновение тешил свою гордость. — За игру, — тут же добавил Карр.
Первая сцена Дейзи была снята. А также кадры, где Престон Карр ехал верхом. Затем пришел черед более интимных моментов с диалогами. Обмена репликами между Линком, бродячим ковбоем, и Рози, танцовщицей, сбежавшей из бара. Девушка оказалась одна посреди пустыни, потому что ей пришлось отбиваться от подвозившего ее рабочего с ранчо. Джок Финли понял то, что и до него поняли многие хорошие и плохие режиссеры, работавшие с Доннелл. У Дейзи интервалы неуверенности сменялись короткими мгновениями покоя, затем следовал очередной период неуверенности. Не было еще такого дня, в течение которого она постоянно верила бы в себя и свои возможности. Однако Джок всегда проявлял терпение и доброту. Он объяснял, играл сцены сам, даже развлекал этим Престона, чтобы тот не слишком сильно возмущался странностями напуганной Дейзи. Они долго возились с одним коротким диалогом — шесть строк, сорок семь слов. Иногда Дейзи произносила свои слова лучше, иногда хуже. Один раз она попробовала сделать это по-своему и потерпела фиаско. Актриса поняла это и убежала со съемочной площадки; Джоку пришлось уговаривать ее вернуться назад. К тому часу, когда Джо сказал, что света уже недостаточно для работы, они успели отснять весь материал, необходимый Джоку для монтажа эпизода. Пленку упаковали и отправили вертолетом в лабораторию. Ее должны были проявить этой ночью. Для съемочной группы и актеров рабочий день завершился. Часом позже Джок в своем трейлере сказал Карру: — Налейте себе что-нибудь, Прес. Карр, подойдя к бару, отыскал там свое любимое виски. Он вслух отметил это. Что дало Джоку повод польстить ему: — Я узнал много о первоклассном спиртном и кинематографе тогда, на вашем ранчо. Это был комплимент, но он не разрядил напряженную атмосферу. Карр налил себе виски, попробовал его и повернулся к Джоку. Режиссер заговорил прежде, чем Карр раскрыл рот. — Я знаю, что вы хотите сказать. Думаю ли я, что она справится? Да, справится! Но ей мало только моей помощи. Она нуждается в вашей помощи. Вот почему я пригласил вас сюда. — Я сделал с ней девятнадцать дублей! За всю мою карьеру я не делал столько дублей! Она учит свои слова? Почему она так плохо готовится? — Плохо готовится? Да она готовится слишком старательно! — парировал Джок. — Она знает каждое слово. И, к сожалению, пять вариантов его произнесения. Причина — в ее конфликтах, в ее внутренних конфликтах. Поэтому-то я и прошу вас, Прес, пожалуйста, проявите немного терпения, ладно? Карр молчал. — В конце концов, это ее первый день. Дальше она будет работать лучше. — А если нет? — спросил Карр. — Будет! Но вы способны помочь. И тут Джок принялся сочинять собственную сказку. — Понимаете… понимаете, она сказала мне — ей кажется, что она не нравится вам… что она вам неприятна. — Не она лично. То, как она работает, — произнес Карр. — Тогда дайте Дейзи почувствовать, что не испытываете к ней неприязни, — взмолился Джок. — Это поможет нам всем. — Ну… — задумался Карр, — если это поможет картине… — Поможет! — убежденно выпалил Джок. Карр кивнул. Все актеры одинаковы, подумал режиссер. Дай им идею, проблему, нуждающуюся в решении, и ты избавишься от осложнений. Но осложнения появились не по вине Карра. На следующий день после ленча шла подготовка к съемкам сцены, в которой Линк объяснял Рози, что заставило его стать кочующим ковбоем. Фоном служила широкая панорама с видом пустыни. Карр произносил сочные, выразительные слова своим неподражаемым голосом — искренним, сдержанным. Дейзи Доннелл слушала его с широко раскрытыми наивными глазами. В качестве «перебивки» использовались виды бескрайней пустыни, далеких гор. Джок уже монтировал эти кадры в своем распаленном воображении; они обещали получиться поэтичными, трогательными, впечатляющими. Они закончили основную часть сцены и начали снимать крупные планы Карра, смотрящего вдаль во время разговора. Когда работа завершилась, все присутствующие — члены операторской группы, рабочие, электрики, ассистенты — продолжали завороженно молчать. Джок отошел от камеры и направился мимо осветителей, державших в руках рефлекторы, к Престону Карру. Он поднял его руку и произнес перед всей съемочной группой: — Ни один другой актер не смог бы сыграть эту сцену так, как это сделали вы. Повернувшись к Джо Голденбергу, Джок спросил: — Вас все устраивает, Джо? Джо кивнул и добавил: — Мы могли бы повторить еще раз на всякий случай. — Такую сцену нельзя повторить! — отозвался Джок. — Она может быть только единственной за всю жизнь! Это история! Престон Карр, знаменитый Король, слегка покраснел. Он подозревал, что его немного обманывают, но ему нравилось это. Потому что сцена действительно получилась отменной. А самоуверенный, агрессивный, напористый лицедей — настоящий режиссер. — Знаешь, когда я впервые прочитал этот диалог, когда мы говорили об этой сцене, я сказал себе — я не могу произносить такую чушь. Теперь я понял, что ты имел в виду, говоря о поэзии, — искренне признался Карр. — Спасибо, Прес, спасибо. Джок удалился. Его распирала гордость. Он победил. Престон Карр наконец решил полностью отдать себя в руки Джока Финли. Испытывая большой душевный подъем, Джок увидел бегущего к нему радиста. — Джок… Джок! Вся группа любовно называла его Джоком. Это создавало неформальную атмосферу. Подкрепляло легенду о гениальном малыше. Джок Финли, самый молодой член съемочной группы, был боссом. — Джок… Джок! — радист был явно взволнован. — Студия. Глава студии хочет поговорить с вами. Скорее! Это было досадным промахом. Ни одно важное сообщение не должно звучать в присутствии съемочной группы. Эта ошибка могла породить массу слухов, домыслов. Взяв трубку, Джок услышал раздраженный голос Гринберга — главы студии. — Где этот молодой наглец? Джок произнес елейным тоном: — Извините, сэр, что я заставил вас ждать. — Послушайте, Джок, я должен немедленно поговорить с вами. — Говорите, сэр. — Малыш, кое-кто на студии… Джок Финли, как любой режиссер, знал эту преамбулу — «кое-кто на студии» — не хуже, чем другую — «мы, народ Соединенных Штатов». Когда у главы студии появляются какие-то соображения, которые он не хочет сообщать от своего лица, он прячется за словами «кое-кто на студии». Если впоследствии соображение окажется ошибочным, глава студии сможет отделить себя от нее. — Будь это мнение одного человека, я бы пренебрег им и доверился Джоку Финли. Но все твердят одно и то же. — В чем проблема, сэр? — В девушке, Джок. Все присутствующие в проекционной разочарованы ею! Мы дважды просмотрели материал. Она выглядит ужасно! Это просто не Дейзи Доннелл! — Я говорил вам, что она будет другой. Это новый взгляд — для критиков, для рекламы. Новая Дейзи Доннелл. Помните? — Новое — это новое. Но здесь нет ничего. — Предоставьте мне беспокоиться об этом. — Семь миллионов долларов… возможно, даже восемь. Не считая расходов на размножение и рекламу. Вы позволите мне тоже немного побеспокоиться? — Пожалуйста! — сказал Джок; его раздражение начало выплескиваться наружу. — Мы здесь, на студии, думаем… — начал Гринберг. — Вы думаете! Вам нравится думать, что вы думаете! Руководство любой студии всегда хочет, чтобы кинозвезда выглядела как можно красивей. Сама сцена может требовать резкого освещения. Героиня находится в пустыне. Она много часов шагала под солнцем. Может ли какая-нибудь женщина выглядеть в такой ситуации безупречно? — спросил Джок. — Звезда — может, — сказал Гринберг, начиная испытывать раздражение. — Звезда должна! — рассерженно добавил он. — В любом случае, сейчас это теоретический вопрос. Потому что мы думаем… здесь, на студии, мы думаем, что вам следует заменить девушку… Это было сказано неуверенно, с паузами, и поэтому особенно сильно потрясло Джока. Если бы голос главы студии прозвучал твердо, решительно, Джок мог бы ответить резким возражением. Но тон Гринберга, понимавшего, что означает такая замена для всей картины, свидетельствовал о серьезности проблемы. О том, что он испугался за судьбу всего проекта и успех фильма. — Сменить девушку? Вы шутите! — сказал Джок. — Нет, не шутим! И это надо сделать срочно, пока мы не увязли слишком глубоко. Поснимайте несколько дней сцены без ее участия. Мы найдем тем временем свободную актрису, которая подойдет для этой роли. Мы будем связываться с вами через каждые несколько часов. — Я не пойду на это! — крикнул Джок Финли. — Вы согласитесь, когда еще раз прочитаете ваш контракт! — твердо заявил глава студии. Значит, они уже проверили и это, понял Джок. Они, верно, запаниковали. — Не беспокойтесь! Я добьюсь от нее хорошей игры, — сказал Финли. — Если бы материал позволял надеяться… — Я сказал, что добьюсь! Я — режиссер! — Режиссер? Если судить по тому, что мы видели, вам нельзя доверять и пост регулировщика дорожного движения! — выпалил глава студии. — Послушайте, мистер, я снимаю фильм. Меня ждут актеры и съемочная группа. Я не могу стоять здесь и слушать ваши избитые шутки о режиссерах. Если вы пожелаете сообщить мне нечто важное, звоните. В противном случае не отрывайте меня от работы! Изумленный радист все слышал. Джок заметил выражение его лица. Он схватил радиста за куртку и сказал: — Вы — единственный в курс дела. Если хоть одно слово станет известно людям, я убью вас! Это не простая угроза. Я не стану вас избивать. Или увольнять. Я вас убью! — Послушайте, босс, я клянусь… — пробормотал испуганный человек, поверивший в то, что Джок способен убить ради картины. — Все начнут спрашивать, о чем шла речь. Я говорю вам — о том, что вчерашний материал превосходен. Поняли? Испуганный человек кивнул. Джок немного успокоился. Он ужасно не любил выходить из себя непреднамеренно, спонтанно и считал это проявлением своей неуверенности. Эквивалентом женских слез. Теперь он хотел исправить свой имидж. — Она — великолепная актриса, но очень чувствительная. Это погубит ее. Мы не можем допустить такое. Верно? — Да, сэр, — сказал радист. — Хорошо. Я рад, что вы меня поняли. Джок почувствовал, что теперь может покинуть радиотрейлер. Он вернулся на съемочную площадку, широко улыбаясь. — Они в восторге от вчерашнего материала! Просто в восторге! Джок подошел к Престону Карру, шутливо заехал ему кулаком в подбородок — таким жестом мужчины выражают свое восхищение, когда не решаются сделать это открыто. Затем Джок взял руку Дейзи и поцеловал кончики пальцев. Этим он дал понять съемочной группе, что первые кадры с Дейзи получили высокую оценку студии. Съемки были продолжены. Дейзи Доннелл чувствовала себя уверенно, играла вполне хорошо. В течение нескольких следующих часов. Когда дневные съемки закончились, и Престон Карр направился в свой трейлер, Джок догнал его. — Прес… я могу поговорить с вами? Как мужчина с мужчиной? У меня неприятности. — Знаю, — просто ответил Карр. — Студии не понравился материал. Джок предпочел бы преподнести новость по-своему для достижения нужного эффекта. — Вы догадались. Каким образом? — Ты переиграл, — Карр сымитировал удар в челюсть. — Потом поцеловал руку Дейзи. Можно ли было выдать все более явно? — Думаете, она что-то заподозрила? — Не знаю. Теперь, малыш, послушай меня. Ты находишься здесь. Снимаешь важную картину. Может быть, самую важную в твоей жизни. Не пытайся обманывать меня. Это не пойдет тебе на пользу. У тебя есть талант. Ты — хороший режиссер. Я помогу Всеми моими силами. Но перестань врать. Хотя бы мне. О'кей? Самым трудным для Джока было вести прямой, честный разговор. Гораздо легче дурачить, водить за нос руководство студии. Манипулировать им. В эту игру Джок играл хорошо. — Прес, я не пытался обмануть вас. Я заехал вам в челюсть, чтобы подготовить атмосферу для последующего поцелуя. Потому что… ну… — Они велели тебе заново отснять вчерашний эпизод. Джок покачал головой. — Они хотят заменить ее. — О Боже, — реакция Престона Карра была тихой, искренней, сочувственной. — Точно, — сказал Джок. — Забудь то, что я наговорил вчера. Я сделаю все, что смогу. Я не хочу, чтобы с ней произошло такое. — Я рад, что вы так настроены. Потому что для борьбы со студией мне понадобится помощь. Если они спросят ваше мнение, что вы скажете? — Я… я скажу им, что, по-моему, она справится, — пообещал Карр. — Спасибо, Прес. Я никогда это не забуду! — Малыш, я снялся в большем числе картин, чем ты поставишь за всю жизнь. Я снимался в хороших картинах. И в плохих картинах. Видел успех, который заслуживает того, чтобы его назвали провалом. И наоборот. Но ни одна картина не стоит человеческой жизни. Поэтому я не позволю им заменить девушку. Даже если она погубит фильм. Восемь миллионов долларов? Ну и что? Она принесла киностудии сотни миллионов. Они обязаны проявить к ней уважение, доброту, терпимость. Дать шанс. Ты должен дать ей шанс. Не потому, что это укрепит твою репутацию. А потому, что это может спасти ее жизнь. Я ценю эту штуку все больше и больше. Кинобизнес растет, а люди — умирают. Мы оставим Дейзи в твоей картине. И она продемонстрирует хорошую игру. Тогда мы сохраним уважение к себе. О'кей? Престон Карр протянул руку Джоку. Режиссер пожал ее. Не отпуская руки Джока, Карр внезапно тихо спросил: — Скажи, малыш, ты спишь с ней? Джок изобразил на лице благородное смущение. Его глаза говорили: «Джентльмены не делятся такими секретами, а я — джентльмен». Тем самым он сделал ясное признание. — Возможно, тебе следует заниматься с ней любовью. Не дав Джоку раскрыть рот, Карр быстро добавил: — Я получил бумаги по сложной земельной сделке и должен до полуночи дать Харри ответ. И зашагал к своему трейлеру.
Кадры с Дейзи Доннел, отснятые на второй день, не успокоили студию. Материал был отправлен со специальным курьером в Нью-Йорк, просмотрен там и доставлен обратно. Теперь Нью-Йорк поддерживал студию, настаивая на замене Дейзи. Под прикрытием легенды о том, что он инспектирует производство всех фильмов студии перед промежуточным собранием акционеров, президент прибыл на натуру. В новых сапогах, новых джинсах, новом «стетсоне» он выглядел как полный, страдающий пристрастием к алкоголю президент нью-йоркской компании, пытающийся изобразить из себя коренного южанина. Его представили всем присутствующим, сфотографировали с Престоном Карром. Президент делал все, что делают большие шишки из Нью-Йорка, приезжающие на отдаленную натуру. Съемки продолжались. Джок работал над сценами, которые он собирался снимать. Но присутствие президента усиливало скованность и неуверенность Дейзи. Она дважды в слезах убегала в свой трейлер. Президент обнял Джока Финли, имитируя отеческую любовь, и повел режиссера к его трейлеру. Там он усадил Джока, отказался от предложенного ему спиртного и сказал: — Послушайте, Финли, я приехал сюда, надеясь убедиться в том, что мы ошибаемся. И девушка справится. Но сейчас ясно… — Ваше неожиданное появление испугало ее, сделало нервной. — Она родилась испуганной. Президент оказался ближе к правде, чем он сам мог предположить. — Мы все поступаем глупо, рискуя деньгами компании и нашими карьерами, — он выговорил эту фразу с ловкостью недоброй медсестры, вставляющей термометр в прямую кишку больного, — из-за девушки, от страха забывающей свои слова. И указания режиссера. Даже если вы — величайший режиссер мира, она играет так, что никто об этом не догадается. Ради самого себя не упрямьтесь… Джок покачал головой. — Вот что, — продолжил президент, — допустим, я бы предложил Марти Уайту уговорить ее за большие деньги отказаться от этой картины. Она не будет уволена или заменена. Просто уйдет сама. Она уже уходила с картины раньше. — Тогда она делала это по собственному желанию. Сейчас она не хочет уходить. Джок не сказал — если Дейзи уйдет, то она погибнет. — Малыш, почему вы защищаете ее? — Я защищаю ее постольку, поскольку я защищаю вашу картину, мистер Умник! — Вы с ней спите? — спросил президент. — Это вы кричали: «Картина стоимостью в восемь миллионов нуждается в защите!» Когда я позвонил вам и сказал, что актриса наконец наша, вы готовы были на руках меня носить! Теперь она останется в фильме, — твердо произнес Джок. — Значит, вы все-таки спите с ней! В трейлер без стука и извинений вошел Престон Карр. Было ясно, что он слышал их разговор. Президент повернулся к Карру, как бы приглашая его помочь в переубеждении этого упрямого молодого режиссера. — Скажите ему! Скажите нашему молодому гению, что она не справляется! Она не сможет справиться! Сдержанный, невозмутимый Карр сыграл свою роль с безупречной убежденностью. — Думаю, она способна сделать это. И, даже если она не потянет, я все равно буду настаивать на том, чтобы ее оставили в картине. Понимаете, она и я… ну, мы… Он не закончил фразу. Но президент отреагировал так, что надобность в этом отпала. — Вы хотите сказать, что вы… — Либо мы оба остаемся, либо оба уходим. Таково мое желание. Впервые Джок Финли стал свидетелем того, как Карр использовал статус звезды. — Ну, если ситуация такова… — с трудом пробормотал президент, привыкший покрикивать на официантов, парикмахеров, чистильщиков обуви, секретарей и неловких киномехаников. — Ситуация такова, — закрыл тему Карр. — Тогда, ради Бога, — президент атаковал Джока, — заставьте ее играть! — Послушайте, господин президент, — снова вмешался Карр, — мы здесь не кричим. Голоса далеко разносятся в пустыне. Когда нам есть что сказать, мы делаем это тихо. Например: «Мистер Финли, сделайте все от вас зависящее, чтобы девушка сыграла хорошо. Потому что она слишком волнуется. Она до смерти напугана. Она должна на этот раз добиться успеха. Она не может бросить эту картину. Пожалуйста». Так мы здесь говорим, господин президент. Красное лицо президента побагровело еще сильнее. Он пожалел, что сейчас в его руке нет бокала, предложенного ему Джоком. Он нуждался в спиртном. Карр смотрел на президента, который повернулся к Джоку. — Послушайте, мистер Финли… вы знаете, как важна эта картина для нас всех. Сделайте все, что можно, с девушкой. Пожалуйста. — Я сделаю все от меня зависящее, — обещал Джок. — Хорошо… хорошо, — сказал президент. — Я отнял у вас много времени. У вас есть работа. Но эта беседа была весьма полезной… вдохновляющей. Я расскажу акционерам о вашей преданности делу. Картине. Интересам компании. Расскажу о духе сотрудничества, царящем здесь. — Мы оценим это, — закрыл совещание Престон Карр. Президент ушел. Джок повернулся к Карру, чтобы поблагодарить его, но актер не дал ему раскрыть рта. — Малыш, до начала моей актерской карьеры я перебивался случайными заработками. День работал в одном месте, потом несколько часов в другом. За еду, за ночлег. Плохо, когда наличие работы, еды, ночлега, само существование зависят от кого-то. Я не люблю людей, пользующихся этим. Недолюбливаю президентов. Боссов. Всех людей, которые могут приказывать другим, что им делать, и вынуждать их делать это. Я поступил так ради себя. И ради нее. И лишь немного — ради тебя. Так что не благодари меня. Что же мы будем делать с этой девушкой? — Если бы только она не старалась так сильно, — сказал Джок. — Если бы она просто была самой собой, я бы смог создать игру в монтажной. — Ты действительно веришь в нее? — Да. Карр задумался, потом сказал: — О'кей. Спустя мгновение он повторил: — О'кей. Карр словно принял какое-то решение. Но он не посвятил в него Джока. Они продолжили съемку. Но было бесполезным добиваться чего-то от Дейзи в остаток дня. Если она и не знала точно причину появления президента, то могла догадаться о ней. Поэтому снимали ту часть сцены, в которой играл Карр. Наблюдать это было удовольствием. Он играл легко, профессионально, убедительно. Мужественный, сильный, мягкий. Каждое его движение было точным, выразительным; каждый брошенный им взгляд казался непреднамеренным, естественным. Его глаза передавали любые эмоции: теплоту, обиду, злость. А самое главное — все это было связано воедино со сценой, с другими персонажами, с сюжетом, со всем фильмом. Казалось, ему нет дела до теории актерской игры; он руководствовался глубоким пониманием характера героя и идеи фильма. Карр не допускал моментов фальши, которые позже в монтажной не состыковались бы с Другими эпизодами. Он воздерживался от осуществления внезапных идей, которые кажутся блестящими находками на съемочной площадке и выглядят ужасно на проявленной пленке. Когда Престон Карр покинул съемочную площадку, все, кто там присутствовал, оторвались от своей работы и посмотрели ему вслед. Они только что видели вершину актерской игры. Давно работавшие в кино люди понимали это и испытывали восхищение. Когда ассистент режиссера пошел вслед за Карром с майкой, которую оставил актер, Джок взял ее у него, чтобы отнести самому. Финли догнал Престона возле двери трейлера. — Прес, ваша майка. — Надеюсь, я не слишком торопился, — сказал извиняющимся тоном Карр, забирая майку. — Торопились? — Мы должны наверстать время, которое теряем из-за нее. Только так нам удастся не выйти из бюджета так сильно, что перерасход поглотит всю прибыль. Верно? — Да, Прес. Затем Джок добавил: — Но я не хочу, чтобы вы переутомлялись. Я спланирую работу так, чтобы вы периодически отдыхали — по полдня, по целому дню. — Не беспокойся обо мне, малыш. Я крепче, чем ты думаешь. Он улыбнулся и добавил: — Извини, у меня тут бумаги по сделке с электроникой. Я обещал дать Харри ответ к утру. Позже этим же вечером, когда Дейзи находилась одна в трейлере и собиралась принять очередную таблетку, в дверь постучали. Даже такая простая ситуация породила в Дейзи нерешительность. Сначала открыть дверь? Или проглотить таблетку? Она сказала: «Войдите», потом взяла таблетку и запила ее разбавленным виски. Дверь открылась. Это был Престон Карр. — Можно войти? — улыбнувшись, спросил Карр. Таблетка застряла в горле; Дэйзи не могла ответить немедленно. Она сделала трогательный, беспомощный жест и улыбнулась. Карр заметил бокал в ее руке и маленькую коробочку на туалетном столике. — Можно мне выпить с тобой? Она скованно кивнула головой, попыталась улыбнуться. Приглашение было не слишком явственным, но ничего другого она не могла изобразить в данных обстоятельствах. Проглотив таблетку, она наконец сумела сказать: — Пожалуйста. Налейте себе что-нибудь. Она затянула пеньюар, желая не столько защитить себя, сколько выглядеть лучше. Дейзи не очень-то часто принимала гостей. Дом был для нее местом, где она пряталась от мира. Ее свидания происходили в других местах. В гостиничных номерах, в квартирах мужчин — где угодно, но только не дома. Дом был убежищем. Там она, пусть ненадолго, ощущала свободу от неподъемного бремени ответственности за работу других людей, за многомиллионные картины, за стоимость акций огромных кинокомпаний. Каждый шаг вперед, каждая очередная ступень карьеры только усугубляли ответственность, ощущение бремени. Таблетки теряли свою эффективность. Самое незначительное решение создавало серьезные проблемы. Что сделать ранее — проглотить таблетку или сказать «войдите»? Заказать в ресторане мясо или кальмаров? Или вовсе воздержаться от еды? Она постоянно пребывала в напряжении. Иногда оно усиливалось, но никогда не проходило вовсе. Порой она начинала глубоко дышать, пытаясь избавиться от тугого узла, который рос внутри нее, превращая само существование в непрерывную муку. Такой была девушка, которой мир сказал: «Будь нашим секс-символом, эффектной, счастливой, веселой соблазнительницей мужчин. Отдушиной для всех уставших от скучной жизни». Престон Карр налил себе спиртного и осмотрелся по сторонам, так что Дейзи пришлось сказать: — Пожалуйста… садитесь… Она убрала платье с одного стула и пачку фотографий, которые должна была надписать, — с другого. Фотокарточки выскользнули из рук и упали на пол; Дейзи смутилась своей неловкости. Она опустилась на колени и стала собирать их в присутствии своего идола — Престона Карра. Он поставил свой бокал, чтобы помочь ей. Ползая на четвереньках, Король и Богиня Любви собирали фотографии. Внезапно Карр рассмеялся. Она замерла, посмотрела на него. Он протянул руку и убрал назад ее светлые волосы. — Видели бы нас сейчас, — сказал Карр. Она почувствовала, что должна засмеяться. Попыталась сделать это. Безуспешно. Вместо этого она отвернулась; волосы снова упали на лицо девушки. — Что, по-вашему, скажут люди, когда увидят нас в картине? — спросила девушка. — Фильм получится отличным. Знаешь, я это понял по съемочной группе. Вот над кем я люблю одерживать победы. Если фильм нравится съемочной группе, то он понравится всем. Ты бы заметила это, если бы чаще заходила в столовую. Также ты бы сильнее прониклась фильмом, если бы имела шанс разговаривать с людьми. Например, вчера, когда тебя снимали крупным планом, ты сделала нечто показавшееся мне лучшей актерской находкой, которую я когда-либо видел! Это был пустячок, но потрясающий. Великолепный! Она повернулась лицом к Карру, изящным жестом убрала волосы, посмотрела прямо на собеседника — обычно, общаясь с людьми, она глядела куда-то в сторону. — Просто великолепный, — повторил Карр. — Я хотел сразу сказать тебе об этом, но ты тогда убежала в свой трейлер и не выходила из него до конца дня. Я тщетно надеялся, что ты придешь на обед. И решил, что если я все же хочу сказать тебе об этом, то мне следует прийти сюда. — Что это было? — спросила она. — Что я сделала удачно? — Помнишь тот момент, когда мы впервые встречаемся, и я говорю: «Леди, что вы делаете в пустыне с такими туфлями на ногах?» Ты посмотрела на меня и забавно сморщила носик. В этой маленькой гримасе содержалось все — твое раздражение, недовольство, — однако она показалась мне, Линку, чертовски симпатичной. Настолько, что я, или он, сказал себе: «Эй, погоди. Ты не хочешь упустить эту девушку. Она нуждается в тебе, в твоей помощи. Но тебе тоже нужна такая девушка — хоть один раз в жизни». Вот как это подействовало. — Одна такая мелочь? — удивилась она. — Картины состоят из мелочей. Еле уловимая реакция, легкое увлажнение глаз способны навсегда остаться в памяти миллионов. Они действуют сильнее, чем слезы. Поэтому я отчасти похож на боксера. Я лучше работаю в ближнем бою. Набираю очки легкими прикосновениями. И ты действуешь так же. Поэтому ты — звезда. Поскольку эти слова произнес Престон Карр, она, кажется, поверила в их правдивость. — Я знаю великолепных актеров, — продолжал он, — талантливых мужчин и женщин, которые умеют говорить с большим пафосом и изображать сильные чувства, но они никогда не станут звездами. В кино. Мы — особое племя. Иногда мы задаем себе вопрос. Он перешел в ближний бой. — Иногда нам кажется, что мы выглядим, как обыкновенные люди. Мы знаем, что испытываем такие же чувства, как и они. Мы спрашиваем себя: почему такое восхищение? На самом деле кое-кто считает, что при определенных ракурсах я выгляжу смешно. Я разглядываю себя в зеркале и говорю: «Господи, Карр, кому могло прийти в голову, что у тебя актерская внешность?» — Вы… с вами тоже такое бывает? — осмелилась сказать она. — Чаще, чем мне хотелось бы. И я говорю себе: я не просил этого, мне это было дано. Где-то на земле есть парень, который выглядит точно так же, как я, и продает скобяные изделия. Мне повезло, очень повезло. Потому что у меня есть нечто, чего нет у того парня. То же самое и с тобой. Ты — красивая девушка. Но есть и другие красивые девушки. Однако они — не звезды. А ты — звезда. Ты ничего не можешь тут изменить. Тебе остается только быть ею. Это доставляет удовольствие большее, чем обладание деньгами. Что весьма неплохо. Или славой, заставляющей людей ходить за тобой по пятам. Это скучно. А иногда раздражает, причиняет боль. — Вам тоже? — спросила она. — Ну, мужчины не свистят мне вслед, как они делают, видя тебя. Но в этой стране все идет к тому… Он заставил ее засмеяться. — Это не всегда льстит актеру. Ему приятнее играть для операторской группы, для других актеров, для людей, понимающих, что такое хорошая игра. Для тех, кто искренне любит и уважает его. Я отдаю предпочтение этому бизнесу по сравнению с другими, потому что здесь работают профессионалы. Когда ты играешь сцену, все трудятся вместе с тобой. Они хотят, чтобы ты выглядел хорошо. Они ощущают себя частью происходящего, частью тебя. Ты не чувствуешь себя одиноким, даже когда тебя снимают крупным планом. Согласна? Она взяла свой почти пустой бокал и повернулась, чтобы наполнить его, но Карр опередил ее. Он сжал запястье девушки, потом забрал у нее бокал. — Господи, неужели тебе кажется на съемочной площадке, что ты — одна? Какое бремя! Ненужное бремя. Если это так, то ты, пожалуй, считаешь, что успех картины зависит от тебя одной. Работа других людей, миллионы долларов, которыми она оплачивается, — все зависит от тебя. — Вы никогда не испытываете такого чувства? — спросила она. — Никогда, — солгал он. — Такое бремя не позволило бы мне прилично играть. Нет, я смотрю на это так: Престон Карр — лишь один элемент любой картины. Конечно, он сделает все от него зависящее. Но успех или провал зависят и от режиссера, сценария, монтажа, музыки и сотни других факторов, за которые Престон Карр не несет ответственности. Дейзи слушала, кивая. Она не нуждалась в спиртном; Карр осторожно, мягко отпустил ее руку. Внезапно он воскликнул: — Вот! Вот! Ты только что сделала это! Потрясающе! — Что именно? — Сморщила носик. Бессознательно, искренне, прекрасно. Это… это… — словно с трудом подбирая слова, он добавил: — Просто великолепно! Отлично! Она улыбнулась, обретая уверенность. — Сделай это снова! Она сделала. Он засмеялся. — Прошу тебя не морщи так носик в моей большой сцене. Ну, в той, где я должен приручить единственного мустанга. Отдай мне эту сцену. Она мне нужна. Обещай, что ты не используешь этот трюк, когда будут снимать твою реакцию. О'кей? — О'кей! — обещала она. — Тогда я не стану играть бицепсами в сцене на берегу озера. — Ты собирался это делать? — спросила она. — Да. Смотри. Я тебе покажу. Он снял свой коричневый кашемировый пиджак, расстегнул желтую шелковую итальянскую рубашку, стянул ее через голову, взъерошив при этом свои черные волосы и обнажив загорелую грудь и мускулистые руки. Затем, как пятнадцатилетний атлет-старшеклассник, хвастающийся перед хорошенькой девушкой, Престон Карр поднял правую руку и заставил бицепс заиграть. Дейзи засмеялась. Он тоже засмеялся: — Это не то, чего тебе следует бояться. Он опустил руку и, совсем не напрягая, заставил свой правый бицепс пульсировать. — Вот. Женщины от этого сходят с ума. Я никогда не мог понять, почему. Им кажется, что в нем есть страсть. Они оба засмеялись. — Если ты отнимешь у меня внимание зрителей своим трюком с носом, я убью тебя бицепсами. Дейзи впервые за все время пребывания на натуре расслабилась. Внезапно в дверь постучали. Это официант принес из столовой обед для Дейзи. Человек вошел и начал накрывать на стол. Он делал это несколько раз в день. Карр взглянул на пресную, диетическую пищу и возмущенно спросил: — Что это, черт возьми? — Обед для мисс Доннелл. — Ты не можешь так обойтись со мной, — сказал он Дейзи. — Не можешь выставить меня за дверь. Что скажут люди? Вот что! Мы с тобой пойдем ужинать в столовую. Прежде чем Дейзи успела возразить, Карр продолжил, обращаясь к официанту: — Унесите это обратно! И передайте повару, что я хочу сегодня нечто особенное. Начнем с икры из моих личных запасов. В остальном я полагаюсь на него. Нам нужен стол на двоих. Мы хотим побыть вдвоем. И, если он не сможет это организовать, мы сядем в мою машину и поедем ужинать в Лас-Вегас! Скажите ему — я никак не дождусь приличной еды в этом забытом Богом месте! Произнеся несколько раз: «Да, сэр» и «Хорошо, мистер Карр», официант забрал простой, диетический обед Дейзи, к которому она не притронулась. Карр повернулся к девушке. — Теперь насчет тебя. Я хочу, чтобы сегодня ты тоже выглядела особенно хорошо. У тебя свидание с Престоном Карром. Он заслуживает всего самого лучшего. Он требует всего самого лучшего. Она уже много лет не одевалась так быстро. Нерешительность исчезла. Она выбрала платье, надела его, сделала себе импровизированную прическу, подчеркивающую ее обаяние маленькой девочки. Сейчас она выглядела как явный результат работы дорогого стилиста. Дейзи почти избавилась от скованности, напряжения, зажатости. Стала такой, какой была почти девять лет тому назад, еще до первого появления ее фамилии в титрах фильма. Карр посмотрел на самую привлекательную молодую женщину Америки. На его лице появилось выражение, которое он с убийственной эффективностью использовал много раз на съемке крупным планом. Сейчас оно выглядело особенно убедительно. Престон взял Дейзи за руку и повел медленно, изящно, словно они находились на балу. — Кто это сказал… что элегантность в пустыне абсурдна? Сегодня я хотел бы повести тебя в лондонский «Савой». Или парижский «Ритц». Или в нью-йоркскую «Плазу». Или на премьеру на Сорок Пятой улице. А лучше всего — в мой старый дом в Уайлдинге, штат Монтана. Знаешь, до сегодняшнего вечера самое сильное ликование я испытал перед выпускным балом в школе. Я и Уолтер Стамм, лучший спортсмен класса, мы оба безумно хотели пригласить Хейзел Энсон. В старшем классе училось двадцать шесть человек. В основном мальчики. Девочек было мало. А самой красивой считалась Хейзел. Единственная в классе с идеальными зубами и двумя привлекательными выпуклостями спереди. Такими, какие прилично иметь семнадцатилетней школьнице в Монтане. Мы с Уолтером пригласили ее. Если бы у Хейзел были мозги, она бы выбрала Уолтера: лучший спортсмен в классе, выше и красивее меня. Но по какой-то причине она предпочла меня. В тот вечер я повел ее по главной улице на танцы. Я был самым гордым и счастливым парнем в городе, потому что она выбрала меня. Хочешь — верь, хочешь — нет, но до сегодняшнего вечера это был самый лучший миг в моей жизни. Впервые кто-то подтвердил, что во мне есть нечто, вызывающее у людей, особенно у женщин, симпатию. Сегодня, когда я войду в столовую с тобой, снова повторится Уайлдинг, Монтана. Только на сей раз со мной будет самая красивая и знаменитая девушка на свете.
Когда они вышли из трейлера Дейзи, большая луна только начала появляться из-за далеких гор. Она еще не поднялась полностью, но уже освещала всю пустыню, делая каждый предмет в радиусе нескольких миль четким и резким. Каждый трейлер, палатка, грузовик ясно вырисовывались на фоне неба. Вдали виднелись темные глыбы гор и кактусы. Карр и Дейзи замерли, любуясь звездной ночью. Престон посмотрел на девушку; лунный свет смягчал и без того нежные черты ее лица. Она перехватила его невольный взгляд. Такого комплимента она еще не получала. Казалось, она сейчас заплачет. Он взял ее за руку, притянул к себе, поцеловал в нос. Улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Держась за руки, они направились в столовую. Когда они вошли в зал, все уже сидели на своих обычных местах за длинным общим столом. Джок Финли — во главе стола, выделенного для руководства. Вилка замерла в его руке, когда Престон Карр ввел Дейзи в столовую и зашагал с ней к маленькому столу у окна. Для Джока, Джо и всей съемочной группы этот вечер был самым важным из всех проведенных на натуре. Они словно одержали победу в решающем для всей войны сражении. Джок понял две вещи. Эта пара произведет фурор в любом зрительном зале. Эта девушка, на лице которой появилось выражение уверенности, справится со своей ролью. Вся съемочная группа поняла это. Джо, приблизившись к Джоку, шепнул: — О, если бы я мог снять ее сейчас. Каждый присутствующий здесь испытал восторг; люди были готовы встать и зааплодировать. Они обрели веру в успех картины. Стол у окна был накрыт свежей белой скатертью; приборы из нержавеющей стали излучали серебристое сияние; в центре стоял букет из местных цветов, в основном это были фиалки. Карр посадил Дейзи и сел сам. Помощник шеф-повара вышел с подносом, на котором находились банка с черной икрой, нарезанные тонкими ломтиками крутые яйца и лук. Он подал все это с максимальной ловкостью, на которую был способен. Другие блюда были просто исключительными. Шеф-повар добавил что-то к обычной подливе, которая стала напоминать по вкусу беарнскую. Филе из говядины вызывало восхищение. Они ели и беседовали. Говорил главным образом Карр, следивший за тем, чтобы Дейзи не забывала есть. Он наливал вино,рассуждал о нем — оно было привезено на натуру из личных запасов актера его официантом. Закончившие ужинать, быстро покидали столовую. Дейзи и Карр оказались одни в большом зале. Три часа между появлением Престона Карра в трейлере актрисы и той минутой, когда они вышли из столовой, были самыми радостными, насыщенными, спокойными часами в жизни взрослой Дейзи. У двери трейлера Карр поцеловал руку девушки, потом нежно поцеловал Дейзи в щеку и улыбнулся; лицо его было залито лунным светом. — Что тут смешного? — тихо спросила Дейзи. — В тот вечер после бала у меня хватило смелости только на то, чтобы проводить Хейзел до дома. Затем я отправился восвояси, ругая себя и гадая, что бы она сказала, если бы я решился на нечто большее. И вот сегодня я снова целую девушку, хотя хочу большего. И буду ругать себя, идя к своему трейлеру. Ее лицо стало более серьезным. — Что с ней случилось? С Хейзел? — Она вышла замуж за Уолтера Стамма. Карр снова улыбнулся. Дейзи тоже улыбнулась. Он поцеловал ее в щеку, открыл дверь; девушка вошла в трейлер. Карр закрыл дверь, дождался, когда щелкнет замок, и направился к себе. Ликующая Дейзи прильнула к жалюзи, чтобы проводить его взглядом. Она начала раздеваться и вскоре уже сидела без одежды перед туалетным столиком, глядя на себя. Она принялась морщить носик всяческими способами. Затем посмотрела на отражение своих глаз. Дейзи чувствовала себя превосходно. Ощущала свою силу. Она легла в постель и заснула. Без единой таблетки. Утром Дейзи проснулась с огромным желанием работать.
Шестая глава
Следующие два дня для Дейзи прошли отлично. Она вовремя приходила на съемки. Помнила свои слова. Не безупречно, но гораздо лучше, чем прежде. Работа шла практически по графику. В течение этого времени не было нервных звонков со студии и из Нью-Йорка. Даже голос Марти звучал бодро, оптимистично, когда он вечером справлялся о том, как прошел день. Но на третий день несколько слов из диалога обернулись проблемой для Дейзи. Она не могла произнести их с легкостью, потому что не понимала их смысла и значения для сцены. Джоку приходилось снова и снова помогать девушке вживаться в образ ее героини; Прес Карр и операторская группа терпеливо ждали; нужное освещение пропадало. На следующее утро студия снова заговорила по радиотелефону о «девушке». Потом Нью-Йорк. И Марти. Джок едва убедил Марти не прилетать на натуру — агент хотел лично посмотреть, не может ли он помочь в отношении «девушки». Девушка… девушка… девушка. Мысли о ней мучали Джока Финли, не давали ему спать по ночам. Даже Прес Карр не спал и тревожился. Сама «девушка» засыпала в половине четвертого или в четыре утра, приняв пять-шесть таблеток. Но таблетки вызывали еще большую неуверенность, подавленность. Съемка превращалась в пытку. Каждый следующий кадр оказывался хуже предыдущего. Дубли не допускали монтажа, потому что всякий раз подход Дейзи к сцене был другим. Джок продолжал произносить слова «отлично», «потрясающе», «реалистично» и «правдиво». Но Дейзи знала правду. Поэтому чем больший энтузиазм он демонстрировал, чем большую уверенность в успехе выражал, тем сильнее сомневалась в своих способностях актриса. Это также влияло на ее отношение к Джоку. Прежде она заряжалась от него в постели мужеством, покоем, даже удовлетворенностью — не только сексуальной. Она ощущала, что он принимает ее такой, какая она есть. В начале знакомства Джок олицетворял Восток, театр, новый подход к кинопроизводству; он был для нее необыкновенной личностью. Дейзи согласилась сниматься только из-за доверия к нему и покорно принимала его трактовку сцен, его суждения, потому что верила в то, что Джок поможет ей преодолеть трудности на съемочной площадке. Она занималась с ним сексом потому, что хотела дать ему то, в чем, по ее мнению, он нуждался. Во всех ее романах отсутствовали подлинно человеческие отношения. Большинство мужчин мечтало лишь обладать ею, и она отдавала себя им, как кинозвезды оставляют на память после съемок сигаретницы или зажигалки с монограммами своим поклонникам. В действительности самое сильное ощущение неполноценности она испытывала в постели. Каждому мужчине она приносила меньшее удовлетворение, чем то, на которое он рассчитывал. Но может ли женщина соответствовать образу, который придумали для нее? Она была самой желанной; ее добивались с наибольшим рвением; ее считали обладательницей самой роскошной фигуры, самой лучшей груди и зада. И, конечно, мужчины ждали от нее незаурядного сексуального аппетита. Но те, кто попадал в ее постель, и те, в чьи постели попадала она, всегда испытывали разочарование. Желанная, доступная, готовая отдать себя, быть использованной, вызывать восхищение, любовь, она всегда являлась объектом, но не участником происходящего. Какое-то время она пыталась быть другой. Агрессором в постели. Но почему-то мужчинам это нравилось еще меньше. Ее активность пугала их. Возможно, они чувствовали, что Дейзи не получает от этого удовольствия. Возможно, они догадывались, что после каждого свидания она многократно полоскала рот тремя различными эликсирами, пытаясь смыть воспоминания о встрече из своей души и рта. Эта фаза ее сексуальной жизни продлилась недолго, несмотря на то, что венский психоаналитик, на самом деле не имевший диплома врача, весьма досконально разобрал с Дейзи ситуацию и пытался внушить ей, что в этой сфере у нее все обстоит нормально. Но на сеансах психоанализа присутствовала только часть Дейзи. Другая ее часть — тайная, нераскрытая — диктовала свои правила, действовала с коварством и животной мудростью, более близкой к реальности, чем любая другая часть ее сознания. Сейчас она говорила Дейзи, что Джок Финли слишком беспокоится из-за нее и поэтому не может испытывать влечения к ней. Что Дейзи стала для него, как прежде для всех ее мужчин, включая трех мужей, опасностью, губящей их как профессионалов. Она губила Джока Финли, его картину и его карьеру. Он наконец осознал это, говорила она себе. Есть люди, которые постоянно ощущают свою фатальную обреченность, винят себя во всех неудачах, несчастных случаях, смертях, считают, что на них лежит проклятие и все, кого они касаются, неизбежно должны погибнуть. Лекарства от этой болезни нет. И оно никогда не появится. Дейзи Доннелл была таким человеком. Однако она продолжала искать мужчину. Легенда о сексуальной привлекательности Дейзи всегда позволяла представить дело так, что это мужчины добивались ее внимания. Но она искала человека, который будет любить ее. Которого сможет любить она. Которому принесет удачу, богатство, успех. Такого мужчины не было. И не могло быть, потому что мужчиной, которого Дейзи желала и в котором нуждалась, был ее отец. В раннем детстве Дейзи внушили, что именно она отпугнула отца. Ее мать, несчастная, потерявшая рассудок женщина, часто повторяла: «Он любил меня до появления детей. Потом что-то произошло. Не знаю, что именно. Возможно, они слишком много плакали, или дело было в чем-то другом. Но после родов он разлюбил меня. Мне следовало бы не иметь детей». Она говорила о «детях», хотя у нее был только один ребенок — Дейзи. Девочка верила потерявшей рассудок женщине, обвиняя себя в том, что стала причиной распада семьи, исчезновения отца, превращения матери в седую безумную старуху, целыми днями рассматривающую стены «психушки», в которую она в конце концов попала. Дейзи изначально несла в себе разрушение, гибель матери, ее брака. Она всегда обладала способностью губить других. Раньше или позже люди испытывали это на себе. Так было с ее тремя мужьями и многочисленными любовниками. Дейзи винила себя во всех неудачах. Она лежала по ночам в своем трейлере без сна, несмотря на таблетки; девушка была убеждена, что Джок Финли наконец понял ее сущность. Она снова приносит несчастье человеку, который занимался с ней любовью. И Дейзи решила не пускать Джока в свою постель. Если страх Дейзи порождался болезненным воображением, то тревога Джока имела под собой реальную почву. Он, словно преданный всеми генерал, выдерживал атаки со всех сторон. Ни один режиссер не может обманывать съемочную группу или авторов бесконечно. А еще не прекращались постоянные звонки со студии, из Нью-Йорка, от Марти. Джок как-то услышал фразу, произнесенную рабочим: «Этот несчастный Финли, направляясь со съемочной площадки в радиорубку, разыгрывает спектакль похлеще Гэри Купера, шагающего по улице в фильме «Полнолуние». Джок мог поговорить здесь только с одним человеком. С Престоном Карром. И тут он столкнулся с неожиданной для него злостью. — Малыш, что, по-твоему, испытываю я? Дубль следует за дублем. Каждый раз я отдаю себя целиком, потому что не знаю, когда она сыграет прилично. Да, она действительно великолепна, когда у нее получается. Тогда я отдаю ей должное. Но только ее заслуги тут нет. Это происходит само собой. Может быть, так сегодня играют в Нью-Йорке. Но в мое время актеры делали все обдуманно, сознательно. Они играли для зрителей. Не для себя самих. Актерская игра не была выплескиванием наружу душевной болезни. Если я такой старый и консервативный, что не в состоянии понять модных критиков, то пошли они к черту! Могу ли я хорошо относиться к ней? Я повторяю одну и ту же сцену снова и снова, пока слова не начинают терять всякое значение. Я превращаюсь в опустошенного, выжатого человека. Снова надеюсь, что на этот раз она справится. Пойми меня. Я буду делать это. Буду продолжать. Но это нелегко. И ты не помогаешь мне, приходя сюда и жалуясь на нее. Джок не попытался ответить или возразить Карру. Как и ожидал Финли, этот подход оказался самым эффективным. Через несколько мгновений Карр тихо спросил: — Что она говорит? — Почти ничего. — Даже когда вы остаетесь одни? — Я не слишком много времени провожу наедине с ней. — Да? — Дейзи перестало это нравиться, — искренне сказал Джок. — И давно это началось? — спросил Карр с настороженностью врача, заметившего важный симптом. — С того вечера, когда вы ужинали с ней. — О, — произнес Карр. Отхлебнув виски со льдом, он сказал: — Дейзи похожа на игрока, попавшего в полосу невезения. Она не может отойти от стола без выигрыша. И не может выиграть сама. Ей нужна счастливая рука. Чтобы обрести мужество. Подбери для нее такую сцену, которая заставит ее поверить в себя. — Она не провалит сцену у озера, — сказал Джок. — Тогда отснимем ее завтра!На следующее утро, выйдя из своего трейлера, Дейзи узнала об изменении графика съемок. Сцена на берегу озера, которую собирались снимать через четыре дня, была перенесена на сегодня. Съемочная группа отправилась туда на рассвете. Актрису ждал джип. Престон Карр и Джок Финли уже уехали. Лишь парикмахер и гример Дейзи остались с девушкой, чтобы сопровождать ее. Приближаясь к месту съемки, парикмахер и гример думали об одном: Господи, что делать с ее глазами? Они явственно выдавали тот факт, что Дейзи за всю ночь спала не больше двух часов. Когда они прибыли на берег, к голубой воде, окруженной скалами и холмами из красной пустынной земли, все уже интенсивно работали. Там находились трейлеры, грузовики с генераторами, осветительные приборы, кресла, кабели, передвижная столовая, камеры, рельсы, операторские краны. У кромки воды Джок, Джо Голденберг и Престон Карр обсуждали первый кадр с участием Карра. Пленка с панорамным видом натуры уже лежала в коробке. Джо запечатлел рассвет в пустыне, чтобы задать настроение. Он снял озеро, горы, их отражение в голубой воде, гладь которой еще не была нарушена рябью от лодок. Для более интимных кадров Джок выбрал место, свободное от шумных, вездесущих катеров. Диалог предстояло записать в студии — там им не будет мешать шум пролетающих самолетов. Когда ассистент сообщил Джоку, что Дейзи только что приехала, трое мужчин пошли поздороваться с ней. Они обменялись обычными в кинопроизводстве утренними поцелуями. Но сейчас, в этой сложной ситуации, поцелуи были напряженными, ненатуральными. Сначала Дейзи поцеловал Джок, затем — Престон и, наконец, Джо. Каждый преследовал свою цель. Джок хотел оценить ее общее состояние. Не вызвала ли перемена в съемочном графике еще большего напряжения? Он почувствовал это, едва прикоснулся к Дейзи. Карр тоже хотел понять ее настроение. А Джо — увидеть, можно ли снимать Дейзи крупным планом, решить, какие линзы и фильтры понадобятся. Ответ был следующим — не сегодня. Однако он знал, что завтра она вряд ли будет выглядеть лучше. Может быть, даже хуже. Джок сделал вид, что он должен отвести Джо в сторону, чтобы посовещаться с ним о съемке гор. На самом деле эти кадры уже были отсняты весьма удачно. Когда мужчины оказались у кромки воды, Джок указал рукой на далекие горы и их отражение в озере и спросил: — Что вы думаете? — Если завтра на студии увидят ее глаза, картину закроют. — Телеобъектив может смягчить ее морщинки, — предложил Джок. — Этого будет недостаточно, — возразил Джо. — Что мы имеем? — У нас есть вода, горы, лицо Престона Карра и тело девушки. Я не осмелюсь снимать ее крупным планом. — Даже с рассеивающими линзами? — Я уже начал снова пользоваться кисеей, и это не помогает! — Как насчет задней подсветки? — Я подсвечиваю сзади ее волосы так сильно, что скоро нельзя будет понять, кто это — мужчина или женщина! — Джо раздражали не вопросы Джока, а сознание ограниченности своих профессиональных возможностей. Ему нравилась девушка, он жалел ее и хотел помочь ей. Задумавшись на мгновение, Джок сказал: — Сделайте мне одно одолжение, Джо… — Послушайте, я — оператор, а не волшебник, — печально произнес Джо. — Мне требуется время. Дайте мне час или два. Поснимайте что-нибудь. Только дайте мне время. Потом делайте то, о чем я попрошу вас, без споров и обсуждений, словно мы договорились об этом две недели тому назад. Пожалуйста. Джо Голденберг кивнул, затем он тотчас начал отдавать распоряжения своему ассистенту. Внезапно горы изменились, освещение стало более благоприятным. Джок вернулся в свой трейлер и принялся яростно листать сценарий. Искать сцены, предшествующие эпизоду на озере и следующие за ним. Все они включали в себя крупные планы Дейзи. Конечно, можно снять эти сцены или вернуться к ним позже, когда Дейзи будет выглядеть лучше. Но это было опасным решением. Дейзи с трудом находила нужную игру и не сохраняла ее. Крупные планы окажутся в вакууме; Джок ненавидел такую искусственную технику съемки. Она будет применена в самом крайнем случае. Он найдет другой способ! Наступил момент, сказал себе Джок Финли, когда необходимо проявить необычайную изобретательность, спасти фильм, спасти девушку. В любом творческом деле приходит час, когда слишком поздно отступать, а идти вперед — чистое безумие. Джок сталкивался с этим в театре, когда дата премьеры давит на тебя и нет времени сделать все необходимое. Такое случается и в кино, когда затрачено слишком много денег, чтобы отказаться от проекта, однако перспектива внушает страх. Сейчас Джок попал в такую ситуацию. О чем он думал, утверждая, что ее имя гарантирует фильму успех? Эта девушка не могла гарантировать себе даже ночной сон! Ему, Джоку, следует проверить голову Марти! Это он совершил ошибку. Хитрый негодяй! Он боролся за сотню тысяч комиссионных в дополнение к его процентам исполнительного продюсера. Будет справедливым, если Марти, пытавшийся ухватить слишком большой кусок, благодаря собственной алчности превратит свою долю прибыли в ничто! Предаваясь тихой ярости, Джок понимал, что дело не в Марти и не в руководстве студии. Именно он, Джок Финли, выбрал эту девушку. Причины были вескими. Она всегда находилась в центре внимания прессы. Ее местонахождения, мужья, любовники представляли большой интерес для доброй половины мира. Если частица этого паблисити достанется Джоку Финли, то это благотворно скажется на его карьере. Если к тому же он добьется от нее хорошей игры, то закрепит за собой титул молодого гения в индустрии молодых талантливых людей. Теперь казалось, что попытка закончится провалом. И ощущение неудачи заразит всю съемочную группу. Кинопроизводство сходно с ведением войны. Когда сражение может быть выиграно, все знают это и идут в бой с душевным подъемом. В других случаях, когда битва проиграна — еще не окончательно, но все же проиграна, — все также знают это. Дух войск падает, и главной задачей командира является снижение потерь, сохранение войска, упорядоченное, достойное отступление. Но Джок Финли уже попадал в такие ситуации в искусстве более эфемерном и коварном, чем кино. При съемке фильма можно зафиксировать на пленке удачную игру актрисы и позже смонтировать куски. Но Джок пережил сходный кризис в театре, где ничего нельзя записать. И где все должно сработать, точно по волшебству, в один определенный вечер. В противном случае в послужном списке навсегда останется неудача. Ему говорили, что Джулия Уэст — это беда. Блестящая, талантливая беда. Его не надо было предупреждать об этом. Он знал ее работу и репутацию. Молодой Джок Финли (в то время Джек Финсток), его агент, продюсер Кермит Клейн понимали во время их первой встречи, что, если бы Джулия Уэст не была бедой, они бы не обсуждали сейчас назначение на должность режиссера юнца, поставившего всего два спектакля в авангардистских, внебродвейских театрах. Тем более что Джулия Уэст уже несколько лет не появлялась на сцене. Только начинающий режиссер, стремящийся завоевать авторитет на Бродвее, мог согласиться работать с Джулией Уэст, пользовавшейся скверной репутацией. Когда Кермит Клейн, полный, разменявший шестой десяток человек, в послужном списке которого было несколько хитов, поставленных на Бродвее достаточно давно, спросил двадцатипятилетнего Джека Финстока: «Вы знакомы с Джулией? Видели ее работу? Знаете что-нибудь о ней?» — Джек заверил продюсера: «Я ее видел. На сцене. И в Студии». — Когда? — поинтересовался лысоватый, задыхающийся продюсер. — Два года тому назад. Почему вы спрашиваете? — Два года назад? Ну… — произнес Клейн, обращаясь скорее к агенту, нежели к Джеку. Агент, дородная женщина с большим бюстом, печально покачал головой. Два года тому назад — значит, еще до нервного срыва. В дни молодости Джока Финли, когда речь шла о Джулии Уэст, слова «до» и «после» относились к ее срыву. Джек Финсток понял эту безмолвную игру. — Послушайте, мистер Клейн, актриса не может потерять талант. Если он был у нее, то останется навсегда! Проблема только в том, чтобы раскрыть его. — Почему вы считаете, что вам удастся это сделать? — спросил Клейн. Он не понимал, в чем причина оптимизма Финстока — в его энергии или полном незнании ситуации. — Логан не справился с ней. И Казан едва не сошел с ума. С ней тяжело работать. — Я не говорил, что с ней легко работать! — выпалил Джек. — Как долго вы будете сравнивать каждого молодого режиссера с Логаном и Казаном, которые, кстати, больше не работают в театре? Вы похожи на бейсбольного менеджера, который отказывается выпустить команду на поле, пока он не получит Бейба Рута. Мистер Бейб Рут умер! А зрители ждут! — Что вы намерены предпринять? — внезапно спросил Клейн. Джек неожиданно подался вперед; его лицо горело. — Что, по вашему, я должен делать? Я — режиссер! Клейн улыбнулся, посмотрел на агента Джека и грустно произнес: — Хорошо, когда молодой человек, работающий в театре, имеет какую-то другую профессию, приносящую ему доход. До моего первого хита я работал управляющим четырех доходных домов, принадлежавших моему дяде. Одновременно я продюсировал спектакли. Порой мне хочется вернуться к той работе. А кем работаете вы? — Я — посыльный в суде, — признался Джек. — Посыльный в суде! — засмеялся Клейн. — При вашем-то честолюбии! Джек подался вперед, не обращая внимания на то, что агент положил ему руку на плечо. — Эта работа дает мне массу преимуществ! Я работаю в удобное для меня время. В промежутках между занятиями, репетициями и… встречами с толстыми, самодовольными негодяями, называющими себя продюсерами! Клейн перестал смеяться. Он посмотрел на агента. На лице женщины появилась виноватая материнская улыбка: «Вы сами напросились на это, Кермит.» — Может быть, мы ставим вопрос неправильно, — сказал Клейн. — Возможно, следует спросить, а поладит ли с ним Джулия Уэст? Он повернулся к Джеку. — Я не хотел вас обидеть. Я просто удивился. Большинство молодых людей, когда я спрашивал их, отвечали, что работают у своих отцов, или в «Мейси», или продают страховые полисы. — Я пытался продавать страховые полисы, — признался Джек. — Мне это не понравилось. Кто станет покупать их у мальчишки? Клейн заговорил серьезным тоном. — Шоу-бизнес — ненадежное занятие. По правде говоря, я не советую никому бросать ради него стабильную работу. Потерпев неудачу в театре, человек уже не может вернуться к прежней жизни. В этом бизнесе нет ни одного психически здорового человека. Когда вы поймете это, будет уже поздно. Потому что вы уже станете его частью, и вам будет казаться, что безумен весь остальной мир. Поэтому я не решаюсь никого воодушевлять. — Если я потерплю неудачу, то на следующее утро вернусь в суд и буду снова разносить повестки, — сказал Джек. — Я не стану винить вас. — Мне пришла в голову фантазия, — заявил Клейн. — Падает атомная бомба. Все человечество уничтожено. Выжили только два человека. И пока один из них ищет что-нибудь съедобного, другой заявляет: «У меня есть превосходная идея спектакля для одного актера…» Клейн повернулся к телефону, набрал номер, дождался ответа. — Это Кермит Клейн. Я хочу поговорить с Одри. Одри? Это Кермит. У меня в кабинете сидит Джек Финсток. Вы знаете этого молодого человека, поставившего два внебродвейских спектакля… — И телеспектакль с Полом Муни, — вставила женщина-агент. — И телеспектакль с Полом Муни. Помните. Да, да, думаю, справится. Я уверен. В любом случае давайте устроим встречу. Завтра? Клейн заглянул в свой календарь. — В пять! Нет, Одри, нет, в три я не могу. — А я могу! — твердо произнес Джек, чтобы Одри его услышала. Клейн недовольно посмотрел на Джека, затем, словно желая проучить его, сказал в трубку: — Одри, мистер Финсток свободен в три часа. У вас в кабинете? Хорошо! Он придет. Клейн положил трубку и придвинул свой календарь к Джеку. Финсток удивленно взглянул на своего агента. — Посмотрите! — приказал Клейн. — Есть ли у меня дела в три часа? Джек увидел, что с половины третьего до шести у Клейна нет встреч. — Вы, возможно, пожелаете знать, почему я сказал, что занят в три часа и свободен — в пять. Потому что, молодой человек, я хотел проверить, способна ли Одри добиться того, чтобы Джулия Уэст до пяти оставалась трезвой! Но вы так сильно желаете получить этот шанс, что готовы явиться куда угодно в любое время. Я понимаю вас, и мне приятно общаться с таким молодым человеком. Меня тошнит от старых звезд и старых режиссеров, которых надо обхаживать, уговаривать, заманивать в театр. Мне по душе энтузиазм. Я люблю молодежь. Но помните одну вещь. В вашем энтузиазме таится одна опасность. Вам покажется, что эта дама лучше, чем она есть на самом деле. Что она более трезвая. Вы будете прощать ей слабости, возраст. Стремясь использовать шанс, вы закроете глаза на все это. В конце концов, для молодого, никому не известного Джека Финстока… знаете, это звучит не слишком впечатляюще, вам надо сменить имя и фамилию… так вот, для молодого человека весьма лестно и заманчиво поставить спектакль с Джулией Уэст. Но вы заплатите за этот шанс. Может быть, будете платить за него всю жизнь. Так что не обманывайте себя и меня. Посмотрите на нее безжалостными глазами. Оцените вероятность провала и успеха. Сходите завтра на эту встречу и позвоните мне сразу по ее завершению. И будьте честны со мной. А главное — с самим собой! — Хорошо, мистер Клейн, — искренне и уважительно произнес Джек Финсток. Кивнув, продюсер повернулся к агенту Джека: — Сара! Я хочу, чтобы вы сказали мне честно: где еще в этом мире, в каком другом бизнесе, зрелый, опытный пятидесятишестилетний человек отдаст свое будущее и репутацию в руки сумасшедшей актрисы и двадцатипятилетнего юнца?
Когда Джек увидел Джулию Уэст, она стояла спиной к двери и разглядывала портреты, которые Одри повесила на стену над старым мраморным камином. Там были надписанные фотографии умерших, исчезнувших, похороненных звезд. И уехавших в Голливуд, что для Одри было равнозначно их смерти. Повернувшись, Джулия Уэст увидела Джека; она не услышала звука открываемой двери; на ее лице появилось удивленное выражение. Она улыбнулась и протянула ему руку. Он подошел к камину и пожал ей руку. Она ответила на его мягкое пожатие. Похоже, она действительно обрадовалась, увидев Джека. Сара выждала мгновение, затем сказала: — Мистер Финсток, пожалуйста. Она указала на большое кресло, стоявшее у письменного стола. — Хотите чаю? — предложила Одри. Джек только сейчас заметил, что они пили чай. Чашка и блюдце Одри стояли на столе. Чашка Джулии находилась на камине, возле улыбающейся актрисы. У нее было хорошее лицо, отличная зрелая фигура. Одри заговорила первой, как истинный агент. — Джулии очень понравился сценарий. Конечно, она хотела бы обсудить с вами некоторые изменения. Но в целом он ей понравился… — Я тоже хотел бы кое-что изменить, — сказал Джек. — Мы полагаем, что сможем получить доработанный вариант весьма скоро. Если же мы ошибемся на сей счет, это позволит нам узнать об авторе нечто такое, что лучше знать с самого начала. Что касается исполнителя главной мужской роли, то Джулия думает… — Одри, дай высказаться молодому человеку, — тихо, дружелюбно перебила агента Джулия. Это было сказано приветливо, однако сразу установило дистанцию, подчеркнувшую их возрастную разницу. Джулии Уэст было не более сорока одного года. А Джеку — двадцать пять. Если он был молодым человеком, то она определенно не была старой женщиной. Он заговорил, сел в кресло, но вскоре встал — так он с большей свободой излагал свои многочисленные соображения. О сценарии. Об изменениях. О подходящем актере. О структуре пьесы. О стиле постановки. Сначала он обращался к ним обеим, поскольку считал необходимым завоевать одобрение Одри тоже. Но потом, воодушевленный внимательным взглядом Джулии, он заметил, что говорит только для нее. Она по-прежнему стояла у камина. Время от времени актриса потягивала чай. Но это не мешало Джеку. Она поднимала чашку и снова ставила ее на мрамор совершенно беззвучно. В конце обсуждения Одри одобрительно посмотрела на Джека. — Думаю, мы отлично поладим, — тихо сказала Джулия. Этой одной фразой Джулия Уэст выделила Джека из толпы начинающих, новичков, учеников; она признала в нем профессионального бродвейского режиссера. Перед уходом Джека они пожали друг другу руки. Он держал ее руку в своей, пока Джулия вспоминала отдельные его замечания, которые произвели на нее впечатление. Джек искал признаки того, чего опасался Клейн. От Джулии не пахло спиртным. Он не увидел в ее глазах ничего, кроме легкой астигматичной дымки. Ей следует носить очки, подумал он.
Выйдя на улицу, он поспешил к ближайшей аптеке, где был телефон. Он едва не выронил монету, вставляя ее в щель. Набрал номер. — Ну, Финсток? — Она великолепна, мистер Клейн! Ей понравился сценарий. И мои идеи насчет доработки. Мы нашли общий язык по всем вопросам. — Хорошо, хорошо, — настороженно произнес Клейн. — А как она выглядела. — Потрясающе! — И была… трезвой? — О, да! Она пила только чай. — Чай… Клейн, похоже, успокоился. — Это звучит отлично, Финсток… Господи, давайте прямо сейчас подберем вам новую фамилию. Пока еще не начали рисовать афиши. Честно говоря, по-моему, «Джек Финсток» звучит не слишком изысканно. Мы придумаем вам другую фамилию. — Но мне нравится моя! — возразил Джек. — Хорошо, не обижайтесь. Подумайте об этом. Господи, если нам не нравится название пьесы, мы его меняем. Что ужасного в том, что вы смените фамилию? В любом случае я звоню Одри и начинаю переговоры. До завтра, малыш.
В течение всего подготовительного периода Джулия была доброжелательной, приветливой, сговорчивой. И она поглощала в больших количествах чай. Джек проводил с ней много времени, присутствовал на встречах с автором, художником, участвовал в подборе актеров; они сидели в темных пустых театрах, смотрели и слушали красивых, а иногда и талантливых молодых людей, так же, как Джек, мечтавших получить шанс. В основе пьесы лежал роман между зрелой женщиной и одноклассником ее сына; все известные актеры-мужчины были недостаточно молоды для этой роли. Проблема заключалась в том, чтобы найти юношу, готового стать звездой, обладающего молодостью и другими качествами, которых требовала роль. В часы бесконечных прослушиваний Джек, Кермит Клейн и Джулия Уэст сидели рядом. Иногда, когда молодой актер производил впечатление на Джулию, она касалась руки Джека и пожимала ее весьма осторожно. Это был чисто деловой жест. Им пришлось просмотреть в поисках подходящего молодого человека множество спектаклей. Когда они в перерыве стояли в вестибюле — Джулия была заядлой курильщицей, — Джек замечал, что актрису узнают. Иногда он слышал изумленный шепот: «Джулия Уэст». Это ему льстило. В один из таких вечеров они встретили Джимми Мак-Дэниэла. Они прошли за кулисы; Мак-Дэниэл оказался славным, скромным, искренним молодым человеком. Он почувствовал себя польщенным тем, что звезда Джулия Уэст нашла время зайти к нему. Они повели его в «Дауни», где, в отличие от «Сарди», не было туристов, желающих посмотреть на знаменитостей. Джулия держалась с Мак-Дэниэлом ласково и дружелюбно — так же, как с Джеком с момента их знакомства. В начале четвертого она встала из-за стола и сказала: — Вы — весьма талантливый молодой человек. Мы еще увидимся. Джек оплатил счет и отвез Джулию домой. Он, как всегда, расстался с ней у двери. — По-моему, это наш юноша, — радостно сказала она. Кажется, он понравился ей как мужчина, подумал позже Джек. Это отлично. Отношения будут выглядеть на сцене более убедительно. Джек весь вечер внимательно следил за Джулией. За все время их общения она впервые пила спиртное. Водку с лаймовым соком. Только один бокал. Не больше. Это было даже лучше, чем полное воздержание. Если Джулия могла выпить бокал и отказать себе во втором, это означало, что она миновала опасную точку.
Первое чтение пьесы прошло гладко. На голой сцене находились Клейн, автор, Одри, агент Джека, два важных спонсора и все актеры. Джек контролировал чтение; перед ним на длинном столе лежали часы. Некоторые актеры играли свои роли, другие просто читали текст. Молодой человек, которому досталась роль сына Джулии, часто ошибался. Но Джек знал, что первое актерское чтение значит не слишком много. Если ты уверен в своем актере, то ты предвидишь, что он сможет продемонстрировать через четыре недели репетиций. Джулия читала очень грамотно и сдержанно, лишь обозначая чувства и передавая темп действия. Когда чтение закончилось, Джек и Клейн отошли в угол сцены. Они говорили тихо и быстро. — Актеры хорошие, — сказал Клейн. — За исключением одного малыша. Отвратительная дикция! Мы вышли за пределы установленного времени, хотя и ненамного. У нас будут проблемы со сценой Джулии перед концом второго действия. Но мы справимся. — Не волнуйтесь из-за этого малыша, — сказал Джек Финсток. — Я работал с ним в студии. Он очень хорош. Вы правы насчет второго действия. Я долго уговаривал Сидни Лампрехта. Но вы знаете авторов. Джулия будет просто великолепна! — Она по-прежнему не пьет? — Один раз. Я видел, что она выпила бокал. В остальных случаях Джулия обходилась чаем, — успокоил его Джек. — Малыш, удерживай ее в таком состоянии, и ты добьешься успеха. Потому что Джулия идеально подходит для этой роли, — сказал Клейн. — Теперь я хочу показать ей эпизоды рекламы. Через неделю целая страница воскресного приложения к «Таймс» будет посвящена спектаклю. Это большая удача. Клейн собрал всех возле стола и разложил на нем макет рекламы. Кермит Клейн представляет Джулию Уэст в новой пьесе Сидни Лампрехта. Под названием спектакля шли фамилии актеров, затем — «Режиссер — Джек Финли». Последняя строчка была набрана довольно крупным шрифтом, хотя и не таким крупным, как имя и фамилия актрисы. Джек перевел взгляд с рекламы на своего агента, затем на Клейна. — Что значит — «Финли»? — Я думал, мы договорились… — Клейн сделал такое лицо, словно его предали. — Вы предложили. Но я не согласился! — резко выпалил Джек. — Думаю, мы сможем внести правку в рекламу, — недовольно произнес Клейн, давая понять, что сделать это будет непросто. — Финли… Финли… — произнесла Джулия Уэст. — Мне нравится, Джек. И я еще никогда не имела шанса дать режиссеру новую фамилию. Джек Финли. Джек Финли. Мне нравится! Она взяла его руку, вложила в нее карандаш, сжала пальцы Джека и заставила расписаться: — Джек Финли. — Видите, как просто, — улыбнулась Джулия. — Логан, Казан и Финли. Звучит как название юридической фирмы. Естественно и просто. Пожалуйста, оставьте. Джулия умела улыбаться так ласково и приветливо, что у людей появлялось желание сделать для нее что-то приятное. Джек ответил на ее улыбку и кивнул. Проблема разрешилась; Джек сменил фамилию. Репетиция, начавшаяся весьма успешно, продолжилась.
Первые намеки на неприятности появились на четвертый день. Они застряли на сцене в спальне. Героиня Джулии приехала в колледж навестить сына. Юноша находился на занятиях, но его сосед, которого играл Мак-Дэниэл, остался в комнате. По ходу сцены возникал физический контакт между матерью и соседом сына. Во время перерыва Джулия вызвала Джека в свою гримерную — простую и некрасивую, как все театральные гримерные, используемые для репетиций. Лампы были без абажуров; они давали резкий, яркий свет. Джулия причесывала волосы — она постоянно делала это. Сейчас, при резком освещении, казалось, что ей не сорок один, а пятьдесят один год. Ее лицо стало безобразным, полный подбородок висел. С гордо поднятой головой она потягивала чай из пластмассовой крышки от термоса, который актриса ежедневно приносила на репетицию в кожаной сумке. Она заговорила, и Джеку показалось, что ее бьет озноб. — Я не вынесу его прикосновения. Джулия произнесла эту фразу тихо, тщательно выговаривая каждый слог. — Чьего? — спросил ничего не подозревавший Джек. — Мак-Дэниэла. Я его терпеть не могу. — Мы вместе его выбирали. Он вам понравился. — Это было до того, как я обнаружила, что он — гомик. Теперь я не могу находиться рядом с ним. Я не хочу, чтобы он прикасался ко мне в этой сцене. — Но это — главный момент сцены. — Мне очень жаль, — сказала она, потягивая чай из пластмассовой крышки. — Придумайте что-нибудь, измените сюжет. — Начнем с того, что он не гомик, — сказал Джек. — Если бы он был гомиком, я бы сразу это заметил. — Говорю вам, он — гомик! — повысила голос Джулия. — Неважно, кто он. Если вам не нравится, давайте заменим его, — предложил Джек, хотя он считал, что Мак-Дэниэл идеально подходит для этой роли и дает возможность осуществить творческую режиссуру. — Если вы чувствуете себя дискомфортно, вы не сможете сыграть любовные сцены во втором и третьем действиях. — Я не хочу причинять ему боль, — почти печально произнесла Джулия. — Но мы действительно должны думать о спектакле. Это важнее всего! — Я скажу Кермиту. Мы немедленно начнем поиски. — Спасибо, Джек, спасибо. Она сжала его руку. — Это не только в моих интересах, но и в ваших тоже, дорогой. Я хочу, чтобы ваш бродвейский дебют стал хитом. Большим, шумным хитом! Кермиту Клейну Мак-Дэниэл тоже нравился. Но, как и Джек, он чувствовал, что ради спокойствия Джулии от него лучше отказаться. Они заменили молодого человека. Новый актер, Клинтон, был хуже Мак-Дэниэла, но он нравился Джулии, и это делало замену целесообразной. Репетиции продолжались. На десятый день, когда состоялся первый прогон заключительной сцены без сценариев в руках, Джулия была в ударе. Она сыграла сцену прекрасно почти до конца, помня каждое слово из диалога, впервые демонстрируя мощь своего таланта и душевную тонкость, делавшие ее великой актрисой. Джек и Кермит Клейн сидели рядом в восьмом ряду. Начиная с середины сцены, Кермит постоянно тихо шептал: — Господи… Господи… она великолепна… великолепна! Протянув руку, он ущипнул Джека за щеку. Оптимизм Клейна был преждевременным, потому что через несколько мгновений Джулия забыла свои слова. Когда ассистент режиссера подсказал ей, она повернулась к нему и произнесла: — Не раскрывайте вашего поганого рта, пока я не попрошу об этом! Это было первым проявлением дурного характера Джулии за все время работы над спектаклем. Она отвернулась, отошла в сторону, закрыла руками лицо, потом сдавила ими горло, оставив на коже красные следы. Джек побежал по темному проходу; Кермит Клейн последовал за ним. Они поднялись по ступенькам на сцену. Джек подошел к Джулии; Клейн задержался в нескольких шагах от режиссера. Джек обнял актрису. — Джулия? Она, похоже, начала обретать покой в его объятиях. — Извините, — прошептала она. — Я сожалею, что нагрубила ассистенту режиссера. Скажите ему это. — Он понимает. Мы все испытываем напряжение. — Нет, скажите ему, — настойчиво прошептала актриса. Джек повернулся к молодому ассистенту. — Боб, Джулия сожалеет. Она не хотела вас обидеть. Молодой человек кивнул; его лицо все еще было напряженным и фасным. — Я сам виноват. Мне не следовало торопиться с подсказкой. — Уведите меня, — попросила Джулия Джека. Он повел ее в сторону гримерной, но она сказала: — Домой! — Джулия, мы должны работать еще четыре часа. У нас напряженный график. Пожалуйста. Джек посмотрел на Кермита, ища помощи и поддержки. — Джулия, дорогая, — сказал Кермит. — Отдохните. Мы поработаем над другой сценой. Полежите, отдохните немного. Мы вернемся к этой сцене позже. Она еле заметно, но твердо покачала головой. Кермит приблизился к Джулии. Она уткнулась в плечо Джека. — Джулия? — произнес Кермит. Наконец она сказала: — Я могу поговорить с вами? Джек и Кермит переглянулись, потом Кермит спросил: — Наедине? — С вами обоими, — прошептала актриса. Джек отпустил актеров на ленч. Кермит, Джулия и Джек отправились в тесную, пыльную гримерную. Актриса села перед зеркалом, дотронулась до прически, словно хотела поправить ее. Отпила чай из пластмассовой крышки. Джулия смотрела то на отражение Кермита, то на отражение Джека — в зависимости от того, кто говорил в данный момент или к кому обращалась она. — Я больше не могу! Не могу! Джек посмотрел на отражение Кермита. — Послушайте, дорогая, — начал Джек. — Вы устали. Вы слишком много работали. Они неправильно поняли ее, и она произнесла более твердо: — Я не могу работать, когда он смотрит на меня! — Кто? — спросил Джек. — Автор! Этот чертов автор! Вот кто! — Он сидит в последнем ряду и ведет себя очень тихо, — смущенно заметил Джек. — Когда он хочет что-то сказать, он обращается только ко мне. Он проявил большую сговорчивость в отношении купюр и изменений. — Конечно! — слишком быстро согласилась она. — Почему нет? Мы взяли его убогое дерьмо и делаем из него пьесу. Так вот — больше этого не будет. Не будет! — Но это работает! — испуганное лицо Кермита покрылось испариной. — Джулия, дорогая, мы сидим здесь. Мы можем видеть. Это работает! Эта роль — ваша лучшая со времени… Она заставила его замолчать, просто на мгновение подняв глаза — резко, сердито. Кермит едва не произнес одно слово, которое она не могла слышать. Джулия заговорила почти печально. — Возможно… возможно, мне не следует находиться здесь. Возможно, мне надо уйти ради спасения спектакля. В конце концов спектакль — это самое важное. Я всегда говорила это. С моего первого проведенного в театре дня. Вы знаете это, Кермит. — Да, да, Джулия, знаю, — солгал Кермит. — Вероятно, я должна уйти. И позволить вам взять другую актрису. Время еще есть. В голове Кермита промелькнула тысяча мыслей: театр в Нью-Хейвене, нью-йоркская премьера, остаток денег в банке, дата премьеры в Бостоне, потеря театральной субсидии, реклама, аванс, приемы — все это зависело от участия в спектакле Джулии Уэст. Компания с переулка Шуберта сомневалась в пьесе и предоставила им театр только из-за Джулии. Все предварительное паблисити держалось на имени Джулии Уэст. Драматург и режиссер были еще молоды и не заслуживали большого рекламного пространства. Что скажут спонсоры, если он попросит у них дополнительные средства на замену главного «козыря» — Джулии Уэст? Джек думал лишь об одном. Если Джулия Уэст уйдет, критики потеряют всякий интерес к постановке. Слухи погубят его еще не начавшуюся карьеру. Джек Финли не справился со звездой. Джек Финли не довел спектакль до премьеры. Джек Финли упустил свой шанс. Его первая бродвейская постановка закончилась крахом. Нет, он не может заменить Джулию Уэст другой актрисой. — Джулия, вы не должны уходить, — сказал он. — Я не позволю вам сделать это. Я сидел здесь и видел вас. Вы помните наши беседы до начала репетиций. Сценарий не стал хуже с той поры. Если вас что-то беспокоит, скажите мне! Я это исправлю. Но не говорите больше об уходе. Хорошо? Она посмотрела на отражение Джека, взяла режиссера за руку и прижала ее к своему лицу. Казалось, что его близость успокаивала эту женщину. — Я не могу сыграть финальную сцену в ее нынешнем виде, Джек, — сказала Джулия. — Этот юноша не должен уйти от этой женщины. Глаза Кермита встретились в зеркале с глазами Джека. Говори с ней, убеди ее! — беззвучно произнес Кермит. — Дорогая, в этом заключается сила пьесы. Подобный роман может быть лишь коротким. Вы заставляете зрителей жалеть вас и великолепно добиваетесь этого. — Джек, эту сцену играю я! Поэтому говорю вам — она плохая. Я не могу играть третье действие, если оно заканчивается уходом юноши. Думаю, вам лучше взять другуюактрису. — Джулия, пожалуйста! Я даже слышать об этом не хочу! — воскликнул Джек. Скрывая свою панику, Кермит вмешался в разговор. — Послушайте, продолжайте пока репетицию. Я пойду выпью с автором и обсужу с ним этот вопрос. Хорошо, Джулия? Она, похоже, смягчилась. — Кермит, дорогой, пожалуйста, объясните ему — если он не будет приходить в театр, всем станет легче. Конечно, пощадите его чувства. Я не хочу слыть актрисой, которая дурно обращается с авторами.
Перед окончанием рабочего дня ассистент режиссера передал Джеку записку от Кермита с просьбой сразу после репетиции зайти к нему в офис. Сама репетиция прошла исключительно хорошо — только последние две минуты финальной сцены Джулия совсем не играла. Но остальная часть третьего действия выглядела превосходно для десятого дня работы. Когда Джек пришел в офис, секретарь Комитета уже покинула свое место; дверь кабинета была открыта. — Джек! — позвал Кермит. — Входите. Шагнув в кабинет, Джек увидел сидящего на диване Сидни Лампрехта. Автор был явно обижен, рассержен. — Естественно, он волнуется, — сказал Кермит. — И хочет знать ваше искреннее мнение. Автор посмотрел на Джека. В глазах драматурга блестели слезы. — Сид, если это мешает ей, пожалуйста исчезните на несколько дней. Не приходите в театр. Все существенные изменения уже позади. Возможно, теперь будут только небольшие сокращения. Я не стану ничего делать, не обсудив это с вами заранее. Автор немного успокоился. — Вы должны признать, что я легко соглашался на сокращения и изменения, ведь правда, Джек? — Конечно, Сид. Именно поэтому я уверен, что мы сможем работать вместе до премьеры. Только не в театре, не рядом с ней. — Я охотно перестану посещать репетиции, — признался автор. — Последние дни она излучает ненависть. Я чувствую это на последнем ряду. Но она — прекрасная актриса. И вы поможете ей сыграть великолепно. Действительно, зачем мне каждый день присутствовать на репетициях? Джек испытал недолгое облегчение. — Вы должны сделать для меня одну вещь, — продолжил автор. — Не позволяйте ей менять концовку! Джек посмотрел на Кермита. — Разве я согласился изменить концовку? Кермит в моем присутствии сказал ей, что концовка остается прежней! — Спасибо, — с жаром произнес автор. Он подошел к Джеку, пожал ему руку. — Она больна. Да, больна! Но вы способны управлять ею. Она делает все, что вы хотите. Обещайте мне, что финал останется без изменений, и я буду держаться подальше от Джулии Уэст. — Сид, ваша пьеса не допускает другого конца. Он понравился мне больше всего, когда я читал текст. Так что не волнуйтесь. Даю вам слово. Финал останется. Сидни Лампрехт обнял Джека и повернулся к Кермиту, все еще крепко сжимая плечи режиссера. — Пока существуют такие режиссеры, театр не умрет! Еще есть смысл сочинять в муках пьесы и ставить их! Лампрехт ушел. Джек измученно опустился на диван. Но Кермит так посмотрел на режиссера, что тот настороженно поднялся. — Что, Кермит? — Чай, — сказал Кермит. — Чай! — Кермит? — Вам известно, сколько чая она выпивает? — Это для голоса, — объяснил Джек. — Это водка! Чистая водка! Слегка подкрашенная. — Откуда вам это известно? — Пока вы репетировали, я заглянул в ее гардеробную и попробовал жидкость. Это водка! Она может пить ее целый день, и вы ничего не заподозрите. Она не имеет запаха. — Джулия не кажется пьяной… Я могу поклясться… — Конечно! Ее возможности безграничны. Она никогда не кажется пьяной. Но она пьяна! Этот взгляд, близорукие глаза. Вы сказали, что ей нужны очки. Ей нужно меньше пить «чай». — Я могу поклясться… — повторил Джек и кое-что вспомнил. — В тот первый день, в кабинете Одри, тоже? — Да, тоже. Я знаю, потому что говорил с Одри сегодня днем. Она призналась. Сказала, что Джулии это необходимо. Что, если мы будем обращаться с ней правильно, все обойдется. Кермит поднялся с кресла, подошел к окну и посмотрел на сумерки, опускающиеся на Бродвей. Он увидел их театр. Люди, возвращающиеся домой с работы, покупали билеты на новый спектакль Джулии Уэст. — Господи, — сказал он. — Если бы она только… Кермит перебил себя. — Мы у нее в руках. Без Джулии спектакля не будет. С ней нас отделяет от несчастья одна чашка «чая». Она может погубить нас обоих. Если я не сделаю «хит» в этот раз… — Не беспокойтесь, Кермит. Все будет в порядке. Клянусь вам… — Логан клялся. Казан клялся. Она едва не погубила их, — печально произнес Кермит. Джек поднялся, подошел к окну, встал возле Кермита и устремил взгляд на Бродвей. Огни уже горели, хотя еще не стемнело полностью. Неоновая реклама бежала, дышала, объявляла, искала, соблазняла, обещала. Джек глядел в окно, потому что смущение мешало ему смотреть на Кермита; он боялся выдать себя. — Я никогда не говорил об этом вслух, Кермит. Потому что это звучит нелепо. Я не мог объяснить это даже моей матери, когда она хотела отправить меня в стоматологическое училище. Кермит, я должен работать в театре. Должен. Дело не в огнях. И не в публике. Даже не в славе и деньгах, которые, знаю, однажды придут ко мне. Я просто испытываю потребность работать в театре. Заниматься режиссурой. Ставить хорошие спектакли. Добиваться совершенства. Я знаю это с двенадцати лет, когда моя учительница повела нас на утренний спектакль. Я впервые попал в настоящий бродвейский театр! Я сидел и думал: Господи, это реальность. Это не телевидение. Не большой, плоский киноэкран, а все настоящее! Но я ощущал и нечто другое. Даже в двенадцать лет. Я чувствовал, что могу сделать лучше. Я даже сказал об этом моему приятелю, когда мы возвращались на метро в Бруклин. Он засмеялся, и я понял, что не должен говорить так, пока не докажу это. Но я могу сделать лучше, Кермит! Могу! И сделаю. Никакая актриса, никакая звезда, пьяная или трезвая, сумасшедшая или нормальная, не отнимет у меня шанс доказать это! Потому что ничем другим на этом свете я не хочу заниматься. Ничем! Я должен это сделать. Стать лучшим в театре или умереть. Кермит молча смотрел в окно, пытаясь разглядеть лицо Джека, отражавшееся в стекле. Джек говорил абсолютно искренне. — Я доведу ее до премьеры, Кермит. Сделаю для вас хит! Кермит уже много раз слышал подобные обещания. Иногда их выполняли. В большинстве случаев — нет. Однако всегда режиссер говорил так же искренне, как Джек Финсток. А точнее, Джек Финли.
До премьеры в Нью-Хейвене все шло нормально. Последний прогон без декораций перед отъездом из Нью-Йорка был самым трогательным и впечатляющим. С последним действием была проблема. Джулия испытывала дискомфорт. Но она играла — не безупречно, но достаточно хорошо для Нью-Хейвена и первого публичного представления. Она продолжала пить свой чай; Джек постоянно следил за ней. Ему казалось, что она пьет не больше, чем прежде. Но он находился рядом с ней не двадцать четыре часа в сутки. Они приехали в Нью-Хейвен на поезде. Джек отвез Джулию в гостиницу «Тафт», находившуюся возле театра. Помог отнести чемоданы в номер. Она сама несла свой термос. Джек поставил чемоданы на пол. Джулия обвела взглядом гостиницу. — Господи, опять этот номер. Его не ремонтировали одиннадцать лет! — Она улыбнулась. — Приятно снова оказаться здесь. Джулия шутливо поцеловала Джека и продолжила: — Это все вы, вы. Они удивлены. Они, верно, заключили пари, что я не продержусь до этого момента. После… моего ухода… — Дорогая, отдыхайте, — сказал Джек. — Я хочу спуститься вниз и проверить сцену. Посмотреть декорации и освещение. Она кивнула, отпуская его. Но, прежде чем он ушел, Джулия прижала свое лицо к его щеке. — Мы сделаем это. Сделаем. У нас будет хит! А теперь идите, — прошептала она. Он вышел через заднюю дверь на сцену. Она была темной, но декорации уже висели. Художник следил за расстановкой мебели. Джек спрыгнул в проход и попятился назад, глядя на сцену. Девяносто пять процентов зрителей увидят все происходящее. Только боковые места не обеспечивали полного обзора. Он остановился в глубине зала. Из Бруклина в Нью-Хейвен! Внезапно кто-то приблизился к Джеку. Это был Кермит. — Это всегда волнующе. Всегда. В первый раз. И в последний раз, — произнес Финли. — Как она? — Нормально. Хорошо. — Готова к премьере? — Несомненно! — воскликнул Джек. — Хорошо. Хорошо, — без ликования, но с надеждой в голосе сказал Кермит. Они занялись освещением сцены. Разногласия между Джеком и художником оказались незначительными. Потом Джек отпустил всех на ужин до девяти, когда должна была состояться первая техническая репетиция. Оставшись в одиночестве, Джек снова поднялся и осмотрел декорации. Под его ногами лежал мягкий, роскошный ковер. Сам он еще никогда не жил среди такой дорогой мебели. И все же в каком-то смысле она была его мебелью — он сам выбирал ее. Все было его — декорации, спектакль, успех. Или провал.
Техническая репетиция заключалась в проверке дверей и наличия проходов между предметами обстановки для свободного передвижения актеров. Они проконтролировали, соответствует ли временная длительность отдельных фраз расстоянию, которое преодолевали актеры, произнося их. Освещение пришлось подправить, потому что появление актеров на сцене изменило его. Все это время Джулия была спокойной, серьезной, деятельной. Когда у юного Клинтона возникла проблема с подходом к актрисе, она сама предложила изменить свою позицию в этой сцене. Кермит постепенно обретал уверенность и спокойствие. Он даже позволил себе улыбнуться Джеку, который шагал взад-вперед по проходу, разглядывая сцену, декорации, реквизит, давая указания и распоряжения осветителям, актерам, своему ассистенту. Время перевалило за полночь. Они уже добрались до последней сцены, которая должна была пройти легко, потому что являлась самой простой в техническом отношении. Кермит распорядился принести кофе и бутерброды, чтобы люди перекусили перед сном. Они репетировали последнюю сцену, в которой юноша уходит от Джулии. Последние объятия, последний поцелуй, прощание. Все это время сын героини ищет в коридоре друга, не догадываясь о его отношениях с матерью. Любовник Джулии должен был оставить на сцене одинокую, стареющую женщину, только что потерявшую свою последнюю любовь. Впервые за этот вечер Джулия столкнулась с трудностями. Ей не давались подход к партнеру и прощание с ним. Она не могла объяснить причину. Джек поднялся на сцену и показал Джулии, как она делала это ежедневно в течение нескольких недель. — Знаю, знаю, — сказала она. — Но я постоянно испытывала дискомфорт. Теперь я понимаю, что вся сцена решена неверно! Кермит подался вперед, но удержал себя. Джек приблизился к Джулии и зашептал: — Джулия, со сценой все в порядке. Я вижу это. Чувствую. Она решена верно. Актриса энергично покачала головой. — Я не могу сыграть это! — Последнюю неделю мы репетировали всю пьесу дважды в день! Вы делали это отлично! — Конец не понравится зрителям. Они в него не поверят. Я не могу появиться в спектакле с таким финалом! Она повысила тон, и Джек испугался за моральный настрой остальных актеров. — Джулия, дорогая, сделайте это сейчас, — прошептал он. — Потом мы отпустим всех и поговорим. Она кивнула. Доиграла сцену включая уход юноши, но делала все машинально, безучастно. Принесли кофе и бутерброды. Джек не смог быстро избавиться от людей. Пока они ели и пили, Финли и Кермит отошли вглубь зала. Кермит произнес тихо и бесстрастно: — Я бы убавил освещение. — Зачем? Все происходит днем. Освещение должно быть ярким. Мы и так затемнили сцену для драматического эффекта, — возразил Джек. — И все же я бы убавил освещение, — не сдавался Кермит. — Почему? — Почему? — повторил Кермит. — Да потому, что если критики разглядят ее отечное лицо и «мешки» под глазами, они потеряют интерес к спектаклю. Они будут весь вечер думать: «Она снова пьет. Она снова пьет». Мы все — вы, я, спектакль — попадем в сточную канаву с потоком водки! Уберите свет! — Она выглядит не настолько плохо. К тому же она играет зрелую женщину, у которой девятнадцатилетний сын. — Сорокалетняя женщина может иметь девятнадцатилетнего сына. Но она выглядит на пятьдесят пять. Уберите свет. — Это убьет спектакль! Убьет сцену! — Убейте спектакль! Убейте сцену! Только спасите Джулию Уэст. Если она потерпит фиаско, мы все погибнем. Люди придут, чтобы увидеть Джулию Уэст в ее первой роли после большого перерыва. — Кермит уже умолял. — Хорошо, — недовольно согласился Джек. — Малыш, театр — это сплошной компромисс. Добиваются успеха те, кто идет на взаимные уступки. Поверьте мне, мы оба в этом заинтересованы. Художник, человек опытный, не нуждался в долгих объяснениях. Он предвидел просьбу уменьшить освещение и знал, чем она была вызвана. Люди, доев бутерброды и выпив кофе, начали возвращаться в гостиницу. Скоро на сцене остались только Джек и Кермит. Они думали, что Джулия ушла к себе в номер. Но она внезапно появилась из гримерной. Актриса держала в руке несколько страниц. Когда Джулия приблизилась к мужчинам, они увидели, что она сильно напилась и потеряла способность владеть своим лицом; оно стало бесформенным, опухшим. Ее заметное стремление говорить четко, ясно свидетельствовало о том, что она знает о своем состоянии. Джек услышал шепот Кермита: «Господи!» — Джек, дорогой, у меня кое-что есть. Конечно, это только набросок, но, думаю, он поможет делу. Я готова изобразить… сыграть… это… — Дорогая, уже поздно, вы устали. — Знаю. Но завтра — премьера. Мы не можем искать концовку спектакля в день премьеры. Мы должны найти ее сейчас! Джек посмотрел на Кермита, который еле заметно кивнул. Но это было лишь разрешением делать и говорить все, что могло успокоить Джулию. — Конечно, дорогая, давайте найдем ее. Сейчас. — У меня появилась идея, — сказала она, бросив мимолетный взгляд на исписанные страницы. Затем Джулия взяла Джека за руку, усадила его на диван и жестом попросила Кермита отойти в сторону. Она вышла на середину сцены и, обращаясь частично к Джеку, частично к пустому залу, сказала: — Вы понимаете, что главное — это спектакль. Мы обязаны спасти его. Авторы иногда не видят, что идет на пользу пьесе. Я уже сталкивалась с этим. Не раз. Вы должны защитить пьесу от автора. Этот драматург не знает женщин и ничего не знает о любви. По-моему, он гомик! Иначе он не сочинил бы такой концовки. Этот юноша не может уйти от этой женщины! Никогда! Он слишком сильно любит ее. Возраст не имеет значения. Эта привлекательная, добрая, нежная, зрелая женщина научила его любить. Он никогда не бросит ее. — Но, дорогая, — перебил Джулию Джек. — Мы знаем, что они не могут остаться вместе. — Конечно, нет! Но… он не оставляет ее. Она оставляет его. Это — единственный выход. Она уходит от юноши несмотря на его протесты и мольбы. И делает это ради него. Только так поступила бы героиня, потому что она добра, благородна и способна на самопожертвование. Она отказывается от своих желаний ради блага юноши, который мог быть ее сыном. Она видит тут долю инцеста. Я-то знаю, дорогой. У меня есть шестнадцатилетний сын. Мне понятны ее чувства. Она должна уйти от него. И сделает это. — Джулия, дорогая, пожалуйста, — перебил ее Джек. — До начала премьеры осталось восемнадцать часов. Мы не можем за такое короткое время переписать заново и отрепетировать главную сцену спектакля. Не можем! — Но я уже придумала ее. Она у меня здесь! Джулия подняла руку со смятыми листами. Джек посмотрел в глубину темного зала и услышал с трудом сдерживаемый голос Кермита. — Джек, если Джулия взяла на себя труд написать новую сцену, мы обязаны посмотреть ее. Финли протянул руку к исписанным листам, но актриса сказала: — Это просто набросок. Без диалога. Тут нечего читать. Лучше я покажу. Так будет понятней. Она положила страницы на диван и начала показывать сцену, родившуюся в ее затуманенном алкоголем сознании. Актриса обозначила место, где должен стоять юноша, объяснила, как ему следует играть. Приблизительно воспроизвела их диалог и ее уход. Все это время Джек и Кермит отчаянно придумывали доводы против ее варианта. Когда Джулия закончила, Джек уже мог произнести их. — Дорогая… дорогая… подождите! Выслушайте меня. Он подошел к ней, взял обе ее руки. — Вы понимаете, что вы делаете? Она посмотрела на него, с трудом фокусируя глаза. — Стремясь спасти спектакль, вы губите себя! — Что вы имеете в виду… гублю себя? — выдохнула актриса. — Джулия Уэст уходит со сцены и оставляет перед занавесом юношу? Вы можете пренебречь своими интересами. Я же, думая о себе, хочу видеть перед последним занавесом Джулию Уэст, потому что этого хочет публика. Именно ее, Джулию Уэст, и никого другого. Люди придут, чтобы увидеть ее. Поэтому вы не можете уйти в самом конце. Уже по этой причине мы должны оставить финал в прежнем виде! Джек повернулся, ища поддержки. — Верно, Кермит? — Абсолютно! — сказал Кермит. — Джулия, дорогая, позвольте мне отвезти вас в гостиницу. Вы должны хорошо выспаться. Завтра вечером мы сыграем спектакль без изменений. Если получится плохо, мы внесем их до бостонской премьеры. Договорились? Она не ответила на его вопрос и тихо произнесла: — Я не выйду на сцену. Не выйду. Не выйду. Джулия ушла. Кермит сдавил плечо Джека, причинив режиссеру боль. — Делайте, что хотите! Как хотите! Вы должны вытащить ее на сцену завтра вечером, или мы потеряем все. Завтра она сыграет в этом спектакле, как мы репетировали. Или я поставлю на нем крест. Навсегда. — Господи, что я могу сделать? — простонал Джек. — Хотите знать, за что получает деньги режиссер? Именно за это! Он должен проявить хитрость и изобретательность, когда звезда поддается панике. Мобилизуйте все ваши способности. Настал решающий момент. Вы либо режиссер, либо просто честолюбивый юнец, каких на свете очень много. Джек пошел за Джулией. Он бы догнал ее в вестибюле, но его остановили у двери. Напуганный, разгневанный Сидни Лампрехт смотрел на Джека в упор. — Сидни, я не знал, что вы здесь! — Я спрятался. На балконе. Похоже, я работал как проклятый, многим жертвовал ради того, чтобы стать драматургом и прятаться во время репетиции моей пьесы на балконе, точно вор. Сделайте с ней что-нибудь, Джек! Сделайте что-нибудь! Потому что, если спектакль сорвется… я совершу нечто… нечто… — Я… что-нибудь придумаю, — обещал Джек, уходя. Сидни подошел к дивану и подобрал листы, исписанные и оставленные Джулией. Перевел взгляд с них на Кермита. — Здесь нет ничего! Никакой сцены! Одни каракули! Она лгала! — сказал автор. — Если бы она говорила правду, было бы гораздо хуже, — печально произнес Кермит. — Вам это не пришло в голову?
Финли постучал два раза, но она не ответила. Наконец он услышал шорох, потом из-за двери донесся хриплый шепот. — Кто там? — Это я. Джек. — Уходите! Я не желаю ни с кем говорить! Голос и дикция Джулии свидетельствовали о том, что она пьяна. — Джулия… пожалуйста… я должен поговорить с вами. — Я сказала вам, в чем ошибка, как ее исправить… Вы не слушаете меня, — жалобно простонала она. — Я не мог. Там был Кермит. Я хочу поговорить с вами наедине, — умоляюще произнес Джек. Она помолчала, потом тихо прошептала: — Одну минуту. Он услышал шлепанье босых ног. Подождал. Ему показалось, что прошло немало времени. Что она там делает? Пьет водку? Глотает таблетки? Джек решил, что, если через несколько секунд она не откроет дверь, он позовет администратора. Но Джулия подошла к двери, и он услышал, как она отпирает ее. Она осторожно приоткрыла дверь. Актриса улыбалась с трудом, неуверенно, но все же улыбалась. Ее губы были неаккуратно подкрашены. Джулия накинула на себя черный поношенный пеньюар из крепа и кружев, кое-где превратившийся в лохмотья. Однако она держалась прямо и гордо, как в тот раз, когда он впервые увидел ее в кабинете Одри. Даже сейчас в ней ощущался апломб красивой женщины, хотя она и выглядела старше своих лет и была пьяна. Ее бесформенный подбородок и жир, висевший под ним, заставили Джека вспомнить о его тете-вдове, державшей в Бороу-Парк лавку по продаже кошерного мяса. В первый момент он испытал желание повернуться и убежать — даже если это означало конец его карьеры в театре. Стоя за приоткрытой дверью, Джулия улыбалась игриво, завлекающе. Господи, мысленно произнес он, представив себе старую тетю Сашу, завлекающую двадцатипятилетнего рассыльного. Господи, беги, беги, беги! Вместо бегства он сказал: — Джулия… пожалуйста? Он толкнул дверь, но она держала ее крепко. — Я не хочу говорить об этом! — заявила Джулия. Она стояла так близко от него, что он ощутил запах перегара, перебивающего аромат духов, хотя она надушилась сильнее обычного. — Если желаете знать правду, я тоже не хочу, — сказал он, чтобы не молчать. Он старался разговорить ее и проникнуть в номер. Его ответ удивил ее; игривая, порочная улыбочка исчезла с лица Джулии. Он решил использовать это. — Меня тошнит от этих разговоров. Желаете знать правду? Я сожалею о том, что мы познакомились при таких обстоятельствах. Почему мы не встретились во время чтения другой пьесы? Или на Студии? В тот вечер, когда вы играли Чехова. Я был там и видел. Вы выглядели великолепно. — Потому что пьеса была хорошей! — с вызовом произнесла Джулия. — Я думал, мы не станем говорить об этом, — сказал Джек, приблизившись к лицу актрисы, выглядывавшей из приоткрытой двери. — Знаете, в тот вечер я мечтал пройти за кулисы и увидеть вас. Мне очень хотелось это сделать. — Но вы этого не сделали, — кокетливо сказала она. — Что я мог сказать? «Мисс Уэст, вы — величайшая актриса из всех, кого я видел!» Или: «Мисс Уэст, вы — великолепная актриса, но сегодня я влюбился в ваше восхитительное лицо. Волосы. Груди!» Это правда, Джулия — у вас потрясающие груди. Вам это известно, верно? Актриса улыбнулась. Джек заметил, что она начинает сдаваться. — Допустим, я бы пришел к вам тогда и сказал это. Что бы вы мне ответили? Джулия ничего не сказала, засмеялась — тихо, дразняще; Джек понял, что она попалась на крючок. Он произнес умоляюще: — Джулия… забудьте о спектаклях. Впустите меня. Не прогоняйте. Я же не мальчик. Я — мужчина, Джулия. И я люблю вас. Нуждаюсь в вас. Забудем о спектаклях. Она посмотрела на него без улыбки, проверяя, не обманывает ли он. Очевидно, она поверила ему, потому что отошла от двери, пропуская его. Поколебавшись, Джек вошел в номер и прикрыл за собой дверь, снова поколебался, потом громко повернул ручку замка, чтобы Джулия услышала это. Он принял решение. Гостиная была освещена тускло. Она хорошо подготовила сцену. В углу комнаты, на полу, стояла лампа. В настольном светильнике горел лишь один плафон из четырех. Джулия находилась у окна, за которым темнел дождливый Нью-Хейвен. По мокрым улицам ехали автомобили с включенными фарами. Джек подошел к женщине так близко, что ощущал ее дыхание с запахом перегара, чувствовал тепло ее рыхлого, расплывшегося тела. От ложбинки между грудей исходил сильный аромат духов. Он внезапно обнял ее, прижал свое лицо к лицу Джулии, но не поцеловал женщину. Он осязал контуры ее тела, раздавшихся бедер. Ее груди оставались крепкими, высокими. Они были большими. Мне всегда нравились большие груди, утешил себя Джек. Будучи старшеклассником, он встречался только с девушками, обладавшими большим бюстом. Он попытался убедить себя в том, что хочет Джулию. Она повернула голову, чтобы поцеловать его; он хотел избежать этого, но не смог. Она поцеловала Джека, засунув свой язык ему в рот. Язык Джулии оказался быстрым, проворным, умелым, он почти заставил Джека забыть о перегаре. Он надеялся, что она возбудит его, желал этого. Но ничего не произошло. Пытаясь уклонится от ее рта, он раздвинул халат Джулии и крепко прижался лицом к ее грудям. Духи и тепло красивых полных грудей, к которым Джек питал слабость, помогли ему ощутить наконец эрекцию. Почувствовав его восставший член, она тихо засмеялась. Затем кокетливо спросила: — Ты всегда занимаешься этим стоя? Или это привычка, выработанная в бруклинских коридорах? Джек засмеялся, взял ее за руку и повернул лицом к спальне. Она пошла вперед, он проследовал за ней. Внезапно Джек обхватил ее сзади, сжал обеими руками ее груди. Она подалась назад, прижалась ягодицами к его члену, потерлась о него, дразня Джека, возбуждая его еще сильнее. Он повернул ее и принялся целовать соски, ласкать их языком. Она прильнула к Джеку с такой силой, что ему показалось, будто она испытала оргазм. Она дышала судорожно, неровно. Затем Джулия улыбнулась. Она произнесла слова, показавшиеся ему странными: — Идем, мальчик. Идем. Джулия взяла его за руку и повела к постели, подготовленной весьма тщательно. Его окутывал запах ее духов. Он заметил, что шторы в спальне сдвинуты. Единственным источником света была маленькая настольная лампа, стоявшая далеко от кровати. Возле кровати Джулия повернулась к Джеку, и он снова поцеловал ее. Она не пошевелилась; он снял с нее халат и уронил его на пол. Увидев Джулию обнаженной, он испытал желание повернуться и убежать. Она была полной женщиной — с хорошими грудями, но полной. Алкоголь добавил несколько фунтов ее бедрам, животу, ягодицам. Перед Джеком стояла не школьница с крупным бюстом и не юная актриса с пышными формами. Это была старая женщина, его тетя или даже его мать. Но, посмотрев на лицо Джулии, он понял, что она считает себя одной из самых привлекательных женщин мира. Если он закроет глаза и забудет обо всем, кроме ее грудей и влагалища, ему, возможно, удастся сделать это. Ради спектакля. Ради Синди. Ради Кермита. Но прежде всего — ради самого себя, Джека Финстока, Джека Финли. Он снова занялся ее грудями; почувствовав, что она хочет поцеловать его в губы, он уложил Джулию на кровать. Раздевшись, Джек шагнул к лампе, чтобы погасить ее, но Джулия сказала: — Мне нравится свет! Он предпочел бы заниматься с ней любовью в темноте, но понял, что Джулия хочет видеть, как все происходит. Она была в некотором смысле войеристкой. Она не позволяла лежавшему на ней Джеку опускать голову и периодически смотрела на его лицо. Иногда она закрывала глаза, протягивала вверх руку и трогала пальцами его щеки, рот. Затем внезапно обнимала Джека обеими руками и прижимала к себе. Все это время он двигался, не останавливаясь ни на мгновение. Но не мог кончить. Чем яростнее она корчилась под ним, прижималась к нему, тем более слабым становилось его желание. Хотя Джулия кончила трижды, с каждым разом все более бурно. В конце концов Джек решил изобразить оргазм; он понял, что ничего на самом деле не произойдет. Он увеличил темп движений и сделал вид, будто кончает. Потом он откатился в сторону и задышал более глубоко и часто, чем это было необходимо. Джулия лежала неподвижно. Она заговорила тихо, умиротворенно. — Мы еще поработаем над синхронностью, дорогой. Теперь, когда мы знаем, что подходим друг другу. — Нью-Хейвен всегда использовался для пробных премьер, — сказал Джек. Джулия засмеялась. Это было хорошим знаком. У нее пропало желание спорить. — И Бостон, — пообещал он. — В Бостоне мы все наладим. — Да, — согласилась она. — Да. Джулия протянула руки к Джеку, не глядя на него. Принялась ласкать член, пока он не встал снова. Поскольку она фактически согласилась сыграть завтра в спектакле без изменений концовки, он сжал ее руки. Джек вдруг вспомнил слова Кермита: «Хотите знать, за что получает деньги режиссер? Именно за это!» Он повернулся на бок, лицом к Джулии. Она лежала на спине с закрытыми глазами, лаская его член и улыбаясь. Вскоре Джек уже оказался на Джулии. Она шепнула ему в ухо: — Лучше… на этот раз лучше. Джулия была права, потому что теперь он тоже кончил. Они немного поспали. Затем снова позанимались любовью, потом еще раз. Она совсем не пила, Джек следил за ней. Ни водку, ни «чай», ни даже воду. Она сыграла в спектакле. До последней сцены была в ударе. Ни местные критики, ни зрители не заметили, что последнюю сцену Джулия сыграла хуже. Публика была в восторге. Даже «Йейл Дейли Ньюс», всегда недолюбливавшая профессиональный театр, опубликовала восторженную рецензию.
Но проблемы, разрешившиеся в Нью-Хейвене, не исчезли совсем. Приближаясь к Бостону, Джулия перестала выходить из своего купе. Словно они ни о чем не договорились в Нью-Хейвене, словно не было хвалебных статей. Кермит забеспокоился. — Сходите к ней. Звезда не должна грустить после такой прессы. Что-то не так, — сказал он Джеку. — Она устала, — отозвался режиссер. — Она отдыхает. — Нет, — возразил Кермит. — Невротики не отдыхают. У них энергии больше, чем у кого-либо. Сходите к ней! Джек отправился к Джулии. Он застал ее лежащей на койке. — Я думала, ты не придешь, — грустно сказала она, ища утешения, ободрения. — Я хотела поговорить с тобой. О концовке. — Концовка великолепна! Она удалась! Но убедить ее словами было невозможно. Вскоре он понял это. Лег рядом с Джулией, начал целовать ее груди; она взяла его за член. На железнодорожных путях, соединяющих Нью-Хейвен с Бостоном, есть участок, где поезд раскачивается особенно сильно. Там не рекомендуется делать две вещи: есть суп в вагоне-ресторане и заниматься любовью. Подъехав к Бостону, Джулия не обрела успокоения, не стала счастливей, не изменила своего мнения насчет последней сцены третьего действия. Их ждали и другие неприятности. Когда они прибыли в «Ритц», Кермит получил там несколько адресованных ему сообщений. Звонили с переулка Шуберта. У спонсоров были свои шпионы в Нью-Хейвене. Что случилось с Джулией Уэст? Почему она так ужасно выглядит? Она снова пьет? Приближается к новому нервному срыву? Может ли Кермит гарантировать, что она продержится до Нью-Йорка? Этот малыш Финли, похоже, весьма талантлив, но, возможно, сейчас Джулии необходим другой режиссер — более зрелый и уверенный в себе? Может быть, Джош окажется свободен, или Гейдж согласится навести последний глянец перед Бродвеем? Как отнесется к этому он, Кермит? Почему, подойдя вплотную к успеху, не сделать для него все возможное? — Я не стану менять Финли на другого режиссера. Он нужен спектаклю. Нужен Джулии. Он довел ее до сегодняшнего дня и справится с ней в дальнейшем, — ответил Кермит. Он не стал делиться с Джеком содержанием этой части разговора. Сказал лишь о том, что спонсоры обеспокоены внешним видом актрисы. Джек признал, что она все же пьет, делает это открыто, в его присутствии. Неудивительно, что она выглядит ужасно. — Тогда заставьте ее прекратить! Кермит приказывал и умолял одновременно. — Не могу, — сказал Джек. — И никто не смог бы… — Она будет выглядеть ужасно в Нью-Йорке! Джек Финли понимал это лучше, чем кто-либо. Он делал все от него зависящее. Благодаря его усилиям, она являлась каждый день на репетиции, а вечером — на спектакль. Но не более того. А требовалось больше. Бостонские рецензии были весьма хорошими, но в них содержался намек на то, что мог сказать о Джулии Нью-Йорк. Один из критиков, известный своей прямотой, написал: «Вернувшуюся Джулию Уэст приятно видеть в любом состоянии». Он давал понять, что Джулия выглядит не лучшим образом. Это было серьезным предупреждением, сделанным по-дружески, потому что критик любил театр и то, как работает Джулия. Джек использовал эту статью для того, чтобы заставить Джулию воздержаться от спиртного — хотя бы до нью-йоркской премьеры. Но он лишь рассердил актрису. Она взорвалась: — Ради тебя я отказалась от Джоша! И от Гейджа тоже! Одри приезжала только для того, чтобы спросить мое мнение. Спонсоры хотели получить от меня согласие на замену режиссера. И я сказала — нет! Нет! Джулия поймала его врасплох. Он был не готов к этому. Пресса в Нью-Хейвене и Бостоне высоко оценила его работу. Спектакль имеет успех. Джулия продолжает играть. Неужели его действительно хотели заменить? Или это ложь неврастенички, придуманная для того, чтобы поставить на место его, Джека, обвинившего ее в злоупотреблении спиртным? Он предпочел счесть, что это ложь. Днем, между репетицией и спектаклем, он лег с ней в постель. Она не отпускала его до тех пор, пока уже не осталось времени на обед. Ей пришлось выпить две больших рюмки неразбавленной водки, чтобы быть готовой к тому моменту, когда ассистент режиссера скомандует: «По местам!» Во время первого действия, после появления Джулии, вызвавшего аплодисменты, Джек схватил Кермита за руку и вытащил его из темного зала в фойе. Там он спросил его: — Вы хотите заменить меня? — Господи, как вы можете говорить такое? Я уже четыре дня борюсь со спонсорами не соглашаясь на это. Джек тотчас пожалел о том, что атаковал Кермита. Но он узнал, что Джулия не лгала. Она сказала ему правду. Джек расстроился. Но у него не было времени, чтобы предаваться унынию, потому что Кермит продолжил: — Вместо того чтобы беспокоиться об этом, вы бы лучше вернулись в зал и присмотрели за ней. Подумайте, что можно сделать с ее лицом. Сегодня она выглядит хуже, чем когда-либо!
К концу недели по вызову Кермита в Бостон прилетел новый гример. Но Джулия не подпустила к себе этого человека. Она всегда сама занималась своими волосами и впредь будет делать это без помощи посторонних! И накладывать грим — тоже! Всегда! Она хлопнула дверью гримерной, заперла ее и не впустила даже своего личного гримера. Женщина, обслуживавшая Джулию на протяжении четырех последних спектаклей, села возле пожарной лестницы и заплакала. Когда Кермит попытался утешить ее, она сказала: — Такой она еще никогда не была. Даже в последний раз. Кермит бросил взгляд на Джека; они оба поняли, что имела в виду женщина. Кермит внезапно качнул головой, подавая знак. Джек отошел от плачущей женщины и направился к двери гримерной. Он постучал. Актриса не отвечала. Он постучал снова и услышал, что Джулия придвинула что-то к двери. — Дорогая, это Джек. Пожалуйста, впусти меня. — Ты это сделал, — закричала она. — Ты вызвал его сюда! Мне не нужен гример! Никогда не был нужен! И сейчас тоже! — Дорогая… пожалуйста… открой. Джулия выслушай меня, — взмолился он, хотя каждая клеточка его тела кричала: «Она сумасшедшая. Пусть она останется там навсегда, пусть уйдет из театра, из всех театров, пока не поздно!» — Джулия… — сейчас это обращение прозвучало нежно, интимно. — Дорогая… Джулия? После долгой тишины она внезапно, резко, сердито отперла дверь. Он распахнул ее. Джулия вернулась к туалетному столику, посмотрела в зеркало и стала причесывать взлохмаченные волосы. Ранее она преднамеренно сделала себя безобразной. На губах горела оранжевым пятном помада, румяна были наложены так сильно, что ее лицо выглядело бы неестественно даже в полумраке сцены. — Я сожалею, — солгал Джек. — Но это была не наша идея. Спонсоры настояли на гримере. Я пытался отговорить их. Чувствуя запах хита, они всегда начинают вмешиваться. Ты это знаешь. Ты спасла меня. Я никогда не забуду это, Джулия… дорогая… Он стоял у нее за спиной, положив руки ей на плечи. Она продолжала заниматься своими волосами, сердито поглядывая на отражение Джека. Его руки двинулись к ее шее, потом к грудям. Джулия откинула голову назад, подняла лицо, и Джек ощутил запах перегара. — Отправь его обратно, — желание, которое пробудил в ней Джек, смягчило ее голос. — Конечно, дорогая. — Я устала, слишком устала. Эта фраза Джулии заставила Джека бросить взгляд на отражение ее отечного лица. Закрыв глаза, она словно говорила ему, что не желает выходить сегодня на сцену. Что хочет побыть с ним наедине в гостиничном номере. Или прямо здесь, в гримерной. — Джулия… мы не можем отменить спектакль. — Воспользуйся дублершей. — Спектакль Джулии Уэст без участия Джулии Уэст — это не спектакль. Ты это знаешь. — Я ничего не могу поделать… не могу. В ее голосе снова зазвучали ноты раздражения. В дверь постучали; Боб, ассистент режиссера, пропел свое обычное: «Полчаса, мисс Уэст, полчаса!» Но она не сдвинулась с места; Джулия снова запрокинула голову назад, потерлась ею о Джека с кошачьей улыбкой на лице. — Джулия, — настойчиво произнес Джек. — Джулия, ты должна наложить грим, причесаться… — Я не выйду сегодня. Я… плохо себя чувствую. Я больна. Никто не заставит меня выйти в таком состоянии. — Джулия, тебе известно, что будет означать твое отсутствие. Пойдут слухи. Будут говорить, что ты не можешь больше играть. Что никогда не появишься на сцене. Ты не должна так рисковать, Джулия, я не позволю тебе. Ради твоего блага. Она словно ничего не слышала. Даже когда в дверь снова постучали, и Кермит неуверенно произнес: — Джек… как Джулия? Дорогая, как вы себя чувствуете? — С ней все в порядке, Кермит! Она накладывает грим. — Хорошо! — неискренне сказал Кермит. — Поторопитесь! — Да, да, мы поторопимся. Джек посмотрел на отражение Джулии, потом наклонился и поцеловал ее в губы. Его поза показалась ей забавной; Джулия улыбнулась. Она обняла его, потянула к себе, потом встала со стула и прижалась к Джеку. Взяла его руки и положила их себе на грудь, пытаясь возбудить Джека. — Потом, — шепнул он. — Сейчас ты должна наложить грим, причесаться и быть готовой к выходу. Позже, Джулия, позже. Он поцеловал ее, подтверждая этим, что выполнит обещание. Она поверила, сдалась. Он вытащил салфетку из коробки и стер с ее губ оранжевую помаду. Усадил Джулию лицом к зеркалу и начал накладывать грим. Она не мешала ему. Джулия тем временем прикасалась к своим волосам, делая вид, что поправляет прическу. В конце концов он схватил щетку для волос и принялся работать ею. В дверь снова постучали. Голос Боба прозвучал не столько предупреждающе, сколько вопросительно: — Пять минут? Пять минут до начала, мисс Уэст? — Я не выйду… Не выйду… не… — произнесла она, позволяя Джеку расчесывать ее волосы. — Джулия, ты должна! Она улыбнулась. — Сегодня без Джулии… Пошли они все к черту. Они приходят пялиться на меня, словно на животное в зоопарке! — Джулия… ты должна сегодня выйти. Потому что, — Джек в отчаянии начал импровизировать, — я наконец нашел решение! Идею для конца третьего действия. Ее игривая, томная поза исчезла. Она села прямо и посмотрела на Джека, продолжавшего расчесывать ее волосы. — Правда? Ты понял, о чем я говорила все это время? — спросила она. — Да, Джулия, да, я понял. Конец надо изменить. Ты была права. Она должна уйти от него. Но я хочу увидеть сегодня весь спектакль, чтобы убедиться в том, что моя идея сработает. Так что сыграй сегодня для меня. Только для меня, Джулия? Она задумалась на мгновение, потом взяла пластмассовую чашку с водкой. Выпила ее мелкими глотками, словно чистую воду. Когда чашка опустела, Джулия сказала: — Хорошо, дорогой… для тебя. Боб снова постучал в дверь. — Начинаем! Начинаем, мисс Уэст! Джек протянул ей руку, и она взяла ее. Он помог Джулии подняться, открыл дверь, вывел женщину из гримерной. Покинув комнату, Джулия отказалась от его руки и направилась за кулисы ждать своего выхода. Если ее и «штормило», то она успешно скрывала это. Она медленно, величественно прошла к освещенному месту, сбоку от сцены, чтобы через несколько мгновений войти в комнату сына своей героини.
Кермит ждал возле двери ее гардеробной. Увидев Джулию за кулисами, он шепнул Джеку: — Давайте пройдем в зал и посмотрим, как она выглядит! Они направились в фойе. У двери, ведущей в темный зал, Кермит схватил Джека за руку. — Сотрите это! — сказал Кермит. Джек посмотрел в зеркало. На его губах осталась яркая оранжевая помада Джулии. Он сердито стер ее. Они вошли в зал; Джулия уже была на сцене; зазвучали аплодисменты. Мужчины встали за последним рядом; Джек оказался возле гримера, который не слышал слов, не видел игры — все его внимание было сосредоточено на лице Джулии Уэст. Он рассматривал его с медицинским интересом хирурга. В середине первого действия он жестом предложил Джеку и Кермиту выйти из зала в фойе. Гример заговорил быстро, деловито, без обиды на актрису, выставившую его из своей гримерной. — Идеально она выглядеть не будет. Я советую немного уменьшить освещение. — Немного уменьшить? — переспросил Джек. — Да. При подсвете сзади или снизу вы не скроете все в достаточной степени. Потом я покажу вам, как я наложил бы тон вокруг ее рта и подбородка. Это позволит скрыть отечность. Но это все. Большего никто не сделает. — Еще сильнее затемнить сцену, — горестно промолвил Джек. Он знал, что скажут критики о режиссере, который чрезмерно затемняет спектакль. — Более того, я бы также переместил ее вглубь сцены, — продолжил гример. — Господи, тогда зрители ее вовсе не увидят! — пожаловался Джек. — Так будет лучше, — сказал гример, невысокий худой человек в очках. Затем он впервые проявил эмоции. — Как может женщина иметь такой талант… и вести себя так безрассудно… безумно! Он снял очки с усталых глаз. — Я напишу все рекомендации, нарисую эскизы грима и оставлю в вашем гостиничном почтовом ящике. Утром я должен вылететь первым самолетом. Мэри Мартин играет в «Питере Пэне». В ее возрасте. Она попросила меня помочь ей с гримом. Она хотя бы знает, что нуждается в помощи. А эта… Он печально покачал головой и пошел в гостиницу. Провожая гримера взглядом, Кермит сказал Джеку: — Я знаю, что вам приходится выносить. Вечная история. Детали различаются, но суть остается прежней. Всегда. Молодой человек вашего возраста не должен расходовать себя на такую женщину. Кермит впервые дал понять, что ему известно о происходившем в течение последних двадцати дней. — Кермит… — начал Джек и замолк, не зная, как закончить. Кермит уставился на режиссера. Джеку пришлось сказать: — Другого выхода не было — чтобы заставить ее сыграть сегодня, мне пришлось пообещать ей… что я изменю конец, последнюю сцену. — Что? — возмутился Кермит. — Если бы она не вышла и это стало бы известно Нью-Йорку, вы представляете, что бы они сделали с нами. Кермит кивнул. Он знал это. Но он считал этот компромисс неудачным. Однако понимал, что в подобной ситуации за пятьминут до занавеса он дал бы такое же обещание. Так бы поступил любой продюсер, желающий спасти спектакль. Кермит произнес с надеждой в голосе: — Может быть, она забудет об этом. Или мы сумеем отговорить ее. Я видел актрис, которым какая-то сцена не нравилась до тех пор, пока они не сыграли ее правильно. После этого они не испытывали никаких затруднений. Он знал, что надежда была тщетной. Стоя в конце зала, они досмотрели спектакль. Последнюю сцену Джулия сыграла очень плохо. Они поняли, что актриса не изменит своего отношения к финалу. Когда дали занавес, Джек посмотрел на Кермита. Продюсер понял его без слов. — Я попытаюсь объяснить Сидни Лампрехту, — сказал он. — Но знайте — автор может снять спектакль. Контракт предоставляет ему право сделать это в случае внесения несанкционированных изменений. Особенно после того, как вы дали ему слово. Поглощенный мыслями о неизбежности подобного шага, Джек сказал: — Мне плевать. Валите все на меня. Но она сыграет в Нью-Йорке! В этот вечер публика аплодировала Джулии дольше и громче обычного. Актриса поклонилась, скромно улыбаясь; она позвала на сцену других актеров, чтобы разделить с ними восхищение зала. Сейчас Джеку трудно было представить ее злобной, губящей себя неврастеничкой. Но, подойдя к гримерной, он услышал ее пронзительный, громкий, требовательный голос: — Найдите Джека! Я должна немедленно его увидеть! Ее гримерша, выбегая из комнаты, едва не столкнулась с Джеком. — Она хочет видеть вас, — произнесла напуганная женщина. Джек жестом успокоил гримершу и отпустил, похлопав ее по плечу. Поколебавшись, он вошел в гримерную Джулии.
После полуночи Джек, Кермит, художник и два осветителя ждали в пустом зале Джулию. Она наконец появилась, кокетливо выглянув из-за декораций. Она улыбалась, сияла, забыв об усталости. Джеку показалось, что она трезва. Джулию переполняла энергия. Внезапно Джек понял — она играет Джулию Уэст, какой ее видит публика. Улыбающуюся, веселую, доброжелательную звезду, полностью отдающую себя спектаклю и театру. Кермит отправил Джека на сцену, подтолкнув его сзади, точно тренер, выпускающий на футбольное поле игрока университетской команды. Джек торопливо зашагал по проходу, поднялся по ступенькам на сцену, взял Джулию за руку, поцеловал ее в щеку, словно он не целовал и не трахал ее полчаса назад. Он усадил ее на большой диван и повернулся к Кермиту. — Кермит, по-моему, — это и Джулия заметила, — последняя сцена нарушает целостность спектакля. Поэтому она не срабатывает. Поскольку мы не смогли заставить Сидни переделать ее, я придумал кое-что сам. Но моя идея должна стать органичной частью всей пьесы. Она потребует изменений в первом и втором действиях и даже в освещении. Мы должны немного схитрить; спектакль можно улучшить. Во-первых, я хотел бы немного убавить свет. Во всем спектакле. И поставить заново некоторые части первого и второго действий. Тут Джек преднамеренно перебил себя: — Мне легче показать это, чем объяснить. Он повернулся к Джулии, протянул ей руку и поднял актрису с дивана. Затем он начал разыгрывать некоторые сцены первого действия. Вскоре Кермит понял и оценил замысел Джека. Меняя детали постановки, режиссер перемещал актрису вглубь сцены. Подальше от резкого, безжалостного света. Джек выполнял рекомендации специалиста по гриму. Он быстро прошелся по ключевым сценам, указывая, какие изменения в постановке будут осуществлены на завтрашней репетиции. Кермит проделал в уме несложные вычисления — если они будут заново ставить по одному действию в день, то успеют трижды сыграть в Бостоне новую версию спектакля с измененным концом. Вечером в пятницу, утром и вечером в субботу. Затем — переезд в Нью-Йорк. Имея в запасе четыре предварительных просмотра в Нью-Йорке, они успеют отшлифовать спектакль перед бродвейской премьерой. Но что с концом? — напомнил себе Кермит. Джек еще не добрался до своей новой идеи. Но Кермит был терпелив. Молодой режиссер проявлял исключительную выдержку, изобретательность, мужество, казалось бы, в безнадежной ситуации, в которой запаниковали бы Джош и Гейдж. Быстро и внимательно Джек пробежал по ее сценам, диктуя Бобу, ассистенту режиссера, чтобы тот на завтрашней репетиции напомнил ему изменения в репликах, а главное, в местонахождении Джулии, перемещавшейся вглубь сцены. А теперь, теперь — конец! Джулия ждала, прислонившись к столу. Ее настроение, выдержка, терпение зависели от одного — от новой последней сцены. Джек знал — если она не понравится актрисе, Джулия может взорваться, уйти, выкинуть нечто ужасное. Поэтому он подошел к ней, взял за руку, заговорил тихо, доверительно, обращаясь к ней одной. — Дорогая, помнишь, однажды я сказал тебе, что мы не можем оставить юношу на сцене после твоего ухода? Что публике это не понравится? Я по-прежнему убежден в этом! Но я знаю, как сделать иначе. Ты можешь уйти от него и все же остаться на сцене, в комнате героя! Но для этого потребуется другое, необычное решение. Мы сыграем третье действие до этой сцены. Но когда ты и юноша остаетесь на сцене одни, твой сын будет ждать и звать не своего друга, а тебя. Не герой выпроводит тебя из комнаты, ставя точку в вашем романе, а ты сама расстанешься с ним. Таким путем ты сделаешь две вещи. Разорвешь отношения с молодым человеком. И дашь понять своему сыну, что имело место и закончилось. Герой покинет комнату. А теперь слушай меня внимательно, Джулия, — это самый важный для сцены момент! Он сильно сдавил ее руку. — Услышав, как он закрыл эту дверь, оставшись одна после ухода твоего любовника, ты смотришь сначала на дверь, потом медленно поворачиваешься лицом к публике — подавленная, одинокая, безутешная, сделавшая себе ампутацию части души без обезболивающего. Все это должно выражать твое лицо. Без слов, без плача, без единой слезы. Менее сильная женщина зарыдала бы в такой момент. Но не ты. Не Джулия Уэст! Она недоверчиво, удивленно спросила: — Я медленно поворачиваюсь… Ты хочешь сказать… что до этого момента я играю сцену спиной к зрителям? — Именно, дорогая! — произнес он с горячностью, чтобы скрыть свое неверие в то, что она согласится на это. Кермит Клейн едва сдерживал свою ярость. Он почти вскочил с кресла. Что за дикая идея! Этот малыш хочет погубить их всех! Но Кермит овладел собой и, вопреки своему желанию, терпеливо остался в кресле. — Конечно, Джулия, мне бы не хотелось требовать от тебя слишком многого. Я не знаю, способна ли ты сыграть всю сцену, стоя спиной к залу, и добиться нужного эффекта. Надеюсь, что способна. Но если нет, скажи мне. Я не хочу насиловать тебя. Она стояла опираясь на стол и задумчиво теребя волосы. Затем молча отошла от стола, начала ходить по сцене и наконец остановилась перед застекленным «фонарем», за которым виднелся нарисованный университетский городок. Ничего не говоря, принялась трогать пальцами дубовый подоконник. Все это время ее правая рука была хорошо видна из зала. Джулия наконец заговорила. — Диалог! — потребовала она. — Его еще нет. Я должен сочинить реплики, — ответил Джек. — Так сочини, придумай что-нибудь! — приказала Джулия. — Мне нужен диалог! Совместными усилиями они создали сцену в первом приближении. Ассистент режиссера торопливо записывал реплики. Джулия стояла спиной к залу, лицом к задней части сцены; она смотрела на декорации, изображавшие университетский город. Ее правая рука лежала на дубовой панели. Выразительные, красноречивые движения пальцев помогали раскрыть состояние души героини, говорившей юноше о том, что она любит его и никогда больше не встретится с ним. Затем Джулия приказала ему оставить ее, выйти из комнаты и присоединиться к сыну; правая рука женщины перестала двигаться, сжала деревянный подоконник «фонаря». Казалось, что актриса перестала дышать. Не покидая сцены, Джек сымитировал уход юноши; он открыл и закрыл дверь. Потом режиссер повернулся и посмотрел на Джулию. Рука актрисы была абсолютно неподвижной. Джулия держала эту позу добрых десять секунд. Затем рука медленно соскользнула с подоконника; женщина повернулась лицом к залу; ее глаза были влажными, но ценой больших усилий ей удавалось держаться прямо, не сутулясь. Джек еле слышно прошептал: — Медленный, медленный занавес. Джулия сохраняла эту позу очень долго — дольше, чем опускается занавес в настоящем спектакле. Потом она прошептала: — Господи, какое верное решение! Я это чувствую. Джек подошел к ней и с помощью поцелуя отдал дань ее артистизму. Она надолго прижала его лицо к своей щеке. Кермит появился в проходе; аплодируя, он произнес: — Блестяще, блестяще! Однако его голос прозвучал сдержанно. И Джек заметил это. Отстранившись от Джулии, он тихо сказал ей: — Иди в гримерную. Я скоро зайду за тобой, и мы где-нибудь выпьем. К этому времени они уже не вели друг с другом игру в отношении ее слабости к спиртному. Джулия отпустила Джека, кивнула и зашагала по сцене с достоинством и уверенностью великой актрисы. — Это может сработать. И весьма неплохо. Но у нас есть проблемы, малыш! — Какие? — с вызовом произнес Джек. — Во-первых, Сидни. Он не одобрит изменения! — Одобрит, когда я поговорю с ним, — уверенно сказал Джек. — Да? — донеслось из-за кулис. Это был Сидни Лампрехт. Он шагнул на освещенную часть сцены. На его лице застыла гримаса ярости, взъерошенные волосы выдавали душевные муки, пережитые им, когда меняли конец спектакля. — Негодяй, вы поклялись мне! Дали слово. «Ваша пьеса не допускает другого конца. Он понравился мне больше всего, когда я читал». Так вы сказали? А теперь, чтобы ублажить истеричную шлюху, губите пьесу? Вы негодяй! Сидни Лампрехт бросился к Джеку; Кермит попытался вмешаться, но опоздал. Джек протянул вперед обе руки и схватил Сидни за пиджак; он сдавил грудную клетку драматурга так сильно, что тот едва не задохнулся. Хриплым шепотом Джек пригрозил: — Если вы будете кричать, я убью вас! Я не хочу, чтобы она разволновалась. Вы меня слышите? Режиссер отпустил его. Ярость Джека подействовала на Сидни сильнее самих слов. — Не приближайтесь к ней и к театру до премьеры, — прошептал Джек. — Я сделаю ваш первый хит, только исчезните. Сидни повернулся, возмущенно поглядел на Кермита и выскользнул из театра в туманную бостонскую ночь. Тихо, чтобы снова не разозлить Джека, Кермит сказал: — Это обман, но блестящий обман. И он может сработать. Но как быть с ее гримом. Мы не можем пойти на то, чтобы она была не похожа на себя. Джек! Джек! Финли понял, что Кермит умоляет его. Кермит, ветеран, человек, за плечами у которого много хитов, громкое имя на Бродвее, умолял, потому что он израсходовал все другие средства. Джек ответил без колебаний и нерешительности, потому что он уже час назад знал, как он справится с Джулией. — Я уменьшу свет на протяжении всего спектакля. Заставлю ее наложить грим по-новому. И затем… затем… Джек замолк, думая о своем, стоит ли ему открывать Кермиту все. — Джек! — умоляюще произнес Кермит, получивший за вечер свою дозу сюрпризов и потрясений. — С начала последней сцены я буду прибавлять свет — очень медленно, едва заметно. К тому моменту, когда Джулия закончит сцену и повернется к залу, она будет ярко освещена. — Господи, Джек! — запротестовал Кермит. — Ты погубишь ее! — Нет, не погублю! Вы только молчите. Я не буду даже пробовать это до последнего просмотра в Нью-Йорке. — Джек, не погубите все! — Не беспокойтесь.
Вечером в пятницу новый конец получился неважным из-за того, что молодой человек плохо знал свои слова. Но в субботу утром финал удался. Больше всего Джулия любила играть в субботу вечером. В это представление она вложила весь свой талант и сорвала шквал аплодисментов. В зале впервые зазвучали крики «браво». Так прошли три первых прогона в Нью-Йорке. Спонсоров теперь волновало только освещение. Один из них сказал: — Кажется, что по такой темной сцене не пройти без собаки-поводыря. Джек проявил твердость; они обвинили его в излишнем самомнении, упрямстве. Но он стоял на своем. Вечером, в среду, во время последнего прогона, Кермит ждал в конце зала, пока Джек давал осветителю новые указания. Они досмотрели спектакль до последней сцены. Свет начал усиливаться так медленно, что Кермит заметил это лишь в середине сцены. Поняв, что происходит, он почти перестал дышать до того момента, когда Джулия повернулась лицом к публике. Ярко освещенная Джулия повернулась к залу своим расплывшимся, опухшим, стареющим лицом. С момента начала сцены она, казалось, постарела на двадцать лет. Переведя дыхание, Кермит сказал: — Вы не можете обойтись с ней так! — Я уже сделал это, — очень твердо сказал Джек. — И если вы попытаетесь мне помешать, я выброшу вас из театра, как Сидни! Понятно, Кермит? На этом дискуссия закончилась. К счастью, Джулия так сосредоточилась на последней сцене, что не заметила изменения в освещении. Премьера состоялась вечером следующего дня. Джулия была напряженной, слегка пьяной, но уверенной в успехе — впервые со дня ознакомления с пьесой. Наконец концовка спектакля стала такой, какой ее хотела видеть актриса. В зале находилась избранная публика: Любой спектакль с участием Джулии Уэст был событием. Тем более сейчас, когда актриса возвращалась на сцену после длительной болезни. Даже театральные снобы, недолюбливавшие Бродвей, поддались обаянию Джулии, прониклись ее игрой; они смеялись и затаивали дыхание, когда она хотела этого. Для публики не существовали ни другие актеры, ни автор, ни режиссер. Только Джулия Уэст. Во время последней сцены, которую она играла, стоя спиной к зрителям, зал следил за малейшим движением ее правой руки, касавшейся подоконника. Когда юноша ушел и Джулия медленно повернулась, зал ахнул. Опустился занавес, и Джек услышал самые громкие аплодисменты, какие ему доводилось слышать в театре. Раздались крики «Браво!». Джулию вызывали на сцену одиннадцать раз. Джек отправился за кулисы, чтобы поздравить актрису; Одри остановила его и горячо расцеловала: — Вы добились своего. Она была великолепна, и это сделали вы! Конец просто потрясает! Она постарела у меня на глазах. Прямо на глазах! Изумительно! Джулия никогда не ходила на банкеты после премьер. Поэтому Джек не пошел в «Сарди». Он позвонил из своей квартиры Кермиту, который прочитал ему несколько наиболее важных рецензий. «Таймс», «Ньюс», «Пост», «Уорлд-Телеграм», «Миррор». Статья в «Таймс» начиналась так: «Джулия Уэст вернулась в нью-йоркский театр. Это само по себе хорошая новость. Но вчера вечером она на глазах завороженной публики продемонстрировала самое удивительное преображение героини, какое когда-либо доводилось видеть зрителям. Буквально постарев без помощи грима, она превратилась из красивой, привлекательной сорокалетней женщины в пятидесятилетнюю старуху, по собственной воле променявшую любовь на одиночество. Поднявшись над пьесой, не свободной от недостатков, и над другими актерами, не дотягивающими до ее высочайшего уровня, мисс Уэст довела постановку до премьеры, имевшей огромный успех. Тот факт, что она добилась замечательного эффекта в финальной сцене — самом слабом месте пьесы, — свидетельствует о ее незаурядном таланте. Она совершила чудо, сыграв всю сцену спиной к публике и внезапно показав ей женщину, постаревшую за несколько минут на целую вечность. Джулия Уэст доказала, что ей требуется лишь сцена и аудитория. Остальное, как и прежде, она способна обеспечить сама». Чеплин из «Ньюс» тоже хвалил Джулию, только менее многословно; Уоттс выражал свое восхищение, более сдержанно выбирая сравнения.
Придя в театр вечером следующего дня, Джек увидел у кассы длинную очередь. Швейцар сказал ему, что люди стоят с раннего утра. Спектакль имел успех! Он будет идти по меньшей мере два года! Или столько, сколько пожелает играть Джулия Уэст. Джек посмотрел на фотографии артистов и афишу. Увидел свою фамилию — «Режиссер — Джек Финли». Его охватило ликование, которое он и не мечтал испытать. Усилия окупились. Душевная и физическая усталость стоили полученного результата. Джек вспомнил ночи, когда он испытывал страх — вдруг ничего не получится? Дни, когда ему приходилось импровизировать, думать и чувствовать за всю труппу. Ночи и дни, проведенные с Джулией в постели. Все усилия, муки, душевные шрамы окупились сторицей. Он прошел за кулисы, чтобы узнать, здесь ли Джулия. Она поправляла прическу в гримерной. Перед ней лежала статья из «Трибюн». На газете стояла пластмассовая крышка от термоса. Когда Джек вошел, Джулия улыбнулась. — Ты видел это? — спросила она. — Что? — «Трибюн»! «Геральд Трибюн»! Керр! Этот сукин сын! — Джулия, ты ему понравилась! — возразил Джек. — Он назвал меня старухой! Старухой! И это сделал ты. Залил меня светом. Заставил выглядеть ужасно, безобразно. Ты сделал это нарочно. Ты негодяй. Гомик. Проклятый гомик. Ты сделал это! Ее голос разносился по всему театру. Прибежал Кермит. — Джулия, Джулия, что случилось? Она закричала так, словно еще вчера не умоляла Джека заняться с ней любовью: — Кермит! Прогоните его отсюда! Я хочу, чтобы его не было в театре, пока идет спектакль! Он уйдет! Или уйду я! Этот чертов гомик пытался погубить меня! Погубить меня! Беспомощный, мгновенно вспотевший Кермит посмотрел на Джека. Режиссер вышел за дверь. Он направился через сцену к выходу. До него доносились крики Джулии: «Этот гомик! Вы знали, что он гомик?» Джек Финли вышел из театра, пересек проезжую часть и зашагал по переулку Шуберта. Когда он добрался до «Сарди», метрдотель указал ему на маленького лысого толстяка, который спрашивал режиссера. Джек подошел к нему. Толстяк поднялся и протянул маленькую, пухлую руку: — Джок Финли? — Джек Финли, — поправил его Джек. — Вы, верно, не читали статьи Эрла Уилсона. Он намекает, что вы добились от этой дамы хорошей игры только за счет того, что постоянно трахали ее. Уилсон утверждает, что вы обладаете огромным джок-соком. — Эрл Уилсон? — Да. Я сохранил для вас статью. Толстяк протянул режиссеру «Пост». Одновременно он представился: — Марти Уайт. Эта фамилия была знакома Джеку; Марти считался одним из лучших независимых агентов в Голливуде. — Пообедайте со мной, — предложил Марти. — Я хочу поговорить с вами о защите ваших интересов на Побережье. Одной рукой Марти усадил Джека, другой рукой подозвал официанта: — Джозеф! Принесите мистеру Финли выпить! Когда они оба сели, Марти сказал: — Я присутствовал там вчера вечером. Какая премьера! Надо быть настоящим режиссером, чтобы добиться такой игры от этой пьяной стервы. Если вы подпишете со мной контракт, вам не придется волноваться о премьерах, рецензиях. Я готовлю для «Стейбер Студио» ракетную сделку, в которую после сегодняшних статей могу немедленно включить вас. Малыш, вы слишком хороши для Бродвея, слишком талантливы, чтобы хлебать здешнее дерьмо. Они скрепили договоренность рукопожатием, прежде чем Джек покинул «Сарди». Марти обещал, проделав определенную подготовительную работу в «Стейбер Студио», вызвать режиссера в Голливуд. Не позже чем через месяц. — Малыш, пользуйтесь именем «Джок». Это будет элементом рекламы, — сказал в заключении Марти. Оказавшись на улице, Джек снова направился по переулку Шуберта к театру. С фотографией — они использовали ее старые снимки — на него смотрела Джулия Уэст. Значительно более красивая и молодая, чем та женщина, с которой он работал и спал. Финли произнес: — А катись ты к черту, Джулия Уэст! Пусть катятся к черту все Джулии Уэст! Сейчас вы мне не нужны. И не понадобитесь снова. Я иду дальше!
С тех пор прошло семь лет. Сейчас он находился на натуре, в пустыне, снимал картину. И снова столкнулся со старой проблемой, от которой не защищен ни один режиссер. Дэйзи Доннелл не была, в отличие от Джулии Уэст, агрессивной и злобной; она не предъявляла нелепых обвинений. Однако и здесь существовала проблема. Звезде, женщине, не удавалось выглядеть так хорошо, как следовало бы. Что может сделать в такой ситуации мужчина? Режиссер? Если бы Кермит был жив, он бы сказал: «Малыш, это твоя работа. Именно за это платят режиссеру». Джок Финли предпринял кое-что. Дейзи Доннелл не удастся погубить его карьеру, как не удалось это сделать Джулии Уэст. Выход должен быть, и он найдет его. В дверь трейлера постучали. Джо Голденберг закончил спектакль, который он устроил по просьбе Джока. Пора продолжать работу. Финли вышел из трейлера, держа в руках папку, обтянутую великолепной кожей флорентийской выделки; в ней лежал сценарий. Он направился вниз, к озеру, где его ждала съемочная группа, каждый час работы которой стоил не одну сотню долларов. Джок почти добрался до берега, когда лучи солнца, отражавшиеся от воды, на мгновение ослепили его. Он невольно отвернулся. Затем прищурился и посмотрел на воду, на дрожащее отражение светила. В его голове родилась идея — ясная и почти очевидная. Почему проблемы всегда кажутся более сложными, чем они есть на самом деле? Чем вызвана нынешняя загвоздка? Девушка не может заснуть. Это сказывается на ее глазах. Ответ? Используй камеру таким образом, чтобы ее глаза не играли важной роли. Но как можно это сделать в том виде искусства, где девяносто процентов игры осуществляется глазами? Выход есть. Специфика кино заключается в том, что зрители видят лишь то, что хочет показать им режиссер. В отличие от театра, где публика обозревает всю сцену, в кино режиссер говорит зрителям: «Смотрите сюда!» И они подчиняются ему. Мастерство кинорежиссера состоит в умении сделать это тонко, ненавязчиво, не раздражая зрителей. Если он способен решить эту задачу именно так, к нему и к фильму приходит успех. Если ты не можешь показать ее глаза, сказал себе Джок, покажи его глаза или что-нибудь другое. Что угодно. Только не ее глаза. Тут требуется изобретательность. Ловкость рук. Смелый полет тщательно выверенной фантазии. Возможно, его осенило, когда он увидел солнце, отражавшееся от воды. Или ему помогло отчаяние человека, борющегося за свою творческую жизнь. Так или иначе, но к Джоку пришла идея. Она сулила борьбу с Джо, очень долгое объяснение с Дейзи, возможно, первую публичную ссору с Престоном Карром. Однако сейчас другого выхода не было. Джок не сомневался в этом. Первым делом он подошел к оператору. Может ли Джо заснять солнце, отражающееся от воды? Дать почти сюрреалистический, расплывчатый, нерезкий кадр? Тогда Дейзи покажется нимфой, выходящей из воды. Такой ее мог бы увидеть человек, ослепленный яркими лучами солнца. Она будет медленно выходить из воды, достигавшей ее талии. Зрители увидят сквозь мокрое, прилипшее к коже платье, каждый изгиб ее тела, груди с отвердевшими от холодной воды сосками, живот с хорошо заметным пупком, даже лобковые волосы. Все это, подчеркнутое мокрой тканью, предстанет перед зрителем в виде картины, написанной импрессионистом. Джо задумался над идеей Джока. Режиссер затаил дыхание, пытаясь прочитать мысли оператора по его глазам. Если Джо скажет, что это осуществимо, ему, Джоку, будет легче договориться с Дейзи и Карром. Джо бросил взгляд на воду и сказал: — Тогда надо спешить. Мы потеряем нужный угол падения лучей. Джок готов был расцеловать маленького бородатого человека, который походил на раввина, но мыслил, как художник. Надо спешить, повторил Джо. Тем лучше! Джок отправил своего ассистента за Престоном Карром, потом передумал и остановил его, прежде чем тот дошел до двери трейлера. Карр читал вчерашний номер «Уолл-стрит Джорнэл». Он отложил газету в сторону и спросил Джока: — Будешь снимать кадры, где нет Дейзи? Он знал, что Джок не может снимать сейчас ее глаза. — Нет, Прес, нет. Джок начал объяснять, что он хочет снять и как должен помочь ему Карр. Надо убедить девушку. Карр слушал с интересом. Если Джок считает, что это осуществимо, то следует попробовать, согласился актер. Джок попросил Карра вместе с ним пойти к Дейзи. Они нашли ее в трейлере, служившем гардеробной актрисы; она сидела перед зеркалом у гримировочного столика и смотрела на предательские глаза. Джок понял, какие чувства она испытывает. Он также знал, что должен поторопиться. — Господи, милая, ты ничего не делала со своими глазами? Она ничего не ответила, потому что не могла признаться ему в этом. На столике стояли четыре открытых пузырька с разными глазными каплями. Джок взял Дейзи за руку, увел ее от столика, посмотрел ей в глаза. — В любом случае оставь их такими, какие они есть. Это даже нужно для съемки. Он коснулся ее век так осторожно, словно это были крылья бабочки, и убедился в том, что она не трогала их. — Я не хочу, чтобы ты использовала грим. Ты должна выглядеть естественно. Пусть иллюзия родится в глазах зрителей. Поняла? Она была так напряжена, что даже не посмела кивнуть. — У нас мало времени, мы теряем утреннее солнце. Джо сказал, что снимать можно только до одиннадцати. Мы должны работать быстро. Поэтому только слушай. Помнишь, я говорил тебе, что все будет иначе, нежели в твоих прежних картинах. Это относится к любовным сценам. Мне не нужны идеальные волосы, идеальные губы, идеальные глаза. Я не желаю, чтобы каждая зрительница говорила себе: «Ну конечно, если бы в двух футах от меня стояли парикмахер, гример и костюмер, если бы меня одели в пеньюар от Диора и положили на шелковые простыни, я бы тоже выглядела эффектно». Я хочу, чтобы эта любовная сцена была похожа на одну из тех, что происходит с людьми в обычной жизни. С обыкновенными мужчинами и женщинами. Никакого макияжа. Вместо идеального пеньюара — самое обычное и в то же время самое соблазнительное хлопчатобумажное платье. Не отглаженное, а абсолютно мокрое — ведь тебя сбросили в озеро. Твои волосы слиплись. Я хочу, чтобы все работало против тебя, уменьшало твою красоту, и все же чтобы она проявилась, одержала верх, подействовала на Линка! В его глазах, а следовательно, и в глазах зрителей, ты, мокрая, растерянная, станешь самой красивой женщиной на свете! Мы сделаем все именно так, как я сказал. Как только Джо сообщит, что солнце стоит под нужным углом, я сам отнесу тебя в озеро и брошу в воду. Я хочу, чтобы ты опять испытала шок от охлаждения. Хочу увидеть, как твоя кожа покроется мурашками и посинеет. Хочу увидеть, как отвердеют твои соски. Ты рассержена тем, что лошадь Линка сбросила тебя в воду. Ты идешь назад, к берегу. Ты готова убить Линка, потому что он смеется над тобой. Но, приблизившись к нему, увидев, как меняются его глаза, начинающие светится любовью, ты сдаешься. Он соблазняет тебя своими глазами. Ты оказываешься на берегу, ты уже охотно позволяешь Линку набросить тебе на плечи его потрепанную кожаную куртку. Ты не сопротивляешься, когда он усаживает тебя на берегу, позволяешь ему поцеловать тебя. Он делает это впервые. Ты знала много, очень много других мужчин. До встречи с Линком была шлюхой. Но этот поцелуй — точно первый в твоей жизни. Когда он мягко толкает тебя назад, ты доверяешься ему и ложишься на спину. И затем… он разденет тебя. Да. Он расстегнет пуговицы мокрого платья, стянет его с тебя. На твоих обнаженных грудях заблестят капли воды, кожа все еще будет «гусиной», соски — твердыми. Он начнет целовать твои обнаженные груди… все остальное зрители дорисуют в своем воображении. — Я не знаю… — сказала она. — Я никогда не снималась обнаженной. — Мир никогда не забудет эти мгновения, — прошептал Джок. Он подождал. Наконец она кивнула. Она сделает это! Сделает! Без смущения и страха, которых он ждал. Он поцеловал ее в щеку. — Отлично! Я знал, что ты поймешь наш замысел, — сказал Джок. — Я позову тебя, когда мы будем готовы. Он ушел вместе с Карром. Шагая от трейлера к берегу, Карр произнес: — Малыш, я надеюсь, что тебе никогда не придет в голову продать мне страховой полис. — Они даже не заметят, какие у нее глаза, — тихо сказал Джок. Карр кивнул. Джо подготовил съемочную площадку. Они разыграли сцену с дублершей Дейзи. Джока все устраивало. Прес Карр внес несколько полезных предложений. Наконец все было готово. Ассистент Джока отправился за Дейзи. Когда она пришла, Джок повторил для нее содержание сцены. Перед съемкой Финли сам стер с лица Дейзи весь макияж, взъерошил пальцами ее волосы. Он поцеловал девушку в щеку и поднял на руки. Джок зашел с Дейзи в озеро, держа ее над водой, чтобы эффект от внезапного охлаждения проявился более заметно. Перед тем как уронить ее, режиссер оглянулся назад; Джо подал ему знак. — Оставайся под водой пять секунд, — шепнул девушке Джок. — Я успею выйти из кадра прежде чем ты поднимешься. Я решил обойтись без дублей и сыграть с тобой всю сцену до конца. Потому что я хочу тебя! Ты слышишь? Он произнес эти слова страстно, но абсолютно неискренне. Прежде чем она успела что-нибудь ответить, он бросил ее в воду с такой силой, словно хотел, чтобы она опустилась до самого дна. Потом начал быстро отходить в сторону, чтобы не попасть в кадр. Наконец повернулся и посмотрел на то место, где он оставил Дейзи. Пять, шесть, семь — считал он про себя. Она поднялась из воды, задыхаясь, разбрасывая брызги; волосы прилипли к ее лицу, платье обтягивало тело Дейзи. Она направилась к берегу. Остановилась на глубине в один фут и посмотрела в камеру, как просил Джок. Все детали ее фигуры подчеркивались лучами солнца, отражавшимися от подернутой рябью воды. Лицо, глаза Дейзи не были видны. Легкая расфокусировка объектива, голубая вода, сверкающее золотистое солнце, фасные горы, фигура девушки, обтянутая мокрым хлопчатобумажным платьем — все это дало такой эффект, что впоследствии этот кадр стал ключевым к рекламе «Мустанга». Некоторые критики назвали его «Венерой Финли», потому что Дейзи подняла одну руку, чтобы убрать с лица волосы, а другой обхватила груди; ее силуэт казался безруким. После этого главного кадра работа пошла быстро. Лицо Престона, наблюдавшего за тем, как Дейзи выходит из воды, выражало жалость, любовь, наконец возбуждение. Все крупные планы Карра получились превосходными. Затем последовала любовная сцена на берегу, во время которой Карр раздевал Дейзи. Она тоже прошла хорошо, хотя девушку приходилось часто обливать холодной водой, чтобы ее кожа оставалась мокрой и блестящей, а соски — твердыми, напряженными. Но делать все это было легче, поскольку нужное освещение обеспечивалось дугами и рефлекторами. И потому что Престон Карр был великолепен в ближних планах, демонстрируя потрясающий профессионализм и душевную тонкость. Его магия была так сильна, что, когда он целовал девушку, она по-настоящему отвечала ему, и он это чувствовал. Внезапно Джок понял: Дейзи влюблена в Престона Карра. Поэтому сцена получилась великолепной. Теперь Джок знал это. И это вызвало у него злость. Но к концу дня он был готов простить всем что угодно. Почти безнадежная игра привела к успеху. Так, во всяком случае, казалось. Окончательно они узнают это завтра, когда увидят проявленную в лаборатории пленку. Отснятого сегодня материала должно было хватить на великолепную любовную сцену. Самое главное — это то, что они решили проблему с глазами девушки. Возможно, теперь она будет спать лучше, и эта трудность больше не возникнет. На следующий день, получив проявленную пленку, Джок не стал, как обычно, ждать перерыва на ленч, а тотчас остановил съемку. Престон, Джок, Джо, ассистент режиссера Лестер Анселл втиснулись в маленький проекционный трейлер. Дейзи Доннелл никогда не смотрела кадры, на которых была она заснята. Пленка представляла из себя неупорядоченную череду сцен. Кадры, в которых Дейзи поднималась из воды и шла к камере, появились на экране последними. После просмотра в трейлере воцарилась тишина. Наконец Джо сказал: — Я не мог бы снять такое второй раз. Подобное совершенство — гениальная случайность. Или случайная гениальность. Это было высочайшей оценкой работы режиссера. Тем более что прозвучала она из уст Джо Голденберга, человека сдержанного, крайне скупого на похвалы. После присуждения ему премии Академии он обычно говорил: «Спасибо. Большое спасибо». Критики, вечно притворяющиеся, будто рецензии на фильмы имеют важное значение, будут отыскивать в этой сцене всевозможную символику. Сравнивать Финли с Антониони и Бергманом. Изобретать интерпретации в духе Фрейда и Рейха. И ни одному из них не придет в голову, что режиссер просто пытался скрыть опухшие, усталые глаза невыспавшейся девушки. Один из критиков написал в общенациональном журнале: «Некоторые режиссеры используют обнаженные груди весьма ловко и искусно; они напоминают мясника, развешивающего свой товар в витрине магазина. Джок Финли — не из их числа. С помощью нескольких капель морской воды, блестящих на обнаженной груди, он способен добиться эффекта, сравнимого с эффектом от картин Дали. … его груди живут… кажется, будто их поры раскрываются перед объективом камеры. Финли сочетает откровенность с нежностью и уважением. Девушку, в которой другие режиссеры видели шлюху или нечто худшее — секс-символ, Финли превратил в мадонну». И Джок будет играть свою роль. Соблюдая правила игры, будет давать интервью, притворяясь, будто каждый кадр и каждая сцена навеяны глубинными слоями режиссерского подсознания и насыщены символами. Так рождаются легенды о великих создателях современных фильмов. Сейчас Джок захотел снова просмотреть отснятый материал. Но, как ни странно, с наибольшим вниманием он разглядывал не Венеру, выходящую из воды, а Карра, целующего обнаженную грудь Дейзи. И ее реакцию. Джок бросил взгляд на Карра, сидящего в темном трейлере. Свет от экрана подчеркивал красоту его загорелого лица. Актер время от времени кивал. Этим он выражал свое одобрение. Но Джоку показалось, что Карр подтверждает и его подозрения: девушка влюблена в Престона. Когда пленка закончилась, Карр сказал: — Хорошая работа. Отличная. Может быть, мы на правильном пути. Это было произнесено как комплимент. Но Джок воспринял услышанное как упрек… — У нас уже есть отличный материал. Мы закончим вовремя. Сделаем превосходную картину. — Не нервничай, малыш, — улыбнулся Карр. — После всего, что мы пережили, отставание на шесть дней — это не беда. — Мы наверстаем! Теперь, когда мы уже добились от нее многого, — с легким раздражением в голосе сказал Джок. — Думаю, да, — задумчиво произнес Карр. В голосе Престона прозвучала уверенность. Джока это возмутило. Внушение оптимизма, бодрости духа, надежды является прерогативой режиссера, особенно когда речь идет об игре актрисы. Джок не желал уступать это право никому. Даже Престону Карру.
Седьмая глава
Со времени существования двора Людовика XIV простой, естественный акт прелюбодеяния нигде не влиял так сильно на финансовую жизнь общества, как в Голливуде. Распространившийся в ресторанах, студиях, столовых слух о том, что Джок Финли спит с Дейзи Доннелл, являлся чисто деловой информацией. Они снимают вместе превосходный фильм, потому что их связывает великая страсть. Вся съемочная группа наблюдала за сценой с поцелуями; люди видели, что Карр играет, а Дейзи — просто живет в этом эпизоде. Джок понял, что это может означать. Его подозрения подтвердились в течение суток. Благодаря пересылаемой ежедневно отснятой пленке, письмам, телефонным звонкам новость быстро долетела до Лос-Анджелеса. Звонок Филина не заставил себя ждать. Агент попросил Джока удалить всех из связного трейлера, и режиссер понял, что разговор будет важным, хотя голос Марти звучал, как всегда, невозмутимо. — Ну, малыш, как дела? — Хорошо. Отлично. Великолепно. Почему ты спрашиваешь? — Почему? Я твой агент и беспокоюсь о тебе. Я твой исполнительный продюсер и беспокоюсь о фильме. Я жду шедевра. Джок Финли знал, что Филин попросил его удалить всех из радиотрейлера не ради такого рутинного разговора. Где-то рядом находился ржавый рыболовный крючок. Джок решил выявить его самым прямым способом. — Послушай, Марти, я снимаю ответственную сцену. Я нужен на съемочной площадке. Как и предполагал Джок, Марти тотчас заговорил о существенном. — Прежде чем ты уйдешь, малыш, скажи, как там все? Нет проблем? С девушкой? — С девушкой? — удивленно спросил Джок. Он лучше чем кто-либо знал, о чем идет речь. — Утром мне позвонили из Нью-Йорка. В «Репортере» появилась заметка о… лучше я прочитаю: «На натуре, где снимается «Мустанг», назревает драка между знаменитым актером и режиссером, которого считают первым жеребцом в табуне». Это может встревожить студию. Особенно теперь, когда они обсуждают рекламную кампанию стоимостью в два миллиона долларов. Даже готовят специальное гастрольное шоу. «Мюзик-холл» мечтает познакомиться с лентой. Они не хотят, чтобы сейчас произошло нечто плохое. — Ничего плохого не произойдет! — Джок Финли понял, что он кричит. Понизив голос он сказал: — Послушай, Марти, картина будет отснята. Она получится великолепной. Дейзи не подведет. Пока я считаю, что, трахаясь с ней, я приношу пользу картине, я делаю это. А если для картины полезнее воздерживаться от этого, я не трахаюсь с Дейзи. Сейчас имеет место именно это. Я не хочу, чтобы кто-то еще знал об этом! Понятно? — Малыш, ты можешь не повторять это, — ответил Филин. Они оба знали, что, положив трубку, Марти позвонит на студию, в редакцию «Голливудского репортера» и нескольким знакомым газетчикам. Слух разнесется по городу. К концу дня зазвучат шутки о Джок-соке Финли. О том, как он получил свое имя. О том, что он обладает большей сексуальностью, чем все его актеры, вместе взятые. Что он с ее помощью добивается от актрис поразительной игры. Что это — величайший любовный роман со времени Бергмана и Росселлини. Вечером в «Ла Скала» люди будут говорить: «Большой талант, большой член». Корректировка слухов, циркулирующих в Лос-Анджелесе, не изменит происходящее на натуре. Шестидесятидвухлетний Престон Карр, который по возрасту мог быть отцом Джока, средь бела дня увел у него девушку. На глазах у всей съемочной группы. И не просто какую-то девушку, а Дейзи Доннелл. Все знали о ее многочисленных быстротечных романах с мужчинами, за которых она не выходила замуж, но это не могло утешить Джока Финли, который сам обладал определенной репутацией и гордостью. Актер нуждается в гордости, чтобы играть. Для режиссера это справедливо в еще большей степени. Он отвечает за сотни людей, командует ими, как армией. Чувствует за всех актеров. Воплощает замысел автора. Защищает миллионы долларов, вкладываемых киностудией. Он — босс, распоряжающийся всем, хотя порой кажется слугой всех и каждого. Чтобы ежечасно шагать по натянутому канату, режиссер должен обладать гордостью, мужеством, агрессивностью, душевной тонкостью, а главное — верой в себя. Поэтому ему противопоказано много раз за день подвергаться унижению. Однако Джок испытывал унижение всякий раз, когда ему был нужен для съемок Карр, а актера находили в трейлере Дейзи. К концу второго дня все уже шутили на эту тему. Всякий раз, когда Джок приказывал: «Найдите его!», все члены съемочной группы притворялись поглощенными своей уже сделанной работой — никто не хотел смотреть на Джока и смущать его своими взглядами. Ситуация вскоре усугубилась. Джок выпалил: — Позовите его! Я готов снимать! Ассистент Джока, Лес Анселл, побежал к трейлеру Дейзи. Вернувшись через несколько секунд, он сообщил: — Они… не отвечают. Господи! На часах было пятнадцать минут четвертого. Нужное освещение сохранится в течение часа. А этот сукин сын трахает эту шлюху! Какое кино можно снимать в таких условиях? И это позволяет себе профессионал, великий Король кинематографа? Джок внезапно принялся рассматривать и чистить объектив. Лес Анселл резким тоном приказал технику принести или переставить что-то. Ассистент Джо сказал: «Надо перезарядить камеру, иначе пленка может закончиться на середине сцены». Это займет десять минут. Все думали как и Джок, но выражали свои мысли в корректной, вежливой, косвенной форме. Джок Финли не поощрял жалость. Он мог сам проявлять ее по отношению к актерам, делая это тактично, деликатно. Однако теперь он стал объектом сочувствия. Он никогда не забудет этого. И никогда не простит повинного в этом человека. Луиза оценила бы иронию судьбы: Джок Финли, никогда не любивший по-настоящему женщину, использовавший секс как средство, попал в такое обидное для него положение. Джок Финли, гордившийся тем, что он оставался хозяином положения с любой женщиной, стал жертвой одной женщины. И одного мужчины. Он мог избрать сейчас одну из двух линий поведения. Дождаться появления Престона. Или подойти к трейлеру, постучать в дверь и сказать: «Мистер Карр, я тут снимаю фильм. Если у вас найдется время между половыми актами, мы готовы начать!» Это было рискованным шагом. Нельзя предсказать реакцию такого самоуверенного человека, как Престон Карр. Поэтому Джок Финли сел в режиссерское кресло и не без удовольствия бросил своему ассистенту: — Объявите пятиминутный перерыв. Нет, лучше пятнадцатиминутный. Кто знает, сколько времени уйдет на то, чтобы у него встало? Шутка была дешевой — никто не понимал это лучше самого Джока, — но вызвала смех. Джок знал, что ее повторят в Лос-Анджелесе; она добавит что-то к репутации режиссера, оживит легенду о джок-соке. Раньше и громче всех засмеялся Тони Бойд, молодой актер, игравший в фильме роль третьего участника любовного конфликта. Если отбросить символику и скрытый смысл, забыть о конформизме общества и противопоставляемой ему свободе мустангов, последних обладателей личной свободы, — все это станет хлебом для критиков, — «Мустанг» являлся для зрителей любовной историей в стиле «вестерн». Эта история развивалась так, как она должна была развиваться: мужчина находил девушку и терял ее — она уходила к более молодому человеку. Более молодого человека играл Тони Бойд; его взяли из популярного телесериала, который исчерпал себя. Бойд оказался весьма хорошим актером. Несколько лет тому назад агент Тони, не видя для него подходящих ролей в театре, уговорил актера поехать в Голливуд и сняться ради быстрых денег в пробной телепостановке. Эта работа имелауспех, и на Бойда возник устойчивый спрос. Последние четыре года он снимался почти ежедневно с шести утра до восьми вечера. Ежегодно во время летнего отпуска молодой Бойд возвращался на Восток, чтобы познакомиться с новой пьесой или попытаться оживить старую постановку. В конце августа он мог вернуться на Побережье и рассказывать о великом, вдохновляющем, обогащающем мире театра; он хотел, чтобы все считали его по-прежнему преданным Бродвею. Голливуд, телевидение, все остальное — это только источники денег. Питавший простительную слабость к подобной болтовне, Тони Бойд был добрым, сильным, красивым человеком; он охотно беседовал с Джоком Финли о теории актерской игры и о нефти; недвижимости и акциях — с Престоном Карром. Продав свою долю прибыли от проката телесериала за миллион шестьсот тысяч долларов, Тони сам стал инвестором, игроком, бизнесменом. Как актер Бойд вполне устраивал Карра. Пока дело не дошло до сцен, в которых Бойд начал произносить свои слова неуверенно, непредсказуемо, неестественно — то есть в соответствии с требованиями так называемой «реалистической школы». Бойд запинался, мямлил, грыз палец перед очередной репликой. Это все сильнее раздражало Карра. Однако, как и подобает профессионалу, он счел возможным пожаловаться Джоку, лишь оставшись наедине с режиссером. — Пойми, — сказал Карр, — моя игра наполовину зависит от чувства уверенности. Я должен знать, что мне даст другой актер. Пусть он сыграет плохо. Я должен знать, насколько плохо. Тогда я вытяну мою часть сцены. Зрители даже не заметят его присутствия. Но я не могу парить в воздухе. Мне нужны реплики партнера. Тогда я дам тебе материал, который годится для монтажа. Я не воспринимаю его отвратительную игру. — Я вправлю ему мозги, — сказал Джок. — Дайте мне еще несколько дней. — Не знаю, хватит ли у меня терпения, — ответил Престон Карр. При иных обстоятельствах, в другое время Джок Финли вызвал бы к себе Бойда, закрыл дверь и отхлестал бы актера существительными и эпитетами; он обрушил бы на Тони безжалостную критику. У многих режиссеров, не только у Джока, излюбленной была следующая тактика: полностью лишить упрямого актера веры в себя, добиться того, чтобы в конце концов она осталась только у одного человека — самого режиссера. Тогда все проблемы исчезнут. Он, Джок, получит почти все, что ему нужно. Но актер никогда не оправится от полученного удара. Джок не собирался поступать так с Бойдом. Не из-за любви к нему. Просто он не хотел угождать во всем Престону Карру.Когда Престон Карр наконец вышел из трейлера Дейзи и явился на съемочную площадку, Джок был воплощением деловитости, сдержанности. Им предстояло снять очередную сцену. Джок как бы невзначай заметил, что свет не будет оставаться вечно. Престон Карр уловил намек и манеру, в которой он был преподнесен. Но он лишь спросил: — Какой ты видишь эту сцену? Джок объяснил. Линк, у которого был роман с Рози, бездомной девушкой, впервые понял, что молодой человек — его играл Бойд, — возможно, подходит на роль ее мужа. Если только этот юноша избавится от конформизма, станет человеком, в полном смысле принадлежащим самому себе. Другими словами, девушке нужен мужчина, на которого она сможет положиться — самостоятельный, независимый. Поэтому она увлеклась Линком. Но теперь пришло время отдать ее в руки другого мужчины, который больше подходит ей по возрасту. Сейчас предстояло заснять Карра крупным планом в тот момент, когда он впервые открывал зрителям свое решение. Сцена была достаточно простой и ясной. Но Джок Финли, гордый молодой человек, мустанг голливудских холмов, преподнес свою трактовку так, что каждое слово обрело двойное или тройное значение. Девушка, роман, зрелый мужчина, молодой человек, соперничество — каждый элемент эпизода срывал корку с засохших душевных ран Джока, заставлял их снова кровоточить. Карр слушал режиссера молча. Если сцена и была наполнена для него каким-то личным содержанием, то он тщательно скрывал свое отношение к этому. Он лишь кивал. Джок продолжал говорить. Их окружала стена из тишины. Джо, Лестер, оператор, рабочие, гримеры, костюмеры — все слушали мучительное толкование сцены. Наконец Джок закончил свой монолог словами: — Давайте попробуем. Там будет видно. Крупный план Карра появился в сцене, где Линк учит молодого Бойда «ломать» мустанга — полного сил, дикого, свободного, гордого, только что пойманного в высохшем русле реки. Линк следит за молодым человеком; публика видит, что сначала зрелый мужчина смотрим на Бойда критически, затем постепенно проникается к нему симпатией, работает с ним и наконец радуется тому, что молодой человек одержал победу. Внезапно Линк осознает нечто важное: этот парень подходит Рози! На серьезном лице Карра появляется его знаменитая хитрая улыбка, затем лицо снова становится серьезным. Зрители прочитают в глазах Карра его мысли, выраженные языком кинематографа без единой реплики. — Вы поможете мне, если поставите пленку, на которой записан топот копыт, — обратился к звукорежиссеру Карр. Звукорежиссер нашел на ленте нужное место. Копыта мустангов загрохотали неистово, яростно, испуганно. Это звуки сопровождались трогательным, горделивым ржанием. Кусок магнитной ленты заключал в себе историю поимки мустанга, борьбы и победы Бойда. Послушав запись, Карр начал играть сцену. Его мимика была безупречной, идеально точной. Челюсти, губы, все лицо передавали чувства Линка. В его глазах отражались не только эмоции персонажа, но и вся сцена, свидетелем которой он был. Когда съемка закончилась, Джок ничего не сказал Карру; режиссер лишь спросил Джо: — Вас это устраивает? Джо кивнул. С напускным равнодушием Финли сказал: — Тогда о'кей. Если только мы не можем сделать лучший дубль. Опытный киноактер, когда ему удается сыграть хорошо, всегда чувствует это. Иногда приходится делать дубль из-за тени, появления которой не предвидел оператор, или из-за помехи на звуковой дорожке. Хороший актер знает, как он сыграл, можно ли добиться лучшего результата, стоит ли его добиваться. В этом дубле Карр передал все нюансы еще и потому, что хотел избежать конфликта с Джоком Финли. Но он не мог оставить без ответа вызов, содержавшийся в словах режиссера: «Если только мы не можем сделать лучший дубль». — Если Джо скажет, что света достаточно, я сыграю еще раз, — сказал Карр. — Джо? — спросил Джок. — Все было отлично, — уклончиво ответил Джо. — Света еще хватает? — произнес режиссер. — Мы можем добавить несколько дуг. Можем снимать, если вы этого хотите. Ответ Джо прозвучал как предостережение, отеческая мольба, адресованная самоуверенному, сердитому молодому человеку. — О'кей! Звук! Приготовьте снова ту запись. Джо, я жду вашего сигнала. Джо снова все подготовил, передвинул Карра в сторону на несколько дюймов. Проверив все, он тихо сказал Джоку: — Я готов. — О'кей. Сделаем так, чтобы этот дубль удался, — Джок произнес эти слова тихо и твердо, желая рассердить Престона Карра. Это отразилось на игре актера. Во время съемки Джоку пришлось сказать: — Стоп! Ничего не получается. Попробуем еще раз! С самого начала! Они начали все снова. Затем еще раз. После четвертого незавершенного дубля Джо Голденберг тихо сказал Джоку: — Первый дубль — то что надо. Вы не можете желать лучшего. — Я могу, — ответил Джок; сейчас ему не было дела до того, слышит его Престон Карр или нет. Вокруг съемочной площадки собрались люди. Даже Дейзи. Карр сделал пятый дубль. И шестой. Всякий раз Джок прерывал съемку: — Господи, нет! Это не пойдет! — Послушайте, Джок, нам надо перезарядить камеру, свет уходит. Почему бы нам не закруглиться сегодня? Продолжим завтра утром. Но Престон Карр также обладал гордостью, большой профессиональной гордостью. — Еще раз! — громко сказал актер. Джо посмотрел на Финли. Режиссер был почти готов отказаться, потому что предложение исходило от Карра, однако он все же согласился: — Еще раз. Оператор быстро перезарядил камеру. Джо скорректировал освещение. Престон Карр шагал вокруг съемочной площадки, глубоко дыша и мобилизуя свою внутреннюю энергию, которая начала иссякать по причине обыкновенной физической усталости. Он набрал воздух в легкие и резко, агрессивно выдохнул его. Теперь он был готов. Он вышел на съемочную площадку, окруженную прожекторами и лицами людей. Карр прослушал топот копыт, впитал в себя звуки, издаваемые напуганными животными, представил себе сцену, увидел героя Бойда и начал играть. То ли он действительно устал, то ли изображал усталость, но сейчас Карр создал образ пожилого мужчины, готового отдать другому человеку, обладающему молодостью и силой, девушку, в которой тот нуждался. Возможно, дело было в изменившемся освещении. Или свою роль сыграла гордость Карра. Он решил превзойти самого себя, чтобы доказать что-то этому молодому негодяю — режиссеру. В чем бы ни заключалась причина, по завершении съемки все знали, что это — тот самый дубль. Более удачный, чем первый, который, видит Бог, должен был удовлетворить всех. Престон Карр, поблескивая испариной, покинул съемочную площадку, Он повернулся, и все увидели, что на спине его рубашка была мокрой от пота. Молодые члены съемочной группы удивлялись тому, как может столь сильно вспотеть человек, играющий психологическую сцену, не требующую физических усилий. Но опытные кинематографисты знали, что подобные крупные планы, в которых актер кажется расслабленным и задумчивым, требуют наибольшей душевной отдачи и концентрации. Карр остановился возле Джока, когда режиссер велел закончить работу. Джок бросил на Карра настороженный, почти агрессивный взгляд. Финли ожидал проявления враждебности, но Карр сказал: — Ты был прав. Последний дубль лучше первого. Если бы Дейзи не подошла в этот момент к Карру, чтобы набросить на влажные плечи актера его дорогой итальянский жакет, инцидент был бы исчерпан. Но она сделала это и поцеловала Престона в щеку. — Я восхищена. Просто восхищена. Это настоящая актерская игра. — Нет, милая, это заслуга режиссера, — поправил Карр. — Любой другой режиссер удовлетворился бы меньшим. В другое время, при других обстоятельствах, эти слова были бы восприняты как комплимент. Но их произнес Престон Карр; они были адресованы Дейзи Доннелл, которая заботилась о нем, целовала его и, как все знали, два часа тому назад занималась с ним сексом. — Послушайте, мистер! — взорвался Джок. — Когда я разговаривал с вами в первый раз, я сказал, что я не похож на других режиссеров. И это правда! Первый дубль дался нам слишком легко. Мы, возможно, увидели очень хорошего Престона Карра. Но меня это не устроило! Я не иду на компромисс! Я снимаю потрясающий фильм! Если это задевает вас, или причиняет неудобства, или требует чрезмерной отдачи, тем хуже для вас! Джок повернулся и ушел. Кто-то тихо произнес: — Чтобы быть хорошим режиссером, необязательно быть самовлюбленным гордецом. Но это помогает. Тоже самое повторят сегодня вечером в «Ла Скала», «Матео», Чейзене». А завтра утром — в столовой киностудии. И хотя эти слова произнес не Престон Карр, Джок будет всегда считать виновным актера. Новости мгновенно долетают до Лос-Анджелеса. Перед обедом снова позвонил Марти Уайт. Он начал с поздравлений и обильных похвал. Студия восхищена материалом. «Нью-Йорк» тоже ликует. Все затаили дыхание в надежде на то, что Джок сумеет закончить картину без всяких неприятностей и выходок со стороны Дейзи, которыми она прославилась. — Малыш, сделай одолжение мне, а главным образом себе. Ты близок к успеху. Не погуби все. Нью-Йорк готов заключить фантастический контракт. Они профинансируют нашу компанию. Шесть картин. Ты будешь сам себе хозяин. Получишь все необходимое. Только продержись до конца. Малыш! Но Джок не слушал его. Гордость режиссера была уязвима. И он хотел спасти ее. Он публично поставит Карра на место. — Малыш, тут говорят, что ты добиваешься великолепной игры от Престона Карра и девушки. Умоляю тебя — не погуби все! Пожалуйста. Марти понял, что Джок не слушает его. — Малыш? Малыш! Черт возьми, Джок, я с тобой разговариваю! Пытаюсь сказать тебе нечто важное! Улыбнувшись, Джок елейным тоном произнес в трубку радиотелефона: — Малыш, дай кому-нибудь пососать твой член. И выключил аппарат. Марти был прав в одном. Слух долетел до Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. По своему значению он был не сравним со сплетней о том, кто с кем спит. «Лайф», «Лук», «Тайм» предлагали подготовить статьи. Две телекомпании хотели снять документальные фильмы о работе над картиной, которая обещала стать шедевром. Несмотря на давление со стороны студии и Марти, Джок не допускал на натуру репортеров и фотографов со стороны. Он отвергал все предложения одинаково: «Моисей и евреи прожили сорок лет в пустыне без «Лайфа» и «Лука». Мы можем обойтись без них четыре месяца». Причиной этому сначала была неуверенность Джока. А теперь он чувствовал, что возникает шедевр, и не хотел ослаблять эффект, который произведет фильм, преждевременной утечкой информации. Но у Нью-Йорка были свои проблемы, которые он не мог игнорировать. Мятеж акционеров, погашенный несколько месяцев тому назад, грозил вспыхнуть снова. Публикации в «Лайфе» и «Луке», а также сотрудничество с телевидением могли помочь в прокате фильма, успокоить на какое-то время акционеров. Якобы для того, чтобы изменить отношение Джока к паблисити, Марти предпринял индивидуальную вылазку на натуру. Филин прилетел на арендованном вертолете, который приземлился возле съемочной площадки во время удачного дубля и испортил его к раздражению Джока. Филин рассчитал время своего прибытия так, чтобы попасть на ленч. Но также увидеть Джока Финли, погруженного в работу. В сцене участвовали Карр и Бойд; на заднем плане присутствовала Дейзи. Основным ее содержанием являлся диалог. Бойд знал свои слова; более того, он произносил их так, что это чувствовалось. Он почти не ковырял землю носком пыльного сапога, не грыз ногти, не сосал губу посреди фразы. Престон Карр излечил его от этих привычек тем, что стал произносить свои слова немного быстрее обычного и предупредил Бойда: «Малыш, если ты будешь тянуть резину, тебя порежут при монтаже». Этот аргумент испугал мистера Бойда и избавил его от нью-йоркских «штучек»; актер заговорил быстрее. Сцена получалась весьма неплохой. Марти подумал: «Вполне приличный эпизод. Еще несколько таких сцен просто необходимы фильму, насыщенному действием и сексом. Приличие — вот что требуется картине, которую собираются показать в «Мюзик-холле». Престон Карр чувствовал, что эта сцена — проходная. Не каждая сцена в картине может быть выдающейся. Этот эпизод оправдывал свое присутствие в фильме тем, что развивал сюжет, не снижая темпа картины, обогащал характеры. Но Джок не был удовлетворен. Джо и звукорежиссер одобрили дубль. Ассистент произнес: «О'кей. Следующая сцена!» Джок повернулся спиной к съемочной площадке и отчеканил: — Подождите! Возможно, дело было в присутствии Марти. Каждый режиссер немного играет, когда на съемочной площадке появляются посторонние. Режиссерам не часто представляется возможность показать миру, как они работают, какие они талантливые, что нового они внесли в сценарий, написанный давно забытым автором. Поэтому почти каждый режиссер устраивает небольшой спектакль для гостей. Поведение Джока было простительным. В присутствии Филина Джоком руководило не только тщеславие; увиденное агентом будет использоваться им много лет при продаже Джока Финли. Он сможет не раз повторить: «Я видел, как этот парень превращал дерьмо в золото! Прямо у меня на глазах!» Джок Финли преследовал вполне практическую цель. — Перерыв на ленч! Потом вернемся к этой сцене! Джо Голденберг, его ассистент, Престон Карр, Тони Бойд находились в расслабленном состоянии, которое приходит после удачной, профессионально сыгранной сцены. — Что-то не так? — спросил Джо. — Нет, — ответил Джок, — но если бы я хотел сделать картину, в которой просто нет брака, мы бы уже закончили две недели тому назад. Отсутствие брака — это одно, а совершенство — совсем другое. Мы вернемся к этой сцене после ленча и доведем ее до совершенства! Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, он повернулся к Марти и сказал: — Я буду в моем трейлере. Джок ушел, явно полагая, что Филин проследует за ним. Но Марти Уайт, человек, привыкший к власти, не пошел за режиссером. Он решил воспользоваться моментом и поговорить со своими старыми друзьями. Он тепло поздоровался с Престоном Карром, поцеловал Дейзи Доннелл — все приветствовали ее подобным образом. Затем Марти подошел к Джо, который отдал своему ассистенту распоряжения, касающиеся дневных съемок, и отпустил его. У ветеранов каждой войны есть свой особый язык; они понимают друг друга без слов. Это справедливо и в отношении ранних голливудских войн. Для их участников Джок Финли всегда останется выскочкой, за которым надо присматривать и которого надо терпеть. — Ну? — спросил Филин. — Много хорошего материала, — ответил Джо. — Смонтируется? — Конечно! — А девушка? — Она никогда не играла лучше. — Карр? — Он — Король. — Значит?.. — Я буду рад видеть в титрах мое имя. В устах Джо Голденберга это было наивысшей похвалой. — Финли? — Если только он не превратит это в вендетту. — Он и Карр? — спросил Марти. Джо кивнул. — Карр спит с девушкой, да? — Не перед камерой, — ответил Джо; остальное его не касалось. Марти кивнул. Джо сказал все. Работа идет нормально. Только бы Джок не начал мстить Карру! Зайдя в трейлер Джока, Марти застал режиссера изучающим сценарий. Когда Филин заговорил, Джок резко остановил его: — Господи, Марти! Марти посидел несколько минут молча. Джок продолжал изучать сценарий. Официант принес из столовой ленч на двоих, накрыл стол. Все происходило без слов. Джок обдумывал сцену, вникал в свои записи, сделанные ранее на обратной стороне каждого листа, а также на дополнительных цветных страницах. Наконец он поднял глаза и посмотрел мимо лысой головы Филина в окно, на видневшиеся вдали горы. Что-то произошло в сознании Джока. Проблема была решена. Он вдруг сказал: — Да? Марти растерялся, что случалось с ним крайне редко. — В чем дело, Марти? Вряд ли ты арендовал вертолет только для того, чтобы съесть тут дрянное жаркое из баранины. Что случилось? — Малыш, — сказал Марти. — Мне позвонили из Нью-Йорка. Им кажется, мы упускаем шанс в отношении паблисити. Если «Лайф» хочет отдать нам разворот, может быть, даже обложку, глупо отказываться. В конце концов, когда речь идет о картине с восьмимиллионным бюджетом, небольшая предварительная реклама никому не повредит. — «Лайф» отдал «Потрясающей истории» целый разворот плюс обложку. А фильм потерпел фиаско, — сказал Джок, отодвинув жаркое из баранины и взяв чашку с охлажденным черным кофе. — Ты знаешь, что говорят о Джордже Стивене: только великий режиссер может потерпеть такую великую неудачу. С обычным человеком такого бы не случилось. Филин обмакнул кусок баранины в соус, посмотрел на мясо и продолжил: — Нью-Йорк хочет поговорить о контракте. Но я их удерживаю. Чем сильнее они давят, тем сильнее я сопротивляюсь. Если картина оправдает те надежды, которые все возлагают на нее, любой заключенный сейчас контракт впоследствии покажется невыгодным. Если картина провалится, они сумеют аннулировать любой контракт. Поэтому я считаю, что мы ничем не рискуем, придерживаясь выжидательной тактики, а выиграть можем многое. Лучше торговаться, имея сильную позицию. Конечно… «Конечно» было ключевым словом в лексиконе Филина. Оно говорило о том, что Джоку пора переключить внимание с кофе на Марти. — Конечно, Нью-Йорк чувствует, что скоро получит большую кассовую картину. Чем меньшее расстояние отделяет их от нее, тем сильнее они волнуются. В конце концов они боятся акционеров. Поэтому они молят Господа о том, чтобы в последнюю минуту ничего не стряслось. — В смысле? — сухо произнес Джок. — Ну… например… девушка подвержена нервным срывам. Если с ней что-нибудь случится… — С девушкой все в порядке! Джок не стал добавлять: «За исключением того, что она больше не ляжет со мной в постель». — Хорошо. Хорошо, — сказал Филин. — Еще они беспокоятся о малыше Бойде. Он подходит для кинематографа? Хорошо выглядит на экране? — Он вполне хорош. Справляется с ролью. Молодежи он понравится. Это важно. — Несомненно, — поспешил согласиться Филин — сейчас всех интересовала реакция молодежи. Внезапно перерыв закончился. Ассистент Джока постучал в дверь трейлера и сообщил, что съемочная группа уже вернулась. Филину пришлось заговорить быстро; Джок знал, что теперь речь пойдет о главной, истинной цели их встречи. — Нью-Йорк испытывает беспокойство и по другому поводу. Из-за некоторых трений. Я бы хотел вернуться в Лос-Анджелес, позвонить в Нью-Йорк и сказать им, что ты и Престон Карр отлично ладите… Филин выдержал паузу. Джок тоже молчал. Он допил кофе, взял папку со сценарием и шагнул к двери. Финли обернулся и тихо произнес: — Марти, дорогой, вот что я тебе скажу. Садись в свой чудесный арендованный вертолет, отправляйся в Лос-Анджелес, звони в Нью-Йорк и скажи им следующее: какие бы слухи до них не доходили, все обстоит отлично. Например, ты можешь объяснить им: когда я считаю, что для фильма полезно, если Престон Карр и Дейзи Доннелл спят вместе, я поощряю это. Нью-Йорк может не беспокоиться о том, кто с кем спит. Они должны беспокоиться только о том, что происходит на экране. Дорогой, никто не трахает девушку Джока Финли без его разрешения! Ясно? Только сейчас Марти Уайт понял, какую глубокую рану Престон Карр нанес своим поступком Джоку Финли. Теперь Филин мог до конца понять то, что пытался сказать ему Джо Голденберг. — Что касается всего остального, — продолжил Джок, — то ты прибыл сюда вовремя. Ты увидишь своими глазами то, что я собираюсь сделать с этой сценой. А потом ты сможешь вернуться назад, позвонить в Нью-Йорк и сказать им, что мне платят за работу над фильмом, а не за то, что я трахаю звезд! Джок не просто покинул трейлер. Он вылетел из него как ракета и поспешил на съемочную площадку, где люди ждали его распоряжений. Ничего не говоря, Джок сыграл сцену сначала за Карра, потом за Бойда и, наконец, за Дейзи. Все стояли и молча смотрели на него. Карр, Дейзи, Бойд присоединились к съемочной группе. Люди встревожен но переглядывались, но никто не раскрывал рта, пока Джок внезапно не произнес: — О'кей! Вот так сцена получится! Щелкнув пальцами, он подозвал реквизитора. — Аркан! Реквизитор мгновенно кивнул и произнес: — Да, сэр! Джок занял позицию в центре, в окружении камер, кресел, рефлекторов, выключенных дуг, техников, Джо, Карра, Бойда, Дейзи. Филин стоял за камерой; он наблюдал за своим неистовым клиентом. — Мы снимаем сцену, в которой мужчина в годах готовится уступить место молодому человеку. Герой видит, что его ждет. Скоро, очень скоро девушка, которой кажется, что она влюблена в него, — на самом деле она влюблена в образ отца, — вступит в более естественные отношения с человеком, более близким ей по возрасту. Марти перевел взгляд со своего клиента, который непрерывно говорил и играл, на Престона Карра. Как он отреагирует на описание ситуации, имеющей отношение не только к картине, но и к его связи с Дейзи Доннелл? То, как Джок произносил слова «мужчина в годах», «более близкий ей по возрасту», «более естественные отношения», говорило о том, что он в присутствии всех выплескивает наружу свою ненависть. Если Джо Голденберг и ошибался, то лишь в оценке величины опасности. Но сейчас Филин мог только слушать. И надеяться на то, что ему еще удастся поговорить с Джоком до отлета в Лос-Анджелес. Сейчас Финли захватил всю сцену и не собирался уступать ее никому. — Как мы выразим это, не прибегая к такому грубому средству, как слова? Как передадим мысли и состояние героя? Каким образом он отказывается от девушки, которую любит, но знает, что скоро потеряет ее? Как он вручает мантию наследника молодому, более сильному человеку? Другими словами, как пожилой человек, обреченный на поражение, уступает дорогу молодости и сохраняет симпатию, любовь, преданность зрителей? К этому моменту реквизитор вернулся с арканом. Режиссер щелкнул пальцами. Реквизитор шагнул к нему и протянул свернутую веревку. Джок взял ее. Он бросил аркан на землю и принялся играть его концом, напоминавшим тонкую, длинную змею. — Вот! Вот этот символ! Символ опыта. Пожилой человек использует его, играя сцену. Когда он учит молодого героя бросать аркан, на самом деле он говорит о девушке, о жизни. Он набрасывает его на столб ограждения, снимает, снова набрасывает. Он делает это изящно, красиво. Бросает, снимает, сворачивает. Бросает, снимает, сворачивает. На протяжении всей сцены. А вы… Джок внезапно повернулся к Бойду. — Вы смотрите на него, восхищаетесь им. Слушаете его. Но улавливаете идею лишь в конце сцены, когда он передает аркан вам. В этот миг вы вместе со зрителями понимаете, что он вручает вам девушку. Доверяет ее вам. Отдает с надеждой на то, что вы будете обращаться с ней так же умело. Потому что она — ранимая девушка, и он знает это. Он любит ее, но понимает, что слишком стар для Рози. Завтра он уедет навсегда. Перед этим он хочет обрести уверенность в том, что она окажется в надежных, любящих руках. Бойд кивнул. Престон Карр смотрел на Джока. На лице актера не было ни возражения, ни согласия. Только серьезное, вдумчивое отношение. Возможно он и сердился, но Марти не увидел этого. Джок кивнул Бойду, предлагая ему сыграть сцену. Импровизируя диалог, Джок лениво раскрутил веревку, затем бросил аркан. Петля не попала на столб, но Финли сыграл так, будто бросок был удачным. Он дернул веревку, как бы снимая ее со столба, смотал, снова бросил, освободил, смотал во второй раз. Джок сыграл так всю сцену, передавая основной смысл диалога и некоторые ключевые фразы. Сцена обрела жизнь, ее значение расширилось. Наконец он повернулся и передал смотанную веревку Бойду. Затем Джок покинул съемочную площадку точно актер, величественно уходящий со сцены. За все это время Финли ни разу не спросил Карра, сможет ли он сыграть подобным образом. И захочет ли. Это было бы обычной вежливостью по отношению к любой звезде, даже если бы речь шла не о Короле, получающем миллионный аванс. Обращение с арканом, которое Джок только имитировал, требовало немалой сноровки. Веревку предстояло бросать в нужный момент, играя при этом сцену и находясь перед камерами. Это могло оказаться неосуществимым. В таком случае сцена будет сниматься по частям. Поэтому чуткий, предусмотрительный режиссер в подобных случаях интересуется мнением звезды. И делает это без свидетелей. Не перед всей съемочной группой. Однако Джок Финли лишь произнес: — Проделаем все раз или два. Посмотрим, что у нас получается. Бойд! Прес! Вы готовы, Джо? Джо, кивнув, шагнул к видоискателю, чтобы найти наиболее выигрышные ракурсы. Бойд занял свое место посреди декораций с веревкой в руке. Престон Карр отошел от Дейзи, шагнул вперед и взял аркан. Джок присел на корточки перед камерой. Марти пришлось передвинуться, чтобы видеть все происходящее. — Вы готовы, Прес? — сухо спросил Джок. Престон Карр подержал веревку в руках, как бы прикидывая ее вес, размотал, бросил на землю, снова смотал. Попытался накинуть аркан на столб. Промахнулся. Снова смотал веревку. Снова промахнулся. Произнес несколько фраз из сценария и бросил аркан в третий раз. Опять промах. Актер словно искал что-то. Он еще ни разу не накинул веревку на столб — этот момент был важнейшим, ключевым для сцены, он символизировал опыт и умение пожилого человека. Все это время Карр казался задумчивым, чем-то обеспокоенным, смущенным. Может быть, он просто не хочет попасть? — спросил себя Марти. Он переглянулся с Джо Голденбергом. Так было и прежде, говорил взгляд Джо. Другая звезда ушла бы со съемочной площадки, отвечал Марти. Карр повторил сцену. Он сматывал веревку, бросал ее, промахивался, произносил слова из диалога. Он по-прежнему казался чем-то обеспокоенным. Съемочная группа стояла на почтительном расстоянии; люди смотрели, слушали, ждали, когда Король взорвется и уйдет. Но он не уходил. Карр остался, даже когда Джок сказал: — Очевидно, это слишком сложно. Джо! Установите камеру так, чтобы столб не попадал в кадр. Потом мы позовем одного из конюхов и снимем крупным планом, как веревочная петля падает на столб. Бросок Карра, столб крупным планом; бросок Карра, столб крупным планом. Это не идеальное решение, но оно нас устроит. Хороший, тем более блестящий режиссер не позволил бы себе такого. Не только с Престоном Карром, но и с любой звездой. Если у звезды что-то не получается, режиссер находит вежливый, дипломатичный выход из неловкой ситуации. Он не подчеркивает в присутствии всей съемочной группы то, что возможности звезды ограничены. Так поступил бы и Джок Финли, если бы он был сейчас блестящим режиссером, а не мужчиной, изгнанным из постели женщины человеком почти вдвое старше его. На съемочной площадке воцарилась специфическая тишина. Она имела вес, плотность. Она висела в воздухе, реагировала на каждый звук, на дыхание. И, пока кто-нибудь не скажет или не сделает что-то, будет казаться, что до часа «X» осталось десять секунд. Первым заговорил Престон Карр. — Смитти, — обратился он к реквизитору, — принесите мне две веревки. Одну — совершенно новую, другую — уже использованную. — Да, сэр, мистер Карр. Смитти, который был старше мистера Карра, бросился, точно мальчик на побегушках, исполнять распоряжение Короля. — Коринна! — обратился Карр к помощнице режиссера. Она встала со стула и шагнула вперед; на ее шее висел секундомер; она держала в руках сценарий, раскрытый в нужном месте. — Да, сэр? — Я хочу, чтобы вы следили за каждым произнесенным мною словом. Прежде, когда акцент был на словах, мы воспроизводили все реплики. Но сейчас мы не только говорим, но и действуем, поэтому можно обойтись меньшим количеством реплик. Карр повернулся к Джоку: — Джок, дорогой, ты позволишь мне еще раз сыграть сцену и сделать некоторые сокращения? — Пожалуйста. Поступайте, как вам удобнее. — Послушай, можно я кое-что предложу Бойду? — спросил Карр. — Конечно, — ответил Джок. — Если это не нарушит сцену. Карр вышел на середину загона, жестом попросил Бойда занять нужное место. Потом посмотрел по сторонам, нашел взглядом Дейзи и тихо произнес: — Дорогая, я хочу, чтобы… ты стояла вот здесь. Он подошел к девушке, взял ее за руку и подвел к дальнему концу ограждения. Он поцеловал ее в щеку, шутливо коснулся пальцем носика Дейзи и направился обратно к Бойду. — Малыш, — обратился к нему Карр, — это поможет мне в сцене. Видишь ли, если я отдаю тебе девушку и пытаюсь объяснить, что ей нужен человек более молодой, но обладающий чуткостью и душевной тонкостью, я не могу дать зрителям понять это. Тогда я как бы говорю публике: «Смотрите, какой я замечательный». Ты сам должен дать ей понять это. Поэтому перед тем, как я сделаю последнюю петлю из веревки и передам тебе аркан, то есть девушку, ты переведешь взгляд с меня на нее, потом снова на меня. Я хочу увидеть в твоих глазах понимание того, что я делаю. Только теперь Карр посмотрел на Джока и сказал: — Лицо Бойда надо дать крупным планом, да? — Совершенно верно! — согласился Джок; он был рассержен, потому что не сказал это сам. Смитти вернулся с двумя веревками. Одна была совершенно новой, еще с ярлыком, другая — потемневшей. — Эта достаточно старая? — спросил Смитти. Карр взял обе веревки и подержал их в руках. Затем свернул их и посмотрел на Джока. — Что скажете? Новая веревка, которую я передам Бойду, — чистая и свежая. Она станет символом новых, чистых отношений между девушкой и молодым человеком. Или взять старую веревку? Словно я передаю ему нечто такое, что нельзя назвать чистым, но что способно при умелом обращении прослужить целую вечность. Какой вариант больше понравится критикам из Нью-Йорка, Парижа и Лондона? Марти не понял всего сарказма, заключавшегося в вопросе Карра. Сознательно ли актер упомянул Лондон? Хотел ли он пощекотать нервы Джока, задеть его самолюбие? Но важны были не намерения Карра, а реакция Джока. Овладев собой, улыбающийся Джок вышел на середину съемочной площадки, посмотрел на обе веревки и произнес: — По-моему, лучше использовать новую. Девушку связывают с молодым человеком новые, чистые отношения… Это лучше подчеркнуть с помощью новой веревки. Джок забрал у Карра старую веревку и бросил ее реквизитору. — Вы готовы? — спросил режиссер. — Давайте попробуем, — ответил Карр. Джок посмотрел на своего ассистента, потом на Джо. — Все по местам! Каждый занялся своим делом. Карр лишь обозначал свои действия, не совершая их на самом деле. Движения его рук имитировали работу с арканом; актер произносил слова про себя, беззвучно; он хотел убедиться в том, что помнит новый, сокращенный вариант. Джок не вмешивался. Закончив, Карр отыскал глазами режиссера среди людей, стоявших вокруг камеры. — Я готов! Джок подал знак своему ассистенту и скомандовал: — Мотор! Играя веревкой, Престон Карр начал неторопливо, тщательно произносить свои слова; он переводил взгляд с аркана на Бойда, проверяя, понимает ли его молодой человек. Затем Карр свернул веревку. В нужный момент он бросил ее. Петля четко опустилась на столб ограждения. Карр выдержал паузу, чтобы увидеть реакцию Бойда, потом сдернул веревку со столба и смотал ее. Делая это, он говорил о том, что порой деликатность, чуткость в обращении с женщиной более эффективны, чем грубая сила и нажим. Действуя аккуратно и нежно, он снова бросил аркан. Веревка изящно упала на столб. Благодаря купюрам, изяществу и легкости движений Карра сцена обрела поэтичность, которая заворожила молодого Бойда. Он сыграл свою часть сцены так естественно, что Джок не смог понять, игра это или реальность. В конце сцены Карр медленно смотал веревку, собираясь передать ее Бойду. Он протянул аркан молодому актеру. Бойд взял его. Лицо Бойда выражало восхищение, граничащее с ужасом. Но никто не упрекнул его, поскольку это соответствовало содержанию сцены. Карр отошел в сторону. Всем было ясно, что означает его уход. Когда кинематограф становится подлинным искусством, потребность в словах исчезает. — Стоп, — прошептал Джок. Бойд тотчас подошел к Карру и пожал его руку. — Господи! Вот это игра! Надеюсь, я ничем не испортил сцену, мистер Карр. — Ты сыграл отлично, малыш. Я получил именно то, что мне было нужно. — Они еще рассуждают об актерской игре в Нью-Йорке! — добавил Бойд. Джок Финли приблизился к Карру: — Потрясающе, Прес! Просто потрясающе! Он был готов использовать более выразительные слова. — Когда ты сыграл сцену с арканом в руке, я понял, как ее можно улучшить, — сказал Карр. В присутствии всей съемочной группы Карр подчеркнул, что вся заслуга принадлежит Джоку. Актер воспользовался идеей Финли и воплотил ее в сцене, убрав часть реплик. Расставляя акценты с помощью аркана, он вдохнул в эпизод жизнь, глубину, изящество, значение. Он с легкостью справился с тем, что было задумано Джоком как унизительный вызов. К ним присоединился Марти. Он пожал руку Карра, почтительно и восхищенно покачивая головой. — Такой игры сейчас не увидишь. Молодежь увлекается теориями. Она знает об актерской игре все. Кроме одного — как надо играть. Какой урок! Эту сцену должен увидеть каждый молодой актер. — Это была идея вашего клиента, — скромно сказал Карр. — Вот так снимается кино. Хорошая идея становится отличной. Совместными усилиями. Он ушел, казалось, забыв о трениях, конфликте, взаимной неприязни. Марти повернулся к Джоку: — Блестяще! Малыш, это потрясающая сцена. О ней еще долго будут говорить. Я не подозревал, что Карр так ловко обращается с арканом. Потрясающе! Так и держись. Не позволь чему-то помешать тебе. Хотя Мартин не назвал имени, Джок понимал, что имеет в виду агент. — Его надо заставлять. Тогда он демонстрирует все, на что способен, — почти мрачно произнес Джок, словно он потерпел поражение. — Не горячись, малыш. Еще долго? Неделю, десять дней? — Я оставил большую, важную сцену на конец. Она может занять неделю. Или месяц. Но я не уеду отсюда, пока не добьюсь своего. — Большая сцена? Мартин напряг память. — С несущимися мустангами? Она уже лежит в коробке. — Сцена укрощения, — сказал Джок. «Что еще за сцена укрощения?» — спросил себя Филин, но не стал выяснять это. — А, да, — сказал он. — Сцена укрощения. Сколько времени она потребует? — Возможно, много, очень много, — задумчиво произнес Джок. — В любом случае действуй осторожно. Этот фильм станет классикой, — произнес Марти. Он хотел сказать еще что-то, но Джок должен был срочно ответить на вопросы ассистента. Филин направился к вертолету. Его приподнятое настроение сменилось страхом. Что затевает Джок Финли? Если бы талантливые молодые люди проявляли больше осторожности! Если бы им удавалось унять гордость! Однако что было бы с их талантом без гордости?
Восьмая глава
Все заметили, что Престон Карр и Дейзи Доннелл уже несколько дней не обедают в столовой. Им подавали еду в трейлере Карра. Как правило, отборные продукты доставлялись по воздуху из Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Но этот вечер отличался от других. Возможно, из-за дневных событий. Из-за исключительно удачной сцены с арканом. В чем бы ни заключалась причина, в этот вечер Карр попросил накрыть стол на двоих. Когда они шли по столовой, кое-кто из старых кинематографистов вставал, пожимал Карру руку, поздравлял его. Эти люди сохранили чувство товарищества, исчезающее в эпоху заграничных съемок и случайно сколоченных съемочных групп. Тогда каждый человек, работавший в кино, от последнего рабочего до знаменитой звезды, принадлежал к определенной студии. Позже контракты стали заключать на каждую картину в отдельности; одни и те же люди редко работали вместе дважды. Джок начал поглощать ростбиф, когда в столовую вошли Карр и Дейзи. На его лице появилась натянутая улыбка. Он слышал комментарии ветеранов: «Сегодня Пресс сыграл не хуже, чем в «Поражении» с Лайонелом Бэрримором». Речь шла о том времени, когда Карру было столько лет, сколько сейчас молодому Бойду. Хотя Джок любил ростбиф, в данный момент мясо не лезло ему в горло. Пробормотав что-то о «чертовой западной говядине», он оттолкнул от себя тарелку и попросил кофе. Официант предложил попробовать другой ростбиф. Джок отказался. Только кофе. Не дождавшись его, Джок направился к выходу; он поприветствовал улыбкой Дейзи и Карра. Финли шагнул в прохладную пустынную ночь и стал удаляться от лагеря кинематографистов. Наконец Джок остановился в почти полной темноте и посмотрел на далекие очертания гор. Он сказал себе, что его внезапный уход из столовой никак не связан с появлением там Дейзи и Карра. Причина — в плохом мясе. К тому же он должен придумать, чем можно закончить картину. Финал обязан превзойти все предыдущие сцены. Нельзя допустить, чтобы критики упрекнули его в том, что он не вытянул конец. Приблизившись вплотную к успеху, Джок требовал от режиссера Джока Финли, чтобы тот нашел способ обеспечить триумф. Все зависело от важной финальной сцены Престона Карра. И это было удачей. Карр мог ответить на любой брошенный ему вызов, превзойти любые требования Джока. Карр делал это с уверенностью, легкостью и профессионализмом, которыми гордятся нынешнее поколение актеров и режиссеров. В своем высокомерии они пытаются отказывать в этих качествах ветеранам. Да, Карр обладал многими талантами. И умел ими пользоваться. Если Финли испытывал его — Джок неохотно признавался себе в том, что это правда, — то фиаско терпел режиссер, а не Карр. Джок поспешил оправдать себя тем, что им руководило стремление улучшить фильм. Взять, к примеру, великолепную сегодняшнюю сцену с арканом. Кому интересно, что сделало ее такой! Режиссер вложил в творческий процесс свои чувства — любовь, ненависть. Ради этого фильма. Что бы ни говорили люди о Джоке, Карре, о том, кто с кем спит, главное для Джока и всего мира — сам фильм. Если он удался, все забудут о том, что происходило в чьей-то постели. Джок займет место в голливудском фольклоре, череде мужчин, с которыми спала Дейзи Доннелл, но не выходила за них замуж. Среди тех, кому она позволяла использовать себя, потому что на самом деле это она использовала их. Для Джока было важным одно: чтобы картина несла на себе печать величия. Чтобы профессионалы говорили о потрясающей игре Престона Карра, значительной роли и выдающемся фильме. Чтобы они говорили о лучшей игре Дэйзи Доннелл за всю ее карьеру. Джок оправдывал, уговаривал себя, однако не обретал утешения. Джоки Финли рождаются не для поражений. Они могут проигрывать только смерти. И они появляются на свет не для того, чтобы рано умереть. Он доказал это, когда шагнул вперед с камерой в руках. Он мог сделать это, потому что твердо верил: Джока Финли еще ждет впереди необычная судьба. Другие могут умирать рано, но он — нет. Другие молодые люди могут терять девушек, но не Джок Финли. Он должен убедить себя, что сам бросил ее и сделал это ради фильма. Теперь его проблемой был Престон Карр. И последняя сцена. Финли посмотрел в сторону автопарка, где стояли все машины: личные и принадлежащие студии. Подошел к своему фасному «феррари» и запрыгнул в него не открывая дверцы — возможно, потому, что именно Престон Карр упрекнул его в том, что Джок делает это, чтобы произвести впечатление на окружающих. Джок завел мотор. В безмолвной пустынной ночи он взревел громче, чем обычно. Джок поехал по равнине, поднимая шлейф пыли. Финли едва не въехал в ограждение, за которым стояло оборудование. Описав полукруг, Джок приблизился к дальнему концу площадки. Остановил машину, выскочил из нее; начал бродить среди накрытых камер, операторских кранов, платформ. Он залез на забор, посидел там, спрыгнул, пересек площадку и направился в сторону пустыни,чувствуя под ногами твердую, спекшуюся землю. Периодически он останавливался, ударял каблуком почву, прислушивался к звуку. Наконец он остановился и посмотрел на поднимавшиеся вдали горы. Лунный свет заливал гигантские гряды. Внезапно какой-то звук заставил его насторожиться; похоже, к Джоку приближалось какое-то живое существо. Ночью в пустыне появлялись животные, но они не представляли серьезной опасности. Американские зайцы, койоты. Правда, Джок ни разу не видел их тут. Он быстро повернулся и тотчас успокоился — к нему шел Джо Голденберг. — Что-то случилось? — спросил пожилой оператор. Приближаясь к Джоку, он набивал табаком трубку. Джо позволял себе это удовольствие после работы. В перерывах между дублями и сценами у него не оставалось на это времени. Но вечером, после обеда, когда Джо обдумывал завтрашние ракурсы, он любил насладиться легким ароматным дымом. Финли не ответил ему. Тот подошел ближе, начал раскуривать трубку. При свете зажигалки он мог видеть молодое, сильное, задумчивое лицо Джока; голубые глаза режиссера сузились, стали жесткими. — Что-нибудь не так? — снова спросил Джо. Финли улыбнулся. — Не так? Черт возьми, Джо, я сделаю вас знаменитостью. Взволнованный, заинтересованный Джо сказал: — Пора. Художественный дар Джо Голденберга сделал знаменитыми нескольких молодых режиссеров. Джок Финли начал ходить взад-вперед; он смотрел на горы, ночное небо, щедро усыпанное серебристыми звездами. Оператор выдохнул дым и спросил себя, о чем думает сейчас Джок — о жизни, о фильме, или о своих отношениях с Престоном Карром? — Это картина, — наконец произнес Джок. — О чем она? Человек на склоне лет понимает, что он должен передать что-то другим. И это «что-то» — мольба о личной свободе. Мир становится слишком сложным, огромным, запутанным для простых человеческих существ. Больше нет фронтира, Дикого Запада, который может завоевывать индивидуум. Мир — это сплошная технология, оборудование, аппаратура. Человек вынужден служить машинам, которые сам изобрел. Джо не раз слышал в подобных обстоятельствах заумные рассуждения, до которых нет дела зрителям. Но если из этого спонтанного потока идей и чувств рождалось нечто такое, что можно донести до публики, то уже не имело значения, насколько туманно излагал свои мысли режиссер. — Джо, каким образом мы дадим зрителям понять, почувствовать это, стать частью этого? Мне нужны не пассивные наблюдатели, а участники. Я хочу, чтобы они были с Карром! Были самим Карром! В самые критические мгновения фильма! Я хочу, чтобы картину не смотрели, а проживали! Джо молча выдохнул дым. Каждый хороший режиссер когда-то произносил подобные слова. Джо понимал: все они так погружены в фильм, что хотят, чтобы весь мир разделил их чувства с такой же силой. Но это хорошо. Если человек не охвачен неистовой верой в фильм, он не должен снимать его — так считал Джо. Сейчас снималось огромное количество фильмов — даже если они были посредственными и не приносили никому удовлетворения, то все равно расходы окупались благодаря телевидению. Поэтому приятно видеть человека с трепетным отношением к кино. Джо был великолепным слушателем. Этот дар составлял часть его таланта. Выслушивая режиссеров, порой излагавших свои мысли недостаточно ясно и четко, он проникался их чувствами, помогал им созревать, участвовал в создании новых приемов, ракурсов, методов освещения, способствовал реализации режиссерских намерений. Джо сказал в одном интервью: «Для режиссеров, особенно молодых, я — психоаналитик. Когда я слушаю их достаточно долго, из этого возникает нечто полезное». — Я хочу, чтобы аудитория была захвачена, поглощена заключительной сценой, — сказал Джок. — Так же, как захватывает обыкновенного человека окружающий его мир. Мне нужна отчаянная ярость дикого зверя, борющегося за свою свободу. Мне нужны решимость, пот, мускулы, энергия Карра — человека, который должен сломить и обуздать животное. Хочу, чтобы все это раскрылось одновременно! И длилось долго! Я не желаю разбивать сцену на куски. Человек, животное, человек, животное, человек, животное. Дальний план, средний, крупный. Дальний план, средний, крупный. Не желаю прибегать в этой части фильма к традиционным приемам. Хочу передать зрительному залу такие ощущения, от которых публику прошибет пот. Она должна проникнуться сочувствием к животному и почти возненавидеть Карра, но восхититься его мастерством, силой, упорством. А затем… когда зрители окажутся во власти этих чувств, Карр внезапно скажет себе: «Я не могу обойтись так с этим благородным животным». Актер снимает недоуздок, ударяет мустанга и отпускает его на свободу. Зрителей охватит желание вскочить с кресел и расцеловать Престона Карра. Даже если эта картина окажется его последней, они запомнят этот эпизод как лучший за всю карьеру актера. Джок замолчал. Когда он заговорил снова, его голос был более мягким, тихим, извиняющимся. — Джо… я не уверен, понравится ли вам задуманный мною эффект… если нет, скажите сразу, и я приглашу на этот эпизод другого человека. Наряду с извинениями в голосе Джока прозвучал вызов. Именно это и хотел режиссер. — То, что пришло мне в голову, — новый, дерзкий, рискованный шаг. Может быть, молодой оператор с меньшим опытом сделает его, не преодолевая внутренние барьеры. Я хочу показать важный для меня эпизод на нескольких экранах одновременно. — На нескольких экранах? Вам придется переоборудовать все кинотеатры ради одного эпизода в одном фильме. — Нет. Мы сделаем все в лаборатории. С помощью оптики. Разделим обычный экран на шесть частей. Дадим несколько картинок на одном экране. — Это интересно, — согласился Джо. — Конечно, тут все упрется в стоимость… — Я отправлюсь на студию. Или, если понадобится, в Нью-Йорк, — почти зло сказал Джок. — Если я получу разрешение, вы сможете сделать это, Джо? Если вы скажете «нет», в этом не будет ничего зазорного. Речь идет о новой технике. Отличной от всего того, что вы делали прежде… Джок уставился на бескрайний темный горизонт. Он напряженно ждал ответа Джо. — Я способен на все, что можно сделать с помощью камеры, — тихо сказал Джо. — Если вы чувствуете, что это необходимо… и получите деньги, я согласен и хотел бы попробовать нечто подобное. Глаза Джока ожили, почти заплясали. Чтобы получить дополнительные средства, он должен был иметь право сказать боссам: «Послушайте, Джо Голденберг хочет попробовать нечто подобное! Значит, идея отнюдь не сумасшедшая». — Разумеется… — Джо начал осознавать, на что он обрекал себя. Джок почувствовал, что его ликование может оказаться преждевременным. — Да, Джо, что? Финли сумел изобразить юношеский интерес к тому, что собирался сказать собеседник; на самом деле сейчас он готовился парировать любые возражения. — Камеры, монтаж — все эти проблемы можно решить. Были бы деньги и время. Но… нужный метраж, мой мальчик. Вам потребуется много материала. Для монтажа необходимо располагать большим количеством отснятой пленки. — Если вы хотите показать глаза человека, мускулы на его руках, напряженное, серьезное лицо, да еще так, чтобы все видели — речь идет о жизни и смерти, вам не обойтись несколькими кадрами. Вы должны снимать долго, только тогда вы добьетесь нужного эффекта, совместив все эти картинки на одном экране. — Но при достаточном количестве материала вы смогли бы сделать то, что я от вас хочу? — Я бы смог! — ответил Джо, давая понять, что это зависит не только от него одного. Джок посмотрел на оператора удивленно, почти обиженно. — Если я дам вам достаточно времени и денег, мы отснимем нужное количество футов? — спросил Джок. — Общий эффект, — начал Джо, — будет зависеть от того, насколько близко мы сможем установить камеру. От используемых объектов. Но крупные планы не позволят скрыть, что мы используем вместо Преса дублера. Да, шесть картинок позволят вовлечь аудиторию в действие сильнее, чем единый кадр. Но чтобы добиться полной вовлеченности, к которой вы стремитесь, надо заставить зрителей сосредоточить внимание на деталях. Необходимо исключить кадры, позволяющие заподозрить, что на экране дублер. Джок задумался. — Джо… Джо, а если мы обойдемся без дублера… Тогда проблема исчезнет? — почти небрежно спросил режиссер. — Господи, вы не можете просить Карра, чтобы он так долго играл под жарким солнцем. Потребуется немало дней! Вы отдаете себе отчет в том, сколько сил, энергии уйдет на это? — Сил? Я бы хотел иметь такие же могучие руки, как у Карра. — В его возрасте пять-шесть дней единоборства с лошадьми под палящим солнцем… — Джо покачал головой. — Он не пойдет на это. Вы не заставите его. И никакой контракт не заставит Карра сделать это. — Да, я действительно не могу заставить его сделать что-то. И мы оба это знаем. Он делает то, что хочет, и так, как он хочет. К счастью, он великолепен, его инстинкты безупречны. Это позволяет нам одерживать победы. Джок начал разыгрывать собственную сцену, используя прием, который всегда оказывается эффективным. Надо открыть перед собеседником часть своей души, как бы дать взятку, подкупить его; это обезоруживает человека, заставляет поверить в то, что ему внушают. — Джо, я не в силах обмануть вас. Я даже не стал бы пытаться сделать это. Конечно, меня бесит, что он увел у меня девушку. Потому что я испытываю чувство… не могу сказать, что я люблю ее… возможно, я не знаю, что такое любовь. Но с ней связаны необычные для меня ощущения. Необычные для любого мужчины. И я хотел бы испытывать их вечно. Но она влюбилась в него. Я сам виноват! Я не дал ей того, что она хотела получить от меня. Или, возможно, я слишком хорошо, реалистично поставил их первую любовную сцену, и она поверила в нее. Кто знает — может быть, подсознательно я свел их еще много месяцев назад, когда сделал Дейзи партнершей Карра. В любом случае я обвиняю только самого себя. Не его. Я не питаю к нему неприязни. Я уважаю его. Чувствую, что он подходит ей лучше меня. Никому другому я бы не признался в этом. Но вам я могу довериться. Я хочу сказать следующее: даже если меня бесит то, что он сделал, я все же слишком уважаю Карра, чтобы приказывать ему что-то. Я могу только просить, надеяться. Но приказывать? Никогда. Только не Престону Карру! Джо, который редко позволял обманывать себя, поверил Джоку. — Джо, если вы считаете это возможным, я поговорю со студией. И только в том случае, если они дадут дополнительные средства, я спрошу Карра. — Хорошо. Но мы не будем приступать к таким съемкам, если он сам не захочет этого, — предупредил Джо. — Даю вам слово! — Джок сверкнул своими голубыми глазами. Утром Джок позвонил Марти Уайту и попросил агента организовать ему встречу с руководством студии. Через два часа Марти позвонил на натуру. На встрече будут присутствовать глава студии и президент. Она состоится в Лос-Анджелесе, поскольку президент собирается прилететь в Голливуд для обсуждения сценариев.Беседа состоялась за ленчем в маленьком зале для совещаний, примыкавшем к кабинету главы студии. В ней участвовали четыре человека — президент, глава студии, Джок и Филин. Поскольку президент не имел понятия о том, какую безумную идею преподнесет молодой режиссер, он отказался от своего обычного двойного мартини. Он хотел быть начеку, сохранять бдительность. Ленч начался с любезностей. Все в восторге от отснятого материала. Любовная сцена на берегу озера решена так поэтично, что даже «Мюзик-холл» благосклонно воспримет обнаженную натуру. Все помнили кадры с несущимися мустангами, снятые портативной камерой. Президент сказал, что в те минуты, когда он начинает терять веру в кинобизнес, он идет в проекционную, смотрит этот кусок, и его вера восстанавливается. Президент и глава студии наперебой льстили, задабривали молодого гениального монстра, которому доверили судьбу семи-восьми миллионов долларов. Наконец за кофе президент произнес: — Мой мальчик, я могу сказать — вам достаточно только попросить. Все, что в наших силах. Если акционеры не заупрямятся, ответ будет положительным. Джок медленно осторожно заговорил о «новом» фильме, «новом» зрителе, «новых» критиках. О том, какую кассу соберет фильм, если он удовлетворит их требования. Взять, к примеру, «Выпускника». Не самый блестящий фильм. Но он был снят в модном стиле, который любит молодежь, и делает колоссальные сборы. Им нужен новый подход для «Мустанга». Поток лошадей, любовная сцена, обнаженная натура — все это элементы нового стиля. Но требуется кое-что еще. Джок раскрыл свой план объединения нескольких кадров на одном экране для последней, ударной сцены борьбы с мустангами. Да, такая техника использовалась. Но только как кинотрюк. В полнометражном художественном фильме ее не применяли. Эта новшество только благодаря рекламе и дополнительному интересу критиков сулит миллионы долларов. Это — то самое, что любит молодежь. Президент испытал облегчение — просьба Джока оказалась не слишком экстравагантной. Однако его все же насторожили предстоящие расходы. Поэтому глава студии также проявил осторожность. Он пожелал узнать мнение Джо Голденберга. — Мы тщательно обсудили этот вопрос. Джо воспринял идею с таким энтузиазмом, что мне было бы тяжело сообщить ему об отказе. — Значит, Джо Голденберг счел это возможным, — сказал президент. — Возможным? Джо считает, что этот эпизод станет вершиной его карьеры! Принесет ему третью премию Академии! «Если такой осторожный и опытный человек, как Джо Голденберг, сказал это…» — подумал президент и внезапно спросил: — А Престон Карр? Что говорит он? Карр хочет сделать это? Джок придал лицу самое искреннее выражение, на какое только был способен; его голубые глаза заблестели, словно он готов заплакать. — Я его не спрашивал. Потому что знаю, что он ответит. Если вы пожалеете какие-то паршивые пятьсот тысяч долларов, его сердце будет разбито. Он никогда не простит вам этого. Я решил не спрашивать его, не заручившись вашим согласием. Президент и глава студии отнеслись к услышанному с пониманием. Президент повернулся к главе студии: — Мы сможем сделать это на студии? Я имею в виду, технически? — Я найду Уолтера и спрошу его. Они нашли Уолтера. Получили ответ. Потребуется новое оборудование. Его можно сделать вручную на студии. Уолтер предупредил, что необходимо отснять достаточное количество материала с Карром. Джок сообщил, что они с Джо уже все рассчитали и составили съемочный график. Наконец президент произнес: — Действуйте! Делайте то, что считаете нужным! Мы снимаем шедевр! Все обменялись рукопожатиями. Джок направился к двери; Марти следовал за ним. Глава студии шепнул что-то президенту, который окликнул режиссера: — Малыш… Джок и Марти повернулись. — Да, босс? — произнес режиссер. — Отдел паблисити постоянно обращается к нам. «Лайф» хочет сделать фотоочерк о съемках фильма. Они считают, что получится превосходный материал. Что скажете? Джок задумался на мгновение, улыбнулся, покачал головой. Затем воспользовался сравнением Марти. — Шеф, картина — как девушка. Пока ее считают девственницей, к ней относятся с уважением. Как только начинаются разговоры, она превращается в шлюху. Мы пока сохраняем нашу девственность. Не хотим расставаться с ней. Интерес «Лайфа» только возрастет, если мы заставим их подождать. — Если мы будем отказывать им слишком долго, они могут вовсе потерять интерес к этому проекту, — предупредил президент. — Валите все на меня! Скажите им, что ваш режиссер — сумасшедший юнец, который во время работы сидит нагой, курит «травку» и поэтому не хочет, чтобы «Лайф» или кто-то другой фотографировали его. Джок улыбнулся и закрыл за собой дверь. Президент и глава студии тоже улыбались. Пока не закрылась дверь. Потом президент взволнованно прошептал: — Дайте мне мартини! Двойной! Посадив Джока в свой «роллс-ройс», чтобы шофер отвез его назад в аэропорт, агент осторожно спросил: — Что ты потеряешь, если позволишь «Лайфу» подготовить материал о последнем эпизоде? Судя по твоему описанию, может получиться потрясающая сцена! — Она будет потрясающей! — объявил Джок. — Это аргумент в пользу «Лайфа»! — Марти! Решение принято! Забудь об этом! В отношениях агента и клиента иногда наступает такой момент, когда клиент начинает отдавать приказы. Это происходит, когда он добивается большого успеха. Или когда все чувствуют, что успех близок. С этого момента клиент становится боссом. До этого агент, пользуясь силой или убеждением, манипулируя правдой и ложью, принимает решения и навязывает их клиенту. Сейчас Финли пересек невидимый меридиан в своей карьере. Он стал боссом. И будет им отныне. Вопрос о «Лайфе» был закрыт.
Девятая глава
На натуре день не пропал. Джо снимал пейзажи, которые могли понадобиться Джоку для монтажа при связке двух сцен. Когда фасный «феррари» Джока остановился на натуре, Джо был поглощен съемкой большой панорамы с видом гор. Лишь отойдя от камеры, он заметил режиссера. — Ну? — спросил Джо. — Все в порядке! — Джок сверкнул белыми зубами. — Полмиллиона! Если понадобится, то больше. Они в восторге от идеи. — Хорошо. Хорошо. — Джо улыбнулся, хотя и недостаточно радостно. Недостаточно для Джока. — В чем дело, Джо? Вы передумали? Счастливая мальчишеская улыбка Джока сменилась более сдержанным выражением лица. — Мы… мы поговорим об этом позже, — Джо помнил о присутствии операторской группы. — Я вернусь примерно через час. Зайдете ко мне? Мы с вами выпьем. Джо постарался произнести это приглашение небрежным тоном. — Вы зайдете ко мне! — поправил Джок. — Я буду ждать. Джок запрыгнул в красный «феррари», включил заднюю скорость, стремительно отъехал и резко затормозил. Затем рванул вперед так, что из-под колес полетели камни. Почти через два часа Джо вернулся в лагерь, принял душ, надел коричневые фланелевые брюки, рубашку, вельветовый пиджак с потертыми заплатами на локтях. Таким образом Джо расслаблялся, давал волю воспоминаниям. Пиджак подарила ему много лет назад Кэтрин Хэпберн после фильма, который они делали вместе. Джок был без одежды; он вытирался полотенцем после холодного душа. Он делал это неторопливо, обстоятельно, словно демонстрируя свое сильное, мускулистое, молодое тело. Джо, обладавший глазами скульптора, подумал: «Если бы я мог снова стать молодым! Неудивительно, что девушки вешаются на шею этому надменному, агрессивному, грубому молодому человеку. У него особая красота». Джок вытер ноги, поставив их поочередно на подлокотник кресла; его гениталии были обнажены. Если он чего-либо стеснялся, то лишь своей гордости. — Виски или бренди? — спросил Джок, знавший, что последние шесть лет, после болезни, Джо пил перед обедом бренди. Джо налил себе немного бренди, добавил в бокал содовой и спросил: — Вы думали об этом еще? — Я только об этом и думал! Зачем, по-вашему, я ездил в Лос-Анджелес? — Я говорю о Пресе, — сказал Джо и отхлебнул спиртное. — Что о Пресе? — спросил Джок, надевая шелковые боксерские трусы, сшитые на заказ в Париже. — После нашего вчерашнего ночного разговора я наблюдал за ним. Джо знал, что он должен начать беседу осторожно. Неуверенность оператора усилилась, когда Джок внезапно повернулся к бару, чтобы приготовить себе виски с содовой. На спине Джока виднелись сине-желтые следы кровоподтеков, оставшиеся после съемки мустангов. Джо не знал, почему Джок повернулся к нему спиной — то ли стремясь продемонстрировать неприязнь, то ли желая напомнить пожилому человеку о своих травмах. Джо почувствовал, что тридцатиоднолетний негодяй проявил непозволительную грубость и высокомерие. У оператора появилось желание поставить бокал с бренди и уйти. Если бы он работал один, он поступил бы именно так. Но тут затрагивались интересы многих людей. — Я наблюдал за Престоном Карром, — сказал Джо. — Когда? — резко спросил Джок, повернувшись к Голденбергу. — Сегодня, — ответил Джо. — Сегодня? Вы хотите сказать, во время ленча? Он не выходит к завтраку. Вы не снимали его сегодня. Значит, это было во время ленча. — Да, во время ленча, — признался Джо. — Какая разница? Я имел возможность хорошо его разглядеть. Поговорить с ним. Джо отпил бренди. — Он устал, Финли. Устал. — Ну, конечно, — улыбнулся Джок. — Протрахавшись полночи! — Для меня неважно почему. Он устал. Помолчав, Джо добавил: — По-моему, он не готов к этому. — К чему? — Джок перестал улыбаться. — К эпизоду, где он борется с мустангами, — сказал Джо. — К тем съемкам, которые мы обсуждали. — Вы говорили ему что-нибудь об этом? — Нет, — тихо сказал Джо, видя на лице Джока Финли ярость. — Хорошо! Пусть он сам примет решение! Может он сделать это или нет! — Вам не кажется, что доктору это виднее? — спросил Джо. — Врачи всегда говорят «нет»! — упрямо заявил Джок. — Не всегда, — возразил Голденберг тихо, но твердо. Джок бросил на него пылающий взгляд. Лучше пережить кризис сейчас, чем катастрофу — потом, подумал Джо. — После моего второго сердечного приступа, — Джо впервые признался человеку из киномира о том, что пережил два сердечных приступа, — я хотел вернуться к работе. Моя жена настаивала на том, чтобы я сходил к врачу и позволил ему принять решение. Она, как и вы, считала, что врачи всегда говорят «нет». Я отправился к доктору, прошел обследования. Мой врач сказал мне: «Конечно, работайте. Мои пациенты чаще умирали, играя в гольф в Хиллкресте, чем во время работы на студии». — К чему вы клоните? — нетерпеливо спросил Джок. — Дело в том, — начал Джо, — дело в том… Тут есть несколько моментов. Во-первых, когда речь идет о таком человеке, как Престон Карр… Он мог пережить сердечный приступ и скрыть это. Кто знает, не из-за этого ли он ушел из кино восемь лет назад? Лишь доктор ответит на наш вопрос. Если это действительно так, Карр не должен играть в последнем эпизоде. — Раз вы так считаете, мы, несомненно, пригласим доктора. Джо почувствовал себя уверенней, но Джок продолжил: — Или вы хотите сами сделать ему ЭКГ? Похоже, вы — специалист в этой обрасти. Вы встречаетесь с пациентом в столовой. Наблюдаете за ним. Ставите диагноз: он слишком устал для этого эпизода. Вам известно, что нам в этой сцене нужен именно усталый человек! Это — последние усилия Линка! Это — последний мустанг, с которым он борется. И которого побеждает! И первый, которого он отпускает на свободу! Усталость — именно то, что мне нужно! Что я хочу видеть! Джок принялся ходить взад-вперед; внезапно ему стало тесно в трейлере. В своих шелковых шортах, обтягивающих плоский живот, он напоминал заряженного нервной энергией боксера перед выходом на ринг «Мэдисон-Сквер-Гарден». — Я хочу, чтобы он был усталым! Хочу, чтобы камера зафиксировала все складки вокруг его рта, все морщинки у глаз! Мне нужно все это. Его герой слишком стар для этой девушки! В чем, по-вашему, смысл той сцены с арканом? Мы снимаем не салонную комедию с Мелвином Дугласом и Айрин Данн или с Роком Хадсоном и Дорис Дей! Одной фразой Джок уничтожил два поколения звезд. — Мы делаем реалистичную, правдивую картину! Не прячем морщины, дефекты кожи и груди, которые начинают опускаться! Мы создает фильм, который станет классическим! Поэтому я избегаю оптических обманов и не использую дублеров. Вам это известно! Вы знали это с самого начала! Джок отвернулся, чтобы приготовить себе новый напиток. Джо знал — нельзя спорить с самоуверенными молодыми людьми. Особенно с обиженными, уязвленными. — Послушайте, Финли, вы снимаете правдивую картину? Хорошо, давайте тогда посмотрим правде в глаза. Что произойдет с вашим фильмом, если важный эпизод, в котором человек борется с самим собой — именно это происходит в сцене борьбы с мустангом, — не будет снят? — Не будет снят? — возмущенно повернулся Джок. — Допустим, мы снимем половину эпизода… и что-то произойдет, — сказал Джо. — Что мы будем делать с этой половиной, которую нельзя смонтировать, нельзя закончить? Без этого эпизода нет картины. Что вы будете делать тогда? — Он выдержит! — твердо произнес Джок. — А если нет? — тихо, без враждебности, но настойчиво спросил Джо. — В каком положении мы окажемся? — Тогда и будем думать! — сказал Джок. — Тогда будет поздно. Забудьте о других. Подумайте о себе. Подойти так близко к успеху и все погубить — от этого останется шрам. На вашей карьере. Вы едва не пожертвовали жизнью ради этой картины. Джо указал на бледнеющие следы на загорелой спине Джока. — Вы готовы рисковать всем только потому, что… Джо не закончил предложения. Он собирался сказать: «… вы ненавидите этого человека?» Он мог не продолжать, так как Джок Финли знал это лучше, чем кто-либо. — Я хочу, чтобы фильм был реалистичным! С первого до последнего фута! Но я обещал, что решение примет Прес, — заявил Джок. Джо испытал такое сильное облегчение, что одним залпом допил бренди. Воспользовавшись этим моментом, Джок заявил: — Но, если он все-таки пойдет на это, обещайте мне, что вы не станете отговаривать его. Будучи уверенным в том, что Карр не согласится, Джо легко пообещал: — Даю вам слово. Он протянул руку Джоку. Во время рукопожатия Джок задумчиво произнес: — Продумайте оба варианта съемок. С Карром. И с дублером. — Конечно, — быстро согласился Джо. Большинство картин монтируется во время съемок. Монтажер работает с кусками пленки, соединяет их в подобие сцены, описанной в сценарии. Совокупность лишенных музыки и звуков, порой еще не полных отрывков, позволяет опытному глазу понять, каким получается фильм. Монтажница Джока, некрасивая девушка, которую звали Мэри Хорн, работала на киностудии в одиночку. Она на скорую руку склеивала недельный материал, с которым позже предстояло работать Джоку. Если монтажер и не способен полностью воплотить замысел постановщика фильма, то некоторым из них на начальном этапе работы удается в одиночку сделать нечто такое, что может восхитить режиссера. Такой девушкой была Мэри Хорн. Она тоже принадлежала к «новой волне» и разделяла вкусы Джока. Снимая свои последние три картины, он приглашал ее поработать над текущим материалом. Мэри была одинокой девушкой без длительных привязанностей и регулярной половой жизни. Она могла день и ночь просиживать в монтажной, наедине с монтажным столом. Все знали о ее преданности Джоку; она никогда не сплетничала, никогда не демонстрировала энтузиазма и разочарования. Только молчаливую веру в Джока. Говорили, что, прибыв впервые в Голливуд, Джок имел с ней короткую связь. Присмотревшись к ее телу и забыв о лице, в это можно было поверить. Но абсолютно точно знали правду лишь Мэри и Джок Финли. Мэри не усмотрела ничего необычного в том, что Джок позвонил с натуры и попросил ее прилететь туда с готовым материалом. В конце работы над фильмом, пока еще есть время кое-что переснять или добавить без больших затрат, бывает полезным просмотреть смонтированные эпизоды. Хотя ей казалось, что было бы разумнее, если бы Джок сам прилетел в Лос-Анджелес и посмотрел все в студии, Мэри подчинилась его решению без вопросов и обсуждений. Она прибыла на натуру, передала коробки с пленкой киномеханику, объяснила, в каком порядке следует демонстрировать части фильма. В конце рабочего дня Джок пригласил Престона Карра и Дейзи посмотреть смонтированный материал. Джок думал, что Дейзи не откликнется на приглашение, но она пришла. Прес, Дейзи, Джок и Мэри забрались в проекционный трейлер. Непрофессионалу подобный сырой материал представляется грубо сшитой чередой отдельных сцен — то слишком длинных, то слишком коротких; цветные кадры перемежаются черно-белыми кусками. Неопытному глазу все это может показаться бессмысленным, скучным. Но на Престона Карра, много лет смотревшего подобные эпизоды с пропусками, без звукового сопровождения, без диалогов, знавшего, как рождается фильм, увиденное произвело большое впечатление. Когда на экране появилась обнаженная по пояс Дейзи, груди которой уже начали терять девичью твердость, актриса вонзила свои ногти в руку Преса. Но он ответил нежным рукопожатием и прошептал: — Великолепно. Это очень реалистично. Великолепно! Откровенная сцена на берегу озера была смонтирована почти безупречно. Она понравилась даже Дейзи, не любившей смотреть на себя. Во время показа этого эпизода Прес Карр ласково, одобрительно похлопывал пальцами по руке девушки. Сцена с арканом удалась, хотя Джок понял, что ее придется смонтировать заново. Он шепнул Карру: — Вы переделаете это, Прес. — Конечно, — сказал Карр, однако было ясно, что он восхищен этими кадрами. Лента закончилась так же внезапно, как обрывались некоторые эпизоды. Белый экран ослепил их чувствительные глаза с расширенными зрачками. Зажегся свет, и Джок сказал: — Прес, давайте зайдем ко мне и выпьем. Приглашение было явно адресовано только Карру. Дейзи и Мэри отправились в трейлер к актрисе, Прес и Джок — в трейлер режиссера. — Ну, малыш, какие проблемы? — спросил Прес, когда Джок протянул ему виски со льдом. — Проблемы? — улыбнулся Джок. — После того, что вы видели? Проблемы? Он засмеялся. — Ты показал мне этот материал не для того, чтобы я понял, как обстоят дела. Это не секрет. Сценарий работает. Характеры работают. Не стану скрывать — эти фрагменты нравятся мне больше любой другой моей работы. Спасибо, негодяй. Карр улыбнулся. Теперь, когда фильм был почти готов, он мог позволить себе шутку, проявить великодушие, забыть о разногласиях и соперничестве. Джок обезоруживающе усмехнулся, словно он тоже мог позволить себе великодушие. — О'кей, — сказал Престон Карр. — Так в чем дело? — На студии видели смонтированный материал. Они считают, что картина бесценна. Если мы закончим ее на том же уровне реализма, который характерен для фрагментов, которые вы видели. — Да… — осторожно произнес Карр. — Нам осталось снять только один важный эпизод. — Борьбу с мустангом. — Студия хочет, чтобы я применил метод, который еще никогда не использовался в художественном кинематографе. Множественное изображение. — Это может дать потрясающий результат, — согласился Карр; идея была свежей и поэтому привлекла его. — Есть только одна проблема. Нам надо отснять количество материала, в шесть или восемь раз превышающее обычное. Мы должны работать с теми же объективами, какими снимали поток бегущих мустангов. Но сделать это лучше, гораздо лучше. Если мы не превзойдем тот кусок, конец картины смажет все впечатление. — Поэтому… — настороженно сказал Карр. — Чтобы отснять качественный материал, не прибегая к явным трюкам, мы решили обойтись без дублера, — тихо, медленно произнес Джок, моргая своими абсолютно искренними голубыми глазами. Карр ответил не сразу. — Тогда, на ранчо, ты сказал, что мы воспользуемся дублером. — Конечно! Именно так я и хотел поступить! — ответил Джок и тут же торопливо добавил: — Поймите, я не говорю, что вы должны сделать это. Я ничего не приказываю. Нью-Йорк предложил мне спросить вас. Вот я и спрашиваю, Прес. Карр надолго задумался; Джок успел наполнить свой бокал особым, выдержанным виски, которое пил актер. — Когда мой доктор прочитал сценарий, он первым делом спросил меня: «В эпизоде с лошадьми будет ли работать дублер?» — сказал Карр. Затем, помолчав, он отпил виски со льдом. — Я подумаю об этом. Он поставил бокал, направился к выходу, остановился у двери и повернулся к Джоку. — Я трудился всю жизнь не для того, чтобы отдать ее ради одной сцены. Даже самой потрясающей. Особенно теперь. Эта девушка… я люблю ее. Джок не удержался. — Прес, она никогда не выходит замуж за мужчин, с которыми спит. Эта фраза прозвучала беззлобно, но сочувственно, почти уважительно; Джок словно предлагал Карру серьезно обдумать ее. — Может быть, в этом и заключалась ее ошибка, — бесхитростно сказал Карр и ушел.Карр и Дейзи не пришли в столовую ужинать. Джок сидел один во главе своего длинного стола. Джо, появившись в зале, сел рядом со своим ассистентом и двумя другими мужчинами, но кофе он пожелал выпить с Джоком. — Вы его спросили? Финли кивнул. — Ну? — продолжил Джо. — Он подумает. — В таком случае он — глупец! — возбужденно сказал Джо. Он полагал, что Карр сразу отвергнет эту идею. — Это будет лучшей сценой из всех, которые были когда-нибудь сняты! — воскликнул Джок. — Я звонил в Лос-Анджелес, — сухо произнес Джо. Он начал набивать трубку, чтобы избежать жесткого взгляда Джока. — Сэм Хосфелд был его костюмером, когда снимали «Золото для дураков». Тогда Карр «решил отдохнуть» перед окончанием съемок. У него действительно был сердечный приступ. — Ну и что? — спросил Джок. Джо раскурил трубку с помощью восемнадцатикаратовой золотой зажигалки. — Если он согласится сделать это… и что-нибудь произойдет… все окажутся в дерьмовом положении. Страховая компания не знает о его сердце. Они заявят, что их обманули. Если наша картина не будет закончена, студия понесет самые колоссальные убытки в истории кино. Клубы душистого дыма окутали мужчин. — Вы и юристу вашему тоже звонили? — рассерженно спросил Джок. — Мне нет нужды звонить юристу, — сказал Джо, вдыхая ароматный дым, поднимавшийся над трубкой. Он делал это, чтобы не смотреть в голубые глаза Джока. — Помните: вам простят плохую картину. Но не такой удар по студии. Ни одна кинокомпания никогда не заключит с вами контракта. Вы можете погибнуть. — Карр не согласится, — сказал Джок. — Обещание подумать — просто уловка. Он не сделает этого, можете не беспокоиться. Джо, похоже, испытал облегчение и заговорил о других вещах. — Как выглядит смонтированный материал? — Отлично! Извините, что я не пригласил вас посмотреть его, но Дейзи испытывает такое смущение, видя себя на экране, что я не захотел усугублять ее состояние. — Я понимаю, — Джо встал и тут же добавил: — Я продумал все ракурсы. Если я воспользуюсь телеобъективом, никто не поймет, что мы снимаем дублера. Вы получите то, что хотите. Добавив звук, топот копыт, ржание, добьетесь нужного эффекта. — Хорошо, хорошо! — сказал Джок, выходя из столовой. Финли уже подходил к своему трейлеру, когда к режиссеру подбежал связист. Звонили из Лос-Анджелеса. Джок направился к радиотелефону. — Алло! Да? — Малыш, это я. Ты один? — спросил Марти. Джок жестом отпустил связиста. — Да, Марти. В чем дело? Голос Джока прозвучал настороженно сухо, недовольно. — Я слышал, смонтированный материал великолепен, — дипломатично начал Финли. — Кажется, Карр в восторге. Даже девушке понравилось. Если бы ЦРУ получало информацию так же быстро, как голливудские агенты, мы выглядели бы гораздо лучше в холодной войне, подумал Джок. Кто это был? Не Мэри. Она всегда молчит. Конечно, не механик. Карр? Девушка? Зачем они стали бы звонить Филину? Но он знал Марти. Если он, Джок, подождет, третий вопрос Марти раскроет истинную причину звонка. — Малыш, принято решение об организации гастрольного шоу. Для начала двенадцать городов. Все взбудоражены. Получено два предложения об издании пластинок, хотя музыка еще не написана! Марти проводит серьезную подготовку, подумал Джок. Видно, впереди неприятная новость. — Да, между прочим… Ну вот, сказал себе Джок. Марти мог убить человека своими вводными оборотами типа «между прочим» и «о, пока я не забыл». — Да, Марти? — сдержано произнес Джок и приготовился сердиться. — Все это дело насчет множественного изображения и Карра… — Да, Марти, что? — Ты думаешь, Карр сможет это сделать? Это потрясающая идея! Великолепная! Но ты думаешь, он сможет? Физически? — Почему нет, Марти? — Ну… мне кажется… восемь лет назад во время съемок картины у него возникли какие-то проблемы. Работу отложили на четыре недели… Как многие агенты, Марти Уайт умел оставить предложение незаконченным для выяснения, что известно клиенту и что он думает по поводу ситуации. Но Джок не собирался помогать ему. Предложение осталось незаконченным. Выдержав паузу, Джок спросил: — Ты еще здесь, Марти? — Да, да, здесь. — Хорошо. Я думал, нас разъединили. Ты говорил что-то о картине, работу над которой отложили на четыре недели из-за Карра. В чем дело, Марти? — Ну… ну… думаешь, Карр сможет сыграть в сцене борьбы с лошадьми? Ты получишь нужное количество материала и закончишь картину? — спросил наконец Марти. — В какое положение ты попадешь, если, имея почти готовую ленту — великолепную, захватывающую, насыщенную сексом и действием, — останешься без последнего эпизода? Ты это знаешь? — До сих пор я работал нормально, Марти? — Конечно, малыш! В этом-то и дело! Ты снял великолепный материал. Защити его! — Марти, кто с тобой говорил? — Никто! С какой стати… Послушай, малыш, я думаю только о тебе. И хочу, чтобы ты закончил фильм! Чтобы он получился превосходным! Я защищаю твои интересы. — Мои интересы, — едким тоном повторил Джок. — Да! Я — твой агент. И исполнительный продюсер. Конечно, я хочу заработать. И говорю тебе как исполнительный продюсер: не перегибай палку! Не насилуй Карра! Не рискуй! Не губи все! В голосе Марти появилась твердость. — Другие приказы будут, мистер Исполнительный Продюсер? — Послушай, малыш… — Марти, я тебя выслушал в последний раз. Теперь слушай ты. Все, чем мы уже располагаем на сегодняшний день, получено благодаря моим усилиям! Не твоим! Ты — финансист, торговец. Но люди ходят в кино не для того, чтобы смотреть на твои контракты и цифры. Ты лично можешь подняться на сцену и объяснить им, как ты ловчишь и маневрируешь, как ты благодаря мне стал исполнительным продюсером, но никто… никто, Марти… не заплатит и цента за твое шоу! Фильм — вот что смотрят люди. Мои чувства, мысли, плоды воображения — вот что им интересно. Поэтому не говори мне, что я должен делать! А теперь, если вы желаете уволить меня, мистер Исполнительный Продюсер, сделайте это! Кто, по-вашему, закончит тогда картину? — Малыш… малыш! Ты все понял неправильно. Я позвонил не для того, чтобы бороться с тобой, приказывать. Я хотел предостеречь тебя, посоветовать, спросить. Пожалуйста, не переусердствуй. Вот и все. — Кто тебе звонил? — Никто! Ты знаешь, как быстро распространяются слухи в этом городе. Их слышишь во сне. — Тогда спи дальше, Марти. А еще лучше — когда я вернусь к мыслям о завтрашней съемке, сходи в «Чейзен». Закажи себе крабов. И нежный бифштекс. Потому что я предоставил Карру решать этот вопрос. Если он не захочет сыграть эту сцену, я воспользуюсь дублером. Так что не волнуйся. Все просто. Марти произнес с облегчением: — Хорошо. Я рад. — Я рад, что ты рад. А теперь, мистер Исполнительный Продюсер, найди себе для разнообразия женщину и оставь меня в покое. Джок бросил трубку. Финли в ярости зашагал к своему трейлеру; он уже не гадал, кто позвонил Марти. Конечно, Джо Голденберг. Ключевая информация о четырехнедельном перерыве в съемках, который произошел восемь лет тому назад, исходила от Джо. Теперь Финли знал это. Все ясно. Логично. Неопровержимо. Джок остановился посреди лагеря, сделал резкий поворот и зашагал прямо к трейлеру Джо Голденберга. Он даже не постучал. С силой повернул ручку, и распахнул дверь; она ударилась о стенку, и вся алюминиевая конструкция задрожала. Джо, сидевший над сценарием с дымящейся трубкой в руке, изумленно поднял голову. — Держите ваш чертов язык за зубами! — гневно выпалил Джок, войдя в трейлер оператора. — Занимайтесь вашими обязанностями! Стойте за камерой! Снимайте то, что я устраиваю перед ней! Но не подходите к телефону! Слышите? Не вынуждайте людей звонить мне, просить, умолять, предостерегать меня! Джо ответил ему невозмутимо, уверенно, однако с большим презрением: — Молодой человек, мне не нравится, когда кто-то приходит сюда без приглашения и прерывает мою работу. Мне не нравится, когда на меня кричат. Мне не нравится ваша грубость. А больше всего мне не нравятся ваши ложные, нелепые обвинения. — Вы звонили Марти Уайту! Как еще он мог узнать о состоянии Карра? Джо не повысил тон. Чем тише он говорил, тем презрительнее звучал его голос. — Если я и Марти владеем одной информацией, означает ли это, что мы в сговоре? Разве не может он волноваться так же, как я? Навести справки? Как сделал я. Поскольку факт имел место, разве не мог он установить его? Нет, я не звонил ему. А теперь сделайте мне одолжение — уйдите отсюда! Пожалуйста! Джок замер, собираясь ответить. Потом, раздумав, направился к двери трейлера. Сжал ручку и остановился, услышав голос Джо. — Сделайте мне еще одно одолжение. Джок повернулся к оператору. — Не убивайте Карра. Лицо Джока вспыхнуло, стало сердитым; его желваки заиграли. Но Джо продолжил: — Он очень гордый человек. Великий человек. Поскольку мир сделал его своим героем, он считает себя должником. Это чувство довлеет над Карром. Не заставляйте его делать невозможное. — Прес согласится, потому что хочет этого сам! И это не убьет его! Открыв дверь своего трейлера, Джок тотчас понял, что она здесь. Вечером Дейзи пользовалась одними и теми же духами с резким запахом. Он много раз вдыхал их. Финли закрыл дверь, повернулся и разыграл изумление. Она сидела в кресле, забравшись туда с ногами. Комнату освещала лишь лампа, стоявшая на рабочем столе. Свет падал на белое мальчишеское лицо Дейзи, придавая особую нежность его фотогеничным чертам. На ней было легкое черное платье, подчеркивавшее красоту ее грудей. Дейзи улыбалась. Однако ее напряжение бросалось в глаза. Она выпила несколько бокалов. Финли почувствовал это на расстоянии. Шагнув к Дейзи, он определил по ее зрачкам, что она также приняла большую дозу успокоительного. Ее улыбка была нервной, испуганной. — Я… захотела увидеть тебя… это необходимо… поговорить о той сцене в смонтированном материале… ты помнишь… где я нахожусь одна и впервые начинаю понимать, что, вероятно, влюблена в него… — А, да… — произнес Джок. Вот то, что все говорят о ней. Она всегда недовольнасвоей игрой. Ей нельзя показывать рабочие материалы. Он поступал верно, следуя этому правилу до настоящего момента. Ей осталось сыграть только реакцию на последнюю сцену Карра. Но Дейзи испытывала такое напряжение, что Финли должен был ободрить ее. Сделать это ради Карра. Ради себя. Любой человек, проживший в Голливуде достаточно долго, умел распознавать признаки приближающегося нервного срыва. Одновременный прием спиртного и транквилизаторов ведет к «ошибке», в результате которой человек глотает чрезмерную дозу лекарств — всегда «случайно». Мертвенно-бледный пациент оказывается на носилках, его увозит машина «скорой помощи», и несколько дней это событие обсуждается прессой. Джок видел это несколько раз — дважды подобное происходило с его девушками. Такая возможность всегда предусматривалась в кинобизнесе. Обычно жертвами становятся влюбленные хорошенькие девушки. Поглядев на Дейзи, он ясно увидел все симптомы. Понял, что должен ободрить ее. — Да, сцена осознания. Где ты одеваешься одна. Ты думаешь об этом и понимаешь, что хочешь понравиться этому человеку, заставить его заняться с тобой любовью. Поэтому ты раздеваешься и начинаешь одеваться заново. Теперь уже ты натягиваешь на голое тело полупрозрачное платье — свой самый элегантный наряд. Это получилось на пленке великолепно. Когда я добавлю музыку, ты будешь в восторге. — Это… можно было сделать лучше, — промолвила она. Имея дело с напряженной актрисой, Джок следовал правилу: увлеки ее беседой. Выговорившись, она обычно успокаивается. Он сказал: — Каким образом? Что ты можешь предложить? — Ну… я бы хотела… мне кажется… Она неуверенно встала. Начала молча играть сцену. Наблюдая за Дейзи, Джок сказал себе: «Господи, если бы она могла сделать это перед камерой». Сейчас в ее игре было все — испуг, смятение, природное чутье. Но страх уничтожал все это на съемочной площадке. Поэтому ей приходилось полагаться только на свое лицо, тело, грудь, платье, особым образом обтягивавшее зад и делавшее его самой фотогеничной попкой на свете. Она сыграла всю сцену; в ней использовались ракурсы, при которых камера снимала отражение актрисы в зеркале. Дейзи воспользовалась маленьким зеркалом, висевшим на двери шкафа. Джок заметил выражение ее глаз. Они не были испуганными, растерянными. Девушка не пыталась увидеть в зеркале реакцию Джока. Она на самом деле хотела соблазнить его. Занималась этим. Выглядела отлично, была в ударе. От нее исходил густой аромат духов; под черным платьем, похоже, ничего не было. Она действовала преднамеренно, расчетливо. Отвернувшись от зеркала, она в соответствии со сценарием расстегнула платье; оно разошлось, обнажив ослепительно белую кожу. Джок шагнул к ней, обнял, поцеловал. Это был голодный, злой поцелуй. Но она не сопротивлялась. Принимала его. Приветствовала. Дейзи применяла все приемы и хитрости, которыми должна была владеть, будучи секс-символом. Сейчас Джоку казалось, что она всегда хотела его. Что уже сожалеет о времени, проведенном с Карром. На него обрушилась страсть, накопившаяся за недели. Они занимались любовью четыре раза. Но Финли чувствовал, что Дейзи этого мало. Она причиняла ему восхитительную боль, обнимая руками и ногами, задевая еще не зажившие места. Эта боль усиливала его экстаз. Дейзи, похоже, знала это. Он страстно покрывал ее поцелуями. И у него не оставалось такого места, которое она не ласкала бы, не целовала. За последние месяцы Джок много раз оказывался с ней в постели, но такого у них еще не было. Но, даже находясь на пике страсти и воспринимая Дейзи как партнера, врага, свою часть, Финли сохранял в своем сознании область, критически, отстраненно наблюдавшую за происходящим, за самим Джоком. Когда тело чувствовало, действовало, реагировало, этот уголок сознания как бы говорил: «Она пришла сюда соблазнить тебя. Хочет тебя. Он не удовлетворяет ее. Ей нужен ты». Это добавляло к его страсти ликование, торжество. Такого еще не было, говорил он себе. Окончательная победа осталась за ним. Если бы все узнали об этом! Она сама пожелала вернуться к нему. Ее слова о сцене, которую можно якобы сыграть лучше, служили лишь предлогом. И весьма прозрачным. Она спровоцировала его на проявление инициативы, которая на самом деле принадлежала ей. Она нуждалась в акте любви. Через два или три часа Джок лежал на спине; обнаженный, спокойный, он курил сигарету, наблюдая за поднимавшимся к потолку дымом. Он протянул руку, чтобы придвинуть к себе пепельницу. Но ему мешала ее белокурая головка, расположившаяся на его груди. Дейзи дышала легко, ровно. Она, наверно, спит, подумал он. Но девушка принялась покусывать его загорелую мускулистую грудь. Она делала это игриво — возможно, предлагая снова заняться любовью. «Господи, детка, кем ты меня считаешь? — подумал он. — Многие ли мужчины способны на то, что я уже проделал с тобой? Тебе бывает когда-нибудь достаточно?» Он улыбнулся в темноте, гордясь возможностями, своей животной способностью удовлетворять женщину так, что ее желание при этом разгорается еще сильнее. Джок Финли, малыш, обладавший «джок-соком», способен снимать фильм и совершать сексуальные подвиги лучше любого другого молодого режиссера! Это был один из великих моментов его жизни; он запомнит его навсегда. Он и Дейзи Доннелл. Вдвоем. Великие любовники. И она пришла к нему практически прямо из постели Престона Карра! Господи! Если бы было можно каким-то образом поведать об этом всему миру! Осторожно, чтобы не слишком сильно побеспокоить ее, он нащупал пепельницу, бросил туда сигарету. Дейзи снова укусила его. Она чувствовала, что боль идет ему на пользу. Возбуждает его. Джок повернулся к ней, и тут его осенило. Вместо того чтобы обнять Дейзи, он приподнялся над ней, посмотрел на ее лицо, закрытые глаза. Там не было страсти. Раскрытый рот ждал его губ, языка. Но на ее лице не было желания. Осознав это, он насторожился, вернулся к прежним мыслям и наблюдениям. Раньше, когда они занимались любовью в промежутках между работой над сценами, обсуждениями роли, Дейзи никогда не проявляла такой ненасытности, жадности. Один-два акта за свидание. И всегда по его инициативе. Словно он ощущал, что должен отблагодарить ее за согласие сниматься. Отдать себя. Это был бартер, плата натурой. Значит ли это, что она не была влюблена в него прежде? А сейчас? Или тут кроется что-то другое? Войдя в нее, он думал об этом. Никогда еще во время полового акта он не думал так напряженно, сосредоточенно. Этот секс был заурядным, без ярости и страсти. Кончив и откатившись в сторону, Джок испытал чувство не удовлетворения, а свободы — работа завершилась. Нет, понял он, это не удовлетворение. Просто обретение свободы. Возможности снова закурить. Она лежала и поглядывала украдкой на его худое лицо. Ее пальцы рисовали узор на груди Джока. От прикосновений острых ногтей по его коже побежали мурашки; наконец он отодвинулся. — Не смей! — игриво, почти кокетливо произнес Джок — так говорят не мужчины, а девушки, когда они хотят, чтобы вы продолжали. Но на самом деле у Джока больше не осталось желания. Таким опустошенным он был только один раз — в Копенгагене, со стюардессой-нимфоманкой. — Я должна была встретить тебя гораздо раньше, — внезапно сказал Дейзи. — До всего. Господи, только не это. Кажется девушка говорит это почти каждому мужчине. Всякий раз. Словно если бы он оказался первым, то стал бы единственным, а не десятым, двадцатым или пятидесятым. Она продолжила: — Это было бы замечательно. Любить друг друга и работать вместе. Джок посмотрел на нее. — Не беспокойся об этой сцене. Она и сейчас великолепна. Но если ты все же хочешь ее переделать, мы вернемся к этому, когда все закончим. На самом деле он не собирался возвращаться к тому эпизоду. Но хотел, чтобы Дейзи оставалась бодрой, заинтересованной, спокойной до главной сцены Карра, где понадобится ее реакция. — Я думаю, это важно для образа Рози. Это моя главная сцена в фильме, — сказала Дейзи серьезным тоном школьницы, подразумевавшим, что актерская игра — священное занятие. — Здесь в моей душе происходит значительное изменение. Я превращаюсь из шлюхи в девушку, которая впервые по-настоящему влюбилась. Она излагала ему почти слово в слово то, что он когда-то объяснял ей, добиваясь ее согласия. Неужели она была так взволнована, что забыла это? Или лишь теперь начала осознавать? — Понимаешь, — продолжила она голосом маленькой девочки, который он слышал в нескольких ее фильмах, — если я неправильно играю эту сцену, весь мой образ разваливается. Взять, к примеру, последнюю большую сцену, где Прес борется с мустангом, а я изображаю реакцию на это. Что я должна там чувствовать? Хочу я, чтобы он одержал победу над великолепным животным, или нет? Или я хочу, чтобы он потерпел поражение, потому что слишком сильно люблю его и боюсь видеть отнимающим свободу у животного? Ты меня понимаешь? Конечно, эта сцена с лошадью кажется мне жестокой. По-моему, в стране, во всем мире есть много людей, любящих животных; им эта сцена не понравится. Он впервые слушал то, что говорила она. Потому что впервые испытывал не страх, не беспокойство, а злость. Он дышал по-прежнему ровно, спокойно; прижимаясь головой к его груди, Дейзи не могла почувствовать, что творится в душе у Джока. Он затягивался сигаретным дымом не чаще, чем обычно. Держи себя в руках, малыш, сказал он себе. — Почему она им не понравится? — Никому не доставляет радости видеть свободолюбивое животное попавшим в неволю, вырывающимся, борющимся. Тем более аудитория не захочет видеть, как Престон Карр бьет лошадь шляпой по морде. И затем натягивает веревку так, что мустанг едва не падает на колени. Это больно, жестоко, безжалостно. Ужасно… несправедливо. — Несправедливо? — тихо переспросил Джок, как бы предлагая ей продолжать. — Этот мустанг в десять раз превосходит человека по силе и весу. Человек способен победить его только потому, что он умнее, хитрее животного. Это борьба между цивилизацией и грубой силой. Вот основное содержание сцены. — Я бы не хотела видеть это! — с неожиданным отвращением сказала Дейзи. — Когда на экране появится этот эпизод, я отвернусь! Множественное изображение сделает сцену еще более жестокой. — Именно это хотят видеть сегодня люди. Жестокость. Насилие, — сказал Джок. — Уверяю тебя — женщинам это не понравится! — В женщинах больше садизма, чем в мужчинах, — сказал Джок. — Это — научный факт. — Я не думала, что женщины всего мира, любящие Престона Карра уже тридцать лет, захотят увидеть его проявляющим такую жестокость. И я сказала ему это! Значит, они говорили об этом. Иначе как она могла узнать, каким образом Прес собирался сыграть эту сцену? Только Карр мог рассказать ей о такой детали, как удар шляпой по морде лошади. Они явно обсуждали это, причем весьма обстоятельно. Ему оставалось выяснить только одно. — Что он сказал? — Он сказал, что это хорошая сцена. Вписывающаяся в фильм. — Он сыграет ее? Или попросит позвать дублера? — Он… он не хочет играть ее, — тихо произнесла Дейзи голосом маленькой девочки. Она ужасно боялась, что с Карром может что-то случиться. Не могла и не пыталась скрыть это. Теперь Джоку все стало ясно. Вот почему сегодня она совсем другая. Пришла сюда, соблазнила его, изображала ненасытность, снова и снова испытывала его мужскую силу. Как и все, даже самые глупые женщины, она интуитивно чувствовала, что сексуальная гордость — главный враг мужчины и лучший друг женщины. Она явилась сюда, чтобы взять с него слово, что он не будет заставлять Карра играть эту сцену. И она сделала это с профессиональной расчетливостью шлюхи, решившей одурачить очередного простака. Это она звонила Марти Уайту, который был и ее агентом тоже. Финли встал и усадил Дейзи на фай кровати. Она была обнажена и старалась не смотреть на него. Он приподнял ее голову. — Скажи мне одну вещь. Ты собираешься выйти за него замуж? Она попыталась отвернуться. Он сжал ее подбородок так сильно, что она испытала боль. — Скажи мне! Она заплакала. Он отпустил ее. Она собирается выйти за него замуж. Из этого следует кое-что еще. Она не спала с ним. Если бы ему не было жаль ее, он бы рассмеялся. Неудивительно, что она получала сегодня удовольствие, хотя и пришла не за этим. Теперь он знал, как чувствует себя человек, когда его используют. Луиза испытала бы чувство удовлетворения, узнав, что он попался на крючок женщины, не любившей его, преследовавшей цели, не имеющие отношения к любви. Он мог спасти свою гордость, лишь жалея Дейзи, сочувствуя ей, говоря себе: «Бедняжка так запуталась, что может продемонстрировать свою любовь к Карру лишь тем, что она пришла сюда. И вела себя, как шлюха, чтобы заставить меня трахнуть ее». — Я не заставлю его играть сцену, если он сам не захочет это сделать, — сказал он ей. — Выбрось всю эту сцену! — произнесла она с мольбой в голосе. — Я не стану этого делать, — ответил Финли. — Но можно обмануть зрителя. Это будет единственная фальшивая сцена в фильме. Ради тебя я сделаю это. Дейзи поцеловала его. На этот раз искренне, хотя и лишь из чувство благодарности. Она снова была готова отдать себя ему. Девушка прижалась к Джоку, стала ласкать его уши и шею. Заметив, что он возбуждается, Джок отодвинулся от Дейзи. — Ты можешь не делать этого, — сказал он тихо, нежно, с жалостью. Но его душу переполняла злость. Несмотря на то, что секс утомил его, он спал недолго.
Утром, в шесть пятнадцать по местному времени, в девять пятнадцать — по нью-йоркскому, он встал и отправился в связной трейлер, чтобы позвонить президенту. Когда президентам больших кинокомпаний звонят с Побережья в девять пятнадцать, они интуитивно чувствуют, что дела обстоят плохо. Только большие неприятности могут заставить человека в Калифорнии проснуться в шесть пятнадцать. Жестом попросив секретаршу налить ему содовой, президент поднял трубку и произнес елейным голосом: — Ну, малыш, как дела? Он удивился, забеспокоился, когда Джок произнес серьезным, деловым тоном: — Шеф, я долго думал об этом. Может быть, я поступил неразумно. Наверно, будет неплохо, если «Лайф» подготовит фотоочерк о съемках последней сцены. — Да? Президент отпил содовую и продолжил: — Я немедленно свяжусь с отделом паблисити; они договорятся с вами о времени и деталях. — Один момент, — сказал Джок. — Это должно выглядеть как ваша идея. Я изображу удивление. О'кей? Президент, уже мысленно представивший себе, как он обрадует этим известием акционеров, тотчас согласился: — О'кей! Джок положил трубку, оставив президента наедине с содовой, в которой тот уже не нуждался. Он все же допил ее в ожидании нового звонка. С Побережья. Или из Лондона, Парижа, Рима, Мадрида. В какой-то части Британской империи всегда светило солнце. Оно также всегда светило над компанией, чьи щупальца простирались по всему миру. Порой президент вспоминал годы юридической практики, когда самым волнующим поступком была дача маленькой взятки государственному чиновнику или судье. Но для него эти дни канули в Лету.
Десятая глава
День, когда предстояло снимать последний эпизод «Мустанга», выдался ясным, солнечным. С рассвета в лагере кипела работа. Формировался длинный караван из джипов и грузовиков. Машины с генераторами, передвижные гримерные: столовая, операторские краны и «журавли» с микрофонами — все это готовилось к работе под руководством ассистента Джока. Следовало предусмотреть, обдумать, обеспечить любую возможную потребность. Исключить нехватку чего-то, просчеты, задержки. Потому что натура, которую Джок называл полем битвы, находилась в нескольких милях от лагеря. Там были горы и пустыня, свободная от дорог, домов, электрических линий, столбов — всех следов цивилизации. Джок нуждался в первозданном пейзаже — таком, каким он был сто, тысячу лет назад. Если случайно в небе появится реактивный авиалайнер с тянущимся за ним шлейфом, съемку придется повторять. Иначе нельзя будет смонтировать кадры с белой полосой на небе и без нее. Джок и Джо Голденберг находились в гримерной с дублером Артом Рианом. Раздевшись по пояс, Риан поворачивался под внимательным взглядом Джо. Наконец оператор заявил: — Мы начнем с грима «Макс Фактор 7-эн». По-моему, этот тон близок к загару Преса. Если нет, возьмем «Панкро-26». — А что насчет пропорций, мускулатуры? — спросил Финли. — Это подойдет. С помощью телеобъектива я смогу дать крупный план и скрыть детали. — А впечатление? — напомнил Джок. — Не забывайте, мне нужен эффект полного присутствия. — Вы его получите, — спокойно произнес Джо, снова поворачиваясь к Арту и глядя на его лицо. Джо был деловитым, сосредоточенным и, в отличие от предыдущего дня, совершенно бесстрастным. — Вы хотите увидеть Арта рядом с Пресом? — спросил Джок. — Позже, — сказал Джо. — Чуть позже. Оператор кивнул. Внезапно он принял решение. Направился к выходу из гримерной. Жестом предложил Джоку проследовать за ним. Они оказались среди шумного движущегося каравана шестидесятых годов двадцатого века. — Я хочу поблагодарить вас. За то, что вы не стали давить на Преса. Чтобы выразить мою признательность, я внесу одно предложение. Относительно монтажа. Джок отреагировал спокойным, сдержанным взглядом; его глаза выражали умеренную степень благодарности. — Джо, какие бы разногласия у нас не возникали, я восхищаюсь вами как художником. Вам это известно. Так что любое ваше предложение… — Позвольте мне сказать вам, как бы я хотел сделать это, — начал Джо. — Первый кадр. С одной стороны — человек, с другой, поодаль, — животное. Два живых существа, находящиеся в этой пустыне. Затем мужчина начинает приближаться к мустангу, который видит его, но не может убежать из-за аркана, наброшенного на его великолепную шею. По мере сближения человека и животного камера медленно движется вперед; широкая панорама сменяется кадром, в котором находятся только они двое. «Наезд» камеры будет медленным и создаст напряжение. Может быть, мы покажем лица Дейзи и Бойда. Они будут говорить нам об опасности, которая ждет Карра. Итак, человек и животное сблизились. Мустанг вырывается, пятится, пытается освободиться от веревки. Карр крупным планом. Мы видим конфликт, отраженный на его лице. Восхищение животным, которое олицетворяет свободу. Необходимость обуздать, сломить, приручить его. Превратить в собственность, источник материального благополучия. Это проблема выбора между его образом жизни и свободой животного. Затем он принимает решение, делает шаг вперед, хватает веревку. В этот момент животное инстинктивно встает на дыбы, угрожает человеку своими копытами. И тут впервые появляется ваше множественное изображение! Сразу же, без наплыва, как взрыв! Мустанг, поднявшийся на дыбы, и фигура человека — одна картина. Лицо Карра крупным планом — вторая картина. Оба изображения остаются на экране до тех пор, пока мустанг не опустится вниз, почти на человека. Снова взрыв — на экране уже третья картина. Каждый новый поворот в сражении — новая картинка. Мы добавляем их, усиливая эффект. Морда животного, лицо человека, мужчина и мустанг, острые, как ножи, копыта, шляпа, которой человек бьет животное по морде, страх девушки, восхищение и тревога Бойда. Мы добиваемся нарастающего эффекта, внезапно переходя к очередной фазе битвы. Это будет как грохот ударных в симфонии. Шесть картин в кульминационный момент единоборства произведут сильное впечатление! Битва глазами каждого из основных персонажей — вместо обычного чередования кадров. Добавив испуганное ржание, грохот копыт, голос Карра, вы добьетесь сопереживания, соучастия. — Именно к этому я всегда и стремился, — сказал Джок. — Ваше предложение добавлять новые картины в моменты наибольшей опасности просто великолепно! — Я рад, что оно вам понравилось, — с облегчением признался Джо. — Потому что… по-другому, на мой взгляд, это сделать нельзя. Взгляд Джока заключал в себе вопрос, требовавший ответа. — Снимать Риана крупным планом я могу только со спины. Лицо Карра, его реакции помогут создать иллюзию присутствия. При этом актер не будет испытывать чрезмерных нагрузок. Дайте мне время снять хороший первый кадр с Пресом и мустангом. После этого появление новых картин будет так приковывать к себе взгляд, что никто не заметит подмены Карра Рианом. — Отлично! — сказал Джок почти искренне. — Потрясающе! Я не могу дождаться начала съемок. Джок повернулся и сделал пять шагов; внезапно мужчины заметили вертолет, приближавшийся с запада. — Вчерашние материалы? — спросил Джо. — Так рано? — Возможно, — ответил Джок. Вертолет начал снижаться в стороне от места съемок. Рев машины и поток воздуха от винта напугали пойманных мустангов; животные стали подниматься на дыбы, пытаться порвать веревки. Наконец конюхам удалось их успокоить. Работа по подбору и ловле одинаковых мустангов была не из легких; сходство животных требовалось для монтажа. Было необходимо держать их под контролем и при этом не лишать природной дикости, необузданности. Ни один день конюхи прочесывали предгорья, разыскивая и отлавливая новых жеребцов примерно одной масти и одного размера. Джок заказывал именно жеребцов; вставая на дыбы, они демонстрировали свои попавшие в кадр половые органы, к тому же жеребцы обладают большей гордостью, они норовистее, опаснее кобыл. Джок был уверен, что зрители почувствуют это и испытают более сильное садистическое и сексуальное возбуждение. Вертолет приземлился, подняв столб пыли. Его лопасти постепенно перестали вращаться. «Фонарь» открылся. Из машины выпрыгнул молодой человек. Высокий, изящный, даже хрупкий блондин был одет в отлично сшитый комбинезон. По точно выверенной раскованности его движений Джок тотчас понял, что перед ним — гомик. Это не бросалось в глаза слишком сильно, но все же было очевидно. Молодой человек повернулся лицом к «фонарю». Пилот передал ему чемодан, несколько сумок со всевозможной фотоаппаратурой, коробки с пленкой. Финли повернулся к Джо. — Что это, черт возьми? — спросил режиссер; его лицо выражало крайнее негодование и изумление. Рассерженный, взволнованный режиссер направился к высокому фотографу. Джок не успел раскрыть рта. — Мэннинг. «Лайф!» — представился гость и протянул руку. Джок пожал ее, мысленно поздравляя себя. Мэннинг был превосходным фотохудожником, одним из лучших в «Лайфе». Он сделал самый талантливый фоторепортаж о Вьетнаме. Никсоны приглашали его на свадьбу. Прибытие Мэннинга гарантировало высокое качество фотографий и то, что они будут использованы, займут большую журнальную площадь и, вероятно, обложку. — А, Мэннинг! Да, я знаком с вашими работами. Но почему вы оказались здесь? К ним подошел Джо. — Вас не предупредили? Нью-Йорк дал добро. Я прилетел, чтобы сфотографировать борьбу Карра с мустангом, — сказал Мэннинг. Джок перевел взгляд с Мэннинга на Джо, потом снова посмотрел на фотографа. — Мне ничего не сказали… я распорядился… послушайте, по правилам профсоюза актеров только их фотограф допускается на съемочную площадку! Правильно, Джо? По-моему, это касается и натуры. — Мы все уладили. Мы всегда делаем это. Я могу теперь где-нибудь расположиться… осмотреться?.. — Мэннинг произнес эти слова резко, нетерпеливо, словно съемки фильма были организованы исключительно для «Лайфа». Джок повернулся к Джо, разыгрывая из себя человека, от неожиданности и изумления потерявшего дар речи. Джо отошел в сторону, взглядом предлагая Джоку последовать за ним. Финли шагнул к оператору, но Мэннинг произнес: — Что это такое? — Караван, выезжающий на натуру. — Хорошее начало! Мэннинг принялся выбирать камеру для съемок каравана. Отведя Джока в сторону, Джо спросил его: — Господи! Вы понимаете, что это значит? — Нам придется менять план съемок. И монтаж, — сказал Джок. Он не хотел говорить остальное — пусть это прозвучит из уст Джо. — Изменить план съемок? — сердито и напряженно спросил Джо, которого охватил испуг. — Мы не можем это сделать! — Не можем изменить план? — Джок сделал вид, будто не понимает собеседника. — Не можем снимать, — сказал Джо. — Не можем использовать Риана, когда здесь Мэннинг. Это не годится для журнала. Мы разоблачим себя! И правдивая, честная картина предстанет большой, большой подделкой! Обманом! Если он пронюхает и сфотографирует это. Арт Риан, каскадер, станет героем, а Престон Карр, Король Голливуда, — обманщиком. Вы не можете так подставить его после всего, что он сделал для этой картины! — Вы правы! — сказал Джок. — Я позвоню на студию! В Нью-Йорк! Попрошу их избавить нас от этого типа. Джо покачал головой. — Достаточно запретить «Лайфу» снимать что-то, и они поймут, что нам есть что скрывать. Вы никогда уже не избавитесь от него! — Господи, Джо, что же делать? В голосе Джока звучала мольба. — Я бы сам хотел это знать. Джо подергал свою короткую белую бородку. Мэннинг подошел к ним. — Я бы хотел получить джип, чтобы поснимать караван, движущийся на натуру, сначала на фоне вон тех гор. Затем — чтобы он поднимался на этот холм. Если никто не использует вертолет, я бы желал сделать несколько снимков с воздуха. Получится змея, ползущая по пустыне. А где мистер Карр? Я бы хотел сопровождать его от костюмерной и гримерной на натуру. Людям интересно, что происходит со звездой перед тем, как она попадает в кадр, который они видят. — Он еще не вышел из своего трейлера, — сказал Финли, — Джо, вы не посмотрите, готов ли он? Этими словами Джок попросил Джо подготовить Карра к новости. Оператор кивнул и направился к трейлеру актера. — Да, кстати, — сказал Мэннинг. — Что имел в виду Нью-Йорк, когда говорил о множественном изображении? Джок объяснил эту идею, присвоив себе концепцию взрыва. — Вам придется отснять в десять раз большее количество материала, — заметил Мэннинг. — Думаю, это займет две-три недели. Хотя после монтажа весь эпизод будет длиться всего минуты четыре или пять. Возможно, это будут самые трудные и дорогостоящие четыре минуты в истории кино, — подогрел интерес Мэннинга Джок. — Великолепная идея! Восхитительная! Параллельный монтаж вместо последовательного. — Совершенно верно! — сказал Джок. — Воздействие на зрителя усилится. Сегодняшняя аудитория, особенно молодежь, нуждается во встряске, волнении, эмоциональном шоке. Человеческое сознание перекормлено одномерными вещами вроде ТВ и потеряло остроту восприятия. Мы потрясем аудиторию, растормошим ее, бомбардируя зрение, слух, сознание! Сейчас не помешает произнести одну-две фразы, которые будут цитировать позже, понял Джок. Он знал, что Мэннинг обычно сам писал сопроводительный текст к своим фотографиям. Потом рекламный отдел кинокомпании сможет, ссылаясь на «Лайф», использовать эти цитаты. Таким образом Джок Финли с помощью журнала сможет восхвалять режиссера Джока Финли и его суперфильм «Мустанг». — Я собираюсь не просто представить зрителям первое множественное изображение в художественном фильме, но и обрушить его на аудиторию кадр за кадром, точно бомбу! Да, именно как бомбу! Джок начал излагать Мэннингу свою концепцию «нового» фильма, собственную теорию кино. Он делал это доверительным тоном, словно общался с коллегой. — Немногие люди могут оценить то, что мы делаем. И немногие критики. Конечно, им нравятся наши фильмы. Но понять, оценить то, как они сделаны, способен только художник. Джок понял, что ему удалось установить дружеские, доверительные отношения с Мэннингом. Он перехватил обращенный на него взгляд Мэннинга. Подобным образом на Джока смотрели девушки и гомосексуалисты, которым он нравился. Иногда это беспокоило Джока. Не сознательно ли он старался произвести на них впечатление? Или они понимали его превратно? Или он обладал сексуальным магнетизмом, действовавшим на оба пола? Он надеялся, что Мэннинг не станет приставать к нему. Подобное не раз случалось с ним в прошлом. Особенно часто — в Англии. Он не умел с легкостью выходить из таких ситуаций. Сейчас меньше всего он хотел оскорбить Мэннинга. Вернулся Джо и сказал: — Джок… Прес хочет поговорить с вами. — Извините меня, — обратился Джок к Мэннингу. Оставшись наедине с Джо, Мэннинг проводил режиссера взглядом. — Очаровательный режиссер. Смелый. Сильный. Убежден, что он — настоящий тиран. Какая энергия! Это ощущается, даже когда он говорит о кино. — Да, — сказал Джо, ничего к этому не добавив. — Я займусь фотосъемкой каравана. Позже я хотел бы поговорить с вами об операторской работе, если вы не против. — Пожалуйста, — ответил Джо и направился вслед за Джоком. Открыв дверь трейлера, в котором жил Карр, оператор услышал голос Джока: — Мы ничего не меняем! Начинаем снимать в соответствии с планом… — режиссер повернулся к Джо, — и нашим утренним обсуждением. Снимаем Престона, потом сцену борьбы Риана с мустангом. Дублера снимаем со спины. Потом пойдут крупные планы. Лицо Престона, Дейзи, Бойда. Плевать я хотел на Мэннинга. И на «Лайф»! Все это время Карр сидел перед туалетным столиком, позволяя гримеру заниматься его лицом. Актер молчал. Потом он задумчиво спросил: — Мы не можем избавиться от него? Джок посмотрел на Джо. Карр видел оператора в зеркале. Джо покачал головой. — От этого гомика — нет, — произнес оператор. — Я знаю этот тип. Он прилипнет, как пиявка. Чем сильнее мы будем сбрасывать его, тем глубже он вопьется. Нет ничего опаснее обидевшегося гея. — Как мы поступим, Джо? — спросил Карр. — Отложим съемку на некоторое время. Скажем, что решили доработать сценарий. Переписать этот эпизод… Предложение было настолько неприемлемым, что Джо смолк, не закончив фразы. — Мы все будем делать в соответствии с планом! — настойчиво произнес Джок. — В конце концов, я дал вам слово! — Конечно, — сказал Карр. — Это ваше слово. Но речь идет о моей карьере. Моей репутации. Джо и Джок переглянулись. Сейчас голубые глаза режиссера казались абсолютно искренними. — Я не позволю вам сделать это, — сказал Финли. Престон Карр повернулся к Джо. — Сколько времени это займет, Джо? Чтобы получить нужное количество материала? — Послушайте, Прес, это невозможно… — Сколько времени? — Вам известно, как это бывает с животными. Если нам повезет, мы уложимся в десять дней. Если нет — в две недели. В нынешней неожиданной ситуации может потребоваться даже гораздо большее время. — Джо, я хочу задать вам вопрос. — Пожалуйста, Прес. — Если мы сделаем это… если я сделаю это… все получится так, как мы хотим? Усилия окупятся? Результат будет лучшим, чем при использовании дублера? — спросил Карр. Джо молчал; он взглянул на отражение Джока в зеркале. Голубые глаза режиссера застыли в ожидании. В жизни Джо Голденберга бывали моменты, когда он хотел убедительно солгать. Но ему это не удавалось. Тем более солгать человеку, которого он уважал. — Всегда лучше обходиться без дублера, Прес. Мне нет нужды говорить это вам. Я смог бы подойти ближе, применить другие линзы, использовать лучшие ракурсы. С дублером в кадре будет только его спина и животное. Карр смотрел в зеркало. Когда гример пожелал добавить еще один штрих, Карр отстранил его. Джок жестом удалил гримера, потом — оператора. Джо покинул трейлер неохотно, задержавшись у двери. Вдруг Джок что-нибудь скажет? Но Джок произнес всего три слова. Похлопав по загорелому мускулистому плечу, он сказал: — Вы — босс, Престон!Они ехали на натуру в специальном «командирском» автомобиле, оснащенном радиотелефоном и холодильником. Джо сидел впереди, рядом с водителем. Престон Карр, Дейзи и Джок расположились сзади. Карр еще не сообщил им свое решение. Джо боялся спрашивать. Финли не осмеливался сделать это; он мог выдать свои истинные чувства. — По сколько часов в день мы должны снимать? — внезапно спросил у Джо Карр. — В это время года, при таком освещении — четыре-пять часов. — Мы можем разбить их? Два часа — на съемку действия, два часа — на реакции. Это допустимо? Вопрос был обращен к Джоку. — Мы сделаем так, как вы скажете, Прес. Можем реализовать первоначальный план. — Джок мог позволить себе такое благородство, потому что было ясно, что при наличии физической возможности Карр сыграет сцену без дублера. — Два часа в день, — задумчиво произнес Карр. — Под таким солнцем… — Ты не обязан делать это, — Дейзи перебила актера таким тоном, что все поняли: она уже дюжину раз обращалась к нему с этими словами. Внезапно Джо предложил: — Я могу заявить, что мне не нравится свет. Отменить сегодняшнюю съемку. Мы хотя бы получим время обдумать ситуацию. Джо, как и все остальные пассажиры, понимал, что сказал глупость. Он не мог безнаказанно заявить в присутствии лучшего фотографа «Лайфа», что его не устраивает свет. В автомобиле воцарилось молчание. Вскоре машина прибыла на натуру, где уже расположились в боевом порядке грузовики, трейлеры, джипы. Съемочная группа приступила к работе. Конюхи «разогревали» мустангов. Внешнее сходство животных было поразительным. Правда, между любыми двумя мустангами, поставленными рядом, все-таки имелись незначительные отличия, однако, когда вся восьмерка коней шагала по пустыне, животные казались практически одинаковыми по размерам, мускулатуре, масти, отметинам. Перед тем как Джок открыл дверь, Карр сказал: — Мы сделаем это. Сделаем. «Мы». Множественное число. Когда его используют агенты, это означает: Ты сделаешь это». Но другие люди произносят его, когда чувствуют, что им предстоит совершить нечто, превосходящее их возможности, и они нуждаются в помощи, поддержке. Выйдя из машины, Джок похлопал Карра по плечу. Этим жестом мужчины выражают уважение. Джок был признателен человеку, который, поняв ситуацию, старался сделать все зависящее от него. Джок был сдержан, молчалив, но не мрачен. Его голубые глаза выражали восхищение мужеством и профессионализмом актера. Внутри Джока бушевало возбуждение, по силе равное тому, которое он испытывал в день съемки первого эпизода с лавиной мустангов. Это произойдет! При первом чтении сценария он понял, что финальная сцена является важнейшей. Она требует необычайного решения, которые будет способно сделать «Мустанг» классикой в жанре вестерна. Но тогда он не осмеливался мечтать о съемках без дублера, о множественном изображении, о том, что он сможет запечатлеть крупным планом напряженное, мокрое от пота лицо Престона Карра, его грудь, бицепсы, руки, каждый вздувшийся мускул. Анатомию человека, борющегося за свою жизнь, его мышцы, сухожилия, обнаженные нервы. Камера заглянет в его глаза, станет офтальмоскопом, читающим мысли и чувства героя. Она запечатлеет подлинную жизнь, борьбу человека с животным. Все остальные эпизоды ленты — два часа волнующего секса, столкновений характеров были для Джока лишь интродукцией, подготовкой к этой кульминации. Теперь он снимет ее без обмана, фальши, без дублера. Снимет самого Престона Карра! Именно так надо снимать кино. Это — настоящая режиссура. Найти жизнь, реалистично воспроизвести ее и запечатлеть на пленку. Без иллюзий. Без хитростей. Обрушить на зрителей правду. Джок хотел закричать об этом на весь мир. Но он сказал себе: «Возьми себя в руки, малыш!»
Пока Финли и Джо Голденберг готовили первый кадр, гример накладывал последние штрихи на лицо Карра. Актер сидел в тени под тентом перед зеркалом, предоставив себя в распоряжение человека, работавшего молча и сосредоточенно. Находившаяся поблизости Дейзи наблюдала за Карром. Он ощущал ее присутствие; она прятала свое белое лицо от солнца, поскольку загар отчасти разрушал образ. Веснушки портили имидж секс-символа. Являясь кинематографическим символом девственности, они шли только Дорис Дэй. Лицо Дейзи было бледным, печальным. Поворачивая время от времени голову из стороны в сторону, чтобы гримеру было удобнее работать, Карр посматривал на девушку блестящими, веселыми глазами. Он пытался ободрить ее. Она отвечала ему смущенной, скованной улыбкой, которая являлась для Дейзи самой естественной, ненаигранной. В этот момент появился Мэннинг. Он облетел натуру на вертолете, снял с воздуха боевые укрепления и поле битвы. Узнав, что Карр находится в гримерной, Мэннинг вошел туда, чтобы сделать снимки. Он работал с ловкостью и быстротой, тотчас пробудившими у Карра уважение. Если бы фотокамера снимала совершенно бесшумно, никто бы не осознал, что Мэннинг трудится. Он снимал легко, без видимой подготовки, не всматриваясь в окошечко видоискателя. Но коллекция его фотографий, удостоенных наград, служила доказательством того, что он владеет своей профессией едва ли не лучше всех в мире. Когда Карр посмотрел в зеркало на фотографа, Мэннинг снял актера и улыбнулся. Впервые. Он поймал выражение лица, которое ему понравилось. Но это проявление чувств Мэннинга было единственным за весь день.
Джок и Джо Голденберг прошли туда, где должны были находиться Карр и мустанг при съемке большой панорамы. Они осмотрели почву, чтобы заранее предупредить Карра о возможных опасностях, проверить, помогут или навредят тени, измерить время, необходимое человеку для того, чтобы пройти от одного края кадра до другого. Эту сцену Джок хотел снять целиком за один раз, чтобы обойтись без монтажа. Движение будет медленным — это создаст напряжение и подчеркнет динамику последующих кадров-взрывов с множественным изображением. Мощная кульминация подготавливалась медленным развитием завязки. Человек и мустанг были последними живыми существами, оставшимися на земле и готовившимися сразиться за господство на ней. Финли сыграл сцену молча, проникаясь настроением. Джо следил за ним через портативный видоискатель. Оператор собирался использовать объектив, благодаря которому зрителям покажется, что они видят весь мир. Джок подошел к столбу, к которому будет привязано животное. Повернувшись, он направился к Джо. Оператор заметил на щеке Джока капельки пота. «Если сейчас жарко для Джока, то как будет чувствовать себя через час Карр?» — подумал оператор, но не поделился своими опасениями с Джоком. Однако режиссер понял, что тревожит Джо, и испытал раздражение. — Я готов, дело за вами, — сказал Джо. — Хорошо, попробуем, — отозвался Джок. Повернувшись к своему ассистенту, режиссер крикнул: — Проверьте, готов ли Карр! Ассистент в это время давал указания одному из конюхов, который пытался совладать с поднимавшимся на дыбы мустангом. Услышав распоряжение Джока, он тотчас побежал к гримерной. Через несколько минут он вернулся с Карром и Дейзи. За ним следовал Мэннинг; Карр остановился перед Джоком. Мэннинг быстро сделал несколько снимков; казалось, что его камера жужжит непрерывно. Джок и Карр прошли к месту, которое актеру предстояло занять перед началом сцены. Они вместе освежили ее в памяти. Джок говорил, Карр кивал — сухо, деловито, задумчиво. Потом Джок повернулся и крикнул: — О'кей, мы готовы! Все бросились на свои рабочие места. Этот кадр был важным и технически сложным. Чтобы создалось впечатление, что человек и мустанг — единственные живые существа в пустыне, Джок решил снять девственную равнину, медленно перемещая по рельсам операторскую тележку с камерой. Когда человек начнет приближаться к животному, камера поедет вперед. Ассистент Джо будет постоянно корректировать фокусировку объектива. Будучи хорошим профессионалом, он без труда справится с этой задачей. Часто в подобных ситуациях возникают проблемы с укладкой рельсов непосредственно перед операторской тележкой; движение должно быть плавным, непрерывным; нельзя допустить, чтобы рельсы попали в кадр; поэтому они укладываются по мере перемещения камеры. Эту задачу будут выполнять восемь человек, разбитые на две бригады. Пустыня предстанет нетронутой, девственной, свободной от рельсов, следов ног, оборудования, посторонних людей. В течение двух часов до прибытия Джока и Престона Карра ассистент Джо обучал рабочих действовать четко и бесшумно. Первой проверкой их мастерства станет репетиция сцены с участием Карра. Джо сел в операторскую тележку, чтобы проследить за движением через видоискатель; периодически он бросал взгляд через плечо ассистента, подстраивавшего фокусировку по мере приближения камеры к человеку и животному. Наконец мужчина и мустанг заняли весь кадр. Когда этот этап работы завершился, Джо дал несколько указаний своему ассистенту. Рабочим не следовало спешить — рельсы могли попасть в объектив. Теперь все было готово для второй репетиции, за ходом которой Джок будет наблюдать из операторской тележки. Карр снова сыграл сцену под жарким солнцем; тень актера бежала возле его ног, точно терьер, по красной высохшей пустынной почве. Посмотрев сцену, Финли повернулся к Джо и кивнул. Оператор кивнул ему в ответ. Все были готовы. Джок подал сигнал своему ассистенту, который крикнул: — Тишина! Начинаем съемку! Престон Карр занял исходную позицию. Подбежавший к нему гример бросил на актера последний взгляд, кое-что подправил, стер пот. Джок крикнул: — Не трогайте его! Гример повернулся к Джоку: — Но пот… — Мне нужен этот пот! — закричал Джок. — Нужен настоящий, неподдельный пот! Появившийся естественным путем! Черт возьми, давайте снова все проделаем! Извините, Прес, мы хотим добиться потрясающего эффекта! Карр начал шагать по раскаленной пустыне; перед ним двигалась его тень. Он дошел до того места, где он брал в руки веревку. Джок крикнул: — О'кей! Отлично! Снимаем! Вот так! Все стоят на своих местах! Джок посмотрел на своего ассистента. — Все по местам! Мистер Карр, пожалуйста! Престон Карр вернулся на исходную позицию; ассистент убедился в том, что все заняли свои места. Джок сел в операторскую тележку позади Джо. По команде режиссера ассистент подал сигнал к началу действия. Карр медленно зашагал. Он делал это, как было задумано и отрепетировано. Оператор безупречно подстраивал фокус. Рабочие катили тележку по рельсам, уложенным аккуратно и тщательно. Джо и Джок наблюдали за действием. Когда человек и животное сблизились, Карр нагнулся, чтобы отвязать веревкуот столба. Но Финли внезапно крикнул: — Стоп! По тону режиссера Джо понял, что тот недоволен. Оператор повернулся к Джоку. — Господи! — воскликнул Джок. — Но все было хорошо! — сказал Джо. — Отличный дубль! — Господи, Прес, — произнес Джок, — представляете, все испорчено. Рельсы попали в кадр. Извините, но придется повторить. — Рельсов не было, — сердито прошептал Джо Голденберг. — Я видел рельсы, — таким же сердитым шепотом заявил Джок и сделал вид, будто слишком торопится, чтобы это не обсуждать. Он повернулся к своему ассистенту и крикнул: — Пусть они поторопятся! Я не хочу утомлять Преса! Ассистент отдал распоряжения. Все заняли свои исходные места. Съемка началась. Джо смотрел в видоискатель; Джок выглядывал из-за плеча оператора. Когда сцена закончилась, Джо тихо, не оборачиваясь, произнес: — Идеальный дубль! Джок ничего ему не ответил; он лишь сказал своему ассистенту: — Все отдыхают десять минут. Я хочу поговорить с мистером Карром. — Перерыв на десять минут! — громко объявил ассистент. Джок подошел к Престону Карру, который укрылся от зноя под тентом. Дейзи промокнула салфеткой его шею, не стирая грима. Мэннинг заснял этот трогательный момент. Джок встал между Карром и Дейзи, обнял актера за плечи и увел в сторону. Мэннинг последовал за ними, чтобы заснять, как Король обсуждает сцену с талантливым молодым режиссером. — Я не стремлюсь показать красивый пейзаж, Прес. Конечно, он должен потрясать сдержанным великолепием. Но это лишь фон. Для меня важен характер, образ. Это — начало вашей большой сцены. Она важнее сцены с девушкой и с бегущим табуном. Эта сцена говорит многое о герое фильма, свободе, цивилизации. Я стремлюсь к тому, что гораздо важнее безупречности кадра. Возможно, я кажусь капризным, слишком требовательным, но я думаю о вашей игре. Честное слово. Возможно, это займет немало времени. Я не стану спешить. Мы будем устраивать длительные перерывы. Такие, какие вам понадобятся. Вы только скажите. Но я успокоюсь, лишь когда мы получим то, что нам нужно. Уверен, вы поймете меня. Карр молча кивнул, выражая этим свою готовность сотрудничать. Потом он повернулся и ушел в тень. Мэннинг слышал и заснял их разговор. Собираясь направиться к камере, Джок перехватил взгляд Мэннинга. В глазах фотографа было восхищение. Возможно, нечто большее. Джок надеялся, что этому гомику не придет в голову приставать к нему. Они сняли до перерыва на ленч еще два дубля. И три — после. Все дубли были хорошими. Но шестой оказался лучшим, потому что тень, двигавшаяся перед Карром, удлинялась. Безошибочный, необъяснимый инстинкт подсказывал Джоку, что длина тени стала оптимальной. Именно тень делала этот дубль совершенным, отличала его от других. Он не сможет объяснить это ни критикам, которые будут восхищаться этой тенью, называть ее «автографом» Финли, ни другим людям. Что-то подсказывало ему, что он поймал само совершенство. Интуиция, которой он обладал в отличие от многих его коллег, имела таинственную природу. Эта тень была более красноречивой и выразительной, чем любой диалог.
Карр отдыхал в своем трейлере, оборудованном кондиционером; бедра обнаженного актера были прикрыты полотенцем. Когда Джо Голденберг вошел в трейлер, Дейзи подавала Пресу бокал с виски. Карр попросил оператора заходить после каждой съемки. — Ну, Джо? — Я бы хотел, чтобы он хоть раз ошибся, — сказал Джо, доставая из кармана кисет и трубку. — Но у него есть инстинкт. Этот последний дубль — то что надо. Хотя остальные устроили бы почти всех режиссеров, которых я знаю. — Это действительно хороший дубль? — спросил Карр. — Великолепный! — заверил Джо. Раскуривая трубку, Джо задумался. Раньше Престон Карр никогда не нуждался в ободрении. Тогда почему сейчас?.. Но Джо ничего не сказал.
Одиннадцатая глава
Утром Джок и Мэннинг отправились на натуру в «командирской» машине; за ними следовал джип с Карром и Дейзи. Присутствие водителя мешало беседе, но Мэннинг все же спросил: — Много ли вы планируете? Многое ли происходит само по себе? Джок мрачно улыбнулся и сказал, не глядя на Мэннинга: — Я могу задать вам такой же вопрос. — Но я снимаю жизнь, — сказал Мэннинг. — И я — тоже. Только мы сами выбираем историю, которую рассказываем. Соединяем элементы. Ждем, когда произойдет реакция. Возникнет жизнь, реальность. Взять, к примеру, вчерашний день. Я знал, что нас ждет превосходный дубль, когда впервые прочитал сценарий. Я знал все элементы. Но понял, как можно использовать их наилучшим образом — самым потрясающим, правдивым, — лишь когда тень обрела нужную длину. Я понял — дубль удался. И вы тоже поняли. Потому что вы — художник. Мэннинг кивнул. Он решил использовать это объяснение Джока в сопроводительном тексте. Мэннинг уже обдумывал снимок Карра с этой длинной тенью. Он поместит его на обложку. Но он мысленно выбирал для обложки еще несколько снимков и тут же поочередно отвергал их. — Трудно ли заставить такую звезду, как Карр, многократно делать одно и то же? — спросил Мэннинг. — Упрямство и несговорчивость помешали бы ему стать Королем. Он охотно идет на сотрудничество, участвует в творческом процессе. Он — лучший актер подобного типа. Никто не отдается роли и фильму так, как это делает он. Добравшись до «поля битвы», они выскочили из машины. Джок преднамеренно быстро отошел от нее. Мэннинг, испугавшись, что режиссер хочет скрыться от него, поспешил за Джоком. Внезапно Финли остановился и поглядел на Мэннинга. — Послушайте, не задавайте мне вопросов о Карре в присутствии других людей. Даже водителя. А теперь хотите узнать правду? Карра необходимо нянчить, уговаривать, подстегивать, соблазнять, использовать. Он — обыкновенная звезда. У него есть нечто. Он обладает индивидуальностью. Но не творческим воображением. Его надо постоянно водить за руку. Вы сами это видели. Если я хочу, чтобы он вспотел, я заставляю его работать до появления пота. Если я хочу, чтобы его походка была усталой, я заставляю его работать до изнеможения. Моя работа похожа на вашу. Только вы снимаете жизнь. Я беру плод воображения и заставляю его походить на реальность. В большинстве случаев я работаю с актерами, которым по сути все безразлично! Кроме гонорара, который остается после уплаты налогов. Давая интервью, Джок следовал определенной тактике. Репортер должен был почувствовать, что он один на всем свете по-настоящему понимает Джока Финли и кино. Джок лучше других молодых и талантливых режиссеров умел обратить себе на пользу любое интервью. Сталкиваясь с человеком, который считал себя творцом, художником, созидателем, Джок обретал наилучшего слушателя. — Я вам скажу, но это не для журнала. Карр играет сейчас, как никогда, потому что я толкаю его, тяну, погоняю, оскорбляю, как ни один другой режиссер, с которым он работал. Он, наверно, ненавидит меня. Когда все закончится, он не пожелает разговаривать со мной. И, возможно, возобновит отношения только после присуждения ему премии Академии. Но не раньше. Поверьте мне. Но я не огорчаюсь. На самом деле я даже знаю: если к концу дня его ненависть ко мне усиливается, значит, он выложился полностью. Я занимаюсь этим делом не для того, чтобы заводить друзей. Я хочу влиять на людей. На зрителей, которые смотрят фильмы. По этому ради создания прекрасной картины я готов быть жестоким, подлым негодяем. Убедившись, что Мэннинг успешно переварил услышанное и сможет в дальнейшем процитировать его, Джок добавил: — Понаблюдайте с неделю или дней десять. Я покажусь вам жестоким. Но мне нравится Карр. Я уважаю его. Он — настоящий актер. Это определение включает некоторые недостатки. Поэтому, когда я подстегиваю его, я делаю это ради Карра и ради картины. Вы вспомните все это, когда увидите фильм в Нью-Йорке. Джок зашагал к камере. Важнейшим моментом сегодняшней съемки был тот, когда Карр отвязывает конец веревки от столба и щелкает ею о землю, точно хлыстом. При этом раздается звук, напоминающий пистолетный выстрел. Это — сигнал к началу действия. К началу битвы между мужчиной и животным. Как и предполагал Джок, резкий щелчок заставил мустанга подняться на дыбы; его копыта угрожающе мелькали в воздухе, над головой Карра. Но расстояние между животным и человеком оставалось безопасным. Затем мустанг опускался, острые копыта ударялись о высохшую почву, разбивая ее. Они сделали первый дубль, второй, третий. Ни один из них не устраивал Джока. — Пока что это лишь кадры из банального вестерна, — пробормотал Джок достаточно громко для того, чтобы его услышал Мэннинг. Во время четвертого дубля Карр просчитался и подошел к животному ближе, чем хотел. Мустанг встал на дыбы, замахал копытами. Затем опустился, едва не задев ими головы Карра. Все на какое-то время затаили дыхание. Вот этот элемент опасности, сказал себе Джок. Если мы сумеем воссоздать его и запечатлеть под нужным ракурсом, мы получим то, что нам надо! Джок посовещался с Джо насчет ракурса и объективов, способных обеспечить крупный план с приличного расстояния, чтобы камера не напугала мустанга и не пострадала от копыт. Технически это было осуществимо, но Джо поднял вопрос о безопасности Карра. Дублер, Арт Риан, стоял неподалеку. Но Джок хотел заснять лицо Карра, его испуганные глаза, стиснутые челюсти с напряженными мышцами. Наконец Джо тихо сказал: — Мы можем это сделать, если уговорите Преса. Джок объявил перерыв на ленч немного раньше обычного; ему важно было получить время для разговора. Пока Прес отдыхал в своем трейлере, почти не трогая ленча, доставленного из столовой, Джок быстро, страстно говорил о том, что зрители должны ощутить опасность, которой подвергался Линк. Ее нельзя выразить словами. Тут поможет крупный план Дейзи — конечно, только для усиления эффекта. Публика должна сама увидеть, почувствовать опасность. Поэтому Джок хотел приблизить камеру к месту действия; Линк должен оказаться почти между передних копыт мустанга, когда животное опустит их на землю. Чтобы добиться нужного эффекта, говорил Джок, надо использовать в этом кадре Риана. Карр медленно ел, слушал, кивал. В дальнем углу Дейзи потягивала горячий чай. Нервное напряжение лишало ее аппетита. Престон не смотрел на девушку. Он знал ее мысли и чувства. Задумчиво пережевывая пищу, он глядел куда-то мимо Джока. Наконец актер раздраженно произнес: — На самом деле ты хочешь, чтобы это сделал я. Но ты не желаешь просить меня об этом. Ты словно руководишь отрядом бойскаутов. Тебе нужны добровольцы. Нет уж, попроси! Поколебавшись, Джок тихо произнес: — О'кей, Прес, будет лучше, если это сделаете вы. Мне нужны ваши плечи, бицепсы, а главное — лицо. Кадр будет правдивым, честным. Но я пойму вас, если вы откажетесь. — Я дам вам ответ после ленча, — сказал Карр и отвернулся от режиссера. Когда Джок открыл дверь трейлера, Карр произнес: — Послушай, малыш, не играй больше со мной! Я делаю все, что могу. Тебе это известно. Поэтому не пытайся хитрить. Этим ты только создаешь для меня дополнительные сложности. Джок, повернувшись, изобразил на лице абсолютную искренность с примесью обиды. — Господи, Прес… — Увидимся после перерыва, — перебил его Карр. Джок замер у двери, обозначив свою обиду, горечь непонимания, потом вышел так, как делал это еще будучи юным актером с ярким, но неглубоким талантом. Обиженный вид исчез, когда Джок спустился на третью ступеньку. Режиссер бодро, энергично зашагал по временному лагерю. Он мысленно обращался к Карру со следующими словами: «Можешь ненавидеть меня, негодяй, обвинять, делать любые гадости, только сыграй эту сцену, как хочу я. Это моя картина! Сделай по-моему!» Когда перерыв на ленч закончился, Карр и Дейзи без опоздания явились в гримерную палатку. Солнце уже начало снижаться, так что освещение было оптимальным. Однако зной еще не ослаб. Джок и Джо совещались, глядя на небо, на камеру. Наконец они пришли к общему решению. Джо повернулся к камере, чтобы сменить объектив и установить фильтр. Финли отошел в тень открытой гримерной палатки. Гример накладывал «Фактор» на тело Карра. Джок обратился к гримеру: — Мне нужны настоящие мускулы, натуральный пот. Так что не злоупотребляйте этой фаской. Гример кивнул, добавил последний штрих и ушел. — Насчет того разговора, Прес, извините меня. Я не пытаюсь обмануть вас. Я чувствую себя виноватым, потому что требую от вас слишком многого. Возможно, я так увлекаюсь каждой картиной, что забываю о людях. Я предупреждал вас при первой встрече. Я насилую себя и других. С вам я стараюсь сдерживать себя. Быть дипломатичным. Наверное, это кажется фальшью. Извините. Мне следует быть более прямым. И вам — тоже. Если я прошу вас о чем-то невыполнимом, говорите мне об этом без стеснения. Карр сухо кивнул. Но Джок отлично знал, что лишь очень сильная жара заставит актера признаться, что он не в силах сделать что-то. Дайте мне нацию, состоящую из одних актеров, часто говорил себе Джок, и меня изберут президентом! — Мы снимаем это тремя способами. Мустанг на переднем плане, вы стоите лицом к камере. Вы на переднем плане, мустанг стоит мордой к камере. Человек и животное — оба в профиль. Мы используем пленку, которая наилучшим образом передаст грозящую вам опасность. Где будут лучше видны копыта, ваши глаза, мускулистые руки. Хотя, возможно, позже мы смонтируем все три куска вперемежку. Поэтому дубли должны быть максимально идентичными. Карр кивнул. Это был честный кивок, говоривший лишь о том, что актер понял замысел Джока. В нем не было ни энтузиазма, ни протеста. Режиссер сказал, Король согласился.Джок послал за Карром. Он тотчас увидел, что Карр еще не готов для этого дубля. Он заставил актера простоять под солнцем несколько минут, в течение которых режиссер знакомил его с местом действия и смыслом сцены. Карр слушал, ковыряя сапогом землю, глядя на дальние горы и раскаленное солнце. Наконец по его груди побежал ручеек пота. Он послужил сигналом для Джока: Карр готов. Режиссер подошел к камере. Карр начал шагать, наклонился, взял веревку и ударил ею о землю. Новый мустанг, испугавшись, встал на дыбы. Его передние копыта замелькали в воздухе. Карр натянул веревку; казалось, животное вот-вот порвет ее. В следующий миг мустанг опустился так близко к Карру, что Джок сжал плечо Голденберга, смотревшего через видоискатель. Но Джо и другие члены операторской группы не сдвинулись с места. Они невозмутимо стояли на своих рабочих местах, пока Джок не крикнул: — Стоп! Карр не отпустил в этот момент веревку. Он удерживал ее, пока к нему не подбежал конюх. Затем Карр повернулся; его лицо было злым, почти пепельным, губы — плотно сжатыми, челюсти — стиснутыми. Он явно сердился. Джок бросился к актеру. — Потрясающе, — произнес режиссер. Но Карр оборвал его: — Если ты еще раз выкинешь такое, я набью тебе морду! Внезапно он схватил Джока за рубашку и притянул к себе. — Господи, Прес, о чем вы говорите? Вид у Джока был абсолютно невинный, искренне изумленный. — Не меняй животных без предупреждения! Если я знаю мустанга, то способен оценить, как близко можно подойти к нему. Я думал, что это то животное, с которым мы работали до ленча. Когда конь встал на дыбы, я увидел его морду с маленькой белой отметиной и внезапно понял: Господи, это другой мустанг! Я не знаю, как он опустится. А я стою так близко, что ощущаю его дыхание! Никогда больше так не делай! Джок не двигался, пока Карр не замолчал и не отпустил его. Если бы Джок начал сопротивляться, это лишь привлекло бы внимание людей к поступку актера, его ярости. Также Джок Финли испытал страх. Шестидесятидвухлетний Карр мог на самом деле избить молодого режиссера. Если Карр снова рассердится достаточно сильно, он сделает это. Последний раз Джок испытывал страх перед физической расправой в детстве, когда на маленького светловолосого Джека Финстока набросились негры. Произошло это в бедном квартале Уилльямсбурга. Когда Карр отошел, Джок подозвал к себе Текса, конюха. Текс подбежал к режиссеру. Джок отчитал его строго и громко, чтобы это услышал Карр. Финли запретил конюху менять животных без ведома актера. Это правило не должен нарушать никто! Потом Джок крикнул Карру, шагавшему к спасительной тени палатки: — Извините, Прес! Это моя ошибка. Я не подумал, что они могут заменить мустанга. Мэннинг запечатлел все. Карра, сжимающего рубашку Джока. Яростное обвинение актера, адресованное Джоку. Режиссера, отчитывающего конюха. Приносящего извинения Карру. Однако Мэннинг не зафиксировал чувства Джока, шагавшего к камере. Сукин сын! — думал режиссер. Так вот почему этот дубль оказался превосходным. Растерянность! Карр не знал животного. Джок подошел к съемочной площадке, где готовили новый кадр — фронтальный вид Карра. Джо проверял мизансцену так деловито, сосредоточенно, что Джоку показалось — его преднамеренно игнорируют. Когда Джо повернулся, Джок посмотрел маленькому оператору в глаза: — Вы думаете, я запланировал это! Джо покачал головой, но это отрицание не показалось достаточно убедительным. — Я понятия не имел о том, что они поменяли животных! Для чего я держу главного конюха? Чтобы подобное не случалось! — Мы готовы снимать, — сказал Джо. — Скоро освещение испортится.
При съемке этого кадра Карр не мог приближаться вплотную к животному. Объектив мог создать иллюзию их близости. Джок и Джо подробно объяснили это актеру. Затем режиссер предоставил Карру возможность самому выбрать дистанцию. Все приготовились к репетиции. Ассистент потребовал тишины. Перед тем как Карр взял веревку, Финли крикнул ему: — Посмотрите внимательно на мустанга, Прес! Карр бросил взгляд в сторону Джока; в глазах актера была не то сдержанная, настороженная благодарность, не то раздражение или даже злость. Но Карр все же остановился, посмотрел на животное, увидел уже знакомую белую отметину. Затем он сыграл сцену, не слишком резко ударив веревкой о землю. Мустанг поднялся не очень высоко. Джо убедился, что вся картина попадает в объектив. — Мотор! — крикнул режиссер. Карр начал играть. Но животное отреагировало не так, как прежде. Оно слишком сильно отклонилось в сторону от Карра. Поэтому дубль не подходил для монтажа, не соответствовал предыдущему ракурсу. Джок понял это, прежде чем Джо раскрыл рот. Они начали все снова. Люди приготовились к дублю, выполнили все приказы, которые порой способны превратить киносъемку в скучнейшее занятие. Новый дубль, новые проблемы. Джо Голденберг пробормотал, обращаясь как бы к самому себе: — Мы упускаем свет. Джок крикнул операторской группе: — У нас есть время только на один дубль. Постарайтесь, ребята! Надо, чтобы все получилось. Начнем, черт возьми! Все засуетились, приготовились. Джок стал позади Джо, посмотрел в видоискатель и крикнул: — Мотор! Карр шагнул к мустангу, взглянул на него, потом на веревку, взял ее и щелкнул ею о землю, подняв облако пыли, отчего композиция кадра стала более интересной. Испуганное животное поднялось на задние ноги, продемонстрировав великолепные мышцы. Сейчас оно напоминало статую коня, стоящую на римской площади. Из-за копыт мустанга появилось загорелое, напряженное лицо Карра; в его глазах горели жажда борьбы, стремление к победе. Человек вступал в единоборство с животным и не собирался сдаваться. Когда конь начал опускаться, он задел копытом плечо Карра! Не ударил его со всего размаха, но оставил длинную ссадину, из которой тотчас пошла кровь. Все, кроме Карра, ахнули. Джоку, Джо, Дейзи, Мэннингу, всем присутствовавшим здесь этот момент показался критическим, роковым, способным погубить картину. Карр доиграл сцену до конца и лишь после этого бросил веревку. Люди поспешили к нему со всех сторон. Первым возле Карра оказались Джок и Мэннинг. Джок говорил, Мэннинг снимал. Это была кровь, настоящая кровь. Человек оказался на волосок от гибели. — Прес! Прес! — Налейте мне виски, — тихим, хриплым голосом попросил Карр. Джок отдал распоряжение человеку, стоявшему возле него. Появился молодой врач. Он дал Финли подержать его чемоданчик. Достав спирт и тампоны, врач стер кровь, которая уже не текла, а сочилась из широкой неровной ссадины. Обрабатывая плечо Карра, доктор измерял пульс актера, уверял его, что серьезных повреждений нет. Принесли виски. Карр взял бокал свободной рукой, сделал один большой глоток, потом второй, поменьше. Отдал бокал, произнес: «Добавьте льда». Доктор предложил Карру вернуться в палатку и прилечь. Джок приказал подогнать джип. Но Карр зашагал пешком; Дейзи шла рядом с ним. Когда Джок спросил доктора, каков его прогноз, тот ответил: — Если рана будет оставаться чистой, ссадина подсохнет и через несколько дней исчезнет. Какое-то время кожа будет иметь другой цвет. Но Джок уже решил, что для всех следующих дублей гример будет рисовать кровь на бицепсе Карра. Рана, полученная во время этой съемки, должна кровоточить на протяжении всего эпизода. К тому же пятно крови прекрасно смотрелось на загорелой коже и мощных мускулах. Джок радовался тому, что снимал Карра без рубашки. Когда Джок протянул доктору чемоданчик, тот не стал брать его и произнес: — Я должен поговорить с вами. Они отошли вдвоем от съемочной группы, которая заканчивала дневную работу. — Я не беспокоюсь по поводу этой царапины, — сказал врач. — Следите затем, чтобы грим был чистым, и все заживет через три-четыре дня. Но… Он повернулся лицом к месту съемки, чтобы убедиться, что никто не услышит его слов. — Но на вашем месте я бы побеспокоился о другом. Когда я оказывал помощь Карру, я мог сделать так… — он положил руку на бицепс Джока и сжал его. — Вместо этого… Он взял Джока за запястье и вытянул руку, одновременно проведя пальцами по бицепсу режиссера, как бы протирая его тампоном. — Я хотел проверить его пульс. Не перетруждайте этого человека. — После такого потрясения его пульс был обязан участиться, — сказал Джок. — Не давите на Карра. Не заставляйте меня говорить больше, чем я сказал. Я не хочу подводить кинокомпанию. В конце концов они мне платят. Доктор взял у Джока чемоданчик и зашагал к лагерю. Финли пнул ногой землю, подумал с мгновение, затем пересек место съемки, где люди граблями разравнивали почву, уничтожая следы копыт, ног, шин. Ассистент Джока ждал распоряжений на завтрашний день. Но Джок лишь сказал: — Найдите Джо Голденберга. Почти через час Джо открыл дверь трейлера, в котором жил Джок. Оператор курил трубку. — Выпьете? — Нет, спасибо. Это означало, что Джо уже выпил свои два предобеденных бокала с Престоном Карром. — Как он? — Все в порядке. Джо ответил таким тоном, словно он сам ждал информации от Джока. — Он что-нибудь сказал? — Только то, что сам подошел слишком близко. — Ему больно? Он раздражен? Джо отрицательно покачал головой. — Это хорошо! — громко произнес Финли. Он встал и принялся ходить взад-вперед. Заговорив, Джок смотрел в глаза Джо лишь тогда, когда хотел что-то подчеркнуть или оценить реакцию оператора. — Карр меня тревожит, — сказал Джок. — Я надеялся, что он будет более осторожным. У него есть чувство дистанции, он знает животных. Он не имел права подходить к мустангу так близко. Я понимаю, что он сделал это ради фильма. Или… Джок взглянул на оператора. — Он хотел что-то доказать. Себе. Или ей. Или всему миру. Если это так, то мы должны защитить его от самого себя. Конечно, незаметно. Спланировать работу так, чтобы он не переутомлялся. Мне понадобится ваша помощь. Что нам следует снимать завтра — реакции Дейзи и Бойда или сцену Карра с третьим ракурсом? — Лучше всего, — сказал Джо, — закончить сцену Карра. Потом можно будет не спеша снять реакции Дейзи и Бойда. Кровь, выступившая на плече Карра, должна их усилить. Внезапно Джок повернулся лицом к Джо. — Я знаю, как мы можем это сделать! — Режиссер шагнул к бару, чтобы налить себе спиртное. — Вы точно не будете пить? Джо покачал головой. — Скажем ему, что нам нужны их реакции при резком освещении, чтобы не было проблем с монтажом. Тогда мы сможем потратить по целому дню на Бойда и Дейзи и дать Пресу два дня на отдых. О'кей? Джо кивнул медленно, задумчиво, неохотно. Затем он спросил: — Финли, вы боитесь? — Еще как! Почему нет? Он просто не бережет себя! Рискует так, как я не стал бы рисковать в моем возрасте! — Я имел в виду другое. Я думал, вы знаете нечто такое, что не известно мне. — Я видел то же, что и вы! Поэтому я встревожен! И считаю, что у меня есть для этого основания. Давайте работать вместе. Доведем Карра до конца живым и невредимым. Хорошо? — Хорошо, — тихо, сдержанно произнес Джо. Следующий день ушел на съемки третьего ракурса. Карр несколько раз отрепетировал сцену. Первый дубль не закончили по техническим причинам. Произошел обрыв в силовом кабеле, питающем камеру. Они сделали второй, третий дубли. Четвертый оказался хорошим. Во всяком случае приемлемым. Затем устроили перерыв на ленч. Во время ленча Джок и Джо обсуждали, есть ли смысл сделать еще один дубль. Джок решил, что это нужно. После ленча съемки возобновились. Не ограничившись одним дублем, они работали столько, сколько позволило освещение. Карр сам прервал первые два дубля. С его памятью, похоже, что-то произошло. Порой случается так, что актер не может вспомнить свои слова и говорит: «Извините. Сделаем это еще раз». Карру это было несвойственно; Джок встревожился. Престон забыл, как развивается действие, или испытывал внутреннее сопротивление. Или ему мешали воспоминания о том моменте, когда копыта оказались совсем рядом с ним. Когда освещение уже начало «уходить», они наконец сделали дубль, показавшийся всем удачным. Что бы ни беспокоило Карра, Джок знал, что это привело к лучшему дублю дня. Когда Престон возвращался к своему трейлеру, его догнал Финли и сказал: — Последний дубль просто великолепен! — Спасибо, — ответил Карр. В этот момент конюх вел мимо них животное. Карр не упустил возможности шлепнуть коня по блестящему боку. Конюх увел мустанга, затрачивая на это много сил. — Вы можете завтра отдохнуть, Прес, — сказал Джок. — Джо считает, что нам следует поскорее отснять реакции, тогда у нас будет меньше проблем при монтаже. — Да? Тон Карра свидетельствовал о том, что актер собирался доиграть весь эпизод до конца без перерывов, сколько бы времени это ни заняло. Но он лишь кивнул, продолжая идти к своему трейлеру. Джок проводил Карра взглядом, оценивая его. Изменилось ли что-то в походке, внешности актера? Конечно, проработав весь день на жаре, человек выглядит усталым, немного сутулится. Или после слов доктора актер уже никогда не будет казаться Джоку прежним Карром?
Следующие два дня ушли на съемку реакций. В первый день снимали Дейзи. Она играла лучше, чем ожидал Джок. Актриса испытывала и демонстрировала страх, который позже передастся зрителям. Он казался искренним, реальным, потому что был таким. Дейзи не знала, что сказал доктор. Интуиция любящей женщины говорила ей то же самое. Реакции Бойда, которые снимались во второй день, были простыми, прямолинейными, профессиональными. Он с презрением относился к съемке реакции. Считал их самой фальшивой частью работы киноактера. Демонстрировать любовь, страх, ненависть, тревогу, отделенные днями или даже неделями от событий, их вызвавших, на его взгляд, было наихудшим обманом. Кукольным театром. Но он делал это тщательно, экономно, сдержано. В реакциях нельзя переигрывать. Бойд всегда помнил о своих друзьях с Востока, которые без стеснения писали ему о том, как ужасно выглядит он на экране. Ему платили шесть тысяч долларов в неделю, а они сидели на профсоюзной смете, составлявшей сто шестьдесят семь долларов и пятьдесят центов. Джок уже давно не ждал от Бойда потрясающей игры. Если молодой человек справится с ролью, этого будет довольно. Все внимание критиков достанется Престону Карру и Дейзи Доннелл, как и должно быть. Конечно, несколько молодых критиков-гомосексуалистов назовут приличную игру Бойда «великой»; они увидят в ней «самоотречение и скромность, подчинение картине». Словно он сознательно проявил лишь часть своего таланта. Эти критики вспомнят покойного Джимми Дина и даже первые картины Брандо. Но Джок знал правду. Конечно, он будет рекомендовать Бойда другим режиссерам, но для себя он уже сделал вывод: не подпускай к художественным фильмам посредственных телевизионных актеров!
Двенадцатая глава
Утром первого дня, когда предстояло снимать единоборство Карра с мустангом, небо оказалось затянутым облаками, что сулило непреодолимые проблемы при монтаже. Прежде небо было ясным, голубым. Новые погодные условия помешают соединить сегодняшние удачные кадры с уже отснятым материалом. Надо направить объектив так, чтобы в него не попало небо, подумал Джок. Такой ракурс может оказаться интересным. Хотя и отличным от того, что он планировал. Режиссер решил, что поступит именно так. В любом случае это станет репетицией. Он увидит скрытые возможности эпизода. Изучит материал, подправит освещение, придумает новые детали действия и конфликта в дополнение к тем, что уже породил в его воображении сценарий. Во время завтрака, потягивая кофе, Джок раскрыл свои намерения Джо. — Я думал, вы не захотите снимать при таком небе, — сказал оператор. — Допустим, ничего не получится. Что мы потеряем, кроме нескольких тысяч футов пленки? Но если на нас снизойдет озарение… Джок не закончил фразу. — В таком случае вы потратите дни, возможно, недели, пытаясь снова поймать этот кадр. Потому что небо изменится, — произнес Джо. — Все равно мы узнаем нечто новое. Прес что-то откроет для себя. Это станет прогоном. — Таких звезд, как Карр, не используют для репетиций, — сказал Джо, собирая свои записи и страницы сценария, успевшими стать грязными от частых прикосновений. Он отошел от стола. — Джо! Джок позвал оператора тихо, чтобы не привлечь внимания остальных. — Он сказал что-нибудь? О том, как он себя чувствует? Боль прошла? — Гордый человек не любит говорить о боли. — Вы что-то заметили? Уловили? Джо покачал головой. — Тогда почему? Оператор, снова качнув головой, направился к выходу. Джок последовал за ним. Они покинули столовую. Джо сказал: — Когда со мной случилось такое доктор предупредил, что через восемь недель я смогу делать все что захочу. Не перетруждая себя. Кроме вождения машины без гидроусилителя руля. Он запретил мне долго использовать мышцы рук, плеч, груди и спины. — Как может Прес сыграть сцену единоборства, не используя всерьез эти мышцы? — спросил Джок. — На вашем месте я бы подумал о Риане. Сейчас. — Карр говорил с вами? — Он не сказал ни слова! — запротестовал Джо. — Разве Прес не говорит об этом в конце каждого дня, когда вы приходите к нему в трейлер? — Нет. — О чем он говорит? — Он лишь спрашивает, как идет съемка. Удовлетворен ли я отснятым материалом. — Понравилась ли вам его игра… — произнес Джок, уязвленный тем, что актер интересуется мнением оператора, а не режиссера Финли. — Мы оба — ветераны, — пояснил Джо. — Думаю, это ему помогает. — Неудивительно, что он не может полностью проявить свой талант. Он не отдает себя целиком в руки режиссера! Не доверяет ему. — Он никогда таким не был, — сказал Джо. Голденберг слишком поздно понял: Джок Финли воспринимает эти слова как обвинение в свой адрес. — Вы хотите сказать — с другими режиссерами. — Этого я не говорил, — возразил Джо. — Сукин сын! После того как я выстроил образ и картину вокруг него, заставил делать вещи, которые, по признанию самого Карра, ему никогда прежде не приходилось выполнять. И сейчас он не идет за поддержкой ко мне! Увидев смонтированный материал, Прес не нашел добрых слов. Он не говорит со мной. Не спрашивает меня: удовлетворен ли я, нравится ли мне его игра! — Не питайте к нему ненависти! — взмолился Джо. — Ненавидеть актера! Нет, я не испытываю ненависти к актерам. Как и к плохим декорациям. Или к дерьмовому диалогу. Или к невыразительному освещению. Все это меня оскорбляет. Но я не трачу душевных сил на ненависть. Даже к величайшим актерам. Даже к вашему Королю! Если бы Джо Голденберг не испытывал чувства долга по отношению к Карру, если бы он не знал, что снимается превосходный фильм, если бы они не были так близки к финалу, оператор бы уехал отсюда. Прямо сейчас. Вместо этого он решил ради Карра умиротворить Финли, потому что чувствовал, что злость молодого человека может оказаться опасной. — Финли, вы подошли к концу великолепной картины. Никто не может это оспорить. Каждый критик и каждый зритель, которые увидят ее, навсегда запомнят ваше имя. Что бы не делали Прес или девушка, эта картина — ваша. Поэтому вы не можете ничего потерять. Если только закончите ее. Когда я сказал, что Карр не был таким, я не имел в виду, что он не был таким с другими режиссерами. Дело в том, что я не видел его таким неуверенным в себе, нуждающимся в одобрении, поддержке. Так что дело не в этом. Карр очень уважает вас как режиссера. И не хочет волновать вас, обременять своими проблемами, ограничивать ваше воображение. Он, как и вы, желает, чтобы картина удалась! Вот и все. — Есть другая причина, — предположил Джок. — Чувство вины! — Вины? — удивленно спросил Джо. — Да, вины! О чем, черт возьми, мы говорим сейчас? Посмотрим правде в глаза. Вы говорите мне: «Не переусердствуйте. Он пожилой человек, переживший сердечный приступ. Если мы попросим его выложиться в этой сцене, он может умереть». Верно? — Допустим, да. — Позвольте мне напомнить вам, мистер Голденберг, что мы оказались в этой ситуации, потому что Престон Карр скрыл от меня правду. Он мог до подписания контракта сказать мне: «Финли, я хочу, чтобы ты знал — у меня был сердечный приступ. Если соответствующие ограничения помешают работе, я не могу сниматься в твоей картине». Или я был не вправе рассчитывать на честность? Прошу слишком многого от Короля, который получает миллионные авансы? Он доходит вместе со мной до своей большой сцены. И посылает ко мне вас, чтобы вы попросили меня не утруждать его. Я не считаю это честным, порядочным поступком профессионала! Сейчас Джок говорил уже довольно громко. Джо испугался, что их услышат. Поэтому он стал защищать Карра шепотом. — Он не просил меня говорить с вами. Вспомните, это вы хотели побеседовать со мной. — Только потому, что вы вашими действиями, вашим отношением заставили меня поверить в то, что вам есть что мне сказать! — яростно выпалил Джок. — Да, мне действительно было что сказать вам. Если вы поведете себя правильно, учтете его физические возможности, вы получите от Карра все, что вам нужно. Может быть, не все, что вы хотите получить, но достаточно для создания великолепной картины. Работайте с ним, а не против него. Поддерживайте его, а не бросайте ему вызов за вызовом. Он — гордый человек. Он будет стараться сделать то, что ему не по силам. Это может закончиться плохо… для всех нас. Вот что я хотел сказать. — Как насчет сегодняшнего дня? — спросил Джок, игнорируя мольбу Джо. — Мне не нравится это небо. — Джо отвернулся от Финли, посмотрев на съемочную площадку и небо. — Даже если мы выберем другой ракурс и используем в качестве фона горы? — Это возможно. Однако успех маловероятен. — А если я использую Риана для репетиции со съемкой? — Я согласен, — сказал Джо, все еще ожидая ответа на свою отчаянную мольбу. — Я узнаю прогноз погоды. Поговорим позже. Джок ушел, так и не пообещав Джо не давить на Карра, не бросать тому вызов. Оператор проводил режиссера взглядом; его страх усилился. Через полчаса Джо получил сообщение от ассистента режиссера: завтра мог пойти дождь. Это обещало потерю не одного, а двух дней. Поэтому сегодня состоится репетиция со съемкой всей сцены единоборства. С Рианом. Джок велел передать Карру, что он не понадобится. Поскольку Карр знал, что он участвует в последней сцене, это известие удивило его. Он пришел на съемочную площадку в сером кашемировом пиджаке и малиновой «водолазке». На его лице были видны следы усталости и солнечных ожогов, но в целом он выглядел, как в тот день, когда Джок впервые увидел его на ранчо. Джок и Риан прошли на середину съемочной площадки. Финли начал пересказывать эпизод. При этом он размахивал руками, как боксер, изображающий бой. Сейчас режиссер целиком состоял из энергии, движения, физической силы. Объяснение сцены приносило ему удовлетворение, сравнимое с сексуальным. И обычно он делал это с большой самоотдачей. Он подробно описал Риану, что ему нужно делать. В какой-то степени ход сцены будет определять мустанг — ее важный участник. Джок объяснил, что должно остаться на пленке к концу съемки. Риан слушал режиссера; его глаза внимательно смотрели то на Джока, то на столб, к которому будет привязан мустанг. По словам и жестам режиссера Риан рисовал в своем воображении реальную ситуацию, которую ему предстояло изобразить. Время от времени Риан задумчиво кивал. Джок перечислил все элементы сцены; подход к животному, использование веревки, удар шляпой по морде мустанга. Риану предстояло сломить животное, подчинить его своей воле, почти поставить на колени, подвести к пандусу ждущего грузовика, завести в кузов. Последний момент, когда Линк отпускает животное на свободу, предстояло снимать отдельно, не в ходе этой репетиции. Когда Финли наконец замолчал, Риан снова задумчиво кивнул. — Выберите животное, с которым вы хотите работать. Потому что, когда мы начнем снимать, камера будет работать непрерывно. Я решил снять всю сцену за один дубль, который мы сможем использовать при необходимости. Риан пристально посмотрел на Джока. — Это — ваш шанс, Риан. От него зависит, попадете вы в картину или нет. Финли повернулся и ушел. Риан проводил взглядом Джока и зашагал к конюхам, которые держали мустангов. Когда режиссер вернулся к камере, Джо Голденберг оторвался от видоискателя. Финли обратился к оператору так, словно час тому назад между ними ничего не произошло. — Я хочу снять всю сцену без остановок, непрерывно. Сколько у вас здесь пленки? — Почти четыре сотни футов. — Перезарядите камеру! Не будем рисковать! — приказал Джок. Джо не стал спорить; он лишь отдал распоряжение своему ассистенту. Престон Карр и Дейзи сидели неподалеку от камеры, в тени открытой палатки, и наблюдали за происходящим. Карр понял значение слов, произнесенных Джоком. Режиссер как бы внезапно заметил актера. Он подошел к Карру, поздоровался с ним, спросил, не болит ли плечо. Потом Джок объяснил: — Мы снимаем репетицию. Я хочу выяснить, можем ли мы обойтись без монтажа. Поэтому я попросил Риана сыграть всю сцену. Потом мы посмотрим проявленную пленку и определим, где он допустил ошибки. И к чему мы должны стремиться, снимая вас. — Хорошая идея, — согласился Карр. — Мне очень нравится ваш пиджак, — сказал Джок. — Когда мы вернемся в Лос-Анджелес, я попрошу вас дать мне телефон вашего портного. — Я заказывал его в Лондоне, — сказал Карр, глядя мимо Джока на Риана, который вел одного из выбранных жеребцов по «полю брани». Животное шагало неохотно, мотало головой, но не слишком яростно. Риан отдал его конюху и взял другого мустанга. Потом третьего. Четвертый мустанг казался достаточно агрессивным. Риан остановил свой выбор на нем. Главный конюх взял веревку и увел животное, чтобы сделать ему инъекцию слабого успокоительного. Подобный укол делал мустанга более покладистым. Вернувшись с жеребцом, конюх привязал веревку к столбу. Риан снова посмотрел на животное, повернулся к Джоку и крикнул: — Я готов! — Сыграйте сцену для Джо, — отозвался Джок. Риан отправился на исходную позицию. Постоял в задумчивости, махнул рукой Джоку, который переглянулся с Джо. — Начинайте! — крикнул режиссер. Риан проделал все необходимое, не играя, а лишь обозначая свои действия. Он наклонился, сделал вид, будто отвязывает веревку. Повернулся спиной к камере, потом лицом к ней. Потянул мустанга на себя и в нужный момент отпустил его. Воспользовавшись шляпой как оружием, надел ее себе на голову, чтобы снова освободить руки. Манипулируя воображаемой веревкой, как бы приблизил к себе мустанга, подчинил своей воле и завел по пандусу в кузов грузовика. Джок посмотрел на Джо. — Годится? — Да. Режиссер крикнул Риану: — О'кей, Арт! Так мы и будем снимать. Затем, как бы неожиданно для самого себя, Джок добавил: — Вот что! Давайте попробуем без рубашки. Режиссер посмотрел по сторонам. — Гример! Взгляните, не нужен ли грим для тела. Что скажете, Джо? Джо Голденберг поглядел на Джока, на Риана, потом в видоискатель и снова на Джока: — Меня все устраивает. Но он не сумел полностью скрыть свое раздражение. Если они всего лишь снимают репетицию, тогда зачем Риану сбрасывать рубашку? А если это не репетиция, то почему ему, Джо, не сказали об этом? Голденберг ощущал присутствие возмущенного Престона Карра. В этот момент Мэннинг сфотографировал Карра. Разъяренный актер услышал звук, повернулся, зло посмотрел на Мэннинга, который тотчас сделал еще один снимок. Затем Мэннинг направил камеру на Риана. Фотограф мгновенно поменял объектив, несколько раз заснял, как гример накладывает грим на сильное, загорелое тело Риана. Закончив свою работу, гример обернулся и крикнул: — Все, Джок! Не глядя на Джо, Финли спросил оператора: — Вы готовы? — Готов, — сдерживая гнев, ответил Джо. — Начинаем! — обратился Джок к своему ассистенту. Ассистент расставил всех людей по своим местам и добился нужной тишины. Финли посмотрел на Карра, который мрачно глядел на Риана. — Мотор! — крикнул Джок. Обнаженный по пояс мускулистый Риан направился к веревке, взял ее, щелкнул ею о землю. Все это уже было снято ранее, но повтор был необходим, чтобы подвести Риана к его сцене. Риан снова щелкнул веревкой, дернул животное, которое попятилось назад, пытаясь освободиться. Хотя мустанг получил обычную дозу успокоительного, Риану приходилось применять всю свою силу, чтобы оставаться на ногах. Воздействие человека наживотное и животного — на человека, их воля, их физическая энергия — все это было видно очень ясно. Сила, быстрота Риана, позволявшие ему противостоять мустангу, были изящными, впечатляющими. Но прежде всего обращало на себя внимание то, что Риан был на тридцать лет моложе Карра. И Престон, наблюдавший за дуэлью человека и животного, видел это лучше всех. Карр буквально проживал каждое движение, каждый поворот великолепного тела Риана. Все это напоминало актеру о том, что перед ним человек намного моложе его. Битва продолжалась, проходя через этапы, запланированные Джоком. Каждая фаза занимала больше времени, чем он предполагал, потому что животное оказалось очень упорным. Но Джока это устраивало. Борьба должна быть серьезной, тяжелой. Она требует от человека полной отдачи. Чем более длительной, напряженной будет схватка, чем менее ясным будет казаться ее исход, тем лучше для дела. Когда Риан откинул борт кузова, чтобы освободить животное, Джок крикнул: — Стоп! Режиссер испытывал огромное облегчение. Сцена удалась! Она станет отличным финалом картины. Джок повернулся к Джо, чтобы спросить его, как прошла съемка. Но режиссер обнаружил, что Престон Карр покинул свое кресло; подойдя к камере, он наблюдал за сценой из-за плеча Джо. — Джо? — Я все заснял, — ответил Голденберг. Стоявший рядом Карр ничего не сказал. Он стал удаляться от камеры. — Получасовой перерыв, — сказал Джо своему ассистенту. — Подготовьте площадку к повторной съемке. Престон Карр, который почти дошел до палатки, оглянулся, посмотрел на Джока Финли, затем зашагал дальше к джипу, чтобы отправиться к своему трейлеру с кондиционером. Дейзи поспешила за ним; она догнала Карра в тот момент, когда актер уже садился в машину. После ленча еще раз сняли сцену с Рианом. Потом еще два раза. Первый дубль оказался совершенно негодным — животному дали или слишком большую дозу успокоительного, или оно просто было трусливым и вялым. Второй дубль получился хорошим, но не идеальным, потому что Риану не сразу удалось надеть шляпу на голову. Последний дубль оказался наилучшим. Риан почувствовал сцену, обрел уверенность в работе со смелым мустангом; борьба стала более яростной, победа — более значительной. Джок приказал отправить все четыре дубля в Лос-Анджелес, срочно обработать и вернуть ему не позже утра. Если Джоку требовалось оправдание его решения работать с Рианом, то он получил его на следующий день. Дождя не было, но пасмурная, ветреная погода изменила облик пустыни. Тяжелые грозовые тучи затянули небо. Ветер гнал их, точно грязных овец. Все небо, казалось, бежало в одном направлении. Песчинки, поднимаясь в воздух, носились по лагерю, точно дробь. Джок радовался такой погоде. Не только потому, что сбылось предсказание, которое он сделал Джо. Теперь он получил время посмотреть материалы с Рианом, подумать, обсудить планы на будущее. Из Лос-Анджелеса сообщили, что вертолет, вероятно, не сможет прилететь из-за сильного встречного ветра. Но Джок связался с управляющим студии и потом — с ее главой. После оценки потерь, к которым могла привести задержка, пилоту приказали подняться в воздух. Полет был тяжелым. При посадке из-за сильного ветра вертолет едва не врезался в грузовик с генератором, который стоял возле посадочной площадки. Но машина все-таки приземлилась. Коробки с пленкой понесли в проекционный трейлер. Когда Джоку сообщили, что пленка заряжена, он не пригласил Джо. Он хотел увидеть материал в одиночестве. Финли просмотрел все четыре дубля. Он попросил механика повторить их. Теперь ему больше всего понравился четвертый дубль. Он просмотрел еще два раза. Борьба, цвета, возбуждение — здесь присутствовало все, что хотел видеть Джок. Если в какие-то мгновения подмена Карра Рианом становилась явной, то эту проблему можно решить с помощью одного или двух дублей. Но факт был налицо: при необходимости Джок сможет закончить фильм с Артом Рианом. Поймет ли это Престон Карр? Если да, то как он отреагирует на это? В глубине души Джока зрела убежденность в том, что только участие Карра придаст картине абсолютную реалистичность и честность. Чтобы не испытывать в дальнейшем чувства неудовлетворенности и спустя недели не покидать проекционную, упрекая себя в проявлении слабости, он обязан настоять на том, что считал необходимым. Он должен снять Карра! Чем лучше выглядел Риан на экране, тем сильнее становилась уверенность Джока в том, что ему нужен Карр. Приняв решение, режиссер послал за Джо Голденбергом и показал ему первый и четвертый дубли. Джо смотрел с бесстрастным выражением лица. Финли приказал механику повторить демонстрацию дублей. — Ну? — спросил наконец Джок. — Несомненно, этот вариант сработает, — сказал Джо. — Я знаю, что сцена удалась! Но я хочу знать, что вы думаете о Карре?! — Когда я сказал, что этот вариант сработает, я имел в виду следующее: если немного изменить ракурс, никто не догадается, что в кадре — не Карр. — А если я не соглашусь удовлетвориться этим, что тогда? — спросил Джок. — Я вас не понимаю, — солгал Джо. — Я хочу, чтобы эта сцена была честной! Я хочу Карра! — Джок, пожалуйста! — И я хочу знать, что вы скажете Карру, если он спросит вас. А он это сделает, — с вызовом произнес Джок. — Я не стану его обманывать, — просто ответил Джо. — Что вы имеете в виду? — настаивал Финли. — Я скажу ему, что, по-моему, Риан может справиться. Только профессионалы поймут, что это дублер, — твердо произнес Джо. — О'кей, — сказал Джок. — Спасибо за то, что вы честны со мной. — Я могу идти, босс? — спросил Джо. — Конечно, мистер Голденберг, конечно. Джо покинул трейлер. Механик все видел и слышал. Он пытался делать вид, будто поглощен работой, но привлек к себе внимание Финли, закурив сигарету. Не глядя на него, Джок сказал: — Ну и работа! Человек выбивается из сил, строит планы, пишет, мечтает, снимает! И в последний момент происходит нечто подобное. — Да, — с сочувствием произнес механик. — Вы бы догадались? — внезапно спросил Джок. Удивленный механик не смог ответить на вопрос, который он не понял. — Просмотрев эти кадры, вы бы догадались, что это Риан, а не Карр? Лицо механика стало задумчивым. Джок испытывал его профессионализм. — Ну… я бы смог это понять. В конце концов есть только один Престон Карр. — Совершенно верно! Вы сами это сказали. Есть только один Престон Карр. Любой зритель, видевший его на экране, поймет это! Нам не удастся обмануть публику. Это должен быть Карр. Вы совершенно правы. Джок покинул трейлер и зашагал по лагерю. Песчинки ударялись о его лицо. Небо потемнело еще сильней. Свинцовые тучи двигались со скоростью и целеустремленностью атакующей армии. Джок увидел, что вдали уже идет дождь. Финли размышлял о том, что и как он должен сказать. Начать следует со слов киномеханика. Или, имея дело с таким человеком, как Престон Карр, лучше всего заявить; «Прес, дорогой, не волнуйтесь! У вас нет причин для беспокойства. Мы будем работать с Рианом. Снимаем его, используя подходящие ракурсы, дадим крупным планом, и публика ничего не заметит. Даже не догадается». Но внезапно размышления Джока о наилучшем подходе потеряли практическое значение. К режиссеру приближался Престон Карр; актер был без шляпы, его волосы развевались. Сквозь вой резкого, порывистого ветра Джок услышал голос Карра: — Говорят, вы получили проявленные дубли! — Да, Прес. — Вы их видели? — Да. Они… — Я хочу сам посмотреть их! — перебил режиссера Карр. — Конечно, Прес. Конечно. В любое время. — О'кей! Джок пошел вслед за Престоном Карром к проекционному трейлеру, но актер остановил его. — Я пойду туда один! — Пожалуйста. Пожалуйста, Прес. Как вы пожелаете. Финли замер. Карр продолжал шагать к трейлеру. Джок стоял на ветру, раздувавшем его брюки и твидовую куртку. Он поднял воротник, рассеянно застегнул нагрудник. Все это время он обдумывал свой следующий шаг. Джо. Да, Джо. Он направился к трейлеру Голденберга.Когда Карр вошел в трейлер, механик заканчивал перематывать пленку. Он тотчас заволновался, потому что принадлежал той эпохе, когда звезды были идолами, самым ценным достоянием студии, источником работы для тысяч людей. А Престон Карр был Королем всех звезд. — Мистер Карр! — Финли сказал, что у вас есть новые пленки. Покажите их. — Да, сэр! Карр придвинул походный стул, сел на него. Положил локти на узкие деревянные подлокотники, сплел пальцы, оперся подбородком о большие пальцы. Появились первые кадры. Глаза Карра, из уголков которых струились морщинки, были прикованы к экрану — там развивалось действие. Цвета были яркими, сочными, животное — сильным, красивым. Но Престон Карр видел только одно. Риан, будучи на тридцать лет моложе Карра, двигался с легкостью, которая могла вызвать у пожилого человека восхищение или ненависть. Вскоре Карр стал замечать детали, мелкие и более значительные, говорившие о том, что на экране — другой человек. Совсем не Престон Карр. В какие-то мгновения актер даже успевал разглядеть лицо Риана. Карр видел несвойственные ему жесты и движения. Плечи Риана были немного покатыми, как у боксера, в то время как плечи Престона Карра, восхищавшие лондонских портных, были прямыми. Большие пальцы ног у Риана смотрели наружу, а у Престона Карра — внутрь. Это придавало определенное своеобразие походке актера. Внезапно пленка закончилась. Белый экран ослепил Карра, заставил его отвести глаза в сторону. — Еще раз! — потребовал он. Повторная демонстрация началась.
Финли подошел к трейлеру Голденберга. Он застал Джо за чтением одного из четырех сценариев, присланных ему агентом, который хотел привлечь к ним внимание оператора и получить его подпись на контракте. Джо Голденберг тоже был в некотором смысле звездой. При появлении Джока оператор поднял голову, вынул изо рта трубку. Загнув страницу, отложил сценарий в сторону. — Он в проекционном трейлере. Смотрит дубли. Джо ничего не ответил; он лишь выбил пепел из трубки, постучав ею о край глубокой пепельницы. Потом снова начал набивать трубку табаком. — Он сам все увидит. Как бы мы не снимали, нельзя скрыть, что это Риан. Мы должны что-то сделать! — Что вы намерены предпринять? — спросил Джо. Он отделил себя от Джока, употребив местоимение «вы», а не «мы». Оператор начал раскуривать трубку. — Не знаю, — сказал Джок, ожидая каких-то предложений. Но Джо молча возился с трубкой. — Вы наверняка попадали в подобные ситуации, — сказал Джок. Как поступали тогда? Джо задумался, пососал трубку, медленно выпустил изо рта дым. — Однажды мы были в Южной Америке. На берегу Амазонки. Там, где очень быстрое течение. Река резко поворачивает, и неожиданно начинаются пороги. Мы долго ломали голову над тем, как нам снимать. Наконец режиссер решил использовать дублера. Даже дублер пошел на это весьма неохотно. Но директор настойчиво заявил: «Нам нужны эти кадры!» Мы приготовились к съемке. Я расположился на высоком берегу, возле поворота, собираясь снимать, как дублер появится из-за поворота, пройдет пороги, начнет удаляться. Он плыл в маленьком каноэ местного производства, вроде каяка. Мы решили, что если нам повезет, то обойдемся одним дублем. В крайнем случае двумя. Получили сигнал по рации. Включили камеру. Из-за поворота появилась маленькая лодка, вокруг которой кипела белая вода. Загримированный дублер был очень похож на актера; мы сняли, как он приближался к нам, как попал на пороги. Внезапно лодку качнуло в одну сторону, в другую… Потом она вовсе перевернулась. Дублер исчез из виду. Пропал! Тело обнаружили через четыре дня. Индейцы из местного племени нашли его в двадцати милях от места съемки. Джо замолчал, словно собираясь снова зажечь трубку. Вместо этого он медленно, выделяя голосом каждое слово, произнес: — Мы не пытались повторить этот дубль. А когда занялись монтажом, то выяснилось, что надо сокращать материал. И весь эпизод на реке оказался «в корзину». Весь. Фильм удался, он получил хорошие отзывы, сделал деньги. Если когда-нибудь в будущем вам смогут пригодиться восемьсот футов цветной семидесятимиллиметровой пленки, на которой запечатлена гибель человека, обратитесь ко мне. Я храню ее в сейфе на студии «Парамаунт». Джо внезапно перевел взгляд с пламени зажигалки на мрачное, сердитое лицо Джока Финли. Дверь трейлера беззвучно открылась. Это был Престон Карр. Он явно удивился, застав здесь Джока. Но Карр все равно произнес то, что собирался произнести: — Джо, я хочу, чтобы вы пошли со мной! Хочу, чтобы вы увидели этот материал. — Хорошо, Прес. Голденберг снял со спинки стула свой старый вельветовый пиджак. Прес и Джо ушли, не пригласив Джока в проекционный трейлер. Они зашагали по лагерю. Джок посмотрел им вслед. Два человека шагали сквозь облако из песка и пыли. Они исчезли в проекционном трейлере. Через час Престон Карр нашел Джока Финли в его трейлере. Он пришел один, без Джо Голденберга. — Мы все посмотрели, изучили, обсудили. Обман не проходит. Даже если бы вы хотели сделать это. Но вы не хотите. Затем Карр добавил обвиняющим тоном: — Поэтому вы сняли Риана. Чтобы доказать это. — Карр помолчал. — И чтобы устыдить меня. С помощью человека, который моложе меня на тридцать лёт. О'кей! Вы добились своего. Я сделаю это. Но на моих условиях. Только два дубля в день. Один — утром, один — днем. Два дубля! Это все! Пусть съемки растянутся на неделю, две, три — мне безразлично! Я хочу, чтобы сюда прилетел мой врач. И Аксель Стинстоуп, мой тренер и массажист. Он должен находиться здесь с завтрашнего дня до конца съемок. Я буду готов к первому дублю через пять дней. Джок после каждого требования Карра кивал в знак согласия. Престон повернулся и ушел. Из всего сказанного Карром для Джока имело значение только одно — он сделает это! Пойти на такую уступку Карра заставила гордость. Джок поздравил себя с тем, как превосходно он изучил актеров. Никто, даже Дейзи Доннелл, не знал, что делал на протяжении пяти дней Карр с врачом в своем трейлере. Джо Голденберга не посвящали в итоги обследования и дискуссий. Но все были в курсе того, чем Карр занимался со своим тренером и массажистом Акселем Стинстоупом. Два раза в день Карр и Аксель пробегали по несколько миль вокруг лагеря. Они тренировались, ежедневно увеличивая скорость и нагрузку на ноги. Они останавливались, лишь когда Акселю казалось, что дыхание Короля становилось слишком тяжелым. Для человека, находящегося в очень хорошей форме, этот режим не был слишком утомительным. Он помогал подготовить тренированное тело Карра, главным образом его ноги, к длительным дублям. Кульминация его борьбы с животным, необходимость противостоять мустангу предъявляли требования в первую очередь к ногам актера. Он также выполнял упражнения для мышц живота, которые работали с большой отдачей, когда Карр манипулировал веревкой — дергал, натягивал ее. Аксель придумал упражнения для рук, груди, спины. Он соорудил особый тренажер, использовав для этого кран, установленный на грузовике. Он закрепил аркан на том уровне, на котором находится голова вставшего на дыбы коня. Это позволяло приучать мышцы Карра к усилиям, прилагаемым под определенным углом. Мэннинг ликовал. Он делал уникальные снимки звезды, интенсивно тренирующейся ради одного эпизода. Фотограф работал не меньше, чем Карр. Его интерес к материалу не иссякал. Джоку показалось, что Мэннинг влюбляется в Карра, в его мощное, зрелое тело, которое благодаря тренировкам становилось еще более сильным и выносливым. Постоянное воздействие солнечных лучей придавало его коже бронзовый оттенок. В конце каждой тренировки, утром и днем, Дейзи подавала Карру полотенце и хлопчатобумажный спортивный свитер. Аксель отводил актера в его трейлер, где постоянно поддерживалась двадцатиградусная температура. Протирал Карра спиртом и алболином. Большие, сильные руки тренера разминали напряженные или уставшие мышцы. Пальцы Акселя касались спины, груди, плечей, бицепсов Карра. Тренер постоянно повторял: «Дышите глубже, Прес, еще глубже!» Сам Аксель, казалось, задыхался. Днем Карр и его врач на четверть часа уединялись в трейлере актера. Выходя оттуда, доктор ни с кем не разговаривал, но выглядел оптимистично. Когда Дейзи спрашивала Карра о его состоянии, он ободрял ее, улыбаясь: «Не беспокойся, милая. Он говорит, что все в порядке». Иногда Карр добавлял: «Я поколочу этого сукина сына. Поколочу его!» В эти дни Джок Финли занимался своими делами. Следил за тем, как Джо снимал отдельные короткие сцены. Беседовал с Мэннингом. Консультировался по радиотелефону с Марти Уайтом и Нью-Йорком насчет планов, сроков, рекламы, сбыта. Все это время он с нетерпением ждал съемок большой сцены. Успех Риана лишь усилил его желание сделать все с Карром. Решимость актера, его стремление превзойти Риана радовали Джека. На пятый день тренировок, когда Аксель массировал спину Карра, Джок постучал в дверь трейлера. Дейзи открыла дверь и сообщила Карру о приходе Джока. После затянувшейся паузы Карр предложил режиссеру зайти. Финли посмотрел на мощную, загорелую спину Карра, на его упругие мускулы и улыбнулся: — Теперь вы можете сразиться с Кассиусом Клеем. — С Джо Луисом, — поправил его Карр. Это была шутка. И уточнение. — Я захотел узнать, как идут дела, — сказал Джок. Его голубые глаза выражали уважительное смущение. Карр молчал. — Я… я бы хотел спланировать работу. Когда, по-вашему, вы будете готовы, Прес? Теперь, когда Джок задал конкретный вопрос, Карр ответил: — Аксель считает, что через два дня. Верно? Не прерывая массажа, Аксель кивнул. — К пятнице? — вычислил Джок. — Может быть, тогда уж к понедельнику? Вы отдохнете день-два во время уик-энда. — Понедельник? — спросил Акселя Карр. — Конечно, — ответил Аксель. Джок кивнул, улыбнулся. — Что говорит доктор? — спросил он. — Все в порядке, — сказал Карр. — Отлично! — радостно произнес Джок и добавил: — Знаете, я скучаю по нашим встречам в конце рабочего дня за бокалом спиртного. Мой трейлер забит вашим любимым виски. Когда вы начнете снова пить? Карр не ответил ему; улыбнувшись, он повернул голову в другую сторону, поскольку Аксель принялся массировать его шею. Джок понять что он отчасти потерял этого человека. То ли его дружбу, то ли уважение. Он покинул трейлер с натянутой улыбкой. Ступив на землю, увидел Дейзи, которая принесла бутылку спиртного из запасов Акселя. Она ничего не сказала. Но ее глаза обвиняли Джока. — Привет, — с большой теплотой произнес он. — Привет, — бесстрастно отозвалась она. — Я бы хотел поговорить с тобой, когда все это кончится, — произнес он. — Зачем? Что ты хочешь сказать? Она была способна на наивную прямоту, всегда удивлявшую собеседника. Люди, слышавшие из уст Дейзи сочиненные кем-то слова, с трудом привыкали к ее собственной простоте и непосредственности. — Ты действительно хочешь знать? О'кей! Ни один мужчина не проник в твою душу. Ни один. Ты это знаешь? — спросил он. — Конечно, знаешь. Тебе, несомненно, уже говорили это. Она пожала плечами. Ушла от ответа, задав вопрос: — Прес сказал, когда будет готов? — В понедельник. Мы начинаем в понедельник. Дейзи задумчиво кивнула. Оба помолчали. Казалось, что она сейчас о чем-то спросит. Джок ждал ее вопроса. Но она вспомнила о бутылке, о поручении, и направилась к трейлеру. Джок посмотрел ей вслед. Какая пытка, сказал он себе, неделями видеть эту девушку в своем трейлере и не заниматься с ней любовью. Тем более для такого сексуального человека, как Престон Карр. Джок Финли зашагал по лагерю и внезапно остановился. Посмотрел на трейлер Карра. С чувством сожаления и одиночества осознал: что бы он ни думал о ней, ее странностях, болезни, связях с сотнями режиссеров, актеров, агентов, психоаналитиков и Бог знает с кем еще — может быть, даже с заправщиками на бензоколонках, — он по-своему любил ее. Скучал по ней. И если бы ему представился шанс… возможно, он еще представится… кому известно, как долго продлятся ее отношения с Карром… он, Джок, вернулся бы к ней. Выяснил бы причину. Потому что он тешил себя тщеславной надеждой на то, что, если бы Дейзи не считала себя обязанной идеально выглядеть, учить слова, играть, нести ответственность за многомиллионные вложения, если бы она сбросила со своих плеч это бремя, она смогла бы стать женщиной. Для одного мужчины. Да, он должен это выяснить. Когда-нибудь. Некоторые женщины выходят замуж за алкоголиков, чтобы помочь им. Некоторые мужчины женятся на красивых, но психически больных женщинах, чтобы вылечить их. Это всегда было благородным заблуждением, в основе которого лежит своя патология. В понедельник утром погода стояла почти идеальная: небо было ясным, голубым, редкие облака, висевшие над вершинами гор, быстро исчезали, когда солнце поднялось. Пустыня была сухой, воздух — прозрачным. Джо Голденберг собирался работать с фильтрами Ф-10. В лагере царила благоприятная атмосфера. Все происходило четко, по плану — подача завтрака в шесть, загрузка машин, формирование каравана, прибытие на натуру. Джок несколько раз слетал из лагеря на место съемки и обратно. Если все были возбуждены, то Джок пребывал в состоянии лихорадки. Творческий человек может почти безошибочно почувствовать приближение великого момента. Писатель ощущает это кончиками пальцев. Примерно то же самое происходит с актером. Художником. Режиссером. Иногда говорят о творческих случайностях, о людях, думавших, что их ждет неудача, и внезапно обнаруживших, что создали хит. Но подлинно великие созидатели знают заранее. Они предвкушают успех и приветствуют вызов. В таком состоянии находился сегодня Джок Финли. Подобное чувство он испытывал, добиваясь девушки, пробуждавшей в нем чрезвычайно сильное желание. Когда ехал на свидание с ней, уже зная, что овладеет ею. То же самое происходило с ним, когда он готовился отснять потрясающую сцену. А эта сцена станет его лучшей. Мэннинг тоже это чувствовал. То ли возбуждение само зародилось в нем, то ли он заразился им от Джока. Он ощущал это, снимая Престона Карра в гримерной палатке. Он снимал мощное тело актера, отражавшееся в зеркале, использовал ракурсы, подчеркивающие рельефность его мускулатуры, фиксировал на пленке тонкий, благородный профиль. Гример тем временем наносил на грудь и спину Карра коричневый грим. Находившаяся рядом Дейзи держала в руках халат Престона. Аксель Стинстоуп, тренер Карра, молча наблюдал за происходящим. Мэннинг запечатлел их всех. Он снимал быстро, профессионально. Он работал с фотоаппаратом так же уверенно, как Джо Голденберг обращался с «Митчеллом». Если бы кто-то разложил снимки Мэннинга один за другим, в них можно было бы обнаружить связь и движение, присущие кинокадрам. Мэннинг обладал не только профессионализмом, но и инстинктом. Он жил в мире, где ничего не повторяется дважды, где надо ловить момент. Когда гример кончил работать, Карр встал. Дейзи накинула ему на плечи шелковый халат. Мэннинг вспомнил, как он снимал Эль Кордобеса. Тогда этого знаменитого матадора готовили к ответственной мадридской корриде. Сейчас Карр испытывал те же чувства, что и матадор. Мэннинг выскользнул из палатки, едва не столкнувшись с Джоком, который зашел узнать, готов ли Карр. Мэннинг посмотрел режиссеру в глаза и прошептал: — Надеюсь, у вас все получится. Эта сцена будет потрясающей. Желаю удачи. Он с нежностью пожал режиссеру руку. — Спасибо, — сказал Джок и тут же подумал: «Чертов гомик, в следующий раз ты поцелуешь меня. При всех». Финли не успел зайти в палатку. Карр вышел из нее в сопровождении Дейзи и Акселя. Врача Карра не было видно. Дейзи и Аксель как бы составляли свиту Короля. Джок присоединился к ним, и они направились в сторону камеры. По дороге Джок завел честный, профессиональный разговор. Карр сам выберет животное. Когда он будет готов, состоится репетиция. Если Карра и Джо все устроит, они снимут сцену. Только один дубль за утро. Времени достаточно, не надо торопиться. Карр может делать все, руководствуясь свои чутьем. Если по ходу сцены мустанг ему не понравится, он вправе прервать дубль. Мэннинг снимал все происходящее крупным планом — телеобъектив позволял ему находиться поодаль. Он фотографировал Джока. Карра. Дейзи. Карра вместе с Джоком. Когда фотографии отпечатают, окажется, что они льстят Джоку. Мэннинг поймет, что он выдал себя. Но это не будет иметь значения. Он создал великолепные портреты двух мужчин, каждый из которых был лучшим в своем деле; они серьезно, увлеченно обсуждали свою работу. Позже портрет Карра выставят в нью-йоркском музее современного искусства. Возле камеры свита уменьшилась. Дейзи и Аксель отошли в сторону. Джок и Карр в сопровождении Мэннинга направились к месту, где конюхи готовили мустангов. Неспокойные, нервные животные словно ощущали важность этой сцены. Все мустанги были пойманы в течение последних двадцати четырех часов. Свежие, сильные они еще не успели привыкнуть к неволе, людям, веревкам, загону. Джоку нужны были их необузданность, дикость. Карру придется применить всю свою силу и ловкость. Престон, опытный лошадник, переходил от одного животного к другому; он трогал мустангов, похлопывал по бокам, разглядывал их морды. В его глазах было восхищение. Если аппалузы в результате селекции и работы с ними обладали сейчас достоинствами чемпионов, то эти дикие животные были более крупными и сильными; дух свободы делал их достойными противниками Карра. Актер сам искал мустанга, который вступит с ним в яростную схватку. Остановив свой выбор на одном животном, Карр взял веревку из рук конюха. Актер вывел мустанга из табуна; для этого Карру пришлось применить всю свою силу. Удерживая веревку, он заставил животное описать почти замкнутый круг. Мустанг дергал веревку, мотал головой, но Карр вынуждал его двигаться по кругу. Наконец Карр убедился в том, что мустанг подходит ему. Внезапно актер взялся за самый конец веревки. Животное, обретя мнимую свободу, бросилось в сторону, но в последний момент Карр резко остановил его. Все это Престон делал, ничего не говоря Джоку. Наконец актер повернулся к главному конюху и сказал ему: — Я беру этого, Текс. Сделайте ему укол. Это означало следующее: дайте коню легкое успокоительное, чтобы он стал более покладистым во время съемки. Джок попросил своего ассистента расставить всех по местам и вышел на середину поля брани. Он обратился к съемочной группе, используя рупор. — Сейчас нам предстоит снять самую важную сцену всей картины. Эта сцена мистера Карра. Я хочу, чтобы он получил все, что ему нужно. И чтобы все помогали ему! Я не могу допустить, чтобы он сыграл потрясающую сцену и затем обнаружил, что чья-то небрежность все погубила. Каждый человек, каждое устройство должны находится строго на своих местах. Мне требуется полная тишина! Никто не двигается без нужды и не издает звуков! Великий человек играет потрясающую сцену! Может быть, важнейшую в его карьере! Я хочу, чтобы вы отнеслись к этому с уважением. Сработали на пределе своих возможностей. Джок подошел к Карру. С искренностью в глазах произнес: — Когда я скомандую «мотор!», все окажется в ваших руках, Прес. Проявите величие! То, что присуще только вам! Покажите, что вы — настоящий Король! Карр ничего не сказал; он лишь жестко взглянул на режиссера; Джок повернулся и зашагал к камере. Не перегнул ли он палку? Нельзя давить на Карра. Может быть, на самом деле следует предоставить ему полную свободу действий. Карр направился к мустангу. Он посмотрел на него, пощупал веревку, вернулся на то место, откуда ему предстояло подойти к животному. Потом Карр поглядел на горы, снова перевел взгляд на мустанга и внезапно сказал: — Все готово, Джо? — Да, Прес! — Мотор! — крикнул Джок. Камера заработала. Престон Карр подошел к столбу, отвязал веревку. Щелкнул ею о землю. Животное отреагировало на резкий звук, попытавшись встать на дыбы. Карр начал двигаться по кругу налево, удаляясь от мустанга и кинокамеры. Животное натягивало веревку, пока она не врезалась в его гордую, сильную шею. Внезапно мустанг изменил тактику и бросился к Карру; актер с ловкостью и изяществом матадора шагнул в сторону, укоротив аркан. Человек и животное сблизились; Престон Карр старался оставаться сбоку от мустанга, на безопасном расстоянии как от его задних копыт, так и от его зубов. Ассистент Джо постоянно менял фокусировку объектива; камера медленно, плавно ехала вперед по рельсам, которые проложили рабочие. «Митчелл» приближался к злой, гордой, испуганной морде коня и напряженному, мрачному, загорелому лицу Карра. Камера отслеживала постепенное приближение человека и животного к пандусу и грузовику. Джок, наблюдая за съемкой, говорил себе: «Хорошо, хорошо, хорошо». Взгляд Карра был хитрым, проницательным, упорным, Таким же, как взгляд дикого мустанга. Глаза Карра умели без единого слова сообщать зрителям мысли актера. Эта способность сейчас проявлялась в полной мере. Джок почувствовал, что он может обойтись без крупных планов. Он снимет их на всякий случай, но, вероятно, не воспользуется ими. Стоя за спиной у Джо и глядя на то, что видела камера, Джок потел так же сильно, как и Карр. Он вместе с Карром напрягал свои мышцы и вдруг почувствовал, что перестал дышать. Ощутил боль в груди. Когда Финли глубоко вздохнул, Джо обернулся и бросил на него удивленный взгляд. Затем Джо снова занялся камерой. Карр, демонстрируя свои загорелые плечи, спину, грудь, постепенно приближался к мустангу. Сейчас он уже мог ударить его шляпой по морде. Еще несколько мгновений, и человек окажется на расстоянии трех футов от животного. Тогда Карр попробует подчинить себе мустанга, подвести его к пандусу и затащить в кузов. Мустанг станет пленником! Натягивая веревку, животное пыталось встать на дыбы и воспользоваться передними копытами как оружием. Карр умело направлял мустанга к пандусу. Когда они оба оказались возле него, конь поднял передние копыта в воздух не более чем на дюжину дюймов. Карр вынудил его поставить одно копыто на пандус. Неожиданно Престон потерял равновесие, и веревка выскользнула из его руки. Мустанг тотчас отреагировал на внезапно обретенную свободу. Он встал на дыбы; Карр увернулся от копыт, испортив дубль. Однако он все же схватил веревку левой рукой, чтобы помешать мустангу растоптать его или кого-то другого. — Конюхи! — крикнул Джок. Текс и четверо его людей бросились на помощь актеру. Текс быстро приблизился к Карру, схватил веревку и начал укорачивать ее. Один из конюхов бросил лассо, но промахнулся. Однако другому конюху удалось накинуть лассо на животное. Теперь, когда на мустанге было уже два лассо, удерживать его стало безопаснее, проще. Мужчины отвели коня в загон. Задыхающийся Карр прислонился к грузовику. Он жадно ловил воздух открытым ртом. Каждый выдох давался с таким же трудом, как и вдох. К тому моменту, когда Джок, Дейзи и Аксель приблизились к актеру, его дыхание начало выравниваться. — Кислород! — крикнул Джок. Трое мужчин выкатили баллон с кислородом. Но Карр отказался от протянутой ему маски. Постояв несколько секунд возле грузовика в окружении Дейзи, Джока, Акселя и рабочих, Карр смог самостоятельно направиться к палатке. Когда Карр немного расслабился на походном стуле и начал потягивать чай с виски, Джок подошел к актеру и произнес: — Я только что говорил с Джо. Он сказал, что это наилучший дубль из всех, какие ему доводилось видеть! Пока мустанг не оступился. Если бы не это, мы сняли бы все за один раз. Карр молча потягивал чай. — Может быть, — сказал Джок, — днем все получится, как надо. Отдохните. Вам принесут ленч. — Вы можете сделать две вещи? — Конечно, Прес, вы только скажите! — Во-первых, пусть плотники взглянут на пандус. Может быть, они смогут опустить его в землю на дюйм или два. — Хорошая идея! — согласился Джок. Сейчас он готов был согласиться с любым предложением. — И еще — пусть Текс увеличит дозу успокоительного на двадцать пять процентов, — добавил Карр. Быстро отойдя от Карра, Джок едва не столкнулся с врачом. Доктор молча сделал актеру два укола. Он ввел Карру витамин В-12 и кальций, чтобы снять мышечное напряжение. Двигая стетоскоп по телу Карра, врач тихо произнес: — Я наблюдал за сценой. Почему вы не можете продолжить ее с того момента, когда животное оступилось на пандусе? По-моему, это легко сделать. — Возникнут проблемы при монтаже, — пояснил Карр. — Не говорите, пока я слушаю вашу грудь, — сказал доктор. — Я думаю, можно снять так, что куски удастся смонтировать. — Другое животное, другой ракурс; будет казаться, что пропущено несколько кадров. — Я сказал: не говорите! — О'кей. Доктор попросил Карра повернуться. Начал внимательно слушать спину актера. — В любом случае я не рекомендую повторять это сегодня больше одного раза. Максимум — двух. — Хорошо, я постараюсь. Дейзи вернулась, и разговор закончился. Перед уходом доктор сказал: — Вам не помешает немного подышать кислородом. Перед съемкой и после нее. — Хорошо, — обещал Карр, не собираясь это делать.
Во время второго дубля все шло более гладко. Животное получило увеличенную долю успокоительного. Карру потребовалось меньше времени, чтобы подготовиться к съемке. Джо тоже настроил аппаратуру быстрее, чем в первый раз. Джок испытал облегчение, крикнув: — Мотор! Этот дубль будет удачным, все получится, сказал он себе. По мере того, как Карр подтягивал к себе животное, напрягая сильные ловкие руки, приближаясь к мустангу, подводя его к пандусу, в душе Джока нарастала тревога. Наконец Карр откинул борт кузова, ударил животное по крупу, и мустанг стал пленником. Джок крикнул: — Стоп! Аксель и Дейзи бросились к Карру; к актеру подкатили тележку с кислородом. Но Карр отказался от помощи. Сейчас он с большей легкостью, чем утром, добрался до палатки. Джок наблюдал за ним. На коже Карра блестел обильный пот. Дыхание актера было глубоким, но он не задыхался так сильно, как утром. Прежде чем войти в палатку, Джок дождался момента, когда Джо остался один. Только тогда режиссер спросил: — Ну, Джо, что вы скажете? — Все хорошо! У меня никаких проблем. — Что вы думаете об этом дубле? — Он получился. — Он лучше утреннего? — Карр просто великолепно завел животное по пандусу. Это мог сделать лишь человек, имеющий большой опыт обращения с животными. Настоящий профессионал! — Этот дубль лучше утреннего? — повторил Джок. — Ну… — медленно, задумчиво произнес Джо, — в утреннем дубле было больше борьбы. — Мне тоже это показалось, — отозвался Джок. Финли направился от Джо к Карру, который пил чай в тени; дыхание его еще было тяжелым. Дейзи вытирала полотенцем пот с лица актера. Он улыбался ей, как бы говоря, что она зря волнуется. Джок обменялся любезностями с Престоном, поздравил актера с удачным дублем и понял, что Карр нуждается в словах одобрения. Актер испытывал беспокойство; ему казалось, что сцене чего-то недостает. — У нас есть один хороший дубль! — успокоил его Джок. — Это уже кое-что! К ним присоединился Джо. Карр повернулся к оператору. — Что думаете вы, Джо? Оператор кивнул, давая понять, что дубль получился вполне приемлемый, без технических накладок. — Значит, мы почти у финиша, — сказал Карр и заулыбался с большим энтузиазмом — главным образом для того, чтобы ободрить Дейзи. Она поцеловала его в щеку, оставив на ней следы помады. — Мы посмотрим, как выглядит проявленный материал, — голос Джока прозвучал радостно, обезоруживающе. — Может быть, утром сделаем еще один дубль для надежности. Тогда нам остается снять только крупные планы — они понадобятся для расстановки акцентов и удобства монтажа. Если мы решим использовать начало первого дубля, нам пригодится пара крупных планов. — Правильно! — согласился Карр. Джок хлопнул его по плечу и зашагал по пустыне к своему красному «феррари». Под рев мощного мотора Джок помчался в лагерь. Подъехав к связному трейлеру, он позвонил на студию Мэри, которая, как всегда, напряженно работала. Джек избавился от радиста, попросив его принести сценарий, якобы потребовавшийся ему для разговора с монтажницей. Когда радист удалился, Джок заговорил тихо и быстро. — Мэри, слушай меня. Я могу сказать это только один раз. Посмотри сегодняшний материал, когда он выйдет из лаборатории. Если второй дубль покажется слишком вялым и легким по сравнению с первым, уничтожь оба дубля! Придумай что-нибудь! Сожги негатив! Брось в кислоту! Разрежь на кусочки! Избавься от него! Ты поняла?
Тринадцатая глава
Утром следующего дня Джок встал рано. Он первым пришел в столовую и первым покинул ее. Прыгнув в красный «феррари», поехал на поле брани. Начал напряженно работать. Со сценарием и записями в руках он носился по натуре, обдумывая, как лучше снять крупные планы. Когда позвонили из Лос-Анджелеса, ассистент послал за Джоком джип. Но Джок отказался прервать свою подготовительную работу. Из Лос-Анджелеса позвонили во второй раз. Голос главы студии прозвучал весьма требовательно. Раздраженный Джок позволил отвезти его в лагерь. Радист передал ему трубку. Джок возмущенно произнес: — Как я могу закончить эту картину, если меня постоянно отвлекают? Я готовлю на натуре крупные планы… Глава студии перебил его. — Джок, дорогой, вы можете помолчать одну минуту и выслушать меня? Пожалуйста. — О'кей! Что еще на этот раз? Журнал «Лук»? Или «Уолл-стрит джорнэл»? Нам хватает проблем с «Лайфом»! — Джок, дорогой, послушайте меня! Сядьте! Успокойтесь! Вы успокоились? — Я так спокоен, что вылечу сейчас через крышу этого чертова трейлера. Я же просил вас — все звонки только во время ленча или после съемок! — Джок… Джок… дорогой… у нас несчастье! — Несчастье? Какое? — Возмущенные глаза Джока стали такими печальными, мрачными, словно до конца света осталось десять минут. — Джок… вчерашний материал… — Да? — Казалось, Джок боится задать вопрос. — Дорогой… мы не знаем, как это случилось… но он испорчен. — Что значит «испорчен»? — с показной яростью и обидой спросил Джок. Любой режиссер заметил бы, что он сейчас переигрывает. Джок посмотрел на радиста и ассистента, как бы нуждаясь в их утешении. — Думаю, что-то случилось с раствором. Никто не знает. Но это уже неважно. Материал загублен! — Господи! Весь? — С первого до последнего фута, — сказал глава студии. — О Боже! — воскликнул Джок. — Карр был великолепен! Просто великолепен! Я не знаю, как ему сказать. Не знаю… сделайте одолжение, подождите, я позову его. Я хочу, чтобы вы сами сказали ему. — Я? Что я могу… Я попрошу Робби — он заведует лабораторией — поговорить с Карром. — Робби? Вы хотите, чтобы с Престоном Карром говорил технический работник? В дрожащем от возмущения голосе Джока звучала обида за Карра. — О'кей. Вы правы. Я подожду. Найдите его. Не дожидаясь приказа Джока, ассистент повернулся и шагнул к выходу. Но Джок остановил его: — Я сам это сделаю! Через несколько минут Джок вернулся с Карром. Губы режиссера были плотно сжаты, он едва сдерживал слезы. Карр был в дорогом шелковом халате, сшитом Шарве в Париже. Его волосы были взъерошены. Глаза актера говорили о том, что его только что разбудили. От него исходил слабый, но отчетливый запах женских духов. Если он и был рассержен вторжением, то скрывал это. Он взял трубку. — Да? — Доброе утро, Прес. Извините, что беспокою вас так рано. Но у нас неприятность. Большая неприятность! Мы надеемся, что вы отнесетесь к ситуации с пониманием. — Что случилось? — настороженно спросил Карр. Ему уже доводилось слышать подобные прелюдии. Они могли означать все что угодно. Что исполнительница главной роли должна освободиться на неделю для того, чтобы сделать аборт. Или что жена президента компании прилетает на натуру с родственниками и хочет встретиться за ленчем с Престоном Карром. Поэтому актер испытал раздражение, но не слишком встревожился. — Прес! Что-то произошло в лаборатории. — Да? — бесстрастным тоном сказал Карр. — Вчерашний материал испорчен. — Оба дубля? — Все! — Господи! Там были хорошие кадры. Я был уверен, что второй дубль нам подойдет! — Карр выдал свою надежду и страх. — Поверьте мне, если бы я мог что-то сделать… Если бы кто-то мог исправить положение… — Понимаю, — тихо сказал Карр. Он рассеянно протянул трубку кому-то и покинул трейлер. Вид у него был не столько рассерженный, сколько встревоженный. Сильно встревоженный. — Прес? Прес? Вы здесь? — донесся из трубки голос главы студии. Джок взял трубку. — Он ушел. — Что значит ушел? Я только что говорил с ним! — Он просто ушел. — Просто ушел… Он так сильно рассердился? — Не рассердился. Ему больно. Вам этого не понять. Человек вкладывает свою жизнь, все свои силы в кусок пленки. А потом какой-то небрежный негодяй обращается с ней, как с мусором. В такой ситуации человек не сердится! Ему хочется заплакать! Но вам этого не понять. Джок, обиженный за себя и за Карра, отдал трубку радисту. Финли услышал голос главы студии: — Джок… дорогой… послушайте меня… Не прикасаясь к трубке, Джок произнес достаточно громко, чтобы глава студии услышал его: — А пошел ты!.. Он покинул трейлер. Джок догнал Карра возле ступеней его трейлера. — Прес? Пожалуйста… Карр повернулся к нему. — Я не в силах выразить мое огорчение. Мне нечем утешить вас. Но я скажу вам кое-что. Мы будем работать в темпе, который вы сами выберете. Делать один дубль в день вместо двух. О'кей? Один дубль и несколько крупных планов в день. Как вы пожелаете. Карр молча кивнул и зашел в трейлер. Когда дверь открылась, Джок на мгновение увидел Дейзи. Он тотчас вспомнил, как она выглядит по утрам без косметики, с непричесанными волосами. Облик маленькой девочки делал ее более сексапильной, чем образ секс-символа. Иногда Джок занимался с ней любовью ранним утром. Сейчас он снова захотел Дейзи. Отчасти из-за ее вида. Отчасти потому, что предчувствие конфликта с Карром пробуждало в нем желание. Однажды Луизазаметила: «В случае опасности другие мужчины вырабатывают адреналин, а ты — половые гормоны. Почему?» Он никогда не пытался объяснить это. Ей. Или себе. Но признавал, что она права. Теперь, находясь в таком состоянии весь день, он будет гадать, замечают ли это другие. Если Престон Карр от обиды и возмущения покинет на неделю съемочную площадку, он, Джок-Сок Финли, будет ходить с постоянной эрекцией, желая Дейзи Доннелл. И испытывать соблазн сказать ей при всех: «Я хочу тебя трахнуть! Прямо сейчас!» Подобное состояние всегда появлялась у него перед схваткой. Через час свита Карра прибыла на поле брани. Вместо того чтобы послать за Джоком, Карр оставил Дейзи и Акселя в палатке и сам отправился искать режиссера. Джок разговаривал с Тексом. Увидев Карра, Джок тотчас повернулся к актеру и шагнул к нему. Карр заговорил быстро и тихо, глядя Джоку в глаза. — Мы будем работать по старому графику. Два дубля в день. Максимум три. Я хочу закончить все на этой неделе! И убраться отсюда! — Как скажете, Прес, — ответил Джок. Но при этом он думал: «Все будет, как ты скажешь, негодяй, лишь бы ты работал, снова и снова делал этот дубль, пока я не получу то, что мне нужно!» Джо Голденберг огорчился, узнав о том, что пленка испорчена. Не пришел в ярость, а просто огорчился. Он ничего не сказал, ничего не сделал, а сосредоточился на «Митчелле», объективах, фильтрах, проблемах освещения, поисках на небе нужных облаков и следов от самолетов. Когда Престон Карр появился на съемочной площадке, Джо Голденберг уже был готов к дублю. Утренний дубль был спокойным. Текс сделал мустангу инъекцию; выполняя указание Карра, он дал коню большую дозу транквилизатора. Животное вело себя хорошо: сопротивлялось, боролось, но в конце концов подчинилось человеку и позволило завести себя по пандусу в грузовик. Задний борт грузовика с грохотом закрылся. Джок крикнул: — Стоп! Дейзи накинула на плечи Карра его кашемировую куртку и вместе с Акселем отвела его в палатку. Сильные руки Акселя массировали спину, плечи, ноги актера. Карр дышал с трудом, но не испытывал боли. Именно это произвело впечатление на Джока, когда он подошел к актеру. Сейчас Карр находился в гораздо лучшем состоянии, нежели после первого дубля, когда мустанг оступился. Не означает ли это, что сцена дается Карру все легче и легче, а его сноровка и сила возрастают с каждым дублем? Вряд ли. У него всегда были ловкие, сильные руки лошадника. Похоже, дело в проклятом успокоительном. Эти мысли и подозрения мучали Джока, пока он беседовал с Карром. — Как вы себя чувствуете, Прес? — Как все выглядело? — Хорошо! Джок выдержал паузу. Режиссер не должен говорить знаменитому актеру, что он сыграл плохо или что его задача оказалась слишком легкой. Но также нельзя допускать, чтобы звезду охватило излишнее самодовольство. — Так хорошо, что я почувствовал: вы готовитесь к потрясающему дублю. К такому, какой нам нужен. Вы тоже это ощущаете? — Мне этот дубль показался очень хорошим, — сказал Карр. — Верно! Но между очень хорошим и потрясающим дублями есть большая разница. Мне бы не хотелось закончить все в пятницу, а через две недели услышать от вас: «Боже, как бы я хотел переснять эту сцену». Я предпочитаю подождать здесь, чего бы это ни стоило, пока вы не скажете: «Вот наш единственный дубль». Отдохните, мы предпримем еще одну попытку днем. Повернувшись, Джок едва не столкнулся с Джо Голденбергом. Что из сказанного им услышал оператор? Финли спросил его: — Ну как, Джо? Оператор сунул свою трубку в красивый кожаный кисет, подаренный ему Вивьен Ли после картины — знаменитой актрисе показалось, что Джо представил ее в наиболее выигрышном виде. — Я считаю, дубль очень хороший, — ответил оператор. В киномире значение слов сильно зависит от того, кто, как и при каких обстоятельствах их произносит. Смысл простого утверждения Джо зависел от интонации, от акцента. Ударение на слове «хороший» придавало бы фразе ободряющее значение. Она прозвучала бы искренне, непосредственно, прямодушно. Ударение на слове «очень» сообщило бы предложению агрессивное, воинственное звучание с оттенком сомнения. Если бы Джо не выделил голосом ни одно слово, если бы он отделил их друг от друга едва заметными паузами, он выразил бы этим сомнение в истинности своего утверждения. Но самым неприятным, тревожащим вариантом было произнесение этой фразы с акцентом на словах «я считаю». Это бы значило следующее: «Мне нет дела до других мнений. Я считаю, дубль очень хороший. Хотя, возможно, я окажусь единственным человеком на свете, который так думает!» Джо Голденберг сделал ударение именно на словах «я считаю», потому что он, испытывая недоверие и антипатию к Джоку Финли, понимал, что режиссеру дубль не понравился. Вечером, когда Джо останется после обеда один, он будет сидеть у себя в трейлере, скучать по своей жене и большому комфортабельному дому в Беверли-Хиллз, спрашивать себя, что он здесь делает. И затем признается себе, что дубль на самом деле не был очень хорошим. Скорее он получился заурядным, возможно, даже приемлемым. Джок Финли хоть и честолюбивый негодяй, но он правильно оценил утренний дубль. Но это произойдет позже, когда Джо успокоится и останется один. Сейчас ему хотелось защищать свое мнение, дубль и Престона Карра. Но в этом не было нужды. Джока устроил ответ Джо. Он знал, что слова оператора не убедили Престона Карра, потому что они были произнесены ради того, чтобы успокоить актера. Подкрепляясь сыром и фруктами, потягивая чай с виски, Престон Карр снова и снова говорил себе: «Я считаю, что дубль очень хороший. Я считаю, что дубль очень хороший». При этом он улыбался Дейзи, когда она поглядывала на него. Так же, как и Джо, Карр мысленно делал ударение на первых двух словах. Чем дольше он мысленно произносил эту фразу, тем более слабой становилась его уверенность в том, что дубль действительно очень хорош. Джо Голденберг проявил доброту. Что касается Джока, то режиссер просто ждал. Он знал правду. Если бы Джо целую неделю репетировал свою фразу, он бы не смог произнести ее лучше. Джок не удивился, когда после ленча Престон Карр попросил его зайти к нему в палатку. Король лежал на массажном столе. Аксель неторопливо, основательно разминал мышцы Карра. — Как вы себя чувствуете, Прес? — Хорошо. Садись. Джок сел так, что его лицо оказалось на одном уровне с лицом Карра. Сейчас актер мог говорить тихо, задумчиво; его отвлекали лишь руки Акселя, прикасавшиеся к спине, плечам, животу актера. — Кажется, я знаю, в чем проблема, — начал Карр. — Я почти ощущал это, но не был уверен, пока не услышал, что сказал Джо. Технически, с его позиции, все в порядке. Но я думаю, что мы сделали животное слишком покладистым. — Оно получило именно ту дозу, которую вы назвали, Прес. — Знаю. Я ошибся. Вероятно, ее следует уменьшить в два раза. — Вы — босс. Последнее слово за вами, — быстро ответил Джок. Он надеялся, что произнес эти фразы не слишком поспешно. — Давайте повторим все днем с уменьшенной вдвое дозой, — сказал Карр. В этот момент Аксель надавил на актера особенно сильно; Прес повернул голову и посмотрел на него. — Пожалуйста, полегче, Акс, ладно? — Значит, уменьшим дозу в два раза, — произнес Джок, пока Прес не передумал. — Я скажу Тексу.Животное готовили к дневному дублю. Текс без труда набросил лассо на его шею. Мустанг встал на дыбы, заржал сердито и испуганно; он широко распахнул свою пасть с мощными челюстями, которыми мог без труда раздробить руку, плечо или череп человека. Но веревка, натянутая Тексом, заставила разъяренное животное опуститься. К тому моменту, когда все было готово к съемке, успокоительное уже подействовало на мустанга. Подвести животное к столбу оказалось легче, чем несколько минут тому назад. Все заняли свои места; по сигналу Джо режиссер крикнул: — Мотор! Престон Карр набрал в легкие воздуха, медленно выдохнул его и начал играть сцену. Он взял веревку, закрепленную на столбе, щелкнул ею по пыльной земле. Мустанг встал на дыбы, повернулся, замотал головой, пытаясь освободиться. Сражение началось. Джок наблюдал за происходящим из-за плеча Джо почти не дыша. Эта сцена выглядела гораздо лучше. Она не была идеальной, но больше походила на первую, когда мустанг оступился. Если только Карр доведет ее до конца на таком уровне! Престон был великолепен! Крупный, сильный, ловкий, он манипулировал веревкой, как опытный молодой ковбой, легко передвигался, хорошо сохранял равновесие, прилагал усилия в нужное время и в нужном направлении, постоянно контролировал ситуацию. Однако его лицо выдавало большое напряжение. Любой наблюдатель мог понять, как много сил расходует этот человек, находящийся в превосходной форме. Все это помогало раскрытию образа. Джок до боли сжал пальцами свое бедро. Он вместе с Карром проживал эту сцену: также покрывался потом, испытывал боль в груди. Этот дубль был близок к идеальному. Во всяком случае, он мог бы показаться идеальным почти всем. Карр укоротил веревку до пяти футов; он держал ее смотанную часть в левой руке, а свободную короткую — в могучей правой. Он находился сбоку от мустанга, разъяренные, испуганные глаза которого выражали ненависть к поработителю. Сейчас Карр оказался на расстоянии трех футов от мощных челюстей коня. Внезапно мустанг резко повернул голову к своему врагу, желая прекратить свои мучения с помощью больших белых зубов. Карр тотчас отреагировал на стремительное движение. Он сделал это даже слишком быстро. Ускользнул от острых зубов. Однако резкое перемещение вызвало в правой голени актера сильный мышечный спазм. Ногу Карра пронзила боль. Престон словно потерял одну ногу; он пытался удержать веревку, не имея точки опоры. Конюхи бросились ему на помощь, не дожидаясь команды Джока. Текс и двое других мужчин выскочили на поле брани. Два аркана, к несчастью, переплелись в воздухе. Карр потерял равновесие. Не выпуская веревки, он рухнул на землю. Животное снова дернулось, высоко взметнув голову. Оно словно почувствовало вкус победы над врагом. Карр не отпустил веревку, но животное перекусило ее. Ржание дикого свободного животного взбудоражило мустангов, находившихся в загоне. Воздух наполнился грозными звуками. Обретя свободу, мустанг встал на дыбы, чтобы растоптать врага копытами, заточенными о каменистую почву. Актеру удалось лишь перекатиться с левого бока на правый. Внезапно прогремел выстрел. Конь отклонился в сторону; его передние копыта опустились на землю, не задев Карра. Животное так испугалось, что помчалось по пустыне, подальше от поля брани, машин, оборудования, людей. Похоже, оно было ранено, однако не смертельно. Возможно, в круп. Все столпились вокруг Карра; актер, тяжело дыша, сжимал руками правую голень, которую пронзила невыносимая боль. Ближе всего к Карру оказались Джок, Аксель и доктор. Финли жестом отдал распоряжение Лестеру, чтобы тот отодвинул всех присутствующих подальше от актера. Возле Карра остались лишь трое мужчин и Дейзи. Громкое, пронзительное ржание напуганных, обезумевших мустангов не затихало. Конюхи стояли у ограждения загона с арканами в руках, собираясь утихомирить животных. Повысив голос, чтобы его не заглушало ржание лошадей, доктор говорил Карру: — Прес! Прес! Уберите руки! Уберите руки! Вы меня слышите? Совместными усилиями Акселю и Джоку удалось разжать пальцы Карра, стискивавшие голень. Доктор попросил мужчин подержать Карра и попытался выпрямить ногу актера. Карр ахнул от боли. Сейчас его дыхание было поверхностным; казалось, боль и слабость мешают ему дышать более глубоко. Доктор открыл свой чемодан, наполнил шприц лекарством, снимающим мышечный спазм, с большим трудом ввел иглу в отвердевшую голень. Через несколько минут Карр задышал более легко. Боль стала слабеть. Доктор осторожно выпрямил ногу, преодолевая сопротивление измученной мышцы. Карр лежал на спине; по его лицу струился пот; волосы актера были влажными, блестящими. Он смотрел на голубое небо, чтобы избежать взгляда Дейзи. Прес знал, что девушка плачет, и понимал, что, увидев это, он испытает сильное потрясение, и его больное сердце может не выдержать. Страх Карра перед смертью был велик. Каждый человек понимает, что жизнь не бесконечна, и он спрашивает себя: когда пробьет его последний час? Как это произойдет? Кто будет находиться рядом? Когда он в последний раз испытает то, что ценит особенно высоко? С кем и где он будет в последний раз заниматься любовью? Когда создаст свое последнее творение? Совершит последнее путешествие. Выкурит последнюю сигарету. Сделает последний вдох. Когда это произойдет? Где? И осознает ли он это? Шестидесятидвухлетний Престон Карр думал об этом. Много раз. Особенно на протяжении последних восьми лет, после первого сердечного приступа. Эти мысли сдерживали его страсть. Они посещали Карра, когда он читал сценарии. Не покидали его, когда он начинал сниматься в каждой из трех последних картин. Сейчас, лежа в пустыне, чувствуя, как лекарство постепенно снимает боль, он спрашивал себя: «Господи, неужели это произойдет здесь? Неужели это последний дубль в моей жизни? Все закончится именно так? Для Короля? Сейчас, когда я лежу в пыли?» Джок молчал. Финли ощущал свою беспомощность, одиночество. Он невольно обнял Дейзи, желая успокоить ее. Аксель начал осторожно сгибать и разгибать ногу Карра, становившуюся более податливой. Доктор, убедившись в том, что самые сильные мучения пациента уже позади, повернулся, чтобы попросить своего помощника принести носилки. Что теперь будет? — спрашивал себя Джок. Хватит ли материала для монтажа последней сцены? Карр сыграет свои реакции. Мимика его напряженного, загримированного лица будет отражать мгновения борьбы. Джок мог также использовать первый дубль или часть последнего дубля, вмонтировать реакции, взять конец того дубля, в котором Карру удалось завести мустанга в кузов. Ему следует срочно связаться с Мэри. Он уже жалел о том, что уничтожил те два дубля; один из них был если не идеальным, то вполне приемлемым. Во всяком случае, казался приемлемым. Джок невольно обманывал самого себя. Это часто происходит с кинематографистом, когда он попадает в сложное положение. Дубль, отвергнутый два дня назад, при появлении новых проблем начинает казаться вполне подходящим. Не просто подходящим, а хорошим! Даже отличным! Режиссеру порой приходится мириться с неудачами, убеждать себя, что они являются победами. Однако его могут всю жизнь преследовать сцены, которые можно было снять лучше — с большей изобретательностью и блеском. При удаче и вдохновении. Сейчас дело было не в отсутствии вдохновения. Скорее недоставало удачи. Удача в облике шестидесятидвухлетнего мужчины, пытавшегося помолодеть на двадцать лет. И дикого животного — раненого, но свободного. По странной иронии в петле лассо оказалась шея самого Джока Финли. Он дергался, пытаясь освободиться от мысли о том, что его спасение зависит от Престона Карра, его здоровья, стареющих мышц, уставшей, взбунтовавшейся ноги. Он недооценивал значение этих факторов. Полностью осознал его, лишь когда стал укладывать Карра на носилки. Но рук было достаточно, в помощи Джока не нуждались. Он увидел, что Мэннинг незаметно, профессионально, ненавязчиво фотографирует происходящее. Джок не мог понять, что видит в случившемся этот гомик — только интересный объект для съемки или нечто другое. Добрые, внимательные глаза Мэннинга, в последние дни прикованные к Джоку, видели сейчас только то, что позже предстанет на снимках. С фотокамерой, прижатой к лицу, Мэннинг был бесстрастен, как хирург.
Престон Карр вернулся в свой трейлер. Спазм прошел. Лекарство для его снятия теперь действовало на все тело. Доктор убедился в том, что Аксель накладывает компресс правильно, и ушел. Дейзи, конечно, осталась возле Карра. Ассистент режиссера, которому Джок поручил незаметно наблюдать за трейлером Карра, тотчас сообщил своему шефу об уходе врача. Джок догнал доктора и зашагал рядом с ним по лагерю. — Вам что-нибудь нужно из Лос-Анджелеса? — Нет, — ответил доктор. — С ним все в порядке, да? Мышечный спазм пройдет бесследно? — Все будет нормально. Через несколько дней он вернется на съемочную площадку, — сказал доктор. Джок собрался облегченно кивнуть, но доктор добавил: — Я бы не хотел, чтобы он работал. Но он может продолжить. Вас ведь волнует только это. — Одну минуту, док… — Доктор, если не возражаете. Вас действительно волнует только это. Не пытайтесь спорить со мной. Если вы собираетесь снимать его, выслушайте мои советы. Ограничьтесь одним, а не двумя дублями в день. И постарайтесь все закончить как можно быстрей. Есть признаки усталости сердечной мышцы. Мне это не нравится. Если можно остановиться сейчас… переделать сценарий… закончить фильм сценой с другим персонажем… — Другого варианта нет. А если бы и был, то Прес все равно бы не согласился. Я постараюсь беречь его. Доктор печально кивнул и зашагал дальше. Узнав то, что он хотел узнать, Джок не счел нужным сопровождать врача дальше. Он заметил, что рядом с ним находится Мэннинг. — Ну? — спросил фотограф. — С Карром все будет о'кей. — А с картиной? — Мы продолжим съемки. Но осторожно. — Хорошо. Мэннинг выдал голосом свои интересы собственника. Таким тоном мог говорить глава студии. Или президент кинокомпании. — Недавно я кое-что обнаружил, — сказал фотограф. — Теперь я знаю, что делает его Королем. Карр обладает двумя ценными качествами. Он силен, мужествен, красив. И умеет переносить страдания. Пробуждает сочувствие. В страдании он наиболее привлекателен. Думаю, поэтому его любят женщины. Он позволяет им по-матерински опекать его и при этом вызывает у них плотское желание. Я сделал потрясающие снимки, когда он страдал от боли. Особенно когда пытался скрыть это. У него лицо древнегреческого стоика. Именно в эти минуты я видел в нем Короля. Режиссеру показалось, что Мэннинг хотел что-то еще сказать ему. Но, подумав, очевидно, решил, что его сообщение достаточно ясно, и даже не попытался выразить его более понятно. Мэннинг, не рассчитывая услышать ответ, удалился. Джок проводил взглядом светловолосого гомика. Финли направился к своему трейлеру. По дороге он встретил Джо; оператор возвращался от Карра. — Как он сейчас? — спросил Джок. — Он спит; похоже, с ним все в порядке. Джо выжидательно замолчал. — Я бы хотел, чтобы мы остановились на том, что у нас есть, — сказал Джок и зашагал к своему трейлеру. Меньше чем через час Джок позвонил Мэри на студию. Услышав ее голос, он удалил всех из связного трейлера. — Мэри, дорогая, я хочу, чтобы ты ответила на один вопрос. Но только после того, как ты хорошо подумаешь. Если мы больше не снимем ни единого фута — я имею в виду, с Престоном Карром, — нам удастся смонтировать фильм? — Господи, что с Карром? — Ничего! Ничего! Прокрути в своей голове весь имеющийся в наличии материал и ответь мне. Мэри замолчала секунд на двадцать. Этот интервал показался Джоку бесконечным, поскольку ставкой были восемь миллионов долларов и его репутация. Все это висело на волоске. Джок закусил губу, его глаза были полны тревоги, страха, отчаяния. — Джок… если надо просто закончить картину… тогда да. Но если нам нужен потрясающий финал большой картины — тогда, думаю, нет. Если только… — Не надо никаких «если» и постскриптумов! Меня интересует твоя первая непосредственная реакция! Объяснения только запутывают ситуацию. У нас нет того, что нам нужно. Верно? — Верно, — неохотно согласилась она. — Послушай, Джок… — Я не желаю слушать. Я хочу лишь знать, как обстоят дела. И ты мне ответила. — Я буду чувствовать себя виновной в… — Виновной? В чем? — сказал Джок. — В чем тебя могут обвинить? — Извини, Джок. Финли обладал редкой способностью заставлять всех брать на себя его вину. — Увидимся, когда мы вернемся. Дней через шесть, семь. Может быть, позже. Все зависит от обстоятельств, — произнес он и положил трубку.
Доктор сказал, что Карр встанет через два дня, то есть в пятницу. Поэтому четырехдневный перерыв, включая субботу и воскресенье, не должен был серьезно сказаться на бюджете. Через четыре дня Карр сможет двигаться относительно свободно, хотя незначительная постоянная боль останется. Ее будет замечать только он один. Поскольку работу прервали, большая часть съемочной группы получила возможность уехать на уик-энд. Престон, Дейзи, доктор и Аксель улетели на ранчо актера, чтобы отдохнуть и расслабиться. Карр также позвал к себе Мэннинга, и фотограф принял приглашение. Джок вежливо отклонил аналогичное приглашение, подозревая, что оно было всего лишь проявлением любезности, красивым жестом. Пилот вертолета и конюхи работали в субботу и воскресенье. Они нашли и поймали девять мустангов, отвечавших требованиям Джока. В субботу вечером Джока охватило беспокойство. Ему не хватало женщины. Впервые за три недели он почувствовал, что ему нужна женщина. Не обязательно Дейзи. В подобных ситуациях, когда напряженная работа внезапно прерывалась из-за непогоды, несчастного случая или необходимости переделать сценарий, Джок испытывал потребность в сексе. В близости с любой доступной хорошенькой девушкой, способной снять его напряжение и враждебность. Он мог полететь в Лос-Анджелес. Там была Луиза. Она тоже скучала по нему. Он был уверен в этом. Если бы она не любила его, то не ушла бы так, как она это сделала. С Луизой он мог разговаривать. Она понимала его стремления и разочарования. Слушала не перебивая. Занималась любовью не просто охотно, но и с жадностью. Он решил позвонить ей. Она, к счастью, оказалась дома. Но ее первые слова огорчили Джока. — Что случилось? Идет дождь? — Почему бы тебе не прилететь и не выяснить это на месте? — сказал он. Но ее ждало свидание. На весь уик-энд? На весь уик-энд. И сейчас она не пожелала отменять его. Сначала Джок решил, что этот тип находится рядом с Луизой и она не может говорить свободно. Но потом он узнал, что Луиза еще только ждет поклонника. Девушка одевалась и поэтому не могла долго говорить. Ей было известно, что работа над картиной продвигается успешно, хотя и с небольшим отставанием от графика. В Голливуде все знали все о любом фильме. Иногда даже больше, чем режиссер. Положив трубку, Джок осознал, что его отвергли. И сделала это Луиза. Лулу. Прежде она никогда так не поступала с ним. Похоже, у нее серьезный роман с этим типом. Ладно, черт с ней! Он разберется с Лулу, вернувшись в Лос-Анджелес. Проведет с Луизой долгий, долгий уик-энд, трахнет ее двадцать раз и затем отпустит к этому типу, кем бы он ни был! Но сейчас еще только суббота. Сумерки сгущались. И делать было нечего. Его помощница Коринна не обладала привлекательностью Луизы, но и дурнушкой ее нельзя было назвать. Ее ноги были слишком полными, но она обладала неплохим телом с классической грудью. Однако он узнал, что Коринна также воспользовалась уик-эндом и уехала. Джок шел по безлюдному лагерю, испытывая неприятное одиночество. Хорошо побыть одному, когда тебя все осаждают и надо бороться за свое уединение. Джок чувствовал себя великолепно, когда оставался один после уик-энда, проведенного с какой-нибудь молодой актрисой в Пальм-Спрингс. Но то одиночество, которое испытывает человек, не знающий, как ему избавиться от чувства неудовлетворенности, раздражало Джока, не нравилось ему. Финли мог поехать в Лос-Анджелес. Но он знал, что это не выход. Нет ничего хуже, чем одиночество в Лос-Анджелесе. Джок ненавидел этот город, обвинял его во всех своих разочарованиях и поражениях Западное побережье. Этот синдром знаком всем коренным ньюйоркцам. Он поражает их, когда возникают проблемы. Им кажется, что дело не в них. Во всем виновны Побережье и Лос-Анджелес. Выпив второй бокал в своем красивом, великолепно оборудованном трейлере, Джок Финли признался себе, почему он боится поехать в Лос-Анджелес. Все знали. О нем и Дейзи Доннелл. О Дейзи и Карре. Он не поедет в Лос-Анджелес. Наливая себе третью порцию спиртного, он вдруг замер. Ему есть куда поехать. Возможно, эта мысль должна была прийти к нему раньше. Дейв Грэхэм. Он по-прежнему лежал в больнице в Лас-Вегасе. Его состояние уже не было критическим, но ему еще предстояло длительное лечение. Конечно, Джок мог съездить в Лас-Вегас, навестить утром Дейва, ободрить бедолагу, потом вернуться назад и основательно выспаться перед понедельником. Чем дольше он думал об этом, тем сильнее сочувствовал Дейву. Студийные негодяи, поначалу обрушившие на оператора жалость и деньги, впоследствии преднамеренно забыли о Дейве. Студии не любят, когда с картиной связано несчастье. Особенно с большой картиной. Причина заключалась не в суеверии, а в чисто деловых соображениях. Это вредило имиджу, порождало ненужные вопросы во время интервью, связанных с рекламной кампанией. Иногда несчастье становилось событием более значительным и заметным, чем выход самой картины. Поэтому, платя по счетам, студии стараются очистить память. Приняв решение поехать в Лас-Вегас, Джок Финли испытывал уже возмущение тем, что Дейв Грэхэм забыт студией. Ведь кто-то должен вспомнить об этом мужественном человеке! До Лас-Вегаса можно было долететь на вертолете, потратив на дорогу меньше часа. Джок доехал бы туда на «феррари» часа за два. Ночь, пустыня, открытый автомобиль, дорога, залитая лунным светом, — все это делало поездку желанной. Проведя за рулем двадцать минут, Финли подумал: зачем он едет почти за две сотни миль в больницу, в тот момент, когда его эрекция может удовлетворить любую женщину на свете? Господи, он похож на охваченную плотским желанием монашку, которой негде обрести удовлетворение. Слава Богу, что Мэннинг улетел на ранчо Карра. Карр. В течение последних дней при упоминании имени этого человека Джок мысленно заставлял себя монтировать заключительную сцену из отснятого материала, лежавшего в коробках. Важнейшие моменты борьбы, удачные дубли, перебивки, необходимые для монтажа. Конечно, нельзя обрести уверенность, пока сам не окажешься за монтажным столом и не изучишь весь материал кадр за кадром. Потому что порой ты вроде бы ясно помнишь определенный отснятый эпизод и, лишь проведя несколько часов за «Мувиолой», понимаешь, что этого материала не существует вовсе. Однако представляешь его так четко, что он более реален для тебя, чем кадры, которые видишь на экране. Джок ехал в холодной ночи навстречу не дающему заснуть ветру и чувствовал, что ему удастся смонтировать сцену из имеющегося в наличии материала. И сделать это отлично! Внезапно Финли заметил, что мчится со скоростью сто двадцать пять миль в час. Джок испугался, что может все погубить. Подобное уже случалось с ним, когда он предвкушал триумф. Финли знал, что способен испытать свою удачу, проверить ее на прочность. Он поддался такому соблазну, снимая «Черного человека». Тогда Джок сознательно соблазнил белую подругу исполнителя главной роли. Красивая светловолосая девушка занимала в жизни черного актера значительное место. Это едва не привело к уходу актера в тот момент, когда они уже отсняли две трети ленты. В Англии он также совершил ошибку. Звезда, известный гомик, не приставал к Джоку, хотя этот актер дважды попадал под суд в те годы, когда гомосексуализм был вне закона. Сначала актер охотно уступал напористому режиссеру. Он даже приветствовал его агрессивный, жесткий стиль работы, резко отличавшийся от стиля английских режиссеров. В конце концов эти отношения превратились для Джока в азартную игру. Финли хотел знать, способен ли он повлиять на карьеру известного актера, навязать свои условия игры. Он делал все для того, чтобы внимание критиков переключилось с актера на режиссуру Джока Финли. И тогда кинозвезда взбунтовалась и пригрозила покинуть съемочную площадку, если Джока не заменят. Не испытывай судьбу, когда победа так близка, не перегибай палку, говорил себе Джок. Ехать со скоростью сто двадцать пять миль в час означало испытывать судьбу. Он отлично знал, что «феррари» и трехсотые «мерседесы» легко переворачиваются на высоких скоростях, хотя считается, что они предназначены для такой езды. Джок снизил скорость до восьмидесяти миль в час. Вскоре он увидел в ночном небе свечение. До Лас-Вегаса оставалась пятьдесят миль. Если инопланетяне пожелают следить за ними ночью, они прежде все обратят внимание на Лас-Вегас. Джок добрался до городских окраин. Двигаясь по автомагистрали, он подумал — почему бы не посетить парочку ночных шоу? Финли принялся высматривать рекламу ночных клубов, где мог выступать какой-нибудь знакомый актер. Джок знал Бадди Хэккета еще с той поры, когда тот играл в посредственных бродвейских мюзиклах. С Берлем Финли познакомился на телевидении. Дважды встречался на приемах с Дином Мартином. И Линой Хорн. Огромные неоновые буквы возвещали о том, что «ТОНИ вернулся» Просто ТОНИ! Называть фамилию не было нужды. Один из малышей Тони сыграл маленькую роль в «Черном человеке». Так они познакомились. Когда съемки закончились, Тони прислал Джоку золотые часы, стоившие полторы тысячи долларов. «За доброе отношение к малышу», — прочитал Джок, взяв в руки визитную карточку. Он даже попросил Джока стать режиссером посвященного ему, Тони, фильма, но Джок уже собирался лететь в Англию. Основным занятием Тони было пение, но он также являлся кинозвездой и продюсером. Джок решил зайти и посмотреть полуночное выступление Тони. Финли знал, что для него найдется столик. Он развернулся и подъехал к казино с другой стороны. Отдав ключи от «феррари» служащему стоянки, Джок вошел в зал со столами для игры. Ему показалось, что он всегда видит в Лас-Вегасе одни и те же лица. Или одни и те же типы лиц. Слишком белые лица, внезапно обожженные солнцем пустыни. Мертвые лица. Бесстрастные лица. Лица людей, с ужасом глядящих на ненормальный образ жизни. Когда Джок открыл дверь, ведущую в ночной клуб, Тони уже находился на сцене. Посетителей было много, но в зале царила тишина. Во время выступления Тони официанты не подавали спиртное. Джок попросил у метрдотеля свободный столик. — Извините, сэр, сегодня все занято, — прошептал распорядитель. Джок назвал ему свою фамилию, которая не произвела на метрдотеля никакого впечатления. Тогда Финли написал записку и вручил ее распорядителю вместе с десятью долларами. — Передайте это Тони, когда он освободится, — произнес режиссер.
Джок стоял у стола для блэкджека. Он лишь наблюдал за игрой. Внезапно к нему подошел Тони. — Привет, малыш. — Привет, Тони. — Слышал, ты снимаешь потрясающую картину. Я хотел бы когда-нибудь сняться у тебя. Как дела? — Отлично. — Тебе что-нибудь нужно? Ты уже получил номер? Нашел себе девочку? — Я только что приехал. Хочу навестить одного человека из моей съемочной группы. С ним произошел несчастный случай. — О, я читал. — Я проведу здесь только ночь. Утром заеду в больницу, и сразу назад, так как в понедельник мы снова будем снимать. Тони еле заметно кивнул, поднял руку, щелкнул пальцами. К нему мгновенно подлетел управляющий. Наблюдая за игрой, Тони произнес: — Это мой друг, мистер Финли. Дайте ему президентский «люкс» на уик-энд. — Там уже неделю живет сенатор Уордл. — Переселите его! Мистер Финли — мой друг. — Конечно, Тони, конечно. Управляющий исчез. Тони повернулся к Джоку: — Примерно через час отправляйся в «люкс». Мое следующее выступление начнется в три ночи. Но, если ты устал, не приходи на него. Я не обижусь. Казалось, Тони сказал все, что хотел, но, помолчав, он добавил: — Это хороший поступок. Найти время, чтобы навестить несчастного бедолагу. Жаль, что в вашем чертовом бизнесе мало таких людей, как ты. Он ласково похлопал Джока по спине и зашагал сквозь толпу приветствовавших его людей. Совершенно незнакомые мужчины и женщины обращались к нему по имени. Кому-то он улыбался, на кого-то смотрел хмуро. Никто не знал, почему. Джок еще некоторое время наблюдал за происходящим. Игра никогда не могла надолго привлечь его внимание. Если все сводилось только к деньгам, интерес Джока к такому занятию быстро пропадал. Финли направился к стойке. Ключ от президентского «люкса» уже ждал его. Он зашел в лифт, нажал кнопку и стремительно взлетел. Люди строили в бескрайней пустыне двадцати- и тридцатиэтажные здания, которые для экономии времени приходилось оснащать скоростными лифтами. Открыв дверь «люкса», он увидел, что в номере везде горит свет. Он осмотрел гостиную. В баре стояло пять бутылок. Виски, бурбон, водка, джин, коньяк «Наполеон». С нетронутыми печатями. В ведерке находился лед. Бокалы сверкали. Джок открыл бутылку виски двенадцатилетней выдержки, налил его в бокал. Сделав первый глоток, услышал, что в дверь постучали. Тони, решил он. Наверно, хочет выпить или поговорить о картине. — Входите! — крикнул Джок. Дверь открылась. Это был не Тони. На пороге стояла хорошенькая блондинка, ростом с Джока. На вид ей было года двадцать два. Вечернее мини-платье подчеркивало великолепие ее бюста. Однако Финли знал, что блондинки такого типа к тридцати годам расплываются; частое использование краски делает их волосы менее густыми. Но этой девушке еще было далеко до тридцати. — Меня прислал Тони. Он сказал, что вы один, — произнесла она. Тони думает обо всем, сказал себе Джок, и считает, что все устроены так, как он. Тони не выносит одиночества и уверен, что другие тоже его не выносят. Он сделал Джоку небольшой подарок. Если ты друг Тони, то получаешь бесплатную выпивку и бесплатных девочек. Джок на мгновение заколебался. Блондинка ошибочно истолковала его реакцию. — Не беспокойтесь. Платит Тони, — сказала они и зашла в номер. — Он хочет развлечь вас. Говорит, вы отличный парень. Еще он сказал, что вы — кинорежиссер. Это правда? Джок кивнул. — Он сказал, что вы — очень хороший режиссер. Джок улыбнулся, снова кивнул. Ну вот, начинается, сказал он себе. — Знаете, — произнесла блондинка, — я снималась в кино. И сейчас могу. Мне только двадцать два года. Правда. Режиссеры, которых я знаю, говорят, что я очень фотогенична. — Я это вижу, — сказал Джок, улыбаясь. Она улыбнулась в ответ. — Я убежала из дома, чтобы попасть в Голливуд. Из Гэри — знаете этот город? Хотела оказаться в Калифорнии, но осталась здесь. Когда-нибудь… — Давай поговорим об этом. — Ты не против? — Конечно, нет. Садись. — Я могу выпить. — Разумеется. — Мне виски со льдом. Тройную порцию. Это экономит время. Он налил виски, протянул ей бокал, сел напротив девушки на диван и с улыбкой посмотрел на нее. Она глядела на Джока поверх бокала. — У тебя потрясающие голубые глаза. И ты моложе большинства друзей Тони. Они в основном старые. Сорок, пятьдесят лет. И толстые. Или слишком худые. Ты замечал, что с годами мужчины становятся либо слишком толстыми, либо слишком худыми? Ты это замечал? — Возможно, — Джок отпил из своего бокала. — Кожа у них обвисшая. Они обзаводятся огромными животами. Многие мужчины весьма уродливы. Особенно пожилые. Я могу говорить с тобой так, потому что ты еще молод. Ручаюсь, у тебя отличное, упругое тело. Даже Тони… Она замолчала. Никто не позволял себе критиковать Тони. В Лас-Вегасе. — Значит, ты считаешь, что должна сниматься в кино… Джок поставил бокал. — Ты позволишь мне сначала допить виски? — трогательно спросила она. — Не торопись, милая, не торопись. Это заняло десять минут. Она допила виски и воду, в которую превратились растаявшие льдинки. Внезапно встав, девушка спросила: — Как тебе нравится? Джок обвел ее взглядом. — Ты выглядишь великолепно! — Я не это имела в виду, — сказала она. — Все друзья Тони занимаются этим по-разному. Только не классическим способом. А как любишь ты? — Я предпочитаю классику. Для начала. — Здесь? Или хочешь пройти туда? Она указала на главную спальню люкса. — Сколько тут комнат? — спросил Джок. — В этом «люксе»? Четыре. Почему ты спрашиваешь? — Мы опробуем все, — улыбнулся Джок. Она тоже улыбнулась, думая, что он шутит. Но он не шутил. Они действительно занимались любовью в каждой комнате. Это превратилось в игру. Она предлагала разные сексуальные штучки из своего репертуара. Джок удивился. Как долго она занимается этим? В свои двадцать два года она знала массу способов возбудить и удовлетворить мужчину. Не было такой части ее тела, которую она не использовала. Не было такой части его тела, которую она не целовала, не ласкала. Джок несколько раз в перерывах между раундами засыпал. Каждый раз она будила его новым способом. Забрезжил рассвет. Джок снова заснул с мыслью о том, что теперь он окончательно опустошен и не сможет ни на что реагировать. Затем сквозь глубокий сон он ощутил теплоту в паху. Его измученный член начал оживать, расти, подниматься, реагировать на прикосновения ее горячего, влажного языка. Когда Джок отодвинулся от девушки, она протянула ему бокал с виски. — Это твое горючее, — сказала она. Блондинка вонзила ногти в его бедра; ее язык стал более смелым, он двигался по всей длине члена. Наконец Джок почувствовал, что его мужское естество готово разорваться. Она взяла член в рот и принялась сосать его с такой страстью, что Джок понял: хочет довести себя до оргазма. Он отдал себя в ее власть. Его раздражало лишь громкое чавканье. Черт возьми, почему она производит столько шума? — подумал он. В последний момент он попытался оттолкнуть ее, но она проявила настойчивость. Семенная жидкость потоком горячей лавы вырвалась из охваченного экстазом Джока. Они оба дышали тяжело, неровно. Она тоже испытала оргазм. Джок удивился, как ей это удалось. Боль в паху начала утихать. Он заметил, что по-прежнему держит в руке бокал, к которому так и не прикоснулся. Он отхлебнул холодную жидкость. Девушка забрала у него бокал. Отпила спиртное и поставила бокал на теплое бедро Джока. Он едва не подпрыгнул от ледяного прикосновения. — Извини, дорогой, — она согрела его бедро щекой, снова протянув ему бокал. Джок взял его, но не стал пить виски. Затем она позволила ему заснуть.
Девушка позавтракала вместе с Джоком и осталась у него до середины дня. Ей, похоже, не хотелось уходить. Финли принял душ в третий раз за последние двенадцать часов. Девушка, лежа на кровати, видела в зеркале, как он одевается. — Ты великолепен, — сказала она. — Я бы хотела, чтобы у Тони было побольше таких друзей, как ты. Он перестал застегивать рубашку и улыбнулся ей. — Ты скажешь Тони, что хорошо провел время, да? — спросила она. — Конечно! — И ты не забудешь? Я имею в виду, если подвернется роль в стиле Ким Новак. Или Дейзи Доннелл. Ты будешь помнить? — Я тебя разыщу. — Я буду здесь, — сказала она. — Я буду здесь. Он не усомнился в этом. Одевшись, Джок сунул руку в карман и вытащил бумажник с золотым тиснением, подаренный ему темнокожим мастером после съемки «Черного человека». Он взял три стодолларовые бумажки, согнул их пополам и шутливо бросил девушке. — О, нет! — запротестовала она. — Тони мне заплатил. Он обидится, если узнает, что я что-то взяла у тебя. Он очень чувствительный. И у него ужасный характер. Просто ужасный. — Я ему не скажу. Она задумалась, посмотрела на три новеньких банкноты и тихо произнесла: — Они мне пригодятся. Моему малышу надо удалить миндалины. Сейчас все стоит так дорого. — Я знаю. Джок поднял купюры и засунул их между ее отличных грудей.
Отъехав на двадцать семь миль от Лас-Вегаса, Джок внезапно вспомнил о Дейве Грэхэме. Он забыл навестить его. Возвращаться было уже поздно. Он поехал дальше. Оказавшись через десять минут возле бензоколонки, он выскочил из машины. Подошел к телефонной будке, набрал номер справочной, узнал телефон больницы и попросил соединить его с Дейвом Грэхэмом. Но Джока соединили с дежурной. Он узнал, что мистер Грэхэм спит. Как чувствует себя мистер Грэхэм? Он поправляется. Что с его глазом? Зрение в поврежденном глазу восстановилось до сорока процентов от нормы. Второй глаз практически здоров. А его голова? Рана заживает. Принимая во внимание полученные травмы, можно сказать, что мистер Грэхэм поправляется. — Извините. Для посетителей отведено время с десяти утра до полудня и с трех до пяти, — твердо произнесла женщина. — Исключения делаются только для больных, находящихся в критическом состоянии. — Я это знаю! Я сейчас нахожусь в вестибюле, — обиженно и разочарованно произнес Джок. — Вы не сделаете мне одолжение? — Если смогу, — сказала женщина. — Передайте мистеру Грэхэму сообщение, когда он проснется. Скажите, что я приехал с натуры, чтобы навестить его, но опоздал. И мне надо срочно возвращаться назад. Завтра мы начинаем снимать рано. Но я рад, что он поправляется. Вы передадите ему это? — Обязательно, — обещала женщина. — Спасибо, — сказал Финли, собираясь повесить трубку. — Подождите! А как ваше имя? — Финли. Скажите Дейву, что к нему приезжал Джок Финли. Он прыгнул в «феррари» и помчался на запад со скоростью девяносто миль в час.
Вернувшись в лагерь, Джок обнаружил несколько ждавших его телефонных сообщений, в том числе четыре от Марти Уайта. Агент просил срочно позвонить ему. Джок отправился в радиотрейлер и разыскал Марти в Хиллкресте. — Господи, малыш, где ты был? — воскликнул агент. — Я слышал, вся съемочная группа разъехалась на уик-энд. Поэтому я позвонил тебе домой. Потом на натуру. Где ты был? — Я ездил в Лас-Вегас, — ответил Джок. — Решил немного развлечься? Ты этого заслуживаешь, малыш. — Я ездил к Дейву Грэхэму, — сдержанно произнес Джок. — Да? — уважительно отреагировал Марти. — Как он себя чувствует? — Хорошо. Он поправится. Тот глаз видит немного хуже, чем прежде. Но, думаю, Дейв сможет снова работать. А главное, он так считает. Это — важнейшая часть сражения. — Да, да, — согласился Марти. — Готов к завтрашней работе, малыш? — Готов! — сказал Джок. — Думаешь закончить на этой неделе? — Возможно. — Хорошо, хорошо. — О'кей, Марти, я должен выспаться. Я еле стою на ногах. — Конечно. Ты же ездил в Лас-Вегас. И поступил очень хорошо. Немногие люди в нашем бизнесе столь человечны,поверь мне. — Спасибо, Марти. Спокойной ночи. Джок положил трубку. Лукаво улыбаясь, он мысленно произнес: «Марти, какую девочку я для тебя нашел!»
Через два дня в «Голливудском репортере» появилась короткая заметка. В ней сообщалось, что Джок Финли прервал работу над широкоформатным фильмом «Мустанг» с участием Карра и Доннелл, чтобы приехать в Лас-Вегас и навестить там Грэхэма, поправляющегося после несчастного случая, происшедшего на натуре.
Четырнадцатая глава
Уже смеркалось, когда Джок Финли вышел из радиотрейлера. Ассистент подготовил для него план работы на завтра. В загоне находились новая группа мустангов. Джок отправился взглянуть на них до наступления темноты. Ассистент шел за ним, периодически заглядывая в свой планшет. Джоку следовало позвонить главе студии, находившемуся в Лондоне, где снималась еще одна дорогая картина. Там возникли проблемы. Ассистент связался с ранчо Карра и дважды — с доктором. Прес, похоже, поправлялся, боль в ноге почти прошла. Материал, отснятый в четверг, уже проявили и доставили в лагерь. Звонила Мэри. Она хотела немедленно поговорить с Джоком. Джо Голденберг, уехавший на уик-энд домой, должен был вернуться в понедельник утром. Финли стоял возле загона, опираясь ногой на жердь и разглядывая мустангов, которые казались совершенно одинаковыми. Только один конь был выше остальных. Если бы Джок сочинял сказки о животных или если бы верил в них, он бы сказал себе, что это король табуна. Этот красавец обладал более развитой мускулатурой. Если бы его удалось снять как надо, сцена получилась бы великолепной. Но он должен продержаться до последнего дубля. Поэтому Джока устраивало любое животное из этой группы. Ассистент бегом вернулся к режиссеру. Ему удалось связаться с Мэри. Она была у себя дома. Режиссер направился в радиотрейлер. Мэри сообщила ему, что она смонтировала материал четырьмя разными способами. Результат получился плохим. Она хотела, чтобы Джок знал это. Мэри предложила ему подумать об использовании Риана во всем эпизоде. Или снять его под нужным ракурсом хотя бы в главной сцене. На всякий случай. Вдруг с Карром ничего не получится? Как насчет множественного изображения? — спросил Джок. Если будет отснято достаточное количество крупных планов, все получится отлично. Но для достижения максимального эффекта необходимо, чтобы одна главная сцена была целостной, единой. Тогда добавление новых изображений будет не отвлекать зрителей, а усиливать впечатление. Это произойдет, если новые картинки будут идеально согласовываться с главной сценой. Нельзя обойти один факт. Если главную сцену отснять с дублером и она потеряет свою убедительность, вся идея множественного изображения превратится в технический трюк. Тогда ведущие критики «зарежут» фильм и самого Джока. Финли слушал Мэри. Говорил мало. Пытался успокоить девушку. Но сам он с болью сознавал, что, если Мэри волнуется и боится критиков, значит, дела обстоят плохо. Потому что Мэри относилась к числу бесстрастных кинематографистов. В большинстве случаев, глядя на ее полное, некрасивое лицо в очках, нельзя было определить, нравится ей сцена или нет. Еще до знакомства с Джоком она научилась не высказывать свое мнение, если ее не просили об этом. Поэтому два звонка Мэри были достаточно веской причиной для тревоги. Джок не собирался отпускать Риана, не убедившись окончательно в том, что последние кадры приемлемы. Но он также знал, что нельзя снова снимать Риана, пока Престон Карр находится на натуре. Если и через неделю у Карра ничего не получится, то сцену сыграет Риан. Столько раз, сколько скажет Джок. Карр занимался заключительной сценой уже больше двух недель. Они отсняли материал длительностью пятьсот секунд. И теперь Мэри сказала, что он не монтируется. Время ушло впустую. Вполне возможно, что это известно также и главе студии. Этим мог объясняться его звонок из Лондона. Если глава студии встревожен, если на натуру звонят из Лондона и Лос-Анджелеса, если что-то подслушали секретарши боссов, завтра утром о неудаче заговорят в студийной столовой, в полдень — на студии, вечером — в «Чейзене», «Ла Скала», «Матео». «Мустанг» может обрести дурную репутацию. Появятся заметки в «Голливудском репортере» и других изданиях. Эхо разнесется по всему свету. Джок знал, что не может пойти на компромисс с самим собой. Он должен действовать быстро. Когда появится Карр, он, Джок, объяснит это актеру. Один цельный дубль, одна отчаянная попытка. Нет, решил Джок, это звучит слишком банально. Призыв отдать все силы одному дублю не поможет. Во всяком случае, с Карром. И с любой другой звездой. Если этот дубль не получится, актер не сможет сыграть в следующем. Если актер будет чувствовать, что он отдал этому дублю все свои силы, в нем не останется запаса для дальнейшей работы. До полного и успешного завершения съемок звезда не должна знать, что этот дубль — самый важный.Карр, Дейзи, Аксель и Мэннинг прилетели в лагерь на личном самолете Карра, когда уже стемнело. Они сошли на землю одной счастливой семьей. Карр выглядел отдохнувшим, свежим. Он улыбался. Дейзи изменилась. Сейчас уже не казалось, что она готова в любую минуту заплакать, как это было в последние две недели. Аксель имел уверенный вид тренера, который привез в город чемпиона, собирающегося отстаивать свой титул. Мэннинг казался спокойным, почти довольным. Они пообедали все вместе в столовой. Трапеза началась с привезенной для Карра черной икры. Деловой партнер прислал актеру превосходное белое вино, изготовленное на собственном заводе во Франции. Они пробовали вино, обменивались мнениями о нем. Джок, услышав об их возвращении, пришел в столовую. Все четверо поздоровались с ним так, словно были действительно рады видеть его. Он ответил на приветствие таким же образом; в его глазах мерцала застенчивая теплота, которую он приберегал для телеинтервью перед премьерой новой картины или спектакля — в таких случаях его представляли в качестве молодого американского гения, нового Антониони или Бергмана. Сначала он смущался во время таких представлений. Затем выработал застенчивую, теплую улыбку, означавшую следующее — с моей стороны было бы глупо отрицать мою гениальность, но не смущайте меня, говоря об этом вслух. Именно так — обезоруживающе, без обиды — посмотрел Джок на обедавших людей. По их глазам он понял, что они уже не вспоминают неприятного инцидента, происшедшего с Карром. Похоже, уик-энд прошел превосходно. И Король выглядел отлично. Во всяком случае, не хуже, чем он выглядел последние три недели. Они поддерживали светскую беседу, говорили о полете, о ранчо, о завтрашней погоде. Никто не вспомнил о сцене с мустангом. Но позже, когда обед закончился и все ушли, Джок отправился на поиски Мэннинга. Фотографа не оказалось в том трейлере, где он расположился. Джок зашагал по темному лагерю, вдыхая чистый ночной воздух. Его куртка была слишком тонка для холодной ночи в пустыне. Ему следовало бы надеть теплое белье. Он решил вернуться к себе и сделал бы это, если бы не заметил человека в хорошо сшитом комбинезоне, шедшего от загона. Он не видел его лица. Но эта изящная фигура могла принадлежать только Мэннингу. Затем Джок разглядел белокурые волосы, на которые падал лунный свет. Мэннинг. Сейчас он казался еще более юным и красивым, чем обычно. Фотограф тоже заметил Джока и остановился. Он посмотрел на него так, словно Джок был шпионом, соглядатаем. Похоже, Мэннинг испытывал то ли раздражение, то ли чувство вины. — Привет, — небрежно, дружелюбно произнес Джок. Мэннинг ответил не сразу. Сначала на его лице проявилась враждебная, защитная маска. Когда растерянность от неожиданной встречи прошла, он расслабился и настороженно, сдержанно произнес: — О! Привет, Джок! — Хорошо провели уик-энд? — Отлично! Получил огромное удовольствие. — Славное местечко! — Я вспоминаю детство, проведенное на ферме, — улыбнулся Мэннинг. — Если хочешь жить на природе, это следует делать именно так. Вы видели его винный погреб? Потрясающе! — Как он себя чувствует? — спросил Джок, стараясь скрыть волнение. Но даже при лунном свете лицо Мэннинга с внезапно застывшими глазами свидетельствовало о том, что фотограф уловил тревожные нотки в голосе режиссера. — Думаю, — произнес Мэннинг, — с ним все в порядке. Он не раздражен и позволил мне снимать его весь уик-энд. Кажется, ему это даже нравилось. Я сделал отличную серию фотографий — «Король и Королева», которую можно будет опубликовать, когда они поженятся. Он обещал предоставить мне эксклюзивное право сфотографировать его свадьбу. — Они действительно поженятся? — спросил Джок. — Да! — Мэннинг улыбнулся, испытывая искреннюю радость. — Он что-нибудь говорил о сцене? О своей ноге? Мэннинг колебался. Он думал о том, следует ли доверять этому человеку. Лунный свет упал на худое, мальчишеское лицо Мэннинга. — Вы ему нравитесь. Вы знали это? Он считает вас одним из лучших режиссеров, с какими ему доводилось работать. — Да? — удивленно сказал Джок Финли. Его голубые глаза выражали сейчас скромность. — Он говорит, что вы извлекли из него то, что не удавалось извлечь ни одному другому режиссеру с тех пор, как Карр стал звездой. — Он так сказал? — Поздно вечером. Когда Дейзи легла спать. И Акс тоже. Но Пресу не хотелось спать. Как и мне. Мы пили, беседовали. Он заговорил о вас. — Он сказал что-нибудь о ней и обо мне? — спросил Джок. — Он никогда не обсуждает ее. Он влюблен в девушку, беспокоится о ней, защищает ее. Но он не сказал о Дейзи ни единого слова. Об ее игре, страхах… ее… Мэннинг замолчал, не найдя нужного слова. — Меня преследовало чувство, — сказал Джок, — что он испытывает ко мне неприязнь из-за нее. Что это стоит между ним и той сценой. — Я так не думаю. Мне кажется, что он очень, очень старается. Его беспокоит, что он не может сделать все так хорошо, как десять лет тому назад. По-моему, он считает, что подводит вас. И это его огорчает, что бы он ни думал о… Мэннинг не закончил фразу. Он и так сказал слишком много. Джок улыбнулся. Мэннинг смущенно произнес: — Он восхищается вашим режиссерским талантом. Но считает, что вы тот еще хер. Это слово, вылетевшее из уст элегантного белокурого гомосексуалиста, прекрасно вписалось в контекст его точной, сдержанной речи. Но это обстоятельство отнюдь не уменьшило раздражение и злость Джока. Любой разумный человек отреагирует на такое оскорбление улыбкой. Только дикарь продемонстрирует обиду. Джок Финли никогда не вел себя, как дикарь. За исключением тех случаев, когда он преднамеренно разыгрывал из себя дикаря. Он улыбнулся с мягким лукавством. — Спасибо. Я испугался, решив, что я и правда начинаю нравиться ему. Звезда сделает для тебя гораздо больше, если она не любит, а ненавидит. Он особенно хорош, когда пытается доказать что-то. Такой реакцией Джок внезапно перехватил инициативу. Теперь Мэннинг пожелал узнать, что произойдет завтра. — Вы собираетесь давить на него? — спросил фотограф. — Я добиваюсь идеального дубля. Такого, каким он должен быть. Я не стану давить на Карра. Подталкивать его. Я буду сидеть здесь и ждать, когда получится совершенный дубль. Буду сидеть неделю, месяц, если понадобится. Мэннинг задумчиво кивнул. Даже если сказанное Джоком нарушало планы фотографа, связанные со следующим заданием, Мэннинг не проявил обеспокоенности. В любом случае сейчас он уже не мог уехать до окончания съемок. Не воспользоваться обещанием Карра предоставить ему эксклюзивное право фотографировать свадьбу Короля и Королевы. И все же Мэннинг не проявил тревоги. Джок собирался повернуться и уйти, но тут он заметил второго человека, шедшего от загона. Это был Аксель. Не сдержавшись, Финли перевел взгляд с Акселя на Мэннинга; взгляд режиссера был красноречивее всяких слов. Мэннинг не смутился. На его лице появилась улыбка. — В Америке это распространено, как яблочный пирог, мой дорогой. Фотограф отошел от Джока. Заметив режиссера, Аксель свернул в сторону, чтобы не столкнуться с ним. Режиссер посмотрел ему вслед. Сукин сын! Аксель — тоже? Да, Акс — тоже! Охваченный чувством одиночества Джок направился к своему трейлеру. Внезапно он подумал о юной блондинке из Лас-Вегаса. Подарок от Тони. С умелыми, опытными руками, языком, телом. И ребенком, которому надо удалять миндалины. Следующий день выдался хорошим. Небо было голубым, практически безоблачным. Джо Голденберг вернулся до завтрака. Джок приготовился к работе. Ему осталось только поговорить с Карром. Отвергнув стратегию «одного, самого важного дубля», Джок заговорил с Карром сдержанно, спокойно. Прежде всего он спросил о его ноге. Все в порядке, ответил Карр, позволив Финли ощупать голень. Джок тщательно, почти профессионально обследовал ногу Карра, пытаясь найти напряженные мышцы, болезненные места. Отвечая на вопрос Джока, Карр сказал, что не испытывает боли при ходьбе. Тогда Финли поинтересовался: не хочет ли Карр один раз отрепетировать сцену с животным, получившим большую дозу успокоительного? Вспомнить движения, ритм? Карр, похоже, удивился; в его глазах появилась настороженность. Почему Джок думает, что ему необходима репетиция? Он, Карр, сыграл эту сцену дюжину раз перед камерой и тысячу раз — в сознании. Джок объяснил. Существовало одно обстоятельство, способное в случае удачи оправдать все усилия, риск, борьбу, боль. В загоне находилось великолепное, уникальное, не поддающееся описанию животное. Если Карр захочет, Джок покажет ему этого мустанга. Настороженный Карр пошел за Джоком. В загоне конюхи готовили мустангов к процедуре отбора и съемкам, накидывали на животных арканы и привязывали к отдельным столбам. Упомянутый Джоком жеребец стоял в дальнем конце загона. Из-за своих размеров он был самым заметным. Карр, будучи профессиональным лошадником, тотчас обратил внимание на мустанга. Опередив Джока, он зашагал к столбу, возле которого стояло животное. Оно топтало копытами землю. Внезапно конь попытался встать на дыбы, но веревка помешала ему сделать это. Он дернулся в одну сторону, потом в другую, стараясь освободиться. Наконец конь попятился назад. Но каждое движение заставляло животное страдать; из его горла вырывались стоны, а глаза выражали почти человеческое возмущение. Карр понаблюдал за конем. Джок приблизился к актеру. Посмотрев сначала на Карра, потом на животное, режиссер сказал: — Какой красавец! Что за мощь! Королевская порода. Карр разглядывал жеребца молча. Восхищенный взгляд актера говорил за него. Он любовался конем. Джок видел это. Не раскрывая своей цели, он тихо произнес: — Конечно, он больше остальных мустангов. Его нельзя будет заменить другим животным. Если мы воспользуемся им, придется обойтись одним дублем. Карр кивнул. — С таким конем можно сразиться только раз. Если он потерпит поражение, это его убьет. Если он одержит победу, он станет неуправляемым, свободным. Мы больше не поймаем его. — Никогда! — восхищенно согласился Джок. Режиссер перевел взгляд с жеребца на Карра. Престон всерьез увлекся животным. Джок решил рискнуть. — Хотите сразиться с ним, Прес? Карр не отвел взгляда от животного. — Да! — Он, похоже, не сомневался в своей победе. — Но я хочу оставить его себе. Когда все кончится. Я бы хотел владеть им, — добавил Карр. — Он ваш! — произнес Джок. Поняв, что Карр восхищен мустангом, Финли спросил: — Сначала вы сыграете сцену с другим животным? Карр покачал головой, отвергая необходимость репетиций, тренировок, прелюдий. — Я займусь им сразу после ленча. Проследите за тем, чтобы ему сделали укол. — О'кей, Прес! Он ваш!
По лагерю пронесся слух — сейчас будут снимать самый потрясающий дубль. Тот самый, который необходим. Как только Прес выбрал мустанга и Джок сказал своему ассистенту, что дубль будет сниматься не утром, а после ленча, все поняли: готовится нечто необычное. Джо занялся тщательными приготовлениями. Вместо одного «Митчелла» техники зарядили пленкой две камеры. Снимая подобный дубль, следовало свести опасность технической неудачи к минимуму. В своем трейлере Карр съел ленч, состоявший из салата без соуса, бифштекса и горячего чая. Эта пища обеспечит его необходимой энергией. Не создаст излишней нагрузки для живота и сердца. Пока съемочная группа поглощала ленч, Джок пошел к загону. Текс готовил шприц, иглу, успокоительное, спирт. Джок забрался на жердь. Текс оценивал массу животного, производил в уме математические расчеты, определял дозу. Когда старший конюх набрал жидкость из перевернутого пузырька с резиновой пробкой, Джок тихо произнес: — Текс… Старший конюх, уроженец Аризона, который большую часть своей взрослой жизни провел в Голливуде, повернулся. Он только сейчас заметил Джока. — Привет, Джок. — Он подошел к режиссеру с поднятым шприцем в руке. — Эта доза сделает свое дело. — Она не слишком велика? — спросил Джок. — В пересчете на единицу веса — это наша обычная доза. Этот жеребец на сто фунтов тяжелее прежних. Может быть, на двести. Он злой, — сказал Текс. — Великолепное животное! — восхитился Джок. — Любопытно, что… нет… — Что? — Текс посмотрел на Джока. — Пресу не нравились даже те животные, которые получали меньшую дозу. Он предпочел бы видеть их дикими, сильными, готовыми бороться. — Это опасно. — Прес не считается с опасностью. Он думает только об этой сцене, о том, чтобы дубль оказался удачным. Не зря его называют Королем. — Верно, — согласился Текс. — Я могу уменьшить дозу. — Что произойдет, если… если животное не получит успокоительного? — спросил Джок, глядя на мустанга. Посмотрев на режиссера, конюх увидел только его профиль. — Такой зверь? Это будет нечто! Я бы сам хотел помериться с ним силой, — сказал Текс. — Вы умеете хранить секреты? — Конечно, — обещал Текс. — Мы должны успокаивать животное из-за страховой компании. Но Пресу это нравится не больше, чем мне или вам. Он бы хотел поработать с этим мустангом без инъекции. Только об этом никто не должен знать. Кроме него, меня и вас. Это утверждение прозвучало вопросительно. Оно требовало ответа. Текс посмотрел на мустанга и медленно нажал на поршень шприца, выдавив жидкость на сухую землю. — Ни единого слова. Никому. Вы меня слышите? Мы все можем попасть в беду. — Только мы трое будем знать, — заверил его Текс. Джок посмотрел на часы, подаренные ему Тони. Четверть третьего. Пора идти. Он хлопнул Текса по спине и зашагал в сторону камер. Джо проверял два «Митчелла». Оператор был готов к съемке. Если Престон Карр тоже готов, они начнут. Их ждет самый главный, единственный дубль. Джок ощущал это всем своим нутром, кончиками пальцев. Когда Финли работал в театре, он называл такое состояние предпремьерным. В кино оно посещало его редко. Во время работы над одной картиной не пришло вовсе. Обычно опасность заключалась только в невозможности уложиться в отведенное время, то есть в перерасходе средств. Если эпизод не получался с первого раза, это удавалось сделать со второго или десятого раза. В кино нечасто возникали ситуации, когда человек волнуется оттого, что на карту поставлено все. Ситуации типа «сейчас или никогда». Деньги могли дать новый шанс. Надо только объяснить, как они будут потрачены. Или почему возникла задержка. Что это за работа, черт возьми? Где тут волнение, вовлеченность? Если человек не заводится из-за одной суеты, зачем начинать съемку? Сейчас, перед важной сценой с Престоном Карром, Джок испытывал те же чувства, что и перед самой известной сценой «Черного человека». В том фильме молодая белая героиня влюбляется в негра. Он примет ее любовь, потому что это позволяет ему отомстить всей белой расе. Он бьет, мучает девушку. Каждая их близость превращается в сражение, акт агрессии, проявление садизма; девушка всякий раз уходит с кровью на губах. Джок чувствовал, что, когда отношения ясны, можно позволить себе тонкую работу с камерой. Он снимал силуэты обнаженных людей — черного мужчины и белой девушки. Тела актеров отбрасывали тени на стену. Мужчина преследовал девушку, загонял ее на фай старой кровати. Тень от ее спинки в виде узких полос вызывала тюремные ассоциации. Затем два тела яростно сплетались. Половой акт символизировал тюрьму, в которой черный человек провел всю свою жизнь. И из которой он вырывался путем сближения с белой девушкой, олицетворявшей недоступное ему общество белых. Отсняв всю сцену от начала до конца, передав нарастающее возбуждение любовников, показав силуэт женской груди, Джок в финале эпизода заставил девушку откинуть голову на фаю кровати. На ее губах была капля крови. Этот единственный фронтальный кадр произвел сильное впечатление. Впоследствии критики спорили. Символизировала ли кровь то, что черный человек отнял у девушки ее девственность? Или это было свидетельством их садомазохистских отношений? Для Джока важным было лишь то, что о фильме говорили, писали, что люди ходили его смотреть. Он любил такую работу. В течение двух дней до съемки он испытывал возбуждение во всем теле — в груди, ногах, паху. Он даже боялся заниматься сексом, чтобы творческий заряд не вырвался из него вместе со спермой. Чтобы отснять эту сцену в соответствии со своим замыслом, он нуждался в сексуальном возбуждении. Джок никому не признался в том, что во время съемки кончил в трусы. Это нельзя было объяснить никому. У Финли возникало именно такое отношение к съемке. Джок находился сейчас в возбужденном состоянии. Если Господь будет милостив, последний дубль получится. Скоро все станет ясно. Джок поймет это раньше других. Нет. На несколько секунд позже Карра. Все зависит от того, как отреагирует Карр, почувствовав, что животное не получило успокоительного.
Доктор измерил давление Карра. Сто тридцать на девяносто. Весьма неплохо для человека его возраста. Сердце билось ритмично, с частотой семьдесят два удара в минуту. Карр испытывал легкое мышечное напряжение. Но врачу доводилось видеть актеров в таком состоянии даже перед любовной сценой. Оно являлось нормальным для хороших актеров. Без напряжения нельзя донести свои чувства до зрителей. Если бы врач обследовал Карра для страховой компании, он без колебаний дал бы разрешение на съемку. Доктор кивнул. Карр понял, что это значит. На его загорелых щеках появились ямочки, сводившие с ума миллионы женщин. Дейзи, наблюдавшая за обследованием, тоже улыбнулась. Впервые за несколько последних дней она не испытывала беспокойства. Карр, доктор, Дейзи, Аксель и Мэннинг отправились на поле брани. Мэннинг, похоже, хотел запечатлеть Карра в моменты, предшествующие важной сцене и следующие за ней. Джок заметил, что Мэннинг испытывал желание находиться возле Акселя. Несмотря на свою сдержанность, фотограф напоминал влюбленного школьника. Он был сейчас старшеклассником, восхищавшимся атлетом. В культурном обществе мужчине позволяют восхищаться без стеснения только атлетом. Но Джок ясно видел все происходящее. Мэннинг любил Акселя не только за его физическую мощь, которой сам фотограф не обладал. Мэннинг искусно скрывал свое увлечение. Знает ли Карр о наклонностях Акселя? Если знает, то как выносит прикосновения массажиста? Даже наблюдая за этим, Джок внутренне вздрагивал. Нет ничего противнее тайных гомиков. Разве что те гомики, которые выставляют свою болезнь напоказ, гордятся ею. Мэннинг начал снимать Карра, когда актер принялся расстегивать пуговицы своей элегантной шелковой рубашки. Наконец Карр остался в хлопчатобумажных брюках, сапогах и старой шляпе. Он был обнажен до пояса. Джок стоял возле палатки и ждал, когда Мэннинг кончит снимать. Карр игриво щелкнул Дейзи по носику и вышел из тени к Джоку. — Все в порядке, босс, — сказал Карр, как бы отдавая себя в руки высшей власти. — Как вы себя чувствуете, Прес? — Отлично. Доктор меня обследовал. — Это хорошо! — Будем снимать большого коня? — Как вы сказали, — улыбнувшись, ответил Джок. — О'кей! Карр направился на исходную позицию. Рабочие постоянно поддерживали ее в девственном состоянии, уничтожая следы ног и копыт. Финли пропустил Карра вперед, желая понаблюдать за походкой актера. Не оставил ли следов мышечный спазм? Джок увидел знаменитую походку Карра. С легким прихрамыванием. Или оно мерещилось Джоку, видевшему Карра корчившимся на земле? Скоро станет ясно, насколько силен и здоров Карр. Ассистент следил за приготовлениями к съемке, отдавал распоряжения. Когда все было готово, он передал бразды правления в руки Джока. На съемочной площади воцарилась полная тишина. Джок смотрел на загорелого, обнаженного по пояс, готового к работе Карра. Потом перевел взгляд на крупного, настороженного мустанга. Режиссер сделал глубокий вздох и хрипло произнес: — Мотор! Карр мгновенно превратился в своего героя — Л инка. Он неторопливо, но решительно направился к столбу. Бросил вызов мустангу, отвязав веревку и щелкнув ею о землю. Прозвучал резкий щелчок, который не удалось бы сымитировать никакими техническими средствами. Натянувшаяся веревка заставила животное отпрянуть, попытаться встать на дыбы. Но Карр пресек это движение, когда копыта мустанга оторвались от земли на четыре фута. Внезапно конь повернул голову. То ли из-за его огромной силы, то ли из-за отсутствия успокоительного, этот рывок едва не выдернул веревку из рук актера. Но все же Карр удержал ее. Неожиданная опасность, мощное движение мустанга подействовали на Карра. Он кое-что понял. Впервые. Это животное было готово к более яростной схватке, чем его предшественники. Оно было более опасным. Даже слишком опасным. Возник момент, не предусмотренный сценарием, когда герой оказался перед выбором — продолжать борьбу или отказаться от нее. Этот негодяй Финли сделал то, что он, Карр, просил его никогда не делать! Преподнес ему сюрприз на съемочной площадке перед камерой! Джок тоже все понял. Пригнувшись за Джо Голденбергом, он смотрел на Карра с затаенным дыханием и ждал. Именно этого момента, когда Карр поймет, что животное не получило успокоительного, и оценит риск. Мэннинг запечатлел Карра в состоянии сомнения, нерешительности. Внезапно актер посмотрел на напряженное лицо Джока. Мэннинг навсегда запомнил, как выглядели в этот миг глаза Карра. Все остальные — Дейзи, Аксель, врач, члены съемочной группы — поняли только одно: этот дубль отличается от всех прежних. Он сулил более сильное волнение, более яростное единоборство. Но Карр должен был принять решение. Обман Джока и собственная гордость подталкивали его к действию. Продолжай! Сыграй сцену! Одержи победу над великолепным животным! Подчини его своей воле! Покажи ему, кто здесь Король! Ты можешь сделать это! У тебя есть твои руки, ноги, сердце! Сделай это! Сделай это! Покажи этому Финли! Сжав веревку, широко расставив ноги для устойчивости, Карр не уступил мустангу. Сорвал с головы широкополую, влажную от пота шляпу и отшвырнул ее в сторону. Позже критики скажут, что в этот миг Линк и решил сразиться с мустангом. — Сукин сын, — тихо прошептал Джок. Рассерженный Джо Голденберг отвернулся. Мэннинг сделал шаг вперед. — Проклятая шляпа! Теперь этот дубль не состыкуется с ранее отснятым материалом, — возмущенно произнес Джок. Но он не решился остановить съемку. — Да, теперь мы не сможем использовать кадры с Рианом, — тихо подтвердил Джо. Оператор снова повернулся лицом к камере и съемочной площадке. Джок, ощущая на себе взгляд Мэннинга, заставил себя смотреть на Карра и мустанга. Теперь было необходимо, чтобы сцена получилась. На условиях Престона Карра. Вся целиком. От начала до конца. Охваченный желанием отомстить за себя Джоку Финли, Престон Карр сосредоточил свое внимание на животном, попытавшемся встать на дыбы. Он резко дернул веревку. Мустанг склонил шею к земле. Натяжение веревки усилилось. Внезапно конь бросился вперед, встал на дыбы, чтобы растоптать Карра передними копытами. Актер упал на землю и перекатился по ней. В этот миг Джок почувствовал, как чья-то холодная рука сжала его мошонку. Черт возьми, только не это! Только не мышечный спазм! Но Карр встал на ноги, как опытный борец, не выпустив веревки из рук. Он снова оказался перед животным. Быстро шагнул в сторону, чтобы не закрывать своим телом коня. Финли заметил, что спина актера поцарапана каменистой почвой. Когда Карр снова повернулся лицом к камере, Джок увидел злость, решимость, страх человека, вплотную приблизившегося к смерти и знавшего это. Манипулируя веревкой, Карр заставил животное повернуться сначала в одну сторону, потом в другую. Он давал коню ровно столько свободы, сколько хотел. Каждый раз, когда мустанг пытался встать на дыбы, Карр сдерживал его. Постоянно двигаясь, он следил за тем, чтобы конь снова не поймал его врасплох, бросившись вперед. Мустанг, не получивший дозы успокоительного, был гордым, сильным. Его ноги казались высеченными из мрамора. В памяти коня остался момент, когда он почти победил своего мучителя. Мустанг не собирался сдаваться. Во всяком случае — легко, быстро, без борьбы. За мгновением кажущейся покорности следовала новая отчаянная попытка освободиться, броситься вперед, затоптать Карра копытами. Прес точно оценивал силу коня. Так опытный боксер по ударам противника чувствует его состояние. Это животное не становилось более слабым. Карр понимал, что не сможет вымотать его. Коня необходимо победить. И сделать это поскорей. Не затянулась ли сцена? — спросил себя Карр. Или она просто была более яростной, изматывающей? Его спина и плечи болели от усталости или от неожиданного удара о землю? Карр знал — нельзя терять времени. Он слабел, в то время как конь, похоже, становился сильнее. Пора кончать. Одним мощным рывком притянуть к себе коня, укоротить веревку, шагнуть в сторону и бегом, именно бегом, затащить коня по пандусу в грузовик! Иначе вся сцена развалится. Потеряет динамику. Престон Карр всем своим нутром ощущал, что в этом дубле есть все необходимое. И даже больше того. Он должен закончить, вытянуть его, несмотря на обман Джока Финли, едва не приведший к трагедии. Карр не знал, что им руководило — злость, гордость или желание одержать победу над Джоком Финли. Но он решил поскорее закончить битву. Расчетливыми, ловкими движениями рук и корпуса он укоротил веревку, приблизившись к животному с левого бока. Когда конь рванулся в сторону, Карр удержал его на месте. Казалось, спинные мышцы актера вот-вот разорвутся. Он использовал плечи в качестве рычагов. Оказавшись всего в трех футах от гордой, злой морды коня, Карр отчаянным рывком притянул его к себе еще ближе. Ни в одном другом дубле он не находился на столь малом расстоянии от коня. Натянув веревку, Карр развернул животное; усилие отозвалось во всем теле актера. Потом Карр втащил коня на пандус и ударил животное по крупу с такой силой, что звук разнесся по всей пустыне. Когда конь оказался в кузове, Карр закрыл задний борт. Джок еще никогда не слышал такого отчаянного ржания, какое испустил мустанг. В нем звучала боль живого существа, потерявшего свободу. Этот стон мог стать идеальным завершением сцены. Карр, которому следовало в данный момент отвернуться от грузовика, замер, глядя на животное. Его лицо выражало торжество, гордость, восхищение конем. — Стоп! — крикнул Джок. Карр ссутулился, его дыхание стало тяжелым. Он уже был не Линком, а Престоном Карром — шестидесятидвухлетним мужчиной, который ловил ртом воздух, бессильно опустив вниз измученные руки. Его лицо пожелтело. Прислонившись к грузовику, он медленно опустился на землю. Дейзи, Аксель, доктор, Мэннинг Джок и Джо окружили актера. Он посмотрел на них. Он читал их лица, точно кардиограмму. Задыхаясь, он попытался улыбнуться: — Нет… у меня нет сердечного приступа. Все в порядке. Все нормально! Доктор определил его пульс. Приложил к груди Карра стетоскоп. Кивнул. Аксель встал над Карром и принялся сводить и разводить руки актера, помогая ему дышать. Постепенно дыхание актера становилось более глубоким. Болезненный желтоватый оттенок кожи сменился более здоровым, коричневым. Дейзи, опустившись на колени, стерла полотенцем пот с его лица. Высокий Мэннинг снял сверху лицо Карра, руки Акселя, Дейзи с полотенцем в руке. Джок тоже опустился на колени возле Карра и произнес: — Великолепно! Великолепно! Это — самый совершенный дубль из всех, какие я когда-либо видел! Сначала Карр словно не заметил его. Потом он посмотрел на улыбающегося Джока. Обвинение, застывшее в глазах Карра, уничтожило улыбку Джока. Глаза режиссера, еще недавно торжествующе сверкавшие, внезапно потухли. — Это был потрясающий дубль! Величайший! — оправдываясь, произнес Джок. Карр протянул руку Акселю, и тренер помог ему подняться с земли. Дейзи накинула на плечи актера шелковую рубашку. Карр зашагал вперед, потом остановился, повернулся к Джоку: — Извини, что я снял шляпу. Но мне захотелось это сделать. Ты знаешь, как это бывает. Карр не считал нужным скрывать свое отношение к нью-йоркской школе актерской игры. Он прошел в палатку. Лег на массажный стол, позволив рубашке соскользнуть на землю и подставив свою широкую спину Акселю для массажа. Джок мог видеть сильную загорелую спину Карра, которая тяжело поднималась и опускалась. Затем Дейзи и доктор загородили собой Карра. Джо Голденберг, набивая трубку табаком из кисета, подошел к Джоку. — Все получилось. Великолепный дубль! Просто отлично! — Спасибо, — неуверенно, без энтузиазма сказал Джок. — Был один момент, одна секунда колебаний, когда я подумал, что он пошлет все к черту. Мне показалось, что у него не хватит сил. Но он был великолепен. Просто великолепен! — Я хочу, чтобы мы сняли его реакции крупным планом. Надо передать напряжение. Муки. Борьбу. Боль. Я включу эти кадры в множественное изображение; они помогут отразить внутреннюю борьбу Карра. — Мы займемся этим завтра, — сказал Джо. — На это уйдет несколько дней. В случае необходимости используем дуги и рефлекторы. — Да. Я бы хотел все закончить на этой неделе, — произнес Джок. — Это вполне реально, — заявил Джо.
Вечером Карр не появился в столовой. И Дейзи тоже. Туда пришли Аксель и Мэннинг. Они не стали приближаться к столу Джока. Время от времени к режиссеру подходили рабочие, электрики, реквизиторы. Они поздравляли его. Джок принимал поздравления с напускной скромностью. На самом деле он сдерживал свое ликование. Злился на Карра. Предчувствовал неизбежное столкновение с ним. Этот сукин сын меня ненавидит, говорил себе Джок. Ненавидит за лучшую в его карьере сцену, которая навсегда останется в памяти зрителей. Он должен поблагодарить меня. Он еще сделает это, когда получит премию Академии. Но сейчас он ненавидит меня. Открытой конфронтации сейчас быть не должно, сказал себе Джок. Сначала отсними крупные планы, реакции, все кадры, которые нужны для множественного изображения и отправь пленку в Лос-Анджелес. Джо Голденберг, направившись к выходу из столовой, попрощался с Джоком взмахом руки. Мэннинг также ушел. Через несколько секунд за ним последовал Аксель. Внезапно Джок заметил, что в столовой осталось только несколько технических работников. Он допил кофе из толстой белой кружки и зашагал к двери. Луна, наполовину поднявшаяся из-за гор, освещала темное небо. Она уменьшала яркость звезд. И все же их было очень много, они виднелись даже возле горизонта, над мерцавшим вдали маленьким городком. Джоку было некуда пойти, кроме его трейлера. Ему оставалось только продумать завтрашние ракурсы и планы. Большая сцена была отснята. Джок чувствовал себя так, словно он долго добивался девушки, наконец провел с ней весь уик-энд и вдруг обнаружил, что уже вечер воскресенья. Радость ушла, а девушка еще находилась у него и слишком много говорила.
Пятнадцатая глава
Утром работа началась рано. Карр приготовился к съемке крупных планов. Он прекрасно воспринимал указания Джока, делал все, о чем его просили, передавал тончайшие нюансы. Хотя Карру приходилось выражать сильнейшие эмоции безжалостной борьбы, его реакции были точно выверенными, лаконичными. Он использовал свое мужественное лицо: проницательные глаза, подбородок, губы. Каждая часть его лица играла свою роль в сцене. Имела свое значение. Но особенно это касалось его черных глаз. Они превосходно выражали страх, злость, восхищение животным, работу человеческого мозга, постоянно вырабатывающего новые решения, необходимые для победы над животным. Все это время Карр слушал, ждал, играл, позволял готовить себя к новому кадру. В перерывах, когда техники меняли освещение, положение камеры, передвигали рефлекторы, Карр молчал. Ему было нечего сказать Джоку. Изредка он что-то говорил членам съемочной группы, или Дейзи, если она находилась рядом, или Мэннингу, который перед окончанием съемок стал работать еще активнее. К десяти утра, когда солнце поднялось достаточно высоко, стало ясно, что этот день будет более жарким, чем предыдущие. Молчание угнетало Джока. Карр лишь поздоровался с ним. Он слушал, кивал, двигался, играл. Карр не реагировал на щедрые комплименты и похвалы режиссера. Мэннинг, похоже, почувствовал это. Джок заметил, что фотограф постоянно снимает его и Карра крупным планом. Молчание Карра, преследование Мэннинга раздражали и сердили режиссера. Он стал несдержанным. Резко заметил своему ассистенту, что декорации меняют слишком медленно. Почему в последние дни темп работы упал? Не хотят ли техники затянуть работу еще на одну неделю? Но ассистент, привыкший ко всяким настроениям режиссера, знал, что люди работают с хорошей скоростью. Соотношение между количеством отснятого материала и затраченным временем было более чем удовлетворительным. С большей скоростью снимались только телесериалы. Когда Джоку сообщили, что ему звонят, он не поехал в лагерь. После второго звонка режиссер узнал, что его вызывает Мэри. Он прыгнул в «феррари» и помчался к радиотрейлеру, оставляя за собой шлейф пыли. Приготовившись услышать о каком-то несчастье, даже о гибели драгоценного вчерашнего материала, он взял трубку из рук радиста и сердито произнес: — Черт возьми, Мэри! Разве ты не знаешь, что я снимаю? Мэри ответила тихо, обиженно: — Я подумала, что ты не будешь сердиться, если я отвлеку тебя по такому поводу. — Что случилось? — Мне удалось увидеть вчерашний материал до отправки пленки на натуру. — И что? — осторожно спросил Джок. — Это — самый лучший дубль из всех, какие мне доводилось видеть. В ее голосе не было ликования; искренняя оценка прозвучала сдержанно. — Как тебе удалось снять его? — Как удается сделать что-нибудь стоящее в кино? За это расплачиваешься потом и кровью. Слава Богу, что все усилия окупились. Спасибо, дорогая. Неожиданно Мэри произнесла: — Я по-прежнему люблю тебя. Она положила трубку. Джок впервые за много лет покраснел. Он передал трубку радисту, слышавшему весь их разговор.Ликующий Джок поехал назад на натуру, чтобы продолжить работу. Он находился в состоянии ожидания. Перед перерывом на ленч он увидел приближающийся вертолет. Джок — человек, взявший из колоды козырного туза, — решил молчать до ленча. Остановив съемку, он небрежным тоном пригласил Карра, Дейзи и Мэннинга посмотреть проявленный материал. Актер, девушка и фотограф поехали на джипе. Джок воспользовался своим «феррари», хотя контракт предусматривал, что в распоряжении режиссера будет постоянно находиться машина с водителем. Они втиснулись вчетвером в проекционный трейлер. Свет погас. Перед ними вспыхнул экран, по размерам ненамного превышавший телевизионный. Просмотр начался. Вскоре настал момент, которому было суждено восхитить критиков из многих стран. Герой Карра принимал решение, оценивая шансы на успех в единоборстве с мустангом. Впоследствии самые взыскательные ценители кино будут превозносить Джока за идею и исполнение эпизода, за то, что он добился от Карра такой тонкой, зрелой игры. Композиция сцены в этот момент оказалась превосходной. Животное встало на дыбы, мускулы его задних ног напряглись. В центре экрана находился обнаженный по пояс Престон Карр; его лицо выражало сомнение. Казалось, он может сейчас выйти из игры. На самом деле в этот миг Карр догадался о поступке Джока. Режиссер бросил взгляд на лицо актера. Прес смотрел не на экран, а на Джока. Двое мужчин молча обменялись взглядами, выражавшими взаимную ненависть. Взгляд Карра был обвиняющим. Джок смотрел на него с вызовом. Его взгляд как бы говорил: продолжай ненавидеть меня! Я обманул тебя, перехитрил, одурачил, сделал все, чтобы ты возненавидел меня. Но я отснял эту сцену! Снова сделал тебя Королем! Пленка закончилась. — Дорогой, эта сцена просто великолепна! — воскликнула Дейзи. Карр молча кивнул, взял девушку под руку и вместе с ней вышел из трейлера. Механик начал перематывать пленку. — Повторите, — сказал Джок. Во время повторной демонстрации Мэннинг не шевелился. Когда просмотр закончился, Джок испытал чувство удовлетворения. — Странная вещь, — произнес Мэннинг. — Этот момент, когда он колеблется, принимает решение… — Что вы увидели? — выпалил Джок. — Я не сразу понял значение этих кадров. Но оно становится ясным в контексте всей сцены. Однако во время предварительного обсуждения эпизода вы, кажется, не говорили об этом моменте. — Назовите это везением, если хотите, — скромно ответил Джок. — Это больше чем везение. Этот момент стал важным для Карра. Я почувствовал это, наблюдая за ним во время демонстрации. Что, по-вашему, произошло? — Мое искусство не очень сильно отличается от вашего, — сказал Джок. — Что ищете вы в своей работе? Неожиданные действия, реакции людей, раскрывающие их сущность. Хороший режиссер делает то же самое. Он создает ситуацию максимально приближенную к реальной жизни, бросает в нее актера, надеется, что реакция того окажется интересной, захватывающей, искренней. Восхищенный ответом Финли, Мэннинг уважительно кивнул. Джок понял, что сказанное им будет напечатано в «Лайфе». — Нью-Йорк в восторге от моего материала, — сказал Мэннинг. — Да? — отреагировал Джок. — Это хорошо! — «Рождение шедевра» — так решено назвать фотоочерк. Один из снимков попадает на обложку. Если не произойдет сенсационное убийство и не начнется какая-нибудь война. — Отлично! — воскликнул Джок. — Они хотели поместить на обложку снимок, сделанный мной во время первой схватки Карра с мустангом. Но я, пожалуй, позвоню им и попрошу дождаться нового снимка, на котором запечатлен момент принятия решения. Моя композиция получилась более удачной, чем у Джо. Золотистое животное, фасные горы, коричневое тело и лицо Карра. Его глаза. Мэннинг в задумчивости покинул трейлер. Направляясь в столовую, Джок заглянул в радиотрейлер. Позвонил Марти. Он застал агента в его «роллс-ройсе». Марти ехал в кинокомпанию «Фокс», чтобы встретиться с Диком Зануком и обсудить с ним контракт. После обычного обмена любезностями Марти рассказал Джоку неприличную историю, услышанную им во время благотворительного ужина у Джека Леммонса. Потом агент спросил: — Малыш, что случилось? Есть проблемы? — Нет, Марти. Просто я захотел проинформировать тебя. «Лайф» отдает нам обложку. Очерк будет назван так: «Рождение шедевра». — «Рождение шедевра»? В «Лайфе»? Это великолепно! — восторженно сказал Марти. — Теперь послушай, что ты должен сделать. Позвони завтра на студию. Попроси их выслать мне пятьдесят бутылок «Дома Периньона». Деньги пусть возьмут из средств, выделенных на фильм. Десять фунтов черной икры. И лучшие закуски из «Чейзена». — Когда ты хочешь получить все это? — спросил Филин. — В четверг. К этому дню я закончу работу. Вечером мы устроим банкет, а потом сметем с лица земли наш лагерь! — Хорошо, малыш, — обещал Филин, — Что еще? — Подумай, сколько мы запросим за нашу следующую картину после очерка в «Лайфе». — Я даже не могу представить себе эту цифру, малыш! — ликующе произнес Марти. Джок решил завершить фильм сценой, в которой Линк, выбравшись из кузова, смотрит на мустанга, на бескрайнюю пустыню, в которой он поймал это благородное животное, и осознает, что он не может оставить коня в плену, не потеряв при этом части собственной свободы. Он восстает против мира, превращающего людей и животных в рабов, и отказывается покупать личную свободу за счет этих последних свободных существ, живущих на Юго-Западе. Символичным было и то, что Линк отпускал девушку, слишком молодую для него, чтобы она могла связать свою судьбу с другим, более подходящим ей по возрасту человеком. В эмоциональном аспекте этот момент явился ключевым, кульминационным. Чем сильнее возненавидят зрители Линка, одерживающего победу над мустангом, тем сильнее они полюбят Престона Карра, отпускающего коня на свободу. И поскольку этот эпизод станет последним, в сердцах зрителей навеки сохранится любовь к Линку и Престону Карру. Джок снимал эту сцену с помощью большого крана. Камера смотрела сверху на кузов грузовика. На переднем плане находилось плененное животное; Карр забирался в кузов через боковой борт. Камера приближалась к животному и человеку, снимала их двоих крупным планом. Карр протянул руку и похлопал мустанга по шее; он посмотрел вдаль, на бескрайнюю пустыню, горы, высохшие русла рек, пастбища. Линк понял, что нельзя лишать свободы столь прекрасное животное. Эта мысль отразилась на его лице. Преодолев сомнения, он открыл задний борт грузовика. Хлопнул коня по крупу; мустанг выбежал из кузова и поскакал по пустыне. Оператор навел камеру на загорелое, коричневое лицо Карра, на котором появилась улыбка удовлетворения. Наконец Джок неохотно крикнул: — Стоп! Этот момент стал концом съемки, финалом большого приключения с великой звездой. Джок спрыгнул с крана, бросился к грузовику, чтобы пожать руку Карра. — Великолепно, просто великолепно! — с восхищением произнес режиссер. Карр ничего не ответил. Джок повернулся к съемочной группе. — Наступил момент, который я всегда ненавижу. Мы похожи на труппу, которая сыграла хит на Бродвее. Но даже для величайшего хита когда-то приходит последний вечер. Надо попрощаться с людьми, с которыми ты жил, любил, ненавидел, которых уважал. И человек не знает, как выразить свои чувства. Мое положение еще сложнее. Потому что пока не было просмотра, успеха, мы должны жить тем, что нам известно. Тем, что мы чувствуем. Доверием друг к другу и к тому, что мы делали. Мы должны знать, каким будет наш фильм. Я это знаю. Он великолепен! Спасибо вам всем. А в первую очередь — спасибо великому актеру, великой звезде, нашему Королю. Великому человеку, настоящему джентльмену. В его честь я устраиваю сегодня банкет. В столовой. Вы все приглашены на него. Джок повернулся к Карру, ожидая, что актер что-то скажет. Обычные слова. О картине. Об удовольствии от работы с Джоком. Хотя бы о съемочной группе. О сотрудничестве. Но Престон Карр ничего не сказал. Он лишь улыбнулся и спрыгнул на землю. Все закончилось, как плохо поставленная сцена. Кто-то понял, что больше ничего не будет сказано, и отошел от съемочной площадки. Другие смущенно задержались на несколько мгновений. Ни один режиссер не захотел бы закончить сцену подобным образом. Карр и Дейзи отошли, сознательно избегая Джока. Режиссер понял, что остался практически в одиночестве. Возле него находился только Мэннинг, который сфотографировал Карра и Дейзи, уходящих со съемочной площадки после заключительной сцены. Они держались за руки. Точнее, Дейзи держала Карра за руку тремя пальцами; так ребенок держится за руку отца. Джок понял, что Мэннинг обладает инстинктивной восприимчивостью, превосходящей чувствительность кинорежиссера. Этот снимок с изображением маленькой девочки-Королевы, сжимающей руку Короля, появится через пять недель в «Лайфе». Он станет завершающим снимком фотоочерка.
Банкет нельзя было назвать удачным. Шампанское и икра произвели впечатление на членов съемочной группы. Но люди не оценили их отменное качество. Престон Карр и Дейзи появились поздно, когда уже все решили, что они вовсе не придут. Джо Голденберг, сославшись на усталость, выпил полбокала шампанского и даже не попробовал икру. Он удалился в свой трейлер, чтобы заняться сборами. Мэннинг и Аксель после двух тостов исчезли один за другим. Когда появились Престон Карр и Дейзи, банкет уже почти закончился. Еще осталось много бутылок «Дома Периньона» — люди быстро переключились на виски. Три большие банки с икрой также остались нетронутыми. Карр и Дейзи выпили по бокалу шампанского, обменялись несколькими фразами с членами съемочной группы и направились к выходу, сказав, что завтра им предстоит рано вставать. Они собирались поехать на ранчо Карра. Возле двери они остановились. Карр, повернувшись, улыбнулся оставшимся на банкете людям, помахал им рукой. Внезапно все зааплодировали замечательному актеру и очень хорошему человеку. Карр, похоже, смутился. Дейзи улыбнулась, посмотрела на него; в ее глазах заблестели слезы. Под влиянием этих слез, а может быть, аплодисментов, Карр внезапно заявил: — Завтра… в моем доме… мы поженимся! Раздались крики, новые аплодисменты, зазвучали поздравления. Люди направились к двери, чтобы пожать руку Карра, поцеловать Дейзи. Джок долго выжидал. Режиссерский инстинкт подсказывал ему, что в подобные моменты необходимо либо начинать сцену, либо заканчивать ее. Нельзя лишь плыть по течению, сливаться с толпой. Джок подождал у двери, словно он был отцом невесты или другом жениха. Он позволил людям выговориться, потом пожал руку Карра, который небрежно принял этот жест, поцеловал Дейзи в щеку. — Желаю счастья. Ты его заслуживаешь, — прошептал он. Джок ощутил аромат ее духов, его охватило давнишнее желание. Еще одно мгновение, и он возбудится так сильно, что ему будет трудно отпустить от себя Дейзи. Возможно, Дейзи чувствовала или подозревала это. Она позволила поцеловать себя, но оставалась далекой, холодной, бесстрастной. Они ушли. Джок вернулся к столу. Но понял, что ему не с кем поговорить. Люди не интересовали его. И он не интересовал их. К нему подходили немногочисленные сентиментальные ветераны. Они говорили приятные вещи, делали смелые предсказания относительно успеха картины, вспоминали другие фильмы с участием Престона Карра. Но все это было пустой, ничего не значащей вежливостью. Они испытывали потребность что-то сказать, а Джок испытывал потребность выслушать их. Подлинный интерес отсутствовал. Люди начали постепенно уходить. На часах еще не было десяти, а Джок оказался один в большой столовой, которая стала еще более просторной из-за того, что столы сдвинули. Он постоял в центре зала, обвел его взглядом, посмотрел на бокалы с недопитым спиртным, на тарелки с икрой и картофельным салатом. Ну и ситуация, с горечью подумал Джок. Что такое «Дом Периньон» для людей, которые отдают предпочтение бурбону или дешевому пшеничному виски? Джок опустил руку в большую алюминиевую кастрюлю, которую использовали для охлаждения шампанского. На дне он обнаружил несколько бутылок. Взял одну из них. Схватил со стола чистый бокал и направился к двери. Финли сидел в одиночестве в своем трейлере. Он уже выпил половину бутылки. Недавно перевалило за полночь. Если бы на столе вместо шампанского стоял телефон, Джок принялся бы звонить знакомым в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Лондон. Телефон — это средство от одиночества для таких людей, как Джок Финли. Он не мог находиться наедине с самим собой, если у него не было работы. Его раздражали люди, приходившие к нему, когда он работал. Но теперь, когда дело было сделано, он нуждался в человеческих голосах, обществе людей. Джок придумывал объяснения своему нынешнему состоянию. Он слишком долго обходился без женщины. Без сексуальной разрядки. Впервые за много лет он снимал картину, не имея близких отношений с какой-нибудь девушкой из съемочной группы. Обычно, подбирая актеров, он отдавал какую-нибудь второстепенную роль девушке, которую собирался использовать таким образом. Сегодня, когда последний фут отснятой пленки уже лежал в коробке, девушка, которая должна была принадлежать Джоку, находилась в трейлере Престона Карра. Почти четыре недели Джок Финли жил один. Он испытывал потребность в женщине. В какой-то момент он подумал о том, не отправиться ли ему на вертолете в Лас-Вегас к гостеприимному Тони. Но ему не хотелось встречаться с той девушкой. Кто знает, где побывал ее язычок за истекшую неделю? Можно ли заниматься любовью с девушкой, если у тебя перед глазами стоит ее ребенок с постоянно приоткрытым из-за больных миндалин ртом? Или такое бывает из-за аденоидов? В любом случае подобные ассоциации убивают чувственность. Завтра. Завтра вечером. Луиза. Он может подождать. Он налил себе еще шампанского. Оно показалось ему слишком изысканным на вкус. Некоторые вещи предназначены только для знатоков, ценителей. «Дом Периньон». Человек пьет его и знает, что это — лучшее шампанское. Затем он понимает, что предпочел бы виски. В этом плане Джок походил на осветителей, рабочих, конюхов. Отчасти он был обычным, простым человеком, возможно, поэтому предвидел реакцию зрителей. Мог прочитать сценарий и сказать, понравится ли будущий фильм публике. Или посмотреть на актрису глазами простых людей. Он переключился с «Дома Периньон» на виски, которое Джок заказал, чтобы сделать приятное Карру. Выпил несколько маленьких порций. Но они не изменили настроения. Финли по-прежнему страдал от одиночества. Телефона не было. Снотворное принимать не хотелось. Когда ему не спалось, он читал, ходил, думал, бодрствовал. Но не глотал таблетки. Это было бы признанием своей слабости. Джок выпил очередную порцию и услышал торопливый, испуганный, нервный стук в дверь. Он быстро встал и почувствовал, что стоит не слишком твердо. Финли объяснил это тем, что он смешал шампанское с виски. Джок открыл дверь. Увидел Дейзи в наспех накинутом халате. Взлохмаченные пряди светлых волос делали ее особенно привлекательной. Охваченный сексуальными фантазиями, он распахнул дверь пошире и улыбнулся. — Я не могу найти Акселя, — задыхаясь, произнесла девушка. Продолжая улыбаться. Джок сказал: — Это вполне объяснимо. Проходи, дорогая… — Мне нужна помощь! — перебила его Дейзи. — Что-то случилось! Прес! Прес! Она разрыдалась. Джок обнял Дейзи. Он уже видел ее истерики, слезы; в таких случаях он оставался с ней до рассвета, боясь, что она может что-нибудь сделать с собой. Позже, приехав к себе, он звонил ей до тех пор, пока она, проснувшись, не снимала трубку. Но он еще не видел Дейзи в таком состоянии, в каком она находилась сейчас. Он помог ей спуститься по ступеням на землю и повел к трейлеру Карра. Войдя в трейлер, он услышал тяжелое дыхание Карра. Боль мешала актеру глубоко дышать. Посмотрев на Преса, Джок увидел на его лице пот, страдания. Влажная грудь тяжело вздымалась. Джок узнал симптомы. Вспомнил, что нужен кислород, побежал к трейлеру Акселя. По дороге Джок кричал: — Лестер! Лес! Найдите мне Лестера Анселла! Он ворвался в трейлер Акселя, нашел портативный баллон с кислородом и маску, побежал назад. Двери четырех трейлеров открылись. Джок не увидел там своего ассистента. — Найдите Лестера Анселла! — крикнул он на бегу. Вернувшись в трейлер актера, он приложил маску к его лицу, отвернул клапан, услышал шипение. Джоку показалось, что кислород помогает Карру, хотя уверенности в этом не было. Кожа Карра оставалась холодной и влажной, она приобрела странный желтоватый оттенок. Дыхание стало более спокойным и ровным, хотя и не глубоким. Карр явно испытывал боль, но молчал. Иногда он открывал глаза, смотрел на Джока, но ничего не говорил. Даже не пытался сделать это. Дейзи плакала над ним. Она постоянно шептала: — Это моя вина… Моя вина… Пришел ассистент; он впервые был без очков, и поэтому его лицо показалось Джоку странным, незнакомым. — Свяжитесь с полицией! Пусть поскорей пришлют сюда врача! И найдите его личного доктора! Испуганный ассистент замер. — Не стойте здесь! Действуйте! — выпалил Джок. Он испытывал не столько злость, сколько чувства вины. Ассистент ушел. Джок заметил, что возле трейлера Карра начали собираться люди. Он увидел любопытные, испуганные лица. — Закрой дверь! — приказал он Дейзи. Она перестала плакать и закрыла дверь. Джок снова повернулся к Карру. Одной рукой он держал маску, другой нащупал запястье Карра, чтобы измерить пульс. Пульс был слабым, неровным. Джок испугался. Он находился рядом с умирающим человеком и ничего не мог сделать. Дейзи стояла возле Карра, она плакала, обвиняла себя. Ассистент вернулся. Ему удалось связаться с дорожной полицией. Его соединили с врачом, который порекомендовал не беспокоить больного, дать ему кислород, если это возможно. Полиция постарается как можно быстрее доставить сюда доктора. Им не удалось дозвониться до личного врача Карра, находившегося в Лос-Анджелесе, — телефон не отвечал. Почти через час в ночной пустыне завыла полицейская сирена. Джок отошел от Карра, шагнул к двери, открыл ее. К лагерю приближалась машина с вращающимся красным фонарем. Звуки сирены вселяли надежду, если не покой. Джок вернулся к Карру. Дейзи перестала плакать. Слезы высохли. Она пыталась разглядеть на лице Джока какой-то добрый знак. Автомобиль подвез врача к двери трейлера. Открыв ее, полицейский впустил в трейлер врача — маленького пожилого человека с морщинистым загорелым лицом. У него были очки с тонкой серебряной оправой. — Гос… — увидев Карра, доктор замолчал и подошел к актеру. Снял маску, протянул ее Джоку. Посмотрел на пациента и узнал Престона Карра. — Господи! Доктор повернулся к Джоку. — Не просите автографа! Спасите его! — выпалил Джок. Доктор повернулся к Карру и обследовал его. Судя по реакциям врача, состояние Карра было тяжелым; подняв веки актера, врач посмотрел ему в глаза. Нащупал пульс. Приложил стетоскоп к груди. Прослушал затрудненное дыхание. Молча открыл свой чемоданчик, наполнил шприц лекарством и сделал Карру укол. — Это облегчит страдания, — сказал доктор. Он посмотрел по сторонам, словно ища родственника, способного рассказать историю болезни. Увидев Дейзи, снова едва не ахнул от изумления. Но сердитое лицо Джока помешало ему сделать это. Он лишь спросил: — Это у него в первый раз? — Кажется… нет, — ответил Джок. — По-моему, у него был приступ семь или восемь лет назад. — Семь лет назад? — произнес доктор. Похоже, эта информация была для него важной. — Хм! Семь лет назад… Да… — Что это значит? — спросил Джок. — Надо отвезти его в больницу, — маленький доктор повернулся к полицейскому. — Дорога займет час. Он выдержит? — спросил молодой полицейский. — У нас есть вертолет! — сказал Джок. — Мы можем доставить его в больницу по воздуху! — Вертолет? Это хорошо! — отозвался полицейский; задумавшись на мгновение, он спросил доктора: — Вы разрешаете? — Это лучше, чем оставлять его здесь, — сказал доктор тоном, отнимавшим надежду. Трое рабочих и ассистент Джока под наблюдением режиссера перенесли Карра из трейлера в вертолет. Завернутый в два одеяла актер занял почти все свободное пространство салона. Поэтому было решено, что Карра будет сопровождать только врач, — больному могла потребоваться срочная помощь. Джок, Дейзи, все остальные следили за тем, как машина, поднявшись в воздух, стала медленно удаляться в направлении города, расположенного на расстоянии восьмидесяти пяти миль от лагеря. Дейзи сжала руку Джока, глядя на хвостовые огни вертолета. Когда машина почти скрылась из виду, появился Аксель. — Что случилось? — спросил испуганный тренер. «Если бы ты, чертов гомик, находился здесь, а не со своим смазливым дружком, ты бы знал, что случилось! — подумал Джок. — Где ты был, когда Карр нуждался в твоей помощи?» — Спрашивать уже поздно, — произнес режиссер. Мэннинг встал рядом с Акселем, как бы защищая его. Это выглядело странно, потому что фотограф казался наиболее женственным из них двоих. Мэннинг остро отреагировал на обвиняющий тон Джока. Он с упреком посмотрел на режиссера. В конце концов Финли прервал безмолвное столкновение. И использовал для этого Дейзи. — Едем! Я отвезу тебя в больницу. — Вы не захватите меня? — спросил Мэннинг. — «Феррари» — двухместная машина, — сказал Джок. Указав на Акселя, он добавил с горькой улыбкой: — Он может отвезти вас. Если Мэннинг и покраснел, то Джок не увидел этого в темноте. Но глаза гомика, несомненно, сердито вспыхнули.
Джок мчался по пустой, темной дороге со скоростью сто двадцать пять миль в час. Прохладный воздух превратился в холодный ветер. Дейзи, похоже, не замечала этого. Она не плакала. — Это моя вина… Я виновата, — повторяла девушка. — Мне не следовало позволять ему! Сегодня, до свадьбы! Так вот как это произошло. — Ты не должна винить себя, — сказал Джок. — Если бы я… Если бы он отдохнул… Если бы мы подождали… Но он так сильно хотел меня… Поэтому я позволила… Это было ошибкой… Нельзя начинать брак с этого… Это наказание… Да, наказание. — Ты не должна так думать! — Ты говоришь, как врач. Доктора всегда говорят: «Не вините себя. Нельзя жить с постоянным чувством вины». Однако это ощущение не покидает меня, — печально произнесла она. Джок взглянул на Дейзи. Она смотрела прямо перед собой. Лунный свет делал ее лицо более бледным, чем обычно. Она плотно запахнула норковую шубку, но не надела на голову капюшон. Ее волосы развевались по ветру. Ее профиль казался в темноте профилем древней статуи. — Существует грех. И Бог тоже. Люди платят за то, что они совершают. Я плачу каждый раз после того, как ложусь в постель с мужчиной. Хотя и не получаю с ними радости. Я лишь позволяю им, но не люблю, не участвую в происходящем. Только позволяю. Иногда я поднимаю глаза и вижу человека, занимающегося со мной любовью. Он выглядит так, будто это — самое важное дело на земле. Я хочу остановить его и спросить — почему? Что он находит в этом, что его толкает? Но я никогда так не поступаю. Потому что мне кажется, что это все испортит. Для него. Но я хочу получить ответ. Узнать, в чем причина. Ты не знаешь? — Никто не знает, — ответил Джок, чувствуя, что вступить в эту беседу — все равно что открыть дверь в незнакомую комнату, из которой нельзя выйти. — Поэтому я никогда не ложилась в постель с мужчиной, за которого хотела выйти замуж. Боялась, что кто-то из нас слишком рано испытает разочарование. Я бы хотела найти человека, который мог бы любить меня, не занимаясь со мной сексом. Я продолжала выходить замуж, потому что искала такого мужчину. Но не находила. Все мои мужья… Я покинула их, убежала. Как иногда убегаю с фильмов. Но они знали до моего бегства… что ничего не вышло, и оставляли меня в одиночестве раньше… задолго до моего ухода. Я чувствовала их разочарование и то, что они в любой момент могли покинуть меня. И уходила сама. Затем начинала искать дальше. Один врач объяснил мне природу моей привлекательности. Почему я стала секс-символом. Я позволяю каждому мужчине, живущему на земле, ощущать, что я ищу именно его. Однажды я провела уик-энд с этим доктором. Он сказал, что хочет выяснить с помощью личного опыта, в чем заключается моя проблема. Он так и не объяснил мне это. Вскоре я перестала посещать его. Он звонил мне в течение нескольких месяцев. Просил о свидании. Не знаю, почему. С ним все было не лучше, чем с другими. Он только говорил больше. До. И после. Во время акта он молчал. Не издавал никаких звуков. Но потом долго говорил со мной. Обо мне. Словно я была шлюхой, и он расплачивался со мной так, как умел. Он был прав в одном. Я действительно ищу. И если это видно на экране, то именно по этой причине я — секс-символ. Разве не странно? Кто-то получает миллионы долларов, потому что девушка не может найти то, что ей нужно. Ты ведь тоже такой, да? — Какой? Неожиданный вопрос смутил Джока. — Вечно в поиске. Каждый раз, когда ты был со мной, я говорила себе: он ищет, ему что-то нужно от меня. Порой я думала, что дело в картине. Он ведет себя так, потому что хочет снимать меня. Потом я думала — нет, я нужна ему не для фильма. Трахая Дейзи Доннелл, он ощущает себя важной персоной. Грубое слово, слетевшее с уст маленькой одинокой девочки, оскорбило слух Джока. Он не раз слышал, как его произносили женщины. Привык к этому. Но когда его произнесла Дейзи, Джок почувствовал себя оскорбленным. Хотя и считал, что никто не в силах оскорбить его. — Но, — сказала себе я, — он имел других звезд. Это известно всем. Так он получил свое прозвище. Джок-Сок Финли. Тогда в чем дело? Что ему нужно от меня? Он хочет доказать, что способен сделать из меня актрису? Или что он — единственный мужчина, способный разбудить Дейзи Доннелл? Я этого не знала и сейчас не знаю. Мне даже нет до этого дела. Тут есть один положительный момент. Я избавлена от сентиментальных воспоминаний. Кроме моего первого мужа, на свете нет ни одного мужчины, с которым я хотела бы возобновить связь в надежде, что все будет по-другому. Для меня мужчины — это города, в которых я была и куда не хочу возвращаться. Следующий мужчина окажется тем самым… Ты думаешь, он умрет? — внезапно спросила она. — Сейчас в больницах творят чудеса. Пейсмейкеры, электрические стимуляторы. Трансплантации. Есть много способов одолеть сердечный приступ, — сказал Джок, думая о последствиях случившегося для картины. — Я не прошу, чтобы он полностью выздоровел, и готова ухаживать за ним до конца его жизни. Что бы ни случилось. Я переживу, если даже скажут, что он не сможет… Я слышала от мужчин… Однажды у меня был агент… Пожилой человек… Он сказал, что совершить половой акт для него — это все равно что подняться бегом на шестой этаж. После тяжелого сердечного приступа мужчине не разрешают… заниматься этим. Я не очень огорчусь… Если я смогу просто ухаживать за ним, этого будет достаточно. Я люблю его. Это правда. Ради того, чтобы он остался в живых, я согласна отказаться от всех мужчин до конца жизни. Джок знал, что любое его слово заставит ее замолчать. Он не отрывал взгляда от бетонной дороги, которая казалась белой под лунным светом. — Я… сочинила одну историю. Для статьи в «Лайфе». Кажется, она понравилась той журналистке. Историю включили в очерк. Люди говорили о ней. Я сказала, что, когда я была маленькой девочкой, меня изнасиловал отчим. На самом деле этого не было. Я все придумала. Как бы выглядело, если бы все узнали, что секс-символ равнодушен к сексу? Просто терпит его… даже ненавидит. Поэтому я сочинила историю. Я подумала, люди скажут — неудивительно, что бедняжка испытывает такие чувства. Я поведала ее доктору. Не тому, с которым я провела уик-энд. Другому. Пожилому. Он сказал, что это все равно — придумала я ее или нет. Важно, что она пришла мне в голову. Он заставил меня произнести вслух слово «фак». В его кабинете. Каждый раз, когда я пыталась использовать менее грубый синоним, он заставлял меня сказать «фак». Однажды он велел мне повторять это слово в течение пяти минут, чтобы я избавилась от внутреннего барьера. Потом он заставил меня произнести слово «сосать». Он старался убедить меня в том, что я хочу делать именно это. Что я боюсь, стесняюсь произнести это слово или совершить такое действие. Я сказала ему, что делала это и не получила удовольствия. Он, похоже, был сильно разочарован. Мне казалось, что он, доктор, разменявший седьмой десяток, поступает гадко, заставляя меня произносить такие слова. Отчасти это было забавным. Как он сам говорил «фак» с венским акцентом. Это звучало почти ласково. Он не умрет! — воскликнула внезапно Дейзи. — Ему не дадут умереть. Она молчала до конца поездки.
Они выехали на участок дороги, проходившей через маленький городок и освещенный фонарями. Когда по сторонам замелькали темные витрины и фасады домов, Джок понял, что он мчится, не зная, где находится больница. Он затормозил так резко, что мощную машину едва не занесло на сухом покрытии. Слой пыли сыграл роль масляного пятна. Он медленно поехал по улице, ища глазами указатель, который должен был скоро появиться. Он увидел его перед перекрестком. Стрелка с надписью «Больница» указывала налево. Они приблизились к длинному одноэтажному зданию. Дейзи стала напряженной, сжалась, побледнела. Она плотнее запахнула шубу. Сейчас ей предстояло узнать правду. От этого она стала мерзнуть сильнее, чем во время поездки на автомобиле, мчавшемся сквозь холодный воздух со скоростью сто двадцать пять миль в час. Джок остановился перед стеклянной дверью больницы. Дейзи взяла Джока за руку тремя пальцами. Они вошли в здание. В конце длинного безлюдного коридора они увидели полицейского; он составлял рапорт, используя вместо стола стену. Джок и Дейзи пошли по коридору. Девушка по-прежнему держала Джока за руку. Ее пальцы были ледяными. Они увидели дверь с надписью «Интенсивная терапия. Посетителям вход воспрещен». Дейзи, кажется, испытала облегчение, поняв, что не сможет войти внутрь. — Им занимаются три врача, — сообщил полицейский. Джок кивнул, подумал и осторожно приоткрыл дверь. Он мало что увидел. Три доктора и две медсестры закрывали собой Карра. Актер лежал на носилках, которые вкатили в комнату. То, что Карра не решились положить на обычную койку, было плохим признаком. Джока наконец заметили. Один из врачей произнес: — Закройте дверь! Финли сделал шаг назад; дверь закрылась. Он успел услышать слова доктора: — Дайте ему немного. Чем мы рискуем? Джок надеялся, что Дейзи этого не услышала. Она действительно не услышала этих фраз. Девушка стояла прислонившись к противоположной стене. Она отвернулась от двери и смотрела в конец коридора, где уже собрались медсестры и санитарки, желавшие поглядеть на кинозвезду. Ее белокурая головка прижалась к бледно-зеленой стене. Лицо Дейзи побелело. Она была несчастным ребенком, отец которого умирал. Девушка не знала, что сказать, как вести себя, что делать. Некоторые события всегда застают человека врасплох. Он не успевает к ним подготовиться. Дейзи заметила разглядывающих ее медсестер. Она отвернулась. Ей не хотелось смотреть на них. Джок шагнул к Дейзи, обнял девушку. Она охотно спрятала свое лицо, уткнувшись им в плечо Джока. — Ему не дадут, — сказала она. — Он не… — Я могу принести ей что-нибудь выпить, — тихо предложил полицейский. — Кофе? Джок кивнул, чтобы избавиться от него. Полицейский зашагал по коридору в сторону медсестер. Дверь отделения интенсивной терапии открылась. Джок посмотрел на врача. Дейзи не подняла голову, по-прежнему скрывая свое лицо. Взгляд Джока был вопросительным, в его глазах застыла мольба. Он молча просил доктора пощадить Дейзи. Врач понимающе кивнул. — Мы контролируем ситуацию, — сказал он. — Она прояснится через двенадцать часов. Если приступ не повторится. Джок кивнул. — О'кей. О'кей. Он посмотрел на доктора, которому не хотелось, чтобы его слова были процитированы и истолкованы превратно. Дейзи кивнула. Она восприняла только то, что могла воспринять. — Мы можем зайти к нему? — спросила врача девушка. Джок посмотрел на доктора, который покачал головой. — Нам лучше подождать, — тихо произнес Джок. — Комната для посетителей находится в начале коридора, — сказал доктор.
Прошел почти час. Они сидели в комнате для посетителей. Дейзи молчала. Джок наблюдал за ней. Думал. Гадал. Если Карр умрет, как это отразится на судьбе картины? На нем самом? Что произойдет, если Текс заговорит, и все узнают правду? Как отреагирует студия? Страховая компания? Как все это повлияет на карьеру Джока Финли? В человеке просыпается совесть перед лицом справедливого обвинения. Он укоряет себя, когда события обрели необратимый характер. Если Карр умрет, говорил себе Джок, я позабочусь о Дейзи, женюсь на ней, никогда не буду к ней прикасаться, заведу раздельные спальни. Сделаю все… Если только эта история не получит огласку… Если не разразится скандал. Киностудии порой ведут себя странно, напомнил он себе. В течение нескольких лет после нашумевшего дела Ингрид Бергман ни одна студия не желала иметь дело с актрисой. Они провозгласили ее всемирным символом сексуальности и любви, а затем отвергли, потому что оказалось, что в реальной жизни она не обладала теми качествами, которые студии ищут в звездах. Они могут проявить солидарность и отомстить Джоку Финли. Шоу-бизнес находится в зависимости от общественного мнения. Хозяева и президенты телекомпаний выкачивают доллары из любых программ — неэтичных, жестоких, лживых. Затем вспыхивает публичный скандал, и администрация, демонстрируя свое раскаяние, увольняет людей, которые делали для нее деньги. Увольняют всегда стрелочников. Боссы нанимают новых людей для создания новых программ. Или фильмов. В нынешнем случае президент и глава студии объявят и докажут, что они не знали о том, что Текс не дал успокоительное мустангу. Обманутые боссы в праведном гневе без колебаний уничтожат Джока. Конечно, он сможет уехать в Европу. Снимать фильм там. Но он недавно вернулся из Европы. Обрел пристанище в своей стране. Да, его прогнали из Лондона. Он может отправиться в Италию. Или Югославию. Сейчас в Югославии снимают много картин. В Риме есть Понти. Они познакомились на коктейле в «Дорчестере» перед отъездом Джока из Лондона. Понти сказал: «Малыш, мы должны когда-нибудь сделать фильм вместе». Они всегда так говорят. С этих слов Тони начинал любую беседу. И заканчивал ее ими. По слухам, однажды он сказал это хохмачу-таксисту и впоследствии дал ему роль в фильме. Однако никто не снимает ни с кем фильм, пока кто-то третий не предоставит деньги. Это правило номер один в кинобизнесе. И в театре. Джок боялся, что, если его поступок станет известен, люди вроде Тони занесут его в черный список. И тогда пусть он попробует пригласить звезду! А без участия звезды никакой фильм не принесет прибыли! Талант, сценарий не имеют значения. Весь этот чертов бизнес зависит от звезд! Если он, Джок, обретет репутацию убийцы, это станет его концом. Прошло минут тридцать. Из «Интенсивной терапии» не было вестей. Врач ни разу не появился в комнате для посетителей. Только однажды зашла медсестра, чтобы предложить Дейзи кофе или успокоительное. Джок услышал голоса, шум. Он покинул Дейзи, чтобы выяснить, в чем дело. Похоже, его опасения оправдались. Репортеры что-то пронюхали? Скоро здесь появится толпа фотографов, операторов с телекамерами. Они будут шпионить, искать сенсацию. Направившись по коридору к выходу, Джок понял, что прибыли люди с натуры. Впереди шел Аксель. Мэннинг старался не отставать от тренера. Джо Голденберг не поспевал за ним. В конце процессии шел ассистент Джока. И еще один человек — высокий, худой, с загорелым красноватым лицом. Текс. Остальные — это понятно, сказал себе Джок. Но Текс? Что он здесь делает? Джок зашагал им навстречу и жестом потребовал тишины. Когда они встретились, Джок прошептал: — Он в «Интенсивной терапии». Похоже, все обойдется. Успокойтесь. Ждите здесь. Они направились в комнату для посетителей. Новое виниловое покрытие поглощало шум шагов. Режиссер пропустил людей вперед; он взял Лестера за рукав. Когда все остальные вошли в комнату, режиссер, указав на Текса, спросил: — Что он здесь делает? — Он вел машину. Он один знал дорогу. Испытав облегчение, Финли направился в комнату ожидания. Он увидел, что Мэннинг снимает Дейзи. Она находилась в прострации, ничего не замечала вокруг себя, не слышала щелканья его «Минокса», который фотограф использовал с точностью и быстротой хирурга. Беззащитное, потрясенное лицо девушки выдавало все. Джок встал между ней и Мэннингом и резко прошептал: — Черт возьми! Не сейчас! Но Мэннинг, привыкший фотографировать там, где это запрещено, быстро обошел Джока, чтобы сделать очередной снимок. Режиссер схватил его за рукав куртки, повернул Мэннинга так, что ноги фотографа едва не оторвались от земли. Затем Финли ощутил на своем плече сильную руку, сжавшую столь чувствительный нервный узел, что он не только отпустил Мэннинга, но и едва не рухнул сам на пол. Обернувшись, он увидел Акселя, показавшегося ему гигантом. — Чертов гомик! — яростно прошептал Джок. Аксель приложил дополнительное усилие. Джок ахнул от боли. Затем Аксель отпустил его. Все это время Мэннинг снимал Дейзи. Девушка подняла глаза; они были влажными, но она не плакала. Слезы заволокли глаза, не смея пролиться. Внезапно, без предупреждения, Мэннинг повернулся к Джоку и сфотографировал его шесть раз подряд крупным планом. Эти снимки, выложенные в ряд один за другим, говорили о многом. О возмущении, чувстве вины, ненависти к фотографу, о готовности Джока броситься на него. Джок отвернулся, сел возле Дейзи. Позже Марти Уайт похвалит Джока за это. Одним из наиболее известных снимков года станет фотография, на которой режиссер и звезда, едва не плача, сидят рядом в ожидании известий о состоянии Короля. Дейзи не могла расслабиться, она отказывалась от успокоительного и хотела увидеть Карра. Джок наконец уговорил врачей. Он подвел ее к двери и остановился — зайти позволили только девушке. Она сняла туфли, чтобы двигаться бесшумно. Зашагала в чулках по полу. Карр находился под кислородной палаткой. С одной стороны кровати стоял врач, с другой — медсестра. Электрические приборы с зеленоватыми экранами регистрировали состояние больного. Импульсы бежали слева направо, потом снова появлялись в левой части экрана. То, что все существенные параметры организма, определяющие его близость к смерти, находились под контролем врачей, давало утешение. Здесь не было секретов, кроме одного. Случится ли новый приступ? Дейзи не понимала этого. Она удостоверилась в том, что Карр жив, дышит, его сердце бьется. Но она не знала, что оно работает плохо. Уже появились признаки фибриляции. Доктор улыбнулся ей, кивнул. Дейзи ответила на улыбку. Из ее глаз потекли слезы. То ли от облегчения, то ли оттого, что она увидела Преса в окружении приборов и оборудования, то ли оттого, что улыбка доктора не вселила в нее уверенность. Дейзи повернулась, медсестра взяла ее под руку и увела. Дейзи, приняв снотворное, расположилась в одной из свободных комнат неподалеку от «Интенсивной терапии». Когда она задремала, Джок покинул ее. Он вышел в коридор и через стеклянную входную дверь увидел в его конце первые розовые лучи. В пустыне начинался рассвет. Джок пошел по коридору, миновал комнату для посетителей, не заглянув в нее. К нему приблизился Джо Голденберг. — Ну, как он? — спросил Джо. — Я молю Господа… Надеюсь, он выживет. Это в ваших интересах. Слова маленького человека прозвучали мстительно, обвиняюще. Джок резко повернулся; маленький человек не отступил; он стоял перед Джоком, словно бросая ему вызов, предлагая ударить. Финли схватил Голденберга за вельветовый пиджак. Но маленький человек с силой, которой нельзя было ожидать от него, освободился от рук Джока и отбросил их в сторону. — Вы всем намерены заткнуть рот таким способом? — спросил Джо. — Слишком многие видели это. День за днем. Вы преследовали этого человека, давили на него. Я умолял вас не делать этого. Но вы подстегивали его гордость. Пробуждали воспоминания о былом величии. Распинали Карра его собственной молодостью. Любой обыкновенный человек остается молодым только в памяти других людей. Но киноактер может возвращаться в прошлое, видеть, как он двигался, целовал девушек, ездил верхом, брал препятствия, забирался на стены, дрался. Он может увидеть это на экране. И затем умереть, пытаясь подражать самому себе. Впервые Голденберг так говорил с Джоком, смело бросая обвинения прямо ему в лицо. — Да, — продолжил Голденберг. — Именно это он и делал. Каждый раз перед началом съемок Карр просил меня показать старые ленты и с упоением просматривал их. Я умолял его не сниматься в этой картине. Но вы с вашими разговорами о новом Престоне Карре! О его последнем шедевре! О шансе сыграть серьезную, значительную роль! Он не стремился быть звездой. Но хотел, чтобы его считали хорошим актером. Вы нашли слабость Карра и убили его! — Он не умер. Он не умрет, — сказал Джок и направился к двери, к солнечному свету. Утренний воздух раздражал своей сухостью нос. Ветра не было. Неподвижный, чистый, сухой воздух после кондиционируемой атмосферы больницы казался ненатуральным, искусственным. Затем Джок ощутил сладковатые запахи пустыни, понял, что этот воздух — настоящий, и задышал глубоко. Только позже Джок заметил Текса, сидевшего за рулем автомобиля, на котором люди приехали из лагеря. Текс смотрел на режиссера. В первый момент Джок решил подойти к старшему конюху и поговорить с ним, но потом передумал. Чем меньше слов, тем меньше неправильных интерпретаций. Но Текс вышел из машины и шагнул к нему. Теперь беседы не избежать, понял Джок. — Есть новости? — спросил Текс, доставая сигареты из кармана рубашки. Джок покачал головой. Текс закурил. — Можете не волноваться. Наш договор остается в силе. Если он ничего не скажет, я тоже буду молчать. Джок знал, что отвечать опасно, поэтому он только кивнул — задумчиво, понимающе. Этим он как бы сказал: «Мы заключили сейчас джентльменское соглашение». Подобное соглашение нельзя процитировать. Неправильно истолковать. Все сказал Текс, Джок не произнес ни слова, поэтому ему будет не от чего отказываться, нечего объяснять и отрицать. Но это успокоение было слабым, временным. Кто знает, когда Текс поведает всю историю? Возможно, это произойдет на съемках другой картины, когда работа будет прервана из-за непогоды, и люди начнут рассказывать друг другу впечатляющие истории из прошлого. В паузах между дублями, во время перелетов на натуру и обратно люди из шоу-бизнеса становятся удивительно откровенными, способными рассказать любую историю из их собственной жизни. Но сейчас Текс заверил Джока в том, что будет молчать. Джок посмотрел на улицу — сначала в одну сторону, потом в другую. Увидел красные неоновые буквы — «Столовая». — Выпьете кофе? — спросил он Текса. — Уже выпил, — ответил Текс, возвращаясь к машине. Джок зашагал по улице. Высокий, худой, с загорелым лицом, он казался уроженцем пустыни. Увидев свое отражение в витрине химчистки, Джок подумал: «Как я попал сюда? Почему я иду по улице маленького пустынного городка, спрашивая себя, умрет или выживет величайший киноактер мира? Я сделал это. Я! Джек Финсток. Джок Финли. И, если я проявлю неосторожность, если эта непростая ситуация завершится бедой, я снова окажусь на Востоке, на Бродвее, буду искать хороший сценарий, спонсора, звезду. Хотя, наверно, ни одна звезда не пожелает работать с Джоком Финли». Он дошел до столовой. Взялся за дверную ручку и увидел Мэннинга, который пил за стойкой кофе с Акселем. Джок повернулся и хотел уйти, но Мэннинг увидел его. Финли понял это и вошел в столовую. Он направился к отдельной кабинке с пластмассовой скамьей и столом противного желтоватого цвета. — Кофе? Булочку? — спросил человек, стоявший за стойкой. Джок кивнул. Человек налил кофе в пластмассовую чашку, положил вчерашнюю булочку на пластмассовую тарелку и поставил все это перед Джоком. Режиссер заметил, что Мэннинг и Аксель обменялись фразами. Аксель встал, купил пачку сигарет в автомате у двери и покинул столовую. Финли помешал ложечкой кофе. Взял булочку, но глазурь была засохшей, ненатуральной. Финли положил булочку обратно на тарелку. К нему приблизился Мэннинг. — Позволите? — Да, — буркнул Джок. Мэннинг непринужденно, изящно сел. Молча посмотрел на Джока. Режиссер поднял чашку, отпил кофе. Он был слишком горячий. — Кофе всегда бывает либо слишком горячий, либо слишком холодный, — смущенно заметил Джок. — Я не понимаю кое-что, — сказал Мэннинг. — Один снимок, который я сделал. Он сразу вызвал у меня беспокойство. И до сих пор будоражит меня. И Акселя тоже. Последняя фраза была произнесена с вызовом. Мэннинг ожидал, что Джок отреагирует, возможно, скажет нечто враждебное, резкое. Но Джок продолжал потягивать кофе. — Аксель хорошо его знает. Давно знает. Но даже он не смог понять это, когда я показал ему снимок. Мэннинг сунул руку в карман рубашки, достал оттуда фотографию, защищенную с обеих сторон кусочками целлофана. Положил ее перед Джоком. На фотографии Карр был запечатлен в тотмомент, когда он обнаружил, что большой мустанг не получил успокоительного. Могучий зверь сражался с человеком. Престон Карр понял — Джок Финли сделал то, что актер на протяжении всей работы просил его не делать. Финли поймал Карра врасплох. Перед камерой. Престон Карр взвешивал, не прервать ли ему съемку, не наброситься ли на Джока Финли, разоблачить его перед всей съемочной группой. Мэннинг уловил этот момент не случайно. Мрачное, страдальческое лицо Карра говорило обо всем весьма красноречиво. — Что, по-вашему, произошло? — спросил Мэннинг. Джок покачал головой. — А что вы думаете поэтому поводу? — уклончиво отозвался он. — Я думаю, — произнес Мэннинг, — он почувствовал что-то в себе, заставившее его заколебаться, усомниться в том, что он способен это сделать. Может быть, ощутил сильную боль. Он никогда не признавался в этом никому, кроме Акселя. Даже доктору. Аксель считает, что в тот момент он почувствовал сильную боль и задумался о том, что ему делать — выйти из игры или продолжить сцену. — Это возможно, — согласился Джок. — Чем дольше смотришь на фотографию, тем более вероятным это кажется. — Так думает Аксель, — сказал Мэннинг, ясно давая понять, что есть другие мнения. Джок испытал соблазн посмотреть через стол в зеленые глаза гомосексуалиста, который тонко, но недвусмысленно обвинял режиссера. Джок отодвинул от себя фотографию. — А я думаю, — сказал Мэннинг, — он почувствовал что-то, не имеющее отношения к его здоровью. Связанное с животным. Мустанг повел себя необычно, не так, как его предшественники. — Он был более крупным, сильным, — ответил Джок. — Да, верно. Но, очевидно, произошло что-то еще. Как вы думаете, животное получило ту дозу успокоительного, которую попросил дать ему Карр? — Негодяй! Голубой негодяй! Ты пытаешься отомстить мне своими подлыми обвинениями за то, что я разоблачил вас с Акселем! Служащий столовой, резавший овощи, вышел из кухни и испуганно уставился на Джока и Мэннинга, поднявшихся из-за стола. Протянув руки, Джок схватил Мэннинга за куртку и закричал: — Чертов гомик, если ты попробуешь оклеветать меня, я учиню иск тебе и твоему журналу на пятьдесят миллионов долларов! И расскажу о тебе все! Поведаю, чем вы занимались, когда Акселю следовало находиться возле Карра, заботиться о нем! Джок почувствовал бы себя лучше, если бы Мэннинг побледнел, покраснел, выдал свой страх перед многомиллионным иском. Но фотограф стоял с невозмутимым видом, упираясь бедрами в стол, поскольку Джок по-прежнему держал его за кожаную куртку. Мэннинг не оказывал сопротивления, не вырывался. Наконец Джок отпустил его. Не потрудившись забрать фотографию, Мэннинг покинул столовую. Джок посмотрел на снимок, взял его, сунул в карман. И вдруг заметил, что бармен смотрит на него. — Возможно, когда-нибудь вам придется давать показания обо всем этом! О том, как этот гомик… пытался шантажировать меня! Потому что я узнал об их связи! Джок понял, что его слова звучат слишком мелодраматично. — В нашем бизнесе полно таких дегенератов. Они опасны. Им нравятся только подобные им! Они ненавидят всех остальных! Пытаются их уничтожить. Извините за эту сцену! — Все в порядке, — сказал бармен. — Вы думаете, он поправится? Я имею в виду мистера Карра. — Пока что надежда есть, — Джок скрестил пальцы. Бросив на стойку доллар, он пошел к двери. Выйдя на улицу, он увидел вдали автомобиль, въехавший в город на большой скорости. За ним следовали еще две машины. Завершал маленькую колонну полицейский автомобиль с красным «маячком». Джок понял, что газетчики уже узнали о случившемся. Теперь они повалят сюда толпой. Через несколько часов в больнице появятся репортеры из всех журналов, агентств, телекомпаний. Джок зашагал к больнице. Когда он оказался у двери, газетчики и фотографы уже начали выбираться из машин. Они оккупировали больницу, как русские оккупируют маленькую страну-сателлит: внезапно, огромной армией, сметая все преграды. Казалось, пресса находится везде — в приемной, возле двери «Интенсивной терапии», в комнате для посетителей, в коридоре. Доктора удивлялись тому, как много знают репортеры о симптомах, опасностях и прогнозе сердечного приступа. Джок, Аксель, Мэннинг и Джо собрали репортеров в маленькой комнате для посетителей, чтобы провести нечто вроде пресс-конференции. Финли объяснил журналистам, что Престон Карр заболел после банкета, устроенного по случаю завершения съемок. Сначала показалось, что его недомогание вызвано неумеренностью в еде. Его отвезли в больницу. Там было установлено, что у Карра случился незначительный сердечный приступ. После такого вступления Джок представил собравшимся главного врача. Этот мрачного вида человек, разменявший шестой десяток, впервые за всю свою карьеру оказался перед камерой. Врач с самого начала дал ясно понять, что он борется за жизнь тяжелобольного человека. Он старался говорить спокойно и честно, подробно рассказал о результатах ЭКГ и других симптомах, которые еще несколько лет назад медицинская этика не позволяла обсуждать с кем-либо, кроме родственников пациента. Но пристальный взгляд телекамер и охватившее врачей стремление к известности изменили это положение. После того как врач объяснил серьезность ситуации и подробно описал состояние больного, журналисты начали задавать вопросы, касавшиеся работы различных органов Карра. Доктор ответил на них под щелканье фотокамер. Не имея возможности сфотографировать знаменитого пациента, репортеры довольствовались тем, что снимали врача. Финли с отвращением наблюдал за проявлением организованного вульгарного любопытства. Он не мог разделять его. Медсестра, потянув Джока за рукав, попросила его выйти из комнаты. Он сделал это. Он боялся новостей из «Интенсивной терапии». На самом деле ему звонили по всем трем больничным телефонам. Джок отправился в кабинет администратора. Оттуда, через застекленное окно, он видел пульт и дежурного оператора. Он взял трубку и услышал знакомый голос: — Я имею право! Мистер Финли здоров! Вы должны позвать его к телефону! Он — мой клиент… Джок успокоил рассерженного Филина: — Марти… я здесь. — Слава Богу! — сказал маленький человек. — Ну, что произошло? — Это сердце. Похоже, дела плохи. — Замолчи! — выпалил Филин. — Не говори этого. Ты не врач. Сохраняй внешнее спокойствие, пока это возможно. А теперь скажи мне — ты закончил съемку? — Все закончено. До последнего фунта пленки. Он почувствовал, что Марти Уайт успокоился. Теперь Филин мог поинтересоваться подробностями. — Как это случилось? — Он трахался. — Трахался? С ней? Малыш, если бы ты знал, как часто мне доводилось слышать: «Она способна угробить в постели любого мужчину, и это будет прекрасной смертью». На самом деле так и случилось. Помолчав мгновение, Филин заговорил снова: — Послушай, малыш, не раскрывай рта! Будь молчаливым героем. Страдай. Но ничего не говори. До нужного момента. Затем ты сделаешь публичное заявление. Отдашь последний долг. — Марти, тебе известно его состояние? — Его личный доктор звонил в больницу. Примерно полтора часа тому назад. Я услышал правду. Дела Карра плохи. Если врачам удастся поддерживать в нем жизнь еще сорок восемь часов, он получит шанс. Это самый оптимистический прогноз. — Мне этого не сказали, — произнес Джок. — Замолчи! Не говори ничего! Если я что-то узнаю, я свяжусь с тобой. Марти положил трубку. По другому телефону Джоку звонил глава студии, возвращавшийся из Мадрида на Побережье через Нью-Йорк. Глава студии находился в кабинете у президента кинокомпании. Они могли говорить одновременно. — Вы меня слышите, Финли? — спросил президент. — Где вы были? Вам следовало позвонить нам, а не вынуждать нас искать вас по всей Неваде! Глава студии, похоже, обиделся и за себя, и за президента. — Я здесь! В больнице! — сердито произнес Джок. — Что случилось? — спросил президент. Джок рассказал всю историю, умолчав о том, чем занимался Престон Карр перед сердечным приступом. Когда Джок перестал говорить, президент, пытаясь скрыть свое волнение, спросил: — Вы закончили снимать? — По какому поводу я устроил банкет? — Да, верно. Трудно объяснить акционерам, что иногда происходят такие случайности, как сердечный приступ. Акционеры — безжалостное племя. Они требуют от президентов дара предвидения, которого лишены сами. Как и в случае с Марти, беседа потекла менее напряженно после того, как президент узнал о завершении съемок. — Конджерс займется прессой. Он уже в пути. Ничего сами не говорите. — Что, по-вашему, можно тут сказать? — взорвался Джок. — Успокойтесь, успокойтесь. Я знаю, как вы привязались к старику. Я хочу сказать лишь следующее — не говорите и не делайте под влиянием стресса ничего такого, что впоследствии смогут превратно истолковать, — сказал президент. — Например? — произнес Джок. — Пленка уже лежит в коробках? Берегите ее. Если фильм действительно так хорош, как говорят, и если он станет его последним фильмом, он может оказаться бесценным. Прибыль от проката в Штатах составит не меньше десяти миллионов. Его смерть станет сенсацией. Мировой сенсацией! — Спасибо, — с нужной долей горечи сказал Джок. — Вы — художник. И были его другом, но я — бизнесмен и должен отчитываться. Перед банками. Акционерами. Нам приходится касаться неприятных моментов. Думаете, мне это нравится? Но это — моя работа. Вы одержали творческую победу. Сберегите ее. Не совершите какого-нибудь глупого, эмоционального поступка. Не скажите что-нибудь лишнее. Вы меня понимаете? — Понимаю, — сказал Джок. — Я работал с этим человеком, знаю его, уважаю, люблю. Да, люблю его. Он — великий актер. Видеть Карра в таком состоянии нелегко… — Мы понимаем. Мы понимаем. Когда мы получим смонтированный материал? — Не знаю. Я не уеду отсюда, пока Карр не начнет поправляться. — Конечно, конечно, — сказал президент. — Поговорим позже.
Прошло сорок восемь часов. Состояние Карра не улучшилось. Но оно также и не ухудшилось, что было маленькой победой. К концу второго дня разочарованные отсутствием новостей репортеры начали разъезжаться. Если они приехали сюда взбудораженными, бодрыми, то покидали больницу разочарованными, обманутыми, раздраженными. Престон Карр подвел их. Он был обязан умереть, потому что газетчики примчались сюда, чтобы осветить это событие в прессе. Больница и город успокоились. Дейзи, почти всегда имевшей дело с молодыми людьми, приходилось заботиться лишь о тех, кто страдал от похмелья или простуды. Теперь она впервые преданно ждала, улыбалась, держала Карра за руку, поила его охлажденным соком, мыла вместе с санитаркой. Других посетителей к Карру не допускали. Ни Джока, ни Джо Голденберга. На третий день, убедившись в том, что врачи контролируют состояние Карра и ухудшения не ожидается, Джо решил вернуться в Лос-Анджелес. Когда Дейзи сказала об этом Престону, актер попросил, чтобы Джо пропустили в палату. Доктор согласился неохотно. Пять минут. Не больше. Возле Карра будет находиться только один человек. Поэтому Джо встретился в Карром наедине. Когда Джо вышел из палаты, Джок шагнул к оператору. — Как он? Как выглядит? Он что-то сказал? — Только то, что он испытывает усталость. — И все? За пять минут? — Он сказал кое-что еще. — Например? — тотчас спросил Джок. — Ну, еще то, что он с удовольствием работал со мной. Что я должен приехать к нему на ранчо, когда он поправится. Подобные вещи. Узнав, что Карр не говорил о нем, Джок испытал облегчение. — Он не потерял надежды. Доктор считает, что душевный настрой пациента очень важен в таких случаях. — Да? — недоверчиво сказал Джо. — Для меня важнее результаты ЭКГ. — Послушайте, Джо, спасибо за все. До встречи в Лос-Анджелесе? Джо не отреагировал. — Скоро мы снова будет работать вместе. Я приглашу вас снимать мою новую картину. Надеюсь, что вы будете свободны, — сказал Джок. — Не утруждайте себя, — с грустью и раздражением отозвался Джо. — Когда вы, молодые негодяи, поймете, что величие другого человека не принижает вас? То, что он — великий киноактер, не умаляет вашего режиссерского таланта. Вам следовало ценить Карра, любить его. Не питать к нему ненависти. Но сегодня, благодаря вам, молодым режиссерам и актерам, жестокость стала образом жизни. Вы используете фильмы в качестве оружия, выражаете с их помощью собственную враждебность. И пока критики страдают той же болезнью, потакают вашей болезни, вас будут считать великим. Но только не я! Я старомоден. Ценю мягкость. Мне нравятся порядочные, добрые люди. Я ценю в людях гордость, а не высокомерие. Считаю, что талант налагает на человека обязательства. По-моему, ваш талант не дает вам права быть безжалостным негодяем. И знаю одно. Я не хочу больше снимать фильмы. С такими жестокими людьми, как вы. Эта картина станет моей последней. Я рад, что работа закончена. Я оказался свидетелем убийства. Джо зашагал по коридору к выходу; он нес маленький чемоданчик с личными вещами и походил скорее на портного, чем на одного из лучших в мире кинооператоров, возвращающегося в свой дом стоимостью триста тысяч долларов.
Шестнадцатая глава
Трижды в течение этого дня Джок звонил Мэри. Как идет монтаж? Когда он сможет увидеть готовый материал? Он хотел просмотреть его первым. Раньше главы студии, который уже два дня находился в Лос-Анджелесе. Мэри в своей сдержанной манере заверила Джока в том, что работа продвигается успешно. Первый вариант будет готов через пять дней. Последние реакции Карра, его крупные планы оказались очень хорошими, они работали на образ. Сейчас, когда мир знал о его болезни, эти кадры приобрели особое значение. Приближающийся недуг отражался в глазах Карра, на его красивом усталом лице. Мэри предупредила Джока о том, что работа по монтажу множественного изображения будет сложной и займет недели. Но они располагали всем необходимым материалом. Весь эпизод уже существовал в ее воображении. Беседа с Мэри взбодрила Джока. Она никогда не лгала, трезво оценивала удачи и трудности. Если за ближайшие двадцать четыре часа Карру не станет хуже, сказал себе Джок, я уеду в Лос-Анджелес. Но прежде он хотел поговорить с Престоном Карром. Должен был поговорить с ним! Однако доктор не подпускал к больному. Днем, устав бродить по маленькой современной больнице, расположенной в небольшом, пыльном городке, Джок сел в «феррари» и поехал на натуру. Он мчался со скоростью восемьдесят пять миль в час, наслаждался обдувавшим его ветром, ощущением движения, свободой, сиюминутным отсутствием серьезных проблем. Избавившись от тревог и хлопот, связанных с постановкой фильма, он почувствовал усталость. В лице Джока Финли слово «усталость» имело два значения. Он устал от того, что мало спал за последние четыре дня. Постоянно ждал новостей, проводил большую часть суток в больнице, водил Дейзи на ленч, обед. Говорил с ней, ободрял ее. Не занимался с ней любовью, хотя и провел с Дейзи две ночи. После того, что она сказала ему в машине, он не смог бы иметь с ней сексуальные отношения. Теперь, когда он знал, что она не любит, не хочет заниматься сексом, не получает от этого удовлетворения, близость с Дейзи показалась бы ему мастурбацией. Две ночи она провела в его объятиях, потому что не могла заснуть даже с помощью таблеток. Джок держал в своих руках самое желанное, самое драгоценное тело на свете и не испытывал даже намека на возбуждение. Но сейчас, сидя в машине, он почувствовал, что его член ожил, напрягся. Жениться на Дейзи или завести с ней долгий, чудесный роман, изменить ее отношение к сексу, жизни, мужчинам — в этом был вызов. Вырвать ее из странного мира, в котором она жила, преследуемая славой, неспособная выносить бремя ответственности, ищущая нечто такое, что она не могла найти, мечтающая походить на обыкновенных женщин, которые стремятся походить на нее. Конечно, будет лучше всего, если Карр поправится, женится на ней, будет заботиться о Дейзи до конца своей жизни. Если бы она обрела отца, способного любить ее, если бы эта потребность была удовлетворена, Дейзи, возможно, наконец бы излечилась. Она бы перестала посещать психоаналитиков — этих обманщиков, злоупотреблявших ее доверием. Вот что говорил себе Джок. Он доехал до места, где ему следовало свернуть с шоссе в пустыню, на дорогу, накатанную машинами их каравана. Указателя, который они установили для посетителей, не было. Приблизившись к лагерю, Джок понял, почему. Лагерь почти полностью исчез. Уехали грузовики с генераторами, кранами, микрофонными «журавлями», осветительной техникой, кабелями — со всем оборудованием, необходимым для съемки. Остался лишь грузовик, обслуживавший столовую, и несколько личных трейлеров — Джока, Карра, Дейзи. Столовую уже разбирали с помощью крана и двух автокаров. Панели складывали в кузова грузовиков. Пройдет еще восемь часов, и от столовой не останется и следа. Так снимают фильмы. Человек возводит для этого город. Когда съемки заканчиваются, город разбирается. Джок зашагал по земле, которую он топтал много недель. Или месяцев, лет? Пока идут съемки, для Джока не существует ничего другого. Кажется, что они будут продолжаться вечно. Но вдруг все заканчивается. Как съемки этого фильма. Еще будет монтаж, споры по поводу музыки, звукового сопровождения. Бесчисленные просмотры. Они займут много времени из-за множественного изображения, а также потому, что студия назвала эту картину «большой». Будут потрачены миллионы долларов на рекламу. Студия будет тщательно следить за последними этапами работы. По условиям контракта компания после предварительного монтажа может забрать картину у режиссера и полностью перемонтировать ее. На самом деле фильм реально принадлежал Джоку Финли до того дня, когда он в последний раз крикнул «Стоп»! Это произошло, когда они снимали Престона Карра, перед его сердечным приступом. Джока охватило ощущение пустоты. Он шагал по лагерю. Вот здесь стоял проекционный трейлер, в котором он смотрел текущий материал. А здесь — радиотрейлер, куда поступали звонки. Здесь спали люди из операторской группы, вон там — гримеры, костюмеры. Режиссер поздоровался с рабочими. Один из них поинтересовался, в каком состоянии находится «он». Режиссер ответил, что «он» поправляется. Обрадованные люди продолжили работу. Финли поднялся по ступеням в свой трейлер. Переложил вещи из шкафа в чемоданы. Взял несколько вариантов сценария, стопки разноцветных листов с доработками. На каждом чемодане и связке он закрепил ярлык с надписью «домой» или «на студию». Позже их доставкой займутся рабочие. Он в последний раз вышел из трейлера, прыгнул в «феррари», медленно тронулся с места. Но Джок не сразу вырулил на грунтовую дорогу, а развернулся и поехал на поле брани, чтобы взглянуть на него. Найти это место оказалось почти невозможным. Там остались только столбы от загона. То ли ветер, то ли рабочие уничтожили все следы. Джок не мог найти место, где были уложены рельсы для операторской тележки. Лишь пустынная пыль лежала там, где мустанги топтали землю своими острыми копытами. Кое-где виднелись маленькие красные и фиолетовые цветы, свидетельствовавшие о том, что недавно прошел дождь. Финли приблизился к тому месту, где находился загон. Гордые плененные животные исчезли. Наверно, они вернулись в предгорье, подумал Джок. Внезапно он вспомнил об обещании, данном Карру. Что случилось с тем последним мустангом? Не забыли ли конюхи отправить его на ранчо Карра? В тот момент Джок решил выяснить это. Пройдет время, и он обо всем забудет. Обещания, данные слишком поздно, никогда не выполняются. Джок в последний раз медленно обвел взглядом поле брани. Здесь человек жил, изнашивал сердце, отдавал все свои силы, талант фильму, который переживет его на сотню лет. Фильму, который будет волновать, развлекать миллионы людей. Джок спрашивал себя, стоит ли результат затраченных усилий. Затем Финли прыгнул в «феррари» и уже собрался умчаться. Но неожиданно для самого себя вылез из машины, затем открыл дверцу, сел в машину, захлопнул дверцу и поехал.Прибыв в больницу, Джок узнал, что там ничего не изменилось. Карр был в сознании, чувствовал себя так же, правда, спал меньше. ЭКГ оставалась неустойчивой. Он прожил первые пять дней после сердечного приступа, когда отсутствие всяких изменений — это наилучшее, о чем можно мечтать. Доктора считали желательным, чтобы все, кроме Дейзи, покинули больницу. Хотя только ей одной разрешали заходить к Карру, волнение находившихся в больнице людей передавалось пациенту. Он ощущал его. Джок обратился к доктору только с одной просьбой. Он хотел увидеть Карра, если это не опасно для пациента. Врач подумал с тем серьезным, озабоченным, мрачным видом, который он научился изображать за два дня пресс-конференций, и наконец ответил: — Принимая во внимание его состояние, симптомы, усиливающийся интерес к жизни, я скажу «да». Вы можете увидеть его. Но свидание будет коротким. Не волнуйте Карра. Это весьма важно. — Конечно, — сказал Джок. Он подошел к двери, тихо открыл ее. Сиделка жестом дала понять, что пациент спит. Джок взглянул на батарею осциллографов. Импульсы равномерно бежали по экранам, вселяя успокоение. Джок сделал шаг назад. Дейзи бросилась к нему, схватила за руку, взволнованно спросила: — Что случилось? Что-то не так? — Ничего, дорогая. Доктор разрешил мне увидеться с ним до моего отъезда. Это хороший признак. Дейзи кивнула. Любое утешение было желанным и ценным после пяти дней ожидания. — Я могу сделать для тебя что-нибудь в Лос-Анджелесе? Прислать что-то, позвонить? Девушка покачала головой. Она боялась попросить что-нибудь. Она хотела только одного — чтобы Карр поправился. — Если тебе что-то понадобится, звони. И не беспокойся. С ним все будет в порядке. Мы можем договориться прямо сейчас — я приеду на ранчо после того, как вы поженитесь. Мы поговорим обо всем, как в прежние времена. Вот увидишь, — обещал он, надеясь, что его глаза излучают искренность, потому что он видел страх на ее лице. — Сделай для меня кое-что. Улыбнись. Пожалуйста. Она попыталась улыбнуться. Ее белое, без косметики, лицо, обрамленное светлыми волосами, было прелестным. Но улыбка не задержалась на нем. Потекли слезы. Джоку пришлось крепко обнять девушку. Она прижалась к нему. Он почувствовал, как вздрагивает ее тело. Внезапно Джок заметил, что Мэннинг, стоя в нескольких футах от них, с обычной ловкостью работает своим «Миноксом». Джок метнул в него злой взгляд, дав фотографу возможность сделать еще пару снимков. Сиделка вышла в коридор. Мистер Карр проснулся. Они могут зайти к нему по очереди. Очень тихо. Ненадолго. Дейзи попросила Джока пройти первым. Она должна привести себя в порядок, убрать следы слез, чтобы Карр увидел улыбающееся, белое лицо со счастливыми глазами. Джок отпустил ее и шагнул к двери. Он вошел в палату осторожно, стараясь не шуметь; лишь один раз его подошва чиркнула по виниловому полу, заставив Карра открыть глаза. Он посмотрел на Джока, снова сомкнул веки, словно усталость не позволяла ему продемонстрировать интерес или эмоции. Джок разглядел лицо Карра. Удивительно, как сильно может состариться человек за пять дней. На его голове обнажилась седина, которую он раньше тщательно скрывал. У него начала отрастать белая щетина, в то время как тонкие крашеные усы оставались черными. Щетина подчеркивала складки загорелой кожи, висевшие под нижней челюстью. Сейчас он не был кинозвездой, Королем. Перед Джоком лежал старый человек. Карр снова открыл глаза. — Прес? Привет. Как вы себя чувствуете? Карр кивнул, давая понять, что находится в удовлетворительном состоянии. — Хорошо, хорошо, — прошептал Джок. Карр снова закрыл глаза. — Вы поправляетесь. Дейзи тоже приходит в себя. Поэтому я возвращаюсь в Лос-Анджелес. Мне кажется, это замечательно, что вы нашли друг друга. Вы нужны друг другу. Все будет потрясающе. Просто потрясающе! Растерянный, охваченный чувством вины Джок с трудом подбирал слова. Он не нашел более точного слова, чем «потрясающе» — самой расхожей монеты в киноразговорах. Все было как минимум потрясающим. Это означало — да, возможно, неплохо. Или: не беспокойте меня. Этим словом характеризовали картину, погоду, будущую встречу за столом, в постели. Если оно теряло искренность звучания, его меняли на эпитет «обалденный». Остававшийся таким же пустым. Джок чувствовал, что слово «потрясающе» зацепилось за его язык, как рыболовный крючок. Он не мог освободиться от него. Новости из Лос-Анджелеса были потрясающими. Почти смонтированный материал был потрясающим. Глава студии радовался тому, что Карр поправляется потрясающе быстро. Когда Джок ездил на натуру, он отметил, с какой потрясающей быстротой рабочие демонтируют киногородок. Если бы кто-то сообщил о начале третьей мировой войны, Джок автоматически произнес бы: «Потрясающе!» Все это время глаза Карра оставались закрытыми. Джок наклонился, заметил неглубокое дыхание актера и подумал, что Карр, возможно, заснул. Но Престон приоткрыл глаза. Значит, можно продолжать. — Прес! Моя новость обрадует вас. Помните Мэри, моего монтажера? Вчера говорил с ней. Она сказала, что подходящая оптика сделает множественное изображение потрясающим! Сенсационным! Джок замолчал. Карр смотрел на него. — Звонили из Нью-Йорка. Президент сообщил, что они голосуют за выделение четырех миллионов долларов на рекламную и прокатную компании. Помните то время, когда вы могли на эти деньги снять восемь картин? — с улыбкой спросил Джок. Престон посмотрел на него с вызовом, как бы спрашивая — кто приглашал тебя в мое прошлое, когда картины снимались совсем иначе? Джок не знал, действительно ли Карр подумал так или ему это показалось. Он решил, что будет говорить, пока глаза у Карра открыты. Будет говорить о чем угодно. Если бы Карр что-то произнес, подал знак! Но актер лишь молча слушал. И дышал. Внезапно Джок начал импровизировать. — О, Мэри сказала, что та большая сцена работает великолепно. Даже в нынешнем виде. Она говорит, что монтаж усилил эффект вдвое. А вы знаете, как все это выглядело после проявки! Произнеся первую ложь, Джок внезапно понял, что он поставил свой личный диагноз. Карр не поправится. Престон, возможно, будет дышать несколько дней или недель, но он не поправится, так как слишком стар, слишком измучен напряжением последних недель. Умирающему человеку можно говорить все что угодно, одну ложь за другой, потому что обещания не придется выполнять. — Да, Прес, насчет того мустанга! Мы ждем ваших указаний относительно его отправки. Карр попытался кивнуть. Он впервые одобрительно отреагировал на сказанное Джоком. Это стимулировало Финли говорить все, что могло порадовать, заинтересовать Карра. На самом деле Джоку следовало уйти. Он понимал это. Но почему-то так и не шагнул к двери. Говорил только Финли, но он должен был до своего ухода обязательно услышать нечто от Карра. Увидеть реакцию. Знак одобрения. Дружеские чувства. Все эти недели он, Финли, подстегивал Карра, бросал ему вызов, соблазнял, оскорблял, обманывал, старался унизить. И никогда не чувствовал себя равным Карру. Возможно, причина заключалась в том, что Карр был Королем, а Джок Финли, как всякий молодой, самолюбивый режиссер, испытывал потребность ощутить свое превосходство над Королем? Над любой звездой? Справедливо это или нет, но для режиссера всегда жизненно важно подчинять себе всех людей, в контакт с которыми он вступает. Кинозвезды, президенты, руководители студий, критики, зрители! Любыми средствами — обольщением, угрозой, игрой — режиссер должен заставить их делать то, что ему нужно, смотреть на вещи его глазами, любить его, восхищаться им. Добившись всего этого, заставив студии доверять ему судьбу миллионов долларов, он все же чувствовал, как много значит для него мнение, уважение одного усталого, старого, умирающего… да, умирающего… человека. Джок удивлялся этому. Если бы Карр не умирал, для Джока не было бы столь важным услышать от него сейчас какие-то слова. Джок Финли отчаянно нуждался в том, что мог дать ему лишь Престон Карр. В чувстве равенства, уважении, любви. Он хотел обрести это сейчас. От Престона Карра. Услышать слово, увидеть улыбку, кивок, означающие: «Ты молодец, малыш, ты не хуже нас. Я знаю, что ты станешь великим режиссером. С моего благословения». Нас постоянно преследуют легенды нашей молодости. Мы взрослеем, перерастаем их. Меньше думаем о наших достижениях, чтобы не сравнивать их с этими легендами. Прошлое покрывается туманом. Его герои остаются гигантами, отбрасывающими на нас тени до конца наших жизней. Даже сознавая то, что будет отбрасывать тень на наших сыновей, мы оглядываемся на прошлое, на его гигантов, хотим быть такими же большими и сильными. Мы посмеиваемся над ними, но нуждаемся в них, в их одобрении, чтобы идти дальше, обретать большее величие. Джок нуждался в этом сейчас. А еще он хотел объясниться, если это возможно, по поводу той сцены с мустангом. Если он не сумеет оправдаться сейчас, он никогда это не сделает. Все пустяки, о которых он говорил, закончились. Он выразил свою радость по поводу того, что Дейзи выдержала испытание мужественно. Сообщил прогноз, сделанный врачом. Сообщил о радужных надеждах, которые глава студии возлагал на картину. Запас подобных фраз иссяк. Но осталась одна важная вещь, о которой ему хотелось поговорить. Дыхание Карра, лежавшего с закрытыми глазами, было поверхностным, неглубоким. Актер открыл глаза, словно выходя из старческой дремоты, и медленно перевел взгляд в сторону Джока. — Прес… Я хочу объяснить насчет той сцены. Я поступил так, не только ради себя, но и ради вас. Я не хотел, чтобы вы до конца жизни говорили себе: «Я сделал бы это лучше, если бы мне дали шанс, позволили все повторить». Вам знакомо разочарование, неудовлетворенность, с которыми актер покидает проекционную, говоря себе: «Черт возьми, мы могли сделать это лучше». Это чувство усиливается во время просмотра. Наконец, на премьере, когда все остальные вежливо аплодируют, вы ощущаете горечь во рту и говорите себе: «Идиоты! Если бы они увидели, как мы могли, должны были сделать это, они бы сейчас кричали от восторга». Вы ведь понимаете, о чем я говорю, верно? Карр не улыбнулся, не подал никакого знака. Только его глаза закрылись. — И я подумал — дам ему шанс. Не буду просить его. Он — великий человек с поразительным чутьем. Я помещу его в неожиданную ситуацию. Если он почувствует, что у него нет на это сил, он прервет сцену. В другом случае он проявит свое величие. Сыграет так, что… Джок не сразу смог подыскать нужные слова. Он говорил слишком быстро. — … эта сцена станет памятником его актерской карьере. Карр открыл глаза. Посмотрел на Джока. Глаза актера, которые были способны поведать многое зрителям, сейчас ничего не говорили Джоку. В них не было ни враждебности, ни прощения, ни понимания, ни осуждения. Если Карр и сердился, то это нельзя было увидеть. Он слишком устал, чтобы осуждать. Карр посмотрел на потолок, потом закрыл глаза. — В тот миг, когда вы заколебались, Прес, о чем вы думали? Продолжать сцену или нет? Вы разозлились? Или… возненавидели меня? Я хочу знать! Ответа не было. — Даже если вас охватила ненависть, признаюсь, я поступил бы так снова. Для меня самое важное — сделать сцену живой и запечатлеть ее. Все остальное отходит на второй план. Все! Прес повернул голову в сторону Джока. Бросил на него резкий, внезапный взгляд. Джок походил сейчас на боксера, пропустившего удар. Он замолк на полуслове. Если Престон Карр намерен заговорить, не нужно мешать ему. Но Карр не заговорил. Он просто смотрел и ждал. Его дыхание оставалось поверхностным, экономным. — Вы бы хотели, чтобы я удовлетворился меньшим? Карр не ответил. — Вы хотели, чтобы сцена получилась превосходной. Идеальной! Верно? Я помню — вы просили меня о том, чтобы я никогда не пытался поймать вас врасплох. Перед включенной камерой. Однако эту сцену нельзя было снять иначе. Ваша неподготовленность породила ощущение подлинной, смертельной опасности. Это навсегда останется на пленке. Я должен был так поступить! И теперь благодаря мне вы имеете в своем активе сцену, являющуюся шедевром. Да, именно шедевром! Это слово появится на обложке «Лай-фа». Возле вашего портрета. «Рождение шедевра»! Это — компенсация за все. Объяснение всего. Или это недостаточное утешение? Может быть, мне следовало оставить вас таким, каким я увидел вас. Престон Карр, отставная звезда, владелец ранчо, лошадник, инвестор, холостяк, любовник, человек, наслаждающийся комфортом. В конце концов, вы это заслужили. Боролись за это и одержали победу. Большую, чем любой другой актер! Может быть, это вызвало во мне неприятие. Может быть, я сказал себе: «Я встряхну этого богатого, удобно устроившегося человека, который привык к самой лучшей еде, к самым лучшим напиткам и женщинам. Взбудоражу его! Докажу ему кое-что!» А возможно, причиной стало то, как вы держались со мной. Мне было неприятно ощущать себя молодым режиссером, которого наняли, чтобы он представил вас в наиболее выигрышном свете. Чтобы он получше продал вас. Мое положение показалось мне глупейшим, и я поклялся сравнять счет. Я не знаю. Вы были нужны мне для этой картины. Я сделал все, чтобы добиться вашего согласия. Получив вас, решил использовать ваш талант на все сто процентов, чтобы потом люди сказали: «Финли извлек из Престона Карра нечто такое, о чем никто и не подозревал». Я знал, что должен подстегивать вас, бросать вам вызов, использовать вас ради фильма, который надолго останется в памяти людей… переживет нас. Однажды в Нью-Йорке в актерском классе весьма уважаемый во всем мире преподаватель сказал: «Актер нуждается в том, чтобы ему бросали вызов. Сделайте это грамотно, и он сотворит чудеса, на которые никогда не считал себя способным. Поймайте его врасплох, и он проявит гениальность! Он скорее умрет, чем признается в своем бессилии. Актер, разыгрывающий неожиданность, может быть технически великим. Актер, попавший в неожиданную ситуацию, когда брошен вызов ему как личности и как актеру, проявит подлинное величие. Ему не останется ничего иного, как раскрыть себя до конца. Поэтому некоторые хорошие и даже плохие актеры играли, будучи серьезно больными, и падали замертво за кулисами. Актер сделает все, чтобы не продемонстрировать слабость, болезнь, беспомощность в присутствии публики. Так уж устроены эти люди. Потребность казаться великими в них сильнее потребности быть таковыми. Это — секрет всех выдающихся актеров и всей актерской игры. Это утверждение — самое верное из всех, какие я слышал в разных классах от многих преподавателей. Да, Прес, сначала я хотел стать актером. Боже, какой страх я испытывал! Мой последний учитель сказал: «Финсток, вы — ужасный актер. Но человек, так страстно желающий работать в театре и обладающий столь незначительными способностями, может стать хорошим режиссером». Надеюсь, он был прав. Только потому, что я был актером или хотел стать им, я научился понимать, что чувствуют актеры, почему это происходит, как можно манипулировать ими, использовать их. Может быть, нельзя давать такую власть молодым людям. Таким, как я. Потому что приходит момент… теперь я в этом признаюсь… вспомните нашу первую встречу, когда я рассказывал вам о Муни, о том, как я работал с ним. Так вот — я поведал вам не все. Да, это действительно было именно так, как я говорил, Но я упустил кое-что. Я выбрал Муни не только потому, что он мог превосходно сыграть ту роль. У меня были и другие соображения. Он обладал громким именем, репутацией. Отблески его славы могли укрепить мое положение. Когда-нибудь, думал я, если мне понадобится для постановки звезда, я скажу, что работал в качестве режиссера с самим Муни! Я использовал этого великого человека и его любовь к театру, чтобы иметь возможность ссылаться на него. Весьма вульгарно использовал талант и репутацию выдающего актера. Однако вы, Прес, виновны не меньше, чем я! Признайте это! Мое упоминание Муни произвело на вас впечатление. Вы надумали работать со мной. Я перестал быть для вас мальчишкой, о котором вы едва слышали. Внезапно я превратился в настоящего режиссера. Важного режиссера. Видите, Прес, мы все играем в одну игру. Ведь правда? — умоляюще, серьезно произнес Джок. — Правда? Ответа не было. Из-за враждебности, презрения или усталости Престон Карр не собирался отвечать. И Джок Финли наконец понял это. Он повернулся, но не ушел. — Я мог бы оставить вас в покое, Прес. Тогда и сейчас. Но чувствую, что должен сказать вам правду. Это — мой долг перед таким человеком, как Престон Карр. Да, я отдал приказ Тексу не делать мустангу инъекцию. Я даже сказал ему, что это — ваше желание. Теперь вы можете проклинать меня, ненавидеть, называть подлым, опасным негодяем. Но скажу вам — я бы снова поступил так ради того, чтобы вы сыграли подобным образом ту сцену, а я бы заснял это! Вы можете сделать для меня одну вещь. Сказать, что вы меня понимаете. Что, по-вашему, я принес пользу картине. И Престону Карру. Я прошу вас сделать то, что когда-то сделал Муни — сказать мне: «Да благословит вас Господь». Прес! Замолчав, Джок не повернулся лицом к Карру. Он ждал какого-нибудь звука, сигнала. Ничего не услышал. Возможно, Карр сделал какой-нибудь жест. Джок повернулся, чтобы посмотреть на него. И увидел, что импульсы на экране пропали. Дверь открылась, и в комнату вбежала сиделка. — Мониторы! Они перестали… они… — выпалил Джок. Женщина взглянула на Карра и закричала в дверь: — Доктор! Доктор! Дейзи вбежала в палату раньше врача. Бросив один взгляд на Карра, она поняла, что уже слишком поздно. Она зарыдала. Если бы Джок не прижал девушку к себе, она бы рухнула на пол. Она спрятала свое лицо на его груди. Джок смотрел на Престона Карра. Услышал ли актер его слова? Все? Или хотя бы часть сказанного? Понял ли, простил ли его перед смертью? Наконец появился доктор. И Мэннинг со своим вездесущим «Миноксом». Он сфотографировал все — смерть Престона Карра, отчаяние Дейзи Доннелл, лицо Джока Финли, утешающего девушку, которая потрясенно смотрела на безжизненное тело актера.
Семнадцатая глава
Прошли пять недель. Монтаж занял больше времени, чем хотелось Джоку. Звонки из Нью-Йорка, неистовые и частые, не помогали работе. Но там говорили о слиянии компаний. Концерн, изначально производивший кондиционеры и купивший впоследствии завод по производству инструментов и красок, а также фирму по прокату автомобилей и химический комбинат, теперь стремился приобрести кинокомпанию. Президент пытался защититься от постоянного давления акционеров. Переговоры шли уже довольно долго. Окончательная цена зависела от прибыли, которую обещал принести «Мустанг». Поэтому президент звонил почти ежедневно. Глава студии заглядывал в монтажную к Джоку по дороге из своего офиса в столовую, перед ленчем и после него. Коммерческий потенциал «Мустанга» мог поднять курс акций кинокомпании с шестидесяти шести до семидесяти долларов. Поскольку весь пакет состоял из восьми миллионов акций, «Мустанг» становился драгоценной собственностью. Но это обстоятельство не облегчало монтаж. Ничто не ускорит этого процесса, состоящего из бесконечной резки, склейки, просмотра. Все подчинено диктату «Мувиолы», ее маленького экрана шириной не больше двенадцати дюймов, на котором появляются надежды человека, его достижения и ошибки. Оплошности, которые не всегда можно исправить. Порой Джок Финли видел вызов в процессе монтажа; эта работа доставляла радость, волновала. Требовались мастерство, изобретательность, фантазия, чтобы устранить погрешности материала, придать ему нужную форму. Но сейчас монтаж стал для Джока пыткой. Может быть, из-за постоянно появлявшегося на экране лица Карра. Он улыбался, хмурился, смотрел с нежностью, негодованием. Целовал, ненавидел, любил, бросал лассо, сражался с мустангом, думал, беспокоился. Джок видел Карра, обнаженного по пояс, со старой шляпой на голове. Карр удерживал веревку, перекатывался по земле, испытывал боль, шутил, покрывался потом, строил гримасы, целовал грудь Дейзи, подчинял себе мустанга, отпускал его на свободу, колебался, принимал решение продолжить борьбу. Джок проклинал давивший на него Нью-Йорк, необходимость спешить. Он работал по четырнадцать, пятнадцать часов в сутки. Мэри постоянно находилась возле него. На самом деле Джока подстегивал вовсе не Нью-Йорк. Он сам хотел побыстрее разделаться с монтажом! Финли мог признать многое, мог обвинять многих людей, но он никогда не признался бы в этом. По ночам, после долгих часов работы, он не испытывал потребности в женщине. После своего возвращения он раз шесть видел Луизу. Они обедали вместе, говорили, смотрели другие фильмы. Даже несколько раз занимались сексом. Но что-то исчезло. Джок видел причину в ее поклоннике, который оказался юристом, владельцем большой фирмы по продаже недвижимости, и хотел жениться на Луизе. Но, поскольку она не имела с ним интимных отношений, он не должен был мешать ее близости с Джоком. Однако они не отрицали, что их секс изменился. Лулу и Финли чувствовали это. Все стало другим. Конечно, существовала Дейзи. Он дважды встречался с ней спустя неделю после похорон, но они не занимались любовью. Это было реакцией на семь дней и ночей траура, когда они постоянно находились в постели. Казалось, психическое состояние Дейзи зависело от твердости его члена. Таблетки не помогали. Спиртное — тоже. Только Джок, точнее, та его часть, которая позволяла Дейзи успокоиться, обессиленно провалиться на несколько часов в сон. Джоку было нелегко. Возможно, ему мешал тот разговор, состоявшийся ночью в машине. Он был вынужден заниматься с ней любовью из страха, что она может совершить нечто непоправимое. Семь дней и ночей, проведенных в постели с Дейзи, оставили на Джоке шрамы, сравнимые с теми, которые он получил от Джулии Уэст. В нем уже не было прежней сексуальной энергии. Он надеялся, что это изменится, когда он вернется к Луизе. Будет снова наслаждаться замечательным, легким, беспечным сексом. Сексом, который никогда не теряет яркости, не приносит усталости, не требует гимнастики иновых ухищрений. Сексом простым, чистым, здоровым. Дарующим радость. Освобождение. Удовлетворение. Когда самая большая проблема — это необходимость решать, кому идти за новыми напитками и пачкой сигарет.Он должен был монтировать фильм. Дейзи подыскала себе другого психоаналитика, прописавшего ей новое успокоительное. Джок уже не боялся, что она примет смертельную дозу транквилизатора. Ему не пришлось исполнять те обещания, которые он дал себе перед смертью Карра. Лишь один раз он сильно напился дома у Мэри и переспал с ней. Все остальное время он занимался исключительно монтажом. Продолжал смотреть на лицо Карра. И отвечать на телефонные звонки из Нью-Йорка. Или избегать их. В последний день четвертой недели, когда Джок монтировал начало большой сцены единоборства с мустангом, зазвонил телефон. Это был Конджерс, руководитель отдела паблисити и связей с общественностью. Конджерс звонил из кабинета президента, которому он передал трубку. — Малыш! Вы не поверите! Шестнадцать страниц и обложка! Конджерс только что принес сигнальный экземпляр. Шестнадцать полос! — Шестнадцать полос чего? — спросил Джок. — «Лайфа»! «Лайфа»! Шестнадцать полос и обложка. Это самый большой материал о фильме, появившийся когда-либо в «Лайфе». Готов держать пари, это поднимет стоимость акций на пять долларов! Договор о слиянии у нас в кармане! Вы покупали акции по моему совету? — Что изображено на обложке? — спросил Джок. — Конечно, Карр. Перед последней атакой на мустанга. Потрясающий снимок. Это не фотография, а настоящая картина. — Да, да, знаю. — Я попрошу Конджерса отправить вам два экземпляра с вечерним самолетом. Утром они будут на студии. — Хорошо. — Хорошо? Я еще не видел такой блестящей рекламы. Вы можете гордиться! — Да. — Позвоните мне, когда получите журнал. О'кей? — Да. Как они назвали фотоочерк? — «Рождение шедевра». Потрясающе, правда? — Да, отличное название. Утром Джок пришел на студию, в свой кабинет, к восьми. В восемь тридцать приземлился самолет. Финли, не получив журнала, позвонил в комнату, куда поставлялась почта. Через четверть часа он уже держал в руках пакет. Финли не стал немедленно вскрывать его, а отправился на стоянку, сел в «феррари» и поехал в горы, подальше от студий, Лос-Анджелеса, смога. «Феррари» поднимался все выше и выше среди желтых голливудских холмов. Дорога петляла мимо домов, которые постепенно начали редеть и наконец исчезли вовсе. Оказавшись над городом и облаками, Джок остановил машину. Он снял солнцезащитные очки и разорвал пакет, чтобы познакомиться с фотоочерком, опубликованным в «Лайфе». На обложке был представлен колеблющийся Престон Карр. Большой, смелый снимок передавал цвет и фактуру пустыни; позади, на фоне синего неба, высились красноватые горы. Карр занимал правую часть фотографии, поднявшийся на дыбы мустанг — левую. Карр смотрел на животное; лицо актера явственно выражало сомнения, предшествовавшие финальной схватке. Шестнадцать полос были посвящены «Мустангу». Разворот занимала большая фотография Карра и Дейзи, сделанная во время съемки самого интимного момента их любовной сцены. Дейзи была обнажена до талии. Но снимки, имевшие отношение к событиям фильма, составляли незначительную часть очерка. Львиная доля журнальной площади была отдана звезде — Престону Карру. Мэннингу удалось удивительно ясно передать внутреннюю борьбу и негодование Карра. Герой очерка постоянно ощущал, что он растрачивает драгоценную валюту — собственную жизнь. Обменивает ее по слишком низкому курсу. На всех снимках был запечатлен Карр. Карр в гримерной. Карр с Дейзи. Карр и Джо Голденберг. Карр, выбирающий мустанга. Карр и Джок Финли. Рассерженный Карр и Джок Финли. Карр, лежащий на земле в момент мышечного спазма. Карр, измученный борьбой. Возможно, дело было в расположении фотографий, их выборе или намеках, присутствовавших в тексте. В любом случае фотоочерк давал понять, что это — рассказ о звезде, которая скорее умрет, чем смирится с поражением. О человеке, желавшем доказать новым критикам, новому поколению зрителей, режиссерам «новой волны», что старые звезды сохранили свое величие. Большой кусок текста был посвящен снимку, вынесенному на обложку. Там объяснялись трудности, связанные с постановкой сцены, ее значение для фильма. Мэннинг упомянул, что дубль снимался за один раз с самым сильным мустангом. Может быть, судьба столкнула Престона Карра именно с этим животным. Возможно, Карр нарочно выбрал его, чтобы уйти в сиянии славы. Или произошел просто нелепый несчастный случай? Читая текст, Джок кое-что осознал. Мэннинг доказывал, что Джок Финли убил звезду. Режиссер сделал это, чтобы удовлетворить свое самолюбие, отомстить Карру за Дейзи Доннелл, создать классический вестерн. Мэннинг уничтожал все сомнения по этому поводу последней фразой: «Я был свидетелем рождения шедевра и гибели звезды». Чертов гомик, сказал себе Джок. Он надел солнцезащитные очки, завел «феррари» и тронулся с места. Поехал вниз, к облаку смога и лежащему под ним призрачному городу. В душе Джока бушевала ярость; впоследствии он не мог вспомнить, как ему удалось вернуться на студию без аварии. Он ворвался в офис, схватил трубку телефона и набрал личный номер Марти Уайта. — Малыш, я ждал твоего звонка, — сказал агент. — Какой материал! На шестнадцати полосах! Ты навеки обрел громкое имя. Теперь все происходящее с тобой будет значительным! Этот очерк сделает для тебя то же самое, что Тейлор сделал для Бертона! — Марти, я хочу, чтобы этот номер не попал в продажу. — Что, малыш? — Я намерен подать в суд на этого негодяя и его журнал! — Ты в своем уме? — взорвался Марти. — Я немедленно отправляюсь к адвокату, Марти! Прямо сейчас! — Малыш! Малыш, послушай меня! Дождись моего приезда. Я выезжаю к тебе. О'кей? Джок бросил трубку. Маленький Марти Уайт сидел в своем кресле, обтянутом черной кожей. Его пальцы нервно барабанили по телефону. Кому позвонить в первую очередь? Главе студии? Президенту? Или личному адвокату? Глава студии тут не поможет. Президент? Стоит ли поднимать тревогу, если пожар еще не вспыхнул? Его адвокат! Марти набрал номер. Подождал. Услышал голос. — Мэрф? Это Марти. Ты не собираешься уходить из офиса в ближайшее время? Хорошо. Я сейчас приеду. Хочу тебе кое-что показать. Мне нужно узнать твое мнение.
Через час сигнальные экземпляры «Лайфа» лежали на столах двух адвокатов, чьи кондиционируемые кабинеты находились в нескольких кварталах друг от друга на Уилширском бульваре. В кабинете Эдварда Гранта, одного из совладельцев фирмы «Грант, Харрис, Мендельсон и Грант», Джок Финли расхаживал по ковру, в то время как старший Грант медленно переворачивал страницы «Лайфа», читал текст, изучал фотографии. Джок поглядывал на лицо Гранта, пытаясь увидеть там долю возмущения, которое испытывал он сам. Грант был человеком, недавно разменявшим седьмой десяток. Он имел репутацию блестящего адвоката, выигравшего несколько процессов против крупных киностудий, обвинявшихся в плагиате и клевете. В Беверли-Хиллз говорили, что, если Эдвард Грант взялся за ваше дело, вы могли считать его наполовину выигранным, потому что студии боялись этого юриста. Когда Грант закончил ознакомление с материалом, он посмотрел на Джока и спросил: — В чем заключается существо ваших претензий, мистер Финли? — Существо моих претензий?.. — взорвался Джок. — Этот проклятый гомик утверждает, что я убил Престона Карра! Он пытается погубить меня! Сделать так, чтобы ни одна звезда не согласилась работать со мной! Это клевета, верно? — Во-первых, — Грант заговорил медленнее и тише обычного: он всегда поступал так, имея дело с эмоциональным клиентом, — если он действительно сделал это, мы имеем дело не с клеветой, а с диффамацией. — Это еще хуже, верно? — сказал Джок. — Да, поскольку использован известный журнал с большим тиражом. Если диффамация действительно имела место. Разочарованный тем, что он не обрел в Гранте единомышленника, Джок невольно начал переносить на него свою враждебность. — Если? Если? Что лежит на вашем столе? Он называет меня убийцей! — Это не совсем так, — сказал Грант, снова взяв журнал в руки. — Не совсем так? Вы хотите сказать, что люди, прочитавшие этот журнал, увидевшие эти фотографии, не придут к заключению, что я убил Карра? Что я заставил его перенапрягаться, зная о его больном сердце? Грант перевел взгляд с журнала на Джока и медленно, тихо произнес: — Мистер Финли, возьмите этот блокнот и ручку и перечислите все, что произошло с вами из-за этой статьи. Назовите ущерб, который вы понесли. Только это может стать основанием для иска. Ущерб. — Ущерб? Как я могу его назвать? Журнал еще не вышел! Его видели только несколько человек на студии и Марти Уайт. — Значит, ущерба нет? — Я пришел к вам, чтобы предотвратить ущерб! Я прошу вас потребовать ареста тиража, помешать им испортить мою репутацию. Возмущенный, разочарованный Джок перешел на крик. — Мистер Финли, вам известно, как можно добиться ареста тиража? Мы должны будем пойти в суд. Изложить наш иск. Это не лучшее дело, какое мне доводилось видеть. И внести залог в размере трех или четырех сотен тысяч долларов. Возможно, больше. Такова стоимость тиража «Лайфа». Если мы окажемся неправы и проиграем дело, журнал станет пострадавшей стороной, которая нуждается в защите. — Я готов внести залог! — А еще мой гонорар. Поскольку речь пойдет о весьма сомнительном и рискованном деле, я бы запросил как минимум двадцать пять тысяч долларов. — Я не спрашивал вас о том, сколько это будет стоить. — Верно, — согласился Грант, хотя слова Джока не произвели на него впечатления. — Что скажете? Грант подумал несколько минут, снова полистал журнал, задержавшись взглядом на последних четырех страницах. Затем он закрыл его и сказал: — Нет, мистер Финли. Я не согласен. — Что значит — вы не согласны? — Я не хочу браться за это дело. — Речь идет о моей репутации! Я имею право на юридическую защиту. — Конечно, мистер Финли. В Беверли-Хиллз много хороших адвокатов. — Я хочу вас! — не сдавался Джок. — Боюсь, что невозможно, — тихо, но непреклонно произнес Грант. Джока охватила злость, граничившая с презрением. Он схватил со стола журнал и выпалил: — Неудивительно, что у вас хорошая репутация. Вы беретесь за дело только тогда, когда уверены в победе. — Молодой человек, если вы хотите знать, почему я не возьмусь за ваше дело, я скажу вам. Но я не желаю обсуждать это с вами. И не потерплю грубость в моем кабинете. Молчание Джока воспринималось как просьба извинить его. — Во-первых, я считаю, что люди не расценят эту статью как диффамацию. Я понял из нее, что вы весьма талантливый молодой режиссер. Упрямый, настойчивый, вызывающий порой ненависть, но способный. Так что с профессиональной точки зрения этот материал не наносит вам ущерба. Веских оснований для иска нет. — Он фактически говорит, что я убил Карра. — Да, — неохотно согласился Грант, — думаю, у кого-то сложится такое впечатление. Но лишь впечатление. Мой совет — забудьте об этом! — Я не позволю называть меня убийцей! — Понимаю, — сказал Грант. — Именно поэтому я предложил вам обратиться к другому адвокату. Что касается меня — извините. Джок рассерженно повернулся. Когда он подошел к двери, Грант сказал: — Могу дать вам один бесплатный совет, Финли. Джок бросил на Гранта недобрый взгляд. — На вашем месте я не стал бы говорить об этом деле, находясь в столь возбужденном состоянии. Вы можете сказать нечто лишнее, что ухудшит вашу позицию. Например, в журнале ничего не сказано о том, что у Карра уже был один сердечный приступ. Я просмотрел материал второй раз, чтобы убедиться в этом. Вы знали о том, что у Карра уже был сердечный приступ? Не отвечайте мне. Я не хочу это знать. Я лишь демонстрирую вам, как опасно говорить в таком состоянии. До свидания, Финли.
Марти Уайт совещался с Деннисом Мэрфи в офисе юридической фирмы «Мэрфи, Роуз, Энглс и Москоу». — Твое мнение, Мэрф? — Если он предъявит иск, значит, он — сумасшедший. — Но у него есть основания? Если он пойдет к адвокату, тот возьмется за это дело? — Если Финли согласится заплатить хороший гонорар, он найдет адвоката. Он проиграет, а до этого успеет причинить вред себе самому. — И картине тоже? — спросил Марти. — Это плохая реклама, Марти. — Значит, надо заставить его отказаться от иска? — Да. Но мне нет нужды объяснять тебе, что способен натворить в гневе безумный талантливый молодой негодяй, — огорченно произнес Мэрфи. — Да, ты прав. Марти взял со стола экземпляр «Лайфа».
Наступил вечер. Джок Финли приготовил себе очередную порцию спиртного. Он находился у бара, возле бассейна. Это был его четвертый бокал. Нет, пятый. Виски с содовой того сорта, который любил Карр. У Джока осталось два ящика этого напитка. Он весьма неохотно воспользовался советом Гранта. Джок не пошел в этот же день к другому адвокату, но договорился о встрече на следующее утро со специалистом по сложным бракоразводным процессам кинозвезд. Назначив по телефону эту встречу, он принялся пить. Он готовил себе крепкую смесь. Виски и пять кубиков льда. Для содовой в бокале почти не оставалось места. Чем больше Джок пил, тем злее он становился. Проклятый гомик! Негодяй Мэннинг! Ему не сойдет это с рук! К моменту прибытия Луизы он был уже злобным, безжалостным. Она разделась и прыгнула в бассейн, чтобы спрятаться там от его бранных слов и угроз в адрес Мэннинга и «Лайфа». Но он прыгнул в воду следом за ней — голый, коричневый, напряженный, охваченный сексуальным возбуждением. Только злость могла сделать его таким. Луиза позволила ему приблизиться к ней, обнять ее, войти в нее не для того, чтобы самой получить удовлетворение, а чтобы помочь Джоку выплеснуть из себя ярость. Когда он отпустил девушку, она нырнула и появилась в дальнем от Джока углу бассейна. — Джок, у тебя отовсюду торчат бритвенные лезвия, — тихо сказала она. — Что с тобой случилось? Финли не ответил, перевернулся на спину, подплыл к ней. Он был готов снова заняться любовью. Она ускользнула от него. — Нет, Джок. Пожалуйста. Он рассерженно посмотрел на нее. — Если тебе это поможет, ударь меня. Но не занимайся со мной любовью. Пожалуйста. Он отвернулся. Подплыл к ступенькам, выбрался из бассейна. Подошел к креслу, на котором стоял телефон. Поколебавшись, связался с телефонисткой и попросил ее соединить его с Мэннингом из нью-йоркской редакции «Лайфа». Когда телефонистка пожелала узнать имя Мэннинга, Джок ответил резким тоном: — У него нет имени! Если возникнут проблемы при его идентификации, скажите им, что мне нужен Мэннинг-гомик. — Джок, пожалуйста! Мокрая обнаженная Луиза вышла из бассейна и попыталась забрать у него телефон. Но Джок вырвал аппарат из ее рук, повернулся к девушке спиной. В Нью-Йорке уже шел десятый час вечера. Мэннинг отсутствовал в офисе. По требованию Джока телефонистка набрала домашний номер Мэннинга. Луиза закуталась в халат. Второй халат она накинула на плечи Джока. Наконец на другом конце ответили. — Мэннинг? Это Финли! Джок Финли! Я видел сигнальный экземпляр с твоим материалом. — Да? Хорошо. Твоя студия и «Лайф» в восторге от него. — А я — нет. Завтра я обращаюсь в суд с требованием арестовать тираж! За преступную клевету! — Финли… Джок. Послушай меня… — Я вчиню иск тебе и «Лайфу»! На пять миллионов долларов! Что ты пытаешься сделать? Отомстить мне? Потому что я догадался о твоей связи с Акселем Стинстоупом? Да? Это все превратится в большой публичный скандал! Если ты попытаешься погубить меня, я сделаю то же самое. Если ты скажешь, что я убил Карра, я отвечу, что, если бы Аксель находился там, где ему следовало находиться — возле Карра, а не с тобой, Престон мог остаться в живых! Да! Мы могли спасти его! Охваченный праведным гневом, чувствующий, что ему удалось морально раздавить Мэннинга, Джок спросил: — Что ты на это скажешь, голубой? Луиза снова попыталась забрать телефон, но Джок не только ускользнул от девушки, но и причинил ей при этом боль. — Финли, ты меня слышишь? — произнес Мэннинг сдержанным, обиженным, напряженным голосом. — Да, слышу! — Финли, мне известно, какие чувства я вызываю у тебя. Я понял это во время нашей первой беседы на натуре. Посмотрев в твои глаза, я увидел, что ты догадался, кто я такой. И какие чувства ты у меня вызываешь. Меня не возмутила твоя антипатия. Я не рассердился, когда ты узнал об Аксе. Я уважал тебя и твою работу. Оправдывал даже твою неприязнь ко мне. По-моему, ты боишься меня. И подобных мне людей. Словно наша порочность может запятнать тебя. Поверь мне — я это понимаю. Дело в том… Мэннинг замолчал, размышляя, но затем все-таки продолжил: — Людям твоего склада не приходит в голову, что когда-то мне уже довелось почувствовать, как сильно вы меня ненавидите. Поняв это, я сам стал презирать себя. Тебя бесит, что именно я подготовил этот очерк. Я показал тебя миру. Тебе самому. Ты говоришь — какое право имеет этот гомик критиковать меня? Я лучше его! Да, это оскорбительно, когда тебя критикует гомик. А может быть, моя камера — это твоя совесть? Она показывает, кто ты такой, и тебе это не нравится. Так же, как не нравлюсь себе я сам. Однако между нами есть разница. Я заключил мир с самим собой. Принял себя. А ты — нет. Ты по-прежнему вынужден бороться со своей совестью. Я — нет. Поэтому я чувствую себя лучше, чем ты. Хотя я ничем не лучше тебя. Только чувствую себя лучше. — И все-таки я вчиню иск! — уже с меньшей злостью произнес Джок. — Я не могу остановить тебя, — сказал Мэннинг. — Вспыхнет скандал. Я не могу отступить. И «Лайф» — тоже. — Посмотрим! — угрожающе выпалил Джок. — Мне жаль, что ты так настроен, Джок. Я бы хотел быть твоим другом. — Ну конечно! И не только другом. — Да. Не только другом, — тихо, печально согласился Мэннинг и положил трубку. Джок позволил Луизе забрать телефон из его рук. Как только она опустила трубку на аппарат, раздался звонок. Это был Марти. Он хотел поговорить с Джоком. Но режиссер не пожелал взять трубку. Тогда Марти сообщил Луизе: завтра, в десять, на студии состоится совещание. Джок должен прийти! Девушка передала Джоку слова Уайта. Финли с яростью посмотрел на телефон и крикнул: — Пошел ты к черту, Марти Уайт! Пошел к черту, малыш! Красный «феррари» въехал на стоянку для администрации студии. Его там ждали. Охранник указал Джоку на свободное место между большим белым «роллс-ройсом» Марти и лимузином президента. Джок выключил зажигание. Посмотрел на административное здание. Эти негодяи ждут его! Они попытаются отговорить его! Что ж, он преподнесет им сюрприз. Джок вышел из машины. Вместо того чтобы направиться через улицу к зданию, он остановился у въезда на стоянку. Через несколько минут подъехал синий мерседес трехсотой модели. Охранник не пропустил машину на стоянку. Но Джок заявил ему: — Майк, если мой адвокат не сможет запарковаться здесь, совещание не состоится. Для большей убедительности Финли указал на лимузин президента. Охранник тотчас сдался. Джок Финли, клиент, и Мервин Моссберг, адвокат, поднялись по ступеням подъезда, миновали пост охраны, добрались на лифте до последнего этажа и зашагали по длинному коридору к кабинету главы студии. Секретарша, которая, казалось, натянуто улыбалась с того момента, когда охранник стоянки сообщил по телефону о прибытии Финли и его адвоката, нервно произнесла: — О, мистер Финли, добрый день! Вас ждут. Она распахнула дверь маленького зала для совещаний. Джок увидел президента, главу студии, Джо Московица — главного юриста компании, Харриса Конджерса — шефа отдела по связям с общественностью и Эйбла Нейштадта. Джок вспомнил фотографии этого человека, публиковавшиеся во многих газетах и журналах в связи с громкими судебными процессами. Марти Уайт сидел в дальнем конце стола. Его положение казалось нейтральным, он находился на одинаковом расстоянии от обеих сторон, напротив президента. Ближайшая часть стола оставалась свободной. Президент встал, улыбнулся, протянул руку. — Джок! Привет, малыш! Они пожали друг другу руки, и только тогда президент посмотрел на Моссберга. Он изобразил на своем лице изумление, словно не был предупрежден секретаршей о прибытии адвоката. — Мервин Моссберг, мой адвокат, — сказал Джок. — Адвокат? Зачем нужен адвокат, когда встречаются друзья? Президент изобразил на своем лице глубокую обиду. Но он пожал руку Моссберга. Адвокат знал Марти Уайта, главу студии и главного юриста компании Московица. Когда Моссбергу представили Эйбла Нейштадта, подозрительный, настороженный взгляд адвоката заставил президента кое-что объяснить. — Мистер Нейштадт присутствует здесь в качестве юрисконсульта Ассоциации кинопродюсеров. Мы считаем, что эта ситуация и ее последствия могут задеть интересы всей киноиндустрии. Моссберг лишь кивнул и жестом предложил Джоку сесть. Все были готовы начать совещание. — Господа, будем честны и откровенны друг с другом, — начал президент. — В этой комнате собрались друзья. У нас общие интересы. Нам нечего скрывать друг от друга. Компания считает, что мы находимся в выигрышной позиции. У нас есть замечательная, большая картина! Последняя, наилучшая картина Престона Карра, в которой присутствует магия Дейзи Доннелл. Это дебют в качестве продюсера-режиссера большой ленты молодого человека, которого я с гордостью могу назвать самым талантливым молодым режиссером Америки! Возможно, всего мира! Пошел ты к черту, мистер президент, сказал себе Джок. — Этот молодой человек весьма чувствителен. Он должен быть таким. Может ли талантливый режиссер не быть чувствительным? Но существует такая вещь, как сверхчувствительность. К сожалению, это качество заставило его возмутиться очерком в «Лайфе». Добавлю — такая реакция вызвана не самим материалом, а его интерпретацией. Никто другой — повторяю, никто не воспринял этот очерк подобным образом. Приподнявшись со стула, Джок выпалил: — Никто другой — повторяю, никто не был оклеветан в этом очерке. Моссберг попытался жестом остановить Джока, но режиссер продолжил: — Поэтому перестаньте превращать это совещание в суд. Здесь не будет принято никакого решения. Я не собираюсь менять свою позицию! Моссберг, крепко сжав плечо Джока, заставил его сесть и замолчать. — Будет лучше для всех, — продолжил президент, — для нашего молодого режиссера, для картины, для компании, если мы постараемся избежать неприятностей. Люди уже говорят о том, что мы выпускаем на экраны блестящую картину. Статья в «Лайфе» великолепна. Зачем нам судебный процесс? Чтобы показать вам мою беспристрастность и объективность в этом вопросе, я обращаюсь к мнению независимых юристов. Знаете, что они сказали? Тут нет никакой клеветы! Не удовлетворившись этим, «Амко Индастриз», ввиду готовящегося слияния, проконсультировалась с их собственным юристом. И получила тот же ответ! Никакой клеветы нет! Не можем же мы все ошибаться, верно? — умоляющим тоном произнес президент. Отстранив от себя руку Моссберга, пытавшегося удержать режиссера, Джок снова вскочил со стула. — Что за игру вы затеяли? Вы пытаетесь заткнуть мне рот с помощью вашего адвоката, юриста из «Амко» и хитрого, ловкого, знаменитого негодяя, представляющего Ассоциацию кинопродюсеров. И почему? Потому что вы беспокоитесь об условиях слияния компаний! Да пошли вы к черту! Моя репутация для меня дороже всех ваших акций и контрактов! Президент мягко, невозмутимо улыбнулся. Так улыбаются совсем юному, излишне чувствительному человеку. — Чего вы добьетесь с помощью иска и суда? Я скажу вам. Люди, которые не читают «Лайф», узнают обо всем этом. Люди, которые прочитали статью и забыли ее, вспомнят о ней. Ваш иск привлечет внимание к этому материалу, сделает его известным. Если вы действительно считаете его клеветническим, не привлекайте к нему внимание. Похороните его! Процесс приведет к противоположному результату. Повернувшись к Моссбергу, президент спросил: — Вы считаете, что с помощью иска вы защитите репутацию и профессиональное будущее вашего клиента? Скажите искренне — вы надеетесь принести ему пользу, спровоцировав плохой резонанс в прессе? Моссберг собрался ответить, но дверь бесшумно открылась. Один из молодых помощников Конджерса из отдела паблисити зашел в комнату, положил перед своим шефом листок бумаги текстом вниз и удалился. Пока Моссберг отвечал президенту, Конджерс перевернул листок и поднес его к глазам, чтобы прочитать отпечатанное сообщение. Затем он передал листок президенту. В конце концов его прочитали все представители компании. — Я нахожусь здесь, джентльмены, — сказал Моссберг, — потому что мой клиент считает, что статья в «Лайфе» способна нанести вред его карьере, его имиджу. Материал обвиняет Джока Финли в совершении серьезного морального преступления. Он является клеветническим и опасным в профессиональном и личном аспектах. Поэтому в настоящий момент составляется иск с требованием ареста тиража. Он будет представлен в суд в течение двадцати четырех часов. Ответчиками станут «Лайф» и автор фотоочерка Рассел Мэннинг. — Мы считаем, что это будет ужасной ошибкой! — предупредил президент. — А мы — нет, — убежденно сказал Моссберг. — И мы никоим образом не можем переубедить вашего клиента? — Нет! — выпалил Джок. — Нет, — более мирно повторил Моссберг. — Если вы не убедите «Лайф» изъять этот номер. Записка дошла до Нейштадта. Невысокий темноволосый человек, который, казалось, состоял из двух половин — туловища и головы, впервые подался вперед. Он взял листок, прочитал текст и сложил бумажку вдвое. Сидевший рядом с ним Марти Уайт едва сдержал желание попросить, чтобы ему дали взглянуть на нее. — Мы не можем убедить «Лайф» изъять номер, — сказал президент. — Никто не может это сделать. Моссберг показал жестом, что его попытка избежать подачи иска оказалась безрезультатной. — Плохо, — сказал президент. — Это погубит все наши планы! Все! — Мне жаль, что это помешает заключению договора о слиянии, — не удержался Джок. — А, это, — смутился президент. — Я имел в виду другое. Мы хотели предложить вам контракт на три картины. Две — с бюджетом в пять миллионов и одна — с бюджетом до десяти миллионов. Вы получили бы долю прибыли. Джоку Финли стало ясно, какая серьезная подготовка предшествовала этому совещанию. Марти и президент продумали каждую его фразу. Ему предлагали взятку! Отступные! И Марти участвовал в этом! — Вы делаете предложение? — невозмутимо спросил Моссберг. — Оно зависит от готовности моего клиента отказаться от иска? Джок ждал ответа. Как можно еще назвать взятку, если не хочешь произносить это слово? — Мы делаем предложение, — ответил президент. — Вез всяких условий. Мы так ценим талант этого молодого человека, что хотим работать с ним при любых обстоятельствах. Невзирая на любые иски, статьи и слухи. Если он считает их клеветническим, то мы — нет. Сознавая, что президент накинул петлю на Джока Финли, Моссберг сказал: — Мы обсудим это предложение. — Хорошо! Хорошо! — произнес президент. Он посмотрел на Нейштадта, который согнул записку еще раз. Выдержав паузу, Нейштадт заговорил. — Мистер Моссберг… мистер Финли… Повернувшись к Марти, он добавил: — Мистер Уайт… Нейштадт хотел подчеркнуть, что до настоящего момента Марти не был осведомлен о их планах, но это не соответствовало действительности. — Несомненно, вы спрашиваете себя, что я здесь делаю. Я не скрываю этого. Ваш президент попросил меня выступить в роли посредника, третьей стороны, и помочь в разрешении этой весьма неприятной проблемы. Честность требует, чтобы я признал следующее: будучи адвокатом ассоциации, я всегда предпочитаю компромисс судебному процессу, связанному с затратами, обидами и плохим личным паблисити. Мы все представляем одну большую индустрию, одну большую семью, и постоянно находимся на виду у общественности, которая не всегда настроена дружелюбно. По-моему, во всех случаях мирное разрешение конфликта предпочтительнее публичной драки. Я являюсь сторонником компромисса. Вы, мистер Моссберг, так же, как и я, заинтересованы в том, чтобы Джок Финли, наш партнер по кинобизнесу, был защищен от клеветы. Выслушав изложенные факты, изучив опубликованный материал, я хочу спросить вас, как юрист юриста. Допустим, ваш иск будет принят судом к рассмотрению. Каким образом вы собираетесь доказывать наличие ущерба? Джок видел, что Моссберг не намерен вступать в подобную дискуссию с Нейштадтом. Даже сам Нейштадт не рассчитывал на это. Поэтому он продолжил: — Финансовый ущерб? Как вы можете доказать его? Я и ряд других надежных свидетелей, — Нейштадт сделал выразительный жест, объяснявший присутствие за столом большого количества людей, — только что услышали, как одна из крупных студий страны, знакомая со статьей в «Лайфе», предложила вам выгоднейший контракт на три картины. Как вы сможете подтвердить финансовый ущерб ввиду этого обстоятельства? Не разбиравшийся в юридических тонкостях Джок все понял. Внутри у него все похолодело — как в тот момент, когда мустанг едва не растоптал упавшего Престона Карра. Он разгадал их план и роль Марти в нем. Моссберг понял, что дальше тянуть время и уклоняться нельзя. — Мистер Нейштадт, я горжусь тем, что меня считают весьма хорошим юристом. Но в делах, связанных с клеветой и диффамацией, вы — главный эксперт. Нейштадт слегка побагровел, но он сдержал свой гнев. Замечание Моссберга находилось на грани между лестью и оскорблением. Моссберг заговорил снова. — Есть и другие виды ущерба, кроме финансового. Может пострадать репутация. Общественный имидж. Человек не должен бояться, что его будут называть убийцей. Речь идет о добром имени мистера Финли! Нейштадт, внимательно слушавший Моссберга, бросил взгляд на президента. Потом приветливо улыбнулся и сказал: — Было бы лучше, если б это стало сюрпризом. Но, думаю, вы должны сообщить ему это сейчас. Джок посмотрел на Моссберга, которому не удалось скрыть свою растерянность. — Ввиду того, что Престон Карр, Король Голливуда, сыграл свою последнюю роль в картине нашей студии, — сказал президент, — и умер от сердечного приступа, наш совет директоров счел необходимым внести свой вклад в борьбу с этим смертельным недугом. Вчера вечером мы проголосовали за ежегодное выделение субсидии размером в сто тысяч долларов. Американский кардиологический фонд будет награждать этой премией, а также медалью имени Престона Карра людей, принесших выдающуюся пользу человечеству. Джок ждал, затаив дыхание. Затем он услышал: — Первым человеком, который получит медаль имени Престона Карра, станет его друг, поклонник и коллега, замечательный американский режиссер Джок Финли! — Это… это… очень любезно… — сказал Джок, повернувшись к Моссбергу. Адвокат не успел раскрыть рот. В разговор вмешался Конджерс. — Расскажите ему о мировой премьере! — Да, — произнес президент. — Кардиологический фонд устраивает прием-презентацию в Центре Линкольна. Он станет мировой премьерой «Мустанга»! — Кардиологический фонд? — спросил Моссберг. — Они согласились? Приняли ваше предложение? Нейштадт подался вперед и развернул листок. Это была ксерокопия телетайпа. «КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД СОГЛАСЕН ПРИНЯТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ ФИНЛИ И ПРЕМЬЕРА НАЗНАЧЕНЫ НА 28 ЯНВАРЯ. ДЕТАЛИ СООБЩИМ ПОЗЖЕ». Серьезным тоном, без улыбки Нейштадт сказал: — Теперь никому не придет в голову заявить, что репутация мистера Финли пострадала, верно? Отстранив руку Моссберга, попытавшегося удержать его, Джок вскочил так стремительно, что стул ударился о стену. — Вы не заткнете мне рот таким способом! Я не обязан принимать ваше предложение и медаль! — К счастью, это не имеет значения, — сказал Нейштадт. — Видите ли, факт наличия клеветы зависит от того, что думают о вас другие люди. Люди, видевшие статью в «Лайфе», предложили вам контракт, медаль. Значит, ваша личная и профессиональная репутация не пострадала. Ваш адвокат подтвердит это. Джок даже не повернулся в сторону Моссберга. Он уже знал неизбежную, неотвратимую бесчестную правду. Они загнали его в угол. Судебный процесс будет проигран. Когда идет борьба за большие деньги, люди используют все средства — взятку, шантаж, насилие, — чтобы добиться молчания тех, чьи голоса могут помешать победе. С аккуратностью и мастерством людей, искушенных в подобной корпоративной хирургии, они отрезали ему яйца и зашили их в его рот, чтобы он даже не мог закричать от боли. Джок Финли вышел из комнаты, не подождав адвоката. Он услышал последние слова президента, обращенные к Моссбергу: — Мы не хотим, чтобы вы пострадали из-за того, что события приняли такой неожиданный оборот. Студия готова оплатить ваш упущенный гонорар.
Смеркалось. Солнце исчезло. Следы реактивных самолетов на небе были уже не розовыми, а серыми. В одном из лайнеров, летевших в Нью-Йорк, отдыхали с бокалами в руках удовлетворенные дневной работой президент и Эйбл Нейштадт. Полностью одетый Джок Финли сидел в кресле возле неосвещенного бассейна. Он перевел взгляд с самолета, летевшего в сторону Нью-Йорка, на темную воду. Вечер обещал быть прохладным, от нагретой воды уже поднимался пар. Джок находился здесь в одиночестве уже несколько часов, хотя он знал, что его ждет работа по монтажу фильма. Телефон звонил много раз. Очевидно, это была Мэри, или, возможно, Луиза. Это не имело значения. Он не отвечал. Джок услышал шум — к дому подъехала машина. Она остановилась, водитель выключил мотор. Дверь автомобиля открылась и закрылась. Судя по звуку, это был дорогой лимузин. Вскоре заскрипела калитка забора. Джок не повернулся. Он не испытал удивления, услышав голос Марти. — Малыш, это я. Ты не отвечал на мои звонки. Я послал шофера проверить, дома ли ты. Он сообщил, что «феррари» стоит на подъездной дороге. Поэтому я приехал. Уже стемнело. Фонари не горели. Джок не стал включать их. Маленький полный человек с блестящей лысой головой и массивными очками сел в соседнее кресло и подождал. Джок не повернулся к нему. Помолчав несколько минут, Филин заговорил: — Малыш, что, по-твоему, тебя мучает? То, что Мэннинг обвинил тебя в убийстве Престона Карра? О, нет. Тебя мучает то, что ты действительно убил Великого Артиста! Марти ожидал, что молодой человек посмотрит на него. Но Джок не сделал этого. — Они хорошо подготовились, малыш. Запаслись всем. Если бы ты не ушел, они показали бы тебе письменное заявление твоего старшего конюха. Текса. Теперь Джок повернулся. — Да, малыш. Они запаслись всем. Ты сам назвал это игрой. Чемпионат мира! Речь идет о судьбе миллионов. Сотен миллионов! Эти люди не позволили бы молодому человеку, которому исполнился тридцать один год, встать на их пути. Какова мораль этой истории? Ее нет. Нет вердикта. Нет справедливости. Они поступили не хуже, чем ты. Они не пощадили тебя. Ты не пощадил Престона Карра. Счет равный. Ты не имеешь права жаловаться, злиться на них, Мэннинга, «Лайф». Но тебе это не нравится. Ты бы хотел делать все, что придет тебе в голову. Однако ты считаешь, что другие не имеют на это права. Вот что удивляет меня в вас, современных молодых каннибалах. Вы хотите съесть нас всех! Теперь ты увидел, что другие люди, значительно старше тебя, не хотят мириться с этим без борьбы. Ты узнал кое-что еще. Ты не так свободен, как думаешь. Безжалостный молодой человек обладает душой бойскаута. Ты уязвим, у тебя есть совесть. Ты чувствителен. Дерзок, самолюбив, высокомерен, жесток. И мягок. Ты не знаешь, как относиться к этому. Воспользуйся советом ветерана. Джок быстро протянул руку к сигаретной пачке. Марти ошибочно принял этот жест за проявление гнева. — Я знаю ответ. В конце концов, я — агент. Я торгую людьми. Я — порочный старик, который потакает своим слабостям, а ты их осуждаешь. Могу ли я давать тебе советы? В любом обществе есть свой Шейлок, человек, которому дают презрительные прозвища, над которым смеются. У нас это — агенты. Но я прошу тебя: подумай и ответь себе на один вопрос. Сделал ли я для тебя меньше, чем мог и должен был сделать? Если ты ответишь утвердительно, можешь назвать меня, как пожелаешь. Конечно, я благодаря тебе стал исполнительным продюсером. Верно? Но при этом сделал тебя продюсером-режиссером. Что ты потерял? Разве я не заслужил права быть выслушанным тобой? Джок, не отвечая, зажег сигарету. Его молчание устраивало Марти. — Малыш… что заставляет тебя верить в свое превосходство над другими? Почему ты думаешь, что, когда Моррис Вейсс приехал сюда, он испытывал другие чувства — не такие, какие испытываешь ты? Да, этот толстый, порой глупый, самодовольный пожилой человек, который иногда не может заснуть, потому что в его голове зреют новые интриги, когда-то был похожим на тебя. Хотя твое юношеское тщеславие не позволяет тебе согласиться с этим. Тем не менее это правда. Я был таким, как ты. Пока не понял одну вещь. Здесь и во всем мире, в нашем бизнесе и в любом другом есть победители и неудачники. Но нет героев. В жизни нет места для героев. Все мы совершаем в свое время ужасные поступки и оправдываем себя. Ты ужасно обошелся с Престоном Карром! И можешь до конца своей жизни искать наказания. Но ты не должен это делать. Потому что наказания нет. Кроме того, которое ты сам налагаешь на себя. Не становись неудачником только для того, чтобы наказать себя. Что заставляет тебя думать, будто неудачники более моральны и угодны Господу? Это ложь. Придуманная неудачниками. Если ты испытываешь чувство вины — а ты должен его испытывать, — научись чему-то. Научись, например, быть порядочным человеком. Установи предел своему честолюбию. Определи, готов ли ты пойти на то, чтобы, сняв картину или эпизод, добиться желаемого эффекта. Отныне ты — важная фигура, которая может использовать людей — несчастных, тщеславных, испуганных, голодных, неудовлетворенных, честолюбивых. У тебя власть, подобная той, которой обладает Господь. Употребляй ее правильно. Так ты сможешь успокоить свою совесть. Сейчас ты закончишь монтировать фильм. Подготовишь ленту к премьере. Потом отправишься в Нью-Йорк, получишь премию и произнесешь хорошую речь. Мы начнем искать сценарий для нашей новой картины. Лучшего совета я бы не смог дать моему собственному сыну. Марти Уайт встал. Джок долго молчал. Наконец он кивнул, не глядя на пожилого человека. Удовлетворенный Марти тихо произнес: — Есть девушка, которую зовут Луиза… Джок быстро повернулся. Он испытал любопытство и раздражение. — Она звонила мне. С кем еще она могла поговорить? С тобой? Она обеспокоена. Очень обеспокоена. Она показалась мне славным, порядочным человеком. Ты должен позвонить ей. Марти направился к машине. Скрипнула калитка, и Джок понял, что Марти ушел. Он услышал, как хлопнула дверца «роллс-ройса» и машина тронулась с места. Он снова остался один. В темноте. Джок вернулся в большой дом, подумал, не зажечь ли ему свет. Вместо этого взял телефонную трубку, набрал номер. Услышал гудки. Наконец ему ответили. Луиза задыхалась, словно она выбежала к телефону из ванной или только что отперла входную дверь. — Алло? — Луиза? — О… Джок? — Ты занята сегодня? — У меня свидание. — С ним? — Да. — Можешь отменить? — Джок, он очень славный малый. Он не заслуживает такого обращения. — Мне необходимо с кем-то поговорить. Джок выдержал паузу, не услышал ответа и добавил: — Ты мне нужна, Луиза. — Я… я позвоню ему, — наконец с сожалением произнесла она. Прежде чем Лулу положила трубку, Джок произнес: — Лулу! — Да, Джок? — В январе мне придется поехать в Нью-Йорк. За одной премией. Там же состоится премьера. Ты поедешь со мной? — Посмотрим. — Я… я не могу поехать один. Скажи, что ты поедешь. Пожалуйста. — Джок, я должна позвонить, пока он еще в офисе. — Конечно… конечно. Я заберу тебя через час.
АМЕРИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД приглашает Вас на ежегодный благотворительный фестиваль, который состоится 20 января 1971 года в Центре имени Линкольна, а также на церемонию вручения Первой Ежегодной Премии за выдающиеся заслуги перед человечеством и медали Престона Карра. Эта награда присуждена известному американскому продюсеру-режиссеру Джоку Финли, создателю фильма «Мустанг», мировая премьера которого состоится на нашем кинофестивале. Весь доход от этого мероприятия поступит в кардиологический фонд. Начало презентации 20.00. Начало премьеры 20.35. Черный галстук обязателен. Плата за вход 50 долларов (цена билета 5 долларов, пожертвование 45 долларов).
Джок Финли, облаченный в смокинг с бархатным воротником, сшитый в Лондоне, стоял на сцене концертного зала в Центре имени Линкольна. Под аплодисменты собравшихся ему вручили тяжелую золотую медаль в коробочке, обтянутой голубой кожей. На медали был изображен красивый мужественный профиль Престона Карра. Джок произнес короткую речь, поблагодарил руководство кардиологического фонда за то, что оно выбрало фильм «Мустанг» для своего благотворительного кинофестиваля и наградило его, режиссера, первой премией Престона Карра. Он закончил свое выступление словами: «Здесь присутствует душа человека, действительно достойного этой награды. Этот великий человек, великий актер стал жертвой болезни, которую мы все хотим победить. Я уверен, что Престон Карр одобрил бы наши действия». Снова зазвучали аплодисменты. Джок Финли вернулся на свое место в пятом ряду, сел позади президента, главы студии и Эйбла Нейштадта. Все они громко аплодировали. Когда Джок проходил мимо них, они тепло улыбнулись ему. Свет погас. В зале зазвучала музыка. На экране появились первые кадры «Мустанга». Джок шепнул сидевшей рядом с ним эффектной девушке: — Уйдем отсюда! Они зашагали по темному проходу; Джок с кожаным кейсом в руке шел впереди. Луиза старалась не отставать от него. Аплодисментызвучали всякий раз, когда на экране появлялись новые титры с фамилиями. Джок и Луиза добрались до двери и услышали самый громкий взрыв аплодисментов. Они обернулись и посмотрели на экран. На фоне невадской пустыни, снятой с вертолета, горели яркие буквы: «Продюсер и режиссер — Джок Финли». Теперь и Луиза захлопала в ладоши. — Не надо! — попросил Джок и шагнул к двери, взяв девушку за руку. Они покинули зал.
Анри де Кок Фаворитки
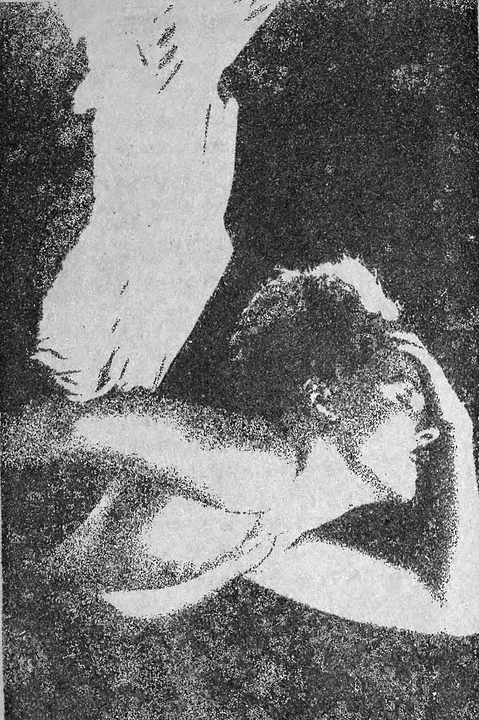
КЛЕОПАТРА
Это было после знаменитой Фарсальской битвы, которая, подчинив римскую республику Цезарю, сделала его полноправным властелином. Битва эта была выиграна благодаря пустяковому решению. Но этот пустяк был гениален. Цезарь приказал своим солдатам ударить во фронт неприятельской кавалерии, которая должна была начать сражение. Кавалерия почти сплошь состояла из молодых людей, желавших как можно красивее выглядеть на своих конях: они слишком робко правили удилами. В итоге семь тысяч из них бежали от шести когорт. Помпей оставил на поле боя пятнадцать тысяч своих воинов, Цезарь только тысячу двести. Милосердие победителя к побежденным привлекло под его знамена столько солдат, что ему не составило труда начать немедленное преследование. Помпей переплыл Геллеспонт с намерением бежать в Египет к Птолемею Дионису, обязанному ему своей короной. Но что такое благодетель, вчера могущественный, а нынче просящий пристанища? Птолемей Дионис был негодяй, как и большинство фараонов этой династии: в смерти Помпея он увидел средство войти в дружественные сношения с Цезарем. Поэтому он назначил двух своих приближенных для встречи римского полководца. Несчастный Помпей, сопровождаемый полдюжиной солдат и вольноотпущенниками, сел в лодку, которая должна была перевезти его на берег. И тут же, на глазах его жены, оставшейся на корабле, двое убийц — Ахилл и Септимий — бросились на Помпея и закололи его кинжалами. Тело его несколько дней оставалось непогребенным на берегу моря; наконец один из его отпущенников и солдат, воспользовавшись темнотою ночи, сожгли труп и покрыли пепел песком и камнями. Таков был конец соперника Цезаря. Однако Помпей получил более достойную гробницу, и сделал это тот же самый Цезарь, отдав ему последний долг и отомстив за него царственному негодяю. Александрия, один из редких городов великого Египта, противилась разрушительному действию времени и — особенно — людей. Имя ее сохранилось, хотя в настоящее время она занимает не то место, какое занимала прежде. Построенная Александром Великим по проекту знаменитого архитектора Финократа, Александрия располагалась на левом берегу Нила, в тридцати милях от Средиземного моря и выше пирамид. Мы не станем подробно описывать Александрию, какой она была во времена Клеопатры, а войдем в город вместе с Цезарем, который хотел разузнать здесь о судьбе Помпея. Встреченный с величайшей пышностью при высадке на берег в порту Евноса самим Птолемеем Дионисом, Юлий Цезарь, взойдя на носилки вместе с царем Египта, направился к его дворцу. В пути эти две знаменитые личности не произнесли ни слова о целях их встречи. Но, не говоря ни слова, Цезарь и Птолемей не теряли времени даром. Обмениваясь время от времени ничего не значащими фразами, они наблюдали, изучали и анализировали друг друга. Для Птолемея это лицо с черными живыми глазами было открытой книгой, в которой можно было прочесть рассудительность, веселость и храбрость. Напротив, внешность египетского царя, — продолжим наше сравнение, — была закрытой книгой. Едва достигнув восемнадцати лет, очень красивый, но красотой холодной и мрачной, он прежде всего внушил фарсальскому победителю неясное, но глубокое отвращение. Зная людей, Цезарь угадал в нем злобного и лукавого человека. Случай не замедлил доказать ему, что его предчувствие было справедливо. Наконец они достигли дворца, в котором царь Египта приготовил великолепное помещение для своего славного гостя. Цезарь удалился на несколько времени, чтобы поправить свои одежды, ибо он заботился о своем туалете столь же внимательно, как и о своей личности. Птолемей встретил его, сопровождаемый офицерами, и провел в залу, где был приготовлен пиршественный стол. Но Цезарь уже терял терпение, желая узнать что-нибудь об участи Помпея. Знаком попросив царя удалить свиту, он грубо спросил: — Что ты мне скажешь о Помпее, Птолемей? — Все, что ты, Цезарь, пожелаешь узнать, — ответил царь. — Я желаю знать все. Он в Египте? — Да. — Быть может, в Александрии? — Да. — Пленником? Ты понял, что я его преследую? Ты поступил благоразумно, поверив ему, когда он явился просить у тебя убежища. Птолемей зловеще улыбнулся и проговорил после небольшого молчания: — Я приготовил для тебя, Цезарь, большую радость, но ты не желаешь ждать. Я покажу тебе, как поступает Птолемей с твоими врагами. Сказав это, царь удалился. Когда он явился снова, его сопровождал Потин, начальник его евнухов, спокойно несший предмет, покрытый пурпуром. Уже взволнованный дурным предчувствием, Цезарь встал и поднял крышку. И тотчас вскрикнул от ужаса… Ему была принесена тщательно набальзамированная голова Помпея. Говорили, что Цезарь не скорбел по этому поводу, и ошибались. Он был горд, но не жесток. Ясно, что он воспользовался преступлением, но не сам совершил его. — О, Помпей, Помпей! — стонал он, склоняя свой лысый лоб пред плачевными останками своего врага. И обратясь к Птолемею, смущенному подобным изъявлением приготовленной римскому полководцу радости, сурово сказал ему: — Итак, когда он явился, рассчитывая на твою благодарность, к твоему очагу, ты встретил его убийством?.. Птолемей закусил губы. — Признаюсь, — возразил он, — я не ожидал от тебя, Цезарь, подобных упреков! Но если б я оставил жизнь Помпею, он неминуемо стал бы уговаривать меня сражаться вместе с ним против тебя. Разве ты желал, чтобы я сделал подобное? Цезарь замолчал. Доводам недоставало справедливости. Но что справедливо, не всегда бывает приятно. К инстинктивному отвращению, которое с первого раза внушил ему Птолемей, сейчас у диктатора прибавилось презрение к этому царю, который так жестоко и так буквально применил поговорку: «Горе побежденным!» Тем не менее он подумал, что не время выражать свои чувства, и, смягчив выражение лица и голос, ответил: — Ты, быть может, прав… Часто встречаются жестокие, роковые необходимости. Спасибо же за твой скорбный подарок. Я постараюсь, насколько буду в силах, поправить то зло, которое ты сделал. После этих слов Цезарь повелел убрать голову Помпея в надежное место и отправился вслед за царем в пиршественную залу. Пир этот был великолепен, но недоставало главного, чтобы он был весел: недоставало женщин. Диктатор выразил свое изумление. — Где же царица? — спросил он. Он знал, что отец фараона — Птолемей Авлет, умирая, завещал трон своему старшему сыну Птолемею Дионису с условием, чтобы он разделил его с сестрой своей Клеопатрой, старше его на три года, которая, по странному обычаю египтян, должна была выйти за него замуж. И этот союз был заключен на самом деле. Но то, о чем Цезарь не знал и что узнал вкратце от своего хозяина, а позже — подробней — от других лиц, заключалось вот в чем: через несколько дней после свадьбы, царствуя вдвоем, брат заметил, что если не принять мер, то его супруга и сестра может устроить таким образом, что будет царствовать одна. Птолемей Дионис торжественно развелся с Клеопатрой, по причине несходства характеров, и изгнал ее в Сирию. Слушая объяснение царя по этому поводу, Цезарь сохранял благоразумную сдержанность. Птолемей Дионис не мог жить с Клеопатрой, он развелся с нею, изгнал ее… Так что же?.. Не Цезарю, который сам развелся со своей первой женой, следовало требовать объяснений, почему другой муж отправил прогуляться свою. Но когда через несколько недель под тем предлогом, что стесняет царя в его дворце, он поселился рядом, под охраной своих солдат, диктатор изменил тон. Друзья Клеопатры, и среди них особенно Аполлодор, объяснили ему поведение египетского царя. В своем завещании Птолемей Авлет назначил также римский народ своим наследником. Цезарь, как представитель этого народа, вознамерился поддержать его права. Он объявил себя судьей несогласий, существующих между Птолемеем и Клеопатрой, и приказал одному сам, а другой через посольство явиться к нему. Птолемей повиновался, уверенный, что сестра не осмелится явиться в Александрию, боясь его гнева. И Клеопатра не была столь глупа, чтобы презреть опасность, которой она подвергалась. Египетская стража, охранявшая городские ворота, была предупреждена, что если появится изгнанная царица, то с ней должно поступить как с бунтовщицей. Но у Клеопатры были друзья в самом городе, среди которых одним из самых преданных был всадник по имени Аполлодор. Однажды Аполлодор отправился в Ракотис, откуда возвратился вечером, неся на плечах превосходный ковер. Столь прекрасный, что он изъявил желание предложить его римскому полководцу — великому любителю хороших вещей. Ковер для Юлия Цезаря! Египетские солдаты, стоявшие на страже у ворот Ракотиса, даже мысли не допустили задержать Аполлодора с его ношей. К слову сказать, этот Аполлодор был гигантом вроде Атланта, способного на своих плечах держать весь белый свет. Вот он и держал, а точнее — нес на плечах целый мир, закатанный в ковер. Целый мир в виде женщины. Это была Клеопатра. Было поздно, Цезарь готовился ко сну, когда один из его вольноотпущенников подал ему папирус, содержащий следующие слова на латинском языке: «Ты звал меня, чтобы воздать мне справедливость. Я здесь. Клеопатра». За вольноотпущенником в комнату диктатора вошел Аполлодор и, положив перед ним свою ношу, поспешно ее развернул. И вовремя! Клеопатра задыхалась под тяжелыми складками шерстяной материи. Ее члены, онемевшие от слишком долгого бездействия, были неподвижны. Лицо ее было покрыто бледностью. Цезарь преклонил пред ней колена и воскликнул: «Боги! Как она прекрасна!» Она полуоткрыла истомленные глаза, на лице ее промелькнула улыбка. «Как она прекрасна!» Диктатор употребил самое лучшее средство, чтобы привести ее в чувство. Если верить историкам того времени, — Плутарху, Аппиану Александрийскому и Диону Кассию, — то Клеопатра (что бы ни говорил Цезарь) не обладала необыкновенной красотой. Но при недостатке правильных черт она была прелестна, грациозна, умна… К тому же была очень ученой, говорила на многих языках, но особенно обладала искусством пленять. А Цезарь был одним из тех, которые ничего лучше и не желают, как быть плененными женщиной. Он обольстил большое количество знатных женщин и среди них Постумию, жену Сервия Сульпиция, Лоллию, жену Авла Габиния, Тертулину, супругу Марка Красса, и даже Муцию, супругу Помпея, но особенно он любил Сервилию, мать Брута. По-видимому, он не очень-то уважал супружескую постель и в походах, если прислушаться к тому, что пели его солдаты во время его триумфального возвращения из Галлии: Прячьте жен — ведем мы в город лысого развратника. Деньги, занятые в Риме, проблудил он в Галлии. Гельвий Цинна, народный трибун, уверял многих, что держал в своих руках совершенно готовый, пересмотренный закон, который он должен был исполнить в отсутствие Цезаря и по его повелению, — закон, дозволявший Цезарю жениться по его выбору на стольких женщинах, на скольких он захочет, лишь бы иметь наследников. А чтобы никто не сомневался в том, что он имел репутацию развратника, Курион-отец называл его в своих разговорах «мужем всех жен и женой всех мужей». Это была, как нам хочется думать, клевета, но нельзя отрицать, что Юлий Цезарь обожал множество женщин. В том числе и Клеопатру. И с первой минуты, как только ее увидел. Все способствовало тому, чтобы зажечь любовь в сердце будущего императора. Друг, столь же скромный, сколь и физически сильный, Аполлодор удалился при первой же улыбке Клеопатры Цезарю. Они остались одни… Одни в ту пору сладостных ночей, которые бывают только в Египте. Он перенес ее на постель, потому что она не могла еще стоять. Сидя подле нее, он каждую секунду жег ее маленькие ручки поцелуями. Она улыбалась. — И ты не боялась явиться ко мне таким образом? — наивно спросил он. — Разве я ошиблась? — возразила она. — О, нет! — Птолемей убил бы меня прежде, чем позволил бы увидеться с тобой. — Убить тебя? Такую прекрасную! — Таково его убеждение, потому-то он и изгнал меня. — Он глупец! — Я тоже так думаю. — Он зол! — Я думаю то же. — Негодяй и дурак, который должен быть строго наказан!.. Клеопатра на этот раз минуту колебалась. То было беспокойство совести. Этот глупец, этот негодяй был все-таки ее муж и брат. Но, уже дважды подтвердив слова Цезаря, могла ли она ему противоречить? — Я думаю то же, — повторила она. И вдруг, притворясь как бы испуганной странностью своего положения, она воскликнула, вскакивая с постели: — Но я злоупотребляю твоей добротой, Цезарь. Я мешаю тебе. — Куда же ты хочешь идти? — тихо возразил диктатор, удерживая ее. — Куда-нибудь, где я не стесняла бы тебя… — Но разве я жалуюсь? И к чему ты говоришь мне о сне? Неужели ты думаешь, что я могу уснуть, увидев тебя? Останься!.. Останься, молю тебя!.. Нам еще нужно о многом переговорить с тобой. Для того чтобы возвратить тебе трон, разве я не должен долго и много говорить с тобой? Цезарь налег на слова «возвратить тебе трон». Взгляд Клеопатры зажегся ярким блеском. Случайно, так по крайней мере казалось, в то время как она готовилась оставить постель Цезаря, с ноги ее соскочила туфля. Известно, какое магическое действие производит маленькая ножка женщины на чувства распутника. Нога Клеопатры, быть может, по совершенству линий не могла сравниться с ногой Родопы, в которую влюбился Амазис, но такая, какой она была, худенькая, узкая, гибкая, она восхищала Цезаря, как самое сладостное обещание. Клеопатра провела всю ночь с Цезарем. На другой день, утром, один из офицеров явился к царю Египта, чтобы пригласить его немедленно явиться по важному делу к диктатору. Важное дело заключалось, как можно предположить, в том, чтобы разделить трон с Клеопатрой, что Цезарь и намеревался предложить Птолемею. Можно вообразить удивление и ярость царя при виде сестры и жены в обществе Цезаря. Скрыв, однако, свои чувства, он решился склониться перед царственной волей. Но, едва возвратившись в свой дворец, он вызвал Потина, начальника евнухов и первого министра, и Ахилла, одного из убийц Помпея и начальника египетских войск. В тот же день, пока Потин рассылал по всему городу эмиссаров, обязанных возбуждать народ против непредвиденной смены власти, Ахилл во главе своих солдат наблюдал за жилищем римского полководца. То была настоящая осада, исход которой мог бы быть гибельным для Цезаря: у него для обороны была одна только когорта, если бы Кассий, один из его подчиненных, которому он передал начальство над флотом, не был вовремя предупрежден и не поспешил бы с другой когортой на помощь Цезарю. Ахилл был убит, солдаты его разбежались, сам Птолемей Дионис, стремясь избежать мщения попечителя Египта бросившийся в лодку, чтобы достичь одного из портов Сирии, был задушен матросами, желавшими получить хорошую награду от Клеопатры. То было божеское возмездие. Убийца сделался жертвою своей собственной измены. Через несколько дней после этого Клеопатра, вышедшая замуж за своего другого брата, Птолемея Меннея, заняла свое место на троне Египта. Это был брак ради формы. Мужу было только одиннадцать лет. Истинным мужем Клеопатры в течение почти целого года был Юлий Цезарь. Он был настолько мужем, что от этой вдвойне прелюбодейной связи родился сын, получивший от своего отца имя Цезариона. Когда Цезарь с сожалением покидал Египет, то, целуя лоб этого ребенка, он мог сказать ему этим поцелуем: «Я буду императором, ты — царем: мы с тобой увидимся». Тщетная иллюзия! Отец и сын никогда больше не виделись. Через несколько лет Цезарь, несмотря на все свое могущество, пап от меча Брута. Что касается Цезариона, то он не прожил и столько, чтобы просто гордиться своим рождением. Страсть Юлия Цезаря к Клеопатре была столь сильна, что он пожелал видеть ее в Риме, вместе с ее молодым мужем. Клеопатра охотно повиновалась; она прибыла в Рим с таким великолепием, что народ начал роптать на эту царицу-данницу, выказывавшую такую роскошь. Невнимательный к упрекам своей законной жены Цезарь поместил Клеопатру в своем собственном дворце и на всех публичных празднествах являлся с нею. Он сделал более: велел знаменитейшему скульптору того времени изваять статую своей любовницы, приказал отлить ее из золота и поставить в храме Венеры, как раз против богини. Ропот римлян перешел в крики. Венера-Клеопатра не могла более выходить, преследуемая угрожающим гневом народа. Она сама упросила своего любовника отпустить ее в Египет. Последняя ночь, которую они провели вместе, — рассказывает Аппиан, — была ознаменована дурачествами, достойными, быть может, коронованной куртизанки, но недостойными императора. Двенадцать греческих невольниц, выбранных из самых красивых, привезенных с собою царицей, служили совершенно голыми на ужине двух любовников, и в то время, когда они пили и ели, эти невольницы толпились около них в самых сладострастных позах; наконец, опьяненный от страсти Цезарь, которому мешали одежды Клеопатры, сбросил их с нее одну за другой: ему нравилось сравнивать прелести царицы с прелестями ее женщин, и он решил, что если две или три еще могли равняться с ней какой-нибудь частной красотой, то ни одна не сравнилась бы в целом. Пора было расставаться. И Клеопатра вовсе не думала, что вдали от Цезаря она будет забыта. В числе подарков диктатора своей любовнице находились десять галльских стрелков. Египетская царица хотела вооружить войско по образцу этих стрелков; Цезарь дал ей десяток, избранный ею среди солдат, составлявших первую сотню когорты. Но не из интересов своей армии, а только ради своих наслаждений Клеопатра взяла с собой этих стрелков. Среди них был один по имени Андроник, мужественная красота которого произвела на нее сильное впечатление. Чтобы обладать одним, она потребовала десять; Цезарь не мог и подозревать истинной причины ее желания. Но удалившись от берегов Италии, она уже не имела нужды сдерживаться. — Пусть скажут галльскому стрелку Андронику, что я хочу его видеть, — сказала она. Андроник поспешно исполнил приказание царицы. Этот сын Галлии был на самом деле великолепен: лет двадцати пяти, высокий ростом, с белокурыми волосами, падавшими локонами по обе стороны лица, в волчьей шкуре — он был прекрасен. Он стоял прямо перед царицей, лежавшей на пурпурных подушках, защищенных навесом от палящих лучей солнца. — Доволен ли ты, Андроник, что едешь со мной в Египет? — спросила она своим полным нежности голосом. Он отрицательно покачал головой. — Нет? — воскликнула Клеопатра. — Ну что ж, ты по крайней мере откровенен. А почему ты не радуешься, что увидишь Египет? Это прекрасная страна. — Для меня одна только страна прекрасна: моя родина! — сказал галл. — Как называется она? — Я из города Тарба в Бигорре. — Но что же там такого, о чем ты так тоскуешь? — Там есть горы и равнины, где я охотился на свободе, и зеленые папоротники, на которых я отдыхал; там есть быстрые ручьи, в которых я утолял жажду, и всякие птицы, убаюкивавшие меня своим пением. — Везде есть трава, источники и птицы! — Ты ошибаешься, царица, не везде встречаются Пиренеи. Пиренеи есть только на юге Галлии. — Да, и, быть может, также нет ли в Пиренеях какой-нибудь молоденькой девушки, воспоминание о которой сильнее запало в твою душу, чем воспоминание о земле, на которой ты родился? Признайся, ты любил и был любим на родине? Андроник вздохнул: — К чему воспоминания, — сказал он с горечью, — когда не принадлежишь самому себе, когда не знаешь даже, будешь ли когда-нибудь располагать собою!.. — Никогда? Почему никогда? Слушай, Андроник, ты меня интересуешь. Когда ты научишь моих солдат, то, если тебе хочется, отправляя тебя в Италию, я напишу Цезарю, чтобы он дал тебе свободу, чтобы он отослал тебя в твое отечество. Физиономия стрелка засияла. — Ты сделаешь это? — вскричал он. — Сделаю, если буду довольна тобой. — О, ты будешь довольна, потому что с этой минуты вся моя кровь принадлежит тебе. — О! Я не потребую от тебя крови, Андроник, — возразила она. — Чего же, царица! — Я скажу тебе позже, в Александрии… Ступай. Не удаляйся от меня, мне приятно тебя видеть. В самом деле, во время всего путешествия галльский стрелок почти постоянно находился около царицы. Он не только ел за ее столом, но по особенной благосклонности ему, по ее приказанию, подавали то же самое, что кушала она. Ей нравилось разговаривать с ним, заставлять его рассказывать наиболее замечательные случаи его жизни — по большей части охотничьи истории и описания битв. Однажды вечером, грубо перебив его, она сказала: — Но ты в своих рассказах никогда не говорил мне о любви, Андроник. Разве я ошибаюсь, предполагая, что в твоих горах есть молоденькая девушка, которая оплакивает твое отсутствие? Стрелок печально улыбнулся. — Нет, царица, — ответил он, — нет, ты не ошибаешься. Там есть молодая девушка, которой я оставил мое сердце. — А! А! Вот видишь! — Но любовь бедного крестьянина и пастушки может ли занять такую великую царицу, как ты? — Должно быть, может, потому что я предлагаю тебе рассказать. Так ты любишь пастушку? — Да, государыня. — Как ее зовут? — Фабьола. — Который ей год? — Ей было шестнадцать лет, когда я был вынужден вступить в легионы Цезаря. — А сколько времени ты служишь? — Будет три года в октябрьские календы. — Значит, Фабьоле теперь девятнадцать лет. Хороша она? — Я ее люблю! — Это значит все. Ты ее любишь… и ни одна женщина в мире не может сравниться с ней красотою, даже я? Предлагая ему этот коварный вопрос, Клеопатра смотрела в глаза Андронику. Он вспыхнул, а она наслаждалась смущением, причиной которого была она сама. — А потом? — продолжала она. — О, не бойся ничего! Я не рассержусь, если даже узнаю, что я не так красива, как пастушка Аквитании Фабьола. Она красивее меня? Говори!.. — Красивее?.. Нет!.. Фиалка не может быть красивее розы, но… — Но, — продолжала она, — ты надеешься обладать фиалкой и не надеешься иметь розу. Ты благоразумен: для тебя фиалка — первый в мире цветок! Однако, положим, что тебе будет дозволен выбор. Понимаешь? Положим, что роза снизойдет до тебя — разве не будешь ты благодарен? Отвечай! Возбужденная усилившейся страстью, при последних словах Клеопатра, лежавшая на подушках, наклонилась к прекрасному стрелку, стоявшему перед ней, предоставляя его взорам из-под своего корсажа из прозрачной египетской ткани часть самых сокровенных своих прелестей. Андроник сладостно вздрогнул. Как ни мало был он прозорлив до сего времени, в эту минуту ему трудно было не понять природу чувств, внушенных им царице. Но не сейчас, не тут же проявил он свое понимание этих чувств, поскольку был свидетель всей этой сцены, чего актеры даже и не подозревали. Это был Птолемей Менней — брат и супруг Клеопатры. Без сомнения, этого супруга вовсе не следовало бояться, — бояться ребенка четырнадцати лет? Однако не обладая знанием своих прав, этот ребенок имел инстинкт, ибо, глядя на описанную сцену с середины палубы, где он стоял, он сердито сдвинул брови. — Отвечай? — продолжала Клеопатра, сжимая крохотной ручкой мускулистую руку Андроника. Царь бросился к ней. — Клеопатра, — вскрикнул он, — смотри, как потемнело небо! Будет гроза. Разве ты не сойдешь в свою каюту?.. При звуках голоса Птолемея Клеопатра приняла быстро приличное положение, а Андроник отошел от нее на четыре шага. В то же время оба подняли глаза к небу: оно было величественно. Ни одного облака не увидели они в лазури. — Ты глуп, Менней, — сказала Клеопатра недовольным тоном. — Ты глуп с этой своей грозой. — Ты действительно думаешь, что я глуп? — нетерпеливо возразил ребенок. Наступило молчание, потом Клеопатра сказала: — Ступай, Андроник, к своим братьям по оружию. И, вперив свой взгляд в бледное лицо царя, она подумала: «Э! Э! У львенка начинают прорезываться зубы. Это надо принять к сведению, мы постараемся помешать ему кусаться». Яд играет большую роль в истории государей и государынь древних времен, а также — увы! — и в истории средних веков!.. Предвидя свое высшее назначение, Клеопатра с пользой употребила свободу изгнания. Никто не знает, что может случиться; даже на троне вас окружают люди, которые вам мешают, и те, от которых хорошо избавиться без скандала. В Антиохии, где она жила, будущая царица Египта изучила под руководством великого ученого искусство отравления. По возвращении из Италии в Александрию первой ее заботой было снова начать курс учения, которым она пренебрегала со времени пребывания в Египте Юлия Цезаря. Ее дворец — Антирод (остров Роз) был как нельзя более удобен для этих занятий. Под предлогом отдыха после долгого путешествия она заперлась в этом дворце в обществе близких женщин и сотни невольниц под охраной египетских солдат и десяти галльских стрелков. Каждый день она удалялась в свою лабораторию, где проделывала опыты с ядами разных сортов: минеральными, растительными и животными. Ибо все три царства природы имеют одинаковое отношение как к добру, так и ко злу, содержа в себе жизнь и смерть. По большей части эти опыты производились над животными: собаками, кошками, птицами, иногда над невольниками, над несчастными, которых считали за ничто. Нужно уметь заставить страдать, чтобы уметь убивать. Она изучала превосходство такого-то яда над таким-то противоядием. Радостная от успехов в науке Клеопатра, окончив занятия, присутствовала в дворцовом саду при упражнениях египетских солдат, которых учили галльские стрелки. Потом, когда наступал вечер, прекрасного Андроника вводили потайной дверью в ее спальню. И хотя Андроник признался, что он оставил свое сердце в Аквитании, он с такой страстью отвечал на ласки египетской царицы, о какой она и не мечтала. Это правда, что сердце ничего не значит в известном роде нежности и что в возрасте Андроника было бы больше чем добродетелью, — было бы поистине героизмом противиться созданию, обладавшему всею обольстительностью красоты и всем могуществом власти. Каждый вечер он любил по повелению египетской царицы. По повелению — выражение совершенно точное. Однажды она ему сказала: «Я хочу, чтобы ты меня любил!» — и он повиновался. В течение трех недель он исполнял обязанности официального любовника. Странное смешение распутства и гордости! Иногда, когда он приближался к ее изголовью, погруженная в важные размышления, она даже не поднимала головы… И он должен был оставаться безмолвным и неподвижным, ожидая, чтобы она заметила, что он здесь. Наконец она его замечала; забыв заботы настоящего и будущего, царица становилась женщиной и женщиной алчной до наслаждений. Ее огненный взгляд впивался в любовника… Но даже в минуты самого сладостного упоения, в минуты самого пылкого восторга, она заставляла этого любовника уважать то расстояние, которое отделяло его от царственной любовницы. Понятно ли?.. Она принадлежала и не принадлежала ему. Нужно было быть двадцати пяти лет от роду, чтобы платить такой постыдной подчиненностью за несколько часов неполного блаженства. Андроник имел эту смелость и эту силу три месяца. Галлы были крепкие люди! Между тем львенок, как называла Клеопатра своего брата и мужа, все с большим и большим нетерпением переносил удаление своей сестры и супруги во дворец Антирод. Однажды, во время упражнений египетских солдат, прибежавшие невольники объявили о прибытии царя. Она — сама грация — пошла ему навстречу. Он хотел присутствовать при новых маневрах, они были нарочно для него начаты. В то время когда их исполняли, Клеопатра заметила, что он не спускал глаз с Андроника. Через некоторое время царь и царица остались одни в отдаленной комнате. — Клеопатра, — без вступления сказал Менней, — я ненавижу Андроника, одного из тех галльских стрелков, которых дал тебе Цезарь. — А! — холодно сказала она. — Почему ты его ненавидишь? — Потому что ты его любишь! Она пожала плечами. — Разве Клеопатра может любить солдата? — воскликнула она. — Итак, чтобы доказать, что я ошибаюсь, — возразил царь, — отдай мне этого человека. — Возьми его! — отвечала Клеопатра. — Возьми и его товарищей. Они мне уже бесполезны, мои египтяне стреляют теперь не хуже их. — Хорошо. Я беру. Благодарю. Десять стрелков сопровождали Птолемея в Александрию. На другой день, обвиненные и осужденные за воображаемый заговор, они без дальнейших церемоний были все десять распяты на площади в одном из самых многолюдных кварталов города. По особой милости маленького царя осужденные прежде, чем быть распятыми, были удавлены. Узнав о происшествии, Клеопатра даже не поморщилась. Если все галльские стрелки были ей бесполезны как наставники ее солдат, Андроник, в частности, перестал ей нравиться как любовник; ее прихоть прошла. Но она находила дурным, что Птолемей позволил себе, без ее одобрения, умертвить этих десять человек. Один Андроник еще куда ни шло! Он его ненавидел. Но всех — это уж слишком! Нужно было сдержать львенка: у него были слишком явные деспотические наклонности. Клеопатра явилась в Александрию. Она не сделала ни одного упрека своему мужу и брату по поводу умерщвления стрелков. Но через месяц после этого, возвратясь с прогулки, маленький царь выпил стакан литуса, который подал ему преданный невольник, почувствовал жестокие колики и, несмотря на всю помощь медиков, через час умер в страшных страданиях. Клеопатра стала обладательницей трона.ФРИНА
Фрина, Аспазия, Лаиса, Глицерия, Ламиа, Миррина, Леонтия, Сафо, Каликсена, Вакха — сотни подобных женщин, среди которых историку остается только выбирать знаменитых греческих куртизанок, сделали из своего постыдного ремесла такой промысел, который был весьма уважаем в античное время. Не имея возможности говорить обо всех, мы скажем об одной из самых знаменитых — Фрине — о той, которая на свои собственные деньги, заработанные ее ласками, предложила построить город Фивы, разрушенный македонскими войсками. Однако ей отказали в ее предложении, быть может, потому, что она поставила условием, чтобы на главных воротах новых Фив было изображено следующее изречение: «Разрушены Александром и построены Фриной». Фрина родилась за 328 лет до Рождества Христова в Беотии, то есть в Центральной Греции. Кто был ее отец — неизвестно. Мать ее жила продажей капорцев. Как Фрина решилась или, скорее, возымела идею отдаться культу Венеры, стоит того, чтобы быть рассказанным. Ей было тогда шестнадцать лет, она уже была очень красива, но никто еще не говорил ей об этом. В один из жарких летних дней, когда она купалась в обществе молодых девушек ее лет в прозрачных водах небольшого озера, находящегося в деревне Феспии, один незнакомый молодой человек попросил ее поговорить с ней по секрету. Он был молод и, по-видимому, честен. Фрина без всякого колебания согласилась на его пожелание. — Ступайте, — сказала она своим подругам, — я вас догоню. Она осталась одна с незнакомцем. — Дорогая Фрина! — сказал он ей. — Вы знаете мое имя? — с удивлением сказала она. — Да, я раз двадцать слышал, как называли тебя твои товарки. — Где же! — А когда ты купалась. — Когда я купалась? Но где же ты был? — Я был скрыт под теми кустами, где ты и твои подруги оставляли свои одежды. Фрина отвернула лицо, покрасневшее от стыда. Молодой человек преследовал ее страстным возгласом: — Не обвиняй богов за то, что они позволили очам моим подивиться такой обольстительной красоте! Напротив, благодари их за то счастье, какое я испытал; я был восхищен! Я хочу возблагодарить тебя добрым советом, Фрина! Ты прекрасна, прекраснее всех красавиц, прекрасна такой красотой, которая для тебя будет источником богатства и почестей, ты мне можешь поверить. Я называюсь Эвтиклесом, я поэт, а поэты читают в будущем… Но не в этой печальной стране ты достигнешь назначенного тебе высокого назначения… Для этого ты должна немедля, завтра же вечером, отправиться в Афины, в обитель всяческой славы, всяческого богатства и всяческого сладострастия. — Э! Э! — возразила Фрина несколько насмешливо. — Уж не поэт ли Эвтиклес доставит мне почести и богатства. Эвтиклес меланхолически улыбнулся. — Нет, — возразил он, — я беден, я могу тебе доставить только наслаждение. Если б Фрина была более опытна, она бы ответила, но она была еще совершенно невинна, однако по инстинкту, глядя на прелестную голову поэта, подумала о нем. И в то же время слова Эвтиклеса ее поразили, и после небольшого молчания она сказала: — Да ведь я не знаю никого в Афинах, к чему же я приеду в этот город! И к кому обращусь я в нем? Эвтиклес быстро написал несколько слов на табличках, которые отдал Фрине. — Ты приедешь сюда, — ответил он, — твой провожатый и твой покровитель будет там же. И она громко прочла слова: порт Керамик. — Что это такое Керамик? — спросила она. — Предместье Афин, где даются любовные свидания. — А когда нужно быть там? Поэт думал несколько секунд. — Через неделю, день в день. — А этого провожатого-защитника ты знаешь? Эвтиклес вздохнул. — Это Диниас, мой господин. — Он молод? — Да. — Любезен? — Да. — Богат? — Да. — И ты думаешь, что он меня полюбит? — Я уверен. Снова наступило молчание. — А ты? — прошептала Фрина, подавая руку поэту. — Разве мы с тобой не встретимся? Он запечатлел долгий поцелуй на этой руке и направил в ее улыбающиеся глаза благодарный взгляд, проговорив: — Да, моя милая Фрина, мы увидимся. И быстро удалился. Афинские вельможи имели при себе юношей, в большинстве случаев поэтов, обязанность которых состояла в добыче любви. И эта обязанность не имела в то время в себе ничего постыдного и позорного. Обожатели сладострастия, греки, находили совершенно естественным, что те, которые умели воспевать его, могли и доставлять оное. Диниас, господин Эвтиклеса, один из самых богатых вельмож Афин, скучал: уж давно красота самых прелестных гетер Акрополиса не была для него тайной. Чтобы развеяться, он испробовал наслаждение с дектериадами, то есть самым низшим классом проституток. Однажды вечером в сопровождении нескольких своих друзей он отправился в одно из самых постыдных предместий Катополиса, где матросы бесчинствовали с публичными женщинами самого низшего пошиба. Ничто его не заняло. Он пришел в отчаяние! И он был прав: обладая громадным богатством, он не находил женщины, которая могла бы ему понравиться. Возвращение Эвтиклеса возбудило надежду и радость в душе Диниаса. — Господин, — сказал Эвтиклес, — я открыл сокровище. — Где? — В Феспии. Девушку шестнадцати лет. — Красивую? — Восхитительную, и не столько из-за чистоты ее черт, но особенно из-за идеального совершенства ее форм. Сама Венера позавидовала бы Фрине. — Каким же образом ты мог судить об этом? — Устав от ходьбы, сожженный солнцем, я прилег, чтобы отдохнуть под тенью лавровой и миртовой рощи на берегу одного озера. Фрина пришла купаться с многими из своих подруг. Никогда не видал я, никогда и не мог видеть такой женщины, как она… возле нее другие не существовали! Глаза Диниаса заблестели. — Ты с ней говорил? — спросил он. — Она согласна?.. — В сказанный день и час она будет в Керамике, — отвечал Эвтиклес. Диниас бросил поэту кошелек. — Возьми! — проговорил он. — И, если ты не обманул меня, если эта Фрина так хороша, как ты уверяешь, я тебе дам столько золотых монет, сколько она от меня получит в первую ночь поцелуев!.. Фрина явилась на свидание, назначенное Эвтиклесом. В сопровождении старой служанки, в назначенный вечер, она сидела под деревьями близ порта Керамика, отыскивая из-под своих длинных ресниц того могущественного покровителя, который был ей обещан, но мимо нее проходили, не удостоив ее взглядом: ее более чем простая одежда была не в состоянии прельстить. Наконец один мужчина лет сорока, великолепно одетый, приблизился к ней, внимательно посмотрел на нее и, коснувшись ее плеча, проговорил: — Встань и следуй за мной, Фрина. Я тот, кого ты ждешь. То был действительно Диниас. Явившись вместе со своим господином в Керамик, Эвтиклес издалека показал ему молодую девушку и удалился, не желая быть свидетелем того, что должно было произойти. Фрина повиновалась Диниасу. В нескольких шагах нетерпеливо ожидали два мула, которых держали под уздцы служители; девушка села на одного из них, на другого сел Диниас. Вскоре они достигли красивого дома, построенного близ моря. Переданная в руки невольниц, Фрина прежде всего приняла ароматную ванну, потом ее переодели в етолу, или длинное платье из легкой ткани, причесали и надели на нее всякого рода драгоценности. Когда ее привели в таком виде к Диниасу, он вскрикнул от восхищения. — Правду сказал Эвтиклес! — воскликнул он. — Ты, Фрина, удивительно прекрасна! Диниасу оставалось только признать, что невиданное им столь же прекрасно, сколь виденное. И он был согласен с убеждением поэта, ибо на другой день весело сказал ему: — Ступай к моему казначею, мой милый, и возьми тысячу золотых монет. «Что тысяча! — подумал Эвтиклес, заглушая вздох, в котором было больше алчности, нежели сожаления. — О Фрина! Если б я был Диниасом, то, платя не только по золотой монете, а по одному оболу за поцелуй всех твоих прелестей в эту первую ночь любви, — как бы я ни был богат вчера, сегодня бы я разорился». И Фрина, между прочим, не забыла, что обещала Эвтиклесу. По случаю или по ревнивому предчувствию в течение той недели, когда Диниас обладал прекрасной феспианкой, он не доставил ни одной возможности поэту приблизиться к ней. Она не выходила из того маленького домика, в котором он поместил ее, и сам он не покидал ее ни на минуту. Но однажды утром Диниас должен был ехать по важному делу в Саламин. Он еще не уехал, когда Эвтиклес был предупрежден одним из невольников, что Фрина желала бы с ним поговорить. Он не шел, а летел. Она была одета в то же самое платье, в котором он встретил ее в поле, — он был удивлен, снова встретив ее в такой простой одежде. — Ты не понимаешь? — сказала она с нежной улыбкой. — Тебя принимает не любовница Диниаса, а простая девушка из Феспии. Невольно поэт склонил голову при этих словах. Как будто читая в его мыслях, Фрина возразила: — Ах, правда! Любовница Диниаса, быть может, не похожа на ту девушку. Я не кажусь тебе столь же привлекательной, как в то время, когда ты следил за моим веселым плесканием в воде озера? Эвтиклес вздрогнул при сладостном воспоминании о первом свидании. Закрыв глаза как будто для того, чтобы оживить это воспоминание, он упал перед молодой женщиной и сжал ее в своих объятиях. — Так что же, — продолжала она, отдаваясь его восторгам, — разве роза, потеряв свои шипы, потеряла и свой аромат? И кроме того, — в эту минуту она одарила его пламенным поцелуем, — клянусь тебе, что Диниас не научил меня… — Чему? — Любить. Фрина умерла в 55 лет, и всегда она была очень любима; вокруг себя она всегда видела толпу обожателей, и потому только, что довольствовалась быть обожаемой за то, что дала ей природа, никогда не прибегая к пособию искусства; только раз в день она принимала ванну из чистой воды, ее красота имела потребность только лишь в ваннах. И манеры и голос Фрины не имели ничего общего с другими подобными ей женщинами. В театре, на прогулке, на занятиях никогда не слыхивали, чтобы она громко смеялась с целью привлечь к себе внимание. Получив самое посредственное образование, она говорила мало, но, обладая умом, говорила только умные вещи. Она одевалась со вкусом и вместе с тем просто, кроме того, она была нравственна, скромна, и когда ее встречали на улице, то платье всегда плотно прикрывало ее шею… И, кроме того, Фрина никогда не бывала в публичных банях. Только однажды она явилась голой: то было на празднике Нептуна в Элевзисе. Она сбросила свои одежды, распустила длинные волосы и вошла в море, как вышедшая из него Венера. Но подобный поступок пред лицом всего народа был вовсе не бесстыдством, а грандиозным великодушием. Народ знал, что она красавица, но знал это только по слухам; она сделала ему честь открытием своей красоты, и народ благодарил ее громкими рукоплесканиями. Апелес, находившийся в это время там, до такой степени был восторжен таким соединением совершенств, что тогда же написал свою Венеру, выходящую из воды. После этого случая Фрина стала любовницей Гиперида. Он был уже давно в нее влюблен, но был беден, а куртизанка назначала за свои ласки высокую цену, и он не осмеливался явиться к ней. Случай, при котором ему пришлось присутствовать со всем народонаселением Афин, придал ему смелости. Вечером Фрина была одна на террасе своего жилища, выходящего на маленькую речку, когда один из ее невольников возвестил ей о Гипериде. Он любил ее, а она не знала даже его имени. Но в этот день она была великодушна… — Зови! — сказала она невольнику. Гиперид явился. Ему было лет двадцать восемь или тридцать, не будучи красавцем, он не был и дурен. Он смело приблизился к ней, как человек, готовый победить или умереть… Она показала ему на кресло и спросила: — Кто ты? — Тебе сказали, что меня зовут Гиперидом. — Твое занятие? — Я адвокат. — Адвокат! — и Фрина сделала гримасу, повторив это слово. — Ты их не любишь? — заметил Гиперид. — Нет. — Почему? — Потому что один адвокат меня любит. — Разве любить тебяпреступление? — Конечно, когда дурен, глуп и зол, как Евтихий. — А так как это Евтихий, я разделяю с тобой твое отвращение, но не все же адвокаты дурны, глупы и злы… — Наконец, чего же ты от меня хочешь? — Я люблю тебя. — О! О! И ты тоже. — Тоже!.. Нет, я люблю тебя не так, как Евтихий. У меня есть сердце, у меня есть разум, я тебе посвящаю их. Куртизанка презрительно пожала плечами. — Сердце, разум, да что же я из них сделаю? Больше ты ничего не можешь мне предложить? — Нет, я имею еще нечто. — Что же? — Мою кровь, Фрина. Я предлагаю тебе торг! — Какой? — Ты ненавидишь Евтихия… Отдай мне одну ночь, одну только… и я убью его. Фрина несколько секунд смотрела в глаза Гипериду. — Если б я тебя поймала на слове, то тебе было бы очень неловко. — Попробуй. — Хорошо, я принимаю, только я хочу назначить порядок условий. Убей Евтихия, тогда я подарю тебе не одну, а десять ночей. — Десять невозможно, — возразил Гиперид. — Евтихий подлец: он не будет драться, что бы ни сказал я ему и что бы ни сделал, а потому я должен буду убить его без борьбы, следовательно, меня арестуют и заключат в тюрьму, а потом умертвят, как виновного в убийстве. — А! Ты уже трусишь! — Я не страшусь смерти, я страшусь только того, что, приобретя награду, не буду, вследствие смерти, иметь возможности получить ее. Но ты приказываешь… Гиперид встал. — Куда идешь ты? — спросила Фрина. — К Евтихию. — Нет, я раздумала, я не хочу, чтобы его убивали. Я хочу предложить совершенно иной торг, чтобы принадлежать тебе. — Говори. — Не здесь. Вечерний воздух начинает холодать. Дай мне руку, и войдем в дом. Фрина провела адвоката в свою спальню, которых в ее доме было множество, но эта, как позже узнал Гиперид, сохранялась для самых близких друзей. Фрина возлегла на ложе. Вслед за тем, смотрясь в медное зеркало, она обратилась к нему: — Ты сейчас сказал, что ты образован. Докажи же сначала, каким образом можно быть мне приятным, — мне, которая сделала ремесло из очень дорогой продажи своего тела? Гиперид вздохнул. — Увы, Фрина, — ответил он, — твое требование слишком трудно. — Так трудно, что ты отказываешься? Ты удивляешь меня! Однако ты мог бы доказать это. — Каким же образом? — Я дозволяю тебе испробовать все те отношения, вследствие которых я могу быть счастлива, будучи любимой тобой. Гиперид приблизился к постели и склонился к куртизанке таким образом, что его дыхание взвевало ей душистые волосы. — Да, — прошептал он, — да, Фрина, ты можешь быть счастлива моею любовью, ибо она такова, подобно которой ты не встретишь. Ты улыбаешься… ты полагаешь, что я хвастаюсь… Искусная в науке любить, ты не веришь, чтобы я был способен чему-нибудь научить тебя?.. Ты заблуждаешься! Истинная любовь обладает наслаждениями, принадлежащими только ей… Закрой на минуту твои насмешливые глаза и сожми твои улыбающиеся губы. Потом, когда я скажу тебе, взгляни, если ты сама не увидишь в зеркале какого-то особенного выражения на своем лице, — тогда я солгал и пожирающий меня огонь бессилен оживить тебя, жестокая статуя. Уступая желанию Гиперида, Фрина закрыла глаза и согнала с лица улыбку. Через несколько минут, подняв свои длинные ресницы, куртизанка взглянула в зеркало и вскрикнула от изумления. Воистину, ее прекрасное лицо говорило что-то новое, она чувствовала то, чего никогда не ощущала. Никогда!.. Нет, некогда поцелуи Эвтиклеса вызывали в ней такое же сладостное ощущение… Но ей уже было двадцать четыре года, восемь лет прошло с того времени, она позабыла. — Ну? — спросил Гиперид. — Ты прав, — ответила она, снова сделавшись госпожой самой себе. — Ты любишь меня, и я думаю, что я могла бы тебя полюбить. Ты доказал мне, что ты смышлен. Это хорошо. Но это еще не все. Я требовательна! Мне нужно иное доказательство твоей страсти. Я его потребую от твоего сердца. — Требуй! Оно готово! — Посмотрим. Она как-то особенно ударила в ладоши. Вошел невольник и по ее знаку поставил около постели стол из полированного дерева, ножки которого были из слоновой кости и имели форму львиных лап, а на этот стол — чашу и сосуд. Потом он удалился. Тогда, указывая на них рукой Гипериду, который с любопытством следил за этой сценой, Фрина сказала ему: — Знаешь, что в этом сосуде? — Почем я могу знать! — возразил Гиперид. — Икарское или корцирское вино, которое ты так любишь выпить вечером, несколько глотков. — Нет, там не вино. Слушай, Гиперид, минуту назад ты принял меня за жестокую статую. Я не статуя, но я жестокая. Ты предложил мне жизнь Евтихия за одну ночь счастья… Я отказалась… Но ты также предлагал свою, я принимаю… В этом сосуде яд, страшный и приятный яд, он не причиняет страдания. Через несколько часов после приема ты тихо заснешь… А мне хочется, чтобы завтра все Афины повторяли: «У Гиперида не было денег, чтобы заплатить Фрине, он заплатил ей своею жизнью». Гиперид взял твердой рукой чашу. — Лей! — сказал он. Она налила. Он хотел пить, но она остановила его. — Погоди, — проговорила она, — подумай… Это не пустая игра: ты умрешь. — Через сколько часов? — Через пять или шесть. — Пять или шесть вечностей наслаждения!.. За кашу любовь, Фрина! — Он сразу осушил чашу и далеко отбросил ее. — Теперь я достоин тебя? — Да, — ответила она, подавая ему руку. — Я люблю тебя! Я твоя… На рассвете Гиперид проснулся. Первый взгляд его встретил улыбку Фрины. — Так я не умер? — весело вскричал он. — Ты сожалеешь об этом? — Нет, потому что в могиле я бы не мог уже любить тебя. Эта ночь любви имела много сестер. И Фрина не скрывала нежной привязанности к Гипериду, она повсюду являлась с ним. Это было неблагоразумно, потому что она знала злость Евтихия. К печали, причиненной презрением Фрины, прибавилась ярость при виде ее любовника-собрата. Однажды, когда она прогуливалась с одной своей подругой, к ней подошел Евтихий. Она хотела удалиться. — Только два слова, — сказал он голосом, который выражал и мольбу, и угрозу. — Ну что? Он наклонился к ней и прошептал: — Моя любовь и пять талантов… или ненависть и смерть… выбирай! Фрина вздрогнула, услышав объявление этой войны, но, силой воли сдержав движение, выражавшее боязнь, она иронически ответила, смотря прямо в лицо Евтихию: — Так, значит, правда, что змея свистит перед тем, как ужалить… Свисти же, Евтихий, но, чтобы ужалить, верь мне, сначала вставь зубы, это не повредит тебе. И она удалилась. Через две недели Евтихий представил Фрину перед трибуналом гелиастов как виновную в профанации величия Тесмофоров, так назывались праздники в честь Цереры, торжествуемые ночью. Обвиненная в осмеянии священного культа, Фрина могла всего страшиться, ибо хотя куртизанки были очень любимы в Афинах, однако трибуналы держали их в строгой подчиненности, наблюдая, чтобы они не нарушали общественный порядок, возбуждая презрение к богам. Трибунал гелиастов состоял из двухсот членов, из которых каждый получал по три обола и платил штраф, если являлся поздно. Естественно, что Гиперид был защитником своей любовницы, но хотя по виду он был уверен в ее оправдании, однако в глубине души чувствовал беспокойство, припоминая, что несколько лет назад куртизанка Феориса, жрица Венеры и Нептуна, была приговорена к смерти. Фрина должна была предстать перед судилищем в десятый день месяца каргелиона. Накануне этого дня, утром, когда молодой адвокат резюмировал главные доводы защитительной речи, к нему вошла Вакха, подруга Фрины. Лицо ее было печально. — Что с тобой? — вскричал Гиперид, подбегая к молодой женщине. — Фрина беспокоится и прислала тебя?.. Вакха сделала отрицательный знак. — Нет, — возразила она, — Фрина продолжает надеяться на тебя как на оратора и любовника. — Так что же? — А я, признаюсь, не так спокойна. Гиперид хотел вскрикнуть… — О! Пойми меня! — продолжала Вакха. — Я не сомневаюсь в твоем таланте и в твоей любви… Но я боюсь… боюсь, что талант и любовь не послужат доказательством для судей… Мне кажется, чтобы достигнуть этого, ты имеешь надобность в могущественном покровительстве. — Могущественное покровительство?.. Если ты кого-нибудь знаешь, кто за все, что я имею, уверил бы меня в спасении Фрины, — назови, я готов… Вакха вздохнула. — Я тебе сказала бы, что бы я сделала на твоем месте, — ответила она, — но вы, мужчины, — вы, ученые, — вы всего чаще отрицаете наши советы, советы невежественных и слабых женщин. — Да объяснись же, что бы ты сделала на моем месте. — Ты будешь считать меня безумной. — Безумная может бросить луч света мудрецу. — Слышал ты о Лизандре, о пастухе с горы Гиметты?.. — Который читает в будущем посредством зеркала, подаренного ему персидским магом Осоранесом в благодарность за то, что он помешал ему погибнуть? Да, я слыхал о Лизандре и его волшебном зеркале. И ты хочешь, чтобы к нему я отправился за советом? Гиперид засмеялся. Вакха склонила голову. — Я была уверена, — прошептала она, — что ты посмеешься надо мной, но что это доказывает? Что ты имеешь меньше любви к ней, чем я дружбы, потому что при малейшей надежде быть ей полезной я не остановилась бы ни перед каким поступком, каким бы он ни показался смешным и странным. Гиперид перестал смеяться и, сжав руку куртизанки, вскричал: — Вакха, клянусь Юпитером, ты права! Я увижу Лизандра. Вакха радостно воскликнула. — Но, — возразил Гиперид, — в какой местности Гиметты живет он? — Я знаю, — ответила Вакха. — Ты уже спрашивала его? — Да, я хотела узнать, долго ли будет меня любить Тимей. — А что он сказал тебе? — Правду!.. Он отвечал мне, что Тимей будет любить меня до тех пор, пока я буду любить его. Я первая бросила его. — О! О! На самом деле, после такого верного предсказания нельзя сомневаться в науке пастыря. — Ты еще смеешься? — Что тебе до этого, если я готов за тобой следовать?.. — В путь же! — В путь! Лизандр, счастливый обладатель волшебного зеркала, подарка перса, жил в хижине на вершине Гиметты. Ему было чуть больше двадцати пяти лет; его манеры и разговор согласовывались с его личностью, покровительствуемой богами, хотя были несколько быстры и необычны. Он сидел за крынкой молока и куском хлеба, когда Гиперид и Вакха явились к нему. Он нимало не смешался от их прихода и, когда кончил завтракать, сказал им: — Что вам от меня нужно? — Посоветоваться с тобой, — отвечал Гиперид. — О чем? — Об участи женщины, которую мы любим. — Ее имя? — Фрина! — Фрина. Лизандр задумчиво достал зеркало из ящика, поставил перед собой на столик. Долго и неотрывно смотрел в потемневшую гладь его. Из глубины зеркала стало появляться светлое пятно, которое начало обретать формы нагой женской фигуры. Гиперид и Вакха вскрикнули в одно и то же время, как будто под влиянием той мысли, что изображение, явившееся им в зеркале, было воспроизведением самой Фрины, пришедшей тайком за своим любовником. Но, когда они взглянули в зеркало снова, изображение исчезло. Что бы это значило? Гиперид просил у Лизандра совета, как спасти Фрину от жестокой опасности, а Лизандр показал ему обнаженную Фрину. К чему? Какой смысл заключался в этом явлении?.. Тщетно адвокат допрашивал пастуха; он уже положил зеркало в ящик и на все вопросы неизменно отвечал: — Она прекрасна! Фрина удивительно прекрасна! Гиперид и Вакха возвратились в город, оба изумленные видением, и оба не понимали, какую пользу можно извлечь из этого колдовства. На другой день Фрина предстала перед судилищем. Главным обвинителем, как мы сказали, был Евтихий, обвинявший Фрину в оскорблении величия праздника Цереры; кроме этого очень важного обвинения, Евтихий развил пред судилищем другое… Он говорил, что Фрина, не довольствуясь оскорблением установленного культа, хотела ввести в государство поклонение новым богам. — Я доказал вам, — говорил он, заканчивая речь, — бесчестие Фрины, бесстыдно предающейся оргиям, на которых присутствуют мужчины и женщины, обожествляющие Изодэтес. Преступление ее явно, оно доказано. За это преступление назначается смерть. Пусть же умрет Фрина. Так повелевают боги, ваш долг повиноваться им. Гиперид возражал Евтихию. Он прежде всего настаивал на том, что поведение Фрины гораздо выше поведения других женщин из того же класса, что она не могла предавать осмеянию уважаемые всеми церемонии и никогда не думала вводить нового культа. Речь была красноречива, но она не убедила судей, несмотря на заключение, в котором Гиперид вдохновенно воскликнул, что вся Греция будет рукоплескать оправдательному вердикту, постоянно повторяя: «Слава вам, что вы пощадили Фрину!» Несмотря на остроумное сравнение Евтихия с жабой, вызвавшее улыбку на лице некоторых судей, большинство гелиастов имело во взглядах нечто угрожающее. Гиперид не ошибался. «Что сделать, чтобы убедить их? — подумал он, испуганный этими пагубными признаками. — Что делать?» И чтобы рассеять зародившееся беспокойство, молодой адвокат, как будто отирая лоб, закрыл лицо платком. Вдруг он вздрогнул при одном воспоминании. О! Да будет благословен гиметтский пастух! Его совет в виде изображения совершенно обнаженной Фрины только сейчас был понят Гиперидом. В зале раздавался глухой шум, производимый разговорами судей. Гиперид величественным движением руки заставил их замолкнуть. И, обернувшись к обвиняемой, сидевшей около него на скамье, сказал ей: — Встань, Фрина! Затем, обратившись к гелиастам, проговорил: — Благородные судьи, я еще не окончил своей речи! Нет! Еще осталось заключение, и я закончу так: посмотрите все вы, поклонники Афродиты, а потом приговорите, если осмелитесь, к смерти ту, которую сама Венера признала бы сестрою… Говоря эти слова, Гиперид сбросил с Фрины все одежды и обнажил перед глазами всех прелести куртизанки. Крик восторга вылетел из груди двухсот судей. Охваченные суеверным ужасом, но еще более восхищенные удивительной красотой, представшей перед ними, — сладострастно округленною шеей, свежестью и блеском тела, — гелиасты, все как один, провозгласили невиновность Фрины. Жаба Евтихий был посрамлен… его ярость удвоилась при виде радостной гетеры, свободно уходившей под руку со своим милым адвокатом. Исход процесса Фрины стал событием в Афинах. Афинские куртизанки явились к Фрине с поздравлениями. Одна из них, Фивена, написала Гипериду письмо, сочиненное поэтом Альцифроном, в котором от имени всех афинских куртизанок было предложено воздвигнуть ему статую. Но Гиперид отказался от подобной чести, быть может, потому, что в глубине души он считал Лизандра более достойным этой почести. Во всяком случае, после подобного успеха, он, — да простят нам это выражение, — встречал любовь на каждом шагу. В тот день, когда он разошелся бы с Фриной, каждая гетера сочла бы за счастье предложить себя спасителю всей корпорации… Продолжим же историю жизни Фрины и рассказ о любви ее к Праксителю — ваятелю. Праксителю достаточно было увидеть Фрину, чтобы представить ее смертным в виде богини любви. Говорят, сам Пракситель влюбился в свое создание и, продав оное, просил его за себя замуж. И никто не был оскорблен безумной страстью художника, видя в этом поклонении невольную почесть красоте богини. По-видимому, со стороны Праксителя было бы гораздо проще жениться на модели, принадлежавшей ему. Но существовали причины, почему ваятель не хотел этого союза, — серьезные причины, которые мы объясним впоследствии. Как женщина, Фрина была совершенством красоты, но ей недоставало выражения, которое художник вынужден был заимствовать у другой женщины… И это заимствование было причиной разрыва Праксителя с Фриной. Фрина не простила ваятелю, что он осмелился оживить воспроизведение ее тела посторонней душой, улыбкой другой женщины, молоденькой невольницы Крамины. Но в первые месяцы любви Пракситель и Фрина обожали друг друга. Они посвящали один другому все свое время, но надо признаться, что большая часть издержек приходилась не на долю ваятеля, в котором искусство господствовало над любовью. Это так справедливо, что однажды Пракситель сказал Фрине: — Я тебе много обязан, Фрина, за доставленные наслаждения, за славу; мне хочется отблагодарить тебя… Но золота ты не захочешь, выбирай прекраснейшую из моих статуй — она твоя. Фрина вскрикнула от радости при этом предложении, но после краткого размышления сказала: — Прекраснейшую из статуй?.. А которая из них самая прекрасная? — Это меня не касается, — возразил, смеясь, Пракситель. — Я тебе сказал — выбирай… — Но, я ничего в этом не смыслю. — Тем хуже для тебя. Фрина обвела жадным взглядом мастерскую, наполненную мрамором и бронзой. — Ну?.. — спросил он. — Я беру твое слово, — ответила молодая женщина. — Я имею право взять отсюда статую. Мне этого достаточно, я в другое время воспользуюсь моим правом. — Хорошо. Несколько дней спустя Пракситель ужинал у своей любовницы. Во время ужина быстро вошел невольник, исполнявший свою роль. — Что случилось? — спросила Фрина. — У Праксителя, в его мастерской, пожар, — ответил он. — В моей мастерской?! — вскричал Пракситель, быстро поднявшись со своего места. — Я погиб, если пламя уничтожит моего Сатира или Купидона. И он бросился вон. Но Фрина, удерживая его, сказала с лукавой усмешкой: — Дорогой мой, успокойся: пламя не уничтожит ни Сатира, ни Купидона, оно даже не коснулось твоей мастерской, все это пустяки. Я хотела узнать только, какой из статуй ты отдаешь предпочтение… теперь я знаю. С твоего позволения, я возьму Купидона. Пракситель закусил губы, но хитрость была так остроумна, что сердиться было невозможно. Фрина получила Купидона, которого через несколько лет подарила своему родному городу. — Я хочу обессмертить тебя! — сказал Пракситель Фрине в одну из восторженных минут любви и благодарности. — Обожаемая при жизни, я хочу, чтобы ты была обожаема после смерти. Я хочу, чтобы через тысячи лет люди в восторге перед твоим образом спрашивали самих себя: женщина ли это или, скорее, сама Венера, которая ради моей славы и их восхищения сошла на землю и явилась ко мне? Прельщенная идеей пережить себя и еще внушать на земле желания и после того, как она ее покинет, Фрина не отказала Праксителю; то были сладостные сеансы, во время которых художник часто уступал место любовнику, забывая триумф будущего для наслаждений настоящим. Тем не менее статуя приближалась к завершению, прошло еще несколько дней работы, и Пракситель выставил свое новое творение на всеобщее восхищение.МЕССАЛИНА
Клавдий, четвертый император после Августа, родился в 744 году от построения Рима, за десять лет до Рождества Христова. Сын Друза и дядя Калигулы, он был один из всего семейства пощажен племянником. Быть может, потому, что последний считал его достойным себе преемником. Еще в колыбели, когда умер его отец, Клавдий страдал болезнями, которые мало-помалу ослабили его тело и ум так, что его долго считали не способным к общественным занятиям. Довольно высокого роста, но толстый и неповоротливый, он и по уму был точно таким же неповоротливым. Мать его, Антония, называла его чудовищем и выродком природы и, когда говорила о какой-нибудь глупости, она постоянно произносила: «Он глупее моего сына». Его дядя, Август, писал по этому поводу одному из своих родственников: «Что касается до меня, я буду приглашать молодого Клавдия каждый день ужинать со мной, чтобы он не ужинал один с Сульницием и Афенодором… Я хотел бы, чтобы несчастный избирал с большей заботливостью примеры для своего поведения. В делах серьезных он никуда не годится». Он вообще известен в истории под именем слюнявого идиота. Однако после смерти Калигулы он был избран в императоры римскими легионами, которые находили гораздо выгоднее для себя иметь империю, чем республику. При своем вступлении на престол Клавдий выразился совершенно: он начал прокламацией и эдиктом, в которых обещал прощение и забвение прошлого. Ради наглядности он повелел предать смерти некоторых трибунов и центурионов, которым было недостаточно убить Калигулу и которые осмелились сказать, что вместе с племянником нужно было отправить на тот свет и дядюшку. Эти негодяи заслуживали урока. Ясно, что Калигулу убить было недурно, потому что Калигула заслужил это, ибо его ненавидели. Но убить его храброго дядю Клавдия, который был избран народом и армией, было очень дурно. Приговорить к смерти и центурионов, и трибунов!.. И в то время, как они умирали на крестах, добрый Клавдий как пример сыновней любви назначил празднество в честь своей бабушки Ливии, повелел установить публичное жертвоприношение в честь своей матери и отца. Вслед за тем, являя собой саму скромность, он отказался от самых высоких титулов, которые были изобретены царедворцами и, между прочим, от титула императора. Это был, в сущности, один из самых гнусных властителей. Но так как наша задача заключается вовсе не в описании истории Клавдия, то мы перейдем к описанию жизни жены его, Мессалины, которая сопровождала его колесницу во время его триумфов по возвращении из Британии, где он изволил прогуливаться целых две недели. Это была почесть, оказанная ей сенатом. Мессалина! С этим именем связываются воспоминания о том глубоком разврате, в котором погряз властелин Вселенной. Роль любезного и любимого императора, игранная Клавдием, была наконец кончена. Сбросив маску, Клавдий свободно отдался той роли, которую должен был играть во всемирной истории, — роли подлого, глупого и жестокого тирана. А так как он упражнялся в этом под влиянием своей жены, то нам необходимо объяснить, что это была за женщина. Мессалина (Валерия), последняя внучка Октавия, сестра Августа, была дочерью Мессалы Барбата и Эмилии Лепиды. Еще шестнадцати лет она уже выказывала самые развратные инстинкты. Да и как могло быть иначе? Отец ее, человек, хотя и уважаемый, предан был пьянству, из чего вытекало, что он совсем ею не занимался. А мать ее, Лепида, считалась одной из самых развратных женщин Рима, — одной из самых распутных и злых женщин. В качестве жрицы Приана Лепида не довольствовалась почти открыто упражняться в самом безобразном сладострастии, уверяли, что она занималась магией и что под сенью ночи, в сообществе старой фессалийской служанки, составляла напитки, в которых любовная трава была по преступному расчету смешиваема с ядом. Какова мать, такова и дочь. Однажды, будучи шестнадцати лет, Мессалина заметила в галерее сирийского невольника, который заснул. Раскалив одну из своих шпилек, которые употреблялись римскими женщинами для того, чтобы удерживать волосы, она с громким хохотом проколола ею обе щеки несчастного. Тот кричал и плакал. — На что ты жалуешься? — спросила его Мессалина. — Это я еще добрая. Вместо щек я ведь могла бы проколоть тебе глаза. В другой раз перед ее дворцом прогуливался красивый школьник, приготавливая речь, которую он должен был произнести вечером. Мессалина подошла к нему, взяла у него его таблички и, взглянув на него, сказала: — Твоя речь ничего не стоит. — Неужели? — смеясь, возразил школьник. — Ты напишешь лучше? — Без сомнения. Ты говоришь о философии… Философия пустая наука! В твои лета, при твоей красоте может быть одно только интересное занятие в жизни. — Какое? — Читай! Мессалина подала молодому человеку свои таблички, на которых были начертаны следующие слова: — Любить, любить и любить!.. Но за два года до восшествия на императорский трон, через шесть месяцев после развода со своей второй женой, Клавдий решил, что он женится на дочери Эмилии. Мессалине едва было двадцать лет, а Клавдию уже сорок восемь. Несмотря на эту громадную разницу в летах, несмотря на бесчисленные физические недостатки будущего императора, Мессалина согласилась быть его женою. Она дала это согласие потому, что Трифена, старая фессалийская колдунья, сказала ей, что этот человек скоро будет занимать одно из первых мест в Риме, что он будет императором, а она императрицей… Не прошло и недели со дня сватовства будущего императора, как Мессалина, одетая в белую тунику, символ девственности, с челом, увенчанным цветами, символом плодородия, покрытая пунцовым покрывалом, отправилась вместе с Клавдием в носилках, дно которых было покрыто овечьей шкурой, в храм Юпитера, где должна была праздноваться их свадьба. Во главе процессии шла Лепида с толпой женщин, несших светильники. По окончании церемонии все отправились в жилище мужа, где был приготовлен свадебный пир. Шестьдесят собеседников заняли ложа в триклиниуме, — так называлась пиршественная зала. Во время пира две артистки на цимбалах по очереди оглашали воздух звуками своих инструментов, дабы помешать пирующим совершить непростительное приличию, то есть заснуть за столом. За десертом явились комедианты, которых называли гомеристами, потому что они декламировали стихи знаменитого греческого поэта, и начали увеселять пирующих. Но Лепида, не понимавшая ни словечка по-гречески, по знаку Клавдия приказала заменить их танцовщицами, которые в то время, как один из египетских невольников, по имени Измаил, с удивительным искусством подражал пению соловья, начали постыдный танец. Мессалина, чтобы лучше видеть этот танец, скинула свое покрывало; Клавдий разразился громким хохотом глупца. Наконец настал час, когда нужно было проводить Мессалину на брачное ложе, которое, следуя обычаю, было поставлено не в спальне, а в одной из галерей дворца, против двери, и возвышалось на эстраде из слоновой кости, окруженное статуями богов и богинь. Пропели эпиталаму, или песню в честь новых супругов, потом, после того как Лепида обняла свою дочь и тихо перемолвилась с ней несколькими словами, Клавдий и Мессалина остались одни. Но Клавдий слишком много пил и ел на свадебном пиру. В нескольких шагах от него, на ложе, покрытом пурпурными тканями, вышитыми золотом, отдыхала двадцатилетняя женщина, а Клавдий, сидя в углу, храпел что было силы. А между тем она была прекрасна: лоб ее был чист, уста свежи и розовы, как будто она никому не дарила поцелуев, кроме детей, великолепные черные глаза закрывались длинными ресницами, а в противоположность им ее густые волосы были золотисто-пепельного цвета. Да, Клавдий спал, он не только спал, но даже храпел; он храпел, а его жена смотрела на него во все глаза со странной улыбкой — с улыбкой, которая в одно и то же время выражала и удивление, и насмешку, и презрение. Вдруг из полуоткрытого окна до Мессалины долетели звуки, привлекшие ее внимание; звуки эти были столь же обольстительны, сколь были противны звуки, издаваемые Клавдием, эти звуки походили на пение соловья… два соловья пели под сенью сада. Очарованная этими ночными звуками, Мессалина задумалась, заметив, что серенаду ей давал только один из певцов. — Измаил! — прошептала она. Она угадала, это был Измаил, прекрасный египетский невольник, который ради поэтической идеи отправился в сад своего господина состязаться в красоте и разнообразии пения с постоянным обитателем этих садов — соловьем. Но как бы ни было удачно подражание, Мессалина не обманулась, она отличала ложь от истины и, слушая невольника, ощутила бесконечно более сильное чувство, чем то, которое производит обыкновенный талант; чувство это выражалось в оживлении ее лица, в волнении ее груди. Клавдий продолжал храпеть. Мессалина соскользнула с постели, осторожно отворила дверь и, легкая, как птица, скрылась в саду. Через несколько минут в садах Клавдия распевал только один соловей. Клавдий все продолжал храпеть… На другой день, утром, Мессалина, после ванны, занималась своим туалетом, при котором присутствовало около двенадцати невольниц, когда один из служителей дворца доложил, что секретарь Клавдия, его историограф Нарцисс, желал бы ей представиться. По происхождению невольник, он достиг того, что был освобожден своим господином, который смотрел на него как на существо высшее и ничего не предпринимал без его совета. Мессалине было известно влияние Нарцисса на Клавдия, и она дала себе обещание, выходя за последнего замуж, управлять его фаворитом. Она приказала немедленно пригласить его. Нарцисс вошел. То был человек лет тридцати, в котором не было ничего замечательного, за исключением крайнего бесстыдства. Он довольно фамильярно поклонился Мессалине и, ожидая ухода прислужниц, начал гладить большую лакедемонскую собаку, которую он, не стесняясь, привел с собой в покои молодой женщины. Мессалина нахмурила брови. — Что доставляет мне удовольствие, так это видеть вас и вашу собаку, господин Нарцисс, — сказала она насмешливым тоном. Нарцисс улыбнулся, он предвидел подобный прием. — Мирро имеет обыкновение всюду следовать за мной, куда бы я ни шел, он так меня любит и так верен мне, что у меня не хватает смелости прогнать его. Не правда ли, верность — редкая вещь в настоящее время? — Дальше, — проговорила Мессалина, не отвечая на этот прямой вопрос. — Дальше, — ответил Нарцисс, вынимая из кармана таблички, — я позволил себе обеспокоить вас, чтобы передать вам описание одного случая, происшедшего сегодня ночью в этом доме. — Этой ночью? — Да. Я предполагал, что прежде чем я передам моему господину, — мне так приятно давать ему это название, хотя он и освободил меня, — вам не будет неприятно узнать о происшествии, которого я был случайно невидимым свидетелем и о котором записал по обязанности историографа. Сегодня ночью я не спал. Устав ворочаться на постели, я сошел в сад и… — Нарцисс не докончил фразы. Приблизясь к нему, Мессалина вырвала у него из рук таблички без гнева, скорее смеясь, хотя смех этот был ненатурален. Со своей стороны Нарцисс не сделал ничего, чтобы воспротивиться движению молодой женщины. Наступило краткое молчание, в продолжение которого они пристально глядели друг на друга. Мессалина первая прервала это молчание. — Вы на самом деле хотели передать эти таблички Клавдию? — спросила она шипящим голосом. Нарцисс пожал плечами. — Вы слишком молоды и слишком прекрасны, — возразил он, — чтобы служить забавой для быков. Разверните эти таблички и прочтите, что я хотел передать Клавдию без всякой опасности для вас. Мессалина прочла: «Сегодня утром я, Нарцисс, управитель Клавдия, обрил брови египтянину Измаилу и за его дерзость приказал выжечь на лбу его клеймо». — А! — холодно прошептала она. — Измаил был так дерзок? — Да! — отвечал Нарцисс. — Вчерашний его успех в подражании песни соловья вскружил ему голову. Сегодня утром, проходя мимо меня, он едва мне поклонился. Я исправил его, отныне он будет почтительнее. Согласитесь, вовсе нехорошо, что простой невольник считает себя равным Юпитеру. Мессалина отдала таблички Нарциссу. — Хорошо, — ответила она и, наклонясь к Мирро, чтобы приласкать ее, добавила: — Эта собака верна? — Так же, как его хозяин, — живо отвечал управитель. — Привязана до самой смерти к тем, которые удостоивают ее любви. Рука Мессалины уже не гладила более собаку. Смелый отпущенник покрывал ее пламенными поцелуями. — Я хочу пить, — сказала Мессалина. Нарцисс встал, чтобы приказать принести питье своей госпоже. Молодой ассирийский невольник принес на подносе чашу, наполненную слегка подслащенным белым вином. Мессалина выпила и, вытерев концы пальцев о волосы раба, брызнула через плечо несколько капель оставшегося в чаше вина в лицо Нарциссу, что было высшим выражением любезности у римских женщин того времени. Нарцисс, преклонив колена, сказал страстным голосом: — До самой смерти буду помнить это, моя повелительница. И отпущенник Нарцисс стал первым любовником Мессалины, жены Клавдия. Первым, потому что Измаил — подражатель соловью — был минутной прихотью, которую и нечего было считать. Между тем Клавдий не всегда спад, находясь возле своей новой супруги, доказательством чему, — а разве это не доказательство! — может служить рождение двух сыновей, Британика и Октавия. Клавдий обожал своих детей не так, как Мессалина, которая заботилась о них только в то время, когда им нужно было ее покровительство. Клавдий особенно любил своего маленького Тиберия, прозванного сенатом Британиком в память о той славе, которой покрыл себя его отец во время экспедиции в Великобританию. Он проводил целые часы около его колыбели, укачивая его, а позже, когда ребенок был в состоянии понимать, он давал ему мудрые советы и учил молиться богам. Клавдий был хорошим отцом и, вне всякого сомнения, если бы был женат на другой женщине, а не на Мессалине, — на женщине, верной своим обязанностям, Клавдий наверняка продолжал бы свое царствование не так, как его начал: без особого блеска, быть может, без особой пользы для народа, но и без скандальных глупостей и идиотских жестокостей. Клавдий, делавший добро, стеснял Мессалину, которая помышляла только о зле. Искусная в распутстве, она подчинила своему влиянию не сердце, а тело своего мужа. Затем она постаралась развить его природные недостатки. Клавдий был всегда жаден до вина и еды, — она с утра напаивала его почти до бесчувствия, в этом помогал ей Нарцисс. Императрица нашла в этом человеке драгоценное орудие. Алчный до золота, до роскоши, он только и думал о том, как бы побольше украсть, и он вполне достиг своей цели, ибо после его смерти, случившейся при Нероне, осталось четыре миллиона сестерций. — Воруй сколько хочешь, — сказала ему Мессалина, — я ничего не вижу и постараюсь, чтобы не заметил и Клавдий, но и ты со своей стороны сделай так, чтобы Клавдий не замечал моих удовольствий. Понятно, что, сделавшись ее любовником, Нарцисс никогда не помышлял о том, чтоб безраздельно обладать ею. Он не был ревнив. После него настала очередь других отпущенников, живших во дворце и пользовавшихся благосклонностью императрицы. Нарцисс даже сам исполнял самые низкие причуды Мессалины. И вот однажды, когда на одном из праздников во дворце появился канатный плясун по имени Мнестер, то императрица пленилась им, ибо он был великолепен, это был Геркулес с примесью Аполлона, к, кроме того, он играл трагедии. Мессалина была восхищена. По окончании представления она послала одну из своих женщин отыскать мима. Мнестер явился. Императрица сидела в одной из своих зал, у ног ее отдыхал Мирро, подаренный ей Нарциссом. Когда она чего-нибудь или кого-нибудь желала, Мессалина не теряла времени в разговорах. — Ты прекрасен, и я люблю тебя, Мнестер! — сказала она ему. Она ожидала, что при этих словах охваченный радостью мим бросится к ее ногам. Каково же было ее удивление, когда он остался холодным и неподвижным. — Разве ты не слыхал моих слов, — продолжала она голосом, в котором слышался скорее гнев, чем любовь. — Глух ты и нем, что ли? — Ни то ни другое, с позволения вашего величества, — сказал тихо Мнестер. — Так почему же это молчание, когда я удостоила тебя такой чести? — Я слыхал, что в императорских дворцах стены имеют уши, и то, что я ответил бы вашему величеству, может быть передано вашему августейшему супругу. Мессалина улыбнулась. — Ты благоразумен! — заметила она. — Когда имеешь одну только шкуру, так поневоле дорожишь ею, — ответил он. — Ну, так тебе нечего бояться за свою шкуру. С этой стороны дворца уши закрыты. Мнестер поклонился. — Это меня немного успокаивает. — Так немного?! — О! Чтоб ответить вашему величеству, как вы, по-видимому, желаете, что я вполне принадлежу вам и счастлив этим, мне мало быть уверенным, что ни один шпион не следит за мной. — А! Тебе недостаточно? — Ваше величество, позволите ли мне объяснить мою мысль, рассказав небольшую басню? — Рассказывай. — Однажды львица встретила на своей дороге зайца, миловидность которого ее пленила. «Следуй за мной в мою берлогу», — сказала она ему. «Охотно, — отвечал заяц, — вы так прекрасны, что удар когтей вашей изящной лапки мне показался бы лаской. Но на вашего супруга я не надеюсь, его движения слишком быстры, когда он дает удар, этот удар убивает. Прежде чем я последую за вами, благоволите увидать его и предупредить, что вы желаете взять меня для своей забавы и развлечений. Предупрежденный таким образом господин лев не будет иметь никакой причины удивляться моему присутствию и гневаться за симпатию, которой вы меня удостоите, я же не буду страшиться, что в один прекрасный день, будучи в дурном расположении духа, он бросит меня мертвым к вашим ногам под тем предлогом, что тогда как ваш господин и повелитель говорил вам о серьезных делах, вы были заняты презренной игрушкой». Мессалина выслушала до конца басню Мнестера, и, когда замолчал он, проговорила: — Ты не глуп, но уж слишком осторожен. Сотни других на твоем месте, чтобы насладиться ласками львицы, пренебрегали бы когтями льва. Но пусть будет по-твоему, трусишка! Мы сделаем так, чтобы прибавить тебе храбрости. Мнестер оставил Мессалину, когда к ней явился Нарцисс. В двух словах она объяснила ему сущность приключения, и они оба посмеялись, что какой-то жалкий мим предлагает свои условия императрице, чтобы сделаться ее любовником. Случай действительно был очень странен. Но препятствия только раздражали желание Мессалины: она желала Мнестера, он ей был необходим. — Вы будете иметь его, — весело сказал Нарцисс. — Я беру на себя поговорить со львом. Он отправился к Клавдию и сказал ему: — Императрица изволит гневаться. — На что? — Она предлагала Мнестеру, акробату, быть у нее в услужений и получила отказ. — Ты шутишь? — Нисколько. Он осмелился ответить, что предпочитает свободу чести принадлежать супруге императора. — И она не приказала бичевать его до тех пор, пока куска кожи не осталось бы на его костях? Клянусь Юпитером, пусть приведут ко мне этого негодяя, и я сожгу его живого. — Простите его, ваше величество. Императрица вовсе не желает так строго поступать с Мнестером. Этот шут слишком хорошо танцует, для того чтобы быть распятым или сожженным. — Танцует-то он действительно недурно! Чего же желает императрица? — Так как она не имеет столько власти, чтобы заставить себя послушаться, то она просит, чтобы вы сами дали приказание. — Это справедливо, пошли ко мне Мнестера. Мнестер явился очень бледный. Женщины изменчивы. Оскорбленная малой поспешностью в удовлетворении ее желания, Мессалина могла превратить любовь в ненависть. — Так это ты, ползучий червяк, осмелился отказаться от службы императрице? — загремел Клавдий, идя к миму. Последний распростерся. — Помилуй, кесарь! — пробормотал он. — Помилования! — повторил Клавдий, приставляя к горлу Мнестера острие маленького кинжала, с которым он никогда не расставался. — Ты заслуживаешь, чтоб я вонзил по самую рукоятку этот кинжал в твою голову!.. Но я слишком добр, и к тому же ты первый канатный плясун в Риме… Я тебя прощаю. Только, слышишь, ты отправишься сейчас же к императрице и скажешь, что ты принадлежишь ей с головы до ног. Мнестер приподнялся. — Я иду, — сказал он. — В добрый час! И таким-то образом канатный плясун по повелению императора сделался любовником императрицы. Но несмотря, однако, на ее красоту, не страшась ее всемогущества, некоторые из римлян отказывались, как от позора от счастья разделить ложе с женой императора Клавдия. И ярость, причиняемая этим презрением, породила в ней ту жажду крови, которую она не замедлила передать своему мужу. Она была только развратна, а теперь сделалась кровожадной. Первые четыре или пять лет ее замужества за Клавдием были до некоторой степени прологом к постыдному существованию Мессалины. Если она уже является неистовой блудницей, то все еще скрывается в тени, отдаваясь вышедшему из границ сладострастию. Но пролог, в котором было несколько комических сцен, окончился, и начинается драма, которую не осмелятся сыграть ни на одном театре. Пресытившись тем, что заставляла краснеть людей, эта женщина, которую звали Мессалиной, решилась заставить краснеть самих богов. Она даже не женщина, она менада, которую не насыщало даже злоупотребление восторгами. Первым из тех людей, которые предпочли смерть необходимости сказать распутной женщине: «Я люблю тебя!» — был сенатор по имени Аппий Силаний, второй муж матери императрицы. Он женился на Лепиде против своего желания, по воле императора Клавдия, который хотел ввести Аппия в свое семейство в вознаграждение за те услуги, которые последний оказал государству. Мессалина с тайной радостью следила за спором по поводу этого брака. Ей было смешно видеть мужчину, вынужденного отдать свою руку запятнанной женщине. А когда Аппий подчинился, ей было мало, что он выказал себя слабым, — ей было нужно, чтобы он выказал себя подлым. Особенность дурных натур заключается в том, что они стараются унизить до своего уровня всех их окружающих. Прошел только месяц с тех пор, как Аппий стал мужем Лепиды, и вот однажды вечером под предлогом желания поговорить об очень интересном предмете Мессалина пригласила во дворец своего отчима. Аппий явился. Императрица лежала. Он извинился и хотел уйти. — Зачем? — проговорила Мессалина. — Вы боитесь меня? Стоя посередине спальни со сложенными на груди руками, Аппий проговорил с важностью: — Я ожидаю приказаний вашего величества. Ее величество закусила губы. — О! О! — улыбнулась она. — Такой тон и такая сдержанность, мой милый Аппий, были бы уместны, если бы вы находились в присутствии отвратительной старухи. — Я жду приказаний вашего величества, — тем же ледяным тоном проговорил сенатор. Мессалина вздрогнула. — Мне угодно, — сказала она сдавленным голосом, — спросить вас, Аппий, что если б я была вдовою вместо матери и сказала бы, что люблю вас, на ком бы вы скорее женились: на мне или на ней? Аппий посмотрел на нее, как будто с трудом веря, что эти слова были действительно произнесены ею. Но она улыбалась с насмешкой и угрозой. Он не мог более сомневаться, что от ответа зависела его участь, однако он неколебался. Накинув свою белую тогу, вышитую пурпуром, он сделал несколько шагов к порогу спальни и громко крикнул: — Раб! Скорей ищите доктора! Ее величество страдает припадком безумия. Через два дня Аппий был приговорен к смерти. Что за причины заставили Мессалину желать смерти Аппия, который был уже немолод, когда женился на Лепиде, а следовательно, мог надеяться, что будет избавлен от преследований своей кровожадно-страстной падчерицы. Но Мессалина обладала гением зла; ее прельщало только то, что выходило из ряда обыкновенных вещей по своему безобразию! Кроме того, Лепиде не нравился ее второй муж. Однажды она пожаловалась своей дочери на холодность Аппия. — Он надоедает тебе, — отвечала Мессалина, — успокойся, мы от него избавимся. От него действительно избавились. Другой сенатор, Вициний, подобно Аппию, заплатил жизнью за свой отказ на предложение Мессалины. Но он умер иначе. Нужно же разнообразить свои удовольствия! В одном из предместий Рима жила женщина по имени Локуста, занимавшаяся приготовлением ядов. Она несколько раз была приговариваема к смерти за свои преступления, но каждый раз невидимая рука спасала ее от наказания. К этой-то Локусте обратилась Мессалина, чтобы отомстить Вицинию, и молодой сенатор упал во время обеда, как пораженный громом, попробовав блюдо из шампиньонов. Позже от яда той же самой Локусты, налитого Нероном, погиб сын Мессалины и Клавдия Британик. Если постыдная страсть Мессалины делала ее смертельным врагом человека, то страсть к золоту побуждала ее к убийству. Так погиб консул Валерий Азиатик за то, что обладал великолепными садами, окружавшими его дворец, в которых впервые были взращены вишневые деревья. Два знатных римских всадника, родственники Азиатика, были приговорены Клавдием к смерти в цирке в бою с гладиаторами. Совершенно покорный прихотям своей жены и отпущенников, Клавдий мало-помалу привык назначать смертную казнь так же спокойно, как будто дело шло о пире. Видеть страдания стало для него наслаждением. Он присутствовал на всех казнях отцеубийц; однажды, когда он обещал присутствовать в Тибуре при пытке по древнему обычаю врага государства, палач не явился, и любезный император прождал до самого вечера другого палача, которого он повелел привезти из Рима. Но бои гладиаторов более всего восхищали Клавдия. Когда один из них падал, пораженный насмерть, Клавдий наслаждался, видя его корчи, и приказывал доканчивать тех, которые упали даже случайно, чтоб созерцать их искаженные страданием лица. При особо торжественных случаях Мессалина и Нарцисс изобретали для народа какой-нибудь остроумный сюрприз. Пойдемте, читатель, в один из таких дней в амфитеатр Августа. С восходом солнца герольды расклеивали афиши на всех храмах и портиках Рима, объявляя, что в четвертом часу, соответствующем нашему десятому, в означенном амфитеатре будет публичное зрелище. Еще не было и трех часов, когда народ входил в цирк по тридцати лестницам на верхний ярус, где только и было дозволено ему сидеть. Через час в среднем ярусе поместились всадники, под ними сенаторы, все в сопровождении своих жен и детей; потом над императорской ставкой, пока еще пустой, в уровень с сенаторскими местами, в ложе, охраняемой четырьмя ликторами, вооруженными розгами, явились пять закутанных женщин, вид которых произвел на некоторое время почтительное молчание. То были весталки с великой жрицей во главе. Наконец явился император вместе с императрицей. Они были встречены восторженным криком толпы, повторявшимся три раза: «Да хранят вас боги!» Не станем подробно описывать всех актов зрелища и займемся описанием сюрприза, приготовленного Мессалиной и Нарциссом для Клавдия и народа. Представление началось охотой за оленями, затем происходила конная битва, потом борьба ста человек с несколькими львами, тиграми, медведями и т. п. Зрелище было великолепное. Но герольд в самом начале объявил, что оно окончится битвой братьев Петра, всадников, с гладиаторами. Римляне с особым нетерпением ожидали этой битвы. Нетерпение их еще больше подогревалось при виде огромной эстрады, сооруженной на камнях посреди арены и огороженной мощными кольями, соединенными между собой цепями, как бы для того, чтобы не дать прорваться туда ни людям, ни зверям. — Гладиаторы будут сражаться на этой эстраде? — спросил Клавдий у Мессалины и Нарцисса. — Да. — Но как они взойдут? Я не вижу лестницы. — Только бы взошли, а то о чем еще беспокоиться вашему величеству! — В полу, быть может, есть лестница? — Может быть. — Они спрятаны под полом? — Мы не говорим, что нет. В назначенную минуту, как в наших волшебных пьесах дьяволы, на сцене появились двести гладиаторов и среди них оба всадника; каждый одет в приличествующий случаю костюм — в тунику без рукавов, стянутую поясом, с головой, покрытой шлемом, с мечом в правой руке, на которую надета железная перчатка. Один из них, Друз Петра, младший из братьев, обращаясь к императорской ставке, провозгласил от лица всех: — Кесарь, идущие на смерть тебя приветствуют! Кесарь поклонился. Битва качалась. Жестокая битва! Без жалости и пощады. А между тем эти люди не испытывали никакой ненависти друг к другу. Они убивали по высочайшему повелению. Вместо справедливого гнева в них возгоралось самолюбие, оно двигало ими, заставляя защищаться и убивать как можно больше врагов. Битва продолжалась уже около получаса: треть сражавшихся валялась на полу, истекая кровью. Император веселился. Однако что-то отравляло ему настроение. Роза имела шипы. До этой минуты братья Петра, помогая друг другу с невероятной ловкостью, оставались живы и здоровы. — Ах! Неужели не убьют их! — ворчал он. Как будто в ответ на великодушное желание повелителя братья убили еще двух противников. — Это постыдно! — вскричал император. — Гладиаторы — люди, обязанность которых состоит в том, чтобы убивать, позволяют побеждать себя простым любителям. — Вы хотите, чтобы они тотчас же умерли? — спросила Мессалина, наклоняясь к своему супругу. — Да, да! — ответил он, не подумав, иначе он признал бы невозможным исполнение своего желания. Всадники должны были пасть, но только тогда, когда утомились бы битвой. — Приказание вашего величества будет исполнено, — сказала Мессалина. В левой руке у нее был красный шелковый платок. Три раза она махнула этим платком. То был сигнал начальнику цирка. Раздался свисток, и опять-таки, словно по волшебству, в одну минуту пол, на котором сражались гладиаторы, раскрылся, и живые и мертвые, победители и побежденные провалились в бездну, из которой, как из кратера, вылетало пламя и дым. Крик восторга двадцати тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей, приветствовал это столь же неожиданное, сколь и быстрое исчезновение. Народ был достоин своих чудовищ-правителей! — Ну что же, — сказали Мессалина и Нарцисс Клавдию, который от изумления сидел с раскрытым ртом и блуждающими глазами, — довольны вы теперь? Хорошо это? — Очень хорошо, — ответил император. — Но, — прибавил он со вздохом, — очень скоро кончилось! Из кожи несчастных, отданных по повелению императора палачам и диким зверям, Мессалина сделала носилки. Ее расточительность не знала границ. В ее апартаментах попирали ногами пурпур. Она ела только на золоте, оставляя серебро Клавдию. В ее спальне на бронзовом треножнике постоянно курились самые драгоценные ароматные смолы, за громадные деньги доставляемые из Аравии и Абиссинии. В этой комнате, в обществе самых красивых женщин и юношей Рима, по крайней мере раз в неделю происходили празднества в честь Венеры. Нетрудно догадаться, что происходило на этих ночных оргиях: они скандализировали всю империю. Но Мессалина мало заботилась об общественном мнении, и еще менее об оппозиции, встречаемой ею со стороны тех, которых она призывала на эти празднества. Кто бы она ни была: мать ли самого честного семейства, невинная ли девушка, женщина ли, девственница, — она должна была повиноваться приказанию присутствовать во дворце Августы на ночной оргии. На одной из площадей Рима возвышалась колонна, называемая Лакторией, у подножия которой оставляли найденышей. Однажды Мессалине пришла фантазия отправиться к этой колонне. Когда она сходила с носилок, то заметила молодую женщину, выразительная и приятная физиономия которой поразила ее. На руках у этой женщины был ребенок, которого она подняла с каменных ступеней статуи. Ее сопровождал молодой человек с мужественными и суровыми чертами. — Кто ты? — спросила Мессалина, касаясь одним из своих больших ногтей, которые она отпускала по обычаю знатных римских женщин, руки молодой женщины. Ей отвечал провожатый. — Меня зовут Андроником, — сказал он. — Та, с которой ты говоришь, Августа-Сильвула, моя жена. — Разве у вас нет детей, что вы отыскиваете их здесь? — У нас есть один ребенок, — возразила Сильвула, — но в его колыбели есть пустое место, и Бог повелел заботиться счастливым матерям о тех, которые плачут. Мессалина молчала несколько минут, бросая злобный взгляд на молодую чету, и потом проговорила: — Ну, Андроник и Сильвула, вы мне нравитесь. Сегодня вечером вы оба явитесь в мой дворец на праздник Венеры. Андроник и Сильвула отрицательно покачали головой. Мессалина нахмурила брови. — Что это значит? — заметила он. — Вы отказываетесь? — Есть один только Бог, — сказал Андроник, — и этот Бог не дозволяет распутства… — А-а! — воскликнула императрица. — Так вы — иудеи? — и, обратившись к двум сопровождавшим ее ликторам, прибавила: — Рефус и Галл, приказываю вам привести ко мне завтра этого мужчину и эту женщину. Андроник и Сильвула обменялись горестными взглядами, и, вскинув голову, Андроник сказал: — Не тревожь своих служителей, августейшая. Ты требуешь — мы явимся во дворец. И на другой день действительно Андроник и Сильвула явились к Мессалине в тот час, когда начиналось празднование в честь Венеры. Но когда, после их приветствий императрице, их приготовились увенчать розами и подали им чашу с питьем, которое предназначалось для возлияния богам, Андроник, оттолкнув чаши и венки, громко воскликнул: — Есть один только Бог! И этот Бог велит его послушникам лучше умереть, чем оскорбить его! Христианин еще не докончил этих слов и, прежде чем кто-либо мог воспрепятствовать его замыслу, поразил кинжалом свою жену в грудь и упал с нею рядом, пронзив себя тем же оружием. Мессалина пожала плечами и толкнула ногой еще трепещущие трупы. — Уберите эту падаль! — крикнула она своим слугам. На луперкалиях, празднествах, установленных Ромулом и Ремом, в память о том, что они были вскормлены волчицей, царило самое бесстыдное распутство. И Мессалина была первой женщиной в Риме из столь высокого класса, которая опустилась ниже самой последней своим бесстыдством. На луперкалиях в течение многих часов, как только дневной свет уступал место светильникам, можно было видеть полуобнаженную Мессалину с распущенными волосами, с лицом, разрумянившимся от вина, бегающую вокруг смоковницы, под которой, по преданию, Ромул и Рем были вскормлены молоком волчицы. На сатурналиях Мессалина также подавала народу пример самого безобразного разврата. С известной точки зрения это имело свое оправдание. Паганизм, почти исключительно состоявший из чувственных элементов, узаконивал злоупотребление всеми наслаждениями, всеми страстями, всеми пороками, как будто надеясь посредством этого с успехом бороться с новой религией… Отдаваясь со всею пылкостью своей крови и нервов нечистым безумствам луперкалий и сатурналий, Мессалина повиновалась богам… она не была преступна… Но от чего с ужасом отвращается ум, что подымает в душе омерзение, что поражает глаза, так это то, что эта презренная женщина, — жена кесаря, — не довольствуясь более принимающими поцелуи любовниками, преследует тех, которым их продают… Ювенал в одной из своих кровавых сатир вывел Мессалину, предпочитающую нары царственному ложу; он показал нам эту царственную куртизанку закутывающейся в одежду темного цвета, скрывающей под черным париком свои белокурые волосы и спешащей в сопровождении наперсницы в один из тех подлых домов Субурского квартала, где ожидала ее пустая каморка, над дверью которой было написано имя Лизиски, под которым она проститутничала, и обозначена цена ее ласк. Ювенал также передал нам, как усталая, но не пресыщенная Лизиска в час утреннего рассвета, с пожелтевшими щеками, еще пропитанная вонью ламп, «возвращалась к изголовью императора, принося с собой смрад своего чулана». Опустим же занавес на этом отвратительном периоде из истории Мессалины. Что может быть любопытнее и ужаснее этого очерка страшного падения? Ее смерть? Да, смерть и предшествовавшие ей факты. И расскажем, как умирала волчица… Мессалине самой хотелось управлять в цирке колесницей, запряженной четверкой лошадей, привезенных из Македонии. Она была очень искусна в управлении своими конями. Однако однажды одна из лошадей споткнулась и увлекла других в своем падении. Мессалина так сильно была сброшена на землю из колесницы, что потеряла сознание. Когда она пришла в себя, первая фигура, привлекшая ее внимание среди окружавших ее, была фигура консула Каийя Силлия. Каий Силлий почитался во всей империи за прекраснейшего римлянина; можно бы предположить, судя по характеру Мессалины, что он был одним из ее любовников. Но это было бы ошибкой. Мессалина ни разу за всю жизнь не сказала ему ни слова; Силлий, находясь с нею вместе, казалось, не замечал ее существования. Это была глухая борьба равнодушия между этими людьми. Это был с каждой из сторон расчет. Ни один не хотел сделать первого шага, дабы стать господином другого. Стоит ли удивляться после этого, что, увидев Силлия в числе лиц, заинтересовавшихся происшествием с нею, Мессалина еще больше поразилась, узнав, что он первым бросился к ней на арену и на руках перенес ее в императорскую ложу. Лед был разрушен: Силлий сделал первый шаг, она… второй… Через несколько минут, удалив всех, кроме него, она быстро спросила: — Так ты меня любишь? — Люблю, — отвечал он. Черты Мессалины осветились радостью. Она торжествовала. Но эта радость была непродолжительна. — Да, — повторил Силлий, — я люблю тебя, но я боюсь, чтобы эта любовь не значила того же, как если б я не любил. — Почему? — возразила императрица. — Разве тебе кажется, что я нахожу неприятным сделаться твоей любовницей? — Нет… но мне невыносимо быть твоим любовником!.. Мне!.. — Что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать… Я очень требователен, без сомнения, но я уж таков и потому так долго я избегал тебя!.. Я хочу сказать, что мне нужно все или ничего… Все или ничего, слышишь?.. Мессалине-императрице я отдам душу… Жене Клавдия — ни волоса!.. Императрица улыбнулась. — Ты ревнив? — заметила она. Силлий взглянул на нее презрительно-надменным взглядом. — Ревнив? Полно! — отвечал он. — Ревнуют к мужчине, а Клавдий не мужчина, не человек, он — скот… Нет, я не ревную к Клавдию, он мне не нравится — вот и все… — А если я тебе сказала бы: «Я требую!..» — Моей крови, как крови Аппия Вициния и многих других? Что ж… Я не дам тебе ни одного поцелуя… — Но ты, который так громко говорит, ты также не свободен, как и я… — Правда, но гарантируй мне будущее, и я без размышления пожертвую тебе настоящим. — Однако Юния Силана, жена твоя, — прекрасна. — Во всем мире для меня одна только женщина прекрасна: ты! — Ты откажешься от Юнии, если я прикажу тебе? — Завтра, сегодня же. — А потом? — Потом? Народ устал от ига Клавдия, пусть Мессалина, не заботясь о своем первом муже, завтра станет женой другого… женой настоящего мужчины… и завтра же народ, просвещенный этим смелым прозрением, столкнет сидящего на троне автомата. — Чтобы возвести другого истинного мужчину… второго мужа императрицы?.. — Почему бы нет?.. Силлий так гордо произнес эти слова, что страсть, тем более пылкая, что она так долго сдерживалась императрицей, к прекраснейшему римлянину выразилась в лихорадочном восторге Мессалины. — А! — вскричала она, сжимая ему со страстью руку. — Ты прав! В тебе римляне найдут, по крайней мере, императора. Ступай, скажи Юнии Силане, что она больше не жена тебе, и, клянусь богами, через неделю ты будешь моим мужем. Быть может, ты отвергнешь меня, когда падет Клавдий!.. Но какое мне дело! Раз в жизни я буду любима истинным мужчиной. Из-за одной только гордости Силлий совершил безумный поступок, беспримерный в истории, ибо он не любил, он не мог любить Мессалину. Несчастный! Он любил свою жену… Между тем, следуя тем роковым путем, на котором, по замечательному выражению Тацита, «опасность была единственной защитой против опасности», в тот же день, вернувшись домой, Силлий объявил Юнии Силане, чтобы она немедленно отправилась к своим родным, потому что он разводится с нею. Сначала она думала, что он шутит. Но, видя его, бледного, но твердого, слыша его глухой, но не дрожащий голос, повторявший обыкновенную в этом случае формулу: «Иди! Я тебя отпускаю!..», — Юния Силана, сдержав рыдания, рвавшиеся из ее груди, поклонилась и прошептала: «Боги да простят вам и да хранят вас, Каий Силлий!..» Она удалилась. Со своей стороны, Мессалина не медлила и повсюду объявила, что выходит замуж за Силлия. В течение недели, протекшей со времени первого разговора, она отослала в дом своего нового супруга большую часть своих богатств, свою золотую посуду и своих невольников. Было невозможно, чтобы происшествие, взволновавшее весь город, осталось тайной для Клавдия. — Что это значит? — спросил он императрицу. — Меня уверяют, что вы намерены выйти замуж за Каийя Силлия? У Мессалины был уже приготовлен ответ. — Ваше величество не обманули, — ответила она. — Необходимо, чтобы при вашей жизни вся империя была уверена, что я поступаю так, как будто бы вы лежали в гробнице. — А! А почему нужно, чтобы в этом были все уверены? — Потому что мне открыто невидимым голосом, что предатели злоумышляют погубить вас. Они хотят похитить у вас власть. Но я бодрствую и, привлекая на себя и на одного из ваших врагов всю тяжесть общественного негодования, отвращаю опасность от вашей священной особы. Вот мой брачный контракт с Силлием… Подпишите его, дабы, когда настанет время сбросить притворство, я могла бы доказать, что действовала с вашего соизволения. Клавдий подписал. Он подписал брачный контракт своей жены с Силлием. Подумайте: внутренний голос говорил об этом!.. Мессалина играла эту опасную комедию из повиновения богам, для того чтобы спасти Клавдия!.. При таких условиях слюнявый идиот обеими руками подписал бы приказание о своей смерти, если бы ему это предложила Мессалина. На другой день, пользуясь отсутствием императора, которого заботы о жертвоприношении призывали в Остию, за пять миль от Рима, Мессалина праздновала свою свадьбу со всеми обычными церемониями. Вкусила ли она в объятиях прекраснейшего римлянина все то счастье, о котором мечтала?.. Желательно думать, что, по крайней мере, в эту первую брачную ночь коронованная куртизанка не покидала брачного ложа ради подражателя соловью. Мессалина при совершении своего циничного преступления забыла только одно: если Клавдий был настолько глуп, чтобы простить ее, то близ него были и умные люди, которые могли не извинить ее. К числу этих людей принадлежал Нарцисс, прежний любовник Мессалины. Пока Мессалина предавалась распутству и выставляла в смешном виде своего слишком добродушного супруга — Нарцисс улыбался, даже более, не раз официально помогал в прихотях своей любезной подруги. Он по воле императора отдал в полное ее владение фигляра Мнестера, в которого та влюбилась. В другой раз он приказал начальнику ночной стражи, Децию Кальпурнию, совершенно закрыть глаза, если ночью случится встретить на улице некую Лизиску, имевшую некоторое сходство с императрицей. Но вот — вместо того чтобы спокойно предаваться любовным утехам, Мессалина вмешивается в политику. Нарцисса не обманули божественные голоса. У Силлия была своя цель, поэтому он и шел на риск. И если случаем он выиграет партию, то кто гарантирует ему, Нарциссу, что умница Каий Силлий, став кесарем, будет для него тем же, чем был глупец Клавдий? А кроме того, у Нарцисса была веская причина быть недовольным Мессалиной. Несколько месяцев тому назад она, хоть и имела основания жаловаться на одного отпущенника, грека Полибия, без совета с ним, Нарциссом, выпросила у императора его голову. Да пусть она умертвит двадцать сенаторов, сотню всадников — прекрасно! Но — отпущенника!.. Нарцисс был очень сердит на Мессалину. Вот почему, рассмотрев с одним из своих друзей, таким же вольноотпущенником, как он, Калистом, обстоятельства дела, он принял решение: если ни советы, ни угрозы не излечат Мессалину от безумной страсти, то он сделает все, чтобы осрамить, опозорить ее до конца… Дабы наверняка, одним ударом, поразить ее. Каждый час к нему в Остию спешили шпионы с донесениями о делах в Риме. Он не помешал свадьбе. Великодушный в ненависти, он не расстроил ни пира, ни брачной ночи… А наутро начал свои враждебные действия. Клавдий не делал ни шагу без толпы куртизанок. Среди этих гетер были две, которым он оказывал предпочтение; это были две великолепные женщины, привезенные торговцем невольниками из Александрии, которые, будучи проданы одному ловкому господину, стали источником его состояния. Во всякое время дня и ночи, в городе и за городом Кальпурния и Клеопатра имели свободный вход в покои Клавдия. Кесарь опоражнивал стакан меда, когда прекрасные египтянки — по приказанию Нарцисса — явились в слезах к императору. — Что это значит? — вскричал он, более беспокоясь о самом себе, чем о них. — Не горит ли дворец?.. — О, если бы только дворец! — возразила Кальпурния. — Вашей империи, вашему величеству угрожает пожар!.. — добавила Клеопатра. Клавдий решительно ничего не понимал. Утром храбрый император, вообще не обладавший ясным рассудком, с трудом отличал правую ногу от левой. — Спокойней, спокойней! — сказал он. — Объяснитесь, мои деточки, без метафор. Клеопатра и Кальпурния пали на колени. — Раз ты, кесарь, — сказала Кальпурния, продолжая изображать отчаяние, смешанное с ужасом, — приказываешь, то узнай все! Презирая божеские и человеческие законы, императрица совершила одно из самых гнусных дед! Вчера она вышла замуж за одного из своих любовников. — За консула Каийя Силлия, — добавила Клеопатра. — Замуж? Моя жена?.. — воскликнул Клавдий и, припомнив недавнее происшествие, продолжал: — Ах да! Знаю! Третьего дня она мне говорила об этом! Но это брак фиктивный… Он поможет мне уничтожить замыслы моих врагов… — Фиктивный брак? — сказала Клеопатра. — Мессалина обманула твое доверие, кесарь! Она в настоящий час уже обвенчана с Силлием. — С Силлием, — подтвердила Кальпурния, — который осмеливается повсюду объявлять, что отнимет у тебя скипетр, как отнял жену… под самым носом… Клавдий уже не смеялся. В эту минуту вошел Нарцисс, взволнованный, с искаженным от злости лицом. — Что ты мне скажешь? — вскричал Клавдий. — Мессалина! — Мессалина более не принадлежит тебе, государь, — отвечал Нарцисс. — Она жена Каийя Силлия. Этот наглый, дерзкий соперник взял у тебя не только жену, но также твое имущество и невольников. Мое сердце обливается кровью. Советую тебе строгость, но говорю — прощение невозможно! Сенат, народ, армия видели свадьбу Силлия, и, если ты не поспешишь, муж Мессалины будет властителем Рима. Клавдий побледнел. — Х-хо-зяин Рима!.. Си-силлий!.. — начал заикаться он. Клавдий особенно сильно заикался в приступах гнева. — Да, — подтвердил Нарцисс, — и единственное средство спасения для вашего величества — это избрать кого-нибудь из твоих служителей, на верность которого ты полагаешься, и дать ему полномочия разъединить преступников и наказать их. Клавдий бросился к отпущеннику и судорожно обнял его. — Ступай же! — вскричал он. — Кто более тебя мне верен? Тебе я поручаю наказать их! Ступай!.. Почему ты уже не возвратился?!. Была осень, наступило время созревания и сбора винограда. Алчная до всех удовольствий, после любви Мессалина предалась вину. Ради торжества второго дня своего брака она устроила под видом сбора винограда праздник Бахуса в садах своего нового мужа. Там собралось двести или триста женщин и мужчин — все едва-едва прикрытые конскими или пантеровыми шкурами, потрясая палками, обвитыми виноградными листьями, упившись вином, они плясали, прыгали, как демоны, вокруг чана, до краев наполненного пурпурными гроздьями, оглашая воздух неистовыми криками: «Ио! Ио! Вакх! Эван!» Вдруг голос, как бы нисходивший с неба, раздался среди неистово пляшущей толпы… Этот голос принадлежал доктору Вектию Валенсию, старому любовнику Мессалины, а те, кто не был ее любовниками, — теперь товарищи по оргии… Ради того чтобы подышать свободнее, Валенсий влез на вершину сикомора и оттуда закричал: — Гей! Гей! Друзья, берегитесь!.. Я вижу — со стороны Остии приближается сильная гроза!.. Гроза, когда на небе не было ни облачка? Доктору отвечали криком, свистом. Мессалина бросила в него свой кубок. И снова все начали прыгать и скакать… Но потому ли, что менее пьяный, чем его товарищи, Валенсий предугадал кровавую развязку или же случайно пьяница сделался пророком, только не прошло и часа с того времени, как доктор со своей «обсерватории» произнес зловещее предсказание, а со всех концов уже начали появляться гонцы, извещая Мессалину и Силлия, что Клавдий, узнав обо всем, идет мстить… При этом громовом известии все друзья и собутыльники Мессалины и Силлия, отрезвев как по волшебству, исчезли. Супруги остались одни. Правда ли, что Клавдий, полоумный Клавдий, понял, что ему изменили и что он должен их наказать?.. — Он не осмелится! — прошептала Мессалина. — Он не осмелится! — повторил Силлий. Тем не менее из благоразумия они расстались. Силлий отправился на Форум, где, сохраняя спокойствие, занялся делами. Мессалина удалилась в сады Лукулла к своим детям и матери. Но вскоре новые гонцы объявили ей, что центурионы по приказанию императора арестовали повсюду всех тех, которые считались ее соучастниками, — всех, кто присутствовал на ее свадьбе с Силлием. Даже Силлий был взят. Мессалина заколебалась: она начала верить, что Клавдий осмелится. Что делать? Она приказала Британику и Октавию бежать и броситься в объятия отца. Она умолила Вибидию, самую старую из весталок, просить милосердия у римского верховного жреца. Сама же Мессалина направилась в сопровождении одной только своей матери на дорогу в Остию, и, так как ее слуги и невольники оставили ее, она, за несколько часов до этого обладавшая двадцатью колесницами, сочла себя очень счастливой, получив возможность сесть на грубую телегу, в которой вывозились из сада нечистоты. В ту самую минуту, когда волчица, вместо того чтобы оскалить зубы, постыдно склонила голову, она сама себе вынесла приговор. Не согнись она, и Нарцисс, быть может, еще не раз подумал бы, прежде чем нанести удар августейшей… Клавдий задрожал бы, услышав рычание той, которая была его сообщницей. Это рычание напомнило бы ему их общие преступления и общее сладострастие… Но Мессалина плакала… Мессалина умоляла… Мессалина преклонила колена… Убрали весталку Вибидию, которая с удвоенной силой говорила, что жена не может быть казнима без защиты. Британику и Октавию помешали приблизиться к отцу. Чтобы усилить ярость Клавдия, Нарцисс проводил его в дом Силлия, сверху донизу наполненный драгоценными предметами, похищенными преступной женой из дворца кесаря. При виде этого император, сохранявший во время своего переезда из Остии в Рим гробовое молчание, заикаясь сильней, чем когда-либо, приказал подать лошадь, чтобы отправиться в лагерь, где он возжелал сказать речь своим солдатам. И в то же время, обращаясь к Нарциссу, спросил: — Умерла она? Отпущенник сделал отрицательный жест. — Чего ж ты ждешь? — быстро сказал Клавдий. — Не хочешь ли и ты изменить мне? Кто император, я или Силлий? Нарцисс более не колебался, и когда Клавдий поскакал в лагерь, он приказал центурионам и трибунам стражи убить Мессалину, ибо таково было приказание кесаря. Для большей уверенности он поручил отпущеннику Эводу наблюдать за быстрым исполнением приказания. Мессалина вернулась в сады Лукулла. Лежа на меху, положив голову на грудь матери, она предавалась бесполезному плачу. Лепида понимала все очень хорошо; более мужественная, чем ее дочь, в эту роковую минуту, она предлагала ей не ждать убийственного железа, а самой покончить с жизнью. Опередив трибунов и центурионов, Эвод подошел к императрице… — Лизиска, женщина Субура, — воскликнул он, бросая ей кинжал, — покажи нам, так ли ты умеешь умереть, как умела любить!.. Лепида поднялась при этих словах бывшего невольника. Мессалина только зарыдала сильнее… — Дочь моя, я же тебе говорила, — произнесла Лепида, — и ты должна бы меня послушаться, а не выслушивать клевету этого подлеца. Проговорив эти слова, Лепида схватила за ногу Эвода. Отпущенник бросился на женщин. Но трибун, явившийся с центурионами, оттолкнул его, сказав: — Не ты, а я и мои солдаты должны свершить правосудие кесаря. Оставь нас исполнить нашу обязанность. Между тем Мессалина, обезображенная страданием, с ужасом смотрела на поданный ей матерью кинжал. Нужно было умереть. Умереть — увы! — в то время, когда так хорошо жить! Трепещущей рукой она приставляла лезвие то к горлу, то к груди. Но у нее не хватало силы. Трибун почувствовал жалость к этой мучающейся женщине и мечом поразил несчастную Мессалину, которая тотчас испустила дух. Это было в 801 году от построения Рима, в 48 году от Рождества Христова. В тот же день погибло сто друзей Мессалины. Погибли Каий Силлий, ее второй муж, римские всадники, друзья Силлия, один сенатор, Сульпиций Руф, префект ночной стражи — Деций Калпурний. Это была настоящая бойня. Не забыли даже Мнестера, которому не простили его прошлого. Мессалина сошла в ад в многочисленном обществе… Клавдий сидел за столом, когда начальник стражи, Гета, явился донести, что правосудие свершилось. — Имею честь уведомить ваше величество, — начал он, — что ее величество императрица… — Ах да! — прервал его Клавдий. — Где же она? Почему она не идет обедать? — Но, — возразил изумленный Гета, — потому что она умерла. — Умерла! Император с минуту размышлял, потом без всякого сожаления сказал: — А, она умерла!.. Налей-ка мне вина!.. Хотя Клавдий имел тысячу причин, чтобы не вступать в новый брак после смерти Мессалины, однако он женился в четвертый раз на племяннице своей Агриппине, тоже вдове после Домиция Энбарба, имевшей сына Нерона. Агриппина во всех отношениях стоила Мессалины… Клавдий узнал это на своей шкуре. Полоумному кесарю пришла мысль заставить трепетать новую августейшую супругу. Однажды, во время оргии, он произнес, «что такая уж его судьба, чтобы переносить распутство своих жен и казнить их». Агриппина вовсе не желала быть казненной. И к тому же ей самой хотелось поцарствовать именем Нерона, который был еще ребенком и которого Клавдий назначил наследником престола вместо Британика. Императрица отравила императора. А так как яд, приготовленный Локустой, действовал медленно, то, страшась, чтобы Клавдий вследствие своей крепкой натуры не спасся от смерти, Агриппина послала за своим доктором Ксенофоном, который под видом обыкновенно принимаемого Клавдием рвотного ввел в его горло перо, намоченное в самом тонком яде… Последними его словами, которые мы считаем себя не вправе перевести, были: «Voe me! Voe me! Puto, concacavi me!» Так, до самой смерти Клавдий и Мессалина оказались достойными друг друга.ФЕОДОРА
Феодора родилась в Константинополе в 427 году. Константинополь — древняя Византия, основанный в 658 году до Рождества Христова мегарским царем Бизасом, был окрещен новым именем 11 мая 330 года христианской эры. Константин перенес свою столицу из Рима в Византию по той причине, что первый он находил невыносимым из-за всеобщего растления, которым было заражено все римское общество на закате своего существования. Совершенно невероятно, но Константину достаточно было восьми месяцев, чтобы построить этот город. Правда, для золота все возможно, однако здания воздвигались как бы по волшебству. Для украшения Константинополя Константин не только похитил все драгоценности Греции и Азии, но даже из Рима захватил все сокровища. И не удовлетворяясь тем, что ограбил свое родное гнездо, он еще и ослабил его, отняв у него легионы, охранявшие его границы, и разместил их по провинциям. Это произвело двойное зло: страна была отдана в жертву варварам, а солдаты, не бывая в сражениях, предались праздности и изнежились. Но Константин Великий достиг своей цели. Италия погибла среди нищеты и безнадежности. Тем хуже! Как мог Рим позволить себе упрекать своего великого императора за то, что он велел умертвить своего сына Криспа из зависти к его достоинствам и свою жену Фавсту под ложным предлогом, что она присоветовала ему это убийство.* * *
Когда Феодора, будущая императрица, родилась, Константинополь в царствование Анастасия, прозванного Разноглазым, потому что один глаз у него был черный, а другой — голубой, находился во всем блеске своего великолепия, — великолепия ненавистного, ибо оно было создано деспотизмом! Наследники Константина тоже были тиранами; новый Рим был только тенью древнего. В том были граждане, здесь — рабы. Но рабы эти наслаждались. Что значило для них склонять голову перед падшими существами, носящими название людей и ставшими, благодаря бесчестью временщиков, самыми богатыми и могущественными личностями в империи. Национальная гордость, любовь к отечеству были пустыми словами для этого выродившегося народа. Знаете ли, кто значил в Византии более самого императора? Возницы ипподрома и куртизанки!.. Ганна, мать Феодоры, была проституткой самого низкого пошиба, отец ее, Аккаций, кормил зверей в Прапиниенском амфитеатре. Феодора была третьей дочерью этой странной четы. Она еще едва лепетала, когда уже обе ее сестры, Анастасия и Комптона, служили на театре — на театре, куда отправлялись распутники делать выбор и где им никогда не было отказа. Естественно, что Феодора назначалась для тех же занятий, в которых упражнялись ее мать и сестры; как только она достигла зрелости, ее завербовали в разряд голоножек, — так назывались проститутки, которые не занимались танцами и игрой на флейте, а обольщали только своими обнаженными прелестями. Феодора была мила, хотя и очень мала ростом, у нее были ум и веселость, и она скоро получила большой успех. Но годы сделали раздражительным характер Ганны, и часто, когда она считала вправе жаловаться на своих дочерей, не заботясь об их красоте, составлявшей все их достояние, жестоко их била. После одного из приступов безрассудного гнева, жертвой которого стала Феодора, последняя с распухшими от слез глазами отправилась в театр и по дороге встретила скомороха, халкедонца Адриана. Это был высокий красивый мужчина с более мужественной и гордой осанкой, чем ему подобные. Он остановился перед молодой девушкой и сказал ей: — Здравствуй, Феодора. Ты плакала? Кто же причина твоих слез? Скажи мне, я отомщу за них. Феодора склонила голову. — Меня избила матушка, — ответила она. — А! — воскликнул Адриан. — По правде говоря, мать твоя зла. Но ты так мила, как у нее хватает духу бить тебя? Если бы я был на ее месте, я касался бы твоего прекрасного тела только устами. Феодора улыбнулась: — Но ты не на ее месте. Промолвив это, она хотела продолжать свой путь. Удерживая ее за рукав туники, Адриан заговорил вполголоса, как будто страшась, чтобы его слова не донеслись до слуха прохожих: — Феодора, ты несчастна у своей матери… И притом, разве твое ремесло не отвратительно для тебя? Хочешь, чтобы тебе не приходилось больше плакать? Я живу близ ворот св. Римлянина, вместе со старой родственницей, в небольшом домике, скрывающемся под сенью деревьев. Скажи мне слово, и ты будешь хозяйкой в этом доме. Моя тетка, Флавия, будет твоей служанкой, я — твоим рабом. Феодора с удивлением смотрела на Адриана. — Ты любишь меня? — спросила она. — Больше жизни!.. Она задумалась. Из куртизанки, то есть любовницы всех, сделаться любовницей одного и к тому же фигляра? Разве это не значило пасть? Но этот фигляр был красив и молод. Вдобавок в его голосе слышалась такая нежность! В первый раз Феодора почувствовала, что у нее есть сердце. — Что же? — прошептал Адриан. — Я согласна, — ответила она. — Сегодня вечером вместо того, чтобы идти к матери, я приду к тебе. Но как я найду твое жилище? — Я провожу тебя. На заходе солнца я буду ждать тебя в садах, близ терм Зевксиппа. — И ты обещаешь так скрыть меня, что никто не найдет? О! Матушка убьет меня в наказание за мое бегство. Отец посмеется над этим: он занят одними только медведями… — Клянусь, никто тебя не найдет! Воробей предлагает тебе свое гнездо. Кому придет на ум, что это гнездо служит убежищем голубя?.. Позже Феодора говорила своей приятельнице Антонине, жене Велисария, что первые три месяца, проведенные ею в гнезде воробья, показались ей тремя днями. Как бы низко ни пала женщина, любовь всегда может возродить ее к новой жизни. Притом же, так как ее падение было не ее ошибкой, а зависело от воли семьи, и особенно от нравов общества, Феодоре было легче искупить свое прошлое. Едва только было ей сказано: «Ты должна продавать свои поцелуи, чтобы жить», — и она повиновалась. И как могло быть иначе? Она не понимала всей презренности того ремесла, к которому ее приговаривали. Но вот вместо слов: «Будь моей, я покупаю тебя!» — она слышит: «Будь моей, я люблю тебя!» Вознаграждая ее за веру в любовь, небо послало ей истинную любовь… Это было справедливо! Феодора была счастлива, когда три месяца скрывалась в объятиях своего любовника в маленьком домике у ворот св. Римлянина. Адриан удалялся только тогда, когда этого требовали его обязанности, все остальное время он посвящал своей возлюбленной, стараясь обогатить ее ум теми познаниями, которыми обладал он сам. Ибо опять-таки Адриан не был обыкновенным фигляром, шутом, паяцем: он получил образование и даже писал небольшие пьесы для театра. Он выучил Феодору читать и писать. Это принесло ей пользу, когда она сделалась императрицей. Но как ни была она счастлива, она очень подурнела. День ото дня розы на щеках ее бледнели, день ото дня лицо ее делалось худощавее, тогда как по странному контрасту талия ее делалась полнее. В начале четвертого месяца своего пребывания у Адриана, однажды утром, оставшись одна с Флавией, она с беспокойством рассматривала в зеркале изменение своих черт и чрезвычайное развитие форм; вдруг Феодора услышала взрыв хохота и была удивлена. Она обернулась. — Чему смеетесь вы? — спросила она Флавию. — Тому, что ты ошибаешься в причине совершенно естественной вещи. — Совершенно естественной?.. — Без сомнения. Полноте, не беспокойтесь, моя душенька! Ваша свежесть возвратится, ваша талия снова станет тонкой и грациозной. Надо только потерпеть месяцев шесть или семь. — Шесть или семь месяцев, это почему? — Вы не понимаете? Как?.. Вы не… — Понимаю! — в свою очередь возразила Феодора, да так сухо, что вся веселость старушки сразу пропала. Да, она поняла, так хорошо поняла, что осталась неподвижной, со сжатыми губами, с устремленным куда-то взглядом. То, что составляет радость супруги, для куртизанки порождает ужас, а куртизанка вдруг проснулась в Феодоре. Она была беременна, беременна!.. Если уже зарождение ребенка так повредило ее красоте, то что станется с ней, когда она будет еще носить этого ребенка шесть или семь месяцев? Что станется с ней, когда она произведет его на свет? Что бы ни говорила Флавия, у Феодоры на этот счет было свое убеждение, основанное если и не на своем опыте, то, по крайней мере, добытое ею от своих подруг по театру: «Быть матерью всегда чего-нибудь да стоит». Вошел Адриан. — Что с тобой? — спросил он при виде бледной и мрачной Феодоры. Она вздрогнула, увидев своего любовника, и сдержала себя. — Будешь ли ты любить своего сына или дочь, Адриан?.. — спросила она. У него вырвался крик счастья. — Возможно ли! — воскликнул он. — Ты спрашиваешь меня, буду ли я любить моего… нашего ребенка?.. Столько же, как тебя… Ты сомневаешься? — Нет! — ответила она. Если несчастная желала бы сомневаться, она потребовала бы от него величайшего преступления: избавить ее от материнской ноши. На щеке ее повисла слеза ярости, стертая Адрианом как слеза радости поцелуем. Бедный Адриан! Тогда как его страсть усиливалась от того, что питалась новой связью с его возлюбленной, она, напротив, содрогалась от этого и чувствовала, что любовь к нему превращалась в глухое отвращение. Любовь перерождает самых испорченных женщин, но это нравственное перерождение длится только до тех пор, пока эта женщина расположена к нему своими инстинктами. Возвратите к жизни голодную, больную собаку — она за ваши заботы отдаст вам всю свою привязанность, но при тех же условиях волк, как бы вы за ним ни ухаживали, убежит в лес, и вы будете еще счастливы, если, покидая вас, он не познакомит вас со своими зубами. Есть много женщин-волчиц; Феодора была одной из этих женщин. Однако во время беременности она не выражала своих новых чувств. Она по-прежнему была любезна с Адрианом, улыбалась, когда он говорил об их ребенке, когда он с любовью шутил над увеличивающейся полнотой ее талии. — Тебе это очень идет! — говорил он. — Ты находишь? — возражала она. Адриан не был наблюдателен, иначе он ужаснулся бы тому яростному взгляду, которым сопровождались ласковые слова его любовницы. За несколько дней до родов Феодора узнала от тетки Адриана, что ее мать, Ганна, умерла.Флавия считала себя обязанной передать эту новость молодой девушке. Жнут то, что посеют. Конец беременности наступил в апрельские календы, а 15-го числа месяца 515 года она родила сына. Опытная бабка, старая Флавия, присутствовала при родах, она первая взяла на руки маленького Иоанна… Для кормления ребенка была заранее куплена коза. У Флавии было как будто какое-то предчувствие, когда она подала Феодоре ее сына. Обыкновенно в подобном случае взгляд матери освещается бесконечной радостью. Взгляд Феодоры выражал только ужас, почти отвращение… — Вы не поцелуете его? — прошептала старушка. — После, после! — нетерпеливо отвечала роженица. — Оставьте, тетушка, — сказал Адриан. — Наша Феодора, быть может, страдает… Не беспокойте ее. И он поцеловал своего сына за двоих. Через две недели совершенно поправившаяся после родов Феодора, сидя за своим туалетом, с восторгом убедилась, что старая Флавия не обманула ее обещанием совершенного восстановления красоты. Да, она была прекрасна, прекраснее, чем прежде. Ее прелести не только не пострадали, а, напротив, выиграли в своем развитии. Кожа ее прибавила блеска, формы, не утратив нежности, стали полнее… Окно комнаты, в которой она одевалась, выходило в сад. Там, на зеленой лужайке, ребенок под надзором Флавии пил жизнь из сосцов своей рогатой кормилицы. Адриан, сидя в некотором отдалении, с умилением смотрел на эту картину. — Феодора! — весело вскричал он. — Феодора! Взгляни, он сердится! В самом деле, явно недовольный тем, что коза позволила себе быстрым движением прервать его завтрак, мальчуган своими крохотными ручонками бил козу: мы и родимся-то неблагодарными. Феодора не пошевельнулась, в эту минуту она причесывалась. Ее черные волосы, восхитительно разделенные на пробор, возвышались и удерживались золотой шпилькой. Только окончив это занятие, и окончив тщательнее обыкновенного, она выглянула в окно, но лишь для того, чтобы знаком позвать своего любовника. Он прибежал. — Ты хочешь что-то сказать мне? — Да. — Что же? — Я хочу сказать, что я ухожу. — Как! Ты уходишь? — Да, ухожу… Я оставляю тебя. Мне кажется, я выражаюсь понятно. Я не люблю тебя больше, Адриан, и оставляю. Она подала ему руку, он не взял ее. Он был уничтожен, разбит! И было отчего. — Так будет! — продолжала она, сопровождая эти слова жестом, который выражал: «Я не задерживаю тебя». И она прошла мимо. Но Адриан, придя в себя, бросился между любовницей и дверью и вскричал: — Это невозможно! Это сон! Ты покидаешь меня, Феодора? Ты меня больше не любишь, говорить ты? За что же ты разлюбила меня? Она пожала плечами. — Наконец, — продолжал он задыхающимся голосом, — должна же быть какая-нибудь причина разлуки. Что я тебе сделал?.. Несчастлива ты здесь? Не причинил ли я тебе невольно какой-нибудь печали? Ах! Я сошел с ума!.. Ты смеешься, Феодора?! Тебе покинуть меня?! Я не верю тебе!.. А наш ребенок?.. Ведь ты не рассчитываешь же, что я отдам тебе нашего ребенка?!. Он так же принадлежит мне, как и тебе!.. — Он принадлежит одному вам! — Что ты сказала? — Я говорю, что отдаю вам нашего ребенка… Что вам еще от меня нужно? Адриан стоял перед Феодорой с лицом, искаженным горем. При последних словах своей возлюбленной он отступил на шаг, в его глазах высохли слезы. — А! — сказал он. — Вам не нужен наш ребенок?! — Нет, — ответила она. — И вам следует сказать все, потому что вы не понимаете: этот ребенок и есть причина, почему я вас теперь ненавижу… он причина того, что я возненавидела вас с той самой минуты, как он зародился в моем чреве!.. Разве я создана для того, чтобы быть матерью? Когда вы говорили мне о любви, разве вы говорили мне о детях? Всякому свое назначение. Мое — нравиться. — Да, — медленно подтвердил Адриан, — нравиться… и умереть в грязи… Феодора подняла свое залившееся краской лицо. — Ты посмел оскорбить меня, фигляр! — сказала она. — Но если я должна умереть в грязи, в чем я жила с тобой? Пусти! — О! Я больше вас не удерживаю, — сказал Адриан. Он отошел от двери. Феодора твердым шагом прошла через сад и вышла, не кинув даже напоследок взгляда на своего ребенка. Она прямо направилась к родительскому дому. Но уже несколько месяцев Аккаций жил не на земле, а под землею. Один из его питомцев, белый медведь, привезенный недавно, умертвил его. Смерть отца на пять минут огорчила Феодору. Правда, он ни разу не поцеловал ее, но зато ни разу ее не ударил. Оставались сестры. Но Анастасия и Комитона не любили Феодору, которая была гораздо моложе и красивее их, они, по-видимому, не очень обрадовались ее появлению. — Будьте спокойны! — сказала им Феодора, которая не обольщалась на этот счет. — Я рассчитываю остаться у вас недолго. Случай исполнил ее надежду. Когда три куртизанки, собравшись на галерее, толковали о смерти их отца, — надо же о чем-нибудь толковать! — некто Гецебол, правитель части Малой Азии, явился к ним. Готовясь оставить Константинополь, куда он поехал для отчета императору, Гецебол хотел выбрать себе по вкусу любовницу. Кажется, в его наместничестве этих вещей и так хватало, но накануне, в цирке, он заметил Анастасию и явился сделать ей предложение следовать за ним в Никею. По всей вероятности, Анастасия охотно согласилась бы на пожелание Гецебола, если б он его выразил… Но он не выразил его, и вот почему… Когда, сопровождаемый целой толпой слуг и невольников, он проник в галерею, в которой блистали Анастасия, Комитона и Феодора, то, отыскивая глазами ту, которая вчера его пленила, довольно сильно стукнулся коленом об ящик, стоявший посредине комнаты, так что не поддержи его вовремя один из слуг, то, хоть он и был правителем четырех провинций, ему пришлось бы, как простому смертному, хлопнуться. Вскрик испуга и взрыв смеха приветствовали этот странный вход. Вскрик испуга принадлежал Анастасии и Комитоне, смех Феодоре. Несколько смущенный своим приключением, Гецебол тотчас же пришел в себя. Между тем он, как вельможа, был очень тщеславен. Смех женщины его оскорбил, и он, распушив хвост подобно индийскому петуху, направился к младшей дочери Ганны, к которой обратился так: — Ты знаешь, кто я? — Если б ты был сам император, — ответила Феодора, — все-таки ты расквасил бы себе нос, а я бы не меньше смеялась. Разве смех, по-твоему, — преступление? Гецебол закусил губы. Сердиться ему или не сердиться? Эта куртизанка была очень дерзка, но в то же время — прелестна!.. Во сто раз прелестнее Анастасии. — У тебя веселый характер, моя милая! Как тебя зовут? — Феодора. — Ну, Феодора, по моему мнению, — смех не преступление, напротив, я сам очень люблю веселых людей. Я их так сильно люблю, что, если ты согласна, я возьму тебя с собой в Фригию. — Вы берете меня с собой? Но мне также необходимо, в свою очередь, узнать, кто ты, чтобы размыслить, ехать ли с тобой. — Это справедливо. Меня зовут Гецебол. Я правитель Фригии, Битинии, Лидии и Эонии. Я живу во дворце в Никее и имею другой. — А я где буду жить? — В моих дворцах, вместе со мной, моя милая!.. Феодора подумала с минуту. Гецебол был не молод и не красив, несмотря на свой парик с длинными темно-русыми локонами. Но он был правителем Фригии, Битинии, Лидии и Эонии. Он обладал дворцами. Кроме того, его предложение вызвало завистливую гримасу у Комитоны и Анастасии, главное — у Анастасии, которая видела, как ее добыча ускользнула у нее из рук. И если для женщины приятно уязвить соперницу, то еще приятнее, когда эта соперница — сестра. — Едем! — сказала Феодора. — Едем! — повторил обрадованный Гецебол. В тот же вечер новая возлюбленная пара, выехав из Босфора, направилась в Никомедийский залив; на другой день они сошли на берег в Битинии и, следуя по Римской дороге, достигли берегов Сангария, где позже император Юстиниан построил мост, бывший чудом века, — мост Софона. Но Феодора не подозревала тогда, что она возвратится в эту страну вместе с императором, своим супругом. В этот час, рядом с любовником, в тележке, запряженной мулами и сопровождаемой солдатами и невольниками, побежденная жарой, она, подобно своему любовнику, засыпала. Она не спала, но была погружена в дремоту и с полузакрытыми глазами строила план поведения. Она согласилась быть любовницей Гецебола, но в глубине души радовалась ли она этому? Нет. Молодая и хорошенькая женщина никогда не радуется тому, что принадлежит старику. Сквозь тень своих ресниц рассматривая морщинистое, дряблое лицо наместника, она невольно припоминала прекрасную голову Адриана. «Как, — говорила она самой себе, — я буду вынуждена выносить ласки этой старой обезьяны? Принуждена притворяться, что люблю его!.. Притворяться? Да. С виду я буду его любовницей, но на самом деле… Мы посмотрим». Феодора достигла Никеи не в очень благоприятном для Гецебола расположении духа. Тем не менее должно полагать, что из чистого расчета она нашла полезным отказаться от своей сосредоточенной суровости, и вскоре, ослепленный ее благодарной нежностью, старик облек свою любовницу безграничным могуществом. Она злоупотребляла им. Бросая золото горстями, она каждую неделю давала праздник или во дворце, или в театре. Каждый день она покупала новые наряды, ее ящики были наполнены материями из Персии и Китая, ее ларчики — драгоценными каменьями, ее конюшни — породистыми лошадьми, ее портики — невольниками. Чтобы удовлетворить прихотям своей любовницы, Гецебол опустошил свои ларцы, затем ограбил жителей вверенных ему провинций, на которых наложил чрезвычайные налоги. Сначала начался ропот, потом раздались крики… Правитель мало заботился об этих криках, лишь бы платили… Но шум достиг Константинополя, император отправил в Никею консула Кефегия с поручением проучить Гецебола, а при случае и наказать. Кефегий был добряк, имевший некоторую привязанность к Гецеболу, с которым он некогда победил болгар; он нашел его за столом с Феодорой… — Кефегий! — вскричал Гецебол. — Какой ветер занес вас? Полагаю, вы не обедали? Рабы, скорее прибор его светлости… — Извините, дорогой друг, — возразил Кефегий, — я с удовольствием сейчас пообедаю с вами, но прежде я должен бы сказать вам наедине несколько слов. — Наедине?.. — Да, по повелению его величества императора. Гецебол побледнел. — Феодора, мы сейчас к тебе придем, — сказал он. И немедленно он увел Кефегия. Тот не замедлил с объяснением дела. — Дорогой Гецебол, — начал он, — его величество не доволен вами. — О! — Позвольте! Между нами, его милость имеет серьезные причины быть недовольным. Вы разоряете страну для увеселения женщины… — Но… — Но, опять-таки между нами, вам известно, мой уважаемый друг, что Анастасий, который сама доброта, когда ему подчиняются, становится свирепым, если заметит, что ему сопротивляются. Итак, я имею полномочия, выбирайте: или вы прогоните немедленно эту женщину… — Прогнать Феодору?.. Никогда!.. — Позвольте мне продолжать, прошу вас. Или вы немедленно прогоните вашу любовницу… и ваши… глупости будут забыты… или приготовьтесь умереть… — Умереть? — Умереть сегодня же. Прочтите этот пергамент. В нем сказано: приказ повиноваться консулу Кефегию, как самому мне, подписал — Октавий, с приложением его печати. Полноте, Гецебол, вы не заставите старого товарища прибегнуть относительно вас к жестоким крайностям. И согласитесь, что простое подобие сопротивления было бы новым безумством с вашей стороны. Вы поймете, что я принял предосторожности. Я взял с собой несколько молодцев, которые перебьют ваших фригийских солдат, как мух… Извольте взглянуть! Из открытого окна консул показал правителю сотню сагонтинских солдат, построенных как на битву перед его дворцом. Внезапная борьба поднялась в душе Гецебола. Как, за свою безумную страсть к женщине он должен умереть? Но что особенного в этой женщине, чего бы не было в другой?.. Ничего!.. — Вы правы, Кефегий, — сказал он, — я был безумен… Но я излечился и докажу вам… Пойдемте! И Гецебол вошел под руку со своим другом в залу, где Феодора, сидя на кресле из черного дерева, спокойно продолжала обедать. — Презренная! — вскричал старик громовым голосом, протягивая руку к своей любовнице. — Презренная! Сию же минуту вон из этого дворца, в который ты никогда не должна бы входить! Я тебя прогоняю! Слышишь ли, прогоняю?! И чтобы завтра же тебя не было в этой стране, которую ты разорила своим недостойным мотовством. Это так же верно, как и то, что меня зовут Гецеболом и что я люблю и уважаю нашего великодушного императора, могущественного Анастасия, а тебя заставлю погибнуть под плетьми. Феодора встала, когда правитель обратился к ней с этой ругательной речью, но встала не спеша и без всякого смущения. Если бы не легкий румянец на щеках и почти незаметное дрожание губ, сказали бы, что это ругательство, такое грубое по форме, было принято ею за любезность. Так же хладнокровно она дошла до двери, которую отворил пред ней один из служителей, в последний раз служивший ей. На пороге этой двери, обернувшись, она окинула старика презрительным взглядом. — Подлец! — сказала она. Гецебол задрожал… Он хотел говорить… Его язык прилип к гортани… — Оставьте, — сказал Кефегий, великодушно поспешив на помощь своему другу, — разве вы не знаете, что такое гнев женщины?! — Подлец! — повторила Феодора. И она вышла. Вечером она покинула Никею. То было справедливое возмездие! Феодора постыдно оставила молодого и прекрасного любовника, старый и гадкий любовник постыдно прогнал ее. Она не стоила того, чтобы жалеть ее. Что стало с ней после того, как она оставила Фригию? Мы не могли это открыть, несмотря на все наши розыски. С 517 года — эпохи, когда она была любовницей Гецебола, до 525 — начала сношений с Юстинианом, — история молчит о Феодоре. В каких странах в течение девяти лет раскидывала она свой шатер куртизанки? Мы не знаем, но можем сказать, что она умела избирать себе жилища, ибо, когда в 525 году мы встречаем ее в Константинополе, на ипподроме Феодосии, она была вся в бриллиантах. Прокопий, греческий историк, ее современник, рассказывает, что когда она появилась на ипподроме, вся толпа издала восторженный рев. В 525 году на Востоке царствовал уже не Анастасий, он уже умер, ему наследовал Иустин Первый. У Иустина был племянник Юстиниан, которого он любил как сына, которого он осыпал почестями и богатством, с которым советовался обо всем, что касалось управления государством, так что в последние годы его царствования не он, а его племянник был настоящим императором. Этот Юстиниан присутствовал на ристалище на ипподроме Феодосии в тот день, о котором мы говорим; как все прочие, и он видел Феодору, как все, и он нашел ее удивительно прекрасной. Но как ни сильно было впечатление, произведенное на него куртизанкой, оно, без сомнения, вскоре исчезло бы, если б не одно необыкновенное и неожиданное происшествие… Прошло уже около получаса, как Феодора сидела против императорской ложи на первой скамье, первый забег уже кончился, не произведя большого интереса, готовился второй, заранее приветствуемый народом; на этот раз готовилась борьба между соперниками, одинаково искусными, одинаково известными: Красными и Белыми. На этот раз Феодора наклонилась со вниманием. Въехали восемь колесниц. Тридцать две лошади, пущенные своими возницами, еще возбужденные звуком труб и цимбал, подняли в воздух целую тучу песка, посыпанного голубой и пурпурной пудрой. В дни великих торжеств арена ипподрома румянилась, как кокетка. Феодора встала, выпрямившись, как будто наэлектризованная зрелищем. — За Красных! — вскричала она в ту минуту, когда восемь колесниц неслись мимо нее, и сняв со своей шеи роскошное рубиновое колье, бросила его на арену. Красные выиграли. Красный возница первый достиг цели. Победитель возвратился к тому месту, на котором лежало колье, соскочил на землю, поднял драгоценность, поднес сначала к своим губам, потом, поклонившись, с достоинством сказал: — Благодарность красоте! Раздался гром рукоплесканий в честь Феодоры и возницы. Этим еще все не кончилось. Всегда, во всех странах, толпа склонна к преувеличению. Колье Феодоры стоило от двух до трех сотен золотых, здесь же, повсюду, особенно на ипподроме, повторяли, что оно стоит от пяти до шести тысяч. Королевский подарок! Случайно или с намерением, но удар был нанесен. — Лентилий, — сказал Юстиниан одному из своих товарищей, римскому всаднику, который исполнял при нем, вследствие тесной дружбы, обязанности любезного наперсника, — ты узнаешь, кто эта женщина, такая прекрасная, так великолепно бросающая бриллианты возницам. Лентилий поклонился. Для него слушать — значило повиноваться. В тот же вечер он привел Феодору Юстиниану в императорский дворец. Через шесть месяцев Юстиниан, чтобы жениться на Феодоре, просил своего дядю уничтожить древний закон, запрещавший сенатору жениться на актрисе или проститутке. И так как сам он, император, был женат на наложнице — Евфемии-невольнице, — то, чтобы сделать приятное племяннику, Иустин одним росчерком пера уничтожил благородный и уважаемый закон. Каким образом за шесть месяцев Феодора достигла того, что принудила Юстиниана не то что возвысить ее до себя, но унизиться до нее? Открытие этой тайны для нас недоступно. Однако, должно сказать, что не одним только поощрением его чувственности прежняя любовница Адриана достигла господства над Юстинианом. Он был слишком силен, чтобы подчиниться такому грубому влиянию. Влюбленная и прекрасная, и только прекрасная и влюбленная, Феодора никогда не сделалась бы его женой. Но она была умна, она умела читать в его душе и, прочитав, применила столько таланта, что стала его поверенной и советницей. Нельзя вообразить, какое могущество заключается в двух существах разных полов, соединенных любовью и гордостью, Юстиниан мечтал о троне и лелеял надежду получить его после дяди; между тем народ и армия не скрывали своей симпатии к Виталию, внуку знаменитого полководца Аскара, самому бывшему знаменитым военачальником. Виталий был препятствием для Юстиниана, поэтому Юстиниан его ненавидел и не скрывал этого. — Показывать своему врагу, что ненавидишь его, — ошибка! — говорила Феодора Юстиниану. — Громадная ошибка, предупреждающая о том, что надо остерегаться врага, ну, а если он настолько глуп, что не остережется, и с ним случайно произойдет несчастье, то общественное мнение обвинит вас. Позволите ли вы мне, мой друг, восстановить приличный порядок вещей? — Делайте! — ответил Юстиниан. Этот разговор был немного ранее свадьбы Феодоры и Юстиниана. На другой день после бракосочетания на большой обед у императора был приглашен Виталий. Феодора употребила столько любезности, столько грации, что полководец был восхищен. Это было честное и правдивое сердце; жена ему улыбалась, сам муж, казалось, осознал несправедливость своей вражды. Через несколько дней он был принят Юстинианом, и в течение месяца трое новых друзей не расставались. Но однажды вечером, после прогулки по морю, во время которой Феодора и Юстиниан необыкновенно ласкали его, Виталий был изменнически поражен в спину убийцей, оставшимся неизвестным. Какое несчастье! Этот добрый Виталий!.. Феодоре и Юстиниану не хватало слез, чтобы оплакать эту гибельную новость. Это были крокодиловы слезы, которыми народ не обмануть. Но Иустин признал обоих невиновными. Старый император слабел с каждым днем. В 526 году Антиохия была почти совершенно разрушена землетрясением. Иустин был так потрясен этим несчастьем, что надел вретище и заперся на три месяца в своем дворце, чтобы рыдать и молиться. На следующий год, в апрельские календы, с согласия сената, он сделал своего племянника кесарем и соправителем. Четыре месяца спустя, в августовские календы 527 года, соправитель уже царствовал один. Иустин умер. Прежде чем обратиться к частной жизни Феодоры-императрицы, набросаем очерки ее главных поступков. Для куртизанки Феодора недурно, в политическом отношении, играла роль императрицы. Умирая, Иустин оставил Греческую империю — жалкие остатки римского могущества — в самом жалком состоянии. Со всех сторон ей угрожали враги: вандалы в Африке, персы в Азии, готы в Италии. Вскоре Константинополь, а с ним вместе вся империя должна была сделаться добычей варваров. По совету Феодоры первой заботой Юстиниана было поставить во главе войска кого-нибудь из прежних своих стражей, подобно ему, рожденного в хижине, во Фракии, и сделавшегося впоследствии одним из его офицеров. Этого офицера звали Велисарием, он был величественного роста, сила его равнялась его мужеству, ум его был остр, взгляд верен и быстр. Юстиниан возложил на него трудную задачу: сохранить Восточную и Западную империю. Велисарий показал себя достойным этого назначения. Победы Велисария были бесчисленны и блестящи: он несколько раз разбивал персов в Сирии, вандалов в Африке, царя которых привел пленником в Константинополь. В Италии он победил готов и прислал от Рима ключи византийскому императору. Велисарий одержал столько же побед, сколько давал сражений. С 527 года, когда Юстиниан вступил на трон, до 558 года, то есть в течение тридцати одного года, ни сердце, ни рука Велисария не ослабевали. Велисарий поистине был провидением Юстиниана и Феодоры, и они должны были бы вознаградить его по-царски за столько великих услуг. Но… поговорим дальше о том, как он был вознагражден. В этой главе мы упомянем о тех громадных работах, которые по совету его жены и по примеру Константина были исполнены Юстинианом. «Не было ни одной провинции, — говорит Прокопий, — в которой бы он не построил города, крепости или, по крайней мере, дворца». Таким образом, на том месте, где был храм Божественной мудрости, уничтоженный пожаром, Юстиниан построил храм св. Софии, для украшения которого он приказал забрать все самое драгоценное из древних языческих храмов. Феодора, после того как вступила на императорский трон, выказывая великую любовь к религии, заставила Юстиниана обессмертить его имя благочестными постройками, и она же, мечтая о его славе, посоветовала ему привести в порядок законы, которые известны до настоящего времени под именем Юстинианова кодекса и послужили источником для многих европейских законодательств. Теперь, когда сказано о сделанном Феодорой добре, остается еще сказать о том, что она сделала злого. Увы, этот рассказ будет длиннее первого. Да, из гордости Феодора желала, чтобы государь, с которым она разделяла трон, был величайшим государем во всем мире, и с этой целью призывала его к великим деяниям. Но — странная аномалия! — человека, имя которого она желала прославить во всей вселенной, — этого человека она, его жена, не боялась бесчестить, каждый день предаваясь самому возмутительному бесстыдству. Знал ли Юстиниан о развратном поведении Феодоры? Как же он мог не знать об этом? Феодора центром своего распутства избрала сам императорский дворец. Опять-таки это было в нравах той эпохи; Юстиниан был человек той эпохи: он все видел и избегал видеть. К тому же, быть может, он говорил самому себе, что разумнее не возмущаться тем злом, которое впервые произведено не нами. Он женился на куртизанке. Мог ли он требовать, чтоб эта куртизанка, оказавшись под царственным пурпуром, отказалась от своих наклонностей, вкуса, инстинктов? У Феодоры были три подруги в наслаждениях: Клизомана, Изидора и Македония, но самым дорогим ее другом была Антонина, жена Велисария, ибо Велисарий также был женат на куртизанке. Что сделал господин, то слуге его тем паче дозволительно сделать. Подобно Феодоре, Антонина бывала иногда в театре одной из застольниц проституционного портика. Однажды, возвратясь из путешествия, Велисарий пришел в ярость при рассказе о некоторых приключениях, в которых Антонина была героиней, и его первым движением было бросить ее в тюрьму. Но такая строгость была вовсе не в расчете Феодоры: ей не нравилось, что полководец давал пример императору, наказывая жену легкого поведения. Императрица позвала Велисария и предложила ему немедленно примириться с Антониной. Велисарий повиновался, во-первых, потому, что, несмотря на ее ветренность, обожал свою жену, а во-вторых, она была для него великой помощью у императрицы в том случае, когда император чувствовал потребность отплатить неблагодарностью за его услуги. Да, Феодора полновластно царила над императором! И несчастье тому, кто омрачал это могущество! Вот один из тысячи примеров. По возвращении из одного путешествия в Лидию императрица встретила во дворце в качестве секретаря молодого римлянина по имени Корнелий, которым Юстиниан был, по-видимому, очарован. — Этот Корнелий прелестен! — повторял каждую минуту Юстиниан. — Он мил, образован, умен, любезен! Благодаря ему, каюсь, дорогая Феодора, я почти позабыл о вашем отсутствии. — Право? — сказала императрица. — Я в восхищении от того, что ваше величество мне нашел! Корнелий нравится вам и, без сомнения, нам тоже понравится. Лучезарный Корнелий поклонился. Он не сомневался в своем счастье. Государь и государыня одинаково удостаивали его вниманием. Но вечером, когда он прогуливался в садах, его нечаянно окружила стража и потребовала, чтобы он следовал за нею. И так как Корнелий отказывался, так как он сопротивлялся, стража схватила его, связала и унесла неизвестно куда. На другой день, в тот час, когда Юстиниан имел обыкновение работать с Корнелием, он был удивлен, не видя своего секретаря. Он приказывал отыскать его, когда вошла Феодора. — Совершенно бесполезно отыскивать Корнелия, — холодно сказала она, — его не найдут. — Почему? — спросил император. — Потому что он в тюрьме. — Полно! Что такое он сделал, чтобы быть заключенным в тюрьму? Феодора улыбнулась своей недоброй улыбкой и, наклонясь к императору, сказала ему: — Я не люблю тех, которые заставляют позабыть меня. Император тихо пожал плечами. — Ревнивица! — сказал он. И больше ничего. Никогда более не было между супругами разговора о прелестном Корнелии. Феодора была неумолима в своей ненависти, и совсем немного было нужно, чтобы заслужить ее, однако, смотря по степени, она выражала ее различными способами. Она приказала устроить под землей, в основании своего летнего дворца, темницы, в которые никогда не проникал луч света. Там люди, которые стесняли ее или просто ей не нравились, отправлялись на тот свет. Там Корнелий — этот тростник, осмелившийся бороться с дубом, — страдал и умер. Тех, на которых она имела право жаловаться, тех умерщвляли тотчас же. Исполнителя этих экзекуций звали Андрамитисом. То был черный евнух колоссального роста и весьма благообразный. Феодора привезла его как-то в одно из своих таинственных странствий. В Константинополе говорили втихомолку, что это был демон, которого она купила у одного египетского мага. Во всяком случае, Андрамитис любил только Феодору и повиновался только ей. Даже сам император не имел власти заставить сделать Андрамитиса хоть одно движение, если императрица не позволяла ему. Этот Андрамитис одним ударом убил Виталия. Он всегда наносил только один удар и не спереди, как лев, а сзади, как тигр; именно Андрамитис через несколько недель по возвращении Феодоры в свой родной город освободил ее от одного воспоминания о белокуром парике. Персы напали в то время на Битинию. Бежав от персов, Гецебол отправился в Константинополь; на площади Константинополя носилки экс-наместника встретились с носилками Феодоры. Узнал или не узнал Гецебол свою бывшую любовницу, во всяком случае он благоразумно не дал ничего заметить, но его прежняя любовница узнала его и отдала приказание Андрамитису. На другое утро Гецебола нашли зарезанным в постели. Сделавшись императрицей и оставшись куртизанкой, Феодора усложнила роль Андрамитиса как исполнителя ее мести другими не менее важными и не менее гнусными занятиями. Когда-то существовала в Париже Нельская башня, на берегу Сены. Те, кто входил в эту башню, пропадали бесследно, их уносила река. Но Маргарита Бургундская и ее сестры Жанна и Бланка были жалкими подражательницами Феодоры и ее достойных подруг — Македонии, Изидоры, Клизоманы и Антонины. К тому же в Константинополе эти слишком эротические знатные дамы не заманивали сами, подобно обитательницам Нельской башни, прохожих: для этого у них были особые женщины. Что касается остального, то в императорском дворце древней Византии, так же, как позже в Нельской башне, после окончания оргии те, которые служили для ненасытного сладострастия, исчезали… Заставить их исчезнуть было обязанностью Андрамитиса. В глубине сладострастно отделанной залы, в которой несчастные молодые люди, жертвы ненасытной страсти этих обжор, в продолжение целой ночи опьянялись поцелуями и вином, услаждались изысканными кушаньями и безумными ласками, была скрытая под небесно-голубого цвета материей дверь, окрашенная красной краской — цветом крови… Феодора и ее собеседницы уходили, говоря им без содрогания: «До свидания!» Гнусная ложь, они знали, что никогда более их не увидят!.. Феодора и ее подруги удалялись, к влюбленным являлся Андрамитис и приглашал их следовать за собою. Они безбоязненно шли за ним. Андрамитис направлялся к красной двери, от которой один только он имел ключ, и отпирал ее. Затем, сделав знак молодым людям идти вперед, он пропускал их в большой коридор, в конце которого виднелась лестница, судя по всему, ведшая к потаенному выходу, который выведет их из дворца. Когда они были где-то на середине прохода, красная дверь за ними запиралась, чего они не знали, и тут пол под ними проваливался, раскрывая бездну… Единый вопль ужаса вылетал из пяти грудей… потом наступало молчание… гробовое молчание. Пол становился на прежнее место, скрывая тела несчастных, растерзанных во время падения об острые крючки и ножи, и эти куски падали на дно колодца, в котором в час прилива Босфор обновлял воду и смывал кровавые пятна. Эта машина была гораздо удобнее каменного мешка Маргариты Бургундской. Из мешка выходят, как, например, Бюридан. Но никто не мог выйти, иначе как в кусках, из бойни Феодоры. Между тем время насмехалось над смешными претензиями Феодоры, доказывая день ото дня, что она создана из той же глины, как и последний из ее подданных. Тщетно она напрягала усилия в бесконечно мелочных заботах о самой себе, проводя каждое утро от пяти до шести часов в бане, плотно потом завтракая и долго отдыхая; с каждым днем она замечала, как увядала ее красота. Вид первой морщины вызвал у нее дикую вспышку ярости против природы и сделал ее, если только это было возможно, более гнусной и более злобной. К ее природным порокам присоединились другие. Она была надменна и распутна, стала недоверчива и жадна. Доселе она расточала золото, теперь она начала его поглощать и брала его всюду. Чтобы вырвать признание в воображаемых преступлениях у людей, состоянием которых она намеревалась завладеть, она изобрела пытки… Вот что почти всегда было результатом этого изобретения. Пытаемому, который был привязан к скамье и как следует скован, стягивали голову бычьей жилой так, что вены на лбу его вздувались, чуть не лопаясь, а глаза чуть ли не вылезали из орбит. Обезумев от боли, он испускал пену, выл, рычал… И — признавался… Всего прискорбнее было то, что, злоупотребляя своей властью над Юстинианом, Феодора и его увлекала на путь беззаконий… Он не был кровожаден, но стал таким… Он любил народ, из которого вышел, — и разорил его; он имел уважение к славе, благодарность к оказанным услугам… и растоптал ногами эту благодарность и уважение… Велисарий, как известно, в течение тридцати лет был оплотом империи. В 558 году, уже старик, знаменитый полководец как будто помолодел, пойдя против гуннов, развоевавшихся по Италии… Через три года, подстрекаемый Феодорой, Юстиниан, упрекая Велисария за то, что он хотел занять трон, лишил его всех почестей, приказал выколоть ему глаза и заключил в башню на берегу моря, которую и доныне называют башней Велисария. Из окна своей темницы, из которого спускался на веревке мешок, старый полководец кричал проходящим внизу: «Дайте же один обол старому Велисарию, у которого зависть выколола глаза». Антонина, жена Велисария, в преклонных летах сохранила роскошные черные волосы… Напротив, волосы Феодоры падали и седели, что заставило ее употреблять золотую пудру. Из зависти, из ревности к волосам своей подруги Феодора обвинила Велисария в заговоре против Юстиниана. Весьма остроумное средство — посредством мучений мужа заставить поседеть волосы жены. О! Феодора была искусна в изобретениях. Приближаемся к развязке истории Феодоры, но прежде чем сказать, как умерла эта коронованная блудница, — в своей постели как честная мать семейства, — передадим одно приключение, которое, как полагаем, немало способствовало поддержке в ней до самого последнего вздоха ее кровожадности. Это было в 542 году. Антонина была с Велисарием в Италии. По различным причинам, о которых не стоит говорить, императрица, охладев к остальным трем своим подругам, несколько дней уже не принимала их у себя. Но отказавшись неожиданно от оргий, Феодора не отказалась от наслаждений. Каждый вечер ей, по обыкновению, приводили любовника. Однако, несмотря на то, что она была одна, без подруг, Феодора, покидая его, как и прежде, с подругами, иронично говорила ему «до свидания», и этот любовник на одну ночь уходил из дворца в красную дверь. Ничего не изменилось в привычках кровожадного Минотавра, разве что одно: он пожирал на четыре жертвы меньше. В этот вечер Феодора вошла беспокойная в свои апартаменты. Император страдал, очень страдал, он едва отобедал и, покинув стол, бросился на постель, несмотря на просьбы императрицы, отказавшись принять медика. Что такое случилось с его величеством? Ах! Феодора не скрывала от самой себя, что когда его величество будет в земле, она, императрица, рискует окончить свои дни в монастыре, основанном ею для известного и достаточно распространенного класса женщин, называвшемся монастырем покаяния. Наверное, ее не оставили бы на троне, у нее так много врагов! Опустив голову, в глубокой думе, Феодора сидела в комнате рядом с той, в которой она ожидала любовников. Прошло десять минут, а она не слыхала никакого сигнала, которым обыкновенно предупреждали ее о приходе любовника… Легкий шум вывел ее из задумчивости, она подняла голову… Перед ней стоял коленопреклоненный юноша, красота которого сразу поразила императрицу. Ей почему-то показалось, что когда-то она видела эту прекрасную фигуру. Однако сейчас, при ее расположении духа, ей стало неприятно, что этот любовник, как бы ни был он красив, своевольно упредил ту минуту, когда ему дозволили бы явиться к ней. Она нахмурила брови и отрывисто сказала: — Что тебе надо? Кто звал тебя? — Простите меня, государыня, — отвечал молодой человек, по-видимому, не смущенный этим приемом и не оставлявший своего почтительного положения, — простите мое нетерпение, которое могло заставить меня сделать непозволительность… Но… не правда ли, вы — императрица?.. — Да. Дальше? — О! Я не сомневался в этом! Вы именно такая, какой представляет вас этот портрет, по памяти нарисованный моим отцом и отданный мне в минуту его смерти, когда он открыл мне тайну моего рождения. — Тайну твоего рождения? Мой портрет, нарисованный им по памяти?.. Как же звали твоего отца?.. — Его звали Адрианом, меня зовут Иоанном… Феодора вздрогнула. С ней говорил ее сын! Ее сын, живой портрет ее первого и единственного возлюбленного… Она понимала теперь, чем так поразило ее при первом же взгляде лицо этого юноши. Ее сын! Этот юноша ее сын!.. И она узнала себя на портрете, который изображал ее в возрасте двадцати лет. Это льстило ее самолюбию. Попеременно глядя то на портрет, то на молодого человека, отдавшего ей ее изображение, на котором скорее вдохновенный, чем искусный карандаш воспроизвел ее прежние черты, она улыбалась… Но сын!.. Имела ли право она, жена императора, иметь сына?.. Этот сын не повредит ли ей? Не повредил ли уже, узнав тайну своего рождения?.. Она выпустила из рук портрет… улыбка исчезла с ее губ… — О! Не бойтесь ничего! — вскричал Иоанн, как будто он, как в открытой книге, прочитал что-то в душе своей матери. — Только я, вы и Бог знаем, кто я… Императрица вздохнула. Она сделала движение, означавшее: «Слава Богу!» — Но, — сказала она после молчания, — полагаю, что твой отец не обманул тебя. А на что ты надеялся, являясь ко мне? И как ты сюда вошел?.. — О! Что касается этого, — сказал Иоанн, — я не сумею объяснить вам, потому что не могу объяснить самому себе. Без сомнения, добрый ангел принял меня под свое крыло. Явившись вчера вечером в Константинополь, я сегодня утром, с рассветом, сел у вашего дворца, — а быть около вашего жилища для меня почти то же, что быть около вас, — когда одна женщина подошла ко мне и спросила, что я здесь делаю? У этой женщины был благосклонный вид. Я отвечал, что желаю видеть императрицу. Я мог ответить это, не компрометируя вас. «Откуда вы? — продолжала женщина. — Вы не из этого города?» — «Я родился, — отвечал я, — здесь, но уже много лет, как я здесь не был. Я из Порпе, в Сирии». — «И вы никого не знаете в Константинополе?» — «Никого». — «И вы желаете видеть императрицу? Для чего?» — «Поскольку, говорят, она прекрасна… она должна быть добра». — «И вы будете просить об ее покровительстве, чтобы получить место в ее страже?» — «О! Я буду чрезвычайно счастлив, служа моей государыне!» Женщина, казалось, размышляла о чем-то, потом сказала: «У меня есть друзья во дворце, с которыми я поговорю о вас. Сегодня вечером, с наступлением ночи, будьте на этом месте, если возможно будет ввести вас к императрице — вас введут». Я не пренебрег этим свиданием; гораздо раньше ночи я был уже там, где поутру и встретил женщину, которую благодарил от глубины души и которую ждал нетерпеливо. Она наконец явилась. «Я успела, — сказала она. — Императрица вас примет. Следуйте за мной!» Я повиновался и следом за нею вошел во дворец через дверь, выходящую в сад. Я поднимался по лестнице, когда моя проводница скрылась, к моему великому огорчению, потому что, весь охваченный моей радостью, я позабыл поблагодарить ее. Вдруг какой-то гигант-негр заменил ее и, взяв меня за руку, провел в великолепную комнату, сказав одно только слово: «Жди!» Остальное вам известно. Я ждал около часа, когда в этой стороне мне послышались шаги. Быть может, я виноват, но это было свыше моих сил, — я приподнял портьеру, увидел вас и… Вы спрашиваете, чего я прошу, на что я надеюсь? Мне нечего более надеяться… я получил все, чего желал… я видел вас и могу сказать: «Великая государыня! Вам нужна собака, готовая за вас умереть, — вот она!» Этот рассказ Феодора усилием воли заставила себя слушать спокойно. Но сколько же неожиданных, сладостных чувств вспыхнуло в ее душе, пока молодой человек говорил. Этот юноша был ее сын… Родной сын!.. Ее кровь и плоть. И он был прекрасен!.. О да, прекрасен!.. И он любил ее, как любил своего отца, на которого походил не только лицом, но даже голосом… При звуке этого голоса Феодора снова стала двадцатилетней. И он ничего не говорил… И ничего не скажет, что могло бы повредить ей. О нет! Подобно своему отцу, он был умен. У нее был сын! С сыном женщина, будь она хоть императрицей, не одна. У нее есть защитник… А если император не умрет?.. Но почему он должен умереть? Его жизнь вне опасности… он узнает… Машинально она протянула руку сыну… и снова отняла ее… Он все еще стоял на коленях. — Садись, — сказала она ему. Он медленно сел. Ясно, что движение матери не ускользнуло от него, и он все еще надеялся на что-то. — Итак, — спросила она, — только в минуту смерти отец открыл тебе… — Да, в минуту смерти!.. — В каких выражениях он передал вам эту тайну? — Он говорил мне, что имел счастье любить вас и быть любимым вами… Тогда вы были дитем народа, как и он. Что вы ушли из своего семейства… но… — Сами или по совету отца вы пришли ко мне? — По совету моего отца и по своему желанию. У меня там не было никого больше, кого бы я любил… — Что вы делали в Порпе? — Отец был управителем богатого купца, я — секретарем. — Долго вы жили в Сирии? — Двадцать лет. — Но у вашего отца была родственница… тетка?.. — Флавия. Да. Она воспитала меня и умерла девять лет назад… — Она!.. И она никогда об этом не говорила вам?.. — Никогда. Когда я спрашивал о моем отечестве и моей матери, она говорила мне — то же самое говорил и мой отец, — что я из Битинии и что мать моя умерла, родив меня. Феодора хотела продолжать свои вопросы, когда постучались в дверь комнаты, в которой она говорила со своим сыном. У императрицы все было заранее обусловлено, по стуку она узнала, кто стучался. Это был один из комнатных слуг императора, Бобрикс, которому она поручала во всякое время и при всех обстоятельствах являться к ней с известием, требует ли ее муж или просто желает видеть. — Войди, — крикнула она. Бобрикс вошел. Император, по его словам, страдал сильнее, выйдя из своего беспамятства, и он произнес имя императрицы. — Достаточно, — сказала Феодора, — я следую за тобой, Бобрикс. И, рассеянно обратившись к Иоанну, сказала: — До свидания! Потом она быстро удалилась. Юстиниан на самом деле страдал, но его болезнь не была опасной. Он просто обожрался. Только перед рассветом Феодора вернулась в свои апартаменты. А ее сын? Она вошла в комнату, в которой она его оставила, но его там не было; она искала в других комнатах… нигде… никого!.. Вдруг какой-то бледный намек, какое-то сомнение оледенило ее ум… Направясь к маленькой двери, скрытой в филенках, она спустилась на несколько ступеней и вошла в комнату Андрамитиса. Он спал сном праведника. Она бросилась к нему. — Этот юноша… араб, которого привели ко мне?.. Негр устремил на Феодору сонный взгляд. — Ну! — продолжала она. — Этот юноша? Где он? Говори! Да говори же! Где он! — Он там, — забормотал евнух, — где должен быть. Вы ушли. Я спросил его. Он мне сказал, что, оставляя его, вы ему сказали: «До свидания». Я проводил его в красную дверь… Десница Божья! Господу неугодно было, чтобы эта женщина, которая в двадцать лет не сумела быть матерью, испытала бы это счастье в пятьдесят. А может, в самом деле испытала? Из уважения к женщине и к человечности мы желали бы так думать. И как доказательство расскажем о последнем дне ее жизни. Это было в 565 году, когда сначала Феодора, а потом Юстиниан — она в апреле, он в июле — покинули этот мир. Хотя император был гораздо старше ее, ему было восемьдесят четыре года, Юстиниан не переставал окружать заботами и попечением ту, которая разделяла с ним трон, славу и преступления. Целый месяц, пока императрица болела, каждый день в полдень он садился у ее постели и покидал свое место лишь в полночь. Роковая минута приближалась. Доктора считали, что Феодоре, пожираемой раком желудка, осталось жить сутки. Был вечер. Освободившись на несколько минут от страданий, она лежала неподвижно и безмолвно. — Вам что-нибудь нужно, мой друг? — спросил император. Она собиралась ответить «нет», когда вошел Андрамитис. Тоже постаревший, но по-прежнему преданный своей госпоже. Увидев своего демона, Феодора как-то странно улыбнулась и вместо «нет» вдруг сказала, обратившись к супругу: — Да. Дайте мне вон тот кинжал, что лежит на столе. Кинжал с золотой рукоятью был подарком полководца Нарцисса, преемника Велисария. Юстиниан поспешил исполнить просьбу Феодоры и подал ей кинжал. В этот момент она сказала мягко: — Андрамитис, поищи на тигровой шкуре, возле постели, мой изумрудный перстень, который я только что уронила. Андрамитис подошел поближе и, чтобы удобней было искать, наклонился над тигровой шкурой. Феодора приподнялась на своем ложе и всадила кинжал по самую рукоятку негру между плеч. Он упал бездыханным. Юстиниан вскрикнул: — Боже мой! Зачем ты убила этого невольника, моя дорогая? — Он обворовывал меня, — холодно ответила Феодора, снова опускаясь на подушки. Она солгала. Андрамитис ничего у нее не крал, она убила его потому, что и спустя двадцать три года не простила ему, что он вывел ее сына через красную дверь… На другой день, 17 апреля 565 года, императрица Феодора скончалась.ЧИАНГ-ГОА
(Бутон розы)Все подробности этой истории заимствованы нами из самых достоверных источников. Мы получили их не от самой героини — нам так и не удалось воочию увидеть китаянку Чианг-Гоа, — но от других наших героев. Позволив напечатать эту историю, одно из главных действующих лиц просило не упоминать его настоящего имени. Лет пять тому назад он был любовником проститутки Чианг-Гоа, и любовник этот — французский пейзажист. Он был пейзажист в поэтическом стиле, прославленном Клодом Лоренем, меньше заботившимся о композиции, чем о верности природе. Он повидал Европу, и ему давно уже хотелось посмотреть Азию. Но путешествие требует больших средств. В Индию отправляются не по железной дороге; чтоб переплыть океан, нужны деньги, так же как нужны они для того, чтобы свободно себя чувствовать среди аборигенов. Эдуард Данглад хорошо понимал это, и так как состояние не дозволяло ему привести в исполнение свои замыслы, то он поджидал случая. Один из его старинных товарищей, граф д’Ассеньяк, страшно богатый и также жаждавший постранствовать по свету, предложил ему оплатить все расходы, но художник был горд: он отказался. — Все эти твои нежности даже странны и смешны, — сказал ему д’Ассеньяк. — У меня триста тысяч ливров дохода, и я без всякого для себя стеснения предложил тебе удовольствие, в котором и сам приму участие. — Которое из-за меня будет стоить тебе полсотни тысяч франков. Спасибо! Ты можешь предлагать, я не принимаю. — Полсотни тысяч!.. Ты преувеличиваешь!.. — Вовсе нет! Чтобы видеть все, нужно платить, и платить дорого; полагаю, ты же не приедешь из Китая с фуляром за три франка или с фунтом чаю. — Конечно, нет… Мы купим там хороших материй, мебели… оружия… Да позволь же дать тебе взаймы эти пятьдесят тысяч франков. — Я боюсь долга. — Ты мне заплатишь картинами. — Я дурно работаю, если получаю вперед. — Ты невыносим! Из-за тебя я принужден не отправляться туда, куда мне хочется ехать. — Как из-за меня? Я тебе не мешаю хоть завтра отправиться на Луну. — Да ведь знаешь же ты, что без тебя на Луне я соскучусь. Непредвиденный случай снял все трудности. У Данглада где-то в Германии был старик дядя, которого он видел раза два за всю жизнь и который недавно кончил апоплексическим ударом, оставив ему в наследство триста тысяч франков. Выйдя от нотариуса, который сообщил эту счастливую новость, Данглад бросился к д’Ассеньяку сказать, чтобы тот готовился в дорогу. Через неделю приятели были по дороге в Ливан — к первой их станции на земле Азии. В самом деле, странствовать по свету, должно быть, очень приятно. Те два года, которые Эдуард Данглад провел в Аравии, Персии, России, Индии, Китае, показались ему двумя днями, а сколько приключений, сколько любопытных приключений пришлось на его долю в эти два года. Но нас в настоящее время занимает одно только из этих приключений, а потому мы оставляем вместе с нашими путешественниками берега Вампу в Шанхае и переносимся вместе с ними в Иеддо (старое название столицы Японии — Токио), в Японию. Данглад познакомился со знаменитой китайской куртизанкой Чианг-Гоа не в Китае, ибо в Китае нет куртизанок в том несколько либеральном смысле, который придается этому слову во Франции; на цветных лодках, их постоянном месте пребывания, встречаются только самые ужасные создания, от которых с отвращением бежит европеец. Это было в Японии. Как печален и грязен китайский город Шанхай, так весел и чист японский город Иеддо.
Под руководством английского туриста сэра Гунчтона, которого они встретили в Пекине и который знал Иеддо как свои пять пальцев, побывав в нем уже раза три, Данглад и д’Ассеньяк остановились в одном из лучших кварталов, в доме, построенном между французской и голландской миссиями. Отдохнув несколько часов от усталости после восьмидневного переезда, они уселись в паланкин, который несли четверо носильщиков и сопровождала стража Тайкуна. Они остановились у дверей чайного дома (род кофейной), чтобы посмотреть на двух женщин, танцевавших под звуки инструмента вроде мандолины, когда к ним подъехал верхом сэр Гунчтон. — Господа, что вы тут делаете? — смеясь, вскричал англичанин. — Вы видите, — тем же тоном ответил Эдуард Данглад, готовясь набросать эскиз одной из музыкантш, которая, продолжая играть на своем инструменте, что-то мяукала. — Но, — сказал сэр Гунчтон, наклоняясь к художнику, — останавливаться перед подобными домами неприлично. — Ба!.. — Без сомнения. Посмотрите на ваших проводников! Только низший класс посещает чайные дома. — Почему? — спросил д’Ассеньяк. — Разве чай не хорош здесь? — Нет, потому что эти места служат обыкновенно местами свиданий для бродячих куртизанок. — Ай да славно! — весело заметил граф. — Но отчего же не посмотреть хоть мимоходом на этих бродячих проституток, если они красивы собой… А эти танцовщицы и певицы… — Нет, они довольствуются теми грошами, которые приобретают с помощью горла и ног… Но, господа, в Иеддо есть получше этих… И если вы согласны на нынешний день взять меня вашим гидом-чичероне, то, пообедав у одного моего приятеля Нагаи Чинаноно… — А кто он такой, — спросил Данглад, — ваш приятель Нага… Нага..? — Нагаи Чинаноно. Богатый здешний купец, говорящий по-английски не хуже, чем я или вы. Он пробыл два года в Англии. Очень добрый и учтивый господин. Он будет в восхищении от посещения двух знаменитых французов. — Знаменитых?.. — В Японии все иностранцы необыкновенно знамениты. К тому же… — Короче говоря, — перебил д’Ассеньяк, — после обеда у вашего друга вы куда нас поведете? — Я вам это скажу за столом. — Право, — заметил Данглад, пожимая плечами, — это вовсе не трудно угадать, и я удивлюсь, Людовик, твоей просьбе о лишних объяснениях. Сэр Гунчтон молод, сэр Гунчтон часто бывал в этой стране, и ему известны все развлечения, которые можно получить здесь. Но, что касается меня, милый чичероне, я должен сказать, что к некоторым удовольствиям я не чувствую никакого влечения. Продажная Венера, где бы ни царила она, — в Европе или в Азии, в Париже или в Иеддо, — не возбуждая во мне совершенного негодования, не внушает в то же время ни малейшего желания. — Пусть так, — возразил сэр Гунчтон, — но из простого любопытства, как художник, вы, надеюсь, не откажетесь увидеть самую знаменитую куртизанку в Японии китаянку Чианг-Гоа?! — Нет! Нет! — воскликнул д’Ассеньяк. — Если не для самого себя, то для меня Данглад нанесет визит к Чианг-Гоа. Мы к вашим услугам, сэр Гунчтон. Ведите нас. Куда? — Полагаю, сначала обедать, — сказал Данглад. — Это предложение мне больше нравится. Я чертовски голоден. — Держу пари, — улыбаясь, сказал Гунчтон, — что обед понравится вам меньше, чем женщина. А так как художник отрицательно покачал головой, то англичанин с той же улыбкой продолжал: — Знаете вы французскую пословицу, которая гласит: не надо говорить: «Фонтан, я не стану пить из тебя воды!»? Познайте сначала фонтан, чтобы доказать искренность своего отвращения. Разговаривая таким образом, трое европейцев и их проводник переходили мост, весь из кедрового дерева, украшенный великолепными резными балюстрадами. Нагаи Чинаноно самым вежливым образом принял своего друга, сэра Гунчтона, и его товарищей — знаменитых французов. — Дом мой — ваш дом, — сказал он им с вежливым видом. Дом купца в Иеддо если не элегантен, то зато обширен. Дом был окружен верандой. Под сводом галереи, выходившей в сад, был подан обед, состоявший исключительно из рыбы, плодов и пирожных, так как еще не пришло время охоты, на рынках не было дичи, а в Японии неизвестны вовсе баранина, козлятина и свинина, быки же употребляются единственно для домашних работ. За десертом два лакея принесли чай и сакэ, опьяняющий напиток, добываемый из риса, который Нагаи Чинаноно особенно рекомендовал своим гостям. Но одного глотка сакэ было достаточно для Данглада и д’Ассеньяка; они поспешили к мадере и шампанскому. Закурили маленькие металлические трубки, наполненные чрезвычайно тонким ароматическим табаком, так как в Японии неизвестно употребление опиума. Потом д’Ассеньяк начал разговор, который перешел на Чианг-Гоа. При первых словах о знаменитой куртизанке Нагаи Чинаноно прикусил язык. Нагаи Чинаноно был честный муж: ему приходилось быть неверным, но только в том случае, когда он не мог поступить иначе. — Чианг-Гоа! — сказал он, бросая на англичанина укоризненный взгляд. — Как, сэр Гунчтон говорил вам об этом создании?.. — Даже хуже, — возразил сэр Гунчтон, — строго соблюдая правила установленного ею этикета, я, пока готовили здесь обед, послал одного из ваших слуг к этому созданию, извещая ее о том, что сегодня вечером я и эти господа, а если хотите, то и вы, отправимся к ней с визитом. — О! О! Со мной? Вы шутите!.. Я женатый человек!.. — Таким образом, — спросил Данглад, — чтобы быть принятым Чианг-Гоа, необходимы какие-то особые предупреждения? — Конечно, — отвечал сэр Гунчтон, — и при неисполнении этого условия самые знатные вельможи, сам микадо, духовный повелитель Японии, рисковал бы разбить себе нос об ее двери. — Так она очень могущественна? — По праву красоты. По праву, перед которым всего охотнее склоняются люди. — Она и богата? — Очень, вероятно. Положительно известно одно только, что она живет на широкую ногу. Не правда ли, Нагаи? — Почем мне знать! Разве я бывал у Чианг-Гоа? Сэр Гунчтон захохотал. — Это уж слишком! — сказал он. — Именно вы в последний раз так расхваливали мне ее красоту и роскошь ее жилища, что возбудили во мне желание познакомиться с Бриллиантом Иеддо, как прозвали Чианг-Гоа. — Ну, это правда! — сознался японец. — Имея, господа, жену и детей, не делаешься же мраморным. Да, я был у нее один раз. — Один раз только? — Ну, может быть, два раза, но не больше… Я видел Бутон розы. — Кто это — Бутон розы? — спросил д’Ассеньяк. — Чианг-Гоа. Это и значит — Бутон розы. — Бутон розы! Бриллиант Иеддо!.. Сколько имен для одной куртизанки, — заметил Данглад. — Они заслуженны, — пылко сказал японец. — По своей свежести Чианг-Гоа — это бутон розы, по блеску — бриллиант… — А сколько лет этому Бриллианту? Этому Бутону? — Четырнадцать. Д’Ассеньяк и Данглад невольно переглянулись. — Четырнадцать лет? — переспросил первый. — А сколько времени ее знают? — Три года. Оба друга снова взглянули один на другого. — Вы забываете, — улыбаясь, сказал им сэр Гунчтон, — что в этой стране девушка в десять лет становится женщиной и в двенадцать часто матерью. — И увядает, сохнет, стареет в двадцать. Такова участь ранних плодов: они не сохраняются. Но, — продолжал Данглад, — один вопрос. Мне говорили, что китайцы вообще мало любимы и уважаемы в Японии, каким же образом в профессии, без сомнения, исключительной… которой, вероятно, занимаются и японские женщины… каким образом в первом ряду стоит китаянка?.. — Потому, — ответил Нагаи Чинаноно, — что для нас китаянка — не то, что… — Что китаец? — Правда, — наивно продолжал японец. — К тому же, Чианг-Гоа так мало жила на родине, что не могла заразиться грубостью нравов. — Ноги у нее не разделаны, как у знатных дам Пекина и Шанхая? — спросил д’Ассеньяк. — Она не ходит прискакивая, как индейка? — Полноте! — сказал сэр Гунчтон. — Она ходит так же грациозно, как и всякая другая женщина, обладающая грацией. — Но, — заметил Данглад, — кто же привез ее в Иеддо? — Фигляры, странствующие актеры. Ее отец, который был купцом в Шанхае, когда она появилась на свет, приказал слуге бросить ее в пруд под тем предлогом, что она была третьей дочерью и что двух и то было много. По дороге слуга встретил скоморохов… — …которые взяли к себе ребенка и воспитали его, как это постоянно бывает в мелодрамах, — смеясь, сказал д’Ассеньяк. — И эта крошка, приговоренная отцом стать кормом для рыб, а своими покровителями обученная прыгать сквозь обручи, в настоящее время — о, провидение! — столичная львица!.. Я даю ей третье название. Когда вам наскучит называть ее Бутоном розы и Бриллиантом Иеддо, зовите ее Львицей, это польстит ей. А теперь, когда мы достаточно узнали о Чианг-Гоа, не пойти ли нам, господа, к ней с визитом? В самом деле, далеко ли отсюда живет она? — Нет, — отвечал сэр Гунчтон, — около двух миль, в квартале Куроди, одном из самых аристократических кварталов в Иеддо. Через час мы будем у нее. — А нужно, — полюбопытствовал Данглад, — чтобы наша стража следовала за нами? — Без сомнения, — ответил Нагаи Чинаноно, — наш город, почти безопасный днем, ночью не так безопасен. Особенно иностранцы должны остерегаться встречи с лонинами. — Это еще кто? — То же, что итальянские браво, — сказал Гунчтон. — Люди, всегда готовые на убийство, лишь бы только заплатили им. — А кому нужна наша смерть, чтобы на нее тратиться? — сказал д’Ассеньяк. — О! Когда у них нет приказаний, они, чтобы набить руку, работают для себя, и, как уже сказал нам наш друг Нагаи, тогда главным образом они и пристают к иностранцам, ибо для них меньше риска в таком случае. Но с вашей стражей вам нечего опасаться. Вы не с нами, Нагаи? Японец принял прежний строгий вид. — Сэр Гунчтон, — вскричал он, — довольно смеяться! Вы же не хотите, чтобы я взял и бросил свой дом? Глупости делаются один раз, а не два. — То есть, не три раза, как вы нам признались. — Да нет же, я ни в чем не признавался… К тому же, — со вздохом добавил японец после минутного молчания, — вы, надеюсь, не предупредили Чианг-Гоа, что и я явлюсь? Вы пошутили? — Да… А может, я был не прав, что не предупредил? — Нет, вы были правы, и я очень благодарен вам за вашу благоразумную сдержанность. Господа, желаю вам всякого успеха и рассчитываю еще раз увидеть вас перед вашим отъездом. — Конечно, дорогой амфитрион, мы увидим вас снова, если только лонины не изрежут нас в куски, — сказал д’Ассеньяк, весело пожимая руку японцу. Данглад молчал: он был занят. Невольно он задумался о предстоящем свидании с Чианг-Гоа. Данглад и д’Ассеньяк сели в носилки. Сэр Гунчтон ехал верхом с левой стороны. Стражи следовали за ними, безмолвные, как тени, бесстрастные, как автоматы. Им было заплачено. Что им было до того, куда вели их… — Мы приближаемся, — сказал сэр Гунчтон двум друзьям, — но прежде чем проникнуть в храм, не хотите ли выслушать несколько слов по поводу обычаев, действующих у этого божества? — Опять правила этикета? — смеясь, воскликнул д’Ассеньяк. Он всегда и везде смеялся — этот милый граф. Счастливы подобные люди! — Да, правила этикета, — отвечал сэр Гунчтон. — И если я намереваюсь объяснить вам, как вы должны вести себя у Чианг-Гоа, то не потому, что сомневался в вашем знании жизни… Но с женщинами, вроде тех, к которой я веду вас, необходимы особые предосторожности… И я был бы крайне огорчен, если бы по неведению вы там развели скуку или — того хуже — проявили беспокойство, почуяв опасность… Сэр Гунчтон произнес эти слова серьезным тоном. — А! — возразил д’Ассеньяк не столько испуганный, сколько изумленный. — Слушая вас, сэр Гунчтон, можно подумать, что этот ваш Бутон розы, самая обольстительная девица в Японии, за одну минуту превращается в людоедку, с которой опасно водиться. Почему, скажите, вы так быстро меняете свои взгляды? Разве… — Оставь сэра Гунчтона, мой друг, пусть объяснится. Если он говорит таким образом, значит, так нужно. — Если, — снова начал Гунчтон, отвечая д’Ассеньяку, — я не вполне посвятил вас в существо нашего визита к Чианг-Гоа, то лишь потому, что мы были не одни во время тогдашнего разговора. Я очень хорошо знаю характер Нагаи Чинаноно. Но он японец, и ему могло не понравиться, что в его стране, в его доме, европейцы посмели заподозрить в дурных поступках женщину, которую, будь его воля, он украсил бы всеми добродетелями, как это делает большинство его сограждан, украшая ее всеми прелестями красоты… Я заканчиваю, ибо через пять минут мы придем… К тому же, Чианг-Гоа — необычная куртизанка. Она отдается, если это можно так назвать, только тем, кто ей понравится, за оговоренную и неизменную плату — пятьсот франков за ночь. Так что приезжие иностранцы, которых она удостаивает приемом, никогда не остаются ее должниками. А тот, кто после первого — церемониального — визита к Бриллианту Иеддо по той или иной причине не пожелает воспользоваться ее благосклонностью, должен будет немедленно рассчитаться, уплатив двадцать ичибу. Это самая малая плата за счастье и удовольствие видеть Чианг-Гоа… Я резюмирую. Если Бутон розы вам понравится и вы согласитесь пожертвовать пятьсот франков за ее поцелуи, то, уходя от нее после первого — ознакомительного, если можно так выразиться, — визита, положите ей на колени какой-нибудь цветок, сорванный в ее оранжерее, и визитную карточку или же просто клочок рисовой бумаги, на котором напишите свое имя, титул и адрес. На другое утро ее лакей или служанка уведомит вас, принято ли ваше предложение и в котором часу вы можете представиться госпоже. Или же навсегда похоронить ваши сладкие надежды. Если, однако, вы решите, что пятьсот франков — слишком дорого за несколько часов наслаждения с Бриллиантом Иеддо, то отдайте камеристке двадцать ичибу, и этим будет все сказано… Впрочем, если вслед за этим вы выразите неудовольствие тем, что вас отвергли, и станете публично об этом заявлять, вы совершите ошибку… Вспомните, Нагаи Чинаноно да и я только что говорили вам о бандитах, наводняющих Иеддо… Вот они-то и станут кровными мстителями за эту вашу ошибку… Мне рассказывали, что Чианг-Гоа содержит с дюжину этих головорезов, всегда готовых по первому ее слову наказать смертью грубияна, осмелившегося ее оскорбить. В доказательство правоты моих слов скажу, что лорд Мельграв рассказывал мне недавно об убийстве капитана одного американского судна, который, завершив встречу с Чианг-Гоа, повсюду объявлял, что куртизанка очень собой дурна и что он просто не понимает, как можно быть ее любовником хотя бы пять минут!.. И вот на другой день, вечером, проходя по предместью Санагавы, этот капитан был окружен толпой бандитов в черных повязках на лицах и, несмотря на то, что он умело защищался, да и стража помогала, все же был убит… Вот так-то, господа. Но вы не только люди светские, джентльмены, но и умные люди, а потому, даже если Чианг-Гоа и не покажется вам достойной своей репутации, остерегитесь слишком громко высказывать свое мнение… Короче, все, что я вам сказал, воспримите не как предупреждение, а скорее как просто любопытные сведения… Я закончил, а теперь не угодно ли вам сойти на землю? Мы находимся перед домом Чианг-Гоа. Дом Чианг-Гоа был обширнее и изящнее дома Нагаи Чинаноно, хотя и походил на него. Привратник, или монбан, находившийся в башенке, окрашенной черной краской, как большинство жилищ в Иеддо, при виде троих иностранцев ударил три раза колотушкой в гонг, потом жестом пригласил их войти. Сэр Гунчтон знал порядки: он шел впереди своих товарищей по аллее, уставленной цветами, которая кончалась у балкона, блистательно освещенного цветными фонарями. На этом балконе стояла молодая девушка в белой тунике и таких же панталонах; она провела гостей в большую залу с окнами, закрытыми бамбуковыми шторами, пол которой был покрыт нежным ковром. В этом зале не было почти никакой мебели… Молодая девушка удалилась и появилась снова в сопровождении двух других, принесших, подобно ей, по две подушки красного бархата, которые они положили одну на другую на ковер. — Наши кресла, — сказал сэр Гунчтон. — Сядем, господа. — Недурно, — вполголоса сказал д’Ассеньяк. — В этом приеме есть нечто мистическое, таинственное… Маленькие японки очень милы… Но меня занимают эти ширмы… Что может скрываться за ними?.. — Вы сейчас увидите, — улыбаясь, ответил сэр Гунчтон. — Да, — сказал Данглад, — зала эта очень хороша, но я боюсь, чтобы запах, который царит в ней, не причинил мне головной боли… — Аромат драгоценного дерева, сжигаемого здесь?.. Если этот аромат беспокоит вас, я попрошу Чианг-Гоа, чтобы она велела потушить курильницы. — Вы попросите?.. А каким образом? — возразил д’Ассеньяк. — Вероятно, знаками? Ведь вы не знаете, я думаю, ни по-китайски, ни по-японски? — Я буду изъясняться на моем родном языке. — Ба! Чианг-Гоа говорит по-английски? — Не так, конечно, чисто, как член парламента, но порядочно для того, чтобы поддержать разговор. Она также знает несколько слов по-испански и по-французски… — Право? Браво!.. Если она согласна, мы сделаем обмен. Я ее выучу говорить по-французски «je t’aime», а она научит меня по-японски. Данглад иронически склонил голову. — Мой милый Людовик! — сказал он. — Ты очень заблуждаешься, думая, что ждали именно тебя, чтобы брать и давать эти уроки. Легкий шум за ширмами приостановил ответ д’Ассеньяка, Шум этот исходил от прикосновения шелка к обоям. Божество было там… Оно должно было появиться… Д’Ассеньяк и сэр Гунчтон внимательно и безмолвно ожидали… Даже сам Данглад устремил свой любопытный взгляд на ширмы… Божество появилось!.. Д’Ассеньяк и Гунчтон подавили крик восторга… Данглад тоже не мог удержать невольного восхищения… Ясно, что, как опытная актриса, Чианг-Гоа свое появление на сцене рассчитала на внезапность. Уже знакомый с этим сэр Гуанчтон мог бы предупредить своих товарищей, но он предпочел доставить им всю прелесть изумления. Войдя в залу через дверь, сообщавшуюся с ее будуаром позади ширм, и с минуту поглядев через тщательно скрытое отверстие на своих посетителей, Чианг-Гоа поднялась по лестнице, покрытой бархатом, и встала в самой выгодной позе. Она была одета в голубое шелковое платье, отделанное газом и крепом того же цвета, с ее шеи артистически спускался длинный шарф, на голове у нее был золотой убор, украшенный бриллиантами и рубинами. Правы ли были сэр Гунчтон и Нагаи Чинаноно, называя Чианг-Гоа несравненной красавицей? Да, она была неподражаема. В ней не было ничего, кроме глаз, продолговатых, как миндалина, что напоминало бы женщин ее расы. Продолговатое лицо, широкий лоб, розовый прозрачный цвет лица, длинные выгнутые брови — все в ней было своеобразно. Но всего сильнее поразили Данглада и д’Ассеньяка ее черные, словно вороново крыло, волосы, обильными волнами падавшие между складок шарфа до ее крохотных ножек, обутых в сафьяновые туфли. Безмолвно стоя перед гостями на вершине эстрады, освещенной двадцатью фонарями, одетая в шелк, в пурпур, золото, как бы облитая своими роскошными волосами, Чианг-Гоа была прекрасна, более чем прекрасна, она была великолепна!.. Быть может, это был оптический обман, и вблизи красота эта потеряла бы свой блеск и свою обольстительность… Как знать! Но вряд ли нашлись бы люди, которые, даже рискуя разочароваться, отказались бы держать в своих объятиях Бриллиант Иеддо. Впрочем, разве само обладание не есть роковое разочарование? Нет, ибо сэр Гунчтон, уже обладавший Чианг-Гоа, вновь возжелал ее… Произведя эффект, богиня, как простая смертная, уступая усталости, скорее скользнула, чем села на подушки, подобные тем, которые занимали ее посетители. Настало время европейцам нарушить молчание, которое, как бы ни было красноречиво, продолжаясь, могло сделать холодным первое свидание. Как сопровождающий обоих французов, сэр Гунчтон имел еще то преимущество, что был старым знакомым хозяйки, хотя такое преимущество могло стать нелепостью, ибо Чианг-Гоа принимала столько разнообразных лиц, что очень легко могла позабыть сэра Гунчтона. Но в любом случае именно ему следовало начать разговор, и он начал. — Прелестная Чианг-Гоа, — сказал он, — позвольте прежде всего от имени всех нас поблагодарить, что вы удостоили открыть для нас вашу дверь. — Скорее я должна гордиться, сэр Гунчтон, — возразила Чианг-Гоа, — тем, что вы и ваши друзья посетили бедную затворницу. При последних словах, произнесенных довольно чисто по-английски, Данглад, несмотря на торжественность положения, не мог удержаться от улыбки, которая была замечена Бриллиантом, потому что тут же последовал вопрос: — Разве я смешна? Этот прямой вызов нисколько не удивил Данглада. — Вовсе нет, — возразил он, — смешного в вас нет, но преувеличенная скромность, по-моему, есть. После того что я слышал, вы уж никак не затворница, а по тому, что я вижу, да будет позволено мне сказать, что жаловаться на бедность было бы с вашей стороны неблагодарностью… Чианг-Гоа не спускала взгляда с Данглада, пока он говорил. — Вы француз? — спросила она после того, как он замолчал. — Вы угадали. — И, коснувшись рукой плеча д’Ассеньяка, Данглад продолжал: — Мой друг также француз, мы истинные французы — мы парижане. — Парижане? — сказала китаянка, не подчиняясь желанию Данглада обратить ее внимание на своего приятеля, но, напротив, продолжая смотреть на него и адресуясь снова к нему. — Париж, говорят, великолепный город, в нем много прелестных женщин? — Да, много. — Почему же вы оставили его? — Потому что наслаждения, доставляемые самыми близкими отношениями с прелестными женщинами, не достаточны, по-моему, для полного счастья в этом мире. — Вы не любите женщин? — Отчего же?.. Но я также люблю все великое, прекрасное и доброе… — А! Это вас зовут Дангладом? Вы живописец? — Да. — У нас в Иеддо тоже есть живописцы. Встречались вы с кем-нибудь из них? — Не имел еще этой чести. — Могу ли я видеть ваши работы, ваши картины?.. И если я предложу вам хорошую цену… — Я крайне сожалею, но во время путешествия я не пишу картин… Я делаю этюды… а этюды не продаю. — А! — Ты груб с Бутоном розы, — сказал вполголоса д’Ассеньяк по-французски своему другу. — Это почему? — возразил последний тем же тоном. — Не думаешь ли ты, что я соглашусь украсить ее будуар одной из моих картин?! — И, обращаясь к Гунчтону, сказал громко по-английски: — Не пора ли, господа, уходить? А то покажемся нескромными… — О! Прежде чем уйти, господа, выпейте со мной чашку чаю, — проговорила Чианг-Гоа, и предложение тотчас же было принято сэром Гунчтоном и д’Ассеньяком. По знаку госпожи приблизились две молоденькие девушки, неся на красных лаковых подносах чашки чаю, сахарницы и пирожные. — Быть может, вы предпочитаете мадеру или шампанское? — спросила Чианг-Гоа. — Вы необыкновенно любезны! — воскликнул сэр Гунчтон. — Но я и мои друзья только что пообедали у Наган Чинанона. — Кто это? «У нее такая же память на местных, смотрю, как и на иностранцев», — подумал Данглад. — Нагаи Чинаноно, — отвечал сэр Гунчтон, — один из самых богатых купцов квартала Аксакоста… — Ах, да! Я припоминаю… Он, вероятно, был у меня? — Это «вероятно» — прелесть! В Иеддо и в Париже, — заметил художник, — они друг друга стоят. — Да помолчи же! — обронил д’Ассеньяк, подходя к своему другу, который, возвратив пустую чашку служанке, осматривал аквариум. — Вдруг она тебя услышит!.. — Ты хочешь сказать, вдруг поймет? Но так как она знает по-французски лишь несколько слов, то… — Но что ты о ней скажешь?.. Не станешь же отрицать, что она изумительна!.. — Если тебе нравится — изумительна. — Обворожительна? — Если тебя это забавляет — ты прав. — А тебя не занимает?.. Лгун! Да я держу пари, что ты уже выбираешь самый прекрасный цветок, чтобы предложить ей как залог твоего желания. — Ты думаешь? Ну, если необходимо только мое желание, чтобы обокрасть этот цветник, то Бриллиант Иеддо может спать спокойно. — Как? Тебе жаль каких-то пятисот франков, и ты отказываешься от наслаждения, которое… — Мой милый Людовик, я не мешаю тебе поглотить это наслаждение, если тебе его дадут, что, впрочем, более чем вероятно… Но ты хорошо знаешь меня, чтобы убедиться, с каким трудом я возвращаюсь к своим прежним чувствам… Да, эта женщина хороша! Чрезвычайно хороша! Но она внушает мне восхищение, а не желание… Не плата за ее поцелуи, а сами эти поцелуи мне отвратительны. Я не хочу их. Пока два друга беседовали таким образом, сэр Гунчтон, стоя подле эстрады, тихонько перебросился несколькими словами с Чианг-Гоа. Куртизанка как-то по-особенному махнула веером. Это был знак трем служанкам об окончании приема, и вскоре они подали иностранцам их шляпы, которые были взяты у них при входе в зал. После этого они встали справа от двери в цветник. В этот момент Гунчтон сорвал камелию. Д’Ассеньяк — более скромный — фиалку. Данглад достал из кармана три пиастра. Сэр Гунчтон вежливо предложил кому-то одному из друзей первым подняться на эстраду и положить символический цветок на колени Бриллианту Иеддо. Д’Ассеньяк исполнил это не без смущения. Можно смело сказать, что граф был очень смущен, приближаясь к Чианг-Гоа. Она, однако, мило и грациозно ему улыбнулась. Также улыбнулась она и сэру Гунчтону. Но улыбка тут же исчезла с ее лица, когда Данглад, важно поклонившись ей, догнал своих товарищей на пороге залы и разделил между служанками три золотые монеты. Отдавая последний пиастр и уже готовясь последовать за сэром Гунчтоном и д’Ассеньяком, Данглад мельком бросил взгляд на Чианг-Гоа. «Я считаю себя не трусливее других, — говорил он нам впоследствии, — но признаюсь, что одного этого беглого взгляда было достаточно, чтобы прочесть на лице куртизанки явную мне угрозу… Ибо я прочел на этом лице вот что: «Ты презираешь меня — и заплатишь за это!..» Возвращаясь со своим другом и сэром Гунчтоном в квартал Танакавы, местопребывание большинства европейских миссий в Иеддо, Данглад должен был выслушивать иронические комплименты своих спутников насчет его целомудрия. — Вы, право же, пуританин, — сказал ему Гунчтон, — я преклоняюсь перед вашей добродетелью. Отказаться от такой сирены, как Чианг-Гоа, по-моему, более чем храбрость — это героизм! — А может, все проще? — воскликнул д’Ассеньяк. — Может, мой друг Данглад просто отказывается принести в дар красоте этой азиатской гурии свои пятьсот франков? — Это достойно похвалы, — сказал сэр Гунчтон, — ибо после того интереса, какой она проявила к его персоне, он мог быть уверен, что его дар был бы принят чрезвычайно любезно… Что-то заставляет меня предполагать, что вы, милостивый государь, имели какие-то особые планы относительно Чианг-Гоа. — Именно! Ты, Эдуард, просто соблазнял ее! Это так и бросалось в глаза! Она глаз с тебя не сводила! — А все ее расспросы насчет вас? Конечно, то, что она, разузнавая про вас, обратилась ко мне, чего-нибудь да стоит, — заметил сэр Гунчтон, — но что это в сравнении с той любезностью, какую она оказывала вам! — И за которую ты так хорошо отблагодарил ее, бедняжку! Чего тут еще говорить! — укоризненно произнес д’Ассеньяк. — Говорить есть о чем, — продолжал сэр Гунчтон. — Пока вы там осматривали аквариум, она засыпала меня вопросами: откуда этот француз? Долго ли пробудет в Иеддо?.. — Богат ли он? — Нет! Клянусь всеми святыми, Данглад, Чианг-Гоа ни слова не сказала про это… — Пусть так, но что бы она ни сказала и как бы вы ни потешались надо мною, я не желал и не желаю иметь ее. И до визита к ней и после него я все равно держусь своих убеждений, и пусть она служит своим богам. У меня свои — я служу своим… Но вот мы и дома! В любом случае, благодарю вас, Гунчтон, и до завтра! На другой день, ожидая ответа от Бриллианта Иеддо, д’Ассеньяк не хотел выходить из дому. — Понимаешь ли, — говорил он своему другу, — вдруг один из ее лакеев или служанка принесет в мое отсутствие заветное слово, назначающее мне свидание, и это будет очень неприятно. Посыльный, не найдя меня, быть может, вернется с письмом назад. Страдая невралгией, Данглад охотно согласился остаться дома. Между тем день угасал, но никто не являлся от Чианг-Гоа объявить любезному графу, что его ждут. У д’Ассеньяка вытянулось лицо. Данглад хохотал. — Нечего смеяться! — вскричал граф. — Если прекрасная Чианг-Гоа отказывается принять меня, так это твоя вина. — Как моя вина? — Конечно!.. Ты повернулся к ней спиной, она сердится на меня за твою невежливость. Она мстит мне за твое презрение… — Упрек твой странен, — сказал Данглад. — Но теперь, вот увидишь, начиная с этого времени, как только ты встретишь женщину, которая тебе понравится, я буду любезничать с нею одновременно с тобой. — Да нет же!.. Ты перевертываешь вопрос!.. Не в том дело!.. А если тебе пойти только из любопытства, в качестве художника, как говорил Гунчтон… Разве тебе было бы трудно?.. — Домогаться чести быть одним из пятисот или шестисот любовников Бриллианта Иеддо? Конечно, трудно, потому что я бы согнулся под тяжестью этой чести. Но ты сердишься, мой милый Людовик, ты печалишься и обвиняешь меня в своих страданиях. А ты не подумал, что кто-то другой может быть причиной задержки с ответом?.. — Другой? Кто? — Да хоть бы сэр Гунчтон. Любовь?.. Нет не станем профанировать этого слова! Неужели же до такой степени расстроился твой мозг, и ты забыл, что сэр Гунчтон — твой соперник? Ты объяснился фиалкой, он — камелией… Что, если ей больше понравился последний цветок, чем первый? Тогда все очень просто: она предпочла одного за счет другого. Так где же моя вина? Без сомнения, настанет и очередь фиалки, но только после камелии. К тому же, когда платят пятьсот франков за одну ночь наслаждения, а кто-то и больше, можно потерпеть. Д’Ассеньяк замолчал. Насмешка его друга задела его. Д’Ассеньяк в глубине души понимал, что отчаяние его безутешно. Но вдруг он радостно воскликнул, ибо в комнату вошел сэр Гунчтон. — Ну что? — вскричал граф, бросаясь навстречу англичанину. — Я пришел узнать, — сказал тот, — счастливее ли вы меня? — Счастливее ли? Что это значит? У вас нет новостей? — Нет, я получил вести, только плохие. Вот что сегодня утром мне передали от Чианг-Гоа… Смотрите… Сэр Гунчтон подал д’Ассеньяку лист бумаги, на котором было написано китайскими чернилами по-английски два слова: «К сожалению!.. Ч.Г.» — К сожалению?.. К сожалению! — повторял д’Ассеньяк. — Что это значит? — Все ясно, — сказал сэр Гунчтон с натянутой улыбкой. — Это значит, что Чианг-Гоа отклоняет мою просьбу подарить мне ночь любви. — Да? Вы так полагаете? — произнес д’Ассеньяк с плохо скрываемой радостью, ибо правду говорят, что в несчастье наших друзей всегда есть для нас что-то радостное. Неудача его соперника смягчила тревогу д’Ассеньяка, и он подумал, что Чианг-Гоа отказала сэру Гунчтону, желая сохранить себя для д’Ассеньяка. Самолюбие, где ты прячешься?.. — А вам, граф, не присылали посланий? — поинтересовался сэр Гунчтон. — Нет. Я жду. — Он решил ждать до второго пришествия, — смеясь, сказал Данглад. — Я не стану препятствовать д’Ассеньяку, — признался сэр Гунчтон. — Хоть и изгнанный из рая, я, испытавший там всю обещанную сладость, поищу ее в другом месте. Вы, Данглад, ничего не ждете — не хотите ли поехать с нами в Бентен? Едем я, лорд Мельграв, сэр Вэльслей — дня на три. Данглад отрицательно покачал головой. — Благодарю вас, — сказал он. — Раз уж моего друга держит на берегу жажда удовольствий, то обязанности дружбы удерживают здесь и меня. Счастливый или нет, принятый или отвергнутый, Людовик не будет брошен мною в одиночестве в Иеддо. — Что правда, то правда, — заметил сэр Гунчтон. — Орест и Пилад не расстаются… Итак, господа, сегодня вторник, я буду иметь честь видеть вас или в четверг вечером, или в пятницу утром… — Господа! Господа! — вскричал д’Ассеньяк. — Не ошибаюсь ли я? Эта молоденькая девушка, которая сходит с носилок перед нашим домом, принадлежит Чианг-Гоа?.. Данглад и Гунчтон подошли к нему. — Кажется, — сказал Данглад. — Да, конечно, — сказал сэр Гунчтон, — это одна из служанок Чианг-Гоа, та же самая, которая была у меня утром. Но тогда она была в канчо, а теперь в норимоне. Признак победы, граф… Вы приняты. Служанка проведет вас к госпоже. Д’Ассеньяк не дослушал. Он уже был возле японки, из рук которой взял письмо и тотчас же его распечатал. Вот что писала ему куртизанка: «Графу Людовику д’Ассеньяку. Приходите! Чианг-Гоа.» — Я принят!.. Принят! — вскричал он. — Прочтите, господа! Она говорит мне: «Приходите!» Вы были правы, сэр Гунчтон, норимон был хорошим признаком. До свидания, господа!.. До свидания, Эдуард!.. До завтра! Без ума от своей победы, д’Ассеньяк пожал руки друзьям, называя сэра Гунчтона Эдуардом, а Эдуарда сэром Гунчтоном. Последний попробовал было бросить каплю холодной воды на эту излишне пылкую радость. — Полно, — сказал он тихо своему другу, — успокойся немного! Ты точно школьник, в первый раз отправляющийся на свидание. Честное слово, ты бесчестишь флаг Франции. — Смеюсь я над Францией! — непочтительно возразил граф. — Что такое Франция? Во всем мире одна только страна — Япония! И одна женщина — Чианг-Гоа! Эта женщина зовет меня. Она пишет мне: «Приходи!» Я лечу! Прощай!.. И он бросился к носилкам, которые быстро удалились, несомые четырьмя сильными носильщиками. — Но, — сказал Данглад сэру Гунчтону, вместе с ним видевшему всю эту комичную сцену, — не будет ли благоразумнее, если наша стража будет охранять моего друга до Чианг-Гоа? — Бесполезно, — ответил англичанин. — Носильщики Бриллианта Иеддо известны всему городу. Никто не осмелится напасть на них. — И, поклонившись художнику, добавил: — Что ж, если мне не удалось сделать приятное лично для вас, то я рад, по крайней мере, что доставил полное удовольствие вашему другу. Его радость так горяча и непосредственна, что мешает мне ревновать, даже если бы я был сильно ревнив. Данглад пожал плечами. — Д’Ассеньяк — большой ребенок! — сказал он. — И вы уверяете, сэр Гунчтон, что этому ребенку нечего опасаться? — Да что же может с ним случиться, кроме того, что предвидится? Он отправляется ужинать к прекрасной китаянке. Потом… Завтра утром вы его увидите радостнее, чем когда-либо, возвратившимся с рассказами о восхитительной ночи… Вот и все!.. Спите же с миром. Есть одна опасность, которой может подвергнуться граф этой ночью! Но эта опасность самого сладостного сорта… Сэр Гунчтон удалился, оставив Данглада наедине с его печалью. Печального в первый раз после двухлетнего путешествия со своим другом. Была ночь… Он стоял, облокотившись на окно, зажав в губах потухшую сигару; сколько времени провел он в этом меланхолическом состоянии — он не знал. Но его вывел из него неожиданный случай. От земли до окна, у которого стоял Данглад, было около двух метров. Вдруг — непонятно как — перед ним появилась фигура, почти у самой оконной решетки. При ее внезапном появлении Данглад машинально попятился назад. Но чей-то голос сказал по-английски: — Вы Эдуард Данглад? — Я. — Вам письмо от Чианг-Гоа. Письмо от Чианг-Гоа?! Сомнения Данглада рассеялись. Значит, приглашение куртизанкой д’Ассеньяка было ловушкой, средством. Через секунду художник читал при свете лампы: «Ваш друг у меня, но я не люблю его; я люблю вас. Если не ради меня, то ради него — приходите!.. Чианг-Гоа». Спустя еще минуту Данглад был уже на улице и крикнул посыльному: «Я иду за тобой!» Посыльный был одним из лонинов, голова у него была обвязана черным крепом так, что виднелись только глаза. Посыльный свистнул, на этот свист появился другой бандит, ведя под уздцы лошадей. Данглад не колебался и вскочил на лошадь. Меньше чем через четверть часа он остановился со своим проводником у дверей дома Бриллианта Иеддо. Войдя к Чианг-Гоа, Данглад не знал, что ему делать. Он знал только, что д’Ассеньяк находится в опасности, что он или спасет его, или умрет вместе с ним. Как только его ввели к куртизанке, но не в зал, где она принимала гостей накануне, а в будуар, которому позавидовала бы любая парижанка, Данглад грозно спросил ее: — Где друг мой? Где он? Но не проговорил еще он этих двух фраз, как понял по улыбке Чианг-Гоа, что его гнев и угроза бесполезны. Она была еще прекраснее, чем вчера, в костюме из газа и розовой материи, едва покрывавшем ее пышные формы, в костюме, предназначенном для глаз одного счастливца, а недля взоров любопытной толпы зрителей. О! Как она была прекрасна, когда, приближая свои уста к лицу художника так, что они почти касались его губ, она тихо и нежно проговорила: — Ах, вы не хотите меня любить? Нужно было быть святым, чтобы не задрожать сладостно при звуке этого голоса, при прикосновении этих уст, дышащих ароматом. Данглад не был святым. Он не лгал: он гнушался куртизанок. Но Чианг-Гоа была ли куртизанка? Говорит ли когда-нибудь куртизанка, как сказала она в эту минуту: «Я люблю тебя!» Данглад закрыл глаза и замер от поцелуя обольстительной женщины. Однако, несмотря на любовь, верный дружбе, он прошептал: — Но д’Ассеньяк?.. Где же он? — Со мной! — ответила Чианг-Гоа. — С вами? — повторил остолбеневший Данглад. Она возразила: — Вы не понимаете!.. Я объясню вам… И она удалилась. — Вы уходите? Куда же? — вскричал Данглад. Восхитительным жестом, который значил: «Не бойся!.. Я не уйду от тебя!.. Я твоя!.. Вся твоя!..» — она успокоила его. Прошло пять минут. Данглад ходил по будуару, как лев в клетке. И о ком, о чем он думал эти пять минут? Уж не беспокоился ли о положении своего друга? Гм!.. Не думаем!.. Наконец появилась камеристка и знаком пригласила его следовать за ней. Он шел за нею по длинному извилистому коридору до двери, которую она отворила перед ним. Он вошел в таинственно освещенную комнату, в глубине которой на постели лежала женщина. Она протянула к нему руки для объятия, говоря: «Вся твоя!..» Он кинулся к постели. Но в ту же минуту комната наполнилась светом и раздался смех, заставивший Данглада обернуться… О удивление!.. Сзади смеялась Чианг-Гоа. Но кто же была женщина, лежавшая на постели и сказавшая голосом Чианг-Гоа: «Вся твоя»? Кто эта женщина? Это была просто-напросто служанка прекрасной китаянки — молодая японка, необыкновенно искусно подражавшая голосу своей госпожи. Все объяснилось!.. Данглад понял все. Для туземцев существовало три или четыре Чианг-Гоа, как и для распутных и великодушных иностранцев. Д’Ассеньяк, подобно многим до него, не подозревая обмана, проводил ночь с ее копией. С одной из стразов, искусно подделанных под бриллиант. Один только Данглад обладал истинной Чианг-Гоа… Какая ночь!.. У Данглада были любовницы, любимые и любившие. Но все, что сладострастие имеет утонченного и изысканного, все, что мог он узнать из этой поэзии чувств, называемой любовью, было ничтожно в сравнении с теми сокровищами, которые ему подарила Чианг-Гоа. Но у Данглада была душа. У Чианг-Гоа было сердце и — даже более деликатное, чем можно бы предположить у женщин, воспитанных, подобно ей, самым материальным образом. Чианг-Гоа сожалела о том, чем она была, она сожалела инстинктивно, не объясняя себе мерзости своего ремесла. Да и как она могла объяснить себе это: никто никогда не говорил ей, что это ремесло отвратительно… — И никто не сомневался в твоей хитрости? — спросил Данглад. — Никто, — отвечала она. — Даже и европейцы обманывались. И это понятно. Во-первых, как ты мог заметить, комната, в которой думают найти меня, освещена очень слабо. Потом, прежде чем они входят в эту комнату, я даю им выпить в чайной чашке шампанского, несколько капель ликера, который, не повреждая рассудка, мгновенно слегка отуманивает. — Но я не пил этого ликера? — Зачем же тебе его пить? Данглад расспросил Чианг-Гоа о ее детстве, о том, справедлив ли рассказ о ее жизни, и тому подобное; она подтвердила все, говоря, что знает об этом от посторонних, а сама ничего не помнит. Она долго и много рассказывала ему. Она говорила ему о своем младенчестве, о том, как из нее хотели сделать жрицу, как она… Данглад прервал ее на полуслове… Сам Геркулес уснул на груди Омфалы. Когда поднялась завеса дня, Данглад заснул в объятиях Чианг-Гоа. Когда он открыл глаза, он был один. Он взглянул на свои часы: было четыре часа… Самый смышленый имеет свою слабую сторону. Слабая сторона Данглада заключалась в самолюбии. — Без сомнения, — говорил он самому себе, — д’Дасеньяк еще спит теперь где-нибудь в этом доме. Если б я мог раньше него вернуться домой, это избавило бы меня от необходимости лгать. Рассуждая таким образом, Данглад соскочил с постели и стал одеваться, когда вошла молодая японка, при виде которой он не мог удержаться от улыбки, вспомнив, что, быть может, это та самая Чианг-Гоа, с которой его друг разделял наслаждения ночи и которая снова вступила в обязанности служанки. — Вера превыше всего! — заключил Данглад. Он последовал за служанкой, которая, как он полагал, имела приказание проводить его к госпоже. И в самом деле, Чианг-Гоа дожидалась его на одной из террас, уставленной цветами, с которой открывался вид на бухту Иеддо. Вследствие поэтической фантазии, ради прощания с тем, с кем она ночью говорила о своей родной стране, Чианг-Гоа надела свой национальный костюм. Он созерцал ее в восхищении. В китайском костюме, с кокетливо нескромным корсажем, это была новая женщина. — Вы хотите, чтобы я грустил о вас? — спросил он. — Я хочу, чтобы вы не так скоро забыли обо мне. С минуту оба они оставались задумчивыми и безмолвными, наконец, сорвав ветку жимолости, она подала ее ему и сказала: — Возьмите. И если я не покажусь вам очень требовательной, то взамен этого цветка, как воспоминание обо мне, вы мне дадите, как воспоминание о вас… — Что? — Это… Она глядела на перстень, совершенно простой, который Данглад носил на мизинце левой руки. То было также воспоминание — подарок его первой любовницы. Но разве можно было отказать? И кольцо, подаренное парижанкой, перешло на пальчик Чианг-Гоа. — Благодарю! — радостно сказала она и потом добавила: — Не советую вам откровенничать насчет того, что вы узнали этой ночью. Скажу лишь, что, если бы кто-то из вельмож Иеддо вдруг узнал, что был мною обманут, завтра же меня нашли бы мертвой. — Не бойтесь! — живо возразил Данглад. — Даже мой друг ничего не узнает. И именно потому я хочу раньше его оставить ваш дом. Встретив меня уже в квартире, он не подумает, что… — Вы провели ночь со мной. Я предвидела ваше желание и распорядилась так, чтобы господин д’Ассеньяк проспал долее вашего. Данглад проявил беспокойство. — О! — продолжала Чианг-Гоа, — мое средство вовсе не опасно. Это просто аромат, который сожгли в его комнате. Как только откроют окно, аромат улетучится и он проснется без страданий. Прощайте же! Когда вы оставляете Иеддо? — Дня через три или четыре. — Через три или четыре дня! Мы могли бы, если б вы желали… но за мной шпионят… я боюсь… — Нет!.. Нет!.. Ночь, подобная нынешней, не повторится!.. Прощай навсегда, Чианг-Гоа. — Навсегда? Кто знает?!.. — Как?.. — Глупости! Не придавай значения моим словам!.. Прощай!.. Я люблю тебя! — И последовал последний поцелуй, заглушивший эти слова. Готовясь уйти, Данглад был остановлен мыслью о том, платить или не платить пятьсот франков. Платить было неловко: она отдалась ему по любви. Не платить — тоже. Он отыскал середину: уходя, бросил служанке кошелек с золотом, сказав: — Возьми, милая, и купи себе безделушек. Копия вскрикнула от радости. Оригинал поблагодарил нежной улыбкой. Вскоре д’Ассеньяк и Данглад возвратились во Францию. Когда они уезжали из Иеддо, три вздоха вылетели из трех уст. Эти вздохи были вздохами воспоминаний. Д’Ассеньяк и сэр Гунчтон вспоминали о куртизанке, Данглад — о женщине.
ЭПИЛОГ
Все это происходило в 1863 году. В 1867 году Эдуард Данглад получил записку. Податель ожидал ответа. Данглад быстро сломал печать. Но едва он прочел подпись, как выражение нетерпения сменилось невыразимым удивлением. Письмо было от Чианг-Гоа. Чианг-Гоа была в Париже!.. Она жила в большом отеле. Вот содержание письма, написанного по-английски: «Друг!.. Когда ты мне сказал «Прощай навсегда!», помнишь ли, что я ответила тебе: «Кто знает?» И когда, изумленный моим восклицанием, ты спросил объяснения, я отвечала: «Безумная мысль!.. Не обращай на меня внимания!» Мой друг, эта безумная идея стала серьезной вещью. Уже четыре года я мечтала о приезде во Францию; представился случай, и я им воспользовалась: я отправилась в свите Тайкуна… Я во Франции… Я в Париже!.. Хочешь ты пожать мне руку? Я буду тебе благодарна! Чианг-Гоа». Прочитав эти строки, Данглад без размышлений написал ответ Бриллианту Иеддо: «Сегодня вечером, в девять часов, я буду у тебя…» Ровно в девять часов, подобно кредитору, которому обещали заплатить, художник явился в отель, где спросил Чианг-Гоа, находившуюся в свите Тайкуна. Поскольку она распорядилась заблаговременно, его сразу же провели в номер. Чианг-Гоа сидела в кресле в небольшом зале. Когда Данглад вошел, она встала и протянула ему руки. Художника поразило то, с какой тщательностью было закрыто ее лицо и как скупо был освещен зал — одной лишь лампой под абажуром где-то в углу. По примеру японских бандитов, верхняя часть ее лица была закрыта черным крепом, и, кроме того, как будто этот вид маски казался ей недостаточным, она носила еще и вуаль, тоже черную, ниспадавшую по крайней мере на палец ниже глаз. Надо было услышать и узнать голос, чтобы удостовериться, что этот призрак на самом деле прекрасная Чианг-Гоа. — Вы очень любезны, что явились, — сказала китаянка французу. И, показав ему руку, добавила: — Смотрите, ваше кольцо со мной… А ветка жимолости?.. — Она у меня. — Правда?.. — Клянусь! Она засохла, увяла, но… — Все — увы! — увядает… — А когда вы приехали? — Вчера. — Как долго будете? — Месяц или два. Это будет зависеть от Тайкуна. Наступило молчание. Данглад чувствовал себя стесненным тем, что повязка и вуаль заслоняли от него лицо молодой женщины, но не осмеливался, хотя и очень хотел, спросить ее о причине столь необычной предосторожности. Он подозревал, что причина серьезная, быть может, жестокая… — Зачем ты так прячешь свое лицо, Чианг-Гоа? — спросил он, смущаясь. — Моя юность, мой друг, улетела!.. Я теперь старуха… Я увяла, как та ветка жимолости, которую я дала вам в Иеддо. О! Женщины недолго молоды под нашим небом. В Европе, говорят, время уважает их… Они еще прекрасны, их любят и в тридцать, и даже в сорок лет. В восемнадцать — нам уже пятьдесят и на нас больше не смотрят… Но я злоупотребляю вашим временем. Вас, быть может, ждут. Прощайте! Теперь уж навсегда… Я поступила как эгоистка… захотела вас увидеть… увидела вот и буду счастлива… Простите меня! Вместо ответа Данглад наклонился к китаянке. Лампа была далеко. На секунду его уста слились с устами Чианг-Гоа, и в этот миг она подумала, что еще достойна любви… что она еще молода и прекрасна…ЛУКРЕЦИЯ БОРДЖИА
Борджиа!.. Сколько страшных воспоминаний пробуждает в нас это имя — воспоминаний разврата, кровавых воспоминаний! Они сосредоточиваются в особенности на трех именах: Родриго Ленцуэло Борджиа, бывшего папой под именем Александра IV, его сына Чезаре Борджиа, герцога Валентинуа, и Лукреции Борджиа, его дочери. Родриго Ленцуэло Борджиа родился в Валенсий в Испании в 1431 году. По отцу он происходил от Ленцуэло, по матери — от Борджиа. Умный и ученый адвокат, он сначала блистал на этом поприще. Потом, как человек храбрый, отличился в армии. Но, когда умер его отец, оставивший ему громадное состояние, он неожиданно посвятил всю свою жизнь наслаждениям… В это время он был любовником одной вдовы по имени Елена Ваночча, только что прибывшей из Рима в Валенсию с двумя дочерьми. Вдова эта заболела, и Родриго поместил старшую дочь, которая была дурна собой, в монастырь. Младшая дочь — Роза Ваночча — была восхитительно прекрасна! Она стала потом его любовницей. От этой любовницы за пять лет он имел пятерых детей: Франческо, Чезаре, Лукрецию и Джифри; имя последнего неизвестно, так как ребенок умер еще в колыбели. Прошло, таким образом, пять лет, в течение которых Родриго, оставив общественные занятия, жил совершенно счастливо и весело. Вдруг он узнал, что его дядя, Альфонс Борджиа, сделался папой под именем Каликста III. При этой новости дремлющая гордость Родриго проснулась. Дядя очень любил его. Не было сомнения, что по милости дяди он может достигнуть всяческих почестей. Скрывая свои желания, он послал дяде простое поздравительное письмо. Черта эта поразила нового папу. После возвышения его окружили друзья и родные, просившие милостей: один только не просил ничего. «Приезжай немедля, — писал он Родриго. — Твое место подле меня, в Риме». Родриго не заставил повторять приглашение. Между тем, прежде чем уехать, он имел серьезное объяснение с любовницей. Был вечер. Дети спали. — Мне нужно с тобой поговорить, — сказал Родриго, садясь рядом с Ваноччей. — О чем? — Ты любишь меня?.. Она взглянула ему в лицо. — Разве я не доказала тебе? — возразила она. — Да, — ответил он, — ты доказала, но настала минута доказать еще больше. Она странно улыбнулась. — Больше — трудно! — ответила она. — Полно! — вскричал Родриго с нетерпением. — Дело не в прошлом, а в настоящем и будущем. Имеешь ли ты силы страдать в настоящем, чтобы сделать великолепным будущее? Роза Ваночча вздрогнула. — Ты хочешь меня оставить? — вскричала она. — Я не хочу, но должен, — ответил Борджиа. — Дядя мой стал папой. Он любит меня как сына и призывает к себе. Он осыплет меня почестями и богатством. Понимаешь? От меня зависит быть первым после высшего правителя царей и народов… Быть может, когда он умрет, я взойду вместо него на мировой трон. И когда передо мной открывается такая будущность, когда передо мной открываются двери Ватикана, ты сама назвала бы меня глупцом и безумцем, если б я остался здесь. Ваночча закрыла лицо руками как будто для того, чтобы отдаться размышлениям. Она оставалась безмолвной несколько минут и наконец открыла свое бледное и решительное лицо. — Ты прав, — сказала она. — Прежде всего твоя карьера. Ступай!.. Но что станется со мной и с детьми?.. — Я думал об этом, — продолжал Родриго. — Я все предвидел. Но отказаться ни от тебя, ни от детей я не хочу. Я уезжаю сегодня же вечером. Завтра ты и дети, под присмотром Мануэля, отправитесь в Венецию. Там вы будете жить и получать каждый месяц необходимые деньги… Конечно, Венеция далеко от Рима, но это все-таки Италия, и, как знать, может, в результате самих моих обязанностей я смогу приезжать к вам, чтобы сказать: «Я все еще люблю и помню о вас!..» Терпение, Ваночча, долгое терпение!.. Но если я успею, а я успею, клянусь тебе, чтоб удовлетворить вас, я разорю двадцать принцев и двадцать провинций и отдам вам!.. Ваночча бросилась на шею любовнику с воплем радости и печали. Затем они вместе отправились в комнату, где спали дети. Родриго поцеловал всех пятерых в лоб. Наконец, сжав возлюбленную в своих объятиях, он сказал: — Прощай!.. Но, вместо того чтобы ответить на это прощание, она странно взглянула на него. Он изумился. — Что с тобой? Что ты хочешь сказать мне?.. — Ничего, — ответила она. — Но ты, прежде чем отправиться, не попросишь ли себе чего-нибудь, что может быть тебе полезно?.. — А! — воскликнул он, ударяя себя по лбу. — Дай!.. Дай!.. Ваночча вошла в спальню, открыла спрятанным на груди ключом ящичек, из которого вынула пузырек с жидкостью желтоватого цвета, и подала его Родриго, который заботливо завернул его в платок, чтобы он не разбился по дороге в кармане. Что же содержал в себе этот пузырек? Какое-нибудь лекарственное снадобье против всех болезней?.. Да! Тот, кто раз испробовал его, никогда уже не нуждался в помощи доктора… А как называют это всеисцеляющее лекарство? Оно еще не имело названия, но после было названо ядом Борджиа. Прежде чем стать любовником Розы Ваноччи, Родриго Борджиа был любовником ее матери Елены. Елена была очень хороша собой, но не так, как ее дочь. Родриго до такой степени влюбился в последнюю, что предложил ей похитить ее. Но у Розы были свои, очень странные принципы. — Вы мне нравитесь, очень нравитесь, — отвечала она Родриго, — но пока жива мать, я не буду принадлежать вам. Елене Ваночче было тогда еще тридцать пять лет, следовательно, ответ Розы был полным отказом… Но не для Родриго. Когда она произнесла последние слова, ему показалось, что в глазах молодой девушки сверкнула молния. — Но вы любите вашу мать, — сказал он ей, — вас огорчит ее потеря… — Я любила мать, — глухим голосом возразила Роза, — но с тех пор как она убила моего отца, я ее не люблю… Ответ этот напомнил Родриго, что муж Елены был изменнически убит и что только благодаря связям ни Елена, ни ее любовник Ригаччи не были преданы суду. Один уехал на время в Англию, другая — в Испанию. Но остался живой свидетель преступления — Роза, которая видела, как во время борьбы с любовником жены отец был поражен сзади кинжалом рукой ее матери. Но никогда, ни одним словом она не дала понять, что ей известны все обстоятельства этого убийства, хотя Роза ни на минуту не забывала и не прощала матери ее преступления. Родриго решил, что мать Розы не должна жить… Однако Родриго Борджиа находился в затруднительном положении: как привести в исполнение свое решение? Он решился на убийство, но — как убить? Это было его первое преступление. Он не колебался, он искал способ. Вернувшись домой после разговора с Розой, он на всякий случай наполнил карманы золотом. Сначала он хотел обратиться к одному господину, известному во всей Валенсии, чтоб тот покончил с Еленой ударом кинжала. Но Сальвадор Босмера, занимавшийся ремеслом убийцы, был болен. Простой погонщик мулов не принял Борджиа. — Черт побери, это плохо! — говорил самому себе Родриго, удаляясь от жилища Босмера. — Если б я мог хоть на минуту увидать этого каналью, быть может, он назвал бы мне кого-нибудь другого… Что делать? И, размышляя таким образом, Родриго, сам того не замечая, очутился на дороге к Граи, маленькой деревне, в получасе ходьбы от Валенсии. На этой дороге рос лесок. Проходя мимо, Родриго услышал смешанный говор. Из любопытства он проник в рощу. Там он застал цыган за каким-то пиром. Его появление показалось им не совсем приятным. С приходом молодого испанца люди и животные подняли шум и лай. Но Родриго испугать было трудно. Напротив, встреча с цыганами его развеселила. Возникло предчувствие. Будущий любовник Розы Ваноччи нашел здесь то, чего искал, так как цыгане, эта бродячая раса, занимались с незапамятных времен всеми ремеслами, кроме хороших. — Кто здесь главный? — спросил Родриго. — Я хочу сделать ему честь моим разговором. Величие всегда влияет на массы. Среди цыган наступило молчание. Даже собаки перестали лаять. Один из цыган встал. Это был человек лет пятидесяти, у которого не было левой руки. — Я главарь, — сказал он. — Что тебе нужно? — Я скажу тебе одному, и чтобы ты не подумал, что напрасно потеряешь время, возьми этот кошелек. Я дам еще столько же сейчас, если буду тобой доволен, и еще вдвое, если послезавтра буду убежден, что мое довольство тобой было неложно. Родриго еще не кончил своей речи, как по знаку старого главаря вся банда скрылась, как по волшебству. Тогда главарь приблизился к молодому испанцу и, почтительно поклонившись, сказал: — Приказывай! В этом и будущем мире Евзегир душой и телом, с руками и ногами принадлежит тебе. Родриго улыбнулся. — С ногами, пожалуй, верно, что же касается рук, ты, кажется, преувеличиваешь… мой бедный Евзегир. — Предлагают то, что имеют, — отвечал цыган. — Счастье еще, что одна спасена пожертвованием другой. — Из-за раны, видать, которую ты получил, совершая какое-нибудь скверное дело? Цыган отрицательно покачал головой. — Впрочем, — заметил Родриго, — это меня вовсе не касается. Я не желаю знать, где потеряна тобой левая рука, лишь бы правая послужила мне. Вот в чем дело: мне мешают. Если бы это был мужчина, я убил бы его. Но это женщина… Между тем я хочу, чтобы эта женщина умерла. Ты должен иметь в своем распоряжении средство освобождаться даже от женщин — средство, не оставляющее следов, по возможности такое, которое не заставляло бы страдать… Вы мастера в этом деле… Понимаешь, чего я требую?.. Старый цыган поклонился. — Совершенно, — отвечал он. — Вам нужен яд?.. — Ты угадал. Есть он у тебя?.. — Есть, но не годится для вашей светлости. Кто хорошо платит, тому должно и служить хорошо. Но я смогу иметь через несколько минут такой яд, подобный которому не составит и ученый. Удар грома под видом капли жидкости. Но извините. Вы мне сказали, что если будете мной довольны, то завтра дадите вдвое против того, что дали сейчас. — Да. — А где я найду вас, чтобы получить заслуженную плату? — О! О! Ты человек предусмотрительный!.. — Я и мои братья — бедны, и когда нам представится случай добыть на хлеб, сознайтесь, мы совершили бы страшную глупость, если б не воспользовались случаем. К тому же, если б я обманул вас, если б яд, который я хочу дать вам, уверяя, что он верен, быстр и не оставляет никакого следа, оказался ниже своего достоинства, вы совершенно вправе не явиться на свидание… Но я спокоен! Ты не только явишься для того, чтобы заплатить мне, но и для того, чтобы получить от меня рецепт этого яда — великолепный рецепт, оставленный моим дедушкой, который он достал в Индии. — Хорошо! Послезавтра в восемь часов вечера будь в Аламедо… Но все это слова, где же яд?.. — Его еще нет, но он сейчас будет. Не забудьте. Я просил вас подождать несколько минут. Кто умеет ждать, тому все дается. Произнося последние слова, главарь цыганской шайки вынул из кармана маленький металлический ящик, наполненный белым порошком. Взяв две чайные ложки этого порошка, он смешал его с несколькими кусками говядины и сделал катышек величиной с куриное яйцо. Этот катышек он бросил свинье, сказав: — Ешь и умри!.. Катышек еще не коснулся земли, как был проглочен. Однорукий повернулся к Родриго. — Я ее все-таки предупредил, — сказал он. — Не моя вина, если с ней случится несчастье, не правда ли? Родриго сдвинул брови. Старый цыган нахмурился. — Эта свинья могла целый месяц служить нам пищей, а через минуту она будет годна только на то, чтобы закопать ее в землю. Полагаете, что я пожертвовал ею лишь для того, чтобы посмеяться над вами? — Для чего же?.. Одним жестом Евзегир прервал Родриго. — Время приближается, — сказал он, — смотрите. Животное начинает страдать, и эти ее страдания доставят вам через несколько минут то, что мы желаем… Смотрите. Смерть произойдет из смерти, и смерть такая, какую вы желаете… быстрая, неумолимая… Смотрите! В самом деле, свинья, лежавшая спокойно на траве, начала испускать почти что человеческие вопли. Вскоре страдания ее стали так сильны, что животное вскочило, но ноги были уже не в состоянии поддерживать ее тело, она перевернулась раза три и тяжело упала. Цыган немедленно сделал круглую петлю из веревки и набросил ее на задние ноги животного, потом, перебросив другой конец веревки через толстый дубовый сук, приподнял свинью аршина на два от земли. Через несколько секунд начались конвульсии, такие сильные, что от них дуб гнулся, как тростник. Наступила минута окончания работы. «Смерть произойдет от смерти», — сказал цыган, и он не солгал. Пена, истекавшая из пасти животного, собиралась цыганом на медное блюдо и, перелитая потом им во флакон, переданный Родриго, была смертельным ядом. Порошок, смешанный с говядиной, был обычный яд — мышьяк. Слюна отравленной свиньи была чистейшим ядом. — Ты еще сомневаешься? — сказал, перейдя на «ты», цыган Родриго. — Быть может, для опыта ты хочешь убедиться в могуществе этого яда?.. Вот доказательство. И быстрым движением цыган сбросил с себя плащ. — Знаешь ли, почему я сам велел отрубить эту руку? Потому что десять лет тому назад, приготовляя яд, я имел неосторожность дозволить свинье укусить кулак… Не прошло пяти минут, как рука моя распухла и побагровела… Еще через пять минут яд достиг плеча. Я не колебался. «Возьми топор и отруби», — приказал я одному из моих спутников. Он повиновался. Я ужасно страдал целых три месяца, но сохранил жизнь, а я люблю жизнь, особенно когда, как сегодня, встречаются такие добрые господа, как ты. Родриго бросил цыгану другой кошелек. — Я тебе верю, — сказал он. — Но до сегодняшнего раза ты никому не оказывал такой же услуги?.. — Вот уже десять лет, то есть с того самого дня, когда я был укушен свиньей, я ни разу не приготовлял этого яда. — А где и для кого приготовлял ты яд десять лет назад? — В Эдинбурге, для одного знатного англичанина, которому наскучила жизнь и который заплатил мне за смерть пятьсот гиней. — Он умер? — В десять минут. — Следовательно, только мне и тебе известна тайна приготовления?.. — Да. Конечно, мне и тебе. — Хорошо. Я испробую его достоинство. До свидания. Послезавтра в Аламедо. На другой день, вечером, сидя у своей любовницы в саду вместе с ее дочерьми, Родриго Борджиа почувствовал жажду. — Поди принеси напиться сеньору Родриго, Бианка, — сказала вдова старшей своей дочери. Та повиновалась и принесла из дома стакан холодного лимонада. Родриго выпил несколько глотков с видимым удовольствием, потом поставил стакан на стол и разговор снова завязался. Но вдруг Роза, которую Родриго толкнул коленкой, вскрикнула. — Что с тобой? — спросила испуганная мать и старшая сестра. — Не знаю, — дрожащим голосом ответила Роза, наклонившись, чтобы взглянуть под стол. — Что-то холодное скользнуло у меня по ноге. После этого ответа Елена и Бианка, машинально подражая Розе, заглянули под стол. Сам Родриго через несколько секунд последовал их примеру. Под столом не было даже и букашки. — Вы обманули нас, милая Роза, — сказал, смеясь, Родриго. — Да, — сказала Елена Ваночча. — Во всяком случае, дитя мое, так кричать — глупо! У меня еще и теперь сердце не на месте. — Хотите глоток лимонада? — спросил Родриго, подавая своей любовнице стакан. — Охотно. Она с жадностью выпила все, что оставалось в стакане, и почти тотчас же поднесла руку к груди и ко лбу. — Странно! — сказала она. — Что такое? — спросили обе дочери и Родриго. — Без сомнения, это от испуга… Я страдаю… я… О Боже! Боже мой!.. Это были последние слова, которые произнесла Елена Ваночча. Она привстала… и всем телом опрокинулась на скамью, холодная, бледная, умирающая… мертвая… — Матушка! — вскричали обе дочери, бросаясь к ней. — Матушка!.. Презренная Роза осмеливалась звать мать, зная, что она ей не ответит. Она не могла ответить, потому что дочь убила ее. Еще утром Родриго, показывая ей пузырек, говорил молодой девушке: — Здесь твоя и моя свобода. Чувства твои те же? Сегодня вечером мать твоя умрет. Когда ты будешь моею? — Завтра, — ответила Роза. Еще через день, Родриго, по уговору с цыганом, отправился в Аламедо. Цыган явился на свидание первым и один. Родриго пришел без провожатых. Евзегир стоял, прислонясь спиной к дереву. У ног его на песке лежала шляпа, он походил на тех, которые привлекают сострадание своим уродством. Проходя мимо него, Родриго бросил в шляпу обещанную сумму. — Да благословит вас Господь, сеньор, — пробормотал цыган. Но Родриго был уже далеко; цыган оставался еще несколько минут на своем месте. Но смешно и странно оставаться просить милостыню, имея в кармане две тысячи дукатов! Цыган положил кошелек в карман, поднял шляпу и пошел по дороге в Граи, к тому леску, в котором они раскинули шатры. Он шел шибко, но прыткие ноги не спасли его от угрожавшей ему участи. А его участью была смерть. Родриго нашел двух негодяев, которые за двадцать дукатов готовы были убить двадцать цыган. — Сегодня вечером, в восемь часов, в Аламедо, — сказал он им, — я покажу вам человека. — Очень хорошо. Человек был им показан. Не доходя нескольких шагов до своих шатров, в маленьком лесу, цыган упал мертвый, даже не вскрикнув, пронзенный двумя кинжалами, из которых один прошел между плеч, а другой попал в самое сердце. Убийство было совершено быстро и искусно. Он умер прежде, чем почувствовал, что его убивают. — Обыскать его? — спросил один из наемных убийц. — К чему?! Что ты думаешь найти у него?.. — Все равно!.. Рискнем!.. — Что такое? — Кошелек, другой, третий!.. — И полные золота!.. Вероятно, оно украдено им у этого молодого господина, который заплатил нам за то, чтобы мы его убили. — Нам-то какое дело?! — Конечно, никакого!.. Барашек зарезан, шерсть — наша. Двое негодяев возвратились в Валенсию пьянствовать и играть на деньги Родриго, которые его мало трогали. Он заплатил две тысячи дукатов, чтобы одному обладать тайной, и не считал, что заплатил дорого. Такова история яда Борджиа, который в течение сорока лет сеял смерть во всей Италии, ибо, когда Родриго состарился, он — как добрый отец — открыл важный секрет двоим своим любимым детям, Чезаре и Лукреции, как приготовлять этот яд, который был усовершенствован им самим. Убивать постоянно одним и тем же способом — скучно и неудобно! Среди прочих его изобретений следует упомянуть о ключе, который обладал свойством, производя маленькую, почти незаметную ранку, убивать каждого, кто имел неосторожность отпирать им. Дело в том, что в ларце, отпиравшемся этим ключом, замок был туговат и, чтобы отпереть, требовалось небольшое усилие, а именно из-за этого усилия головка ключа укалывала руку отпиравшего. Укол был ничтожен, но зато смертелен. Но мы рассказываем не историю Родриго Борджиа, а историю его дочери Лукреции. Она была еще в колыбели, когда он уехал в Рим готовиться долгими годами притворства к апостольскому престолу. Долгие годы! Да, Родриго ждал, по крайней мере, тридцать лет возможности взойти на трон св. Петра. — Терпение, долгое терпение! — говорил он Розе. Он, быть может, и не подозревал всей справедливости своих слов. В первое время своего пребывания в Риме, чтобы хоть немного усладить горечь разлуки, Родриго каждый месяц приезжал на несколько дней в Венецию, но, сделавшись кардиналом, из боязни скомпрометировать себя, посвящал радостям любви очень немного часов, да и то через долгие промежутки: с 1458 до 1484 года, то есть в течение двадцати шести лет, Роза и Родриго виделись едва пятнадцать раз. Но несмотря на редкие свидания, Родриго не переставал доказывать своей любовнице и детям искренность своей привязанности. Каждую неделю он писал Ваночче и высылал ей деньги. Она с детьми жила в роскоши. Домом управлял друг Родриго, дон Мануэль Мельхиори, слывший братом Розы и наблюдавший только за благосостоянием своей сестры и племянников, не позволяя себе делать ни малейшего замечания относительно их поведения. Это было необходимой скромностью со стороны дона Мануэля, иначе он из полезного и приятного стал бы стеснителен и скучен. Объясним это. Верная Родриго первые четыре года своего вдовства, Роза, пылкая по природе, однажды убедилась, что любовь, как бы ни была искренна, если выражается только перепиской, — это очень неполная, несовершенная любовь. И сам Родриго, услыхав в один из своих редких приездов в Венецию ее жалобу на редкость свиданий, дал ей полную свободу, сказав: — Моя милая, так как я хочу стать папой, то с моей стороны было бы и глупо, и жестоко принуждать вас быть мученицей. Сохраните мне ваше сердце — вот все, чего я вправе от вас требовать. И Ваночча сохранила свое сердце для одного Родриго. Что же касается ее чувств, то она часто дарила их прекрасным венецианцам. Из этого видно, что дом Ваноччи вовсе не был школой нравов и что строгий цензор в лице дона Мануэля был бы в нем неуместен. Освобожденная своим любовником Ваночча находила совершенно естественным не быть требовательной к детям. После одного любовника она брала другого. И пока дети были только детьми, зрелище этого разврата не представляло для них опасности. Но когда Чезаре и Франческо стали мужчинами, а Лукреция достигла шестнадцати лет, влияние дурного примера выразилось в них вполне. Отец их, кардинал, давал их матери полную свободу в удовольствиях, и она не находила дурным вполне пользоваться этой свободой. И они также были вольны поступать как хотят. Законы нравственности, религии, природы для них не существовали… В шестнадцать лет Лукреция была поразительно хороша собой. В ней было все: благородство, грация, изящество, ум. Все, исключая сердце. Но сердца не видно… И для того чтобы обольщать и убивать, сердца не нужно. Она была блондинка. До шестнадцати лет белокурая Лукреция была прекрасна! Она посоветовалась с зеркалом и решила по примеру матери завести любовника… Во дворец Ваноччи в числе других вельмож являлся Марсель Кандиано, очень нежно поглядывавший на Лукрецию. Она тоже поглядывала на него. Друг друга можно понять быстро, если хотеть этого. Марсель Кандиано понял, что он нравится; от разговора глазами он поспешил перейти к словам. Однажды вечером, пользуясь тем, что они были одни, Кандиано прошептал: — Я люблю вас! Она отвечала улыбкой. Она видела, что ее мать поступает так же в подобных случаях. На другой день, если он скажет больше, она решила ответить ему яснее. Но на другой день Кандиано не явился во дворец Ваноччи. Кто-то изумился этому отсутствию. — А! — был ответ. — Разве вы не знаете, что Кандиано лежит в постели. — Больной? — Умирающий от удара кинжалом, который он получил, выходя отсюда. — А кто его ударил? — Неизвестно. Убийца был в маске. Бедный Кандиано! Лукреция была печальна целый час. Но в тот самый вечер, когда она узнала о происшествии, рядом с ней за ужином сидел кавалер Никола Альбергетти из Феррары. Он был старше Кандиано и не так красив, но зато очень богат. В числе других драгоценностей на мизинце левой руки он носил перстень с огромным бриллиантом, которым все восхищались, вместе с другими восхищалась и Лукреция. — Этот перстень вам нравится? — спросил любезный кавалер и преподнес его молодой девушке. Лукреция удивилась столь чрезмерной доброте, но так, для формы. — Доброта моя больше, чем вы думаете, — ответил, улыбаясь, Альбергетти. — Этот перстень я получил от алхимика, который немного занимался колдовством и который уверил меня, что, пока я буду носить его, мне нечего бояться смерти. — А между тем вы отдаете его, — заметила Роза Ваночча. — Это неблагоразумно. — Какая заслуга в том, чтобы дарить то, что ничего не стоит? К тому же я не суеверен. Если бы я заболел, то не бриллиант спас бы меня. Против разбойников и врагов у меня есть шпага… С этой минуты в кругах Ваноччи стало для всех ясно, что Альбергетти мечтал о счастье быть любовником Лукреции. С нею он был любезен, предупредителен, ловя каждый случай сказать ей вслух комплимент о ее грации, о ее уме… — Но, — сказал однажды вечером Розе маркиз Пизани, ее любовник в это время, — Альбергетти влюблен в вашу дочь!.. — Так что же? — холодно ответила Роза. — Почему он не может ее любить?.. — Вы не догадываетесь? — О чем? — Что может произойти нечто опасное и для вас, и для нее от этого ухаживания? — Что же может произойти? — Но если он влюблен, почему же не просит ее руки? Роза пожала плечами. — Что за вопрос задаете вы мне, маркиз? Вы женились бы на моей дочери, если бы даже обожали ее?.. Конечно, нет! На девушке без имени не женятся… Почему же вы желаете, чтобы Альбергетти, который такой же дворянин, как и вы, просил ее руки? — Но в таком случае… — Не беспокойтесь. Девушке без имени нечего бояться дерзости волокиты. Ее оберегают. И в тот же день, когда Альбергетти пожелал бы идти дальше, чем следует, ручаюсь вам, он поплатился бы. Кто же стоял за Лукрецией? Почему ей нечего было страшиться обольщений все более и более влюбленного в нее мужчины? Альбергетти продолжал свои ухаживания. И однажды вечером, никем не замеченный, — по крайней мере, он так думал, — он прошел в комнаты Лукреции и, стоя перед ней на коленях, умолял ее ответить на его страсть. Более кокетливая, чем влюбленная, Лукреция согласилась предъявить только слабое доказательство благородному синьору. Поцелуя в лоб она считала на первый раз достаточно. Этого оказалось много. Через несколько часов, ночью, поужинав по привычке рядом со своей возлюбленной, Альбергетти возвращался домой, и, когда он переходил площадь св. Марка, чтобы добраться до своей гондолы на Пиацетте, какой-то человек в маске со шпагой в руке преградил ему дорогу. Альбергетти был храбр и ловко владел оружием и потому не очень дрогнул при этой встрече. — Чего ты хочешь от меня? — спросил он у человека в маске. — Убить тебя, — ответил тот. — Убить? За что? — Я тебе скажу, когда ты будешь умирать. — Право? Ты так уверен в себе? — Так же уверен, как будешь уверен и ты через несколько минут в своей ошибке, которую ты сделал, отдав свой перстень. — О! О! Ты все знаешь? Не из близких ли ты придворных? — Ты все знаешь? Не из придворных ли ты Ваноччи? — Может быть. — Ты так же, как я, влюблен в ее дочь, а следовательно, соперник? — Это возможно. — Уж не тот ли самый господин, который убил Марселя Кандиано? — Я не говорю нет. — Ну, посмотрим, легко ли ты отправишь меня на тот свет, как ты надеешься. Говоря таким образом, Альбергетти вынул шпагу и напал на незнакомца, в котором сразу распознал большого мастера. Шпага человека в маске казалась сросшейся с его рукой. Невозможно было выбить ее. Незнакомец, в свою очередь, напал на Альбергетти, тот хотел отразить удар, но не успел. Шпага противника воткнулась ему в горло. Он упал, обливаясь кровью. Тогда, скинув маску и наклонясь к своей жертве, незнакомец сказал: — Смотри теперь, кто твой соперник, Альбергетти. Смотри, кто тот, который, подобно тебе, любит Лукрецию. Умирая, Альбергетти напряг последние силы, чтобы взглянуть в лицо своему убийце. — О ужас! — прошептал он. — Чез… Он не окончил, рука незнакомца закрыла ему рот… Когда рука была отнята, второй любовник Лукреции был мертв. В то время когда совершалось убийство, Лукреция сидела в своей спальне, готовясь лечь в постель. Но летняя ночь была удушлива… молодой девушке не хотелось спать… Полураздетая, потушив лампы, чтобы не было видно снаружи, она облокотилась на окно. Дворец Розы Ваноччи выходил на площадь св. Стефана, на углу большого канала; из окна Лукреция могла наслаждаться видом гондол, скользивших по лагуне… Но она глядела не вниз, а вверх, рассеянным взором следя за черными облаками, медленно двигавшимися по небу, по временам освещаемому молнией. Вдруг постучались в дверь. Кто мог быть так поздно? Вероятно, больная мать прислала за ней одну из своих горничных. — Кто там? — спросила она. — Отвори. Это я! — произнес глухой голос. То был голос Чезаре, ее брата. Не одеваясь, Лукреция отворила дверь. Чезаре вошел. Она хотела зажечь свечи. — Бесполезно! — сказал он, удерживая ее за руку. — Нам не нужно огня, чтобы поговорить. — Как хочешь, — ответила она. Он бросился на диван, стоявший напротив постели, она села с ним рядом. Наступило молчание, в продолжение которого Чезаре, привыкая к полумраку, не переставал глядеть на белую фигуру, сидевшую рядом с ним. Удивленная этим молчанием Лукреция, смеясь, спросила: — Что ты, Чезаре, хочешь мне сказать? — Не смейся!.. — А! Я не должна смеяться!.. С тобой случилось какое-нибудь несчастье?.. — Со мной? Нет! — С кем-нибудь из братьев? Чезаре сделал презрительное движение. — Я смеюсь над нашими братьями! — возразил он. — Я люблю только одно существо во всем мире: тебя, Лукреция!.. — О! А мать, а отца?.. — Я их люблю не так, как тебя. За тебя я отдам всю свою кровь, я продам душу… Знай, что я за тебя сделал, я убил человека. — Боже!.. — Ты не увидишь больше Николу Альбергетти, как не видишь Марселя Кандиано!.. — А! Так это ты убил Кандиано? — Я. — За что? — Я тебе сказал, за то, что я люблю тебя!.. Потому что я так люблю тебя, что не хочу, чтобы у тебя был любовник… — А! А!.. Теперь я предупреждена. Не иметь любовника… А буду ли, по крайней мере, я иметь позволение выйти замуж? — Ты еще слишком молода, чтобы выходить замуж. — И мужа не иметь! Но знаешь ли, Чезаре, твоя братская привязанность слишком жестока!.. — Я не брат тебе!.. — Кто же ты?.. — Кто я?.. Примирись с этим неведением, Лукреция!.. Кто я, кем я хочу быть для тебя, ты уже давно подозреваешь это. Хочешь ли, чтобы убедить тебя совершенно, я убью еще несколько глупцов, которые встанут между нами? Хорошо! Я убью. Но я люблю, люблю, люблю тебя, Лукреция!.. Я люблю тебя и ради тебя играл своей жизнью… Потому что я не умертвил Альбергетти… Я убил его в честной битве… Если б он убил меня, поплакала бы ты обо мне?.. Любишь ты меня?.. Лукреция!.. Моя Лукреция!.. И он сжал ее, трепещущую, в своих объятиях. Трепещущую не от радости, а от ужаса… Правда, она давно замечала что-то чудовищное в чувствах Чезаре. Быть может, она даже угадала в нем убийцу Марселя Кандиано. Между тем, как ни было развращено ее воображение, Лукреции было только семнадцать лет. За отсутствием души плоть возмущалась в ней от первого дерзкого прикосновения… При блеске молнии она смотрела на своего брата… Чезаре Борджиа был красив, очень красив!.. Он был прекрасен, а Лукреция должна была быть Лукрецией… Однако она его отталкивала, говоря: — Нет! Ступай! Если б узнали, что ты у меня в этот час… Ступай!.. — Кого же ты боишься?.. — Тебя! Ты безумен!.. Говоришь о любви, когда только что убил человека!.. — Ты жалеешь этого человека?.. — Э! Нет!.. Но… Раздался глухой удар грома. — Слышишь?.. — проговорила она. — Это голос оскорбляемого тобой Бога! Чезаре насмешливо покачал головой. — Я слышу шум, производимый электричеством, и ничего больше, — ответил он. — Наконец, я хочу спать… я буду больна… Эта гроза пугает меня… Умоляю тебя, Чезаре, удались! — После того, как ты подаришь мне поцелуй. Она приблизилась к нему и остановилась… Снова раздался стук в дверь, и в то же время послышался голос: — Отвори, Лукреция! Это я, Франческо. — Франческо? — спросил Чезаре, хмуря брови. — Что ему нужно?.. Она зажгласвечу, накинула первую попавшуюся под руки одежду и отворила дверь. Франческо был годом старше Чезаре, которому было девятнадцать лет. Черты лица его были не так правильны, как у его младшего брата, зато выражение было нежнее и приятнее. Но в эту минуту он совсем не улыбался. Он вошел, не выразив ни малейшего изумления при виде брата, поклонился сестре, потом, обращаясь к Лукреции, сказал с холодной усмешкой: — Теперь, моя малютка, если хочешь успокоиться, тебе никто не будет мешать. Ступай в постель и спи. Чезаре встал бледный и приблизился к Франческо. — А! А! — воскликнул он. — Ты нас подслушивал! — Я не подслушивал, — спокойно возразил Франческо, — я наблюдал за тобой!.. — То есть подслушивал за дверью?.. — Да. И я должен сознаться, что не раскаиваюсь в своем любопытстве. Мне довелось услышать очень странные вещи!.. — Франческо!.. — Чезаре!.. Братья с угрожающим видом стояли друг против друга. Лукреция бросилась между ними. — Полно! — вскричала она. — Уж не хотите ли вы сейчас драться? Право, эта гроза действует раздражительно на нервы. Если тебе хотелось подслушать наш разговор с Чезаре — тем лучше для тебя! Ты будешь меньше удивлен завтра, когда услышишь о смерти Альбергетти. Чезаре не хочет, чтобы у меня были любовники. Ты, быть может, тоже не хочешь?.. Поспорим, что ты не хочешь!.. Ну, у меня их не будет… Клянусь вам!.. Теперь прощайте! Ступайте спать и, чтобы вам не было завидно… Молниеносно наклонившись поочередно к обоим братьям, Лукреция дала им по жаркому поцелую, затем, толкнув их к двери, сказала: — До завтра! Они хотели говорить. — Ни слова, или я рассержусь, — докончила она, красноречиво пожимая обоим руки. — Я люблю только вас… Я хочу любить только вас… Я никого не буду больше любить… Довольны вы?.. Прощайте!.. Заперев дверь и закрыв окно, Лукреция легла и, улыбаясь, шептала: «А! И тот тоже!» Он тоже!.. Кто он? Что тоже? И почему Лукреция улыбалась?.. Угадайте, читатели. Жак Бурхард уверяет, что Лукреция не только принадлежала обоим братьям, но что позже была даже в постыдной связи со своим отцом. Мы окончили пролог первой драмы стыда и позора, которым занята вся история Лукреции — история, переполненная преступлениями. Мы видели ее еще девушкой-блудницей, теперь взглянем на женщину. Есть оттенки даже в ужасном, но тут нет: если Лукреция Борджиа отравляла своих любовников, своих мужей, то она еще отвратительней в виде соперницы своей матери и любовницы братьев. Виктор Гюго в своей драме дает Лукреции сына Дженаро, которого она находит в Венеции, будучи уже женой Альфонса д’Эсте, герцога Феррарского, которого она любит, спасает от смерти и который ее убивает… Но дело происходило не совсем так. Дочь Лукреции (один только дьявол знает, кто был отец — Чезаре или Франческо) исчезла при самом рождении, отданная Розой Ваноччей на воспитание крестьянке в окрестностях Вероны. Беременность Лукреции и роды были для всех посторонних тайной. Оправившись, Лукреция снова принялась за прежнюю веселую жизнь… Но Чезаре, во избежание нового скандала, был отправлен отцом и матерью в университет в Пизу, а Франческо — в Падую. Что касается Лукреции, то ей дали мужа: молодого испанца, фамилия которого неизвестна. Да и к чему нужна была ему фамилия! Он существовал так недолго! Его взяли, когда считали нужным, и избавились от него, как только он стал бесполезен. Родриго Борджиа стал папой только в 1492 году, но, сгорая от нетерпения увидеть свое семейство, он в 1487 году привез его в Рим. Любезный друг дон Мануэль Мельхиори, перекрещенный в графа Фердинанда Кастильского, из брата Розы в Венеции в Риме превратился в ее мужа. Муж Лукреции был изумлен этой метаморфозой. К тому же Родриго имел на нее виды, а потому однажды мать спросила у Лукреции: — Очень ты любишь своего мужа? — Я? Нисколько! — ответила тут же Лукреция. — Значит, если с ним случится какая-нибудь неприятность, ты не огорчишься?.. — Какого рода неприятность? — Например, если б он умер неожиданно… Он мал ростом… Несколько толст… шея у него ушла в плечи. Подобного рода люди подвержены апоплексии. Лукреция улыбнулась. — Хорошо. Однажды вечером, возвратившись с прогулки, он весело ужинал со своею тещей и женой. — Вы должны заботиться о себе, мой друг, — говорила Ваночча. — Уверяю вас, дорогая матушка, — смеясь, возразил муж Лукреции. — Я не чувствую никакой боли. — Иногда, сами не замечая, носим в себе семена болезни. У меня есть старое сиракузское вино — просто нектар!.. Я пью его, когда чувствую себя дурно… Позвольте предложить вам несколько глотков… Слуги удалились, потому что ужин кончился, сама Роза отправилась в свою комнату за драгоценной бутылкой. В то время Лукреция смеялась и шутила со своим мужем. Ваночча принесла нектар и налила зятю. — А мне, матушка! — вскричала Лукреция с упреком. — Разве вы не дадите? — Сейчас, сейчас… — отвечала Ваночча. — Ты ведь не больна!.. — Да и я не болен, благодарение Богу! — воскликнул супруг. — Но вы все-таки попробуйте этого вина, мой друг. Я хочу узнать о нем ваше мнение. Муж Лукреции выпил глоток, другой… — Великолепно! — сказал он и любезно подал стакан жене, прибавив: — Попробуй и ты… Лукреция не знала, что ей делать. Отказаться было бы странно, принять — опасно. Однако она взяла стакан, но в иных случаях секунда значит больше часа. В самом деле, пока она рассматривала вино, вдруг ее муж вскрикнул раз, один только раз, и упал на пол. Он был мертв… — Я же говорила, что он болен! — заметила Ваночча, выливая за окно остатки старого сиракузского вина. Бледная Лукреция рассматривала труп своего мужа. — О чем ты думаешь? — сказала ей мать. — Зови же на помощь, пока я отнесу склянку на прежнее место… — Помогите! — закричала Лукреция.* * *
Иннокентий VIII не существовал более. Двадцать два кардинала, которым было хорошо заплачено, провозгласили папой Родриго Борджиа, под именем Александра IV… Он обладал всем могуществом, о котором столько лет мечтал… Из Чезаре он сделал кардинала, но тому не нравилась священная карьера; он перешел к Людовику XII, который из кардинала Валентина, как прозывался Чезаре, сделал герцога Валентинуа. Франческо стал герцогом Ганди… Лукреция… Что бы сделать из Лукреции?.. Она была вдова. Хорошо. Ей был нужен муж. Ей выбрали его из знаменитейшей итальянской фамилии, давшей Милану шестерых государей, из семейства Сфорца. Но в 1497 году Александр IV заметил, что Сфорца, муж его дочери, будучи приемлемым как зять, оказался совершенно бесполезным в качестве союзника, и поэтому объявил брак недействительным из-за мужской неспособности супруга. Третьим мужем Лукреции Борджиа был Альфонс, герцог Безеглиа, побочный сын Альфонса II Арагонского. Он был полезным и прелестным мужем: такой нежный, добрый, никогда не занимавшийся тем, что делала Лукреция. Александр IV и его дочь очень любили Альфонса. Это, однако, не помешало Чезаре убить его два года спустя. Этот Чезаре убивал людей как мух. Отец его и сестра восхищались им. Но однажды они поняли, что он зашел слишком далеко. Это случилось перед третьим замужеством Лукреции. Он был в Риме, в который вступил как триумфатор после победы над французами. В течение трех дней в Ватикане не знали, чем позабавить герцога Валентинуа. Но герцог был мрачен среди всех этих развлечений, ибо Лукреция не разделяла их вместе с ним. Странная и роковая вещь! Страсть Чезаре к сестре противилась времени. Этот человек, по знаку которого отдалась бы самая прелестная женщина в Италии, всегда любил только одну — ту, любовь к которой должна бы была заставить его краснеть. Где же была Лукреция? Она из каприза удалилась в монастырь, когда Чезаре вступал в Рим. Быть может, тут крылась какая-нибудь любовная интрижка, но Чезаре все это мало трогало, она знала. Почему же из этой истории она делает тайну? А?.. За два дня до возвращения Чезаре в Рим его брат, герцог Ганди, тоже прибыл туда. И Чезаре даже заметил с тайным изумлением, что Франческо вовсе не заботился об отсутствии сестры. Все ясно! Если Лукреция скрывалась от Чезаре, то лишь для того, чтобы быть с Франческо… Они видятся в монастыре… О глупец! Трижды глупец!.. Как сразу он не понял этого!.. А вдруг он не ошибается?.. Несчастье!.. Этот человек слишком долго стоял на его дороге!.. К тому же он похищает у него часть славы… О нем говорят: хвалят его храбрость, великодушие… Неаполитанский король подарил ему два герцогства: Беневенто и Понтекорве!.. Чезаре немедленно поручил шпионам следить за братом. На другой день он уже знал все, что нужно было знать и что вполне подтверждало его подозрения: каждую ночь герцог Ганди посещал монастырь св. Сикста, в котором жила его сестра. — Довольно! — сказал Чезаре. И спокойно, хладнокровно, вместе со своим оруженосцем он обдумал план убийства брата в следующую ночь. В этот вечер Чезаре и Франческо ужинали у матери, на вилле. За ужином герцогу Ганди подали письмо, распечатав которое, он покраснел от радости. Прочитав его, он сказал одно только слово: «Приду!» В одиннадцать часов он встал из-за стола и ушел. Через пять минут, сказав, что ему надо отправиться в Ватикан, к отцу, Чезаре также простился с матерью. Чтобы достигнуть монастыря св. Сикста, Франческо приходилось проходить еврейским кварталом. Он шел в сопровождении слуги, вдруг четверо пеших и пятый верхом напали на него. Думая, что имеет дело с ворами, он назвал себя, но убийцы, услышав это заявление, только участили удары, и герцог пал мертвый рядом с умирающим слугой. Тогда тот, который был верхом, безмолвно и неподвижно смотревший на убийство, подъехал к трупу, а четверо убийц, взвалив тело на спину лошади, пошли рядом с нею, чтобы поддерживать его. Кто был этот человек на лошади, который отвез труп к Тибру, откуда на другой день вытащили тело герцога, пронзенное девятью ударами кинжала? Вы, конечно, догадались: это был Чезаре! И Александр IV, и Роза Ваночча, и Лукреция тоже догадались сразу. Вы, наверное, думаете, что отец, мать и сестра, потрясенные столь ужасным преступлением, призвали убийцу к ответу и наказали его своим справедливым гневом? Плохо же вы знаете семейку Борджиа! Александр IV действительно пролил искренние слезы над трупом старшего сына. В течение трех дней он ничего не ел. В течение трех дней, несмотря на просьбы своей новой любовницы, Джулии Белла, уединившись в самую потаенную и мрачную комнату своего дворца, он не принимал никого. Но Лукреция вышла из монастыря св. Сикста. Отец принял ее. Он ее выслушал… Что сказала она ему? Кто это знает! Но Александр написал Чезаре, который бежал в Неаполь, чтобы он воротился. И не только простил ему братоубийство, но даже отдал живому то, что принадлежало мертвому. Что касается Лукреции, то при встрече с Чезаре ничто, кроме легкой дрожи, когда он жал ей руку, не выражало в ней, что она помнит его преступление. Одно только существо не простило Чезаре: мать. Но и она никогда не сделала ему ни одного упрека. Только когда, являясь к ней, он хотел поцеловать ее, она отворачивала лицо и произносила одно слово: — Нет! Ни слова больше.* * *
В течение двух лет, будучи женой Альфонса, герцога Безеглиа, Лукреция, привязанность к которой со стороны отца перешла в страсть, ни разу не покидала Рима. Она занимала в Ватикане великолепные покои, куда собирались все самые распутные женщины Рима, где она принимала кардиналов, разбирала корреспонденцию отца и довела свое бесстыдство, по словам Бурхарда, до того, что являлась в храм святого Петра в сопровождении своих развратных сообщниц. И день и ночь она предавалась самым разнообразным удовольствиям, жизнь ее была непрестанным разгульным пиром, а ночные пиршества у Лукреции неизменно оканчивались ужасающими убийствами. Нужно было золото, груды золота были нужны и Александру, и Чезаре, и Лукреции для той постыдной, бесславной роскоши, которой они себя окружали. Чтобы доставать золото, они приглашали к себе дворян, большей частью своих родственников, и отравляли их или, когда несчастные впадали в бесчувствие от вина, приказывали сбирам умерщвлять их. Охота, балы, маскарады и пиры с ядом или ударом кинжала вместо десерта вошли в обычай у фамилии Борджиа. Вот как пировал герцог Валентинуа. «В последнее воскресенье октября месяца пятьдесят куртизанок ужинали в комнате Чезаре Борджиа, а после ужина танцевали с оруженосцами и служителями, сначала в своей одежде, а потом голые. После ужина стол унесли и на полу симметрично расставили канделябры, рассыпая на паркет множество каштанов, которые эти пятьдесят женщин, все еще голых, должны были поднимать, ползая на четвереньках между горящих светильников. Чезаре и сестра его Лукреция, смотревшие на это представление с трибуны, воодушевляли своими рукоплесканиями наиболее ловких и прилежных…» Допуская Лукрецию к участию в своих непристойных забавах, Чезаре Борджиа, по-прежнему ее ревнуя, сам вводил ее в тайны разврата, потакал любым ее капризам, но он не потерпел бы, влюбись она в кого-нибудь всерьез. Никаких увлечений с ее стороны он не позволял. Осенью 1499 года она приметила одного миланского дворянина по имени Фабрицио Боглиони. У него не было ничего, кроме ума, и он полагал, что не рискует ничем, отвечая на искания Лукреции. Целую неделю Чезаре как будто не замечал частых посещений Фабрицио Боглиони его сестры. На девятый день он сказал ей: — Боглиони мне надоел: брось его. — Если тебе он надоел — меня он забавляет, — ответила она, — и я не брошу его. — Хорошо! Он повернулся на каблуках, она бросилась к нему и схватила за руку. — Берегись! — с угрозой сказала она. — Если ты только тронешь Боглиони, я не прощу тебе этого никогда! — Кто тебе сказал об этом, глупенькая! — смеясь, возразил Чезаре. — Я не полагал, что он так тебе нравится, и ошибся. Оставь его себе, не станем более о нем говорить. Лукреция знала, что значат обещания ее брата, и с этой минуты заботливо оберегала Боглиони, приказывая своим оруженосцам провожать его, если он уходил от нее поздно, и сама наливая ему за столом вино. Но однажды утром, на охоте, молодой миланец удалился, к несчастью, от своей любовницы и встретил Чезаре, который сидел один под деревом и, чтобы прохладиться, поскольку жара была нестерпимая, ел красный мессинский апельсин. — Ба! Это вы, синьор Боглиони! — вскричал герцог Валентинуа. — Где же сестра? — Не знаю, монсеньор. Я ехал с нею минуту назад и был вынужден сойти с лошади, чтобы поднять мою шляпу, которую снесло ветром. Когда я возвратился на то место, на котором оставил герцогиню, ее уже не было там. — Мы отыщем ее. Я устал и отдохнул с минуту… хотите, Боглиони, апельсин, он удивителен… — С удовольствием, монсеньор. Боглиони проглотил четверть апельсина, поданного ему герцогом. Затем он сел на лошадь, и они рядом отправились отыскивать Лукрецию. Но не прошло пяти минут, как Боглиони почувствовал такое недомогание, что вынужден был остановиться… Он качался в седле. Не обращая на это никакого внимания, Чезаре Борджиа продолжал свой путь. — Что же со мною? — проговорил Боглиони и, чувствуя себя все хуже и хуже, слез с коня. Час спустя один из слуг нашел его умирающим в высокой траве, на которую он лег. Лукреция громко закричала при этом известии. — Это ты убил его! — говорила она Чезаре. — Нет! Клянусь честью… Доказательств не было, никто не видел, как герцог Валентинуа разговаривал с Боглиони в лесу, а яд Борджиа не оставлял следов. Будучи уверена в своей правоте, Лукреция несколько дней дулась на брата… Но в Риме готовились новые празднества по случаю возвращения герцога Безеглиа, благородного супруга дочери Александра IV, приговоренного Чезаре к смерти. Лукреция забыла бедного Боглиони. Альфонс, герцог Безеглиа, был принят папой и герцогом Валентинуа со всеми признаками искренней дружбы. Особенно Чезаре обходился с ним, как со своим лучшим другом, не покидая его целые дни во время празднества. Но однажды, во время ужина в Ватикане, Альфонс был убит на площади св. Петра, когда он поднимался по лестнице, ведущей к ней. Он получил удар алебардой в голову, одну рану в бок и одну в ляжку. «Но он не умер от этих ран, — говорит Бурхард, — что, однако, не помешало ему быть удавленным на следующую ночь в своей постели, на которую он был перенесен весь окровавленный». Так Лукреция в третий раз стала вдовой. Через шесть месяцев она вышла замуж за Альфонса д’Эсте, сына герцога Феррарского. Она была в этом городе, когда 18 августа 1503 года узнала о смерти отца. Известно, как умер Александр IV. Расточительность Чезаре перешла всякие границы, он задумал отделаться от трех или четырех богатейших кардиналов, среди которых были Карнето и Карафора, а Александр разрешил ему чеканить монеты каким-то новым способом. Он пригласил кардиналов и их друзей на роскошный ужин. Чезаре передал дворецкому отца две бутылки вина, приказав ему подать их только тогда, когда он даст знак. Вследствие непонятной ошибки один из слуг подал именно это вино за несколько минут до ужина его святейшеству и герцогу Валентинуа, почувствовавшим потребность освежиться. Александр IV умер через несколько часов в ужасных конвульсиях. Чезаре принял противоядие и спасся. Он умер через десять лет от выстрела при осаде Вианы, во время войны Жана д’Альбер с коннетаблем Кастильским. Слишком славная смерть для чудовища, достойного только эшафота! Лукреция пережила всех своих родных. Но годы, тяготевшие над ней, смягчили ли ее характер? Если она еще имела любовников в Ферраре, то, по крайней мере, она не отравляла их. Это был уже прогресс!.. Одним из этих последних любовников был друг Ариоста Петр Бембо, в письмах к которому Лукреция выражала самую пылкую любовь. Но любила ли она на самом деле? Могла ли она чувствовать истинную любовь?.. Нет, Господь ни разу не дозволил ей испытать чистой и действительной радости, зато по его воле она познала истинную и горькую печаль! Что ж, ей воздалось по заслугам!ФОРНАРИНА
Форнарина! Да будет проклята потомством эта женщина, ставшая причиной смерти царя живописи! Да будет навечно проклята эта куртизанка, пламенные поцелуи которой иссушили источник жизни Рафаэля Санти! Ни малейшей жалости к этому презренному существу, которое не поняло, что, безрассудно повинуясь своим чувственным инстинктам, отыскивая только сладострастие в нежности, она совершала величайшее преступление — убивала гения! Некоторые историки тщетно пробовали оправдать Форнарину, утверждая, что это совершенная ложь — будто Рафаэль погиб в ее объятиях от излишества в наслаждениях. В настоящее время убедительно доказано, что она стала причиной его смерти, что она убила его в то время, когда он только-только начинал жить для всемирной славы… История эта происходила в Риме в первые годы XVI столетия, при папе Льве X, который искупил свои многочисленные недостатки покровительством ученым, художникам и поэтам. «Век Льва X, — говорит Вьене, — воскресил век Перикла и Августа. Он покровительствовал Ариосту, заставлял играть комедии Плавта, Макиавелли и отыскивал с большими затратами старинные манускрипты. При нем Рафаэль обогатил Ватикан своими картинами, при нем блистали Корреджо, Леонардо да Винчи, Микельанджело и Браманте и при нем же завершалось сооружение великолепной базилики св. Петра. Правда, эти великие мужи были завещаны ему Юлием II, и он передал их своим наследникам, но он достоин похвалы за то покровительство, которое им оказывал». В то время, в 1514 году, жил в Риме богатый банкир по имени Августино Чиджи, который соперничал с папой в любви к искусствам и художникам. Будучи в течение трех лет покровителем Белла Империа, которой он давал громадные суммы и которая оставила его, не пожав ему даже руки, Августино Чиджи, чтобы рассеять горечь, оставшуюся после столь быстрого расставания, а также и по врожденной своей наклонности, всей душой отдался сооружению дворца в Трастеверино — одном из лучших кварталов Рима на правом берегу Тибра — дворца, из которого он хотел сотворить чудо. Дворец этот назывался виллой Фарнезино. В том же 1514 году Лев X декретом назначил Рафаэля главным архитектором храма св. Петра. Но Рафаэль не мог жить при храме… Августино Чиджи предложил Рафаэлю расписать главную галерею виллы и, чтобы облегчить ему работу, поместил его в великолепных покоях, выходивших на прелестные сады, которые находились в полном его владении. Рафаэль захватил с собой своих слуг и лошадей, которых у него было много, ибо он вел жизнь принца: и люди, и животные содержались за счет хозяина виллы… Однажды утром, перед тем как сесть работать, Рафаэль прогуливался в саду в обществе одного из своих учеников, флорентийца Франческо Пенни, которого он очень любил за веселый характер; случай направил его шаги к выходу на Тибр, и там он встретил молодую девушку, вид которой тотчас же заставил биться его сердце. Ей было лет семнадцать или восемнадцать, и она была прекрасна как мадонна. Она стояла, прислонившись к дереву, в задумчивости смотря на сад. Рафаэль подошел к ней. — Как вас зовут, моя милая? — Маргарита Джемиано. — Ты из этого квартала? — Да. — Чем занимается твой отец? — Он булочник. — А!.. И ты, быть может, ждешь его здесь? — Нет. Я соскучилась дома и вышла прогуляться. — Быть может, ты сожалеешь, что нельзя гулять по саду? — О! Я очень хорошо знаю, что такая бедная девушка, как я, не имеет права входить сюда… — Так ты ошибаешься, Маргарита! Такая прелестная девушка, как ты, как бы ни была она бедна, имеет право ходить всюду. Пойдем? Рафаэль подал руку Маргарите, она с минуту колебалась, наконец, решившись принять предложение, весело воскликнула: — Пойдемте!.. А Рафаэль, наклонившись к ученику, шепнул ему: «Я нашел мою Психею!..» Для фресок отделываемой виллы Рафаэль, следуя желанию Августино Чиджи, избрал мифологические сюжеты. Он уже написал Сивилл и теперь одновременно занимался рисунками трех граций, Галатеи, Амура и Психеи. Он провел в свою мастерскую ту, в которой сразу увидел совершенную модель супруги Амура. По дороге Франческо Пенни скромно отстал. Маргарита с изумлением рассматривала этюды картин, развешенные по стенам. — Понравится ли тебе, — спросил у нее Рафаэль, — если я сделаю твой портрет? — Все равно, — ответила она, — если согласится батюшка. — Отец твой согласится… будь спокойна… Я все устрою. — Нужно еще испросить позволения у Томазо Чинелли. — Это кто? — Мой жених… — А! У тебя есть жених?.. — Разве это не естественно в восемнадцать лет?.. — Конечно… И ты любишь его?.. — Гм!.. На минуту омрачившееся лицо Рафаэля снова посветлело. — Не очень?.. Не правда ли? — спросил он. Маргарита улыбнулась. — Нет… не очень, — наивно ответила она. — Чем занимается твой жених? — Он пасет стада своего отца — фермера у синьора Чиджи из Альбано. — Пастух?.. О, ты стоишь не такой участи, Маргарита!.. С этими большими глазами, с этим маленьким ротиком, с этими роскошными волосами ты стоишь любви принца… Например, это ожерелье: подойдет ли оно тебе? Художник подал молодой девушке великолепное золотое колье, купленное им накануне для подарка куртизанке Андреа, которая несколько недель была его любовницей. Увидев это украшение, сверкающие драгоценные камни, Маргарита смутилась и, хотя была готова надеть его, отступила и сказала: — К чему примерять его, если оно не мое!.. — Почем знать! — возразил Рафаэль. — Если хочешь, я продам его тебе? — За сколько? — За десять поцелуев. Она поглядела на художника. Рафаэлю исполнился тридцать один год, черты его, как говорил Шарль Клеман, были нежны и приятны, хотя не имели правильности: его нос был велик и тонок, волосы темны, губы полны, нижняя челюсть выдавалась, но глаза были прекрасны, огромны, нежны, цвет лица смуглый. Облик художника пришелся Маргарите по вкусу, и она, улыбаясь, воскликнула: — Хорошо! Берите, но не больше десяти. Он взял сотню, а хотел бы взять тысячу. Но хотя и возбужденная этой игрой, молодая девушка имела силу или, скорее, благоразумие окончить оную. Внезапно вырвавшись из рук художника, она отскочила на порог его мастерской. — Я заплатила! — сказала она. — Прощайте. — Нет, не прощайте, а до свидания! Когда ты придешь снова?.. — Спросите у моего отца. И она убежала. Почти сразу же Рафаэль побывал у булочника Джемиано, который за пятьдесят золотых экю позволил ему рисовать свою дочь сколько заблагорассудится, обязав его заодно объявить своему будущему зятю о состоявшемся торге, а в случае, если тот будет препятствовать, объяснить ему причину. Рафаэль не спал целую ночь после этого приключения; страстно пленившись Форнариной, как прозвали Маргариту по профессии ее отца, он считал каждый час до нового с ней свидания. А думала ли в эту ночь о Рафаэле Форнарина? Да. И вот при каких обстоятельствах. Дом Джемиано находился на углу одной из лучших улиц Рима, на улицу выходила лавка, позади дома находился сад, примыкавший к дороге, которая прилегала к Тибру. Если б вместо того чтобы грезить с открытыми глазами в своих покоях в Фарнезино о той минуте, когда он соединится с Маргаритой, Рафаэль с помощью какого-нибудь доброго волшебника перенесся в эту ночь в комнату дочери булочника, то едва лишь зародившаяся любовь если и не рухнула бы окончательно, в любом случае сильно поуменьшилась бы. В полночь, когда ее отец и его работники занимались печением хлебов, Маргарита находилась с мужчиной в своей комнате. Правда, это был ее будущий муж, Томазо Чинелли, который каждую ночь проезжал тридцать миль, чтобы увидаться с будущей женой. Что прикажете делать! По различным причинам свадьба Томазо и Маргариты была отсрочена на год, а чтобы хоть как-то успокоить свое нетерпение, обрученные брали задаток у настоящего за счет будущего. А Форнарина, — о лукавица! — отрицательно покачала головой, когда Рафаэль спросил у нее, любит ли она своего жениха!.. Но, быть может, мы не вправе обвинять ее во лжи?.. Если она любила его, то, возможно, это было в прошлом, или же он не любил ее более?.. Нам легко будет удостовериться в этом, если мы перенесемся на место свидания двух любовников. Томазо оставлял свою лошадь в соседней гостинице, потом перескакивал через стену в сад, где дожидалась его Форнарина. Оттуда рука об руку они входили на цыпочках по маленькой лестнице в комнату, которую следовало бы назвать брачной. Так бывало каждую ночь в течение целого месяца, так было и в эту ночь… Итак, они были вместе, в комнате с тщательно запертой дверью, освещаемой дрожащим светом одинокой лампы. Но как бы ни был слаб этот свет, его было достаточно, чтобы заставить блестеть ожерелье на шее Форнарины, которого жених ее не заметил в сумраке сада. — Что это значит? — вскричал он. — Ожерелье? Быть может, молодая девушка предвидела и даже приготовила этот эффект, потому что осталась спокойной. — Ну да, — ответила она, — ожерелье… И, я полагаю, недурное ожерелье?.. — Прекрасное! — сказал Томазо, рассматривая вблизи драгоценность. — А кто тебе подарил его?.. — Синьор Рафаэль Санти, живописец его святейшества папы, который работает в настоящее время в Трастеверино, во дворце синьора Чиджи. — А!.. А за что ж он подарил его тебе? — Чтобы я согласилась служить моделью для его картин. — И ты согласилась? — Глупец!.. Я же приняла ожерелье! — А твой отец позволил? — Он позволил за пятьдесят золотых экю, которые дал ему синьор Рафаэль. — Пятьдесят золотых экю твоему отцу?.. Тебе — царское ожерелье?.. Синьор Рафаэль великодушен!.. Он, кажется, находит тебя красивой!.. — Разве он ошибается? — Нет… но… — Что но?… — Но ты моя невеста, моя жена, Маргарита!.. А если я против, чтобы ты служила моделью?.. Голос Томазо мало-помалу изменялся, лицо покрылось смертельной бледностью… Пока только изумленный и обеспокоенный, он, однако, сверкал глазами и угрожал. Форнарина без смущения снесла эту угрозу и возразила тем же бесстрастным голосом: — Если ты воспротивишься этому, я опечалюсь, но все-таки настою на своем… Молодой человек схватил свою любовницу за руку, в страшной ярости прошипел: — Так я более не жених твой? Ты отрекаешься от меня? — Кто это говорит? Я выйду за тебя замуж… позже… Теперь мне представляется случай обогатиться, я им воспользуюсь. — Обогатиться!.. Изменница!.. Сделаешься любовницей синьора Рафаэля, разумеется?.. Этот живописец развратник, вся Италия знает это — он содержит куртизанок. Ты тоже хочешь сделаться куртизанкой?.. — По чистой совести — да! Если как честная женщина я буду вынуждена переносить то, что переношу сейчас… Ты мне раздавишь руку!.. Форнарина произнесла эти слова, не меняясь в лице: кроме почти неприметного сжатия бровей, ничто в ее чертах не выражало ее страдания, но когда Томазо отпустил ее белую полную ручку, он не мог не заметить на ней синеватых следов своих пальцев. Он ощутил стыд и сожаление и упал на колени. — О, прости, прости, Маргарита!.. — пробормотал он с рыданием. — Я прощаю тебя с условием, — сказала она. — Каким? — Пока снова не позову, ты останешься в Альбано. Бедный юноша в отчаянии заломил руки. — Ах! Ты… ты, — рыдал он, — хочешь оставить этот дом? — Я хочу того, чего хочу, но ты должен выбрать одно из двух: или никогда не видеть меня, противясь мне, или увидеться на днях, подчинившись. — Но то, что ты требуешь, ужасно, Маргарита! Я все-таки твой жених и в качестве жениха имею право… — Жениться на мне против моей воли?.. Ха! Ха!.. Ха!.. Я тебя не боюсь!.. Да, я не боюсь, что ты насильно поведешь меня к алтарю, хотя ты очень силен… Форнарина с горькой усмешкой смотрела на свою посиневшую руку. — А когда ты позовешь меня? — спросил Томазо после некоторого молчания. — Я ничего не знаю. Быть может, скоро, быть может, нет… — Но клянешься ли ты, что рано ли, поздно ли — это будет? — Клянусь. — И тогда выйдешь за меня замуж? Усмешка Маргариты стала иронической. — Если ты захочешь, да! — сказала она. Томазо встал. — Хорошо, — сказал он. — Я согласен, но также с условием… — Каким? — Ты повторишь мне эту самую клятву в церкви Санта-Мария-дель-Пополо. — Охотно. Пойдем. Молодая девушка направилась к двери. — О! Еще рано! — возразил Томазо, удерживая ее. — У нас есть еще четыре часа ночи… для последнего раза, Маргарита, которые я проведу с тобой… Маргарита не возражала, она отдалась ласкам своего любовника, которым вскоре начала отвечать с не меньшей страстностью. В жилах этих двух существ, казалось, текла лава, когда они предавались любовным утехам… Но Томазо обманулся. Мог ли он подумать, что эта женщина, которая, по-видимому, не могла насытиться его поцелуями, перестала его любить? Она отдыхала рядом с ним, погруженная в сладострастную истому. — Маргарита! Моя возлюбленная! — сказал он. — Правда, мы не расстанемся, мы не можем расстаться?.. Не правда ли, все, что ты мне говорила сейчас, — все это шутка?.. Она вздрогнула, открыла глаза, вскочила с постели и быстро оделась. — Если мы хотим пораньше отправиться в церковь Санта-Мария-дель-Пополо, то теперь самое время, — сказала она. Томазо с минуту оставался неподвижен, бледен, суров, и мрачный взгляд его был устремлен в пустоту. Кто знает, какая злая мысль гнездилась в эту минуту в его мозгу? Но она приблизилась к нему улыбающаяся… — Я готова. Идем!.. Он тоже встал, поправил свою одежду и последовал за нею. Через несколько минут они вошли в церковь, в которой Маргарита принесла своему жениху обет в верности, изменяя ему в то же самое время… Такова ирония судьбы!.. И он, должно быть, в самом деле сильно любил Маргариту, ибо при всем унижении для себя он не убил ее, а принял от нее столь постыдное обещание… Итак, вы теперь знаете Форнарину, любовницу Рафаэля, которую многие писатели изображали наивным ребенком… Наивный ребенок был просто-напросто бесстыдной и порочной женщиной… Прежде чем соединиться с мужчиной из ее среды, судьбе было угодно, чтобы пред ней внезапно открылась перспектива, полная наслаждений и радости, о которых, быть может, она не раз мечтала, но обладать которыми, наверное, никогда не надеялась. Она не колебалась и без жалости, без стыда тотчас же сказала своему жениху: «Я тебя не желаю!..» И из объятий одного бросилась в объятия другого. Но таково уж было в то время растление нравов в Риме, как и во Флоренции, в Неаполе, в Венеции, поразившее все классы общества, что поступок Форнарины, весело бросавшей мужа, чтобы отдаться любовнику, не имел в себе ничего предосудительного. Убийство, безумная роскошь, мотовство, распутство были тогда обычными явлениями во всей Италии. Дрались за каждое слово, чтобы затмить соперника, бросали целое состояние, чтобы понравиться куртизанке, жертвовали своей кровью, даже своей честью. То было время разнузданных страстей, разврата и бесстыдства — время это охватывает собой почти четыре века! Рафаэль ждал Форнарину у двери в сад, выходившей к Тибру, к которой она обещала прийти в четырнадцать часов, то есть в девять утра по-нашему: она была точна. И уже весьма опытная в любовных делах, как должна была она обрадоваться тому восторгу, который при встрече с ней объял нетерпеливого художника. Совершенно верно, что часто любят сильнее за воображаемые достоинства, чем за действительные. Рафаэль желал, чтобы эта молодая девушка была невинной и сберегла бы для него первого возможность сладостного греха. Она не любила своего жениха, стало быть, не могла еще согрешить… Только из скромности, быть может, с легкой примесью кокетства, она не отвратила своих губок от губ, ее умолявших… Влюбленные легковерны!.. Рафаэль был влюблен в Форнарину, и сколько раз в пору их любви воспроизводил он восхитительные черты ее лица на полотне. Почти на всех картинах Рафаэля, начиная с 1514 года, встречают обожаемую им голову его любовницы. Впервые Форнарина превратилась в Психею на одном из тех великолепных картонов, с которых под руководством учителя учениками писались фрески в Фарнезино, еще до сих пор, по свидетельству Тэна, украшающие этот дворец. Странная и благородная магия искусства! Во время этих сеансов человек уступал в Рафаэле художнику. Восхищение предписало молчание для всех. Однако он все же давал задания всем своим ученикам, чтобы одному остаться с молодой девушкой и в течение многих часов со всей страстностью предаваться работе. — Как ты прекрасна! О! Как прекрасна! — говорил он при каждом ударе кисти. Но это говорил не любовник, а художник… Когда легкой рукой он сбрасывал часть ее одежды, скрывавшую какой-нибудь сладострастный контур наготы, Форнарина зря краснела, ибо его рука была столь же целомудренна, как и мысль, руководившая ею. Наконец дошло до того, когда Маргарита вдруг подумала, что ошиблась в чувствах Рафаэля и что для него она всегда будет только моделью. Она притворилась усталой, она захотела вернуться к отцу. Любовник пришел в себя от этих слов. — Почему ты спешишь? — спросил он. — Я голодна, — с улыбкой сказала она. Бедная малютка! Он забыл, что на земле едят, чтобы жить. Он позвонил, подали завтрак: он захотел сам прислуживать ей… Искусство было отброшено в сторону, и для Рафаэля осталась только любовь. В итоге, в совершенстве играя роль невинности, Форнарина довела Рафаэля до безумия страсти… Когда наступил вечер, Рафаэль был еще со своей любовницей. Между тем раздался стук в дверь мастерской, это был Пандолфо, лакей художника. Он напомнил господину, что тот зван обедать в Ватикан. Какая скука!.. Рафаэль охотно послал бы к черту всю свою учтивость по отношению к его святейшеству. Но Форнарина упросила его исполнить долг. — Тогда я возвращусь завтра, — сказала она ему. — Завтра, послезавтра, всегда!.. — шептал он в долгом поцелуе. Папа Лев X целый день охотился на кабана и посему чувствовал волчий аппетит. На обед вместе с Рафаэлем он пригласил кардинала Бабьену, который непременно желал женить знаменитого художника на одной из своих племянниц. И хотя узы Гименея мало прельщали Рафаэля, он все же почти дал свое согласие. «Дайте мне еще год или два подумать, — сказал он кардиналу, — и мы закончим это дело». За столом находился третий собеседник. Это был августинский монах по имени Бартоломео, нечто вроде людоеда, в два приема пожиравший баранью ногу, а чтобы прочистить горло, перед десертом проглатывавший штук сорок яиц одно за другим. Лев X любил шутов. Падре Бартоломео принадлежал к их числу: его святейшество забавляло, как тот обжирался. Рафаэль опоздал на несколько минут и извинился, сославшись на работу. — В самом деле, — сказал папа, с тонкой улыбкой глядя на живописца, — вы, должно быть, сегодня много работали, синьор Рафаэль, и кажетесь очень, очень усталым. — Гм! — сказал Бабьена, подобно его святейшеству не обманувшийся на счет истинной причины усталости художника. — Синьор Рафаэль безрассуден… Он не бережет свое здоровье и поступает неблагоразумно. — Полноте, полноте, кардинал, — шутливо заметил папа, — синьор Рафаэль пришел поесть и посмеяться с нами, а не затем, чтобы его бранили. Что вы скажете об этом блюде, господа? Это новое изобретение моего повара. Не настоящая ли это обезьяна, готовая на нас броситься?.. Джакопо заказал двенадцать медных форм в виде различных зверей… Сегодня он подал нам обезьяну, завтра подаст лисицу, послезавтра зайца или ворону… Это очень остроумно… Но не беспокойтесь, Бартоломео!.. Блюдо подано на стол не для одного только украшения… его также едят… Я даже полагаю, что мы хорошо поедим, Джакопо говорил мне что-то о рубленой дичи и сморчках с соусом томар, которыми начинена обезьяна. — О-о-о! — воскликнул монах, заранее раскрывая рот, широкий, как печка. — Что за обжора этот Бартоломео!.. — весело сказал папа. — Обжорство не принадлежит к вашим недостаткам, синьор Рафаэль? — С вашего позволения, ваше святейшество, я погожу быть обжорой, пока не поседели мои волосы! — возразил художник. — Никто не может сказать, достигнет ли старости, — торжественным тоном сказал Бабьена. — Опять! — заметил Лев X. — Право, кардинал, вы совсем не хотите, чтобы наш дорогой художник поспешил с женитьбой на вашей племяннице!.. — Марии Бабьене!.. Разве она не молода, не хороша собой, не богата? — воскликнул кардинал. — И вследствие этих качеств разве не достойна брачного союза? — Я буду очень польщен, если стану когда-нибудь мужем прекрасной и богатой Марии Бабьены!.. — согласился Рафаэль. — Когда-нибудь, когда-нибудь! — ворчал кардинал. — К чему ждать столько времени, когда лишь от тебя зависит быть счастливым?.. — Счастливым!.. — заметил папа. — Синьор Рафаэль, быть может, не в том видит счастье, кардинал, в чем вы. Он знает, что в благодарность за его работы я готов принять его в число высших сановников церкви. Кардинальская шапка стоит наследницы… Молчание, предписываемое уважением, последовало за этими словами, которые если и не были неприятны Рафаэлю, не могли понравиться кардиналу. Но равнодушный к этому разговору падре Бартоломео уже поглотил значительную часть начинки обезьяны. Наконец папа, также очень уважавший Бабьену, начал, обращаясь к нему и к Рафаэлю: — Оставим будущее таким, как предназначено быть ему; мы в настоящем и останемся в нем, а чтоб оно было весело, осушим стаканы, дабы снова наполнить их и осушить, и просим вас, кардинал, рассказать нам одну из ваших историй. Если она будет чуточку остра, тем лучше, мы выпьем лишнее, слушая ее. Бабьена поклонился. Он пользовался славой искусного рассказчика тех повестей и новелл, которыми в Италии особенно прославился Бокаччо, а во Франции Маргарита Валуа, королева Наваррская, — повестей весьма скандального содержания. — Новелла, — сказал кардинал, — которую я буду иметь честь сегодня поведать вашему святейшеству, называется: «Истинные отцы». — Тут уж будут истинные отцы, — смеясь, произнес Лев X. — Кто автор этой новеллы? — Французский дворянин, граф Антуан де ла Саль. — Хорошо. У французов кое-что есть, когда они не вмешиваются в наши дела. Бабьена начал. Несколько лет назад в Париже жила женщина, бывшая замужем за добрым и простым человеком. Эта женщина, прелестная и грациозная, в молодости по ветрености имела немало любовников и пользовалась их любовью. За то время не столько от мужа, сколько от них, она приобрела тринадцать или четырнадцать детей. Случилось так, что ее поразила смертельная болезнь, и прежде чем отдать душу Богу, она раскаялась в своих грехах. Возле своего смертного одра она видела толпившихся детей и чувствовала глубокую горечь, покидая их навсегда. Но она полагала, что поступила бы дурно, если б оставила своего мужа с целой кучей детей, из которых большинство были чужими, хотя он ничего не подозревал, считая жену самой честной женщиной в Париже. Посредством одной из ходивших за ней соседок она сделала так, что двое из ее прежних любовников пришли к ней, когда мужа не было дома. Когда она увидала этих двух мужчин, она приказала привести всех детей и начала говорить: «Вы, такой-то, вы знаете, что происходило между нами тогда-то и в чем я горько раскаиваюсь. И если Господь не одарит меня своим святым прощением, я дорого заплачу на том свете. Каюсь, я совершила безумство и больше не повторю его… Смотрите, вот эти и эти дети — ваши, а не мужнины. Умоляю, когда я умру, а это будет уж скоро, возьмите их к себе и воспитайте, как надлежит отцу». С такими же словами она обратилась и к другому любовнику: «Эти вот дети — ваши, клянусь! Умоляю, возьмите их, и если вы пообещаете мне это, я умру спокойно». В то время, когда она производила этот раздел детей, муж вернулся домой и был встречен одним из сыновей, самым младшим, которому было не больше пяти или шести лет и который прибежал, запыхавшись, крича: — Папаша! Папаша! Ради Бога, поспешите!.. — Что случилось? — сказал отец. — Твоя мама умерла?.. — Нет, нет! — сказал ребенок. — Толькопоскорей ступайте наверх, а до ничего не останется… К мамаше пришли два господина… Она раздает им всех моих братьев… Если вы не пойдете, она и последнего отдаст. Добряк муж, не понимая, что хочет сказать ребенок, пришел туда и, найдя там жену, сиделку, детей и двух посторонних мужчин, потребовал объяснений. — Сейчас все вам объясню, — ответила жена. — Хорошо, — заметил он, ничего не подозревая. Соседи ушли, поручив больную Богу и обещая исполнить ее просьбу, за что она их поблагодарила. Так как она чувствовала приближение смерти, то обратилась к мужу с просьбой о прощении и рассказала ему все, в чем была она грешна за время замужества, какие дети от кого и как после ее смерти они будут взяты на воспитание, так что он ничем не будет обременен. Добряку мужу не очень понравилась подобная исповедь, однако он жену простил, вслед за чем она умерла. Он отослал детей к названным лицам, которые и взяли их на воспитание. Таким образом, он освободился и от жены, и от детей, но, говорят, больше сожалел об утрате последних, чем о смерти первой. Таковы были истории, которые служили десертом Льву X, и не забудьте, что мы выбрали из них самую пресную. Между тем становилось поздно, и пока лакеи относили в одну из 11 000 комнат Ватикана тело падре Бартоломео, Рафаэль и кардинал Бабьена откланивались со своим высокопоставленным амфитрионом. Художник и прелат шли каждый к своим носилкам, ожидавшим их у папского дворца. Носилки сопровождали хорошо вооруженные служители, потому что в Риме того времени было неблагоразумно появляться одному поздно вечером на улицах. Расставаясь, Бабьена сказал Рафаэлю: — Не забудьте, молодой художник! — Не забуду, — с улыбкой отвечал Рафаэль. Через несколько минут, когда Рафаэль в какой-то сладостной полудреме мечтал о своей Форнарине, чья-то тень наклонилась к нему с правой стороны носилок, и знакомый голос проговорил: — Добрый вечер, учитель! — Франческо Пенни! — радостно вскричал Рафаэль. — Как и зачем ты здесь? — Чтобы оберегать вас. Я знал, что вы обедали у его святейшества, и ждал у дверей, чтобы проводить вас в Фарнезино. — Мой милый Франческо!.. Так вели остановиться носильщикам… Погода, кажется, прекрасная?.. — Великолепная! — Вместо того чтобы отправляться в Фарнезино, ты проводишь меня? — Куда? — Я тебе скажу по дороге. Слуги были отосланы. Чего бояться опасных встреч!.. Разве у Рафаэля и Франческо Пенни нет у каждого по доброй шпаге?.. Куда же отправлялись они? Но вы уже и так знаете: они спешили к дому Форнарины. Она не спала. Не так она была глупа, чтобы спать! Она предчувствовала это посещение. Она стояла у окна!.. Милая детка!.. Но как попасть к ней, чтоб не услышал отец? — Из сада, идите сюда… По виноградным лозам, которые спускаются по стене… Может, вы сумеете забраться… — Хорошо!.. Хорошо!.. То была та самая дорога, по которой Чинелли каждую ночь пробирался в комнату Маргариты. О! Если б эти лозы, эти камни могли говорить!.. Если б могла говорить эта комната, в которую проник Рафаэль и которая была свидетельницей таких страстных ласк!.. Но все безмолвствовало, и Рафаэль был несказанно счастлив… Франческо Пенни остался в саду. На рассвете учитель отыскал его, извиняясь в том, что заставил ждать пять часов. Пять часов — ни больше ни меньше. И даже возвращаясь в Фарнезино, Рафаэль в мыслях был занят только Маргаритой. — Я никогда не любил ни одной женщины так, как люблю ее, — говорил он, — и я решил, что она будет совершенно моею… Я дам отцу все, что он потребует… Я хочу свободно видеть ее во всякий час дня и ночи… Франческо Пенни молчал, но невольно вздохнул, потому что глубоко любил своего учителя и, глядя на него, видел, как глубоко запали его глаза. Рафаэль услышал этот вздох. — Что с тобой? — спросил он. — Ах, правда, мой бедный друг! Я заставил тебя провести бессонную ночь. Тебе нужен покой. — Что вам за дело до моего покоя! — быстро возразил Франческо. — Дело в вас, учитель. Форнарина прелестна, я признаюсь, но если вы верите мне — любите ее нежнее, умереннее… Рафаэль пожал плечами. — Ты так же, как папа и кардинал Бабьена, читаешь мне мораль, Франческо! — сказал он. — Ты не подозреваешь, стало быть, что художник тогда только имеет талант, когда он любит и любим. Любовь удваивает гениальность. Ты увидишь, какие картины создам я, когда Маргарита будет моей моделью… Мне ее послало само небо!.. «Увы! — подумал Франческо Пенни, — дай Бог, чтоб она не отправила тебя на небо!» Во все времена повсюду есть родственники, которых легко убедить золотом, но в то время, особенно в Италии, в низших слоях, почти не было случая, чтобы за порядочную сумму нельзя было купить отцовской или материнской снисходительности. За пятьдесят экю Джемиано позволил Рафаэлю рисовать с Форнарины, за три тысячи экю он дал ему позволение увезти ее куда захочет. Правда, в Альбано был некто, сильно пугавший Джемиано. Маргарита прочла это в отцовских глазах и, обнимая папеньку, тихо сказала ему: «Я возьмусь за Томазо». Джемиано оставалось только благодарить богов… Рафаэль нанял любовнице виллу близ Рима. Он накупил ей нарядов и драгоценностей. У нее были лошади, экипажи, носилки, лакеи. В течение целого года он, как говорят, не оставлял ее ни на минуту. Обладание не успокоило его страсти, через год он все еще был счастлив только с нею; днем он бродил с нею под тенью садов виллы, а вечером, как новоиспеченный любовник, сидел у ее ног на подушке, полный восторга… Он никого не видел, никуда не выходил… Он оставил работы в Ватикане, и папа начал сердиться. Он также бросил работу в Фарнезино, и Августино Чиджи начал приходить в отчаяние… — Вы влюблены, синьор Рафаэль, — сказал однажды банкир художнику, — прекрасно!.. Я также бывал влюблен, я мог бы и еще, мне только пятьдесят лет от роду… Но это не причина бросать искусство. Теперь вы не больше раза в неделю показываетесь в вашей мастерской, в моем дворце, из этого выходит, что и ваши ученики ничего не делают. Если вы не в состоянии жить без вашей любовницы, ну, привозите ее в Фарнезино. Она поселится с вами. Рафаэль просил подумать, предполагая, что Маргариту сильно огорчило бы, если б ей пришлось покинуть гнездо любви, которое он устроил для нее у подошвы горы Пинчио. Но, к крайнему его удивлению, когда он сказал ей о предложении Августино Чиджи, она воскликнула, что его следует принять, что она будет огорчена, если из-за нее Рафаэль будет и дальше отказываться от богатства и славы. В глубине души художник ничего не желал так, как снова серьезно приняться за кисти. Он возвратился в Фарнезино вместе с Маргаритой, которую Августино Чиджи, верный своему обещанию, принял с почетом. У Маргариты были свои комнаты рядом с любовником; Рафаэль был в восхищении от возможности упиваться и любовью, и искусством. Между тем, так легко соглашаясь на желание банкира, Форнарина имела на это свою причину. Чинелли, приходя в ярость от нетерпения, не раз писал ей письма, исполненные угроз. А какого еще защитника против Томазо Чинелли, защитника более могущественного, чем сам его хозяин — синьор Чиджи, могла найти Маргарита? Нужно было только найти средство приобрести покровительство… Форнарина легко справилась с этим делом. Хотя и не занимаясь более, со времени печальной разлуки с Белла Империа, любовными похождениями, Августино Чиджи все же имел еще и глаза, и сердце. Его глаза нашли любовницу Рафаэля действительно прекрасной. Его сердце воспламенилось, когда при третьем или четвертом свидании с ней он начал полагать, что его общество приятно для Форнарины. Рафаэль со всей страстью отдался работе. В Риме в это время воздвигалось много новых зданий, и Рафаэль, постоянно занятый этим вне стен своей мастерской, часто оставлял Маргариту во дворце одну, и та заботливость, которой окружал ее Чиджи, нимало не тревожила и не могла тревожить его. Можно ли было предположить, чтобы молоденькая, любимая молодым человеком женщина могла иначе как к другу относиться к старику? А тот поддерживал иллюзию Рафаэля такими лицемерными речами. — Я чувствую к милой Маргарите отцовскую привязанность! — повторял он каждую минуту. Странный отец!.. Вот что произошло на пятнадцатый день между Форнариной и Августино Чиджи. Рафаэль отправился в Ватикан. Маргарита была одна в своем будуаре, читая очередное письмо от Томазо, принесенное ей накануне ее отцом. В этом письме жених укорял свою неверную невесту в том, что «она солгала ему как при второй, так и при первой клятве», что он более не сомневается в ее намерениях навсегда его покинуть. Поэтому, невзирая ни на какую опасность, которая может подстерегать и ее, и его, он решился на скандал: если в течение трех дней она не назначит ему свидания, он, Томазо, все откроет синьору Рафаэлю. «Я знаю, — заканчивал отвергнутый любовник и жених, — что, поступая подобным образом, я иду не той дорогой, которая могла бы привести меня к тебе; что ж, тем хуже! Если уж мне больше не обладать тобою, пусть тот, кто ныне тобой обладает, узнает, чего ты стоишь. Его презрением я буду отомщен за твое!» Через три дня? Через три дня Томазо все откроет Рафаэлю?.. Колебаться было уже нельзя, она должна во что бы то ни стало освободиться от Томазо Чинелли. Она сидела одна, с неподвижным взором, с бледным лицом, конвульсивно сжимая пальцами проклятое письмо, когда ей доложили об Августино Чиджи. Вдруг, подобно солнечному лучу, пробивающемуся сквозь тучи, улыбка осветила лицо Форнарины. — Просите, — сказала она. И пока горничная ушла, чтобы пригласить банкира, куртизанка — ибо она и была таковой — быстрым движением сбросила утреннее платье и открыла свои обольстительные пышные плечи… Она была во всеоружии… Каким бы самолюбием ни обладал старый некрасивый человек, он всегда чувствует некоторый стыд, становясь соперником прекрасного юноши. Ведь, казалось бы, ясно, что с тех пор, как Форнарина живет у него, она ему строит, как обыкновенно говорится, глазки… Он уже поздравлял себя… Но как часто бывал он и жертвой женского кокетства! И он слишком хорошо знал, что в любви можно верить только тому, что держишь в руках, поэтому — как ни сильна была его страсть к Маргарите — он решил быть осторожным. В этот раз при виде молодой женщины, туалет которой был в слишком прелестном беспорядке, чтобы быть делом случая, банкир понял, что наступает час, когда он должен убедиться, смеются над ним или нет… Она вызвала его на поединок. Он принял вызов. Он сел рядом с нею, обнял рукой гибкую талию и коснулся старческими губами белой груди… Она его не оттолкнула… Это придало ему смелости. Его губы приблизились к полуоткрытым губкам. Она дала ему выпить первый, самый сладкий поцелуй… Он обезумел от радости. — О, Маргарита! — прошептал он. — Я… — Вы меня любите? — перебила она. — Я верю. Докажите вашу любовь — и я ваша. Это было сказано ясно и прямо. Он отвечал тем же: — Говорите. Она начала: — Прежде чем познакомиться с Рафаэлем Санти, я была невестой одного человека из Альбано. Человек этот сын одного из ваших фермеров. — Его имя? — Томазо Чинелли. — Так. Дальше. — Этот человек все еще любит меня, хотя я его не люблю… — Дальше? Форнарина смотрела прямо в глаза банкиру. — Дальше? — повторила она с особенным ударением. — Дальше! Я же вам говорю, что есть человек, который меня любит и которого я не люблю… И я только что вам сказала, докажите мне свою любовь, чтобы я принадлежала вам… а вы не догадываетесь, чего я желаю?.. — Так, так! — быстро сообразил Чиджи. — Я догадываюсь, я догадался… Чинелли угрожает тебе. Он тебе мешает, быть может, пугает тебя?.. Нынче вечером, клянусь тебе, ты не станешь более беспокоиться… — Браво! — вскричала Форнарина, хлопая в ладоши. Банкир встал. — Я немедленно займусь его участью, — заметил он. Он уходил. Она остановила его. — Только без крови, — сказала она. — Нет! Нет!.. К чему убивать? Он встал на пороге комнаты и обернулся. — Вы дали мне слово, Маргарита? — сказал он. Она послала ему поцелуй. — До завтра, синьор Чиджи! — До завтра, жизнь моя! Понятно, что банкиру Августино Чиджи ничего не стоило убрать такого беднягу, как Томазо Чинелли. Через несколько часов после этого разговора, вечером, когда пастух сидел на мраморной античной гробнице, думая о своей неблагодарной любовнице, четыре человека в масках, вышедшие из маленького леска, бросились на него, связали ему руки и ноги, погрузили на мула и отправились по дороге в Субиано. У Августино Чиджи был кузен и друг, служивший настоятелем в монастыре в Субиано. Взамен пожертвований в церковь монастыря — небольшие подарки всегда поддерживают дружбу, — достойному падре поручалось содержать некоего Томазо Чинелли в монастырской тюрьме до тех пор, пока не будет сказано: «Довольно!» На другой день банкир представил Форнарине отчет об исполнении поручения. В тот же самый день Форнарина изменила любимому человеку с тем, кто избавил ее от нелюбимого. Но как бы недостойна была эта измена, она имела хотя бы подобие извинения. Зато в течение шести лет, пока Форнарина была любовницей Рафаэля, она часто обманывала его с другими, чаще всего недостойными соперниками. Прежде чем закончить эту историю, расскажем еще один случай из жизни Форнарины, замечательный по драматическим частностям. Это было в 1518 году. Рафаэль трудился в эту пору над мадонной, которой доселе можно восхищаться в Луврском музее. Рафаэль постоянно имел свою мастерскую в Риме, в Фарнезино, и не проходило месяца без того, чтобы какой-нибудь неаполитанский, болонский, моденский художник или какой-нибудь живописец из Испании, Нидерландов не посетил этой мастерской, чтобы иметь счастье сделаться учеником великого художника. И к чести всех этих молодых и склонных к удовольствиям людей надо сказать, что, несмотря на всю обольстительность и податливость Форнарины, ни один из них — из уважения к учителю — не старался воспользоваться легкой победой. Они уважали не ее, а его. Это была как бы их религия. Красавец Перино дель Вага, один из наиболее замечательных учеников Рафаэля, говоря о Маргарите с Джулио Романо, заметил: «Если б я нашел ее у себя в постели, то скорее посбрасывал бы все матрасы, чем решился бы иметь ее». Но в 1518 году один болонец, по имени Карло Тирабоччи, вступил в число учеников Рафаэля. Он был довольно красив; по приезде в Фарнезино Маргарита начала с ним заигрывать, он не замедлил ответить тем же… Вскоре стало совершенно ясно для всех, кроме одного — наиболее заинтересованного, что он любовник Маргариты. Тирабоччи, по мнению учеников, совершил дурной поступок, его товарищи выразили ему свое неудовольствие тем, что прервали с ним все отношения. Никто не говорил с ним в мастерской, и когда он обращался к кому-нибудь, тот поворачивался к нему спиной. Кто не сознает своей вины, не может понять, почему его наказывают. Болонец вообразил, что поведение художников по отношению к нему происходило от зависти к его счастью. Маргарита подкрепила в нем это убеждение. «Они все за мной ухаживали, но я не желала их, — сказала она. — Они сердятся за то, что ты мне нравишься». Наконец положение Тирабоччи дошло до того, что ему стало невозможно жить в мастерской. Пользуясь однажды утром отсутствием учителя, он осмелился спросить у своих товарищей объяснения их поступков. — В конце концов, что я такого сделал? — высокомерно сказал он. — Есть среди вас хоть один, кто осмелился бы сказать мне это в лицо? Вы решили изгнать меня отсюда. За что? — Спроси свою совесть, если она у тебя есть, — сказал Джулио Романо. — Она ответит тебе. — Моя совесть меня не упрекает. — Это потому, что она глуха и нема, — сказал Франческо Пенни. Тирабоччи пожал плечами. — Хватит! — вскричал он. — Я не такой дурак! Вы играете в добродетельных, а сами только завистники. Вы меня ненавидите за то… — Ни слова больше, слышишь ты, болонец! — прервал его Перино дель Вага. — Нам нет нужды говорить тебе причину ненависти и нашего презрения к тебе… Мы удовлетворимся, если ты подчинишься и оставишь мастерскую… Тирабоччи задрожал от ярости. — Чтоб я подчинился?.. Я?.. Не раньше, как сказав вам всем, что вы не только завистники, но и подлецы. Оскорбление это было брошено в лицо десятерым. — Хорошо! Мы завистники, мы подлецы, — сказал Винченцо де Сан-Джемиано, — но мы изгоняем тебя!.. Вон!.. — Да, подлецы, которые не прощают мне того, что я любим Форнариной, которая… Болонец не кончил. Ученики — все как один — бросились на него, они готовы были растерзать его своими двадцатью руками, сотней своих железных пальцев. Тем временем Перино дель Вага проговорил за всех: — Мы тебе предлагали молчать… Произнеся здесь известное имя, ты произнес свой приговор. Ты хочешь знать, за что мы ненавидим тебя? За то, что ты посмел замарать счастье учителя. Теперь выбирай того из нас, который бы сделал тебе честь убить тебя. — Тебя! Тебя, Перино! — бормотал болонец. — Хорошо! Идем же!.. Через несколько минут Тирабоччи пал, пораженный смертельным ударом в необычной дуэли с Перино дель Вага. Свидетелями дуэли были Джулио Романо и Франческо Пенни. Они-то и рассказали на другой день Рафаэлю, что Перино дель Вага, оскорбленный Тирабоччи в споре из-за игры в кости, убил его. Рафаэль сурово поругал Перино дель Вага, но поскольку вообще не питал к Тирабоччи особой привязанности, то недолго скорбел об этой потере. А Форнарина? Она нашла нового любовника, вот и все. Смерть Рафаэля большинство писателей объясняют простудой. Но он умер от истощения, вследствие излишеств. Вот что говорит Вазари в своей книге «Жизнь великих живописцев, скульпторов и архитекторов». «Однажды Рафаэль возвратился домой в сильной лихорадке. Медики полагали, что он простудился: он скрыл от них настоящую причину своей болезни, а они до крайности ослабили его сильным кровопусканием, вместо того чтобы укрепить его упавшие силы». Бедный Рафаэль! Медики пускали ему кровь из-за простуды, а его любовница до последнего вздоха безмерно возбуждала его душу, слишком пылкую для столь слабой оболочки. Уж лучше бы он умер! В свою очередь Октавио Виньон говорил: «Подчиненный своей безумной страсти, еще накануне смерти Рафаэль принял за возврат сил то, что было только лихорадочным возбуждением чувств, — яд сладострастия на груди Форнарины». Уж лучше бы она дала ему стакан простого яда. Но когда он ощутил приближение смерти, он почувствовал как бы отвращение и ужас к предмету смертельного безумия. Франческо Пенни и Джулио Романо, два его любимых ученика, бодрствовали у его постели. — Не позволяйте ей входить, — сказал он им, — она помешает мне умереть с Богом. Они повиновались ему. Тщетно Форнарина просила, умоляла. Они были непоколебимы, и она увидела его только тогда, когда он навеки закрыл глаза. «Рафаэль Санти умер в великую пятницу, 6 апреля 1520 года. Он оставил по завещанию Форнарине средства жить в довольстве, а остальное разделил между Джулио Романо, Франческо Пенни и одним из своих дядей, завещав свой дом, построенный близ Ватикана, кардиналу Бабьене». Известие о его смерти погрузило весь Рим в великую печаль. Он погребен в Пантеоне, и над гробницей его, по его желанию, поставлена мадонна, высеченная из мрамора Лоренцетто. Друг его, Пьетро Бембо, написал эпитафию. Рафаэль в могиле, а что же сталось с Форнариной? По правде сказать, об этом мало найдено сведений, но вот один из последних эпизодов из ее жизни, который передает Октавио Виньон. «По совету Августино Чиджи, боявшегося отмщения ей со стороны учеников Рафаэля, Форнарина через несколько часов после смерти своего знаменитого любовника удалилась в дом отца. Это было вечером, довольно поздно, и она была одна в маленьком саду. Сидя на скамье, она думала, быть может, о том, кого не стало… Все возможно!.. Вдруг она вздрогнула. Чья-то рука коснулась ее плеча, и слишком хорошо знакомый ей голос произнес: — Добрый вечер, Маргарита. Это был голос Томазо Чинелли. Значит, он бежал из тюрьмы? — Да! — ответил он, как бы подслушав ее мысль. — Да, я убежал из моей тюрьмы, благодарение Богу!.. Тебя удивляет, Маргарита, что через пять лет я захотел подышать свежим воздухом? Я был в Субиано, в монастыре, — без сомнения, это для тебя не новость, — заперт за двойными дверями в узкой келье. Ах, меня хорошо сторожили!.. Чтобы сделать тебе приятное, тот, кто бросил меня в эту тюрьму, — мой хозяин Августино Чиджи, — дал серьезные приказания. Но нет такой хорошей собаки, которая не перестала бы лаять. Нет такого тюремщика, который не устал бы от надзора. Сегодня вечером, пользуясь тем, что забыли задвинуть засовы, с помощью гвоздя, который я вытащил из моего башмака, я отпер дверь… Потом, с помощью веревки, привязанной к окну, я выбрался в поле… И вот я здесь. Скажи мне, Маргарита, если б ты была мужчиной и находилась на моем месте, что бы ты сделала с невестой, с любовницей, которая, постыдно изменив тебе, на пять лет лишила тебя свободы?.. Форнарина встала. — Убей меня! — сказала она. — А! Ты согласна?.. Ты это заслуживаешь… — Я согласна, что ты мужчина, а я — женщина, что ты силен, а я — слаба, что ты меня ненавидишь, а я не люблю тебя больше, что я сделала тебе зло, и ты жаждешь мести… Я предаю душу Богу. Убей меня, если хочешь!.. Луна, пробиваясь сквозь древесную сень, освещала лицо Форнарины. Она была бледна, но не дрожала. Томазо внимательно и долго наблюдал за ней. Он был бледнее ее, он очень изменился. Пятилетнее пребывание в четырех стенах состарило его на десять лет. — А если я не убью тебя? — сказал он после некоторого молчания. — Если б я простил тебя, что бы ты сделала? — Как, что бы я сделала? — Синьор Рафаэль Санти, твой любовник, то есть один из твоих любовников, потому что, я уверен, у тебя было несколько, не считая Августино Чиджи, — синьор Рафаэль Санти умер, я узнал это, попав в Рим, и потому-то пришел сюда. Что, если теперь я буду снова просить тебя выйти за меня замуж? Маргарита склонила голову. — Я отвечу тебе — нет! — сказала она. — Ведь я сказала, что не люблю тебя!.. — Совсем не любишь? Это решено?.. — Э! Если б я еще любила, разве я оставила бы тебя на пять лет там, где ты был? — Это правда. Если я еще люблю тебя? — Тем хуже для тебя. — Ты скорее согласилась бы умереть, чем выйти за меня замуж? — Да. — А любовницей моей? Слушай! Это подло, это низко, но, несмотря на все зло, которое ты мне сделала, и на всю жестокость, с какой ты говоришь, что перестала любить, — я, каюсь, люблю тебя, я все-таки обожаю тебя, Маргарита!.. Убить тебя?.. Полно! Я жажду не крови твоей, я жажду твоих ласк!.. Забудем все!.. Одну ночь… только одну ночь… одну ночь еще будь моей любовницей!.. Моей милой возлюбленной, как прежде… и ты никогда не услышишь обо мне… Никогда!.. Хочешь? Говори! Говори!.. Он притянул ее к себе, она его оттолкнула. Но он продолжал умолять ее. — Ты меня более не любишь… Пусть!.. Я не могу насиловать твоего сердца… Но что за дело!.. Что будет стоить для тебя еще несколько часов принадлежать мне?.. И каждое это слово он сопровождал поцелуем ее шеи, глаз, волос. Она вся горела. — Ну идем же! — задыхаясь, сказала она. — Идем!.. Она увлекла его к дому. Но, к ее глубокому изумлению, на этот раз он оттолкнул ее. — Что это значит? — спросила она. — Это значит, — сказал молодой человек, сделавшийся вдруг столь же спокойным, сколь она была взволнована. — Это значит, Форнарина, что я отмщен! О да, отмщен!.. Ты приняла всерьез мои мольбы… Я смеялся над тобою!.. Мне еще любить тебя? Мне желать обладания тобой?.. Ха! Ха! Но отныне, прежде чем соединить на одну минуту твои губы с моими, я предпочту, чтобы они иссохли и рассыпались прахом! Я хотел видеть, будешь ли ты подлой до конца… Я видел это… видел столь подлой, столь низкой, что никто бы не поверил, никто!.. В тот час, когда его друзья, когда весь римский народ еще рыдает на открытой гробнице величайшего живописца мира, — в этот час что хотела сделать Форнарина, его любовница?.. Из жажды наслаждения, одного лишь наслаждения по склонности к распутству, Форнарина была готова отдаться человеку, которого ненавидит, ха, ха!.. Смотри, у меня нет к тебе даже ненависти, Маргарита! Я побоялся бы замарать мой нож, вонзив его тебе в сердце. Все, чего ты стоишь, — вот! Сказав это, Чинелли бросил в лицо Форнарине ком грязи. Затем он удалился. Если неизвестно, что потом стало с Форнариной, то мы знаем, как кончил Чинелли, ее жених и первый любовник. Он сделался бандитом, начальствовал над шайкой, которая долгое время опустошала римскую Кампанию, особенно часто нападая на собственность синьора Августино Чиджи, и был убит в 1527 году при осаде Рима, сражаясь в арьергарде коннетабля Бурбонского.БИАНКА КАПЕЛЛО
Когда Венеция, говорит Жюль Леконт, могущественная как своим флотом, так и дипломатией, сделалась владычицей морей, она захотела ежегодно праздновать свое морское первенство. Тогда-то и был построен Буцентавр, громадный корабль, неудобный для навигации и предназначенный только для того, чтобы в дни особенных торжеств скользить при помощи весел по тихим лагунам. Самым замечательным, самым великолепным торжеством, справлявшимся Венецией, было обручение дожа с Адриатическим морем. Оно совершалось с особенной пышностью. Все власти Венеции в роскошных костюмах, все иностранные посланники при республике сопровождали дожа на Буцентавре, который подплывал к Пиацетти под звон колоколов, под шум восторженных восклицаний народа. Это было всенародное торжество. Дети и взрослые, богатые и бедные — все обитатели республики скорее согласились бы отдать десять лет своей жизни, чем не присутствовать на этом празднике. Однако в четверг 6 мая 1563 года, когда Жером Приули, — божией милостью уже четыре года бывший дожем Венеции, — совершал с морем свой мифический союз при восторженном реве толпы, две личности, сидевшие рядом в отдаленной комнате одного из дворцов, оставались равнодушными к этому восторгу. Для них в той маленькой комнате, где они находились, заключался весь мир. Кто же были эти две личности и о каком уж таком предмете рассуждали они, что могли оставаться безучастными к торжеству, волновавшему тысячи душ? Конечно, это были влюбленные! Пусть вокруг землетрясение, но когда оно кончится, спросите у любовников, толкующих о любви, что произошло, они ответят: «Что? Да мы ничего не знаем, ничего не слышали». Этими любовниками были Пьетро Буонавентури и Бианка Капелло. Он был флорентиец из честного, но бедного семейства, простой приказчик у банкира Сальвиатти в Венеции. Она принадлежала к одной из самых знаменитых патрицианских семей в Венеции. Каким же образом, такие далекие по положению и состоянию, могли они сблизиться?.. Прежде всего, Пьетро Буонавентури был честолюбив. Явившись несколько месяцев тому назад в Венецию — город по преимуществу аристократический, хотя и управлявшийся по республиканскому образцу, город великих имен и больших состояний, — он сказал самому себе: «Если б я мог заставить полюбить себя какую-нибудь знатную даму или девушку». Наш флорентиец был человек не без сердца!.. Но главное, он был очень хорош собой. Это была сила. Он имел привычку каждое воскресенье отправляться к обедне в собор св. Марка. В то время в Италии и в Испании, да, пожалуй, и во Франции посещали церкви больше для того, чтобы заниматься любовными делами, чем молитвой! В одно из воскресений он заметил, стоя на коленях перед капеллой, восхитительную молодую девушку. Один писатель XVIII столетия так описывает по портрету Бианку Капелло: «Она была гораздо выше среднего роста и имела в то же время свободную и величественную осанку; цвет ее лица, рук и груди был несравненной белизны; пепельно-золотистые волосы падали густыми прядями на белую шею; возвышенный лоб был грациозно округлен, и никогда я не видывал таких сверкающих прекрасных глаз, — они сияли даже на полотне, — чем же были они у живого существа? Прелесть пурпурных губок была несравненна. Портрет был писан, когда Бианке было уже тридцать лет. Какой же была она в то время, когда в первый раз ее встретил Буонавентури, то есть когда ей было еще только восемнадцать лет?» Повторяем, она была восхитительна, и Пьетро был того же мнения. Прекрасная, благородная, богатая — она вполне годилась ему в любовницы. Со своей стороны Бианка тоже заметила, что она привлекает внимание молодого человека, и это внимание было ей не неприятно. Полдороги было пройдено, золото флорентийца сделало остальное. За Бианкой ходила дуэнья по имени Стефания. Пьетро подкупил ее; за несколько золотых монет эта женщина согласилась говорить своей госпоже в его пользу. По воскресеньям влюбленные могли разговаривать по дороге в церковь. Но разговор подобного рода слишком краток и неудобен. Пьетро требовал тайного свидания, но каким образом добиться его? Правда, жилище флорентийца было в нескольких шагах от дворца венецианки, но она не могла осмелиться переступить порог его дома, и принять его у себя было для нее одинаково невозможно!.. Три недели прошло таким образом, что наши влюбленные не могли сказать друг другу: «Я люблю тебя!» Начались приготовления к празднованию обручения дожа с Адриатикой. В предшествовавшее этому празднику воскресенье во время обедни Пьетро сказал Бианке: — От вас зависит сделать меня счастливейшим смертным. — Говорите. — Вы отправитесь в четверг на празднество? — Да. Со всем семейством. Наша гондола имеет право на место рядом с Буцентавром. — Вы можете пожертвовать ради меня удовольствием? — Что вы этим хотите сказать? — Сделайтесь больны на завтра, на вторник и среду… — Я понимаю вас. — А ваш ответ?.. Бианка пожала руку Пьетро. Это был ответ. — Благодарю, — прошептал он. — О, как я люблю вас, Бианка!.. — Молчите!.. Такие слова в Божьем доме!.. — А разве Господь оскорбится подобными словами? Моя любовь, Бианка, чиста, чиста, как ваше сердце. Я ищу не одной вашей нежности, я ищу вашей дорогой руки, которую сжимаю в своей и прошу ее навеки. Я люблю вас не только как любовник, но и как супруг. Бианка тем легче отдалась своей любви к Буонавентури, что она считала его одним из сыновей банкира Сальвиатти, весьма уважаемого семейства во Флоренции, с которым могла соединиться ее фамилия. Разочарованная в этом отношении в день тайного свидания, во время патриотического праздника в Венеции, молодая девушка потеряла всякую надежду выйти замуж за возлюбленного. — Нам снился сладостный сон, — сказала она, — его следует забыть. Мой отец никогда не согласится отдать меня за вас. Прощайте! — Прощайте! — печально произнес он. — Вы прогоняете меня! — Я не гоню вас, друг мой, но к чему продолжать связь, которая обречена заранее. Поверьте, Пьетро, если я отказываюсь видеться с вами, то я никогда не перестану любить вас. — Жестокая, вы меня любите, но будете женой другого? — Моя ли вина, если я не принадлежу себе? Моя ли вина, что я должна повиноваться родным? — О, да будет проклят тот день, в который я узнал вас, если я узнал только для того, чтобы расстаться с вами!.. Что будет со мной, когда я останусь одиноким на свете?.. Он плакал… и его слезы смешивались со слезами молодой девушки, которая нежно склонилась к нему; он страстно сжимал ее в своих объятиях. — Ты гонишь меня! — повторял он. — Ты гонишь меня! Упоенная звуком его голоса, сжигаемая его поцелуями, она не имела силы оттолкнуть его… Но дуэнья Стефания караулила в соседней комнате. Она тоже когда-то была молодой и вспомнила, что влюбленные иногда говорят слишком много, когда не говорят ни слова. И она поспешила к ним, обеспокоенная. Бианка, вся дрожа, отстранилась от Пьетро. — Время идет, молодой синьор, — сказала она, — церемония скоро кончится. Вам пора уходить. — Уже? — воскликнул Пьетро. — Уже! — прошептала Бианка. — Уже, — улыбаясь, повторила дуэнья. — Вот уже три часа, как вы вместе! Пойдемте, молодой синьор, вы ведь не захотите причинить печали нашей дорогой барышне. Отец ее, благородный Бартолеми Капелло и синьора Лукреция Гримани, ее мачеха, беспокоились, когда уезжали, об ее здоровье, они, без сомнения, поспешат с возвращением… Что с нами будет, великий Боже, если они здесь вас застанут?! Рассуждения старухи были справедливы; Пьетро понял это и ушел. Он был в отчаянии. Не столько от того, что так быстро кончилось свидание, как от мысли, что не смог получить иного. А ведь такая хорошенькая девушка!.. Какая жалость! Наш честолюбивый герой флорентиец инстинктивно чувствовал в ней не только любовницу, но и целое состояние… Между тем дуэнья сказала правду: праздник обручения дожа с Адриатикой завершался, Буцентавр вошел в город, сопровождаемый целой флотилией лодок и галер. В этот час все самое знатное и богатое население Венеции усаживалось за столы, которые ломились от изобилия и роскоши. Вздохнув, Пьетро Буонавентури направился к расположенной на Пиацетти, возле моста, гостинице, где он обыкновенно съедал свой скромный обед. Он кончал есть, когда маленький негр, одетый в мавританский костюм, вошел в залу гостиницы и, подойдя прямо к нему, сказал вполголоса: — Вы кавалер Пьетро Буонавентури? — Я, — ответил Пьетро. — Угодно вам пойти со мной? — Куда? — Там увидите. Пьетро колебался. Но в конце концов, чего ему было бояться? Подобного рода лакеи в большинстве случаев принадлежали куртизанкам, так что понятно, что флорентийца ожидало какое-нибудь любовное приключение. — Хорошо, — сказал он. — Я иду с тобой. Через несколько минут он вслед за негритенком дошел до герцогского дворца, к тому месту Пиацетти, где останавливались гондолы, и без помощи своего проводника, который любезно предлагал ему руку, соскочил с каменных ступеней в гондолу. Пьетро Буонавентури рассудил правильно: его приглашала женщина, и когда он вступил в каюту гондолы, где ждала его эта женщина, он не мог сдержать восклицания восторга, такой прекрасной она показалась ему. В ее темных волосах, падавших волнами на плечи, дышала любовь, ее лебединая шея была мраморной белизны и сладострастно кругла, черные глаза метали пламя. Черты ее лица своим изяществом могли бы восхитить художника. Ее красота дополнялась великолепным костюмом. Весь корсаж ее и головной убор были украшены золотом и драгоценными каменьями. Она сидела на скамье, на которой могли поместиться двое. — Садитесь рядом со мной, синьор Буонавентури, — сказала она молодому человеку. Он ей повиновался; негритенок опустил поднятые занавески каюты, и лодка, удаляясь от пристани, заскользила по большому каналу, который тогда, как и теперь, был венецианским Гайд-парком. Прошло несколько минут молчания. Восхищенный, ослепленный, обвороженный этой женщиной, Пьетро, хотя скромность и не была его недостатком, не мог начать разговора… Она смотрела на него с улыбкой и, казалось, наслаждалась его замешательством, приготовляясь в то же время на свободе к нападению. Наконец она быстро проговорила: — Не полагаете ли вы, синьор Буонавентури, что играете в опасную игру, волочась за дочерью одного из первых венецианских патрициев, и что если Бартолеми Капелло обнаружит вашу интригу с синьориной Бианкой, то вы можете в одно прекрасное утро отправиться в Совет десяти? В самом начале этой речи Пьетро вздрогнул, когда же она была окончена, он вскочил бледный как смерть… Но она взяла его за руку и принудила снова сесть. — Полно! — продолжала она голосом, насмешливый тон которого несколько смягчила. — Не бойся, Пьетро, если я открою тебе, что кое-что про тебя — и даже многое — знаю, то вовсе не для того, чтобы угрожать тебе… напротив… Слушай! Я тебя хорошо знаю, а ты меня — нет. Я куртизанка Маргарита, Я люблю тебя. В течение месяца, когда ты вздыхаешь по Бианке, я вздыхаю по тебе. Хочешь мне отдать одну ночь любви? Одну только. А взамен ее, если хочешь, я тебе отдам на всю жизнь твою любовницу. Пьетро, не проронив ни слова, слушал Маргариту. Но он был не глуп. На его месте в подобном случае двадцать других начали хотя бы формулировать какие-нибудь мысли. Он поступил лучше. Обхватив талию куртизанки, он соединил свои губы с ее устами в поцелуе, который длился столько, сколько нужно, чтобы сказать заике: «Честь имею принести вам всю мою признательность». Фраза, очень длинная для заики. Потом он весело сказал: — Вот мой ответ! — В добрый час! — радостно воскликнула Маргарита. — Ты, Пьетро, именно таков, каким я тебя представляла. Ты мужчина! Тебе улыбнулся ангел, и ты не боишься демона… — А кто побоится демона вроде тебя, Маргарита! — Льстец!.. Теперь поговорим. Для тебя безразлично, как мои шпионы уже целый месяц передавали мне о всех твоих поступках. Я могу покрыть площадь св. Марка моим золотом, я хорошо плачу — мне хорошо служат. Но ты, конечно, желаешь узнать, почему я хочу, чтобы Бианка, хотя она моя соперница, принадлежала тебе, и каким образом я дам тебе ее?.. — На самом деле, эти вопросы возбуждают мое любопытство. Но лучше ты объяснишь мне их завтра, на свободе, Маргарита. Нетрудно быть терпеливым, когда счастлив. Куртизанка отблагодарила флорентийца за этот ответ нежным взглядом. — Благороднейший дворянин Италии или Франции не выразился бы лучше, — сказала она. — И я радуюсь, Пьетро Буонавентури, потому что я буду сперва твоей любовницей, а потом твоим другом. Ты прав: эта ночь принадлежит мне. И в эту ночь любовница хочет забыть, как забудешь и ты, что твое сердце бьется для другой. Завтра утром с тобой будет говорить друг. Идем. Гондола остановилась пред дворцом Ангарани, изящным небольшим дворцом, фасад которого весь был покрыт мрамором и украшен легкой, грациозной колоннадой. В этом палаццо, подарке знатного вельможи, жила Маргарита, и в него-то и вошел с ней Пьетро Буонавентури и провел в нем с ней одну из сладостнейших ночей… Такую сладостную, что он пожалел, почему она должна быть единственной. Но Маргарита была причудливым созданием: любовь была для нее то средством еще и еще пополнить золотом свои ларцы, то капризом, который угасал тотчас после насыщения. При первом свете дня, от которого побледнел свет розовых свечей, горевших в канделябрах, Маргарита, освободившись из объятий любовника на одну ночь, соскочила с постели и сказала: — Теперь, Пьетро Буонавентури, поговорим о той, которую вы любите. Поговорим о Бианке Капелло. Почему я буду счастлива, когда она будет твоею? Очень просто. Потому что она честная девушка, а я куртизанка. Потому что я не имею возможности выйти за тебя замуж, а если она сделается твоей любовницей — она обесчестит свое имя, а обесчещенная — станет вровень со мной… Как я отдам ее? Очень просто. Она ведь любит? — Я думаю. — А я уверена. Встань и пиши, что я буду тебе диктовать. Пьетро повиновался: он встал, быстро оделся и, усевшись за стол, написал письмо, которое было продиктовано ему Маргаритой: «Дорогая Бианка! Меня убивает отчаяние, уже три дня, как я лежу в постели, от вас зависит спасти меня. Желаете ли вы этого? Если желаете, то сегодня вечером, в полночь, когда все уснет во дворце вашего отца, выйдите из маленькой двери, выходящей на улицу против моего дома, и войдите в мою комнату. Одной вашей улыбки будет достаточно, чтобы возвратить меня к жизни; если вы покинете меня, я умру». — И вы полагаете, Маргарита, — сказал Пьетро Буонавентури, — что Бианка Капелло откликнется на этот зов? — Да, но чтоб подтвердить содержание этого письма, вы должны все эти три дня не выходить из комнаты, не показываться даже у окна. Считая вас при последней крайности, Бианка Капелло не будет противиться тому, что она сочтет своим священным долгом. Пьетро покачал головой. — Вы сомневаетесь, — продолжала куртизанка, — и это сомнение ошибочно, мой друг, потому что как хотите, а я лучше вас знаю Бианку Капелло. Она скучает во дворце своего отца, особенно после смерти своей матери. Она тем более скучает, что природа одарила ее пламенным воображением и огненным темпераментом. Я говорю вам, что двадцать ночей она провела у своего окна после первой встречи с вами, пожирая взглядами то узкое пространство, которое отделяет ее от вас; ваше имя постоянно на уме у нее и на губах. Полноте! Вы хотите сделать своей любовницей одну из первых девушек в Венеции, потому что в обладании ею ваши надменные инстинкты предвидят не только богатство, но даже могущество, а когда я открываю вам дорогу для достижения цели — вы отказываетесь!.. — Я не отказываюсь, — возразил Пьетро, — я спрашиваю самого себя, каким образом вы узнали Бианку Капелло лучше, как вы справедливо говорите, меня самого? Маргарита улыбнулась. — Это мое дело, — ответила она. — От вас зависит воспользоваться моим знанием и помощью. Подписали вы письмо? — Да. — Пометили ли вы его воскресеньем 9 мая? — Нет. — Пометьте. Хорошо! Теперь отправляйтесь домой, запритесь и, как я вам советовала, до воскресенья не показывайте никаких признаков жизни. В воскресенье, в полночь, Бианка Капелло будет у вас… И вы не будете, как сегодня, сожалеть, что какая-нибудь старая дуэнья помешает вам в самую интересную минуту разговора… И когда кончится этот разговор, ничто не помешает вам начать другой, десять других… сто других, столь же сладостных… Маргарита сопроводила эти слова взрывом хохота; Буонавентури хотелось узнать, в чем дело, но куртизанка показала ему на дверь, и он только сказал: — Прощайте же! Благодарю вас. — О! — небрежно ответила она. — Вы не обязаны мне благодарностью. Я же не скрыла от вас, что в данном случае я тружусь в основном для себя. — По крайней мере, — проговорил Буонавентури, наклоняясь к ней, — позволено ли мне заплатить мой долг последним поцелуем?.. Она холодно подставила ему губы. — Прощайте! — повторил он. Он уходил. — Ах! — закричала она вслед. — Скажите мне, если б вам пришлось покинуть Венецию, есть ли у вас деньги на дорогу? Скорей всего, нет. Бедный приказчик Сальвиатти вряд ли купается в золоте… Вот, возьмите, здесь сто руспони (около 4000 ливров /прим. автора/). Отдадите, когда разбогатеете. — И онаположила ему в руку целый кошелек золота. «Странная женщина! — подумал Пьетро Буонавентури, возвращаясь в той же гондоле к себе домой. — Какая истинная причина заставляет ее желать, чтобы Бианка принадлежала мне?.. Почему она бросает ее в мои объятия и почему думает, что после первого раза она навсегда останется?..» Эти три вопроса остались неразрешенными. Для него было ясно то, что, проведя ночь с самой блистательной куртизанкой Венеции, он, если верить ей, находился почти накануне того дня, когда он сделается счастливым любовником одной из прелестнейших и благороднейших девушек Италии… Но всего яснее было то, что, благодаря Маргарите, у него было золото, с которым он мог теперь противостоять любой случайности. И пусть не думают, что он почувствовал хоть малейший стыд, приобретя золото из подобного источника. В то время в Италии, так же как во Франции и Испании, мужчина не считал зазорным получать подарки от женщины. Один ездил на лошади, подаренной любовницей, другой — носил костюм, подаренный ею же. В конце концов, быть может, Пьетро Буонавентури разделял убеждение того римского императора, который говорил, что «у золота нет запаха». Как бы то ни было, но начало приключения обещало слишком много, чтобы флорентиец отказался от продолжения. Он заперся на пятницу, субботу и воскресенье в своей комнате, воздерживаясь показываться у окна, а для того чтобы действительно его болезнь не могли подвергнуть сомнению, он каждый раз, как старая служанка Марта приносила ему завтрак или обед, ложился в постель. Старуха вовсе не удивлялась, что этот больной продолжал есть и пить с самым великолепным аппетитом. Она принадлежала к числу тех людей, встречающихся все реже и реже, которые вполне верят тому, во что заставляют их верить. — Бедный молодой человек! — шептала она, слушая, как Буонавентури вздыхал на своей постели. — Бедный молодой человек! В воскресенье вечером Буонавентури, которому было легче сидеть в кресле, попросил Марту привести в порядок его комнату, что она и поспешила исполнить, На постель было положено чистое белье, камин украсился цветами… — Ба! — сказала она, удаляясь полная гордости. — Теперь можно сказать, что это комната новобрачной… Ночь. Но как долго тянутся часы, разлучающие его с Бианкой!.. Сколько раз он поглядывал на часы!.. Невозможно!.. Они, верно, испортились!.. Стрелки двигаются назад вместо того, чтобы идти вперед!.. Девять… десять… одиннадцать… Наконец-то!.. А всего шестьдесят минут ожидания… Но странная вещь!.. Теперь ему казалось, что стрелки идут слишком быстро… Без четверти двенадцать!.. Маргарита посмеялась над ним!.. Бианка не придет к нему!.. Она не получила его письма… «А если получила, придет ли она?..» Он поставил свечку в угол, свет пугает молодых девушек!.. Он стоял на коленях у окна к старался проникнуть взглядом сквозь сумрак ночи, вопрошая маленькую дверь дворца Капелло, ту дверь, в которую она должна была выйти… О, если б она вышла!.. Двенадцать без десяти минут… Нет, она не придет!.. Презренная Маргарита!.. К чему эти обещания, эта ложь?.. Полночь без пяти минут!.. О, дорогая Маргарита, да будешь ты благословенна!.. Бианка!.. Бианка идет… она переходит улицу… всходит на лестницу!.. Пьетро бросился навстречу и прижал свою милую к груди… — Друг мой! Какое безрассудство!.. Он внес ее к себе… Да, Маргарита знала хорошо: в жилах Бианки Капелло текла лава. Три дня тому назад извержение было задержано Стефанией, но в эту ночь Стефании не было здесь. К тому же Бианка поверила в письмо Пьетро, она на самом деле полагала застать его больным. Кокетка, даже влюбленная, по крайней мере рассердилась бы, если б заметила, что она обманута. Но Бианка была только влюбленной, поэтому она без гнева сказала любовнику: — Ты обманул меня! — Ты желаешь меня? — Я люблю тебя… Время быстро прошло для Пьетро. Пробило уже два часа, а он думал, что все еще полночь. Бианка в сотый раз повторяла ему: «Я люблю тебя!» Но пришло время расставания. — Что подумает Тереза? — сказала молодая девушка. — Кто это Тереза? — Моя горничная, которой твоя служанка передала ко мне письмо. — А! — Ты как будто не понимаешь?.. — Понимаю, понимаю… Пьетро понял, что Тереза принадлежала к числу шпионов Маргариты, что от этой женщины куртизанка получала все сведения. Бианка снова начала: — Тереза же достала и ключ от маленькой двери, она ждет, чтобы отпереть мне. — Так если она дожидается, то что значит несколько лишних минут!.. — Нет, умоляю тебя, мой друг, позволь мне уйти! В мае день начинается рано… Подумай только, что будет, если меня увидят, когда я буду уходить от тебя!.. Я возвращусь. Разве ты не уверен, что я возвращусь скоро?.. Тереза привязана ко мне… О, больше, чем Стефания! Тереза, когда я плакала, читая твое письмо, обещала мне помочь увидеть тебя… «Это так!» — подумал Пьетро. — Но она меня ждет, — продолжала Бианка. — Два часа, как она меня ждет, а я обещала ей вернуться через двадцать минут. Пожалей ее. Было около половины третьего, Пьетро не удерживал ее более. — Я провожу тебя, — сказал он. — К чему? — Чтобы видеть тебя с моего порога, пока ты будешь переходить улицу. Они спустились по лестнице, сжимая друг друга в объятиях, и вышли на улицу через коридор. — До скорого свидания! — До скорого… И, закрыв лицо капюшоном своей мантильи, Бианка подбежала к маленькой двери отцовского дворца, позади которой должна была ждать ее Тереза. Бианка осторожно постучала в дверь три раза — дверь не отворялась. Она повторила сигнал, тоже безмолвие. — Боже мой! — проговорила она. Пьетро приблизился, услыхав ее жалобный шепот. — Что такое? — Она не отпирает. — Она заснула. — Он искренне поверил этому, не подозревая ни малейшего подвоха, и, в свою очередь, постучал в дверь… Никакого ответа. — Я погибла! — сказала Бианка. — Устав ждать меня, она легла спать. А заря уже показывается на горизонте. Когда Тереза проснется, будет поздно… двадцать, пятьдесят человек могут увидеть меня… я погибла… Для довершения ужаса в эту минуту неподалеку послышался шум весла, сопровождаемый песнью гондольера… Быть может, это какой-нибудь запоздалый сосед, который знал ее, друг ее отца?.. Машинально схватив Пьетро, она увлекла его в темный коридор. Гондольер пел: Прекрасная и свежая, Как первый цвет весны, Не плачь!.. Дели со мною ты Любви роскошной сны! — Я погибла! Погибла! Погибла! — повторяла Бианка Капелло. Пьетро молчал. Он припоминал слова Маргариты: «И когда окончится этот разговор, ничто не помешает вам начать другой, десятый, сотню других… столь же сладостных». Нет сомнения, оставив свой пост в отсутствие госпожи, Тереза повиновалась Маргарите, обещавшей Буонавентури дать ему Бианку Капелло, и она отдала ее ему. Бианка скорее согласится бежать с ним, чем возвратиться обесчещенной в Венецию. Гондольер, продолжая петь свою канцонетту, остановился близ моста, но никто не вышел из лодки. «Этот человек для нас», — подумал Пьетро. Вдруг, выходя из какого-то оцепенения, Бианка воскликнула с упреком, обращаясь к своему любовнику: — И ты ничего не можешь для меня сделать? Ты молчишь, Пьетро? Через несколько минут солнце осветит мой стыд. Ты любишь меня и не можешь избавить меня от этого стыда!.. Ты меня любишь и не можешь оградить меня от преследования моих родных!.. Но ты не думай, ведь ты сам будешь страдать от гонений моего семейства!.. Эта презренная Тереза, которая изменила мне, заговорит!.. Она назовет тебя. — Если б дело шло только обо мне, дорогая Бианка, я не побоялся бы, — отвечал Пьетро. — Напротив, если угодно небу, я пролью всю мою кровь, чтобы избавить тебя от страдания. — Все равно, отец или брат убьют тебя, а меня они навеки запрут в монастырь. Говори же… Невозможно, чтобы ты не придумал, как спасти нас обоих. — Есть одно средство, но только одно. — Какое? — Бежать… Бианка задрожала. — Опять позор! — Зато это жизнь — жизнь с любовью и свободой. У меня есть деньги. Мы уедем на мою родину, во Флоренцию. По дороге, если ты, моя милая Бианка, желаешь, мы попросим пастора обвенчать нас. И кто знает, не простит ли нас твой отец, когда узнает, что мы обвенчаны. Горькая улыбка, которую Пьетро не мог заметить в сумраке, сжала губы Бианки. Она не разделяла иллюзий Пьетро, она была совершенно уверена в одном, что ее отец, Капелло, никогда не признает своим зятем какого-нибудь Буонавентури. Но этот Пьетро все-таки был прав. Бегство и для него, и для нее было единственным средством против жестокой мести. — Бежим! — сказала она. Флорентиец быстро вошел к себе, чтобы взять деньги и кинжал. Через несколько минут он сел вместе с любовницей в гондолу. В данном случае он не ошибся: гондола была для него. Маргарита позаботилась обо всем. На первый же вопрос, заданный им гондольеру, согласен ли он вывезти их из Венеции, тот ответил: — Хоть на край света, если вам будет угодно, синьор. Лодка по большому каналу пришла в Чиоджиа, где беглецы взяли карету в Фузину. Через три дня они были во Флоренции. Сидя рядом со своим любовником, Бианка закрыла лицо руками, и Пьетро видел, как между розовых пальцев молодой девушки текли слезы… — Ты плачешь? — спросил он. — Ты уже жалеешь?.. Она отняла руки, отерла лицо и, улыбаясь, ответила: — Теперь кончено, все!.. И в самом деле, слезы перестали капать, по крайней мере с этой минуты Бианка Капелло примирилась со всеми последствиями своей ошибки. Она согласилась, как он того желал, соединиться с Пьетро перед Богом. Пастор дал им брачное благословение в Пистои, в церкви св. Духа. На другой день муж представлял жену своему отцу. Амброзио Буонавентури был бравый мужчина, принявший свою невестку с открытыми объятиями. Но он был очень беден, так беден, что если б Пьетро не привез с собой денег, то ему было бы очень затруднительно поместить Бианку под отцовской кровлей. И, к несчастью, эти деньги начали истощаться: часть их пошла на издержки путешествия, другая быстро тратилась на покупку мебели и одежды. Однажды вечером Пьетро обнаружил, что у него осталось всего с десяток золотых монет. Что делать, когда не на что кормить жену? Вместе с тем известия, доходившие до него из Венеции, были вовсе неуспокоительны. Похищение Бианки возбудило ярость всех Капелло. Они утверждали, что в их лице было оскорблено все венецианское дворянство, и добились от сената, который даже оценил голову Пьетро, повеления преследовать похитителя. Эту неутешительную новость принес ему во Флоренцию один болонский живописец, Гальено Линьо, с которым он подружился в Венеции. — Всех сильнее раздражен против вас брат Бианки, — говорил ему гальено. — Он был любовником венецианской куртизанки Маргариты, которая любила его и которую он вскоре бросил. И, кажется, Маргарита хвастается всем, что, мстя изменнику, она заставила вас похитить его сестру. Пьетро Буонавентури задрожал при этих словах живописца: ему стало теперь понятно поведение Маргариты. Гальено Линьо закончил тем, что посоветовал своему приятелю как можно скорее принять меры против ярости Капелло. — Они могущественны и богаты, — сказал он Пьетро, — и если вы не поспешите избрать себе покровителя, способного защитить вас, вы будете всего бояться. Самая меньшая опасность, угрожающая вам, состоит в том, что вы будете убиты каким-нибудь наемным браво… — Ваши рассуждения, мой друг, совершенно справедливы, — ответил Пьетро, — и я сегодня же воспользуюсь ими. Сразу же после этого разговора он отправился во дворец Питти, к великому герцогу Франческо Медичи, сыну и наследнику Козимо, — человеку самого приятного характера. Он благосклонно принял Пьетро Буонавентури, заставил со всеми подробностями рассказать его историю и уверил в своем покровительстве против врага. — Но, — закончил он, — вы нарисовали передо мной такой обольстительный портрет вашей жены, что не удивляйтесь тому, что я желаю ее видеть. Пьетро поклонился. — Подобное желание со стороны вашей светлости слишком лестно, — ответил он, — чтобы я и жена моя не поспешили его исполнить. — Достаточно, — возразил великий герцог, — среди моих офицеров есть один испанский дворянин, капитан Мандрагоне, который живет с женой близ площади Марии Новелла, где, как вы сказали, живете и вы; завтра утром, если вам будет удобно, синьора Мандрагоне отправится в своей коляске к синьоре Буонавентури и привезет к себе… Туда я явлюсь через несколько минут. Я предоставляю вам, мой милый, полное право присутствовать при этом свидании… О! Мои намерения совершенно чисты!.. — Я не сомневаюсь, государь, — живо ответил Пьетро, — и после того, чем мы обязаны вашей светлости, я счел бы черной неблагодарностью всякий признак недоверия. Полагаю, что я буду завтра утром в отъезде, и пусть ваша светлость не удивится, если я не буду сопровождать завтра мою жену к синьоре Мандрагоне. Франческо Медичи улыбнулся, подавая Пьетро Буонавентури руку, которую тот поцеловал. Флорентиец уже видел, как из этой царственной руки сыплются на него почести и богатство. Как? Только что женившись на восхитительной женщине, Пьетро Буонавентури решился принести ее в жертву своему честолюбию?.. Так что же? Роль благосклонного мужа в ту эпоху была в моде. Когда король, принц, герцог желал женщину, муж восклицал: «Чрезвычайно лестно!..» И в то время, как король или принц любезничал с его женой, этот муж прогуливался. Но Бианка, происходившая из благородной фамилии, согласится ли она играть роль, предназначенную ей в этой галантной комедии?.. Да. И по двум причинам: во-первых, она только о том и думала, как бы избавиться от бедности, в которой она прозябала у своего тестя, а во-вторых, услыхав от мужа смысл этой роли, она превратила любовь свою в презрение. А то, что презирают, с тайной радостью стараются уничтожить. Выйдя из дворца Питти, Пьетро отправился к Бианке. — Мы спасены! — сказал он ей. — Я только что видел великого герцога. Он удостаивает нас своим покровительством. Но взамен он требует одной милости. — Милости? — Да, он хочет видеть тебя. — Ну ладно, пойдем, когда тебе будет угодно, поблагодарим его. — О нет! Его светлость хочет не этого. Завтра жена одного из его офицеров, синьора Мандрагоне, явится сюда за тобой… у нее его светлость встретит тебя одну. Что делать, моя милая, есть такие безвыходные положения, когда опасно отказывать. К тому же, разве я не уверен в твоей нежности, в твоей добродетели? Бианка не смогла сдержать неудовольствия. — Что это? — продолжал Пьетро. — Эта встреча тебя смущает?.. Полно!.. Великий герцог молод, красив, умен. И если это тебе будет стоить некоторой благосклонности без последствий… какое мне дело, лишь бы твое сердце принадлежало мне!.. — Хорошо! — сказала Бианка. — Я пойду завтра одна к синьоре Мандрагоне, и будьте покойны, его светлость будет доволен моим желанием понравиться ему, как вы того желаете. Синьора Мандрагоне не в первый раз устраивала нежные свидания для его светлости Франческо Медичи. Когда-то очень красивая, Инесса Мандрагоне, как уверяют, с согласия своего благородного супруга, была первой любовью сына Козимо I. С годами ее прелести поблекли, и она ограничилась ролью преданного друга молодого герцога. По приглашению последнего, на другой день, в назначенный час, она отправилась к Бианке Капелло, которую привезла с собой в коляске. Через несколько минут испанка и венецианка сидели одна против другой в изящном будуаре. — Позвольте мне теперь полюбоваться на вас, мое дитя! — воскликнула Инесса. — В этом ужасном домишке вашего тестя я не могла вас разглядеть!.. О, да вы на самом деле прелестны!.. Прелестны, восхитительны! Прекрасные глаза!.. Прекрасные волосы!.. А какая белая и розовая кожа!.. Но вы не заботитесь еще об одном, что прибавило бы вам красоты. Моя прелестная Бианка! Ведь вы ужасно одеты. — Одеваются как могут. — Правда, это не ваша вина и даже не вина вашего мужа. Бедняжка! Я знаю, вы не богаты. О! Мне рассказывали вашу историю. Она очень интересна, очень интересна!.. Клянусь вам, я плакала, представив ваше отчаяние, когда вам пришлось выбирать или скандал, или бегство… Ну, как бы то ни было, вы избрали все-таки лучшее. Говорят, ваш муж не дурен собой, вы его любите, он любит вас… А теперь, когда великий герцог интересуется вами обоими… он так добр!.. От вас, моя милая, зависит, чтобы в самом скором времени занять достойное положение во Флоренции. Но дело теперь не в том. Я все болтаю пустяки… Дело вот в чем… Не правда ли, ведь вы немного кокетливы? Если нет, так вы не были бы женщиной, и к тому же в Венеции. Ведь у вашего отца вы не носили платья из такой грубой материи. Герцог придет через час, у нас есть еще время, и если хотите… мы одного роста, и у меня есть совершенно новое бархатное платье, вы наденете его. — Но… — Что но? Я мать, я хочу быть и вашей матерью… Разве стыдно принять подарок от матери? Посмотрите, разве это не лучше, а?.. Синьора Мандрагоне вынула из шкафа голубое бархатное платье, отделанное золотом и жемчугом, вид которого заставил Бианку Капелло вспыхнуть от радости. Эта радость сама по себе была ответом. — Вы согласны? — начала Мандрагоне. — Браво! Скорей, скорей, сбрасывайте эту ужасную черную хламиду!.. Хорошо быть прекрасной, мое дитя, но изящество никогда не вредит. Я сама буду вашей горничной. Так, так!.. О, что за великолепная грудь, а какая талия! Как прелестна рука, как тонка кисть! Как кругла эта ляжка! Как узка и мала нога! Синьору Буонавентури нечего жаловаться. Вы лакомый кусочек, честное слово!.. Вы рождены быть королевой, моя милая!.. Сконфуженная этими похвалами, полураздетая Бианка, стоя посреди будуара с опущенными глазами, с руками, сложенными на груди из чувства стыдливости, ожидала, чтобы импровизированная горничная надела на нее платье. Но та не спешила. Быть может, вы догадались, что не одна Инесса Мандрагоне присутствовала при этой сцене. При ней присутствовало другое невидимое лицо — Франческо Медичи, скрывавшийся в комнате за стеклянной дверью, выходившей в будуар. Сцена эта была повторением многих других, разыгрывавшихся здесь же при таких же обстоятельствах. Все это делалось потому, что, раздеваясь, женщина часто в чем-то теряет из своих прелестей, и чтобы избавить великого герцога от возможных разочарований, остроумная испанка изобрела только что описанное освидетельствование. Нужно ли говорить, что, выйдя победительницей из этого осмотра, Бианка Капелло вскоре увидела вошедшего великого герцога. Он едва дал время Мандрагоне завершить туалет прекрасной венецианки. Но как бы ни был влюблен в нее Франческо, он не мог обращаться с Капелло как с простой мещанкой. Расставаясь с Бианкой, великий герцог сказал ей: — Если вы позволите, синьора, то я буду иметь честь увидеть вас снова у вас, в вашем дворце. В тот же день Пьетро Буонавентури был приглашен к Франческо, который объявил ему, что принимает его к себе в качестве шталмейстера с жалованьем в сорок тысяч секинов (около 40 000 ливров) в год. И что, кроме того, жене его дарит дворец Кастелини, в трех милях от Флоренции у подножия горы Мурельо. За три мили от Флоренции! Радость, испытанная Пьетро в начале речи, сильно поубавилась в конце оной. За три мили! Удерживаемый в городе своею службой, он будет не в состоянии видеть Бианку. Но он желал этого. Он продал свою жену. Теперь покупатель был вправе взять у продавца купленную вещь. Продавцу нечего было рассуждать. И он не рассуждал… — Государь, вы меня осыпаете милостями! — вскричал Пьетро, падая перед Франческо на колени. — Вы довольны, мой друг? — Я в восхищении, государь! — Следуйте же за Джузеппе, моим первым камердинером, который покажет вам ваши комнаты. С этого вечера вы начнете вашу службу. Джузеппе вошел, но Пьетро не спешил за ним следовать. — Это что? — спросил великий герцог новоиспеченного шталмейстера. — Вы хотите мне что-то сказать, Буонавентури? — Простите меня, ваша светлость, — отвечал тот, — но я полагал… я думал… жена моя ничего не знает… — Не беспокойтесь, мой друг, жена ваша знает все. В то самое время, как я пригласил вас сюда, синьора Мандрагоне, жена капитана моей гвардии, отправилась к вашему отцу, чтобы объяснить о моих намерениях относительно синьоры Буонавентури. В эту самую минуту ваша жена едет в коляске в свой дворец вместе с этой милой Мандрагоне, которая согласилась сопровождать ее. О, еще раз не беспокойтесь! Дворец меблирован!.. Я подумал обо всем… У синьоры Буонавентури ни в чем не будет недостатка. Ясно, что если для вас слишком трудно быть несколько времени с ней в разлуке, я не воспротивлюсь. Но в таком случае, мой друг, я буду вынужден отменить назначение вас в звании шталмейстера, потому что эта должность заключается в том, чтобы постоянно находиться при мне, а… — Все, что сделано вашей милостью, сделано хорошо, — воскликнул Пьетро. — С той минуты, как жена моя знает, чем она обязана вашей светлости, я был бы достоин порицания, если б сохранил — а я не сохраняю — излишнюю заботливость о ней. Я увижусь с ней позже, когда мне позволит моя служба. И Буонавентури последовал за главным камердинером, обязанность которого заключалась не только в том, что бы показать ему его комнаты, но еще и в том, чтобы объяснить ему обязанности шталмейстера — самые важные придворные обязанности, которые тем не менее не были синекурой. В конце концов Пьетро Буонавентури достиг исполнения своего самого пламенного желания и находился на пути к богатству и почестям. И чтобы утешиться в тоске от разлуки с женой, он мог говорить, да и говорил, самому себе, что поскольку его должность обязывала его не удаляться от его светлости, то и его светлость не мог удалиться без того, чтобы он не знал об этом. Между тем неделя, две, три недели прошли, а великий герцог не показывал и тени намерения отправиться в Кастелини. — Он скрытен, это хорошо! — сказал себе Буонавентури в первую неделю; на исходе второй он начал удивляться столь повышенной скромности великого герцога, а в середине третьей, став за ним шпионить, заподозрил неладное и в скором времени вполне жестоко убедился… Его светлость был скрытен только с ним; каждую ночь, когда шталмейстер спал во дворце Питти, его светлость отправлялся в Кастелини. «Какой же я был дурак, — подумал Буонавентури, — если полагал, что великий герцог только ради моей рожи дал мне место в сорок тысяч секинов и дворец Бианке… Все равно. Но он дурно делает, скрывая от меня.» «Дурно!..» Произнеся это слово, флорентиец печально улыбнулся. Вместо того чтобы упрекать Франческо Медичи за молчание кое о ком, не стоило ли ему просто поблагодарить его? Но Бианка, которой он писал три раза в течение трех недель, каждый раз отвечала, что она счастлива. Бианка, стало быть, обязана этим счастьем великому герцогу?.. Она уже не любила своего мужа?.. — Я узнаю, я должен все узнать! — сказал он самому себе. Однажды ночью, удостоверясь, что Франческо занемог и не покидает дворец, он сам отправился в Кастелини. Роли переменились, на этот раз муж обманывал любовника. Пьетро Буонавентури знал Флоренцию как свои пять пальцев. У него была прекрасная лошадь, ему следовало проехать всего три мили, и через полчаса он был против дворца Кастелини. Теперь Пьетро оставалось только незаметно пробраться к жене, ибо если он желал объяснения с ней, то вовсе не хотел терять должности, навлекая на себя гнев великого герцога. Дворец возвышался посредине обширного сада, окруженного стенами и засаженного большими деревьями; Буонавентури, встав на лошадь, перескочил через стену и направился к дому. В открытом окне первого этажа светился огонь. Не освещал ли он комнаты Бианки? Решась на все, Пьетро не колебался. Громадный дуб возвышался в нескольких шагах от постройки, как бы лаская ее своими ветвями. Припомнив время, когда он воровал галочьи гнезда, шталмейстер полез на дерево. Свет исходил из спальни Бианки; со своей «обсерватории» Пьетро видел, что она читала лежа. Одним прыжком он очутился на балконе, а с балкона в комнате. Бианка вскрикнула. В первую минуту от страха она не узнала своего мужа. — Молчи!.. Это я!.. — сказал он, затворяя за собой дверь. — Вы? Она сделалась еще бледнее. Он начал: — Да, это я. Тебя удивляет видеть меня ночью, пришедшего сюда тайно? Так нужно было, потому что мне запрещен другой час и другой путь. Ах, признаюсь, есть покровительства, которые дорого стоят!.. И если б начинать снова… Но жребий брошен!.. Между тем я не считаю себя навеки разлученным с тобой, моя Бианка. Я тебя все еще люблю. А ты довольна, что видишь меня? Да говори же! Вот уже три недели, как я не жал тебе руки, а у тебя для меня не находится ни слова!.. Разве я сделал ошибку, что пришел сюда? Так можно предположить, судя по твоей физиономии. — И не ошиблись бы, думая так, — сказала Бианка мрачным голосом. Пьетро сдвинул брови. — А! — с горечью произнес он. — Я совершил ошибку. Это значит, что ты перестала любить меня и любишь Франческо Медичи? — Если б это и было, чему вы удивились бы? Не все ли вы сделали, чтобы я полюбила великого герцога? — Бианка! — Вы бросили меня в объятия Франческо Медичи. Я была вашей женой, вы сделали из меня куртизанку. Мой любовник осыпает вас золотом, вы его первый служитель. Чего же вам еще нужно от меня? — Несчастная, я же поступил так низко не только ради себя, но и для тебя! — Вы лжете. Вы ради одного себя стали подлецом, я была только вашим орудием. — Но мне нечем было тебя кормить. — Меня следовало убить, а не продавать. — А почему ты согласилась на торг? — Почему вы сделали меня бесчестной через вашу бесчестность? Я женщина. Мне недоставало поддержки… Я пала! Вам нравится ваша грязь, я привыкла к своей. — Да, это правда, очень привыкли!.. Так привыкли, что вам трудно будет теперь из нее выйти… Ты любишь Франческо Медичи? — Нет, не люблю, если сравнивать то, что я чувствую к нему, с тем, что я некогда чувствовала к вам. Да, люблю, если класть на весы ту признательность, которую он мне внушает, с той ненавистью, какую я питаю к вам. — Ненавистью?! — Я все сказала. Стоя неподвижно перед женой, с лицом, на котором выражались удивление и гнев, Пьетро Буонавентури безмолвно смотрел на нее. Она продолжала: — Вы желали меня видеть, говорить со мной, — вы видели меня, говорили, и я полагаю, что вы не возобновите посещения, неприятного для меня и для вас. Прощайте же! Уходите. Через коридор, позади этой двери, вы достигнете лестницы, по которой вам легче будет выйти, чем по той дороге, по которой вы пришли. Говоря все это, Бианка рукой показала Пьетро на дверь в глубине комнаты. И тут рубашка на молодой женщине вдруг слегка опустилась и обнажила ее бело-мраморную грудь… Она даже и не подумала об этом. Ее муж перестал быть для нее мужчиной, и она полагала, что тоже перестала быть для него женщиной. Она ошиблась, любовь Пьетро Буонавентури была любовь чувственная. Воспламененный при виде этих прелестей, которые ему принадлежали и которые еще принадлежат ему, алчный до наслаждений, которых он был лишен целых три недели, он, вместо того чтобы идти к двери, приблизился к кровати и, обняв рукой тело жены, покрыл его поцелуями. Новый крик вырвался из груди Бианки, крик более жестокий для Пьетро, чем тот, которым она приветствовала его внезапное появление, — этот крик выражал не страх, а отвращение и ужас… — Прости меня! — шептал он. — Я люблю тебя. Пожалей: я люблю! Бианка, моя Бианка! Умоляю тебя, не гони меня, я в таком отчаянии!.. Один только поцелуй с твоих дорогих губ… один только… и я ухожу. Она не отвечала, но из-под ее ресниц вылетел взгляд такого подавляющего презрения, что Пьетро отскочил. — О! — воскликнул он. — Но я твой муж, я имею право! — Хочешь еще больше испачкать меня? Что ж, пачкай, если тебе так нравится! Но предупреждаю, я все скажу герцогу. — Несчастная!.. Ты осмеливаешься угрожать мне?.. — Почему бы нет? Вы же угрожаете мне Своими ласками, хотя я сказала вам, что вас ненавижу. Буонавентури отер холодный пот, покрывавший его виски, потом, возвращая жене своей взглядом ненависть за ненависть, сказал: — Бог справедлив! Я жну, что посеял. Прощай же Бианка, прощай навсегда! Я забуду тебя!.. И он скрылся. Свежий воздух ночи, безмолвие дороги возвратили спокойствие Буонавентури, и он стал оценивать свое положение. — Я глуп, — говорил он самому себе, — за минуту сладострастия я испортил бы всю свою будущность. Бианка не любит меня — она свободна! Я полюблю другую, десять других!.. Я продал мою жену Франческо Медичи, с его золотом я куплю десяток любовниц. Но скажет ли Бианка о моем посещении своему любовнику? С какой целью? Это не принесет ей ничего. Нет, она не скажет ему!.. Буонавентури ошибался. Когда, совершенно выздоровев, Франческо Медичи явился во дворец, Бианка, в слезах бросившись к нему, рассказала все. Герцог побледнел. — Столь необычайная дерзость заслуживает строгого наказания, — сказал он. Он еще не кончил, а молодая женщина уже жалела о своей откровенности. Она ненавидела Пьетро, но не желала ему смерти. А чтобы отомстить этому человеку, который осмеливался еще любить свою жену, Франческо Медичи, быть может, велит убить его. — Нет, — возразила она. — Не наказывайте его, мой друг! Если я вам все сказала, то потому, что сегодня, как и всегда, для вас не должно быть тайн в моей жизни, но не затем, чтобы заставить вас наказать за поступок, который, я уверена, никогда не повторится. — Хорошо! — ответил Франческо. — На этот раз я прощу негодяя, но только на этот раз. Герцог сдержал слово: в этот раз он простил Буонавентури. Но от судьбы не убежишь, а судьба мужа Бианки заключалась в том, чтобы недолго наслаждаться счастьем, купленным недостойной сделкой с совестью. Решившись, как мы сказали, забыть жену, Буонавентури очертя голову бросился во все тяжкие. Он был молод, красив, хорошо сложен, имел, благодаря герцогу, много золота, а потому мало встречал жестоких. В начале 1566 года он почти серьезно влюбился во вдову Кассандру Бонджиани. «Эта вдова, — говорит манускрипт, — была одной из прекраснейших и развратнейших женщин своего времени, ее любовь была уже причиной смерти двух флорентийских дворян хороших фамилий. Страсть, внушенная ею Буонавентури, была так сильна, что он выражал ее совершенно явно перед всеми, не заботясь о родных своей дамы, которая, однако, принадлежала к одной из первых семей в городе и к одной из самых многочисленных, потому что, со своей стороны, Кассандра имела не меньше двенадцати племянников. Один из них, Роберто Риччи, вне себя от гнева из-за разврата тетки, отправился к ней с выговором. На другой день Буонавентури публично объявил этому Риччи, что будет видеться с Кассандрой сколько ему заблагорассудится и что сумеет найти способ прекратить оскорбления, одним словом, что пока она будет находиться под его покровительством, то Риччи поступит благоразумно, оставив ее в совершенном покое». Роберто Риччи, по словам того же манускрипта, пришел в еще большую ярость и дал клятву отомстить любовнику тетки. Со дня этой ссоры Буонавентури остерегался выходить ночью в одиночку и всегда брал с собой одного из своих друзей, Николо Билокчи, и верхового. Однажды ночью, возвращаясь от Строцци во дворец Питти, при въезде на мост св. Троицы, он услыхал крик на незнакомом языке, которому отвечали с другого берега реки. В то же время он и его спутники были окружены дюжиной личностей. Николо Билокчи тотчас же благоразумно обратился в бегство. Верховой, получив пару ударов по голове и услышав обращенный к нему призыв спасаться, последовал этому совету. Буонавентури тоже побежал по дороге, называемой Маджио, но и там были вооруженные люди, заставившие его вернуться назад. Он бросился к портику одного дома, но двое убийц, скрывавшиеся в тени, повергли его на землю ударом ножа. Раненый Буонавентури выстрелил в одного из убийц и убил его. К несчастью, этот выстрел послужил как бы сигналом. Вся шайка бросилась на него с Роберто Риччи во главе, которого Буонавентури узнал и которому перед самой смертью имел удовольствие раскроить череп. На другой день после смерти Буонавентури Кассандра Бонджиани была убита в постели негодяем по имени Джунтонеди Кафентино, прокравшимся через камин в спальню вдовы. Участвовал ли Франческо Медичи, хотя бы косвенно, в убийстве своего шталмейстера? Одни говорят — да, другие — нет. Но вопрос этот не может особенно занимать нас. Во всяком случае, откуда бы ни поразила смерть Пьетро Буонавентури, она поразила его в то время, когда честолюбие его было удовлетворено, когда он сделался богат и сравнительно могуществен. Первый, кто рассказал Бианке подробности убийства Пьетро Буонавентури, была синьора Мандрагоне, ее самая близкая приятельница и поверенная. Бианка молча выслушала этот рассказ, не выразив ни печали, ни радости. Когда Мандрагоне кончила, она лишь сказала ей: — Благодарю вас! Потом встала и пошла в свою молельню, в которой и заперлась. «Она молится за душу умершего! — подумала испанка. — Это хорошо! Все-таки он был ее мужем…» И, со своей стороны, добрая душа помолилась за Пьетро Буонавентури. Но молилась ли Бианка Капелло? Нет. Стоя перед зеркалом, она мечтала. Она мечтала о том, как пойдет ей великогерцогская корона. О короне? Но ведь во Флоренции уже была герцогиня. Анна Австрийская. Она существовала с 1565 года, но о ней мало кто думал… Франческо Медичи не любил Анну Австрийскую и до женитьбы, было бы странно, если б он полюбил ее после, безумно влюбившись в Бианку Капелло. Так же очень странно, что только после свадьбы великий герцог открыто признал Бианку своей любовницей: до того времени он тщательно скрывал свою связь с ней. Но, соединившись с сестрой Максимилиана II, Франческо перестал скрываться и показывался на прогулках рядом со своей любовницей, проводил у нее во дворце по целой неделе… В оправдание Франческо Медичи мы должны сказать, что Анна Австрийская была самая несносная женщина в мире. Один историк сравнивает ее с кристаллизованной льдиной. Выражение оригинально и, по-видимому, справедливо. При этом же Франческо Медичи в любви был игрок первостатейный; понятно, что он предпочел льдине женщину, обладавшую огненной страстностью. «Чтобы сильнее приковать к себе своего августейшего любовника, — говорит тот же историк, — Бианка Капелло достигла искусными и остроумными изысканиями такого совершенства, что в ней, казалось, было двадцать равно обольстительных женщин. Сегодня томная, завтра живая и радостная, в это утро целомудренная и почти боязливая в сдержанных выражениях нежности, а вечером, подобно вакханке, в опьянении отдающаяся всем восторгам страсти, — как Протей, способная являться во всех формах, — Бианка в одно и то же время действовала и на сердце, и на чувства великого герцога, на его ум и на его душу, восхищая и изумляя его». В 1568 году она поселилась во Флоренции в великолепном дворце — Строцци. В то время как Анна Австрийская, уединясь в своих суровых покоях палаццо Питти, важно слушала чтение какой-нибудь священной книги, Франческо Медичи, сидя рядом со своей дорогой Бианкой в изящном будуаре или изнеженно лежа у ее ног на траве, упивался с нею любовью. Наверное, в Строцци за один час расточалось столько же улыбок, сколько в Питти за целый год, а между тем постоянно, когда она проезжала мимо жилища Анны Австрийской, Бианка с трудом удерживала вздох. Почему? Если дворец Питти был мрачен внутри, он был так же сумрачен и снаружи… Прочтите у Тэна в его путешествии в Италию, он там превосходно описывает это мрачное колоссальное здание!.. Это была скорее тюрьма, чем дворец. А Бианка Капелло завидовала участи этой женщины, жилищем которой была эта каменная громада!.. Но та, хотя и покинутая, была первой в Тоскане. Она была великою герцогиней. Бианка Капелло хотела занять ее место. Это было в 1577 году; прошло четырнадцать лет, как Бианка стала любовницей великого герцога, — правда, только лишь любовницей, не более. Анна Австрийская оставалась покинутой Франческо Медичи; к великой досаде Бианки Капелло, Анна Австрийская, умершая для света, продолжала жить в той великой гробнице, которая называлась дворцом Питти. Надо, однако, полагать, что несмотря на отвращение, питаемое Франческо Медичи к своей жене, он время от времени, с целью продолжить свой род, сближался с нею, поэтому три раза она дарила ему по ребенку. То были плоды чисто политических сношений, но — плоды женского рода, а великий герцог ждал сына. Кристаллизованная льдина, воистину, ни на что не была годна. Желание Франческо иметь сына подсказало Бианке план, который позволило осуществить долгое путешествие герцога. Согласившись с Инессой Мандрагоне, с годами ставшей еще более преданным другом, Бианка, за три месяца до того, как великий герцог готовился покинуть Флоренцию и отправиться в Вену, начала проявлять все признаки беременности. Вспыльчивость и раздражительность, чрезмерная чувствительность, беспричинная печаль и беспричинная радость — все было пущено в ход, чтобы уверить любовника в его будущем отцовстве. Легко обманываются тогда, когда чего-то ждут, а Франческо уже давно хотел ребенка от Бианки. Наконец желание его исполнилось, он благословил небо, и когда уезжал, то не было такой нежности, какую он не обратил бы на нее, касаясь дорогой надежды, которую она носила под сердцем. — Помни, — улыбаясь, сказал он ей, — что у меня нет сына и что, следовательно, когда я вернусь, ты должна дать мне сына. — Я буду молиться Богу, чтобы вы были удовлетворены, — скромно ответила Бианка. Оставшись одни, Бианка и Мандрагоне разразились хохотом. — Да, я представлю ему сына, когда он вернется, — сказала Бианка. — Но нужно найти этого сына. — Мы его найдем! — ответила Мандрагоне. — Когда дают деньги, ни в маленьких детях, ни в больших недостатка не бывает… Только, если вы мне верите, синьора, мы его будем искать не во Флоренции. Здесь слишком много глаз! Напротив, в Кастелини мы будем совершенно свободны. К тому же вокруг вашего дворца есть много хижин бедняков, которые всю свою жизнь занимаются увеличением народонаселения Тосканы… Одним наследником больше или меньше за несколько золотых монет — раз плюнуть для этих мужиков… Нам останется только выбрать. — Но, — возразила Бианка, — кто поручится нам, что эти мужики сохранят тайну нашего торга? — Не беспокойтесь, когда мы будем там, мы все устроим. Через три месяца, под тем предлогом, что городской шум ее утомляет, Бианка отправилась в свой увеселительный дворец у подножия горы Мурельо. Там, несколько дней спустя, в сопровождении своей подруги, она начала не то чтоб настоящие розыски — было еще слишком рано, — но разведку того, что им требовалось. Инесса Мандрагоне не ошиблась, стоило только побывать в хижинах по соседству с дворцом. В Мурельо, Монтелупо, Фиезоле божественное изречение «Плодитесь и размножайтесь!» приводилось в исполнение с несравненным радением. Эти деревушки были истинными рассадниками ребят. — Это странно! — говорила Бианка Мандрагоне. — Все эти женщины, большинство которых ничего не может дать своим детям, кроме бедности, — плодовиты, а я, сын которой был бы принцем, — бесплодна! Мандрагоне не знала, что ответить Бианке; философ ответил бы ей: — Бог благословляет законные союзы и отвращается от прелюбодейной любви. Среди других хижин, в которые любила заходить Бианка, мечтая о том сыне, которого она хотела купить, была хижина рыбака из Мурельо, по имени Джиакомо Боргоньи, жена которого была беременна шесть месяцев. Антонии было девятнадцать лет, она обожала своего мужа. Между тем последний обходился с ней холодно. На вопрос, сделанный однажды Бианкой о характере ее мужа, Антония отвечала: — Увы, синьора! Мы очень бедны, и с тех пор, как я беременна, Джиакомо с еще большей грустью видит нашу бедность. Он говорит, что имея только для двоих, нам нечего делать с ребенком… а не имея возможности жаловаться на милосердного Бога, он жалуется на меня… Как будто это моя вина!.. Бианка и Мандрагоне обменялись взглядами. Этот человек, который сожалел, что он отец, годился для них, с ним можно было уладить дело. — Правда, — сказала Мандрагоне, — ребенок — тяжелая ноша!.. — О! — возразила крестьянка. — Но это также счастье!.. — А! Так вы не разделяете чувств вашего мужа?.. — Я?.. О нет!.. Я говорила Джиакомо, что, когда наш ребенок родится, он не будет нам в тягость, сначала я буду кормить его моим молоком, потом… потом моим хлебом. Я буду есть немного меньше — вот и все. — Мать будет труднее убедить, чем отца, — сказала по окончании этого разговора Бианка Мандрагоне. — Ба! — ответила последняя. — Если он прикажет, она послушается. Словом, мы увидим, что нам делать, когда настанет время. Однажды утром Антония Боргоньи родила сына. Вечером Мандрагоне явилась к рыбаку. Мать спала на постели, рядом с ней сын, отец поправлял свои сети при свете костра из виноградных лоз. При виде посетительницы он поспешил оставить свое занятие. — Мне нужно поговорить с тобой, Джиакомо, — сказала она. — Я вас слушаю, синьора. — Не здесь. Пойдем. Рядом с хижиной был маленький садик, в него-то и привела синьора крестьянина. Сидя рядом с ним, она без предисловий сказала: — Хочешь получить тысячу секинов? Тысячу секинов? Целое состояние! И у него спрашивают, хочет ли он получить?.. Сначала он ответил «Да!», потом спросил: «Нужно убить человека, который вам неприятен? Я готов». Мандрагоне улыбнулась. — Нет, — ответила она. — Не то. — Что же? — Мне нужен твой сын. — Мой сын?.. — Да. Одна моя подруга, у которой нет детей, хочет иметь одного. Отдай мне ребенка, я тебе дам тысячу секинов. И будь покоен, он будет счастливее, чем у тебя. Ну?.. Джиакомо молчал. Предложение, хоть и было выгодно, тем не менее произвело на него неприятное впечатление. Он почти ненавидел своего ребенка до того, как он явился на свет, но он полюбил его, когда тот родился. — Ну же? — повторила Мандрагоне. — Но жена… жена никогда не согласится… — пробормотал он. — Разве тебе нужно спрашивать у жены? — Я вас не понимаю. — Ты поймешь сейчас. Сегодня ночью, когда жена твоябудет спать, ты возьмешь ребенка и принесешь ко мне. А когда жена твоя проснется, ты скажешь ей… — Что я скажу ей? — Не проходят ли здесь цыганские таборы? — Да, бывает. — Ну, так какая-нибудь цыганка в твое отсутствие не могла разве войти в твою хижину и похитить ребенка, пока мать спала? Эти проклятые египтяне все воруют детей, это известно. Теперь твой ответ. Слушай, я не хочу торговаться и даю тысячу пятьсот секинов. Джиакомо поднял голову. Он начинал входить во вкус. — Две тысячи, — сказал он. — Гм! А ты жаден, мой друг! — сказала испанка. — Ну хорошо, две тысячи. — Где я найду вас? — В полночь у развалин старинного монастыря в Фиезоле. — В полночь. Ладно. В полночь Инесса Мандрагоне, в сопровождении хорошо вооруженного лакея, испанца по имени Сильва, преданного ей душой и телом, была на месте назначенного свидания. В четверть первого пришел Джиакомо с ребенком. — Вот! — сказал он глухим голосом. — Деньги? — На. Но что случилось? Твоя жена?.. — Не бойтесь, жена моя ничего не скажет. Она умерла. — Умерла?! Не дав никакого другого объяснения, рыбак взял мешок с золотом и удалился. — Умерла! — повторила потрясенная Мандрагоне. — Он убил ее!.. И после некоторого молчания, обернувшись к своему спутнику, проговорила: — Вот какое дело, Сильва. Я хотела показать тебе этого человека, чтобы, как-нибудь поссорившись с ним на дороге, ты убил его… Но если он сам убил свою жену, то нам нечего хлопотать о нем, потому что, вероятно, он сегодня же покинет страну, чтобы никогда больше в ней не появляться. Мандрагоне как в воду глядела. Уйдя из Фиезоле, Джиакомо вместо того, чтобы направиться к дому, пошел в другую сторону. И его больше не видели в Мурельо. Вот что произошло между рыбаком и его женой. Когда, воспользовавшись сном бедной матери, он, следуя совету Мандрагоне, хотел взять ребенка, она проснулась. Тщетно Джиакомо уверял, что он хочет поцеловать своего дорогого малютку, крестьянка, пораженная каким-то мрачным предчувствием, упорно отказывалась хоть на минуту расстаться со своим сокровищем. Время приближалось, его ждали в Фиезоле с двумя тысячами секинов… Кровь бросилась в голову негодяю. Ничего не добившись лаской, он пошел на насилие. — Это такой же мой ребенок, как и твой! Я требую его себе! — Для чего? Чтобы убить его? — Да нет же!.. Он будет очень счастлив… счастливее, чем у нас. Мне поклялись. — Счастливее, чем у нас? Где, с кем?.. — Я тебе расскажу позже. Отдай мне его!.. — Никогда!.. Джиакомо, из милости, из жалости… оставь мне моего ребенка. Мы уйдем с ним, если ты боишься, что тебе дорого будет стоить прокормить нас!.. Помогите!.. Помогите!.. Боже мой, у меня похищают сына!.. О! Отец похищает сына у матери… Подлец!.. Нет, нет!.. Лучше убей меня! И он убил ее. Во время борьбы огонь, освещавший хижину, упал и рассыпался по полу. На помощь убийству подоспел пожар. Оставив горящую хижину и в ней труп несчастной женщины, Джиакомо с ребенком убежал. Остальное известно. На другой день Бианка Капелло написала Франческо Медичи: «Монсеньор! Бог услышал нас: у нас сын. Назначьте имя, которое он будет носить». Франческо дал своему подложному и прелюбодейному сыну имя Антонио Медичи и купил для него в Неаполитанском королевстве маркизство, которое давало в год дохода не менее ста тысяч экю. Богатый и благородный с колыбели, сын рыбака мог похвастаться, что родился увенчанный… И как будто само небо хотело оказать свое покровительство дурному поступку и преступлению Бианки Капелло: на другой год после того, как она подарила сына своему любовнику, Анна Австрийская умерла, родив четвертую дочь. Через пять месяцев — 20 сентября 1579 года — Бианка Капелло сделалась великой герцогиней… Но брак этот произошел не без неприятностей. У Франческо было два брата: Петро Медичи, служивший при испанском дворе, и Фердинанд, живший в Риме, Братья осмелились издалека сделать ему несколько замечаний по поводу его намерения жениться на любовнице, на вдове какого-то Пьетро Буонавентури. Эти замечания мало повлияли на великого герцога, но он предвидел противодействие со стороны Испании, от которой зависела Тоскана, и уведомил о своем браке Филиппа II, позаботившись прибавить к письму сумму в пятьсот тысяч экю. Филипп II дал ему полную свободу жениться на ком он хочет. Успокоенный с этой стороны, великий герцог дал знать Венецианской республике, что он желает ближе соединиться с ней, женясь на дочери св. Марка. И тот же сенат, который публично покрыл бесславием Бианку Капелло и оценил голову ее обольстителя, на этот раз осыпал ее почестями; он отправил во Флоренцию двух посланников и патриарха Аквилея, чтобы присутствовать на брачной церемонии и передать новой великой герцогине диплом, которым она признавалась кипрской королевой. Один из посланников возложил на голову Бианки королевский венец, после того как она получила от Франческо Медичи обручальное кольцо. Великая герцогиня и королева!.. Правда, королева несуществующего королевства, потому что в 1579 году остров Кипр уже восемь лет как принадлежал туркам, но что за дело! Бианка все-таки носила корону. Но отчего во время обедни, торжественно совершавшейся в кафедральном соборе пизским архиепископом Ринуччини, новобрачная — великая герцогиня и королева — побледнела и задрожала, как будто какая-то мрачная мысль затмила ясную лазурь ее счастья?.. Потому что в ту минуту, когда она вошла в церковь, один монах, совершенно скрытый капюшоном, тихо сказал ей: «Ты счастлива, королева? Подумай же о тех, которые страдают, о тех, которые страдали! Помолись за отца и мать твоего сына!..» Помолись за мать и отца твоего сына! Бианка должна была употребить всю свою энергию, чтобы сдержать крик ужаса, когда услышала эти слова, в смысле и в тоне которых она не могла ошибиться. Монах знал все. Но кто он? Без сомнения, это Джиакомо Боргоньи! Он еще в монастыре догадался, каким образом использовали его ребенка, и оплакивал там несчастную мать, убитую им, а теперь пришел напомнить ложной матери, что радости и слава этого мира — прах и тлен. Кто бы ни был этот монах, нужно было во что бы то ни стало отыскать его и принудить к молчанию. Бианка не могла жить под его угрозой. А он, открыв ей тайну, явно угрожал ей. Возвратившись во дворец, в свои апартаменты, где она обычно меняла свои бальные наряды, Бианка послала за Инессой Мандрагоне. Лежавшая в постели из-за болезни, Инесса, к сожалению, не могла присутствовать на свадьбе своего друга. Бианка умоляла ее в записке сделать все, чтобы повидаться. С каким нетерпением она ожидала результатов своего послания! Наконец возвестили о прибытии Мандрагоне. Даже и пожираемая лихорадкой, она поспешила на призыв Бианки. Та в нескольких словах передала ей все. — Ваша светлость правы, — сказала испанка, — этот монах — Боргоньи… Это он, чтобы избавиться от угрызений совести, надел рясу… И все бы было к лучшему, если б, вступив в монастырь, он ограничился забвением прошлого, но его поступок доказывает, что у него слишком хорошая память и острый ум: он угадал все, и какова бы ни была его цель, человек этот теперь больше чем угроза, это — опасность!.. Этот человек умрет! Бианка не была жестока по природе, она вздрогнула при мысли, что убьют отца ее сына. Мандрагоне заметила это и прибавила: — Ваша светлость, если вы видите другое средство избавиться от этого человека, я готова повиноваться. Но подумайте, если Боргоньи употребил нечто вроде власти, когда его сын был еще в колыбели, то что же будет, когда этот сын явится во всем своем богатстве и могуществе? Гордость иногда бывает сильнее, если выходит из низкого источника… Бианка кивнула в знак согласия. — Ты права, — сказала она. — Я не смогла бы жить, если б всегда чувствовала, что этот человек может вдруг встать между мной и Франческо. Делай же то, что сочтешь благоразумней. А как ты собираешься найти его? — О, Сильва знает Боргоньи! А Сильва столь же ловок, как и храбр. Если нужно будет, он один за другим обыщет все монастыри Тосканы, чтобы отыскать нашего монаха. Положитесь на него. — А когда он начнет действовать? — Завтра. — Почему не сегодня вечером? — Я послала его в Казаль за медиком, который, как меня уверяли, один в состоянии избавить меня от этой проклятой лихорадки. — Да!.. Ты страдаешь, моя добрая Инесса!.. Ты очень страдаешь, а я стащила тебя с постели… Ложись скорее опять… Благодарю тебя!.. Завтра днем я увижу тебя. Прощай. — До свидания, государыня! До свидания, моя королева! — сказала Мандрагоне, прижимая к своим иссохшим губам свежую и белую руку Бианки. — Не беспокойтесь! Будьте счастливы в мире, ваш друг всегда с вами. Подруга, поверенная, соучастница удалилась, поддерживаемая двумя служанками. Великая герцогиня Тосканская, королева Кипрская, отправилась к своему супругу, которого ее долгое отсутствие начинало уже беспокоить. Это был великолепный праздник, справлявшийся во дворце Питти в честь бракосочетания Франческо Медичи и Бианки Капелло… Не лжет та пословица, которая говорит, что нет светлого дня без черного: следующий день после свадьбы Бианки стал одним из самых печальных в ее жизни. Пробило два часа, она собиралась отправиться к своей доброй Мандрагоне, когда неожиданно, в страшном смятении, явился великий герцог и сказал ей: — Мой друг, если вы мне верите, то отложите этот визит на другой раз. — Почему же? — удивилась Бианка, но, заметив растерянность Франческо, воскликнула: — Ах! Инесса скончалась? Это была правда. Жертва своей привязанности к Бианке, Мандрагоне умерла ночью, возвратившись от герцогини. И странное стечение обстоятельств! Сильва, которого она послала за доктором, не смог выполнить данного ему поручения, ибо в ту самую минуту, когда он слезал с лошади, его сразил молниеносный апоплексический удар, против которого была бессильна любая медицина. Бианка рыдала. Одним ударом рок лишил ее преданного друга и единственного человека, способного защитить ее от монаха Боргоньи! Свидетель горести, первоначальную причину которой он не мог знать, великий герцог тщетно старался успокоить Бианку. Тщетны были его увещевания, и он пошел за маленьким Антонио, взял его из колыбели и, подавая Бианке, сказал ей: — Возьми его. Вот кто сумеет лучше меня успокоить тебя. Поцелуй нашего сына. Их сына!.. Вид ребенка в эту минуту показался Бианке кровавой иронией. Вчерашняя радость сегодня превратилась для Бианки в отчаяние, в тяжелую цепь, которая приковывала ее к господину. Между тем это крохотное создание — мальчуган двух лет, протягивал к ней свои ручки и бормотал: «Мама, мама!» Ах! Что бы там ни было, не должна ли была Бианка в будущем стать истинной матерью для Антонио?.. И, быть может, тронутый привязанностью к его сыну, Джиакомо Боргоньи не осмелится смутить эту любовь, еще раз выйдя из своего мрака, чтобы пробуждать в ней память о прошлом и ужас будущего. Бианка обманывалась. На следующий год, в день празднования ее свадьбы, при выходе из собора, в котором служилась обедня, когда она медленно проезжала по площади, монах — тот же самый — она узнала его голос! — пробравшись сквозь толпу, приблизился к дверцам ее коляски и повторил слова, которые были сказаны ей в минувший год: «Ты счастлива, королева? Подумай о тех, которые страдали, которые страдают. Помолись за отца и за мать твоего сына!» И так из года в год, в тот же самый день, повторялись и это явление, и эти вещие слова. Что побудило Джиакомо Боргоньи действовать таким образом? То была его тайна! Но все более и более устрашаясь этим дамокловым мечом, висевшим над ее головой, Бианка оставила как слишком опасный, первоначальный план возвести на трон своего мнимого сына и выразила желание примириться с ближайшим наследником своего мужа, кардиналом Фердинандом Медичи. Великий герцог при первых же словах Бианки восстал против этого примирения. Фамилия Медичи, подобно Борджиа, пользовалась странной репутацией. Когда Медичи не убивали посторонних, они отравляли друг друга. Но Бианка настаивала: кардинал, убеждала она, прелестный синьор. Франческо уступил и написал брату письмо, на которое тот ответил, что как только завершит свои дела в Риме, то сразу же поспешит с приездом, и слал курьера за курьером. Для него приготовили великолепное помещение во дворце Питти, состоявшее из двадцати комнат. В день его приезда вся Флоренция осветилась огнями. Франческо и Бианка в нарядных костюмах встретили кардинала на пороге палаццо. Великий герцог подал ему руку, но прежде чем насладиться сладостью братской дружбы, кардинал, целуя руку великой герцогине, сказал ей: — Франческо в своем письме уверил меня, что вы были главной причиной его великодушного решения: искренне каюсь, я сомневался в этом, но теперь, когда я вас вижу, я больше не сомневаюсь. Если вы так прекрасны, то должны быть и добры. Начало было недурно, и в течение восьми дней поведение Фердинанда не давало повода ни к малейшему подозрению в его искренности. Это было время охоты: охоту Фердинанд любил до страсти. Чтобы доставить ему удовольствие, Франческо отправился с ним охотиться в леса Кайано, в нескольких милях от Флоренции. Естественно, что Бианка была вместе с ними. Они затравили оленя и кабана, затем отправились ужинать и ночевать в Поджио, прелестный увеселительный дворец, принадлежавший великому герцогу. На другое утро, как будто удивясь тому, что не нашел Франческо в его комнатах, кардинал спросил у его конюшего, где тот мог быть, и получил ответ, что его светлость в своей лаборатории. — В лаборатории? — повторил Фердинанд. — В какой лаборатории? — Разве вашей эминенции неизвестно, что его светлость занимается химией? — Правда? Я вспоминаю теперь, что, будучи еще очень молодым, он выказывал чрезвычайную любовь к этой науке. Прошу вас, проведите меня в лабораторию его светлости, мне очень любопытно застать его там. Конюший повиновался. Он провел его эминенцию до самого павильона, в котором Франческо, несмотря на вчерашнюю усталость, занимался своей любимой работой. При виде своего брата он улыбнулся, льстя его любопытству, и любезно отвечал на все его вопросы. — Это что? Это что? Это что?.. — не переставал расспрашивать Фердинанд. Указывая пальцем на каждую склянку, на каждую баночку, он интересовался названием заключавшегося в ней вещества, его употреблением и свойствами. Он держал голубоватую склянку, герметически закупоренную хрустальной пробкой. — А, это! — сказал Франческо. — Это яд, который я добываю, угадай — из чего? Из вишневых косточек. Случайно раскусив косточку, я был поражен горьким запахом ее ядра. Я произвел многочисленные опыты и достиг удивительных результатов. Только двух капель этой жидкости, влитых на слизистую оболочку глаза собаки или введенных в вены, достаточно, чтобы убить ее. — А! Так это яд? — Да. Не открывай. Запах может повредить тебе. Фердинанд с выражением глубокого отвращения поставил склянку на прежнее место. Между тем через несколько минут, когда было доложено, что ее светлость, герцогиня, ждет их завтракать, и оба брата оставили лабораторию, склянки на прежнем месте уже не было. Кардинал в этот день, 19 октября 1587 года, был даже любезнее обыкновенного. Отправились на прогулку в гондоле по Арно, и все время Фердинанд не уставал рассказывать пикантные вещи о римском дворе, давая тонкие и остроумные описания лиц, его составляющих. Благодаря ему, день прошел так быстро, что Бианка шутливо упрекнула его. — С вами время летит слишком быстро, ваша эминенция, — сказала она ему. — Живешь вдвое быстрее. — Отныне, — отвечал кардинал, — я буду стараться говорить меньше. — Нет! — возразила Бианка. — Тогда мы много потеряем! Обедать возвратились в Поджио. За десертом лакеи удалились, господа на свежем воздухе уничтожали пирожные, запивая их великолепным кипрским вином еще того времени, когда Кипр принадлежал венецианцам. Разговор продолжался, головы разгорячились, чему помогла веселость кардинала и доброе вино. Негритенок Ахмет принес в кувшине четвертую бутылку муската. — За ваше здоровье, братец, и за ваше, сестрица! — сказал кардинал, чокаясь своим бокалом, до краев наполненным пурпурной жидкостью, с бокалами Бианки и Франческо. — За ваше, братец! — весело ответили они. И они все трое выпили… Нет, не все. Выпили только великий герцог и герцогиня. Кардинал только сделал вид, что пьет. Не успели они проглотить и глотка из этой четвертой бутылки, как, выронив из рук бокалы, Франческо и Бианка замертво упали на пол. Пораженный увиденным, негритенок с ужасом отбросил кувшин, содержимое которого смешалось с остатками бокалов, из которых пили их светлости. — Хорошо, — шепнул негритенку Фердинанд Медичи и направился к двери. Там он закричал: — На помощь! На помощь! Их светлостям дурно!.. Перенесенные на постели, Франческо Медичи и Бианка Капелло скончались, не вымолвив ни слова. «Кто был виновником этого ужасного злодеяния, — говорит историк XVI века, — это пока историческая загадка, которую остается разгадать». Нам же ясно, что брата и его жену отравил Фердинанд Медичи. Ценой этого преступления для Фердинанда Медичи стала тосканская корона, ибо тотчас же, отказавшись от своих священнических обязанностей, он вступил на трон. «Под его правлением, — говорит тот же историк, — искусства и науки во Флоренции засияли полным блеском. Он был достойным преемником в фамилии Медичи!..» Фердинанд был великий государь! Тем лучше! Значит, отравление его брата и невестки что-нибудь да значило. Франческо Медичи был с большой пышностью погребен в склепе главной флорентийской церкви. Что же касается Бианки Капелло, то после смерти она в глазах Фердинанда снова стала куртизанкой, брак с которой был позором для его семейства, и он отправил ее для погребения подальше… 21 октября 1587 года, утром, лодка, управляемая двумя монахами, везла на пизское кладбище останки великой герцогини Тосканской. Один крестьянин на руле, две служанки и лакей — таков был погребальный кортеж Бианки. Рассказывают, что когда гроб с останками был опущен в могилу, какой-то монах, почти касаясь губами земли, прошептал, как будто мертвая могла его услышать: — Покойся с миром, Бианка Капелло, я буду молиться за твоего сына и за тебя… А что же стало с Антонио Медичи, сыном Франческо и Бианки? История об этом не говорит ничего, но скорей всего он не дожил до старости. Если Фердинанд Медичи не отравил его, то велел задушить, утопить или зарезать кинжалом.ГАБРИЭЛИ
В 1744 году жил в Риме князь, человек лет сорока, ужасно скучавший, хотя и обладавший всем, что может доставить удовольствие, то есть великолепным состоянием, приятной наружностью, умом, малой чувствительностью и отличным желудком. Но все-таки князь Габриэли — богатый и красивый, не старый, не глупый, не злой и совершенно здоровый — скучал. Тщетно его многочисленные друзья приезжали каждый день в его великолепный дворец на Новой площади развлекать его, тщетно его прелестная любовница, актриса из театра делла Валле, синьора Фаустина, твердила ему с утра до вечера, что она его обожает, что она никогда не любила так, как любит его… князь с утра до вечера продолжал скучать. Это был просто сплин. Ему начали досаждать и любовница, и друзья. Однажды вечером, возвращаясь в коляске с прогулки на Корсо, князь Габриэли, входя в свой дворец, был удивлен, услыхав чей-то голос, звучавший из каморки рядом с кухнями и певший одну из ариеток Галуппи. Голос был свеж и чист, хотя еще и не силен. — Что это значит, Михаэль? — спросил князь, обращаясь к сопровождающему его лакею. — Кто это поет? Лакей сконфуженно поклонился, заподозрив в этом вопросе упрек. — Это дочь Гарбарино, нашего кухмистера, ваше сиятельство, Катарина, — отвечал он. — Маленькая такая девочка!.. Я уже запрещал ей петь. Но князь жестом заставил его замолчать. — Она поет недурно! — заметил он после небольшого молчания. — Сколько ей лет? — Лет четырнадцать, ваше сиятельство. — Недурно! Право недурно! Кто ее учил петь? — Полагаю, ваше сиятельство, что она сама выучилась… — Сама?.. Да ведь нужно же было, чтоб она где-то услыхала эту арию! Ступай за этой девочкой, Михаэль… — Сию минуту, ваше сиятельство. — И приведи ее ко мне в залу. — Слушаю, ваше сиятельство. Князь Габриэли страстно любил музыку. Да и кто из итальянцев не любит ее?!.. Он сидел у себя в комнате, нетерпеливо ожидая ту маленькую Катарину, которая так сильно пленила его своим голосом. Отворилась дверь, и князь вскрикнул от изумления… Вместо одной девочки вошли две, одних лет, одного роста и удивительно похожие одна на другую, с той только разницей, что одна была брюнетка, а другая блондинка. Брюнетка, не дав князю заговорить, подошла к нему и сказала: — Ваше сиятельство, я Катарина. Михаэль мне сказал, что вы желаете поговорить со мной. Но так как сестра моя Анита ни на минуту не расстается со мной, я привела ее с собой. Вы на это не сердитесь?.. Князь улыбнулся. — А за что же я рассержусь? Катарина вздернула голову и весело погрозила пальцем лакею. — А! — вскричала она. — Ты говорил, что монсеньору нужна только одна, а двух будет много! — Сколько тебе лет, Катарина? — спросил князь. — Четырнадцать, а сестре Аните тринадцать. — Ты дочь Гарбарино, моего повара? — Точно так. Нас зовут кухаренками. — А у тебя, знаешь ли, славный голос! — Вы очень милостивы. Я пою так себе, для развлечения. Михаэль говорит, что я виновата, потому что других мое пение не забавляет. — Михаэль — дурак! Кто тебя учил петь? — Никто, монсеньор. — Где же ты слышала то, что повторяешь? — В театре «Аргентине и Алиберти», я хожу туда по крайней мере два раза в неделю вместе с Анитой и тетушкой, она такая добрая и о нас очень заботится, потому что папеньке некогда: он все для вас… — А сестра твоя тоже поет? Брюнетка расхохоталась, тогда как блондинка опустила глаза, как будто чего-то стыдясь. — Анита поет?.. Да она в жизни не умела взять ни одной нотки! Она так фальшивит, что и сказать невозможно! Конечно, это смешно, потому что я… все говорят, умею петь… Но она все-таки меня любит… Она не ревнива!.. И я тоже люблю ее от всего сердца. Не правда ли, Анита, что мы любим друг друга и никогда не расстанемся?.. Произнеся эти слова, Катарина нежно обняла свою младшую сестру. — Скажи, чтобы Гарбарино пришел! — приказал князь своему лакею. Катарина и Анита сделали гримасу. — А, ваше сиятельство! — сказал первая. — Вы хотите бранить папеньку за то, что я слишком много пою?.. — Напротив. — Как напротив? — Ты погоди. Гарбарино вошел. — За твоими дочерьми смотрит твоя сестра? — спросил князь, обращаясь к повару. — Точно так, ваше сиятельство. — Хорошая женщина? — Добрячка, ваше сиятельство. — Она ни для чего, кроме этого, не нужна тебе здесь? — Никак нет. — Как ее зовут? — Барбаца. — Ну так скажешь синьоре Барбаце, чтобы она приготовилась завтра же отправиться в Неаполь с Катариной и Анитой. — В Неаполь? Но… — Дай мне сказать. У твоей старшей дочери Катарины большие музыкальные способности. Я понимаю кое-что в этом. Я хочу, чтобы она извлекла из них и славу, и состояние. В Неаполе она поступит в школу пения Порпоры, к которому я дам рекомендательное письмо. За все издержки учения буду платить я и на себя же беру дорогу и все содержание ее там. — Тебе не хочется, чтобы я сделал из твоей дочери актрису? — О, ваше сиятельство!.. Гарбарино бросился на колени перед князем. Что касается Катарины, она скакала по залу и кричала: — Какое счастье! Какое счастье! Я буду учиться петь! Я сделаюсь великой певицей, примадонной, какая есть в «Аргентине и Алиберти». Я буду получать много, много секинов и отдам их тебе, папа… и тетушке Барбаце… мне станут аплодировать… у меня будут прекрасные платья… наряды… и у тебя Анита тоже, слышишь? Свидетель восторга будущей примадонны, князь хохотал от всего сердца. Но Гарбарино схватил Катарину за руку и заставил ее остановиться. — Негодная! — ворчал он. — Так-то ты благодаришь его сиятельство за его милость?.. Девочка сделалась серьезной и, в свою очередь, преклонила колена перед князем. — О! — воскликнула она. — Я вам очень благодарна, ваше сиятельство, очень благодарна! И вы увидите, вы не будете жалеть… я стану трудиться… Но чего я никогда не забуду, так того, что вы не разлучаете меня с Анитой, хотя она вовсе не умеет петь. — А! — воскликнул князь. — Ну, а если б я разлучил вас, если б я отправил тебя в Неаполь одну, без сестры?.. Катарина наклонила голову. — Я не поехала бы, — ответила она. — Это что же такое!.. — воскликнул Гарбарино. Но князь поцеловал девочку в лоб. — Ты права, — заметил он. — Талант, слава — еще не все в жизни: для артиста также полезно иметь около себя верного и искреннего друга. Береги же, сколько можешь, свою Аниту для себя. До свидания! На другой день, как было сказано, Катарина и Анита вместе с теткой отправились в Неаполь. Не все люди, случайно открыв в ребенке, покровительствуемом ими, будущую женщину, требуют впоследствии более или менее тяжелую плату за свои благодеяния. Князь Габриэли единственно из любви к искусству и потому еще, что ему понравились веселость и грациозность Катарины, решил сделаться ее покровителем. Единственная награда, о которой, быть может, он мечтал, заключалась в том, что он надеялся увидеть ее настоящей артисткой. А в ожидании того времени, когда он будет наслаждаться этой наградой, небо послало ему совершенно неожиданно другую. Это приключение развлекло его. Через неделю князь получил письмо от Порпоры, который в пылких выражениях благодарил его за то, что он прислал к нему Катарину. По словам великого музыканта, которого итальянцы прозвали патриархом мелодии, эта девочка должна была сделаться самой замечательной его ученицей. Природа удивительно одарила ее, наука должна будет развить этот дар. «Через три года, — писал в заключение Порпора, — вся Италия будет говорить о дочери вашего повара». Приближалось назначенное Порпорой время, когда Италия прославится новой певицей. В один из вторников июля месяца 1747 года князь Габриэли получил письмо, в котором Порпора уведомлял его, что в следующую субботу, вечером, он приедет в Рим вместе с Катариной. По этому поводу князь давал ночной праздник на своей вилле близ ворот дель Пополо — праздник, достойный королевы, возвращающейся в свой дворец. Под наблюдением княжеского управляющего парк виллы Габриэли превратился в истинные сады Армиды, где искусство спорило с природой. На озере венецианские гондолы, на каждом дереве, на каждой ветке светоносные плоды… и цветы… цветы повсюду… Нигде ноги прогуливающихся не касались песка, потому что по песку был раскинут душистый ковер из розовых лепестков. Горничные ожидали Катарину во дворце на площади Навоне, где, не будучи предупреждены, она, Порпора, Анита и тетушка Барбаца вышли из экипажа. Меньше чем через полчаса обе молодые девушки переменили свои скромные дорожные костюмы на изящные бальные платья. Вслед за тем зеркальная карета перенесла их и маэстро к воротам дель Пополо. Только тетушка Барбаца осталась в городе. Катарине и Аните казалось, что они грезят, когда катили в великолепной карете вместе с Порпорой. Он улыбался, предвидя, что князь сделает для своей протеже какой-нибудь любезный сюрприз. Меж тем они подъехали к крыльцу виллы, на котором князь и его друзья ожидали прибытия путешественников. Скажем в похвалу Катарине, что первым ее словом — после общих приветствий — был вопрос об отце. И Гарбарино, видно, очень ждал этого. Отец прятался не в тени, ибо в эту волшебную ночь на вилле князя тени не было, а стоя за какой-то статуей, дрожа от гордости и счастья, присутствовал при встрече его дочерей; хотя он стоял поодаль и не мог услышать вопроса: «А где же наш папенька?», он вдруг почувствовал, что они сказали именно это, и бросился к ним, восклицая: — Здесь я, здесь, мои малютки! Поскольку князь находил вполне естественной радость отца, встретившего своих детей после трех лет разлуки, то он не видел ничего смешного в том, что толстый повар в затрапезном фартуке поочередно обнимал двух молодых девушек в шелках и кружевах. Да и никто вокруг не смеялся. Напротив, каждый находил умилительной эту картину. Нас даже уверяли, что синьора Фаустина, любовница князя, а вместе с ней несколько дам вытерли слезу. Но это была, между нами, просто комедия, которую играла комедиантка Фаустина. Хотя она давно уже царствовала над князем и по любви, и по привычке, но мужчины ведь так капризны!.. А малютка была прелестна, даже очень. Она была высока ростом, грациозна и изящна. У нее был только один маленький недостаток, заметный особенно тогда, когда она смотрела на вас прямо: Катарина была несколько косоглаза, правда, очень немного, но все-таки косоглаза, этого невозможно было отрицать. — Какая жалость! — прошептала Фаустина на ухо своему любовнику в то время, когда Порпора подавал руку своей ученице, чтобы ввести ее в виллу. — О чем вы? — Разве вы не заметили? Бедняжка Катарина! Без этого она была бы совершенством. Она же косоглазит. — Вы полагаете? — Уверена. Ясно, что это никак не повредит ей, если у нее есть талант, но все равно досадно!.. Ах, это очень досадно!.. Фаустина просто схитрила, найдя изъян в красоте Катарины, чтобы унизить ее в глазах князя, хотя князь не имел ни малейшего желания вкусить незрелого плода, и та заботливость, которой в этот раз он окружил Катарину, была чисто отцовская. Вполне понятно, что, как только Катарина немножко отдохнула, ее попросили спеть. Она не заставила повторять просьбу. Она пела под аккомпанемент своего наставника. Голос ее был действительно великолепен, в нем была такая сила и энергия, что каждая интонация разливалась подобно чистому и полному удару колокола; к тому же, обладая контральтовым тембром, она легко брала самые высокие сопранные ноты. Это был восторженный успех. Все женщины желали обнять певицу. Все мужчины ничего больше не желали, как подражать женщинам. Порпора сиял. — С вашего позволения, князь, — сказал он покровителю своей ученицы, — Катарина через месяц будет дебютировать в Луккском театре. — Правда? Я рад. — Директор — мой приятель, он ждет ее с живейшим нетерпением. Он прислал уже и ангажемент. — Очень хорошо! — сказал князь. — Я буду на ее дебюте. — Мы все будем! — хором повторили присутствующие. — Но, — заметила Фаустина, которая, узнав, что молодая девушка ангажирована в Луккский театр, стала находить, что она косит гораздо меньше, — этой прелестной малютке нужно было бы имя. Она не может благопристойно появиться на театральных подмостках под именем Катарины Гарбарино! Фи! Это имя не годится для певицы! Какой дурной эффект на афише: синьора Катарина Гарбарино!.. Поищем для нее имя… — Да, да! — закричали сто голосов. — Поищем для нее имя! — Но к чему искать? — весело заметил один из близких друзей князя, маркиз Спазиано. — Имя, мне кажется, найдено, и я держу пари, что Габриэли будет со мной согласен. Он открыл эту птичку, которую до сих пор называли кухарочкой Габриэли. Так пусть же птичка носит имя своего ловца! После того что я здесь услышал, я спокоен: это будет слава и для него, и для нее!.. Громкое «браво» заглушило дальнейшую речь маркиза. Князь подошел к Катарине и поклонился ей. — Спазиано прав, мое дитя! — сказал он. — Вы так достойно носите мою фамилию, что я был бы не прав, если б лишил ее вас. Сохраните же ее. И желаю вам доброго успеха, милая Габриэли. Окончив свою речь, князь любезно поцеловал руку молодой девушки. Вот каким образом Катарина Гарбарино стала Габриэли…* * *
А теперь мы вступаем в тот период жизни Габриэли — период, продолжавшийся тридцать три года, — который дал нам право поместить ее среди героинь этого сочинения. И если какая-нибудь женщина заслужила название куртизанки за то, что имела много любовников, то, конечно, это она! Однажды летней ночью, разговаривая у окна с Джинтой, соперницей Габриэли по сцене, кто-то спросил у нее, сколько было любовников у последней. — Сочтете ли вы звезды?.. — немедленно ответила Джинта. Габриэли была странного сорта куртизанка. Нет, когда мы говорим «странного», мы ошибаемся. Были, есть и будут всегда подобные женщины. Потому что они хоть и составили себе ремесло из подобного занятия, нельзя быть уверенным, что это ремесло им приятно. Выражаясь по возможности ясно о Габриэли, так как предмет несколько скабрезен, скажем, что она никогда не любила, но не потому, что у нее не было души, а потому, что ей недоставало чувства. Она была создана из мрамора и оставалась мраморной всю жизнь. Тщетно множество Пигмалионов молили богов оживить ее… боги были глухи! Они не посылали огня этой совершенной Галатее… Первым ее любовником был Гаэтано Гваданьи, первый тенор Луккского театра. Гваданьи был красив, молод, умен и любезен, все женщины спорили об обладании им. Габриэли лестно было бы видеть его у своих ног. И самолюбие, и любопытство советовали ей. Она сдалась… Но едва она стала ему принадлежать, как почувствовала сожаление. Разве в этом заключалось счастье, которое так восхвалял ей Гваданьи, обещая, что она будет вкушать сладости. Гваданьи солгал ей! Увлекая ее, он советовался только со своим эгоизмом!.. Глухое отвращение заменило у Габриэли симпатию, которую вначале внушал ей Гваданьи. Между тем он обожал ее и окружал нежным вниманием. Напрасный труд! Чем больше он оказывал ей нежности и привязанности, тем грубее она обращалась с ним. Из-за одного слова, одного жеста она поворачивалась к нему спиной и запиралась на замок в своей комнате, крича ему: «Подите вон! Я вас ненавижу!» В такие минуты на помощь Гваданьи приходила Анита. Естественно, что Габриэли привезла в Лукку свою младшую сестру. Одна только Анита одевала ее в театре. Анита выбирала материи для ее костюмов, покупала духи для ее туалетов, Анита же занималась хозяйством и так далее. И та же Анита мирила Гваданьи и Катарину, когда они ссорились. Может показаться странным, что Анита исполняла подобную обязанность, но перенеситесь в ту эпоху, уясните себе театральные нравы Италии, и вы увидите, что все это было очень обыкновенно. Габриэли сделала свою младшую сестру своей доверенной, наперстницей, и ей казалось совершенно естественным посвящать ее в тайны алькова. Ей первой сказала она в тот день, когда решилась уступить желаниям Гваданьи: — Гаэтано любит меня… Думаю, что и я люблю его. Сегодня вечером он будет ужинать с нами… С нами? Да, Анита присутствовала на этом ужине, на котором прекрасный жених ради возможного успеха должен был употребить все средства обольщения. И после того как она была свидетельницей любовного сговора, она же была облечена миссией помешать или, по крайней мере, замедлить похороны любви. Она отдалась этой миссии с необыкновенным рвением. Когда Гваданьи, весь бледный, прибегал к ней и говорил: «Нита! Катарина бранит меня! Она меня гонит! Нита! У меня только одна надежда на тебя!» — она, печально глядя на бедного любовника, вздыхая, нежно отвечала ему: «Хорошо. Не отчаивайтесь. Я поговорю с Катариной. Приходите позже». И когда Гваданьи возвращался, он находил свою любовницу если не более любящей, то более ласковой. Какие аргументы находила Анита, чтобы совершать это превращение, чтобы убедить Габриэли, что с ее стороны жестоко гнать искренне любящего человека, мы не знаем, но, судя по характеру певицы, полагаем, что, как будто повинуясь любви, она уступала дружбе, и Гваданьи нечего было особо радоваться этим скоропроходящим триумфам. Но все проходит, даже власть любимого существа, даже терпение верного любовника. По возвращении с репетиции между Габриэли и Гаэтано произошел спор по самому ничтожному поводу — по поводу отмены зеленого платья, которое Габриэли предполагала надеть на следующее представление и которое, по словам Гваданьи, вовсе не шло ей. Ничтожный по своему источнику, этот спор превратился в ссору. Против своего обыкновения, Гаэтано не уступал, основываясь на том, что он защищал свое убеждение в интересах любовницы. — В моем ли интересе или нет — мне все равно! — резко вскричала Габриэли. — Я надену это платье, потому что оно мне нравится. — Вы не наденете его! — Кто помешает мне в этом? — Я. — Вы? Каким образом? — Разорвав его. — Разорвав?.. Ха! Ха! Вы собираетесь разрывать мое платье?.. Вы?.. — Да. Скорее уж разорву, чем позволю вам быть дурной!.. — Дурной?.. Э! Если вы находите меня, милостивый государь, дурной, то к чему вид, будто вы меня обожаете, меня, которая вас не любит, которая никогда не любила вас, которой скучно с вами, которой вы надоедаете вашими несносными нежностями! — Катарина! — Молчите! Это продолжается уже пятнадцать месяцев. Пятнадцать месяцев вы делаете меня несчастной… — Ах! — Да, несчастной!.. Объявляю вам, если вы не перестанете меня мучить, если вы не прекратите ваших посещений… В Италии есть законы, я обращусь к ним, чтобы освободиться от вас. Гваданьи побледнел. Ему угрожали полицией, как вору. Его гордость, гордость артиста, возмутилась. — Вы не будете иметь нужды в сбирах, чтобы избавиться от меня, — сказал он. — Прощайте! Даю вам слово, что сегодня в последний раз я переступил порог вашего дома. — Тем лучше. Прощайте!.. Гваданьи удалился. И хоть он страдал, но свято сохранил свое обещание: он не возвращался к Габриэли. А опечалил ли ее этот разрыв? Нет. Она развеселилась. Но ее младшая сестра Анита горько плакала. О чем плакала она? Кто это знает! Вторым любовником Габриэли был Метастазий, создатель современного итальянского романса. Сын простого солдата, этот поэт, истинное имя которого было Трапасси, начал еще ребенком, вскормленным чтением Тассо, сочинять стихи и импровизировать. Знаменитый юрисконсульт Гравита, услыхав о нем, занялся его образованием и по смерти отказал ему все свое состояние. Богатство и талант!.. Метастазий мог совершенно расправить свои крылья!.. И эти крылья перенесли его в 1729 году ко двору Карла VI, императора австрийского, который сделал его придворным поэтом с жалованьем в четыре тысячи флоринов. С этого времени Метастазий только изредка покидал Вену, чтобы подышать родным воздухом. В одно из редких посещений отечества в 1750 году Метастазий познакомился с Габриэли в Неаполе, где она пела в опере, для которой он написал слова. Метастазий был немолод, ему было пятьдесят два года, но у него были такие великолепные манеры, он обладал истинным изяществом. К тому же у поэтов вообще особенная манера любить, существенно отличная от любви простых смертных. Это понятно: когда витают в облаках, можно ли опуститься до грубых желаний нашей несчастной земли? Поэты любят прежде всего головой, с этой методой они живут до ста лет. И Габриэли охотно согласилась с этой методой. Метастазий предложил ей поехать с ним в Вену, где он гарантировал великолепный ангажемент в придворном театре. Она согласилась. В 1751 году она переехала с Анитой в столицу Австрии и через несколько недель, по обещанию поэта, дебютировала и была приглашена в императорский театр, где ее успех равнялся успехам в Риме, Лукке и Неаполе, и она двенадцать лет оставалась примадонной в Вене. Вполне понятно, что в этот долгий промежуток времени целая толпа конкурентов поочередно оспаривала у нее роль Метастазия. Ибо, как ни был любезен поэт, она оставила его. Она покинула его как любовника, но сохранила как друга. И Метастазий не очень страдал от новой роли. Не станем перечислять здесь всех обожателей, которых Габриэли отметила во время своего пребывания в Вене. Этому надо было бы посвятить несколько страниц. Достаточно сказать, что за двенадцать лет она разорила двадцать знатных вельмож, без различия лет и национальностей. Никого нет опаснее женщин, для которых не существует любви. У этих женщин любовь становится профессией, в которой они упражняются с тем большей легкостью, что ни на минуту не забываются… Габриэли мало заботилась о том, что внушала нежные желания. Самый страстный говор сердца был для нее пустой тарабарщиной, но она любила роскошь, и тот, кто был богат и великодушен, имел право на ее благосклонность. И часто она не дожидалась, пока один истратит для нее все состояние — единственное доказательство страсти, к которому она была чувствительна, чтобы опустошить кассу другого. Это часто ставило ее в неприятное положение. Так, в 1760 году, когда за ней ухаживали одновременно поверенный при французском посольстве в Вене, граф Мондрагонэ, и маркиз д’Алмейда, португальский дипломатический агент, певица… нет, куртизанка нашла остроумным, — вероятно, из боязни подвергнуть слишком долгому испытанию терпение одного за счет благосклонности к другому, — сделать их обоих счастливыми… Но граф Мондрагонэ, заплативший за преимущество стать любовником Габриэли, по крайней мере, получил фору в несколько месяцев, пока у него не стали оспаривать это преимущество. Одно словечко, сказанное в его присутствии кем-то из друзей, заронило подозрение в верности Катарины, и, чтобы все выяснить, он применил средство, старое как мир, но всегда имеющее успех. Однажды вечером, на Пратере, увидев шатающегося около коляски Габриэли человека, на которого ему указали как на соперника, Мондрагонэ почувствовал внезапную мигрень и просил позволения удалиться. Позволение это немедленно было дано ему. Но вместо того чтобы возвратиться в свой отель, граф отправился к Габриэли, где, благодаря своему знанию местности, он прошел никем не замеченный до самой спальни своей любовницы. Едва он спрятался в шкаф с платьем, как вошла Габриэли в сопровождении маркиза д’Алмейды. Что видел и слышал бедный влюбленный из своего тайника? Ничего для себя приятного, конечно. Но он был дворянин и француз… две причины, чтобы не показаться смешным… А что могло быть смешнее, чем он в подобных обстоятельствах? Граф мужественно ожидал, пока португалец кончит свой разговор с итальянкой и уйдет, чтобы появитьсясамому на сцене. Первой реакцией Габриэли на появление графа был ужас. Он был бледнее смерти. Но внезапно страх певицы перешел в веселость. Спеша выйти из шкафа после ухода соперника, граф не заметил, что вытащил за собой на пуговице женскую юбку, под которой он скрывался не один час. Вид этой-то юбки, составлявшей самую смешную принадлежность молодого синьора, и заставил смеяться Габриэли, смеяться до слез! Она опрокинулась от смеха на диван. Граф оторвал юбку вместе с пуговицей и, послушный только гневу, раздраженный изменой и этим хохотом, воскликнул: — А! Вы насмехаетесь надо мной?! И со шпагой в руке он бросился на изменницу. Счастье для нее, что в этот вечер на ней было надето платье с высоким лифом из плотной материи! Иначе она была бы убита. Удар, нанесенный ей графом, пробил корсаж и счастливо прошел под мышкой. Габриэли перестала смеяться. — На помощь! Спасите! — закричала она срывающимся голосом. Но граф уже был на коленях перед своей любовницей и с глазами, полными слез, умолял ее простить его. Конечно, и она сама заслуживала каких-то упреков, поэтому Габриэли простила графа, но с условием, чтобы на память об этой драматической сцене он отдал ей свою шпагу. И она сохранила ее, приказав сделать на клинке следующую надпись: «Шпага графа де Мондрагонэ, осмелившегося ударить ею Габриэли, 18 сентября 1760 года». Из Вены, которую она оставила около конца 1762 года, но не потому, что она имела меньший успех как актриса, а, быть может, потому, что у нее стало меньше поклонников, Габриэли отправилась в Палермо, столицу обеих Сицилии, где с первого же раза стала любовницей вице-короля. У нее был свой отель на улице Кассаро, прекраснейшей из улиц города, шесть карет, двадцать лакеев, две тысячи унций золота (около 25 000 франков) в месяц и за все это платил вице-король, герцог Аркоский. Но его светлость ошибался, думая иметь ее за свои экю. Однажды, когда он давал большой обед, на который пригласил свою любовницу, она не явилась; вице-король послал своего первого камердинера потребовать объяснения этого отсутствия. Габриэли читала лежа. — Вы скажете нашему господину, — ответила она лакею, — что я не иду к нему сегодня обедать по двум причинам: во-первых, я не голодна, потому что поздно завтракала, во-вторых, как бы ни был остроумен его разговор и разговор его друзей, он не может сравниться с той книгой, которую я читаю сию минуту. Эта книга была «Хромой бес», переведенная на итальянский язык. Его светлость, уязвленный ответом Габриэли, снова послал лакея со следующим письмом: «Так как вам не угодно, то мы обойдемся и без вашего общества, но мы рассчитываем, что вам будет угодно побеспокоиться сегодня вечером как певице». Это послание, возможно, заставило Габриэли поморщиться: что верно, то верно, она должна была вечером петь в придворном театре. Отказаться было нельзя. И она повиновалась. Но с особенностями. Ей приказывали превзойти самое себя. Она же пела небрежно, слабо, невыразительно, бесстрастно, одним словом, хуже обыкновенного. Все больше и больше раздражаясь, герцог в один из антрактов вошел в ложу певицы. — Вы, кажется, смеетесь надо мной! — сказал он. Она отвечала улыбкой, которая говорила: «Вам только кажется? Но, мой милый, ведь ясно, что я над вами издеваюсь!» — Берегитесь! — воскликнул герцог. — Я господин в Палермо. Я заставлю вас хорошо петь, хотите вы или нет! На этот раз Габриэли разразилась искренним смехом. — А, вот как? — отвечала она. — Видите ли, просто мне нравилось петь дурно, а теперь мне угодно не петь вовсе! Вице-король вспыхнул от гнева. — Вы отказываетесь петь? — Да. — Я вас отправлю в тюрьму. — Отправляйте! Быть может, там мне будет веселее, чем с вами!.. Отступать было некуда. Вице-король, хотя и влюбленный, не может позволить, чтобы его так безнаказанно презирали. Герцог отдал приказание. Через час Габриэли находилась в государственной тюрьме. С ней там обращались, однако, со всем уважением, которого достойна любовница, всеми любимая, хотя и делающая все, чтобы ее не любили. Вместо холодной и мрачной каморки ей дали целое отделение начальника тюрьмы. Аните дозволено было видеться с ней. Наконец, ее друзьям и подругам позволили делать такие долгие и частые визиты, как они того пожелают. Это была уже не тюрьма, а увеселительный дом. У несчастной пленницы за столом каждый день бывало до двадцати персон: вечером танцевали и пели с ней вместе. Она никогда не пела так хорошо, как в то время, когда сидела под замком. И что за упрямство! Каждое утро в течение целой недели от имени герцога являлся нарочный и почтительно предлагал ей один и тот же вопрос: — Согласны ли вы сегодня вечером, синьора, петь при дворе? — Нет! — отвечала она. — Нет, нет и нет! Вице-король уступил. Лучше он ничего не мог сделать. Габриэли была способна провести в тюрьме всю жизнь. Когда ей объявили, что она свободна, «Хорошо!» — ответила она без всякой благодарности. А начальнику тюрьмы, который предложил ей свою руку, чтобы проводить до канцелярии, она сказала: — Прошу прощения, но прежде чем покинуть вас, я должна извиниться за те неудобства, которые вам доставила, лишив вас вашего служебного помещения. — Она подала ему кошелек с тысячью унций. — Пока я здесь веселилась, тут были люди, которые страдали, не правда ли? И которым, без сомнения, еще долго придется страдать. Итак, в память о моем пребывании здесь, рядом с ними, разделите это золото среди них. И скажите им, что я принимаю искреннее участие в их несчастьях и желаю им скорого освобождения!.. Коляска, ожидавшая Габриэли у дверей тюрьмы, принадлежала герцогу Аркоскому, ко дворцу которого кучер направил лошадей. — Неблагодарная женщина! Упрямица! — ворчал герцог, когда она вошла. — А! — воскликнула она, без сомнения, пародируя ответ сиракузцев тирану Дионисию, которому они не хотели покориться. — Пусть отведут меня в тюрьму. Вице-король воздержался от этого, и разговора на эту тему больше не было. Но Габриэли ничего не забыла. Однажды утром, через неделю, под предлогом путешествия в носилках ко гробу св. Розалии в Монте-Реллеграно, она уехала из Палермо вместе с Анитой, увозя с собой только золото и драгоценности, и направилась в Парму. Но к цели своего путешествия она приехала чуть было не с пустыми руками: на них напали разбойники, и беглянка уже приготовилась отдать все, что у нее было. Но один из бандитов узнал ее. — Вы не Габриэли? — спросил он. — Да. — Та самая, которую вице-король посадил в тюрьму и которая вышла и оставила большую сумму для раздачи арестантам? — Да. Рыцарь больших дорог обернулся к своим товарищам. — Это Габриэли, — сказал он им. — Великая певица! Добрая девушка! Отпустим ее, бедняжку? — Отпустим! Отпустим! — отвечали разбойники. — Счастье и долгая жизнь доброй Габриэли!.. — Смотри! — улыбаясь, сказала куртизанка своей сестре, когда их носилки отправились дальше. — Там у меня появилась шальная мысль раздать арестантам тысячу унций, а здесь это спасло мне пятьдесят тысяч… По мирному договору с Австрией герцогство Парма принадлежало Филиппу, инфанту испанскому. Филипп был мужчина лет пятидесяти, маленький, дурной, горбатенький, но это, однако, не мешало ему быть самым горячим поклонником хорошеньких женщин. Инфант после вице-короля?.. Понижение? Ничуть. И Габриэли приняла домогания Филиппа. В ту пору она была во всем блеске красоты, в расцвете таланта. Инфант осыпал ее золотом в благодарность за то, что она согласилась принадлежать ему. Но и этот Крез, обладавший неисчислимым богатством и обожавший Габриэли, через некоторое время был обманут ею. При недостатке настоящих любовных стремлений, она любила их частую смену. Кто знает, может быть, чередуя каприз с капризом, фантазию с фантазией, она надеялась найти какого-нибудь достойного смертного, чтобы он чудом посвятил ее в те радости, которые оставались для нее тайной? Филипп не замедлил обнаружить, что она изменяет ему часто и много. Филипп был ревнив. Дурной, горбатый и — ревнивый! Живая антитеза. Филипп ругался. Габриэли лишь смеялась. Однажды в припадке гнева он ее оскорбил. Безусловно, она того заслуживала по сути, но он оскорбил ее как женщину, а этого делать не стоило. — Вы надоели мне с вашими глупостями! — закричала она. — Взгляните на себя! На кого вы похожи?.. С такой фигурой, как ваша, нельзя требовать того, что можно Антиною! Инфант побледнел. — Издеваетесь надо мной? — А что? Вам можно, мне нет? — Да вы… вы просто распутница! Слышите? — А вы проклятый горбун! — Опять?.. Я вас запру в цитадель!.. — В тюрьму? Вы хотите посадить меня в тюрьму, как и вице-король в Палермо? Попробуйте! В тот день, когда я выйду из цитадели, — а рано или поздно я из нее выйду! — я изжарю вас живого в вашем дворце. В 1764 году Габриэли провела восемь дней в тюрьме в Парме, ровно столько же, как и в Палермо. Инфант Филипп, подобно герцогу Аркоскому, был не в силах лишить свободы перелетную птичку на более долгое время. Это случилось через два дня после ее переезда в свой особняк, построенный вне города, напротив дворца Джиардино, — восхитительного летнего жилища инфанта. Габриэли была одна со своей дорогой Анитой, когда ей доложили о лорде Эстоне и синьоре Даниэло Четтини. Лорд Эстон был очень близкий друг кантатрисы — певицы, — слишком даже близкий, по убеждению Филиппа, но имя синьора Даниэло Четтини Габриэли услышала только в первый раз. — Какой-нибудь мальчуган, которого лорд Эстон хочет мне представить! — сказала она Аните. Та встала. — Я оставлю тебя. — Нет, — возразила старшая сестра, — я просила лорда Эстона помочь мне уехать из Пармы так, чтобы инфант и не подозревал об этом, потому что он мне тут сказал: «Я вам не герцог Аркоский, которого оставляют в любое время». Не уходи, быть может, представление этого синьора один только предлог. Лакей получил приказание пригласить лорда Эстона и синьора Даниэло Четтини. Габриэли бросила быстрый взгляд в зеркало. Анита машинально повторила это движение. Она не была кокеткой, но зачем же все-таки казаться дурной, когда красива? А Анита была действительно прекрасна. Она была прелестна. Ее красота была совершенно иная, чем красота сестры, хотя в их чертах было много общего. По крайней мере, внешне. Катарина была вся огонь, вся пламень, что и обольщало в ней, Анита же с виду была холодна и спокойна. Только один наблюдатель не ошибся. С первого же взгляда он разгадал, в жилах какой из этих женщин течет лава. И если доселе никто не обращал внимания на Аниту, то лишь потому, что каждый обращал слишком много внимания на ее сестру. Искусственный свет мешал видеть звездочку. — Позвольте, мадам, представить вам синьора Даниэло Четтини, сына одного из лучших моих друзей, — проговорил лорд Эстон. Катарина и Анита стояли еще у зеркала, поправляя прически. Повернувшись одновременно, обе вскрикнули от изумления. Этот Даниэло Четтини, отражавшийся в зеркале, был живой копией Гаэтано Гваданьи — молодого и прекрасного, каким он был пятнадцать лет тому назад. Та же фигура, тот же рост, та же осанка! — Что с вами? — с удивлением спросил лорд Эстон. Анита не отвечала; пораженная, она держалась за спинку кресла. А Катарина была довольно спокойна: ее мало поразило появление двойника Гаэтано Гваданьи. — Извините нас, господа, — сказала она, кланяясь Эстону и его товарищу, — но сходство необыкновенно. — Сходство? — Да! — И Габриэли движением головы показала на Четтини. — Синьор напомнил мне и моей сестре одного человека, которого некогда мы очень хорошо знали. — Если тот господин имел счастье быть вашим другом, я поздравляю себя с этим сходством, — ответил, поклонившись, Даниэло Четтини. — И тот же голос! Тот же голос! — воскликнула певица. — Не правда ли, Нита? Но Анита, жертва смущения, с которым она тщетно пыталась справиться, продолжала сохранять молчание. — Что с тобой? — воскликнула Катарина, подбегая к своей сестре. — На самом деле, — заметил лорд Эстон. — Она совсем бледна. — Да, — пробормотала Анита. — Я… позвольте мне удалиться. — Что с тобой? — вполголоса повторила Габриэли. — Неужели это сходство?.. — Нет… внезапная дурнота. Это пройдет… не беспокойся… Я вернусь. — Анита исчезла. — Милая сестра! — сказала Катарина, садясь рядом со своими гостями. — Она так привязана ко мне, что все, что меня интересует хоть немного, ее очень живо трогает. — Но, — возразил Даниэло Четтини, устремляя беспокойный взгляд на молодую женщину, — вы не удостоили меня ответить на вопрос. Воспоминание, которое я пробудил в вас, приятно или тягостно? Скажите, заклинаю вас! Потому что в последнем случае мне останется только одно: не беспокоить вас моим присутствием!.. — Вовсе нет! Вовсе нет! — смеясь, ответила Габриэли. — Ваше присутствие, синьор, ни в коем случае не тягостно для меня… Боже мой! Если угодно, я могу рассказать вам, кто тот господин, на которого вы походите до такой степени, что, увидев вас, я и моя сестра не смогли сдержать своего полного изумления. — Я весь внимание, — произнес лорд Эстон. Даниэло Четтини пристально смотрел на Габриэли. — Итак, — продолжала Катарина, — этот господин был моим первым любовником. Это неаполитанский тенор Гаэтано Гваданьи. — Который и теперь еще поет в Риме или во Флоренции, — сказал лорд Эстон. — Кто же не знает Гаэтано Гваданьи! Великолепный голос, теперь уже постаревший. Честное слово, вы удивительным образом походите на Гаэтано Гваданьи!.. — С той только разницей, что у меня нет его прекрасного голоса, — возразил Четтини. — Да, но зато вы моложе его лет на пятнадцать. И если наша Катарина испытывает хотя бы самое малое желание развеяться и совершить небольшую прогулку в прошлое, то мне не остается ничего лучшего, как оставить вас вдвоем, мой друг! — Как? Что вы хотите этим сказать, милорд? — притворно изумилась Габриэли. — Что общего между синьором и моим прошлым? — Все очень просто! — возразил лорд Эстон. — Синьор похож на Гваданьи, которого вы любили пятнадцать лет назад. Вот и полюбите его теперь, синьора, как будто вы любите того самого Гваданьи. И все будут довольны. Даже сам Гваданьи, если узнает об этом и поймет, что вам очень дороги воспоминания о нем… — Вы сумасшедший, милорд? Только сумасшедший мог серьезно рассказать такую детскую сказку. Что подумает обо мне синьор, слушая вас? — Он подумает, что в память об одном счастливце от вас зависит сделать счастливым другого! — сказал Четтини. — А! И вы тоже? Да это сговор! С полчаса разговор продолжался в том же духе, Габриэли в шутку принимала намерение синьора полностью заменить ей Гваданьи. Но, в сущности, Даниэло Четтини даже нравился куртизанке: мысль вернуться хоть на два-три дня к своей юности ее пленяла. Отведя в сторону лорда Эстона, когда он намеревался уйти с синьором, Габриэли поинтересовалась, кто он таков. Даниэло Четтини был сын нотариуса из Пармы. Он учился во Флоренции, состояние его было посредственно, но… — Меня нисколько не волнует, есть или нет у него состояние! — прервала Катарина лорда Эстона. — Я согласен, — ответил английский джентльмен. — Когда пробуждается сердце — интерес спит. Даниэло Четтини было дозволено вернуться к Габриэли так скоро, как он того пожелает. И как задаток будущего, сказав ему: «До вечера!» — куртизанка дозволила покрыть ее руки поцелуями. Оставшись в зале одна, она погрузилась в мечты. Легкий шум вывел ее из задумчивости. То был шум шагов Аниты. — А, дорогая Анита! — вскричала Габриэли, направляясь к своей сестре. — Ты еще ничего не знаешь… Мне кажется, что я влюбилась в первый раз в моей жизни. — В кого же? — В Даниэло Четтини. Да! Я не могу объяснить, что я чувствую к нему, ведь я никогда не любила, но теперь, что довольно странно — из-за сходства с Гаэтано, я полюбила этого юношу. Во всяком случае, я люблю его и уверена, что буду любить долго. — И ты уверена, что долго будешь любить его?.. Анита произнесла эти слова с таким выражением, которое сокрушило Катарину, — в них слышалась полная безнадежность. Старшая сестра смотрела на младшую. Не только сам голос Аниты, но и лицо ее, орошенное слезами, выражало глубокое страдание. — Боже мой! — воскликнула Габриэли. — Ты все еще страдаешь, Анита? Где таится твоя боль? — Здесь! — показала Анита на сердце. — Нужно послать за доктором. — Он не поможет мне. — Кто же поможет? — Ты. — Я? — Да, ты, Катарина! Хочешь быть доброй, хочешь спасти меня от смерти?.. — О! — Не встречайся больше, прошу тебя, не встречайся с Даниэло Четтини! — Почему? — Потому… я должна признаться… потому, что этот Гаэтано Гваданьи, которого ты никогда не любила — ты сейчас сама сказала мне это, был любим мной… Да! Я любила его всей душой… И я была бы очень несчастна, — о да! — очень несчастна, ты же понимаешь, если бы, зная, как ты играла с тем, за кого я готова отдать всю свою кровь, я увидела, что ты играешь с его живой копией! Пойми, если бы ты хоть немного любила Даниэло Четтини, у меня не хватило бы духу смотреть теперь на ваши ласки, но я… — Молчи!.. Довольно!.. Молчи! Габриэли прижала к груди Аниту, которая упала перед ней на колени и поцелуями стирала слезы с ее лица. Наступило молчание. Потом тихо, как бы говоря сама с собой, Катарина начала: — Бедняжка! Бедняжка!.. Она любила Гаэтано!.. И поскольку она любила меня, она делала все, чтобы я… — И вдруг обратилась прямо к сестре. — Но почему же ты не сказала мне тогда? Ведь я не любила его, я бы… Она замолкла не только потому, что воспротивилась Анита, но и потому, что сама устыдилась того, о чем хотела сказать. — Правда, — прошептала она. — Ты не захотела бы моих объедков… Но сегодня ты имела право сказать… О нет! Я не возьму Даниэло Четтини и в любовники!.. И вот о чем я думаю! Почему мне показалось, что я люблю этого молодого человека? Разве я знаю, что такое любовь?.. Нет, хватит с меня. Даниэло Четтини не будет моим любовником. Но так как он нравится тебе, напоминая другого, надо, чтобы он стал не твоим любовником… ты не должна иметь любовников, Анита… а чтобы он стал твоим мужем. Анита тихо склонила голову. — Почему нет? — продолжала Катарина. — Во-первых, потому что я старше его. — Старше его? Который год этому мальчику? Двадцать шесть? — А мне тридцать два. — Что за беда, если на вид тебе двадцать пять. К тому же он желал меня, а я старше тебя… — Предположим, что я ему понравлюсь, но его семейство тут же воспротивится… — А на каком основании семейство воспротивится его женитьбе на такой прелестной и честной девушке, как ты? Был бы это потомок князя или какого-нибудь знатного вельможи, а то ведь сын нотариуса. Какое бы он имел право презирать сестру Габриэли? — Но если его семейство не из благородных, оно, может быть, богато. — Выходя замуж, ты также будешь богата… Будь спокойна, у меня достаточно денег, чтобы дать тебе большое приданое. — И она тотчас же прибавила: — А если у меня нет, инфант подарит. — Наконец, — возразила она, — человеку нельзя внушить любовь подобно тому, как внушают ненависть!.. Даниэло Четтини влюблен в тебя. — Полно, ты шутишь! Он влюблен в мою репутацию, влюблен из гордости, из моды. Ему хочется иметь право говорить повсюду: «Я был любовником Габриэли». Ты меня не убедишь, будто за полчаса я так пленила синьора Четтини, что теперь он видит одну только женщину в мире — меня. Будь спокойна, если я действительно нравлюсь Даниэло Четтини, то берусь его от этого вылечить. — А что ты сделаешь? — Это уж мое дело. Он должен прийти сегодня вечером, и я буду или очень несговорчива, или все устрою по твоему желанию. — А он должен прийти сегодня вечером? И ты примешь его наедине? — Конечно. Тебя это беспокоит? Или ты мне не доверяешь? — О! Анита поцеловала Катарину. — Слушай, — сказала старшая сестра, — чтобы совсем успокоиться, хочешь стать невидимым свидетелем этого свидания? — Нет, нет! — А я говорю: да! Я хочу играть с тобой начистоту, так как ты боишься обмана. — И, не позволив сестре ответить, она, в свою очередь, нежно обняла ее. — И притом, — закончила Габриэли, — чем раньше ты увидишь его, тем скорее будешь счастлива. Ты и так уж довольно долго ждешь счастья, чтоб тебе продавать его. Вечером, получив любезное приглашение, синьор Четтини, сгорая от нетерпения, явился к Габриэли. Лакей попросил его подождать. — Госпожа еще не принимает. Минута длилась час. Сидя в передней, Даниэло Четтини мог на свободе придумывать фразы, если имел в том надобность. Наконец лакей возвратился, синьор был впущен в будуар богини. Но что сделалось с этой богиней, о Боже?.. Лежа на диване, с ногами, обутыми в теплые туфли, с головой, покрытой ночным чепчиком, она едва повернулась, когда лакей доложил о синьоре Даниэло Четтини. Даниэло Четтини был изумлен, он ждал совсем не этого. — Вы больны? — скромно спросил он. — Да, — прошептала Габриэли. — Но недавно вы были совершенно здоровы! — Так только казалось… чисто внешне… К тому же мне не хотелось бы перед лордом Эстоном… Согласитесь, есть люди, с которыми надо быть сдержанным… Лорд Эстон страшно богат и великодушен. Даниэло Четтини сразу прикусил язык. — И если б, — продолжала кантатриса, — я не обещала принять вас сегодня вечером… — Я тем более обязан вам за вашу доброту. Но что с вами? Быть может, внезапная мигрень? — Нет, я страдаю желудком… Желчь беспокоит также… Скажите, какой у вас стул? — Какой… Что у меня?! — Я вас спрашиваю об этом потому, что при случае охотно предложу вам превосходное лекарство, которое я получила от знаменитого французского доктора. Посмотрите рецепт, он на камине. Это смесь из ипекакуаны, треть грана, гран меркурия, два грана алоэ, четыре ревеню и пять цитварного семени. Это принимается в печеном яблоке. Очень успокаивает. — А!.. Это!.. И вы принимали сегодня? — Печеное яблоко? Да. Через несколько минут после вашего ухода. Но я говорю с вами о вещах, которые, может быть, вас совсем не занимают? — Помилуйте! Но… — Вы же знаете, что забота о здоровье прежде всего… — Конечно. — Нам, певицам, здоровьем шутить никак нельзя. — Но и другим тоже… — Вы из Флоренции? — Я имел честь говорить вам давеча. — Ваш родитель богат?.. — Не совсем, но он имеет некоторое состояние… — Ах да! Состояние! Я понимаю… Несколько тысченок секинов дохода, чтобы только свести концы с концами… Интересно, по какому такому случаю лорд Эстон, обладатель громадного состояния, так дружен с вашим отцом? — Потому что есть люди, особенно в Англии, которые свое уважение основывают не на большем или меньшем богатстве… — Да, — отвечала Габриэли, скрывая под чепчиком нестерпимое желание расхохотаться, — я знаю, что англичане вообще любят пооригинальничать. Много ли детей у вашего папаши? — Трое. Два сына и дочь. — Трое? Но ваше воспитание должно разорить его! — Однако прошу вас поверить, никто еще не пострадал от этого разорения. — Тем лучше, тем лучше!.. Ах, извините меня! Разговор с вами, без сомнения, приятен, но… — Я удаляюсь. — Нет! Не уходите совсем! Перейдите в маленькую залу, я приду через несколько минут. Сюда… сюда… дверь в конце коридора. Даниэло Четтини медленно шел по коридору. Зачем Габриэли удерживала его? Чтоб поговорить?.. Гм!.. Он достаточно поговорил с ней! Даже слишком… Брр!.. Женщина, которая принимает слабительное, а потом идет на судно и уведомляет вас об этом, любезно объясняя состав лекарства, употребляемого ею для этого. Не очень-то поэтично!.. И это не считая грубостей, которые она наговорила ему об его семействе, да еще печеное яблоко, с алоэ, ипекакуаной. Нет, печеного яблока Даниэло Четтини никак не мог переварить. Но вежливость требовала, чтобы он повиновался. Он отворил указанную ему дверь и вошел в маленькую залу. Анита находилась уже там, сидя за работой. Любовь ли, надежда ли украшала ее, но в этот вечер она была прекраснее, чем обычно. При виде ее Даниэло Четтини ощутил почти то же впечатление, которое испытывают, выйдя из мрака на свет: он был ослеплен. — Извините, — приблизясь к ней, сказал он, — вы не… — Сестра Катарины?.. Да, синьор. — Синьора Анита? — Да, синьор. Сестра Катарины была восхитительна! В сто раз лучше старшей. Он сел рядом с нею. — Вы позволите? — С удовольствием. — Ваша сестра почувствовала себя немного нездоровой, кажется, с недавнего времени, синьора? Анита покраснела, она не умела лгать. — Кажется, синьор. — Она предложила мне подождать ее здесь несколько минут… и если это вас не обеспокоит… — О, нисколько!.. Она творила, продолжая шить и не подымая глаз. — Вы вышиваете, как фея!.. — Нужно же работать, синьор. — Вы живете с вашей сестрой? — Я всегда жила с нею. — Но… у вас нет, как у нее, страсти к театру?.. — Нет. — Вы не поете? — О нет!.. Но я тоже немного музыкантша… — А!.. Вы играете на фортепиано?.. — Немного. — О, я с ума схожу от музыки!.. Поэтому-то… Даниэло хотел было сказать: «Я желал сделаться любовником Габриэли», но вовремя остановился и добавил: — Поэтому-то я считал за честь быть представленным одной из наших величайших певиц. — И продолжал, указывая на фортепиано: — Синьора, если вы удостоите, в ожидании вашей сестры… Не заставляя просить себя, Анита села за инструмент. Странное дело, эта девочка, которая не могла спеть самой простой арии, обладала, как музыкантша, истинным талантом. Она выучилась сама, одна, и тайком на нотной грамоте училась играть на фортепиано; она не была ученой пианисткой, но у нее был слух, ее исполнение не изумляло, а восхищало. Она сыграла сонату Себастьяна Баха, потом неаполитанскую тарантеллу, которую заучила, слышав ее раза два или три, и положила ноты. Даниэло Четтини пел довольно приятно, он знал два или три романса и спел их под аккомпанемент Аниты. Пробило полночь, а они все еще сидели за инструментом. Нужно было расставаться. Но где же Катарина? — Она, верно, уснула в своем будуаре, — весело сказал Четтини. — Ведь она же хотела с вами поговорить, синьор… Угодно вам? — Нет, нет! Ради Бога, не беспокойте ее! Я приду завтра, вот и все. — Хорошо, приходите завтра. Даниэло вернулся на другой день, на третий и так продолжалось целую неделю кряду; Габриэли при этом никогда не показывалась. Но каждый вечер он видел Аниту. Что же делали они в эти вечера? Занимались музыкой?.. Как бы не так! Если б мы и сказали это, никто бы не поверил. Анита любила Даниэло до того, как узнала его, из-за сходства с Гваданьи; она полюбила его сильнее, когда познакомилась с ним. Со своей стороны, Даниэло полюбил Аниту за ее чисто женственную прелесть, скромность, нежность и целомудрие. Он полюбил ее безумно и готов был решиться на все, чтоб обладать ею. Зная от сестры об ее успехах, однажды вечером Габриэли, посчитав минуту благоприятной, вдруг явилась перед любовниками. Даниэло стоял на коленях перед Анитой. Он быстро встал. — К чему беспокоиться, синьор? — сказала, улыбаясь, Габриэли. — Присутствие сестры не должно прерывать нежности мужа и жены. — Мужа? — повторил Даниэло. — Конечно же! — ответила Габриэли. — Вы любите Аниту, мою дорогую, добрую сестру. Я отдаю ее за вас с пятнадцатью тысячами унций золотом. Вы отказываетесь? — Нет!.. О нет! Я принимаю с радостью! Пятнадцать тысяч золотом! Это около двухсот тысяч франков! Подобного рода приданое не часто приходилось получать в 1764 году сыновьям нотариусов. Теперь же все изменилось… Свадьбу справили в особняке Габриэли, но молодые супруги сняли себе небольшой домик в городе, в котором они должны были жить, пока певица будет оставаться в Парме. Затем они уехали во Флоренцию. После бала Габриэли хотела сама проводить свою сестру в нанятый дом. Они остались в брачной комнате. — Довольна ли ты мной, Анита? — спросила Катарина. — Ты все, что есть доброго на земле! Катарина улыбнулась. — Правда, — ответила она, — надо мной могут посмеяться, но мое поведение было просто героизмом… Подурнеть, чтобы разонравиться человеку — это бы еще ничего, но добровольно внушить ему отвращение — это жестоко! Наконец-то Даниэло твой!.. И, наклонясь к Аните, потому что вошел Даниэло, она прошептала: — Завтра утром ты скажешь мне, действительно ли приятно выйти замуж за человека, которого любишь… На другое утро Габриэли не имела надобности расспрашивать сестру: нежная томность, разлитая по ее лицу, страстная благодарность, с какой она смотрела на мужа, говорили больше, чем могли бы сказать все громкие фразы. Габриэли вздохнула. «Действительно, — подумала она, — существует рай и в этом мире, но я никогда не узнаю его. Ну, если я не могу быть ангелом, буду продолжать жизнь демона… Рай не для меня… да здравствует ад!..» В благодарность за великодушие Филиппа, потому что это он дал приданое Аните, Габриэли еще пятнадцать месяцев оставалась в Парме. Потом она отправилась в Рим обнять отца, спокойно жившего небольшим домом, подаренным ему Катариной, и пожать руку старому Габриэли. Она давала представления во многих городах Италии и Германии. Наконец в 1768 году она отправилась в Петербург, куда уже давно приглашала ее Екатерина II. Это путешествие через всю Европу показалось ей очень долгим и скучным. Думая о своей дорогой Аните, сколько раз в течение этого путешествия Габриэли сожалела о разлуке с сестрой. — Я была тогда глупа! — говорила она сама себе. — Анита была моей единственной привязанностью: я не должна была жертвовать ею ради удовольствия синьора Даниэло. Но Анита любила его… И, утирая слезу, Габриэли продолжала: — Нет, я не сделала ошибки, выдав ее замуж, потому что она счастлива. Я не имею права жаловаться… На другой день по приезде в Петербург Габриэли была представлена царице. — Сколько вы желаете получать? — спросила Екатерина у Габриэли. — Десять тысяч рублей. — Десять тысяч! Но я не плачу таких денег моим фельдмаршалам. — Прикажите же, ваше величество, и им петь. Екатерина нахмурила брови, но тотчас улыбнулась и сказала. — Хорошо. Я вам дам десять тысяч рублей. В 1768 году в Петербурге было уже три театра, но так как Екатерина вызвала Габриэли для себя, то певица дебютировала в придворном театре в Эрмитаже, который был соединен арками с Зимним дворцом. В Петербурге, как и в Вене, в течение почти двенадцати лет Габриэли, певица и куртизанка, не имела недостатка ни в овациях, ни в любовниках; между тем она была уже немолода. Но годы, начинавшие омрачать ее красоту, щадили ее голос. Кроме того, она была хорошо принята при дворе. Царица сразу выразила к ней свою благосклонность, которая никогда не изменялась. Не было праздника в Эрмитаже и в Царском Селе без Габриэли, и когда случайно — случай еще часто представлялся — певица была не в духе, чтобы присутствовать на каком-либо из этих торжеств, когда ей случалось отвечать отказом на любезное приглашение императрицы, эта последняя вместо того чтобы сердиться, подобно герцогу Аркоскому, весело покачивая головой, говорила: — A! Понимаю! Габриэли сегодня не в духе. Оставим ее. И тем все кончалось. Один только случай из жизни Габриэли за те двенадцать лет, которые она провела в России, стоит рассказать, потому что он рисует нравы двора Екатерины II. Князь Репнин, возвратясь после долгого пребывания в Варшаве, появился при Петербургском дворе. То был человек лет сорока, сохранивший в своем характере черты своего татарского, по матери, происхождения. Он не был неисправимо зол, не был глуп, но выказывал полнейшее презрение ко всему, что носило на себе печать честности, благопристойности, нравственности. Так, например, он хвастался, что во Франции, где он пробыл несколько времени, он жил в Париже за счет актрис, которых он проедал, как он сам выражался. Однажды в Царском Селе, среди залы, в присутствии Екатерины II, перед несколькими женщинами, в числе которых была и Габриэли, князь Репнин развертывал картину своих успехов, которыми он пользовался у парижских актрис, танцовщиц и певиц. — Ну, — сказала Габриэли, — если парижские актрисы, танцовщицы и певицы содержат своих любовников, то они очень глупы, и я утверждаю, в похвалу моим соотечественницам, что, по крайней мере, в этом случае они не похожи на парижанок. Репнин пожал плечами. — Полноте! — возразил он. — Женщины повсюду одинаковы, когда они любят. — Когда любят, пожалуй! — ответила Габриэли. — Но что касается меня, я ручаюсь вам, что не полюблю человека, который будет больше лелеять мой кошелек, чем мое сердце. — Э! Ловкий мужчина берет сначала, что бы там ни было, сердце, а уж потом добирается и до кошелька! — Право? Мне было бы очень любопытно узнать такого ловкого человека, который сыграл бы подобную игру со мной… — Вы отрицаете его существование? — Да, отрицаю… — Ваше величество и вы, мадам, будьте свидетельницами, что между нашей великой артисткой и мною объявлена война. — Неужели вы сами, князь, — смеялась Екатерина, — рассчитываете вести ее? — О нет! — возразил Репнин тем же тоном. — Я открыл мои батареи. Между мной и ею война была бы теперь не на равных. Но у генерала есть офицеры, и я надеюсь найти достойного меня. — Вам это будет нетрудно! — презрительно ответила Габриэли. Князь не возразил: как вежливый противник, он оставил последнее слово за Габриэли. Тем не менее, не мешкая, Репнин занялся приготовлениями к битве. На самом деле ему стоило только сделать выбор. Все русские и иностранные вельможи, составлявшие двор, были ему друзьями. Князь жил так весело и таким оригинальным образом, что с ним невозможно было соскучиться. Но независимо от ума и дерзости, которые должны были быть употреблены в данном случае, было необходимо, чтобы избранник обладал красивой наружностью. Ясно, что дурной и старый не получил бы и улыбки в виде милостыни от врага. Репнин полагал, что нашел нужного ему человека в лице виконта де Верака, гасконского дворянина, недель уже шесть находившегося при русском дворе. Верак был молод, довольно красив, он во что бы то ни стало добивался состояния, стало быть, он не будет слишком разборчив в средствах, если ему представится случай. — Милый мой! — сказал ему князь. — Дело идет о том, чтоб заставить говорить о себе. — Дурно или хорошо? — Хорошо, если вы смышлены. — Я буду. — В добрый час! Сумейте это, и тогда… Знаете, даже императрице приятно видеть у ног своих человека, о котором все говорят… — Но что же это, наконец? — Я объясню вам. Через два дня, посреди ночи, Габриэли была разбужена шумом, который произвел человек, влезший в окно ее спальни. Это было летом, очень жарким летом. Габриэли имела оплошность оставить на ночь открытым свое окно. Быстро пробудившись от сна, Габриэли выскочила из постели, чтобы схватить сонетку, стоявшую на ночном столике, около лампы, и позвонить. Но остановив ее движением руки, молодой человек холодно сказал: — О, к чему звать! Клянусь вам, я скорее убью двадцать лакеев, чем уйду отсюда. Разве уходят от вас в подобный час?.. Габриэли не раз встречалась с виконтом, но никогда не говорила с ним. Придя в себя от первого испуга, она его, однако, узнала и все поняла. — А, хорошо! — сказала она. — Вы… — Виконт де Верак, ваш почтительнейший обожатель. — Мой обожатель по приказанию князя Репнина?.. — Вы ошибаетесь… я… — Стыдитесь лгать, виконт! Вас послал сюда князь Репнин. Что вам от меня нужно?.. — Я вас люблю! — Вы меня любите? То есть князь сказал вам: «Габриэли посмеялась надо мной, отомсти за меня». Честное слово, странное поведение! Если Репнин называет это победой над сердцем женщины… — Уверяю вас! — Допустим, злоупотребив моим одиночеством, вы силой возьмете то, чего желаете, — что вам это даст? И что даст князю?.. Да, вы разделяете его принципы в любви, я это вижу, вы сами доказываете это своим поведением, но не настолько же вы обольщаетесь, чтобы думать, что если я против своей воли буду принадлежать вам, то сочту себя такой осчастливленной, что завтра же отдам вам и свое богатство? — О Боже мой! Повторяю вам, что князь Репнин ничего не знает об этом моем поступке, признаюсь, несколько смелом, но который извиняется моей страстью. Прекрасная и обожаемая, мог ли бедный дворянин надеяться на вашу благосклонность? — И, не имея возможности надеяться, вы решили ее похитить? Я оскорблена, но не вас я хотела бы наказать, вы не заслуживаете моего гнева. Вы только правая рука князя Репнина, а он голова, но… О, что такое? Вы незаметно приближаетесь к моей постели? Готовитесь на меня броситься? Стойте же! Если вы сделаете еще шаг, я клянусь — и это так же верно, как то, что есть Бог и что князь Репнин подлец, — я раскрою вам череп! Габриэли всего ждала со стороны такого противника, как князь Репнин, и потому уже две ночи подряд клала на свою постель пару пистолетов, которые схватила во время разговора с ночным посетителем и в эту минуту навела на него. Де Верак поморщился, не сумев скрыть испуга при неожиданном появлении пистолетов. Но честь его была задета: ведь он обещал достичь успеха. — О! О! — насмешливо сказал он. — Мне говорили, что итальянки употребляют иногда стилеты, но не пистолеты. Берегитесь, этот инструмент производит шум… и ночью, в императорском дворце, будить всех из-за шутки — какой смешной скандал… — Смешное касается вас и князя, а не меня… Наконец, только от вас зависит избежать этого: уйдите — вот и все. — Не раньше, как получив от вас поцелуй! И, презирая опасность, виконт приблизился, но тотчас же был вынужден остановиться. Габриэли сдержала слово. Только она раздробила ему не голову, а руку. Он вскрикнул, но, усилием воли сдержав боль, весело сказал: — Мы побеждены! Будьте так добры, проводите меня до двери, потому что вы лишили меня возможности отправиться по той дороге, по которой я пришел. Как и предвидел Верак, шум выстрела разбудил во дворце всех. Со всех сторон бежали к певице лакеи от имени императрицы. — Скажите ее величеству, что это пустяки, — сказала Габриэли. — Это ночная птица, которую князь Репнин, чтобы позабавиться, впустил в мои покои и от которой я избавилась. На другой день, кланяясь Габриэли, князь Репнин повторил ей фразу несчастного виконта: «Мы побеждены!» Императрица вслух поздравила Габриэли с победой, но тихо сказала ей: — Вы очень жестоки, моя милая! Раздробить руку хорошенькому мальчику для того только, чтобы не позволить ему взять у вас поцелуй! — Извините меня, ваше величество, — сухо ответила Габриэли, — но я не позволяю брать у меня поцелуи. — Это правда, — повернулась спиной к певице Екатерина, — если позволять брать, то ничего не осталось бы для продажи… В любом случае продажа прошла успешно, так как, уезжая из Петербурга в 1777 году, Габриэли увозила с собой из России около шестисот тысяч франков. И она оставила русскую столицу так же внезапно, как и Вену, вдруг, не предупредив никого о своем отъезде. Но шестьсот тысяч франков! Обладая подобным состоянием, Габриэли могла и почивать на лаврах. То же ей советовали Анита и Даниэло, с которыми она переписывалась во время своего пребывания в России и которых она первых обняла по возвращении на свою родину. Но для артиста покой — та же смерть. Катарина не согласилась с доводами своей сестры и зятя. Она снова хотела петь в театре. И публика рассчитывала на это. В свои сорок восемь лет Катарина обладала достаточно сильным голосом, чтобы не бояться соперниц. Но если слава осталась ей верна, то любовь — изменила. Певица имела поклонников; у женщины не было больше любовников. Раздраженная этим, она стала тратиться на безумную роскошь и за два года растранжирила все золото, которое привезла из России. Чтобы существовать, она должна была петь и с этой целью заключила контракт с импресарио, который возил ее по главным городам Италии. Она была в Болонье, когда однажды вечером ей передали карточку, на которой было написано: «Габриэли, ученице Порпоры, — Фаринелли, ученик Порпоры». Через пять минут Катарина оделась, и, справившись, где он живет, отправилась к нему. Фаринелли родился в 1705 году и с детства выказал удивительные музыкальные способности, он удивлял не только Италию, но и Англию, Германию, Испанию, в которой он был королевским певцом при Филиппе V и Фердинанде VI, в течение двадцати пяти лет пользуясь благосклонностью этих монархов. Катарина видела Фаринелли двадцать лет назад в Парме, и тогда царь певцов, как его называли, еще обладал остатками голоса и той женственной красотой (он был кастрат), из-за которой он часто играл женские роли. Но какая ужасная перемена свершилась с ним в эти двадцать лет! Габриэли, увидев его, почувствовала дрожь. Его голос походил на тот шум, какой производит камень, падающий в колодец, однако этот же голос зазвучал вполне приятно, когда певец заговорил с Габриэли. — Вы очень любезны, моя дорогая, что пришли повидаться со мной. Теперь дайте вашу руку, я покажу вам моих детей. Фаринелли называл детьми пианино и клавесины, которыми был полон его дворец. Самое любимое пианино называлось Рафаэль Урбино, за ним следовал Корреджо и как представитель Испании — Тициан. Показав Габриэли все свои сокровища, он снова провел ее в ту комнату, в которой находился Рафаэль Урбино, помеченный 1730 годом. — А теперь, моя дорогая, — сказал Фаринелли, — я надеюсь, вы споете мне что-нибудь? Каватину Жомели. Это не ново, но и я не молод. Габриэли повиновалась желанию хозяина, она спела. Она спела голосом гибким, свежим, молодым… как будто ей было двадцать лет. Фаринелли ей аккомпанировал, сам помолодевший от удовольствия. Когда она кончила петь, старик подошел к ней и, подавая ей великолепный перстень, который он смял с пальца, сказал: — Моя дорогая, вы меня одарили последней радостью, примите этот перстень на память обо мне. Этот артистический успех был последним успехом Катарины. Через несколько месяцев, признавшись себе, что голос ее с каждым днем теряетсилу, она расторгла контракт со своим импресарио. Обосновавшись в Альбано, близ Рима, она жила на скромные деньги, получаемые от продажи ее драгоценностей. В свое время Катарина гордо отказалась поселиться во Флоренции вместе с Анитой и Даниэло: тогда она была богата. Теперь же, став бедной, она не могла заставить себя обратиться к их дружбе. Ее единственное развлечение состояло в том, что каждую неделю она ходила молиться на могилу своего отца. Больше она никуда не выходила, проводя целые дни в беседке, находившейся в маленьком садике, принадлежавшем хозяину того дома, в котором она снимала квартиру. Однажды утром она заплакала: у нее для продажи осталась последняя драгоценность — перстень, подаренный ей Фаринелли. Вдруг в нескольких шагах от себя она услышала смех. И почти тотчас же хорошенькая маленькая девочка залезла к ней на колени, крича: — Здравствуйте, тетенька! А вслед за этой девочкой показались Анита и Даниэло. Они узнали о печальном положении их сестры и явились сказать ей: — Тебе мы обязаны нашим счастьем, раздели его с нами. Габриэли обняла Даниэло, Аниту и племянницу. И последовала за ними во Флоренцию. Она умерла, любимая и счастливая, 15 апреля 1796 года.КАЛЬДЕРОНЕ
Всего три любовника — поэт, герцог и король, да еще, по воле рока, с полдюжины красивых монахов в монастыре, куда ее заперли после высшего света, — вот и весь любовный итог Кальдероне, испанской актрисы и куртизанки. Не много, как видите. И история ее будет недолга. Однако при недостатке в ней великих событий вы найдете довольно любопытные черты испанского двора XVII века. И именно поэтому мы хотим рассказать вам эту историю. По нашему мнению, короли, где бы и когда они ни жили, всегда достойны изучения хотя бы потому, что, считая себя королями, они на глазах у всех говорят и совершают такие глупости, от каких залился бы краской самый последний из их подданных. Король, о котором пойдет речь, и один из трех любовников Кальдероне, был Филипп IV. Это был печальный государь, внук Карла V, двойник блаженной памяти Людовика XIII. Но у Людовика министром был Ришелье, который вместо него правил твердой рукой, тогда как Филипп IV доверил управление страной Оливаресу, человеку без способностей, натуре мелкой, честолюбивой и необычайно скаредной: для него на первом месте всегда было лишь золото. И Испания, некогда столь великая и прекрасная, в его царствование находилась прямо-таки в опасности. Французы начали с того, что разбили испанцев при Авене и Казале, Каталония была передана Франции, Португалия сбросила с себя иго рабства: все, что оставалось от Бразилии и не было отнято голландцами, перешло к Португалии. Азорские и Мозамбикские острова; Гоа и Макао освободились из-под испанского владычества. В Мадриде вывесили громадный портрет Филиппа, под которым сделали такую ироническую надпись: «Чем больше у него отнимают, тем больше он отдает!» По горло занятый своими любимыми развлечениями — театром и женщинами, Филипп даже не понял, что, желая возвеличить, его так унизили. Давид Гэн, сын простого рыбака, достигнувший звания вице-адмирала, получил приказание от Генеральных Штатов Голландии захватить флот галиотов, перевозивший в Испанию богатства Перу. Произошла жестокая битва в водах Гаваны, и победители-голландцы привезли своим соотечественникам более двадцати миллионов. Но Филипп IV у ног своей прелестной любовницы, герцогини Альбукерк, не лишился из-за этого ни одного поцелуя. Оливарес, подойдя к Филиппу, сказал ему торжественно: — Государь, у меня есть для вашего величества чудесная новость! Мы конфискуем на четырнадцать миллионов имущество герцога Браганцского, бедный герцог совсем потерял голову: его ведь провозгласили королем Португалии. — А, ладно, — ответил Филипп IV и возвратился в свой кабинет дописывать сцену для комедии. Между тем если Филипп IV как король не обладал никакими достоинствами, то как человек он их имел: он был гуманен, приветлив, великодушен, благороден. Мы только что сравнивали его с Людовиком XIII, но Филипп IV был лучше его. Людовик XIII не морщась смотрел, как вступал на эшафот, воздвигнутый Ришелье, тот, которого он называл своим другом, — великий конюший Сен-Мар. Точно так же он выслушал известие о том, что пали головы вельмож, правда, виновных в мятеже, но в жилах которых текла кровь знаменитейших фамилий Франции — Марильи и Монморанси. Он запер на четырнадцать лет в Бастилии герцога Ангулемского, последнего Валуа, и Бассомпьера, старинного друга его отца, Генриха IV. Ни в чем подобном нельзя упрекнуть Филиппа IV. Правда, это был король-ленивец, но разве публицист не сказал: «Из всех королей, которыми должны особенно дорожить народы, ленивцы заслуживают предпочтения: если уж они не имеют смелости делать добро, то они и не берут на себя труда делать зло». Но пора заняться Кальдероне. Как пролог к истории любви короля к комедиантке мы вам расскажем о любви того же короля к одной знатной даме. Крайности сходятся. Это было в 1627 году. Рожденному в 1605, наследнику трона Филиппу IV в 1627 году было двадцать два года. И в перечне его любовниц было уже столько имен, сколько ему было лет. Однако Филипп был женат на Елизавете Французской, дочери Генриха IV и сестре Людовика XIII. Что, впрочем, не помешало последнему, в лице его министра Ришелье, объявить себя смертельным врагом Филиппа. Но хотя и женатый, Филипп вел себя так, как будто был холост, и у него было на этот случай вполне логическое извинение: в свои двадцать два года он уже имел двенадцать лет супружеской жизни, то есть не собственно супружеской, потому что, женившись одиннадцати лет на Елизавете Французской, которой было всего семь, будущий король совершил только политический брак. Только через семь лет ему дозволено было рассматривать жену с менее грандиозной точки зрения, но зато, без сомнения, с более приятной. Как бы то ни было, и даже сокращая на восемь лет должные сношения, Филипп все-таки давно уже, очень давно, знал свою жену. Вот почему, продолжая сохранять к ней дружбу, он не испытывал к ней ни малейшей любви. Вот почему, вместо того чтобы заниматься ею, он занимался другими. «Другой» в 1627 году, в сентябре месяце, была герцогиня Альбукерк, жена Эдуарда Альбукерка-Коэло, маркиза де Босто, графа Фернанбука в Бразилии, кавалера ордена Христа в Португалии и камер-юнкера короля. Последнее звание он получил четыре месяца назад… Он выказал весьма посредственную радость при известии о своем новом назначении. Но король был так ловок… А Оливарес был таким смышленым советником! Ибо Оливарес не ограничивался тем, что держал бразды правления, он заодно прислуживал Филиппу IV в его любовных похождениях. Он отправлял сразу несколько должностей. И средство, изобретенное Оливаресом, — средство, которым воспользовался Филипп, чтобы сблизиться с герцогиней Альбукерк, которую ревнивый муж старался удалить от двора, было очень остроумно. Однажды вечером, в Эскуриале, в прекрасном расположении духа играя в карты, король вдруг вспомнил, что оставил неоконченным на своем бюро в кабинете необыкновенно важное письмо. Партия была дорогая: его величество играл в ней на большую сумму! Но письмо!.. Письмо было необходимо закончить. Долг превыше удовольствия. — Герцог, — сказал он Альбукерку, который участвовал в партии, — прошу вас, поиграйте за меня… Я вернусь через несколько минут. Герцог поклонился и взял карты. Между тем король, войдя в свой кабинет, быстро накинул на себя плащ и в сопровождении своего верного Оливареса отправился из дворца по потаенной лестнице и достиг отеля, где он был уверен, что найдет прекрасную Элеонору, герцогиню Альбукерк, — одну. Но на вежливого хитреца всегда найдется недоверчивый муж. После часа ожидания герцог заподозрил неладное; рассудив, что такой игрок, как его величество, не мог бросить карты ради какого-то письма, Альбукерк пришел к выводу, что его обманули. И так как сделанный им вывод покрыл его лоб холодным потом, он воспользовался этим, чтобы всем показать, как ему стало вдруг нехорошо физически, и сказал игрокам: — Извините меня, сеньоры, но я вынужден удалиться, я дурно себя чувствую, у меня колики и дрожь во всем теле… Когда король вернется, будьте так добры, скажите ему… — Конечно! Ступайте же! Ступайте, герцог!.. Король был с герцогиней в будуаре, когда Оливарес, стороживший на улице, пришел предупредить любовников о приближении герцога. Что делать? Оливарес всего на несколько секунд опередил герцога Альбукерка! Бежать невозможно! Герцогиня чуть не упала в обморок от ужаса. Сам Филипп забеспокоился. Бывают такие ситуации, когда теряются даже короли. — Подождите, подождите! — говорил Оливарес. — Не все еще потеряно. Быть может, какая-нибудь случайная причина, а не подозрение ведет сюда герцога Альбукерка!.. Нам нужно спрятаться. Когда он простится с герцогиней, то отправится в свои апартаменты, а мы — мы свободно удалимся. — Спрятаться… Но где? — пробормотала прекрасная Элеонора. — Разве рядом нет какой-нибудь комнаты?.. Да вот!.. Оливарес дотронулся до двери в глубине будуара. — О! — возразила герцогиня, краснея, несмотря на свою бледность. — Это моя уборная! Я недавно приняла там ванну… Королю там будет ужасно дурно. На лестнице послышались шаги герцога. — А! — воскликнул Оливарес. — На войне как на войне! Он отворил дверь уборной, втолкнул туда короля, которому надо было в этом помочь, и исчез с ним в сумраке комнаты. В ту же минуту герцог с палкой в руке ворвался, как бомба, в будуар. — О Боже! Герцог, вы меня испугали! — воскликнула герцогиня, привскочив на своем кресле. Альбукерк на минуту замер, удивленный тем, что нашел жену свою одну. Уж не ошибся ли он? Король, быть может, не оставлял Эскуриала? Бух!.. В уборной повалился стул. Герцогиня изо всех сил кашлянула. Поздно!.. Герцог все понял. Короля не было в Эскуриале, он был там. — А! Я испугал вас, сеньора! — в свою очередь и вовремя возразил герцог. — Но вместо того чтобы испугаться моего прихода, вы должны бы порадоваться. — Порадоваться?.. Почему?.. — Потому что я избавлю вас от большой опасности. — От большой опасности?.. От какой?.. — Сюда проник вор, быть может, даже убийца, от ножа которого вы должны были погибнуть. — Вор? Убийца? — Да! Но, к сожалению, слуги мои спали и не предупредили меня, зато теперь этот негодяй падет от моих рук! Он там, в этом кабинете. Он не выйдет оттуда живой! Произнеся эти слова, Альбукерк бросился к уборной. Герцогиня хотела его удержать, но было поздно! Герцог уже находился в секретном приюте, где, размахивая направо-налево своей тростью, кричал: — А, разбойник! Ты не ожидал, что тебя найдут! Вот тебе, грабитель!.. Вот тебе, злодей!.. А! Ты хотел убить мою жену!.. — Остановитесь, герцог! — вскричал Оливарес, бросаясь к Альбукерку, трость которого он с трудом смог удержать. — Остановитесь, или вы ответите за оскорбление его величества! Здесь нет воров, здесь король и его первый министр — Гаспар де Гусман, граф-герцог Оливарес!.. Альбукерк не ответил ничего, но направился к будуару. Филипп IV вышел из уборной, сопровождаемый Оливаресом. Король был бледен, но той бледностью, которая вовсе не выражала ярости мщения. В глубине души он извинял поведение обманутого мужа. Король искоса взглянул на этого человека: такой же бледный, с поникшей головой, с опущенными долу глазами. Герцогиня, закрыв лицо руками, плакала в углу. Потом, не сказав ни слова, король взял под руку своего фаворита и ушел. На другой день утром герцог Альбукерк получил предписание немедленно выехать в Бразилию. Его жена включалась в свиту ее величества императрицы, и герцог должен был ехать один. В то время когда мы начинаем свой рассказ, то есть 20 сентября 1628 года, герцог Альбукерк уже четыре месяца познавал Бразилию. И ровно четыре месяца, вопреки своему обычному непостоянству, Филипп IV познавал любовь с прекрасной герцогиней Элеонорой в Испании. Однако вот уже три или четыре недели, как пламень любовников, по-видимому, потух, герцогиня стала мечтательной, рассеянной возле короля, король стал менее нежен с герцогиней. Любовь умерла… Кто же сожалел о ее кончине? Не тот, о ком вы думаете. 20 сентября, вечером, от скуки в Эскуриале Филиппу пришла фантазия провести часок с женой в Прадо — королевской резиденции, в двух лье от столицы, где королева жила летом. В то же время это был для него случай поцеловать руку герцогини Альбукерк, которую он не видел уже четыре дня. В сопровождении одного пажа он поехал верхом. Достигнув решетки Прадо — вечер был великолепный, — король соскочил с лошади, решив дойти пешком до дворца через парк. Лакей отвел лошадей в конюшню, за королем следовал только паж. Причиной этого каприза было вот что. Филипп IV, как мы сказали, страстно любил театр, он сам сочинял комедии. Еще со вчерашнего вечера он почувствовал литературные позывы: он сочинял план нового произведения, названного «Умереть за свою даму», над которым он трудился, изощряя все свои поэтические способности. И если ему захотелось пройти пешком через парк Прадо, то не для того, чтобы поупражняться в ходьбе, а чтобы придать своей музе, — оживляемой вечерним воздухом и ароматом цветов, — некое парение, которым она, конечно, поспешила бы воспользоваться. Паж, ребенок лет четырнадцати по имени Мариано, который, как умный мальчик, угадал намерения своего короля, шел позади него на цыпочках. И Филипп не мог пожаловаться на свое уединение. «Умереть за свою даму» вполне развертывалась в его воображении. Еще одна или две сцены — и комедия будет готова. Но зато если поэт был доволен, то король мог оказаться недовольным в самом скором времени. Увлекая короля, поэт вел его по прелестным маленьким дорожкам, которые все более и более удаляли его от дворца. Если б это продолжилось, поэт достиг бы своей цели, но король, заблудившись в парке, должен был бы отказаться на этот вечер от удовольствия видеть свою супругу. Именно в эту минуту его величество приближался к вязовой и дубовой роще, довольно обширной. «Если мы войдем в нее, мы погибли, — подумал Мариано. — Нам не выйти!» Но вдруг паж и король одновременно остановились, услышав чей-то шепот, доносившийся из беседки дикого винограда. Шепот этот принадлежал двум голосам. Мужскому и женскому… Поэт уступил любопытству короля, пожелавшего узнать, кто таким образом изъяснялся в любви — ночью, в саду одной из его резиденций? Знаком он приказал пажу молчать и проник в беседку, но стоило ему лишь заглянуть туда, как крик ярости вырвался из его груди. Это герцогиня Альбукерк, его любовница, была там с одним из первых его сеньоров, с герцогом Медина де ла Торресом. При крике короля, при его внезапном появлении виновные бросились в глубину беседки. Филипп выхватил кинжал. Но при известных обстоятельствах, в самые трудные минуты, он реже всего бывал злым. Ему говорили: «Герцогиня вам изменяет», — он смеялся. Он уже не любил ее. Но быть обманутым ею?! Нет, он убьет ее. — Государь!.. Государь!.. Помилосердствуйте! Эти слова произнес маленький паж, обнимая колени своего короля. Герцогиня Альбукерк всегда была милостива к нему, он не хотел, чтобы ее убивали. Филипп вложил свой кинжал в ножны и, обращаясь к герцогу и герцогине, сказал: — По крайней мере, сеньор и сеньора, такие вещи делаются у себя дома, а не у королевы! Тем все и кончилось; он повернулся спиной к чете, слишком счастливой, что отделалась так дешево. Но направляясь вправо, ко дворцу, Филипп не без некоторой горечи процедил сквозь зубы: — И это в тот момент, когда я стараюсь доказать, как хорошо умереть за свою даму! Нет! Ради этой умирать не стоит!.. Так у Филиппа не стало любовницы. Понятно, что только от него зависело заменить неблагодарную Элеонору. При его дворе не было недостатка в желающих иметь счастье принадлежать королю. Но опять знатная дама? У короля было много знатных дам. До сих пор он имел только знатных дам. Неверность одной из них внушила ему желание сделаться, в свою очередь неверным им всем. Он размышлял об этом важном деле в своем рабочем кабинете, когда ему доложили о сеньоре Морето-и-Каванна. Морето-и-Каванна и Кальдерон де ла Барка, два наиболее знаменитых драматических поэта Испании, еще очень молодые в ту пору, а следовательно, не получившие еще всей своей известности, имели неизъяснимую честь быть друзьями Филиппа IV, который спрашивал у них советов насчет своих литературных произведений. Морето особенно пользовался симпатией Филиппа IV, не потому, что у него было больше ума и таланта, чем у Кальдерона, а потому, что он был большим льстецом: когда король удостаивал чести что-нибудь прочесть ему, он лучше и чаще, чем Кальдерон, восторгался. Представляя из себя артиста, король все-таки остается королем, ему нужны не товарищи, но куртизаны. Филипп позвал Морето, чтобы посоветоваться с ним насчет плана комедии, и поэт, услышав одно лишь название, тут же чуть не помер от смеха: — Умереть за свою даму?.. Только его величество мог придумать подобное заглавие! Затем целый час они толковали о пьесе: Филипп думал то, Филипп думал это, такое-то лицо будет иметь такой-то характер, в такой-то сцене встретится такая-то перипетия… Морето постоянно восклицал: — Прелестно!.. Прелестно!.. Восхитительно!.. К счастью, пьеса была в одном только акте, будь она в двух, Морето вынужден был бы остановиться, он истощил весь словарь восторга. В итоге это свидание так расположило Филиппа к Морето, что, излившись перед ним как автор, он ощутил потребность открыться ему как человек. Преподнося букет своего искусного восхищения, Морето говорил королю, что он должен гордиться тем, что уже увенчан всеми лаврами. — Не считая, — закончил он с улыбкой умиления, — лавров любви! Филипп вовсе не гнушался тем, что людей занимают его любовные похождения. Однако при этих словах поэта лицо его несколько омрачилось. — Ах, Морето, ты думаешь, — сказал он, — что любовь меня балует… Ты ошибаешься, друг мой! Женщины смеются надо мной, как над последним нищим в моем государстве. Морето всплеснул руками. — Ваше величество шутит! — Нисколько, и ты будешь очень удивлен, если я расскажу тебе мое последнее несчастье. И я решился отныне искать любовных развлечений не в том мире, от которого имел обыкновение их требовать. Обман за обман! По крайней мере, буду утешаться тем, что теперь мне станут изменять женщины, которых любят так, по глупости… всякие мещанки… актрисы… И я думаю, что… — Король пристально посмотрел на Морето и продолжал: — Ты мог бы руководить мной на этой новой дороге. Вот уже четыре месяца, как я не был в театре. Видел ли ты там, за кулисами, какую-нибудь девушку, способную занять меня на недельку? Ты меня понимаешь?.. Но я не хотел бы и посрамления… Словом, если уж выбирать былиночку, то пусть не слишком увядшую… Итак? Морето молчал. Он мысленно разбирал эту новую дорогу. Вдруг он вздрогнул, как человек, который борется с дурной мыслью. Нечто вроде колебания отразилось в его лице. — Итак? — Итак, — сказал поэт, — я могу исполнить ваше желание, государь. — Можешь? — То есть я знаю, на кого обратить внимание вашего величества. — А!.. А!.. Актриса? — Актриса. — Молодая? — Шестнадцати лет. — Хорошенькая? — Как игрушечка. — А имя этой игрушечки? — Мария Кальдероне. — Кальдероне?.. Погоди! Это не родственница?.. — Кальдерона? Нисколько… Уж такая не родственница, что… — Что? — Кальдерон до сумасшествия влюблен в нее. — Черт возьми! Уже и соперник! — О! Соперник не опасный. Она не любит Кальдерона. — Кого же она любит? — Никого. — Никого? В шестнадцать лет?.. Актриса?.. — О! Кальдероне, несмотря на свои шестнадцать лет, вовсе не похожа на других актрис. Театр для нее лишь ступенька… — Чтоб достигнуть? — Состояния. — A-а!.. Но если она хороша собой и благоразумна… ей будет это легко. Состояние, о каком мечтает девушка шестнадцати лет… актриса… Это же не сокровища Индии!.. — Пусть ваше величество не верит ей. Кальдероне будет требовательна. — Но ты хорошо знаешь эту малютку, Морето? — Очень! Я люблю ее! — Ты любишь ее? — И оставляю ее вам? Так что же делать, если она меня ненавидит? — Вот как?.. Бедный друг, это ты так с досады… Но известно ли тебе, что женщина из низших слоев, ставшая любовницей испанского короля, не имеет права, когда король ее оставит, оставаться в обществе и обязана… — Уйти в монастырь. Извините, государь, я вполне знаю этот закон. Но это не мешает мне желать, чтобы Кальдероне принадлежала вам. Только вам одному. — Да. Это справедливо… Я ошибся, Морето. Тобой сейчас движет не ненависть, а чувство мести, хотя я не вменю это тебе в вину… Итак, благодарю тебя, мой друг. Скажи, Кальдероне сегодня вечером играет?.. — Да, государь, играет в «Жизнь есть сок». — Кальдерона? Хорошо. Я пойду смотреть ее. Прощай. Его величество отпускал поэта, но поэт не уходил. — Ты хочешь еще что-нибудь сказать мне? — спросил Филипп. — Последнее слово, государь. Я друг Кальдерона… И хотя она, Кальдероне, так же не любит его, как и меня… — Тебе было бы неприятно, если б он узнал обо всем? И что ему вообще больше не на что надеяться — благодаря тебе?.. Я буду молчать. Ступай. На сей раз Морето ушел. Оставшись один, Филипп с отвращением проговорил: — Тьфу! Эти поэты не лучше вельмож!.. Бедный Кальдерон, быть может, еще поплачет о том, что своими комедиями заставлял смеяться своего друга… А вдруг эта малютка не любит его? Театр дель-Принчипе был полон. В этот вечер играла Кальдероне. У нее, стало быть, был талант, если она так привлекала толпу? Нет, не талант, а чрезвычайная прелесть. Родившись в Мадриде 15 августа 1611 года, от бедняка, по ремеслу носильщика, и кончиты (странствующей плясуньи), Мария Кальдероне, сирота в семь лет, была воспитана актрисой, Марией де Кордова, — более известной под именем Амаралисы, — которая выучила ее читать по одной из своих ролей. В двенадцать лет Кальдероне знала наизусть четвертую часть пьес Лопе де Вега, а Лопе написал их две тысячи двести. Тринадцати лет она поступила на сцену в Кадиксе. Пятнадцати она приобрела репутацию в Севилье в ролях ангелов, в представлениях, называвшихся во Франции в XVI веке мистериями. Наконец, шестнадцати лет, в Мадриде, где она была уже три месяца, ее заметили в пьесах плаща и шпаги, что в то время обозначало высокую комедию. И особенно она была обязана страсти, внушенной ею Кальдерону, автору одной из пьес, в которой она играла, за те рукоплескания, какими ее осыпали каждый вечер, Ибо он заставлял ее повторять роли с первого до последнего действия. И в благодарность за такие заботы вправду ли Кальдероне не любила своего наставника? Морето солгал королю. Кальдероне любила Кальдерона. Но… войдем в гримерную актрисы, готовящейся одеваться. Перед «Жизнь есть сон» играли другую комедию, в которой она не участвовала, а потому она не спешила одеваться, находясь в обществе поэта и камеристки. Подслушаем их разговор… Но прежде всего мы должны сказать, что в одном случае Морето был прав: Кальдероне была прелестна, более чем прелестна — восхитительна. Она была среднего роста, ее волосы, падавшие локонами на лоб, а сзади заплетенные в косы, были черны как смоль, ее белая матовая кожа была облита теплыми и оживленными тонами, глаза, осененные длинными ресницами, бросали пламя и искры страсти, ротик, пунцовый и свежий, как цветок граната, просил поцелуев. И при этом вопреки моде, царившей в то время в Испании, — смешной и глупой моде, требовавшей, чтобы женщина, достойная названия красавицы, была худа как щепка, Кальдероне, не будучи жирной, обладала той крепостью и округлостью форм, которые так привлекают взгляды. Кальдерону в 1627 году было двадцать шесть лет. Высокий и худой, черноволосый, с прямым носом, с мясистыми губами, густыми бровями — он походил на Мольера. И действительно, если Филипп IV не был Людовиком XIII, то Кальдерон был Мольером его века. Кальдероне, когда мы вошли к ней в гримерную, бранила Кальдерона. Он был печален. Тщетно старалась она в продолжение четверти часа заставить его смеяться, рассказывая ему театральные истории, — морщины на лице его не разглаживались. Сидя перед зеркалом, перед которым она причесывалась с помощью своей камеристки Инессы, Кальдероне могла судить о безуспешности своих усилий. Наконец она рассердилась и покраснела. Бросив гребенки и щетки и быстро обернувшись к Кальдерону, она вскричала: — И для чего вы здесь, если все, что я говорю вам, надоедает! Ступайте вон! Он встал и пошел к двери. — Педро! Так звали Кальдерона. Он остановился. Ласковая рука и нежный голос задержали его. — Оставь нас на минуту, Инесса, — приказала Кальдероне. Камеристка вышла. — Посмотрим, что с вами! — начала актриса. — Почему вы печальны? Что сделала я вам сегодня вечером?.. — Увы! — вздохнул он. — Ничего особенного. Ничего ни доброго, ни злого. Она закусила губы. — А! — прошептала она. — Упреки! Всегда упреки! Я сказала вам, что люблю вас. Я доказала вам это… Отчего же вы такой мрачный? — Оттого, что все ваши доказательства чувства, которые, как вы сказали, вы испытываете ко мне, вовсе и не доказательства. Актриса с досады забавно топнула ногой. — Святый Боже! Это уж слишком! — воскликнула она. И, быстрым движением схватив обеими руками голову поэта, она два раза поцеловала его глаза. — Ну, а это, милостивый государь, не доказательство?.. Чего же вам еще нужно? — Чего мне нужно!.. Возбужденный действиями молодой девушки, Кальдерон, в свою очередь, обнял ее, его пламенные губы приблизились к ней, чтобы возвратить поцелуй самому источнику этих поцелуев. Но она оттолкнула его и, серьезная, строгая, проговорила: — Нет! Не так! — Ах, вы сами видите, что не любите меня! — сказал он. — И все ваши уверения ничего не значат. Я… я никогда не буду для вас ничем иным, как другом… — Никогда? Почем вы знаете? Он наклонил голову с видом сомнения. — Послушайте, Педро, — начала она, — хотите поговорить пять минут, как я никогда не говорила с вами, со всей откровенностью?.. — Со всей откровенностью? Но я, со своей стороны, никогда не говорил вам ни одного слова, которое было бы неискренне… Я обожаю вас и… — Женитесь вы на мне, если я попрошу вас? Вопрос был настолько прям, что Кальдерон не мог скрыть сильного смущения. — Полно! — улыбаясь, продолжала актриса. — Вы мне не отвечаете, Педро? — Извини, дорогая Мария… я… — Тсс! Тсс! Без лишних слов!.. Вы меня обожаете, но не настолько, чтоб жениться на мне… Успокойтесь, если вы считаете, что я не могу быть вашей женой, я тоже, со своей стороны не имею желания иметь вас мужем! Несмотря на подобие наших имен, сеньор Педро Кальдерон де ла Барка — Кальдерон-поэт, призванный быть в будущем славой Испании, не может быть мужем Кальдероне, дочери Мигуэля Кальдероне, носильщика, и Елены, бродячей плясуньи… Он будет ее любовником, и довольно. — Это все? — вскричал Кальдерон, физиономия которого расцвела. — Все! — весело повторила молодая девушка. — Это подлежит разбору, но не станем разбирать! Мы согласны: вы любите меня, я люблю вас, и буду ваша. Я этого хочу, я в этом клянусь!.. — Милая Мария! Но в таком случае, почему… — Я не ваша сейчас же? Я вам объясню это со всей откровенностью, мой друг. И именно потому, что я уважаю причины, по которым вы не можете соединиться со мной брачными узами, которые отяготят вас, я надеюсь, что вы не станете укорять меня за осторожность, с какой я не спешу сделать вас счастливым. Сделать нас счастливыми!.. Вы не упрекнете меня в кокетстве?.. Упоенный радостью, Кальдерон упал к ее ногам. — А причина этой осторожности? — спросил он. В ложе актрисы, на ее туалете была роза, она взяла ее и подала возлюбленному. — Не правда ли, эта роза прекрасна? — сказала она. — Да. Кто вам дал ее? — Приятельница моя, Балтазара. Да, эта роза прекрасна, и я была в восхищении, когда она мне подарила ее. Но не полагаете ли вы, что мне было бы приятнее самой сорвать ее с ветки, чем иметь из других рук? Иметь ее, когда никто еще не вдыхал ее аромата?.. — Без сомнения. — Итак, мой друг, я похожа на эту розу. Мне шестнадцать лет. Я недурна, но одно из моих достоинств, самое привлекательное, особенно в глазах тех, кто может за мной ухаживать, — то, что я еще на стебле. Пусть завтра узнают, что у меня есть любовник, и я потеряю три четверти моей цены. Итак, не имея возможности быть женой человека, которого я люблю, и имея от нет одно только его сердце, потому что вы ничего не можете дать мне, Педро, вы не богаты, я решила, что получу состояние от человека, которого я не люблю. Но чтоб этот человек согласился дать мне то, чего я желаю, необходимо, чтобы он не только думал, что он мне нравится, но еще и то, что он нравится мне первый. Понимаете?.. Кальдерон горько улыбнулся. — Я понимаю очень хорошо, — ответил он, — и поздравляю вас, моя дорогая Мария. Для шестнадцатилетней девушки вы отлично умеете рассчитывать. — Это вас возмущает? Поэт встал, взял свою шляпу и снова направился к двери. Кальдероне снова остановила его, сказав: — Так вы меня больше не любите? Из-за того, что я открыла вам, что настоящее для меня еще не все, что я также думаю о будущем, вы гнушаетесь мною? Вы не хотите, чтоб я была вашей женой… Как любовницу вы не можете меня обеспечить, а я хочу золота, оно мне нужно! Я боюсь бедности!.. И вы находите дурным, что я говорю вам: «Взамен моего сердца, которое будет твое, скоро, завтра, сегодня вечером, быть может, оставь мне право и власть приобрести богатство»? Кальдерон продолжал молчать. — А! Берегитесь, Педро, — с угрозой произнесла молодая девушка. — Я люблю тебя, это правда, но презрение убивает любовь!.. Если ты выйдешь сегодня отсюда, не сказав: «Всегда твой», — я никогда не буду твоей. Бедный поэт не размышлял более. Обернувшись к Кальдероне, с бледным лицом, по которому катились слезы, он пробормотал: — Ах, ты хорошо знаешь, мой демон, что я всегда буду твой, что бы ты ни делала и чего бы ни желала!.. — В добрый час! — воскликнула она, торжествуя, и, бросившись к нему на шею, подарила ему третий, на этот раз настоящий, поцелуй. — На… Вот тебе, чтоб придать смелости для ожидания. Кальдерон ушел. Кальдероне, вздохнув глубже, чем то могут высказать слова, позвала свою камеристку. Та вбежала радостная. — Ах, сеньорита! — Что? — Король в театре! Он вошел в свою ложу. Он будет смотреть вашу игру. Актриса покачала головой. — Меня и других, — сказала она. — Балтазара и Вака тоже играют в пьесе «Жизнь есть сон». — О! Но Вака стара, а Балтазара дурна… А вы молоды и хороши. — О льстивая! — Скажите, сеньорита, что, если б король влюбился в вас? — Поди! Ты с ума сошла!.. Одень меня! Это была правда. Как он и обещал поутру Морето, Филипп IV явился в этот вечер в театр удостовериться, действительно ли Кальдероне была достойна того, чтобы заставить его забыть герцогиню Альбукерк. Но удивительно, что в тот же вечер, по той же самой причине и с той же целью, что и король, в театре был и герцог Медина де ла Торрес. Подобно королю, Медина впервые увидел Кальдероне и нашел ее прелестной, точно так же, как король. И опять же подобно королю, после спектакля, узнав, где живет молодая актриса, герцог решил не мешкая отправиться к ней, чтобы высказать ей свои любовные предложения. Но тогда как Медина направился по самой краткой дороге к жилищу Кальдероне, Филипп, руководимый Оливаресом, избрал самую длинную. И когда около полуночи его величество постучал в дверь актрисы, герцог Медина уже с полчаса был у нее. На что же Медина потратил эти полчаса? Объясним, но начнем наш рассказ чуть раньше. Когда Кальдероне играла, Кальдерон имел обыкновение ожидать ее у театрального входа, чтобы проводить домой. Но в этот вечер, одновременно счастливый и несчастный после откровенного разговора, даже более несчастный, чем счастливый, поэт удалился, а вернее — просто убежал как сумасшедший, хотя со всех сторон ему кричали: «Король в театре!» Однако перед уходом Кальдерон попросил одну из подруг артистки, Барбару Коранель, исполнить в этот раз его роль, роль провожатого. И Кальдероне безмолвно приняла эту перемену. Прежде всего она была уверена, что Кальдерон будет на нее какое-то время зол за ее откровенность. Потом, как артистка, она была слишком восхищена этим вечером, чтоб позволить властвовать над собой как над любовницей из-за его плохого настроения. По словам Инессы, король весь спектакль, казалось, не сводил с нее глаз и слушал ее одну… А что, если это сбудется? Если король… А почему бы нет?.. Но монастырь, куда она должна будет запереться после того, как король перестанет ее любить! Э, пусть он только ее полюбит! Она чувствовала в себе силу удержать его в своих руках, так что до монастыря еще далеко. Это была, как видите, девушка с характером. Но она была воспитана в прекрасных правилах ее приемной матерью, Марией де Кордова, которая уже около месяца жила в Севилье, удерживаемая своими семейными делами, Кальдероне оставалась одна со своей горничной в самом скромном обиталище, в нижнем этаже одного из домов по улице св. Иеронима. Прошло минут двенадцать, как она вернулась домой, куда ее привела старая Барбара Коранель. Она занималась в своей спальне ночным туалетом, а в соседней комнате камеристка готовила ужин. — Если вам угодно, сеньорита, — закричала Инесса, — все готово! — Вот и я! — ответила Кальдероне. И она уселась за стол напротив своей камеристки. О, это был отнюдь не пир! Кисть винограда и по две-три фиги каждой, ну и хлеб с водой для обеих — вот и все. После такого ужина плохие сны не снятся. Кальдероне уничтожала свою порцию, Инесса — свою, когда постучались в дверь, выходившую на улицу. — Стой! — прошептала служанка и добавила громко: — Кто там? — Герцог Медина де ла Торрес, — отвечал голос за дверью. — Герцог Медина де ла Торрес, — тихо, со вздохом повторила Кальдероне. Однако она встала и подошла к двери. — Что вам угодно, сеньор? — Поговорить с Кальдероне… Поговорить с вами, потому что я узнал ваш голос. — Но я вас не знаю… Я никогда вас не видела… — Отоприте, вы увидите и узнаете меня. Мария глазами советовалась с Инессой, в то же время внутренне советуясь сама с собой. Герцог не король… но это почти такое же блюдо… Во всяком случае, можно посмотреть! Инесса движением головы сказала ей: «Отоприте!» В одно время с ней и Кальдероне сказала самой себе: «Отпереть!» Она открыла. И ее первым впечатлением при виде посетителя было вовсе не сожаление — напротив! Герцог был молод и красив, моложе всех вельмож двора Филиппа IV. Двадцати трех лет, он обладал стройной талией, благородными и нежными чертами лица. Он поклонился актрисе и поцеловал у нее руку. — И притом, — сказал он голосом, в котором слышался легкий оттенок надменности, — и притом, сеньорита, разве теперь, когда вы меня знаете, поздно уделить мне несколько минут вашего внимания? Он подчеркнул это слово «поздно». Кальдероне покраснела, чем доказывалось, что она отлично поняла смысл. — Нет, — ответила она, — нет, сеньор, не слишком поздно. — Благословен Бог! Поговорим прямо сейчас же! — весело вскричал Медина. Он сел. — Прошу вас сюда, сеньор! — сказала актриса. Около стола, еще уставленного простыми кушаньями, ей не нравилось беседовать с блистательным вельможей. — Как вам угодно! — ответил он. Между спальнями Кальдероне и ее приемной матери была маленькая комната, которая при случае могла сойти за залу (мы говорим «при случае» потому, что она ничем не отличалась по своей обстановке от прочих комнат). В нее-то Кальдероне во главе с Инессой со светильником ввела герцога. И этот человек, от которого не ускользнула чрезмерная простота убранства, вывел из этого благоприятное для себя заключение, что цитадель, нуждаясь почти в самом необходимом, не долго выдержит осаду. Камеристка вышла. — Мое милое дитя, — приступил Медина, — я не буду несправедлив, сомневаясь в вашем уме. Вы знаете, зачем я у вас сию минуту. Вы прекрасны, я — богат. Я хорошо понял ваш ответ: у вас нет любовника. У меня нет любовницы. Хотите быть моею? Не правда ли, да? Подпишем контракт. Проговорив эти слова, герцог обнял Кальдероне за талию, но она вырвалась, и, вся еще пунцовая, но, однако, улыбающаяся, сказала: — Вы очень спешите, сеньор. Он рассматривал ее с изумлением. — А это вам не нравится? — возразил он. — Вы предпочли бы, чтоб близ вас я оставался холодным и бесчувственным?.. — Но мне в первый раз говорят так, как вы. Я скромна… — Тем лучше, ради Бога! Условия нашего взаимного договора будут для вас выгодны… Молода, прелестна, скромна… Посмотрим: за молодость — дом на площади Алькада! Довольно? — О сеньор! — За красоту — тысячу дублонов в месяц. Достаточно?.. — Сеньор! — А за скромность… О! Я уж и не знаю что… скромность неоценима!.. Ну, за скромность — две тысячи дублонов в месяц и целый дождь поцелуев каждый день… Достаточно? Хочешь больше? Приказывай! Но… подпишем, подпишем… Он снова сжал ее в объятиях. Он был красив, очень красив! И при том, казалось, деньги ему так мало стоили… Грезы Кальдероне осуществлялись, у нее будут полные руки золота! Она подписала. Тук-тук! Во второй раз постучались в наружную дверь актрисы; стук дошел до слуха любовников, сидевших в зале. — Это что? — спросил герцог, уже сожалея о том, что он прибавил за скромность. — Ждете кого-нибудь? — Нет! Клянусь вам! Она сказала это так искренне, что он устыдился своего сомнения. Тук-тук-тук! Стучал кто-то, по-видимому, нетерпеливо. Прибежала Инесса. — Сеньорита, слышите? Это двое мужчин. Я их видела из залы. Двое мужчин, закутанных в плащи. Медина вынул свою шпагу. — Если б их было четверо, десятеро, целая сотня, — гордо сказал он, — там, где герцог Медина, другим нет места! Он хотел броситься вперед. — Умоляю вас, сеньор! — сказала Кальдероне, думая о Кальдероне. — Повторяю вам, я никого не жду… Но вас я тоже не ждала, а вы между тем пришли… Быть может, это друг, может быть, театральная подруга, которая имеет во мне нужду, — позвольте же мне… Тук! Тук! Тук!.. Тук! Тук!.. Ясно, что совсем теряли терпение. — Хорошо, ступайте! — сказал Медина. Но он стоял на пороге залы, между тем как актриса и служанка подошли к двери, выходившей на улицу. — Кто там? — спросила Кальдероне. — Король! — ответил Оливарес. — Отпирайте скорее… — Король! Бледный, как мертвец, Медина на цыпочках подскочил к Кальдероне и задыхающимся голосом прошептал: — Отоприте! Но если вы не хотите моей гибели, ни слова его величеству, что я здесь. Герцог вернулся в залу. — Отоприте, Инесса, — сказала Кальдероне. Король и Оливарес, когда наконец дверь открылась, скорее проскользнули, чем вошли сюда. И первые слова, с которыми они обратились к ней, выражали дурное расположение духа. — Право, моя милая! — сказал король. — Вы очень долго не отвечаете. — Что вы делали? Полагаю, вы еще не ложились? — спросил министр. Стоя около Инессы, с опущенными глазами, Кальдероне, казалось, была жертвой такого сильного смущения, что оно отняло у нее дар речи. — Скажите, милое дитя, — начал более нежно Филипп, — почему вы не отпирали?.. — Боже мой, государь, потому что… вовсе не полагая, что это ваше величество удостаивает чести свою преданную служанку, стучась в ее дверь, я не спешила отпереть… я не имею обыкновения принимать в это время посетителей… потом… потому что я была занята… вместе с камеристкой в моей спальне чтением письма, которое я получила от моей доброй и любимой приемной матушки, сеньоры Марии де Кордова… Взгляните, государь!.. Актриса подала королю бумагу, которую она вынула из кармана. Филипп взял ее и, бросив беглый взгляд, возвратил назад Кальдероне. — Хорошо! Хорошо! — сказал он. — Во всяком случае, не вам извиняться, милое дитя, я должен просить у вас извинения за то, что так внезапно явился к вам. — О государь, я так счастлива!.. — Право! Вы не желаете от меня извинения? Увидев вашу игру сегодня вечером, я пожелал высказать вам лично, тотчас же, весь интерес, какой вы мне внушили. И если б я был расположен выразить вам этот интерес самым нежным образом, вы не оттолкнули бы меня?.. Король прижал к губам руку Кальдероне. Наступило молчание, министр и служанка деликатно отвернулись. В это время губы короля переместились. О! Филипп был очень тороплив в любви!.. Впрочем, не торопливее герцога Медины. — Ты никого не любишь? — вполголоса спросил Филипп Кальдероне. — Никого, — не колеблясь, отвечала она. — Ни Морето… ни Кальдерона?.. Она взглянула на короля. — К чему мне любить их? — Просто спросил! Я не знаю, от кого я слышал, что оба поэта ухаживают за тобой. Она наклонила голову, чтобы поразмыслить. «Это Морето говорил обо мне королю из ненависти к Кальдерону, которого я предпочла ему». — Вас обманули, ваше величество! Я не люблю ни того, ни другого… я только дружу с Кальдероном, который добр, и совершенно равнодушна к Морето, который завистлив и зол. — Может, ты права, — сказал Филипп. — Оливарес! Граф-герцог подошел. — Завтра я буду говорить с тобой о том, что может пожелать эта милая крошка. И желай много, слышишь, Мария? Что бы ни делали голландцы, у меня в ящиках есть еще золото для любимой женщины. — Я буду обращаться с вами, ваше величество, по достоинству, — ответила Кальдероне, — как с королем. — Да, да! — насмешливо сказал король. — Я также знаю, что ты способна раздражать меня как короля! «Это опять Морето сказал ему, — снова подумала Кальдероне. — Морето сказал ему, что я жадна и честолюбива». — А теперь, — продолжал Филипп, — мы оставим тебя отдохнуть после ужина. Ведь ты уже ужинала, как мне кажется? Он, улыбаясь, взглянул на стол. — Я получаю только двадцать дублонов в месяц, государь! — сказала Кальдероне, которая прочитала эту улыбку. — Потому-тоты мне и нравишься! — быстро возразил Филипп. — Если б ты получала тысячу, ты не была бы тем, что ты теперь, — таким лакомым кусочком. До свидания, моя жемчужина!.. До скорого! Через несколько секунд, уверенная, что царственный посетитель и его спутник уже далеко, Кальдероне отправилась в залу к герцогу. Он все слышал из своего убежища. — Ах! — вздохнул он, снова увидя молодую актрису. — Это досадно! — На что вы досадуете, сеньор? — спросила она самым наивным тоном. — На то, что вы нравитесь королю. Мне вы столько же нравитесь. Но, чего бы мне ни стоило, на этот раз я склонюсь перед его могуществом! Она с изумлением посмотрела на него. — На этот раз? — повторила она. — Разве вы не всегда склонялись перед ним? — Милое дитя, в том положении, в каком мы находимся, я не могу иметь от вас секретов. Недавно я совершил проступок, полюбив одну с королем женщину… И он меня застал на месте преступления. — А! Что же сказал его величество? — Ничего. Или почти ничего. — Значит, его величество уже не любит эту даму. — Очень возможно. Но вот что дурно: чтоб доказать королю, что я чувствую его великодушие, я немедленно разошелся с нашей любовницей… и ищу новую, за которую он не мог бы упрекнуть меня, что я ее у него похищаю. И надобно же было, чтоб та, которую я нашел, самая прелестная девушка в Испании, — вы! — была та же самая, с которой и его величество хочет забыть неверную. Не правда ли, ведь я имею право роптать на судьбу! Кальдероне кивнула головой. — Справедливо, — ответила она. — Я понимаю вашу печаль. Ибо, как вы сказали сейчас, на этот раз вы должны преклониться перед всемогуществом. Если король меня любит, — а если не любит, то полюбит, — он не простит вам, что вы тоже полюбили меня. Прощайте же, сеньор. Благоразумие — хороший советчик. Мы никогда не виделись и никогда не увидимся снова! О, не беспокойтесь! В первый же раз, как я вас встречу, я и виду не покажу, что знаю вас. Я вас не скомпрометирую. Говоря таким образом, Кальдероне устремила на герцога шаловливый взгляд. Нужно было быть слепым и не иметь от роду двадцати трех лет, как Медина, чтобы противиться этому зову. Он наклонился к ней и голосом, задрожавшим от страсти, проговорил: — А если, несмотря на все… я скажу тебе, что все-таки люблю, что из этого выйдет? Она пожала плечами. — Очень обыкновенное, — ответила она. — Король явился вторым, он вторым и останется! — Милая Мария!.. Но, оттолкнув его, она сказала: — Нет! Будем благоразумны. Завтра я жду герцога Оливареса, завтра вечером, мой друг, вы получите обо мне известие. — Ты клянешься мне? — Клянусь! Если я прелестна — вы красивы! Если вы меня любите — я люблю вас. Сначала любовь… потом всемогущество… Это в порядке вещей. Прощайте!.. Эту ночь, столь насыщенную событиями, Кальдерон провел прогуливаясь по берегу Мансанареса; только утром он пришел домой, разбитый и физически и нравственно. Он спал, когда Инесса, камеристка Кальдероне, разбудила его, чтобы передать ему письмо. «Мне необходимо сегодня вечером поговорить с вами, мой друг, необходимо. Я не шучу. От девяти до десяти я вас жду у себя. И без глупостей! Вы жестоко в них раскаетесь! Мария». Кальдерон был точен. В девять часов он явился к ней. Она приняла его в спальне. В лице, в движении молодой девушки было нечто поразившее Кальдерона. Это была смесь радости и страдания, стыда и гордости, но над всем царило какое-то приятное выражение. — Педро, — быстро сказала она ему, — король меня видел вчера в театре. После спектакля король явился сюда, ко мне… Он меня любит… я буду его любовницей. Кальдерон, сидевший рядом с актрисой, поднялся со своего стула, как будто тот превратился в колючки. — Так вы меня для этого звали? — вскричал он. — Разве бы вы предпочли, чтоб я не говорила вам до тех пор, пока уже не буду принадлежать себе? — Прежде или после — все равно! — А, вы находите!.. Я думала, что вы будете благодарны мне, когда я, готовясь отдаться другому, — и кому же? Королю! — вспомнила, что обещала быть прежде этого другого вашей. Но вы презираете мои слова!.. Вы презираете то счастье, которое я берегла для вас… Пускай! Не будем говорить об этом!.. Он слушал молодую девушку, одурелый, остолбеневший. — Любовница короля!.. Вы будете любовницей короля! — повторял он. Она бросилась к нему и, опаляя его своим дыханием, сжигая взглядом, сказала ему: — Да. Я буду любовницей короля! Да, я хочу быть богатой, могущественной, ласкаемой… Но ты все не понимаешь? Ты не слушаешь? Хотя я счастлива выше всех моих надежд, мое счастье, однако, не сделало меня ни неблагодарной, ни лживой. Я клялась быть твоей в тот день, когда мне нечего будет желать… Мне желать нечего… и я говорю, что я люблю тебя! Люблю всем сердцем за твой гений!.. И мы одни, совсем одни… А ты остаешься немым, неподвижным… Это ты не любишь меня! Кальдерону, казалось, что это сон. Никогда воображение поэта не рисовало подобного положения. Какое-то облако затмило его глаза, его мозг. — Ах, если б я мог умереть в эту ночь! — прошептал он. Но он не умер. Уверяют даже, что эта ночь, украденная совестливой Марией Кальдероне у будущего любовника, имела продолжение. Кальдерон часто, тайком, виделся с актрисой, сделавшейся любовницей Филиппа IV. После того, что она для него сделала, было бы слишком щекотливо со стороны поэта перестать любить только потому, что не его одного любили. А герцог Медина? О! Кальдероне тоже сдержала слово. Он был первым после Кальдерона, потому что ему было только обещано, что он будет первым до короля. Повинуясь королевским приказаниям, Оливарес за одни сутки купил и великолепно убрал небольшой домик в окрестностях города. Устроившись у себя, однажды в четверг Кальдероне попросила, чтоб король ужинал у нее в следующую субботу. В глубине сада в переулок, упиравшийся в берег Мансанареса, вела маленькая дверь, наполовину закрытая бенгальскими розами и жасминами Азорских островов. Настоящая дверь влюбленных. В эту-то дверь в пятницу, в полночь, и входил Медина. И через нее же на другое утро; на рассвете, убегал от милой. Филипп IV полагал, что чувствует к Кальдероне мимолетную прихоть, а она была три года его любовницей. И обожаемой любовницей. В эти годы не проходило и двух дней кряду, чтоб он не провел несколько часов с нею в том маленьком домике в окрестностях. Королева не могла не знать о связи своего супруга с актрисой, ибо Кальдероне осталась на сцене; одной причиной может быть больше, почему она так долго сохраняла свою власть над Филиппом IV: она играла свои роли — и играла великолепно. Кальдероне имела честь подарить Филиппу IV сына, дона Жуана Австрийского, родившегося в 1629 году и не имевшего ничего общего со своим знаменитым тезкой, сыном Карла V, кроме того, что оба они были побочными. Тем не менее он проложил себе дорогу. Очень любимый королем, который несколько раз поручал ему командование армией, в следующее царствование он наконец достиг звания первого министра. В 1665 году на дона Жуана Австрийского сочинили стишки, в которых, между прочим, Кальдероне была названа всесветной женщиной, то есть женщиной, принадлежавшей всем и каждому. Это может служить доказательством, что в то время, когда она была любовницей короля, она не довольствовалась только Кальдероном и герцогом Мединой, ибо два любовника — не весь же свет. Но, несмотря на все наши исследования, мы не можем этого полностью утверждать. Известно только то, что Филипп бросил ее столь же неожиданно быстро, как и взял, — через семь или восемь месяцев после того, как она родила. Ей еще не было двадцати лет. Не достичь и двадцати лет, быть прелестной, полной жизни и страсти и быть обреченной оставить навсегда свет!.. Кальдероне плакала. Она рассчитывала на более продолжительное существование! Но закон, роковой закон, был неумолим! Тому, кто получил ее первый поцелуй, поэту Кальдерону, экс-фаворитка хотела сказать свое первое к последнее прости! Он тоже плакал. — Да, — сказала она, выражая убеждение, которое было далеко от ее сердца, — быть может, для меня лучше бы было остаться актрисой… и только актрисой, со всеми лишениями, но и со всеми радостями моего ремесла. Она удалилась в женский монастырь Сан Плачидо — монастырь не очень суровых правил, столь мало суровых, что через несколько лет инквизиция должна была установить там свой порядок. Монахинь Сан Плачидо обвинили в том, что они принимали в ночное время в монастыре монахов из соседнего монастыря Сан Филиппо и предавались в их обществе оргиям. Когда разбирательство завершилось, то в назидание другим шестерых сестер бросили в темницу, называвшуюся «Упокойся с миром», а настоятеля монастыря Сан Филиппо и троих монахов сожгли на костре. Кальдероне, хоть и скомпрометированная более других, была спасена королевским заступничеством и отделалась только страхом. Но страх этот был так силен, что, страдая с того самого дня, когда она предстала перед жестоким трибуналом, она угасала и умерла 22 ноября 1632 года. Рассказывают, что последним словом, которое она произнесла, готовясь испустить последний вздох, было имя: «Педро!..» Тело забывает, а душа помнит.ЛОЛА МОНТЕЦ
Если чье-либо существование и было бурно, так именно этой женщины. Ее история — роман, переполненный всякого рода безумствами. Единственное, что смущает и оскорбляет в ее истории, так именно то обстоятельство, что во всей жизни Лолы тщетно было искать намек на сердце. Когда-то, тому назад целые века, если рождался принц или принцесса, то все дружелюбные феи, стекаясь к колыбели, одаривали ребенка физическими и нравственными совершенствами. Однако это не мешало этому ребенку, когда он вырастет, проходить по жизненной дороге, усеянной колючками и терниями, разбросанными какой-нибудь старой и уродливой колдуньей, которую, к несчастью, позабыли пригласить на крестины. И вот, подобно принцам и принцессам доброго старого времени, Лола Монтец, столь одаренная всеми совершенствами, вследствие какой-то противоречивой силы была лишена главного, чтобы быть счастливой… Казалось, при ее рождении какой-то злой гений сказал ей: «Иди! Ты будешь жить любовью и для любви, но — жрица без веры и поэтому презираемая сыном Венеры — всю свою жизнь ты не будешь любить и не будешь любима никем. Как вечного жида наслаждения я приговариваю тебя странствовать из страны в страну, от человека к человеку. И когда ты умрешь, ни один из тех, которые дарили тебе самые жаркие ласки, не прольет о тебе ни одной слезы. Ни один вздох сожаления не ответит, подобно эху, на твой последний вздох». Вечный жид наслаждений! Пусть так! В этом отношении предсказание сбылось. Лола Монтец посетила все пять частей света, и от нее зависело открыть шестую, чтоб посеять там поцелуи. Но что касается этого единственного вздоха сожаления, этой единственной слезы, которой ее лишили, — пророк несчастия ошибся. Более чем вероятно — кто-то сожалел и плакал о Лоле… Испанка Лола Монтец, испанка по имени, по языку, по поведению, по цвету кожи, по глазам, по волосам, испанка по всему, вовсе была не испанка, а швейцарка, ибо родилась 22 апреля 1819 года не в Севилье, как утверждают некоторые биографы, а в Монтрозе, в Швейцарии. Правда, в жилах у нее текла иберийская кровь по матери, Розите Монтец из Гаванны. Но отец ее, лейтенант Жильберт, был ирландец. По причинам, которые нам неизвестны, лейтенант Жильберт, связанный с Розитой только узами нежного согласия, нашел удобным в одно прекрасное утро быстро разорвать эти узы, и покинутая мать и ребенок переселились из Швейцарии в Англию. Они поселились в Бате в графстве Соммерсет. Розита Монтец нашла в этом городе мужа, настоящего мужа, уже зрелого, пятидесяти пяти лет, когда ей едва было тридцать… И при этом, не очень заботясь о прошлом своей жены, этот человек предлагал такую улыбающуюся для нее будущность! Не будучи богатым, владелец бумажной фабрики Обадия Крежи жил в полном довольстве. И Розита Монтец поспешила превратиться в миссис Крежи. И с согласия своего мужа ее первой заботой было поместить их дочь, маленькую Лолу, в превосходный пансион, находившийся на Королевской площади и управляемый достойной уважения леди Олдридж, чтобы ее научили там всему, чему она хотела научиться… А Лола хотела знать все. Она училась по-английски, по-французски, по-итальянски, по-испански, по-немецки, танцам, музыке, рисованию. Она даже выучилась — о чудо! — тому, что ей и не преподавали: любви… Но у нее ведь было столько талантов!.. Рядом с пансионом миссис Олдридж процветало заведение для молодых людей, под управлением Конбурна. Только стена отделяла сады двух заведений. Волки около овец! Положим, что у волков были только молочные зубы, но все-таки это было неблагоразумно. В ту же самую церковь, куда каждое воскресенье миссис Олдридж водила своих воспитанниц, Конбурн также постоянно водил своих. И из этого еженедельного сближения доселе не вытекало ничего такого, чем бы могла оскорбиться нравственность. Напротив, по выходе из церкви мальчики дерзко смеялись над девочками, которые платили им тем же. Среди учеников мистера Конбурна находился некто Вильям Бакер, блондин пятнадцати лет, который, вместо того чтобы насмехаться над девочками, вздумал бросать на них томные взгляды, инстинктивно веря, что какая-нибудь из них также инстинктивно ответит на них. Наш юный ловкач рассчитал верно: одна из учениц миссис Олдридж приняла на свой счет эти взгляды. Это была Лола Монтец. Ей было тринадцать лет. В одно воскресенье Вильям осмелился передать записку Лоле. Эту записку, впервые говорившую ей о любви, Лола слово в слово помнила и спустя двадцать лет. Вот она: «О мисс, как вы прекрасны и как будет гордиться тот, кому будет принадлежать ваше сердце и рука!.. С тех пор как я вас увидел, я только и думаю, что о вас! У меня одно только желание: сказать вам, что я чувствую. И если вы хотите, это очень легко. В нашем заведении обедают в одно время с вашим; во время обеда, в назначенный день, мы оба уйдем из-за стола и достигнем глубины сада, где я сумею перелезть через стену, чтоб увидать вас. Угодно вам? Отвечайте мне в будущее воскресенье одним словом или даже знаком, если вы боитесь писать. О мисс, как вы прекрасны, и как я люблю вас!.. На жизнь и на смерть ваш Вильям Бакер. P.S. Не забудьте, если будете писать, сказать ваше имя. Не знать кого любишь, очень неприятно». Лола не только приняла это предложение, но выразила это даже письмом. «Я верю вам, Завтра, во время обеда, я буду в саду у большой стены. Остерегайтесь сделать себе что-либо неприятное, когда будете влезать. Меня зовут Лола Монтец». Ясно, что свидания нашей юной четы были очень невинны. С помощью каштана, осенявшего площадку пансиона, Вильям вскакивал на стену и оттуда к своей возлюбленной, в сад миссис Олдридж. С той же легкостью он возвращался назад, причем ему был помощником платан. Таким образом, они оставались от двадцати до двадцати пяти минут вместе, повторяя друг другу, что они вечно будут любить. Лола обожала своего доброго Вильяма, а Вильям также обожал Лолу, но, чтоб обмениваться раза три в неделю своими любовными признаниями, они были вынуждены каждый раз отказываться от обеда. Это была жертва для тринадцати- и пятнадцатилетнего желудков. Лола первая придумала, как удовлетворить и любовь, и требования аппетита. На пятое свидание она явилась с огромным куском хлеба, который, как преданная любовница, разделила со своим возлюбленным. Полный благодарности, на следующее свидание любовник явился, сгибаясь под тяжестью варенья и пирожных, приобретенных на свои деньги. К несчастью, и Конбурн и миссис Олдридж начали удивляться этому повторяющемуся отсутствию из-за хронического недомогания во время обеда Вильяма Бакера и Лолы Монтец. За ними стали наблюдать, и наши влюбленные были схвачены — с поличным — сидящими на траве и готовыми уничтожить… лепешку!.. Какой скандал! В тот же вечер Лола была возвращена своим родителям; мистер Вильям отправлен в свое семейство. Что сказало семейство блондина, узнав, что из среды его вышел недостойный обольститель, мы не знаем. Но что касается миссис Крежи, то если для проформы она довольно строго отнеслась к своей слишком уж нетерпеливой девочке, то втихомолку она не могла не посмеяться над тем, что стыдливая миссис Олдридж, подымая к небу свои длинные руки, называла преступлением. — Все равно, — заключила Розита, советуясь с мужем, — я думаю, что чем раньше мы отдадим ее замуж, тем лучше. — Я согласен с вами, моя милая, — ответил Обадия Крежи, — как только будет возможно, малютку следует выдать замуж, иначе она, пожалуй, доставит нам много неприятностей. Что вы думаете как о зяте о сэре Александре Люнлее, нашем соседе? — Гм! Он очень стар! Ему по крайней мере шестьдесят лет. — Это так, но зато у него по крайней мере четыре тысячи фунтов стерлингов дохода. Розита иронически улыбнулась. Быть может, она по опыту знала, что это не заменяет в старике муже известных качеств. Как бы то ни было, но она не противоречила своему мужу относительно предложенного им союза, и когда через два года Лола достигла пятнадцатилетнего возраста, сэр Александр Люнлей, согласившись с видами мистера и миссис Крежи, имел глупость подумать, что пятнадцатое лето может жить в согласии с шестьдесят восьмой зимой, — и вот однажды Лоле объявили, чтоб через месяц она готовилась сделаться миссис Люнлей. Лола задрожала, побледнела, но не возражала ничего. И так как она молчала, то мать и отчим подумали, что она согласна. Но часто страшная буря таится под невозмутимой тишиной. В том же доме, где жил сэр Люнлей, уже восемнадцать месяцев жила одна вдова, приехавшая в Бат, чтобы пить воды против подагры и ревматизма. Больная, миссис Маргестон, была очень любезна. Между сэром Александром Люнлеем и вдовой образовались добрососедские отношения. У миссис Маргестон был племянник, кавалерийский офицер Индийской компании, красивый юноша двадцати пяти лет. Именно за несколько недель до приведения в исполнение проекта Крежи соединить Лолу с сэром Александром Люнлеем Томас Джемс, племянник миссис Маргестон, пользуясь отпуском, остановился у своей милой и доброй тетушки на три месяца. И увидел Лолу. Полюбить ее для Джемса было делом одной минуты. Лоле тоже понравился Джемс. Однако, за исключением нескольких быстрых взглядов, пожатий руки, они не сказали друг другу ни одного нежного слова до той самой минуты, когда супруги Крежи торжественно объявили Лоле, что она будет богата. Мы уже сказали, что Лола безмолвно выслушала этот ультиматум. Он был произнесен в большой парадной зале. Объявив его Лоле, миссис Крежи сказала ей: — Ступай, малютка, ты теперь можешь отправиться в свою комнату. И когда дочь удалилась, мать, следя за ней глазами, прошептала: «Этот милый ребенок так доволен, что совершенно изумлен». — То есть, — воскликнул отчим, — она восхищена! По виду этого нет, но я буду держать пари, что в глубине души она в восторге! О слепцы!.. Пусть бы старый англичанин ублажал себя насчет чувств своей падчерицы — куда ни шло!.. Но Розита, которая прежде чем малыми каплями пить супружеский напиток, пила полными глотками шампанское любви, — Розита (креолка) не подозревала, что ее дочь, зачатая и рожденная во время сладостных пиршеств, не согласится быть женой человека, которого она не любила и не могла полюбить, — это непростительно!.. Лола, как ей предложили, удалилась в свою комнату, где первым ее движением было разбить вдребезги великолепную чашку китайского фарфора, которую сэр Александр Люнлей подарил ей накануне. И, продолжая топтать остатки подарка, как будто то был сам подаривший, молодая девушка повторяла: — А! Ты хочешь на мне жениться!.. Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вдруг она прервала свою бесплодную месть и прислушалась. Не голос ли это Томаса Джемса? Да, это был тот именно час, когда он имел обыкновение прогуливаться в саду миссис Маргестон, чтобы поймать улыбку Лолы, смотрящей из своего окошка. А так как улыбка Лолы запоздала, молодой офицер сам вызвал ее пением. Лола из своего окошка стала выплачивать свой долг. Потом знаком повелев Томасу Джемсу молчать, она подбежала к столу и быстро написала карандашом следующие слова: «Мне приказывают выйти замуж за сэра Александра Люнлея, вся надежда на вас, чтобы избавиться от такого гнусного брака. Как? Это касается вас, если вы меня любите. Я жду. Лола». Томас Джемс прочел эту записку, упавшую к его ногам в виде комка. Лола увидала, как он поднес ее к своему сердцу, что всегда и везде выражало: «Это сердце ваше, рассчитывайте на него». Затем он быстро удалился. Что он придумает? Остальная часть дня и вечер показались для Лолы веком. Она предполагала, что ее возлюбленный придет к ее матери, чтобы сказать хоть слово в ее защиту. Он не приходил. Он не приходил, а между тем сэр Александр Люнлей, благодаривший ее с энтузиазмом за то счастье, которое она ему подарила, принес ей как свадебный подарок превосходное жемчужное ожерелье, которое она сначала хотела так же растоптать, как и чашку. Но жемчуг был так прекрасен! Бриллиантщик дал бы за него сто фунтов стерлингов. — Благодарю вас! — сказала Лола. — Это ожерелье всегда будет со мной. Вечер у супругов Крежи продолжался до десяти часов. Выпив последнюю чашку чаю, торжествующий Александр Люнлей отправился спать. Половина одиннадцатого. Одиннадцать. Все спало вокруг нее. Лола из благоразумия потушила свечу и склонилась из окна, разглядывая тени сада миссис Маргестон и ожидая каждую минуту появления своего возлюбленного. Половина двенадцатого. Никого. Томас Джемс оставил ее своей участи?.. «Невозможно!» — говорил ей тайный голос. Полночь… Она отчаивалась. А! Он под окном. Но как он мог явиться сюда?.. — Лола?.. Спящая птица-ольшанка не проснулась бы от звука этого призыва, но Лола тотчас же его услыхала. — Друг мой! — Берите и привязывайте! Взвилась на балкон веревочная лестница, была схвачена и привязана. — Теперь спускайтесь, не бойтесь, она прочна. Бояться?.. Да чтоб бежать от сэра Александра Люнлея, она доверилась бы даже облаку. Она спустилась… Он не дозволил ей коснуться земли, взял ее на руки и унес. — О, когда тебя похищают, — бормотала она, — то с непривычки это так потрясает… — Тсс! — сказал он так близко от ее губ, что она не смогла продолжать. Джемс не терял напрасно времени с тех пор, как получил записку от Лолы. Прежде всего он нанял карету, которая должна была его дожидаться на одной отдаленной улице, затем купил лестницу. Лола покоилась на подушках кареты, еще не придя в себя от смущения, произведенного тем способом, каким, при их общем интересе, ее возлюбленный заставил ее замолчать. Между тем, крикнув вознице: «Пошел!» — он сел рядом с молодой девушкой. — Но, — сказала она, трепеща от чего-то, — вы не воспользуетесь моим положением, не правда ли, мой друг? Если вы не можете быть моим мужем, будьте братом. Но он стал ее мужем. Через месяц письмо со штемпелем Дублина официально извещало Крежи о бракосочетании Лолы и капитана Томаса Джемса, которое было совершено Ионафаном Джемсом, братом новобрачного, в присутствии маркиза Норманби, лорда и лейтенанта Ирландии. Что оставалось родителям, дочь которых без их согласия и против их воли вышла замуж, кроме того, как сказать: «Что сделано, то сделано!» Тем не менее вполне вероятно, что мать и отчим Лолы сохранили к ней неприязнь за ее шалость, ибо во время всей ее карьеры, даже в те минуты, когда она всего более должна была желать их присутствия, они не особенно спешили на свидание с ней. А как принял побег Лолы сэр Александр Люнлей? Уверяют, что он начал процесс против Крежи, требуя возвращения жемчуга, так как они не смогли отдать ему дочь. Старый дурак! Что ему было делать с ними обоими? Он был главным виновником побега, и если урок стоил ему дорого, то, между нами, она ведь не обокрала его. Итак, Лола и ее капитан жили в Дублине, упиваясь сладостью медового месяца. Но, по словам хроники, сладость эта была непродолжительна: Лола была кокетлива, Томас — ревнив. Не прошло шести недель с их свадьбы, а они уже спорили, как супруги, прожившие пятьдесят лет. Сначала это были споры без последствий: споры, заканчивавшиеся нежным примирением. Но однажды вечером Лола рассердилась до того, что бросила мужу в голову графин. Томас, хотя и был довольно ловок для того, чтоб увернуться от удара, тем не менее начал думать, что сделал ошибку, похитив этого ангела из ее семейства, и еще большую — женившись на ней. На другой день после этой сцены, которая поселила холодность между ним и Лолой, капитан получил приказание отправиться со своим полком в Бомбей. — Хорошо! С моим полком! — сказал он самому себе. — Но не с моей женой — нет! Эта нежная малютка никогда не согласится последовать за мной в Индию… К сожалению, я буду вынужден оставить ее в Европе! Томас Джемс ошибался: нежная малютка не только не выразила ни малейшего неудовольствия по поводу своего отъезда с мужем, но даже обрадовалась возможности путешествовать по незнакомым странам и жить под другим небом. И, таким образом, надежды Томаса Джемса не исполнились… На самом деле, это путешествие было истинным наслаждением для Лолы, и удовольствие, испытываемое ею, отразилось на ее характере: во время путешествия расположение ее духа было самое ровное, — она ни в чем не противоречила мужу. Томас Джемс благословлял небо. Существуют два Бомбея: один, называемый фортом, — собственно город, состоящий из дворцов и каменных громад, в котором живут во время дождей; другой — временный, начинающий жить с того времени, когда стихают грозы и ветры, окружающий первый город и состоящий из деревянных домиков, палаток, окруженных деревьями и цветами. Жившие в первые две недели по приезде в первом Бомбее, у господина и госпожи Ломер, державших меблированные комнаты, Лола и ее муж, с началом хорошей погоды, следуя за своими хозяевами, переселились в летний Бомбей. Итак, в течение еще двух недель, пленяемая любопытным зрелищем, непрестанно возобновляющимся перед ее глазами, толпой пришельцев, прибывавших из всех окружных провинций в главный порт Британской Индии, Лола постоянно всем улыбалась, в том числе и мужу. Но когда, лежа в паланкине, несомом четырьмя сильными индийцами, она увидела все, что могла только видеть в окрестностях: мечети, храмы, пагоды, когда она перебывала на кораблях и судах всех стран и всяческих форм, когда по приглашению городских леди, после обеда, в течение двух или трех часов она уже прогуливалась верхом или в коляске по эспланаде в то время, когда на ней играла военная музыка, — тогда Лола начала скучать. — Долго ли еще мы останемся здесь? — однажды вечером строго спросила она своего мужа. — Я сам не знаю, моя милая. — Как, вы не знаете?! — Без сомнения. Солдат не хозяин себе. Губернатор, лорд Эльфинстон, предполагает волнения кнодсов. — Что это за кнодсы?.. — Индийцы. Одна из главных рас в стране, большая часть которой подчинилась, но часть еще остается непокорной. — В таком случае, до тех пор пока лорд Эльфинстон будет сомневаться в кнодсах, мы не выедем из Бомбея?.. — Я боюсь этого. — Но это может продолжаться месяцы, годы?.. — Я не говорю «нет». — И вы предполагаете, что я соглашусь жить целые годы не в Европе?.. — Я соглашусь. — Какая разница! Как солдат, вы обязаны жить там, где находятся ваши начальники, но я… — Вы, как жена солдата, также обязаны жить там, где живет ваш муж. И притом, на что вы жалуетесь? Когда я должен был ехать в Индию, вы, казалось, были рады отправиться со мной. Если вы отказываетесь в настоящее время следовать за мной, мне будет весьма прискорбно, но я ничего не могу сделать. — А! Вы ничего не можете сделать!.. Ну, а я могу сделать кое-что и докажу вам… В таких вот выражениях Лола объявила войну мужу, — войну жестокую и беспощадную. В ожидании войны с кнодсами бедняжке капитану приходилось воевать с ангелом, превратившимся в демона. И день и ночь дом мистера Ломера, в котором наши супруги снимали квартиру, оглашался их ссорами. — Но, — часто говаривал Томас Джемс, — если вам так неприятно жить здесь, почему вы не вернетесь в Англию? — С вами. Я ничего лучше не желаю. — Нет, одна. — Я не для того вышла замуж, чтоб одной бегать по свету. — В таком случае, так как служба надолго удерживает меня здесь, подражайте мне: будьте терпеливы. — А я уверена, что если б вы захотели, то получили бы отпуск. — Вы ошибаетесь, во время кампании отпуска не дают. — Так выходите в отставку. — Я люблю военную службу и не оставлю ее. — Как угодно. Я тоже не оставлю вас, и мы посмотрим, кто скорей устанет — вы или я. Первым, как можно было предвидеть, был Томас Джемс. Женщины всегда первенствуют в этой мелочной борьбе. В то же время свидетельница этих ежедневных ссор, миссис Ломер, почувствовала жалость к тому, кто, по ее мнению, больше страдал. И если жалость не есть еще любовь, как поется в одной старой песне, то она, во всяком случае ближайшая к ней дорога. Кларисса Ломер была хороша собой, блондинка, а Томас Джемс, с тех пор как женился на Лоле, разлюбил брюнеток. Сначала только поверенная в печали капитана, она вскоре его успокоила. В оправдание белокурой Ломер надо сказать, что ее муж был уродлив и глуп в равной мере, а Томас Джемс сделал для ласковой любовницы то, в чем отказывал крикливой жене. Проснувшись однажды утром, Лола нашла у своей кровати письмо, подписанное двумя буквами Т и Д, следующего содержания: «Вы хотели, чтобы я вышел в отставку. Я вышел, я свободен, свободен вдвойне, потому что для меня возможно в одно и то же время, как только я оставлю полк, бежать от вас. Я сожалею, что не в состоянии оставить вам денег на переезд в Европу, потому что то положение, в которое я поставлен вами, лишает меня нужных для этого средств. Прощайте! Желаю вам быть счастливой. Что касается меня, я должен признаться, что, расставшись с вами, я как будто попал в рай». Лола заканчивала чтение этой записки, когда в комнату ворвался мужчина. Это был господин Ломер. Он, так же как и Лола, получил поутру письмо. — Ушла! Убежала! — рычал он. — Презренная!.. Женщина, которую я взял без приданого, без пенни приданого — да-с!.. У нее платьишка не было!.. А что я такое сделал, спрашиваю я вас, что она бросила меня, как старые штаны? Был ли я зол с ней или суров?.. Требователен?.. Нет, так не делают! Безнаказанно не увозят жену у честного человека. Я отправлюсь к губернатору, Клариссу возвратят мне!.. О! О! Хозяйство наше шло так отлично!.. Через пять лет я вернулся бы в Англию с хорошим доходцем. А теперь, что я буду делать один? Разве я могу один за всем присмотреть? Наивные жалобы Ломера, его слезы, от которых он стал еще дурнее, заставили Лолу расхохотаться. Он смотрел на нее с каким-то остолбенением. — Как, вы смеетесь? — спросил он. — А почему бы нет? — заметила она. — Муж мой уехал, ну я и смеюсь: я не люблю его. — Но я-то все еще люблю свою жену. — Так бегите за ней, желаю успеха. Но прежде одно слово, господин Ломер. Капитан Джемс, уезжая, поступил неприлично, оставив меня без единого пенни. Вы, без сомнения, снабдите меня сотней гиней? Я их вышлю вам из Англии, будьте уверены. Изумление Ломера перешло в чистый столбняк. — Чтоб я дал вам сто гиней?! — вскричал он. — А, а! Это уж слишком. Ваш негодяй муж увозит мою жену, а вы хотите похитить мой кошелек — очень мило! Лола нахмурила брови. — Хорошо, — сказала она, — я согласна, что жена ваша, как вы говорите, отпустила вас на все четыре стороны, потому что вы не только скверное животное, но, кроме того, вы скряга, деревенщина!.. Ломер готовился возразить. — Довольно! — закончила Лола, хватая кружку. — Я вас не звала, по какой причине вы позволили себе войти сюда? Ступайте вон!.. Вон, как можно скорее! Обманутый, только что не избитый, Ломер удалился. Лола села и задумалась. Что предпринять? Где достать денег на поездку в Англию? Да и возвращаться ли ей в Англию к матери и отчиму, которые, наверное, очень дурно ее примут? Нет. Она отправится куда угодно, только не в Бат. А деньги? Где достать денег?.. Она никого не знала в Бомбее. Прошло около часа в этих размышлениях. Вдруг она воскликнула: — Я совсем глупа! А это колье, подарок сэра Александра Люнлея — его же можно продать. — Она открыла ящичек, взяла колье и вздохнула. — Какая жалость! — проговорила она, но вслед за тем подняла голову: — Ба! Мне подарят другие!.. Букелини! Букелини! Так звали молодую индианку, горничную Лолы. Лола звала ее одевать себя, но зов был напрасен: присутствуя при разговоре своей госпожи с господином Ломером, она ушла вслед за ним. Куда могла она пойти? Лола уже хотела сама одеваться, когда индианка вернулась в комнату. — Госпожа, — сказала она, — в передней вас дожидается человек, который желает немедленно поговорить с вами. — Кто же? В ответ дверь отворилась, и Лола почти в ужасе отскочила назад при виде посетителя. То был индус высокого роста, одетый в длинную тунику из темной шелковой материи, в головном уборе, похожем на тиару. Ему могло быть лет тридцать, походка его была величественна, черты его типичного лица были благородны и правильны, очертания тонки. Он был красив, восхитительно красив!.. Он медленно приблизился к Лоле и, приветствуя ее, сказал по-английски: — Я узнал, миссис, от Букелини, что вы находитесь в затруднении с возвратом в Европу вследствие того, что капитан Джемс, оставляя вас, позабыл оставить вам необходимую на переезд сумму. Позвольте мне предложить вам ее. Вы можете безбоязненно принять. Я сам постоянно езжу в Европу — и когда-нибудь попрошу вас расквитаться с долгом, который вы в настоящее время возьмете у меня… Букелини, дитя мое, положите этот бумажник на стол. До свидания, миледи. Весьма счастлив сегодня и всегда почту себя счастливым отдать все, что имею, в ваше распоряжение. Индиец уже скрылся, а Лола еще не могла прийти в себя. Наконец, обратившись к служанке, спросила у нее: — Кто этот человек? — Рунна-Синг. — Кто это Рунна-Синг? Индианка не отвечала. Между тем Лола уже развернула бумажник, в нем находилась тысяча фунтов стерлингов банковыми билетами. — Ну же, Букелини, — снова начала она, — кто такой Рунна-Синг? Почему ты сказала ему, что я нуждаюсь в деньгах? А сказала именно ты, он сам объявил это. Почему он так великодушно обязывает меня? Букелини продолжала молчать. — Да говори же, говори! — вскричала Лола. Индианка наклонила голову. — Он запретил мне говорить, — ответила она. — Как запретил говорить! Кто запретил? Рунна-Синг? Так я же приказываю тебе отвечать! Видишь этот перстень? Если ты скажешь — он твой. Кто такой Рунна-Синг и почему, когда ты рассказала ему о моем затруднительном положении, он так поспешно явился меня от него избавить? Он меня знает? Однако я не помню, чтобы видела его. Он богат? Он знатное лицо в твоей стране, начальник, принц?.. И задавая эти вопросы, Лола сжимала, как будто намереваясь раздавить, руки индианки. Но та поклялась молчать и молчала. — Ты несносна! — воскликнула Лола. — Убирайся!.. Букелини, не дожидаясь повторения приказа, выскочила из комнаты, а потом и из дома. В надежде получить какие бы то ни было сведения, Лола спустилась к Ломеру, но тот ничего не знал о Рунна-Синге и даже не видел, как тот вошел. И что значил для него этот индус? Он оплакивал жену, и весь свет не существовал для него. Однако многие намекали ему о том, чтобы он представил счет и получил деньги за квартиру и стол, за которые капитан Джемс еще не успел заплатить. Лола предположила, что нашла разгадку этого приключения. Рунна-Синг влюбился в нее. А объяснение в любви, которое из деликатности он не хотел сделать, полагая, что она оплакивает мужа, она услышит от него в Европе. Ведь он же сам сказал, что скоро будет в Европе и там увидится с ней! Кто знает? На палубе корабля «Голден-Флич», на который она взяла место, быть может, к встретит она своего таинственного благодетеля? Лола ехала под именем девицы Монтец, под фамилией своей матери. Муж оставил ее — она бросила его фамилию, и к тому же она ехала в Кадикс и ей удобно было назваться сеньоритой, возвращающейся на родину. Она достаточно знала по-испански, чтобы сыграть свою роль. Отныне она испанка! Ее роскошные черные волосы, большие темно-голубые глаза с длинными ресницами, тонкий нос с раздувающимися ноздрями, матовый цвет кожи, гибкая стройная талия — все это не открыло бы обмана… А вдруг на корабле с ней встретится Рунна-Синг? Он удивится живой перемене имени. Нет, он поймет желание молодой женщины не иметь более ничего общего с недостойным мужем. Но Рунна-Синга не было на корабле, тщетно Лола разыскивала его, по-видимому, не это судно должно было перевезти в Европу красавца князя. Лоле было досадно; ей было бы приятно продолжать роман, герой которого так великолепно знакомится с героиней. Но от этого следовало отказаться, и за отсутствием индийца Лола обратила свое внимание на молодого англичанина, адъютанта лорда Эльфинстона, отправлявшегося по совету медиков в Кадикс к одному своему дяде лечиться от грудной болезни. Природа не особенно одарила Джефри Леннокса физической красотой, но он так страдал!.. У него была чахотка, как уверял медик, и притом, по словам капитана, он был богат, миллионер. По доброте души Лола позволила ему любить себя. Разве не великодушно усладить последние дни умирающего? А Джефри Леннокс страстно полюбил Лолу. В Кадиксе, вместо того чтобы отправиться к дяде, он нанял дом, в котором поселился с любовницей. И вообразите себе, вместо того чтобы приближаться к смерти, как предсказывали медики, Джефри Леннокс, напротив, с каждым днем укреплялся. Лола вылечила его! Но как бы вы думали, какой благодарности она требовала от своего любовника? Она требовала, чтобы он взял ее замуж, хотя муж ее был жив. Но кто знает, где он!.. Его как будто и не было!.. Не так смотрел дядя Джефри Леннокса, сэр Гидж. Пусть у племянника есть любовница — сэру Гиджу было все равно, но когда он узнал, что племянник, не довольствуясь тем, что разоряется на нее, задумал сделать из нее жену, сэр Гидж обеспокоился. По его настоянию Лола была вызвана в суд, где ее прежде всего спросили, в каком городе Испании она родилась? Отвечать на этот вопрос ложно было опасно. Лола это чувствовала, и так как она сказала правду, то сеньориту Монтец, превратившуюся в миссис Джемс, вежливо попросили вернуться если не к мужу, поскольку она не знала, где он, то, по крайней мере, в свое отечество. В противном случае ей угрожали тюрьмой, пока ее любовник не облагоразумится. Лола повиновалась. Прямо от судьи она села в карету, которая привезла ее к пристани, где уже ждало судно, отправляющееся в Лондон. Сэр Гидж, как истинный джентльмен, чтобы как-то усладить это изгнание, прислал на корабль довольно значительную сумму. Сэр Гидж действовал в интересах своего племянника, но самые лучшие намерения дают иногда не те результаты, которых ожидаешь. Едва только Джефри Леннокс был разлучен с любовницей, он начал страдать сильнее и вскоре умер. — Стоило же труда разлучать нас! — сказала Лола, когда ей передали в Лондоне это известие. — Если б Леннокс женился на мне, он жил бы да жил еще! — Но ведь он не мог на вас жениться. — Не мог! Почему не мог? Как только мы согласились на это, кто нам мог домешать? — Закон. Он запрещает подобные браки. — Тогда он должен разрешать развод! А то он дает мне мужа, который меня бросает, и запрещает брать другого!.. Он велит мне или не любить всю жизнь, или иметь только любовников!.. Хорошо же! Меня принуждают, у меня будут любовники. У меня их будет сто!.. А чья вина? Тех, которые по глупой скупости помешали мне быть честной женщиной… И она сдержала слово. В течение пяти или шести лет, которые последовали за принятием этого решения, она имела, как остроумно выразился кто-то, «слишком чересчур». Из Лондона, где она в одно мгновение растратила данные сэром Гиджем деньги, она в 1839 году возвратилась в Испанию и там сделалась танцовщицей. Проезжая одну за другой все провинции королевства, начиная с Галисии и кончая Эстремадурой, она у каждой похищала национальный танец. Итак, она сделалась испанской танцовщицей и впервые на подмостках Брюссельского театра пустила в ход свое хореографическое искусство, затем отправилась в Париж, но ее час в Париже еще не пробил, она уезжает в Берлин, где публика ее освистывает, но где зато она проглатывает живьем трех или четырех жирных баронов, потом — в, Варшаву, откуда ее выгоняют, а там — в Петербург, где она была принята с распростертыми объятиями. Между тем, получая груды золота, больше как куртизанка, чем балерина, Лола из-за своих разорительных наклонностей часто бывала без денег. Мы уже сказали, что Лола дебютировала в Брюсселе, но в то же время мы должны сказать, что принята она была там холодно. В ее танцах был огонь, была страстность, но им недоставало грации. Лола удивляла как танцовщица, но она не пленяла. Решившись после двенадцати представлений оставить город, в котором были так скупы на аплодисменты, она приказала горничной укладывать чемоданы. Но несчастье никогда не приходит одно: в тот день, когда она решилась покончить с театром, ее любовник — толстый фламандский банкир — разошелся с ней, быть может, по той же причине, по какой она оставляла Брюссель, то есть потому, что ей мало аплодировали. Подобные связи заключаются из суетности. Лола рассердилась, и рассердилась тем сильнее, что, рассчитывая на кошелек своего Мондора, она только что, накануне, купила на шесть тысяч франков кружев, предназначавшихся для украшения ее костюмов. Но Мондор улетучился, и платить оказалось нечем. К тому же, каким образом с двадцатью луидорами отправиться в Париж? Это было вечером, через несколько часов после того, как господин Вандерборн уведомил ее, что, к великому огорчению, он вынужден покончить с нежными отношениями. Лола ложилась спать, когда Мариетта, ее горничная, постучалась к ней в дверь. — Что такое? — Заказное письмо вам, сударыня. Это был тщательно запечатанный пакет, переданный Мариеттой своей госпоже. Он заключал в себе лист надушенной бумаги, на которой были написаны по-английски следующие слова: «От другаиз Бомбея». И переводное письмо на тысячу фунтов стерлингов, на Вандерборна, банкира в Брюсселе. Одна мысль удвоила радость Лолы. Друг из Бомбея не только снабжал ее съестными припасами, но и давал ей возможность утереть нос этому дерзкому Вандерборну, из кассы которого ей приходилось получать деньги. — Кто тебе отдал это письмо, Мариетта? — Лакей. — А где он? — Он тотчас же ушел, как только выполнил свою миссию. И этот друг был не кто иной как Рунна-Синг. Итак, он в Европе, даже в Брюсселе. Но как он мог так скоро узнать о затруднительном ее положении? Букелини не было, чтобы уведомить его. Этот человек должен был быть волшебником. Во всяком случае, образ его действий был очень странен. Слишком много тайн и скромности!.. Пятьдесят тысяч франков стоят все-таки хоть благодарности!..* * *
В Петербурге в 1844 году произошло почти повторение этого эпизода. Любовница последовательно восьми или десяти вельмож, Лола, наскучившись городом Петра Великого, решила его оставить. Но сначала следовало оплатить кое-какие счета. Загребая деньги полными пригоршнями, Лола все-таки ухитрилась задолжать безделицу — тысяч двенадцать франков! Но пока эта безделица оставалась неуплаченной, ей нельзя было выехать. — Останьтесь еще на месяц, — говорил ей один генерал, — и я возьму на себя уплату вашего долга, не считая издержек на ваше путешествие. — Нет, нет и нет! — возразила Лола, которой не нравилась не сама ликвидация, а ликвидирующий. — Ни недели! Я хочу ехать сейчас. — Так заплатите ваш долг. — У меня нет этих денег. — Оставайтесь. Дилемма, из которой Лола без помощи Рунна-Синга не вывернулась бы. Она была готова в пятый или шестой раз выгнать генерала с его предложениями из своего будуара, когда ее горничная подала ей пакет, только что принесенный нарочным. При виде почерка Лола вскрикнула от радости — то был почерк друга из Бомбея, а внутри конверта опять-таки перевод на тысячу фунтов стерлингов и только одна строчка: «Извините, что заставил вас ждать! R.S.» О милый Рунна-Синг, он еще извиняется! Почему его самого нет?.. Но, увы, и в Петербурге, как и в Брюсселе, Рунна-Синг остался невидимкой. Лола уехала одна во Францию. Ко времени пребывания Лолы Монтец в Париже относится одно кровавое приключение. В ее честь был убит человек… По приезде в Париж первой заботой Лолы Монтец, испанской танцовщицы, было отправиться к королям газетной хроники, чтобы заручиться их благосклонностью. Лола была хороша собой. Газетные знаменитости и рецензенты в один голос обещали ей свою поддержку. С помощью своих друзей Лола была ангажирована в Оперу. Первые два представления прошли довольно удачно. Но вместо восторга было удивление, поскольку, вероятно, в Королевской музыкальной академии никогда не танцевали подобным образом. Лола была не танцовщицей, а беснующейся менадой, чем-то вроде исступленной вакханки. Тирс пошел бы ей лучше, чем кастаньеты. Но третье представление было совсем иным. Во всяком искусстве эксцентричность должна основываться на таланте. Иронические рукоплескания, сдавленный смех должны были доказать Лоле, что все эти «хоты» и «качучи» были не во вкусе парижан и что она сделает ошибку, если будет публично продолжать их. Она не поняла… не хотела понять и танцевала в четвертый раз. И в этот раз весь зал, как один человек, принялся освистывать ее, шикать и так далее. В порыве гнева, во время исполнения танца не под звуки музыки, а под свист зрителей Лола сняла с себя подвязку, разорвала на куски и бросила в публику, крича: «Все вы подлецы!» Тогда гроза превратилась в ураган! Если бы она не поспешила убежать, ей пришлось бы дорого поплатиться. Но Лола не унывала. Ее выгнали из Оперы, она поступила в другой театр. Но и здесь блистала не более, чем в Опере. Зато она утешила себя как артистку своими победами как куртизанка. Она была в моде, потому что в Париже можно войти в моду даже глупостями. О ее благосклонности спорили… В 1845 году ее признательным любовником был Дюжарье, молодой человек лет тридцати двух, вышедший из самого скромного состояния, но благодаря ловким спекуляциям приобретший значительное богатство. Дюжарье содержал Лолу, как герцогиню; он нанял для нее на улице Сент-Оноре великолепную квартиру, напротив Валентино, где давались балы. Ясно, что она бывала на всех публичных празднествах Парижа: любовницу знаменитостей нельзя запирать в ящик. 20 марта 1845 года Дюжарье повез ее на артистический бал в Пале-Рояле, в зале Братьев Провансальцев. После вальса Лола, заметив своего возлюбленного, сидевшего за карточным столом, подошла к нему и, наклонившись, не заботясь ни об игре, ни об играющих, смеясь, что-то долго шептала ему на ухо. Играли вчетвером. Из трех противников Дюжарье двое терпеливо ждали, чтобы Лола окончила свое повествование. Но третий — Розимонд де Баваллон, крез, политический враг Дюжарье, — оказался не столь терпеливым. — А! — воскликнул он, смерив ее взглядом с головы до ног. — Скоро ли вы перестанете перекупать этого господина, милая дама? Оставьте нас в покое!.. Баваллон не окончил еще этой грубой фразы, как Дюжарье бросил ему карты в лицо. На другое утро вместо ежедневного визита любовника Лола получила от него такого рода записку: «Мой добрый друг! Я дерусь, и это объяснит вам мое отсутствие. Мне потребно все спокойствие. В два часа все будет кончено. Тысячу поцелуев, моя Лола, моя дорогая возлюбленная». В два часа на самом деле все кончилось. Дюжарье был смертельно поражен пулей. Лола была вызвана свидетельницей на процесс. — Я очень сожалею, — сказала она судьям, — что господин де Баваллон дрался не со мной. Дюжарье недурно стрелял из пистолета, но я стреляю лучше и уверяю вас, что Баваллона не было бы теперь в живых. В своих мемуарах Лола Монтец говорит, что Дюжарье дал обещание на ней жениться. Лола во что бы то ни стало хотела испробовать двоемужество. За несколько месяцев она растратила свои тридцать тысяч франков, потом продала свою богатую мебель. Истратив деньги, вырученные этой продажей, она намеревалась вскоре отправиться в Мюнхен, в Баварию, где граф Штейгервальд, один из ее друзей, обещал ей громадное богатство. Это было в январе 1846 года, за два дня до ее отъезда из Парижа. Лола завтракала в своем отеле на улице Сент-Оноре с графом Штейгервальдом, который в самых пышных выражениях говорил о волшебной будущности, зависящей единственно лишь от нее самой. Раздавшийся звонок вдруг прервал графа. — Кто это мешает нам? — сердито воскликнула Лола и прибавила, обращаясь к ожидавшей ее приказаний служанке: — Откажите, я не принимаю. Горничная поклонилась. — Продолжайте, граф! — проговорила Лола. Штейгервальд раскрыл было рот, но дверь снова отворилась, и Зоя снова появилась, неся на серебряном подносе чью-то визитную карточку. Лола сделала гневное движение. — Но!.. — Она хотела сказать: «Я никого не приму», — но вместо этой фразы восклицание удивления и радости сорвалось с ее губ. На карточке она прочла имя Рунна-Синга, о котором она не слышала два года. — Проси, Зоя, в будуар, — сказала она. — А вы, Штейгервальд, не правда ли, извините меня? Это визит такого рода, которые не откладываются. Пейте кофе без меня. Через несколько минут я, вероятно, вернусь, но, во всяком случае, если визит затянется, вас известят. — Хорошо, хорошо! Не церемоньтесь со мной, моя милая. — Наконец-то! Наконец-то! — повторяла она, вбегая в спальню, взглянуть, годится ли ее туалет для подобного случая. Зоя последовала за госпожой. — Этот господин ожидает вас в будуаре. — Хорошо! А ты не удивлена? Однако он не похож на других, а? Как он одет? — Как все. — А! — Только… должна вам сказать, что у этого господина цвет лица медный! — Да ведь он индиец! — А! Это индиец? Ну, я не полюбила бы человека такого цвета! О, подобная голова рядом с моей на подушках испугала бы меня!.. — Ах, молчи, ты глупа!.. А теперь, если кто-нибудь меня спросит… понимаешь? — Вас нет дома… Слушаюсь. На самом же деле вот о чем она думала. Ясно, что Рунна-Синг, индийский принц, путешествуя по Европе, не мог сохранить национальный костюм. Костюм этот уместен в Бомбее и был бы странен во Франции или в Англии. Тем не менее Лола облегченно вздохнула, увидев, что ее посетитель в нормальном черном костюме, лакированных ботинках и палевых перчатках. Он поклонился ей, она поспешила подать ему руку. — Прежде всего благодарю, тысячу раз благодарю вас, принц, — сказала она, — за все, что вы соблаговолили для меня сделать. — Я исполнил свой долг, — ответил Рунна-Синг, почтительно целуя руку танцовщицы. Сели. Она начала с улыбкой: — Ваш долг?.. Какой?.. Вы мне объясните, принц. Объясните, чему я обязана вашим покровительством, особенно объясните, почему вы так долго откладывали для меня возможность лично поблагодарить вас. Если я верно считаю, я должна вам семьдесят пять тысяч франков. — Прошу вас, не говорите об этом. — Не будем говорить. Но в первый раз явившись мне на помощь в Бомбее, вы, если я не ошибаюсь, сказали, что как-нибудь, в Европе, где я вас снова увижу, доставите мне случай поквитаться с вами долгом. Почему я раньше не видела вас? Вы следили или заставляли следить за мной всюду, потому что всюду, где мне снова была необходима ваша дружба, она находила меня. Почему эта непрестанно доказываемая вами дружба ко мне, столь быстрая и великодушная, так упорно укрывалась от моей?.. Ради Бога, принц, объясните мне!.. Рунна-Синг слушал Лолу, не перебивая. Она кончила. — Я не отказываюсь, — важным голосом сказал он, — дать вам объяснения, которые, я согласен, вам интересно узнать, но с одним условием. — С условием? — постаралась не покраснеть Лола. — Это условие трудное? — Я боюсь, что да. — Право, какое же? — Вы должны утвердительно ответить на одно мое предложение. — Какое? — Я возвращаюсь в Индию. Согласны ли вы поехать со мной? Лола широко раскрыла глаза: она ждала не того. — Мне возвратиться с вами в Индию? — вскричала она. — С какой целью? — Я вам скажу, если вы ответите «да». — Но сначала я должна узнать, на что я должна ответить… — Вам нечего узнавать, если вы согласны последовать за мной. — Боже мой! Мне это вовсе не неприятно, но вы меня смущаете, принц!.. Когда увозят куда-нибудь женщину, то говорят, по крайней мере, для чего!.. Наконец, если я соглашусь за вами следовать, то на сколько времени?.. Когда я вернусь в Европу?.. — Я не хочу и не могу вас обманывать. Вы никогда не вернетесь. — Никогда? — повторила она. — Нет, принц, я не согласна возвратиться с вами в Индию. Рунна-Синг встал. — Я предвидел этот ответ, — сказал он, — и он лишь подтверждает мое убеждение, которое я заранее составил, еще не входя с вами в объяснения, которые только укрепили бы вас в вашей решимости, Вы молоды и прекрасны, вы любите удовольствия; десяти лет, употребленных вами на то, чтобы наслаждаться по своему вкусу жизнью, было недостаточно, чтобы насытить ваше тело и душу… — Десять лет, — заметила Лола. — Действительно, это было в 1836 году… — Когда я в первый раз имел счастье вас видеть… точно так. Теперь вы снова меня встретите не ранее как через десять лет, в 1856 году, и, быть может, тогда я буду более счастлив, чем теперь, быть может, тогда вы устанете от жизни, все прелести которой исчерпаете. Но удаляясь от вас, я вас не оставляю, ибо верю, что рано или поздно надежды мои исполнятся — верю в ваш характер и в вашу энергию… Если мой взор не сможет следить за вами, как эти десять лет, то рука моя для вас открыта. Рунна-Синг вынул бумажник, совершенно похожий на тот, который десять лет назад он отдал Лоле. — Вот, — продолжал он, — десять переводных писем, обозначенных из года в год вплоть до 1856-го, выплачиваемые по предъявлении у разных банкиров Англии и Франции, и сто тысяч франков в банковых билетах: ровно двести тысяч, которые я счел долгом передать в ваше распоряжение в первый период наших сношений. Я сожалею, что не могу дать больше, но позже вы узнаете, что даже это малое еще слишком для меня много. Лола попеременно смотрела то на принца, то на бумажник. Как в Бомбее десять лет назад, и даже сильнее, она чувствовала какой-то страх. — Но к чему вы мне даете эти деньги? — воскликнула она. — Вы говорите о надеждах… о каких? О вашей вере в мой характер, в мою энергию. Чего же вы ждете, чего вы желаете от меня? Скажите, и кто знает, вы, быть может, получите, но только скажите, скажите! Рунна-Синг наклонил голову. — Нет, — сказал он. — Вы не созрели для дела. Я подожду. До свидания. И, положив портмоне на колени Лолы, странный покровитель удалился. Как в Бомбее, оставшись одна, Лола удостоверилась, что портмоне содержит именно назначенную сумму: сто тысяч франков. — Но этот индиец сумасшедший! — воскликнула Лола. — Это положительно сумасшедший! Я не созрела для дела! Для какого? Почему не созрела? Без сомнения, я не так еще стара! Чтобы понравиться, мне нужно постареть?.. Смешная идея! А между тем, если б я согласилась последовать за ним в Индию, я бы уже созрела?.. Что это значит?.. Есть от чего потерять голову! Но сумасшедший он или нет, я благодаря ему теперь при деньгах, независимо от десяти тысяч ливров ежегодного дохода. Безумец ты, Рунна-Синг, или нет, но я благодарю тебя!.. Мой великодушный друг! И ношу тебя в моем сердце!.. И через два дня Лола отправилась в Мюнхен в сопровождении своего друга, графа Штейгервальда. В то время в Баварии царствовал король Людовик I (Карл Август), родившийся 20 августа 1786 года и наследовавший престол после отца, Максимилиана Иосифа, в 1825 году. Он начал царствование многими серьезными административными реформами и сооружением многих прекрасных и полезных зданий, благодаря его инициативе в Италии было куплено множество картин — истинных сокровищ искусства, которыми обогатились мюнхенские музеи. Повторяем, сравнительно с другими Людовик I был достоин титула доброго государя. И этот почти хороший король, достигнув лет, когда проходят любовные иллюзии, был, однако, в течение нескольких месяцев игрушкой в руках женщины, доставленной ему интриганом, и превратился не только в смешного, но даже в отвратительного селадона. Женщина эта — Лола Монтец, интриган — граф Штейгервальд, заклятый враг ультрамонтанов, который говорил: — Людовик I не хочет слушаться разума, он будет внимать дурачеству. Это было опасное средство, как доказали события. Заставить потерять голову нетрудно, но снова возвратить ее — почти невозможно, особенно когда она седая. Наконец Штейгервальд захотел, чтобы Лола Монтец стала Дюбарри Людовика I. Она стала ею. Она даже сделалась графиней, как ее образец. Королевским указом 14 августа 1847 года, данным в Ятафенбурге и контрассигнованным двумя министрами, фаворитке было дано право натурализаций в Баварии; потом она была пожалована сразу баронессой Розенталь и графиней Ландефельд, ей был дан пансион в 70 000 флоринов и как официальная резиденция назначен великолепный дворец в Мюнхене. Но баварский король не удовольствовался этим. Если Лола Монтец играла роль Дюбарри, Людовик I, со своей стороны, подражал Людовику XV. Эту танцовщицу, которую он взял прямо с театральных подмостков своего театра, он представил ко двору и ввел в свое семейство; он приказал королеве украсить ее большой лентой канонисы ордена св. Терезы. Это Лола-то — канониса!.. Дьявол должен был бы жутко расхохотаться! Что Лола была орудием партии, успехи которой могли быть полезны для Баварии, — это возможно, но есть выгоды, которые отвращают, проистекая из известного посредничества. Мюнхенские студенты первые образовали ассоциацию, направленную на свержение фаворитки. Она ответила им тем, что собрала вокруг себя, под названием «Алеманния», толпу молодых людей, преимущественно из дворянства, которые поклялись ей на своих красных шапках защищать ее и умереть за нее. Студенты повсюду колотили красные шапки, где только их ни встречали, и освистывали Лолу, — точно так же, как это было в Опере. Графиня Ландефельд рассердилась; чтобы успокоить ее, король закрыл на год Мюнхенский университет. В свою очередь, народ начал смеяться над этой авантюристкой, которая управляла старым королем, и над этим королем, повиновавшимся авантюристке. И тогда в один прекрасный день король, который поклялся потерять скорее корону, чем любовницу, был вынужден подписать приказ о ее изгнании. Сидя в карете, сопровождаемой отрядом всадников, Лола выехала из Мюнхена. Это произошло в феврале 1848 года. А 20 марта королю пришлось отречься от престола. До тех пор пока он еще держал скипетр, Лола Монтец не теряла надежды взойти на трон и сесть рядом со своим любовником. С этой мыслью, в крестьянской одежде, она явилась в Мюнхен и выжидала около королевской резиденции появления короля, вероятно, для того, чтобы крикнуть ему: «Я все еще люблю тебя!» Но развенчанный Людовик был уже совсем не тот. Что делать со стариком, который теперь даже и не король. Лола удалилась на свою дачу на берегу Констанцского озера. Тщетно бывший король в двадцати посланиях повторял ей нежный куплет, который она сама когда-то ему напевала, — неблагодарная графиня Ландефельд оставалась глухой и немой. Деньги у нее были, она принялась за прежние похождения, повсюду прославляя свое имя. Сначала она направилась в Англию через Пруссию. В Бонне, когда она однажды ужинала как простая смертная, студенты устроили ей кошачий концерт. С бокалом шампанского в руках она вышла на балкон и закричала: — Прекрасно, мои друзья! За ваше здоровье! В Лондоне она вступила в брачный союз с сэром Чильдом, офицером королевской гвардии. Да будут благословенны боги, ее самый дорогой сон исполнился: она двоемужница! Но вдруг она узнала, что ею занимаются в Париже, где ее изображают на сцене Пале-Рояльского театра в одной пьесе, написанной Рожером де Бовуаром. — Я скоро возвращусь, — сказала она сэру Чильду и помчалась в Париж, где из ложи слушала написанные на нее куплеты, которым сама аплодировала. К концу второго года супружества сэр Чильд открывает, что у его жены есть где-то другой муж. Правда, этот муж вовсе не оказывает желания заявлять о своих правах, но подобное положение все-таки возмутило сэра Чильда. И притом, быть может, он уже успел убедиться, что Лола вовсе не то, что обыкновенно называют овечкой. И вот из-за ничтожной царапины, которую в дурном расположении духа Лола нанесла ему кинжалом, сэр Чильд — что вовсе не похвально — бросает свою дорогую половину в Барселоне вместе с двумя детьми, отправляется в Англию и добивается того, что брак объявлен недействительным. Лола пришла в ярость. — Вот как? — воскликнула Лола. — Второй муж был у меня ее дольше первого, так я отыграюсь на третьем! И вот она отправляется в дорогу, через горы и долы. Ну, а дети? Дети, быть может, и теперь еще живут у кормилицы в какой-нибудь деревушке в Испании. Из Барселоны графиня Ландефельд отправилась в Америку, в Новый Орлеан, где снова надела юбку и трико испанской танцовщицы. Затем она посещает Калифорнию и в Сан-Франциско выходит замуж за журналиста по имени Гулл, которого покидает на шестой неделе после свадьбы. В 1855 году ее встречают в Париже. В 1856-м она играет комедий в Австралии, в провинциальном театре в Виктории, в Мельбурне. 1856 год, если вы помните, был тем годом, который Рунна-Синг назначил временем третьего свидания. Когда он, найдя ее созревшей для дела, откроет ей тайну своего поведения, столь для нее странного. Да, в 1856 году Лола уже созрела: ей было тридцать семь лет. Это было вечером после театрального представления, ибо Лола, как мы уже сказали, отказавшись от танцев, играла в комедиях. Она вошла к себе печальная и одинокая. В эти последние годы ей часто приходилось бывать одинокой. Когда она переступила через порог своей комнаты, она внезапно остановилась и задрожала. В нескольких шагах от нее произнесли ее имя, этот голос она сразу узнала, хотя слышала его всего два раза в жизни. Она обернулась. — Это вы?.. — Разве я не назначил нынешним годом свидания? — возразил Рунна-Синг. — Я здесь! Через минуту он уже сидел в маленькой, чрезвычайно скромно убранной комнате. Это была квартира Лолы, ее столовая, зала, уборная и спальня — все вместе. Эта комната вовсе не походила на тот изящный будуар, в котором десять лет тому назад она принимала принца. Несколько минут продолжалось молчание. Рунна-Синг, казалось, размышлял; Лола его рассматривала исподлобья. Он не постарел, он по — прежнему был прекрасен. Лола вздохнула… Он не захочет ее теперь… Он не захочет иметь ее любовницей. — Согласны ли вы теперь следовать в Индию за мной? — сразу спросил Рунна-Синг. — Да, да! — быстро ответила Лола. — И никогда не возвращаться в Европу! Я согласна. Мне довольно Европы!.. Нет ни любовников, ни успехов, ни денег!.. Боже мой, я знаю, что я сама виновата в моей бедности. Но это было выше моих сил, я никогда не умела рассчитывать. Миллионы растаяли бы в моих руках!.. Слушайте, сто тысяч франков, оставленные вами, были проедены через два года после нашего свидания. Принц, повторяю вам, что я готова ехать с вами, когда вы только пожелаете… ехать закрывши глаза, и навсегда!.. Даже не нужно говорить, зачем вы берете меня с собой!.. Где бы я ни была, я не буду несчастнее, чем здесь, по крайней мере с вами я не буду принуждена зарабатывать мой хлеб. Зарабатывать хлеб, и это мне!.. Когда мы едем?.. Ледяная улыбка сжала губы Рунна-Синга. — Итак, — сказал он, — вы ни о чем не жалеете, говоря вечное прости своей родине? — Моя родина? Где она? Там, где я родилась? Уже давно у меня нет с ней ничего общего. — И вы последуете за мной без боязни? — Чего мне бояться? По совести, я не могу ничего объяснить себе: каковы ваши планы, какое чувство движет вами, когда вы меня увозите с собой, и почему вы ждали двадцать лет и истратили двести тысяч франков. — Двести пятьдесят тысяч. Вы забываете, что я должен был платить агентам, которые наблюдали за вами и доносили мне о ваших действиях. Лола выразила на лице сострадание. — Агентов? — сказала она. — Правда, вы платили, чтобы… Лучше бы вы мне самой дали эти деньги, я сообщала бы вам о себе новости… Наконец!.. — Наконец, — перебил Рунна-Синг, — вы решились довериться мне? — Без размышлений… И без объяснений, повторяю вам. — Извините, но я обязан вам дать эти объяснения. — Даже если я освобождаю вас от них? — Даже если вы освобождаете!.. Эти объяснения могут повлиять на вашу решимость и к тому же мне запрещено брать вас, не объяснив вам предварительно, какая участь ожидает вас в Индии, куда я обязан сопроводить вас. — Какая участь? Вы же не намереваетесь, полагаю, съесть меня?.. Ха — ха-ха!.. Но Рунна-Синг не смеялся. — Ну, если это так необходимо, — продолжала куртизанка, — скажите, что вы сделаете из меня? Я вас слушаю. — Слушайте! — важно повторил индус. — Завоевав Индию, ваши соотечественники, англичане, не удовольствовались тем, что отняли у нас власть и имущество, у нас, законных хозяев страны, они еще хотели навязать нам свои законы и обычаи. В нагорных областях Кондистана, с незапамятных времен, у нас существовало два культа: культ Тодо-Пенор — бога земли и культ Манук-Соро — бога войны. Манук-Соро и Тодо-Пенор за свое покровительство требовали от нас человеческих жертв. Каждый год мы приносили им эти жертвы. Но, обвинив эти культы в варварстве, англичане принудили нас от них отказаться. — И с моей стороны, — воскликнула Лола, — я не обвиняю их за это. Человеческие жертвы… это ужасно! Глаза Рунна-Синга засверкали. — А по какому праву, — возразил он, — люди обвиняют религию других? По какому праву англичане сказали кнодсам: «Есть только наш Бог, ваших не существует!» Жертвы, приносимые нами Манук-Соро и Тодо-Пенор, умирали по собственной воле. С детства девушек мэри — так называли их — приготовляли к жертве, а некоторые прославлялись, орошая своею кровью алтарь богов, призывая тем нацию на победы в битвах и плодородие в жатве. По какому праву англичане сказали им: «Вы не будете умирать!» Потому что они хотели сделать из нас рабов… Они даже слишком преуспели… Недостойные, презренные, мы оставили наших богов, боги оставили нас. Каждый раз с того времени, как мы отказались от культа Тодо-Пенор и Манук-Соро, как только мы поднимали голову — нас побеждали. Даже мой отец, один из могущественных горских властителей, был вынужден бежать от англичан и умер в горести. И эта религия, когда-то бывшая нашей охранительницей, эта наследственная религия, от которой мои братья против воли должны были отказаться, эта религия не умерла. Вот повеление одного старого жреца, данное мне: ступай в их страну и отыщи одну их крови и плоти!.. Одной достаточно, которая за твои благодеяния добровольно бы пожертвовала жизнью, и тогда все владения Кондистана будут освобождены от тяжкого осуждения… Манук-Соро и Тодо-Пенор простят снова одарят нас своим могущественным покровительством. И я последовал совету старого жреца. Я отправился к женщине — плоть от плоти врагов наших; чтобы привязать к себе эту женщину благодарностью, я в течение двадцати лет давал ей золото. Все, что я имел. Быть может, мало?.. Опять вина англичан, которые — сделали меня бедняком, как до того сделали сиротой. В течение двадцати лет я терпеливо ждал, чтобы эта женщина, рожденная для любви, пресытилась ею, чтоб сказать ей, чего я от нее хочу… Сегодня я сказал ей. Отвечайте, вы все еще согласны последовать за мной?.. Мы тщетно старались бы воспроизвести впечатление, произведенное на Лолу Монтец этой речью. В своей жизни она прочла много романов, у нее были даже свои собственные, но ничего подобного тому, что она теперь слышала, с ней не случалось. Как? Индийский фанатик для того двадцать лет был ее банкиром, чтобы в один прекрасный день удушить ее? Добровольная жертва! Приносимая в жертву идолам, — вот роль, которую требовали от нее в благодарность за благодеяния… Роль весьма удобная в какой-нибудь волшебной пьесе, перед публикой, среди прекрасных декораций, освещаемых бенгальским огнем. Но на самом деле, при полном свете дня… в Индии, для удовольствия толпы диких… Очень благодарна!.. — Вы, мой милый, сумасшедший! — таков был первый ответ, который вслух произнесла Лола, придя в себя от ужаса. Но при этом она взглянула на Рунна-Синга и, пораженная выражением его лица, продолжила: — Это просто убийство, дорогой принц! — спокойным голосом сказала она. — Вы думаете, что я достаточно пожила и что не только пресытилась любовью, но и самим существованием? Прекрасный индиец, которого она находила теперь дурным, утвердительно кивнул. — И вы правы, — продолжала куртизанка. — Я достаточно пожила. Это такая же правда, как и то, что ваши объяснения ничего не переменили в моих намерениях. Не все ли равно — умереть в Индии от руки вашего жреца или умереть с голоду в Париже или Лондоне? Я поеду с вами… Рунна-Синг сделал радостное движение. — Но позвольте! — возразила Лола. — Я откровенна: прежде чем сойти в могилу, мне хочется вкусить еще наслаждений. Последняя моя прихоть. Пять лет в виде отсрочки, прежде чем принадлежать вам, и пятьдесят тысяч франков, чтобы жить в довольстве все эти пять лет. Разве это много, чтобы сделаться самой покорной и преданной жертвой? Рунна-Синг сдвинул брови. — Пять лет слишком долго, — сказал он. — Нет, — возразила Лола. — Мне будет за сорок, это возраст, когда разумная женщина обычно покидает свет. Рунна-Синг встал, сделал несколько шагов по комнате и возвратился к Лоле. — Хорошо, — сказал он. — Я посвятил свою жизнь святому делу… Сколько-то еще лет подождать завершения этого дела меня не затруднит. Я даю вам отсрочку и требуемую сумму. С завтрашнего дня вы будете получать по десять тысяч в год. Но… Помните, Лола Монтец, сегодня 10 сентября 1856 года, и если 10 сентября 1861 года вы не явитесь туда, куда я вас позову за три месяца до срока, — горе вам!.. Лола Монтец открыла только одному лицу этот таинственный и невероятный эпизод своей истории и уверяла, что вся похолодела, когда Рунна-Синг, встав прямо перед ней и положив ей на плечо руку, глухим голосом произнес эти замогильные слова: «Горе вам!» Как и обещал этот ужасный благодетель, со следующего дня Лола стала получать свое жалованье. Обладательница десяти тысяч франков, Лола немедленно отправилась странствовать по свету. Была в Австралии, в Ливане, в Соединенных Штатах. В январе 1861 года во время одного из литературных вечеров она заболела и вскоре умерла. Умерла так, что искупила свои грехи, из глубины души прося Господа о прощении. Что же касается Рунна-Синга, то мы ничего не знаем больше о нем. Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Джеки Коллинз
 Бестия
Том 1
Бестия
Том 1
Королева бестселлера
Мировую славу обрела писательница Джеки Коллинз после ошеломляющего успеха своего первого романа «Мир полон женатых мужчин». С тех пор ее произведения переведены более чем на тридцать языков. В романах она с поразительной достоверностью изображает исступленную чувственность женщин и всевозможные перипетии их отношений с мужчинами. Джеки Коллинз была одной из первых, кто так всесторонне исследовал тему секса. Писательница родилась в Лондоне, но провела большую часть жизни в Америке, отсюда — дух космополитизма в ее произведениях. Джеки выросла в театральной семье, и хотя с детства мечтала о литературных занятиях, связи в мире шоу-бизнеса привели к началу короткой, но успешной и насыщенной событиями артистической карьеры. Она провела целый год, гастролируя в составе труппы по всей Англии, а также снялась в нескольких фильмах и телепостановках. В конце концов она очутилась в Лос-Анджелесе, где собрала бесценный материал для своих книг. В 1968 году Джеки решила полностью посвятить себя литературному творчеству, и через год увидел свет ее первый роман. Книга произвела настоящий фурор и стала предметом ожесточенных споров, благодаря чему заняла первое место в списке бестселлеров. Она переведена на многие языки, ею зачитывались, испытывая шок и восхищение, во многих странах мира. Действие второго романа Джеки Коллинз «Жеребец» (на русском языке выпущен издательством «Интердайджест») разворачивается на дискотеке, задолго до того, как дискотеки стали популярными во всем мире. В произведении высмеивается человек, который считает, что он использует женщин, тогда как на самом деле это они используют его. Очередная книга «Голливудский зоопарк» — талантливое и достоверное отображение фасада и изнанки знаменитой американской кинофабрики. Затем последовал роман «Секс — ее оружие» — история трех очень разных женщин, объединившихся в преступную группу — что-то среднее между мафией и Лигой за освобождение женщин. Роман «Мир полон разведенных женщин» представляет собой беспристрастный взгляд на слабый пол и институт брака. Известная кинокомпания «Уорнер бразерс» тут же поспешила приобрести права на его экранизацию. В 1978 году экранизация «Жеребца» была признана лучшим фильмом года в Англии. Кассовые сборы побили все рекорды. Это вдохновило Джеки на написание романа «Стерва», по которому тоже был поставлен фильм. Издательство «Интердайджест» уже познакомило с ним своих читателей. Вслед за этим Джеки Коллинз написала киносценарий по своему роману «Мир полон женатых мужчин». В главных ролях снялись такие звезды кино, как Кэррол Бейкер и Энтони Франсуа. Вскоре увидел свет ее оригинальный сценарий «Вчерашний герой». Эта история любви футболиста-неудачника и прекрасной рок-звезды вышла на экран в 1979 году. Главные роли исполняли ведущие киноактеры Сьюзен Соммерс и Ян Макшейн. Следующей книгой Джеки Коллинз стал роман «Игроки и любовники» — пятисотстраничный рассказ о путешествии по всей Америке в компании суперзвезды рока и двадцатилетней проститутки — победительницы конкурса красоты. Этот роман тоже сразу стал международным бестселлером. Критики отмечали великолепное сочетание лихо закрученного сюжета с полными драматизма эротическими коллизиями — сочетание, обеспечившее книге огромный успех у читателей. И вот перед вами новое произведение, которое издательство «Интердайджест» впервые публикует на русском языке. Читайте, оценивайте, ставьте «Бестию» на свою книжную полку!Книга 1
Среда, 14 июля 1977 г., Нью-Йорк
Коста Зеннокотти пристально смотрел на девушку, сидевшую напротив него за столом. Она продолжала говорить — быстро, взахлеб, бурно жестикулируя и время от времени корча гримасы, чтобы подчеркнуть ту или иную мысль. Господи! Он ненавидел себя за такие мысли, но она была самой сексуальной из всех женщин, каких он когда-либо видел. — Коста, — она резко оборвала свой монолог. — Ты меня слушаешь? — Разумеется, Лаки, — поспешно заверил он, сгорая от стыда. По сравнению с ним она совсем девчонка — двадцати семи или двадцати восьми лет от роду. Однако ума ей не занимать, и наблюдательности тоже. Наверняка она прочла его мысли. Лаки Сантанджело. Дочь его лучшего — на всю жизнь — друга Джино. Шлюха, дитя. Независимая женщина. Искусительница. Коста знавал ее во всех ипостасях. — Как видишь, — она порылась в сумочке и извлекла пачку сигарет. — Момент для возвращения отца крайне неподходящий. Во всех отношениях. Ты обязан его отговорить. Коста пожал плечами. Иногда она ведет себя как настоящая дура. Кому, как не ей, дочери Джино, знать, что никакая сила не может помешать ему осуществить намеченное? Если на то пошло, они — Джино и Лаки — сделаны из одного теста и похожи так, как только могут быть похожи двое разных людей. Даже внешне она — вылитый отец. То же выражение агрессивной сексуальности на смуглом, с оливковым оттенком, лице; те же черные, глубоко посаженные и нередко горящие злобой глаза; такой же большой рот и полные, чувственные губы. Только нос у Лаки поменьше и поженственнее. У обоих вьющиеся, цвета черного янтаря, волосы: у Лаки они до плеч, а у Джино, в его семьдесят с хвостиком, покороче, но тоже еще пышная шевелюра. Коста с сожалением дотронулся до собственной лысины. Проплешина, голый скальп, пустыня, которую не замаскируешь никакими парикмахерскими ухищрениями. А ведь ему всего шестьдесят восемь. Чего же можно ожидать, когда он будет в возрасте Джино? — Ты поговоришь с ним? — потребовала девушка. — Да, Коста? Поговоришь? Пожалуй, лучше умолчать о том, что в эту самую минуту самолет Джино кружит над городом и вот-вот пойдет на посадку. Так что Лаки очутится перед свершившимся фактом. Старик снова возьмет ситуацию в свои руки. Господи Иисусе! Опять у них закрутится, а я — между двух огней!* * *
В это время тремя этажами выше Стивен Беркли был всецело поглощен своей работой, благо тишина и покой офиса его друга Джерри Мейерсона давали такую возможность. Работа требовала полной концентрации мысли, поэтому пришлось во внеурочное время воспользоваться этими апартаментами. Замечательно! Ни телефонных звонков, ни посетителей, которые непременно осаждали бы его в собственном офисе — настоящем дурдоме, что днем, что ночью. Даже в его квартире телефон звонил не умолкая. Он потянулся, бросил взгляд на часы и, убедившись, что уже половина десятого, чертыхнулся про себя. Как быстро летит время! Вспомнилась Эйлин — может быть, позвонить ей? Ему пришлось отменить совместный поход в театр, но она ничем не показала своего недовольства. Вот что ему особенно нравилось в Эйлин: ее ничто не могло застигнуть врасплох и тем более выбить из колеи, будь то пропущенный спектакль или предложение руки и сердца. Он-таки решился три недели назад — и она сказала «да». Стивен не удивился — от Эйлин не приходилось ждать сюрпризов, да и кому они нужны — после развода с Зизи? Стивену исполнилось тридцать восемь лет, и его потянуло к упорядоченной жизни. Двадцатитрехлетняя Эйлин обещала стать прекрасной женой. Стивен Беркли пользовался славой первоклассного юриста. Когда отношение к черным изменилось к лучшему, он «попал в струю» — с четырьмя годами колледжа и четырьмя курсами юридического факультета за спиной. С его энтузиазмом, знаниями, острым умом и располагающим к себе характером пробиться оказалось нетрудно. На него также работала на редкость привлекательная внешность. Высокий — ростом выше шести футов, — с фигурой атлета, правдивыми зелеными глазами, шапкой курчавых волос и кожей цвета молочного шоколада, он обезоруживал окружающих тем, что, казалось, совсем не осознавал своей привлекательности. Это сбивало людей с толку. Приготовившись к проявлениям высокомерия, они с удивлением обнаруживали в нем подлинную доброту и участие — наряду с компетентностью. Он методично рассортировал бумаги и аккуратно разложил по разным отделениям своего кожаного портфеля. Огляделся, выключил настольную лампу и пошел к двери. Сейчас он был занят одним сугубо частным расследованием и за этот день значительно продвинулся. Поэтому Стивен чувствовал — после дня упорного, кропотливого труда — приятную усталость. Хорошо выполненная работа приносила ему почти физическое наслаждение. Не то чтобы он чурался секса — нет, секс с подходящей девушкой — одно удовольствие. Просто с Зизи он стал тяжкой повинностью. Давай, давай, давай! Маленькая Зизи с лисьей повадкой хотела все двадцать четыре часа в сутки, и если его не оказывалось под рукой, находила другие способы убить время. Жалко, что он не послушался матери и женился на ней. Но кто прислушивается к материнским увещеваниям, когда приспичило? Эйлин — совсем другое дело. Симпатичная девушка с несколько старомодными взглядами. Мама от всей души одобрила его выбор. «Женись!» — посоветовала она, и в ближайшее время он последует ее совету. Стивен в последний раз окинул офис взглядом и направился к лифту.* * *
Дарио Сантанджело зажал рот рукой, чтобы не закричать. Над ним, пыхтя, трудился долговязый чернявый парень. Боль. Наслаждение. Сладкая боль. Невыносимое блаженство. Нет еще!.. Не пора!.. Он больше не мог сдерживаться и испустил ликующий вопль. Все его тело прошила сладкая судорога. Смуглый парень немедленно извлек свой все еще твердый пенис. Дарио в изнеможении рухнул на кровать и перевернулся на спину. Партнер встал и посмотрел на него долгим и странным взглядом. Дарио внезапно отдал себе отчет в том, что даже не знает его имени. Еще один безымянный молодой брюнет. Ну так что? До сих пор ему ни с кем не хотелось повторить попытку. Мать твою так! Всех вас — к такой-то матери! Дарио не удержался и захихикал. Таковы условия игры. Он выбрался из постели и потопал в ванную. Парень молча смотрел вслед. Пусть пялится, от него не убудет. Все равно этому молодому животному не светит поиметь его еще раз. Он заперся в ванной и пустил в биде теплую воду, потому что любил сразу же подмываться. Наслаждение наслаждением, но потом… Он предпочитал забывать об этом — до тех пор, пока не появлялся еще один черноволосый красавец. Дарио присел на корточки над биде и тщательно вымылся с мылом, регулируя температуру воды от теплой до очень холодной. Под ледяными струями мошонка съеживалась, и в то же время он ощущал приятную свежесть и бодрость. Весь этот день он умирал от жары, чувствуя себя потным и липким. Хорошо бы его новый приятель не задержался. Может, дать ему деньги, чтобы поскорее отчалил? Обычно хватало двадцати долларов — они сматывались как миленькие. Он облачился в махровый купальный халат и посмотрел на свое отражение в зеркале. Двадцать шесть лет, но никто ему столько не давал: самое большее девятнадцать. Высокий, стройный, с голубыми глазами тевтонца и прямыми светлыми волосами. Дарио походил на мать и ничем внешне не напоминал отца и сестру — эту стервочку Лаки. Он отпер дверь ванной и вышел в спальню. Парень успел напялить на себя засаленные джинсы и рубашку с короткими рукавами и теперь стоял у окна к нему спиной. Дарио открыл ящик комода и вытащил из тоненькой пачечки две десятидолларовые банкноты. Он взял за правило не хранить при себе много денег, дабы не вводить в искушение своих случайных партнеров. Он покашлял, напоминая о своем присутствии. «Забирай гонорар и сваливай», — мысленно приказал он парню. Тот обернулся. Уплотнение в брюках свидетельствовало о сохранившейся эрекции. Дарио протянул ему деньги. — Это тебе на проезд — туда и обратно. — Мать твою! — неожиданно выпалил незнакомец, угрожающе помахивая невесть как оказавшейся у него в руке связкой ключей от номера. Дарио почувствовал слабость в коленках. Он терпеть не мог насилие и всевозможные осложнения. Кажется, быть беде. Он предчувствовал это с тех самых пор, как этот парень без каких бы то ни было авансов с его стороны привязался к нему в толпе. Обычно инициатива исходила от Дарио — должно быть, потому, что, несмотря на светлые волосы и голубые глаза, никто не принимал его за педика. Он ничем не отличался от гетеросексуалов — благодаря тому, что следовал преувеличенно мужскому стилю в одежде и тщательно следил за походкой. Всегда был сверхосторожен. С таким отцом нельзя позволить себе ни малейшей расхлябанности. Дарио медленно отступил к двери. В ящике письменного стола хранился крохотный курносенький пистолет двадцать пятого калибра. Гарантия на случай непредвиденных действий со стороны очередного случайного любовника. Парень заржал и прогнусавил: — Куда это ты намылился? Дарио был уже возле двери. — Брось валять дурака, — посоветовал его нечаянный партнер. — Я обо всем позаботился. Вот это — твои ключи. Ясно?Усекаешь, что это значит? Мы одни в запертой квартире, где глухо, как в заднице президента Картера. Бьюсь об заклад, у него тугая задница. Обожаю тугие задницы, приятель. Он сунул руку в карман джинсов и вытащил устрашающего вида нож. Десять дюймов смертоносной стали. — Ты же хотел, чтобы тебя проткнули, — ухмыльнулся он. — Так и быть, доставлю тебе удовольствие. Дарио, точно вкопанный, застыл у двери. Сердце ушло в пятки; в голове мелькали беспорядочные мысли. Кто этот человек? Что ему нужно? Нельзя ли откупиться? И, наконец, уж не подсуетилась ли в данном случае сестричка Лаки? Маленькая сучка — решила таким образом избавиться от него раз и навсегда!* * *
Для своих шестидесяти с хвостиком Кэрри Беркли выглядела сногсшибательно. Два ежедневных сета в теннис помогали ей сохранить стройность фигуры и упругость мышц. Черные, гладко зачесанные назад и скрепленные парой тугих бриллиантовых заколок волосы позволяли лучше оценить форму лица — высокие скулы, слегка раскосые глаза и сочные губы. В молодости Кэрри трудно было назвать красавицей, хотя у нее всегда был сексуальный вид, — однако в зрелые годы, благодаря новой прическе, ненавязчивому макияжу и элегантной одежде она стала замечательно красивой женщиной. Роскошной. Респектабельной. Прекрасно владеющей собой. Черная леди, которой удалось пробиться в мире белых. Сидя за рулем темно-зеленого «кадиллака», она медленно катила почти впритирку к тротуару, высматривая место для парковки. Поджатые губы свидетельствовали о том, что она еле сдерживает гнев. Столько лет ей удавалось хранить тайну! И вдруг — незнакомый голос в телефонной трубке, и вот она уже тащится по вечерним улицам Нью-Йорка, держа курс на Гарлем, где скрывалось ее прошлое, — а она-то надеялась, что оно навсегда оставило ее в покое! Шантаж — вот название игры. Чистейшей воды шантаж. Она затормозила перед светофором и закрыла глаза. Мелькнула мысль о сыне Стивена — преуспевающем и во всех отношениях благополучном молодом человеке. Господи, если бы он знал правду!.. Страшно подумать. Сзади в нее чуть не врезался автомобиль, и она рывком сдернула машину с места. Для самоуспокоения потрогала лежащую рядом сумочку. Изящная сумочка, рождественский подарок Стивена. У него всегда был безупречный вкус, если не считать одного-единственного прокола — женитьбы на той потаскушке Зизи. Слава Богу, теперь она ушла из его жизни — хочется надеяться, что навсегда. Деньги — великая сила! Кэрри со вздохом скользнула рукой в сумочку. Крохотный пистолет приятно холодил ладонь. Еще один защитник. Блеск металла студит горячие головы. Хорошо бы не понадобилось пускать его в ход! Напрасные мечты… Она снова вздохнула.* * *
Джино Сантанджело чувствовал себя крайне утомленным. Это был дальний перелет; последние десять минут тянулись особенно долго. Он пристегнул ремень и вынул сигарету. Сейчас ему хотелось одного: скорее встать ногами на добрую, старую американскую почву. Он слишком долго отсутствовал. Хорошо вернуться домой! Мимо с улыбкой прошмыгнула стюардесса, бросив на ходу: «Все о'кей, мистер Сантанджело?» И так каждые десять минут. «Все о'кей, мистер Сантанджело?»; «Могу я предложить вам напиток?»; «Подушку?»; «Одеяло?»; «Журнал?»; «Не хотите ли подкрепиться, мистер Сантанджело?»… Вряд ли самого президента окружали таким вниманием. — Я в полном порядке, — заверил Джино. Девушка была недурна, но непутевая — это он сразу определил наметанным взглядом. — Скоро будем на месте. Да. Скоро они будут на месте. Нью-Йорк. Его город. Его территория. Дом. Отдых в Израиле пошел ему на пользу. Приятная интерлюдия. Джино вздохнул. Скоро он будет дома. Займется детьми — Лаки и Дарио. Небольшое родительское внушение — вот что им сейчас нужно. — Могу ли я вам что-либо предложить, мистер Сантанджело? — мимо проследовала другая стюардесса. Он покачал головой. Скоро…* * *
Лаки вышла из офиса Косты и заглянула в дамскую комнату. Придирчиво изучила свое лицо в зеркале и осталась недовольной. У нее усталый, измученный вид. Темные круги под глазами. Сейчас бы устроить себе каникулы где-нибудь на пляже. Но это — потом. Не раньше, чем все утрясется. Она тщательно подкрасилась. Наложила румяна, блеск для губ, тени… Встряхнула путаной копной волос и пальцами подправила прическу. На ней были джинсы, заправленные в парусиновые сапожки, и бледно-голубая рубашка с вечно расстегнутыми верхними пуговицами. Сквозь тонкую ткань просвечивали два соблазнительных полушария. Лаки вынула из сумочки и надела на себя несколько золотых цепочек. Потом добавила пару массивных золотых браслетов и огромные серьги в виде обручей. Теперь не стыдно показаться на людях. Меньше всего ей хотелось возвращаться в пустоту своих апартаментов. Она вышла из туалета, вызвала лифт, немного подождала, хмурясь от нетерпения и нервно постукивая каблучками своих двухсотдолларовых сапожек. Коста стареет. И куда, черт побери, подевалась его хваленая лояльность? На чьей он стороне? Ясно, не на ее, как бы он ни убеждал ее в обратном. Она же не идиотка. Лаки бросила взгляд на часики от Картье. Девять тридцать. Два часа убила на старого маразматика! «Дерьмо собачье!» — слова сами сорвались с губ, и она оглянулась по сторонам: не слышал ли кто? Но в этот поздний час громадное административное здание казалось пустыней. Наконец подошел лифт, и Лаки вошла в кабину. В голове по-прежнему сменяли друг друга разные мысли. Если Милый Папочка действительно собирается вернуться, чем ей это грозит? Смогут ли они договориться? Готов ли он выслушать ее? Может быть… В конце концов, она — Сантанджело, разве не так? Причем единственная из двоих детей Джино, у кого действительно имеются шарики. За семь лет она достигла многого — и, видит Бог, это стоило ей немалых трудов. Очень помог Коста. Но останется ли он ее соратником, когда вернется Джино? Лаки еще сильнее нахмурилась. Мать твою! Джино. Ее отец. Единственный человек, которому она позволяла собой командовать. Но она давно вышла из этого возраста, и Джино придется признать тот факт, что он ей больше не босс. Ничего. Она не уступит. Независимость, контроль над ситуацией, власть — сильнейшие козыри! И все это останется при ней. Проглотит, никуда не денется!* * *
Когда Лаки вошла в кабину, Стивен Беркли даже не поднял головы от газеты. Кому он нужен — бесполезный обмен взглядами, неизбежно влекущий за собой обмен светскими любезностями? «Ну и жарища!»; «Сегодня отличная погода!». Напрасная трата времени. Лаки тоже не обратила на него внимания. Стивен продолжал читать газету, а Лаки — ломать голову над своими проблемами, как вдруг лифт сильно тряхнуло — еще немного, и содержимое их желудков выпрыгнуло бы наружу, — и погас свет. Они окунулись в чернильную тьму.* * *
Дарио и черноволосый парень одновременно совершили прыжок, но Дарио оказался чуть-чуть шустрее и успел выскочить из спальни, захлопнув дверь прямо перед носом у противника. К счастью, ключ оказался в замке, и он без промедления повернул его, так что тот подонок тоже оказался в клетке. Черт бы побрал архинадежную систему безопасности! Заказывая ее, Дарио думал главным образом о том, как бы исключить проникновение непрошеных посетителей извне. И уж никак ему не приходило в голову, что он может оказаться пленником собственного жилища. И вот они оба угодили в ловушку. Что делать — вызвать полицейских? Курам на смех. Унизиться до признания, что какой-то случайный хахаль — к тому же мужского пола — напал на него с ножом? Все узнают, что он — голубой, и если это, не дай Бог, дойдет до его папаши!.. Нет, Дарио не стал вызывать полицию. Что и говорить, Лаки на его месте быстро смекнула бы, что делать. Шустрая девчонка: и сверху, и снизу. Так ее перетак! Из спальни донесся оглушительный барабанный грохот кулаками по двери. Дарио мигом вышел из оцепенения. Обшарив ящики стола, он с ужасом убедился в том, что исчез его пистолет двадцать пятого калибра. Выходит, у того подонка не только нож, но и пистолет, и он в любой момент может сбить дверной замок. Им овладел дикий, животный ужас. И вдруг во всей квартире погас свет. Дарио почувствовал себя в западне — запертым в кромешной тьме вместе с невменяемым маньяком.* * *
Кэрри Беркли поняла, что заблудилась. Улицы Гарлема, которые она когда-то знала, как свои пять пальцев, казались чужими и едва ли не враждебными. Из уютного, снабженного кондиционером мирка своего «кадиллака» она растерянно взирала на загаженные улицы. Из открытых водозаборных кранов на плавящийся в солнечных лучах асфальт вытекала вода; какие-то люди с видом сомнамбул подпирали стены или сидели на корточках на ступеньках полуразвалившихся хибар. «Кадиллак» был ошибкой. Ей следовало нанять такси, хотя всем известно, что таксисты не решаются появляться в Гарлеме, особенно в такую жару, когда его жителями овладевают беспричинные злость и беспокойство. Она вычислила нахождение супермаркета и подкатила к стоянке. Пожалуй, лучше всего будет оставить машину и проделать оставшуюся часть пути пешком. На улицах многолюдно, никто не сделает ей ничего плохого. Кроме того, ее охраняет черный цвет кожи. Можно спросить дорогу у кассирши супермаркета. Да, она правильно сделала, что оставила машину. Это не лишняя предосторожность — пусть даже она и позаботилась о том, чтобы заляпать номер грязью. Кэрри вошла в супермаркет. Черная или не черная, она почему-то чувствовала повышенное внимание к своей особе. Надо было раньше сообразить, что она давно утратила способность сливаться с толпой, особенно такой, как эта. У нее чересчур шикарный вид. Аромат дорогих духов. Бриллиантовые заколки в волосах. Бриллиантовые сережки. Кольцо с бриллиантовым солитером — как она не подумала снять все это? Сзади, приноравливаясь к ее шагу, семенили двое парней. Кэрри ускорила шаг. Девушка за кассовым аппаратом лениво ковыряла в зубах. — Скажите, пожалуйста, — начала Кэрри, но ей не удалось закончить фразу. Внезапно магазин погрузился во мрак.* * *
Воздушная качка не вызывала у Джино неприятных ощущений. Ему даже нравилось, когда его мотало из стороны в сторону: тогда он закрывал глаза и представлял себе, что находится в моторной лодке в открытом океане или ведет «пикап» по каменистой местности. Он не понимал тех, кто боялся летать. Через проход сидела сухощавая блондинка. Она путешествовала одна и теперь не выпускала из рук небольшую фляжку, какие носят пристегнутыми к бедру. Время от времени она делала глоток-другой. Джино ободряюще посмотрел на нее. — Это всего лишь летняя гроза, абсолютно не о чем беспокоиться. Вы не успеете и глазом моргнуть, как мы очутимся на земле. Женщина опустила фляжку. Она была в зрелом возрасте, элегантно одета. Возможно, в свое время она славилась красотой. Джино гордился тем, что знает толк в женщинах. У него их было немало, и все — сливки сливок общества, элита элит; кинозвезды, шоу-герлз, светские дамы… Да, уж в этом-то он разбирается! — Не могу больше терпеть, — пробормотала пассажирка. — Просто ненавижу эту качку! — Садитесь рядом со мной, я подержу вас за руку. Вдруг полегчает? Женщина сразу уцепилась за такую возможность. Она отстегнула свой ремень и на секунду заколебалась. — Вы уверены? Однако уже в следующее мгновение она, не дожидаясь ответа, пересела на свободное место рядом с Джино, пристегнула ремень и впилась в его ладонь напряженными пальцами с длинными, ухоженными ногтями. Ну и пускай. К черту! Если ей от этого легче… — Вы, должно быть, считаете меня круглой идиоткой, — пробормотала она. — Но мне гораздо спокойнее, когда я хотя бы дотрагиваюсь до кого-то живого. — Понимаю. — За стеклом иллюминатора простиралось море огней. Ночной Нью-Йорк. Незабываемое зрелище! — Эй! — внезапно воскликнул он. — Что такое? — всполошилась его спутница. — Ничего, — нарочито небрежным тоном ответил Джино. Не хватало, чтобы она совсем распсиховалась. Но это неминуемо случится, если она увидит то же, что и он. Нью-Йорк исчез — прямо у него на глазах. Только что это был залитый огнями сказочный город, и вдруг на его месте — черная дыра. Море черноты. Ничего себе возвращение домой! О Господи!Джино, 1921
— Прекрати сейчас же! — Почему? — Сам знаешь почему. — Объясни еще разок. — Нет, Джино! Я серьезно… Нет! — Тебе же приятно. — Нет. Нет! Ох, Джино!.. О-о-о!.. Вечно одна и та же история. «Нет, Джино! Не делай этого! Не трогай меня там!» И всегда — счастливый конец. Стоило ему добраться до волшебной кнопки, как они прекращали сопротивление, раздвигали ноги и вряд ли замечали тот момент, когда он убирал палец и замещал его своим чудесным итальянским пенисом. Джино-Таран — вот как его прозвали, и совершенно справедливо, так как он взял гораздо больше крепостей, чем любой другой парень из их квартала. Неплохо для пятнадцати лет! Джино Сантанджело. Симпатичный малый, за словом в карман не полезет. В настоящее время он обдумывает план побега из двенадцатой по счету семьи, которая его приютила. Он попал в Нью-Йорк в трехлетнем возрасте. Родители, молодая итальянская чета, наслушались россказней о том, как легко в Америке разбогатеть, и решили попытать счастья. Майре было тогда восемнадцать лет, Паоло — двадцать. Оба были преисполнены энтузиазма и готовы взять от Америки все, что она могла предложить. Мучительные поиски работы. Наконец Майра устроилась на швейную фабрику. Паоло брался за любую работу — не всегда в рамках законности. Джино не доставлял особых хлопот многочисленным, сменявшим друг друга женщинам, которые брались присматривать за ним. Каждый вечер в пять тридцать мать забирала его домой. Этого он ждал весь день. Однажды — ему тогда было пять лет — она не пришла. Женщина, у которой он находился, пришла в негодование. «Где твоя мать, а? А? А?» Как будто он мог ответить. Он старался не плакать и терпеливо ждал. В семь приехал отец — с постаревшим, озабоченным лицом. К тому времени женщина дошла до белого каления. «Платите сверхурочные, слышите вы? Уговор был, что в пять тридцать духу его здесь не будет!» Последовала короткая стычка. Обмен любезностями. Потом в ход пошли деньги. В свои пять лет Джино уже успел понять, что его отец — из породы неудачников. — Где мамочка? — спросил он. — Не знаю, — пробормотал Паоло, усаживая сына на плечи и торопясь вернуться в ту каморку, которую они звали своим домом. Там он покормил Джино и уложил спать. В темноте было страшно. Джино отчаянно тосковал по матери, но понимал: плакать нельзя. Может быть, если он удержится от слез, мама к утру вернется. Майра не вернулась. Вместе с ней исчез управляющий фабрикой, на которой она работала, человек значительно старше нее, отец трех дочерей. Когда Джино подрос, он разыскал этих девочек, одну за другой, и овладел ими. Это была единственно доступная для него, хотя и неудовлетворительная, форма мести. После бегства Майры жизнь круто изменилась. Паоло постепенно становился все более озлобленным. В нем проявилась склонность к насилию, а Джино был удобным объектом. К семи годам мальчик уже раз пять побывал в больнице. Но он оказался цепким, выносливым парнишкой и быстро приспособился к ситуации. Нутром чуя приближение экзекуции, он преуспел по части игры в прятки. Когда под рукой не было ребенка, чтоб сорвать на нем злость, Паоло принимался избивать своих многочисленных подруг. Эта привычка привела его в тюрьму, а Джино впервые узнал, что такое сиротский приют. По сравнению с ним жизнь с отцом показалась ему настоящим раем. Вскоре Паоло убедился в том, что уголовщина неплохо оплачивается, и начал браться за любую работу. Тюремная камера стала для него вторым домом, а Джино проводил все больше времени в сиротских приютах. Когда Паоло выходил из тюрьмы, главным его интересом становились женщины. Он звал их сучками. «Всем им нужно только одно, — делился он с сыном. — Только на это и способны». Джино нередко приходилось наблюдать и даже присутствовать при том, как отец, точно разъяренный бык, набрасывался на женщин. Это и возбуждало, и внушало отвращение. В одиннадцатилетнем возрасте он сам попробовал испытать то же, что и отец, с перезрелой шлюхой, которая жадно схватила свои двадцать центов и всю дорогу сыпала ругательствами. В кругу восхищенных приятелей Джино небрежно пожимал плечами. Его самым близким другом стал жилистый паренек по имени Катто — он работал вместе со своим отцом на свалке, и от него всегда воняло. «Я тут ни при чем», — беспечно заявлял он. В их квартире не было ванны, а посещать публичную баню на Сто девятой улице означало двухчасовое ожидание в очереди. Заветной мечтой Катто стало подцепить девчонку с ванной. Другим приятелем Джино был Розовый Банан Кассари, долговязый подросток, гордившийся своим огромным пенисом, который действительно напоминал розовый банан — отсюда и прозвище. — Чем сегодня займемся? — спросил Джино. Парни немного подискуссировали и, повернувшись к вожаку, выдали привычное решение: — Чем скажешь. — Я говорю, что мы немного позабавимся, — заявил Джино. Дело было субботним вечером, он только что трахнулся и был в превосходном настроении. Пускай в карманах у него не наскребется и десяти центов, а башмаки каши просят; пускай очередные опекуны терпеть его не могут — душа требовала развлечений. Имеет он право? Они двинулись в центр города — свора плотоядных крыс во главе с Джино. Он усвоил особую важную походку и всегда шествовал с высоко поднятой головой — хозяин жизни! За ним тянулись восемь его корешей — с повадками мартовских котов, свистя и улюлюкая при встрече с девчонками: «Эй, сладенькая, хочешь отведать моей сладости?» — или: «Фу-ты, ну-ты, прелестная крошка, посадят меня за одни мысли!» Джино первым обратил внимание на этот автомобиль: длинный, блестящий, кофе с молоком; его оставили на стоянке и — он с трудом поверил в такую удачу — забыли ключи зажигания. Секунда — и вся честная компания втиснулась в салон; Джино, естественно, — на водительское сиденье. Еще секунда — и машина молнией сорвалась с места. Месяц назад он бросил школу и устроился автомехаником, поэтому хорошо разбирался в автомобилях. Умение водить машину пришло как-то само собой: легкая заминка с переключением передач — и вот уже они плавно катят по шоссе в сторону Кони-Айленда. На улицах почти не было прохожих. Дул ледяной ветер с океана. Но это не имело значения. Они побалдели на берегу, вдоволь набегались, взметая тучи песка, пригоршнями бросая его друг в друга. И оказались легкой добычей для патрульного полицейского, который терпеливо поджидал их с пушкой в руке возле краденого автомобиля. Это был первый раз, когда у Джино случились неприятности с полицией. А поскольку именно он сидел за рулем — и охотно признался в этом, — основная тяжесть наказания пришлась на него. В нью-йоркской комиссии по делам несовершеннолетних нарушителей ему определили год в исправительной колонии для малолетних преступников — той, что в Бронксе. Это было первое в его жизни лишение свободы. Его основательно застращали и посадили в каталажку. Братья-монахи, в чьем ведении находилось это заведение, оказались настоящими садистами. Днем их главной заботой была дисциплина, а ночью — упражнения с мальчиками. Джино с души воротило от таких порядков. У младших мальчиков не было шансов избегнуть своей участи. Его определили в швейную мастерскую, и он возненавидел эту работу. Брат Филиппе управлялся со своими подопечными при помощи стального прута; уличенного в расхлябанности били палкой длиною в ярд. Когда настала очередь Джино, брат Филиппе предложил альтернативу. Джино плюнул ему в лицо. С тех пор для него не проходило трех дней без порки. Через полгода пребывания Джино в исправительной колонии туда поступил тощий — кожа да кости — тринадцатилетний сирота по имени Коста. Он оказался лакомым кусочком для брата Филиппе; тот не стал терять времени даром. Ребенок запротестовал, но это не помогло. Другие мальчики бесстрастно наблюдали, как брат Филиппе тащит Косту в заднюю комнату. Вскоре оттуда послышались дикие вопли. Джино бездействовал, как все. Прошло полтора месяца. Коста таял на глазах. Он и вначале был тщедушным, а тут и вовсе усох до толщины палки. Джино что было сил старался не встревать в историю. В этом аду, чтобы выжить, нужно было думать только о себе. В следующий раз, когда выбор вновь пал на Косту, Джино весь сжался. Малыш хныкал и упирался, но брат Филиппе как ни в чем не бывало тащил его в заднюю комнату. Хлопнула дверь. Несущиеся оттуда вопли заставили всех вздрагивать. Джино не мог больше терпеть. Он схватил с рабочего стола ножницы и бросился туда. Открыв дверь, он увидел прижатого к столу Косту со спущенными брюками и трусами, а брат Филиппе с расстегнутой ширинкой приготовился во второй раз всадить свое копье в худенький зад ребенка. Эта мразь даже не побеспокоилась оглянуться — так велика была его похоть. Он, разрывая ткани, вторгся в нежную плоть мальчика. Коста заверещал, как резаный. Джино действовал по наитию. Ножницы разорвали пиджак насильника и вонзились в его в предплечье. — Убирайся отсюда, вонючий ублюдок! — завопил Джино. — Оставь его в покое! Брат Филиппе был несказанно удивлен, к тому же близок к оргазму, поэтому он только попытался стряхнуть с себя налетчика. Это было его ошибкой. Джино совсем потерял контроль над собой. Сквозь багровую пелену ярости ему показалось, будто он атакует своего отца, которого винил во всех своих злоключениях — уходе матери, побоях, жизни во вшивых сиротских приютах. Он стал изо всех сил колоть обидчика ножницами и не остановился до тех пор, пока этот грязный сукин сын не повалился на пол. Тогда только туман рассеялся, и он снова обрел способность видеть вещи такими, как они есть. Отвратительное зрелище!Кэрри, 1913–1926
Долгое, жаркое лето в Филадельфии. Лурин Джонс села на кровати, которую делила с шестилетним братишкой Лероем. По ее миловидному черному личику катились слезы. Ей исполнилось тринадцать лет, и она вот уже семь с половиной месяцев как была беременна. У нее не было ни отца, ни денег, а мать Элла, худая, изможденная женщина, продавала ее тело за наркотики. Рядом захныкал Лерой, и Лурин прилегла на кровать. Сон не шел к ней. Внизу собрались «друзья» матери; оттуда доносилась громкая музыка, которая потом сменилась специфическими звуками — пыхтением и постанываниями; слышались приглушенные вскрики и звонкие оплеухи. Лурин заткнула уши комочками ваты и изо всех сил зажмурила глаза. Сон не скоро, но все-таки пришел. Всю ночь ее мучали кошмары. Она задыхалась… безумно хотелось кричать… наконец она услышала крик… Она резко открыла глаза. Да. Кто-то и впрямь заходился в крике. Лурин вскочила с постели и, еще не успев открыть дверь спальни, почувствовала запах гари. Комната быстро наполнялась дымом. Она начала задыхаться и, сообразив, что в доме пожар, ринулась наружу. Языки пламени уже лизали ступени. Снизу неслись душераздирающие вопли. Как ни странно, она не ударилась в панику. По щекам струились слезы, но девочка знала, что нужно делать. Она вернулась в спальню, закрыла дверь, отворила окно и крикнула столпившимся на улице людям, чтобы ловили ее брата. Затем вытащила Лероя из-под одеяла и вытолкнула в окно. Дверь спальни была уже охвачена пламенем. Огонь стремительно приближался, но Лурин все же успела выпрыгнуть и тяжело грохнулась об асфальт. Там она долго лежала в луже крови, пока не приехала «скорая». «Спасите мое дитя, — прошептала Лурин. — Ради Бога, спасите мое дитя!» Она скончалась по дороге в больницу. Врач «скорой помощи» доложил дежурному врачу о ее беременности, и тот — молодой, энергичный — прослушал сердцебиение плода, слабенького, но живого. Он вызвал шефа, и тот подтвердил необходимость кесарева. Меньше чем через час родилась Кэрри. Ее шансы на выживание были почти равны нулю. Она была так мала и слаба, что едва дышала. Принимавший ее врач был уверен, что она протянет самое большее сутки. Но Кэрри — как ее назвали нянечки — отчаянно цеплялась за жизнь. Она пережила материно падение с высоты: околоплодные воды смягчили удар и помогли ей раньше времени появиться на свет. Шла неделя за неделей, а она продолжала удивлять всех своей живучестью. Месяц за месяцем набиралась сил, становясь нормальным, здоровым ребенком. Настолько здоровым, что вскоре ей пришло время покинуть доброжелательную атмосферу больницы. Единственной проблемой стало то, что на всем белом свете у нее не было никого, кроме бабушки Эллы, которую в невменяемом состоянии вытащили из огня, и шестилетнего дяди Лероя. Элла не пришла в восторг от еще одного голодного рта. Она долго препиралась со служащими больницы, утверждая, что этот ребенок не имеет к ней никакого отношения. Персонал был в шоке оттого, что крохотное существо, которое они выхаживали с такой любовью, попадет в руки этой ужасной женщины. Одна нянечка, добрая женщина по имени Сонни, мать троих детей, изъявила желание взять Кэрри к себе. Элла тотчас дала согласие, и Сонни забрала девочку домой, чтобы заботиться о ней, как о собственной дочери. От девочки скрыли трагические обстоятельства ее появления на свет. Это была бедная семья, но недостаток денег искупался любовью. В день ее тринадцатилетия в жизнь Кэрри вторглась Элла, и все изменилось. Кто эта незнакомая, увядшая, вся в синяках и ссадинах женщина с запавшими глазами и сальными космами? Время, прошедшее после пожара, немилосердно обошлось с Эллой. Кому нужна ободранная шлюха с отдутловатым лицом? Какое-то время она еще держалась, а потом опустилась до положения уличной воровки. Все деньги тратились на наркотики. Она надеялась на Лероя, он рос диким парнем, и Элла забрала его из школы и заставила работать на себя. Пока она слонялась взад-вперед по комнате, мальчики зарабатывали на жизнь, подставляя желающим зад. В восемнадцать лет он дал деру. Элла осталась одна — жалкое подобие женщины, слабой, больной, не привыкшей трудиться. Тогда-то она и вспомнила о внучке — как бишь ее называли? Кэрри… Кэрри… да, Кэрри. Если Лерой мог вкалывать на нее, почему бы этим не заняться отродью Лурин? В конце концов, они — кровные родственники. И Элла пустилась на поиски.* * *
Они переехали в Нью-Йорк в конце лета 1926 года — тринадцатилетняя девочка и ее бабушка. Элла решила, что там им светит больше денег, и потом, какого черта — она всегда мечтала жить в крупном городе, где с людьми случаются всякие чудеса. Их ожидало чудо в виде грязной комнатенки и работа для Кэрри — скрести полы в кухне одного ресторана. Она выглядела старше своих лет — рослая, с большой грудью, блестящими черными волосами и прозрачными глазами. Элла, которую в последнее время донимал кашель, решила, что у девочки неплохие перспективы — и, уж конечно, это не мытье посуды. Но приходилось ждать. Девочка оказалась строптивой, даже злой. Могла бы, кажется, оценить по достоинству тот факт, что бабушка разыскала ее и взяла к себе. Куда там — скольких трудов стоило разлучить ее с семейством, где она выросла! Вплоть до того, что они вызвали полицию, но Элла настояла на своих правах. Кэрри заставили уехать с ней. Слава Богу, это ее плоть и кровь. С этим пока еще считаются.* * *
— Сколько тебе лет? — приставал к ней тучный повар. Стоя на коленях и отскребая полы в зачуханной кухне, Кэрри бросила на него тревожный взгляд. — Клянусь моей задницей, тебе еще нет шестнадцати. Каждый день одно и то же. Она раз двадцать уверяла его, что ей шестнадцать лет, но он не верил. — Итак? — он облизнул тонкие, похожие на двух червяков губы. — Что будем делать? — А? — рассеянно отозвалась она. — Что будем делать? Не сегодня-завтра хозяин пронюхает, что ты малолетка, и даст тебе под твой драгоценный черный зад. Кэрри сосредоточила все внимание на полах. Может, тогда он ее оставит в покое? — Эй, негритоска, я тебе говорю! — он наклонился к ней и понизил голос. — Но не бойся, я ему не скажу — если будешь хорошей девочкой. Не успела она пошевелиться, как он уже залез ей под юбку. Кэрри вскочила, опрокинув ведро с мыльной водой. — Не смейте меня трогать! Он отступил, пухлое лицо побагровело. Появился шеф-повар — плюгавый человечек, ненавидевший цветных. Голодные глазки уперлись в лужу. — Немедленно подотри! — рявкнул он, глядя на стену поверх Кэрри, словно ее не существовало. — А потом убирайся отсюда, и чтоб я тебя больше не видел! Тучный повар ковырял у себя в левом ухе. — Глупая девчонка. Я бы не сделал тебе больно. Кэрри медленно собрала на тряпку воду, ошеломленная тем оборотом, какой приняла ее жизнь. Ей хотелось плакать, но слез не было. Она выплакала все глаза с тех пор, как появилась эта мерзкая женщина, назвавшаяся ее бабушкой. И потом — Нью-Йорк… прощай, школа… тяжкий физический труд… «Тебя избаловали, — говаривала бабушка Элла. — Но теперь с этим покончено, моя девочка. Слышишь? Твоя мамочка все время работала: убиралась в квартире, заботилась о братике и получала от всего этого огромное удовольствие». Кэрри не получала удовольствия. Она ненавидела бабушку, Нью-Йорк и свою работу. Мечтала вернуться в свою «настоящую» семью в Филадельфии. А вот теперь ее уволили, и бабушка Элла будет кипеть от злости. И она не сможет утаивать цент-другой из найденных на полу в кухне. Это несправедливо! Она вымыла пол, вышла из ресторана и остановилась посреди тротуара, размышляя, что теперь делать. Может, поискать другую работу, прежде чем бабушка Элла обо всем узнает? В воздухе чувствовалось дыхание зимы. Кэрри замерзла: у нее не было пальто. Дрожа всем телом, она пошла вдоль улицы и остановилась возле закусочной; оттуда доносился запах горячих сосисок. Нюхать — вот все, что она могла себе позволить. Кроме того, сюда наверняка не пускают цветных. В Нью-Йорке Кэрри узнала, что она цветная. Впервые услышала слово «ниггер» и научилась затыкать уши, когда ее дразнили. В Филадельфии аутсайдерами были скорее белые. Она жила в районе для цветных, ходила в школу для цветных. Почему эти белые решили, что они чем-то лучше? Она быстро пошла по тротуару. Встречные мужчины обращали на нее внимание. На девушке был свитер, плотно облегавший грудь. Мама Сонни обещала купить ей бюстгальтер, но когда она заикнулась об этом в разговоре с Эллой, та гневно сверкнула глазами: «Не мели чепуху, милочка. Нечего прятать титьки. Пока они будут вызывать у мужиков эрекцию, ты никогда не останешься без работы». Но ведь это неправда! Если бы этот паршивый повар не положил на нее глаз, она бы не потеряла работу. Кэрри очутилась перед итальянским рестораном — он так уютно выглядел. Ее била дрожь. Ветер пронизывал нехитрую одежонку; она с головы до ног покрылась гусиной кожей. Что делать? Рядом остановился бродяга, и на нее пахнуло дешевым ликером — это напомнило девушке о ждущей в грязной каморке Элле. Если войти и спросить, нет ли у них работы, что она потеряет? Не съедят же ее. Может быть, только обругают. В Нью-Йорке к таким вещам быстро привыкаешь. Собравшись с духом, она проскользнула внутрь и тотчас пожалела об этом. У нее было такое ощущение, словно она не один час простояла под обстрелом глаз, хотя на самом деле прошло всего несколько секунд, прежде чем Кэрри увидела направляющегося к ней верзилу. Она приготовилась к худшему. — Эй, — позвал он, — ищешь свободный столик? Она не поверила своим ушам. Столик? Она? Цветная девушка в ресторане для белых? Он что, рехнулся? — Я ищу работу, — пробормотала она. — Скрести полы, мыть посуду, еще что-нибудь… — А, так ты ищешь работу? Пошли на кухню. Не знаю, есть ли там вакансия, но, во всяком случае, спросим. Кэрри никак не могла поверить в его дружелюбие. Она опустила голову, а этот человек обнял ее за плечи и повел через весь зал. На кухне его встретила жена Луиза, а самого верзилу звали Винченцо. Они суетились так, словно им не было никакого дела до цвета ее кожи. — Какая молоденькая, — кудахтала Луиза. — Еще совсем дитя. — Мне шестнадцать лет, — солгала Кэрри, но, судя по тем взглядам, которыми они обменялись, ей не поверили. Обманывать не хотелось, но бабушка Элла постоянно вбивала ей в голову: «Только попробуй сказать свой настоящий возраст — мигом упекут в заведение для испорченных девочек, которые отлынивают от школы». Это было нечестно: ведь не кто иной, как бабушка Элла, забрала ее из школы и сломала ей жизнь. В маленьком ресторанчике работы не нашлось: у них и так уже было трое помощников. Но Винченцо поспрашивал знакомых и вернулся с хорошей новостью: их постоянному посетителю мистеру Бернарду Даймсу требовалась женщина для уборки, так что, если Кэрри не против, она может получить это место. Если она не против! Винченцо представил ее мистеру Даймсу. Тот окинул девушку внимательным взглядом. — Можешь приступить в понедельник? Она кивнула: от волнения у нее отнялся язык. Выйдя из ресторана, Кэрри совсем ошалела от счастья. Что сказать бабушке Элле? Правду — что она поступила на работу в частный дом и станет зарабатывать больше денег? Или соврать, что продолжает скрести полы в том же ресторане? Как это ни претило ее честной натуре, а все же ложь показалась ей предпочтительнее. Так она сможет скопить немного денег для себя, а бабушке Элле отдавать прежнюю сумму.* * *
Прошел месяц. Каждое утро Кэрри покидала жалкую каморку, где она жила с бабушкой Эллой, и ехала в роскошный особняк мистера Даймса на Парк-авеню. Так она поступила под начало экономки. Самого мистера Даймса она видала всего пару раз — он ласково улыбался и спрашивал, как идут дела. У Кэрри было такое чувство, словно она давно и хорошо его знает. Каждое утро она застилала его постель, меняла шелковые простыни, скребла ванну, чистила обувь, стирала, гладила и вытирала пыль в его кабинете, попутно любуясь фотографиями знаменитостей в серебряных рамках. Мистер Даймс был театральным продюсером. Миссис Даймс не существовало в природе, зато постоянно сменялись, сопровождая его в общественные места, роскошные блондинки. Они никогда не оставались на ночь — и в этом Кэрри была уверена. Для нее мистер Даймс был самым красивым, самым необыкновенным человеком на свете. Ему исполнилось тридцать три года, и он был очень богат. Однажды экономка предложила Кэрри переехать к ним жить: — В цоколе есть свободная комнатушка. Тебе наверняка будет удобнее. Кэрри пришла в восторг. — О, я с удовольствием! — Значит, договорились. Перевози свои вещи и с понедельника можешь переселиться сюда. Девушку охватило радостное возбуждение. Разумеется, она переедет! И бабушка Элла не найдет ее! Ведь она понятия не имеет о ее новой работе. Жить на Парк-авеню казалось сном наяву. Иметь собственную комнату! Пять долларов в неделю! Скоро она отложит достаточную сумму на билет в Филадельфию, где ее настоящий дом. Этот разговор состоялся в пятницу, оставалось как-то прожить выходные. Кэрри торопилась домой, обдумывая план побега. Бабушка Элла уже ждала. Она схватила жалкие гроши, протянутые Кэрри, и была такова. Кэрри присела на кровать, чувствуя себя слишком уставшей для того, чтобы тащиться в ресторанчик на углу за цыпленком на ужин. С улицы в комнаты врывались оглушительные звуки джазовой музыки. Все, чего ей хотелось, это закрыть глаза и как можно дольше спать — чтобы скорее наступил понедельник! Через два часа она почувствовала у себя на плече чью-то руку. Кэрри протерла глаза. — В чем дело, бабушка? Но это была не бабушка Элла, а рослый чернокожий парень с большими глазами и лохматой головой. — Ты кто? Парень ухмыльнулся. — Не бойся. Я — Лерой. Вот, пришел к матери. — Как ты вошел? — Впрочем, это и так было ясно. Тонкую, покрытую плесенью дверь ничего не стоило сорвать с петель. — А ты, значит, дочь Лурин? Я слышал, мама сделала доброе дело и взяла тебя к себе. Кэрри села на кровати. Бабушка Элла часто упоминала Лероя. «Этот чертов крысенок сбежал от собственной матери. Ну, пусть только попробует сунуться, я из него дух вышибу!» — Ее нет. Лучше приходите завтра. Лерой хозяином расселся на кровати. — Детка, я не собираюсь никуда уходить. Устал, знаешь ли. Есть чего-нибудь пожевать? — Нет. — А, ч-черт! Мама в своем репертуаре. — Он окинул ее диковатым взглядом и задержался на полной груди, едва прикрытой тоненькой комбинацией. — А ты ничего. Мамаша наверняка зашибает на тебе бешеные бабки. Кэрри натянула на себя простыню. — Я работаю уборщицей. — Хоть бы он скорее убрался! — Да ну? У какого-нибудь белого толстосума? — Нет, в ресторане. — В ресторане? Ч-черт! — Лерой откусил заусеницу. — Теперь будешь торговать собой. Папочка обо всем позаботится. Девушку охватила паника. Как будто включилась сигнальная система: «Опасность! Опасность!» Она попыталась соскочить с кровати, но он тотчас сграбастал ее и в два счета уложил обратно. — И не рассказывай мне сказки, будто ты еще этим не занимаешься. — Одной лапищей он держал обе ее руки, а другой шарил по всему телу. — Оставь меня в покое! — Еще чего! Думаешь содрать с меня баксы? Нет уж, мне ты дашь и так, ведь я твой дядя, девочка моя. Он рванул комбинацию. Кэрри изогнулась в тщетной попытке стряхнуть с себя грузного детину, но он пригвоздил ее к кровати, раздвинул ноги и грубо овладел ею. Она вскрикнула не столько от жуткой боли, сколько от отчаяния, злости и сознания своей беспомощности. — Эге! — У Лероя начался оргазм, но он не переставал ухмыляться. — Да ты и впрямь была целкой! Боже правый! Эта твоя штучка принесет мне кучу денег. Ч-черт! — Он кончил и слез с нее. Кэрри лежала без движения, слишком испуганная, чтобы что-то сказать или сделать, чувствуя жжение между ног. Так вот что это такое! Вот чего добиваются мужчины! Это и есть секс? Довольный собой, Лерой кружил по комнате, застегивая на ходу брюки и заглядывая во все углы. — У вас есть деньги? В мозгу Кэрри мелькнула мысль о нескольких долларах, которые ей удалось утаить от бабушки Эллы. Они были спрятаны в чулке под матрасом. — Нет, — пролепетала она, надеясь, что бабушка Элла вернется наконец и накажет Лероя за то невообразимое, что он с ней сделал. — Дерьмо собачье! Нет жратвы, нет баксов… Одно только и остается, — он неожиданно снова вскочил на нее, раздвинул ей ноги и всадил свое орудие. На Кэрри навалилась черная мгла. — Давай, давай, крошка, получай удовольствие, — ржал Лерой. — А то мне не так интересно. Когда Кэрри пришла в себя, то услышала голоса. Она чувствовала себя раздавленной и совершенно беззащитной. Говорила бабушка Элла. Слава Богу, она вернулась! Кэрри попыталась сесть, но силы покинули ее. — Ты сделал великое дело, — ликовала бабушка Элла. — Теперь, когда ты проложил дорогу, мы начнем делать настоящие деньги. Знаешь, малыш, я собиралась ждать до ее четырнадцати лет, но теперь… Ах ты, мой сладкий! Теперь у нас самая лучшая, самая молоденькая проститутка в городе!Джино, 1921–1923
На протяжении трех недель брат Филиппе находился между жизнью и смертью. Джино об этом не зная. Он был уверен, что убил этого подонка, и, сказать по правде, не слишком беспокоился. Случай с ножницами сделал его героем. Пока он сидел в следственном изоляторе, готовясь предстать перед судом, газеты раздули эту историю до небес. Заголовки кричали: «СТАРЫЙ РАЗВРАТНИК!», «ДЕТИ ЗАЩИЩАЮТ ДЕТЕЙ!» У жертв брата Филиппе не замедлили развязаться языки: теперь он был им не страшен. На газетных фотографиях Коста таращил испуганные глазенки. Его история потрясла нацию, и вскоре его с помпой усыновил богатый адвокат из Сан-Франциско, Франклин Зеннокотти, собиравшийся увезти мальчика сразу после того, как он даст показания в суде. Джино повезло: общественное мнение было на его стороне. И когда перед судьей встал вопрос, что с ним делать, он дал герою испытательный срок в шесть месяцев и отпустил на все четыре стороны. В коридоре суда он столкнулся лицом к лицу с Костой, и тот, до сих пор не сказавший с ним и двух слов, вцепившись ему в рукав, с чувством проговорил: «Спасибо, Джино. Ты спас мне жизнь. Когда-нибудь я отплачу тебе». Джино смутился, протянул руку и ухмыльнулся. — Ерунда, малыш. Забудь об этом. Он не без зависти смотрел, как Косту уводит приемный отец. Почему ему самому никто не предлагает новую жизнь? О нем тоже трещали газеты, однако никто почему-то не спешил усыновлять его. Ах да, у него же есть отец. Сукин сын, который в настоящее время отбывает наказание. Джино бросил взгляд на клочок бумаги с нацарапанным на нем адресом отца. Тот снова был женат, и Джино предстояло жить с мачехой — он как-то видел ее в коридоре суда, тусклая блондинка с пышными титьками. При мысли о титьках у парня началась эрекция. Он ровно девять месяцев просидел за решеткой и теперь чувствовал нестерпимый зуд. Самоудовлетворение было ему противно, особенно в тюрьме, где десятеро сокамерников на глазах друг у друга занимались тем же самым. Ему срочно требовалась бабенка. Он подхватил свой задрипанный чемодан со всеми пожитками и отправился на поиски первоклассной телки. Его воспламенившаяся плоть терлась о грубую материю штанов, но Джино не испытывал неудобств. Зато он на свободе! Сам себе хозяин! Сказочная удача!* * *
Лежавший сверху мужчина попыхтел, покряхтел и кончил. Потом он слез и, старательно отводя взгляд от женщины, начал одеваться. Женщину звали Вера. Это была та самая блондинка с роскошным бюстом, которая стала очередной женой Паоло. Она опустила подол юбки и в молчании наблюдала за тем, как клиент положил на стол деньги и ушел. Господи, как она устала! Слава Богу, для траханья не требуется особых усилий: раздвинь пошире ноги — и пусть он делает, что заблагорассудится. У нее была трудная неделя. Свидание с Паоло в «Синг-Синге». Потом пришлось тащиться в суд и заявить, что она возьмет к себе его сына. Черта с два! Она пошла только потому, что Паоло настаивал. «Это не значит, что он будет с нами жить. Ты только пообещай, чтобы его снова не упекли в колонию. Если заявится, дай емудвадцать долларов, и пусть катится». Вера скорчила гримасу. Двадцать долларов — как бы не так! Хватит с него и пятерки. Она встала, убрала деньги и машинально ответила на стук в дверь. Это явился один из ее постоянных клиентов, значит, можно не разговаривать. Она взобралась на кровать, задрала юбку и раздвинула ноги. Пока мужчина расстегивал брюки, она зевала.* * *
Джино вприпрыжку бежал по улице. Он был так счастлив, что даже не обращал внимания на нестерпимый зной. Где-нибудь в районе сорока градусов — и ни ветерка. Он вспомнил своих приятелей. Там ли они еще? А Сюзи и все остальные девчонки, с которыми ему случалось перепихнуться? Какой-то из них повезет? Он снова сверился с адресом. Да, это где-то здесь. Из открытого пожарного крана на асфальт вытекала вода; кругом приплясывали голые ребятишки. Какой-то старик ковырял в носу, сидя на крыльце многоквартирного дома. Номер шесть — на втором этаже. Он постучал раз, другой. Ответа не было. Тогда он открыл дверь. Новоявленная мачеха трахалась на кровати. Ее не смутило его вторжение. — Я занята. Джино и сам видел. Он забросил в комнату чемодан. — Ладно, зайду попозже, — и захлопнул за собой дверь. Какого черта? Потом его осенило. Разумеется, она проститутка! Разве порядочная женщина вышла бы замуж за его отца? Он доехал в метро до Кони-Айленда. Здесь было многолюдно, особенно на пляже. Джино пробирался между потными телами, высматривая знакомое лицо. Обычно они тусовались здесь в жаркую погоду. Так и не встретив ни одного знакомого, он разделся до трусов, нырнул и поплыл к деревянному плоту, на котором загорали две девчонки — очевидно, сестры. Увидев Джино, они захихикали. Не прошло и часа, как они подружились, плавали и ныряли вместе. Джино прилагал бешеные усилия, чтобы не показать им свое вздыбленное сокровище. Это удавалось — до поры до времени. Начало темнеть. Мамаши окликали детишек. Джино почувствовал, что больше не выдержит. Сестры засобирались домой. — Сплаваем еще разок? — предложил Джино. — Потом я доставлю вас на берег. Младшая настояла на том, чтобы ее высадили на берегу. Зато старшая проявила нерешительность. Ей было около восемнадцати, у нее были кудрявые, морковного цвета волосы и немного выступающие зубы. Она стала толкать плот, брызгаясь и смеясь. Когда они отплыли довольно далеко от берега, Джино пропустил девушку вперед себя и, улучив мгновение, когда она налегла грудью на плот, схватил ее сзади. Она ахнула. — Что ты делаешь? Джино прекрасно знал, что делает. Стиснув в ладонях два упругих мячика, он действовал быстро и решительно. Главное — поскорее довести ее до такого состояния, когда ей уже не захочется его останавливать. Он энергично шевелил ногами в воде, а руками продолжал тискать ее груди. Девушка тихонько замурлыкала от удовольствия. Готово. Он привлек ее к себе и впился поцелуем в соленые губы. — Не надо, — пискнула она, когда он стал снимать с нее купальник. — Надо, надо, — Джино нырнул и высвободил из купальника одну ее ногу. В воде было восхитительно. Как угодно будет восхитительно — после девяти месяцев тюряги! Он снова нырнул с головой и поцеловал ее груди, а руками развел в стороны стройные девичьи ноги, стараясь отыскать волшебную кнопку. — Джино! — ахнула она. Он вынырнул, чтобы набрать в легкие побольше воздуху, и в тот же миг пропорол ее своим клинком. Давление воды несколько осложнило его задачу, но он дошел до такого состояния, когда ничто уже не могло удержать его. Их тела переплелись в воде. Джино сообразил, что если он сейчас же не кончит, они рискуют утонуть. Выбор был за ним, и он предпочел кончить. Оба пробками выскочили на поверхность. — Ты чуть-чуть не утопил меня, — пожаловалась она. — Я никогда прежде этого не делала. — Делала, делала, — весело заверил он и вдруг заметил, что потерял в воде трусы. Он нырнул, но так и не нашел их. Становилось прохладно. Кудрявая захныкала, что хочет домой. — Я не могу найти трусы, — сказал Джино. Девушка захихикала. — Я посижу в воде, — предложил он, — а ты доставь мне одежду. — Что я скажу сестре? — Что их утащила акула. Что хочешь. Мне плевать. Они приблизились к берегу. Кудрявая догнала сестру, и они, не оглядываясь, бросились бежать. Джино не верил своим глазам. Они бросили его одного — с голым задом и гусиной кожей. О Господи! Он окинул пляж быстрым взглядом, глубоко втянул в себя воздух и совершил спринтерский бросок за своей одеждой.* * *
— Кто там? — гаркнула Вера. Для верности он постучал еще раз. — Это я, Джино Сантанджело. Я могу войти? Вера села на кровати. Она славно выспалась и совсем забыла об отпрыске своего мужа. — Ага, можешь… наверное. Он переступил через порог, и они уставились друг на друга. Джино увидел перед собой смертельно уставшую блондинку лет тридцати с потеками краски на лице и большущими титьками. Вера видела крутого парня с черными вьющимися волосами, темной оливковой кожей и глубоко посаженными черными глазами, которые казались старше него самого. Он ни капельки не походил на отца. — Ты чего такой мокрый? — равнодушно поинтересовалась она. — Купался в море. — В одежде? — Нет. Просто не захватил полотенце. Они еще некоторое время молча взирали друг на друга. — Тебе нельзя здесь оставаться, — сказала Вера. — Мы согласились, только чтобы тебя снова не зацапали. — А я думал… — Мне плевать, что ты думал. Это моя квартира, а не твоего старикана. — Ну да, — с горечью констатировал Джино. — Тебе ведь нужно работать. — Ну так что? — вспыхнула она. — Я хорошо зарабатываю. И не стыжусь этого. Он взялся за свой чемодан. — Где ты собираешься ночевать? — Понятия не имею. — Ну… — Женщина заколебалась. — Сегодня я жду еще одного козла. Переждешь на улице, пока он будет получать удовольствие, а потом можешь переночевать на кушетке. Только одну ночь, запомни. Джино кивнул. Он промок, выбился из сил и не горел желанием шляться по улицам. Верино предложение провести здесь ночь пришлось весьма кстати.* * *
Он прожил у нее полгода. Днем работал автомехаником все в той же мастерской, а вечерами вместе с прежней компанией пробавлялся мелким воровством, от которого никому не было вреда. А еще заботился о Вере: отшивал нежелательных клиентов и гулял с ней по воскресеньям — в ее единственный выходной. Время от времени она навещала Паоло в «Синг-Синге». Один раз Джино составил ей компанию. Паоло встретил его резким: «Принес погудеть?» Джино впервые за целый год видел отца. — Нет, — пробормотал он, чувствуя себя не в своей тарелке. Ему вспоминались побои, которые он когда-то терпел от этого тщедушного человечка в тюремной робе. — Брось, Паоло, — вмешалась Вера. — Ты же знаешь, что сюда не разрешается приносить спиртное. Нас обыскивают — ей-Богу. Ты же знаешь, если бы было можно, я бы принесла. — Сука! — процедил Паоло и повернулся к ним спиной. — Он сегодня не в настроении, — прошептала Вера пасынку. — Не обращай внимания. В следующий раз будет приветливее. Но Джино не собирался приходить в следующий раз. Так твою мать! Он вышел из того возраста, чтобы сносить издевательства. Пусть только Паоло посмеет еще поднять на него руку!.. Да уж, одного похода в «Синг-Синг» вполне достаточно. Каждую неделю он отмечался в полицейском участке. Там с ним проводили пятиминутную беседу и — чудеса в решете! — всякий раз передавали письмо из Калифорнии. Кажется, Коста Зеннокотти считал своим долгом шаг за шагом посвящать его в перипетии своей жизни. И хотя Джино ни разу не потрудился ответить, письма продолжали регулярно поступать. Странный пацан. С чего он взял, будто Джино интересует его жизнь? И какая жизнь? Школа, уютный дом, сводная сестра… Этот парень существовал в каком-то нездешнем мире. Когда миновал шестимесячный испытательный срок, он нацарапал Косте полуграмотную писульку, в которой сообщил номер своего абонентного ящика. Если пацану нравится строчить письма, зачем лишать его удовольствия. Вечером накануне освобождения Паоло из тюрьмы он повел Веру в кино. Она совсем расклеилась и, когда они пробирались домой сквозь снегопад, висла на его руке. — Слушай, малыш, — проговорила она. — Когда вернется Паоло, так дальше не пойдет. Понимаешь, о чем я? Джино кивнул. — Можно было бы попробовать, но… ты же знаешь своего отца. Да, Джино знал. Паоло — тот еще подонок! Он бьет женщин, смешивает их с грязью. Вера не ангел, но Джино успел проникнуться к ней симпатией. Обоим было ясно, что, если Паоло позволит себе грубость по отношению к ней, Джино не будет стоять в стороне. — Утром слиняю, — пообещал он. — Мне будет не хватать тебя, — сквозь слезы произнесла Вера. — Если когда-нибудь я тебе понадоблюсь… Он снова кивнул. За шесть месяцев Вера дала ему больше любви и ласки, чем отец за всю жизнь. Утром он собрал свой чемодан и ушел, пока она еще спала. Новый механик, Зеко, сказал, что в доме, где он живет, есть свободная комната. Зеко был парень лет девятнадцати, очень смуглый и неряшливый. Никто не питал к нему особой симпатии, но комната есть комната, так что после работы Джино отправился вместе с ним в обветшалый дом на Сто девятой улице. — Не дом, а помойка, — предупредил Зеко. — Ни центрального отопления, ни горячей воды, ни ванны… — Так какого черта ты там живешь? — Временно, пока не получу новую работу. Я вообще-то водитель дальних перевозок. Занимаюсь поставкой… Ну, ты знаешь чего. — Сидел когда-нибудь? — поинтересовался Джино. — Я-то? — загоготал Зеко. — Ну нет, меня голыми руками не возьмешь. — Он высморкался в рукав пиджака. — Слушай, давай обмоем твой переезд. Зайдем куда-нибудь, прихватим пару банок пива да пару девочек. — У меня свидание, — солгал Джино. — У нее есть подруга? — Не спрашивал. — Так спроси. — Э… Ясное дело. В другой раз. Комната оказалась хуже, чем он ожидал. Но Джино взял ее. Он не привык к хоромам. И, разумеется, не собирался ни на какое свидание — просто ему не улыбалось провести вечер с Зеко. Слизняк Зеко — так прозвали его на работе. Каких-нибудь пять минут — и Джино освоился в новом жилище. Здесь были кровать, потертый ковер и облупившийся комод. Вот и все. Зато это принадлежало ему.* * *
Местом встречи служила аптека Жирного Ларри на Сто десятой улице. Там Джино тусовался с приятелями. — Куда запропастился слизняк Зеко? — спросил Розовый Банан. Джино пожал плечами. — Я живу с ним в одном доме. Но это не означает, что нас теперь водой не разольешь. — Видал своего предка? — Не-а. Пусть погуляет несколько деньков. — За это время он успеет снова загреметь, — Розовый Банан загоготал, очень довольный своей шуткой; при этом он с шумом выпустил газ. — Черт! — Джино зажал нос. — Не хватает мне Катто — теперь ты еще! Розовый Банан снова заржал и вдруг заприметил хорошенькую маленькую блондиночку, чинно пившую лимонад. Он приосанился, однако Джино прочитал его мысли. — А ну, осади. У меня самого встал на эту крошку. Розовый Банан и Катто обменялись завистливыми взглядами. Еще одна добыча Джино. В чем его секрет? Девушка допила лимонад и встала из-за стойки бара. Она была красива и знала это. Она с высоко вздернутой головой прошла мимо Джино и его корешей. — Такая девочка — и без провожатых; быть беде! — сладким голосом пропел Джино. Она притворилась, что не слышит. — Эй! — резко окликнул он. — Ты что это проходишь мимо, будто я — куча дерьма на дороге? Девушка покраснела и ускорила шаги. Розовый Банан загоготал. Джино хлопнул в ладоши. — Ша! Сегодня я не в настроении гоняться за всякими соплячками. — Через пару минут до них донесся пронзительный визг с улицы. Джино выскочил первым, Катто и Розовый Банан следовали по пятам. Слизняк Зеко пригвоздил мисс Зазнайку к стене и шарил грязными лапами по всему ее телу. Девушка верещала, точно насмерть перепуганный кролик. Белая блузка порвалась; обнажились груди. — Ты что делаешь, Зеко? — ласково спросил Джино. — Не твое дело, гад! — прорычал тот. — Да? Ну так будет мое. Зеко сильнее прижал девушку к стене. — Я не жадный. Сам позабавлюсь, потом твоя очередь. — Оставь ее в покое, гнусный слизняк! — Мать твою, Джино! Никто не успел глазом моргнуть, как эти двое уже сцепились. В ход пошли кулаки, ногти, ноги; они повалились на землю. Джино моложе и меньше ростом, зато сильнее. Одним хорошим ударом он рассек Зеко губу. Хлынула кровь. — Ах ты, вонючий крысенок! — рычал Зеко. Ему удалось нагнуться и выхватить из-за голенища нож. Оба были уже на ногах и бдительно кружили друг вокруг друга. К Катто и Розовому Банану присоединились другие зрители — толпа жаждала крови. Кто-то болел за Джино, кто-то за Зеко. Джино ничего не слышал. Одним глазом он следил за ножом, а другим — за каждым движением противника. Внезапно Зеко сделал выпад, и лезвие пропороло Джино щеку. Хлынула кровь — больше, чем можно было ожидать от неглубокой раны. — Мерзкий ублюдок! — взвыл Джино, весь во власти слепой ярости — как тогда, когда набросился на брата Филиппе. Перед ним снова был Паоло. Силы Джино удвоились. Он схватил руку Зеко с ножом и начал выкручивать — не обращая внимания на хруст, не слыша чьих-то воплей. Наконец Розовый Банан и Катто оттащили его от воющего Зеко. — Ты наверняка сломал ему руку, — без особого сожаления заявил Катто. С глаз Джино постепенно спадала черная пелена. Он помотал головой, чтобы скорее стряхнуть наваждение и вспомнить, кто он и где находится. Возле его ног корчился Зеко. — В следующий раз башку оторву, — пообещал Джино и оглянулся, ища маленькую блондиночку, из-за которой разгорелся сыр-бор. Она удалилась — точно великосветская дама. — Пошли в больницу, — предложил Розовый Банан. — Нужно привести харю в порядок. Джино дотронулся до кровоточащей ссадины на щеке. Только шрама ему и не хватало. — Пошли. В больнице ему зашили рану. Джино не стал отвечать на вопросы. Когда они уже собрались уходить, туда привели Зеко. Парни обменялись злобными взглядами, но не проронили ни слова. Закон улицы гласил: держи рот на замке. Ни один не решился его нарушить.* * *
Прошло дней десять. Джино работал в мастерской. Когда он валялся под «паккардом», к нему пришли. Сначала Джино увидел ботинки. Двухцветные, из патентованной кожи. Очень прочные. — Ты Джино Сантанджело? — А кто его спрашивает? — он вылез из-под машины. — Не имеет значения. Это ты? У Джино сердце ушло в пятки. Над ним возвышался Эдди-Зверь, правая рука знаменитого Чарли Лючании. Он сглотнул, пытаясь скрыть волнение, и поднялся, вытирая замасленные ладони о грязные штаны. — Да, я — Джино Сантанджело. Эдди-Зверь не стал терять время понапрасну. Резкий удар в солнечное сплетение согнул Джино пополам. — Это за Зеко, — хладнокровно объяснил Эдди. — Он шлет тебе привет из госпиталя. Жалеет, что из-за сломанной руки не может лично засвидетельствовать свое почтение. Джино выпрямился. Инстинкт самосохранения подсказал ему, что нельзя давать сдачи. Так что он просто стоял и пялился на Эдди. Потом сказал: — Зеко не повезло. Он сам напросился. Эдди захохотал. — Мы слышали, что ты крутой парень. Пошли, мистер Лючани хочет с тобой потолковать. У Розового Банана глаза вылезли из орбит. — Я скоро вернусь, — нарочито беспечным тоном сказал Джино. — Уладь тут с боссом. Скажи, что я заболел или что-нибудь в этом роде. — Возможно, ты не погрешишь против истины, — посулил Эдди. Однако Джино больше не испытывал страха. Ничего с ним не случится. Наоборот, он предчувствовал большую удачу.* * *
Чарли Лючания ждал на заднем сиденье черного «седана», припаркованного неподалеку. Он оглядел Джино с головы до ног и усмехнулся. — Я много слышал о тебе, малыш. И хорошего, и плохого. Джино молчал. — У тебя есть характер — это хорошо. У меня у самого есть характер. Но тебе нужно научиться вовремя его проявлять. Понимаешь, что я имею в виду? Джино кивнул. — Я люблю, когда меня окружают друзья. Они приходят ко мне молодыми, я учу их и всячески поддерживаю. Они платят мне преданностью. Понимаешь, что я хочу сказать? Джино снова наклонил голову. — Сколько тебе? — Семнадцать. — На самом деле ему оставался месяц до семнадцати. — Прекрасно, прекрасно. — Лючания наклонился к нему. — Я поручил Зеко одну работу. Ты вывел его из строя. Я не стану тебя наказывать. Ты сам сделаешь для меня эту работу. В следующую среду. В восемь часов вечера. Эдди подробно тебе обо всем расскажет. Лючания откинулся на спинку сиденья. Разговор был окончен. Джино прочистил горло. — Э… Послушайте. Я рад получить работу, но не хотелось бы снова очутиться за решеткой. Чарли скользнул по нему ленивым взглядом. — Хорошо водишь машину? — Лучше всех. — Значит, тебя не поймают. — Давай-давай, гаденыш. Вот когда Джино понял, что у него нет выбора.Кэрри, 1927–1928
Мужчина воззрился на Кэрри, а она — на него огромными испуганными глазами. Это был настоящий черный великан, ростом никак не менее шести футов. Но ее пугал не рост или вес, а размеры его пениса. Ей уже пару раз приходилось «развлекать» его, и он разрывал ей промежность. Она жаловалась Лерою, плакала, истекала кровью, но он лишь смеялся над ней, как над малым ребенком. Кэрри не была ребенком. Она была узницей. — Я плохо себя чувствую, — сказала она негру, часто-часто мигая, чтобы удержать слезы. — Не может быть, — заявил он, снимая брюки. — Все леди превосходно себя чувствуют, стоит им увидеть, что у меня для них припасено. Боже милосердный! За что ей такая жизнь? С той роковой ночи, когда Лерой изнасиловал ее, Кэрри держали под замком, ни на минуту не выпуская на улицу. Ее уделом стал нескончаемый поток мужчин. Лерой собирал деньги, а бабушка Элла приносила еду, свежие простыни и полотенца — когда не забывала это сделать. Лерой снял соседнюю комнату, чтобы надежнее охранять ее. Кэрри превратилась в робота, чьей обязанностью было ублажать постоянно сменяющих друг друга мужчин. Вначале она пыталась протестовать — тогда Лерой зверски избивал ее. Негр снял брюки и длинные шерстяные подштанники и стоял над ней в одной рубашке, не прикрывавшей его огромную дубинку. — В прошлый раз мне было больно, — отважилась она произнести. — Нет ли какого-нибудь другого способа? Клиент немного подумал. Затем его тупая физиономия озарилась улыбкой. — Могу потереться о твои маленькие титьки, а потом в рот, — предложил он. Все лучше, чем между ног. Кэрри кивнула и сняла комбинацию. Она похудела, на теле выделялись синяки от побоев; руки и ноги превратились в палки. Остались только пышные груди; негр жадно сграбастал их и сунул между ними свое устрашающее орудие. Кэрри закрыла глаза и жалела лишь о том, что нельзя заткнуть уши. Кряхтенье черного исполина было не совсем тем, что ей хотелось слышать. Лучше вспоминать прошлое, все хорошее, что было в ее жизни. Мама Сонни, Филадельфия, работала в доме мистера Даймса на Парк-авеню… Теперь негр совал свою игрушку ей в рот. У той был вкус мочи и пота. Кэрри хотела воспротивиться, но было уже поздно: ей заткнули рот. Он толкал эту штуку взад и вперед, скребся о зубы, вызывая желание укусить. Кэрри делала это впервые в жизни. Неужели он залезет ей еще дальше в горло и задушит ее? Она захлебнулась, и он немного вытащил пенис, перенося все внимание на груди, которые тискал так, словно проверял на спелость две большие дыни. При этом он громко стонал и бормотал слова какой-то молитвы. И вдруг ей в горло хлынула густая соленая влага. Кэрри подумала, что ее сейчас вырвет. Но ей удалось проглотить эту гадость. Негр вытащил пенис, и все было кончено. Зато он не разорвал ей промежность. Это уже кое-что. Она должна радоваться, тем более что сегодня у нее день рождения. Ей исполнилось четырнадцать лет.* * *
Через восемь месяцев скончалась бабушка Элла. Лерой потрудился сообщить об этом Кэрри только через три дня, когда она чуть не умерла от голода. — Одевайся, — он швырнул ей старое замызганное платье. — Я хочу есть, — взмолилась она. — Как ты мог запереть меня без пищи? Я же могла умереть. — Заткнись, дура, — рявкнул Лерой. — Маму забрали на небеса, а ты только и думаешь, что о себе. У нее округлились глаза. — Бабушка Элла умерла? — «Бабушка Элла умерла?» — передразнил он. — И мне здесь больше нечего делать. Я еду в Калифорнию. Солнце и сладкая жизнь — как раз для Лероя! Кэрри по-прежнему не спускала с него глаз. — Значит, я теперь свободна? Лерой ухмыльнулся. — Девочка, ты — мой билет в Калифорнию. Я тебя продам. Кэрри отшатнулась. — Ты не можешь этого сделать! — Очень даже могу! И смотри у меня: будешь плохо себя вести, живо сверну твою тоненькую шейку! Лерой и не думал шутить. Он одел Кэрри, скормил ей цыпленка, а потом схватил за руку и повел в один из близлежащих домов. Там дородная женщина ощупывала и тыкала в нее пальцем, словно выбирала мясо для ростбифа. — Лисси, ты не пожалеешь об этом приобретении, — убеждал Лерой. Он сорвал с Кэрри платье. — Только взгляни на эти сиськи, эти ножки, эту сладкую штучку… Кэрри съежилась. — Откуда мне знать, как она будет себя вести? — подозрительно проговорила Лисси. — Будет вести себя, как положено! — зло буркнул Лерой. — Она ничего больше не умеет делать. Просто давай ей есть и держи под замком. У тебя с ней не будет никаких хлопот. — Ну, не знаю… — Знаешь, знаешь. Девчонка совсем молоденькая. Ты на ней заработаешь целое состояние. — Сколько ты хочешь? — Мы же договорились — сотню долларов. Через несколько недель вернешь себе эти деньги — и даже с прибылью. Лисси сузила холодные глазки. — Пятьдесят, Лерой, это все, что я могу тебе предложить. — Ч-черт! — Бери или выметайся. — Ну, хоть семьдесят пять. — Полсотни. — Шестьдесят! — взывал он. Лисси сжалилась над ним. — Пятьдесят пять — и по рукам. Деньги перешли из рук в руки. После этого Лерой, даже не простившись, исчез за дверью. Лисси смерила цепким взглядом фигуру девушки. — Ты слишком тощая. Надо будет тебя откормить. Идем, покажу тебе твою комнату, да и ванна не помешает.* * *
У Лисси ей жилось значительно лучше, чем у бабушки Эллы. Еда здесь была сытнее, клиенты респектабельнее, а комната, в которой Кэрри держали взаперти, удобнее прежней. Здесь жили и другие девушки. Сначала ей не разрешалось с ними видеться, но через пару месяцев, когда затраты на ее приобретение с лихвой окупились, Лисси подобрела и предоставила Кэрри относительную свободу. Отсюда можно было сбежать. Но Лерой был прав: ей некуда было идти. Она стала проституткой, этого клейма ничем не смоешь. С ним не поедешь в Калифорнию, не поступишь на работу к мистеру Бернарду Даймсу. Проституция стала ее жизнью, а раз так, сказала одна из девушек, почему бы не попытаться на этом заработать? Вскоре после этого Кэрри подступилась к Лисси. — Я хочу иметь свою долю заработка. Та рассмеялась. — Долго же ты думала, девочка моя.* * *
К пятнадцати годам Кэрри скопила изрядную сумму денег. Со своей аппетитной грудью, длинными черными волосами и восточным разрезом глаз она пользовалась успехом. Когда она заявила Лисси, что уходит, та отнеслась к этому с пониманием. Грустно, но ничего не поделаешь. Кэрри навестила Флоренс Уильямс, одну из популярнейших «мадам» Гарлема. Флоренс жила в благоустроенной квартире на Сто сорок первой улице вместе с тремя великолепными девушками. Едва взглянув на Кэрри, Флоренс тотчас предоставила в ее распоряжение отдельную комнату. Они условились, что Кэрри станет брать двадцать долларов за визит и выплачивать пять из них Флоренс в качестве квартирной платы. Это была сказочная комната! Удобная кровать с белым покрывалом. Телефон. В углу — умывальник из китайского фарфора и кипа чистых полотенец. Горничная меняла их после каждого клиента. Горничная! Кэрри не нравилась ее работа, но в последнее время она стала относительно терпимой. Другие девушки были дружелюбно настроены, и, главное, две из них были белыми! Вскоре Кэрри убедилась, что и половина клиентов принадлежит к высшей расе. Это ее потрясло. Вот уж не думала, что и белым приходится за это платить. Такие солидные господа с уважаемыми профессиями, женами и всевозможными привилегиями! Когда Кэрри поделилась с товарками своими ощущениями, те расхохотались. — Милочка, белые мужчины — свиньи почище похотливых ниггеров, — заверила ее Сесилия, высокая, надменная девушка, о которой вы ни за что бы не подумали, что она торгует собой. — Негры, по крайней мере, стараются, чтобы тебе было хорошо, хвастаются своим искусством трахаться. Тогда как белые… Они просто чокнутые. Свяжи их, поколоти хорошенько — вот тогда они довольны. У Сесилии была кожа цвета сливочного масла, рыжие волосы и длиннющие ноги. Она говорила, слегка растягивая слова. Вторая белая девушка славилась огромными глазищами и привычкой лгать по любому поводу. И наконец Билли — черная девушка, которую Кэрри втайне считала своей ровесницей, хотя обе заявляли, что им восемнадцать. Кэрри восхищалась красотой и другими качествами подруги. Билли приехала сюда из Балтимора вместе с матерью и поступила в горничные. Потом она возненавидела свою работу; кончилось тем, что она оказалась у Флоренс Уильямс. «Еще чего — убирать за всякими белыми свиньями!» — возмущалась Билли. У нее был приятный и по-настоящему красивый голос — особенно когда она подпевала модным джазовым пластинкам. «Из тебя бы вышла отличная певица», — убеждала ее Кэрри. — Ага, — соглашалась Билли. — Я могла бы достичь многого. Вот увидишь, я еще всех удивлю! — Конечно. И я тоже. — Только Кэрри не знала, чем именно. У нее не было особых талантов. Она привыкла отдавать за деньги свое тело и чувствовала себя в безопасности. У нее не было желания выходить в чуждый мир, к чужим людям. Все равно одного взгляда на нее достаточно, чтобы догадаться, кто она такая. Иногда Кэрри просыпалась среди ночи, проклиная бабушку и Лероя. Но чаще запрещала себе даже думать об этом. День сменялся ночью, а ночь — новым днем. Для Кэрри они ничем не отличались друг от друга. Она постоянно была погружена в полудремотное состояние. Деньги — и те не имели особого значения. Все клиенты были на одно лицо. Черные, белые, молодые, старые — безразлично. Однажды Флоренс Уильямс вызвала ее для разговора. — Малышка, тебе нужно переменить манеру поведения. Эти коты приходят, чтобы приятно провести время. Ты слишком равнодушна. Это их обижает. Однажды вечером, когда у Кэрри был клиент, она услышала шум. Сердитые голоса Билли и кого-то из гостей. И медоточивый голос Флоренс, стремящейся все уладить. Позднее Кэрри узнала, что Билли отказала клиенту, громадному негру по фамилии Рейниер. Рейниер был человек со связями. Накоротке с Бабом Хьюлеттом — фактически хозяином Гарлема. Флоренс ужасно рассердилась. — Эти парни на короткой ноге со всеми копами, — бушевала она. — Научитесь различать, кому можно сказать «нет», а кому нельзя. Билли упорно не желала раскаиваться. На другое утро, когда девушки сели завтракать, нагрянула облава. Копы вломились в дом и арестовали всех до одной. Через несколько часов Флоренс Уильямс и две белые девушки были отпущены, а Билли и Кэрри — нет. Им предъявили обвинение в занятиях проституцией и после жуткой ночи в изоляторе доставили в суд. Когда Билли увидела судью, ей стало дурно. — Мы с тобой попались, — шепнула она Кэрри. — Видишь эту старую выдру? Это судья Джин Норрис — настоящая сука! По сравнению с Кэрри, Билли легко отделалась. Мать поклялась, будто ей восемнадцать лет. Судья заглянула в какой-то листок и объявила, что, согласно медицинскому заключению, подсудимую следует поместить в городскую больницу Бруклина. Когда настала очередь Кэрри, судья смерила ее ненавидящим взглядом и обрушила на нее шквал вопросов. Кэрри ответила только на один, о возрасте: она упрямо твердила, что ей восемнадцать лет. В конце концов разъяренная судья заявила: — Не хочешь отвечать на мои вопросы — твое дело. Я могла бы отнестись к тебе по-человечески, а теперь не стану. Три месяца, Уэлфер Айленд. Судья Норрис вполне оправдывала данную ей Билли характеристику.Среда, 13 июля 1977 г., Нью-Йорк
— Господи! — воскликнула Лаки. — Что там еще такое? — Не знаю, — ответил Стивен, который, прислонившись к стенке лифта, просматривал газету. — Возможно, генератор вышел из строя. — Кто вы такой? — потребовала она, охваченная внезапным приступом подозрительности. — Если вы нарочно вырубили электричество, это вам не поможет. Не на ту напали! У меня черный пояс каратэ, и если что, вашим яйцам не поздоровится. — Извините, мисс, — резко оборвал ее Стивен. — Вы стоите ближе к щитку управления. Почему бы вам не нажать на аварийную кнопку — вместо того чтобы закатывать речи? — Миссис. — Ах, прошу прощения, умоляю извинить меня. Миссис. Не будете ли вы так добры нажать на аварийную кнопку? — Я ее не вижу. — У вас нет спичек или зажигалки? — А у вас? — Я не курю. — Ха! Как это я не догадалась? — Лаки рванула молнию на своей сумочке и стала рыться в поисках своей данхиллской зажигалки. — Черт! — она вспомнила, что оставила зажигалку в офисе Косты. — Ее нет. — Чего нет? — Моей зажигалки. Вы уверены, что у вас нет спичек? — Абсолютно. — Кто же ходит без них? — Вы, например. — Да. — Лаки нетерпеливо топнула ногой. — Черт возьми, ненавижу темноту! Стивен вытянул руки и начал ощупывать стенки лифта. Когда он наткнулся на Лаки, она больно саданула ему ногой по коленке. — Ох! Зачем вы это сделали? — Я предупредила тебя, парень. Только посмей — и у тебя будут крупные неприятности. — Ну, вы действительно — трудный случай. Я просто искал аварийную кнопку. — Тем лучше для вас. — Она отошла в угол и опустилась на корточки. — Давайте поторапливайтесь. Я не выношу темноты. — Вы уже говорили, — холодно отозвался он. Нога болела так, словно по ней шарахнули молотком. Наверняка будет багровый синяк. Наконец он нащупал контрольную панель и стал нажимать на все кнопки подряд. Безрезультатно. — Нашли? — рявкнула Лаки. — Лифт не работает. — Замечательно! Зачем тогда они делают эти аварийные кнопки, мать их так! — Не обязательно ругаться. — Тогда скажите, что делать. Какое-то время они молча обдумывали ситуацию. Вечно мне не везет, думала Лаки. Застрять в лифте вместе с каким-то маразматиком, который даже не курит! Ну и ротик у дамочки, думал Стивен. Она, должно быть, думает, что делит лифт с каким-нибудь янки. — Итак, — Лаки изо всех сил старалась говорить спокойно, — что вы собираетесь делать? Интересный вопрос! Что они собираются делать? — Сидеть и ждать, — ответил Стивен. — Сидеть и ждать? — завопила она. — Ты чего, мать твою, пудришь мне мозги? — Прекратите ругаться. — Ах, извините, — полным сарказма голосом проговорила она. — Никогда больше не произнесу: «пудрить мозги».* * *
Наверху, в своем шикарном офисе, Коста Зеннокотти шарил в комоде в поисках свечей. Потом он чиркнул зажигалкой Лаки, оставленной на его письменном столе, и подошел к окну. Перед ним простирался огромный город, освещенный одной только луной. Однажды так уже было — в 1965 году. Тогда все говорили, что полетели предохранители и авария никогда не повторится. И вот опять. Он выругался про себя, представив себе сорок восемь лестничных пролетов, которые придется преодолеть, если будет нужно спуститься вниз. А может, и не придется. Может, на этот раз быстро устранят причину аварии. Коста вздохнул и вернулся к комоду, где горели свечи. Его секретарша, девушка пессимистического склада характера, отвела специальную полку на случай подобных неожиданностей. Кроме свечей, там хранились одеяла, портативный телевизор на батарейках и шесть банок апельсинового сока. Умница! Завтра получит прибавку. Коста достал одну банку и телевизор. Расслабил узел галстука и удобно устроился на кушетке. Экран вспыхнул сразу, как только он нажал кнопку. Косте вдруг пришло в голову, что Лаки могла застрять в лифте. Но нет, она вышла от него за десять минут до аварии. Он переключился на канал новостей и приготовился к худшему.* * *
— Ты что там делаешь, задница? — завопил смуглый парень, запертый Дарио в спальне. — Думаешь, если ты перережешь провода, это тебе поможет, мать твою. Эй, гад, ты слышишь? — Он забарабанил в дверь. Дарио вновь воздал в душе хвалу декоратору, который настоял на замене хлипких внутренних дверей солидными дубовыми. — В чем твоя проблема? — крикнул он, стараясь не показать страха. — Я думал, мы приятно провели время… — Задница! — послышалось в ответ. — Гнусный педик! Дарио искренне недоумевал. — Если я гнусный педик, ты сам-то кто такой? — Не пытайся меня затрахать! — Парень был явно на грани истерики. — Я не педик. Предпочитаю сочных телок! Невзирая на темноту, Дарио почувствовал себя в безопасности. Прочная дубовая дверь не подведет. Маньяк будет торчать там до тех пор, пока не прибудет помощь. — Тебя кто-нибудь подослал? — ледяным тоном спросил он. — Мать твою! — выкрикнул чернявый. — Зажги свет! Темнота тебе не поможет. Дарио ломал голову, кого бы позвать на выручку. Список был весьма ограничен: у него почти не было друзей. — Зажги свет! — надрывался его противник. — Иначе я выломаю дверь и размозжу тебе башку!* * *
Когда погас свет, Кэрри застыла на месте, не закончив начатой фразы. Она в отупении, с открытым ртом, стояла возле кассы супермаркета в Гарлеме. — В чем дело? — взвизгнула кассирша. Ее слова утонули в общей суматохе. — Спасайтесь, сестры! — завопила какая-то женщина. Не успели глаза Кэрри привыкнуть к темноте, как два парня, вошедшие в супермаркет вслед за ней, встали по обе стороны и начали толкать ее друг к другу. — Эй, что такая куколка делает в наших краях? — Брось, детка! Тебе холодно? Что у нас между ножками — кофе с молоком? И так, перебрасываясь ею, словно мячиком, они ее ограбили. Сорвали бриллиантовые сережки, порвав мочки ушей. Похитили кольцо с бриллиантом и бриллиантовые заколки. И все это время переговаривались хриплыми голосами. Кэрри оцепенела от ужаса. В памяти ожили страшные картины прошлого. Это было так давно — и как будто вчера. — Оставьте меня в покое! — взвизгнула она. — Оставьте меня в покое! Парни в последний раз дали ей хорошего пинка, выхватили сумочку и растворились в толпе.* * *
Джино не стал ничего говорить соседке, чьи ногти по-прежнему впивались ему в ладони. Нью-Йорк под ними превратился в черную пустыню. Он не удивился, когда уже начавший снижаться самолет изменил курс и вновь начал набирать высоту. В салоне усиливался гул голосов. Джино был не единственным, кто заметил неладное. Дама рядом с ним выпрямилась на сиденье. — В чем дело? Господи! Эти двигатели опять тарахтят вовсю! — Не паникуйте, — тихо посоветовал Джино. — Кажется, в Нью-Йорке небольшая авария. Ее голос возвысился на целую октаву. — Авария? — Женщина отпустила его руку и молниеносным движением вытащила свою фляжку. Отхлебнув из нее, она снова вцепилась в Джино; ее лицо приобрело пепельный оттенок. — Я плохо себя чувствую. — Тогда нечего пить. Она бросила на него злобный взгляд. Женщины, подумал Джино. Если они что-то и не выносят, так это критику.* * *
— Мне душно, — пожаловалась Лаки. — Сколько мы уже тут торчим? Стивен посмотрел на светящийся циферблат своего хронометра. — Около двух часов. — Два часа! Господи Иисусе! Так мы проторчим тут до утра. — Очень может быть. — Это все, что вы можете сказать? Должен же быть какой-нибудь выход! — Подскажите. — Дерьмо собачье! Тупорылый идиот! Молчание. Наконец Лаки не выдержала. Быть запертой в этой коробке, неизвестно на какой высоте, само по себе омерзительно, но с какой стати еще терпеть присутствие этого кретина? — Как вас зовут? — осведомилась она. — Стивен Беркли. — А я — Лаки[1]. — Неужели? — Я имею в виду, что это мое имя. Л-А-К-И. Ясно? Хоть бы она заткнулась — можно попробовать уснуть и проспать до утра, когда их наверняка вызволят отсюда. — Нет, я этого не вынесу! — Девушка встала и забарабанила кулаками по двери лифта. — На помощь! Помогите же кто-нибудь! Мы застряли в лифте! На помощь! — Не поможет, — констатировал он. — Никто ничего не услышит. — Откуда вы знаете? — Время позднее. В здании почти никого нет. — Черт! Как вы можете так говорить? Вы есть! И я — есть! Могут быть и другие. — Не думаю. — Конечно, вы не думаете! Духота становилась нестерпимой. Стивен уже снял пиджак и расслабил узел галстука, но по нему градом лился пот. Интересно, Эйлин волнуется? Хотя с какой стати? Сегодня они не назначили встречу. — Вас кто-нибудь ждет? — поинтересовался он. — А? — Ну, кто-нибудь станет вас разыскивать, если вы, скажем, не придете на свидание? Да, вот это хороший вопрос! Гм… Как бы ответить? Свидание не свидание, но она собиралась прошвырнуться по кабакам. Кому есть дело, явится она или нет? — С чего вы взяли, что я не замужем? — Просто непохоже. — Ну, и на что же похожа замужняя женщина? — Только не на вас. — Весьма интересно. А вы? Вы женаты? — Разведен. — Как же вы так оплошали? Стивен проглотил слишком резкий ответ. Эта девчонка начинала действовать ему на нервы. — Ну, так как же? — подначивала она. — Я хочу спать, — сквозь зубы процедил Стивен. — Предлагаю последовать моему примеру. — Спать? В этом миленьком гробу? Вы это серьезно? — Вполне. Лаки решила подзавести его. Что угодно, только бы убить время. — У меня есть предложение получше. — А именно? — Почему бы нам не трахнуться? Вопрос остался без ответа. — Итак? — храбро спросила она. — Когда лифт только-только остановился, — медленно произнес Стивен, — у меня сложилось впечатление, что главной задачей вашей жизни стало держаться от меня подальше. — Естественно, но тогда я вас не знала. А теперь мы закадычные друзья. — Не верю в такую дружбу. — А вы поверьте. Мне двадцать семь лет. Я хороша собой. Бросьте, Стивен как-вас-там. Это будет настоящий кайф, обещаю! — Вы проститутка? Она засмеялась. — Проститутка? Боже праведный! — Если судить по вашему поведению, то оно так и есть. — Понятно. Любая женщина, которой хочется трахнуться, проститутка. Вас воспитывали по старинке, да? Этакий симпатичный консерватор, предпочитающий, чтобы дамы придерживались условностей. — Вам нужно лечиться. — Xa! Это у вас комплексы! — Она немного помолчала, ухмыляясь в темноте. — Так вы не расположены трахаться? — Определенно нет. — Вы гомик? — Нет. — Значит, белая ворона. Большинство мужчин не упустили бы возможности трахнуться на халяву! — Я не большинство. Кроме того, да будет вам известно, что я черный. Она разразилась издевательским хохотом. — Ну, и какая разница? — Видите ли, — сказал с напряжением в голосе Стивен, — мне не хотелось, чтобы, когда включат свет, вы испытали шок. Это не значит, что я готов воспользоваться вашим любезным предложением, — поспешно добавил он. — Вы открыли мне страшную тайну, только чтобы уберечь от тяжкого разочарования? — Нет, надеялся таким образом от вас отделаться. Секс с прекрасными незнакомками не входит в число моих любимых занятий. — Стыд-позор! Вы не представляете, от чего отказываетесь. — Представляю. Между прочим, я не сплю с белыми женщинами. — Черт, — прорычала Лаки. — Вы слишком самоуверенны. Ну, и почему же, позвольте спросить, вы не спите с белыми женщинами? — Потому что они делятся на две категории. — Какие? — Вы действительно хотите знать? — Иначе зачем бы спрашивала? — О'кей. Они либо гоняются за легендарным огромным черным пенисом, либо до тошноты либеральны. Знаете ли — «Только посмотрите на меня: я сплю с негром! Разве я не героиня?» Лаки развеселилась. — Знаю этот тип. Но уверяю вас, я ни то, ни другое. — Ну разумеется! Несколько минут оба молчали. Стивен спрашивал себя, с чего это он ей все выкладывает. Он рассказал ей о себе более чем достаточно. Когда зажжется свет и они вернутся к реальности, ему будет стыдно. — Я тоже делю мужчин на две категории, — заявила Лаки. — Стоит мне с кем-то познакомиться, как я сразу вижу, к какому типу он относится. — Ну и какие же это типы? — Одни — это те, с кем я тотчас готова трахнуться. А о других мне сначала хочется узнать побольше. Их не так уж много. Стивен усмехнулся. — Судя по всему, у вас тоже комплексы. Еще немного — и вы поведаете мне о тяжелом детстве. — Мой отец не из тех, что встречаются на каждом шагу. В сущности, я не имею права распространяться о нем, иначе мне уже не придется распространяться ни о чем другом. — Почему? Он что, полицейский? — Неважно, — Лаки встала и нетерпеливо топнула ногой в парусиновом сапожке. — Дерьмо собачье! И когда мы только отсюда выберемся? — Сядьте и успокойтесь. Будете заводиться — делу не поможете. — А я вот желаю завести вас! Вы против? По какой причине? — По той, что нам предстоит долгая, душная ночь в лифте. Берегите силы. — Вы правы. — Лаки вернулась в свой угол и расстегнула молнию на сапожках. Потом стащила с себя джинсы. — Уф! Вроде бы полегчало. — Отчего? — Разоблачайтесь. Я — уже. — Мы, кажется, условились… — Не ради секса, дурачок. Просто так намного прохладнее. Стивен взвесил ее предложение. Нокак это будет выглядеть, если их найдут голыми? — Держу пари, я знаю, о чем вы думаете, — подколола она. — О чем же? — А вот о чем: если я сниму одежду, вдруг она набросится на мою девственную плоть? Он не смог не засмеяться. — Вы-таки чокнутая. — На том стоим. Раздевайтесь. Обещаю не тронуть вас даже пальцем. Интересно, как она выглядит, подумал Стивен. В кромешной тьме ему не видны были даже очертания ее фигуры. Он представил ее полноватой блондинкой с приятной улыбкой и выступающими зубами. Лаки тоже стало любопытно, каков он из себя. Должно быть, ученый сухарь, в очках. Какой-нибудь Алекс Хейли, но уж никак не О. Дж. Симпсон. — Вы ведь не поверили, что я всерьез предложила трахнуться? Стивен замялся. Он как раз поверил. — Разумеется, нет. Лаки злорадно рассмеялась. — Так вот — да. Ничто так не снимает напряжение, как полноценный трах.* * *
Коста дремал на кушетке, когда вдруг ожил телефон. Он потянулся за трубкой и смахнул настольную лампу. Тогда только он сообразил, что все еще находится в своем офисе. Спотыкаясь о разные предметы, он подошел к письменному столу и снял трубку. — Коста? — Да. Кто говорит? — Это я, Дарио. Я уже думал, что никогда тебя не найду. Звонил в клуб, потом к тебе домой, а потом подумал — может, ты задержался в офисе? Черт побери! Как я рад слышать твой голос! Дарио. Коста нахмурился. Тот обращался к нему только в тех случаях, когда ему что-нибудь было нужно. Так и есть. — Послушай, Коста, ты должен мне помочь. Я угодил в переплет. Нужно кое от кого избавиться. — Это не телефонный разговор, — отрезал Коста. — Не в этом смысле. Просто выдворить его из моих апартаментов. — Да заткнешься ли ты наконец? — прошипел Коста, силясь представить себе, как можно истолковать эти слова, если их подслушивают. Каждую неделю нанятый им специалист тщательно проверял помещение. Но кто может дать гарантию? У Дарио задрожал голос. — Коста, я очень нуждаюсь в помощи. Со мной здесь маньяк, он пытается меня убить. В настоящий момент я запер его в спальне. — Немедленно выбирайся оттуда! Снимешь номер в отеле, а утром свяжешься со мной. Посмотрим, что можно предпринять. — Ты не понимаешь… — в голосе Дарио появились истерические нотки. — Я не могу выбраться наружу. Этот подонок завладел моими ключами. Я сижу взаперти. Коста лихорадочно соображал. — Полиция, — начал он, но Дарио резко оборвал его. — Забудь об этом. Отец не простит огласку. Ага! Картина ясна. На Дарио напал один из его сожителей. — Я знаю одного человека, — сказал Коста. — Не клади трубку. — Господи! — завопил Дарио. — Кажется, он выбрался из спальни! Коста! На помощь! Он… он… Господи! Коста прижимал к уху мертвую трубку.* * *
С широко открытыми от страха глазами и кровоточащими мочками ушей Кэрри с трудом пробралась в угол. Вокруг царил хаос. Ее длинные черные волосы распустились. К горлу подступила желчь. Ей казалось, что ее сейчас вырвет. Послышался звон разбиваемого стекла. Мимо пронеслись две перепуганные женщины. Одна крикнула другой: — Скорее на улицу! Кэрри рванула за ними. И эти женщины, и остальные покупатели тащили с собой продукты — сколько смогли прихватить. В голове у Кэрри билась одна мысль: только бы добраться до автомобиля! Скорее прочь от этих мерзких трущоб! — Сестра, прихвати-ка это, — какая-то бойкая толстуха сунула ей пачку бумажных полотенец. — Мне столько не утащить, а бросить жалко. Кэрри тупо взяла полотенца и выбежала на улицу. Где же машина? Где она ее оставила? Да возьми себя в руки, дура ты этакая! Только бы выбраться из этого места! Да. Автомобиль ждет на стоянке. Но предположим, она сядет за баранку и удерет — что тогда? Ведь ее привело в Гарлем важное дело. Защитить Стивена — вот что важнее всего на свете! Она вдруг вспомнила, что положила пистолет в сумочку, а та осталась в руках у бандитов. Кэрри прибежала на стоянку как раз вовремя, чтобы увидеть, как мимо нее в сумерках стрелой промчался замечательный темно-зеленый «кадиллак» — с открытыми окнами, стереомагнитофон включен на полную мощность, два молодых бандита удобно устроились на переднем сиденье. Ну конечно! Ведь ключ от машины тоже остался в сумочке. Кэрри захотелось плакать, выть — все, что угодно. Вместо этого она стояла, как вкопанная, охваченная ненавистью и суровой решимостью: кто бы ни заманил ее сюда, поплатится жизнью!* * *
— Мистер Сантанджело, — смазливая стюардесса наклонилась к нему и прошептала на ухо: — Во всем Нью-Йорке вырубили электричество. Поэтому командир решил лететь в Филадельфию, там нам дают посадку. Надеюсь, это не слишком расстроит ваши планы? Он не успел ответить, как в динамиках послышался голос пилота — с тем же известием. — Могу я вам что-нибудь предложить, мистер Сантанджело? Джино покачал головой. — Нет. Я в полном порядке. Но это было не так. На самом деле он задыхался от злости оттого, что не может попасть в Нью-Йорк. Семь лет разлуки, а теперь еще это… Его соседка, пошатываясь, вернулась из туалета. — Нет, вы можете себе представить? — простонала она. — Мы летим в Филадельфию! Да. Он вполне мог представить. Полный маразм.Джино, 1923–1924
Работа, порученная ему Чарли Лючанией — доставка контрабанды на угнанной машине, — изменила всю его жизнь. Заменяя им Зеко, Лючания страховался от возможного прокола: если Джино и попадется, от него не потянется ниточка к нему, Лючании. И вот Джино сидит за баранкой сверкающего «паккарда», дожидавшегося в условленном месте. С ним двое наемных головорезов. Он страшно нервничал, но когда король о чем-то просит, вы не можете отказать ему. В конце концов, Джино сам вывел Зеко из строя — хотя это мерзкое пресмыкающееся заслуживало чего-нибудь посерьезнее сломанной руки. В каком-то смысле Джино был польщен тем, что на него пал выбор. От сознания своей высокой репутации кружилась голова. Ясное дело, он не подведет. Всем известна склонность Чарли Лючании находить и пестовать юные дарования. «Империя держится на личной преданности, — говаривал он. — Заботьтесь о них смолоду, и они не всадят вам нож в спину». Джино неплохо управлялся с «паккардом». Все сошло без сучка без задоринки. На другой день в гараже появился Эдди-Зверь и вручил ему пятьдесят хрустящих долларовых купюр. «Ты молоток, Джино. Жди, мы с тобой свяжемся». Джино был потрясен. Полсотни баксов — только за то, что крутишь баранку? Черт, он никогда не держал в руках столько денег. Ему захотелось отметить это дело, а что может быть лучше нового костюма? Он как раз видел подходящий в витрине швейного ателье — черный, с белыми лампасами. Самый шикарный из всех, какие попадались ему на глаза. И вот наконец-то он может позволить себе купить его. Джино не мог дождаться конца рабочего дня: взял и смотался. Вслед неслись вопли Розового Банана: «Эй, Джино, что я скажу боссу?» — Пусть засунет эту работу себе в задницу, — бросил он через плечо. Какого черта? Эдди-Зверь посулил: «С тобой свяжутся». С какой стати ишачить, ремонтируя чужие автомобили за несколько паршивых баксов в неделю, когда может иметь пятьдесят хрустящих бумажек за пару часов за баранкой? Джино шествовал по улице с высоко поднятой головой. Он понял наконец, чего хочет от жизни. Денег. Больших денег. А этого не получишь, вкалывая от звонка до звонка. Чарли Лючания тоже начинал с нуля и не зевал, когда возможности плыли в руки, — и посмотрите на него сейчас! Большой человек. Герой. Да, он крут, но если вы росли на улице, иначе невозможно. Хозяин швейного магазина весьма неохотно снял с витрины костюм и оживился лишь после того, как Джино помахал у него перед носом пятьюдесятью долларами. Костюм оказался ему не по росту: пиджак длинноват, а брюки и вовсе на три размера больше. Джино придирчиво посмотрел на себя в зеркало и разочарованно протянул: — Нет, не годится. — Можно переделать, — предложил портной. Он видел деньги и жаждал обладать ими. — Приходите через неделю — костюм будет сидеть, как влитый. — Сегодня вечером. — Это невозможно. Джино сощурил глаза. — Сегодня вечером. Сколько за срочность? Сделка совершилась, окончательно убедив Джино в могуществе денег. Он валкой походкой вышел на улицу, чрезвычайно довольный собой. Теперь у него достаточно баксов, с которыми он может делать все, что вздумается: прожигать или откладывать. Джино направил стопы к Жирному Ларри. Там было скучновато. Сидя в застекленном кабинете, он заказал двойной шоколадный коктейль. Он не сразу заметил миниатюрную блондиночку, когда она, выставив острые грудки, прошла мимо его кабинета. Потом Джино вспомнил: мисс Зазнайка! Он потрогал уродливый шрам на щеке. — Эй, ты! Она остановилась, распахнув невинные голубые глазки. — Я? — Да, ты. — Джино показал на шрам. — Видишь, как мне досталось по твоей милости? Она, не мигая, смотрела на него. Господи, до чего хороша! Джино почувствовал жгучее желание добраться до волшебной кнопки. — Ты не хочешь сказать мне спасибо? Она нахально тряхнула кудряшками. — Огромное спасибо за то, что ты помешал одному из твоих друзей меня изнасиловать. — Нежный голосок не очень-то гармонировал с саркастической интонацией. — Одному из моих друзей? Ты считаешь, это сделал один из моих друзей? — Мне безразлично, как ты заработал этот шрам. — И она повернулась, чтобы идти дальше. — Эй, ты! — завопил он, до глубины души уязвленный ее высокомерием. — Да ты знаешь, кто я такой? Она мило улыбнулась. — Такая же шпана, как и твои друзья. И продефилировала к двум своим подружкам, поджидавшим у двери. — Я — Джино Сантанджело! — крикнул он. — Д-Ж-И-Н-О! Запомни это имя, ты обо мне еще услышишь! — Ну разумеется, — насмешливо уронила она и вышла. Джино не верил своим ушам. Ну и вертихвостка! Это из-за нее он дал изуродовать себе лицо! Надо бы с ней позабавиться, выбить дурь. Интересно, как ее зовут? Где живет? Чем занимается? Джино допил свой коктейль. У него достаточно времени, чтобы все это выяснить.* * *
Он еще ни разу не был в публичном доме. Просто, в отличие от своих приятелей, никогда не испытывал в этом нужды — на улице и без того хватало свежих розовых попок — и все к его услугам. Выбор был богат, и Джино широко пользовался предоставленными ему возможностями. Однако он был наслышан о девочках мадам Лолы. Настоящие профессиональные шлюхи, которые берут за сеанс по двенадцати долларов. Кругленькая сумма! Что же у них там такого, за пушистым мехом внизу живота? Катто и Розовый Банан обычно таскались с дешевыми уличными проститутками, у которых был такой драный вид, что сам Дракула в ужасе бежал бы прочь. Трех баксов хватит за глаза — как раз на дозу убойного зелья. Сам Джино никогда не пускался в подобное путешествие. Но настоящий первоклассный бордель, с проститутками, берущими по двенадцати долларов… Нужно попробовать. Кроме того, у него свободный вечер. Мадам Лола оказалась костлявой, очень смуглой женщиной с бегающими, залитыми кровью глазами и похожим на львиный зев ртом. Она оглядела Джино с головы до ног и выстрелила: «Да?» Он вдруг увидел себя со стороны: замызганный комбинезон в пятнах грязи и автомобильного масла; въевшаяся в кожу грязь под ногтями. Возможно, следовало бы дождаться нового костюма. Но какого черта? От Веры он много знал о проститутках. Если ты при деньгах, наплевать, как смотришься. Джино пошарил в кармане и вытащил пачку банкнот. Мадам Лола так и вцепилась в них, но Джино не собирался давать ей себя одурачить. — На какое время я могу рассчитывать за двенадцать баксов? Она расхохоталась ему в лицо. — Какое время? Сынок, да ты и сам больше двух минут не выдержишь. Туда-сюда — вот и все дела. — Она поманила его длинными, ярко наманикюренными ногтями. Они прошли через бисерный занавес в зачуханную комнату, где был спертый воздух и стояли обитые бархатом кушетки и маленькие столики, уставленные контрабандными напитками. Мадам Лола считала своим долгом воздать каждому гостю по заслугам. В комнате никого не было. А он-то воображал стайку божественно прекрасных, как на подбор, девиц, которые возлежали бы на кушетках — выбирай любую! — Садись, — предложила мадам Лола. — Сейчас пришлю девушку. — Сначала я выпью. — Тебе рано пить. — Мне и трахаться рано, однако ты меня впустила. Так что давай сюда двойной «скотч». Хозяйка борделя скривила стрекозиные губы. — Тебе палец в рот не клади. — Меня зовут Джино Сантанджело. Запомни это имя, ты обо мне еще услышишь. — В самом деле? — с неподражаемым сарказмом произнесла она. — Вот именно. За свои двенадцать баксов имею право выбора. Тащи сюда девиц!* * *
Иметь дело с проституткой оказалось совсем не то, что с девчонками из их квартала. Выбор Джино пал на маленькую хорошенькую блондиночку, равнодушную и деловитую. Она провела его в будуар, распустила тесемки кимоно, улеглась на кровать и раздвинула ноги. Это вам не в подворотне или на крыше. Джино замешкался, потом снял штаны и удивился: он вовсе не пылал страстью. Напротив, его плоть была обескураживающе вялой и инертной. — В первый раз, милок? — сочувственно проговорила шлюха. — Ты что, смеешься? — Тебе незачем стесняться. Он — стесняется? Просто курам на смех! Джино-Таран. Впервые в жизни у него не встал. Девушка села. У нее были маленькие грудки, на одной виднелся синяк. Она протянула руку к его пенису. Джино отшатнулся. — Нет. Я хочу по-другому. — Как? — подозрительно спросила она. — Хочу ласкать тебя языком. — Как это? — Ну, языком… лизать… сосать… Девушка насторожилась. Она провела в борделе шесть месяцев, и до сих пор от нее требовался лишь «нормальный» секс. — Ложись, — скомандовал Джино, — и раздвинь ноги. Она все еще сомневалась. — Может, за это полагается сверх? Нужно спросить у Лолы. — Не нужно, — доверительно посоветовал Джино. — Боюсь, что это стоит дешевле. Но я уплатил двенадцать баксов и не собираюсь требовать их назад. — Сколько же тебе все-таки лет? — спросила она, принимая нужную позу. — Достаточно. — Он глубоко втянул в себя воздух и нырнул в нее языком. Странное ощущение. Джино вдыхал ее запах, узнавал ее вкус, а она лежала очень тихо, не шевелясь. Инстинкт помог ему найти волшебную кнопку, и Джино сразу понял, что попал в яблочко: девушка издала непроизвольный стон. Он прилежно работал языком. Уж если учиться чему-то новому, так без дураков. Ноги девушки обмякли, а влагалище из липкого стало горячим и влажным. Она все громче стонала. Кто-то постучал в дверь. — У вас все в порядке? — послышался тревожный голос мадам Лолы. — Отлично, — заверил ее Джино, — просто великолепно! Девушка каталась по постели; Джино вернулся к своему занятию. Он открыл ее большими пальцами рук; это доставило девушке удовольствие. Затем он глубоко вонзил в нее язык и ощутил вибрацию внутри ее тела. Теперь Джино и сам был готов к боевым действиям. Он приподнялся и всадил в нее пенис. Девушка совсем потеряла контроль над собой и громко стонала. Они кончили вместе и рухнули рядышком на скомканную простыню. Через несколько минут к девушке пришло осознание случившегося; она застеснялась, вскочила с кровати и набросила на себя кимоно. Джино был чрезвычайно доволен собой. — Клево, да? Она не выдержала и задала вопрос: — Где ты этому научился? — Здесь, с тобой, — ответил Джино, сползая с кровати и начиная одеваться. — Теперь можно попробовать с кем-нибудь порядочным.* * *
Костюм сидел превосходно. Джино заплатил портному лишние несколько баксов за отличную работу. Он с удовольствием смотрел на свое отражение в зеркале. Здорово! Высший класс! Но с черной рубашкой было бы эффектнее. И новые туфли не помешают. Джино потрогал безобразный шрам на щеке, почувствовав при этом шедший от больших пальцев рук запах проститутки, и улыбнулся. — Заходи в любое время, — горячо пригласил портной. — В любое время дня и ночи. — Пожалуй. — Гордый и счастливый, Джино вывалился на улицу. Он чувствовал себя королем. Новый костюм. Мадам Лола. Оставшиеся доллары в кармане. В голове приятно гудело. Он не пойдет по стопам отца, затраханного гангстера, чьим единственным развлечением было истязать женщин. Не станет, по примеру Паоло, проводить лучшие годы за решеткой. Хватит с него исправительной колонии. У него не было никаких иллюзий относительно настоящей тюряги. Но, с другой стороны, кому захочется всю жизнь валяться под чужими автомобилями? Вечно ходить в грязи и автомобильном масле? Только не Джино. Ему нужно много денег. А для этого не существует законных способов. Паоло — безмозглый кретин, вот такие-то и попадаются. У него, Джино, совсем другие планы. Он хочет стать большим человеком, как Чарли Лючания. Пришло его время. Работа, которую он выполнял для Лючании, — сущий пустяк, дуновение легкого ветерка. Всего-то и потребовалось, что пара головорезов с пушками, машина и водитель. Легкая добыча. Полсотни баксов — ему. Прочим, должно быть, вдвое больше. А в целом — огромная куча денег! У Жирного Ларри на него сразу набросились Катто и Розовый Банан. — Фу-ты, ну-ты, ты где это отхватил? — пропел Катто. — Я тоже хочу, — Розовый Банан вытаращил глаза и стал щупать материю. — Мамочка, я хочу такую шмотку! — Почему бы и нет, — авторитетно заявил Джино. — У меня есть идея. Все, что нам нужно, это пара стволов, краденая тачка — и дело в шляпе! — Пара стволов, — Катто часто-часто заморгал. — Нет, это не для меня. — Да мы не станем из них палить, — успокоил Джино. — Только припугнем — и все пойдет как по маслу. Катто вытер нос рукавом. — О чем ты говоришь, Джино? — О деньгах. Больших деньгах. Чего мы здесь горбатимся? Почему не пойти и не взять, как делают другие? Конечно, дело требовало стартового капитала. Проблема. После нового костюма и посещения борделя от его пятидесяти долларов осталось не так уж и много. Где раздобыть еще? Может, если объяснить Вере, что он задумал, она снабдит его деньгами? Естественно, он вернет с процентами. Поздно вечером Джино решил нанести ей визит. Обещал же зайти, рассказать, как устроился. Если повезет, Паоло не будет дома. Вера не работала, но, в стельку пьяная, валялась в постели. Единственным освещением служил проникавший в комнату свет уличного фонаря. В ответ на стук в дверь Вера крикнула: — Входи, деньги на стол и забирайся на меня! — Это я, — быстро сказал Джино. — Зашел посмотреть, как ты тут. — Прекрасно. — У нее заплетался язык. — Просто превосходно. — Она пошарила за кроватью в поисках спиртного, потом отхлебнула из бутылки и добавила: — Кто там, черт побери? — Конечно, я, Джино. — Он нащупал выключатель, щелкнул им и тотчас пожалел об этом. Зрелище было еще то! Грязная ночная рубашка сползала с одного плеча, обнажив грудь, всю в пятнах от свежих ожогов: в нее тыкали зажженной сигаретой. Лицо Веры представляло собой студенистую массу; глаза заплыли и превратились в щелки. Она, словно в летаргическом сне, посмотрела на него и попыталась улыбнуться. Впереди не хватало нескольких зубов. — Страхолюдина, да? — Ее глаза наполнились слезами; крупные капли покатились по распухшим, в синяках, щекам. Ему не нужно было спрашивать, чьих это рук дело. Ясно было одно: ее нужно немедленно везти в клинику. Он взял женщину на руки. От нее несло, как от пивоварни, и в довершение всего явственно ощущался запах мочи и пота. — Эй, — тихо произнес Джино. — Я тебя на минутку оставлю, вызову «скорую». — Я не могу оставить дом, — пролепетала она. — Паоло велел остаться здесь и зарабатывать деньги, много денег. У нее закатились глаза, и она потеряла сознание.* * *
В клинике начали было задавать вопросы, но Джино притворился дурачком. В мозгу созрел план. На сей раз это не сойдет Паоло с рук. После того как его заверили, что с Верой все будет в порядке, он вышел из клиники и вернулся в ее жилище. Сел на стул и три часа ждал отца. Паоло заявился в четыре часа утра. Джино вскочил и, прежде чем Паоло сообразил, что к чему, набросился на него. «Ты… вшивый… трус! — выкрикивал он, нанося удар за ударом. — Отыгрываешься… на женщинах… и детях!.. Сволочь!» Спустя минуту до Паоло дошло. Он только что приятно провел время в местной пивнушке, где торговали запрещенными напитками, выдул бутылочку «скотча» и приковылял домой с намерением тотчас завалиться спать. А вместо этого на него посыпались удары. Как же так? Обычно все как раз наоборот: бьет он, а не его. Он застонал от мощного удара по голове, и содержимое бутылки изверглось из его чрева вместе со съеденным перед тем паштетом. — Падаль! — орал его обидчик. — Слышишь меня? Ты, вонючка! Голос показался Паоло знакомым, но он все еще не узнавал его. Новый удар в челюсть свалил его с ног. — Только попробуй еще раз тронуть ее! — посулил голос. — Ты у меня так легко не отделаешься! После его ухода Паоло изрыгнул из себя остатки паштета. Вера — чертова сука! Завела себе хахаля. Дайте только добраться до нее — уж он ей покажет!* * *
Джино прибежал в свою каморку и снял испорченный костюм. Он весь дрожал, но был в приподнятом настроении. Знаменательный день! Он сел на кровать и начал, эпизод за эпизодом, восстанавливать в памяти главные вехи последних дней. Деньги. Маленькая блондиночка. Проститутка. Вера. Паоло. Планы сколотить шайку. Он уставился на потолок, всей душой ненавидя щели, облупившуюся штукатурку, общий дешевый вид окружающей обстановки. Ему не пришлось изведать ничего лучшего, но он видел это лучшее в кино или гуляя по Парк- и Пятой авеню, любовался роскошными особняками и супер-автомобилями с личными шоферами. Он знал: где-то существует другая жизнь. И доступ к ней давали только деньги. Большие деньги.* * *
Уже на следующий день он начал действовать. В окрестностях орудовало несколько уличных шаек, состоявших из подростков, которые рыскали вокруг, алкая свежей крови. Самыми прославленными были «Минутчики» — они снискали это прозвище тем, что проворачивали ограбление всего за одну минуту и моментально сматывались. Джино решил было примкнуть к ним, но у них уже был свой классный шофер по имени Валачи. Джино понял, что тут ему ничего не светит. Ирландские шайки… еврейские… смешанные… несколько банд мелких рэкетиров… остальные промышляли вооруженными налетами. Джино хотел участвовать в какой-нибудь малочисленной шайке, откуда при желании можно будет запросто слинять. Он много слышал о парне по имени Альдо Динунцио, который пробавлялся случайными заработками вместе с еще двумя ребятами. Альдо был чертовски хитер и во всех отношениях себе на уме; ходили слухи, будто у него в Чикаго есть кузен, почти такой же знаменитый, как Капоне. Джино предложил ему работать вместе. Альдо был не прочь. У Джино уже была какая-никакая репутация. А главное — он отличный водитель. Они ударили по рукам за чашкой кофе у Жирного Ларри, и Альдо познакомил Джино с планом предстоящей операции. Он знал склад меховых изделий, как будто нарочно ждавший, чтобы его ограбили. — Нужно будет работать очень быстро, — объяснял Альдо. — Сорока на хвосте принесла, что сигнализация окажется неисправной. Ты, я, еще пара ребят — и деньги у нас в кармане. Правда, придется позаботиться о ночном стороже. — Когда? — осведомился Джино. — Сегодня вечером. Ты готов? — Ясное дело. Они обсудили подробности, и Альдо отчалил. Джино хотел наведаться в клинику, но тут как раз пожаловала мисс Зазнайка с двумя подружками. Она, как обычно, задрав носик, продефилировала мимо него и, заняв место в нише, уткнулась в меню. Джино подошел к ее столику. — Эй, что это с тобой? Что за манеры! Девушка подняла на него наивные, округлившиеся глаза. — Ты собираешься учить меня правилам поведения в обществе? Одна из подруг прыснула. — Синди! — Хочешь, как-нибудь сходим в кино? — предложил Джино. На него вдруг нашла непривычная робость. — С тобой? — Нет, с Папой Римским. — Я не хожу с незнакомыми. — Конечно. Но какой же я незнакомый? Мы с тобой старые друзья, верно? — Нет, неверно. Он состроил гримасу. — Да кому ты нужна? — и отвалил. Дура набитая! Строит тут из себя. Не знает, от чего отказывается. Он обернулся на девушек и увидел, что они заливаются хохотом. Дуры. Малолетки. Должно быть, лет пятнадцати-шестнадцати. Сущие несмышленыши. Он вспомнил вчерашнюю проститутку, что он с ней проделывал. Это было восхитительно. Но еще лучше, когда за это не нужно платить.* * *
Джино отметил свой семнадцатый день рождения новым делом, на которое пошел вместе с Альдо. Легкие деньги. Почти за месяц он заработал полторы тыщи долларов — целое состояние! Он открыл счет в банке и положил полсотни баксов, а остальное спрятал в депозитном сейфе. Этими деньгами он распорядится с умом, а не профукает, как тот первый гонорар. Хватит с него костюмов. И шлюх. Нечего привлекать внимание местных копов, которые зачастили к Жирному Ларри с внезапными проверками. В районе развелась уйма банд и участились случаи вооруженных ограблений. Копы сбились с ног. Чтобы легализоваться, Джино поступил на работу. Доставка лекарственных препаратов. Конечно, не аспирина, а наркотиков. Двадцать «зелененьких» за пустяковый рейс. Неплохо. И не слишком хорошо. Рискованная работенка. Если его сцапают… А с другой стороны, всякая работа сопряжена с риском. Вон, Розовый Банан чинил автомобиль, и машина соскочила с домкрата. В результате сломанная нога, три сломанных ребра, и вообще чудом остался в живых. И ради этого горбатиться за двадцать пять долларов в неделю? Джино навестил приятеля в больнице. После его ухода там остался лежать отнюдь не Мистер Паинька. На личном фронте ничего не изменилось. Мисс Зазнайка по-прежнему время от времени наведывалась к Жирному Ларри, но Джино не собирался нарываться на оскорбления и держался от нее подальше. Ему и так хватало девчонок, которых он приводил к себе и демонстрировал им свои сексуальные способности. А в этом деле он был артистом. Ему обязательно нужно было сделать девчонку счастливой, иначе самому было неинтересно. Джино-Таран в своем репертуаре. Он больше не ходил к Вере. Хотел, но передумал. До него дошли слухи, что она выписалась из больницы. По правде говоря, он боялся. До смерти боялся, что Паоло так зверски изобьет жену, что ему придется вмешаться. И он может потерять контроль над собой. В тот раз он подготовился и сохранил самообладание. Но если Паоло будет трезв и даст сдачи… Поэтому он держался в стороне. Чего не знаешь, о том душа не болит. Из Калифорнии продолжали регулярно поступать письма от Косты. Однажды он прислал фотографию. Коста, прежде щупленький коротышка, а ныне интересный юноша, был снят вместе с собакой и сводной сестрой. Джино порадовался тому, как все обернулось. Малыш попал в другой мир — такой же нереальный для Джино, как если бы он угодил на Луну. Через два месяца после того, как ему стукнуло семнадцать Джино был арестован возле товарного склада в Бронксе — сидя за баранкой, он ожидал Альдо и еще двоих сообщников, грузивших тюки материи на специально прихваченную тележку. — Кто-то навел, — шепнул Альдо, когда их везли в полицию в специальном фургоне. — Нутром чую. Кому ты говорил о деле? Джино раздраженно мотнул головой. — Что значит кому я говорил? Никому, глупая твоя башка. Лучше себя спроси. А вообще-то у него душа ушла в пятки. Сидеть не хотелось. И на этот раз его ждала не какая-нибудь исправительная колония, а настоящая тюряга.Кэрри, 1921–1928
Уэлфер-Айленд. Грязь. Запустенение. Крысы величиной с домашнюю кошку. Протухшие продукты. Переполненная камера. Проститутки со всевозможными болезнями. Клопы. Блохи. Вши. Побои. И лесбиянки, готовые наброситься на всякую, кто не может постоять за себя. Кэрри пришлось туго. Через две недели она подверглась нападению со стороны самозваной «королевы» камеры, рыжей, косоглазой девки со злющими глазами. Это произошло ночью. Кэрри тщетно пыталась уснуть на своих узких нарах в тесной, душной камере. Вдруг на нее обрушилось что-то тяжелое, и чьи-то руки схватили ее за грудь. — В чем дело? — она отчаянно пыталась вырваться. — Заткнись и не рыпайся, — предупредила Рыжая. — Сейчас я тебя уделаю пальцами лучше всякого мужика. — Убирайся! — прошипела Кэрри. Рыжая безмерно удивилась. — Смеешься? Да здесь любая даст отрезать себе левую сиську за мое доброе отношение. — Она потеребила Кэрри сосок большим и указательным пальцами. — Я сделаю тебя счастливой. Кэрри вывернулась и скатилась на пол. — Оставь меня в покое, слышишь, ты? Просто оставь меня в покое! — Тупорылая негритоска! Не знаешь своего счастья. Вот уж не думала, что доживу до такого дня, когда мне даст отлуп безмозглая негритянская шлюха. — Я не сплю с женщинами, — как выплюнула Кэрри. Вот только не посмела добавить: тем более — с жирными, с дурным запахом изо рта и явно сидящими на игле. — В первый раз всегда страшно, — ободрила ее Рыжая. — Хочешь испытать блаженство — не рыпайся. Ясно тебе, негритоска? Кэрри вздрогнула. — Найди кого-нибудь другого. Я не нуждаюсь. Она понимала: этим дело не кончится. На следующий день камера объявила ей бойкот. Все знали, что она оскорбила «королеву», и этого было достаточно. Никто не хотел неприятностей, поэтому сокамерницы дружно делали вид, будто ее не существует. Уэлфер-Айленд и так — чистилище. Теперь же он стал настоящим адом. Ночью Кэрри лежала на своих нарах, не в силах уснуть. Она чувствовала себя страшно одинокой. Какой смысл жить? Зачем ее сюда упрятали? Почему Бог обошел ее своими милостями? Она вновь и вновь перебирала в памяти годы своей жизни и думала о том, кто она и что она. Рыжая права: она всего лишь безмозглая негритянская шлюха, и ничего больше. Как бы покончить со всем этим? Однажды в помывочной воцарилась необычная тишина. Девушки бросали на Кэрри странные взгляды и спешили побыстрее закончить свой туалет и убраться подобру-поздорову. Кэрри терзали недобрые предчувствия. Но они сопутствовали всей ее жизни, так что не стоило обращать внимание. Она намылила карболовым мылом все тело, под мышками, между ногами… Страсть к чистоте стала своего рода манией. — Привет, негритоска, — появилась Рыжая в сопровождении четырех девушек. Это были первые слова, с которыми кто-либо обратился к Кэрри за все шесть дней, прошедшие с памятного инцидента в камере. — Знаешь что, — Рыжая вылезла из своей тюремной робы, — я решила не держать на тебя зла, потому что ты дура. — Она сняла лифчик и погладила свои огромные груди. — Хочешь пососать? Кэрри положила мыло на место и вышла из-под струи, падавшей на нее из душа. — Не так скоро, милочка, — две приятельницы Рыжей преградили ей дорогу. — Кладите ее на пол, — скомандовала их повелительница. — И раздвиньте ноги. Кэрри поняла: сопротивляться бесполезно. Ее распяли на скользком кафельном полу и держали за руки и за ноги. Рыжая ухмыльнулась. — А теперь, безмозглая негритоска, я по доброте душевной научу тебя кое-каким трюкам. Они продержали ее в таком положении целый час, развлекаясь тем, что запихивали внутрь ее тела все, что попадалось под руку. Рыжая сидела в сторонке и мастурбировала. Потом они с гоготом удалились. Славная утренняя потеха. Кэрри неподвижно лежала на полу. Сверху на нее капало из душа. Она мечтала умереть. С нее достаточно. Жизнь кончена, не имеет никакого смысла. Двумя часами позже надсмотрщица нашла ее все в той же позе, посиневшую от холода, с кровотечением из влагалища. — Боже милосердный! Кто это сделал? Кэрри не проронила ни звука — все две недели, пока лежала в лазарете. Выписавшись, она так же молча прошла мимо остальных девушек. Те отводили глаза и по-прежнему не заговаривали с нею. Ей было все равно. Она научилась ненавидеть. Это было очень полезное и очень сильное чувство; интуиция подсказывала сокамерницам, что с ней лучше не связываться. Кэрри приняла решение. Отныне она будет думать только о себе, станет самой крутой, самой прожженной и высокооплачиваемой негритянской шлюхой!* * *
Кэрри отпустили студеной зимой. Она провела на острове шесть месяцев, вдвое больше первоначального срока, но она была не сильна в цифрах и не чувствовала времени. Она потеряла восемнадцать фунтов весу, от нее остались только кожа да кости. Волосы подстрижены из-за вшей; когда паром перевозил освободившихся девушек через Ист-Ривер, она вся дрожала от холода в своем летнем платьишке. У нее было только десять долларов, но она надеялась, что Флоренс Уильямс сберегла ее собственность, включая маленькую коробочку, в которой хранились скопленные ею шесть сотен. В доке, куда причалил паром, толпились сутенеры и сводники. Они придирчиво осматривали девушек, точно мясные туши, и тут же вербовали тех, что сулили прибыль. Власти об этом знали, но никому не было дела. Шлюха всегда остается шлюхой. Полиция смотрела на это сквозь пальцы. Какой другой шанс был у этих девушек? Кто предложит им мягкую постель, новую одежду, горячую пищу и возможность честного заработка? Кэрри все это знала. На Уэлфер-Айленде заинтересованно обсуждали, кто попадет к какому своднику. Девушки писали коротенькие напутствия: «Если увидите «Драные Порты», дайте ему за меня под зад коленом!», «Встретите тощую крысу с желтым авто — всадите в него нож. Подлый ублюдок более чем заслужил это!» Кэрри оглянулась по сторонам. Она знала, что выглядит как настоящая уродина и не может рассчитывать на внимание. Она вдохнула побольше воздуху и выпятила грудь. Результат не замедлил сказаться: к ней тотчас подкатился какой-то смуглый белый и прогнусавил: — Ищешь работу, а, чернушка? Ей не понравилось «чернушка», и она покачала головой. — Брось, — уронил сводник. — На тебя больше никто не польстится. Она сощурила глаза. — Видел бы ты, что у меня между ног, ты бы так не говорил, беляк! — Она повернулась к нему спиной и увидела того, кого искала. Его ни с кем не спутаешь. Высоченный негр. Совершенно лысый. В белом костюме и меховом пальто. Кэрри немало слышала о нем на острове. Его звали Уайтджек, он подбирал девочек для Мей Ли, известнейшей мадам Гарлема. Уайтджек стоял, облокотившись на сверкающий новенький автомобиль, и жевал длинную тонкую сигару. Его не устраивала ни одна девушка. Кэрри так и подлетела к нему. — Извините, мистер. Вы меня не покатаете? Он окинул ее с головы до ног ленивым, незаинтересованным взглядом. Потом — с ног до головы — чтобы быть уверенным, что он ничего не пропустил. — Поищи в другом месте, моя радость, — наконец протянул он. — Мне только на прошлой неделе исполнилось шестнадцать, — затараторила Кэрри. — Красивая, черная, горячая и совсем молоденькая — как раз то, чего ищут старые шалунишки. Я не новичок — работала у Флоренс Уильямс. — Сейчас о тебе не скажешь — красивая и горячая. — Дайте мне шанс, — клянчила она, водя руками по всему телу. — Меня приодеть да подкормить, я принесу вам бешеные бабки. Позвольте мне попробовать! — У нас с мадам Мей первоклассное заведение. Первоклассное! Иди, тряси задом в каком-нибудь другом месте. Мольба на лице Кэрри сменилась яростью. Ненависть, которой она научилась на острове, клокотала у нее в груди и жаждала вырваться наружу. Но Кэрри сдержалась. Пожала плечами и повернулась, чтобы уйти. Он остановил ее, положив руку ей на плечо. — Хочешь работать горничной? Кэрри стряхнула эту руку и пошла дальше. Горничной! Обхохочешься! В прошлое нет возврата! — Эй, ты! — он догнал ее, и они пошли рядом. Она почувствовала интерес к своей особе. — Ты в самом деле работала у Флоренс Уильямс? — Поверь. Нас было четверо: я, Билли и две белых курочки. — Гм. — Он выпустил ей в лицо кольцо сигарного дыма. — Надеешься понравиться мадам Мей? Кэрри знала, что к чему. — Понравлюсь тебе — понравлюсь и ей. Кто же не знает, что все зависит от тебя? Он расплылся в улыбке: — Умница. Она вернула ему улыбку: — И совсем молоденькая. — Залезай в авто. — Мигом, Уайтджек. — Откуда тебе известно мое имя? — Кто же на острове его не знает? Ты — большой человек. Его улыбка стала шире. — Знаешь, что и когда сказать. — И знаю, когда нужно держать язык за зубами. Уайтджек расхохотался. — Ч-черт, наконец-то попалась бабенка, у которой неплохо подвешен язык. Кэрри вторила ему счастливым смехом. — Еще бы!* * *
Ее отмыли, продезинфицировали, вывели вшей, накормили и подвергли тщательному медицинскому осмотру — снаружи и внутри. Потом облачили в розовый атласный халат, и она немедленно приступила к работе. Мадам Мей была одного роста с Уайтджеком, сластолюбивая матрона в длинном светлом вьющемся парике, который контрастировал с ее кожей цвета черного янтаря. Она была «действующей» мадам и драла бешеные деньги за свои услуги. Ей было под сорок; она стала проституткой в двенадцатилетнем возрасте. Кэрри не показалась ей хорошенькой, но она умела видеть сквозь внешнюю оболочку. — Если ты хочешь, можно попробовать, — сказала она Уайтджеку (Кэрри не ошибалась на его счет). — Только держись подальше от ее штанишек. Я не намерена делиться. Уайтджек принужденно засмеялся. — Я и не думал, мамочка. — Черта с два ты не думал! — А, ч-черт! Неужели, по-твоему, после тебя у меня еще остаются силы возиться с кем ни попадя? — По-моему, ты готов возиться с любой из живущих тварей — когда меня нет поблизости. Кэрри была твердо намерена добиться успеха. Она не спешила заключить контракт, пока не встанет на ноги. Для начала ее устраивал половинный счет. Она забрала свой скарб от Флоренс Уильямс и была счастлива увидеть свой капитал целехоньким. Флоренс даже спросила, не собирается ли она вернуться, но Кэрри пришлось отклонить ее предложение. У мадам Мей дело было поставлено на более широкую ногу, и как только Кэрри освоилась, она начала работать в режиме «нон-стоп». Ее жизненной целью стали деньги. И она рассчитывала на заначку. Клиентура мадам Мей была более разнообразной, чем у Флоренс Уильямс. Она держала дом открытым; вместе с Кэрри на нее работали десять девушек: еще две черных, пуэрториканка, три белых, толстая мексиканка, китаянка и хорошенькая карлица по имени Люсиль. Кэрри пришлось немало потрудиться, чтобы заткнуть за пояс остальных девушек. У нее появилось честолюбие. Она станет лучше всех! Все ее клиенты, начиная с самого первого, приходили снова и снова. Кэрри умела дать мужчине почувствовать себя мужчиной. Они являлись с жалкими висюльками между ног, проблемами и нытьем, а уходили от нее обновленными, посвежевшими и как следует трахнутыми. Она ненавидела их всех до одного. Они — все до одного — ее любили. Люсиль единственная из всех девушек начала заговаривать с Кэрри. Остальных снедала зависть. — Я здесь уже пять лет, — делилась Люсиль. — Уайтджек нашел меня в одном задрипанном шоу. Он был очень добр ко мне, пообещал, что здесь будет лучше, — и оказался прав! В планы Кэрри не входило завязывать дружбу с кем бы то ни было, она собиралась полностью посвятить себя работе, но Люсиль чем-то походила на нее. Обе они были отверженными и годились только на то, чем занимались. — Когда-нибудь я смоюсь отсюда, — откровенничала Кэрри, — и открою более шикарное заведение, чем это. Лучшее в Гарлеме. — Это мы уже слышали, — захихикала Люсиль. — А я добьюсь, — с жаром ответила Кэрри. Конечно, она добьется. Иначе зачем все это? Или быть лучше всех, или не жить вовсе. Ее репутация росла, как на дрожжах. Список постоянных клиентов — тоже. — Что в тебе есть такого, чего я не заметил? — шутя спросил однажды Уайтджек. Кэрри раздвинула губы в дежурной улыбке, но глаза оставались холодными. — Я же тебе говорила: красивая, черная, горячая и совсем юная. Знаешь ведь, что нужно белому хрену? Уайтджек огляделся. Они были одни в гостиной. Он как бы между прочим сунул руку ей под кимоно. — Да, девочка, ты оказалась звездой. — Ясное дело. Я же тебе говорила. Он все не убирал руку с ее груди. — Надо было оставить тебя при себе. Снять где-нибудь уютное гнездышко… Он все больше распалялся. Кэрри скользнула понимающим взглядом по утолщению у него в брюках. Его возбудившаяся плоть рвалась наружу. Раззадорить самого Уайтджека — это кое-что значит! Кэрри облизнула губы. Она очень похорошела и знала это. — Почему же ты этого не сделал? Он начал ласкать ей грудь. — Маленькие девочки не в моем вкусе. — Я не девочка, Уайтджек. Я прошла огонь, воду и медные трубы. — Да уж, — он привлек ее к себе, так что она почувствовала у себя между ног его упругую твердость. В этот самый миг в гостиную вошла мадам Мей с двумя девушками. Уайтджек молнией отскочил от Кэрри, но от мадам Мей, с ее глазами-бусинками, ничто не могло укрыться. Она смерила его убийственным взглядом. — За это, мой милый, полагается платить. Хочешь развлечься с этой крошкой — деньги вперед! — с неподражаемым сарказмом заявила она. К Уайтджеку вернулось самообладание. — В тот день, когда я заплачу за это, женщина, я буду конченым человеком. Мадам Мей трудно было сбить с панталыку. — Ты сам это сказал, — и она мило улыбнулась. Девушки прыснули. Звонок с улицы положил конец этой милой домашней сцене. В гостиную ввалились трое молодых студентов. Мадам Мей встретила их, как родных, предложила выпить и сделала все, чтобы они чувствовали себя, как дома. Она продемонстрировала им своих питомиц. — Выбирайте на свой вкус. Кэрри нежно улыбнулась одному и увела за собой в спальню. Он страшно нервничал: красный, весь в поту — казалось, вот-вот даст деру. — Как тебя зовут, малыш? — промурлыкала она. — Ген-ри. — Ах, Ген-ри! Сейчас мы с тобой замечательнопроведем время. О'кей, Ген-ри? Он нервно кивнул. Парню было лет восемнадцать, и он ни разу не был с проституткой. Кэрри стала раздевать его, бурно восхищаясь его хилым телом. Когда очередь дошла до трусов, она вздрогнула. Тонкий, белый, словно червяк… Она вздохнула. — У, Ген-ри, какой ты большой и сильный мужчина! Сейчас мы с тобой позабавимся так, как и не снилось. Да, малыш? Да?Джино, 1924–1927
Девятого июля 1924 года, после пятинедельного пребывания в следственном изоляторе Бронкса, Джино Сантанджело предстал перед судом, был признан виновным в попытке ограбления и схлопотал полтора года тюрьмы. Он еще легко отделался. Альдо Динунцио отхватил срок два года. Обоих отправили в «Синг-Синг». Альдо был уверен, что их кто-то выдал, и пылал жаждой мщения. — Кому, так твою мать, ты говорил об операции? — приставал он к каждому из подельников. — Кто знал о складе? Те двое так же, как Джино, отрицали свою причастность к утечке информации. Однако Альдо не отставал, и наконец выяснилось, что один из них похвастался перед сестрой. Альдо был доволен. Наконец-то есть на кого списать неудачу! «Сука! — без конца повторял он. — Должно быть, она донесла копам. Дайте мне выбраться отсюда, и эта сука пожалеет, что родилась на свет!» Джино пытался отговорить его, но безрезультатно. — Как только я отсюда выйду, эта сука получит свое. Вот посмотришь. Джино усвоил, что в тюрьме лучше всего держаться одному и избегать всевозможных осложнений. Он делил камеру со стариком, обвиненным в покушении на убийство. Они старались не откровенничать друг с другом. Старик шумно мочился в оставленное для этой цели ведро и почти каждую ночь онанировал, когда Джино еще не успел уснуть. Это было омерзительно, но постепенно Джино научился не обращать внимания. Он старался забыть о сексе, о женщинах и их теплой, манящей плоти. Его замучила почти постоянная эрекция, но он не желал облегчаться, как все. У него бывали мокрые сны, после которых он чувствовал себя раздраженным и разбитым. Отсутствие секса он переносил тяжелее всех прочих лишений и постоянно грезил обо всех тех женщинах, с которыми будет заниматься любовью, когда выйдет на свободу. Чаще других он представлял себе миниатюрную блондиночку, которую встречал у Жирного Ларри. С тех пор, как она дала ему от ворот поворот, он ни разу не заговаривал с ней, но был уверен в успехе. Дайте только добраться до чудо-кнопки, а там… О Господи! Коста продолжал забрасывать Джино письмами, а однажды его навестила Вера. Она плохо выглядела — так и не вставила два выбитых Паоло передних зуба, а лицо опухло от пьянства. — Ах ты, маленький ублюдок, — попеняла она. — Память короткая, да? Ни словечка за столько месяцев. Наконец-то я тебя разыскала. Джино страшно смутился и не мог отвести взгляд от дыры на том месте, где должны были быть зубы. — Очень мило с твоей стороны. — Естественно. Зачем человеку мачеха, если она не может нанести один-единственный визит? Говорю тебе, Джино, больше я сюда ни ногой. С меня хватило, когда приходилось навещать Паоло. Увидимся, когда выйдешь. Ладно? — Где старикан? — Этот гад стянул все мои деньги и сделал ноги. Как раз, когда я выписалась из клиники. — Она показала на свой рот и жалко улыбнулась. — Должно быть, ему не понравился мой фасад. — У меня есть баксы — если захочешь вставить зубы. Вера непристойно захихикала. — Спасибо, малыш, но я вот что тебе скажу: для дела так даже лучше. Теперь я могу вытворять такие вещи — даже не верится! — Она наклонилась к разделявшей их сетке. — Тебе тоже сделаю, когда выйдешь отсюда. Джино засмеялся. — Брось, Вера. — Я пошутила. Хотела немножко взбодрить тебя. Я-то ведь знаю: вы тут ни о чем, кроме секса, не думаете. Туго тебе приходится? — Еще бы! — Ах ты, проказник. Как всегда. — Вера встала. — Ну, мне пора. Но, Джино, большое спасибо… ты знаешь, за что. Обо мне никто никогда не заботился. Приятное чувство. — С чего ты взяла, что это я? — Смеешься.* * *
В «Синг-Синге» Джино определили в строительную бригаду, и хотя приходилось вкалывать до ломоты в спине, зато подвернулась интересная компания. Он завязал связи и многое почерпнул от старших товарищей, опытных уголовников, которые прошли огонь, воду и медные трубы и хорошо знали, что почем. Время летело довольно быстро, а так как Джино примерно себя вел, то срок ему скостили до одного года. При освобождении Джино пришлось перенести настоящий шок, когда ему передали приглашение приемного отца Косты Зеннокотти провести с ними каникулы. У него не было выбора. Прямо из тюряги — на поезд до Калифорнии. Даже не осталось времени с кем-нибудь переспать. Он был страшно смущен. В сущности, он почти не знал Косту — только по письмам. Черт! Что же это за чудаки, если они приглашают в гости такого, как он?* * *
Коста с нетерпением ждал на вокзале в Сан-Франциско вместе с приемным отцом, Франклином Зеннокотти. Он немного вытянулся, нарастил мясца на косточки и, хотя все же был маловат для своих шестнадцати лет, производил приятное впечатление. — Не знаю, правильно ли мы поступили, — в двадцатый раз произнес Франклин. — Брось, папа, — ответил Коста. — В свое время ты дал мне шанс, не правда ли? И смотри, что вышло. Франклин не смог удержать улыбку. Коста прав. Посмотрите, что вышло. Мальчик оказался способнее своих товарищей. В школе он неизменно получал высшие баллы, а дома доставлял много радости приемным родителям. И все же одно дело — усыновить Косту, и совсем другое — пригласить на каникулы его друга-уголовника. Но ведь это только на месяц. Коста так просил — просто умолял. — Папа, он спас мне жизнь, и если мы сможем чем-нибудь ему помочь… До сих пор Коста ни разу ни о чем не просил, поэтому ему было невозможно отказать. Итак, Джино Сантанджело предстояло провести каникулы в семье Зеннокотти, и Франклин от всей души молил Бога, чтобы не сбылись его предчувствия и этот поступок не обернулся роковой ошибкой.* * *
Джино вышел из вагона с высоко поднятой головой — что должно было скрыть его нервозность. Он потрогал шрам на щеке и порадовался яркому солнечному свету. Затем снял куртку и, скомкав, сунул под мышку. Ему тотчас шибанул в нос запах собственного пота, и он поспешил снова надеть ее. Он сразу узнал Косту, а этот сопляк — нет. Наверное, Джино здорово изменился, выглядел старше своих лет. Ему давали гораздо больше девятнадцати. У него было время разглядеть Косту и мужчину рядом с ним. Какие же они… чистенькие. Это слово было единственным, какое пришло ему в голову. Он храбро двинулся навстречу, и Коста наконец узнал его. — Джино! — закричал он и, к его величайшему смущению, подбежал и заключил его в объятия. Черт! Может, прошлый опыт сделал парнишку голубым? — Как я рад тебя видеть! — взволнованно поведал Коста. — Познакомься с моим отцом, — он подтащил Джино к Франклину Зеннокотти. Тот принужденно улыбнулся. Джино понял его взгляд. Мол, ты не внушаешь мне доверия. С какой стати я должен с тобой разговаривать? — Привет, — сказал он, протягивая руку. — Рад познакомиться. По пути он узнал массу вещей, которые его абсолютно не интересовали. Соревнования по плаванию и теннисные клубы, и черт знает, что еще. Что действительно произвело на него впечатление, так это новенький сверкающий «кадиллак», который вез их с вокзала. Вот бы покрутить баранку! Дом был прямо как в каком-нибудь голливудском фильме. Огромный, с колоннами и окантованными свинцом ставнями. Позади него расположился бассейн. Мать Косты засуетилась, угощая его лимонадом и пирожными и настаивая, чтобы он снял куртку. Боже праведный! Ну и обстановочка! Он цеплялся за свою куртку, слопал несколько пирожных, и Коста повел показать ему комнату. Джино извертелся на пятках, суя нос во все углы. Прекрасный вид из окна. Огромная кровать. Ванная с туалетом. — Иисусе Христе! — то и дело восклицал он. — Да ты тут действительно катаешься, как сыр в масле, малыш. — Откуда у тебя этот шрам? — выпалил Коста, просто чтобы что-то сказать. Джино нахмурился. — Что, очень заметно? — Не то чтобы очень, — Коста уткнулся взглядом в ковер. Дернуло же его! Джино фыркнул и подошел к зеркалу в ванной. — Да, действительно. Чертовы врачи схалтурили. — Да нет, почти не видно, — оправдывался Коста. — Дерьмо собачье. Еще как видно! — Ш-ш! Если мама с папой услышат, как ты выражаешься, они в два счета вышвырнут тебя на улицу. Джино сощурил глаза. Ну и влип же он!* * *
Оказалось, что он ошибался насчет Косты. Парнишка был невыносим. До того правильный, что аж тошно. И никакой не педик. Он даже ни разу не целовался, не говоря уж о чем-то еще. Джино чувствовал себя обязанным что-то предпринять. Кому пойдет на пользу — столько плавать и играть в теннис? Немного траханья внесет в жизнь Косты приятное разнообразие. — Эй, — сказал он Косте, — где-нибудь поблизости обязательно должен быть бордель. — Ему самому срочно требовалась баба, иначе он не выложил бы это в столь откровенной форме. — Бордель? — Коста залился краской. — А, брось стесняться. Пошли вместе. Пойми, малыш: если я сейчас же не затрахаю какую-нибудь шлюху, я взорвусь — и все дела. В Косте боролись любопытство и страх. Он знал неподалеку один публичный дом — возле верфи. Двое его друзей там побывали и рассказывали невообразимые вещи. — Сегодня после ужина скажем, что идем в кино, — предложил Джино. Коста пришел в нескрываемое возбуждение. За ужином мать встревожилась. — Ты весь горишь, дорогой. Ты хорошо себя чувствуешь? — Да, мама, очень хорошо, — быстро ответил Коста, бросая тревожный взгляд на Джино. Франклин перехватил этот взгляд. — Может, вам лучше не ходить в кино, а остаться дома? — Нет-нет, — запротестовал Коста. — Со мной все в порядке. Франклин промокнул рот салфеткой. — Только не задерживайтесь слишком поздно. Я разрешил вам на весь этот месяц забыть об учебе, но это не означает, что нужно веселиться до упаду. — Папа, да с тех пор, как приехал Джино, мы всего второй раз выходим на улицу! Франклин строго посмотрел на приемного сына. — Джино приехал в Сан-Франциско не затем, чтобы развлекаться, а чтобы мы могли дать ему представление о нормальной жизни в семье. Я уверен, он уже многое понял. — Он перевел взгляд проницательных глаз на Джино. — Разве не так? У тебя нет такого чувства, что ты научился уважать других людей и заботиться о них? — Я всегда заботился о других, — парировал тот. — О тех, кого грабил? — Ну… Я же их не знал. Взрослые парни… Они-то знают, что к чему, и всегда готовы к тому, чтобы их пощипали. Франклин бросил быстрый взгляд на Косту. — Видишь, сынок, как рассуждают… деклассированные элементы. Я надеялся, что с нашей помощью Джино посмотрит на вещи по-другому. Поймет, что никто не хочет, чтобы его пощипали, как он выражается. Любой уважающий себя бизнесмен трудится в поте лица своего… — Дерь… — Прошу прощения? — холодно осведомился Франклин. Джино поперхнулся. — Что-то попало в дыхалку. Коста резво вскочил на ноги. — Нам пора идти.* * *
Публичный дом возле верфи принес Джино разочарование. Он с первого взгляда понял, что хорошего ждать не приходится. Его худшие опасения подтвердились, едва он взглянул на женщину, открывшую им дверь. У нее была прыщавая кожа, потрескавшиеся губы и плохо сидевший парик. Она подмигнула парням и затащила их внутрь дома. — Два симпатичных богатеньких джентльмена хотят хорошо провести время, а? — Ее линялое платье явно знавало лучшие времена; груди обвисли. — Десять баксов с носа. Кто первый? — Э, погоди, — запротестовал Джино. — Где девочки? — Здесь работала еще одна — пару месяцев назад. Она вышла замуж. Осталась только я, малыш. — Женщина положила руку ему на плечо. — Ты будешь первым? Он стряхнул ее руку. — Нет, не я. Женщина повернулась к Косте. — Деньги на стол, я должна убедиться. Коста неуклюже полез в карман. — Погоди-ка, — сказал Джино. — Мне нужно потолковать с моим другом. — Он повернулся к женщине спиной и быстро зашептал: — Давай рвать когти. Кому нужна эта кляча? Коста вспыхнул. — Мне. — Иисусе Христе! — Джино расхохотался. — Ну, если уж так приспичило. Коста достал, наконец, деньги. Проститутка схватила его за руку и потащила в соседнюю комнату. Через несколько минут она вышла, оправляя юбку. — Ну что, теперь ты? — Как-нибудь в другой раз. На улице оба схватились за животы. — Как ты мог — с этой свиньей? Коста сиял. — Все нормально, Джино. Ей-Богу. Вряд ли я решился бы с кем-нибудь помоложе и покрасивее. А так — я ни капельки не стеснялся. И, знаешь, мне понравилось. Джино хлопнул его по плечу. — Еще бы. В субботу они с Костой купались в море возле верфи. А вернувшись, увидели в холле девушку — самую красивую из всех, кого Джино приходилось встречать. Хрупкую, с очень светлыми, почти белыми волосами и ясными голубыми глазами. — Это моя сестра Леонора, — сказал Коста. Впервые в жизни Джино отреагировал на девушку не нижней частью тела, а головой. Она была такая… нежная. Ни на кого не похожая. И думалось о ней так, как ни о ком другом. — Рада познакомиться с тобой, Джино, — она протянула ему тонкую руку. — Коста нам все уши прожужжал. — Ага. — Больше ему ничего не приходило на ум. Он вылупился на нее, как какой-нибудь сопляк. Кажется, это был знаменательнейший момент его жизни. За две недели он видел ее всего пару раз. Леонора училась в пансионе для юных леди и возвращалась домой только на уик-энд. Откуда тут было взяться любви? И однако, это была любовь. Они ни разу не виделись наедине. Даже не поговорили толком. И все-таки она знала о его чувствах, он был уверен в этом. Иногда он ловил на себе ее взгляд за обеденным столом; нежные губы трепетали; крохотная ручка отбрасывала локон со лба. Джино не вожделел к ней — то было совсем иное чувство. Ему хотелось заботиться и оберегать ее. Может быть, даже жениться на ней. Дьявол! Такая мысль вызвала у него усмешку. Вы только посмотрите на этого уголовника без какой бы то ни было реальной перспективы в жизни. После оплаты услуг адвоката, которого он нанял для ведения своих дел, у него еще оставалось две тысячи долларов. Не Бог весть какое состояние, но все-таки кое-что. И у него есть честолюбие. Неважно, каким путем — законным или не очень, — но он добьется успеха. И тогда настанет день, когда он захочет, чтобы Леонора всегда была рядом. Наконец ему представился случай открыть ей свои планы. Еще две недели — и поезд умчит его в Нью-Йорк. Миссис Зеннокотти прониклась к нему симпатией. Правда, со стариком Зеннокотти несколько другая история. О да, он вежлив, даже великодушен, но глаза выдают его истинное отношение. Он ждет не дождется, чтобы Джино как можно скорее исчез из его жизни. Это написано у него на лице.* * *
Леонора Зеннокотти понимала, что чувствует Джино, когда смотрит на нее. Это пугало и одновременно приятно волновало. — По-моему, он хороший, — делилась она с лучшей подругой Дженнифер. — Но он никогда ничего не говорит — просто таращится с другого конца стола. Что мне делать? Дженнифер находила ситуацию в высшей степени романтичной. — Жалко, что на меня никто не таращится, — сетовала она. — Коста даже не знает о моем существовании. — Да брось ты — Коста! Он моложе тебя. Как ты можешь им интересоваться? — Только на семь месяцев моложе, и он мне очень нравится. Ты же знаешь. — Тогда поехали к нам на уик-энд. Будет настоящий кайф. Леонора взяла с собой Дженнифер, и в этот же вечер за обеденным столом имела место интенсивная перестрелка взглядами. Мэри и Франклин Зеннокотти и не подозревали о страстях, пылавших в груди тинейджеров. У главы семейства разболелась голова, и он удалился в свою комнату еще до того, как подали кофе; Мэри не замедлила последовать за ним. Так Джино в первый раз оказался в обществе Леоноры без неусыпного контроля старших. — Как дела? — заикаясь, спросил он. — Как учеба? Она облизнула бледные губы. — Спасибо, хорошо. А ты как? Нравится в Сан-Франциско? — Джино в полном восторге, — ответил за него Коста. Леонора усмехнулась. С приездом Джино Коста сильно изменился — в лучшую сторону. Плохо, однако, что он взял моду отвечать за приятеля. Дженнифер первой нарушила наступившее молчание. — Что, если нам искупаться в бассейне? Мне лично очень жарко. — Ага, — согласился Джино. — Отличная идея. — Папа будет против, — начала Леонора, но Коста перебил ее: — Папа не узнает. Он принял свои таблетки от головной боли. Так что, если мы будем не слишком шуметь… — А почему, собственно, в бассейне? — удивился Джино. — Можно пойти на пляж возле верфи, тогда не надо будет беспокоиться, как бы не наделать лишнего шума. — Да-да! — обрадовалась Дженнифер. — Идемте! — Нам не разрешают уходить из дома, — пожаловалась Леонора. Джино не мог отвести от нее глаз. — Неужели тебе не хочется познакомиться поближе? Она была охвачена трепетом и поэтому легко уступила. — Сейчас, только схожу за купальником. Идем, Дженнифер, я одолжу тебе один из моих. Переоденемся у меня в спальне, а сверху наденем платья. — Вот и умницы, — одобрил Джино. Полчаса спустя они уже барахтались в мутной воде дока. — Здорово! — взвизгивала Дженнифер. — Коста, давай в догонялки! Джино приблизился к Леоноре. Она заколола волосы на макушке, и они пошлепали по воде вдоль рядов рыбацких лодок. — Я не очень-то силен по части слов, — начал он, — но хочу, чтобы ты знала о моих чувствах. У Леоноры участился пульс. — Да? — Видишь ли… Господи, откуда мне знать, что такое любовь? Но… Полагаю, это что-то вроде инфекции, и я ее подцепил. — Он взял Леонору за руку. — Честное слово. — Понимаю, — пролепетала она. — Я, кажется, тоже. Джино захлебнулся от счастья. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Он бережно взял обеими ладонями ее лицо и поцеловал Леонору в губы. Он старательно избегал телесного контакта, но, возвращая поцелуй, девушка крепко прижалась к нему, и он почувствовал мягкую грудь, теплые бедра и понял, что она, должно быть, тоже ощутила его отвердевшую — несмотря на холодную воду — плоть. — Я люблю тебя, — бормотал он между поцелуями. — Люблю, люблю, люблю тебя! — Я тоже, Джино. Ох, я тоже!.. Его руки сами нашли ее груди, и она его не оттолкнула. После выхода из тюрьмы он еще ни разу не был с женщиной, но ведь это Леонора! Джино полностью сохранил контроль над природными инстинктами. — Нет! — выдохнул он. — Я так не хочу! — Почему, Джино? Будем делать все, что хотим! — Она страстно поцеловала его. — Со мной никогда еще так не было. К ним подбежали, брызгаясь, Коста и Дженнифер. — Мне скучно, — посетовала Дженнифер. — Я думала, мы поплаваем наперегонки. — Само собой, — сказал Джино. — Конечно, — немного задыхаясь, произнесла Леонора. — Давайте, вы первые. А потом мы. — Нет, вы первые. — Лучше пошли домой, — скучным голосом предложил Коста. Он видел, как при их приближении Джино с Леонорой отпрянули друг от друга, и чувствовал себя не в своей тарелке. Друг явно злоупотребил ситуацией. — Да, пошли, — легко согласился Джино. — Становится прохладно, а вода довольно противная. Все четверо выбрались на берег. — Забыли захватить полотенца, — простонала Леонора. Пришлось надеть платья, свитеры и брюки прямо на мокрое тело. Всю дорогу до дома они тряслись от холода. Коста с Дженнифер ушли вперед. Джино покровительственным жестом обнял Леонору за плечи. — Слушай. Мы только недавно познакомились, но я знаю: у нас все будет по-хорошему. Я это сразу понял, с первого взгляда. — Я тоже. Сразу почувствовала, что ты родной и близкий. Как никто, даже родители. — Я не ангел, — признался он, — и делал много такого, чего не следовало. Но вообще-то я не плохой. Просто до сих пор до меня никому не было дела. — Мне есть до тебя дело, — тихо сказала она. Он сжал девичье плечо и твердо произнес: — Мы поженимся, это точно. Коста оглянулся на них. — Эй, поторапливайтесь! — Как же нам быть? — прошептала Леонора. — Папа ни за что не разрешит. — Не волнуйся. Мы поженимся. Даю тебе честное слово. — Они скажут, я еще слишком молода. А у тебя нет денег и… Джино снова взял в ладони ее лицо. — Перестань. Просто перестань, о'кей? Мы обязательно поженимся. Может быть, не сейчас, но как только я встану на ноги. Придется немного подождать. Это будет нелегко, но мы выдержим. Правда? Ее прекрасные голубые глаза счастливо сияли. — Конечно, Джино. Он наклонился, чтобы вновь прильнуть к ее губам. Коста увидел, что они делают, и, подбежав, бросился их разнимать. — Иисусе Христе! — воскликнул он, пользуясь излюбленным выражением Джино. — Чем это вы занимаетесь? Его сводная сестра захихикала. — Мы влюблены, братишка, влюблены! — Не может быть! — Как замечательно! — обрадовалась Дженнифер. Джино глупо улыбнулся. — Я намереваюсь жениться. Можете вы себе это представить? — Не могу, — отрубил Коста. — Не знаю, что на тебя нашло. Должно быть, ты спятил. Джино стоял на своем. — Вы бы нас лучше поздравили. Коста, я — твой лучший друг, а Леонора — сестра. Ты должен прыгать до небес от счастья. — Джино, — твердо произнес Коста. — Подумай своей головой. Что скажет папа? Друг заносчиво тряхнул черными кудрями. — Не будем пока им говорить. Я вернусь в Нью-Йорк, заработаю кучу денег и приеду за Леонорой. Никто не станет возражать, если я разбогатею. Коста ошеломленно покачал головой. Он не верил своим ушам, и ему было страшно. Происходящее чревато серьезными осложнениями. Он трезво смотрел на жизнь и понимал, что, стоит только отцу что-нибудь заподозрить, он тотчас отправит Джино в Нью-Йорк — первым попавшимся поездом. Навсегда вышвырнет из Сан-Франциско и из их жизни. Джино, Леонора и Дженнифер приплясывали на ходу; с них ручьями лилась вода. — Идемте, — строго сказал Коста. — Ну и зануда же ты, — упрекнул Джино. — Тебе что, не нравятся приключения? — Только со счастливым концом, — мрачно ответил Коста. Он вдруг показался себе гораздо старше своих шестнадцати лет. — Будет тебе счастливый конец, — пообещал Джино. — Я — Джино Сантанджело и уж если что-то знаю, то знаю. Можешь поверить, это так и есть. Коста кивнул. — Хочу надеяться. — Но в глубине души он знал, что его друг заблуждается.* * *
Джино вернулся в Нью-Йорк весь во власти честолюбия. Впервые в жизни ему было ради чего стараться. Его ждет Леонора. Будущее в их руках. Остаток каникул в Сан-Франциско пролетел, как волшебный сон, хотя за это время они с Леонорой почти не оставались наедине. Однако глазами они сказали друг другу столько, сколько другие не успевают сказать за всю жизнь. Даже до Косты начало доходить, что это серьезно. Накануне отъезда Джино ухитрился проникнуть в спальню Леоноры, и они долго строили планы на будущее. И целовались — сначала целомудренно, а затем все более страстно. — Можешь взять меня, если хочешь, — выдохнула Леонора. — Я еще не… ну, ты понимаешь. Но с тобой, Джино… Я не хочу, чтобы ты… с другими женщинами. У мужчин бывают потребности… Он заставил себя отстраниться. — Ничего, я подожду. — Но, Джино, в этом нет нужды. — У Леоноры пылали щеки. — Мы же любим друг друга, а если двое любят, в этом нет ничего плохого. Ведь так? Он смотрел на нее, такую красивую, нежную, соблазнительную, и чувствовал, что у него вот-вот лопнут брюки. — Нет ничего плохого, — подтвердил он. — Но нам есть что беречь. Кто бы мог подумать, что Джино-Таран впадет в сентиментальность? Сам он — в последнюю очередь. В Нью-Йорке он первым делом снял другую комнату, в двух кварталах от своего прежнего жилья и тоже недалеко от свалки. Но он приходил только ночевать, а утром снова уходил на работу. Приходилось экономить каждый доллар и каждый цент. У него все еще оставался счет в банке — там лежало семьдесят пять баксов. Но основной капитал — больше двух тысяч новенькими, хрустящими бумажками — хранился в депозитном сейфе. Джино поставил перед собой задачу заработать много больше, только тогда он получит право на Леонору. Франклин Зеннокотти ни за что не отдаст ему свою дочь, если Джино не сможет обеспечить ей привычный образ жизни. Его следующим шагом было отправиться к Жирному Ларри и узнать, что тут творится. Народу было полно, однако он не встретил никого из знакомых — одних желторотых юнцов за молочными коктейлями. — Где наши? — спросил он Жирного Ларри. Тот бросил вороватый взгляд по сторонам. — Многое изменилось. Зайди с черного хода и стукни два раза. Джино присвистнул. Жирный Ларри тоже начал приторговывать запрещенными спиртными напитками. Он зашел с черного хода, спустился по небольшой лестнице, ведущей в бывший подвал, и очутился в слабо освещенном баре. Четверо музыкантов наигрывали джазовые мелодии; между столиками сновали длинноногие полураздетые официантки. Должно быть, переоборудование подвала влетело Жирному Ларри в копеечку. За одним из столов восседал Розовый Банан в шикарном костюме в полоску, с сигарой в толстых губах и стаканом дешевого ликера в руке, из которого он поил устроившуюся у него на коленях маленькую блондинку. Да уж не мисс Зазнайка ли это? Теперь она выглядела гораздо старше благодаря помаде и перманенту, — но все такой же заносчивой. Мисс Зазнайка. Девушка, которая полностью владела его мыслями, пока он не встретил Леонору. Теперь она стала больше походить на женщину — и дешевку. — Эй, Розовый Банан! — Джино начал пробираться к ним. Старый приятель вскочил на ноги. — Джино! Когда тебя выпустили? Как дела? Джино скорчил гримасу. — Ну, что тебе сказать, старина? Если коротко, то я бы не рекомендовал это место для проведения летних каникул. Розовый Банан заржал и заключил Джино в объятия. — Сейчас закажу тебе выпивку, и ты все расскажешь. — Прошу прощения, — резко вклинилась мисс Зазнайка, дергая Банана за рукав. — Ах да. Джино, ты помнишь Синди? — Само собой. Она всегда была такая ласковая — как же мне забыть? Синди уставилась на него. — Ага, вспомнила. Джино Сантанджело. Д-Ж-И-Н-О. Не ты ли обещал, что я о тебе еще услышу? — Точно, куколка, — он перестал обращать на нее внимание и повернулся к Банану. — Ну, ты даешь! Видно, у тебя неплохо идут дела. Когда мы виделись в последний раз, ты валялся на больничной койке с парочкой переломов. Что произошло? Розовый Банан постучал себя по голове. — Просто я поумнел. Помнишь, что ты сказал мне в больнице? Кому нужно копаться в чужом дерьме! Я поразмыслил и решил, что ты прав. И теперь я — большой человек, Джино. Можешь мне поверить. Большой человек. Они сели, и Розовый Банан щелкнул пальцами, подзывая официантку. — Чем же ты занимаешься? — допытывался Джино. Приятель опустил глаза. — Оказываю кое-какие услуги… разным важным шишкам. Джино молчал. «Услуги»… Это может означать все что угодно. Не стоит давить на Банана. Они обсудят это с глазу на глаз, без Синди, которая теперь жарко дышит в затылок. — Мы с Синди живем вместе, — сообщил Банан. — В хорошенькой квартирке на Сто десятой улице. — Да, у вас тут действительно большие перемены. Вот уж от кого не ожидал, так это от тебя. — Это еще почему? — окрысилась Синди. Она погрубела, но была все так же хороша. Джино пожал плечами. — Не знаю. Просто мне так казалось. — Не скажешь ведь, что Банан отнюдь не тот человек, который мог заарканить приличную юбку. Он решил сменить тему. — Больше не ходишь в школу, а, крошка? Синди облизнула ярко накрашенные губы. — Я всегда ее ненавидела, так же, как и дом моих родителей. Взяла вот и бросила и то, и другое сразу. Мне семнадцать лет, что хочу, то и делаю. Это моя жизнь, не так ли? Семнадцать. Столько же, сколько Леоноре. Но какая между ними разница! Синди — прожженная, размалеванная, доступная. И Леонора — нежная, красивая, нетронутая. — Видишься с Катто? — спросил он Розового Банана. — Катто! — Банан с отвращением выплюнул это имя. — Дурак набитый! Все еще сосет мамкину титьку! — Что ты хочешь сказать? — Что он болван. Сам не знает, чего хочет. Так до сих пор и вкалывает со своим стариком на свалке. И называет это чистыми деньгами. Плевал я на него! — Я хочу танцевать! — потребовала Синди. — Подожди, еще потанцуем. — Я хочу сейчас! Розовый Банан заколебался. — Ладно, пошли. Джино наблюдал за тем, как они идут на круг. Потом окинул взглядом все помещение бара. В углу Жирный Ларри беседовал с человеком, в котором Джино узнал Эдди-Зверя. Здесь же расположились еще несколько бандюг. Нетрудно будет завязать нужные связи. Он потягивал «скотч» и смотрел, как танцуют Синди и Розовый Банан. Бывшая мисс Зазнайка устроила целый спектакль, отчаянно виляя задом и выпячивая маленькие грудки. По-прежнему соблазнительная. Но ему начхать. У него есть Леонора — она стоит дюжины таких, как Синди.* * *
На другой день Джино пошел проведать Катто. Тот жил в полуразвалившемся многоквартирном доме, в трех комнатах, вместе с отцом, матерью и четырьмя братьями и сестрами. Джино всегда был здесь желанным гостем. Он поцеловал измученную заботами мать Катто. — Миссис Боннио, Катто дома? — Джино! Когда ты вернулся? — Вчера. Я был в Сан-Франциско. — А я думала, что в тюрьме, разбойник ты этакий! — она любовно погладила его по голове и крикнула: — Катто! Иди, посмотри, кто пришел!.. Останешься ужинать? Явился Катто. Он сильно сутулился, и от него все так же воняло. — Джино! Ах ты, бродяга! Мы по тебе соскучились. Они обнялись. Вонь не смущала Джино: он вырос среди подобных запахов. Ужин здесь был семейным ритуалом, и Джино чувствовал себя совсем как дома. Потом они с Катто потолковали о прежних временах. Джино спросил: — Что случилось с Бананом? Весь цветет и пахнет. Как получилось, что он зашибает бабки, а ты нюхаешь дерьмо на свалке? Катто посуровел. — А ты разве не слышал? — О чем? — О том, почему он цветет и пахнет? — Если бы слышал, так не спрашивал бы. — Но Катто не успел открыть рот, как Джино уже знал, в чем дело. — Он убивает людей, — просто сказал Катто. — За деньги. Ему дают пятьсот баксов и предлагают с тобой разделаться. И все — ты покойник. Джино молчал. Не то чтобы он был в шоке. Насилие давно стало частью жизни. Но Розовый Банан — киллер? Это не укладывалось в голове. Катто сплюнул. — Я с ним больше не вожусь. И тебе не советую, если у тебя есть голова на плечах. Голова головой, а друг другом. Кто знает, что его ждет в будущем и когда человеку может понадобиться помощь старого кореша?* * *
Старик закашлялся и выплюнул мокроту в скомканный платок. Джино не отрывался от листа бумаги, аккуратно копируя написанное стариком: «Милая Леонора, моя бесценная любовь!..» Это было четвертое письмо за многие недели. В свое время, испытывая жгучий стыд за свою безграмотность, Джино обратился к этому старику, мистеру Пуласки, чтобы тот научил его орфографии и пунктуации. Благо комната мистера Пуласки была как раз над его новым жилищем. Это обходилось Джино в несколько долларов за письмо. Кроме того, общаясь с мистером Пуласки, он узнавал много нового. Леонора прислала два ответных письма на надушенной розовой бумаге, и Джино всюду носил их с собой. Коста тоже писал, всякий раз умоляя не забывать о последнем разговоре с Франклином Зеннокотти перед отъездом из Сан-Франциско. Джино прекрасно помнил эту душеспасительную беседу. Франклин завел его в свой кабинет и прочел лекцию о том, как он должен распорядиться своей жизнью. Нарушать закон невыгодно, и все такое прочее. Нарушать закон очень даже выгодно — в этом Джино убедился на собственном опыте. Вернувшись в Нью-Йорк, он быстро сумел добавить к двум тысячам в депозитном сейфе еще столько же. Только-то и дела, что крутить баранку краденого автомобиля. Один раз они ограбили банк, другой — меховой склад. Непыльная работенка! Оба раза он был очень осторожен, потому что ему меньше всего улыбалось снова загреметь в каталажку. Его репутация одного из самых ловких и опытных «водил» Нью-Йорка неуклонно росла. Джино обращался с машиной, как с женщиной — чрезвычайно искусно. Но его амбиции простирались дальше карьеры водителя, тем более что эта работа — на открытом воздухе и крайне опасна. Чего он действительно хотел, это поучаствовать в какой-нибудь контрабандной операции — вот где настоящие деньги! Его кумирами стали такие парни, как Мейер Лански, Багси Сигель и особенно Лючания. Все они начинали с нуля, а посмотрите-ка на них сейчас! — Закончил? — спросил мистер Пуласки. — Ага. — Джино заклеил конверт и порылся в заднем кармане брюк в поисках денег. — На следующей неделе в то же время? — Само собой. — Можно позавидовать твоей девушке. Джино был польщен. — Вы так думаете? — Сейчас мало кто пишет такие письма. — Правда? — Джино ухмыльнулся. — Все очень просто, папаша. Я люблю ее. Старик пощелкал искусственными зубами. — Как это приятно — любить! Мы с женой были женаты шестьдесят два года, прежде чем она умерла, — у него дрогнул голос. — Она говорила, что устала жить, так что все к лучшему. Я каждую неделю бываю на ее могиле. Джино достал из кармана лишних два доллара. — Купите ей от меня цветов, папаша. Старик растрогался. — Спасибо. Она больше всего любила лилии. — Вот и замечательно. Джино вразвалку шел по улице. Как всегда после того, как они писали Леоноре, у него было приподнятое настроение. Кроме того, великий Лючания снова назначил встречу. Значит, его дела идут в гору.* * *
На этот раз встреча состоялась не на заднем сиденье «кадиллака», а в закрытом для посторонних баре Жирного Ларри. Лючания ложкой ел мороженое, а Эдди-Зверь и еще двое крепких парней стояли на стреме. — Присаживайся. Лючания был настроен дружелюбно и сразу перешел к делу. Ему опять понадобились местные рекруты, и он поинтересовался, не хочет ли Джино вступить в его организацию. Конечно, Джино был польщен, хотя и знал, что в тот же день несколько других ребят получили такое же предложение. — У меня свои планы, — признался он. Лючания поднял брови. — Хорошо иметь честолюбие, пока не стоишь ни у кого на дороге. Джино покачал головой. — Ни в коем случае. Мои планы просты. Да. Его планы просты. Всего-навсего единолично завладеть империей бутлегеров. Ему казалось, что он знает способ добиться успеха. Альдо Динунцио вышел из тюрьмы и рвался в бой. Джино давно его дожидался. — У тебя — связи, у меня — идеи. — Погоди говорить о деле. Мне нужно сначала поквитаться с той сукой, из-за которой нас сцапали. — Конечно, конечно. Но как ты можешь быть уверен, что это она? — Уверен, так твою мать! — рявкнул Альдо. — Если ты со мной, так пошли. Джино решил сопровождать приятеля в надежде помешать ему совершить поступок, в котором он потом будет раскаиваться. Он нуждался в Альдо и не хотел, чтобы того снова упекли за решетку. Двоюродный брат Альдо, Энцо Боннатти, стал большим человеком в Чикаго, и Джино рассчитывал на сотрудничество. Альдо разыскивал девушку по имени Барбара — она работала в банке, жила с родителями и братом в маленьком, чистеньком домике в Малой Италии и была помолвлена с полицейским. — Поганый коп! — костерил его Альдо. — Ему я тоже оторву яйца! Они отправились к банку и подождали на улице до закрытия. Альдо останавливал каждую девушку и задавал вопрос: «Ты — Барбара Риккадди? Ты? Ты?» Она оказалась седьмой по счету — высокая, с каштановыми волосами, веснушчатым лицом, в очках и чересчур длинной юбке. На вопрос Альдо она нахально заявила: — Да, это я. А ты, полагаю, Альдо Динунцио? Я слышала, что ты хочешь со мной сделать, и позволь тебе сказать… Альдо был ошарашен. Он впервые в жизни встретил такой отпор. Девушка закончила свой монолог и пошла прочь, высоко задрав голову, ничуть не испуганная и торжествующая. — Боже милостивый! — воскликнул Альдо. — Вот что я называю настоящей женщиной! К счастью для Джино, Альдо Динунцио теперь тоже горел желанием добиться успеха!Кэрри, 1928
Проблема заключалась в том, чтобы держать Уайтджека на расстоянии. На самом же деле это была никакая не проблема, потому что Кэрри чувствовала, что ей этого вовсе не хочется. С какой стати? Только потому, что на нем стоит клеймо: «Личная собственность мадам Мей»? Да мадам Мей была последней, перед кем у Кэрри тряслись поджилки! Старая ведьма! На днях ей стукнет сорок, это уже преклонный возраст. Кроме того, Кэрри осточертело отдавать половину заработка. Пора линять отсюда. А чтобы слинять, ей нужен был Уайтджек. Конечно, он распускал руки только в отсутствие мадам Мей. — Что с твоими яйцами, босс? — вызывающе спросила однажды Кэрри. — Боишься, что Большая Мама их оттяпает? Уайтджек ухмыльнулся. У него были превосходные зубы, хотя улыбку портил единственный золотой — как раз посередке. Результат давней размолвки с мадам Мей. Они уже десять лет были вместе — с того самого дня, когда он зашел к ней в бордель отметить свое двадцатилетие. Тут-то она его и подцепила. А теперь ему пудрит мозги эта малышка Кэрри. Она все еще тощая, как оголодавший кролик. Однако у нее самая соблазнительная грудь в этой части Гарлема. И чем она так завораживает своих клиентов, что они потом не хотят никаких других девушек? Что там у нее за капкан такой между ногами? Длинный сластолюбивый приятель внизу живота твердил Уайтджеку: нужно самолично убедиться! — Уж как-нибудь сам позабочусь о своих яйцах, — миролюбиво молвил он. — Но, Бог ты мой, что случилось с твоим ротиком? Что-то ты разболталась с тех пор, как полгода назад поступила сюда работать. Тогда ты была таким худющим цыпленочком, который никому не смел сказать: «Бу-у-у». — У меня «случилось» не только с ротиком, босс. Пожалуй, я скоро отсюда съеду. — Ты говорила мадам Мей? — Нет. Зачем? Уж меня-то она не держит на привязи, как некоторых! Ну, эта сучка его достала! Вечно подчеркивает, что он альфонс. — Меня тоже. — Ха! — засмеялась Кэрри. — Большой Мистер Уайтджек. Босс. Знаем, знаем, кто тут настоящий мужчина! Он рассвирепел. — Ни хрена ты не знаешь! — Ха! Он схватил Кэрри за руку. — Не распускай губки, девочка! Ни те, ни другие! — Только не говори, что я тебя завожу, мистер Ледышка! Он понимал, что ходит по краю пропасти, но что за ад! Надо же усмирить эту сучку! Уайтджек впился поцелуем ей в рот, энергично работая языком. Кэрри всем телом прижалась к нему, в своем тоненьком кимоно. Он был близок к тому, чтобы утратить контроль над собой, но остатки разума твердили: как бы не влипнуть в историю! Большая Мама в отъезде, но по дому бродят свободные девушки — вдруг они заглянут сюда? Ч-черт! Кто же надеется на сохранение тайны в борделе? — Давай, босс, давай его сюда! — продолжала дразнить Кэрри. — Я же знаю, что он только того и ждет! — Она начала расстегивать пуговицы у него на брюках. Уайтджек не сопротивлялся, а терпеливо ждал, пока его приятель не вырвется на свободу. Ну, он ей даст прикурить! Трахнет так, как ее еще никто никогда не трахал! Он начал заниматься этим в десятилетнем возрасте, так что Кэрри получит первоклассный хрен с двадцатилетним стажем. Повезло девочке! — О, малыш!.. О-о-о!.. — Кэрри стонала от наслаждения. — Какой ты… замечательный! Она сбросила кимоно и вся отдалась во власть Уайтджеку. Они продолжали стоять, но он уже был внутри нее. И это было что-то! Все на свете перестало для них существовать. Все-про-все на этом мерзопакостном свете! А потом началось извержение вулкана — мощными, горячими струями! Он кончил так, как не кончал уже много лет. Ч-черт! Кэрри абсолютно права: пора рвать когти — им обоим!* * *
Кэрри затянулась длинной тонкой сигаретой. Сладкий дым заполнил легкие. Марихуана. Некоторые называют ее наркотиком, а для Кэрри это прежде всего — расслабленность и покой. По ее губам блуждала мечтательная улыбка. Она передала сигарету Уайтджеку. Тот затянулся и передал дальше. Они возлежали на кушетках: Кэрри, Уайтджек, пара музыкантов и карлица Люсиль, настоявшая на том, чтобы они взяли ее с собой, когда решили отколоться от мадам Мей. Но какой это был спектакль! Мадам не смогла легко и изящно отнестись к потере Уайтджека. — Поганый толстозадый ниггер, сукин сын, проститутка! — яростно вопила она; платиновый парик растрепался. — Только попробуй уйти от меня — и ты конченый человек! Слышишь? Тебе конец! Уайтджек не искал неприятностей. Почему бы им не расстаться друзьями? — Заткнись, женщина, — миролюбиво начал он. — Не смей затыкать мне рот! — взвизгнула она. — Я знаю тебе цену, Уайтджек! Вижу тебя насквозь! Если сейчас ты бросишь меня ради этой черномазой малолетки, этой потаскухи, ты больше никогда не переступишь порог этого дома! А когда пресытишься ее тощей задницей, ты еще приползешь на брюхе за чем-то стоящим. Слышишь, черномазый ублюдок? — Слышу. И весь квартал слышит. И Уайтджек отказался от попыток расстаться по-хорошему. Быстренько уложил свои двадцать три костюма и объявил Кэрри десятиминутную готовность. Мадам Мей продолжала бушевать в холле — руки в боки, парик съехал на сторону. — Дебил! — выплюнула она в сторону Уайтджека. Тот невозмутимо совершал рейсы к автомобилю с чемоданами в руках. — Лысый гад! Сволочь! Никуда не денешься! Ты еще приползешь, и я с удовольствием пну тебя ногой в твою поганую морду! Все было не так, как рисовала себе Кэрри. Ей требовалось время, чтобы все хорошенько обдумать. И уж конечно, она не ожидала, что Уайтджек так сразу и выложит мадам Мей, что между ними произошло. Однако он рассудил, что Кэрри дорогого стоит, а раз так, то и нечего тянуть кота за хвост. Впереди — еще десяток чудесных лет с Кэрри, а уж она постарается, чтобы ему было хорошо. Он много лет не испытывал ничего подобного. Малютка стоит больших денег! Вместе они сколотят целое состояние! Да, это вам не фунт изюма — отбить у мадам Мей любовника! К тому же Уайтджек был опытным сутенером, и Кэрри нуждалась в его профессиональных услугах. Сколько баксов они заработают вместе! Они отбыли в белом «олдсмобиле» Уайтджека, а карлица Люсиль бежала за ними и орала: «Возьмите меня!» Почему бы и нет? Все трое ликовали. Свобода! С тех пор прошло два месяца. Все это время они только и делали, что развлекались. Славные, ленивые деньки — и еще более ленивые ночи! Кэрри была выбита из колеи. Уайтджек научил ее наслаждаться жизнью. А если в ее жизни чего-то и недоставало, так именно радости, наслаждения. И отдыха. Она планировала сразу приступить к работе, но у него возникли другие идеи. Он снял для всей троицы квартиру и заявил: «Мы собираемся устроить себе маленькие каникулы. Недельку-другую — но так, чтобы по-настоящему от-дох-нуть!» Для Кэрри, которая до сих пор ничего не видела, кроме борделя да Уэлфер-Айленда, это был совершенно новый мир. Уайтджек поставил перед собой задачу расширить ее кругозор. Он знал толк в одежде и каждый вечер тщательно выбирал из своих двадцати трех костюмов, тридцати рубашек и пятнадцати пар обуви. Перед тем как одеться, принимал ванну, добавив туда несколько капель дамских духов. Затем брился и смазывал лысый череп чистейшим оливковым маслом. Одевшись сам, следил за той же процедурой у Кэрри и Люсиль. Уайтджек добивался того, чтобы они выглядели сногсшибательно. Для этой цели он тратился на модные платья, шелковые чулки и туфли на высоких каблуках, учил девушек пользоваться косметикой. Они отбывали из дома в белом «олдсмобиле». Излюбленным местом Уайтджека была Сто тридцать третья улица. Его хорошо знали в ресторанах и притонах, где играл джаз. Каждый день, благодаря своей щедрости, он обзаводился новыми друзьями. Обычно Кэрри тихонько сидела рядом с ним, жадно впитывая новые впечатления. Это был мир, о существовании которого она даже не подозревала. А когда Уайтджек приобщил ее к наркотикам, она познала истинное блаженство. Наркотики давали ответы на все вопросы, помогали отвлечься от убогой действительности и придавали дополнительный блеск приятному времяпрепровождению. Каждый вечер вся троица выезжала развлекаться и только под утро возвращалась домой. Иногда Кэрри с Уайтджеком занимались любовью. Это всегда было потрясающе — верх блаженства, даже для Кэрри, которая привыкла смотреть на секс как на тяжелую, грязную работу, источник средств к существованию. И вдруг у нее появился свой мужчина — рослый плешивый негр с проницательными глазами и ласковым голосом! И вдруг она забыла о работе и окунулась с головой в новый, сверкающий мир! И вдруг она полюбила! — Кэрри, — обратилась к ней сквозь розовую дымку Люсиль. — Что, милочка? — Уайтджек хочет, чтобы мы как следует разогрели этих двоих мальчиков. — Что-что? Люсиль показала на развалившихся на кушетках музыкантов. — Кажется, для нас снова начинаются трудовые будни. Кэрри закатила глаза. — Для тебя, милочка, — может быть, но что касается меня, то вряд ли. Такая жизнь теперь не для меня. Уайтджек этого не допустит. Люсиль смущенно заерзала на кушетке и понизила голос. — Он просил тебе передать. — Это какое-то недоразумение, — Кэрри зевнула и потянулась. — Ты не поняла. Заиграла пластинка неподражаемой Бесси Смит; чудесная, сладострастная музыка заполнила зал. Кэрри не хотелось двигаться, вообще что-то делать. — Вот, — один из музыкантов вернул ей сигарету. Она благодарно приняла, сделала глубокую затяжку и повернулась к Уайтджеку. Его и след простыл. — А ты действительно высший класс! — сказал музыкант помоложе. — Я давно положил на тебя глаз, только не был уверен, что повезет подобраться к сладенькому. Думал, ты с Уайтджеком, но он сказал, мы можем делать все, что пожелаем. Кэрри попыталась сесть. У нее шумело в голове. — Послушай, — пробормотала она. — Ты, наверное, не понял. — Брось. Я дал ему двадцать баксов. До Кэрри начало доходить. Люсиль сказала правду. Они снова примутся за работу. Но Уайтджеку следовало самому сказать ей об этом, а не удирать, как вор в ночи! Любовь. Дерьмо. Любовь — дерьмо! Музыкант не спеша стянул с ее плеч красное шелковое платье, на прошлой неделе купленное для нее Уайтджеком. — Ух ты, какая!.. Не принимай близко к сердцу, твердила она себе. Вспомни, сколько мужчин за деньги пользовались твоим телом. Но Уайтджек должен был, по крайней мере, спросить ее согласия; это должно было стать ее собственным решением, черт возьми! Музыкант присосался к ее груди, и ему не довелось узнать соленый вкус ее слез. Было два часа дня. Ровно два часа назад Кэрри исполнилось пятнадцать лет.Джино, 1926–1927
Бутлегерский бизнес Джино Сантанджело и Альдо Динунцио стремительно шел в гору. Они начали с малого, вложив собственный капитал и доставив из Канады несколько грузовиков высококачественного виски — не идя на риск сделки со случайными людьми, а лично крутя баранку. Впрочем, они привлекли нескольких ловких ребят для охраны груза. С поставками проблем не возникло, но пришлось преодолеть долгий и трудный путь от канадской границы до самого сердца Нью-Йорка. Их подстерегало море опасностей. Аварии. Угоны. Внезапные проверки со стороны полиции. Все это Джино не раз обдумал и взвесил, и его грузы всегда доходили по назначению. Они с Альдо славно сработались. Во всем доверяли друг другу. И постепенно обзавелись надежными соратниками. Быстро пролетел год. Джино исполнилось двадцать, но он казался старше — и внешностью и манерами. Важный вид снискал ему уважение всей округи. На них с Альдо смотрели снизу вверх, оказывали им королевские почести. В их банде Розовый Банан был исполнителем. Вооруженный до зубов, он сопровождал грузы, в два счета вышибая дух из всякого, кто становился у них на пути. Такая работа была по нем! Джино считал это противоестественным, зато в интересах дела. Банан по-прежнему крутил любовь с белокурой сластолюбивой Синди, прозванной Липучкой. Изматывающие рейсы в Канаду и обратно способствовали росту напряженности и нагнетанию страстей. Члены шайки Сантанджело начали грызться между собой — плохой знак! Джино понял: виной всему опасные перевозки — и начал искать другие способы. Ни для кого не являлось секретом — в сухом законе существовали лазейки; одной из них служило официальное разрешение перевозок спиртного «в медицинских целях». Его можно было принимать по назначению врача. Поэтому некоторые компании обзавелись государственной лицензией на законную торговлю спиртными напитками. Кузен Альдо, Энцо Боннатти, контролировал несколько таких компаний в Чикаго и окрестностях. Ходили слухи, будто его влияние простирается значительно дальше. — Почему бы нам не организовать встречу? — уговаривал Джино своего компаньона. Он давно мечтал познакомиться с Боннатти. Альдо, напротив, избегал своего двоюродного брата. — Он — человек со странностями. Никогда не знаешь, чего ожидать. — Со странностями! — усмехнулся Джино. — Он же твой родич! Большой человек! Не хуже этого мерзавца Капоне. Брось, Альдо, пусти в ход родственные связи! Наконец Альдо уступил, и после серии телефонных звонков они с Джино отбыли в Чикаго. В поезде Альдо быстро уснул, а Джино долго смотрел в окно, припоминая прошлое. А что, все обернулось не так уж плохо. Ему удалось отложить немало денег. Скоро можно будет ехать за Леонорой. Он по-прежнему каждую неделю писал ей с помощью мистера Пуласки. Ее ответы приходили редко и были так ужасны, что он уже не обижался, если она долго не отвечала. Его послания были полны любви и планов на будущее. Ее письма напоминали детский лепет — о школе, о домашних делах и почти никогда не касались этого будущего. Джино находил этому объяснение. Она не хочет загадывать далеко вперед, потому что считает, что на осуществление их мечты уйдут многие годы. Какой сюрприз ее ждет, когда он скажет, что будущее — уже за углом! Он приискал квартиру, за которую внес солидный задаток, — небольшую, зато в фешенебельном районе, недалеко от Парк-авеню. Леоноре должно понравиться. Она сама ее обставит. Единственное, что он купит к ее приезду, это огромную и очень мягкую двуспальную кровать. Джино застонал. Кровать. Секс. Женщины. Прошло столько времени! Но он дал Леоноре слово, а слово Джино Сантанджело крепче стали. Он показал квартиру Вере, и она пришла в восторг. — Джино, твоя крошка будет счастлива! Ничего лучше я еще не видела! Вера была по обыкновению пьяна, но его это не смущало. Пусть пьет, если это помогает ей влачить день за днем. Он предлагал ей деньги, чтобы она могла перебраться в приличную комнату, но она отказалась. — У меня уйма постоянных клиентов, я не могу их бросить. Конечно, это только предлог. До Джино дошли слухи, что Паоло снова сидит, так что Вера предпочла остаться там, где он сможет потом найти ее. — Я не отвечаю, если вы снова сойдетесь и с тобой что-нибудь случится, — предупредил Джино. — Ясное дело, малыш. Я сама о себе позабочусь. Ага — как в прошлый раз. Оставалось надеяться, что Паоло не слишком скоро отпустят.* * *
Когда они приехали в Чикаго, шел снег. Крупные хлопья падали на лицо и одежду, становясь каплями. — Стоило тащиться в такую даль, чтобы нарваться на такую мерзкую погоду, — ворчал Альдо. Правда, однако, заключалась в том, что он не любил далеко уезжать от Барбары Риккадди, с которой у него был бурный роман. После их первой встречи он целый год преследовал ее, но безрезультатно: она, со своим острым язычком, посылала его куда подальше. Однако постепенно он умаслил ее до такой степени, что она расторгла свою помолвку с копом и начала встречаться с ним. Барбара немилосердно шпыняла Альдо по поводу и без повода, но он был даже рад этому. — Первая настоящая женщина в моей жизни! — хвастался он, и на его лице появлялась загадочная, отрешенная улыбка. Они взяли такси и доехали до отеля, где Энцо назначил им встречу. Администратор предложил им подняться в лифте на пятый этаж. Там двое телохранителей Энцо подвергли их тщательному обыску. Альдо страшно оскорбился. — Он мой кузен, так вашу мать! За кого вы меня принимаете? Ага, вам нужна моя пушка — подавитесь! — он протянул парням маленький пистолет двадцать пятого калибра. Однако они продолжали обыск и наконец добрались до спрятанного за голенищем шестидюймового охотничьего ножа. Альдо пожал плечами. — Ну и что? По-вашему, я намеревался зарезать своего двоюродного брата? В глазах Джино Альдо был чем-то похож на белку. Ему стукнуло двадцать, но он не вышел ростом, был мелок костью, суетлив, с выступающими зубами и неумеренной страстью к обжорству. Джино почему-то представлял к Энцо примерно таким же, но он ошибся. Энцо Боннатти оказался рослым двадцатидвухлетним парнем с прямыми черными волосами и глубоко посаженными глазами. Он был красив зрелой, мужественной красотой и пользовался славой крутого парня. Говоря о Капоне, не забывали упомянуть Боннатти. Они постоянно спорили между собой за сферы влияния в Чикаго. Боннатти официально поздоровался с новоприбывшими за руку и подал знак одному из телохранителей принести напитки. — Итак, — произнес он, садясь в кресло, — какого дьявола вы заявились в Чикаго? Джино объяснил. Альдо молча сидел рядом. Энцо выслушал. Нельзя сказать, будто он нуждался в двух птенчиках из Нью-Йорка, не представлявших никакой реальной силы. Зато он нуждался в своих людях, которым мог бы довериться. Чем выше он поднимался, тем опаснее становился путь. Затянувшаяся вражда с Капоне превратила его жизнь в ад. Он даже не мог сходить в сортир без того, чтобы телохранитель не проверил унитаз. Альдо был кровным родственником. Правда, они не виделись десять лет, с тех пор, как он уехал в Нью-Йорк. И все-таки кровная связь что-нибудь да значит. Дело, предложенное Джино, имело свои плюсы. Можно было, не ударив палец о палец, отхватить кругленькую сумму. Парочка телефонных звонков. Замолвить за них словечко… — Слушай, Джино, не обижайся, но мне нужно потолковать с Альдо один на один. — Само собой. — Джино встал. С начала разговора прошло два часа, и он почувствовал: толк будет. Один из телохранителей, Сальваторе, отвел Джино в забронированный для них номер. — Нажмешь вот на эту кнопку, — дружелюбно объяснил он, — и получишь все, что захочешь, вплоть до девочек. Бесплатно. Энцо понимал, что к чему! Джино разлегся на роскошной двуспальной кровати и закинул руки за голову. При поддержке Энцо Боннатти они смогут повести крупную игру. Не успеешь глазом моргнуть, как они сравняются с такими воротилами, как Лючания, Мейер Лански, Сигель и Костелло. Для Джино не было загадкой, почему Лючания вечно охотился за новичками. Свои, преданные люди — вот в чем он нуждался. В этом нуждаются все. И Боннатти им поможет. Альдо — его двоюродный брат и вряд ли всадит нож между лопатками. По крайней мере, вероятность этого меньше, чем если иметь дело с чужими.* * *
Альдо вернулся в номер с улыбкой до ушей. — Дело в шляпе! — радостно заорал он. — Ты был прав, хитрая бестия! Он приглашает нас поужинать — кое-что отметить! Жалко, что я не прихватил с собой Барбару. Джино ухмыльнулся. — Я так и думал, что приманка сработает. Помнишь, я еще год назад предлагал тебе нас познакомить. — Предпочитаю действовать наверняка. Только так — если ты сам успел кое-чего добиться — не приходится пресмыкаться. — Начинаются большие дела, парень. — Он подумал, что скоро можно будет вызывать Леонору. Деньги потекут рекой — полная гарантия! Торговать разрешенным товаром из Чикаго — да на этом можно сколотить целое состояние!* * *
«Сатин-клуб» был одним из шикарнейших заведений Чикаго, где подавали запрещенные напитки. Здесь была отборная клиентура: политики, служащие социальной сферы, высокопоставленные чиновники и, конечно, красивые женщины. Джино и Альдо очутились в компании Энцо, Персика и двух ее подруг. За соседним столиком расположились пятеро телохранителей, тоже с девушками. Энцо приготовил гостям сюрприз. Сногсшибательные чикагские потаскушки! Откуда ему было знать о Леоноре с Барбарой? Ни Джино, ни Альдо не испытывали ни малейшего желания возиться с чикагскими шлюхами. — Как вам нравится это местечко? — проворковала Персик. От ее голоса запросто могло свернуться молоко. — Потрясающе! — ответил Джино. Он не кривил душой. Ему еще не доводилось бывать в подобных ресторанах. Интерьер производил неизгладимое впечатление. От запаха дорогих сигар и дамских духов кружилась голова. Вот это жизнь! Привести бы сюда Леонору! Она запросто даст сто очков вперед любой из здешних красоток — и безо всякой штукатурки. — Вам повезло, мальчики, — захихикала Персик. — Скоро вы услышите, как я пою. Это что-то! — Вот именно — «что-то»! — ухмыльнулся Энцо. — Брось свои шуточки! — девушка надула губки и поднялась с места. — В конце концов, тебя в первую очередь привлекло мое пение. Энцо подмигнул Джино и впился бесстыдным взглядом в ее роскошный бюст. — Разумеется, моя прелесть. Разумеется. — Пошли, девочки, — позвала она подруг. — Скоро наш выход. Увидимся с мальчиками позднее, за бутылочкой шампанского. Вы же знаете, какая у Персика жажда после выступления! Энцо проводил ее нежным взглядом. — Тупа, как пробка. Все они такие. Любите их — и бросайте их. Трахайте — и давайте деру! Вот мой девиз. Джино подумал, что когда-то это было и его девизом. До Леоноры. После небольшого фортепьянного вступления на подмостки вышел ЭмСи, отпустил несколько пошлых шуточек, промурлыкал любовную песенку и представил хористок. — Ни фига себе! — ахнул Альдо, мгновенно забыв о Барбаре при виде высыпавших на эстраду девиц в серебристых чулках и боа из перьев, почти не скрывавших отборных бюстов. У Джино началась эрекция. Да и кто бы мог выдержать — при его образе жизни? Последней появилась Персик, неотразимая в облегающем платье с блестками, сидевшем на ней, как вторая кожа. Она пропищала популярную песенку «Я хочу танцевать шимми, как моя сестричка Кейт». Джино сразу понял, что голос тут ни при чем. Все сидевшие в зале не отрывали глаз от ее роскошного тела. Энцо с довольным видом посасывал «гавану». — Это кое-что, правда, малыш? Альдо поцеловал кончики пальцев. — Да уж, кузен, вы умеете подцеплять их на крючок. Я бы сказал… Ему не дали закончить фразу. В зал безо всякого предупреждения ворвались несколько человек с автоматами и открыли огонь по всему помещению. Просто поливали посетителей ресторана, как поливают розы. Началось нечто невообразимое: беготня, крики и безжалостный свист пуль, вонзающихся в человеческие тела. Энцо со скоростью молнии перевернул столик и прикрылся им, как щитом. Альдо был ранен в руку. Джино повезло: инстинкт самосохранения еще до первого выстрела бросил его на пол. — Чертовы выродки! — завопил Энцо. — Покажите этим ублюдкам! Его люди открыли ответный огонь. Но двое уже валялись мертвыми, а у оставшихся было мало шансов справиться со сворой вооруженных автоматами гангстеров. Джино подтащил Альдо поближе к себе: там было безопаснее. Энцо выхватил револьвер и начал стрелять из-за столика. Он бросил Джино пистолет. — Покажи гадам! Громче всех выла какая-то женщина. — Мой муж! Мой муж! Господи, ему размозжили голову! Джино поймал на лету пистолет и прицелился. До сих пор ему не приходилось пускать в ход огнестрельное оружие, но Розовый Банан объяснил ему, что нужно делать. — Ты попал! — завопил Энцо. — У него полезли кишки! Налетчики отступили. Прекратились автоматные очереди. На поле брани осталось двое гангстеров: одного убил Джино, а другой, раненный в обе ноги, полз к двери. Энцо ни секунды не колебался. Хлопок — и раненый дернулся, крикнул и затих. — Пошли, — быстро сказал Энцо. — Пока не нагрянули копы. Джино встал и оглянулся по сторонам. Ну и зрелище! Повсюду — битое стекло. И трупы… Энцо как будто прочитал его мысли. — Ничего не поделаешь. Хватай Альдо и давайте рвать когти. Увезешь его обратно в Нью-Йорк. Альдо ухватился за приятеля, и тот начал прокладывать себе дорогу к выходу. Энцо бросился вместе с ними к своему автомобилю. — Гони! — приказал он водителю, и тот моментально нажал на газ. — Все в порядке, босс? — Только не благодаря тем кретинам. Как можно было не попасть в Большого Макса и Шотти? — Фактор внезапности, — авторитетно заявил шофер. — И пальба. Я сразу, как вы учили, прыгнул в авто и рванул к запасному выходу. Правильно сделал, да, босс? — Правильно, — грозно произнес Энцо. — Гони во всю мочь. Этим ребятам нужно срочно убраться из города. — Он повернулся к Джино. — Ты молодец! Мне нравится твой стиль. И твоя реакция. Джино кивнул. Он боялся открыть рот — как бы невзначай не пукнуть от страха. Они подкатили к вокзалу, и Энцо чуть ли не силком вытолкал их из машины. Ему нужно было скорее развязать себе руки. — Отведешь Альдо в туалет и поможешь привести себя в порядок. Возьми мой пиджак. — На прощанье он тепло пожал Джино руку. — Я с тобой еще свяжусь. Мы неплохо поработаем вместе. Мне нравится твоя выдержка. Даже очень! Джино снова кивнул. Стоя под снегопадом, они с Альдо проводили лимузин взглядами. — Мне плохо, — захныкал Альдо. — Почему мы не вернулись в отель? — Энцо прав: нужно немедленно уносить ноги. Чем меньше людей нас тут увидят, тем лучше. — Я хочу в больницу! — Пошли. — Джино слегка подтолкнул приятеля. — Не бойся, мы тебя вылечим. — Ты что, заделался эскулапом? — Брось сучиться. Это всего лишь царапина. Если бы пуля засела в руке, ты бы сейчас не так хныкал. — Дерьмо собачье! Знаток, мать твою! В туалете Джино снял с Альдо пиджак и с облегчением убедился, что был прав: рука не пробита, пуля скользнула по поверхности. Он сорвал со стены полотенце и несколько раз обернул вокруг больной руки друга. — Это поможет тебе продержаться до дому. Альдо продолжал вредничать. — Мне нужно в больницу. Если бы Барбара была здесь, она бы отвела меня. — Ага. Барбара оторвала бы тебе яйца и поджарила на сковороде. Давай, надевай рубашку, и пошли искать наш поезд. Альдо напялил окровавленную сорочку и прикрыл сверху пиджаком Энцо; тот оказался великоват. Альдо пошарил в карманах и вдруг вытащил пачку долларов. — Ты только глянь! — В пачке было никак не меньше двух тысяч сотенными купюрами! — Должно быть, забыл вынуть, — предположил Джино. — Или нарочно оставил. — Нет уж. Нужно будет вернуть. Положи на место. Но в глубине души он знал: Энцо не случайно оставил деньги. В конце концов две тысячи баксов — подходящая плата за убийство человека! В Нью-Йорке, очутившись в безопасности, Джино подверг ревизии свои планы на будущее. Жизнь коротка, он только что убедился в этом. И газетные заголовки не замедлили снова напомнить ему о происшедшем: «ПЯТНАДЦАТЬ УБИТЫХ! РАЗБОРКА МЕЖДУ ГАНГСТЕРАМИ В ЧИКАГСКОМ ПРИТОНЕ!» Он сам мог сейчас лежать в чикагском морге. Год без траханья! Молокосос, покорно ожидающий свадьбы! Ждать — поганое слово. Джино Сантанджело больше не будет ждать! Он направился прямиком к мистеру Пуласки. Старик был плох. В отсутствие Джино на него напали на улице. Грабители забрали золотые часы, единственную из его вещей, которая представляла какую-то ценность, и жалкие три доллара. Взамен ему сломали два ребра и избили до посинения. — Кто это сделал? — потребовал Джино. — Вы их знаете? Мистер Пуласки скривился. Он был слишком стар и слишком устал, чтобы нарываться на лишние неприятности. Джино склонился над его постелью с безумным взглядом. — Скажите мне, кто эти подонки! Старик вздохнул. — Некоторые не понимают… Пусть бы мне вернули часы… — Кто они? — Парнишка Моррисонов… Его товарищ… кажется, его называли Джейкобом… Еще двое… я их не знаю… Его голос совсем ослаб. Мистеру Пуласки было восемьдесят три года. И вот как изменился мир! Больше нет того уважения… Не далее как позавчера какая-то козявка остановила его на улице и предложила вступить с ней в интимную связь. Совсем девчонка — лет пятнадцать, может быть, даже четырнадцать… Мистер Пуласки широко распахнул глаза. — Ты хочешь написать письмо Леоноре? Однако Джино уже не было в комнате. Он уверенно шагал по улице. Он знал тех двоих — Терри Моррисона и Джейкоба Коэна. Сопляки лет по четырнадцати. Они жили по соседству и вечно строили какие-то козни. Он собственноручно вытрясет из них душу, даст хороший урок, заставит вернуть мистеру Пуласки часы, а уж потом позаботится о письме. Ну и денек! Мало с него причитаний Барбары Риккадди! Оказывается, это он виноват в ранении Альдо! Как только она его не оскорбляла! Порола всякую чушь о дурном влиянии. Если бы не он, Альдо ни за что не позволил бы втянуть себя в противозаконные действия! И все это время Альдо корчил рожи за ее спиной! Ее острый язычок только что не кастрировал их обоих. В первую очередь он направился к Коэнам, жившим в том же доме, что и семейство Катто. Джино давно не видел старого приятеля. Катто не одобрял его образ жизни, и они отдалились друг от друга. Что ж, если Катто нравится копаться в дерьме, это его личное дело. Джино предлагал ему шанс, но этот болван, этот навозный жук отказался. Что смешнее всего, он считает его, Джино, навозным жуком и болваном. Обхохочешься! На стук ответила худая, изможденная женщина. — Что тебе нужно? — Джейкоб дома? Ее стеклянные, безо всякого выражения, глаза тускло блеснули. — Он в школе. Джино прошмыгнул мимо нее в тесную комнатенку. — Черта с два! На полу, среди мусора, ползал малыш. На диване храпел Джейкоб. Джино пинком разбудил его. — Какого… — Джейкоб сел и вылупился на него. — Нужно потолковать, — заявил Джино. — Пошли на зады. Джейкоб взглянул на мать. Та отвела глаза. Она не дура. Джейкоб пошел в папашу — только и жди неприятностей. — С чего ты взял, — вызверился Джейкоб, — будто я желаю с тобой разговаривать? Черные глаза Джино превратились в щелки. — С того, что я так сказал, мать твою! Пошевеливайся!* * *
Часом позже Джино вернулся к мистеру Пуласки. — Держите, — он протянул старику золотые часы. Старческие, все в темных пятнах и с взбугрившимися венами, руки мистера Пуласки стиснули часы. — Ты хороший мальчик, Джино. Кое-что понимаешь. Да. Он понимал. Только история Джейкоба Коэна сильно отличалась от того, что рассказал старик. Он заявил, будто мистер Пуласки уже несколько месяцев пристает к его двенадцатилетней сестре. Девочка не придавала значения, думала — он малость того. Но однажды он средь бела дня подкрался к ней прямо на улице и выпустил струю на ее единственное платье. Старый козел заслуживал небольшого урока, не правда ли? Ну, как вам это нравится? Джино проверил версию Коэна и убедился, что тот говорит правду. Во всей округе Джино оказался единственным, кто не знал, что мистер Пуласки — гнусный, похотливый старикашка. Перед лицом этого факта избиение Джейкоба и его дружков больше не казалось насущной необходимостью. Джино ограничился тем, что вывернул им карманы и отобрал часы. — Написать для тебя письмо? — слабым голосом предложил мистер Пуласки. — А вы сможете? — заволновался Джино. — Понимаете, это должно быть длинное письмо. Я хочу вызвать ее сюда. Мы поженимся. Прошу вас сотворить шедевр. Сможете, папаша? — Конечно, Джино, — торжественно пообещал тот. — Это будет самое романтичное письмо из всех, которые мы создали вместе. Естественно. Кто сказал, что паршивый старый козел не способен настрочить возвышенное любовное послание?Кэрри, 1928
Уайтджек оказался на редкость скользким типом. У него была миленькая привычка ничего не подтверждать и не опровергать, а только цедить сквозь зубы: «Ч-черт!» — как будто это было универсальным ответом на все вопросы. Но Кэрри не могла долго злиться. Ведь, кроме него, у нее никого не было. Он — ее мужчина, пусть даже хочет, чтобы она снова торговала собой. Ничего не поделаешь. По крайней мере, в скупости его не упрекнешь: с тех пор, как они уехали от мадам Мей, он исправно платил за троих — без единого звука. Однако теперь деньги вышли, поэтому только справедливо, что они с Люсиль должны снова зарабатывать — единственным доступным для них способом. Он вряд ли планировал это с самого начала. Отношение к ней Уайтджека оставалось прежним. Он все так же занимался с Кэрри любовью — когда был в настроении. Правда, если это случалось сразу после клиента, она шла на это весьма неохотно. Не такое уж большое удовольствие — изображать пылкую страсть, со вздохами, стонами и всем, что он так любил, — в то время как у нее болит внизу живота, она смертельно устала и мечтает только об одном — немного поспать. — Да что с тобой, женщина? — возмутился однажды Уайтджек. — Ты была самой страстной во всей округе. А теперь — бесчувственное бревно! — Просто я переутомилась. Работаю больше, чем у мадам Мей, а получаю меньше. Я думала, у нас будет свой дом, нормальная жизнь… — На дом нужно заработать. Я не виноват, что эта стерва Мей сняла все деньги со счета в банке, прежде чем я успел вытребовать свою долю. — Я не знала! — воскликнула Кэрри. Уайтджек торжествовал. — Теперь ты видишь, женщина: я не достаю тебя своими проблемами, так какого черта ты лезешь ко мне со своими? — Он встал с постели и потянулся. — Прошвырнемся в город? Кэрри вздохнула. Она бы с удовольствием, но скоро придет клиент, а она поставила перед собой цель снова создать постоянную клиентуру. — Я не могу, поезжай один. — Естественно, поеду. Нужно подыскать какую-нибудь девушку, чтобы могла время от времени подменять вас с Люсиль. — Он сгреб со стола оставленные предыдущим клиентом деньги. — Как насчет роскошной белой платиновой блондинки? Она будет выгодно оттенять вас с Люсиль. Втроем вы сможете закатывать обалденные шоу. Будем кататься в деньгах, как сыр в масле. — Что еще за шоу? — Шоу, детка, это когда три курочки занимаются между собой любовью. Какого черта, ты наверняка тысячу раз проделывала это на острове. У Кэрри похолодело внутри. — Я не стану этого делать. Он сказал — беззлобно, с прежней дружелюбной интонацией: — Ты проститутка, моя дорогая, и будешь делать все, что тебе говорят. Кэрри смотрела, как он одевается. После его ухода она легла ничком и рыдала до тех пор, пока не выплакала все слезы. Она не слышала, как пришла Люсиль, и вздрогнула, почувствовав на спине ее ласковую руку. — Ты думала, Уайтджек — Прекрасный Принц? — сочувственно произнесла подруга. — Он сутенер, детка, а мы — его проститутки. Нужно не дуться, а поддерживать друг друга. Когда тебе захочется плакать, подумай — каково мне! Кэрри села и уставилась на нее. — Ты не понимаешь, — с надрывом сказала она. — Просто ты и не знала лучшей жизни. А у меня все могло быть по-другому, если бы меня не изнасиловал собственный дядя. Он держал меня взаперти и впускал ко мне мужчин по очереди, а бабушка в соседней комнате собирала деньги. Мне было тринадцать лет! И теперь мне ничего не осталось, кроме этой жизни. Люсиль заморгала. — Когда мне было шесть лет, папа заметил, что я больше не расту, и продал меня в бродячий цирк. К одиннадцати годам я уже обслуживала каждого вонючего урода из труппы. Уайтджек нашел меня, когда мне было шестнадцать. Можно сказать, что он спас мне жизнь. Буквально выкрал из той выгребной ямы и вернул волю к жизни. У мадам Мей был рай земной по сравнению с тем, что я видела раньше! Кэрри моментально забыла собственные горести. — Эти несколько месяцев с тобой и Уайтджеком, — продолжала Люсиль, — лучшие в моей жизни. Вы обращаетесь со мной как с равной, а не как с какой-то уродкой. Я на все готова ради Уайтджека. Он добрый человек. И ты, дорогая, должна ценить его отношение. Он добр к нам обеим. Кэрри кивнула. Так оно и есть. — Так чего же ты ревешь? Потому что ты шлюха? — Люсиль с вызовом мотнула головой. — Ну так что? Я тоже шлюха, и меня это ничуть не волнует. Уайтджек — сутенер, и ему до лампочки. Брось, милочка, вытри слезки и принимайся за работу. Кэрри слезла с кровати и подошла к зеркалу. Ужас! Глаза распухли, по всему лицу разводы от косметики. Зато у нее полегчало на душе. Работа есть работа. — Вот и умничка. Давай, приводи себя в порядок. Тот парень, который должен сейчас прийти, не захочет иметь дела с карлицей. Видишь? Я говорю «карлица», и ничего мне не делается. Ты скажешь: «проститутка» — и от тебя не убудет. Кэрри слабо улыбнулась. — Спасибо тебе. — Не за что. Кэрри принялась наводить красоту. Она ушла от мадам Мей в надежде стать хозяйкой собственной судьбы. Но чего можно было ожидать? Что Уайтджек устроится на работу и женится на ней? С чего бы такие нежности? Пара месяцев пылкой любви, первой в ее жизни, и она забыла все свои честолюбивые планы. Уайтджек прав: нужно зарабатывать деньги. Так она и сделает. Любой ценой. Она не станет выяснять отношения. В последнее время он и так сыт ею по горло: канючит — спасу нет. Но теперь все будет по-другому. Кэрри быстро и по высшему классу обслужила клиента и с воздушным поцелуем выпроводила на улицу. — Приходи еще, дорогой. В следующий раз будет еще лучше. — Само собой! — горячо выпалил тот. И бросился бежать — к своей жене и троим детишкам. Кэрри умылась, зачесала, по новой и идущей к ней моде, волосы назад и взяла сигаретку из запасов Уайтджека. Наркотик помог расслабиться. Она поставила на радиолу пластинку Бесси Смит и разлеглась на кровати. Вскоре она уснула и только на следующее утро, в десять часов, обнаружила, что Уайтджек так и не вернулся.Джино, 1928
Отправив Леоноре решающее письмо, Джино почувствовал, что у него камень свалился с души. Он долго ждал и теперь был близок к осуществлению своей мечты. Мистер Пуласки вылез вон из кожи. Письмо получилось таким восторженным, что Джино не сразу решился поставить под ним свою подпись. Только бы Леонора не потребовала, чтобы он повторил все это устно. Не хотелось бы ее разочаровывать. Он представил себе ее лицо в момент чтения. Ее лицо… Тонкое, красивое, целомудренное… Вместе с письмом Леоноре он отправил еще одно — ее отцу, в котором вежливо, официально просил ее руки. Если все пойдет по плану, скоро он отправится в Сан-Франциско. Его женитьба стала вопросом нескольких недель. Тем временем дела шли своим чередом. Боннатти сдержал слово и связался с ними. Им предстояло перебросить груз — разрешенные спиртные напитки — от одной компании в Трентоне, штат Нью-Джерси. Боннатти лично обратился к Джино по телефону: «Переправишь этот товар — считай, регулярные поставки тебе обеспечены. Достанешь транспорт и свяжешься с управляющим. Никаких денежных расчетов. Когда доставишь товар, дай знать моему человеку. В конце месяца сам загляну». — Вы слишком доверчивы, — пошутил Джино. Энцо не поддержал его шутливый тон. — Естественно. Я полагаю, ты дорожишь своими яйцами и не хочешь, чтобы тебя за них подвесили. Джино расхохотался. — Только сначала заберите те две тысячи баксов, которые вы забыли в пиджаке. А заодно и сам пиджак — его почистили и отутюжили. — Деньги — за дело. — Какое? — Брось придуриваться, Джино, сам знаешь, за какое. — Эй, Энцо. Не подумайте, что я не ценю. Просто хочу, чтобы вы не заблуждались на мой счет. Я не собираюсь работать на вас. С вами другой разговор. Поняли, что я хочу сказать? Пауза. Слышался только легкий треск на линии. Наконец Энцо спросил: — Как насчет Альдо? Ему тоже не нужны те деньги? — Альдо волен поступать, как знает. Он помог мне связаться с вами, мы — компаньоны, но я хочу, чтобы вы знали: я — не наемный работник. О'кей? Настала очередь Энцо заржать. — Я слышал, что ты — крутой парень. Да-да. О'кей, я согласен. Можешь вернуть мне деньги, если тебе от этого легче. Джино с Альдо купили огромный сарай в районе Сто десятой улицы и стали держать там ящики со спиртным перед отправкой, а также пару фур и подержанный «форд». На борту каждой фуры вывели надпись: «Перевозки Динунцио». Старенький «форд», на вид совершенная развалюха, имел внутри двигатель, которому мог бы позавидовать любой «роллс-ройс». Джино лично установил его. Он был классным механиком — особенно что касалось старых машин. Можно сказать, в свои двадцать один год он неплохо преуспел! Грех жаловаться. Конечно, он еще не достиг потолка, не сравнялся с Лючанией, но уверенно шел вперед, и никто — это уж точно — не смог бы его остановить. Он решил лично вести фуру из Трентона. В последнее время угоны машин стали обычным делом, а лишиться товара означало бы предстать перед Энцо. Джино помнил о яйцах. В сопровождающие он взял Розового Банана. Альдо управлял «фордом». Все трое были при оружии и постоянно начеку. Но все сошло без сучка без задоринки. Развезя товар благодарным клиентам, Джино, Розовый Банан и Альдо завернули к Жирному Ларри отметить. Заведение, некогда бывшее аптекой, а потом задрипанным баром, превратилось в модный ресторан — сюда наезжали даже светские дамы со своими кавалерами. — С корабля на бал! — воскликнул Розовый Банан. Он откусил заусеницу и щелкнул пальцами, подзывая официантку. Усталая рыжеволосая девушка показала на столик в дальнем конце зала. — Ты что это нам предлагаешь? — возмутился Розовый Банан и ухватил девушку за лямку передника, чтобы не улизнула. — Где Ларри? — Извините, сэр, мистера Ларри сегодня нет. — «Мистера Ларри нет!»— передразнил он. — Да я знал «мистера Ларри», еще когда он был жалким подавалой и его звали Боровом. — Не заводись, Банан, — мягко посоветовал Джино. — Давай опрокинем по маленькой и дадим ходу. Приятель скривил мясистые губы. — О'кей, Джино, не беспокойся. Я не позволю запихнуть нас в зад. Официантка струхнула. Она только недавно начала здесь работать и еще не встречалась с Розовым Бананом, но сообразила: дело пахнет керосином. — Отпустите, пожалуйста, я позову управляющего. — Нет уж, — заявил Розовый Банан. — Обойдемся без него. Сказать тебе, кто я такой? Я — мистер Пинки Кассари, и меня устроил бы вон тот столик, — он показал на свободный столик как раз перед эстрадой. — Шевелись, моя прелесть. — И он шлепнул девушку пониже спины. Она бросила на него оскорбленный взгляд, но, видимо, рассудив, что работа дороже, послушно привела их к тому самому столику — на нем красовалась табличка «Занято». Пусть управляющий сам разбирается. Они расселись и заказали выпивку. Джино сказал: — Ну и скандальный же ты тип, Банан. Тот огрызнулся: — Сам знаю. Ну так что? — А то, что нарвешься на неприятности. — Ха! Мне море по колено! — Ты так думаешь? — Я это знаю! Джино без особой убежденности кивнул. У него были самые мрачные предчувствия относительно Розового Банана. Убийства ударили ему в голову. Вернулась официантка вместе с Жирным Ларри. Тот сильно изменился и уже не был добродушным толстяком, некогда подававшим молочные коктейли. Он облачился в дорогой, плохо сидевший на нем костюм; волосы обильно смазаны бриолином; по толстым щекам катится пот. Он с комическим отчаянием выбросил вперед обе руки. — Пинки, мальчик мой! Что же ты со мной делаешь? Розовый Банан громко шмыгнул носом, вытер его тыльной стороной руки и подмигнул своим спутникам: «Держись, парни, сейчас начнется потеха!» — Откуда мне было знать, что ты пожалуешь? — укоризненно молвил Жирный Ларри. — Иначе ты безо всяких отхватил бы этот столик. Но ты же видишь: зал переполнен, а столик заранее заказала одна дама из высшего общества. Она уже две недели регулярно наведывается сюда. Это ее постоянное место. Розовый Банан зевнул. — Дерьмо собачье. — Бросьте, ребята, — прошипел Жирный Ларри. — Сматывайте удочки. Глаза Розового Банана вдруг стали жесткими и холодными, как сталь. — Сматывать удочки, Боров? Я правильно расслышал? Жирный Ларри растерялся. Мало того, что он платит рэкетирам, так еще должен иметь дело с местной шпаной. Розовый Банан угрожающе задвигался. Джино решил вмешаться. У него не было ни малейшего желания попадать в историю. — Это и есть та дама? — он показал на высокую, закутанную в лисий мех женщину — она стояла в дверях, обозревая зал. Рядом переминался с ноги на ногу какой-то шибздик. По лицу Жирного Ларри градом катился пот. — Да, это она. — Так пускай составит нам компанию. Мы не возражаем, правда, ребята? — Джино подмигнул Розовому Банану. — Имеем кое-какое начальное образование. Жирный Ларри быстро соображал. Не идеальный вариант, но, вероятно, единственно возможный. Что он скажет миссис Дюк? Простите, мэм, тут у меня трое парней не желают освобождать место; надеюсь, вы не откажетесь разделить с ними столик? Миссис Дюк будет счастлива! В последние пару недель она является сюда каждый вечер — всякий раз с новым кавалером. Ритуал остается неизменным. Появление в зале за десять минут до начала представления, а через десять минут после окончания — отъезд. Жирный Ларри бросил потуги угадать, в чем тут дело. Не может же она интересоваться шестеркой высоко задирающих ноги хористок со скрипучими голосами и бездарным комиком, отпускающим сальные шуточки? И тем не менее продолжает исправно являться. Но что же все-таки делать? Может, лучше отказать ей, чем схлопотать ночью пулю в зад — с Банана станется? Жирный Ларри заковылял к даме. Она вопросительно подняла брови. — Что, Ларри, возникли проблемы? Он обожал ее манеру произносить «Ларри». Высший класс! — Я тут сплоховал, миссис Дюк. Глупая новая официантка не заметила табличку… — А их нельзя пересадить? — миссис Дюк явно забавлялась его замешательством. — Некуда, миссис Дюк. — Владелец ресторана вытащил из нагрудного кармана платок и вытер лицо. — Здесь слишком людно. — Вы хотите сказать, что для меня здесь нет места? — в голосе богатой клиентки зазвенел металл. — Нет, что вы, — запинаясь, пробормотал Жирный Ларри. — Если бы вы согласились разделить столик… — Кажется, у меня нет выбора. — Дама прошла мимо Жирного Ларри; ее спутник, нервный молодой человек, следовал за ней по пятам. — Клементина, вы уверены? Почему бы нам не отправиться в другое место? Джино, Альдо и Розовый Банан с интересом смотрели, как дама приближается к их столику. Никто не ожидал, что она согласится. — Надо же было тебе открывать свою широкую пасть! — простонал Альдо. — О чем мы с ней будем говорить? — Не думаю, что она жаждет с нами побеседовать, — огрызнулся Джино. — Просто следи за собой, и все. — А я не собираюсь! — рявкнул Розовый Банан. — Не собираюсь следить за собой ради какой-то задаваки! — Добрый вечер, джентльмены. — Она уже стояла рядом, переводя взгляд холодных зеленых глаз с одного на другого. — Если не ошибаюсь, нам предстоит провести вечер вместе. Может, вы немного подвинетесь? Нам понадобится еще один стул. Все трое вытаращили глаза. — Это очень любезно со стороны джентльменов, не правда ли, Генри? На шее у Генри, прямо над воротничком, красовался огромный багровый фурункул. — Да, Клементина, — напряженным голосом произнес он. Розовый Банан вдруг вскочил и щелкнул пальцами. — Стул, быстро! — Он толкнул Альдо. — Эй, подвинься! Альдо подавил желание выругаться. Толчок пришелся как раз на больную руку, и ему показалось, будто все шестнадцать стежков шва лопнули и из раны вот-вот хлынет кровь. Миссис Клементина Дюк одарила Банана улыбкой и протянула руку. — Клементина Дюк. — У нееоказался ярко выраженный акцент уроженки Новой Англии. — А это — Генри Муфлин-младший. — И она энергично пожала руку своему новому знакомому. — Мистер Пинки Кассари, — выдавил из себя Розовый Банан. — Очень приятно, мистер Кассари. — Она повернулась к Альдо. — Альдо Динунцио. — Весьма рада. — Миссис Дюк перевела взгляд на Джино. Он не отвел своего. Никто ничего не заметил, но их взгляды зацепились друг за друга. — Джино Сантанджело, — четко выговорил он. — Красивое имя. — Они смотрели друг на друга чуточку дольше, чем требовала ситуация. Миссис Дюк первая отвела взгляд и повернулась к Генри. — Закажи шампанское, дорогой. Думаю, что тебе понравится этот кабак. Здесь на редкость нездоровая атмосфера. Джино не сводил взгляда с этой женщины. В ней было что-то этакое… Он не мог выразить словами. Она была старше любого из их компании. Где-нибудь лет тридцати с хвостиком, но прекрасно выглядела. Зеленые глаза широко распахнуты и опушены длинными ресницами. Легкие тени придавали им чувственное выражение. Нос был, пожалуй, длинноват, зато совершенной формы. Она казалась высокомерной и одновременно крайне сластолюбивой. Уголки тонких губ слегка опущены… Короткая стрижка; прямая челка. Стройное, мускулистое тело под дорогим атласом платья. Взгляд Джино задержался на проступающих сквозь тонкую материю сосках. Женщина заметила это и усмехнулась. Она наслаждалась тем возбуждением, в которое ее неизменно приводила атмосфера этого жуткого притона. С каждым вечером оно возрастало. Она предчувствовала, что ее здесь ждет нечто из ряда вон выходящее, такое, что разбудит в ней пресыщенную чувственность. Джино Сантанджело. Какое необычное имя. Молодой человек с огненным взглядом и, должно быть, таким же неукротимым темпераментом. Немного не вышел ростом, но в постели это не имеет значения. Она отметила большие пальцы рук — длинные, толстые — верный признак того, что между ног у него подвешено кое-что стоящее. Ей понравились его глаза — жесткие, бескомпромиссные, они казались старше него самого. Густые черные волосы — нужно только подсказать ему, что лучше не портить их бриолином: все равно не слушаются. Четкая линия носа. Полные, чувственные губы, на которых время от времени вдруг вспыхивает чудесная улыбка. Даже шрам на щеке, и тот, вместо того, чтобы испортить его красивое лицо, добавляет ему значительности. — Клементина, — Генри Муфлин-младший тянул свой бокал, чтобы чокнуться с ней. Она помогла ему, слегка привстав на стуле. Господи. Она уже готова. — Жирный Ларри сказал, вы бываете здесь каждый вечер? — заговорил Розовый Банан, который перед тем несколько минут усиленно соображал, как начать разговор с такой изысканной дамой. Клементина наклонила голову. — Совершенно верно. — Розовый Банан ей совсем не понравился: слишком долговяз и похож на гангстера; в нем есть что-то нечистоплотное. Банан продолжал поддерживать светский разговор: — Недурной кабак. Конечно, если вам не неприятно забираться в эту глушь. Я-то, конечно, завсегдатай. Прыг в открытое авто — и сюда! Альдо поперхнулся шампанским. Какое еще открытое авто? — А вы? — Клементина устремила взгляд загадочных зеленых глаз на Джино. Он смущенно пожал плечами. Нельзя думать о другой женщине. Но от этой у него встал. Это все чертовы соски. Нет уж, он никогда не позволит Леоноре рядиться в такие платья. Пусть даже не пытается. — Я много где бываю. Нью-Йорк — мой город. Зеленые глаза дразнили. — Еще бы! — И мой, — встрял Розовый Банан. — Здесь самый кайф. — Он свирепо посмотрел на Альдо, которого разбирал смех. — Чем вы занимаетесь? — она по-прежнему не сводила глаз с Джино. — Всем, чем хотите, — Банан не оставлял попыток пустить пыль в глаза. — Нет такой работы, чтобы была мне не по зубам. — В самом деле? — Клементина скользнула по нему пренебрежительным взглядом, словно он был собачьей какашкой в канаве, и снова повернулась к Джино. — А вы? Что вы делаете? Хоть бы она перестала пялиться! Ясно, чего дамочка добивается, но он не может ей этого дать. Нужно как-то остановить ее. — Я работаю на морском торговом судне. Вот так. Через несколько дней отправляюсь в Сан-Франциско с грузом для папаши моей невесты. Там и поженимся. — Если уж это ее не остановит, значит, она непробиваемая. Розовый Банан нахмурился. — Какое торговое судно? Кажется… Джино пнул его под столом ногой. — Гм, — Клементина задумалась. — Мой муж интересуется морскими перевозками. Возможно, вам стоило бы с ним познакомиться. Джино не поверил своим ушам. Генри Муфлин-младший — тоже. Он пригласил Клементину Дюк поужинать, потому что считал ее самой обольстительной, самой желанной женщиной в мире. Он ни за что не ожидал, что она пожелает закатиться в дешевый притон и будет строить глазки низкорослому бандиту. Генри ринулся в бой. — Клементина, дорогая, пожалуй, с нас достаточно. Я знаю ресторан пошикарнее. — Заткнись, Генри. Фурункул у него на шее еще более потемнел. — Хотя… постой-ка. — Она порылась в сумочке. — Ага, вот она. — Женщина достала визитную карточку и протянула Джино. — Если вас может заинтересовать деловая встреча с моим мужем, позвоните, и мы все обсудим. Я принимаю от одиннадцати до двенадцати почти каждый день. — Она улыбнулась. — Позвоните по возвращении из Сан-Франциско. Можно и перед отъездом. У Розового Банана отвисла челюсть. Чертова сука! Чертов Джино! Ему это не нужно, однако само плывет в руки. Что они в нем находят? Джино сунул карточку в карман. Что это делается? Клементина поднялась из-за столика. — Так вы заедете? — Их взгляды снова встретились. Она облизнула тонкие губы и ласково улыбнулась всем троим. — Спасибо за то, что пригласили нас к своему столику. Я превосходно провела время. Генри Муфлин-младший резво вскочил на ноги, едва не опрокинув при этом столик. — Осторожно, студент, — угрожающим тоном произнес Банан. — П-прошу прощения. Клементина, я т-только рассчитаюсь… — Забудьте об этом, — быстро сказал Джино. — Шампанское — за мой счет. Миссис Клементина Дюк удалилась, даже не сказав «спасибо». Джино и не нуждался. В дверях ей преградил путь Жирный Ларри. — Миссис Дюк, вы уходите до начала представления? Вы же всегда оставались смотреть шоу. — Его пухлые щеки дрожали от возмущения. — Если эти подонки вас оскорбили… — Напротив, Ларри, я прекрасно провела время. Ваши друзья очаровательны. — Да? — от удивления Жирный Ларри открыл рот. — Разумеется. Розовый Банан не мог прийти в себя. — Дерьмо собачье! Вот это штучка, скажу я вам! Горяча, как пистолет. Глаза так и зовут в постель. — Только не тебя, — засмеялся Альдо. — Джино-Таран в своем репертуаре. Банан зарычал. Он никак не мог взять в толк, почему все предпочитают ему Джино. А ведь Синди уверяет, что тот не идет с ним ни в какое сравнение. — Чертов Таран! — он с отвращением выплевывал слова. — Он, наверное, уже забыл, что там у баб между ног и какого оно цвета. Дерьмо собачье! Теперь зарычал Джино. — Заткни свою поганую пасть! — Кто говорит? — взвился Розовый Банан. — Эй, вы, забияки, хватит собачиться, — вмешался Альдо. — Давайте посмотрим шоу. Барбара не каждый вечер спускает меня с цепи.* * *
Коста Зеннокотти сидел в кабинете своего отца в Сан-Франциско и смотрел в окно, пока Франклин читал нотацию. Это продлится еще минут десять. До сознания Косты с грехом пополам доходили ключевые слова: «уважение», «любовь», «честолюбие», «верность»… Франклина хлебом не корми. Впрочем, Косту это ничуть не раздражало. Он знал, что все эти слова идут от чистого сердца и проникнуты заботой о его, Косты, благе. Франклину Зеннокотти не было нужды беспокоиться за сына. Коста безмерно любил и уважал своих приемных родителей. Ему было знакомо честолюбие, а его верность не знала границ. Именно верность привела его в кабинет отца. Верность дружбе с Джино Сантанджело. Коста испросил и получил разрешение съездить в Нью-Йорк. Это будет нелегкое предприятие, но он справится. Через два часа он уже будет сидеть в поезде. И теперь отец читал ему последние наставления о том, как вести себя в огромном городе. Не то чтобы Коста ехал в какие-то джунгли. Было условлено, что он поживет пару недель в доме сестры Франклина и ее мужа. Потом он вернется в Сан-Франциско и начнет работать юрисконсультом в фирме своего отца. Будущее было надежно распланировано. Коста не возражал. Он хотел того же, чего и родители, чувствовал себя на всю жизнь обязанным и старался делать так, чтобы они могли им гордиться. Особенно после того, что выкинула Леонора. Мама до сих пор не может успокоиться. Леонора. Какой же она оказалась сучкой! Морочила голову его другу Джино. Получала нежные письма и хохотала вместе с подружками. И в то же время таскалась со всеми подряд. По ночам убегала из дома. В колледже прикидывалась пай-девочкой. Должно быть, у нее бешенство матки — а посмотришь в эти огромные голубые глаза — сама невинность! Однажды Коста спросил ее: — Почему ты не дашь Джино понять, чтобы больше не писал? — Это еще зачем? — Ну… — Коста замялся. — Полагаю, это было бы честно. Ведь он считает тебя своей девушкой. Она широко распахнула глаза. — А может, так оно и есть? Откуда тебе знать? Он знал — и немало. Знал, что в городе она пользуется репутацией гулящей девки. Несколько знакомых парней утверждали, что спали с ней. Он также знал, что если Джино узнает, он сойдет с ума. Косте было ужасно стыдно, но он сделал одну вещь: прокрался в спальню Леоноры, когда ее не было дома, и прочитал несколько писем Джино. Они не оставляли сомнений относительно его чувств и намерений. Коста не знал, что делать. Конечно, это не его дело, но он был верен дружбе и не хотел, чтобы его друг страдал. Наконец все решилось само собой. Прелестная Леонора, образец невинности, забеременела. Мэри и Франклин Зеннокотти были в шоке. Едва успев опомниться, они потребовали, чтобы немедленно состоялась свадьба. К счастью, будущий отец ребенка оказался отпрыском уважаемой в городе семьи. И вот всего через две недели Леонора, сияя, шла к алтарю в белом шелковом платье. Перед отбытием в свадебное путешествие она небрежно уронила: — Пожалуй, сообщи своему приятелю Джино, чтобы больше не писал мне своих дурацких писем. На другой день пришли два письма сразу: Леоноре и Франклину. Коста узнал почерк на конвертах и спрятал их в карман. Позднее он прочитал эти письма в уединении своей спальни и понял: есть только один путь. Он должен лично открыть Джино глаза. Незавидное положение, но это все-таки лучше, чем написать. Вот что погнало его в Нью-Йорк. Естественно, он не сообщил родителям истинную причину: возможно, тогда бы они его не отпустили. Поэтому он разглагольствовал о музеях, парках и картинных галереях. «Мне необходимо развеяться, устроить себе каникулы», — твердил он родителям, и они, как ни странно, верили. Франклин отсчитал сотню долларов и передал Косте. — Тебе там будет хорошо, сынок. Моя сестра и ее муж — замечательные люди и позаботятся о тебе. Постарайся отнестись к ним с должным уважением. — Да, сэр, — слово «уважение» вернуло Косту к реальности. — Разумеется, сэр.* * *
Раз в неделю, в условленное время, Джино навещал Веру. Ему осточертело заставать ее за работой, и он потребовал, чтобы она устроила себе выходной в среду. Она послушалась, и они стали проводить этот вечер вдвоем. Обычно они шли в кино, а потом в аптеку — съесть по гамбургеру и выпить по молочному коктейлю. Это была странная пара: стареющая дешевая проститутка и ладный парень, излучающий энергию. — У меня достаточно денег, чтобы ты послала их ко всем чертям, — предлагал он каждую среду. — Деньги тебе самому пригодятся, Джино, — отвечала Вера. — Куда мне девать свободное время? Кроме того, — она лукаво улыбалась, — мне как бы даже нравится моя работа. Джино не мог себе представить, как Леонора отнесется к Вере, но был убежден, что должен их познакомить. Может быть, они и поладят. Он хорошенько объяснит Леоноре, и она поймет, просто не сможет не понять, что в жизни существует не только безмятежное семейное счастье, как у них в Сан-Франциско. Всякий раз, когда Джино думал о Леоноре, им овладевало возбуждение. Скоро он станет женатым человеком — тянуть дальше некуда. Подумать только — он станет женатым человеком! Джино Сантанджело. Леонора Сантанджело. Мистер и миссис Сантанджело. — Эй! — он хлопнул в ладоши. — Как ты думаешь, красиво звучит Леонора Сантанджело? Вера кивнула. — Просто замечательно.Кэрри, 1928
Уайтджек отсутствовал неделю. Сначала Кэрри за него беспокоилась, потом начала злиться. — Этот человек вполне может о себе позаботиться, — увещевала Люсиль, — так же, как и мы с тобой. Подожди, он скоро вернется! — Почему ты так думаешь? — Ах, милочка, я абсолютно уверена. Не бросит же он свои двадцать три костюма. Люсиль оказалась права, и в одно прекрасное утро он вернулся — полный свежих сил и излучающий обаяние. — Где ты был? — воскликнула Кэрри. Уайтджек поднял руку в предостерегающем жесте. — Тихо, женщина! Я раздобыл нам роскошную белую платиновую блондинку. Помнишь, мы говорили? — Я думала, ты решил приползти на брюхе к мадам Мей. Он расхохотался. — Этой ведьме? Ты шутишь, женщина? — Мог бы предупредить. Я волновалась. Он взвесил на ладони ее грудь и, распахнув халат, поиграл с соском. — Не думал, что обязан отчитываться. — Ах, Уайтджек! — Кэрри вновь почувствовала себя в безопасности. Ей захотелось сделать ему приятное. — А мы с Люсиль за эту неделю заработали триста баксов. — Она обняла Уайтджека и всем телом прижалась к нему. — Все для тебя, милый. Он легонько оттолкнул ее. — Давай-ка одевайся и собери вещи. Мы переезжаем. — Куда? — Я снял тут неподалеку квартиру попросторнее. — Как же? Ты ведь говорил, что у нас нет денег. — Это мое дело. Мы начинаем новую жизнь.* * *
Толстяк с сигарой весь сиял, окидывая приятелей добродушным взглядом. Их было человек тридцать; все уже знали. Собрание богатых пожилых бизнесменов, только что плотно пообедавших и насладившихся отборными винами. Это была холостяцкая пирушка по случаю отставки одного из них — Артура Стайвесанта. Ужин давал его приятель-толстяк. Попыхивая сигарой, он дал сигнал к началу небольшой потехи. — Джентльмены! — возвестил он, не в силах унять волнение в голосе. — У меня для вас небольшой сюрприз. Нечто особенное, такое, чтобы этот вечер надолго запомнился нам всем. — Он кивнул негру, сидевшему за полупрозрачной занавеской в конце зала. — Начинайте представление. Уайтджек шлепнул Кэрри пониже спины. — Я не хочу этого делать, — захныкала она. Он выкатил глаза. — Кажется, мы много говорили на эту тему. Шевелись, говорю! Если тебе не понравится, больше не будем. Она неохотно вышла из-за занавески. Мужчины в зале одобрительно зашептались и стали обмениваться немного смущенными улыбками. Из незримой радиолы полилась музыка. Нью-йоркский рэгтайм. Кэрри начала танец. На ней было облегающее алое платье, приспущенные шелковые чулки, туфли с ремешками и на высоких каблуках и гофрированные подвязки. Под платьем у нее ничего не было. Уайтджек наблюдал, как она, покачивая бедрами, двигается между столиками. Недурно. Он шлепнул крупную белую женщину. — А ну-ка, Долли, покажи малышке, как это делается. Та ухмыльнулась, показывая лошадиные зубы. — Не сомневайся, Уайтджек, — и выкатилась из-за занавеса, упоенно тряся огромными грудями и бедрами, кое-как втиснутыми в тесное оранжевое платье. Уайтджек покачал головой и усмехнулся. Долли оказалась настоящей находкой. Это она просветила его насчет того, как делать деньги, устраивая частные шоу со стриптизом. «С какой стати такому ловкачу, как ты, возиться с какими-то паршивыми клиентишками? — заявила она, когда они познакомились в одном притоне. — Достань приличных девушек, и я гарантирую тебе грандиозную программу». Всю неделю они вели переговоры. Долли обрадовалась, узнав о Кэрри и Люсиль. «Пиковая дама и карлица! — в экстазе воскликнула она. — Да мы сколотим целое состояние!» Уайтджек, не теряя времени, перевез Кэрри, Люсиль, все свои двадцать три костюма и прочие пожитки к Долли, занимавшей слишком большую квартиру. Кэрри не выказала особого восторга. — Я думала, у нас будет свой дом. — Может, и будет. А может, и нет. Прежде всего нужно попробовать реализовать задумку Долли. — Ты с ней спишь? — Конечно же, нет, — он погладил Кэрри по волосам. — Зачем мне какая-то старая потаскуха, когда у меня есть такой бутончик, как ты? Шлюхи! И в шестнадцать, и в шестьдесят. Только одно на уме. Уайтджек подтолкнул Люсиль, и она выскочила из-за занавески, чтобы присоединиться к Кэрри и Долли. Зрители ревели от восторга. Напряжения как не бывало. Жалкие импотенты. Черным мужчинам не требуется подобный допинг. Уайтджек наблюдал за Долли. Что значит профессионалка! Она довела их до точки кипения. Кэрри с Люсиль немного уступают ей, но это ничего не значит. Когда они все с себя снимут, никто не станет обращать внимания на их кислые физиономии. Уайтджек зевнул. Надо бы утрясти вопрос с Долли. Она недовольна его отказом разделить с ней ложе. «Это еще почему? Что, черномазая имеет исключительные права?» — Потерпи денек-другой, — попросил он. — Ч-черт! Ты получишь свое — не успеешь глазом моргнуть! — Да уж, поторопись! Придется лишить Кэрри удовольствия. А это чревато осложнениями. Однажды завладев Уайтджеком, женщины нипочем не желали его отпускать. Девушки начали раздеваться. Уайтджек снова зевнул. С ума сойти — платить пятьсот долларов только за то, чтобы полюбоваться тремя комплектами сисек и задниц! Ч-черт! У некоторых весьма своеобразное понятие о приятном времяпрепровождении!Джино, 1928
После того, как Джино и его команда блестяще провернули дельце в Трентоне, штат Нью-Джерси, Боннатти не стал терять время и поделился с Джино и Альдо еще кое-какими связями. — Мы расширяемся, — поведал Джино приятелям — Альдо и Розовому Банану. — Нужно будет подключить еще нескольких надежных ребят. Розовый Банан ковырял в носу. — Я могу привести сколько угодно. — Знаю я, кого ты можешь привести. Продадут при первом удобном случае. — Откуда ты знаешь? — Я сам займусь вербовкой, — объявил Джино. — Может, кого-нибудь из Сан-Франциско. — Что-то долго ты туда собираешься, — подколол Банан. Джино потер старый шрам на лице. — Скоро поеду, — он сгорал от нетерпения, со дня на день ожидая ответа от Леоноры или ее отца. — Это мы уже слышали, — оскалился Розовый Банан. — Как бы тебя не обвели вокруг пальца. — Слушай, ты, задница. Джино Сантанджело никто не обведет вокруг пальца. — Джино встал и впился тяжелым взглядом в лицо приятеля. Альдо перевел взгляд водянистых глаз с одного на другого. Они все хуже ладят между собой, того и гляди грянет гром. Розовый Банан вытащил палец и исследовал содержимое ноздри. — Тогда какого дьявола тянешь? — Я не тяну, дубовая твоя башка! Банан захихикал. — А я говорю, она водит тебя за нос. Альдо решил вмешаться. — Сколько ты думаешь пробыть в Сан-Франциско? — Не знаю. Недельку-другую. — Как насчет Энцо? Он в курсе? — Пошел он, твой Энцо! — рявкнул Джино. — Я не обязан отчитываться перед ним всякий раз, как иду в сортир. — Ты его компаньон. Вдруг ему что-нибудь потребуется, когда тебя не будет в городе? — Ты останешься вместо меня. — Джино окинул приятелей критическим взором. Парочка кретинов. Альдо трясется перед собственным двоюродным братом, а Банан туп, как пробка. — Слушайте, мне пора идти. Завтра увидимся, — он вышел из гаража, где они договорились встретиться, и потопал валкой походкой прочь. Леонора. Что она себе думает — до сих пор не удосужилась ответить на его письмо? Отсрочка убивала Джино. — Привет! Он поднял глаза и остановился. — Привет, Синди. Куда только делась ее беззаботность? Джино хотел продолжить путь, но она положила руку ему на рукав. — Как ты? Он покачался на пятках. — Лучше всех. А ты? — Как понимать, что она не цепляется, как всегда, с подколками? — Ничего, все в порядке, — в это самое мгновение из ее глаз выкатились две крупных слезы и побежали по щекам. — Ох, Джино! Я так несчастна! Он оглянулся — на них никто не смотрел. — Иисусе Христе! Что приключилось? Девушка плакала навзрыд. — Пинки. Я хочу уйти от него, но не могу. У меня нет денег, и я не могу вернуться домой. Я его ненавижу. Просто не знаю, что делать. Пожалуйста, помоги мне! «Пожалуйста, помоги мне!» И это та самая девчонка, которая с самого начала приносила ему одни неприятности? Маленькая секс-бомба, с мыслью о которой он столько раз мастурбировал! Джино потрогал шрам и вспомнил, как он ему достался. По ее вине. А она даже не сказала «спасибо». — Эй, — быстро произнес он. — Успокойся. — Ты не представляешь, в каком я отчаянии. — А, брось, Синди. Она ухватилась за его руку. — Если бы ты хотя бы дал мне немного денег, чтобы сесть на поезд и куда-нибудь смотаться! Видишь ли, — она сделала драматическую паузу, — он обещает убить меня, если я попробую уйти. Джино расхохотался. — Дерьмо собачье! Синди продолжала рыдать. — Нет, это правда. Он показывал мне ружье. Сказал, что если я не буду принадлежать ему, то и никому другому. Драма на Сто десятой улице, в три часа дня. Джино пожал плечами. Он ничем не может ей помочь. Разве что снабдит деньгами для побега. Он облизнул губы и пристально посмотрел на плачущую девушку. Она явно на пределе. Конечно, это одна из шуточек Банана — обожает поприкалываться, а Синди-Липучка до сих пор вроде бы не жаловалась. — Э… Синди… Мне нужно подумать. Она перестала реветь. — Ох, Джино! Правда? Он кивнул. Они громко шмыгнула носом и поискала в сумочке платок. — Какой же я была дурой, что связалась с ним. Но сначала мне казалось, что он неплохой. Он хорошо со мной обращался. Дарил разные вещи… — Она храбро посмотрела Джино в глаза. — Хотя на самом деле мне всегда нравился ты. Он захохотал. — Брось, Синди, я не нуждаюсь в лести. Девушка широко распахнула наивные голубые глаза. — Клянусь тебе, это правда! — Послушай, мне пора идти. Она кивнула и вдруг прижалась к нему. — Я хочу тебе кое-что показать. — Что? — Ты не поверишь, — она перешла на шепот. — Я до смерти боюсь. — Синди расстегнула блузку и продемонстрировала часть груди. Джино так и вылупился. Есть на что посмотреть! — Видишь ожог? — Какой еще ожог? — Он присмотрелся повнимательнее и увидел над левым соском зловещую алую метку. — Это Пинки прижег сигаретой. Я хотела, чтобы ты знал, на что он способен. Скотина! Точь-в-точь как Паоло! — Сколько тебе нужно? — Не знаю. Наверное, несколько сотен. Этого хватит доехать до Калифорнии? Может, устроюсь на работу… Джино кивком выразил согласие. — Завтра вечером мы идем к Жирному Ларри, — сказала Синди. — Если ты дашь мне денег, послезавтра меня здесь уже не будет. — Считай, что ты их уже получила. — Честно? — Честно. Она нежно поцеловала его в щеку. — Спасибо, Джино. Ты настоящий друг.* * *
Коста приехал в Нью-Йорк рано утром в понедельник. Доктор и миссис Сидни Ланца встретили его на Центральном вокзале. Сначала они отнеслись к Косте с предубеждением и были приятно удивлены его внешностью и манерами. В свое время вся родня восстала против решения Франклина усыновить мальчика с сомнительным прошлым. И вот перед ними — красивый, обходительный юноша. Их дом на Бикмен-плейс не отличался особой роскошью и уж во всяком случае уступал резиденции Зеннокотти в Сан-Франциско. Однако многое в доме говорило о состоятельности хозяев: дорогие картины, фотографии в серебряных рамках, полированная мебель красного дерева… Доктор Ланца был практикующим врачом, поэтому две комнаты отвели под кабинет и приемную. — Доктор — очень занятой человек, — поделилась с гостем миссис Ланца. — Трудится в поте лица своего и получает большое удовлетворение. Лечить людей — занятие, угодное Господу. Всевышний тщательно подбирает служителей своих. Франклин Зеннокотти забыл упомянуть, что Ланца были набожными людьми. Коста кивнул. — Постараюсь не путаться под ногами. — Я уверена, что ты с уважением отнесешься к нашим порядкам. Будешь сам убирать за собой постель и вовремя являться к столу. Доктор терпеть не может, когда опаздывают. — Разумеется, — поспешил заверить Коста. — Обещаю не опаздывать, конечно, когда я буду дома. Я хочу хорошенько познакомиться с городом. Обойти художественные галереи, музеи… и все такое. Миссис Ланца скривила тонкие губы. — Я попросила бы тебя накануне ставить меня в известность. Порядок в доме не должен страдать от твоих приходов и уходов. — Конечно, миссис Ланца. Я не причиню вам ни малейшего беспокойства. Она скрестила руки на плоской груди. — Мы в этом уверены, молодой человек. Коста слабо улыбнулся. Две недели с миссис Ланца — не слишком приятная перспектива! — Я собирался сегодня вечером кое-куда сходить. — Только не сегодня, пожалуйста. Я уже заказала обед и ужин на всех, и мне бы не хотелось перекраивать распорядок дня. — Конечно, миссис Ланца, я понимаю. На самом деле он ничего не понял. И не мог дождаться, когда наконец сможет увидеться с Джино.* * *
— Ну что? — спросил мистер Пуласки. — Все еще нет ответа? Джино покачал головой. Старик закрыл глаза и прижал пальцы к вискам. — Должно быть, почта плохо работает. Я бы на твоем месте не стал волноваться. — Кто сказал, что я волнуюсь? — Джино вскочил со стула и начал нервно мерить комнату шагами. — Просто боюсь, как бы письмо не затерялось в дороге. Знаете, папаша, я вот что думаю. Не махнуть ли мне прямо туда? Старик открыл глаза и посмотрел в окно, на оживленную улицу. После нападения он только пару дней как начал вставать, но все еще боялся выходить на улицу. Там найдется много охотников до его денег, золотых часов и даже его жизни. — Что вы мне посоветуете? — спросил Джино, раскачиваясь на пятках. — Насчет чего? — Ехать или не ехать в Сан-Франциско? — выкрикнул Джино. Старик совсем выжил из ума. Наверное, те парни вышибли из него мозги. — Я бы советовал тебе недельку-другую подождать, — сказал мистер Пуласки, вновь ухватив нить разговора. — Однако… — Он остановился, забыв, что хотел сказать. — Что? — обеспокоенно спросил Джино, вбивая кулак правой руки в левую ладонь. — Я думаю, — мистер Пуласки вдруг почувствовал резкую боль и закатил глаза. — Я д… — Боль раздирала на части его тщедушное старческое тело. Он закашлялся и не заметил, как при этом у него пошла горлом кровь, стекая на подбородок. Мистер Пуласки устремил на Джино невидящий взгляд и подумал о своей любимой жене. Даже едва не произнес вслух ее имя. Однако новый приступ боли разорвал ему грудь, и он рухнул в кресло. Паника охватила Джино. — Мистер Пуласки! Папаша! В чем дело? — он схватил старика за плечо. — Очнитесь, папаша! Очнитесь! Он нагнулся и заглянул мистеру Пуласки в лицо. Глаза и рот старика были открыты. Но это уже было не лицо, а маска смерти. — Ох, нет! — забормотал Джино. — Иисусе Христе! Нет! Он встал перед умершим на колени и покачал у себя на груди его голову. Из его глаз — впервые за много лет — покатились слезы. Мистер Пуласки был славным старикашкой. Никому не причинил зла. За что? Джино вытер глаза тыльной стороной ладони и поднялся на ноги. Леонора никогда не познакомится с автором любовных писем, которые она получала каждую неделю на протяжении целого года. Более того, мистер Пуласки никогда не увидит Леонору. — Ах, черт, папаша! — вырвалось у него. — Неужели ты не мог подождать?* * *
В семь часов утра в доме на Бикмен-плейс подавали завтрак: горячую овсянку, густое, сладкое какао и большие ломти хлеба. Коста ел весьма умеренно. Миссис Ланца была недовольна. — Плотный завтрак дает человеку силы для трудов праведных — хороший врач всегда внушает это своим больным. Правда, дорогой? В восемь Коста вышел из дома. Наконец-то он свободен! Он полной грудью вдыхал нью-йоркский воздух. Здесь пахло иначе, чем в Сан-Франциско. Воздух был жестче, со множеством примесей. Когда-то это был его родной город, но Коста старался не вспоминать об этом. Настоящая жизнь началась в тот день, когда Франклин Зеннокотти увез его в Сан-Франциско. О том, что было до этого, Коста предпочитал забыть. Он только знал, что обязан жизнью Джино Сантанджело. Если бы не Джино, он кончил бы свои дни в исправительной колонии. Исправительной!.. Курам на смех!* * *
Джино провел поганую ночь, проворочавшись под одеялом. Обычно он спал сном младенца, но иногда тяжелые мысли не давали ему уснуть всю ночь напролет. Сегодня было то же самое. Стук в дверь не сразу дошел до его сознания, а когда наконец дошел, Джино взглянул на часы и рассвирепел. Полдевятого утра. — Да? — рявкнул он. Коста уловил раздражение в голосе друга и подумал: может быть, прийти в другой раз? Но ведь он проделал такой длинный путь, чтобы сообщить Джино кое-что важное. Уйти означало бы только оттянуть момент истины. — Это я, Коста Зеннокотти! — Коста? Какого хрена ты тут делаешь? Джино открыл дверь, хлопнул друга по плечу и втащил в свою конуру. — Эй! — воскликнул он. — Любому другому я расквасил бы физиономию. Поднимать меня в такую рань! Но я рад тебя видеть. Почему не сообщил о своем приезде? Коста много раз прокручивал в уме начало разговора. Но сейчас у него все перепуталось. Он понял, что лучший путь к цели — прямой и честный. — Это касается Леоноры, — выпалил он. — Я не хотел, чтобы ты узнал об этом из письма. — О чем об этом? — к лицу Джино прихлынула кровь. — Она вышла замуж, — тихо сказал Коста. — Вышла замуж за другого.Среда, 13 июля 1977 г., Нью-Йорк и Филадельфия
— У меня во рту как будто ночевала пара бомжей, — пожаловалась Лаки. — Сколько мы уже здесь торчим? Стивен поднес часы близко к глазам и уставился на светящийся циферблат. — Пять часов десять минут сорок девять секунд. — А кажется, пять месяцев! Никогда я так погано себя не чувствовала, за всю мою дерьмовую жизнь! — Я же говорил вам, расслабьтесь. Это все, что мы можем сделать. — Помнится, — холодно произнесла Лаки, — я смотрела какие-то фильмы, в которых люди застревали в лифте, и они всегда находили выход. — Да? — точно с такой же ледяной интонацией процедил Стивен. — И что же они делали? — О Боже! Откуда мне знать? — Вы сами об этом заговорили. — Заговорила, потому что понадеялась, что вы что-нибудь придумаете. Мне следовало быть умнее. — Вы смотрели те фильмы — не я. — От вас всегда столько же толку? Стивен разозлился. — Чего вы от меня хотите, черт побери? — Фу! Как вы выражаетесь? Он бы с удовольствием ее придушил. Обхватил большими, сильными ручищами то, что представлялось ему цыплячьей шейкой, и сжимал до тех пор, пока у нее не захрустели бы позвонки. — Вспомнила! — радостно завопила она. — «Отель»! Это старая лента, несколько месяцев назад шла по телевизору. Герой каким-то образом вылез на крышу лифта и поднялся по канату. — Забудьте об этом, — прорычал Стивен. — Если вы думаете, что я полезу по канату на сорок-такой-то этаж, вы очень ошибаетесь. Она саркастически усмехнулась. — Слабо, да? — Зато вы у нас силачка!* * *
Коста в сердцах швырнул трубку на рычаг. Дарио. Вечно с ним что-нибудь случается. Такой симпатичный парень — белокурый, стройный, идеально сложенный… Извращенец. Если бы Джино узнал правду о своем сыне! Коста выругался про себя. Его не так-то легко вывести из равновесия, но Дарио это всегда удавалось. Он немного поразмыслил, затем снял трубку и набрал номер. Ответил женский голос. — Рут, дорогая, — ласково произнес он. — Это Коста Зеннокотти. Как поживаешь? Она начала пространно жаловаться на затемнение. Он перебил ее. — Сэл у тебя? — Минуточку. — Мистер Зеннокотти, это Сэл. Что я могу для вас сделать? Коста дал адрес Дарио. — Только это срочно. Придется выломать дверь: там возникла проблема с ключами. Устраните поломку и действуйте по обстоятельствам. Завтра поговорим о плате. — Он положил трубку. Дарио повезло. Сэл запросто справится с любой экстремальной ситуацией. Правда, может быть, уже поздно. Но кто пожалеет о Дарио? Только Джино. Возможно…* * *
— Мать твою! — торжествующе воскликнул чернявый парень, когда ему удалось наконец проломить дверь чугунной статуэткой, обнаруженной в ванной. — Ты где, мать твою? — Он наморщил лоб, усиленно выискивая в темноте гостиной Дарио. — Где ты, гад? Это тебе не поможет! Дарио бесшумно пробрался в кухню и сжал в руке нож. — Ну, я до тебя доберусь! — посулил его противник.* * *
Кэрри пешком пробиралась по темным улицам Гарлема. У нее создалось впечатление, будто все жители квартала вышли на улицу в расчете на поживу. Двое мужчин тащили дубовый комод. Молодой парень сгибался под тяжестью телевизора. Тащили включенные транзисторы и магнитофоны. Теперь на нее никто не обращал внимания. Она стала такой же, как все: темнокожая, с всклокоченной гривой и размазанным макияжем; из разорванных мочек ушей сочилась кровь. Кэрри понимала, что выглядит, как смертный грех, но это уже не имело значения. Ее несла вперед ненависть; лютая, вышедшая из-под контроля злоба гнала на поиски обидчика. Еще два дня назад ей так хорошо, так спокойно жилось. И вдруг телефонный звонок. Приглушенный голос сказал, что если она себе не враг, то должна быть на мясном рынке на Сто двадцать пятой Западной улице в половине десятого вечера в среду. — Кто это? — шепотом, чтобы в соседней комнате не услышал Эллиот, спросила она. — Если не хочешь, чтобы открылось твое прошлое, приходи, куда сказано, — настаивал приглушенный голос. Потом шантажист отключился. Она даже не поняла, мужчина это или женщина. Вконец обезумев, она бежала по улицам Гарлема. Кто-то охотился за ней. Она должна выяснить, кто это! И посчитаться!* * *
Гигант-авиалайнер совершил мягкую посадку. Как только он подкатил к конечному пункту, соседка Джино резко изменила свое поведение — вырвала у него руку так, будто он заразный, и щелкнула пальцами, подзывая стюардессу. — Мою норку! — потребовала она. Стюардесса кивнула. — Сию минуту, мадам, — и склонилась к Джино. — У вас есть чем добраться до Нью-Йорка, мистер Сантанджело? — Откуда? Я же не рассчитывал сесть в Филадельфии. Девушка захихикала. — Конечно. Подумать только! — Вы можете организовать машину? — Естественно. Но вам лучше переночевать в Филадельфии. Весь Нью-Йорк сидит без электроэнергии, и никто не знает, надолго ли это. Джино раскинул мозгами. У него забронирован номер в «Пьере», но стюардесса права: если во всем городе нет света, глупо стремиться туда. — Можете порекомендовать приличный отель? Девушка улыбнулась. — Конечно, мистер Сантанджело. Я и сама собираюсь там остановиться.* * *
Лаки забылась неглубоким, тревожным сном. Стивен с облегчением вздохнул. Без ее постоянного нытья вынужденное пребывание в этом черном, похожем на материнское чрево ящике даже не лишено своей прелести. Можно полностью расслабиться. Забыть обо всем на свете. Некоторые платят за такой вид психотерапии бешеные деньги. Лаки пробормотала что-то нечленораздельное. Вообще-то он не сердится на нее за грубость. Просто она напугана. Ха! Чтобы дамочка с таким язычком чего-нибудь испугалась! — В чем дело? — она вдруг резко проснулась и начала протирать глаза. — Господи Иисусе! Мы еще здесь? — Конечно. — Я сейчас описаюсь, — таким тоном, будто это он виноват. Стивен не нашел что сказать. — Мне хочется писать, — злобно повторила она. — Прямо сейчас. — Мне очень жаль, — саркастически заметил он, — но создатели лифта не предусмотрели в нем туалет. — Мерзавец! Стивен заткнулся. Пусть беседует сама с собой. Духота становилась непереносимой. Кондиционер не работал, и лифт превратился в печку. Стивен разделся до трусов, но все равно тело покрылось густой, липкой пленкой пота, как в сауне. Он вспомнил, как во время медового месяца они с Зизи отправились в сауну. Маленькая Зизи. Динамит. Пять футов два дюйма похоти. Мама оказалась права. — Фу! — воскликнула Лаки. — В последний раз я делала в штаны, когда мне было два года. — О Господи! — Не очень-то задирайте нос. Вас ждет то же самое.* * *
Дарио было слышно, как маньяк носится по комнате, круша мебель и сыпля ругательствами. У него бешено стучало сердце. Что он сделал такого ужасного? Да, он голубой — так что? Это не преступление. Он всегда хорошо с ними обращался. Платил, если они давали понять, что не отказались бы от денег. Боже! Только потому, что он сын сукина сына Джино Сантанджело, вся его взрослая жизнь превратилась в одну большую ложь. Дарио вздрогнул и зажмурился. Гангстер может настигнуть его в любую минуту, и все будет кончено.* * *
Кэрри никак не могла отыскать мясной рынок на Сто двадцать пятой Западной улице. Она металась взад-вперед вместе с толпой; ее нещадно толкали. Если бы хоть знать, кого она ищет! Она посторонилась, чтобы избежать столкновения с двумя парнями, тащившими стальные решетки из ювелирного магазина. Немного дальше мальчишки выбили стекла в магазине хозяйственных товаров, и жители района ринулись хватать все, что попадалось под руку. Какая-то девчонка заорала своему парню: «Сожги его к чертовой матери! Толпа пришла в неистовство: «Жги! Жги! Жги!» Кэрри поспешила убраться. За пятьдесят лет ничего не изменилось. Гарлем по-прежнему кишит крысами. Наконец она различила в полумраке очертания мясного рынка. Здесь тоже было полно людей, набивавших сумки говядиной, курами — всем, что попадалось под руку. Кэрри оглянулась по сторонам. Ее явно никто не ждал. Кого же я все-таки ищу? Ей ничего не оставалось, как замереть на месте и ждать. Посмотрим, кто подойдет.* * *
— Сколько тебе лет, Джил? — поинтересовался Джино. — Двадцать два, — ответила хорошенькая стюардесса, стоявшая перед ним в костюме Евы. — Двадцать два, значит? — Опыта мне не занимать, — и она захихикала. — Конечно, — согласился он. Пять минут назад она появилась в его номере — и вот пожалуйста, стоит перед ним в чем мать родила и готова в любую минуту прыгнуть в постель, как будто нет ничего более естественного. Может быть — для нее. Но что происходит с ним самим? Джино смертельно устал, до отвала набил брюхо; мочевой пузырь властно напоминал о себе; дико хотелось спать. Это была ее затея. После ужина она заявила: «Я хочу зайти к вам, посмотреть, все ли в порядке». Очутившись в номере, она первым делом ринулась в спальню и вышла оттуда абсолютно голая. Недурное тело. Ему доводилось видеть и получше, и похуже. Слишком худа, на его вкус. — Скажи: что может быть нужно такой молодой, красивой девушке, как ты, от такой старой развалины, как я? — Мистер Сантанджело! Это вы-то развалина? Слава о вас гремит по всему миру! Интересно, она оскорбится, если он откажется? — Иди ко мне, — хорошо поставленным голосом стюардессы проговорила Джил. — Давай, снимай штаны. — Мне шестьдесят девять лет, — пробормотал Джино, желая воздействовать на нее и в то же время сбрасывая два года, потому что невыносимо признаться, что тебе перевалило за семьдесят. — Мое любимое число! — воскликнула она, возясь с молнией у него на брюках. У него началась вялая эрекция. Вот уже несколько недель не барахтался в постели с какой-нибудь бабенкой. В семьдесят один год это перестает иметь значение. Не то чтобы он заделался импотентом. Просто теперь, чтобы завести его, требовалось что-то особенное. — Какой большой! — пропела девушка. Джино посмотрел на нее сверху вниз. Кого она хочет обмануть? Пенис не достиг и половины длины. — Хочешь, возьму в рот? — деловито предложила она. На фиг она ему нужна! Он снова застегнул брюки. — В чем дело? — встревожилась Джил. — Просто не хочется. — А, брось. Дай мне пять минут времени, и ты у меня полезешь на стенку. — У меня дочь на пять лет старше тебя. — Ну и что? — А то, что я не хочу. Этого достаточно? Девушка никак не могла решить: обидеться или свести все в шутку? Наконец она юркнула в ванную и меньше чем через минуту появилась в форме стюардессы. — Мистер Сантанджело, — холодно заявила она, — вы опасный соблазнитель, — и промаршировала к двери. Джино потянулся за сигарой. Их много, а он один.Джино, 1928
Джино исключительно тяжело воспринял известие о замужестве Леоноры. Просто не мог поверить. Отчаянно сопротивлялся фактам, которые Коста раз за разом обрушивал на него, пока они не возымели действия. Когда до него дошло, что это все-таки правда, он чуть не потерял рассудок. Коста еще не видел друга в таком состоянии. Джино диким зверем метался по комнате, сыпал проклятиями, стучал о стены кулаками и так отчаянно рыдал, что Коста готов был провалиться сквозь землю. Может, лучше тихонько уйти? Джино явно не нуждается в нем, даже не замечает его присутствия. В то же время интуиция подсказывала Косте, что он может понадобиться. Нужно понять Джино: ведь для него это равносильно известию о ее смерти. Да. Лучше бы она умерла. Джино не мог перенести, что Леонора оказалась предательницей. Его Леонора! Лучше бы угодила под трамвай, утонула или скоропостижно скончалась отболезни. Это еще можно было бы понять. Но измена? Уму непостижимо! Джино потребовался целый час, чтобы начать соображать, на каком он свете. Он чувствовал себя опустошенным, выбитым из седла — как после удара в солнечное сплетение. Коста скорбно смотрел на него из своего угла. Наконец настала очередь Джино сконфузиться. — Эй, малыш, — выдавил он из себя, — ты проделал весь этот путь только затем, чтобы сообщить мне об этом? Коста кивнул и вынул из кармана два письма, которые утаил от домашних. — Я позволил себе вскрыть конверты и оставить их у себя. Эти письма пришли уже после свадьбы. Я подумал: в подобных обстоятельствах, может, ты предпочтешь, чтобы тебе их вернули? Надеюсь, это было правильное решение? — Да, разумеется. Ты абсолютно прав. — Джино затолкал письма в ящик стола и, стоя к Косте спиной, глухо спросил: — Ты, конечно, прочел их? — Нет. Джино вздохнул. — В сущности, мне наплевать. Лучше бы прочел. — В его голосе появились жесткие нотки. — Иисусе Христе! Каким же я был идиотом! — Он повернулся к Косте, глаза горели безумным огнем. — И кто же, черт возьми, оказался счастливчиком? Какой-нибудь ублюдок с солидным капитальцем, которого выбрал папочка? — Да, — солгал Коста. — Он из богатой семьи. Мама и папа в восторге от этой партии. — А Леонора? — Делает, что велят. — Скажи мне, как его фамилия! Я вышибу из него дух! Коста понял: нужно спасать положение. — Кажется, она влюблена в него. — Ах так, — силы совсем покинули Джино. — Ты уверен? Коста нервно кивнул. — Ну что ж… Если она его любит… Но почему она не поставила меня в известность? И ты? Коста пожал плечами. — Я понятия не имел о том, что делалось за спиной. Джино угрюмо припомнил ее последнее письмо. Когда бишь оно пришло? Семь, восемь недель назад? Да, что-то около того. Письмо как письмо — никаких особых нежностей, но он уже привык: все ее письма были по-девчоночьи пустыми. Да, пустыми. Он не придавал этому значения, потому что знал: если бы не старый мистер Пуласки, его письма были бы точно такими же. — Значит, ничего не поделаешь, — хрипло проговорил он. Коста беспомощно развел руками. — Мне очень жаль. — Она знает о твоей поездке? Это она тебя послала? Коста отрицательно покачал головой. — Просто не знаю, что делать, — сокрушенно молвил Джино. — Должно пройти какое-то время. Понимаешь, я строил всю свою дальнейшую жизнь с расчетом на то, что мы поженимся. Все, что я делал, делалось ради Леоноры. Буквально все! Коста понимающе кивнул. Джино взволнованно кружил по комнате. — Не могу сказать, что мне есть от чего задирать нос, но ведь начинать-то пришлось с нуля! — Он задрал рубашку и продемонстрировал Косте грудь, всю в шрамах и ссадинах. — У каждой из этих отметин своя история. — Он показал на небольшой бесцветный рубец. — Когда мне было шесть лет, отец пересчитал мне ребра. Вот это — следы от его побоев. Не будь я крутым сукиным сыном, мне бы ни за что не выжить. Папаша обожал срывать на мне злость, а когда я вышел из детского возраста, принялся за своих женщин. — Он горько усмехнулся. — У меня было кресло в первом ряду. Он трахал их у меня на глазах — а потом посылал в нокаут. Вот когда я твердо решил: я буду жить по-другому. — Джино вздохнул. — Не знаю, поймешь ли ты — Леонора стала для меня символом лучшей жизни. Я сразу почувствовал, как только ее увидел. — Ему вдруг стало стыдно. — Иисусе Христе! Зачем тебе все эти излияния? С какой стати я тут перед тобой исповедуюсь? Коста мягко коснулся его руки. — Потому что я твой друг. Когда выговоришься, всегда становится легче. — Пошли отсюда. — У Джино уже глаза лезли на лоб от беспрерывного кружения по комнате. — Куда мы пойдем? — Не знаю. Может, сходим, сыграем в биллиард… заскочим в кино… Просто мне нужно уйти отсюда. — Джино заправил рубашку в брюки. — Сегодня в полдень похороны. Пойдешь со мной? — А кто умер? — Один знакомый. Старик, который сделал мне много хорошего. — Прими мои соболезнования. — Так уж устроен мир. — С минуту Джино стоял, устремив невидящий взгляд мимо Косты, словно прощаясь и с мистером Пуласки, и с Леонорой. Для него они оба умерли. — Только что ты есть, и вдруг тебя нет, и никому нет дела. Ладно, малыш, пошли на улицу. Как-то прошел день. Джино старался выбросить Леонору из головы и сосредоточиться на других вещах. Очень помог биллиард. Он, как всегда, выиграл. Еда оказалась менее эффективной. Кофе был слишком крепок, а пирожок комом осел в желудке. Разговоры с Костой о его планах на будущее. Смертная скука. У парня одна учеба на уме. Похороны мистера Пуласки. Тоска зеленая. За гробом шли только они с Костой. Задрипанный букет цветов, купленных у уличной торговки. И наконец кино. «Багдадский вор». Старье, Джино смотрел его уже в четвертый раз, но ему нравился Дуглас Фербенкс. Коста смотался посреди сеанса. — Ну, я побежал, а то миссис Ланца меня убьет. Джино снова оказался предоставленным самому себе. Он досмотрел картину и выбросил второй пирожок в уборную. Леонора. В мыслях он то и дело возвращался к ней. Тут уж ничего не поделаешь. Джино добрался до парка, сел на скамейку и вперил взгляд в быстро темнеющее пространство перед собой. Сколько он так сидел — неизвестно. Он потерял счет времени. Как могла она так поступить? Причинить ему такие ужасные страдания! Неужели у нее нет сердца? Леонора. Светлые волосы, ласковые голубые глаза, спелое тело… Леонора. Бессердечная стерва. Неблагодарная тварь. То ли он плакал, то ли нет — Джино и сам толком не знал. Единственное, в чем он был уверен, это что он еще долго, очень долго не позволит себе так страдать из-за женщины. Если вообще когда-нибудь позволит. Всем им нельзя верить, даже таким, как Леонора. Впредь он будет обходиться без обязательств перед ними. И без любви. Кто-то пнул его по ноге и сиплым голосом с ирландским акцентом произнес: — Ты что здесь делаешь? А ну вали отсюда, или я арестую тебя за бродяжничество. Джино вскинулся и уставился на полицейского. — Бродяжничество? Это что, шутка? — С чего ты взял? — коп угрожающе замахнулся дубинкой. Джино поднялся на ноги. Дерьмовые копы! Гнусная шайка паразитов! Банда Сантанджело регулярно платила отступные целому взводу. На всякий случай он убрался из парка. Кому нужны лишние неприятности?* * *
Розовый Банан был в стельку пьян. Он терся о Синди на танцевальном пятачке и орал прямо ей в ухо какие-то песни. — Пинки! — отбрыкивалась она. — Шлюха! — прошипел он и еще сильнее облапил ее, ухватив обеими руками за мягкое место. Она украдкой поглядела на дверь. Где же Джино? — Пошли домой, — пьяно пробормотал Банан. — Так уж и быть, доставлю тебе удовольствие. — Мне от тебя ничего не нужно! — огрызнулась она. — Да ну? — он грязно ухмыльнулся. — А тряпки? А побрякушки? А меха? — Что-то я до сих пор не видела ни мехов, ни драгоценностей, — сварливо заявила Синди. — Веди себя хорошо, куколка, ты только хорошо себя веди, — в этот момент Банан споткнулся и чуть не грохнулся на пол. Синди презрительно фыркнула. — Я пошла, — и направилась к столику, где сидела свора его друзей. Как же она их всех ненавидит! Розовый Банан поплелся за ней. Его она ненавидит больше всех. На искусно накрашенные глаза девушки навернулись слезы. Она угодила в собственный капкан, и единственным, кто мог ей помочь, был Джино. А он даже не удосужился прийти. Банан потной рукой цапнул ее за колено. Она поспешила положить ногу на ногу, чтобы он не продвинулся дальше. Знает она его штучки. С него станется — у всех на глазах залезть ей под юбку. Ведь она его собственность! — Вы посмотрите, кто пришел! — внезапно заорал Розовый Банан. — Джино Сантанджело собственной персоной! Джино небрежно кивнул всей честной компании. От окружавших Банана головорезов трудно быть ждать чего-нибудь хорошего. — Что новенького? — Банан рыгнул. — Когда наш следующий вояж? Джино свирепо уставился на него. Банан слишком распускает язык. Синди бросила на Джино благодарный взгляд. — Не знаю, Пинки, когда твой следующий вояж, а я советовал бы тебе держать язык за зубами, не то жди неприятностей. Банан загоготал и обвел взглядом своих прихлебателей. — Мой босс, знаете ли! Важная шишка! Живет в выгребной яме и обожает наводить шорох на всю округу. Не замечает, что творится под самым носом. Джино едва заметно усмехнулся. Все. С Бананом покончено. Он встал. — Ты куда это? — осклабился Розовый Банан. — Домой, дрочить над письмом любимой? Джино холодно посмотрел на него и неожиданно мирно произнес: — Знаешь что? Подавишься ты своим длинным языком. Глаза Синди беспомощно заметались между этими двоими. Она соскользнула со стула. — Я в дамскую комнату, дорогой. Банан не обратил на нее внимания. — Ах, так? — Да, так, — твердо ответил Джино. Их взгляды встретились; оба пылали ненавистью. Наконец Розовый Банан опомнился и принужденно рассмеялся. — Шучу, старина. — Что-то в глазах Джино заставило его отступить. — Ясное дело. — Оставайся, выпьем с нами. — Не-а. Я ищу Альдо. — Я его не видел. Джино снова окинул взглядом сидящих за столом. Отбросы общества. И Розовый Банан тоже. Одного поля ягода. — Пока. — До завтра, — теперь Банан рвался угодить. — Ага, до завтра. — Джино пробрался к выходу. За дверью поджидала перепуганная Синди. — Держи свои деньги. — Я чуть не умерла со страху, — она в отчаянии повисла у него на руке. — Завтра сядешь на поезд и умотаешь. — Завтра может быть поздно, — с дрожью в голосе вымолвила она. — Пинки грозился убить меня. С него станется. — С какой стати ему тебя убивать? — Считает, будто я сплю со всей округой. — А. Ну и что же ты — спишь? — Конечно же, нет. Ох, Джино! — девушка обняла его. — Умоляю тебя, забери меня отсюда — прямо сейчас. — Все ее маленькое тело сотрясали рыдания. Джино ощутил тепло ее бедер и грудей и моментально отреагировал. Ему нужна женщина. Ох, как ему нужна женщина! И никакая Леонора больше его не остановит. Боль в паху становилась нестерпимой. Синди почувствовала его растущее возбуждение и еще крепче прижалась к нему. — Возьми меня к себе, Джино, — прошептала она. — Пусть нам обоим будет хорошо. Завтра я сяду на поезд до Калифорнии. А сегодня хочу быть с тобой. Он решился. — Давай выбираться отсюда, пока он не спохватился и не вздумал тебя искать. — Ты не пожалеешь, — выдохнула Синди.* * *
Теплая, ласковая, сладкая… Все, о чем он мечтал. У нее было влажно под очаровательным треугольником светлых волос, и она мурлыкала, как котенок. Идеальная грудь с набухшими, медовыми сосками! Острые зубки, слегка покусывавшие его плоть, когда она взяла ее в рот. Он вытворял, что хотел, с ее покорным телом. Да, Джино перепробовал много женщин, но эта оказалась слаще всех. Кульминация длилась добрых пару минут — во всяком случае ему так показалось. Наконец хлынула лава и затопила благодарные недра женщины. Синди ахнула и застонала от блаженства. А когда он ткнулся головой у нее между ног и высосал свой собственный нектар, она не удержалась и закричала от восторга. Она переменила позу, чтобы ласкать его горячим языком. Он очутился над ней на карачках и без конца входил и выходил из ее умелого рта. А когда снова кончил, она благодарно проглотила все до капли, словно это был божественный напиток. Джино лежал без движения и пытался угадать, сколько же прошло времени. Потом встрепенулся, по очереди взял в рот ее соски и засунул ей пальцы между ног, а она лежала тихо, наслаждаясь каждым мгновением, пока не забилась в сладких судорогах. Но ему показалось недостаточно. Синди не возражала. Джино перевернул ее на живот и вошел в нее сзади, по-собачьи. Третий оргазм заставил обоих содрогнуться. Только после этого Джино почувствовал себя удовлетворенным. Он скатился с Синди и лег на спину. Напряжение покинуло его тело. Он с глубокой грустью подумал о Леоноре. Потом погладил Синди по голове. — Это действительно было что-то! Она похотливо захихикала. — Я же тебе говорила, разве нет? — Что именно? — Что ты не пожалеешь!Кэрри, 1928
Опиум. Это вам не марихуана. Уносишься в заоблачную высь и паришь легким облачком надо всем и всеми. Кэрри никогда еще не была такой счастливой. А все Уайтджек. Это он дал ей попробовать на одной вечеринке — как когда-то марихуану. «Твоя премия, детка!» — пробормотал он на гулянке в Чайнатауне. Сначала она испугалась: какая-то непонятная трубка, чаша с огнем и кругом люди, возлежащие на кушетках. — Что-то не хочется. — Брось, женщина. У тебя был трудный вечер. Это поможет запомнить одно хорошее. Можешь мне поверить. Она поверила и затянулась — раз, другой. Все вокруг стало просто замечательным! Ее охватила сладкая истома. Что сталось с ее мечтой о том, чтобы стать хозяйкой собственной судьбы? Ее заменила любовь. К сутенеру. И кто же он ей теперь? Уайтджек по-прежнему оставался ее мужчиной. Взял в свои руки их совместное дело. И пичкает ее наркотиками, к которым она прямо-таки пристрастилась. Но эта страсть начала пугать ее. Наркотики сделались существенной частью ее жизни. Накурившейся, ей было море по колено. Но бывало и такое: Кэрри просыпалась по утрам с мыслью о самоубийстве — довольно часто за эти годы. Уайтджек мгновенно чуял неладное и глушил ее тоску новыми, более сильными дозами. Тогда она с легкостью забывала плохое и вновь отдавалась блаженству. Вокруг милые, улыбающиеся лица… ее все любят… И Уайтджек. Ее мужчина. Высокий, сильный и властный. Для него она горы свернет. Однажды ее растолкала Люсиль. — Кэрри, ты знаешь, я люблю вас обоих: и тебя, и Уайтджека. Но этот человек тебя погубит. Тебе нужно лечь в клинику. Кэрри спросонок уставилась на подругу. — В клинику? О чем ты говоришь? — О твоей жизни. Кэрри захихикала было — и вдруг разразилась слезами. Люсиль прижала ее к своей груди. — Я увезу тебя отсюда. Давай-ка быстренько одевайся, пока Уайтджек с Долли спят. Правда, милочка, тебе нужно уехать. — Вот как? — в дверях стоял Уайтджек. — Никуда она не денется. Я напущу на нее копов. Они живо водворят ее обратно на остров — стоит мне рассказать, что я знаю. — Мне плохо, — захныкала Кэрри. — Дай мне чего-нибудь… Уайтджек метнул свирепый взгляд на Люсиль. — Выметайся. Та испуганной мышью прошмыгнула мимо него. — В чем, собственно, дело? — участливо спросил Уайтджек. — Что беспокоит мою малышку? Кэрри наморщила лоб. Что-то было не так, но она не могла вспомнить, что именно. Клиника… Люсиль собиралась в клинику. Да. Наверное, Люсиль заболела. — Я тут кое-что припас для тебя, — утешал Уайтджек. — Кое-что за-меча-тельное! Давай свою милую ручку. Мигом очутишься в раю. Кэрри вздохнула. Рай. Звучит великолепно. Она протянула руку. Уайтджек туго обмотал ее шелковым шнуром, чтобы проступили вены. Достал из кармана халата шприц для подкожного впрыскивания. Наполнил его героином. Теперь не нужно мотаться в Чайнатаун всякий раз, когда ей требовалась доза опиума, или швырять деньги на чудодейственный белый порошок — кокаин. Героин — вот что ей нужно. Он, Уайтджек, имеет доступ, и, стало быть, теперь она полностью зависит от него. И потом, ведь он делает ее счастливой. Помогает отправиться в волшебное небытие, где всем легко и приятно. Кэрри улыбнулась. Она сидела перед ним в чем мать родила, и это начало действовать на Уайтджека, но они только что вернулись с вечеринки, где Кэрри танцевала, занималась стриптизом, а потом любовью — с Люсиль, Долли, кем-то из зрителей. А чуть позже они вчетвером сцепились в единый клубок. Если сейчас он предастся с ней любви, она не заметит разницы. В комнату вошла Долли и недовольно посмотрела на обоих. — Ты идешь спать? Взгляд Уайтджека заметался от одной женщины к другой. Не так уж трудно сделать выбор. Ему всегда нравились крупные, сильные женщины, а у Долли хватит сил на двоих. Кэрри проводила их мутным взглядом. Ей не хотелось оставаться одной. Она выползла из-под одеяла и поплелась к окну. Оно оказалось открытым, и ей не составило труда спуститься на улицу по пожарной лестнице. От холода по всему телу побежали мурашки, но Кэрри не обратила внимания. Один раз она оступилась и чуть не грохнулась с лестницы. На земле она тотчас наступила на стекло. Хлынула кровь, но Кэрри только захихикала. Между двумя контейнерами для мусора устроил себе убежище какой-то бродяга. Прижимая к груди бутылку с драгоценным зельем, он тупо смотрел, как мимо ковыляет голая девушка, и думал, что это действие алкоголя. Кэрри вышла из скверика на улицу и начала пританцовывать. Ее заметили двое парней, стоявшие в подворотне. — Ни фига себе! — воскликнул один. — Ты ее тоже видишь или это обман зрения? — Ясно, вижу. Они обменялись многозначительными взглядами, а затем посмотрели по сторонам. Улица была пустынна. — Кажется, нам повезло на халяву. Бежим! Догнав Кэрри, они встали по бокам от нее. — Привет, мальчики! — обрадовалась она. Парни снова оттеснили ее в сквер и повалили на землю. Старший расстегнул штаны и принялся за дело. Кэрри испустила глубокий вздох. — Ты такой краси-и-вый! Младшему стало не по себе. Он привык к тому, что девушки кусались, царапались и только потом уступали. Старший ухмыльнулся. — Твоя очередь, Терри. — Что-то не хочется. — А, брось. Это же бесплатно, и потом, она такая горячая. Терри неохотно расстегнул брюки. Эрекции не было, но ему было стыдно перед приятелем. Он распростерся над девушкой и сделал вид, будто получает удовольствие. — Все? — спросил Джейкоб. — Секундочку! — Терри сымитировал оргазм и слез с Кэрри. Оба поглядели вниз, на бессмысленно ухмылявшуюся девушку. — Сбежала из психушки, — решил Джейкоб. — Давай рвать когти. И они ринулись прочь. Тем временем приковылял старый пьяница — посмотреть, что за шум. Кэрри лежала возле кучи мусора. — Привет, — пробормотала она, простирая к нему руки. — Хочешь позабавиться с маленькой Кэрри? Бродяга не верил своему счастью. Он бережно поставил бутылку на землю и стащил грязные штаны. Кэрри радостно приняла его. — У, какой ты большой! Просто чу-у-удо!* * *
Ее разбудил утренний шум — крики детей, звон молочных бутылок, собачий лай. Потом она ощутила неудобство от долгого лежания на земле. Она вся дрожала. Какое-то время Кэрри думала, что видит это во сне. Она лежит в сквере… совсем голая… и совсем светло… Потом она вдруг встрепенулась и села. Ее охватил ужас. Где Уайтджек? Долли? Люсиль? Как она здесь очутилась? Что происходит? Кэрри подтянула колени к груди, чтобы скрыть наготу, и откатилась к стене. У нее раскалывалась голова. Болело сердце. В горле пересохло. На глаза навернулись слезы. Она изо всех сил заморгала, чтобы удержать их. Что она здесь делает? Думай, Кэрри, думай! В памяти смутно всплыла вечеринка. Все было как в тумане. Уайтджек сделал ей укол, и она добросовестно исполнила свой номер. Кэрри лихорадочно вскочила и тотчас прислонилась к стене. Только теперь до нее дошло, что это стена ее дома. Рядом послышался шум. Это храпел бродяга, развалившись на спине рядом с контейнером для мусора. Кэрри содрогнулась. Он повернулся во сне; бутылка выскользнула из рук и разбилась. Кэрри вскочила на ноги и тотчас почувствовала острую боль в ступне. Все же она сообразила подняться вверх тем же путем, каким спустилась. К счастью, окно так и осталось открытым.
Только очутившись в своей спальне, она позволила себе разрыдаться. Ей стало по-настоящему страшно. Она потеряла контроль над собой. Наркотики помутили ее рассудок. Это начало распада личности. И гибели. Даже не прикрывшись, Кэрри вихрем ворвалась в комнату Долли. Они спали рядышком — пышная белая блондинка и чернокожий верзила Уайтджек. Ее мужчина. Теперь он каждую ночь проводит с Долли. — Просыпайтесь, вы! — заорала Кэрри. — Слышите? Подъем! — Ч-черт! — пробормотал Уайтджек, с трудом разлепляя веки. — Заткнись, женщина! Ч-черт! — В чем дело? — Долли заворочалась в постели, словно белый кит, выброшенный на сушу. — Что еще случилось? — Я провела ночь на улице! — вопила Кэрри. — Прямо на улице! — О чем ты говоришь? — проворчал Уайтджек. — Совсем спятила? — Вышвырни ее отсюда! — потребовала Долли. Вбежала Люсиль. — Что происходит? — Откуда я знаю? — прорычал Уайтджек. — Она совсем рехнулась. — Ничего я не рехнулась, — выла Кэрри. — Ты день и ночь накачиваешь меня наркотиками, так что я уже не знаю, на каком я свете. Я спала на улице, голая. Слышишь ты? Голая, голая, голая! — она яростно выплевывала слова. Уайтджек выбрался из постели и заключил Кэрри в объятия. — Тебе приснилось. С тобой все в порядке. Просто приснилось, вот и все. Кэрри растерялась. — Правда? — Ну конечно. Идем со мной, я сделаю так, что все плохие сны забудутся. — И он увел ее из спальни Долли. Та повернулась на бок и продолжала дрыхнуть. Люсиль покачала головой. Она много чего повидала на своем веку, и ей было ясно: Кэрри плохо кончит. Ничего не поделаешь.
Джино, 1928
Первая проснулась Синди. Опершись на локоть, она рассматривала спящего Джино. Тот лежал на животе, ей был виден его красивый профиль. Во сне он казался совсем юным — обычно его старил жесткий взгляд угольно-черных глаз. Синди давно решила разделить с ним ложе, и вот — ап! — ее желание исполнилось. Она вздрогнула от возбуждения. Какой он искусный любовник! Конечно, после Розового Банана любой покажется Прекрасным Принцем. Впрочем, ее сексуальный опыт не ограничивался Пинки. Было еще несколько парней — они ничем не отличались от него. А у Джино есть подход к женщине. Он чувствует женщину, как самого себя, и прекрасно знает, что делать со своими руками, языком и пенисом. Синди повела плечами и подумала, что надо бы его разбудить. Но он так сладко спал, что ей стало жалко его тревожить. Она ни за что не рассчитывала на столь легкий успех; ведь всем известно, что он помолвлен с девушкой из Сан-Франциско и до сих пор был свято верен своей любви. И вот все переменилось. Синди бросила еще один взгляд на спящего Джино и попыталась угадать: что он решит насчет нее, когда проснется? Неужели даст денег и посадит в поезд до Калифорнии? Хотелось надеяться, что нет. У нее пропала охота уезжать. Но и трудно ожидать, что он оставит ее у себя. Она любовно погладила одну из своих изумительных маленьких грудей и играла с соском до тех пор, пока он не отвердел и не встал торчком. Потом сделала то же самое с другим. От одной мысли о том, что рядом лежит Джино, внизу живота стало тепло и влажно. Синди склонилась над ним и потерлась грудью о его спину. Он пошевелился, но не проснулся. Синди продолжала тереться грудью. Наконец он, по-прежнему с закрытыми глазами, повернулся на спину — пенис торчком и в полной боевой готовности. Синди насадила себя на него и понеслась вскачь; у нее раскраснелись щеки и участилось дыхание. Огненная вспышка — и она кончила. Джино все так же лежал, смежив веки; пенис оставался твердым. Синди скатилась с него и рассмеялась. — Эй, Джино, как ты мог это проспать? Он не откликнулся. Тогда Синди наклонилась и, присосавшись к нему, моментально довела его до исступления. Тогда только он соизволил открыть глаза. Взъерошил свои черные волосы и пропел: — Доброе утро! — Я думала, ты никогда не проснешься, — весело сказала она. — Я все это время бодрствовал. Синди усмехнулась: — Скажем так: одна твоя часть бодрствовала. — Тебе понравилась эта часть? — О да! Джино спрыгнул с постели и устремился к двери. — Ты куда? — В уборную — это дальше по коридору. Не уходи. Можно подумать, что она собиралась! Синди встала и принялась изучать свое лицо в осколке зеркала на старом комоде. Сидя в уборной, Джино подводил итоги. Нужно признаться, он превосходно себя чувствует! Вот уж не ожидал, что в ближайшие дни, недели, месяцы, годы ему может быть хорошо с женщиной. Воспоминание о Леоноре вызвало спазм в желудке. Но он больше не будет доверчивым молокососом — никогда в жизни! Начиная с сегодняшнего дня он станет хозяином своей жизни. У него куча денег и приемлемое жилье. Он больше не будет откладывать деньги — чего ради? Когда он вернулся в свою комнату, Синди с надутыми губками сидела на кровати. — Девочка голодна. У тебя найдется, чем ее покормить?* * *
Джино одевался в одном углу комнаты, Синди — в другом. О будущем не было сказано ни слова. Синди нервно кусала губы. Ей вовсе не улыбалось быть отправленной в Калифорнию. Она предпочитает остаться. Они снова занимались любовью. Его было не остановить, пер, как таран — вот откуда такое прозвище! Но после любви — никакого серьезного разговора, только игривое подтрунивание — пока его взгляд не упал на часы и он не воскликнул: «Я опаздываю!» И они продолжали одеваться. Синди натянула шелковые чулки и закрепила дешевыми розовыми подвязками. Украдкой поглядела на натягивавшего брюки Джино. Он поймал ее взгляд и подмигнул. Но как появиться на улице в таком виде? На ней было вчерашнее вечернее платье из розового атласа, с очень глубоким декольте. — Эй, — уронил Джино, — ты собираешься путешествовать в таком наряде? Она сделала беспомощный жест рукой. — Я не могу забрать свои вещи. Если Пинки заподозрит, — у нее дрогнул голос. — Ох, Джино. Что мне делать? — В горле застряли слова. Синди перестала одеваться и глубоко задумалась. — Я думал, ты торопишься успеть на поезд. Синди потупилась. — Это было до того, как… Он передернул плечами. — Да? — Все правильно, — еле слышно вымолвила она. — Но мне расхотелось. Я мечтаю остаться с тобой. — Послушай, — начал Джино, но она не дала ему договорить. — Нет, это ты послушай. Я знаю, ты скоро женишься. Но я просто хочу побыть с тобой — пару недель. Ничего серьезного. Просто хорошо проведем время. А потом я уеду — без всяких упреков. Просто сяду в поезд и укачу. Что ты об этом скажешь? Он понятия не имел, что сказать. Вообще-то ему не о чем волноваться. Две недели с Синди и ее сочным телом — небольшая жертва. Жаль, что раньше она была с Розовым Бананом. — Иисусе Христе! — он немного покачался на пятках. — Просто не представляю. — Твоя невеста не узнает, — затараторила она. — Мы сохраним это в тайне. Разве у тебя нет еще одной квартиры — в деловой части города? — Откуда ты знаешь? — Слухами земля полнится. Да. Он не очень-то держал язык за зубами. — Переберемся туда, — взволнованно убеждала Синди, — и никто ничего не узнает. Это совсем другой район. Даже Пинки не пронюхает. Что ж, котелок у нее варит будь здоров. Какого черта… Всего-то пару недель… Что он теряет? — Вот что, детка, оставайся здесь, а я проверну кое-какие дела. А потом сядем в такси и съездим посмотрим, что да как. — Ох, Джино! — Синди бросилась ему на шею. — Ты просто прелесть! — Эй! — он оторвал от себя ее руки. — Только на пару недель. Заметано? Она широко распахнула невинные голубые глаза. — Ну конечно. Можешь в любой момент вышвырнуть меня на улицу. — До тех пор, пока мы понимаем друг друга… — Правда? — она слегка покусала ему мочку уха. — Ох, Джино, мы прекрасно понимаем друг друга, разве не так? — Ее рука добралась до ширинки и начала расстегивать пуговицы. — Стоп! — он шаловливо шлепнул ее по руке. — Мне некогда. — Он посмотрелся в зеркало и энергично встряхнул густой черной шевелюрой, прежде чем смазать ее бриолином. — Увидимся, детка. Синди помахала ему из окна. Джино Сантанджело, как же легко ты купился! Пару недель? Ха! Ты хотел сказать — до тех пор, пока хочет маленькая Синди!* * *
Альдо жевал чеснок, это была одна из его малосимпатичных привычек. — Нельзя же просто взять и сказать, что мы в нем больше не нуждаемся. Ты ведь знаешь Пинки, он нас мигом заложит. Джино сидел на кузове старого «форда». — Да пошел он! — он энергично сплюнул. — Мне нет никакого дела. Альдо озабоченно мерил гараж шагами. — Мы все время были вместе. С самого начала. — Э, нет. Мы просто наняли его для охраны. До того нам прекрасно работалось вдвоем. — Так-то оно так. Но, по-моему, он считает себя компаньоном. Джино аж зарычал от злости. — Иисусе Христе! Неужели ты согласен и дальше с ним работать? Согласен, да? — Нет, но я просто… — Мандражируешь, — закончил за него Джино. Альдо пожал плечами. — Попробуй сказать Пинки, что ты в нем больше не нуждаешься, — неприятностей не оберешься. — Слушай, он вовсе не наш компаньон. Мы просто платим ему деньги. Мы его наняли. А теперь собираемся уволить. Ясно? — Должно быть, ты прав… — Еще бы! Голову на отсечение! Банан нечист на руку. Якшается со всяким сбродом. В придачу у него слишком длинный язык. Я не собираюсь загреметь по его милости. Альдо почти согласился. — Ты сам ему скажешь? — И незамедлительно. Часом позже явился Розовый Банан. У него был такой вид, словно он только что вывалился из постели какой-нибудь проститутки. Так оно и было. На нем был вчерашний костюм, и от него несло выдохшимся одеколоном. Он не поздоровался, а прямо с порога прорычал: — Ну, так какое будет задание? Быстро выкладывайте: когда, где, и я пойду немного подрыхну. Ночью попалась такая горячая сучка, совсем заездила. Альдо переминался с ноги на ногу. Джино сохранял хладнокровие. — Понимаешь, Пинки. Мы против тебя ничего не имеем, но вот посоветовались и решили, что так дальше не пойдет. Розовый Банан сузил налившиеся кровью глаза. — Как не пойдет? Джино обвел рукой гараж. — Ну, все это… — О чем ты говоришь? — Я тебя увольняю, — спокойно произнес Джино. Пинки не верил своим ушам. — Черта с два ты меня увольняешь. — Да. Черта с два я тебя увольняю. — Они очутились лицом к лицу. Джино ткнул Пинки в живот и сказал: — Ты сильно изменился в худшую сторону. Я не желаю рисковать свободой из-за твоего брехливого рта. — Ага! — взревел Пинки. — Связался с Боннатти, и я уже стал не нужен? Джино смерил его тяжелым, холодным взглядом. — Понимай, как хочешь. — Чертов импотент! Только попробуй меня уволить, и ты пожалеешь! Ах, ах, шайка Сантанджело! Обхохочешься! Да без меня вы — ноль! Ты лишишься всего своего товара прежде, чем молоко в титьке скиснет! Джино посмотрел в сторону. — Исчезни. — Не смей говорить мне «исчезни»! Пинки был дюйма на четыре выше и на двадцать пять фунтов тяжелее, но, первым нанеся удар, получил весомую сдачу. Джино тотчас снова очутился на ногах, развернулся, на полпути отразил новый удар и нанес встречный — прямо в переносицу. Что-то хрустнуло; хлынула кровь. Пинки поднес руку к лицу. — Ах ты, подонок! Сломал мне нос! — Кровь сочилась сквозь пальцы и капала на пол гаража. — Это тебе за Синди! — прорычал Джино. — Она передавала тебе привет. Пинки не слушал — он пятился к двери. — Ну, ты еще получишь! — посулил он, пытаясь при помощи носового платка остановить кровотечение. — Ты у меня еще получишь! — Я весь дрожу! — Да уж стоило бы! — крикнул напоследок Банан и исчез за дверью. Джино ликовал. — Ну, я же говорил, что все будет о'кей! Альдо не разделял его торжество. — Зачем тебе понадобилось лезть в драку? Джино смерил и его жестким взглядом. — Тоже захотелось? — Не пугай, я пуганый. Что там насчет Синди? — Она его бросила, а он вроде еще не знает. — И куда она делась? Джино слегка смутился. — Кажется, умотала в Калифорнию. Слушай. Надо бы звякнуть Энцо. — Ага, — согласился Альдо и вдруг спросил: — Как Леонора? Получил письмо? — Нет еще. — Джино обнял приятеля за плечи. — Знаешь что? Чем дольше она тянет, тем больше меня берут сомнения. Жениться… Черт! Все-таки я ее плохо знаю… Альдо изумленно вытаращил глаза. — Я не ослышался? Джино напустил на себя глупый вид. — Странно, да? Видишь ли, я целый год состоял с ней в переписке, но если бы мы сейчас встретились… Это трудно объяснить. У меня такое чувство, что я просто навоображал черт знает что, а она обыкновенная девчонка — менструация и все такое прочее. — Так ты не женишься? — Этого я не говорил. Просто начал сомневаться… Альдо продолжил жевать чеснок. — Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Иногда я тоже подумываю жениться на Барбаре, а потом страх берет. — Вот-вот, — подтвердил Джино. — Это самое. — Он искоса посмотрел на Альдо. Почва подготовлена, и зерно брошено в почву. Через недельку-другую он скажет: «Черт побери, я, кажется, передумал», — и никто не удивится.* * *
Миссис Ланца настояла на том, чтобы показать Косте город. Усталость сразила ее на полпути к зоопарку. «Господи! — запричитала она, опускаясь на скамейку. — Все, Коста, с меня довольно». Он издал несколько подобающих случаю нечленораздельных звуков. В ответ миссис Ланца разразилась целым монологом: как она жаждала показать ему весь город, да сердце пошаливает, придется возвращаться домой. Коста вывел ее из парка, посадил в такси и воздал хвалу звездам за освобождение. Он ринулся в метро и скоро уже был возле дома, где жил Джино. Быстро взлетел по лестнице и замолотил в дверь. Открыла миниатюрная блондинка. — Ты кто? Он уставился на нее. Девушка была чрезвычайно хороша собой. — Я — Коста, близкий друг Джино. А вы кто? Она облизнула полные накрашенные губы. — А я — Синди, его очень близкая подруга. — Она вызывающе подмигнула Косте, а голубые глаза — немного темнее, чем у Леоноры, — мигом оценили его всего, с головы до пят. — Не очень-то ты похож на его друга, малыш. Коста вспыхнул. — Я не малыш! — Меня не проведешь. Он устыдился своего смущения и нарочито сурово произнес: — Джино дома? Я зашел навестить его. Синди разразилась смехом. — Зашел навестить Джино? Ох, умора! «Заходят» к девушкам, дурачок, а не к мужчинам! Коста потерял дар речи. Мысли смешались. Что она здесь делает? Только вчера он был свидетелем бурного отчаяния Джино при известии о замужестве Леоноры. Неужели он ловко притворялся? — Когда вернется Джино? — упрямо спросил Коста. Синди равнодушно пожала плечами. — Понятия не имею. Он потоптался на пороге. — Можно мне его подождать? — Нет, — жеманно ответила она. — Мало ли кто ты такой. — Я друг Джино, Коста Зеннокотти. Мы договорились встретиться раньше, но я задержался. — А знаешь что? — она снова подмигнула. — С тобой приятно поболтать. Откуда ты взялся? — Из Сан-Франциско, — начал Коста и вдруг оборвал фразу, заслышав шаги на лестнице. Появился сияющий Джино. — Коста! Где ты пропадал? Мы же договорились на двенадцать. — Я… — Вижу, ты уже познакомился с Синди. — Джино вдруг сообразил, как это выглядит со стороны, и неуклюже пояснил: — Подруга попала в беду, пришлось выручить. Все трое ввалились в тесную комнатушку. Косте сразу бросилась в глаза разобранная постель с измятыми простынями. Он перевел взгляд на платье девушки. — Слушай, детка, — сказал ей Джино. — Побросай-ка пока мои вещи в чемодан. Я прогуляюсь с Костой, а потом мы отсюда съедем. Она пригладила платье. — Хорошо. Но мне нужно переодеться. Не могу же я разъезжать по городу в таком виде. — Не волнуйся. Позже прибарахлимся. — Он обнял Косту за плечи, и они вышли. На улице Джино сразу заговорил: — Слушай, малыш, буду с тобой откровенен. Да, я с ней трахнулся вчера. Впервые с тех пор, как познакомился с Леонорой. — Он невесело усмехнулся. — Как тебе это нравится? Джино-Таран превратился в сосунка Джино. Но теперь я намерен наверстать упущенное. Хватит с меня! — Понимаю, — смущенно начал Коста. — Черта лысого ты понимаешь! Я сам себя не понимаю! Единственное, о чем я тебя прошу, это держать язык за зубами. Мне важно оставаться помолвленным. — Конечно. Буду нем, как рыба. — Да уж, иначе башку оторву. Коста обиделся. — Можешь мне доверять. Неужели ты меня еще не знаешь? Джино несколько секунд сверлил его взглядом. — Пожалуй, — и он шутя ткнул Косту пальцем в живот. — Пошли, малыш, у нас сегодня переезд. Поможешь.* * *
Оставшиеся дни пролетели, как на крыльях. Коста проводил все время с Синди и Джино, помогал им обставлять квартиру, ходил с ними в кино, давал советы при покупке одежды на Пятой авеню и вообще повсюду таскался с ними. Изредка Джино ненадолго пропадал в родном квартале, встречаясь с приятелями. В его отсутствие Синди развлекала Косту, пародируя кинозвезд. Особенно ей удавались великая Долорес Костелло и божественная Лилиан Гиш. Каждый вечер к шести часам он был обязан возвращаться к Ланца. — Но это же идиотизм! — поразился Джино. — Предупреди старую каргу, что задержишься. Но у Косты не хватало духу. Однако в последний вечер Джино не потерпел отговорок. — Ну их к свиньям! Какого черта, что они тебе сделают? Мы едем в город — и никаких! Коста не стал спорить, и это был самый лучший вечер за все время его пребывания в Нью-Йорке. Он повторил свой подвиг с драной шлюхой из Сан-Франциско, трахнув на полу гостиной девушку из бара. Это было восхитительно! Коста притащился в дом на Бикмен-плейс только к завтраку. Миссис Ланца с каменным лицом встретила его в прихожей; рядом стояли его уложенные чемоданы. — Я обо всем сообщу твоему отцу! — и она хлопнула дверью ему в лицо. Коста отправился прямиком к Джино и оставался там чуть ли не до самого отхода поезда. На прощанье Синди обняла и расцеловала его. — Нам будет не хватать тебя, малыш, — сказала она, подражая Джино. В дороге Коста с наслаждением перебирал в памяти впечатления от поездки. Его не пугало предстоящее объяснение с Франклином и даже возможное наказание. Оно того стоило. Единственное, что его тревожило, это то, что он не открыл Джино правду о беременности Леоноры. Но так ли уж это важно? Когда она родит, он выждет несколько месяцев, а уж потом сообщит приятелю. Джино лучше не знать всех обстоятельств. Косте ни за что не хотелось причинять ему лишние страдания.* * *
Синди потянулась и захихикала. — Наконец-то одни. Как же мы теперь без малыша? — она разлеглась на кровати; сквозь прорези халата были видны стройные ноги. Джино погладил ее по ноге. — Да уж… найдем, чем заняться. Синди снова захихикала и задрала халат до пояса. Джино провел рукой от бедра до треугольника густых золотистых волос. Она замерла и ахнула, когда он двинулся дальше. — О! Джино, как мне нравится, когда ты так делаешь! Как хорошо! — Да ну? — он перевел дыхание. — Ну-ка расскажи мне об этом, детка! Она вся трепетала. — Обожаю твой язык, рот, руки! О-о-о! Джино… О-о-о!.. — Синди выгнула спину и кончила. — Рассказывай дальше. Она перевернулась на живот. — Не могу, мне так хорошо! Мне еще никто так не делал. — Да что ты? — Джино был польщен. — Пинки никогда не лизал меня там. Он говорил, что все девушки грязные, и отказывался ласкать меня ртом. Возбуждения как не бывало. Джино чертыхнулся. — В чем дело? Он скатился с кровати. — Какого черта ты талдычишь о Пинки? — Извини. — Я не желаю знать, что он любил делать и что не любил! — Извини. — Пинки! Иисусе Христе! Как ты могла вообще связаться с ним — в голове не укладывается! — Извини. — Ты когда-нибудь кончишь извиняться? — Ох, извини. Он потопал в ванную. Чертов Розовый Банан! И что только он, Джино Сантанджело, делает с одной из его подстилок? Джино посмотрел на свое отражение в зеркале, наполнил раковину водой и прополоскал рот. Когда Синди скользнула в ванную, Джино брился. Она прильнула к нему и заворковала: — Теперь очередь девочки… — и потянулась рукой. Он оттолкнул ее. — Перестань. У меня деловая встреча. У Синди хватило ума отстать. Закончив бриться, Джино пошел в спальню переодеваться. Он накупил себе кучу шмоток и теперь выбрал черный костюм в широкую белую полоску, темно-коричневую рубашку, галстук в горошек и темно-коричневые лакированные туфли. — Какой ты красавчик! — подлизывалась Синди. — С кем у тебя встреча? На такие вопросы Джино не отвечал. Может, пора вспомнить о Калифорнии? — Я могу поздно вернуться. Пока, — и он исчез за дверью. Синди подождала, пока он не оказался за пределами слышимости, и только тогда дала себе волю. — Скотина! Решил сматывать удочки, да? Подлый ублюдок! Только от маленькой Синди не так-то легко отделаться. Маленькая Синди найдет способ стать для него незаменимой. Не так уж это трудно. В сущности, несмотря на весь его гонор, к Джино легко подобрать ключ. Пинки всегда это говорил.* * *
Джино доехал до Парк-авеню и немного постоял, изучая визитную карточку с вензелем. «Миссис Клементина Дюк, я решил нанести вам визит вежливости». Он еще раз проверил адрес. Шикарный особняк в районе Шестидесятых улиц, между Парком и Мэдисон-сквер. Стоял отличный, солнечный, морозный день. Джино решил прогуляться пешком. Он глубоко засунул руки в карманы нового пальто из верблюжьей шерсти и вызвал в памяти прошедшие несколько недель. Все о'кей! Синди помогла ему наверстать упущенное в смысле секса — и не как-нибудь! Она, точно дикая кошка, падка на всякие эксперименты. Сначала это здорово возбуждало. Потом он привык к тому, что она всегда под рукой, всегда готова раздвинуть ноги. Время от времени не помешало бы и сказать «нет». И все-таки… Скоро она уедет. А ведь она, сама того не зная, помогла ему пережить страшное время. Они вместе радовались, обставляя его квартиру. Какой-никакой, а дом. Прежнее жилье вспоминалось теперь как паршивая дыра с тараканами, рухлядью вместо мебели и ванной в дальнем концекоридора — если повезет и она окажется незанятой. Пару раз заглянула Вера. Правда, они с Синди не очень-то поладили. Впрочем, его это не беспокоило. У Веры теперь новый бзик: говорить о Паоло как о каком-то герое. Это выводило Джино из себя. — Что ты будешь делать, когда он выйдет на свободу и вышибет из тебя мозги? — А, брось, Джино, люди меняются. Ага. А пиписки растут на деревьях. Мудрый Боннатти сдержал слово, открыв для Джино все свои связи. Собственные неприятности в Чикаго побуждали его искать новых контактов на Востоке. Альдо и Джино стали его ближайшими сподвижниками. Он намекнул, что, когда приедет в конце месяца, их ждут великие дела. Тем временем Джино успешно заправлял поставками спиртного из Нью-Джерси. Он был постоянно готов к проколам: ситуация с угонами машин никогда еще не была такой серьезной, — но им пока везло. Джино принял в шайку нового охранника по имени Ред, который недавно приехал из Детройта и казался вполне надежным. Не псих вроде Розового Банана. Последний прочно ушел на дно. Лишь однажды Альдо столкнулся с ним у Жирного Ларри, и Банан пробурчал что-то насчет скорой расплаты. Нагнал на Альдо страху! Что касается Джино, то он только посмеялся. — Гнусный ублюдок, только и силен, что пастью. Он не посмеет начать что-то такое, чего ему не хватит пороху довести до конца. — Ага, — жалобно протянул Альдо. — Пастью да автоматом! Между прочим, Жирный Ларри передавал, что тобой интересовалась та богачка, миссис Дюк. Дело у нее к тебе или что. Зайдешь? — Да. — Джино зайдет. Теперь его некому остановить. Он наступил на кучу собачьего дерьма и ругался все время, пока отскребал от него свои лакированные туфли. Миссис Клементина Дюк, я уже лечу!Кэрри, 1928
Однажды Уайтджек объявил: — Будем делать фильм. — Фильм? — Кэрри округлила глаза. — Настоящий? — Ясное дело, — ухмыльнулся Уайтджек. — Разве я не говорил? Он только забыл упомянуть, что это будет порнофильм, из тех, которые снимают ручной камерой, в обжигающем свете прожекторов. А также о том, что Кэрри уготована роль звезды — ей предстояло в течение двадцати минут ублажить четверых мужчин. Не то чтобы Кэрри шибко возражала. К тому времени Уайтджек так накачал ее наркотиками, что она была согласна на все, что угодно. — Как она естественна! — обрадовался режиссер. — Нужно подобрать хорошего кобеля. Уайтджек хмыкнул, постоял в сторонке, но в конце съемки закатил скандал, потому что приятель-режиссер, коротышка с масляной физиономией, чуть не надул его при расчете. — Ты, сволочь! — бушевал Уайтджек. — Живо гони всю сумму, или от тебя мокрого места не останется! Тот заплатил. — Пошел ты, ниггер, со своей паршивой шлюхой! Уайтджек прижал коротышку к стене и едва не сделал инвалидом. Но вовремя спохватился, что овчинка не стоит выделки, схватил Кэрри за руку и уволок подальше от этого места. Так закончилась ее кинематографическая карьера.* * *
— Она нам слишком дорого обходится, — науськивала Долли. — Зато и приносит прибыль. — Ясное дело. Но как ты думаешь, надолго ли ее хватит? Ты вообще-то давно смотрел на нее в последний раз? Худая, как щепка, глаза-блюдца, руки сплошь исколоты. Пора от нее избавляться. — Как это? — Кто-нибудь увидит тот фильм, и нам крышка. Сколько ей — шестнадцать? Мы из-за нее еще наплачемся, если кто-нибудь донесет, что мы с ней вытворяем. Загремим, как пить дать. — А кто пронюхает? У нее нет никого родных. — Уайтджек задумчиво потягивал кофе. Долли вечно придирается к маленькой Кэрри, это действует ему на нервы. Кэрри его обожает, а ему каждый день требовалась солидная порция восхищения. — Послушай-ка, черномазый. — Долли поднялась из-за кухонного стола и подбоченилась. — Хочешь — оставайся с ней. Только в таком случае скажи до свидания нашей сделке. Я не намерена рисковать. Уайтджек внимательно изучал свои ногти. — Ты мне угрожаешь, женщина? — Просто предупреждаю. — Долли отступила. Ей нравился Уайтджек и весь их бизнес, но не настолько, чтобы загреметь в тюрягу из-за какого-то порноролика. — Я запросто найду тебе другую девушку. Есть одна на примете. Ей двадцать лет, а смотрится на четырнадцать, не чета твоей бродяжке. Чернее тебя и горячее кучи навоза. Хочешь посмотреть? Уайтджек проявил интерес: — Кто такая? Долли ухмыльнулась про себя. Она успела усвоить: путь к сердцу Уайтджека лежит через его игрушку. Для сутенера у него слишком мягкий характер. — Моя находка. Так что скажешь, черномазый? Он отхлебнул еще кофе и решился. Долли права. Кэрри накличет на них беду. — Ну, и что с ней делать? Долли не дрогнула. — Устроим несчастный случай. Где-нибудь подальше отсюда. — Брось, — запротестовал Уайтджек. — Почему бы нам просто не оставить ее на крыльце какой-нибудь больницы? — Ге-ни-аль-но! Да как только эта малолетняя шлюха очухается, нас сразу потащат в полицию. — Кэрри нас не выдаст. — Да? Ты можешь поручиться? Он покачал головой. — Обыкновенный несчастный случай, — настаивала Долли. — Она попадет под трамвай или под поезд метро… спрыгнет с Бруклинского моста. Выбирай. Уайтджек вскочил из-за стола. — Я? Не собираюсь! Глаза Долли превратились в колючие льдинки. — Ах, ты не собираешься? — Нет. — Тогда я сама это сделаю. Они впились друг в друга взглядами. Уайтджек любил женщин с характером, но эта стоит целой банды. Она и впрямь способна на убийство! По спине Уайтджека забегали мурашки. — Когда? Долли пожала полными плечами. — Да хоть сегодня. — Нет, только не сегодня. В эти выходные намечается большая гулянка, некогда возиться с новенькой. — Тогда в следующий понедельник. Начнем новую жизнь. — Ладно, в понедельник, — Уайтджек заглянул Долли в глаза, как бы пытаясь уловить признаки колебания. Не тут-то было! Она ответила ему ледяным взглядом. — Еще кофе? У него заурчало в желудке. Он сделал над собой усилие, чтобы не дрогнул голос. — Ага. И яичницу. Долли усмехнулась. Ясно, он наделал в штаны. Презренный черномазый трус. Но она все-таки привязалась к нему. Чем скорее маленькая Кэрри уйдет с дороги, тем лучше.Джино, 1928
Откровенно говоря, Джино еще не видел в Нью-Йорке такого шикарного особняка — только в кино. Впечатляющая махина за высокой оградой. На один фасад угрохали прорву денег. Джино был потрясен. Кто такая эта миссис Клементина Дюк? Денег у нее куры не клюют, это точно. Кто же ее муженек? А где он? Он позвонил и, достав расческу, тщательно пригладил волосы, смотрясь в зеркальную поверхность отполированной дверной ручки. Нужно предстать перед миссис Дюк в наилучшем виде.* * *
Ну не абсурд ли это? Она, Клементина Дюк, тридцатисемилетняя светская львица, и вдруг помешалась на каком-то уличном хулигане! Великий Боже! Да ему не больше девятнадцати-двадцати! Вот уже несколько недель она постоянно думает о нем, несколько раз заглядывала к Жирному Ларри. Его не было. Наконец она проглотила гордость и попросила Жирного Ларри передать Джино Сантанджело, чтобы он ей позвонил. — Кстати, чем он занимается? — как бы между прочим поинтересовалась она. — Бутлегер, — был ответ. Вот и прекрасно! Они могут стать партнерами.* * *
— Ну, как твоя невеста? — вежливо спросила она. — О'кей. А что? — Просто интересно, когда ты собираешься в Сан-Франциско. Он неловко переступил с ноги на ногу. — Не скоро. Нужно здесь закончить кое-какие дела. Я… э… отложил свадьбу. Клементина кивнула. — Ты слишком молод жениться. — Вы так думаете? — Конечно. Тебе наверняка не больше… — Мне двадцать два. А вам? Ничего себе! От неожиданности Клементина залилась краской. — Джентльмен никогда не спрашивает, сколько даме лет. — Да? Разве я когда-нибудь говорил, будто я джентльмен? Она взяла себя в руки. — Может, пора начать вести себя как джентльмен? — Да ну? — он насмешливо смотрел на нее. — Это с какой же стати? В это время вошел лакей и аккуратно поставил на стол перед миссис Дюк серебряный поднос. — Дэвис просил напомнить, мадам, что в час пятнадцать у вас деловая встреча. — Спасибо, Скотт. Тот удалился. Клементина принялась разливать чай. — Я бы предложила тебе чего-нибудь покрепче, но, кажется, это по твоей линии? — Кто вам сказал? — Не бойся, я не служу в полиции, или в ФБР, или еще где-нибудь. — Надо же. А я-то думал, что у вас под юбкой прячется Эдгар Гувер. — А ты забавный. — Люблю, когда у людей хорошее настроение. — В таком костюме тебе ничего не грозит. Он насторожился. — Что с моим костюмом? Клементина поняла, что задела его самолюбие, и мягко произнесла: — Немного кричащий. Много она понимает! Чертова баба! Он рассмеялся, чтобы дать ей понять: его не прошибешь. — Ну и что с того? Зато сразу видно, что это я иду! — Они бы и так это поняли, — Она протянула ему чашку. — Ну ладно, Джино, перейдем к делу. Он откровенно скользнул взглядом по ее фигуре. Богатая стерва! Ничего у нее не выйдет! — Мы с мужем часто устраиваем разные вечеринки. В этой самой комнате, — она повела рукой, — а еще чаще — на нашей загородной вилле в Уэстчестере. Джино кивнул. Дамочка баснословно богата. — Наши гости обожают на славу повеселиться. Ясное дело. Джино подавил в себе желание расхохотаться. — Хорошая музыка, танцы, — она сделала многозначительную паузу, — и, разумеется, хорошее вино. Естественно. Какое же еще — для мистера и миссис Дюк? — Признаюсь откровенно, в прошлом у нас бывали… э… неприятности. Разбавленное виски и прочая бурда. Сама не представляю, как мы выжили. — Однако выжили. — Как видишь, — Клементина встала и оправила юбку. — Мистер Сантанджело… Джино… ты не хотел бы стать нашим поставщиком на постоянной основе? — Э… — Не по мелочам, — перебила она. — Самое меньшее двадцать четыре ящика в месяц. Естественно, высшего качества по высшим ценам, — Клементина прошлась по комнате; он не отрывал взгляда от ее ног. — Я понимаю, для тебя это слишком маленький заказ, но я буду тебе очень обязана. Уверена, мой муж в долгу не останется. — Чем занимается мистер Дюк? — Сенатор Дюк… Разве я не говорила? Джино проглотил комок. Сенатор Дюк. Иисусе Христе! Ну и вляпался! — Послушайте, — сказал он, — алкоголь, который я перевожу, высшего качества, лучше не бывает. Я… почту за честь снабжать вас с сенатором. Она захлопала в ладоши — прямо как девочка. Не очень-то это вязалось с ее обликом. — Вот и чудесно! Я так рада! Джино поднялся на ноги. Клементина направилась к нему. В туфлях на высоких каблуках она была примерно одного с ним роста. Она остановилась в нескольких дюймах от него. — Мне кажется, мы сможем быть друг другу полезными, — тихо произнесла она, сверля его зелеными глазами. — Ага, — неуверенно промямлил Джино, не в силах понять, то ли она делает ему авансы, то ли что. Он бы непрочь. Классная штучка! Клементина резко повернулась и отошла к своему креслу. — В эти выходные, — сказала она, устраиваясь поудобнее, — у нас намечается вечеринка. Понадобится два ящика «скотча», шампанское, джин, бренди… — Составьте список. Я не подведу. — Да-да, сейчас, — она взяла свой бювар, нацарапала карандашом и, оторвав листок, снова встала и подошла к нему. — Здесь адрес. Постарайся доставить товар к субботе. В любое время. Он быстро пробежал глазами список. — Это не ловушка? Клементина залилась веселым смехом. — Как такое могло прийти тебе в голову? — У меня богатое воображение. Так что зарубите на носу. Всякий, кто подставит Джино Сантанджело, свернет себе шею. Поняли, что я хочу сказать? — О да. У Джино возникло ощущение, будто над ним смеются. — Мне пора. Клементина взглянула на часы. — Да, мне тоже. — Так по рукам? — Да. Полагаю, что да. — Как насчет оплаты? Она облизнула блестящие тонкие губы. — Я приглашаю тебя к нам на званый ужин в субботу. Будет весело. Ты не пожалеешь. Она что, спятила? Приглашает его в гости, хочет познакомить с мужем-сенатором и прочими шишками! — Ага. С удовольствием. — Приезжай в наш особняк в Уэстчестере. К восьми часам. А если захочешь остаться на ночь, у нас полно спален для гостей. Джино кивнул. Иисусе Христе! Он идет на вечеринку, где будут разные шишки! Он — Джино Сантанджело! — Кстати, — добавила Клементина, — ты должен явиться в вечернем костюме. У тебя есть смокинг? Он снова кивнул. Интересно, что это такое? Клементина раздвинула губы в улыбке. — Тогда до субботы. — Она вдруг наморщила свое аристократическое лицо. — Чувствуешь? Чем-то пахнет. Он ухмыльнулся. — Ага. Собачьим дерьмом. Вляпался прямо перед вашим домом. А в чем дело? Вы решили, что это я наложил в штаны? Клементина смутилась. — Разумеется, нет. Я подумала, может, Скотт опрыскивает растения… ядохимикатами… Джино осклабился. — Не-а. Это собачье дерьмо. А знаете, что говорят? — он подмигнул. — Вступишь в дерьмо — повезет! Думаю, это хороший знак для нас, миссис Дюк. — Зови меня Клементиной. — Ясное дело. Почему бы и нет?* * *
Джино отправился на встречу с Альдо. Тот ждал его на крыльце. — Слыхал о пожаре? — Где? — У Катто. Вся семья сгорела. Джино решил, что ослышался. — Что-что? — Ага. Они не успели выскочить. Спаслись только Катто да его старикан — они затемно уехали на свалку. Ужасно, да? — Ты видел Катто? — Не-а. — Я иду туда. — Джино бросился бежать. Они с Катто не виделись целый год, но какое это имеет значение — перед лицом такого страшного горя? Возле горящих домов стояли пожарные машины. Тротуар был омыт водой и усыпан осколками стекла. Люди в ночном белье сидели в дверях и на ступеньках. Женщины молча всхлипывали, а мужчины неуклюже их утешали. Джино засунул руки глубоко в карманы своего верблюжьего пальто и огляделся в поисках Катто. — Мистер Сантанджело, извините за беспокойство, — кто-то тронул его за рукав. Он резко обернулся и очутился лицом к лицу с Джейкобом Коэном, тем самым парнишкой, с которым он имел дело по поводу мистера Пуласки. — Да? В чем дело? — Джино стряхнул с себя его руку. — Видели бы вы это пламя! — воскликнул Джейкоб, размазывая копоть по лицу. — До самого неба! Я думал, весь город сгорит. — Как тебе удалось спастись? — Выпрыгнул из окна. — А твои родные? — Они все погибли. Мальчик не плакал — лишь ковырял в носу. — На следующей неделе мне стукнет пятнадцать. Не хочу, чтобы меня отправили в приют. Я могу сам о себе позаботиться. Джино вздохнул. Паренек напомнил ему его самого в этом возрасте. Живучий, как крыса. — Что тебе нужно, Джейкоб? — Полсотни баксов, чтобы убраться отсюда и снять комнату. Я выкарабкаюсь. Мне никто не нужен. — В приюте о тебе будут заботиться. А потом, в шестнадцать лет, тебя отпустят. — Бросьте, мистер Сантанджело. Вы прекрасно знаете, что я не гожусь для школы. Одолжите мне денег, я верну с процентами. Через пару месяцев. Джино нахмурился. — Просто не знаю. Джейкоб склонил голову набок. — Мистер Сантанджело, я неглупый и вполне самостоятельный парень. Неужели я вас подведу? Джино порылся в карманах, нашел бумажник и вытащил пять двадцатидолларовых бумажек. — Вот тебе сотня. На полгода. Не забудь о процентах. Джейкоб не верил своему счастью. Он схватил деньги и приготовился бежать дальше, но Джино остановил его. — Знаешь семейство Боннио? — Ясное дело. — Ты не видел Катто? — Видел. У его папаши инфаркт. Его забрали в больницу. Катто поехал с ним. Джино выхватил из бумажника еще двадцатку и заткнул Джейкобу за пояс. — Это тебе на карманные расходы. Без процентов. — Спасибо. Джино проводил мальчика глазами. Что-то с ним станется? Но это его проблемы. Джино развернулся и зашагал в больницу.* * *
Синди изнывала от скуки. Она убралась в квартире — ну, не так, чтобы как стеклышко, но все-таки. Она не служанка. Все остальное время она проторчала перед зеркалом, примеряя наряды. Она никогда не страдала ложной скромностью — знала, что красива. Мужчины так и бегают, стоит только поманить этаким особенным взглядом. Наивные голубые глаза. Пухлые розовые губки. Остается выпятить соблазнительные маленькие грудки — и готово, они у твоих ног. Мужчины. Неотесанные чурбаны. Зато девушки — большие умницы. Синди кое-что знала о жизни. Она совершила перед зеркалом пируэт и решила, что могла бы стать кинозвездой. Она им ни в чем не уступает! Пресытившись этим занятием, она плюхнулась на кровать. Еще можно попробовать стать международной шпионкой. Этакой роковой женщиной, прыгающей из одной постели в другую. Маленькая Синди обожает это занятие! Она громко захихикала. По всему телу разлилась страстная нега — от пальцев ног до изящной завитой головки. Синди сунула руку между ног. Возбуждение возросло. Она знала, что ей нужно, и никто ей не указ. Живя с Пинки, она ежедневно занималась самоудовлетворением. Этот подонок не заботился о чувствах женщины. Просто доставал свою игрушку и совал, куда надо. Синди моментально освободилась от одежды. Жалко, нет Джино: этот лучше всех знает, что делать со своим хозяйством. Болван! Где он шляется — как раз тогда, когда он ей нужен? Сегодня, впервые за все время, как она с ним, ей захотелось заняться своей собственной маленькой игрой. Теперь уже обе ее руки очутились между ногами. Синди послала всех подальше — и Пинки, и Джино, и всех остальных. Очень они ей нужны, сопляки паршивые!* * *
Возле больницы Джино столкнулся с выходящим оттуда Катто и раскрыл объятия, но приятель оттолкнул его. — Ну, как папаша? — Умер, — безо всякого выражения ответил Катто. Джино не поверил своим ушам. — Умер? Он был здоров, как бык! Катто, не говоря ни слова, пошел прочь, Джино за ним. Он не находил, что еще сказать. Это была странная пара: худой, долговязый Катто в латаных штанах и Джино в элегантном дорогом пальто. — Что думаешь делать? — участливо спросил он. Катто молчал. — Деньги есть? Идиотский вопрос! Откуда они у мусорщика? Иисусе Христе! От него до сих пор разит всякой дрянью. — Слушай, переезжай ко мне. У меня квартира в районе Сороковых. Катто резко мотнул головой. — Тебе же некуда податься. — Откуда ты знаешь? Мы сто лет не видались. Что ты вообще можешь обо мне знать? — Мы же друзья… — Друзья, дерьмо собачье! Ты спутался с Пинки, мне ты больше не друг! — С Пинки покончено. Ты был прав насчет него. — Ага. Теперь у тебя в банде другие наемные убийцы. — Наемные убийцы! Не валяй дурака! — Жениха моей сестры пришили гангстеры. Какая разница — твои или не твои? Все вы одним миром мазаны. Знать тебя не хочу! Джино почувствовал себя уязвленным. — Послушай… — Ты носишь оружие? Под полой этого обалденного пальто? — Ну, есть кое-что, но я им никогда не пользовался. — Тут Джино вспомнил Чикаго. А, черт, с какой стати оправдываться? — Иисусе Христе! Я прибежал к тебе на помощь, как только узнал о твоей беде. На хрен мне твои дерьмовые обвинения? Я думал, мы друзья — по старой памяти… Извини, что побеспокоил. — Он резко остановился, поднял воротник пальто, пригладил волосы и двинулся в обратном направлении. — Эй, Джино! Извини. — Катто догнал его. — Спасибо, что пришел. Не думай, будто я не ценю… Они стояли на проезжей части лицом друг к другу. — Ладно, — Джино отступил на тротуар. — Что думаешь делать? — Сяду на поезд и смотаюсь отсюда. К черту на рога. — Деньги нужны? — Не-а. — Катто дотронулся до своего кармана. — У меня достаточно. — На самом деле у него было пятнадцать долларов двадцать два цента. — Могу я для тебя что-нибудь сделать? — Есть одно… — Выкладывай. — Если бы ты взял на себя похороны… — Заметано. — Спасибо, Джино. — А, брось. — Он потоптался на месте и вновь почувствовал идущий от Катто запах. — Ладно, увидимся. — Ясное дело, — и Катто заторопился прочь. Джино смотрел ему вслед. Когда Катто скрылся из виду, он отправился к Жирному Ларри и заказал двойную порцию мороженого с подливой из жженого сахара. На столик упала чья-то тень. Джино не торопясь поднял глаза. Рядом возвышался Розовый Банан в окружении приспешников. — Как дела, Пинки? — непринужденно спросил Джино. — Не твоя забота! Ты вроде путаешься с моей бабой? Джино ухмыльнулся. — Вот не знал, что она твоя. Но если ты так говоришь… Пинки побагровел от злости. — Паршивый гад! Думаешь, ты такой ловкий, да? Тебе это даром не пройдет! Джино поднялся из-за стола. — Кто же осмелится встать у меня на пути? Пинки сощурил глаза. — Как-нибудь встретимся в темном углу… — Да? Я весь дрожу! — Джино стал пробираться к выходу. Что, черт побери, он делает в этом вшивом квартале? Хоть нос затыкай.* * *
— Милый, — позвала Синди, прихорашиваясь перед зеркалом. — Что? — Джино в это время сражался с галстуком. — Знаешь, чего бы мне хотелось? Галстук никак не хотел завязываться. — Ну? — Научиться водить машину. — Фу, пакость! — в сердцах воскликнул он. — Эта тряпка сведет меня с ума! Синди подбежала и в два счета завязала галстук. — Можно, а? — Водить? Это еще зачем? — Ну, просто мне хочется, — серьезным тоном произнесла она. — Это так интересно! И потом, я смогу тебе быть полезной. Взять хотя бы сегодняшний вечер. Вам с Альдо нужно куда-то ехать. Двое парней с грузом спиртного. Стоит полиции вас остановить — и вам крышка! А если за рулем женщина… А что, в этом что-то есть. Правда, ей было невдомек, что груз уже доставлен в Уэстчестер — они провели эту операцию на рассвете. А во-вторых, она не знала, что в этот самый момент Альдо празднует помолвку с Барбарой Риккадди. Ну, и в-третьих, что Джино едет в Уэстчестер на званый ужин к миссис Дюк в качестве приглашенного. — Недурная идея, — протянул он. — Пожалуй, я дам тебе несколько уроков. — Он облачился в смокинг и с удовольствием посмотрел на себя в зеркало. Костюм был куплен в первоклассном магазине на Пятой авеню. Цена оказалась будь здоров, но овчинка стоит выделки. — Когда? — не отставала Синди. — Скоро, — рассеянно уронил он, поворачиваясь к зеркалу спиной. — Ну, как я, а, детка? О'кей? — Блеск, Джино! Просто блеск!Вечеринка, 1928
— Хочу укольчик в руку, — клянчила Кэрри. — Не волнуйся, — успокаивал Уайтджек. — У папочки целый шприц чудесного героинчика. Скоро будешь ловить кайф. Кэрри нетерпеливо заерзала на кровати. Она неважно себя чувствовала. Сукин сын Уайтджек заставляет ее ждать. Выцарапала бы ему глаза, если бы не зависела от его уколов! Она продолжала метаться, с закатанным рукавом кимоно, оголившим левую руку. — Давай скорее! Уайтджек наполнил шприц. Совсем выжила из ума маленькая Кэрри. Бросается на наркотики, как голодная собачонка на кость. Долли права: если от нее вовремя не избавиться, жди неприятностей. — Ну вот, — промурлыкал он. Кэрри протянула руку, натягивая жгут. Четко обозначились вены. Руки были испещрены точками от уколов, зато игла стала входить почти безболезненно. Она громко застонала. — С минуты на минуту тебе станет хорошо, — заверил Уайтджек. — Оторвешь свою ленивую задницу от постели, сделаешь прическу, намажешь свое милое личико, и мы все вместе отправимся на чудесную вечеринку. — Он вытащил иглу. Кэрри свернулась клубком. Уайтджек стоя наблюдал за ней. Постепенно ее тело расслабилось, с Кэрри произошла разительная перемена. С лица сошло напряжение — будто слетела маска. Она заулыбалась и протянула к нему руки. — Иди сюда, мой сладкий. Устроим свою собственную вечеринку — только ты да я. До чего же ей хорошо! Уайтджек — просто чудо! — Вставай, — отрывисто приказал он. — Даю тебе полчаса, — и он вышел из спальни. Кэрри слезла с кровати и закружилась по комнате, дрожащим голосом напевая «Ты — сливки в моем кофе». Вбежала Люсиль и захлопнула за собой дверь. — Ты что, не понимаешь, что они с тобой делают? — Что? — беспечно поинтересовалась Кэрри, продолжая танцевать. Люсиль тревожно покосилась на дверь. — Нужно сматывать удочки. Они хотят от тебя избавиться. Кэрри захлебнулась смехом. — Люсиль! Вот подожди, я скажу Уайтджеку! Карлица мигом сникла и до крови прикусила нижнюю губу. — Я пошутила. — Разве? — дразнила Кэрри. — Ну конечно, — Люсиль изобразила улыбку. Ей было страшно, и она не представляла, что делать. Ей удалось подслушать разговор Долли с Уайтджеком насчет Кэрри. Но как помешать им с ней разделаться? Теперь и ее собственная жизнь под угрозой. — Мы едем на вечеринку, — сообщила Кэрри. — Разве это не замечательно? — Хочешь, помогу тебе расчесать волосы? — Люсиль глотала слезы. — Это будет просто чудесно! Люсиль взяла щетку и принялась за работу.* * *
Джино мчался по городу в стареньком «форде». Он давно мечтал приобрести новый автомобиль, но как-то руки не доходили. Пусть пока будет «форд». Жалко, если миссис Дюк его не одобрит. Он ожидал увидеть что-нибудь сногсшибательное, но действительность превзошла все ожидания. Перед его восхищенным взором предстал сказочный замок посреди шести акров сочной зелени и лесонасаждений. Он миновал массивные чугунные ворота и устремился туда, где мелькало море огней. Вдоль всей дорожки стояли автомобили: сверкающие «роллс-ройсы», матово отливающие бронзой «дузенберги», роскошные «пирс-эрроуз», «корд» и черно-белый «мерседес-бенц», за который Джино без колебаний убил бы человека. Очень ему нужна их гулянка! С него вполне хватило бы провести вечер, любуясь машинами. Джино припарковал свой «форд», вылез и зашагал к месту увеселений.* * *
Клементина Дюк слыла архи гостеприимной хозяйкой. Она знала, как доставить гостям море удовольствия, заставить расслабиться и почувствовать себя как дома. Дом был полон цветов, изысканной еды, удобной мебели и слуг, угадывающих любое ваше желание. Вопреки тому, что Клементина сказала Джино, к услугам гостей были великолепные алкогольные напитки, импортные сигары для мужчин и шоколадные конфеты для дам. Она умела сводить между собой кинозвезд, политиков, литераторов и мастеров джаза. Все охотно знакомились и наслаждались новым обществом. Здесь завязывались многочисленные романы. Но главная прелесть вечеров Клементины Дюк заключалась в полной непредсказуемости. Чего только она не придумывала! Купание нагишом в огромном мраморном бассейне. Марафоны чарльстона. Частные просмотры порнофильмов. Знаменитые джазовые оркестры. Все это впервые — у миссис Дюк! — Клементина, милочка, что у тебя сегодня в загашнике? — выпытывала одна из приятельниц. — Погоди, Эстер, увидишь, — последовал загадочный ответ. Эстер, сверкая кольцами, захлопала в ладоши; ее пышная, просвечивающая сквозь тонкий шифон грудь заходила ходуном. — Что-нибудь неприличное! Ох, как мне хочется! И когда же? — Скоро. — Клементина поймала себя на том, что то и дело оглядывается. Где Джино?* * *
— Какого черта тащиться за город? — ворчала Долли, сидя рядом с Уайтджеком — тот вел машину. — В городе мы точно с таким же успехом виляем задницами. — Ч-черт! — выругался он. — Ты когда-нибудь прекратишь канючить? Десять раз тебе объяснял, что это не простая вечеринка. Соберутся очень важные шишки. Нам светит кругленькая сумма. — Ага. А если они догадаются? — О чем ты говоришь, женщина? — Уайтджек повысил голос. — Попомни мое слово: сегодня мы не будем делать ничего, кроме стриптиза. — Ага. А вдруг кто-нибудь станет выпытывать, сколько ей лет? — она ткнула пальцем в Кэрри, тихонько сидевшую рядом с Люсиль на заднем сиденье. — Или почему у нее руки исколоты? Уайтджек резко свернул на обочину и затормозил. Скрестил руки на груди и вперил взгляд в пространство перед собой. — Я из кожи вон лезу, чтобы тебе угодить. Будешь и дальше капать на мозги — разверну машину к чертовой матери, и мы вернемся в город.* * *
Джино замешкался в холле, чтобы бросить взгляд на свое отражение в огромном венецианском зеркале. М-м… Вроде ничего смотрится. Вполне на месте — в отложном воротничке и дорогом смокинге. Он мигом оценил обстановку. Возле одной стены расположился бар. Каких только напитков тут не было! Гостей обслуживали двое барменов в накрахмаленных белых куртках и брюках в полоску. Через раскрытую дверь виднелась часть роскошной гостиной с французскими окнами, выходящими на затененную террасу. Все вокруг кричало о сказочном богатстве. Джино глубоко втянул в себя воздух и улыбнулся. Хорошо! К нему подскочила высокая рыжая девушка с мелкими кудряшками. — Почему вы не пьете? — Еще не освоился. Она с любопытством вылупилась на него. — Здесь изумительное шампанское. Вы непременно должны попробовать. — Ага. — Он отошел. В его планы не входило дать увлечь себя высоким разрезом на юбке. Но это нужно видеть. Альдо лопнул бы от злости, если бы поглядел на все эти юбки. Ножки первый класс! Он выхватил бокал шампанского у пробегавшего мимо официанта. Леонора была бы здесь на месте. Так ее растак! Жалко, что он этого не сделал. Сколько можно о ней думать? Он же пообещал себе, что с этим покончено. И так убил на нее целый год жизни.* * *
Клементина заметила его сразу же, как только он вышел на террасу. — Извини, Бернард, — обратилась она к популярному театральному импресарио. — Нужно поздороваться с новым гостем. Бернард Даймс наклонил голову в знак согласия и повернулся к своей элегантной спутнице. Клементина быстро пересекла террасу, не позволяя никому задержать себя, и очутилась рядом с Джино прежде, чем он успел ее заметить. — Как тебе нравится наша вилла? Он вздрогнул и пролил несколько капель шампанского, но быстро овладел собой. — Клевый притон. — Ну, какой же это притон? — Для меня — да, — его взгляд инстинктивно метнулся к окончаниям ее груди. Ага. Все на месте. Она не могла их не выставить. Джино впервые видел женщину с постоянно торчащими сосками. Она взяла его под руку. — Идем, я тебя познакомлю. Джино растерялся. Не хватало, чтобы его водили, как щенка на выставке. — Как-нибудь потом, — он высвободил руку и залпом опорожнил бокал. И поморщился от отвращения. Клементина мигом подозвала официанта. — Принесите мистеру Сантанджело «скотч»… — она мягко взяла у Джино бокал и, не сводя с него пристального взгляда зеленых глаз, пробормотала: — Тебе идет смокинг. — Да? — Джино чувствовал себя идиотом. Что ей сказать? Сроду не умел поддерживать светскую беседу и не собирался учиться.* * *
Эстер Беккер захихикала и ткнула сенатора Освальда Дюка пальцем в живот. — Кажется, нас сегодня ждет нечто особенное? Освальд без улыбки посмотрел на нее. Она ему никогда не нравилась. Лживая, самодовольная пустышка. — Понятия не имею. Это все Клементина. — Ах да, ты же предоставил ей полную свободу действий. — Эстер устремила на Освальда близорукие голубые глаза. — Это вполне в духе времени, у вас настоящий современный брак, — она ухмыльнулась, демонстрируя неровные зубы. — Ах, если бы Гордон позволял мне хотя бы десятую долю того, что позволено Клементине! Как подумаю, чего бы я натворила, Оззи, — может быть, даже с тобой! — Она снова захихикала. Освальд представил себе жуткое зрелище — голую Эстер — и едва не вздрогнул. Она еще шире раздвинула губы в идиотской ухмылке. — С кем это Клемми? Освальд проследил за ее взглядом и увидел на террасе свою жену, занятую беседой с молодым черноволосым парнем. Он предложил Эстер руку. — Идем, посмотрим, дорогая.* * *
Джино только что взял у официанта полный бокал «скотча», когда Клементина прошептала: — Сюда идет мой муж. Постарайся ему понравиться. Он может быть тебе очень полезным. Джино был сбит с толку. Стоит почти вплотную к нему и посылает такие сигналы — только безнадежный идиот не заметит, а теперь вот вздумала знакомить его со своим мужем. Что делается на свете! Он не успел сообразить, что к чему, как ее муж оказался рядом. Клементина без тени смущения, словно это самое обычное дело, начала знакомить всех между собой. Должно быть, он ее неправильно понял. — Рад познакомиться, — сказал сенатор Дюк, протягивая вялую правую руку. — Клементина много говорила о вас. Много говорила? Джино пожал руку сенатора и перевел взгляд на девицу рядом с ним. Его внимание тотчас привлекли свободно болтающиеся груди под тонким шифоном. Это еще кто такая? И что за выставка титек? Клементина слегка подтолкнула его. — Вам с Освальдом нужно обсудить кое-какие дела, а потом будете развлекаться. — Вот именно, — подтвердил сенатор. — Прошу в мой кабинет. Клементина и ее приятельница проводили мужчин взглядами. — Гм, — промурлыкала Эстер. — Где ты его откопала? — Секрет.* * *
— Ч-черт! — воскликнул Уайтджек. — Ну и местечко! На Долли сказочная вилла не произвела никакого впечатления. Она видывала и не такое. Кэрри тихонько напевала про себя. Одурманенная наркотиком, она существовала в своем особом мире. Люсиль сочла за лучшее поддакнуть. — Ух ты! Просто захватывает дух! — Ясное дело. Я же обещал вам нечто особенное. — И сдержал слово, — Люсиль затормошила Кэрри. — Милочка, посмотри, какая красота! Кэрри тупо уставилась в окно. Красиво, конечно, но она ничего другого и не ожидала. И вообще все вокруг просто ве-ли-ко-лепно! Долли забарабанила пальцами по приборному щитку. — Куда тут идти? — Скорей бы отработать и дать деру. Нет хуже этих великосветских пирушек, где одни алкаши да потаскухи. Уайтджек в этом ничего не смыслит. Только и думает, как бы подняться еще на одну ступеньку.* * *
Сенатор Освальд Дюк — просто болван, это Джино понял сразу. Даже не стал торговаться. «Сколько я тебе должен?» И когда Джино на счастье прибавил лишние две сотни, взял да и выложил наличными. Джино спрятал деньги в карман. Интересно, как он до сих пор не разорился? — Знаешь, Джино, — сказал вдруг сенатор, — иногда я нуждаюсь в небольшом одолжении. — Вот как? — Самому как-то не с руки. — Например? — Ну, — Освальд Дюк небрежно махнул рукой, — всякое случается. Кто-то должен мне деньги и нуждается в небольшом напоминании. Или бывший служащий начинает шантажировать. В общем, пустяки, неизбежно сопутствующие жизни общественного деятеля. — Он достал коробку отличных сигар и угостил Джино. — Если ты готов время от времени приходить мне на выручку, буду рад… рад… ну, скажем, стать твоим финансовым советником. — Э?.. — Не буду ходить вокруг да около. Ты бутлегер, имеешь дело с наличными. Так? Иисусе Христе! Неужели старпер связан с ФБР? Джино счел за лучшее отмолчаться. — Наличные, — продолжал сенатор, — весьма удобная вещь, но что ты будешь делать, если начнут задавать вопросы налоговые власти? Да. Тут ничего не скажешь. Сенатор закурил сигару и многозначительно посмотрел на Джино. — Я могу помочь тебе отмыть деньги. Таким образом ты перейдешь в стан легальных дельцов. Это тебя интересует? Джино кивнул. Да. Это его интересует.* * *
Рядом с Клементиной неожиданно материализовался дворецкий Скотт. — Мадам, приехали… э… как их… артисты. Я отвел их в голубую комнату для гостей, как вы приказывали. Клементина кивнула. В зеленых глазах вспыхнули искры. — Дайте им подкрепиться. — Да, мадам, — старый лакей поклонился и исчез. На своем веку он много чего повидал, но эта группа… Знает ли мадам, что они из себя представляют? Он глубоко вздохнул. Скорее всего, да. Она сама какая-то странная.* * *
— Ну не томи, — приставала Эстер Беккер. — Клемми, ну не будь такой вредной! Открой тайну: что за сюрприз? Клементина загадочно улыбнулась. — Могу сказать только одно: это будет верх неприличия. Эстер пришла в восторг. — Обожаю непристойности! Клементина скользнула взглядом по ее свободно болтающимся грудям. — Да.* * *
Кэрри балдела от марихуаны, которой Уайтджек по доброте душевной снабдил ее. Густой сладковатый дым заполнил легкие. Полный кайф! Долли задумчиво изучала свое отражение в зеркале. Каждый платиновый локон на месте. — Когда наш выход? — приставала она к Уайтджеку. Тот чувствовал себя на седьмом небе. Разлегся на широченной двуспальной кровати, в белом костюме и белых туфлях, и блаженно посасывал из бутылки «скотч» высшего качества. — Не все ли равно? — Мне — нет! — отрезала Долли. — Впереди длинная дорога. И смотри, чтобы они заплатили до шоу, а не после. — Оставь деловую часть мне, — Уайтджек потянулся за бутербродом с копченой семгой. Деловая часть! Можно подумать, он в ней что-нибудь смыслит!* * *
Вечер, как обычно, удался. Клементина отошла в сторонку и наблюдала за тем, как гости играют в карты. Начали накрывать на стол. Буфетная стойка ломилась от деликатесов. Чего тут только не было — поджаренная ветчина, цыплята, холодная индейка, отбивная и огромный свежий лосось. Клементина сама составила меню, заказала лучшие сорта мяса, а теперь без конца фланировала в кухню и из кухни, пока оба повара с помощниками готовили блюда. То, как жадно гости поглощали закуски, доставило ей несказанное удовольствие. А после обеда их ждет представление. Она еле заметно усмехнулась. Пышная белая блондинка. Молодая негритянка. И карлица! Идеальное сочетание! Несколько дней назад, вернувшись с вечеринки у Артура Стайвесанта, Освальд рассказал ей об этом трио, и она загорелась. Клементина облизнула губы в предвкушении триумфа. Об этом приеме долго будут судачить в городе.* * *
Отделавшись от сенатора, Джино вышел на террасу. Не успел он освоиться, как рядом опять возникла рыжая дылда. — Ты что, — потребовала она, — один из знакомых гангстеров Клемми? Ни фига себе! — Слушай, детка, — лениво проговорил Джино, — хочешь перепихнуться? Девица стала красной, как помидор. — Как ты смеешь? Джино наслаждался. — Нет? — Ах ты, свинья! — Тем не менее она и не подумала отойти. — А в чем, собственно, дело? Не любишь трахаться? У девушки широко распахнулись глаза, а длинный нос задергался от возмущения. — У тебя с головой не все в порядке, если ты говоришь такие вещи леди! — Вот уж не заметил, что ты — леди. — В этот момент он заметил Клементину, и ему стало скучно препираться. — Пока, детка! Он весело махнул рукой и поспешил к хозяйке дома, стоявшей в окружении гостей, среди которых он вдруг узнал Чарли Лючанию. Иисусе Христе! В голове у Джино заметались самые разные мысли. Например, какого дьявола она связалась с ним, если водит дружбу с Лючанией? Это ж подумать только — они с Лючанией на одном приеме! — А, Джино! — воскликнула миссис Дюк. — Я хочу познакомить тебя кое с кем из моих друзей. Джино перехватил удивленный взгляд Лючании и гордо выпрямился. — Привет, Чарли! — он фамильярно похлопал Лючанию по плечу. — Ну, и как оно?* * *
Скотт вручил Уайтджеку запечатанный конверт и вознамерился уйти. — Эй, старик! — рявкнул негр. — Не спеши, надо пересчитать. Слуга неодобрительно засопел. — Уверяю вас, здесь вся сумма. Уайтджек прищурился. — Тогда почему ты против того, чтобы я проверил? — Ради Бога, сэр. — Скотт застыл у двери. Уайтджек надорвал конверт и принялся пересчитывать новенькие, хрустящие сотенные. Кэрри бочком подкралась к нему и затопталась рядом. Подошла Люсиль и увела ее. — Подожди немного, дорогая. Крупная блондинка, сидя перед трюмо, презрительно фыркнула. Скотт отвел глаза от странных гостей и подумал, что надо бы продезинфицировать комнату. От этих людей воняет.* * *
Эстер Беккер прицепилась к Бернарду Даймсу и его спутнице. — Одному Богу известно, что за сюрприз нам приготовила Клементина. Говорят, что-то дико непристойное. Просто ума не приложу. А вы? Бернард Даймс пожалел, что не остался дома и не лег спать. У него начиналась простуда, дался ему этот прием. Не то чтобы он скучал на вечеринках у Клементины Дюк, нет. Просто на них нужно быть в форме, а он ужасно себя чувствует. Бернарду Даймсу можно было дать между тридцатью и сорока годами. Это был высокий человек с небольшими залысинами, аристократическими чертами лица и тонкими, точно нарисованными карандашом усиками. Он пользовался славой знаменитого театрального продюсера, а Эстер Беккер и ее муж вкладывали в его постановки немалые деньга. Поэтому он не мог, как бы ему ни хотелось, стряхнуть ее с себя. Вместо этого он улыбнулся и сделал вид, будто ему страшно весело. Бернард Даймс был состоятельным человеком, но еще в юности усвоил правило: ни при каких условиях не вкладывать капитал в собственное дело.* * *
— Сейчас будет небольшое шоу, — шепнула Клементина, — а потом не уходи — я хочу с тобой поговорить. Джино и не собирался сматывать удочки. Она сжала его руку и удовлетворенно оглядела зал. Все идет как по маслу. Джино ликовал. Быть на одной ноге с Лючанией! Тот отнесся к нему по-приятельски. Кто бы мог ожидать? К тому же он познакомился с дамой Лючании, долговязой — не менее шести футов — рыжей девицей из кордебалета. Дайте только рассказать Альдо — ни за что не поверит. А беседа с сенатором Дюком! Он обещает вложить его деньги в дело и таким образом отмыть. Само собой, нужно будет проверить. Джино считал себя стреляным воробьем, его на мякине не проведешь. Да и зачем старому олуху его гроши? У самого куры не клюют. Гости заняли свои места застоликами. — Прошу прощения, — выдохнула Клементина. — Я скоро.* * *
Стоя по одну сторону занавеса, Уайтджек прислушивался к оживленному гулу по другую его сторону. Наконец он ухмыльнулся и шлепнул Долли пониже спины. — Чувствуешь, мамочка, ажиотаж? Она оправила слегка задравшееся платье из алого атласа. — Слышу, черномазый. Но учти — только один номер. Стриптиз. И баста. Ты ведь предупредил их, да? В глазах Уайтджека загорелся гнев. — Кого я должен был предупреждать? Этого болвана? — он показал пальцем на державшегося на безопасном расстоянии Скотта. — Нам уплачено вперед. Что хотим, то и делаем. — Так не забудь, — Долли перевела взгляд на радиолу в углу. — Только одна пластинка. — Она повернулась к товаркам и пришла в ярость. — Ты только посмотри — она же спит на ходу! — Не беспокойся, у меня с собой доза кокаина. Понадобится — дам. Все будет в ажуре. Долли поморщилась и, сильно ткнув Люсиль пальцем в бок, прошипела: — Присматривай за ней! И помните: только один номер! — Конечно, — подобострастно ответила карлица. Белая великанша внушала ей ужас. Люсиль повернулась к Кэрри. — Повторяй за мной. Все будет хорошо. Кэрри бессмысленно кивнула. Она не соображала, где она и даже кто она. Все, чего ей хотелось, это закрыть глаза и плыть туда, где ее никто не мог потревожить.* * *
Клементина сунула нос за занавес и столкнулась лицом к лицу с Уайтджеком. Он одарил ее тем, что считал чарующей улыбкой. Она вздрогнула. Ее не предупредили, что придется иметь дело с громилой-негром с клыкастыми зубами и абсолютно лысым, как отполированным, черепом. Она окинула взглядом всех трех женщин — самое экстравагантное трио, какое ей доводилось видеть. — Как только будете готовы… Широкая улыбка разрезала пополам физиономию Уайтджека. — Мы всегда готовы, мэм. Клементина кивнула и поспешила ретироваться. Колоритнейшие типы! Это превосходит ее ожидания. Уайтджек причмокнул. — Мамочка! Ты обратила внимание, сколько на этой бабенке всего понавешано? Долли пропустила эту реплику мимо ушей. — Давай-ка быстро делать свое дело и мотать отсюда — прежде чем ты начнешь лизать ей зад. Уайтджек вытащил из кармана пакетик с белым порошком и стодолларовую купюру. Свернув ее в кулек, высыпал туда порошок и принялся поддразнивать Кэрри: — Иди к папочке, детка. Он даст тебе кое-что вкусненькое. Кэрри тупо воззрилась на него. Долли подтолкнула ее. Уайтджек поднес кулек к ее носу, и она машинально втянула в себя белый порошок. — Вот и умничка! Уайтджек запустил радиолу. Полились звуки рэгтайма. Он вытолкнул Кэрри из-за кулис. Она качнулась на высоких каблуках и лишь с трудом удержала равновесие. Однако вместо того, чтобы начать танцевать, она принялась избавляться от одежды. — Ч-черт! — простонал Уайтджек. — Да она начала прямо с конца. — Он сгреб в охапку Люсиль и вытолкнул вслед за Кэрри. — Заставь ее танцевать! Карлицу встретили взрывом смеха — особенно веселились дамы. Вот когда Кэрри поняла недовольство Люсиль разнополой аудиторией. Укрывшиеся за мехами и драгоценностями женщины были настроены исключительно враждебно. Кэрри успела стащить платье и, заложив руки за спину, пыталась расстегнуть кружевной бюстгальтер. — Танцуй, Кэрри, ради всего святого, танцуй! — прошипела Люсиль. До Кэрри дошло, и она начала раскачиваться — совсем не в такт мелодии. Сама Люсиль энергично виляла бедрами. Это был самый нелепый дуэт, какой только можно себе представить. Аудитория смущенно захихикала. Клементину бросило в жар. Ничего себе артисты! Просто ужас! Что с негритянкой? Она еле держится на ногах. А карлица танцует так, словно речь идет о жизни и смерти. — Слушай, Клемми, — прошептала Эстер, — что все это значит? — Все еще поправится. — Надеюсь. Душераздирающая сцена! Клементина кипела от ярости. Пятьсот долларов — за что? Ее бессовестно надули. Ну, Освальд, я до тебя доберусь! С ума он сошел, что ли? Превознес этих идиотов до небес. Наконец вышла Долли — пышнотелая платиновая блондинка, кое-что смыслившая в таких вещах. Ей удалось немного спасти положение. По крайней мере, она умеет двигаться — в несколько бурлескной манере. — Это отвратительно, — прошептал своей спутнице Бернард Даймс. — Клементина сошла с ума. Это больше похоже на пьяную оргию, — он нахмурился. В трагической фигурке юной негритянки ему почудилось что-то знакомое, словно он уже где-то встречал ее. Девушки начали раздеваться: сначала в сторону полетели лифчики, потом круглые подвязки и наконец, абсолютно синхронно — трусики. Джино оглянулся по сторонам. Ничего себе! Все эти толстосумы таращатся на трех драных шлюх, за которых он не дал бы и двадцати центов. Где только миссис Дюк их подцепила? Он посмотрел на голых женщин и не почувствовал ничего, кроме скуки. Зажег сигару, ранее предложенную сенатором, и искоса взглянул на Клементину. Она была на грани истерики. Негритянка оказалась ближе своих подруг к их столику. Она сняла все, кроме чулок, и ее полные груди вызывали удивление — по контрасту с худым телом. Она начала снимать второй чулок и вдруг рухнула на пол, широко раскинув ноги. — Боже! — воскликнула Клементина. Публика зашумела. Пышная блондинка как ни в чем не бывало продолжала покачивать бедрами в такт рэгтайму. Карлица остановилась было, но ледяной взгляд белой толстухи вернул ее в чувство. Джино сорвался с места, сгреб черную девушку в охапку и поволок к выходу. Не мог он оставить ее лежать на полу. Скотт помог ему вынести девушку в холл. — Здесь есть врач? — спросил Джино. — Ей плохо! — Кажется, есть, — сухо ответил лакей, стараясь не смотреть на голое женское тело у своих ног. — Отнесем ее в спальню, — решил Джино, снимая смокинг и укрывая им больную девушку. — Нужно спросить мадам, — начал Скотт, но Джино перебил его: — Я сказал, в спальню! Скотт понял: с ним лучше не спорить. Они снова подхватили распростертую на полу Кэрри и отнесли в голубую спальню для гостей, а там положили на кровать. На лбу у Скотта появилась испарина. — Позовите врача, — приказал Джино. — Сейчас, сэр, спрошу миссис Дюк. — Еще не хватало, чтобы этот… этот… командовал! — А ну шевелись, потому что, если ты немедленно не найдешь врача, она умрет. Так и передай своей хозяйке. Скотт моментально исчез за дверью. Джино пощупал девушке пульс и вдруг заметил следы уколов, крошечные красные точки. Сердце еле билось. Он приподнял ей веко и увидел безумный зрачок. В девушке еле теплилась жизнь, а ведь она еще совсем ребенок — лет шестнадцати, семнадцати. Кто-то накачивал ее наркотиками и заставлял зарабатывать на жизнь стриптизом. Джино почувствовал, как в нем поднимается мутная волна гнева. Невыносимо смотреть на столь юное существо в таком состоянии. Где, мать вашу, врач?* * *
Когда Кэрри упала, Уайтджек чертыхнулся, но не остановил музыку и почувствовал облегчение, когда Кэрри унесли. Номер закончился под жиденькие хлопки. Голая Долли шмыгнула за занавес и сплюнула. — Ну, толстозадый ниггер! Доигрался! Что теперь будем делать? Уайтджек терпеть не мог слово «ниггер», особенно применительно к себе. — Заткни свою поганую пасть, белая подстилка! И прикройся! Сейчас же забираем Кэрри и делаем ноги. Долли грязно выругалась и стала натягивать трусы.* * *
— Вот доктор Рейнольдс, — Клементина ворвалась в спальню в обществе седовласого мужчины. Джино встал с кровати. — Девушка совсем плоха, док. — Вы врач? — мягко спросил тот. — Только когда никого больше нет поблизости. Клементина положила ему на руку свою ладонь. — Подождем за дверью. Джино метнул на врача жесткий взгляд. — Она наркоманка. Посмотрите на руку. Клементина вывела его из спальни и тяжело вздохнула. — Самая ужасная из всех моих вечеринок. — А, бросьте. Нормальная пирушка. И чего можно было ожидать от этих жалких стриптизеров? Или вы думали, они из балета? — Я знала, что они стриптизеры, но думала, что высшего класса. Во всяком случае, мне так представили. Я умираю от стыда. Выставила себя на посмешище! — А, ерунда. Дерьмо собачье! Клементина стиснула его руку. — Вот что мне в тебе нравится. Прямота и бесстрашие. В ее глазах опять заплясали зеленые огоньки, и он не остался равнодушным. — Клементина… — Где моя маленькая сестричка? — послышался зычный голос, и появились Уайтджек, Долли и Люсиль. Позади плелся Скотт. Джино загородил собой вход в спальню. — Твоя сестричка? — свирепо переспросил он, мигом сообразив, кто такой Уайтджек. — Ясное дело! — бушевал тот. — Я хочу ее видеть! — Там сейчас врач, мистер… — с вопросительной интонацией произнесла Клементина. Уайтджек не потрудился представиться. — Ей не нужен никакой врач. Просто у нее иногда бывают обмороки. Ничего серьезного, — и он попытался прошмыгнуть мимо Джино. — Миссис Дюк ясно выразилась, что там врач, — холодно отчеканил Джино. — Так что придется потерпеть. Их взгляды встретились, и Уайтджеку стало не по себе. — Понятно. Но вы зря теряете время. Мы посадим ее в машину, отвезем домой, к маме, и завтра она будет как огурчик. — Ага, — отрубил Джино. — И готова к новому путешествию. — Что такое? — зарычал верзила-негр. Тут вмешалась Долли. — Ну ладно, я только взгляну на нее, возьму вещи и завтра мы за ней приедем. Джино кивнул. Неглупая баба. Смекнула: дело пахнет керосином, вот и жмет на педали. Клементина заглотила наживку. — Вы же не можете оставить ее здесь. Джино удивленно посмотрел на нее. — Почему? Девчонка того и гляди откинет копыта, а вы собираетесь выбросить ее на улицу? — Брат хочет забрать ее домой. — Ха! Уайтджек принял угрожающий вид. — Не знаю, кто ты такой, но… Долли его перебила: — Лучше подождем в машине. Зачем нам лишние неприятности? И потащила Уайтджека вниз по лестнице. Люсиль последовала за ними. Замыкал шествие Скотт. Клементина растерялась. — Джино, что происходит? — Они быстренько смываются. — Почему? — Потому что с минуты на минуту оттуда пулей вылетит врач и завопит насчет наркотиков, и что она несовершеннолетняя и по ним тюрьма плачет! — Ты хочешь сказать, что ее накачали наркотиками? — Убежден. — Собственную сестру? — Клементина, не будьте дурой. Она ему такая же сестра, как я ваш брат. Она немного помолчала. — Понятно. Показался врач. — Девушка наркоманка. Ей дали слишком большую дозу. Ее нужно срочно госпитализировать. — О Боже! — воскликнула Клементина. — Пусть кто-нибудь позовет Освальда. Он что-нибудь придумает. — А, пустяки, — возразил Джино. — Вызовите «скорую», только и всего. — Невозможно! Я не могу допустить огласку! Только представь себе: «Наркоманка на званом ужине у сенатора!» Нет, это невозможно. Джино кивнул. Она права. — Послушайте, — раздраженно вмешался доктор Рейнольдс, — девушке очень плохо. Ее нужно немедленно доставить в больницу. — Я сам отвезу, — решил Джино. — Но там решат, что это ты довел ее до такого состояния, — забеспокоилась Клементина. — Это уж мое дело, — отрезал он. — Помогите донести ее до машины. — Спасибо тебе, Джино, — благодарно шепнула Клементина. — Ты не пожалеешь о своем решении.Среда, 13 июля 1977 г., Нью-Йорк и Филадельфия
— Наверное, у меня галлюцинации, — хныкала Лаки. — Или я схожу с ума. Перед глазами стоит огромная мягкая кровать и стакан холодного апельсинового сока. — Она заерзала на полу лифта. — У меня вся задница в синяках. А у вас? Стивен не ответил. — Спасибо, хорошо, — кривляясь, произнесла она за него. — Ха! Естественно, тоже — не дубленая же она у вас? Но Бог не велит жаловаться. Стивен молчал. — Интересно, — разглагольствовала Лаки, — от лифта бывают пролежни? Стивен по-прежнему хранил молчание. — Эй, сукин сын, ты почему не отвечаешь? Тишина. — Ну, ты и задница! — она встала и потянулась. Нужно держать себя в руках. Господи! Наверное, вот так бывает в одиночной камере. Неудивительно, что заключенные время от времени устраивают бунты. Лаки снова в изнеможении опустилась на пол. Одежду она давно сняла и теперь, свернув, подложила под себя. Ха! Хорошенькое будет зрелище, когда их завтра утром будут вызволять отсюда! Пожарники — или кто там еще — будут в восторге. «Голая белая женщина в лифте с нефом!» Или еще почище: «Дочь знаменитого Джино Сантанджело, Лаки Сантанджело, найдена голой в обществе чернокожего в лифте!» Джино, мать его так! Какого дьявола она о нем вспомнила? Потому что он возвращается, вот какого. А я ничего не могу предпринять в этом дерьмовом лифте!* * *
Маньяк, изрыгая проклятия, ворвался на кухню. — Ну, я до тебя доберусь, задолиз паршивый! Оторву яйца и буду играть ими в теннис! Дарио выставил перед собой в темноте острый кухонный нож и остался сидеть, скрючившись, в своем углу. — Эй, педик, я же знаю, что ты здесь! — захихикал парень. — Сейчас поджарю тебе зад и слопаю!* * *
Кэрри в изодранном платье битый час проторчала у входа на мясной рынок на Сто двадцать пятой Западной улице. Наконец ей стало ясно: никто не придет. Авария спутала шантажисту карты. В Гарлеме начались пожары: горели грузовики, надрывались сирены. Пока пожарные тушили огонь, неуправляемая толпа забрасывала их бутылками и жестянками из-под консервов. Кэрри похолодела от ужаса. Она различила в темноте, как группа парней тащит в аллею молоденькую девчонку. Какой-то старик со стереоприемником упал неподалеку от нее: его пырнули ножом, из раны хлестала кровь. Двое мужчин вырвали у него приемник. Кэрри бросилась бежать.* * *
Отделавшись от стюардессы, Джино поднял телефонную трубку. — С кем вас соединить? — спросила телефонистка. Он собирался назвать номер Косты в Нью-Йорке, но передумал. Лучше не надо. Зачем обнаруживать себя перед фэбээровцами? Телефон Косты наверняка прослушивается. — Спасибо, ничего не нужно. Джино встал, расстегнул брюки и во второй раз за вечер стащил их с себя. При этом он усмехнулся. Кто бы мог подумать, что Джино-Таран прогонит голую бабу? Джино-Таран… Давно уже его так не называли. Он надел пижаму, сунул под подушку пистолет и включил телевизор. Джонни Карсон. Вот теперь он точно в Америке!* * *
— Эй, — пробормотала Лаки. — О чем вы думаете? Мы же задохнемся в этом гробу! Я — так точно. — Воздуха-то хватает, просто он горячий. — Ага! Вы-таки обрели дар речи! Слава Иисусу! Стивен вздохнул и переменил позу. Да, Лаки, моя задница тоже ноет, и ломит поясницу, и ноги затекли, и хочется писать, и жажда такая, что можно убить человека… Вслух он произнес: — Почему вы думаете, что нам будет легче, если мы начнем разговаривать? У нас нет ничего общего. Терпеть не могу праздную болтовню. — Большое спасибо! Для спора все-таки нужны двое. — Поэтому-то я и стараюсь молчать. — Я вам не нравлюсь? — Леди, я вас не знаю и знать не хочу. — Почему? — Опять двадцать пять! Лаки зевнула. — Вы меня знаете. — Что вы хотите сказать? — Я же вас знаю! — Откуда? Она усмехнулась и воспроизвела уличный выговор: — По запаху чую! Ей удалось-таки смутить его! Опять воцарилось молчание. Но, Боже мой, какая же тут вонища! Это их общие испарения, его и ее. — Простите, — тихо сказала она. — Должно быть, я схожу с ума. Сколько прошло времени? Стивен молчал.* * *
Дарио затаил дыхание. Маньяк подкрался ближе, на расстояние вытянутой руки. Руки Дарио, сжимающие нож, стали влажными от пота. Его противник медленно, неуклонно подбирался к своей жертве.* * *
Кэрри угодила прямо в объятия грубо остановившего ее полицейского. — Куда торопишься, негритоска? Она уж и забыла, когда ее так называли, и теперь тупо уставилась на стража порядка. И вдруг, размахнувшись, отвесила наглецу пощечину. Тот ошалел от изумления. — Ну и ну! Да будь я последний сукин сын… Кэрри вырвалась и бросилась наутек, но она была уже немолода, и он быстро настиг ее. — Ты арестована, сука! — щелкнули наручники. — За оскорбление при исполнении служебного долга. — Это недоразумение, — пролепетала Кэрри. — Я — миссис Эллиот Беркли. — Да ну? А я — Долли Партон. Меня не разжалобишь. Он втолкнул ее и в без того переполненный полицейский фургон, где Кэрри пришлось даже не сидеть, а стоять плечом к плечу, бедром к бедру с прочими задержанными. — Стыд-позор! — завопил высоченный негр. — Я только-то и взял, что пару тапочек. Другие хватали лакирки по шестьдесят долларов. А я только пару тапочек! Красивая пуэрториканка, закрыв глаза, причитала: «За что? За что?» На уме у Кэрри вертелся тот же вопрос.* * *
Примерно в половине третьего кто-то забарабанил в дверь люкса Джино Сантанджело в Филадельфии. Он не сразу понял, где находится. Взглянул на часы, накинул на себя шелковый халат, сунул в карман пистолет и подошел к двери. — Кто там? — При этом он думал: «Какого черта я здесь делаю, один, в этом гнусном отеле в Филадельфии?» Это же Америка. Здесь не очень-то пошастаешь сам по себе. Особенно если ты — Джино Сантанджело.Джино, 1934
Клементина Дюк оказалась права. Джино ни разу не пришлось пожалеть о решении, принятом в тот знаменательный вечер в октябре 1928 года на званом ужине у сенатора и миссис Дюк. Это был поворотный пункт в его биографии. Теперь, шесть лет спустя, лежа на кровати в голубой комнате для гостей, он припомнил все, что тогда произошло. Он отвез маленькую негритяночку в больницу и оставил там, а сам смылся, прежде чем они очухались и начали задавать вопросы. Что было дальше — ее проблема. Она была не единственной хромой собакой, о которой он позаботился в этой жизни. В знак благодарности уже на следующей неделе Клементина Дюк пригласила его в свою городскую резиденцию потолковать о делах. Поужинать, сказала она. Но он быстро смекнул, что на уме у нее был совсем не ужин. Ему не забыть тот вечер. Они были одни в доме: ни слуг, ни сенатора. Клементина зажгла свечи и благовония. Она в прозрачном белом пеньюаре. Пресловутые соски, как два устремленных на него глаза. Она легонько сжала его руку. — Ты, конечно, догадываешься, что мой муж — гомосексуалист? — Как-как? — Гомосексуалист. Это значит, что его не волнуют мои молочно-белые бедра, сжимающие его, прямо скажем, грузноватый живот. Напротив, он питает слабость к мальчикам. Их плоским тугим задам. Предпочтительно совсем молоденьким. Предпочтительно черным. — Вы хотите сказать — извращенец? — Да уж, твой уличный жаргон куда выразительнее. — Иисусе Христе! — Джино присвистнул. — Не иначе, вы меня разыгрываете. Извращенцы не женятся. — Да? Скажи это моему мужу. Боюсь, что он оспорит это утверждение. — Почему вы мне об этом сказали? — А ты как думаешь? — она по-кошачьи сощурила глаза и потянула его руку к своей груди. Джино не потребовались дальнейшие приглашения. В конце концов, под всей своей классовой чешуей Клементина Дюк — всего лишь баба. Он уделал ее будь здоров — прямо в той комнате со свечами. Она и вздыхала, и стонала, а в момент наивысшего наслаждения громко выкрикнула его имя. А через несколько секунд улыбнулась и сказала: — Я так и думала, что ты способный мальчуган. Немного неотесанный, но это легко исправить. Ты еще очень молод. Джино был оскорблен в лучших чувствах. До сих пор никто не жаловался. — Эй, что значит — неотесанный? — Я тебе объясню. И она объяснила. Шаг за шагом она провела его через все стадии любовной науки. В сущности, ему пришлось делать то же самое, но гораздо медленнее и нежнее. — Вместо того, чтобы сосать мои соски, попробуй их полизать, — предложила она. — Вот сейчас я полижу твои — ведь приятно? Когда ты находишься внутри меня, расслабься. Не накачивай меня, точно насос, а окунись в волны чувственности. — Волны чего? — Похоти. Дай волю своим карнальным желаниям. — Эй, говори по-английски! Клементина рассмеялась. — Карнальным — значит плотским. Мне кажется, ты больше заботишься об удовлетворении женщины и забываешь о собственном удовольствии. — Я получаю удовольствие будь здоров. — Ну да — один бешеный оргазм. А я хочу, чтобы он совпал по времени с периодом моего возбуждения и насыщения. Он шлепнул ее по гладкому белому заду. — Ни черта не понял. — Еще поймешь. Так оно и вышло. Спустя несколько месяцев они так идеально приноровились друг к другу, что Джино не мог дождаться встречи. Вот когда он понял, что Клементина имела в виду. Даже вызубрил кое-какие термины. Либидо. Гедонизм. Карнальный. Их траханье превзошло все ожидания. Каким бы спецом по этой части он ни считал себя в прошлом, теперь-то ему стало ясно: это были всего лишь цветочки. Встречи с сенатором после занятий любовью с его женой будили в Джино угрызения совести. — Не будь смешным, — уговаривала Клементина. — Ему плевать: у него свои интересы. Кроме того, он тебе очень симпатизирует, считает толковым парнем. Пока мы соблюдаем приличия… — Тут-то она и выложила свой план. Он должен жениться на Синди. — Я никогда не стану к ней ревновать, — заявила она, познакомившись с девушкой. — Держи ее при себе. По крайней мере, я хоть буду знать, что ты нормально позавтракал. Синди обеспечивала не только завтрак. Постепенно она стала незаменимой. Она готовила, стирала, убирала, следила за его одеждой и главное — аккуратнейшим образом вела записи его дел. Кроме того, она была все так же хороша собой. За эти бурные шесть лет Джино поднялся на вершину. Естественно, не без помощи друзей. Его друзья. Чарли Лючания. Теперь его звали Счастливчик Лючано — после того, как ему повезло вернуться оттуда, откуда не возвращаются. При этом малость сократили его фамилию — для удобства произношения. Энцо Боннатти. После печально известной резни в день Святого Валентина, четырнадцатого февраля 1929 года, он бежал из Чикаго и обосновался в Нью-Йорке. В тот день девятеро его телохранителей были захвачены в гараже на Северной Кларк-стрит и расстреляны в упор из автоматов членами конкурирующей банды. Ходили слухи, будто Энцо несет ответственность, но предательство так и не удалось доказать. Альдо Динунцио, добросовестный исполнитель, прирожденный вор. Женившись на Барбаре Риккардо, он немедленно угодил под каблук. Отец двоих детей в ожидании третьего. И сенатор Освальд Дюк, первый и всемогущий друг Джино. Без сенатора — кто знает, кем стал бы Джино Сантанджело. Еще одним гангстером, делающим деньги на контрабанде спиртного. Мелкой сошкой, прожигателем жизни, транжирящим заработанное на костюмы, авто, оргии и женщин. Сенатор Дюк, как и обещал, помог Джино отмыть деньги. Взял несколько тысяч отсюда, несколько тысяч оттуда и поместил в солидное предприятие. Поначалу Джино было не по себе. Он привык к наличным — чтобы они лежали в депозитном сейфе и он мог в любой момент до них добраться. — Верь Освальду, — внушала Клементина. — Он сделает тебя очень богатым человеком. Постепенно, видя рост своего капитала, Джино проникся доверием к чете Дюков. Даже попробовал воспротивиться, когда весной двадцать девятого Освальд стал настаивать на продаже акций и переброске капиталов за границу. Тем не менее Джино уступил, а потом злился, видя, как проданные акции резко поднялись в цене. «Черт! — жаловался он сенатору. — Какого дьявола вы заставили меня продать их?» — Терпение, мой друг, — успокаивал Освальд. И точно — 29 октября 1929 года биржа лопнула, разорив немало держателей акций. То было начало Великой Американской Депрессии. Которая не коснулась Джино Сантанджело. Он по-прежнему процветал. С того дня он беспрекословно следовал советам сенатора. Конечно, не без того, чтобы время от времени выполнять кое-какие поручения. Так, сущие пустяки. Сенатор дружески клал ему на руку свою ладонь и говорил: «Прошу тебя, мой мальчик, позаботься об этом лично». Так Джино и поступал. Это были самые разные услуги. От угрозы кастрировать молодого чернокожего джазиста, если он еще когда-либо побеспокоит сенатора, до избиения задрипанного газетного репортеришки, который вознамерился опубликовать не слишком лестную для сенатора статейку. Эти маленькие одолжения были так редки и несущественны, что Джино не придавал им значения. Какая разница, о чем просит сенатор? В конце концов, Джино трахает его жену и с его помощью делает большие деньги. Что еще нужно? Энцо Боннатти перебрался в Нью-Йорк как раз вовремя. Когда лопнула биржа и началась паника, так называемые Благословенные Двадцатые подошли к концу. Деньги, ранее бывшие в изобилии, оказались в большом дефиците. По всему городу закрывались кабаки, где нелегально продавалось спиртное. В результате была развязана невиданная по жестокости война между шайками. Денег стало мало, и охота за ними приняла ожесточенный характер. Главная война велась между двумя гангстерами старой школы — Джузеппе Джо Массерией и Сальваторе Маранцано. Молодые волки — Счастливчик Лючано, Энцо Боннатти, Вито Дженовезе и Фрэнк Костелло — стояли в сторонке, выжидая, когда представители старой гвардии прикончат друг друга. Джино держался особняком. Правая рука Энцо, позднее его компаньон. Война длилась несколько лет и закончилась убийством Массерии в апреле 1931 года и Маранцано — несколькими месяцами позже. После ухода со сцены «стариков» Счастливчик Лючано оказался на коне. А также его сообщники. Лючано поставил перед собой задачу придать организованной преступности новый характер. С этой целью он мечтал основать американский синдикат, учредил комитет и назначил себя председателем. Он прилагал бешеные усилия, чтобы добиться для всех членов комитета одинакового права голоса. Включенный в оргкомитет Джино одобрял стиль работы Лючано, восхищался его размахом, кругозором и деловой хваткой. Этические нормы его не волновали. — Этот человек — убийца, — как-то поведала Клементина. — На его совести смерть Массерии. Он пригласил старика поужинать, и там, в туалете, наемные убийцы закололи Массерию — по его приказу. Место Лючано — в тюрьме. Я отказываюсь принимать его у себя. Джино не мог не усмехнуться. Можно подумать, для кого-то имеет значение, получит ли он приглашение на вечеринку Клементины Дюк. А вообще-то он любил с ней беседовать. Для так называемой представительницы слабого пола она неплохо разбиралась в бизнесе. Даже получше своего мужа. Задолго до отмены сухого закона в декабре 1933 года Освальд предупредил об этом Джино, так что к тому времени он уже вовсю раскручивал другие дела: азартные игры, ростовщичество и рэкет. Вопреки давлению со стороны Энцо, он не стал заниматься проституцией и наркотиками. Из-за этого в январе 1934 года их интересы разошлись, и они пошли каждый своим путем. Впрочем, они остались друзьями. Альдо предпочел остаться с Джино — тот ценил его лояльность. Им всегда хорошо работалось вместе. Старый враг Джино, Пинки Кассари по кличке Розовый Банан, влип в грязную историю и был вынужден убраться из города — это безмерно обрадовало Альдо. Он жил в постоянном страхе, что однажды Пинки осуществит акт мести. Несмотря на депрессию, дела у Джино шли полным ходом. Рэкет охватывал всех — от таксистов до управляющих банками — и дарил острые ощущения. В подчинении у Джино находились пятьдесят боевиков, собиравших дань и доставлявших деньги в пять сборных пунктов — обычно это была задняя комната какого-нибудь магазинчика. Помимо средств, передаваемых сенатору Дюку для выгодного помещения, Джино набивал деньгами депозитные сейфы в различных банках. Он понимал: нельзя сорить деньгами, не будучи в состоянии указать источник обогащения, поэтому в 1933 году приобрел ночной клуб — на деньги, якобы выигранные на скачках. После отмены сухого закона заведение подверглось капитальному ремонту. Джино обзавелся лицензией и закатил помпезное открытие. Он назвал клуб «Клемми» и получал баснословные барыши. Он уговорил-таки Веру бросить занятия проституцией и устроил ее в «Клемми» гардеробщицей. Это дало ей постоянный источник средств к существованию и возможность скопить немного денег к выходу Паоло из тюрьмы. Тот схлопотал очередной пятилетний срок за разбойное нападение — всего через неделю после освобождения. За эту неделю он и не подумал навестить жену. «Должно быть, был очень занят», — оправдывала его Вера. Теперь она твердо знала, что Паоло — не жалкий уголовник, а великая страсть ее жизни. — Дура ты набитая, что ждешь его, — убеждал Джино. — У тебя своя жизнь, а у меня своя, — отвечала она. Естественно, Клементину успех «Клемми» приводил в восторг. Ее частые появления там послужили примером для прочих сливок нью-йоркского общества, а владелец и управляющий клубом Джино Сантанджело стал небольшой знаменитостью. Женщины были от него без ума. Такой оборот заставил Клементину призадуматься. Его женитьба на Синди показалась наилучшим выходом из положения. — Она слишком много знает. Налоговая инспекция и так постоянно рыщет вокруг да около — ты просто обязан принять меры. Женись — тогда она не сможет свидетельствовать против тебя, если до этого дойдет дело. — Пожалуй, ты права, — откликнулся Джино. И вот он нежится на кровати в голубой комнате для гостей на вилле Дюков, с сигарой в зубах, в день своей женитьбы. Время оказалось бессильным перед маленькой Синди. Оно лишь добавило блеску глазам да драгоценностей. Сукину сыну Джино не откажешь в щедрости. Хотя это в порядке вещей. Многие ли из ее подруг стали бы мириться с его двойной жизнью? Вот уж нет — весьма и весьма немногие! Ну ладно. Она сошлась с ним по доброй воле, ничего не скажешь. Но это не значит, что он может ее обманывать. Притворяться помолвленным, когда на самом деле его цветочек из Сан-Франциско давным-давно замужем. Синди узнала об этом уже после рождения ребенка, через десять месяцев после того, как сошлась с Джино. Позвонил Коста. — Передай Джино, у Леоноры родилась дочь. Синди и не подумала откладывать. — Джино, милый, твоя невеста родила. Я полагаю, ваша помолвка расторгнута? Он побелел, как мел, и без единого слова вышел на улицу. Больше они об этом не говорили. Но и так было ясно: он не женится. Синди продолжала наращивать свое влияние. Дела Джино шли в гору, и она твердо решила соответствовать. И преуспела в этом. Остался один-единственный шаг — пожениться. И можно будет затянуть счастливую песенку, точно жаворонок. Но что-то не получалось. У Синди было такое чувство, будто ее использовали и вышвырнули на свалку. Джино Сантанджело никогда не будет принадлежать ей одной. Он продался этой потаскухе Клементине Дюк — с потрохами.* * *
Коста Зеннокотти осторожно постучался в дверь голубой комнаты для гостей. — Да? — послышался голос Джино. — Войдите! Коста вошел — старательно удерживая на весу поднос с двумя бокалами, бутылкой вина и блюдом крекеров. Джино сел на кровати. — Это еще что за бурда? Я просил что-нибудь покрепче. — Миссис Дюк сказала, что ты любишь это вино. — Пошла она! Коста поставил поднос на столик. — Мне не хотелось пререкаться. Джино стало смешно. И что в Клементине такого, что внушает молодым людям благоговейный трепет? — Ладно, плесни, — сказал он, изучая свои тщательно отполированные ногти. — Чего ждешь? Коста подчинился. Он только накануне приехал в Нью-Йорк, чрезвычайно польщенный тем, что Джино попросил его стать шафером на свадьбе. Они не виделись с того самого приезда Косты в двадцать восьмом году, и, хотя вели оживленную переписку, Косту поразила происшедшая в друге перемена. Впрочем, ему было трудно определить, в чем, собственно, дело. Джино всего двадцать восемь лет, но в нем появилась некая значительность — обычно она приходит к сорока-пятидесяти годам. Это уже не крутой нью-йоркский парень. От головы до пят — преуспевающий бизнесмен. Жених! Он больше не смазывал курчавые черные волосы бриолином, а позволял им свободно виться. И, кажется, даже стал выше ростом. Коста не знал о вставленных в шитые на заказ туфли супинаторах. Костюмы Джино носил только отличного качества — шитые на заказ тройки. Шелковые импортные сорочки, спортивные куртки из превосходного кашемира. Ничего кричащего. Даже драгоценности подбирались с большим вкусом. Бриллиантовая булавка в галстуке. Массивные золотые запонки под стать дорогим часам от Картье. На мизинце — перстень с бриллиантовым солитером. О прошлом напоминал только шрам на лице. Да еще жесткое выражение глаз, из-за чего он временами по-прежнему казался диким зверем, от которого не знаешь, чего ожидать. Коста посмотрел на часы. — Осталось полчаса. Как самочувствие? — Отличное, малыш. — Волнуешься? — С какой стати? Мы прожили шесть лет. Коста кивнул. Да, конечно. С тех самых пор, как Леонора вышла за другого. Джино как будто прочитал его мысли. — Ну, как там Леонора? У Косты дернулся левый глаз. — Прекрасно. Ему не хотелось говорить правду: что Леонора пьет, гуляет направо и налево и совсем не уделяет внимания маленькой дочери. — А ее дочь? Сколько ей? — Почти шесть лет. Прелестна, словно куколка. Джино проглотил комок и постарался, чтобы не дрогнул голос. — Еще бы. Как ее зовут? — Мария. Джино вытащил сигару. — Красивое имя. Надо бы, не откладывая в долгий ящик, сделать Синди ребенка. — Да уж, пора. Джино встал и критическим взглядом окинул приятеля. Отличный малый. Красивый. Холеный. Типичный выпускник юридического колледжа, круглый отличник. Теперь он работает в фирме своего отца. — А ты — уже обзавелся девушкой? Коста скорчил гримасу. — Ты что, не читаешь мои письма? — Ясно, читаю. — Тогда почему спрашиваешь? Я еще полгода назад писал, что помолвлен с Дженнифер Брирли. — Должно быть, то письмо затерялось на почте. Как она на мордочку? — Джино! Ты же ее знаешь! Подруга Леоноры — помнишь, когда ты гостил у нас?.. Помнишь? — Да… ясное дело… симпатяга… — он совсем забыл эту Дженнифер. Абсолютно! — И когда же свадьба? Коста посерьезнел. — Не знаю. Нужно повременить, пока я твердо не встану на ноги. Может, через год, два. — Слушай, ты помнишь ту халупу? Сроду не забуду, с каким выражением лица ты оттуда вышел. Как будто впервые в жизни попробовал мороженое. Держу пари, больше ты туда не наведывался. Коста ухмыльнулся. — Ты проиграл. — Иисусе Христе! Стук в дверь положил конец воспоминаниям. Коста открыл. На пороге стояла Клементина — очень элегантная в бледно-розовом костюме фирмы «Шанель» с черной отделкой. — Можно? — Конечно, миссис Дюк. — Зовите меня Клементиной. — Она прошла мимо Косты к Джино. — Привет. Ну как — жених готов? — К чему? Она провела языком по тонким губам. — Разумеется, к свадьбе. — Сколько у нас времени? — Двадцать пять минут. — Слушай, Коста, — небрежно уронил Джино, — сделай мне одолжение, возвращайся через двадцать минут. Мне нужно сказать Клементине несколько слов на ушко. — Как скажешь. — Коста бросил на ходу восхищенный взгляд на хозяйку и ретировался. — Малыш в тебя втрескался, — констатировал Джино. Клементина подошла к трюмо и придирчиво вгляделась в свое умело подкрашенное лицо. — Неужели? — Руку на отсечение, — Джино последовал за ней и обнял ее сзади. — Я тоже в тебя влюблен — по-своему. — Он всем телом прижался к ней, так что она почувствовала его эрекцию. — Джино! Он начал расстегивать брюки. — Дай-ка трахну тебя в последний раз в качестве холостяка. — Не глупи! У нас нет времени. Я навела марафет. Джино, не здесь! Это невозможно! — Нет ничего невозможного, — он завозился с крючками у нее на юбке. — Не ты ли меня учила? До Клементины начало доходить, что он не шутит. — Но это же смешно! — Да ну? — он стащил с нее юбку, бросил на кровать и взялся за шелковые розовые панталончики. — Осторожно… мой макияж… — Нагнись над столом. Тогда я ничего не испорчу. Она послушалась. Всем ее существом овладело предвкушение. Джино вошел в нее сзади — медленно, смакуя каждое мгновение, как будто у них была в запасе вечность. — О-о-ох! — вырвалось у Клементины. — Да уж, ты хороший ученик! — У меня была превосходная учительница. Двигаясь внутри нее, Джино подумал о предстоящей свадьбе и своем желании иметь детей. И — впервые за много месяцев — позволил себе подумать о Леоноре. Он кончил бурно, как никогда, словно исторгнув из себя прошлое. Сегодня он женится. Пусть это станет началом новой жизни.Кэрри, 1928–1929
Она словно провалилась в некую дыру. Больницы. Нянечки. Лица. И голоса. Ей все равно. Пусть сгорят в аду! — Как вас зовут, дорогая? — Чем вы занимаетесь? — Сколько вам лет? — Кто это с вами сделал? — Как вас зовут? — Где вы живете? — Где ваша мать? — Где ваш отец? — Сколько вам лет? Вопросы. Вопросы. Вопросы. До тех пор, пока голоса начинали сливаться в крик, а лица — в одно безликое — и наконец наступала тишина. Каждый день одно и то же. И ломота во всем теле, и рвота, и стоны, и судороги. Крик. Агония. Снова и снова — крик, пока в один прекрасный день ее не завернули во что-то белое, жесткое и не увезли из больницы. Совсем другой мир. Комната, где никому не было дела, кричит она или нет, рвет ли на себе волосы, расцарапывает лицо. Никаких вопросов. И снова — агония, судороги, сплошная, нескончаемая пытка. Она превратилась в животное: вырывала у санитара еду, жадно запихивала в глотку куски хлеба, как собака лакала воду из привинченной к полу миски. Целых два года к ней не возвращалась память. Полная отключка. И вдруг она проснулась в три часа ночи и вспомнила, что ее имя — Кэрри. Почему же она не дома, с папой и мамой? Она подскочила к запертой двери и стала звать на помощь, но никто не пришел. Она была растеряна и смертельно напугана. Что с ней? Утром, когда санитар принес еду, она поспешила навстречу. — Почему я здесь нахожусь? Где я? Санитар спешил. Эти психи у него в печенках. Никогда не знаешь, что они выкинут. — Ешь побыстрей! — приказал он, ставя миску на пол. — Я не хочу есть! — взвыла Кэрри. — Я хочу домой! Через несколько часов пришел врач. — Ты, кажется, начала разговаривать? У нее округлились глаза. — Естественно. — Кто ты? Как тебя зовут? — Меня зовут Кэрри. Я живу в Филадельфии вместе с моей семьей. Мне тринадцать лет. — Тринадцать? — врач высоко поднял брови. Она расплакалась. — Да, тринадцать. Я хочу домой, к маме Сонни! Хочу к маме…* * *
Кэрри не отпустили, а продолжали держать в этом странном доме. Теперь, когда она больше не была животным, ей стали поручать работу. Убираться в комнате, мыть полы, готовить пищу. Вечером она, как мешок с песком, валилась на свою койку в переполненной палате. А годы шли. Раз в месяц ее навещал врач. — Сколько тебе лет? — Тринадцать. — Где ты живешь? — Со своей семьей, в Филадельфии. Ничего не менялось. Кэрри не понимала, что происходит. Плакала и потом засыпала. Тосковала по школе, братьям и сестрам, по своим друзьям. Почему ее держат в этом странном месте? Кругом были сумасшедшие. Просто кошмар. Кэрри старалась держаться от них подальше. Ей тринадцать лет, и нужно держать с ними ухо востро. Мало ли что может случиться.Джино, 1937
— Эге, — воскликнул Джино. — А ты девочка ничего! Ты это знаешь? Рыжая старшая официантка по имени Би не клюнула на удочку. — Мистер Сантанджело! Вы говорите это всем девушкам. Он в притворном ужасе заломил руки. — Кто, я? Ты шутишь? Би позволила себе улыбнуться. Потом тряхнула чудесной рыжей гривой. — У вас определенная… репутация. — Надеюсь, хорошая? — О да. — Рад слышать, рад слышать. — Он встал из-за массивного дубового стола и потянулся. Его влекло к этой девушке, но он не собирался лезть вон из кожи. — Сколько ты на меня работаешь, Би? Девушка вздрогнула. От холода или от страха перед увольнением? — Три месяца, мистер Сантанджело. — Тебе нравится твоя работа? — Это прекрасный клуб. — Получила прибавку к жалованью? — Нет еще. Вот оно что. Либо прибавка, либо увольнение. — Как насчет того, чтобы я отвез тебя сегодня домой и мы это обсудили? — Да. Он ухмыльнулся. — Вот как — «да»? — его взгляд лениво скользнул по ее фигуре. — Как насчет «Да, с удовольствием»? — Да, с удовольствием, мистер Сантанджело. Его ухмылка стала шире. Девушка недурна. Эти роскошные волосы. Молочно-белая кожа. Полные груди… — Вот что: в двенадцать зайдите ко мне в кабинет. Девушка повернулась, чтобы уйти. — Кстати, Би. Заколите волосы на макушке. А теперь ступайте. Мне нужно сделать несколько звонков. Джино с удовольствием наблюдал, как ее мощный зад исчезал за дверью. Толстые задницы были его слабостью: есть за что ухватиться. Клементина была плоской, как доска, а у Синди был маленький, кругленький задик, как у мальчика. Синди… Они уже три года женаты, а детей все нет. Это выводило его из себя. Она клялась, что не предохраняется, так какого черта? Вошел Альдо. Ему теперь тридцать один год, и он раздобрел, как пудинг. — Когда ты сбросишь хоть несколько фунтов? — грубо спросил Джино. — Люблю покушать. Страшная вещь! — Если тебя когда-нибудь подстрелят, твоя туша растечется по полу жирной лужей. — Что я могу поделать, если Барбара отменно готовит? Джино зевнул. Нет, он не создан протирать штаны за письменным столом, подсчитывая барыши. Он нуждается в действии,некоторой доле риска. В последнее время все его действия свелись к возне с бабами. И все-таки ему повезло. С сенатором Дюком за спиной он мог чувствовать себя в относительной безопасности. У него появились друзья чуть ли не на самом верху. Хотя это еще не гарантия. В прошлом году глава синдиката, Счастливчик Лючано, угодил за решетку по обвинению в сводничестве. Естественно, Лючано никогда не был уличным сутенером. Он возглавлял крупный бизнес, составной частью которого являлась организованная проституция. Так или иначе, бедняга схлопотал от тридцати до пятидесяти лет за решеткой. Это нагнало на всех страху. Если уж Лючано влип — кто следующий? Джино предпочитал думать, что уж его-то не тронут, поскольку после разрыва с Боннатти большая часть его бизнеса носила легальный характер. Он почти не прибегал к насилию. Конечно, время от времени его наемники пускали в ход угрозы, но это так — мелочи жизни. — Готов к путешествию? — полюбопытствовал Альдо. — Да. Завтра утром отбываем. Синди не вылезает из магазинов. — Бабы! Их хлебом не корми. — Кому ты говоришь! — Джино угробил целое состояние на тряпки и парикмахеров, меха и драгоценности. Да уж, Синди влетела ему в копеечку! Ну так что? Он может себе это позволить. Сейчас он стоит больше миллиона — если считать основной капитал. Благодаря сенатору Дюку. Благодаря Клементине. В последнее время ему все больше хотелось вырваться на волю. Миссис Дюк по-прежнему потрясающе смотрится, но он сыт по горло. Так просто она его не отпустит. Джино выискивал предлоги. Она давала ему отсрочку. Он говорил — не могу. Она спрашивала: а когда сможешь? Он чувствовал себя загнанным в угол. Ему тридцать один год. У него есть жена. Любовница. Несколько побочных связей. И однако он менее свободен, чем когда ему было шестнадцать лет и он гонял по улице. Ему хотелось большего, но он не знал чего. — Фриско пойдет тебе на пользу, — заметил Альдо, поудобнее устраиваясь в кресле. — Ты перерабатываешь. Даже не находишь времени заскочить к нам поужинать. Барбара обижается. — Скажи — после возвращения. — Ловлю тебя на слове. Ты же знаешь, какая она мастерица по части спагетти и мясных фрикаделек, — Альдо поцеловал кончики пальцев. — Да уж, моя супружница — повариха первый сорт! Джино демонстративно уставился на огромное брюхо приятеля, выпирающее из брюк. — Охотно верю. Альдо расхохотался. — Доброе пузо — добрый человек. — Жирный зад! — Джино, прошу тебя! — Жирный зад! В дверь постучали. — Кто там? — рявкнул Джино. — Это я, босс. — Голос принадлежал Джейкобу Коэну, ныне известному под кличкой Джейк-Бой. А чаще просто Бой, хотя ему скоро стукнет двадцать четыре года. Он получил это прозвище из-за того, что рано стартовал в качестве уголовника. Получив в нежном возрасте стодолларовый заем Джино, он не мешкая приступил к работе. Угонял автомобили. Грабил прохожих. Промышлял разбоем. Когда ему исполнилось шестнадцать, Джино взял его к себе. К двадцати годам Джейк уже был известным рэкетиром и, выполняя поручения хозяина, не забывал о собственных интересах. — Входи! — крикнул Джино. — Что за церемонии? Вбежал сияющий Джейк. — Не хотел вас беспокоить, босс. Говорят, теперь новое правило, нужно стучать. — Что еще за правило? Альдо заволновался. — Я посчитал это хорошей идеей. — Какого… — начал Джино и расхохотался, вспомнив, как на прошлой неделе Альдо вошел в кабинет как раз тогда, когда он обрабатывал девушку из сигаретного киоска. — Ты абсолютно прав. — Вдруг нагрянет Синди… или миссис Дюк. — Сдаюсь, — улыбнулся Джино. Может, ему как раз и хотелось, чтобы они застали его на месте преступления? Может, тогда они отпустили бы его? Сорваться с крючка. Снова обрести свободу! Джейк вывалил на стол содержимое вместительной сумки. — По-моему, Гамбино — знаете кондитерскую на углу Сотой и Пятидесятой? — слегка приворовывает. Джино вздернул бровь. — Ты уверен? Джейкоб поскреб макушку. — Вполне. Или он, или его жена — она единственная имеет доступ к деньгам. — Сделай ему предупреждение — одно-единственное. — Ясно, босс. Джино поднялся из-за стола. — Джейк, я завтра уезжаю — всего на одну неделю. Возникнут проблемы — обращайся к Альдо. Джейк метнул взгляд в сторону толстяка и кивнул. С какой стати Джино его унижает? Ведь всем известно, что Динунцио — пустое место. Боится собственной тени. И как только Джино его терпит? Загадка. Сидит тут, не может оторвать жирный зад от кресла. Ага, оторвал — собрал деньги и запер в сейф. А кто добывает деньги? Настоящие ребята, такие, как Джейк. — Больше никаких проблем? — осведомился Джино. Джейк снова поскреб макушку и подумал: «Уж не подцепил ли я насекомых от той последней девчонки?» — Никак нет, босс. — Скоро увидимся.* * *
Клементина Дюк холодно посмотрела на мужа. — Я тебе не верю. Как можно было отмочить такую глупость? Освальд устремил невидящий взгляд в окно. У него дрожал голос. — Я никогда от тебя ничего не утаивал. Ты всегда знала, кто я и что я. Она ехидно засмеялась. — Нет, Освальд. Помнится, мне понадобилось добрых два года, чтобы узнать правду. — Она взяла у него со стола сигарету «Кэмел» и закурила. — Вот, значит, как. Ты нашел выход? — Джино Сантанджело. Он мне многим обязан. Я вправе рассчитывать на маленькое одолжение. Клементина задумчиво выпустила кольцо дыма. — Не такое уж маленькое. — Конечно. Но он обязан мне всем, что у него есть. Он не откажет. — Ты уверен? — В противном случае я его уничтожу. Клементина облизнула сухие губы. Освальд по-своему так же беспощаден, как любой гангстер. Все дело во власти — она испортит любого. — Когда ты хочешь с ним поговорить? — Сразу после его возвращения из Сан-Франциско. Тогда будет как раз подходящий момент. Она молча кивнула.* * *
Сидя на заднем сиденье черного «кадиллака», Би старалась держаться как можно дальше от Джино. Вел машину Ред; рядом с ним устроился Косой Сэм. Джино пыхтел сигарой, наполняя машину дымом. Никто не смел жаловаться. Би заколола волосы на макушке. Она страшно нервничала. Не то чтобы она была неопытной девушкой — у нее были любовники, но… Джино Сантанджело… босс… женатый человек. Привык использовать женщин и выбрасывать за ненадобностью, откупившись какой-нибудь побрякушкой. Би вовсе не улыбалось быть использованной и выброшенной. Но разве она может рассчитывать, что для нее будет сделано исключение? — Иисусе Христе! — воскликнул Джино, кладя конец ее размышлениям. — Ты не предупредила, что живешь у черта на куличках. — Еще каких-нибудь два квартала. — Хорошо бы, — он зевнул и лениво подумал: интересно, овчинка стоит выделки? Новый день. Новая баба. Все они одинаковы. Зато завтра все будет по-другому. Он едет в Сан-Франциско, чтобы стать шафером на свадьбе Косты. Завтра он увидит Леонору. Интересно, как это на него подействует? Что почувствует он и что она? Первым его побуждением было отказаться. Однако Синди настаивала. — Ты не можешь так поступить. Он же был шафером на нашей свадьбе, и ты обещал отплатить ему тем же. Да. У него не было выбора. Кроме того, пришло, наверное, время встретиться с Леонорой. Для страховки он решил взять с собой Синди. — Приехали, — сказала Би. Ред затормозил перед многоквартирным кирпичным домом. — Пойдете внутрь, босс? — спросил Косой Сэм. — Ага. — А что, по мнению этого кретина, он собирается делать? Покрыть такое расстояние ради удовольствия посидеть в машине? Телохранитель выбрался наружу и открыл заднюю дверцу. Вышла Би, а за ней Джино. Он последовал за ней на крыльцо и вошел в квартиру на первом этаже. Простенько, но со вкусом. — Ты живешь одна? Девушка чуточку замялась и ответила: — Да. Джино обошел комнату. — Приготовь-ка мне «скотч». У тебя есть лед? — Нет. Так же, как и «скотча».
* * *
Синди вернулась мыслями в то время, когда она помогала Джино готовиться к открытию «Клемми». Она ежедневно встречалась со строителями и декораторами. Сама подбирала женский персонал: старших официанток, гардеробщиц, продавщиц сигарет. Никаких проституток. Просто хорошеньких девушек, которые будут в поте лица своего зарабатывать на хлеб. При ней Джино и не думал заглядываться на других. С него хватало костлявой Клементины. Синди с самого начала, скрепя сердце, смирилась с этой связью. Хватило ума понять, что ничего не поделаешь. Кроме того, привилегия знакомства с сенатором и миссис Дюк перевесила отрицательные стороны. Ей было ясно: со временем Джино пресытится и вернется к ней. Она не предвидела, что он предпочтет систематически пользоваться услугами всего женского персонала клуба. К тому времени она, Синди, лишь изредка заглядывала туда — людей посмотреть и себя показать. Миссис Джино Сантанджело за своим персональным столиком. Вокруг увивалось несколько идиотов, которые, хотя и обнюхивали ее, как кобели сучку, однако никак не могли решиться на что-то большее; слишком боялись Джино. Все, на что они отваживались, это легкое ухаживание. Синди беспокойно заворочалась на своей королевской кровати. Миссис Джино Сантанджело. Тряпки. Драгоценности. Фешенебельная квартира на верхнем этаже небоскреба на Парк-авеню. Однако некому согреть ее в объятиях. Любить, черт побери! И ничего не поделаешь — конечно, если она хочет оставаться его женой. Потому что Джино выдвинул одно условие. Супружеская верность. Вот так. Синди взяла с ночной тумбочки стакан воды и подумала о предстоящем путешествии. Вот уже несколько недель она с нетерпением ждет этой поездки. Они вдвоем — вдали от Нью-Йорка, ночного клуба… и всего остального. Может быть, тогда он поймет, что сколько бы он ни бегал за юбками, а настоящий лакомый кусочек ждет его в собственной постели. Хлопнула входная дверь. Синди взглянула на часы. Час ночи. Рановато для Джино. Сейчас она спустится на кухню, приготовит ему мороженое и отнесет в кабинет, где он привык спать. Нет. Лучше его не беспокоить. Бывало, она выходила к мужу в роскошном дезабилье, пытаясь вызвать к себе интерес — тщетно. Синди перевернулась на живот и зажала рот рукой, чтобы не разрыдаться. Спать, приказала она себе. Спать! Она уже засыпала, когда в спальню прокрался Джино и заполз под одеяло. Его руки зашарили под ее ночной рубашкой. Она ощутила спиной желанную твердость. Синди обуяла радость. — Ох, Джино! Не успела она выдохнуть последние звуки его имени, как он ворвался в нее. Некогда внимательный любовник, теперь он заботится только о своем удовольствии. Синди почувствовала себя уничтоженной. Он наверняка не смеет так вести себя со своими бесчисленными подружками. И Клементиной Дюк. Ублюдок! Если он не изменится, пусть пеняет на себя. Да! Она ему покажет! У нее созрел план, как поставить паршивого эгоиста Джино на колени!Кэрри, 1937
В начале тридцать седьмого года Кэрри выпустили из психлечебницы, где она провела девять томительных лет. Она больше не думала о себе как о тринадцатилетней девочке. Память возвращалась медленно, по частям, и наконец настал момент, когда все обрывки соединились в одно целое. Теперь она помнила все: от мамы Сонни до бабушки Эллы, от Лероя до Уайтджека. В мозгу быстро, как кинолента, промелькнули воспоминания о недолгой связи с Уайтджеком. Вот она вместе с ним и Люсиль покидает заведение мадам Мей. Джаз-банды. Марихуана. Полный кайф. А затем — пустота. Конечно, это все наркотики. Теперь она знала, что с ней произошло. Врачи — особенно доктор Холланд, который в последние два года был ее лечащим врачом, — рассказали ей о наркомании. По выходе из больницы ей предстоит битва не на жизнь, а на смерть. Ему пришлось целый год добиваться того, чтобы ее отпустили. «Эта девушка не сумасшедшая! Ее просто держат в качестве дешевой рабочей силы!» И наконец руководство клиники уступило. Кэрри исполнилось двадцать три года. Она превратилась в худенькую миловидную женщину с полной грудью, длинными черными волосами и грустными глазами. В день, когда ее выписали, на ней было плохонькое серое пальтишко — результат благотворительности, — а также коричневая юбка и желтый свитер. Она стянула волосы густым узлом на затылке. Никакой косметики. В ее сумочке лежали двадцать пять долларов и листок бумаги с адресом женщины, пообещавшей устроить ее на работу. Доктор Холланд простился с ней у ворот клиники. — Кэрри, тебе будет трудно. Жизнь вообще трудная штука. Но я очень хочу, чтобы ты постаралась. А когда будет особенно тяжело, я всегда приду тебе на помощь, помогу разобраться. Договорились? Она безучастно кивнула. Доктор хороший человек. Думает, делает ей добро, выпуская в огромный, холодный мир — тогда как единственным, чего ей хотелось, было забиться в какой-нибудь укромный уголок и никого не видеть. Она чувствовала себя совершенно опустошенной. Автобус подвез ее в центр. Здесь все изменилось. Может, лучше бы ей остаться там, где была. По крайней мере, там можно ни о чем не думать. В автобусе на нее уставился какой-то мужчина. Она запахнула пальто и отвернулась. Мужчины казались ей врагами. Дворецкий открыл перед ней дверь дома на Парк-авеню. — Меня зовут Кэрри, — пробормотала она и вдруг сообразила, что это рядом с резиденцией Даймса, у которого она когда-то работала. — Я новая служанка. Дворецкий принял важный вид. — Почему не вошла с черного хода? — Извините. Я не подумала. Он почмокал губами и впустил ее. — Иди за мной. Кэрри прошла вслед за ним в просторную кухню. У плиты колдовала немолодая негритянка. — Миссис Смит, — обратился к ней дворецкий, — это Кэрри, новая служанка. Оставляю ее на твое попечение. Должно быть, миссис Беккер пожелает взглянуть на нее. — Ясное дело, мистер Бил. — Женщина повернулась к Кэрри и спросила: — Уже когда-нибудь работала в господском доме, лапочка? Кэрри кивнула. — Ну, тогда ты знаешь, что это не сахар.* * *
Она опять служит в доме у богатых людей. Знакомая рутина. Стелить постели. Вытирать пыль. Скрести полы. Чистить туалет. Ползать на четвереньках по мраморным полам. Мыть и гладить. Рабочий день Кэрри начинался в шесть утра и кончался порой в десять часов вечера. Ей платили сто долларов в месяц — это верхний предел для служанки, живущей в доме. Работа ее не тяготила. Она помогала отвлечься от тяжелых мыслей. Раз в месяц у Кэрри был выходной. Она не знала, как им распорядиться, и чаще всего оставалась дома. Она редко видела своих хозяев. По словам миссис Смит, мистер Беккер был очень богат, а фотографии миссис Беккер то и дело появлялись в светской хронике. «Как-нибудь я покажу тебе ее гардеробную — у нее никак не меньше тридцати пар обуви!» Уайтджек! Это имя моментально всплыло в памяти. У него было примерно столько же пар туфель. Уайтджек. Высокий, крутой мэн с лоснящейся лысиной. Неотразимый Уайтджек. Кэрри вспомнила о его двадцати трех костюмах, и каким он был щеголем, и как улыбался. Уайтджек. Он чуть не убил ее. Интересно, где он сейчас, что поделывает и есть ли у него женщина? Что она сделает, если снова встретится с ним? Убьет мерзавца!Джино, 1937
На холостяцкой пирушке у Косты Джино чувствовал себя не в своей тарелке. Он сидел за столом и угрюмо наблюдал за происходящим. Собрались в основном товарищи Косты по колледжу. Когда по традиции из громадного торта показалась обнаженная девушка, они пришли в такой восторг, что Джино стало смешно. Можно подумать, эти молокососы никогда не видели голой бабы! Он довольно быстро вычислил мужа Леоноры и украдкой наблюдал за ним. Любовь его жизни вышла замуж за форменного идиота. Эдвард Филип Грационе. Кретин, работающий в фирме своего отца, белобрысый, с хлопающими глазками. Впрочем, неплохое тело классного футболиста — как выяснилось, тем-то он и славился в колледже. Джино не терпелось увидеть Леонору. Чуть не вспотел от одной мысли. Это привело его в бешенство. Давно пора успокоиться! Да ведь он и успокоился. Просто хотелось поскорее убедиться, как на него подействует эта встреча.* * *
— Дженнифер, не шевелись! — прикрикнула Леонора. — Как, по-твоему, я смогу туже затянуть корсет, если ты все время дергаешься? — Извини, я исправлюсь, — невеста Косты, Дженнифер Брирли, замерла в центре спальни, пока Леонора шнуровала корсет. — Слишком туго. Мне будет трудно дышать. — Обойдешься, — жестко ответила подруга. — Как ты думаешь, мы заслужили по бокалу шампанского? — В одиннадцать часов утра? — Это же день твоей свадьбы. Давай я сбегаю за бутылочкой. Дженнифер погрустнела. Бедная Леонора! В последнее время она все больше пьет. Через пять минут вернулась торжествующая Леонора с бутылкой шампанского и двумя фужерами. — Вуаля! — она ловко откупорила бутылку, наполнила фужеры и протянула один Дженнифер. — За твое семейное счастье! Дженнифер только пригубила, зато Леонора в несколько здоровенных глотков опорожнила свой фужер и снова наполнила его. — Надеюсь, ты знаешь, на что идешь, — на этот раз в голосе Леоноры сквозила горечь. — Я выхожу замуж за любимого человека. Леонора фыркнула. — Любовь недолговечна. Вот погоди, как только ты станешь его собственностью… — Я не собираюсь становиться собственностью Косты, так же, как и он моей. Просто мы хотим быть вместе. — Ух! — Леонора выдула еще один фужер шампанского. — Поговорим об этом через пару лет, когда вы выбросите любовь на свалку за ненадобностью. Жена — собственность мужа — если, конечно, она это допускает. — Перестань, Леонора! Сейчас не время для подобных споров. Я понимаю, что у вас с Эдвардом все идет вкривь и вкось, но это не значит, что любой брак обречен. — Да, конечно, — Леонора снова взялась за бутылку. — Сейчас вернусь, — и она выбежала из спальни, не желая, чтобы Дженнифер видела ее слезы. В конце концов, это свадьба ее лучшей подруги и незачем ее портить. Весь день она думала о Джино Сантанджело. Интересно, какой он стал? Сильно ли изменился? Все такой же смуглый, угрюмый и очень красивый? Или время проехалось по нему так же, как по ней? Леонора отдавала себе отчет, что она уже не та девушка, в которую он когда-то влюбился. Глядя в зеркало, она подмечала морщинки, разрушительные следы времени, опустившиеся уголки губ… Почему, ну почему она не дождалась его? Неужели из-за писем? Уж больно они были слащавые, просто до тошноты. Или дело в том, что ей было из кого выбирать? Ну, вот и выбрала. Одного, другого, третьего… И наконец — Эдвард. Мария. Выпивка. Любовники. Леонора нахмурилась. Джино Сантанджело. Ее девическая мечта. Что в нем было такого?..* * *
— Ах, сукин сын, — засмеялся Джино. — Неужели ты вправду женишься? Коста ухмыльнулся. — Вправду женюсь, — их лимузин мчался по направлению к церкви. — Пора. Да и Дженнифер — потрясающая девушка. — Если ты на ней женишься, значит, так оно и есть. — Не то чтобы она была сногсшибательной красоткой. Как Синди… Джино расхохотался. — Синди! Сногсшибательная красотка! Малыш, да стоит мне приказать, она будет целовать тебе пальцы ног! — Дженнифер создана для меня, — серьезно продолжал Коста. — Она самая лучшая девушка на свете. Сам не знаю, почему мне потребовалось столько времени, чтобы это понять, — ведь она ближайшая подруга Леоноры. Леонора. Сейчас они приедут в церковь, и Джино ее увидит. Он проглотил комок и уставился в окно.* * *
Синди ехала в церковь на такси. На ней был белый шелковый костюм, идеально подчеркивавший все ее аппетитные округлости, а сверху — белое лисье боа. Светлые волосы по последней моде коротко подстрижены, их венчала крохотная белая шляпка. Синди знала, что выглядит, как кинозвезда. Случись Кларку Гейблу бросить на нее взгляд, ни за что бы не устоял. — Выходишь замуж, крошка? — спросил водитель. — Я из приглашенных, — надменно ответила она. И, заплатив по счетчику, направилась ко входу в церковь. Это же надо — явиться на свадьбу на такси! Джино обязан был позаботиться о лимузине. Когда она заикнулась, он сказал, что совсем выпустил из виду. У входа ее остановил служитель. — Жених или невеста? — Что? — она как можно шире распахнула невинные голубые глаза. — Жених или невеста? Синди пожала плечами. Тогда к ним подошел еще один служитель, похожий на молодого греческого бога. — Вы гостья со стороны жениха или невесты? — А что? — спросила Синди, пытаясь угадать, как он выглядит без одежды. — Нам нужно знать, по какую сторону от прохода вас посадить. — Ах вот что! Я — старинная приятельница Косты. Греческий бог взял ее под руку. — Повезло ему!* * *
Дженнифер царственной походкой шествовала вдоль прохода, опираясь на руку своего отца. Это был ее день. Впереди выступала посаженная мать Леонора, а перед ней — три подружки невесты, в том числе девятилетняя Мария. Это была поистине королевская процессия, и никто не заметил, что Леонора некрепко держится на ногах.* * *
Коста весь вспотел, дожидаясь в первом ряду. Хотелось в туалет. Или закурить. Или выпить. Рядом стоял внешне спокойный Джино. Ему потребовалась вся его выдержка, чтобы не оглянуться. Его интересовала, конечно же, не невеста, а Леонора, которая, как он знал, состояла в ее свите. — Я что-то неважно себя чувствую, — пробормотал Коста. — Все будет хорошо, малыш. Не падай духом! В поле их зрения появились Дженнифер и ее отец. Коста двинулся навстречу. Джино — за ним. У него все похолодело внутри. Леонора! Все такая же! Она стояла к нему в профиль, слегка вздернув голову; розовое платье слегка обрисовывало линию груди, талию и мягкими складками ниспадало на пол. У Джино пересохло в горле. Он с трудом отвел от нее глаза и стал смотреть перед собой. Начался обряд венчания.* * *
Дальше все было как в тумане. Свадебный обед и банкет. Шампанское. Прекрасное угощение. Речи. Тосты. Франклин Зеннокотти бросил на него недоверчивый взгляд. Мэри Зеннокотти одарила его материнской улыбкой. Синди флиртовала напропалую, как дорогая кокотка; все молодые люди, включая мужа Леоноры, ухлестывали за ней. Коста с Дженнифер никого не замечали, они держались за руки и обменивались загадочными улыбками. А вот и она. Леонора. Уже не девушка — двадцативосьмилетняя женщина. Джино — небрежно: — Как поживаешь? Леонора — еще более небрежно: — Прекрасно. А ты? Джино: — Неплохо. Леонора: — Я очень рада. Молчание. Долгое-долгое молчание. Джино — озабоченно: — Говорят, у тебя прелестная дочь? Леонора — легко: — Да. Ее зовут Мария. Новое молчание. Джино: — А у меня вот нет детей. Леонора: — Да что ты? Они стояли недалеко от танцевального пятачка, где кружились пары. Джино: — Давай потанцуем. Шафер и посаженная мать. Леонора: — Ну что ж. Она оказалась легкой, как перышко. Он вел ее, держа на безопасном расстоянии, чувствуя себя одновременно и счастливым, и ужасно глупым, и очень несчастным. Что ей сказать? И ответит ли она? Надо ли выставлять себя на посмешище? Ведь он — Джино Сантанджело. Важная шишка. Может иметь любую женщину, какую захочет. В Нью-Йорке его уважают и боятся. Сенаторы, судьи, политики — кого только нет среди его знакомых! Попутно он трахает их жен. — Хватит, — резко сказала Леонора. — Я хочу пить. — Конечно. Они двинулись по направлению к столикам. — Леонора? — Да? — В голубых глазах стыли льдинки. Мать твою! Даже не потрудилась что-то объяснить, извиниться, как сделала бы любая светская дама. — Что тебе принести? — Ничего. Попрошу мужа. — Она резко высвободилась из его объятий и пошла прочь. Его как будто лягнула лошадь — прямо под дых. Какая муха ее укусила? Смотрела так, будто он дерьмо на дороге. С ненавистью и презрением. Что он ей сделал? Молился на нее, как сосунок!.. — Привет! — рядом остановилась маленькая девочка. Девятилетняя копия своей матери. — Ты кто — Мария? — Да. Прелестное дитя. Те же глаза. Те же волосы. — Откуда вы знаете мое имя? Джино улыбнулся. — Кто же тебя не знает? — Правда? — Конечно. — Вот и хорошо. Я хочу пригласить вас на танец. Шаферу положено танцевать со всеми подружками невесты, — она застенчиво протянула ему руку. — Теперь моя очередь. — С удовольствием. И они пошли танцевать.Кэрри, 1937
— Мистер Бернард Даймс, его дом напротив, в понедельник устраивает званый ужин. Обычно миссис Беккер отпускает нас помочь на кухне. Хочешь подзаработать? — миссис Смит тревожно посмотрела на Кэрри. — Почему ты молчишь? Нужно предупредить экономку. Кэрри не знала, что ответить. Готова ли она сделать шаг в прошлое? Но… лишние деньги не помешают. Она и так откладывает каждый доллар, хотя и не знает зачем. — Хорошо. По крайней мере, хоть какое-то разнообразие. Она полгода проработала у Беккеров и еще никуда не выходила, разве что на рынок, да один раз навестила доктора Холланда. Он остался доволен. — Нью-Йорк, со всеми его соблазнами, стал для тебя тяжелым испытанием. Кажется, ты его выдержала с честью. Так ли? Можно ли считать затворничество победой? Может, она просто пасует перед искушением? Может, и стоило бы выйти на улицу, сходить в кино, обойти ближайшие магазины? Она так и сделает. Когда будет готова.* * *
В понедельник в пять часов вечера миссис Смит и Кэрри отправились к Даймсу. По такому случаю миссис Смит надела свое лучшее цветастое платье. Что касается Кэрри, то она осталась в форме служанки, а длинные волосы заплела и заколола на затылке. — Ты что ж, так и не принарядишься? — упрекнула ее миссис Смит. — Это моя рабочая одежда. Экономка мистера Даймса, миссис Черч, встретила их на пороге кухни. К величайшему облегчению Кэрри, это оказалась не та женщина, которую она знала. Кухню переоборудовали и отделали заново. Но все равно Кэрри разволновалась, вспомнив, какой она была тогда невинной молоденькой девушкой. На кухне кипела работа. Молодая шведка в форме официантки ждала, когда можно будет относить блюда. Здесь же суетились два бармена и служанка. Шеф-повар колдовал над слоеным пирогом. Кэрри поручили мыть посуду. В семь часов начали прибывать гости. Сверху доносились музыка и смех. Оба бармена и официантка убежали в столовую, но то и дело возвращались — посплетничать о знаменитых гостях. Росла гора грязной посуды. У Кэрри покраснели руки, горячая мыльная вода разъедала пальцы. В половине одиннадцатого явился дворецкий. Обвел всех взглядом и остановился на Кэрри. — Умеешь подавать пальто? — Что? — А, не беда. Уж наверное, справишься не хуже той девчонки. Пошли. Она вытерла руки о посудное полотенце и поднялась вместе с дворецким по знакомой лестнице. — Сюда, — он слегка подтолкнул ее в гардеробную. — Я буду говорить, что нужно делать, а ты поторапливайся. Это все-таки легче мытья посуды.* * *
Эстер и Гордон Беккер уходили одними из последних. — Чудесный вечер, дорогой Бернард! Тот улыбнулся. — Спасибо. Я рад, что вы остались довольны. — О да — и я, и Гордон. Правда, милый? Гордон не сразу понял, о чем она говорит. Его внимание привлекла черная девушка, подававшая пальто. Где он мог ее видеть? — Кэрри! — воскликнула Эстер. — Ты все еще здесь? Хотела бы я знать, в каком виде ты завтра утром выйдешь на работу! — Кто она? — удивился Гордон. Эстер расхохоталась. — Наша служанка. Вы только посмотрите на него — не узнает собственных слуг! — ее двойной подбородок так и затрясся над мощной грудью. Гордон тоже рассмеялся. — Кто же узнает слуг? Они приходят и уходят. В голове у Бернарда Даймса шевельнулось смутное воспоминание. Кэрри? Словно звенящий вдали колокольчик. Знакомое лицо. Кэрри? Его всегда раздражало, когда он не мог вспомнить, где видел человека. — Позвольте ей задержаться, — попросил он Эстер. — О, разумеется. Я пошутила. Ничего страшного, если и недоспит, правда? Кэрри решила искать другую работу.* * *
Позже, когда отбыл последний гость, Бернард Даймс сидел в кабинете с бокалом своего любимого бренди. Он вызвал дворецкого. — Роджер, та девушка, которая помогала подавать пальто, еще не ушла? Позовите ее сюда. — Да, сэр. Она очень старательная. Нам бы такую служанку. — Вот как? Может быть, попросить миссис Беккер отпустить ее? — Отличная идея, сэр. Бернард развеселился. — Вы меня удивляете. Переманивать слуг — вроде бы не ваше хобби. Роджер остался невозмутимым. — Да, сэр. Но иногда ничего другого не остается.* * *
На кухне миссис Смит, пьяно пошатываясь, собирала в бумажный пакет оставшуюся закуску. Двое барменов собирали пустые бутылки. Официантка-шведка переоделась в ярко-оранжевое платье и лениво перелистывала дамский журнал. Шеф-повар, ее муж, убирал кухонную утварь. Кэрри относила чистую посуду в буфет. К ней подкатился один из барменов: — Хочешь повеселиться? Она без всякого выражения уставилась на него. — Ну так как же? Кэрри покачала головой. Он собирался продолжать атаку, но тут появился дворецкий. — Кэрри, тебя хочет видеть мистер Даймс. Прямо сейчас.Джино, 1937
Поездка оказалась не из приятных. Чертова свадьба. Чертов отель, где ему приходилось подолгу бывать тет-а-тет с Синди. Наконец, после особо бурной ссоры, они возвратились в Нью-Йорк — чуть ли не врагами. Синди кипела от возмущения. Джино ясно дал понять, что она — лишь одно из его приобретений, наподобие костюма и автомобиля. Естественно, он не сказал этого прямо, но она поняла. Он только и делал, что издевался: мол, на свадьбе она выставила себя на посмешище. Что он понимает? Да там каждый мужик кончил в штаны от одного только взгляда на нее! — Не нужно было выряжаться в белое, — поучал Джино. — Это еще почему? — Потому что это привилегия невесты. — Да? Кто сказал? — Я. И требования этикета. — Этикета! Вот не подозревала, что тебе известно это слово! Бац! Он впервые за все годы поднял на нее руку. Синди тигрицей набросилась на мужа, кусаясь и царапаясь. Джино стряхнул ее с себя и ушел, предоставив ее собственным горьким размышлениям в этом паршивом отеле. Сам пошел в бар и надрался. На него не похоже. Обычно он знал меру. Но сейчас Джино был в смятении. Чертова Синди — вертит задом перед каждым встречным, как дешевая потаскушка. Чертов Франклин Зеннокотти — до сих пор смотрит на него, как на уличного хулигана. И конечно, Леонора. Он думал, что давно покончил с этим. И вот они встретились. Те же глаза, волосы, тело… и все та же застарелая боль. А она — вся лед и презрение, как будто не она, а он причинил ей зло. Просто уму непостижимо! Скорей бы уехать в Нью-Йорк!* * *
Альдо, по своему обыкновению, жевал дольку чеснока. — Ну, слава Богу, ты вернулся. Джино диким зверем кружил по кабинету. — Иисусе Христе! Я всего на несколько дней отлучился — и застаю здесь такой бардак! Ты способен сам что-нибудь решить? Альдо залился краской. — Кто же мог ожидать? Все шло как по маслу. — Естественно. Я не зря подмазываю всех подряд, — Джино ударил кулаком по столу. — Где, мать твою, Бой? — Он совсем плох. Его отделали будь здоров. — Чертов идиот. Как могло случиться, что он поехал без охраны? — Он всегда так ездит. Да. Джейкоб Коэн. Джейк. Бой. Обожает играть в независимость. Крутой парень. Может быть, даже слишком. — Повтори все сначала, — потребовал Джино. — Но я уже все рассказал. — Ну? Альдо перестал спорить. Джино весь кипел — вот-вот взорвется. — Обычно он собирает дань по субботам. Обычно. Оставляет машину возле кондитерской на Сто пятнадцатой улице… — Кондитерской Гамбино? — Именно. Ну вот, едва он вошел внутрь, как сзади на него напали трое. — Он что, их не заметил? — Нет. Напали сзади, хорошенько его отдубасили, забрали деньги, весь мешок, и смылись. — Куда? — Что-что? — В каком направлении они побежали? — Понятия не имею. — Шестьдесят кусков моих денег — и ты понятия не имеешь? — Я знаю только то, что сказал Бой. — Он сразу приперся сюда? — Да. Из него ручьями вытекала кровь, и он весь трясся. Я велел Реду отвезти его домой. — И дать ему пустышку и стакан горячего молока? Альдо вконец растерялся. — Бой работает с нами семь лет, ты же его знаешь. — Я знаю только то, что хотя бы раз в неделю должен сходить по-большому, — вот все, что я знаю. До Альдо начало доходить. В словах Джино есть резон. — Но с какой стати этот чертов жиденок… — Спокойно! — рявкнул Джино. — Если он нас обворовал, это еще не дает тебе права называть его жидом — так же, как меня — паршивым макаронником. Или я отделаю твою башку, как бейсбольную биту! Заруби это себе на носу. Иисусе Христе! Бой все подстроил. Говоришь, это случилось вчера? Хочешь пари — он вовсе не отлеживается в своей норе, дожидаясь моего возвращения. — Джино сделал короткую паузу. — Нет. Даю голову на отсечение, Бой ушел на дно с моими шестьюдесятью кусками. А ты, ослиная задница, ему пособил. Альдо молча переваривал сказанное. — Я должен сам убедиться, — Джино вышел в приемную. — Сэм, Ред, поехали. Хочу нанести визит Бою — цветы и все такое прочее. Оба его телохранителя обменялись понимающими взглядами. Бой мог втирать очки Альдо — он же тупарь. А вот они сразу усекли; это подстроено. Всякий, кто посмел бы приблизиться к Джейку на сто ярдов с недобрыми намерениями, рисковал схлопотать пулю. Джейк — стрелок номер один во всей округе. Они-то знают. И Джино. Самое время — просветить этого недоумка Альдо.* * *
Естественно, Джино оказался прав. Квартирная хозяйка Джейкоба Коэна сказала, что он переехал. Ни с того ни с сего. Не оставив нового адреса. — Такой хороший мальчик, — промурлыкала она. — Тихий, никаких с ним хлопот, вовремя вносил плату… — И вы не представляете, куда он мог деться? Женщина покачала головой. — У него была подружка? Она скривила губы. — Мои жильцы имеют право на личную жизнь. Джино дал ей двадцатку. — У него было много девушек. Все время разные. — Ни одной постоянной? — Нет. Они приходили и уходили, — она шмыгнула носом. — Такому прекрасному молодому человеку незачем закабаляться раньше времени. Джино кивнул. Пусть только Джейкоб Коэн ему попадется — он поджарит на сковородке его яйца и скормит голубям. Никому еще не удавалось обокрасть Джино Сантанджело. Ни одному человеку.* * *
— Так ли уж необходимо туда тащиться? — ныла Синди. — Необходимо, — отрезал Джино. С тех пор, как они вернулись из Сан-Франциско, он постоянно был мрачнее тучи. — И что, придется остаться на весь уик-энд? — Придется. Ему и самому не хотелось ехать на прием к сенатору и миссис Дюк. Но они отмечают двадцать седьмую годовщину своей свадьбы, так что не отвертишься. Клементина лично позвонила и настояла, чтобы они приехали. Ох уж эти серебряные колокольчики в ее голосе: «Джино, если вы не приедете, я начну думать, что ты меня избегаешь. Вы с Синди и так пропустили предыдущую вечеринку, а одного тебя я не видела три недели. Было бы горько думать, что ты от меня прячешься. И Освальд будет недоволен». Скрытая угроза? Джино рассмеялся. Никаких угроз! У него просто разыгралось воображение. Даже если он решит навсегда порвать с этой парочкой, ничего они ему не сделают. Однако сенатор Дюк слишком много знает. О рэкете. О побочных доходах от клуба. Об азартных играх. Много о чем. Если сенатор Дюк пожелает упрятать его за решетку, будет достаточно одного звонка в таможенную службу. Да. Все-таки они компаньоны. Последняя вечеринка, решил Джино. Он в последний раз сделает им одолжение. И прямо там объяснится с Клементиной. Мол, так и так, мы прекрасно провели время, но… что-нибудь в этом роде. Это был не единственный камень на его душе. Чертов Джейк — сбежал с его деньгами. Ищи ветра в поле. Но ничего. За вознаграждение в шесть тысяч баксов граждане родную мать продадут. Как в воду канул. Маленький ублюдок. Ничего, еще вынырнет на поверхность — тогда-то его и сцапают. — Что мне надеть? — спросила Синди. — На твое усмотрение. — Красное шелковое? — Ты в нем смотришься дешевой проституткой. — Спасибо. Ты мастер комплиментов. — Тогда какого черта спрашиваешь? Больше не буду, решила она. Надену, что хочу, хотя бы и красное. Пусть даже я буду выглядеть дешевой проституткой. Вслух она спросила: — Есть новости о Бое? — она прекрасно знала, что нет, ей очень уж захотелось подколоть Джино. — Нет, — рявкнул он. — Я поехал в клуб. — Может, мне тоже попозже появиться? — Нечего. У меня деловая встреча. — С кем? Он бросил на нее грозный взгляд. Синди пожала плечами. Она знала, когда лучше не заедаться. Так или иначе, все идет по плану. Скоро она возьмет вожжи в свои руки.* * *
В «Клемми» было полно народу. Полный успех. Джино задержался в гардеробе, чтобы потолковать с Верой. Она немного похорошела и даже была трезва. Глаза сияли. — Угадай, какая у меня новость? — Что еще за новость? — Он выходит на свободу. — Да? — ему не нужно было спрашивать, о ком речь. У Джино засосало под ложечкой. — Чудесная новость, да? Он тупо кивнул. Что он мог сказать? Что, будь его воля, старый хрыч до конца своих дней оставался бы за решеткой? Вера сжала его локоть. — Джино, я знаю, между вами никогда не было особой любви… Мягко сказано! — Но сейчас пришло время помириться. Паоло сильно изменился. Столько сидеть — кто угодно задумается. — Она сделала глубокий вдох и выпалила: — Он тобой восхищается. Только о тебе и говорит. Прямо гордится. Еще бы. Паоло знает, с какой стороны хлеб намазан вареньем. — Я подумала, — продолжала Вера, — что вам есть о чем поговорить. Ему нужно подыскать работу — что-нибудь честное. Теперь, когда слинял Джейк… Джино понял. — Забудь об этом. — А, брось. Все-таки он твой отец. Неужели у тебя нет родственных чувств? — Сказать по совести — никаких. — Когда он выходит? — Через две недели. — И ты его примешь? — Конечно. Джино покачал головой. — Дура ты, Вера, И знаешь, чем все это кончится? Рано или поздно он вышибет из тебя дух. — Говорю тебе, он стал другим человеком. — Посмотрим. Только пусть держится от меня подальше. Знать его не хочу. Она вытаращила глаза. — У тебя что, совсем нет сердца? — Нет. А как, ты думаешь, я всего добился? — он повернулся и пошел в зал. Цепкие черные глаза ничего не упускали. Вон за столиком Би еще с одной старшей официанткой и двумя парнями. Она поймала его взгляд и отвернулась. Мелькнуло воспоминание о том, как она стояла перед ним в одних чулках и туфлях на высоких каблуках. Крупное, белое, гладкое тело. Могла бы предупредить о триппере и до того, как раздеться. Красивая, пухлая грудь… Он подошел к старшей официантке по прозвищу Америка. Черные, как вороново крыло, волосы и ноги от подмышек. Однажды он уже удостоил ее своим вниманием. Нельзя сказать, чтобы она произвела на него неизгладимое впечатление, но — сносно. Он наклонился к ней и прошептал: — Сегодня после смены подвезу тебя домой. В полночь зайдешь ко мне в кабинет. Девушка просияла. — Да, сэр! — очевидно, ее воспоминания о том вечере оказались ярче. Бабье. Двадцать центов за дюжину. Все они одинаковы — что в дешевом тряпье, что в шелках от Дживенчи…* * *
Синди назло нацепила красное шелковое платье — с огромным декольте, открытой спиной и разрезом на юбке. Светлые кудряшки обрамляют кукольное личико. Сбоку в прическе — искусственный алый цветок. Джино воздержался от комментариев, ограничившись достаточно красноречивым взглядом. А ей наплевать! Она беззаботно тряхнула кудряшками и продолжала флиртовать со всеми подряд. Клементина, в шикарном черном платье, увела Джино в сторонку. — Поговори со своей женой. Наша маленькая Синди держится вызывающе. — Да? — безо всякого выражения протянул Джино и оглянулся на жену. — Пускай себе развлекается. Клементине стоило большого труда скрыть раздражение. — Тебе бы следовало побеспокоиться. Она тебя компрометирует. Делает из тебя идиота. — Ну, если так, что сказать о вас с Освальдом? Клементина проглотила комок. Джино по-прежнему ей небезразличен. — Это другое дело. — Почему? — Сам знаешь почему. — Ага. Потому что он извращенец? — Не говори так. — Раньше тебе нравилось это слово. — А тебе нравилось встречаться со мной. Джино, что произошло? Он пожал плечами. — Меня не было в городе. Да. Но он и по возвращении из Сан-Франциско избегал ее. Такого с Клементиной Дюк еще не случалось. Она не стала развивать эту тему. — Дай сигарету. — Не держу. Как насчет сигары? Самовлюбленный ублюдок! Если бы не они с Освальдом, он продолжал бы шляться по улицам. Они дали ему все. В том числе положение в обществе. Она вдруг поняла, что любит его. Да. Любовь — не персиковое мороженое. Любовь — это ревность, собственническое чувство и щемящая боль в сердце. Он ее больше не хочет. Это так же верно, как то, что Освальд — гомосексуалист. — Джино, — жестко произнесла она. — Освальд хочет обсудить с тобой одно важное дело. Зайди к нему в кабинет завтра в десять часов утра. Это… очень конфиденциальное дело. Я уведу Синди за покупками. Он был крайне удивлен. Что еще случилось? — Конечно, зайду. — Что ж… Пойду занимать гостей. Ты меня, конечно, извинишь? Он проводил ее взглядом. По-прежнему сногсшибательна… В отдалении маячила Синди. Самая красивая навечеринке. Почему же он не испытывает к ним ни малейшего влечения? Может, все дело в том, что он слишком рано начал? Имел слишком много женщин и вот наступило пресыщение? Даже мимолетные интрижки приелись. Когда-то любовь была увлекательной игрой. Теперь же — одна морока. Да. Он умирает от скуки. Может быть, он сам виноват. Джино чертыхнулся и подумал о Джейке. О том, что он с ним сделает. Однако у парня явно есть шарики в башке. Джино ценит такие вещи. Он даст Бою хороший урок. И примет обратно.* * *
— Почему бы нам не поужинать вместе? — в третий раз предложил Генри Муфлин. Синди склонила набок голову и кокетливо поглядела на него. — Просто я не хочу, чтобы Джино сделал из тебя отбивную. — Но это же смешно! — воскликнул Генри. Это был уже не тот сопливый юнец, который тенью ходил за Клементиной Дюк. Ему тридцать один год. Он давно избавился от прыщей и унаследовал от отца немалое состояние. — Да ты храбрец, Генри! — промурлыкала Синди, наслаждаясь тем, как его взгляд скользит по ложбинке между ее грудями. — Я вполне с-серьезно, — настаивал он. Несмотря на лечение, у него осталось небольшое заикание. — Я х-хочу пригласить вас на ужин. Только и всего. Что тут плохого, если я пообещаю вести себя паинькой? Синди вспомнила о спрятанном дома под матрасом отчете нанятого ею частного детектива. «Мистер Сантанджело покинул ночной клуб «Клемми» в своем автомобиле примерно в двенадцать часов десять минут ночи. С ним были двое мужчин: один сидел за рулем. Четвертой оказалась высокая черноволосая дама. Они проследовали…» — Ну так как же? — не отставал Генри. — Да, — решительно ответила Синди и сама удивилась собственной храбрости. — Почему бы и нет? Генри просиял. Жена Джино Сантанджело согласилась поужинать с ним! Он закажет столик в отеле «Плаза». Цветы. Шампанское. И номер наверху — так, на всякий случай. А еще лучше — заказать угощение прямо в номер. — В понедельник? — спросил он. — Во вторник. — Интересно, во что это она собирается влипнуть? — Превосходно. Синди захихикала. — Надеюсь!* * *
Джино нервно мерил шагами кабинет сенатора. Припомнилась их первая беседа — в этом же кабинете. Тогда он счел Освальда болваном. Ага! Он так же глуп, как лиса! Джино машинально взял со стола серебряный ножичек для вскрытия конвертов и взвесил на ладони. Наконец появился сенатор. — Вчерашний прием прошел на все сто! — с наигранной беспечностью похвалил Джино. Освальд кивнул. У него появились тяжелые мешки под глазами, и он был не расположен к светской болтовне. — Слушай, Джино. Все, о чем я просил тебя в прошлом, были сущие пустяки. Джино положил ножичек на место. Ему не понравилось такое начало: и слова сенатора, и то, как он словно сплевывал их через плечо, избегая встретиться с ним взглядом. — Согласен, — осторожно выговорил он. — Я часто давал понять, что настанет время для большого… одолжения. Джино был начеку. — Насколько большого? — Очень большого. Воцарилось молчание. Джино первым нарушил его. — Говорите. Сенатор прочистил горло. — Я хочу, чтобы ты убил человека. Лично.Кэрри, 1937
Бернард Даймс занимал вращающееся кожаное кресло у себя в кабинете, где Кэрри когда-то вытирала пыль. Она обежала комнату быстрым взглядом, отмечая немногочисленные перемены. Серебряные рамки по-прежнему на своих местах; из них смотрят знаменитости. На большом письменном столе — кипа газет, которые никому не дозволяется трогать. Он крутнулся в кресле, чтобы в упор посмотреть на нее. — Мне остаться, сэр? — осведомился Роджер. — Нет-нет. Все в порядке. Я позвоню, если что-нибудь понадобится. — Бернард махнул рукой, отпуская дворецкого. — Садитесь, Кэрри. Она села туда, куда он показывал, и сложила руки на коленях. — Мы знакомы, не правда ли? — мягко спросил Бернард. Она удивленно подняла глаза. — Да. — У меня очень хорошая память на лица. Однажды увидев человека, я его уже не забуду. А если вдруг не могу вспомнить, места себе не нахожу. Так где же мы встречались? — П-прошу прощения? — Где? — Здесь, — ответила она. — Как здесь? — Да, сэр. Я когда-то работала в вашем доме. — В самом деле? Когда же? — О, много лет назад. Я была совсем девчонкой. Он растерянно вздернул брови. — Нет, не здесь… Где-то еще. — Я работала в вашем доме. Он все еще сомневался. — Мистер Даймс. Это было в двадцать шестом году. Мне пришлось оставить службу… по семейным обстоятельствам. Он нахмурился. — Да-да, — разволновалась Кэрри. — Неужели не помните? Я познакомилась с вами в итальянском ресторане. Хозяин представил меня вам, и вы приняли меня на работу. Вы должны вспомнить! Он вспомнил худенькую девчушку, совсем не похожую на сидевшую перед ним молодую женщину. У этой женщины были гладко зачесаны и заплетены волосы, она была не накрашена и бедненько одета, но Бернард Даймс не зря проработал двадцать три года театральным продюсером: он знал толк в женской красоте. — Значит, за столько лет вы так и не нашли ничего лучшего? Кэрри изучала рисунок на ковре. — Должно быть, так. — В чем дело, Кэрри? У вас нет честолюбия? Она удивленно взглянула на него. Он обращался с ней, как с человеком. — У меня есть честолюбие, — ответила она, — но не так-то легко найти работу. Бернард сказал: — Должно быть, вы правы. Но вы очень красивая девушка и достойны лучшей участи. Кэрри пожала плечами. — Я знаю. Бернард задумчиво посмотрел на нее и вдруг, движимый импульсом, встал, подошел к Кэрри и протянул ей визитную карточку. — Завтра в десять утра приходи в Шуберт-театр. Кажется, там есть вакансия хористки. Ты ведь не собираешься всю жизнь ходить в служанках, верно? Она покачала головой. — Не волнуйся, я сам улажу с Беккерами, — он позвонил в колокольчик, вызывая дворецкого. — Роджер, проводите Кэрри. Она вышла в шоке. Бернард проводил ее взглядом, сам ничуть не менее ошеломленный таким поворотом событий. Он попросил ее зайти, потому что никак не мог припомнить, где ее видел. И теперь ему было трудно разобраться в своих чувствах. Эта молодая женщина излучала скрытую сексуальность, которая не оставила его равнодушным. Почему бы и не дать ей шанс в жизни? Бернард закурил сигарету, пуская дым в потолок. Его по-прежнему что-то беспокоило. Он видел ее где-то еще — не только, когда она работала в его доме. Он порылся в воспоминаниях, но так и не нашел разгадку. Однако со временем он вспомнит. Как всегда, когда он долго о чем-нибудь думал.* * *
Директор поковырял спичкой в зубах. — Где ты ее откопал? — Она работает в доме одного знакомого. — Девушка недурна. Они рассматривали Кэрри из темноты оркестровой ямы. Она же стояла на сцене, ослепленная огнями рампы, нервничая и потея, одетая в позаимствованное трико. — Что тебе сыграть, милочка? — спросил молодой пианист. — Не знаю. — Что будешь делать вначале: петь или танцевать? — Э… танцевать. — Как насчет «Пенни с небес»? — Как насчет рэгтайма? — Ага, вот теперь ты заговорила на нашем языке! — он увлеченно заиграл отрывок из «Жестокосердой Ханны». Кэрри начала танцевать. — Боже мой! — воскликнул директор театра. — Она движется так, словно исполняет стриптиз! Бернард выпрямился в кресле. Действительно. Вечеринка у Клементины Дюк. Уэстчестер, двадцать восьмой год. Он знал, что в конце концов вспомнит!Джино, 1937
Машина в руках Джино виляла из стороны в сторону. Сидевшая рядом с ним Синди подобрала под себя ноги и недовольно спросила: — Слушай, ты пьян или что? — Что за бред? — Ты ведешь машину, как сумасшедший. — Чертов сенатор! Думает, он может играть людьми. Я не марионетка. — Кто сказал, что ты марионетка? Джино бросил взгляд исподлобья. Сказать ей? Нет. Ей незачем знать о его унижении. Сенатор Дюк говорил с ним, как с уличным бандитом. Думал, Джино обрадуется: «Конечно, сенатор, я по первому вашему слову убью человека, скажите только, когда и где!» Подонок! А он-то считал, что они друзья. Смех, да и только! — Никто, — буркнул Джино. — Ясно, никто, поэтому мы и сбежали из гостей. Твоя вертихвостка была в бешенстве! — Ага, — Джино зевнул. — А Джин Харлоу не красит волосы. Дальше они ехали молча. Джино злился и на себя, и на других. В сущности, он не сказал «нет». Выслушал и ответил: «Я мог бы это организовать». — Нет, Джино, — ответил сенатор. — Ты сделаешь это сам. Никто больше не должен знать. Черт! Он позволил обойтись с собой как с дешевым киллером. Он бизнесмен, а не уголовник, живущий за счет пистолета. И все-таки он молча слушал, как Освальд освещает подробности. Естественно, шантаж. Естественно, на сексуальной почве. Долгая история. Сенатор Дюк не выразился прямо: «Если ты не сделаешь это сам, я тебя уничтожу». Но эти слова висели в воздухе. А по плечу ли Джино такая задача? Возможно. Конечно, он был круглым идиотом, что позволил сенатору так много знать о своей разносторонней деятельности. Но как можно было этого избежать? Сенатор был директором большинства принадлежащих Джино компаний; его юрист вел всю легальную документацию. Его брокер занимался инвестициями. Единственное, чего сенатор не знал, это депозитные сейфы по всему городу. Ну, и что теперь? Убить какого-то педика-шантажиста? Чтобы Освальд Дюк приобрел над ним еще большую власть? Или рискнуть и наплевать на его предложение? Ну и неделька!* * *
Дела шли из рук вон плохо. На следующий день на троих его сборщиков напали прямо на улице. Двое ранены, один убит. Еще пятнадцать кусков убытка. Тут явно не обошлось без Джейка-Боя. Джино не стал долго думать, а назначил вознаграждение за его голову. Никому не позволено делать дурака из Джино Сантанджело! Днем позвонил сенатор Освальд. — Ну, ты решил? — Да, — ответил Джино. — Не волнуйтесь, я все устрою. Он устроит. Но — по-своему. Вечером он отпустил Реда и Косого Сэма, вывел из подземного гаража под клубом старенький «форд» и отправился по данному Освальдом адресу. Автомобиль бежал, как в сказке. Еще бы. Джино с любовью возился с ним целый месяц. Это оказалось в районе Виллиджа. Дыра дырой. Он оставил машину в квартале от нужного места и пошел туда. Проверил на дверях подъезда табличку с фамилией Кинсейд З. Второй этаж. Было два часа ночи, однако в доме вовсю гремел джаз. Он постучал. Дверь немедленно открыл молодой негр. Как будто его ждали. Джино ногой толкнул настежь дверь и ворвался в квартиру. Парнишка в страхе отшатнулся. У него были завитые волосы и глаза наркомана. Ярко-алая помада и цветастое кимоно. — Ты — Зефра Кинсейд? — А кто спрашивает? — фальцетом взвыл мальчик. — Ну? — Джино впился в него колючими черными глазами. — Да, — пролепетал хозяин квартиры. — Письма! — Какие письма? Джино шагнул к нему и взял рукой за подбородок, а коленом уперся парню в живот. — Мне… нужны… письма… сенатора! Живо! — Хорошо, — в глазах парня метался ужас. — Сейчас достану. Джино со вздохом отпустил его. Интуиция никогда его не подводила. Нет никакой нужды убивать этого жалкого урода. Достаточно напугать его до смерти, а потом погрузить в поезд — и пусть катится куда подальше. Парень дрожа подошел к шкафу в углу. Джино лениво подумал: и где только сенатор его откопал? Как пересеклись дороги сенатора и этого подростка-педика? Мальчик открыл шкаф, и вдруг оттуда выскочил жуткий призрак — в парике, шесть футов ростом. Маньяк с мясницким ножом в руке прыгнул на Джино. На какую-то долю секунды Джино оказался парализованным страхом. И как раз в это мгновение бандит всадил ему нож в предплечье.Четверг, 14 июля 1977 г., Нью-Йорк и Филадельфия
Лаки то просыпалась, то снова проваливалась в сон. Она утратила всю свою агрессивность и хотела только одного — поскорее выбраться отсюда. Они со Стивеном провели в лифте девять долгих часов; за это время воинственный дух ее покинул. Она чувствовала себя невероятно грязной. Во рту пересохло. Губы запеклись. Раскалывалась голова. В животе урчало. Хотелось рвать, и в то же время она умирала от голода. — Вы не спите? — спросила она, с трудом разлепив губы. — Не спится, — ответил Стивен. — Мне тоже. Ему было жалко и девушку, и себя. Он злился, что в 1977 году в Нью-Йорке можно на много часов застрять в лифте — и ничего не поделаешь. — Что вы сделаете, когда выберетесь отсюда? — спросила Лаки. Стивен не мог не улыбнуться. Совсем как маленькая заблудившаяся девочка: сидит и ждет, чтобы ее спасли. — Приму ванну. Она засмеялась. — Я тоже. Долгую, горячую — буду нежиться в ванне и потягивать охлажденное белое вино. И пусть играет музыка. Донна Саммер или Стив Уандер. — Как насчет Милли Джексон или Айзека Хейза? — Это ваш любимый тип музыки? — Конечно. — Правда? — Вас это удивляет? — Вот не ожидала, что вам нравится музыка в стиле «соул». — А чего вы ожидали? — Ну, не знаю. Может быть, Херба Элперта, Барри Манилова. — Благодарю покорно! — Вот бы у нас здесь была музыка! — Марвин Гей. — Эл Грин. — Вилли Хатч. — Отис Рединг. Они оба рассмеялись. — Послушайте, — воскликнула Лаки, — а у нас есть кое-что общее! — Вы когда-нибудь слушаете старых исполнителей? Билли Холлидей, Нину Саймон? — Конечно. Я их обожаю. — В самом деле? — и они начали, словно старые друзья, обсуждать достоинства эстрадных певцов, да так увлеченно, что не сразу расслышали, как кто-то крикнул сверху в шахту лифта: — Здесь есть кто-нибудь? — Эй! — Лаки вскочила на ноги. — Кажется, нас обнаружили! Стивен тоже вскочил. — Мы здесь! Нас двое! Вытащите нас отсюда!* * *
Дарио весь напрягся, скрючившись на полу кухни. Все, что ему было слышно, это безумный бред маньяка, подбиравшегося все ближе, ближе к торчащему из потного кулака Дарио лезвию. — Козел… хренолиз… ублюдок!.. И наконец этот подонок напоролся на нож! Дарио даже не пошевелился. Парень просто напоролся на нож. Тишина. Дарио выпустил рукоятку ножа. Его тошнило. Неужели он убил человека?* * *
Кэрри выпало испить полную чашу позора. Ее доставили в участок в заблеванном фургоне вместе с дурно пахнущей яростно копошащейся человеческой массой, состоящей в основном из подонков. Эллиот сказал бы: отбросы общества. А как он расценит тот факт, что и она очутилась здесь? Кэрри закрыла глаза и постаралась не думать об этом. Нетрудно вообразить его благородные черты, искаженные гневом и изумлением. «Какого дьявола ты потащилась в Гарлем? Это выше моего разумения!» Она сказала, будто едет навестить Стивена. «Я ненадолго». Стивен живет в трех кварталах от них. Эллиот, как обычно, смотрел по телевизору какой-то фильм и лишь рассеянно махнул рукой. Сколько она отсутствовала? Несколько часов. Эллиот наверняка вне себя от возмущения. Скорее всего, он позвонил Стивену, узнал, что она не появлялась… Оба они кипят от возмущения. Она отчаянно напрягла мозги, чтобы сочинить удобоваримую версию. И наконец сочинила. Комар носу не подточит!* * *
— Кто там? — тупо повторил Джино. — Мистер Сантанджело, это я, Джил. Я решила: вдруг вы передумаете? Иисусе Христе! Бабы неисправимы! Два тридцать ночи, а она стучится к нему в номер. — Забудь об этом, — прорычал он. — Откройте дверь — только на минуточку! — канючила она. — Мне нужно кое о чем вас спросить. Умоляю! Вечно он тает, стоит как следует попросить. Джино опустил пистолет в карман халата и повернул ключ в замке. Возможно, в нем заговорила похоть. Почему не доставить девушке удовольствие? — Послушай, детка, — начал он и, не закончив фразы, грязно выругался, когда перед его лицом вспыхнула фотокамера.* * *
С лифта удалось снять крышу, и человек в спецовке посветил фонариком вниз. Луч на мгновение задержался на лице Лаки. — Ради Бога! — воскликнула она, закрывая глаза рукой. Луч фонарика высветил Стивена, поспешно натягивающего брюки. — Эй, погаси эту штуку, — крикнул он. — Мы девять часов проторчали в кромешной тьме, и теперь глаза не выносят света. Человек в спецовке издевательски засмеялся и выключил фонарик. — Да, уж у вас видок! Мы только что вытащили десять человек из лифта в Шерман-билдинге. Ну, там была и вонища! — Вы можете помочь нам выбраться? — Для этого я здесь. — Тогда кончайте трепаться и беритесь за дело. Вы из пожарной охраны? — Не-а. Пожарники нарасхват. В городе черт знает что творится. Я из аварийной службы лифтов. — Неужели во всем городе нет электричества? — Вот именно. Лаки путалась в одежде. — Вытащите нас отсюда! — прошипела она. — Скорей! — Эй! — крикнул механику Стивен. — Что вы собираетесь делать? Выламывать дверь? — Не получится. Вы застряли между этажами. Почему-то лифты всегда застревают между этажами. — Как же… — Сейчас спущу веревку. — Господи! — выдохнула Лаки. — Я боюсь! — Вы что, хотите, чтобы мы обвязались веревкой? — крикнул Стивен. — Будете вытаскивать через крышу? — Точно. Выдерну, как гнилой зуб. Пара пустяков. К Лаки вернулась ее сварливость. — Я бы не сказала, что выдернуть зуб — пара пустяков. — Можете оставаться там, леди. Ждите, пока не включат электричество. Мне без разницы. — Не будем спорить, — решил Стивен. — Раз он говорит, что вытащит, значит, вытащит. — Мало ли что он говорит. Кто он, собственно, такой? — Слушайте, — терпеливо уговаривал Стивен. — Я лично намерен выбраться. Если вам здесь понравилось, можете оставаться. — Чудесно. Просто замечательно. Хотите бросить меня в беде? — Эй, ребята! — крикнул сверху механик. — Я ведь могу уйти. Я обслужил в этом здании шесть лифтов. Может, еще где-нибудь томятся люди. — Бросайте веревку, — угрюмо откликнулся Стивен.* * *
Дарио не успел подняться, как парень, точно мешок с песком, обрушился на него. Дарио вскрикнул от ужаса и, весь дрожа, принялся выбираться из-под его туши. Он убил человека. Нужно немедленно позвонить Косте! В окна квартиры лился лунный свет. Это помогло Дарио найти дорогу к телефонному аппарату. Он, как безумный, схватил трубку и начал накручивать диск. И вдруг услышал какое-то царапанье. Кто-то пытался проникнуть в квартиру.* * *
В полицейском участке оказалось нелегким делом привлечь к себе внимание. В сущности, кто она такая? Еще одна черномазая в куче остальных. Но Кэрри удалось взять себя в руки и твердым голосом изложить свою версию. — Позвоните, пожалуйста, моему мужу, — так она закончила свой рассказ, — чтобы он мог за мной приехать. Полицейский кивнул головой. История была довольно проста, ее легко проверить. К счастью для Кэрри, он позвонил, и уже через час явился Эллиот Беркли со своим адвокатом. Как Кэрри и ожидала, он был в бешенстве. Еще четверть часа — и она с извинениями отпущена на свободу. — Боже милостивый! — бушевал Эллиот, когда они ехали домой. — Улицы кишат преступниками, а они хватают ни в чем не повинных людей. — Он погладил жену по коленке. — Через что только тебе пришлось пройти! Ты в порядке? — Вот только уши… — Не беспокойся, мы сейчас же едем к доктору Митчеллу, он тебе поможет. Господи, как же я волновался! Кэрри подумала: интересно, каков будет следующий шаг шантажиста? Эллиот купился на ее легенду. Впрочем, она была наполовину правдива. У нее действительно угнали автомобиль. Напали и ограбили. Единственным вымыслом было то, что те двое парней влезли в машину, когда она остановилась перед светофором. Они под дулом пистолета заставили ее поехать в Гарлем, а там выбросили из машины. Звучит вполне правдоподобно. Эллиот медленно ехал по неосвещенным улицам и ворчал: — Кромешный ад! Ты только посмотри на прохожих — они точно с цепи сорвались! Хорошо еще, что тебя арестовали. Это все-таки безопаснее, чем оставаться на улице. Сброд! Они заслуживают своей участи! Эллиот никогда не относил себя к либералам. Кэрри представила, что будет, если он узнает о ее прошлом, и по всему телу побежали мурашки.* * *
— Какого… — взревел Джино, пытаясь захлопнуть дверь. — Только одно интервью, мистер Сантанджело! — настаивал хриплый мужской голос, пока его обладатель держал дверь ногой. — Прошу вас! Несколько вопросов! Джино разглядел стюардессу Джил и рядом с ней — кого-то с фотоаппаратом. Оба под мухой — это видно невооруженным глазом. — Убирайтесь оба к такой-то матери! А ну, убери свою вонючую ногу, прежде чем я ее тебе сломаю! Парень с камерой отступил. — Ты же сказала, он будет только рад, — злобно прошипел он, обращаясь к Джил. Она пьяно дернула плечом. — Я обещала привести тебя к нему, а не что он поцелует тебя в задницу! Репортер сделал последнюю попытку: — Мистер Сантанджело, ответите на мои вопросы, и вам не придется завтра давать интервью дюжине моих коллег. Джино захлопнул дверь прямо перед его носом. Он слишком стар для подобных штучек.Джино, 1937
Первая мысль: я убит! Его погребли под собой волны кромешного мрака. Боль. Это еще терпимо. Ткнуть громилу в парике коленом под яйца! Медленно падает парик. Бандит складывается пополам. Парень в цветастом кимоно прыгает Джино на спину. Черные волны ярости. Из раны сочится кровь. Горлом выходит звериный вой. Размазать цветастое кимоно по стене! Хищный оскал из-за яркой помады. Удар! Еще удар! Обоих! Выхватить пистолет! Иначе они расплющат его! Нажать на спуск. Раз! Другой! Мертвая туша. Кто-то вцепляется ему в лицо. Дикая боль там, где шрам. Когти рвутся к глазам. Снова нажать на курок. Хватит одного раза…* * *
Би крепко спала на одной стороне широкой, мягкой постели. Рядом посапывал ее семилетний сын Марко. Стук в дверь квартиры сначала показался ей частью сна. Она в лодке. Ярко светит солнце, и вдруг — акула. Бьется о борт лодки. Бьется… Она резко села на кровати. Быстрый взгляд на часы — два тридцать ночи. Би посмотрела на Марко. Малыш мирно спал, посасывая кулачок. Она выбралась из-под одеяла, набросила на плечи халат и босиком пошлепала к двери. — Кто там? — сердитым шепотом. — Впусти меня! Голос был смутно знаком, но все-таки… — Кто там? — Джино Сантанджело. Холодок под ложечкой. Неужели в тот раз она его недостаточно напугала? — Открой эту чертову дверь! — прорычал он. Би не знала, что делать. Впустить и снова попытаться перехитрить? Или прогнать и потерять работу? Этого нельзя допустить! Би нерешительно отодвинула засов и не успела как следует отворить дверь, как в прихожую ввалился Джино. — О Господи! Что с вами случилось? Он был весь в крови. Лицо превратилось в кровавое месиво. Пиджак пропитался кровью. На какую-то долю секунды ее охватила паника. Потом рассудок одержал верх, и она втащила его внутрь, так чтобы можно было запереть дверь. — Дай чего-нибудь выпить, — простонал Джино. — У меня ничего нет. — Ах да, помню, — он слабо улыбнулся. — Ты — та самая девушка без выпивки… — Вам нужен врач, — решительно произнесла она. — Кому лучше позвонить? Джино снова застонал. — Не нужно… никаких врачей. Ты сама… обо мне позаботишься… — Но я не умею. — Сумеешь. Я не так плох… как кажется. Она плотнее закуталась в халат. Что если он умрет прямо здесь, на полу? — В вас стреляли? — Нож, — с трудом выговорил он. — Н-ничего. Помоги снять одежду. Би взмолилась, вспомнив о спящем в соседней комнате Марко: — Мистер Сантанджело, позвольте мне кому-нибудь позвонить… Мистеру Динунцио или вашей жене. Они решат, что нужно делать. А я… — Никаких звонков, — перебил он. — Пять тысяч баксов… позаботишься обо мне… И держи язык за зубами. Пять тысяч долларов! В уме она уже тратила эти деньги. Образование для Марко. Новая одежда им обоим. Маленький автомобиль. Каникулы… — Что нужно делать?* * *
Синди проснулась рано утром и с досадой обнаружила, что Джино до сих пор не удосужился вернуться домой. «Ну и что?» — подумала она. Зато каждую пятницу она будет получать донесения обо всем, что он делает. И если она все-таки решится на развод, у нее на руках будет достаточно козырей. Он ответит за каждую из своих шлюх! Синди захихикала. Джино считает себя очень хитрым. Ну, так она хитрее! Факт! Она принарядилась — ей предстоял завтрак с Генри Муфлином-младшим. До сих пор она выполняла основное условие Джино — никаких измен! Условие! Только и знает, что отдавать приказы! Ну, так с нее довольно. Она приняла защитные меры и собирается хорошенько повеселиться. Если Джино не понравится, тем хуже для него.* * *
Он медленно приходил в себя. Первым, что он почувствовал, была пульсирующая боль в плече. Случайно дотронувшись до лица, Джино обнаружил что-то вроде наждачной бумаги. Эти сволочи разодрали старый шрам. Простыня вокруг плеча пропиталась кровью. В ясном свете дня Джино понял, что срочно нуждается в медицинской помощи — хотя бы затем, чтобы врач наложил швы. Он попытался сесть, но черная волна боли вновь свалила его. Это еще чудо, что ему удалось выбраться из квартиры Зефры Кинсейда живым. Для этого пришлось убить. Иначе кокнули бы его самого. Черт бы их всех побрал! Гнусное задание Освальда Дюка выполнено, даже перевыполнено. Два трупа вместо одного! Вот они, эти письма — связка из десяти или двенадцати писем, спрятанная под подушкой. Каждое написано отчетливым почерком сенатора Дюка. Джино затолкал их в карман и поковылял прочь. Из-за закрытой двери по-прежнему рвались грохочущие ритмы джаза. Никто ничего не слышал. Он кое-как доплелся до своей машины, втиснулся на сиденье за рулем и понял, что у него не хватит сил вернуться в город. К счастью, он вспомнил, что где-то рядом, всего в двух кварталах отсюда, живет старшая официантка с триппером, по имени Би. Ему с грехом пополам удалось доехать до ее дома. — Доброе утро, — сказала Би, входя в комнату. — Как вы себя чувствуете? Он припомнил ее доброту — в ответ на обещанные пять тысяч баксов. — Как будто меня переехал поезд. — Гм, — она окинула его серьезным взглядом. Если бы он мог посмотреть на себя со стороны, он понял бы, что его метафора — не слишком большое преувеличение. У него заплыли и почернели глаза. Все лицо исполосовали шрамы; старый являл собой страшное зрелище. Губы распухли. Би старалась не думать о его плечевом ранении. Когда минувшей ночью она разрезала его пиджак и рубашку, кровь хлынула толчками; Би не сдержала крика. В комнату вбежал Марко. — Мамочка, что случилось? Кто этот дядя? Джино молча перевел взгляд с Би на мальчика и обратно. — Это мамин друг, дорогой, — успокоила она. — Иди спать. Малыш неуверенно ретировался. Позднее она перенесла его на кушетку, а на кровать уложила Джино. Сама же провела ночь в кресле. Утром Би поспешила отправить мальчика в школу, прежде чем он успел засыпать ее вопросами. Она надеялась, что к его возвращению Джино уже не будет. — Я хочу, чтобы ты сделала для меня несколько звонков. — Да, конечно. — Не говори ничего по телефону. Никаких подробностей. — Понимаю. — Вызови сюда Альдо Динунцио. Скажи, что он мне срочно нужен, и дай свой адрес. — Хорошо. — Пусть привезет с собой дока Гаррисона. Би записала номер. — Можете положиться на меня.* * *
И он положился на нее — целиком и полностью. На протяжении следующих десяти дней вся его жизнь зависела от этой женщины. Она купала его, кормила, днем и ночью выхаживала и следила за его выздоровлением. Джино отличался лошадиным здоровьем. Через десять дней он уже мог вернуться домой. Врач сказал, что любому другому потребовались бы многие недели. «Вы потеряли слишком много крови. Откровенно говоря, вам неслыханно повезло, что вы выжили». Да. Ему повезло. Никто не знал, что произошло в ту ночь. Даже Альдо. «Я решил навестить Би, — объяснил ему Джино, — и на улице на меня напали двое бандитов. Они даже не знали, кто я такой. Ограбили и убежали». Би не нуждалась в объяснениях, и ему это нравилось. За эти десять дней они стали большими друзьями. Она оказалась отменной поварихой и недурно играла в карты. Мальчик тоже оказался хорошим парнем и развлекал Джино школьными анекдотами. — А где его отец? — спросил как-то Джино. Би покраснела. — У него никогда не было отца. — А, брось. Значит, ты не была замужем? Ну и что? Был же какой-то парень? — Да. Какой-то парень. Ему было пятьдесят два года, а мне пятнадцать. Старая история. Он меня изнасиловал. Он был приятелем моего отца, и мне никто не поверил. Меня выгнали из дома. Я приехала в Нью-Йорк. — И неплохо устроилась. — Я выкарабкалась, скажем так. И воспитала сына. Банально, не правда ли? — Конечно. Истина всегда банальна. Джино не приставал к ней в смысле секса, хотя по мере выздоровления стал испытывать влечение. — У тебя в самом деле была венерическая болезнь? Би улыбнулась. — Нет. Я солгала, чтобы вы отстали. — Вот как? А почему? — Кому нужно быть одной из многих? Джино страстно захотелось сгрести ее в охапку и завалиться в постель, но он сдержался. Они добрые друзья, зачем все портить? На следующий день после своего отъезда он прислал ей в конверте пятнадцать тысяч долларов и небольшую записку: «Какому-то обормоту достанется классная сиделка! Пять — как обещал, десять — открыть банковский счет для Марко». Би была тронута до слез. Джино Сантанджело не причинил ей зла. И она постаралась упрятать в самые дальние уголки памяти двойное убийство, происшедшее в их районе в ту самую ночь.* * *
Первый обед с Генри Муфлином. Весьма интересно. Второй. Волнующе. Третий. Потрясающе. Четвертый. Секс в огромных количествах. Ух ты! Полный экстаз! Генри Муфлин-младший влюблен, и Синди наслаждается жизнью! Он — богатая светская марионетка, готовая отдать в ее руки все нити управления. Он осыплет ее драгоценностями, мехами и прочими подарками. Он утопит ее в шампанском и насытит икрой. Пусть только она разведется с Джино и выйдет за него замуж. Она взвесила все «за» и «против». Джино пренебрегает ею. Генри ее обожает. Джино трахается направо и налево. Генри обещает верность до гробовой доски. Джино смотрит на нее сверху вниз. Генри возводит ее на пьедестал. Джино — не настоящий джентльмен. У Генри аристократизм в крови. Конечно… Джино — сильный, красивый и крутой. Генри — задохлик. У Джино — деньги и власть. У Генри только деньги. Джино, если захочет, может быть идеальным любовником. Генри еще многому предстоит учиться. Ну, так она его научит. В чем дело? Это будет одно удовольствие научить его пользоваться своими пальцами, языком и немного хилым пенисом. Синди приняла решение, во многом обусловленное тем обстоятельством, что, по словам Альдо, Джино пришлось срочно уехать из города. Впрочем, согласно тайным донесениям ее агента, Джино все это время блудил в доме одной из своих шлюх в Виллидже. Она перечитала донесение. В ту ночь Джино посетил двух шлюх в Виллидже. Очевидно, одной оказалось недостаточно. От первой он вышел, еле держась на ногах — очевидно, вдрызг пьяный, — и тотчас отправился к другой. Та оказалась настолько аппетитной, что он обосновался у нее в доме на целую декаду. Подонок! Ну что ж, она больше не станет терпеть издевательства. Потребует развода и выйдет за Генри. Чем скорее, тем лучше.* * *
Дома Джино ждали бесчисленные записки, требующие, чтобы он немедленно связался с сенатором Дюком. Его довез Альдо. Было пять часов вечера, но в доме не оказалось никого, кроме горничной. — Где Синди? Альдо пожал плечами и отвел взгляд в сторону. Он не собирался брать на себя почетную миссию — просветить Джино, что его жена таскается по всему городу с другим. Скоро сам узнает. — Эй! — крикнул Джино горничной. — Где миссис Сантанджело? Девушка застыла у порога. На хозяина было страшно смотреть. — Я… не знаю, сэр. Она не оставила записки. Он зарычал на Альдо: — Ты предупредил ее о моем возвращении? — Да. Может быть, если бы ты сам позвонил… Она не проявила восторга… — Плевать мне на ее восторги! Она моя жена и обязана быть дома. Альдо неловко потоптался на месте. Может, подготовить Джино? — Послушай, — начал он. — Я плохо себя чувствую. Пойду прилягу. Ты принес отчет? Альдо протянул кипу документов. — Что слышно о Бое? — Ничего. Ушел в глухое подполье. Но когда-нибудь ему придется вынырнуть на поверхность. Не волнуйся, мы его достанем. — А кто волнуется?* * *
Обед был превосходен. Генри заказал в номер холодного омара, охлажденное шампанское и клубнику со сливками. Генри Муфлин-младший засыпал номер алыми розами, поставил романтическую музыку и запасся маленькой черной бархатной коробочкой, которую так и не разрешил Синди открыть вплоть до окончания обеда. — Ну Генри! — пропищала она. — Ты жесток! Он был счастлив. — А ты так добра ко мне, любимая! Она слопала омара, залпом осушила бокал шампанского, одну за другой затолкала в рот клубничины. — Ну, мой сладкий! Теперь девочка может открыть коробочку? — О да. Может. Синди, точно голодная собачонка на кость, набросилась на коробочку; голубые глаза сияли. У нее было полным-полно драгоценных украшений, но девушке всегда мало. Синди открыла коробочку и ахнула. Прямо глаза полезли на лоб при виде увесистого кольца, гордо покоившегося на ложе из черного бархата. Огромный рубин в старинной оправе из бриллиантов и изумрудов! Невероятно! Это превосходит все, что у нее было до сих пор. — Господи, Генри! — выдохнула она. — Господи! — Тебе н-нравится? — Нравится? Нравится? Да я просто с ума схожу! — Синди вскочила и, заключив его в объятия, одарила пылким поцелуем. Он зарделся от радости. Было не так-то легко вырвать из аристократических рук его матушки семейную реликвию. Синди надела кольцо на палец и восхищенно помахала рукой в воздухе. Это настолько воодушевило Генри, что он тотчас с огромной скоростью начал срывать одежду со своего тощего безволосого тела и вскоре стоял перед Синди в костюме Адама, с не особенно мощной, но все же достаточной эрекцией. Она не могла оторваться от кольца и все пыталась угадать его стоимость. — Синди! — взмолился Генри. Она совсем забыла о его присутствии. — Агу! Мой дитеночек Генри хочет поиграть? — Да! — Сейчас мой ненаглядный Генри посидит и посмотрит маленькое шоу. — Она легонько толкнула его в кресло, поставила пластинку и под звуки песенки «Меня согревает любовь» начала снимать шмотку за шмоткой. Генри был в восторге.* * *
Один в своих шикарных апартаментах, Джино перечитал письма сенатора Дюка. Этот человек мог быть финансовым гением, но в личной жизни идиот идиотом. Двенадцать писем за двенадцать недель. Двенадцать компрометирующих писулек, адресованных Зефре Кинсейду и сочиненных сенатором Освальдом, когда он отдыхал на юге Франции после того, как сломал ногу во время катания на яхте. По письмам можно было воссоздать всю историю их отношений. Сенатор откопал Зефру Кинсейда во время полуночных скитаний в компании гомосексуалистов. Мальчик был очень юн, сенатор — очень богат. Недельный роман. Встречи в подозрительном отеле на Вест-сайд, где не задают вопросов. Три года пылкой страсти. В самом начале юноше было пятнадцать лет. Сенатор старался удержать своего сожителя. Но по мере превращения юноши в мужчину охладел к нему. Остальное было нетрудно себе представить. Шантаж. Сенатор позвонил Джино и попросил оказать ему услугу. И Джино выполнил обещанное. Двойное убийство не стало объектом внимания большой прессы. В конце концов обе жертвы были черными. Джино перечитал редкие заголовки типа: «Смерть наркоманов». Небольшая потеря для общества. Он взглянул на часы и почувствовал, что начинает закипать. Девять часов, а Синди все еще нет. Он позвонил в «Клемми» — ее там не было. На звонок ответила Вера и начала доставать его насчет работы для Паоло после выхода из тюрьмы. «Ему понадобится твоя поддержка». Ага. Окажет он ему поддержку, ждите! Точно такую, какую Паоло оказывал ему самому, когда он был маленьким. Он встал и поплелся в ванную, чтобы рассмотреть перед зеркалом свое лицо. Док Гаррисон вскрыл старую рану и зашил по новой. После того, как вытянули черную нитку, получилось не так уж страшно. Со временем совсем заживет, заверил док. Царапины по всему лицу тоже постепенно заживали, хотя видок у него был по-прежнему тот еще. Джино провел рукой по черным кудрям и сощурил глаза. Иисусе Христе! Если бы он сейчас пробовался на роль гангстера в кино, она была бы ему гарантирована. Джино стало смешно. Нет, он ни о чем не жалеет. Прирожденный победитель. Письма сенатора аккуратной стопкой лежали на кровати. Джино взял их и запер в сейф. Черта с два старина Освальд их получит. Черта с два. Они станут его страховкой на случай, если сенатору понадобится еще одно маленькое одолжение.Клементина улыбнулась Беккерам, помахала Бернарду Даймсу и в десятый раз за день свирепо прошептала на ухо Освальду: — Как ты думаешь, почему он нас избегает? Освальд пошел за новой порцией бренди, предварительно прошипев: — Понятия не имею. Они были на премьере новой музыкальной комедии и обменивались любезностями со знакомыми в баре во время антракта. Это были нелегкие десять дней. Джино выполнил задание, но как сквозь землю провалился. — Ему пришлось срочно уехать по делам, — сообщил Альдо. — Мистера Сантанджело нет дома, — отвечала горничная. — Откуда мне знать, где он? — фыркнула Синди. — Я всего лишь его жена! — Он никуда не денется, — прошептала Клементина. Освальд выразил согласие. — Но зачем ему понадобилось причинять нам такое беспокойство? — Не знаю, дорогая. Это просто из рук вон. — Ты прав. Клементина подумала: что она будет делать без Джино? Без его сильного тела. Умелых рук. Черных глаз. Того, как он искусно доводил ее до оргазма. — Привет! — перед ними возникла Синди — видение в розовом крепдешине и крашеной розовой лисе. На пальце у Синди сверкало знаменитое кольцо с рубином — подарок Муфлина. — Д-добрый вечер, Клементина, сенатор, — пробормотал Генри; на его щеках алел румянец. Клементина перевела взгляд с одного на другую. Эта дрянь с ума, что ли, сошла? Джино ни в коем случае не позволит, чтобы она выставляла его на посмешище. Она холодно ответила на приветствие: — Синди. Генри. — Чудесная постановка, не правда ли? — восторгалась Синди, прикладывая руку с кольцом то к одной, то к другой щеке, чтобы все видели рубин. — Да, очень, — сухо откликнулась Клементина. — Не знаете, когда вернется Джино? Синди ухмыльнулась. С ума сойти — высокомерная миссис Дюк спрашивает ее. Он надул их обеих. Синди небрежно повела плечами. — Вы же знаете Джино. Он появляется и исчезает, когда захочет. Наверное, закатился куда-нибудь с одной из своих шлюх. — Какое наслаждение видеть, как дернулась эта дамочка из высшего света! Клементина была вне себя от бешенства. Маленькая дрянь! Интересно, как бы ей понравилось, если бы она узнала, что Джино женился на ней по ее, Клементины, настоянию? Она демонстративно повернулась к Синди спиной. Та захихикала и драматическим шепотом сказала Генри: — Старуха злится, потому что ты со мной. Генри был невероятно польщен. — Ты правда так думаешь? — Конечно!
* * *
Перевалило за полночь. Синди все не было. Джино метался по комнате, изрыгая проклятия. Час. Два. Три часа ночи. Наконец он уснул, но и во сне продолжал изобретать для нее кару одну свирепее другой. Он беспрестанно ворочался и то и дело просыпался, чтобы посмотреть, который час. Ему снились Леонора, Би, Джейк-Бой и Зефра Кинсейд. Наконец в семь часов утра он проснулся с ноющей болью в животе и плече. Горничная принесла черный кофе, свежий апельсиновый сок и свежие газеты. Он нежился среди роскоши, но постоянно возвращался мыслями к убогой квартирке Би, где на завтрак давали горячие булочки и чай с молоком. Читали Скотта Фицджеральда. Только у Би Джино впервые открыл книгу этого писателя. Прочитал «Великого Гэтсби» — от корки до корки. И еще раз. Читать оказалось приятно. Почему он не делал этого раньше? Джино отождествлял себя с Гэтсби, одинокой, загадочной фигурой. Зазвонил телефон. Напряженный голос Клементины. — Слава Богу, ты вернулся.* * *
Синди и Генри спорили. — Но я хочу жить вместе с тобой! — настаивал он. — Нет. — Я не боюсь твоего мужа. — Рада это слышать. Но я тебя уверяю, он заставлял дрожать не таких, как ты. Он подлый грубиян и ведет грязную игру. — Но, Синди… Она вскочила с постели и всем телом потянулась. — Ничего, мой сладкий, я нашла на него управу. Я тоже умею вести грязную игру, — она заплясала голышом в номере отеля, любуясь кольцом, которого теперь не снимала. Генри сел на постели. — Мама ждет не дождется, когда я вас познакомлю. Я думал, будет удобно в следующее воскресенье… Она бросила на него торжествующий взгляд. — Утром скажу Джино, а после обеда перееду. Быстренько разведусь. Обещаю тебе. — П-прекрасно. Иди ко м-мне, любимая. Еще один разок перед уходом. Синди захихикала. Можно подумать, что ему еще никогда не делали минет. Она вскочила на постель и, отвернув одеяло, полюбовалась его хиленькой эрекцией. Странный член, честное слово. Длинный, тонкий и как будто весь сделан из мякоти. Такой уж он есть, она в этом не виновата. Синди нежно взяла его врот. Генри простонал: — О, Син… О…* * *
Джино в задумчивости повесил трубку. С горящим взором развернул газету и перелистал несколько страниц в поисках колонки светской хроники Уолтера Уинчелла. Так и есть. Клементина сказала правду. Черным по белому. Чтобы все видели. И читали. И ухмылялись. «Жена знаменитого владельца ночного клуба Джино-Тарана Сантанджело, Синди Сантанджело, минувшим вечером осматривала достопримечательности и посетила премьеру в театре музыкальной комедии в компании Генри Муфлина-младшего». Все. Этого более чем достаточно. Он в бешенстве швырнул газету на пол.* * *
В полдень Синди заявилась домой. Осторожно ступая в туфлях на высоченных каблуках, вошла в квартиру, с головы до пят закутанная в розовый лисий мех. Горничная нервно поклонилась. — Мистер Сантанджело дома, мэм. Он в спальне. — Спасибо, — Синди сделала царственный жест рукой. — Вы свободны, — я отправилась в спальню, чтобы дать бой зарвавшемуся супругу. Однако при виде Джино она оторопела. — Что с тобой? — Угодил в автомобильную катастрофу. — Черт! — Синди подошла поближе и уставилась на него. — У тебя жуткий вид. — У тебя тоже малость помятый. Где ты была? Она сбросила с плеч лисье манто. — Ха! Сам исчезает на целых десять дней, а теперь — где была! Ну, ты и наглец! — она села перед трюмо и аккуратно сняла шапочку из лисьего меха. — Синди, — тихо, почти шепотом позвал Джино. — Ты это читала? — он швырнул ей газету. Та приземлилась у ее ног, раскрывшись на том самом месте, где была колонка Уолтера Уинчелла. С минуту Синди думала, что не станет поднимать газету, но любопытство пересилило. Она медленно прочла посвященный ей столбец. Откровенно говоря, чтение всегда давалось ей с некоторым трудом. Увидав свое имя, Синди не удержалась от самодовольной улыбки. Она прославилась! Вот это да! Кончив читать, она аккуратно положила газету на ночную тумбочку. Может, завести альбом для вырезок? Ее хладнокровие довело Джино до белого каления. — Ну? Как ты это объяснишь? И где ты шлялась всю ночь? — Я была с Генри, — спокойно ответила она. — И собираюсь снова встретиться с ним сегодня вечером. Джино не верил своим ушам. — Не может быть! — Может! И ты меня не остановишь! — Ах, нет? — он начал вставать с кресла. — Нет! — Синди тоже встала и дерзко смотрела на него, руки в боки, наглая усмешка на губах. — Если, конечно, ты не враг самому себе. — Что-что? — он разразился хохотом. Ну и нахалка! С кем она, ради всего святого, вздумала шутить? Маленькая Синди. Держись подальше от больших мальчиков! — Джино Сантанджело, у меня на тебя целое досье, — заявила она. — Д-О-С-Ь-Е. — О чем ты, мать твою? По ее лицу пробежала тень триумфа. — Я наняла частного детектива, чтобы он за тобой следил. Мне все известно. Ха! Десять дней в Виллидже у какой-то толстозадой шлюхи! Черным по белому. При разводе советую быть со мной подобрее, иначе ты потеряешь все. Слышишь? В голосе Джино зазвенел лед. — Ты… за мной… следила? — Конечно, — она вызывающе тряхнула головой. — Так что теперь я хозяйка положения! И еще. Пока тебя не было, здесь шныряла налоговая инспекция. Они еще толком ни в чем не разобрались, но если ты не будешь хорошо себя вести, я покажу им все банки в городе, где ты имеешь депозитные сейфы. И копии бухгалтерских книг, — она тряхнула платиновыми кудряшками. — Джино, я хочу с тобой развестись. У меня собран на тебя компромат, так что, надеюсь, ты не станешь чинить препятствия?Кэрри, 1938
Кэрри не могла поверить своему счастью. Она получила место хористки в новом мюзикле Бернарда Даймса. Уже второй раз в жизни он пришел к ней на помощь. Он сам сообщил Беккерам, что она от них уходит, и лично отвез ее в маленькую квартирку в Виллидже, где ей предстояло жить еще с одной девушкой. — Почему вы обо мне заботитесь? — спросила она. — Потому что каждый человек заслуживает в жизни шанс, а у меня такое чувство, что у тебя их было не слишком много. Ей хотелось обнять его. Вместо этого она сказала: — Постараюсь вас не подвести. Это случилось в декабре, а теперь август. Шоу имеет успех, и Кэрри счастлива. Ей нравится работа, она старается вовсю, и ей симпатична Голди, с которой она делит жилье. Единственное, в чем между ними нет согласия, это парни. У Голди пруд пруди любовников. Кэрри не хочет ни одного. — Ты ненормальная, — подначивала Голди. — Как ты обходишься без мужчины? — У меня был парень, — солгала Кэрри. — Он умер. Голди прониклась сочувствием и на время оставила Кэрри в покое. Но лишь на время. У каждого из ее парней имелся друг, которому требовалась девушка, и Голди всякий раз старалась привлечь Кэрри, но та отказывалась. Ночные клубы, притоны, вечеринки — не для нее. Конечно, искушение нужно побеждать, а не избегать его. Но так она чувствовала себя увереннее. Каждый субботний вечер Бернард Даймс заходил за кулисы. Обычно с ним была какая-нибудь элегантная дама, но это не мешало хористкам сходить от него с ума. Голди его обожала. — Это самый красивый мужчина из всех, кого я знаю, — вздыхала она. — Такой… джентльмен. Ах, если бы он пригласил меня поужинать! Перед мысленным взором Кэрри прошла вереница парней ее подруги — двадцатилетних, мускулистых, спортивного вида. — Вроде бы это не твой тип. — Да, — согласилась Голди, — он не такой, как все. Держу пари, он и любовью занимается как-то особенно. Во время еженедельных посещений он неизменно находил доброе слово для Кэрри. Как у нее идут дела? Все ли в порядке? Он вообще был в курсе дел всех девушек в труппе. Так он узнал, что Голди ищет соседку по квартире. Кэрри немного побаивалась Даймса. Он такой важный. В любой ситуации — хозяин положения. И уж во всяком случае, хозяин собственной судьбы. Она ловила себя на том, что слишком много думает о Бернарде Даймсе. Неужели ее постигла общая участь? Бернард Даймс — с его деньгами, положением в обществе и красивыми, элегантными приятельницами… Он никогда не обратит на нее внимания!* * *
В это время Бернарду Даймсу было сорок пять лет. Удачливый холостяк, а в сущности, очень одинокий человек. У него была тьма знакомых, но очень мало настоящих друзей. Секса хватало, но его требования к женщинам были слишком высоки, и мало кто отвечал этим требованиям. Вообще говоря, красивые женщины занимали большое место в его жизни. Если они были к тому же и умны, эрудированны — тем лучше. Бернард давно убедился, что элегантная, остроумная спутница способна повысить его шансы, если требовались деньги на новую постановку. Каждая из подруг его обожала. Все они мечтали выйти за него замуж. Что касается Бернарда, то он исключал для себя такую возможность. Что нового даст женитьба? Он и так всегда имеет их под рукой. И вот в его жизнь вошла Кэрри — темнокожая беспризорница с экзотическим типом красоты, бездонными выразительными глазами и шелковыми, черными, как смоль, волосами — так и хотелось представить, как они рассыплются по мужской груди… Сначала он мучился: где я мог ее видеть? Случайный интерес. Потом, поговорив с ней, проникся участием. Хотел помочь. И вдруг — воспоминание. Она — стриптизерка с вечеринки Клементины Дюк, несчастная наркоманка, потерявшая сознание в разгар позорного шоу. Чтобы не смущать Кэрри, он не упоминал об этом. Но от экономки Беккеров узнал, что она поступила к ним после многолетнего лечения в клинике. Ему очень хотелось расспросить ее о жизни. Такая грусть светилась в ее чудных глазах! Почти безнадежность. Ему хотелось узнать ее поближе. Каждую субботу, приходя в театр, он думал: сегодня приглашу ее поужинать. Но так и не решился. Он вежливо улыбался, спрашивал, все ли благополучно, и терзался мыслью: какова она в постели? Впервые в жизни Бернард Даймс любил. И впервые жизнь подбросила ему ситуацию, к которой он не мог подобрать ключа.* * *
В субботу у Голди был день рождения. Ей исполнился двадцать один год. Она собиралась отпраздновать его со своим приятелем Мелом, а тот привел с собой приятеля, Фредди Лестера. Дело было после спектакля; девушка, предназначенная Фредди, вывихнула ногу и корчилась на кушетке. Голди просительно посмотрела на Кэрри. — Умоляю тебя! Кэрри искала и не находила удобного предлога, чтобы отказаться. Все-таки у Голди день рождения. И пора, наконец, доверять себе — нельзя до смерти прожить затворницей. — О'кей, — неохотно согласилась она. — Мы сказочно проведем время! — ликовала Голди. — Мел самый веселый парень, с каким я когда-либо встречалась. А Фредди, по его словам, красавчик, каких поискать. Кэрри кивнула. Красавчик. Любимое слово ее подруги. Красавчик. В постели это не имеет значения. — Позволь, я позабочусь о твоем наряде, — и Голди начала перебирать свои шмотки. Дело было в гримуборной, которую они делили еще с четырьмя девушками. — Сюзи, можно, Кэрри наденет твою юбку? А ты, Мейбл, одолжи ей туфли с ремешками. Пож-жалуйста! Голди умела убеждать. Кончилось тем, что Кэрри облачилась в обтягивающую черную юбочку Сюзи и обнажающую плечи белую блузку Голди; она также надела шикарные шпильки Мейбл. — М-м! — Голди немного отступила назад и окинула ее критическим оком. — Превосходно! Исключительно сексуально и в то же время со вкусом. Высший класс! Вот только нужно ли тебе завязывать волосы узлом на затылке? Почему бы не распустить их? Действительно, почему бы нет? Кэрри испытывала приятное волнение. Она расчесала длинные, до пояса, черные волосы и украсила белым цветком. — Здорово! — воскликнула Голди. — Только держись подальше от Мела! Деликатный стук в дверь возвестил о приходе Бернарда Даймса. Он одарил всех девушек улыбками и вручил Голди сверток. Она развернула его и заохала, хотя в свертке, как всегда, была коробка шоколадных конфет. — Уй, какая прелесть! Большое спасибо! — и она похлопала перед ним длиннущими искусственными ресницами. Бернард перевел взгляд на Кэрри. Как она преобразилась! Но, видимо, это неспроста. Собралась на какую-нибудь вечеринку? Досадно, потому что как раз сегодня он собирался пригласить ее поужинать. Ну что ж. Он ждал много месяцев, подождет еще неделю. Какая разница?* * *
Мел нетерпеливо переминался с ноги на ногу у служебного входа в театр. Его приятель Фредди, красивый и самоуверенный молодой человек, сказал: — Надеюсь, в ней не меньше шести футов. Я всегда питал слабость к дылдам. — Какая тебе разница? — засмеялся Мел. — Если она такая же, как моя Голди, пара бокалов шампанского — и она твоя. — Умираю от нетерпения. Два дня не трахался. Появились девушки. — Не забудь попросить шампанского, — наставляла Голди. — Это сразу покажет, что ты — птица высокого полета. Парни двинулись навстречу. — Привет, мальчики, — сладеньким голоском Мей Уэст вымолвила Голди. — С днем рождения, красотка, — сказал Мел, хватая ее в охапку и смачно целуя в рот. Кэрри с Фредди осторожно поглядывали друг на друга. — Противный мальчишка! — завопила Голди, отталкивая Мела. — Съел всю мою помаду! — Она улыбнулась Фредди. — Привет. Я — Голди, как будто ты и так этого не знаешь. А это — Кэрри, не девочка — мечта! Счастливчик! По лицу Фредди было незаметно, что он считал себя счастливчиком. Он небрежно кивнул Кэрри, и вся четверка двинулась к машине Мела. Мел открыл дверцу. Голди села впереди, а Кэрри — на заднее сиденье. Мел с Фредди продолжали стоять снаружи. Кэрри услышала их приглушенный разговор. — В чем дело? — поинтересовался Мел. — Господи Иисусе! — раздраженно ответил его приятель. — Что ты мне подсунул какую-то засранку! — Ну так что? В темноте все кошки серы. Брось, поехали! — и они забрались в машину. Кэрри с несчастным видом уставилась в окно. «Засранка»! «Все кошки серы»! По ее щекам покатились соленые слезы, и она еще больше повернулась к окну, чтобы их не заметили. Голди с Мелом беспечно болтали на переднем сиденье. Фредди молчал. Наконец он прочистил горло и произнес: — Значит, вы с Голди проживаете вместе? — Да, — ответила Кэрри, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Нельзя, чтобы он догадался, что ее задело его высказывание. Хорошо бы отделаться от него. — У меня болит голова. Лучше я поеду домой. Голди не хотела слушать. — Ни в коем случае! В кои-то веки удалось тебя вытащить! Правда, Мел? — Ясное дело! Кэрри ничего не оставалось, как смириться.* * *
Они начали с небольшого кабачка на Пятьдесят второй улице. Там играл джаз. Шампанское лилось рекой. Голди была счастлива. Когда Кэрри заикнулась о фруктовом соке, она категорически заявила: — Слушай, цыпленок. Сегодня мой день рождения, и я намерена повеселиться на полную катушку. Если ты будешь сидеть тут с постной миной, испортишь мне праздник. Ну-ка выпей бокал шампанского. И выдай улыбочку! Кэрри подчинилась. Она уже успела забыть вкус шампанского, хотя в свое время Уайтджек покупал его ящиками. Один бокал не повредит. Нужно как-то продержаться один вечер. За первым бокалом последовал другой, третий. Потом они поехали в ночной клуб, где было такое изумительное пенистое пиво, что она выдула не менее четырех кружек. Это же пиво, какой от него может быть вред? К тому времени, когда четверка заявилась в «Клемми», они были уже здорово под градусом. Кэрри и Фредди успели сделаться лучшими друзьями, смеялись и танцевали. Она не возражала, если его рука невзначай касалась ее груди, и чувствовала себя удивительно легко и свободно. Впервые за много лет Кэрри могла сказать, что живет полной жизнью. — А ты клевая девочка! — повторил Фредди. В ответ Кэрри обвила руками его шею и заглянула ему в глаза. «Засранка» выветрилась из памяти. — Спасибо! — давно ей не говорили ничего подобного! — Нет, я серьезно, — настаивал Фредди — как будто она собиралась спорить! — Вполне серьезно! — Эй! — крикнула Голди. — Видишь того парня? Это Джино Сантанджело, владелец клуба. Я с ним переспала однажды. Это что-то! Кэрри посмотрела в ту сторону. — У меня бывали и не такие, — похвасталась она. — Кэрри! — с притворным ужасом воскликнула Голди. — Сроду тебя такой не видела! — Ты много чего не видела! Голди ущипнула Мела. — Она прямо секс-бомба! Тот ухмыльнулся. — Кэрри, хочешь заработать пятьдесят баксов? — Что у тебя на уме, малыш? — Спорим на пятьдесят баксов, что тебе слабо закадрить мистера Джино Сантанджело? — Да? — у Кэрри появился азартный блеск в глазах. — Прощайся со своими денежками. Прежде чем ее успели остановить, она уже была на ногах и, покачивая бедрами, прокладывала себе путь в толпе. Голди в изумлении зажала рот рукой. — Господи, Мел, что ты наделал? Это на нее совсем не похоже. Он грязно ухмыльнулся. — Брось, куколка, она проделывала это тысячу раз, не меньше. — Не может быть, — настаивала Голди в розовой дымке опьянения. — Она не из тех… Мел заткнул ее рот поцелуем и начал нашептывать, что он собирается с ней делать чуточку позднее. Голди забыла о Кэрри и сосредоточилась на себе. Фредди строил пьяные гримасы. — Ну, спасибо, старина, удружил! — но его внимание уже приковала стройная блондинка в двух столиках от них. Кэрри предоставили самой себе.
Джино, 1938
Джино сидел за своим персональным столиком. В центре внимания. Отовсюду к нему устремлялись знакомые — засвидетельствовать почтение. На нем были темный костюм-тройка, белая шелковая сорочка, со вкусом подобранный галстук. Черные волосы тщательно приглажены. На пальце поблескивал перстень с огромным бриллиантом. Только шрам на щеке придавал ему чуточку зловещий вид, да еще суровое выражение черных глаз, из-за чего одна курочка сравнила его с Рудольфом Валентино. Джино понравилось. Он уже год не снимал траура. Как же иначе? Знак уважения к дорогой покойной жене Синди. Она оступилась и выпала из окна их квартиры на двадцать пятом этаже. Кошмарный случай. В это время Джино даже не было в городе: он проводил время в Уэстчестере со своими близкими друзьями, сенатором и миссис Дюк. Ужасная катастрофа. Страшный удар. И вот он вдовец в тридцать два года. Джино закатил пышные похороны и не менее пышные поминки. Синди была бы довольна. К несчастью, Генри Муфлин-младший не смог почтить это мероприятие своим присутствием: он попал в тяжелую автомобильную катастрофу и теперь поправлял здоровье в Европе. Поговаривали, будто Европа ему так понравилась, что он и слышать не хотел о том, чтобы вернуться в Штаты. На той же роковой неделе случился пожар в офисе частного детектива Сэма Лоуренса. Он сгорел заживо вместе со всем архивом. По случайному совпадению, Сэм Лоуренс оказался тем самым частным детективом, которого нанимала Синди. Джино счел уместным послать венок. Синди наверняка оценила бы этот жест. Джино потягивал «скотч» и разглядывал идущую к нему через весь зал цветную бабенку. Экзотический тип красоты. И такие груди, что могли бы остановить уличное движение. Она с улыбкой остановилась возле его столика. — Мистер Сантанджело? — Да. — Я слышала, вы тут хозяин. Мне просто захотелось сказать вам, какое это классное заведение. Джино нравились смелые женщины. Иногда. — Садись, выпей чего-нибудь. Кэрри села. Она была на седьмом небе. Пьяна как раз настолько, чтобы считать, что весь мир у ее ног. — Шампанского? — Естественно. Он щелкнул пальцами. — Бутылку лучшего шампанского! — Сию минуту, мистер Сантанджело. Джино продолжал изучать незнакомку. В ней было что-то редкое, необычное. Один бокал шампанского, и он увезет ее к себе. Один бокал шампанского, и она согласится поехать.* * *
— Сделай это еще раз, — стонала Кэрри. — О… пожалуйста! Он орудовал языком. Терпеливо и рассчитанно водил туда-сюда. Давно уже он не проделывал этого ни с одной женщиной. Но эта оказалась такой сладкой! И пылкой! Как будто у нее много лет не было мужчины. Это разбудило в нем необыкновенно сильное желание. Не то чтобы в его жизни не хватало секса. Взять хоть Би — всегда под рукой. Теплая и надежная. Одна певичка в клубе — чрезвычайно сексуальная, но он подозревал, что она принимает ванну не так часто, как следовало бы. И, разумеется, многочисленные случайные связи с кем попало — от хористок до богатых светских дам. Кэрри застонала громче. Джино прекратил ласкать ее языком и взобрался на нее. Она обвила его стройными коричневыми ногами и задвигалась в такт. Он чуть не увлекся. Но это длилось несколько секунд, не больше. Обычно он наблюдал за происходящим как бы со стороны. Даже во время оргазма. Девушка была уже на грани. Долгий, неистовый процесс. Она вся пульсировала под ним, и он тоже кончил. А теперь хорошо бы она смоталась домой. Он встал. — Ну и ну. Бьюсь об заклад, тебя этому не учили в средней школе. В крови у Кэрри все еще играло шампанское. Она чувствовала себя сильной, могущественной и счастливой. Джино Сантанджело не использовал ее, так же как и она его. Это было взаимное наслаждение. Она лениво потянулась, чувствуя себя так, словно заново родилась на свет. Словно кто-то пришел и вытряхнул из нее все напряжение последних лет. — Мой автомобиль ждет внизу, — весело сказал Джино. — Шофер отвезет тебя, когда будешь готова. И вот тебе маленький подарок. Купи себе что-нибудь подходящее. Он протянул ей сотенную. Он всегда давал женщинам деньги — такой уж у него был бзик, и они предпочитали не спорить. Даже светские дамы засовывали деньги в кошелек, а на другой день мчались к Тиффани или Картье купить себе что-нибудь на память о Джино Сантанджело. Кэрри вскочила. — Ты, сукин сын! По-твоему, я — шлюха? — Нет, конечно. — Как же ты посмел? Как ты посмел?! Должно быть, нарвался на ненормальную. Она дикой кошкой сорвалась с постели и, путаясь в одежде, продолжала орать. — Послушай, — миролюбиво сказал Джино, — если бы я считал тебя шлюхой, дал бы в соответствии с таксой. Это подарок. — Мать твою! — вопила разъяренная Кэрри, — да если бы я была проституткой, то обошлась бы тебе гораздо дороже! — и, швырнув деньги ему в лицо, выскочила наружу. Джино изумленно покачал головой. Женщины. Никогда он их не поймет.Кэрри, 1938
Кэрри проигнорировала автомобиль Джино вместе с шофером и отправилась пешком по Парк-авеню, всхлипывая на ходу. «Засранка», — стучало в голове. В недрах души закипала черная ярость. О чем она думала, направляясь к Джино Сантанджело? Кто, если не шлюха, подойдет к мужчине, сядет за столик, а через полчаса разделит с ним ложе? «Засранка. Шлюха», — горело в мозгу. Она так старалась стать порядочной женщиной! И вот одна ночь — и она там же, где была. Почему Голди ее не остановила? Зачем она поехала с ней и ее вшивыми приятелями? Пройдя несколько кварталов, она решила взять такси. Водитель бросил на нее двусмысленный взгляд и буркнул: — Я не еду в Гарлем, моя прелесть. Кэрри ответила ему ледяным взглядом. — Я тоже, моя прелесть. Шофер обиделся и всю дорогу до Виллиджа хранил холодное молчание. Она заплатила по счетчику и поднялась по лестнице. В комнате Кэрри с отвращением увидела на своей кровати Фредди Лестера. Она не поверила своим глазам. Фредди спал. Кэрри растолкала его и злобно прошипела: — Убирайся отсюда! — А, брось, милашка, — пьяно пробормотал он. — Слезай с моей кровати! — Почему бы тебе не прилечь рядом со мной? Я целую ночь ждал. — Почему бы тебе не сдохнуть? Он схватил ее за руку. — Э, девочка, будь поласковее. — Пусти! Фредди оказался на удивление сильным малым. Он запросто повалил ее на кровать. — Я закричу! — бушевала Кэрри. — Только попробуй, — он зажал ей рот тяжелой потной ладонью. Другой рукой он сорвал с нее юбку и трусики. Кэрри оцепенела. Силы оставили ее. Фредди принял это за знак согласия, выпростал пенис и начал всаживать в нее. Кэрри издала булькающие горловые звуки. Он снова зажал ей рот. — Да у тебя тут горячо и влажно, как в ванне! — веселился он. — Нравится, детка, да? Она превратилась в камень. Когда Фредди отнял руку, не стала звать на помощь, а подождала, когда он кончит, и спокойно произнесла: — Тридцать баксов, мистер. Гони тридцать баксов. Фредди выпучил глаза. — Что? — Трахнул проститутку — давай плати, — грубо заявила Кэрри. — Тем более что трахнул засранку. Плати, или я позову на помощь и скажу, что ты меня изнасиловал. Он заплатил.* * *
Кэрри не стала долго думать и на следующий же день съехала от Голди. Позвонила в театр и сказала управляющему, что не вернется. С одним-единственным чемоданом она отправилась на поиски отдельной комнаты — безуспешно. Наконец, после того как не одна квартирная хозяйка захлопнула дверь у нее перед носом, она поняла, что нужно делать. Села на городской автобус и покатила туда, где все было знакомо. Гарлем показался ей еще более зловещим, чем прежде. Но все-таки это были ее родные места. Она нашла комнату и погрузилась в спячку. У нее достаточно денег, чтобы два месяца ничего не предпринимать. Потом она примет решение. Через полтора месяца до Кэрри дошло, что она беременна. Это был взрыв бомбы, гром среди ясного неба: ведь она считала, что никогда не сможет понести. «Ты бесплодна», — твердил Уайтджек. И вот теперь она беременна и даже не знает, кто отец ребенка. Джино Сантанджело. Фредди Лестер. Любой из них. Она не представляла, что делать и к кому обратиться.Джино, 1939
Би что-то пробормотала сквозь сон и придвинулась поближе. Она спала с голым задом — так нравилось Джино. Би занимала все ту же квартиру в Виллидже. Впрочем, не обошлось без перемен. Во-первых, Джино купил весь дом и приказал расширить квартиру, так чтобы была отдельная спальня для Марко и большая кухня, где она готовила его любимые блюда. Общий вид остался прежним. Мило и уютно. А так как у Джино никогда не было настоящего дома… Он сохранил за собой постоянную резиденцию в центре города — квартиру под самой крышей небоскреба, примерно такую, как та, в какой он жил с Синди. Пригласил дизайнера и отделал бархатом. Бывал он здесь чрезвычайно редко. Он купил — пополам с Освальдом — административное здание недалеко от Уолл-стрит и поставил легальный бизнес на широкую ногу, в то же время не пренебрегая нелегальными способами делать деньги. Приобрел винно-водочную компанию. Две прачечных. Грузовой парк и несколько автомобильных салонов. Все они процветали. Не так уж плохо для уличного мальчишки, который только и знал, что пинки под зад. Каждый день он являлся в свой офис, просматривал «Уолл-стрит джорнэл», диктовал секретарше несколько писем и отбывал в «Клемми», где у него тоже был кабинет — гораздо уютнее. У него было три лимузина для увеселительных поездок. Шестьдесят костюмов. И роскошная библиотека, где он понемногу превращался в интеллигентного человека. «Гэтсби» оставался его любимой книгой. В его сейфе хранились неосторожные письма Освальда Дюка — постоянным напоминанием о его уязвимости и страховкой против дальнейших «мелких одолжений». Освальд выразил ему свою признательность. Клементина — другое дело. Она отказывалась признавать тот факт, что их связь исчерпала себя. Куда только делась ее элегантная, уверенная повадка — она постоянно его преследовала. Роли переменились. Когда он познакомился с Клементиной, она была на вершине жизненного успеха, а он — желторотый юнец, алчущий всего, что она могла предложить. Теперь он наверху. И уж конечно, десять лет сексуальных услуг — достаточная плата. Почему бы ей не кивнуть грациозно головкой и не остаться доброй приятельницей? Он положил руку на пышный белый зад Би. — Просыпайся! Она открыла глаза и улыбнулась. Большие белые груди будили в Джино сексуальные фантазии. — Заколи волосы. Она послушно встала. Джино нравилось, что она никогда не затевает споров. Обнаженная Би прошествовала к трюмо и начала закалывать на макушке свои роскошные рыжие волосы. Джино лежал и наблюдал за ней. Потом сбросил с себя простыню и полюбовался собственной эрекцией. Они оказались готовы в один и тот же миг. Би заперла дверь спальни и, соблазнительно виляя бедрами, подошла к кровати. Там она опустилась на колени и, взяв его в рот, принялась медленно, методично сосать, а Джино сидел на краю кровати, глядя широко открытыми глазами в пространство перед собой. Через пятнадцать минут он пришел в состояние полной боевой готовности. Его пальцы запутались в ее густых волосах, отыскивая и отбрасывая прочь шпильки, так что как раз в нужный момент ее роскошная рыжая грива покрыла средоточие его страсти. Что значит точный расчет!* * *
— Звонила Вера, — сообщил Альдо. — Вера? Когда она вернулась? Альдо пожал плечами. — Не знаю, она не сказала. Просила позвонить. Джино выругался про себя. Два года молчания означали, что все в порядке. Он дал Вере двадцать тысяч баксов и велел убираться в Аризону вместе с Паоло. — Я не хочу его видеть, — откровенно сказал он Вере. — Никогда. Ясно тебе? — Да, Джино. — Забирай его в Аризону, и начинайте новую жизнь, купите себе небольшой магазинчик или что-нибудь в этом роде. Пустите корни. — Да, Джино. — Если захочешь написать, я не против. Но если от тебя не будет писем, я буду считать, что у вас все о'кей. Она взяла деньги и испарилась. Ни словечка. Ни даже открытки. И вот она вернулась. Как, черт побери, это понимать? — Поступил остаток долга от Боя. Сегодня утром — вместе с процентами. Джино улыбнулся. — Да что ты? Когда он поместил объявление о вознаграждении за поимку Боя, за этим последовал телефонный звонок. Джейка видели в одном ресторанчике в Лос-Анджелесе. Выследили. Стреляли и промахнулись. Неожиданно позвонил сам Джейк. «Джино, я понимаю, что поступил как последняя сволочь. Поверь и отзови свое объявление. Я верну тебе все, до единого доллара. С процентами». Умный парень. Джино всегда это говорил. Он дал Бою шанс. — Ты с ума сошел? — вылупился Альдо. — Посмотрим. И вот теперь Джино видит, что не ошибся. Все деньги возвращены, и Бой навеки его должник. Приятно. Даже очень. — Где остановилась Вера? Альдо дал номер занюханной гостиницы на Ист-сайд. Джино зажал трубку подбородком и набрал его.* * *
Она лгала по телефону, лжет и теперь. Он научился распознавать такие вещи. — Вера, — тихо сказал он, — неужели ты хочешь, чтобы я поверил, будто двадцать кусков растворились вместе с грязью в какой-то задрипанной химчистке? Они вместе обедали в гриль-баре «Уолдорф Астории». Вера в поношенном голубом костюме, с реденькими прямыми волосами и отечным лицом. Она прилежно изучала скатерть. — Ей-Богу, Джино. Нам не повезло. Мы вложили все деньги в химчистку. Но дела пошли из рук вон плохо. — Какие дела? — Ну… химчистка… новое оборудование… и все такое, — невнятно ответила она, не отрывая глаз от скатерти. Джино вздохнул. Что толку ее допрашивать? Он готов держать пари, что никакой химчисткой и не пахло. Паоло не проработал честно ни одного дня в жизни. — Папа очень старался, — добавила она, запинаясь, и подняла на него полные мольбы глаза. — Нам бы еще немного денег — чтобы продержаться. — Вот, значит, зачем ты пожаловала. За деньгами. Она виновато заерзала на стуле. — Я знала, что, если тебе хорошенько объяснить… — Где Паоло? — Э… — ее глаза с лопнувшими кровеносными сосудиками беспокойно заметались то в одну, то в другую сторону. — Он… э… я подумала, так будет лучше… уважая твои чувства… — Он в городе? Вера взяла со стола салфетку и принялась нервно комкать. — Он изменился. Совсем другой человек. Я бы не стала тебя обманывать. И потом… помни — он твой отец. Какого черта ему это помнить? — Значит, он здесь? — Ага, — Вера выхватила у официанта бокал «скотча» и в один присест осушила его. — Он хочет с тобой увидеться. Ты — его единственный сын. Конечно. А если бы единственный сын не был богат и могуществен, захотел бы этот ублюдок с ним увидеться? Черта с два! — Я тебя предупреждал, — устало молвил он, — что даю двадцать кусков затем, чтобы никогда больше его не видеть. Она как будто и не слышала. — Он уже два года не был в тюрьме. Хорошо себя ведет. Хорошо обращается со мной. Еще бы. После того, как Джино дал ей двадцать кусков. — Чего ты от меня хочешь? — Чтобы ты дал папе шанс. — Не смей произносить это слово! — Какое? — «Папа» и все это дерьмо. Чтобы я больше не слышал! — Тебе никуда не деться от того факта, что он — твои папа, — твердо заявила Вера. — Я же дала ему еще один шанс. Почему ты не можешь? Джино последовал ее примеру и тоже опрокинул в глотку бокал «скотча». Вера почувствовала слабинку. — Я тебя никогда ни о чем не просила. Дай этому человеку шанс. Ради меня — встреться с ним. Джино кивнул — сам не зная почему. — О'кей — я с ним встречусь. Ее отекшее лицо озарилось радостью. — Я знала, что ты меня не подведешь. — Я сказал, что встречусь с ним — это все. Это не значит, что я собираюсь обниматься и целоваться с ним и забуду старое. Вера встала. — Сейчас приведу его. — Что? — Он в вестибюле. Я знала, что ты меня не разочаруешь. Она слиняла раньше, чем он успел ее остановить. Джино чертыхнулся про себя, провел пальцем по шраму на щеке и почувствовал, что покрывается липким потом. Он подал знак официанту и опрокинул в себя еще бокал «скотча» — в память о последней встрече с Паоло. Когда это было? Шестнадцать, семнадцать лет назад? Давным-давно. Он был мальчишкой, но даже тогда большим мужчиной, чем его отец. Он с удовольствием припомнил, как отделал Паоло. Джино устремил взгляд на вход в гриль-бар. В этот самый момент там возникла Вера. Не с Паоло, а с каким-то плюгавеньким старикашкой, хромым и плешивым, с редкими сальными волосами, зачесанными поперек лысины. Когда они подошли ближе, Джино понял, что это все-таки Паоло. Но что с ним сделали годы! Его отец был крепким, жилистым мужчиной с густыми каштановыми волосами и правильными чертами лица. У стоявшего перед ним человечка была обрюзгшая физиономия пьянчужки. Неожиданно эта физиономия расползлась в улыбке. Он хлопнул Джино по плечу и сказал: — Привет, сынок! Давненько не видались! «Привет, сынок!» Джино не верил своим ушам. «Привет, сынок!» Да что он тут, гад, устраивает, что за спектакль? — Паоло, — резко сказал он, дернув плечом. — Садись. Паоло сел. Вера тоже. — Ну, сынок, — начал Паоло. — Никаких «сынков»! — ледяным тоном обрезал Джино. Паоло продолжал улыбаться. — Джино! — взвыла Вера. — Вы не должны больше ссориться! — Ничего, ничего, я понимаю, — великодушно произнес Паоло. Джино сверлил его жестким взглядом черных глаз. — Что тебе нужно? Еще денег — чтобы их профукать? — Мы обанкротились, — с достоинством ответил Паоло. — Да? — Джино обессиленно вздохнул. — Тебе, значит, нужна работа? Ты ее получишь. Но денег ты из меня больше не вытянешь. Я тебе кое-что подберу. Но смотри — один неверный шаг — и кончено. Ясно тебе? Паоло метнул на него злобный взгляд. Вера поспешила вмешаться. — Он стал другим человеком. Джино, ты увидишь. Ты не пожалеешь! — она дернула Паоло за руку. — Правда, милый? Тот пьяно лыбился. — Ну! Джино встал. — Значит, договорились. Завтра вечером приводи его в «Клемми», — он подозвал официанта. — Накормите их обедом и пришлите мне счет. — Да, сэр. Джино покинул ресторан. На улице он остановился и сплюнул на тротуар. Паоло всегда вызывал у него желание плеваться.Кэрри, 1939
Аборт. Дорого и опасно. И потом… Вправду ли она этого хочет? Да. Грязная каморка. Все ее сбережения. Старая негритянка со ржавыми шпильками. Боль и унижение. Ей в глотку льют какой-то мерзкий самогон — чтобы не орала. Снова в своей комнате — разбитая, одинокая. Кровотечение. Потом опять ничего, кроме отчаяния. Она все еще беременна! Редкие вспышки в мозгу. Обратиться к Джино Сантанджело? Фредди Лестеру? Ни за что! Убить себя? Возможно. Кэрри поиграла этой мыслью. Самоубийство. Крайняя мера. Всегда под рукой. У нее осталось двадцать три доллара — и еще одно существо внутри. Нельзя просто лежать и ждать. На свете не существует прекрасных принцев, чтобы приехали за ней в Гарлем на белом коне. Она победила наркотики. Неужели теперь она сломается? Ей всего двадцать с небольшим. Кэрри решила жить. Медленно тянутся месяц за месяцем. Трудности с устройством на работу. У нее было несколько мест. Певичка в грязном кабаке. Официантка. Старшая официантка в дешевом клубе. Отовсюду пришлось уйти, потому что рано или поздно каждый босс давал понять, что в ее обязанности входит секс с ним. Денег хронически не хватало, зато живот пух, как на дрожжах. Как ни странно, вместе с ребенком росли надежды на будущее. Их будущее. Она больше никогда не будет одна. Удивительное чувство! Ей удалось устроиться на постоянную работу кассира в один ресторан. На этот раз к ней никто не приставал. Беременность стала бросаться в глаза. И она назвалась миссис Браун, чтобы отпугнуть претендентов. В ночь на семнадцатое мая тридцать девятого года Кэрри доставили в «Больницу Всех Святых» города Нью-Йорка. Здесь она в три часа ночи восемнадцать минут родила мальчика весом восемь фунтов. Роды чуть не стоили Кэрри жизни. Она назвала его Стивеном.Джино, 1939
Отголоски войны в Европе сотрясали Америку. Гитлер оккупировал Польшу. Англия и Франция находились в состоянии войны с фашистской Германией. Рузвельт провозгласил нейтралитет Америки, но кто знает, что таит будущее? Сенатор Освальд Дюк и Джино Сантанджело сели за стол, чтобы наметить пути обогащения в новой ситуации. Освальд выдвинул предложение о покупке нескольких инструментальных и электромеханических заводов, которые в критический момент можно было бы без труда переоборудовать для производства военной техники и вооружений. Джино с ним согласился. Освальд также предложил купить завод промышленного каучука, ряд газоснабжающих станций и создать на складах по всей стране запасы кофе, сахара и консервированных продуктов. «Никогда не знаешь заранее, — сказал он. — А это — продукты массового потребления; если война будет разрастаться, они окажутся в дефиците». Джино был согласен со всеми его предложениями. Освальд никогда еще не ошибался и обладал даром предвидения. В канун Нового, 1939 года Джино закрыл двери «Клемми» для посторонних и закатил шикарный банкет для своих. Явились все приглашенные. Это был лучший прием года. Только не для Джино. Для него это был худший прием за многие годы. Произошли две вещи, которые вывели его из душевного равновесия. Во-первых. Клементина Дюк выплеснула ему в лицо содержимое своего бокала и во всеуслышанье выкрикнула: «Убийца!» Его так и подмывало поставить свою отметину на ее идеальной фарфоровой коже и дать ей хорошего пинка под зад. Вместо этого он вытер лицо, ухмыльнулся, показывая, что не придает этому значения, и сказал: «Миссис Дюк опять нализалась, ребята. Продолжайте веселиться». Гости столпились вокруг него, оттеснив Клементину с белым лицом фурии. Освальд немедленно увез ее домой. Второй неприятный инцидент был связан с Паоло. Джино устроил его на побегушках: сбегать туда, принести это, — и до сих пор все шло нормально. Но в этот вечер, заглянув за кулисы, Джино застал Паоло со спущенными штанами, обрабатывающим ошеломленную хористку. — Что здесь происходит? — с легкой угрозой в голосе спросил Джино, стараясь не смотреть на отвислый зад отца. Девушка громко заверещала: — Ох, мистер Сантанджело! Простите, пожалуйста! Он сказал, что если я этого не сделаю, то потеряю работу, потому что он ваш отец. Паоло натянул штаны и поспешил смыться. Джино внимательно посмотрел на девушку. Новенькая, еще совсем подросток. Ни одна из старой гвардии не клюнула бы на такую наживку. — Никогда не делай того, что не хочется, — с расстановкой произнес Джино. — Никогда. Тебе ясно? Он отправился на поиски Паоло, но так и не нашел. Внутри у него все кипело. Он излил гнев перед Би: — Сукин сын, так его мать! По окончании банкета они уединились в своем гнездышке; она заколола чудесные рыжие волосы на макушке и сделала то, что всегда доставляло ему наибольшее удовольствие. Это не помогло — впервые в жизни.* * *
Джино долго лежал без сна рядом с теплым телом Би, прислушиваясь к ее сонному дыханию. Оно также действовало ему на нервы. Уснешь тут — когда творится такой бесстыжий рэкет. Он выбрался из постели и поплелся на кухню. Открыл холодильник, положил на тарелку с верхом мороженого. Вспомнилась Клементина: жесткий взгляд, горькие складочки возле рта и этот пьяный выкрик: «Убийца!» Сука! С чего она взяла, будто это сойдет ей с рук? Придется поговорить с Освальдом. Убийца! Доказательств не было. Газеты, правда, пошумели в связи с гибелью Синди. Он забросал их протестами своего адвоката. В конце концов, он — безутешный вдовец! Более того, у него железное алиби. Шакалы. Вечно набрасываются на него по тому или иному поводу. Мало того, налоговые власти дышат в спину, так теперь еще и репортеры. Они, видите ли, жить не могут без сенсаций, а он — самый подходящий объект. Можно себе представить, как они распишут вчерашний банкет: «Джино-ТАРАН И ЖЕНА СЕНАТОРА» Он не наелся мороженым, так же, как Би не смогла насытить его любовью. Положил еще. Отправляя ложку за ложкой в рот, вспомнил Паоло. Как он мог позволить Вере уговорить себя дать этому вонючему ублюдку работу? Тайна, покрытая мраком. Не прошло и полутора месяцев, как этот тип прожужжал всем уши, что он — отец Джино Сантанджело: чтобы легче было трахаться. Гениально! А где, кстати, Вера? Ее-то он пригласил на банкет. Что с ней? Джино начал тревожиться. Они уже несколько недель не виделись. — Привет! — на кухню, с трудом продирая глаза, забрел Марко. — Можно и мне мороженого? — Иди спать, малыш. Мама задаст тебе хорошую трепку. — А, ничего. Она обещала купить мне в подарок бумажные шляпы и воздушные шарики. Купила? Джино взъерошил малышу волосы. — Да, Марко. — Где они? Можно посмотреть? — Нет, — твердо ответил Джино. — И говори потише, а то разбудишь маму. — Ну пожалуйста! — Нет. Садись, поешь мороженого и уматывай. Мальчик подсел к столу. Джино поставил перед ним тарелку с мороженым. Би будет в бешенстве. Вечно он балует ребенка! Да. Возможно, одной из причин, почему Джино любит здесь бывать, как раз и был Марко. — Эй, — сказал он. — Как насчет того, чтобы завтра сходить в кино? Я много слышал о «Почтовой карете». Джон Уэйн. Ковбои с индейцами. Как ты думаешь? — Ой, правда? — А как же. Сходим вдвоем, только ты да я. Мальчик просиял и продолжил набивать рот мороженым. — Слушай, — сказал Джино. — Я сейчас оденусь и ненадолго отлучусь. Скажешь маме, что мне нужно провернуть кое-какие дела — чтобы никто не мешал. В полдень я за тобой заеду. Давай заканчивай здесь и отправляйся спать. Четыре часа утра, шуточное дело! Он быстро оделся. Четыре или не четыре, а он сейчас же поедет к Вере, посмотрит, как она там. Давно нужно было это сделать. Кстати, и расскажет о Паоло и той девушке. Если уж и это не подействует!.. Ничто не доставило бы ему такого удовольствия, как если бы Вера дала Паоло от ворот поворот. За это Джино готов был предоставить ей любую работу, какую пожелает. Самой Вере он ни в чем не мог отказать! Он оделся попроще и, беззвучно насвистывая, вышел из квартиры Би в Виллидже. Под ложечкой чувствовался холодок — признак беды. Но Джино не обратил внимания. У кого не заболел бы живот после двух больших тарелокмороженого?* * *
Гостиница, где они жили, была той еще дырой! Блошиный заповедник на Ист-сайд с покосившейся неоновой вывеской: «Имеются свободные номера». Еще бы! В эти дни, в канун Нового года, город был наводнен приезжими. Неряшливые толстозадые тетки с большими сумками. Подвыпившие мужчины с налитыми кровью глазами. Джино вылез из своего старенького «форда». К нему тотчас подскочила уличная проститутка. — Хочешь развлечься, малыш? Он, даже не взглянув, прошел в вестибюль. Портье с длинным, заостренным носом спорил с подвыпившей парочкой. — Десять баксов, или можете выметаться. — А, брось, Пит, — заскулила женщина. — Мы же только на часок. Остроносый стоял на своем. — В канун Нового года двойная плата. Не нравится — скатертью дорога! Кавалер пошарил в кармане и швырнул на стол две мятых пятидолларовых бумажки. Портье одной рукой сгреб деньги, а другой пошарил в поисках ключа. Парочка направилась к лестнице, на которой даже не было ковровой дорожки. — Вам чего? — Острый Нос уставился на Джино. — У вас проживают мистер и миссис Паоло Сантанджело? — А кто спрашивает? Джино не удостоил его ответом. Вместо этого он вынул из бумажника двадцатку. — Мне нужен ключ. Острый Нос ни секунды не колебался. Он был малый не промах, когда речь шла о деньгах. Одним мановением руки он схватил купюру и отдал ключ. — Подниметесь по лестнице, лифт не работает. Я вам ключа не давал. Джино кивнул. Изнутри этот клоповник производил еще более гнетущее впечатление. Джино поднялся по ступенькам. Вонь такая — любого стошнит. Он не стал стучать — просто повернул ключ и вошел. Он ожидал чего угодно, только не того, что представилось его глазам. Вера на корточках сидела на кровати — в чем мать родила. Тусклый свет с потолка высвечивал зловещие синяки на ее бедном, исстрадавшемся теле. На руках и грудях багровели свежие рубцы. Из перебитого носа капала кровь. В руках у нее был револьвер тридцать восьмого калибра — она целилась в Паоло. При этом она истерически всхлипывала и выкрикивала: «Я… тебя… убью! На этот раз — убью!» Паоло в одних трусах и грязной майке стоял в изножии кровати. В правой руке он держал тяжелый кожаный ремень с устрашающего вида пряжкой. В налитых кровью глазах застыл ужас. Ни тот, ни другая не заметили Джино. — Ублюдок! — взвизгнула Вера и нажала на спуск. Пуля вошла Паоло аккуратно между глаз. Он сделал шаг назад и упал с выражением крайнего удивления на лице. — Ублюдок! — снова крикнула Вера, но, прежде чем она вторично нажала на спуск, Джино в два или три прыжка преодолел расстояние до кровати, повалил ее и начал вырывать револьвер. — Что ты делаешь, Вера? — Джино! — она разрыдалась. — Ох, Джино… Господи! Ему на мгновение показалось, будто это — всего лишь кошмарный сон. Сейчас он проснется и увидит рядом с собой Би — ее теплую грудь, податливые бедра. Как случилось, что он среди ночи стоит в этой мерзкой клоаке, под ним распласталась голая Вера, а его отец на полу истекает кровью? Если бы он вошел минутой раньше! Если бы успел остановить ее! Паоло мертв. Не об этом ли он мечтал всю жизнь? Джино сполз с кровати, сжимая в руках револьвер. Вера, рыдая, каталась по кровати. Джино уставился на мешок с костями, когда-то бывший его отцом. Попытался вспомнить хоть один светлый миг, связанный с этим человеком. И не смог. Он нагнулся над Паоло — сердце не билось. — Джино, зачем ты это сделал? — внезапно взвизгнула Вера. — Зачем ты это сделал, Джино? — Успокойся, — тихо попросил он, лихорадочно соображая, как бы вытащить ее отсюда. — Ничего я не делал. — Да, — зашипела она. — Это ты убил его! Вышиб из него мозги! Ты виноват, ты! — она вопила в полный голос: — Ты убил его, Джино! Ты, ты, ты! И снова разразилась рыданиями. Джино невидящим взглядом уперся в потолок. Что же теперь делать?* * *
В канун Нового года Маргарет О'Шонесси и Майкл Фланнери отпраздновали свою помолвку. Он презентовал ей дешевое кольцо с поддельным изумрудом и ключ от гостиничного номера. — Вот, я обещал — и веду тебя в гостиницу! — похвалялся он. Подогретые пивом, они ринулись в номер. Интерьер произвел на Маргарет гнетущее впечатление. Но когда Майкл начал снимать с нее одежду, она забыла обо всем на свете. — Целую ночь вместе! — радовался он. — Если тебе в первый раз будет неприятно, повторим еще и еще раз. Ей было приятно, но они все равно повторили — еще и еще, пока не упали в изнеможении на мятые простыни и начали строить планы на будущее. Примерно в половине четвертого они уснули. Через четверть часа в соседней комнате послышался шум. Маргарет тотчас проснулась. Ссорились двое: мужчина и женщина. Она не разбирала фраз, но время от времени до нее доносились отдельные слова: «Сука… Грязная шлюха!.. Терпеть тебя не могу!», потом все стихло. Маргарет понадеялась, что парочка в соседнем номере угомонилась, но не тут-то было. Мужчина взвыл: «Я вышибу из тебя мозги, стерва!», послышался свист ремня. Маргарет села на кровати. Майкл по-прежнему сладко спал. Что делать — разбудить его? Шум стоял ужасный. Женщина орала благим матом — видно, ее истязали. Она осторожно ткнула Майкла под ребро. Он и не подумал проснуться. Спал как убитый. Маргарет укрылась одеялом и концами подушки заткнула себе уши. Все без толку. Женщина надрывалась все громче, и все слышнее становились звуки ударов ремнем по коже. Маргарет твердо решила на этот раз разбудить Майкла. Это оказалось несложным делом. — Ну, Майкл Фланнери, меня могут сто раз изнасиловать и убить, а ты и не подумаешь проснуться! — обиженно заявила она. — В чем дело, малышка? — виновато спросил он. — Тс-с! Слушай! Майкл сел на кровати. — Что? Шум за стеной затих. — Там, в соседней комнате, дрались и ругались — просто ужас как. Наверное… — Я убью тебя! Майкл подскочил на постели. — Ублюдок! — завопила женщина в истерике. — Ублюдок! Майкл Фланнери запутался в брюках. — Маргарет, оставайся здесь, а я вызову полицию. — Не оставляй меня! Но он уже исчез за дверью. — Господи, — забормотала Маргарет, — спаси и помилуй! Она торопливо напяливала на себя одежду. Сроду ей не было так страшно. Ясно, что это Божья кара за блуд до свадьбы. — Зачем ты это сделал? — взвыла женщина за стеной. — Зачем ты это сделал, Джино? Впоследствии Маргарет О'Шонесси много раз пришлось повторять эти слова — единственные, какие она запомнила.Кэрри, 1941
— Как тебя зовут, крошка? — толстяк в костюме горчичного цвета почесал у себя между ног и похотливо уставился на нее. — Кэрри, — ответила она, стараясь не выдать свою гадливость. «Крошка»! Ей двадцать восемь лет, у нее растет сын, а этот — «крошка»! Он продолжал чесаться — словно ее и не было в комнате. — Ладно, я беру тебя на работу. Жалованье небольшое, но у такой красивой девушки не будет проблем с чаевыми. И не только, — он подмигнул. — Все будет зависеть от тебя. У Кэрри было сильное желание сказать: подавись ты, туша, своей вшивой работой! Но вместо этого она залебезила: — Спасибо, мистер Уордл. Мне приступать сегодня же? Он на мгновение забыл про зуд в паху и погладил ее по плечу. — Да, моя прелесть. Очень хорошо. Надень что-нибудь, чтобы было видно твои хорошенькие грудки. Она вышла из его зачуханного кабинета, прошла через заплеванный зал для танцев и села на автобус до дома. Дом. Всего одна комната для нее и Стивена в меблирашках в центре Гарлема. Дом. Без ванной. Крысы бегают по ночам. Сырые стены. И все-таки дом. Ей два года как-то удавалось сводить концы с концами. Это было нелегко. После тяжелых родов она чувствовала себя совсем обессиленной. Но отлежаться не удалось. Две недели в больнице — и она снова очутилась на улице — с жалкой мелочью от благотворительного фонда и грудным младенцем на руках. Кэрри нашла Стивену няню и заступила на свое прежнее место кассира в ресторане. Это длилось недолго. Теперь, когда ее фигура вернулась в норму, у босса появились определенные идеи. Это был пожилой человек с костлявыми желтыми руками, внушавшими ей непобедимое отвращение, и женой, следившей за ним не хуже ястреба. Однажды он затащил ее в заднюю комнатку и всю ощупал своими желтыми руками. В тот же день она потребовала расчет. Два года скитаний с одного места на другое. Всюду хозяин, всюду одна и та же история. И что только в ней было такого, что заставляло мужчин с такой силой желать ее? Или это цвет кожи делал ее доступной в их глазах? Кэрри не могла понять. Она гладко зачесывала назад волосы, не пользовалась косметикой, бедненько одевалась. Ничего не помогало. И наконец Кэрри пришло в голову, что она ведет себя, как последняя идиотка. Если мужчины так сильно ее хотят, пусть платят за это. Одна ночь проститутки принесет ей больше денег, чем ее недельное жалованье. Но как себя заставить? Снова перестать быть личностью — только вещью, куском мяса?.. Раньше ей помогали наркотики. Теперь это исключено. У нее растет сын, и уж если ему суждено иметь мать-проститутку, то, по крайней мере, она избавит его от матери-наркоманки. Оставалась последняя возможность — поступить жиголеттой в «Фан Палас». Во-первых, ее устраивала работа в ночные часы — значит, днем она могла посвящать себя Стивену. Во-вторых, днем можно было устроиться только уборщицей либо служанкой к какой-нибудь белой неряхе. Конечно, она снова становится объектом домогательств со стороны мужчин, но что с того? Отшивать их на переполненной танцплощадке легче, чем в каком-нибудь укромном уголке. Бойкая мексиканка Сюзита учила: — Если он слишком близко прижимается, дай ему коленкой в пах! Раз-два — вот так! Живо отскочит. Кэрри убедилась в ее правоте. Молниеносное движение коленкой оказалось эффективнее сотни «нет». Сюзита подрабатывала на стороне. Если клиент не внушал ей отвращения, она оказывала «дополнительные услуги». — По крайней мере, я могу выбирать, — делилась она с Кэрри. — Почему бы и тебе не делать то же самое? Лишние деньги не помешают. Тем более, это легкие деньги. Пойдешь только с тем, с кем захочешь. Кэрри покачала головой. Сюзита хмыкнула: — Ты еще передумаешь. Через три недели после этого разговора Стивен подцепил какую-то непонятную вирусную инфекцию. За одну ночь из крепкого двухлетнего малыша он превратился в скелетик. Кэрри забегала по врачам, но никто не мог поставить точный диагноз. По прошествии нескольких недель ей предложили поместить ребенка в клинику на обследование. Кэрри дошла до ручки. Раньше ей как-то удавалось сводить концы с концами. Теперь на нее посыпались счета, счета, счета. Честной жиголетте они оказались не по карману. Предложение Сюзиты оставалось в силе. Она повела Кэрри в отель и представила портье. — Тебе понравится, Кэрри. Это не такая уж плохая работа. Много-много денег. Кэрри с отсутствующим видом кивнула. В тот вечер она особенно тщательно нарядилась. Даже мистер Уордл не остался равнодушным. — Я бы и сам не прочь станцевать с тобой, куколка! Она пожала плечами. Если и приниматься за старое, то на своих условиях. Она будет выбирать, как Сюзита. В тот вечер, однако, выбирать особенно было не из кого. В конце концов она остановилась на смешном коротышке в очках, непостижимым образом державшихся на кончике носа. — Как насчет того, чтобы прогуляться в отель? — спросила она, когда они ступили на круг и отдались томному танго. — Здесь совсем недалеко. Он притворился, будто не слышит, но еле заметный нервный тик свидетельствовал об обратном. Еще пара танцев — и он отважился спросить: — Сколько? Кэрри представила стопку счетов и выпалила: — Двадцать пять. — Да, — выдохнул он. Коротышка подождал ее после танцев. Кэрри смертельно хотелось убежать, оставив его стоять — в этих дурацких очках. Или одурманить себя чем-нибудь… Они молча направились в отель. Портье подмигнул и спросил десять долларов. Коротышка не стал спорить. Служащий протянул Кэрри ключ и вновь подмигнул. Не забыть дать ему пять долларов чаевых. В комнате было почти светло — напротив то и дело вспыхивала неоновая вывеска. На узкой кровати — грязное покрывало. Ковер с дыркой. Оба были неимоверно смущены. Кэрри собралась с духом и потребовала деньги. Он протянул пятнадцать долларов. — Двадцать пять, — быстро сказала она. — Но я уже отдал десять за комнату. — Двадцать пять или никаких… Он достал еще десятку. Кэрри стянула через голову платье, расстегнула бюстгальтер, стащила трусики. Он отвернулся и снял брюки. Она легла. Как в старые времена. Он осторожно взобрался на нее. У него оказался такой крошечный пенис, что она почти не почувствовала. Пять минут — и все кончено. Коротышка оделся и был таков. Кэрри лежала на спине и смотрела в потолок. Все сначала. Памятный день седьмого декабря. В этот день японцы бомбили Пирл-Харбор. На другое утро Америка объявила войну Японии. Америка объявила войну, а Кэрри вновь стала проституткой.* * *
Эту работу она досконально знала изнутри. Всей душой ненавидя ее, тем не менее Кэрри действовала в высшей степени профессионально. И, как когда-то, к ней потянулись клиенты. Кто был с ней однажды, уже не хотел никого другого. Сюзита была в восторге. — Ну, ты шустрячка! Уважаю! Владелец «Фан-Паласа» мистер Уордл не был в восторге. Однажды вечером он зазвал Кэрри в свой грязный кабинет и сказал: — Ты используешь мою территорию для своих штучек. Ладно. Я хочу свою долю. — Возьми свою работу и подавись. — Ты уволена, детка. — Я сама увольняюсь. Немедленно. Стивен начал поправляться. Ему было вредно оставаться в их тесной, сырой конуре. Он нуждался в чистом, сухом помещении с небольшой террасой, где можно было бы дышать свежим воздухом. Кэрри предложила Сюзите снять квартиру на двоих и открыть свое дело. Та согласилась. Через несколько дней Кэрри нашла подходящее помещение в районе Тридцатых. Здесь был отдельный уголок для Стивена. Она нашла ему няню — шестнадцатилетнюю чернокожую девушку. Город кишел солдатами, матросами, офицерами — и всем хотелось развлечься. Большинство дожидалось отправки в Европу и жаждало хорошенько кутнуть напоследок. Война — идеальное время для подобного бизнеса. Деньги сыпались, как из ведра. Вскоре к ним присоединилась еще одна девушка, высокая, рыжеволосая Силвер. По прошествии некоторого времени у них был один из известнейших публичных домов в городе.Джино, 1947
— Все взяли, Сантанджело? — спросил надзиратель. — Да. Все. — Тогда до свидания. Да. До свидания. Кому угодно хватит под завязку — семь лет тюрьмы за преступление, которого не совершал. Семь лет унылого, монотонного существования. Скверная пища. Никаких женщин. Только садисты-охранники да тюремные бунты. И некуда приложить свою энергию и способности. Джино потрогал шрам на щеке и двинулся на выход. Надзиратель был тот еще сукин сын. Он прекрасно знал, что к воротам тюрьмы саранчой слетится пресса, но отказался выпустить Джино под покровом ночи. Сволочь. Но Джино стерпит. Справится с ситуацией. Тюрьма не сломала его. Здесь выживают сильнейшие, а он оказался сильнее всех. Он твердым шагом, с высоко поднятой головой шел к воротам. Однако у него похолодело внутри, и дико хотелось кое с кем поквитаться. Например, с чертовой сучкой Маргарет О'Шонесси, этой писклей, хлопающей дурными круглыми глазками. Главная свидетельница обвинения на знаменитом процессе Сантанджело. «СЫН УБИВАЕТ ОТЦА!»— кричали заголовки. Пресса осудила его еще до того, как успел остыть труп Паоло. Семь долгих лет у него в ушах стоял писк Маргарет О'Шонесси: «Я слышала, женщина кричала: «Джино, зачем ты это сделал?» И эта идиотка Вера. К тому времени, как приехали полицейские, она полностью уверила себя в том, что это он, Джино, спустил курок. Невероятно! Все правильно. Когда по вызову Майкла Фланнери явились копы, он стоял над мертвым телом отца, сжимая в руке орудие убийства. Правда и то, что вначале он не рассказал все как есть, а по какой-то непонятной причине старался выгородить Веру. Однако постепенно сменил тактику и дал правдивое описание происшедшего. Никто не поверил — ни один человек! Его задолго до суда признали закоренелым убийцей, киллером. Кто же еще мог покуситься на жизнь родного отца? Он нанял адвокатов — целую кучу высокооплачиваемых мерзавцев. Они соглашались — за бешеные деньги — взять на себя его защиту, но ни за что не соглашались верить. А это важнее всего. Друзья стушевались. Дюки смылись в Южную Америку, дав указание уполномоченным немедленно порвать все деловые связи с Джино Сантанджело. Это его как раз устраивало. Он, в свою очередь, проинструктировал своих представителей выкупить долю Освальда Дюка. Потребовались огромные суммы наличными, пришлось продать часть имущества, но он на это пошел.* * *
Коста любовно посмотрел на жену. В свои тридцать девять лет из веснушчатой девушки Дженнифер превратилась в интересную матрону. Она была на несколько месяцев старше мужа, а на вид ей можно было дать и того больше. Она излучала доброту и душевное тепло. Коста ни разу не пожалел, что женился на ней, даже невзирая на отсутствие детей — это печалило обоих. — Мы отвезли его домой, — ответил он на вопрос Дженнифер. — Конечно, репортеры лезли во все щели, но он не обращал на них внимания. Работа Косте нравилась. С тех пор, как он приехал в Нью-Йорк, чтобы иметь возможность защищать Джино, он только однажды взял неделю отпуска — слетать в Сан-Франциско, объявить отцу, что он остается на востоке и открывает собственную практику. Франклин Зеннокотти пришел в бешенство. — Твой дом — здесь, — бушевал он. — Со временем к тебе перейдет вся моя фирма. Чего тебе не хватает? Косте ужасно не хотелось быть неблагодарным, но он больше всего нуждался в самоутверждении. Кроме того, он чувствовал себя ответственным за судьбу Джино. Дело нужно было довести до конца. То, как на него набросилась пресса, было ужасно. Джино-Таран Сантанджело. Главарь банды. Закоренелый преступник. Даже после признания Веры газеты вовсю намекали, что она подкуплена. На самом деле Коста не истратил на подкуп ни единого цента. Однако все эти годы не давал ей проходу, умоляя сказать правду. Он также взял на себя деловую часть, все крупные сделки. В его уверенных руках легальный бизнес Джино процветал. Правда, он отказался иметь дело с теневой стороной его бизнеса, оставив «Клемми», рэкет и казино на попечение Альдо. А когда Альдо призвали в действующую армию и отправили за океан, этим, с согласия Джино, занялся Энцо Боннатти. — Мне повезло, — говаривал Джино, сидя в тюрьме. — По крайней мере я знаю, что о моих делах есть кому позаботиться. А когда выйду, снова приберу все к рукам. Через год клуб прикрыли — постарался отдел по борьбе с наркотиками. Боннатти прислал Джино свои извинения. Тот был взбешен, но что он мог поделать? Примерно в это же время с войны в Европе вернулся Альдо. Он прострелил себе ногу, чтобы избежать участия в дальнейших боевых действиях. — И знаешь, что я тебе скажу, — похвастался он во время свидания. — Оно того стоило! Теперь я вшивый герой! Косту не тронули из-за обострения астмы, а Энцо решил проблему при помощи кругленькой суммы, которую он знал, кому дать. «У меня плоскостопие», — отвечал он, если его об этом спрашивали. Однако желающих было немного. — Би тоже была среди встречающих? — спросила Дженнифер. — Разодетая в пух и прах и счастливая, словно жаворонок. — Еще бы! Эта женщина — святая. Ждать все эти годы — а ведь он ей даже не муж! Коста не мог не усмехнуться. — Ну, я бы не стал причислять к лику святых Би.* * *
— У тебя задница растолстела. — Да что ты? — Точно. — Ты так говоришь, потому что давно ее не видел. — Это ты так думаешь. Он ухватил ее за пышные ягодицы и перевернул на живот. — Джино! Опять? Он что-то буркнул и вошел в нее сзади. Приподняв ее массивный белый зад, он начал делать мощные толчки. Взад-вперед — точно насос. Это уже третий раз, но наслаждение оказалось ничуть не менее острым. Они весь вечер провалялись в постели, одни в квартире, только телефон трещал не умолкая, так что Джино не выдержал и отключил его. — Слушай, — сказал он, когда все было кончено. — Может, нам стоило бы подумать о том, чтобы пожениться? Би не ответила. — Эй! — окликнул он. — Где охи, ахи и вопли: «Ох, Джино, я всегда об этом мечтала!» Би разлепила губы. — Я всегда об этом мечтала. Сам знаешь. — Ну, так и в чем проблема? — В любви. — В любви? — Да. Я тебя люблю, а ты меня нет. — Брось, детка. Я только что трахнул тебя три раза подряд. Если это не любовь, тогда что она вообще такое? Женщина вздохнула. — Ты не понимаешь. Трахаться — еще не значит любить. — Слушай. Мы уже не один год вместе. Я даю тебе все, что ты хочешь, верно? — Да, конечно, но… — Я отправил Марко в лучшую школу. Он стал парень что надо. Единственное, чего ему не хватает, это братишки или сестрички. Ты следишь за моей мыслью? — Ты хочешь, чтобы мы поженились и завели детей? Он соскочил с кровати и возбужденно забегал по комнате. — Точно! Почему бы и нет? Мы не становимся моложе — ни ты, ни я. В тюрьме я много об этом думал. У нас будут вот такие дети! Би приподнялась на локте и широко улыбнулась. — Да. — Ну конечно же, да! Я их прямо-таки вижу! Симпатяжки с рыжими гривами и толстыми задницами. Она рассмеялась. — У тебя еще могут быть дети? Еще не поздно? — Мне тридцать два года. Стоит перестать предохраняться, и я начну рожать, как крольчиха. Теперь они оба смеялись. — Сделаем все, как положено, — объявил Джино. — Завтра отправимся к Тиффани, и я куплю тебе кольцо с самым большим бриллиантом. Отпразднуем помолвку. Хочешь? И как только ты забеременеешь, поженимся. Би надулась. — Ты хочешь сказать, что сначала я должна забеременеть? — Да. Но это я тебе обещаю. Поработаю на славу. Нас ждет море удовольствия!* * *
На другой день Джино заявился в свой офис, прямо-таки лучась энергией. У него было такое замечательное настроение, что он даже улыбнулся и помахал рукой представителям прессы, караулившим возле дома и перед входом в административное здание. Накануне позвонил Коста и сказал, что у Франклина инфаркт. — Я лечу на Побережье. — Не волнуйся. Сам справлюсь. Мисс Марчмонт, исключительно толковая секретарша Косты, принесла необходимые папки. Он правильно поступил, отделавшись от Дюков. Все дела, которые они когда-то начали вместе, шли весьма удачно. Вообще-то он чувствовал себя не совсем уютно, торча в кабинете, куда то и дело забегала одна из семнадцати секретарш. Система Косты работала, как часы. Каждое дело вел отдельный исполнитель. Сам Коста осуществлял общее руководство. Семь лет тюрьмы, подумал Джино, и я богаче, чем был. Вот чудеса! Его немного смущало кислое выражение лица мисс Марчмонт. — Уф! — отдувался он после двух часов работы с документацией. — Вроде бы все посмотрел, что нужно. Если понадоблюсь, я в «Риккардди». И сбежал. Он не создан для высиживания в офисе. И потом, он не мог дождаться встречи с Альдо. Верный шофер и телохранитель Ред довез его до ресторана. Все эти годы Ред работал на Боннатти, но как только узнал об освобождении Джино, попросился на старую работу. Он был классным водителем. Шесть кварталов — и он оторвался от «хвоста» — преследующих Джино репортеров. — Молодчага! — похвалил шеф. — Терпеть не могу этих стервятников! Только и делают, что катят бочку на честных людей. — Ага, — согласился Джино и сделал в уме зарубку: выяснить, сколько Ред получает, и подумать о премиальных. «Риккадди» был маленьким итальянским ресторанчиком, втиснутым между химчисткой и конторой гробовщика. Альдо купил Барбаре это помещение в сорок пятом. Прекрасное поле для приложения талантов. Барбара готовила и пекла, а ее брат работал за стойкой. Джино был здесь впервые. Альдо встретил его у дверей. Они обнялись и расчувствовались. Выскочила Барбара — вся в слезах. — Джино! Как хорошо, что ты вернулся, просто замечательно! Его ввели в ресторан. Кругом были друзья и знакомые — они стоя, широко улыбаясь, приветствовали Джино. Энцо Боннатти. Дженнифер. Би. И Марко, красивый семнадцатилетний парнишка. — Иисусе Христе! Что творится? — Ничего-ничего, — пробормотала Барбара. На стене красовался плакат: «Добро пожаловать, Джино!» Он был счастлив и страшно смущен. Переходил от одного к другому, пожимал руки, целовался и пил вино под льющиеся из радиолы звуки итальянской оперы. Наконец он отвел Би в уголок: — Почему не предупредила? Она только улыбнулась и стиснула его руку. Четверо ребятишек Альдо и Барбары носились по залу, обслуживая столики. Все они были крестниками Джино — славные сорванцы! Барбара держала их в ежовых рукавицах. Подавалось фирменное блюдо — спагетти с мясными фрикадельками. Джино сидел за одним столиком с Энцо, Альдо и еще несколькими друзьями. Он почмокал губами. — Барбара, ты лучшая в мире повариха. Никто не спорил. Позднее мужчины закурили сигары и заговорили о делах. Это была их общая забота. Конечно, все семь лет Джино был в курсе: тюремный телеграф давал ему больше информации, чем «Санди Нью-Йорк Таймс». Но все равно приятно было вновь находиться у руля, знать, что другие прислушиваются к твоему мнению. Энцо и Альдо только что вернулись со съезда в Гаване, где председательствовал недавно вышедший на волю Счастливчик Лючано и где собрались крупнейшие руководители нелегального бизнеса со всех Соединенных Штатов. Шла речь о сотрудничестве, о том, чтобы положить конец многолетним распрям, соперничеству и вендетте, которая приводила к ненужной огласке. — Ты бы посмотрел на Розового Банана! — сказал Альдо. — На нем было навешано бриллиантов побольше, чем на витрине ювелирного магазина. Пинки Кассари, по кличке Розовый Банан, ныне заправлял в Филадельфии — король наркодельцов, проституток и наемных убийц. Джино не проявил особого интереса. Разговор перешел на другие темы. Мало-помалу компания распалась. Джино отбыл в девять часов, сытый и довольный. Разговор оказался исключительно полезным, а Альдо с Энцо прекрасно присмотрели за бизнесом, пока его не было. Он унес с собой несколько мешков денег — более трехсот тысяч долларов — и знал, что ближайшее будущее сулит новые поступления. Би нежно льнула к нему. — Как я рада, что ты вернулся, Джино! Он и сам был рад.Четверг, 14 июля 1977 Г
Стивен обвязал Лаки под мышками и, сцепив руки, подставил их так, чтобы она, встав на импровизированную ступеньку, могла дотянуться до открытого люка наверху лифта. Она все время ныла. — Господи! Помогите! Я вам все-таки не акробатка! Стивен подтолкнул ее. Скрючившись над ним, она взвыла: — Ой, я боюсь! — Не беспокойтесь! — раздалось сверху. Спустившись до их уровня, механик проверил крепость веревки и крикнул вверх: — Тащи ее, Джордж! Джордж послушался. И Лаки, словно марионетку, подняли аж на сорок седьмой этаж. Там Джордж с двумя помощниками уставились на нее. — Уф! — выдохнула она. — Сделайте одолжение, снимите с меня эти веревки. Они сняли. — У кого-нибудь есть попить? — спросила она. Один из механиков указал на ближайший фонтанчик с питьевой водой. Она наклонилась и выдула целых три бумажных стаканчика тепловатой воды. Затем окинула взглядом освещенный свечами холл. — Света еще нет? Ее не слушали: механики были заняты освобождением Стивена. Лаки взяла свечу и направилась в дамский туалет. Там она поставила свечу на умывальник и посмотрела на себя в зеркало. — Ну и лахудра! Она сполоснула лицо. Боже, как приятно! Теперь ей хотелось только одного: скорее добраться домой, принять ванну и отсыпаться — никак не меньше недели!* * *
Дарио застыл на месте. Кто-то пытался проникнуть в его квартиру. Он перестал накручивать диск и ощупью поискал оружие. Наткнувшись на массивную бронзовую статуэтку, он схватил ее и притаился за дверью. — Кто там? — спросил он грозно. Царапанье не прекратилось. Дарио замахнулся. Дверь вдруг резко распахнулась. Но не успел он нанести удар, как кто-то схватил его, опрокинул и пригвоздил к полу. Рядом грохнулась бесполезная статуэтка. — Какого… — начал Дарио, но почувствовал холодок от уткнувшегося ему в переносицу пистолетного дула и умолк. Кто-то целился в него. Он снова пленник в своей квартире.* * *
После того как доктор Митчелл позаботился об ушах Кэрри и дал ей успокоительное, Эллиот отвез ее домой. Они с трудом поднялись на свой семнадцатый этаж, сопровождаемые мальчишкой с фонариком, который подрабатывал, помогая жильцам. Доллар за подъем. «Свободное предпринимательство», — пошутил Эллиот и дал ему пятерку. Начало действовать успокоительное. Кэрри почувствовала сонливость. — Нужно позвонить Стивену, — пробормотала она. — Забудь пока о Стивене, — резко возразил Эллиот. — Марш в постель. У Кэрри не было сил спорить.* * *
Джино не мог уснуть. Дурацкий инцидент с фотографом и идиоткой-стюардессой выбил его из колеи. Ничего себе — врываются среди ночи и начинают щелкать. Что стало с правом на неприкосновенность личности? И вообще правами человека? Он изо всех сил старался снова забыться сном, но в мозгу лихорадочно метались мысли о Лаки, Дарио и старом друге Косте. Соскучился он по ним всем! Особенно по Лаки, своей красавице-дочке. Особенно по дикарке Лаки! Семь лет — солидный срок. Чересчур даже большой. Наконец он уснул.* * *
Лаки вышла из дамской комнаты как раз в тот момент, когда Стивена доставили на сорок седьмой этаж. Когда спасители сняли с него веревки, он благодарно похлопал их по спине и выразил свою признательность. Лаки так и вылупилась на него. Он состоит в лиге О. Дж. Симпсона, это сразу бросается в глаза. Даже в тусклом, мерцающем свете свечей. — Привет! — воскликнула она. — Рада вас видеть! Стивен был ничуть не меньше удивлен. Куда делась воображаемая полная блондинка с выступающими зубами? Перед ним стояла стройная молодая женщина с шапкой буйных черных кудрей и строгими глазами. Весьма соблазнительная, надо признаться. Он усмехнулся. — Я же говорил, все будет в порядке. — Да уж. — Вы совсем не такая, как я представлял. — Вы тоже. Эй, как нам отсюда выбраться? — Валяйте по пожарной лестнице. Стивен повернулся к Джорджу. — Отсюда можно спуститься только пешком? — Конечно — если у вас нет желания вылететь в окошко. — Спасибо, ребята. Я высоко ценю вашу помощь. Джордж пожевал нижнюю губу. — Как высоко? — Очень высоко. Правда. — Дайте им денег, — прошипела Лаки. — И пошли отсюда. — О! — Стивен порылся в заднем кармане и достал десять долларов. — Выпейте за мое здоровье. Джордж принял банкноту и с отвращением протянул механику. — Десять баксов за хлопоты. Этого хватит на две бутылки пива — на четверых! Лаки быстро открыла сумочку и выудила две по пятьдесят. — Вот, парни, — она схватила Стивена за руку. — Шевелитесь, ради всего святого! Когда за ними захлопнулась дверь запасного выхода, Стивен остановился и буркнул: — Вы меня удивляете. — То есть? — Дать столько денег. Им и так платят за работу. Они не заслуживали и той десятки. — Бросьте вы — заслуживали, не заслуживали. Эти люди нас спасли, вытащили из той черной дыры — настоящая Калькутта. Я бы ничего для них не пожалела. — Десятки достаточно, — упрямо твердил Стивен. — Совершенно смехотворная сумма. Просто оскорбление. Он уставился на девушку. Соблазнительная или нет, но она все так же несносна. — Ну? — потребовала Лаки. — Мы собираемся спускаться или подеремся прямо тут? — Вы можете делать все что угодно. Слава Богу, мы не сиамские близнецы. Лаки хмыкнула. Один из интереснейших мужчин, каких она видела. Но упрям, как осел. — Отлично. В таком случае до свидания. Она повесила сумочку через плечо и начала спускаться. Стивен стоял на бетонной площадке. Сквозь зарешеченные окошки пробивался тусклый утренний свет. — Да, кстати, — крикнула Лаки. — У вас расстегнута ширинка. Стивен глянул — точно! Вот язва!* * *
Дарио не смел пошевелиться. Он по-прежнему чувствовал кожей дуло пистолета и боялся пукнуть от страха. — Ты кто такой? — послышался чей-то голос. Кто он такой! Да что происходит? — Я — Дарио Сантанджело. — Докажи! — однако его противник немного ослабил хватку. Вместо дула в лоб Дарио уперся луч фонарика. — Предъяви доказательства! Доказать? Но как? — Я… Я здесь живу, — ему вдруг пришло в голову, что это может быть частью заговора. Как только они убедятся… Нет уж, это слишком! Если ему суждено погибнуть, так тому и быть. Он с яростным ревом вскочил на ноги.* * *
Кэрри забылась тяжелым, наркотическим сном. Ее всю ночь преследовали кошмары, и утром она проснулась вся в холодном поту. Эллиот спал в отдельной спальне через холл. Она хотела включить настольную лампу, но убедилась, что электричества все еще нет. Болели мочки ушей. Ныла каждая косточка. Кэрри надела халат и пошлепала на кухню. Там возле плиты стояли часы на батарейках. Шесть сорок пять. Она открыла холодильник и налила себе тепловатого апельсинового сока. Цивилизация! Даже нельзя поджарить парочку тостов! Интересно, еще слишком рано звонить Стивену? Как правило, она делала это каждое утро в половине девятого. Можно ли сделать исключение? И что она ему скажет? Поведает о вчерашнем приключении? Он упадет в обморок. В каком-то смысле Стивен еще консервативнее Эллиота. Боль в левой руке. Когда она впервые пожаловалась несколько месяцев назад, доктор Митчелл сказал, что это артрит. «Ничего не поделаешь, миссис Беркли, вы уже не желторотый цыпленочек». Спасибо, доктор Митчелл. Ей шестьдесят четыре года, а выглядит она на сорок восемь. И никогда не думала о себе как о пожилой женщине. Артрит! Может, так и начинается старость? Старушка, которая не может ни согнуться, ни разогнуться… Журнал «Вог» также не считал ее старухой. Недавно они отдали целую полосу под ее фотопортрет. Надпись под фотографией гласила: «Шестьдесят с хвостиком — и по-прежнему в расцвете сил». А статья начиналась так: «Миссис Эллиот Беркли, обладательница редкой, экзотической красоты и одна из самых гостеприимных хозяек нашего времени…» Кэрри заметила, что рука, держащая стакан с соком, дрожит. Она поставила стакан и пошла бродить по своей «оригинально и с большим вкусом обставленной десятикомнатной квартире». Может, снова лечь спать? Нет, она ни за что не уснет. Когда шантажист нанесет следующий удар? До тех пор она будет трястись от страха.* * *
К девяти часам утра Джино принял душ, оделся и был готов убираться к чертям из Филадельфии. Он провел с Костой краткую беседу по телефону. Пусть Коста ждет его в «Пьере». Управляющий отелем принес ему свои извинения. — Мистер Сантанджело, мне бесконечно жаль, что так вышло. Лимузин к вашим услугам. Могу я еще что-нибудь для вас сделать? Он прошел вперед к вращающейся двери. Снаружи уже поджидала свора репортеров и фотографов. — Черт! — ругнулся Джино. — Это еще что такое? — Вы — сенсация, мистер Сантанджело, — извиняющимся тоном объяснил управляющий, провожая почетного гостя к машине. Джино, насколько мог, закрыл лицо руками. — Короткое замыкание в Нью-Йорке — вот это сенсация. Или Джеки Онассис. А я — просто старый человек, который хочет мирно доживать свои дни у себя на родине. Но, конечно, никто не поверил.Кэрри, 1943
В тот день Кэрри исполнилось тридцать лет. Сюзита, Силвер и еще две девушки испекли грандиозный торт с тридцатью зажженными свечами. Кэрри хотелось плакать. Это был первый в ее жизни торт по случаю дня рождения. Маленький Стивен путался у всех под ногами в своем белом шелковом костюмчике. Девушки не сердились, а, наоборот, старались приласкать его или сказать что-нибудь приятное. «Ну, разве он не прелестнейший малыш в мире?» Он и вправду был прелестен: молочно-шоколадная кожа, черные курчавые волосы, курносый нос и огромные зеленые глаза. Кэрри с нежностью посмотрела на ребенка. Стивен придал ее жизни смысл, и она твердо решила, что у него будет все самое лучшее. Их заведение находилось под защитой. Каждую неделю они отдавали сборщику львиную долю выручки. Когда два года назад вежливый молодой человек сделал ей такое предложение, Сюзита надоумила Кэрри не заедаться с мафией. И хотя первым ее побуждением было послать его подальше, она последовала совету. — Давай! — Сюзита водрузила Стивена на стол рядом с тортом. — Спой мамочке «С днем рождения», будь хорошим мальчиком. Одна из девушек щелкнула фотокамерой. Стивен улыбнулся, демонстрируя недостающие молочные зубы, и шепеляво затянул песенку. На глазах у Кэрри выступили слезы. Она в который раз благословила судьбу за то, что не знает отца ребенка. Зато он полностью принадлежит ей одной.* * *
Бернард Даймс сидел в полутемном зале и наблюдал за актерами. Репетиции нового шоу шли полным ходом. Режиссер объявил десятиминутный перерыв и подошел к Бернарду. Они обменялись впечатлениями относительно костюмов и игры актеров, а заодно обсудили кое-какие подробности предстоящих гастролей в Филадельфии. — Да, кстати, — вспомнил режиссер, — вчера у меня было презабавное приключение. — Что такое? — вежливо поинтересовался Бернард. — Черт! Даже не знаю, как тебе сказать. Бернард отхлебнул кофе из тонкого бумажного стаканчика. — А впрочем, что тут такого, — продолжал его приятель. — Ты и так знаешь о моих грешках. Бернард Даймс улыбнулся. Да уж. Кто не знает о грешках режиссера? — Я поехал в бордель на Тридцать шестой улице. Мне там очень хвалили одну темпераментную — просто огонь — мексиканочку. Она как раз специализируется по тому виду спорта, который мне по душе. И угадай, кто хозяйка борделя? — Кто? — Та чернокожая девочка, которая несколько лет назад работала у нас хористкой. Она вдруг сбежала. Жила вместе с Голди. Помнишь? — Кэрри? — у Бернарда заныло под ложечкой. — Вот-вот! Кэрри. Я ей говорю: какого черта такая славная девчушка делает в таком месте? И знаешь, что? Она сделала вид, будто не узнает меня. Как тебе нравится? — Ну, а как мексиканочка? — нарочито безразличным тоном спросил Бернард. — Прямо дикая кошка! А что? Кажется, это не в твоем вкусе. — У меня есть знакомый денежный туз, которого можно расколоть на кругленькую сумму, если я смогу организовать для него подходящее развлечение. — Правда? Кто же? — Оставь мне финансовую сторону. Просто запиши адресок. Режиссер бросил на него проницательный взгляд, но тем не менее выполнил просьбу. Бернард опустил карточку в карман и не прикасался к ней до самого возвращения домой. Там он внимательно прочитал и запомнил адрес, решив, что никогда им не воспользуется. Все эти годы он не мог забыть Кэрри. От Голди они не добились толку. — Понятия не имею, почему она сбежала. Мы провели чудесный вечер с моим парнем и его красавчиком другом. Нет, она девушка со странностями. Да. Странная. Не такая, как все. Бернард решился. Сел в свой автомобиль и поехал на Тридцать шестую улицу. Припарковался недалеко от нужного дома и стал наблюдать. Бежали минуты. Шли часы. В дом входили и выходили из него разные люди. В основном мужчины — неиссякаемым потоком. Он до рассвета находился на своем наблюдательном посту — пока не заболела шея и не заныло все тело. Только тогда он медленно поехал домой.* * *
Уроки Флоренс Уильямс и мадам Мей не прошли даром. Мадам должна быть доброжелательной, но строгой. Смотреть на мужчин как на самых дорогих гостей. Знать их вкусы и привычки, любимую марку сигар или сигарет, любимые напитки и излюбленные сексуальные фантазии. Должна уметь порекомендовать подходящую девушку. Встречать клиентов с распростертыми объятиями. Мадам не спит с клиентами, разве что в виде одолжения. Трахнуть мадам — все равно что отхватить престижный столик в дорогом ресторане. Сюзита ничего не имела против того, чтобы Кэрри взяла бразды правления в свои руки. — Так даже лучше. Тебе — заботы, мне — развлечения. Кэрри постаралась поставить дело на профессиональную основу. Ее девушки были чистоплотны, старше шестнадцати лет и преданы работе — это явилось одной из причин, почему заведение скоро завоевало отличную репутацию. После первого столкновения с полицией Кэрри научилась откупаться, и больше ее не беспокоили. Казалось, мир держится на взятках. Она выплачивала огромные суммы полицейским и рэкетирам, но оставалось тоже порядочно. Кэрри сняла еще одну маленькую квартирку в том же доме и поселила там Стивена с няней. Чем дальше он будет от ее работы, тем лучше. Каждое утро в двенадцать часов она брала его на прогулку. Он сидел в удобной легкой коляске, свежий, как бутончик. Они прогуливались по Пятой авеню, рассматривали витрины магазинов. Стивен любил эти вылазки, и она никогда их не пропускала. В конце концов, в нем — смысл ее жизни.* * *
Бернард Даймс пристрастился проводить время в машине неподалеку от здания на Тридцать шестой улице. Он сам не знал, зачем ему это нужно, но не мог бросить. Хватался за любую возможность. Утром перед репетицией. По пути домой. После ужина. Приезжал и сидел в машине. Сидел и все. Что с ним? Может, он сошел с ума? Ему за пятьдесят, а в душе он чувствовал себя пятнадцатилетним. Стеснялся подойти и поздороваться. И не мог уйти. — Бернард, дорогой, ты в последнее время какой-то рассеянный, — заметилаочередная холеная блондинка. — Тебя что-то беспокоит? Да. Его кое-что беспокоило. Он полюбил человека, о котором почти ничего не знает. Его очаровали грустные восточные глаза и изящная черная фигурка. Просто околдовали.* * *
Кэрри улыбнулась Энцо Боннатти. Это уже второй визит. В первый раз они друг другу понравились. Она приготовила ему «скотч» — в точности, как он любит. Два кубика льда и чуть-чуть воды. Он лежал одетый на ее кровати и рассказывал о своей жене Франческе. Очевидно, он любил ее. По его словам выходило, что Франческа молода, добра, красива и большая умница. Но в таком случае почему он сейчас не с ней? Жизнь научила Кэрри не задавать вопросы. Просто слушать, кивать головой и время от времени произносить: «Понятно». Энцо начал описывать сексуальную технику своей жены, и ему стало тесно в брюках. Франческа — идеальная жена. Идеальная мать. Совершенное тело. Совершенная вагина. Но она не желает брать в рот. Кэрри уже знала, когда нужно расстегнуть молнию у него на брюках и взять его в рот. Это все, что ему было нужно. Ни больше, ни меньше. Энцо Боннатти не платил ни цента. С какой стати? Ведь он контролирует все публичные дома в этой части города. — Ты — девочка что надо, — сказал он, когда Кэрри вернулась от умывальника. — Умница. Только хорошая проститутка глотает. — В другой раз, — быстро ответила она. — С чего ты взяла, что будет другой раз? — Я… надеюсь. Он засмеялся. — Я хочу, чтобы ты толкала для меня наркотики. Так, понемногу. Ниггерам и студентам. Кэрри почувствовала отвращение. — Э… мистер Боннатти… Не думаю, что я за это возьмусь. — Возьмешься, — с обманчивой мягкостью возразил он. — Лучше не надо, — Кэрри начала терять почву под ногами. — Надо. Я подошлю к тебе парня с товаром. Только нужно знать, кому предлагать. Прятать в надежном месте. Кэрри страшно огорчилась. — Не дай Бог налет — и я окажусь в тюрьме за хранение наркотиков. Энцо поднялся. — А я-то думал, что ты умница. Если и будет налет, тебя предупредят заранее. Успеешь спрятать концы в воду. Она тупо кивнула. Пора сматывать удочки. — У тебя симпатичный малыш, — сказал Энцо, словно прочитав ее мысли. — У меня у самого растут парни. За ними только глаз да глаз. Мало ли что может случиться. Откуда он знает о Стивене? В Кэрри закипала холодная ярость. Энцо подошел к двери. — Даже не думай водить меня за нос, цыпочка. Мне нравится, как ты работаешь. Продолжай в том же духе, и твой ребенок будет жив и здоров. Ты тоже. Подонок! Она снова в ловушке! — Мне бы и в голову не пришло, мистер Боннатти, — тусклым голосом произнесла она. — Естественно. Я же сказал, что ты умница.* * *
Да, это она! Легкая походка, длинные черные волосы. Катит коляску с малышом. От волнения Бернард чуть не врезался в другую машину. Он медленно-медленно поехал за Кэрри. Она то и дело останавливалась перед какой-нибудь витриной. Расстояние между ними сокращалось. «Заговори с ней! — нашептывал внутренний голос. — Скажи что-нибудь — все равно что!» Он дотронулся до ее плеча. Она резко обернулась. — Кэрри! — воскликнул Бернард. — А я-то думал — ты или не ты? Она вымученно улыбнулась. — Мистер Даймс… — Надо же, какая встреча! — не переигрывает ли он? Глаза Кэрри заметались, как бы ища, куда бы улепетнуть. — Ну, как твои дела? Кто этот маленький джентльмен? — он склонился над коляской. Кэрри была ошеломлена. Бернард Даймс! Через столько лет! — Это мой сын. Э… Я поэтому и ушла. Вышла замуж… Он скользнул взглядом по ее руке. Обручального кольца не было. — Поздравляю. — Спасибо. Неловкое молчание. Как же ему хотелось сказать: «Я хочу быть с тобой!» Она же смотрела так, словно из всех людей на земле меньше всего хотела увидеть именно его. — Может, поужинаем вместе? — он натянуто улыбнулся. — Мне бы очень хотелось. Она покачала головой. — Я же сказала: я замужем. Но все равно спасибо. — Может, вы с мужем захотите побывать на премьере? Сейчас мы на шесть недель уезжаем на гастроли, но после этого… Кэрри не слушала. Ей было впору провалиться сквозь землю. Господи! Если бы он знал!.. — Мне пора идти. — Конечно, — сказал Бернард Даймс, не отводя от нее взгляда. — Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь… Мой адрес прежний. — До свидания, — и она побежала прочь, толкая перед собой коляску. — Мамочка! Слишком быстро! — захныкал Стивен. Кэрри сбавила скорость. Мысли путались в голове. Бернард Даймс ее хочет, она прочла это по его глазам. Бернард Даймс такой же, как все. Не совсем… Очень богат… — Конфеты! — потребовал Стивен. — Пожалуйста, мамочка! Кэрри остановилась перед кондитерской и купила шоколадных конфет. Давая их Стивену, проворчала: — Это вредно для зубов. — Вледно! Вледно! — залепетал малыш. Кэрри вздохнула. Бернард Даймс, как другие, хочет обладать ее телом. Чем он может помочь? Сейчас ее больше всего тревожат наркотики. Энцо Боннатти передал первую партию. Так что теперь она не просто шлюха и мадам, но еще и «толкач» — распространитель наркотиков. Она посмотрела на Стивена, его перепачканную шоколадом мордочку, и холодная рука страха сжала ей сердце. Нужно что-то делать. Но что?Джино, 1948–1949
Джино сдержал слово: купил Би самое дорогое обручальное кольцо с бриллиантом, какое только смог найти. И стал ждать, когда она забеременеет. Ждать… ждать… ждать… — Доктор сказал, может пройти несколько месяцев, — объясняла она. — Не всегда получается сразу. Нужно знать, когда этим заниматься. Заниматься любовью в специально отведенные часы? Это его не вдохновляло. Чем с большим энтузиазмом Би маршировала в постель со словами: «Сейчас самое подходящее время!» — тем меньше ему хотелось. — Я не машина для траханья! — рычал он. — Когда хочу, тогда и делаю! Би мрачнела. — Доктор сказал… Убить бы этого чертова доктора! Однажды утром Би готовила на кухне завтрак. По утрам она выглядела не блестяще: лоснящаяся кожа, нечесаные волосы… Марко сидел за столом, читал «Я, член суда присяжных» Мики Спиллейна. Джино выбил у него книгу из рук. — Я не затем ухлопал целое состояние на твою учебу, чтобы ты тут почитывал всякую пошлятину. Марко покраснел. — Джино, это хорошая книга. — Читай Фицджеральда, Хемингуэя, других приличных авторов! — Сколько тебе яиц? — будничным голосом спросила Би — совсем как жена. Джино обвел уютную кухоньку взглядом и почувствовал, что с него хватит. Что, собственно, он тут делает? Би повернулась к нему, чтобы повторить свой вопрос насчет яиц, и на ее лицо упали солнечные лучи. Она смотрелась постаревшей и утомленной. Если уже сейчас так… — Нисколько. Ничего не хочу. У меня срочная работа. И ушел из ее квартиры и из ее жизни. Больше он ее не видел, хотя продолжал оплачивать счета и оставил ей кольцо с бриллиантом. Через пару лет до него дошли слухи, что Би вышла замуж за бухгалтера и уехала с ним жить в Нью-Мексико. С Марко завязалась переписка.* * *
Вот уже год как он вышел из тюрьмы. Порвал отношения с Би. Дела идут лучше некуда. Любая красотка готова раздвинуть ноги — по первому требованию. Джино решил наслаждаться жизнью. Лас-Вегас пришелся ему по душе. Когда-то это была паршивая дыра. Первооткрывателем явился Багси Си-гель, построивший здесь в декабре сорок шестого отель «Фламинго». Он был убит в июне сорок седьмого. Его застигли в тот момент, когда он пытался улизнуть с кассой шайки. А за такие дела существовало только одно наказание. Через год после падения Сигеля Мейер Лански финансировал здесь строительство другого фешенебельного отеля «Буревестник» и казино. Отели росли, как грибы. У Джино было такое чувство, что в Лас-Вегасе становится все горячее. Где еще столько солнца, песка и узаконенных азартных игр? И всего несколько часов езды от Лос-Анджелеса. Джейк-Бой стал здесь видной фигурой. Он поднялся там, где упал Багси Сигель. Красавец, щеголь, близкий друг звезд экрана. Голливуд… Это имя окутано романтическим ореолом. Для многих — сказка, а для Боя — дом родной. Роскошный особняк в центре Беверли-Хиллз. Пальмы в саду, а в постели — старлетка Пиппа Санчес. Джино прибыл ранним благоухающим утром. Бой встретил его в белоснежной «лагонде» и повез прямо к себе домой. Там Джино жил в специальном крыле для гостей. Все как в Голливуде: мраморные полы, белая мебель, в ванной краны из золота. Джино прибыл затем, чтобы на месте убедиться, стоит ли финансировать строительство нового отеля в Вегасе. Джейк, конечно, быстро шел в гору, но все же ему было не по плечу справиться с этим в одиночку. Он отчаянно нуждался в поддержке Джино. «Это будет самый большой и самый шикарный отель, — распалялся Джейк. — Я хочу назвать его «Мираж». Приглашу на открытие звезд Голливуда. Это будет лучший отель в мире». Джино одобрял энтузиазм и стиль Боя. С течением лет они стали друзьями. Бой даже несколько раз навестил Джино в тюрьме. «Всем, что у меня есть, я обязан тебе. Если бы ты не дал мне ту сотню баксов…» Пиппа позвала нескольких подруг и расположила их в живописных позах вокруг бассейна. — Выбирай! — небрежно заявил Джейк. — Блондинка, брюнетка, рыжая… Не знаю твоего вкуса. Джино окинул взглядом эту выставку обнаженной плоти, чисто символически прикрытой купальниками. — Вроде бы все ничего. Джейк рассмеялся и чмокнул губами. — Послушайся моего совета, возьми блондинку. Она неподражаема. Джино вспотел в своем костюме-тройке. — Я бы принял душ и немного отдохнул. Джейк вспомнил хорошие манеры. — Конечно, конечно. Я пришлю тебе девушку с чем-нибудь выпить. А потом посидим возле бассейна. Ты же, наверное, хочешь загореть? — Я хочу делать дело, — последовал лаконичный ответ. — Что ты успел предпринять? Я бы взглянул на участок — чем скорее, тем лучше. — Это уже устроено. Тайни Мартино одолжил мне свой личный самолет. Утречком полетим. Переночуем во «Фламинго», а на следующее утро вернемся. — Тайни Мартино? — это имя произвело на Джино впечатление. Он много раз видел Тайни Мартино на экране. Би считала его даже лучшим комиком, чем Чаплин. — Он летит с нами? — Может быть, может быть. Он настоящий друг. Обещал быть на открытии «Миража». Послушать Джейка, так подумаешь — отель уже построен и готов к приему гостей. А Джино даже еще не видел проекта. Навстречу, покачивая бедрами, шла Пиппа Санчес, невысокая мексиканка с соблазнительным, гибким телом и шапкой темных кудрей. На ней были белый купальник и белые босоножки на шпильках. Она эффектно загорела. У себя в Мексико она считалась звездой первой величины, а в Голливуде — старлеткой по контракту. Джейк-Бой с ума по ней сходил. — Итак, — она драматическим жестом протянула руку, — вы и есть знаменитый Джино Сантанджело, о котором я столько слышала. Джино пожал ее руку. — Он самый. Она изучала его внимательным взглядом из-под густых шелковых ресниц. — Рада познакомиться. У нее был слегка хрипловатый голос. — Взаимно. Интересно, подумал Джино, выбор включает в себя и эту? Он бы не отказался. Должно быть, Джейк прочитал его мысли. — Пиппа — моя девушка. Мы вместе с… сколько, дорогая? — Год… или два, — небрежно ответила она. — Как-нибудь оформим отношения. — Ясное дело. А свиньи будут играть в чехарду у тебя на заднице. — Актрисы! — воскликнул Джейк. — Держись от них подальше, Джино. — Вот-вот, — согласилась Пиппа. — Держитесь от нас подальше. Мы кусаемся. Джино улыбнулся. Ему нравились бабенки, которые за словом в карман не лезут.* * *
Это был шестой приезд Косты в родной город после похорон. Смерть отца поставила его перед нелегкой проблемой. Что делать? Остаться в Нью-Йорке и защищать интересы Джино? Или вернуться в Сан-Франциско, чтобы заботиться о матери, Леоноре и семейной фирме? Нельзя сказать, чтобы Дженнифер облегчила ему выбор. — Поступай, как считаешь правильным. Если ты вернешься во Фриско, навсегда останешься сыном Франклина Зеннокотти. А если мы поселимся в доме твоей матери, она будет во всем зависеть от тебя. И уж конечно, Леонора не потерпит вмешательства в ее дела. Ей тридцать восемь лет. Если она не может жить без выпивки и… мужчин, ты ее не остановишь. Муж — и тот бессилен… Скорее всего, Дженнифер была права, но Косту не оставляло чувство вины. Он испытывал его всякий раз, когда навещал мать. Это стало одной из причин, почему он одобрил намерение Джино завести бизнес в Лас-Вегасе. Можно будет чаще наведываться на Побережье. В эту последнюю поездку он отправился без Дженнифер и был этому рад, потому что планировал заглянуть в Лос-Анджелес, увидеться с Джино. Он думал об этом, сидя рядом с матерью в автомобиле. Они ехали к Леоноре, на традиционный семейный обед. Леонора и ее муж Эдвард жили в доме, похожем на ранчо. Дверь открыла служанка в черной униформе и провела их в отделанную дубовыми панелями гостиную. Леонора расположилась за стойкой. Она сильно располнела. На ней были брюки и блузка. В руке — бокал с мартини. Коста уже не представлял ее себе без бокала. За стойкой Эдвард мрачно колол лед. Он тоже раздался вширь; красивое лицо стало одутловатым. Всякий бросивший на них взгляд сказал бы, что когда-то это была очень красивая пара. Когда-то… — А, нью-йоркский гость, — резко заметила Леонора. — Как это тебе удается так часто вырываться? Неужели твой дружок-уголовник тебя отпускает? Коста не обращал внимания. Она только и делает, что отпускает шпильки в адрес Джино, получая от этого извращенное удовольствие. Эдвард вышел из-за стойки и протянул руку. — Как дела? — спросил Коста, пожимая ее. — Банковские дела — смертная скука. У меня одна светлая мысль плюнуть и провести остаток жизни на поле для гольфа. — Вот как, — саркастически заметила Леонора. — А я-то думала, что ты как раз этим и занимаешься. В этот момент вошла Мария — хрупкая двадцатилетняя девушка. Она напомнила Косте Леонору в том же возрасте, только у Марии был совсем не такой характер. Скромная, сдержанная, очаровательно несовременная… — Добрый вечер, дядя, бабушка, — она сердечно расцеловала обоих. — Боже! — воскликнула Леонора. — Неужели ты снова останешься к обеду? Ты что, не ходишь на свидания? Да у меня в твоем возрасте толпился целый хвост у дверей! — В ее возрасте ты уже была замужем, — поправил Коста. — Не лезь не в свое дело! — Леонора погрозила дочери пальцем. — Это что-то ненормальное. На щеках Марии вспыхнул румянец. — Я-то нормальная! — Ты мне не хами! — взвилась Леонора. — Слышишь, Эдди? Что она себе позволяет! — Заткнись, — коротко сказал тот. Леонора передразнила: — «Заткнись»! Да она так и проторчит до конца своих дней у себя в комнате, а если и будет изредка выползать, то чтобы нагрубить мне. А тебе, видите ли, нет дела! — Леонора, прошу тебя! Мария метнула виноватый взгляд на Косту и бабушку. Ей было стыдно за выходки своих родителей. — У Дженнифер грандиозный план, — выпалил Коста. — Как насчет того, чтобы Мария приехала к нам погостить этак на месячишко? Кстати, и отметит двадцать первый день рождения. Лицо девушки озарилось радостью. — Нет! — рявкнула ее мать. — Якшаться там с твоими дружками-гангстерами? Не позволю! — Ну мама! — взмолилась Мария. — Пожалуйста! — Она не будет якшаться с гангстерами, — терпеливо объяснил Коста. — У Дженнифер множество подруг — всеми уважаемых светских дам, а у них — исключительно порядочные сыновья. Леонора скривила губы. — Я сама ни разу не была в Нью-Йорке. — Потому что не хотела, — буркнул Эдвард. — Может, нам всем вместе поехать? — Я не могу бросить дела. Отца хватит кондрашка. — Ну, посмотрим, — нехотя выдавила из себя Леонора. Коста одними губами сказал Марии: «Все будет о'кей». Она одарила его благодарной улыбкой. — Где, черт возьми, обед? — выпалила Леонора. — Кажется, пора гнать в три шеи эту тупицу, которая только изображает из себя служанку! Коста вздохнул. Еще один миленький вечер у Леоноры.* * *
Солнце пустыни немилосердно жгло им затылки, когда они осматривали участок, выбранный Джейком под строительство «Миража». — Как только поступят деньги, начнем возводить фундамент. У меня купчая на землю. Проект. Договоренность со строителями. Одно твое слово — и все тотчас закрутится. Беспроигрышная сделка. Все равно что строить банк, — захлебывался от восторга Джейк. Джино уже решил. Он примет в этом участие. Но пусть Джейк еще помучается. — Проект у тебя с собой? — Конечно, — Джейк щелкнул пальцами, к нему тотчас подбежал один из его охранников. — Тащи из машины мой портфель. Он взял Джино под руку, и они пошли по голой земле. — Вот здесь будет бассейн — размерами с олимпийский. Может быть, даже два — для ребятишек. Мамочки с детишками будут нежиться на солнышке, пока папочка станет просаживать семейное состояние. — Согласен. Подбежал телохранитель с портфелем. Бой резко рванул застежку и вытащил чертежи. Сел на корточки и начал расстилать их на земле. Джино остановил его. — Не стоит. Потом посмотрим. Джейк открыл было рот: — Я думал, ты хотел взглянуть, — но не закончил фразу. Встал и отошел, предоставив телохранителю убрать проект. Джино уже шагал прочь. Взволнованный Джейк догнал его. — А здесь я думаю расположить теннисные корты. — Теннисные корты? Не думаю, что это хорошая идея. — Почему? — Если у них будет слишком богатый выбор, они не пойдут к столам. Солнце, вода и азартные игры — и ничего лишнего. — Ты прав. Ничего лишнего. — Ну, разве что вечернее представление. Звезда с именем. В качестве приманки. — И красивые девушки. — Проститутки? — Не-а. Официантки — чтобы подавать напитки, которые бы утешили их после проигрыша. Шоу-герлс. Несколько проституток — но высшего класса. — Точно. Отборная гвардия. — Сам подберу. — Иисусе Христе! Ну и пекло! — Хочешь, вернемся в машину? — Почему нет? Я посмотрел все, что нужно. Джейк весь вспотел — не столько от жары, сколько от волнения. Когда они удобно устроились на заднем сиденье, он не выдержал: — Ну? По рукам? Джино улыбнулся. — Вчерашняя блондинка недурна, но у меня бывали и получше. — Будет тебе получше. У Пиппы есть еще подруги, которых ты не видел. — Пиппа. — Что? — Твоя эксклюзивная собственность? Джейк дрогнул. — Вроде того. Мы вместе с… — у него на лбу проступили крупные капли пота. — Конечно… если хочешь… чувствуй себя, как дома. Джино ухмыльнулся. — Назовем это краткосрочным займом. На одну ночь. Как? Джейк скривил губы в болезненной улыбке. — Идет. — Когда ты дал деру с моими шестьюдесятью кусками, это тоже был заем, не так ли? Джейк мрачно кивнул. Пиппа Санчес была единственной женщиной в его жизни, к которой он что-то чувствовал. Остальные — так, шлюхи. — Значит, я беру Пиппу напрокат. На одну ночь. По-моему, это справедливо. Вот и будем квиты. — Конечно, Джино, что за разговор, — напряженным голосом произнес Джейк. Чертов ублюдок взял его за яйца, это было ясно обоим. — Она твоя — целиком и полностью.Кэрри, 1943
Она взволнованно кружила по комнате. Думала, с этим давно покончено. В кладовке, на задней полке, спрятаны наркотики. Одна мысль об этом вызывала у Кэрри сладострастную дрожь. Знал ли Боннатти о ее прошлом наркоманки? Если да, то как он мог поручить ей продавать их? Возможна ли такая жестокость? Или такая наивность? Конечно, он не знал. Прошлое было ее монопольной тайной. Или она ошибается? Вечерело. Начали прибывать первые клиенты. По заведению разливался голос Фрэнка Синатры. С тех пор, как девушки совершили коллективную вылазку на его концерт в театре «Парамаунт», они просто помешались на этом певце, и теперь встречи и проводы гостей неизменно шли под его песенки. Сама Кэрри предпочитала блюз. Бесси Смит или Билли Холидей. Она часто спрашивала себя: уж не та ли это Билли, с которой она работала у Флоренс Уильямс? Однажды она увидела в журнале фотографию. Ее бросило в жар. Та самая девушка! Кэрри ни с кем не поделилась своим открытием. Начни она хвастаться направо и налево: «Знаю я Билли Холидей — вместе были в публичном доме!» — кто бы ей поверил? Вошла Сюзита. — Там какой-то чудак спрашивает тебя. Этакий котище. Я его не впустила. Говорит, твой старый приятель. Похож на сутенера. — Сейчас я его отошью, — Кэрри пригладила узкое желтое платье и вышла из спальни. Она рассмотрела «сутенера» сквозь глазок на входной двери. Худой, долговязый чернокожий в нелепом полосатом костюме и огромной шляпе. Среди их клиентов было немного негров. Обычно они не поощряли цветных: это вызывало неудовольствие белых клиентов. Исключение делалось для музыкантов. Кэрри приоткрыла дверь, не снимая цепочки. — Чем могу тебе помочь, дорогой? — проворковала она. Иногда вежливость действовала на них вернее, чем ругань. Если коту нужна кошечка, пусть топает к мадам Зое на Девяносто четвертую улицу. Там его встретят с распростертыми объятиями. — Мне нужна Кэрри. — Это я, милок, но у меня все расписано на много месяцев вперед. Но я знаю одно местечко… Он напряженно вглядывался в нее сквозь темную щель. — Кой черт? Ты — Кэрри? — в голосе посетителя слышалось крайнее изумление. — Ну конечно. Послушай… — А я — Лерой! — радостно возвестил он. — Помнишь меня, детка? Я твой дядя! Ей показалось, что она вот-вот упадет в обморок. Свалится на пол — и конец. Лерой. Этого не может быть. Лерой. Совершенно невозможно. Лерой. Он наверняка давно отдал концы. Одно его имя вызвало чудовищные воспоминания, повергло Кэрри в панику. Лерой. Сукин сын. Мерзавец. — Не знаю, о чем ты говоришь, — спокойно ответила она. Сердце так гулко стучало в груди, что ей казалось — он может услышать. — Лерой! — пропел он. — Твой дядя, детка! — Вы ошиблись, мистер. Лучше уходите, пока я не позвала копа. — Можешь звать всех копов на свете. Я остаюсь. Кэрри лихорадочно соображала. Неужели это действительно он? А если даже и так, откуда он может знать, что это она? Они не виделись шестнадцать или семнадцать лет, тогда она была еще совсем ребенком. — Выметайтесь, мистер. — Это еще почему? Я хочу девочку. У меня есть деньги. Я заплачу. — Я скажу вам адрес. Мои девушки заняты. — Я подожду. — Нет, нельзя. — Сказал — подожду! Упрямый, гад. Да, это Лерой. Ей никогда не забыть его самодовольного ржания. Подошла Сюзита. — Позвать охранника? — Да. Что он может сказать такого, что бы ей повредило? Она захлопнула дверь прямо у него перед носом и пошла вместе с Сюзитой вызвать по телефону кого-нибудь из банды Боннатти. — Он говорит, что знает тебя? — с любопытством спросила мексиканка. — Да. — И что — вы встречались? — Сроду его не видела. Сюзита захихикала. — С виду — обычный сутенер. — Да, — согласилась Кэрри. Должно быть, так оно и есть. Подлый сутенеришка. Ее дядя. Единственный родственник. Обхохочешься! Она прошла в гостиную и налила себе выпить. Сюзита караулила у входной двери до тех пор, пока не увидела в глазок, как пришли парни Боннатти и силой утащили Лероя. — Больше не придет. Они вытрясут из него душу.* * *
Шли недели. Кэрри начала забывать о Лерое. Просто была слишком занята, чтобы думать о том, что он шляется где-то неподалеку. Хорошая трепка нагнала на него страху. Он всегда был трусом. Вот бы его раздавили, как таракана, и сбросили в Ист-ривер. Тому, кто толкнул тринадцатилетнюю девочку на путь проституции, нет места на земле. Пусть только попробует сунуться — она сама убьет его! Эта мысль привела Кэрри в возбуждение. Недавно она купила у одного из клиентов маленький пистолет, и он всегда был поблизости. Это вселяло в нее уверенность. Кто бы ни пользовался ее телом, она оставалась хозяйкой положения. Какая-нибудь белая туша пыхтела, взгромоздившись на нее, — хоть важная шишка, хоть нет, но в эти минуты он был в нескольких дюймах от смерти. Заряженный пистолет хранился под кроватью. Кроме Кэрри, об этом никто не знал. Даже когда она ублажала Боннатти — одного из могущественнейших преступников Нью-Йорка, — пистолет всегда был у Кэрри под рукой. Если бы он только знал! Энцо Боннатти, который и шагу не мог ступить без трех телохранителей! Энцо Боннатти, который заставлял пробовать каждое свое блюдо, прежде чем приступить к нему лично. Энцо Боннатти. Свинья. Все они свиньи. Все до одного. Всем не терпится окунуться в свои грязные забавы.* * *
Сука! Ясно — это она. Ее походка. И пышные титьки. Конечно, она уже не та сопливая девчонка, но он узнал ее будь здоров. Он же не задница. Сначала он заколебался. Никак не мог разглядеть ее в дурацкую щель. Стерва! Даже не открыла дверь и не впустила его в свой бордель. В чем дело, Кэрри? Черный хрен стал для тебя недостаточно хорош? Он-то помнит то время, когда у тебя было только это — и в огромных количествах! Это же всем известно: черный хрен больше белого. Лучше пахнет. И дольше служит. Лерой крякнул. Он следовал за Кэрри по улице, соблюдая дистанцию. Она не должна знать, что за ней ведется слежка. Спору нет: Кэрри стала красоткой. Ножки, как пистончики, и волосы до самой задницы. Черт! За целый год напасть на ее след стало его самой крупной удачей. Лерой выплюнул жвачку и заменил ее свежей. Хорошо, что несколько недель назад он отправился в тот притон курнуть травки в обществе ребят из джаза. Естественно, разговор зашел о бабах, и пока он расхваливал живой товар — шестнадцать лет, шведка, работает быстро, как молния, — кто-то вспомнил о борделе Кэрри на Тридцать шестой улице. Мол, за тамошними девчонками мужчины так и бегают: красотки и умеют все на свете. Кэрри. Не такое уж распространенное имя. Он узнал, что она черная. Кэрри. Вот повезло! Теперь, когда он ее выследил… Да. Верное дело. Лерой присвистнул. В последнее время дела шли не очень чтоб очень. За десятью безоблачными годами в Калифорнии, где он торговал живым товаром, последовали шесть лет тюрьмы в Сан-Квентине — там ему пришлось самому ублажать тамошнюю публику. После освобождения он быстренько смылся из штата и двинул в старый добрый Нью-Йорк. В одном дешевом ресторанчике недалеко от Таймс-сквер он обнаружил мисс шведку и прибрал к рукам — она зарабатывала на жизнь для них обоих на улицах Гарлема. Не совсем тот образ жизни, о котором он мечтал. В Калифорнии у него был штат в десять девушек; он раскатывал на «кадиллаке». Ему тридцать шесть лет. Пора позаботиться о будущем. Насколько он мог понять, маленькая племянница Кэрри и есть это будущее. В конце концов, не он ли научил ее всему тому, чем она теперь зарабатывает на жизнь. Так что она у него в долгу. Кэрри задержалась перед витриной магазина, и он спрятался за какую-то толстуху. Сука! Из-за нее его отдубасили. Она за это заплатит. Ему не очень-то по вкусу, когда какие-то белые пижоны делают из него отбивную котлету. Обидно, черт побери! Она приползет к нему на коленях, будет целовать ему ноги, даже сосать яйца, если он захочет. У него созрел план. Все будет о'кей. Кэрри оторвалась от витрины и пошла дальше, толкая перед собой голубую коляску с хорошеньким малышом. Сзади, посвистывая, шел Лерой.Конец первой книги
Джеки Коллинз
 Бестия
Том 2
Бестия
Том 2
Джино, 1949
После лазурного неба и жаркого, но прозрачного воздуха Лос-Анджелеса Нью-Йорк в июле показался Джино душным, грязным, угнетающим. Впервые в жизни его посетила мысль о собственном доме. Где-нибудь подальше от города, со спортивной площадкой и бассейном. Чтобы было где отдохнуть в выходные. Например, в Лонг-Айленде. Неудивительно, что Бой прикипел сердцем к Лос-Анджелесу. Живет там, как король, в окружении шикарных девиц и прочих атрибутов успеха. Перед ним, как в свое время перед Багси Сигелем, преклоняются и трепещут. Репутация темной лошадки создала вокруг него романтический ореол. В Голливуде главное — прославиться: неважно чем. Пиппа Санчес призналась Джино, что Бой истязает своих женщин. И лишь бесстрастно повела плечами, отвечая на вопрос, как она это терпит. — Подумаешь. Зато, если я с Джейком, мое имя не сходит со страниц газет. Это лучше, чем путаться с каким-нибудь никчемным актеришкой. И потом, он не со зла. Просто это дает ему ощущение своей силы. — Силы? — Джино про себя решил, что за Джейком нужен глаз да глаз. Он собирался вложить в «Мираж» кучу денег и хотел знать, куда пойдет каждый цент. В этом смысле Пиппа могла оказать ему неоценимую услугу. Он сделал ей предложение. В обмен на солидное денежное вознаграждение не согласится ли она делить между ними свою преданность? Пожалуй. Она будет по-прежнему жить с Джейком и раз в неделю снабжать Джино информацией. Она обошлась ему недешево. Да он иначе и не представлял. Они провели вместе долгую ночь, полную истомы. Но ее затаенная чувственность не подействовала на него так, как он ожидал. На следующую ночь она вернулась к Бою, а Джино переспал еще с несколькими голливудскими блондинками, прежде чем вместе с Костой вернуться в Нью-Йорк. Он принял решение. Хватит с него долгих любовных историй. Ни одна женщина не стоит того, чтобы оставаться с ней целую неделю, не говоря уже о месяце-двух. Теперь его захватила мысль о покупке дома. Особняка в духе Гэтсби, чтобы отдохнуть и развеяться. Ему не хватало «Клемми» или какого-нибудь другого места, где он мог бы изображать гостеприимного хозяина, принимать важных персон, поить и кормить их. Да. Можно будет закатывать грандиозные приемы — по примеру Клементины Дюк. Теперь, когда он вышел из тюрьмы и снова держит в руках прибыльное дело, обзавестись влиятельными друзьями оказалось проще простого. Они так и устремились к нему, точно мухи на мед. Иногда он задавался вопросом: есть ли среди них хоть один настоящий друг. Конечно, нет. За деньги можно приобрести многое, но настоящая дружба не продается. Секрет успеха — никому не верить. Только так можно уберечься от разочарований.* * *
Летом Дженнифер и Коста снимали дом в Монтеке. Ничего из ряда вон выходящего — просто удобное, просторное жилище на берегу моря, с качелями в благоухающем саду и двумя сторожевыми псами. Дженнифер его обожала, она отказалась от своих нью-йоркских нарядов и ходила в летнем хлопчатобумажном сарафане, босиком. Коста приезжал на выходные. Здесь он чувствовал, как его опутывает напряжение, работа с Джино изматывала. Это не человек, а постоянно действующий мотор. Он поражал энергией и острым, как нож, умом. Взять, к примеру, сделку в Лос-Анджелесе. Джино не нуждался в бумагах — он все держал в голове. Нет, конечно, существовали юридические документы, такие как договор за подписями его и Боя. Риск в таком деле был недешев. Но если «Фламинго» и «Буревестник» — просто отели, то открыть «Мираж» было все равно что открыть банк. Примерно в середине августа приехала Мария. Она трепетала от возбуждения, беспрестанно сыпала вопросами и явно наслаждалась пребыванием вдалеке от родительского дома. — Как там Леонора? — поинтересовалась Дженнифер. — Сто лет не виделись. — Прекрасно, — ответила Мария и вспомнила случайно подслушанный обмен любезностями между родителями накануне ее отъезда. — Я хочу дать прием в честь твоего дня рождения, — поведала Дженнифер. — Будет очень весело. Ты познакомишься со множеством достойных молодых людей. Мария весело кивнула. Вообще-то ей хотелось забыть о дне рождения и о том, что ей без пяти минут двадцать один год. В этом возрасте пора устраивать жизнь, а она понятия не имела, чего ей хочется. В июле и августе Джино посвятил все выходные осмотру домов. Много он их пересмотрел: больших, маленьких, на каком-нибудь уединенном острове, деревенских коттеджей и шикарных вилл. И на всем пространстве от зеленых прерий Коннектикута до пустынных берегов Лонг-Айленда не нашел ничего подходящего.* * *
Он был сыт по горло встречами с торговцами недвижимостью, а они — его привередливостью. В последнее воскресенье августа он поехал — один, без шофера и телохранителя — смотреть большое имение на Ист-Кэмптоне. Женщина-агент по продаже с гордостью водила его по всей территории. — Согласитесь, мистер Сантанджело, это именно то, что вам нужно. Он тщательно все осмотрел. Возможно, она права. Это был старинный особняк, нуждавшийся в капитальном ремонте. Но, пожалуй, овчинка стоит выделки. Здесь господствовал викторианский стиль. На балконах и колоннах с замысловатой выделкой облупилась краска. Множество просторных комнат с широкими окнами. Весь верхний этаж опоясывала наружная веранда. — Мне нравится, — одобрил он. — Это уникальное строение. Продается только потому, что недавно скончалась его владелица. Она прожила здесь всю жизнь. — Однако дом в плачевном состоянии. — Это было принято во внимание при установлении цены. Зато после ремонта будет не дом — игрушка. Джино заколебался. Количество осмотренных домов сбивало с толку. Он угрюмо поддел ногой камешек на полу застекленной оранжереи. — Ремонт влетит в копеечку. Женщина-агент посмотрела на часы. Она уже десять минут как должна быть в другом месте. — О, я уверена, это будет не напрасная трата денег! Ну что, мистер Сантанджело, надумали? — Нет еще. Если решу положительно, в понедельник дам знать. — Дом понравился и другим клиентам. — До понедельника. — Хорошо, — она вновь демонстративно посмотрела на часы. — Мистер Сантанджело, к сожалению, я опаздываю. Вам больше ничего не нужно? — Нет. Можете идти. Я хочу прогуляться по саду. Когда шум ее автомобиля смолк вдали, Джино вдруг осознал, какой тишиной и покоем дышит это место. Ни звука — только птичий щебет. Зачем ему столь полное безмолвие? Он побродил по саду, отмечая буйные заросли травы и дикорастущих роз. Пытался представить, как все это будет выглядеть после капитального ремонта. Может, добавить большую мраморную террасу, ведущую к оранжерее? Теннисные корты. И огромный, в голливудском стиле, плавательный бассейн. Да. Тогда это будет сказка. Тем не менее он по-прежнему был на распутье. Нужен чей-то совет. Например, Косты и Дженнифер. У Дженнифер безупречный вкус, она с первого взгляда оценит перспективу. Отсюда недалеко до Монтека. Сейчас он поедет и привезет их сюда.* * *
Мария нырнула и десяток раз сплавала туда и обратно. Потом вылезла из бассейна и бухнулась в шезлонг. Она была счастлива. Шесть упоительных дней, проведенных с Дженнифер и Костой, — ни скандалов, ни долгих попоек. Мир и гармония двух любящих сердец. Она откинула длинные, светлые — почти белые — волосы назад и подставила лицо и все тело солнечным лучам. Коста с Дженнифер на целый день уехали к друзьям. Ее тоже звали, но она отказалась, сославшись на головную боль. Конечно, никакой головной боли и в помине не было, просто ей хорошо одной. Залаяла собака. Мария протянула руку и тихо позвала: — Сюда, мальчик, ко мне! Пес подбежал, виляя хвостом.* * *
Джино остановил свой «мерседес» с откидным верхом перед коттеджем в Монтеке. Он услышал собачий лай. Других машин на стоянке не было. Он позвонил, несколько раз отрывисто нажав на кнопку. Не дождавшись ответа, обошел коттедж, по пути нетерпеливо вглядываясь — приложив руку козырьком к глазам — в темные окна. Потом углубился в сад. Там его радостными прыжками приветствовал знакомый спаниель. И тут он увидел ее — лежащую в шезлонге возле бассейна. Леонора. Его Леонора. У Джино бешено заколотилось сердце, выступил пот, в горле пересохло. Он словно прирос к месту. Стоял и пялился, как мальчишка. Как деревенский дурачок. Резкая боль пронзила его до печенок, и он тихо-тихо произнес: — Леонора. — А? — девушка отдернула руку, которой заслоняла глаза от солнца, и села. Это не Леонора. Девушка, как две капли воды похожая на нее. У Джино мелькнула догадка: должно быть, это ее дочь, Мария. Коста упоминал, что она вроде бы приехала погостить. Ну и осел же он! Как он мог подумать… — Вы — Джино Сантанджело, да? — девушка встала и торопливо набросила на себя махровый халат. Он с трудом перевел дух. — Да. Откуда вы знаете? — Видела фотографии в газетах. И потом… мы встречались — на свадьбе Косты и Дженнифер, — она неловко засмеялась. — Я была совсем маленькой, вы вряд ли запомнили. Я — дочь Леоноры, Мария. — Ага. Да, ты здорово подросла, — он сроду так не волновался. Она плотнее запахнула халат и сказала: — Их нет дома. — Кого? — глупо спросил Джино. — Дженнифер и Косты. — А… Да, — он напряженно всматривался в девушку. Поразительное сходство. Точь-в-точь Леонора, когда он увидел ее впервые. И в то же время — несомненная разница. Нет, она — не зеркальное отражение своей матери. Она как будто прочитала его мысли. — Вы приняли меня за маму? — Нет, черт побери! (Да, черт побери!) Девушка очаровательно улыбнулась и отбросила мокрую прядь со лба. — Ничего, я привыкла. Многих поражает сходство. Особенно кто знал маму в молодости. Сейчас она… очень изменилась. Он потрогал шрам на щеке. — Что ты скажешь, если я попрошу тебя посмотреть дом? — Какой дом? — Который я собираюсь купить, — он сам не понимал, зачем просит ее об этом. — Иди оденься. Мне нужно чье-нибудь мнение. — Это далеко? — Какая разница? Все равно лежишь тут, ничего не делаешь. Она почувствовала странное возбуждение и кивнула. — Поспеши. — Хорошо. Мария бросилась в дом. Быстро взлетела по лестнице в свою спальню и натянула легкое платье. Причесалась, волнуясь и спрашивая себя: почему она согласилась? Негодяй Джино Сантанджело. Убийца. Гангстер. Головорез. Он произвел на нее впечатление еще в нежном возрасте, когда кружил ее в танце. Потом она много читала о нем в газетах. У него была репутация отъявленного бандита. Мать называла его не иначе как «мерзавец» и не могла простить Косте, что он стал его адвокатом. — Ну, ты идешь? — донеслось снизу. — Да! — она ринулась вниз по лестнице в простеньких босоножках. — Я совершил налет на кухню, — сообщил он. — Джен простит. Он прихватил несколько бутылок кока-колы, булку французского хлеба и пакет с ветчиной. — Там перекусим. — Сейчас, только оставлю записку, чтобы не волновались, если приедут раньше. — Правильно. Он наблюдал за ней, пока она писала. Длинные волосы все норовили упасть на тонкое, одухотворенное лицо. Она была так чиста, свежа и прекрасна. Как Леонора много лет назад. Как Леонора…Кэрри, 1943
Худая девчонка с глазами-блюдцами, угрюмо опущенными уголками губ и немытыми льняными, плохо подстриженными волосами испуганно таращилась на возвышавшегося над ней — ноги врозь — Лероя. — Я не умею смотреть за малышами. Он размахнулся и залепил ей оплеуху. — Будешь делать то, что я сказал. Слышишь, ты, соплячка? Она скорчила рожицу, стараясь не разреветься. — Подлец. — Что ты сказала? — Я говорю — конечно, Лерой. Если ты хочешь. Но как же я буду и работать, и возиться с мальчишкой? Он почесал себе брюхо. — Слушай, что тебе говорят. Мы только-то и подержим его у себя пару деньков. Потом эта сучка раскошелится, мы его отдадим и уберемся восвояси. — Во Флориду? — ее тупое лицо озарилось радостной улыбкой. — Всю жизнь мечтала! — Как бы не так! — Держи карман шире! Ни одна из его предполагаемых дорог не ведет на юг. Не хватало еще заботиться о желаниях шведской потаскушки. Как только он огребет денежки, он вышвырнет ее за дверь. От нее мало толку. Слишком увлекается работой. Держит клиентов по часу. То ли дело Кэрри; они вылетали от нее через пять минут с улыбкой до ушей. Не надо было ее продавать. Сейчас бы катался как сыр в масле. Но дело сделано. Она у него в долгу и не отвертится. Деньги! Много денег! — Через пару часов вернусь, — сказал Лерой. — К этому времени приготовь все необходимое, чтобы потом тебе самое меньшее неделю не выползать на улицу. — Ты же сказал, пару дней. Лерой вздохнул. — Если все пойдет, как задумано, обойдемся парой дней. Но нужно все предусмотреть. Давай, пошевеливай задницу. — Я не… Он не собирался сносить ее глупости. Просто врезал еще разок. — Сказано — шевели задницей! Девушка подчинилась. Лерой ухмыльнулся.* * *
Молоденькая няня Стивена была неповоротливой негритянкой с шапкой курчавых волос, пластинкой на зубах и очками, вздернутыми на переносицу. Ей было тесно в любом помещении. Внешность сыграла немаловажную роль в выборе Кэрри, стремившейся дать своему сыну нечто прочное, постоянное. По крайней мере няня-дурнушка вряд ли скоро выскочит замуж. К тому роковому дню, когда она отправилась вместе со Стивеном на рынок за овощами, Лерой уже несколько недель обхаживал девушку. У него был определенный шарм, и няня Стивена была ослеплена. Он постоянно льстил ей и не жалел улыбок. Девушка села на диету и накупила новых тряпок. По воскресеньям, когда у нее был выходной, Лерой водил ее на танцы или в кино. Ему не составило труда разузнать о Кэрри и Стивене все, что было нужно. Украсть Стивена — все равно что отхватить громадный кусок шоколадного торта!* * *
Кэрри вздрогнула и проснулась. Бросила взгляд на будильник — еще только десять часов утра. Обычно она спала как минимум до половины двенадцатого, чтобы только успеть принять душ, одеться и подготовить все для полуденной прогулки со Стивеном. Она выпростала руки и потянулась. Новый день. Новая морока. Дел — под завязку. Каждый понедельник Энцо Боннатти присылал сборщика денег с пополнением запаса наркотиков. В три явится полицейский детектив — это его обычное время. Понедельник также является банным днем и днем расчетов с полицией. Она перевернулась на бок и попробовала сновауснуть. Не тут-то было. У нее было какое-то… странное чувство. Не понять, в чем дело. Как всегда по утрам, пришла мысль о наркотиках в буфете. Насколько легче было бы начать день в сладкой дымке марихуаны. А вечером — несколько понюшек кокаина, чтобы вынести долгую ночь работы.* * *
Лерой подкрался к девушке сзади. Она тревожно и радостно вскрикнула. — А вот и я, куколка! Она воззрилась на него сквозь толстые линзы очков и захихикала, отчего затряслась голубая прогулочная коляска, где Стивен безмятежно сосал палец. Они стояли посреди улицы и вели светскую беседу. Потом Лерой как бы невзначай перехватил коляску и сам покатил ее. — У меня для тебя сюрприз. — Какой? — Не знаю, можно ли тебе доверять… — А что? Что такое? — очки сползли на кончик носа, и девушка водрузила их обратно на переносицу. — Ну ладно, — засмеялся он. — Вот что нужно сделать…* * *
Кэрри неторопливо одевалась. Что-то по-прежнему не давало ей покоя. Она пыталась стряхнуть с сердца тяжесть, но ничего не выходило. За утренним кофе она поставила пластинку Бесси Смит и принялась ломать голову над возможными путями бегства. На все требовались деньги. Она кое-что скопила, но еще недостаточно. Вошла Сюзита и с размаху плюхнулась на стул. — Ух, милочка, я как собака с высунутым языком. Буквально валюсь с ног. У Кэрри не было настроения болтать. Скорее к Стивену! Прижать к себе его теплое, маленькое тельце, вспомнить о доброте и непорочности. Ему скоро пять. Как вырваться из омута и вырастить дитя в неведении о том, чем занималась его мать, чтобы они не умерли с голоду?* * *
Няня Стивена клюнула на приманку. Оставив с ним ребенка, словно знала его много лет, она вперевалку пошлепала в ювелирный магазин, где, по словам Лероя, ее ждал обещанный «сюрприз» — стоит только назвать свое имя. Да уж, ее точно ждет сюрприз! Когда она вернется и обнаружит, что их со Стивеном след простыл. Он ухмыльнулся и почти бегом покатил коляску. — Слишком быстро! — захныкал Стивен. — Заткнись, маленький паршивец! — сквозь зубы процедил Лерой. — Теперь я за тебя отвечаю. Заткни пасть, пока я сам ее не прихлопнул!Джино, 1949
Дженнифер открыла парадную дверь. Навстречу, помахивая хвостиками, выбежали собаки. Она села на пол, чтобы поиграть с ними, и с сожалением подумала о том, что скоро придется возвращаться в Нью-Йорк. — Коста, давай заведем собаку. Он поразмыслил. — Ну что ж, если тебе хочется, я не против. — Может быть, пуделя? Или шпица? — Неплохо придумано, — он ласково прикоснулся к шее жены. — Как насчет кофе гляссе и шоколадного торта? — Неужели проголодался? Еще только пять часов, и мы плотно пообедали. — Вот, проголодался. Они смеясь прошествовали на кухню; сзади бежала собака. — А где Мария? — спросил Коста и в тот же миг заметил записку. Он прочел ее и нахмурился. Молча передал Дженнифер. Та быстро пробежала ее глазами. — О Господи! — Леонора обусловила поездку дочери строжайшими инструкциями. Главное — она ни при каких обстоятельствах не должна встретиться с Джино Сантанджело! — Что будем делать? Коста пожал плечами. — Понятия не имею. — Он перечитал записку: «Еду с мистером Сантанджело смотреть дом. Скоро вернусь. Люблю, целую, надеюсь, что вы хорошо отдохнули». Коста положил листок бумаги на кухонный стол и разгладил пальцами. — Просто ума не приложу. Дженнифер фыркнула. — Ничего себе! Как ты думаешь, он подвернулся случайно? — Зная Джино, думаю, так оно и было. — Но мы целое лето звали его в гости, а он так и не выбрался. — Да. Они обменялись тревожными взглядами. Дженнифер не выдержала. — Дерьмо собачье! Коста расхохотался. — Дерьмо собачье? Ты сказала — дерьмо собачье? До сих пор я ни разу не слышал, чтобы ты так выражалась. — Ну так услышал. Как он мог? Леонора будет вне себя от бешенства! — Погоди, — сказал Коста. — Ей вовсе не обязательно знать. Объясним Марии, как обстоят дела. Она поймет. Ведь она знает свою мать. Дженнифер кивнула. — Скажи ты. — Конечно. Без проблем. Дженнифер усмехнулась. — Да уж — без проблем! — Скажи еще раз «дерьмо собачье»! Мне нравится, когда ты сквернословишь. — Коста!* * *
Чтобы пробраться в дом, Джино пришлось сломать замок на двери черного хода. — Вы же не можете взломать дверь, — начала Мария. — Уже, — Джино рассмеялся. — Вот как? Гм… — она не могла не засмеяться вместе с ним. — Можно посмотреть? — Конечно. Ты у меня в гостях. Мария пришла в восторг. Она носилась по всему старинному зданию, раскрасневшись, с сияющими глазами, повизгивая от удовольствия. — Обязательно купите его! Это не дом, а сказка! — Ты так думаешь? — Я знаю! Джино заразился ее энтузиазмом. Он изложил ей свои планы насчет мраморной веранды и роскошного бассейна в голливудском стиле, но она в ужасе всплеснула руками. — Ох, нет! Вы же его погубите! Уж если хотите строить бассейн, то как можно проще, чтобы не разрушить очарование естественности. Ничего нельзя менять — только побелить и кое-что подновить, — она вдруг отдала себе отчет в том, что навязывает ему свое мнение. — Простите, мистер Сантанджело. Я увлеклась. Не обращайте на меня внимания. Он никак не мог поверить, что Марии двадцать лет. Ей можно было дать шестнадцать. Юная и непосредственная. — Эй, — воскликнул он, будучи не в силах отвести от нее взгляд. — Можешь звать меня Джино. Точно так же обратилась к нему Клементина Дюк во время его первого посещения ее дома. Господи Иисусе! Он же старик. Сорок три года. А в душе он чувствовал себя совсем юным. Ему всегда будет двадцать. Девушка поколебалась. — О'кей — Джино. — Вот и умница. Этим знойным полднем их взгляды встретились, и Мария почувствовала во всем теле слабость. Ноги стали ватными. Она бессознательно протянула руку и дотронулась до шрама у него на щеке. — Откуда это? Вот уже много лет никто не смел задавать Джино подобных вопросов, но он почему-то не рассердился. — Подрался. Давным-давно. Вспомнилась Синди. Ослепительная блондинка Синди. Жалко, что все так кончилось. — Почему тебя это интересует? Она отдернула руку. — Просто любопытно. — Любопытство сгубило кошку… — А удовлетворенное любопытство воскресило, — она совсем по-детски рассмеялась. И все же она не ребенок. Женщина. Которая, подсказывала ему интуиция, сможет его удовлетворить. Он желал ее так, как ни одну женщину в мире. Она выжидательно смотрела на него, словно хотела, чтобы он сделал первый шаг. Он взял ее за руку и повел в сад. — Давай-ка перекусим. Посиди чуток, я схожу к машине за провизией. Мария послушно опустилась на траву, подобрав под себя длинные загорелые ноги. Он принес французскую булку, ломтики ветчины, тепловатую кока-колу. Они с аппетитом подкрепились. — Давно ты гостишь у Косты с Дженнифер? — спросил Джино, просто чтобы завязать непринужденную беседу. — Шесть дней. Это просто чудо! — Ага. Они — идеальная пара. — О да! Он изучал ее лицо. Нежная кожа, слегка тронутая загаром. Огромные прозрачно-голубые глаза. Длиннущие ресницы. Сочные губы. — На следующей неделе вы все переезжаете в Нью-Йорк? — Да. Дженнифер хочет устроить грандиозный прием по случаю моего дня рождения. — Дня рождения? Сколько же ты здесь пробудешь? — До конца сентября. Джино хлебнул кока-колы. — Не рановато ли праздновать? Ты вроде бы родилась в декабре? — Пятнадцатого сентября мне стукнет двадцать один год. — Декабря. — Нет, сентября. Джино молча переваривал новость. Если Мария родилась в сентябре, значит, выходя замуж, прелестная Леонора уже была беременна. Его невинный ангел забрюхател! Пока он изливал душу в любовных посланиях и хранил верность, эта дрянь путалась с кем попало. Замечательно! Просто ужас! Дерьмо собачье! Неудивительно, что Коста не захотел ему говорить. Но с тех пор столько воды утекло! Какая теперь разница? — Почему вы решили, что мой день рождения в декабре? — полюбопытствовала Мария. Джино пожал плечами. — Просто ошибся. Она теребила травинку. — Вы с мамой… ну… она была вашей девушкой? — у нее было такое чувство, словно сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Нельзя задавать такие интимные вопросы. Но ей очень нужно знать! — С чего ты взяла? — насторожился Джино. — Не знаю. Мама ничего не рассказывала, но… я догадалась… по обрывкам разговоров. — Ну, так ты неправильно догадалась. Я знал твою мать. Приезжал в гости к твоему дяде. Мы подружились. Вот и все. — Теперь вы уже не друзья. Мама вас терпеть не может. Предполагается, что мне ничего не известно, но одним из условий моей поездки было, чтобы я ни под каким видом не встретилась с вами. — Правда? Она кивнула, подняла на него глаза и снова дотронулась до шрама. — Но я рада, что мы встретились. Не было ничего естественнее, чем взять ее руку и приложить к губам. — Ты такая красивая. Мария почувствовала: это не просто комплимент, Джино говорит серьезно. — Спасибо, — прошептала она. Их окутала тишина. Он продолжал держать ее руку. Она не опускала глаз, словно ждала. Он начал медленно расстегивать пуговицы на ее платье. Она молчала. На мгновение Джино вспомнил, как впервые поцеловал Леонору — в Сан-Франциско, в заливе. Холодная, мутная вода. Ее прижавшееся к нему трепещущее юное тело… Но это не Леонора. Мария. Он расстегнул платье до пояса и положил руку на ее теплую, влажную грудь. На девушке не было лифчика, это его разожгло. — Поцелуй меня сначала, — тихо произнесла она. Он убрал руку, взял в ладони ее лицо и начал целовать. Погрузил язык в теплую глубину ее рта; она робко повторила его движение. Какой у нее сладкий рот — точно спелый плод! — Я хочу поцеловать твой шрам, — сама не сознавая, что говорит, прошептала Мария. Она провела пальцем, а затем повторила тот же путь нежными губами. Нещадно палило солнце. Джино тем временем разделся до трусов. Хорошо, что он сохранил отличную физическую форму. Ни унции лишнего жира. Он аккуратно стянул с ее плеч платье. Обнажились великолепные груди. Он стал целовать их. Девушка не шевельнулась, не произнесла ни слова. Просто сидела и позволяла ему делать все, что он хотел. Он взялся за нижние пуговицы. Стащил с нее трусики и схоронил голову там, где был светлый треугольник пушистых волос. Она вздрогнула. — Нет. Пожалуйста, не делай этого. Он бережно погладил ее и положил на траву. Похожа на Леонору. Но это Мария. Теперь-то уж он не перепутает. — Ты так прекрасна, — пробормотал он, стягивая трусы и взгромождаясь на нее. Она раздвинула ноги, но он никак не мог войти в нее. И вдруг понял. — Иисусе Христе! — Джино скатился с девушки. — У тебя еще никого не было, да? — Неважно, — прошептала она. — Я этого хочу. — О Господи! — Джино лег на спину и уставился в безоблачное небо. То, что она оказалась девственницей, вернуло его на землю. Это же дочь Леоноры, ради всего святого. Что он себе позволяет! Хочет наверстать упущенное? Он натянул трусы. — Что случилось? — Мария села и инстинктивно прикрыла грудь. Этот жест напомнил ему, что она — чистая, порядочная девушка. Они не пара. — Я ошибся, — пробормотал Джино. — Прости, детка. Одевайся. Ее словно ужалили — на щеках появились два ярких алых пятна. — Я не детка. Я взрослая женщина. И сама этого хочу. — Да? Ну, так я не хочу, так что будь хорошей девочкой, одевайся, и я отвезу тебя обратно. Глаза Марии наполнились слезами. — Вы меня оскорбляете, мистер Сантанджело. — О чем ты говоришь? — Если бы вы хоть чуточку знали женщин, вы бы поняли, что нельзя так со мной поступать. — Как — так? — Звать меня деткой и хорошей девочкой. Я отдаю себе отчет в своих поступках, так же как и в желаниях, — она протянула к нему руки. — Прошу тебя! — Слушай, дет… Мария. Не все можно делать, что хочется. Она округлила глаза. — Почему? — Потому что я гораздо старше, — он показался себе очень смешным в одних трусах. Все, чего ему хотелось, это одеться и уехать отсюда, вычеркнуть Марию из своей жизни. — Хочешь, чтобы я поверила, что ты никогда не занимался любовью с женщинами моего возраста? — Я этого не говорил. — Тогда что же? — она искренне не понимала. Он снова посмотрел на нее. Самая красивая девушка на свете! Она почувствовала, что в нем просыпается желание, и откинулась на траву. — Я не знаю, что значит любовь, но хочу, чтобы ты был моим первым мужчиной. Очень хочу. Джино вспомнил Сан-Франциско. И как Леонора сказала: «Не нужно ждать». Но он настоял на своем. Нес какой-то вздор насчет того, что нужно беречь любовь до свадьбы. И теперь собирается повторить ту же ошибку. — Мария, — хрипло произнес он. — Если ты действительно хочешь… Она потянулась к нему. — Да, Джино. Очень!* * *
Дженнифер с Костой одновременно услышали шум мотора. Дженнифер гневно поджала губы и посмотрела на часы, чтобы убедиться, что сейчас действительно двенадцать часов ночи. — Спокойно, — попросил Коста. — Она вернулась, и это больше не повторится. Я поговорю с Джино. — Как я могу не волноваться? — возмущалась Дженнифер. — Я просто в бешенстве! Даже не позвонили, чтобы предупредить, что вернутся заполночь. Коста поднес палец к губам. — Ш-ш-ш! Хлопнула входная дверь, и появилась Мария, а за ней Джино. Сбылись худшие подозрения Косты! Оба сияли, как рождественская елка. На губах у Джино блуждала идиотская ухмылка. Мария раскраснелась, глаза горели. — Эге-гей! — воскликнул Джино. — Как поживают мои старые друзья-женатики? — он наклонил голову, чтобы чмокнуть Дженнифер в щеку, но она отвернулась. Коста холодно произнес: — Почему вы не позвонили? Мы волновались. У Марии был виноватый вид. — Дядя, я же оставила записку. — Из которой можно было понять, что ты через час-другой вернешься. Ты отдаешь себе отчет, который час? — Я возил ее в ресторан, где подают морские блюда, — легко сказал Джино. — Там сногсшибательные устрицы! — Да, — подхватила Мария. — Просто необыкновенные! — и улыбнулась Джино. Он ответил ей такой же улыбкой. И подмигнул. Коста тяжело вздохнул. — Иди спать, Мария. Нам с мистером Сантанджело нужно кое-что обсудить. — Все в порядке, — весело заявила она. — Мне разрешено называть его Джино. Дженнифер встала. — Идем, дорогая, пожелай всем спокойной ночи. Я хочу тебе кое-что сказать. Мария нежно улыбнулась Джино. — Спокойной ночи. И… спасибо. Он ухмыльнулся. — Неплохо повеселились, да? Девушка просияла. — Очень! Коста подождал, пока дамы удалились, и резко спросил: — Выпьешь? Джино плюхнулся в удобное кресло. — Ага. Бренди не помешает. Коста молча налил в бокал янтарной жидкости и передал Джино. — Что за игру ты ведешь, приятель? — Какую игру? Коста рассвирепел. — Ты со мной не юли! Я слишком давно и хорошо тебя знаю. Какого черта… Косту нелегко было вывести из себя. В таком состоянии у него на лице выступали красные пятна, а глаза суживались так, что превращались в щелки. — Я всего-навсего предложил малышке посмотреть дом, который собираюсь купить. Потом съездили поужинать. Что за шум, а драки нет? — При чем тут Мария? — Действительно — при чем тут она? — Почему ты выбрал именно ее? Джино поболтал коньяк в бокале. — А, брось. Не понимаю, о чем ты говоришь. — О том, что вижу. Она моя племянница, дочь Леоноры, черт бы тебя побрал! — Да ну? — Джино начал злиться. — Какая дочь? Которую она родила в сентябре? Или в декабре? У Косты хватило совести покраснеть. — Какой был смысл говорить тебе? — Правильно, — Джино зевнул и решил сменить пластинку. — У тебя есть запасная кровать? Нет настроения сейчас мотаться в город. — Я был бы тебе очень признателен, если бы ты так и сделал. Черт бы побрал Косту! Испортить такой чудесный день! — Почему? — Потому что Леонора специально оговорила, чтобы Мария ни в коем случае не встретилась с тобой. Что было, не вернешь, но впредь… — Пошла она!.. — Слушай, Джино. Образумься, — Коста мерил шагами комнату, спрашивая себя, как это могло случиться. — Какая тебе разница, если ты больше не увидишь девушку? Ведь для тебя она — одна из многих. Джино запрокинул голову и вылил в глотку последние капли из бокала. — Точно. Какая мне разница? Коста облегченно вздохнул. Джино поставил бокал на стол и смерил приятеля долгим, тяжелым взглядом. — Увидимся. — Завтра приедешь в офис? — Может, смотаюсь на Побережье. Посмотрю, как там Бой. Коста забарабанил пальцами по столу. Он добился своего, и теперь ему больше всего хотелось расстаться друзьями. — Немного неожиданно. — Ага. Кажется, мне и правда лучше убраться с дороги. Дженнифер затевает пир на весь мир — лучше, если меня там не будет. — Мне очень жаль. Леонора как чувствовала… — Что эта сука чувствовала? Что я плохо повлияю на ее бесценную доченьку? Я — гадкий мальчик? Ну так скажи ей, что она сама — вонючка! Коста кивнул. Джино хлопнул дверью.* * *
На этот раз, приехав в Лос-Анджелес, Джино не стал останавливаться у Боя, а снял собственное жилье — громадный особняк на Бель-Эр, ранее принадлежавший звезде немого кино. Он поселился там вместе с охраной и устроил грандиозную выставку оголенной женской плоти. Все эти девушки были очень красивы и невероятно скучны. Каждая длинноногая особь грезила кинематографом. В ожидании чудесной перемены в судьбе они прыгали из постели в постель — авось кто-нибудь составит протекцию. Джино съездил в Вегас посмотреть, как идет строительство «Миража». Оно шло рекордными темпами. Его навестила Пиппа Санчес и ластилась, точно кошка. Она сдержала слово и представила полный отчет обо всех подвигах Джейка. Пока что все сходилось. Бой не ворует — до поры до времени. В спальне Джино она скинула белое платье и занялась любовной акробатикой. Интересно, знает ли Бой. Хотелось надеяться, что да. — Почему бы тебе не вложить деньга в какой-нибудь фильм? — небрежно спросила Пиппа. А что, неплохая мысль. — Найди подходящий сценарий. Если он мне понравится, так и сделаю. Он впервые увидел на ее лице улыбку. С чего бы? Кажется, он не предложил ей главную роль. Пятнадцатого сентября он позвонил своей секретарше в Нью-Йорк и попросил зайти к Тиффани и выбрать самый большой и самый красивый аквамариновый комплект с бриллиантами. Продиктовал текст поздравления: «С днем рождения! Эти алмазы никогда не затмят твоих глаз». Мария открыла пакет и разрыдалась. В этом не было ничего особенного: после отъезда Джино она не переставала плакать. Джино сидел на краю бассейна на Бель-Эр и думал о той, кому сегодня исполнился двадцать один год. Вспоминал ее лицо, кожу, глаза и аромат ее тела. В шесть часов вечера он сел на самолет до Нью-Йорка. Плевать ему, что там правильно, а что нет. Плевать на истерики Леоноры и гнев Косты. Он знал, чего хочет, и был полон решимости добиться этого.Кэрри, 1943
Кэрри плакала до тех пор, пока не выплакала все глаза. После этого осталась только жгучая ярость. Она ураганом ворвалась в ресторан, где, как ей было известно, обычно обедал Энцо Боннатти. Не обращая внимания на повскакавших охранников, подлетела к его столику и завопила: — Верни мне моего мальчика! Слышишь? Верни мне сына! Когда его похитили, ты обещал вернуть его обратно. Ну и где же он? Я сказала тебе, кто это сделал. Твои парни говорили с этой чертовой идиоткой, которая за ним смотрела. Так где же он? Почему мне его не вернули? Шесть дней! Я плачу тебе деньги за защиту — так действуй, черт побери! Телохранители Энцо схватили ее. — Пошла вон, черномазая! — Где мой мальчик? — вопила она, по-прежнему адресуясь к Энцо, который старательно делал вид, будто не замечает ее, и крошил хлеб. — Отдайте мне сына! А если ты не можешь, я пойду в полицию. Я все расскажу! Ее выволокли из ресторана. Энцо повернулся к своей спутнице-хористке, стройной, как статуэтка. — Первый раз вижу эту девку. Вечно какие-то неприятности. На улице Кэрри бесцеремонно затолкали на заднее сиденье автомобиля. Один охранник, пошел обратно — спросить, что с ней делать. — Отвези ее домой и запри на замок. После обеда сам заеду, — еле слышно процедил Энцо. Нет ничего хуже взбесившейся шлюхи. Может, спровадить ее куда-нибудь в Южную Америку? У него под завязку своих дел, не хватает только осложнений из-за какого-то сопляка.* * *
Лерой сидел на полу и выстреливал земляные орешки — один за другим, точно маленькие пули. Все они приземлялись ровнехонько на середину его большого розового языка. Четырехлетний Стивен зачарованно смотрел на эту картину. Шестнадцатилетняя Лил, скорчившись на кровати, красила ногти на ногах. Жужжа, пролетела муха и села на ломтик ветчины, оставленный на полке. — Сегодня великий день, — возвестил Лерой, вскакивая на ноги. — Сучка отдаст мне все, чего я только ни пожелаю. Извелась, бедняжка! — Значит, сегодня мы избавимся от мальчишки? — разволновалась Лил. — Может, да, а может, и нет, — как всегда уклончиво ответил Лерой. — Но прошла целая неделя! — Заткнись, мерзавка! — Я хочу снова работать, — скулила она. — Нам же нужны деньги. — Скоро они у нас полезут изо всех дырок, — осклабился Лерой. Стивен переводил большие зеленые глаза с одного на другую. Ему было непонятно, почему он очутился здесь, с этими странными людьми, но он усвоил, что лучше помалкивать. Иначе его снова будут бить. Лерой, одновременно одеваясь, заплясал по комнате. Лил сосредоточенно покрывала лаком ногти. Стивен молча посматривал на них из своего угла.* * *
Энцо размахнулся и залепил ей пощечину. — Еще ни одна шлюха не позволяла себе разговаривать со мной таким тоном! Ты что себе вообразила? Кэрри была сломлена. — Простите, мистер Боннатти! — «Простите»! — он угрюмо рассмеялся. — Я убивал не за такое! Кэрри понурилась. — Никто не смеет мне угрожать! Никто не смеет напоминать мне о копах! — Простите, — снова прошептала она. — Ага, теперь ты просишь прощения! Было время подумать! — Мне нужен мой сын, мистер Боннатти. Вы обещали… — Ничего я не обещал. Я сказал: пара моих ребят этим займется. — Если бы вы могли… Он начал терять терпение. — Ладно, сделаю. Иди пока отдохни. — Нет! — испуганно крикнула она. — Что значит «нет»? — Я никуда не пойду без Стивена! Боннатти вздохнул. — Совсем рехнулась. Слушай. У тебя хорошее заведение. Я не раз говорил, что ценю тебя. Мне совсем не хочется выбрасывать тебя на улицу. Но если ты меня доведешь — можешь поверить, я так и сделаю. Кэрри пришла в отчаяние. — Мистер Боннатти! Умоляю вас! Верните мне сына! Я все для вас сделаю! Буду работать даром. — Да верну я тебе твоего сопляка. Но чтобы больше никаких сцен! Ясно? Кэрри схватила его руку и поцеловала ее. — Спасибо, мистер Боннатти. Я знаю, вы можете мне помочь. Вы это сделаете! Он расстегнул молнию на брюках. — Давай-ка пока что облегчи меня. Сначала Кэрри не поняла, но потом до нее дошло, и она в отчаянии опустилась на колени. Энцо Боннатти — грязная свинья. Но эта свинья вернет ей сына.* * *
Лерой вприпрыжку несся по улице. Время от времени он останавливался перед какой-нибудь зеркальной витриной полюбоваться своим отражением. Замечательно! А когда Кэрри выложит денежки, он станет еще шикарнее. Куда она денется? Выложит, как пить дать! Он заглянул в забегаловку и заказал чашку кофе. Потом отлучился к телефону-автомату и набрал номер Кэрри в борделе. Ответила девушка с сильным иностранным акцентом. — Давай сюда Кэрри, — скомандовал Лерой. — Она занята, мистер. — Я насчет Стивена, дура. Быстро давай ее сюда. Девушка оживилась. — Вы говорите — Стивен? Ее Стивен? — Живо тащи ее к телефону, сука, пока я не повесил трубку. В ожидании Кэрри он начал мурлыкать себе под нос какую-то мелодийку и одновременно разглядывая надписи на стене телефонной будки. «Марлен обожает трахаться». А кто нет? Гм. Кто такая Марлен? Наверное, сама и написала. Кэрри неистово вцепилась в трубку. — Мой сын у тебя? Что с ним? Он жив? Ты ему что-нибудь сделал? Где мой мальчик? Лерой с наслаждением растягивал слова. — Сколько ты согласна заплатить, чтобы его тебе вернули? — Кто это? Это Лерой? — Ага, узнала! А то выпендривалась — мол, не знаешь, кто я такой! Мол, нет у тебя никакого дяди Лероя! — Отдам все, что имею. Только верни его — сегодня же! — Ах, ах, ах! Значит, к тебе вернулась память, детка? — Я согласна встретиться. Где? Когда? События развивались скорее, чем он ожидал. — Завтра в час. На крыше «Эмпайр Стейт билдинг». — Завтра? — у Кэрри задрожал голос. — А почему не сегодня? — Сказано, завтра! Тащи пять тысяч баксов, если хочешь увидеть своего сосунка живым. И не смей никому говорить! Вешая трубку, он слышал, как она всхлипывает. То-то! Она заслужила небольшой урок. Позволила себе так с ним обращаться! Он вернулся к стойке, залпом выпил свой кофе и ушел, не заплатив. Его никто не остановил. Хорошая примета. — Лерой, — пробормотал он, обращаясь к самому себе. — Скоро ты будешь бога-атеньким!* * *
— Он облегчил нам задачу, — заметил Энцо Боннатти. Кэрри безвольно кивнула, не зная, радоваться или нет тому, что он слышал весь разговор. — Что я должна делать? Он сдвинул брови. — Иди на свидание. Остальное предоставь мне. — Вы вернете мне Стивена? — Завтра. И опять будешь нормально работать. Я подошлю еще снадобья. Быстренько сплавишь. Займешься пропагандой среди молокососов. — Да, мистер Боннатти. — Ну вот и хорошая девочка. Она смотрела на него тусклыми, безжизненными глазами. — Спасибо, мистер Боннатти.* * *
В час дня район Манхэттена запрудили служащие, спешащие на обед. Лерой, чертыхаясь, на нескольких лифтах с пересадками доехал до сто второго этажа. Прямо вспотел, пока добрался до обсерватории. Это ж надо — выбрать такое идиотское место. Он стер с лица испарину и надел солнечные очки с очень темными стеклами. Казалось, весь мир в этот день решил собраться на верхушке «Эмпайр Стейт билдинг» — ступить некуда. Он поискал глазами Кэрри, но так и не увидел. Узнает ли она его? Он сам помнил ее худущей черной девчонкой с уклончивым взглядом и большими титьками. Она не изменилась. Только похорошела. Кругом не было видно черных лиц. Если она не придет, он живьем сдерет кожу с ее отродья. Стивен! Тоже мне имечко для негра!* * *
Кэрри прошлась пешком по Тридцать четвертой улице и Пятой авеню, но все равно явилась на полчаса раньше срока и теперь, забившись в кофейню, с тоской наблюдала за стрелками настенных часов. Энцо Боннатти не посвятил ее в свой план. Лишь заверил, что сегодня она получит Стивена обратно. «Если, конечно, он жив», — остудил он ее восторги. «Если он жив»! Небрежно брошенные слова всю ночь не давали ей уснуть и продолжали терзать сейчас. Если Лерой хоть пальцем тронул Стивена, она лично изрешетит подонка! Вот из этого самого пистолета, спрятанного в сумочке. Без пяти час она расплатилась и вышла из кофейни. Большой Виктор и Шпагат лениво наблюдали за ней. — Красотка! — осклабился Большой Виктор. — Ну, если ты любишь черных… Стоило только взглянуть на этих двоих, сразу становилось понятно, что это за птицы. Большой Виктор был громилой со злыми глазами и слюнявым ртом. Шпагат — помоложе, помельче в кости, со спутанными космами и длинным носом. — Сроду за это не платил, — небрежно заметил Большой Виктор, ковыряя в зубах ногтем. — Не понимаю тех, кто платит. Шпагат кивком выразил согласие, и они устремились вслед за Кэрри.* * *
Наконец-то Лерой ее увидел. Ну и штучка! Он на мгновение забыл, зачем пришел, и так и вылупился на нее. Да, это что-то! Нельзя ли включить в сделку немного любви? Кэрри в панике оглядывалась по сторонам, не видя Лероя. Он был доволен, что надел свой лучший костюм — коричневый, в широкую белую полоску. И белый вязаный галстук, который прекрасно гармонировал с рубашкой. Пусть только увидит его — в шляпе с широкими полями и темных очках — наверняка примет за киноартиста. Он подскочил к ней сзади и завопил: — Ну, ты и красотка! Вы только посмотрите! Кэрри подпрыгнула от неожиданности. Потом резко обернулась и уставилась на него. — Лерой? Он приосанился. — Собственной персоной! Глаза Кэрри зажглись ненавистью. О, как ей хотелось тут же всадить в него пулю! Но Энцо велел только опознать его, пару минут поболтать и смыться, предоставив его людям разбираться с Лероем. Что-то она их не заметила. — Что со Стивеном? — Полный порядок. Наслаждается жизнью. — Чего ты хочешь? Лерой продолжал лыбиться. — Кто же так здоровается? На вид — огонь, а говоришь, как ледышка. Ну-ка поласковее. Тогда и потолкуем. Ее глаза метались по сторонам. — Хорошо. Он решил, что она стесняется при людях. — Пошли отсюда. Найдем уютное местечко. — Где? Он жестом собственника взял ее за руку. Кэрри в отчаянии оглянулась и, заметив двоих, мигом угадала в них людей Энцо. Наконец-то! Возле лифта собралась очередь. — Надо было осмотреть город, — спохватился Лерой. — Отсюда вот такой вид! — Кэрри молчала, и он ущипнул ее за руку. — Как-нибудь вернемся сюда, не так ли? Она кивнула — почти в обмороке. Те двое заняли очередь прямо за ними и стояли вплотную, так что она различала исходивший от них запах чеснока. Подошел лифт и выплеснул новую партию туристов. Двое моряков подмигнули Кэрри и начали обмениваться восторженными возгласами. Лерой был польщен. Он крепко сжал ее руку. Как же освободиться? Они вошли в лифт. Бандиты — за ними. Кэрри подумала о Стивене, и ее вновь охватило жгучее желание всадить пулю в этот подлый, ухмыляющийся рот. Когда-нибудь она так и сделает. Обязательно!* * *
— Возьмем его на тротуаре, — предложил Большой Виктор. Шпагат не возражал. — А что, мне нравится такая работа. Этот сутенеришка свое получит! Шпагат запустил пятерню в жирные волосы. — Как ты думаешь, босс способен польститься на черное мясо? — Не-а. Большой Виктор презрительно сплюнул. — Тогда какого черта он нас послал? — Откуда мне знать. Не люблю задавать вопросы. Может, он обожает детишек? — Так-то оно так, но — черных? Оба озадаченно покачали головами.* * *
На улице Лерой нацепил солнечные очки и пофасонистее сдвинул шляпу набекрень. Он был в превосходном настроении. Встречные парни дружно заглядывались на Кэрри, как на спелый плод на рынке. — Да, цыпочка, ты сделала из себя конфетку! — восхищался Лерой. — Устроила себе сладкую жизнь! А все потому, что я вовремя наставил тебя на путь истинный. Кэрри впилась в него взглядом, полным ненависти и недоумения. Однако не успела она ответить, как Большой Виктор и Шпагат, оттеснив ее, взяли Лероя в клещи. — Эй, ребята, — начал он и вдруг, сообразив, в чем дело, разразился ругательствами. — Спокойно, — тихо посоветовал Большой Виктор. — Идем с нами, иначе я разряжу в тебя пистолет — прямо сейчас размажу по асфальту! Кэрри повернулась, чтобы уйти, но Лерой успел пронзить ее злобным взглядом и выплюнуть: — Сука! Мальчишка за это поплатится! Шпагат ткнул ему в бок чем-то острым, и Лерой взвыл от боли. Кэрри заторопилась прочь, боясь оглянуться, боясь сделать что-нибудь не то. Ей нужен Стивен. И пока она не прижала его к своей груди, она не в состоянии даже думать.* * *
Шведке Лил обрыдла такая жизнь. Она взглянула на безмозглого сопляка, и он в ответ уставился на нее своими огромными, серьезными зенками. — Чего вылупился? — рявкнула она. Стивен молчал. Он был совершенно сбит с толку. Ему хотелось обратно, к маме, к своим игрушкам. Из его глаз брызнули слезы. — Хочу к мамочке! — Заткнись! — К мамочке хочу! — Я сказала — заткнись, щенок! — она запустила в него туфлей. Промахнулась. Но он все-таки умолк. Она зевнула, чертыхнулась, спрыгнула с кровати и немного подрыгала ногами. С Лероем становится скучно.* * *
На это ушло больше времени, чем они ожидали. На целых пять минут. Все сутенеры одним мирром мазаны: черные, белые, оранжевые. Они еще способны заварить кашу, но не расхлебать. И этот такой же. Стоило первой крови брызнуть на сорочку, и он уже что-то лопочет о ребенке. Дальше было проще, Приехали в Гарлем. Душная, вонючая комната. Потная девчонка. Большой Виктор шлепнул ее по заду. — Какого черта белая телка путается с ниггером? А ну, марш отсюда! Я проверю. Лил перевела взгляд с него на скулящего в углу Лероя. — Да уж уберусь — будьте покойны! Ребенок был в порядке. Немытый, нечесаный, с несколькими синяками, но жив и здоров. Шпагат перекинул его через плечо и понес в машину. Бросил на заднее сиденье. — Чистая работа, — сказал Большой Виктор. — Ага, — согласился Шпагат. — Хочешь поиметь потаскушку? Ей самое большее пятнадцать. — Грязная шлюха. — Ага. Настоящая грязная шлюха. — То, что надо, правда, приятель? Оба расхохотались.* * *
Кэрри получила обратно свое сокровище, но Стивен не проронил ни словечка. Только смотрел на нее обвиняющим взглядом, как будто все, что с ним случилось, произошло по ее вине. Она обняла его, искупала, приложила мазь к ссадинам, накормила. Он смотрел на нее и молчал. Она проклинала Лероя и надеялась, что головорезы Энцо вышибли из него дух. Пока Кэрри возилась с ребенком, Сюзита взяла дело в свои руки. Толстую дуру-няньку давно прогнали. Кэрри уединилась с сыном в маленькой комнате и ухаживала за ним. Часов в одиннадцать позвонила Сюзита. — Приехал мистер Боннатти. Спрашивает тебя. Я сказала, что ты только что вышла. — Господи! — взорвалась Кэрри. — Я не могу! Не сегодня! Как же я оставлю Стивена? — Он вне себя от злости. Кэрри забарабанила пальцами по телефонной трубке. Энцо Боннатти решил, что теперь она — его рабыня. Стоит свистнуть — и она у его ног. Конечно, ответ был известен заранее. — Сейчас приду. Она прошла в спальню и посмотрела на беспокойно спящего Стивена. Если он проснется, она должна быть рядом. Будь проклят Боннатти! И все мужчины! Она сменила халат на платье, поцеловала Стивена в лобик и тихонько прошептала: — Я что-нибудь придумаю, маленький. Мы отсюда выберемся, обещаю!* * *
Энцо Боннатти в одежде валялся на ее кровати с сигарой в зубах. — Я спас твоего щенка, а тебя и след простыл. Это что, дом отдыха? — Мне нужно найти новую няню, — пробормотала Кэрри. Энцо разозлился. — Ну так ищи! Только не в ущерб работе. — Да, мистер Боннатти. Дайте только срок. — Завтра получишь партию отличного белого товара стоимостью шесть тысяч долларов. Через неделю — деньги на стол. Ясно? — Да. — «Да». Что с тобой творится? Надулась, как старый хорь. Где твоя благодарность? Господи, чего он от нее хочет? Почему не оставит ее в покое? Это же Энцо Боннатти, он может иметь любую женщину. Почему она?.. — Что я должна делать? — безрадостно спросила Кэрри. — Ничего себе энтузиазм! Она безуспешно попыталась изобразить улыбку. Он пыхнул сигарой и глянул на нее так, словно она — букашка, чье единственное назначение — ублажать его. — Разденься, хочу видеть тебя голой, — он указал сигарой на кресло. — Садись туда и раздвинь ноги. Кэрри подчинилась. Все это время она думала о Стивене и молила Бога, чтобы он не проснулся. Как же им спастись из этого страшного логова? Энцо завел речь о жене. Его откровения были омерзительны, но он тотчас пришел в возбуждение. И чем больше говорил о ней, тем больше распалялся. Кэрри напустила на себя заинтересованный вид, но это было невыносимо трудно, сидя перед ним голой и чувствуя себя неодушевленным предметом. Все, чего ей хотелось, это вскочить и убежать. Энцо Боннатти никогда не видел в ней личность со своими чувствами. Она была одной из шлюх. Он содержал их целые конюшни.* * *
Позже она лежала без сна в темной спаленке Стивена; он метался рядом. И это — та свобода, ради которой она трудилась? Быть на побегушках у Боннатти, толкать для него наркотики? Вернется ли Лерой? Станет крутиться рядом, превращая ее жизнь в ад? Неужели ей теперь неусыпно, днем и ночью, охранять Стивена? Неужели нет надежды на спасение? Бернард Даймс… Может ли он помочь? Нечаянная мысль… но как он смотрел на нее тогда на улице! Что если пойти к нему и все рассказать? Попытка не пытка. Нужно хвататься за соломинку. В конце концов она забылась тревожным сном — так же, как Стивен.* * *
Большой Виктор и Шпагат доставили несколько мешочков с белым порошком — кокаином. Ворвались, сияя, словно старые друзья, долгожданные гости. Шутили и подмигивали, а потом потребовали обслужить — разумеется, на халяву. Она предложила Большому Виктору Силвер, его напарнику — Сюзиту, а сама ушла на кухню. Стивен сидел за кухонным столом и молчал. Перед ним стояла тарелка с рублеными яйцами — его любимое блюдо. Но теперь он даже этого не хотел. Сердито оттолкнул от себя тарелку. — Ну, дорогой, ну, порадуй мамочку! — просила Кэрри. Он перевел на нее большие грустные глаза и толкнул тарелку так, что она упала на пол и разлетелась вдребезги. — Черт побери! — воскликнула Кэрри и замахнулась. Он не шевельнулся. Господи, что же она делает? Совсем свихнулась. Она подбежала к ребенку и взяла на руки. Он был все такой же деревянный. Маленький, упрямый комочек. На кухню, зевая, забрела одна из девушек — неглиже. — Привет, Стиви. Ути-ути-ути… Кэрри решилась. — Передай Сюзите, что я вышла. — Обязательно. Кэрри ринулась в свою комнату. На кровати валялись еще не спрятанные, пакетики с кокаином. Черт побери! Она больше не будет их толкать! Она усадила Стивена в кресло и наскоро побросала в хозяйственную сумку кое-какую одежонку. Достала из комода пачку перехваченных резинкой двадцатидолларовых банкнот, приготовленных для расчетов с рэкетирами и полицейскими. Ей на миг стало жалко Сюзиту: той придется отвечать… Но что она может поделать? Кэрри посадила Стивена на одну руку, другой подхватила сумку и через пять минут уже быстро шла по улице. Навстречу новой жизни. И никто не смеет ей помешать!Джино, 1950
Мария сияла. У нее была самая широкая на свете улыбка и самый большой живот. Она сидела в саду в Ист-Хэмптоне. И вдруг тихо произнесла: — Джино. Пожалуй, тебе следует отвезти меня в больницу. Он запаниковал. — Иисусе Христе! Кому нужно звонить? Что делать? — Позвони в больницу и скажи, что у твоей жены начинаются роды. Только не волнуйся. — Я и не думаю волноваться. Откуда ты знаешь, что уже пора? Она безмятежно улыбнулась. — Знаю. — Боже праведный! Оставайся здесь! — он ринулся в дом — звать на помощь. Недавно нанятая няня, миссис Камден, в одно и то же время вязала, пила чай и слушала радио. — Пошевеливайтесь! — крикнул он. — Моя жена вот-вот родит! Няня Камден и не думала торопиться. Спокойно положила вязанье на стол, пригладила седые волосы, жгутом уложенные на затылке. И только после этого встала. Джино не находил себе места. Он носился по дому, поднял на ноги шофера и телохранителя и бросился наверх за чемоданом, в который уже давно сложили все необходимое. Ему никак не верилось, что наступил долгожданный момент. Сорок четыре года — и без пяти минут отец! Он уж и не надеялся. — Ну, как ты, детка? О'кей? Можешь идти? — Конечно, — засмеялась Мария и медленно двинулась к машине, поддерживаемая с одной стороны няней Камден, а с другой — Джино. — Ты, наверное, переполошил всю больницу? Он хлопнул себя по лбу. — Черт! Совсем вылетело из головы! Не уходи! — он снова метнулся в дом; сердце грозило выпрыгнуть из груди. Джино набрал номер больницы. — Сейчас приедет миссис Сантанджело. Чтобы все было готово! Женщина на другом конце провода была холодна, как лед. Убить ее мало! Что с ними всеми происходит? Не соображают, что творится! Он вернулся к автомобилю. Мария уютно устроилась на заднем сиденье, рядом с няней Камден. Джино втиснулся туда же и легонько сжал руку жены. — Мистер Сантанджело, — многозначительно проговорила няня, — может, вам будет удобнее на переднем сиденье? — Обо мне не беспокойтесь! Мария поморщилась и схватилась за живот. — Господи! Что случилось? — завопил Джино. — Ред, заставь этот драндулет двигаться быстрее! Няня Камден недовольно поджала губы. Вместительный зеленый «кадиллак» в рекордное время домчался до больницы. Марию тотчас препроводили в палату. Джино вдруг почувствовал себя лишним. — Успокойтесь, — посоветовала молодая медсестра, — может, сходите попить кофе? «Попить кофе»! Эта девчонка сбрендила! Он сбегал в туалет и начал мерить больничный коридор большими, нервными шагами.* * *
Мария. Его жена. Им пришлось нелегко. Сильнейшая оппозиция. Вопли и стенания. Марию, точно преступницу, доставили в Сан-Франциско. — Я хочу жениться на ней, — уверял он Косту. — Спятил? Тебе нужна не Мария — просто ты так решил, потому что она похожа на Леонору. — Дерьмо собачье! Я люблю ее! — Перестань, Джино. Опомнись. Ты поступаешь нечестно по отношению ко всем нам — и особенно к ней. У нее это детское увлечение. — Мария не дитя. Ей двадцать один год. Мы хотим пожениться. — Выбрось из головы. Леонора этого не допустит. Но у Леоноры не было выбора. Мария забеременела и была на седьмом небе от счастья. Онапозвонила Джино, чтобы сообщить великую новость. Он тотчас приготовил все для побега. Они встретились в штате Мериленд и в тот же день обвенчались. Леонора поклялась больше никогда в жизни не разговаривать с дочерью. Эдвард поневоле принял ее сторону. Марии с Джино было все равно. Они упивались своей любовью. Он купил дом в Ист-Хэмптоне, соорудил простенький бассейн и оставил сад в полной неприкосновенности. Мария — настоящее чудо. Джино боготворил ее. И ни разу не вспомнил о ее сходстве с матерью.* * *
— У вас девочка. Семь фунтов пять унций. Она просто прелесть! — Господи! Иисусе Христе! — Мистер Сантанджело, прошу вас!.. Он схватил медсестру в охапку и закружил по коридору. — Мистер Сантанджело! Опустите меня! Он бесцеремонно поставил ее на пол. — А моя жена? Что с моей женой? — Все хорошо. Доктор как раз зашивает ее и… — Что значит «зашивает»? — Абсолютно нормальная процедура. Всего несколько швов… Доктор вам объяснит. — Черт побери, я — папа! — Джино шлепнул сестру пониже спины. — Хотите сигару?* * *
Ребенок оказался самым красивым существом — если не считать Марию, — какое ему когда-либо доводилось видеть. Маленькое, смуглое, сморщенное, волосатенькое… Просто чудо! Он проводил день за днем в коридоре больницы. Иногда удавалось взглянуть на новорожденную дочь. Джино подолгу смотрел на нее и не верил, что это его собственная плоть и кровь. — Ну как, нравится? — с улыбкой спросила Мария. — Спрашиваешь! — он тоже улыбнулся своей юной жене, сидевшей среди подушек, подобно восковой кукле, со светящимся от счастья лицом. Ее светлые волосы были заплетены в косы. — Джино, — нежно произнесла Мария, — пора подумать об имени. Не хочу больше называть ее просто «беби». — Я много об этом размышлял… — Молодец. — Как насчет Лаки? — «Счастливая» — кто? — Лаки Сантанджело, разумеется. Как по-твоему? — Я как ты. Он наклонился и поцеловал жену. — По-моему, здорово. — Пусть будет Лаки.* * *
Одно только они никогда не обсуждали: его дела. Однажды Мария заикнулась, но Джино приложил ей палец к губам. — Не задавай лишних вопросов. Я сам знаю, что лучше для семьи. Хватит с него Синди, которая знала обо всех его темных делишках. Конечно, Мария и через миллион лет не станет такой, как Синди. Она привнесла в его жизнь столько тепла! Просто смотреть на нее — и то счастье! У нее столько достоинств! А теперь еще и ребенок. Глазурь на торте! Он огорчался — за нее, не за себя, — что семья Марии отреклась от нее. Сама она никогда об этом не упоминала и не жаловалась. Но однажды после рождения ребенка он слышал, как она вполголоса спросила навестившую ее Дженнифер: — Маме сообщили? Дженнифер только вздохнула. — Да, конечно. Мне очень жаль, дорогая, но Леонора никогда не простит тебя! Предполагалось, что он не слышит. Но тихо сказанные слова достигли его ушей. И выражения страдания на лице жены оказалось достаточно, чтобы начать действовать. Джино как раз предстояла поездка на Побережье: посмотреть, как продвигается строительство «Миража». В сущности, отель был уже построен, с превышением сметы в миллион долларов. Теперь полным ходом шли отделочные работы. Надо бы лично проверить, на что ушли деньги. А будучи в Калифорнии, он заодно и заскочит в Сан-Франциско, повидается с тещей. Ничего себе ирония судьбы! Мария не поехала вместе с ним. Слишком мало времени прошло после родов. К тому же ему предстояло отсутствовать всего несколько дней. В это время у нее погостит Дженнифер. Плюс экономка, няня и двое телохранителей. Чем могущественнее становился Джино, тем больше обрастал врагами. Для него это было в порядке вещей. Боннатти, например, в прошлом году пережил два покушения. Нахальные юнцы, рвущиеся наверх, совсем потеряли уважение к старшим. Он поцеловал жену и дочь и неохотно отправился на Побережье.* * *
У Боя был еще более преуспевающий вид: возможно, из-за лоснящейся загорелой кожи. А может, из-за постоянной, точно приклеенной, улыбки. Несмотря на заверения Пиппы Санчес по телефону, Джино сразу учуял запах воровства. — Поздравляю с великой новостью! — как нельзя более горячо приветствовал его Джейк. — У меня тут небольшой подарок для малышки. Так, сущий пустячок. Джино открыл красивую, перевязанную ленточкой коробку. Внутри оказался дорогой набор золотых щеточек и расчесок; на каждой было выгравировано: «Лаки Сантанджело». — Спасибо, Джейк. — Я же сказал — пустячок. Они пообедали в ресторане отеля «Беверли Хиллз». Пиппа Санчес сидела рядом с Боем. — Я послала тебе целых пятнадцать сценариев, — пропищала она. — Неужели ни один не понравился? — Не настолько, чтобы вкладывать деньги. Пиппа насупилась. Джейк пнул ее под столом. — Только и думает, что о карьере. Я ей говорю: твоя главная карьера — ублажать меня. Джейк и глазом не моргнул. — Охотно верю. Пиппа смылась в дамскую комнату, предварительно наградив обоих злобным взглядом. — Бабье! — воскликнул Джейк. — Кстати, тебе нужна телка на сегодняшнюю ночь? У меня есть одна — пальчики оближешь. Горячая, как… — Нет, — оборвал ее Джино. — Я женатый человек… — Ах, да. Точно. Но все-таки… — Мои вкладчики недовольны резким скачком цен. Откровенно говоря, они в бешенстве. — Джино сверлил Джейка свирепыми черными глазами. Тот и не подумал смущаться. — Да брось ты, Джино! Это игрушка, а не отель. Ты еще будешь им гордиться. Погоди, вот увидишь. — Еще бы — за такие деньги! — Не хочу хвастаться, — сказал Джейк, — но ты действительно убедишься. Будешь прыгать от восторга, — он на несколько секунд отвлекся, чтобы помахать рукой проходившей мимо кинозвезде. — Эй, Дженет! Потрясающе смотришься! Как Тони? Скоро зададим пир на весь мир. Джино пошел ва-банк. — До меня дошли слухи, что будто не каждый доллар истрачен на строительство отеля. Вроде бы кругленькая сумма осела в твоих карманах. Джейк вспыхнул. — Кто сказал? Какой ублюдок… Джино пожал плечами. Этот спектакль не произвел на него особого впечатления. — Так, просто сплетня. Не стоит кипятиться. Если ты чист, тебе незачем волноваться.* * *
На этот раз вместе с ними летел Тайни Мартино, рыжий увалень, который вот уже двадцать пять лет слыл комиком номер один. Звезда в полном смысле слова. Но с Джино он обращался, как со странствующей особой королевских кровей. — Я никогда никого не рекламировал, — разглагольствовал он, — но для вас, Бой и Джино, сделаю исключение, приеду на открытие. Более того, готов ежегодно давать у вас представления — по две недели подряд. Когда Джино узнал сумму гонорара, у него глаза полезли на лоб. — Он того стоит, — убеждал Джейк. — Стоит каждого цента. — Меня волнуют не центы, а доллары. Да за такие деньги можно пригласить парочку Фрэнков Синатра. — Они не заменят одного Тайни. В словах Боя был резон. Джино не мог не признать, что «Мираж» действительно великолепен. Джейк сделал все, что обещал, — и даже сверх того. Все прочие отели этому и в подметки не годились. Мраморные полы. Хрустальные люстры. Шелковые портьеры. Повсюду продолжали суетиться рабочие, делая последние штрихи. — Ну? — горделиво спросил Джейк. — Что скажешь? — Что ты возвел шикарный дворец. Может быть, даже чересчур шикарный. — Правда? — у Джейка горели глаза, но в них мелькнуло настороженное выражение. — Что ты хочешь сказать? — То, что от нас требуется обслуживать рядовых посетителей. Самых обычных людей. На черта вся эта роскошь? — Вот увидишь, — глубокомысленно произнес Джейк, — он моментально окупится. Когда в Вегас хлынут фермеры, они так и ринутся сюда. — Хорошо бы. — Так и будет. Он еще успеет разобраться, ворует Джейк или нет. Джино позвонил Косте и попросил прислать опытных ревизоров, проверить бухгалтерские книги. Бою придется отчитаться за каждый кирпич. Если «Мираж» оправдает их надежды, тогда все о'кей. Какие могут быть счеты между приятелями из-за превышения сметы на каких-нибудь несколько сотен тысяч долларов? Но если Джейк ворует… Он башковитый парень. Джино хотелось верить, что прошлый опыт чему-то научил его. В Сан-Франциско было жарко, но дул приятный ветерок с океана. Джино остановился в отеле «Вермонт» и позвонил Леоноре. Трубку сняла горничная. — Мне необходимо переговорить с миссис Грационе. Скажите, что это ее хороший знакомый из Нью-Йорка. Долгое молчание. Джино терпеливо барабанил пальцами по столу. Он попытался произнести про себя ее имя — и ничего не почувствовал. Абсолютный ноль. Мать Марии. Больше она ничего для него не значила. — Привет. Кто говорит? — Невозможно не узнать этот голос. — Эй, Леонора. Это Джино, — он уловил в наступившем молчании холодную враждебность. Хорошо хоть не бросила трубку. — Я всего один день в Сан-Франциско, — быстро добавил он. — Нужно встретиться. Чистый лед. — Это еще зачем? — Ну, как же… По-моему, это в наших общих интересах. Ты так не считаешь? — Нет. — Я был бы весьма признателен. — Да что ты? — Очень признателен. Долгое, ледяное молчание. Он терпеливо ждал. Наконец Леонора соизволила ответить: — Ну и наглец ты, Джино! Вот не подумала бы… Он перебил ее: — Я предпочел бы, чтобы ты сказала все, что думаешь обо мне, лично, прямо в глаза. Хочешь, могу приехать к тебе? Или сама укажи место. Где? Возможно, на нее подействовала категоричность тона, но она неожиданно согласилась. — Сама приеду. Где ты остановился? — В «Вермонте». Ты… Пришла ее очередь перебивать. — В баре. В шесть, — и швырнула трубку на рычаг.* * *
Джино сидел в баре, потягивая «Джек Дэниэлс» и поминутно поглядывая на часы. Шесть двадцать три… Она вошла в бар ровно в шесть часов двадцать четыре минуты, в длинном норковом манто и темных очках. Льняные волосы зачесаны назад и вместе с шиньоном составляют элегантную прическу. Она без колебаний приблизилась к нему, села на соседний вращающийся табурет, щелкнула пальцами и отдала распоряжение бармену: — Двойной мартини. Сухой. И без маслин. Затем она повернулась к Джино и приподняв темные очки уставилась на него. — Чертов ублюдок! Как же я тебя ненавижу! Она показалась ему похожей на девушку по вызову — вопиющей карикатурой на себя прежнюю. Куда только делись непосредственность и нежность? Глаза превратились в голубые осколки, губы злобно поджаты. По его прикидкам, ей должно быть около сорока. На столько она и выглядела. — Хорошенькое приветствие, — отозвался Джино. Она сбросила с плеч норковое манто и, сунув в рот сигарету, наклонилась, чтобы он дал ей прикурить. Он невольно заглянул за низкий вырез оливково-зеленого платья и уловил аромат — «шанель номер пять» плюс слабый запах женского тела. Джино почувствовал себя не в своей тарелке. Он дал ей огонька. Леонора глубоко затянулась, выпустила дым прямо ему в лицо и спросила: — Ну? Что тебе нужно? И ЭТУ женщину он полжизни любил? На ЭТОЙ женщине собирался жениться? Господи! Какое счастье, что этого не случилось! Он с трудом сохранял спокойствие. — Поздравляю. Ты стала бабушкой. Она расхохоталась. — Это ты и хотел мне сообщить? — Кто-то же должен был. Я вижу, Мария не получает от тебя писем, вот и подумал: вдруг ты не в курсе? Она снова рассмеялась — так визгливо, что на них стали оглядываться. — Кто такая Мария? Джино начал терять терпение. — Твоя дочь. Твоя маленькая девочка. А теперь в твоей жизни появилась еще одна маленькая девочка — внучка Лаки. Ей всего три недели. Леонора сощурила глаза. — У меня нет дочери. У меня нет внучки. Ясно, Джино? Для меня они не существуют! Он понизил голос. — Чертова стерва! — О, дорогой! Неужели я тебя расстроила? Великого Джино Сантанджело? Ох, прости, пожалуйста. Он понял, зачем она явилась. Потешить свое мелкое самолюбие. Сыграть в свою подленькую игру. Но он все еще держал себя в руках. — Марии нужны твои письма. Скажи: чего ты хочешь? Одно твое слово — и я куплю тебе все, что пожелаешь. Просто признай дочь. Дай ей почувствовать, что она для тебя что-то значит. — Понимаю. Значит, ты дашь мне все, что я попрошу? Я правильно поняла? — Правильно. — Какое великодушие! — она залпом выпила свой мартини и подтолкнула к нему пустой бокал. — Закажи-ка для начала еще один. Он подал знак бармену. — М-м-м… — Леонора задумалась. — Как далеко простирается твоя щедрость? — Все, что захочешь. — Боже, как он ненавидел эту женщину! — Постой-ка, — пропела она, — новую норку… Импортный спортивный автомобиль?.. Или… Как насчет квартиры в Нью-Йорке? Это не слишком? Он знал: все имеет свою цену. — Так. Значит, квартира в Нью-Йорке? — Да. — Она поколебалась. — Нет. Надо же, как трудно выбрать! Леонора погасила окурок и тотчас вытащила новую сигарету. Последовал тот же фокус с прикуриванием. На этот раз она еще больше наклонилась к нему, демонстрируя грудь. Ему чертовски хотелось убраться отсюда, глотнуть свежего воздуха. Он задыхался от запаха ее духов, сигаретного дыма и женской алчности. — Придумала, — весело объявила Леонора. — Что? — Трахнешь меня разок. Он впился в нее тяжелым взглядом черных глаз. Она безмятежно улыбнулась. — Всего один раз, Джино. Ты у меня в долгу. Все эти годы. Он не верил своим ушам. — Ты пьяна. Сама не знаешь, что говоришь. — Думаешь, за твои деньги ты можешь купить все что угодно и кого угодно? — Леонора вскочила с табурета и стала натягивать на себя норковое манто. — Да я бы не трахнулась с тобой, даже если бы ты был единственным мужчиной на земле! — ее глаза отчаянно сверкнули. — С тех пор, как ты женился на моей дочери, она умерла для меня. Вот так! Заруби себе на носу! Джино встал. — Знаешь, что бы я с тобой сделал… — Что-то ты вяло угрожаешь, Джино! В самом деле — почему бы тебе не натравить на меня своих головорезов? Ты — заурядный уголовник, мелкая сошка! И тебе меня не купить. Понял? Ты никогда не сможешь купить МЕНЯ! Он сделал глубокий вдох и попытался сосредоточиться на мысли о жене. «Думай о Марии!» — кричал внутренний голос. Иначе он не удержится и размозжит Леоноре башку! Она выплюнула еще несколько ругательств и ушла. Со всех сторон к нему были устремлены любопытные взгляды. Он выписал чек и покинул бар. У Марии будет все, чего ни пожелает. Кроме матери. Больше он не станет унижаться. Никогда в жизни.Кэрри, 1943–1944
Кэрри бежала по улице, толкая перед собой коляску со Стивеном, обуреваемая противоречивыми чувствами. Она то радовалась и гордилась своим мужеством, то терзалась страхом, что Боннатти ее настигнет. Нет! Никогда больше она не станет торговать своим телом — независимо от того, поможет Бернард Даймс или не захочет иметь с ней дела! Она остановилась — купить сыну лакричную палочку. Он взял, но по-прежнему ничего не сказал и продолжал смотреть на нее, как на врага. Кэрри вновь беззвучно прокляла Лероя. Хоть бы это огородное пугало получило по заслугам! Время от времени она пугливо озиралась: нет ли погони? Вроде бы никого не было, но она на всякий случай петляла и путала следы. В очередной раз убедившись, что за ними никто не гонится, Кэрри взяла кэб и велела остановиться в квартале от резиденции Бернарда Даймса на Парк-авеню. Ей вдруг изменило мужество. Как ему объяснить?.. Кэрри остановилась на полдороге и еще раз взвесила свои шансы. Они были равны нулю. Попробуй она поселиться в каком-нибудь отеле или бежать из города — Боннатти ее выследит. Нет. Ей нужно покровительство уважаемого члена общества. Если бы речь шла о ней одной, можно было бы рискнуть, но теперь приходилось в первую очередь думать о Стивене. Она твердым шагом двинулась дальше. Позвонила у дверей дома на Парк-авеню. Открыл Роджер и замер на месте — узнавая и не узнавая. Кэрри призвала на помощь всю свою выдержку и спросила: — Мистер Даймс у себя? — Как о вас доложить? — Просто Кэрри. Лакей вздернул брови. — Вас ожидают? — Да. Роджер провел их со Стивеном в прихожую. — Минуточку, — вежливо сказал он. Минуточка тянулась, как долгие годы. Может, Бернард Даймс откажется принять ее и незачем лихорадочно соображать, что сказать ему? Вернулся Роджер. — Прошу вас. Она последовала за ним в кабинет, по-прежнему катя перед собой коляску. Бернард Даймс встал из-за письменного стола. Он был в шелковой сорочке с закатанными рукавами; орлиный нос венчали очки в стальной оправе; поседевшие волосы разлохматились. На столе перед ним громоздилась кипа бумаг. Она еще ни разу не видела его таким. — Кэрри! — тепло приветствовал ее Бернард Даймс. — Мистер Даймс, — она нерешительно оглянулась на Роджера. — Вам что-нибудь нужно, сэр? — осведомился тот. Бернард посмотрел на часы. — Чай готов? — Да, сэр, — Роджер выскользнул из комнаты, а Бернард вышел из-за стола. — Какой приятный сюрприз! — Надеюсь, — она обвела глазами обшитые панелями стены — лишь бы не встречаться с ним взглядом. — Я тоже надеюсь. Наступила долгая, неловкая пауза. Он заметил, что она смертельно устала, напугана и немного растерянна. Подошел ближе и взял ее за руку. — Ты в порядке? Кэрри хотела сказать: да, конечно, — и вдруг силы покинули ее, и она разрыдалась. — Да что с тобой? Вошел Роджер с серебряным подносом. Бернард легко подтолкнул к нему коляску. — Увезите пока ребенка. Он подвел Кэрри к креслу и насильно усадил. — Расскажи мне все. Когда выговоришься, становится легче. Не успел Роджер уйти, как она разразилась слезами и не выговорила — выплакала историю своей жизни. Рухнули все преграды. И ей действительно стало легче. Будто тяжкая ноша свалилась с плеч. Бернард внимательно слушал, поил ее горячим сладким чаем, бросая телефонную трубку, когда ему звонили, утирал ей слезы тонким батистовым платком и, казалось, искренне сочувствовал Кэрри. За окном стемнело. Ее рассказ подошел к концу. Она поведала о Лерое, Стивене и Энцо Боннатти. — Я пришла, потому что вы — добрый человек. Больше у меня никого нет. Но если вы не сможете помочь, я пойму… — она так измучилась, что с трудом выговаривала слова. — Правда, пойму… Он сказал тихим, твердым голосом: — Я могу помочь тебе, Кэрри. Я хочу помочь тебе. Она схватила его за руку. — Спасибо! Большое спасибо! Я чувствовала… верила!..* * *
Через год они поженились. Все свершилось очень просто, в Сити-холле. Пятилетний Стивен ликовал и путался под ногами. Бернард придумал легенду. Это даже доставило ему удовольствие. Согласно этой легенде, Кэрри была африканской принцессой, с которой он познакомился в Кении во время сафари. Просто удивительно, сколько людей попалось на удочку. Театральный мир был шокирован. Бернард Даймс женился! На негритянке! А скандальные слухи о ее прошлом! Но кто знает, может, это и неправда? Бернард Даймс не отвечал на вздорные вопросы. Несколько стройных, элегантных блондинок в ярости носились по всему Нью-Йорку. Они потратили столько времени и сил, пытаясь его заарканить! Что в этой черной девушке такого, чего им недостает? — Я боюсь, — сказала Кэрри. — Чего? Прошлого? Оно позади. У тебя теперь есть защитник. Она слушалась мужа. Он мудрый человек. Кэрри не могла до конца поверить в свое счастье. Год назад он взял их со Стивеном к себе. Поселил в своем коттедже на Файр-Айленде, где она впервые в жизни наслаждалась уединением и покоем. В конце недели приезжал Бернард с подарками для Кэрри и ее сына. Постепенно мальчик оттаял, вылез из своей скорлупы и снова превратился в нормального болтунишку. Временами на Кэрри нападал страх перед Боннатти. Бернард убеждал: — Твои контакты с этими людьми кончены. Они больше не смогут до тебя дотянуться, не смогут причинить тебе зло. Поверь мне! И она поверила. Коттедж Бернарда был расположен на Оушн-Бич, где отдыхала разношерстная, космополитичная публика. Все здесь было Кэрри по душе, а Стивен и вовсе наслаждался жизнью. Он особенно радовался еженедельным посещениям Бернарда, и, конечно, Кэрри тоже. Она не могла дождаться вечера пятницы, когда он приезжал на своем маленьком автомобиле: высокий, необыкновенный человек, который обращался с ней по-человечески и неизменно выказывал доброту и заботу. Он никогда не делал сексуальных поползновений, даже спал в комнате для гостей, а она со Стивеном — в самой лучшей спальне. Сначала это радовало Кэрри, но потом она начала испытывать беспокойство. Может, с ней что-нибудь не так? Почему он ее не хочет? Из-за прошлого? Полгода спустя она не выдержала и пришла к нему ночью в длинной прозрачной ночной рубашке. Блестящие распущенные волосы развевались за плечами. Бернард тихонько похрапывал во сне. Она села на краешек кровати и осторожно дотронулась до его лица. — А? — встрепенулся Бернард. Как ни странно, Кэрри вдруг застеснялась. — Бернард, ты меня не хочешь? — прошептала она. Он сел на кровати и взял ее лицо в ладони. — Хочу, Кэрри. Очень хочу на тебе жениться. Она была удивлена и счастлива. Возможно, в глубине души она знала, что так будет. Ей хотелось сделать эту ночь самой лучшей ночью в его жизни. Он оказался сдержанным любовником. Нежным, нетребовательным и быстро кончил. Ее это ничуть не смутило. Она блаженствовала в его объятиях. Волшебнее этой ночи у нее не было! И вот она — миссис Бернард Даймс. Ей тридцать один год, и она может, наконец, начать жить по-настоящему.Джино, 1953
Открытие «Миража» вылилось в яркий, экстравагантный праздник. Верный своему слову Бой пригнал целый самолет звезд экрана, и это привлекло большую прессу, как предсказывал Бой. Естественным следствием явился бурный успех. Важные шишки со всей Америки просили зарезервировать номер. Джейк торжествовал. — Я же говорил тебе, что открываю золотой рудник, — хвастливо заявил он Джино по телефону несколько месяцев спустя. — Отель процветает. В нем единственном не бывает свободных номеров. Что скажешь? — Это все очень хорошо, — бесстрастно ответил Джино. Он поставил на ключевые посты своих людей и из их отчетов сделал вывод, что мешок с золотом мог быть еще более полным, если бы не прореха. Джейк определенно приворовывает. Ну и болван же он! — Мог бы проявить больший энтузиазм, — посетовал Джейк. — Я вкалываю не покладая рук, и все наживают на этом целые состояния. Синдикат должен мной гордиться! — Он и гордится, Джейк. Не беспокойся, вкладчики оценят тебя по заслугам. Бой удовлетворенно хмыкнул. — Вот как? — Вот так, — Джино повесил трубку и подивился про себя наивности Боя. Такой смышленый парень в одном отношении и такой простак — во всех остальных. К сожалению, придется его проучить — чтобы другим неповадно было. Нельзя обкрадывать своих. Если хочешь жить, конечно. Ход его мыслей был нарушен стуком в дверь. Вошла няня Камден с Лаки. — Мы идем баиньки, мистер Сантанджело. Джино взглянул на малышку и широко улыбнулся. Несколько месяцев отроду, но уже — шикарная особа! — Э, да она с каждым днем становится все красивее! Не иначе, собирается стать кинозвездой. — Да, мистер Сантанджело, — сухо поддакнула няня. Все отцы, у которых она работала, были убеждены в исключительных способностях своих дочек. — Спи спокойно, моя радость, — пропел он. Няня унесла девочку. Всего через несколько минут в гостиную их нью-йоркского дома ворвалась Мария. Этот дом явился небольшим подарком Джино ей и себе, потому что он не горел желанием проводить зиму в Ист-Хэмптоне. Что касается Марии, то она как раз не возражала. Она была похожа на прекрасную белокурую принцессу из сказки — в высоких сапожках на меху и облегающем пальто, отделанном каракулем. — Джино! У меня чудесная новость! Он улыбнулся — как всегда, когда она входила в комнату. — Что такое, моя прелесть? Ее щеки разрумянились с мороза, прекрасные голубые глаза сияли. — Я опять беременна! На этот раз я подарю тебе сына. Обещаю! Джино захлебнулся от восторга. — Ты шутишь? Он чуть не задушил ее в объятиях. У нее был холодный нос, и она потерлась о его щеку, как щенок в поисках тепла и защиты. — Правда, чудесно? — она вздохнула. — Я так счастлива! Он расстегнул ее пальто и сжал в руках тонкую талию. — Что за ажиотаж вокруг мальчишек? Мне лично все равно — мальчик, девочка или двойня… — Тебе нужен сын, — возразила она. — Все мужчины помешаны на сыновьях. Он сильнее сжал талию жены. — Черта с два! — Ой, Джино, мне больно! Он отпустил ее талию и стал гладить груди. — Так лучше? — Джино! Не сейчас! — Почему? — Кто-нибудь может войти. В ней жило неистребимое целомудрие, и ему это нравилось. — Это наш собственный дом. — Ну да, — она попыталась улизнуть. — Но сейчас день… по дому шастают люди… Он сдержал смех. — Так запрем дверь. Мария застенчиво улыбнулась. — Ну ладно. Он не ожидал такой уступчивости. Они женаты год и два месяца, и его по-прежнему неудержимо влекло к ней. Ей была присуща естественная сексуальность, но и некоторая скованность. Это сочетание сводило его с ума. Она до сих пор выказывала неприятие орального секса, но он надеялся перевоспитать ее. Рано или поздно она будет целиком и полностью принадлежать ему. Он начал медленно раздевать ее. — Запри дверь, — напомнила Мария. Он поспешил выполнить ее просьбу. Она тем временем задернула тяжелые дамасские портьеры и легла на кушетку. Он нежно погладил ей бедра и продолжал раздевать; она то и дело ахала от удовольствия. Он не позволил ей снять сапожки. — Так сексуальнее. — Джино! Он осторожно провел руками по ее плоскому животу. Надо же — там уже зародилась новая жизнь! Его дитя! Джино наклонился, чтобы поцеловать этот живот, а затем его губы естественно скользнули ниже, к золотистому кустику шелковых волос. Он уже понадеялся, что она позволит ему продолжать, но она отстранилась и, притянув к себе его голову, поцеловала в губы. — Ну почему? — пробормотал он. — Ради праздника! — Не сейчас, — шепнула она. — Не здесь. — Почему? — Ну, Джино! Я не знаю. — Тебе понравится! — Как-нибудь в другой раз. — Когда? — Скоро. Я обещаю. Мне нужно время. — Конечно, милая, — он посрывал с себя одежду. — У нас вся жизнь впереди, — он оседлал ее и начал медленную скачку, доводя ее до экстаза. — Я люблю тебя, — пробормотала Мария. — Ага. И я люблю — тебя, Лаки и кого там еще. Резкий телефонный звонок положил конец его излияниям. — Ну? — рявкнул он в трубку. — Джино, это Энцо. Необходимо встретиться. — Что-нибудь срочное? — Очень. — У Риккадди. — В шесть часов? — Заметано.* * *
У Энцо Боннатти были свои проблемы. Имея дело, кроме всего прочего, с наркотиками и проституцией, он находился по сравнению с Джино, в более опасном положении. Приходилось вести постоянную борьбу, чтобы удержаться у руля. Однако, оставаясь у власти, он лишь плодил врагов — они так и слетались к нему, как мухи на гамбургер. Насилие было его излюбленным способом решать проблемы. Джино был не согласен: — Есть только два средства удержать власть. Либо ты проливаешь кровь, — что влечет за собой новое кровопролитие, — либо работаешь головой и делаешь большие деньги, как я. Только так можно уцелеть. Энцо обычно поднимал его на смех. — Погоди, дружок, пока кто-нибудь не встанет у тебя на пути. Всегда хватает желающих. Энцо был прав. Они-таки находились. Он сидел за столиком в «Риккадди» — сильный мужчина с заткнутой за воротник салфеткой; перед ним стояла тарелка фирменных спагетти по-болонски. Джино плюхнулся в кресло напротив. — Чао, Энцо. — Привет. — Как там Франческа? — Нормально. А Мария? — Великолепно. Опять брюхата. — Мои поздравления. Выпьем за это. Он подал знак официанту, чтобы принес еще один бокал, а затем налил дорогого красного вина. Они торжественно чокнулись. — Салют, — произнес Энцо. — Дай тебе Бог парнишку. Джино засмеялся. — Все прямо помешались на парнях. Мне лично без разницы. — У меня двое сыновей, — серьезно возразил Энцо, — которые, если я уйду, смогут продолжить дело. Приходится думать о таких вещах. — Что касается меня, то я еще не собираюсь уходить. — Прекрасно. В таком случае позаботься о своем дружке в Вегасе. Безотлагательно. — Да знаю. Просто мне нужно подобрать надежную замену. Этот бизнес в Вегасе — с ним не каждый справится. Лакомый кусочек. Соблазн слишком велик, а мне не хотелось бы через несколько месяцев встать перед той же проблемой. Энцо накрутил на вилку побольше спагетти и затолкал в рот. При этом он закапал салфетку соусом. — Ходят слухи — я буквально сегодня узнал об этом, — что Бой продал свою долю Пинки Кассари из Филадельфии. — Розовому Банану? Не может быть! — Видимо, может. У меня надежный источник. — Брось, Энцо, я только что разговаривал с Джейком. Он обязательно упомянул бы… — Больно шустрый, — Энцо запихал в рот следующую порцию спагетти. — Мне это не нравится. Сам провернешь операцию или лучше я? Джино задумался. Мысли с головокружительной быстротой сменяли друг друга. Вот, значит, как. Бой — дешевка. А как же все те суммы, которые регулярно уплывали в сторону Пиппы Санчес? Она ни разу не обмолвилась даже о факте его знакомства с Бананом. Не говоря уже о продаже его доли. — Сегодня же вылетаю, — жестко произнес Джино. — Я несу ответственность. Не волнуйся. — Я не волнуюсь, Джино, — я в бешенстве, так же, как и ты, оттого что эта жидовская морда думает — это сойдет ему с рук. — Не сойдет. — Это я и хотел услышать.* * *
В самолете у Джино оказалось достаточно времени, чтобы все обдумать и разработать план. Через проход от него сидели Ред с новичком по прозвищу Малыш Вилли. Они резались в джин-рамми и попивали «бурбон». С Боем не будет проблем, хотя и немного жалко отправлять его на тот свет. Но он сам виноват, болван этакий. Розовый Банан — вот с кем придется повозиться. Все будет зависеть от того, какую именно сделку он заключил с Боем. Ничтожество! Слюнтяй с пушкой! Просто в голове не укладывается, что его теперь величают мистер Кассари и он верховодит в Филадельфии. Сейчас ему должно быть сорок четыре года — они ровесники. Джино скажет ему всего несколько слов: «Забирай, Пинки, свои вшивые деньги и уноси ноги». Он остановился в отеле «Беверли Уилшир». Ред и Малыш Вилли разместились в примыкающих комнатах. Джино по-прежнему арендовал особняк на Бель-Эр, но сейчас он не хотел светиться. Нужно застигнуть Боя врасплох. Пока Ред договаривался об отдельном самолете до Вегаса, Джино позвонил в Нью-Йорк и добрых полчаса разговаривал с Марией. Ее голос, как всегда, оказал на него успокаивающее действие, и это было очень кстати. — Вернусь через несколько дней, — пообещал он. — Давай-ка почаще отдыхай и пей больше молока. И не забывай принимать витамины, которые док прописал тебе во время первой беременности. До него донесся ее серебристый смех. — Джино! Ты прямо как мать! Ему было не смешно. — Я даю тебе полезные советы, а ты издеваешься. Тоже мне пациент! — Я не пациент, а здоровая беременная женщина. — Я люблю, когда ты становишься, как огромный воздушный шар. — Джино! До свидания. Он возбудился от одного только ее голоса. Пошел, принял холодный душ, оделся и вызвал Реда. Тот доложил: — Все в порядке, босс. К шести часам самолет будет готов.* * *
В это время Пиппа Санчес была не с Боем и не в Вегасе. Она получила эпизодическую роль в фильме с Кларком Гейблом и провела всю неделю в Голливуде, вживаясь в образ. Это была версия для Джейка. На самом деле она ублажала стареющего режиссера, который дал ей эту роль и рассчитывал на вознаграждение. Если бы Бой знал, он убил бы ее. Во всяком случае, он не раз говорил ей об этом. Пиппа дорожила своей свободой. Когда Джейк предложил ей переспать с Джино, она удивилась и втайне обрадовалась. Она всегда стремилась к разнообразию — хотя это не значило, что она не любила Джейка. Он был полезен для ее имиджа, а в наше время имидж — наиважнейшая вещь, может быть, даже важнее всего остального. Она лезла вон из кожи, уговаривая Джино и Джейка вложить деньги в какую-нибудь картину. Больше года работала на Джино, регулярно посылала сценарии, расписывала, сколько на этом можно зашибить в случае удачной постановки. Как горох об стенку. С такими мыслями она подъехала к дому, где жила с Джейком, и припарковала свой розовый «буревестник» на стоянке. Интересно, думала она, идя по дорожке к дому, будет ли толк от сценариста, которому она втайне от всех заказала новый сценарий. Одно дело — готовый сценарий, и совсем другое — написанный на заказ, где предусмотрена выигрышная роль для нее самой. В доме стояла тишина, если не считать урчания громадного холодильника на кухне. Джейк его терпеть не мог. «Выбросить бы его ко всем чертям! — бушевал он. — Не выношу этот чертов шум!» Разумеется, он его не выбросил. Другой, меньших габаритов, ни в коей мере не удовлетворил бы запросы самого Джейка, жившего в постоянном страхе, что Тайни Мартино, Эррол Флинн или еще какая-нибудь знаменитость заглянет на огонек и попросит что-нибудь такое, чего у него нет. Вопиющее нарушение законов гостеприимства! Все сразу поймут, что он — босяк, мелкая сошка, не умеющая принимать гостей. Поэтому независимо от того, был ли Джейк в городе или нет, урчащий гигант всегда был набит под завязку. Пиппа сбросила платье и осталась в крохотных черных бикини, привезенных из Европы и как нельзя лучше обрисовывавших ее соблазнительные формы. Она пошлепала в белую гостиную, а оттуда вышла во двор, где был расположен роскошный плавательный бассейн. С минуту постояла на краю бассейна, дожидаясь, когда восстановится дыхание, а затем легко, почти без брызг, нырнула и поплыла, словно косой рассекая воду. Пиппа была прекрасной пловчихой. Джино следил за ней из окна раздевалки. Он проник в дом пятнадцать минут назад, сунув сотню баксов лакею, и приготовился ждать. К счастью, ожидание оказалось недолгим. Пиппа двадцать раз переплыла бассейн туда и обратно и вышла из воды. Джино шагнул ей навстречу — в не слишком подходящем для Калифорнии черном костюме, голубой рубашке и узком галстуке. Девушка ахнула. — Джино! О Господи! Откуда ты взялся? Как ты меня напугал! Он сказал, растягивая слова: — Пиппа, ты меня разочаровала. Она схватила коротенький махровый халат и набросила себе на плечи. В голове лихорадочно метались мысли. Зачем он приехал? Что здесь делает? Знает ли Бой? — Разочаровала? — она позволила себе деланно рассмеяться. — Не понимаю, о чем ты. Как ни странно, Джино нисколько не вспотел — полностью одетый, под палящим солнцем. — Тебе не жарко? — спросила Пиппа, поигрывая миниатюрным золотым распятием в ложбинке между грудями. — Одевайся, — приказал он. — Даю тебе ровно час времени. Она вся покрылась испариной; крупные капли пота смешались с каплями воды. Но Пиппа была не робкого десятка. Она прошла суровую жизненную школу, и ее было не так-то легко сбить с толку. — Что-нибудь случилось? — И очень серьезное. Она надела халат и туго подпоясалась. — Идем в дом. Выпьем, и ты мне все расскажешь. — У тебя мало времени, — холодно возразил он. — Не трать даром драгоценные минуты, осталось меньше часа. — Да что случилось? — взорвалась она. В темных глазах вспыхнули опасные огоньки. Она преодолела страх и приготовилась к бою. Пусть он командует Боем, а ее не посмеет тронуть. — Ты меня обкрадывала, — бесстрастно констатировал Джино. — Брала мои деньги и утаивала информацию о Джейке. Она пожала плечами. — Нечего было утаивать. Нет, правда. Конечно, она лгала, и, что гораздо хуже, он знал об этом. И зачем только она рассказала Джейку о деньгах и предложении Джино? Идиотка! Но тогда она так не думала. Особенно после того, как Джейк преподнес ей бриллиантовое колье и забросал ее всевозможными подарками, плюс снабдил ее фишками для игры в казино «Миража» на общую сумму пять тысяч долларов. И еще обещал. Конечно, она знала, что он вор. Ну так что? Они с Боем провели не один вечер в постели, издеваясь над Джино Сантанджело, который никогда не узнает, сколько денег ушло в бездонный карман Боя. Никогда не узнает. — Меня не интересуют твои оправдания, — резко произнес Джино. — Не будь ты женщиной, мы бы сейчас не разговаривали. Ты лежала бы на дне бассейна или твое разбитое лицо покоилось бы на ветровом стекле машины. Ты меня поняла? Она поняла и запаниковала. — Прости, Джино. Мне правда очень жаль. — Конечно, — почти добродушно ответил он. — Поэтому-то я и даю тебе смыться. Идем, уложишь вещи, а я за тобой присмотрю. — Куда я должна ехать? — В Испанию. Пиппа пришла в ужас. — В Испанию? Но я не могу ехать за границу, у меня съемки. Я… Джино оборвал ее. — В Испанию. Самое меньшее на два года. Если вернешься до этого срока… Говорить больше не потребовалось.* * *
Бой обожал Вегас, а Вегас обожал Боя. Они идеально подходили друг другу. Обоим были присущи показной блеск, мишурное великолепие. «Мираж» более чем оправдал его надежды. Бой с важным видом расхаживал по отелю, и мало-помалу у него зародился новый план: построить отель еще больше и шикарнее. И так — отель за отелем, все великолепнее и великолепнее. Так что он вполне созрел для того, чтобы принять предложение Пинки Кассари о продаже его доли. Бой запросил умопомрачительную сумму, и, к его удивлению, Пинки согласился. Конечно, Бой понимал, что должен посоветоваться с Джино, испросить его разрешения, но вдруг бы тот сказал «нет»? Так что он решил заключить сделку и потом поставить Джино перед фактом. Вот и настал такой момент, когда уже поздно что-либо менять. Джейк с Пинки отметили это дело двумя квартами шампанского, сборищем звезд и тремя шоу-герлс, каждая из которых была способна удержать на сосках десятицентовую монету. Джейк скучал без Пиппы. Она привела его в бешенство со своей дурацкой карьерой. Нужно что-то предпринять. Может, и вправду вложить часть свалившегося на него богатства в какой-нибудь фильм? Видит Бог, она давно об этом мечтает. — Ну и где же твоя рыжая со своим необыкновенным трюком? — зарычал Пинки. — Возьми ее наверх, и она тебе покажет, — в свою очередь огрызнулся Джейк. В душе он терпеть не мог этого подонка, но взнос наличными, который в эту минуту хранился у него в спальне, несколько примирил его с Розовым Бананом. — А если я хочу всех трех? — Чувствуй себя как дома. — Я так и сделаю. Из уголков рта у Пинки текла слюна. С возрастом он стал еще противнее. Глазки уменьшились и приобрели более подлое выражение; губы распустились, сальные волосы поредели, отчего физиономия стала казаться еще более жирной и придурковатой. Он безвкусно, кричаще одевался и сменил трех жен. Сейчас у него была четвертая, медная блондинка, бывшая исполнительница стриптиза. Она ждала его в Филадельфии вместе с тремя пекинесами — не могла же она оставить их одних! Единственными детьми Пинки были двое мальчишек-близнецов от первой жены. Уже сейчас они обещали превратиться в таких же мерзавцев, как папочка. Пинки Розовый Банан был растленным, насквозь коррумпированным типом, рвущимся к власти. Двадцать два года он копил злость против Джино Сантанджело. Купить Боя — за любые деньги! — означало подобраться поближе к заветной цели — отомстить Джино.* * *
Джино появился в Лас-Вегасе так же незаметно, как и в Лос-Анджелесе. Он высоко ценил эффект неожиданности и жаждал увидеть растерянность на лице Боя, когда он почтит своим присутствием званый ужин по случаю сделки Боя с Розовым Бананом. Да уж. Теперь все стало на свои места, и откладывать незачем. Однажды начав говорить, Пиппа выложила все. Так же поступили и остальные. Теперь их волновало только то, как бы спасти свою шкуру. Джино сел в подкативший прямо к трапу черный лимузин и отправился в отель. В сопровождении Реда и Малыша Вилли прошел через весь вестибюль. Их провожали взглядами и возбужденно шептались. Управляющий казино бросился навстречу, чтобы приветствовать Джино, но тот отмахнулся: — Потом, потом, — и зашагал дальше.* * *
— У бабья между ног, — разглагольствовал Пинки, — сладкий, но скоропортящийся товар. Полежит несколько месяцев на полке — и хочется свеженького. Джейк подавил зевок. Кому нужно мнение этого кретина по данному вопросу, а также по всем остальным? — У меня в Филадельфии, — расходился Пинки, — целый ряд борделей с самыми горячими девочками. Все дело в том, что я знаю, как с ними обращаться. Берешь их, используешь — и отправляешь к приятелям в Южную Америку. Только так. — Само собой, — Джейк подмигнул одной из шоу-герлс, давая понять, что пора заняться Пинки. Девушка поморщилась, но Джейк — босс. — Мистер Кассари, — проворковала она, — какой у вас замечательный костюм. Неподражаемая материя! Пинки был польщен. — Ты так думаешь, куколка? А мне по душе твои титьки. Как насчет этого? Девушка так и не успела высказать свое мнение, ибо в этот самый момент в банкетный зал вошел Джино, и всех посвященных охватила паника. Бой побелел как смерть, не помог и великолепный загар. У Розового Банана отвисла челюсть. — Привет, ребята! — бодро поздоровался Джино. — Это закрытая вечеринка или можно принять участие? Знаменитые гости на другом конце стола понятия не имели о подоплеке и продолжали веселиться. Шоу-герлс почуяли неладное: уж больно нервничал Джейк. — Джино! — воскликнул он. — Что ты тут делаешь? — Как ты принимаешь гостей? — Джино преспокойно уселся на один из стульев. — Н-но мы только что говорили с тобой по телефону,ты был в Нью-Йорке. — А теперь вот здесь. И мой старинный приятель Розовый Банан тоже здесь. Как дела, дружище? Давненько не видались, а? Пинки метнул на Джино злобный взгляд, а затем попытался изобразить улыбку. — Банана я похоронил много лет назад. — Да ну? И где же? Пинки побагровел. Бой понял: дело пахнет керосином, — и начал изворачиваться. — Рад тебя видеть. Я как раз хотел с тобой поговорить о кое-каких новых обстоятельствах, — слова из него так и сыпались. — Идем ко мне в кабинет и все обсудим. Как ты считаешь? Джино пригвоздил его к месту убийственным взглядом черных глаз. — Ты, гнусный ублюдок! — прошипел он. — Поздно уже что-либо объяснять. Слишком поздно.* * *
Три месяца спустя, утром, Джино, как обычно, зашел к Лаки в детскую. Ей исполнилось десять месяцев, и она стала очаровательным ребенком с черными цыганскими глазами и черными волосами. — Кто тут папина девочка? — сюсюкал Джино, беря ее на руки. — Кто папина маленькая принцесса? Лаки довольно загукала. Он крепко прижал ее к себе, наслаждаясь теплым детским запахом. Неожиданно в комнату вбежала расстроенная Мария. — Джино, — она протянула ему газету. — Кажется, этот человек работал с тобой? Он взял газету и увидел заголовок: «ТРУП ДЖЕЙКА КОЭНА НАЙДЕН В ПУСТЫНЕ». В заметке говорилось следующее: «Сегодня в десять часов утра двое туристов наткнулись в пустыне в десяти милях от Лас-Вегаса на разложившийся труп Джейка «Боя» Коэна — он лежал в зловонной яме. Это произошло после сильной песчаной бури и перемещения песчаных пластов…» И так далее. Джино быстро пробежал статью глазами. Бедняга Джейк. Он сам напросился — и получил свое. — Это правда, Джино? Он вздрогнул, осознав, что рядом стоит жена. — Да, — уронил он небрежно, — это тот самый парень. Больше Мария ни о чем не спрашивала. Просто погладила его щеку. — Будешь завтракать? Хочешь чего-нибудь вкусненького? Он засмеялся и шлепнул ее пониже спины. — Уже попробовал. — Джино! Ее было легко смутить. Ему это нравилось.* * *
В обеденное время в «Риккадди» был переполнен. Барбара с детьми носились по залу, балансируя тарелками с пиццей и графинами с вином. Джино заказал пиццу, несмотря на то, что в последнее время набрал несколько лишних фунтов. Энцо не прикасался ни к чему, кроме спагетти по-болонски, а Альдо пристрастился к телятине. — Я от нее худею, — сказал он, голодным волком набрасываясь на телятину и делал знаки детям, чтобы тащили еще. Энцо медленно, стоически уминал спагетти. Все трое сидели за дальним угловым столиком. Два столика у двери заняли телохранители. Шансы Джино и Энцо дожить до старости были не так велики, чтобы зря рисковать. Бесшабашность если и имела место, то осталась в далеком прошлом. — Идет война, — сказал Энцо, — и я хочу положить ей конец. Джино согласно кивнул. — Стоит вывести из игры Пинки — и дело в шляпе. — Правильно, — подтвердил Энцо. — Еще ни одному сукину сыну не удавалось меня облапошить. Джино кивнул. Розовый Банан причинил им кучу неприятностей. Что касается сделки в Лас-Вегасе, то Джино старался играть по правилам, даже предлагал вернуть Пинки деньги, а когда тот отказался, попытался передать с посыльным. Через три дня посыльного нашли на стоянке возле «Миража» — с пулей в черепе и свертком с деньгами в кармане пиджака. «На этот раз тебе не удалось взять меня за яйца, — сказал Банан Джино по телефону. — Однажды ты от меня избавился, но это не повторится. Я купил долю в «Мираже» и сохраню ее при себе». Война продолжается… Джино нашпиговал «Мираж» своими людьми, и тогда прокатилась новая волна убийств. За короткое время погибли управляющий казино, официантка из коктейль-бара и крупье. Такие вещи сильно мешают бизнесу. Известность «Миража» росла, а доходы падали. — Я заключу контракт с одним киллером из Буффало, — предложил Джино. — Он быстро вышибет из него мозги. Энцо кивком выразил согласие. — Чем скорее, тем лучше.* * *
Первого апреля тысяча девятьсот пятьдесят первого года Пинки проснулся поздно. Его последняя жена, которую он любовно называл Пираньей, храпела рядом. Это всегда приводило его в бешенство. В спальне воняло собачьим дерьмом. Пинки пнул жену в бок. — Опять твои собаки загадили спальню? Пиранья протерла глаза, с которых вчера не удосужилась смыть тушь. — Что-что? Он пришел в ярость. — Твои чертовы псы обделали ковер! Пиранья села на кровати. Она была в чем мать родила, и ему, как всегда, бросились в глаза ее мощные груди — самые большие пневматические груди в Филадельфии. Временами Пинки казалось, что он женился не на женщине, а на паре необъятных искусственных титек. — Ну так что? — заорала она. — От вони еще никто не умирал! — Да уж! Кому, как не тебе, это знать? Когда ты в последний раз принимала ванну? Пиранья не уступала: — И ты еще смеешь упрекать меня? Слюнявый подонок! — она замахнулась, но он перехватил ее руку. — Пусти! Сейчас же отпусти меня! Все три пекинеса ринулись защищать хозяйку. Два пса вспрыгнули на кровать, а один встал на задние лапы и неистово лаял. — Заткни пасть своим чертовым псам! — завопил Пинки. Пиранья, наоборот, науськивала собак: — Давайте, давайте, милые, помогите мамочке! Теперь уже лаяли все три пса, а те, что были на кровати, прыгнули на Пинки. Пока он отдирал их от себя, Пиранья вцепилась длинными кроваво-красными ногтями ему в рожу. — Сука! — орал Пинки. — Гад! — не отставала она. Им вторили псы. Пинки схватил одного за загривок и швырнул через всю комнату. Пес приземлился в углу и жалобно заскулил. Пиранья бросилась ему на помощь. — Ты, недоносок! — вопила она. — Сделал Паф-Пафу больно! — Пошел твой Паф-Паф!.. — Сам пошел!.. Пинки соскочил с постели и угодил босыми ногами прямо в собачьи какашки. Он взвыл и опрометью ринулся в ванную. Пиранья, путаясь в рукавах, надевала халат. Потом она подобрала раненую собаку, схватила лежащие на столе ключи от «кадиллака» и выбежала из дома, приговаривая: — Не волнуйся, малыш, мама отвезет тебя к доктору. Пинки мыл ноги и вдруг услышал взрыв. Сначала он подумал, что на него напали, и кинулся плашмя на пол ванной. Потом встал, осторожно вышел в спальню и увидел за окном пылающий «кадиллака». — Боже праведный! — ошеломленно пробормотал он. — Там мог быть я!* * *
Первого сентября тысяча девятьсот пятьдесят первого года у Джино родился сын. Его сын! Самый счастливый момент его жизни! Они назвали ребенка Дарио. Джино неделю праздновал. Мария ликовала. — Я же говорила, что подарю тебе сына! Он зацеловал ее всю — свою прекрасную девочку-жену и в который раз вознес хвалу небесам за то, что они встретились. Дарио был хилым младенцем — всего пять фунтов десять унций — и совсем не похож на Лаки: лысенький, с ручками и ножками, как спички, бледный и голубоглазый. Лаки была уже взрослой девицей: ей исполнилось год и три месяца. Точная копия своего отца. Такая же смуглая, оливковая кожа. Черные глаза. И вьющиеся черные волосы. Он безумно любил ее, но рождение сына — это все-таки что-то особенное. Мария сочла необходимым по возвращении из больницы провести разъяснительную работу: — Джино, мы должны быть очень осторожными. Как бы Лаки не начала ревновать. — Ты что, смеешься? Я обожаю их обоих! — И тем не менее следи за собой. — Ладно. И все-таки сын есть сын. Продолжение тебя. Дочь — это нечто совсем другое.* * *
— Эта сволочь живуча, как кошка, — бушевал Энцо. — Сроду не сталкивался ни с чем подобным. — Ничего, — успокоил его Джино. — Главное, мы его хорошенько напугали. Больше он не сунется в Вегас и тем более в «Мираж». — Если ты так считаешь, ты очень ошибаешься, — предупредил Энцо. — Если я ошибаюсь, мы вышибем из него дух раз и навсегда! Энцо все не мог успокоиться. — Как это мы его упустили? — Мы убили его жену. Это послужит ему уроком. Теперь он будет держаться от нас подальше. — Да, какое-то время. — Да брось ты, — сказал Джино. — Я знаю Пинки, как свои пять пальцев. Не забывай, мы вместе начинали — на улице. Он мог вспыхнуть, но надолго его не хватало, хочешь пари? — Я не любитель. — Ну и не надо. Просто запомни мои слова. Он засядет у себя в Филадельфии и никогда больше не будет путаться у нас под ногами. — Хочу надеяться, что ты прав. — Ясное дело, прав, — Джино закурил длинную, тонкую сигару «Монте-Кристо». — Хочешь взглянуть на моего наследника? Самый замечательный парень во всем мире!Четверг, 14 Июля 1977 г., Нью-Йорк
Стивен вперил взгляд в удаляющуюся фигуру Лаки и смотрел ей вслед до тех пор, пока она не исчезла из виду. Тогда он и сам начал спуск по бетонным ступенькам. Он смертельно устал, был грязен и зол на судьбу, продержавшую его целую ночь в лифте, да еще в компании такой мегеры, как Лаки — нахальной, грубой, ругающейся, как извозчик. Ну, правда, хорошенькой, этого у нее не отнимешь. Даже после ночи в лифте она выглядела — просто блеск! Он приказал себе не думать о ней. Что он, в самом деле, себе позволяет. С тех пор как он решил, что Эйлин — единственная, Стивен ни разу не помыслил о другой женщине.* * *
К Дарио медленно возвращалось сознание. Он не сразу понял, где находится, потом вдруг вспомнил и резко сел. Низ живота свело от страха и нестерпимой боли. Он находился в своей постели. Голова раскалывалась. — Ну, как ты? Дарио заморгал. Комнату освещала всего одна свеча. В кресле у двери кто-то сидел. Дарио попробовал встать, но едва его ноги коснулись пола, как накатила тошнота, и он был вынужден снова лечь. — Ничего-ничего, — послышалось от двери. — Я — Сэл, меня прислал Коста Зеннокотти. Извини, что пришлось тебя стукнуть, но откуда мне было знать, кто ты, а кто — налетчик? Дарио приподнял голову и простонал: — Большое спасибо. — Не обижайся, — фигура в кресле поднялась и приблизилась к нему. Дарио был в шоке. Сэл — женщина!* * *
К тому времени, как проснулся Эллиот, Кэрри была уже полностью одета и нервно вышагивала по квартире. — Ты бы лучше полежала, — упрекнул муж. — Вчера тебе пришлось несладко. Она постаралась, чтобы ее голос звучал легко: — Я прекрасно себя чувствую. Не хватало сейчас отлеживаться! — Черт побери! — воскликнул Эллиот, тщетно пытавшийся включить свет в ванной. — До сих пор нет электричества! Что только происходит с этим городом? Кэрри пожала плечами. Что происходит с ее жизнью? Какой уж тут город…* * *
Джино быстро добрался до Нью-Йорка. В двенадцать тридцать машина уже неслась по оживленным улицам Манхэттена, снижая скорость на перекрестках — светофоры не работали — и подскакивая на выбоинах. — Не могут привести улицы в порядок, — буркнул шофер. — Куда только идут наши денежки? Это были первые слова, с которыми он обратился к Джино за все время пути. Джино молчал. Сейчас не до разговоров.* * *
Двадцать семь лестничных пролетов вниз — и у Лаки заныли ноги, которые к тому же потели в высоких модных парусиновых сапожках. Ах, если бы сейчас на ней были шорты, теннисные туфли и рубашка с короткими рукавами! Лаки улыбнулась, представив себе физиономию Косты, если бы она в таком виде заявилась к нему в офис. А почему бы, собственно, и нет? Она взрослая и может делать все что пожелает. Все-все-все. Она вышла из того возраста, когда драгоценный папочка контролировал и диктовал ей, что делать, а чего не делать. Держал в постоянном страхе… Джино Сантанджело. Знаменитый Джино. Отец. Папочка. Джино Сантанджело. Таран. Черт побери! Он может в любую минуту объявиться в Нью-Йорке. Буквально каждую минуту. Лаки остановилась передохнуть, присела на бетонную ступеньку и перевела дух. Конфронтация с отцом. Та еще перспектива! Но она принимает вызов! С минуту она сидела, закрыв глаза и посасывая большой палец. Поспать бы! Откуда-то сверху донеслись шаги — это спускался Стивен Как-его. Чертов ханжа. Лаки заставила себя подняться и продолжить путь. Осталось всего двадцать этажей.* * *
— Господи! — ахнул Дарио. — Ты — женщина? — А ты как думал, — издевательским тоном ответила Сэл. — Я и впрямь заметила, что со мной что-то не так: утром, когда принимала душ. Дарио застонал, лежа на спине. — Ударчик у тебя не женский! Сэл ухмыльнулась. Ей было двадцать четыре года, она весила сто шестьдесят фунтов и была сильна, как бык. Коротко остриженные курчавые волосы делали ее похожей на Ширли Маклейн. Среди наемников она пользовалась славой крутого боевика, способного быстро и аккуратно выполнить любое задание. Ее услуги стоили недешево, но обращавшиеся к ней не жалели денег. Черный комбинезон, хриплый голос. Неудивительно, что Дарио принял ее за мужчину. — Слушай, — сказала она, — там на кухне валяется твоя «проблема» с кухонным ножом в брюхе. Что это за тип? Дарио снова застонал. — Понятия не имею. Он пытался меня убить, вот и… Сэл пожала плечами. — Да не мандражируй ты. Если я верно поняла, труп нужно убрать отсюда? Это, конечно, влетит в копеечку. — Коста об этом позаботится. — Ладно. Давай поспи. Пару часов не трогайся с места. К тому времени мы оба исчезнем из твоей жизни. Договорились? Он тупо кивнул и подумал: «Вот я проснусь — и как будто ничего не было!» — На вот парочку. Они помогут тебе расслабиться, — она протянула ему пару таблеток. Дарио благодарно принял и через несколько минут уже спал крепким сном. Сэл задумчиво смотрела на него. Дарио Сантанджело. Сын Джино. Может, теперь ее очередь попытать счастья?* * *
Коста провел ночь в офисе, на удобном диване. И правда, с какой стати в его возрасте карабкаться по лестнице? Отправив Сэл на выручку Дарио, он позвонил в аэропорт и узнал, что самолет Джино произвел посадку в Филадельфии. Его друг, наверное, в бешенстве. После стольких лет изгнания, стольких переговоров, чтобы ему разрешили вернуться на родину! Ну, ничего, одна ночь в Филадельфии — еще не конец света. Джино будет полным идиотом, если попытается сегодня же явиться в Нью-Йорк. Мэр говорил об аварии — и нешуточной. Так что Коста развязал галстук, снял пиджак и преспокойно уснул. В девять утра его разбудил звонок Джино. — Я в пути. Встретимся в районе полудня в «Пьере». Коста ни на минуту не задумался о том, как он будет спускаться пешком с пятьдесят первого этажа. Джино нуждается в его помощи. Даже теперь Коста продолжал вскакивать по его первому сигналу.* * *
— Надо бы отменить званый ужин, — рассуждал Эллиот. Его безмерно раздражало вторжение каких бы то ни было случайностей в размеренный, строго распланированный ход его жизни. — Скорее всего, к тому времени повреждение на станции будет уже устранено, — возразила Кэрри. — Гм, — Эллиот нахмурился. — Знаешь, чего мне сейчас хочется? — Чего? — спросила Кэрри. Самой ей хотелось одного: чтобы он убрался в свой офис! — Съездить куда-нибудь. На Багамы. Или на Гавайи. Или на Виргинские острова. Как ты к этому относишься? Как она к этому относится… Очень плохо. Уехать, зная, что в Нью-Йорке какая-то сволочь только и ждет случая свести с ней счеты? Немыслимо! Она принужденно засмеялась. — Не глупи. Разве мы можем сейчас уехать? — Почему нет? — Ну, просто не можем. У нас все расписано вплоть до сентября. Приемы, презентации, вечеринки… Эллиот перебил ее: — Ничего такого, чего нельзя было бы отменить. — Ты же терпеть не можешь подводить людей. — Всего на несколько недель. Тебе нужно развеяться. — Мне и здесь хорошо, — быстро сказала она. — Я тебя не понимаю. После пережитого вчера… — Вдруг зазвонил телефон. Эллиот снял трубку. — Алло? Алло? — Кто там? — вся трепеща, спросила Кэрри, когда он положил трубку. — Ошиблись номером. Даже на телефонной станции — сплошные проколы. Куда мы катимся? Кэрри вздрогнула. Это шантажист. У нее нет ни тени сомнения.* * *
Джино пересек вестибюль отеля «Пьер» и очутился у окошечка портье. Теперь он ступал медленнее, тяжелее. Но от него все еще исходила властная энергия. — Мы вас ждали, мистер Сантанджело, — сказал портье, отдавая ему ключ от номера. Сидевшая неподалеку женщина обернулась, услышав его фамилию. А когда вернулся ее муж, что-то прошептала ему, и они оба уставились на Джино. — Мистер Зеннокотти уже наверху, — продолжал портье. — Надежные источники сообщают, что неисправность скоро будет устранена. Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, звоните. Джино кивнул, оглянулся по сторонам и глубоко вздохнул. Нью-Йорк. Здесь совсем особая атмосфера. Как ни в каком другом городе. Наконец-то он дома! Восхитительное чувство!
Книга 2
Лаки, 1955
Все, что происходило до того, как ей исполнилось пять лет, осталось в ее памяти радостными цветными вспышками. Тепло. Ощущение безопасности. Добрая, красивая мамочка с мягкими белокурыми волосами и бархатистой кожей. Ласковая, душистая, жизнерадостная, она носила красивые платья и пушистые меха. Папа. Большой, грубоватый. Он всегда приносил подарки — кукол и мишек (Лаки жадно набрасывалась на все подряд). Старался помедленнее ходить, когда она семенила рядом. По случаю ее пятого дня рождения родители устроили праздник. Полсотни детей. Клоуны. Катание на осликах в саду. Огромный шоколадный торт в виде кукольного домика. Лаки так волновалась, что едва дышала. На ней было розовое платьице с оборочками, ленточки в кудрявых волосах, короткие носочки и белые туфельки. Джино сграбастал ее в охапку, несколько раз назвал своей маленькой итальянской принцессой и вручил подарок — украшенный бриллиантами и рубинами медальон на золотой цепочке, в котором хранился фотопортрет их обоих. — Папочка! — взвизгнула она и стала покрывать его лицо поцелуями. — Ты ее балуешь, — мягко упрекнула Мария. — Некоторые детишки для того и созданы, чтобы их баловать, — и он подбросил девочку в воздух. Лаки вскрикнула, но он поймал ее и заключил в объятия. Она с наслаждением вдыхала знакомые запахи, которые так любила. Запахи папочки. Лаки прижалась к нему и пробормотала: — Ты такой хороший, папочка, такой хороший! Он опустил ее на землю и подмигнул Марии. — Точная моя копия. Жена нежно улыбнулась. — Внешне — да. Но все остальные достоинства — от меня. Лаки обхватила ручонками ногу отца, давая понять, что снова хочет, чтобы он взял ее на руки, но он уже утратил интерес к дочке, перенеся его на маму. — Да ну? — Точно, — и она тоже подмигнула. Джино счастливо засмеялся, стряхнул с себя Лаки и сграбастал жену. — Кто сказал? Девочка сунула в рот палец и молча наблюдала за родителями. Иногда взрослые бывают такими смешными! Ни с того ни с сего перестали обращать на нее внимание, а ведь сегодня не чей-нибудь, а ее день рождения. Она вынула палец изо рта и сказала: — У меня болит животик. Мария оттолкнула Джино и склонилась над дочкой. — Не может быть! В такой день! Где болит, маленькая? — Везде. Мария укоризненно посмотрела на Джино. — Не нужно было ее подбрасывать. Ты слишком бесцеремонен. — Да? — он снова схватил дочь и начал щекотать. — Болит, да? Где болит? А? Малышка залилась счастливым смехом. — Джино, перестань! — тревожилась Мария. — Ничего, ей нравится. Конечно, Лаки нравилось. Она хохотала до слез. — Больше не болит, папочка! Не болит! Он продолжал щекотать дочку. — Хватит! — кричала она. — Хватит! — Ага! Хочешь, чтобы папочка перестал? Нет уж! А вот так?.. — Джино, это уже чересчур, — мягко произнесла Мария. — Девочка перевозбудится. И он перестал ее щекотать. Напоследок крепко прижал малышку к себе и прошептал: — Папа тебя любит, детка, — и опустил на землю. Тут как раз появилась няня Камден, крепко держа за руку Дарио. Случалось, он убегал и потом не мог найти обратную дорогу. — Эй, — крикнул мальчику Джино. — Сегодня хоть и не твой день рождения, но у меня есть кое-что и для тебя тоже! Дарио так и не выпустил руки няни Камден. Джино протянул ему красиво упакованный сверток. Лаки запрыгала от удовольствия. Она не была ни завистлива, ни ревнива и от души радовалась, что ее маленькому братишке тоже достался подарок. — Скорее открывай, дурачок! — торопила она, а поскольку он медлил, сделала это сама, безжалостно разорвав цветную оберточную бумагу. Внутри оказался большой заводной автомобиль — алый, с вращающимися колесами. Лаки ликовала даже больше Дарио. Он осторожно дотронулся до игрушки и снова схватился за няню. — Эге-гей! — воскликнул Джино. — Тебе нравится? — он подхватил Дарио на руки и начал подбрасывать в воздух, как Лаки. Мальчик разразился слезами и вдруг истошно закричал. Его тут же вырвало. Джино отдал его няне. Хорошо бы, хоть в будущем его сынишка стал смелым и мужественным, как сестра. — Он только что поел, — набросилась на мужа Мария, — а ты его тормошишь. Джино пожал плечами и снова переключился на дочь. Они вместе погоняли по полу игрушечный автомобиль. Мария принесла фотоаппарат и сфотографировала их. — Улыбайтесь! — приказала она, и они совершенно одинаково улыбнулись в объектив.* * *
Через неделю Джино уехал. Когда папа уезжал, Лаки не особенно огорчалась, потому что он всегда возвращался с подарками. Конечно, она по нему скучала. Иногда мама давала ей поговорить с папой по телефону. Море удовольствия! В папино отсутствие в доме появлялись чужие люди. Маме это не нравилось. Лаки слышала, как она спорила с папой. Но на этот раз никто не появился, потому что папа уехал всего на сутки. Интересно, подумала Лаки, успеет ли он купить подарки? В саду, в маленьком флигеле, жили Ред и еще один парень. Лаки любила играть с ними. Они катали ее на закорках, а потом сбрасывали в бассейн. Няня Камден их терпеть не могла, называла «неотесанными чурбанами». Лаки не знала, что это такое. А вот Дарио плакал, когда они пытались поиграть с ним. Он вообще был плаксой. Одной только Лаки иногда удавалось рассмешить его. Перед уходом папа крепко поцеловал ее, а потом — еще крепче — маму. Когда он ушел, мама взяла девочку в свою спальню и разрешила примерить свои платья, туфли и драгоценности. Лаки обожала эту игру: жаль только, ей позволялось играть в нее лишь в особых случаях. Она надеялась еще на одну привилегию: что мама разрешит ей спать в своей спальне. Но увы! — в шесть часов няня Камден увела ее в ванную, а в семь мама пришла пожелать ей спокойной ночи. Лаки протянула руку и дотронулась до маминого золотистого локона. — Почему у меня не желтые волосы? — Потому что у тебя прекрасные черные волосы, как у папы, — нежным голосом ответила мама. — Ты вдвойне счастлива: и из-за имени, и из-за чудесных черных кудряшек. Слова мамы доставили Лаки удовольствие. — А у Дарио желтые волосы. — Да, дорогая. Ну, спи. — Папа завтра приедет? — Да. — И мы все пойдем купаться? — Если он приедет не слишком поздно. — Да, мамочка. Лаки сунула большой палец в рот и через несколько минут уснула.* * *
Лаки была жаворонком: в шесть-семь часов утра она уже была на ногах. Дарио и няня Камден никогда не поднимались раньше половины девятого. Ее это нисколько не огорчало. Она научилась сама готовить себе завтрак и наслаждалась своей самостоятельностью. Конечно, ей не разрешалось выходить из дома без взрослых. Всюду была установлена сигнализация. Стоило приоткрыть дверь или окно, как начинали звенеть колокольчики. Однажды она попробовала — папа чуть не сошел с ума. Кричал, вопил, ругался и носился по дому и саду с пистолетом в руке. Прямо как по телевизору. Ей было дико смешно, а Дарио испуганно заревел. Когда папа был дома, он тоже рано вставал. Лаки знала, куда что вставить, чтобы вскипятить себе чай. Или сварить папе кофе так, как он любил, и заработать лишнюю порцию поцелуев. Мама вставала поздно, не раньше девяти. Или половины десятого. Папа шлепал ее по мягкому месту и называл соней. Лаки отворачивалась, чтобы не видеть, как они целуются. За окном вовсю чирикали птицы. Лаки вскочила с постели и подбежала к окну, чтобы посмотреть. Ее ожидал сюрприз: мама уже проснулась и нежилась в бассейне. Она лежала на полосатом надувном матрасе, дрейфовавшем в центре водной глади. Лаки торопливо влезла в свой желтый купальник. Папа любил поддразнивать: мол, у нее толстый животик. Звал пампушкой. Умереть со смеху! Она сбежала по ступенькам. Ура! — стеклянная дверь не на запоре. — Мамочка! — радостно позвала она. — Я тоже хочу купаться! Можно? — вся во власти счастливого возбуждения, девочка подбежала к бассейну. Но мама спала и не слышала. Самая красивая мама в мире — так утверждал папа, и Лаки разделяла его мнение. Она неподвижно лежала на надувном матрасе: длинные, почти белые волосы плавали по воде, руки и ноги безвольно свесились по сторонам матраса. Девочку поразили две вещи. Мама, скверная девчонка, забыла о приличиях и купалась голышом. А вода в бассейне была непривычного розового цвета. Лаки постояла на краю. — Мамочка! — потом громче: — Мамочка! Мамочка! Что-то было не так, но она не знала что. Где папа? Почему его нет? Уж он-то разобрался бы, в чем дело. Глупый папа! Взял да уехал. Она села на бортик бассейна: пухлые ножки не доставали до воды. Мама проснется — нужно только подождать. Посидеть и подождать. Ничего особенного.Стивен, 1955–1964
Когда Стивену было шестнадцать, его однажды вызвали из частной школы, где он учился, и Кэрри, с распухшими красными глазами, сообщила, что Бернард Даймс скончался во сне от сердечного приступа. Для Стивена это был страшный удар. Когда в свое время ему сказали, что Бернард — не его родной отец, он все равно продолжал всем сердцем любить его: ведь Бернард был единственным отцом, которого он знал. Они много времени проводили вместе — и в Нью-Йорке, и в их коттедже на Фэйр-Айленде. На похоронах Стивен верным рыцарем стоял рядом с матерью — рослый, красивый юноша. А потом, в их доме на Парк-авеню, держал ее руку, когда мимо струился поток друзей и знакомых Бернарда Даймса, пришедших выразить соболезнование. Кэрри вела себя с большим достоинством. Высоко держала голову и прятала слезы под длинной черной вуалью. Через неделю Стивен вернулся в школу. — Я справлюсь, — убеждала Кэрри. — Твоя учеба для меня важнее твоего присутствия. Она всегда ставила его учебу на первое место. Это действовало ему на нервы, но он не спорил. У мамы золотой характер — она способна растопить лед. Подавай ей высшие баллы по всем предметам! Приходилось лезть вон из кожи. В противном случае… В тринадцатилетнем возрасте он едва не отбился от рук. Увлекся боксом, начал принимать участие в школьных соревнованиях. Все бы хорошо, но отметки поползли вниз. Кэрри осатанела. Она так исполосовала ему задницу, что он неделю не мог сесть. Это было хорошим уроком. — Темнокожему, — ледяным голосом наставляла она, — нужно стараться вдвойне. Заруби это на носу. Стивен верил с трудом, потому что еще ни разу не сталкивался с расовыми предрассудками. Он вырос в роскошном особняке, с любящими родителями. Так же, как и его друзья, не придавал значения цвету кожи. К ним стекалась разношерстная публика: кинозвезды, продюсеры из-за рубежа, музыканты, театральные актеры и актрисы, оперные певцы. В самой дорогой частной школе города он и мальчик по имени Зуна Мгамба были единственными темнокожими. Но они варились в общем котле с сыновьями дипломатов, финансистов и путешествующей знати. Кэрри нарочно выбрала эту школу, чтобы Стивена заботили только отметки, а не цвет кожи. Бернард возражал: это помешает мальчику узнать истинное положение вещей. Он будет расти в оранжерее. Но Кэрри стояла на своем. Отец Зуны Мгамбы занимал высокое положение в Организации Объединенных Наций. Стивен об этом не знал. В школе любимым занятием Зуны была мастурбация. Лучшим другом Стивена стал Джерри Мейерсон, рослый угловатый юноша с шапкой рыжих волос. Он так же, как и Стивен, был прилежным учеником; они во всем помогали друг другу. В отличие от других подростков, эти двое уделяли больше внимания учебе и будущей работе. Секс шел вторым номером. Делать им, что ли, нечего — часами спорить о том, насколько эта пара титек лучше, чем та? Некоторые мальчики убивали время, листая порнографические журналы; особенно это относилось к Зуне, которого в конце концов исключили из школы за то, что он начал мастурбировать на виду у трех мамаш, приехавших навестить своих чад в родительский день. Ко времени окончания школы сексуальный опыт Стивена был весьма ограничен. Он так же, как и Джерри, мечтал о девушках, но они как-то не подворачивались под руку. — В колледже наверстаем, — петушился Джерри. — В студенческом городке этого добра навалом, а мы с тобой — парни хоть куда! Стивен и Джерри собирались изучать право. Они поступили в один и тот же колледж в пригороде Бостона. Джерри оказался прав: девушки здесь попадались на каждом шагу. Маленькие, полные; высокие и стройные. Большие груди, маленькие груди. Длинные ноги. Круглые попки… Как если бы вы всю жизнь сидели на диете и вдруг вас привели в кондитерскую и предоставили полную свободу действий. Джерри ошалел. После поступления в колледж главной его заботой стало залезть под юбку к какой-нибудь девушке. Однако и через полгода его попытки не увенчались успехом. Отметки также оставляли желать лучшего. Стивен старался его утешить. Ему очень нравилось в колледже. Нравились занятия — словно кто-то бросил вызов его умственным способностям, и он с готовностью поднял перчатку. К тому же он стал не последним игроком в студенческой баскетбольной команде. Это отвлекало его от секса. Он видел, что творится с Джерри, и не хотел следовать его примеру. У него были другие проблемы, связанные с матерью. После смерти Бернарда Кэрри превратилась в затворницу. Часами просиживала в кабинете Бернарда в доме на Парк-авеню, уставившись в пространство перед собой. И так — день за днем. Приезжая на каникулы, Стивен старался вывести мать из оцепенения. Однажды предложил съездить для разнообразия в их коттедж на Фэйр-Айленде. — Я хочу продать его, Стивен, — последовал скорбный ответ. — Слишком много воспоминаний… Он поинтересовался их финансовым положением. Может, ему следует бросить колледж и устроиться на работу? Она заверила его, что Бернард оставил им много денег. И ледяным тоном добавила, что если он бросит учебу, она его убьет. Стивену никак не удавалось расшевелить ее, и он беспокоился. В свои сорок с лишним лет мама была очень красивой женщиной. Ей бы наслаждаться жизнью, а она сидит взаперти в кабинете покойного мужа, окруженная воспоминаниями. Однажды его осенило: — Эй, мам, почему бы нам не съездить в Кению? Наверное, у тебя там полно родственников? Вот и познакомимся. Реакция оказалась не такой, как он ожидал. Вместо «хорошо, я подумаю» или «посмотрим» она холодно произнесла: — Никогда не пытайся вернуться в прошлое. Запомни это, Стивен. Он знал о ней то же, что и другие, что можно было прочесть в любом журнале. Но иногда по ночам просыпался в холодном поту и задавал себе вопрос: «Кто я? Кто мой настоящий отец?» Все, что рассказала ему Кэрри, сводилось к следующему: «Он был хорошим человеком. Врачом. Тебе был годик, когда он умер». Он запрещал себе думать о прошлом или расстраиваться из-за неразговорчивости матери. Наверное, у нее есть свои причины. Если она не хочет говорить, кто был его настоящим отцом, значит, нужно смириться. Он так и поступил.* * *
Тысяча девятьсот пятьдесят первый год оказался щедрым на события. Стивену исполнилось восемнадцать; его впервые обозвали ниггером; он в первый раз переспал с девушкой и научился защищать себя в драке. Быть черным — совсем не то, что быть белым. Кэрри много раз твердила ему об этом, но он пропускал мимо ушей. И наконец убедился на собственном опыте. С тех пор его стали интересовать вопросы гражданских прав и проблемы устройства общества. Он увлекся идеями Мартина Лютера Кинга и развернутой им на юге кампанией за равноправие. Теперь он ни на минуту не забывал о том, что он — черный, и понял, что имела в виду Кэрри, наставляя его: «Темнокожему нужно стараться вдвойне. Заруби это на носу». Он и так был хорошим студентом, а после того случая «хорошо» превратилось в «отлично». Его первой женщиной стала хорошенькая негритяночка по имени Ширли Салливан. Классический студенческий секс на заднем сиденье машины приятеля. Ширли задрала юбку и спустила трусики: она вся вспотела, а одна грудь вылезла из чашечки бюстгальтера. Стивен остался в одежде: из прорези в брюках гордо торчал пенис. Все оказалось скомканным и абсолютно неромантичным. И тем не менее это было лучшее из всего, что он испытал до сих пор. Он встречался с Ширли девять чудесных месяцев, а потом предложил ей руку и сердце, которое она разбила, выскочив за студента-медика из соседнего колледжа. Стивен понял: девушки говорят одно, а делают другое. Им нельзя верить. После Ширли он пустился во все тяжкие. С его внешностью это было нетрудно. Стивен превратился в красивого парня ростом более шести футов. Девушки так и падали к его ногам, не исключая белых. Он решил проверить и убедился, что все они одинаковы. Белые ничем не отличались от черных.* * *
В возрасте двадцати лет Стивен поступил на юридический факультет. В том же году Кэрри вторично вышла замуж. К удивлению всех, кто ее знал, она стала женой напыщенного, дважды разведенного директора театра по имени Эллиот Беркли. Ему было сорок пять лет, но от него за версту разило консерватизмом. Эллиот не смог заменить Бернарда в ее сердце. Это был не тот человек, о котором она мечтала. Но, вопреки тому, что она говорила Стивену об их финансовом благополучии, денег становилось все меньше и меньше. Ей пришлось искать выход: как дать сыну возможность окончить университет и поддерживать прежний стиль жизни. Этим выходом и стал Эллиот Беркли. Он уже несколько лет ухаживал за ней, и, хотя Кэрри не любила его, в одно прекрасное утро она проснулась и спросила себя: «Почему бы и нет?» Выходя замуж, она позаботилась о письменном обязательстве, которое гарантировало бы, что Стивен сможет получить высшее образование. Она также уговорила Стивена сменить фамилию на Беркли. Безопасность — вот о чем шла речь. Безопасность ее сына.* * *
Зизи ворвалась в его жизнь опаляющим ветром в прохладный день. Ему было двадцать четыре года, он окончил университет со степенью бакалавра права и гуманитарных наук и теперь работал ассистентом адвоката — чтобы набраться опыта. Зизи была чем-то вроде танцовщицы. Она выступала свидетельницей в деле об изнасиловании. Стивен только взглянул на нее — и ему стало тесно в брюках. Это произошло само собой, помимо его воли. Зизи моментально заметила — и сделала выводы. Зизи. Пять футов взрывчатого вещества. Пышные груди, стройные ножки, горящий взор, мурлыкающий голос. Страстная любовница. Зизи. Кэрри возненавидела ее с первого взгляда.Лаки, 1965
Лаки Сантанджело стояла на крыльце их дома на Бель Эр, наблюдая за тем, как водитель грузит ее чемоданы в багажник длинного черного лимузина. Ей было почти пятнадцать лет. Рослая, кокетливая девушка с шапкой черных кудрей и большими, широко распахнутыми цыганскими глазами. Ее тоненькая загорелая фигурка еще не вполне сформировалась; красивое лицо не знало косметики. Дарио Сантанджело сидел на капоте и сильно нервничал — это выводило шофера из себя. Мальчик подобрал горсть камешков и раздраженно бросал в парадную дверь; тихо позвякивало стекло. Насколько Лаки была смугла и черноволоса, настолько же Дарио был бледнолиц и белокур. Ему было тринадцать с половиной лет. Его черты поражали правильностью. Длинные светлые волосы и пугающе голубые глаза — вот что в первую очередь привлекало внимание. Он перевел взгляд с сестры на шофера, занятого чемоданами, и скорчил рожицу. Лаки захихикала, подмигнула и одними губами изобразила их любимое слово: «дурында». Так они называли между собой едва ли не всех знакомых. Из дома вышла дебелая женщина с властным лицом. Отдав кое-какие распоряжения водителю, она бросила взгляд на часы и скомандовала: — Ну, все, Лаки, забирайся в машину. Иначе мы опоздаем на самолет. Девушка пожала плечами. — Ничего не имею против. — Ну-ну, — оборвала мисс Командирша, — не начинай свои штучки. За ее спиной усиленно кривлялся Дарио, суфлируя: «дурында!» и изображая руками «ослиные уши». Лаки прыснула, хотя на самом деле ей хотелось плакать. Появился Марко. В его обязанности входило всюду сопровождать Лаки за пределами особняка на Бель Эр. Ей нравился Марко. Он та-акой красивый! Вот только не обращает на нее внимания. Сегодня на нем были летняя куртка, рубашка спортивного покроя и узкие джинсы. Ему самое меньшее тридцать, но он высок, мускулист и не склонен к полноте, как большинство мужчин в его возрасте. В тысячный раз она задалась вопросом: какова его личная жизнь? Есть ли у него девушка? Что он делает, когда свободен от своих обязанностей телохранителя? — Слезай с капота и попрощайся с сестрой, — велела мисс Командирша. Дарио запустил в дверь всеми оставшимися камешками. Брызнули осколки стекла. — Дарио! — взвизгнула гувернантка. — Ты дождешься, я расскажу папе! «Долго же тебе придется ждать», — подумала Лаки. Джино появлялся у них все реже и реже. Дарио ленивой походкой двинулся в ее сторону, всячески демонстрируя полное безразличие. Как будто его ничуть не волнует, что ее отсылают в пансион. — Пока, сестренка, — процедил он сквозь зубы. — Захочешь писать — я не против. Лаки заключила его в объятия. В другое время он бы немедленно вырвался, но сегодня — так уж и быть, пусть обнимает. — Не позволяй никому брать над собой верх, — прошептала Лаки. — Я скоро приеду на каникулы. Он влепил ей слюнявый поцелуй и убежал в дом, прежде чем кто-либо заметил его слезы. Лаки залезла в автомобиль. Она и побаивалась, и в то же время чувствовала облегчение. Наконец-то она выходит в большую жизнь. Десятилетие нянек и частных учителей подошло к концу. Десять лет затворничества, одиночества и несвободы. Ей было жаль расставаться с Дарио, но она нуждалась в обществе своих ровесниц. А Дарио скоро и сам поступит в школу. Это тетя Дженнифер настояла на том, чтобы ее отправили в пансион. Лаки подслушала разговор между ней и отцом: — Джино, нельзя всю жизнь продержать детей взаперти, под стеклянным колпаком. Я знаю один замечательный пансион в Швейцарии. Это принесет девочке большую пользу. В самолете Лаки клевала носом, хотя изо всех сил сопротивлялась сну: не хотелось ничего пропускать. Мисс Командирша очень прямо сидела рядом, орлиным взором следя за всем происходящим вокруг. Лаки находила смешным путешествие в компании дуэньи, но Джино был непреклонен. — Она поедет с тобой, а после того как ты благополучно доберешься до школы, вернется в Америку. Все. Никаких дискуссий. Джино. Ее отец. Враг дискуссий. Она любила его до боли. Но иногда ее посещали сомнения: да так ли уж сильно он сам любит ее и Дарио? Он проводил с ними все меньше времени. Они большей частью жили на Бель Эр, а он — там, где в данный момент требовали интересы дела. У него были квартиры в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Бог знает где еще. Лаки знала телефонные номера, но ни разу там не бывала. Иногда, лежа в постели перед тем, как заснуть, она вспоминала далекое-далекое детство. Тогда папа почти все время был с ними. Обнимал. Ласкал. Уделял им много времени. Любил и заботился о них. Она вспоминала маму — прекрасного бледного ангела с нежным голосом и бархатистой кожей. На этом Лаки обрывала свои воспоминания: слишком больно было думать о том, что случилось дальше. Иногда перед ее мысленным взором вспыхивали видения. Бассейн. Надувной матрас. Мамино обнаженное тело. Кровь… Наверное, она что-то пробормотала во сне, потому что мисс Командирша обеспокоенно тронула ее за плечо. — Что с тобой, дорогая? — Ничего. Я хочу кока-колы.* * *
В Швейцарии был такой чистый воздух, что Лаки жадно, безостановочно вдыхала его, чтобы скорее очистить легкие от лос-анджелесского смога. В аэропорту уже ждал автомобиль, и через полтора часа они въехали в пригород, где все утопало в буйной зелени. «Левьер», пансион, где ей предстояло учиться, расположился у подножия гор и в окружении густых лесов. Живописнейшая местность — не то что прилизанные газоны Бель Эр и Беверли Хиллз. Мисс Командирша лично доставила Лаки к директрисе и, выдав положенное: «До свидания, дорогая. Смотри, веди себя хорошо», — удалилась. Три последних года эта старая дева занималась воспитанием брата и сестры. За это время они видели от нее тепла и ласки не больше, чем от деревянной чурки. Лаки ничуть не жалела о разлуке с ней. — Мисс Санта, — сказала директриса, — добро пожаловать в «Левьер». Я уверена, тебе, так же как и другим девочкам, здесь понравится. Я требую уважения и соблюдения дисциплины. Запомни эти два принципа — и твое пребывание здесь будет радостным и плодотворным. Мисс Санта. Ничего себе! Лаки Санта. Почти «удачливая святая». С ума сойти! Вот уже несколько лет, как Лаки догадалась, чем занимается ее отец. Телохранители, сигнализация, решетки на окнах, свирепые псы — все говорило о том, что этот человек должен постоянно быть начеку. Но менять фамилию при поступлении в какой-то дурацкий пансион?.. А впрочем, ей все равно: что Сантанджело, что Санта. Абсолютно безразлично.* * *
В Лос-Анджелесе, в своих апартаментах на верхнем этаже «Миража», Джино дождался наконец телефонного звонка ссообщением о том, что Лаки благополучно добралась до пансиона в Швейцарии. Он вздохнул и закурил длинную тонкую «гавану». Последние десять лет дались ему нелегко. Но ему удалось главное: уберечь детей — пусть даже ценой отказа от частых встреч с ними. Так безопаснее. За гибелью Марии последовала цепочка новых убийств. Он лично позаботился о Розовом Банане. До сих пор в ушах стоят его вопли, мольбы о пощаде. А эта скотина пощадила его жену? Джино резко вскочил с кресла. Подошел к окну и выглянул на Стрип. Кругом громоздились отели, заливая бывшую пустыню неоновым светом. Бой был прав: Лас-Вегас оказался золотым дном. Осторожный стук в дверь. Ред втолкнул человека, который пришел просить о снисхождении. У человека был цветущий вид, но он сильно нервничал. Совладелец конкурирующего отеля, важная персона для всех остальных, а перед Джино — угодливый раб. Он говорил с заискивающими интонациями. Джино пообещал заняться его проблемой. Совладелец отеля ушел через запасной выход, ломая руки и таким образом выражая признательность. Джино знал: благое дело десятикратно окупится. Он с огромным удовольствием оказывал подобные одолжения. Это давало ему ощущение своего могущества. Не то чтобы он испытывал потребность в самоутверждении. У него и так было достаточно власти, чтобы держать в руках политиков, судей и полицейских чинов. Все они — марионетки, готовые плясать, как только он пожелает. В любое время. Он трижды затянулся и выбросил сигару. Сигары как женщины: как бы ни были дороги, всегда найдутся другие, более шикарные. За исключением Марии. Единственной и неповторимой. Его покойной жены… Его любви… Его жизни…* * *
— Лаки Санта? — недоверчиво переспросила белокурая девушка. — Удачливая святая? Ничего себе имечко! Это было первое знакомство Лаки с Олимпией Станислопулос, пустоголовой коротышкой с поросячьими глазками на круглом лице, каскадом пышных золотистых волос, ослепительно белой кожей и круглыми грудками, бултыхающимися под не особенно чистой тенниской. Лаки рассвирепела: — Что-то я не слышала, чтобы кто-нибудь возмущался именами: Ринго Стар, Рип Торн или Рок Хадсон. — Ух ты! — скалила зубы Олимпия. — Я и не знала, что буду жить вместе с восходящей звездой экрана! Извините, пожалуйста. Неважное начало. Зато через неделю они стали неразлучными. Олимпии было шестнадцать с половиной лет. Мятежная дочь греческого судовладельца и его жены-американки. После развода родителей она жила то у одного, то у другой, причем они яростно соперничали в том, кто больше ее избалует. Ее исключили из двух американских интернатов, и наконец отчаявшаяся мать запихнула ее в «Левьер». — Папуле плевать на мое образование, — откровенничала Олимпия. — Он считает, что я должна выйти замуж за какого-нибудь жирного кота, которого он подберет мне на своей древней родине. А мамуля решила, что я сделаю карьеру. Оба они ни черта не понимают. Все, чего я хочу, это развлекаться. Мальчики, выпивка, травка и прочие удовольствия! Хочешь, будем вместе прожигать жизнь? Звучит заманчиво! В ее характере всегда присутствовала авантюрная жилка — наконец-то она найдет себе применение! — Конечно, хочу. Но каким образом? Это же закрытая школа. Олимпия подмигнула. — Способы найдутся, — загадочно пробормотала она. — Учись, пока я жива! Учеба оказалась легкой. В девять тридцать — отбой. В девять тридцать пять Лаки с Олимпией были уже за пределами пансиона. Очень удобно — прямо перед окном их спальни росло кривое дерево. Прыг с него на влажную от росы траву! Потом маленькая пробежка до сарая, где хранились велосипеды, и десятиминутная езда до ближайшей деревни. Первым делом они заскочили в летнее кафе и заказали горяченный — пар столбом — кофе, куда добавляли спиртное. Потом Олимпия высмотрела среди посетителей компанию парней-тинэйджеров. Короткая перестрелка взглядов — и воссоединение родственных душ. Олимпия мастерски флиртовала, отбросив назад золотистую гриву и выпятив круглые соблазнительные грудки. Мальчики восхищенно гуртовались вокруг нее. — Я непременно должна выучить язык! — сокрушалась Олимпия. — Это же просто тоска — ни словечка не понимать, что они там лопочут. Зато Лаки понимала. Она бегло говорила по-немецки, по-итальянски и по-французски: хоть на что-то пригодились частные учителя! Она колебалась, передавать ли подруге их нахальные реплики: «Фантастические титьки!»— «Голову на отсечение — она классно трахается!» — «Или сосет!»— «Или и то, и другое!» Хотя и под градусом, все же Лаки не могла не замечать очевидного, а именно — что она, Лаки, вовсе не наслаждается жизнью, а сидит себе в уголке, пока парни млеют от сногсшибательных титек подруги. — Я хочу обратно, — прошипела Лаки. — Да и тебе пора. — Мотай, — уронила Олимпия. — Тебя никто не держит. В самом деле! Лаки села на велосипед и отвалила. На полдороге она засомневалась: честно ли она поступила, бросив подругу в беде? Честно, решила она. Олимпия явно постоит за себя. Лаки залезла в окно, одетая плюхнулась на кровать и через пять минут уже спала. Она не слышала, как три часа спустя вернулась Олимпия. Ей снился замечательный сон — про Марко.* * *
— Привет, — нежно проворковала Марабель Блю. — Я умираю, как хочу с вами познакомиться. Тайни только о вас и говорит — все уши прожужжал. Марабель Блю. Еще одна претендентка на престол знаменитой Монро. Джино так и вылупился. Да. Это что-то! Тайни Мартино заржал. — Я давно мечтаю вас познакомить, но Марабель крутится, как белка в колесе. Так и прыгает из картины в картину. Жизнь в режиме «нон-стоп»! Она на пути к настоящей звездной карьере, — он снова покатился со смеху. — А уж я-то знаю, какое это дерьмо! Марабель коротко хохотнула. На ней было серое шифоновое платье с бриллиантовыми блестками, которое туже фольги облегало ее фигуру и не скрывало пышной соблазнительной груди. Джино почувствовал, как что-то шевельнулось там, где в последнее время уже редко что-либо шевелилось. После Марии — никого постоянного. Ни одна женщина не могла привязать его к себе больше чем на неделю: ни с одной ему не хотелось проснуться. Десять лет одиночества. — Мистер Сантанджело, вы когда-нибудь ходите в кино? — грудным голосом спросила Марабель. Крепкие духи. Пьянящие. Экзотичные. Очень женственные… Джино пожал плечами. — Не часто, но хожу. Как называется ваша последняя картина? — «Скверная девчонка», — промурлыкала она. Голубые глаза. Он всегда питал слабость к голубым глазам… — «Скверная девчонка»? Неужели? — Да, — она неожиданно потупилась. — Не правда ли, глупое название? — и вдруг посмотрела на него в упор. Странный, будоражащий взгляд. Вот это бабенка — все при ней. Секс так и прет из каждой поры. И в то же время в ней есть что-то от маленькой девочки. Это возбуждает. Джино прочистил горло. — Да, пожалуй что так. Интересно, что она о нем думает? Ему пятьдесят девять лет, но выглядит он гораздо моложе. Крепкий, загорелый мужчина. Свои волосы и зубы. Работает, как фанатик. Запросто может сойти за сорокалетнего. Не то чтобы он придавал этому значение. Старение — естественный процесс. А все-таки — кому охота выглядеть стариком? — Моя следующая картина называется «Женские уловки». Это еще глупее, вы не находите? — она захихикала и прикрыла рот рукой. Джино обратил внимание, что у нее не слишком ухоженные, трудовые руки с коротко остриженными ногтями. Они плохо гармонировали со всем остальным: роскошным телом, чувственным лицом, слегка завитыми платиновыми волосами. — Где будут проводиться съемки? — небрежно поинтересовался он. — В Лос-Анджелесе, — она пробежалась змеиным розовым язычком по блестящим сочным губам. — Почему бы вам не навестить меня на съемочной площадке?* * *
На другое утро Лаки с трудом продрала глаза и растолкала Олимпию. Они торопливо оделись и едва успели на линейку. Поговорить удалось только во время перерыва на обед. Девушки взяли свои тарелки с картофельным салатом и устроились на травке. — Ты почему сбежала? — лениво осведомилась Олимпия. — Пропустила самый кайф. — Какой кайф? — Ну — тискаться, ласкаться, щупаться… М-м-м!.. — Олимпия блаженно прикрыла глаза и расплылась в улыбке. — Это было что-то! Лаки была потрясена. — Как — со всеми? — Конечно же, нет, дурашка! Я выбрала того, кто мне больше всех понравился, — она вдруг приняла озабоченный вид. — Неужели тебе ни один не понравился? Лаки закусила нижнюю губу. Вообще-то она положила глаз на одного парня, но он даже не взглянул в ее сторону. Все они пялились на Олимпию. И вообще, что она, Лаки, знает о мальчиках, сексе и всем таком прочем? Ровным счетом ничего. Ну, знает, конечно, техническую сторону: что куда и тому подобное. Но если говорить об опыте, то его кот наплакал. Ноль без палочки. Она даже ни разу не целовалась. — Ну? — напомнила о себе Олимпия. — Ах да… Э… Прямо не знаю… — Ты когда-нибудь этим занималась? — Я свободна… — Трахалась с парнем? — А ты? — Почти, — загадочно ответила подруга. — «Почти» — самый кайф и есть, — она затолкала в рот ложку салата. — Если хочешь, я тебя научу. Лаки кивнула. Она понятия не имела, что значит «почти», но была заинтригована. Олимпия выдавала информацию урывками, наспех и зачастую в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах. Ей вдруг приходила в голову мысль, и она должна была немедленно ее высказать. Например, прошептать на занятиях по домоводству: — Начинать нужно с поцелуев. Тяни поцелуй как можно дольше, чтобы самой насладиться. Парням только дай волю: они норовят воткнуть и вынуть — и все удовольствие! На лекции: — Лезут за пазуху — пусть! Это самый кайф! Кстати, где твои титьки? День на размышления, а затем: — Лучший способ увеличить грудь — это дать потрудиться над ней какому-нибудь парню. Откуда, ты думаешь, у меня такие мячики? Через неделю — горячее: — Если парень скажет, что хочет просто полежать рядышком, ничего не делая, — не верь! Брешет! — Захочет целовать тебя там — пусть целует! И наконец: — Сосать — может быть приятно. Только не позволяй ему кончать тебе в рот. Это хуже лука: потом несколько дней не избавишься от привкуса. Основательно подковав Лаки в теории секса, Олимпия взялась за ее внешний вид. — Да ты, оказывается, сногсшибательная девчонка! — воскликнула она после того, как Лаки зачесала волосы назад. Та посмотрела на себя в зеркало и почувствовала легкое возбуждение. Она и впрямь классно выглядела: лет на восемнадцать-девятнадцать. Что бы сказал Марко, увидев ее такой? — Пожалуй, пора нам сгонять в деревню, — сказала Олимпия и подмигнула. — Посмотрим, как ты усвоила мои уроки.* * *
Вскоре Джино Сантанджело сделался частым гостем на съемочной площадке нового фильма Марабель Блю. Он приезжал в блестящем черном «кадиллаке» (поговаривали, будто изнутри он обшит сталью, а затемненные стекла пуленепробиваемы); в сопровождении двух телохранителей выходил из машины и, заняв свое постоянное место в студии, наблюдал за работой мисс Блю. Захватывающее зрелище! Она могла дубль за дублем садиться в лужу, но зато уж когда у нее получалось, это было настоящее чудо! Марабель Блю. Урожденная Мери Белмонт. Ей было шестнадцать лет, когда она впервые появилась в Голливуде после победы на конкурсе юных талантов. Год жила впроголодь. Потом поумнела — пустила в ход отпущенное природой. Вышла замуж за ветерана Голливуда, известного каскадера. Его наука и поддержка спасли ее от превращения в очередную голливудскую проститутку. И вдруг, словно метеорит, вспыхнула ее слава. Муж был отодвинут в тень: Марабель поняла, что он вредит ее имиджу. Она — свободная женщина. Ей было всего двадцать лет. Джино лег с ней после второго свидания. Она оправдала его надежды. Его самочувствие улучшилось. Он трахает бабенку, по которой сходят с ума мужики всего мира! Марабель Блю! Он не любил ее, но сделал своей постоянной подругой.* * *
Лаки было немного не по себе в шмотках Олимпии. Юбка была коротковата, белые туфли жали, свитер болтался, как на вешалке. Они прикатили в деревню и повторили прошлый маршрут. Но теперь Лаки тоже была в центре внимания. О власть одежды и косметики! Урси — так звали понравившегося ей парня. Ему было восемнадцать лет, и он немного говорил по-английски. После кофе и короткой светской беседы он очень вежливо пригласил ее прогуляться. Олимпия подмигнула и утвердительно наклонила голову. Великое мгновение! Посмотрим, способна ли ее ученица выполнить «почти»? Урси довел ее до опушки леса, а затем расстелил на траве свой пиджак. Они молча сели, и он тотчас дал волю рукам. Лаки ударилась было в панику, но уже в следующее мгновение вспомнила наставления подруги. Она отстранилась и спокойно произнесла: — Чего спешишь, как на пожар? Успокойся. Обещание в ее голосе оказало на парня умиротворяющее действие. Он стал целовать ее в губы — мокрые поцелуи взасос, которые показались ей довольно противными. Лаки зажмурилась и в душе понадеялась, что потом привыкнет. Мало-помалу ей стало даже приятно, а когда он начал тискать груди, и совсем хорошо. Олимпия была права: это — самый кайф! Урси стащил с нее свитер и был явно разочарован слаборазвитыми выпуклостями. Тогда его руки устремились ниже и запутались в застежках юбки. — Погоди! — резко приказала она. — Сначала я хочу посмотреть на тебя. Он с величайшим удовольствием расстегнул брюки и извлек свое сокровище. Лаки бережно взяла его в руку и благоговейно выдохнула: — Ух ты! Этот возглас воспламенил Урси до такой степени, что, прежде чем Лаки поняла, что происходит, он сделал в ее руке несколько движений взад и вперед и выбросил победную струю. Лаки отшатнулась. — Фу! Испачкал мне юбку! — Лапочка, — сказал он по-английски. — А ты и правда славная девочка! Лаки усмехнулась. Она почувствовала свою силу и намеревалась повторить эксперимент.Стивен, 1965
— Твоя беда в том, что ты по-настоящему так и не почувствовал на своей шкуре, что значит быть черным. У тебя сознание белого человека, — сказала Дайна Мгамба, радикально настроенная жена Зуны Мгамбы. Да, Зуна остепенился. После нескольких лет метаний в разных направлениях на одной демонстрации в защиту прав черных и цветных он встретил Дайну, влюбился и за одну ночь стал другим человеком. Развалившаяся на кушетке Зизи откровенно зевнула. Дайна бросила на нее жесткий, колючий взгляд. — В чем дело, дорогая? Мы тебе мешаем? — Мне скучно, дорогая, — Зизи утрированно произнесла последнее слово, передразнивая Дайну. Между двумя женщинами не было большой дружбы. — Кажется, пора по домам, — заметил Джерри Мейерсон, вставая со стула. — Пошли, Киска. Киской он называл каждую свою очередную подружку, и это было очень удобно, потому что они чуть ли не каждый день менялись, так что одному компьютеру было под силу запомнить их имена. И все они были на одно лицо. Хорошенькие блондиночки, о которых сам Джерри отзывался как о «гремучей смеси в койке». — Ну что ты, — лишь наполовину искренне отозвался Стивен. — Оставайтесь. Выпейте еще чего-нибудь. Джерри печально усмехнулся. — Я бы с удовольствием. Но завтра у меня прямо с утра процесс. Жуткое дело. Твердый орешек. Пожалуй, придется попотеть. Зизи опять зевнула и почти скатилась с кушетки. — Доброй ночи, Джерри и все остальные, — она двинулась по направлению к спальне, но на секунду задержалась у двери. — Давай поживее, — это уже Стивену. — У меня прямо горит, не заставляй меня ждать, миленький, — и она захлопнула за собой дверь. Дайна неодобрительно скривила губы. И хотя она не произнесла ни слова, все поняли, что она подумала. Стивен знал это выражение: постоянно видел его у мамы на лице. — Как насчет того, чтобы собраться всем вместе на следующей неделе? — с наигранным энтузиазмом предложил он, отдавая себе отчет в том, что, как бы он ни старался, Зизи и Дайна никогда не поладят между собой. — Сначала сходим в кино, например, на новый фильм Полански «Тупик»… — Вот-вот, парень, — пробормотала Дайна, — это как раз то место, где ты очутился. Зуна бросил на жену сердитый взгляд, но она была не из тех, кому можно заткнуть рот. — А впрочем, мы бы все равно не смогли. Едем в Алабаму на марш протеста. Вы, конечно, не составите компанию? Стивен покачал головой. В последние годы он много сделал для движения за гражданские права. В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году на это уходило почти все время. Он ездил в Бирмингем, когда там начались беспорядки, закончившиеся арестом Мартина Лютера Кинга. Принимал участие в Марше двухсот тысяч за свободу. Чувствовал внутреннюю потребность в этой работе — хотя, возможно, и не так глубоко, как средний негр, с пеленок терпящий лишения и издевательства, особенно на Юге. Кэрри удалось наконец убедить его в том, что он гораздо больше сделает для черной расы в качестве толкового, уважаемого адвоката. Зизи — хотя и по другим причинам — была с ней солидарна. Нечего болтаться по стране и устраивать марши, демонстрации, сидячие забастовки. Дайна восприняла это как личное оскорбление. Прежде она, Зуна и Стивен выступали как одна команда: вместе работали, страдали, боролись за социальные перемены. А теперь они — просто приятели, встречающиеся за столом и занимающиеся, по выражению Дайны, «дурацким трепом». — Нет, — сказал Стивен, — я не еду. Дайна удержалась от обидных слов. Гости попрощались и разошлись. Стивен отнес на кухню грязную посуду и вытряхнул пепельницы. Зизи же не станет этим заниматься. Живя с ним, она ни разу палец о палец не ударила. Что только он в ней нашел? Начавшаяся эрекция напомнила — что… Он бросил мыть посуду и пошел в спальню. Зизи развалилась на постели с киножурналом в руках. Голая, если не считать золотого ножного браслета и шести золотых обручей на каждом запястье. Она обладала выразительным телом танцовщицы. Будучи маленького роста — пять футов два дюйма, — Зизи имела идеальную, пропорциональную фигуру. Наполовину черная, наполовину пуэрториканка, она обесцвечивала волосы — эффект был поразителен. Ей было двадцать девять лет — на три года больше, чем Стивену. — Почему ты так грубо обращаешься с Дайной? — миролюбиво спросил Стивен. Зизи широко раздвинула ноги. — Кончай трепаться и продемонстрируй мне пресловутое черное движение, — потребовала она.* * *
— Мама, я собираюсь жениться, — волнуясь, как подросток, сказал Стивен. Кэрри ставила цветы в вазу и даже не обернулась. — Ты слышала? — он отогнал пчелу, крутившуюся по роскошной, утонувшей в цветах и зелени квартире матери. — Что ж, — не отрываясь от букета и растягивая слова, произнесла Кэрри, — такому красивому парню простительно быть идиотом. Стивен вздрогнул. Мама несправедлива. Она плохо знает Зизи. — Почему ты против моей женитьбы? Кэрри наконец повернулась и посмотрела на сына в упор. — Тебе двадцать шесть лет, я не могу тебе этого запретить. Если ты хочешь прожить жизнь с такой девушкой… — Что значит «с такой девушкой»? — Мне что — обязательно нужно говорить по буквам или так поймешь? — Черт! — взорвался он. — Ты консерваторша и ханжа! В ее глазах вспыхнули опасные огоньки. — Следи за собой, Стивен. Я, знаешь ли, твоя мать! — Да, так твою!.. Она залепила ему звонкую пощечину. — Это она тебя научила не уважать меня? Ругаться, как последний гарлемский сутенер? Он попятился к двери. — Что ты знаешь о Гарлеме и сутенерах? Живешь в воображаемом мире, где сплошь леди и джентльмены. Я люблю Зизи и женюсь на ней, что бы ты ни говорила!Лаки, 1965
Дарио Сантанджело терпеливо ожидал приезда сестры на летние каникулы. Ему нужно было так много ей рассказать! Мисс Командирша уволилась, теперь у них женщина постарше и больше похожая на нормальную экономку. Уже хорошо! Некому за ним шпионить. Он не мог дождаться конца каникул, чтобы поступить в школу. Ему почти четырнадцать, и он, так же как Лаки, ощущал потребность в компании своих сверстников. Он дотронулся до прыща у себя на подбородке. Лаки — его лучший друг. Без нее просто невыносимо.* * *
Лаки пристально вглядывалась в толпу встречающих. Наконец она увидела Марко и разволновалась. — Господи! Как я ему понравлюсь — в таком виде? Три месяца назад она покинула Лос-Анджелес четырнадцатилетней девчонкой, а возвращалась пятнадцатилетней загадочной юной женщиной. Марко смотрел сквозь нее. Лаки дотронулась до его руки и весело спросила: — Узнаешь? Он вздрогнул. — Лаки? — Она самая! — Боже правый! — это вырвалось прежде, чем он успел сдержаться. Джино хватит удар при встрече с его маленькой лапочкой-дочкой. Куда девалось буйство курчавых волос — его заменила очень короткая стрижка, сидевшая на голове наподобие причудливой шляпки. Невообразимый макияж! Не лицо, а застывшая маска клоуна. Длиннущие искусственные ресницы — и сверху, и снизу. Пурпурные тени. И белая перламутровая помада. Одежда была под стать гриму. Черно-белое с геометрическим рисунком мини-платье едва прикрывало зад. И в довершение всего — белые лакированные сапожки. — Ну? — Лаки подбоченилась и храбро заглянула ему в глаза. — Как я тебе нравлюсь? — Э… ты очень изменилась. — Да уж! — О… — Чистая правда! Меня теперь можно назвать искушенной женщиной, — она подмигнула. — Понимаешь, что я имею в виду? Боже милосердный! Джино не переживет! Он подозвал носильщика. — Идем к машине. Марко вот уже шесть с половиной лет состоял при Джино. Работа пришлась ему по душе. До этого кем только он не был: водителем такси, телохранителем, лесорубом в Канаде — называйте любую профессию. Шесть месяцев войны в Корее сделали из него психа. Если у тебя на глазах убивают двоих твоих товарищей, начинаешь смотреть на все другими глазами. «Поезжай к Джино, — посоветовала мама Би. — Он всегда питал к тебе слабость. Он подыщет для тебя подходящую работу». Она оказалась права. Джино страшно обрадовался. — Будешь при мне. Смотри и постигай науку. Мне нужны преданные друзья — такие, на кого я мог бы положиться на сто процентов. И вот пролетело шесть с половиной лет. За это время он ни дня не скучал. И многому научился.* * *
— Ну, ты прямо страшилище! — воскликнул Дарио. — Спасибо, — Лаки убила его взглядом. — Замечательное приветствие! Дарио громко рыгнул. — Хочешь послушать новый альбом «Битлз»? — Нет, — и она важно прошествовала в дом. За ней плелся Дарио. Она действительно ужасно выглядела. Он решил поскорее выложить ей свою великую новость — чтобы сгладить неприятное впечатление. Они поднялись наверх. — Ты не отвечала на мои письма, — обиженно сказал Дарио. Лаки зевнула и села на кровать. — Не было времени. Он плотно притворил дверь. — Я кое-что знаю… Ты не поверишь. — Да? — равнодушно откликнулась она, думая: как случилось, что Марко немедленно не объяснился ей в любви? — Это касается папы. — Да? — на этот раз она была заинтригована. За три месяца она только и получила от Джино, что телефонный звонок в день рождения и дорогой стереомагнитофон, который был доставлен в пансион и тотчас конфискован. — У него новая подруга. — Кто? — Кинозвезда. — Кто, чертов крысенок? — Не смей обзываться! — КТО? — Марабель Блю. — Издеваешься? — Истинная правда. — Боже правый! — Лаки достала из сумочки сигарету и нервно сунула в рот. Дарио был потрясен. — Ты давно куришь? Лаки затянулась и выпустила из ноздрей дым. — Всю жизнь. — Лгунья! — Давай рассказывай про отца и его подругу. Откуда ты знаешь? — Это все знают. — А я вот — нет. — Даже в газетах писали. — Когда? — Постоянно пишут. — Это еще ни о чем не говорит. — Он приводит ее сюда, — Дарио сделал паузу, предвкушая свой триумф. — Я видел, как они трахались. Лаки соскочила с кровати: с нее мигом слетело напускное безразличие «роковой женщины». — Не может быть! — А вот и было! Потом они битый час только об этом и говорили. Как Дарио ночью пошел на кухню выпить стакан воды и вдруг услышал в папиной спальне голоса. Как он подглядывал за ними в замочную скважину. Он все-все видел! Лаки жаждала подробностей. Ему пришлось повторить всю историю во второй и в третий раз. Под конец он совсем охрип. — О'кей, — сжалилась сестра. — Пойду приму душ. Потом увидимся. Дарио неохотно вышел, напоследок успев сообщить, что сегодня вечером Джино ужинает с ними. — Сейчас он в Лас-Вегасе, но обещал вернуться. Лаки сбросила одежду и встала под холодный душ. Ее развившиеся груди моментально отреагировали: соски отвердели и встали торчком. Олимпия была права: небольшой массаж творит чудеса!* * *
— Я не умею обращаться с детьми, — дрожа от волнения, пожаловалась Марабель. Джино вытянул руки и потрещал суставами. — Они уже не дети, а подростки. — Это одно и то же. — Вовсе нет. Марабель посмотрела на себя в зеркало. Они сидели в ее гримуборной на студии. Джино приехал сразу из аэропорта. — Что мне надеть? — дрожащим голосом спросила она. — Ничего особенного. Говорю тебе: это всего лишь дети.* * *
За столом царило молчание. Джино сидел в торце — невероятно угрюмый. Он отправил дочь в дорогой, привилегированный частный пансион, а она вернулась, похожая на циркового клоуна. Слева от него дулась Лаки. Папа три месяца ее не видел — и вот, вместо того чтобы удивиться, как она выросла, брюзжит по поводу внешнего вида. Сидя напротив, Дарио пялился на Марабель Блю — главным образом на ее пышные груди. Сама Марабель пугливо поглядывала на Джино и не решалась открыть рот, чтобы заговорить. Она знала, заранее знала, что дети ее возненавидят! После ужина все разбрелись в разные стороны. Дарио собирался последовать за сестрой, но она быстро поднялась к себе и, запершись на ключ, целый час проплакала. А когда выплакалась, заказала телефонный разговор с Грецией, где в это время находилась Олимпия. — Выручай! — взмолилась Лаки. — Нельзя ли мне приехать к тебе на каникулы? — Ясное дело, — откликнулась подруга. — Почему нет? Будем веселиться на всю катушку!* * *
И они повеселились. Отец Олимпии, Димитрий Станислопулос, наслаждался жизнью на чудесном, залитом солнцем греческом острове. В его резиденции всегда было полно гостей, деливших свой досуг между роскошной виллой и великолепной яхтой. Они с радостью приняли в свой круг очаровательную юную девушку, несмотря на то, что она была подругой Олимпии и таким образом недосягаемой для их алчных поползновений. — Плохо только, что папашины друзья слишком старые, — хихикала Олимпия. — Зато денежные тузы. А какие друзья у твоего отца? На какие-то несколько секунд Лаки овладело искушение сказать правду. Верхушка американской мафии — вертелось у нее на языке. Но она дала слово ни под каким видом не открывать свое настоящее имя и поэтому лишь пожала плечами. Олимпия понимающе кивнула. На протяжении двух недель они загорали, катались на водных лыжах и ныряли с дыхательной трубкой. — Я от воздержания, кажется, упаду в обморок, — жаловалась Олимпия. — Давай возьмем «Риву» и скатаем на материк! Лаки охотно согласилась. Они уже давным-давно не занимались «почти». «Все, кроме» — было их девизом. — Мы — две маленькие девственницы, — хихикала Олимпия после одной особо бурной сессии, — и намерены впредь оставаться таковыми. На берегу они встретили двоих местных рыбаков и после хорошей попойки пошли с ними на близлежащий пляж. Лаки лежала на песке, наслаждаясь поцелуями молодого рыбака. Его огромные ручищи жадно мяли ее груди. Он плохо говорил по-английски, но они и так хорошо понимали друг друга. Когда он полез ей в трусики, Лаки его остановила. Прежде чем он успел осознать, что происходит, она выпростала его член из брюк и присосалась к нему. Только удовлетворив парня, она разрешила ему снять с нее шорты и трусики и манипулировать ее телом до тех пор, пока она не испытала блаженство. Идеальный способ заниматься любовью! Никакого риска! Одеваясь, Лаки с ухмылкой вспомнила: «Мы, маленькие девственницы…»* * *
Хоть и с опозданием, но все же Джино узнал, что Марабель водит его за нос. Он был взбешен. Осторожно навел справки и убедился в существовании другого мужчины — окопавшегося в Вашингтоне известного сенатора. Перспективного политика. Счастливого мужа. Более того, оказалось, что мисс Блю находится под наблюдением ФБР. Эта добытая по крупицам информация привела Джино в состояние столбняка. Но Марабель неподражаема. От нее нелегко отделаться. Однажды в сентябре он с утра пораньше сел в самолет и помчался в Вашингтон. Созвонился с сенатором и договорился о конфиденциальной встрече. В свои сорок пять лет сенатор Питер Ричмонд был по-юношески красив и вовсю наслаждался жизнью. Интересная жена, четверо здоровеньких, чистеньких ребятишек. Траханье со всеми и со всем, что попадалось под руку. Марабель Блю не просто попалась под руку — она появилась в Вашингтоне на благотворительном приеме и гипнотизировала его своими по-детски наивными голубыми глазами до тех пор, пока не добилась желаемого прямо в раздевалке. После чего они стали два-три раза в неделю трахаться по всей Америке. Ей нравилось трахаться с известным во всем мире политиком. Ему нравилось трахаться со всемирно известной кинозвездой. Джино не понравилось ни то, ни другое. Он тихо, культурно поговорил с Питером Ричмондом, словно с лучшим другом. К концу встречи они и стали таковыми. Сенатор был шокирован, узнав о связи Марабель с Джино Сантанджело. Как ему благодарить Джино за предупреждение? Страшно представить, что могло произойти, если бы это выплыло наружу! Марабель Блю делит свои милости между популярным политиком и преуспевающим мафиози. Он легко отделался. Разумеется, он не сказал этого вслух. Просто кивал и благодарил Джино, который пообещал ему поддержку в случае, если Питер выставит свою кандидатуру на президентских выборах. Джино вернулся в Лос-Анджелес счастливым человеком, довольным и жизнерадостным. Они с Питером Ричмондом могут оказаться весьма полезными друг другу. Все улажено. Ему даже не пришлось показывать снимки или видеозаписи. Джино погладил лежавший в кармане конверт, который отныне будет храниться в сейфе вместе со связкой писем сенатора Дюка. Ему так и не понадобилось пускать их в ход. Сенатор Дюк уже семь лет как ушел в мир иной. Но Джино все-таки берег письма — хотя бы в качестве сувенира, на память о прошлом.* * *
По возвращении в пансион Лаки прочла в газетах о попытке Марабель Блю покончить с собой. Потом позвонил Джино и сообщил об их помолвке. Он опоздал: Лаки уже знала об этом из телевизионной программы новостей. Как он мог? Она проревела всю ночь. Ближе к утру рядом легла Олимпия и принялась утешать подругу. — Ну что ты, беби? Что случилось? Лаки не открыла Олимпии причины, только прижималась к ней до тех пор, пока как-то само собой не вышло, что они начали ласкать друг друга. Мягкие груди. Твердые соски. Теплые бедра. Млечная влажность… Они довели друг друга до оргазма и уснули, обнявшись. Перед рассветом Олимпия вернулась к себе. По молчаливому уговору они не вспоминали об этом инциденте. Просто им было приятно. Но повторять не хотелось.Стивен, 1966
Стивен и Зизи поженились холодным февральским днем. Невеста была в высоких сапожках, алой мини-юбке и пушистом черном свитере. Джерри Мейерсон был шафером, Зуна с Дайной — свидетелями. Зизи никого не пригласила, заявив, что она сирота, а друзья — мелкие, ничтожные людишки. Свадебная церемония в Сити-холл была короткой и ничем не примечательной. Потом все пошли в бар и распили несколько бутылок шампанского. Зизи экспромтом выдала танец, который привел Стивена в замешательство. Не прошло и сорока пяти минут после обряда венчания, а молодые уже поцапались. Это никого не удивило. Стивен и Зизи год жили вместе и постоянно ссорились. Единственным, что не могло не удивлять, было то, что они вообще поженились. Противоположности сходятся. Джерри потратил не одну неделю, пытаясь отговорить друга от подобного шага. — Чего ты этим добьешься? Сейчас у тебя все преимущества. Только свяжешь себя по рукам и ногам. Стивен пожал плечами. — Сам не знаю, Джерри, зачем я это делаю. Ей так хочется. — Естественно! Им всем этого хочется. Какого черта идти на поводу? — Послушай, я и сам не прочь. — Ерунда! — Нет, правда! — Чушь собачья! Стивену не хотелось открывать истинную причину. Она заключалась в том, что Зизи угрожала разрывом, если они не поженятся. «Хочешь меня — женись! А нет, так найдется много охотников!» В это было легко поверить. На улицах мужчины останавливались и провожали ее взглядами, мысленно раздевая. Зизи ничего не имела против, наоборот, ей нравилось. Если мы поженимся, думал Стивен, ей придется успокоиться. Может быть, у нас будет ребенок. Когда Зизи забеременеет, за ней перестанут ухлестывать кому не лень. Сама мысль о том, что Зизи может быть с другим мужчиной, доводила Стивена до белого каления. Она вызывала в нем бурю чувств: страсть, ревность, гнев. Это опасно. Их отношения отличались крайней нестабильностью. Стивен надеялся, что брак приведет их в норму. Он ошибся — это стало ясно в первые же дни медового месяца. Нацепив на себя символические и не оставлявшие места воображению бикини, Зизи дерзко выставила напоказ свое тело возле бассейна в их отеле в Пуэрто-Рико. Она была в своей стихии и наслаждалась вовсю. Стивену только и оставалось, что с бессильной яростью наблюдать за ее вывертами. Она флиртовала со всеми подряд — от телохранителя до гогочущих американских туристов, чьи дородные жены исходили злобой. Это был их первый совместный отдых, и Стивен позволил себе посетовать: — Тебе следовало бы одеваться поскромнее. Когда ты вышла из бассейна, мне все было видно: и соски, и волосы на лобке. Все-все! — Боже мой! — в притворном ужасе вскричала она. — Неужели даже соски и волосы? — Не шути так. Зизи расстегнула верхнюю часть купальника — лифчик полетел на пол. — Прости, милый. Ты абсолютно прав, — она повернулась к нему лицом и сделала несколько танцевальных движений — так что призывно всколыхнулись груди. Это не оставило его равнодушным. Потом она облизнула палец и, поднеся к груди, стала медленно водить вокруг соска — тот на глазах у Стивена увеличился в размерах. Точно в такой же пропорции увеличился его пенис. Он сотни раз занимался с ней любовью, но восторг ожидания и свершения неизменно ошеломлял Стивена. Разве на нее можно сердиться? Зизи — кокетка, но если найти подход, она будет принадлежать ему одному. Это — единственное, что имеет значение.* * *
Джерри Мейерсон представил Кэрри полный отчет о свадьбе. Хороший парень Джерри, Он понравился ей с первой минуты, когда Стивен впервые пригласил его к себе домой — тогда им было по шестнадцати. С годами он у нее на глазах превратился из угловатого подростка в подающего надежды молодого адвоката. Он называл ее Кэрри, не пропуская ни одной недели без того, чтобы не навестить ее, и питал к ней тайную страсть, о которой знали только они двое, но, разумеется, никогда об этом не говорили. Кэрри, в ее пятьдесят три года, льстило внимание юноши, которому она годилась в матери. Что говорить, она прекрасно сохранилась. Заняла прочное положение в обществе. Многие женщины ей завидовали: она пользовалась уважением, к ее мнению прислушивались — шла ли речь о косметике или убранстве гостиной. Ее постоянно цитировали. Кэрри частенько задавалась вопросом: что, если бы выплыла наружу правда о ее прошлом? Так ли бы уважалось ее мнение? Стали бы благотворительные общества добиваться, чтобы она их возглавила? А дизайнеры дамской одежды — чтобы она одевалась в их модели? Ни в коем случае. Странная штука — жизнь. Кто бы мог подумать, что она достигнет таких высот? А Стивен! Как она им гордилась! Известный адвокат — пусть даже он упорствовал в своем желании остаться общественным защитником. Ему хватало на жизнь, но это не шло ни в какое сравнение с тем, чего он мог бы добиться, занявшись частной практикой. Она была готова поддержать его финансами. Однако на ее предложение он ответил категорическим «нет»: — Я поставил перед собой цель помогать людям, которые действительно нуждаются в такой помощи, а не выручать жирных котов, у которых доллары лезут из ушей. Тем, кому я помогаю, не на что рассчитывать. И когда мне удается защитить их, я чувствую, что не зря живу на свете. Кэрри не спорила. Сын повзрослеет, поумнеет и изменит свою точку зрения. Но в его жизнь ворвалась Зизи, и все рухнуло. Кэрри с первого взгляда догадалась, что это за птица. — Это не навсегда, — утешал ее Джерри. Они даже в день свадьбы едва не подрались. Кэрри кивнула. Конечно, не навсегда. Хотелось бы только знать — надолго ли? С тех пор, как сын сообщил ей о своем решении жениться, они не встречались. Как бы ни было больно, Кэрри заморозила в своем сердце любовь к Стивену в надежде, что это поможет ему одуматься. — Куда они поехали? — поинтересовалась она. Джерри ответил. Кэрри встала, давая понять, что ему пора уходить. — Держи меня в курсе, хорошо? Если Стивену понадобится моя помощь, я готова, но не раньше, чем он избавится от этой… особы. А до тех пор я не желаю видеться. Может быть, предоставленный самому себе, он скорее поймет свою ошибку? — Наверное, вы правы, — Джерри коснулся ее щеки легким, целомудренным поцелуем и подивился: почему это его мать смотрится как Элизабет Арден, а Кэрри до сих пор напоминает Лину Хорн? — Через неделю увидимся. — Спасибо, Джерри.Лаки и Джино, 1966
— Ты навлекла позор на всю школу, — сурово заявила директриса. — В «Левьер» сроду не случалось ничего подобного. Никогда! — она сняла очки со стеклами из горного хрусталя, и Лаки на секунду показалось, что эта властная англичанка сейчас расплачется. Ничуть не бывало. Она только искоса взглянула на Лаки, осуждающе скривила губы и продолжала обличительную речь: — Привести в школу мальчика — само по себе предосудительно, но затащить его в спальню… в постель!.. Олимпия с трудом подавила желание рассмеяться. Директриса перехватила ее взгляд и угрожающим тоном произнесла: — Можете смеяться, юная леди. Надеюсь, что вам станет не так весело, когда приедет ваш отец, чтобы забрать вас из пансиона, который вы опозорили своим… мерзопакостным поведением. Вы обе исключены. Лаки, мне удалось связаться и с твоим отцом. Он прибудет завтра утром, так же как и мистер Станислополус, — она вновь водрузила очки на переносицу и с отвращением посмотрела на обеих девушек. — А до того времени вам предписывается оставаться в своей комнате. Ясно? — Черт побери! — воскликнула Олимпия, с размаху бросаясь на кровать. — Папа будет рвать и метать. Он терпеть не может, когда меня исключают, потому что тогда ему нужно ехать, забирать меня, читать нотацию и рассыпаться в извинениях за свою «маленькую шалунью». Он взял с меня клятву, что уж отсюда-то меня не попрут. Ах, черт побери! — Мой отец не приедет, — убежденно заявила Лаки. — Пришлет кого-нибудь. — Почему? — в голосе Олимпии прозвучало неподдельное любопытство. Лаки пожала плечами. — Он занятой человек. — Все они занятые. — Мой предок более занятой, чем все остальные. — Чем он занимается? Лаки снова пожала плечами и не особенно вразумительно, осторожно подбирая слова, ответила: — У него куча самых разных дел. Отели… заводы… издательства… Чего ни коснись, он ко всему имеет отношение. — И к Марабель Блю, — как бы между прочим добавила Олимпия. Лаки крутнулась на каблуках и впилась в подругу взглядом. — Ты давно это знаешь? Та зевнула и потянулась. — Порядочно. Я хотела, чтобы ты сама рассказала. Господи! Почему у меня отец — какой-то занудный миллионер, а не знаменитый преступник? — Мне запретили кому-нибудь говорить. Олимпия фыркнула. — С каких это пор тебя останавливают подобные вещи? Запретили — ах, ах! Обхохочешься! Лаки не могла не почувствовать облегчение. Наконец-то хоть кто-то знает, кто она такая. Ей всегда хотелось поделиться с Олимпией, но Джино вынудил ее дать торжественное обещание. — Я так мечтаю с ним познакомиться! До сих пор я только видела фотографии в газетах. Должно быть, он поистине продувная бестия! — Бестия? — Лаки покатилась со смеху. Такое определение не очень-то вязалось с человеком, который всю жизнь обнимал, целовал и всячески баловал ее. Конечно, с годами они отдалились друг от друга, но вряд ли ее отца можно назвать бестией. — Скажи, — не отставала Олимпия, — он и вправду убивал людей? — Понятия не имею. Не думаю. Все, что о нем пишут, сильно преувеличено, он сам мне говорил. Наверное, у него такая репутация, потому что… Слова повисли в воздухе. В самом деле, почему? Как она может быть уверена? Джино — ее отец, она его обожает. Или ненавидит — смотря по обстоятельствам. В газетах его называют Джино-Таран Сантанджело. Кто же он на самом деле? Этого она не знала. И не желала знать. Или все-таки желала? Кто знает. Возможно, со временем… Только «возможно»…* * *
Помолвка с Марабель Блю стала его глупейшей ошибкой. Эта женщина оказалась шлюшкой с суицидальными наклонностями, которой нужно было постоянно находиться в центре внимания. Джино не понимал, как это он так попался. Жалко ее стало, что ли? Шесть месяцев совместной жизни не внесли ясности в этот вопрос. Теперь ему хотелось одного: чтобы она как можно скорее убралась из его жизни. Свадьба несходила у нее с языка. В конце концов это стало невыносимо. Лишив Марабель покровительства Питера Ричмонда, Джино словно сдернул с нее одеяло, под которым она чувствовала себя в тепле и безопасности. Теперь она нуждалась в другом Питере Ричмонде. Ей нужно было знать, что она прекрасна, желанна и что, трахаясь с ней, государственный деятель ставит на карту свое будущее. Джино влекло к ней, но он ничем не рисковал. Неожиданное предательство Питера Ричмонда явилось для Марабель страшным ударом, от которого она никак не могла оправиться. Ярчайшая звезда мирового экрана слегла в постель и сутками напролет ревела, как обиженное дитя. Джино каждый день звонил, расспрашивал ее горничную и выслушивал отговорки: мисс Блю простудилась… у нее мигрень… разболелись зубы… Студию трясло. Капризная звезда психанула в самый разгар съемок, каждый день простоя оборачивался многотысячными убытками. Через четыре дня к ней отправилась делегация, состоящая из врачей и адвокатов. На другой день мисс Блю приступила к работе — бледная, изможденная — и тут же поругалась с режиссером. После обеда она покинула съемочную площадку, к шести часам вечера сильно превысила дозу снотворного и была доставлена в больницу, где ей успели своевременно промыть желудок. Эта новость застала Джино в Лас-Вегасе. Он немедленно прилетел в Лос-Анджелес и с ходу рванул в больницу. Марабель показалась ему двенадцатилетней девочкой — со взъерошенными волосами и заплаканными голубыми глазами, по коже шли пятна. — Ты что, свихнулась? — ласково спросил Джино. Она разрыдалась. — Прости. Мне ни в чем не везет, ни в чем! — Эй, детка, хочешь, обручимся? — выпалил он не подумав. А когда подумал, то решил, что это неплохая идея. Джино Сантанджело и Марабель Блю. Все мужское население Америки лопнет от зависти. Марабель пришла в восторг. Правда, имелось небольшое препятствие: она все еще была замужем за отставным каскадером, поддержавшим ее на заре кинематографической карьеры. — Подумаешь, — бодро заверил Джино. — Быстренько оформим развод в Тихуане. А ты пока переезжай ко мне. Через несколько недель она поселилась в его резиденции на Бель Эр. Джино не потребовалось много времени, чтобы понять свою ошибку. Съемки с грехом пополам были закончены, и наступил долгий перерыв в ожидании следующей роли. Марабель проводила все дни в постели: смотрела телевизор, проглатывала киножурналы и обжиралась. Марабель Блю — фантастической кинозвезде, секс-символу — лень было даже причесаться. Джино не верил своим глазам. — Ты что, не собираешься вставать? Она кротко улыбнулась. — Наверное, встану. Но потом находились отговорки, чтобы, как последний лодырь, продолжать валяться в постели. К вечеру комната пропитывалась запахами апельсинов, маринованного лука и самой Марабель — она никогда не мылась. Джино стало противно. Но как от нее избавиться? Это же не обыкновенная женщина, а звезда с мировым именем, с целым штатом бухгалтеров, агентов, менеджеров — не говоря уже о всех прочих: режиссерах, продюсерах, прихлебателях и фанах. Изредка случалось, что ее заставляли встать, потратить два часа на макияж, повязать голову шарфом, чтобы не было видно темных корней волос, и принять ванну: не может же она ехать на примерку костюма, воняя, как последний бродяга. Как он мог так оплошать? Джино послал за Костой. — Забери ее из моего дома — сколько бы это ни стоило. Я уезжаю в Нью-Йорк, а ты попробуй объяснить ей, что все кончено. Конечно, ему следовало самому сказать ей об этом, но Боже мой! Это было все равно что иметь дело с умственно отсталым ребенком. Недавно он уже затеял такой разговор. У нее задрожала нижняя губка, глаза наполнились слезами. — Разве тебе со мной плохо? А, малыш? — Не успел он ее остановить, как она соскочила с постели, сбросила с себя ночную рубашку, раскрыла объятия и просюсюкала: — Трахни меня, малыш, это сделает тебя счастливым! Нет уж, лучше он трахнется с дохлой кошкой. Трахнуть ее? Неужели недостаточно того, что приходится ее нюхать? После отъезда Джино Коста явился в дом и объяснил, чего от нее ожидают. Марабель восприняла новость довольно безучастно, даже ни разу не оторвала глаз от экрана телевизора. В тот же вечер она вскрыла себе вены и только по счастливой случайности осталась в живых. Горничная обнаружила ее в чем мать родила на полу ванной комнаты и немедленно вызвала Косту, которому стоило немалых трудов предотвратить огласку. Пришлось Джино срочно лететь в Лос-Анджелес. Он был взбешен и чувствовал себя загнанным в угол. Марабель всхлипывала, словно кающаяся маленькая девочка. — Прости, Джино. Я постараюсь исправиться. После свадьбы все будет просто великолепно. — Наверное, я впадаю в старческий маразм, — делился Джино с другом, — если мог подумать о том, чтобы жениться на ней. — Ты — в старческий маразм? О чем ты говоришь, старина? — Скоро мне шестьдесят. Это уже не весна жизни. Коста хлопнул его по плечу. — Брось, Джино! Я на несколько лет моложе тебя, а выгляжу старше. — Это чисто внешнее. Зато ты ведешь упорядоченный образ жизни. Держу пари: ты так ни разу и не взглянул на другую женщину. Вы с Джен — образцовая пара, — его глаза затуманились, и Коста без слов понял, что он думает о Марии и прошлом счастье. Он постарался переменить тему: — Как поживает Лаки? Пишет? — И не думает. Она стала какой-то странной. Даже не осталась на Рождество. Побыла два дня и умотала к подруге. — Наверное, это из-за Марабель. — Черт! Дай только от нее отделаться — я буду уйму времени проводить с детьми. Сойдусь с ними поближе. А то приезжают на каникулы, выряженные, как огородные пугала, включают на полную мощность музыку — и, ей-Богу, Коста, у меня возникает чувство, будто в доме — посторонние люди. А я всегда занят. Следующим летом обязательно заберу их домой. Прошла еще неделя, и он нашел идеальный способ избавиться от Марабель. — Вызови сюда этого балбеса — ее мужа, — проинструктировал он Косту. — Интересно, во сколько это обойдется?* * *
Дарио Сантанджело выглядел старше своих лет: стройный юноша ростом в пять футов одиннадцать дюймов, с чистой кожей, светлыми волосами, легким загаром и умением носить одежду. Большинство его одноклассников были толстенькими коротышками: они вечно дрались, онанировали, обсуждали девчонок, марки автомобилей и наилучший способ пукнуть на уроке. Дарио оказался белой вороной, аутсайдером. Он не вписывался в общую картину. Был слишком умен. Учителя его любили. Мальчики — ненавидели. Скоро мечты о веселом времяпрепровождении в пансионе испарились. Он пошел на крайнюю меру — раскрыл инкогнито. Он — Дарио Сантанджело. Его отец — небезызвестный Джино Сантанджело. Результат был тот, что его возненавидели еще больше. Просто лезли из кожи вон, чтобы сделать его жизнь невыносимой. И он бросил старания нравиться и удалился в свою раковину, куда не доставали никакие колючки и издевательства. Регулярно писал сестре, расхваливая школу и товарищей. Лаки не отвечала. Как будто забыла о его существовании. Много лет они были — одна команда, и вдруг она поступила в дурацкий пансион в Швейцарии, подружилась с какой-то идиоткой с дурацким именем и отдалилась от него. Вот так. Приехав на Рождество, она с ним двух слов не сказала. Он решил больше не писать ей. Просто игнорировать. Это и будет его местью.* * *
Лаки проснулась от кошмара. Вспышками в мозгу — голубой бассейн… солнечное утро… надувной матрас в розовой воде… Она села на кровати и пожалела о том, что она — не Олимпия, у которой есть и отец, и мать. Подумаешь — в разводе! Зато они есть — оба! Она сбросила на пол одеяло и подумала: интересно, кого Джино за ней пришлет? Хорошо бы Марко. Она с удовольствием расскажет ему о своей эскападе. Пусть послушает пикантные подробности: как она затащила к себе парня, как они голые лежали под одеялом, а Олимпия — на другой кровати, тоже с парнем. Тогда он поймет, что в свои пятнадцать лет она уже не девчонка, а опытная молодая женщина. О-очень опытная! Сколько вечеров подряд она ускользала за пределы «Левьер» и упражнялась в искусстве «почти»! Даже будучи голышом с парнем в постели, можно не выйти за рамки. С Марко она пойдет до конца! Да. Олимпия сказала, что считает это допустимым для себя только с Марлоном Брандо. Лаки согласна удовлетвориться Марко.* * *
Джино взошел на борт самолета в нью-йоркском аэропорту, занял место в хвостовой части и закурил превосходную «Монте-Кристо». Сначала он хотел послать кого-нибудь вместо себя: Марко, Реда или даже Косту. Но Дженнифер убедила его, что он должен лететь сам. — Джино, это твой долг отца. Это покажет, что тебе небезразлично. — Естественно, небезразлично! Дай только мне до нее добраться, я из нее всю дурь вышибу! — Нет, — мягко возразила Дженнифер. — Ты не сделаешь ничего подобного. Просто поговоришь и попытаешься понять причину. — Джен, ей пятнадцать лет! Как в этом возрасте можно путаться с парнями? — А чем ты занимался в пятнадцать лет? — не уступала она. Джино насупился. Старушка Джен выжила из ума. Кто, если не круглый идиот, может задавать такие вопросы? Он — мужчина и в свои пятнадцать мог делать все, что заблагорассудится. С девушками все обстоит иначе. И вот он сидит в самолете и не может понять, как это он дал себя уговорить. То, что он может сказать, может быть сказано в любом другом месте: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вегасе… Где угодно! Тогда почему он летит? Потому что так решила Джен?.. — Вам что-нибудь нужно, сэр? — спросила стюардесса. Он заказал двойной «скотч», откинулся в кресле и подумал о Марабель. Наконец-то он сбыл ее с рук! Это был блестящий ход — вызвать ее мужа. Кто, как не муж, обязан позаботиться о своей жене? В один прекрасный день отставной каскадер появился в его доме. Обветренное лицо. Костюм настоящего ковбоя, явно знавший лучшие времена. — Ну, как тут Мери? — Какая Мери? — Марабель, — поспешил вставить Коста. — Ах, да, — Джино скорбно покачал головой. — Она несчастное, больное дитя. Свой же худший враг. Старик кивнул. — У Мери есть… проблемы. — Проблемы? Черт! Я бы не назвал это просто проблемами! — Вы собираетесь жениться на ней? — Послушайте, — твердо заявил Джино. — Я хочу вернуть ее вам — вместе с небольшим подарком. Я купил вам хорошенький домик на Малхолланд-драйв. Он ваш — только уберите ее от меня подальше. Скажем, до шести часов вечера. Сказано — сделано. Гуд-бай, Марабель Блю. Он легко отделался. Какие-то несчастные сто тысяч.* * *
Они стояли лицом к лицу в кабинете директрисы: в черных глазах дочери сверкал вызов, в черных глазах отца — ярость. Директриса четко выговаривала по-английски: — Так что вы, конечно, понимаете, мистер Санта: не нам, руководству «Левьер», наказывать учениц за подобное поведение. Это ваша обязанность как отца — наставить дочь на путь истинный, дабы она прошла по нему всю оставшуюся жизнь. Я считаю… Он отключился и стал наблюдать за Лаки так, словно видел ее впервые за многие годы. Она оказалась высокой, как ее брат. Когда успела вытянуться? Стройная, длинноногая, с развившейся женской фигурой. Сногсшибательная красотка. Смуглая, оливковая кожа, глянцевитые черные волосы, большие, задумчивые глаза… О Господи! Да она же — его второе «я»! Это сходство существовало всегда — еще Мария называла их «невозможными близнецами», — но до сих пор речь шла всего лишь о сходстве. А теперь она стала его двойником. Противоположного пола. И в то же время — совсем чужая. Юная незнакомка. Это его вина. Он прилагал столько усилий, чтобы обезопасить их с Дарио, даже старался держаться от них подальше. Он любил их обоих — очень. Но устранился. Спрятал свою любовь подальше и отдалился от них. Потому что ему было невыносимо думать, что трагедия может повториться. Он могущественный человек, но не всемогущий. Мария… Мария… Мария… Господи! Сколько лет его не отпускала боль! Острая физическая боль при каждом пробуждении. Ночные кошмары. Тщетные надежды на то, что однажды она вернется. Он устроил кровавую баню возмездия. Но это ничего не изменило. Ничего…* * *
Лаки тоже изучала отца. Почему он приехал сам, а не прислал кого-нибудь из своих лакеев? Честно говоря, это ее удивило. Они с Олимпией видели в окно, как он подходит к школе. — Эй, — воскликнула Олимпия, — это же твои предок! А ты говорила, он не приедет! — Я н-никак не думала, что он явится сам, — от волнения Лаки начала заикаться. — И тем не менее. Гм… О-очень привлекательный мужчина! И теперь, глядя на отца, Лаки пыталась определить, красив он или нет. Он выглядит моложе своего возраста, это бесспорно. Безукоризненно одет. Темный костюм-тройка, сверкающая белизной сорочка, шелковый галстук. Густые черные волосы по последней моде достают до воротника рубашки. Ему очень идет легкая проседь. Лаки вспомнила: «папочкин запах». Запах детства… Почему ей не пять лет? Почему нельзя броситься ему на шею и чтобы он обнимал и прижимал ее к себе, пока она не запросит пощады? К глазам подступили слезы. Лаки сердито приказала им вернуться на место. Реветь — значит выказывать слабость. Подумаешь, исключили из школы — кого это волнует? Ее — в последнюю очередь.* * *
Они покидали пансион, сидя бок о бок на заднем сиденье лимузина: никто не проронил ни слова. Автомобиль на стрелой мчал их к аэропорту. Лаки безумно захотелось, чтобы Джино что-нибудь сказал. Неужели он так сильно злится? Она прокашлялась, решив сама начать разговор, но передумала. Так и промолчали всю дорогу до аэропорта… всю дорогу до самолета… до самого Нью-Йорка. Там, в Нью-Йорке, они прошли таможенный досмотр и прошествовали к традиционному черному лимузину. Лаки была удивлена: она думала, что ее сразу погрузят в другой самолет и отправят транзитным грузом в Лос-Анджелес. Вместо этого ее оставляют в Нью-Йорке — по крайней мере, на одну ночь. Очень интересно! Лимузин остановился возле фешенебельного многоквартирного дома на Пятой авеню, выходившего на Центральный парк. Лаки последовала за Джино в вестибюль, а затем они поднялись в лифте на двадцать шестой этаж и вошли в большую квартиру — шикарную, как в лентах с Фрэнком Синатрой. Хромированная мебель. Меховые ковры. Тьма зеркал. Вот, значит, где Джино проживает в Нью-Йорке. Ничего себе квартирка! — Здравствуй, дорогая! Наконец-то с ней кто-то заговорил! Тетя Джен — полная, излучающая материнское тепло, в розовом костюме и жемчугах — в ушах, вокруг шеи и на запястьях. Лаки почувствовала, что ее глаза снова наполняются слезами. Черт побери! Что это она вдруг заделалась плаксой? Тетя Дженнифер заключила ее в объятия. — Идем, дорогая. Я покажу тебе твою спальню, и мы обо всем поговорим. Нет ничего лучше, чем хорошенько выговориться.* * *
Джино украдкой следил за тем, как Дженнифер уводила его дочь. У него полегчало на душе. Ох уж эти женщины! Всю жизнь он с ними возится. Но какая же Лаки женщина? Она его дочь, черт побери! Да ради Бога — если бы не нужно было скрывать, кто она на самом деле, уж он бы нашел этого маленького кобеля, который пробрался к ней в комнату, и подвесил бы за яйца! Лаки потрясающая девушка — он только сейчас это осознал. До сих пор он думал о ней как о ребенке. Но нет, она уже в таком возрасте, когда за ней так и будет бегать целая свора кобелей — и дома, и за границей. Через несколько месяцев ей стукнет шестнадцать. С кем ей поделиться, с кем посоветоваться? Уж конечно, не с ним. Джен — чрезвычайно умная, рассудительная женщина, лучшего и желать нельзя. Нужно объяснить ей, что если он, Джино, еще раз услышит, что Лаки путается с парнями, он оторвет им обоим башку — и дочери, и парню. Она — дочь Джино Сантанджело и должна, черт побери, понимать, что это значит!* * *
Но до чего же легко водить взрослых за нос! Тетя Дженнифер — добрая, симпатичная старушка, но стоит одной ногой в каменном веке. Ее лексикон неподражаем! Изо рта так и сыплются слова: «скромность», «чувство собственного достоинства», «честь» и тому подобный мусор. Лаки не потребовалось много времени, чтобы уяснить, чего от нее ждут. Чего ждет Большой Папа. Да, парень залез к ней в постель, но она сопротивлялась, отчаянно защищала девичью честь, звала на помощь — и она пришла в образе школьной учительницы, которая вовремя ворвалась в их спальню и спасла от того, что хуже смерти. (Не слишком ли далеко она зашла? Кажется, тетя Дженнифер так не считала). К счастью, тот факт, что она лежала голая, так и не всплыл наружу. Равно как и то обстоятельство, что Олимпия тоже находилась в постели — и тоже не одна. Обелить себя оказалось проще простого! С лица тети Дженнифер постепенно сходило выражение неудовольствия и озабоченности. — Твой папа будет рад, — проворковала она. — Не то чтобы он сомневался, что ты девственница… Девственница! Тетя Джен! Да неужели? — А где Марко? — вдруг выпалила Лаки. — Марко? — кажется, тетя Дженнифер не понимала, о ком идет речь. — Ну, папин Марко, — нетерпеливо повторила Лаки. — Ты же знаешь! — Нет, я не… — тетя Дженнифер застыла в недоумении. — Марко… Марко… Ах да! Сын Би? Сын Би? Кто такая, черт побери, Би? Лаки сохраняла хладнокровие. — Ну да. Где он? — Не знаю, дорогая. Наверное, в Лос-Анджелесе. — Как интересно: девочка говорит точно с такими же интонациями, как Джино, — и похожа на него как две капли воды! Конец разговора. Тетя Дженнифер пошла докладывать Большому Папе. — Эй! — с тревогой окликнула ее Лаки. — Я что, останусь здесь? Дженнифер была удивлена. — Разве папа тебе не сказал? Ты будешь учиться в частном пансионе в Коннектикуте. Завтра тебя отвезут. Вот как! Лаки почувствовала себя униженной. Нет, Джино ничего ей не сказал. Но это вполне в его духе. Сам строит планы. Что хочет, то и делает. Ему плевать, что у нее могут быть свои желания. Частный пансион в Коннектикуте. Черт побери! Дважды черт побери! Трижды черт побери! Меньше всего ей сейчас хотелось снова загреметь в школу. — Тебе там понравится, детка. Будешь купаться в бассейне и кататься верхом. Ты ведь любишь лошадей? — теперь, когда Дженнифер заверила Джино, что Лаки — все еще маленькая девочка, ему стало легче разговаривать с дочерью. Лаки скорчила рожицу. — Я их ненавижу! — Послушай, — Джино заткнул за ворот вышитую льняную салфетку и набил рот едой. Проклятая спаржа! Сколько раз говорить дуре-кухарке, что он терпеть ее не может? — Ненависть — слишком сильное слово, если речь идет о лошадях. Знаешь ведь: лошадь — лучший друг человека и все такое прочее. — Собака — лучший друг человека, — высокомерно поправила Лаки. Но последнее слово, как всегда, осталось за ним. — Лучший друг человека — деньги. Помни об этом, дорогая. Господи, как же она его ненавидит! Чертов коротышка — грубый, не умеющий изысканно говорить — ее от него тошнит! И как же она его любит! Он красив — настоящий махо! Элегантно одевается. И дико сексуален. В отчаянии она нацепила на вилку немного спаржи и слизнула грозящую упасть каплю масла. — Я вот думаю… — Да? — одним глазом Джино косился на экран телевизора, который по его распоряжению почти никогда не выключали. Эта привычка осталась после Марабель Блю. — Ну, я полагаю… через пару месяцев мне исполнится шестнадцать. Зачем вообще учиться в школе? — Образование пойдет тебе на пользу, — рассеянно ответил Джино. Сейчас все его внимание было приковано к результатам скачек, о которых сообщали в программе новостей. — Пожалуй… — Что? — Я предпочла бы не ехать в школу. — Вот как? — Джино позволил себе беззлобную усмешку. — И что же ты будешь целыми днями делать? — Я могла бы многое… — Например? — Быть рядом с тобой… сопровождать тебя… учиться бизнесу… что-нибудь в этом роде. Джино вздрогнул от неожиданности и перевел взгляд с телевизора на дочь. Пятнадцатилетнее дитя! Девчонка! Это что, розыгрыш? — Я не шучу, — резко произнесла Лаки. — Разве дети не должны интересоваться семейным бизнесом? Она пудрит ему мозги, ведет какую-то непонятную игру. Жалко, что Коста и Джен не остались ужинать, при них было бы гораздо проще. — Послушай. Тебе нужно окончить школу, поступить в колледж, встретить хорошего парня и выйти замуж. По-моему, что может быть лучше? Лаки прищурила угольно-черные глаза — глаза Сантанджело — и храбро парировала: — А по-моему, это гадость. Джино в свою очередь пригвоздил ее взглядом. — Прикуси язычок. Будешь делать то, что я скажу. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня за это. Лаки не отвела глаз. — У меня не было возможности получить настоящее образование, — продолжал Джино. — Разъезжать по заграницам и все такое. Я сызмальства должен был зарабатывать на жизнь — мне было даже меньше лет, чем тебе. Так что тебе повезло, — тут он вспомнил, что сказала Мария сразу после рождения дочери. Мария… Бледная, нежная, прекрасная… Они назвали девочку Лаки. Господи! Если бы Мария была жива! Если бы он мог воскресить ее! Если бы…* * *
— Новенькая! Новенькая! Новенькая! — неслось со всех сторон. Прекрасный частный пансион в Коннектикуте больше походил на прекрасную частную тюрьму — с обязательным ношением формы, надзирателями, закамуфлированными под учителей, и зловредными сопливыми девчонками, которых Лаки возненавидела с первого взгляда. Через два дня ей стало ясно: нужно драпать. Через неделю это желание переросло в острую потребность. У нее был список телефонов Олимпии. Под предлогом необходимости позвонить Джино она ушла с математики и разыскала подругу. Та находилась в Париже — в шикарной резиденции своего отца на улице Рош. Брала уроки русского языка. — Я подыхаю от скуки! — вопила она в трубку. — Ты не представляешь, какая публика здесь изучает русский! Дерьмо собачье! — Да уж, наверное, тебе получше, чем мне в этой выгребной яме! Я должна выбраться отсюда! У тебя есть идеи? — Да. Садись на самолет и лети сюда. Возьмем одну из папиных машин и махнем на юг Франции. Это будет настоящий кайф! Как по-твоему? — Конечно! Но у меня нет денег. Всего двадцать три доллара пятнадцать центов. — Нет проблем, — весело возразила Олимпия. — Наш дом сплошь нашпигован телексами. Все, что от меня требуется, это позвонить, чтобы для тебя оставили билет в аэропорту Кеннеди. На мое имя. Ты только выберись, остальное — моя забота. У тебя есть паспорт? — Да. Они потолковали еще несколько минут, и к тому времени, как Лаки положила трубку, она так же, как Олимпия, была убеждена, что все будет в порядке. Так и случилось. На другой день она покинула пансион на рассвете, попутками добралась до аэропорта и спросила билет на имя мисс Олимпии Станислополус. В полдень она уже была в пути. По прибытии в аэропорт Орли она, как было условлено, позвонила Олимпии. Та завизжала от радости и велела Лаки пооколачиваться там где-нибудь до ее приезда. Еще через три часа роскошный белый «мерседес» уже мчал их в сторону Кот-д'Ажура. — Господи! — ликовала Олимпия. — Сроду так не веселилась! Одно могу сказать о тебе, Сантанджело: ты девочка что надо. Лаки ухмыльнулась. — Это было проще простого. — Я же тебе говорила! — Олимпия вильнула в сторону, чтобы не раздавить драную кошку — их лимузин вырвался за городскую черту Парижа. — Ты оставила записку? — Две — Джино и школьному начальству. Этакий детский лепет: мол, мне нужно время, чтобы все обдумать, не волнуйтесь, направляюсь в Лос-Анджелес. — Чудесно! Пока они разберутся, что к чему, мы повеселимся на славу! — Олимпия сунула в рот сигарету. — А я сказала экономке, что еду повидаться с мамой. Эта старая ворона еле может связать два слова по-английски. Кроме того, она меня на дух не выносит и была просто счастлива, что я уезжаю. Мы свободны, детка! Это ли не блаженство?Джино, 1966
Власть. Самая необходимая вещь. Сколько бы у вас ее ни было, все мало. Всегда чего-то недостает. Покорить еще одну вершину. Заключить грандиозную сделку. Джино часто задавал себе вопрос: чего ради он крутится, как белка в колесе? Мчится туда-сюда, распространяет свое влияние на все новых людей, осыпает милостями… — Ты легализовал свой бизнес, получил солидное прикрытие, — бессчетное число раз твердил закадычный друг Коста. — Почему бы тебе не остановиться? Коста выправил лицензию на «Мираж». Он был юристом до мозга костей и всегда искал легких путей. Платишь пошлину пятьдесят долларов — и у тебя чистые руки. Бедный Коста! Вечно брюзжит, предостерегает. Однако ему понравилось быть мультимиллионером. Два года назад они открыли на Багамах отель-казино «Принцесса Санта», он приносит изрядные барыши. Потом занялись игорным делом в Европе. И не только. Да, его бизнес процветает. У Джино банковские счета по всему миру. Деньги вывозятся из страны, отмываются и возвращаются чистенькими. Вкладываются в дело. Помещаются в трастовые фонды. И так далее. Джино считал, что жизнь удалась. Конечно, время от времени случаются проколы, но вполне поправимые. Ничего такого, с чем он не мог бы справиться. Он благополучно пережил трудные времена. Сначала комиссия Дьюи в тридцатые годы. Потом комитет Кифовера занялся вопросами организованной преступности в пятидесятые. Из недавних — расследование Бобби Кеннеди в начале шестидесятых. И наконец, столкновение с Валачи — мелким уголовником, гангстером на час, который лез из кожи вон, давая показания: кто, что и кому сделал, с указанием времени и места. Джино удалось отмолчаться. Власти так и не смогли ничего на него навесить. Он по-прежнему на коне. Просто ему везет, сказал Альдо. Сам Альдо начал прихварывать и, выйдя в отставку, помогал жене в ресторане «Риккадди». У Джино созрела идея. План. В сущности, мечта. Он построит еще один отель в Лас-Вегасе, который заткнет за пояс все остальные. После того как осуществилась греза Боя, отели в Лас-Вегасе начали расти, как грибы. По сравнению с некоторыми новыми постройками, такими как «Цезарь», «Мираж» стал казаться сортиром. Комфортабельным, но сортиром. Джино задумал нечто грандиозное. Построить отель, который придаст всему городу отпечаток его личности. Это будет нечто особенное. О нем заговорят во всем мире. Он подыскал участок и теперь вел переговоры с архитекторами. — Это будет стоить целого состояния! — ужаснулся Коста, когда друг выложил свою идею. — А забот! Господи! Цены на строительные работы с каждым днем растут, нам и так с трудом удается поддерживать синдикат. И кто сейчас захочет вкладывать капитал без немедленной отдачи? А налоговая служба! Иногда Коста вел себя, как баба. Так ли иначе, Джино возведет лучший отель в мире. И назовет его «Маджириано». Комбинация имен Мария и Джино. Достойный памятник их любви.* * *
Сплавив Лаки в пансион, Джино не стал задерживаться в Нью-Йорке. Коннектикут. Отличный вариант. Лаки скоро освоится. Эту школу порекомендовала Бетти Ричмонд, немного похожая на лошадь жена Питера. Зато она славилась отличным воспитанием и шармом. «Там училась наша старшая дочь Лоретта перед поступлением в колледж. Она превозносила пансион до небес», — заверила его Бетти. От нечего делать Джино подумал: интересно, какова она в постели? Воображение не сработало. Возможно, она костлява, как баранья нога. Неудивительно, что Питер Ричмонд предпочел аппетитные округлости Марабель Блю. Они с Питером стали чем-то вроде друзей. Правда, оба оставались начеку. Никакого паблисити. Джино оказал сенатору множество услуг. Мелких. Крупных. Неизменно конфиденциальных. Это доставляло Джино огромное удовольствие. Приятно заводить друзей в иных социальных сферах. Кроме того, он был уверен, что со временем сенатор Питер Ричмонд станет весьма влиятельной фигурой. Из Нью-Йорка он полетел прямо в Вашингтон, где должен был недельку погостить на вилле Ричмондов в Джорджтауне. Это была первая привилегия такого рода. Конечно, он прекрасно понимал, что обязан ею тому обстоятельству, что Бетти Ричмонд собиралась дать благотворительный гала-банкет и облюбовала для этой цели «Мираж». Джино делал вид, будто не имеет об этом ни малейшего представления. Если Бетти Ричмонд в нем нуждается, ей придется попросить. «Конечно, — скажет он. — Вам я ни в чем не могу отказать». Это, конечно, всего лишь игра, но у нее свои правила. Бетти Ричмонд должна будет уяснить это.* * *
Стук теннисных мячей о ракетки. Громко провозглашаемый счет. Джино подошел к одному из кортов и понаблюдал за игрой. Бетти Ричмонд играла со своим старшим сыном Крейвеном и, насколько Джино мог судить, разделала его в пух и прах. Мало того, что они дали парню такое имя[1], так еще и не упускали случая подчеркнуть свое превосходство. После резкого паса Бетти приветливо помахала Джино. Крейвен подпрыгнул, промахнулся и растянулся на площадке. — Гейм! — пропела Бетти и, не обращая внимания на распростертого на земле юношу, подбежала к Джино. Чмок-чмок. Она клюнула его сначала в одну, а затем в другую щеку. Вообще-то Бетти недурна. Высокая, сильная, с умными карими глазами. На ней был белый теннисный костюм и спортивные туфли. Русые волосы с боков схвачены резинками на манер девчоночьих «мышиных хвостиков». В свои сорок один год она еще могла нравиться. — Как настроение? — спросила она. — Хотите сыграть? Джино добродушно рассмеялся. — Я предпочел бы выпить. Бетти укоризненно покачала головой. — Сейчас все занимаются спортом. — Знаю. Вы это говорите при каждой встрече. — А вы при каждой встрече обещаете чем-нибудь заняться. — Да займусь, займусь. Она сжала его руку. Джино поморщился. Чертова баба не рассчитывает силы. — Ну, один сет, — протянула она. — Это восхитительная игра! — Наши представления о восхитительной игре расходятся. Подошел Крейвен. Ему исполнился двадцать один год, он был долговяз — шесть футов четыре дюйма роста — и костляв. Не красавчик и не урод. В этом мире энергичных мужчин он вряд ли добьется успеха. — Привет, Джино, — поздоровался он. — Привет, малыш. Как дела? — Неплохо. Мне предложили работу. Ничего особенного, но… — Потом, Крейв, — перебила его мать. — Убери мячи, пока их не погрызла собака. — Хорошо, мама. Бетти взяла Джино под руку. — Я рада, что вы смогли вырваться, — они пошли к дому. — Давно хотела вас спросить… Да, миссис Ричмонд времени даром не теряет. Из нее выйдет превосходная первая леди. Энергичная. Спортивная. Добродетельная. Что еще нужно Америке?* * *
Поздно ночью Джино лежал на кровати в комнате для гостей и невидяще смотрел в потолок. Его беспокоила недавно нажитая язва. Надо бы сесть на диету. Но кто откажется от свежих устриц с лимоном, сочных бифштексов и тому подобных вещей? У Бетти Ричмонд стол ломился от яств. За ужином было всего двенадцать человек: сами Ричмонды, их сын Крейвен, три супружеские пары и две одинокие дамы — с видами на Джино. Почему Ричмонды решили, будто он нуждается в сватовстве? Он, имевший неограниченный выбор — от голливудских старлеток до нью-йоркских моделей и шоу-герлс из Лас-Вегаса? Ему пятьдесят девять лет. Марии сейчас было бы тридцать семь. Он ежегодно отмечал ее день рождения одиноким ужином подле бассейна в Ист-Хэмптоне. Да, он оставил этот дом за собой. Окружил металлической изгородью под током и предоставил саду зарастать, как заблагорассудится. Он похоронил Марию в саду, под деревом, где они впервые принадлежали друг другу. В доме все осталось, как в день ее гибели. Кроме него, туда никому не разрешалось заходить. Он приезжал в день ее рождения. Целый год ждал этого. Разве может другая женщина сравниться с Марией? Даже с памятью о ней… Стук в дверь немало удивил Джино. Он поглядел на часы. Половина третьего ночи. — Кто там? Дверь отворилась, и на пороге возникла Бетти Ричмонд в атласном халате цвета зрелого персика, с распущенными волосами. — Зашла посмотреть, как вы тут устроились, — сказала она таким твердым голосом, что он не почувствовал в ней ни малейшего волнения. Джино разжал руку, уже готовую выхватить из-под подушки пистолет. — Все замечательно. Спасибо, Бетти. — Еще бы, — промурлыкала она и, закрыв дверь, приблизилась к нему. — А мне вот не спится. Прежде чем Джино сообразил, что происходит, она уже сбросила персиковый халат и предстала перед ним обнаженная. — Мистер Сантанджело, я бы хотела, чтобы вы — друг семьи, друг всего света — трахнули меня! Господи, так она — шлюха? Он понизил голос до шепота. — Оденьтесь, Бетти. Возвращайтесь к Питеру. — Почему? Я вам не нравлюсь? Нужно быть очень осторожным. Отвергнутая женщина… — Я этого не говорил. Но обстоятельства… — Обстоятельства таковы: Питер уехал к любовнице и, скорее всего, в эту самую минуту сует свой задрипанный член ей в глотку. Я не хочу сидеть и ждать у моря погоды. — А я не хочу оказаться меж двух огней. Женщина пожала плечами. Она вся состояла из мускулов. — Я думала, вы считаете меня привлекательной… — Так оно и есть. Она без приглашения скользнула к нему под одеяло. — Я не скажу Питеру. Обещаю. Последовало самое атлетическое траханье, какое когда-либо выпадало на его долю. Она гоняла его пенис, словно шарик для пинг-понга: туда, сюда, вверх, вниз, в стороны, из центра, в центр… Гейм! Второй сет. Все та же гонка. Потом она удалилась, и он уснул, а утром подумал: уж не сон ли все это?Лаки, 1966
Олимпия гнала так, словно на дороге, кроме них, никого не было. Азарта ей было не занимать. Уносите ноги все — иначе не поздоровится! Путешествие на юг Франции заняло двадцать два часа. Они сделали пять остановок, чтобы дозаправиться газом, купить сандвичей и великое множество банок кока-колы. — У тебя есть водительские права? — поинтересовалась Лаки после одного особо захватывающего четырехчасового перегона по извилистой дороге в сельской местности. Они неслись с головокружительной скоростью. — Права? — жизнерадостно удивилась Олимпия. — А что это такое? Лаки ничего не оставалось, как беспомощно откинуться на сиденье, закрыть глаза и понадеяться на лучшее. Первоначально у них было девяносто четыре доллара на двоих, и те с каждым привалом таяли. Приходилось игнорировать попадавшиеся на пути рестораны и мотели. — Доберемся до Канна, — решила Олимпия, — и поселимся на вилле моей тетки. Она бывает там неделю в году — и то в сентябре. Чудное место! Раньше я часто отдыхала там с нянькой — когда родителям было не до меня, — она невесело усмехнулась. — Не то чтобы их отношение изменилось, просто теперь от меня труднее отделаться. Лаки было знакомо это чувство. Ужиная с Джино в его нью-йоркской квартире, она постоянно ощущала, что его тяготит ее присутствие. Это лишило ее дара речи. Она даже не посмела спросить, где Марко. Как-то поведет себя Джино, когда узнает о побеге? Наверное, разбушуется — ну так что? Он ничего не может ей сделать — разве что упечь в новую школу. А она будет убегать до тех пор, пока до него не дойдет. И что плохого в ее желании учиться бизнесу? У нее не было ни малейшего желания следовать определенным Джино курсом. Школа. Колледж. Замужество. Черта с два! Она хочет стать такой же, как он: богатой, уважаемой, могущественной. Пусть люди по первому сигналу бросаются выполнять ее поручения! — Мы как раз успеваем, — похвасталась Олимпия, на полной скорости несясь по узкой дороге меж скалами. — Вот, только что миновали поворот на Сен-Тропез. Еще какой-нибудь час — и будем на месте. Лаки стерла тыльной стороной ладони пот со лба. Стоял месяц май, но полуденное солнце жарило вовсю. Они были совершенно беззащитны в открытом маленьком автомобиле. — От нас, наверное, на версту несет потом, — посетовала Лаки. — Две маленькие вонючие девственницы. Олимпия ухмыльнулась. — Эта формула нуждается в уточнении. — То есть? — Я хотела сказать тебе, когда приедем. Этак лежа возле бассейна, попивая сухое вино… — Ты что — уже?.. Спелые губы Олимпии расползлись в широкой улыбке. — Ага. Лаки выпрямилась на сиденье и жадно воззрилась на подругу. — Когда? С кем? И как оно? Олимпия резко вильнула, чтобы избежать столкновения с валуном, скатившимся с горы. — Кошмар! Лучше держись «Почти». Это гораздо приятнее.* * *
Как и предсказывала Олимпия, вилла ее тетки была на запоре и надежно защищена от непрошеных гостей. Она была расположена высоко в горах, над Канном, и утопала в зарослях мимозы и жасмина. Олимпия выпрыгнула из машины, открыла тяжелые чугунные ворота и подъехала затем к выкрашенной в бледно-розовый цвет вилле. — Здорово, да? — Фантастика! — Лаки вздохнула. — Ты уверена, что нам не влетит за вторжение? — Она не узнает. Они припарковали автомобиль, и Олимпия показала Лаки, как можно проникнуть на виллу. Она взобралась на кривое персиковое дерево и открыла одной ей известное окно со сломанной задвижкой. Лаки терпеливо ждала у парадного входа. Через несколько минут Олимпия запасным ключом открыла дверь. — Добро пожаловать в замок «Веселье»! Интерьер виллы свидетельствовал о безупречном французском вкусе ее хозяйки и о громадном греческом богатстве. Мебель была зачехлена от пыли, но кое-где проглядывал уголок кожи или полированного дерева. Паутины тоже хватало. — Я говорила, что она пользуется виллой раз в году. А за несколько дней до этого наезжает десант уборщиц. Ты понимаешь — мы можем жить здесь несколько месяцев! И никто нас не найдет! Лаки не улыбалось торчать на вилле несколько месяцев. Несколько недель — да. Потом Джино начнет беспокоиться, не говоря уже о тете Дженнифер и дяде Косте. И, конечно, Дарио. Надо бы им написать. У нее неоднократно возникало такое желание, но все время что-то мешало. — С кем ты дошла до конца? — жадно спросила она Олимпию. — С одним гнусным типом — французским коммивояжером. Он меня заколебал. Все твердил, что моего отца нужно расстрелять, а я ни черта не смыслю в жизни. Я как-то привела его к себе домой. А он спер серебряную пепельницу и не захотел довольствоваться «почти». Это было ужасно. Я залила кровью весь диван в папином кабинете. Даже вспоминать противно. Слава Богу, как раз на следующий день ты позвонила. Я не могла без ужаса думать о том, чтобы пойти на эти чертовы курсы и увидеть его поганую рожу. Они обошли всю виллу. — Будем пользоваться какой-нибудь одной комнатой, — решила Олимпия. — Потом меньше убирать. Лаки облюбовала просторную комнату в цоколе, рядом с кухней. Здесь были две диван-кровати, обитый зеленым сукном карточный столик и три больших удобных кресла. — Это помещение для прислуги, — запротестовала Олимпия. — Зато оно нам подходит. У них было всего две небольших дорожных сумки — в основном с косметикой. Так что распаковывать вещи не заняло много времени. На кухне они обнаружили холодильник, доверху набитый бутылками с вином и пивом. А в буфете — коробки с чипсами и двадцать четыре банки консервированного тунца. — Давай отметим! — радовалась Лаки. — Только не сегодня, — возразила Олимпия. — Сегодня мы отправимся в город и устроим себе настоящий пир. Скажем, огромное блюдо буйабеса или свежих устриц под майонезом… М-м!.. Вкуснота! — Но у нас же нет денег! Олимпия ухмыльнулась. — Лаки, для красивой девушки ты иногда бываешь слишком глупой. Какие, к черту, деньги, когда в наличии два юных прекрасных тела?* * *
Знаменитый Каннский кинофестиваль подходил к концу. Остались одни неудачники. Невезучие агенты, все еще надеющиеся заключить хоть какой-нибудь контракт, безработные продюсеры и будущие звезды с необъятными бюстами и фальшивыми улыбками. Уорриса Чартерса можно было отнести к безработным продюсерам. Он прибыл в Канн с двумя сокровищами. И в обоих случаях просчитался. Сокровище номер один — Пиппа Санчес. Роскошная мексиканская актриса, которая в пятидесятые годы успешно снялась в паре испанских хитов. Сейчас ей лет сорок — хотя она настаивала на тридцати пяти и на столько же выглядела. Но Уоррис знал ее настоящий возраст. Он навел справки о мисс Санчес сразу же вслед за тем, как она обратилась к нему в Мадриде — месяц назад. Это произошло на званом ужине. — Мистер Чартерс, я видела «Целуй и убивай!» — это просто блеск! У меня как раз есть для вас подходящий сценарий — пальчики оближете! «Целуй и убивай!» Его первая заявка на громкий успех. Он поставил этот фильм в 1959 году в Париже, истратив семьсот тысяч долларов. Картина принесла ему шестнадцать миллионов. Редкая удача! Дальше, за что бы он ни брался, получалось дерьмо. Сокровище номер два — сценарий Пиппы Санчес. Крутой боевик под названием «В яблочко!» История гангстера двадцатых и тридцатых годов. Киллер-золотое сердце. Уоррис нашел сценарий удовлетворительным. Конечно, все это высосано из пальца, но после двадцати трех лет в кинобизнесе он мог отличить беспроигрышный материал. — Чей это сценарий? — спросил он Пиппу. — Мой, — гордо заявила она. — Я выкупила его у автора. Теперь это моя собственность. — Зачем он тебе нужен? — осторожно, чтобы не выказать слишком большую заинтересованность, полюбопытствовал Уоррис. — На продажу? — Нет, — огрызнулась Пиппа. — Я хочу сыграть главную женскую роль. Она специально писалась для меня. Ага, двадцать лет назад, цинично подумал Уоррис. Но если она позволит ему бесплатно пользоваться сценарием… Они заключат сделку, а потом он скажет, что она не подходит. И вот они прибыли в Канн — Уоррис Чартерс и его два сокровища. Однако им только раз удалось привлечь к себе внимание: когда они с Пиппой поцапались у всех на виду на террасе отеля «Карлтон». Уоррис потягивал «перно» в «Голубом баре» на улице Круазетт и размышлял о своем жутком невезении. Ему тридцать два года, когда-то он был чудо-ребенком Голливуда, но прекратил сниматься в тринадцатилетнемвозрасте, когда у него начал ломаться голос. В двадцать пять он поставил «Целуй и убивай!» и вернулся победителем. После двух провалов пустился путешествовать по Европе, из одной киностолицы в другую. В порыве отчаяния, сломленный и на игле, женился на богатой семидесятидвухлетней вдове-испанке. После ее смерти родственники вышвырнули его на улицу даже без кусочка мыла. Вот и женись на деньгах! Уоррис тихо присвистнул, показав ровные белые зубы. Из шикарного белого «мерседеса» вылезли две сногсшибательные цыпочки, два лакомых кусочка. Блондинка сразу привлекла его внимание. Роскошные титьки, так и целятся в тебя, как два автоматных дула. Золотистые волосы. И такие короткие шорты, что выглядывают сахарные ягодицы. Ее подруга на первый взгляд не такая красотка. Тесные линялые джинсы и блузка с короткими рукавами. Высокая, угловатая. Шапка вьющихся волос цвета черного янтаря наполовину закрывает лицо. Да, Уоррис предпочел бы блондинку. Неужели он не заслужил маленького удовольствия? Девушки неторопливо двинулись к бару. Инстинкт подсказал Уоррису: они ждут, чтобы их сняли. Когда они приблизились к его столику, он вскочил и выпалил несколько заученных фраз по-французски — мол, не желают ли они составить ему компанию? Чернявая ответила, что вообще-то они кое-кого ждут, но пока их кавалеров нет… Блондинка произнесла несколько слов по-английски. Уоррис оживился. — Так вы американки? Я тоже! Он заказал всем «перно» и подумал: интересно, у них есть деньга? Сам он располагал последними пятьюдесятью баксами, ко у него также имелась чудная травка. Может, они ее купят?* * *
Гм, подумала Лаки. Недурен. Но и ничего особенного. Не в моем вкусе. И слава Богу, потому что он явно сделал стойку на Олимпию. Так чаще всего и бывает. Может, и правда «джентльмены предпочитают блондинок»? Ха! Кому нужны джентльмены? Пока Уоррис Чартерс распинался перед Олимпией, Лаки сквозь щелочки глаз наблюдала за ним. Стройный, красивый — конечно, если вы предпочитаете мужчин с пшеничными волосами, хищными зелеными глазами и светлыми ресницами. Нет, это не для нее. Она любит смуглых… очень смуглых… чем смуглее, тем лучше. Как Марко. Прекрасный разбойник Марко с грустными глазами и внешностью настоящего супермена. Она попробовала свой «перно» — он показался ей противнее, чем лекарство, — и подумала: когда же речь пойдет о еде? Казалось, у Олимпии начисто вылетели из головы и буйабес, и устрицы под майонезом… — Эй, — подала голос Лаки. — Я хочу есть. Это можно организовать? — Конечно, — подхватила Олимпия. — Я бы тоже не прочь. Что здесь хорошенького подают, а, Уоррис? Он метнул на Лаки злобный взгляд. Дернуло же ее раскрыть пасть и потребовать еду! Кому нужна еда? И кому она по карману? Он конфиденциально шепнул Олимпии на ушко: — У меня с собой кое-что получше. У нее загорелись глаза. — Да ну? — Первоклассная травка. Почему бы нам с тобой… — И Лаки. — Конечно, и Лаки. Почему бы нам не завалиться в тихое местечко и отлично провести время? Олимпия чуть не захлопала в ладоши. Вот это мужик в ее вкусе! — Где? Уоррис быстро соображал. Два дня назад он ради экономии выехал из отеля «Мартине», а его каморка в дешевом пансионе вряд ли подойдет. На пляже? Тоже мало хорошего. — Где вы остановились? Олимпия колебалась всего одно мгновение. Лаки не поверила своим ушам: — У нас тут вилла в горах. Если хочешь, можем туда отправиться. Что с ней случилось? Не она ли предупреждала: «Никому ни слова о том, где мы живем!» И вот, не прошло получаса — и она уже приглашает Уорриса на виллу. Это уж чересчур! — Ух ты! — обрадовался он. — Поехали!* * *
Пиппа Санчес устремила критический взор в большое, в полный рост, зеркало. Повертелась туда, сюда — и осталась довольна. Она по-прежнему — совершенство. Смуглая кожа. Волосы цвета воронова крыла. Обольстительная фигура. Ей сорок лет, но она все еще в расцвете своей красоты. Ни морщинки, ни припухлости, ни какой-либо иной приметы приближающейся старости. Так почему же она не выбилась в великие артистки? Почему? Да потому, что эти олухи не давали ей настоящих ролей, вот почему. Вечно она была «соперницей», «секс-бомбой», «разбитной танцовщицей». Скоты! Что они понимают — со своими футовыми сигарами и силиконовыми блондинками? Она нарочно держалась подальше от Голливуда. Сначала, прочитав о страшном конце Джейка-Боя, была слишком напугана, чтобы вернуться в Лос-Анджелес. Потом ей понравилось в Испании. Она ни дня не сидела без работы — снялась в десятке картин, причем две из них имели бурный успех. Вышла замуж за испанского актера. Через пять насыщенных событиями лет развелась с ним и вот уже семь лет как живет одна — по собственному выбору. От мужчин, как и прежде, нет отбоя. Но карьера — прежде всего. Ей не улыбалось кончить свои дни испанской звездой. Кому это нужно? Пиппа мечтала о международной — голливудской — славе. Много лет она нянчилась с этим сценарием, «В яблочко!» Здесь было все необходимое для успеха. Любовь. Юмор. Трагедия. Насилие. В основу сценария легла история жизни Джино Сантанджело. А он так и не удосужился прочесть. Взял и выгнал ее из города. Живя за границей, она продолжала поддерживать отношения с автором сценария. В 1955 году, когда жену Джино убили в Ист-Хэмптоне, она распорядилась внести изменения в финал, чтобы он соответствовал действительности. Результат был ошеломляющим. Пиппа пришла в такой восторг, что после диктуемой приличиями паузы послала сценарий Джино, напомнив о его намерении вложить деньги в кинокартину. Через полгода рукопись вернулась обратно с припиской секретаря: «Мистер Сантанджело слишком занят, чтобы читать киносценарии». За все эти годы множество других людей также не нашли для него времени. Наконец судьба столкнула ее с Уоррисом Чартерсом. Пиппа сразу поняла: это именно тот человек, который ей нужен. И вот — Канн. И — ничего. Ни контракта. Ни фильма. Ничего! Сказать, что Пиппа была разочарована, значило ничего не сказать. Она еще раз окинула критическим оком свою фигуру в зеркале перед встречей с Уоррисом. Пора бы этому ублюдку вернуть ей сценарий. Дешевка! Скорей бы он ушел из ее жизни! Черт с ним, Уоррисом Чартерсом. Она сама добудет деньги. Где? Где-нибудь!* * *
В курении травки для Лаки не было ничего нового. Ей доставляло удовольствие считать себя прожженной. В сущности, она только дважды в жизни пробовала наркотики. Один раз — с Олимпией на острове ее отца. Фантастика! Она уснула и проснулась как раз вовремя, чтобы проглотить четыре порции шоколадного мусса на ужин. Во второй раз они с Олимпией наткнулись на берегу на пару шведских хиппи и отлично побалдели вместе с ними. Уоррис Чартерс оказался обладателем сильнодействующего зелья «Золото Акапулько». У него было две готовых сигареты, и он великодушно обменивался ими с обеими девушками. Потом они загорали на топчанах возле бассейна. Олимпия зажгла свечи и открыла бутылку вина. — Жаль, что у нас нет музыки. Уоррис был на седьмом небе. Ему казалось, что он неожиданно попал в сказку. Вилла. Авто. Две славные, явно обеспеченные девушки. Разве он не заслужил каникулы? Небольшой отдых перед тем, как снова окунуться в борьбу за существование. Олимпия глубоко затянулась и, испустив блаженный вздох, передала сигарету Лаки. Та по-прежнему думала лишь о еде, но не могла пропустить такой случай. Она взяла сигарету, вдохнула волшебное снадобье и позволила дурману овладеть всем своим существом. Примерно десять минут они не разговаривали, а лишь передавали друг другу сигареты. Лаки прислушалась к стрекотанию сверчков — оно явно достигло крещендо. — Ух ты, — пробормотала она. — Ну и громко же они поют, эти маленькие твари. Так громко! Эта безобидная реплика вызвала у Олимпии с Уоррисом приступ истерического хохота. Лаки показалась себе самой остроумной девушкой в мире. — Пошли купаться! — крикнула Олимпия и, в мгновение ока сбросив с себя одежду, повернулась к Уоррису, чтобы он мог хорошенько разглядеть ее роскошные формы. Он тоже сорвал с себя брюки, затем трусы и предстал перед ними голый, с пенисом, вздернутым наподобие флагштока. — М-м-м, — облизнулась Олимпия. Он ринулся к ней, но она увернулась и плюхнулась в бассейн. Когда Лаки тоже разделась, эти двое уже вовсю резвились в воде. Лаки вдруг расхотелось купаться. Ей было жарко и хотелось есть. Она в чем мать родила пошла в дом, открыла банку тунца и с аппетитом слопала. Ух, вкуснятина! Лаки вдруг почувствовала смертельную усталость: сказались несколько почти бессонных ночей. Олимпия с Уоррисом продолжали резвиться; до нее доносились их крики и радостные возгласы. Вряд ли они будут скучать, если она тихонько заберется в постель… тихо-тихо…* * *
Уорриса не оказалось ни в одном из его излюбленных мест. Пиппа по нескольку раз побывала и в «Голубом баре», и в баре «Мартине», и на террасе отеля «Карлтон». Наконец она капитулировала и позволила какому-то англичанину — владельцу швейной фабрики — угостить ее бутылочкой шампанского. Разумеется, самого лучшего. Пиппа любила, чтобы у нее все было высшего качества. Потом она позволила фабриканту заняться с ней любовью. Он оказался не так уж плох — во всяком случае, полон энтузиазма. Но, конечно, это не Джейк-Бой. Никто не сравнится с Боем…* * *
Лаки разбудило назойливое жужжание комара. Она не сразу сообразила, где находится, а сообразив, надела бикини и старую рубашку и пошла искать Олимпию. Та оказалась в спальне хозяйки виллы — с раскинутыми во сне ногами. Рядом на кровати храпел Уоррис — ничком. Это дало Лаки возможность полюбоваться его крепким, мускулистым задом. А что? Симпатичный зад!* * *
Следующие три дня Уоррис безвылазно проторчал на вилле. Олимпия втрескалась по уши и не собиралась с ним расставаться. Лаки не без ревнивого чувства наблюдала за ними, но что она могла предпринять? Только валяться возле бассейна, стараясь получше загореть и поминутно спрашивая себя: интересно, Джино уже начал ее искать? Неподалеку была деревенька, где можно было купить горячие булочки, французские хлебцы, свежую ветчину, сыр и горы фруктов. — Так и просидела бы здесь всю жизнь! — мечтательно вздыхала Олимпия. — А мне так скучно. — Возьми машину и поезжай куда-нибудь развлечься. — Ты же знаешь, что я не умею водить, — не без задней мысли ответила Лаки. — Радость моя, — обратилась Олимпия к любовнику, — научи ее водить машину. Уоррис так и подпрыгнул. Проведя три дня в обществе Олимпии, он наконец узнал, что она — одна из самых богатых невест в мире. Станислопулос — звучит почти как Онассис. К тому же — горячая девчонка! После того, как ему удалось преодолеть ее первоначальное отвращению к траханью, она вошла во вкус, буквально пристрастилась к этому занятию. Он научил ее всему, что знал, и она изощрялась на все лады. Конечно, мешала подруга. Он сразу невзлюбил ее — и она его. Научить Лаки водить машину — верный способ от нее избавиться. Лаки потребовалось полчаса, чтобы освоить технику вождения. Она с неподражаемой уверенностью в себе подбросила Уорриса до виллы, а сама отправилась кататься. Исключительно приятное занятие! Дает ощущение своего могущества. Лаки сгоняла в Сан-Ремо. Припарковала машину, пошлялась по городу и извилистой горной дорогой вернулась на виллу. В полночь. С массой новых впечатлений! Олимпия с Уоррисом упоенно танцевали под радио румбу. На Олимпии были плавки и туфли на высоченных каблуках. Уоррис танцевал в рубашке и слаксах. Пышные груди Олимпии танцевали сами по себе. Полный кайф! Как раз перед этим Уоррис наполнил последнюю сигарету «Золотом Акапулько». — Ага, вернулась, — гоготнула Олимпия. — А мы как раз собирались навести марафет и махнуть в город, в казино. Составишь компанию? — Спрашиваешь! — Тогда пошли одеваться. Наверняка у старухи найдутся какие-нибудь шмотки!* * *
Пиппа Санчес кипела от злости. Что Уоррис Чартерс сбежал — это ладно. Но вместе с ним улетучились шесть ксерокопий ее драгоценного сценария. Яйца оторвать за такие фокусы! Пиппа решила, что не уедет до тех пор, пока не найдет этого прохвоста. Прячется, гад — решил в одиночку владеть ее сокровищем! Подонок! Все они подонки! Давно пора было усвоить. И как она не унюхала запах предательства? «Твой нос должен быть устроен таким образом, чтобы заранее чуять беду», — учил Бой. Как же она так оплошала? Пиппа надела самое облегающее, самое сексуальное платье ярко-красного цвета и отправилась развлекаться с ювелиром из Боливии, с которым только что свела знакомство. Если он в самом деле так богат, как говорит, возможно, он согласится финансировать ее картину?* * *
Облачившись в шмотье тетки Олимпии, веселая компания махнула в Канн. За рулем «мерседеса» сидел Уоррис. — Мне нужно забежать переодеться, — сказал он. — Высажу вас возле «Голубого бара», а через десять минут и сам приеду. Олимпия надулась. — Почему мы не можем пойти с тобой? — Потому что. — Еще не хватало, чтобы они увидели, в какой дыре он обитает! Кроме того, ему нужно осмотреться и забрать свои два чемодана от Гаччи. Сунуть их в багажник. Тебе здорово подфартило, Уоррис, — пользуйся ситуацией! — Ладно, — мрачно согласилась Олимпия. — Но если за это время мне понравится другой, не жди, что я буду хранить верность. — Десять минут! Присмотри за ней, Лаки! Та тонко улыбнулась. Ага — жди! Да она вцепится в первого попавшегося красавчика и лично уложит Олимпию к нему в постель — лишь бы избавиться от этого альфонса, которого она чем дальше, тем больше ненавидела. Он усадил их за столик, заказал выпивку и смылся. — Эй! — воскликнула Лаки. — Видишь вон того парня? Он с тебя глаз не сводит! Олимпия приосанилась и выпятила грудь. — Где?Джино, 1966
Джино лежал на королевской кровати в своей спальне в «Мираже» и наблюдал за одевающейся девушкой. Худышка. Ноги — как спички, костлявые плечики, осиная талия. Он сам не понимал, почему подцепил ее. Совсем не его тип женщин. Она повернулась к нему лицом, поправляя бретельки платья. — Это было чудесно. Мы еще увидимся? Джино вспомнил, наконец, что именно привлекло его внимание. Некий промельк в глазах. Мимолетное выражение грусти и непорочности. Конечно, о непорочности не может быть и речи. Так и набросилась на него — всего обслюнявила. Женщины! Они очень изменились. Видит Бог, он не ханжа, но их сексуальные аппетиты прямо чудовищны! Их требовательность способна убить любое желание. — На вот, — он протянул ей конверт. — Купи себе что-нибудь на память. — О! — девушка неловко переложила конверт из одной руки в другую, словно взвешивая. — Это вовсе не обязательно. Сам знаю, подумал Джино. Просто я так хочу, чтобы легче забыть о твоем существовании. Никаких осложнений! — Бери, бери. Девушка была уже совсем одета и ждала указаний. Джино хотелось одного — чтобы она как можно скорее его оставила. — Значит, так. Вечер только начинается. Ты красивая девушка. Я позвоню метрдотелю и попрошу зарезервировать для тебя столик на представление Тайни Мартино. Тебе понравится. Можешь взять с собой подругу. После ее ухода он встал, сделал несколько гимнастических упражнений, принял душ и тщательно оделся. Потом вызвал по интеркому Марко. Тот явился через три минуты. Одним из его неоценимых достоинств было умение в нужный момент быть под рукой. И преданность, какой не купишь. Марко — почти член семьи, в глазах Джино это имело колоссальное значение. Недавно он доверил Марко управление «Миражом». В свое время он сделает его управляющим «Маджириано». — Ну, как там? — спросил Джино. Марко пожал плечами. — Все нормально. Тайни Мартино просадил в рулетку весь свой гонорар. Тот японский бизнесмен должен нам семьдесят три тысячи. Я послал в номер судьи четырех проституток. Все, как вы распорядились. Вечер как вечер. Джино хмыкнул. Из всех его деловых начинаний «Мираж» был любимым детищем. Нигде он так уютно себя не чувствовал, как в своем люксе с кондиционером. — Жена сенатора Ричмонда приехала? — Нет еще. Номер ждет. Четыре дюжины желтых роз. На завтра я договорился с теннисистом-профи. — Превосходно. Джино хотел, чтобы Бетти Ричмонд чувствовала себя как дома. Его по-королевски принимали на ее вилле в Джорджтауне, и он решил отплатить тем же. Неважно, будет ли он и дальше спать с ней. Внешне она не в его вкусе. Зато в постели, когда он чувствовал на себе мертвую хватку ее ног, ее бешено пульсирующую вагину — Иисусе Христе! При одной только мысли у него началась эрекция — и это сразу же после той девушки? Неплохо для человека, который через две недели разменяет седьмой десяток!* * *
Бетти Ричмонд были оказаны королевские почести. Рядом с ней семенил Крейвен. Они вместе вошли в отведенный для них номер — вслед за пятнадцатью местами багажа. — Фу! — с отвращением воскликнула Бетти, оглядываясь по сторонам. — Сроду не видела такого пошлого интерьера! — Да, мама, — согласился Крейвен. — Вопиющая безвкусица! — Образец вульгарности. — Это уж точно. — Краны из золота! — Верх претенциозности! — Чего можно было ожидать?* * *
— Она уже здесь, — доложил Марко. Джино кивнул. С опозданием на сутки, но она все же приехала. — Чем занимается? — Играет в теннис. Дает прикурить профи. Джино развеселился. — Передай, что я приглашаю ее поужинать. В шесть тридцать. — Хорошо, босс. Вскоре Марко вернулся с ответом. Миссис Ричмонд благодарит за приглашение, но она уже кое-кому обещала и сможет встретиться с ним позднее — скажем, в десять часов. Джино рассвирепел. Приехала за одолжением — и дает ему от ворот поворот! Какова наглость! — Скажи миссис Ричмонд, это время меня не устраивает. Пусть будет в одиннадцать, если на то пошло. Марко вернулся и доложил, что миссис Ричмонд считает одиннадцать часов подходящим временем. У нее в номере. — В моем! — рявкнул Джино. — И точка!* * *
Бетти Ричмонд осчастливила его своим присутствием в пять минут двенадцатого. Загорелая, в голубом платье, она имела атлетический вид. Соломенные волосы зачесаны назад и схвачены голубой ленточкой. — Прошу меня извинить, — театральным голосом воскликнула она. — Но это такое очаровательное заведение! Ты сам не знаешь ему цены! — Ага, — Джино демонстративно посмотрел на часы. — Надеюсь, я тебя не слишком задержала? Еще не поздно заняться проблемами гала-вечера? Может быть, поговорим за завтраком? — Сейчас, — отрубил Джино. — Я говорил с Тайни Мартино, он сказал: возможно — заметь, только «возможно»! — он примет в этом участие. — Примет, — легко заявила Бетти. — Я сказал — «возможно». — Нет, Джино. Все в полном порядке. Он обязательно выступит. Я с ним уже виделась сегодня вечером — он очарователен! Он дал мне честное слово. Джино помрачнел. Ловкая, чертовка! На хрена он ей нужен? Теперь он жалел, что предоставил под ее гала-вечер свой отель. Меньше всего его волновала благотворительность!* * *
На другой день в семь часов утра его разбудил телефонный звонок. Звонили по его личному телефону, которым пользовались только несколько ближайших друзей — по неотложному делу. На этот раз — Коста из Нью-Йорка. — Джино, плохие новости. — Что такое? — Лаки сбежала из пансиона. — О Господи! — Оставила две записки. — Что в них? — «Не беспокойтесь, мне нужно подумать»… Она направляется в Лос-Анджелес. — Боже правый! — Я попросил руководство школы не поднимать шум. Они согласились. — Уже кое-что. — Что я должен делать? — Не представляю. Безмозглая девчонка! — Джино с минуту размышлял. — Ничего не предпринимай. Я сейчас же вылетаю. Обсудим при встрече. — Я тоже считаю, что так лучше всего. — Пока! — он дал отбой и глубоко вздохнул. Лаки. Чертова девка! Исполосовать бы ей задницу! Пусть только явится!Лаки, 1966
Два исключительно вежливых француза в безукоризненных смокингах и черных брюках тихо, однако твердо в чем-то убеждали растерявшегося Уорриса. — Говорю вам, им больше двадцати одного года, — твердил он. — Конечно, сэр. Но у нас свои правила. Как только дамы предъявят паспорта… Лаки еле сдерживала смех. Вся эта сцена была необычайно комична. Две расфуфыренных девчонки, багроволицый от гнева Уоррис и несколько возбужденных зрителей… — О Господи! — громко вздохнула Олимпия. — Это же просто смешно. Пошли отсюда. — Нет! — упорствовал Уоррис. — Правила затем и существуют, чтобы их нарушали. — Только не в этом казино, сэр, — невозмутимо парировал служащий. — Сволочи! — упорствовал Уоррис. — Правила затем и существуют, чтобы их нарушали. Француз сделал знак швейцару, и тот вместе с вышибалой крепко взяли Уорриса под руки. Это разъярило его, и он разразился гнусными ругательствами. — Прекрати! — Лаки выразительно округлила глаза и повернулась к подруге. — С кем ты связалась! Та высокомерно тряхнула длинными светлыми волосами. В это время из подъехавшего белого «роллс-ройса» выскочила жгучая брюнетка в самом сексуальном, самом обтягивающем платье, какое Лаки доводилось видеть, и, оторвавшись от своего спутника, высокого седовласого мужчины, ринулась к ним. — Уоррис! — вопила она, как безумная. — Ах ты, подлец! Мерзавец! Где тебя носило? Уоррис мигом прекратил сопротивление, стряхнул с себя вышибал и поправил одежду. — Пиппа, — засуетился он, — я как раз собирался тебе звонить. — Конечно, — саркастически отозвалась она. — А президент обкакался на площади Вашингтона! Олимпия поспешила на выручку любимому. Заслонила собой потрясенного Уорриса и тоном собственницы спросила: — Кто эта женщина, дорогой? Пиппа уничтожила ее взглядом. — Вот не знала, что ты путаешься с несовершеннолетними. В чем дело? Все просто упадут, когда узнают, что ты — растлитель малолеток! — Пиппа, — в голосе Уорриса появились жесткие нотки, — познакомься с Олимпией Станислопулос, дочерью того самого Станислопулоса. — О! — Олимпия, радость моя, познакомься с моей коллегой, Пиппой Санчес. «А я кто — свиная отбивная?» — подумала Лаки. Но вообще этот эпизод доставил ей огромное удовольствие. Полный кайф — видеть, как Уоррис барахтается в дерьме. — Вот как? — обрадовался подошедший кавалер Пиппы. — Дорогая, так это твои друзья? Почему бы нам не пойти и не отметить радостную встречу?* * *
Они пошли в «Старую голубятню» — большой, похожий на пещеру, ресторан на берегу, где всегда вживую играл джаз и хватало места для танцулек. Лаки пришла в восторг. Пора уже и ей повеселиться! Судя по здешним мальчикам, это должен быть ЕЕ вечер! Пока Олимпия с Уоррисом трахались до потери сознания, она даже не могла заниматься «почти». Пришло время наверстывать упущенное! Пиппа с Уоррисом о чем-то деловито беседовали. Олимпия строила глазки боливийцу — приятелю Пиппы. Лаки прогулялась через запыленный зал до дамского туалета, а когда вышла, к ней тотчас прицепился симпатичный парень в тесных джинсах. — Американка? — осклабился он. Она усмехнулась в ответ и кивнула. — Пошли, потанцуем? — он показал взглядом на площадку, где извивались парочки. — С удовольствием!* * *
Пиппу что-то беспокоило. Ведя серьезный разговор с Уоррисом о своем драгоценном сценарии, она то и дело хмурилась, словно в мозгу что-то сверлило. — Дай только мне добраться до ее предка, — захлебывался Уоррис. — Представляешь, сколько у него денег? — А кто другая девушка? — поинтересовалась Пиппа. — Брюнетка, подруга Олимпии? — Не обращай внимания. Жуткая зануда. — Кто она? — А, просто шпана. Кажется, они вместе учились в школе. Или что-то в этом роде. А что? Пиппа покачала головой. — Сама не пойму. Вроде бы я ее где-то видела. — А, все эти битники на одно лицо. Пиппа нехотя кивнула. — Когда ты думаешь встретиться с отцом Олимпии? — Как можно скорее. В то же время нельзя слишком натягивать поводья. Пиппа слушала и продолжала наблюдать за черноволосой девушкой на танцевальном пятачке. Чем она привлекла ее внимание? — Ты трахаешься с Олимпией? — спросила она Уорриса. Ее собственные отношения с ним носили чисто деловой характер, если не считать одну пьяную ночь, когда они посчитали сделку состоявшейся. Траханье вышло ничего себе, а вот сделка не удалась. Оба сочли повторение нецелесообразным. — Нет, — дурашливым тоном ответил Уоррис, — я просто ухаживаю у нее на вилле за комнатными цветами. Естественно, трахаюсь! — Она несовершеннолетняя. Почему ты так уверен, что ее отец одобрит твои намерения? — К моменту нашей встречи у него не будет выбора. Может, я на ней женюсь. Что ты об этом думаешь? Пиппа улыбнулась. — Ш-ш-ш! К столику подходила Олимпия — после небольшой прогулки с боливийским ювелиром. — Где Лаки? — осведомилась она, обмахиваясь тыльной стороной руки. — Кто? — насторожилась Пиппа. — Лаки. Моя подруга. Ну да! Конечно же! То-то ее лицо показалось Пиппе знакомым — лицо Джино Сантанджело! Джино! Эта соплячка наверняка его дочь! Много ли в мире девушек с именем Лаки? Пиппа вспомнила набор золотых расчесок и щеточек, который Бой купил в подарок новорожденной и на которых велел выгравировать «Лаки Сантанджело». Пятнадцать лет прошло! Господи! А этот идиот Уоррис стелется перед девчонкой Станислопулос. Много он понимает! Пиппа Санчес просияла. — Уоррис. Это нужно отметить. Закажи шампанское. Кажется, этот вечер станет поворотным. Для каждого из нас.Джино, 1966
Его дочь отсутствовала уже четыре дня, и Джино кипел от ярости. Он побывал в пансионе, откуда она удрала. Познакомился с обеими записками, пригрозил директрисе и, возвратившись в Нью-Йорк, стал ждать развития событий. В доме на Бель Эр надеялись, что Лаки вот-вот появится. Когда стало ясно, что она не вернется, Джино предпринял собственное расследование. Он вместе с Костой вновь посетил пансион и хорошенько расспросил девушек из класса — безрезультатно. Директриса была в гневе и ледяным тоном заявила, что настаивает на обращении в полицию. Косте пришлось два часа уламывать ее: это не сулит ничего хорошего. Самым убедительным доводом стала дополнительная субсидия в фонд школы. Джино удалось разыскать мать лучшей подруги Лаки, Олимпии Станислопулос: та заверила его, что ее дочь прилежно изучает русский язык в Париже и ничего не знает о местопребывании Лаки. Он позвонил Дарио — может, тому что-нибудь известно? Пустой номер.* * *
После разговора с отцом Дарио положил трубку и обдумал сногсшибательную новость. Как это ему самому не пришло в голову пуститься в бега? Он страстно ненавидел школу, дела с каждым днем становились хуже. Знал бы он, где скрывается Лаки, с удовольствием присоединился бы к ней. Но, к сожалению, он не имел ни малейшего понятия. Дарио помрачнел и вернулся в класс. Учитель рисования Эрик спросил: — Как дела, Дарио? Все в порядке? — Да, сэр. — Ты уверен? — Да, сэр. Один из мальчиков передразнил: «Да, сэр!» — и захихикал. Дарио проигнорировал эту выходку. В последнее время ему удалось развить в себе здоровое безразличие к мнению товарищей — это лучше, чем обижаться и жить в состоянии постоянной войны. Учитель подошел ближе и всмотрелся в его рисунок углем — изображение пловца. — Гм. Неплохо, Дарио, совсем неплохо. Задержись после урока, мне нужно с тобой поговорить. — Да, сэр.* * *
Джино рассмотрел все возможные варианты. Может быть, в эту самую минуту Лаки пробирается в Калифорнию — в своих тесных линялых джинсах и облегающей летней кофточке. Какой-нибудь шут гороховый, гнусный водитель грузовика предлагает ее подбросить, и она доверчиво карабкается в кабину. Короткая борьба — и вот уже изнасилованное, безжизненное тело его дочери валяется в кювете. Ей было всего пятнадцать лет. Совсем ребенок. Если какой-то ублюдок посмел… Дженнифер с Костой ни на минуту не оставляли его одного. Дженнифер следила за тем, чтобы он своевременно поел, и без конца уверяла Джино в том, что Лаки цела и невредима. — Джино, дорогой, ведь она — твоя точная копия и способна постоять за себя. — Дженнифер, ведь она еще дитя! — Нет, дорогой. Лаки взрослая. Интуиция говорит мне, что с ней все в порядке. Нутром чую! Джино посуровел и решил лично переговорить с Олимпией Станислопулос: вдруг она что-то знает и скрывает? Мать Олимпии отправилась в круиз, но ее секретарша дала ему телефонный номер девушки в Париже. Джино целый день не мог дозвониться. Наконец он разыскал ее отца в Афинах. Тот был крайне недоволен, что его потревожили в разгар совещания. — Олимпия точно находится в Париже, посещает курсы русского языка. Я немедленно свяжусь с ней и потребую, чтобы она вам позвонила. — Спасибо, — так же лаконично ответил Джино. — Чем скорее, тем лучше.* * *
Учитель рисования Эрик сказал: — Мне показалось, ты не очень-то прижился в школе. Ты… не такой, как другие. — Да, — с вызовом ответил Дарио. — Я не такой, как эти сопляки. — Я знаю. Это бросается в глаза. Ты более чувствительный. И очень умный. Дарио никогда не думал о себе как о сверхчувствительном или шибко умном, но согласился: — Да. Пожалуй, так оно и есть. — Я это сразу заметил, — тихо произнес Эрик. — С первого взгляда. Дарио вдруг смутился. Эрик как-то странно смотрел на него. — Мы с тобой похожи, — продолжал Эрик. — Я тоже был белой вороной в школе. Ребята ненавидели меня за то, что я увлекался искусством… серьезными книгами… всем, что есть в жизни прекрасного. — Правда? — Дарио старался выглядеть заинтересованным, но, по правде говоря, ему не было дела до Эрика и его биографии. — Как насчет того, чтобы провести со мной уик-энд — у меня дома? — как бы между прочим предложил Эрик. — Я заметил: ты никогда не ездишь домой. Обещаю тебе, будет весело. Ты не пожалеешь. Дарио обдумал перспективу провести время с Эриком. Учителю рисования исполнилось двадцать четыре года. Он был плотного сложения, с волосами песочного цвета и водянисто-серыми глазами. — А что мы будем делать? — осторожно спросил он. — Что захочешь. Сходим в кино, поиграем в кегли, поплаваем, поедим чего-нибудь вкусного. Что ты об этом думаешь? — Почему бы и нет? Эрик улыбнулся. — В самом деле — почему бы и нет? Только пусть это будет нашей маленькой тайной. Не скажем ни одной живой душе. Ты же понимаешь — школьные правила… Дарио улыбнулся. Он вдруг почувствовал себя значительным и кому-то нужным. Эрик не приглашает к себе кого попало.* * *
Ровно через двадцать четыре часа Димитрий Станислопулос позвонил Джино. — Мы столкнулись с проблемой, — коротко сказал он. Ага — уже «мы»! — Что такое? — Олимпии нет в Париже. Она взяла одну из моих машин и уехала. Джино с облегчением вздохнул. По крайней мере, хоть Лаки не одна. — Она очень своенравная девочка, — усталым тоном продолжал Димитрий. — Можно даже сказать, неуправляемая. Легко поддается чужому влиянию. Должно быть, она вместе с вашей дочерью… — Где они могут быть? — Не имею ни малейшего представления. Но я сообщил в полицию сведения об автомобиле. Вряд ли поиски займут слишком много времени. — Надеюсь. Если бы ваша жена не уверила меня, что Олимпия в Париже… — Моя жена слушает, что ей говорят. Жаль, что вы раньше не вышли прямо на меня. Под конец они договорились на другой день встретиться в Париже. — Дженнифер, едем со мной, — умолял Джино. — Я не знаю, как с ней себя вести. — Нет, — ответила Дженнифер. — Пойми, Джино, ты должен сделать это сам. Она же твоя дочь. Попытайся вернуть былую близость, пока еще не поздно. Тебе дается, может быть, последний шанс. Поговори с ней, попробуй понять причину этого поступка. Он попробует! После того, как выбьет из нее всю дурь. Выбьет — а потом попробует!Лаки, 1966
Как случилось, что Пиппа Санчес стала частью их жизни? Она мигом отделалась от ювелира из Боливии, забрала из отеля свою сумку и влезла в «мерседес». — Ты не против, дорогая? — сладким голосом спросила она Олимпию. — Нам с Уоррисом нужно закончить одно дело. — Ради Бога. Утром следующего дня Лаки разговаривала с подругой на кухне. — Слушай, почему мы никуда не едем? Здесь становится скучно. Кажется, мы собирались развлекаться. — Я и развлекаюсь. Уоррис — потрясный парень. — Ага. Как насчет мексиканской шлюхи? Долго она будет здесь торчать? — Самое большое — пару дней. У них с Уоррисом дела. — Она действует мне на нервы. Все время пялится. Олимпия захихикала. — Может, она к тебе вожделеет? — Может, ты засунешь свои дурацкие хохмы себе в задницу? — взвилась Лаки. — Я уезжаю! — На чем? У тебя ни машины, ни куска хлеба — ничего! — Давай, давай, попрекай меня! — А, брось. Чего тебе недостает, так это крутого парня. Сегодня вечером найдем подходящего. — Вчера я уже нашла — и чем кончилось? Для него не хватило места в машине — по словам Уорриса. — Сегодня будет иначе. Найдешь кого-нибудь по вкусу, и, обещаю тебе, мы так или иначе доставим его сюда. Лаки начала остывать. — О'кей. Они вышли на солнышко. Уоррис разлегся у бассейна; рядом на топчане Пиппа демонстрировала великолепное, смазанное кремом для загара тело. — Чудная вилла! — промурлыкала она. — Девочки, вы давно здесь живете? — Не очень, — осторожно ответила Лаки. — А как же школа? — Со школой покончено, — воскликнула Олимпия, плюхаясь прямо на распростертого на песке Уорриса. Тот запротестовал. — Ты слишком тяжелая! — Ночью ты не жаловался! — Тогда и я был потверже. Лаки разбежалась и так энергично нырнула, что проплыла чуть ли не две трети длины бассейна под водой. На бортике бассейна показалась ящерица — ее чешуйчатое тельце поблескивало в солнечных лучах. — Ой! — завизжала Олимпия. — Я боюсь всего, что ползает! — Ничего она тебе не сделает, — заявила Пиппа. Уоррис поддержал ее: — Это точно! — Придумала! — воскликнула Пиппа. — Как насчет того, чтобы устроить грандиозную вечеринку? Олимпия заколебалась. — Мы здесь никого не знаем. — Зато я знаю всех и каждого. Пригласим самых интересных людей. У Олимпии загорелись глаза. — Правда? — Ну конечно. Например, я знаю музыкантов, которые согласятся играть бесплатно — только за еду и выпивку. Здорово, правда? — Звучит заманчиво, но что касается еды и выпивки… Я поистратилась… вот-вот должна прийти моя стипендия… Пиппа вскочила на ноги. — Тебе незачем беспокоиться, я беру это на себя. Можно взять твой автомобиль? — Конечно. Но… Пиппа широко улыбнулась. — Я все устрою. А ты лежи, загорай на солнышке, — она надела поверх бикини желтое пляжное платье. — Увидимся вечером! — Ух ты! — восхитилась Олимпия. — Потрясная баба! Уоррис стянул с нее лифчик. — А вот и мои крошки. Олимпия скользнула оценивающим взглядом по его маленьким белым плавкам. — Ну-ка покажи, что ты припас для маленькой девочки. Он встал и потянул ее за руку. — Я сделаю лучше: покажу, что у меня припасено для большой девочки. Пошли в дом. Лаки было до лампочки. Она знай себе переплывала бассейн из конца в конец. Как заводная.* * *
Пиппа гнала белый «мерседес» по серпантину горной дороги и тихонько напевала про себя. Жизнь прекрасна! Ей не потребовалось много времени, чтобы уяснить ситуацию. Девчонки сбежали, это видно невооруженным глазом. Ни денег, ни планов на будущее. Вилла им явно не принадлежит — судя по зачехленной мебели. Да, они беглянки; их наверняка ищут. Джино Сантанджело. От одного этого имени у Пиппы мороз по коже. Вполне возможно, он разыскивает дочь. А если так, кому, как не Пиппе Санчес, помочь ему в этом? Он будет ей признателен. Не исключено, что в знак благодарности он профинансирует ее картину. Она улыбнулась и на мгновение прониклась милостью к Уоррису. Все же с ним нужно держать ухо востро и ни в коем случае не открывать своих планов. Да он и сам интересуется только этой гусыней Станислопулос. Кто упрекнет его за это? Улыбка Пиппы сделалась шире. Все идет как по маслу. «Я все устрою. Можно взять твой автомобиль?» В результате они при всем желании не смогут убежать с виллы. Она же вместо вечеринки устроит им встречу с Джино Сантанджело. Он тотчас примчится — где бы сейчас ни находился. Пиппа лично приведет его к доченьке, драгоценной Лаки. Она на полную громкость включила радиоприемник и нажала на акселератор. Кто больше других подойдет на роль Джино Сантанджело? Марлон Брандо? Тони Кертис? Пол Ньюмен? Как это здорово — самой набирать актеров! Да, Марлон Брандо — идеальный вариант. Как раз нужная пропорция мужественности и сексуальности. То, что доктор прописал! На крутом повороте произошло то, чего Пиппа никак не ожидала. Она слишком гнала машину и на полной скорости врезалась в «ситроен» с английскими туристами. Грохот разнесся по всему ущелью. Пиппа Санчес умерла мгновенно. А вместе с ней — все ее мечты.Джино, 1966
Джино летел в Париж один. Из Вегаса ему докладывали, что миссис Ричмонд предъявляет беспрецедентные требования. Она отбыла на следующий день после него, оставив вместо себя Крейвена надзирать за приготовлениями к предстоящему гала-вечеру. И сама чуть ли не ежечасно звонила из Вашингтона. — Это чистое безумие, — жаловался патрону Марко. — Она требует, чтобы половине гостей предоставили люксы на одну ночь. И чтобы было особое меню, а цветов — вы не представляете! Этот банкет будет стоить целого состояния. Джино ничего не мог поделать. Он согласился ей помочь и сдержит слово. Она держит его за дурачка, это ясно. Позволила трахнуть себя разок — и думает, что они в расчете. Стерва! Оценила свой благотворительный вечер в одно траханье! — Делай все, что она скажет, — приказал он Марко. — Я скоро вернусь, и тогда она попляшет! Миссис Ричмонд придется ответить за все. Джино Сантанджело еще никому не позволял помыкать собой. Она получит свое благотворительное гала-представление, но в один прекрасный день ее ждет расплата. Просто сейчас у него связаны руки. — Есть новости о Лаки? — спросил Марко. — Я только что прилетел в Париж. Позже позвоню.* * *
— Сигарету? — предложил Эрик. — Спасибо, — Дарио закурил и разлегся на топчане, занимавшем добрый кусок террасы. Эрик жил в Сан-Диего, в нескольких милях от пансиона. Дарио прибыл автобусом в субботу утром. Эрик встретил его на станции. Они приятно провели день, раскатывая по городу, заходя в магазины, особенно в книжные; посетили художественную галерею. Теперь, когда они вернулись к Эрику домой, тот липнул к Дарио, точно мясная муха. Безусловно, Дарио это льстило. В школе внимание одноклассников носило враждебный характер. Дома, если в ту же пору гостила Лаки, она неизменно играла первую скрипку. — Говорят, твой отец — Джино Сантанджело? — прокашлявшись, произнес Эрик. — Это правда? Дарио кивнул. Эрик явно нервничал. — Просто не знаю… Я, конечно, не думаю, что ты… но все-таки… Дарио показался себе очень взрослым и умудренным опытом. Этаким светским львом. — Все в порядке, Эрик. Я не собираюсь ему докладывать. У того вырвался вздох облегчения. — Я просто… — Ты ничего не должен объяснять. Эрик стиснул его руку — первый физический контакт. Дарио не протестовал. У него бешено билось сердце. Он не был так наивен, чтобы не догадываться о намерениях Эрика. Другое дело — позволит ли он… — Ты такой красивый, — выдохнул Эрик. — Я заметил с первого взгляда. Только ты появился в классе, я сразу же сказал себе: этот парень не такой, как все. Я угадал? У него были горячие, потные ладони, но Дарио не испытывал желания освободиться. В нем шевельнулось физическое влечение — как в тот раз, когда он подсматривал за отцом и Марабель Блю. Или шпионил за раздевающейся сестрой. Или когда наблюдал за мальчиками в душе. — Пожалуй, — небрежно подтвердил он, воображая себя в романтическом ореоле человека, знавшего великую скорбь и страдания. Да ведь, в сущности, так оно и было. Он очень одинок… Эрик впился в его губы своим жадным ртом, и Дарио не почувствовал отвращения — одно любопытство. — Кажется, я мог бы полюбить такого, как ты, — приглушенным голосом произнес Эрик. Дарио позволил целовать себя. И все, что последовало. Впервые в жизни он чувствовал себя любимым, желанным и абсолютно защищенным.* * *
Димитрий Станислопулос оказался представительным мужчиной с крючковатым носом, гривой жестких седых волос, бегающими глазами и раздражающей привычкой начинать каждую фразу словами: «Я полагаю…» Через пятнадцать минут, проведенных в его обществе, Джино был сыт по горло. Они вдвоем допросили экономку в парижской резиденции Димитрия, недалекую угрюмую женщину, плохо говорившую по-английски, а перед лицом этих двух суровых мужчин и вовсе утратившую дар речи. Димитрий обратился к ней на беглом французском, при этом он яростно размахивал руками, точно ветряная мельница. Она что-то пробормотала в ответ. — Идиотка! — возопил Димитрий. — Только и думает о том, как бы ее не уволили. — Что она сказала? — нетерпеливо спросил Джино. — Ничего такого, чего бы мы еще не знали. В прошлый понедельник Олимпия взяла машину и сказала, что едет к матери. — Значит, пять дней назад. Сейчас они могут быть где угодно. — Я знаю неплохую фирму частных детективов, которые специализируются на розыске угнанных машин. Будем говорить откровенно: на двух интересных девушек в роскошном автомобиле трудно не обратить внимания. В три часа дня нанятые ДимитриемСтанислопулосом сыщики нашли автомобиль. Он разбился в результате столкновения с «ситроеном» на узкой горной дороге в окрестностях Канна. В машине обнаружен труп неизвестной женщины. Джино с Димитрием тотчас вылетели на юг Франции.Лаки, 1966
Небо заволокли тучи. Подул колючий, холодный ветер. — Мистраль, — с досадой сказал Уоррис. — Черт возьми, он испортит нам вечеринку. Олимпия надулась. — Это еще почему? — Потому, моя прелесть, что идет гроза и никто не рискнет забираться в горы. — Какой ужас! А я-то настроилась на фантастическую тусовку! А ты, Лаки? Эй, Лаки! Та вздрогнула от неожиданности. В мыслях она была далеко отсюда, на Бель Эр. Огромный холодный особняк. Заросший сад. Ее просторная белая комната с телевизором. Коллекция книг и грампластинок. Старые игрушки… — Махну, пожалуй, домой, — как бы между прочим сказала она. У Олимпии расширились глаза. — Что-о? — Нет, правда. — Это почему же? Лаки неопределенно передернула плечами. — Не знаю. Просто мне так хочется. Поросячьи глаза Олимпии превратились в щелки. — Это невозможно. — Почему? — Невозможно — и все. Мы вместе отправились в путешествие и должны вместе вернуться. — Не обязательно! — огрызнулась Лаки. — Но утром ты обещала остаться. — Ничего я не обещала. Я хочу домой. — Эгоистка! Ха! Это она-то эгоистка? Олимпия все утро провела в спальне с Уоррисом. Сейчас два часа дня, и они только что вышли. Лаки осточертело быть третьей лишней! — Слушай, — твердо заявила она, — я ухожу, и ты не можешь мне помешать. Уоррис лениво прислушивался к разговору. Он вдруг впервые осознал, что Лаки очень красива. До сих пор он ни разу толком на нее не взглянул. Но под шапкой черных, как смоль, волос таилась дикая цыганская красота. Подумать только — он столько времени прожил с ней в одном доме — и не разглядел ее своеобразия. Куда до нее Олимпии — та всего-навсего смазлива. Конечно, титьки… да длинные золотистые волосы… А все остальное — ширпотреб. Такие встречаются на каждом шагу. О Лаки этого не скажешь. — У меня от твоих слов разболелась голова, — буркнула Олимпия. — Пойду прилягу. А ты, Уоррис, растолкуй ей, что если она сейчас вернется домой, ее живо упрячут в какую-нибудь дурацкую школу, — и она гордо хлопнула дверью. Оставшись одни в полутемной от бушующего за стенами виллы урагана, Лаки с Уоррисом молча уставились друг на друга. — Что это ты надумала уезжать? — спросил Уоррис. — Так просто, — упрямо ответила она. — И никто меня не удержит. Уоррис встал и потянулся. — Вернется Пиппа — отвезу тебя в аэропорт. Если не передумаешь. Но как же ты без денег? — Там, на месте, и решу, — Лаки с подозрением воззрилась на него. — Ты правда отвезешь меня? Он сделал несколько шагов навстречу. — Ясное дело. Почему бы и нет? Лаки сидела на ковре, вытянув перед собой длинные загорелые ноги. На ней были шорты и вязаная кофточка. Уоррис навис над ней и протянул руки. — Поднимайся. Подумаем вместе, как выйти из положения. Она ухватилась за него, и он рывком поднял ее на ноги. — Как? — Пока не знаю. Что-нибудь придумаем. Вместо того чтобы отпустить Лаки, Уоррис привлек ее к себе, и не успела она понять, что происходит, как он впился в ее губы жгучим поцелуем. — Эй! — Лаки попыталась вырваться. — Ну-ка оставь это! — С какой стати? — он зашарил руками по всему ее телу. — Я видел, как ты смотрела на нас с Олимпией. Думаешь, не знаю, что ты сходишь по мне с ума? — Мразь! — Послушаем, что ты скажешь после того, как я тебя проткну! Лаки изловчилась и что было силы поддала ему коленом в пах. Уоррис сложился пополам. — Сука! Девушка внимательно следила за ним. Ей хотелось смеяться, но это только разъярило бы его: кто знает, чего можно ожидать от этого подонка. Все еще скрюченный, Уоррис рухнул на диван. — Валяй в аэропорт на своих двоих! На меня не рассчитывай! Мать твою! Чем скорее ты слиняешь, тем лучше для всех. — Как это «на своих двоих»? — А вот так! Глаза Лаки наполнились слезами. Как только ее угораздило попасть в такую переделку? Она тут в ловушке, вместе с Олимпией и этим ужасным человеком. Если бы не он, они бы чудесно провели время. Он все испортил. Лаки посмотрела на дверь и стала ломать голову: что бы такое предпринять? Начался дождь: целые потоки воды низвергались с небес. Как ей хотелось снова стать маленькой девочкой, чтобы кто-то заботился и решал за нее! — Не волнуйся, — злобно прошипела она. — Как-нибудь доберусь. Пусть только кончится дождь — ноги моей здесь не будет! Она оставила Уорриса лежать на диване и пошла собирать немногочисленные шмотки, привезенные с собой. Да пошел он!.. И Олимпия — туда же! Лаки уходит, и никто не сможет ей помешать!* * *
Во время полета в голове у Джино теснились страшные мысли. Что если в той машине была Лаки? Вдруг это она разбилась насмерть — его маленькая девочка? Он перебирал в памяти подробности их последнего свидания. Квартира в Нью-Йорке. Роскошно сервированный стол. Он сам — косящий глазами на телеэкран, пока она лепечет что-то о своей ненависти к школе. Он не слушал — а надо бы! На следующее утро он затолкал ее в черный лимузин; даже не подумал лично проводить ее. Но как еще он мог себя вести? Обнять и расцеловать, закрыв глаза на то, что ее застали голой в постели с парнем? В пятнадцать лет, черт побери! Всего пятнадцать лет! Димитрий Станислопулос также хранил угрюмое молчание, поражаясь в душе: за какие грехи Бог наградил его дочерью, с которой больше хлопот, чем со всеми его бывшими женами вместе взятыми? Наконец частный самолет приземлился в аэропорту Ниццы. Прямо на летном поле их ждал лимузин. Дождь лил как из ведра, дул сильный ветер. Джино сверился с хронометром. Семь часов вечера. В желудке урчало. Но разве что-нибудь полезет в рот в такое время? С тяжелым сердцем он забрался в автомобиль. Неужели эта извилистая горная дорога приведет их в морг?* * *
Лаки не знала, что делать. Она упаковала вещи, села и стала ждать Пиппу, которая наверняка приедет, как только кончится дождь. Но вот уже семь часов вечера, а он и не думает прекращаться. И Пиппы нет как нет. Ранее, в четыре часа, вышла Олимпия и занялась приготовлениями к вечеринке. Она поснимала чехлы с мебели и достала бокалы. Они с Лаки демонстративно не разговаривали друг с другом. Уоррис храпел на диване, и это раздражало обеих девушек. В шесть Олимпия зажгла по всему дому свечи, разбудила Уорриса и спросила: — Ну и где черти носят твою подругу? Уоррис был не в духе: боль в мошонке все еще давала себя знать. — Никуда не денется, — буркнул он. — Наверное, балдеет там на всю катушку. — Я сказал, приедет! — он поднялся и увлек Олимпию в спальню. За ними громко захлопнулась дверь. Лаки посмотрела в окно, за которым сверкали молнии и вовсю хлестал ливень. На душе было тоскливо. Настоящая западня. И вдруг показались огни приближающегося автомобиля. Ура! Если Пиппа не захочет ее отвезти, она сама сядет за руль. И дело с концом! Лаки схватила свою дорожную сумку, рывком распахнула входную дверь и выбежала на улицу. Дождь тотчас заключил ее в объятия: она промокла до нитки, но продолжала бежать к машине. Поздно она заметила, что это не «мерседес» и сидит там не Пиппа, а ее отец. Черт побери! Джино Сантанджело собственной персоной!Стивен, 1967
Зизи обожала бегать на танцульки. Стивен предпочитал оставаться дома и слушать свою любимую музыку: джаз, легкий рок, но главное — «соул». Он мог часами сидеть, наслаждаясь гигантскими дисками Айзека Хейза, Мервина Гея, Ареты Франклин. Зизи отдавала предпочтение резкой, пронзительной музыке в стиле «диско» и латиноамериканским мелодиям. Они постоянно ссорились. «Ну, что ты ставишь всякую дрянь? — возмущалась она. — Ни ритма, ни огня. Пошли на дискотеку!» Ее излюбленным местом был бар «Испанский Гарлем» — вечно переполненное заведение, где Зизи оказывалась в центре внимания. Стивен смотрел, как она виляет бедрами на танцевальном пятачке в паре с каким-нибудь дебилом, и горел на медленном огне. Они были год как женаты, но он все еще не мог ничего поделать с ревностью. Зизи это приводило в восторг. Она намеренно дразнила его, наслаждаясь теми моментами, когда Стивен терял самообладание. — Она тебя погубит, — сказал как-то Джерри за обедом. — Что это за адвокат, если он шляется по злачным местам и чуть что лезет драться? Кончится тем, что тебя самого призовут к ответу. Как бы ты повел себя на месте судей? — Ты прав. Но что делать, Джерри? Она проникла мне в кровь. Я люблю ее. — Любишь? Ты что, смеешься? Просто она взяла тебя за яйца и жмет что есть силы. Стивен с отсутствующим видом поковырял салат. — Ты видишься с Кэрри? — Естественно. Можешь себе представить, каково ей. — Вся беда в том, что мама уж слишком правильная. Будь ее воля, я бы женился на двадцатилетней черной девственнице с университетским дипломом, степенью бакалавра домоводства и из хорошей семьи. — Что-то не приходилось мне встречать двадцатилетних девственниц с университетским дипломом. Стивен отрезал кусочек говядины. — Поговори с ней. Может, она согласится встретиться. — Конечно, конечно, — при этом Джерри отдавал себе отчет, что его друг просит о невозможном. С каждой неделей в Кэрри крепла решимость не иметь ничего общего с сыном, пока он не освободится от «этой дряни». — Я был бы очень тебе признателен, — сказал Стивен. — Понимаешь, время от времени у меня возникает чувство, будто я никому не нужен. — А я, поросенок ты этакий? Стивен улыбнулся. — Ты настоящий друг. И единственный, — закончив фразу, Стивен с особой остротой ощутил: так оно и есть. Кроме Джерри, у него никого и ничего не осталось. Если не считать работу. И Зизи. — Ты подумал над моим предложением? — как бы между прочим спросил Джерри после того, как они допили кофе. — Конечно. Я польщен, но частная практика не совсем в моем вкусе. — Не отказывайся, пока не попробовал. — Я не отказываюсь, а просто говорю, что это не для меня. — Может, ты передумаешь? — Джерри сделал знак официанту. — Сегодня моя очередь платить, — напомнил Стивен. — А, пустяки, — Джерри вынул кредитную карточку. — Свои люди, сочтемся. — Я могу работать общественным адвокатом, — сухо произнес Стивен, — и быть в состоянии платить за себя.* * *
— Ну, как тебе? — спросила Зизи, стоя с вывернутыми носками возле его письменного стола в их маленькой квартире. Стивен с головой ушел в работу. Обложившись бумагами, он напряженно обдумывал, как вести себя на завтрашнем процессе. Наконец он рассеянно поднял глаза. На Зизи было золотистое платье с люрексом и разрезом до промежности. — Стильно, да? — она удовлетворенно хмыкнула. Вульгарнее этого платья он еще ничего не видел. Униформа проститутки. Дешевка. — Просто ужасно, — уронил он. На щеках жены заиграл тусклый румянец. — Оно обошлось в сто двадцать баксов, — она возмущенно выплевывала слова. — Так что придется тебе, миленький, его одобрить. В мыслях Стивен по-прежнему был далеко отсюда. Он так же рассеянно предложил: — Отнеси его обратно в магазин, пусть вернут деньги. Последовавшая за этим вспышка ярости застигла Стивена врасплох. Зизи подскочила к столу, разбросала документы и вцепилась мужу в лицо длинными острыми ногтями. — Тебе ничего не нравится, что я делаю! Только и знаешь, что критиковать, идиот несчастный! Ты что о себе вообразил, в самом-то деле? Стивен схватил жену за руки и прижал их к бокам. — Что это с тобой? — начал он и вдруг почувствовал прилив желания — как всегда, когда он вступал в контакт с ее телом. Это была потрясающая эрекция. Во всяком случае, так ему показалось. Нимало не заботясь о том, чтобы не порвать, он сорвал с нее золотое платье с люрексом. Зизи подбадривала его вздохами и горловыми стонами. Да, она точно взяла его за яйца — и знала об этом.* * *
— Вот так, миссис Беркли. Превосходно, дорогая. Просто изумительно. Покажите-ка зубки… улыбочку… нет, это чересчур… отлично! Довольный фотограф щелкал кадр за кадром, в то время как Кэрри механически выдавала весь свой набор поз и улыбок. Знакомая процедура! Забавно, не правда ли? Вы становитесь знаменитостью, делаете карьеру и при этом практически ни разу палец о палец не ударили. Какой там талант! Деньги, стиль, а главное — подходящий муж. Она жила уже со вторым «подходящим мужем». Вот только Бернард Даймс отличался щедростью и потребностью отдавать, а Эллиот был снобом, начисто лишенным чувства юмора. Кэрри не раз задавала себе вопрос: почему он на ней женился? Она — черная, а он всегда испытывал отвращение к черным, считая их низшей расой. Должно быть, он просто не замечал цвета ее кожи, ценя усвоенные за время жизни с Бернардом аристократические замашки. Она стала его собственной африканской принцессой. Боже милостивый! Если бы Эллиот узнал о ее прошлом, он убил бы себя — и ее, разумеется. Кэрри не любила Эллиота, но ей нравился образ жизни, который она вела благодаря ему. — Последний кадр, — весело пообещал фотограф. — Попробуйте надеть платье от Ива Сен-Лорана. Вас не слишком затруднит? Нет, разумеется. В сопровождении двух костюмерш, парикмахера и гримера Кэрри удалилась в костюмерную фотостудии. Все эти люди суетились, помогая ей одеться. Она посмотрела на свое отражение в зеркале и уже в который раз поразилась чуду. Как могло произойти, что из жалкой негритянской шлюхи она превратилась в элегантную даму? Благодаря Бернарду, разумеется. Он ее создал. — Вы просто восхитительны, дорогая, — ворковала женщина-парикмахер. Кэрри не спорила. Но ее путь наверх — видит Бог — был тернистым!Лаки, 1966
Прошло четыре недели, и юг Франции стал далеким воспоминанием, зато особняк на Бель Эр — самой что ни на есть реальностью. Тюрьма на Бель Эр — так будет правильнее. С самого начала свобода Лаки оказалась сильно урезанной. На сцене появилось новое действующее лицо — экономка мисс Дрю. Она ни на минуту не выпускала Лаки из поля зрения. Девушка вновь и вновь перебирала в уме подробности того вечера на юге Франции. Шок, испытанный ею от приезда отца. Джино, его лицо, подобно грозовому небу, затянутому тучами. Он схватил ее за плечи, безжалостно вонзив в нежную девичью плоть свои когти, и, не говоря ни слова, начал ее трясти, да так, что у нее застучали зубы. Это был сущий ад! Вслед за Джино из машины вышел отец Олимпии и закричал: «Я знал! Я знал, что они здесь!» Они втроем стояли под проливным дождем, и Лаки лихорадочно соображала, как бы предупредить Олимпию, которая наверняка сейчас в постели с Уоррисом — ведь это их обычный способ времяпрепровождения. Все трое вошли в дом. Джино, словно клещами, сжимал руку дочери, как будто боялся, что она сбежит, а Димитрий сокрушался: «О Господи! Во что они превратили виллу моей сестры!» Как раз в это время разразилась настоящая гроза — с ослепительными вспышками молний и устрашающими раскатами грома. Джино орал на дочь: «Как вы очутились здесь вместе с Пиппой Санчес?» Димитрий распахнул дверь хозяйской спальни, и пред их потрясенными взорами предстала Олимпия — голая, с высоко вздернутым задом: как раз в это время она прилежно делала Уоррису самый восхитительный минет, какой ему когда-либо довелось испытать. Наступила минута грозного молчания, прерываемого лишь хлюпающими звуками рта Олимпии. Димитрий не стал колебаться. Он резко шагнул вперед и что есть силы хватил дочь по этому бесстыдному заду. У Уорриса как раз начался оргазм, и когда Олимпия подскочила с воплем: «Это еще что такое?» — он пустил в руку Димитрию великолепную дугообразную струю. — Черт побери! — завопил тот. — Черт побери! — завопил Уоррис. Известие о гибели Пиппы немного усмирило участников драмы. Уоррис плюхнулся в кресло и закрыл лицо руками. — Господи! В голове не укладывается! — Что она здесь делала? — потребовал Джино. — Она здесь не жила, — оправдывался Уоррис. — Просто она моя приятельница и позаимствовала автомобиль. Вот и все. Ярость обоих мужчин не знала границ. — Сейчас же выметайся отсюда! — прорычал Димитрий. — Да поживее! — добавил Джино. — Убирайся, пока цел! Дальше все утонуло в реве множества голосов. Олимпия билась в истерике. Сыпались обвинения. Едва успев собрать вещи, Уоррис был изгнан в грозовую ночь с обоими своими чемоданами от Гаччи. Что касается Лаки, то ей предстоял новый безмолвный перелет вместе с отцом — его лицо казалось высеченным из гранита — в Лос-Анджелес, где ее тотчас водворили в резиденцию на Бель Эр. И за все время отец не издал ни одного звука. Почему? Неужели нельзя попытаться понять друг друга? Ее даже не наказали. Но полная изоляция сама по себе явилась наказанием, потому что на следующий день Джино отбыл, оставив ее на попечение мисс Дрю, тридцатилетней, атлетически сложенной мисс Дрю, которая ни на минуту не оставляла Лаки одну. Интересно, что стало с Олимпией? Возможно, ее снова упекли в какую-нибудь школу, но скоро на земном шаре не останется школ. Лаки пыталась звонить по всем известным ей телефонам — все они оказались замененными. — Твой отец не желает, чтобы ты общалась с мисс Станислопулос, — уведомила мисс Дрю. В день своего шестнадцатилетия Лаки проснулась и обнаружила, что приехал Джино. Он как ни в чем не бывало, с улыбкой на устах, сидел в патио, попивал кофе и скользил рассеянным взглядом по водной глади бассейна — ждал Лаки к завтраку. Ей о многом хотелось спросить его. Как он нашел ее на юге Франции? Что подумал? Рад ли ее возвращению? — Привет, папа, — осторожно произнесла она. Он широко улыбнулся. — Я наконец решил нашу проблему. НАШУ проблему? И что же он решил? Еще один пансион? Да она мигом даст деру! — У тебя есть выходное платье? Это показывало, как плохо он знал дочь. Ведь она ненавидела платья, никогда их не носила. В душе Лаки шевельнулось подозрение. — А что? — А то, что мы кое-куда едем. — Куда? — В Вегас. На грандиозный благотворительный вечер, который миссис Ричмонд устраивает в моем отеле. — Вегас? — Лаки просияла. Лас-Вегас был одним из тех мест, где ей всегда хотелось побывать. — Правда? — Конечно. В час нас будет ждать самолет. Иди уложи все необходимое. Лаки не верила своему счастью. — Нет, честно? Джино засмеялся. — Абсолютно честно. Только возьми с собой что-нибудь поприличнее — терпеть не могу эти облезлые джинсы и мужские рубашки. — Конечно, — Лаки ринулась в свою спальню и перебрала содержимое гардеробной. Марко в Вегасе! Нужно надеть что-нибудь сногсшибательное! В комнату заглянула мисс Дрю и лукаво улыбнулась. — Если я правильно поняла, тебя здесь несколько дней не будет? Ух ты! Дела с каждой минутой становились лучше! — Да, — торжественно подтвердила Лаки. — Джино… э… папа берет меня в Лас-Вегас. — Вот и хорошо. — Просто замечательно!* * *
— С днем рождения, детка, — Джино чокнулся с ней шампанским и вручил небольшой сверток. Лаки вдруг показалось, что все становится на свои места. Ей шестнадцать лет, она сидит рядом с отцом в отеле «Мираж» в Лас-Вегасе. Джино заботлив и внимателен. Напротив сидит смуглолицый, немного угрюмый Марко — он стал еще неотразимее. Единственное, что немного портило Лаки настроение, это ее наряд — и вообще внешний вид. Но если Джино от этого легче… По приезде в Лас-Вегас он настоял, чтобы Лаки посетила салон красоты при отеле — там ей сделали прическу. Парикмахерше были даны строжайшие указания. Лаки посмотрела — и ужаснулась. Локон к локону, волосок к волоску. Кошмар! Джино сказал, что она прекрасно выглядит. Он лично выбрал для нее розовое платье с оборочками вокруг шеи и на подоле. Ничего более омерзительного она в жизни не видела. Фу! А Джино повторил, что она — просто картинка. Лаки молниеносным движением разорвала обертку и открыла выложенную бархатом коробочку. Ах! Бриллиантовые сережки! Она в неудержимом порыве обняла отца и крепко прижалась к нему. Он засмеялся и отстранился. Наконец-то сбываются ее мечты! Лаки казалось, что она вот-вот лопнет от напора чувств. — Отличные сережки, — одобрил Марко. Девушка гордо приложила их к ушам. — Сходи в дамскую комнату, полюбуйся на себя в зеркале, — посоветовал Джино. Она сорвалась с места. — Вы ей уже сказали? — спросил Марко, провожая ее взглядом. — Не так сразу. Нужно подготовить почву. — И как, вы думаете, она это воспримет? Джино откинулся на спинку кресла и неожиданно пустыми глазами взглянул на своего помощника. — Мне наплевать. Это делается для ее собственного блага. Когда-нибудь она скажет мне спасибо. Марко не очень уверенно кивнул. — Может быть. — Точно, — припечатал Джино.* * *
Бетти Ричмонд была полностью одета и готова начать вечер. Ее муж Питер все еще торчал перед зеркалом. — Поспеши, — укорила она. — Ты же знаешь, как я ненавижу опаздывать. Особенно на свой собственный вечер. — Вечер Джино, ты хочешь сказать? — Мой вечер! Питер поправил галстук и состроил гримасу. — Знаешь старую поговорку: с кем поведешься, от того и наберешься? Вот, моя милая, что нас ожидает. — Не забудь, Питер: не кто иной, как ты, всю жизнь водился с кем попало, — едко заявила Бетти. — Иначе мы не оказались бы по уши в дерьме. — Ради Бога… — Хватит. Я не намерена опаздывать.* * *
В дамской комнате Лаки внимательно рассмотрела бриллиантовые сережки. Потрясающе! Она вынула из сумочки расческу и энергично заработала ею, возвращая волосам менее прилизанный вид. Жалко, с платьем ничего не поделаешь. Она скорчила рожицу своему отражению в зеркале, а затем показала язык. Ничего! У Марко хватит ума видеть не только то, что на поверхности! Лаки заторопилась обратно, к их столику, за которым почему-то прибавилось народу — зато Марко исчез. Она протиснулась на свое место рядом с Джино и, оглядевшись, узнала кое-кого из знакомых. Правда, были и незнакомые, в основном почтенного возраста: дамы, увешанные бриллиантами, и мужчины с торчащими изо рта сигарами. Лаки скользнула взглядом по всему залу и узнала Элвиса Пресли, Тома Джонса, Тину Тернер и Ракель Уэлч. «Просто не верится!» — шепнула она Джино. — Я рад, — весело ответил он, — что тебе нравится. Вошли сенатор Ричмонд и его супруга. Лаки приходилось видеть их фотографии в популярных журналах. На этих снимках сенатор обычно занимался каким-либо активным видом спорта: играл в поло, греб на каноэ или участвовал в гонках моторных лодок. Он сильно загорел и весь лучился здоровьем. То же можно было сказать и о его жене. Джино поднялся, чтобы приветствовать их. — А это моя дочь Лаки. Сенатор энергично пожал ей руку, а миссис Ричмонд оглядела с головы до пят. Затем появился какой-то долговязый балбес, и Джино добавил: — А это Крейвен Ричмонд. Он будет сегодня твоим кавалером. Прежде чем Лаки успела отреагировать, Джино вышел из-за стола, уступая свое место Крейвену. — А ты, папочка? — спохватилась она. — Разве ты не посидишь с нами? — Я подойду позже, детка. Развлекайся. Ей бы следовало знать: это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой!* * *
Не вечер, а сплошное занудство. Окруженная со всех сторон вышедшими в тираж знаменитостями, Лаки одним глазом косилась на Джино, занявшего вместе с почетными гостями столик в центре, а другим шарила по залу в поисках Марко, но он так и не появился. Ничего удивительного, что представление оказалось скучнейшим. Ни рок-звезд, ни приличной музыки — одно старичье, за которое Лаки не дала бы десяти центов, но которое, однако, то и дело вызывало у почтенной публики бурю аплодисментов. Еще этот Крейвен! Внимательный, вежливый… ЗАНУДА! Один из тех дебилов, для которых у них с Олимпией было до черта кличек. По окончании представления Джино устроил небольшой сабантуйчик для своих. Лаки не удалось ни отделаться от Крейвена, ни подобраться к Джино, а когда она наконец увидела Марко, он был занят разговором с какой-то девицей — Лаки с удовольствием убила бы ее! Так что ей теперь хотелось одного: смыться. — Я устала, — сказала она Крейвену. — Я тоже. — Пойду прилягу. — Позволь проводить тебя до лифта. «Позволь проводить!..» Ну, хоть ты волком вой! Он довел ее до лифта. — Как насчет того, чтобы завтра поиграть в теннис? — Не знаю, как долго я буду спать. — Я позвоню в десять часов. Тогда и условимся. — Я… э… — она никак не могла придумать отговорку. Крейвен наклонился и целомудренно чмокнул ее в щечку. Дылда. Чертов идиот! — До завтра, — сказал он. — Не волнуйся, все будет хорошо. Лаки вошла в лифт и поспешила нажать на кнопку закрытия дверей. Болван! Что он имел в виду — «Не волнуйся, все будет хорошо»? Хорошо бы им больше никогда не встречаться! Очутившись в своей спальне в роскошных апартаментах отца, Лаки первым делом стащила с себя это жуткое розовое платье, швырнула его в угол ванной и принялась разгуливать по комнатам в одних трусиках. Она не признавала бюстгальтеров из-за малой груди и любви к свободе. Лаки подошла к трюмо и стала кривляться, подражая шоу-герлс. Выходило довольно смешно. Подумать только — некоторые таким образом зарабатывают на жизнь. А как быть, когда потеряешь форму? Пошарив в дорожной сумке, она нашла и тотчас нацепила на себя не слишком чистые белые джинсы и рубашку с короткими рукавами. Посмотрела на часы: половина первого. Первая ночь в Лас-Вегасе, к тому же у нее день рождения. Черта с два она ляжет спать — во всяком случае, сейчас! Лаки взяла из ящика письменного стола Джино двадцатидолларовую купюру, взбила пару подушек у себя на кровати и накрыла одеялом, чтобы казалось, будто она спит. Сунула в карман ключ от номера и отчалила.* * *
В пятнадцать минут третьего Джино поцеловал в обе щеки Бетти Ричмонд, пожал руку Питеру и сообщил: — Я пошел отдыхать. — Чудесный вечер, — проворковала Бетти. — Несомненно, — поддакнул Питер, хлопая Джино по плечу. — Он превзошел все ожидания. — Да, — скромно подтвердил Джино. — По-моему, все остались довольны. Поднявшись к себе, он снял пиджак, расслабил узел галстука, плеснул себе немного бренди и несколько минут неподвижно сидел в лоджии, глядя вниз, на сверкающую неоновыми огнями улицу. Вечер и вправду удался. Все шло точно по плану. Вот только Лаки — встала и ушла, даже не пожелала ему доброй ночи. Странная малышка. Может, она переутомилась? Он проследил за тем, как она вышла с Крейвеном, и, едва тот вернулся, спросил: — Как Лаки? С ней все в порядке? — Да, сэр. Она просто немного устала. — Не называй меня «сэр», а то я чувствую себя столетним старцем. — Простите, сэр… э… мистер Сантанджело. — Джино. — Да, сэр. Джино заглянул в спальню дочери. Спит. Здесь ей будет хорошо, спокойно. Он вернулся к себе, разделся и рухнул на кровать. Не прошло и нескольких секунд, как он уснул.* * *
— Ах ты, чертова динамистка! — прорычал мужчина. — Лучше давай сама, а то хуже будет! Он прижал Лаки к кирпичной стене на автостоянке неподалеку от «Миража». Она понимала, что сама во всем виновата. Они познакомились в каком-то гнусном притоне и провели вместе пару часов, шатаясь от одного игрального автомата к другому и посещая один за другим низкопробные казино и бары. Лаки удалось выиграть двести долларов. К тому времени, как он довез ее до отеля, они стали закадычными друзьями. Он припарковал машину на задворках, и они начали тискаться. Лаки не возражала. Он немного походил на Марко: такой же смуглый. Ей было весело с ним. И потом, она уже сто лет не занималась «почти». Когда дело запахло керосином, она выскочила из машины. Он догнал ее и пригвоздил к стене. У него была расстегнута ширинка, и он тыкался твердым, торчащим пенисом ей в пах. Одной рукой он залез под блузку, а другой пытался расстегнуть молнию у нее на джинсах. — Ты перестанешь или нет? — процедила сквозь зубы Лаки. Ей не было страшно — только противно. — Слушай, ты, сука, я не потерплю, чтобы ты распалила меня и смылась. Этот номер у тебя не пройдет! Он рванул джинсы, и Лаки почувствовала у себя между ног его хищные пальцы. Ее спутник явно потерял контроль над собой — они выпили слишком много дешевого вина. Лаки поняла: нужно было смываться раньше. Собрав все свои силы, она саданула его коленкой между ног — знаменитый трюк Сантанджело. Он приглушенно крикнул от боли и отпустил ее. Она помчалась прочь, рукой поддерживая джинсы, ныряя между автомобилями. Недоносок чертов! Вел бы себя как положено, она ублажила бы его ртом — в расчете на ответную услугу. Было четыре часа утра, но, завернув за угол, Лаки увидела, что гала-вечер еще не закончился. Продолжали подъезжать и уезжать лимузины, гости выходили из отеля под шафе; одни на ходу подсчитывали выигрыш, другие — убытки. Наконец ей удалось застегнуть молнию на джинсах. Вот только недоставало верхней пуговицы: она была вырвана с мясом. Лаки вытащила блузу навыпуск, чтобы это не бросалось в глаза. Скользнула в вестибюль, прошмыгнула мимо казино и бросилась к лифту. — Лаки? Она не остановилась. — Лаки! — Вслед за голосом она почувствовала чью-то крепкую руку у себя на плече и обернулась, округлив глаза — воплощенная невинность! Это был Марко. Настоящий Марко, не очередная смуглая подделка. — Ах! — с облегчением вздохнула Лаки. — Это ты! Он как-то странно на нее смотрел. — Что ты здесь делаешь? — Я… Никак не могла уснуть. Вот и отправилась на прогулку. — И где же ты гуляла? — от нее на милю разило дешевым вином. Лаки неопределенно пожала плечами. — Джино знает, что ты ушла? — Он спит, — понадеявшись на удачу, произнесла она. — Мне не хотелось его беспокоить. — Беби, когда он узнает, что ты отправилась гулять, он будет беспокоиться будь здоров! От слова «беби» и интонации, с которой оно было сказано, Лаки бросило в озноб. Однако она бойко заявила: — Я голодна. Здесь можно где-нибудь найти сандвичи? — Я попрошу прислать тебе в номер. Она отважно взглянула Марко в глаза. — У меня пока нет настроения туда возвращаться. Марко поскреб подбородок и задумался. Как быть? Если Джино проснется и не обнаружит дочери, его гнев будет страшен. Где же она была? Видок у нее такой, словно она участвовала в собачьей потасовке. — Ладно, пошли, — он привел ее в кафетерий, усадил в нише, дал указания официантке и попросил Лаки подождать: через несколько минут он вернется. А потом сделал то, что положено. Позвонил Джино и все рассказал. Тот выругался. — Ах, сукина дочь! Где ее черти носили? — Не знаю, — ответил Марко. — Попробую расспросить. А потом доставлю в номер. Счастливая Лаки сидела в нише, уплетая фирменный сандвич «Синатра» и запивая его кока-колой. Марко сел рядом. — Здорово! — сияя, сказала она. — Нам с тобой нужно делать это почаще!* * *
Джино натянул купальный халат и пошел в спальню дочери. Убедившись в камуфляже, выругался про себя. Лаки невменяема. Ее нужно защищать от нее самой. Он принял правильное решение — теперь это абсолютно ясно.* * *
Марко довел Лаки до двери. — Ш-ш-ш! — прошептала она и захихикала, извлекая из кармана ключ. — Не стоит будить Большого Папу. Ему стало стыдно. Не очень-то красиво — доносить, но это для ее же блага. — Я бы пригласила тебя зайти, — сказала она, отпирая дверь, — но, боюсь, ему это не понравится. Но ты можешь сам как-нибудь меня пригласить. Должно быть, она не раз это проделывала, подумал Марко. Джино хватит удар! — Спокойной ночи, Лаки, — быстро произнес он и легонько подтолкнул ее к двери. — А поцелуй? — не успел Марко отстраниться, как Лаки обвила руками его шею и призывно раскрыла рот. Он оттолкнул ее и поспешил к лифту. За ее спиной раздался гневный голос Джино: — Иди сюда, Лаки, нам нужно поговорить. Они стояли лицом к лицу — отец и дочь. Одни на всем белом свете. Джино окинул ее беспощадным взглядом, не упустив ни одной гнусной подробности. Грязные, разорванные джинсы. Мятая блузка. Растрепанные волосы. — Ну и где же ты была, доченька? Трахалась с мужиками? Лаки вспыхнула. — Что? — По-твоему, я вчера родился, да, детка? Думаешь, я слишком стар и не понимаю, что происходит? — Мне очень жаль, — начала она. — Кому нужны твои сожаления? — взревел Джино. — Засунь их себе в задницу! Кого ты, мать твою, надеешься обмануть? Она была сильно напугана — его словами, всем его обращением. — Я пошла прогуляться… — Ага, прогуляться! И поэтому твоя одежда в таком состоянии? Руки в синяках? Джинсы в клочья? Ничего себе прогулка! — На меня напал какой-то человек, — упрямо твердила Лаки. — На стоянке. — Что ты говоришь! Как тот парень в Швейцарии, да? Просто он случайно оказался в твоей спальне, случайно разделся догола, раздел тебя и забрался в твою постель? В то время как твоя подруга занималась тем же самым в другом конце комнаты! Что ж ни одна не позвала на помощь? Отвечай! Лаки угрюмо смотрела в пол. — А во Франции? — бушевал Джино. — Забраться на виллу вместе с этой маленькой шлюхой, твоей подружкой! Сколько у тебя было любовников? А, детка? Или вы обе пользовались услугами того сутенера, который жил вместе с вами? — Нет! — выдохнула Лаки. — Все было совсем не так! — Хватит пудрить мне мозги! — Джино был страшно зол, угольно-черные глаза метали молнии, руки дрожали от волнения. — Я знаю, что с тобой делать. Ты еще будешь благодарить меня на коленях! — Что? — испуганно спросила она. А впрочем, чего ей бояться? Она снова убежит. — У тебя бешенство матки, да? Горит в штанах? Просто не можешь жить, чтобы не трахаться направо и налево? Лаки покоробило. — Что ж, — продолжал Джино. — Ничего не поделаешь — ты моя дочь. Но я больше этого не потерплю! — Я не трахалась направо и налево! — ей стоило огромных усилий произнести это слово перед своим отцом. — Правда! Честное слово, папа! Он проигнорировал мольбу в ее голосе. — Ты выйдешь замуж, дитя мое. Я подыскал тебе мужа, и ты будешь трахаться, сколько влезет — исключительно в супружеской постели! — Джино не заметил, как перешел на крик. — Тебе ясно, детка? Ясно тебе? — Я не хочу выходить замуж. Тогда он ее ударил. В первый и последний раз. Сильно. По лицу. Она отлетела в другой конец комнаты. Джино подскочил к дочери, сгреб в охапку и быстро-быстро заговорил: — Прости, детка, мне очень жаль. Поверь, я знаю, что тебе нужно. Ты должна слушаться. Согретая его объятиями, Лаки расплакалась. От него так хорошо пахло! Папин запах. Чувство защищенности. И любви. Почему ей не пять лет? Почему умерла мама? — О'кей, папочка, я буду слушаться. Я все сделаю. Я люблю тебя. Очень люблю. Я все-все сделаю, чтобы мы помирились, — ей ни за что не хотелось лишаться тепла его рук. Ни за что на свете! — Ну, вот и хорошая девочка, — ласково сказал Джино. — Это для твоего же блага, вот увидишь… — Кто? — прошептала она, всем сердцем надеясь услышать «Марко». — Крейвен Ричмонд, — гордо ответил Джино. — Это уже решено.Стивен, 1970
Спустя пять лет брака отношения Стивена и Зизи обострились до предела. Стивену пришлось признать: мама была права. Зизи всего-навсего дешевая потаскушка. Похотливая пустышка, не знающая, что такое любовь и элементарные приличия. Ему потребовалось много времени, но в конце концов у него открылись глаза. Да и трудно было продолжать держать их закрытыми, потому что в один прекрасный день, вернувшись домой, он нашел дверь запертой на цепочку. Зная, что жена дома, Стивен звонил до тех пор, пока не появились запыхавшаяся Зизи и какой-то парень. Стивен не успел вымолвить ни слова, как парень сиганул мимо и со всех ног пустился бежать по лестнице. — Это разносчик овощей, — запротестовала Зизи, когда он бросил ей в лицо обвинение в измене. — Я всегда закрываю дверь на цепочку — по привычке. Ему безумно хотелось ей верить, и он поверил. Хотя и знал, что она трахается с кем попало. Спустя некоторое время они с Джерри сидели в баре и вели разговоры о том о сем… И вдруг Джерри выпалил: — Я переспал с твоей женой. — Что? — Стивен подумал, что Джерри по обыкновению шутит. — Я не виноват. Это случилось неделю назад. Помнишь — когда я забыл у тебя те папки, а тебя не оказалось дома? Она буквально набросилась на меня. Я не успел очухаться. Стивен недоверчиво посмотрел на приятеля. — Зачем ты мне это говоришь? — Слушай, Стивен. Мне нечем гордиться, но… Я не мог встречаться с тобой с таким пятном на совести. Ты мой друг, я был обязан сказать тебе. Стивен вскочил и выбежал из бара. Когда он ворвался в квартиру, Зизи показывала какой-то экзотический танец двум своим пуэрториканским подругам. Стивен бесцеремонно выставил их за дверь. Разразилась гроза, и Зизи все ему выложила. Да, она трахнулась с Джерри Мейерсоном, так же как и со многими другими. Она сыта по горло такой жизнью. Можно сдохнуть от скуки! Хватит! Она едет в Голливуд, чтобы стать знаменитой танцовщицей и сниматься в кино. — Я красивее Риты Морено! — орала она. — У меня талант! Я убила на тебя несколько лет жизни! — В таком случае почему бы нам не развестись? — холодно осведомился он и вдруг понял, что впервые за пять лет не испытывает желания. Как же он раньше не замечал, что она одевается как проститутка, говорит как проститутка, поступает как проститутка? — Прекрасно, мистер! — завопила Зизи. — Ты зануда каких поискать! И друзья твои зануды, и работа занудная! Что же она не поставила его в известность, прежде чем перетрахалась с половиной мужского населения Нью-Йорка? Теперь он ничего так не хотел, как избавиться от нее. Хватит тревог и мучений! Он купил ей билет в Голливуд, дал с собой тысячу долларов, согласился выплачивать пособие и подал иск о разводе. Но должно было пройти два месяца, прежде чем он решился позвонить Кэрри. Смешно, ей-Богу. Ему тридцать один год, а он трепещет перед встречей с собственной матерью. Кэрри нанесла ему страшный удар, когда отреклась от него после женитьбы на Зизи. И оказалась права, хотя он по-прежнему считал ее обращение с ним слишком жестоким. Однако он начал понимать ее. Все это время Джерри держал его в курсе относительно ее дел. Кэрри здорова и тратит массу времени и сил, занимаясь благотворительностью. У нее репутация одной из самых гостеприимных хозяек Нью-Йорка. — У Кэрри столько энергии, — восхищался Джерри, — будто ей вдвое меньше лет, чем на самом деле. Несмотря на инцидент с Зизи, Стивен с Джерри остались друзьями. Скверно, что и говорить, но четырнадцать лет дружбы тоже не выбросишь коту под хвост. После ухода Зизи для Стивена началась новая жизнь. Он и прежде много работал, но его постоянно отвлекали мысли о сидящей дома жене: ей скучно, она дуется. Теперь он мог, когда хотел, встречаться с друзьями, ставить любимые пластинки — и никто не брюзжал рядом. Господи! Он только сейчас понял, что деградировал за те несколько лет, что прожил вместе с этой женщиной. Больше он этого не допустит. Не позволит ни одной женщине занять непомерно большое место в его душе. Оглядываясь назад, Стивен не мог понять, как такое могло случиться. В ней же ничего не было — обыкновенная потаскушка. Однажды они с Джерри разговорились об этом. — Наверное, у нее был какой-то особый запах, — авторитетно заявил Джерри. — Сука в период течки. Вот кобели и сходят с ума. — Спасибо, — с горечью вымолвил Стивен. — Послушай, ты все-таки говоришь о моей жене. — Бывшей. И ты уже знаешь, от каких качеств в женщине должен бежать, как от огня. Это уже кое-что. — Пожалуй, ты прав. Джерри хлопнул товарища по спине. — Конечно, прав. Кстати, могу познакомить тебя с классной девчонкой. — Спасибо. У меня каникулы. — От этого каникул не бывает. — Глядя на тебя, в это можно поверить. — Дерьмо собачье! — Отстань, Джерри. По-моему, ты запросто справишься за нас двоих. Джерри расхохотался. — Ладно, дружище. Ладно.* * *
Кэрри нервными шагами ходила по своей роскошной квартире, с минуты на минуту ожидая Стивена. Это же просто идиотизм — волноваться перед встречей с сыном! Конечно, ему следовало прийти гораздо раньше. Кэрри точно знала день и час, когда Зизи покинула город. За несколько дней та ей позвонила. — Привет, миссис Беркли, это вторая миссис Беркли, Та, которую вы почему-то на дух не переносите. У меня к вам маленькое предложение. — Да? — ледяным тоном спросила Кэрри. — Помните наш разговор перед тем, как мы с вашим мальчиком поженились? — Да. Конечно, Кэрри помнила, как предложила этой потаскушке пять тысяч долларов, чтобы та убралась из жизни ее сына. Зизи расхохоталась ей в лицо. — Ну, так мы с вашим мальчиком разводимся. Сердце Кэрри радостно подпрыгнуло в груди. Она ждала продолжения. — А вы, конечно, заинтересованная сторона. Я решила дать вам свободу. Однако нам нужно обсудить… Ну, вы понимаете. — Сколько? — Десять тысяч. Не позднее, чем через два дня. — Если мы… договоримся, могу я быть уверена, что Стивен никогда больше вас не увидит? — Я уезжаю в Лос-Анджелес — в пределах одной недели. — Вы подпишете обязательство? — Запросто. За десять тысяч я готова стоять на голове на Таймс-сквер. Да, подумала Кэрри. Это уж точно. — Ну так как? — настаивала Зизи. — Я позвоню в течение часа, — сказала Кэрри. — Мне нужно подумать и сделать кое-какие приготовления. — И не вздумайте жаловаться бедному мальчику: мол, я отнимаю у его мамочки кусок хлеба. Только попробуйте — и вы просчитаетесь. Я мигом заставлю этого кота поверить во все, что угодно. Можете не сомневаться! — Я не сомневаюсь. Кэрри в задумчивости положила трубку. Наконец-то Стивенпокончил с этой шлюхой — но можно ли быть уверенной, что это уже окончательно? Лучше откупиться — раз и навсегда. К счастью, ей не обязательно обращаться к Эллиоту: у нее еще осталось пятнадцать тысяч от продажи загородного дома Бернарда. Она заплатила. Зизи подписала составленный ею договор. И теперь Кэрри ждала Стивена. Наконец-то! У двери позвонили. Кэрри вскочила и постаралась взять себя в руки. Служанка впустила его в квартиру, и через несколько секунд Стивен вошел в комнату, где сидела Кэрри, делая вид, будто читает журнал. Стивен. Высокий и очень красивый. Элегантный. Деловитый. Перед ним открыты все дороги, чего никогда не было у нее самой. Он может ехать куда угодно, делать что угодно. Особенно теперь, когда нет Зизи. Стивен бросился к ней. — Мама! Кэрри поднялась и заключила его в объятия. — Ах, как я люблю тебя, упрямая женщина! — воскликнул он. — Как это я так долго не понимал, что ты всегда бываешь права!Лаки, 1970
— Вам что-нибудь нужно, миссис Ричмонд? — Что? — Лаки заслонила рукой глаза от солнца и окинула служителя бассейна внимательным, ничего не упускающим взглядом. Он был плотного сложения, с тугими мышцами бедер, изрядной выпуклостью внизу живота и поросшим густыми светлыми волосами торсом. — Да. Принесите кока-колы. — Сию минуту, мадам. Лаки встала с топчана и повела взглядом по окрестностям бассейна при отеле «Принцесса Санта» на Багамских островах. За четыре года они с Крейвеном неоднократно наведывались сюда и ни разу не заметили каких-либо перемен. Все как обычно. Стада туристов поджаривают задницы на солнце. Толстые черные туземки вперевалку снуют туда и обратно, разнося прохладительные напитки. Джаз наигрывает старые хиты битлов… К ней направлялся Крейвен. Муж. Прошло четыре года, а она по-прежнему видеть его не могла. Нет, не то чтобы ненавидела. Просто он был постоянным источником раздражения. Тупица, начисто лишенный индивидуальности, не умеющий ни поддерживать разговор, ни разжечь женщину. Крейвен Ричмонд — ее муж. Какая ирония судьбы! Он надел на костлявое тело рубашку с каким-то идиотским рисунком, белые шорты и теннисные туфли с короткими оранжевыми носками. На носу и вокруг рта — густой слой цинковой мази. Лаки быстро легла и закрыла глаза. У нее не было сил на пустые разговоры. Вспомнилось, как они приехали сюда в первый раз. Медовый месяц на Багамах. Смех да и только. Большой Папа считал ее нимфоманкой. Откуда ему было знать, что она все еще девственница? В этой двусмысленной игре она ни разу не дошла до конца. Все остальное — да, но когда доходило до настоящего траханья… Крейвен тоже был девственником. В свои двадцать один год он оказался еще менее опытным, чем она в шестнадцать. После тошнотворной процедуры заключения брака в Вегасе их засунули в самолет и отправили на Багамские острова. Двух незнакомцев. Ей только неделя как исполнилось шестнадцать лет. И что это была за неделя! Джино объявил, что все уже решено, — и ей пришлось в этом убедиться. Казалось, о предстоящей свадьбе знали все, кроме нее. Крейвен предвкушал неземное блаженство. Бетти Ричмонд источала прохладное дружелюбие, а Питер Ричмонд — снисходительность. Самолеты доставили в Вегас уйму Ричмондов — развязных, поражающих отсутствием вкуса, избалованных вниманием прессы. В мгновение ока она превратилась из никому не известной Лаки Санта в Лаки Сантанджело, дочь Джино, ставшую женой члена знаменитого клана Ричмондов. Даже Дарио по такому случаю отпустили из школы. Лаки с трудом узнала брата: из мальчика он превратился в интересного юношу с длинными светлыми волосами и хитрющими голубыми глазами. — Бьюсь об заклад, — пошутила Лаки, — девчонки так и падают штабелями к твоим ногам. — Какие девчонки? — равнодушно отозвался он. — Это школа для мальчиков. — Подожди, поступишь в колледж, наверстаешь. Шутки шутками, а былого взаимопонимания и след простыл. Марко тоже явился на свадьбу, черт бы его побрал! Предатель — окрестила она его в душе и свернула в сторону, чтобы не встречаться. В Нассау прямо в аэропорту играл оркестр, а «кадиллак» с откидным верхом домчал молодых на Парадиз-Айленд, где их вышел приветствовать управляющий отелем «Принцесса Санта». Очень похожий на Марко. Смуглый, сдержанный, с опасным блеском в глазах. Лаки прохладно поздоровалась с ним. Крейвен проявил больше дружелюбия. Ничего не скажешь, Парадиз-Айленд произвел на Лаки сильное впечатление. Подходящее название для полоски прибрежной земли, где расположились несколько роскошных отелей. Из окон был виден бесконечный пляж с белым песком, чистейшая бирюзовая вода, пальмы и экзотический кустарник. Лаки не могла дождаться, когда можно будет надеть бикини и разлечься на пляже. Крейвен в клетчатых «бермудах» присоединился к ней. Его худое белое тело, казавшееся еще белее по контрасту с загорелыми руками и ногами, внушало ей ужас. Как она все это выдержала? Зачем? Чтобы доставить удовольствие Джино? Или у нее просто не было выбора? В шестнадцать лет быть связанной с человеком, которого она даже толком не знала, не говоря уже о любви! День был ветреным, но Лаки не боялась обгореть: ее смуглая кожа и так уже прокалилась на солнце на юге Франции. Она несколько раз предупреждала Крейвена, чьи лицо и тело начали приобретать специфический розовый оттенок. — Ерунда, — отмахивался он. — Я еще ни разу не обгорал. Все когда-нибудь случается в первый раз. В ту ночь Крейвен чуть не орал от боли, когда она накладывала мазь. — У нас тут зверь, а не солнце, мэм, — сказал, широко улыбаясь, черный юноша в аптеке отеля. Совершенно верно. Крейвену пришлось целых пять дней проторчать в четырех стенах, и Лаки вместе с ним. Она терпеливо дожидалась. Она теперь замужняя женщина и хотела трахаться. Может быть, если закрыть глаза, удастся вообразить на месте Крейвена Марко? Законное право трахаться — хоть какая-то компенсация за согласие выйти замуж. На шестой день медового месяца стало совершенно ясно, что, если она не возьмет дело в свои руки, вообще ничего не будет. Кожа Крейвена зажила. Он, конечно, облез, даже дважды, но рвался снова загорать. На этот раз, вместо того чтобы надеть, как обычно, верхнюю часть пижамы, Лаки полностью разделась в ванной и так вышла в спальню. Она ничуть не стеснялась, а вот Крейвен перетрусил. Впрочем, его член мигом встал торчком, натянув пижамные брюки. — Привет, мой сладкий, — пропела Лаки, подражая Мей Уэст. — Хочешь капельку моей сладости? Он моментально сник. Потребовалось добрых полтора часа, чтобы снова довести его до кондиции. Но к тому времени они так вымотались, что уже ни о чем и не помышляли. Только через три дня брак наконец состоялся. Лаки рыдала до тех пор, пока не уснула, совершенно обессиленная. Это было ужасно. Самое большое разочарование, какое ей когда-либо доводилось испытать. Несколько торопливых ныряний, кувырок — и баиньки! Очевидно, Крейвен смотрел на вещи иначе. Он был чрезвычайно горд собой и усвоил многозначительную ухмылку, которая приводила Лаки в бешенство, а также привычку трахаться раз в сутки — перед тем, как почистить зубы. Продолжительность акта не превышала трех минут. Ей так и не удалось приобщить его к «почти». Сосать груди, гладить вульву, погружать член в женский рот и самому ласкать ее губами и языком — на все это был наложен запрет. Крейвен знал, что положено делать мужчине, и не испытывал ни малейшего желания заниматься тем, что он считал извращениями. Ему было безразлично, кончала она или нет, — а кто, черт возьми, мог кончить с этим часовым механизмом вместо мужа? Четыре года, выброшенных коту под хвост! — Ваша кока-кола, мэм. Лаки открыла глаза и села на топчане. — Доброе утро, — сказал Крейвен. — Как самочувствие? Она взяла у служителя бокал, бросила еще один быстрый взгляд на солидное уплотнение у него в плавках и с улыбкой поставила закорючку на счете отеля. Потом она повернулась и взглянула на мужа. Ей уже не шестнадцать, а двадцать, и все это время на уме у нее только одно: развод. — А, цинковый мальчик, — протянула Лаки. Крейвен прекрасно знал, что ее бесит, когда он мажет физиономию цинковой мазью! — Я плохо спал, — заскулил он. — В комнате всю ночь жужжали комары. Ты слышала? Крейвен постоянно на что-нибудь жаловался. Точно старик! — Нет. — И с невинным видом, но довольно игриво добавила: — Накололи тебя, да? Он как-то странно посмотрел на нее. — Не накололи, а укололи. Укусили. Ужалили. — Ах да. — «Накололи», или «прокололи», это то, что получала она сама. Время от времени. Если повезет. Или если не повезет. Это как посмотреть. Через два месяца после медового месяца Крейвен свел занятия любовью к одному разу в неделю, потом к одному разу в месяц. А потом стал руководствоваться исключительно своим желанием, а оно появлялось крайне редко. Лаки пришлось смириться с тем, что ее муж равнодушен к сексу. Ей было смешно. Джино выдал ее замуж, потому что считал, что у его дочери бешенство матки. Ну так она докажет, что так оно и есть! Она взяла первого любовника еще до окончания медового месяца. Это был тот самый управляющий отелем, копия Марко. Служащий ее отца. Замечательно! Она сама его соблазнила — под предлогом, что получила письмо от Джино, явилась в его апартаменты на верхнем этаже и вдруг разделась догола и взглядом дала понять, что от него требуется. Он испугался. Страшно выполнить приказ, но еще страшнее отказаться. В любом случае он окажется в проигрыше: ведь она — дочь Джино Сантанджело. Это все очень осложняло. Лаки не смотрела ни на что. Ей нравился мужик, и она брала его, если только он не артачился — таких было раз-два и обчелся. Конечно, она соблюдала осторожность. Большому Папе незачем знать, что вместо того чтобы помешать ей трахаться направо и налево, брак толкнул ее на эту дорожку. — Давно здесь лежишь? — полюбопытствовал Крейвен. — Примерно с час, а что? — Так просто, — Крейвен кряхтя улегся на соседнем топчане. Лаки поднялась и, сделав пару шагов, грациозно нырнула в бассейн. Она отдавала себе отчет в том, что почти каждый самец украдкой наблюдает за ней. В шестнадцать лет она была дикой маргариткой, а в двадцать стала дикой розой. Смуглая кожа, черные глаза. Тонкая и стройная. Груди округлились, придав ей чувственный вид. Она отрастила густые вьющиеся волосы, и теперь они волнами доходили до талии. Она почти не пользовалась косметикой. Не было необходимости. Немного подвести глаза, подкрасить губы и там-сям нанести чуточку золотистых блесток. Вот и все. Ее не оставляли мысли о собственной несчастной жизни. У мистера и миссис Ричмонд была шикарная квартира в Вашингтоне. Лаки разъезжала на ярко-красном «феррари» — свадебный подарок отца. У Крейвена был белый «линкольн-континенталь». Он получал двести тысяч долларов в год плюс проценты за четыре года по вкладу в швейцарском банке. Джино заплатил Крейвену, чтобы тот женился на его дочери. Шантажом вынудил Бетти и Питера Ричмондов дать согласие. Однажды в разгар семейной ссоры Бетти выложила это — без подробностей. Лаки решила: в один прекрасный день она докопается до подоплеки. Сам факт, что Джино заплатил кому-то, чтобы тот женился на ней, был настолько ужасен, что вначале Лаки отказывалась верить. А потом слетала в Нью-Йорк, чтобы атаковать Джино вопросами. — Ну и что? — удивился он. — Зато теперь ты член одной из лучших семей всех чертовых пятидесяти штатов. Превосходная сделка. Подумаешь, я просто снабдил его деньгами, чтобы было с чего начать. Начать — что? Крейвен так и не устроился на работу. Он околачивался возле отца, играл в теннис с матерью, а от Лаки требовалось блистать на приемах, играть в гольф, кататься верхом и принимать участие в любительских соревнованиях по теннису. Обо всем этом помещались подробные репортажи в прессе. Скоро она убедилась: Питер Ричмонд пальцем не шевельнет, если поблизости не крутится фотограф. Не о такой жизни она мечтала! Лаки дошла до точки. — Я хочу работать, — заявила она мужу. — Без этого мой мозг превращается в шарик для пинг-понга. — Не самая удачная мысль, — буркнул Крейвен. — Не самая удачная мысль, — заявила Бетти. — Не самая удачная мысль, — проворчал Питер. Чего у Ричмондов не отнять — они всегда заодно. — Дорогая, — проворковала однажды Бетти, — ты никогда не задумывалась о том, чтобы родить ребеночка? Задумывалась ли она? Да от одной мысли ее бросало в жар. — Я свободно владею четырьмя иностранными языками. У меня активный склад ума. Нет, Бетти, я не хочу пока иметь детей. Мне нужно настоящее дело, иначе я свихнусь. Они скрепя сердце позволили ей проводить несколько часов в день в офисе Питера. Она выдержала неделю. Работать на Питера вместе с другими задолизами было еще хуже, чем ничегонеделание. Лаки пробовала заполнять свои дни покупками, чтением, ездила в гости к подругам, которые, в сущности, были всего лишь приятельницами. Часами гоняла на своем «феррари» туда и обратно по автостраде, просто чтобы убить время. Выжимала предельную скорость, включала на полную мощность стереомагнитофон с записями в стиле «соул». Отдавалась острым ощущениям, бросалась с головой в омут мимолетных связей — ни одна не длилась больше недели. Изредка встречалась с отцом. Он прилетал в Вашингтон или они с Крейвеном летали в Нью-Йорк. Обычно по какому-нибудь поводу: званый обед, презентация… Кругом толпились люди. Пару раз мелькнул Дарио. Брат, с которым они когда-то были так близки, стал таинственным незнакомцем; им было нечего сказать друг другу. Лаки чувствовала себя в западне. Она вела жизнь, которая была ей противна, но которую навязал Джино. Так почему она вела ее? На этот вопрос ей самой было трудно ответить. Лаки страстно ненавидела отца. И в то же время стремилась угодить ему. Его устраивало видеть дочь замужем. Ее устраивало трахаться со всеми подряд. Лаки заставила себя выйти из воды и вдруг увидела, что Крейвен, как безумный, машет руками. Она нарочито медленно направилась к их топчанам. — В чем дело? — и тряхнула мокрыми волосами, обдав его волной брызг. — Твой отец… Тебя зовут к телефону. — Что? — у Лаки подпрыгнуло сердце. Она много месяцев не виделась с Джино и не разговаривала с ним по телефону. Неужели он соскучился? Не подумав даже закутаться в полотенце, она вбежала в одну из стеклянных будок. — Да? — Лаки? Привет, детка. Как дела? Она изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал небрежно. — Просто замечательно. А у тебя? — У меня проблемы. Ничего страшного. Он говорит с ней о своих проблемах! Первый раз в жизни! После неловкого молчания: — Слушай, детка, я хочу, чтобы ты прилетела в Нью-Йорк. Миллионы вопросов теснились у нее в голове. — Когда? — Сегодня, завтра… Я не призываю тебя мчаться сломя голову, но и не оттягивай. — У меня самый разгар каникул, — нарочито холодно произнесла она. — Вся твоя жизнь — сплошные чертовы каникулы! — взорвался Джино. Лаки отбросила притворство и нетерпеливо спросила: — В чем дело? — Это не телефонный разговор. Подними свою задницу и валяй в Нью-Йорк. Я бы не просил, если бы это не было важно. — Вылетим сегодня же вечером. — Не надо Крейвена. Приезжай одна. Это семейное дело. Мысль о том, чтобы лететь в Нью-Йорк без Крейвена, наполнила ее сердце ликованием. — О'кей. — Что все-таки могло приключиться? — Увидимся! — Давай прямо сейчас, тогда мы сможем вместе поужинать. Дарио тоже приедет. Вот когда Лаки растерялась. Дарио… Она, Джино, Дарио — вся семья! Может, Джино опасно болен и ему осталось пять минут жизни? — Ты как? — тихо спросила она. — В порядке? — Ясное дело. Лучше некуда. Потом расскажу. Когда узнаешь номер рейса, позвони Косте, чтобы организовал встречу в аэропорту. Длинные гудки в трубке возвестили окончание разговора.* * *
За несколько минут до этого такой же разговор состоялся у Джино с Дарио. Тот удивился ничуть не меньше сестры. Джино давно предоставил ему полную свободу. — Ты должен получить высшее образование, и тогда ты всегда сможешь взять мир за яйца, — любил повторять Джино. Дарио последовал его совету. В семнадцать лет окончил школу, а затем убедил отца позволить ему изучать искусство в Художественном колледже в Сан-Франциско. Поначалу Джино отнесся к этому скептически. — Искусство? Это еще что за премудрости? Однако он даже гордился, что у него талантливый сын, и доверительно делился с Костой: — Пусть мальчик занимается тем, что ему по душе. Перетрахает всех девчонок в колледже, а когда ему стукнет двадцать один год, я научу его тому, что действительно нужно, вот и все образование. В один прекрасный день ему предстоит унаследовать империю Сантанджело. Незачем давить на него раньше времени. Так Дарио получил свободу. Деньги на него так и сыпались. Он снял квартиру в Сан-Франциско и поселился там вместе с Эриком. Тот бросил работу и свой коттедж в Сан-Диего, чтобы быть рядом со своим протеже. Дарио был счастлив. Эрик старался во всем ему угождать. Чем плохо — бить баклуши и служить предметом поклонения? У него не было ощущения неестественности их отношений. Чувство вины посещало его только в те минуты, когда он представлял себе, что об этом узнает Джино. Страшно подумать! Они с Эриком чаще всего довольствовались обществом друг друга. Не вступали в беспокойные сообщества хиппи, не посещали клубы геев и вообще почти не общались ни с кем из посторонних. Это вполне устраивало Эрика. Он один имеет права на Дарио! Девушки, студентки Художественного колледжа, так и бегали за Дарио, но его это не трогало. Эрик удовлетворял всем его потребностям. Быстро шло время. Дарио редко, от случая к случаю, виделся с отцом. На Рождество; потом он провел летом несколько недель в Лас-Вегасе. Несколько коротких визитов в Нью-Йорк. Вот и все. В Вегасе Джино время от времени подсовывал сыну девушек. — Это Дженни, она здесь новенькая… своди куда-нибудь Крисси — она только что порвала со своим парнем. Дарио послушно выгуливал девушек, даже целовал в щечку — на случай, если им придется отчитываться перед Джино. Эрик убил бы его, если бы узнал! Целовать девчонок — большое дело! Это его ничуть не возбуждало. Он ненавидел их липкую губную помаду, запах пудры и румян. Даже мысль об обнаженной женщине была ему ненавистна. Мягкая плоть. Неохватные груди. Потаенные местечки. Он вспомнил Марабель Блю в чем мать родила и содрогнулся. — Зачем ты едешь? — выпытывал Эрик. Дарио тщательно пригладил волосы и подумал: может, подстричься перед встречей с отцом? — Еду — и все. Семейная встреча по какому-то поводу. — По какому? Дарио пожал плечами. — Откуда мне знать. Съезжу и узнаю.Джино, 1970
Джино с нетерпением ждал встречи с детьми. Лаки должна была прибыть первой — ей лететь всего пару часов. А вот Дарио будет в аэропорту Кеннеди около семи пятнадцати. Стыд-позор, подумал Джино, что сын моложе дочери. Считается, что первенец должен быть мальчиком. И почему у них такая внешность? Все наоборот. Почему Лаки не стала копией Марии, а Дарио не унаследовал мужественную красоту отца? Не то чтобы он вел себя не по-мужски. Джино видел, как он ухлестывал за девушками в Вегасе. А уж у себя в Художественном колледже, должно быть, не пропустил ни одной юбки. Это же надо: его сын учится в Художественном колледже! Джино ухмыльнулся и пожалел — как жалел каждый день своей жизни, — что Мария не дожила до того времени, когда дети стали взрослыми. Как бы она поступила с Лаки? Это было мудрое решение — выдать дочь замуж, хотя бы и в юном возрасте. С Ричмондами она, как за каменной стеной. Со временем Питер Ричмонд станет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов. Все шло как по маслу. Манипулировать людьми — проще простого. Чтобы убедить Ричмондов принять Лаки в качестве невестки, ему пришлось применить первую степень принуждения, раскошелиться и напомнить о кое-каких фотографиях и любительских кинофильмах с Питером и Марабель Блю: Джино держал их запертыми у себя в сейфе. Бетти Ричмонд рвала и метала. Даже вновь появилась на пороге его спальни в расчете на то, что одно траханье заставит его отказаться от своей затеи. Он дал ей от ворот поворот — как она ему в свое время. Счет сравнялся. Спустя неделю состоялось бракосочетание. Только время покажет, правильно ли он поступил. С тех пор Джино редко видел дочь, но у нее всегда был цветущий вид. Он, правда, чувствовал некоторую напряженность. И почему она не хочет иметь детей? Вот когда он точно удостоверится в правильности своего решения! Надо поговорить с Лаки, довести до ее сведения, что ему не терпится стать дедушкой. Время идет, и он не молодеет. Вошел Коста. Он сильно постарел после смерти своей любимой Дженнифер в прошлом году. Рак пощадил ее: быстро свел в могилу. Джино от всей души сочувствовал другу. Ни детей. Ни родных. Одна Леонора еще жива — беспробудная алкоголичка Леонора. Даже не хочется вспоминать ее имя. Как она издевалась над Марией — своей единственной дочерью! Сука — не удосужилась явиться на похороны! И ни разу за все годы не пожелала увидеть Лаки или Дарио. Он, конечно, и не позволил бы — ни за что на свете. — Ред выехал в аэропорт, — доложил Коста. — Успеет привезти сюда Лаки и сгонять за Дарио. — Прекрасно, — Джино запустил пятерню в массу густых, непослушных волос. Шестьдесят четыре года. Волос не убывает. Член «всегда готов». Вот только желудок… Чертова язва заставляет подчас лезть на стенку. — Ты бы нанял хорошую кухарку, — посоветовал он Косте. — Нарастил жирок. Нет ничего хуже костлявого старца. — Как насчет костлявой старухи? Джино загоготал. — Совершенно верно! Я лично выбираю курочек исключительно до двадцати девяти. Кудахчут всякий вздор, зато какие шейки! Жалко, что он никак не может уговорить Косту вернуться к нормальному образу жизни. Когда уходит секс, с человеком творится что-то неладное. Как с Костой. Вы только посмотрите на него — седой сутулый старик. Дженнифер год как похоронена. Пора уже.* * *
За столом велась легкая светская беседа. Джино сидел в торце, Коста — напротив, Лаки — по левую, а Дарио — по правую руку от отца. Да, он может гордиться своими детьми. Оба очень красивы, хотя и по-разному. Конечно, у Дарио слишком длинные волосы, но теперь как будто такая мода? Все же Джино не утерпел: — Дарио, ты бы подстригся, а то тебя можно принять за хиппи или рокера. — А мне нравится, — мигом отреагировала Лаки по давнишней привычке вступаться за брата. — Еще бы, — проворчал Джино. — Вечно ты — лишь бы мне поперек! Она искренне удивилась. — Правда? — Скажи ей, Коста. Тот внушительно кивнул. — Что же я могу поделать, — сказала Лаки, — если мы постоянно расходимся во мнениях? А вообще-то она прекрасно себя чувствовала, сидя за столом в обществе Джино и Дарио. Это ее единственная семья. Теперь уже и не припомнишь, когда они вот так же собирались в последний раз. Слава Богу, папа прекрасно выглядит — значит, дело не в какой-нибудь страшной болезни. Лаки вспомнила лицо Крейвена, когда она сказала, что летит в Нью-Йорк без него. — Это еще почему? — захныкал он. Цинковая мазь придавала ему еще более глупый вид. — Семейное дело, — беспечно сказала она. — Ты же знаешь, что значит семья, не так ли? Еще бы ему не знать! ЕГО семья распоряжалась решительно всем в их жизни. Бетти-Командирша и Бабник-Питер — так она их окрестила про себя. Пусть бы Питер Ричмонд пролез в президенты — и дело с концом. Но у него нет шансов. Он — не Кеннеди. К тому же имеет ее в качестве невестки — тоже солидный минус. Жаркое из баранины было просто блеск! За ним последовали традиционные итальянские блюда — Джино их обожал. Он ел торопливо, отправляя в рот большие куски. А все-таки пицца уже не та, что прежде. Джино испытывал ностальгию по прежним временам, когда они захаживали к Жирному Ларри. После десерта и кофе Джино встал, открыл дверь — убедиться, что никто не подслушивает, — снова закрыл ее и вернулся на свое место. — Полагаю, вам интересно, зачем я вас всех собрал? Лаки метнула взгляд на брата. «Интересно»! Да она сгорает от нетерпения! — Мне предстоит небольшой отдых от дел, — возвестил Джино. — Каникулы за пределами этой страны. Лаки достала сигарету. Ну, это еще не смертельно. — Возможно, я буду отсутствовать несколько недель, месяц… Сейчас трудно сказать. Лаки насторожилась. — Что еще стряслось? Джино выразительно пожал плечами и потрогал застарелый, еле заметный шрам на щеке. — Что стряслось? Вопрос по существу. Эй, Коста, может, ты объяснишь детям, как обстоят дела? Коста для проформы прочистил горло. — Вашему отцу на какое-то время придется покинуть Америку. Надеемся, что ненадолго; это будет зависеть… от некоторых обстоятельств. — Да-да, мы схватываем картину, — быстро проговорила Лаки. — Но почему он должен уехать? Джино сердито сдвинул брови. — Заткнись и слушай. Коста снова откашлялся. Лаки заметила, что у него дрожат руки; ее сердце кольнула жалость. Смерть тети Джен состарила его лет на двадцать. — Понимаете, — начал он, — в последние годы за Джино гоняется департамент государственных сборов — в связи с тем, что они называют уклонением от уплаты налогов и сокрытием доходов. Это тянется довольно давно, но до сих пор у них ничего не получалось. — Чертовы сукины дети! — с горечью заметил Джино. — Да я уплатил в казну столько денег, что их хватило бы на содержание Белого дома в течение двадцати лет! — Дело идет к развязке, — продолжал Коста. — Не буду отнимать у вас время подробностями, но мы располагаем достоверной информацией, что Верховный суд занялся специальной проверкой. Джино со дня на день может получить повестку в суд, а это чревато тюремным заключением. — Но если ты исправно платил, — растерянно произнесла Лаки, — я не понимаю… — Не будь идиоткой! — отрубил Джино. — Я считал тебя умной девочкой. Естественно, платил — даже больше, чем следовало. Но не всегда. Далеко не всегда. — Так заплати сейчас. Мужчины засмеялись. — Это не так просто, Лаки, — мягко возразил Коста. — Тебе не понять. Сейчас я сообщаю вам только голые факты. Если начать вдаваться в подробности и объяснения, у нас уйдет уйма времени. — Ага, — согласился Джино. — Но это еще можно поправить. Однако я не желаю, пока все утрясется, сидеть в тюрьме. Мне лучше уехать. — Куда? — Может быть, в Лондон — у нас там есть казино. Или во Францию. Я еще не решил. У Лаки загорелись глаза. Она усмотрела в случившемся шанс для себя самой. — Папочка, можно я поеду с тобой? — Сколько лет она не называла его папочкой! — Что ты мелешь? Ехать со мной! Ничего себе! У тебя своя жизнь, ты прекрасно устроена… — Кто сказал? — мрачно выговорила Лаки. Джино проигнорировал эту реплику и повернулся к рассеянно игравшему ложкой Дарио. — Эй, сынок, ты что притих? У тебя нет вопросов? Тот подскочил на месте. Нет, у него не было вопросов. Откровенно говоря, ему плевать, что Джино уезжает. Они и так редко видятся. — Никаких. Я все понял. — Отлично, — Джино встал из-за стола и подошел к окну. — В качестве меры предосторожности, — заявил он, — я переписываю на вас большую часть того, чем владею. Это вас ни к чему не обязывает. Вам придется только ставить свои подписи кое на каких бумагах. Коста остается моим доверенным лицом. Он-то обо всем и позаботится. Дарио, — Джино повернулся к сыну, — я бы хотел, чтобы ты переехал в Нью-Йорк. Тебе придется многому учиться. Коста все объяснит. Наконец-то в Дарио проснулись эмоции. — Переехать в Нью-Йорк? Но с какой стати? — Я же сказал, — терпеливо произнес Джино, — ты мой сын. Сантанджело. Хватит тебе прожигать жизнь в этом чертовом Художественном колледже. Пора приниматься за дело. — А если я не хочу? Терпеть не могу Нью-Йорк! Джино посмотрел на него строгими, холодными глазами. — Тебя никто не спрашивает, мой мальчик. Я просто констатирую факт. Ясно тебе? Дарио нервно дернул головой. — А я? — потребовала Лаки. — Что — ты? — Если Дарио будет учиться вести дела, то и я тоже. — Не будь дурой, — ласково посоветовал Джино. В ней клокотала накопившаяся за четыре года ярость. Черные глаза стали такими же холодными и строгими, как у отца. — Почему? — Потому что ты — женщина. Замужняя женщина, чей долг — подчиняться мужу и вести себя, как подобает хорошей жене, — Джино сделал небольшую паузу и добавил: — И пора бы тебе уже позаботиться о наследнике. Чего ждешь? — Чего я жду? — выпалила она. — Да я хочу начать наконец жить — вот чего я жду! Джино повернулся к Косте и в шутливом отчаянии воздел руки к потолку. — Жить! Она хочет жить! Ей мало того, что у нее есть все, что можно купить за деньги! — Включая мужа! — выкрикнула Лаки. — Ты за свои вшивые деньги купил мне мужа! Ты… — Ну хватит. — Нет, не хватит! Почему ты даешь шанс Дарио, а мне нет? — Заткнись, Лаки, — в голосе Джино зазвенел лед. — С какой стати? Почему, мать твою!.. В черных глазах отца и дочери горела неукротимая злоба. — Потому что я приказываю! И следи за своим язычком. Леди не ругаются. Она подбоченилась и с вызовом посмотрела на отца. — А я не леди. Я — Сантанджело. Такая же, как ты, а тебя никак не причислишь к джентльменам. «Господи! — подумал Джино, изумленно взирая на свою взбесившуюся дочь. — Кого я вырастил? Я дал ей все, что можно купить за деньги. Что ей еще нужно?» — Почему бы тебе не закрыть пасть и не сесть на место? — устало предложил он. Это ее еще больше ожесточило. — Конечно! Закройте ей пасть! Ведь она всего лишь женщина, что с ней церемониться? Заставьте ее заткнуться и сплавьте замуж — кому какое дело, счастлива она или нет? — Лаки перевела дух и прошипела: — Ты — дерьмовый шовинист, который думает, что место женщины — в постели и на кухне. Пусть готовит еду и раздвигает ноги. Ты и с мамой так обращался, когда она была жива? Запирал ее в спальне и на кухне? Джино размахнулся и что было силы ударил ее по лицу. Коста подскочил. — Джино! Дарио стало не по себе, но он не пошевелился. Лаки отчаянно старалась удержать злые, горячие слезы, которые, казалось, вот-вот потекут по лицу. — Ненавижу тебя! Всем сердцем! Чтоб мне больше никогда тебя не видеть! — Лаки, — начал Джино, но она, точно вихрь, вылетела из комнаты. Последним, что она слышала, были слова отца: — Дети! Что тут поделаешь? Ты отдаешь им все… Деловая женщина! С ума сойти! Эмоционально неуравновешенна… Иисусе Христе! Все они эмоционально неуравновешенны… Лаки прекрасно знала, что она — не психопатка. Ею владела холодная, расчетливая ярость. Почему она убежала? Почему не настояла на своем, не попыталась убедить отца дать ей шанс? Папа, я не хочу быть замужней женщиной! Не хочу оставаться с Крейвеном и вести себя, как подобает хорошей жене. Он даже не умеет как следует трахаться. Вообще ничего не умеет! Ты заставил меня выйти за него замуж. Я послушалась, чтобы доставить тебе удовольствие и потому, что была слишком молода, чтобы понимать: твое слово — еще не закон. Теперь я хочу на волю! Хочу стать такой, как ты! И стану! О да, я стану! Никто не сможет мне помешать! Обещаю тебе это. Да, папа. Я — твоя дочь. И не ты ли говорил, что слово Сантанджело — тверже стали? Ты увидишь! Вы все увидите!Стивен, 1971
После примирения с матерью Стивен почувствовал себя как никогда счастливым. Ему стало трудно противостоять ее желанию, чтобы он занялся частной практикой. Как-никак он у нее в долгу — особенно после истории с Зизи. Поэтому, чтобы угодить Кэрри, он поступил в юридическую фирму Джерри, став его партнером. Проработал полгода, а затем, по-дружески объяснившись с Джерри, вернулся на государственную службу. — Я понимаю твои честолюбивые помыслы, связанные с моим будущим, — сказал он разочарованной матери, — и, поверь мне, сам стремлюсь к тому же. Но мне необходимо чувствовать, что я делаю нечто общественно полезное, а представлять интересы состоятельных дам, предъявляющих иски еще более богатым корпорациям, не отвечает моим понятиям об общественной пользе. Кэрри пыталась понять его, но это было нелегко, потому что прямо у нее на глазах Джерри становился все богаче и респектабельнее, в то время как Стивен вкалывал вовсю — без особой отдачи. Наконец-то он снова начал встречаться с девушками. Джерри шутил: — Твой инструмент отсохнет без практики. Верный друг Джерри, трахнувший его жену! Лучше забыть об этом. Он вновь втянулся в сексуальную гонку, однако постоянно был начеку. Первой оказалась студентка юридического колледжа с великолепной шапкой курчавых волос. Первая женщина после Зизи. До этого он постился год — не так уж и много. Все равно что вы долго-долго не мылись и теперь пробуете пальцами ноги тепловатую воду в ванне. Приятно. Но можно жить и без этого. За Курчавой потянулась целая цепочка — на одноразовой основе. Больше ни одна женщина не возьмет его за яйца. Никогда! Он с головой ушел в работу; когда хотел, встречался с девушками и часто виделся с Кэрри — наверстывал упущенное. Она была все так же хороша, но у Стивена было такое чувство, будто она не очень-то счастлива. Он пытался вызвать ее на откровенность, но она пресекала такие попытки и ни за что не хотела говорить о себе. Тут подвернулось дело Берта Шугера, и карьера Стивена сделала крутой поворот. Берт Шугер был мелким уголовником. Его посадили за решетку за зверское изнасилование пятнадцатилетней девушки. Офицер охраны сказал ему: «Ну, теперь ты узнаешь, почем фунт лиха! Погоди, скоро твою задницу оприходуют в камере предварительного заключения!» — Я не виновен, мистер Беркли! — со слезами в голосе уверял Берт Шугер. — Это подстроено. Глядя на несчастного плюгавого человечка, Стивен был готов ему поверить. Казалось, он не способен помочиться, не то чтобы кого-то изнасиловать. Стивен с блеском провел защиту и вытащил Берта, несмотря на то что обвинение располагало вескими доказательствами его вины. Стивен был убежден в невиновности своего подзащитного. Он прибегнул к дискредитации свидетелей, трогательно вещал о выпавших на долю Берта Шугера лишениях и наконец убедил присяжных дать этому человеку шанс. Берт Шугер вышел из здания суда свободным человеком. Мать жертвы, черная женщина, атаковала Стивена на выходе из зала заседаний. Ее глаза метали молнии; она схватила Стивена за руку и заорала: — Брат! Да простит тебя Бог за то, что ты сегодня сделал! Он попытался вырваться, но она держала его мертвой хваткой. — Ты совершил ошибку — выпустил этого дьявола. — Ты еще поплатишься за это. Все мы поплатимся! Наконец Стивену удалось освободиться. Конечно, она не может смириться с тем, что Берт Шугер ушел от расплаты, не допускает и мысли, что на ее дочь напал кто-то другой. Ей нужен козел отпущения, а Берт Шугер подходит по всем статьям. Живет поблизости, безработный — стало быть, целыми днями торчит дома; за несколько минут до происшествия его видели недалеко от дома жертвы. Цепь случайных совпадений. Девушка даже не смогла опознать насильника. Он пробрался в квартиру через окно, напал на нее, спящую, засунул в рот кляп, связал и изнасиловал несколько раз подряд. Стивен был доволен собой: если бы не он, у жалкого маленького человечка не было бы ни одного шанса. В течение всего одних суток триумф Стивена обернулся кошмаром. После выхода из тюрьмы Берт Шугер завернул в ближайший бар. Там он опустошал бутылку за бутылкой «бадвейзера» и хвастался тем, что здорово трахнул «маленькую черную дрянь» и как этот лопух — черный адвокат — вытащил его из тюряги. Упившись вдрызг, в одиннадцать часов вечера Берт выкатился из бара и двинулся прямиком к дому своей недавней жертвы. Проникнув в квартиру, он хрястнул мать подобранной на улице трубой и снова напал на обратившуюся в камень девушку. В клочья разодрал ей платье и попытался надругаться над ней, однако ничего не вышло: сказалась крайняя степень опьянения. Полиция нагрянула как раз вовремя, чтобы стащить Берта с бившейся в истерике девушки, однако опоздала спасти ее мать: та скончалась в карете «скорой помощи» от ранения в голову. Стивен был уничтожен. Это его вина, его трагическая ошибка! Из-за него погибла женщина. Он сообщник убийцы! Он был безутешен. В конце концов Кэрри убедила его взять отпуск. У одного приятеля Эллиота был коттедж в Монтеке; Стивену разрешили побыть там, сколько понадобится. Кэрри решила ехать вместе с ним. Но он воспротивился: — Прошу тебя, мама. Мне нужно побыть одному, хорошенько все обдумать. Одиночество оказалось для него бальзамом. Дождь, ветер, долгие прогулки по заброшенному зимнему пляжу. Он много думал о своей жизни: чего он достиг, чего надеялся добиться. Подверг беспристрастному анализу свои отношения с людьми. Кэрри — кто она? Он ее обожал, но, в сущности, очень плохо знал. В памяти сохранились обрывки виденных когда-то картин. Женщины, распевавшие: «С днем рождения!» Где это было? Он спросил Кэрри, но она лишь пожала плечами. То же самое произошло, когда он задал вопрос о Лерое. Он был с человеком по имени Лерой. Осталось только имя. Кэрри заявила, что слышит его в первый раз. Зизи. Долгий, кошмарный сон. Слава Богу, с этим покончено. Вернувшись из Монтека, Стивен принял решение. — Я разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов, — известил он Джерри. — Хватит с меня защиты. Отныне я становлюсь обвинителем. Думаю, я принесу больше пользы в этом качестве. Этому городу требуется генеральная уборка, и я хочу внести свой вклад. Джерри заметил в его глазах фанатический блеск. — Государственным или частным обвинителем? — спросил он, заранее зная ответ. — Конечно, государственным. — Стивен нахмурился. — Конечно, — засмеялся Джерри. — Что же тогда нового в твоем решении?Лаки, 1970–1974
Отъезд Джино в тысяча девятьсот семидесятом году не прошел гладко. Газетные заголовки кричали о том, что страна избавляется от одного из опаснейших преступников. Фотографы толкались и дрались между собой в аэропорту за самое удобное место. Джино был, как обычно, в темном костюме, низко надвинутой на лоб мягкой фетровой шляпе и непроницаемых солнечных очках. Ни разу не улыбнулся, не повернул головы, не отреагировал на присутствие прессы каким-то иным способом. Его бесило, что орды фотографов пронюхали о времени его отъезда. На борту самолета он пришел в ярость, обнаружив среди пассажиров нескольких репортеров. Уже тогда ему следовало догадаться, что против него что-то затевается. Полет в Рим обошелся без эксцессов. Зато когда приземлились… Это был сущий ад, о котором ему никогда не забыть. Ему отказали в праве на въезд в Италию, объявив его персоной нон грата. Италия! Страна его рождения! Оттуда Джино совершил перелет в Женеву — с тем же результатом. Во Франции его семь с половиной часов продержали в тесной, душной комнатке и наконец вышвырнули вон. Невероятно! Он был унижен и выбит из колеи. И все это время на пятки наступала пресса, делая каждый его промах достоянием миллионов. Конечно, он связался с Костой; тот объяснил, что все эти злоключения (произошла утечка информации) имеют целью заставить его вернуться в Америку. Но Коста не сидел сложа руки. Он посоветовал Джино лететь в Англию, где существовал ничтожный шанс, что его впустят в страну. «А если нет, попробуй Израиль. Ты меня понимаешь?» Да. Джино понимал. Коста намекал на то, что Израиль его примет. У них там широкие связи. Кроме того, Джино как-то сделал солидный вклад (с обещанием повторить) в благотворительный фонд защиты детей. В Англии он прошел через все мыслимые нравственные пытки. Его часами жарили в душном закутке; туда входили и тотчас выходили многочисленные чиновники. Джино вспоминал свою последнюю встречу с Дарио и Лаки. Все вышло не так, как он надеялся. Дарио был угрюм и безучастен, Лаки — невменяема. Эмоционально неуравновешенная девчонка, которая сама не знает, чего хочет. Плохо, что они расстались врагами. Но он скоро вернется, выкроит для нее побольше времени, и все наладится. Результат его мытарств в Англии оказался тем же. Он — персона нон грата. Господи! Будто он явился с другой планеты! Прошло сорок два часа с тех пор, как он покинул Америку. Наконец Джино получил временную гостевую визу в Израиль. Он остановился на верхнем этаже отеля «Дан», а через три месяца поселился на вилле у моря с двумя телохранителями, экономкой, двумя эльзасскими догами и случайной подружкой. И стал ждать, когда можно будет вернуться домой. Переговоры обещали быть нелегкими.* * *
Сразу после отъезда Джино Лаки вернулась на Багамы, благополучно завершила каникулы с Крейвеном, а затем возвратилась в Вашингтон, где ее ждала обычная рутина. Она все еще кипела от ярости, вспоминая, как с ней обошелся отец, и была полна решимости что-нибудь придумать и доказать ему, как сильно он ошибается. Как он смел обращаться с ней, точно с несмышленышем? Женщины слишком эмоциональны для бизнеса, да? Ничего! Она ему покажет! Ричмонды были шокированы скандалом с Джино. Лаки стала для них бревном в глазу. Поэтому, когда через несколько недель Коста прислал ей на подпись какие-то бумаги, она решила лично отвезти их обратно. В самолете она их внимательно прочла и с изумлением узнала о том, что назначена директором множества компаний, принадлежащих Джино. Она перечитала приписку Косты: «Тебе не обязательно читать… просто поставь свою подпись там, где карандашная птичка… чистая формальность…» Ничего себе «не обязательно читать»! Ну нет — если я подписываю, я прежде всего читаю! Она заранее забронировала номер в «Шерри» и, как только прошла регистрацию, позвонила Косте. — Угадай, что случилось? Я в городе. Как насчет того, чтобы сводить голодную девочку поужинать? — Зачем ты приехала? — изумился он. — Где Крейвен? — Крейвен со своей семьей в Вашингтоне, где ему и надлежитбыть, — сладким голосом ответила она. — Я приехала сделать кое-какие покупки. Коста заколебался. — Это хорошо… — Есть какие-нибудь новости о папе? — Тихо! — предостерег он. — Больше ни слова по телефону. — Ясно. Увидимся. — Интуиция подсказывала Лаки, что с Костой нужно быть очень осторожной. Хлопать ресницами, изображать наивность… На протяжении всего ужина в ресторане «Двадцать одно» она усиленно хлопала ресницами и прикидывалась пай-девочкой. Последовав совету Косты, заказала утку. Восхищалась темными деревянными панелями и свисавшими с потолка игрушками. С оглядкой потягивала вино. — Я никогда здесь не была! — восторгалась она. — Это просто потрясающе! Коста был доволен, что она оценила его выбор ресторана. — Как ты думаешь, — как бы между прочим поинтересовалась она за коктейлем, — Джино скоро вернется? Он печально покачал головой. — На это нужно время. Больше, чем мы предполагали. — Сколько времени? — Сейчас трудно сказать. — Недели? Месяцы? Годы? Коста пожал плечами. — Это долгая песня. Никто ничего не знает. Показалось ему или он в самом деле подметил улыбку у нее на губах? Лаки стала эффектной молодой женщиной. Странно и приятно — сидеть рядом с ней в этом ресторане. Сначала он чувствовал себя не в своей тарелке, но постепенно Лаки удалось расшевелить его, заставить вспомнить о прошлом. Оказалось, она умеет слушать. Время от времени вставляет короткие наводящие реплики — как раз в нужных местах. Вскоре Лаки узнала о жизни Джино больше, чем за все предшествующие годы. Она знала его богатым — и завороженно внимала рассказу Косты о начале его жизненного пути, когда он был беден и ютился в конуре. — Как же вы познакомились? — спросила Лаки. Коста тотчас спрятался в свою раковину. Она почувствовала неладное и оставила эту тему. Дядя Коста. Она знала его всю жизнь, но впервые вот так сидела с ним и вела умный разговор. Интересно, как он теперь устраивается в смысле секса? Может, он слишком стар и этой проблемы больше не существует? Легко ли мужчине поддерживать эрекцию много лет подряд? А он неплохо смотрится. Ну, правда, невысокого роста, худой и шевелюра стала совсем белой. Доброе красное вино развязало Косте язык. Он рассказал Лаки о бабушке Леоноре — на протяжении многих лет это была запретная тема. Тетя Джен неизменно бледнела при упоминании ее имени. — Джино очень любил ее, — продолжал Коста. И вдруг, поняв, что сказал лишнее, прикусил язык. — Дядя Коста, — с невинным видом произнесла Лаки. — Помнишь наш разговор перед отъездом Джино? Он кивнул. — Ты сказал, что мне придется только подписывать бумаги — и никаких хлопот. Мол, это очень сложно, целую неделю объяснять. Он снова кивнул. — У меня как раз свободная неделя, и я буду безмерно признательна, если ты дашь мне кое-какие объяснения. Разве он мог отказать? Это уже не прежняя дикарка Лаки — она превратилась в красивую, приятную даму, интересующуюся всем на свете. День за днем она приходила в его офис, и он — сначала неохотно, потому что не верил в устойчивый интерес с ее стороны — объяснял ей, как действуют те или иные компании. — Конечно, ты — лишь подставное лицо, — сказал Коста. — Тебе не придется ни за что отвечать. Вот как? Ну, дядя Коста, это твое личное мнение! — Я буду присылать тебе документы на подпись. Можешь быть уверена, что все они тщательно проверены и одобрены мною. Лаки кивнула в знак согласия. Она, как губка, впитывала каждый бит полученной от него информации. Крейвен достал ее по телефону. — Когда ты вернешься? — Я не вернусь, — хладнокровно заявила она. — Нашему браку пришел конец. Позаботься о том, чтобы мне переслали мои вещи. Крейвена больше заботило, что скажет отец, нежели сам факт развода. На другой день позвонил Питер Ричмонд. Обычные интонации опытного политика. — Лаки! О чем ты думаешь? Возвращайся, и мы спокойно обо всем поговорим. — Не о чем говорить. — Если ты не приедешь, придется мне самому лететь в Нью-Йорк. — Ради Бога. Она ни с кем не делилась своими планами. Ее развод — ее личное дело. Коста не уставал напоминать: «Разве тебе не пора домой?» — но она только отмахивалась: «Не горит». Когда позвонил Питер Ричмонд, она согласилась с ним поужинать. Вообще-то она каждый вечер ужинала с Костой — слушала и училась, — и тот не смог скрыть разочарования. — А я-то собирался повести тебя в совсем особое местечко. — Завтра, дядя Коста. Обещаю. — Мы договорились на сегодня. — А куда? — Это секрет. — Значит, до завтра? — Хорошо.* * *
На Питере Ричмонде была его обычная спортивная куртка, рубашка с расстегнутым воротом и отлично сидевшие брюки. Красавец-мужчина. Проходя через весь зал ресторана «Шерри», он расточал приветственные улыбки и махал рукой всем подряд, как будто все они — большая дружная семья. Лаки тошнило от одного его вида. Дома он был мелочным тираном; дети перед ним тряслись. Зато неутомимая Бетти знала ему цену. На людях он был Мистер Обаяние, а дома — Дерьмовый Подкаблучник. — Привет, Питер, — кисло сказала она. — Вы опоздали. — Разве? — на его загорелом лице отразилось почти детское удивление. — Извини. Надеюсь, ты заказала себе что-нибудь выпить? Этот придурок не видит, что ли, перед ней на столе здоровенный бокал водки? Он сел, поприветствовал, словно давнего друга, официанта, разносящего напитки, и попросил себе смесь белого вина с содой. — Ну-ну, — примирительно сказал он, откидываясь в кресле и изучая ее лицо. — Значит, пташка хочет летать? У нее не дрогнул голос. — Пташка никогда не была в восторге от своей клетки. — Ты шутишь, дитя мое? Какая же девушка откажется породниться с Ричмондами? — Вам никогда не говорили, что вы — кусок дерьма? Он чуть не вспыхнул, но сдержался. В течение четырех лет они обходились без слов. А теперь выясняется, что у нее острый язычок! — Ты прямо как отец, — холодно заметил Питер. — Вот именно. Только папа не позволил бы женить себя подобным образом. Но у меня, кажется, тоже скоро вырастут яйца — как у папочки. — Боже! Как ты вульгарна! — А вы, конечно, никогда не оступались! Да в Вашингтоне каждая собака знает, что вы готовы трахать все, что способно двигаться. — Ты не можешь развестись с Крейвеном, — чопорно заявил Питер. — Вот как? — Да, так. Это невозможно. Я заключил с твоим отцом соглашение. Только он может расторгнуть сделку. Тогда и я не буду против. — Ну, вы действительно кусок дерьма! Мне скоро двадцать один год! Имею право делать все, что захочу, мать твою!.. — Хороша леди! — Чертов фарисей! Официант принес вино и расплылся в улыбке. — Рад видеть вас в нашем городе, сенатор. На лице Питера появилась ответная улыбка. — Я тоже очень рад. — Хотите еще что-нибудь заказать? — Неплохая идея. — Сейчас я позову другого официанта. Лаки тем временем окунула палец в бокал с водкой и гоняла кусочки льда. — Чем Джино вас шантажировал? — Не представляю, о чем ты говоришь. Принесли меню, и они оба сделали заказ. — Я предлагаю подождать до возвращения твоего отца. Вот тогда мы все спокойно и обсудим. Если тебе приспичило разводиться, не вижу причин тебе препятствовать. Откровенно говоря, мне самому так будет гораздо легче. — Он не вернется — во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. Так что будьте готовы. Я развожусь с Крейвеном, и плевать я хотела, кто что скажет. Тем более вы.* * *
— Мы едем в «Риккадди», — гордо сообщил Коста, сидя за рулем черного «линкольна», мчавшего их с Лаки через весь город. Она наморщила лоб. — «Риккадди»? Никогда не слышала. Где это? Коста водил ее по лучшим ресторанам Нью-Йорка, и это доставляло ей огромное удовольствие. Приятно появляться на людях в обществе человека, который относится к женщинам со старомодной учтивостью. Дядя Коста — уникум. Она его обожает! — «Риккадди» — чудесный итальянский ресторан. Он существует больше двадцати лет. — Правда? — Лаки посмотрела в окно. — Ну и где же он? В Нью-Джерси? Коста добродушно захохотал. — Потерпи, мы почти приехали. — Не могу я терпеть! В этот вечер Коста был как-то особенно возбужден. Ни за что не хотел говорить, куда они направляются. И Лаки поняла: «Риккадди» — это не просто очередной итальянский ресторанчик, а нечто большее. В самом деле, не успели они войти в маленькое уютное здание в центре довольно-таки захудалого района, как на них посыпались королевские почести. Какая-то пожилая женщина тотчас заключила Косту в объятия. — Коста! Почему ты так долго не был? — Ну, Барбара! Ты все такая же красавица! — Что ты. Постарела, поседела, притомилась, — она отступила назад и ласково посмотрела на девушку. — А это, значит, Лаки? Я бы узнала ее, даже если бы ты не сказал. Как две капли воды! — Лаки, — обратился к ней Коста. — Это знаменитая Барбара Динунцио, лучшая повариха Нью-Йорка. Лаки улыбнулась и вежливо протянула руку. Однако Барбара и не подумала пожать ее. — От дочери Джино мне полагается самое меньшее поцелуй. Я не видела тебя с тех пор, как тебе было пять лет, но навсегда запомнила. Идем, — обняв Лаки за плечи, она повела ее к угловому столику, где сидели двое мужчин. Один был тучен, ему стоило большого труда подняться на ноги. — Это дядя Альдо, — представила Барбара. — Когда ты была еще совсем крошкой, он менял тебе пеленки, а потом разучивал с тобой стишки. Помнишь? Лаки беспомощно оглянулась в поисках Косты. Куда он ее привез? Почему не предупредил заранее? — Н-нет, — пробормотала она, чувствуя себя не в своей тарелке с этими незнакомцами, которые так тепло на нее смотрели. — Ничего удивительного. Дитя, которому пришлось пережить… Бедная твоя мама! — Вы ее знали? — встрепенулась Лаки. — Да, и мы все ее любили, — Барбара ласково потрепала девушку по щеке. — А теперь садись. Будем пить и разговаривать о чем-нибудь более приятном. Второй сидевший за столом мужчина сказал: — Ты, значит, и есть малышка Лаки? Знаешь, кто я? Она покачала головой. Он усмехнулся. — Энцо Боннатти, твой крестный отец. Пока Джино в отъезде, я готов позаботиться о тебе. Понадобится помощь или совет — милости просим. Лаки вытаращила глаза. Так этот старик с обвисшими щеками, глубоко посаженными глазами и покровительственной улыбкой — знаменитый Энцо Боннатти, ее настоящий крестный? Рядом вновь очутился Коста. — Лаки, эти люди — старые, испытанные друзья Джино. Люби их, потому что они желают тебе добра. Тогда до нее не очень-то дошло, что он имел в виду. Однако с течением времени Лаки начала понимать. Коста научил ее многому, но далеко не всему, что нужно. Иметь крестным отцом Энцо Боннатти было поистине бесценным подарком судьбы. Лаки приняла приглашение провести уик-энд в его роскошном особняке на Лонг-Айленде. В доме было полным-полно всяких родственников. Сыновья Энцо, Карло и Сантино, наезжали по очереди — через выходной. Они не ладили друг с другом; это печалило Энцо и выводило из себя. — Пара шутов гороховых! — ворчал он. — Как будто в мире и без того мало врагов! Семья — кровные узы; к ней нужно относиться с должным уважением. Он сильно привязался к Лаки. Мало того, что она — дочь Джино, но еще и умна, как мужик. Он восхищался ее деловитостью. Скоро Лаки начала делить свое время между двумя стариками — Костой и Энцо. Когда-то столь много для нее значивший секс отошел на второй план. Гораздо важнее оказалось впитывать в себя все, что могли ей дать эти двое. В один пышущий зноем день ей — по ее просьбе — была предоставлена возможность забраться в пыльные дебри старых газет. Она сидела в библиотеке и рылась в солидной куче газетных вырезок, касавшихся жизни ее отца, Джино-Тарана Сантанджело. «Гнусный убийца» — так его величали газетчики. Она просмотрела аршинные заголовки, относившиеся к суду над Джино по обвинению в убийстве собственного отца. А потом обнаружила всего один абзац на третьей странице по случаю его освобождения. Полная реабилитация! Смерть его первой жены… Интересно… Неужели он действительно был таким, как о нем писали? «Бесчестный бутлегер», «отъявленный преступник», «глава рэкетиров», «знаменитый гангстер»… Если верить газетам, он был другом и сообщником Счастливчика Лючано, Багси Сиге-ля и прочих авторитетов уголовного мира. Добравшись до пятидесятых, Лаки обнаружила собственную фотографию — фотографию маленькой испуганной девочки, которую вместе с поджавшей губы няней запихнули в автомобиль. «Дочь Сантанджело находит труп своей несчастной матери — жертвы сведения счетов между мафиозными кланами». В ее мозгу щелкнуло реле. Больше она не будет читать. Потрясенная и обескураженная, Лаки вышла из библиотеки. Ее развод состоялся в обстановке минимальной гласности — Питер нажал на необходимые рычаги. Убедившись в ее непреклонности, он сделал все от него зависящее, чтобы поскорее избавиться от такой невестки. Лаки была счастлива. Коста — в шоке. — Твоему папе это не понравится. — А зачем ему говорить? — резонно возразила она. Поколебавшись, Коста без ее ведома все же сообщил Джино эту новость. Ответ был предельно лаконичен: — Что я могу поделать? Вернусь — все улажу. Здесь я связан по рукам и ногам. Сам позаботься обо всем. Главное — помоги мне вернуться в Америку. — Я принимаю меры, — уклончиво ответил Коста. Джино понимал: его телефон прослушивается, а письма подлежат перлюстрации. Чем тише он будет себя вести, тем лучше. — Конечно, конечно. — Недавно специальный курьер доставил ему сообщение Косты о том, что он собрал группу опытных юристов в области налогового законодательства, чтобы они выработали рекомендации, как правильно действовать. Главное — никакой спешки. Дело Джино Сантанджело — из разряда деликатнейших. За свою жизнь он успел намозолить всем глаза. Каждый его шаг становился достоянием гласности. Имея дело с Департаментом государственных сборов, нельзя было допустить ни малейшей утечки информации. — Слушай, — устало добавил Джино, — присматривай за Лаки. Чтобы не носилась по всему Нью-Йорку, как дикая кошка. — Я сам постоянно с ней, — заверил Коста. Это было правдой. Лаки наслаждалась его обществом. Он не жалел о том, что познакомил ее с четой Динунцио и что она проводит много времени с Энцо. Это все настоящие друзья Джино. Все вместе они за ней присмотрят. — Скоро позвоню, — тепло закончил Коста. — Береги себя. Джино сухо засмеялся. — Ага. Приходится осторожничать, как бы не переесть филе рыбы или яблочного струделя. Никого не волнует, что это отражается на моей язве. Коста, помоги мне вернуться домой! Скорее!* * *
Дарио должен был прибыть в Нью-Йорк сразу же по окончании семестра в Художественном колледже. Это не очень-то радовало Лаки. Она то и дело наскакивала на Косту: — Он же не хочет сюда ехать. Со стороны Джино глупо его неволить. Все равно он ничего не поймет. Дарио инфантилен… Ко времени приезда Дарио она основательно промыла Косте мозги. Зачем заставлять парня делать то, к чему у него не лежит душа? Лаки выехала из шикарных апартаментов Джино. — В чем дело? — удивился Коста. — Вам хватит места для двоих. — Джино хотел, чтобы там жил Дарио. Я лучше сниму собственное жилье. И водворилась в небольшую уютную квартирку в районе Парка и Шестьдесят первой улицы. Чтобы преуспеть в бизнесе, необходимы жесткость, решительность и способность мгновенно принимать решения. Лаки обладала всеми этими качествами, Дарио — нет. Когда он приехал, Коста предоставил ему небольшой офис и дал несколько мелких поручений. Дарио завалил их все и равнодушно выслушал упреки. Коста пришел в замешательство. Чему можно научить человека, не желающего учиться? — Ладно, отдыхай, — сказал он. — Осваивайся в Нью-Йорке. Как-нибудь потом побеседуем. Дарио последовал его совету. Эрик остался в Сан-Франциско — несчастный и одинокий. — Я тебя вызову, когда спадет жара, — пообещал Дарио. Теперь он наслаждался полной свободой. Жара в Нью-Йорке и не думала спадать. Скоро Дарио и думать забыл об Эрике.* * *
Недели складывались в месяцы, а Лаки продолжала впитывать в себя каждый бит информации. Ее гибкий ум легко адаптировался к задачам бизнеса. На Косту это производило сильнейшее впечатление. Она задавала вопросы по существу и мгновенно подсекала мельчайшие несоответствия в документах. Ее голова была идеально приспособлена для бизнеса, как у Джино. Она бесстрашно перла напролом, ни в чем не уступая отцу. И когда она заявила, что намерена сама вести кое-какие дела, было поздно ее останавливать. Джино создал синдикат для финансирования строительства отеля «Маджириано». Работы только-только начались, расходы были огромны. После отъезда Джино в Европу отдельные источники финансирования иссякли. — Господи Иисусе! — взорвалась Лаки. — Мы же заключили с этими людьми контракт! Коста покачал головой. — Не было никакого контракта. Сделка состоялась под честное слово. — Значит, они дали Джино слово? — Конечно. — И что бы он сделал, если бы деньги перестали поступать? Коста нервно кашлянул. — У него, были свои… методы. — Ты остался вместо него. Почему же ты ими не пользуешься? — Иногда лучше выждать, выбрать подходящий момент… Вот вернется Джино… Лаки посмотрела на него в упор. — Мы не можем ждать. Еще неизвестно, сколько он будет отсутствовать. Даже ты признаешь, что могут уйти годы. Нет, — решительно заявила она, — строительство должно идти своим чередом. Раз они дали слово, нужно заставить их сдержать его. Дай-ка мне список. Я что-нибудь придумаю. Он недоверчиво усмехнулся. — Ты глупая девочка, Лаки. Это все тертые калачи. На него глядели черные, как угли, и холодные, как лед, глаза. — Никогда не называй меня глупой девочкой, Коста. Ясно? Он вспомнил Джино в ее возрасте. Как они похожи! — Хорошо, Лаки. Коста понял: он не в силах ей помешать. И никто не в силах.* * *
Лаки долго, упорно думала. Коста — прекрасный человек, блестящий юрист, знает закон вдоль и поперек. Но он — не человек действия. Строительство «Маджириано» должно продолжаться. Она позаботится об этом. Лаки обратила внимание, что по воскресеньям Энцо Боннатти проводил час-другой у себя в кабинете. Приходили разные люди — иногда они задерживались у него пять минут, иногда — час. И всегда выходили, улыбаясь. — Что там происходит? — спросила она Сантино, того из сыновей Энцо, который казался ей более симпатичным. — Кто все эти люди? Сантино пожал плечами. Он был низкого роста, рано облысел и постоянно грыз ногти. — Час благотворительности. Энцо любит изображать Господа Бога. — Мне тоже кое-что нужно. — Так попроси его. — Сантино сощурил маленькие глазки. — Тебе он ни в чем не сможет отказать. Но будь готова к тому, что потом придется расплачиваться. И она пошла к Энцо за советом. — Коста палец о палец не ударит, — закончила она свой рассказ. — А я не хочу сидеть сложа руки. Я готова делать все то, что делал отец. Энцо ухмыльнулся. — Джино не признавал дерьмовых отговорок, извиняюсь за выражение. Хочешь быть, как он, — почему нет? Могу одолжить тебе парочку боевиков. Сможешь заставить одного должника наложить в штаны — не будет проблем с остальными. Усекла? Лаки кивнула. Ее охватило приятное возбуждение. Энцо устремил на нее проницательный взгляд. — Ты, конечно, хочешь, чтобы я сделал это для тебя? Она отрицательно мотнула головой. — Нет. Только помогите. Он осклабился. — Да, ты действительно дочь Джино Сантанджело! Он может тобой гордиться. Я поделюсь с тобой кое-какими секретами. Дам парочку ребят, которые сделают все, что ты скажешь. Но смотри. Угрожаешь — будь готова выполнить угрозу. Ясно? — Вполне.* * *
Кто учил Лаки законам улицы? Или это было заложено в генах? Она начала с крупнейшего должника, Рудольфо Крауна, исполнявшего в синдикате функции банкира. Когда-то он зарабатывал на жизнь, выманивая деньги у богатых старух. Наконец ему улыбнулась удача: он женился на одной из них. А ровно через полтора месяца она скончалась. «Не вынесла наслаждения, — любил повторять Рудольфо каждому, кто соглашался слушать. — Ее уже двадцать два года не трахали». Он унаследовал три миллиона долларов, просадил половину на шлюх и прочие удовольствия, а остальное вложил в дело. Он сидел за массивным письменным столом и скалил зубы в оскорбительной ухмылке. — Вы дали слово, мистер Краун, — холодно сказала Лаки. — Вы член синдиката. Если вы не соблюдаете правила, другие могут взять с вас пример, и строительство придется прекратить. — Конечно, — он принялся ковырять в зубах отточенной спичкой. — Я обещал Джино. Когда он вернется, я его уважу. — Какая разница, — не повышая голоса, спросила Лаки, — где находится Джино? Вы дали слово, и он хочет, чтобы вы его сдержали. Прямо сейчас. Рудольфо продолжал скалиться. — Джино не в том положении, чтобы ставить условия. Говорят, он еще до-о-олго пробудет в изгнании, если вообще вернется. Она мило улыбнулась. — Вы рискуете, мистер Краун. — Чем это я рискую? — Тем, что в один прекрасный день вам отрежут яйца и засунут в глотку, а член пойдет на приготовление барбекю. Он побагровел. — Промой себе пасть, сука! Мне еще никто не угрожал! Лаки встала, оправила юбку отлично сшитого делового костюма и холодно усмехнулась. — Это не угроза, мистер Краун. Это обещание. И, в отличие от вас, я его выполню. Как папа. Он не поверил. С какой стати вкладывать деньги в строительство отеля, если нет Джино Сантанджело, который это затеял и мог обо всем позаботиться? Дочь Джино, так ее мать! Большое дело! Задница вместо головы. Неделей позже в полночь его разбудило прикосновение холодной стали к половым органам. Он в ужасе открыл глаза и увидел двоих мужчин, готовых отсечь его скукожившийся член. Он стал звать на помощь, умолять, плакать. От двери отделилась тень, и жесткий голос произнес: — Это всего лишь генеральная репетиция, мистер Краун. Если вы не возобновите платежи, на следующей неделе состоится премьера. Пришлось Крауну расстаться с изрядной суммой. Другие вкладчики моментально последовали его примеру. Строительство сдвинулось с мертвой точки. Коста так и не узнал, как это Лаки удалось. Конечно, он подозревал вмешательство Энцо, но у него не было доказательств, а Лаки, естественно, держала рот на замке. Она стала спокойнее, чуть ли не строже. Вкус власти пришелся ей по нутру. Ей, Лаки Сантанджело, многое по плечу! Почему бы и нет? Она доказала свою состоятельность!* * *
Вскоре после наведения порядка в синдикате вкладчиков Лаки вылетела в Лас-Вегас — своими глазами посмотреть, как идут дела на строительстве «Маджириано». Само собой, она остановилась в «Мираже», и, само собой, ее встретил Марко. Наконец-то она докопалась, кто такая Би. Коста выложил ей всю эту историю: как Би впустила в дом истекающего кровью, полуживого Джино, как выходила его и верно ждала семь лет, пока он томился в тюрьме. — Похоже, она достойная женщина. Почему же они не поженились? — Собирались, но выяснилось, что после Марко у нее не могло быть больше детей. Лаки рассвирепела. — Ты хочешь сказать, что Джино не женился на ней потому, что она не могла родить ему детей? Ну и свинья же он! Узнав о том, что Марко вырос рядом с Джино и почти считал его отцом, она возненавидела его и теперь обошлась с ним весьма прохладно. Вот уже много лет, как они не разговаривали. — Ну, Лаки, ты выглядишь на все сто! Ей-Богу! — восхитился Марко. — А ты малость поизносился. Горишь на работе — днем и ночью? Она быстро прикинула в уме, сколько ему лет: сорок один. Он немного поправился, но по-прежнему оставался для нее самым красивым мужчиной на свете. Она умирала от желания скорее лечь с ним в постель. Впервые за многие месяцы вспомнила о сексе. — А почему ты не поселил меня в апартаментах Джино? — Я сам их занял, — признался он, — пока Джино в отъезде. — Что ты говоришь! — она заставила себя сказать это как можно более насмешливо. Марко расстроился, но вежливо спросил: — Сколько ты думаешь здесь пробыть? «Столько, сколько потребуется, чтобы затащить тебя в постель!»— подумала она, но вслух сказала, небрежно махнув рукой: — Несколько дней. Может быть, неделю. — Вот и отлично. Я хочу познакомить тебя с моей женой. Поужинаем вместе? Его женой! Она чуть не задохнулась. — Ты давно женат? — Ровно сорок шесть часов. Ты чуть-чуть опоздала на свадьбу. Да, кстати, а где Крейвен? Он снова предал ее! Лаки кипела от ненависти, но в голосе звенел лед. — Разве ты не слышал? Я развелась. — Не может быть! Джино в курсе? — Ты не поверишь, Марко, но я свободная белая женщина, мне двадцать один год, и я могу делать все, что захочу, мать твою, не спрашивая позволения у папочки! — она сделала паузу и вновь обдала его холодом глаз. — Может, ты и ходишь перед ним на задних лапках, но я — нет! Он вдруг расхохотался. — Ты ничуть не изменилась. Все такая же симпатичная старушка Лаки. — Вот именно. Все такая же. Только еще меньше расположена сглаживать острые углы — скоро ты убедишься в этом. (Похоже, он действительно не знал!) — Жду не дождусь. Их взгляды на мгновение скрестились. Щелк! Еще не было мужчины, который отказался бы лечь с ней, если она того хотела. Но все ли еще она хочет его? Да, черт бы его побрал! Тысячу раз да!* * *
Жена Марко, Елена, в прошлом была шоу-герл. Рост шесть футов. Фигуристая. Огненно-рыжие волосы. «И, конечно, огонь между ног», — подумала Лаки. Красива, к сожалению, очень красива! Они договорились встретиться на веранде. Звучала южноамериканская музыка. Официантки в мини-юбочках разносили экзотические коктейли. Лаки взяла на заметку: этот бар надо бы оживить! Он выглядит старомодным и чуточку неряшливым. Плохо, что она явилась без кавалера. Марко обращается с ней как с дочкой Джино. У новобрачной были невероятно большие груди — Лаки заподозрила, что тут не обошлось без инъекций старого доброго силикона. Лет ей где-то под тридцать. Лаки моментально прониклась слепой, нерассуждающей ненавистью — а ведь, в сущности, Елена была неплохой бабенкой. — Жалко, что вы пропустили нашу свадьбу, — она прямо-таки лучилась дружелюбием. — Она была довольно оригинальной. Вы когда-нибудь слышали об оригинальной свадьбе? — А что? — растягивая слова, полюбопытствовала Лаки. — Вместо подружек невесты были феи, а вместо стульев — поганки? Елена заржала, словно лошадь, тряся огненной гривой; силиконовый бюст ходил ходуном. — Скажите, — Лаки с заговорщицким видом наклонилась вперед, — у вас волосы на лобке такого же цвета, как и на голове? — Нет, конечно, — начала Елена. — Я как-то пробовала красить, но ужасно щипало… — Она вдруг осеклась, заподозрив, что Лаки шутит. Дура! Марко женился на форменной идиотке! Какое разочарование! Человек, при котором она столько лет неровно дышит, выказывает отвратительный вкус! А впрочем, мало ли какой у него может быть вкус. Может, он балдеет от таких вот бимбо с фальшивыми бюстами! — Как вы познакомились? — слегка охрипшим голосом спросила Лаки. Скорее всего, это будет прескучная история. Марко смотрел куда-то в пространство, но встрепенулся, услышав ответ своей жены. — На похоронах моего первого мужа. Было дико смешно. Он взглядом приказал ей заткнуться. — Хочешь еще немного выпить, дорогая? Странный вопрос — ведь Елена по-прежнему держала в руке полный бокал бананового коктейля. Но у нее хватило ума понять намек — значит, не такая уж она непроходимая дура. — Как мне нравится ваш костюм! — обратилась она к Лаки. — Здесь покупали? Лаки решила не настаивать. Какая разница, как, где и почему они познакомились, — важно, что это произошло. Точка. Когда около двенадцати часов они проводили ее до дверей и ушли, она моментально спустилась вниз и заглянула в казино. Теперь, если Марко и засечет ее, он не сможет сунуть ей сандвич, наябедничать папеньке и отослать ее в постельку. Она положила глаз на смуглого, рослого ковбоя с бегающими глазками. — Хочешь, куплю тебе чего-нибудь выпить? Он долго, пристально изучал ее и, видимо, остался доволен. — Кажется, когда играешь, выпивка за счет отеля? Лаки улыбнулась. — В моем номере — нет. — Ты не… — Нет, конечно. Все, что от тебя требуется, это немного усердия. Они вместе поднялись на ее этаж. Нет, она не шлюха и не нимфоманка, но временами ей приятно трахнуться — без дерьмового трепа и без намека на продолжение. Мужчины испокон веков позволяют себе подобное баловство. Чем женщины хуже? И потом, как раз сегодня ей позарез требовалось снять напряжение. Он пробыл у нее около часа. Неплохо. Ничего удивительного: у нее наметанный глаз. Потом он топтался у двери, бубня что-то о том, чтобы завтра пообедать вместе. Пришлось буквально вытолкать его из номера. Не было такого мужчины, которого ей хотелось бы оставить на всю ночь. Ни единой родственной души на всем белом свете… Лаки вышагивала по комнате и думала о Марко. Почему она так сильно его хочет? И ведь надеялась, что ковбой поможет справиться с обидой оттого, что Марко женился! Ничего подобного. В сексуальном плане у нее нет претензий. Но этого недостаточно.* * *
В тот раз ей так и не удалось окрутить Марко. Но по мере развития событий, когда она начала медленно, но верно забирать в свои руки рычаги власти, ему в конце концов пришлось обратить на нее внимание. По возвращении в Нью-Йорк Лаки сказала Косте: — «Мираж» стал походить на дешевую уличную проститутку, попавшую в компанию блестящих девушек по вызову. Подумаешь — дважды в год концерты Тайни Мартино и дурацкие номера из задрипанных телепостановок! Это не придает блеска, — Она закурила. — Отель нуждается в ремонте и модернизации. У него запущенный вид: краска кое-где облупилась, зачуханная веранда… Необходимо внести свежую струю. Коста отмахнулся от клубов дыма. — Марко знает свое дело. Если и нужно что-то переделать, я уверен… Она резко оборвала его: — Марко не в состоянии отличить задний проход от дырки в полу. Он, видите ли, только что женился и ошалел от траха. К щекам Косты прилила кровь. Где она нахваталась таких словечек? Когда ругаются мужчины, это в порядке вещей, но молодая женщина… Ни в какие ворота! — Марко превосходно справляется — с финансами и всем остальным. Джино ему полностью доверяет. — Большое дело! Я — основной держатель акций. У меня больше прав, чем у всех прочих. Раз я говорю: нужны перемены, значит, так тому и быть! Если Марко будет противиться, может убираться! Коста серьезно смотрел на нее. Неужели он своими руками создал настоящего монстра? Что скажет Джино, если узнает? К счастью, пока он остается в неведении. Думает, все идет как по маслу: Дарио изучает азы бизнеса, и если что-нибудь не так, Коста в два счета все уладит. Джино и понятия не имеет о том, что Лаки развила бурную деятельность и практически прибрала все к рукам. У Косты не было ни малейшего желания сообщать об этом Джино. В последующие несколько месяцев Лаки постоянно курсировала между Нью-Йорком и Вегасом. Она привозила с собой дизайнеров и декораторов, высказывала пожелания относительно переделок в «Мираже» и надзирала за ходом работ по строительству нового отеля. — Что она себе позволяет?! — вопил Марко в трубку. — Скоро здесь камня на камне не останется! Отзови ее немедленно! — Не могу, — признался Коста. — Она владеет контрольным пакетом акций и вправе делать все, что пожелает. Кипя от ярости, Марко обратил-таки на нее внимание! А к тому времени, когда он созрел для желания, Лаки стала холодной, деловитой и чужой. Она не станет делить его с женой! Постепенно Лаки удалось претворить в жизнь свой план модернизации отеля. «Мираж» был неузнаваем. Она пригласила свежие артистические силы. Хватит с них утомленных певичек в платьях без бретелек — их заменили рок-группы. Все вокруг сверкало и грохотало. Чтобы создать новый имидж, она привлекла к работе лучшую фирму «Паблик рилейшнз». — Нужно привлекать молодежь, — втолковывала она разгневанному Марко. — А то отель превратился в богадельню. — Дерьмо собачье! Деньги, как известно, водятся у стариков! Казино отеля дает колоссальную прибыль. — Зато доходы от самого отеля за последние десять лет постепенно уменьшаются. Почему нельзя преуспеть на обоих направлениях? Она оказалась права. Дела неуклонно шли в гору. Вечерние представления, еще недавно проходившие при полупустых залах, шли теперь с аншлагом; осовремененная веранда притягивала молодежь. При этом доходы от казино не только не уменьшились, но и круто взмыли вверх. Окрыленная успехом, Лаки влезла в другие области деятельности своего отца. Она обладала великолепной интуицией и безошибочным нюхом: что можно улучшить и каким образом. Она, подобно Джино, всегда держала нос по ветру и обращалась только к первым лицам: председателям, менеджерам и директорам, которых назначил ее отец. Поначалу они давали ей отпор либо напускали на себя покровительственный вид. Однако после того, как она недвусмысленно давала понять, что по закону имеет право делать все, что заблагорассудится, они начинали прислушиваться, соглашаться — и она неизменно оказывалась права. В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году Джино приобрел — в порядке дружеского одолжения — небольшую хиреющую компанию по производству косметики. Она медленно, но верно катилась к банкротству. Лаки сделала ее одним из своих любимых проектов. Изменила название фирмы, сменила руководство, назначила себя директором и похвасталась перед Костой: — Вот увидишь, как все закрутится! Он и не сомневался. Время от времени Лаки летала в Вегас — посмотреть, как идут дела со строительством «Маджириано». Дела шли медленно. Даже очень. Возникали все новые проблемы, но среди них не было ни одной, с которой бы она не справилась. Марко переменил свое отношение к ней. Теперь он радостно приветствовал Лаки и представлял подробный отчет обо всем, что делается в городе. Их неудержимо влекло друг к другу. Лаки знала: Марко чувствует то же, что и она. Однажды он не выдержал. Елена уехала за город навестить подругу. Они вместе поужинали и повспоминали старые времена: Джино, особняк на Бель-Эр, Дарио… На пороге ее номера Марко стиснул ей руку и сказал: — Я хочу войти. — Нет. Его изумлению не было предела. — Но почему? — Не в моих правилах путаться с женатыми. — Я полагал, что тебе нет дела даже до того, как их зовут — не то что до их семейного положения. Он был так близко, что она чувствовала его дыхание у себя на щеке. Она желала его так, как никого на свете, но сладким голосом произнесла: — Засунь свои комментарии в задницу. Спокойной ночи, Марко. Приятных сновидений. И быстро захлопнула за собой дверь, боясь передумать. Господи! Может быть, это и есть любовь — ноющая боль во всем теле, от которой хочется то ли волком выть, то ли паясничать?! Такой шанс заполучить Марко — и она его упустила! Почему? Да потому, что он был нужен ей с потрохами — и на всю жизнь! Только так и не иначе! И однажды это случится! Уж она постарается!* * *
Дарио так и не вызвал Эрика, и через полгода тот явился сам в одно субботнее утро, с двумя чемоданами и кучей упреков. — Я был занят, — буркнул Дарио. — Тебе нельзя здесь оставаться. Под «здесь» подразумевались роскошные апартаменты Джино, с кухаркой и горничной. — Почему? — возмутился Эрик. Он твердо вознамерился восстановить свои позиции. — Потому что нельзя. Вдруг они узнают — Коста или моя сестра. — Мы же жили вместе в Сан-Франциско! — Это другое дело. — Почему? После десятиминутного спора Дарио сдался и впустил Эрика. Но он по-прежнему не собирался позволять ему здесь жить, потому что узнал вкус свободы. Жить одному, в одиночку отправляться на охоту… При чем тут Эрик? Тот обежал квартиру восхищенным взглядом и поздравил себя с мудрым решением. Уговоры Дарио ни к чему не привели. Дарио пребывал в гневе и растерянности. Мало ему неприятностей из-за Лаки! Не хватало еще, чтобы она пронюхала, что он — голубой! Эта стерва обставила его по всем статьям. Пока он, особо не перенапрягаясь, торчал у себя в офисе, она установила свою власть во всей империи Сантанджело. Коста умыл руки. Дарио не то чтобы жаждал лично встать у руля, но его бесило, что с ним никто не считался, тогда как сестре оказывали королевские почести. — Джино хотел, чтобы я учился бизнесу, — жаловался он Косте. — Я, а не Лаки! — Тогда будь добр являться сюда к восьми часам утра и заканчивать работу в семь, восемь, девять часов вечера. Еще чего! Дарио больше устраивало долго спать по утрам, а затем отправляться в своем «порше» в Виллидж и проводить время с приятелями. Он каждый день наведывался в небольшой итальянский ресторан, где для него специально держали столик. Вокруг толклось пятнадцать-двадцать прихлебателей. Деньги не проблема — на этот счет Джино дал четкие указания. Да, у него полно друзей, но ему не улыбалось делиться ими с Эриком. Однако от Эрика оказалось не так-то легко отделаться. Однажды водворившись в квартире приятеля, он и не думал покидать ее. — Тебе нельзя здесь оставаться, — повторял Дарио. — Мне некуда деться. Я специально приехал, чтобы быть с тобой. Эрик дотронулся до Дарио, и тот словно с цепи сорвался — с грубой, животной страстью, которой до этого момента в себе не чувствовал, набросился на своего сожителя. Эрик застонал от боли и наслаждения. — Вот не думал, что ты способен на насилие. Поверь, Дарри, нам будет хорошо вдвоем!* * *
Время шло, и Лаки продолжала свою кипучую деятельность. Она превратилась в решительную деловую женщину, которая предъявляла высокие требования и выжимала из подчиненных все, на что они были способны. И всегда добивалась своего. Пришедшая было в упадок компания по выпуску косметических средств ныне процветала. Для получения заказов Лаки использовала, мягко говоря, не совсем дозволенные приемы — там взятка, здесь угроза. Она была уверена в высоком качестве их продукции и не гнушалась принудительными способами убедить в том же остальных. Имя Сантанджело творило чудеса. Она по-прежнему часто наведывалась в Лас-Вегас и всякий раз находила Марко женатым на прекрасной Елене. Ее все так же влекло к нему, но если этому суждено произойти, то на ее условиях. Она очень редко думала о Джино, чью империю ухитрилась прибрать к рукам. Строительство заложенного им отеля шло полным ходом. Его мечта претворялась в жизнь. Но они не вступали в контакт друг с другом. Женщины не способны заниматься бизнесом? Слишком эмоциональны, да? Ну, так она ему покажет! Уезжая, Джино оставил ее ни с чем. С помощью Косты она завладела всем. По закону все принадлежало им с Дарио. Лаки вспомнила брата и поморщилась. Идиот недоделанный! Неужели он никогда не станет человеком? Бедный блондинчик Дарио! Ошибка природы…* * *
Дарио с Эриком продолжали жить вместе, хотя отношения между ними были натянутыми. Они вели образ жизни, который обоим был в новинку. Нью-Йорк кишел новичками в любовных поединках, и у Дарио хватало денег, чтобы всеми возможными способами прожигать жизнь, — посещать злачные места и предаваться всевозможным порокам. Вдвоем они окунулись в полный опасностей подпольный мир гомосексуальной общины. Там они столкнулись с полностью лишенной романтики, безобразной изнанкой жизни. То была настоящая скотобойня — с торопливыми, часто насильственными сношениями и садомазохистскими экспериментами. Эрику очень понравилось, и он втянул Дарио. Вскоре они начали устраивать в апартаментах Джино оргии, не жалея денег на кокаин, травку и все такое прочее — в полном соответствии с разнообразными запросами гостей. Когда слухи об этом докатились до Косты, он отказывался верить. Зато Лаки ничуть не удивилась. Она давно ждала чего-нибудь в этом роде. — Поеду к нему, — сказала она Косте. — Поедем вместе. Лаки позвонила брату и предупредила о том, что они с Костой намерены навестить его после обеда. Дарио положил трубку. Тот факт, что Лаки завладела империей Сантанджело, его мало беспокоил: лишь бы его не трогали и не отлучали от кормушки. Но эта стерва, его сестра, говорила таким тоном, словно пронюхала о его секрете. У нее всюду агенты. Дарио ничуть не сомневался, что Джино никогда не вернется в Америку. Время шло, а ничего не менялось. Раз в несколько месяцев он писал отцу дежурное письмо, но не получал ответа. Коста заверял его, что письма доходят по назначению и доставляют Джино огромную радость. Тем не менее Дарио перестал писать. Реакции не последовало. — Эрик, сейчас же уходи и не возвращайся, — велел он другу. — Потом я тебя разыщу. Сестричка Лаки! Приперлась с прокурорским видом, в белом костюме. Коста, как комнатная собачка, ходит перед нею на задних лапках. Лаки не тратила лишних слов. — Дарио, так продолжаться не может. Ты выносишь на публику то, что является твоим интимным делом. Понимаешь, что я имею в виду? Коста хмуро поддержал ее: — Если Джино узнает, это его убьет. Может, тебе обратиться к врачу? Попробовать излечиться? Он что, думает, это корь? — Имею право делать все, что хочу! — окрысился Дарио, глядя на сестру. — Ты мне не указ. Лаки вздохнула. — Вот здесь, братик, ты очень ошибаешься. Если не поостынешь, я позабочусь о том, чтобы для тебя настали тяжелые времена. — К чему ты клонишь? — Ты хорошо помнишь все подписанные тобой документы? Ну да! Время от времени Коста или Лаки вызывали его для того, чтобы он скрепил своей подписью ту или иную бумагу. Он никогда их не читал, а просто ставил закорючку — и с плеч долой. И вот теперь Лаки в холодной, деловой манереобъясняет ему, что фактически он передал ей все права. — Переедешь из этой квартиры в более скромную и будешь жить на назначенное мной пособие. Может быть, это оттолкнет от тебя кое-кого из твоих «друзей». Дарио вылупился на сестру. — Только попробуй. Я пожалуюсь Джино. — Валяй. Он будет в восторге, когда узнает, что ты из себя представляешь. Дарио побледнел. — Ты не можешь так поступить. Она одарила его многообещающим взглядом. — Не волнуйся, дальше меня это не пойдет, дорогой братик. Пока ты будешь нормально себя вести, тебе не о чем беспокоиться — я не скажу Джино. Кстати, кончай с наркотиками. В крайнем случае — немного травки. Понятно? Сука! Сука! Сука! Но он до нее еще доберется — когда-нибудь! Как-никак он тоже Сантанджело!Стивен, 1975
С первых шагов в качестве помощника окружного прокурора Стивен показал себя несгибаемым и весьма удачливым обвинителем. Сначала этот переход на другую сторону правосудия был непривычен, но уже через несколько недель он понял: это именно то, для чего он создан, — преследовать по закону подонков, которые сбывают детям наркотики, убивают и насилуют женщин, а также продажных полицейских и прочую погань. Видеть этих мерзавцев надежно упрятанными за решетку было для него ни с чем не сравнимым наслаждением. Слава о нем распространилась со скоростью света; адвокаты в отчаянии воздевали руки к небесам, если их подзащитные получали Стивена Беркли в качестве обвинителя. Зато полицейские ликовали, если после долгих поисков и выматывающей гонки за преступником дело последнего попадало в умелые руки Стивена. Он неизменно выходил победителем. Даже самая скользкая рыба не могла уйти из его невода. Преступники получали по заслугам. Стивен азартно играл, заранее настроившись на победу. Он оказался неподкупным — это сбивало с толку тайных агентов подпольных воротил, которые месяцами работали не покладая рук, чтобы выиграть заведомо проигрышное дело. Эта черта Стивена выглядела тем более странно, что коррупция в то время проникла во все слои общества, стала в порядке вещей. Брали все — от простого патрульного до высокого полицейского чина. Стивен с самого начала дал понять: его голыми руками не возьмешь. Он доказал это, когда возле дома, где он жил, к нему обратились двое и предложили «небольшой разговор по душам». Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, о чем пойдет речь. Стивен как раз занимался делом о вымогательстве. Если все пойдет как надо, мелкому уголовнику Луи Лавинчи по кличке «Ноги» грозило десять или одиннадцать лет тюремного заключения. Стивен лихорадочно соображал. — Ладно, поговорим. Завтра, в восемь часов утра. На этом самом месте. Двое громил очень удивились. Они готовились к трудным переговорам; возможно, пришлось бы прибегнуть к определенным методам убеждения… — А почему мы не можем потолковать прямо сейчас? Стивен оглянулся по сторонам. — Просто поверьте мне на слово. Сейчас не время. Завтра. О'кей? Ошарашенные, они наблюдали, как Стивен исчезал за дверью своего подъезда. Он тотчас позвонил своему начальнику и доложил о случившемся. — Я настаиваю на засаде. Возьмем этих мерзавцев за попытку подкупа. — Бросьте, Стивен, вы юрист, а не коп. — Дайте мне пару надежных ребят, и я это проверну. И он исполнил обещание, спрятав на груди миниатюрное записывающее устройство, запечатлевшее для истории все посулы и угрозы сообщников Лавинчи. После того как деньги поменяли хозяина, копы вышли из укрытия и арестовали обоих. Громилы получили срок за попытку подкупа должностного лица с применением угроз. Луи Лавинчи сел на двенадцать лет, а Стивен упрочил свое положение. На протяжении четырех лет он действовал решительно и безоглядно, вкладывая в работу все свои способности и получая огромное удовольствие. За эти годы он сдружился с молодым черным детективом по имени Бобби Де Уолт. Бобби специализировался на незаконном распространении наркотиков, Ему было двадцать с солидным хвостиком, а на вид — на десять лет меньше. Нарядившись в уличные лохмотья, с короткой курчавой стрижкой он обожал везде совать свой нос и откалывать разные штуки. Под легкомысленной оболочкой скрывался крутой и ловкий полицейский, Бобби Де Уолт раскрыл больше преступлений, чем любой другой детектив в округе. По многим из этих дел Стивен выступал обвинителем. Когда они позволяли себе вместе появляться на улице, это была престранная пара: рослый, красивый Стивен и шустрый дикарь Бобби. Иногда они часами просиживали в баре недалеко от здания суда и толковали обо всем на свете. А случалось, и заходили в ресторан. Радость общения была обоюдной. Они также не чурались женского общества. В один холодный январский вечер Бобби несказанно удивил друга: — Хочу пригласить тебя завтра на званый ужин, Я заарканил самую классную девчонку в мире — это будет наша помолвка. Стивена одолевало любопытство. Бобби совсем не похож на жениха. Но, познакомившись с Сью-Энн, он одобрил его выбор. Это была кудрявая девушка лет девятнадцати от роду, с ласковой улыбкой и обольстительной фигурой. Бобби не стал терять время даром и немедленно назначил день свадьбы. Не далее как через месяц Стивен уже играл роль шафера на их венчании в маленькой церквушке. Там он познакомился с двоюродной сестрой Сью-Энн, Эйлин. Он сразу обратил на нее внимание, высокая, симпатичная, очень воспитанная. Она работали переводчицей в ООН и жила вместе с родителями в кирпичном доме на Семьдесят восьмой улице. Стивен четырежды водил ее в разные места. Но после того как она отказалась лечь с ним в постель, распрощался — вежливо и элегантно. Однако, встречаясь с другими девушками, он не мог выбросить Эйлин из головы. Она единственная ему отказала. Все прочие были доступными — и самые красивые, и самые респектабельные. Он понимал, что в эпоху противозачаточных пилюль и женской эмансипации их доступность объясняется отсутствием страха, а вовсе не любовью. И продолжал думать об Эйлин.* * *
Старость навалилась на Кэрри как-то вдруг, чуть ли не в одночасье. Смотрясь в зеркало, она видела все то же лицо, ту же бархатную кожу — только несколько мелких морщин выдавали ее настоящий возраст. Но дело было не в них, а в том, что она состарилась душой: к ней вернулся прежний страх загнанного животного. На что она потратила жизнь? Последние тридцать два года ее существование проходило под знаком лжи. Даже собственному сыну она не могла открыть правду. Тем более такому сыну, который посвятил себя борьбе с теми самыми людьми, среди которых прошла ее молодость, — торговцев наркотиками, наркоманов, проституток и сутенеров. «Стивен, они не так уж и плохи. Иногда люди совершают дурные поступки, потому что у них нет выбора», — говорила она ему. Она все чаще по утрам подолгу оставалась в постели и вспоминала, вспоминала… Уайтджек. Какой мужчина! Как она любила его! Были и у них хорошие времена: особенно когда они работали втроем — она, Уайтджек и Люсиль. Кабаки, джазовые оркестры. «Парадиз», «Коттон-клаб»»… Фантастические наряды, танцы и бешеная страсть. Все было хорошо, пока не появилась Долли. Жирная белая Долли… И наркотики… Кэрри выпростала руки из-под одеяла и стала пристально рассматривать их, ища следы уколов, шрамы, которые можно было заметить, только если знать об их существовании. Она попыталась вызвать в памяти годы, когда содержала публичный дом. Как ни странно, от них почти ничего не осталось. Бернард… Кэрри улыбнулась. Он все о ней знал — и все-таки любил. Эллиот — совсем другое дело. Он смотрел на нее, как на игрушку, свою собственность. И почему только он женился на ней? Должно быть, подметил в глазах некую сумасшедшинку. В уединении их роскошной спальни он обращался с ней, как со шлюхой. Ужаснее всего было то, что ей приходилось с этим мириться. Ее покорность только подстегивала Эллиота, и он продолжал изощряться на все лады. Ею двигали страх нищеты и боязнь утратить общественное положение. В последнее время он сильно сдал. Его сексуальный аппетит уменьшился. Настанет день, и он уйдет навсегда. Кэрри безумно боялась остаться одна. Просто не представляла себя один на один с жизнью. В ее мысли властно ворвался телефонный звонок. Она подумала: может, не снимать трубку, и пусть себе звонит? Потом вскочила, точно ошпаренная: вдруг это Стивен? — Алло? — Кэрри, как ты? Джерри Мейерсон. Ну конечно! Ни одной недели не проходило без его звонка. Приятно сознавать, что в тебя до сих пор влюблен тридцатишестилетний мужчина. Кэрри устало вздохнула. — Здравствуй, Джерри. А ты как? — Лучше всех. А вот у тебя ужасный голос. — Просто немного взгрустнулось. — Отлично. Я как раз тот человек, который поднимет тебе настроение. Идем пообедаем вместе. Скажем, в «Четыре времени года». — Не сегодня, Джерри. — Именно сегодня. Я занимаюсь сенсационным делом о разводе, тебе будет интересно. Вот увидишь, ты будешь хохотать до слез. Я рассею твою тоску. Кэрри вспомнила о своем новом костюме от Сен-Лорана и решила, что лучше пойти с Джерри, чем так и проваляться весь день в постели. — Я подумаю. — Замечательно! В час. Смотри, не опаздывай.* * *
Бобби Де Уолт работал над каждым своим делом по нескольку месяцев и мог подолгу не появляться дома. Сью-Энн носила их первенца. Стивен часто навещал ее. Однажды, явившись в их маленький домик, он застал там Эйлин. Они не виделись восемь месяцев. Девушка удивилась не меньше его самого. Оба, как по команде, повернулись к Сью-Энн, но та только пожала плечами. — Откуда мне было знать, что вы сегодня нагрянете? — Я ненадолго, — поспешила заявить Эйлин. — Так, заскочила посмотреть, как ты тут. — Мне тоже пора идти, — вторил ей Стивен. — Я абсолютно уверена в том, что если вы на несколько минут задержитесь, чтобы перекусить, ничего не случится. Одарив их лучезарной улыбкой, Сью-Энн начала накладывать на тарелки горячие ребрышки под соусом, кукурузные оладьи и картофельный салат по-немецки. У Стивена потекли слюнки. — Пожалуй, я и вправду немного задержусь, — сказал он, садясь за стол. Эйлин целый день ничего не ела. Она посмотрела на еду, потом на Стивена — и тоже села. — Мне нужно позвонить маме, — сказала Сью-Энн и вышла, оставив их одних. — Э… Как ты? — спросил Стивен, обсасывая ребрышко. Эйлин положила себе солидную порцию кукурузных оладий. — Кручусь. А ты? — То же самое. Стивен вспомнил их последнюю встречу. Они сходили тогда в кино. Поужинали в хорошем китайском ресторане. Потом он, как бы между прочим, заявил: «Едем ко мне». Он был так уверен в ее согласии, что, не дожидаясь ответа, уже ехал в нужном направлении. «Нет! — заявила Эйлин. — Я против. Отвези меня домой». Он так и сделал. Проводил ее до двери и сказал: «Пожалуй, я больше не позвоню. Я не стремлюсь к серьезным отношениям». Он скучал по ней. С Эйлин было приятно куда-нибудь пойти. Идеальная невестка для Кэрри. Он огрыз ребрышко и спросил: — Развлекаешься? Девушка слабо улыбнулась. — Да. Но вот что интересно: меня бросают после третьего или четвертого свидания. Наверное, я что-то делаю не так. Стивен ухмыльнулся. — Речь идет не о том, что ты делаешь, а о том, чего не делаешь. Она тоже деликатно пососала ребрышко. Он решил, что она стоит еще одной попытки. — Как насчет того, чтобы на следующей неделе сходить в кино? Эйлин застенчиво покосилась на него. — Стивен, я не изменилась. У меня все те же принципы: — Ладно. Как насчет вторника? В комнату ввалилась Сью-Энн. Она была на седьмом месяце и с трудом носила раздувшийся живот. — Ну что? — спросила она лукаво. — Вы помирились или я зря весь день старалась, готовила?* * *
Новость застала Стивена в суде. Ее шепотом передавали из уст в уста. При выполнении очередного задания пострадал Бобби Де Уолт. В подвале одного из многоквартирных домов Гарлема на него напали двое, пырнули ножом и зверски измордовали. Ему удалось каким-то чудом выбраться наружу, где его подобрала «скорая помощь» — без сознания. Стивен добился переноса заседания и помчался в больницу. Там он нашел Сью-Энн с распухшими от слез глазами. Она прижалась к нему. — Ну почему именно моего Бобби? Почему? Стивен разыскал молодого врача, который принимал Бобби. — Каково его состояние? — Не очень. Он потерял много крови. Сломаны два ребра. Все будет зависеть от его выносливости. — Он справится. Вечером прибежала запыхавшаяся Эйлин. — Я только что узнала. Как он? — Висит на волоске, — мрачно ответил Стивен. Бобби висел на волоске двое суток, а потом начал выздоравливать. Все его тело было в швах — семьдесят шесть стежков. Он был весь стянут бинтами, но по-прежнему улыбался.* * *
Следующие несколько месяцев не были легкими для Бобби. Он рвался вон из больницы. — Мать вашу так! Я хочу на улицу, хочу действовать! — жаловался он Стивену. — Я так близко подобрался — чертовски близко! — Даже слишком. — В таких делах «слишком» не бывает. Стивен проводил с Де Уолтом много времени, и Эйлин тоже. Она оказалась сильной натурой и приносила немало пользы. Постепенно у Стивена вошло в привычку подвозить ее после работы, когда он бывал свободен. Они вместе навещали Сью-Энн и Бобби. — Вам бы пожениться, — поддразнивал Бобби. — Вы славно смотритесь вдвоем. Просто здорово! Раньше это не приходило Стивену в голову, но теперь он начал подумывать о том, чтобы представить Эйлин Кэрри. Что-то она скажет?* * *
Кризис миновал, Бобби быстро поправлялся. Сью-Энн тем временем родила прелестную девочку. Бобби решил, что ему пора возвращаться на работу. И однажды нагрянул к Стивену, лопаясь от обилия информации, фактов, цифр, зверея от досады, что он был так близок к раскрытию одного из серьезнейших дел в своей карьере. — Слушай, Стивен. У меня достаточно материала, чтобы возбудить уголовное дело против Боннатти. Это он возглавляет местную мафию. Думаю, мы сможем припереть его к стенке. — Почему ты так уверен? — Стивен почувствовал живой интерес. Припереть к стенке небезызвестного Энцо Боннатти — мечта любого прокурора. — У меня уличный инстинкт, — захлебывался от нетерпения Бобби, бегая по кабинету. — Есть несколько типов, которых я уже сейчас могу вызвать повесткой в суд. Есть свидетели. Я вошел в контакт со многими из тех, кто ждет не дождется падения Боннатти. Нутром чуял: еще немного — и я схвачу его! Почему, ты думаешь, меня вырубили? — Ты считаешь, это были люди Боннатти? — Без сомнения. У них надежные информаторы. Кто-то меня заложил. Стивен задумчиво постучал костяшками пальцев по стеклу. — Ну, и чего же ты хочешь? — Хорошо бы создать комиссию по расследованию деятельности Боннатти. При желании ты мог бы ее возглавить — с твоей репутацией это несложно. Стивен знал, что это правда. Ему уже дважды предлагали возглавить такие комиссии. Он отказался, потому что дела показались ему малоинтересными. Энцо Боннатти — совсем другое дело! Подонок из подонков, злостный преступник, который в двадцатые годы начинал бутлегером в Чикаго, а теперь контролирует большую часть уголовного мира Нью-Йорка. Его коньком были наркотики и проституция. — Против него уже возбуждали уголовные дела, — возразил Стивен. — Ага. И он всякий раз откупался. Или расправлялся со свидетелями. Или что-то мешало ему явиться в суд. — Бобби никак не мог усидеть на месте, его щуплое тело постоянно находилось в движении. Он сердито стукнул кулаком по столу. — Ты-то его не упустишь! У тебя мертвая хватка! Я ни разу не видел, чтобы ты провалил дело. А? Что скажешь? — Скажу, что подумаю. Этого пока достаточно? Бобби заржал. — Значит, да. Ты возьмешь этого сукина сына за яйца и не выпустишь, я тебя знаю. — Ты так думаешь? — Спорю на собственные яйца! Вернее, только одно — левое. Можешь мне поверить — я не горю желанием с ним расстаться!Лаки, 1975
Лучи прожекторов рвались ввысь. Фонтаны с цветной подсветкой мириадами водных струй выводили слово: «МАДЖИРИАНО». К парадному входу тянулась, точно змея, вереница лимузинов. Отель походил на громадный белый мавританский замок. Великолепный. Впечатляющий. Необыкновенный. Марко в новом черном смокинге прохаживался по вестибюлю. Его наметанный глаз моментально отмечал любую мелочь. Она-таки добилась своего! Совсем девчонка — взяла и добилась! Это стоило ей пяти лет, заполненных трудами, проблемами, взятками, угрозами, забастовками, но она вышла победительницей — построила сногсшибательный отель! Крошка Лаки. Дочь Джино, настоящая Сантанджело. Если бы Джино видел, чего она добилась, он гордился бы ею. Конечно, он, Марко, помогал, чем мог. Подталкивал в нужном направлении. Обеспечивал тылы. Смотрел, чтобы она невзначай кому-нибудь не тому не отдавила ногу. Но какая ученица! Ее подход к вещам неизменно оказывался верным. Как будто в голове у нее размещался компьютер, мгновенно просчитывающий варианты, а также прибыль и проценты. Марко заметил, что к нему направляется Скип, поджарый агент Лаки по общественным связям, и, быстро развернувшись, зашагал в другую сторону. Его тошнило от безудержной болтовни этого парня. Кроме того, Марко знал, что Лаки как-то переспала с ним. Одна эта мысль доводила его до бешенства. Почему она спит с кем попало, точно дешевая проститутка? Чего ей не хватает, так это настоящего мужчины! Если на то пошло, с кем она до сих пор имела дело? С дегенератом Крейвеном Ричмондом? Инструкторами по теннису? Безмозглыми актеришками? Смазливыми сопляками? Он видел, как они приходили и уходили. Если бы Джино знал, его хватила бы кондрашка. И все-таки, шлюха или не шлюха, Лаки была самой желанной женщиной в мире. Уже давно. И сегодня — их ночь! Прекрасную Елену, невзирая на протесты, он спровадил в Лос-Анджелес. — Отдохни, посиди возле бассейна на Беверли Хиллз. Тебе нужно переменить обстановку. — Но, Марко, я же собиралась пойти на открытие. Купила новое платье. Не могу же я пропустить… — Запросто можешь. Я буду слишком занят, чтобы за тобой ухаживать. Гуд бай, Елена. На время. У нас с Лаки Сантанджело остались кое-какие незаконченные дела.* * *
Лаки стояла под ледяными струями в душе. Да, сегодня вода по-настоящему холодная. Не то что вчера — тепловатая. «Пустяки, — заверили ее. — Сейчас наладим». Все они расшаркивались перед ней. Пресмыкались. Лизали задницу. Старались угодить. И до чего же это приятно! Она вышла из душа и еще раз хозяйским оком оглядела свою персональную ванную. По всем меркам — роскошно! На полу ковры из шкуры ламы. Стены расписаны под джунгли. Сверкающее белизной оборудование. Лаки надела махровый халат и пошлепала в спальню. Сила! Модерн! Одна кровать чего стоит! Черные шелковые простыни. Покрывало из тигровой шкуры… Она села на кровать и сказала в переговорное устройство: — В течение часа — никаких звонков. Меня ни для кого нет. — Затем встала, сняла халат, выключила свет и скользнула меж черными декадентскими простынями. Стоило Лаки закрыть глаза, как в ее мозгу, мешая уснуть, вспыхнул фейерверк мыслей. Она попробовала прибегнуть к способу, подсказанному инструктором по йоге: «Отключайся постепенно, дюйм за дюймом. Сначала пальцы ног, затем ступни, щиколотки, бедра…» Ничего не получается. Она слишком возбуждена. Испытывая чувственное наслаждение от касаний шелковых простыней, Лаки подумала: с кем-то она проведет ночь? А впрочем, какая разница? Все они одинаковы: красивые, темноволосые партнеры по наслаждениям. Что один самец, что другой. Однодневки… Разумеется, кроме Марко. Милый женатый Марко! Сукин сын Марко! Она по-прежнему умирала от желания, но держала себя в руках, так как не видела никаких признаков надвигающегося развода с роскошной дурой Еленой. Черт бы его побрал! Ей так и не удалось отключиться. Пришлось встать и пойти в гостиную. Просторное помещение с зеркальными дверями на балкон. Одно нажатие кнопки — и они открыты. Лаки вышла наружу обнаженная. Семь часов вечера, а в Лас-Вегасе все еще душно — особенно по контрасту с прохладой ее апартаментов с кондиционерами. Это будет ее вечер! Сбылась давняя мечта Джино — «Маджириано»! И все это сделала она! Лаки запустила руки в свои длинные глянцевито-черные волосы и подняла их повыше. Потом снова распустила и зевнула. Лаки Сантанджело. Да! Они думали, что имеют дело с безмозглой курицей. Но она показала им, что и она — Сантанджело!* * *
Коста прибыл на прошлой неделе. Ему до сих пор не верилось, что этот день когда-нибудь наступит. Боже! Было столько проблем! Лаки справилась со всеми. Этот отель стал целью ее жизни. Она окружила себя лучшими специалистами. В первую очередь — Марко. Марко! Ученик самого Джино. Вот уже девять лет, как он является управляющим «Миража», а эта работа не для дураков. Он позаботится и о новом отеле. Разумеется, его помощники тоже будут верой и правдой служить Лаки. Все они одна семья. В конечном итоге все они блюдут интересы Джино. И уж конечно, Лаки нашла могущественного покровителя в Энцо Боннатти, своем крестном. Тот всегда готов дать ценный совет. Она научилась осторожности: шагу не сделает без своего телохранителя и шофера Буги Паттерсона. Буги, как ни странно, был тихоней. Худющий, как из концлагеря. Длинные волосы. Одет всегда в старую армейскую куртку и заношенные шаровары. Двадцативосьмилетний ветеран войны во Вьетнаме. Отменный стрелок. Лаки симпатизировала ему, потому что он был нем как рыба. Хватит с нее того, что вообще приходится терпеть присутствие телохранителя; если бы он к тому же разговаривал, это было бы невыносимо. «Да, — продолжал размышлять Коста, — Лаки определенно знает, что делает. Не то что извращенец (как Коста называл его про себя) Дарио. Не дай Бог, узнает Джино!» Но, может быть, он и не узнает. Перспектива его возвращения в Америку весьма туманна. Коста привел в движение все, что только мог. Но после Уотергейта и отставки Никсона общественное негодование было так велико, что никто не чувствовал себя в безопасности. Чего только он не пробовал! Маневрировал в рамках закона. Шел на подкуп, шантаж, угрозы. Обращался к влиятельным друзьям Джино, которым тот в свое время оказал немаленькие услуги: судьям, политикам, высокопоставленным полицейским чинам. Никто не желал пачкать руки. Дело о сокрытии доходов Джино Сантанджело все еще было у всех на слуху. Один Департамент государственных сборов жаждал его возвращения — чтобы поджарить на медленном огне. Несмотря на то, что система прогнила насквозь, Косте никак не удавалось этим воспользоваться. Он убил на эти хлопоты пять лет и не пожалел бы всей оставшейся жизни. Джино нуждается в нем. Он добьется успеха!* * *
Более скромный образ жизни бесил Дарио, но не настолько, чтобы он начал действовать. Он, как и прежде, прожигал жизнь. Оргии стали чуточку менее разнузданными; наркотики уже не так свободно плыли в руки; но все равно ему удавалось делать то, что хочется. И плевать ему на Лаки и Косту с их нотациями! Кто они такие, мать их так? Он не обязан перед ними отчитываться. Однажды его чуть не угораздило попасть за решетку. Вот уж поистине глупейшая история! Какой-то сопляк пожаловался, что в квартире Дарио на него напали несколько мужчин, связали, избили и изнасиловали. Это Эрик привел шестнадцатилетнего парнишку, причем тот был в полном восторге. Сам Дарио даже им не попользовался: он в это время был в спальне с женатиком, который раз в месяц позволял себе подобные эскапады. Черт! Надо же было так влипнуть — и за то, чего ты не совершал! Пришлось Косте улаживать дело. С побелевшим от злости лицом он сказал Дарио: — Все. Больше этого не будет. Тебе придется уважать фамилию Сантанджело! И они с сучкой-сестричкой урезали его пособие до размеров нищенской подачки, а Эрику велели убираться из города. Это-то ладно. Дарио даже испытал облегчение. Получив приглашение на открытие «Маджириано», он долго не мог решить, ехать или нет. Позвонил Коста: — Ты должен явиться. Это решено. Кем решено? Драгоценной сестричкой? — Я не могу, — буркнул он. И только потом пораскинул мозгами. А почему, собственно, нет? Только все будет не так, как задумала Лаки. Да, он пойдет. И, может быть, испортит ей вечер. Она этого заслуживает.* * *
Лаки слегка перегнулась через перила балкона. Потрясающий вид! Сверкающий огнями город, неоновый рай. Скоро она оденется и сойдет вниз — встречать гостей, съехавшихся со всей страны. Событие оказалось Достойным того, чтобы все звезды Америки нацепили парадные шмотки и рванули в Вегас. Коста неоднократно рассказывал ей об открытии «Миража». Это было грандиозное мероприятие. Джино смотрелся королем; при воспоминании об этом у Косты молодо поблескивали глаза. Ну что ж, значит, сегодня вечером она станет королевой. В черном платье от Халстона, бриллиантах и изумрудах, которые она сама себе подарила. Лаки не ждала подарков от мужчин. Ей вообще не нужны мужчины. Ну разве что время от времени… в интересах здоровья. Она ухмыльнулась про себя и вернулась в свои апартаменты. Покончив с макияжем, она прямо так, голышом, влезла в черное вечернее платье. Здорово! Словно погрузилась в реку чувственности. Потом она расчесала длинные, цвета черного янтаря, волосы и воткнула с каждой стороны по гребню из слоновой кости. Ей двадцать пять лет. Она обладает немалой властью, держит руку на контрольной кнопке, имеет все, о чем всегда мечтала. Кроме Марко. В один прекрасный день она его получит — и, может быть, это исцелит ее от безнадежной страсти. Может быть…* * *
Марко лично приветствовал Энцо Боннатти дружеским рукопожатием. Старик явился в сопровождении своего сына Карло и какого-то блондинистого бездельника, которого никто не позаботился представить. Сзади следовали двое телохранителей. — Лаки будет счастлива, что вы проделали такой путь, — почтительно заявил Марко. — Сейчас позвоню ей, что вы приехали. Энцо кивнул. — Да, я хочу ее видеть. Сяду с вами обоими. Его голос составился вместе с ним; Марко не без усилия разбирал слова. Ему вспомнилось, как Джино впервые взял его к Энцо Боннатти. Ему тогда было семь с половиной лет, но он до сих пор находился под впечатлением. Он проводил Энцо и его спутников к лучшему столику. Там уже ждали три бутылки его любимого «скотча», а также закуски: копченая икра, фисташки и холодная куриная печенка. Энцо осклабился. — Мои любимые блюда. Лаки позаботилась? — Конечно. Энцо сиял. — Детка никогда ничего не забывает. Вот почему ей все удается. Не то что ее брат — как его? До меня доходили слухи… Как по-твоему, Марко? Он действительно педик? Неужели это правда? Марко пожал плечами. — Не знаю. Я с ним не вижусь. — Джино вытрясет из него всю душу. Любой поступил бы так, если бы его сын… — Энцо не закончил фразу: мимо проплыла пухлая блондинка. — Кто эта сисястая? — спросил он, не обращая внимания на колючие взгляды своей спутницы. Марко ухмыльнулся. Старый распутник никак не угомонится. — Понятия не имею. Если хотите, сейчас выясню. — Вот-вот, выясни. Может, старик еще кое на что сгодится?!* * *
В аэропорту Дарио пришлось взять такси. За ним даже не прислали автомобиль. С какой стати? Он всего лишь сын, кому до этого дело?.. Дарио весьма кстати запамятовал, что не удосужился сообщить о своем приезде. — Я слышал, — разглагольствовал таксист, — что в это заведение вбухано больше денег, чем в «Цезарь» и «Хилтон» вместе взятые. Как по-твоему? Дарио не хотелось разговаривать. Он смотрел в окно и думал о своей жизни. Ему приходится крутиться на жалкие двести пятьдесят баксов в месяц. Раскатывать на «порше» пятилетней давности. Квартирная плата и еще кое-какие расходы покрывались за счет фирмы. Но от этого не легче. Мать вашу! — Сам-то я предпочитаю «Серкус Серкус», — как ни в чем не бывало продолжал водитель. — Вот где можно повеселиться на всю катушку! Хочешь девочку или мальчика — ради Бога! Никто не помешает. «Да, — думал Дарио, — мне никто не мешает, пока я не стою у них на дороге. Я волен жить так, как хочу». После Эрика у него не было никого постоянного. Ему нравились беспорядочные связи. Без любви. Без привязанности. Голый уличный секс с черноволосыми парнями. Эрик был единственным блондином в его жизни. Не очень-то много радости — трахаться со своим зеркальным отражением. Дикие оргии постепенно сошли на нет. Не хватало, чтобы его окончательно отлучили от кормушки. Случись что, Коста с Лаки не постесняются выполнить угрозу. — Ты не против выйти здесь? — спросил таксист. — Если я попаду в ту колонну, мне до завтра не выбраться. Дарио расплатился и вылез из машины, держа на согнутой в локте руке свой смокинг. Такси фыркнуло и укатило. Он залюбовался купающимся в неоновых огнях зданием отеля. Да уж, сюда вложены миллионы, а ему подают милостыню — двести пятьдесят баксов в неделю! Но сегодня все это изменится. Он решительным шагом направился к отелю.* * *
Лаки было не так-то легко вывести из равновесия. Но сегодня — особый случай. Она волновалась, словно четырнадцатилетняя девчонка на первом в жизни свидании. Когда позвонили в дверь, она так и подскочила. — Кто там? — Коста. Лаки открыла дверь и, обняв дядю, воскликнула: — Как я тебя люблю! Ты дал мне шанс показать, на что я способна. Он ласково отстранил ее, и она закружилась по комнате. Коста еще не видел ее такой неотразимой. Она вся сияла. — Шампанского? Я знаю, ты не пьешь, но ради меня! Только сегодня! — У меня от газа бывает расстройство желудка. Лаки не слушала. — Давай выпьем за «Маджириано»! Пусть его казино приносит больший доход, чем любое другое в Лас-Вегасе! Они чокнулись. Коста предложил: — А теперь — за Джино. Ведь это его задумка. Лаки отвернулась. На ее лицо набежала тень. — Не пытайся испортить мне праздник. — Лаки, — мягко произнес старик, — если бы не твой отец, ничего этого не было бы. Нельзя же всю жизнь дуться. — Почему? — Потому что в один прекрасный день он вернется и потребует все назад. И тогда тебе придется приспосабливаться к нему и его методам. — Он не вернется, — беспечно заявила она. — Вон уже сколько времени прошло. Его не впустят. — Я приложу все усилия, чтобы впустили. Она воззрилась на дядю. Как убедить его, что лучше всего будет, если Джино навсегда останется там, где он сейчас? Новый звонок в дверь помешал ей ответить. — Это Скип, — раздалось из-за двери. — Пришел справиться: может, ты уже готова? Там куча знаменитостей — все жаждут сфотографироваться с тобой. Лаки рванула дверь и холодно поглядела на своего помощника по общественным связям. — Я же тебе говорила: никакого шума вокруг моей персоны! — Да, но сегодня… открытие! — Нет, Скип. Определенно нет, — и она хлопнула дверью у него перед носом. И дернуло же ее переспать с этим ничтожеством! Он кончил так же быстро, как выстреливает фразы… Лаки повернулась к Косте и протянула руки. — Идем посмотрим, все ли в порядке. Всю прошлую неделю меня преследовали кошмары: отель обрушился, а я сижу среди руин — голая, а кругом орут: «Размазня! Мы предупреждали, что женщине нельзя доверить такое дело!» Коста предложил ей руку. — Лаки, — торжественно произнес он. — Чем-чем, а размазней тебя никто не назовет, это я тебе обещаю. Марко смотрел, как они приближаются. Лаки — в эффектном, электризующем черном платье, в глазах пылает восторг победы; груди частично обнажены. И Коста — гордый старик, жестом собственника прижимающий к себе ее локоть. Он пошел навстречу. Вечер уже начался, и на каждом шагу попадались впечатляющие фигуры суперзвезд, продюсеров, магнатов, знаменитых спортсменов, дорогих проституток, шулеров и артистов. Марко подошел к Лаки и целомудренно чмокнул в щечку. — Ты выглядишь… как всегда, — пошутил он. Лаки ухмыльнулась. — А где Елена? — Как ни странно, ее нет. — Почему? Он вперил в нее многозначительный взгляд. — Ты прекрасно знаешь почему. — Я знаю? — Разве сегодня не особенный вечер? — Ты все еще женат. — Слушай, — он придвинулся ближе и понизил голос. — По-моему, сегодня как раз подходящий момент, чтобы сделать исключение. Сердце у Лаки колотилось так, словно она только что десятикратно обежала вокруг Таймс-сквер. Голос охрип. — Я никогда не делаю исключений, — но в глубине души она знала: сделает. Сегодня! — Все когда-нибудь случается в первый раз. Между ними как будто произошло короткое замыкание. — Что, Энцо еще не приехал? — с нетерпением спросил Коста. Он кое-что заметил, и ему это не понравилось. — Приехал — несколько минут назад. Я как раз собирался вам звонить. — Идем, Лаки, навестим его. Она улыбнулась. — Само собой, — и легко коснулась руки Марко. — Потом…* * *
Уоррис Чартерс выбрал удобную позицию возле стойки бара, откуда можно было наблюдать за всеми. Он постарел и еще больше озлобился. Ему исполнился сорок один год, и он был не похож на себя прежнего. Волосы выкрашены в черный цвет, брови и ресницы — тоже. Под глазами набрякли мешки. Между некогда идеальными зубами образовались безобразные прорехи. Судьба не жаловала его последние девять лет. Когда его с позором изгнали с виллы в Канне, бушевала гроза, и это отразилось на его здоровье. У него развилась тяжелая форма пневмонии, так что эта история закончилась в местной больнице, существующей на пожертвования. Он чуть не отправился к праотцам. Да если бы и отправился — кто пожалел бы о нем? После выздоровления он попытался связаться с Олимпией — тщетно. Когда родители богатой девушки хотят, чтобы она исчезла, она исчезает. И тем, кто пытается ее разыскать, ровным счетом ничего не светит. В конце концов Уоррис бросил эту бесплодную затею и сошелся с проституткой, снимающей последний урожай с наплыва туристов. В декабре они вместе перебрались в Париж, но она забыла предупредить, что там у нее уже был сутенер, так что Уоррис снова загремел в медицинское учреждение — на этот раз с двумя сломанными ребрами. Наконец он приковылял обратно в Мадрид. Там его встретили старые друзья: наркоманы, толкачи, прощелыги всех мастей. Он поставил несколько шоу с «живым» сексом и скопил денег на постановку порнофильма. В последнюю минуту сорвался с крючка главный мужской персонаж, и Уоррису пришлось сниматься самому — вот откуда крашеные волосы. Он еще не окончательно утратил стыд. Фильм имел некоторый успех в Европе и принес ему достаточно денег, чтобы вернуться в Америку. Там он продолжил заниматься тем же — в переоборудованном гараже в Пасадене. Со звездами не было проблем. Стайки красивых девушек слетались в Лос-Анджелес в надежде сняться в фильме. Некоторым было безразлично — в каком. Уоррис начал прилично зарабатывать, активно занимался сексом и надеялся вернуться в мир большого кино. Сценарий «В яблочко!» все еще был при нем. Кто теперь станет оспаривать у него права? Автор семь лет как умер — Уоррис навел справки. Конечно, сценарий нуждался в небольшой переделке, но история в целом ничуть не устарела. Фильм возьмет всех за живое! Он долго думал, где найти деньги на постановку. Вкладывать деньги в фильм — все равно что ходить по канату над Большим Каньоном. И вдруг на него словно обрушился золотой дождь. Он приехал в Вегас — вместе с темнокожей проституткой и ее дружком, карточным шулером. Они слонялись из отеля в отель, и вдруг эта потаскушка показала пальцем: — Видишь вон ту заводную? Это дочь Джино Сантанджело. Попробуй-ка подцепить ее на крючок. Говорят, у нее между ногами яйца, как у мужчины. Уоррис взглянул. Еще раз. И еще. Лаки! Не может быть! И тем не менее это она. Лаки Санта. Лаки Сантанджело. Должно быть, Пиппа знала. Но почему эта идиотка ничего ему не сказала? Щелк, щелк, щелк! — в его мозгу начала отматываться назад какая-то лента. Передавая ему сценарий, Пиппа сказала, что это подлинная история жизни Джино Сантанджело. Кто он такой? Сам Уоррис читал всего одну заметку в какой-то газете, но это имя уже много лет постоянно было на слуху — так же, как Микки Коэн, Мейер Лански и другие. Вы их знаете и не знаете… Он постарался раздобыть как можно больше информации. И когда был набит ею под завязку, решил подступиться к Лаки со сценарием, чтобы она передала его отцу. Расчет был такой: Джино либо заинтересован в постановке фильма — в таком случае он его финансирует; либо не заинтересован — и тогда ему придется откупиться, вложив деньги в какой-нибудь другой фильм Уорриса Чартерса. Беспроигрышная ситуация! Лаки станет связующим звеном. Все будет сделано на уровне личных контактов. Правда, к ней так просто не подступишься. Но ему удалось купить у второсортной порнозвезды приглашение на открытие отеля. Это влетело Уоррису в сотню баксов, но он рассчитывал вернуть с лихвой. И вот он стоит и дожидается своего часа. Звездного часа. Он сыграет в эту игру, как настоящий ас. И в любом случае не проиграет!* * *
Дарио принял душ, оделся и спустился вниз. Он никого здесь не знал, и его тоже не знали. Он прошел к стойке бара и заказал «скотч». Господи! Какого черта он здесь делает? Ведь ему только и нужно, что потолковать по душам с дорогой сестричкой и убраться восвояси.* * *
Рудольфо Краун схватил проходившую мимо Лаки за руку. Он был навеселе; жирные волосы потными прядями свисали на лоб. — Мы победили, малышка, — невнятно забормотал он. — Победили! Она резко вырвала руку. Не было такого месяца, когда бы Рудольфо Краун не опаздывал со взносами. Во время организованной профсоюзом многомесячной забастовки он и вовсе предпринял попытку умыть руки, так что пришлось Лаки снова прибегнуть к угрозе. А теперь он распускает слюни: «Мы победили!» — Ты что, не хочешь посидеть со мной и моими друзьями? Они жаждут с тобой познакомиться. Лаки бросила мимолетный взгляд на его друзей. Паршивые головорезы и дешевые голливудские проститутки. — Прошу прощения, я не могу сейчас задерживаться, — с прохладцей проговорила она. — Желаю хорошо повеселиться, — и двинулась дальше. — Не нравится мне этот тип, — пробурчал Коста. — А кому он нравится? Однако деньги не пахнут. — Она помахала рукой Тайни Мартино, явившемуся с пятнадцатилетней звездочкой и ее мамашей. — Какая мерзость, — выдохнул Коста. Лаки засмеялась. — Да нет, просто жизнь. Энцо поднялся навстречу и заключил ее в объятия. — Мои поздравления! Ты добилась своего! У нее сияли глаза. — Ведь правда? — Ну конечно! Но я всегда знал, что в тебе это есть, — он поднял свой бокал «Джека Дэниэлса». — Я никогда не сомневался в тебе, Лаки, ни одной дерьмовой минуты, извиняюсь за выражение. Следующие несколько часов она пребывала в приподнятом настроении. Она — королева и извлекает из этого максимум удовольствия! Ест, пьет, танцует, болтает с гостями. Появился Дарио, и Лаки искренне обрадовалась. — Почему ты не сообщил о своем приезде? Он дулся. — Я хочу с тобой поговорить. — Приходи посидеть со мной чуточку попозже, — предложила она, прежде чем упорхнуть с очередным кавалером туда, где танцевали пары. Честные смешались с бесчестными. Ели, пили, развлекались. В полночь Лаки собственноручно выбросила первые кости на обтянутый сукном стол, и завертелась игра. Казино распахнуло свои двери для широкой публики. А тех, кто не хотел играть, пригласили в Белый зал, где их развлекала английская рок-звезда Аль Ки. У него был хрипловатый, пульсирующий голос, от которого по спине у Лаки побежали мурашки. Певец принадлежал к белой расе, однако исполнял «соул» точь-в-точь как положено, так, как поют черные, — обжигая дыханием страсти. Потом был фейерверк вокруг огромного бассейна в виде буквы «М». Те, кто помоложе и посумасброднее, разделись и полезли в воду. Лаки так и подмывало присоединиться к ним. Но она знала: этого делать нельзя. Она должна контролировать свои эмоции. Слишком долго она добивалась признания — и наконец добилась его. Этим не шутят. Так что она просто стояла рядом с бассейном, смотрела, улыбалась и каждой своей клеточкой чувствовала: вечер удался!* * *
Дарио мрачно бродил по залу. «Приходи посидеть со мной чуточку попозже»… Как бы не так! Эта стерва даже ни разу за весь вечер толком не присела. Он наблюдал за ней, стоящей недалеко от бассейна, сверкающей драгоценностями, — навесила на себя целое состояние! Что она о себе воображает? Это было глупо и очень по-детски, но ему вдруг захотелось подкрасться и столкнуть ее в воду. Почему бы и нет? Она так довольна собой, держится павой! Пчелиной маткой… Он приблизился к Лаки, но она вдруг обернулась и радостно воскликнула: — Дарио! Вот ты где! А я уже хотела пойти поискать тебя. Лгунья! — Волшебная ночь! Давай завтра позавтракаем вместе? Он закусил нижнюю губу. — Я не собирался так долго задерживаться. Она иронически вздернула бровь. — Да ну? И что заставляет тебя так спешить? Стерва! — О'кей, позавтракаем вместе, — пробормотал Дарио. — Мне есть что тебе сказать. — Вот и чудесно. Может быть, этот разговор что-то изменит к лучшему. В десять в ресторане «Патио» тебя устроит? Он уставился на нее голубыми, полными горечи и ревности глазами. Потом открыл рот, чтобы сказать что-то резкое. Именно этот момент выбрал Уоррис Чартерс для своего триумфального появления. Вклинился между ними и медовым голосом, с фальшивой сердечностью воскликнул: — Маленькая Лаки Санта! Кто бы мог подумать? Она без всякого выражения взглянула на него. — Вы кто такой? — Кто я такой? Ты, должно быть, шутишь? Она незаметно покосилась на телохранителей. Буги вертелся поблизости. — Мы что, будем играть в угадайку или вы представитесь? Уоррис сделал вид, будто не замечает резкости ее тона. — Действительно не узнаешь? А ведь я научил тебя водить машину. И разным другим вещам. Ты, я, Олимпия — помнишь? — тримушкетера. Лаки вытаращила глаза. — Господи Иисусе! Уоррис, твою мать! Откуда ты свалился? И что с тобой приключилось? Ты ужасно выглядишь! Дарио вгляделся в предмет сестриных нападок и не нашел его таким уж безобразным. Напротив, довольно красивый парень. А мешки под глазами — так это, скорее, знак повышенной сексуальности. — Я рад, что ты не изменилась, — сухо ответил Уоррис. — Я изменилась будь здоров, можешь не сомневаться! — Она помолчала и задумчиво добавила: — Что тебе нужно? — Почему мне обязательно должно быть что-то нужно? — Брось. Со мной этот треп — «Я только хотел поздороваться» — не пройдет. Чего ты хочешь? Он покосился на Дарио. — Маленькая приватная беседа меня бы устроила. Кругом царило веселье. — Я сегодня не в настроении для серьезных разговоров. Как-нибудь в другой раз. — У меня есть кое-что, представляющее для тебя интерес… — Он сделал многозначительную паузу. — И для твоего отца. Что у него может быть интересного для них с Джино? — Мне безразлично. — Ты переменишь свое мнение, как только узнаешь, что это. — В таком случае хватит играть в таинственность. Выкладывай. — Она махнула рукой в сторону Дарио. — Не стесняйся, это мой брат. Можешь говорить при нем. Уоррис внимательно присмотрелся к угрюмому блондину. Он давно его заприметил — еще когда они рядом сидели за стойкой. Уоррис даже подумал: не актер ли он? И если да — не согласится ли сняться в порнухе? Слава Богу, что он удержался и не спросил. — В мои руки попал киносценарий. Это история жизни твоего отца. Может, ему было бы интересно познакомиться, прежде чем я запущу съемки? Лаки зевнула. — Ну так и пошли его отцу — тебе никто не мешает. — Она заметила в толпе Косту и помахала ему рукой. — До свидания, Уоррис. Было приятно повидаться, — и она, не взглянув на Уорриса, отчалила, оставив его в обществе Дарио. — Черт! Дарио почувствовал: за этим что-то кроется. Возможно, ему все-таки удастся прищучить сестру. Он не знал, как именно, но намеревался это выяснить. Поэтому протянул Уоррису руку. — Я — Дарио Сантанджело. Может быть, я смогу быть вам полезен?* * *
За все время Лаки почти не видела Марко. Редкая улыбка через весь зал, пара взглядов — и все. Он тоже работал: заботился об удобствах гостей, распространял обаяние, присматривал за всем. Когда ее представили певцу Аль Кингу, Марко, как по мановению волшебной палочки, оказался рядом и мягко, но настойчиво увел ее к столику Энцо. У Аль Кинга была известная репутация, у нее — тоже. Лучше держать их подальше друг от друга. Не прошло и пяти минут, как Аль Кинга окружили поклонницы. Лаки не преминула отметить: Марко обеспечил ему весь спектр — брюнетка, рыжая, блондинка. Он привык действовать наверняка. Мог бы не стараться. Как бы ни были привлекательны звезды, она не любила спать с ними. Они словно делают вам одолжение, заталкивая в вас свой жалкий член — предмет вожделения миллионов женщин. Как правило, жалкий член нуждался в усиленной стимуляции и вообще имел бледный вид — особенно крупным планом. По одну сторону от Энцо сидела блондинка, которую он привел с собой, а по другую — полногрудая девица, привлекшая его внимание уже здесь, на банкете. — Ну, ты довольна? — тепло спросил он Лаки. — О лучшем нельзя было и мечтать! — Отлично. Отлично. — Энцо наклонился и прошептал ей на ушко: — Знаешь, кого притащил с собой этот ублюдок Краун? Она машинально повернула голову. За столиком Рудольфо Крауна шло пьяное веселье. — Кого? Энцо скорчил гримасу. — Может, не стоит сейчас портить тебе настроение? — Кого? — Близнецов Кассари. Лаки похолодела. — Не может быть. Он все так же ласково спросил: — Ты обвиняешь Энцо Боннатти во лжи? — Нет-нет, я не это имела в виду. Просто не могу поверить, что он мог так поступить. — И тем не менее он это сделал. Это безнадежный идиот. А может, ему и вправду ничего не известно. Придется познакомить его кое с какими фактами из жизни этих типов. Близнецы Кассари. Сыновья Пинки Банана от первого брака. Лаки никогда их не встречала и не собиралась. Их отец убил ее мать. А Джино разделался с Пинки. Она вытянула это из Косты. Да и Энцо рассказывал… — Как они посмели переступить порог моего отеля? Сейчас же прикажу вышвырнуть их вон! — Пусть остаются. Вечер почти закончился. Стоит ли портить себе кровь из-за какой-то дряни? Не беспокойся, они здесь больше не появятся, я лично позабочусь об этом. Предоставь это мне. Она поцеловала его в щеку. — Спасибо, Энцо, — и еще раз посмотрела на Рудольфо Крауна. Грязная свинья! Он точно заслуживал, чтобы его кастрировали!* * *
В четыре часа утра банкет все еще был в разгаре. Но Лаки почувствовала: можно уходить. Она разыскала Косту и шепнула: — Я иду спать. Грандиозный праздник, правда? — Фантастика! — Тебе бы тоже не помешало выспаться. — Я должен буду описать Джино все от начала и до конца. Уйду только после того, как закроется дверь за последним гостем. Джино. Джино. Джино. Чертов Коста — вечно напоминает ей! — Конечно, — холодно сказала она. — Развлекайся. Завтра увидимся.* * *
Она поднялась в персональном лифте на верхний этаж. Буги молча сопровождал ее, проверяя каждое помещение. После того как она водворилась в свои апартаменты, он удалился в свою каморку. Его поселили отдельно, но если он зачем-либо понадобится, Лаки достаточно нажать одну из многочисленных расположенных в стратегических местах кнопок, и он за считанные секунды будет здесь. В ее мозгу проносились мысли. Зачем Рудольфо привел в отель близнецов Кассари? Что было нужно Дарио? Правильно ли она поступила, отфутболив Уорриса? Лаки сбросила с себя и швырнула в угол туфли от Шарля Журдена и поставила долгоиграющую пластинку. Мартин Гей, «Что происходит?». Обволакивающая, чувственная музыка заполнила комнату, помогла Лаки расслабиться. Долго еще ждать Марко? Пять минут? Десять? Ну, уж никак не больше. Она ловким движением руки расстегнула сзади крючок на платье, и оно упало к ее ногам. Лаки отнесла его в спальню и достала взамен свою самую любимую рубашку из хлопка, которую носила десять лет назад и изредка надевала до сих пор. Марко часто видел ее в этой рубашке — только не в последние годы… В ванной она тщательно смыла следы косметики, сняла украшения, энергично расчесала длинные черные волосы и заплела аккуратные косички. Теперь ей можно было дать четырнадцать лет. Умытая и неприбранная, она стала ждать человека, которого любила все эти годы. Когда Марко постучался в дверь, Лаки была уже готова. — Почему ты так долго? — Я опоздал только на пятнадцать минут. Эй! — воскликнул он. — Что ты с собой сделала? Лаки ухмыльнулась. — Перевела стрелки на много лет назад. Нравится? Ты видишь меня такой, какая я на самом деле. Он выглядел смущенным. Это уже не та чувственная красота, которая так подействовала на него этой ночью. Давно он не видел ее юной девушкой! — Господи, ну ты прямо как маленькая, детка! — Так вы меня оба называли — ты и Джино. Он совсем ошалел. Она, подбоченившись, стояла перед ним — длинные загорелые ноги слегка расставлены, голова немного склонилась набок, опасный блеск в черных глазах… — Эй, мистер, хотите поиграть в доктора? Он рассмеялся. — Ты сошла с ума. Заставляешь меня чувствовать себя развратным старикашкой. — Продолжай в том же духе. Развратничай. Сегодня — ночь исключений. Больше их не будет — пока ты женат. — Лаки… — Он взял ее лицо в ладони и прильнул к губам. Она ответила, вложив в свой поцелуй все десять лет страстной любви. Ее язык неистово исследовал его рот: губы, зубы, небо… Лаки почувствовала, как твердеет от страсти его плоть. — Пусть это исключение запомнится навсегда, — прошептала она. Они продолжали целоваться. Затем его руки медленно скользнули вниз, к грудям. Он бережно гладил их через ткань рубашки, исследовал их очертания, нащупал и потеребил соски. — Как хорошо, — пробормотала Лаки. — Ах, как хорошо! — Можешь повторять это, сколько захочется. — Я и собираюсь. Он расстегнул на ней рубашку, но не снял, а просто забрался под нее руками. — Ты сводишь меня с ума! — выдохнула Лаки. — Давай скорее разденемся и ликвидируем очаг напряженности. — Ради Бога, я не дантист! — Господи, Марко! Я не могу больше терпеть. Десять лет ждала! Он превратился в вихрь. Лаки не успела опомниться, как он, сбросив все с себя, перекинул ее через плечо, швырнул на королевское ложе и овладел ею с таким неистовством, что она испугалась за его здоровье. И вдруг этот страх за здоровье покинул ее. Больше ничто не имело значения. Она так быстро и интенсивно кончила, что чуть не умерла от наслаждения. И он тоже — с рыком страсти. Оба с головы до пят покрылись потом. Обоим стало весело. — Больше никогда не приглашай меня к себе, — сказал Марко. — Видишь, куда это ведет?! — Туда, где мне и хочется быть! — Лаки приподнялась на локте и впилась в него взглядом. Он сильно загорел; на груди чернели волосы. Она тихонько потеребила их пальцами. — Знаешь, сколько я об этом мечтаю? Имеешь хоть малейшее представление? Он с улыбкой покачал головой. Она приблизила лицо, и ее губы с легкостью перышка запорхали по его груди, соскам, животу, добрались до пениса — тот моментально начал выказывать признаки жизни. Лаки не торопилась взять его в рот. — А ты, Марко? Давно меня хочешь? Когда ты повсюду возил меня девочкой, ты уже вожделел к моему юному телу? — Ты была самой большой сумасбродкой из всех, кого я знал. Занозой в заднице. Она забрала член в рот и слегка куснула. Марко испугался. — Эй! — Не бойся, — с невинным видом произнесла Лаки. — Я его не откушу. С чего бы такие ужасы? Он сел, сграбастал ее в охапку и снова начал целовать. Говоря по совести, раньше она никогда не получала удовольствия от поцелуев. С Марко все было по-другому. Кончик его языка дарил ей несказанное наслаждение, а когда он добрался до сосков, Лаки почувствовала, что возносится в рай. Слова любви рвались наружу, но она знала: нужно подождать. Он все еще женат. Черт возьми! Просто в голове не укладывается! Она оттолкнула Марко и потянулась за сигаретой, одновременно натягивая на себя простыню. — Ты знаешь, что здесь были близнецы Кассари? — Да, — осторожно ответил он. — Я не хотел тебе говорить, чтобы не портить праздник. — Если бы мне раньше сказали, я распорядилась бы вышвырнуть их на улицу. — Конечно, и Рудольфо Краун вопил бы на весь отель, что мы плохо обращаемся с его друзьями. Полагаю, что это было случайное совпадение. Он вряд ли знал. — Вот как? Марко отобрал у нее сигарету, положил в пепельницу и отдернул простыню. — Иди ко мне, детка. Во второй раз они занимались любовью долго и с упоением, дюйм за дюймом изучая тела друг друга, узнавая удобные и неудобные позиции, прикосновения, ракурсы. Она разглядывала его так, как никого и никогда. У него были зеленовато-серые глаза с густыми черными ресницами. Большие сильные руки. Тугое, мускулистое тело — никакой дряблости. Она обнаружила застарелый шрам на бедре и спросила, откуда он взялся. Марко начал рассказывать ей о своей жизни. Это было первый раз, когда он позволил себе разоткровенничаться, и Лаки жадно ловила каждое слово. Она узнала обо всех его поступках, о том, в каком состоянии он находился, когда мать надоумила его обратиться к Джино. — Мама оказалась права. Мы много лет не виделись, но он принял меня, как родного сына. Это необыкновенный человек. Ты должна гордиться таким отцом. До сих пор Лаки еще ни с кем не обсуждала Джино. Это было слишком личное. — Гм… Расскажи мне о том, как ты был маленьким, когда Джино жил с вами. Какой он тогда был? А она? Почему они не поженились? — Эй! Я-то думал, что тебя интересую я сам. Лаки соскочила с постели. — Давай-ка оставим разговоры на потом и пойдем примем душ. Посмотрим, что из этого выйдет. Он простонал: — Ничего не выйдет. Мне сорок пять лет, я уже порядком поизносился. Мне бы убраться подобру-поздорову да выспаться. Лаки спала с десятками мужчин, и ни разу ей не захотелось, чтобы любовник остался на всю ночь. Поэтому теперь она не знала, как себя вести. Единственное, что она знала — его ни под каким видом нельзя отпускать. — Можешь спать здесь. Потом позавтракаешь на халяву, — пошутила она. Но Марко уже подбирал свою одежду. Господи! На каком они свете? Что теперь будет? Почему этот чертов ублюдок ничего не говорит? Она вдруг показалась себе страшно незащищенной — голая и с этими дурацкими косичками. Марко натягивал брюки. — Пойду приму душ, — сказала она, надеясь, что он ее удержит. Но он зевнул. — Здравая мысль. Чувствуя себя брошенной, она пошла в ванную, стала под душ. Неужели, когда она выйдет, Марко уже не будет? И потом они встретятся, как будто ничего не случилось? Боже милосердный! С ней никогда еще не было ничего подобного! Одно дело — много лет мечтать о нем, и совсем другое — получить наконец. Он вошел в ванную — хоть и без особой тщательности, но одетый. Рядом с ней на полочке стоял гель для душа. Притворившись, будто она не видит Марко, Лаки молниеносным движением схватила бутылку и облила его. А затем стала деловито втирать гель в груди. — Ух ты! — воскликнул он. — Я видел подобную сцену в одном порнофильме. — У твоей жены силиконовые груди? — с милой улыбкой полюбопытствовала Лаки. Он расхохотался. — Ничего себе! Массируешь себе груди — и думаешь о Елене! Пожалуй, я еще многого о тебе не знаю. — Дурак! Он подал ей полотенце. — Интересно, сколько раз за ночь ты проделываешь это с ней? — спросила Лаки и возненавидела себя за дрожь в голосе. — Остынь, — Марко уже не смеялся. — С твоим послужным списком я бы не стал задавать подобные вопросы. Она осатанела. — Моим послужным списком? Что ты хочешь этим сказать? — То, что ты перетрахала уйму парней. — Я свободна. Почему бы и нет? Бьюсь об заклад, ты не держал его на привязи, когда был холост. — Это другое дело. — Что именно? — Я мужчина. — Господи! Вот теперь ты действительно заговорил, как сорокапятилетний. Значит, по-твоему, мужчина может трахаться направо и налево, а женщина — нет? — Таковы правила. — Что еще за дерьмовые правила? — заорала Лаки. — Кто их выдумал, мать вашу? Мужчины — вот кто! — Успокойся, беби. Не хватало еще нам из-за этого поссориться. — Ничего не имею против ссоры. Ты должен понимать, с кем имеешь дело! — Я тебя прекрасно понимаю. Лаки немного утихомирилась. — Нет, не понимаешь. Послушай. Мне нравятся симпатичные мужчины. Если мне не подворачивается ничего более интересного, я ложусь с ними в постель, потому что мне доставляет удовольствие заниматься сексом. Я не нимфоманка и не шлюха — я схожусь с мужчинами на моих условиях. И, как правило, не вижу их больше одного раза. Вот так. — Она сделала драматическую паузу. — А теперь ты мне скажи, Марко: со сколькими девушками ты ложился просто от нечего делать, в порядке развлечения или потому, что тебе нравились их бедра, груди или длинные ноги? Ответь честно: сколько их было? Он осторожно пожал плечами. — Много. — И со сколькими ты продолжал встречаться? На его лице появилась неуверенная улыбка. — О'кей, о'кей. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Лаки выронила полотенце, подошла к нему и обняла за шею. — Вот и слава Богу. Он начал ласкать ее. — Но теперь тебе не нужны другие, раз у тебя есть я. Правда, малютка Лаки? Правда? — Ты ущипнул мне задницу! — Правда? Она почувствовала легкость во всем теле. Наконец-то он принадлежит ей! Завтра они придумают, как быть с Еленой. — Раздевайся и пошли в постель, — скомандовала она. Марко взял ее на руки и вместо спальни отнес обратно под душ. — Кстати, насчет того порнофильма — забыл тебе рассказать о том, что она проделывала с мылом. Это было что-то! Попробуем? — Не исключено. — Лаки была счастлива. Марко начал снимать одежду. — И, может быть… — Эй! Не ты ли сказал, что тебя хватает только на два раза? — Леди, вы уличили меня во лжи!* * *
Рудольфо Краун и его компания выкатились из отеля только на рассвете. Они совсем распоясались. Пятеро мужчин схватили официантку, разносившую коктейли, и стали безудержно лапать, в то время как их дамы повизгивали от восторга. На какую-то молодую парочку вылили ушат оскорблений. Одна из женщин разделась до пояса и трясла голыми грудями перед очумевшим швейцаром. Рудольфо хватался за живот. Такого представления он еще не видывал. Тот из близнецов, что попротивнее, Сальваторе Кассари, хлопнул его по плечу. — Да это же золотая жила! Хочешь продать свой пай? Он самодовольно помотал головой. Сногсшибательный вечер! Сногсшибательный отель! Каждый вложенный доллар многократно окупится — пусть и не сразу. Лаки Сантанджело добилась своего. Это самый шикарный отель на свете! Сальваторе снова хватил его по плечу. — Ты меня слышишь? Ну, так как — продашь? Рудольфо был слишком пьян, чтобы различить в его голосе угрозу. Близнецы Кассари — славные ребята. Верховодят у себя в Филадельфии. Несколько недель назад один приятель привел их к нему в офис. Они предложили вкладывать солидные суммы в его срочные проекты. Естественно, он согласился. — Кстати, — сказал тогда младший из братьев, Пьетро, — это правда, что у вас есть доля в новом отеле, который открывается в Вегасе? Рудольфо с радостью пригласил их на открытие. Он зафрахтовал самолет, Кассари позаботились о девочках — и вот они здесь. Что за праздник! Рудольфо занял номер в «Маджириано», а близнецы предпочли «Пески». Расставаться не хотелось, и они предложили отправиться еще на одну вечеринку, в интимном кругу. Разумеется, он не захотел упускать такой шанс. — Нет, я не собираюсь продавать свой пай, — ухмыльнулся Рудольфо. Сальваторе Кассари больно лягнул его ногой. Рудольфо так удивился, что замер на месте, открыв рот, словно рыба. Сальваторе заржал и ткнул его кулаком в живот — еще больнее. — Не бойся, я шучу. Ты ведь не против? Естественно, он был против — даже в подпитии. — Прекрати… Сальваторе чем-то твердым, как сталь, жахнул его между ног. Рудольфо застонал, сложился пополам и судорожно глотнул воздух. — Ну так что, продашь? — почти ласково осведомился Сальваторе. Рудольфо не мог поверить в реальность происходящего. Он пережил ужасные минуты, когда однажды к нему в дом явилась с угрозами Лаки, но на сей раз все совершалось средь бела дня, прямо перед его отелем. Кругом были люди, но, казалось, они ничего не замечали. Да что же это? Пьетро подхватил его под руку, Сальваторе — под другую. Двое остальных мужчин подогнали автомобили. Девушки безмятежно болтали. — Что происходит, черт возьми? — выдохнул он. — Ничего особенного, дорогой компаньон, — Пьетро оскалил пасть, показывая желтые от никотина зубы. — Просто немного покатаемся и закончим нашу сделку. Ты ничего не потеряешь — мы компенсируем тебе весь твой вклад полностью. — Но я не хочу продавать! — Нет? — жизнерадостно произнес Пьетро. — Может, ты еще передумаешь? — Я не собираюсь… Сальваторе схватил его за мошонку — прямо через тонкую ткань брюк — и начал сдавливать ее. — Не принимай опрометчивых решений. Жизнь полна неожиданностей. Кто знает, что его ждет завтра? Когда братья запихнули его в автомобиль, Рудольфо потерял сознание. Ничего, Краун — известный трус. Продаст, никуда не денется.* * *
Лаки пошевелилась во сне и, протянув руку, коснулась груди Марко. Счастливая, она проснулась, не имея ни малейшего представления о том, который теперь час. Какая разница? Это счастливейший день в ее жизни! Она поиграла с его сосками, время от времени облизывая пальцы. Он застонал: пенис приподнял простыню. Глаза открылись; в них сверкали искры. — Я люблю тебя, — сказала Лаки, — и хочу, чтобы ты развелся с женой. Господи! Ведь она вовсе не собиралась этого говорить! — Ага, — ответил Марко. — Разумеется. А ты держись подальше от всех прочих мужчин, иначе я сверну твою хорошенькую шейку. Шутит он или нет? Неужели так просто?.. — Ты правда разведешься с Еленой? — Слушай, детка, — серьезно сказал он. — Я знал, что разведусь с ней, уже через неделю после свадьбы. — Ах! — Ты неожиданно исчезла из моей жизни — и вдруг появилась снова. Я сразу понял, что мы когда-нибудь будем вместе, — сказав это, он тотчас осознал, что сказал правду. Она прищурилась. — Да? — Да. — Тогда какого черта ты мне ничего не сказал? Не подал ни единого знака! Ни намека! — Я делал множество намеков, но ты была слишком занята. И кроме того, можешь представить себе реакцию Джино, если бы я только взглянул в твою сторону? Лаки встала на колени; волосы растрепались и свисали дикими лохмами. — Не забывай — ты был женат! Что мне оставалось делать? Не обращать внимания? — Ты же сделала это сегодня ночью. — И ты. — Господи, Лаки! Сколько времени потеряно! — По твоей вине! — Я возмещу его. Она обняла его. — Мы оба возместим. Они начали целоваться. Потом Марко легонько отстранил ее. — Мне нужно в туалет. — Правда? А я-то думала, мне неслыханно повезло! — Оставайся, где ты есть. Не двигайся. Как будто она могла! Ей было впору ущипнуть себя, чтобы удостовериться в реальности происходящего. Когда Марко вернулся, он смерил ее пристальным взглядом. — И вот что я тебе скажу. Если ты хочешь просто трахаться, ты выбрала не того мужчину. Понятно? — Да, сэр. — Я подумал, что будет лучше, если я доведу это до твоего сознания. — Да, сэр! — Вот это я люблю — когда мне оказывают уважение! Лаки нырнула под черную шелковую простыню. — Сейчас я тебе окажу уважение! Она так страстно его любит! Это не просто секс, хотя и в этом смысле все идет как нельзя лучше. Главное — ей небезразлично, что он делает и что чувствует. Он будет принадлежать ей, а она — ему. Только так! После занятий любовью она улыбнулась счастливой, чуточку глуповатой улыбкой. — Когда мы всем скажем? Марко потянулся и закинул руки за голову. — Сначала скажу Елене. Нам было не очень-то хорошо вместе. Она… — Идиотка? — Не будь стервой. Нет… Просто она думает только о себе. Елена — красавица и… ужасная зануда! Куплю ей дом в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке — где пожелает! На это уйдет один-два месяца. Лаки встревожилась. — Один-два месяца? Я не могу столько ждать! Он разразился веселым смехом. — Ладно, сегодня же вылечу в Лос-Анджелес. Это тебя устраивает? — Меня устраиваешь ты. Как никто на свете! Прошел еще час, прежде чем он оделся и приготовился уходить. Они болтали, смеялись и дурачились, как маленькие. Марко покачал головой. — Просто не верится. Я знал, что это когда-нибудь случится, но что это будет так… — Как? — жадно потребовала она. — Ну… Господи, я не знаю. Мне сорок пять, а я словно только что начал что-то понимать в жизни. Ты сделала из меня дурачка. Лаки впилась в него жгучим поцелуем. Он мягко отстранил ее. — Мне пора. Нужно заняться отелем. Ты еще не забыла? — Выметайся! Уноси свой прекрасный зад! После ухода Марко на ее лице, как приклеенная, осталась улыбка, и не было такой силы, которая могла бы погасить ее. Лаки быстро облачилась в белые джинсы и тонкую шелковую блузку. Вокруг сияющих глаз легли бледные тени. Если это называется любовью, кому-нибудь следовало бы собрать ее в бутылочку. Он поимел бы бешеные деньги!* * *
Дарио сидел в ресторане «Патио», слегка ковыряя вилкой и время от времени отправляя в рот кусочки яичницы с беконом. Он прокручивал в памяти свое знакомство с Уоррисом Чартерсом. Сроду не встречал такого человека. — Что за сценарий? — спросил он после того, как представился. Уоррис злобно смотрел вслед уходившей Лаки. — Твоя сестра — та еще сучка, ты это знаешь? — Рад встретить единомышленника. После этого им было легко вместе. Уоррис решил, что раз Лаки отказывается, брат вполне может заменить ее. Он рассказал Дарио сюжет «В яблочко!» Поделился планами — либо поставить фильм, либо отказаться от постановки. Все будет зависеть от Джино. — Можешь устроить так, чтобы твой старик познакомился со сценарием? Интересно, за что он предпочтет заплатить? Дарио кивнул. Он не отрывал от Уорриса глаз. В его лице было что-то декадентское, что-то сексуальное, и горькое, и беспощадное… это задевало какие-то струны в его душе. Они проболтали целый вечер; Уоррис проявлял все больший интерес. Потом к ним подсели две проститутки с длинными волосами и недурными формами. Уоррис мигом перенес на них свое внимание. Он обнял ту, что пониже ростом. — Эта будет моя. Не возражаешь? Дарио ощутил укол ревности. Уоррис не догадывается… — Само собой. Когда ты покажешь мне сценарий? — Может, завтра? В это же время? — Я уже буду в Нью-Йорке. — Так скоро? — Мне здесь больше нечего делать. Наконец-то до Уорриса дошло! Их взгляды встретились. Уоррис удивился: как он мог быть таким слепцом? Он убрал руку и сказал девушке: — Извини, милая, не сегодня. У меня срочное дело. Она, ворча, увела подругу. Уоррис впился в Дарио взглядом. — Почему ты мне сразу не сказал? Того охватило волнение. — Почему?.. — Жалко, что мы не сразу поняли друг друга. — Но все-таки поняли! Уоррис наклонил голову в утвердительном жесте. Дарио улыбнулся, припоминая, что за этим последовало. Потом еще немного потыкал вилкой и посмотрел на входную дверь. Лаки сказала: «Позавтракаем вместе в «Патио». В десять часов утра. А сейчас уже пол-одиннадцатого и, однако, — ни слуху ни духу. Конечно, ведь это всего лишь он! Можно не церемониться! Он щелкнул пальцами, подзывая официантку. С него довольно. Он не один из ее холуев, готовых ходить на задних лапках. И потом, Уоррис сказал, что ему больше не придется клянчить свои же деньги. Есть другие способы. Официантка подала счет и улыбнулась. — Желаю хорошо провести время. Так оно и будет! Уоррис пригласил его немного погостить в Лос-Анджелесе. — Ты поможешь мне, а я — тебе. Вместе мы огребем кучу денег. Твоих денег! Понимаешь, Дарио? Они такие же твои, как и ее! Дарио вышел из ресторана. В половине двенадцатого они с Уоррисом договорились встретиться в аэропорту. Он не собирается опаздывать.* * *
Рудольфо Краун скорчился на заднем сиденье новенького «мерседеса», который мчал их по опустевшей автостраде. Его тянуло на рвоту, но не было сил сделать это. Сейчас бы стакан воды… кофе… чего угодно, лишь бы уничтожить этот мерзкий привкус желчи во рту. Ему с трудом удалось приподняться. От водителя его отделяла стеклянная зашторенная панель. Рудольфо застонал. У него ныла каждая косточка, но больше всего беспокоила тупая, пульсирующая боль в мошонке. Краун всегда считал себя жеребцом хоть куда. Если в этой сфере что-то будет не так… страшно подумать! Он закрыл глаза и снова застонал. Кто бы поверил, что такое может случиться? Близнецы Кассари. Сама вежливость. Являются к нему в офис и заводят сладкий треп насчет инвестиций. Пудрят ему мозги. Едут с ним в Вегас. Предлагают девочек на выбор. Он выбрал правильно. Брюнетку с ногами от подмышек. Только не успел попользоваться, вот беда. Близнецы Кассари. Да уж, они оправдали свою репутацию редких головорезов. Небольшая прогулка на автомобиле — и он уже умоляет дать ему подписать договор о продаже его пая в «Маджириано». Скулит, как раненое животное. Все документы были составлены заранее. Они заручились свидетелями, которые подтвердят, что он подписал бумаги по доброй воле, без малейшего /принуждения. Когда все было кончено, его опять впихнули в «мерседес». — Водитель отвезет тебя в Лос-Анджелес, — как ни в чем не бывало сказал Сальваторе. — Сядешь на самолет до Нью-Йорка. Только учти: никаких звонков! Только попробуй позвонить — и ты покойник. За кого они его принимают? За круглого идиота?* * *
Энцо Боннатти стоял в окружении свиты на крыльце отеля и ждал, пока все их чемоданы не перенесут в длинный сверкающий «линкольн». Их провожала Лаки. — Жалко, что вы не можете задержаться. Проделать такой длинный путь ради одной ночи! Это же просто смешно. — Когда тебе будет столько же лет, сколько мне, ты поймешь, что самое приятное в жизни — это твоя собственная хреновая кровать, извиняюсь за выражение. — Тебе было неудобно? Он разразился гортанным, скрипучим смехом. — Конечно, удобно. Ты позаботилась обо всем, что нужно. Две бутылки моей любимой минералки на ночной тумбочке и шоколад в холодильнике. Откуда тебе известны все эти мелочи? Лаки ответила счастливым смехом. — Это моя работа. Он расцеловал ее в обе щеки. — Славная девочка. — Я не девочка, Энцо. — А кто — старик? Для меня ты всегда будешь маленькой девочкой. Но прежде всего ты — Сантанджело, а это говорит о многом. Когда вернется Джино… — На следующей неделе я еду в Нью-Йорк, — перебила его Лаки. — Поужинаем вместе? Энцо улыбнулся. — Она еще спрашивает! Запомни, Лаки, ты — член семьи! — Я знаю. Спасибо, что приехал. Для меня это много значило. — Мне хотелось посмотреть своими глазами. — Ну и каково твое впечатление? — Ты победила! Все остальные отели перед этим — зачуханные ночлежки! — Он втиснулся в свой «линкольн». Лаки проводила автомобиль взглядом, и только тогда до нее дошло, что уже полдень. Столько работы! А она до сих пор палец о палец не ударила, только провела час с Энцо. Марко заскочил засвидетельствовать свое почтение. При виде его в ней поднялась теплая волна. Она любила его до боли. Почему нельзя всем рассказать о своей любви? Забраться к себе в кабинет и выкрикнуть в громкоговорители — пусть все слышат! Черт побери, Марко! Скажи скорее Елене, и я оповещу весь мир! Как к этому отнесется Джино? И почему, черт бы его побрал, он выбрал мне в мужья не Марко, а этого дегенерата Крейвена Ричмонда? Марко пожелал Энцо доброго пути и подмигнул Лаки. — Иду в «Мираж». Что, если нам вместе пообедать в «Патио» в два часа? — С удовольствием. — Ей стоило больших усилий говорить нейтральным тоном. Но, конечно, никого не обманула ее сияющая физиономия. — Лаки! — к ней на всех парах несся Скип, размахивая конвертом. — Я подумал, ты захочешь взглянуть на фотографии. Только что из лаборатории. — Я бы с удовольствием, но сегодня я и так ничего не успеваю. — А… — Он был разочарован. — Я надеялся, что мы пообедаем вместе, а потом я поделился бы с тобой кое-какими планами. Отклики в прессе… — Запиши свое сообщение и пришли мне вместе со снимками. Я на целых два часа опоздала на встречу с братом, и это еще самая незначительная из моих проблем. Она выбежала в вестибюль. За что хвататься в первую очередь? Искать Дарио? Если он ждал два часа, подождет еще минут двадцать. Прежде всего — увидеться с Костой. И еще — сказать пару теплых слов сотрудникам. Ответить на самые неотложные звонки. А хотелось ей только одного — провести остаток жизни в постели с Марко! — Мисс Сантанджело! Вызывают мисс Сантанджело! — раздалось из динамика. Лаки подошла к столику администратора и сняла трубку. — Да? — Лаки Сантанджело? — Кто говорит? — Один из твоих новых компаньонов. — Что-что? — То, что слышишь. — Кто это? — Я просто хотел, чтобы ты знала. — Что? Незнакомец дал отбой. Лаки швырнула трубку на рычаг и набросилась на перепуганного администратора: — Передайте, чтобы больше меня не беспокоили! Только если что-нибудь срочное. И пусть звонят в секретариат. Администратор восхищенно кивнул. — Да, мэм. Идиотский звонок. Администратор тоже дебил. — Соедините меня с Дарио Сантанджело. — Он выписался, мэм. — Когда? — Примерно полтора часа назад. — Вы уверены? — Я сам посылал счет. — О'кей, спасибо. — Если Дарио не удосужился подождать, это его личное дело. Она не станет гоняться за ним по всему Нью-Йорку. Она вспомнила Марко, вздрогнула и подумала: скорее бы два часа. Тогда они снова будут вместе.* * *
Близнецы Кассари праздновали свою победу. Шампанское лилось рекой. Тут же суетилась парочка проституток. Пока они предавались плотским наслаждениям, их боевики делали свое дело. Доля Рудольфо Крауна в «Маджириано» не могла их удовлетворить. Он не единственный член синдиката, кто готов поступиться своими правами. Отдача от капиталовложений не будет быстрой. Ничего, они подождут. Сальваторе стиснул пухлый зад лежавшей с ним проститутки. — Ну как? Нравится тебе, когда тебя трахает такой мужчина, как я? — Конечно, — заученно произнесла девушка. — Ты большой человек! Сальваторе бросил взгляд на женщину, лежавшую под его братом на второй кровати. — А тебе нравится? — О-о-о, да-а-а! Вы оба — настоящие секс-машины! Секс-машины! Он осклабился. Да уж, эти знают, как потрафить клиенту. День и ночь трудятся ради денег. Обычно он за такое не платил. Но сегодня — особенный случай. Сегодня девушки помогают им провернуть дельце. Послышался стук в дверь. — Обед заказывали? — Входите! Официант отпер дверь запасным ключом, вкатил столик и остолбенел. Сальваторе взял с тумбочки двадцатидолларовую бумажку и помахал ею в воздухе. — Не обращай внимания. Давай сюда счет. Официант многое повидал на своем веку, но такого он еще не видел. Ему не терпелось поскорее добраться до кухни и обо всем рассказать. Сальваторе украсил счет подписью с завитушкой. — Который час, приятель? — Два часа десять минут, сэр.* * *
Лаки закурила вторую сигарету. — Не похоже на Марко — опаздывать. Он сказал: в два часа, а сейчас уже двадцать минут третьего. Коста отхлебнул глоток горячего сладкого чаю и внимательно посмотрел на нее. — Утром я говорил по телефону с Джино. Она ответила отрешенно: — Да? — Рано или поздно тебе придется признать, что он — твой отец. Все, чего ты добилась, стало возможным потому… Лаки не слушала. И почему Коста постоянно старается испортить ей праздник? Носится со своим Джино… Она взглянула через весь зал — Буги возбужденно с кем-то беседовал. Она лениво наблюдала за ним — лишь бы не слушать Косту. Кажется, это служитель с автостоянки. Что он здесь делает? Этому нужно положить конец. — Рано или поздно, — гнул свою линию Коста, — приедет Джино, и тебе… Буги бегом бросился к ним, словно пантера. У Лаки мурашки побежали по спине. Что-то стряслось. Она вскочила с места. — В чем дело? Он был белее мела. — Снаружи была стрельба. — Стрельба? Что ты этим хочешь сказать? — В чем дело? — вторил ей Коста. Буги покачал головой. — Не знаю. Кого-то убили. Лаки, тебе нужно подняться наверх. Немедленно! — Он схватил ее за руку своей железной лапищей. Она попыталась вырваться. — Я не хочу… — Да. Отведи ее наверх, — приказал Коста. — Пойду узнаю, в чем дело. — Черт бы вас побрал! Я никуда не пойду! Пусти сейчас же! Буги метнул вопросительный взгляд на Косту. Тот едва заметно кивнул, и Буги отпустил ее. Лаки была в бешенстве. Что это Буги себе позволяет, в конце концов? Он на кого работает? — Пошли посмотрим, — сквозь зубы процедила она.* * *
Человек, лежащий на горячем асфальте, уже ничего не воспринимал. Говорят, будто в последний момент перед смертью люди вспоминают все свое прошлое. Не совсем так. Даже совсем не так. Всем его телом овладела боль. Беспощадная, слепящая боль от целых трех пуль…
Книга 3
Четверг, 14 июля 1977 г., Нью-Йорк
К тому времени, как Лаки достигла последнего лестничного пролета, она совсем выбилась из сил. Было еще только семь часов утра, но город уже начал превращаться в пекло. Она отчаянно нуждалась в душе. Лестница привела ее в подземный гараж. Лаки сразу же направилась к своему автомобилю, маленькому, сверкающему «мерседесу» цвета бронзы и, поставив вместительную сумку на капот, начала искать ключи. Она обшарила всю сумку — безрезультатно. Лаки пришла в ярость. Перевернув сумку вверх дном, она перебрала содержимое — ключей не было. Ни от квартиры, ни от автомобиля. Она вспомнила, что вот так же высыпала содержимое на пол в лифте, когда искала зажигалку. Идиотка! Должно быть, связка ключей так и осталась в лифте! Это уж слишком! — Черт побери! — Она пнула ногой колесо. Только что спустившийся Стивен на миг замер. — В чем дело? — Я оставила в лифте ключи. Вы можете себе такое представить? — Ничего себе! — «Ничего себе»! — раздраженно передразнила Лаки. — Я, конечно, сделала это нарочно, чтобы вынудить вас меня подвезти. Мы же еще недостаточно осточертели друг другу! Стивен вздохнул. — Будет вам… Она затолкала вещи обратно в сумку и пошла за ним к старому «шевроле». Стивен отпер дверцы, и она плюхнулась на пассажирское сиденье. — Включите кондиционер. Стивен сделал вид, будто не слышит, и завел мотор. — Включите кондиционер! — Не могу. Только после десяти минут езды. — Почему? — Иначе заглохнет двигатель. — Почему вы не купите себе новую машину? — Потому что меня устраивает эта. Вы что-нибудь имеете против? Он молча вывел машину из гаража. Улицы уже заполнились снующими в разные стороны пешеходами. — Где вы живете? Лаки зевнула, даже не удосужившись прикрыть рот. — В самом конце Шестьдесят пятой улицы, возле Парка. Но что толку ехать туда: я осталась и без ключей от квартиры, а прислуга приходит не раньше десяти. — Разве у привратника нет запасного ключа? Она отрицательно покачала головой. Стивен скривил губы. Он был сыт ею по горло. — В таком случае, куда? — А вы где живете? — А что? Лаки достала из пачки сигарету и прикурила от автомобильной зажигалки. — Господи! Я просто подумала: может, вы позволите мне переждать у вас до десяти? Забудьте об этом. Я не собираюсь причинять вам неприятности. — Ничего, — чопорно ответил Стивен, в то же время думая: почему она не хочет заехать к кому-нибудь из родных или знакомых? — Спасибо. Они молча доехали до дома, где он жил. Светофоры еще не работали, и пришлось ползти, как черепаха. Стивен вспомнил: у него сегодня уйма дел. Просто завал. Следствие по делу Боннатти достигло кульминации. Два года он копался в жизни этого человека — Энцо Боннатти, бывшего уличного хулигана, который со временем превратился в одного из заправил преступного мира. Проституция, порнография и наркотики. Не говоря уже о подкупе, вымогательстве и убийствах. Было непросто заставить людей давать показания. Страх был очень велик. Но, слава Богу, некоторых удалось уговорить. С помощью свидетелей они наконец-то разделаются с Боннатти. Стивен надежно спрятал этих свидетелей. Главное теперь — закончить оформление бумаг, и можно привлекать Боннатти к суду. Он аккуратно припарковал, машину перед кирпичным зданием на углу Пятьдесят восьмой улицы и Лексингтона, где он жил. Здесь почти никогда не было свободного места, но сегодня — раз в год выпадает такая удача! — оно нашлось, и Стивен счел это добрым предзнаменованием, что было особенно приятно после такой жуткой ночи. Лаки снова зевнула и потянулась. — Мы почти соседи. Я смотаюсь около десяти. Что он будет делать с ней целых три часа? И почему ему приходится разыгрывать рыцаря? Почему он не может посоветовать ей поискать другого дурака? Он вышел из машины и не успел обойти ее кругом, как Лаки уже выбралась без посторонней помощи, потянулась и пробормотала: — Есть хочется. А вам? Нет ли у вас чего-нибудь съедобного? Она что, ждет, что он приготовит ей завтрак? — Есть несколько яиц. Можете ими заняться. Она поднялась вслед за ним на крыльцо. — Я не умею готовить. — Даже яичницу? Лаки неопределенно пожала плечами. — У меня нет хозяйственной жилки. К тому же стоит мне взглянуть на продукты, как они… — Можете не говорить. Дом был разделен на четыре блока. Стивен занимал квартиру на первом этаже. Кэрри уговаривала его сменить обстановку, но ему нравилось так, как есть: темное дерево, обитые кожей диваны, массивный письменный стол, полки, забитые книгами, и, главное, огромный, с высокой точностью воспроизведения проигрыватель и впечатляющая коллекция пластинок — блюзов и «соул». Лаки огляделась. Это было не совсем то, что она ожидала. Она терялась в догадках насчет Стивена. Он определенно красив, а красивые мужчины обычно самоуверенны и высокомерны. Этот совсем другой. Казалось, он и не подозревает о своей неотразимости. Конечно, это не меняло того факта, что он несносен. Ей захотелось затащить его в постель. Может, там он оттает и покажет свою истинную сущность. Она чуть не расхохоталась вслух. Какой пассаж! Обычно парни так и липли к ней, как мухи, стоило заглянуть в какой-нибудь кабак. Можно было подумать, что на земле вот-вот не останется ни одной женщины и они торопятся урвать напоследок. Ей нравилась анонимность этих кабаков. Заходишь, «снимаешь» партнера — и даже не знаешь его имени. Никакой ответственности! — Садитесь! — неловко предложил Стивен. — Сейчас вскипячу воду для кофе. — У вас газ или электроплита? — Газ. — Слава Богу! — Да, — и он отправился на кухню. Лаки села на обитый кожей диван и подумала: «Жалко, что я не в форме — совсем вымоталась! Столько нужно сделать!» Она на мгновение закрыла глаза. Джино может нагрянуть в любой день… любую минуту!.. Я не хочу, чтобы со мной снова обращались, как с сопливой девчонкой! Папочка, не отнимай у меня все это! Пожалуйста! Она резко открыла глаза. Господи! С ума я, что ли, схожу? Никто! Никто ничего у меня не отнимет!.. В комнатувошел Стивен. Он успел снять пиджак и немного успокоиться. — Чайник вот-вот закипит. Присмотрите за ним, ладно? А я пока поставлю для вас пластинку и пойду приму душ. Лаки кивнула. У нее отяжелели веки. Господи, поспать бы! Хоть минуточку! Он быстро перебрал несколько альбомов и выбрал один, любимый. «Что происходит?» Мартина Гея. Классика. Поставив пластинку, Стивен поспешил в ванную. Скорее стащить с себя одежду и встать под изумительно холодный, возвращающий энергию душ! Лаки уже начала клевать носом, как вдруг до ее сознания дошли первые звуки песни. Мартин Гей, «Что происходит?» О Господи! Марко! Ночь их любви! Как они мечтали о будущем! Мартин Гей! Прежде чем Лаки успела их остановить, на нее нахлынули воспоминания. Марко! Она не разрешала себе думать о нем. Эти воспоминания были заперты в самом далеком уголке: она не осмеливалась наведываться туда. Он умер… ушел навсегда… Марко!.. Марко!.. Марко!.. Она снова услышала свои вопли. Увидела распростертое на черном асфальте тело. Вспомнила кровь, ручьями вытекающую из этого тела. Ее Марко! Ее любовь!.. А люди беспомощно толпились вокруг, глазели и переговаривались, как будто это еще один из аттракционов Лас-Вегаса. Откормленные бабы в гротескных пляжных сарафанах, их отпрыски с крысиными мордочками, их преуспевающие мужья… Кто-то нацелил на него фотоаппарат. Лаки разъяренным зверем набросилась на него, вцепилась в камеру, вырвала из его потных рук и шмякнула об асфальт, вопя: «Мразь! Мразь! Мразь!» Буги еле оттащил ее от ошарашенного туриста, и она рухнула на колени, приподняла голову Марко, прижала к себе. И все это время из него вытекала кровь. Медленно… неудержимо… безвозвратно… — Я люблю тебя, малыш! Люблю тебя! Люблю! — словно это заклинание могло вернуть его к жизни. — Он умер, Лаки, — мрачно сказал Коста. — Умер. — Отстань, мать твою! — заорала она с перекошенным от боли лицом. — Убирайся! Он выкарабкается! Все будет хорошо! Полиция и «скорая помощь» прибыли одновременно. — Нужно немедленно отвезти его в больницу! — кричала Лаки. — Прошу вас! Скорее! Дорога каждая минута! — Он мертв, мисс, — врач «скорой помощи» положил руку ей на плечо. Лаки гневно стряхнула ее. — Как вы можете так говорить? Вы еще ничем не попытались помочь! Лаки видела Марко таким, каким он был с ней этой ночью. Она не воспринимала инертное тело на асфальте, не замечала, что у него разбита половина лица — только кровь да кости. Не видела лужи крови под ним. Появился детектив в сопровождении нескольких копов. Он давал указания, взывал к толпе, чтобы расступилась, выкликал свидетелей. — Это кто такая? — спросил он. — Оттащите ее от жертвы и разберитесь, в чем дело. Молодой полицейский поспешил выполнить приказ. Когда он попытался оторвать Лаки от трупа, она так больно саданула его, что он отключился. Тогда вперед выступил Буги. Несмотря на обманчивую хрупкость, он был силен и тверд, как сталь. Он полуоттащил, полуотнес ее в отель. А потом все перемешалось. Лаки видела одно огромное, слепое пятно, в котором копошились чьи-то лица, фигуры, голоса. Она словно удалилась туда, где никто не мог ее потревожить. Удалилась в безымянный мир, где уже побывала однажды — после смерти матери. Через сутки она очнулась в частной клинике. Открыла глаза и грубо спросила: — Где это я? Какого черта? С кресла вскочила клевавшая носом сиделка. — О, мисс Сантанджело!.. Одну минуточку! — и опрометью кинулась из палаты. Лаки села и ощупала себя всю. Ей показалось, что она попала в аварию. Память вернула ее назад, к открытию «Маджириано». Энцо. Коста. Марко. Уоррис Чартерс. Дарио. Полный зал звезд… Ей припомнился весь этот чертов банкет, а потом — провал. В комнату вбежал врач. — Как я здесь оказалась? — требовательно спросила Лаки. — Я что, угодила в автокатастрофу? — У вас был нервный шок, мисс Сантанджело. Вам дали снотворное. Сейчас приедет мистер Зеннокотти, он вам все объяснит. Приехал Коста. Объяснил… И вот теперь, два года спустя, Мартин Гей и эта пластинка «Что происходит?» заставили ее заново пережить весь этот ужас. Лаки разрыдалась. Тогда она жаждала мести, но месть не принесла успокоения. Что толку — все равно с ней больше не будет Марко, ее Марко, к которому она всегда могла обратиться за помощью и советом. Марко, от которого так сильно зависела. Она добилась многого, но только ему было под силу управлять двумя отелями сразу. Конечно, Энцо Боннатти — просто чудо! Он лично подобрал двух самых лучших сотрудников на роль управляющих. Ко времени ее выписки из клиники они уже вкалывали вовсю. Это ее устраивало. Ей не хотелось задерживаться в этом городе азартных игр. Хотелось вернуться в Нью-Йорк. Лаки от всей души поблагодарила Энцо и попросила некоторое время присматривать за ходом дел. — Какой разговор! — откликнулся он. — Делай все, что тебе нужно, Лаки. Мои ребята со всем управятся. Мы огребем кучу денег! Он также счел своим кровным делом найти убийцу Марко. И через две недели известил ее. — Мы вышли на убийцу — гнусного недоноска, который затаил злобу после проигрыша. Завтра увидишь в утренних газетах. И Лаки прочла, что некий мистер Мортимер Сорис заживо сгорел в своем автомобиле — обыкновенный несчастный случай. — Эта сволочь подохла медленной, мучительной смертью, — сообщил Энцо. Он был неиссякаемым источником энергии. Вскоре после смерти Марко Лаки стали обуревать мрачные мысли о братьях Кассари и их угрозе прибрать к рукам «Маджириано». Энцо пообещал и об этом позаботиться. И уже через несколько недель уведомил ее: — Рудольфо Краун, оба Кассари и еще несколько пайщиков больше не являются таковыми — я выкупил весь отель. Лаки была довольна, но все еще не испытывала интереса к делам. Особенно в Лас-Вегасе. Ей не хотелось бывать в местах, связанных с Марко. Деньги от «Миража» продолжали регулярно поступать. Работала сеть курьеров, которые вывозили оттуда мешки денег в разные города, где эти деньги отмывались, легализировались, а затем вливались в одно из предприятий Сантанджело. Точно так же ручеек денег тек от «Маджириано», пока в один прекрасный день Энцо не вызвал Лаки в свой особняк на Лонг-Айленде. — У меня для тебя новость. Я занялся одной сделкой, которая в будущем сулит огромные деньги. Для этого мне понадобились доходы от «Маджириано». Ты мне доверяешь, малютка Лаки? — Вполне. Чего нельзя было сказать о Косте. Он сразу пришел в ярость. Когда дело касалось денег, Коста был склонен подозревать всех и каждого. По его мнению, Лаки подчас проявляла безответственность. Джино никому не доверил бы свои деньги, даже такому старому, испытанному другу, как Энцо. Лаки была слишком молода и не понимала, какой соблазн таит в себе каждый доллар. — А, брось! — отмахивалась она. — Это же Энцо! Он мне почти что отец. И ты станешь утверждать, что он способен обокрасть меня? И потом, он же не забирает эти деньги, а вкладывает. Мы сможем в любой момент получить их обратно. Без проблем! Мартин Гей… Песни… Воспоминания… Открывшаяся рана памяти. Господи! Она так любила Марко! Почему же запретила себе вспоминать о нем? Вернулся Стивен — в линялых джинсах «Леви» и хлопчатобумажной рубашке. Черные волосы влажны, ноги босы. — Вы выключили чайник? — он внимательно вгляделся в нее и забеспокоился. — Эй! Вы плохо себя чувствуете? Лаки перестала плакать. Она вдруг почувствовала облегчение, словно тяжкая ноша свалилась с плеч. — С какой стати? Прекрасно! — и потерла под глазами, чтобы стереть потекшую тушь. — Просто эта пластинка всколыхнула давно забытое… — Извините. Если бы я знал… — Дерьмо собачье! Откуда вам было знать? Вы всегда так чертовски вежливы? Только он начинал думать, что она не так уж плоха, как она откалывала какой-нибудь номер. Минуту назад она показалась ему брошенной, заблудившейся девочкой, и вот пожалуйста — перед ним снова стерва! Разбитная нью-йоркская бабенка. — Вы могли бы по крайней мере размяться и сварить кофе. — Я ваша гостья. — Непрошеная. Ее точно ураганом смело с дивана. — Если я причиняю лишние хлопоты… Не обращая на нее внимания, Стивен проследовал на кухню, где уже выкипела добрая половина воды. — Вам черный? С молоком? С сахаром? — Черный. Без сахара. Вы не возражаете, если я воспользуюсь ванной? Разумеется, он не возражал. — Валяйте. Лаки быстро нашла ванную. Здесь царил беспорядок. На полу — влажное полотенце. В раковине — волосы. Бритва, дезодорант и освежитель дыхания — вперемешку с зубной пастой и зубной щеткой. Лаки была довольна: хоть в чем-то он не Мистер Совершенство! Она затворила дверь, исследовала содержимое шкафчика и решила принять ванну. Почему бы и нет? Ведь он разрешил ей воспользоваться ванной — разве не так?* * *
Стивен отхлебнул глоток горячего кофе и снял телефонную трубку. Слишком рано звонить Кэрри или Эйлин. Зато Бобби — всегда пожалуйста! — Эй, приятель! — обрадовался тот. — В чем дело? Я полночи не мог до тебя дозвониться. — Вообрази — я застрял в лифте, когда возвращался из офиса Джерри! — Могу себе представить. Весь город поставлен на уши. Скорее позвони Эйлин, чтобы она не волновалась. Мне через каждый час приходилось ее успокаивать. — Она в порядке? — спросил Стивен. — Конечно. Авария застала ее в единственно подходящем месте — у себя дома. Улицы города превратились в джунгли. — Да. Послушай, Бобби, я только что вошел. Просто хотел сказать, что заеду к тебе в десять тридцать. Тогда и потолкуем. — Ты думаешь, сегодня подходящий день? — У нас все шансы на успех. Если и не сегодня, так завтра уж наверняка. — Не могу дождаться, когда мы наколем эту мразь. Мне все время кажется: его кто-нибудь предупредит, и он сбежит из города. Стивен оглянулся на дверь. — Боннатти никуда не денется. Решит, что его адвокаты снова, как много раз в прошлом, расшибутся в лепешку и дадут ему выйти сухим из воды. Мы возьмем его, Бобби, даже не сомневайся. — Да-да, я знаю, но все равно нервничаю. — Брось. Увидимся в пол-одиннадцатого. Стивен вернул трубку на место и допил кофе. В желудке заурчало, напоминая о том, что он давно ничего не ел. Провалиться ему сквозь землю, если он пальцем шевельнет ради этой Лаки — лучше и сам останется голодным. Да, но где же она? Сто лет прошло с тех пор, как она потопала в ванную. Черт, у него столько дел, а тут эта путается под ногами. Стивен взглянул на часы — половина восьмого. Время тащится, как черепаха. Он подошел к двери в ванную и громко постучал. — Что вы там делаете? — Принимаю ванну. Хотите составить компанию? Он поспешно отступил от двери. Ну и ротик! Вот бы поймать ее на слове! Как-то она отвертится? Стивен вошел в спальню и включил приемник. Последние новости. Последствия аварии поражают воображение. Около трех тысяч человек арестованы за мародерство. Поджигатели повеселились вовсю: в некоторых районах города пожары были столь сильны, что в Манхэттене не требовалось никакого электричества. Лаки усмехнулась, нежась в теплой воде. К ней полностью вернулись силы, и она рвалась в бой. Вопреки ожиданиям, мысли о Марко не вызвали депрессии. Наоборот, она испытывала некую эйфорию. Эти воспоминания доказали: она была способна любить, что-то чувствовать! На протяжении двух лет она якшалась с разными однодневками — красавчиками, которых ей больше не хотелось видеть. Голый секс. Никакой привязанности. Никаких чувств. Марко хотел для нее другого. Она начала строить планы на будущее. Джино вот-вот объявится с городе — значит, нужно спешить. Энцо по доброте душевной взвалил на себя все заботы в Вегасе, но теперь пора вернуть себе контроль над «Маджириано». Иначе Большой Папа наложит на него лапу — и с чем она останется? Соплячка. Эмоционально неуравновешенная курица. Коста был прав. Ей не следовало выпускать отель из рук. Но какие проблемы? Энцо все поймет. Она сама теперь будет собирать деньги. Коста произвел расчеты… Но, конечно, официальные данные — это только верхушка айсберга. Даже по самым скромным прикидкам, Боннатти должен им больше миллиона. И если отдача от ее капиталовложений так хороша, как он утверждает, этот миллион должен уже удвоиться. Неплохо, особенно если учесть, что она палец о палец не ударила. Энергия Лаки в эти два года в основном ушла на косметическую фирму. Ей нравилось изображать из себя магната, и она совершила переворот в этом деле. Пора возвращаться в Вегас. Вода в ванне остыла. Лаки вылезла и встряхнула мокрыми кудрями, на манер дворняжки. Единственное полотенце валялось на полу. Она приоткрыла дверь и высунула голову. — Эй! У тебя есть чистое полотенце?* * *
Стивен приготовил яичницу с ветчиной и горячие тосты с маслом. Завернувшись в полотенце, Лаки голодным зверем набросилась на еду. — Ты превосходный повар! Если останешься без работы… — Тогда что? Возьмете в услужение? — Фу! Ну до чего же ты упрямый! Ты всегда такой зажатый? Лаки взглянула на Стивена, лишний раз отметила, как он красив, и вдруг подумала, что еще никогда ни с кем столько не разговаривала. Может, закрутить любовь? Стивен поймал ее взгляд и постарался сосредоточиться на еде. — Тебе кто-нибудь говорил… — начала она. Зазвонил телефон. Стивен схватил трубку. — Да? Лаки наблюдала за ним во время разговора — очевидно, с девушкой. Прекрасный цвет лица — все равно как если бы он полтора месяца загорал на спине. Волосы даже чернее, чем у нее. Блестят и вьются. Немного удлиненные глаза. Кошачьи, цвета бутылочного стекла. Глубоко посаженные. Чувственные. Интересно, каково его происхождение? Тут явно не одна негритянская кровь. Он прикрыл трубку рукой и прошипел: — Почему бы вам не одеться? Лаки кивнула, но не двинулась с места. Если Стивен думает, что она влезет обратно в свои грязные шмотки, он очень ошибается. После того как он кончит разговаривать, она попросит одолжить ей что-нибудь из его гардероба. — Нет, дорогая, это просто радио, — заверил он незримую собеседницу. — Конечно, милая. Я перезвоню. — Он швырнул трубку на рычаг и язвительно сказал Лаки: — Спасибо за скромность! Лаки широко распахнула глаза. — Почему ты раньше не сказал? — Вот не думал, что о таких вещах нужно говорить по буквам. — Я не могу одеться. Моя одежда вся пропотела. Может, ты дашь мне что-нибудь свое, и я моментально оставлю тебя в покое. Могу посидеть около своего дома — я прекрасно понимаю, что тебе от меня одни неприятности. Им нетрудно манипулировать! Как только она начинала прибедняться, он мгновенно оттаивал. — Ладно, оставайтесь. — Но я не хочу тебе мешать. Глубокий вздох. — Вы не мешаете. — Отлично. — Она поднялась. Полотенце едва прикрывало интимные места. Стивен взглянул и поспешно отвел глаза в сторону. — Может, пошарим у тебя в шкафу? — невинным голосом осведомилась Лаки: от нее не укрылось его замешательство. — У меня нет ничего подходящего. — Я ведь не прошу костюм или платье. Какую-нибудь старую рубашку. Джинсы, которые можно закатать внизу, и ремень, чтобы они держались. Например, вот эта рубашка, которая сейчас на тебе, отлично подойдет. — Она усмехнулась. — Ну вот, я уже снимаю с тебя одежду. Он не смог не улыбнуться. Есть в ней что-то этакое… Только бы она поскорее оделась. Ее голое тело под полотенцем действовало возбуждающе. Господи! О чем он только думает? С тех пор как Эйлин наконец отдалась ему, у Стивена не было других женщин. Зачем еще кто-то, если есть подруга, которая вас устраивает? Они очутились в спальне. Он разыскал какие-то старые, севшие от стирки джинсы и шнур вместо пояса. Жалюзи в спальне были опущены. Жарко. Даже душно. Угнетающая атмосфера. — Теперь давай сюда рубашку, — скомандовала Лаки. — Пойду в ванную, оденусь. Он начал расстегивать пуговицы. Вот ведь чертовка! У него еще дюжина сорочек — подавай ей эту! Лаки приблизилась, чтобы взять ее, и вдруг они начали целоваться — сначала осторожно, а затем, когда оба поняли, что хотят одного и того же, — страстно. Стивен забыл об Эйлин. Забыл обо всем на свете, кроме этой прекрасной, непостижимой дикарки с черными опаловыми глазами. Он начал потихоньку теснить ее к кровати. Лаки было удивительно легко; она утратила чувство реальности. Столько всего случилось — и за такое короткое время! Воспоминания о Марко… а теперь это… Интуиция подсказывала ей, что Стивен — не на одну ночь. Она опустилась на кровать, но перед этим позволила полотенцу упасть на пол. Стивен сражался с молнией на брюках. Лаки протянула руку, чтобы помочь ему. Зазвонил телефон. Все равно что кто-то ворвался в спальню. Стивен обратился в камень. — Плюнь, — прошептала Лаки. — Не могу. — Он снял трубку. — Кто это? Полностью одетая, чтобы идти на службу в ООН, Эйлин произнесла: — Стивен, ты, наверное, очень занят. Хочешь, я забегу по дороге и приготовлю тебе завтрак? Ты, должно быть, после пережитого голоден, как волк? Стивену стало стыдно. Что он делает? Он вскочил с постели. — Я совсем не голоден. Тут уйма бумаг… — С тобой все в порядке? — Да. Конечно. Я просто переутомился. — Значит, сытный завтрак — как раз то, что тебе нужно. Сейчас забегу на рынок и через полчаса буду у тебя. — Она дала отбой, прежде чем он успел возразить. Лаки поняла: на сегодня все кончено, и перевернулась на живот. — Это твоя девушка? — Невеста. — Вот не думала, что еще существуют такие вещи. — Какие? — Ну, помолвка. Он дернул молнию на джинсах вверх и пошел к шкафу за другой рубашкой. — Она сейчас приедет. — Я слышала. — Мне очень жаль. — Правда? Интересно, он действительно жалеет или говорит из вежливости? Черт побери! Надо же было ей позвонить! Лаки слезла с кровати и завернулась в простыню. — Сейчас я оденусь и уйду с твоей дороги. — Постой, Лаки! — он подошел и обнял ее за плечи. — Не знаю, в чем тут дело, но… что-то случилось. Я хочу еще раз тебя увидеть. Можно? — Терпеть не могу мужчин, которые спрашивают разрешения! — она выхватила свою одежду и скрылась в ванной. Стивен нахмурился. Он не хотел осложнений в своей личной жизни и в то же время понимал, что должен увидеть ее еще раз. Может быть, потому, что терпеть не мог оставлять что-то незавершенным. Он прошел на кухню и приготовил две чашки кофе. Лаки вышла из ванной. — Нравится? — Да. — Пожалуй, я введу новую моду. — Почему бы и нет? — Назову ее «Большой Мешок». Стивен серьезно смотрел на девушку, пытаясь угадать, какие чувства скрываются за легкомысленным фасадом. — Вот. Выпей кофе. — Нет, спасибо. Вынуждена отказаться. У меня свидание в датской кондитерской. Прежде чем я доберусь до своей квартиры, наберу лишних пять фунтов веса. — Она подняла свою вместительную сумку от Гаччи. — Может, побросать сюда свои грязные шмотки и навсегда уйти из твоей жизни? Мне было… интересно. — Скажи мне свой номер телефона! — Зачем? — Хочу с тобой встретиться. Она засмеялась. — Боишься, что не верну твои рубашку и брюки? — Дай мне свой телефон! Лаки внимательно посмотрела на него. — У меня есть твой номер, я сама позвоню. Если ответит женский голос, обещаю положить трубку. — Как твоя фамилия? — Чтобы найти мой номер в телефонном справочнике? Напрасные хлопоты: он там не значится. Я позвоню. Честное слово. Стивен впился в нее многозначительным взглядом. — Я буду ждать. Серьезно! — Я знаю. После всего, что мы пережили вместе, — где уж тебе меня забыть?!* * *
Когда она наконец очутилась дома, у нее разрывался телефон. Проблемы в косметической фирме. Вышел из строя запасной генератор. Возникла паника. Она едва успела принять душ и сменить одежду, как примчался один из директоров и увез ее на фабрику. Лаки хотелось отдохнуть, позвонить Энцо, поспать… но когда она снова добралась до Дому, было уже пять часов вечера. Она совершенно вымоталась и смогла только грохнуться на неразобранную кровать и забыться сном. Ей снился Марко — что-то хорошее, а потом Стивен… и Джино… Тут она проснулась. Джино. Он возвращается, чтобы отобрать у нее все, что ей дорого. Господи! Нужно лететь в Вегас! Лаки взглянула на часы. Около семи. Она спала одетая. Пришлось переодеться и выпить холодного чаю. Потом она набрала номер телефона Энцо. — Его нет, — сказала горничная. — Он вернется поздно. Она попыталась связаться с Костой, но и его не оказалось дома. Позвонить Стивену? Слишком рано. Рано — для чего? Лаки передернула плечами и усмехнулась. Стивен — не лишь бы кто. Не хотелось бы потерять его. Вдруг зазвонил телефон, и она схватила трубку в надежде, что вернулся Энцо. Однако это оказался Буги Паттерсон, ее бывший шофер и телохранитель. Милый, неразговорчивый Буги, которого она не взяла с собой в Нью-Йорк, потому что он слишком напоминал ей о случившемся в Лас-Вегасе. Так что он остался там и при ее поддержке открыл небольшое собственное дело. Они редко виделись, но оставались друзьями. — Привет, Буги. Как ты? Что-нибудь случилось? — Лаки, мне нужно с тобой поговорить. — Ты очень кстати. Я как раз собиралась сама тебе звонить. Скоро приеду в Вегас — может быть, даже завтра. С удовольствием повидаюсь с тобой. — Ты едешь сюда? — в его голосе не было радости. — Конечно. Давно пора. — Не приезжай. — Что? — Я сам сейчас еду в аэропорт. Ты должна кое о чем узнать. Мне самому только что открылось. Она начала злиться. — Ну, что еще? — Лаки… Я знаю, ты не поверишь, но… Энцо Боннатти — совсем не такой друг, как ты считаешь. — Буги, что с тобой? Сбрендил? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? — Да, — бесстрастно ответил он. — Ты должна знать. Никакой Мортимер Сорис не убивал Марко. Боннатти сжег не того человека. И это еще не все. — Что? — выдохнула она, и по всему телу побежали мурашки. — Скоро увидимся. Больше я ничего не могу сказать по телефону. Приоткрылась банка с червями — жуткая вонища! Пока мы не переговорим, никому ни слова. Ни одной живой душе! Понимаешь? — Понимаю. Телеграфируй рейс, — и она в отупении положила трубку. Марко… Марко… Малыш, я отомщу за тебя! Кто бы это ни был, я отомщу! Обещаю тебе это!Четверг, 14 июля 1977 г., Нью-Йорк
Взнос в Департамент государственных сборов в размере шести миллионов позволил Джино Сантанджело вернуться в Америку. На законных основаниях. Правда, это была слишком долгая история. Нескончаемая. Переговоры весьма деликатного свойства. Они сводили Джино с ума, и он орал в трубку: «Заплати им — сколько бы ни потребовали! Отдай мерзавцам! Лишь бы мне вернуться!» Потребовали немало. И если бы дело было в одних деньгах! Но, слава Богу, они все еще кое-что значат. И вот он вернулся, и Коста ждет его в «Пьере». Двое старых друзей крепко обнялись. — Рад тебя видеть, старина! — воскликнул Джино. — Немного облысел, но все еще держишься молодцом! Коста расцвел. — А ты все такой же. Ни капельки не изменился. — С какой стати? Я еще заберу с собой на тот свет свои зубы, свои волосы… все свое. Коста кивнул. Да, Джино не изменился. Смуглый, загорелый. Густые черные волосы. Ни малейшего намека на брюшко. Коста невольно втянул живот. — Я бы пожевал чего-нибудь, — сказал Джино. — Закажи еду, а я пока переоденусь во что-нибудь поудобнее. — Он направился в спальню. — Пусть принесут огромный, сочный американский бифштекс и жареный картофель по-французски. Красное вино. Давай заказывай, я мигом. Коста пошел к телефону. Джино огляделся. Неплохо. А все-таки не свой дом. Теперь, когда он вернулся на родину, ему хотелось иметь собственный дом. Хватит с него отелей. Он уже не мальчик. Джино подумал о своем друге Косте. Он покривил душой: Коста выглядит неважно. Целиком тянет на свой возраст, если не больше. Серая, нездоровая кожа, мешки под глазами, во всем облике — усталость. Уезжая, Джино оставил все на него. Должно быть, ноша оказалась слишком тяжелой. Все семь лет своей ссылки Джино намеренно не вникал в то, что делалось в Америке. Он знал, что не вынесет, если что-то пойдет не так, а он будет не в состоянии повлиять на ход дел. «Сам решай, — наставлял он Косту. — Понадобится — обратись за советом к Энцо». Пока деньги продолжали поступать, он был доволен. Специальный курьер еженедельно клал их на один из его многочисленных счетов в швейцарских банках. Все шло как по маслу. После убийства Марко поток денег иссяк. Наступили черные дни. Положение хуже некуда: он в чужой стране, связан по рукам и ногам, только и может, что беситься от ярости и от своей беспомощности. Он любил Марко, как родного сына… как родного сына! Но не смог предотвратить непоправимое. Он тотчас связался с Энцо. Потребовал отмщения. Через несколько дней поступила информация: справедливость восторжествовала. Деньги снова потекли рекой. Джино почувствовал: он в неоплатном долгу у Боннатти. Конечно, даже в Израиль просачивались слухи о Лаки. Джино знал: она стала важной персоной в его деловой империи, только не знал — насколько важной. Он моментально переоделся, сменив черный костюм на кашемировый свитер и удобные брюки. Чем скорее он войдет в курс дела, тем лучше. У него чешутся руки.* * *
Сэл разглядывала фигуру спящего Дарио. Красавчик, ничего не скажешь: светлые волосы, правильные черты лица. Симпатичный и может сослужить ей хорошую службу. Какого черта таскать каштаны из огня для других? С тех пор как она дала ему пару голубых капсул, гарантирующих ровно двенадцать часов беспробудного сна, Сэл трудилась не покладая рук. Первым делом освободила его квартиру от налетчика: взвалила его на плечи, словно куль с мукой, и спустилась по служебной лестнице. В подземном гараже она швырнула его на заднее сиденье своего старенького «крайслера» и накрыла одеялом. Короткое замыкание облегчило ей задачу: все были заняты своими делами. Она отъехала за пятнадцать кварталов и вывалила его на аллею. Затем вернулась за Дарио. Навела порядок в квартире и точно так же взвалила его на плечи. У Сэл хватило бы силенок на двоих мужиков. Когда она сбросила Дарио на заднее сиденье, то только чуточку запыхалась. По дороге в «Квинз» она тихонько мурлыкала какую-то песенку. Рут уже встала и ждала ее. Роскошная девка, бывшая шоу-герл, бывшая проститутка, которой облили кислотой половину лица, так что теперь на нее ни один мужчина не позарится. Да и нужны ли ей мужчины, когда рядом Сэл! — Все в порядке, дорогая? — тревожно спросила Рут. — Просто замечательно. — Сэл нежно поцеловала обожженную щеку подруги. — У нас гость. Постели ему, а я пока посвящу тебя в суть заговора. Они вместе раздели Дарио и уложили в постель. — Кто он такой? — прошептала Рут. Сэл смерила спящего нежным взглядом. — Если все пойдет, как задумано, он — наш домик в Аризоне. В противном Случае — покойник.* * *
Наконец-то Эллиот Беркли ушел на службу. — Я хочу, чтобы ты хорошенько подумала о том, чтобы съездить куда-нибудь отдохнуть, — напомнил он жене перед уходом. — Хорошо, — без особого энтузиазма отозвалась Кэрри. Нет. Это невозможно. Не раньше, чем я узнаю, кто меня шантажирует, и не возьму ситуацию в свои руки. Весь день она нервно вышагивала по квартире, подскакивая каждый раз, когда звонил телефон. Позвонил Стивен. Она отвечала телеграфным стилем и даже не рассказала о своем приключении. — Я позвоню завтра. — До него наконец дошло, что она не в настроении разговаривать. — Возможно, смогу сообщить неплохие новости о моем расследовании. — Э… замечательно. До завтра, — и бросила трубку. Нельзя занимать линию. Телефон тотчас задребезжал снова. Кэрри схватила трубку. — Как насчет того, чтобы хорошенько подзарядиться? — пропел кто-то. — О, Джерри! Что тебе нужно? — Что мне нужно? Ничего себе приветствие! Мне нужно… Кэрри не слышала. Милый Джерри. Милый, милый Джерри! Его пылкая страсть не потускнела с годами. Однако… — Джерри, я сейчас очень занята. Можно я перезвоню тебе? — Когда? — Скоро. — Обещаешь? — Обещаю. Джерри был не лишен собственнического чувства, как настоящий любовник. Он обращался с ней, как с принцессой, кем, согласно легенде, она и являлась. Громадная разница в возрасте его ничуть не смущала. Ей позвонили в пять часов. Из телефона-автомата. У нее бешено стучало сердце. — Кэрри Беркли на проводе. Кто говорит? — Завтра в полдень. На том же месте, — прошелестел приглушенный голос. — Минуточку! — начала она, но в аппарате раздался щелчок, и Кэрри осталась стоять с безмолвной трубкой в руке.* * *
Закадычные друзья никак не могли наговориться. Сначала Коста рассказывал не особенно охотно, но потом разошелся. Джино не перебивал, а сидел, внимательно смотрел и слушал, вновь и вновь отмечая про себя, до чего же Коста сдал. Мало того — впал в старческий маразм. Слушаешь — и не веришь своим ушам! А услышал он историю восхождения Лаки к вершинам власти. Просто невероятно, что маленькая дикарка, какой он ее оставил в тысяча девятьсот семидесятом году, превратилась в расчетливую, несгибаемую, умную деловую женщину, которая взяла дело в свои руки и великолепно справилась, насколько он мог судить. Послушать Косту, так она может ходить по воде, аки посуху. Коста с гордостью поведал о ее борьбе за «Маджириано». А дальше — гибель Марко, деловая и моральная поддержка Энцо Боннатти… — Должен ли я понимать это так, — недоверчиво проговорил Джино, — что мы уже около года ничего не получаем от «Маджириано» — ни единого цента? Коста смешался. — Я же тебе объяснил. После убийства Марко Лаки было тяжело оставаться в Вегасе. Вот Боннатти и взял бразды правления в свои руки. Временная уступка. А тут подвернулся случай выгодно поместить капитал… Теперь, когда ты здесь… — Да уж, я здесь, мать твою! Иисусе Христе! Коста! Я говорил тебе обращаться к Энцо в экстренных случаях за советом. Но я не просил тебя преподнести ему все на тарелочке! Ты же его знаешь — шлюхи да наркотики. На черта нам такие связи в моих отелях! — Мы все уладим — нет проблем. Энцо в любую минуту все вернет. — Дашь голову на отсечение? Рискнешь деньгами? Ты даже не удосужился расставить там своих людей! Не приподнял свою задницу, чтобы сохранить контроль! Ни ты, ни моя драгоценная доченька! А Дарио? Ты до сих пор ничего не сказал о нем. Коста скорбно пожал плечами. — Он не интересуется бизнесом. — Это еще как понимать? Коста вытер чистым белым платком пот со лба. — Кажется, Дарио нуждается в помощи. — Помощи? Что ты мелешь? — У него… проблемы с сексом. — Какие еще проблемы? — Джино резко расхохотался. — Слишком много трахается, да? С каких пор это стало считаться проблемой? Коста поежился. Как он надеялся, что не ему придется открыть Джино глаза на пристрастия Дарио! Но друг должен знать правду. — Дарио… э… ему нравятся мальчики. — Мальчики? — Джино наморщил лоб и побагровел. — Мальчики! Ты хочешь сказать, что мой сын — гомик? Коста с несчастным видом кивнул. — Невероятно! — К сожалению, это так. Джино вскочил с кресла и заметался по комнате, яростно вбивая кулак одной руки в ладонь другой. — Итак, ты всего-навсего сообщаешь мне, что вместо сына у меня гнусный гомик, а у дочери железные яйца между ног? И мой отель — уже не мой? Так? — Я не говорил, что Лаки… Она способная деловая женщина, ты можешь ею гордиться. Она — вылитая твоя копия. Без нее «Маджириано» ни за что бы не построили. Теперь, когда вы снова вместе… — Где Дарио? — ледяным голосом спросил Джино. Коста совсем забыл о Дарио, его паническом звонке. Но к этому времени Сэл, должно быть, уже обо всем позаботилась. — Здесь, в городе. У него квартира в доме у реки. Устроить вам встречу? — Не надо ничего устраивать. Дай мне его адрес, я сам с ним разберусь. Коста пожал плечами. Не хотел бы он быть на месте Дарио! Но кто-то же должен вразумить парня! Если Джино узнает о порнофильме, в котором он снялся… Слава Богу, Лаки об этом позаботилась. Это влетело в копеечку. Коста еще не видел ее в таком гневе, но она все-таки замяла дело. Сказать Джино? Все равно узнает от других… Нет, не сейчас. Он еще не готов узнать о кинематографической карьере сына. — А где Лаки? — У нее своя квартира. На Шестьдесят первой улице, близ Парка. — Почему она живет не в моей квартире? — Ее продали шесть лет тому назад. У меня есть пара агентов — на случай, если тебе понадобится подыскать жилье. Глаза Джино помертвели. — Но она не продала дом в Ист-Хэмптоне? — Нет, конечно. — Там ничего не трогали? — Абсолютно. — Коста вспомнил жаркие баталии из-за этого с Лаки. Она собиралась продать дом, но Коста стоял насмерть. — Может, я там и поселюсь, — неожиданно заявил Джино. — Я уже привык жить в своем доме. — Замечательная мысль! — обрадовался Коста. Слава Богу, Джино перестал орать и возмущаться. — Конечно, необходим ремонт… — Подумаешь! Завтра сгоняю туда, посмотрю, что да как. Дашь мне хорошего водителя? — Самого лучшего. Он работал на самого Витторио в Чикаго. Год назад перебрался сюда. Энцо лично рекомендовал его. — Ха! — Он очень рад твоему возвращению. Джино вперил задумчивый взгляд в пространство. — Рад… Могу себе представить! — Энцо в любой момент готов встретиться с тобой. Через две недели, через месяц — как только ты очухаешься. Он понимает, что тебе нужно прийти в себя, привыкнуть к переменам. Он… — Да что с тобой такое? — взревел Джино. — Старческий маразм или что? Я уже вернулся. И мне не нравится, как идут дела. Настаиваю на встрече с Энцо — завтра же! А когда я пойму, что у него на уме, тогда уж я поговорю с Лаки и Дарио. Они знают, что я в городе? Коста снова вытер пот со лба. — Я подумал, лучше будет им не говорить, пока ты точно не приедешь. Сейчас из-за аварии в городе настоящий бардак. Я их не видел со вчерашнего дня. — О'кей. Не говори им до поры до времени. Пусть это будет сюрпризом. Коста растерянно кивнул. Ему еще ни разу не удалось скрыть что-нибудь от Лаки. — Я устал, — подытожил Джино. — И хочу отоспаться. — Конечно, конечно, — забормотал Коста, видя, как его друг мечется по комнате, точно лев в клетке. — Договорись о встрече с Боннатти. Завтра. Никаких отговорок. — Я уверен, он будет только рад… — Ага. Там увидим. — Джино посмотрел в окно. — Странное чувство, когда возвращаешься домой… — Сначала будет казаться… — начал Коста. — Вздор! Завтра же я буду в форме, словно и не уезжал! Коста не спорил. — Значит, на сегодня все? — Все. Для одного дня вполне достаточно. Да. Теперь нужны не слова, а поступки. — Иди домой, Коста. — Хорошо. А то я тоже устал. Если понадобится — Руссо в соседней комнате. — Знаю, знаю. Руссо был телохранителем, также назначенным Энцо. Старая рать разбежалась. Кто умер, кто ушел в отставку. Руссо — не то что ребята старой закалки. Ему всего двадцать с небольшим. Умен и щеголеват. Посмотришь на него: кажется, и мухи не обидит. Джино проводил Косту до двери. — Не обижайся. Я знаю, ты сделал все, что мог. Коста поспешил удалиться. Было уже полвосьмого, ему предстоял серьезный разговор с Лаки. Когда она узнает, что отец в городе… Этим двоим придется приспосабливаться друг к другу. Джино проводил его взглядом и, закурив сигару, стал мерить комнату шагами. Почему этот идиот до сих пор не поставил его в известность о Лаки и Дарио? Какого черта ждал? Он вспомнил собственные инструкции: «Не посвящай меня ни в какие трудности. Только помоги вернуться!» Черт! Что-то не так — он это чувствует. Но что? Время покажет. Сейчас главное — приглядеться и прислушаться. Максимум осторожности. Да, кстати… Он позвонил в справочную, а затем — по номеру, который ему там дали. Через час у него уже были свои шофер и телохранитель. Не то чтобы он не доверял Энцо. Но правило номер один гласило: окружай себя только людьми, преданными тебе лично — и никому другому. За годы изгнания его интуиция ни чуточки не притупилась. Он был как никогда хитер и бодр. Семь лет на одном месте! Но вообще в Израиле было неплохо: прекрасный дом, море, пляж, собаки, случайные подруги — когда ему этого хотелось. На третьем году ссылки он встретил женщину. Не молоденькую. Сорок с небольшим. Зачем мужчине в его возрасте молоденькие? Его уже тошнит от их сюсюканья и всевозможных глупостей. Эта женщина была привлекательной вдовой с зачесанными вверх светлыми волосами и ясными голубыми глазами. Узнав, что она еврейка, Джино очень удивился. Совсем не похожа! Как правило, израильтянки отличались пышными формами, но темноволосые были не в его вкусе. Джино предпочитал белокожих блондинок. Розалина Глютцман была блондинкой и, кроме того, превосходной поварихой. Она также умела слушать и была хороша в постели — находка для мужчины, который больше не горит проделывать это десять раз за ночь. Он предложил ей переехать к нему, где она и оставалась до самого его отъезда. Он не предложил ей поехать с ним в Нью-Йорк. Она тоже не заикнулась. Расстались, как культурные люди. Он подарил ей длинную норковую шубу. Конец эпизода. Теперь Джино жалел, что ее нет рядом. Только Розалине он мог рассказать о Лаки и Дарио. Дети! Двое незнакомцев. Лаки — какая она теперь? Судя по тому, что говорят, она как две капли воды похожа на него. Хорошо это или плохо? Он помнил ее маленькой девочкой, упрямой дикаркой. Чертовски смышленой. Гораздо сообразительнее Дарио. Лицо Джино потемнело от гнева. Его сын — гомосексуалист? Здесь какая-то ошибка. Что-то ввело Косту в заблуждение. Раздевшись до трусов, он повалился на кровать. В спальне было душно, несмотря на то, что кондиционер снова начал работать. Что задумал Боннатти? По слухам, он спутался с близнецами Кассари. А ведь Энцо знал, как он к ним относится. Ну так что? Пока Джино был далеко, ему противостояли только девчонка и старый маразматик — пардон, Коста, это сущая правда. Завладеть «Маджириано» было как нечего делать. Особенно после гибели Марко. Подлинной проверкой его дружбы и преданности станет, насколько легко Энцо выпустит из рук контроль над двумя отелями в Вегасе. Коста думает, что все так просто. А вот Джино не уверен. Он нутром чует беду. Интуиция его еще никогда не обманывала. Джино закрыл глаза и в мыслях вернулся к детям. Они марионетками плясали у него в мозгу до тех пор, пока его не сморил сон. Не слишком спокойный.Пятница, 15 июля 1977 г., Нью-Йорк, утро
Лаки плохо спала, просыпаясь через каждый час, чтобы посмотреть на часы. Коста позвонил сразу после Буги, но она не стала слушать: «Завтра. Сегодня меня не беспокой». Он не настаивал: почувствовал — ей не до этого. Проснувшись рано утром, она решила съездить в аэропорт, встретить Буги. Неизвестность сводила ее с ума. Она позвонила привратнику, чтобы вызвал такси, и отправилась туда, где вчера оставила свой «мерседес». Открывая запасным ключом дверцу, заметила на лобовом стекле записку: «Даю тебе три дня, после этого я узнаю по номеру машины твои координаты и сам позвоню. Стивен». Лаки не могла не улыбнуться. Он специально проделал весь этот путь, чтобы оставить записку. Она позвонит… обязательно… как только узнает, что там у Буги.* * *
Джино поднялся в шесть часов. До семи он успел одеться и позавтракать, а затем позвонил Косте. — Ну? Во сколько встречаемся с Боннатти? — Энцо предлагает в час. Ресторан в Бруклине — он туда часто наведывается. У них там небольшой садик — он считает, тебе понравится. — Чем плохо у «Риккадди»? — Ничем не плохо, — нервно ответил Коста. — Если ты предпочитаешь встретиться там, я переговорю с Энцо. — Отлично. В два у «Риккадди». Пока!* * *
Дарио никак не мог разлепить отяжелевшие веки. Он услышал, как на улице сгребают мусор и переговариваются дети, идущие в школу, — значит, еще раннее утро. Это не его квартира. Где он? Он снова провалился в сон. Внизу, на кухне, Сэл нежно поцеловала Рут в щеку и спросила: — Так ты поняла, что нужно делать? Та кивнула и оправила платье. — Да, конечно. — Хорошо. — Сэл скрестила два пальца на счастье. — Тогда действуй.* * *
Кэрри встала раньше Эллиота — редкий случай, но за последние дни это было уже второй раз подряд. Она облачилась в будничный брючный костюм — без всяких украшений. Расчесала блестящие черные волосы и завязала узлом на затылке. В восемь она была уже готова. — Кэрри, — остановил ее Эллиот. — Куда ты собралась? — В новый спортивный зал — отличное местечко! — Мы сегодня уезжаем, а ты — в спортивный зал? Она безуспешно растягивала губы в улыбке. — К обеду вернусь. Муж раздраженно фыркнул. — Не представляю, что с тобой творится. После аварии… — Ничего не творится. Я просто забочусь о своем здоровье. — Я забронировал два билета на Багамы. Будь готова вечером уехать. Она покорно кивнула. Возможно. Только «возможно». — На чем ты добираешься до спортзала? — послышался сзади голос мужа, когда она уже была у двери. Кэрри замерла. — Обычно хожу пешком. Тут всего несколько кварталов. — Где это? — О… совсем рядом, — туманно ответила она и выскользнула из квартиры. На улице Кэрри перевела дух и заторопилась в метро. Нервы были на пределе. Чем скорее она покончит с этим делом, тем лучше.* * *
Обычно Стивен вставал в половине седьмого. Изо дня в день повторялась одна и та же последовательность действий. Ледяной душ. Полчаса на гимнастику. Затем — свежий апельсиновый сок, пшеничные хлопья, отруби, мед, горячий кофе — и можно браться за работу. Сегодня он готов схватиться с Энцо Боннатти. Наконец-то даст ход документам. После двух лет кропотливой, изнурительной работы он близок к кульминации — это и бодрило, и немного пугало Стивена. Бодрило потому, что вселяло надежду: такой мерзавец, как Боннатти, проведет остаток своих дней за решеткой. А пугало потому, что он чувствовал: всякое ещеможет случиться. Он закончил одеваться и позволил себе одну-две мысли о своей собственной жизни. Эйлин давно стала частью этой жизни. Умная, целеустремленная, привлекательная. Из нее выйдет идеальная жена. Одна ночь в лифте со странной девушкой по имени Лаки — и он понял, что Эйлин не для него. Он больше не хочет пройти с ней рядом весь свой жизненный путь, это ясно. Стивен глубоко вздохнул. Как ей сказать об этом? Вот в чем загвоздка.* * *
Энцо Боннатти проснулся с тяжелой после вчерашней попойки головой и горечью во рту; все тело ломило. Зато повеселились на полную катушку! Море красного вина и толпы сладострастных блондинок, готовых ублажать его всеми возможными способами. Бабы! Все они — шлюхи. Путаны! Он всегда это знал. Но в семидесятые они как с цепи сорвались: просто упиваются траханьем, с наслаждением сосут и все такое прочее. Он еще помнил времена — не столь давние, — когда только проститутки занимались извращениями, а теперь все бабы помешались на сексе и нисколечко этого не скрывают. Из-за этого — никакого удовольствия. В будущем, решил Энцо, он будет настаивать на том, чтобы к нему приводили более скромных, а то и вовсе девственниц — если такие еще остались. Он снял спальную маску и, как обычно по утрам, закашлялся. Когда приступ прошел, нажал на кнопку возле кровати, вызывая Большого Виктора — тот уже тридцать пять лет был его телохранителем. Впереди напряженный день. Вернулся Джино Сантанджело. Значит, будет невпроворот работы.* * *
Лаки смотрела, как садится самолет с Буги. Нетерпеливо подождала, пока он сам не появился в зале ожидания. Он совсем не изменился. Все тот же Буги — тощий, длинноволосый, в тесных джинсах и потрепанной армейской куртке. Лаки подбежала и обняла его, несказанно удивив таким порывом. Буги не привык к откровенным проявлениям чувств. Он повел по сторонам внимательным взглядом. — Кому еще известно о моем приезде? — Ты же просил не распространяться. И потом — честное слово, Буги, кому до этого дело? Давай выкладывай. Он ухватил ее за руку своей цепкой клешней. — Чем скорее мы потолкуем, тем скорее ты поумнеешь. — Тогда идем. Мой автомобиль ждет совсем рядышком. Можем поговорить по дороге в город. — Я сяду за руль. Когда ты услышишь то, что я хочу сообщить, тебя хватит удар. Лаки, тебя держали за круглую идиотку. Он попал в яблочко! В ее глазах вспыхнул мертвенный огонь; в голосе появились язвительные нотки. — Валяй, Буги. Я умираю от нетерпения.* * *
Утренние газеты сообщили о возвращении Джино в Америку. Однако на сей раз не было аршинных заголовков — так, небольшая заметка на какой-нибудь третьей странице. Джино прочел и с отвращением скомкал «Нью-Йорк таймс». Теперь черта с два устроишь сюрприз Лаки и Дарио. Он позвонил Косте и велел устроить ему после обеда встречу с детьми. Дети! Ирония судьбы! Гомик и шлюха. Однако, несмотря ни на что, мысль о скором свидании с ними привела его в большее волнение, чем он смел себе признаться. Лаки и Дарио. Плоды его брака с нежной, прекрасной Марией. Боль утраты не притупилась до сих пор. Ее смерть будет бередить душу до тех пор, пока он не соединится с ней. Добрая, деликатная Мария. Почему Лаки не пошла в мать? Он все утро торчал на телефоне, возобновляя старые связи, сообщая, кому нужно, о своем приезде — насовсем. Слушал, жадно впитывая новости, сплетни, точную информацию. Когда пришло время отправляться на встречу с Энцо, он еще больше укрепился в подозрении, что тот не отдаст отели в Лас-Вегасе без драки. Что ж, если он хочет драки, он ее получит. Джино принял меры для укрепления своей позиции, и если Энцо не совсем отшибло мозги, он не пойдет на открытую конфронтацию. Джино Сантанджело — прирожденный победитель. Это — непреложный закон жизни.* * *
На этот раз Кэрри не привлекала посторонних взглядов. Обыкновенная негритянка в негритянском квартале. Никаких украшений — только солнечные очки в белой оправе стоимостью в сто долларов. Подземка оказалась сущим адом. Грязь, вонь, скученность. Сколько лет Кэрри ею не пользовалась? Достаточно, чтобы почувствовать огромную разницу между образом жизни ее и темнокожего со средним достатком. Тебе повезло, Кэрри, сказала она себе. Для тебя осуществилась американская мечта. У тебя есть деньги, стиль, положение в обществе. Но ты — подделка. Твоя жизнь построена на лжи. До полудня оставалось еще много времени. Чтобы скоротать время, Кэрри зашла в бар, села на табурет возле стойки, заказала кофе. — Опять парит, — заметила костлявая барменша, почесывая у себя под мышкой. — День будет жарче, чем в пасти у Мохаммеда Али, — и она захрюкала, довольная своей шуткой. — Я от него тащусь. Кэрри натянуто улыбнулась. Еще целых три часа ожидания.* * *
Уоррис Чартерс разминулся с Лаки Сантанджело в аэропорту Кеннеди на каких-нибудь полчаса. Он прилетел ранним рейсом из Лос-Анджелеса в отличном настроении. Утренние газеты сообщили о возвращении Джино Сантанджело, так что момент был исключительно удачный. Уоррис усмехнулся про себя. Он проделал грандиозную работу, но она близилась к завершению: «В яблочко!» можно запускать в производство. При этом он ничем не обязан Джино Сантанджело, хотя неохотно признавал, что Джино имеет к фильму косвенное отношение. Перед мысленным взором Уорриса прошла вереница картин недавнего прошлого. Красавчик-блондин с ненасытным сексуальным аппетитом, который оказался абсолютно беспомощным в переговорах с отцом о сценарии. Ревнивый, ненадежный, непредсказуемый. О Господи! Уоррису хватило на своем веку баб с подобными качествами. Поселившись с ним вместе — вопреки его воле, — Дарио превратился в Мистера Собственника. На черта Уоррису такие отношения, тем более что у него не было материального интереса?! Единственным, что было в Дарио от Сантанджело, — это фамилия. Джино и Лаки — вот у кого власть и деньги. Уоррису не потребовалось много времени, чтобы убедиться в этом. Когда Уоррис понял, что связь с Дарио не сулит никаких выгод, он заставил парня работать. Тот пришел в восторг. Дарио Сантанджело превратился в Дэвида Дирка, порнозвезду первой величины. Вот для чего он родился на свет! Единственным недостатком было то, что его не вдохновляли партнерши — подавай ему партнеров! — Тебя трудно снимать, — сетовал Уоррис. — Главный доход — от гетеросексуальных картин. — Тогда напиши для меня специальный сценарий, — беспечно сказал Дарио. Неплохая мысль! Уоррис так и поступил. Он назвал фильм «Морской ковбой», и тот сразу произвел фурор среди соответствующей публики. За Дарио — улучшенный вариант Роберта Редфорда — увивались гомосексуалисты от Западного до Восточного побережья. Почта мешками таскала письма фанатов на студию в Пасадене. Дарио (Дэвид) добился своего — стал королем порно. Но карьера внезапно оборвалась. Однажды утром в квартиру на Марина дель Рой, где обитали Уоррис с Дарио, нагрянули двое — из тех, с кем лучше не спорить. Так что, когда они сказали, что мистер Боннатти требует их к себе — и немедленно! — ни один не стал протестовать. Послушные, как два щенка только что из собачьей школы, они последовали за двумя головорезами в Лас-Вегас, где их принял небезызвестный Энцо Боннатти в своих фешенебельных апартаментах под крышей «Маджириано». Он не тратил слов понапрасну. Дарио он сказал: — Сейчас же уноси свою затраханную задницу в Нью-Йорк и держи ее там. Еще раз увижу твою рожу в порнухе — останешься вообще без рожи. Ясно? Яснее некуда. Дарио как ветром сдуло — даже не попрощался. — Эй, ты, — обратился затем Энцо к Уоррису. — Знаешь, кто я такой? — Мистер Боннатти, — спокойно ответил Уоррис, — я всю жизнь восхищаюсь вами. Энцо хмыкнул. — Значит, я могу понять это так, что с тобой больше не будет проблем? Уоррис воздел руки к потолку. — Мистер Боннатти, если вам что-нибудь нужно, только скажите. — Пристала ко мне сестрица этого педика. Вынь да положь ей эту ленту: и негатив, и все копии, и никаких отговорок, иначе она отправит тебя трахать кактусы в пустыне. Смекаешь? Уоррис с серьезным видом кивнул. — Разумеется, я потребую возмещения убытков. Энцо захохотал. — Ага. У тебя губа не дура. Сам поставил эту муру? — Сам написал сценарий, сам выступил в роли режиссера. «Эта мура» служит очищению нравов, как вам известно. — Да-да, знаю. — Энцо задумчиво поковырял в носу. — Может, ты и для меня поставишь картину? Побольше титек, задниц, призывно раздвинутых ножек… схватываешь? Уоррис схватывал. — Естественно, за мой счет. Сколько? — После «Морского ковбоя» у меня нет недостатка в спонсорах. — Сколько? — взревел Энцо. — Хватит пудрить мне мозги! Выкладывай! У Уорриса блеснули глаза. — Я давно хочу поставить легальную картину — сценарий называется «В яблочко!». Уверен: когда вы с ним хорошенько познакомитесь, он вас заинтересует. Этот разговор состоялся четыре месяца назад. Все это время Уоррис вкалывал, как никогда в жизни. Мысль о том, чтобы поставить фильм-биографию Джино Сантанджело, привела Энцо в восторг. Но он настаивал на кое-каких незначительных переделках. Например, чтобы друг и учитель Джино стал супергероем, а сам Джино превратился в ничтожного уголовника. Уоррис не возражал. Черт с ним, с Энцо Боннатти! Когда картина будет запущена в производство, он все равно сделает по-своему. Десять лет ждал! Боннатти оплатил все предварительные расходы и согласился с четырехмиллионной сметой. Уоррис набрал первоклассную труппу и пригласил несколько еще не открытых талантов. Камнем преткновения оказалась главная женская роль. Он старался протолкнуть свою протеже. У Боннатти были другие мысли на этот счет. Уоррис как раз за тем и прибыл в Нью-Йорк, чтобы окончательно обговорить финансовую сторону и утвердить исполнительницу главной женской роли. Медлить нельзя: через десять дней съемки. Насвистывая себе под нос какую-то мелодию, Уоррис взял такси. При нем была коробка с роликом — пробами его девушки. Пусть только Энцо ее увидит — мигом отпадут все возражения.* * *
Рут поспешила в супермаркет. На нее оборачивались — она к этому привыкла. Сначала восхищение — прелестная фигурка! — а затем шок, ужас, замешательство. Стоило им разглядеть обезображенное лицо — и конец. — Эй, милашка! — окликнул ее какой-то парень и смолк, едва она приблизилась. Много он понимает! Она остановилась возле телефона-автомата и собралась с духом. Дарио Сантанджело крепко спал в ее постели. Сэл думает, они напали на золотую жилу. У Рут было свое мнение на этот счет. Никогда не связывайся с шишками — правило номер один, чтобы выжить. На Сэл иногда находит затмение. Рут извлекла из кошелька несколько монеток и набрала номер. — Виктор, — прошептала она в трубку, — ты должен мне помочь…* * *
Днем улица преобразилась. Но Кэрри без труда отыскала мясной рынок и встала в сторонке недалеко от входа, вздрагивая каждый раз, когда кто-нибудь проходил в ярде от нее. Глаза метались во все стороны. Она присматривалась к лицам, походке, жестам. Кто, черт побери, поджаривает ее на медленном огне? Она убьет мерзавца! Достанет еще один пистолет и пристрелит, как собаку. Она почему-то не ждала автомобиля, поэтому не обратила внимания на белый «эльдорадо», остановившийся у входа на рынок. Не сразу расслышала свое имя. Во второй раз оно дошло до ее сознания, и Кэрри ринулась к машине. Пассажир укрылся за затемненными стеклами. — Кто вы? — прошипела Кэрри. Открылась задняя дверца. — Садись! — приказал тот же голос, который она слышала по телефону. — Скорее, пожалуйста!* * *
Буги проговорил целый час без остановки. И это Буги, которому обычно было лень связать два предложения! Лаки слушала, не перебивая, его монотонную речь и верила каждому слову. Буги ей никогда не лгал — не было причин. С первых же слов в ней зародилась и все разрасталась тяжелая, холодная ярость, которую было бесполезно сдерживать. Чертова кукла! Буги прав: ее и впрямь держали за дурочку. Чертова затраханная кукла! Очутившись в своей квартире, Лаки отперла ящик письменного стола и достала небольшую жестяную коробку. Ловко скрутила папироску, вдохнула и передала Буги. Снадобье помогло ей обрести душевное равновесие. Как ни странно, вместо того чтобы затуманить, марихуана прочищала ей мозги. Лаки прибегала к ней в исключительных случаях, когда особенно нужно было быть в хорошей форме. Буги закончил свой рассказ и остановил на ней понимающий взгляд. — Я должен был тебе это рассказать. — Безусловно. Он распрямил худое тело. — Вот и я так подумал. Они молча, думая о своем, докурили марихуану. — Как будешь действовать? — нарушил молчание Буги. — Как паук «черная вдова». Буду украдкой плести свою паутину — и горе тому, кто встанет на моем пути!Пятница, 15 июля 1977 г., день
— О, — просиял Джино. — Друг мой, Энцо! Бьюсь об заклад, ты уже и не надеялся, что мы сможем, как прежде, переломить хлеб здесь, у «Риккадди», в окружении верных соратников. — Джино, друг! Не было дня, чтобы я не мечтал об этом! — Ну конечно. Как же иначе? Мы же вместе выбились в люди, взяли мир за яйца, во всем помогая друг другу. — Он поднял свой бокал с вином. — У нас возникали разногласия, но ничего такого, что было бы невозможно уладить. Пью за нас, Энцо, — за тебя и за меня! За двух старых боевых коней, которые с честью вышли из всех испытаний! Они чокнулись и выпили. — Скажи мне, — как бы между прочим произнес Джино, — что это за дело, в которое ты вложил мои доходы от «Маджириано»? — А… — Энцо внимательно изучал свои короткие, тупые, наманикюренные ногти. — Хорошо, что ты спросил. Ты свалился как снег на голову… Такой сюрприз! Но я еще не готов… нужно показать тебе бумаги, цифры… Я сделал для тебя большое дело! — Насколько большое? — Увидишь. Немного позднее все покажу. — Отлично, отлично. — Джино навертел на вилку спагетти. — Я безмерно признателен за все, что ты для меня сделал. Взял на себя заботу о двух моих отелях в Вегасе, присмотрел за Лаки… Ты стал ей вторым отцом. Энцо улыбнулся, показывая гнилые зубы. Он до смерти боялся зубных врачей. — Она — настоящая Сантанджело! Ты можешь ею гордиться. — Я и горжусь, Энцо, да. Но не будем забывать, что она все-таки женщина, слабый пол. Случается, этим пользуются. У Энцо дернулся правый глаз — предательская привычка, верный признак, что он собирается солгать. — Кто посмел бы обмануть Лаки, когда я рядом? Никто! — Конечно, конечно, дорогой друг. Потому что если бы кто-то попробовал, ты поступил бы так же, как я: раздавил бы гада каблуком, как клопа. Верно? Энцо промолчал. Их взгляды встретились. — Завтра, — с расстановкой произнес Джино, — я восстановлю в обоих отелях своих людей. — Он осторожно тронул пальцем еле заметный шрам на щеке. — Скажи своим людям, чтобы не препятствовали. Пусть все пройдет без сучка без задоринки. Я считаю, нет смысла откладывать. Ведь так?* * *
Кэрри не узнала пожилую женщину на заднем сиденье «мерседеса», когда села рядом с ней в машину. Не за тем ли она и притащилась в Гарлем? Кондиционер работал на всю мощь. Из-за затемненных стекол в салоне было полутемно. Зашторенная перегородка отделяла их от водителя. Едва она села, машина рванула с места. Все тело Кэрри покрылось холодным, липким потом, особенно под мышками, в паху и ладони. Она пыталась говорить спокойно. — Кто вы? Чего хотите? Старуха засмеялась странным, слегка печальным смехом. Она была толста и куталась в шаль; пухлые, увитые перстнями пальцы нервно барабанили по коленям. Она водрузила на переносицу огромные солнечные очки; крашеные черные волосы зачесаны на испанский манер, губы ярко намалеваны. У нее был двойной подбородок. В воздухе стоял густой, приторный запах духов. — Ты меня не помнишь? — проскрипела женщина. — Я вас не знаю! — в отчаянии воскликнула Кэрри. — Ради Бога, скажите, что вам нужно? У меня не так много денег, но… — Ха! У нее мало денег! Посмотрите на нее! Милочка, да от тебя просто разит деньгами! — Сколько вы хотите? Женщина смягчилась. — Не нужны мне твои деньги. Как там беби Стивен, наверное, превратился в красавчика? Кэрри запаниковала. — Что вы знаете о Стивене? — Да я его прекрасно помню, а вот ты меня забыла! — На этот раз хриплый голос женщины задел в душе Кэрри какую-то струну. В голове беспорядочно теснились мысли. Этот акцент… что-то в нем знакомое… — Я любила его, он был и моим ребенком тоже. Когда ты сбежала, то заорала его с собой. — Женщина тяжело вздохнула. — Но я не виню тебя, Кэрри. Я тебя не виню. Ты добилась своего, стала важной шишкой. — Сюзита! — ошеломленно прошептала Кэрри. — Сюзита?! Женщина ухмыльнулась. — Я, конечно, растолстела, постарела. Это для тебя время остановилось. А я всю жизнь работала. Кэрри с трудом сдерживала рыдания. Эта старая карга — Сюзита? Молоденькая, звонкая Сюзита, из-за которой дрались мужчины: кому обладать ее обольстительным телом? Время жестоко обошлось с ней. — Я не намерена тебя шантажировать, — быстро сказала Сюзита. — Наверное, ты поняла это именно так? Кэрри смутилась. — Но почему… Столько лет прошло! Как ты меня нашла? — А я тебя и не теряла, милочка. Я всю жизнь не теряла тебя из виду: с тех пор, как увидела фото в журнале через пару лет после твоего бегства. Я очень обрадовалась, что с тобой все в порядке. Не всякому удается ускользнуть из лап Боннатти, далеко не всякому. Боннатти! Звук этого имени вызвал страшные воспоминания. Он обращался с ней, как с мебелью, куском мяса, неодушевленным предметом… Хозяин! Все они были для него не лучше дорожной пыли. — Сюзита, — тихо проговорила Кэрри. — За эти несколько дней ты превратила мою жизнь в кромешный ад. Я была в среду на рынке, ждала. Ты не появилась. Я подверглась нападению… аресту… Это какой-то кошмар! Прошу тебя, скажи, что тебе нужно, и позволь мне жить моей собственной жизнью. — Конечно, конечно. У нас нет ничего общего. Ты — леди, а я — шлюха, хозяйка дома терпимости под пятой у Боннатти. С какой стати тратить на меня время? — Ради Бога! — взмолилась Кэрри. — Скажи, чего ты хочешь?! Сюзита поиграла кольцом на пальце. — Я хочу предупредить тебя, вот и все. — Предупредить меня? — Да. Насчет расследования деятельности Боннатти. — Какого расследования? Сюзита подняла огромные солнечные очки и недоверчиво уставилась на Кэрри. Ее глаза казались двумя изюминками на дряблой, тусклой коже. — Которым сейчас занимается твой сын. Кэрри словно ударило током. «Расследование, которым занят твой сын»! Она знала: Стивен над чем-то работает, но в интересах безопасности он не позволял себе называть имена. Даже с Джерри не откровенничал. — Так ты не знала, — утвердительным тоном произнесла Сюзита. Кэрри, словно в прострации, покачала головой. — Господи! — вскричала ее собеседница. — Но Боннатти знает… и ни чуточки не боится! — Что ты хочешь этим сказать? — Не только я следила за тобой все эти годы. К горлу Кэрри подступила тошнота. — Боннатти знает, кто такой Стивен. Скоро Энцо призовут к ответу, и когда он предстанет перед судом присяжных, то расскажет им о тебе. Можешь себе представить, что тогда будет. Стивен станет всеобщим посмешищем. Боннатти этого ждет не дождется! Это все равно что премьера спектакля. Он все рассчитал. Знает о тебе решительно все. Наркотики, фильмы, больница — он запасся документами. Даже раздобыл старые снимки, на которых маленький Стивен с девушками — помнишь, когда ему исполнилось четыре года? Хорошенький мальчик в белом шелковом костюмчике стоит на столе… Кэрри обмякла и повалилась на сиденье.* * *
Лаки сидела на кровати, по-восточному скрестив ноги, прижав пальцы к вискам. Энцо Боннатти. Ее крестный. Наставник. Человек, которому она верила, которого любила. Человек, заменивший ей отца. Энцо Боннатти. Гадюка, притаившаяся в траве. Киллер. Он убил Марко, хотя и не собственноручно. Он только отдал команду: «Кончайте с Марко. Он единственный способен до всего докопаться. Девчонка с Костой не в счет. У них куриные мозги». Он оказался прав. Как, должно быть, он злорадствовал, когда она преподнесла ему все на тарелочке! Ему и близнецам Кассари, чей отец убил ее мать! И она ни разу ничего не заподозрила! Дура ты, Лаки Сантанджело! Задница вместо головы! Если бы не Буги, она бы так и не прозрела. Буги случайно подслушал разговор двух чикагских головорезов, которых вез в своем лимузине десять дней назад. Жалкие обрывки — несколько имен и дат, но этого оказалось достаточно, чтобы он проявил интерес и задумался насчет Энцо Боннатти и его лояльности по отношению к Лаки. Достаточно, чтобы предпринять собственное маленькое расследование. И сколько же он раскопал! Да как легко! У него оказался приятель в полиции, который дал ему просмотреть все папки по делу об убийстве Марко. На обложке значилось: «Исполнитель неизвестен». Зато он прочел длинный отчет о подозреваемых. Были допрошены братья Кассари, но у них оказалось железное алиби. Однако в поле зрения полиции попал их наемник. Он был задержан. Выпущен под залог и тут же сбит машиной. Мортимер Сорис оказался жалким карточным шулером, которого в то время даже не было в городе. За ним числились неоплаченные долги, поэтому он скрывался, старался вести себя тише воды, ниже травы. Однако его нашли и сделали козлом отпущения. Следовал неоспоримый вывод: Марко убит братьями Кассари по прямому приказу Энцо Боннатти. Лаки сильнее сжала пальцами виски. Как же она не догадалась? Ни разу не заподозрила! Господи! Лаки резко спрыгнула с кровати. Она знает, что нужно делать!* * *
Когда они вышли от «Риккадди», Коста тяжело дышал. Он всю жизнь стремился кончать все дела миром. Теперь, после возвращения Джино, миром и не пахло. — Чертов сукин сын, — процедил Джино, когда они сели в лимузин. — Грязный, изолгавшийся ублюдок! — Что случилось? — забеспокоился Коста. — Он согласился на все твои условия! Даже не спорил. — Коста, ты что, совсем сдурел? Это я семь лет пробыл за границей, но именно ты не заметил ничего из того, что творится у тебя под носом! — Ты считаешь, он хочет нас объегорить? — Проснись, старина. У него не только это на уме. Он замыслил убийство. Я увидел это, заглянув ему в глаза. Коста был потрясен. — Ты подозреваешь Энцо? Твоего испытанного друга? — Молчи, Коста. Ты чист, как стеклышко, аж задница блестит, но это не значит, что все такие же. Мне нужно подумать. И позаботиться о своей безопасности. Он задумал убийство, это ясно. — Но, Джино!.. — Что, Коста? Что? По-твоему, так не бывает? — Я просто… — Ты договорился с Лаки и Дарио о встрече? — Я пытался… — Не надо пытаться. Поезжай и привези их в отель. Если Энцо хочет убрать меня с дороги, следующей может оказаться Лаки. Кто знает? Я хочу, чтобы они были при мне. Лично доставь их! Коста кивнул. Пот ручьями струился по его лицу.* * *
Энцо забрался на заднее сиденье своего коричневого «понтиака» с пуленепробиваемыми стеклами и стереомагнитолой, стоившей больше самого автомобиля. Он раздраженно вставил кассету с записями и под звуки «Я оставил сердце в Сан-Франциско» обратился к Большому Виктору: — Пора. Берись за дело. И чтобы все было чисто! — У меня идея, босс, — сказал тот, брызгая слюной. — Да? — Почему бы нам не использовать мальца? Этого Дарио? Если он сделает это, на вас никто не подумает. У Сантанджело полно друзей, которые могут доставить вам неприятности. А если это сделает его сын, все заткнутся. — Замечательно! — обрадовался Энцо. — Мальчишка все еще в доме? — Все, как вы сказали, босс. — Виктор сделал в уме зарубку: позаботиться о Рут. Она хорошая девка — понимает, что к чему. Сразу позвонила старому дядюшке и попросила совета. Большой Виктор мигом смекнул: сын Джино Сантанджело может пригодиться. «Держись подальше от дома, — велел он девушке. — Я пришлю своих ребят. Ты правильно сделала, что позвонила». — «А Сэл? Они ее не тронут?»— «Подумаешь, — чуть не вырвалось у Виктора. — На черта тебе эта дерьмовая лесбиянка?» Но он заверил Рут: «Разумеется, нет. Вечером вернешься домой. Все будет в порядке». — Когда приедем, приведешь его ко мне, — решил Энцо. — Знаешь что, Виктор? Если мальчишка это сделает, лучшего и желать нельзя. — Вот и я говорю, босс. — Нет, это я говорю.* * *
Кэрри вышла из машины Сюзиты на углу Сто девятой улицы и взяла такси. Доехав до своего дома, она отпустила служанку и заперлась в кабинете Эллиота. Там она долго сидела, созерцая застекленный шкафчик, где Эллиот хранил свою коллекцию оружия. Много ли она смыслит в пистолетах? Очень мало, однако достаточно для того, чтобы выбрать один, самый маленький, зарядить и выстрелить. Только, конечно, не в Сюзиту. Сюзита сочла своим долгом предупредить ее — Бог знает почему, ведь много лет назад Кэрри своим бегством навлекла на нее неприятности. Энцо — вот кого она имела в виду. Энцо Боннатти, который, по словам Сюзиты, живет в хорошо охраняемом особняке на Лонг-Айленде. Именно там он плетет свои заговоры. Кэрри остановила свой взгляд на пистолете тридцать восьмого калибра. Она медленно поднялась, подошла к окну и вынула из вазы ключ от шкафчика. Выбор прост: карьера Стивена или жизнь Боннатти. В сущности, никакого выбора.* * *
Коста беспрестанно давил на кнопку звонка перед дверью квартиры, где жила Лаки. Он все утро безуспешно пытался до нее дозвониться — так же как и до Дарио. В обед повторил свою попытку. Оставлял им сообщения. Оба как сквозь землю провалились. И вот он стоял перед дверью и молил Бога, чтобы Лаки оказалась дома. Пора ей взглянуть в лицо реальности. Джино вернулся. В этом не может быть никаких сомнений. Наконец по ту сторону зашаркали чьи-то шаги, и кто-то приоткрыл дверь, не снимая цепочки. — Коста? Он испугался. Куда подевалась горничная? Кто прячется у Лаки? — Да. Дверь распахнулась. Его встретил Буги Паттерсон. — Ты что здесь делаешь? — рассердился Коста. — Он у меня в гостях. — Из спальни вышла Лаки в короткой рубашке. — Я имею право принимать гостей? — Я весь день пытаюсь с тобой связаться, — напыщенно произнес Коста. — Меня не было дома, а потом я отключила телефон. В чем дело? — Ты читала сегодняшние газеты? — Нет, а что? Он сделал глубокий вдох. — Твой отец вернулся. И хочет тебя видеть.* * *
Дарио совсем запутался. Что, черт побери, случилось? Он сидел на кухне у Энцо и чашку за чашкой цедил крепкий горячий кофе, а двое громил его караулили. — Я хочу домой, — жалобно произнес он уже в четвертый раз. — Мы отвезем тебя домой, — сказал один из бандитов по имени Руссо. — Как только ты хорошенько поблагодаришь мистера Боннатти. — Я понятия не имею, что происходит, — пробормотал Дарио. Он очнулся на заднем сиденье автомобиля — рядом сидел Руссо, а второй правил машиной. Последнее, что он помнил, было, как Сэл дает ему таблетки. Ни Руссо, ни второй конвоир не сочли себя вправе что-либо объяснять, а он не смел спрашивать — ни о Сэл, ни о парне, в которого он всадил нож. Когда они приехали, Руссо сообщил: — Это резиденция мистера Боннатти. Он тебя вызволил. Как только он разрешит, мы отвезем тебя домой. Вот и все. Дарио выругался и сделал еще один глоток. — Я могу позвонить? — Не знаю. В это мгновение вошел толстяк в мокром плаще с грязными пятнами на обшлагах. — Дарио! — воскликнул он. — В последний раз я видел тебя в Вегасе. Помнишь? Дарио вытаращил на него глаза. Толстяк был с Энцо, когда последний вызвал их с Уоррисом к себе. «Возвращайся в Нью-Йорк», — скомандовал Энцо. Толстяк лично посадил его в самолет. — Послушайте, что тут такое творится? — завозмущался Дарио. — У тебя возникла проблема. Мистер Боннатти узнал об этом… он считает тебя членом семьи… счел своим долгом прийти на помощь. Идем, он тебя ждет. Энцо Боннатти сидел в мягком, покрытом узорчатым чехлом кресле и щелкал фисташки, лежавшие перед ним на хрустальном блюде. — Садись, — скомандовал он, словно собаке. Дарио сел. Он понял: лучше не прекословить. Энцо Боннатти только с виду — благонравный дедушка, но его голос, взгляд, манера трещать суставами — все это наводило совсем на другие мысли. Энцо молча, критически оценивал Дарио. Наконец он заговорил: — Не будем терять времени — никогда не имел такой привычки. Посвящу тебя в курс дела и скажу, что мне требуется. Дарио кивнул. Энцо вынул ядрышко из скорлупы и кинул в рот. — Кое-кто подослал к тебе того педика, чтобы он с тобой разделался. Ты сам убил его. Молодец. Дарио растерянно моргал. Кажется, он не может шагу ступить без того, чтобы это не стало известно Энцо Боннатти. — Знаешь, что? Я никогда не держал тебя за умника. Но тут ты не оплошал. — Он съел еще один орешек и запил минералкой. — Ну вот. Ты кокнул педика, позвонил Косте Зеннокотти, и он прислал тебе на помощь Сэл, а что дальше? — Это и я хотел бы знать, — пробормотал Дарио. — Сэл тебя похитила! — торжественно возвестил Энцо. — Человек, которого Коста прислал помочь тебе, тебя похищает! Дарио выпрямился в кресле и навострил уши. — С какой же стати? — вдохновенно гремел Энцо. — Спроси себя: почему она это сделала? — Он сделал многозначительную паузу и немного понизил голос: — Потому что кое-кто из членов твоей семьи хочет от тебя избавиться. Улавливаешь? Они хотят, чтобы ты ушел с дороги. Оказался на десять футов под землей. Джино и Лаки… они хотят твоей смерти. Понимаешь, малыш? Смерти! Дарио не хватало воздуха. Значит, это все-таки Лаки!* * *
Коста испытал облегчение: Лаки согласилась увидеться с отцом. Она вела себя немного странно, но этого следовало ожидать. — Едем со мной в отель прямо сейчас, — упрашивал он. — Джино ждет. — Не могу, — холодно ответила она. — Мне нужно сделать несколько звонков. Но я скоро приеду. Обещаю. Коста бросил взгляд на часы. Почти половина третьего. — Значит, в четыре часа в «Пьере»? — Хорошо. Я приеду. Не беспокойся, Коста, я не обману. — Она клюнула его в щеку. Бедняга, он так вымотался и еще больше постарел. А если бы он знал то, что узнала она… Коста поспешил к себе в офис. — О, мистер Зеннокотти! — встретила его секретарша. — Тут как раз Дарио Сантанджело на линии. Второй раз звонит. Коста схватил трубку. — Дарио! Ты где? Я тебя искал. Все в порядке? — В порядке. Я был у друзей. Говорят, Джино вернулся? Хотелось бы встретиться. — Он тоже только этого и ждет. Можешь приехать в «Пьер» к четырем? — Конечно. — Он на мгновение замялся. — Лаки тоже будет? — Да. Как было бы хорошо, если бы теперь, когда вернулся ваш отец, вы помирились! Я считаю… — Потом. — Дарио повесил трубку. Сидевший напротив него Энцо спросил: — Ну что? Дарио глубоко вздохнул. — В четыре часа в «Пьере». Они оба будут там. Энцо удовлетворенно кивнул. — Значит, ты поступишь так, как подобает? Не правда ли, Дарио?* * *
Джино мерил шагами комнату; мозг сверлили тяжкие мысли. Нужны ему эти осложнения, как геморроидальные шишки! Однако небольшая демонстрация силы не помешает. Боннатти должен понять: ему не уступят ни дюйма. Ни одного дюйма! Оба отеля в Вегасе принадлежат ему, Джино! Правда, у Энцо есть доля в «Мираже» — так, небольшой кусок пирога. К несчастью, у Боннатти целая армия наемников. Джино никогда этим не увлекался. Он занимался бизнесом, а не бандитизмом. Сходился с нужными людьми, нащупывал ключевые связи, и это давало ему гораздо больше, чем войско, состоящее из воров. Ко времени приезда Лаки он сделал несколько звонков и выяснил, что на Боннатти заведено уголовное дело. Не сегодня-завтра его призовут к ответу. Энцо много раз выходил сухим из воды, но на сей раз готовится что-то серьезное. Он мрачно усмехнулся. Если бы Боннатти замели, это решило бы сразу множество проблем. Однако лучше бы успеть получить с него свои денежки… Коста ввел Лаки в гостиную и скрылся в ванной. Джино уставился на дочь. Это был настоящий шок: он как будто смотрелся в зеркало. С годами она стала еще больше походить на него. Особенно глаза. Черные опаловые колодцы. Блестящие черные волосы. Линия подбородка, чувственный рот, жемчужные зубы… Прекрасна, как дикая черная орхидея! Он сразу понял, что она уже не та взбалмошная девчонка, которую он оставил. Теперь перед ним стояла взрослая, очень уверенная в себе женщина. Он улыбнулся и раскрыл объятия. — Лаки! Она отпрянула. Он что, думает, все так просто? Они обнимутся — и наступит всеобщее ликование? Она проигнорировала его распахнутые для объятия руки и немного неестественным голосом произнесла: — Привет, Джино. Добро пожаловать домой. Дура! Дура! Дура! Какое, к черту, «добро пожаловать»? Он устремил на нее проницательный взгляд и вышел из положения — широко развел руки в жесте изумления. — Ну, ну! Вы только посмотрите на нее! Совсем взрослая! Лаки холодно посмотрела на отца. — Я думала, что стала взрослой в шестнадцать лет, когда ты выдал меня замуж. Он состроил гримасу. — Значит, из этого ничего не вышло? Но все же замужество уберегло тебя от беды, верно? Ты же не собираешься всю жизнь таить обиду, а, детка? Она засекла на столе бутылку «скотча» и направилась к нему. — Тебе тоже? — Не сейчас. Лаки наполнила бокал янтарной жидкостью до краев и нарочито долго пила. Джино не сводил с нее глаз. — Давай-ка лучше потолкуем. Лаки было не по себе от его напряженного взгляда. — Хорошо, — с вызовом произнесла она. — За эти годы многое изменилось. — Да? — чуть ли не кротко спросил Джино. — Да. — Лаки изо всех сил старалась выдержать его взгляд, но у нее не получилось. Она отошла к окну. — Я теперь равноправный партнер. — Я слышал. Она повернулась к нему, глаза сверкали. — И вот что я тебе скажу: тебе не удастся от меня отделаться. Ни в коем случае!* * *
Поднимаясь в лифте, Дарио нервно облизывал губы. Они пересохли и потрескались. Потом он откусил заусенец и попытался взять себя в руки. Нужно рассуждать здраво. Энцо прав. Он или они. С какой стати позволять им над собой издеваться? Подослали к нему убийцу! Ужас! Как теперь жить? Никогда не знаешь, кого они еще подошлют. Каждый случайный партнер может вытащить нож. Нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Энцо Боннатти прав. И все-таки — пролить родную кровь… хладнокровно убить близкого человека… — Почему я? — спросил он Боннатти. — Потому что ты обретешь все и ничего не потеряешь. Кроме того, Джино подозрителен. Никто из моих парней не может близко подобраться к нему. Не волнуйся. Сделай все как следует. Возле отеля тебя будет ждать автомобиль. Билет до Рио. И миллион долларов. — Откуда я знаю… — начал Дарио. — Что ты можешь доверять мне? — Энцо расхохотался. — Конечно, ты рискуешь. Но у тебя есть шансы: побольше, чем если сделаешь выбор в пользу отца с сестрой. В этом ты можешь быть абсолютно уверен.* * *
К четырем часам терпение Стивена было на пределе. Он провел целый день, сводя концы с концами, восполняя недостающие звенья и ожидая, когда после обработки принесут последние документы. Ему хотелось присутствовать при задержании Боннатти. Взглянуть ему в лицо, когда этому подонку наденут наручники, объяснят его права и препроводят в участок. Несомненно, Боннатти будет добиваться, чтобы его отпустили под залог. Стивен предусмотрел этот ход и подготовился. Они с Бобби пили чашку за чашкой кофе и ждали сигнала. — Черт! — воскликнул Бобби. — Я думал, что за два года работы совсем задубел, а теперь волнуюсь, как мальчишка, не могу дождаться, чтобы только увидеть его поганую рожу. Стивен кивнул. — Можешь мне не рассказывать. — Да уж. Еще чашку кофе? Стивен покачал головой. — Послушай. Сколько нужно времени, чтобы установить, кому принадлежит машина с таким-то номером? — Минут пять. У меня есть приятель в департаменте. Давай свой номер. Стивен записал номер «мерседеса» Лаки и передал другу листочек. — Ну, теперь смотри, как нужно работать, — пошутил тот. Через пять минут он уже знал название компании, зарегистрировавшей автомобиль. — Кого ты ищешь? — спросил он Стивена. — Ну… кое-кого, — пробормотал тот и подумал, что страстно хочет увидеть загадочную Лаки. — «Кое-чей» автомобиль принадлежит одной косметической фирме. У меня есть адрес, если хочешь продолжить поиски. — Не сейчас. — Эйлин знает «кое о ком»? — Заткнись, Бобби, и налей-ка еще кофе. — Сию минуту, босс, сию минуту.* * *
Встреча Лаки с Джино протекала не слишком гладко. Лаки вся кипела и была не способна даже подумать о примирении с отцом. Он старался быть мягким и терпимым, но чем ласковее обращался с ней, тем сильнее она подозревала, что он снисходит до нее, заговаривает зубы, как девчонке. — Вегас мой! — выпалила она. — Я еду туда! — После дождичка в четверг. — Что ты имеешь в виду? — Брось, Лаки, ты же умная девочка. Ты отдала Вегас Боннатти — с потрохами. Думаешь, он будет счастлив отдать все назад? — Я знаю, как с ним обращаться. Джино захлебнулся смехом. — Я вернулся как раз вовремя. Неужели ты не понимаешь, что Энцо — больше не друг? На щеках Лаки вспыхнули яркие пятна. Даже Джино знает!.. Но прежде чем она успела что-то сказать, постучали в дверь. Лаки открыла. На пороге стоял Дарио — стройный, светловолосый и с самым невинным видом. — Общий привет! Рад вас видеть!* * *
В два часа дня Кэрри взяла напрокат автомобиль в салоне Герца. Около трех она припарковала его у ворот резиденции Энцо Боннатти. Она сидела в машине, положив рядом сумочку; в сумочке был спрятан пистолет. Кэрри ждала — сама не зная чего. Может быть, если ждать достаточно долго, она наберется сил исполнить свой приговор над этим чудовищем?* * *
Уоррис Чартерс въехал в отель «Плаза». Почему бы и нет? Все расходы — за счет Энцо Боннатти. Сауна, массаж, маникюр… Пару раз он звонил Боннатти, но не мог дозвониться. В три пятнадцать Энцо наконец ответил. — Я привез ролик, хочу, чтобы вы его посмотрели, — с облегчением сказал Уоррис. В кинобизнесе ни в чем нельзя быть уверенным до конца. — Хорошо, — ответил Энцо. — Я посмотрю. Кстати, я придумал новый финал — ты упадешь! — Приехать прямо сейчас? — У тебя есть машина? — Нет. Возьму напрокат. — Не беспокойся. Я пришлю кого-нибудь из своих ребят. Руссо. Он заедет примерно в шесть. Будь готов. Уоррис повесил трубку. На губах блуждала победная улыбка.* * *
Лаки отнеслась к появлению Дарио без энтузиазма. Кто его звал? Предполагалось, что это будет деловая встреча, а получается воссоединение семьи. Черт! У нее столько дел! Не хватало заниматься ерундой. Они с Дарио давно не разговаривали друг с другом: с тех пор как он снялся в порнофильме, а она подняла шум, между ними разверзлась пропасть. Атмосфера в номере Джино была напряженной, если не сказать больше. Дарио пытался держаться непринужденно, но ему мешал маленький пистолет в не слишком подходящей кобуре, спрятанный под мышкой. Над верхней губой выступили бисеринки пота. — Сними пиджак, — настаивал Джино. — Чувствуй себя, как дома. — Скоро сниму, — ответил Дарио. «Скоро я размозжу вам обоим головы. Кому первому? Если сначала убить сестру, как поведет себя Джино? И наоборот?» Боннатти всучил ему пистолет и сказал: «Убей!» Но как? С кого начать? — Мне пора, — резко заявила Лаки. Ее первую! Она причинила ему гораздо больше зла! Рука машинально потянулась за пистолетом. Рио. Миллион долларов. Свобода! — Джино, — сказал, выходя из спальни, Коста. — Может, заказать ужин? Черт побери, Коста! С троими ему не справиться. Почему Боннатти не предупредил его о Косте? Мысли перемешались. Он это сделает в другой раз. Завтра. Послезавтра. Боннатти поймет. Обязательно поймет. Рио подождет денек-другой. Миллион долларов никуда не денется. Дарио отдернул руку. Джино смотрел на него как-то странно — как будто знал… Он опрометью бросился к двери. — Мне нужно идти. Я кое-что забыл! Они, все трое, уставились на Дарио. Его липкая рука соскользнула с дверной ручки. — Эй, — начал Джино, — что с тобой? Нужно поговорить… Но Дарио уже ухватился за дверную ручку и выскочил из комнаты. Джино что-то кричал, но он не оборачивался, а несся к запасной лестнице, как учил Боннатти. Перепрыгивая через две ступеньки, Дарио совершенно запыхался. Чертова кобура впилась в подмышку. Но он же ничего не сделал! Зачем он бежит? Дарио замедлил шаги. Когда он достиг первого этажа, дыхание почти пришло в норму. Он не спеша вышел из отеля и огляделся по сторонам. Заметив на другой стороне улицы Руссо, махнул рукой: все, мол, в порядке. Руссо принял сигнал и незаметно махнул в ответ. Затем произошло необъяснимое. Дарио стоял перед отелем средь бела дня и ждал, что Руссо перейдет через улицу и проводит его к машине. И вдруг что-то толкнуло его в спину. Господи! Как больно! Он обернулся, открыл рот; оттуда тотчас хлынула кровь. На лице Дарио застыло удивленное выражение. Он пошатнулся. Кто-то кричал неподалеку. «Умираю, — подумал он. — Меня убили». И рухнул на тротуар.* * *
Стивен прилежно склонился над письменным столом, в сотый раз проверяя заявления, отчеты, прочие документы — лишь бы убить время. В офис ворвался Бобби. — Эй, старина, ты чем это занимаешься? — Просматриваю бумаги. — Нет, я имею в виду тот автомобиль — «мерседес». Я нашел хозяина. — Кто он? — Имя Лаки Сантанджело тебе что-нибудь говорит? — Лаки… Сантанджело… — с расстановкой повторил Стивен. — Дочь небезызвестного Джино Сантанджело, который только вчера объявился в городе. Друг и соратник Энцо Боннатти, хотя на него нам ничего не удалосьнавесить: он не занимается наркотиками и не собирает дань с проституток. И тем не менее между ними существует тесная связь. Очень тесная. — Бобби в волнении оперся о край письменного стола. — Давай рассказывай. С минуту Стивен молчал. Потом сказал: — Ты уверен? — Если Бобби Де Уолт что-то говорит, значит, уверен. Стивен помрачнел. Почему Лаки не сказала?.. А почему она должна была что-то говорить? Он ведь тоже не рассказал ей о себе, разве не так? Но, скорее всего, она знала, кто он такой. И все нарочно подстроила, чтобы выведать… Подстроила общегородскую аварию на электростанции? У него слишком необузданное воображение. Нет. Это случайное совпадение, не более того. — Классная штучка, — заметил Бобби. — Здесь, в деле, есть ее фотография. Боннатти — ее крестный. Она принимала участие в торжественном открытии отеля «Маджириано» в Вегасе. Ну, Стивен, колись — зачем она тебе понадобилась? Тот махнул рукой. — Ни за чем. — Тогда с какой стати ты разыскивал автомобиль? — Господи! Дай мне только убедиться, что она замешана в делах Боннатти, тогда все и узнаешь. Стивену было тошно. Какой нелепый случай свел его с дочерью Джино Сантанджело! Загудел внутренний телефон. — Да? — рявкнул Стивен. — Здесь ваша мать, мистер Беркли. И только что сообщили, что нужные вам документы готовы. — Спасибо, Шила. Что здесь делает моя мать? — Не знаю. Пропустить ее? — Да, пожалуй, так будет лучше. — Он выскочил из-за стола и поднял вверх большой палец. — Все, Бобби, едем! Тот взвизгнул от удовольствия. В комнату вошла Кэрри. Стивен сгреб ее в объятия, как медведь. — Ма, я тронут твоим посещением, но у меня срочное дело. Зайди завтра, а? Вместе пообедаем. — Стивен, — полузадушенным голосом произнесла Кэрри, — мне нужно с тобой поговорить. — Не сейчас, моя прелесть. Мне очень жаль, но как раз сейчас у меня срочный выезд. От этого зависит моя ПК. — Персональная карьера, — подсказал Бобби. — Стивен, это очень важно, — настаивала Кэрри. — Иначе я не пришла бы к тебе на работу. — Давай я заеду за тобой попозже? — Он схватил свой пиджак и перебросил через плечо. Бобби подошел к нему поближе. — Кажется, твоей старушке плохо. Стивен бросил на мать беспокойный взгляд. Она была сама не своя. Он нежно поцеловал ее. — Потом. Обещаю. Поезжай домой и полежи. Ты на машине? Кэрри кивнула. — Дай мне ключ от твоей квартиры, сынок. Подожду тебя там. Она изо всех сил старалась унять дрожь. — Понял! — вскричал Стивен. — Ты поссорилась с Эллиотом! Кэрри не ответила: боялась открыть рот. Он выудил из кармана ключ. — Я приеду через пару часов. Располагайся. Идем, Бобби, поставим жирную точку. Кэрри смотрела ему вслед и в который раз спрашивала себя, правильное ли она приняла решение.* * *
Она долго сидела в машине перед домом Энцо Боннатти и думала, думала… Как она себе это представляет? Вот сейчас она подойдет к парадной двери, спросит Боннатти и застрелит его? Так случается в кино, а в жизни все по-другому. Слишком много вопросов. Выдержит ли она встречу с Энцо лицом к лицу? Сумеет ли выстрелить? Способна ли она вообще убить человека? Сможет ли потом быстро добежать до машины и незамеченной ускользнуть с места происшествия? Чем дольше Кэрри сидела в чужом, взятом напрокат автомобиле без кондиционера, тем яснее ей становилось: ее план невыполним. Решимость словно вышла из нее вместе с потом. И она стала искать другие варианты. В сущности, вариант был только один. Сказать Стивену правду. Все ему рассказать. После того как решение было принято, Кэрри как будто ожила. Включила зажигание и, не оглядываясь, поехала в город. Стивен имеет право знать. Что бы ни случилось, она откроет ему всю правду.* * *
— Какой бес вселился в мальчишку? — бушевал Джино. — У него был такой вид, словно он вот-вот выхватит пистолет. Ты заметил, Коста? — Нет. — Зато я заметила, — подтвердила Лаки. — С Дарио нужно всегда быть начеку. — Не понимаю, что у вас творится. Мой сын является ко мне с пушкой! Коста, догони и приведи его обратно. Кажется, пора мне во всем разобраться. — Слишком поздно, — отрезала Лаки, — заниматься его воспитанием. Если бы ты уделял ему больше времени, когда он был подростком… Джино так и взвился. — Ты с кем разговариваешь? Лаки вспыхнула, но не отступила. — С тобой я разговариваю, с тобой. Когда мы с Дарио были маленькими, у нас не было нормального детства. Сидели взаперти в мавзолее на Бель Эр, как прокаженные. К нам не пускали друзей. Мы не могли, как другие дети, ходить в кино. А если нужно было пойти в магазин, то в сопровождении одного из твоих громил. Ничего удивительного, что у Дарио шарики зашли за ролики. Джино вылупился на дочь. — Ах, у вас была тяжелая жизнь? В прекрасном доме! Среди самых лучших вещей, какие можно купить за деньги! Лаки повысила голос: — Вот именно — за деньги. Кому они нужны? Мне был нужен только ты! Чтобы любил… был рядом… настоящий отец… Ее слова резали Джино, как ножом. Он прорычал: — Я всегда старался для вас. Все, что только мог… — Ну, так этого недостаточно! На улице завыли полицейские сирены. Коста подошел к окну. — Убери от меня эту дрянь и приведи Дарио, — скомандовал Джино. Коста заторопился прочь. Лаки глубоко вздохнула. — Я ухожу. Мы говорим на разных языках. Так было всегда. — Я, значит, не был образцовым папашей? Ну, а ты сама — образцовая дочь? Сбежала из школы. Трахалась с каждым встречным-поперечным. Ушла из… — Ничего подобного! — перебила она, дрожа от ярости. — А если бы и так — что с того? — Что с того? Что с того! — Джино поник головой. — Ты права, Лаки: у нас психологическая несовместимость. Мы существуем в разных измерениях. Что же ты не уходишь? За семь лет — ни единой вшивой открытки! Называется дочь! — Ты сам ни разу не написал! — запальчиво выкрикнула она. Джино почувствовал, что с него довольно. Кто-то колотил в дверь. — Кто там? — рявкнул он. — Коста! Скорее откройте! Лаки хотелось плакать — неизвестно почему. Она взяла свою сумочку. Джино отпер дверь и впустил бледного, трясущегося Косту. — Дарио застрелили. Возле отеля. Он мертв. — Боже милосердный! — вскричал Джино. — Матерь Пресвятая Богородица! Ужас пригвоздил Лаки к месту. Внезапно Джино схватился за грудь и сделал неуверенный шаг к дивану. С губ сорвался стон. — Что с тобой? — испугалась Лаки. — Что такое? Он снова застонал; у него посинело лицо. Теперь ему точно можно было дать семьдесят один год. — Кажется… сердце… — с трудом проговорил он. — Вызови… врача… скорее!..Пятница, 15 июля 1977 г., вечер
Энцо щелкал переключателем дистанционного управления, переходя с одного канала на другой, задерживаясь на выпусках новостей. — Милый, — захныкала сахарная блондинка, подпрыгивая на его королевском ложе; на ней были одни лишь шелковые французские трусики персикового цвета. — Я хочу посмотреть «Любовную игру». — Может, ты оденешься, ради всего святого? — прорычал Энцо. — Мне твоих голых титек хватит на месяц вперед. Девушка надула губки. — Разве тебе не нравятся малюткины грудки? — Одевайся, дура! Я специально пригласил парня из Голливуда, чтобы он на тебя посмотрел. Так что одевайся и заткнись. Она недовольно сползла с кровати, полюбовалась своим отражением в зеркале и пошлепала в ванную. Энцо выругался и продолжил переключать каналы. Чертова сука — только одно на уме. Но ему нравилось появляться с ней в ресторанах, посылая всех мужчин в нокаут. Имоджин. Восемнадцать лет. Бывшая Мисс Забойная Штучка месяца. Обладательница двух сорокадвухдюймовых базук, разивших наповал. Таких у него еще не было. Эта идиотка мечтает о кинематографической карьере. Ну, так он сделает из нее звезду. Большое дело! — Вик, — громко окликнул он. — Где, мать твою, сообщение о Джино и Лаки? Оно уже должно было появиться в новостях. Ведь с Дарио покончено? Большой Виктор ввалился в комнату. — Сам удивляюсь, босс. Может, их еще не обнаружили? — Не городи чепухи. Они же в отеле. Там не бывает, чтобы кого-то кокнули и не сразу обнаружили. Обязательно какая-нибудь горничная или дама из соседнего номера сунет нос. — Ума не приложу. — Это все, что ты можешь сказать? Ты уверен, что работа выполнена? — Конечно, ведь Дарио подал условный знак. Как договорились. — Где Руссо? — С минуты на минуту должен явиться. Поехал за кинопродюсером. В «Плаза», как вы приказывали. — О'кей. — Энцо перенес свое внимание на экран. Строгая дикторша сообщила о пальбе перед отелем «Пьер». Девушка была недурна — только слишком костлява. Энцо прищурился и представил ее голой. — Вик, сделай мне одолжение, позвони в «Пьер», пусть проверят номер Сантанджело. Воспользуйся телефоном-автоматом. Большой Виктор кивнул. — Хорошая идея, босс. — Моя идея. Я единственный здесь способен придумать что-то путное.* * *
— Папочка, я тебя люблю! — шептала Лаки, наклоняясь над Джино в карете скорой помощи. — Ты выкарабкаешься, я уверена. Честное слово, все будет хорошо! Он не мог говорить: кислородная маска закрывала нос и рот, однако их взгляды встретились, и Лаки поняла, что прощена. Она всю дорогу держала отца за руку. Ей столько нужно было сказать ему, и она от всей души надеялась, что еще не поздно. В больнице его сразу же отвезли в реанимацию. Скоро приехал Коста; его красные глаза сказали Лаки, что он плакал. Она сжала его руку. — Все будет в порядке, я чувствую! Через некоторое время ей удалось перехватить врача со строгим лошадиным лицом. — У него закупорка сосудов. — Это опасно? Врач откашлялся, вежливо прикрывая рот рукой. — Сейчас рано говорить. На медицинском языке его болезнь называется атеросклерозом. Это поражение коронарных артерий, когда они либо сужаются, либо совсем закупориваются. В случае закупорки… Все время, пока врач объяснял, Лаки вспоминала Джино таким, каким он был во времена ее далекого детства. Как он подбрасывал ее в воздух, обнимал и целовал. Она так любила того Джино… и этого, ведущего бой со смертью! Врач закончил свой монолог: — Так что, вы понимаете, мисс Сантанджело, может обернуться и так, и этак. Как с сужением, так и с закупоркой сосудов можно прожить несколько лет. Мы располагаем замечательными новейшими препаратами, которые препятствуют образованию сгустков. — Он неопределенно пожал плечами. — В данном случае трудно сказать наверняка, насколько тяжело его состояние. Если ваш отец перенесет эту ночь, прогноз может оказаться обнадеживающим. Обнадеживающим — насколько? Она, изо всех сил скрывая ненависть, смотрела на врача. Ему-то все равно, выживет Джино или нет! — Спасибо, доктор. — Сейчас я бы определил его состояние как устойчивое. Если поедете домой, мы сообщим вам в случае перемен. Можно подумать, что она собирается домой! — Полагаю… Хотя пациенту в первую очередь необходим покой… — Большое спасибо! Джино лежал на жесткой больничной койке белый как простыня. К нему была подсоединена капельница. Глаза закрыты. Рядом сидела медсестра, дородная женщина, которая встретила Лаки неласковым: «Никаких посетителей! Больной находится в тяжелом состоянии!» — Этот больной — мой отец! — отрезала Лаки. — Доктор сказал, я могу его повидать. Будьте так добры подождать за дверьми. Сестра недовольно засопела, но подчинилась. Встала и промаршировала вон из палаты, всем своим видом демонстрируя крайнее неодобрение. Лаки примостилась возле кровати. По лицу текли слезы, но она этого не замечала. Она взяла руку Джино в свои и прошептала: — Мне безумно жаль, что потребовалось такое ужасное несчастье, чтобы я поняла, как сильно люблю тебя. Неправда, что мы говорим на разных языках! Мы сумеем понять друг друга, если оба этого захотим. Я оттолкнула тебя, потому что ты сам меня оттолкнул. Поспешила отвергнуть, чтобы ты первым не отверг меня. Я тебя обожаю! Ты — мой милый папочка! Ты должен жить — никогда еще я ничего так сильно не хотела! У него дрогнули и раскрылись веки. — Сделай мне одолжение, — пробормотал Джино. — Придержи эмоции… до лучших времен… Его голос был очень слаб, но она все расслышала и поняла: он чувствует то же самое. Ее лицо озарила улыбка. — Я ничего не пожалею! — Да, детка. — Джино снова закрыл глаза, и в палате стало очень тихо. Лаки крепко сжала руку отца. У нее возникло ощущение, будто от нее к Джино и обратно идут волны понимания и любви. Джино что-то сказал. Она наклонилась к нему поближе, и он еле слышно пробормотал: — Дарио… честь семьи… имя Сантанджело… — Да? — Ты… позаботишься об этом, да, Лаки? — Джино перевел дыхание. — Отомсти… за нас обоих… Боннатти… это он… — Сестра! — завопила Лаки. — Сестра-а!* * *
В предвкушении встречи Уоррис Чартерс разоделся в пух и прах. Светлые кремовые слаксы. Высший калифорнийский шик! Пиджак от Джорджио Армани. Мокасины от Гаччи. Солнечные очки фирмы «Бутик». Наконец-то! Дело близится к кульминации и счастливой развязке. Он слегка взбил чуб и спустился в вестибюль отеля «Плаза».* * *
Лаки решительным шагом вышла из больницы. Она еще до встречи с отцом приняла решение; случившееся только убедило ее в его правильности. Она поехала к себе домой; там дожидался Буги. — Слушай, я искренне сожалею… — Да, — оборвала Лаки. — Это основательно меняет дело. Прямо сейчас я не готова разделаться с Боннатти. Мне нужно прийти в себя. А ты поезжай обратно в Вегас. Через недельку-другую встретимся и все обсудим. Он пристально смотрел на нее. — Я думал, ты — человек действия. — Так оно и есть. Но в данный момент мне необходимо собраться с мыслями. Буги, ты не представляешь, что я пережила. Мы с Дарио жили, как кошка с собакой, но все-таки он был моим братом. — Кто стрелял? — Это предстоит выяснить. Он сделал беспомощный жест рукой. — Что ж, если я тебе не нужен… — Ты мне нужен, — деловито парировала она. — Устрой мне контракт на братьев Кассари. — Лаки закурила. — Найми исполнителя, лучшего из лучших. Результат оценивается в сто тысяч долларов, по пятьдесят за каждого. Наличными. Можешь провернуть это для меня? И немедленно! — Ты доверяешь мне сто грандов? — Я доверяла тебе свою жизнь. Он молча кивнул. — Я все устрою. Как насчет Боннатти? — Это от нас не уйдет. Сразу после его ухода Лаки переоделась в новое белое платье от Халстона. Подновила макияж, расчесала и хорошенько встряхнула черные кудри. Отперев ящичек, достала красивую золотую цепочку, на которой висел маленький украшенный бриллиантами и рубинами медальон — подарок Джино к ее пятому дню рождения. Лаки открыла медальон и посмотрела на фотографию: они с Джино вместе. Как две капли воды — уже в те далекие времена. Она улыбнулась и защелкнула медальон. Надела его. Короткая цепочка туго охватила шею. Потом она надела бриллиантовые сережки, которые он подарил ей на шестнадцатилетие. В тот день она сидела в «Мираже» между Джино и Марко… Марко… Сегодня я отомщу не только за Джино, но и за тебя, любимый, за тебя тоже! Лаки посмотрела в зеркало. Да. Она готова.* * *
Имоджин была готова. Облегающие брючки и майка, больше похожая на весьма открытый бюстгальтер… — Сними эту пакость! — вызверился Энцо. — У тебя такой вид, словно тобой только что попользовалось целое мексиканское войско. — Не знала, что такое существует, — огрызнулась она. Большой Виктор облизнулся, наблюдая за тем, как она, виляя бедрами, выкатилась из комнаты. Случалось, когда они надоедали шефу… — Ничего не понимаю! — бушевал Энцо. — Семь часов — и ничего! Ты звонил в отель? Телохранитель кивнул. — Должно быть, в девять часов передадут, босс. — Да уж — иначе здесь полетят головы!* * *
Уоррис расположился на заднем сиденье черного, экстра-класса, автомобиля Энцо Боннатти и размышлял о том, каково это — быть богатым. Не обладателем каких-нибудь одного-двух миллионов, а по-настоящему богатым — так, чтобы неограниченные возможности. Бо-оже! Какая перспектива! И если «В яблочко!» оправдает его ожидания, эта мечта может стать реальностью. Он постучал по дымчатому стеклу, отделяющему его от водителя. Тот нажатием кнопки убрал перегородку. — Скоро будем на месте? На него пахнуло снадобьем, и бандюга в черном костюме, с узкими, злыми щелками вместо глаз ответил: — Скоро. — Ты всегда накачиваешься за рулем? — дружелюбно спросил Уоррис, ожидая, что и его угостят. Вместо ответа водитель вернул обратно дымчатое стекло. Уоррис откинулся на обитую дорогой кожей спинку сиденья и забарабанил пальцами по коробке с роликом. Скоро…* * *
— Так сойдет, пупсик? Энцо сощурил глаза и критически оглядел Имоджин. Она нацепила алую блузку, завязав ее узлом под необъятным бюстом, вышедшую из моды красную мини-юбочку и белые сапожки до колен. — Сойдет, — словно выплюнул он. Какая, в общем, разница? Если ему приспичит, чтобы она получила главную роль, она ее получит, что бы ни говорил Уоррис. Кто такой Уоррис? Пешка, подставное лицо. Фильм будет таким, каким его хочет видеть он, Энцо, в противном случае он не выйдет вообще. В дверях возник Большой Виктор. — Приехал. Где вы его примете?* * *
Лаки гнала свой маленький «мерседес» цвета бронзы, как заправский гонщик, ловко лавируя в потоке машин. Стереодинамик ласкал ее слух серенадами Тедди Пендерграсса; она курила сигарету за сигаретой. Лаки наизусть помнила дорогу до особняка Энцо — нашла бы с закрытыми глазами. Автомобиль сам доставил бы ее по назначению. Сколько раз она сбегала туда на выходные! Ночевала в комнате для гостей. Купалась в бассейне. Делила с Энцо трапезу — и болтала с тем из его сыновей, который приезжал на уик-энд. Она заменила ему дочь, которой у него никогда не было. Энцо сам не раз говорил об этом. Мерзкий, изолгавшийся слизняк! Она так ему верила! Как же он, должно быть, смеялся у нее за спиной! С угрюмо поджатым ртом она подъехала к воротам.* * *
Стивен с Бобби устроились на заднем сиденье служебного автомобиля. Место назначения — резиденция Энцо Боннатти на Лонг-Айленде. — Как себя чувствуешь? — прокудахтал Бобби. — Прекрасно! — ответил Стивен. — А когда мы его возьмем, будет еще лучше!* * *
— Маленькая хочет кокаинчика! — клянчила Имоджин, вцепившись Энцо в рукав смокинга. Он стряхнул ее с себя. — Спятила? Сейчас здесь будет продюсер. — Я знаю, пупсик. И хочу произвести хорошее впечатление. Пожалуйста… дай девочке!.. Он скорчил гримасу. Нынешняя молодежь глушит наркотики, все равно как его поколение — спиртное. — Возьми у меня в бюро. Только одну понюшку. Не хватало, чтобы ты заявилась со стеклянными глазами. — Сладенький, я буду блистать и искриться! — С твоими титьками ничего больше и не остается. Давай, живо! — и он вышел из спальни. Новый смокинг, за который он уплатил шестьсот баксов, отчаянно жал — все равно что затянуться в корсет! Мода! Мейд ин Италия. Кому это нужно?* * *
В библиотеке Уоррис пришел в восторг от подбора книг. Кто бы мог подумать, что Энцо настолько образован, что окружает себя шедеврами мировой литературы? — Хотите выпить? — спросил Большой Виктор. — Мистер Боннатти сейчас придет. — Белое вино со льдом, — ответил Уоррис, с отвращением глядя на жирного, противного телохранителя. Тот от удивления открыл рот. — А? — Белое вино. Надеюсь, это не составит проблемы? И положите в бокал немного льда. — Ага, понял. Но если я открою бутылку, кто допьет остатки? Уоррис не верил своим ушам. — Тогда давай водку, — и с иронией добавил: — Конечно, если есть початая бутылка. Большой Виктор сверкнул глазами. В этот момент вошел Энцо. Уоррис чуть не схватился за живот от хохота: старик был смешон в атласном смокинге. — Где вы достали такой смокинг? — Нравится? — Энцо приосанился. — На вас все будет отлично сидеть.* * *
Стивена одолевали заботы. Арест Боннатти — это только начало. Впереди — пропасть работы! Но — приятной. Каким-то образом в его мысли ухитрилась пролезть Лаки. Интересно, каково это — с такой девушкой, как она? Нельзя о ней думать! Немедленно выбросить из головы! Лаки Сантанджело. Ну и что случится, если он увидится с ней еще разок? Случится! И не надо себя обманывать. Нужно забыть о ней. Забыть черные опаловые глаза… стройное, гибкое тело… полные, чувственные губы… — Эй, приятель! — окликнул его Бобби. — Подъезжаем!* * *
Лаки весело помахала охранникам у ворот и проехала мимо. Она знала их всех до одного, и они хорошо знали ее. Интуиция подсказала ей, что, скорее всего, о вероломстве Энцо знают только самые близкие. Она оставила машину перед крыльцом и как ни в чем не бывало поднялась по ступенькам. Два резких звонка — и вот уже на нее, разинув рот, вылупился Большой Виктор. — Лаки? — он не верил своим глазам. — Она самая. А что? Я так сильно изменилась? — Н-нет. Просто мы тебя не ждали. — Я приглашена на одну тусовку — здесь, поблизости. Вот и решила заскочить, проведать хозяина. Он дома? Большой Виктор проглотил комок. Кто-то над ними подшутил. Энцо не понравится. Она беззаботно впорхнула в дом. — Он не слишком занят? — Э… да… он занят. — Я его или ее знаю? Большой Виктор сверлил ее глазами. Свежая, как огурчик. Расфуфырилась. Может, она не приезжала в «Пьер»? Может, даже не знает о Дарио? — Подожди в гостиной. Я скажу Энцо. — Давай скорее, Вик. Там будет крутая тусовка, не хочу опаздывать. Он проводил ее в гостиную, посадил и удалился, плотно закрыв за собой дверь.* * *
— Если бы вы только согласились снимать мою девушку! — сказал Уоррис. — Да вы посмотрите ролик. — Ладно, — Энцо широко улыбнулся. — Но я тут кое-кого пригласил — у тебя слюнки потекут! — Вот и чудненько, — вежливо бормотал Уоррис, прикидывая в уме, нельзя ли дописать крошечную роль для подружки Боннатти. — Кажется, вы говорили, что у вас есть просмотровый зал? — Это он и есть, — торжествующим тоном заявил Энцо. — Видишь эти вонючие книги? А теперь смотри! — он надавил на пару кнопок, и в одном конце комнаты появился проектор, а в другом — экран. — Здорово, да? — Так… эти книги не настоящие? — Не-а. Обман зрения. Ловко придумано, как считаешь? Уоррис кивнул и направился к проектору. В это время в комнату ввалился Большой Виктор и что-то зашептал на ухо хозяину. — О'кей, — громко сказал тот. — Давай, Уоррис, все тут приготовь, я на минутку отлучусь. Кое-кто приехал, знаешь ли. Я мигом.* * *
— Ох, как ты меня напугала! — пискнула Имоджин, пялясь на Лаки, бесшумно вошедшую в спальню. — Ты кто? Лаки улыбнулась. У Энцо меняется вкус — от плохого к худшему. Она в первый раз видела эту вульгарную сучку. Новое увлечение? — Я леди Эйвон. Имоджин захихикала. — Ты приехала с голливудским киношником? — Ясное дело. Энцо сказал, чтобы ты поделилась со мной этой кокой, которой ты столь усердно услаждаешь свое обоняние. — Услаждаю — что? — Нюхаешь, милочка! Ну как, с тебя хватит? Имоджин широко распахнула глаза. — А что, Энцо теряет терпение? — Он сказал, если ты сейчас же не поднимешь свою очаровательную задницу и не перенесешь в библиотеку, он лично тобой займется. Мы-то знаем, что это означает, не правда ли? Имоджин уронила крохотную золотую ложечку, которой черпала наркотик. — Можешь взять остальное. — Как великодушно с твоей стороны! Девушка вымелась из спальни, и Лаки без промедления рванула в ванную. Открыла шкафчик, где стояли двенадцать флаконов с разными кремами для бритья. Здесь же Энцо хранил один из своих трех пистолетов. Однажды сам похвастался: «Пусть только какая-нибудь сволочь, мать его, попробует застигнуть меня врасплох — извиняюсь за выражение!»* * *
— Привет! — жеманно воскликнула Имоджин. — Ты и есть продюсер? Уоррис воззрился на нее. Мощная баба! Такой он еще не встречал. — Он самый. А ты… — Имоджин. Я буду блистать в главной роли в твоем фильме.* * *
— Где она? — рявкнул Энцо. Большой Виктор изумленно повел глазами. — Не знаю, босс. Я оставил ее здесь. Может, она уже ушла? Говорила, будто торопится на какую-то драную вечеринку. — Как по-твоему, она что-нибудь подозревает? — Она была абсолютно спокойна. В вечернем платье. На уме одни развлечения. — Ты уверен? — Точно, босс. У меня глаз — алмаз.* * *
Времени было в обрез. Лаки проверила, заряжен ли пистолет, и энергичным движением разорвала платье на груди. Потом подошла к телефону и наорала номер ближайшего участка. — Скорее! На помощь! На меня совершено нападение… — и она, всхлипывая, продиктовала адрес. Расчет времени оказался безупречным. Иначе и быть не могло. Адреналин придал ей дополнительные силы. Джино… Марко… Наконец-то! Она выскочила на лестничную площадку и позвала: — Энцо! Я наверху! Тот повернулся к Большому Виктору. — Какого… она делает у меня в спальне? Телохранитель развел руками. — Понятия не имею, босс. Вы же знаете Лаки: она считает этот дом своим. — Она не могла пронести?.. — Ни в коем случае. Она в таком платье… ну, вы знаете, в облипочку… без нижнего белья. Даже без сумочки. Говорю вам, босс, ей ничего не известно. — Гм… — Энцо нахмурился. У него все еще оставались сомнения. — Чего же она хочет? — Идемте спросим. — Нет-нет, — поспешил возразить Энцо. Негоже терять лицо, выказывая при Викторе страх перед какой-то соплячкой. — Я сам управлюсь. Иди, предложи Уоррису выпить и скажи, что я сейчас приду. — Я уже давал ему выпить, босс. — Так дай еще. Кто тебе мешает?* * *
Джино Сантанджело пошевелился на больничной койке и открыл глаза. Боль ушла, ужасная боль, которая сдавила ему грудь. Он попытался сесть, но что-то мешало — какое-то хитроумное приспособление держало его руку. Заметив его старания, сиделка бросилась к нему. — Мистер Сантанджело, прошу вас лежать тихо. — Почему? — внятно поинтересовался он. Сиделке сроду не задавали таких вопросов. Обычно ее пациенты беспрекословно слушались. Он с улыбкой наблюдал за ее возней. — Эй, сестра! Вам когда-нибудь говорили, что у вас неподражаемый зад? Она выплыла из комнаты.* * *
Энцо медленно поднялся по лестнице. Лаки жива — значит ли это, что и Джино тоже? Неужели этот недоносок Дарио обвел их вокруг пальца? Или еще почище: неужели все рассказал? — Лаки! — позвал он. — Ты где? — В спальне! — пропела она. — Твоя подруга затащила меня сюда угоститься кокой. Чертова идиотка! В чем Имоджин не откажешь, так это в непомерно больших титьках и непомерной глупости. Он вошел в спальню. — Я в ванной! — жизнерадостно крикнула Лаки. — Иди, я тебе что-то покажу! Он возник на пороге ванной — и только тогда понял, что у нее на уме. Слишком поздно. Она стояла и целилась в него из его собственного пистолета. — Может, попробуем договориться?.. — начал он, но Лаки не слушала. — Не стоит недооценивать умственные способности женщин, старина, — спокойно произнесла Лаки. — Это прощальный привет от Джино, Дарио и Марко… особенно Марко. И от меня, конечно! Первая пуля продырявила ему живот; на золотистый ковер брызнула кровь. Вторая ужалила в шею. Третьей он не почувствовал. Все с Энцо Боннатти. Снаружи завыли полицейские сирены. — О'кей, Марко? — прошептала Лаки. — О'кей, малыш?* * *
Когда автомобиль, в котором ехали Стивен, Бобби и еще двое офицеров, добрался до резиденции Боннатти, один из полицейских встрепенулся: — Там что-то случилось. Кажется, нас опередили. Стивен почувствовал холодок под ложечкой. Возле дома стояли две полицейские машины. — Черт! — Интуиция подсказала ему, что триумфом и не пахнет. В воротах стоял полицейский в форме. Он поднял руку, останавливая их машину. — Что происходит? — волновался Стивен, предъявляя свой жетон. Полисмен пожал плечами. — В доме была пальба. Какая-то девушка застрелила Боннатти за попытку изнасилования. Ощущение свинцовой тяжести в животе все усиливалось. — Он мертв? — А вы как думаете?.. Она всадила в него целых три пули. — Господи Иисусе! — Аминь, — вторил Бобби. — Пошли в дом. — Ага, — согласился напарник. — Хоть трупом полюбуемся.* * *
Лаки сидела на кухне, закутавшись в простыню, и отвечала на вопросы детектива. — Я так растерялась, когда он на меня напал. — В ее глазах стояли слезы. — Поймите, пожалуйста: ведь этот человек был для меня вторым отцом! Детектив сочувственно кивнул. — Он… совершенно озверел. Разорвал на мне платье, схватил за грудь. — Она разрыдалась. — Это было ужасно! — Понимаю вас, мэм. Но что было дальше? — Я знала, что он прячет в ванной пистолет: сам много раз показывал. Я побежала туда, он — за мной. А дальше… ничего не помню. — Но вы его убили! — В порядке самозащиты. — Разумеется.* * *
Стивен бросил взгляд на труп. Не осматривал тщательно, как Бобби, — ему и одного взгляда хватило. — Где та девушка? — На кухне, — подсказал полицейский фоторепортер. — Что за красотка! Внизу, у основания лестницы, стояли дебелая телка с необъятными формами, какой-то толстяк, громила с щелками вместо глаз и загорелый субъект средних лет. Последний чуть не плакал. Спутники жизни Энцо Боннатти. Обломки кораблекрушения… — Отвезите их в участок и возьмите показания, — распорядился солидный полицейский. — Я требую адвоката! — настаивала блондинка. — Зачем тебе адвокат, милашка? — осклабился офицер. — Ты же ничего не сделала, разве не так? Стивен вошел на кухню. Лаки подняла глаза. Их взгляды встретились. На мгновение ему показалось, будто она собирается поздороваться, но нет — девушка опустила голову и ничего не сказала. — Это и есть подозреваемая? — Здесь что, — прорычал следователь, — аэропорт Кеннеди? Ты кто такой? Стивен показал служебное удостоверение и нарочно громко произнес: — Стивен Беркли, Ди Эй[2]. Она безучастно покосилась на него. — Вы там чересчур легки на подъем, — проворчал детектив. — Я веду специальное расследование деятельности Боннатти. У меня ордер на арест. — Малость припозднились. — Можно вас на минуточку? Детектив вздохнул и отошел со Стивеном к двери. — Что тут произошло? — Старый ублюдок пытался ее изнасиловать. Обыкновенное убийство в порядке самообороны. — Я могу чем-нибудь помочь? — Помочь! — буркнул детектив. — Когда от вас была какая-нибудь польза? — Он вернулся к столу и начал демонстративно делать какие-то записи. И вдруг Стивен почувствовал на себе обжигающий взгляд. Он обернулся и увидел, как Лаки одними губами прошептала: «Привет, Стивен!», а потом: — «Прощай, Ди Эй!» Ему страстно захотелось что-нибудь сказать ей. Что угодно! Но было нельзя. Она улыбнулась уголками губ и в тот самый момент, когда он почувствовал себя совершенно уничтоженным, неожиданно подмигнула. Так, как умела только она, Лаки Сантанджело. Черт побери! Два года работы насмарку, а она тут подмигивает! Он почти улыбнулся в ответ. Почти.Эпилог
Похороны Энцо Боннатти вылились в грандиозное действо. Его положили в сверхпрочный бронзовый гроб стоимостью в десять тысяч долларов. Отовсюду съехались пожелавшие отдать ему последний долг — те из его друзей, которые могли позволить себе риск засветиться на похоронах такого, как Боннатти. Кровные родственники в черном. Оба его сына — в тех самых костюмах, в которых они буквально день назад хоронили близнецов Кассари в Филадельфии. Энцо трое суток пролежал в открытом гробу в своем особняке на Лонг-Айленде. Мимо струился поток тех, кто пришел проститься. Среди них не было Джино Сантанджело — но лишь потому, что недавний сердечный приступ приковал его к постели, Однако он прислал цветы — огромный венок из хризантем с надписью: «Моему другу Энцо. Каждый день приближает меня к тебе. Джино». Отец Амератти, отпевавший покойника, произнес трогательную речь. — Энцо Боннатти до конца был настоящим джентльменом, — сказал он.* * *
Потрясенный Стивен вернулся в свою святая святых и застал там Кэрри. — Стивен, — сказала она, — я должна тебе кое-что рассказать. Садись и слушай. Когда она закончила, у него было такое чувство, будто вся жизнь разбилась вдребезги. Он так гордился своим происхождением, отцом, которого ни разу не видел! Кэрри не пощадила его, не утаила ни одной подробности. — Так кто же мой отец? — потребовал он. — Кто? — Не знаю, — просто ответила она. — В ночь твоего зачатия я была с двумя мужчинами. С одним я пошла добровольно; другой взял меня силой. — Их имена? — Какая тебе разница? — Назови мне их имена! — Фредди Лестер… богатый бездельник… Я о нем ничего не знаю. — Белый? Она кивнула. — А второй? — Джино Сантанджело. Стивен долго не мог оправиться от удара. Он оставил работу и уехал в Европу, где прожил два года. В конце концов он встретил чернокожую девушку, работавшую моделью. Она была не похожа ни на Зизи, ни на Эйлин и уж во всяком случае ни капельки не похожа на Лаки Сантанджело. Он все еще вспоминал Лаки. Иногда.* * *
Кэрри развелась с Эллиотом. Отказалась от богатства, общественного положения, привычного образа жизни и поселилась в скромном домике на Фэйр-Айленде. Отсюда было рукой подать до коттеджа, где они когда-то жили с Бернардом. Когда в тысяча девятьсот семьдесят девятом году Стивен вернулся в Америку, он поехал навестить ее. — Я понимаю тебя, мама, — только и вымолвил он. А ей ничего больше и не было нужно.* * *
Уоррис Чартерс вернулся в Голливуд. Шоу-бизнес нанес ему еще один удар, но оставалась надежда на будущее. Он прихватил с собой сорокадвухдюймовую Имоджин и сделал из нее кинозвезду. Сразу после этого она бросила его ради двадцатидвухлетнего темнокожего баскетболиста. Уоррис застрелил их обоих в мотеле и окончил свои дни в тюремной камере, где и стал королем. Наконец-то он завоевал подобающее положение в обществе!* * *
Коста Зеннокотти вышел в отставку. Купил себе квартиру в доме на берегу океана в Майами-Бич и последовал совету Джино. Мужчина не может без секса. Отказаться от него — значит существенно обеднить свою жизнь. Он познакомился с симпатичной разведенной женщиной, которая ему готовила, и еще более симпатичной девушкой по вызову, которая навещала его раз в две недели. Идеальная комбинация!* * *
Лаки Сантанджело легко отделалась: дело даже не дошло до суда. «Вот что значит правильно выбирать друзей», — объяснил Джино. Они стали неразлучны — отец и дочь. Отремонтировали дом в Ист-Хэмптоне и полгода жили там, а остальное время — в Вегасе. Лаки занимала свои апартаменты в «Маджириано», а Джино — в «Мираже». Лаки часто думала о Марко и о том, как бы они жили вдвоем. Изредка обращалась мыслями к Стивену. А вообще-то она была счастлива. У нее есть Джино. Вместе они завоюют весь мир!Дин Кунц Шорохи
Часть I Живые и мертвые
Силы, воздействующие на нашу судьбу, формирующие наш характер, – как шорохи в ночи: так же тревожны, властны и неразличимы.Чарльз Диккенс
Глава 1
На рассвете во вторник Лос-Анджелес пережил первый слабый толчок. В окнах задребезжали стекла; зазвенели подвешенные к карнизам колокольчики – но не от ветра. В некоторых квартирах с полок попадала посуда. В утренние часы радио постоянно передавало информацию о землетрясении. К концу времени пик эта новость отошла на третий план: ее оттеснили репортажи о террористических актах в Риме и отчет о столкновении пяти автомашин на магистрали Лос-Анджелес – Санта-Моника. Почему бы и нет? Ведь не рухнуло ни одно здание. К полудню лишь горстка лосанджелесцев (большей частью из переехавших сюда в последние годы) все еще считала это событие достойным небольшого обсуждения за обедом.* * *
Человек в дымчато-сером фургоне марки «Додж» даже не почувствовал толчка. В это время он катил по автомагистрали, приближаясь к Лос-Анджелесу со стороны Сан-Диего. В движущейся автомашине можно ощутить только очень сильные толчки. Так что он ничего не знал о землетрясении до тех пор, пока не остановился позавтракать в какой-то закусочной и не услышал, как о нем говорят другие посетители. Он сразу понял, что землетрясение – знамение, предназначенное лично для него. Оно должно было либо утвердить его в успехе предстоящей ему в Лос-Анджелесе миссии, либо предупредить о неудаче. Но все-таки что именно? Он ломал над этим голову все время, пока ел. Это был крупный, сильный мужчина ростом в шесть футов четыре дюйма и весом в триста фунтов, сплошные мускулы. На еду он потратил целых полтора часа, заказав для начала яичницу из двух яиц с ветчиной, картофель фри, тосты и стакан молока. Он медленно, методично пережевывал пищу, целиком сосредоточившись на этом занятии. Разделавшись с первой порцией, потребовал горку оладий и еще молока. За оладьями последовал омлет с сыром и тремя кусочками канадского бекона, снова тосты и апельсиновый сок. Такой необычный клиент вызвал живой интерес и послужил основной темой разговоров на кухне. Его обслуживала разбитная рыжая официантка по имени Хелен, но и другие девушки нашли предлог пройти мимо столика и бросить на верзилу оценивающий взгляд. Это не ускользнуло от его внимания, но оставило равнодушным. Когда клиент попросил счет, Хелен попыталась завязать разговор: – Вы, должно быть, лесоруб или что-нибудь в этом роде? Посетитель поднял на нее глаза и изобразил деревянную улыбку. Хотя он впервые в жизни был в этой закусочной и видел Хелен, он знал, что она скажет дальше. Все это ему приходилось слышать сотни раз. Девушка захихикала, не спуская с него голубых глаз. – Я почему говорю: лопаете за троих. – Наверное. Хелен стояла, опершись бедром на столик, слегка наклонившись к мужчине и недвусмысленно давая понять, что он может рассчитывать… – И в то же время, – продолжила она, – ни одной унции лишнего жира. Все так же улыбаясь, он думал: интересно, какова она в постели? Мысленно он уже сгреб ее в охапку, повалил и грубо ворвался в нее – а затем почувствовал свои руки на ее горле. Давить, давить, давить – пока у нее не побагровеет лицо и глаза не выкатятся из орбит!.. Хелен задумчиво смотрела на него, словно прикидывая, удовлетворяет ли он ее требованиям – иначе говоря, соответствует ли его сексуальный аппетит тому, какой он только что продемонстрировал за столом? – Вы, должно быть, занимаетесь спортом? – Качаюсь, – ответил он. – Как Арнольд Шварценеггер? – Ага. У девушки была хрупкая, изящная шея. Он мог бы переломить ее, как сухую веточку. Эта мысль сделала его счастливым. – Наверное, ты силен как бык, – одобрительно заметила девушка. На посетителе была тенниска с короткими рукавами, и она пальчиком потрогала его руку пониже локтя. – Сколько бы ни съел, все уходит в мускулатуру. – Вот именно. И еще дело в обмене веществ. – Да? – Масса калорий сгорает, переходя в нервную энергию. – Да ну? – поразилась Хелен. – Ты разве нервный? – Все время начеку, как сиамский кот. – Не может быть. Бьюсь об заклад, тебя ничто не выведет из себя. Хелен была эффектной женщиной под тридцать, то есть на десять лет моложе его. Стоит ему захотеть – и он может иметь ее. Сначала она похнычет из-за грубого обращения, а потом убедит себя, что он поступает с ней, как Ретт со Скарлетт, и позволит повалить себя на диван. Разумеется, после акта ее придется убить: вонзить нож в соблазнительную грудь или перерезать горло, – но ему не хотелось отвлекаться. Не стоит она того, чтобы он зря рисковал. Эта девушка не в его вкусе: он не любит убивать рыжих. Он отвалил ей щедрые чаевые, заплатил по счету в кассу и, бросив Хелен на прощание: «Увидимся!» – вышел из закусочной. После прохлады, создаваемой кондиционером, сентябрьская жара навалилась на него, как горячая подушка. Идя к своему фургону, мужчина чувствовал на себе взгляд Хелен, но не обернулся. Доехав до торгового центра, он припарковал машину в дальнем углу стоянки, подальше от магазинов. Забрался на заднее сиденье, опустил бамбуковую штору, отгораживающую салон от грузового отделения, и растянулся на толстом, драном, коротковатом для него матрасе. Ему пришлось гнать всю ночь без остановки, от самой Санта-Елены. Теперь, после плотного завтрака, на него напала сонливость. Через четыре часа он проснулся от кошмара, весь в поту. Его бросало то в жар, то в холод; одной рукой он вцепился в матрас, а другой хватался за воздух, пытаясь кричать, но у него не было голоса. Сначала он не сообразил, где находится. В задней части машины было совсем темно, если не считать трех узеньких полосок света, пробивавшегося сквозь бамбуковую штору. Воздух был горячим и спертым. Человек сел, нащупал рукой металлическую крышу, напряг зрение и наконец сориентировался. Мысль о том, что он лежит в фургоне, принесла ему облегчение. Он попытался вспомнить свой кошмар, но не смог. В этом не было ничего необычного: едва ли не каждую ночь он просыпался с пересохшим горлом и бешено колотящимся сердцем, но ни разу не сумел вспомнить, что именно повергло его в такой ужас. Хотя он и знал теперь,где находится, темнота по-прежнему действовала ему на нервы. Кто-то, шурша, подкрадывался к нему, и у него, как всегда в таких случаях, начали подниматься волосы на затылке. Он поднял штору и некоторое время усиленно моргал, приспосабливаясь к яркому свету. Потом наклонился и поднял с пола что-то, завернутое в кусок замши, а под ней еще в несколько тряпок. Наконец он добрался до содержимого – пары огромных, очень острых ножей. Дома он потратил немало времени на их заточку. Взяв в одну руку нож, человек испытал странное, очень приятное чувство, как будто это был заколдованный меч чародея, обладающий магической силой. Сквозь крону пальмы пробивались солнечные лучи и, слепя, отражались на поверхности лезвия. Тонкие губы человека в «Додже» раздвинулись в злорадной усмешке. Несмотря на кошмарный сон, отдых придал ему сил. Он чувствовал себя освеженным и уверенным в себе. Утреннее землетрясение могло означать лишь то, что в Лос-Анджелесе его ожидает успех. Он разыщет ту женщину. Доберется до нее. Сегодня или, самое позднее, в среду. При мысли о ее теплой и безупречно гладкой коже его ухмылка перешла в зловещий оскал.* * *
Во вторник, ближе к вечеру, Хилари Томас отправилась за покупками в район Беверли-Хиллз. Вернувшись домой, она оставила свой светло-кофейный «Мерседес» на небольшой стоянке в виде подковы. Теперь, когда модельеры вновь разрешили женщинам быть женственными, Хилари радовалась, что смогла накупить множество нарядных платьев, каких не было в магазинах в пору повального увлечения одеждой чуть ли не солдатского образца. Ей понадобилось трижды ходить в дом и возвращаться за новой партией покупок. Доставая из машины последний сверток, Хилари почувствовала на себе чей-то взгляд. Она огляделась по сторонам. Заходящее солнце залило все вокруг золотистым светом. На газоне играли двое ребятишек. По тротуару семенил коккер-спаниель. Кроме ее «Мерседеса», неподалеку стояли еще две легковушки и крытый фургон, но во всех трех машинах как будто никого не было. – Ведешь себя как идиотка! – обругала она сама себя. – Кому ты нужна? И все-таки, отнеся домой последний пакет и вернувшись, чтобы завести машину в гараж, Хилари вновь почувствовала, что за ней следят.* * *
Около полуночи, читая в постели, Хилари услышала слабый шум внизу. Она отложила книгу и прислушалась. Шелест раздавался со стороны кухни, в районе черного хода. Прямо под ее спальней. Хилари встала с постели и надела купленный сегодня халат из синего шелка. В верхнем ящике ночной тумбочки она хранила автоматический пистолет тридцать второго калибра. Хилари извлекла его оттуда и немного помедлила, прислушиваясь. Она ужасно глупо себя чувствовала. Наверное, дом дает усадку – такое случается. А с другой стороны, она прожила здесь шесть месяцев и ни разу не слышала никакого шороха. Хилари вышла на лестничную клетку и всмотрелась в темноту первого этажа. – Кто здесь? Ей ответила тишина. Держа перед собой пистолет, тяжело дыша и тщетно пытаясь унять дрожь, она спустилась по лестнице, пересекла гостиную и включила свет. Странные звуки не прекратились, но в кухне никого не оказалось. Все выглядело в точности как всегда. Крашеный пол из сосновых досок. Горка из такой же сосны, с керамической окантовкой. Выложенные белой плиткой полки. Сверкающие чистотой кастрюли и прочая утварь. Ни единого признака, что здесь побывал чужой. Она задержалась на пороге и снова прислушалась. Ничего. Только нервное гудение холодильника. Набравшись храбрости, Хилари приблизилась к задней двери. Та оказалась на запоре. Она включила свет во дворике позади дома и подняла штору. Снаружи, по правую руку от нее, мерцала водная гладь бассейна. По левую расположился розарий; яркие лепестки фосфоресцировали среди темной зелени. Всюду царили тишина и покой. «Определенно дело в усадке, – решила она. – Тьфу! Я становлюсь мнительной, точно старая дева». Хилари приготовила сандвич и взяла на кухне бутылку холодного пива. Она не стала выключать свет: это должно отпугнуть налетчика, если такой объявится. Хилари стало стыдно. Она хорошо понимала, что с ней творится. Страх проистекал из застарелого комплекса «Я-не-заслуживаю-такого-счастья». Она давно знала его за собой. Когда-то она явилась в Лос-Анджелес ниоткуда и ничего собой не представляя, зато теперь у нее было все. В глубине души Хилари боялась, что бог однажды спохватится и решит, что она недостойна свалившихся на нее благ. И тогда ее постигнет суровая кара. Вся жизнь разлетится вдребезги. Она лишится всего: дома, автомобиля, счета в банке… Эта новая жизнь слишком хороша, чтобы быть правдой. И уж во всяком случае – чтобы продолжаться вечно. Так вот – нет! Нет, черт побери! Хватит заниматься самоедством, убеждая себя, будто дело в одном лишь везении. Удача тут ни при чем. Рожденная в доме, где разбиваются сердца, вскормленная не молоком и лаской, а постоянной тревогой, ненавидимая отцом и еле-еле терпимая матерью, выросшая в атмосфере безысходности и жалости к себе, она долго не знала своей настоящей цены. Но это пройденный этап. Она полностью излечилась. И не допустит, чтобы старые сомнения взяли над нею верх, не позволит отобрать у себя этот дом, машину и деньги, заработанные упорным трудом, завоеванные талантом. Она всего достигла сама. Когда она явилась в Лос-Анджелес, она не знала здесь ни души. У нее не было ни друзей, ни родственников. Никто не осыпал ее деньгами – за красивые глаза. Лос-Анджелес ежедневно наводняли стада красоток, привлеченных блеском индустрии развлечений, – с ними обращались хуже, чем со скотиной. Хилари пробилась по одной-единственной причине: она оказалась даровитой писательницей, с богатым воображением и неуемной творческой энергией. На фильмы по ее сценариям зрители валили толпами. И она экономила каждый цент, так что богам не за что гневаться на нее. – Успокойся, – произнесла она вслух. – Никто и не думал ломиться к тебе в дом. Это твое воспаленное воображение. Хилари доела сандвич, выпила пиво и, выключив везде свет, погрузилась в крепкий сон без сновидений.* * *
Следующий день стал самым счастливым днем в ее жизни и самым страшным. Среда началась исключительно хорошо. На небе ни облачка. Воздух изумительно свеж и прозрачен. Стояла на удивление теплая, солнечная погода. Все вокруг поражало яркими, чистыми, как на полотнах кубистов, красками. У Хилари было такое чувство, будто вот-вот поднимется занавес и откроется новый, чудесный, запредельный мир. Хилари Томас провела утро в саду. Эти отгороженные прочной высокой стеной пол-акра земли позади ее двухэтажного, в испанском стиле коттеджа были засажены всеми видами роз. Здесь были сорта «Фрау Карл Друсски», «Мадам Пьер Ожер», мускусная роза и множество гибридов. Сад полыхал белыми, красными, розовыми и пурпурными огнями. У некоторых роз лепестки были величиной с блюдце, у других – такие крохотные, что свободно могли пройти сквозь обручальное кольцо. Бархатная изумрудная лужайка пестрела лепестками всех оттенков. Каждое утро Хилари по два-три часа возилась в саду. И в каком бы настроении она ни входила в сад, возвращалась она неизменно полной свежих сил и в мире с самой собой. Разумеется, она могла нанять садовника. Первый фильм, «Проныра Пит из Аризоны», принес ей целое состояние. Он и сейчас еще время от времени шел в кинотеатрах, причем с большим успехом. Ее двенадцатикомнатный коттедж в Вествуде, на границе Бель-Эйр и Беверли-Хиллз, стоил бешеных денег, но полгода назад она смогла внести требуемую сумму. В кругах шоу-бизнеса ее считали одержимой собственницей. Да. Она и чувствовала себя одержимой. Полной планов и возможностей к их осуществлению. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Хилари стала чертовски удачливой сценаристкой и владелицей недвижимости, так что при желании могла оплачивать труд целой армии садовников. Но она была нежно привязана к цветам и деревьям. Сад превратился в ее святая святых. Здесь она спасалась от действительности. Детство Хилари прошло в ветхом многоквартирном доме на одной из беднейших окраин Чикаго. Даже теперь, здесь, в Лос-Анджелесе, отдыхая душой и телом в благоухающем розарии, Хилари время от времени закрывала глаза и отчетливо представляла себе каждую подробность. Подъезд с рядами почтовых ящиков – замки посбивали воры, искавшие денежные переводы. Узкие, плохо освещенные коридоры. Унылые каморки с потертой мебелью. Крохотная кухонька с древней газовой горелкой, обещавшей вот-вот взорваться. Хилари жила в постоянном страхе перед пожаром. Холодильник пожелтел от времени; его урчащий, перегретый мотор привлекал всякую живность, из-за чего отец называл их квартиру заповедником. В эту минуту, в своем прекрасном саду, Хилари вспомнила «заповедник» и содрогнулась. Хотя они с матерью драили все четыре комнаты до блеска, выплескивая бешеные количества инсектицидов, им так и не удавалось избавиться от тараканов, проникавших сквозь щели соседних квартир, где обитали далеко не чистюли. Ей навсегда врезался в память вид из единственного окна ее спальни, где она отсиживалась часами, пока отец с матерью ссорились. Спальня стала ее прибежищем от диких воплей и ругани, а также от тяжелой, убийственной тишины, когда родители переставали разговаривать друг с другом. Вид из окна был не особенно вдохновляющим: всего лишь прокопченная кирпичная стена дома через улицу. Окно никогда не открывалось, но если хорошо прижаться к стеклу, сплющив нос, можно было разглядеть сверху узкую полоску серебристо-голубого неба. Не смея даже надеяться когда-нибудь сбежать из этого ада, Хилари привыкла как бы проникать взглядом сквозь кирпичную стену. Она давала волю воображению; взгляд летел дальше, она видела перед собой холмы, иногда даже Тихий океан или высоченные горные цепи. Но чаще всего перед ее мысленным взором вставал сад, созданный ее собственными руками, волшебный уголок, где было тихо и очень уютно, где росли бы аккуратно подстриженные кусты и высились ажурные решетки, увитые лианами. В мечтах она расставляла в саду легкую плетеную мебель. Тенты в яркую полоску надежно защищали от зноя. Под ними сидели нарядные женщины и мужчины в легких костюмах и, наслаждаясь напитками со льдом, вели непринужденную беседу. «И вот я живу в этом доме, – подумала Хилари. – Сон обернулся явью. Я здесь полноправная хозяйка». Ей было не в тягость ухаживать за розами и другими растениями: наоборот, Хилари считала это удовольствием, а не работой. Каждая минута, проведенная среди цветов, уносила ее все дальше от кошмарных воспоминаний детства. В полдень Хилари отложила садовый инструмент и приняла горячий душ. У нее было такое чувство, словно вместе с паром улетучиваются не только грязь и усталость, но и тяжелые воспоминания. В их убогом чикагском жилище в ванной протекали все краны и регулярно засорялись раковины. И никогда не было вдоволь горячей воды. Сидя в застекленном патио, Хилари съела легкий обед. Доедая бутерброд с сыром и закусывая яблоками, просмотрела пару утренних газет, пишущих о шоу-бизнесе: «Голливудский репортер» и «Дейли Вэрайити». В «Репортере», в колонке Хэнка Гранта, значилось ее имя – среди деятелей шоу-бизнеса, отмечающих сегодня свой день рождения. Для женщины, которой только что исполнилось двадцать девять лет, она многого достигла. Сегодня решалась судьба ее нового сценария. К концу дня руководство студии «Уорнер Бразерс» должно было либо согласиться купить его, либо отвергнуть. Хилари и ждала телефонного звонка, и боялась разочарования. Этот сценарий был ей дороже всех предыдущих. Она взялась за него, не имея никаких гарантий, повинуясь творческому импульсу, и твердо решила продать его, только если ей разрешат стать одним из постановщиков и предоставят право решающего голоса при окончательном монтаже картины. «Уорнер Бразерс» уже делали намеки на баснословный гонорар, если она откажется от этих требований. Хилари отдавала себе отчет в том, что слишком многого хочет, но успех двух предыдущих фильмов по ее сценариям доказал, что, возможно, ее претензии не так уж и безосновательны. Что говорить, компании будет нелегко согласиться на ее участие и контроль за производственным процессом, но подлинным камнем преткновения, конечно же, станет ее желание самой решать судьбу каждого кадра и каждого нюанса. Это право испокон веку было прерогативой совета директоров, которые регулярно подтверждали свою компетентность, выпуская одну за другой сверхкассовые картины. Такая честь практически никогда не предоставлялась начинающему режиссеру, тем более женщине. Упорство, с которым Хилари добивалась контроля над творческим процессом, могло стать непреодолимым препятствием к заключению контракта. Чтобы отвлечься от дум о судьбе сценария, Хилари провела послеобеденное время в своей студии, выходящей окнами на бассейн. Здесь стоял массивный дубовый письменный стол с дюжиной ящиков. Кроме настольной лампы, комнату освещали два стоявших на пианино бронзовых подсвечника. Хилари изо всех сил старалась сосредоточиться на статье для «Филм Коммент», но ее мысли витали далеко отсюда. В четыре часа зазвонил телефон, и Хилари вздрогнула, несмотря на то что целый день ждала этого звонка. На проводе был Уолли Топелис. – Это твой агент, детка. Необходимо поговорить. – Разве мы уже не разговариваем? – Я имею в виду, глаза в глаза. – Ясно, – мрачно вымолвила она. – Плохие новости. – Я этого не говорил. – В противном случае ты бы сообщил мне, как обстоят дела, прямо по телефону. «Глаза в глаза» означает, что ты хочешь подсластить пилюлю. Помочь мне перенести удар. – Ну и паникерша же ты! – «Глаза в глаза» означает, что ты будешь держать меня за руку и отговаривать от самоубийства. – Какое счастье, что твоя склонность к мелодраме никак не отражается на сценариях. – Если «Уорнеры» ответили «нет», так прямо и скажи. – Они еще не пришли к окончательному решению, мой ягненочек. – Понятно. – Ты будешь слушать, в конце концов? Ничего еще не решено. Я полон надежд и хочу обсудить с тобой наши следующие шаги. Вот и все. Мне абсолютно не в чем каяться. Можешь встретиться со мной через полчаса? – Где? – В отеле «Беверли-Хиллз». – Ресторан «Поло Лаундж»? – Естественно.* * *
Заворачивая за угол и таким образом оставляя позади бульвар Заходящего Солнца, Хилари подумала: как странно, почти нереально выглядит отель «Беверли-Хиллз» – будто рожденный зноем мираж в пустыне, всей своей громадой нависший над величественными пальмами. Сказочное зрелище! Всякий раз, подъезжая к этому зданию, Хилари обнаруживала, что его розовая отделка выглядит далеко не так кричаще, как она представляла издали. Полупрозрачные стены излучали мягкий свет, шедший изнутри. Отель был по-своему элегантен, хотя в нем и было что-то от декаданса. Перед главным входом служители в униформе встречали гостей, чтобы заняться их машинами. Здесь уже стояли два «Роллс-Ройса», три «Мерседеса» и алый «Мазерати». «Долгий путь от чикагской окраины», – подумала Хилари и счастливо улыбнулась. Войдя в зал ресторана «Поло Лаундж», она увидела с полдюжины знаменитых голливудских актеров и актрис, а также двоих преуспевающих продюсеров, однако ни один из них не сидел за столиком номер три. Это место считалось самым удобным, так как отсюда хорошо просматривался вход. Сейчас за этим столиком восседал Уолли Топелис – один из всемогущих агентов по рекламе; ему удалось очаровать метрдотеля – точно так же, как всех, с кем он когда-либо имел дело. Это был невысокий худощавый человек лет пятидесяти, очень элегантный, с густой седой шевелюрой и пышными усами. Именно такой человек должен был сидеть за столиком номер три. В эту минуту он разговаривал по специально для него установленному телефону. Завидев Хилари, он поспешил закончить разговор и, положив трубку на рычаг, поднялся ей навстречу. – Ты, как всегда, очаровательна. – А ты, как всегда, в центре внимания. Уолли ухмыльнулся и тихим, заговорщицким тоном произнес: – На нас все смотрят. – Еще бы. – Украдкой, – продолжил он. – Да уж, конечно. – Делают вид, будто им нет до нас никакого дела. – Уолли Топелис упивался своим триумфом. – Мы тоже не покажем виду, будто что-то заметили, – подхватила Хилари, садясь за стол. – Ни в коем случае. – Это было бы пошло. – Вне всяких сомнений! Хилари вздохнула. – Я никогда не могла понять, почему один столик считается более привилегированным, чем другие. – Мне самому смешно, но я это понимаю, – уже серьезно произнес Уолли. – Что бы там ни говорили Маркс и Энгельс, а классовые различия у людей в крови, особенно если общество ставит во главу угла не происхождение, а деньги и жизненный успех. Где бы мы ни очутились, мы тотчас воздвигаем классовые барьеры – даже в ресторане. – Кажется, я угодила на одну из знаменитых лекций Топелиса. В это время официант принес сверкающее ведерко со льдом и установил на треножнике рядом с их столиком. Очевидно, Уолли взял на себя ответственность за их сегодняшнее меню, не дожидаясь ее прихода. – Это не лекция, – возразил он, когда официант снова исчез. – Так, житейское наблюдение. Люди не могут не делиться на классы. – Почему? – Прежде всего потому, что, кроме естественных, жизненно важных потребностей в еде и крыше над головой, существуют и другие, не менее сильные, которые побуждают их к действию. Если существует район, в котором живут сливки общества, человек вкалывает на двух работах, лишь бы заработать побольше денег и поселиться в том же районе. Если один автомобиль престижней другого, мужчина – или женщина, в данном случае пол не имеет значения, – будет трудиться не покладая рук, чтобы обзавестись точно таким же. И если в «Поло Лаундж» есть особый столик, каждый старается разбогатеть и прославиться – пусть даже это будет дурная слава, – чтобы получить на него право. Эта страсть, даже мания, достичь более высокого общественного статуса является сильнейшим стимулом к расширению производства, увеличению общественного богатства, созданию новых рабочих мест. Если бы Генри Форд не поставил перед собой задачу пробиться, он ни за что не создал бы компанию, которая ныне дает работу десяткам тысяч других людей. Классовые различия – двигатель прогресса; это они помогают нам поддерживать высокий жизненный уровень и придают смысл невыносимому подчас труду. Хилари покачала головой. – Если человек занимает лучшее место в зале ресторана, это еще не делает его более совершенным. – Назови это символом совершенства. – Не вижу смысла. – Тогда смотри как на увлекательную игру. – А на тебя – как на игрока экстра-класса. Уолли самодовольно улыбнулся. – Ты думаешь? – А я вот, кажется, никогда не научусь в нее играть. – Научишься, ягненочек. Конечно, в этой игре много глупого, но она идет на пользу бизнесу. Никто не хочет связываться с неудачником. Зато всякий стремится играть с тем, кто занимает престижный столик в «Поло Лаундж». Хилари не знала другого такого человека, который мог бы назвать женщину ягненочком и при этом не задеть снисходительностью тона и не заслужить упрека в заискивании. Будучи ростом с жокея, Уолли чем-то напоминал ей Кэрри Гранта в фильме «Поймать вора» – или как он там назывался? Он перенял у Гранта хорошие манеры, походку, жестикуляцию, даже взгляд, исполненный лукавства, – как будто жизнь казалась ему тонкой игрой. К ним снова подошел официант. Уолли назвал его Юджином и задал несколько вопросов о детях. Юджин явно симпатизировал ее кавалеру, и Хилари подумала, что, наверное, «занимать престижный столик в «Поло Лаундж» включает в себя и приятельское обращение со слугами. Юджин передал Уолли бутылку шампанского. Хилари бросила взгляд на этикетку. – «Дом Периньон»? – Для тебя – только самое лучшее, моя прелесть. Юджин сорвал фольгу и начал раскручивать проволоку, державшую пробку. Хилари помрачнела. – Вот теперь я на сто процентов уверена, что у тебя плохие новости. – Что заставляет тебя так думать? – Стодолларовое шампанское… Должно быть, оно призвано смягчить мою душевную боль, пролиться бальзамом на раны сердца. Хлопнула пробка. Юджин прекрасно справился со своей задачей: пролил всего несколько капель. – Какая же ты пессимистка, – упрекнул Уолли. – Реалистка, – поправила она. – Любая другая на твоем месте запищала бы: «Ах, шампанское! Что мы празднуем?» Но только не Хилари Томас. Юджин плеснул ему на пробу шампанского. Уолли пригубил и одобрительно кивнул. – Празднуем? – переспросила Хилари. Такая возможность не приходила ей в голову. Она вдруг почувствовала слабость. – Вот именно, празднуем, – подтвердил Уолли. Юджин торжественно, не спеша наполнил их бокалы и поместил бутылку в ведерко со льдом. Ему явно хотелось послушать, что скажет Уолли. По-видимому, и Уолли не возражал против того, чтобы приятная новость как можно скорее стала достоянием гласности. Ухмыльнувшись, как Кэрри Грант, он слегка наклонился к Хилари и произнес: – Договор с «Уорнер Бразерс» у нас в кармане. Хилари моргнула, открыла рот и не нашла что сказать. – Не может быть. – Может. – Это так просто не делается. – Говорю тебе, договор у нас в кармане. – Они не дадут мне ставить. – Дадут. – Тогда не позволят участвовать при окончательном монтаже картины. – Позволят. – О господи! Хилари потеряла дар речи. Юджин поспешил поздравить их и смыться. Уолли рассмеялся и чуточку укоризненно покачал головой. – Могла бы сыграть и получше. Сейчас все станут спрашивать Юджина, что мы отмечаем, а он будет удовлетворять всеобщее любопытство. Я предпочел бы, чтобы люди думали, что ты была абсолютно уверена в успехе. Плавая среди акул, нельзя показывать сомнения, а тем более страха. – Ты не шутишь? Мы действительно добились, чего хотели? – У меня есть тост. За мою самую очаровательную клиентку, с надеждой на то, что она когда-нибудь поймет, что далеко не все яблоки – червивые. Они чокнулись. Хилари все еще мучили сомнения. – Наверное, студия выдвинет какие-нибудь условия. Урежут финансирование. Откажут в процентах с прибыли. Что-нибудь в этом роде. – Прекрати искать ржавые гвозди в супе! – Мы же не едим суп. – Очень остроумно! Я пью шампанское. – Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Хилари устремила задумчивый взгляд на пузырьки в бокале. У нее было такое чувство, словно из глубины ее души тоже поднимаются искристые пузырьки радости. Но какая-то часть ее существа продолжала играть роль пробки, сдерживая радость: так безопаснее. Нельзя искушать судьбу. – Я не могу понять, – признался Уолли. – У тебя такой вид, будто сделка не состоялась. Ты хорошо расслышала, что я сказал? Хилари улыбнулась. – Извини. Просто… я с детских лет привыкла жить ожиданием худшего. По крайней мере, убережешься от разочарований. Если живешь с безнадежными алкоголиками, ничего другого не остается. В глазах ее агента светилась доброта. – Твои родители умерли. Оба. Давным-давно. Они тебе больше не угрожают. Никто не может ничего тебе сделать. – Последние двенадцать лет я только и делаю, что убеждаю себя в этом. – Когда-нибудь обращалась к психоаналитику? – Два года подряд. – Не помогло? – Практически нет. – Может, попробовать другого врача? – Не в этом дело, – возразила Хилари. – Теория Фрейда имеет один недостаток. Психоаналитики убеждены, что стоит только нащупать в детских годах пациента нанесенную ему душевную травму, как он тотчас исцелится. Главное – подобрать ключ, а открыть дверь уже не составит труда. На самом деле все не так просто. – Нужно хотеть исцелиться, – подсказал Уолли. – И этого недостаточно. Уолли вертел в холеной руке бокал шампанского. – Если тебе нужно выговориться, я всегда к твоим услугам. – Я уже столько лет плачусь тебе в жилетку. – Ерунда. Ты почти ничего не рассказывала. Так, голые факты. – Это не так уж интересно, – вздохнула Хилари. – Уверяю тебя, ничего подобного! Семейная драма, рубцы на сердце, сумасшествие, убийство и самоубийство, бедная невинная крошка меж двух огней – ты, как сценаристка, знаешь: такое никогда не приедается. Хилари жалко улыбнулась. – Я должна сама во всем разобраться. – Свежий взгляд со стороны никогда не помешает. Опять же – возможность излить душу… – Я изливала ее и перед психиатром, и перед тобой… – Неужели совсем не помогло? – Помогло, насколько это было возможно. Дальше я должна сама встать лицом к лицу с прошлым, без посторонней помощи. – Прядь черных волос упала ей на лицо, закрыв один глаз; Хилари нетерпеливо откинула ее за ухо. – Рано или поздно я смогу жить с высоко поднятой головой. Это вопрос времени. Про себя она подумала: «А сама-то я в это верю?» Уолли с минуту смотрел на нее. Потом он заговорил: – Ну что ж. Наверное, тебе виднее. В любом случае стоит выпить. – Он поднял свой бокал. – Ну-ка, напусти на себя веселый, самоуверенный вид – пусть все эти важные господа завидуют и рвутся работать с тобой! Хилари безумно хотелось откинуться на спинку кресла, пить шампанское «Дом Периньон», и пусть ее захлестнут волны радости! Но ей никак не удавалось полностью расслабиться. У нее было такое чувство, как будто где-то там, в темноте, притаилось что-то страшное. В свое время родители запихнули ее, совсем крошку, в тесную коробочку страха, захлопнули крышку и заперли снаружи. С тех пор она взирает на мир из этого гроба. Эрл с Эммой довели ее до тихого, но устойчивого помешательства, параноидальной шизофрении, сводящей на нет все светлое в ее жизни. Она едва не задохнулась от ненависти к отцу с матерью. Многие годы и многие мили отделяли ее от чикагского ада, но она все еще ощущала себя его пленницей. – Что с тобой? – мягко спросил Уолли. – Ничего. Я в полном порядке. – Ты очень бледна. Хилари сделала над собой усилие, чтобы загнать страх в тайники памяти. Потом потрепала Уолли по щеке и нежно поцеловала. – Прости. Иногда я действительно становлюсь невыносимой. Вон, даже не удосужилась поблагодарить тебя. Уолли, я счастлива, что мы заключили этот договор! Правда! Ты самый лучший агент на свете! – Вот тут ты не ошибаешься. Но мне не пришлось чрезмерно потеть. Они пришли в такой восторг от твоего сценария, что готовы были сдаться на все твои условия. Удача тут ни при чем, так же как и мои способности. Ты должна знать, детка: это все твой талант. Тебе сейчас нет равных. Ты можешь сколько влезет мучиться воспоминаниями о родителях-садистах, можешь продолжать смотреть на мир сквозь черные очки… Но мне все же хочется, чтобы ты попробовала жить иначе. Послушайся моего совета. Ах, как ей хотелось поверить Уолли, заразиться его оптимизмом – но черные семена чикагской окраины пустили в душе Хилари зловещие побеги. Сколько бы Уолли ни расписывал прелести ее нынешнего положения, в этом раю ей мерещились все те же подстерегающие ее чудовища. Она всей душой верила в закон Мерфи: «Все, что может испортиться, – портится!» Но Уолли был так настойчив, говорил таким убедительным тоном, что Хилари добросовестно пошарила в хаосе своих чувств и извлекла солнечную улыбку. – Ну вот, – с облегчением вымолвил он. – Так-то лучше. Тебе идет улыбаться. – Постараюсь делать это почаще. – А я постараюсь заключать для тебя как можно больше выгодных контрактов. Они пили шампанское и строили радужные планы. Никогда еще Хилари столько не смеялась. Понемногу у нее полегчало на душе. Проходя мимо их столика, популярнейший киноактер, «настоящий мужчина» сегодняшнего экрана – холодные глаза, тонкие, поджатые губы, гора мускулов, валкая походка, – а в жизни добрый, смешливый, даже застенчивый человек, чья последняя работа принесла создателям фильма барыш в пятьдесят миллионов долларов, первым задержался, чтобы поздороваться и спросить, по какому случаю пир горой. Вслед за ним подошел неприступный продюсер с глазами ящерицы: этот сначала косвенно, а затем напрямую попытался выведать сюжет «Волка», в надежде перехватить сценарий и состряпать телесериал-скороспелку. Скоро у их столика перебывала добрая половина зала, прикидывая, нельзя ли войти в долю и чем-либо поживиться. Ведь «Волку» понадобятся продюсер, звезды, музыкальный аранжировщик… Таким образом, за престижным столиком вершился апофеоз Хилари Томас с пожиманием рук, похлопыванием по спине и чмоканьем в щечку. Хилари отдавала себе отчет в том, что большинство блестящих завсегдатаев «Поло Лаундж» вовсе не такие хищники и стяжатели, какими они иногда казались. Многие начинали жизнь на дне общества – голодные, нищие, как она сама. И хотя каждый сколотил кругленькое состояние и выгодно поместил капитал, они были не в состоянии перестать суетиться, потому что разучились жить иначе. Подлинная жизнь Голливуда не имела ничего общего с имиджем, который сложился у восхищенной публики. Секретарши, продавцы, мелкие служащие, водители такси, механики, домохозяйки, официантки, представители всех профессий и слоев населения по всей стране, возвращаясь вечером домой, падали с ног от усталости. Их хватало только на то, чтобы плюхнуться в кресло перед «ящиком» и погрузиться в волшебный мир звезд. Для миллионов людей от Гавайев до штата Мэн и от Флориды до Аляски Голливуд стал символом разнузданных оргий, доступных женщин, бешеных денег, огромного количества выпитого виски, еще большего количества кокаина, блаженной праздности под знойным южным небом, попоек на краю бассейна, каникул в Акапулько и Палм-Спрингс, секса на покрытом меховой накидкой заднем сиденье «Роллс-Ройса». Фантастика! Сказка! Сладкая иллюзия! По мнению Хилари, общество, безнадежно погрязшее в коррупции, возглавляемое бездарными политиканами, стоящее на шатком фундаменте, подтачиваемом инфляцией и чрезмерными налогами, живущее в постоянном страхе перед ядерной угрозой, – такое общество нуждается в иллюзиях, если хочет выжить. В действительности люди, занятые в кино– и телеиндустрии, пашут гораздо больше, чем другие, даже если плоды их трудов и не стоят затраченных усилий. Звезда, занятая в популярном телесериале, вкалывает от зари до зари, часто по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки. Отдача, естественно, тоже бывает колоссальной. И даже несмотря на это, их вечеринки не особенно напоминают оргии; женщины не доступнее, чем в Филадельфии, Хакенсаке или Тампе; солнечной погоде отнюдь не сопутствует праздность, а секс ничем не отличается от того, каким занимаются секретарши Бостона или продавцы Питтсбурга. В четверть седьмого Уолли должен был уходить на небольшую вечеринку, и пара завсегдатаев «Поло Лаундж» предложила Хилари поужинать с ними. Она отказалась, сославшись на якобы уже существующую договоренность. Когда они вышли из отеля, было еще светло. На ослепительном лазоревом небе белела пара облаков. Все вокруг приобрело платиновый оттенок. Мимо, смеясь и оживленно беседуя, прошелестели две молодые парочки, направлявшиеся к своим «Кадиллакам», а чуть поодаль, на бульваре Заходящего Солнца, шуршали шины, ревели двигатели и взвизгивали клаксоны. Они подождали, пока расторопные служители подгонят их машины. – Хилари, у тебя действительно назначена встреча? – Д-да. С самой собой. – Хочешь поехать со мной? – Незваный гость… – Считай, что я тебя пригласил. – Не хочу нарушать твои планы. – Ерунда. Ты будешь весьма приятным дополнением. – Я не одета для званого ужина. – Ты и так хороша. – Уолли, мне хочется побыть одной. – Ты становишься отшельницей хуже Гарбо. Поехали со мной. Ну, пожалуйста! Это неофициальная встреча с молодым, подающим надежды телесценаристом и его женой. Милейшие люди. – Уолли, я в полном порядке. Честно. – Такая красивая женщина, в день своего триумфа – и одна! Нет, ты определенно нуждаешься в чем-то таком: свечи, тихая, ласковая музыка, хорошее вино, а рядом тот, с кем ты пожелаешь разделить все это. Хилари усмехнулась. – Уолли, да ты скрытый романтик! – Я вполне серьезно. Она положила руку ему на плечо. – Это очень мило с твоей стороны, что ты обо мне заботишься, но со мной действительно все в порядке. Я люблю уединение. Впереди еще достаточно времени для интимных встреч, катания на горных лыжах и дружеских попоек после выхода «Часа волка». Уолли Топелис помрачнел. – Если ты не научишься отдыхать, тебе долго не продержаться. Через каких-нибудь пару лет ты будешь похожа на тряпичную куклу. А вместе с физическими силами иссякнет и творческая энергия. – Этот фильм станет водоразделом между моей прошлой и будущей жизнью. – Согласен. Однако… – Я всю себя вложила в эту работу, пахала, как негр, все поставила на одну карту. Только когда у меня будет прочная репутация хорошего сценариста и режиссера, я смогу наконец поставить крест на жалких, истрепавшихся призраках: моих родителях, чикагских трущобах, всех ужасных воспоминаниях. Научусь расслабляться и вести нормальный образ жизни. Но не сейчас. Если я расслаблюсь сейчас, меня постигнет неудача. Или я внушу себе, что потерпела неудачу, – что, в сущности, одно и то же. Уолли вздохнул. – О’кей. И все-таки ты зря отказываешься. В это время лакей подогнал ее машину. Хилари обняла Уолли. – Может быть, я позвоню тебе завтра – просто убедиться, что мне не приснилась вся эта история с «Часом волка». – На окончательное оформление договора уйдет несколько недель. Но я не думаю, что могут возникнуть осложнения. На следующей неделе подпишем протокол, и можешь приступать к работе. Хилари послала ему воздушный поцелуй, дала лакею чаевые и укатила. Она поехала вверх по склону, минуя шикарные особняки стоимостью в несколько миллионов долларов, лужайки, зеленевшие почище банкнот; повернула налево, потом направо – словом, ехала наугад, без какой-то определенной цели, просто чтобы успокоиться. Это был один из немногих видов отдыха, какие она себе позволяла. Дорога была испещрена густыми багровыми тенями; на улице быстро темнело, хотя сквозь кроны пальм, дубов, кленов, кедров, кипарисов и сосен еще мелькали проблески света. Хилари включила передние фары и покатила дальше по извилистой дороге каньона, пока не почувствовала, что напряжение начинает отпускать ее. С наступлением сумерек она остановилась возле небольшого мексиканского ресторанчика на бульваре Ла-Синега. Грубо оштукатуренные стены. Фотопортреты мексиканских головорезов. Густой аромат горячего соуса, острой приправы и кукурузных лепешек. Официантки в крестьянских блузах с глубоким вырезом и красных юбках в складку. Знойная, чувственная музыка. Хилари заказала сыр, немного риса и жареные бобы. Еда оказалась такой вкусной, словно подавалась при свечах, под мелодичную музыку и рядом был близкий человек, готовый разделить с нею ее торжество. Не забыть сказать Уолли, подумала Хилари, допивая темное мексиканское пиво. Но тут же услышала его язвительный голос: «Ягненочек, это не что иное, как самообман. Конечно, одиночество не отражается на качестве еды, музыки и свечей, но это еще не значит, что оно полезно для душевного и физического здоровья». Он ни за что не удержится от очередной нотации, и пусть это будет сделано с наилучшими намерениями, ей от этого не легче. Хилари села в свой автомобиль, пристегнула ремень, включила зажигание и радио и несколько минут неподвижно сидела, наблюдая за потоком огней на Ла-Синега. Сегодня у нее день рождения. Двадцать девятый по счету. И, несмотря на упоминание в колонке Гранта в «Голливудском репортере», кроме нее самой, никому нет до этого дела. Но разве не она сама уверяла Уолли, что ее это устраивает? Мимо проносились автомобили. Люди куда-то спешили – большей частью парами, – строили планы на вечер. Хилари не хотелось домой, но больше ехать было некуда.* * *
В доме было темно. Хилари завела машину в гараж и приблизилась к парадной двери. Ее высокие каблучки громко стучали по каменным плитам. Стоял ласковый, теплый вечер. Земля щедро отдавала солнечное тепло; прохладный ветер с моря, в любое время года продувавший город насквозь, еще не принес с собой похолодание. Хотя ближе к ночи впору будет надевать пальто. В саду громко стрекотали цикады. Хилари вошла в дом, включила свет в прихожей и заперла дверь. Зажгла свет в гостиной и стала подниматься по лестнице – как вдруг услышала за спиной какой-то шум и обернулась. Из кладовки неподалеку от входной двери, где висела ненужная одежда, выступил человек примерно сорока лет от роду, рослый, в облегающем желтом свитере, черных брюках и кожаных перчатках. Под свитером ходуном ходили бугры мускулов: должно быть, он много лет занимался поднятием тяжестей. Даже запястья, различимые между перчатками и рукавами свитера, были внушительных размеров и свидетельствовали о недюжинной силе. Человек остановился в десяти футах от Хилари, широко ухмыльнулся и облизнул тонкие губы. Она не знала, как отреагировать на непрошеное вторжение. То был не заурядный взломщик и не какой-нибудь мальчишка-дегенерат с наркотическим блеском в глазах. Она знала этого человека и меньше всего ожидала увидеть его в подобной ситуации. Пожалуй, только появление из кладовки Уолли Топелиса могло бы так же удивить ее. Хилари была не столько испугана, сколько растеряна. Она познакомилась с этим человеком три недели назад в графстве Напа, Северная Калифорния, куда ездила собирать материал для следующего сценария, из жизни виноделов. Там он выглядел солидным, преуспевающим дельцом из Напа-Валли. Но какого черта он делал в ее кладовке? – Мистер Фрай? – неуверенно вымолвила она. – Привет, Хилари. – У него был густой, низкий, гортанный, скрипучий голос, но там, в Напа-Валли, он звучал отечески бодро, сейчас в нем слышались угрожающие нотки. Хилари прочистила горло. – Что вы здесь делаете? – Приехал повидаться с вами. – Зачем? – Просто повидаться. Его тяжелый, хищный взгляд прожигал ее насквозь. С лица не сходила зловещая ухмылка – волчий оскал перед тем, как страшный зверь сомкнет челюсти на горле бедного кролика. – Как вы сюда попали? – требовательно спросила Хилари. – Красивая… – Что? – Ты очень красивая. – Немедленно прекратите это. – Я давно искал такую, как ты. – Вы меня пугаете. – Ах, какая красавица! – И он сделал шаг навстречу. Она вдруг угадала его намерения. Но это же чистое безумие! С какой стати богатому человеку, занимающему высокое положение в обществе, ехать за сотни миль, рискуя своим состоянием, репутацией и свободой, ради скоротечного акта насилия? Фрай сделал еще один шаг навстречу. Насилие. Но это же ни в какие ворота!.. Разве что… Разве что он собирается потом убить ее. Тогда он не так уж и рискует – значит, не будет ни отпечатков пальцев, ни каких-либо иных улик. И никому не придет в голову, что известный промышленник, уважаемый винодел из Санта-Елены проделал долгий путь до Лос-Анджелеса, чтобы совершить акт насилия и убить жертву. Никто не подумает на Бруно Фрая. Следствие ни за что не двинется в этом направлении. Может, она сошла с ума? Это не тот Бруно Фрай, с которым она свела знакомство в Санта-Елене. Тогда она не заметила ни малейших признаков безумия, которое теперь исказило его черты. В холодных как лед глазах сквозила злоба. Как же Фраю удалось скрыть ее при первой встрече? Вдруг Хилари заметила нож, и все ее сомнения испарились. Он явился, чтобы убить ее. Нож торчал у него за поясом над правым бедром. Всего одна секунда – и он очутится в руках у бандита, чтобы затем вонзиться ей в живот. Дальше все пошло как при замедленной съемке. Секунда растянулась до минуты. Хилари следила за тем, как он приближается, – будто смотрела страшный сон. Ей стало не хватать воздуха: атмосфера в доме неимоверно сгустилась. Вид ножа парализовал ее. Она больше не пятилась – словно приросла к месту. Нож почти всегда оказывает такое действие. Человек теряет дар речи, ледяная рука страха сжимает сердце. Вас до самых кишок пробирает озноб. Не у всякого хватает духу пустить в ход холодное оружие. Ничто, как нож, не дает столь отчетливого представления о хрупкости человеческой плоти и самой жизни. Яд, пистолет, разрывная бомба действуют на расстоянии. Но преступник с ножом должен вплотную приблизиться к жертве. Чтобы вспороть живот другого человека и не почувствовать тошноты от приторного запаха крови, нужно особое бесстрашие – или безумие. Фрай подошел совсем близко. Положил громадную ручищу на обе ее груди и грубо стиснул их, прикрытые тонкой шелковой материей. Непосредственный контакт с врагом вывел Хилари из состояния транса. Она с силой ударила Фрая по руке, вырвалась и отскочила за диван. Фрай расхохотался, но его глаза полыхнули кровожадным огнем. То был дьявольский смех. Видно, он только и ждал, чтобы она начала сопротивляться: это разжигало в нем охотничий азарт. – Убирайся! – крикнула Хилари. – Немедленно выйди вон! – А мне не хочется выходить, – усмехнулся Фрац. – Как раз наоборот. Я намерен войти. О да. Именно так. Войти в тебя, маленькая леди. Содрать одежду, оголить твою плоть и ворваться в нее – глубоко-глубоко. Туда, где тепло, темно и влажно. На какую-то долю секунды ноги Хилари сделались ватными и сердце ушло в пятки, но затем страх сменился более полезным чувством – ненавистью. И яростью. То не был осознанный гнев интеллигентной женщины против покушения на ее достоинство: в основе этой ярости лежало нечто более фундаментальное, первозданное. Он вторгся в ее святая святых, осквернил ее жилище, растоптал хрупкий мир ее души, ее единственное прибежище! Хилари неожиданно оскалила зубы и не закричала, а зарычала, низведенная этим мерзавцем до уровня животного. На диванной полке стояла пара тяжелых, восемнадцать дюймов высотой, фарфоровых статуэток. Хилари схватила одну и швырнула во Фрая. Он мгновенно увернулся, и статуэтка разбилась о кирпичную кладку камина; все пространство перед камином покрылось осколками. – Даю тебе вторую попытку. Хилари взяла вторую статуэтку и заколебалась. Наблюдая заналетчиком сквозь прищуренные от злости веки, она взвесила статуэтку на ладони и изобразила бросок. Фрай поддался на ее финт и быстро уклонился. Тогда она бросила по-настоящему. От удивления Фрай не успел увернуться, и статуэтка задела ему висок. Удар оказался не таким сильным, как ей хотелось бы: Фрай не только удержался на ногах, но и не был серьезно ранен. Даже кровь не выступила. И все-таки Хилари причинила ему боль, и это на него подействовало. Игривое настроение сменилось яростью. Кривая ухмылка исчезла с побагровевшего лица. Фрай заскрежетал зубами. На массивной шее проступили бугры мыщц. Он изготовился к прыжку. Хилари рассчитала, что он в несколько прыжков обогнет диван, а она тем временем отбежит на другую сторону и, может быть, найдет еще чем в него бросить. Но Фрай попер прямо на нее, как разъяренный бык, а наткнувшись на диван, запросто схватил его огромными ручищами и, перевернув, отшвырнул в сторону, как будто в нем было всего несколько фунтов. Хилари отскочила в сторону. Фрай рванулся к ней и неминуемо схватил бы, если бы не споткнулся и не упал на одно колено. Гнев у Хилари снова сменился страхом, и она пустилась наутек: в прихожую, к входной двери. Однако быстро сообразила, что, пока она будет отпирать замки, Фрай успеет атаковать ее. Он был совсем близко, в двух или трех шагах от нее. Хилари метнулась вправо и устремилась вверх по винтовой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки сразу. Она тяжело дышала, но все равно слышала его сопение и грязные ругательства. Пистолет! В ночной тумбочке. Если она раньше его добежит до спальни, захлопнет и запрет дверь, это даст ей пару секунд, чтобы выхватить из ящика пистолет. На лестничной площадке, когда Хилари уже думала, что на целых несколько футов опередила своего преследователя, он схватил ее за правое плечо и рванул к себе. Хилари вскрикнула, но не стала вырываться, как он ожидал, а резко обернулась и что было сил ударила его коленом между ног. Он взвыл, весь побелел от пронзительной боли и выпустил ее. Наверное, ему еще не попадались женщины, способные постоять за себя. Ей дважды удалось обвести его вокруг пальца. Он-то считал, будто имеет дело с хорошенькой дурочкой, безобидным зайчонком, безответной жертвой, которую он без труда подчинит своей воле, использует и одним лишь ударом могучего кулака выбьет из нее дух. Однако она ощерилась, показала клыки и выпустила когти. И возликовала, увидев на его лице выражение шока. У нее мелькнула надежда, что враг не устоит на ногах, покатится вниз по лестнице и сломает себе шею. Или что удар в самое чувствительное место ненадолго, хотя бы на минуту, выведет его из строя. Однако не успела она развернуться на 180 градусов и убежать, как Фрай выпустил балюстраду, за которую схватился, чтобы не упасть, и ринулся вслед за ней. – Сука! – хрипло выругался он. – Нет! – крикнула Хилари. – Стой! Ни шагу дальше! Она показалась себе персонажем одного из фильмов студии «Хаммер Филмз», которого преследовал то ли вампир, то ли зомби. – Сука! Хилари все-таки успела вбежать в спальню и захлопнуть дверь. И зашарила рукой по двери в поисках щеколды. Внезапно она услышала нечеловеческий, леденящий душу вопль и, обезумевшим взглядом окинув комнату, не сразу поняла, что это ее собственный крик. Она была на грани паники, но знала, что должна была во что бы то ни стало сохранить самообладание. Если, конечно, хочет выжить. Убедившись, что дверь спальни заперта, Фрай всей своей огромной тушей навалился на нее. Дверь устояла. Но это ненадолго. Недостаточно, чтобы вызвать полицию и дождаться ее приезда. У Хилари бешено колотилось сердце; она вся дрожала, словно очутилась в ледяной пустыне, но твердо решила не поддаваться страху. Метнувшись к ночной тумбочке, она случайно увидела свое отражение в зеркале. Это была совсем незнакомая женщина с глазами, как у филина, и мертвенно-бледным лицом, больше похожим на белую маску мима. Фрай бил в дверь. Дерево трещало, но не поддавалось. Пистолет лежал среди пижам в верхнем ящике. Заряженный магазин находился рядом. Хилари схватила пистолет и дрожащими пальцами несколько раз пыталась затолкнуть магазин. Наконец ей это удалось. Удары в дверь не стихали. Замок был ненадежен. Таким замком закрывать комнату от непослушных детей, но не от Бруно Фрая. Полетели щепки, и дверь широко распахнулась. Тяжело дыша, он появился в дверном проеме. Приподнятые плечи, сжатые кулаки. Этот человек жаждал крушить и рвать все, что ни попадется на пути. В глазах светилась похоть, его зловещая фигура отражалась в зеркале. Хилари медленно подняла пистолет. – Буду стрелять! Клянусь богом, буду! Фрай остановился, тупо заморгал и наконец разглядел оружие. – Убирайся! Он не шелохнулся. – Немедленно выметайся отсюда! Фрай недоверчиво ухмыльнулся и сделал шаг навстречу. Это был уже не тот самодовольный, расчетливый, циничный насильник, каким он предстал перед Хилари внизу. В нем произошла перемена: как будто где-то в глубине его души сломалось некое реле; в мозгу все перепуталось, перемешалось; в нем не осталось ничего разумного, человеческого; он действовал, как лунатик. В глазах растаял лед – теперь они горели лихорадочным, кровавым блеском. По лицу струился пот. Губы беспрестанно шевелились: он то кривил их, то кусал, то надувал, как ребенок. Им двигала уже не похоть, а нечто более темное, звериное. Хилари догадалась: это придает ему свежие силы и уверенность в собственной недосягаемости для пуль. Он выхватил из-за пояса нож и выставил перед собой. – Сука! – Я не шучу! Фрай сделал по направлению к ней еще один шаг. – Ради бога, – взмолилась Хилари, – будьте благоразумны. Нож – ничто против пистолета. До него оставалось каких-нибудь двенадцать или пятнадцать футов. – Я размозжу тебе голову! – в отчаянии крикнула Хилари. Фрай начал размахивать ножом, чертя в воздухе круги и как будто придавая им магическое значение. По-видимому, ему казалось, что он заклинает злых духов. Он сделал еще шаг вперед. Хилари прицелилась в центр живота, чтобы в случае небольшого отклонения влево или вправо наверняка попасть. И нажала на спуск. Ничего не случилось. – О господи! Фрай приблизился еще на пару шагов. На Хилари нашел столбняк. Она изумленно уставилась на этого подонка. Между ними оставалось не более шести, от силы восьми футов. Она выстрелила во второй раз. Ничего. Господи Иисусе! Неужели где-то заело? Потом она сообразила, что забыла снять пистолет с предохранителя. Хилари сделала это и выстрелила в третий раз – в то самое мгновение, когда Фрай ринулся на нее, не обходя, а вспрыгивая на разделявшую их кровать. Раздался оглушительный хлопок. Фрай зашатался и, выронив нож, повалился на кровать, но тотчас вскочил и схватился левой рукой за свою правую руку. Хилари не видела крови и потому не поверила, что он ранен. Возможно, пуля ударилась о нож. Шок сбил Фрая с ног, но он мгновенно оправился. Он вдруг взвыл от боли. Это был мерзкий, злобный вой отнюдь не поверженного. Фрай снова изготовился к прыжку. Хилари еще раз выстрелила. Ее противник рухнул на пол и больше не встал. Хилари испустила вздох облегчения и в изнеможении прислонилась к стене, не спуская глаз с того места за кроватью, куда свалился Фрай. Оттуда не доносилось ни звука, но ее беспокоило, что она не видит самого Фрая. Хилари, насколько могла, вытянула шею, но не увидела его. Тогда она осторожно обошла кровать. Фрай лежал ничком на шоколадно-коричневом ковре. Правая рука подвернулась под живот, а левая вытянута на полу. Хилари не видела его лица. На темном ковре нельзя было различить кровь. Впрочем, она и не ожидала увидеть его в луже крови. Если он ранен в грудь, то, вполне возможно, под ним на ковре расплылось алое пятно. Если же пуля попала в лоб и он умер мгновенно, ее могло быть всего несколько капель. Она подождала минуту, другую. Враг не шевелился и не дышал. Неужели мертв? Хилари подошла чуточку ближе. – Мистер Фрай? Она не собиралась подходить слишком близко и подвергать себя опасности, но все же хотела получше его рассмотреть. По-прежнему держа перед собой наведенный на него пистолет, сделала шаг к нему. – Мистер Фрай? Ответа не было. Забавно, что даже теперь он был для нее «мистер Фрай». После всего случившегося она еще не могла обойтись без вежливой формулы. Может быть, потому, что он мертв. Так уж повелось, что после смерти даже законченный мерзавец может рассчитывать на некоторую долю уважения. Потому что, унижая покойника, мы унижаем самих себя. Оскорблять мертвеца – все равно что издеваться над великой и самой последней из тайн – тайной смерти. Боги не прощают подобного вызова. Хилари подождала еще немного. – Знаете что, мистер Фрай? – произнесла она вслух. – Я все же не хочу рисковать. Пожалуй, всажу-ка я в вас еще одну пулю – на всякий случай. Вот так. Прямо в твою башку, чертов ублюдок! Разумеется, она бы не выполнила эту угрозу. Она не была жестокой от природы и никогда еще не стреляла в живое существо. И если только что ей пришлось выстрелить в Бруно Фрая, то лишь потому, что от него исходила непосредственная угроза ее жизни. Инстинкт самосохранения плюс истерика сделали свое дело. Но теперь, когда он лежал перед ней бездыханный, не более опасный, чем куча тряпья, ей было трудно решиться хладнокровно нажать на спуск. Размозжить голову трупа. Ее тошнило от одной только мысли. Угроза скорее должна была стать проверкой. Если он притворяется, перспектива нового выстрела должна заставить его выдать себя. Хилари вздохнула и опустила пистолет. Он мертв. Она убила человека. Испытывая ужас перед предстоящим расследованием и нашествием репортеров, она обошла покойника и направилась к двери. И вдруг он перестал быть покойником. Фрай в точности разгадал ее хитрость и выжидал, пока она не утратит бдительность. У него были стальные нервы. В мгновение ока он выпростал из-под себя правую руку и схватил Хилари за щиколотку. Она вскрикнула и упала. И они покатились по ковру клубком из четырех рук и четырех ног, его зубы – возле ее горла. Фрай рычал, словно бешеная собака. Хилари боялась, что он вот-вот перегрызет ей артерию и высосет из нее кровь. Она ухватила его за подбородок и постаралась отвести его голову в сторону. В ответ он запустил руку ей под платье и попытался сорвать с нее колготки и вцепиться в ее половые органы – жестом не любовника, а насильника. Да он ее просто разорвет! Хилари сделала попытку выцарапать ему глаза, но он вовремя увернулся. Их взгляды встретились, и оба оцепенели, одновременно осознав, что она все еще сжимает в руке пистолет – теперь его дуло оказалось направленным ему в промежность. Он облизнул сухие губы и мигнул. Сволочь паршивая! – Только дернись, – простонала Хилари, – и я отстрелю тебе яйца. Понял, что я сказала? – потребовала ответа Хилари. – Ага. – Будешь хорошо себя вести? – Ага. – Больше ты меня не проведешь. – Как скажешь. – Хорошо, – сказала Хилари. – Я хочу, чтобы ты не делал резких движений. Когда я подам сигнал, мы медленно, очень медленно перекатимся так, чтобы ты оказался внизу, а я сверху. Она не заметила забавного совпадения: примерно так любовники уговаривают друг друга в разгар любовного акта. – Когда я скажу, перекатишься на правый бок, – продолжала Хилари. – О’кей. – Пистолет останется там же, где и сейчас. Из холодных, жестких глаз Фрая ушли безумие и ярость. Перспектива остаться без половых органов вернула его к действительности – на какое-то время. Хилари для верности потыкала дулом пистолета в его гениталии, и он скривился от боли. – Давай, только осторожно, – скомандовала она. Фрай с величайшей осторожностью перевернулся сначала на правый бок, а затем на спину. Он вытащил руку из-под ее платья и не предпринял попытки завладеть пистолетом. Левой рукой уцепившись за него, а в правой сжимая оружие, Хилари легла на бандита сверху. Пальцы правой руки начали неметь, и она крепче сжала пистолет, до смерти боясь, что Фрай это заметит. – Ну, так, – произнесла она. – Теперь я попробую слезть. Пистолет остается на месте. Не шевелись и даже не моргай. Фрай напряженно смотрел на нее. – Ясно? – Ага. Продолжая держать пистолет приставленным к его ширинке, Хилари высвободилась с такой осторожностью, как будто все это время была прикована к мине. У нее пересохло во рту. Оба тяжело дышали, но Хилари было слышно, как тикают ее часики от Картье. Она скатилась на бок, встала на колени, немного помедлила, поднялась на ноги и поспешила отскочить, прежде чем он успеет снова схватить ее. Фрай сел. – Нет! – крикнула Хилари. – Сейчас же ложись! – Я тебя не трону. – Ляг! – Да успокойся ты. – Ложись, черт тебя подери! Он и не думал слушаться. – Ну, и что дальше? Хилари помахала пистолетом. – Я сказала – ложись! На спину! Живо! Он безобразно усмехнулся. – А я спросил: что дальше? Фрай явно пытался овладеть ситуацией, и это Хилари не понравилось. А с другой стороны, не все ли равно, лежит он или сидит? Лишь бы не поднялся на ноги и не настиг ее прежде, чем она выпустит в него еще пару пуль. – Ладно, – неохотно вымолвила она. – Сиди, раз уж так хочется. Но если ты сделаешь хотя бы одно движение, я разряжу в тебя всю обойму. Разметаю кишки по комнате. Клянусь, я так и сделаю. Он ухмыльнулся и кивнул. – А сейчас, – сказала Хилари, – я подойду к тумбочке и позвоню в полицию. Она медленно, шажок за шажком, точно краб, попятилась назад и наконец достигла ночной тумбочки, где стоял телефонный аппарат. Как только она села и сняла трубку, Фрай поднялся на ноги. – Эй! – Хилари выронила трубку и обеими руками стиснула пистолет, стараясь унять дрожь. Фрай протянул к ней руки. – Погоди секундочку. Я не собираюсь тебя трогать. – Сядь! – Я к тебе не подойду. – Сказано, садись! – Я хочу уйти, – заявил Фрай. – Черта с два ты уйдешь! – Я выйду из этой комнаты и из этого дома. – Нет! – Ты же не станешь стрелять, если я тихо-мирно уйду отсюда. – Только попробуй! – Не посмеешь, – доверительным тоном произнес Фрай. – Ты не из тех, кто способен хладнокровно нажать на спуск, если есть выбор. Тебе не выстрелить человеку в спину – ни за что на свете. Кишка тонка. Слабачка! – Он гнусно ухмыльнулся и сделал шаг к двери. – После моего ухода можешь вызвать полицию. – Еще один шаг. – Другое дело, если бы мы не были знакомы. А так – можешь объяснить им, кто здесь был. – Еще шаг. – Меня нетрудно найти. – Шаг. – Ты выиграла, а я проиграл. Все, что мне нужно, это немного времени, чтобы прийти в себя. Совсем немного времени. Да, он был прав. Она могла стрелять, когда он напал на нее, но не сейчас, когда он просто уходил. Угадывая ее колебания, Фрай повернулся к ней спиной. Хилари бесила его наглая самоуверенность, но она не могла заставить себя спустить курок. Он медленно дошел до двери и даже не оглянулся. Начал спускаться по лестнице. Хилари прошиб пот. Что, если он не уйдет? Спрячется в одном из помещений нижнего этажа – в той же кладовке. Выждет, пока приедет и уедет полиция, а потом снова нападет на нее. Она выскочила на лестничную площадку – как раз вовремя, чтобы увидеть, как он скрылся в прихожей. Повозился с замком. Громко хлопнула входная дверь. На три четверти спустившись по лестнице, Хилари вдруг сообразила: он мог понарошке хлопнуть дверью и не уйти. Затаиться в прихожей. Крепко сжимая в руке пистолет, она сошла вниз и немного подождала. Рванула дверь в прихожую. Никого. Дверь кладовки распахнута настежь. Фрай и вправду ушел. Хилари закрыла кладовку. На два замка заперла входную дверь. Пошатываясь, пересекла гостиную. Вошла в кабинет. Здесь пахло лаком для мебели: только вчера приходили две женщины из бюро услуг. Хилари включила свет и подошла к письменному столу. Положила пистолет. На окне стояла ваза с алыми и белыми розами. Их аромат мешался с запахом лака. Хилари села за стол и придвинула к себе телефон. Посмотрела в справочнике номер полиции. И вдруг к глазам подступили горячие, злые слезы. Она тщетно пыталась их удержать. Ведь она – Хилари Томас, а Хилари Томас не плачет. Никогда. Хилари Томас – сильная женщина. Она не сломается, даже если весь мир обрушится ей на голову. Хилари Томас превосходно владеет собой, благодарю вас. Но как она ни закрывала глаза, поток слез не иссякал. Крупные, точно градины, соленые слезы катились у нее по щекам и скапливались в уголках губ, откуда затем стекали по подбородку. Сначала она плакала втихомолку, из какого-то суеверного страха. Потом дала себе волю и, трясясь всем телом, заплакала навзрыд. В горле стоял комок. Хилари пришла в отчаяние: она все-таки сломалась. Она обхватила себя руками за плечи. Потом достала из ящика пачку клинексов, высморкалась – и снова зарыдала. Она плакала не потому, что Фрай причинил ей боль – во всяком случае, физическую. Ей самой было трудно это объяснить, но она плакала потому, что он учинил над ней насилие. Нет, он не смог надругаться над ее телом, ему не удалось даже полностью сорвать с нее одежду. Но он нагло нарушил неприкосновенность ее жилища, сломал барьер, который она возводила столько лет и с таким трудом. Ворвался в ее чистый, уютный мир и захватал своими грязными лапами. Совсем недавно, сидя за престижным столиком в «Поло Лаундж», Уолли Топелис пытался убедить ее не быть все время настороже, и она впервые за двадцать лет задумалась насчет возможности жить, не уходя в глухую оборону. После хороших новостей и под влиянием Уолли ей захотелось стать беспечнее. Иметь больше друзей. Чаще отдыхать. Больше веселиться. Это была сверкающая греза, надежда на новую жизнь, которая не дается легко, но стоит усилий. И вот явился Бруно Фрай и растоптал ее хрупкую мечту. Задушил в зародыше. Напомнил, что мир полон опасностей – как подпол, кишащий страшными, невидимыми в кромешной тьме тварями. Она столько лет карабкалась вверх из смрадной ямы – но Бруно Фрай ударил ее грязным сапогом по лицу и столкнул обратно, на дно жизни, где царят страх, неуверенность и подозрительность. И одиночество. Этот человек раздавил и уничтожил ее. Сгреб грязными ручищами ее надежду и безжалостно сокрушил, как злой хулиган – любимую игрушку слабого ребенка. (обратно)Глава 2
Геометрические образы. Они сводили Энтони с ума. На закате, когда Хилари Томас, стараясь снять напряжение, колесила вверх и вниз по каньону, Энтони Клеменца и его напарник, лейтенант Фрэнк Говард, допрашивали одного из совладельцев бара в Санта-Монике. За огромными окнами заходящее солнце рисовало постоянно меняющиеся картины – пурпурными, оранжевыми и серебряными мазками на фоне темнеющего моря. Бар «Парадиз» служил местом встреч одиноких сердец – сексуально озабоченных одиночек обоего пола. В наше время такие заведения тем более нужны, что традиционные места знакомств – церковные обряды, посиделки у соседей, пикники, клубы по интересам – давно снесены настоящими и фигуральными бульдозерами и на их месте выросли небоскребы административных зданий, башни из стекла и бетона, пиццерии и пятиэтажные гаражи. В «Парадизе» парень неопределенного возраста легко мог подцепить неопределенного возраста девушку, и ее жажда соединялась с его собственной. Здесь робкая секретарша из Чатсуэрта могла свести знакомство с некоммуникабельным программистом из Бербанка; и здесь насильник без труда находил свою жертву. На взгляд Энтони Клеменца, посетители «Парадиза» делились на три живописные группы. В первую входили красивые, уверенные в себе мужчины и женщины, очень прямо сидевшие на высоких табуретах за стойкой и цедившие коктейли, не забывая принимать эффектные позы. Менее красивые, но наделенные точно такими же желаниями, держались с большей непринужденностью и как будто всем своим видом говорили: «Нам здесь хорошо, весело и нет никакого дела до этих воображал с прямыми спинами». Эта группа являла взору более плавные, более закругленные линии тел, находящихся в покое, искупая естественностью мелкие физические несовершенства. И, наконец, третья группа состояла из безликих, ни красивых, ни безобразных особей, суетящихся по углам, шныряющих от столика к столику, обмениваясь скучающими взглядами и улыбками и пробавляясь низкопробными сплетнями, уверенных в том, что их никто и никогда не полюбит. По мнению Тони Клеменца, общий колорит был довольно-таки мрачным. Темные полосы неудовлетворенного желания. Клетчатое поле одиночества. Тихое отчаяние в разноцветную елочку. Но их с Фрэнком Говардом привело сюда не желание полюбоваться пейзажем и жанровыми сценами, а ниточка, ведущая к Бобби Вальдесу по прозвищу Ангелочек. В апреле Бобби Вальдес вышел из тюрьмы, отсидев семь с хвостиком лет вместо положенных пятнадцати за изнасилование и непредумышленное убийство. И, похоже, его досрочное освобождение было грубейшей ошибкой. Восемь лет назад Бобби изнасиловал от трех до шестнадцати жительниц Лос-Анджелеса. Полиция располагала доказательствами по трем случаям и подозревала в остальных. Однажды вечером Бобби напал на женщину на автомобильной стоянке; угрожая пистолетом, вынудил сесть в свою машину, отвез в безлюдное место среди Голливудских холмов, сорвал с нее одежду и несколько раз овладел ею, затем вышвырнул из машины и уехал. Голая женщина не удержалась на ногах, покатилась в кювет и там напоролась на старый поваленный забор с острыми деревянными кольями и колючей проволокой. Проволока изранила все ее тело, а заостренный кол пропорол ее насквозь, вонзившись в живот и выйдя из спины. Как ни невероятно, но, вынужденно отдаваясь Бобби, женщина нащупала у него в кармане одну из визитных карточек и, сообразив, что это такое, крепко зажала в кулаке. Далее полиции стало известно, что она всегда носила трусики из комплекта, подаренного ей кавалером: в районе промежности было вышито: «Собственность Гарри». Такие трусики, грязные и разодранные в клочья, были обнаружены в коллекции Бобби во время обыска в его квартире. Обе эти улики и позволили арестовать его. К несчастью для населения Калифорнии, обстоятельства сложились так, что Бобби легко отделался. При задержании были допущены отклонения от формальной процедуры, это дало возможность развернуть жаркую дискуссию о конституционных гарантиях. Как раз в это время окружной прокурор по фамилии Кауперхаузен сам был заподозрен в коррупции. Сообразив, что нарушения, допущенные при аресте Бобби Вальдеса, могут спасти его собственный зад от любителей покопаться в дерьме, окружной прокурор поддержал предложение защитника признать Бобби виновным в совершении только трех изнасилований и одного непредумышленного убийства. Большинство детективов из отдела по расследованию убийств, такие как Тони, недоумевали, почему прокурор не предпринимает мер для сбора улик еще по нескольким изнасилованиям, а также убийству второй степени, похищению, разбою и содомии. Это казалось совсем не трудным делом. Однако судьба в лице судей благоволила к Бобби. И вот он снова на свободе. «Ненадолго», – подумал Тони. В мае, всего через месяц после освобождения, Ангелочек Бобби Вальдес в положенное время не явился отмечаться в полицейский участок. Он съехал с квартиры и не сообщил свой новый адрес. Попросту сбежал. В июне Бобби принялся за старое – точно с такой же легкостью, как человек после нескольких лет воздержания снова начинает курить. Запретный плод в таких случаях становится еще слаще. В этом месяце Бобби изнасиловал двух женщин и еще двух – в июле. В августе число потерпевших возросло до трех, а первые десять дней сентября дали еще две жертвы. За семь лет в тюрьме Бобби соскучился по женщине. Полицейские не сомневались, что все девять преступлений – а может быть, и еще несколько, оставшихся неизвестными, – дело рук одного и того же человека – Бобби Вальдеса. Прежде всего, во всех девяти случаях преступник одинаково приступал к делу. После того как одинокая женщина выходила из своей машины на безлюдной стоянке, он выныривал из темноты и, приставив к ее боку, спине или животу пистолет, говорил: «Я крутой парень. Едем со мной. Тебе ничего не будет. Откажешься – выпущу кишки. Если не будешь сопротивляться, тебе не о чем беспокоиться. Я и в самом деле крутой парень!» Каждый раз он произносил одно и то же. Жертвы запомнили эти слова, потому что уж очень они не вязались с юношеским, почти детским, обликом «крутого парня». Точно так же Бобби действовал восемь лет назад, в самом начале своей карьеры насильника. Все жертвы одинаково описывали напавшего на них человека. Стройный. Ростом пять футов десять дюймов. Вес примерно сто сорок фунтов. Смуглый. Ямочка на подбородке. Каштановые волосы и карие глаза. Нежный девичий голосок. За этот голос и юное миловидное лицо приятели прозвали его Ангелочком. Бобби исполнилось тридцать лет, но он все еще выглядел на шестнадцать. Пострадавшие утверждали, что он показался им чуть ли не подростком, однако вел себя как жестокий, опасный, больной мужчина. Бармен «Парадиза» поручил свою работу помощнику и внимательно ознакомился с тремя фотографиями Бобби Вальдеса, предложенными ему Фрэнком Говардом. Бармена звали Отто. Это был видный бородатый мужчина с красивым темным загаром. На нем были темные брюки и голубая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами; оттуда выглядывали жесткие курчавые волосы и золотая цепочка, на которой болтался зуб акулы. Отто перевел взгляд с фотографий на Фрэнка и нахмурился. – Вот не знал, что Санта-Моника попадает под юрисдикцию лос-анджелесской полиции. – Нас пригласил шеф полиции Санта-Моники, – объяснил Тони. – Гм. – Мы сотрудничаем в расследовании особо тяжких преступлений, – нетерпеливо произнес Фрэнк. – Ну что, вы когда-нибудь видели этого парня? – Ага, заходил пару раз. – Когда? – Э… с месяц назад. Может, и раньше. – Не в последнее время? В это время на эстраду после двадцатиминутного перерыва вышел джаз и заиграл одну из песенок Билли Джоэла. Отто повысил голос, чтобы перекричать музыку. – Говорю вам, я не видел его больше месяца. Я почему запомнил – он показался мне совсем сопляком, из тех, кому не положено отпускать спиртное. Пришлось спросить удостоверение личности. Он аж взбеленился. Начал тут выступать. – Чего он хотел? – Требовал управляющего. – И все? – спросил Тони. – Обзывался нехорошими словами, – угрюмо произнес Отто. – Меня никогда так не обзывали. Тони приложил руку к уху наподобие раковины, чтобы лучше слышать бармена. Он ничего не имел против мелодий Билли Джоэла, но не в исполнении музыкантов, явно считавших, что энтузиазм и громкость способны компенсировать плохую игру. – Значит, он вас оскорбил, – констатировал Фрэнк. – Дальше? – Дальше ему пришлось извиниться. – Так просто? Сначала он требует управляющего, обзывает вас, а потом этак запросто приносит свои извинения? – Ага. – Это с какой же стати? – А с такой, что я попросил его об этом. Фрэнк придвинулся к бармену поближе: музыка сделалась прямо-таки оглушительной. – Извинился только потому, что вы его об этом попросили? – Ну… сначала он полез на рожон. – Вы подрались? – Не-а, – лениво ответил Отто. – Если какой-нибудь сукин сын начинает выступать в моем баре, мне необязательно марать о него руки, чтобы заставить заткнуться. – Должно быть, вы их гипнотизируете, – буркнул Фрэнк. Джаз влупил на полную катушку. Казалось, от такого количества децибел глаза вылезут из орбит. Солист предпринимал жалкие попытки подражать Билли Джоэлу. Рядом с Тони сидела, прислушиваясь к разговору, ослепительная зеленоглазая блондинка. Она вдруг открыла рот. – Валяй, Отто. Покажи свой фокус. – Вы что, умеете творить чудеса? – спросил Тони. – Например, делать так, чтобы нарушитель испарился в воздухе? – Он их пугает, – объяснила блондинка. – Это высший класс. Покажи им, Отто. Тот пожал плечами и, пошарив под прилавком, достал высокую стеклянную пивную кружку. Несколько секунд он выжидал, давая полицейским возможность рассмотреть ее – словно они никогда не видели ничего подобного. Потом поднес кружку к губам и, откусив кусок стекла, выплюнул в урну. Оркестр как раз сделал небольшую паузу, и было слышно, как хрустит стекло. – Ничего себе! – воскликнул Фрэнк. Блондинка захихикала. Отто повторил свой трюк. Наконец он отгрыз весь верх и швырнул кружку в урну. – Я всегда так делаю, если кому-нибудь хочется побузить. И говорю, что, если он не успокоится, я откушу ему нос. Фрэнк был потрясен. – Неужели вам приходилось это делать? – Что – откусывать нос? Не-а. Обычно хватает одного обещания. – И часто здесь бывают драки? – осведомился Фрэнк. – Не-а. Это приличное место. Не больше одной в неделю. Джаз снова врубил на полную мощность. – Как вы это делаете? – крикнул Тони. – Кусаю стекло? Ну, есть тут один секрет. Но вообще-то нетрудно научиться. – И вам никогда не случалось порезаться? – Бывает, хотя и редко. Только не язык. Чтобы узнать, умеет ли человек это делать, попросите показать язык. Мой – в полном порядке. – Но вы сказали, что у вас были несчастные случаи… – Ясное дело. Губы. Хотя и не так уж часто. – От этого трюк еще эффектнее, – вмешалась блондинка. – Видели бы вы Отто в тот момент, когда у него по бороде течет кровь, а на губах кровавая пена! – Ее зеленые глаза зажглись таким восторгом, что Тони стало не по себе. – Вы и представить себе не можете, как быстро они делаются паиньками!.. – М-да, – только и смог вымолвить Тони. Фрэнк опомнился первым. – Ну ладно. Вернемся к Бобби Вальдесу. – Он постучал костяшками пальцев по фотографиям на прилавке. – Я же сказал, он уже месяц носу не кажет. – В тот вечер, после стычки, он спросил чего-нибудь выпить? – Да. Парочку стаканов. – Вы сказали, что видели его удостоверение личности… – Ага. – Что это было – водительские права? – Ага. Ему оказалось тридцать лет. Ни за что бы не подумал. – Вы не заметили, на чье имя были выданы права? Отто потеребил акулий зуб на цепочке. – На чье имя? Ну, вы же знаете. – Я просто подумал, – объяснил Фрэнк, – может, он показал вам фальшивые документы? – Там было его фото. – Это еще не значит, что они настоящие. – Калифорнийские права не так-то легко подделать, – авторитетно заявил Отто. – Только попробуйте – они мигом начинают расползаться. Особая обработка. – Совладелец бара вдруг оживился. – Он что, шпион? – Задавать вопросы – наше дело, – отрезал Фрэнк. – А ваше – отвечать. Бармен моментально замкнулся в себе; глаза сделались пустыми. Почувствовав, что они вот-вот потеряют свидетеля, Тони предостерегающим жестом положил руку Фрэнку на плечо: – Хочешь, чтобы он начал хрупать стекло? – Хотела бы я на это посмотреть! – снова захихикала блондинка. – Может, попробуешь сам? – предложил Фрэнк. – С удовольствием. – Что ж, валяй. Тони улыбнулся бармену. – Послушайте, вы любопытны, мы – тоже. Никому не будет хуже, если мы удовлетворим вашу любознательность, а вы – нашу. Идет? Отто начал оттаивать. – Так что натворил этот Бобби Вальдес? – Нарушил режим. – Учинил разбойное нападение, – добавил Фрэнк. – Изнасиловал девятерых женщин, – продолжил Тони. – Эй, – удивился бармен. – Вы, парни, кажется, сказали, что вы из отдела по расследованию убийств? Музыканты только что отыграли «Все по-прежнему» и устроили себе небольшую передышку, делая вид, что настраивают инструменты. – Когда Бобби Вальдесу попадается не слишком покладистая бабенка, – объяснил Тони, – он угрожает ей пистолетом. Пять дней назад он напал на десятую жертву. Она сопротивлялась, и он так сильно ударил ее по голове, что она скончалась в больнице. – Чего я не понимаю, – вставила блондинка, – так это зачем брать силой то, что многие и сами охотно дадут? – И она подмигнула Тони, но тот не прореагировал. – Перед смертью, – подхватил Фрэнк, – потерпевшая дала точное описание преступника, Бобби Вальдеса. А теперь мы готовы послушать вас. Как оказалось, Отто смотрел не только шпионские фильмы, но и детективы. – Ага, – протянул он. – Выходит, он обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами? – Точно, – подтвердил Тони. – А как вы вышли на меня? – В семи случаях из десяти он нападал на одиноких женщин на автостоянках возле таких заведений, как ваше. – И вовсе не таких, – запротестовал Отто. – Наша стоянка отлично освещается. – Оно так. Но мы объехали все бары для одиноких в городе, и один посетитель сказал, будто бы встречал его здесь. Хотя он и не уверен на все сто процентов. – Я же сказал, что он заглядывал, – проворчал Отто. – Месяц тому назад. Теперь, когда он смягчился, Фрэнк снова перехватил инициативу. – Значит, он начал скандалить, вы проделали трюк со стеклом, и он предъявил удостоверение личности? – Ага. – На чье имя? Отто насупил брови от напряжения. – Точно не припомню. – Роберт Вальдес? – Не думаю. – Постарайтесь вспомнить. – Вроде бы он чикано. – Вальдес тоже мексиканская фамилия. – Та была еще более чикано. Кажется, она оканчивалась на «кес». Что-то вроде Веласкес, но не Веласкес. – А имя? – Это я запомнил. Хуан. – Хуан?! – Ага. Настоящий чикано. – Вы не обратили внимания на домашний адрес? – Не интересовался. – Он что-нибудь рассказывал о себе? – Нет. Выпил и ушел. – И больше не возвращался? – Вот именно. Во всяком случае, в мою смену. – У вас хорошая память. – Только на бузотеров и красоток. – Нам бы хотелось показать эти снимки вашим посетителям, – сказал Фрэнк. – Валяйте. Сидевшая рядом с Тони блондинка оживилась. – Можно мне посмотреть? Вдруг я его видела. И даже разговаривала. Наклонясь над снимком, она задела Тони коленом. – Меня зовут Джуди. А тебя? – Тони Клеменца. – Я так и думала, что ты итальянец. Глаза темные и грустные. – Они меня выдают. – И вьющиеся волосы. – И на рубашке пятна от соуса к спагетти, – продолжил Тони. Девушка с интересом посмотрела на него. – Да нет там никаких пятен, – усмехнулся Тони. – Я пошутил. – А… – Вы знаете Бобби Вальдеса? Она взглянула на фотографию. – Нет. Наверное, он приходил, когда меня не было. А ничего парнишечка. Смазливенький. Все равно что лечь с младшим братом. Тони забрал у нее фотографию. – Какой у тебя костюм! – похвалила блондинка. – Спасибо. Тони угадывал в ней не просто эмансипированную женщину, какие ему скорее нравились: в Джуди было что-то темное, звериное. Это тип женщин, обожающих хлыст и наручники. Или еще почище. Рядом с ней он чувствовал себя лакомым кусочком. Что-то вроде бутерброда с икрой на серебряном блюде. – В таких местах, как это, – продолжала Джуди, – редко встретишь прилично сшитый костюм. Одни спортивные майки, да джинсы, да кожаные пиджаки. Тони откашлялся. – Ну ладно. Спасибо за попытку помочь. Женщина гнула свое: – Обожаю элегантных мужчин. Их взгляды встретились, и он прочел в ее глазах нескрываемую похоть. У Тони возникло чувство, что, пойди он с ней, дверь ее квартиры захлопнется за ним, словно челюсти акулы. Она так и набросится на него и сожрет с потрохами. Все соки высосет. – Пора идти работать, – сказал он, вставая с высокого табурета перед стойкой. – Увидимся. – Надеюсь. Они с Фрэнком еще примерно пятнадцать минут показывали посетителям бара фотографии Бобби Вальдеса. Тем временем джаз переключился на репертуар «Роллинг Стоунз» и Элтона Джона. У Тони заскрипели зубы от раздражения. Они только зря потратили время. Никто не вспомнил убийцу с лицом невинного ребенка. Напоследок Тони задержался возле стойки, где Отто смешивал земляничный коктейль «Маргарита». – Можете сказать мне одну вещь? – прокричал он. – Все, что угодно! – Разве люди приходят сюда не для того, чтобы познакомиться? – Естественно, для этого. – Тогда какого черта в барах обычно стоит такой грохот? – Вам не нравится джаз? – Нравится. Но не такой громкий. – А… – Разве под такую музыку можно разговаривать? – Разговаривать? – удивился Отто. – Но, приятель, они приходят сюда не затем, чтобы разговаривать. Познакомиться, присмотреться друг к другу, выбрать, с кем лечь в постель… – А поговорить? – Да вы посмотрите на них! О чем они стали бы разговаривать? Да если бы не оглушительная музыка, они бы только и делали, что психовали. – Выходит, они признают только язык тела? Отто пожал плечами. – Наверное, мне следовало бы жить в другую эпоху, – пробормотал Тони и вышел из бара. Становилось прохладно. Над морем поднимался негустой туман – так, легкая дымка, начавшая понемногу наступать на берег. Фрэнк уже сидел за рулем их полицейского, но без опознавательного знака седана. Тони хлопнулся на пассажирское сиденье и пристегнул ремень. Сегодня им предстояло наведаться еще по одному адресу. Кто-то в баре «Сенчури» сказал, что встречал Бобби Вальдеса на перекрестке бульвара Заходящего Солнца с Голливудским шоссе. Через несколько минут Фрэнк произнес: – Ты мог бы поиметь ее. – Кого? – Блондинку. Джуди. – Фрэнк, я же на работе. – Договорились бы на другое время. Она явно положила на тебя глаз. – Не мой тип. – Аппетитная бабенка. – Из породы убийц. – Как это? – Она бы слопала меня целиком. Фрэнк немного подумал и сказал: – Дерьмо собачье. Если бы она делала авансы мне, я бы не отказался. – Ты знаешь, где ее искать. – Возможно, я и загляну туда, когда все сделаем. – Валяй. А я потом навещу тебя в больнице. – Да что с тобой? Я так не заметил в ней ничего особенного. С такими никаких проблем. – Может, поэтому я на нее и не клюнул. – Не понял. Тони провел рукой по лицу, словно стирая усталость. – Хищная шлюха. – С каких это пор ты заделался пуританином? – Я не пуританин. Хотя… Может быть, и да. В какой-то мере. Видит бог, у меня было навалом «интимных встреч». Но я не могу представить себя в таком месте, как «Парадиз». Охочим до свежего женского мяса. Флиртующим с Джуди. Я бы не смог притворяться. Представь себе, как я лепечу в промежутках между песенками: «Привет, я – Тони. А тебя как зовут? Какой твой знак Зодиака? Ты увлекаешься астрологией? Веришь в воздействие космических лучей? Как по-твоему, это судьба, что мы встретились? Может, попробуем вместе исправить карму? Хочешь трахнуться?» – Из всей твоей речи, – сказал Фрэнк, – я понял только насчет «трахнуться». – Я тоже. В том-то все и дело. В таком месте, как «Парадиз», разговоры – сплошной камуфляж. Главное – поскорее добраться до постели. Тебе нет дела до ее чувств, переживаний, способностей, страхов, надежд, потребностей и заветных желаний. Ты ложишься в постель с совершенно незнакомым человеком. Хуже того, занимаешься любовью с подделкой под женщину, картинкой из журнала для мужчин, символом женщины. О любви нет и речи. Это ничем не отличается от щекотки или промывания желудка. Если секс таков, не лучше ли остаться дома и заняться мастурбацией? Фрэнк притормозил на красный свет и пробурчал: – Все-таки рука так не прочистит, как женщина. – Фрэнк, не будь вульгарным. – Я просто практичен. – Я вот что хочу сказать. Если не знать партнера, игра не стоит свеч. Я должен чувствовать партнершу, знать, чего она хочет и о чем думает. Секс имеет смысл, только если партнерша для меня что-то значит, если она – личность, а не просто гладкое, стройное тело со всеми положенными выпуклостями. Личность – со своим характером, сложностями, даже недостатками, со всеми оставленными жизнью отметинами… – Я не верю своим ушам, – отозвался Фрэнк, снова по сигналу светофора трогаясь с места. – Опять этот детский лепет, будто бы секс без любви ни к черту не годится? – Я не говорю о так называемой вечной любви, – объяснил Тони, – или нерушимой верности до гробовой доски. Можно любить какое-то время, даже не очень сильно. Можно питать друг к другу добрые чувства, даже когда между вами уже нет физической любви. Все мои прежние любовницы оставались моими друзьями, потому что мы не смотрели друг на друга как на зарубки на боевом оружии – по количеству убитых врагов. У нас было и остается много общего. Понимаешь, прежде чем оголить одно место и начать кувыркаться с женщиной в постели, я должен убедиться, что могу доверять ей. В ней должно быть что-то особенное, близкое мне: чтобы мне захотелось открыть ей душу, сделать ее частью моей жизни. – Чушь собачья! – презрительно отозвался Фрэнк. – Но я так чувствую. – Хочешь совет? – Валяй. – Лучший из тех, какие ты когда-либо получал. – Я весь внимание. – Если ты думаешь, что на свете действительно существует то, что называют любовью, что она так же реальна, как страх или ненависть, значит, ты обрекаешь себя на великие страдания и огромную ложь. Любовь выдумали писатели, чтобы люди покупали их книги. – Ты шутишь? – Какие, к черту, шутки?! – Фрэнк на мгновение оторвался от дороги, чтобы с жалостью посмотреть на Тони. – Сколько тебе – тридцать три? – Почти тридцать пять. Фрэнк обогнал медленно идущий грузовик, груженный металлическим ломом. – Значит, я на десять лет старше. Так вот, прислушайся к мнению старшего по возрасту. Рано или поздно тебе покажется, что ты по-настоящему влюблен, но едва ты нагнешься поцеловать землю, по которой она ступает, она всадит в тебя нож и выпустит кишки. Если ты дашь понять, что у тебя есть сердце, она сделает все, чтобы разбить его. Привязанность? Разумеется. И – похоть. Похоть – вот что это такое. Но не любовь. Забудь это слово и наслаждайся жизнью. Возьми от нее все, что она может дать. Пользуйся, пока молодой. Трахай баб. Трахай и сразу давай деру, только так они не смогут причинить тебе зло. Если ты станешь требовать любви, только выставишь себя на посмешище. В конце концов они смешают тебя с грязью. – Это слишкомциничная точка зрения. Фрэнк пожал плечами. Полгода назад он прошел через мучительную процедуру развода и до сих пор не оправился. – Фрэнк, – сказал Тони, – ведь ты же не циник. Ты сам не веришь тому, что наговорил. Фрэнк молчал. – Ты очень ранимый, – не унимался Тони. Его напарник пожал плечами. Минуту-другую Тони пытался оживить угасший разговор, но Фрэнк уже высказал все, что имел сказать по этому поводу, и погрузился в привычное, немного загадочное молчание. Странно было уже и то, что он закатил такую длинную речь. Самую длинную, какую Тони когда-либо слышал из его уст. Они работали вместе чуть более трех месяцев. И Тони все еще не был уверен, что это сотрудничество даст хорошие плоды. Они были слишком разные. Тони любил пофилософствовать. Фрэнк, как правило, только бурчал в ответ. У Тони была уйма других интересов, помимо работы: кино, книги, вкусная еда, театр, музыка, живопись, бег, лыжи… А Фрэнку, судя по всему, ни до чего не было дела. Тони верил, что существует уйма способов заставить свидетеля говорить – при помощи доброты, мягкого обращения, юмора, сочувствия, внимания, обаяния, настойчивости, хитрости – ну и, конечно, угроз и косвенного давления. Фрэнк предпочитал обходиться настойчивостью, хитростью, угрозами и не брезговал даже применением грубой силы. В их отделе это считалось допустимым. Других подходов он не признавал. В результате не менее двух раз в неделю Тони приходилось его одергивать, особенно если выдавался неудачный день. Сам Тони всегда сохранял самообладание. Внешне они тоже разительно отличались друг от друга. Фрэнк – плотный, ростом пять футов и девять дюймов, голубоглазый блондин, а Тони – высокий, стройный, темноволосый и темноглазый. Фрэнк – пессимист и брюзга; Тони – оптимист. Подчас казалось, этим двоим ни за что не сработаться. Однако кое в чем они были и похожи. Прежде всего, ни один не относился к своей службе в полиции как к работе «от звонка до звонка». Они чуть ли не постоянно перерабатывали и никогда не жаловались. Когда расследование подходило к концу и события следовали одно за другим с калейдоскопической быстротой, они прихватывали и выходные. Никто не просил их об этом и тем более не приказывал. Это был их собственный выбор. Тони отдавал всего себя работе из честолюбия. Он не собирался до конца своих дней оставаться простым лейтенантом-сыщиком. Дослужиться хотя бы до капитана или чего-нибудь получше, может быть, дойти до самого верха, занять место шефа, получать солидную зарплату, а потом – солидную пенсию. Он вырос в большой итальянской семье, где бережливость была возведена в ранг религии, не менее важной, чем католичество. Карло, его отец, был портным-иммигрантом. Старик всю жизнь упорно трудился, чтобы дать детям пищу, кров и одежду, но не раз оказывался на грани банкротства и нищеты. В семье Клеменца часто болели, и счета от врачей и фармацевтов съедали большую часть семейного бюджета. Еще когда Тони был ребенком, он выслушал от отца немало коротких, но энергичных лекций о том, как важно добиться материальной независимости, для чего необходимо хорошо и много работать, разбираться в финансовых вопросах, твердо стоять на ногах, обладать честолюбием и иметь постоянную работу. Отцу Тони впору было работать в ЦРУ, в отделе промывания мозгов. Уроки и принципы Карло Клеменца так прочно вошли в сознание сына, что даже сейчас, будучи тридцати пяти лет от роду, имея постоянную работу и кругленькую сумму на счете в банке, Тони чувствовал себя не в своей тарелке, если не был на работе два-три дня кряду. Когда он брал положенный отпуск, это становилось настоящей пыткой. Он перерабатывал, потому что был сыном Карло Клеменца, а сын Карло Клеменца не мог думать и чувствовать иначе. У Фрэнка Говарда были свои резоны. Он был не честолюбивее других, и его не особенно волновали деньги. Фрэнк буквально жил работой. Служба в отделе расследования убийств была единственной ролью, которую он знал и умел играть; только это давало ему ощущение своей значимости. Тони оторвал взгляд от задних фар идущей впереди машины и перевел его на лицо напарника. Фрэнк ничего не почувствовал. Все его внимание было сосредоточено на вождении; он пристально вглядывался в вереницу огней, катившихся вдоль Уилширского бульвара. Его черты трудно было назвать классическими, но он был по-своему красив. Густые, широкие брови. Глубоко посаженные голубые глаза. Нос немного великоват и чуточку более заострен, чем нужно. Красиво очерченный рот – жаль только, что его чуть ли не постоянно кривила саркастическая усмешка. Ему нельзя было отказать в привлекательности и властности, а также внутренней независимости. Легко было представить, как Фрэнк возвращается домой, садится в кресло и погружается в транс – до восьми часов следующего утра. Помимо того, что Тони с Фрэнком отдавали работе личное время, у них было и еще кое-что общее. Большинство детективов давно выбросили на свалку вышедшую из моды одежду и, одеваясь в штатское, напяливали на себя джинсы и свободные куртки. Тони с Фрэнком придерживались традиционного стиля: строгие костюмы и галстуки. Они считали себя профессионалами экстра-класса, выполняли работу, требующую не меньших интеллектуальных затрат, чем профессия адвоката, преподавателя или служащего социальной сферы; джинсы никак не соответствовали этому имиджу. Ни тот, ни другой не пил на дежурстве и не пытался спихнуть свою работу на другого. «Может, мы и сработаемся, – подумал Тони. – Возможно, со временем мне удастся убедить Фрэнка в необходимости более мягкого подхода к свидетелям. Возможно, он научится получать удовольствие от хороших фильмов и вкусной пищи, если уж не от книг, театра и живописи. Наверное, я слишком многого от него хочу. Но бог ты мой, если бы он хоть чуточку поддерживал разговор, а не сидел как пень». Тони знал, что до самого конца своей полицейской карьеры будет многого ждать от всякого, с кем ему доведется работать, потому что на протяжении пяти лет, вплоть до мая, он имел дело с образцовым напарником, Майклом Саватино. Оба они были итальянцами, у них были общие воспоминания, развлечения и тревоги. Более того, они пользовались одними и теми же методами в работе. Майкл читал запоем, был большим любителем кино и отлично готовил. Они проводили дни в увлекательных беседах. В феврале Майкл с женой Паулой поехали на уик-энд в Лас-Вегас. Побывали на двух спектаклях. Дважды поужинали в лучшем ресторане города. Заглянули в казино и просадили шестьдесят баксов. А за час до отъезда Паула шутки ради опустила серебряный доллар в прорезь игрального автомата, повернула ручку и выиграла двести двадцать тысяч долларов. Майкл никогда не смотрел на полицейскую службу как на дело своей жизни. Но он, так же как Тони, искал стабильности. Он окончил полицейскую академию и довольно быстро поднимался по служебной лестнице – от патрульного в форме до инспектора-детектива. Тем не менее в марте он подал заявление об уходе. Всю свою сознательную жизнь он мечтал о собственном ресторане. И вот пять недель назад он открыл в Санта-Монике типичный итальянский ресторан. Его мечта осуществилась. «Какие шансы у моей мечты? – спрашивал себя Тони, рассматривая через стекло машины ночной город. – Суждено ли мне поехать в Лас-Вегас, выиграть двести тысяч баксов, уволиться из полиции и начать карьеру художника?» Естественно, он не произнес этого вслух. Его не интересовало мнение Фрэнка по этому вопросу. Ответ и так был ясен. Какие у него шансы? Никаких. С таким же успехом можно было представлять себе, что ты вдруг окажешься потерявшимся в детстве сыном богатого арабского принца. Как Майкл Саватино всю жизнь мечтал открыть ресторан, так Тони Клеменца спал и видел себя художником. У него был талант. Он рисовал карандашом и тушью, акварелью и маслом. У него была не только отличная техника, но и уникальная творческая фантазия. Случись ему родиться в семье хотя бы со средним достатком, он поступил бы в академию художеств, учился бы у лучших профессоров, развивал данные богом способности и мог бы стать знаменитым художником. Ну а поскольку всего этого не было, он штудировал сотни книг по живописи и проводил многие часы за этюдами и экспериментами с разным материалом. Его убивал свойственный самоучкам недостаток уверенности в себе. Хотя Тони принял участие в четырех выставках и дважды получал первые призы, он никогда всерьез не думал о том, чтобы оставить работу и посвятить себя творчеству. Это была всего лишь дивная греза, сладкая мечта. Сын Карло Клеменца никогда в жизни не пожертвует твердым заработком ради эфемерного счастья, полного неуверенности и тревог существования свободного художника. Разве что на него прольется золотой дождь в Лас-Вегасе. Тони завидовал удаче Майкла Саватино. Конечно, они близкие друзья и он честно радовался за Майкла, но также и завидовал. Он был всего лишь человеком и в глубине души не мог не задавать себе подленький вопрос: «Почему это не случилось со мной?» Фрэнк неожиданно резко нажал на тормоза и заорал: – Задница! – Тихо, Фрэнк. – Иногда я жалею, что больше не одет в полицейскую форму и не раздаю направо и налево повестки. – Вот уж не о чем жалеть! – Я все-таки прищемлю ему хвост! – Не стоит, Фрэнк. Ведь может случиться, что когда заставишь этого типа остановиться и подойдешь к нему, то схлопочешь пулю или еще что-нибудь почище. Нет, я так рад, что патрульная служба позади. В отделе расследования убийств, по крайней мере, знаешь, с кем имеешь дело и чего можно ожидать. Фрэнк не позволил втянуть себя в дальнейшую дискуссию. Он по-прежнему не сводил глаз с дороги и беззвучно сыпал проклятиями. Тони вздохнул и снова принялся смотреть в окно, но уже не как полицейский, а как художник. Каждый морской или сухопутный пейзаж, каждая улица, архитектурный ансамбль, каждый предмет и даже человек имел свой неповторимый геометрический образ. Вычленить, распознать его – вот что главное. Потом уже вы начинаете воспринимать то, что нанизано на него, как на каркас. Если у вас есть дар увидеть за внешней гармонией внутреннюю, вы поймете глубинный смысл предмета или явления и создадите настоящую картину. Если же вы берете кисти и краски и приближаетесь к холсту без такого анализа, у вас может получиться миленький набросок, но не произведение искусства. Пока Фрэнк вел машину на восток, туда, где располагался еще один бар для одиночек, «Большой толчок», Тони пытался определить для себя геометрию ночного города. Вначале, при въезде в Лос-Анджелес со стороны Санта-Моники, преобладали четкие горизонтальные линии небольших коттеджей с видом на море и раскидистых, мохнатых пальм – воплощение покоя и относительного отдыха. В районе Вествуд пошли вертикали небоскребов, обозначенных в темноте светлыми пятнами окон. Перпендикуляр показался Тони символом времени – неудержимого стремления ввысь, к карьере, деньгам, власти. Из Вествуда они взяли курс на район Беверли-Хиллз; «город в городе», фабрика грез, где полицейские могли при необходимости разъезжать, но где они не имели ни малейшей власти. Мягкие, плавные, переходящие друг в друга линии. Величавые особняки, парки, сочная, буйная зелень, шикарные магазины и сверхдорогие автомобили. Чем дальше, тем отчетливее становилось ощущение роскоши. Они свернули к северу, одолели довольно-таки крутой подъем и въехали на бульвар Заходящего Солнца, ведущий в центр района Беверли-Хиллз. Позади остался один из самых элегантных в городе ресторанов – «Скандия». Сверкающие огни дискотек. Ночной клуб, специализирующийся на оккультизме. Еще один – вотчина знаменитого эстрадного гипнотизера. Театры комедии. Клубы рок-н-ролла. Гигантские афиши. И огни – море огней. Фрэнк повернул на восток. Теперь огней становилось все меньше; появились первые признаки упадка. То там, то здесь возникали островки, похожие на злокачественные опухоли, разъедающие здоровое тело города: дешевые бары, клубы стриптиза, массажные кабинеты, книжные магазины, торгующие порнографией, жилые дома, срочно нуждающиеся в капитальном ремонте. Метастазы разрастались, захватывая все новые участки живой плоти. Внезапно в сиянии красных и голубых огней перед ними вырос бар «Большой толчок». Интерьер бара ничем не отличался от того, какой они только что видели в «Парадизе», разве что здесь было больше разноцветных огней да посетители выглядели малость поагрессивнее. Но их роднило общее ощущение сексуального голода и одиночества. Бармен ничем не смог быть им полезен, а единственная посетительница, высокая брюнетка с фиалковыми глазами, заверила детективов, что они смогут найти Бобби в «Янусе», дискотеке в районе Вествуд. Она как раз видела его там два последних вечера. Снова оказавшись в машине, Фрэнк проворчал: – Нас только и делают, что отфутболивают из одного места в другое. – Так чаще всего и бывает. – Время позднее. – Да. – Наведаемся в «Янус» или отложим до завтра? – Давай лучше сейчас, – ответил Тони. – О’кей. Они развернулись и снова поехали по направлению к бульвару Заходящего Солнца, от разъедаемых раком районов к блеску и роскоши Беверли-Хиллз. Как обычно, когда он подозревал Тони в готовности начать разговор, Фрэнк включил рацию и стал слушать вызовы. Кажется, за последние несколько часов в этой части города не случилось ничего из ряда вон выходящего. Семейная ссора. Подозрительный тип на автомобильной стоянке на улице Хилгард – необходимо проверить, что это за птица. И вдруг эфир ожил. Поступил вызов от женщины, которая подверглась разбойному нападению. Покушение на изнасилование с применением оружия. Осталось невыясненным, скрылся ли налетчик или прячется где-то поблизости. Имела место стрельба, но опять-таки неясно, кто стрелял: преступник или жертва. – Придется работать вслепую, – прокомментировал Тони. – Это в трех кварталах отсюда, – подхватил Фрэнк. – Через минуту можем быть на месте. – Да уж раньше, чем патрульная машина. – Хочешь принять в этом участие? – Само собой. – Тогда я доложу. Тони взял микрофон, а его напарник резко нажал на газ. У Тони бешено, в такт двигателю, заколотилось сердце. Он ощутил охотничий азарт и одновременно холодок под ложечкой. Он вспомнил еще одного своего бывшего напарника, Паркера Хатчисона, у которого напрочь отсутствовало чувство юмора. Всякий раз, когда они отвечали на вызов, он произносил одну и ту же сакраментальную фразу: «Ну вот, сейчас нас убьют». И так каждую смену, из дежурства в дежурство, пока Тони не шуганул его. Но с тех пор в такие минуты, как эта, у него в ушах начинал звучать похоронный голос Хатчисона: «Сейчас нас убьют». Тони вгляделся в смутные очертания домов, слабо освещенные уличными фонарями. – Это должно быть здесь. Они остановились перед двухэтажным коттеджем в староиспанском стиле, стоявшем чуточку поодаль от других особняков. Фрэнк поставил машину на небольшую полукруглую стоянку. Они вышли из седана. Тони сунул руку под пиджак и вытащил револьвер из кобуры.* * *
Хилари перестала плакать, сидя за письменным столом. Теперь, когда ей стало немного легче, она решила подняться наверх и привести себя в порядок, чтобы не походить на огородное пугало: всклокоченные волосы, разорванное платье, разодранные колготки. Она не знала, как скоро прибудут репортеры, но нисколько не сомневалась в неизбежности встречи с ними. Она – известная писательница, автор двух сценариев, чьи фильмы удостоились призов Академии искусств. Больше всего на свете дорожа уединением, Хилари в то же время отдавала себе отчет, что сейчас у нее нет выбора. Придется сделать заявление и ответить на несколько вопросов. Ей была ненавистна всякая мысль об огласке, а уж в подобной ситуации – и подавно. Люди станут выражать ей сочувствие, в то же время считая в душе, что она опростоволосилась – если не нарочно напросилась на приключение. Ей удалось отбить атаку Фрая, но в глазах любителей жареного это ровным счетом ничего не значит. Безжалостная американская публика станет задаваться вопросом: как случилось, что она впустила бандита в дом? Распространятся домыслы о том, что она все же позволила надругаться над собой, а потом стала наводить тень на плетень. Может быть, даже сама его пригласила. На нее со всех сторон будут устремлены любопытные взгляды. Единственное, что от нее зависит, это хотя бы достойно выглядеть. Нельзя допустить, чтобы она появилась на фотографиях в том виде, в каком ее оставил Бруно Фрай. Хилари умылась, причесалась, переоделась в синий шелковый халат и туго подпоясалась. Ей было невдомек, что тем самым она подрывает будущее доверие к своим словам и навлекает на себя подозрения. Хилари казалось, что она достаточно овладела собой, но, когда она переодевалась, у нее снова дрожали руки. Ноги стали ватными, и на миг ей пришлось прислониться к дверце шкафа. В голове мелькали ужасные картины недавнего происшествия. Она увидела перед собой Бруно Фрая, надвигающегося на нее с ножом в руке и с омерзительной ухмылкой. Вдруг его черты стали расплываться и перед ее мысленным взором возникло лицо отца, Эрла Томаса. Это Эрл наступал на нее, вдрызг пьяный, злой, изрыгающий проклятия. Хилари потрясла головой, несколько раз судорожно втянула в себя воздух и прогнала ненавистные образы. Но она никак не могла унять дрожи. Ей показалось, что она слышит шум в соседней комнате. Умом Хилари понимала, что этого не может быть, но ее не отпускал страх: вдруг Бруно Фрай снова пришел за ней? Позвонив в полицию, Хилари почувствовала себя лучше. Помощь уже в пути! «Успокойся! – сказала она себе. – Сохраняй самообладание. Ты – Хилари Томас. Ты сильная. Ты никого и ничего не боишься. Все будет хорошо». Это заклинание она придумала в детстве и с тех пор часто прибегала к нему. Она спустилась в прихожую и услышала шум автомобиля. Из машины вышли двое. Мигалки не было, но Хилари не сомневалась: это полицейские. Она отперла дверь. Первым вошел плотно сбитый блондин с голубыми глазами. В правой руке он держал револьвер. У него оказался жесткий голос человека, не привыкшего шутить. – Полиция. Ваше имя? – Томас. Хилари Томас. Это я звонила. – Это ваш дом? – Да. Здесь был мужчина… Второй детектив, выше и смуглее своего товарища, быстро перебил ее: – Он еще здесь? – Кто? – Человек, напавший на вас, находится в доме? – О нет. Он ушел. Ушел. – Куда? – уточнил блондин. – Не знаю. Просто вышел. Через эту дверь. – Его ждала машина? – Не знаю. – Он вооружен? – Нет. То есть да. – Каким оружием? – У него был нож. После того как нож сломался, он бросил его где-то здесь. – В какую сторону он направился? – Не знаю. Я была наверху. Я… – Давно он ушел? – спросил высокий. – Пятнадцать-двадцать минут назад. Полицейские обменялись взглядами, значения которых Хилари не поняла. Однако почувствовала: что-то не так. – Что заставило вас медлить с вызовом полиции? – потребовал белокурый. Он показался ей настроенным враждебно. Хилари растерялась. – Сначала я… потеряла контроль над собой. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. – Двадцать минут? – Возможно, пятнадцать. Оба детектива спрятали оружие. – Опишите его, пожалуйста, – спросил высокий. – Я могу сделать больше, – ответила Хилари. – Я знаю его имя. – Имя? – Да. Я знаю этого человека. Мужчины переглянулись. «Что я делаю не так?» – в отчаянии подумала Хилари.* * *
Хилари Томас показалась Тони самой красивой из когда-либо встреченных женщин. Должно быть, в ней было несколько капель индейской крови. У нее были длинные густые черные волосы, блестящие, как вороново крыло. Чистые белки. Безупречный цвет лица. Пожалуй, лицо чуточку вытянуто, но это компенсировалось огромными глазищами, классической формой носа и полными губами. Это было лицо чувственной, но серьезной, интеллигентной женщины. В ее глазах он уловил застарелую боль – видимо, не связанную с этим происшествием. Должно быть, корни нравственной муки уходили в прошлое. Хилари села на краешек дивана у себя в кабинете. Тони примостился в другом углу. Они остались вдвоем: Фрэнк на кухне названивал в управление. Наверху двое сержантов в форме – Уитлок и Фармер – выковыривали пули из штукатурки. Отпечатков пальцев не обнаружили – это соответствовало заявлению потерпевшей, что налетчик орудовал в перчатках. – Что он там делает? – спросила Хилари. – Кто? – Лейтенант Говард. – Звонит начальству. Просит кого-нибудь связаться с шерифом графства Напа, где живет Бруно Фрай. – Зачем? – Ну, прежде всего, может, шериф знает, на какой машине он отправился в Лос-Анджелес. Зная марку и номер автомобиля, легче задержать преступника. Хилари немного подумала и задала следующий вопрос: – А почему лейтенант Говард не воспользовался этим телефоном? Тони смутился. – Наверное, не хотел причинять вам лишнее беспокойство. – Нет, он не хотел, чтобы я слышала, о чем он будет говорить. Знаете, у меня такое чувство, будто я не жертва преступления, а сама нахожусь под подозрением. – Вы просто нервничаете. Это объяснимо. – Не в том дело, – нетерпеливо возразила Хилари. – Вы как-то странно себя ведете. Особенно он. Как будто считает, что я лгу. Тони поразился ее проницательности и беспокойно заерзал на диване. – Я убежден, что он ничего такого не думает. – Думает, – настаивала она. – Только не знаю почему. – Хилари посмотрела ему в глаза. – Будьте, пожалуйста, откровенны. Что я сказала или сделала не так? Тони вздохнул. – Вы очень наблюдательны. – Это профессиональное качество. Я ведь писательница. А еще я очень настырна. Удовлетворите мое любопытство, и я сразу отстану. – Ну, прежде всего тот факт, что вы знакомы с преступником. – Вот как? – Это делает ситуацию несколько двусмысленной, – проклиная себя, продолжал Тони. – Объясните, пожалуйста. – Ну… – Он прочистил горло. – Существует мнение, что, если пострадавшая как-то знакома с насильником, это может означать, что она как-то спровоцировала нападение. – Дерьмо собачье! Хилари встала, подошла к письменному столу и немного постояла к Тони спиной, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Сказанное им привело ее в бешенство. Наконец она повернулась к Тони – с пылающим лицом. – Это просто бред. Дикость какая-то! Неужели всякий раз, когда женщину насилует знакомый, вы считаете, что она просила его об этом? – Не всегда, – промямлил Тони. Хилари уставилась на него. – Перестаньте играть со мной в кошки-мышки. Значит, вы думаете, я во всем сама виновата? Соблазнила этого мерзавца? – Нет, – возразил Тони. – Я просто довел до вашего сведения обычную реакцию полиции. Я не сказал, что разделяю это предубеждение. Но лейтенант Говард его разделяет, а вы ведь спрашивали о нем. Хилари нахмурилась. – Значит… вы мне верите? – У меня есть основания для недоверия? – Все было именно так, как я сказала! – Вот и отлично. Хилари не сводила с него глаз. – Почему? – Что «почему»? – удивился Тони. – Почему вы мне верите, а ваш товарищ – нет? – Я могу представить себе только две причины, по которым женщина выдвинет против мужчины ложное обвинение в изнасиловании. В данном случае они обе отсутствуют. – Какие это причины? – Ситуация номер один: он богат, а она нет. Она вымогает солидное содержание, обещая отказаться от обвинения. – Но я богата. А вторая причина? – Мужчина и женщина находятся в любовной связи. Он бросает ее ради другой женщины. Она чувствует себя оскорбленной, покинутой и жаждет мести. – Откуда вы знаете, что в моем случае дело обстоит иначе? – Я видел оба ваши фильма и, кажется, представляю ваш образ мыслей. Вы очень умная, интеллигентная женщина, мисс Томас. Не думаю, что вы могли опуститься до того, чтобы отправить человека за решетку за то, что он перестал отвечать на ваши чувства. Хилари не спускала с него изучающего взгляда. Потом, очевидно убедившись, что он ей не враг, вернулась на диван. Халат льнул к ногам, и Тони изо всех сил старался не думать о ее потрясающей фигуре. – Простите, что я набросилась на вас, – сказала Хилари. – Вы не набрасывались. Я и сам не в восторге от полицейских предрассудков. – Если дело дойдет до суда, адвокат Фрая постарается убедить присяжных, что я соблазнила этого сукиного сына! – С такой возможностью нельзя не считаться. – Ему поверят? – Такое случается. – Но он хотел не просто изнасиловать меня, но и убить! – Это необходимо доказать. – Сломанный нож в спальне… – Нужно еще доказать, что он принадлежал злоумышленнику. На ноже нет отпечатков пальцев. И потом, это обычный кухонный нож. Его трудно привязать к Бруно Фраю. – Он же псих, совсем потерял человеческий облик. Присяжные не смогут этого не заметить. Наверное, его даже не станут судить – сразу упекут в психушку. – Если он и сумасшедший, то ловко умеет контролировать свое состояние, – заметил Тони. – Ведь до сегодняшнего дня все считали его в высшей степени достойным членом общества. Когда он показывал вам винодельню близ Санта-Елены, вы не заметили ничего подозрительного? – Нет. – То же будет с присяжными. Хилари наморщила лоб. – Значит, он выйдет сухим из воды? – Мне очень жаль, но боюсь, что так. – И снова явится сюда. – Возможно. – О господи! – Вы сами добивались неприкрашенной правды. Хилари прикрыла глаза и даже попыталась улыбнуться. – Да, конечно. Спасибо за откровенность. Тони улыбнулся в ответ. Ему до смерти хотелось заключить ее в объятия, утешать, целовать, заниматься с ней любовью. Но все, что он мог сделать, это продолжать сидеть на диване с невозмутимостью отлично вымуштрованного блюстителя закона. – Иногда система работает против нас, – пробормотал он. – А еще? – потребовала Хилари. – Что еще, кроме того, что я знаю преступника, мешает лейтенанту Говарду верить мне? Тони открыл было рот, но тут как раз вошел Фрэнк Говард. – Ну вот, – отрывисто произнес он. – Мы связались с шерифом Напы и попросили выяснить, когда и как Фрай отбыл из города. Всем постам разосланы приметы преступника. Мисс Томас, я просил бы вас еще раз все рассказать и показать, чтобы я в точности записал, что и как происходило. И мы сразу оставим вас в покое. Едва Хилари закончила свой рассказ, как прибыли репортеры. Пришлось выйти им навстречу. В то же самое время Фрэнку позвонили из управления. Он решил воспользоваться телефоном, стоявшим в спальне. Тони пошел посмотреть, как Хилари разговаривает с репортерами. Она проделала это с блеском. Сославшись на усталость и чрезвычайные обстоятельства, не впустила их в дом, а сама вышла на крыльцо. Прикатили телевизионщики – со всем своим оборудованием и энергичным ведущим. Хилари с большой непринужденностью отвечала на вопросы, искусно избегая тех, которые бы поставили ее в неловкое положение, и в то же время ухитряясь никого не обидеть. Иначе они вылили бы на нее ушаты грязи. Тони понял, что она не только умна и талантлива, но и дальновидна, даже хитра. Ни одна женщина не интриговала его так, как Хилари Томас. Она уже собиралась потихоньку отступить, как на крыльцо вышел лейтенант Говард и свирепо шепнул Тони: – Мне нужно с ней поговорить! – Чего хочет управление? – Вот об этом-то я и собираюсь потолковать с ней. – Фрэнк был мрачен и решил держать язык за зубами. Не стоит раньше времени открывать козыри. – Она уже заканчивает, – сказал Тони. – Красуется перед репортерами, – буркнул Фрэнк. – Ловит свой кайф. Эта публика жить не может без того, чтобы не быть у всех на виду. Хлебом не корми. Тони положил руку ему на плечо. – Сейчас я приведу ее. – Он подошел к группе репортеров. – Прошу прощения, леди и джентльмены, но мисс Томас и так уже сказала вам больше, чем нам. У нас с лейтенантом Говардом уже несколько часов назад закончился рабочий день, и мы валимся с ног от усталости. Так что мы будем очень признательны, если вы позволите нам напоследок кое-что уточнить. Они добродушно засмеялись и забросали самого Тони вопросами. Он сказал ровно столько, сколько хотел, и повел Хилари обратно в дом. Фрэнк ждал в прихожей. Он весь кипел, казалось – еще немного, и у него пар повалит из ушей. – Мисс Томас, у меня к вам несколько вопросов. Это не займет много времени. – Что ж… Может быть, пройдем в кабинет? И они с Тони двинулись за лейтенантом Говардом.* * *
Хилари села на обтянутую плисом кушетку и поправила халат. Лейтенант Говард буравил ее холодными, колючими глазами. Наконец он произнес: – Мисс Томас, в вашем рассказе есть несколько вещей, которые меня здорово смущают. – Я знаю, – ответила Хилари. – Вас смущает то, что я знаю этого бандита. Вы решили, будто я сама его соблазнила. Это один из полицейских предрассудков. Фрэнк удивленно заморгал, но быстро справился с собой. – Да. Это одно. Другое – то, что мы обыскали весь дом и не нашли, как он проник внутрь. Нет никаких следов насильственного вторжения: ни разбитых стекол, ни взломанных замков. – По-вашему, я сама его впустила? – Не могу исключить такую версию. – Послушайте. Когда несколько недель назад я была в графстве Напа, собирая материал для нового сценария, у меня пропали ключи. Вся связка. Ключи от дома, от машины… – Вы проделали весь путь на автомобиле? – Нет. Просто я держала все ключи в одной связке. Даже ключ от машины, которую взяла напрокат в Санта-Елене. Пришлось просить у них запасной. Когда я вернулась домой, то вызвала мастера, чтобы он сделал дубликаты. – Вы не заменили замки? – Это казалось излишним. На потерянных ключах не было никакой метки. Нашедший не мог знать, как ими воспользоваться. Хотя… я спрашивала многих. – Вам не приходило в голову, что ключи могли быть украдены? – Тогда – нет. – А теперь вы начали подозревать, что Бруно Фрай украл у вас ключи и специально прибыл в Лос-Анджелес, чтобы изнасиловать вас и убить? – Да. – Что он мог иметь против вас? Был какой-либо повод для ненависти? Чтобы проделать такой длинный путь… – Но послушайте, он же псих. А психи на все способны. Лейтенант Говард немного походил взад-вперед по комнате и остановился перед Хилари, взирая на нее сверху вниз. – Вам не кажется странным, что невменяемый человек дома блестяще скрывал свое состояние и дал себе волю только в Лос-Анджелесе? – Конечно, это не лезет ни в какие ворота, – ответила Хилари. – Но это правда. – У Бруно Фрая была возможность украсть ключи? – Да. Когда один из мастеров повел меня на экскурсию по цеху. Там нужно было карабкаться на леса, протискиваться между бочками и все такое прочее. Сумочка могла помешать, и я оставила ее в головной конторе. – То есть у него дома? – Да. – Если я правильно понял, вы предприняли поиски? – Я уже сказала, что спрашивала всех подряд. – Из сумочки что-нибудь пропало? – Нет. Даже деньги остались – примерно двести долларов. Поэтому мне и не пришло в голову, что ключи украли. – Вот еще одна закавыка, – медленно произнес Фрэнк. – После того как Фрай ушел, почему вы не сразу позвонили в полицию? Хилари посмотрела на него, потом на Тони Клеменца и выпрямилась на диване. – Я… расплакалась. – И плакали целых двадцать минут? – Нет. Конечно же, нет. Я вообще-то не из плаксивых. Меня не так легко выбить из колеи. – Что же вы делали после того, как перестали плакать? – Поднялась наверх, чтобы умыться и переодеться. – Чтобы порисоваться перед прессой? Хилари начала терять терпение. – Ничего подобного. Просто я подумала, что… – Вот четвертое, что не дает мне покоя, – перебил Фрэнк. – После того как вас чуть не изнасиловали и не убили, вы не спешите звонить в полицию, а тянете время, вертясь перед зеркалом. – Прошу прощения, – вмешался лейтенант Клеменца. – Фрэнк, я догадываюсь, что у тебя еще что-то есть в загашнике, и не хочу тебя сбивать. Но мало ли как ведут себя люди, только что перенесшие шок… Хилари открыла было рот, чтобы поблагодарить его, но почувствовала некий антагонизм между полицейскими и не захотела подливать масла в огонь. – Ты согласен, что в ее рассказе есть нестыковки? – потребовал ответа лейтенант Говард. – Скажем так: в нем есть белые пятна. Фрэнк с минуту молча хмурил брови, а затем кивнул: – О’кей. Я только констатировал, что в ее рассказе по меньшей мере четыре пункта вызывают серьезные сомнения. Если ты с этим согласен, я продолжу. – Он повернулся к Хилари: – Мисс Томас, я хотел бы еще раз услышать ваше описание налетчика. Сделайте мне одолжение. Хилари чувствовала, что лейтенант Говард расставляет для нее капканы, но понятия не имела о том, что это за капканы и как избежать их. – Бруно Фрай – высокого роста, шесть футов… – Без имен, пожалуйста. – Но я же его знаю, – терпеливо, как ребенку, попробовала разъяснить Хилари. – Ради меня, – издевательским тоном попросил Говард. Хилари изо всех сил боролась с раздражением и скукой. – Ну, хорошо. Налетчик высокого роста, примерно шесть футов четыре дюйма, вес около двухсот сорока фунтов. У него хорошо развитая мускулатура. – Раса? – спросил Говард. – Он белый. – Цвет лица? – Бледный. – Какие-нибудь изъяны или родинки? – Не заметила. – Татуировка? – Вы что, смеетесь? – Татуировка? – Нет! – Особые приметы? Какие-либо физические недостатки? – Нет. Это здоровенный сукин сын, – вспылила она. – Цвет волос? – Светлый. Грязного оттенка. – Волосы длинные или короткие? – Средние. – Глаза? – Да. – Что «да»? – Да, у него есть глаза. – Мисс Томас! – Ну ладно. Серо-голубые. – Возраст? – В районе сорока. – Кажется, вы что-то говорили насчет голоса? – Да. У него особенный голос. Густой, глубокий, дребезжащий. – Отлично! – Фрэнк крутанулся на каблуках; он был явно доволен собой. – А теперь опишите Бруно Фрая. – Я только что это сделала. – Нет-нет. Сделаем вид, что вы не знаете напавшего на вас человека. Доставьте мне такое удовольствие. Опишите Бруно Фрая. Хилари повернулась к лейтенанту Клеменца: – Это действительно необходимо? Тони обратился к напарнику: – Фрэнк, ты не собираешься закругляться? – Слушай, Тони, у меня действительно есть козырь в рукаве. Я работаю, как умею. Это она тянет время. Он снова повернулся к Хилари, и ей показалось, что она стоит перед судом испанской инквизиции. – Шесть-четыре, двести сорок, развитая мускулатура, блондин, серо-голубые, примерно сорок, никаких шрамов или родинок, никакой татуировки, гортанный, скрипучий голос, – на одном дыхании выпалила она. – Значит, между налетчиком и Бруно Фраем нет никаких различий? – Ни малейших. – Вы не хотите изменить показания? Может быть, все-таки не Бруно Фрай побывал здесь этой ночью? – Это был он! – Вы подтвердите это под присягой? – Да, да, да! – Ну что ж, отлично. Боюсь, мисс Томас, что если вы будете продолжать в том же духе, то угодите за решетку. – Что вы хотите сказать? Говард зловеще усмехнулся: – То, что вы лжете, мисс Томас! Нагло и преднамеренно. Лейтенант Клеменца встал. – Фрэнк, ты уверен, что действуешь правильно? – О да! Пока она выламывалась перед писаками и фотографами, я получил ответ из управления. Шериф графства Напа по фамилии Лоренски лично произвел проверку, как мы и просили, и знаешь, что оказалось? Что Бруно Фрай не поехал в Лос-Анджелес. Он вообще никуда не выезжал. Он сидит у себя дома, безобиднее мухи. – Не может быть! – Хилари вскочила с дивана. Говард яростно потряс головой. – Сдавайтесь, мисс Томас! Фрай сказал шерифу Лоренски, что действительно собирался наведаться на недельку в Лос-Анджелес, но не успел разделаться с делами и отложил поездку. – Шериф не прав! – воскликнула Хилари. – Он не мог разговаривать с Бруно Фраем! – Вы обвиняете шерифа во лжи? – Он… мог разговаривать с кем-то, кто выдал себя за Фрая, – пробормотала Хилари, чувствуя, что это звучит неубедительно. – Ничего подобного. Шериф Лоренски беседовал с самим Бруно Фраем. – Он его видел? Они разговаривал лицом к лицу? Или он просто поговорил по телефону с кем-то, кто покрывает Фрая? – Вспомните, мисс Томас, – вкрадчиво произнес Говард, – не вы ли утверждали, что у Фрая особенный, уникальный голос? Глубокий, гортанный, скрипучий голос. Вы полагаете, его легко подделать, разговаривая по телефону? – Если шериф не очень хорошо знает Фрая, интонация могла ввести его в заблуждение. – Напа – маленькое графство. Такой солидный, респектабельный бизнесмен, как Бруно Фрай, известен всем и каждому. Шериф знает его вот уже два десятка лет. – В голосе Говарда звучали триумфальные нотки. Лейтенант Клеменца выглядел так, словно ему было больно. Хилари не было дела до мнения лейтенанта Говарда, но ей почему-то отчаянно хотелось, чтобы Клеменца по-прежнему верил ее рассказу. Она отошла к окну и повернулась к ним обоим спиной, стараясь вернуть себе хладнокровие. Но у нее ничего не вышло. Тогда она снова повернулась и заговорила – гневно, горячо, подчеркивая каждое слово ударом кулака по столу: – Бруно – Фрай – был – здесь! От удара с подоконника упала и разбилась ваза с розами. Хилари не обратила внимания. – Как насчет перевернутого дивана? Разбитой фарфоровой статуэтки, которую я в него швырнула? Пуль, которыми я в него стреляла? Разорванного платья? Порванных колготок? – Талантливая инсценировка, – ответил Говард. – Вы могли все это проделать сами, чтобы подкрепить вашу версию. В разговор вмешался Клеменца: – Подумайте, мисс Томас, может, вы действительно видели кого-то другого? Похожего на Фрая? Даже если бы Хилари хотела пойти на попятный, она не смогла бы этого сделать. Заставив ее повторить описание бандита, лейтенант Говард сделал такое отступление невозможным. Но она и не собиралась отступать, хвататься за предложенную лейтенантом Клеменца соломинку. Ей не о чем думать – она и так знает, что права. – Это был Фрай, – с вызовом повторила Хилари. – Фрай, и никто другой. Я ничего не придумала. Не стреляла нарочно по стенам собственного дома. Не переворачивала диван и не рвала на себе одежду. Ради всего святого, зачем бы я стала сходить с ума и проделывать такие странные вещи? – Могу объяснить, – парировал Говард. – По моим представлениям, вы давно знакомы с Бруно Фраем… – Я же сказала, что три недели назад встретила его впервые в жизни! – Вы наговорили много такого, что не выдерживает критики. Итак, вы состояли с ним в любовной связи… – Нет! – Но он вас почему-то бросил. Может, вы ему надоели. Или он встретил другую женщину. Что-нибудь в этом роде. Вы поехали в край виноделия не ради какого-то сценария, а чтобы вернуть Фрая. – Нет! – Но он не поддался на уговоры. Однако вы успели узнать о его предполагаемой поездке в Лос-Анджелес. Вы рассчитали, что вряд ли в первый день он куда-либо отправится, а скорее всего останется вечером в гостинице и, значит, у него не окажется свидетелей, чтобы подтвердить свое алиби. И решили инсценировать нападение, чтобы шантажировать Фрая. – Какая мерзость! – Но у вас сорвалось. Фрай изменил свои планы насчет поездки. И теперь вы уличены во лжи. – Он был здесь! – Хилари хотелось схватить детектива Говарда за горло и сжимать, пока до него не дойдет. – Послушайте. У меня есть друзья, которые точно знали бы, если бы у меня был роман. Они подтвердят, что у меня не было ничего общего с Бруно Фраем. И вообще с кем бы то ни было. Я слишком занята, у меня нет времени для личной жизни. И уж во всяком случае, мне некогда заводить шашни с кем-то живущим в другом конце штата. Спросите моих друзей – они скажут!.. – Друзья не считаются, – авторитетно заявил Говард. – И потом, вы могли скрывать от них свое увлечение. Нет, мисс Томас. Игра окончена. Капут. – Он устремил на Хилари обвиняющий перст. – Вам чертовски повезло, мисс Томас. Если бы Бруно Фрай действительно приехал в Лос-Анджелес и подал на вас в суд, вам пришлось бы отвечать за клевету и дачу ложных показаний. Пошли, Тони! – И он направился к выходу. Лейтенант Клеменца не шелохнулся, как будто хотел еще что-то сказать. Но и Хилари не собиралась отпускать Говарда, не получив ответа на некоторые вопросы. – Подождите! – крикнула она. Говард обернулся: – Да? – Что же будет дальше? Вы что-нибудь предпримете в связи с моей жалобой? – Вы серьезно? – Да. Вы не можете оставить меня одну! Вдруг он вернется? – Господи Иисусе! – воскликнул Говард. – Охота вам продолжать эту комедию! Хилари сделала несколько шагов к нему. – Мне безразлично, что вы думаете, но… может, вы хотя бы оставите ваших людей, пока я не вызову слесаря и он не поменяет замки? Говард покачал головой. – Будь я проклят, если потрачу лишнее время и деньги налогоплательщиков на обеспечение вашей безопасности, в чем вы совершенно не нуждаетесь! Имейте мужество признать: вы проиграли. Прощайте, мисс Томас. – И он скрылся за дверью. Хилари рухнула в кресло – растерянная и ошеломленная. Но сильнее всего было чувство страха. Клеменца заговорил первым: – Я попрошу сержантов Уитлока и Фармера побыть здесь, пока вам не поставят новые замки. К сожалению, это все, что я могу. – Спасибо. – Я верю, что здесь кто-то был… – Не кто-то, а Бруно Фрай! – кикнула она. – Если бы вы пересмотрели этот пункт, мы могли бы начать расследование. – Это был Фрай, – устало повторила она. – И никто другой. Какое-то время Клеменца с интересом смотрел на нее. Тони был красив, но не внешность, а доброта и искренность, светящиеся во взгляде темных глаз, привлекали к нему внимание. – Вы прошли через тяжелое испытание, – произнес он. – Пережили шок. Это понятно. Шок способен влиять на наше восприятие действительности. Возможно, успокоившись, вы иначе посмотрите на вещи. Завтра я загляну: может, высообщите мне дополнительные сведения. – Нет, – без колебаний отрезала Хилари. – Но все равно, спасибо за доброе отношение. Ей показалось, будто ему не хочется уходить. Но он все-таки ушел, и она осталась одна в кабинете. Хилари долго сидела в кресле, не в силах подняться. Как люди сходят с ума? Что это – медленный, постепенный процесс или безумие овладевает человеком сразу, без предупреждения? Хилари вспомнила, что в их роду были случаи сумасшествия. Ее много лет преследовал страх умереть так же, как ее отец: с безумным взглядом, пеной на губах, размахивая пистолетом, тщетно пытаясь отвязаться от несуществующих чудовищ. – Я его видела, – произнесла она вслух. – Видела Бруно Фрая. В моем доме. Здесь. Сегодня вечером. Это не галлюцинация. Я его видела, черт побери! Она открыла телефонный справочник и поискала на «желтых страницах» номер круглосуточного бюро услуг.* * *
Выбежав из дома Хилари Томас, Бруно Фрай погнал свой дымчатый «Додж» подальше от Вествуда: сначала на запад, а потом на юг, к небольшой пристани в районе Марина Дель-Рей. Здесь расположились роскошные виллы, шикарные магазины и дорогие, все в огнях, рестораны с видом на море. И тысячи стоявших на приколе катеров и лодок. По берегу расползался туман, и чудилось, будто океан горит холодным огнем. Местами туман был гуще, местами – реже; скоро он укутает берег сплошной пеленой. Как только он почувствует себя в безопасности, он вернется в ее дом в Вествуде и сделает еще одну попытку убить ее. А потом прибегнет к особому ритуалу, который должен лишить ее сверхъестественной способности возрождаться из праха. Он прочел множество книг о живых и мертвецах – вампирах и прочих исчадиях ада. Конечно, она – не совсем одна из них, она особенная, но должна же, наконец, и на нее найтись управа. Ее можно изгнать, как нечистую силу. Есть средства, перед которыми вампиры бессильны – и она, несомненно, тоже. Нужно вырвать у нее из груди еще бьющееся сердце и всадить в него деревянный кол. Отрубить голову. Набить рот чесноком. Это обязательно подействует. Господи, сделай так, чтобы это подействовало! Фрай вышел из машины и направился к телефону-автомату. В сыром воздухе носились слабые ароматы морской соли, водорослей и бензиновых паров. Вода плескалась о борта маленьких суденышек – странный, забытый звук. В то самое время, когда Хилари вызывала полицию, Фрай позвонил к себе домой, в графство Напа, и рассказал о неудавшемся покушении. Человек на другом конце провода слушал не перебивая. Потом сказал: – Я улажу дело с полицией. Они поговорили еще несколько минут, и Фрай дал отбой. Выйдя из плексигласовой кабины, он подозрительно оглянулся по сторонам. Кэтрин никак не могла преследовать его, но все-таки ему казалось, что она где-то поблизости, скрывается во мгле, не спускает с него глаз и ждет своего часа. Он большой, сильный человек, ему ли бояться женщины? Но он боялся. Боялся той, что никак не хотела умирать, той, что сейчас носит имя Хилари Томас. Фрай вдруг почувствовал, что умирает от голода. Он с самого обеда ничего не ел, и теперь у него урчало в желудке. Здесь, в районе Марина Дель-Рей, не было ни одной подходящей закусочной. Он сел в машину и медленно двинулся по направлению к Виста Дель-Мар. Видимость была не более тридцати футов. Наконец Фрай притормозил перед маленьким мексиканским рестораном с желто-красной неоновой вывеской «Гарридо». У входа стоял автомобиль с наклеенным на бампер плакатом: «Власть чиканос!». И еще – «Поддерживайте профсоюз сельскохозяйственных рабочих!». Внутри ресторан больше походил на бар. Теплый, немного спертый воздух был напоен ароматами доброй мексиканской кухни. Вдоль всей левой стены шел заляпанный, весь в отметинах, прилавок, за которым восседала примерно дюжина парней и две хорошенькие сеньориты. Все шпарили по-испански. Справа расположились отдельные застекленные кабины с кожаными креслами. Фрай занял одну из них. Маленькая кругленькая официантка принесла заказ: черепашки под соусом и пиво. Первую бутылку Фрай опорожнил за каких-то несколько секунд. Вторую он пил медленнее, но и она скоро опустела, и он заказал еще две. Сладко урча, Фрай быстро расправился с черепашками и попросил пару говяжьих котлет, немного сыра с рисом, тарелку жареных бобов и еще две бутылки пива. Официантка широко раскрыла глаза от удивления, но она была слишком хорошо вымуштрована, чтобы комментировать выбор клиента. Фрай выдул примерно половину последней бутылки и огляделся. Его внимание привлекли двое смуглых парней лет по двадцать с небольшим. Они громко хохотали и выламывались перед дамами, наскакивая друг на друга и всячески петушась перед своими курочками. Фраю захотелось поразвлечься, и он довольно усмехнулся, предвкушая потеху. Он расплатился с официанткой и натянул кожаные перчатки. Сунув в карман ополовиненную бутылку пива, Фрай, пошатываясь, направился к выходу. Проходя мимо петушившихся парней, он сделал вид, будто споткнулся о стул одного из них. Так как в его расчеты не входила конфронтация со всем залом, он понизил голос: – Убери свой стул из прохода, грязная свинья! Парень растерялся: он уже почти улыбнулся, ожидая извинений, но быстро пришел в себя. Его лицо приняло отрешенный вид, а глаза превратились в щелки. Не дожидаясь, пока оскорбленный мексиканец вскочит на ноги, Фрай обратился к его приятелю: – Почему бы тебе не подцепить вон ту аппетитную блондиночку? Что ты возишься с этими грязными потаскушками? После чего он быстро двинулся к выходу, перенося боевые действия на улицу. Страшно довольный собой, он вывалился в туманную ночь и поспешил на стоянку. За спиной послышалась английская речь с сильным испанским акцентом: – Эй, парень, погоди-ка! Фрай обернулся. Парни стояли бок о бок, в тумане похожие на призраки. – Ты что это выделываешь, а, приятель? – А вы, свиньи, нарываетесь на неприятности? Последовало несколько мексиканских ругательств. – Ради бога, – издевательским тоном попросил Фрай, – хотите что-то сказать – говорите по-английски. – Мигель назвал тебя свиньей, – перевел тот, что был повыше ростом, – а я – паршивой свиньей. Фрай ухмыльнулся. Мигель шагнул навстречу, но Фрай сделал вид, будто не замечает этого. Мексиканец попер на него как танк – с опущенной головой, прижав локти к телу и стиснув кулаки. Фрай абсолютно спокойно выстоял перед градом ударов в живот. В руке у него все еще была бутылка с пивом, и вдруг он обрушил ее на голову мексиканца. Бутылка разлетелась вдребезги. Мигель с душераздирающим стоном рухнул на колени. – Пабло! – умоляющим голосом крикнул он приятелю. Фрай обхватил обеими руками его голову и надавил коленом на горло. Противно хрустнули зубы. Когда Фрай наконец отпустил его, Мигель без сознания повалился на бок; из окровавленных ноздрей с шумом вырывался воздух. Тогда в атаку ринулся Пабло. У того был нож – с длинным, тонким лезвием, заточенный с обеих сторон, опасный, как бритва. Пабло фехтовал, выискивая у противника слабое место. Фрай попятился назад, в то же время изучая повадку своего неприятеля. Отступив почти до самого «Доджа», он уже понял, как нужно действовать. Вместо того чтобы наносить ножом короткие, точные удары, Пабло размахивал им, как шпагой. Дождавшись, пока длинный клинок совершит еще одно бесполезное движение и уйдет в сторону, Фрай схватил Пабло за запястье так, что тот взвыл от боли. Бруно скрутил парню руки за спиной и несколько раз протаранил им свою машину. Лицо Пабло превратилось в кровавое месиво. Когда Фрай отпустил его, он таким же бездыханным кулем, как и его приятель, рухнул на асфальт. Фрай несколько раз пнул тяжелым ботинком ему в бок. Хрустнули ребра. Фрай сел за руль своего «Доджа» и медленно, проволочив по асфальту, передвинул тело Пабло к Мигелю. Он старался не раздавить их. Сейчас убийство исключалось. Слишком многие посетители бара видели его и могли опознать. Власти не будут выворачиваться наизнанку из-за покалеченных в обычной уличной драке. Вот если бы он совершил убийство, маховик следствия заработал бы на полную катушку. Насвистывая веселую мелодию, Фрай вернулся на пристань Марина Дель-Рей, чтобы заправиться. Пока заправщик наполнял бак бензином и мыл ветровое стекло, Фрай зашел в мужской туалет и привел себя в порядок. Нашел телефон-автомат и снова набрал свой номер в Напе. – Алло? – Это я, – сказал Фрай. – Все улажено. – Из полиции звонили? – Ага. Они еще пару минут побеседовали, и Фрай вернулся в свой фургон. Растянулся на заднем сиденье и включил маленький фонарик. Он не выносил полной темноты: в кромешной темноте ему начинало казаться, будто на него, шурша, наползают страшные твари. Если бы только он мог понять природу этих шорохов! Возможно, тогда ему удалось бы припомнить и весь сон – и, может быть, навсегда освободиться от тисков. Беда заключалась в том, что, просыпаясь в поту, с бешено колотящимся сердцем, Фрай испытывал одно-единственное желание: чтобы шорохи прекратились и оставили его в покое. На этот раз ему не давало уснуть незавершенное дело с той женщиной. Он настроился на убийство, но ему не дали его совершить. Он был на грани безумия. Тщетно пытался он обмануть свой голод по женщине, набивая брюхо. После того как это не сработало, попробовал разрядиться на двух чиканос. Обычно плотной жратвы и жаркой физической работы хватало, чтобы заглушить сексуальный голод и жажду крови. Фрай нуждался в сексе – в самой изощренной, садистской форме, на что не согласилась бы ни одна женщина. Поэтому он обжирался. Ему хотелось убивать, и он по четыре-пять часов в день изнурял себя поднятием тяжестей. Психиатры называют это сублимацией. Однако в последнее время это все меньше действовало. Он не мог выбросить из головы эту стерву. Соблазнительные округлости груди и бедер. Хилари Томас. Нет. Это всего лишь маска. Кэтрин. Вот кто она такая. Вот кем она была в прошлой жизни. Кэтрин. В другом теле. Закрыв глаза, он представил ее голой на постели, раздавленной его тяжестью, с раздвинутыми ногами, извивающейся, со смертной тоской в глазах, точно у зайца под прицелом. Видел свою руку, терзающую ее лоно… а другая тем временем заносит нож, вонзает серебристое лезвие в мягкую плоть; выступает кровь. Он вспарывает ей грудь и достает еще живое, пульсирующее сердце. По мере того как разыгрывалось воображение, у Фрая напряглись тестикулы и отвердел пенис – еще один клинок, который он всадит глубоко-глубоко в ее восхитительное тело. Сначала пенис, а затем нож – изливая в нее весь свой страх при помощи одного и отнимая жизнь другим. Фрай открыл глаза. По лицу струился пот. Кэтрин. Чертова ведьма. Тридцать пять лет, с самого рождения, он прожил в ее тени, ежеминутно терзаемый страхом. Пять лет назад она умерла от сердечного приступа, но до сих пор являлась ему во все новых обличьях, под другими именами – лишь бы вернуть свою власть над ним. Он использует ее и убьет, тем самым доказав, что больше не испытывает страха. Ее власть кончилась. Теперь он сильнее. Фрай потрогал сверток под матрацем. Потом достал, развернул и залюбовался запасным ножом. Он не сможет уснуть, пока не разделается с ней. Этой ночью. Она не ожидает его так скоро. Фрай взглянул на часы. Полночь. На улицах все еще полно народу: люди возвращались из театров, с поздних ужинов и вечеринок. Скоро улицы опустеют, в домах погаснет свет, и он не будет бояться, что кто-то засечет его и выдаст полиции. В два часа ночи он отправится в Вествуд. (обратно)Глава 3
Слесарь поставил новые замки на парадную дверь и дверь черного хода и укатил по очередному вызову. Отбыли сержанты Уитлок и Фармер. Хилари осталась одна. Она не надеялась уснуть и, уж во всяком случае, не собиралась ложиться на свою собственную кровать. Все в спальне говорило о недавней борьбе. Хилари мучили воспоминания. Вот Бруно Фрай выламывает дверь и неотвратимо надвигается на нее с высоко поднятым ножом. В подступающей полудреме его черты начали расплываться и напоминать ее отца, словно это он, Эрл Томас, восстав из мертвых, пытался убить ее. Но дело было не только в том, что эта комната пропиталась испарениями зла. Хилари не хотела оставаться здесь на ночь, пока не поставят новую, особо прочную дверь с латунными засовами. А это произойдет только завтра днем. Теперь же, если Бруно Фрай вернется… А он рано или поздно вернется, она уверена в этом. Можно было переехать в отель, но Хилари претила мысль о том, чтобы прятаться от него. Спасаться бегством. Она гордилась своим мужеством и никогда ни от кого не бегала, а давала отпор. Она не сбежала от своих жестоких родителей. Не убежала, когда в их маленькой чикагской квартире разыгралась кровавая драма; не сошла с ума, не искала, как делают многие, спасения в беспамятстве. Не уходила от борьбы в начале своей голливудской карьеры – сначала в качестве актрисы, а затем – автора сценариев. Жизнь не раз сбивала ее с ног, но она поднималась и продолжала борьбу. И побеждала. Она выиграет смертельный бой с Бруно Фраем, даже если придется вести его в одиночку. Черт бы побрал полицию! Наконец она решила провести ночь в комнате для гостей – там была относительно прочная дверь, которую к тому же можно было забаррикадировать. Хилари перенесла туда свою постель, развесила полотенца в маленькой ванной. На кухне она устроила смотр всем своим ножам, выбирая поострее. Огромный мясницкий казался надежнее остальных, но больно уж неуместно выглядел в ее маленьких руках. Вряд ли он подойдет для рукопашной схватки: такой нож требует простора для маневров. Поэтому Хилари выбрала обычный нож с четырехдюймовым клинком, достаточно маленький, чтобы спрятать его в кармане халата, и достаточно большой, чтобы нанести смертельную рану. Мысль о том, чтобы вонзить нож в человеческую плоть, наполнила ее отвращением, но Хилари знала, что сделает это, если придется защищать свою жизнь. В детстве она постоянно держала при себе нож, пряча его под матрасом. Так она меньше боялась выходок своего непредсказуемого отца. Она только однажды пустила его в ход – когда у Эрла начались галлюцинации. Ему мерещились огромные черви, выползающие из стен, и гигантские крабы, которые якобы лезли в окна. В приступе белой горячки он превратил их дом в склеп, и если она спаслась, то лишь благодаря тому, что имела при себе оружие. Конечно, пистолет эффективнее ножа. Но полицейские забрали ее тридцатидвухдюймового друга. Чертовы идиоты! После отъезда детективов Говарда и Клеменца у Хилари состоялся безумный разговор с сержантом Фармером. Она и теперь не могла спокойно вспоминать его. – Мисс Томас, насчет того пистолета… – Что насчет пистолета? – На него нужно разрешение. – Оно у меня есть. Возьмите в тумбочке. Там же, где пистолет. Через пару минут: – Мисс Томас, вы раньше жили в Сан-Франциско? – Да, восемь месяцев. Работала в театре. – На этой лицензии стоит штамп Сан-Франциско. Вы знаете, что должны пройти перерегистрацию? – Нет. Послушайте, я пишу сценарии и не разбираюсь в оружии. Но если нужно, я перерегистрирую его так скоро, как только смогу. – Да, иначе вы не получите его обратно. – Как – обратно? – Я вынужден изъять его у вас. – Вы что, издеваетесь? – Таков порядок, мисс Томас. – Вы собираетесь оставить меня одну, да еще и безоружной? – Думаю, вам ничего не грозит. – Кто вам сказал? – Я только выполняю свой долг. – Это лейтенант Говард вбил вам в голову такую чушь? – Детектив Говард не приказывал, но… – О господи! – Вам нужно будет внести положенную плату, заполнить бланк – и мы вернем вам оружие. – А если Фрай вернется сегодня ночью? – Не похоже на то, мисс Томас. – Но все-таки? – Вызовите нас. Поблизости всегда есть какая-нибудь патрульная машина. Мы сразу приедем. – Тогда нужно будет вызывать священника или фургон из морга. – Я только выполняю свой долг, мисс Томас. – А… Что толку!.. Фармер забрал пистолет, а Хилари получила весьма полезный урок. Полиция – правая рука правительства, а на правительство ни в чем нельзя положиться. Если оно не в состоянии сбалансировать бюджет и обуздать инфляцию, справиться с коррупцией в своих собственных рядах; если теряет боеспособность армия – как можно надеяться, что оно защитит ее от взбесившегося маньяка? Хилари давно поняла, что ей не на кого рассчитывать. Уж конечно, не на родителей. Не на прочих родственников, которые всякий раз умывали руки. Не на органы соцобеспечения, куда она ребенком обращалась за помощью. Не на полицию. В сущности, она могла положиться только на себя. «Отлично, – раздраженно подумала она. – Я сама буду иметь дело с Бруно Фраем». Как? Да уж как-нибудь. Хилари вышла из кухни с ножом в руке. В гостиной она подошла к бару и, налив себе большой хрустальный бокал коньяка «Реми Мартин», взяла его с собой в комнату для гостей. По пути она демонстративно гасила повсюду свет. Она заперла за собой дверь спальни и оглянулась, ища, чем бы укрепить ее. Слева у стены высился огромный сосновый шифоньер. Он был слишком тяжел, но Хилари догадалась вытащить ящики. Она подтянула шифоньер к двери и поставила ящики обратно. У шифоньера не было ножек – попробуйте сдвинуть такой с места! Хилари приняла ванну и выпила бренди. В голове приятно зашумело. Она легла на кровать лицом к двери и с удовлетворением увидела перед собой внушительную баррикаду. В два часа ночи она уже спала.* * *
В два часа двадцать пять минут Бруно Фрай проехал мимо коттеджа, где жила Хилари Томас. Туман укутал все вокруг, но все же можно было разглядеть, что все огни в доме погашены. Он проехал еще два квартала, поставил там фургон и пешком вернулся обратно – медленно, внимательно проверяя попадавшиеся автомобили. Вряд ли копы поставили ей охрану, но он не мог рисковать. Все машины оказались пусты. Засады нет. Разумеется, она находилась в доме. Он был уверен в этом. Чувствовал ее запах. Сука. Ждет, чтобы он взял ее, а потом убил. Или сама хочет убить его. До сих пор она умирала без особых сложностей. И возвращалась в новой телесной оболочке, притворившись совсем другой женщиной. Но умирала – в любом своем воплощении – без борьбы. Однако на этот раз Кэтрин проявила себя настоящей тигрицей, поразительно сильной, храброй и коварной. Это что-то новое. И это ему не нравится. Он не стал открывать дверь кухни одним из ключей, которые вытащил у нее из сумочки, когда она приезжала на винодельню. Возможно, она поменяла замок. А если даже и нет – он все равно не сможет войти через дверь. Во вторник, когда он в первый раз обследовал дом, она была дома, и он обнаружил, что замки не отпираются, если ключ вставлен изнутри. Поэтому не смог проникнуть внутрь и был вынужден повторить свою попытку в среду, восемь часов назад, когда она уезжала на званый ужин. Но сейчас она находилась внутри и скорее всего не только поменяла замки, но и заперлась на все засовы, охраняя свою цитадель от его вторжения. Фрай дошел до окна, выходившего в розарий. У него был с собой моток клейкой ленты; он обклеил часть стекла, поближе к задвижке. Потом выдавил стекло и, просунув в образовавшееся отверстие руку, повернул задвижку. Окно открылось. Фрай очутился в доме. Тишина. Она умела воскресать из мертвых, но на этом и кончались ее сверхъестественные способности. Она не обладала даром ясновидения. Он находился у нее в доме, а она не знала об этом. Фрай ухмыльнулся. Достал из-за пояса нож и положил в правую руку. С маленьким фонариком в левой руке двинулся обследовать помещения. Всюду было темно и тихо. Он поднялся на второй этаж, обошел несколько спален, но так и не нашел ничего интересного. Подойдя к последней спальне, подергал ручку. Она была заперта. Он нашел ее. Нашел Кэтрин. Фрай посветил фонариком в щель под дверью, за которой оказалось что-то громоздкое и, должно быть, очень тяжелое. От мысли, что она возвела баррикаду и, стало быть, боится, у него полегчало на душе. Пусть даже она нашла способ воскресать из мертвых – умирать все-таки не хочется! Или она чувствует, что однажды может и не воскреснуть? Уж он знает, как поступить с трупом, чтобы этого не случилось. Вырезать сердце. Проткнуть деревянным колом. Отрубить голову. Набить рот чесноком. Должно быть, Кэтрин догадывается, что на этот раз он основательно подготовился, поэтому и сопротивляется с такой бешеной энергией, как никогда прежде. Тишина. Неужели она уснула? Нет, подумал Фрай. Не может быть. Она слишком напугана. Наверное, сидит на кровати с пистолетом в руке. Он молча стоял в темноте, взвешивая свои шансы. Можно попытаться выломать дверь и сокрушить преграду, но это равноценно самоубийству. Она успеет прийти в себя и всадит в него добрую дюжину пуль. Остается ждать, когда она выйдет из комнаты. Если он целую ночь бесшумно просидит в прихожей, Кэтрин не догадается о его присутствии. Вот тут-то он ее и схватит – она и пикнуть не успеет!* * *
В четверг, в девять часов утра, Хилари проснулась от телефонного звонка. В комнате для гостей тоже стоял аппарат. Хилари сняла трубку и узнала голос своего агента по рекламе. Он только что прочел в утренних газетах о ночном происшествии и был возмущен и встревожен. Прежде чем рассказать подробности, Хилари заставила Уолли Топелиса прочитать ей газетную заметку и с облегчением убедилась, что там была лишь фотография и несколько абзацев текста. Содержание сводилось к тому немногому, что сообщил газетчикам лейтенант Клеменца. Имя Бруно Фрая не упоминалось, так же, как и мнение лейтенанта Говарда о ней как о бессовестной лгунье. Она обо всем рассказала Уолли, и он пришел в бешенство. – Чертов идиот! Если бы этот тупоголовый коп потрудился узнать у знакомых, что ты собой представляешь, он бы понял, что ты не способна на такую беспардонную ложь. Слушай, детка, я сам обо всем позабочусь. Заставлю их начать расследование. – Каким образом? – Позвоню кое-кому. – Например? – Начальник городской полиции тебя устроит? – Конечно. – Он мне кое-чем обязан. Кто пять лет подряд устраивает ежегодные благотворительные концерты для полицейских? Кто обеспечивает бесплатное участие звезд Голливуда, популярнейших певцов и комиков? – Ты? – Черт меня побери, если нет! – Но что он может сделать? Если один полицейский утверждает, что я все это придумала? – У него мозги не в порядке. – Я слышала, что лейтенант Говард на хорошем счету. – Такая кадровая политика не делает им чести. – Тебе будет нелегко переубедить начальника. Особенно если шериф графства Напа расскажет ему ту же историю. Фрай находился у себя дома и пек пирожные. – Этот шериф либо осел и говорил со слов кого-то из домашних Фрая, либо лгал. Может, он заодно с Фраем. – Скажи это шефу полиции, и он пошлет тебя на медэкспертизу на предмет параноидальной шизофрении. – Если с полицией ничего не выйдет, – сказал Уолли, – я обращусь в частное агентство. Уж они-то разнюхают всю подноготную Бруно Фрая и вытащат на свет божий все его темные делишки. – Наверное, это очень дорого? – Разделим расходы пополам. – Ну нет! – Да! – Это очень великодушно с твоей стороны, но… – Великодушием тут и не пахнет. Ты – исключительно ценное приобретение, мой ягненочек. Ты приносишь мне солидные проценты. Так что считай, что я защищаю собственные интересы. – Чушь собачья, и ты это знаешь. Послушай, Уолли, подожди кого-либо нанимать. Второй детектив, лейтенант Клеменца, обещал сегодня заехать: может, я еще что-то вспомню. Он, кажется, был склонен мне поверить, но его смутило свидетельство шерифа Лоренски. Подожди, пока я не увижусь с ним. А если ничего не изменится, наймем частного детектива. – Ну, хорошо, – неохотно согласился Уолли. – Но тем временем я пришлю кого-нибудь. – Уолли, я не нуждаюсь в телохранителях. – Еще как нуждаешься! – Я вполне спокойно провела ночь и… – Слушай, детка. Я все-таки кого-нибудь пришлю. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Не спорь с дядюшкой Уолли. Если не захочешь впускать его в дом, пусть подежурит на улице. – Уверяю тебя… – Рано или поздно, – мягко произнес Уолли, – ты поймешь, что нельзя прожить одной. Всем нам приходится принимать помощь от друзей. Тебе следовало позвонить мне ночью. – Я не хотела тебя беспокоить. – Ах вот как? Хилари, я – твой друг. Не позвонив, ты причинила мне куда большее беспокойство. Это все очень хорошо – независимость, гордость и все такое прочее. Но не заходи слишком далеко, чтобы не надавать пощечин тем, кто тебя любит. Ну так что – ты не прогонишь телохранителя? Хилари вздохнула. – О’кей. – Вот и отлично. Он явится где-нибудь в пределах часа. И не забудь позвонить мне сразу после разговора с Клеменца. – Хорошо. – Обещаешь? – Обещаю. – До свидания, дорогая. – До свидания, Уолли. Большое спасибо. Хилари положила трубку и взглянула на шифоньер. После спокойной ночи баррикада показалась ей страшной нелепостью. Уолли прав: лучше всего нанять телохранителей и компетентного частного детектива. Ей не справиться с Фраем в одиночку. Хилари встала, надела халат и стала разгружать шифоньер. Потом оттащила его от двери и вернула ящики на место. Взяла с тумбочки нож и грустно усмехнулась. Какая же она наивная! Вступить в рукопашный бой с «качком», к тому же маньяком! Да это просто чудо, что ей удалось ускользнуть от него ночью. К счастью, у нее был пистолет. Теперь же, если ей вздумается затеять фехтование, он зарежет ее как цыпленка. Чтобы отнести нож на кухню и одеться к приходу телохранителя, она отперла дверь, вышла в коридор и страшно закричала, когда он схватил ее за горло и прижал к стене. Левой рукой он разорвал халат и схватил ее за грудь. Фрай, должно быть, слышал ее разговор с Уолли, знал, что у нее нет пистолета, и поэтому совершенно не боялся Хилари. Но он ничего не знал о ноже. Хилари вонзила лезвие в упругий мускулистый живот. Несколько секунд он словно не чувствовал боли. Потом Хилари почувствовала, как пальцы, сжимавшие горло, ослабли. Прямо на Хилари смотрели расширившиеся от страдания глаза, Фрай издал стон. Хилари ударила еще раз, прямо под ребра. Его лицо побледнело, потом стало серым, как пепел. Фрай взвыл, выпустил Хилари и, отшатнувшись к противоположной стене, рухнул на пол. Хилари всю передернуло от отвращения и боли, когда она поняла, что произошло, но она стояла, готовая к новому нападению Фрая, сжимая нож. А тот с ужасом смотрел на живот. Из ран сочились струйки крови, заливая брюки и свитер. Хилари не стала дожидаться агонии. Она вбежала в комнату для гостей и, заперев за собой дверь, с минуту прислушивалась к стонам и проклятиям Фрая, а также его неуклюжим попыткам подняться на ноги. Неужели у него хватит сил выломать дверь? Потом Хилари показалось, будто он удаляется, но у нее не было уверенности. Она опрометью бросилась к телефону и, не вытирая рук, набрала номер полиции.* * *
Сука! Поганая сука! Фрай сунул руку под желтый свитер и нащупал нижнюю рану – ту, что особенно кровоточила. Он попытался свести края вместе и удержать в этом положении. Сквозь рану уходила жизнь. Он не испытывал какой-то особенной боли. Что-то похожее на электрические разряды в боку. Тупое жжение в животе. Вот и все. И тем не менее Фрай знал, что смертельно ранен и ситуация с каждой минутой ухудшается. Зажав одной рукой живот, а другой держась за перила, он начал спускаться по предательским ступенькам – они качались, словно в карнавальном домике смеха. Когда он наконец достиг первого этажа, его заливал пот. Фрай вышел из дома, и его ослепило солнце. Такого солнца он еще не видел: этот огромный монстр заполонил все небо и нещадно палил, точно пытаясь уничтожить Бруно Фрая. Еще немного, и у него начнут плавиться зрачки и мозги. Согнувшись в три погибели, он проковылял два квартала и добрался до своего фургона. Вскарабкался на сиденье и хлопнул дверцей. Ему показалось, что она весит десять тысяч фунтов. Одной рукой вертя руль, Фрай доехал до Уилширского бульвара, свернул направо, потом налево и притормозил возле телефона-автомата. Кровотечение не унималось. Жжение в желудке становилось все сильнее. В боку кололо, как иголками. Но Фрай знал: худшее – впереди. Он с огромным трудом добрался до плексигласовой будки и не смог вспомнить свой домашний номер. Пришлось звонить на коммутатор в Напа-Валли. – Алло? – послышался голос телефонистки. – Соедините меня с квартирой мистера Бруно Фрая. – Секундочку. В трубке раздался щелчок, а затем мужской голос ответил: – Алло? – Я смертельно ранен, – сказал Фрай. – Я умираю. – Господи, нет! Нет! – Придется вызвать «Скорую помощь». И тогда… они узнают правду. Они еще немного поговорили. Обоими владели страх, растерянность и отчаяние. Время от времени Фрай издавал стон, и его собеседник в графстве Напа вторил ему, словно сам испытывал ту же боль. – Я должен вызвать «Скорую», – выдавил из себя Фрай и повесил трубку. Кровь ручьями стекала с него на асфальт. Он снова снял трубку и попробовал набрать номер «Скорой помощи», но пальцы не слушались. Все его тело – плечи и руки с буграми мышц, спина, грудь, бедра – больше не подчинялось его приказам. Он так и не смог позвонить и не сумел удержаться на ногах. Грузное тело Бруно Фрая обмякло и вывалилось из телефонной кабины. Как страшно! Он уговаривал себя, что так же, как Кэтрин, восстанет из гроба. «Я вернусь и доберусь до нее! Я обязательно вернусь!» Но и сам не верил в это. Для него вдруг наступил миг прозрения. Что, если он ошибался насчет воскрешения Кэтрин из мертвых? Если только внушил себе это и убивал ни в чем не повинных женщин? Неужели он лишился рассудка? Новый приступ боли отвлек его от этих мыслей. В глазах было темно. Он почувствовал, как по нему ползет какая-то тварь. Много-много тварей. Карабкаются по рукам и по ногам. Ползут по лицу. Заползают в глаза, ноздри, уши, рот… Он попытался крикнуть и не смог. Шорохи. Нет!.. Шорохи слились с его последним воплем. И все поглотила темная река.* * *
В четверг утром Тони Клеменца и Фрэнк Говард заехали к Джилли Дженкинсу, старинному приятелю Бобби Вальдеса. Джилли сообщил, что, когда он видел Бобби в последний раз, тот только что уволился из прачечной на Олимпийском бульваре. Больше Джилли ничего о нем не знал. Прачечная оказалась большим одноэтажным строением, возведенным в начале пятидесятых годов, в то самое время, когда бездарные лос-анджелесские архитекторы впервые попытались скрестить псевдоиспанский стиль с современным производственным. Просто уму непостижимо, подумал Тони, как мог появиться на свет этакий уродец. Оранжево-красная черепичная крыша сплошь утыкана кирпичными трубами, из которых валит пар. На резных окнах металлические решетки. Прямые стены, острые углы – и закругленные, типично испанские арки. Здание походило на вышедшую в тираж проститутку, отчаянно пытающуюся с помощью пышного наряда сойти за леди. Рабочий стол владельца прачечной, Винсента Гарамалкиса, стоял прямо в цеху, на трехфутовом возвышении, откуда ему было удобно наблюдать за рабочими. Это был невысокий коренастый человек с небольшой лысиной, грубыми чертами и неожиданно добрыми глазами газели. Он стоял подбоченившись и враждебно поглядывал на непрошеных посетителей. – Полиция. – Фрэнк махнул удостоверением. – Не Иммиграционная служба, – поспешил уточнить Тони. – С чего вы взяли, будто я ее боюсь? – огрызнулся хозяин прачечной. – Я чист как стеклышко. У всех моих рабочих документы в полном порядке. – Нам нет до этого никакого дела, – заверил Тони. – Мы просто хотели бы задать вам несколько вопросов. – Это еще о чем? – Вы знаете этого человека? Гарамалкис покосился на фотографии. – А что? – Нам необходимо его разыскать. – Зачем? – Он скрывается от полиции. – Ну и что с того? – Слушай, ты, задница! – У Фрэнка лопнуло терпение. – Мы можем сделать так, что у тебя будут крупные неприятности. Нам наплевать, что у тебя тут вкалывают беспаспортные, но если не будешь помогать следствию, будешь иметь дело с Иммиграционной службой. Допер? Тони перехватил инициативу: – Мистер Гарамалкис, мой отец иммигрировал в Штаты из Италии. Все его документы были в абсолютном порядке, и вскоре после переезда он выправил американское гражданство. Но они все равно стали его доставать – из-за неточности в собственных записях. Это тянулось больше пяти недель. Они являлись к нему на работу и к нам домой – в самое неподходящее время. Угрожали. Чуть не депортировали. У отца не было денег на хорошего адвоката, и мать почти постоянно билась в истерике, пока все не кончилось. Так что, как видите, у меня нет особой любви к Иммиграционной службе. Я палец о палец не ударю, чтобы им помочь, мистер Гарамалкис. Владелец прачечной вздохнул и сплюнул. – Когда пару лет назад бузили иранские студенты, эти скоты, видите ли, не могли дать им под зад, чтобы убирались из страны. Они были очень заняты – придирались к моим рабочим. Те, кого я беру на работу, по крайней мере, не поджигают дома, не переворачивают машины и не забрасывают полицейских камнями. Это порядочные, трудолюбивые люди. Не психи и не религиозные фанатики. Просто они не умеют давать сдачи. Вся эта система – дерьмо собачье! Гарамалкис снова вздохнул и бросил взгляд на фотоизображение Бобби Вальдеса. – Да, он здесь работал. В начале лета. Конец мая – начало июня. – Как он представился? – Хуан. – А фамилия? – Не помню. Можно посмотреть в журнале. Как выяснилось, Бобби устроился на работу в прачечную под именем Хуана Маккезы. В регистрационном журнале значился его адрес на Ла-Бри-авеню. – Если мы не найдем Хуана Маккезу по этому адресу, – предупредил Тони, – придется вернуться и порасспросить ваших рабочих. – Это будет нелегко, – ухмыльнулся Гарамалкис. – Они не говорят по-английски. Тони усмехнулся и выдал несколько фраз по-испански. Это произвело на Гарамалкиса сильное впечатление. Когда они катили по направлению к Ла-Бри-авеню, Фрэнк нехотя произнес: – Нужно отдать тебе должное, у тебя с ним получилось гораздо лучше. Это был первый раз за три месяца, когда он признал превосходство методов Тони над своими собственными. – Хотел бы я перенять у тебя парочку приемов. Не все, разумеется. В большинстве случаев мой способ эффективнее. Но случается и так, что свидетель открывает тебе то, что я и за миллион лет из него бы не вытянул. Да, хотел бы я обладать твоей ловкостью. – Этому легко научиться. – Не-а. Нам и так хорошо. Мы – классический случай, когда два чертовых копа дополняют друг друга. Фрэнк помолчал и заговорил, только когда они остановились на красный свет: – Я бы еще кое-что сказал, да, боюсь, тебе не понравится. – Попробуй, – улыбнулся Тони. – Насчет той женщины. – Хилари Томас? – Ага. Ты вроде бы втрескался? – Не пори чепухи. Она, конечно, очень красива, но… – Не вешай мне лапшу на уши. Видел я, как ты на нее пялился. Машина снова тронулась с места. – Ты прав, – после долгой паузы подтвердил Тони. – Хотя, ты ведь знаешь, я не бросаюсь на первую встречную. – Мне иногда начинает казаться, что ты евнух. – Хилари не такая, как другие. Дело даже не в красоте, хотя, конечно, ей в этом не откажешь. Мне нравится, как она двигается, держится, разговаривает. Нравится не голос, а то, как она самовыражается. Ее образ мыслей… – Я тоже нахожу, что у нее смазливенькая мордашка, но что касается ее образа мыслей… – Она не лгала. – А как же шериф Лоренски? – Должно быть, она что-то перепутала, но уж никак не сочинила. На нее действительно напал кто-то, похожий на Бруно Фрая. – Сейчас ты обидишься, – предупредил Фрэнк. – Валяй. – Не важно, что она задурила тебе голову, но ты вел себя некорректно по отношению ко мне. Тони растерялся. – А что я сделал? – Так не поступают с напарником. – Не понимаю. Фрэнк весь залился краской и не отрывал глаз от дороги. – Во время допроса ты несколько раз брал ее сторону. Если тебе что-то не нравилось, ты мог бы как-то незаметно дать мне знать. Но не высказываться в ее присутствии. – Фрэнк, ей столько пришлось пережить… – Дерьмо собачье! Ничего ей не пришлось пережить! Она все это высосала из пальца. – Не могу с тобой согласиться. – Потому что думаешь яйцами, а не головой! Тебе следовало отвести меня в сторону и… – Но я же так и сделал, когда она отвечала на вопросы репортеров! Я спросил, что ты против нее имеешь, но ты не захотел раскрывать карты. – Что толку? К тому времени ты уже по уши влип. – Брось, Фрэнк. Ты знаешь, я никогда не позволяю личному влиять на работу. А вот ты – да! Причем только с женщинами. Тебе доставляет удовольствие играть с ними, как кошка с мышкой. – И они всякий раз колются. – Да, но этого можно было добиться иными, более гуманными методами. Послушай, Фрэнк, я не знаю, что тебе сделала твоя бывшая жена, но это еще не повод ненавидеть всех женщин. – Опять эта фрейдистская чушь? – Нет, Фрэнк, все гораздо хуже. Ты поступаешь непрофессионально. Они некоторое время ехали молча. Потом Тони заговорил: – И все-таки, каковы бы ни были твои недостатки, ты классный детектив. Фрэнк вздрогнул от неожиданности. – Честно, – продолжал Тони. – Нам не очень-то удается притереться друг к другу. Большей частью мы гладим друг друга против шерсти. Возможно, мы так и не сработаемся. И все-таки ты хороший коп. Его напарник откашлялся. – Ты тоже – несмотря на то, что бываешь слишком мягким. – А ты – черствым сукиным сыном. – Попросишь другого напарника? – Еще не решил. – Я тоже. – В нашей профессии опасно не находить общего языка с партнером. Постоянное напряжение делает человека более уязвимым. – Это точно! – согласился Фрэнк. – Мир кишмя кишит вооруженными подонками. Напарник должен быть как бы частью тебя самого. – Кажется, мы приехали, – сказал Тони. Владелицу меблированных комнат «Пальмира» звали Лана Хэверби. Это была загорелая блондинка лет сорока, в шортах и майке, похожей на бюстгальтер. У нее было явно преувеличенное представление о своей сексапильности, потому что она не сидела и не стояла, а позировала. Ноги и правда были ничего, но все остальное явно оставляло желать лучшего: расплывшаяся талия, мощные бедра и такой же необъятный бюст. У Ланы был бессмысленный, блуждающий взгляд, и она не заканчивала предложений. Все трое сели на диван, и Лана уставилась на фотографии Бобби Вальдеса. – Да, это он, – проворковала она. – Такой милашка! – Он живет в вашем доме? – Съехал. Первого августа. – Он жил один? – Вы имеете в виду девушку? – Девушку, парня – все равно, – нетерпеливо пробурчал Фрэнк. – Один, один, – залепетала Лана. – Правда, хорошенький? – Он не оставил нового адреса? – К сожалению, нет. – Он что, задолжал за квартиру? Лана Хэверби моргнула. – Ну что вы. Просто я хотела бы его навестить. Я на него запала. Она не спросила, зачем им понадобился Бобби Вальдес, то бишь Хуан Маккеза. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что ее «милашка» – садист и насильник? – Он вам не рассказывал, где работает? – В какой-то прачечной. Но вообще-то у него водились деньжата. – У Хуана Маккезы была машина? – Недавно купил новенький «Ягуар». Можете мне поверить, это просто игрушка! – Дорогая игрушка, – уточнил Фрэнк. – Кажется, он перешел на выгодную работу. – Куда? – Не знаю, он не говорил. Но я, как только увидела этот «Ягуар», сразу поняла: он здесь не задержится. Больше она ничего не знала. Детективы собрались уходить. Лана Хэверби проводила их до двери и загородила собой проход, прислонившись к косяку и согнув одну ногу в колене, как на картинке в цветном календаре. Под майкой колыхались желатиновые груди. Тони улыбнулся. – Спасибо за помощь, мисс Хэверби. – Когда мне было двадцать три, – Лана мечтательно закатила глаза, – я работала официанткой, но скоро ушла. Тогда еще «Битлы» только-только начали греметь. Я была девочка что надо и водила дружбу со всеми модными группами. Это была фантастика! Я спала со всеми знаменитыми музыкантами. Вернее, со всеми знаменитыми группами, подумал Тони. Раньше он никогда не задавался вопросом, что случается с молоденькими фанатками. Теперь он знал: после нескольких бурных месяцев или лет, после моря выпитого виски и моря кокаина – либо героина, – когда у девушки появлялись первые морщинки и начинали обвисать груди, ее вышвыривали из постели, и больше ни одна группа не желала с ней знаться. Замужество для большинства из них было исключено. Одной из таких девушек, Лане Хэверби, повезло: она стала хозяйкой меблированных комнат. – Может, заглянешь как-нибудь? – предложила она Тони. – Когда не будешь на дежурстве. – Возможно, – солгал он и тут же поспешил загладить свою неискренность: – У вас красивые ноги. Это, по крайней мере, было правдой, но Лана не умела принимать комплименты. Она захихикала и положила обе руки себе на грудь. – Обычно все млеют от моих титек. – Увидимся, – промямлил Тони и прошмыгнул вслед за Фрэнком. В их стареньком седане Фрэнк спросил: – Ну, и что ты думаешь об этом «Ягуаре»? – Думаю, что, если Бобби не грабит банки, для него есть только один способ зашибать большие бабки. – Наркотики, – предположил Фрэнк. – Кокаин, марихуана, может быть, ЛСД. – Это дает новую отправную точку для наших поисков, – оживился Фрэнк. – Нужно прижать несколько крупных торговцев. Когда земля будет гореть у них под ногами, они принесут нам Бобби на серебряной тарелочке. – Сейчас позвоню. – Тони набрал номер управления и попросил выяснить номер «Ягуара», принадлежащего Хуану Маккезе. Если это удастся, можно будет передать дело в руки дорожной полиции. Ответившая на сигналдежурная сообщила, что их с Фрэнком уже целых два часа разыскивают в связи с новым поворотом в деле Хилари Томас. Им предстояло срочно ехать в Вествуд. Тони убрал радиотелефон в бардачок. – Я знал, черт возьми, что она говорила правду! – Погоди петушиться, – осадил его Фрэнк. – Она могла снова что-нибудь выдумать. – Не любишь сдаваться, да? – Нет – когда я убежден в своей правоте. Через несколько минут они были возле дома Хилари Томас. Здесь уже стояли две машины прессы, полицейская лаборатория на колесах и еще несколько полицейских машин. К ним подошел сержант Уорри Превитт, которого Тони знал в лицо. – Это вы, парни, были здесь ночью? – Точно, – подтвердил Фрэнк. – Что с женщиной? – спросил Тони. – Небольшой шок. – Она не ранена? – Несколько царапин на горле. – Что-нибудь серьезное? – Нет. – Да что случилось-то? – вмешался Фрэнк. Превитт передал услышанное от Хилари Томас. Фрэнк не унимался: – Есть доказательства, что она говорит правду? – Я знаком с вашей точкой зрения, – ответил Превитт. – Но доказательства есть. – Что конкретно? – Преступник залез в дом, разбив стекло в одном из окон, выходящих в розарий. Исключительно ловкая работа. Обклеил стекло клейкой лентой, чтобы не было слышно звона осколков. – Она сама могла это сделать, – буркнул Фрэнк. – Разбить стекло в собственном доме? – Почему бы и нет? – Видите ли, – возразил Превитт, – там лужи крови. Не ее группы. На стенах, на полу; кровавые отпечатки на перилах и ручке двери. – Человеческая кровь? – спросил Фрэнк. – Не подделка? Превитт воззрился на него. – Ребята из лаборатории еще не закончили анализы. Но я убежден, что это кровь человека. Кроме того, соседи видели, как он убегал, согнувшись в три погибели: это соответствует заявлению мисс Томас, что она дважды пырнула его ножом в живот. – Куда он делся? – спросил Тони. – Один свидетель видел, как он садился в серый «Додж» в двух кварталах отсюда. И укатил. – Номер известен? – Нет. Но мы дали ориентировку всем постам. Фрэнк Говард поднял опущенную было голову. – Может, так оно и есть, но эта история не имеет ничего общего со вчерашней. Сама накаркала, вот на нее и напали по-настоящему. – Она клянется, что это тот же самый человек, – ответил Превитт. Фрэнк встретился взглядом с Тони и проворчал: – Но, уж во всяком случае, не Бруно Фрай. Ты помнишь, что сказал шериф? – Я и не настаивал, что это был Бруно Фрай, – жестко ответил Тони. – Я допускал, что это был кто-то похожий на него. – А она настаивала! В это время из дома вышел сержант Гарни. – Эй! – крикнул он. – Его нашли! Человека, которого она зарезала! Тони, Фрэнк и Превитт поспешили к крыльцу. – Только что позвонили, – объяснил Гарни. – Его обнаружили мальчишки на скейтбордах. Двадцать пять минут назад. – Где? – Далеко отсюда. В районе Сепулведа. Он лежал рядом со своим фургоном. – Мертвый? – Мертвее не бывает. – У него было удостоверение личности? – спросил Тони. – Ага, – ответил сержант Гарни. – Все так, как говорила леди. Его звали Бруно Фрай.* * *
Холодно. Мерное жужжание кондиционеров. Ледяные потоки воздуха от двух вентиляторов под потолком. Хилари обхватила руками плечи. Слева от нее стоял лейтенант Говард. Справа – лейтенант Клеменца. Помещение мало напоминало морг – скорее кабину космического корабля. Хилари подумала, что уж точно предпочла бы совершить путешествие в другую галактику, а не стоять здесь и ждать, пока ей предъявят для опознания труп убитого ею человека. Наконец служитель морга вкатил тележку и откинул с лица покойника простыню. У Хилари закружилась голова, во рту пересохло. Лицо Бруно Фрая было белым и безжизненным, но на какую-то долю секунды ей показалось, будто он открыл глаза. – Это он? – спросил лейтенант Клеменца. – Это Бруно Фрай, – слабым голосом ответила она. – Но это тот самый человек, который напал на вас? – спросил лейтенант Говард. – Ради бога, не начинайте все сначала, – проговорила она. – Умоляю вас. – Нет-нет, – поспешил заверить Тони. – Лейтенант Говард больше не сомневается в ваших показаниях. Мы знаем, что этот человек – Бруно Фрай. У него нашли удостоверение личности. Единственное, в чем мы хотим убедиться, это что он и есть тот человек, который покушался на вас. – Да, – подтвердила Хилари. – Я уверена. Я все время была уверена. Теперь он будет сниться мне каждую ночь. – Мы проводим вас домой, – сказал Тони. Она вышла из морга – несчастная оттого, что убила человека, и счастливая потому, что ее враг мертв.* * *
Возле ее дома Фрэнк Говард произнес: – Мисс Томас, я должен извиниться перед вами. Тони ожидал этого, но его удивили искренние нотки в голосе Фрэнка и пристыженное, мягкое выражение его лица. Хилари тоже была удивлена. – Ах… ну… полагаю, вы исполняли свои обязанности. – Нет, – возразил Фрэнк. – В том-то и дело, что я очень плохо их исполнял. – Все это уже позади, – проговорила она. – Но вы принимаете мои извинения? – Конечно, – после секундного замешательства ответила Хилари. – Поверьте, мне очень стыдно. – Главное, Фрай не будет больше меня беспокоить, – сказала Хилари. – Это единственное, что имеет значение. Тони помог ей подняться на крыльцо. – Вам придется давать показания у коронера, – предупредил Фрэнк. – Зачем? Я заколола его, когда он находился в моей квартире, против моей воли. Он угрожал моей жизни. – Нет никаких сомнений в том, что это случай самозащиты, – заверил Тони. – Просто нужно соблюсти кое-какие формальности. Хилари отперла дверь и ослепительно улыбнулась ему. – Спасибо, что поверили мне, даже несмотря на свидетельство шерифа Напы. – Мы проверим, в чем там дело, – пообещал он. – И если вам будет интересно, доложу о результатах. – Мне интересно. – О’кей. Я дам вам знать. – Благодарю вас. Хилари переступила через порог. Тони не шелохнулся. Хилари оглянулась на него. – Что-нибудь еще? – Всего один вопрос. Вы не поужинаете со мной в субботу? Хилари безмерно удивилась. – Ах… нет, не думаю. Я буду очень занята. – Что ж. Удачи вам в «Уорнер Бразерс». – Спасибо. Тони сделал несколько шагов к автомашине и остановился. На дорожку выскочил маленький шустрый лягушонок. Тони посмотрел на него и спросил себя: – Не слишком ли легко я сдался? Лягушонок пискнул. – Что я теряю? – продолжал Тони. Лягушонок снова пискнул. Тони оставил новоявленного Купидона позади и позвонил в колокольчик. Хилари увидела его в дверной глазок и открыла дверь. Не успела она открыть рот, как Тони заговорил: – Я похож на Квазимодо? – Как? – растерялась она. – Я не ковыряюсь в зубах на людях, – заверил он. – Лейтенант Клеменца! – Или все дело в том, что я – коп? – Что-что? – Некоторые не считают полицейских за людей. – Я не из их числа. – Вы не сноб? – Нет. Просто… – Может, все дело в том, что у меня мало денег и я не живу в Вествуде? – Лейтенант, я провела большую часть своей жизни в бедности и далеко не всегда жила в Вествуде. – Тогда в чем дело? Что со мной не так? Хилари улыбнулась. – Все так, но… – Ну, слава богу! – Просто у меня нет времени. – Мисс Томас, даже президент Соединенных Штатов ухитряется иногда выкроить вечерок для себя. Даже глава «Дженерал моторс». Даже папа. Даже господь бог отдохнул в седьмой день от трудов праведных. – Лейтенант… – Меня зовут Тони. – Тони, после всего, что мне пришлось пережить за последние два дня, я не очень-то настроена веселиться. – Если бы я собирался веселиться, то пригласил бы клоунессу. Хилари снова улыбнулась, и ему безумно захотелось поцеловать ее. – Мне нужно побыть одной. – Вот как раз этого-то вам и не нужно после всего, что произошло. Я не единственный, кто так считает. – Тони оглянулся. Его маленький друг по-прежнему сидел на дорожке. – Спросите мистера Лягушонка. – Кто это? – Мой добрый знакомый. Очень мудрая особа. – Тони слегка нагнулся и уставился на лягушонка. – Скажите, мистер Лягушонок, ей нужно развеяться? Зверюшка пискнула. – Вы совершенно правы, – резюмировал Тони. – А как по-вашему, я подхожу ей в спутники? – Пи-пи, – ответил лягушонок. – Что он сказал? – поинтересовалась Хилари. – Что, если вы откажетесь поужинать со мной, он запрыгнет к вам в спальню и будет всю ночь квакать. Хилари улыбнулась. – Тогда сдаюсь. – Значит, в субботу? Я заеду за вами в семь часов. – Что мне надеть? – спросила Хилари. – Что-нибудь обычное. Так до субботы? – Он обернулся к лягушонку: – Спасибо, друг мой. Тот мигом ускакал в кусты. – Смущается, когда его благодарят, – прокомментировал Тони. Хилари, смеясь, закрыла за собой дверь. Когда они отъехали, Фрэнк спросил: – Что ты там делал так долго? – Условился о свидании. – С ней? – С кем же еще? – Счастливец! Они проехали еще пару кварталов. Фрэнк сказал: – Уже четыре. Пока доедем до управления и отчитаемся, будет пять часов. Хочешь один раз в жизни вовремя уйти с работы? До завтра с Бобби Вальдесом ничего не случится. Зайдем куда-нибудь выпить? В «Дыру», например? Это был первый раз, когда Фрэнк предложил вместе провести свободное время.* * *
В четыре тридцать главный патологоанатом подписал распоряжение о частичном вскрытии трупа Бруно Гантера Фрая: только в области ранения. Он не стал выполнять вскрытие сам, потому что спешил на шестичасовой самолет до Сан-Франциско, а поручил своему помощнику. Покойник ждал в холодильной камере вместе с другими мертвецами, такой же неподвижный, как они. Через двадцать минут после возвращения Хилари домой у нее зазвонил телефон. Она сняла трубку. – Алло? Кто-то подождал несколько секунд и дал отбой. Ошибся номером? Но почему он не сказал об этом? «Опять ты ищешь кругом чудовищ, – упрекнула она себя. – Фрай мертв. Это была страшная история, но она уже позади. Ты отдохнешь пару дней и приступишь к работе над постановкой «Волка». Иначе можно кончить дни в сумасшедшем доме».* * *
Тони пришел домой, умылся, надел джинсы, голубую клетчатую рубашку и легкую куртку и отправился в бар «Дыра», недалеко от управления, куда часто заглядывали полицейские. Фрэнк уже ждал его, по-прежнему в костюме. Тони поддел к нему. Подошла официантка по имени Пенни, с ямочкой на подбородке и песочными волосами. Взъерошила Тони волосы и спросила: – Что закажешь, Ренуар? – Миллион наличными, «Роллс-Ройс», вечную жизнь и признание масс. – А с чего начнем? – Пожалуй, с пива. – А мне бутылку «скотча», – попросил Фрэнк. – Будет сделано. Когда официантка отошла, Фрэнк поинтересовался: – Почему она назвала тебя Ренуаром? – Это был известный французский художник. – Ну и что? – Я тоже художник. Правда, не французский и не известный. Пенни обожает меня дразнить. – Ты пишешь картины? А почему я не знал? – Да я пару раз закинул удочку, но ты не проявил интереса. С таким же успехом можно было говорить о грамматике суахили. – Ты работаешь маслом? – И маслом. И карандашом. И тушью. И акварелью. Но больше всего маслом. – Давно ты этим занимаешься? – С детства. – Продал что-нибудь? – Я рисую не для продажи, а ради удовольствия. – Я бы не прочь взглянуть. – Как-нибудь приглашу тебя в свой музей. – Музей? – В свою квартиру. Там мало мебели, но очень много картин. Пенни принесла напитки. Некоторое время они молча пили. Потом потолковали о Бобби Вальдесе и снова замолчали. Фрэнк заговорил первым: – Ты, наверное, думаешь, зачем это я пригласил тебя посидеть в баре? – Должно быть, чтобы выпить. – Не только. – Фрэнк поворошил в бокале соломинкой. Звякнули кусочки льда. – Я хочу кое-что сказать. – Ты уже сказал. – Я ошибся в случае с мисс Томас. – Ты принес ей свои извинения. – Я и перед тобой хочу извиниться. – Не стоит. – Нет, подожди. Знаешь, почему я перестал различать, где правда, а где ложь? Это все из-за Вильмы. – Твоей бывшей жены? – Ага. Ты правильно сказал утром, что я заделался женоненавистником. – Должно быть, она тебе здорово насолила? – Дело не в этом, а в том, как это на меня подействовало. Ты знаешь, Тони, сколько я не спал с женщиной? Десять месяцев. С тех пор, как она ушла, – за четыре месяца до развода. Тони не знал, что сказать. – Она нашла другого? – спросил он наконец и сразу догадался, что попал не в бровь, а в глаз. Но Фрэнк еще не был готов к такому откровенному разговору и сделал вид, будто не расслышал вопроса. – Меня, главное, мучает то, что это отражается на работе. Я всегда стремился к совершенству. Так было до развода. Потом я возненавидел женщин и охладел к работе. – Он отхлебнул «скотча». – Но что, черт бы его побрал, стряслось с шерифом Напы? Почему он солгал? – Скоро узнаем. – Хочешь еще выпить? – О’кей. Тони почувствовал, что предстоит долгий разговор. Фрэнку необходимо выговориться и таким образом избавиться от яда, вот уже целый год копившегося у него в душе.* * *
В четверг, в семь часов десять минут вечера, патологоанатом совершил частичное вскрытие тела Бруно Гантера Фрая, мужского пола, белого, сорока лет от роду. Полного вскрытия не потребовалось, потому что причина смерти была совершенно очевидна. Две колотые раны. Верхняя была не смертельной: клинок повредил мышечную ткань и немного задел легкое. Зато на месте нижней раны оказалось сплошное кровавое месиво: нож пропорол желудок и задел поджелудочную железу. Смерть наступила от внутреннего кровоизлияния. Выпустив оставшуюся кровь и остальную жидкость, патологоанатом зашил брюшную полость и велел отвезти покойника обратно в холодильную камеру. Там Бруно Фрай гораздо спокойнее чувствовал себя среди мертвых, чем когда-либо в обществе живых людей.* * *
Чем больше Фрэнк пьянел, тем легче ему было рассказывать о женщинах в своей жизни. Его первая жена, Барбара Энн, работала продавщицей в универмаге. Однажды она помогла ему выбрать подарок для матери. Она была такая хорошенькая, миниатюрная, с темными глазами, что он не удержался и попросил о встрече, будучи уверен, что она откажет. Однако она согласилась. Через несколько недель они уже спали вместе, а еще через семь месяцев поженились. Барбара Энн обожала все на свете планировать. Согласно ее плану, первые четыре года она будет продолжать работать, но они не станут тратить ни пенни из ее заработка, откладывая на покупку дома. Они продадут «Понтиак», так как он потребляет слишком много горючего, и станут обходиться ее «Фольксвагеном»: этого вполне достаточно, чтобы Фрэнк доезжал до управления, а она будет ходить на работу пешком. Она распланировала меню на целых полгода вперед. Фрэнк любил в ней эту расчетливую жилку, потому что в целом Барбара Энн была удивительно жизнерадостной, легкой на подъем и смешливой женщиной, импульсивной во всем, что не касалось финансов, и изумительной любовницей. В вопросах секса для нее не существовало ни расчетов, ни ограничений. Барбара Энн хотела иметь много детей, но не раньше, чем они купят дом. Она предусмотрела все на свете – кроме собственной болезни. Через два года после свадьбы у нее обнаружили рак лимфатических узлов, а еще через три месяца ее не стало. Эта утрата совершенно выбила Фрэнка из колеи. Он чувствовал себя слабым, беспомощным и несчастным, но старался скрывать горе от людей. Чтобы заглушить тоску, с головой окунулся в работу. Работа стала его женой и любовницей, с ней он пытался забыть Барбару Энн. Это длилось девятнадцать лет. Постепенно Фрэнк стал работоголиком. Будучи патрульным офицером, он не мог самовольно продлевать часы службы и поэтому поступил на вечерние курсы по криминологии. Это помогло ему подняться по служебной лестнице и пополнить собой ряды детективов в штатском. По десять, двенадцать, четырнадцать часов в сутки он не думал ни о чем, кроме расследуемых в тот момент случаев, читал одну только профессиональную литературу; за одиноким завтраком и таким же одиноким ужином прокручивал в голове схему предстоящего допроса. Целых девятнадцать лет он был копом из копов, детективом из детективов. За все эти годы он ни разу не подумал о женитьбе. Это осквернило бы его память о Барбаре Энн. Он мог неделями воздерживаться, а потом получал временное облегчение в обществе продажной женщины. По какой-то странной логике секс с проституткой не означал измены: деньги придавали отношениям характер сделки. А потом он познакомился с Вильмой Комптон. Сидя в отдельном кабинете бара «Дыра», Фрэнк поперхнулся именем этой женщины. Он провел рукой по лицу, взъерошил себе волосы и заказал еще один двойной «скотч». – Надо бы закусить чем-нибудь, – предложил Тони. – Я не голоден, – буркнул Фрэнк. – У них тут делают изумительные бутерброды с сыром. И картофель фри. – Мне только «скотч». В конце концов Фрэнк согласился на бутерброд, но никакого картофеля. Пенни забеспокоилась: не слишком ли много он пьет? Тони заверил ее, что лично доставит Фрэнка домой. Она принесла еще «скотча» и пива и удалилась. Вильма Комптон. Она была на двенадцать лет моложе Фрэнка. Хорошенькая, миниатюрная, с темными глазами. Стройные ноги. Аппетитная маленькая фигурка. Волнующая походка. Маленький тугой задик, осиная талия и неожиданно полные груди. Она была почти так же очаровательна, как Барбара Энн. Правда, у нее не было живости Барбары Энн, а также ее остроумия и бьющей через край энергии. Но внешне она отвечала сокровенным желаниям Фрэнка. Вильма работала официанткой в кофейне, куда часто заглядывали полицейские. После того как она обслужила Фрэнка в шестой раз, он предложил встретиться. Во время четвертого свидания они легли в постель. Вильма обнаружила те же страстность и вкус к экспериментам, что и Барбара Энн. А если временами казалась поглощенной собственным наслаждением и не думала о нем, Фрэнк относил это на счет долгого воздержания. Кроме того, ему льстило, как он возбуждал ее. Через два месяца он предложил Вильме стать его женой. Она категорически отказала, с подкупающей прямотой объяснив, что ее избранник должен иметь дом, солидный счет в банке и высокооплачиваемую работу. Ее первый брак распался из-за постоянных дрязг, связанных с финансовыми затруднениями. Она убедилась, что бедность убивает любовь. У Фрэнка были сбережения – тридцать тысяч долларов. Вильма Комптон покачала головой. «Этого достаточно лишь на карманные расходы. Нет, Фрэнк, я не могу больше подвергать любовь такому испытанию». Мечты Вильмы о доме, о достатке напомнили ему Барбару Энн. Девятнадцать лет одиночества также сделали свое дело. – Каким же я был идиотом! – пробормотал Фрэнк. – Просто человеком, – возразил Тони. – Как все мы. Фрэнк заказал еще двойной «скотч» и проигнорировал сандвич. – Хочешь знать, что заставило Вильму передумать? – Конечно. – У меня умер отец и оставил мне в общей сложности девяносто тысяч – после уплаты налогов. Мы поженились. Через восемь месяцев Вильма выпотрошила меня подчистую. – По законам штата, при разводе она не могла претендовать больше чем на половину. – При разводе она не взяла ни пенни. – Как? – Там уже не осталось ни единого пенни. Она украла все мои деньги. Воспользовавшись доверенностью, перевела их все на собственный тайный счет. А через девять дней после развода вышла замуж за владельца игральных автоматов из графства Ориндж, который давно уже был ее любовником. Вот так я лишился всего. Она унесла с собой не только деньги, но и мое самоуважение. Честолюбие. Интерес к работе. Интерес к людям… – Фрэнк положил голову на руки. Последние слова он произнес почти совсем неразборчиво, потому что сильно опьянел. Остановившись около его столика, Пенни шепнула Тони: – Не давай ему больше пить. Как же он доберется до дому? – Я отвезу его на своей машине. Фрэнк вдруг всхлипнул: – Тони… Мне страшно. – Чего ты боишься? – Боюсь умереть в одиночестве. – Ты не умираешь, и ты не одинок, – возразил Тони. Фрэнк снова поник головой. Проснувшись утром в своей квартире, он нашел прикрепленную к дверце холодильника записку: «Дорогой Фрэнк. Когда проснешься и вспомнишь обо всем, что ты мне рассказал, возможно, тебе станет не по себе. Прошу тебя не беспокоиться. Все это останется строго между нами. Завтра я тоже открою тебе кое-какие свои секреты, так что мы будем квиты. Для того и существуют друзья, чтобы время от времени изливать душу. Тони».* * *
По дороге домой Тони думал о бедном одиноком Фрэнке, а также о том, что его собственное положение не намного лучше. Его отец был жив, но много болел и, возможно, протянет не более пяти, от силы десяти лет. Сестер и братьев разметало по стране, и нельзя сказать, чтобы они были близки друг другу по духу. Да, у него много друзей, но это не совсем те друзья, каких хотелось бы видеть у своего смертного одра. Он хорошо понимал Фрэнка. На смертном ложе человек нуждается в руках жены, родителей или детей, которые поддерживали бы и придавали мужества. Он отдавал себе отчет в том, что сам воздвиг для себя башню из слоновой кости, пристанище его одиночества. Ему только тридцать пять лет, это еще почти молодость, но до сих пор он ни разу всерьез не задумался о женитьбе. И вдруг ощутил, как время струится меж пальцев. Годы уносятся с неимоверной быстротой. Кажется, только вчера ему было двадцать пять, а уже десятилетие пролетело. Возможно, Хилари Томас – та самая женщина. Она не такая, как другие. Совсем особенная. Может, и она увидит в нем особенную, неповторимую личность. Может, у них что-нибудь и получится. Доехав до дома, Тони еще некоторое время неподвижно сидел в своем джипе, думая о Хилари Томас и об одинокой старости.* * *
В десять тридцать вечера, когда Хилари доедала свой ужин – сыр с яблоками – и одновременно читала роман Джеймса Клавеля, раздался второй звонок. – Алло? На другом конце провода молчали. – Кто звонит? Снова молчание. Она швырнула трубку на рычаг. Когда вам угрожают или молчат в трубку, рекомендуется сразу давать отбой. Нельзя их поощрять. Наверное, у этого шутника раздался гром в ушах. Но от этой мысли ей не стало легче. Хилари была убеждена, что это не ошибка. Человек, несколько раз набравший один и тот же неправильный номер, хоть раз, да извинится. Даже после получения премии Академии искусств Хилари не испытывала нужды в незарегистрированном телефонном номере. Писатели не пользуются таким же бешеным успехом, как актеры и даже режиссеры. Широкой публике нет дела до того, чей сценарий отмечен премией. И если многие литераторы все же обращаются за номерами, которых нет в справочнике, то главным образом из соображений престижа. Хилари не испытывала потребности в самоутверждении такого рода. Конечно, что-то могло измениться. Возможно, два отчета в газетах о ее приключении с Бруно Фраем привлекли к ней внимание. Женщина, которая, защищая свою жизнь, убила опасного бандита, могла вдохновить людей определенного пошиба на аналогичные подвиги. Какой-нибудь скот мог попытаться преуспеть там, где потерпел поражение Бруно Фрай. Рано утром она позвонила в телефонную компанию и попросила другой, незарегистрированный номер.* * *
В ночь на пятницу, через десять минут после полуночи, в городском морге затрещал телефон. Дежурный, Элберт Уолвич, снял трубку. – Морг. Молчание. – Алло? – сказал Элберт. Человек на другом конце провода застонал и вдруг начал всхлипывать. – Кто это? Я могу вам чем-нибудь помочь? Звонивший повесил трубку. Элберт с минуту тупо смотрел на телефонный аппарат, потом вернулся к отложенному роману Стивена Кинга. Но он долго не мог успокоиться. Ему мерещилось, будто кто-то крадется за дверью. Он много раз проверял, но в коридоре никого не было. (обратно)Глава 4
Утро пятницы. Девять часов. В городской морг прибыли за трупом Бруно Гантера Фрая двое из похоронного дома «Энджелс Хилл». Им позвонили из похоронного бюро «Вечный покой» в городке Санта-Елена, где проживал покойный. Служитель «Энджелс Хилл» выписал квитанцию. Труп достали из холодильной камеры и погрузили в багажник «Кадиллака».* * *
Проснувшись, Фрэнк Говард не испытал похмелья. Крепкий организм моментально пришел в норму. Голубые глаза сияли. Очевидно, исповедь и впрямь полезна для душевного и физического здоровья. Поначалу в управлении, а затем и в машине Тони чувствовал некоторую натянутость и приложил усилия, чтобы свести ее на нет. Постепенно Фрэнк убедился, что ничего не изменилось к худшему. Сегодня им работалось дружнее. Не то чтобы они достигли полной гармонии, как было у Тони с Майклом Саватино, но исчезли препятствия для установления такой гармонии в будущем. Поиски «Ягуара», принадлежащего Хуану Маккезе, не увенчались успехом. Очевидно, у Бобби Вальдеса был большой выбор фальшивых документов. Тони с Фрэнком снова наведались в прачечную мистера Гарамалкиса и опросили всех, кто работал вместе с Бобби, или Хуаном Маккезой. Возможно, кто-нибудь еще поддерживает с ним связь. Однако все в один голос заявляли, что Хуан, как кошка, гулял сам по себе; никто ничего не знал о нем. Следствие зашло в тупик. На обед оба детектива заглянули в знакомую яичную. Тони спросил: – Что ты делаешь завтра вечером? – Ничего, – удивленно ответил Фрэнк. – Хочешь свидание вслепую? – Ты серьезно? – Вполне. Есть одна интересная женщина. Я с ней уже говорил. – Забудь об этом. – Она тебе подойдет. – Ненавижу сводничество. – Шикарная женщина. – Меня это не интересует. Тони вздохнул. – Ну, как знаешь. – Послушай, – сказал Фрэнк. – Если я и разоткровенничался вчера вечером… – Да? – То не хотел, чтоб меня жалели. – Все мы в этом нуждаемся – время от времени. – Я могу сам устроить свою личную жизнь. – Естественно. Они сосредоточились на омлете с сыром. Через несколько минут Фрэнк спросил: – Как ее зовут? – Кого? – Не будь ослом. – Дженет Ямада. – Японка? – Ну не итальянка же. – Что она собой представляет? – Умная. Общительная. Привлекательная. Работает в мэрии. – Сколько ей лет? – Тридцать шесть – тридцать семь. – Откуда ты ее знаешь? – Мы когда-то встречались, – признался Тони. – И что случилось? – Ничего. Просто мы поняли, что больше подходим друг другу как друзья, а не как любовники. – Думаешь, она мне понравится? – Убежден. – А я ей? – Если не будешь ковырять при всех в носу или есть руками. – Ладно, – выдохнул Фрэнк. – Я с ней познакомлюсь. – Да нет, – сказал Тони. – Раз тебе уж так не хочется… – Дай мне ее телефон. – Потом скажешь, что я навязал тебе ее. – Ты не навязывал. – Нет, Фрэнк. Я уже жалею, что предложил тебе это. – Черт побери, выкладывай телефон! – рявкнул Фрэнк. Потом ему кое-что пришло в голову: – Ты, может, хочешь войти в долю? – Ни в коем случае. – Кроме того, – ухмыльнулся Фрэнк, – ты бы не стал делиться Хилари Томас. – Вот именно. – Ты не боишься, что будешь чувствовать себя с ней не в своей тарелке? – С какой стати? – удивился Тони. – У нее много денег. – Это самое шовинистское высказывание из всех, какие мне доводилось слышать, – ответил Тони.* * *
В час дня в пятницу тело лежало на столе для бальзамирования, с табличкой «Бруно Гантер Фрай», прикрепленной к большому пальцу правой ноги. Отсюда его должны были забрать в родные края. Служитель похоронного дома «Энджелс Хилл» удалил оставшуюся после вскрытия кровь и прочую жидкость, продезинфицировал труп и ввел бальзамирующий состав. Он не стал заниматься косметическими работами: пусть их выполнят в Санта-Елене. Служитель только сомкнул веки и несколькими стежками суровой нитки сшил вместе губы, отчего на устах покойного застыла жуткая улыбка. Труп завернули в клеенку и поместили в дешевый алюминиевый гроб – согласно предписаниям штата относительно транспортировки трупов. В Санта-Елене родственники и друзья покойного найдут гроб поприличнее. В четыре часа гроб доставили в международный аэропорт Лос-Анджелеса. В шесть тридцать самолет приземлился в маленьком аэропорту Санта-Розы. Среди встречающих не было никого из семьи Бруно Фрая. Он был последним в роду. Его дед произвел на свет одну только дочь, красавицу Кэтрин, а у той не было детей. Бруно был приемышем. Сам он никогда не женился. Гроб с телом Фрая встречали трое. Один был Аврил Томас Таннертон, владелец похоронного бюро «Вечный покой», обслуживавшего Санта-Елену и примыкающие населенные пункты в этой части долины. Мистеру Таннертону исполнилось сорок три года; это был импозантный, представительный мужчина с рыжеватыми волосами, россыпью веснушек на лице, живыми глазами и доброжелательной улыбкой, которую он старался сдерживать. Он прибыл в аэропорт Санта-Розы в сопровождении двадцатичетырехлетнего ассистента, Гэри Олмстеда, тщедушного молодого человека, который был склонен к разговорам едва ли не больше, чем покойники, с которыми постоянно имел дело. Если у Таннертона под налетом благочестия скрывалось добродушное озорство, то Олмстед, с вытянутым, скорбным, аскетическим лицом, как нельзя более подходил для своей профессии. Третьим был Джошуа Райнхарт, адвокат и душеприказчик Бруно Фрая, управляющий его имением. Джошуа Райнхарту шел шестьдесят второй год, и его можно было принять за дипломата или преуспевающего политика – благодаря густой серебристой седине, широкому лбу, длинному патрицианскому носу и массивной челюсти. У него были ясные карие глаза. Ни интересы дела, ни личные обязательства не требовали приезда Джошуа в Санта-Розу. Вот уже много лет он вел дела винодельческой компании, принадлежавшей трем поколениям Фраев. Тридцать пять лет назад он без особого успеха пытался открыть юридическую практику в графстве Напа. Тогда-то Кэтрин Фрай и предложила ему вести семейный бизнес. Узнав вчера о кончине Бруно, он не испытал особого горя. Ни Кэтрин, ни ее приемный сын не вызывали у него симпатии. Джошуа решил сопровождать в Санта-Розу мистера Таннертона с помощником, только чтобы предотвратить балаган, который могли устроить газетчики. Хотя Бруно Фрай был неуравновешенным, больным и, возможно, очень злым человеком, Джошуа твердо решил похоронить его со всем возможным достоинством. Всю свою жизнь Джошуа был стойким патриотом Напа-Валли, приверженцем ее образа жизни и большим поклонником производимых здесь вин и не желал, чтобы на весь край легло несмываемое пятно позора из-за преступления одного человека. К счастью, репортеров не оказалось. Очевидно, вся округа разделяла отвращение Райнхарта к огласке. Небольшой кортеж двинулся к востоку от Санта-Розы, пересек Сонома-Валли и наконец оказался в залитой пурпурно-золотистыми закатными лучами Напа-Валли. Здесь они повернули на север. Следуя за катафалком, Джошуа любовался окрестностями. Вот уже тридцать пять лет долина в любое время года приводила его в восхищение. Смутно маячившие в надвигающихся сумерках склоны гор с чуть более освещенными вершинами поросли сосной, березой и елью. В глазах Джошуа горы служили крепостным валом, ограждавшим эту местность от порочных веяний, могущих проникнуть сюда из более испорченного внешнего мира. У подножия гор высились черные стволы дубов. По всей долине были разбросаны маленькие городки, а все остальное пространство занимали виноградники. Именно здесь в 1880 году Роберт Льюис Стивенсон писал: «Вино – это разлитая по бутылкам поэзия». А раз так, подумал Джошуа, значит, и сама эта благословенная земля – произведение искусства. Моя земля, мой дом, мое счастье. Похоронное бюро «Вечный покой» расположилось в сотне ярдов от шоссе, в южной части Санта-Елены. Это было громадное, выкрашенное в белый и зеленый цвета здание в колониальном стиле. С наступлением темноты автоматически включился фонарь, освещавший вывеску. Здесь также не оказалось представителей прессы. Гроб водрузили на тележку и повезли в мертвецкую. Таннертон и его помощники приложили максимум усилий, чтобы придать помещению не слишком угрюмый вид. Обили потолок светлой тканью, покрасили стены в голубой цвет – цвет яйца малиновки или детского одеяльца. Таннертон повернул выключатель, и из стереодинамиков полилась жизнеутверждающая музыка. Тем не менее, по крайней мере, для Джошуа Райнхарта, это место было пристанищем смерти, как бы Аврил Таннертон ни лез из кожи вон, чтобы заставить забыть об этом. В воздухе носились тошнотворно-сладкие пары формалина. Пол был выложен белым кафелем. Очевидно, его часто драили; он стал таким скользким, что пройти по нему можно было лишь в обуви на резиновой подошве, какую носили Таннертон и его подчиненные. А вот сам Джошуа несколько раз чуть не упал. Даже эта бьющая в глаза чистота пола в первую очередь говорила о необходимости защиты от пятен крови. Клиенты Таннертона, родственники покойного, не допускались в мертвецкую, ибо все здесь наводило на печальные мысли. Снаружи, когда украшенный алым бархатом гроб с покойником выставлялся на всеобщее обозрение, еще можно было удовлетвориться выражением типа «ушел от нас» либо «господь призвал его к себе», но в этой комнате смерть носила угнетающе конкретный характер. Олмстед открыл крышку алюминиевого гроба. Аврил Таннертон развернул клеенку, оголив тело до самых бедер. Джошуа взглянул на желтовато-серый, словно восковой, труп и содрогнулся. – Это ужасно! – Тяжелое испытание для вас, – с дежурной постной миной произнес Таннертон. – Отнюдь, – возразил адвокат. – Я не собираюсь лицемерить, изображая великую скорбь. Я плохо знал покойного и не был от него в восторге. Нас связывали чисто деловые отношения. Таннертон заморгал от удивления. – Вот как? Но в таком случае, может быть, похоронами займутся другие друзья покойного? – У него не было друзей. Оба уставились на труп. – Чудовищно, – проговорил Джошуа. – Да, – согласился владелец похоронного бюро. – Они не стали утруждать себя косметическими работами. – Вы не могли бы в этом плане что-нибудь предпринять? – Да, разумеется. Но это будет нелегко. Смерть наступила более полутора суток назад. Хорошо, хоть рот зашили. – Ужасные раны, – хрипло произнес Джошуа. – Она его всего изрезала. – Большая часть надрезов – дело рук патологоанатома, – уточнил Таннертон. – А вот колотая рана. И еще одна. – Они неплохо зашили рот, – одобрительно промолвил Олмстед. – Не правда ли? – Таннертон дотронулся до соединенных суровой ниткой губ покойного. – Не часто встретишь служителя морга с эстетической жилкой. – Крайне редко, – поддакнул Олмстед. Джошуа покачал головой: – Мне все еще трудно поверить. – Пять лет назад, – сказал Таннертон, – я хоронил его мать. Тогда я впервые столкнулся с Бруно Фраем. Он показался мне немного… не в себе, но я отнес это на счет постигшего его горя. Он был такой важный господин – чуть ли не самый влиятельный в округе. – Черствый и скрытный, – жестко произнес Джошуа. – Беспощадный в бизнесе. Ему было мало разорить конкурента – нужно было добить его, окончательно уничтожить. Я всегда считал его склонным к жестокости, вплоть до физического насилия. Но покушение на изнасилование?! Предумышленное убийство?!. Таннертон замялся, потом сказал: – Мистер Райнхарт, о вас говорят, что вы слов на ветер не бросаете. Вас считают очень справедливым человеком, чуть ли не совершенством. И все же… говоря о мертвых… Джошуа усмехнулся. – Сынок, я всего лишь сварливый старик и никакое не совершенство. Ради истины я никогда не щадил живых. От меня плакали неразумные подростки и их мамаши. С какой же стати я должен подбирать слова для мертвого негодяя? – Я просто не привык… – Разумеется. Ваша профессия обязывает вас питать уважение к мертвым, какими бы они ни были и чего бы ни совершили. Я вас не виню. Это ваш служебный долг. Таннертон не нашелся, что сказать, и захлопнул крышку гроба. – Давайте обсудим условия, – предложил Джошуа. – Я что-то проголодался. Если, конечно, ужин полезет мне в глотку. – Он сел на высокий табурет возле стеклянного шкафа с инструментами. Таннертон вышагивал взад и вперед по комнате – сгусток энергии. – Вы не будете возражать, если мы не выставим тело на всеобщее обозрение? – Я не думал об этом, – ответил адвокат. – Честно говоря, не представляю, что можно сделать, – признался Таннертон. – Эти люди в «Энджел Хилл» меньше всего заботились о его внешнем виде. В целом я недоволен их работой. Он весь усох. Можно было бы подкачать, но… он вряд ли станет краше. А косметические работы… Прошло слишком много времени. Должно быть, прежде чем его нашли, он какое-то время пролежал на солнце. А потом восемнадцать часов в холодильной камере. Боюсь, что нам не удастся придать ему сходство с живым человеком. Джошуа почувствовал себя неловко. – Хорошо, пусть будет закрытый гроб. – Вы уверены, что ничего не имеете против? – Абсолютно уверен. – Прекрасно. В чем его похоронить? В деловом костюме? – А это имеет значение – при том, что гроб не станут открывать? – Для меня легче всего обрядить его в один из наших саванов. – Отлично. – Белый или ярко-голубой? – Серо-буро-малиновый в крапинку. – В крапинку? – Или в голубую и оранжевую полоску. Таннертон чуть было не захихикал, но огромным усилием воли подавил в себе такое желание. Джошуа заподозрил, что Аврил – веселый, любящий шутку человек, душа компании. Но он считал своим долгом соответствовать профессиональному имиджу. – Пусть будет белый саван, – согласился Джошуа. – Как насчет гроба? В каком стиле… – На ваше усмотрение. – В пределах какой суммы? – Пожалуйста, не стесняйтесь в средствах. Покойный был очень богатым человеком. – Говорят, он стоил два или три миллиона. – Вдвое больше, – ответил Джошуа. – Судя по тому, как он жил, этого не скажешь. – И судя по тому, как он умер, тоже. Таннертон ненадолго задумался и задал следующий вопрос: – Как насчет церковного отпевания? – Он не посещал церковь. – Значит, ограничимся гражданской панихидой в узком кругу? – Пожалуй. – Я прочту что-нибудь из Библии, – пообещал Таннертон. Они условились о времени похорон: в воскресенье в два часа дня. Бруно найдет свой последний приют возле своей приемной матери, Кэтрин Фрай. Когда Джошуа собрался уходить, Таннертон задержал его: – Кажется, до сих пор вы были довольны моими услугами? Смею заверить, что и все остальное сойдет как нельзя лучше. – Да, конечно, – ответил Джошуа. – Во всяком случае, я понял одну вещь: когда придет мой черед, я предпочел бы, чтобы меня кремировали. Таннертон согласно кивнул. – Это мы вам устроим. – Только не торопи меня, сынок. Не торопи меня. Владелец похоронного бюро вспыхнул. – Я хотел сказать… – Знаю, знаю. Успокойся. – Проводить вас? – Спасибо, я сам найду дорогу. Снаружи уже стемнело. Фонарь у входа освещал пространство в несколько футов, а дальше стояла густая, бархатная тьма. Дул сильный холодный ветер. Джошуа подошел к своему автомобилю. Когда он открывал дверцу, ему почудилось, будто от гаражей метнулась чья-то тень. – Кто здесь? – крикнул он. Ответила тишина. Наверное, это ветер, подумал адвокат, но все-таки сделал несколько шагов в том направлении. Тень шарахнулась прочь. Должно быть, приблудная собака, решил он. Или мальчишки озорничают. Джошуа сел в свою машину и поехал домой, по пути размышляя обо всем, что увидел и услышал в похоронном бюро Аврила Таннертона.* * *
В субботу, ровно в семь часов вечера, Энтони Клеменца прибыл к Хилари Томас на своем стареньком голубом джипе. Она вышла встретить его – в облегающем изумрудно-зеленом платье с длинными узкими рукавами и низким вырезом, что выглядело соблазнительно, но не вульгарно. Прошло четырнадцать месяцев со времени ее последнего свидания, и она уже забыла, как одеваются в подобных случаях, поэтому добрых два часа перебирала наряды, волнуясь, как школьница. Она приняла приглашение Тони, потому что он был самым интересным мужчиной из всех, кого она встретила за последние пару лет, а еще потому, что твердо решила покончить со своей привычкой прятаться от людей. Мягкий упрек Уолли Топелиса не прошел даром. Хилари страшилась заводить близких друзей и любовников, потому что предвидела душевные страдания, связанные с гипотетической изменой и предательством. Но тем самым она лишала себя радости. Она не боялась рисковать в делах, и вот пришло время впустить дух авантюризма в ее личную жизнь. И Хилари пружинистой походкой, слегка покачивая бедрами, пошла навстречу голубому джипу, отчаянно стесняясь и в то же время чувствуя себя молодой и очень женственной. Тони поспешил открыть перед нею дверцу. – Карета ее величества королевы подана, – объявил он. – Это какое-то недоразумение. Я не королева. – Для меня – да. – Я простая служанка. – Вы прекраснее всякой королевы. – Только бы она не услышала. Не то вам отрубят голову. – Поздно. – О!.. – Я ее уже потерял из-за вас. Хилари застонала. – Что, слишком приторно? – осведомился Тони. – Да. Сейчас мне не помешал бы ломтик лимона. – Тем не менее вам понравилось. – Должно быть, я сладкоежка. Они тронулись с места. Тони спросил: – Вы не обиделись? – Из-за чего? – Из-за этой колымаги. – А что в ней такого? – Ну, это все-таки не «Мерседес». – А «Мерседес»– не «Роллс-Ройс», а «Роллс» – не «Тойота». Вы относите меня к снобам? – Да нет, – ответил Тони. – Просто Фрэнк говорит, что нам будет неловко друг с другом из-за того, что у вас больше денег. – Насколько я могу судить, на мнение Фрэнка о людях не всегда следует полагаться. – У него свои проблемы, – согласился Тони, сворачивая на Уилширский бульвар, – но он с ними справится. В Лос-Анджелесе говорят: «Скажи мне, какая у тебя машина, и я скажу, кто ты». – Да? Выходит, вы – джип, а я – «Мерседес», и нам следует ехать не в итальянский ресторан, а на бензоколонку. – Вообще-то я выбрал джип из-за высокой проходимости. Каждую зиму я выбираюсь на уик-энд в горы – покататься на лыжах. – Мне всегда хотелось научиться кататься на лыжах, – сказала Хилари. – Я вас научу. Подождите несколько недель, пока в горах выпадет снег. – Вы думаете, через несколько недель мы все еще будем друзьями? – Почему нет? – Может, мы сегодня же поругаемся – прямо в ресторане? – Из-за чего? – Из-за политики. – По-моему, все политики – рвущиеся к власти ублюдки, бездари, не способные даже завязать шнурки на своих ботинках, – сказал Тони. – Я того же мнения. – Я придерживаюсь либеральных взглядов. – Я тоже – до известного предела. – Не вижу предмета спора. – Может, религия? – Меня воспитывали как католика. Не думаю, что от этого много осталось. – Тот же случай. – Кажется, нам не из-за чего ругаться. – А может, – сказала Хилари, – мы из тех, кто ссорится по пустякам? – Например? – Ну, скажем, вы обожаете чеснок, а я его терпеть не могу. И вообще, вдруг там, в ресторане, мне что-нибудь не понравится? – Там, куда мы едем, вам понравится все, – заверил Тони. – Вот увидите. Он привез Хилари в ресторан Саватино на бульваре Санта-Моника. Это было тихое, уютное место; из шестидесяти столиков только тридцать были заняты. Мягкое освещение. Оперные арии в исполнении Карузо и Паваротти. Огромное, во всю стену, панно в итальянском стиле – виноградные лозы и грозди, красивые смуглые мужчины и женщины; кто-то играет на аккордеоне, некоторые танцуют; пикник под оливами. Но дело было не столько в сюжете, сколько в манере художника, одновременно реалистичной и условной, как у Сальвадора Дали, хотя это ни в коем случае не было подражанием. Хозяин, Майкл Саватино, бывший полицейский, чуть не задушил Тони в объятиях, а затем переключился на Хилари. Его жена Паула, ослепительная блондинка, немедленно подключилась к объятиям и поцелуям. Наконец, подмигнув Тони и несколько раз ткнув его пальцем в живот в знак одобрения, Майкл увел жену на кухню. – Кажется, он очень хороший человек, – сказала Хилари. – Майкл – парень что надо! Он был отличным напарником, когда мы вместе работали в отделе по расследованию убийств. От полицейских дел разговор перешел на кино. Хилари было так легко, как будто они с Тони уже много лет были знакомы. Он обратил внимание, что она рассматривает панно. – Вам нравится? – Просто замечательно. – Серьезно? – А вы разве не находите? – По-моему, неплохо. – Нет, не неплохо. А кто художник? Вы его знаете? – Один любитель, – ответил Тони. – Он запросил за картину пятьдесят бесплатных обедов. – И продешевил, – засмеялась Хилари. Они еще поговорили о кино, книгах, музыке и театре. Пища была так же хороша, как и разговор. Бефстроганов, лук, перец, маринованный чеснок и цукини… Салаты хрустели на зубах. Соусы придавали пище неповторимый вкус. Когда ужин был окончен и Хилари посмотрела на часы, она не поверила своим глазам: десять минут двенадцатого! Майкл Саватино подошел за своей законной порцией комплиментов и вполголоса сказал, обращаясь к Тони: – Двадцать один. – Нет, двадцать три. – По моим записям – двадцать один. – Врут твои записи. – Двадцать один, – настаивал Майкл. – Двадцать три. Вернее, двадцать три и двадцать четыре. Сегодня две порции. – Ерунда, – не соглашался владелец ресторана. – Считаются визиты, а не порции. Наконец Хилари не выдержала: – Я выжила из ума или этот разговор действительно не имеет смысла? Майкл укоризненно покачал головой. – Когда Тони разрисовывал эту стену, я хотел заплатить, но он не согласился, а вместо этого запросил несколько бесплатных обедов. Я настаивал на сотне, он – на двадцати пяти. Наконец мы сошлись на пятидесяти. Он недооценивает свою работу. – Это панно – работа Тони? – А он вам не сказал? – Нет. Под пристальным взглядом Хилари Тони сник. – Поэтому он и купил джип, – объяснил Майкл. – Чтобы ездить в горы на этюды. – А мне сказал, что любит кататься на лыжах. – Это тоже. Но главное – этюды. Он должен гордиться. Но легче вырвать зуб у аллигатора, чем заставить Тони говорить о живописи. – Я всего лишь любитель, – возразил тот. – Это панно – настоящее произведение искусства, – не унимался Майкл. – Без сомнения, – поддержала его Хилари. – Вы – мои друзья, – сказал Тони, – поэтому из великодушия хвалите мои картины. Ни один из вас не может судить как профессиональный критик. – Он дважды получал первые призы на выставках, – сообщил Майкл. – Спит и видит, как бы стать профессиональным художником. – Профессиональный художник не получает дважды в месяц гарантированную зарплату, – горько возразил Тони. – И медицинскую страховку. И пенсию. – Зато если продавать пару картин в месяц за полцены, ты будешь иметь гораздо больше, чем любой коп. – Можно не продать ни одной за целых полгода. Сидя в джипе, Хилари вернулась к этому разговору: – Почему бы вам, по крайней мере, не выставить свои работы в картинной галерее? Вдруг их кто-нибудь купит? – Не купит. Я не такой уж хороший художник. – То панно – просто замечательное. – Хилари, вы все-таки не специалист. – Я сама время от времени покупаю картины – и потому, что они мне нравятся, и потому, что это хорошее помещение капитала. – С помощью директора картинной галереи? – Да. Почему бы вам не показать ему свои работы? – Мне будет трудно перенести отказ. – Вам не откажут. – Давайте больше не будем говорить о моих картинах. – Почему? – Надоело. – А о чем мы будем говорить? – Ну, например, о том, пригласите ли вы меня выпить немного бренди. – Бренди? – Может быть, коньяку? – Да, вот это у меня есть. – Какая марка? – «Реми Мартин». – Самый лучший. Но… я не знаю… наверное, уже поздно? – Если вы не примете мое приглашение, – сказала Хилари, наслаждаясь этой маленькой игрой, – мне придется пить в одиночку. – Первый признак алкоголизма. – Вы толкаете меня на путь разрушения личности. – Никогда себе этого не прощу. Через пятнадцать минут они сидели рядом на диване, следили за огненными языками в камине и потягивали «Реми Мартин». У Хилари кружилась голова – не от коньяка, а от близости Тони и от мысли, лягут ли они сегодня в постель. Она никогда не делала этого при первом свидании. Обычно Хилари была осторожна и не позволяла себе заходить слишком далеко, пока хорошенько не узнает человека. Но в этот первый вечер с Тони Клеменца она чувствовала себя удивительно легко и в полной безопасности. Он чертовски красив. Высокий, смуглый, очень серьезный. Аскетический тип. Типичная для полицейского властность и уверенность в себе. И в то же время – чуткость. Доброта. Ей было нетрудно представить себя обнаженной – под ним… а потом сверху… Зазвонил телефон. – Черт! – выругалась она. – Должно быть, это опять этот тип. – Какой тип? – В последние два дня кто-то постоянно звонит и дышит в трубку. – Ничего не говорит? – Только слушает. Наверное, какой-нибудь сексуально озабоченный подонок из тех, кого привела в возбуждение напечатанная в газетах история. Хилари встала с дивана. Тони последовал ее примеру. – Ваш номер числится в справочнике? – На следующей неделе я получу новый и не стану регистрировать. Телефон продолжал надрываться. Опередив Хилари, Тони схватил трубку. – Алло? Ему не ответили. – Резиденция мисс Томас слушает. У телефона детектив Клеменца. Щелк! Тони положил трубку на рычаг. – Отключился. Должно быть, я его здорово напугал. Надеюсь, он больше не станет вас беспокоить. Но все равно это хорошая идея – насчет нового номера. Утром я позвоню на телефонную станцию и попрошу это ускорить. – Спасибо, Тони. Хилари обхватила руками плечи. Ее знобило. – Не думайте об этом. Опыт показывает, что маньяки, угрожающие по телефону, таким образом расходуют весь запас агрессивности. Обычно они не способны к насилию. – Обычно? – Практически никогда. Хилари жалко улыбнулась. Этот чертов звонок разрушил очарование. Ей больше не хотелось соблазнять Тони, и он это почувствовал. – Наверное, мне пора. – Да, уже поздно. – Спасибо за коньяк. – Спасибо за чудесный вечер. У двери Тони спросил: – Вы свободны завтра вечером? Хилари собралась было ответить «нет», но вспомнила о словах Уолли Топелиса и о том, как чудесно было сидеть рядом с Тони на диване, и улыбнулась. – Свободна. – Куда бы вам хотелось отправиться? – На ваше усмотрение. Тони задумался. Потом сказал: – Что, если начать прямо с обеда? Я заеду в полдень? – Буду ждать. Он нежно поцеловал ее в губы. – До завтра. – До завтра. Хилари проводила Тони взглядом и заперла дверь.* * *
В воскресенье, в десять часов утра, когда Тони пил на кухне грейпфрутовый сок, позвонила Дженет Ямада, та самая женщина, которая накануне встречалась с Фрэнком. – Ну и как оно? – поинтересовался Тони. – Изумительно! Просто изумительно! – Серьезно? – Он такой душка! – Фрэнк душка?! – Ты предупреждал, что он замкнутый, трудный в общении. Но это совсем не так. – Правда? – Он настоящий романтик. – Фрэнк?! – Кто же еще? В наше время найдется не так уж много мужчин – настоящих рыцарей. А Фрэнк еще помогает даме надеть пальто и пропускает в дверь. Он преподнес мне букет роз – они восхитительны. – Наверное, тебе нелегко было с ним разговаривать? – Что ты! У нас столько общих интересов! – Например? – Прежде всего бейсбол. – Ах да! Я и забыл, что ты увлекалась бейсболом. – Я заядлая болельщица. – И вы целый вечер проговорили о бейсболе? – Конечно же, нет. Мы говорили о фильмах. – Ты хочешь сказать, что Фрэнк разбирается в кино? – Он восхищается теми же старыми лентами Богарта, что и я. Правда, в последние годы он не ходил в кино, но мы это наверстаем. Сегодня же и начнем. – Вы и сегодня встречаетесь? – Ага. Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты меня с ним познакомил. И еще я хотела сказать, что, чем бы это ни кончилось, я всегда буду к нему добра. Он рассказал мне о Вильме. Какая подлость! Тони, я никогда не причиню ему зла. Тони был потрясен. – Фрэнк в первый же вечер рассказал тебе о Вильме? – Он признался, что не мог ни с кем говорить о ней, но ты помог ему избавиться от ненависти. – Я? – У него словно камень с души свалился. Он говорит, ты замечательный. – Да уж, Фрэнк прекрасно разбирается в людях! У Тони поднялось настроение. Радуясь успеху Фрэнка у Дженет Ямада и предвкушая свой собственный, он отправился в Вествуд на свидание с Хилари. Она ждала его и так и выпрыгнула из дверей, умопомрачительно красивая в черных брюках, голубой блузке и светло-синем блейзере. Садясь в машину, она легко, чуть ли не робко поцеловала его в щеку, и Тони почувствовал слабый аромат лимона. День обещал быть прекрасным.* * *
Всю субботу тело Бруно Фрая пролежало в «Вечном покое», никем не охраняемое и никому не нужное. В пятницу вечером, после ухода Джошуа Райнхарта, Аврил Таннертон и Гэри Олмстед переложили труп в обитый изнутри плюшем и шелком гроб, украшенный бронзовыми пластинками. Они обрядили покойника в белый саван, расправив руки, чтобы они лежали вдоль тела, и до груди укрыли белой бархатной накидкой. Поскольку состояние трупа оставляло желать лучшего, Таннертон не стал тратить время и усилия на придание ему более презентабельного вида. Гэри Олмстед посчитал это неуважением к покойнику, но Таннертон убедил его в том, что никакой грим не оживит эту желтовато-серую кожу. – И потом, – добавил Таннертон, – мы с вами – последние, кто его видит. После того как мы заколотим гроб, его уже никто и никогда не откроет. Без четверти десять они закрыли гроб крышкой, и Олмстед пошел домой, к своей маленькой милой жене и сынишке, а сам Аврил поднялся на второй этаж: его квартира находилась здесь же, над мертвецкой. Рано утром в субботу Таннертон укатил в своем серебристо-сером «Линкольне» в Санта-Розу, взяв с собой все необходимое для ночлега, так как не собирался возвращаться раньше следующего утра. В Санта-Розе жила его пассия – на сегодняшний день последняя в длинной цепочке его приятельниц. Аврил исповедовал разнообразие. Женщину звали Хелен Виртильон. Ей недавно перевалило за тридцать, и она была очень хороша собой – стройная, с высокой крепкой грудью, которую Таннертон находил исключительно соблазнительной. Аврил Таннертон пользовался успехом у женщин не вопреки, а благодаря своей профессии. Конечно, попадались и такие, которые отворачивались от него, узнав, что он – гробовщик. Но большинство были заинтригованы. Он знал, что делало его привлекательным в их глазах. Когда человек имеет дело с мертвецами, смерть как бы сообщает ему частичку тайны, накладывает на него свой отпечаток. Несмотря на веснушки, мальчишеский взгляд, обаятельную улыбку, непринужденные манеры и незаурядное чувство юмора, Таннертон казался женщинам загадочной личностью. Они подсознательно верили, что его объятия – надежное укрытие от смерти: как будто услуги, которые он оказывал мертвым, давали ему и его близким некие льготы. Те же атавистические иллюзии характерны для некоторых женщин, выходящих замуж за врачей: словно мужья оградят их от всех микробов мира. Итак, весь день в субботу, пока Аврил Таннертон в Санта-Розе занимался любовью с Хелен Виртильон, тело Бруно Фрая одиноко лежало в пустом доме. В воскресенье утром, за два часа до рассвета, в «Вечном покое» раздался шум. Кто-то включил свет в мертвецкой, но, поскольку Таннертона не было дома, этого никто не увидел. Непрошеный гость приподнял крышку гроба, и покойницкая огласилась воплями ярости и отчаяния. Но, поскольку Таннертон находился в Санта-Розе, этого никто не услышал.* * *
Выжатый как лимон после почти бессонной ночи с Хелен Виртильон, Аврил Таннертон вернулся домой в воскресенье около десяти часов утра. Он не стал заглядывать в гроб. Потом они с Гэри Олмстедом отправились на кладбище и занялись приготовлениями к погребальной церемонии, намеченной на два часа дня. В половине первого Таннертон протер гроб тряпкой, чтобы на бронзовых пластинках не осталось пыли. При этом перед его мысленным взором вставали божественные формы Хелен Виртильон. Он не стал заглядывать в гроб. В час дня Таннертон с Олмстедом водрузили гроб на катафалк и тронулись в путь. В половине второго на кладбище собралось несколько местных жителей: Джошуа Райнхарт и другие. Для такого богатого и влиятельного гражданина, как Бруно Фрай, народу было на удивление мало. Стояла холодная, ветреная погода. Деревья отбрасывали на дорогу раскидистые тени; на катафалке сменялись светлые и темные полосы. На кладбище гроб поставили поверх ремней возле свежевырытой могилы, и человек пятнадцать собравшихся приняли участие в гражданской панихиде. Аврил прочел несколько стихов из Библии. Гэри Олмстед занял место у небольшого пульта, чтобы в нужное время привести ремни в движение и опустить гроб в могилу. Рядом с Таннертоном стоял Джошуа Райнхарт. Остальные двенадцать человек были виноградари и их жены. Они всегда продавали виноград Бруно Фраю и почли своим долгом явиться на кладбище. Ни у кого не было слез. И никто не изъявил желания заглянуть в гроб. Таннертон закончил чтение и подал сигнал Олмстеду. Тот нажал на кнопку, и тотчас заработал мотор. Заколоченный гроб плавно опустился в могилу.* * *
Хилари никогда еще не было так хорошо. Они с Тони Клеменца отправились пообедать в ресторан «Ямаширо Скайрум» в Беверли-Хиллз. Там подавали довольно заурядные блюда, но экзотическая обстановка делала это место привлекательным для желающих перекусить. Когда-то этот ресторан, типичный японский дворец, был частной резиденцией, окруженной десятью акрами живописнейших японских садиков. Отсюда открывался потрясающий вид на Лос-Анджелесскую бухту. День выдался такой ясный, что Лонг-Бич лежал как на ладони. После обеда они поехали в Гриффит-парк и целый час бродили по территории зоопарка – Хилари кормила медведей, а Тони с необыкновенной точностью имитировал животных. Из зоопарка они отправились в обсерваторию, на выставку лазерной голографии. Затем прошвырнулись по Мелроуз-авеню, где посетили массу антикварных лавчонок, но так ничего и не купили, только поболтали с владельцами. Когда подошло время коктейля, они поехали в Малибу и наведались в кафе «Тонга-Лей», где подавали фирменный коктейль «Май-Тай» и откуда можно было полюбоваться, как солнце садится в ритмично плещущиеся волны. Хотя Хилари прожила в Лос-Анджелесе немало лет, ее мир ограничивался работой, домом, розарием, снова работой, киностудией, еще раз работой и несколькими ресторанами, где собиралась киношная публика. Она никогда не бывала в «Ямаширо», в зоопарке, на лазерной выставке, в антикварных лавчонках на Мелроуз-авеню либо в кафе «Тонга-Лей». Все это было ей в новинку, и она широко распахнутыми глазами смотрела по сторонам, чувствуя себя туристом – или узником, только что выпущенным на волю после многолетнего заключения в одиночной камере. Но без Тони этот день вряд ли стал бы для нее таким праздником. Он был очень мил, изобретателен и весь лучился энергией, что делало и без того ясный, погожий день поистине волшебным. Они выпили по паре коктейлей и почувствовали, что проголодались, поэтому поехали в район Сепулведа и заказали такой ужин, что его хватило бы на целую компанию. Просто удивительно, как при таком обилии пищи им еще удавалось вести разговор. Однако они ни на минуту не умолкали. Обычно в начале знакомства Хилари предпочитала отмалчиваться, но с Тони разболталась вовсю: о пьесах Шекспира, политике, искусстве, людях, собаках, религии, архитектуре, спорте, Бахе, моде, различных блюдах, борьбе за освобождение женщин и субботних мультиках. Она также горела желанием поделиться с ним своим мнением обо всех этих жизненно важных вещах. Они вели себя так, словно им стало известно, что с понедельника господь бог собирается лишить людей дара речи. Хилари опьянела, но не от вина, а от живого общения, которого ей не хватало многие годы. К тому времени, как Тони проводил ее домой и согласился зайти выпить на дорожку, она уже твердо решила, что они будут принадлежать друг другу. Ее страшно тянуло к нему, и она чувствовала, что с ним происходит то же самое. Хилари приготовила мятный коктейль. Внезапно ожил телефон. – О нет! – вырвалось у нее. – Он больше не докучал вам вчера вечером? – Нет. – А утром? – Нет. – Так, может быть, это не он? Оба одновременно подошли к телефонному аппарату. Хилари поколебалась и сняла трубку. – Алло? Молчание. – Черт бы тебя побрал! – Она в сердцах швырнула трубку на рычаг. – Не позволяйте выводить себя из равновесия. – Не могу. – Это просто мерзкий подонок, не способный иметь дело с женщинами. – Мне все равно страшно. – Он не опасен. Идите сюда. Постарайтесь забыть о нем. Они вернулись на диван и молча допили мятный коктейль. – Будь он проклят, – с тоской произнесла Хилари. – Завтра у вас будет другой номер телефона. Он больше не сможет действовать вам на нервы. – Этот тип испортил нам вечер. Я совсем было растаяла. – Для меня ничего не изменилось. – Дело в том, что я рассчитывала на нечто большее, чем… – Правда? – А вы? Она еще не видела, чтобы кто-нибудь так улыбался: всем лицом, всем своим существом. – Должен признаться, – сказал Тони, – я тоже надеялся на нечто большее, чем мятный коктейль. – Черт бы побрал телефон! Тони наклонился и поцеловал ее. Хилари приоткрыла рот; на какую-то долю секунды их языки соприкоснулись. Потом Тони немного отстранился и бережно, как фарфоровую статуэтку, погладил Хилари по щеке. – А вдруг он снова позвонит? – несчастным тоном спросила она. – Не позвонит. Тони стал целовать ее губы, глаза; затем положил руку ей на грудь. Хилари откинулась на спинку дивана. Он нежно провел рукой по ее горлу, шее и начал расстегивать блузку. Хилари скользнула рукой по его бедру и почувствовала, как напряглись мышцы. Какой он сильный! Ее рука наткнулась на желанную твердость. Хилари представила себе, как Тони входит в нее… Раздался телефонный звонок. – Не обращай внимания, – попросил Тони. Хилари обхватила руками его шею, легла на спину и притянула Тони к себе. Они впились друг в друга жгучим поцелуем. Телефон все звонил и звонил. – Черт! Оба сели. Телефон продолжал надрываться. Хилари резко поднялась с дивана. – Не нужно, – сказал Тони. – Это его не остановит. Дай-ка я сам. Он снял трубку, но не произнес ни звука. Только стоял и слушал. По выражению его лица Хилари поняла, что человек на другом конце провода тоже молчит. Очевидно, шла игра: кто кого перемолчит. Прошло тридцать секунд. Минута. Еще одна. Борьба нервов напоминала детскую игру, но в ней не было ничего забавного. У Хилари мурашки поползли по коже. Наконец Тони положил трубку. – Он отключился. – Так ничего и не сказал? – Ни слова. Но он первым дал отбой, и это хороший признак. Не понравилось собственное лекарство. Его цель – нагнать на тебя страху. В следующий раз просто сними трубку и молчи. В конце концов он решит, что ты что-то затеваешь. Например, звонишь по другому телефону в полицию, чтобы проверили, откуда звонят. А может быть, это вовсе и не ты сняла трубку. Постепенно ему станет страшно. – Твоими бы устами… – Вряд ли он осмелится сегодня повторить попытку. А завтра у тебя будет другой номер. – До тех пор я не смогу успокоиться. Тони заключил ее в объятия. Они поцеловались – нежно, но без прежней страсти. В половине первого, когда Тони пора было уходить, они договорились провести вместе следующие выходные. Сходить в музей Нортона Саймона в Пасадене, побывать на вернисаже немецких художников и на выставке гобеленов эпохи Средневековья. В промежутках они будут есть разные вкусные вещи, беседовать и, может быть, наверстают то, что не удалось сделать сегодня. У дверей Хилари вдруг показалось, что пять дней – чересчур долгий срок. – Как насчет среды? – спросила она. – Что насчет среды? – Что у тебя на ужин? – Пожарю себе яичницу. Может быть, тосты. Выпью фруктового сока. Как всякий старый холостяк. – Я не допущу, чтобы ты плохо питался. Хочешь, приготовлю салат из овощей и рыбное филе? – Замечательно. – Значит, до среды? – До среды. Они поцеловались, и он ушел. Полчаса спустя Хилари лежала в постели и от напряжения никак не могла уснуть. У нее набухли груди. Она закрыла глаза и представила, как Тони ласкает ее соски. Между ног стало горячо и влажно. Все ее тело призывало его. Хилари встала и приняла снотворное. Засыпая, она разговаривала с собой: – Что это – я влюбилась? – Нет. Конечно же, нет. – А может быть, и да. – Это опасно. – Может быть, с ним все будет по-другому. – Вспомни Эрла и Эмму. – Тони не такой. Он особенный. – Просто тебе нужен мужчина. – Не без этого. Хилари уснула. Ей снилась близость с Тони на лужайке среди цветов, под горячим солнцем. Но скоро золотые сны сменились кошмарами. На нее надвигались стены их убогой чикагской квартиры. Она посмотрела вверх – потолок исчез. Комната превратилась в глубокий узкий колодец. Сверху, злорадно ухмыляясь, смотрели Эрл и Эмма: они ожидали, что стены вот-вот сомкнутся и раздавят ее. Хилари нащупала и открыла дверь, но оттуда вылез громадный, больше ее ростом, таракан. Вылез, чтобы сожрать ее живьем.* * *
В три часа ночи Джошуа беспокойно заворочался в постели. За ужином он выпил слишком много вина, что вообще-то было ему не свойственно. Шум в голове прошел, теперь его беспокоил мочевой пузырь. Однако проснулся он не только из-за естественной нужды. Ему приснилась страшная мертвецкая Таннертона. И несколько трупов – все как один похожи на Бруно Фрая. Они повставали из гробов и со столов для бальзамирования и погнались за ним, хрипло выкрикивая его имя. Какое-то время Джошуа лежал на спине. В комнате было тихо, слышалось только едва уловимое жужжание электронного будильника. До кончины жены три года назад Джошуа редко видел сны и, уж во всяком случае, не знал, что такое кошмары. Ни разу за пятьдесят восемь лет с ним не случалось ничего подобного. Но после смерти Коры все изменилось. Теперь ему часто снилось, будто он потерял что-то очень важное, хотя и не мог разобрать, что именно. Ему не нужно было прибегать к помощи психоаналитиков – пятьдесят долларов за час консультации, – чтобы сообразить, что этот сон имеет отношение к смерти Коры. Он так и не смирился с ее утратой и не научился жить без нее. И никогда не научится. Джошуа встал, зевнул и, не зажигая света, проследовал в ванную. Пару минут спустя, на обратном пути, он на несколько секунд задержался у окна. В долине стояла кромешная тьма – хоть глаз выколи. И вдруг к югу от одной из виноделен вспыхнул свет – как раз во владениях Бруно Фрая. Но там же никого нет: Бруно жил один! Джошуа заморгал, но без очков огонек стал расплываться в его подслеповатых глазах, и он уже не был уверен, светится ли окно в доме или в примыкающем к нему административном здании. А может, это отблеск луны? Джошуа подошел к ночной тумбочке и достал очки. Когда он вернулся к окну, загадочный огонек исчез. Джошуа долго стоял и караулил его. Он был душеприказчиком Фрая и нес ответственность за сохранность его имущества. Если в дом проникли грабители, необходимо принять меры. Прошло четверть часа, но таинственная вспышка не повторилась. Возможно, это был обман зрения. Джошуа снова лег в постель.* * *
В понедельник утром, пока они кружили по городу в полицейском седане без опознавательных знаков, Фрэнк оживленно делился впечатлениями от встречи с Дженет Ямада. Дженет – красавица. Дженет – умница. Дженет все понимает. Дженет то, Дженет се. Он просто помешался на этой теме, но Тони не мешал ему изливать душу. Так приятно было видеть Фрэнка ведущим себя как любой нормальный мужчина. Перед тем как тронуться в путь, они переговорили с детективами из отдела по борьбе с наркотиками, Эдди Квеведо и Карлом Хаммерстайном. Те высказали предположение, что скорее всего Бобби Вальдес зарабатывает на жизнь, приторговывая кокаином либо ЛСД. Именно этот товар приносил наибольшие барыши на черном рынке. – Очевидно, он – один из уличных толкачей, – рассуждал Квеведо. – Побеседуйте с другими толкачами, – вторил Хаммерстайн. – Вот список неоднократно судимых и недавно вышедших на свободу. По всей видимости, кое-кто продолжает толкать наркотики. Просто мы еще до них не добрались. Приприте их к стенке. Рано или поздно выйдете на такого, который встречался с Бобби Вальдесом и знает, где его логово. Список состоял из двадцати четырех фамилий. Троих не оказалось дома. Еще трое поклялись, что не знают ни Бобби Вальдеса, ни Хуана Маккезы и никогда не видели человека на фотографии. Седьмым значился Юджин Таккер, и он оказался исключительно полезным, причем без нажима. Кожа большинства черных имеет более или менее темный коричневый оттенок, но Таккер был по-настоящему черен. У него оказалось широкое добродушное лицо со сверкающими белками глаз. В пышной черной бороде проглядывали седые прожилки. На нем были черные брюки и черная рубашка. Обитал Таккер в многоквартирном доме на Голливудских холмах, где драли приличную арендную плату. Обстановка его гостиной состояла из дивана, двух кресел и кофейного столика. Больше здесь ничего не было. Ни стереоустановки, ни телевизора. С потолка свисала единственная голая лампочка. Зато каждый из четырех предметов был отменного качества и идеально гармонировал с остальными. Таккер явно питал слабость к китайскому антиквариату. Здесь чувствовалась ручная работа. Искусно вырезанные из розового дерева диван и кресла покрыты нефритово-зелеными бархатными чехлами. Столик тоже сделан из розового дерева и украшен инкрустацией. Тони дотронулся до спинки дивана и похвалил: – Превосходная вещь, мистер Таккер. Тот приподнял брови: – Вы в этом разбираетесь? – Не берусь точно определить период, – ответил Тони, – но вообще я достаточно знаком с китайским искусством, чтобы понять, что это не какая-нибудь купленная на распродаже копия. Таккер сиял. – Знаю, знаю, что у вас на уме, – добродушно проговорил он. – Как, мол, бывший арестант, всего два года из тюряги, может позволить себе такую роскошь? Квартиру за тысячу двести долларов в месяц. Китайский антиквариат. Наверняка принялся за старое. – Мне действительно интересно, но я убежден, что наркотики тут ни при чем. – Откуда вы знаете? – Если бы вы были торговцем наркотиками, вы бы завалили антиквариатом все углы, а не приобретали по одной вещице раз в несколько месяцев. Вы явно неплохо зарабатываете, но далеко не столько, сколько приносит наркобизнес. Таккер захлопал в ладоши от удовольствия и обратился к Фрэнку: – У вашего приятеля котелок варит будь здоров. – На том стоим, – ухмыльнулся Фрэнк. – Удовлетворите мое любопытство, – попросил Тони. – Чем вы занимаетесь? – Моделирую дамскую одежду. Тони открыл рот от удивления. Хозяин квартиры плюхнулся в кресло и расхохотался. Он выглядел вполне счастливым человеком. – Я моделирую женскую одежду. Честное слово. Мое имя известно в профессиональных кругах Калифорнии, а скоро его будут знать в каждом американском доме. Поверьте старику. Фрэнк был заинтригован. – Согласно имеющейся у нас информации, вы отсидели восемь лет за распространение героина и кокаина. Как вам удалось переключиться на моделирование? – Я был тем еще сукиным сыном, – начал Таккер. – В первые месяцы за решеткой валил на общество вину за то, что со мной случилось. Крыл на чем свет стоит власть белых. Проклинал кого угодно, только не самого себя. Я считал себя крутым пижоном, а оказался сосунком. Мужчиной можно стать только тогда, когда возьмешь на себя ответственность за свою судьбу. Многие так и не становятся взрослыми. – Что же послужило толчком? – Сущий пустяк. Господи, приятель, это просто уму непостижимо, как сущая малость способна перевернуть душу. По телевизору как-то показывали сериал о цветных, которые чего-то добились. – Я его смотрел, – сказал Тони. – Это было больше пяти лет назад, но я до сих пор помню. То был образец профессионализма – большая редкость на телевидении, где обычно передачи не глубже блюдца. Тележурналисты взяли интервью у дюжины темнокожих деловых людей, преуспевающих в жизни. Некоторые стали миллионерами. Один сделал карьеру, продавая недвижимость. Другой открыл ресторан. Третий содержал салон красоты. Все соглашались с тем, что черному труднее пробиться, но все-таки это легче сделать в Лос-Анджелесе, чем в Алабаме, Миссисипи или даже Бостоне и Нью-Йорке. Здесь более высокий темп жизни. Благодаря атмосфере постоянных перемен и экспериментов в деловую орбиту втягиваются все новые слои населения. Здесь не до устаревших предрассудков, в том числе расовых. Конечно, в Калифорнии тоже можно столкнуться с проявлениями фанатизма, но уже следующее поколение проявляет большую терпимость, тогда как в других штатах для этого требуется шесть-восемь поколений. Как сказал один из интервьюируемых, «теперь здесь негры – не черные, а чиканос». Да и это быстро устаревает. – Сначала мы в камере посмеялись, – продолжил Таккер. – Тоже, мол, выискались «дядюшки Томы». Но я задумался. Если другие сумели пробиться, почему бы и мне не попытать счастья? Я не глупее любого из этой дюжины. Лос-Анджелес – моя родина. И если она дает мне шанс, я обязан им воспользоваться. Так я решил разбогатеть. – Только и всего? – проговорил Фрэнк, явно находясь под сильным впечатлением. – Только и всего. – Что значит конструктивный подход, – улыбнулся Тони. – Реалистичный, – уточнил Таккер. – А почему именно дамская одежда? – Я прошел тесты, и они показали, что мне следует попробовать себя в прикладном художественном творчестве. Вот я и выбрал моделирование. Вспомнил, с каким удовольствием выбирал платья в подарок своим подружкам. Любил шататься с ними по магазинам. В выбранных мною платьях они имели бурный успех. Так что я начал заочно штудировать учебную программу. А когда вышел на свободу, некоторое время работал в забегаловке и одновременно выполнял заказы для одной швейной мастерской. Сначала было чертовски трудно. Однако уже через год я открыл свое ателье. Со временем вы увидите в Беверли-Хиллз вывеску: «Юджин Таккер». Обещаю. Тони покачал головой. – Вы просто уникум. – Просто я живу в хорошем месте и в хорошее время. Фрэнк постучал конвертом с фотографиями Бобби Вальдеса по колену и сказал, обращаясь к Тони: – Кажется, мы пришли не к тому человеку. – Похоже на то. – А что вас интересует? Тони рассказал ему о Бобби Вальдесе. – Ну, вот что, – откликнулся Таккер. – Я, конечно, уже не вращаюсь в тех кругах, но каждую неделю посвящаю пятнадцать-двадцать часов работе в добровольном обществе по борьбе с наркотиками «Достоинство». Беседую с пацанами. Пытаюсь вернуть начинающих толкачей на путь истинный. Мы не ждем, пока к нам придут, а сами идем на улицу, заходим в дома. Составляем досье на исправившихся и наблюдаем за их поведением. – Я согласен с Тони, – заявил Фрэнк. – Вы действительно уникум. – Ну, знаете, я не нуждаюсь в том, чтобы меня гладили по головке за мою деятельность в «Достоинстве». В свое время я толкнул на этот путь многих ребят, так что мне еще долго замаливать грехи. Фрэнк достал фотографии. Таккер внимательно посмотрел на них. – Я знаю этого ублюдка. Мы завели на него досье. У Тони бешено заколотилось сердце. – Но его зовут не Вальдес, – продолжил Таккер. – Хуан Маккеза? – Нет. Он представляется как Ортис. – Где бы мы могли найти его? – Сейчас позвоню в штаб-квартиру общества. – Потрясающе! – воскликнул Фрэнк. Прежде чем выйти в кухню, где у него стоял телефон, Таккер предложил: – Это займет несколько минут. Можете пока посмотреть мои наброски – если, конечно, хотите. – Он махнул рукой в сторону кабинета. – Разумеется, хотим, – ответил Тони. В кабинете они увидели массивный стол с настольной лампой и небольшой шкафчик со всеми необходимыми принадлежностями. Здесь также ощущался дефицит мебели: очевидно, Таккер не хотел тратиться на что попало в ожидании того времени, когда сможет заставить всю квартиру китайским антиквариатом. Типично калифорнийский оптимизм, подумал Тони. Одна стена была сплошь увешана эскизами. Здесь были платья, блузки, костюмы – очень женственные, но не фривольные. У Таккера оказалось превосходное чувство цвета. Во всех работах ощущалась рука зрелого мастера. У Тони никак не укладывалось в голове, что этот тертый калач, Юджин Таккер, рискнул круто изменить свою жизнь, начав зарабатывать моделированием, – и преуспел. У него возникло ощущение духовного родства с Таккером. Когда они с Фрэнком рассматривали последний эскиз, вернулся хозяин квартиры. – Ну и как оно? – Здорово, – отозвался Фрэнк. – Просто замечательно, – подхватил Тони. – У вас редкое чувство цвета. И поразительная четкость линий. – Сам знаю, – чуточку хвастливо заявил Таккер. – А что с Вальдесом? – Есть. Сейчас он называет себя Ортисом, как я и говорил. Джимми Ортисом. Судя по тому, что нам удалось узнать, он специализируется на ЛСД. Конечно, не мне показывать на кого-то пальцем, но, по моему глубокому убеждению, ЛСД – худшее, что только может быть. Это сущий яд. Он разрушает клетки головного мозга гораздо быстрее, чем любое другое зелье. У нас пока недостаточно улик, чтобы передать дело в полицию, но это вопрос времени. – Где он живет? Таккер протянул листочек с адресом. – Блочный комплекс на бульваре Заходящего Солнца. Обычно он в это время дома. И вот что. Этот парень не из тех, кто способен исправиться. Упеките его подальше – до конца жизни. – Так мы и сделаем, – заверил Фрэнк. Таккер проводил их до двери, а потом вышел вместе с ними на улицу. Отсюда открывался вид на Лос-Анджелесскую бухту. – Здорово, да? – Изумительно! – согласился Тони. – Необыкновенный город! – В голосе Таккера прозвучала такая гордость, словно он сам создал этот мегаполис. – Он дает человеку шанс, которым грех не воспользоваться. Здесь судьба человека зависит от него самого. Фантастика! Тони был так тронут этим проявлением чувств, что ему неудержимо захотелось поделиться с Таккером своей заветной мечтой. – Мне всегда хотелось стать художником и зарабатывать этим на жизнь. Видите ли, у меня талант. – Тогда какого дьявола вы делаете в полиции? – Это дает гарантированный заработок. – К чертям гарантированный заработок! – Я неплохо справляюсь с работой. – Вы действительно хорошо рисуете? – Да. – Тогда прыгайте в омут с обрыва, – посоветовал Таккер. – Это непередаваемое ощущение и ни капельки не похоже на падение – скорее на взлет!.. Через пятнадцать минут полицейский седан остановился перед домом, где обитал Бобби Вальдес. Тони с Фрэнком поднялись на второй этаж и переглянулись: дверь в квартиру Бобби была распахнута настежь. Что могло случиться? Неужели Бобби узнал об их приезде? Фрэнк нажал на кнопку дверного звонка. Динь-динь-динь. Никто не ответил. Фрэнк снова позвонил. Тони достал револьвер из кобуры. В воздухе носилась угроза. У Тони засосало под ложечкой. Фрэнк также подготовился к бою. Они ворвались в прихожую. – Полиция! – заорал Тони. – Руки вверх! Бобби, выходи! Тишина. – Бобби! – подхватил Фрэнк. – Слышал, что тебе говорят? Мы из полиции. Игра окончена. Выходи! Живо! Мы тебе ничего не сделаем. Бобби молчал. – Может, его все-таки нет? – прошептал Фрэнк. – Иначе не выдержал бы и послал нас куда подальше. – Что будем делать? – Двигаем вперед. – Если мне не изменяет память, – сказал Тони, – в прошлый раз ты был первым. Теперь моя очередь. – Милости прошу. – Прикрой меня. – Здесь, в прихожей, слишком тесно. Я из-за тебя ничего не увижу. – Пригнусь, насколько возможно. – Давай. Тони сделал глубокий вдох, но почему-то не успокоился. Он согнулся в три погибели и подобрался к открытой двери в гостиную. Там было полутемно из-за плотно задернутых штор. Тони смутно различал очертания мебели. – Бобби? Никто не ответил. Где-то пробили часы. – Бобби, мы ничего тебе не сделаем. Тони затаил дыхание. Сзади тяжело сопел Фрэнк. И все. Тони ощупью двинулся вдоль стены, пока не наткнулся на выключатель. Комната осветилась. Пусто. Они пересекли гостиную и вошли в маленькую кухню. Здесь словно смерч пролетел. Дверцы холодильника и нескольких шкафчиков – настежь. На полу валялись банки и коробки с едой, сброшенные с полок. Блестели осколки. Повсюду разбрызган вишневый сок и разбросаны корнфлексы, сухие спагетти и маслины. На стене кто-то вывел горчицей: «Кокодрилос». – Что это? – шепнул Фрэнк. – «Крокодилы» по-испански. – При чем тут крокодилы? – Понятия не имею. – Странно. С этим трудно было не согласиться. Даже не зная о том, что здесь произошло, Тони чуял опасность. Откуда она явится? Они заглянули в чулан. Убедившись, что Бобби здесь нет, осторожно двинулись в первую из спален. Ни там, ни в ванной никого не оказалось. В другой спальне был такой же кавардак, как на кухне. Одежда вынута из шкафов и разбросана по всей комнате. Воротнички и манжеты валялись отдельно от рубашек. Многие пиджаки и брюки растерзаны в клочья. Здесь орудовал человек, охваченный слепой, нерассуждающей ненавистью. Но кто? Кто-то имевший зуб на Бобби Вальдеса? Или сам Бобби? Но с какой стати ему устраивать погром в своей квартире и портить свою одежду? И при чем тут крокодилы? У Тони было неприятное чувство, словно они упускают что-то из виду. В дальнем уголке мозга билась смутная догадка, но она пока ускользала от него. Дверь во вторую ванную была заперта. Это было единственное помещение, куда они еще не заглядывали. Держа дверь ванной под прицелом, Фрэнк шепнул: – Если Бобби не улизнул перед самым нашим приходом, он может быть только там. – Ты считаешь, что он сам учинил погром у себя в квартире? – А ты думаешь иначе? – Мы чего-то недопонимаем. – Чего именно? – Не могу сообразить. Фрэнк приблизился к двери ванной. Тони мешкал, вслушиваясь в тишину. Повсюду было тихо, как в могиле. – Эй, Бобби! – крикнул Фрэнк. – Ты меня слышишь? Ты же не можешь вечно там оставаться. Выходи с поднятыми руками! Никто не откликнулся. – Даже если это не Бобби, – крикнул Тони, – все равно выходи! Прошло десять секунд. Двадцать. Тридцать. Фрэнк яростно подергал за ручку. Дверь неожиданно распахнулась, и он инстинктивно прижался к стене, ожидая выстрелов. Но они не прозвучали. Ванная встретила их стойким запахом мочи и экскрементов. – Господи! – ахнул Тони. Фрэнк зажал себе нос и рот. В ванной никого не было. По полу растекалась моча. На стене кто-то написал фекалиями: «Кокодрилос». Детективы быстро отступили в глубь спальни, но вонища погналаих дальше, в прихожую. – Тот, кто это сделал, ненавидел Бобби, – предположил Фрэнк. – Ты больше не считаешь, что он сделал это сам? – С какой стати? Это лишено всякого смысла. Господи, у меня прямо волосы становятся дыбом. – Да, странно. Тони чувствовал холодок под ложечкой. Сердце грозило вот-вот выпрыгнуть из груди. Они затаили дыхание, словно прислушиваясь к шагам призрака. Наконец Фрэнк убрал револьвер и вытер лицо носовым платком. Тони спрятал револьвер в кобуру. – Фрэнк, мы не можем просто так уйти. Должно же быть какое-то объяснение всему этому. – Согласен. Давай позвоним, чтобы прислали кого-нибудь с ордером на обыск. Прочешем все основательно. – Ящик за ящиком. – И что, ты думаешь, мы можем найти? – Бог его знает. – Я видел на кухне телефон. – Фрэнк пересек гостиную и ступил на порог кухни. И вдруг ахнул: – О господи! – Что случилось? Что-то громко щелкнуло. Фрэнк вскрикнул и пошатнулся. Тони понял, что это выстрел. Но ведь в кухне никого не было! Тони ринулся туда, на ходу доставая пистолет. У него было такое чувство, будто все происходит в замедленной съемке. Раздался второй выстрел. На этот раз пуля угодила Фрэнку в плечо и сбила его с ног. Он повалился в месиво из вишневого сока, спагетти, стекла и корнфлексов. Теперь, когда он перестал загораживать проход, Тони увидел Бобби Вальдеса. Тот, совершенно голый, выглядывал из шкафчика под раковиной. Они с Фрэнком не стали проверять этот шкафчик, посчитав слишком маленьким, чтобы в нем мог поместиться человек. В руке Вальдес держал пистолет тридцать второго калибра. У Бобби был совершенно больной вид: бледное как смерть лицо, бескровные губы, темные круги под глазами. Он выстрелил в третий раз. Пуля попала в притолоку, разбив при этом дверное стекло. Несколько осколков зацепили Тони щеку. Он отступил и спрятался за дверью. Только сейчас он понял, что именно не давало ему покоя. Бобби Вальдес торговал ЛСД, и им бы следовало догадаться, что он, по примеру некоторых толкачей, сам пользуется своим товаром. Сильнейший транквилизатор, ЛСД обычно применяют, когда нужно усыпить больное животное: лошадь или быка. Если же его принимает человек, реакция варьируется от полного транса до жутких галлюцинаций и приступов неукротимой ярости. Как сказал Юджин Таккер, ЛСД – мощный яд, разъедающий клетки головного мозга. Накачавшись наркотиком, Бобби устроил погром в своей квартире – очевидно, страх перед воображаемыми крокодилами загнал его в шкафчик под раковиной. Кто бы мог подумать, что они найдут здесь взбесившегося зверя? Фрэнк ранен. Возможно, даже смертельно. Тони лихорадочно размышлял, как перехватить инициативу. Из кухни послышался истошный вой: – Уй, сколько крокодилов! А-а-а!.. Неожиданно Бобби выскочил из кухни. При этом он неистово палил в пол, в воображаемых хищников. Тони скрючился за стулом, понимая, что, если он высунется, Бобби убьет его раньше, чем он успеет прицелиться. Бобби продолжал расстреливать крокодилов. Сколько же у него патронов? Восемь? Может, десяток? Уже прозвучало девять выстрелов. Остался один. – Кокодрилос! Грянул десятый выстрел. Тони поднялся из-за стула. До Бобби было меньше десяти футов. Тони обеими руками сжимал пистолет, целясь в безволосый торс бандита. – О’кей, Бобби, – приговаривал он. – Успокойся. Все кончено. Тот казался безмерно удивленным. Должно быть, в наркотическом опьянении он и не заметил Тони в проеме двери, когда стрелял в него минуту назад. – Крокодилы, – на этот раз по-английски произнес он. – Их здесь нет. – Громадные. – Нет никаких крокодилов. Вальдес взвизгнул и схватился за пистолет, но обойма была пуста. – Бобби, – твердо произнес Тони. – Я приказываю тебе лечь на пол. – Они меня схватят. – Бобби весь дрожал. – Сожрут меня. – Слушай, Бобби. Слушай внимательно. Здесь нет никаких зверей. Тебе только кажется. – Они вылезли из унитаза. И из ванны. И из раковины. Такие громадные! Хотели откусить мне хрен. – Страх снова сменился яростью. – Не дам! Не позволю откусить мой хрен! Всех перебью! – Они уползли, – словно малое дитя, уговаривал его Тони. – Ты врешь! – Я говорю правду. – Поганый коп! Бобби бросился к Тони. Тот отступил. Он знал, что наркотическое возбуждение придает нечеловеческую силу. – Стой, черт тебя побери! Бобби был уже совсем близко. Даже безоружный, он был сейчас смертельно опасен. Секунда – и он разорвет его на части! Тони всадил в него пулю. Бобби рухнул на пол, истекая кровью. Весь дрожа, Тони убрал пистолет обратно в кобуру и, с трудом добравшись до телефона в гостиной, попросил оператора: – «Скорую помощь», потом полицию. – Да, сэр. Он продиктовал адрес и поплелся на кухню. Фрэнк по-прежнему лежал на полу. Тони опустился рядом на колени. Фрэнк открыл глаза. – Ты ранен, Тони? – Нет. – Застрелил его? – Да. – Насмерть? – Да. – Хорошо. У Фрэнка был жуткий вид. Молочно-белое лицо с грязными разводами от пота. Белки глаз пожелтели, а правый глаз весь налился кровью. Губы приобрели синюшный оттенок. Правое плечо и рукав пропитались кровью. Левой рукой он зажимал рану в области живота. – Тебе очень больно? – Сначала – да. Но потом полегчало. – Я вызвал «Скорую». Где-то далеко на улице завыла сирена. Рановато для «Скорой», подумал Тони. Наверное, кто-то из соседей, заслышав выстрелы, позвонил в полицию. – Пойду встречу. – Не уходи, Тони. Не бросай меня. – Хорошо. Оба тряслись, как в лихорадке. – Боюсь оставаться один, – сказал Фрэнк. – Я с тобой. – Я пытался сесть – и не смог. – Лежи спокойно. – Может, меня парализовало? – Это шок. Ты потерял много крови. Слабость в таких случаях – обычное дело. Фрэнк застонал. – Держись, друг, – шепнул Тони. – Все будет в порядке. – Ты поедешь со мной в больницу? – Не знаю, разрешат ли. – Добейся. – Конечно. Конечно же, я поеду – даже если придется пригрозить им пистолетом. Фрэнк слабо улыбнулся, но новый приступ боли согнал с его лица улыбку. – Тони… – Что, Фрэнк? – Дай мне руку. Тони протянул руку, и Фрэнк с неожиданной силой вцепился в нее. – Знаешь что, Тони? – Да? – Сделай, как он сказал. – Кто что сказал? – Юджин Таккер. Попробуй совершить прыжок. Делай то, чего больше всего хочется. – Не беспокойся обо мне. Береги силы. Фрэнк пришел в возбуждение. – Нет-нет. Послушай, это очень важно. Чертовски важно. – Успокойся, – попросил Тони. Фрэнк закашлялся. На посиневших губах выступили кровавые пузырьки. У Тони неистово билось сердце. Господи, где же «Скорая»? Почему эти ублюдки еле тащатся? – Если ты хочешь стать художником, – гнул свою линию Фрэнк, – стань им. Ты еще достаточно молод, чтобы не бояться риска. – Прошу тебя, Фрэнк! Береги силы. – Слушай меня. Не теряй времени. Жизнь слишком коротка, чтобы просвистеть ее за здорово живешь. – Перестань. У нас еще уйма времени. – Годы уходят так быстро. – Фрэнк выругался. – Нет у нас никакого времени. Он судорожно стиснул руку Тони. По лицу его струился пот. – Фрэнк? Что случилось? Тот вдруг заплакал. Тони рассвирепел. – Дай-ка я схожу узнаю, что там со «Скорой». – Не оставляй меня. Я боюсь. – Чего ты боишься? – Что кто-нибудь увидит… Я обмочился. Тони не знал, что сказать. – Не хочу, чтобы надо мной смеялись. – Никто и не собирается. – Описался… как ребенок… – Здесь такая грязища, никто и не заметит. Новая сирена. – Это «Скорая», – сказал Тони. – Сейчас они будут здесь. – Тони, мне страшно. – Не бойся, я с тобой. Все будет хорошо. – Я хочу, чтобы обо мне кто-то помнил. – Что ты имеешь в виду? – После смерти… Чтобы кто-нибудь помнил, что я был… – Ты проживешь еще много-много лет. – Кто обо мне вспомнит? – Я, – осипшим голосом ответил Тони. – Я вспомню. Сирена быстро приближалась. – А знаешь что? – прошептал Фрэнк. – Может, я еще и выкарабкаюсь. Вроде бы отпустило. Это к добру? – Конечно. – Держи меня, Тони. Пожалуйста. Тони опустился на пол и помог Фрэнку сесть. Тот закашлялся. Рука, зажимавшая рану на животе, соскользнула, и показались внутренности. Тони понял, что надежды нет. – Держи меня. Тони крепко обнял друга и стал баюкать, как испуганное дитя. Он продолжал баюкать его даже после того, как убедился, что Фрэнк умер.* * *
В понедельник в четыре часа приехал мастер из телефонной компании. Не успел он приступить к работе, как зазвонил телефон. Хилари боялась, что это все тот же аноним, и не хотела брать трубку, но мастер выжидающе смотрел на нее, и после пятого сигнала она ответила. – Алло? – Хилари Томас? – Да. – Это Майкл Саватино. Помните ресторан Саватино? – Не нужно напоминать. Я никогда не забуду ни вас, ни ваш чудесный ресторан. Это был незабываемый ужин. – Спасибо. Мы стараемся… Послушайте, мисс Томас… – Зовите меня Хилари. – Хилари. Тони вам сегодня не звонил? Только сейчас она уловила напряженность в голосе Майкла и поняла: случилось что-то ужасное. Хилари затаила дыхание. – Хилари, вы слушаете? – В последний раз мы разговаривали вчера вечером. А что? – Мне не хочется вас пугать, но случилась беда. – О боже! – Тони не ранен. – Вы уверены? – Всего лишь несколько царапин. – Он в больнице? – Нет. С ним действительно все в порядке. Ей чуточку полегчало. – Тогда в чем дело? Майкл в двух словах объяснил, что произошло. Убитым мог оказаться Тони! Хилари чуть не стало плохо. – Тони принял это очень близко к сердцу, – продолжал Майкл. – Когда они с Фрэнком начинали работать вместе, они никак не могли приспособиться один к другому. Но в последнее время все наладилось. Они лучше узнали друг друга. Стали настоящими друзьями. – Где сейчас Тони? – У себя дома. Стрельба случилась в полдвенадцатого. С двух часов Тони сидит у себя в квартире. Я только что оттуда. Хотел остаться, однако Тони настоял, что мне пора возвращаться в ресторан. Я предложил ему поехать со мной, но он не захотел. Нужно, чтобы рядом с ним сейчас был кто-нибудь близкий. – Я еду, – решительно сказала она. – Я надеялся услышать это от вас. Хилари забежала в ванную освежиться и быстро переоделась. Пришлось подождать с четверть часа, пока мастер заканчивал с телефонами. Никогда еще пятнадцать минут не тянулись для нее так долго. В машине ей вспомнились ее ощущения, когда она заподозрила, что несчастье случилось с Тони. Ее всю заполнило чувство непоправимой утраты. Вчера ночью, перед тем как заснуть, она спорила сама с собой, любит ли она Тони. Может ли вообще кого-нибудь любить – после физических и нравственных мук, перенесенных в детстве? И после того, как узнала о чудовищной двойственности человеческой натуры. И как можно любить человека, которого знаешь всего несколько дней? Спор остался неоконченным, но сейчас ей стало ясно: она боялась потерять Тони, как никогда и никого на свете. Тони жил на втором этаже двухэтажного здания. На балконе печально позвякивали стеклянные колокольчики. При виде Хилари он ничуть не удивился. – Это Майкл позвонил вам? – Да. Почему вы не сделали этого сами? – Наверное, он сказал, что я – безнадежная развалина. Как видите, он сильно преувеличил. – Он беспокоился о вас. – Я справлюсь, – выдавил из себя Тони. Как он ни пытался скрывать свои чувства, Хилари заметила его затравленный взгляд. Ей безумно хотелось обнять и утешить его, но она и в обычных-то ситуациях не особенно ловко чувствовала себя с людьми, а теперь и подавно. Кроме того, Тони явно не хотел, чтобы его утешали. – Я справлюсь, – повторил он. – Я все-таки могу войти? – Конечно. Извините. Тони занимал небольшую холостяцкую квартиру с одной спальней. Зато здесь была просторная, хорошо проветренная гостиная окнами на север. – Окна с северной стороны – очень удачно для художника, – заметила Хилари. – Поэтому я и выбрал эту квартиру. Гостиная больше походила на студию. На стенах висело около дюжины картин. Остальные стояли на полу – их было не меньше шестидесяти или семидесяти. На двух мольбертах ждали еще не законченные работы. – Я собирался напиться до потери сознания, – признался Тони, – и как раз приступил, когда вы позвонили. Хотите составить мне компанию? – Что вы пьете? – «Бурбон». – Мне то же самое. Пока Тони на кухне готовил напитки, Хилари рассмотрела картины. Некоторые из них были написаны в ультрареалистической манере: все детали до того скрупулезно выписаны, что картины напоминали фотографии. Другие были исполнены в духе сюрреализма и приводили на память выдающихся мастеров – Дали, Эрнста, Миро, однако все-таки отличались от их полотен. Чувствовалась творческая индивидуальность Тони, его неповторимое художественное видение. Он принес два стакана «бурбона». Хилари сказала: – Твои работы будят воображение. – Правда? – Майкл совершенно прав: ты запросто сможешь продать их. – Мечтать не вредно. – Если бы ты дал себе шанс… – Как я уже сказал, ты очень добра, но ты не специалист. Тони все еще не пришел в себя. Его голос звучал монотонно и почему-то привел на память сухое дерево. Из него как будто ушла жизнь. Хилари решила подколоть его, чтобы немного встряхнуть. – Ты считаешь, что ты такой умный, а на самом деле просто глупый упрямец. Ты прямо слепец, когда речь идет о твоем творчестве. – Я всего лишь любитель. – Иногда ты становишься невыносим. – Мне не хочется говорить о живописи. Тони включил стерео. Бетховен в исполнении Орманди. Он сел на диван. Хилари тоже. – А о чем хочется? – О фильмах. – Честно? – Или о книгах. – Ты уверен? – Или о театре. – На самом деле ты хочешь рассказать мне, что случилось. – Нет. Это – меньше всего. – Тони, тебе необходимо выговориться. Как ни тяжело. – Мне необходимо забыть об этом, выбросить из головы. – Не изображай из себя черепаху. Неужели ты думаешь, что сможешь втянуть голову под панцирь и спрятаться от всего света? – Вот именно. – На прошлой неделе у меня было точно такое же настроение, но ты сказал, что человек в горе не должен замыкаться в себе. – Я ошибался. – Нет, ты был прав! Тони закрыл глаза. – Может быть, мне уйти? – спросила Хилари. – Тогда скажи. Я не обижусь. – Останься, пожалуйста. – Хорошо. Так о чем мы будем говорить? – О Бетховене. И о «бурбоне». – Ладно. Они молча сидели рядышком на диване, откинув головы назад, с закрытыми глазами, слушая музыку и потягивая напиток. Солнце окрасило комнату сначала в янтарный, а затем в тускло-оранжевый цвет. Потом стемнело.* * *
В понедельник, ближе к вечеру, Аврил Таннертон обнаружил, что в «Вечном покое» кто-то побывал. Он сделал это открытие после того, как спустился в подвал, где оборудовал себе мастерскую. Стекло одного из окон было оклеено клейкой лентой, а затем выбито, чтобы налетчик мог добраться до задвижки. Очевидно, это произошло в то время, когда Таннертон был у Хелен Виртильон в Санта-Розе. И, похоже, грабитель знал, что дом не охраняется. Грабитель? Ни на первом, ни на втором этажах ничего не пропало. Даже коллекция старинных монет. Даже дорогостоящие ружья. Здесь, в мастерской, справа от разбитого окна, хранились инструменты стоимостью в пару тысяч долларов. Таннертон взглянул в ту сторону и убедился, что они на месте. Ничего не украдено. Не совершено ни одного акта вандализма. Что же это за грабитель и что ему нужно было в этом доме? Он посмотрел по сторонам и вдруг обнаружил, что кое-чего действительно не хватает. Исчезли три пятидесятифунтовых мешка с цементом, оставшиеся после ремонта крыльца. Почему вор не тронул дорогое оружие, ценные монеты и все прочее, что представляло ценность, а позарился на три мешка цемента? Таннертон почесал в затылке. – Уму непостижимо.* * *
Они долго сидели в наступившей темноте, слушая Бетховена и потягивая «бурбон», – и вдруг Тони обнаружил, что рассказывает Хилари о Фрэнке Говарде. Он не собирался делать этого до тех пор, пока с изумлением не услышал свой собственный голос. А потом уже ничего не могло удержать поток слов. Он говорил полчаса подряд, останавливаясь только затем, чтобы хлебнуть виски. Вспомнил трения первых месяцев, смешные и не очень приятные эпизоды их с Фрэнком совместной службы, вечер в «Дыре», знакомство Фрэнка «вслепую» с Дженет Ямада и, наконец, полное взаимопонимание последних дней и то теплое чувство, которое они стали испытывать друг к другу. Под конец он рассказал обо всем, что произошло в квартире Бобби Вальдеса. Закрыв глаза, Тони увидел перед собой загаженную кухню. Рассказывая Хилари о том, что он чувствовал, обнимая умирающего друга, Тони всем телом задрожал. Его бил озноб, проникая до самого сердца. У него стучали зубы. На глазах выступили злые и горькие слезы. Хилари взяла его за руку, привлекла к себе и начала баюкать, как он Фрэнка. Вытерла салфеткой его мокрое от пота и слез лицо. Сначала ей только хотелось успокоить его; он и сам не нуждался ни в чем другом. Однако постепенно их объятия начали приобретать иной характер. Тони обнял девушку за плечи, и стало трудно разобрать, кто кого утешает. Рука Тони скользила по ее спине; он наслаждался изящными линиями ее тела. Хилари также гладила и восхищалась его сильным, мускулистым телом, целовала уголки его губ, и он возвращал ей жаркие поцелуи. Их языки встретились; поцелуи сделались более страстными, чем до сих пор. Они одновременно осознали, что происходит, и на мгновение застыли, вспомнив об умершем друге. Может быть, они совершают кощунство? Но взаимная тяга была так сильна, что сомнения улетучились. Они поцеловались – сначала как бы дразня, а затем страстно. Руки Хилари гладили все его тело, и Тони отзывался на ее ласки и сам ласкал ее. Он понял, что то, что они делают, хорошо и правильно. Любовь явилась не актом неуважения к мертвому, а естественной реакцией на несправедливость самой смерти. Оба испытывали почти звериную потребность доказать себе, что они живы. Без слов, по одному только молчаливому соглашению, они встали и пошли в спальню. Выходя из гостиной, Тони включил там свет и оставил дверь открытой. Свет падал на кровать – мягкий, рассеянный, льнул к Хилари, придавая ее гладкой коже теплый оттенок, добавляя блеска волосам цвета воронова крыла, вспыхивая искрами в огромных глазах. Они остановились возле кровати, обнялись, поцеловались, и Тони начал раздевать ее. Расстегнул и снял блузку. Вслед за блузкой на пол упал лифчик. У Хилари были прекрасные, полные, изумительной формы груди с большими, устремившимися ему навстречу сосками. Тони нагнулся, чтобы поцеловать их. Хилари взяла обеими руками его голову, и они снова поцеловались. Потом Тони дрожащими руками расстегнул пояс и потянул книзу «молнию» на ее джинсах; брюки упали на пол, и Хилари переступила через них. Тони опустился перед ней на колени, чтобы снять с нее трусики, и увидел бегущий от плоского живота к левому боку широкий рубец примерно в четыре дюйма. То не был тоненький, аккуратный след хирургической операции. Тони повидал немало подобных шрамов, оставшихся после огнестрельных и ножевых ранений, и готов был биться об заклад, что этот след оставил клинок либо пуля. Когда-то давно она была тяжело ранена. Эта мысль вызвала у Тони желание защитить, укрыть ее. У него было множество вопросов к Хилари по поводу этого шрама, но сейчас было явно неподходящее время. Он нежно поцеловал покореженный участок кожи, и Хилари напряглась – очевидно, она стыдилась своего единственного изъяна. Тони мог бы заверить ее, что рубец ничуть не портит ее красоты, но сейчас нужны были поступки, а не слова. Он провел руками по ее стройным, красивым ногам, погладил точеные бедра, прильнул губами к блестящему треугольнику черных курчавых волос, и они слегка пощекотали ему лицо. Он встал и взял в обе руки ее крепкие груди. Они снова поцеловались, а когда оторвались друг от друга, Хилари шепнула: «Скорей!» Она отбросила покрывало и забралась в постель. Тони быстро разделся и лег рядом. Они, лаская, изучали друг друга руками, ощупывали каждый выступ, каждую ложбинку. Хилари дотронулась до пениса, и он начал бурно пульсировать. Через некоторое время, еще до того, как он вошел в нее, у него появилось странное ощущение, как будто они становятся одним существом – не столько физически, сколько духовно; посредством какой-то таинственной химической реакции впитывают, растворяются друг в друге. Покоренному теплом и лаской ее прекрасного тела, а еще больше – неповторимым шепотом и движениями, присущими одной лишь Хилари Томас, Тони казалось, будто он пробует неизведанный, чудесный хмельной напиток. Все его чувства обострились, словно к его органам чувств добавились ее глаза, уши, рот и пальцы. А также ум. И два сердца забились в унисон. От ее жгучих поцелуев у него возникло желание целовать ее везде, и он тотчас пустился в путешествие по ее телу, пока не добрался до места соединения бедер. Тони нежно развел ее стройные ноги и лизнул влажное средоточие страсти; раздвинул языком потаенные складочки плоти и, найдя крошечный бугорок, потеребил его губами, заставляя Хилари содрогнуться от наслаждения. Она начала стонать и извиваться. – Тони!.. Он продолжал ласкать ее губами, зубами и языком. Она выгнулась дугой, обеими руками впилась в простыни и забилась в экстазе. Тони просунул под нее руки и крепче прижал ее к себе. – Ох, Тони! Да, да, да! Хилари глубоко и часто дышала. Наслаждение стало таким острым, что она попробовала отстраниться, но потом снова прижалась к нему. Все ее тело неудержимо вибрировало. Она задыхалась; голова металась по подушке. Ее словно несли, одна за другой, волны неистового наслаждения. Наконец она в изнеможении откинулась на мятые простыни. Тони поднял голову, поцеловал ее плоский живот и поводил языком по кончикам грудей. Хилари протянула руку и настигла его желанную твердость. От его эрекции в ней снова пробудилось желание. Тони пальцами открыл вход и скользнул туда. – Да, да, да! – вскрикивала она, пока он заполнял ее собой. – Милый Тони! Милый, милый Тони! – Ты такая красивая! Ему никогда не было так хорошо. Он приподнялся на вытянутых руках и сверху посмотрел на ее изумительно прекрасное лицо. Ему показалось, будто он смотрит не «на», а «в» нее – в самую сущность Хилари Томас, ее душу. Оба закрыли глаза, но связывавшая их ниточка не порвалась, не стала менее прочной. У Тони было немало женщин, но ни одна не была ему так близка, как Хилари Томас. Их слияние было таким полным, что ему хотелось, чтобы оно длилось всю жизнь. И в то же время он не затягивал акт, как обычно, а во весь опор несся к заветному финишу. И дело было не только в том, что ее тело оказалось более тугим, более тесным и горячим, чем у других женщин; не только в тренированных вагинальных мышцах, совершенной груди или шелковистой коже, но, главное, в том, что она была для него единственной и неповторимой, совсем особенной женщиной.* * *
Потом они лежали бок о бок на постели, держась за руки, и отдыхали. Хилари чувствовала себя физически и эмоционально выпотрошенной. Сила собственного оргазма потрясла ее. Так никогда еще не было. Каждый раз у нее в мозгу словно вспыхивала молния, заставляя трепетать все фибры души и тела. Но Тони дал ей не только физическое наслаждение, но и что-то новое, удивительное, необычайно сильное и не передаваемое словами. Многим хватало для выражения этого чувства слова «любовь», но Хилари не очень-то ему доверяла. С детских лет слова «любовь» и «боль» были неразрывно связаны в ее сознании. Она боялась поверить, что полюбила Тони Клеменца, потому что это означало бы еще большую уязвимость и зависимость от другого человека. С другой стороны, ей трудно было представить, будто Тони способен сознательно причинить ей зло. Он не такой, как Эрл, ее отец, и не такой, как все другие мужчины, которых она знала раньше. Он умел быть нежным, ласковым, добрым, сочувствующим; рядом с ним она чувствовала себя защищенной. Может быть, стоит рискнуть? И может быть, он – тот единственный, кто этого достоин? Но она тотчас представила себе, каким ударом может стать для нее новое разочарование. Вряд ли ей удастся когда-либо от него оправиться. Проблема. И нет легкого решения. Лучше сейчас не думать об этом. Так хорошо – просто лежать рядышком, купаясь в атмосфере нежности, созданной их общими усилиями. Хилари вспомнила, как они только что принадлежали друг другу, и по ее телу пробежала теплая волна. Тони повернулся на бок, лицом к ней. – Пенни за твои мысли. – Что так дешево? – Доллар. – Давай больше. – Сто долларов? – Может быть, все сто тысяч. – Хорошие мысли! – Не столько мысли, сколько воспоминания. – О чем? – О том, чем мы занимались несколько минут назад. – А знаешь, – сказал Тони, – ты меня удивила. Такая строгая на вид, ну, просто пай-девочка, а на самом деле сущая развратница. – Точно. Я тебе нравлюсь? – Очень нравишься. Они еще несколько минут мололи любовный вздор. Потом Тони посерьезнел. – Ты, конечно, понимаешь, что уж теперь-то я тебя не отпущу? Хилари почувствовала, что, если она даст повод, за этим могут последовать новые, еще более обязывающие признания, к которым она не была готова, да и будет ли когда-нибудь? Конечно, он ей нравился – очень! Сейчас ей казалось несказанным счастьем – жить вместе, взаимно дополняя и обогащая внутреннюю жизнь друг друга, радуя партнера своими талантами, деля интересы. Но она страшилась разочарования и боли, неизбежных, если он когда-нибудь охладеет к ней. Уроки детства глубоко пустили корни в ее душе. Она боялась связывать себя и другого. Она попыталась свести разговор к шутке: – Никогда-никогда не отпустишь? – Никогда-никогда. – Будешь брать с собой на дежурство? Тони посмотрел ей прямо в глаза, словно пытаясь определить, поняла ли она то, что он сказал. Хилари начала нервничать. – Не торопи меня, Тони. Мне нужно время, чтобы разобраться. Хотя бы немного времени. – Оно целиком твое. – А сейчас я счастлива и хочу валять дурака. – Валяй дурака. – О чем будем разговаривать? – Я хочу все знать о тебе. – Это звучит слишком серьезно. – Хорошо. Пусть будут серьезные и глупые вопросы по очереди. – Идет. Давай первый вопрос. – Что ты любишь на завтрак? – Корнфлексы. – А на обед? – Корнфлексы. – На ужин? – Корнфлексы. – Погоди-ка, – сказал Тони. – В чем дело? – Полагаю, насчет завтрака ты не шутила. Но потом два раза подряд морочила мне голову. – Обожаю корнфлексы. – С тебя два серьезных ответа. – Выстреливай. – Где ты родилась? – В Чикаго. – Кто твои родители? – Не знаю. Я вылупилась из яйца. Утиного. Свершилось чудо. Да ты, наверное, читал эту историю? В Чикаго ее все знают. «Леди из утиного яйца». – Очень остроумно! – Спасибо. – Кто твои родители? – продолжал Тони. – Это нечестно, – запротестовала Хилари. – Нельзя дважды спрашивать об одном и том же. – Это так ужасно? – Что? – То, что они сделали. – Кто тебе сказал, что они сделали что-то ужасное? – Я и раньше спрашивал о них, так же, как о твоем детстве. Ты все время уклонялась от ответов. Думала, я не замечаю. Хилари закрыла глаза, чтобы Тони ничего в них не прочел. – Доверься мне, – попросил он. – Они были алкоголики. – Оба? – Ага. – Злостные? – Совершенно отпетые. – И?.. – Тони, мне не хочется об этом говорить. – Может, тебе станет легче? – Прошу тебя, Тони. Я так счастлива. Не надо портить такой чудесный вечер. – Рано или поздно ты должна будешь рассказать. – О’кей, – ответила она. – Только не сейчас. Тони вздохнул. – Ладно, посмотрим. Твой любимый телеперсонаж? – Лягушонок Кермит. – Что это за шрам? – Разве у Кермита есть шрам? – Я говорю о твоем. – Он вызывает у тебя отвращение? – Напротив, делает тебя еще красивее. – Правда? – Разумеется, правда. – Ты не против, если я проверю тебя на своем детекторе лжи? – У тебя есть детектор лжи? – Естественно. – Хилари взяла в руку вялый знак его мужского достоинства. – Мой детектор лжи исключительно прост в обращении и не дает погрешностей в работе. Берем штекер А, – она чуточку сдавила в руке пенис, – и помещаем в гнездо В… Хилари соскользнула вниз и взяла его в рот. В считаные секунды мужской орган разбух и пришел в полную боевую готовность. Через несколько минут Тони уже еле сдерживался. Хилари усмехнулась. – Да, ты не солгал. – Могу повторить: ты чертовски соблазнительная развратница. Ведьма. – Хочешь меня? – Хочу. На этот раз Хилари сама оседлала Тони и понеслась – взад и вперед, то в один бок, то в другой, то вверх, то вниз. Он протянул руки к ее колышущимся грудям, и с этой минуты она уже не знала, где он, а где она, – все поглотила бешеная скачка. В полночь они отправились на кухню и приготовили поздний ужин: нарезали холодного вареного мяса с сыром, разогрели вчерашнего цыпленка. Все это, вместе с охлажденным белым вином и фруктами, взяли в спальню и с удовольствием пробовали то одно, то другое. В эти минуты они казались себе подростками, с головой окунувшимися в доселе не изведанные радости плоти. Но это была не просто вереница половых актов, а важный ритуал, торжественная церемония, освобождающая их от пестуемых годами страхов. Хилари так всецело отдавалась другому человеку, как невозможно было представить какую-нибудь неделю назад. Отбросив гордость, она щедро предлагала себя, не заботясь о последствиях в виде измены, горя и унижения. В ней зародилась робкая надежда, что Тони не злоупотребит ее искренностью. То, что с другим показалось бы грязным, стыдным, с Тони было чистым, светлым, вдохновенным. Она все еще боялась слова «любовь», но уже сказала его своими действиями. В половине пятого Хилари засобиралась домой. – Останься, – попросил Тони. – Ты еще не выдохся?! – Выдохся. Но все равно мне хочется, чтобы ты была рядом. Поспи здесь. – Если я останусь, нам не придется спать. – Ты еще не выдохлась?! – Увы, дорогой. Конечно же, выдохлась. Но нас обоих ждет работа. А так мы будем поминутно отвлекаться. – Да, – протянул Тони. – Придется нам привыкать не реагировать на присутствие друг друга. Научиться спать вместе – в буквальном смысле. Потому что нам предстоит провести рядом столько ночей и дней! – Много-много! – подхватила Хилари. – Мы привыкнем и заживем, как все. Я буду ложиться в постель в бигуди и намазавшись кольдкремом, а ты – с сигарой в зубах, под включенный телевизор. – Стыд-позор! – Разумеется, это будет потом, когда отношения потеряют прелесть новизны. Лет этак через пятьдесят. – Нет, шестьдесят. Так, болтая, они еще на четверть часа оттянули отъезд Хилари. Но все равно настал момент одеваться. Тони тоже натянул джинсы. Проходя через гостиную, Хилари задержалась перед одной из картин. – Я бы не прочь показать штук шесть лучших работ Уайнту Стивенсу с Беверли-Хиллз – вдруг он захочет иметь с тобой дело? – Не захочет. – Почему не попробовать? – Это одна из лучших художественных галерей, – сказал Тони. – Зачем же начинать с худших? – парировала она. Тони посмотрел куда-то сквозь Хилари и произнес: – Может, я и прыгну. – Что-что? Он в двух словах рассказал ей о Юджине Таккере, бывшем арестанте, а ныне модельере женской одежды. – Таккер прав, – прокомментировала Хилари. – И потом, какой же это прыжок? Тебе пока нет нужды оставлять службу в полиции. Просто проверить себя. Тони пожал плечами. – И правда, я ничего не теряю. Даже если Уайнт Стивенс отвергнет мои работы. – Не отвергнет. Выбери дюжину самых характерных. Постараюсь свести тебя с ним завтра или послезавтра. – Забирай их с собой, – заявил Тони. – Прямо сейчас. – Но он наверняка захочет с тобой встретиться. – Да – если картины понравятся. В таком случае и я буду счастлив познакомиться с ним. – Но, Тони… – Не хочу услышать от него в твоем присутствии, что я всего лишь способный дилетант. – Ты невыносим. – Предусмотрителен. – Паникер. – Нет, реалист. Хилари было некогда рассматривать все шестьдесят полотен, стоявших в углу; она с удивлением узнала, что еще полсотни картин хранятся в чулане и сотня на чердаке, не считая маленьких зарисовок. Она выбрала из тех, что висели на стене. Тони аккуратно завернул их и оделся, чтобы проводить девушку до машины. Сложив картины в багажник, они немного постояли под фонарем. Тони целомудренно чмокнул Хилари в щечку. Стояла тихая, прохладная, звездная ночь. – Еще немного – и начнет светать, – сказал Тони. – Ты сегодня работаешь? – Нет. Мне дали несколько дней отпуска… из-за Фрэнка. Только забегу на часок в управление, сдам рапорт. И все. – Я вечером позвоню. – Буду ждать. Хилари ехала по безлюдным утренним улицам. Она вдруг почувствовала голод и вспомнила, что дома ничего нет. Поэтому она свернула налево – там был круглосуточно работающий рынок.* * *
Тони рассчитал, что Хилари потребуется на дорогу не более десяти минут. На всякий случай он подождал пятнадцать и позвонил – убедиться, что она благополучно добралась до дому. Телефон не отвечал. Не было вообще никаких сигналов. Он был уверен в правильности записанного номера, потому что для верности дважды переспросил Хилари; она продиктовала ему номер, указанный в счете телефонной компании; это исключало возможность ошибки. Тони набрал телефонную станцию и объяснил девушке-диспетчеру, в чем дело. Та попыталась прозвонить квартиру Хилари Томас, но у нее тоже не вышло. – Может, трубка снята с рычага? – предположил Тони. – Вряд ли. – Что можно предпринять? – Я запишу в журнал, что телефон неисправен. Днем придет мастер. – Когда именно? – Номер принадлежит престарелому человеку или инвалиду? – Нет. – Значит, этот случай подпадает под общее правило. Мастер придет в любое время после восьми утра. – Спасибо. Тони дал отбой. Немного посидел на кровати, уставившись на смятые простыни. Телефон неисправен? Возможно, мастер что-либо перепутал. А возможно, и нет. Даже совсем не похоже на то. Ему вспомнился анонимный хулиган. Как правило, такие люди – импотенты. Он знал только один случай, когда телефонный маньяк совершил насилие. Что, если это – второй такой случай? Тони почувствовал холодок под ложечкой. Если бы букмекерам Лас-Вегаса пришло в голову заключить пари относительно возможности того, что Хилари Томас в течение одной недели подвергнется нападению со стороны двух маньяков, не имеющих между собой ничего общего, такой шанс исчислялся бы миллионными долями единицы. А с другой стороны, годы службы в полиции научили Тони ничему не удивляться. Он вспомнил совершенно голого Бобби Вальдеса, выглядывающего из кухонного шкафчика, с пистолетом в руке. За окном, в предрассветной мгле, зачирикала пичужка – пронзительно и тревожно, точно преследуемая хищником. Тони прошиб пот, и он вскочил с кровати. Дома у Хилари творится что-то неладное.* * *
Сделав крюк, чтобы купить молока и яиц, Хилари добралась домой только через полчаса после того, как простилась с Тони. Она страшно хотела есть и была во власти приятной усталости, даже расслабленности. Перед ее мысленным взором витал омлет с сыром и петрушкой. А потом – самое меньшее шесть часов непрерывного сна! Она даже не стала заводить свой «Мерседес» в гараж, а оставила на маленькой полукруглой стоянке перед домом. Автоматические поливальные машины в виде фонтанчиков обрызгивали клумбы и кусты. В кронах пальм шелестел ветер. Хилари вошла через парадный вход. В гостиной стояла кромешная тьма. Держа под мышкой пакеты с продуктами, Хилари заперла дверь на два замка и включила свет в гостиной. Там творилось нечто невообразимое. Обе настольные лампы сброшены на пол. Абажуры разодраны в клочья. Оконный витраж тысячами цветных осколков лежал на полу. Драгоценные фарфоровые статуэтки – там же и в том же состоянии. Кто-то вспорол обивку дивана и кресел, и оттуда торчали клочья. Двумя деревянными стульями, очевидно, колотили о стену, видимо, затем, чтобы превратить их в щепки. Из шкафов повытаскивали ящики и разбросали по полу одежду. Картины искромсаны бритвой. Зола из камина развеяна по дорогому пушистому ковру. Побывавший здесь не пропустил ни одной вещи, ни одного предмета. Сначала Хилари остолбенела, но уже в следующее мгновение шок уступил место гневу. – Чертов сукин сын! – процедила она сквозь стиснутые зубы. Годами Хилари собирала одну красивую вещицу за другой, истратив на это маленькое состояние. Но дело было даже не в деньгах, потому что большая часть имущества была застрахована. Нравственный ущерб – кто возместит его? В уголках глаз Хилари выступили слезы. Ошеломленная, она не сразу сообразила, что ей может грозить опасность. А сообразив, замерла и прислушалась. По спине у Хилари побежали мурашки: ей показалось, будто кто-то дышит в затылок. Оглянулась – никого. Кладовая была заперта. Если бы в доме кто-то прятался, он бы давно уже вышел. – Это просто бред, – сказала она себе. – Такого не может быть. Абсурд какой-то. Позади нее послышался шум. Хилари резко обернулась и посмотрела в сторону столовой. Там что-то захлопало и зазвенело, словно непрошеный гость наступил на битое стекло или фарфор. Шаги. Дверь в столовую была сверху обрамлена аркой; Хилари находилась в двенадцати футах от нее. Там было черно, как в могиле. Еще один шаг и звон битого стекла. Хилари осторожно попятилась, держа курс на входную дверь, которая сейчас казалась безнадежно далекой! И зачем только она заперла ее! В проеме показался высоченный, широкоплечий громила. Он несколько секунд постоял в темноте, а затем решительно шагнул в освещенную гостиную. – Нет! – крикнула Хилари. Она была так потрясена, что даже перестала отступать. Сердце грозило выпрыгнуть из груди; в горле пересохло; она отчаянно мотала головой: нет, нет, нет! Он ухмыльнулся; в руке сверкнул огромный острый нож. Это был Бруно Фрай.* * *
Тони благословлял ночь за пустоту городских улиц, потому что сейчас ему казалось: промедление смерти подобно. Может быть, он уже опоздал. Его джип несся со скоростью семьдесят миль в час. Он выскочил на Уилширский бульвар и рванул направо, к Беверли-Хиллз, с включенной мигалкой, игнорируя светофоры на перекрестках. У Тони было такое чувство, будто каждая минута может оказаться для Хилари последней.* * *
Хилари закрыла глаза и пожелала, чтобы он испарился. Но когда она заставила себя открыть их, Бруно Фрай все еще был здесь. Она не могла пошевелиться. Хотела бежать, но страх парализовал все тело. Еще немного – и она без сознания рухнет на пол. Она не могла говорить, но внутри ее все кричало. Фрай остановился меньше чем в пятнадцати футах от нее. Одутловатое лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок; он весь дрожал от ярости и, казалось, был на грани истерики. Разве покойники закатывают истерики? Должно быть, она все-таки сошла с ума. Хорошо бы. Но в глубине души Хилари знала, что это не так. Может быть, это призрак? Она не верила в призраков. И потом, считается, что привидения должны быть почти прозрачными, этот же поразительно материален. – Сука! – выругался он. – Поганая сука! В этом жестком, скрипучем голосе невозможно ошибиться! Но, вспыхнуло у Хилари в мозгу, ведь его голосовые связки должны были уже истлеть, а глотка забита бальзамирующим составом. Хилари почувствовала, что еще немного – и она разразится безумным хохотом. И тогда ее уже не остановить. – Ты убила меня! – прорычал Бруно Фрай. – Нет, – пролепетала она. – О нет! – Убила! – Он потряс в воздухе ножом. – Зарезала! Не лги! Мне все известно. А ты думала – нет? О господи! Мне так страшно, так пусто, так одиноко! – В его голосе ярость смешалась с настоящей душевной мукой. – Я весь – сплошная рана! Все из-за тебя! Он медленно преодолел несколько ярдов и снова остановился. Хилари убедилась, что глазницы покойника не были пусты или покрыты молочно-белой катарактой, как в фильмах ужасов. Глаза были нормального серо-голубого цвета и полны холодной ярости. – На этот раз ты останешься мертвой! – пообещал Фрай. Хилари сделала робкий шаг назад и пошатнулась, но не упала. Оказывается, у нее еще есть силы. – На этот раз я все предусмотрел, принял все меры предосторожности. Я вырву твое смердящее сердце! Она отступила еще на один шаг, но это ничего не меняло. Даже если она успеет добежать до двери, то прежде, чем она справится с двумя замками, Фрай успеет всадить ей клинок между лопатками. – Воткну кол в твое смердящее сердце!.. На этот раз ей не удастся взбежать по лестнице и добраться до пистолета. – Отрублю твою поганую голову! Отрежу язык. Набью рот чесноком, и ты уже не спросишь обратную дорогу из ада. Хилари слышала набат собственного сердца. От страха ей было трудно дышать. – Вырву твои вонючие глаза!.. Она оцепенела. – Раздавлю их, чтобы ты не нашла дорогу! Хилари закричала. Фрай вознес нож высоко над головой. – Отрублю кисти рук, чтобы ты даже ощупью не пробралась обратно! – Нет! Острый стальной клинок начал неотвратимо опускаться. Хилари все еще держала под мышкой пакет с продуктами. Она вдруг схватила его обеими руками и закрылась от ножа. Лезвие насквозь пропороло пакет с яйцами, пронзило пакет с молоком и увязло в нем. Фрай взревел от ярости. Пакет упал на пол вместе с ножом. Фрай нагнулся,чтобы поднять его. В это мгновение Хилари опрометью кинулась к лестнице. Она понимала, что лишь оттягивает неизбежное: тех двух-трех секунд, что она выиграла, недостаточно, чтобы спастись. И вдруг зазвенел дверной колокольчик. Хилари замерла у подножия лестницы и оглянулась. Фрай застыл с ножом в руке. Их взгляды встретились, и Хилари уловила в его глазах нерешительность. Он двинулся к ней, но без прежней уверенности. Колокольчик зазвонил снова. Хилари вцепилась в балюстраду и завопила во всю мощь своих легких. Снаружи мужской голос прокричал: «Полиция!» Тони! – Полиция! Откройте дверь! Хилари не поняла, как он очутился здесь. Но она никогда еще никому так не радовалась. Фрай остановился, посмотрел на Хилари. Потом на дверь и снова на Хилари, словно взвешивая шансы. Она продолжала кричать. С треском вылетело стекло. Это Тони прокладывал себе путь внутрь дома. – Полиция! Фрай бросил на нее полный ненависти взгляд. – Я еще вернусь! – И он побежал наискосок через гостиную, очевидно, намеревался ускользнуть через кухню. Хилари, рыдая, бросилась к парадной двери. Тони продолжал взывать к ней через выбитое стекло.* * *
Сжимая в руке револьвер, Тони вернулся после обхода сада. Хилари ждала его на кухне, рядом на столе лежал нож. – В розарии никого нет, – доложил Тони. – Запри дверь. Он подчинился. – Ты посмотрел везде? – В каждом углу. – По обе стороны дома? – Да. – В кустарнике? – Под каждым кустом. – И что дальше? – Позвоню в управление, чтобы прислали пару наших ребят. Нужно порасспросить соседей. – Что толку? – тихо произнесла Хилари. – Никогда нельзя знать заранее. Кто-то мог заметить его раньше. Или видел, как он убегал. – Разве призраки убегают? Они просто испаряются, вот и все. – Ты веришь в привидения? – А может, он вовсе и не привидение. Ходячий труп. Обыкновенный ходячий труп. – Ты веришь в зомби? – Да, а что? – Ты слишком умна для этого. Хилари закрыла глаза. – Я уже не знаю, во что я верю, а во что – нет. Ее голос прозвучал как-то надтреснуто, и это его обеспокоило. Чувствовалось, что она на грани обморока. – Хилари… Ты уверена в том, кого именно видела? – Это был он. – Но как это могло случиться? – Это был Фрай, – упорствовала она. – Ты же видела его в морге. – Мертвого? – Ну конечно. – Кто сказал? – Врачи. Патологоанатомы. – Врачи могут ошибаться. – Только не в подобных случаях. – О чем только не приходится читать в газетах. Подписывают свидетельства о смерти, а человек вдруг садится на прозекторском столе. Такие вещи очень редко, но бывают. Один случай на миллион. – Даже реже. – И все-таки они имеют место. – Это совсем другое. – Я видела его. Здесь. Прямо здесь. Только что. Тони поцеловал девушку в щеку, взял ее ледяную руку в свои. – Послушай, Хилари, Фрай мертв. Ты его заколола. Он потерял почти всю кровь. Его нашли в луже крови, под палящим солнцем. Он просто не мог остаться живым. – Выходит, смог. Тони поцеловал ее бледные пальцы. – Ничего подобного. Фрай скончался от потери крови. Должно быть, Хилари перенесла шок средней тяжести, и это отразилось на ее органах чувств. В своем мозгу она объединила сегодняшнее нападение с тем, что произошло на прошлой неделе. Пройдет немного времени, и ее помутившееся сознание снова придет в норму; она поймет, что налетчик не мог быть Бруно Фраем. Нужно успокоить, приласкать ее, и она признает свою ошибку. – Вдруг Фрай еще не умер, когда его нашли? Скажем, был в коме? – Коронер обнаружил бы это при вскрытии. – А если он не делал вскрытие? – Значит, это сделал кто-нибудь другой. – А если они все были очень заняты – урожайный день на трупы – и решили отчитаться, не производя вскрытие? – Это невозможно, – заверил Тони. – Там работают специалисты экстра-класса. – По крайней мере, это можно проверить? Тони кивнул: – Само собой. Но ты забыла, что Фрай прошел через руки бальзамировщика. Ему спустили всю оставшуюся жидкость: и кровь, и все прочее. – Ты уверен? – Прежде чем отправить труп в Санта-Елену, его обязаны были забальзамировать либо сжечь. Таков закон. Хилари немного подумала, а потом сказала: – А что, если это тот самый загадочный случай, один из десяти миллионов? Что, если его по ошибке посчитали мертвым? Коронер манкировал своими обязанностями и по какой-то причине не произвел вскрытие. Фрай сел на столе у бальзамировщика. – Хилари, ты цепляешься за соломинку. Если бы что-то подобное произошло, мы бы сразу узнали об этом. Случись так, что в похоронном бюро обнаружили бы, что человек жив, просто из-за большой потери крови находится в беспомощном состоянии, его немедленно доставили бы в больницу и поставили нас в известность. Хилари обдумала его слова. Уставившись в пол, пожевала нижнюю губу. Потом сказала: – А что с шерифом Лоренски из графства Напа? – Мы до сих пор не смогли с ним связаться. Он не реагирует на наши запросы. – Как это? – Не отвечает на телефонограммы. – Разве не ясно, что за этим что-то кроется? Какой-то заговор, в котором шериф принимает активное участие… – И в чем же он заключается, этот заговор? – Не знаю. По-прежнему соблюдая такт и терпение, уверенный в том, что в конце концов Хилари не сможет не признать основательности его доводов, Тони продолжал рассуждать: – Заговор между Фраем и шерифом Лоренски? Или, может быть, у него в сообщниках сам Сатана? И они заключили пакт на крови с целью обмануть Смерть? Обеспечить Фраю вечную жизнь? Для меня это лишено всякого смысла. А для тебя? – И для меня тоже, – раздраженно ответила Хилари. – Абсолютно. – Рад это слышать. Иначе бы я испытывал сильную тревогу. – Но, черт возьми, здесь творится неладное. Совершенно необычное. И я все же склоняюсь к мысли, что тут не обошлось без шерифа Лоренски. Не кто иной, как он, на прошлой неделе обеспечил Фраю ложное алиби. А теперь он избегает контактов с вами, потому что никак не может сочинить удобоваримую версию. Тебе это не кажется подозрительным? Он ведет себя по меньшей мере странно. – Нет, – возразил Тони. – Он ведет себя как перепуганный полицейский, допустивший серьезнейшую служебную ошибку, даже халатность, когда принялся выгораживать местную «шишку» только потому, что был уверен: такой человек не способен на изнасилование и предумышленное убийство. Ночью в среду он не смог связаться с Бруно Фраем, но сообщил, что сделал это, будучи уверен: Фрай – не тот, кого мы ищем. И теперь ему мучительно стыдно. – Вот, значит, как ты думаешь! – Так думает все управление. – А я – нет. – Хилари… – Я видела Бруно Фрая! Вместо того чтобы образумиться, Хилари чем дальше, тем глубже увязала в темных, горячечных фантазиях о ходячих трупах и чудовищных заговорах. Тони решил быть с ней построже. – Хилари, ты не могла видеть Бруно Фрая. Его здесь не было – во всяком случае, сегодня. Он умер. Умер и похоронен. На тебя напал другой человек. Ты испытала шок. У тебя помрачение рассудка. Это по-человечески понятно. Но все-таки… Она резко вырвала у него руку и немного отступила. – Фрай был здесь. И обещал вернуться. – Минуту назад ты согласилась со мной, что в этой истории нет ни капли здравого смысла. Хилари неохотно подтвердила: – Да, ни капли здравого смысла. И тем не менее она произошла. – Поверь, мне неоднократно приходилось наблюдать воздействие шока на человеческую психику. Люди перестают видеть вещи в истинном свете. – Ты хочешь мне помочь или нет? – потребовала она. – Разумеется, хочу. – Каким образом? Что мы можем предпринять? – Для начала сообщим в полицию о разбойном нападении. – Тебе не кажется, что это не выход? – кисло спросила Хилари. – Едва они услышат о том, что на меня покушался мертвец, как тотчас решат упечь меня в психушку. Ты знаешь меня, как никто, но даже ты считаешь, что я съехала с катушек. – Я так не считаю, – обиженно возразил Тони. – Просто ты во власти мании. – Черт! – Это объяснимо. – К черту! – Послушай, Хилари. Когда приедут полицейские, не говори им о Фрае. Ты скоро успокоишься, возьмешь себя в руки… – Я абсолютно спокойна. – …и сможешь дать точное описание злоумышленника. Дай себе шанс – и ты соберешься с мыслями, взглянешь на вещи с разумной точки зрения и убедишься, что это был не Фрай, а некто, похожий на него. – Ты говоришь в точности как Фрэнк Говард на прошлой неделе, – со злостью сказала Хилари. Тони изо всех сил старался не потерять терпения. – Тогда ты описала реально существующего человека. – Ты такой же, как все, – надломленным голосом произнесла она. – Я хочу тебе помочь. – Дерьмо собачье. – Хилари, не отворачивайся от меня. – Это ты от меня отворачиваешься. – Я люблю тебя. – Тогда докажи это! – Но я здесь! Какие еще доказательства тебе нужны? – Поверь мне. Это – лучшее доказательство. Тони видел, что она растеряна, но объяснял это тем, что ее часто подводили те, к кому она привязывалась. И не просто подводили, но жестоко предавали, причиняли зло. Потому что обычное разочарование не могло бы сделать ее такой чувствительной. Страдая от прошлых душевных травм, теперь она с фанатичным упрямством требовала слепого, нерассуждающего доверия. Едва он высказал сомнения, она начала отдаляться, хотя он ни разу не злоупотребил ее искренностью. Но, черт возьми, ведь это небезопасно – оставаться во власти галлюцинаций. Лучшее, что он может сделать, это как можно более мягко и тактично вернуть ее к реальности. – Здесь был Фрай, – устало выговорила она. – Но я не собираюсь рассказывать об этом полиции. – Вот и хорошо. – У Тони отлегло от сердца. – Потому что я вообще не собираюсь иметь с ними дела. – Как? Вместо ответа Хилари повернулась к нему спиной и вышла из кухни. Тони последовал за ней в разгромленную столовую, а затем в гостиную. – Хилари, ты должна заявить в полицию. – Я никому ничего не должна. – Тебе не выплатят страховку. – Сейчас это меня не волнует. Потом подумаю. Тони пробирался вслед за Хилари к лестнице, ведущей на второй этаж. – Ты кое-чего не учла. – Чего? – Я все-таки детектив. – Ну и что? – Раз уж я в курсе дела, обязан доложить. – Докладывай. – Твое заявление должно стать частью моего рапорта. – Ты не заставишь меня помогать тебе! У самой лестницы Тони схватил Хилари за руку. – Подожди, пожалуйста. Она повернула к нему красное от гнева лицо. – Пусти! – Куда ты идешь? – Наверх. – Зачем? – Соберу чемодан и перееду в гостиницу. – Можешь пожить у меня. – Тебе вряд ли доставит удовольствие жить бок о бок с душевнобольной, – саркастически заметила она. – Хилари, не надо так! – Вдруг на меня найдет и я прикончу тебя во сне? – Я не считаю тебя сумасшедшей. – О да. У меня просто мания. Шарики заехали за ролики. Тихое помешательство, не представляющее опасности для окружающих. – Я только пытаюсь тебе помочь. – Это не самый удачный способ. – Ты не сможешь вечно жить в отеле. – Когда его поймают, я вернусь домой. – Но если ты не сделаешь официального заявления, его даже не станут ловить. – Займусь этим сама. – Ты? – Я. Теперь уже и Тони охватил гнев. – В какую игру ты собираешься играть – «Хилари Томас – женщина-детектив»? – Можно нанять частного сыщика. – В самом деле? – язвительно спросил Тони. Он отдавал себе отчет, что этот тон может еще больше оттолкнуть ее, но не мог больше сдерживаться. – В самом деле. Найму частного детектива. Мой агент по рекламе знает одно очень хорошее частное агентство. – Это не их работа. – Они будут делать то, за что им станут платить. – Такое расследование по плечу только полиции. – Полиция только и способна, что гоняться за уже известными ворами и насильниками. – Существуют определенные методы – целая система… – втолковывал Тони. – В данном случае она не сработает. – Почему? Потому что налетчик официально признан мертвым? – Вот именно. – Значит, по-твоему, полиция должна гоняться за призраками? Хилари бросила на него усталый взгляд. – Единственный способ раскрыть тайну – это выяснить, каким образом Бруно Фраю удалось сойти за покойника на прошлой неделе и ожить этой ночью. – Ты сама понимаешь, что говоришь? Состояние Хилари внушало Тони ужас. С какой стати она упрямо цепляется за свои иллюзии? – Я знаю, что говорю. И знаю, что я видела Бруно Фрая. И не только видела. Он разговаривал со мной – своим низким, гортанным голосом. Угрожал отрубить мне голову и набить рот чесноком, потому что я – вампир или что-то в этом роде. Вампир?! Тони словно поразила молния. Слова Хилари странным образом перекликались с кое-какими вещами, найденными при обыске в «Додже» Бруно Фрая. То были предметы неизвестного назначения, о существовании которых она не могла знать, потому что они не успели сообщить об этом газетчикам и первые репортажи вышли без этих подробностей, а потом интерес публики к этому происшествию угас и они решили не возвращаться к нему. Тони прошиб холодный пот. – Чесноком? – переспросил он. – Вампир? Хилари, о чем ты говоришь? Она вырвалась и побежала вверх по ступенькам. Тони бросился вслед за ней. – Повтори насчет вампиров! Не оборачиваясь, Хилари процедила: – Веселенькая история, не правда ли? Меня преследует дохлый маньяк, принимающий меня за вампира, вернувшегося с того света. Увы! Теперь тебе доподлинно известно, что я чокнутая. Вызывай карету «Скорой помощи». Наденьте на бедную сумасшедшую смирительную рубашку, пока она чего-нибудь с собой не сделала. Поместите ее в комнату без окон, обитую войлоком. Заприте и выбросите ключ. На втором этаже, когда Хилари взялась за ручку своей спальни, Тони снова схватил ее за руку. – Пусти, черт бы тебя побрал! – Повтори, что он сказал! – Я перееду в отель и сама займусь этим делом. – Я должен знать каждое его слово! – Ты не сможешь мне помешать! Отпусти сейчас же! Тони пришлось повысить голос, чтобы она услышала: – Черт побери, мне необходимо знать каждое слово этого мерзавца о вампирах! Их взгляды встретились. Должно быть, Хилари уловила в глазах Тони растерянность и страх, потому что прекратила вырываться. – Зачем тебе? – Фрай был одержим идеей сверхъестественного. – Откуда ты знаешь? – Мы кое-что нашли у него в фургоне. – Что именно? – Всего не припомню. Колоду карт для гадания. Дюжину распятий… – В газетах об этом ничего не было. – Мы обнаружили все это уже после того, как все газеты поместили отчет о происшествии. А потом эта новость уже утратила свежесть. Но я хочу рассказать тебе о других находках. Холщовые мешки с чесноком, развешанные над каждой дверцей. Два остроконечных деревянных кола. С полдюжины книг о вампирах, зомби и прочих вернувшихся с того света. Хилари вздрогнула. – Он обещал вырвать у меня сердце и всадить в него кол. – Господи! – А также выколоть глаза, чтобы я не нашла обратную дорогу из ада. Это его собственные слова. Он боялся, что после смерти я снова воскресну. А получилось так, что не я, а он сам вернулся с того света. – Хилари рассмеялась, но в этом смехе преобладали истерические нотки. – Еще он посулил отрубить мне кисти рук, чтобы я ощупью не нашла дорогу. Тони подумал о том, как близок был этот человек к выполнению своей угрозы, и к его горлу подступила тошнота. – Это был он, – сказала Хилари. – Понимаешь? Это был Фрай. – Может быть, искусная имитация? – Что-что? – Кто-то мог загримироваться под Бруно Фрая. – С какой стати? – Понятия не имею. – Ты обвинил меня в том, что я цепляюсь за соломинку. А ты сейчас – даже не за соломинку. Мираж. Ничто. – И все-таки это мог быть кто-то, придавший себе сходство с Фраем. – Такое – нет. Любой грим различим вблизи. И потом, у него было тело Бруно Фрая. Тот же рост, та же фигура. Те же литые мускулы. И тот же голос. – Может быть, подделка? – Я понимаю, – холодно проговорила Хилари, – тебе легче поверить в ловкую мистификацию, чем в разгуливающий труп. Нет, Тони, этот голос невозможно подделать. Опытный имитатор может воспроизвести низкий тембр и интонацию, даже акцент, но только не это дребезжание – видимо, следствие ларингита или травмы, перенесенной в детстве. Это Бруно Фрай разговаривал со мной сегодня. Тони видел, что Хилари еще сердится, но уже не подозревал ее в помрачении рассудка. У нее был ясный взгляд, и она облекала мысли в четкие, лаконичные фразы. Хилари полностью владела собой. – Но Фрай умер, – вяло возразил Тони. – Он на меня напал. – Как же это возможно? – Я уже сказала, что собираюсь это выяснить. У Тони было такое чувство, будто он попал в странную комнату без единого выхода. Его окружало непостижимое. Он вспомнил один из рассказов Конан-Дойля – там Шерлок Холмс объяснял Ватсону, что если детектив отмел все возможные версии и у него осталась всего одна – невозможная, то скорее всего она и окажется истинной. Возможно ли невозможное? Тони еще раз сопоставил угрозы преступника с предметами, найденными в фургоне Фрая, и вздохнул. – Ну ладно. – Что «ладно»? – Может быть, это был Бруно Фрай. – У меня нет ни капли сомнения. – Хорошо… Как-нибудь… Бог его знает… Может, он и перенес две колотые раны. Это невероятно, но попробуем допустить такую возможность. – Как великодушно! – съязвила Хилари. Очевидно, она все еще чувствовала себя обиженной и не спешила убирать коготки. Ей трудно было сразу простить его. Она отвернулась и вошла в спальню. Тони последовал за ней. Он потерял дар речи. К сожалению, Шерлок Холмс не объяснил, как жить, считая невозможное возможным. Хилари достала из встроенного шкафа чемодан, поставила на кровать и начала укладывать одежду. Тони подошел к телефонному аппарату и поднял трубку. – Телефон не работает. Должно быть, он перерезал провода. Придется позвонить от соседей. – Я не собираюсь никуда звонить. – Не злись, – попросил Тони. – Все изменилось. Теперь я поддержу твою версию. – Поздно. – Что ты хочешь сказать? Хилари не ответила, но так резко рванула с вешалки блузку, что вешалка свалилась на дно шкафа. Тони спросил: – Ты все еще намерена укрыться в отеле и нанять частного детектива? – О да. Именно это я и собираюсь сделать. – Но я же сказал, что верю тебе. – А я сказала, что слишком поздно. Теперь это не имеет значения. – Ну чего ты упрямишься? Хилари промолчала. Она сложила блузку, убрала в чемодан и вернулась к шкафу за другой блузкой. – Послушай, – промолвил Тони. – Я всего лишь усомнился. Любой на моем месте чувствовал бы то же самое. Ты бы тоже не поверила, если бы я рассказал тебе о ходячем трупе. Но я бы не стал злиться. Почему ты такая чувствительная? Хилари начала складывать вторую блузку. – Я тебе поверила… во всем… – Я не обманул твое доверие. – Ты такой же, как все. – Разве то, что произошло в моей квартире, не было чем-то особенным? Хилари наклонила голову и не ответила. – Неужели ты скажешь, что чувствовала со мной то же, что с другими мужчинами? У нее задрожали руки. – Для меня это было чем-то необыкновенным, – продолжал Тони. – Я даже не мог себе такого представить. Не просто секс. Мы были единым целым. Ты затронула мое сердце, как ни одна женщина в мире. Когда мы расстались, ты словно увезла частицу меня. Мне до конца моих дней не будет хватать этой жизненно важной частицы. Я буду чувствовать себя самим собой только в твоем присутствии. Так что, если ты думаешь, что я позволю тебе взять и уйти, ты очень ошибаешься. Я буду бороться за вас, леди! Хилари стояла, потупив глаза, с опущенными руками. В целом мире не было ничего важнее, как узнать, о чем она сейчас думает. – Я люблю тебя, – сказал Тони. Она ответила дрожащим голосом: – Можно ли верить таким словам? Если человек говорит: «Я люблю тебя» – значит ли это, что он действительно это чувствует? Если мои родители говорили, что любят меня, а уже через минуту избивали до посинения, кому мне верить? Тебе? С какой стати? Разве нас не ждут разочарования и обиды? Разве конец не всегда один и тот же? Уж лучше быть одной. Я сама о себе позабочусь. Все будет хорошо. Просто я не хочу, чтобы меня предавали. Я устала от предательств. До смерти устала. Не буду брать на себя никаких обязательств. Не буду рисковать. Тони схватил ее за плечи и повернул к себе. У нее дрожала нижняя губа. В уголках глаз блестели слезы, но Хилари не позволяла им пролиться. – Хилари, ты чувствуешь ко мне то же, что я к тебе, – твердо сказал он. – Я знаю. Я уверен в этом. Ты отворачиваешься от меня не потому, что я усомнился в твоем рассказе. Дело в другом. Просто ты полюбила и испугалась. Тебя запугали родители – угрозами, побоями… когда-нибудь ты расскажешь мне, чем еще. И ты готова бежать от любви, потому что несчастное детство превратило тебя в эмоциональную калеку. От волнения Хилари не могла говорить и только яростно мотала головой: нет, нет и нет! – Не спорь, – продолжал Тони. – Хилари, мы нужны друг другу. Видишь ли, я всю жизнь боялся рисковать в материальной сфере, там, где речь шла о деньгах, карьере, моих картинах… Я всегда легко сходился с людьми, в случае чего менял партнеров – но не обстоятельства. А с тобой мне впервые захотелось изменить свою жизнь. Мне уже не так важно состоять в штате. Я начал всерьез подумывать о том, чтобы зарабатывать живописью. Я освобождаюсь от чувства вины и лени. У меня уже не каждую минуту звучат в ушах проповеди отца о том, как важно твердо стоять на ногах. Мечтая о карьере художника, я все реже вспоминаю тяжелые периоды в жизни нашей семьи, когда у нас недоставало еды и мы могли лишиться крыши над головой. Наконец-то я избавился от этого гнетущего опыта. Мне еще не хватает мужества бросить работу в полиции и нырнуть в омут головой. Но благодаря тебе я уже без страха думаю о себе как о художнике. По лицу Хилари бежали слезы. – Ты очень хороший человек, – пробормотала она. – И замечательный, тонкий художник. – И я нужен тебе точно так же, как ты мне. Без меня ты снова заползешь в свою раковину, замкнешься в себе и ожесточишься. Ты не боишься риска в материальной сфере, легко ставишь на карту карьеру, деньги – но боишься людей. Понимаешь? В каком-то смысле мы – полная противоположность. Нам есть чему поучить друг друга. Вместе мы сможем стать сильнее. Каждый из нас – половинка, только вдвоем мы – целое. Я – твой. Ты – моя. До сих пор мы блуждали в потемках, ощупью ища друг друга. Хилари уронила желтую блузку и обвила руками его шею. Тони обнял и поцеловал ее соленые от слез глаза. С минуту они стояли молча. Потом Тони попросил: – Посмотри мне в глаза. Хилари подняла голову и прошептала: – У тебя очень красивые глаза. – Скажи мне! – Что? – То, что я хочу услышать. Она поцеловала уголки его губ. – Скажи! – настаивал Тони. – Я… люблю тебя. – Еще. – Я люблю тебя, Тони. Правда люблю. Очень! – Это было очень трудно? – Для меня – да. – Дальше будет легче. Хилари засмеялась и заплакала одновременно. Тони почувствовал, как разрастается, разбухает его сердце, заполняя собой грудную клетку, и понял, что значат слова «умереть от счастья». Ему показалось, что он вот-вот взорвется. Несмотря на бессонную ночь, он был полон энергии и держал в объятиях самую лучшую женщину в мире. Ему принадлежало ее тепло, ее нежные округлости, ее плоть и душа, выдыхающийся аромат ее духов, приятный запах ее волос и здоровой, молодой кожи. – Теперь, когда мы нашли друг друга, все будет хорошо, – пообещал Тони. – Нет, – возразила Хилари. – Не будет – пока мы не разгадаем загадку Бруно Фрая. Пока мы не убедимся, что он мертв и похоронен, раз и навсегда! – Если мы будем вместе, – подхватил Тони, – мы пройдем через все испытания. Пусть попробует тронуть тебя, когда я рядом! Клянусь тебе!.. – Я верю, но… мне все-таки страшно. – Не бойся. – Не могу, – призналась Хилари. – И потом… я думаю, это не так уж глупо – бояться его. Тони вспомнил разгром на первом этаже, два деревянных кола в фургоне Фрая и понял, что Хилари права. До поры до времени они будут поступать мудро, опасаясь Бруно Фрая. Ходячего трупа?! Хилари вздрогнула, и ее дрожь передалась Тони. (обратно) (обратно)Часть II Живые и ожившие мертвецы
Добро шепчет. Зло кричит.Тибетская пословица
Зло шепчет. Добро кричит.Индонезийская пословица
Глава 5
Утром во вторник, во второй раз за восемь дней, Лос-Анджелес потряс средней силы толчок – до 4,6 балла по шкале Рихтера. Его продолжительность составила двадцать три секунды. Значительных разрушений не произошло; для большинства жителей Лос-Анджелеса землетрясение стало поводом для анекдотов: например, о том, что это происки арабов, оккупировавших эту часть страны в качестве компенсации за нефтяную задолженность. Выступая по телевидению, ведущий Джонни Карсон сказал, что землетрясение вызвала Долли Партон, слишком резко соскочив с постели. Зато новоприбывшие отнюдь не были склонны считать эти шутки забавными. Им казалось, что они уже никогда не смогут поверить, что под ногами у них – твердая почва. Разумеется, через год они сами будут сочинять анекдоты о землетрясении. Пока не тряхнет как следует. Безмолвный, загнанный в тайники подсознания страх перед настоящим землетрясением, которое положит конец всем мелким толчкам, – вот что вдохновляло калифорнийцев на остроты. Если жить в постоянном ожидании грядущего катаклизма, отдавая себе отчет в предательской непрочности этой щедрой земли, можно умереть от страха. Жизнь должна продолжаться вне зависимости от нависшей угрозы. В конце концов, катастрофа может произойти не ранее чем через сто лет. А возможно, никогда. В заснеженных восточных областях, где зимой температура опускается ниже нуля, гибнет больше людей, чем от землетрясений. Ураганы, время от времени налетающие на территорию Флориды, и торнадо, свирепствующие на Среднем Западе, чреваты ничуть не меньшими разрушениями и смертями. Теперь, когда чуть ли не каждая нация на планете считает своим долгом обзавестись ядерным оружием, гнев земли стал казаться не страшнее человеческого безумия. Жители Калифорнии нашли в потенциальной катастрофе смешные стороны и делали вид, будто жизнь на ненадежной земле нисколько не отражается на их самочувствии. Но в этот вторник, так же как во все другие дни, когда ощущались толчки, люди чаще нарушали скорость на дорогах, хотя ни один не отдавал себе отчета в том, что существует в ускоренном режиме. Мужья убежденнее просили жен о разводе, а жены с большей готовностью бросали мужей. Принимались скоропалительные решения о вступлении в брак. Игроки неудержимо рвались в Лас-Вегас. Проститутки начинали получать удовольствие от своего ремесла. Возрастала сексуальная активность мужей и жен, а также невенчанных любовников. Тинейджеры спешили открыть для себя мир запретных удовольствий. Строго говоря, прямая зависимость сексуальной активности человека от сейсмической обстановки оставалась проблематичной, однако в некоторых зоопарках социологи и психологи-бихевиористы в течение многих лет вели наблюдение за приматами – гориллами, шимпанзе и орангутангами – и отметили резко возрастающие частоту и силу совокуплений после только что происшедшего толчка. Вряд ли будет ошибкой предположить, что человек далеко ушел в этом от своих ближайших родственников. Большинство жителей Калифорнии утверждали, будто они идеально приспособились к жизни в краю землетрясений, и все же частые стрессы наложили на них свой отпечаток. Страх перед потенциальной угрозой грандиозного сотрясения земли постоянно присутствовал в мозгу в виде невнятного шороха или шепота, влияющего на поведение людей гораздо больше, чем они об этом догадывались. Легкого, почти неуловимого шороха – одного из многих, сопутствующих человеческой жизни.* * *
Хилари нимало не удивилась реакции полицейских на ее рассказ и постаралась не слишком огорчаться. Меньше чем через пять минут после того, как Тони позвонил в управление от соседей, и за тридцать минут до утреннего толчка прибыли двое сержантов – с включенными мигалками, но без сирен. Они в своей обычной вежливой, профессиональной манере записали версию Хилари о случившемся, выяснили, каким образом преступник проник в помещение (все через то же окно в кабинете), составили опись поврежденных вещей и задали все положенные вопросы. Хилари сообщила, что бандит орудовал в перчатках, так что они не стали вызывать лаборантов и искать отпечатки пальцев. Их заинтересовало утверждение Хилари, будто на нее напал тот самый человек, которого она зарезала в прошлый четверг, но этот интерес не имел ничего общего с намерением проверить этот факт, относительно достоверности которого у них сразу сложилось определенное мнение. Они ни на минуту не допускали, что это мог быть Бруно Фрай. А если и заставляли Хилари снова и снова повторять свой рассказ, время от времени перебивая ее вопросами, так лишь затем, чтобы определить, является ли это добросовестным заблуждением или она лжет. В конце концов они решили, что она повредилась в рассудке. – Мы разошлем всем постам ваше описание преступника, – пообещал один. – Но нельзя же дать ориентировку на мертвеца, – возразил его напарник. – Это был Бруно Фрай, – упорствовала Хилари. – Так мы далеко не уедем, мисс Томас. Хотя Тони поддержал ее версию (насколько это было возможно: ведь он лично не видел нападавшего), его доводы и положение, которое он занимал в полиции Лос-Анджелеса, не произвели ни малейшего впечатления. Сержанты его внимательно выслушали, покивали головами, но это ни в коей мере не поколебало их убеждения. Через двадцать минут после утреннего толчка Тони и Хилари, стоя на крыльце, провожали взглядами отъезжающую полицейскую машину. Вконец опустошенная, Хилари спросила: – И что теперь? – Ты закончишь укладывать вещи, и мы поедем ко мне. Оттуда я позвоню в штаб-квартиру и потолкую с Гарри Лаббоком. – Кто это? – Мой босс, капитан Лаббок. Он чертовски хорошо меня знает; мы высокого мнения друг о друге. Гарри знает: я не делаю выводов, пока досконально все не проверю. Попрошу его надавить на шерифа Лоренски – посильнее, чем до сих пор. Не беспокойся. Так или иначе, колесо завертится. Но спустя сорок пять минут, сидя у себя на кухне, Тони так и не добился от капитана ничего путного. Тот выслушал все, что Тони имел сказать; у него не возникло и тени сомнения, что Хилари верит, будто видела Фрая, но он не видел оснований для уголовного преследования – по причине смерти последнего. Капитан Лаббок не проявил готовности рассматривать один шанс из десяти миллионов. Что коронер ошибся и Фрай каким-то чудом ухитрился уцелеть после почти полной потери крови и последующего охлаждения в морге, Гарри не поверил. Он был преисполнен сочувствия и даже терпения, но явно счел показания Хилари ненадежными, так как ее восприятие было искажено пережитым шоком. Тони сел рядом с Хилари на одну из табуреток и передал свой разговор с начальником. – Шок! – с горечью повторила Хилари. – Господи, меня уже тошнит от этого слова. Все считают, что я обезумела от страха. Да из всех женщин, которых я знаю, я меньше всего склонна терять голову. – Знаю, – ответил Тони. – Я просто передал, что об этом думает Гарри Лаббок. – Черт! – Вот именно. – И твое мнение ничего не значит? Тони поморщился. – Он решил, что я немного не в себе из-за Фрэнка. – Выходит, и ты рехнулся? – Да нет. Просто нахожусь во власти мании. Хилари вспомнила, что, впервые услышав ее рассказ, Тони употребил то же слово, и усмехнулась. – Так тебе и надо. – Наверное. – А что ответил Лаббок, когда ты рассказал ему об угрозах – кол в сердце, рот, набитый чесноком, и все прочее? – Он счел это поразительным совпадением. – Вот как? Всего лишь совпадением? – В данный момент, – сказал Тони, – он смотрит на вещи именно так. – Черт! – Он прямо не сказал, но, кажется, считает, что я рассказал тебе о том, что мы обнаружили в «Додже» Фрая. – Но ты же не рассказывал. – Мы с тобой это знаем. Остальные будут думать иначе. – Мне показалось, ты сказал, что Лаббок к тебе прислушивается. – Так оно и есть, – ответил Тони. – Но, как я уже сказал, сейчас он уверен, что я немного не в себе из-за гибели Фрэнка. Через несколько дней или недель я приду в норму и переменю свое мнение. Я-то уверен, что нет, потому что мне доподлинно известно, что ты ничего не знала. И знаешь, Хилари, я все больше склоняюсь к мнению, что Фрай действительно вернулся, хотя и не представляю, каким образом. Но чтобы убедить Гарри, нужно нечто большее, чем интуиция. Я не могу винить его за скепсис. – А пока?.. – А пока этот случай не представляет интереса для отдела по расследованию убийств. Не подпадает под нашу юрисдикцию, а квалифицируется как разбойное нападение, совершенное неизвестным лицом. Хилари нахмурила брови. – Значит, они не станут ничего предпринимать? – К сожалению. В таких случаях иногда приходится ждать, пока этого парня не застигнут с поличным, когда он вломится в другой дом или нападет на другую женщину, а потом вдруг покается в прежних грехах. Хилари встала с табуретки и начала ходить взад-вперед по кухне. – Здесь происходит что-то странное и страшное. Я не могу ждать, пока ты убедишь Лаббока. Фрай обещал вернуться и не успокоится до тех пор, пока один из нас не умрет – окончательно и бесповоротно. Он может объявиться в любое время и в любом месте. – У меня ты будешь в безопасности, – заверил ее Тони. – Фрай – если это Фрай – не найдет тебя здесь. – Как ты можешь быть уверен? – Он же не ясновидящий. – Да? – Подожди, – раздраженно сказал Тони. – Ты же не станешь утверждать, что он обладает сверхъестественными способностями? – Я ничего не утверждаю, но и не могу ничего исключить, – заявила Хилари. – Коль скоро ты допускаешь, что Фрай каким-то образом вернулся с того света, приходится допускать все, что угодно. Еще немного – и я начну верить в гномов, карликов и Санта-Клауса. Но я все же имела в виду другое – он мог просто выследить нас. Тони приподнял брови. – Следовал за нами от твоего дома? – Почему бы и нет? – Этого не может быть. – Ты так уверен? – Когда я ломился в твой дом, он сбежал. Хилари перестала вышагивать по кухне и остановилась, обхватив руками плечи. – Может, он ошивался поблизости, выжидая, что мы предпримем и куда отправимся. – В высшей степени невероятно. Даже если мое появление оставило ему какую-то надежду, его бы как ветром сдуло после прибытия полиции. – Ты не можешь быть абсолютно уверен. В лучшем случае мы имеем дело с умалишенным. В худшем – с чем-то неизвестным, находящимся за пределами нашего понимания, и тогда нам будет трудно правильно оценить опасность. В любом случае трудно ожидать, что Фрай будет вести себя как нормальный человек. Кто бы он ни был, это явно экстраординарная личность. Тони с минуту смотрел на нее, потом устало провел ладонью по лицу. – Ты права. – Можешь ли ты с уверенностью утверждать, что он не последовал за нами? – Ну… Я не проверял, нет ли «хвоста». Мне даже в голову не пришло. – Мне тоже не приходило – до сих пор. Но приходится считаться с такой возможностью. Вдруг он прячется где-то неподалеку – в эту самую минуту? Тони сделалось не по себе, и он встал. – Для этого нужно обладать железными нервами. – Фраю не откажешь в бесстрашии. Тони кивнул: – Да, ты права. – Он немного постоял и вдруг направился к выходу. Хилари побежала за ним. – Ты куда? Он пересек гостиную и приблизился к входной двери. – Оставайся здесь, а я проверю окрестности. – Дудки! – заявила она. – Я иду с тобой. Тони остановился. – Если Фрай следит за нами, тебе безопаснее оставаться здесь. – Ага. Я буду ждать тебя, а явится он. – Но ведь уже день, – убеждал Тони. – Он ничего тебе не сделает. – Как будто убийства совершаются только по ночам, – возразила Хилари. – Уж тебе-то это должно быть известно. – У меня с собой служебный револьвер. Я сумею постоять за себя. Хилари была непреклонна. – Я не собираюсь сидеть здесь и грызть ногти. Пошли. Они немного постояли на балконе, взирая сверху вниз на машины возле дома. Их было не особенно много, потому что большинство жильцов час назад разъехались на работу. Кроме принадлежащего Тони голубого джипа, здесь ждало хозяев еще семь автомобилей. Яркие солнечные лучи отражались от блестящих хромированных деталей. – Кажется, я их все знаю, – сказал Тони. – Ты абсолютно уверен? – Не на сто процентов. – Там сидит кто-нибудь? Тони вгляделся пристальнее. – Из-за солнца не видно. – Идем посмотрим. Они спустились во двор, огороженный высокой кирпичной стеной, и удостоверились, что все машины пусты. Никто не околачивался поблизости. Решив не ограничиваться двором, они вышли на улицу. Здесь не хватало места для парковки, и вдоль тротуара выстроились вереницы машин. – Ты собираешься проверить их все? – осведомилась Хилари. – Это пустая трата времени. Если у Фрая есть бинокль, он может наблюдать за нами, находясь в четырех кварталах отсюда, а при нашем приближении немедленно сняться с места. – Мы увидим, как он отъезжает, и хотя бы убедимся, что он нас выследил. – Не обязательно. На большом расстоянии мы не сможем как следует рассмотреть его. Воздух был тяжелым, как свинец: день предстоял исключительно жаркий. С асфальта к безоблачному небу уже тянулись испарения. Неподалеку, в бассейне возле чьего-то дома, плескались дети. В такой день трудно верить в призраки. Хилари вздохнула. – Как же нам убедиться, что нас не преследуют? – Такого способа нет. – Я боялась, что ты скажешь именно это. Она скользнула взглядом по улице. Все вокруг таило угрозу: и палящее солнце, и тени от прекрасных пальм, и каменные стены, и черепичные – в испанском стиле – крыши. – Паранойя-авеню, – пробормотала Хилари. – Паранойя-сити, – подхватил ее спутник. – Что же дальше? – Думаю, нам не мешало бы поспать. Никогда еще Хилари не ощущала такой усталости. В глазах кололи несуществующие соринки, веки распухли и болели от яркого солнца. Во рту был неприятный вкус; зубы покрылись противным налетом. Язык еле ворочался. У нее ныла каждая косточка и каждая мышца. Не спасало и то, что половина этих ощущений была воображаемой. – Знаю, – проговорила она. – Но ты действительно думаешь, что мы сможем уснуть? – Ты права. Я сам устал, как черт знает кто, но когда мозг так возбужден, очень трудно отключиться. – Хотела бы я задать парочку вопросов коронеру, – произнесла Хилари. – Или тому, кто выполнял вскрытие. Возможно, получив ответ, я смогла бы позволить себе небольшой отдых. – О’кей, – согласился Тони. – Давай запрем квартиру и отправимся в морг. Через несколько минут они катили в голубом джипе. Тони проверил, нет ли «хвоста», и убедился, что за ними никто не едет. Конечно, если Фрай выследил его жилье, он мог остаться ждать их там. – А если он вломится в квартиру в наше отсутствие? – не успокаивалась Хилари. – У меня особо прочная дверь и надежнейшие замки с секретом. Правда, Фрай может выбить стекло в единственном доступном окне, выходящем на улицу, но тогда, подъезжая к дому, мы сразу обратим на это внимание. – Может, он способен проходить сквозь дверь? – жалким голосом пролепетала она. – Или сквозь замочную скважину? – Ты сама не веришь тому, что говоришь. Хилари кивнула. – Он не обладает сверхъестественными способностями, – уверенно заявил Тони. – Вспомни: чтобы забраться в дом, ему пришлось высадить окно. Они еле тащились в нескончаемом потоке машин. Хилари вдруг почувствовала, что уже не так уверена в себе. Да вправду ли она видела Бруно Фрая выходящим из столовой? Может, ей только померещилось? – Тони, я сошла с ума? Он бросил на нее быстрый взгляд. – Нет. С тобой все в порядке. Ты действительно что-то видела. Ты не устраивала погрома в собственном доме. Не придумала, будто налетчик выглядел точь-в-точь как Бруно Фрай. Признаюсь, я тоже вначале так считал. Но теперь вижу, что ты в полном порядке. – Но… разгуливающий по городу мертвец?.. Не слишком ли неправдоподобно? – Разумеется, в это трудно поверить – но все же легче, чем предположить, будто в течение одной недели тебя атаковали два ничем не связанных между собой маньяка, одержимых одним и тем же бредом насчет вампиров. Нет уж, версию о том, что Фрай жив, проще переварить. – Может, ты заразился от меня? – Чем? – Безумием. Тони улыбнулся. – Безумие – не простуда. Оно не распространяется по воздуху – и даже посредством поцелуев. – Ты когда-нибудь слышал о групповом психозе? Тони тормознул перед светофором. – Ну да. К нему обычно прибегают психи, не способные выдумать что-нибудь оригинальное. – Ты можешь шутить в такое время? – В такое время – тем более. – Как насчет массовой истерии? – Никогда не увлекался подобными играми. И потом, нас только двое… Это еще не «массы». Хилари улыбнулась. – Господи, как мне повезло, что ты рядом! Было бы ужасно сражаться в одиночку. – Ты никогда больше не будешь одна. Хилари благодарно положила руку ему на плечо. В четверть двенадцатого они подъехали к моргу.* * *
В приемной коронерасекретарша сообщила, что главный медэксперт не стал лично производить вскрытие тела Бруно Фрая. Согласно предварительной договоренности, он провел прошлые четверг и пятницу в Сан-Франциско. Аутопсию выполнил его помощник. Это позволило Хилари надеяться на простое решение загадки возвращения Фрая с того света. Возможно, ассистент оказался лодырем и в отсутствие босса отлынивал от работы. Ее надежда разлетелась в прах при виде Айры Голдфилда, того самого помощника. Это оказался интересный мужчина немногим более тридцати лет от роду, с проницательными голубыми глазами и светлой курчавой шевелюрой, доброжелательный, собранный и, очевидно, преданный своей работе. Голдфилд провел их в небольшой кабинет, где стоял слабый запах формалина и сигаретного дыма. Они сели напротив него за письменный стол, заваленный справочниками, результатами лабораторных анализов и текстами, отпечатанными на компьютере. – Разумеется, – сказал Голдфилд, – я помню этот случай. Бруно Грэхем… нет… Гантер. Бруно Гантер Фрай. Две колотые раны, одна не опасная, а другая – послужившая причиной смерти. Я еще не видел такого брюшного пресса. – Он посмотрел на Хилари и спохватился: – Вы та самая леди, которая его заколола? – В порядке самозащиты, – уточнил Тони. – Ни секунды не сомневался, – заверил Голдфилд. – С профессиональной точки зрения было бы в высшей степени абсурдно предположить, будто мисс Томас могла совершить нападение на такого верзилу. Он бы раздавил ее, как букашку. Сдул, как пушинку. – Врач снова посмотрел на Хилари. – В газетах сообщалось, что Фрай напал на вас, не зная о ноже. – Он считал меня безоружной. Голдфилд кивнул. – Это соответствует моим наблюдениям. Принимая во внимание разницу в габаритах, вы только и могли одолеть его, застигнув врасплох. У этого человека были железные бицепсы, трицепсы и предплечья. Должно быть, он на протяжении десяти-пятнадцати лет занимался культуризмом. Вам чертовски повезло, мисс Томас. Не застигни вы его врасплох, он переломил бы вас пополам – в буквальном смысле. Как нечего делать. – Голдфилд покачал головой, все еще вспоминая необыкновенную физическую мощь Бруно Фрая. – Так о чем вы хотели спросить? Тони посмотрел на Хилари. Та пожала плечами: – Наверное, теперь это уже не имеет значения. Голдфилд перевел взгляд с нее на детектива, и на его симпатичном лице появилось выражение любопытства. Тони прочистил горло. – Я согласен с Хилари. Теперь, когда мы встретились с вами, это кажется бессмысленным. – Вы говорите так загадочно, что возбудили мое любопытство. Неужели я так и не узнаю, в чем дело? – Хорошо, – ответил Тони. – Мы собирались выяснить, точно ли было совершено вскрытие. Голдфилд не понял. – Но вы же и так это знали. – Мы хотели услышать это от вас лично. – Мы видели отчет об аутопсии, – объяснил Тони, – но хотели убедиться, что работа и впрямь была выполнена. – Но теперь, когда мы увидели вас, – поспешила добавить Хилари, – у нас нет ни малейших сомнений. Голдфилд вскинул голову – изумленно, а не обиженно. – Вы хотите сказать, что я мог подписать отчет, не произведя вскрытия? – Теоретически такая возможность существовала, – оправдывался Тони. – Вам могло что-нибудь помешать… – У нас такого не бывает, – возразил Голдфилд. – Шеф держит нас в ежовых рукавицах. Не дай бог, кто-нибудь проявит малейшую небрежность в работе, он его в порошок сотрет. – Чувствовалось, что он искренне гордится шефом. На всякий случай Хилари спросила: – У вас нет сомнения, что Бруно Фрай… умер? Голдфилд воззрился на нее так, словно она попросила его встать на голову и продекламировать стихотворение. – Ну разумеется, умер! – Вы делали общее вскрытие? – поинтересовался Тони. – Да. Я рассек… – Голдфилд внезапно остановился, секунду-другую поразмыслил и поправился: – Нет. Это не было общее вскрытие в полном смысле слова, то есть рассечение всех частей тела. Тогда как раз выдался очень жаркий денек, работы хоть отбавляй, а нас тут не так уж много. Но в данном случае общее вскрытие и не требовалось. Причиной летального исхода послужила рана в области живота. Нам не было нужды вскрывать грудную клетку и исследовать сердечную мышцу. Я провел тщательное обследование и вскрыл брюшную полость, чтобы установить степень повреждения и определить точную причину смерти. Если бы его закололи не в вашей квартире, защищаясь… то есть если бы обстоятельства его гибели не были столь очевидными, я бы сделал больше. Но в данном случае было абсолютно ясно, что нет причины возбуждать уголовное преследование. Кроме того, я не сомневался, что именно рана в области живота сыграла роковую роль. – А не может быть, что он был только в глубокой коме? – с надеждой спросила Хилари. – В коме?! Господи Иисусе, конечно, нет. – Голдфилд поднялся из-за стола и начал шагами мерить комнату. – Мы проверяли пульс, дыхание, состояние зрачков и даже излучения мозга. – Он вернулся к столу и посмотрел на посетителей сверху вниз. – Мертв, как камень. Да когда я его увидел, в нем почти не осталось крови, которая могла бы поддержать минимальную жизнедеятельность. Он успел посинеть. Нет, здесь невозможно было ошибиться. Тони встал. – Прошу прощения за то, что мы отняли у вас время, доктор Голдфилд. – А я прошу прощения за то, что усомнилась в качестве вашей работы, – присоединилась к нему Хилари. – Погодите, – попросил врач. – Вы не можете уйти, не объяснив, в чем дело. Хилари с Тони переглянулись. Обоим не хотелось обсуждать с Голдфилдом проблему ходячих трупов. – Этой ночью, – сказал Тони, – Хилари в ее доме пытался убить человек, как две капли воды похожий на Бруно Фрая. – Вы не шутите? – Какие уж тут шутки. – И вы подумали… – Да. – О господи! Должно быть, это было ужасное зрелище. Но мне нечего вам сказать, кроме того, что это могло быть только совпадением. Бруно Фрай мертв. Мне еще не приходилось видеть никого более мертвого. Они поблагодарили Голдфилда. Тот проводил их в приемную. Тони подошел к секретарше и спросил, в какое похоронное бюро был отправлен труп Бруно Фрая. Девушка перелистала папку. – Похоронный дом «Энджелс Хилл». Хилари записала адрес. – Неужели вы все еще думаете… – начал Голдфилд. – Нет, – ответил Тони. – Но, с другой стороны, нужно пройти всю цепочку до конца. Так меня учили в полицейской академии. Голдфилд хмуро проводил их глазами.* * *
Хилари осталась ждать в джипе у входа в похоронный дом «Энджелс Хилл». Они решили, что будет лучше, если Тони пойдет один и воспользуется служебным удостоверением. «Энджелс Хилл» оказался огромным сооружением с целым парком катафалков, несколькими часовенками и солидным штатом гробовщиков и бальзамировщиков. В приемной лился рассеянный свет, а стены были окрашены в мрачноватые тона; на полу от стены до стены расстилался тяжелый плюшевый ковер. Все здесь свидетельствовало о почтительном отношении к смерти, а также о том, что похороны – прибыльное дело. Секретарша оказалась симпатичной блондинкой в серой блузке и юбке каштанового цвета. У нее был приятный, тихий голос без малейших признаков сексуальности, словно ее специально натренировали произносить слова соболезнования и утешения. Интересно, подумал Тони, такой ли у нее голос в постели, когда она подбадривает партнера? Девушка нашла дело Бруно Фрая и фамилию бальзамировщика. Кажется, он сейчас в прозекторской. – Недавно поступили новенькие. – Она говорила так, словно работала в больнице, а не в похоронном доме. – Сейчас спрошу, когда он освободится и сможет уделить вам внимание. Секретарша попросила Тони подождать в конторе. Это было небольшое, но уютное помещение с удобными креслами вдоль стен. На журнальных столиках разложены журналы. Кофеварка. Сифон. Стенд с объявлениями о продаже гаражей и портативных ванн для автомобилей. Тони добрался до четвертой страницы «Энджелс Хилл Ньюз», когда вошел Сэм Хардести, очень похожий на автомеханика. На нем был белый комбинезон; из нагрудного кармана выглядывали инструменты, назначение которых Тони было неизвестно. Это был молодой человек лет под тридцать, с длинной каштановой прической и резкими чертами лица – несмотря на это, весьма приятного. – Детектив Клеменца? – Да. Хардести протянул руку, и Тони чуточку неохотно пожал ее, думая о том, до чего она дотрагивалась всего лишь несколько минут назад. – Сюзи сказала, вы хотите побеседовать об одном из наших случаев? – Очевидно, манерой говорить Хардести был обязан тому же тренеру, что и белокурая секретарша. – Насколько мне известно, – сказал Тони, – именно вы готовили труп Бруно Фрая к отправке в Санта-Розу? – Совершенно верно. У нас тесные деловые связи с местным похоронным бюро. – Вы не могли бы в точности описать, что произошло после того, как оно было вывезено из морга? Хардести с любопытством уставился на него. – Ну, его доставили сюда и подвергли соответствующей обработке. – Вы не останавливались по дороге? – Нет. – С того момента, когда тело оказалось в вашем распоряжении, и до того, как его доставили в аэропорт, оно не оставалось без присмотра? – Без присмотра? Ну, разве что на одну-две минуты. Это была срочная работа, так как необходимо было успеть к послеобеденному рейсу в пятницу. Простите, вы не могли бы объяснить, в чем дело? Что именно вас интересует? – Точно не знаю, – уклонился Тони, – но, может быть, получив ответы на некоторые вопросы, я уясню это для себя. Вы забальзамировали труп? – Конечно. Это было совершенно необходимо: ведь его должны были доставить в Санта-Розу на самолете гражданской авиации. – Вы его выпотрошили? – Боюсь, это не самая приятная тема для разговора, – произнес Хардести. – Но кишки, желудок и некоторые другие органы действительно представляют собой серьезную проблему. Они содержат отходы и поэтому разлагаются гораздо быстрее остальных частей тела. Для устранения запахов и скопившихся газов и с целью лучшей сохранности тела даже после погребения необходимо удалить возможно большую часть этих органов. Мы пользуемся специальными зондами с телескопическим окончанием: вставляем в анальное отверстие и… Тони почувствовал прилив крови к лицу и поспешно поднял руку, чтобы предотвратить дальнейшие подробности. – Благодарю вас… Я представляю картину. – Я предупреждал вас, что это не очень-то приятно. – Не очень, – согласился Тони. У него как будто ком застрял в горле. Он кашлянул в кулак, но ощущение осталось прежним. Возможно, оно пройдет, когда он покинет это место. – Ну что ж, – обратился он к Хардести, – кажется, я узнал все, что хотел. Хардести задумчиво наморщил лоб. – Не знаю, что вас интересовало, но в случае с Фраем действительно имеется одно странное обстоятельство. – Что именно? – Это произошло спустя два дня после отправки тела покойного в Санта-Розу, – начал Хардести. – В воскресенье вечером кто-то позвонил и сказал, что хочет поговорить с техником, который обрабатывал труп Бруно Фрая. Я как раз был на дежурстве – у меня выходные в среду и четверг – и ответил на звонок. Тот человек был в страшном гневе. Он обвинил меня в халтурной работе: мол, я слишком небрежно обошелся с покойным. Это неправда. Я сделал все, что было в моих силах, – при сложившихся обстоятельствах. Но усопший несколько часов пролежал под палящим солнцем, а затем в холодильной камере. Плюс колотые раны и надрезы, сделанные коронером. Позвольте вас заверить, мистер Клеменца, ткани были в катастрофическом состоянии. Трудно было ожидать, чтобы из этого трупа можно было сделать некое подобие живого человека. И потом, я не отвечаю за косметические работы. Об этом должны были позаботиться в похоронном бюро Санта-Елены. Я попытался втолковать тому парню по телефону, что я тут ни при чем, но он не дал мне и слова сказать. – Он представился? – спросил Тони. – Нет. С каждой секундой он становился все агрессивнее. Орал на меня как сумасшедший. Или как будто не помнил себя от отчаяния. Я решил, что это родственник покойного, и старался не потерять терпения. Но он в своей истерике дошел до того, что заявил, будто он Бруно Фрай. – Что-что? – Ага. Сказал, будто он Бруно Фрай и однажды вернется сюда и разорвет меня на куски за то, что я с ним сделал. – Что-нибудь еще? – Дело в том, что, когда он начал нести этот вздор, я убедился, что он ненормальный, и повесил трубку. На Тони словно вылили ведро ледяной воды; ему было страшно холодно – и снаружи, и внутри. Сэм Хардести заметил его состояние. – Что с вами? – Я думал о том, достаточно ли трех человек для массового психоза. – Э?.. – У звонившего был какой-нибудь особенный голос? – Откуда вы знаете? – Очень глубокий… – Дребезжащий, – добавил Хардести. – Скрипучий, грубый? – Точно. Вы его знаете? – Боюсь, что да. – Кто он? – Вы бы не поверили, если бы я сказал. – Попробуйте, – предложил Хардести. Тони покачал головой: – Извините, это служебная тайна. Хардести был разочарован; улыбка сошла с его лица. – Ну, мистер Хардести, вы нам очень помогли. Огромное спасибо. Бальзамировщик пожал плечами: – Не за что. Есть за что, подумал Тони. Вот именно что есть. Но черт побери, что же это все означает? Из приемной они направились было в разные стороны, но, пройдя несколько шагов, Тони обернулся и окликнул: – Мистер Хардести! – Да? – Можно один личный вопрос? – Какой? – Что побудило вас взяться за эту работу? – Мой любимый дядя был владельцем похоронного бюро. – Понимаю. – Он был замечательным человеком. Особенно с детьми. Он просто обожал детей. Я мечтал стать похожим на него, – признался Хардести. – У меня всегда было такое ощущение, будто дядя Алекс знает какой-то страшно важный секрет. Он часто показывал нам, детям, фокусы, но, конечно, не в этом дело. Я думал, что он занят чем-то очень таинственным, очень интересным и эта работа дает ему некое знание, которого нет у других. – Вы разгадали секрет? – Да, – ответил Хардести. – Думается, что да. – Можете открыть его мне? – Разумеется. Дядя Алекс понимал, как и я теперь понимаю, что с мертвыми нужно обращаться так же бережно, как и с живыми. Их нельзя похоронить и выбросить из головы. Их уроки навсегда остаются с нами. Сделанное ими при жизни продолжает поддерживать и влияет на нас после их смерти. Благодаря их любви мы любим и влияем на других людей – тех, что останутся жить, когда мы уйдем. Таким образом, человек никогда не умирает по-настоящему. Жизнь продолжается. Секрет дяди Алекса в двух словах можно выразить так: «мертвые тоже люди». Тони с минуту смотрел на него, не зная, что сказать. И вдруг сам собой пришел вопрос: – Вы верующий, мистер Хардести? – В начале своей работы здесь я не верил в бога. А вот теперь верю. Да, я определенно верующий. Когда Тони сел за руль своего джипа и захлопнул дверцу со стороны водителя, Хилари спросила: – Ну, что? Он бальзамировал Фрая? – Хуже. – Что может быть хуже? – Тебе лучше не знать. Он посвятил ее в историю с телефонным звонком человека, назвавшегося Бруно Фраем. – Ах, – вырвалось у Хилари. – Забудь то, что я говорила о массовой шизофрении. Вот доказательство! – Доказательство чего? Что Фрай жив? Этого не может быть. В дополнение ко всем прочим вещам, о которых мне противно упоминать, его набальзамировали. Какая уж тут кома, если все вены и артерии забиты бальзамирующей жидкостью? – Но, по крайней мере, этот звонок доказывает, что происходит что-то из ряда вон выходящее. – Не обязательно, – сказал Тони. – Недостаточно, чтобы убедить твоего капитана? – Гарри Лаббок сочтет этот звонок выходкой сумасшедшего. – Но голос!.. – Гарри на это не клюнет. Хилари вздохнула. – Что же дальше? – Нужно хорошенько подумать. Посмотреть на проблему с разных сторон и убедиться, что мы ничего не упустили из виду. – Мы не могли бы подумать за обедом? – спросила она. – Я умираю от голода. – Где бы ты хотела пообедать? – Поскольку у нас обоих тот еще вид, предлагаю что-нибудь потемнее и поуединеннее. – Отдельный кабинет в баре «Кейси»? – Замечательно. Катя по направлению к Вествуду, Тони думал о Хардести и о том, что он прав и в каком-то смысле мертвые – не совсем мертвые.* * *
Бруно Фрай растянулся на заднем сиденье своего «Доджа» и попытался уснуть. Это был не тот фургон, в котором он прибыл в Лос-Анджелес на прошлой неделе. Та машина оказалась в руках полиции. Официально она числится за Джошуа Райнхартом – душеприказчиком и управляющим его поместьем; теперь ему приходится улаживать имущественные дела. Новый фургон был не серым, как тот, а темно-синим, с ярко-белыми полосами. Накануне Фрай приобрел его в автомобильном салоне в Сан-Франциско. Отличная машина! Вчера он почти весь день провел за рулем и приехал в Лос-Анджелес поздно вечером. И сразу направился к коттеджу Кэтрин в Вествуде. Она теперь звалась Хилари, но он-то знал, что это Кэтрин. В очередной раз явившаяся с того света. Поганая сука. Он вломился в дом, но ее не оказалось. Наконец перед рассветом она заявилась домой, и он чуть не прикончил ее. Откуда могла взяться полиция? В течение последних пяти часов он пять раз проезжал мимо ее коттеджа и не заметил ничего особенного. Он не знал, дома ли она. Он пребывал в растерянности. Мысли путались, он не представлял, что делать дальше, где ее искать. Постепенно в мозгу воцарился хаос. Он чувствовал себя растерянным, сбитым с толку, потерявшим контроль над собой – хотя и не притрагивался к спиртному. Устал. Господи, как он устал. Он не спал с самой воскресной ночи. Если бы можно было хоть чуточку поспать, к нему вернулась бы ясность мысли. И он снова отправится ее искать. Отрубит ей голову. Вырвет сердце и пронзит деревянным колом. Умертвит ее раз и навсегда. Но сначала нужно поспать. Он лег на пол, радуясь тому, что солнце проникало в фургон сквозь ветровое стекло. Темнота пугала его. Рядом лежало распятие. И пара острых кольев. Он набил холщовые мешочки чесноком и развесил их над всеми дверцами. Эти амулеты должны были оградить его от колдовских чар Кэтрин, но они были бессильны перед кошмарами. Сейчас он уснет и проснется от кошмарного сна, с застрявшим в горле криком. А потом, как обычно, не сможет вспомнить, что ему снилось. Но в момент пробуждения явственно услышит шорохи, и мерзкие твари поползут по всему телу, по лицу… Через пару минут это ощущение исчезнет, и он будет яростно жалеть о том, что не умер. Фрай испытывал ужас перед сном, но и бешеную потребность в нем. Он закрыл глаза.* * *
Как обычно, в баре «Кейси» гремела музыка. Но в глубине зала было несколько закрытых кабинетов, где ее почти не было слышно. Через какое-то время Хилари оторвалась от еды и заявила: – Кажется, я знаю, в чем дело. Тони положил свежий сандвич на тарелку. – То есть? – У Фрая должен быть брат. – Брат? – Это все объясняет. – Ты считаешь, что в четверг ты убила Бруно Фрая и теперь его брат явился отомстить тебе? – Такое сходство встречается только у братьев. – А голос? – Почему бы им не унаследовать одинаковый голос? – Возможно, низкий тембр может передаваться по наследству, – заметил Тони, – но как быть с тем особым дребезжанием? Ты сама сказала, что скорее всего это следствие перенесенной в детстве травмы. – Значит, я ошиблась. Или оба брата родились с одним и тем же дефектом. – Один шанс из миллиона. – И все-таки он существует. Тони выпил пива и продолжил: – Предположим, братья унаследовали одно и то же телосложение, черты лица, цвет глаз, голос. Но один и тот же маниакальный психоз? Хилари тоже хлебнула пива и ненадолго задумалась. Потом сказала: – Некоторые виды умственного расстройства являются продуктом воздействия окружающей среды. – Раньше господствовала такая теория. Теперь в этом не так уж уверены. – Ради моей гипотезы попробуем временно принять, что психические отклонения могут быть результатом воздействия окружающей среды. Братья растут в одной семье, их воспитывают одни родители. Почему бы у них не развиться одинаковому психозу? Тони поскреб подбородок. – Может быть. Помню, когда нам преподавали психологию, то приводили один пример, как у матери и дочери были совершенно одинаковые проявления шизофрении. – Ну вот! – взволнованно воскликнула Хилари. – Это был единственный случай. – Вот тебе еще один. – Что ж, об этом стоит подумать. Они продолжали есть. Вдруг Тони осенило: – Черт побери! Я только что вспомнил одну вещь, которая пробивает солидную брешь в твоей гипотезе. – Да? – Ты читала газеты за пятницу и субботу? – Не все, – призналась Хилари, – понимаешь… как-то странно читать о себе как о жертве покушения. С меня хватило одной статьи. – Помнишь, что в ней было написано? Хилари наморщила лоб и вдруг вспомнила: – Да. У Фрая не было братьев. – Ни братьев, ни сестер. Вообще никого. После смерти матери он остался единственным наследником винодельни. Последним представителем рода Фраев. Хилари было нелегко отказаться от своей догадки. Такое объяснение казалось ей единственно разумным. Но как быть с возникшим противоречием? Под конец обеда Тони сказал: – Мы не можем сидеть сложа руки и ждать, когда он тебя выследит. – Мне тоже не улыбается вечно прятаться. – В любом случае ответ нужно искать не в Лос-Анджелесе. Хилари кивнула. – Я подумала то же самое. – Необходимо ехать в Санта-Елену. – И поговорить с шерифом Лоренски. – Лоренски и другими знавшими Фрая. – На это понадобится несколько дней, – сказала Хилари. – Как я уже сказал, мне предоставили отпуск и даже бюллетень. На целых несколько дней. И я впервые в жизни не рвусь на работу. – О’кей, – повеселела Хилари. – Когда мы едем? – Чем скорее, тем лучше. – Только не сегодня: мы оба валимся с ног. Кроме того, я должна показать Уайнту Стивенсу твои картины. Потом уладить дела со страховым агентством, чтобы получить страховку за поврежденное имущество, и договориться с «Уорнер Бразерс» перенести начало работы над фильмом на следующую неделю. Или пусть приступают без меня – Уолли Топелис присмотрит за тем, чтобы были соблюдены мои интересы. – А мне нужно закончить рапорт по делу Бобби Вальдеса. Позднее меня пригласят давать показания – так всегда делается, если убит полицейский. Но расследование вряд ли начнется раньше следующей недели. В крайнем случае попрошу отложить его. – Так когда мы едем в Санта-Елену? – Завтра, – ответил Тони. – Похороны Фрэнка состоятся в девять часов. Я хочу пойти. Нужно посмотреть, есть ли рейс около полудня. – Это меня устраивает. – У нас уйма дел. Давай поторапливаться. – Еще одно, – сказала Хилари. – Мне бы не хотелось ночевать в твоей квартире. – Фрай до тебя не доберется. Я буду рядом, и со мной оружие. Он может быть могуч, как мистер Вселенная, но пистолет уравнивает шансы. Хилари покачала головой: – Может, все и вправду будет в порядке. Но я все равно не смогу уснуть. Тони, я всю ночь стану прислушиваться к разным шорохам. – Что ты предлагаешь? – Давай сделаем все, что нужно, уложим вещи и, убедившись, что за нами нет слежки, переберемся в отель, поближе к аэропорту. Тони сжал ее руки. – О’кей – если тебе так спокойнее. – Лучше перестраховаться, чем потом всю жизнь раскаиваться.* * *
Во вторник, в 4 часа 10 минут, Джошуа Райнхарт сидел в своем кабинете, чрезвычайно довольный собой. За последние пару дней он проделал колоссальную работу и теперь мог позволить себе посидеть у окна и полюбоваться горами и виноградниками. Почти весь понедельник он провел у телефона, ведя переговоры с банкирами, биржевыми маклерами и финансовыми советниками Бруно Фрая. Решалась судьба имения, активов и прочего имущества. Долгая, выматывающая работа. Все утро и половину дня во вторник он потратил на телефонные переговоры с самыми известными в Калифорнии ценителями искусства. Речь шла о том, чтобы составить каталог и правильно оценить стоимость коллекций, собранных членами семьи Фрай за шесть или семь десятилетий. Патриарх семьи, Лео Фрай, отец Кэтрин, умерший сорок лет назад, начал с увлечения сделанными вручную декоративными кранами от винных и пивных бочек. Одни из них были выполнены в форме человеческой головы, другие изображали головы чертей, ангелов, шутов, волков, эльфов, ведьм, гномов и прочих сказочных существ. Ко времени своей смерти Лео располагал более чем двумя тысячами таких кранов. Пока отец был жив, Кэтрин разделяла его увлечение. После его смерти коллекционирование сделалось основным интересом ее жизни, перейдя в настоящую страсть, почти манию. Джошуа хорошо помнил, как у нее всякий раз загорались глаза, когда она показывала ему очередное приобретение. Кроме кранов, она собирала эмали, музыкальные шкатулки, пейзажи, хрусталь, античные камеи и массу других вещей. После кончины матери Бруно продолжил семейную традицию, так что оба особняка – тот, что Лео выстроил в 1918 году, и возведенный самим Бруно пять лет назад – были битком набиты дорогостоящими шедеврами. Джошуа обзвонил художественные галереи и престижные аукционы Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, и все изъявили желание прислать своих оценщиков. Здесь пахло жирными комиссионными. В субботу утром должны были прибыть по два человека из обоих этих городов; зная, что потребуется несколько дней для ознакомления с имуществом Фрая, Джошуа позаботился о том, чтобы для них забронировали места в гостинице. Наконец-то у него появилось ощущение, что он овладел ситуацией. Оставалось лишь определить, сколько времени ему понадобится для выполнения обязанностей душеприказчика. Вначале Джошуа боялся, что и за несколько лет не распутается, однако теперь, когда он перечитал завещание, составленное пять лет назад, и познакомился с финансовыми советниками Бруно, он уверился, что этот вопрос можно будет утрясти в течение нескольких недель. Дело облегчалось тремя обстоятельствами. Во-первых, у Бруно Фрая не осталось здравствующих родственников, которые стали бы оспаривать друг у друга наследство; во-вторых, все, что останется после уплаты налогов, будет завещано на благотворительные цели; в-третьих, Бруно Фрай чрезвычайно просто вел свои дела. Три недели – и достаточно. Самое большее – четыре. После смерти жены Коры три года назад Джошуа вдруг осознал скоротечность жизни. Ему не хотелось терять ни одного дня, а каждая минута, потраченная на дела Бруно Фрая, явно была потеряна напрасно. Конечно, он получал приличное вознаграждение, но у него и так было достаточно денег – больше, чем он мог потратить. Джошуа владел собственной недвижимостью в долине, включая несколько сотен акров виноградников. Он даже начал подумывать, не передать ли все дела, связанные с наследством Бруно Фрая, в другие руки, но чувство ответственности не позволило ему это сделать. Ведь не кто иной, как Кэтрин Фрай, поддержала его тридцать пять лет назад, когда он делал первые шаги в Напа-Валли. Хватит и трех недель. А потом он займется более интересными вещами: чтением хороших книг, полетами на собственном самолете и освоением новых блюд. Всем тем, что заполнило его жизнь после того, как не стало Коры. В 4 часа 20 минут, довольный тем, как идут дела с наследством Фрая, и успокоенный прекрасным видом из окна, он встал и вышел в приемную. Там секретарша Карен Фарр изо всех сил молотила пальцами по клавиатуре ЭВМ фирмы «Ай-би-эм», клавиши которой отзывались на легкие, как перышко, прикосновения. Это была миниатюрная девушка с бледным лицом, голубыми глазами и тихим, нежным голоском – но энергии у нее хватало на двоих. – Я бы выпил виски, – сказал Джошуа. – Если кто-нибудь позвонит, скажите, что я вдрызг пьян и не могу подойти к телефону. – А они завопят: «Как? Опять?!» Джошуа рассмеялся. – Ладно уж, – смилостивилась мисс Фарр. – Идите пьянствуйте. Возьму на себя бесчинствующие орды. Вернувшись в свой кабинет, Джошуа отпер бар, положил в бокал льда и плеснул виски «Джек Дэниэлс». Едва он сделал пару глотков, кто-то постучал в дверь. – Войдите. Это оказалась Карен. – Там звонят… – Я думал, мне дадут спокойно наклюкаться. – Не будьте брюзгой. – Это часть моего имиджа. – Я сказала ему, что вас нет, но, когда узнала, чего он хочет, подумала, что, может быть, вы захотите поговорить с ним. Там что-то странное. – Кто звонит? – Какой-то мистер Престон из Первого Тихоокеанского объединенного банка Сан-Франциско, насчет Фрая. – Что же тут странного? – Вы лучше сами с ним поговорите. Джошуа вздохнул. – Хорошо. – Он по второму телефону. Джошуа снял трубку. – Добрый вечер, мистер Престон. – Мистер Райнхарт? – У телефона. Чем могу вам помочь? – Мне сказали, что вы душеприказчик Бруно Фрая. – Правильно. – Вам известно, что Бруно Фрай владел счетами в нашем банке? – В Первом Тихоокеанском? Нет, я этого не знал. – Сберегательным и расчетным счетами, а также персональным сейфом, – уточнил Престон. – У него были счета в разных банках, но вашего я не видел в перечне. Правда, я еще не все просмотрел. – Этого-то я и боялся, – сказал Престон. Джошуа нахмурился. – Не понимаю. Какие-нибудь проблемы с вашими счетами? – Мистер Райнхарт, у мистера Фрая есть брат? – Нет. Почему вы спрашиваете? – Он не обзаводился двойниками? – Прошу прощения?.. – У него не возникало потребности в двойнике – человеке, который мог бы заменить его в определенных ситуациях? – Вы шутите, мистер Престон? – Я понимаю, это необычный вопрос. Но мистер Фрай был богатым человеком. В наше время, когда террористы всех мастей совершенно распоясались, многие богатые люди нанимают телохранителей, а иногда, хотя и редко, даже двойников – в интересах безопасности. – При всем уважении к вашему городу, – сказал Джошуа, – позвольте мне заметить, что мистер Фрай проживал в Напа-Валли, а не в Сан-Франциско. Здесь не совершаются подобные преступления. У нас другой стиль жизни, не такой, как у вас. У мистера Фрая не было абсолютно никакой нужды в двойнике, мистер Престон. Что все это значит? – Мы только что узнали о том, что мистер Фрай убит в прошлый четверг, – тихо проговорил Престон. – И что же? – Все адвокаты утверждают, что банк не может нести ответственности. – За что? – Джошуа начал терять терпение. – Как душеприказчик, вы должны были информировать нас, что наш вкладчик умер. Вплоть до получения этого известия – из третьих рук – мы не имели никаких оснований замораживать счет. – Конечно. – Джошуа решил заканчивать разговор. – Послушайте, мистер Престон, я не сомневаюсь, что вы знаете свое дело, и был бы вам очень признателен, если бы вы поскорее изложили суть вопроса. – В прошлый четверг, перед самым закрытием и через несколько часов после кончины мистера Фрая в Лос-Анджелесе, наше главное управление посетил человек, как две капли воды похожий на него. Он предъявил чеки за подписью Бруно Фрая и снял со счета все деньги, за исключением ста долларов. Джошуа выпрямился в кресле. – Сколько он снял? – Шесть тысяч с расчетного счета. – Ух. – Затем двенадцать тысяч со сберегательного. – В общей сложности восемнадцать тысяч долларов? – Да. Плюс то, что находилось в личном сейфе. – Он и это забрал? – Да. Но, конечно, мы понятия не имели, что там было. – Престон помолчал и с надеждой добавил: – Может быть, совсем ничего. Джошуа был поражен. – Как же вы выдаете такие суммы без удостоверения личности? – Поймите, – сказал Престон, – этот человек был точной копией мистера Фрая. За последние пять лет мистер Фрай заглядывал два-три раза в месяц, всякий раз делая взносы наличными. Поэтому его хорошо запомнили. В прошлый четверг кассир узнал его; кроме того, он предъявил чековые книжки. – Это не удостоверение личности. – Кассир попросила удостоверение личности – даже несмотря на то, что она его узнала. Такое у нас правило. Этот человек предъявил водительские права с фотографией на имя Бруно Фрая. Уверяю вас, мистер Райнхард, Первый Тихоокеанский банк действовал абсолютно по закону. – Вы проверили кассира? – Как раз сейчас ведется расследование. Но я уверен, эта ниточка никуда не приведет. Мисс Уиллис проработала у нас больше шестнадцати лет. – И она же сопровождала его в хранилище? – Нет. То была другая сотрудница. Ее также проверяют. – Тогда это чертовски серьезное дело. – Кому вы говорите! – несчастным голосом воскликнул Престон. – За все годы моей работы в банке такого не случалось! Прежде чем позвонить вам, я поставил в известность местные и федеральные власти. И страховые органы. – Пожалуй, лучше всего будет, если я завтра приеду и потолкую с вашими сотрудниками. – Замечательно. – Скажем, в десять часов? – Когда вам удобно. Я весь день буду в вашем распоряжении. – Значит, в десять. – Я бесконечно сожалею. Разумеется, убытки будут вам возмещены. – За исключением того, что содержалось в боксе, – уточнил Джошуа. – До завтра, мистер Престон. Джошуа дал отбой и уставился на телефонный аппарат. Двойник Бруно Фрая? Мертвец бродит по городу? Он вспомнил, что в три часа ночи в понедельник видел свет в резиденции Бруно. Возможно, человек, снявший деньги со счетов Фрая в Первом Тихоокеанском объединенном банке, что-то искал в доме? Но Джошуа был там вчера и не заметил пропажи. Зачем Бруно понадобился секретный счет в Сан-Франциско? Был ли у него двойник? Если да, то кто этот человек? И с какой стати?.. Черт побери! Кажется, с наследством Фрая будет больше возни, чем он рассчитывал.* * *
Вечером во вторник, когда голубой джип резво взял с места, покидая стоянку во дворе с каменными стенами, Хилари ожила. Она перестала зевать, в глазах перестало покалывать, и она испытала временный прилив энергии, перед тем как снова ощутить смертельную усталость. Они с Тони успешно провернули все дела – со страховым агентством, службой по уборке помещений, полицией и всеми прочими. Единственным, что прошло не совсем гладко, было посещение художественной галереи Уайнта Стивенса в Беверли-Хиллз: они не застали ни самого Уайнта, ни его ассистентку Бетти, а полная молодая дежурная никак не желала принимать на хранение картины Тони Клеменца. В конце концов Хилари убелила ее, что в случае незначительной порчи какой-либо из картин она не будет нести ответственности. И они с Тони отправились в контору Уолли Топелиса. Наконец-то они освободились и завтра, сразу же после похорон Фрэнка Говарда, рейсом 11–55 полетят в Сан-Франциско, где им предстоит пересадка до Напы. Они увидят родину Бруно Фрая. И что дальше? Тони припарковал автомобиль во дворе и выключил двигатель. – Я забыла спросить, заказал ли ты номер в гостинице, – сказала Хилари. – Пока вы с Уолли беседовали, его секретарша сделала это по моей просьбе. – Вблизи аэропорта? – Да. – Надеюсь, не две кровати? – Одна, королевская. – Отлично, – обрадовалась Хилари. – Я усну в твоих объятиях. Тони нагнулся, чтобы поцеловать ее. Они за двадцать минут уложили вещи и снесли в джип. Все это время Хилари была на пределе: ей казалось, что из-за угла вот-вот выскочит Фрай. Однако этого не случилось. Они ехали в аэропорт кружным путем, со множеством поворотов. Хилари внимательно изучала следующие за ними машины. «Хвоста» не было. В половине восьмого они были в отеле. Тони проявил неожиданное рыцарство, записав их как мужа и жену. Их комната оказалась на восьмом этаже. Тихая, уютная, с преобладанием голубого и зеленого тонов. После ухода коридорного они немного постояли, обнявшись, ощущая безмерную усталость. Выходить не хотелось, и Тони заказал ужин по телефону. Служащая сказала, что заказ будет исполнен через полчаса. Они вместе приняли душ. С удовольствием намыливали и терли друг друга губками, преисполненные огромной, всепоглощающей нежности. Потом они ели сандвичи и картофель фри. Выпили полбутылки вина. Немного поболтали. На ночь Хилари соорудила ночник, обернув настольную лампу банным полотенцем. Второй раз в жизни ей было страшно спать в темноте. Наконец они уснули. Через восемь часов, в половине шестого утра, Хилари пробудилась оттого, что ей приснился ужасный сон, в котором ожили Эрл с Эммой – совсем как Бруно Фрай. Все трое гнались за ней по темному сужающемуся коридору… Больше ей не удалось уснуть. Она лежала при тусклом свете импровизированного ночника, стараясь не потревожить Тони. Он проснулся через час, повернулся к Хилари, погладил ее лицо, грудь, и они занялись любовью. На короткое время она забыла Бруно Фрая, но немного погодя, одеваясь на похороны, она вдруг запаниковала: – Тони, ты считаешь, нам нужно лететь в Санта-Елену? – Необходимо. – А вдруг с нами что-нибудь случится? – Не случится. – Я в этом не уверена. – Надо же наконец понять, что происходит. – В том-то и дело. – Хилари поежилась. – У меня такое чувство, что, может быть, лучше и не знать этого.* * *
Кэтрин пропала. Исчезла. Спряталась от него! Поганая сука. В шесть тридцать вечера Бруно очнулся в своем голубом «Додже», весь в поту после приснившегося кошмара. Что ему снилось, он тотчас забыл, преследуемый все теми же шорохами. Мерзкие твари ползали по всему его телу, забирались в волосы, под нижнее белье, норовили проникнуть внутрь тела – через ноздри, уши и рот. Он чувствовал себя грязным и перепуганным насмерть. Постепенно к нему пришло сознание того, где он находится; шорохи начали стихать; воображаемые твари покинули его тело, и он заплакал от облегчения. Часом позже, поужинав в «Макдоналдсе», он двинул в Вествуд. Раз шесть проехал мимо коттеджа, затем припарковал машину на соседней улице и всю ночь караулил ее дом. Она испарилась. Он запасся холщовыми мешочками с чесноком, острыми деревянными кольями, распятием и флаконом со святой водой. Заточил пару ножей и небольшой плотницкий топорик, чтобы отрубить ей голову. У него хватит мужества, решимости и воли. Но она сбежала и, возможно, вернется через несколько дней, а то и недель. Бруно пришел в ярость. Он проклинал Кэтрин и плакал от бессильной злости. Постепенно к нему вернулось самообладание. Еще не все потеряно. Он найдет поганую суку. Он уже столько раз находил ее! (обратно)Глава 6
Утром в среду Джошуа Райнхарт совершил на своем самолете типа «Сессна-Турбо» короткий вояж в Сан-Франциско. Он начал учиться летать три года назад, вскоре после смерти Коры. Почти всю свою жизнь мечтал стать летчиком, но не находил свободного времени. Когда Кора неожиданно сделала его сиротой, он понял, что был глупцом, думая, что смерть – это нечто такое, что случается с другими. Он тратил жизнь так, словно впереди – неисчерпаемый запас лет, будто ему суждено жить вечно. Сколько раз он мог бы исполнить свою мечту и совершить перелет по воздуху в Европу или на Восток – отдыхая и получая массу удовольствия. Но он всегда откладывал каникулы и путешествия: сначала ждал, пока сможет открыть юридическую практику, потом – пока полностью рассчитается за недвижимость, потом стал выращивать виноград, а потом… Кора внезапно ушла из жизни. Ему смертельно не хватало ее, и он безмерно сожалел об упущенных возможностях. Они были счастливы и прожили хорошую жизнь – во всех отношениях. У них была крыша над головой, вдоволь еды и даже некоторые предметы роскоши. Им хватало денег, но катастрофически не хватало времени. Но что толку сидеть и думать о том, чего уже не изменишь? Кору не вернуть. И Джошуа решил, по крайней мере, хватать то, что еще было для него доступно. Он никогда не отличался общительностью и знал, что из каждых десяти человек девять либо беспросветные дураки, либо негодяи. Поэтому он отдавал предпочтение таким удовольствиям, которым можно предаваться в одиночку. Конечно, лучше было бы делить их с Корой. Только не полеты. Сидя в своей «Сессне-Турбо», он чувствовал себя свободным не только от силы тяжести, но и от всех земных горестей. В девять с минутами Джошуа, освеженный полетом, приземлился в Сан-Франциско. Меньше чем через час он был уже в Первом Тихоокеанском объединенном банке и пожимал руку вице-президента банка, мистера Рональда Престона, с которым накануне беседовал по телефону. Кабинет Престона поразил его роскошью обстановки. Мебель была сплошь из полированного тика; кресла обиты натуральной кожей. Сам Престон оказался высоким, сухопарым, даже хрупким джентльменом с аккуратно подстриженными усиками; он очень быстро говорил и энергично жестикулировал, что свидетельствовало о нервной, легко возбудимой натуре. Он произвел на Джошуа впечатление умного, знающего свое дело работника. На столе уже ждали папки с надписью «Бруно Фрай» и заложенными страницами. Здесь хранилась вся информация о банковских операциях и тех случаях, когда клиент наведывался в хранилище и пользовался сейфом. – На первый взгляд, – начал Престон, – может показаться, будто я предоставил в ваше распоряжение не все копии чеков. Уверяю вас, это не так. Вот уже пять лет мистер Фрай выписывал примерно три чека в месяц, а в последние полтора года – два. Всегда на одних и тех же лиц. Джошуа не стал открывать папку. – Посмотрю на досуге. Сначала мне хотелось бы побеседовать с кассиром. Синтия Уиллис оказалась деловой, довольно привлекательной темнокожей женщиной тридцати с чем-то лет. У нее была аккуратная прическа и ухоженные руки с безукоризненным маникюром. Мисс Уиллис держалась с большим достоинством. Она опустилась на предложенный стул и выпрямила спину. Джошуа достал из конверта пятнадцать фотографий разных людей,когда-либо проживавших в Санта-Елене, и разложил на столе. – Мисс Уиллис… – начал он. Женщина поправила: – Миссис Уиллис. – Прошу прощения, миссис Уиллис. Будьте добры взглянуть на эти снимки и сказать, есть ли среди них фотография Бруно Фрая. Женщина перебрала все пятнадцать фотографий и выбрала две. – Вот он. – Вы уверены? – Абсолютно. Это было нетрудно. Остальные нисколечко на него не похожи. Она прекрасно справилась с заданием. Джошуа намеренно выбрал фотографии качеством похуже. Кроме того, вопреки ее утверждению, некоторые лица смахивали на Бруно Фрая. Однако это не сбило миссис Уиллис с толку. Она постучала по двум снимкам указательным пальцем. – Вот человек, который приходил в прошлый четверг вечером. – Утром в четверг, – возразил Джошуа, – он был убит в Лос-Анджелесе. – Не может быть, – заявила женщина. – Здесь какая-то ошибка. – Я сам видел труп. В воскресенье мы погребли его в Санта-Елене. Кассир покачала головой. – Скорее всего вы похоронили кого-то другого. – Я знал Бруно с пятнадцатилетнего возраста, – настаивал Джошуа. – Я не мог ошибиться. – А я говорю, что видела именно его, – стояла на своем миссис Уиллис. Она бросила взгляд на Престона – отнюдь не тревожный, потому что знала себе цену. – Пусть мистер Престон думает, что хочет: он не видел клиента. А я видела. Это был мистер Фрай. Вот уже пять лет, как он регулярно является в банк. Обычно он клал на свой счет пару тысяч долларов, иногда три тысячи – как правило, наличными. Это не часто встречается, поэтому-то я его и запомнила. Да еще внешность. Стальные мускулы. Я могу поклясться, что именно он, а не кто-то другой подошел в тот вечер к моему окошку. Да хоть бы я его и не видела – мигом узнала бы по голосу. – Голос можно подделать, – изрек Престон. – Только не такой, – парировала его подчиненная. – Все можно подделать, – высказал свое мнение Джошуа. – Просто иногда это требует больших усилий. – А глаза? – не сдавалась миссис Уиллис. – Что глаза? – Они были холодны, как лед, – сказала женщина. – Не из-за серо-голубого цвета. Просто очень жесткие и колючие. Он почти никогда не смотрел вам в лицо, а всегда в сторону, словно боялся, что вы прочитаете его мысли. Зато уж если взглядывал на вас в упор, у вас появлялось такое ощущение, как будто вы имеете дело с… не совсем нормальным человеком. Верный служебной этике, Престон поспешил возразить: – Миссис Уиллис, я полагаю, мистер Райнхарт предпочитает, чтобы вы придерживались фактов, а не высказывали собственное мнение. Это только запутывает вопрос. Кассир упрямо покачала головой. – Я знаю только одно: у человека, который приходил сюда в прошлый четверг, были те самые глаза. Джошуа оторопел. Дело в том, что он и сам, глядя на Бруно, не раз думал: вот человек, терпящий жестокую нравственную пытку. В глазах Фрая жило какое-то затравленное выражение – но также и та леденящая жестокость, о которой упомянула миссис Уиллис. После ее ухода Рональд Престон вызвал Джейн Симмонс, ту самую служащую, которая препроводила двойника Бруно Фрая в хранилище. Это была женщина лет двадцати семи, рыжая и зеленоглазая, с курносым носом и сварливым характером. Ее унылый голос и раздражительность произвели на Джошуа самое неблагоприятное впечатление, и он невольно отдал дань худшим сторонам своей натуры. Однако от его вспышек нетерпения женщина становилась все брюзгливее. Да, темнокожая миссис Уиллис понравилась ему гораздо больше. Однако и Джейн Симмонс производила впечатление честной и правдивой сотрудницы. – Ну, и что вы обо всем этом думаете? – поинтересовался Престон, когда они остались одни. – Не похоже на сговор, – ответил Джошуа. Его собеседник постарался скрыть облегчение. – Должно быть, – продолжал адвокат, – человек, обратившийся к вам в прошлый четверг, обладал поразительным сходством с Фраем. Что же касается миссис Уиллис, то она показалась мне весьма знающим и добросовестным работником. На вашем месте я бы ее более эффективно использовал. Престон откашлялся. – Ну, и… что же теперь делать? – Я бы хотел взглянуть на содержимое сейфа. – Очевидно, у вас нет ключа? – Нет, Фрай пока еще не встал из могилы, чтобы отдать мне его. – Я думал, может, вы наткнулись на него среди прочих вещей. – Нет. Раз он оказался у самозванца, значит, скорее всего это и был настоящий ключ Бруно Фрая. – Но как он к нему попал? Если предположить, что мистер Фрай сам отдал ключ и попросил снять деньги со счетов, тогда все становится на свои места. – Мистер Фрай не мог дать такого поручения: он был уже мертв. Так вы позволите мне взглянуть на содержимое сейфа? – Нужно иметь оба ключа одновременно, – объяснил Престон. – Клиента и банка. В противном случае придется взломать дверцу. – Прошу вас как можно скорее сделать это, – сухо ответил Джошуа. Через тридцать пять минут они с Престоном стояли в хранилище банка и наблюдали за тем, как технический работник взламывал внешнюю дверцу сейфа. – Готово, – торжественно произнес Престон. – А чтобы никто потом не мог обвинить банк в незаконном изъятии ценностей, прошу вас открыть внутреннюю дверцу в моем присутствии. – Разумеется, – кисло пробормотал Джошуа. Внутри оказался лишь один запечатанный конверт, а в нем – листок бумаги с отпечатанным на машинке текстом. За всю свою жизнь Джошуа не приходилось читать ничего более странного. Казалось, писал человек в состоянии белой горячки. «Четверг, 25 сентября. Тем, кого это касается. Моя мать, Кэтрин Энн Фрай, скончалась пять лет назад, но продолжает приходить ко мне в новых обличьях. Она знает секрет, как воскресать из мертвых, и хочет погубить меня. Сейчас она живет в Лос-Анджелесе под именем Хилари Томас. Сегодня утром она дважды поразила меня ножом, и я умер. Теперь моя задача – вернуться и умертвить ее раньше, чем она убьет меня во второй раз. Потому что тогда я уже не воскресну, так как не обладаю ключом к тайне. Мне так пусто, так одиноко. Я больше не являюсь единым целым. Оставляю эту записку на случай, если она победит. Пока я не умер во второй раз, это – моя сокровенная война, моя и ничья больше. Я не могу выступить с открытым забралом и обратиться в полицию, иначе все узнают, кто я, и что я, и как всю жизнь прятался, – и тогда они насмерть забьют меня камнями. Но если она вторично убьет меня, это уже не будет иметь значения. Возможно, прочитавший записку отыщет средство остановить ее. Для этого нужно отрубить ей голову и набить чесноком рот. Вырвать из груди еще трепещущее сердце и воткнуть в него деревянный кол. Похоронить сердце и голову в разных местах. Она не вампир, но я думаю, это все-таки сработает и она навсегда останется мертвой». Под текстом стояла подпись Бруно Фрая – великолепная подделка! Конечно, подделка – что же еще? Когда писались эти строки, Фрай был уже мертв. Джошуа почему-то вспомнил ночь пятницы; как он вышел из похоронного бюро «Вечный покой» и почувствовал неладное, а от гаражей метнулась чья-то тень. – Что там такое? – поинтересовался Престон. Джошуа протянул ему листок. Престон прочитал и вытаращил глаза. – Как это понимать? – Должно быть, письмо подбросил самозванец, снявший деньги со счетов. – Но зачем? – Может, ему нравится валять дурака, играя в призраки. Он знал, что сейф рано или поздно откроют. – Но это… несколько странно… – проговорил банкир. – Я хочу сказать, можно было бы ожидать злорадства: мол, он утер всем нам нос… Но такое?!. Нет, это не очень-то похоже на шутку. Бессмыслица – да, но этот человек явно был настроен вполне серьезно. – Вы полагаете, что Бруно Фрай сам написал это письмо после своей смерти и положил в бокс? – Н-нет. Конечно же, нет. – Тогда что же? Вице-президент банка опустил глаза. – Я бы сказал, что этот человек как две капли воды похож на мистера Фрая. Он говорит, как мистер Фрай, имеет при себе водительские права на имя мистера Фрая и знает, что мистер Фрай держит свои деньги в Первом Тихоокеанском объединенном банке. Этот человек не выдает себя за мистера Фрая – он искренне считает себя мистером Фраем. Он не обычный вор, пусть даже со склонностью к черному юмору, а по-настоящему больной человек. Джошуа наклонил голову в знак согласия. – Не спорю. Но, однако, откуда он взялся, этот двойник? Кто он? Знал ли Фрай о его существовании? Почему этот человек так же, как сам Фрай, ненавидел Кэтрин Фрай и был одержим той же манией? Как могли эти двое страдать одним и тем же маниакальным психозом, считая, будто она способна воскресать из мертвых? Тысяча и один вопрос. Прямо голова кругом. – Да уж, – вздохнул Престон. – И ни одного ответа. Но я, по крайней мере, знаю, что нужно сделать в первую очередь. Предупредить Хилари Томас о грозящей ей опасности.* * *
После похорон Фрэнка Говарда (со всеми полицейскими почестями) Тони и Хилари сели на самолет до Сан-Франциско. Хилари без умолку трещала, стараясь отвлечь Тони от мрачных мыслей. Сначала он был очень рассеян и отвечал невпопад, но потом оценил ее усилия и понемногу вышел из состояния депрессии. Они приземлились в международном аэропорту Сан-Франциско, а оттуда должны были трехчасовым рейсом лететь в Напу. Чтобы убить время, они перекусили в ресторане аэропорта. Кофе оказался неплох, зато сандвичи – прямо резиновые. Когда они шли по летному полю к своему самолету, Хилари стало страшно. – Что случилось? – забеспокоился Тони. – Точно не знаю, но… чувствую, что что-то не так. Может, мы лезем прямо в пасть ко льву? – Фрай находится в Лос-Анджелесе. Откуда ему знать, что ты на пути в Санта-Елену? – Ты так думаешь? – Неужели ты все-таки веришь в его сверхъестественные способности? – Ничего нельзя исключить. – В конце концов все объяснится. – Так или иначе, я не могу избавиться от предчувствия. – Предчувствия – чего? – Чего-то еще худшего, – сказала она. После быстрого, но сытного обеда в кафетерии Первого Тихоокеанского объединенного банка Джошуа Райнхарт и Рональд Престон встретились с группой федеральных банковских чиновников, а также несколькими чиновниками штата. И те и другие оказались страшными бюрократами, но Джошуа терпел, потому что его служебный долг требовал, чтобы он добился возмещения убытков, нанесенных наследству Фрая. Едва отбыли чиновники, явился Уоррен Сэккет из ФБР. Поскольку деньги были украдены из федерального банка, это преступление подпало под юрисдикцию Бюро. Долговязый, очень серьезный человек с тонкими умными чертами, Сэккет уединился с Джошуа и Престоном, и они обсудили все подробности. Сэккет согласился, что Хилари Томас грозит опасность, и взял на себя труд уведомить лос-анджелесскую полицию. Каким бы профессионалом ни был Сэккет, Джошуа понял, что ФБР потребуется по меньшей мере несколько дней, чтобы раскрыть это дело, – если, конечно, человек, назвавшийся Бруно Фраем, не явится с повинной. Для них это не было делом первостепенной важности. Страну наводнили вооруженные шайки террористов; набирала силу мафия; так что Сэккету не дали ни одного помощника. Он будет действовать медленно, но верно, разберется, куда ведут следы, и допросит всех имеющих отношение к делу. Придется также сделать запрос в другие калифорнийские банки – нет ли у них неизвестных счетов Бруно Фрая? Возможно, Сэккет на пару дней подскочит в Санта-Елену. Когда он кончил задавать вопросы, Джошуа обратился к Рональду Престону: – Если я верно понял, сэр, пропавшие восемнадцать тысяч не будут возмещены в срочном порядке? – Ну… – Престон нервно потеребил усики. – Нам придется подождать заключения страховых органов. Джошуа повернулся к Сэккету: – Если не ошибаюсь, страховая компания будет ждать вашего заключения о том, что ни я, ни другие доверенные лица Фрая не совершали незаконного изъятия денег? – Скорее всего да, – подтвердил фэбээровец. – Крайне запутанное дело. – Так что пройдет немало времени, прежде чем вы дадите такое заключение? – Мы не задержим вас ни одного дня сверх положенного срока. Это займет от силы три месяца. Адвокат вздохнул. – А я-то надеялся быстро управиться. Сэккет пожал плечами: – Возможно, и не понадобится трех месяцев. Никогда не знаешь заранее. Может, завтра-послезавтра я поймаю этого парня. Ситуация настолько неординарная, что трудно правильно рассчитать. – Черт, – буркнул Джошуа. Когда через несколько минут он направлялся к выходу, его окликнула из своего окошечка миссис Уиллис. – Знаете, что бы я сделала на вашем месте? – Что? – Выкопала труп. – Бруно Фрая? – Нет там никакого Фрая, – безапелляционно заявила миссис Уиллис. – Если у мистера Фрая и был двойник, то именно он сейчас покоится под могильной плитой. Настоящий мистер Фрай приходил сюда в прошлый четверг. Я готова повторить это под присягой. Жизнью клянусь. – Но если в Лос-Анджелесе убит другой, где может быть настоящий Фрай? Почему он скрывается? – Понятия не имею. Я знаю только то, что видела своими глазами. Выкопайте его, мистер Райнхарт, и, я уверена, вы убедитесь, что похоронили не того человека.* * *
В среду, в три часа двадцать минут, Джошуа посадил самолет в аэропорту на окраине города Напа. Население столицы графства составляло не больше сорока пяти тысяч человек, но в глазах Джошуа, привыкшего к деревенской тишине Санта-Елены, это был шумный и утомительный город – такой же, как Сан-Франциско. Из аэропорта он на своей машине добрался до Санта-Елены, но не поехал к себе домой, а подкатил к особняку семейства Фрай, одиноко стоявшему на вершине утеса. Его построил Лео Фрай, патриарх, отец Кэтрин, в 1918 году. Лео относился к мрачному прусскому типу и больше всего дорожил своей независимостью. Он выбрал место, откуда хорошо просматривалась долина и где не было соседей. Незадолго перед тем Лео овдовел и остался с маленькой дочерью на руках, но, несмотря на это, выстроил особняк в викторианском стиле из двенадцати комнат. К дому можно было подобраться двумя способами: либо в четырехместной гондоле подвесной канатной дороги, либо по почти отвесной лестнице длиной в триста двадцать ступеней – ее строили на случай, если фуникулер временно выйдет из строя. Дом казался неприступной крепостью. Свернув с шоссе на дорогу, ведущую к винодельням Фраев под красивым названием «Раскидистая крона», Джошуа попытался припомнить все, что знал о Лео Фрае. А знал он совсем немного. Кэтрин редко упоминала об отце, а друзей у него почти не было. Джошуа переехал в долину в 1945 году, через несколько лет после смерти Лео. Но до него доходили слухи, по которым он составил представление о Лео как о холодном, суровом, замкнутом, упрямом, очень умном и властном эгоисте. Что-то вроде феодала далеких времен, средневекового аристократа, предпочитавшего жить в хорошо защищенном, неприступном замке. После смерти отца Кэтрин продолжала жить в особняке. Там она вырастила Бруно, вдали от ровесников, среди зубчатых стен и деревянных панелей, подставок для ног, каминных часов и дорогих тяжелых скатертей. Здесь мать и сын прожили вместе тридцать пять лет, пока Кэтрин не скончалась от сердечного приступа. Странно, что взрослый мужчина так долго прожил в обществе одной только матери. Естественно, не обошлось без сплетен. Большинство сходилось во мнении, что Бруно не интересовался девушками, потому что питал тайную страсть к мальчикам. Поговаривали, что он удовлетворяет свой сексуальный голод во время случайных поездок в Сан-Франциско, подальше от любопытных соседей. Предполагаемый гомосексуализм Бруно не особенно шокировал жителей долины, в сущности, им не было до этого дела. Возможно, спокойствие этих мест располагало к мудрости. Но сейчас Джошуа пришло в голову: что, если общественное мнение ошибалось? После невероятных событий последних дней тайна Бруно Фрая стала казаться ему гораздо более темной и ужасной. Сразу после похорон Кэтрин глубоко потрясенный ее кончиной Бруно покинул особняк на утесе. Он забрал с собой всю одежду, коллекции картин, скульптуры из металла и книги, принадлежавшие ему лично, но оставил все принадлежавшее Кэтрин. В шкафах до сих пор висели ее платья. Ее античная мебель, статуэтки, хрусталь, музыкальные шкатулки, эмали – все это могло быть продано на аукционе и принести солидные барыши, но Бруно распорядился, чтобы все оставалось, как было при жизни Кэтрин. Он поставил на окна двойные ставни и засовы, запер на несколько замков двери, опечатал дом – и таким образом превратил его в сокровищницу, которая хранила память о его приемной матери. Бруно снял квартиру и приступил к строительству новой резиденции среди виноградников. Джошуа пытался убедить его, что неразумно оставлять сокровища в заколоченном и никем не охраняемом доме. Бруно сослался на то, что в здешних местах почти не бывает краж со взломом. Ключ от фуникулера хранился у самого Бруно. И потом, кроме него и Джошуа, никто не знал о ценности упрятанного от посторонних глаз имущества. Насколько Джошуа было известно, за пять лет ни одна живая душа не побывала в крепости на утесе. Подвесная дорога поддерживалась в хорошем состоянии благодаря ежемесячным профилактическим осмотрам техника, Джилберта Ульмана, приглашенного следить за подъездными путями к винодельням и прочим оборудованием. Завтра или, самое позднее, в пятницу, решил Джошуа, нужно будет подняться на вершину утеса и хорошенько проветрить помещения перед посещением экспертов из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Сейчас его гораздо больше интересовала новая резиденция Бруно. Джошуа свернул налево и покатил к автомобильной стоянке. Асфальтовая дорога шла через залитые солнцем виноградники – вплоть до самого дома, внушительного одноэтажного здания в стиле ранчо, построенного из камня и красного дерева, притаившегося в тени одного из девяти гигантских мамонтовых дубов, откуда и пошло красивое название особняка и всей винодельческой фирмы Фраев – «Раскидистая крона». Джошуа приблизился к парадной двери. На небе цвета электрик виднелись одно-два облачка. Легкий ветерок принес прохладу с поросших сосной склонов Маякамы. Джошуа отомкнул дверь, вошел внутрь и на несколько секунд застыл в ожидании, сам не зная, что он рассчитывает услышать. Возможно, шаги? Или голос Бруно? Но кругом было тихо. Он прошел через весь дом и наконец добрался до кабинета Фрая. Интерьер особняка свидетельствовал о том, что Бруно унаследовал от Кэтрин любовь к собирательству. На стенах, соприкасаясь рамами, теснилось такое количество картин, что трудно было сосредоточиться хотя бы на одной из них – в этом царстве красок и сюжетов. Повсюду стояли застекленные стенды с художественными изделиями из стекла, бронзовыми статуэтками, хрусталем и доколумбовыми скульптурами. Предметы мебели также громоздились один на другом; каждый являл собой шедевр эпохи и стиля. В огромном кабинете хранилось собрание из пяти или шести сотен редких книг, многие из которых были изданы ограниченным тиражом. Здесь также высились стенды с изумительными точеными фигурками и безукоризненно чистыми хрустальными шарами, меньший из которых был размером с апельсин, а самый крупный – с баскетбольный мяч. Джошуа отдернул шторы, включил бронзовую настольную лампу и опустился в современное кабинетное кресло со спинкой на пружинах, напротив английского письменного стола восемнадцатого века. Он достал из кармана загадочное письмо, извлеченное из сейфа Первого Тихоокеанского объединенного банка, придвинул кресло к стоявшей сбоку от стола пишущей машинке и отпечатал на чистом листе бумаги первое предложение: «Моя мать, Кэтрин Энн Фрай, скончалась пять лет назад, но продолжает приходить ко мне в новых обличьях…» Он сравнил образцы и не обнаружил ни малейшего различия. В обоих была забита нижняя закорючка буквы «е» – очевидно, литеры давно не чистились. Нижняя часть буквы «д» немного подскочила кверху. Письмо было явно отпечатано в этом кабинете, на машинке Бруно Фрая. Выходит, человек, выдавший себя в прошлый четверг за Фрая, располагал ключами от его дома? Как это могло произойти? Ответ лежал на поверхности: Бруно лично вручил ему ключи, а это значило, что он сам нанял двойника. Джошуа откинулся на спинку кресла и уставился на письмо. В мозгу вспыхнул целый фейерверк вопросов. Что побудило Бруно обзавестись двойником? Где ему удалось отыскать свою точную копию? Давно ли двойник работал на него и чем занимался? И не могло ли случиться так, что он, Джошуа, когда-либо имел дело с копией, принимая ее за оригинал? Возможно, даже не один раз? Возможно, даже чаще, чем с настоящим Бруно? Он не представлял себе, как все это выяснить. Неужели в то утро, когда Бруно был убит в Лос-Анджелесе, двойник находился здесь, в доме? Скорее всего так оно и было. Иначе как бы он отпечатал письмо, а затем подбросил его в сейф банка? Но как ему удалось так быстро узнать о смерти Бруно? Тело Фрая было найдено неподалеку от телефона-автомата… Возможно ли, что последним поступком Бруно было позвонить домой и предупредить двойника? Да, безусловно. Но что эти двое сказали друг другу в роковую минуту? Возможно ли, что они находились во власти одного и того же маниакального психоза, веря в воскресение Кэтрин из мертвых? Джошуа содрогнулся. Потом сложил письмо и убрал в карман куртки. Он вдруг впервые за пять лет отдал себе отчет в том, как мрачны эти комнаты, перегруженные мебелью и дорогими вещами. Портьеры, ковры – все было угрюмых, темных расцветок. В каком-то смысле особняк был такой же крепостью, как и дом на вершине утеса. Внезапно послышался шум. Джошуа похолодел. Подождал, прислушался. Снова прошел через весь дом и метнулся к входной двери. Никто его не преследовал. Однако, только очутившись на улице, он смог вздохнуть с облегчением. По дороге в свой офис он продолжал ломать голову над множеством неразрешимых загадок. Кто был убит в Лос-Анджелесе: Бруно Фрай или его двойник? Который из них побывал в отделении Первого Тихоокеанского объединенного банка – оригинал или копия? Как, не докопавшись до истины, уладить вопрос с наследством? У себя в кабинете он понял, что не стоит пренебрегать советом миссис Уиллис. Необходимо вскрыть могилу Бруно Фрая и точно определить, кто в ней находится.* * *
Тони и Хилари вышли из самолета в Напе, взяли напрокат автомобиль и в четыре часа двадцать минут уже были в штаб-квартире шерифа. Атмосфера здесь оказалась совсем не такой дремотной, как Хилари представляла по фильмам. Несколько сотрудников в форме и в штатском сосредоточенно корпели над своими папками. За большим металлическим столом с табличкой «Марша Пелетрино» сидела секретарша, женщина со строгими чертами лица и, как оказалось, неожиданно мягким, бархатным голосом. Она дружелюбно улыбнулась навстречу. Когда Марша Пелетрино доложила Питеру Лоренски, что его хотят видеть Энтони Клеменца и Хилари Томас, он сразу понял, кто они такие, и не предпринял попытки уклониться от встречи, как они ожидали, а вышел из кабинета и несколько неловко пожал им руки. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке и, очевидно, не горел желанием объяснять, как случилось, что на прошлой неделе он обеспечил Бруно Фраю ложное алиби. Несмотря на это, он пригласил Тони и Хилари в свой кабинет. Хилари была разочарована. Шериф Лоренски явно не принадлежал к тому типу заносчивого, упитанного и вечно жующего сигару «доброго малого» из провинции, которому ничего не стоит солгать, чтобы укрыть от правосудия местную знаменитость и денежный мешок, каким был Бруно Фрай. Шерифу Лоренски перевалило за тридцать; он был высок, белокур, чисто выбрит, доброжелателен и, по всей видимости, предан своей профессии. В его глазах светилась доброта, гармонируя с мягкими интонациями голоса. Он чем-то напоминал Тони. Обстановка его кабинета была почти спартанской. После одной-двух минут в обществе шерифа Хилари стало ясно, что и здесь они не могут рассчитывать на простое решение загадки Бруно Фрая. Они с Тони сели на старомодный диван с подушечками, которые можно было подложить под спину. Сам Лоренски выдвинул из-за письменного стола деревянный стул и, сев на него верхом задом наперед, обезоружил Хилари и Тони тем, что сразу взял быка за рога: – Боюсь, что я вел себя недостойно настоящего профессионала, уклоняясь от контактов с лос-анджелесской полицией. – Поэтому мы здесь, – заявил Тони. – Это официальный визит? – Нет, – ответил Тони. – Я выступаю как частное лицо, а не как полицейский. – За последние пару дней, – подхватила Хилари, – мы столкнулись со странными и необъяснимыми явлениями. Просто невероятными. Вот мы и понадеялись, что вы сможете пролить свет на эти события. Лоренски поднял брови. – Что-то еще, помимо нападения Фрая на вас? – Мы все расскажем, – произнес Тони, – но прежде нам хотелось бы знать, почему вы прятались от лос-анджелесской полиции. Лоренски кивнул. Он весь залился краской, но не собирался щадить себя. – Просто не знал, что сказать. Я свалял дурака, поручившись за Фрая. А потом надеялся, что все утрясется и забудется. – А почему вы за него поручились? – спросила Хилари. – Ну, просто… понимаете… я в самом деле считал, что он дома. – Вы с ним разговаривали? Лоренски прочистил горло. – Нет. Видите ли, когда в ту ночь позвонили из Лос-Анджелеса, на звонок ответил дежурный офицер, Тим Ларсон. Это один из надежнейших сотрудников. Мы уже семь лет работаем вместе, как говорится, пуд соли съели. Ну вот… Тим сразу же позвонил мне домой и спросил, хочу ли я сам заняться этим делом – все-таки речь шла об одном из влиятельнейших людей графства. Я еще не спал: мы допоздна отмечали день рождения дочери. Это не рядовое событие, и я решил в кои-то веки поставить на первое место личное. И так почти не уделяю детям внимания… – Я вас понимаю, – посочувствовал Тони. – Убежден, что вы здесь проворачиваете уйму работы. Кому, как не мне, знать, что в полиции не поработаешь от звонка до звонка. – Двенадцать часов в день, шесть или семь дней в неделю, – подтвердил шериф. – Так или иначе, Тим позвонил, и я поручил ему самому уладить этот вопрос. Понимаете, это звучало слишком неправдоподобно. Фрай – известная, даже выдающаяся личность, крупный бизнесмен, кажется, даже миллионер. С какой стати ему ставить все на карту в попытке изнасилования? Так что я попросил Тима разобраться и доложить мне, как обстоят дела. Как я уже сказал, он очень способный офицер и к тому же гораздо лучше, чем я, знал Фрая. Перед тем как перейти к нам, Тим пять лет проработал юрисконсультом в «Раскидистой кроне». Они с Фраем виделись практически ежедневно. – Так это Ларсон проверял Фрая? – Да. Он снова позвонил мне и сказал, что Фрай находится у себя дома, а никак не в Лос-Анджелесе. Я набрал Лос-Анджелес и… выставил себя на посмешище. Хилари насторожилась. – Не понимаю. Тим что, солгал? Лоренски смешался. Он встал со стула и начал мерить кабинет шагами, с угрюмо опущенной головой. Потом он произнес: – Я доверяю Тиму Ларсону. Всегда доверял. Он замечательный парень, один из лучших, кого я знаю. Но у меня нет объяснения случившемуся. – У него не было причин покрывать Фрая? – Вы имеете в виду, не были ли они корешами? Нет. Ничего подобного. Между ними не было даже простого приятельства. Просто Тим работал на Фрая. Он терпеть не мог этого человека. – Он сказал вам, что видел Бруно Фрая? – спросила Хилари. – В то время у меня самого сложилось такое впечатление. Но потом Тим уточнил, что всего лишь связался с Фраем по телефону и решил, что этого достаточно. Вам, должно быть, известно – у Фрая был весьма специфический голос. – Значит, Ларсон беседовал с кем-то, кто выдал себя за Фрая, имитируя его голос? – Так считает сам Тим, – отозвался шериф. – Это его единственное оправдание. Но оно не выдерживает критики. Кто это мог быть? Почему выгораживал преступника? Где сейчас этот человек? Кроме того, хочу повторить, голос Бруно Фрая было не так-то легко подделать. – И к какому же выводу вы пришли? – настаивала Хилари. Лоренски покачал головой: – Не знаю, что и думать. Вот уже неделю ломаю голову. Я склонен верить своему подчиненному – но имею ли я право? Происходит что-то неладное – но что? Я был вынужден до поры до времени отстранить Тима от работы – без сохранения содержания. Тони поглядел на Хилари, затем на шерифа. – Когда мы вам все расскажем, думаю, что вы вернете Ларсону ваше доверие. – И все-таки, – произнесла Хилари, – эта история по-прежнему кажется лишенной всякого смысла. Мы знаем гораздо больше вашего, мистер Лоренски, и то голова идет кругом. И они рассказали шерифу Напы о том, что Бруно Фрай навестил Хилари во вторник перед рассветом – через пять дней после своей гибели.* * *
Джошуа Райнхарт сидел у себя в офисе с бокалом «Джека Дэниэлса» в руке и перелистывал папку, переданную ему Рональдом Престоном. Помимо всего прочего, в ней имелись копии ежемесячных перечислений и чеков. У Джошуа было предчувствие, что изучение этих документов даст ему ключ к загадке. Недаром Бруно Фрай держал эти счета в глубокой тайне. В течение первых трех с половиной лет после открытия счетов Бруно выписывал по два чека в месяц – ни больше и ни меньше, и всегда на одних и тех же лиц: Риту Янси и Лэтэма Готорна. Оба эти имени ничего не говорили Джошуа Райнхарту. По неизвестной причине миссис Янси постоянно получала от Фрая пятьсот долларов в месяц. Все, что удалось узнать, это то, что миссис Янси живет в Холлистере, штат Калифорния. В чеках на имя Лэтэма Готорна ни разу не повторялась одна и та же сумма: она варьировалась от двухсот до шести тысяч долларов. Готорн жил в Сан-Франциско, на его чеках стоял штамп: «Только для вкладов. Лэтэм Готорн, букинист и оккультист». Последнее слово привлекло внимание адвоката, хотя он смутно представлял себе его значение. Толковый словарь дал определение оккультизма как веры в сверхъестественное, приверженности ритуалам и различным оккультным наукам, таким как астрология, хиромантия, черная и белая магия, демонология и сатанизм. Согласно словарю, оккультистом может называться и торгующий принадлежностями культа: колдовскими книгами, картами для гадания, предметами одежды, волшебными музыкальными инструментами, священными реликвиями, редкими травами, свечами и тому подобными вещами. За пять лет, со дня смерти Кэтрин и до его собственной гибели, Бруно Фрай выплатил Лэтэму Готорну более ста тридцати тысяч долларов. Нигде не содержалось никаких указаний на характер оказанных им услуг. Джошуа долил себе виски и стал читать дальше. В последние полтора года к этим двоим присоединился еще один получатель – доктор Николас Радж из Сан-Франциско. Джошуа позвонил в справочную службу, и ему дали все три телефона. Дам положено пропускать вперед. Поэтому Джошуа начал с Риты Янси. Она ответила после второго сигнала: – Алло? – Миссис Янси? – Да. – Рита Янси? – Верно. – У женщины был приятный, мелодичный голос. – Кто говорит? – Мое имя Джошуа Райнхарт. Я звоню вам из Санта-Елены. Я душеприказчик покойного Бруно Фрая. Молчание на другом конце провода. – Миссис Янси? – Вы хотите сказать, что он умер? – А вы не знали? – Откуда? – Это было во всех газетах. – Я не читаю газет. – Голос Риты Янси неузнаваемо изменился: теперь в нем преобладали жесткие, холодные ноты. – Он погиб в прошлый четверг. Женщина не прореагировала. – С вами все в порядке? – забеспокоился Джошуа. – Что вам от меня нужно? – Будучи душеприказчиком, я обязан позаботиться об уплате долгов покойного, прежде чем его состояние перейдет в руки законных наследников. – Ну и что? – Я обнаружил, что мистер Фрай ежемесячно выплачивал вам по пятьсот долларов, и подумал: может быть, за ним числится долг? Ему было слышно, как она дышит в трубку. – Миссис Янси? – Он мне ничего не должен. – Значит, это не была задолженность? – Нет, – отрезала она. – Вы на него работали? В каком качестве? Женщина заколебалась. И вдруг – щелк! – Миссис Янси? Ответа не было. Только далекое гудение. Джошуа снова набрал номер. – Алло? – Это я, миссис Янси. Похоже, нас разъединили. Щелк! Он хотел позвонить в третий раз, но понял, что она снова повесит трубку. Она явно нервничала. Очевидно, Рита Янси знала какой-то секрет Бруно и не собиралась открывать его Джошуа. Но она только раззадорила его любопытство. Ему стало ясно, что каждый, с кем Бруно рассчитывался через банк в Сан-Франциско, мог пролить свет на тайну двойника. Только бы заставить их говорить! Возможно, тогда он быстро разделается с тяготившими его обязанностями. Джошуа положил трубку и произнес вслух: – Нет, Рита Янси, так просто вы от меня не отделаетесь. Завтра же он слетает на «Сессне» в Холлистер и повидается с ней. Джошуа набрал номер доктора Николаса Раджа. Того не оказалось дома, но автоответчик записал его сообщение и домашний и рабочий телефоны. В третьем случае он уже не надеялся на удачу, однако Лэтэм Готорн мало того что сам снял трубку, но еще и оказался весьма словоохотливым джентльменом. Оккультист говорил слегка в нос, с еле заметным английским акцентом. – Я продал ему уйму книг, – ответил он на вопрос Джошуа. – И только? – Он был постоянным покупателем. – Но сто тридцать тысяч долларов? – Разделите это на пять лет. – И тем не менее… – Видите ли, это большей частью редкие книги. – А вы не хотели бы их выкупить? – спросил Джошуа, проверяя честность Готорна. – Выкупить? Я был бы счастлив. Разумеется! – За сколько? – Трудно сказать не глядя. – Но все-таки – сколько? – Если книги подверглись порче: вырваны или заляпаны страницы и тому подобное, – тогда другое дело. – Будем исходить из того, что они без единого пятнышка. Сколько бы вы дали? – Если книги в том же состоянии, как тогда, когда я продал их мистеру Фраю, я готов предложить немного больше первоначальной цены. Такая литература пользуется большим спросом. – Так сколько же? – настаивал Джошуа. – Ну, если из коллекции не пропала ни одна книга и они все в хорошем состоянии… в районе двухсот тысяч. – Вы бы выкупили их за цену, на семьдесят тысяч долларов превосходящую номинал? – Примерно. Точно скажу, когда посмотрю книги. – Неужели они настолько выросли в цене? – Такие – да. Это сейчас самое модное течение. – А что за течение? – поинтересовался Джошуа. – О чем эти книги? – Вы их не видели? – Кажется, они стоят на полках в его кабинете, – ответил Джошуа. – Просто я не представлял, что они какие-то особенные. – Все эти книги, – начал объяснять Готорн, – имеют отношение к оккультизму. Среди них есть запрещенные церковью и правительством штата еще когда-то в старину, и с тех пор они не переиздавались. У меня более двухсот постоянных клиентов. Один джентльмен в Сан-Хосе собирает литературу только по индусскому мистицизму, а одна дама из графства Марин стала обладательницей огромной библиотеки по сатанизму, включая дюжину малоизвестных изданий, существующих только на латыни… – Неужели все ваши покупатели тратят на книги столько же, сколько мистер Фрай? – Нет, разумеется. Таких наберется два или три человека. Но у меня есть несколько десятков клиентов, расходующих на эти цели около десяти тысяч в год. – Невероятно! – воскликнул Джошуа. – Почему? Этим людям кажется, будто они находятся на грани великого открытия – вот-вот откроют фундаментальные тайны бытия. Некоторые гоняются за бессмертием. Другие рассчитывают наткнуться на ритуал, который принесет им сказочное богатство или неограниченную власть над людьми. Это ли не веские мотивы? Если люди верят, что запретное знание даст им то, к чему они стремятся, они не останавливаются перед расходами. Джошуа крутнулся в своем вертящемся кресле и посмотрел в окно. С запада находили низкие свинцовые тучи. Они уже нависли над горным хребтом Маякама и вот-вот начнут спускаться в долину. – Скажите, а что именно в оккультизме привлекало мистера Фрая? – осторожно спросил Джошуа. – Он придерживался узкой специализации – его интересовала возможность общения с усопшими. Спиритические сеансы, вертящиеся столики, потусторонние голоса, видения, призраки и все такое. Но больше всего его занимали ожившие мертвецы. – Вампиры? – Да. Вампиры, зомби и тему подобные существа. Он прямо-таки набрасывался на литературу такого рода. Конечно, это не значит, что он увлекался романами ужасов и дешевыми сенсациями. Его интересовали факты и толкования, понятные лишь посвященным. – Например? – Ну, например… если иметь в виду эзотерические категории… он заплатил шесть тысяч долларов за рукописный дневник Кристиана Марсдена. – Кто это? – полюбопытствовал Джошуа. – Четырнадцать лет назад Марсден был арестован за убийство девяти человек в окрестностях Сан-Франциско. Пресса окрестила его Вампиром Золотых Ворот, потому что он всегда высасывал кровь своих жертв и расчленял трупы. – Вот как? – Отрубал руки, ноги и головы. – Ах да, помню. Ужасный случай. Грязновато-серые тучи медленно, но верно надвигались на Санта-Елену. – Весь тот год, когда он занимался убийствами, – продолжал Готорн, – Марсден вел дневник. Это поразительный документ! Он верил в то, что некий покойник по имени Адриан Тренч пытался воспользоваться его телом для возвращения с того света. Марсден вел постоянную изматывающую борьбу за контроль над собственной плотью. – Должно быть, он считал, что убивает не он, а Адриан Тренч в его облике? – догадался Джошуа. – Он писал об этом в своем дневнике, – подтвердил Готорн. – По каким-то своим причинам, которые он не хотел объяснить, Марсден верил, что для овладения его телом злой дух Адриана Тренча должен был пить человеческую кровь. – Лихо закрученная история, призванная убедить присяжных в его невменяемости, – цинично заметил Джошуа. – Марсдена действительно определили в сумасшедший дом, – сказал Готорн. – Там он и умер шесть лет спустя. Но он не прикидывался душевнобольным, чтобы избежать тюремного заключения. Он искренно считал, что дух Адриана Тренча старается изгнать его из его собственной телесной оболочки. – То есть был шизофреником. – Вероятно, – не стал спорить оккультист. – Однако нельзя полностью исключать и такую возможность: Марсден был в своем уме и описывал подлинные аномальные явления. – Еще раз? – Я допускаю, что Кристиан Марсден мог в действительности быть одержимым… кем или чем бы то ни было. – Вы шутите? – спросил Джошуа. – Если перефразировать Шекспира, – был ответ, – есть многое на земле и на небесах, чего мы не в силах объяснить. Долина почти полностью утонула в осенних сумерках. Наблюдая в окно за агонизирующим днем, Джошуа задал следующий вопрос: – Зачем мистеру Фраю понадобился дневник Марсдена? – Ему казалось, будто с ним происходит нечто похожее. – То есть Бруно полагал, что некий покойник норовит отнять у него тело? – Нет, – ответил Готорн. – Он идентифицировал себя не с Марсденом, а с его жертвами. Мистер Фрай считал, что его мать – кажется, ее звали Кэтрин – воскресает из мертвых в чужой телесной оболочке и замышляет погубить его. Он рассчитывал, что дневник Марсдена даст ему ключ к пониманию того, как с ней бороться. На Джошуа как будто вылили ушат холодной воды. – Бруно никогда не говорил мне ничего подобного. – Он держал это в тайне, – сказал оккультист. – Возможно, я единственный, кому он открылся, – по той причине, что я разделял его интерес к оккультизму. Да и то он только раз упомянул об этом. Он был одержим мыслью о том, что его мать регулярно встает из гроба, и смертельно боялся стать ее жертвой. Джошуа выпрямился в кресле. – Мистер Готорн, на прошлой неделе мистер Фрай пытался убить женщину в Лос-Анджелесе. – Да, я знаю. – Он покушался на нее, пребывая в уверенности, будто она и есть очередное воплощение матери. – Правда? Как это интересно! – Боже правый, сэр! Если вы представляли себе, что творится у него в голове, почему вы ничего не предприняли? Готорн остался невозмутимым. – Что бы вы хотели, чтобы я предпринял? – Ну, например, сообщили бы в полицию. Они провели бы с Фраем собеседование и, возможно, поняли бы, что он нуждается в помощи врача. – Мистер Фрай не совершил никакого преступления, – возразил Готорн. – Кроме того, вот вы предполагаете, что он сошел с ума, а я так не считаю. – Вы меня разыгрываете? – Отнюдь. Возможно, мать мистера Фрая действительно воскресала из мертвых, чтобы разделаться с ним. Возможно, ей это удалось. – Ради бога! Та женщина из Лос-Анджелеса не была его матерью! – Возможно, – повторил Готорн. – А возможно, и была. Сидя в удобном служебном кресле, Джошуа вдруг почувствовал, что теряет почву под ногами. Вначале Готорн показался ему образованным, хорошо воспитанным человеком, который видит в оккультизме источник средств к существованию. Теперь же он заподозрил, что его собеседник тоже со странностями. – Мистер Готорн, вы умный человек, преуспевающий бизнесмен. Судя по всему, вы много читали, получили хорошее образование. Вы рассуждаете разумнее многих моих знакомых. Мне трудно поверить, что вы всерьез верите в мистику и ожившие трупы. – Я ничего не отрицаю, – заявил его собеседник. – Мне кажется, моя готовность понять и принять нисколько не удивительнее, нежели ваше огульное отрицание. Мне странно, что интеллигентный человек не принимает идею существования других миров, кроме нашего собственного; чтобы воспринять ее, необходимо выйти за рамки устоявшихся догм. – Я допускаю, что мир полон тайн и мы познали только малую часть всего сущего, – согласился Джошуа. – Это не предмет спора. Я также полагаю, что с течением времени ученые найдут объяснение этим явлениям – путем лабораторных исследований, а не курения фимиама и бессмысленных заклинаний. – У меня нет веры в ученых, – заявилГоторн. – Я сатанист и только в этом мировоззрении нахожу ответы на свои вопросы. – Это что же, – удивился Джошуа, – обожествление дьявола? – Ну, не совсем так. Я верю в Иного Бога, Князя Тьмы. Его время придет, мистер Райнхарт. – Готорн говорил все так же спокойно и благодушно, как будто они лишь слегка поспорили о погоде. – Я с нетерпением жду того дня, когда Он свергнет Христа и всяких прочих божков и один воцарится на Земле. Это будет великое торжество. Исповедующие другие религии будут казнены и обращены в рабство, обезглавленные трупы их жрецов – скормлены собакам. Монахинь будут насиловать прямо на улицах. Церкви, мечети, синагоги, храмы станут местами отправления Его культа. Каждый житель Земли будет славить Его и приносить Ему в жертву младенцев. И пребудет царство Вельзевула на Земле во веки веков. Его пришествие не за горами, мистер Райнхарт. Были знамения. Да, теперь уже скоро! Джошуа оторопел. Несмотря на абсурдность того, что он говорил, Готорн производил впечатление разумного, здравомыслящего человека. Он не бесновался, не вопил и не изрыгал проклятия. В его голосе не было истерических нот, и это пугало Джошуа гораздо больше, чем если бы он рычал и брызгал слюной. – Может, нам встретиться? – предложил Готорн. – Мне бы хотелось посмотреть книги. Когда вам удобно? Джошуа отнюдь не горел желанием встречаться и вести дела с этим человеком. Лучше пусть коллекцию сначала посмотрят другие знатоки. Может, они смогут заплатить за книги такую же сумму. – Мы еще вернемся к этому, – ответил он. – Сейчас на мне масса других, более срочных дел. Возможно, через несколько недель. – Буду с нетерпением ждать звонка. – Если можно, еще два небольших вопроса, – сказал Джошуа. – Да? – Мистер Фрай не рассказывал вам, почему он боялся матери? – Уж не знаю, что она ему сделала, – ответил оккультист, – но он ненавидел ее всеми фибрами души. Я никогда еще не встречал такой лютой, звериной ненависти. – Я знал их обоих, – Джошуа как бы размышлял вслух, – и ничего не видел. Наоборот, считал, что он боготворит ее. – Значит, это была тайная ненависть, которую он много лет лелеял в тайниках сердца. – Что же она могла сделать? – Понятия не имею. Но за этим стояло что-то ужасное. Он даже не мог говорить об этом. Ваш второй вопрос? – Бруно не упоминал о двойнике? – Каком двойнике? – О ком-то, кто мог выдать себя за него. – Принимая во внимание его габариты и специфический голос, найти такого двойника было бы нелегким делом. – Очевидно, ему все-таки удалось. Я пытаюсь выяснить, зачем ему это понадобилось. – Почему бы вам не спросить самого двойника? Уж он-то знает, для чего его наняли. – Я еще не разыскал его. – Понимаю, – протянул Готорн. – Нет, мистер Фрай никогда не говорил о двойнике, но мне только что пришло в голову… – Что? – Может быть, это и есть та причина, по которой он хотел завести двойника. – Какая же? – Сбить с толку мать, когда она придет за ним с того света. Джошуа вынужден был признать, что в гипотезе Готорна что-то есть. – Ну что ж, – сказал он. – Спасибо за то, что уделили мне внимание. – Не стоит. Так я жду вашего звонка. Джошуа положил трубку и подошел к окну. Холодный, внезапно налетевший ветер заставлял дребезжать оконные рамы. Похоже, что в этом году осень быстро перейдет в зиму. Уже сейчас больше похоже на ненастный январь, чем на начало октября. Теперь Лэтэм Готорн казался ему гигантским пауком. «Пришествие Вельзевула не за горами. Были знамения. Да, теперь уже скоро!» В воздухе витала угроза. Вдруг кто-то постучал в дверь. Карен Фарр, его молодая, энергичная секретарша. – Я думала, вы уже ушли, – удивился Джошуа, взглянув на часы. – Ваш рабочий день кончился час тому назад. – Я задержалась с обеда – пришлось наверстывать. – Работа – важнейшая часть жизни, дитя мое. Но не стоит посвящать ей все свое время. Ступайте домой. Завтра наверстаете. – Да мне всего и осталось-то работы на десять минут, – возразила она. – И потом, к вам двое посетителей. – Я ни с кем не договаривался. – Они из Лос-Анджелеса. Лейтенант Клеменца и Хилари Томас. Та самая… – Знаю, знаю, – перебил Джошуа. – Скорее зовите их! Он устремился навстречу своим гостям. Последовали неловкие представления, потом Джошуа усадил их рядышком на диван, предложил прохладительные напитки, плеснул в бокалы немного «Джека Дэниэлса» и сам устроился в кресле напротив них. У Тони Клеменца был располагающий вид. Уверенный и деловитый молодой человек. Хилари Томас излучала достоинство и независимость. И, конечно, была очаровательна. С минуту никто не отваживался начать. Наконец Джошуа не выдержал: – Я никогда не верил в телепатию, но сейчас рискну попробовать. Вы приехали не только затем, чтобы поговорить о том, что случилось на прошлой неделе. Не правда ли? Случилось что-нибудь еще? – И очень многое, – подтвердил Тони. – Такое, что не лезет ни в какие ворота. – Нам посоветовал обратиться к вам шериф Лоренски, – добавила Хилари. – Может быть, вы прольете свет на эту загадку. – Я сам – в поисках разгадки, – возразил Джошуа. Хилари вскинула голову и с любопытством посмотрела на него. – Я тоже немного телепат. У вас здесь тоже возникли проблемы? Джошуа сделал глоток виски. – Будь я суеверен, я сказал бы, что… среди живых бродят покойники. Снаружи умер последний луч света; угольно-черная ночь поглотила долину. Пронизывающий ветер искал в оконных рамах щели, свистел и постанывал. Но в кабинете Джошуа стало по-новому тепло: его и Тони с Хилари согрела взаимная симпатия, а также общий интерес к загадке Бруно Фрая.* * *
Бруно Фрай проспал на заднем сиденье темно-синего «Доджа» до одиннадцати часов утра и, как обычно, проснулся от кошмара, под аккомпанемент грозных и непонятных шорохов. Какое-то время он неподвижно сидел в душном, плохо освещенном грузовом отсеке, обхватив руками плечи, ощущая себя бесконечно одиноким, брошенным и во власти страха. В конце концов он не выдержал и расплакался. «Я умер, – думал он. – Умер. Мерзкая, поганая сука выпустила из меня кишки». Постепенно он перестал плакать, и эту мысль вытеснили другие. «Если я умер, то как же я здесь сижу? Можно ли быть живым и мертвым в одно и то же время?» Он обеими руками схватился за живот. Там не было ни ножевых ран, ни шрамов. Мысли Бруно внезапно прояснились, как будто со дна сознания поднялся серый туман, и на короткое время действительность предстала перед ним такой, какая есть. Он начал спрашивать себя: да правда ли, что Кэтрин восстала из мертвых? Что, если Хилари Томас – всего только Хилари Томас и никакая не Кэтрин Энн Фрай, а его замысел – чистейшее безумие? А все прочие женщины, убитые им на протяжении пяти лет, – были ли они новыми воплощениями Кэтрин или обыкновенными, ни в чем не повинными женщинами? Бруно сидел на полу фургона, оглушенный своими мыслями, в полной растерянности перед этим новым взглядом на жизнь. И эти жуткие шорохи, наполнявшие собой его сны… Он вдруг понял, что если хорошо сосредоточиться и порыться в воспоминаниях детства, можно будет отыскать ответ. Из глубины памяти всплыла тяжелая двойная дубовая дверь в полу. Он увидел, как Кэтрин отпирает обе двери и сталкивает его в открывшийся люк, а затем захлопывает и запирает двери. Вспомнил ступеньки, ведущие куда-то вниз, под землю… Нет! Бруно зажал руками уши, чтобы не слышать знакомый шум, наводивший на него ужас. По всему телу струился пот. Он весь дрожал. – Нет! – прошептал он. – Нет, нет, нет! Сколько Бруно помнил себя, он стремился вспомнить, что это за шорохи: надеялся, что, вспомнив, освободится от них, изгонит их из своих снов. Но сейчас, на грани открытия тайны, он вдруг осознал, что действительность может оказаться еще ужаснее. И отверг возможное разоблачение. Фургон снова заполнили шипящие и свистящие звуки; омерзительные неведомые существа ползали по его телу, взбирались по спине и груди, пытались добраться до лица, проникнуть сквозь стиснутые губы и зубы в рот, заползти в ноздри. Бруно катался по полу, силясь стряхнуть их с себя или раздавить. Все же в фургоне оказалось достаточно света, чтобы галлюцинации понемногу рассеялись. Шорохи смолкли. По нему больше никто не ползал. Бруно вскочил на ноги. Пора отправляться на поиски. Мерзкая ведьма прячется где-то в городе и подстерегает его. Краткий миг незамутненного сознания остался позади. Бруно забыл недавние сомнения; к нему вернулась уверенность в том, что Кэтрин вернулась с того света и ее необходимо остановить. После ленча на скорую руку он двинул в Вествуд. Там он припарковал машину на соседней улице, забрался на заднее сиденье и стал наблюдать сквозь узкую щель. Возле самого ее дома стоял другой фургон – белый, в голубую и золотисто-желтую полоску, с надписью: «Услуги на дому. Уборка, мытье окон, обслуживание званых вечеров». В коттедже трудились три женщины. Они постоянно курсировали между домом и фургоном – выносили пластиковые мешки с мусором и обломки мебели, переносили пылесосы. Хилари Томас нигде не было видно; Бруно понял, что она сбежала и не вернется, пока не почувствует себя в безопасности. То есть пока не удостоверится, что он мертв. «Нет уж, – думал он, – если кто-то и умрет, так это ты. Слышишь, ведьма? Сначала я сам доберусь до тебя. Наколю тебя, поганая сука. Отрублю твою смердящую голову». В пять часов уборщицы вынесли оборудование и погрузили в фургон. Они заперли двери и уехали. Бруно последовал за ними. Это была единственная ниточка, которая вела к Хилари Томас, нанявшей этих женщин. Они должны знать, где она скрывается. Если ему удастся очутиться с одной из них наедине и заставить говорить, он узнает местонахождение Кэтрин. Полосатый фургон остановился перед одноэтажным оштукатуренным строением на одной из боковых улочек в полуквартале от Пико. Фрай проследил за тем, как три женщины, убиравшие квартиру Хилари Томас, вошли в здание, и приготовился ждать. Минут через десять появилась одна из них – молодая девушка лет двадцати, с длинными, до самого пояса, каштановыми волосами. Она шла, гордо вскинув голову и расправив плечи, упругой, пружинистой походкой; ветер развевал юбку ее форменного платья, и тогда Фраю становились видны ямочки на коленях. Девушка села в ярко-желтый «Датсун» и тронулась с места. Фрай немного поколебался, не зная, которой из трех больше известно о Хилари Томас, но все-таки последовал за ней. Она жила в Калвер-сити, в нескольких кварталах от киностудии «МГМ», в старом, но очень красивом бунгало, окруженном такими же небольшими домиками. Некоторые из них явно нуждались в капитальном ремонте. Другие как будто гордились тем, что их недавно покрасили, и радовали взор разноцветными ставнями, аккуратными маленькими верандами, чисто вымытыми стеклянными дверями и черепичной крышей. Район был небогатый, но весьма живописный. В доме было темно. Девушка вошла внутрь и включила свет. Бруно поставил свой «Додж» через улицу наискосок, там тень от деревьев была погуще. Погасил фары, выключил двигатель. На улице было очень тихо, только осенний ветер шелестел листвой да откуда-то доносилась музыка в стиле свинга. Бруно узнал популярную в сороковые годы мелодию Бенни Гудмена. Он сидел за рулем и ждал своего часа. К шести сорока Фрай пришел к заключению, что у молодой женщины скорее всего нет мужа или любовника. По крайней мере, такого, который бы жил вместе с ней. Иначе он бы уже давно вернулся с работы. Фрай дал ей еще пять минут. Без четверти семь он вылез из «Доджа» и, перейдя через улицу, приблизился к ее бунгало. Поднялся на веранду. Скрипнули доски. Он позвонил в колокольчик. Девушка приоткрыла дверь и, неуверенно улыбнувшись, спросила: – Что вы хотите? Она не сняла с двери цепочку – более тяжелую и прочную, чем те, которые Бруно доводилось видеть до сих пор, но далеко не столь надежную, как, должно быть, рассчитывала хозяйка коттеджа. И не такой силач, как Бруно Фрай, мог бы запросто одолеть это смехотворное препятствие. Стоило Бруно надавить плечом, как дверь распахнулась, сбив молодую женщину с ног; порванная цепочка только жалобно звякнула. Бруно одним прыжком очутился внутри и захлопнул дверь, уверенный, что никто на улице ничего не заметил. На девушке все еще была белая форменная одежда. Юбка задралась, обнажив бедра и красивые, стройные ноги. Бруно опустился на одно колено и наклонился над ней. Она была ошеломлена и плохо соображала. Он приставил ей к горлу нож. – Цыкнешь – пеняй на себя. Ясно? Растерянность сменилась ужасом; девушка задрожала, в глазах стояли слезы. Бруно слегка нажал на лезвие; появилась капелька крови. Девушка заморгала. – Только попробуй закричать, – свирепо предупредил Фрай. – Слышишь? Она сделала над собой усилие. – Хорошо. – Будешь паинькой? – Прошу вас, не делайте мне больно. – Я и не собираюсь. Будешь хорошо себя вести и помогать, я тебе ничего не сделаю. Попытаешься крикнуть или сбежать – разорву на части. Поняла? – Да, – еле слышно вымолвила она. – Будешь слушаться? – Да. – Ты живешь одна? – Да. – Муж есть? – Нет. – Приятель? – Он живет в другом месте. – Сегодня ждешь его? – Нет. – Врешь? – Клянусь, это правда. – Только попробуй меня обмануть, – пригрозил Фрай. – Изуродую так, что родная мать не узнает. Он приставил клинок к ее щеке. Девушка вздрогнула и закрыла глаза. – Как тебя зовут? – Салли. – О’кей, Салли. Я хочу задать тебе несколько вопросов, но не здесь. Девушка открыла глаза. Из них покатились слезы. Она проглотила комок. – Что вам нужно? – Задать тебе несколько вопросов насчет Кэтрин. Она наморщила лоб. – Я не знаю никакой Кэтрин. – Знаешь – под именем Хилари Томас. Она еще больше наморщила лоб. – Хозяйка коттеджа в Вествуде? – Сегодня ты делала у нее уборку. – Но я ее никогда не видела. – Это мы еще проверим. – Это правда. Мне ничего не известно. – Может быть, ты знаешь больше, чем тебе кажется. – Нет, правда! – Послушай. – Он через силу выдавил из себя улыбку и постарался придать голосу добродушную интонацию. – Давай перейдем в спальню: там удобнее. Салли затряслась, словно в приступе эпилепсии. – Вы хотите меня изнасиловать? – Да нет же. – Да, да, да! Фраю стоило огромного труда сдержаться. Он злился на эту идиотку за то, что она смеет ему перечить. Не хочет переходить в спальню. Жаль, что нельзя пырнуть ее ножом и вырвать информацию. Ему необходимо знать, где скрывается Хилари Томас. Фрай смекнул, что лучше всего обращаться с девушкой, как с куском толстой проволоки: гнуть то в одну, то в другую сторону, пока не сломается. Чередовать угрозы с лестью. Ему и в голову не пришло, что она может добровольно сообщить то, что ему нужно. По логике Фрая, ее наняла Хилари Томас, то есть Кэтрин, и, стало быть, она – участница направленного против него заговора. Не безучастный свидетель, а прислужница Кэтрин, ее шпионка – может быть, даже сама – оживший труп. Она не выдаст свою хозяйку – только если он принудит ее. – Я не собираюсь тебя насиловать. Обещаю. Но хочу, чтобы во время допроса ты лежала: так труднее сбежать. А раз тебе все равно суждено лежать на спине, лучше делать это не на жестком полу, а на удобной кровати. Я забочусь только о твоем удобстве, Салли. – Мне и здесь удобно, – нервно пробормотала она. – Не будь дурой. Кроме того, если кто-нибудь взойдет на крыльцо, он может услышать шум и заподозрить неладное. В спальне куда спокойнее. Ну-ка, вставай, живо! Девушка подчинилась и встала на ноги. Фрай приставил ей к шее нож, и они пошли в спальню.* * *
Хилари была не большой любительницей спиртного, но сейчас ее радовала возможность выпить бокал виски в обществе Тони и Джошуа Райнхарта. Адвокат рассказал им о деньгах, снятых со счетов Фрая в Первом Тихоокеанском объединенном банке, о загадочном письме, извлеченном из сейфа, и поделился своими сомнениями относительно того, что они похоронили настоящего Бруно Фрая. – Вы подумываете об эксгумации трупа? – поинтересовался Тони. – Пока еще нет. Сначала я хочу провернуть еще парочку дел. Если они пойдут успешно, возможно, эксгумация и не понадобится. Он поведал им о Рите Янси из Холлистера и докторе Николасе Радже из Сан-Франциско и передал свой разговор с Лэтэмом Роторном. Хилари зябко пожала плечами. – Можно подумать, что этот Готорн и сам недалеко ушел от Фрая. Джошуа вздохнул. – Если сажать в сумасшедший дом всех, у кого есть отклонения, скоро на земле никого не останется. Тони наклонился поближе к нему. – Вы поверили Готорну, что он не знает о двойнике? – Да, – убежденно ответил Джошуа. – Как ни странно, поверил. Он, конечно, помешан на сатанизме и небезупречен в моральном отношении, может быть, даже опасен, но, по крайней мере, я верю в его искренность. Возможно, Рита Янси или доктор Радж дадут более ценную информацию. Ну, и довольно об этом. Теперь мне бы хотелось послушать вас. Что стряслось в Лос-Анджелесе? Зачем вам понадобилось мчаться в Санта-Елену? Хилари и Тони по очереди ввели Джошуа в курс дела. Когда они закончили, он бросил на девушку пытливый взгляд и сказал: – Вы чертовски храбрая юная леди. – Вот уж нет, – запротестовала она. – Я до смерти напугана. В последнее время не чувствую ничего, кроме страха. – Бояться – еще не значит быть трусом, – возразил Джошуа. – В основе храбрости всегда лежит страх. Единственная разница между смельчаком и трусом та, что трус поднимает лапки кверху, а смельчак борется и в конце концов побеждает. Будь вы трусиха, вы сбежали бы на месячишко куда-нибудь на Гавайи или в Европу и предоставили все времени. А вы рванули сюда, на родину Бруно Фрая, можно сказать, в самое пекло, где подвергаетесь не меньшей, а, может быть, гораздо большей опасности, чем в Лос-Анджелесе. Я человек скептического склада ума и не особенно склонен к пафосу, но вами я восхищаюсь. Хилари вспыхнула и опустила глаза. – Если бы я была смелой, я осталась бы в городе и устроила ему ловушку, с собой в качестве приманки. Здесь мне вряд ли что-либо угрожает. Фрай уверен, что я в Лос-Анджелесе. Откуда ему знать, где я?* * *
Спальня. Салли лежала на кровати и полными слез глазами следила за бандитом. Фрай обследовал комнату, заглянул в ящики шкафов и наконец вернулся к ней. У нее была стройная и очень хрупкая шея с алым пятнышком крови. Девушка проследила за его взглядом и дотронулась до ранки. – Не беспокойся, – сказал Фрай. – Это всего лишь царапина. В спальне, расположенной в задней части бунгало, преобладали цвета земли. Три стены были выкрашены в бежевый цвет, а четвертая обтянута грубой тканью наподобие мешковины. На покрывалах и портьерах цвета кофе с молоком – абстрактные узоры. Полированная мебель красного дерева слегка мерцала в мягком свете бра. Салли лежала на спине – ноги вместе, руки по бокам. На ней по-прежнему было белое форменное платье; она натянула юбку на колени. Длинные каштановые волосы разметались по подушке. Бруно сел на край кровати. – Где Кэтрин? Девушка моргнула, чтобы смахнуть слезы, но вслед за ними тут же набежали новые. Он повторил вопрос: – Где сейчас Кэтрин? – Я же сказала, что не знаю никого по имени Кэтрин, – плачущим голосом произнесла она. У нее слегка подрагивала пухлая нижняя губка. – Ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду, – рассвирепел Фрай. – Нечего играть со мной в кошки-мышки. Сейчас она носит имя Хилари Томас. – Прошу вас… пожалуйста, отпустите меня! Он поднес острие ножа к ее правому глазу, направив его прямо на зрачок. – Где Хилари Томас? – Господи, – всхлипнула девушка. – Послушайте, мистер, здесь какое-то недоразумение. Вы очень ошибаетесь. – Хочешь остаться без глаза? – Я не знаю, где она! – с отчаянием в голосе выкрикнула Салли. – Не ври! – Клянусь вам, я не лгу. Он смерил ее пристальным взглядом. Над верхней губой, так же, как у корней волос, выступил пот. Фрай отвел нож в сторону. Она испытала облегчение. В следующую секунду Фрай яростно ударил Салли по лицу, так что у нее лязгнули зубы и закатились глаза. – Сука! Девушка разрыдалась. – Ты работаешь на нее. Значит, должна знать, где она прячется. – Мы часто делаем у нее уборку. В этот раз она позвонила, как обычно, и вызвала бригаду. Не сказала, куда уезжает. – Когда вы приехали, она была дома? – Нет. – Как же вы вошли? – Что? – Кто вам дал ключ? – Кто? Ах да. Ее агент. Литературный агент. Мы заезжали к нему в контору. – Где это? – Беверли-Хиллз. Вам нужно поговорить с ее агентом. – Как его зовут? Девушка замялась. – Какое-то смешное имя. Не могу вспомнить. Он снова приставил ей к глазу нож. – Топелис, – выдохнула она. Фрай убрал нож. В его мозгу зашевелилось какое-то воспоминание. Сначала он испытывал сомнения, но они быстро сменились решимостью. – У тебя темные волосы. И очень темные глаза… – Ну и что? – Девушка уже немного успокоилась, но теперь снова запаниковала. – Точно такие же, как у нее. – Я не понимаю, чего вы хотите. Мне страшно. – Ты думаешь, что можешь меня провести? Направить по ложному следу? Меня отправить к Топелису, а самой удрать? – Топелис знает, где ее искать. А я – нет. Мне нечего вам сказать. – Я сам знаю, где она, – заявил Бруно. – А если знаете, может быть, вы меня отпустите? Фрай расхохотался. – Поменялись телами, да? Салли уставилась на него. – Что вы сказали? – Ты вылезла из тела Хилари Томас и вселилась в эту девушку, не правда ли? Она перестала плакать. Страх оказался так велик, что слез как не бывало. Сука. Поганая сука. – Так ты всерьез рассчитывала обвести меня вокруг пальца? Решила, что я тебя не узнаю – после всего, что ты мне сделала? Салли начала заикаться. – Я в-вам н-ничего не сд-делала. Вы г-говорите странные в-вещи. Господи! Господи Иисусе! Что вам от меня нужно? Бруно нагнулся так, что их лица почти соприкоснулись, впился в девушку взглядом и прошипел: – Ты здесь, да? Спряталась от меня? Да, мама? Но я все вижу! Наконец-то я нашел тебя!* * *
По стеклу кабинета Джошуа Райнхарта стекали крупные дождевые капли. Глухо стонал ветер. – Я все же не понимаю, почему Фрай выбрал меня, – сказала Хилари. – Когда я приезжала сюда собирать материал для сценария, он держался вполне корректно и даже дружелюбно. Ответил на все мои вопросы насчет виноделия. Мы провели вместе два или три часа, и я не заметила в нем ничего особенного. Обыкновенный бизнесмен. И вдруг через несколько недель он является ко мне домой с ножом и, судя по тому письму, принимает меня за свою мать. Почему именно меня? Джошуа поерзал в кресле. – Вот сейчас я смотрел на вас и думал… – Что? – Может, он выбрал вас потому, что вы… немного похожи на Кэтрин. – Надеюсь, вы не хотите сказать, что мы имеем дело еще с одним двойником? – пошутил Тони. – Нет-нет. Это еле уловимое сходство. – Слава богу. Еще одного воскресшего мертвеца я бы не вынес. Джошуа встал, подошел к Хилари и, легонько приподняв за подбородок ее лицо, повернул его сначала влево, а затем вправо. – Разрез глаз, волосы, цвет лица… Да, сходство есть, хотя временами оно исчезает. Кроме того, Кэтрин была далеко не так красива, как вы. Джошуа отпустил Хилари, и она подошла к письменному столу. Рассеянно окинула взглядом канцелярские принадлежности: пресс-папье, зажим для бумаги, нож для вскрытия конвертов. Тони зорко следил за ней. – Что-нибудь случилось? Хилари повернулась лицом к обоим мужчинам: – Давайте подведем итоги. Мне хочется кое-что проверить. – Мы все в этом нуждаемся, – сказал Джошуа, возращаясь к своему креслу. – Эта история чертовски запутана – никак не удается выстроить цепочку. – Кажется, я добавлю еще одну закавыку, – сказала Хилари. – Давай, – ободрил Тони. – Насколько я могла понять, – начала Хилари, – вскоре после смерти матери у Бруно появилась идея фикс, будто она приходит к нему из могилы. На протяжении всех пяти лет он скупал у Лэтэма Готорна книги о выходцах с того света. Целых пять лет его мучил страх перед Кэтрин. Потом он вдруг увидел меня и решил, что я – Кэтрин в другой телесной оболочке. Почему же он столько ждал? – Что-то я не улавливаю, – признался Джошуа. – Почему Фраю понадобилось ждать целых пять лет, чтобы наконец облечь свои страхи в мою плоть и кровь? Адвокат пожал плечами: – Он же душевнобольной. Трудно ожидать от него логики в поступках. В отличие от Джошуа Тони уловил тайный смысл ее вопроса и нахмурился. – Кажется, я понял, что ты имеешь в виду. Господи, Хилари, у меня просто мороз по коже. Джошуа перевел растерянный взгляд с одного на другую. – Должно быть, я к старости стал медленно соображать. Может, вы все-таки объясните старику, в чем дело? – Что, если я – не первая женщина, которую Фрай принял за свою мать? – ответила Хилари. – Если он убивал и до встречи со мной? Джошуа вытаращил глаза. – Не может быть! – Почему? – Мы бы знали… Его бы давно разоблачили. – Не обязательно, – возразил Тони. – Одержимые манией убийства бывают очень осторожны и изобретательны. Некоторые разрабатывают скрупулезнейшие планы, но теряются, когда события начинают развиваться не по сценарию. Джошуа запустил пятерню в пышную белоснежную гриву. – Но если он умерщвлял и других женщин – где же трупы? – Только не в Санта-Елене, – ответила Хилари. – Он маньяк – и в то же время уважаемый гражданин. Когда Фрай находился в кругу знакомых, доктор Джекил брал в нем верх над мистером Хайдом. Я уверена: он уезжал убивать в другие места, подальше от долины. – Например, в Сан-Франциско, – предположил Тони. – Кажется, он часто туда наведывался. – Это мог быть любой город на севере штата, – добавила Хилари. – Погодите, – попросил Джошуа. – Всего одну минуточку! Допустим, Бруно куда-то уезжал и там встречал женщин, чем-то напоминающих его мать; допустим, он убивал их – должны же были остаться трупы? Полиция должна была усмотреть во всех этих случаях один и тот же почерк. Почему же она не искала современного Джека-Потрошителя? Почему мы ничего об этом не слышали? – Если убийства совершались в течение пяти лет в разных городах и даже в разных графствах, полиция могла и не связать их между собой, – пояснил Тони. – Калифорния – очень большой штат. Сотни тысяч квадратных миль. Многие сотни полицейских участков. А обмен информацией поставлен далеко не так хорошо, как хотелось бы. Хилари вновь заняла свое место на диване. – Возможно, на его счету уже множество – две, шесть, десять, пятнадцать – смертей, и я – первая жертва, оказавшая серьезное сопротивление. – Не «возможно», а в высшей степени вероятно, – поправил Тони. – Думаю, мы можем принять это предположение за основу. – Он взял со стола изъятое из сейфа письмо и перечитал фразу: «Моя мать, Кэтрин Энн Фрай, скончалась пять лет назад, но продолжает приходить ко мне в новых обличьях…» – «Обличьях», – эхом повторила Хилари. – Множественное число. По-видимому, можно смело заключить, что он неоднократно убивал ее. Лицо адвоката приняло пепельно-серый оттенок. – Выходит, я… все мы, жители Санта-Елены, жили много лет бок о бок со страшным злодеем, просто чудовищем – и не замечали этого! Тони помрачнел. – «Исчадие ада ходит среди нас в человеческом облике…» – Откуда это? – поинтересовался Джошуа. – У меня не память, а склад ненужных вещей. Все, что туда попадает, остается навсегда. Эти строки остались от школьных уроков Закона Божьего, они из писания какого-то святого – не припомню, кого именно. – Вы напомнили мне Лэтэма Готорна. – Джошуа зябко повел плечами. За окном завывал ветер.* * *
Фрай положил нож на ночную тумбочку, вне досягаемости для Салли, и внезапно рванул ее фирменное платье, так что полетели пуговицы. Парализованная страхом девушка была не в состоянии пошевелиться. Он ухмыльнулся. – Ну вот, мама. Я до тебя добрался. Под платьем оказались бюстгальтер, трусики и колготки. Фрай рванул лифчик; лопнули бретельки, затрещала материя. У Салли были довольно большие груди с темными сосками. Фрай грубо стиснул их руками. – Да, да, да, да! – Это слово в его устах приобрело значение жуткого заклинания. Он сдернул с нее туфли – правую, а затем левую – и отшвырнул в сторону. Одна угодила в трюмо: посыпались осколки. Этот звук вывел Салли из транса. Она попыталась вырваться и убежать, но силы покинули ее, и Фраю не составило труда подавить эту жалкую попытку бунта. Он снова с размаху ударил ее по лицу, так что у девушки открылся рот и помутились зрачки. Изо рта побежала тоненькая струйка крови. – Грязная шлюха! – заорал Фрай. – Не ты ли заявляла, что у меня не должно быть секса? Никогда, да? Мол, нельзя, чтобы какая-нибудь баба узнала, кто я такой. Ну, так ты и так это знаешь, мамуля! Знаешь все мои тайны. От тебя мне не нужно таиться, ты знаешь, что мой хрен – не такой, как у других мужчин. Знаешь, кем был мой отец. Мне нет нужды прятать от тебя мой клинок – наоборот, я всажу его в тебя! Глубоко-глубоко! Слышишь? Девушка рыдала; ее голова металась по подушке. – О нет, нет! Господи! Потом у нее вдруг прояснилось в голове; она устремила на него напряженный взгляд, и он снова узнал в ней Кэтрин. – Послушайте, – пролепетала она. – Пожалуйста, выслушайте меня! Вы больны. Вы очень больной человек. У вас все перепуталось в голове. Вам нужно лечиться. – Заткнись, заткнись, заткнись! Он начал что есть силы хлестать ее по щекам, и каждый удар, и каждый ее всхлип, и то, как побагровело и распухло ее лицо, – все лишь усиливало его возбуждение, а затравленный взгляд жертвы и вовсе довел Фрая до белого каления. Он весь дрожал от похоти и тяжело дышал, как бык; рот заполнила слюна, и ему приходилось ежесекундно сглатывать ее. Он мял, тискал, гладил прекрасные женские груди. Девушка провалилась в тяжелое полузабытье и лежала неподвижная, но не расслабленная. С одной стороны, Бруно всем своим существом ненавидел ее; ему не было дела до ее боли: наоборот, он испытывал потребность мучить ее. Она заплатит за все причиненные ему страдания, даже за то, что произвела его на свет. А с другой – ему было стыдно касаться грудей своей матери, стыдно ввести в нее пенис. Поэтому, терзая девушку, он как бы уговаривал – себя, а не ее: – Ты говорила, что, если я когда-нибудь займусь любовью с женщиной, она сразу поймет, что я – не человек, и вызовет полицию, и они упрячут меня в тюрьму, а потом сожгут на костре, потому что догадаются, кто мой отец. Но ты-то знаешь! Для тебя, мамочка, это никакая не тайна. Так что я могу смело проткнуть тебя. Всадить в тебя мой штык – и никто не сожжет меня заживо. При жизни Кэтрин Бруно не мог и помыслить о такой мести. Мать полностью поработила его. Но к тому времени, как она впервые явилась с того света в новом теле, он успел изведать вкус свободы и был полон новых, дерзких замыслов. Ему стало ясно, что либо он убьет ее и таким образом не позволит ей вновь распоряжаться его жизнью, либо она утащит его за собой в могилу. Он также сообразил, что может безнаказанно, не опасаясь разоблачения, овладеть ею. Она и без того знала, что он – сын Дьявола, гнусное отродье, потому что когда-то этот враг человечества изнасиловал ее и она забеременела. Все время, пока Кэтрин ждала ребенка, она всячески затягивалась и надевала железные обручи, чтобы скрыть свое состояние. А когда приспело время родить, уехала в Сан-Франциско, чтобы сделать это под присмотром опытной акушерки, которой хорошо заплатят за молчание. Перед отъездом она растрезвонила по всей Санта-Елене, что собирается взять на воспитание внебрачное дитя своей умирающей подруги, чьим последним желанием было, чтобы Кэтрин воспитала ее ребенка. Потом Кэтрин жила в постоянном страхе, что кто-то узнает, что Бруно – ее собственное дитя, а его отец – Владыка Ада. На его демоническое происхождение в первую очередь указывал пенис огромных размеров – у людей таких не бывает. Она без устали повторяла, что он должен всячески прятать его, иначе его схватят и сожгут на костре. Вбивала это ему в голову, еще когда он был слишком мал, чтобы знать, что такое пенис. Так, благодаря прихотливому стечению обстоятельств, мать стала для Бруно одновременно благословением и проклятием. Проклятием потому, что упорно возвращалась с того света, чтобы проверить, правильно ли он ведет себя. Но также благословением, потому что, если бы не эти возвращения, в кого бы он мог разряжаться, исторгая из себя кипящую лаву семенной жидкости? Если бы не она, он был бы обречен на воздержание. Он с ужасом ждал каждой новой реинкарнации и в то же время сгорал от нетерпения, предвкушая очередное слияние с женщиной. Бруно перевел взгляд с роскошных грудей Салли на черный треугольник внизу живота, просвечивающий через трусики желтого цвета; при этом его пенис разбух, угрожая взорваться. То было проявлением нечеловеческого начала, его звериной сущности. Он вцепился когтями в колготки и стащил их с прекрасных ног Салли-Кэтрин. Грубо раздвинул бедра и неуклюже заерзал, пристраиваясь у нее между ног. Девушка на мгновение пришла в себя и попыталась освободиться, но он как нечего делать уложил ее обратно. Тогда она забарабанила по нему кулаками, но он почти не почувствовал. Салли вонзила острые ногти ему в лицо, норовя выцарапать глаза. Фрай отстранился и с размаху брякнулся на нее, вцепившись одной рукой ей в горло. Он чуть не задушил ее.* * *
Джошуа Райнхарт вымыл в раковине три бокала из-под виски и сказал своим молодым друзьям: – Для вас эта история значит гораздо больше, чем для меня. Вот я и подумал: почему бы вам не слетать вместе со мной в Холлистер, к этой Рите Янси? – Я втайне надеялась, что вы нас пригласите, – созналась Хилари. – Похоже на то, – подхватил Тони, – что здесь нам сейчас нечего делать. Джошуа вытер руки посудным полотенцем. – Значит, решено. Вы уже заказали номер в гостинице? – Не успели. – Тогда добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу, – предложил Джошуа. Хилари дружелюбно улыбнулась. – Вы очень добры, но нам бы не хотелось быть вам в тягость. – Вы и не будете. – Вы не рассчитывали на наш приезд и… – Юная леди, – нетерпеливо произнес адвокат, – знаете, как долго у меня не было гостей? Более трех лет. А почему? Потому что я их не приглашал. Я вообще-то нелюдим и не сыплю приглашениями направо и налево. Если бы я думал, что вы с Тони способны стать для меня обузой, я бы ни за что не пригласил вас. Так что давайте не будем тратить время на бесплодный обмен любезностями. Вам нужен ночлег. Я могу предоставить его вам. Так что, едем? Молодые люди рассмеялись. – Спасибо, – сказала Хилари. – Мы правда очень рады. – Вот и отлично. – Мне нравится ваш стиль поведения, – добавила девушка. – Многие считают меня старым занудой. – Очень симпатичным занудой. Лицо Джошуа осветилось улыбкой. – Благодарю вас. Это следовало бы выгравировать на моей могильной плите: «Здесь покоится Джошуа Райнхарт, симпатичный старый зануда». Они уже выходили из кабинета, как вдруг зазвонил телефон, и Джошуа вернулся к столу, чтобы снять трубку. Звонил доктор Николас Радж из Сан-Франциско.* * *
Бруно лежал, всем телом навалившись на девушку, пригвоздив ее к матрасу, одной мускулистой рукой сжимая ей горло. Она хватала ртом воздух. Лицо Салли побагровело от агонии. Это безумно возбуждало его. – Не дергайся, мамуля. Зачем ты так? Ведь ты понимаешь, что сопротивление бесполезно. В конце концов победа будет за мной. Девушке стало ясно, что ей не вырваться, и она сломалась. Теперь под Бруно лежал безвольный мешок костей и мяса. Убедившись, что она сдалась душой и телом, Бруно убрал руку с ее поцарапанного горла, слез с кровати и в мгновение ока разоблачился, швырнув одежду на комод. Полюбовался своей эрекцией. Ее стальной твердостью. Размерами. Угрожающим оттенком. И снова залез на кровать. Салли бессмысленно глядела в потолок. Он сорвал ее последний оплот – трусики – и пристроился у нее между ногами. Изо рта капала слюна – прямо на ее прекрасные груди. Фрай ворвался в нее. Всадил в женщину свой дьявольский знак. Рыча, точно дикий зверь, вновь и вновь насаживал ее на себя, колол своим гигантским штыком, пока не хлынула сперма. Бруно представил себе белесовато-молочную влагу, заполняющую ее недра. Вот так же хлещет кровь из глубокой ножевой раны, разбрызгивая алые капли, похожие на алые лепестки. Сперма и кровь. Весь в поту, он вновь и вновь пронзал ее своим клинком. Туда! Туда! Туда! Позднее он возьмется за нож.* * *
Джошуа переключил звонок на селектор, чтобы Тони и Хилари слышали разговор. – Я позвонил сначала к вам домой, – начал Радж. – Никак не ожидал застать вас на работе в такое позднее время. – Я – работоголик, доктор Радж. – Нужно лечиться, – с неподдельным огорчением посоветовал врач. – Это нездоровый образ жизни. Мне доводилось лечить немало честолюбивых людей, для которых работа стала единственным смыслом жизни. Одержимость любого рода разрушает личность. – Доктор Радж, кто вы по специальности? – Психиатр. – Так я и думал. – Вы душеприказчик мистера Фрая? – Да. Вы, конечно, слышали о его кончине? – Только то, что написано в газетах. – Улаживая имущественные вопросы, я обнаружил, что мистер Фрай вот уже полтора года оплачивает ваши услуги. – Он раз в месяц консультировался у меня, – подтвердил Радж. – Вы знали, что он одержим манией убийства? – Конечно же, нет. – Столько времени лечили и не распознали в нем склонности к физическому насилию? – Я знал, что Фрай существует под огромным напряжением, но не думал, что он представляет опасность для окружающих. Вы должны понять: он тщательно скрывал эту сторону своей личности. Мы встречались только раз в месяц. Я предлагал – раз в неделю, но он отказался, хотя явно нуждался в медицинской помощи. Мне показалось, что он боится узнать что-то страшное о самом себе. Я не настаивал, потому что тогда он вообще мог отказаться от консультаций. Хоть какое-то лечение лучше никакого. – Что привело его к вам? – Вы имеете в виду – чем он был болен, на что жаловался? – Вот именно. – Как юрист, мистер Райнхарт, вы не можете не знать, что такое врачебная тайна. – Но ваш пациент умер. – Это не имеет значения. – Для него – имеет. Он оказал мне доверие. – После смерти больного соглашение о соблюдении тайны утрачивает юридическую силу. – Юридическую – да, – согласился доктор Радж, – но существуют и моральные обязательства. На мне лежит ответственность. Я не имею права нанести урон репутации своего пациента. – Весьма похвально, – холодно сказал Джошуа. – Но в данном случае ни одно ваше слово не причинит ему больше вреда, чем его собственные поступки. – Это тоже не имеет значения. – Доктор, создалась экстраординарная ситуация. На сегодняшний день я располагаю информацией, неопровержимо свидетельствующей, что на протяжении последних пяти лет Бруно Фрай убил значительное число женщин. – Вы шутите? – Не понимаю, доктор Радж, что вы нашли забавного в моих словах. Я не привык шутить, когда речь идет о массовых убийствах. Радж промолчал. – Далее, – продолжал Джошуа. – У меня есть основания полагать, что у Бруно Фрая был соучастник и он все еще на свободе. – В это трудно поверить. – И тем не менее это так. – Вы поставили в известность полицию? – Пока нет, – ответил Джошуа. – Во-первых, у меня недостаточно улик. Для меня-то их больше, чем нужно, но полиция может свести невероятные факты и события к совпадению. И потом, я не знаю, под чью юрисдикцию подпадут эти преступления. Похоже на то, что он убивал женщин в других графствах. Вот я и хочу спросить: не сообщил ли вам Фрай нечто такое, что расширило бы круг этих сведений? Возможно, это поможет мне принять решение относительно полиции. – Но… – Доктор Радж, если вы проявите упорство в защите данного пациента, это чревато новыми убийствами. Могут погибнуть еще женщины. Их смерть окажется на вашей совести. – Хорошо, – сказал Радж. – Но это не телефонный разговор. – Я завтра же вылетаю в Сан-Франциско. – Утром я свободен. – Вас устроит, если я и мои помощники приедем к десяти? – Отлично, – согласился Радж. – Но предупреждаю: прежде чем обсуждать психическое расстройство мистера Фрая, вам придется дать мне исчерпывающую информацию. – Разумеется. – И если вы не убедите меня в существовании непосредственной угрозы, я не открою для вас историю болезни. – Я абсолютно убежден, что смогу развеять ваши сомнения, – заверил адвокат. – У вас волосы встанут дыбом, обещаю. До завтра, доктор. Он положил трубку на рычаг и повернулся к Тони и Хилари: – Завтра у нас будет трудный день. Сначала Сан-Франциско и доктор Радж, а затем Холлистер и таинственная Рита Янси. Хилари встала с дивана, где сидела во время телефонного разговора. – Я готова облететь весь шар земной. По крайней мере, хоть что-то начинает проясняться. У меня впервые появилось такое чувство, что мы разгадаем эту загадку. – У меня тоже, – подхватил Тони и улыбнулся Джошуа. – А знаете… Судя по тому, как вы обработали Раджа, у вас настоящий талант следователя. Вы мастерски провели допрос! – Это тоже будет выгравировано на моей могильной плите, – заявил Джошуа. – «Здесь покоится Джошуа Райнхарт, симпатичный старый зануда, из которого вышел бы гениальный детектив». – Он поднялся на ноги. – Что-то я проголодался. У меня дома в холодильнике есть несколько бифштексов и пара бутылок «Каберне». Чего мы ждем?* * *
Фрай отвернулся от залитой кровью кровати и забрызганной стены. Положил окровавленный нож на тумбочку и пошел в ванную. В домецарила почти нереальная тишина, какой не бывает на земле. Его нечеловеческая энергия иссякла. Он чувствовал себя сытым и сонным; веки слипались; конечности налились свинцом. Он отрегулировал воду, сделав ее такой горячей, какую только мог выносить, и встал под душ. Смыл кровь с волос, лица и всего тела. Ополоснулся, снова намылился и снова ополоснулся. Он ни о чем не думал; память его была девственно чистой, как белый лист бумаги. Вид крови, стекавшей в отверстие ванны, не пробуждал воспоминаний об убитой женщине в соседней комнате: это была обыкновенная грязь. Все, чего ему хотелось, это привести себя в божеский вид и соснуть несколько часов в своем «Додже». Он был выжат, как лимон. Руки безвольно повисли по бокам; он едва волочил ноги. Фрай вытерся большим банным полотенцем, от которого пахло женщиной, но это не вызвало ни приятных, ни тяжелых ассоциаций. Сбоку от мыльницы он обнаружил щеточку для рук и долго выскребал кровь из-под ногтей и из складочек между фалангами пальцев. Когда Бруно выходил из ванной, чтобы забрать свою одежду, в поле его зрения попало огромное, в полный рост, зеркало на двери ванной – раньше он его не заметил. Он остановился и посмотрел на свое отражение, выискивая пятнышки крови. Их не было. Он вгляделся в свой вялый пенис и обвисшие тестикулы, тщетно пытаясь обнаружить знак дьявола. Он знал, что устроен не так, как другие мужчины. Мать всю жизнь тряслась от страха, что кто-нибудь узнает о его нечеловеческом происхождении. Бруно родился от земной женщины и клыкастого, покрытого чешуей, пахнущего серой зверя. Страх матери передался Бруно, еще когда он был несмышленышем, и с тех пор он испытывал смертельный ужас перед перспективой разоблачения и сожжения на костре. Поэтому он никогда не оголялся в присутствии других людей. В школе он избегал занятий спортом, объясняя это религиозными предписаниями, запрещавшими ему показываться голым перед товарищами. В кабинете врача никогда не обнажался ниже пояса. Мать уверяла, что всякий, кто увидит его половой орган, сразу поймет, что в его организме присутствуют дьявольские гены, и Бруно прожил сорок лет, разделяя это убеждение. Однако теперь, глядя на себя в зеркало, он не замечал никаких отличий. Вскоре после рокового сердечного приступа у Кэтрин он отправился в Сан-Франциско на порнографический фильм и с изумлением отметил, что у других мужчин почти такие же половые органы. Он посмотрел несколько лент, но не увидел ни одного человека, резко отличающегося в этом отношении от него самого. У одних пенис был немного больше, у других – чуточку меньше, у некоторых слегка искривленный и так далее – но все это были весьма незначительные вариации, а вовсе не та ужасная, ошеломляющая разница, которая сулила ему смерть у позорного столба. Растерянный, сбитый с толку, он вернулся в Санта-Елену, чтобы хорошенько обдумать свое открытие. Первой его мыслью было: мать лгала. Но в это было трудно поверить. Кэтрин рассказывала историю его зачатия семь раз в неделю, подробно описывая ненавистного дьявола и акт зверского изнасилования; при этом она тряслась, рыдала и выла от ужаса. Для нее это было вполне реальное переживание, а не легенда, придуманная с целью ввести его в заблуждение. И все-таки… Тогда, пять лет назад, ему не приходило в голову иных объяснений, кроме того, что его мать была лгуньей. На следующий день он опять поехал в Сан-Франциско – страшно возбужденный, исполненный решимости пойти на риск и впервые за тридцать пять лет жизни испытать секс с женщиной. Он отправился в салон массажа – слегка закамуфлированный бордель – и выбрал стройную, привлекательную блондинку. Она назвалась Тамми и, если бы не выступающие верхние зубы и слишком длинная шея, могла бы сойти за красотку. Во всяком случае, так показалось Бруно, и он с трудом удержался от извержения в брюки. В одной из кабинок, где пахло дезодорантом и засохшей спермой, он согласился с ее ценой и тотчас заплатил вперед. Тамми сняла кофточку и джинсы. У нее было такое соблазнительное тело, что на Фрая напал столбняк, и он чуть ли не с благоговением любовался девушкой. Перед его мысленным взором вставали сладострастные картины того, что он с ней сделает. Тамми села на край неширокой кушетки и, улыбаясь, предложила ему снять одежду. Бруно разделся до трусов, но никак не мог отважиться показать ей свой пенис. Глядя на прекрасные ноги девушки, пушистые волосы на лобке и полные груди, он страстно желал ее, но был не в силах освободиться от страха. Почувствовав его нерешительность, Тамми протянула руку и потрогала пенис через материю. Потом слегка потеребила его и сказала: «О, как я его хочу. Он такой огромный. Покажи его мне. Я ЕЩЕ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА НИЧЕГО ПОДОБНОГО». Как только она произнесла эти слова, Бруно уверился, что различие, которого он сам так и не смог заметить, все-таки существовало. Тамми попыталась стащить с него трусы, и он изо всех сил ударил ее по лицу. Она повалилась на кушетку, откинула голову назад и завопила. Бруно заколебался: может быть, следует убить ее? Хотя она и не видела его необыкновенный пенис, возможно, она что-то почувствовала благодаря одному только осязанию? Не успел он принять решение, как распахнулась дверь и вошел человек такого же могучего телосложения, как и он сам, с полицейской дубинкой. Бруно понял, что сейчас его оглушат, собьют с ног, начнут пытать, а потом сожгут заживо. Но, к его огромному удивлению, ему только помогли одеться и выпроводили вон. Тамми и не заикнулась о его неимоверно большом пенисе. Видимо, до нее все-таки не дошла та истина, что этот пенис – знак дьявола, его отца, неопровержимое доказательство его нечеловеческого происхождения. Он быстро оделся и пулей вылетел из салона – страшно смущенный и благодарный судьбе за то, что его секрет остался неразгаданным. Вернувшись домой, он еще раз обдумал происшедшее и тот страшный риск, которому подвергал себя, и раз и навсегда решил, что Кэтрин была права и ему придется обходиться без женщины. А потом Кэтрин начала являться к нему из гроба, и Бруно приспособился удовлетворять свои сексуальные потребности за ее счет, извергая потоки спермы во все прекрасные тела, в которые она вселялась. Он по-прежнему прибегал в этих целях к своей второй сущности, но все же время от времени было приятно и волнующе врываться в теплые, тугие, влажные глубины женского тела. По-прежнему стоя перед зеркалом, Бруно перевел взгляд с гениталий на поджарый, твердый, мускулистый живот, скользнул по мощному торсу и наконец встретился взглядом со своим отражением. Все остальное вдруг перестало существовать: им – без алкоголя, без наркотиков – овладели галлюцинации. Он, точно во сне, приблизился к зеркалу, прижался носом к носу второго Бруно, заглянул ему в глаза – нет, в самую душу – и на короткое время забыл, что перед ним – всего лишь отражение. Бруно слегка отодвинулся – тот, другой, последовал его примеру. Они облизнули губы и снова поцеловались – страстным, жгучим поцелуем. Несмотря на три испытанных с Салли-Кэтрин оргазма, вновь свершилось восстание плоти. Бруно прижал отвердевший член к гладкой зеркальной поверхности и стал медленно вращать бедрами. При этом он не переставал целовать и гладить второго Бруно. Через пару минут он почувствовал себя таким счастливым, как ни разу за все последние дни. Но галлюцинации отступили, и на него снова обрушилась жестокая действительность. Он понял, что ласкает вовсе не свою вторую плоть, а занимается любовью с плоским зеркальным отражением. Его как будто прошило током. Силы вновь покинули его. Он вспомнил о том, что умер. Половина его сущности умерла. Эта мразь на прошлой неделе всадила в него нож. Теперь он наполовину жив и наполовину мертв. Отныне его удел – безутешное горе. К глазам подступили слезы. Никогда больше он не сможет держать в объятиях свою вторую половину. Ласкать и принимать ласки. Отныне у него только две, а не четыре руки, всего один рот. Никогда ему не целовать себя; два языка не встретятся в жгучем поцелуе. Бруно заплакал. Никогда не заниматься с самим собой сексом, как бывало тысячи раз в прошлом. У него не будет иного любовника, кроме собственной руки. Ему не суждено испытать ничего другого, кроме жалких радостей мастурбации. Как же он одинок! Несколько минут Бруно молча проливал слезы перед зеркалом; его могучая спина сгорбилась под невыносимым бременем горя и отчаяния. Однако постепенно жалость к себе сменилась гневом. Это ее рук дело! Это все Кэтрин – поганая сука! Она убила часть его сущности, ополовинила, оставила его глубоко, непоправимо несчастным. Насквозь эгоистичная, порочная, ненавистная гадина! Им овладел инстинкт разрушения. Все еще голый, он как смерч пронесся по всей квартире, круша мебель, разбивая посуду, проклиная свою мать и отца-дьявола, проклиная весь мир, такой чужой и непостижимый.* * *
На кухне у Джошуа Райнхарта Хилари очистила три крупные картофелины и поставила тарелку с ними на столик, где они должны были дожидаться своей очереди быть помещенными в микроволновую печь. Огромные бифштексы были уже почти готовы. Легкий ручной труд успокаивающе действовал на нервы. Тревоги отступили, хотя и не покинули ее. Тони занялся приготовлением салата. Засучив рукава рубашки, он стоял рядом с ней возле раковины и чистил овощи. Джошуа находился здесь же, на кухне, и звонил шерифу. Он рассказал Лоренски об изъятии крупных сумм со счетов Бруно Фрая в Сан-Франциско и о двойнике, который рыщет по Лос-Анджелесу в поисках Хилари Томас, а также изложил их гипотезу о многих совершенных Фраем убийствах. В настоящее время Лоренски вряд ли мог что-либо предпринять, потому что скорее всего все эти преступления совершались не на его территории. Но, поскольку его репутация пострадала из-за того, что случилось на прошлой неделе, Джошуа предположил (и Хилари согласилась с ним), что он должен быть в курсе дела. Закончив разговор с шерифом Лоренски, Джошуа попробовал приготовленный Тони салат, поворчал по поводу жестковатой, по его мнению, редиски, сделал замечание Хилари насчет того, когда нужно закладывать в микроволновую печь картофель, а затем открыл две бутылки «Каберне», очень сухого вина от Роберта Мандави. На кухне с ним одна морока, подумала Хилари; впрочем, его суетливость и придирчивость больше забавляли, чем сердили ее. Она сама поражалась, как быстро сошлась с Джошуа Райнхартом – всего за пару часов знакомства. Его отеческая манера, ворчливая честность, ум, интеллект и несколько небрежная галантность привели к тому, что она в его обществе чувствовала себя необычайно легко и в полной безопасности. Они поужинали в столовой. Перед тем как сесть за стол, Джошуа сказал: – Одно условие. Пока мы не доедим последний кусочек бифштекса и не выпьем последний глоток этого прекрасного вина, а также кофе и бренди, ни слова о Бруно Фрае. – Согласна, – ответила Хилари. – На все сто, – поддержал ее Тони. – Мой бедный мозг отказывается продолжать работу в этом направлении. Кажется, в мире есть и другие темы для разговоров. – Бесспорно, – ответил Джошуа. – Но, к сожалению, многие из них так же безрадостны. Войны и терроризм, инфляция и новое пришествие луддитов, некомпетентные политики и… – …искусство, музыка, вино, последние достижения в медицине и новые технологии, которые значительно облегчат наш быт – вопреки луддитам, – на одном дыхании проговорила Хилари. Джошуа подмигнул ей через стол. – Вы Хилари или Полианна? – А вы Джошуа или Кассандра? – парировала она. – Кассандра была права, когда предсказывала смерть и разрушения, – возразил Джошуа. – Но люди неизменно отказывались слушать ее. – Что толку быть правым, если никто не верит? – О, я давно уже оставил попытки убедить людей в том, что наш главный враг – правительство и что Большой Брат всех нас погубит. А также в тысяче других вещей. Мне доставляет удовольствие сознавать свою правоту, доказательства которой я нахожу в газетах. – Ага, – поддразнила Хилари. – Вам все равно, даже если мир будет рушиться у вас под ногами. Главное – это иметь право гордо заявить: «Ну вот, я же говорил!» – Ух! – вырвалось у Джошуа. Тони засмеялся. – Берегитесь ее, Джошуа. Не забывайте: она зарабатывает на жизнь, умело жонглируя словами. Они еще три четверти часа беседовали о разных вещах, а потом незаметно для себя съехали на Бруно Фрая – задолго до того, как разделались с вином, не говоря уже о кофе и бренди. – Что все-таки могла сделать Кэтрин, – начала Хилари, – если он до такой степени боялся и ненавидел ее? – Это тот самый вопрос, который я задал Лэтэму Готорну, – ответил Джошуа. – Что он сказал? – Не имеет понятия. Мне и самому до сих пор трудно поверить, что между ними были такие отношения. Ведь я много лет общался с ними обоими. Казалось, Кэтрин обожала его. А Бруно – так просто боготворил мать. Весь город считал ее святой за то, что она взяла ребенка, а вот теперь в этом поступке мне чудится что-то дьявольское. – Минуточку, – попросила Хилари. – Что значит «взяла»? – То, что я сказал. Она не допустила, чтобы мальчик попал в сиротский приют, а открыла ему свой дом и свое сердце. – А мы-то считали, что он ее сын, – протянула Хилари. – Приемный, – уточнил адвокат. – Этого не было в газетах, – сказал Тони. – Это было слишком давно. Бруно почти всю свою жизнь прожил как Фрай. Иногда у меня возникала иллюзия, будто он похож на Фрая гораздо больше, чем ее собственный ребенок, если бы он у нее был. У него были точно такие же, как у Кэтрин, серо-голубые глаза. И, уж во всяком случае, такой же суровый, замкнутый характер. Говорят, Лео так же сторонился людей. – Если он был приемышем, – оживилась Хилари, – значит, у него все-таки мог быть брат-близнец. – Нет. У Бруно не было брата. – Как вы можете быть уверены? Может, она усыновила одного близнеца из пары? – Это объяснило бы факт появления двойника, – поддержал ее Тони. Джошуа нахмурился. – И где же этот близнец пропадал все это время? – Он мог вырасти в другой семье. – Хилари с жаром отстаивала свою гипотезу. – Возможно, даже в другом городе, другой части штата. Джошуа покачал головой: – Мог, но не вырос. Бруно был единственным ребенком. – Вы уверены? – Это абсолютно точно. Здесь все знают обстоятельства его появления в семье Фрай. – Жаль, – вздохнула Хилари. – Если допустить существование близнецов, многое встанет на свои места. Джошуа кивнул: – Я и сам предпочел бы простой ответ. Поверьте, мне ненавистна мысль о том, чтобы пробивать бреши в вашей теории. – А вы можете? – К сожалению, да. – Тогда попробуйте, – вмешался Тони. – Расскажите, откуда взялся Бруно, кто его настоящая мать. Возможно, все будет как раз наоборот – мы сами пробьем бреши в вашей истории. Возможно, она не так бесспорна, как вам кажется.* * *
Постепенно ярость улеглась, и Бруно взял себя в руки. Немного постоял среди учиненного им разгрома и побрел обратно в спальню. На кровати валялось зверски растерзанное тело женщины по имени Салли. Теперь, с опозданием, Фрай понял, что она – не Кэтрин, не новое воплощение его матери. Старая ведьма не могла воспользоваться телом Салли, пока жива Хилари Томас, – он совсем забыл об этом. Но Бруно не чувствовал раскаяния. Пусть даже Салли не была Кэтрин, все равно она – одна из ее прислужниц, посланная ей на помощь Владыкой Ада. Салли – часть направленного против него заговора. Может быть, она и сама – оживший труп, один из монстров, которые никак не желают оставаться там, где положено. Одна из НИХ. Бруно вздрогнул. Он не сомневался в том, что она знала местонахождение Кэтрин, но так и не выдала тайну – и, следовательно, заслужила свою смерть. Впрочем, это даже трудно назвать смертью: ведь она все равно вернется – в новом обличье. Пора забыть о Салли и возобновить поиски Хилари. Она все еще прячется где-то, подстерегая его. Он должен опередить ее и первым нанести роковой удар. Хорошо, хоть Салли дала ему зацепку. Имя. Этот Топелис наверняка знает, где она скрывается.* * *
Они втроем убрали посуду, и Джошуа налил всем еще вина, прежде чем приступить к истории восхождения Бруно от сиротского приюта до положения единственного наследника огромного состояния Фраев. За многие годы разрозненные сведения сложились в стройную картину. В 1940 году, в год рождения Бруно, Кэтрин исполнилось двадцать шесть лет. Она все еще жила вдвоем с отцом, Лео, в изолированном доме на вершине утеса. Только однажды Кэтрин почти год провела в колледже в Сан-Франциско, а потом бросила колледж и вернулась в долину. Она была очень привязана к родным местам и их огромному особняку в викторианском стиле. Кэтрин была красивой девушкой с великолепной фигурой и могла иметь сколько угодно поклонников. Однако ее это, кажется, вовсе не интересовало. Несмотря на молодость, ее угрюмая замкнутость и ледяное равнодушие к мужчинам породили у соседей убеждение в том, что она так и останется старой девой. Более того, казалось, ее вполне устраивало подобное положение вещей. В январе 1940 года ей позвонила подруга по колледжу, Мэри Гантер, из Сан-Франциско. Мэри попала в беду – по вине одного человека, который обещал на ней жениться, а вместо этого изобретал предлог за предлогом и наконец скрылся, когда у нее уже было шесть месяцев беременности. Бедняжка Мэри совсем растерялась: у нее не было родных, а из подруг самой близкой оказалась Кэтрин. Мэри попросила ее приехать в Сан-Франциско, когда придет время родов. Она также попросила Кэтрин первое время позаботиться о ребенке – пока сама Мэри не встанет на ноги и не совьет гнездо для своего бедного птенчика. Кэтрин согласилась помочь и стала рассказывать всем в Санта-Елене, что ей предстоит на какое-то время заменить мать ребенку своей несчастной подруги. В ту пору она казалась такой счастливой, такой взволнованной, что соседки судачили: какой хорошей матерью она могла бы стать, если бы кто-нибудь наградил ее младенцем. Через полтора месяца после звонка Мэри Гантер и за полтора месяца до рождения ребенка Лео Фрай скончался от обширного кровоизлияния в мозг. Как ни велико было горе дочери и как ни многочисленны заботы по управлению семейным бизнесом, неожиданно свалившимся на ее плечи, Кэтрин не нарушила данного Мэри обещания и, когда в апреле пришло известие о рождении ребенка, поехала в Сан-Франциско, чтобы через несколько недель вернуться с крошкой Бруно Гантером. Кэтрин рассчитывала держать его у себя в течение года, пока Мэри не будет готова взять на себя ответственность за его дальнейшую судьбу. Но не прошло и полугода, как от Мэри пришло письмо: она умирает от вирусной формы рака, ей осталось жить не более нескольких недель, от силы месяц. Кэтрин повезла мальчика в Сан-Франциско, чтобы мать провела с ним последние дни жизни. Они оформили опекунство, а когда Мэри умерла, Кэтрин похоронила ее и вместе с Бруно вернулась в Санта-Елену. Она растила мальчика, как собственного сына. Она могла бы нанять няню, но не сделала этого, никого не подпустила к ребенку. Лео не держал слуг; Кэтрин унаследовала от него дух независимости и сама справлялась со всей домашней работой. Когда Бруно исполнилось четыре года, она съездила в Сан-Франциско и оформила усыновление. Так Бруно стал Фраем. – В Санта-Елене и поныне живут люди, которые считают Кэтрин чуть ли не святой за то, что она приютила бедного сиротку и подарила ему великую любовь и великое богатство, – заключил Джошуа. – Значит, близнеца не было, – резюмировал Тони. – На сто процентов, – подтвердил адвокат. Хилари вздохнула. – И мы опять там, откуда начали. – В вашем рассказе, – сказал Тони, – есть пара вещей, которые меня несколько смущают. Джошуа поднял брови от удивления. – Например? – Вы знаете, даже в наши дни, при более либеральном отношении, все-таки одинокой женщине бывает непросто усыновить ребенка. А в 1940-м это было практически невозможно. – Пожалуй, я могу это объяснить, – возразил Джошуа. – Если мне не изменяет память, Кэтрин как-то рассказывала, что они с Мэри предусмотрели такой случай и представили Кэтрин как кузину и ближайшую родственницу матери младенца. – И суд не организовал проверку? – В то время судьи предпочитали не вмешиваться в семейные дела, как любят делать сейчас. С моей точки зрения, это была вполне разумная позиция. Не стоит также сбрасывать со счетов то, что Кэтрин была очень богата. Хилари повернулась к Тони: – Ты сказал, что тебя беспокоят две вещи. Какая же вторая? Он устало провел рукой по лицу. – Это трудно выразить. Так, интуиция. Просто эта история мне представляется чересчур гладкой. – Вы хотите сказать, что она сфабрикована? – удивился Джошуа. – Не знаю. Но у полицейского с таким стажем, как у меня, вырабатывается нюх на такие веши. – Что, пахнет подозрительно? – спросила Хилари. – Что-то в этом роде. – Тони допил вино и обратился к Джошуа: – А Бруно не мог быть настоящим сыном Кэтрин Фрай? Тот онемел от изумления, а когда снова обрел дар речи, то только и смог вымолвить: – Вы это серьезно? – Вполне. – Вы хотите сказать, что она заранее выдумала всю эту историю, чтобы иметь повод в нужное время уехать в Сан-Франциско и подарить жизнь ребенку? – Да. – Но Кэтрин не была беременна. – Вы уверены? – Видите ли, – сказал Джошуа, – я, конечно, сам не брал у нее мочу на анализ и не проверял на кроликах, даже не жил в то время в долине. Но эта история передавалась из уст в уста. Если бы Кэтрин ждала ребенка, это обязательно заметили бы. В таком городишке, как Санта-Елена, это сразу стало бы известно. – Существует небольшой процент женщин, – вмешалась Хилари, – которые не полнеют во время беременности. Смотришь на такую – и ничего не замечаешь. – Вы забываете, что она не проявляла ни малейшего интереса к мужскому полу. Не бегала на свидания. – Возможно, она не встречалась с местными парнями, – возразил Тони, – но во время уборки урожая на виноградниках появляются сезонные рабочие, а среди них встречаются молодые, красивые, мужественные ребята. – Подождите. – Джошуа поморщился. – Вы хотите сказать, что Кэтрин, чье равнодушие к мужскому полу стало притчей во языцех, скоропалительно отдалась незнакомому человеку? Будучи абсолютно несведущей в таких делах, каким-то чудом избежала огласки? И плюс ко всему ей посчастливилось стать исключением – одной из тысяч, на чьей фигуре не отражается беременность? Нет, – Джошуа тряхнул седовласой шевелюрой, – слишком много совпадений. – Вы правы, – грустно проговорила Хилари. – Еще одна многообещающая гипотеза лопнула. Тони поскреб подбородок и вздохнул. – Ага. Я понимаю, что надоел вам со своими сомнениями, и все-таки история Кэтрин по-прежнему кажется мне слишком гладкой. За всем этим что-то кроется. Какая-то тайна.* * *
На кухне у Салли, стоя на обломках посуды и мебели, Бруно Фрай открыл телефонный справочник и нашел номер конторы Топелиса в Беверли-Хиллз. Как он и ожидал, вместо Топелиса ответила дежурная телефонная служба. – У вас что-нибудь срочное? – Да. Понимаете, моя сестра – клиентка мистера Топелиса. У нас умер родственник, и мне необходимо разыскать ее. – Примите мои соболезнования. – Дело в том, что сестра уехала отдыхать, и я не знаю куда. – К сожалению, мистер Топелис не оставил телефона, по которому с ним можно немедленно связаться… – Мне бы не хотелось его беспокоить, – сказал Бруно. – Я подумал, может, она звонила и оставляла для него сообщение? – Как зовут вашу сестру? – Хилари Томас. – О! Я знаю, где она. – Чудесно! Где? – Она сама не звонила, но совсем недавно кто-то оставлял мистеру Топелису сообщение для нее. Секундочку!.. Вот оно. Звонил какой-то мистер Уайнт Стивенс и просил передать, что картины понравились и он с нетерпением ждет ее возвращения из Санта-Елены, чтобы немедленно заключить сделку. Бруно остолбенел. – Не знаю, в каком отеле или мотеле она остановилась, – продолжала дежурная, – но в Напа-Валли не так уж много гостиниц, так что, я думаю, вам не составит труда отыскать ее. – Не составит, – дрожащим голосом произнес Бруно. – Я вам искренне сочувствую. – Как? – По поводу смерти вашего родственника. – Ах да. – Бруно нервно облизнул губы. – Спасибо за помощь. – Не стоит благодарности. Он положил трубку. Кэтрин в Санта-Елене! Наглая сука вернулась домой. Зачем? Господи, что она замышляет? В любом случае это не сулит ему ничего хорошего. Обезумев от страха, Фрай начал обзванивать аэропорты, пытаясь заказать билет до Сан-Франциско. Но все места на ночные и утренние рейсы были проданы. Он сможет вылететь только завтра после обеда. Это слишком поздно. Ну что ж, придется воспользоваться «Доджем». В его распоряжении вся ночь. Если гнать вовсю, можно успеть до рассвета.* * *
После того как они насладились кофе и бренди, Джошуа проводил Тони и Хилари в комнату для гостей. Здесь была ванная, и это было довольно далеко от его собственной спальни. Комната оказалась просторной и в то же время очень уютной, с широкими подоконниками и огромной кроватью на четырех толстых ножках. Пожелав Джошуа спокойной ночи, они закрыли дверь и задернули шторы, чтобы безглазая ночь не пялилась в окна. Вместе приняли душ, чтобы немного снять усталость. Оба переутомились и мечтали только об освежающих, безгрешных струях – как в отеле близ аэропорта в Лос-Анджелесе. Но когда Тони намылил Хилари груди, ласковые, ритмичные круговые движения его рук вызвали в ее теле трепет и вибрацию. Тони взвесил их на ладонях, и соски ожили. Встав на колени, Тони вымыл Хилари живот, длинные, стройные ноги и ягодицы. Весь мир для нее сосредоточился в одной точке, свелся к нескольким потрясающим зрительным, слуховым и осязательным ощущениям: исходящему от мыла запаху сирени; шуму низвергающейся воды; клубам пара, рождающим прихотливые образы; блеску собственной кожи; разросшемуся от ее прикосновений до невероятных размеров мужскому органу. Выйдя из душа, они забыли об усталости и отдались всепоглощающей страсти. Лежа рядом с Хилари на королевском ложе на четырех ножках, при мягком свете ночника, Тони целовал ее глаза, нос, губы, подбородок, шею, набухшие соски. – Скорее, – попросила она и вся открылась для него. – Хилари, – прошептал Тони, входя в нее. – Милая, милая Хилари. Они быстро синхронизировали ритм. Она гладила его спину, очерчивая контуры мышц. Никогда еще Хилари не чувствовала себя такой живой и полной сил. Через несколько минут у нее начался оргазм; она думала, что никогда не остановится. Тони также чувствовал неповторимость связавших их уз. Они растворились друг в друге, став чем-то большим, чем сумма двух половинок. Хилари поняла, что это уже навсегда, впервые с момента их встречи поверила, что может положиться на него, как ни на одно другое живое существо. И что она больше никогда не будет одна. Потом, лежа рядом с ней под одеялом, Тони попросил: – Расскажи мне про шрам. – Хорошо. Теперь я могу это сделать. – Ты была ранена? – Да. Мне было девятнадцать лет, я жила в Чикаго и вот уже год как окончила колледж. Работала машинисткой и копила деньги на свою квартиру. А пока ее не было, платила за комнату Эрлу и Эмме. – Кто это? – Мои родители. – Ты звала их по имени? – Я никогда не считала их отцом и матерью. – Должно быть, они тебя обижали, – сочувственно произнес Тони. – Всеми доступными способами. – Если тебе не хочется рассказывать… – Хочется, – ответила она. – Впервые в жизни. Потому что я встретила тебя, и это искупает все прошлые страдания. – Я вырос в бедной семье, – сказал Тони, – но мы любили друг друга. – Тебе повезло. – Мне очень жаль тебя, Хилари. – Это уже позади. Они давно умерли, и мне давно следовало бы изгнать из себя воспоминания, как изгоняют дьявола. – Расскажи мне все. – Я вносила квартплату – несколько долларов в неделю. На эти деньги они покупали спиртное. Остальной заработок я откладывала. Не так уж много, но в банке набегали проценты. Я обходилась почти без обеда. У меня была одна светлая мысль: заработать на квартиру. Пусть даже такую же – с темными тесными комнатенками, неисправной канализацией и тараканами, – лишь бы подальше от Эрла и Эммы. Тони поцеловал ее в щеку, а потом в краешек губ. – Наконец я накопила достаточно и была готова переехать. Еще один день, еще один взнос – и я обрету свободу. Хилари вся дрожала, и Тони крепко обнял ее. – В тот день я вернулась с работы и пошла на кухню. А там Эрл целился в Эмму из пистолета. Прямо в рот. Она застыла, прислонившись к холодильнику. – Господи! – Ты знаешь, что такое белая горячка? – Конечно. Это в первую очередь галлюцинации. Приступы безотчетной ярости. Так бывает у хронических алкоголиков. Они становятся жестокими и непредсказуемыми. – Эрл начал выкрикивать что-то о гигантских червях, которые будто бы вылезают из стен, обвинил в этом Эмму – мол, это она их на него напустила. Требовал, чтобы она прогнала их. Я пыталась его урезонить, но он и не думал слушать. И наконец спустил курок. – Господи Иисусе! – Я видела, как ей размозжило голову. – Хилари! – Мне необходимо выговориться. – Я слушаю. – Я бросилась бежать. Я знала, что, побеги я по коридору к выходу, он выстрелил бы мне в спину. Поэтому я юркнула за угол и побежала в свою комнату, заперла дверь, но он выстрелом сорвал замок. Теперь он уже был уверен, что это я выпустила червей. Он ткнул мне в живот раскаленной кочергой. – А почему он больше не стрелял? Что тебя спасло? – Я всадила в него нож. – Откуда он взялся? – Я хранила его у себя в спальне с восьмилетнего возраста. И никогда до тех пор им не пользовалась. Но я всегда знала, что, если однажды их свара перейдет в смертоубийство, мне придется зарезать их, чтобы спасти свою жизнь. И вот в тот самый момент, когда Эрл приготовился нажать на спуск, я вонзила в него нож. Рана оказалась не опаснее моей, но его испугал вид собственной крови. Он выскочил из спальни и снова устремился на кухню. А там начал палить по Эмме, вопя, чтобы она велела червям убираться восвояси. Он разрядил в нее всю обойму. Тогда я выбралась из своей комнаты и стала красться к выходу. Но у него было еще несколько коробок с патронами. Он перезарядил пистолет, и я кинулась обратно. Приставила к двери комод и стала ждать помощи, надеясь, что она придет раньше, чем я истеку кровью. Эрл продолжал вопить что-то о червях, а потом о гигантских крабах. И все время стрелял в Эмму, пока не израсходовал все патроны. От нее осталось одно кровавое месиво. Тони прочистил горло. – Что с ним было дальше? – Покончил с собой, когда полиция вломилась в квартиру. – А ты? – Я провела неделю в клинике. Остался один только шрам – на память. За окнами завывал ветер. Тони вздохнул. – Просто не знаю, что сказать. – Скажи, что любишь меня. – Я люблю тебя, Хилари. – Я люблю тебя, Тони. Всего за одну неделю ты перевернул мою душу. – Ты чертовски сильная, – с восхищением произнес он. – Благодаря тебе. – Ты и до меня была сильной. Ты нужна мне – так же, как я тебе. – Я знаю. Вот почему все так прекрасно. Они немного помолчали. Потом Хилари сказала: – И еще одно. Это касается Бруно Фрая. Сегодня я вдруг поняла, что у нас с ним есть кое-что общее. Кажется, он вытерпел от Кэтрин то же, что я от Эрла с Эммой. Но он сломался, а я нет. Огромный, сильный мужчина сломался, а я выдержала. Это кое-что да значит. И даже очень многое. Я больше не боюсь людей. – Я же сказал, что восхищаюсь силой твоего характера. И твердостью. – Я – твердая? Ну-ка, потрогай. – Здесь вроде нет. – А здесь? – Гм… Хилари сжала в руке его член. – Ты сам твердый. – Это поправимо, – улыбнулся Тони. – Хочешь, продемонстрирую? И они занялись любовью. Окунувшись вместе с Тони в волны страсти и нежности, Хилари поняла, что теперь все будет хорошо. У нее появилась уверенность в будущем. Она сражается не с ходячим трупом. Эта история имеет вполне реальную подоплеку. Завтра они переговорят с доктором Раджем и Ритой Янси, и те посвятят их в тайну двойника Фрая. Добудут улики для полиции, и двойник будет схвачен. Он больше не сможет угрожать ей. И они с Тони всегда будут рядом. Никто не сможет причинить ей зло. Даже Бруно Фрай. Она чувствовала себя счастливой и в полной безопасности. Перед тем как заснуть, Хилари услышала гром. Он заполнил грохотом небо, эхом прокатился в горах, прогремел перед самым домом. «Это знамение, – подумала Хилари. – Предостережение мне, чтобы не была слишком беспечной и не забывала об опасности». Вскоре она уснула. (обратно)Глава 7
Чтобы его случайно не увидели сторожа на виноградниках, Бруно Фрай оставил «Додж» в миле от своего дома и осторожно, прячась в кустах, светя себе карманным фонариком, прокрался к дому. Выудил из кармана ключ. Отпер дверь и, зажав в руке нож, рванул ее настежь и направил внутрь сноп лучей. Кэтрин не оказалось. Бруно обошел весь дом, но так и не нашел ее. Но она где-то здесь, в Санта-Елене. Он чувствовал ее запах. Должно быть, отправилась в особняк, построенный Лео. Он запер дверь на ключ и пошел через виноградники с фонариком в одной руке и ножом в другой. Быстро, перешагивая через две ступеньки, одолел лестницу. Кэтрин и здесь не было. Бруно прошелся по всем помещениям и наконец забрался на чердак, долгие годы служивший ему спальней. Там, на широченной королевской кровати, лежал Бруно Фрай. С закрытыми глазами, будто спящий. Увы – его веки были зашиты специалистом из похоронного бюро. Вместо ночной рубашки на нем был саван, надетый Аврилом Таннертоном. Потому что он умер. Проклятая сука заколола его. Он был тверд и холоден, как камень. Бруно подошел к кровати и растянулся на ней во весь рост, бок о бок с собой мертвым. От того Бруно несло формалином, но он не обращал на это внимания. Пусть даже второй Бруно никогда больше не улыбнется и не заговорит с ним. Ему и так хорошо. Просто лежать рядом. И он уснул.* * *
Офис доктора Николаса Раджа расположился на двадцатом этаже небоскреба в самом сердце Сан-Франциско. Наверное, подумалось Хилари, архитектор не знал неприятного слова «землетрясение». Либо заключил сделку с дьяволом. Одна стена в кабинете доктора Раджа от пола до потолка была сделана из стекла и делилась на три части двумя узкими вертикальными стальными блоками. Отсюда был прекрасный вид на город, бухту и грандиозный мост «Золотые ворота». Крепнущий ветер с Тихого океана рвал в клочья серые тучи. Незабываемое зрелище! Радж оказался располагающим к себе человеком с головой, похожей на бильярдный шар, усами и аккуратно подстриженной бородкой. Он был одет в костюм-тройку с галстуком; из нагрудного кармашка выглядывал уголок платка. Однако в нем не было ничего от денди или банкира. Он внушал доверие. Джошуа изложил факты и прочитал короткую лекцию (которая немало позабавила Раджа) о долге врача-психиатра по защите от пациента со склонностью к убийствам. Через четверть часа Радж знал достаточно, чтобы убедиться: врачебная этика в данном случае ни при чем. Он охотно открыл перед ними историю болезни Бруно Фрая. – Хотя, должен признаться, – с улыбкой сказал он, – если бы вы пришли один с этой невероятной историей, я решил бы, что вы нуждаетесь в моих профессиональных услугах. – Мы допускали возможность массового психоза, – сказал Джошуа. – И отвергли ее, – добавил Тони. – Ну, если вы слегка и тронулись, – снова улыбнулся Радж, – я с удовольствием присоединюсь к такой симпатичной компании. Пусть нас будет четверо. Как выяснилось, в течение последних полутора лет Фрай ежемесячно получал консультации, по пятьдесят минут каждая. – Как я сказал вам по телефону, – продолжал Радж, – мистер Фрай разрывался между двумя желаниями. С одной стороны, он отчаянно нуждался в моей помощи, хотел добраться до истоков своей проблемы. А с другой – боялся, что я узнаю его тайну, и точно так же боялся сам узнать ее. Но вас, наверное, интересует, что впервые привело его ко мне? – Да, – подтвердила Хилари. – Что его беспокоило? Каковы были симптомы его болезни? – Главным образом Фрай жаловался на постоянно повторяющийся кошмар, из-за которого не мог нормально спать. На круглом кофейном столике стоял магнитофон; рядом высились две стопки кассет: одна из четырнадцати, а другая из четырех штук. Радж взял одну кассету из четырех. – Все мои консультации записываются и хранятся в несгораемом шкафу. Вот это – беседы с мистером Фраем. Вчера, после звонка мистера Райнхарта, я прослушал эти записи и выбрал наиболее важные, на мой взгляд, места. Давайте послушаем самого мистера Фрая. Он вставил кассету в магнитофон. – Этот отрывок – из самого первого разговора. За первые сорок пять минут Фрай фактически ничего не сказал. Он казался внешне спокойным и уравновешенным, однако я заметил, что он чем-то напуган, но боится признаться в этом. Я долго искал к нему подход, и наконец он решился. Но все равно каждое слово приходилось вытягивать словно клещами. Вот слушайте. Радж нажал на клавишу. При звуках знакомого дребезжащего голоса у Хилари побежали мурашки по спине. Первая реплика принадлежала Фраю. «– Я не могу нормально спать. – Как часто? – Каждую ночь. – У вас бессонница? – Отчасти. – Вы не могли бы поконкретнее? – Мне снится сон. – Что за сон? – Очень страшный. Кошмар. – Один и тот же каждую ночь? – Да. – Давно это у вас? – Очень давно. – Год? Два года? – Нет, нет. Гораздо дольше. – Пять лет? Десять? – Самое меньшее тридцать. – Неужели каждую ночь? – Да. – Один и тот же сон тридцать лет подряд? – Да. – О чем он? – Не знаю. – Не бойтесь сказать мне. – Я не боюсь. Просто я не знаю. – Как же это может быть? – Я просыпаюсь весь в поту и сразу все забываю. – Тогда почему вы считаете, что это один и тот же сон? – Если я скажу, то вы сочтете меня сумасшедшим. – Я никогда не употребляю этого слова. – Ну… всякий раз, когда я просыпаюсь от кошмара, у меня такое чувство, словно по мне кто-то ползает. – Кто? – Не знаю. Не могу вспомнить. Но они ползают по всему телу. Такие омерзительные. Пытаются залезть в нос и рот. Даже в глаза. Они под одеждой. В волосах. Всюду. И ползают, ползают…» Перед мысленным взором Хилари встало искаженное страхом лицо бандита: мертвенная бледность, расширенные зрачки, капли холодного пота у корней волос… Лента продолжала крутиться. «– Это что-то одно или их несколько? – Не знаю. – Что вы при этом чувствуете? – Ужас. Тошноту… – Зачем оно хочет влезть внутрь вашего тела? – Не знаю. – Вы испытываете еще какие-нибудь ощущения, кроме тактильных? – Я слышу… звуки… – Какого рода? – Шорохи… Шепот… Не знаю. – Как будто кто-то шепчется? – Может быть. – О чем? – Не знаю. Они угрожают мне. Ненавидят меня… – Это угрожающий шепот? – Да. – Как долго он длится? – Пока ползают… – Минуту-другую? – Да. Доктор, я вам кажусь сумасшедшим? – Поверьте, мистер Фрай, мне приходится слышать и более странные вещи. – Вы можете мне помочь? – Это во многом будет зависеть от вашей готовности помочь себе. – Я боюсь. – Чего вы боитесь? – Того, что окажется…» Доктор Радж вынул кассету и сказал: – Устойчивые галлюцинации. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. А вот кошмар, сопровождаемый осязательными и звуковыми эффектами, – не совсем обычная жалоба. – И несмотря на это, – обратился к нему Джошуа, – вы не сочли Фрая опасным для окружающих? – Господи, ну конечно же, нет! Он всего-навсего боялся страшного сна. И проводил четкую грань между кошмаром и явью. Тони наклонился поближе к врачу. – Может быть, не столь четкую, как вам показалось? – Вы хотите сказать, он морочил мне голову? – А это возможно? Радж утвердительно кивнул. – Психология не точная наука, а психиатрия и подавно. Да, он мог втереть мне очки. Особенно если принять во внимание, что мы встречались всего раз в месяц. Он поставил вторую кассету. «– Вы никогда не упоминали о своей матери. – А что такое? – Это я вас спрашиваю. – Вы задаете слишком много вопросов. – Других пациентов не приходится расспрашивать: они сами открывают рот и начинают говорить. – О чем? – Чаще всего о матерях. – Вам, должно быть, осточертело. – Нисколько. Расскажите мне о вашей матери. – Ее звали Кэтрин. – И? – Мне больше нечего сказать. – Каждому есть что сказать о своей матери. И об отце». С минуту ничего не было слышно. – Погодите, – предупредил Радж. – Сейчас он снова заговорит. «– Доктор Радж? – Да? – Как вы думаете… – О чем? – Мертвые должны оставаться мертвыми? – Вы имеете в виду – верю ли я в загробную жизнь? – Нет. Я хочу сказать… если человек умер… и вдруг встанет из гроба… – Как привидение? – Д-да. Вы верите в привидения? – А вы? – Я первый спросил. – Нет, Бруно, я в них не верю. А вы? – Еще не решил. – Вы когда-либо видели привидение? – Я не уверен. – Какое это имеет отношение к вашей матери? – Она грозилась явиться ко мне с того света. Сказала, что знает, как это делается. И если я сделаю что-нибудь не то, я пожалею об этом. – И вы поверили? – … – Бруно? – Поговорим о чем-нибудь другом». – Господи! – воскликнул Тони. – Так вот откуда взялось убеждение, будто Кэтрин возвращается с того света! Она вбила это ему в голову перед своей смертью. Джошуа повернулся к Раджу: – Но зачем ей это понадобилось? Что же у них были за отношения? – В том-то и загвоздка, – ответил врач. – Это и есть корень проблемы. Но мы не успели добраться до него. Он поставил третью запись. «– Доктор, вы христианин? – Да? – Вы верите в рай? – Да. А вы,Бруно? – Я тоже. Как насчет ада? – Некоторые считают, что земля и есть ад. – Нет. Это совсем другое место. Геенна огненная и все такое. И если существуют ангелы, значит, должны существовать и черти. Демоны. Дьявол. Так гласит Библия. – Можно быть добрым христианином и не воспринимать Библию буквально. – А вам известны знаки дьявола? – Какие знаки? – Ну, знаки. Когда кто-то заключает сделку с дьяволом, тот ставит на нем свое клеймо. Как мы клеймим свой скот. – Неужели вы верите, что можно заключить сделку с дьяволом? – А? Нет. Я – нет. Это бред. Дерьмо собачье. Но некоторые верят. И даже многие. Я много читал об этом. – Расскажите мне о дьявольских знаках. – Ну, видите ли, они бывают разные. Родинка на лице в виде земляничины. Третья грудь. Число 666, спрятанное под волосами. Близнецы… – Близнецы – знак дьявола? – Я не хочу сказать, что во все это не верю. Но другие верят». Радж нажал на клавишу «стоп». – Маленькое замечание, прежде чем я дам вам послушать дальше. Я поощрял разговоры об оккультных вещах, потому что считал это чем-то вроде интеллектуальной разминки. К сожалению, я ошибался. Я поверил, что он не принимает это всерьез. – Да, – тихо произнесла Хилари. – Для него это было чертовски серьезно. Радж снова пустил магнитофон. «– Вы сказали, что близнецы – знак дьявола? – Ага. Но, конечно, не все, а, например, сиамские. Или если однояйцевые близнецы родятся с оболочкой на голове. Оба. Это очень редкое явление». Радж вынул кассету. – Я не уверен, что это может пригодиться. Но коль скоро у Бруно появился двойник, я подумал, что тема близнецов может представлять для вас интерес. Джошуа перевел взгляд с Тони на Хилари. – Но если Мэри Гантер родила близнецов, почему Кэтрин привезла домой только одного из них? Почему лгала, что родился только один ребенок? Какой в этом смысл? Радж поставил последнюю из четырех кассет, лежавших отдельно. – Это наш последний разговор с Фраем, имевший место три недели назад. Он наконец-то согласился подвергнуться гипнозу, но предварительно взял с меня слово касаться только одной темы – ночных кошмаров. Я внушил ему, что он спит и видит тот самый сон. «– Что вы видите, Бруно? – Мою мать. И себя. – Чем вы заняты? – Она меня тащит. – Куда? – Не знаю. Я совсем маленький. – И мать заставляет вас куда-то идти? – Да. Тащит за руку. – Куда она вас тащит? – К какой-то двери. Да, двери. Не давайте ей ее открывать! – Тише. Успокойтесь. Расскажите, что это за дверь. Куда она ведет? – В ад. – Откуда вам это известно? – Она в земле. Не позволяйте ей ее открывать! Нет! Я не хочу! – Успокойтесь, Бруно. Вы успокоились? – Д-да. – Хорошо. Теперь спокойно, без эмоций, расскажите, что происходит дальше. Вы с матерью стоите перед дверью в земле. Что дальше? – Она… открывает дверь! – Дальше. – Толкает меня туда. – Продолжайте, Бруно. – Захлопывает дверь. Запирает ее. – Что там, за дверью? – Темнота. – Вы что-нибудь видите? – Нет, ничего. – Что дальше? – Я пытаюсь выбраться. – И что? – Дверь слишком тяжелая. И на запоре. – Бруно, это только сон? – … – Это только сон, Бруно? Или воспоминание? Ваша мать действительно запирала вас в темной комнате? – Д-да. – В подвал? – Эта комната была под землей. – Часто она это делала? – Да. – Раз в неделю? – Чаще. – Это было наказание? – Да. – За что? – За то, что я… поступал… и думал… не как один. – Один – кто? – Один. Просто один. Один – и все. – Хорошо, Бруно. Вы убедились, что не можете выбраться. Что делаете потом? – Стою на верхней ступеньке и смотрю вниз, в темноту. – Там есть ступеньки? – Да. – Куда они ведут? – В ад. – Итак, вы стоите и смотрите в темноту. – И слушаю. – Что вы слышите? – Шорохи. – Шепот? – Может быть. – О чем? – Не знаю. Это не слова. Просто шорохи. Они шуршат. – Кто «они»? Это люди? – Не люди. Нет. Нет! Уберите их! Стряхните их с меня! – Успокойтесь, Бруно. На вас ничего нет. – Они лезут мне в нос! Господи! В рот!.. – Бруно!» Странный, полузадушенный звук. И – тишина. Радж выключил магнитофон. – Мне еле удалось его разбудить. – Но что же там было, в этом погребе? – спросил Джошуа. – Не знаю. Я надеялся выяснить это в следующий раз. Но это оказалась последняя встреча.* * *
Когда они летели в Холлистер на «Сессне» Джошуа, Тони произнес: – Моя точка зрения на происшедшее претерпела изменения. – Какие? – спросил адвокат. – Раньше эта история казалась мне очень простой и выдержанной в черных и белых тонах: Хилари – жертва, Фрай – гнусный злодей. Но теперь я думаю: возможно, в каком-то смысле и Фрай – жертва. – Я тебя понимаю, – сказала Хилари. – Когда я слушала эти пленки, мне было жаль его. – Все это очень хорошо, – проворчал Джошуа, – если не считать того, что он чертовски опасен. – Но ведь он мертв. – Так ли?* * *
Рита Янси жила в маленьком угловом домике на тихой улочке. Вдоль дорожки цвели осенние белые и желтые цветы. Джошуа позвонил в колокольчик. За его спиной стояли Хилари и Тони. Дверь открыла пожилая женщина с седыми волосами, скрученными жгутом на затылке. У нее было лицо в морщинах, живые ярко-голубые глаза и приветливая улыбка. На Рите Янси было голубое домашнее платье с белым передником и удобные старушечьи туфли. Она вытерла руки посудным полотенцем и спросила: – Что вам угодно? – Миссис Янси? – осведомился Джошуа. – Да, это я. – Меня зовут Джошуа Райнхарт. Женщина кивнула. – Я так и знала, что вы заявитесь. – Я твердо решил поговорить с вами. – Вы произвели на меня по телефону впечатление человека, который почти никогда не отступается от задуманного. – Если вы мне откажете, – довольно подтвердил Джошуа, – я разобью палатку прямо у вас на крыльце. Рита Янси вздохнула. – Это не понадобится. После вашего вчерашнего звонка я все как следует обдумала и поняла, что вы ничего не можете мне сделать. Ничего. Мне семьдесят пять лет. В этом возрасте не сажают в тюрьму. Так что я смело могу рассказать вам то, что я знаю. Иначе вы не оставите меня в покое. Горница Риты Янси – вот именно горница, как она ее назвала, вместо того чтобы воспользоваться более современным и менее пышным термином, – производила впечатление пародии на одну из тех скромных комнатушек, в которых приятным пожилым леди положено коротать сумерки жизни. Ситцевые занавесочки. На стенах развешаны полотенца с вышитыми вручную душеспасительными изречениями, цветами и птичками – свидетельство добропорядочности и дурного вкуса. Цветастый коврик. Коврики и накидки ручной работы на спинке дивана и сиденьях кресел. Каминные часы. Хилари с Тони сели на самый краешек дивана, словно боясь соприкоснуться с накидкой. Джошуа удобно устроился в кресле. Сама хозяйка опустилась в, очевидно, свое любимое кресло, казавшееся продолжением ее самой. Хорошо бы, подумала Хилари, написать портрет миссис Янси, сросшейся с креслом, ставшей с ним одним целым – с шестью ногами и потертой бархатной кожей. После непродолжительного молчания Рита Янси заговорила, и ее слова напрочь развеяли впечатление домашности: – Какого черта ходить вокруг да около? Я не собираюсь убивать на эту мерзопакостную историю целый день. Внесем ясность. Вы хотите знать, за что Бруно Фрай платил мне по пятьсот баксов в месяц? Он платил за то, чтобы я держала язык за зубами. До него это делала его мать – целых тридцать пять лет, так что после ее смерти Бруно продолжил традицию. Должна признаться, я была изрядно удивлена. В наше время редкий сын станет раскошеливаться ради репутации своей матери, а если она откинула копыта – и подавно. Но он стал высылать мне чеки. – Вы хотите сказать, что шантажировали мистера Фрая и его мать? – Называйте как хотите. Платой за молчание или как вам будет угодно. – Полагаю, закон квалифицирует это как шантаж, – сказал Тони. Рита Янси усмехнулась: – Уж не думаете ли вы, что я шибко напугана? Прямо вся дрожу? Сынок, позволь сказать тебе вот что: в свое время меня обвиняли кое в чем и похуже. Шантаж? Пусть будет шантаж. Не будем делать хорошую мину при плохой игре. Но, разумеется, если вы будете настолько глупы, что потащите старую женщину в суд, я скажу, что когда-то давно оказала Кэтрин Фрай большую услугу и она в знак благодарности установила мне ежемесячное пособие. Кстати, как раз по этой причине и я настояла на ежемесячных выплатах. Обычный шантажист хапнет солидный куш и даст деру. Потом его нетрудно выследить. А кто поверит, что шантажист согласился на скромное ежемесячное вознаграждение? – У нас нет ни малейшего желания возбуждать против вас уголовное дело, – заверил Джошуа. – Деньги все равно не вернешь. – Это уж точно, – ухмыльнулась Рита Янси и расправила на коленях коврик ручной работы. Надо бы запомнить эту мизансцену, подумала Хилари. Пригодится для характерного персонажа в каком-нибудь фильме. Благостная старушка с примесью кислоты и перца, в первой стадии разложения. – Все, что нам нужно, это информация, – объяснил Джошуа. – Мне хочется поскорее разделаться с хлопотами по наследству Бруно Фрая. Миссис Янси посмотрела на него в упор. Затем перевела взгляд на Хилари и Тони. У нее были острые, проницательные глаза. Наконец она удовлетворенно кивнула. – Кажется, вам можно верить. Задавайте вопросы. – Первое, что нам хотелось бы выяснить, – сказал Джошуа, – это за какие заслуги Кэтрин Фрай и ее сын выплатили вам за сорок лет примерно четверть миллиона. – Чтобы понять это, – начала миссис Янси, – нужно знать мою биографию. Видите ли, в молодости, пришедшейся на самый пик Великой депрессии, я перепробовала немало профессий, чтобы как-то свести концы с концами, и убедилась, что все они обеспечивают прожиточный минимум – не более того. Все, кроме одной – древнейшей. Только эта профессия сулила настоящие деньги. В то время это называлось «женщина легкого поведения». Сейчас говорят открытым текстом. В области секса произошли огромные перемены. – Вы хотите сказать, что были проституткой? – удивленно спросил Тони. – Я была очень хороша собой, – с гордостью ответила миссис Янси. – И никогда не работала на улице, или в барах, или в отелях. Я состояла в штате одного из элегантнейших заведений Сан-Франциско. Мы обслуживали только джентльменов из высшего общества. Нас было от десяти до пятнадцати девушек, и каждая отличалась красотой и утонченностью. Я неплохо зарабатывала и к двадцати четырем годам решила, что гораздо выгоднее открыть собственное дело. Я нашла подходящее помещение и вложила все свои деньги. Подобрала красивых девушек с хорошими манерами. Следующие тридцать шесть лет своей жизни я провела как «мадам». У меня было шикарное заведение. А пятнадцать лет назад, в шестидесятилетнем возрасте, я удалилась на пенсию и переехала сюда, в Холлистер, поближе к дочери и ее семье, а главное – внукам. Никогда не думала, что внуки настолько скрашивают старость. – Все это очень хорошо, – заметил Джошуа, – но какое это имеет отношение к Кэтрин Фрай? – Ее отец регулярно наведывался в мой бордель, – ответила Рита Янси. – Лео Фрай? – Он самый. Очень странный джентльмен. Сама я никогда с ним не была. Я вообще мало работала в постели, став «мадам»: все мое время забирали организационные дела, – но девушки много о нем рассказывали. Он требовал рабского повиновения, получал удовольствие, смешивая их с грязью, обзывал нехорошими словами. Это была грубая, необузданная и властная натура. Он любил извращения и не жалел денег за право делать с моими девушками все, что заблагорассудится. Так или иначе, в апреле 1940 года мой порог переступила Кэтрин Фрай, дочь Лео. Я никогда ее не видела, даже не подозревала, что у Лео есть дочь. Но он рассказал ей обо мне. И велел отправляться в Сан-Франциско, чтобы она в глубокой тайне произвела на свет младенца. Джошуа моргнул. – Младенца? – Она была беременна. – Бруно – ее родной сын? – А как же Мэри Гантер? – поинтересовалась Хилари. – Такой особы никогда не существовало на свете, – заявила старуха. – Ее выдумали Лео и Кэтрин. – Так я и знал! – воскликнул Тони. – Это была слишком гладкая история! – Никто в Санта-Елене не знал, что Кэтрин ждет ребенка, – продолжала Рита Янси. – Она носила железные обручи. Вы не поверите, что только не вытворяла бедная девушка! С тех самых пор, когда у нее случилась задержка, и задолго до того, как начать пухнуть, она стала затягиваться все туже и туже, надевая один обруч на другой. Голодала – только бы не набрать лишний вес. Это просто чудо, что она вообще выжила. – И вы ее приняли? – произнес Тони. – Не стану прикидываться, будто сделала это из любви к ближнему. Кэтрин ничуть не тронула моего сердца. Я взяла ее не потому, что симпатизировала или признавала за собой какие-нибудь обязательства по отношению к ее отцу. Я его терпеть не могла – за то, что он проделывал с моими девушками. Кроме того, к моменту появления Кэтрин он полтора месяца как умер. Нет, я предоставила ей убежище по той единственной причине, что она заплатила за все про все – кров, пищу, медицинское обслуживание – три тысячи долларов. Немалая сумма по тем временам! Джошуа покачал головой: – Не понимаю. О Кэтрин говорили, что она холодна, как рыба. Она никогда не интересовалась мужчинами, не имела любовников. Откуда же взялась беременность, кто отец ребенка? – Лео, – ответила Рита Янси. – Господи! – ахнула Хилари. – Вы уверены? – спросил Джошуа. – Абсолютно. Он начал развлекаться с ней, когда ей еще было четыре года. Сначала принуждал заниматься с ним оральным сексом, а затем, когда она расцвела, стал делать с ней все, что заблагорассудится. Абсолютно все.* * *
Фрай надеялся, что сон освежит его и вернет ему ясность мысли. Но он, как всегда, проснулся от кошмара. Бруно вскочил с постели и подбежал к окну, за которым занималось пасмурное октябрьское утро. В голове царил хаос. Приятные и безобразные воспоминания слились в один клубок – точно извивающиеся черви. Все дело в том, что он остался один. Совсем один. От него осталась одна половина. Вторую убила проклятая сука. С тех пор он стал невероятно нервным. Дошел до ручки. Исчерпал все свои ресурсы. Он отошел от окна и тяжело заковылял к кровати, где лежал мертвец, опустился на колени и положил голову на грудь второму Бруно. – Скажи хоть что-нибудь! Посоветуй, что делать дальше. Пожалуйста, помоги мне! Но мертвый Бруно не ответил живому.* * *
Гостиная миссис Янси. Из столовой пришлепала большая белая кошка и прыгнула на колени к своей хозяйке. – Откуда вы знаете, что Лео обесчестил Кэтрин? – спросил Джошуа. – Наверняка он вам об этом не рассказывал. – Он – нет. Я узнала об этом от Кэтрин. Она была в ужасном состоянии и наполовину сошла с ума. Отец должен был доставить ее ко мне ближе к сроку – и вдруг умер. Она осталась одна и ударилась в панику. Из-за того, что она затягивалась и голодала, роды были исключительно тяжелыми. Я пригласила врача, который каждую неделю осматривал моих девушек, потому что знала, что он будет держать язык за зубами. Он был уверен, что ребенок родится мертвым. Относительно самой Кэтрин он тоже не питал надежд. Она промучилась четырнадцать часов. Я никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь так мучился. Она почти все время бредила. А как только пришла в сознание, поспешила рассказать мне, что с ней случилось. Должно быть, хотела облегчить душу. Вот и пришлось мне стать священником и выслушать ее исповедь. Фактически Лео воспитал ее как сексуальную рабыню. Когда она подросла, он вступил с ней в половую связь. Лео предохранялся, но, должно быть, однажды допустил оплошность, и она понесла от него. Хилари захотелось стащить со спинки дивана накидку и укутать плечи. Несмотря на частые побои, страх, физические и душевные муки, которые она вытерпела, живя с Эрлом и Эммой, ей все же посчастливилось избегнуть сексуального насилия. Хилари была уверена, что Эрл рано стал импотентом и только это спасло ее от последнего унижения. А Кэтрин Фрай прошла через это. Должно быть, Тони угадал ее мысли. Он взял Хилари за руку и нежно пожал. Миссис Янси погладила белую кошку, и та довольно замурлыкала. – Все-таки я кое-чего не понимаю, – признался Джошуа. – Почему Лео не отправил ее к вам раньше – сразу, как только узнал о беременности, – чтобы вы помогли ей сделать аборт? Ведь вы наверняка могли это устроить? – Естественно, – ответила миссис Янси. – В моей профессии приходится знаться с врачами, которые способны на такие вещи. Не могу сказать точно, почему Лео не сделал этого. Но у меня есть своя догадка на этот счет. – Какая же? – Возможно, он надеялся, что Кэтрин произведет на свет прелестную маленькую девочку. – Не понял? – Неужели так трудно догадаться? – Миссис Янси поскребла у кошки под жирным подбородком. – Если бы он стал дедушкой, через несколько лет он смог бы обесчестить малютку, как обесчестил Кэтрин. И у него было бы две женщины вместо одной. Маленький личный гарем.* * *
Не добившись ответа от своей второй половины, Бруно встал и начал бесцельно бродить по огромному помещению чердака, взметая пыль. В тусклых лучах света плясали пылинки. Наконец он наткнулся на пару гантелей, каждая весом в пятьдесят фунтов, тех самых, которые он поднимал по шесть дней в неделю на протяжении многих лет – от двенадцати до тридцати пяти. Главное оборудование – штанга, более тяжелые гири и брус для отжимания – хранились в цоколе, а эти он оставил здесь, чтобы поупражняться дополнительно в перерывах между другими занятиями. Бруно поднял гантели и начал гимнастику. Могучие плечи и руки быстро вошли в привычный ритм; из пор заструился пот. Двадцать восемь лет назад, когда он впервые почувствовал вкус к поднятию тяжестей и решил стать атлетом, мать одобрила это решение. Долгие, выматывающие тренировки сжигали только-только начавшую заявлять о себе сексуальную энергию. Позднее, когда он нарастил мышечную ткань и стал выглядеть как заправский тяжелоатлет, Кэтрин пересмотрела свое отношение. Испугавшись, что в один прекрасный день он обратит свою физическую мощь против нее самой, она спрятала гантели. Но когда Бруно разразился слезами и стал умолять ее вернуть их, Кэтрин успокоилась. И как только она могла такое подумать, размышлял Бруно, поднимая гантели к плечам и вновь опуская их. Ведь у нее был ключ от двери в земле. Она всегда могла отпереть ее и загнать его туда. Перед могуществом этого ключа все его бицепсы и трицепсы ничего не значили. Тогда-то Кэтрин и сказала в первый раз, что владеет тайной возвращения с того света. Пусть знает, что она и оттуда станет зорко следить за ним. И если он будет неправильно вести себя – пренебрежет осторожностью и позволит другим догадаться о его нечеловеческом происхождении, – она вернется, чтобы подвергнуть его суровому наказанию. Кэтрин тысячу и один раз предупреждала его об этом. Пусть только посмеет нарушить уговор – она встанет из гроба и загонит его в жуткую земляную яму. Запрет дверь и оставит его там навсегда. Однако теперь, на пыльном чердаке, машинально поднимая и опуская гантели, Бруно вдруг усомнился. Правда ли, что она обладает сверхъестественной силой? Знает, как возвращаться с того света? Или то был просто блеф и она обманывала его, потому что боялась? Боялась, что он станет большим и сильным и однажды свернет ей шею. Не была ли байка о чудесном воскресении страховкой против его возможного намерения убить ее и навсегда обрести свободу? Голова Бруно пухла от вопросов, но он был не в состоянии не то что найти ответы, но даже как следует подумать. В мозгу вспыхивали и гасли обрывки мыслей. Сомнения возникали – и тотчас забывались. Зато к нему вернулись прежние страхи. Они оказались более устойчивыми. Бруно вспомнил Хилари-Кэтрин, ее последнюю реинкарнацию и то, что необходимо разыскать ее прежде, чем она сама настигнет его. Он задрожал. Гантели с грохотом повалились на пол. Затрещали доски. – Сука! – со страхом и злостью вырвалось у него.* * *
Белая кошка лизнула руку своей хозяйки. – Лео и Кэтрин придумали целую легенду, как объяснить появление ребенка, – продолжала Рита Янси. – Они решили не признаваться, что это ее родное дитя. Иначе пришлось бы указать пальцем на предполагаемого отца и послать в тюрьму ни в чем не повинного человека из числа ее воздыхателей, которых и в помине не было. Старик не желал ни с кем делиться. У меня просто мурашки по коже. Какая сволочь станет насиловать четырехлетнюю дочь? Она даже не понимала, что происходит. И как может взрослый мужчина испытывать влечение к такой крошке? Если бы я издавала законы, я бы таких кастрировала. Или еще похуже. Да. Говорю вам, это вызывает у меня отвращение. Джошуа воспользовался небольшой паузой, чтобы задать вопрос: – Почему же они не сказали, что Кэтрин изнасиловал какой-нибудь иммигрант из сезонных рабочих? Дали бы полиции какое-нибудь придуманное описание. А если бы даже и попался похожий бродяга, не располагающий алиби, она всегда могла сказать, что это не он. – Верно, – поддержал Тони. – Большинство дел об изнасилованиях остаются нераскрытыми. – Кажется, я понимаю, почему Кэтрин не приняла такую версию, – вмешалась Хилари. – Ей пришлось бы терпеть бесконечные унижения. Многие считают, что всякая изнасилованная женщина сама на это напрашивалась. – Это правда, – согласился Джошуа. – Я всегда говорил, что большинство мужчин – олухи. Но жители Санта-Елены отличаются относительной широтой взглядов. Никто не стал бы упрекать Кэтрин. Или почти никто. Конечно, изредка ей пришлось бы сталкиваться с каким-нибудь хамом, но с течением лет она завоевала бы всеобщее уважение. Мне кажется, это было бы куда проще, чем городить ложь насчет Мэри Гантер и потом всю жизнь ее поддерживать. Миссис Янси почесала кошке брюшко. – Лео не хотел сваливать ее беременность на мифического насильника, потому что в этом случае не обошлось бы без вмешательства полиции. Он сам принадлежал к авторитарному типу и верил в могущество полицейских гораздо больше, чем они того заслуживали. Боялся, что они сразу почуют неладное. Не хотел привлекать внимания к своей особе: вдруг копы пронюхают, как обстоят дела на самом деле. И не собирался садиться в тюрьму за растление малолетней. – Это вам Кэтрин сказала? – удивилась Хилари. – Совершенно верно. Как я уже говорила, она всю жизнь страдала от позора, который на нее навлек отец. Ей было необходимо выговориться и как бы очиститься. Так или иначе, Лео был убежден, что, если Кэтрин удастся скрыть беременность и обвести вокруг пальца жителей Санта-Елены, он будет в безопасности. И у него родился план: выдать ребенка за незаконнорожденное дитя несчастной подруги Кэтрин по колледжу. – Выходит, это отец заставлял ее таскать обручи, – с огромной жалостью проговорила Хилари. – Ради своего благополучия подверг ее страшной пытке. Значит, это его рук дело. – Да, – подтвердила миссис Янси. – Она не умела противоречить ему. Привыкла делать все, что он ни скажет. Так случилось и на этот раз. Она стала надевать обручи и села на диету – как это ни было больно и мучительно. Ей и в голову не приходило ослушаться. Что вовсе не удивительно, если знать, что на протяжении двадцати с чем-то лет он только и делал, что ломал ее личность. – Но она училась в колледже, вдали от дома, – вспомнил Тони. – Это ли не попытка обрести свободу? – Отнюдь, – возразила миссис Янси. – Это была идея Лео. В 1937 году ему нужно было уехать на семь-восемь месяцев в Европу – распродать остатки своего прежнего имения. Он предвидел начало Второй мировой и не хотел нести убытки. Ему также не улыбалось брать с собой Кэтрин. Я полагаю, он хотел совместить приятное с полезным. Лео был гиперсексуален. А по слухам, в некоторых европейских борделях чего только не выделывают, каких только извращений. Вонючий старый козел! Кэтрин стояла бы у него на дороге. Вот он и решил пока отправить ее в Сан-Франциско и поселить у знакомого торговца вином, пивом и всем прочим, что производилось в «Раскидистой кроне». – Рискованная затея, – задумчиво произнес Джошуа, – отпустить ее от себя на столь долгий срок. – Очевидно, Лео так не считал, – парировала миссис Янси. – И оказался прав. В течение всех тех месяцев, что его не было, Кэтрин ни разу не вышла из повиновения, не задумалась о том, что он с ней сделал и продолжает делать. Ей даже не пришло в голову с кем-нибудь поделиться. Это была сломленная душа, говорю вам. Настоящая рабыня. Да, это подходящее слово. Он поработил ее, хотя и не так, как негра на плантации. Умственно и эмоционально. И когда он вернулся из Европы, она безропотно оставила колледж. У нее не было сил сопротивляться. Даже помыслить об этом. Каминные часы пробили два раза. Потолок отозвался негромким эхом. Джошуа откинулся в кресле – бледный, с темными кругами вокруг глаз. Даже пышная белоснежная грива обвисла; во всяком случае, так показалось Хилари. Он старел на глазах. Девушка понимала его чувства. Семейная история Фраев явилась вопиющим свидетельством жестокости одного человека по отношению к другому. Чем больше они узнавали, тем острее становилось ощущение, словно они вывалялись в грязи. Гнусные открытия следовали одно за другим. Джошуа пробормотал – как будто обращаясь к самому себе: – Значит, они вернулись в Санта-Елену и возобновили преступные отношения, а затем допустили оплошность и Кэтрин забеременела – и ни одна живая душа ничего не заподозрила. – Просто не верится, – поддержала Хилари. – Обычно, если уж приходится лгать, люди придумывают что-нибудь попроще, чтобы не запутаться. Легенда о Мэри Гантер слишком сложна и изощренна. Им приходилось жонглировать дюжиной шаров одновременно. И тем не менее – ни единого прокола! – Ну, не так уж и «ни единого», – возразила миссис Янси. – Они допустили по меньшей мере два. – Какие же? – Например, уезжая в Сан-Франциско, чтобы при моем пособничестве произвести на свет младенца, Кэтрин рассказала соседям, что у Мэри Гантер родился ребенок. Это было ужасно глупо. Со слов Кэтрин выходило, будто Мэри подарила жизнь прелестному дитяти, но неясно было, мальчику или девочке. Ведь Кэтрин не могла знать пол своего будущего ребенка. Вот дуреха! Ей следовало сказать, что ребенок Мэри Гантер вот-вот появится на свет. Я, конечно, понимаю, что она ужасно нервничала и вообще у нее мозги были набекрень. Попробуйте сохранить душевное равновесие – после всего, что с ней годами делал Лео. И потом – необходимость скрывать беременность. Ясно, что она не могла предусмотреть все на свете. – Не понимаю, – проговорил Джошуа. – Почему вы считаете, что сказать, будто Мэри Гантер уже родила, было серьезной ошибкой? Миссис Янси спокойно гладила кошку. – Как я уже сказала, ей следовало объявить соседям, что Мэри Гантер вот-вот разрешится от бремени и что она едет в Сан-Франциско, чтобы побыть рядом с подругой в тяжкое для той время. Тогда ей не пришлось бы всю жизнь придерживаться той версии, будто Мэри родила ребенка. Ничто другое не пришло ей в голову. И вот она явилась ко мне и произвела на свет близнецов. Хилари ахнула. Тони чертыхнулся. Джошуа от изумления вскочил на ноги. Белая кошка почувствовала всеобщее возбуждение и, подняв голову с колен хозяйки, с любопытством воззрилась на гостей. В желтых глазах полыхнули загадочные огни.* * *
Чердак был велик, но все равно Бруно начало казаться, будто на него надвигаются стены. Праздность усугубила клаустрофобию. И он начал искать хоть какое-нибудь занятие. Гантели надоели, прежде чем литые мускулы начало ломить от приятной усталости. Он взял с полки книгу и попытался читать, но никак не мог сосредоточиться. В голове по-прежнему царил хаос. Фрай перескакивал с одной мысли на другую, подобно тому как рассеянный ювелир мечется по комнате в поисках пропавших драгоценностей. Пытался разговаривать с собой мертвым. Выискивал по углам пауков и безжалостно давил их. Хохотал, сам не зная, над чем. И плакал. Проклинал Кэтрин. Строил планы мщения. Мерил чердак-спальню шагами: туда-сюда, туда-сюда. Страстно желал покинуть дом и отправиться на поиски Кэтрин, но понимал, что выходить днем равносильно самоубийству. Бруно был уверен, что лазутчики Кэтрин рыщут по всей Санта-Елене. Ее друзья. Мужчины и женщины из запредельного мира. Все они сейчас ищут его. Да-да. Их много. Многие десятки. Он должен быть очень осторожен. Лучше дождаться сумерек. Хотя ночь – любимое время оборотней, он все же воспользуется преимуществом, которое дает темнота. Ночная мгла укроет его от всякой нечисти – так же, как спрячет их от него. Шансы уравняются. Исход борьбы будет зависеть только от того, кто окажется хитрее: он или Кэтрин. И уж если хитрость станет решающим фактором, у него есть все шансы на победу. По какой-то иронии судьбы Бруно убедил себя в том, что днем в доме ему ничего не грозит, – а ведь именно здесь он тридцать пять лет подряд не знал ни минуты покоя. Сейчас резиденция Лео казалась ему надежным убежищем, последним местом на земле, где Кэтрин и ее приспешники станут искать его. Ведь как раз к этому-то она и стремилась: поймать его и доставить сюда. Он знал это. Знал! Она встала из гроба с одной-единственной целью – притащить его на вершину утеса, туда, где позади дома есть дверь прямо в земле, и замуровать его там навсегда. Вот что она обещала сделать, если когда-нибудь вернется с того света, чтобы наказать его. Он не забыл. Так что сейчас она меньше всего ожидает найти его здесь, в этом доме, на чердаке, оборудованном под спальню. Он был так горд своей хитроумной стратегией, что громко, от души расхохотался. Однако уже в следующий миг его словно током ударило. Ведь если она все-таки станет искать его в старом доме, если приведет с собой банду оборотней – достаточно, чтобы одолеть его, – тогда им не придется издалека тащить его. Стоит Кэтрин и его приспешникам схватить его здесь, как они тотчас швырнут его за роковую дверь, туда, где шорохи. Не пройдет и минуты. Перепуганный насмерть, он снова вернулся к кровати и долго сидел там, рядом с самим собой, пытаясь убедить себя в том, что все будет хорошо.* * *
Джошуа не сиделось на месте, и он стал нервно вышагивать взад и вперед по одной из цветастых ковровых дорожек. Рита Янси продолжила свой рассказ: – Когда у Кэтрин родились близнецы, она поняла, что хитроумная ложь о Мэри Гантер оказалась несостоятельной. Жители Санта-Елены готовились к встрече с одним ребенком. Как ни объясняй появление второго, неизбежно возникнут подозрения. Не дай бог, знакомые узнают о том, чем она занималась вместе с отцом. Это было бы слишком – после всего, что выпало на ее долю! Кэтрин рвала и метала. Целых три дня ее трясло, как в лихорадке, она бредила. Врач давал ей снотворное, но оно не всегда помогало. Она вела себя как буйнопомешанная. Я уже начала подумывать: не вызвать ли полицейских, чтобы увезти ее в психушку. Но, конечно, мне это совсем не улыбалось. – Бедная женщина нуждалась в помощи врача-психиатра, – сказала Хилари. – Три дня лихорадки могли оставить след на всю жизнь. – Возможно, – ответила миссис Янси. – И все-таки у меня были связаны руки. Понимаете, если вы содержите шикарный бордель, вы будете всеми силами избегать встреч с блюстителями порядка – кроме тех случаев, когда они приходят за своим жалованьем. Обычно копы не трогают таких, как я. В конце концов, среди моих клиентов было немало влиятельных политиков и состоятельных бизнесменов, так что копы не позволяли себе никаких налетов, никаких рейдов. Но отправь я Кэтрин в клинику – провалиться мне на этом месте, если бы газеты тотчас не раздули это до небес, и тут уж копам хочешь не хочешь, а пришлось бы вмешаться. После такой огласки им бы уже никак не удалось оставить меня в покое. Безвыходное положение. Я бы лишилась всего. И врач боялся, что его карьера рухнет, если пациенты узнают, что он обслуживает проституток. Это сейчас на такие вещи смотрят сквозь пальцы: врач не пострадает, даже если будет стерилизовать крокодилов теми же инструментами, какими пользуется у себя в кабинете. Но тогда, в 1940 году, люди были… щепетильнее. Так что, как видите, мне приходилось думать о себе, а также о благополучии врача и моих девушек… Джошуа подошел к Рите Янси и уставился на нее сверху вниз, как бы пытаясь разглядеть за простым платьем, темно-коричневыми чулками, удобными черными домашними туфлями и белой кошкой с шелковистой шерсткой – за всем обликом доброй бабушки-старушки ее подлинную сущность. – Когда вы приютили Кэтрин за три тысячи долларов, разве это не означало, что вы берете на себя ответственность? – Я не просила ее являться ко мне рожать! – отрезала миссис Янси. – Мой бизнес стоил побольше трех тысяч! С чего бы я вышвырнула коту под хвост все, чего добилась в жизни, – из одного только принципа? Или вы считаете, что мне так и следовало поступить? – Она недоверчиво покачала головой. – Если так, значит, вы не от мира сего. Вот что я вам скажу, дорогой сэр. Джошуа боялся одного: не выдержать и сказать ей все, что он о ней думает. Но тогда его вышвырнут за дверь и он не узнает всей правды о Кэтрин Фрай и ее близнецах. – Послушайте, миссис Янси, – вмешался Тони. – Вскоре после того, как Кэтрин перешагнула через ваш порог, и особенно когда вы увидели, как она убивает себя железными обручами, вы, должно быть, подумали, что скорее всего ребенок родится мертвым. Судя по вашим словам, врач тоже не исключал такую возможность. – Да, верно. – Он сказал, что и Кэтрин может умереть? – Да. Ну и что? – Смерть новорожденного или роженицы означала бы для вас крах заведения, точно так же, как и вызов полиции к женщине, страдающей буйной формой помешательства. И все-таки вы не выставили Кэтрин, когда еще не было поздно это сделать. Даже узнав от врача о громадном риске, вы оставили у себя три тысячи долларов и саму Кэтрин. Безусловно, вы отдавали себе отчет, что, если кто-нибудь умрет, вам придется сообщить об этом в полицию, а это сулило вам полное банкротство. – Нет проблем, – возразила миссис Янси. – Если бы младенцы умерли, их унесли бы в чемодане и тихонько похоронили в горах, в графстве Марин. Или привязали бы к чемодану груз и сбросили с моста «Золотые ворота». Джошуа изнемогал от желания схватить гнусную старуху за скрученные жгутом волосы, вытащить из кресла, вывести из благодушного состояния. Вместо этого он отвернулся, сделал глубокий вдох и возобновил хождение взад-вперед по ковровой дорожке. – А Кэтрин? – допытывалась Хилари. – Что бы вы сделали, если бы она умерла? – То же самое, что и с близнецами, – как ни в чем не бывало ответила Рита Янси. – С той разницей, что, конечно, она не поместилась бы в чемодане. Джошуа остановился в дальнем конце комнаты и с отвращением взглянул на нее. Нет, миссис Янси и не думала шутить либо иронизировать. Она не отдавала себе отчета в чудовищности своих слов и просто констатировала факт. – Короче говоря, если бы что-нибудь случилось, мы бы сумели спрятать труп, – продолжала она, – и все выглядело бы так, словно Кэтрин Фрай никогда не переступала порог моего заведения. И не надо смотреть на меня с таким осуждением, юная леди. Я не убийца. Речь идет о том, что бы я сделала – и что сделал бы всякий здравомыслящий человек на моем месте, – если бы мать или дитя умерли естественной смертью. Заметьте, естественной! Ради бога – да если бы я была способна убить, я бы просто разделалась с Кэтрин, когда она была без сознания и никто не знал, выживет ли она. Вот когда она представляла для меня серьезную угрозу! Все мое благополучие было поставлено на карту: дом, бизнес – все. Но, как вы знаете, я не задушила ее. Боже правый, мне такое даже не приходило в голову! Я выходила бедную девушку, вырвала из лап болезни или даже смерти! – Вы говорите, Кэтрин несколько дней буйствовала? – сказал Тони. – Значит, она… – Только три дня, – ответила миссис Янси. – Нам даже приходилось привязывать ее к кровати, чтобы она чего-нибудь с собой не сделала. А потом все прошло. Должно быть, это был нервный срыв. Временное умопомрачение. Потому что уже через три дня она была как огурчик. – Вернемся к близнецам, – предложил Джошуа. – В сущности, они-то нас и интересуют в первую очередь. – Кажется, я уже все рассказала. – Это были однояйцевые, то есть полностью идентичные близнецы? – Трудно сказать. Все новорожденные на одно лицо: морщинистые и красные. – Разве врач не мог определить? – Это все-таки был первоклассный бордель, а не клиника. – Рита Янси почесала кошке грудку, и та, играя, выставила лапку. – У доктора не было ни времени, ни технических возможностей. И потом, какое это имело значение: идентичные они или нет? Хилари вздохнула. – Одного из них Кэтрин назвала Бруно. – Я так и поняла, – сказала миссис Янси, – когда он начал присылать чеки. – А как назвали другого? – Не имею ни малейшего понятия. Когда Кэтрин уезжала от меня, они еще не получили никаких имен. – А как же метрики? – Не было никаких метрик. – Как же это может быть? – Детей не стали регистрировать. – Но по закону… – начал Тони. – Кэтрин упорно отказывалась их регистрировать. А уж если ей чего-то сильно хотелось, она не скупилась. – И врач не вмешался? – Он получил тысячу баксов за помощь при родах и чтобы держал язык за зубами. Тогда тысяча долларов весила побольше, чем сейчас. – Оба мальчика родились здоровыми? – полюбопытствовал Джошуа. – Нет, довольно хиленькими. Кожа да кости. Возможно, из-за того, что Кэтрин много месяцев просидела на диете. Да еще эти обручи. Но орали они ничуть не хуже других младенцев. А уж аппетит у них был – вы не можете себе представить! Так что, я думаю, они были вполне здоровыми, только уж больно крохотными. – Как долго Кэтрин оставалась у вас? – поинтересовалась Хилари. – Примерно две недели. Ей нужно было отдохнуть, окрепнуть. И дать детям нарастить мясца на косточках. – Покидая ваше… заведение… она унесла с собой обоих младенцев? – Само собой. У меня был дом терпимости, а не ясли. Я была счастлива от них отделаться. – Вы знали, что она привезла в Санта-Елену только одного малыша? – выпытывала Хилари. – Догадывалась, что таковы ее намерения. Джошуа перехватил инициативу: – Она не сказала вам, как собирается поступить со вторым мальчиком? – Кажется, хотела отдать его на усыновление. – «Кажется»? – взорвался адвокат. – Неужели вам было совершенно все равно, что станется с двумя беспомощными крошками в руках невменяемой матери? – Она оклемалась. – Дерьмо собачье! – Встреть вы ее на улице, ни за что бы не подумали, что с ней что-нибудь не так. – Но за благополучным фасадом… – Она была их мать, – веско заявила миссис Янси, – и не собиралась причинять им зло. – Откуда такая уверенность? – усомнился Джошуа. – Да, я была уверена. Я всегда с огромным уважением относилась к чувствам матери. Материнская любовь творит чудеса. Джошуа снова едва удержался, чтобы не залепить ей оплеуху. В разговор вступил Тони: – Кэтрин могла отдать его в какую-нибудь семью. – И это предоставляет широкое поле для самых мрачных предположений, – буркнул Джошуа. – Ей-богу, вы меня удивляете! – Рита Янси покачала головой и снова почесала кошке грудку. – Все-то вам мерещатся разные ужасы. Сроду не видела таких безнадежных пессимистов. Неужели вам не приходило в голову, что она могла просто подбросить ребенка – положить на какое-нибудь крыльцо, скажем, церкви или сиротского приюта? Его бы сразу заметили и позаботились о нем. Я бы не удивилась, если бы оказалось, что его подобрала какая-нибудь молодая пара и он вырос в прекрасном доме, усыновленный замечательными людьми, которые дали ему родительскую любовь и хорошее воспитание. И вообще – все на свете!* * *
Если Рита Янси и знала что-либо сверх того, что уже сообщила о судьбе близнецов, то она оставила это при себе. Тони понял: больше из нее ничего не вытянешь, даже если его спутники придерживались противоположного мнения. Оба они – Хилари и Джошуа – кипели негодованием. Попытайся они открыть рот, на Риту Янси обрушился бы такой поток гневных и резких слов, что она, несомненно, оскорбилась бы и выставила их за дверь. Тони понимал: Хилари глубоко потрясена сходством собственного жуткого детства и пожизненной агонии Кэтрин. В Рите Янси ее раздражало все: жалкие потуги на мораль, слащавая и в то же время напыщенная сентиментальность и особенно – искреннее, всеобъемлющее равнодушие. Джошуа страдал от удара, нанесенного его самолюбию: ведь он проработал у Кэтрин двадцать пять лет и ни разу не заподозрил тихого помешательства, которое она столь успешно скрывала за фасадом уравновешенности. Тони поднялся с дивана и, подойдя поближе к Рите Янси, сел на подставку для ног, делая вид, будто ему хочется погладить кошку. На самом деле он нарочно поместился между ней и Хилари, а также Джошуа, который в любой миг мог сорваться – схватить миссис Янси в охапку и начать яростно трясти ее. Отсюда, с подставки для ног, Тони удобно было продолжать расспросы. Поглаживая кошку, он, с присушим ему обаянием, постарался расположить к себе ее хозяйку. Наконец он спросил, не было ли при рождении близнецов чего-либо необычного. – Необычного? – переспросила миссис Янси. – Разве вам не кажется, что вообще вся эта история – из ряда вон? – Вы правы, – согласился Тони. – Я неточно сформулировал вопрос. Вот что я имел в виду: не было ли чего-либо особенного в том, как протекали роды? В состоянии новорожденных?.. В удивленных глазах Риты Янси мелькнуло воспоминание. – Да, – произнесла она. – Кое-что было. – Я попробую угадать. Близнецы родились с оболочкой на голове, не правда ли? – Точно. Откуда вам это известно? – Просто угадал. – Черта с два! – Старуха погрозила ему пальцем. – А вы хитрее, чем я думала. Тони выдавил из себя улыбку. Пришлось приложить усилие, потому что в Рите Янси не было ничего такого, что побудило бы его искренне улыбнуться ей. – Да, они оба родились в оболочке, закрывавшей почти всю голову. Доктор сказал, что ему и раньше приходилось наблюдать подобное, но только у одного близнеца из двух. Это был один случай из миллиона. – Кэтрин об этом знала? – Про оболочку? Не могу вам сказать. У нее была лихорадка. А потом она три дня буйствовала. – А когда пришла в норму? – Скорее всего ей об этом сказали. Обычно матери сообщают такие вещи. Да-да, помню: я же ей и сказала. Это произвело на нее сильное впечатление. Некоторые называют это «родиться в рубашке», утверждают, что такие дети становятся ясновидящими. – Кэтрин придерживалась такого же мнения? Рита Янси наморщила лоб. – Нет. Наоборот, она сочла это дурным предзнаменованием. Лео увлекался, как сейчас говорят, паранормальными явлениями. И сама Кэтрин прочла кое-какие книги. В одной из них было сказано, будто бы, если оба близнеца родятся в сорочке, это означает… Точно не помню, но что-то связанное с дьяволом. – Знак дьявола? – подсказал Тони. – Да! Вот это самое. – Значит, она верила, что ее дети отмечены дьяволом и их души прокляты? – Я уж и забыла об этом. Миссис Янси устремила невидящий взгляд куда-то в пространство, мимо Тони, словно вглядываясь в прошлое. Хилари с Джошуа сидели молча, и Тони был рад, что они признали его превосходство. Наконец миссис Янси заговорила: – После того как Кэтрин сказала о знаке дьявола, она вдруг замкнулась в себе и пару дней пролежала тихонько, точно мышь, глядя в потолок и почти не шевелясь. Как будто о чем-то напряженно думала. Потом вдруг она повела себя весьма странно, я даже начала подумывать, не отправить ли ее в сумасшедший дом. – Что, снова начала буянить? – Нет-нет. Только говорила. С большим чувством – и совершенно безумные вещи. Сказала мне, что ее сыновья – дети дьявола. Мол, ее изнасиловал посланец ада: такой зеленый, в склизкой чешуе, с раздвоенным языком и длинными когтями. Специально явился на землю, чтобы она понесла от него. Как вам это нравится? Кэтрин клялась и божилась, что это сущая правда. Даже описала это мерзкое существо – чертовски красочно и во всех подробностях. А когда начала рассказывать об изнасиловании, у меня мурашки побежали по коже, хотя я и знала, что это бред сумасшедшей. Одно время я заподозрила, что она меня разыгрывает, вот только я не находила в этом ничего смешного. Пришлось напомнить ей обо всем, что она рассказала мне про Лео. Тут Кэтрин впала в бешенство. Ну и орала же она! Я думала, стекла лопнут. Она все отрицала. Притворилась оскорбленной. Как я могла предположить инцест! Она строила из себя такую недотрогу, такую праведницу – ах ты боже мой! Настаивала на том, чтобы я извинилась. Я рассмеялась ей в лицо, и это подлило масла в огонь. Она как заведенная твердила, что это все не Лео, – хотя мы обе прекрасно знали, что это был он. Чего только она не делала, чтобы разубедить меня! И, скажу я вам, это была великолепная игра! Конечно, я ей не поверила. Дьявол пришел на землю, чтобы обрюхатить ее, – как бы не так! Единственное, в чем я сомневалась, верит ли она сама в эти бредни или придуривается. Она так фанатично это твердила! Мол, если верующие узнают, что она согрешила с дьяволом, ее вместе с детьми заживо сожгут на костре. Умоляла меня хранить это в тайне. Просила никому не говорить о том, что оба мальчика родились в сорочке. Потом заявила, будто у них есть еще один знак дьявола – между ног. И это тоже – страшная тайна. – Между ног? – удивился Тони. – Совсем свихнулась! Утверждала, будто у обоих близнецов половые органы в точности как у их отца – дьявола. Она, мол, знает, что я это заметила, и умоляла никому не говорить. Ну, это вообще курам на смех. У обоих парнишек были абсолютно нормальные пиписки. Но Кэтрин еще два дня подряд сходила с ума. Иногда она доводила себя до истерики. Спрашивала, сколько я хочу за то, чтобы держать язык за зубами. Я сказала, что не возьму за это ни пенни, но согласна на ежемесячное пособие в пятьсот долларов за молчание о Лео и всем остальном – из того, что составляло истинную историю. Она немного успокоилась, но не совсем выбросила из головы весь этот бред. Я почти поверила, что она сама в этом убеждена, и собиралась пригласить врача-психиатра, но тут она моментально заткнулась и пришла в чувство. А может, самой надоело валять дурака. В общем, она больше не заикалась насчет дьявола. Тони обдумал рассказ миссис Янси. Та продолжала гладить кошку. – А что, если… – задумчиво произнес Тони. – Что, если… если… – Если что? – оживилась Хилари. – Сам толком не знаю, – признался он. – Картина начинает складываться, но уж больно дикая. Может, я ошибаюсь. Нужно все как следует обдумать. – У вас больше нет вопросов? – осведомилась миссис Янси. Тони поднялся на ноги. – Нет. Ничего не приходит в голову. – Кажется, мы выяснили все, что хотели, – согласился Джошуа. – И даже больше, чем рассчитывали, – поддержала Хилари. Миссис Янси сняла кошку с колен и посадила на пол, а затем и сама поднялась на ноги. – Целое утро потратила на эту дурацкую историю, – проворчала она. – Мне уже давно пора на кухню, начинить пироги и поставить в печь. К ужину придут внуки. И все четверо любят разную начинку. Иногда эти сорванцы – просто напасть. Но, с другой стороны, я не представляю, как бы жила без них. Внезапно кошка перепрыгнула через подставку для ног, сиганула по ковровой дорожке мимо Джошуа и спряталась под столом в углу. В тот самый момент, когда она затихла, дом тряхнуло. С полки слетели две стеклянные фигурки в форме лебедей и, не разбившись, упали на толстый ковер. Задребезжали оконные стекла. – Землетрясение, – сказала миссис Янси. Пол закачался, как палуба при слабом волнении моря. – Пустяки, – ободрила миссис Янси своих гостей. Качка постепенно сошла на нет. Земля успокоилась. – Вот видите, все уже кончено. Но Тони по-прежнему чувствовал: в воздухе носится нечто зловещее, пусть даже это не имеет ничего общего с землетрясением.* * *
Наконец-то Бруно удалось открыть глаза своей второй сущности, но открывшееся взору его очень огорчило. Он не увидел чистых, электризующих светло-голубых глаз, которые знал и любил и которые знали и любили его самого. То были буркалы чудовища: распухшие, начавшие разлагаться, вылезшие из орбит. Белки были сплошь в красно-коричневых точках от лопнувших сосудов. Радужная оболочка замутилась и приобрела безобразный темный оттенок. Но чем больше Бруно вглядывался в них, тем менее заметными казались произведенные смертью разрушения. Это все-таки были глаза его второй половины. Он старался смотреть не «на», а «в» них, в самую душу второго Бруно. Прежние чары не вернулись, потому что глаза не могли ответить тем же, и все-таки в нем зашевелились воспоминания об их прошлом единении – против всего света. Воспоминания – вот и все, что у него осталось. Он долго сидел на кровати, вглядываясь в глаза трупа.* * *
Взревев, «Сессна» Джошуа Райнхарта взмыла в небо и взяла курс на север, в направлении Напы. Хилари посмотрела вниз, на разбросанные по небу клочья облаков и безжизненно-серые осенние холмы под ними. Над головой было яркое голубое небо. Первые десять минут полета Хилари, Тони и Джошуа молчали, погруженные каждый в свои невеселые думы – и страхи. Джошуа первый нарушил молчание: – Должно быть, второй близнец и есть таинственный двойник, которого мы ищем. – Скорее всего, – ответил Тони. – Выходит, Кэтрин удалось решить проблему, не умерщвляя второго ребенка. – Очевидно. – А я кого убила? – задала вопрос Хилари. – Бруно или его брата? – Придется произвести эксгумацию трупа, – ответил Джошуа. – Может, тогда все станет ясно. Самолет угодил в воздушную яму и начал резко падать вниз, но затем вновь набрал высоту. Когда желудок Хилари встал на место, она предложила: – Давайте все хорошенько обсудим и попытаемся сдвинуться с мертвой точки, а то жуем одну и ту же жвачку. Если Кэтрин не умертвила брата Бруно – ради поддержания версии о Мэри Гантер, – то что все-таки она с ним сделала? Где он пропадал все это время? – На худой случай у нас есть гипотеза миссис Риты Янси, – Джошуа произнес это имя с такой интонацией, что стало ясно: его угнетает сама необходимость ссылаться на вышеупомянутую особу. – Возможно, Кэтрин и впрямь оставила запеленутого младенца на крыльце какой-нибудь церкви или сиротского приюта. – Не знаю, – с сомнением пробормотала Хилари. – Чем-то она мне не по душе, эта версия, хотя я и не могу объяснить, чем именно. Она слишком… слишком тривиальна… или романтична. Черт. Все не те слова. Не могу выразить. Просто интуиция мне подсказывает, что Кэтрин должна была поступить иначе. Эта гипотеза слишком… – Гладкая, – подсказал Тони. – Точно так же меня смущала история с Мэри Гантер. Подкинуть близнеца – самый простой и безобидный вариант, хотя и уязвимый с точки зрения морали. Но люди не всегда выбирают самый легкий и безопасный путь, особенно если находятся в стрессовом состоянии, как Кэтрин, когда она покинула публичный дом Риты Янси. – Все же нельзя полностью отметать эту догадку, – предположил Джошуа. – А я думаю, можно, – возразил Тони. – Потому что, если допустить, что брат Бруно был покинут и усыновлен другими людьми, придется ломать голову над тем, как они с Бруно встретились. Ребенок не был зарегистрирован – как мог Бруно напасть на его след? Только благодаря случайному совпадению. Но как тогда объяснить тот факт, что брат, выросший в другой семье, совершенно в иной среде, ничего не знавший о Кэтрин, питает к ней такую же неистребимую ненависть и так же трясется от страха? – Да, это нелегко, – согласился Джошуа. – Дальше. Каким образом у него развилась точно такая же параноидальная шизофрения, в мельчайших подробностях совпадающая с болезнью самого Бруно? С минуту все трое молчали. Затем Джошуа произнес: – Ваша взяла. У меня нет этому объяснений. Не могу понять, как у брата, выросшего вдали от Бруно, развился точно такой же психоз. Во всяком случае, гены тут ни при чем. – К чему ты клонишь, Тони? – спросила Хилари. – Что близнецы не разлучались? – Она привезла их с собой в Санта-Елену, – уверенно заявил он. – Ну и где же скрывался второй близнец все эти годы? – недоверчиво спросил Джошуа. – Она запирала его в кладовке? – Нет, – ответил Тони. – Возможно, вы много раз с ним встречались. – Что? Я? Нет, никогда. Только с Бруно. – А что, если… если они оба носили это имя? И по очереди появлялись на людях? Джошуа оторвал взгляд от открытого участка неба перед собой и уставился на Тони. – Вы хотите сказать, что они сорок лет играли в разновидность детской игры? – Нет, не игры, – ответил Тони. – Во всяком случае, для них это была жестокая необходимость. – Вы совсем сбили меня с толку, – признался Джошуа. Хилари повернулась к Тони: – Я сразу поняла, что у тебя возникла какая-то идея, когда ты начал выспрашивать миссис Янси насчет того, что близнецы родились в сорочке и как на это реагировала Кэтрин. – Да, – подтвердил Тони. – То, как она ухватилась за эту идею насчет дьявола, в значительной мере подсказало мне разгадку. – Ради бога, – нетерпеливо проговорил Джошуа, – перестаньте темнить. Расскажите все по порядку, чтобы мы с Хилари поняли, в чем дело. – Прошу прощения. Я просто думал вслух. – Тони устроился поудобнее на своем сиденье. – Хорошо, слушайте. Только это займет много времени, потому что мне придется вернуться к самому началу. Чтобы понять то, что я скажу о Бруно, нужно хорошо представлять себе жизнь и внутренний мир Кэтрин. Согласно моей теории это семья, где господствовало сумасшествие, захватившее целых три поколения. Господствовало и постоянно набирало силу, подобно тому, как вклад в банке обрастает процентами. Начнем с Лео. Это в высшей степени авторитарный тип. Для нормального самочувствия ему требовалась власть над другими людьми. Это одна из причин, почему он преуспел в делах. Он умел всякий раз одерживать верх и никогда не уступал ни пяди. Многие агрессивные люди в интимной обстановке меняются. Они рады избавиться от ответственности и предпочитают, чтобы ими помыкали – хотя бы только в сексуальной сфере, разнообразия ради. Многие, но только не Лео. Он привык доминировать – всегда и во всем. Ему доставляло ни с чем не сравнимое наслаждение унижать и оскорблять женщин, принуждая их делать самые безобразные вещи. Это был настоящий садист – как мы знаем из рассказа миссис Янси. – Между жестоким обращением с продажными женщинами и растлением собственной дочери – дистанция огромного размера, – буркнул Джошуа. – Тем не менее он это сделал и продолжал делать на протяжении многих лет, – возразил Тони. – Он считал себя вправе издеваться над проститутками, которым платил, и над дочерью, которую и подавно считал своей собственностью. Кэтрин была в его глазах вещью, которая, если ею не пользоваться, теряла всякий смысл. – Счастье, что я не знал этого типа, – сказал Джошуа. – Доведись мне хоть раз в жизни обменяться с ним рукопожатием, сейчас я чувствовал бы себя так, словно вывалялся в грязи… – Ну вот, – продолжал Тони. – Я представляю себе Кэтрин – несчастное, запуганное дитя, вынужденное существовать в полной изоляции от внешнего мира, рядом с человеком, который способен решительно на все. Следует помнить, что Лео не просто издевался над ее телом. Его звериная потребность утверждать свою власть простиралась гораздо дальше секса: он требовал безоговорочного подчинения. Учинив над ней физическое насилие, не мог успокоиться до тех пор, пока не сломает ее духовно, эмоционально и, наконец, умственно. Явившись к миссис Янси, Кэтрин уже была ненормальной – в той же степени, что и Лео. Но она переняла от него способность скрывать свое помешательство. После родов она на три дня утратила контроль над собой, но затем снова взяла себя в руки. – Ненадолго, – напомнила Хилари. – Да, – поддержал ее Джошуа. – Потом она наплела миссис Янси с три короба насчет того, что ее изнасиловал дьявол. – Если я рассуждаю правильно, – сказал Тони, – рождение близнецов произвело в Кэтрин необратимые изменения в худшую сторону, причем одну стадию помешательства сменила другая, более серьезная. С одной стороны, грозила рухнуть ее легенда относительно Мэри Гантер. А с другой – близнецы родились «в сорочке». Лео увлекался сверхъестественным; Кэтрин и сама прочла несколько оккультных книг, поэтому у нее заработало воображение. Мысль о том, что она явилась невинной жертвой адского чудовища, показалась ей весьма привлекательной, потому что обеляла ее в собственных глазах, спасала от позора и чувства вины за то, что родила от собственного отца, то есть совершила тяжкий грех кровосмешения. Это тоже следовало прятать от людей, но хотя бы не от самой себя. Какая земная женщина устоит против дьявола, со всей его нечеловеческой мощью? Отныне она могла думать о себе не как о соучастнице, а как о несчастной невинной жертве. – Но ведь, в сущности, так и было, – возразила Хилари. – Она явилась жертвой своего отца. Он учинил над ней насилие, и у нее не было шансов на спасение. – Так-то оно так, но Лео потратил немало времени и усилий, промывая ей мозги так, чтобы она чувствовала себя виноватой в их двухсмысленных отношениях. Это обычный образ действий не совсем нормального человека – с целью избавиться от чувства вины он склонен валить с больной головы на здоровую. Это прекрасно укладывается в прокрустово ложе нашего понимания Лео. – Ну хорошо, – сказал Джошуа. – До сих пор я могу с вами согласиться. Возможно, это и не совсем верно, но, во всяком случае, не противоречит здравому смыслу. Итак, Кэтрин произвела на свет близнецов и на три дня утратила контроль над собой, а потом ухватилась за новую фантазию. Убедив себя в том, что ее изнасиловал дьявол, она получила возможность забыть о том, что это сделал ее отец. Так ей удалось вернуть себе какую-то долю самоуважения – впервые за многие годы своей сознательной жизни. – Вот именно, – произнес Тони. Хилари попыталась развить его теорию: – Миссис Янси была единственным человеком, которому Кэтрин невольно открыла свою тайну. Поэтому, когда ее осенило насчет дьявола, она приложила максимум усилий, чтобы та узнала «правду». – А когда миссис Янси все-таки не поверила, – продолжил Тони, – Кэтрин решила держать эту тайну при себе. Ей стало ясно, что и никто не поверит. Впрочем, для нее это не имело особого значения. Главное – она сама знала истину, которая, по ее мнению, заключалась в том, что ее изнасиловал дьявол. С этой истиной жить было гораздо легче, чем с той, прежней, – о Лео. – Который к тому времени несколько недель как умер, – добавила Хилари, – так что некому было напоминать Кэтрин о том, что она предпочла забыть. Джошуа на мгновение отнял руки от штурвала и вытер о рубашку. – Я считал себя стреляным воробьем: мол, меня уже ничем не проймешь. Но от этой истории у меня аж вспотели ладони. Мне подумалось: есть ужасное дополнение к словам Хилари о том, что, раз Лео ушел из жизни, некому было напоминать Кэтрин об инцесте. Но чтобы продолжать верить в свой новый вымысел, ей необходимо было иметь перед глазами его живое свидетельство. Вот почему она не отдала ни одного из близнецов на воспитание. – Правильно, – поддержал Тони. – Глядя на двух здоровеньких, абсолютно нормальных ребятишек, она искренне верила, что у них какие-то не такие половые органы. Они существовали в ее больном воображении, служа доказательством того, что их отец – дьявол. Близнецы стали существенной частью удобного для нее мировоззрения – удобного, разумеется, лишь по сравнению с прежним кошмаром. В голове у Хилари мелькали разные догадки – со скоростью, превышавшей ту, с которой они неслись в «Сессне» на север, в Напу. Она быстро поняла, к чему клонит Тони, и попробовала продолжить сама: – Итак, Кэтрин привезла близнецов в дом на утесе. Но ей было необходимо поддерживать в глазах окружающих легенду о Мэри Гантер. Так? А поскольку она могла предъявить жителям Санта-Елены только одного ребенка, она дала детям одно и то же имя и позаботилась о том, чтобы они не появлялись на людях вместе. Им предстояло вдвоем прожить жизнь одного человека. – И постепенно, – сказал Тони, – двое мальчиков привыкли думать о себе как об одной и той же личности. – Подождите! – взмолился Джошуа. – Допустим, на людях они могли выдавать себя за одно и то же лицо, носить одно имя. Это тоже нелегко переварить, но я попытаюсь. Но оставаясь наедине, между собой – должны же они были ощущать себя разными людьми. – Не обязательно, – возразил Тони. – У нас немало доказательств тому, что они думали о себе… как об одном индивидууме в двух ипостасях. – Какие же это доказательства? – потребовал Джошуа. – Письмо, обнаруженное в сейфе банка в Сан-Франциско. В нем Бруно написал, что его убили в Лос-Анджелесе. Он не сказал, что убили его брата, – нет, он воспринял эту смерть как свою собственную. – Это письмо ничего не значит, – проворчал Джошуа. – Так, «мамбо-джамбо», без малейшего смысла. – Смысл есть, – настаивал Тони, – с точки зрения Бруно, если допустить, что он не отделял себя от брата. Джошуа покачал головой: – Я все же не понимаю, как можно было убедить двух человек, что они – одно и то же. – Вам наверняка приходилось слышать о раздвоении личности. Например, «Доктор Джекил и мистер Хайд». Или вспомните подлинную историю «Три лица Евы». Была еще книга об одной такой женщине – нашумевший бестселлер «Сибилла». У этой Сибиллы было целых шестнадцать отдельных существований. Так что, если я на правильном пути, с близнецами Фрай произошло нечто прямо противоположное. Вместо того чтобы вообразить себя четырьмя, десятью и более личностями, под давлением матери их два сознания слились в одно. Два человека составили одну индивидуальность. Такого еще не случалось и, может быть, никогда не случится, но это еще не значит, что оно невозможно в принципе. – У близнецов не было другого выхода, – поддержала Хилари, – коль скоро им приходилось показываться поочередно на людях. Малейшее отклонение грозило им полным крахом. – Но как? – воскликнул Джошуа. – Как она этого добилась? – Возможно, мы никогда не будем знать наверняка, – ответила Хилари, – но у меня есть кое-какие предположения. – У меня тоже, – сказал Тони. – Но давай сначала твои.* * *
Начало смеркаться. По полу поползли тени, и Бруно испугался, что его застигнут в темноте. Он не мог включить свет, потому что генератор вот уже пять лет не работал. А в его карманном фонарике сели батарейки. Он боролся с паникой. Ему было не так страшно остаться одному на улице: там все-таки был хоть какой-то свет – от жилых домов, фонарей, огней проносящихся автомобилей. Но в кромешной тьме закрытого пространства к нему неизбежно возвращались таинственные шорохи и ползающие по всему телу твари. Необходимо было любой ценой предотвратить это. Свечи! Мать всегда держала в кладовке за кухней пару коробок со свечами – на случай, если генератор выйдет из строя. При переезде Фрай не тронул их – как почти все остальное. Он низко наклонился над мертвым Бруно и заглянул ему в глаза. – Я на минутку отлучусь на кухню. Забрызганные кровью, затуманенные глаза мертвеца смотрели на него в упор. – Я мигом, – пообещал Бруно. – Только принесу свечи, чтобы меня не застигли впотьмах. Я подожду минуточку, пока я слетаю на кухню. Его второе «я» продолжало хранить молчание. Бруно подошел к лестнице, которая вела в спальню на второй этаж. На нее падал тусклый свет из чердачного окна. Но когда Бруно заглянул вниз, его взору предстала кромешная тьма. Ставни. Он открыл ставни только на чердаке; прочие помещения так и остались погруженными во тьму, чтобы ищейки Кэтрин ничего не заподозрили. Бруно пригнулся. Ни звука. Ни единого шороха. Пересиливая себя, он спустился в спальню второго этажа. Там было тихо. Ни единого шороха. На ощупь, вытянув руки, Бруно двинулся к выходу на лестничную площадку. Нащупал перила и застыл на месте. Шорохи. Позади него. Вот-вот настигнут. Он вскрикнул и побежал вниз, на первый этаж. Шорохи преследовали его. Спотыкаясь, хватаясь за перила, добежал до кухни, а там начал красться вдоль стен, отмечая: вот плита, вот холодильник, шкафы, раковина, дверь в кладовку… И все это время он слышал шорохи у себя за спиной и орал как оглашенный. В кладовке стояла страшная вонь. Бруно начал ощупью перебирать коробки и банки – пока наконец не понял, что без света ничего не найдет. Что-то ползло у него по лицу, норовило забраться в рот и в нос. Бруно вернулся на кухню, отыскал дверь черного хода на улицу и выломал ее. Свет. Тусклый вечерний свет заполнил кухню. Бруно отдышался и побрел в кладовку. Там ему снова ударила в нос невыносимая вонь от взорвавшихся банок с консервами. Наконец он нашел свечи и не успевшие отсыреть спички; чиркнул спичкой, и взвилось маленькое пламя. У него полегчало на душе.* * *
С Тихого океана находили свинцовые облака. – Но каким образом, – повторил Джошуа, – Кэтрин удалось заставить близнецов думать и поступать как один человек? – Вряд ли мы узнаем это наверняка, – ответила Хилари. – Думаю, дело в том, что она внушала им это с пеленок. Вбивала в детские головенки весь этот бред о знаке дьявола и не таких, как у других мальчиков, половых органах. Убеждала: как только люди узнают, кто они такие, их сразу убьют. К тому времени как они научились задавать вопросы, она успела их так обработать, что им даже не пришло в голову усомниться. Дети разделили психоз матери; ее галлюцинации стали для них реальностью. Близнецы, так же как Кэтрин, росли в атмосфере страха, под постоянным напряжением. В такой обстановке им нетрудно было усвоить главный урок Кэтрин, а именно: они одна и та же человеческая сущность. Это была длительная, упорная мозговая, эмоциональная и психическая осада. К разговору вновь подключился Тони: – Судя по записям доктора Раджа, Бруно знал о том, что они оба родились «в сорочке», и связывал это суеверие с вымышленной историей о дьяволе. Письмо из сейфа это подтверждает. Бруно писал, что не смеет обратиться в полицию, потому что полицейские могут узнать, кто он такой и что он всю жизнь прятался. Да, он считал себя сыном дьявола. Он впитал эти бредни с молоком матери – в буквальном смысле. – Ну ладно, – сдался Джошуа. – Предположим, оба близнеца верили в то, что они – дети дьявола. Не могли не верить. Но как Кэтрин удалось внушить им, что они – один человек? И зачем? – Мне легче объяснить зачем, – ответила Хилари. – Коль скоро детям было суждено поочередно появляться на людях под одним и тем же именем, Кэтрин не могла допустить ни малейших различий между ними. Иначе рано или поздно маскарад мог раскрыться. – А что касается «как», – дополнил Тони, – то не следует забывать, что у Кэтрин был богатейший опыт по части того, как ломать молодые неокрепшие души. Не ее ли отец лепил как заблагорассудится? Думаю, она переняла у него кое-какие приемы. Набор телесных и психологических пыток. Она могла бы издать учебник. – И всякий раз, когда она замечала малейшие проблески индивидуальности, – продолжил Тони, – ей приходилось выкорчевывать их с корнем, душить в зародыше. Опять же местоимения… – Что – местоимения? – удивился адвокат. – А вот что. Мы можем этого не замечать, но речь играет первостепенную роль в формировании личности. Мы облекаем в слова всякую мысль, всякую идею. Нечеткость мысли ведет к нечеткости ее словесного выражения. Но верно и обратное. Поэтому логично было бы предположить, что специфическое употребление местоимений внесло свою лепту в формирование самосознания близнецов в угодном для Кэтрин направлении. К примеру, когда они обращались друг к другу, им воспрещалось пользоваться местоимением «ты» – только «я». Один Бруно мог предложить другому: «Почему бы мне и мне не сыграть в монопольку?» Точно так же исключалось употребление местоимения «мы», «нас» – потому что оно предполагает наличие по крайней мере двух субъектов. Говоря о брате с Кэтрин, нельзя было сказать «он», а только «я». Это кажется вам слишком сложным? – Безумным, – ответил Джошуа. – В том-то и дело. – Но… это просто бред сумасшедшего! – Естественно, – согласился Тони. – Таков был замысел Кэтрин, а она была не в своем уме. – Но как ей это удалось? Какие стимулы были пущены в ход? – Да точно такие же, какими пользуются нормальные родители нормальных детей, – предположила Хилари. – Когда они вели себя правильно – с точки зрения Кэтрин, – она их вознаграждала, а за проступки – наказывала. – Но чтобы до такой степени подавить естественные человеческие порывы, – продолжал сомневаться Джошуа, – Кэтрин должна была прибегнуть к экстраординарным, может быть, даже чудовищным мерам. – Так оно и было. Мы же слышали запись последнего разговора доктора Раджа с Бруно. Помните сеанс гипноза? Бруно сказал, что мать сажала его в какую-то темную яму. Цитирую: «За то, что поступал и думал не как один». По-видимому, наказание следовало всякий раз, когда они выказывали малейшие признаки индивидуальности. Кэтрин запирала их в темном подземном помещении, где обитало некое живое существо – или существа. Что бы там ни происходило, это было настолько ужасно, что впоследствии близнецы каждую ночь видели это во сне. Это было сильнейшее средство, при помощи которого Кэтрин добилась своей цели. Джошуа вперил взор в небо и после непродолжительного молчания произнес: – Значит, когда Кэтрин покинула бордель миссис Янси, перед ней встала задача: выдать близнецов за одного человека, чтобы таким образом поддержать свой обман насчет Мэри Гантер. Но она могла просто-напросто держать одного из мальчиков взаперти, пока другой вел бы нормальный образ жизни. Это было бы куда проще и безопаснее. – Но мы знаем «закон Тони Клеменца», – удыбнулась Хилари. – Верно, – откликнулся Джошуа. – «Люди редко выбирают самый простой и безопасный путь». – И кроме того, – сказала Хилари, – пожалуй, можно допустить, что, несмотря ни на что, у Кэтрин все же было сердце. Ей было жалко поступать так жестоко по отношению к одному из своих детей. После всего, что выпало на ее долю, в ней еще осталось что-то человеческое. Она могла мучить их – но до известного предела. – Похоже, что таким образом она обрекла их на еще большие муки, – вздохнул Джошуа. – Довела до безумия. – Сама того не желая, – уточнила Хилари. – Она считала, что действует в их интересах. Как могла она понять своим больным умишком, что для них хорошо, а что плохо на самом деле? – Дикая теория! – буркнул Джошуа. – Не такая уж дикая, – возразил Тони. – Она согласуется со всеми известными нам фактами. – Пожалуй… – Джошуа вздохнул. – Да, скорее всего так оно и было. Просто мне очень неприятно слышать, что у этих негодяев были оправдания. Мне противно испытывать к ним жалость.* * *
Приземлившись в Напе под быстро темнеющим небом, они отправились прямиком к шерифу Лоренски и обо всем ему рассказали. Вначале он на них таращился, как на выживших из ума, но постепенно полное неприятие уступило место неохотной, удивленной вере. Хилари знала: им не раз еще придется столкнуться с подобным отношением. Питер Лоренски связался по телефону со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе и выяснил, что туда уже звонили из ФБР – по поводу мошенничества в Первом Тихоокеанском объединенном банке в Сан-Франциско. Лоренски изложил свою точку зрения на двойника как на подлинного Бруно Фрая, несмотря на то что подлинный Бруно Фрай убит и похоронен в графстве Напа, а также высказал предположение, что за последние пять лет оба Бруно по очереди совершили серию убийств в северной части штата. Конечно, в распоряжении полиции пока имелись только косвенные улики: изъятие денег и содержимого персонального сейфа Бруно Фрая в банке Сан-Франциско; догадка о существовании брата-близнеца; тот факт, что они оба покушались на жизнь Хилари Томас; то, что один из них находился дома в момент гибели другого; и, наконец, убеждение Хилари, Тони и Джошуа в маниакальной ненависти Бруно к покойной матери – столь сильной, что он не останавливался перед убийствами женщин, в чьи тела она, по его мнению, вселялась. Потом трубку взял Тони и переговорил со своим начальством в Лос-Анджелесе. Очевидно, его подтверждение всех перечисленных фактов оказалось эффективным, потому что разговор закончился обещанием лос-анджелесских властей принять решительные меры по задержанию Бруно Фрая. В Вествуде будет установлено наблюдение за коттеджем Хилари Томас. Поддержанный полицией Лос-Анджелеса, шериф моментально разослал всем полицейским участкам Северной Калифорнии бюллетень с просьбой сообщить о всех происшедших за последние пять лет случаях насильственной смерти молодых привлекательных брюнеток, особенно если убийства сопровождались отсечением головы, увечьями и другими свидетельствами кровавой вакханалии. Наблюдая за тем, как шериф отдает распоряжения служащим и инспекторам, и вспоминая все, что произошло за последние сутки, Хилари не могла не чувствовать, что события развиваются слишком быстро. Как будто неумолимый вихрь, сопровождаемый всякими неожиданностями и омерзительными тайнами, как торнадо, увлекает за собой вырванные с корнем кусты и ее самое, мчит к незримой, но неизбежной пропасти. Она испытывала потребность уцепиться обеими руками хоть за что-нибудь, замедлить бег времени, опомниться и спокойно осмыслить факты, чтобы с ясной головой встретить финал этой истории. Но колесо правосудия уже завертелось и набирало обороты. И время нельзя было остановить, как понесшего жеребца. Оставалось надеяться, что пропасть существует только в ее воображении. В пять тридцать, запустив маховик следствия, Лоренски и Джошуа связались с судьей, Джулианом Харви. История Бруно Фрая произвела на него неизгладимое впечатление. Харви дал согласие на эксгумацию трупа и последующую экспертизу по установлению личности. Если второй Бруно Фрай будет задержан и каким-то чудом признан вменяемым (что маловероятно), прокурору понадобятся доказательства того, что эти двое – однояйцевые близнецы. Харви выдал ордер на эксгумацию. – В темноте рабочие не смогут произвести вскрытие могилы, – объяснил Лоренски. – Но они приступят к работе завтра, сразу же, как рассветет. Он сделал еще несколько звонков: директору кладбища, коронеру графства и владельцу похоронного бюро Аврилу Таннертону. Джошуа спросил: – Разве вы не собираетесь произвести обыск в резиденции Фрая? – Разумеется. Постараемся найти доказательства, что там проживали два человека. Возможно, обнаружатся какие-нибудь улики, свидетельствующие о других убийствах. Хорошо бы подвергнуть обыску и особняк на утесе. – К сожалению, там нет электричества, – предупредил Джошуа, – так что придется отложить до завтра. – О’кей, – согласился шериф. – А пока я хотел бы посетить резиденцию среди виноградников. – Прямо сейчас? – Джошуа с готовностью вскочил на ноги. – Никто из нас не ужинал. – Лоренски улыбнулся. – Идемте, перекусим в кафетерии за углом. А затем отправимся к Фраю. Перед уходом Лоренски сказал дежурной, куда идет, и попросил немедленно связаться с ним, если поступят новости из Лос-Анджелеса. Вдруг они схватят Бруно Фрая. – Это не так просто, – мрачно произнесла Хилари. – Хилари права, – поддержал ее Тони. – За сорок лет своей жизни Бруно развил в себе колоссальные способности по части конспирации. Он, конечно, псих, но чертовски хитер. Лос-анджелесской полиции придется долго играть с ним в кошки-мышки.* * *
С наступлением ночи Бруно закрыл ставни на чердаке. Теперь на каждом столе и каждой тумбочке горели свечи. На потолке и стенах плясали тени от колеблющихся язычков пламени. Бруно знал: пора идти искать Хилари-Кэтрин, но у него не было сил, и он постоянно откладывал. Очень хотелось есть. У него во рту со вчерашнего дня не было ни крошки. В желудке урчало. Он еще некоторое время сидел на кровати возле мертвого, пытаясь сообразить, где раздобыть немного пищи. В кладовке осталось несколько не взорвавшихся и даже не вздувшихся банок с консервами, но у него не было уверенности, что они не испортились. Битый час Бруно решал эту проблему. Как бы поесть так, чтобы его не засекли шпионы Кэтрин? Они повсюду. Чертова сука и ее приспешники. Ему трудно было сосредоточиться – даже на еде. В конце концов он вспомнил, что в новом доме осталось немного продуктов. Молоко, конечно, скисло, а хлеб зачерствел, зато в кладовке полно консервов, а в холодильнике достаточно фруктов и сыра и даже есть торт из шоколадного мороженого – в морозильной камере. При мысли о мороженом Бруно радостно захихикал, как маленький. Мороженое и надежда на то, что сытный ужин придаст ему недостающие силы, заставили Бруно покинуть чердак и со свечой в руке пробраться к выходу. Снаружи он погасил свечу и сунул ее в карман. Спустился по скрипучим ступенькам с утеса и стал пробираться через виноградники. Десятью минутами позже, в своем новом доме, он чиркнул спичкой и снова зажег свечу: включать электричество казалось слишком рискованным. Он взял ложку, достал из холодильника торт из мороженого и начал жадно поедать его прямо из коробки. Когда Бруно был уже не в силах проглотить еще кусочек, он бросил ложку в коробку и убрал остатки торта обратно в морозильную камеру. Теперь нужно набрать побольше консервов, потому что поиски и расправа с Кэтрин могут затянуться, а всякий раз возвращаться сюда за едой очень опасно. Рано или поздно проклятая сука установит наблюдение за домом. Но вряд ли она станет искать его в былой резиденции Лео – ни за что на свете! Вот там-то он и спрячет запасы провизии. Бруно прошел в свою спальню и вытащил из шкафа вместительную дорожную сумку. Отнес ее на кухню и стал наполнять стеклянными банками с консервированными персиками, грушами, апельсинами, мандаринами, маслинами, ореховым маслом и желе; при этом он заворачивал каждую банку в бумажное полотенце, чтобы не разбилась. Туда же полетели жестянки с венскими сосисками. Полная сумка оказалась довольно увесистой, но у него хватит сил донести ее. Бруно вспомнил, что в последний раз принимал душ вчера вечером, в коттедже Салли в Калвер-сити. Он ненавидел грязь: она каким-то образом ассоциировалась с шорохами и мерзкими тварями, ползающими по всему телу. Пожалуй, стоит рискнуть и освежиться перед уходом – пусть даже на несколько минут он станет голым и беспомощным. Но проходя через гостиную, он услышал шум взрезавших тишину моторов. По дороге через виноградники шли машины. Бруно подбежал к окну и чуточку, не более чем на один дюйм, отодвинул занавеску. Два автомобиля. Приближаются по склону невысокого холма к стоянке. Кэтрин. Поганая сука и ее друзья – ожившие трупы! Охваченный паникой, он бросился обратно на кухню, схватил сумку с продуктами, погасил и сунул в карман свечу. Вышел через заднюю дверь и опрометью ринулся в кусты. Там он пригнулся к земле и стал ждать. Из автомобиля вышли люди, и он узнал их, одного за другим. У него бешено заколотилось сердце. Шериф Лоренски и инспектор Тим Ларсон. Ничего себе! Выходит, и среди полицейских есть оборотни. Ни за что бы не подумал! Джошуа Райнхарт. Так, значит, старый адвокат только прикидывался живым? Один из адских дружков Кэтрин. И она – сука! В новом прекрасном теле. И тот человек из Лос-Анджелеса. Все четверо вошли в дом. В окнах вспыхнул свет. Бруно разогнулся, схватил сумку и во всю прыть пустился бежать через виноградники.* * *
Шериф Питер Лоренски, инспектор Ларсон, Джошуа, Тони и Хилари разбрелись по всему дому, открывая шкафы, роясь в ящиках, осматривая полки в кладовках. Сначала им не везло: они не нашли ни одного доказательства того, что здесь жили двое. Одежды было ненамного больше, чем требовалось одному человеку. Запасы продовольствия были внушительными, но это еще не могло служить уликой. Наконец, просматривая ящики письменного стола в кабинете Бруно, Хилари наткнулась на пачку недавних неоплаченных счетов, среди которых было два счета от зубного врача: один из Напы, другой из Сан-Франциско. – Ну конечно! – воскликнул Тони, когда все собрались взглянуть на находку. – Близнецы были вынуждены обращаться к разным врачам, особенно дантистам. Бруно номер два не мог просить запломбировать ему зуб, когда врач неделю назад лечил тот же самый зуб другого Бруно. – Да, это может пригодиться, – сказал Лоренски. – Даже у однояйцевых близнецов зубы не портятся синхронно. Сличив истории болезни, можно будет доказать, что это два разных человека. Немного позже, во время обыска в гардеробной позади спальни, инспектор Ларсон сделал пренеприятнейшее открытие. В одной из коробок для обуви он обнаружил дюжину фотографий молодых женщин, водительские права шести из них, а также права еще одиннадцати женщин. Девушки на фотокарточках имели между собой нечто общее: все они были красивы, с темными волосами и похожим строением лица. – Двадцать три женщины, отдаленно напоминающих Кэтрин, – констатировал Джошуа. – Боже правый! Целых двадцать три! – Галерея смерти, – дрожащим голосом произнесла Хилари. – Теперь мы хотя бы знаем имена и адреса многих из них, – сказал Тони. – Нужно сейчас же отправить телефонограмму, – распорядился Лоренски, и Ларсон заторопился к машине, где осталась рация. – Думаю, мы знаем, что там окажется. – Двадцать три нераскрытых убийства за пять лет, – сказал Тони. – Или двадцать три пропавших без вести, – добавил шериф. Они провели в резиденции Фрая еще пару часов, но не нашли больше ничего существенного.* * *
Бруно Фрай провел полночи, тщательно обдумывая и обставляя деталями смерть Хилари-Кэтрин. Вторую половину ночи он спал при свете свечей. От фитилей поднимались слабые струйки дыма. Пляшущие язычки пламени отбрасывали тени и отражались в открытых глазах трупа.* * *
Джошуа Райнхарт провел беспокойную ночь. Он метался и ворочался, путаясь в простынях. В три часа ночи он встал, прошел к бару и, сделав себе двойной «бурбон», залпом опорожнил бокал. Но и это не слишком помогло. Никогда еще он так остро не ощущал отсутствия Коры. Несмотря на то что Хилари часто просыпалась, ночь пролетела очень быстро, пронеслась как ракета. Хилари не покидало ощущение, что ее стремительно несет к пропасти и нельзя остановиться. Перед самым рассветом проснулся Тони. Хилари повернулась к нему и шепнула: – Люби меня. Они на полчаса забылись в объятиях друг друга.* * *
Темное, низкое, зловещее небо. Туман окутал вершины Маякамы. Питер Лоренски стоял неподалеку от могилы, держа руки в карманах, ежась от утренней прохлады. Рабочие разрывали могилу Бруно Фрая и время от времени жаловались шерифу, что им должны приплатить за работу в столь раннее время. Тот не реагировал, а лишь подгонял их. Без четверти восемь прибыли на катафалке Аврил Таннертон и Гэри Олмстед. Олмстед был угрюм, зато Таннертон улыбался и жадно вдыхал свежий воздух, словно вышел из дома для обычного утреннего моциона. – Доброе утро, Питер. – Доброе утро, Аврил. Доброе утро, Гэри. – Скоро его откопают? – спросил владелец похоронного бюро. – Минут через пятнадцать. В восемь пятнадцать один из рабочих вылез из ямы и сказал: – Приготовьтесь вытаскивать. К гробу прикрепили ремни и вытащили его на поверхность – грязный, со сверкающими бронзовыми пластинками. Без двадцати девять гроб водрузили на катафалк. – Я поеду с вами, – сказал шериф. Таннертон ухмыльнулся. – Уверяю вас, Питер, мы не собираемся дать деру с останками мистера Фрая!* * *
В двадцать минут девятого на кухне у Джошуа Райнхарта Тони с Хилари составилив раковину грязную посуду. – Оставьте, я потом вымою, – сказал Джошуа. – Нужно как можно скорее открыть дом на утесе. Там, должно быть, жуткая вонища. Надеюсь, коллекция Кэтрин не слишком пострадала. Я тысячу раз предупреждал Бруно, но, казалось, ему было все равно, даже если бы… – Он резко оборвал фразу. – Что за чепуху я мелю – а вы слушаете! Ну конечно, ему было плевать на ее коллекцию, пусть бы хоть все сгнило! Они сели в автомашину Джошуа и поехали в «Раскидистую крону». С ключом в руке, Джошуа провел Тони и Хилари на второй этаж главной винодельни – минуя ряд кабинетов и лабораторий. Там возвышались огромные бродильные чаны. Пахло дрожжами. Обогнув чаны, все трое вышли через тяжелую дверь на галерею, в конце которой стояла четырехместная гондола.* * *
В лаборатории патологоанатома пахло чем-то едва уловимым, но весьма противным. Здесь собралось пять человек: Лоренски, Ларсон, сам патологоанатом по фамилии Гарнет, Таннертон и Олмстед. Все, кроме жизнерадостного Таннертона, испытывали неловкость и отвращение. – Открывайте, – распорядился шериф. – Мне нужно успеть на встречу с Джошуа Райнхартом. Таннертон с Олмстедом открыли гроб и заглянули туда. Труп исчез. Вместо него в гробу лежали три пятидесятифунтовых мешка цемента, украденные из мастерской Аврила Таннертона на прошлой неделе.* * *
Хилари и Тони сели по одну сторону тесной гондолы, а Джошуа – по другую, касаясь Тони коленями. Когда ярко-красная гондола двинулась с места и плавно заскользила вдоль каната, Хилари взяла Тони за руку. Она не боялась высоты, но подвесная дорога почему-то казалась ей ненадежной. Наконец они достигли вершины утеса. Джошуа открыл дверцу, и они ступили на землю. В это самое мгновение сверкнула молния и в горах прогремели раскаты грома. Начался несильный, но холодный, противный дождь. Джошуа, Хилари и Тони бросились к дому. – Вы говорите, дом не отапливается? – спросила девушка. – Камин завалили пять лет назад. Вот почему я просил вас одеться потеплее. Джошуа отпер дверь, и они очутились внутри. Зажгли фонарики. – Боже, какая вонь, – поморщилась Хилари. – Плесень, – промолвил Джошуа. – Этого-то я и боялся. Они вышли из прихожей в просторный вестибюль, а оттуда – в гостиную. Лучи от фонариков плясали по собранной здесь антикварной мебели. – Ну и теснотища, – удивился Тони. – Некуда ногу поставить. – Кэтрин была помешана на красивых вещах, – объяснил Джошуа. – Для нее это не было помещением капитала. И не могу сказать, чтобы она как-то особенно ими любовалась. Просто набивала ими дом снизу доверху. – Если в других комнатах творится то же самое, – сказала Хилари, – это целое состояние. – Да, – подтвердил Джошуа. – Если оно еще не попорчено древесными червями, муравьями и прочей гадостью. – Он провел лучом фонарика из одного конца гостиной в другой. – Я никогда раньше не понимал эту ее манию. А сейчас вот смотрю и думаю… Вспоминаю то, что рассказала миссис Янси… Хилари пришла ему на помощь: – Вы считаете, коллекционирование красивых вещей было реакцией Кэтрин на безобразие ее жизни? – Вот именно, – подтвердил Джошуа. – Лео растоптал ее душу. Уничтожил волю к жизни. Лишил ее самоуважения. Она прожила много лет, ненавидя и презирая самое себя. Должно быть, красота окружающих вещей должна была сделать красивой и ее душу. – Как это грустно, – сказал Тони. Джошуа стряхнул с себя воспоминания. – Давайте откроем ставни и впустим сюда немного света. – Меня тошнит от запаха. – Хилари зажала нос рукой. – Но если открыть окна, на эти красивые вещи могут попасть дождевые брызги. – А мы только чуточку приоткроем, – предложил Джошуа. – И потом, что значат несколько капель воды в этом царстве плесени? – Странно, что на ковре не выросли грибы, – усмехнулся Тони. Они отодвинули тяжелые засовы на ставнях и чуть-чуть приоткрыли окна. Джошуа сказал: – Хилари, здесь, на первом этаже, осталось открыть окна только в столовой и на кухне. Возьмите их на себя, а мы с Тони поднимемся на второй этаж. – Хорошо, – согласилась она. – Я мигом.* * *
– Фу! – с отвращением воскликнул Тони, поднявшись на второй этаж. – Здесь воняет еще сильнее. Дом потряс новый удар грома. Задребезжали окна и двери. – Вы обойдите комнаты справа, – предложил адвокат, – а я – те, что в левом крыле. Тони пошел направо и заглянул в швейную. Здесь его фонарик высветил допотопную швейную машинку, а неподалеку – более современную, электрическую; рабочий стол и два манекена у окна. Тони подошел к окну, положил фонарик на пол и взялся за ржавые засовы. Джошуа посветил фонариком в первую же комнату на левой стороне и увидел кровать, тумбочку, шифоньер и два заколоченных окна напротив двери. Он переступил через порог, сделал два шага вперед и вдруг почувствовал, как что-то толкнуло и обожгло ему спину. Он понял, что это нож, и резко обернулся. Луч фонарика высветил искаженное злобой лицо Бруно Фрая. Тот успел вытащить клинок и теперь всадил его в правое плечо адвоката. На этот раз клинок застрял глубоко, и Бруно с трудом вытащил его. Защищаясь, Джошуа выставил вперед левую руку, и лезвие ножа распороло ему предплечье. У него подкосились ноги, и он рухнул на пол, в лужу собственной крови. Тогда Бруно выбежал из комнаты. Джошуа попытался крикнуть, чтобы предупредить Тони, но из горла вырвалось лишь негромкое шипение.* * *
Чертыхаясь, Тони кое-как справился с ржавым железом. Окно было приоткрыто. Дождевые капли попали Тони на лицо, но сейчас он был даже рад этому. Снова сверкнула молния и грянул гром. Тони шагнул из швейной комнаты – прямо на лезвие ножа Бруно Фрая.* * *
Хилари открыла ставни на кухне и на несколько секунд застыла у окна, глядя на омытую дождем траву на лужайке. И вдруг в конце лужайки, в двадцати ярдах от заднего крыльца, она увидела земляную насыпь или склон невысокого холма, а у подножия насыпи, под небольшим углом к земле, – массивную дверь. Хилари так удивилась, что на мгновение заподозрила, будто ей померещилось. Она напрягла зрение, но дверь не исчезла. Хилари выбежала из кухни и бросилась искать Тони с Джошуа, чтобы рассказать им о своем открытии.* * *
Тони прекрасно знал, как защищаться от бандита с ножом. Он много занимался самообороной, и ему пару раз приходилось попадать в подобные переделки. Но сейчас он никак не ожидал нападения. Фрай нацелил клинок прямо ему в лицо. Тони удалось чуть-чуть отвернуться, и лезвие задело ему голову; оттуда хлынула кровь. От боли Тони выронил фонарик. Фрай действовал стремительно. Следующий удар ножа пришелся на левое плечо. Рука онемела. Тони каким-то чудом нашел в себе силы нанести Фраю удар кулаком снизу – прямо в тестикулы. Громила взвыл и отшатнулся, вырвав из Тони нож. Из вестибюля послышался голос Хилари: – Тони! Джошуа! Идите посмотрите, что я нашла! Фрай крутанулся на голос и устремился на лестницу, забыв об истекающем кровью, но все еще живом Тони. Тот с трудом поднялся на ноги, но пошатнулся и прислонился к стене. Все, что он мог сделать, это крикнуть: – Хилари, беги! Беги! Фрай!* * *
Не дождавшись ответа, Хилари решила подняться наверх и вдруг услышала отчаянный вопль Тони. Сначала она не поверила своим ушам, но уже в следующую секунду послышался топот по лестнице и знакомый голос: – Сука! Сука! Сука! Ошеломленная Хилари кинулась к выходу, но поняла, что не успеет добежать. Она метнулась на кухню в надежде выхватить из ящика столовый нож. Но было уже поздно. Тогда она рванула заднюю дверь и выскочила на крыльцо черного хода. Дождь и ветер хлестали по лицу. Хилари сбежала с крыльца. Сзади нее, в нескольких ярдах, тяжело пыхтел Фрай, без умолку повторяя: «Сука! Сука! Сука!» Нет, ей не добежать до гондолы, не успеть привести механизм в действие. Единственное место, где можно укрыться, – погреб. Хилари добежала до наклонной двери и, каждую секунду ожидая удара ножом в спину, сорвала задвижку. Но удара не последовало. Она рванула дверь и заглянула внутрь, в чернильную тьму. Потом обернулась. Бруно застыл, словно вкопанный, в шести футах от нее. – Сука, – пробормотал он, но на сей раз в его голосе слышался страх, а не ярость. – Брось нож, – приказала Хилари, не уверенная в том, что он подчинится. – Слушайся маму, Бруно. Брось нож. Он сделал шаг вперед. Хилари не двинулась с места. Сердце грозило вырваться из груди. Фрай приблизился еще на один шаг. Хилари задрожала и отступила назад, на верхнюю ступеньку лестницы за дверью.* * *
С трудом добравшись до лестницы, ведущей на первый этаж, Тони услышал за собой шум и оглянулся. Из спальни выполз Джошуа, весь в крови. Его лицо стало таким же белым, как седина. Глаза вот-вот выкатятся из орбит. – Вы тяжело ранены? – спросил Тони. Джошуа облизнул бескровные губы и просипел: – Жить буду. Хилари. Ради бога, что с Хилари? Тони оттолкнулся от стены и заскользил вниз по ступенькам. С лужайки до него донеслись вопли Фрая. В кухне Тони обшарил несколько ящиков и обнаружил набор заржавевших, но очень острых ножей. Боль в левой руке сделалась невыносимой. Но заниматься ею было некогда. Стиснув зубы и превозмогая боль, шатаясь, точно пьяный, Тони вышел на заднее крыльцо и сразу увидел Фрая перед открытой дверью в земляной насыпи. Хилари нигде не было видно.* * *
Хилари отступила на шестую, последнюю ступеньку. Бруно Фрай стоял в дверях и жадно смотрел вниз, боясь двинуться дальше. Он попеременно обзывал ее сукой и хныкал, как маленький ребенок, разрываясь между двумя острыми желаниями: растерзать Хилари и убежать подальше от этого страшного места. Шорохи! Она вдруг услышала шорохи и похолодела. Это было что-то непередаваемое: то ли свист, то ли шипение, тихое, но становящееся с каждой секундой громче. Что-то поползло у Хилари по ноге. Она вскрикнула и поднялась на одну ступеньку навстречу Фраю. Быстро нагнулась и стряхнула с себя что-то отвратительное. Потом включила фонарик и посветила в подземную тьму. Тараканы. Сотни и тысячи тараканов заполнили погреб. Они были на полу, на стенах, на низком потолке. Не простые, а гигантские тараканы с длиннющими усами. Их непрекращающаяся возня и порождала шорох. Хилари закричала. Ей безумно хотелось подняться по ступенькам и выбраться из страшной ямы, но наверху поджидал Фрай. Луч от ее фонарика заставил тараканов броситься врассыпную. Очевидно, это была подземная разновидность, могущая существовать только в кромешной тьме. Хилари горячо молилась про себя, чтобы не сели батарейки. Шорохи становились все громче. Откуда-то из-под земли прибывали все новые полчища тараканов. Места всем не хватало, и они наползали друг на друга. Возможно, энтомолог нашел бы для этих тварей другое название. То были подземные жуки, обитающие в трещинах в земной коре. Ученый подобрал бы звучный латинский термин. Но для Хилари они были тараканами. В свое время Лео Фрай вырыл яму в земле и соорудил холодный погреб. Но он по ошибке устроил его на разломе земной коры. Хилари обратила внимание, что полы настилались много раз, но после каждого подземного толчка снова образовывалась трещина. И полчища тараканов устремлялись вверх из ада. Кэтрин сажала сюда Бруно за непослушание. Запирала на целых несколько часов. Тараканы устремились наверх, точно жуткая волна, которая все прибывала. Теперь они уже не боялись фонарика, а безжалостно надвигались на Хилари, издавая невыносимый шорох. Девушка вскрикнула и поднялась на несколько ступенек: нож Фрая показался ей не таким страшным, как перспектива захлебнуться этой нечистью. Фрай ухмыльнулся и прошипел: – Посмотрим, как тебе это понравится. И захлопнул дверь.* * *
До погреба было не более двадцати ярдов, но это расстояние показалось Тони по меньшей мере с милю. Он спотыкался и падал на мокрую траву, ударяясь больным плечом; в глазах темнело. Ему хотелось только одного: лечь и не двигаться. Но он поднимался и шел дальше. Он видел, как Фрай захлопнул и запер тяжелую дверь. Хилари там, за дверью. Тони шел, охваченный страхом, что Фрай обернется и заметит его. Но тот продолжал тупо пялиться на дверь, прислушиваясь к доносившимся оттуда воплям Хилари. Тони приблизился и что было сил всадил ему нож между лопатками. Фрай взвыл от боли и обернулся. Тони отступил на шаг, моля бога, чтобы рана оказалась смертельной. Ему не выдержать рукопашного боя. Безумно озираясь, Фрай попытался вытащить из своей спины клинок, но не смог.* * *
Хилари стояла на верхней ступеньке, колотила кулаком по запертой двери и не умолкая звала на помощь. Позади нее погреб кишел тараканами. Они казались ей одним огромным существом с бесчисленными ногами, антеннами усов и голодными ртами. Некоторые насекомые уже ползали возле ее ног. Она раздавила их, но за ними последовали другие. Неожиданно погас фонарик. Несколько насекомых залезли Хилари на щиколотку; она нагнулась и стряхнула их; один таракан побежал по ее левой руке; она раздавила его правой. Заткнула ладонями уши. С потолка свалился еще один таракан – прямо ей на голову. Отчаянно визжа, Хилари вырвала его из волос и отшвырнула прочь. Внезапно за ее спиной распахнулась дверь, и в погреб ворвался дневной свет. Прибой тараканов немного схлынул. Тони схватил Хилари и вытащил наружу, туда, где стоял изумительный, ненастный осенний день. Несколько тараканов пристали к ее одежде. Тони щелчком посбивал их на землю. – Господи! – выдохнул он. – Боже правый! Хилари прислонилась к нему. На ней не осталось ни одной твари, но ей казалось, будто она все еще ощущает их прикосновения, слышит грозный шорох. Ее всю трясло. Тони обнял ее здоровой рукой и начал нашептывать ласковые слова. Наконец Хилари пришла в себя. – Ты ранен? – Буду жить. И рисовать. Ее взгляд упал на Фрая, ничком распростертого на земле и, очевидно, мертвого. Из спины торчал нож. Рубашка пропиталась кровью. – У меня не было выбора, – объяснил Тони. – Я не хотел убивать его – зная, через что Кэтрин заставила его пройти. Но у меня не было выбора. Они пошли прочь от трупа. Хилари шатало. – Эта женщина наказывала близнецов, запирая их в погребе, – слабым голосом проговорила она. – Бог знает, сколько раз. – Не думай об этом, – попросил Тони. – Лучше подумай о том, что мы живы и вместе. Подумай, как тебе понравится выйти замуж за слегка потрепанного бывшего полицейского, которому приспичило стать художником. – Понравится! Даже очень! Им навстречу из кухни выбежал шериф Питер Лоренски. – Что случилось? С вами все в порядке? Тони не стал отвечать ему. – Нас ждет много-много совместно прожитых лет, – продолжал он, обращаясь к Хилари. – С этого момента все будет просто прекрасно. Мы наконец-то знаем, кто мы и чего хотим. Мы преодолеем прошлое. Дальше будет легче. Они шли навстречу Лоренски; холодный осенний дождь слегка барабанил по их лицам и тихо шелестел в траве. (обратно) (обратно) (обратно)Сьюзен Льюис Западня




Он был самым прекрасным из всех мужчин. Изумительная лепка лица. Типично итальянские глаза цвета охры — колдовские, берущие в плен. Длинный прямой нос. Большой рот. В меру полные губы. Он был их учитель, их мастер. Серджио Рамбальди поднял величавую голову; рука птицей взмыла вверх. Сверкнуло серебристое лезвие. Подземелье освещалось только одной свечой, да сквозь загородившие вход ветви просачивался дневной свет. Перед ними лежала девушка — неподвижная и нагая. Арсенио покосился на остальных. Вместе с ним здесь было пятеро мужчин и две женщины. Это была их bottega[1] — их святилище, их мастерская. Все эти люди в безмолвии окружили мраморную плиту, которую Арсенио Таралло сам затащил на гору три дня назад. Он знал: мрамору суждено воплотить черты девушки, — но тогда еще не любил ее. Мастер отошел от верстака с инструментами, на котором горела единственная свеча, и медленно двинулся к плите. На какой-то миг их взгляды скрестились; Арсенио понурился. Он знал: его кандидатура вызвала жаркие споры. Он еще не заслужил их доверия. Только время покажет, насколько Арсенио Таралло верен призванию и bottega. Быть допущенным сюда — великая честь. Но ему было страшно. Он закрыл глаза и попытался сосредоточиться на запахе сырой земли; ноздри раздулись и затрепетали. Мастер что-то сказал стоявшей рядом женщине; та сделала шаг назад. Арсенио догадался, что именно было сказано, и устремил взгляд на прекрасное лицо лежавшей перед ним девушки. — Нет! — кричало все его существо, все нервные окончания. Мышцы напряглись; тело приготовилось к прыжку. Но он знал, что не посмеет ничего предпринять. Или хотя бы крикнуть. Она пришла к нему двое суток назад. Он знал, что она придет, но все равно при виде девушки у него перехватило дыхание. Помогая ей снять пальто, он дотронулся до светлых шелковистых волос и застонал, сраженный красотой ее тела. Она обернулась и посмотрела на него снизу вверх. У нее были бледные губы, а глаза — голубые и безмятежные, как у Мадонны. Она была обязана отдаться кому-нибудь из bottega — и выбрала его. Их любовный акт был само совершенство; оба знали, что повторения не будет, и это обострило чувства. Очаровательный пушок на руках девушки затрепетал от пробежавшего по пещере легкого ветерка. Метнулось пламя свечи. Лезвие рассекло воздух. Арсенио рухнул на колени, эхом повторяя вслед за Учителем: «Lunga vita alia donna! Lunga vita al nuovo rinascimento!» — «Да здравствует женщина! Да здравствует новый Ренессанс!» Все ахнули. Арсенио вскинул голову и открыл рот, но из горла вырвалось только бульканье; он покатился по полу; глаза ослепли от крови. (обратно)
Глава 1
Захлебываясь смехом, Мадлен ринулась вверх по узкой лестнице; из хозяйственной сумки сыпались булочки, слоеные пирожки и пирожные. Сзади карабкалась Мэриан, норовя схватить ее за ногу. — Бесстыжая! Ну я до тебя доберусь! Мадлен взвизгнула: Мэриан удалось-таки ухватить ее за щиколотку, и она шлепнулась на замусоренную лестничную площадку между четвертым и пятым этажами. Свертки рассыпались по полу. Мэриан успела поймать какой-то баллон. — Нет! — завопила Мадлен. Однако кузина уже нажала пальцем на кнопку пульверизатора, и на ее белокурую головку обрушился рождественский «снежок». — Ах так! — стиснув в руке пирожок, Мадлен сначала выдавила, а затем размазала по лицу Мэриан липкую начинку. Та охнула и начала отплевываться, не переставая поливать «снежком» двоюродную сестру, лестницу, себя и продукты. Внизу, на площадке четвертого этажа, открылась дверь, и из своей квартиры вышла Памела Роббинс, работавшая ассистентом кинопродюсера. Пришлось временно прекратить военные действия. Обе девушки разглядывали соседку; она же никак не отреагировала на их неописуемый вид — неторопливо заперла дверь и, перебросив через плечо сумку, пошла вниз по лестнице. Хлопнула дверь парадного. — Ах, ах, ах! — Мадлен закатила глаза. — Пошла заниматься киноискусством! — Надеюсь, ты ее не пригласила? — испуганно спросила Мэриан, собирая свертки. — За кого ты меня принимаешь? — За нахалку, которая пристает к незнакомым мужчинам на улице и предлагает встретить с нами Новый год. — Зато роскошные мужики! Особенно тот недомерок — в самый раз для тебя. Мэриан метнула на нее грозный взгляд. — Опять напрашиваешься? Мадлен опустила уголки губ и выпучила прекрасные глаза, отчего ее «заснеженное» лицо стало еще комичнее. — Для тебя же старалась. Какой смысл устраивать вечеринку, если для тебя нет пары? — Это нужно понимать так, — Мэриан вынула ключи и отперла дверь квартиры на пятом этаже, — что для тебя пара имеется? — Думаешь, он придет? — с надеждой спросила Мадлен, входя вслед за ней в неосвещенную прихожую. Мэриан обернулась и с преувеличенной иронией посмотрела на кузину. — Разве может мужчина в чем-нибудь тебе отказать? Мадлен с наслаждением обхватила себя за плечи. Пол О’Коннелл будет встречать с ними Новый год! Она уже несколько недель за ним охотилась, но он оказался крепким орешком. — Интересно, какой у него будет костюм? А кстати, что ты наденешь? Только, пожалуйста, не те лохмотья. Пойми: это же маскарадный костюм! Идеальный шанс преобразиться — показать себя необузданной, волнующей и… надменной! Мэриан хмыкнула. — Надменность — по твоей части. А я буду скромно стоять в сторонке, смотреть, как ты покоряешь одного за другим, и ломать голову: как оплатить счета? — Мадам, сделайте мне одолжение — хоть по случаю Нового года забудьте о благоразумии! Мэриан бросила пальто на потрепанное кресло. — Я забыла о благоразумии три года назад, когда разрешила тебе приехать в Бристоль и пустила к себе жить. — Нет, ты подумай: разве мы не славно повеселились? Мадлен повернулась на каблуках и пошла на кухню. — Вот именно — «подумай!» — проворчала Мэриан, оглядывая их убогое жилье на бывшем чердаке многоквартирного дома на Вест-Мэл в Клифтоне. Они поселились здесь три месяца назад, после того как мать Мэриан, Селия, перевела достаточную сумму, чтобы девушки могли вернуться с Родоса. Естественно, в их планы не входило сделать Грецию конечным пунктом своего европейского турне, но набеги на парижские и римские магазины плюс посещения ночных клубов Амстердама, Ниццы и Гамбурга съели последние пенни из суммы, вырученной от продажи квартиры на Стокс-Крофт (также оплаченной Селией). Мэриан до сих пор сгорала со стыда при мысли о том, что они растранжирили скудный капитал матери, состоявший главным образом из страховки, полученной после гибели отца при пожаре на целлюлозно-бумажной фабрике близ Тотнеса в Девоне. Как раз в том году Мэриан прошла по конкурсу в Бристольский университет. Мадлен так тяжело перенесла дядину смерть, что Мэриан чуть не отказалась от своего места на студенческой скамье, однако гордившаяся успехами дочери Селия нашла выход: если Мадлен устроится на работу, они смогут поселиться вместе. Мэриан очень обрадовалась. Мадлен жила у них с восьмилетнего возраста; они чувствовали себя скорее сестрами, чем кузинами. Втайне Мэриан не могла представить себе жизни без Мадлен. К шестнадцати годам Мадлен превратилась в прелестную юную женщину, а улизнув от бдительного ока Селии и поставив своей целью завоевать Бристоль, очень скоро стала легендарной личностью. Студентки — однокурсницы Мэриан — откровенно презирали ее кузину, особенно после того как Мадлен занялась стриптизом в ночном клубе близ Блэкбой-Хилла. Она проработала там год в надежде, что кто-нибудь оценит ее талант и поможет ей перебраться в Лондон, но так как этого не произошло, уволилась и стала стриптизершей по вызову. Мадлен обожала раздеваться. Для нее не было большей радости, как выставлять на всеобщее обозрение (и восхищение) кожу медового цвета, ноги от подмышек и пышную грудь. Даже секс не дарил ей такого наслаждения. Тем не менее она регулярно занималась сексом — иногда с завсегдатаями местных баров, но главным образом с теми, кто обещал помочь ей стать фотомоделью или актрисой. Из-за маниакального тщеславия ее было нетрудно обвести вокруг пальца, а на долю Мэриан выпадало утирать ей слезы, когда лопались мыльные пузыри очередных посулов. Будь Мадлен похитрее, умей она знакомиться с нужными людьми и более или менее прилично себя вести, путь наверх был бы ей обеспечен. А так — она носила слишком короткие юбки и блузки со слишком глубоким вырезом; злоупотребляла косметикой; у нее был хрипловатый голос, и она не знала, что такое стыд. Но даже эти недостатки не уменьшали впечатления от изумительных фиалковых глаз, большого чувственного рта и бесподобной фигуры. Она сочетала томный взгляд Брижит Бардо и обольстительное тело Мэрилин Монро — захватывающая дух комбинация, которая, окажись Мадлен в хороших руках, могла бы принести ей славу и богатство. Мэриан притерпелась к ее беззастенчивому эксгибиционизму (с тех самых пор, как у Мадлен оформилась грудь, она демонстрировала ее каждому, кто соглашался платить); но привыкнуть — не значит одобрять. Впрочем, она выражала свое неудовольствие с глазу на глаз и очень резко реагировала, если кто-то другой позволял себе неуважительно отозваться о Мадлен в ее присутствии. Однажды, услыхав, как одна из ее подруг обозвала Мадлен шлюхой, Мэриан так напустилась на девушку, что не сомневалась: ей объявят бойкот. Вместо этого подруги прониклись к ней еще большим уважением — словно обнаружили в «серой мышке» вулкан страстей. Мэриан нашла ситуацию забавной: кто-кто, а уж она-то знала, что ее сходство с вулканом — большая натяжка. Только нападки на Мадлен могли вывести ее из себя. Несмотря на легион представителей сильного пола, прошедших через их квартиру в Стокс-Крофт, и «забойные» вечеринки, сотрясавшие дом едва ли не каждую ночь с субботы на воскресенье, Мэриан ухитрилась получить ученую степень по философии. По такому случаю Мадлен предложила продать квартиру и махнуть в путешествие по Европе. Гордая своим успехом, Мэриан отбросила привычную осмотрительность и согласилась. Четыре месяца спустя они вернулись в Бристоль, располагая всего сотней фунтов (этой суммы едва хватило на то, чтобы внести задаток за чердачное помещение с одной-единственной спальней) и массой анекдотов. Теперь Мадлен занималась «художественным стриптизом», а Мэриан с грехом пополам тянула лямку на временной должности секретарши в агентстве Сью Шеппард на Парк-стрит. Настанет день, говорила она себе, и она хорошенько поразмыслит о том, чего бы ей хотелось. А сейчас у нее была одна светлая мысль: заработать немного денег, чтобы оплатить счета.* * *
В восемь часов девушки все еще украшали квартиру мишурой и серпантином, когда к ним ввалилась ватага приятелей Мадлен, завсегдатаев винного погребка «Шато», с несколькими ящиками вина и шуточными плакатами. Из кассетного магнитофона (рождественский подарок Мэриан кузине) грянула музыка; экстравагантные костюмы вызывали бурные приступы веселья. Мадлен заставила всех танцевать, а сама извивалась между танцующими, любуясь своим отражением в треснувшем зеркале над камином. Потом она заявила: — Мотайте обратно в «Шато»: вечеринка начнется не раньше девяти. У нас с Мэриан еще не все готово. Она протянула одному из гостей чек в уплату за вино — прекрасно зная, что денег на счету нет и банк откажется его оплатить. Мэриан растерянно заморгала. — Что ты наденешь, Мэдди? — полюбопытствовал кто-то из гостей. Она надула пухлые губы и, проведя ладонью по белокурой гриве, позволила себе ухмыльнуться. — Ничего! — И вытолкала всех за дверь. Вернувшись в комнату, она нашла Мэриан в расстроенных чувствах. — Я же просила: только не костюм Евы! Будешь расхаживать в чем мать родила — отменю праздник. — Пошла пилить! Мадлен легко порхнула мимо кузины в спальню. Мэриан последовала за ней. — Ты не против поспать на диване, если мне удастся охмурить Пола О’Коннелла? — спросила Мадлен, прыгая на кровать. — Нет, ты все-таки ответь: кого — или что — ты собираешься изображать? — Успокойся, не Еву. А ты? — Увидишь. — И Мэриан пошла налить им обеим вина. — Появятся деньги — куплю тебе парик, — пообещала Мадлен, когда Мэриан вернулась с двумя стаканами. — Прикроешь свои лохмы. — Очень мило с твоей стороны! Я не спрашиваю, на какие шиши ты его купишь, а куда его засунуть, сама знаешь… Кто первая принимать ванну? — Вчера была ты — сегодня я! — Не оставляй холодную воду, как ты обычно делаешь! Два часа спустя квартира была битком набита гостями в неописуемых костюмах. Стены дрожали от музыки; ноги шаркали по линялому коричневому ковру. Вокруг тусклых лампочек собирался дым. Красное и белое вино лилось в стаканы и мимо. Мэриан стояла в углу возле старого буфета и переводила взгляд с одного скалящегося лица на другое. Многие украсили себя сорванной со стен мишурой. Оглушительно хлопая, взмывали к потолку пробки от шампанского. Мэриан кусала губы и прикидывала, во что им обойдется возмещение ущерба. Гости в основном были приятелями Мадлен: девушки из ее агентства, старые и новые любовники, завсегдатаи «Шато». Сама Мэриан поддерживала отношения с друзьями по университету, такими как Роб и Мэри («книжный червь» и «синий чулок»), и была очень рада, что перед отъездом в какой-то забытый Богом уголок Земли они согласились посетить «декадентскую» вечеринку. Даже притащили с собой двоих приехавших на Рождество приятелей из Америки. И теперь на кухне велась дискуссия о достоинствах буддизма. — Эй, где Мадлен? — выкрикнул, не обращаясь ни к кому в отдельности, парень, загримированный под Мадонну. — Пусть тряхнет телесами! — Мои тебя уже не устраивают? — возмутилась его партнерша, нагловатая блондинка, и погладила силиконовую грудь. Все заржали. Мэриан взяла бутылку вина и стала пробираться сквозь толпу — застенчиво улыбаясь и предлагая наполнить стаканы. На нее не обращали внимания. Что ж, дело привычное. — Прошу прощения. — С трудом протиснувшись между «Антонием» и «Клеопатрой», Мэриан выскользнула в прихожую и подергала ручку двери спальни. — Мадлен! Впусти меня! Дверь чуть-чуть приоткрылась. — Пришел?! — Тут она разглядела наряд кузины, и радостное возбуждение сменилось досадой. — Что у тебя на голове? — Я — кок, — ответила Мэриан, поправляя купленный на распродаже поварской колпак. — Это ж надо выдумать!.. Но говори же — он пришел? — Нет еще. Слушай, вдруг он совсем не придет? Ты же не будешь всю ночь торчать в спальне? Тебя ждут. — Даю ему десять минут. Потом выйду. — Оденься, — посоветовала Мэриан. — А ты иди и наклюкайся! С этими словами Мадлен выхватила у нее бутылку и захлопнула дверь. Мэриан вышла в прихожую и, прихватив непочатую бутылку, понесла на кухню. — Лейбористы — кучка дерьма, — изощрялся Роб, — которое тэтчеристам не удалось полностью спустить в унитаз. Нам здесь ничего не светит. Смердящая язва капитализма разъедает бывший оплот совести и морали. Вряд ли мы с Мэри захотим возвращаться сюда из Тибета. А вот и Мэриан — притащила гремучую смесь. Склонив худое, серьезное лицо набок, Роб наблюдал за тем, как она разливает вино. — Поехали с нами в Тибет! Ты не создана для богемной жизни. В горах славно думается. Ты могла бы сделать серьезный анализ современного общества, попыталась бы ответить на сакраментальное — «зачем?». — Щипала бы травку на лугу, — подхватила она и подмигнула одному из американцев. Тот сделал строгое лицо. Мэриан смутилась. — Извини, Роб. А что, собственно, — «зачем»? Он принял оскорбленный вид. — Все, Мэриан. Солнце, луна, звезды, жизнь — все! — Может, чтоб было интересно? Американцы зашаркали ногами в древнеримских сандалиях, сочувственно поглядывая на Роба. — Что значит «интересно»? — вступила в разговор Мэри. — Вот еще одна тема для диссертации. Почему то, что интересно для одного, для другого — тоска зеленая? — Я этим займусь, — лукаво пообещала Мэриан. — Точно! — воодушевился Роб. — Возьми, к примеру, кодлу в гостиной — это же паноптикум, готовый материал для исследования! Проследи их эволюцию до логического конца, попробуй понять, почему бессмысленная погоня за дешевым пойлом, беспорядочным сексом и шмотками стала пределом их мечтаний. Докопайся до сути, Мэриан, объясни, как Пенелопе наших дней — современному мещанству — удалось оплести их своей паутиной. Исследуй под микроскопом их гнилые душонки. — Бред собачий! — отчетливо произнес кто-то стоящий у двери. Все пятеро повернулись в ту сторону. На Мэриан разом нахлынуло удивительное, бесконечно волнующее чувство. В дверях стоял Пол О’Коннелл. Густые, влажные от непогоды волосы налипли на лоб, составляя разительный контраст с черными бровями; глаза искрились весельем. — Если хорошенько поискать, всегда найдется теплая компания. — Он протянул Мэриан руку. — Пол О’Коннелл. — Я вас узнала. Рада, что смогли выбраться. Помочь вам раздеться? Он снял пальто и уже было собрался передать Мэриан, но передумал. — Нет-нет, не уходите — повешу здесь, на гвоздик. Так что тут говорилось насчет гнилых душонок под микроскопом? Ответила Мэри: — Роб уговаривал Мэриан исследовать психологию разложившихся элементов — таких как вон те, в гостиной. Чувствовалось, что приход Пола О’Коннелла подействовал на нее так же, как на Мэриан. Пол усмехнулся. — Детский лепет первокурсников. — Наоборот, — парировал нелепый в своем костюме Человека-Паука Роб, — философский диспут выпускников. — Бристольского университета?.. Сам-то я кончал Кембридж — правда, давно. — А теперь чем занимаешься? — Пишу понемногу. А ты? — Роб ведет исследования в области мотивов, — прочирикала Мэри и, когда Пол повернулся к ней, залилась счастливым смехом. — Что именно пишешь? — открыл рот один американец. Мэриан вздрогнула: она уже решила, что эти ребята дали обет молчания. — Художественную прозу, — ответил Пол и, заслышав в гостиной взрыв истерического хохота, вышел посмотреть, что там такое. Мэриан взглянула на тощую фигурку Роба в паучьем облачении и проговорив: — Почему бы тебе не полазать по стенам? — последовала за Полом в гостиную. В центре комнаты стояла Мадлен, упиваясь произведенным эффектом. Мэриан застыла в дверях и укоризненно покачала головой. Ну хоть что-то на себя нацепила! — Я — Марлен Дитрих! — якобы с немецким акцентом промурлыкала Мадлен. Возвышаясь над всеми в черных туфлях на высоченной шпильке, она погладила свои затянутые в корсет талию и бедра. Потом запрокинула голову и задрала длинную стройную ногу на спинку дивана. — Кто мне даст прикурить? Зачиркали зажигалки. «Леди Эдна» оказался проворнее всех. Не успела Мадлен пустить ему в лицо кольцо дыма, как он уже запустил лапу под черную подвязку. — Незабываемое зрелище! Мэриан взглянула на Пола. Несмотря на язвительную реплику, он, как все, пожирал Мадлен глазами. Даже сама возмутительница спокойствия не могла оторваться от своего отражения в зеркале. Фигура Мадлен только в одном не дотягивала до классического образца, но этот «недостаток» одновременно был и величайшим достоинством. Окружность бюста у нее составляла тридцать восемь дюймов[2]. При каждом движении нежная плоть обольстительно колыхалась. У Мэриан, как обычно, возникло ощущение, будто она сливается с обоями. Что поделаешь? Она со своими длинными волосами мышиного цвета, маленькими глазками и узкими губами была настолько же некрасива, насколько Мадлен — прекрасна. К тому же Мэриан чувствовала себя в своей тарелке только с самыми близкими людьми (а их — раз, два и обчелся), тогда как Мадлен обладала великолепной, граничившей с апломбом уверенностью в себе. Но Мэриан не роптала. Ни за что на свете она не согласилась бы стать центром внимания. «Какое счастье, что у меня есть Мэдди, — привычно подумала она. — Без нее моя жизнь была бы пуста, как котомка нищего. Интересно, как бы Роб объяснил мою привязанность к Мадлен?..» Пластинка кончилась. Мэриан вернулась в кухню. Мадлен танцевала со своим боссом из агентства — запрокинув голову, раскинув руки и бесподобно виляя бедрами (сколько вечеров ушло на отработку этого движения!). Босс только что пообещал ей прибавку к жалованью, если она проведет с ним ночь; в знак благодарности она облизнулась «как Мэрилин Монро». И вдруг заметила Пола О’Коннелла — тот мирно беседовал возле елки с ее коллегой и соперницей Фелисити. У нее оборвалось сердце; босс был мгновенно забыт. Одним лишь взглядом Пол О’Коннелл вызвал в Мадлен такую бурю чувств, как ни один мужчина — в постели. Протискиваясь между дергающимися телами, она как струна звенела от предвкушения. А добравшись до места назначения, не моргнув глазом посоветовала Фелисити пойти посмотреть, что там у нее за алое пятно на штанишках Маленького Поросенка, — на что Фелисити возмущенно прошипела: «Я — Розовая Пантера!» — и пулей вылетела из комнаты. В глазах Мадлен горела откровенная похоть. — Я уж думала, ты не придешь. Плати штраф за то, что без костюма. Пол понимающе улыбнулся. На них налетела какая-то пара, и Мадлен бросило на него. Естественно, она постаралась задержаться в таком положении как можно дольше. — Скажи, какой штраф, и я скажу, смогу ли заплатить. Она долго всматривалась в лицо Пола, словно пытаясь проникнуть в его мысли. — До утра что-нибудь придумаю. — Нисколько не сомневаюсь. А теперь извини: мне нужно кое с кем поздороваться. После этого она не видела Пола до самой полуночи, когда, заглянув на кухню, обнаружила его в компании Мэриан и ее «яйцеголовых» друзей. Роб посасывал сигарету с марихуаной. — Охота дурью маяться! — фыркнула Мадлен. — Пошли, Мэриан, уже почти двенадцать. Одной рукой вцепившись в Пола, а другой — в Мэриан, она увлекла их в гостиную. Часы как раз начали бить полночь. Вся честная компания восторженным ревом приветствовала наступление Нового года. Мадлен обвила руками шею Пола и, впившись поцелуем ему в рот, активно заработала языком. Он не оттолкнул ее, но сам остался пассивным. Потом Мадлен милостиво позволила ему чмокнуть Мэриан. Все взялись за руки и хором спели «Вальс свечей». — Валяй, Джерри! — крикнула Мадлен, когда круг распался. Джерри включил кассетник; Мэриан спрятала лицо в ладонях. Она знала эту мелодию… Для Мадлен освободили место в центре комнаты. Все захлопали в ладоши в такт музыке, а она стала освобождаться от того немногого, что на ней было. Мэриан понадеялась, что кузина оставит хотя бы тонкую полоску, опоясывавшую бедра, но с последними аккордами Мадлен триумфально сорвала ее с себя; скинула даже туфли. И, картинно раскинув руки, позволила искупать себя в овации. Вновь зазвучала плавная рождественская мелодия. Мадлен оглянулась, рассчитывая увидеть Пола с красным от возбуждения лицом, но вместо него наткнулась взглядом на Мэриан. — Он ушел. — Как ушел? — Так. Попрощался и ушел. — И ты его не удержала? — Это каким же образом? Что я должна была сказать? Почувствовав приближение грозы, Мэриан очень обрадовалась, завидев босса Мадлен — тот подкрался сзади и облапил девушку. Вечеринка длилась до двух часов. Постепенно разочарование Мадлен и недовольство Мэриан передались гостям. В сущности, Мадлен была бы не прочь одеться, но ей хотелось позлить кузину, упустившую Пола. Когда Мадлен продрала глаза, перевалило за полдень. Мэриан была в гостиной — изо всех сил терла винное пятно на обивке дивана. Мадлен плюхнулась в кресло. — Зря стараешься. Красное вино не выводится. И чего ты вообще дергаешься — это же не наше! Мэриан подбоченилась. — Как ты могла лечь в постель с этим уродом? — А, черт! Замнем для ясности. — Нет, все-таки? — А вот так! Не ты ли вечно скулишь: где взять деньги заплатить за то, за это? А мне стоило переспать с этим боровом — и пожалуйста, прибавка к жалованью! Ты довольна? — Не смеши. Как можно быть довольной? — Вот и я так думаю. Но мы говорили о деньгах. — Ах, Мэдди, ты же знаешь, как мне больно, когда ты такая! Знаешь, что о тебе вчера сказали — я случайно подслушала? «Скажи, что у тебя есть знакомый фотограф, и она, как пещера Али-Бабы, тотчас раскроется!» Над тобой смеются! — Ну и что? Я должна оглядываться на всяких придурков? Лучше посмотрись в зеркало. Это ты — посмешище! Двадцать два года — и все еще девственница! Так что кончай читать лекцию и вспомни, что не я одна живу за счет этих кредитных карточек. Кстати, они на твое имя, так что считай, тебе повезло, что я еще что-то делаю. А ты что сделала? Купила еще одну карточку футбольного тотализатора? — Можешь издеваться, но я хотя бы не путаюсь с кем попало, как последняя шлюха. — Ну да — просто все глубже увязаешь в долгах и ждешь, чтобы я тебя вытащила. Ну так вот. В один прекрасный день я смоюсь, и тогда посмотрим, куда ты денешься без «последней шлюхи». — Мадлен вскочила и метнулась в спальню. Мэриан двинулась за ней. — Прости, Мэдди. Я не имела права обзываться. Но… — Никаких «но!» Убирайся! Меня тошнит от твоего харисейства! На этот раз Мэриан не стала поправлять ошибку. Просто стояла и смотрела, как Мадлен распаляет себя. — Ах, ах, ах, ты у нас образованная! Ну и что толку? Ничего! Хорошо, хоть научилась стучать на машинке, иначе вообще — пшик! Ты без меня — ничто! Связалась с какими-то импотентами! — Роб предлагает мне участвовать в научной экспедиции в Тибет. — Так поезжай! Пусть он тебя затрахает, мне плевать! Без тебя обойдусь! — Мадлен схватила расческу и принялась безжалостно драть волосы. У Мэриан упало сердце. — Знаю, что обойдешься. А я без тебя — нет. Мадлен шлепнулась на табурет и залилась слезами. — Прости. Я — стерва. Ты же не виновата, что он слинял! Почему, Мэриан? Чем я плоха? Почему меня никто не любит? Мэриан обняла ее за плечи. — Я люблю тебя, Мэдди. Это, конечно, не то же самое, но ты не должна думать, будто тебя никто не любит. Это неправда. Ты — интересная, яркая. Если кого-то и не любят, так меня, но я же не плачу. Пока ты со мной, мне ничего не страшно. — Мэриан, ты лучше всех на свете! Просто мне нужен мужчина. Настоящий — не из этих подонков, которые меня используют. Будь у меня такой умный и сильный друг, как Пол О’Коннелл, я бы не пикнула. — Все будет хорошо, — заверила ее Мэриан. — Ты еще прославишься, да так, как сама не ожидаешь. Мадлен улыбнулась сквозь слезы. — Ты думаешь? — Я знаю. — Ты ведь не поедешь в Тибет, правда? Мэриан торжественно покачала головой. — Вряд ли. Мадлен с лукавой усмешкой потрепала ее по щеке. — Пятьсот тысяч фунтов… — Яхта на юге Франции, дюжие лакеи, готовые выполнить любое твое желание… — А высоколобые замухрышки — твое. — На берегу — полчища репортеров: пронесся слух, будтовот-вот пожалует всемирно известная Мадлен Дикон!.. — Квартира в Каннах… Мэриан мотнула головой. — Вилла в Монако. И еще одна — в Тоскане. Персональный шофер, повар и дворецкий. И Пол О’Коннелл канючит у дверей, чтобы ты его впустила. — Как думаешь — впустить? — Еще не знаю. Пока ясно одно: если мы — раз-раз — и промотали пятьсот тысяч фунтов, что нам стоит найти применение несчастной десятке? Махнем в кабак?Пока они переодевались, Мадлен беспрерывно щебетала, перебирая события вчерашнего вечера. Мэриан слушала вполуха. Предложение Роба не вызвало у нее энтузиазма, но она не могла не понимать, что в один прекрасный день их с Мадлен дороги разойдутся. Мадлен рождена блистать. Ее фотопортреты станут появляться на третьей странице престижного журнала «Сан», и в конце концов она завоюет Пола О’Коннелла. Не родился еще тот мужчина, который бы устоял перед ее чарами. Так что придет время — прощай, Мадлен! Какой ужас! Сколько Мэриан себя помнила, она существовала в тени кузины. Без Мадлен ей ни за что бы не перенести горькую истину: она — уродина, зануда и, что хуже всего, трусиха.
* * *
Всю первую неделю нового года Мадлен была нарасхват: в домах, ресторанах и даже офисах Бристоля продолжали праздновать. Никогда еще работа не приносила ей такого наслаждения. Кипели страсти; заказчики не жалели чаевых. В этот вечер Мадлен особенно волновалась: после того как она изобразила раздевание женщины-полицейского в «Спагетти Три», куда собрались на рождественскую тусовку сотрудники отдела уголовных расследований, ей предстояло отправиться на телестудию «Эйч-ти-ви», чтобы исполнить пародию на французский стриптиз по случаю чьего-то дня рождения. Она пробыла в «Спагетти Три» не более получаса. Стюарт, ее шофер, ждал снаружи. Пока он вез ее в центр и дальше на Бат Роуд, Мадлен ловко влезла в обтягивающую юбочку, почти ничего не скрывающий бюстгальтер, тесную блузку с короткими рукавами и нацелила пятнистый шарфик. Черные чулки с подвязками остались с предыдущего выступления. Ее встретил какой-то Джимми и отвел в бар — тесное, набитое битком помещение в виде буквы «L». Виновник торжества восседал возле окна, во главе шумной ватаги. Мадлен сбросила Джимми на руки пальто и, подойдя с портативным магнитофоном к стойке, огляделась: нет ли знаменитостей? Естественно, ее не интересовали артисты — только режиссеры и продюсеры. Джимми хлопнул в ладоши, и все разом смолкли. Взгляды устремились к Мадлен; в задымленной атмосфере явственно ощущалось ожидание чего-нибудь этакого. Как обычно, напряженная тишина подействовала на нее возбуждающе, и Мадлен мысленно пожалела о том, что, согласно инструкции, не имеет права снимать что-либо, кроме лифчика. От выпитого в «Спагетти Три» вина у нее разрумянились щеки. Она нахлобучила берет и облизнула сочные губы; глаза перебегали с одного лица на другое. Она кожей чувствовала: Свенгали — где-то здесь, рядом! — Потрясная девка! — внятно произнес кто-то за ее спиной. Мадлен вздернула подбородок и сладострастно повела плечами, словно ее погладили по шерстке. Перед тем как включить магнитофон, она продекламировала сочиненный боссом поздравительный стишок — делая паузы, чтобы дать публике посмеяться, и многообещающе улыбаясь Стиву. Потом вручила ему текст и нажала на кнопку. Тесное помещение бара заполнила сладострастная музыка. Все зачарованно следили за тем, как Мадлен вращала бедрами, пробегала изящными пальцами по грудям, медленно расстегивала молнию. Когда она выступила из юбки, явив восхищенным взорам чулки, пояс с резинками и микроскопические трусики, зрители до побеления костяшек стиснули стаканы. Она подтянула трусики кверху и повернулась вокруг своей оси, демонстрируя почти голый зад. Немного подергалась под музыку. Сняв берет, запустила его вглубь комнаты. Стащила через голову блузку и тоже швырнула зрителям. Пышные груди рвались наружу из бюстгальтера. Мадлен сунула указательный палец в ложбинку между грудями, а затем в рот — и пососала. Музыка становилась все более чувственной; слышалось хриплое, учащенное дыхание. Усевшись на стул, Мадлен задрала одну ногу на стол и запрокинула голову; грудь ходила ходуном; руки шарили по всему телу; спина сладострастно изгибалась. Когда накал страсти достиг апогея, Мадлен расстегнула бюстгальтер и дала ему упасть на пол. Все одновременно ахнули. Упиваясь своей властью над мужчинами, она обеими руками приподняла груди и двинулась к Стиву. Там она остановилась и склонилась к нему, словно предлагая отведать этих сочных плодов. В голове не было ни единой мысли. Все ее существо заполнил экстаз. Пусть бы никогда не кончалась музыка! Но запись все-таки кончилась, и Мадлен рухнула Стиву на колени. — Черт! — выдохнул кто-то; грянули аплодисменты. Мадлен засмеялась, опьяненная своим триумфом. Соски трепетали от возбуждения, и когда Стив дотронулся до них, она буквально растаяла. Ей устроили овацию. Бармен предложил Мадлен выпить. Стив подвинулся, давая ей сесть между собой и товарищем. Столик окружила толпа возбужденных мужчин. Мадлен рассыпала по плечам волосы и, не давая зрителям расслабиться, присовокупила к уже явленным сокровищам фиалки глаз. — Ну и кто же из вас режиссер? — спросила она, опорожнив второй бокал. — Кто даст девушке великий шанс в жизни? — Стив — режиссер, — ответил кто-то из телевизионщиков. — Это тебя устраивает? Фиалковые глаза распахнулись еще шире. — Правда? Стив важно кивнул. Маленькие зеленые глазки перебегали с лица на грудь девушки и обратно. Рыжие волосы были расчесаны на косой пробор; на побагровевших, плохо выбритых щеках виднелись оспины. — Сегодня был трудный день, — извиняющимся тоном произнес он, заметив, что Мадлен смотрит на проступившую щетину. — Съемка началась ни свет ни заря. Мадлен отхлебнула большой глоток вина. — Всю жизнь мечтала стать актрисой. Или моделью. Как по-твоему, у меня есть способности? Стив пролил пиво. — Ясное дело. Просто… — У тебя редкий потенциал, — перебил кто-то сбоку. — На будущей неделе начинаем новую постановку; может, и для тебя что-нибудь найдется. — Думаешь, потяну? — Дело в том, — перехватил инициативу Стив, — что мы как раз ищем исполнительницу стриптиза. — Поехали, Мэдди, пора, — послышалось сзади. — Ох нет, Стюарт, не сейчас. Ребята, дайте ему тоже выпить. У нас же больше нет выступлений — сядь, отдохни. — Мы сами отвезем ее домой, — предложил Стив. Стюарт решительно мотнул головой. — Она поедет со мной. Он знал, что если не вытащит ее отсюда, его ждет нахлобучка от шефа. Но также знал и то, какой Мэдди умеет быть упрямой. Она приподнялась и прошептала ему на ухо: — Никто ничего не узнает, — и захихикала: кто-то ущипнул ее пониже спины. — Для всех ты сразу отвез меня домой. Не порти мне жизнь, этот рыжий — режиссер. — Надеюсь, ты не втрескалась? Мадлен пропустила эту реплику мимо ушей и одарила Стива и его приятелей сияющей улыбкой. Потом повернулась к Стюарту и прошипела: — Естественно, я останусь. Если тебе так легче, обещаю позвонить, как только доберусь до дому. — Смотри, не забудь. Он обвел толпу мужчин зловещим взглядом и отчалил. Мадлен пила вино и с преувеличенным вниманием слушала рассказы Стива о тяготах работы на телевидении. Вкалываешь по многу часов подряд, не всякий актер выдержит такую нагрузку. — Здесь царит закон джунглей. Нужно приспосабливаться. — Думаешь, я смогу? — волновалась Мадлен. — Ясное дело. Странно, что тебя до сих пор не захомутали. Она — просто находка, правда, Джон? Возражений не последовало. — Джон будет редактировать новую постановку, — пояснил Стив. — На твоем месте я был бы с ним поласковее. Мадлен одарила Джона чарующей улыбок. И вдруг ахнула: кто-то швырнул ей в лицо ее собственные юбку, блузку, берет и бюстгальтер. Она подняла голову и увидела женщину. Несмотря на ярость в зеленых глазах, трудно было не признать: женщина очень красива. Высокая, стройная, она обладала той врожденной элегантностью, за которую Мадлен не пожалела бы полжизни, а рыжие волосы, россыпь веснушек и изящно очерченные розовые губы придавали ей неповторимый шарм. Женщина не говорила, а словно выплевывала слова: — Это, кажется, твое? Шлюха! Такие, как ты, позорят всех женщин. Сами себя не уважаете! — бросила она мужчинам и, резко повернувшись, выбежала из бара. — Это еще что за птица? — спросила Мадлен немного протрезвевшего Стива. — Столичный продюсер, Стефани Райдер. Мадлен с отвращением покосилась на дверь. Вот не думала, что среди продюсеров попадаются женщины! И уж во всяком случае, не ожидала, что одна из них позволит себе так с ней обращаться! Она снова повернулась к Стиву, до которого как раз дошло, что выходка Стефани Райдер может лишить его удовольствия. — Не обращай внимания, она завидует. Мадлен воспрянула духом. — Чертова ханжа! Но даже изрядная порция спиртного не смогла полностью вернуть ей уверенность в себе.* * *
— Вы точно не пудрите мне мозги насчет режиссера и редактора? — спросила она уже в машине. Джон обогнул Клифтонский Треугольник и теперь катил в северном направлении, к Виктория Румс. — Позвони завтра на студию, — ответил Стив. — Устроим тебе прослушивание. Мадлен все еще сомневалась. Но кто бы ни были эти ребята, они работают на телевидении и, значит, могут быть полезными для ее карьеры. — Естественно, — подхватил Джон, — есть и другие претендентки, трудно что-либо обещать. Мадлен приуныла. — Есть одна зацепка, — промолвил Стив. — Какая? Мужчины переглянулись. — Когда-нибудь слышала о взлетном ложе? — Нет. А с чем это едят? У Стива от удивления глаза полезли на лоб. — Вот что я тебе скажу. Раз уж ты сделала мне такой подарок в день рождения, думаю, ты заслужила льготу. А ты как считаешь, Джон? — Само собой. — Так вот. Ты приглашаешь нас на чашечку кофе, а мы, так и быть, объясняем насчет взлетного ложа. Это даст тебе преимущество перед конкурентками. К счастью, Мэриан укатила к матери в Девон (за деньгами), так что Мадлен могла располагать квартирой. Повезло, подумала она, проснувшись утром со свинцовой от похмелья головой. Два мужика в одну ночь — такого Мэриан не переварила бы. Но двумя днями позже, вернувшись с достаточной суммой, чтобы заплатить за два месяца за жилье, Мэриан нашла кузину такой убитой, что ей не составило труда вытянуть из Мадлен эту историю со всеми подробностями. Оказалось, что Стив с Джоном — жалкие ассистенты, к тому же на другой день укатили на три месяца на натурные съемки. Мэриан постаралась не выказать брезгливости, только позволила себе небольшую нотацию, которую Мадлен, как обычно, пропустила мимо ушей. Теперь, когда она поделилась с Мэриан, ей стало легче. А к Стефани Райдер, виновнице ее позора, намертво пристал ярлык сексуально озабоченной. — Сегодня я рано освобожусь, — сказала Мадлен в пятницу, пробуя новую помаду и гадая, пойдут ли ей веснушки. — Давай встретимся в «Шато», там будут все наши. — Не знаю. Мэриан сидела за ветхим обеденным столом; перед ней высилась горка счетов и конверт с жалованьем в пятьдесят пять фунтов — все, что она заработала за эту неделю. — А, брось. Пошли развеемся. А счета пусть идут к черту вместе с мужчинами. У Мэриан не было выбора. Если Мадлен решила нализаться, лучше быть рядом. В девять вечера Мэриан ждала возле «Шато». Мимо проходили приятели ее кузины — ни один не поздоровался с ней, даже не заметил. В четверть десятого появилась Мадлен, в джинсах и изумительной шелковой блузке. — Одолжила у Джеки, — солгала она, предвосхищая вопрос. — А чего ты тут торчишь? Шла бы внутрь, все уже там. Я видела в окно. Мэриан поплелась за ней в бар. И вдруг чуть не налетела на Мадлен: та резко остановилась, столкнувшись с Полом О’Коннеллом, однако быстро овладела собой и, надменно вскинув голову, прошествовала дальше. Мэриан бросила на Пола извиняющийся взгляд. Его белозубая улыбка и внимательные глаза перевернули ей сердце. — Привет. Долго еще веселились после моего ухода? — Примерно до двух. — Твои друзья уже уехали? — Да, вчера. — А ты что же — не захотела общаться с ламами? Мэриан улыбнулась и пошла догонять Мадлен. Та жадно набросилась на нее: — Что он тебе сказал? — Спросил, как прошла вечеринка. — Наглец! — Мадлен метнула в сторону Пола испепеляющий взгляд. — Что-нибудь говорил обо мне? — Нет. Почему ты с ним так обошлась? — Потому что заслужил. Кроме того, теперь, когда я показала, что мне плевать, он начнет ухлестывать за мной как миленький. Вот увидишь. Мэриан прикусила язык. Способность разбираться в людях не числилась среди достоинств ее кузины. Однако в понедельник зазвонил телефон. Пол О’Коннелл! — Завтра в музее лекция об итальянском Возрождении. Хочешь сходить? Мэриан недоуменно уставилась на телефонную трубку. Ах да! Он принял ее за Мадлен! Она быстро овладела собой, даже едва не захихикала, представив себе Мадлен на лекции. Хотя ради Пола… — Ты перепутал. Высокая блондинка — это Мадлен. Перезвони через несколько минут: должно быть, она уже вернется. — Я знаю, с кем говорю, — отрезал Пол, — и приглашаю тебя, Мэриан, на лекцию. В ее душе творилось что-то несусветное. — Но это же просто… здорово! — Отлично. Начало в семь. За тобой заехать? — Спасибо, сама доберусь. Встретимся у входа. — До встречи. — Он повесил трубку. Придя домой, Мадлен застала кузину в состоянии крайнего возбуждения. К счастью, Мадлен ждали интересная журнальная статья и шоколадка. Она предложила Мэриан откусить. Та отказалась. И опрометью ринулась в спальню. Конечно, думала она, Пол О’Коннелл не имел в виду ничего особенного. Просто повел себя как друг. И потом — это всего лишь лекция. Но почему он выбрал именно ее? Во всем Бристоле не найдется девушки, которая не продала бы душу дьяволу за вечер с Полом О’Коннеллом. Ей живо представились изумленные лица знакомых, когда они увидят, что у неприметной толстушки Мэриан, кузины блистательной Мадлен Дикон, свидание с Полом О’Коннеллом! А почему, собственно, ее должна волновать их реакция? Да, она — серенькая мышка, но скоро им придется переменить мнение — если она действительно встретится с Полом О’Коннеллом. Когда я витаю в облаках, думала Мэриан, сидя перед зеркалом, у меня вид хорька, страдающего запором. Спутница Пола О’Коннелла! Размечталась!.. А почему бы и не помечтать — хотя бы раз в жизни? Мэриан взбила жидкие волосы на макушке и надула губы, как Мадлен. Смех да и только! Худое лицо, широкие бедра, груди так малы, что просто не о чем говорить. Однако Пол пригласил именно ее, и оставалось только выбрать, во что одеться. У нее не было ничего модного. Придется купить. Кредит у «Барклая» исчерпан, зато на счету в «Аксессе» осталось пятьдесят фунтов.* * *
Мэриан переоделась в ванной, заблаговременно перетащив туда пальто, чтобы прикрыть только что купленные на январской распродаже юбку с кофточкой. Когда настало время уходить, она обвела вороватым взглядом прихожую. Дверь спальни была открыта; Мадлен делала маникюр и слушала по телевизору новости. Однако когда Мэриан крикнула, что вернется позже обычного, вскочила и выбежала в прихожую. И конечно же, сразу обратила внимание на новую губную помаду. — Ты куда это намылилась? — В музей, на лекцию. Мадлен надула губы. — Я думала, мы сходим в кино. В «Уайт Ледис» идет «Белая напасть» с Чарльзом Дансом. Вроде бы он тебе нравится. Мэриан кивнула. — Плюнь на лекцию. Мало ты их слушала? — Видишь ли, я иду не одна. — А с кем? Мэриан покраснела. Мадлен залилась смехом. — Надо полагать, с мужчиной. Вот почему ты расфуфырилась! Ловко! Выкладывай: кто он? — Пол О’Коннелл. Мадлен вздрогнула. — Неостроумно. Не хочешь, чтобы я знала, так и скажи: не твое собачье дело! Она резко повернулась и пошла в гостиную. Мэриан последовала за ней. — Мэдди! Зачем бы я стала так шутить? Это всего лишь лекция. Его кто-то подвел — вот он и решил заткнуть мною дырку. Хочешь, не пойду? Мадлен подняла на нее стеклянные глаза. — Когда ты это состряпала? Мэриан напряглась. — Он позвонил вчера вечером, тебя не было. — Вот как? Вчера звонил Пол О’Коннелл — и ты только сейчас ставишь меня в известность? Да он хоть сообразил, с кем разговаривает? Тебя ждет большое разочарование! Мэриан двинулась к двери. — Не знаю, когда вернусь. Ложись, не жди меня. Она не помнила, как добралась до Виктория Румс, а там чуть не повернула обратно, но огромным усилием воли заставила себя идти дальше. Пол ждал возле музея, спрятавшись под арку от только что начавшегося дождя. Мэриан ускорила шаги. — Привет. Я не опоздала? — Нет. — От его улыбки сердце в груди Мэриан совершило немыслимый кульбит. — Я доехал быстрее, чем ожидал. Ну что, пошли? Мы сидим в первом ряду. Двухчасовая лекция прошла как во сне. Мелькали слайды — Рафаэль, Тициан, да Винчи; лектор подробно анализировал колорит, а для Мэриан существовал только один цвет — розовый. Она упрекала себя в сентиментальности, пыталась следить за рассказом лектора, но ничего не получалось. — Тут рядом — симпатичное кафе, — сказал Пол, когда лекция кончилась и их вместе с толпой зрителей вынесло на улицу. — Если у тебя есть время, можно выпить по чашечке кофе, а потом ты поделишься со мной своими впечатлениями от Ренессанса и от лекции. У Мэриан упало сердце. Вряд ли она вспомнит хоть одно слово, а если и вспомнит, не сумеет выразить свои мысли. Ее погубит собственное безрассудство! Не надо было встречаться! Без труда сориентировавшись в обстановке, Пол взял ее за руку и перевел через дорогу. Он без конца сыпал шуточками, рассказывал анекдоты о Ботичелли и Микеланджело и немало удивил Мэриан своими познаниями в истории рода Медичи. При этом ему хватило такта ни разу не поставить ее перед необходимостью дать развернутый ответ, а не просто «да» или «нет». Он видел: девушка волнуется. В те несколько раз, когда он прежде видел Мэриан — обычно в «Шато», — ее неизменно оттирали на задний план; она делала вид, будто не чувствует себя отверженной, но у нее не очень-то получалось. Внимание Пола привлекли умные ясные глаза, но, по правде сказать, первоначальный интерес был довольно вялым. Знала бы Мадлен — она сама толкнула его к Мэриан своими выходками! Таких, как Мадлен, пруд пруди: ну, может, не столь ослепительных, но, в общем, пустоголовых, невоспитанных и абсолютно предсказуемых. И если бы она не повела столь откровенную осаду, он не обратил бы внимания на Мэриан. А так… От Пола не укрылся ее стыд за кузину. Он оценил ее попытки — пусть тщетные — принять участие в пустопорожней болтовне, в которой Мадлен чувствовала себя как рыба в воде. В сущности, он пришел на встречу Нового года ради Мэриан, почувствовав в ней что-то свежее, отличное от других. Конечно, она неказиста, но, в общем, внешность не имела решающего значения. Тогда, на кухне, она обнаружила острый ум и чувство юмора, а ее преданность кузине, равно как ненавязчивые попытки защитить Мадлен, привели Пола в восхищение. Эта девушка явно заслуживала более близкого знакомства. Возможно, он выведет ее в романе. А если и не получится, все-таки развлечение. — Ну вот, — сказал он часом позже в кафе, — теперь ты все обо мне знаешь; твоя очередь рассказывать. Только не вздумай кокетничать: мол, не о чем говорить! Мэриан улыбнулась: именно так она и собиралась ему ответить. — Ну… Я не посещала Хэрроу, как некоторые. Не жила на Севере. Никогда не летала на «Конкорде», не сочиняла романов и не отплясывала босиком с принцем Уэльским. — Кто сказал о принце? — Я говорю. Пол рассмеялся. — Чем же ты занималась? — Получила ученую степень по философии и не представляю, что с ней делать. Научилась печатать на машинке, это позволяет с грехом пополам сводить концы с концами. Коллекционирую счета. Если не считать редких, захватывающих лекций в музеях, моя жизнь настолько однообразна, что однажды я зевну — и провалюсь в бездну. Она хотела посмешить Пола, но он серьезно ответил: — Ну, все наверняка не так уж мрачно. С такой кузиной, как Мадлен, жизнь не может не быть… занимательной. — Да, конечно. Но я все время чувствую себя бродягой, робко заглядывающим в чужие окна. Иногда мне кажется, что я проявляю бесхарактерность по отношению к Мадлен, но ты, наверное заметил, я — не чемпион среди экстравертов. На моем крыльце не толпятся жаждущие взять у меня интервью и твердящие, что без меня вечеринка — не вечеринка. Так что — да, Мадлен вносит в мою жизнь разнообразие; не представляю, что бы я без нее делала. Но рано или поздно она уйдет, и мне придется подумать о себе. При одной мысли об этом сердце уходит в пятки. Просто ума не приложу, что делать. А впрочем, что сейчас гадать — тогда и подумаю. Пока на первом плане — Мадлен и ее карьера. (Господи, неужели это она закатила такой пространный монолог?) — Твоя кузина более чем способна сама позаботиться о себе. — Вот здесь ты ошибаешься. Но ей придется научиться. — А ты способна позаботиться о себе? Мэриан засмеялась. — Сомневаюсь. Но пока мечта Мадлен не сбудется, вряд ли я смогу это проверить. Я ужасная трусиха. Если бы не Мадлен, у меня бы даже друзей не было. Особенно теперь, когда Роб с Мэри уехали в Тибет. — Почему ты считаешь себя трусихой? — Потому что это соответствует действительности. Не могу сказать, что я этим горжусь, но осознать свои недостатки — первый шаг к исправлению. Разве не так? Пол задумчиво кивнул. Мэриан ужасно смутилась. Что это она разболталась? Сроду ни с кем не откровенничала. Наверное, он умирает от скуки. Дрожащей рукой она отодвинула чашку и вздрогнула от неожиданности, когда Пол накрыл ее руку своей ладонью. — Ты права насчет недостатков. Иногда знание помогает от них избавиться. Но ты напрасно думаешь, что знаешь себя. Ты не трусиха, Мэриан, просто тебя страшит одиночество, и ты почему-то стыдишься своей потребности в любви. Если это — порок, значит, весь человеческий род глубоко порочен. Расскажи мне о твоих поклонниках. Мэриан напряглась. — У меня их нет. И никогда не было. И пожалуйста, не притворяйся удивленным. Я прекрасно знаю, что не котируюсь в смысле внешности. — Да уж, от избытка самоуверенности ты не умрешь. Чего нельзя сказать обо мне. Мэриан недоверчиво уставилась на его красивое лицо, и зал поплыл у нее перед глазами. — Что все-таки заставляет тебя носиться с Мадлен? Должна же быть причина? Скажи мне правду! Она проглотила комок. — Я только что объяснила. Пол недоверчиво покачал головой. — Нет, дело в чем-то еще. Возможно, в прошлом. — Почему ты так думаешь? — Ты все время рвешься ее защищать. Тебе, как никому другому, известны ее недостатки; ты понимаешь, что она гораздо ниже тебя интеллектом, и втайне презираешь ее эксгибиционизм — однако терпишь. Почему? — Потому что родители Мадлен, мои дядя и тетя, бросили ее восьмилетней крошкой, а сами укатили в Америку, пообещав вернуться. Да так и не вернулись. А когда Мэдди стукнуло десять, они оба погибли в авиакатастрофе. Вот почему моя мать и я «носимся» с ней, как ты выразился. Папа тоже так поступал. Не нужно смотреть на Мадлен сверху вниз. Тебе она кажется пустышкой, но у нее тоже есть чувства. Она самая добрая из всех, кого я знаю. — И самая большая эгоистка. Не смотри так, это правда. Она тянет из тебя все соки — и таким образом самоутверждается. — Неправда! Мэдди повсюду берет меня с собой. Я без нее — ничто. И вообще — нельзя судить о людях, которых не знаешь, и о вещах, о которых не имеешь понятия! Пол долго смотрел на нее с шутливым раскаянием, и наконец Мэриан улыбнулась. — Ты считаешь, что пропадешь без Мадлен, а на самом деле это она без тебя не может жить. Счастливая — у нее есть кузина, которая за нее в огонь и в воду! Но что если в один прекрасный день тебя, а не Мадлен, любовь уведет из дома? Что она станет делать? Мэриан почувствовала себя польщенной оттого, что он — пусть даже в отдаленном будущем — допускает такую возможность. — Сколько тебе лет, Мэриан? — Двадцать два. А Мадлен — двадцать. — Что ты говоришь! А вот мне — тридцать. И если ты не считаешь меня глубоким стариком, я бы не прочь за тобой поухаживать. Как ты на это смотришь? Мэриан заморгала, словно силясь стряхнуть наваждение. От улыбки в уголках глаз появились крохотные «гусиные лапки». Внезапно она сообразила, что сидит с открытым ртом, и поспешила сомкнуть губы. Пол сделал знак официанту и полез за бумажником. — Пожалуй, начинать лучше всего с цветов и шоколадных конфет. Или прогулок. Будем ходить на лекции и в кино. Даже пьянствовать в «Шато», если на то будет твоя воля. Да мало ли что еще. — Он достал из кармана ручку и нацарапал что-то на карточке. — Вижу, ты не готова сразу же дать ответ, так что вот тебе мой телефон. Позвони, когда надумаешь. А теперь — могу я проводить тебя домой? Ошеломленная, Мэриан поднялась из-за стола. Еще немного — и ее захлестнет поток бешеной радости. Но она изо всех сил старалась держаться на ногах. Ей было страшно. Если поддаться наплыву чувств, жизнь никогда больше не будет такой, как прежде. Лавина унесет привычный покой; дверь в серые будни навсегда захлопнется, и она очутится на пороге ослепительно яркой жизни, какой до сих пор только робко любовалась из-за плеча Мадлен. Пол О’Коннелл будет тратить на нее время, делиться сокровенными мыслями и честолюбивыми планами на будущее. Она узнает его так, как никто другой. Мэриан мысленно ахнула, представив себе их совместную жизнь — в ореоле ослепительного блаженства. Наконец-то она станет «кем-то»! У Мэриан Дикон появился друг — и не кто-нибудь, а Пол О’Коннелл! Справится ли она с ролью его возлюбленной? А почему бы и нет? Ей вдруг стало смешно. Он попросил разрешения ухаживать за ней, а она не нашла ничего лучшего, как увязнуть в дурацкой мелодраме, утонуть в пучине малодушного трепета! Пол не стал допытываться о причине ее неожиданной веселости, а предложил ей руку, и они пошли по улице. Откуда Мэриан было знать, что интуиция не подвела ее, предсказывая трагедию? Могла ли она предположить, что ураганом ворвавшись в их судьбы — ее и Мадлен — Пол О’Коннелл произведет в них страшные разрушения? (обратно)Глава 2
Пощечина была звонкой, как щелчок хлыста. Мэриан терла щеку и часто-часто мигала, стараясь удержать слезы. — Гнусная интриганка! И у тебя хватает наглости говорить такое? «Пол хочет за мной ухаживать!» «Ухаживать!» Это еще что за слово — с чем его едят? И ведь знаешь, что я вот уже несколько недель за ним бегаю, — так в какие, черт возьми, игры ты вздумала играть? Что наговорила ему обо мне? Какие гадости? — Я пойду лягу, — пробормотала Мэриан. Но Мадлен схватила ее за руку и резко развернула к себе лицом. — Что ты на меня наклепала? — Ничего. Во всяком случае, ничего такого, что бы выставило тебя в невыгодном свете. — Лгунья! Ну так запомни: тебе ничего не светит! Он использует тебя, чтобы вызвать во мне ревность! — Возможно. — Уж не думаешь ли ты, что он втюрился в тебя? Такой красавец — в такую уродину? Просто нет слов! — Я знаю. — Ах, знаешь?! Мэриан, ты рубишь сук не по плечу. Тебе понадобился Пол, потому что ты знаешь, что я его хочу! Как говорится, в своем репертуаре: вечно норовишь отхватить то же, что есть у меня, вечно! Мэриан глубоко вздохнула. — Мэдди, я иду спать. Давай поговорим утром — когда ты успокоишься. — Нечего делать вид, будто я тебе надоела! — Извини. Ты говоришь то, чего не думаешь. Какой смысл? Как ни странно, Мадлен ее отпустила. Но, конечно, Мэриан понимала, что этим дело не кончится. Утром, собравшись на работу в общество «Бристоль энд Вест Билдинг», она заметила, что Мадлен не спит, но сочла за благо не трогать ее. Лучше позвонить с работы. Но когда она позвонила, Мадлен швырнула трубку на рычаг. А вечером, вернувшись домой, Мэриан ее не застала: Мадлен ушла на работу и не оставила даже записки. У Мэриан упало сердце. Ужасно, если повторится вчерашняя сцена. Она зажгла газ. Поставила чайник. Вымыла оставленную Мадлен посуду. Нельзя, чтобы Пол О’Коннелл — чужой человек! — встал между ними. Скорее всего, Мадлен права — из этого ничего не выйдет. Так зачем создавать себе проблемы? Но в глубине души Мэриан знала, что хочет увидеться с ним еще раз. На глаза навернулись слезы. Пол не согласился, что она — трусиха, но видел бы он ее сейчас! Где взять мужество сказать Мадлен, что она будет продолжать встречаться с Полом? Или объявить Полу, что она от него отказывается? Если бы Мэдди поняла, как много для нее значит — иметь кого-то, с кем можно поговорить! С Полом легко беседовать обо всем на свете, в том числе о своих переживаниях. Но Мадлен ни за что не поймет. Скажет: разговаривай со мной, в конце концов мы родственницы! Пытаться что-то объяснить — значит обидеть Мадлен, а этого Мэриан всеми силами хотелось избежать — пусть даже она сгорает от желания снова встретиться с Полом. Мадлен возвратилась в полночь; Мэриан уже легла. Обе молчали. Мадлен включила свет в спальне и все время, пока раздевалась, мурлыкала себе под нос какую-то песенку, словно была одна в комнате. — Как прошел вечер? Мадлен и не подумала ответить — продолжала накладывать на лицо ночной крем. Потом взяла журнал и легла в постель. Мэриан вздохнула. — Если я решу больше с ним не видеться, ты перестанешь дуться? — Что ты там решишь или не решишь, уже не имеет значения. Ты настроила его против меня — поздно подлизываться. — Я не подлизываюсь. Просто хочу, чтобы мы поговорили как взрослые люди. Но ты предпочитаешь корчить из себя капризную дурочку. — Мать твою! — выругалась Мадлен. — Это все, что ты можешь сказать? — Тебе — да. Все. — Прекрасно. В таком случае я могу встречаться с Полом О’Коннеллом. Терять нечего. — Ради Бога. Только не приходи реветь у меня на плече, когда он даст тебе коленом под зад. На следующий день было еще хуже. Обе сидели дома. Мадлен продолжала свою политику бойкота. К ней пришли подруги; они распили бутылку на троих, а Мэриан не пригласили. Если она пыталась вставить слово, девушки мигом умолкали, а потом продолжали так, будто она и не открывала рта. Позвонили из агентства Сью Шеппард; Мадлен ответила, что впервые слышит о какой-то там Мэриан Дикон. А когда Мэриан сама позвонила в агентство, врубила на полную мощность магнитофон. Мэриан ничего не оставалось, как надеть пальто и пойти искать телефон-автомат. Договорившись о работе на завтра, она побродила по улицам и отправилась домой только тогда, когда, по ее расчетам, Мадлен уже должна была уйти. «Еще одно доказательство моего малодушия».* * *
— Умом я понимаю, что не должна спускать ей с рук подобные выходки, — делилась Мэриан с Полом. — Но не представляю, что делать. — Ты уже сделала все, что нужно. — То есть? — Позвонила мне. Застыдившись, Мэриан предложила ему еще чаю. Он шутливо поморщился и вышел в прихожую — за спрятанной в кармане плаща бутылкой красного вина. — Я не должна была тебе рассказывать, — упрекала себя Мэриан, пока они искали штопор. — Мадлен и так обвиняет меня в том, что я отбила тебя у нее благодаря оговору. Выходит, она права? — Мэриан, — серьезно произнес Пол, — я никогда не «прибивался» к Мадлен, и ты это прекрасно знаешь. Так что прекрати заниматься самоедством и давай сюда штопор. — Если Мадлен узнает, что ты был здесь, она придет в бешенство. — К ее приходу меня уже и след простынет. А если спросит, не отрицай, что виделась со мной. Конечно, если ты сама не стыдишься. Она улыбнулась и повела его в гостиную. Там Пол уселся на диван, а когда Мэриан направилась к стулу, схватил ее за руку и заставил сесть рядом. — И пусть только посмеет еще раз тебя ударить!.. Все, хватит. Давай сменим пластинку. Несмотря на взметнувшийся в груди вихрь чувств, Мэриан не могла удержаться, чтобы не поддразнить Пола: — Ты намекаешь на то, что тебя уже «достали» разговоры о Мадлен? — Намекаю? Я что — недостаточно ясно выразился? Она просияла. — Ладно, теперь можешь попробовать сам меня «достать» — о чем твой роман? — М-да, разговор и вправду становится скучным… О становлении мужчины. Мэриан притворно зевнула. — Мухи дохнут. — Она собиралась еще сострить, но Пол зажал ей рот ладонью, и она притихла. Во время его рассказа мысли Мэриан где-то блуждали, но, конечно, не от скуки. Ей просто не верилось, что Пол О’Коннелл сидит с ней рядом и она отвечает ему с такой непринужденностью. Постепенно она настолько осмелела, что начала возражать ему, а он слушал, обдумывал ее доводы и подчас признавал их справедливыми. Он использовал в качестве подставки для ног деревянный ящик, служивший девушкам кофейным столиком, и Мэриан было трудно отвести глаза от его мускулистых ног. Ей нравилось, как он время от времени легким движением руки отбрасывал назад волосы; в глазах вспыхивали озорные искры. В девять часов они сходили за едой в китайский ресторан. А потом, пока ужинали, Мэриан рассказывала ему об отце с матерью, своих школьных годах и их домике в Тотнесе. — А ты, Пол? Кто твои родители? — Они погибли в авиакатастрофе, когда я был еще маленьким. Меня взяла тетка, но она тоже умерла. На лице Мэриан отразилось сочувствие. — Так у тебя совсем никого не осталось? — Ни семьи, ни корней, ни приличной работы. Если, конечно, не называть работой литературное творчество. — На что же ты живешь? Пол усмехнулся. — Как многие — на пособие по безработице. Это был сознательный выбор. Нельзя писать книги «в свободное от работы время». Мэриан невольно взглянула на его дорогой костюм. — А раньше чем занимался? — Бизнесом. Загреб кучу денег и промотал. — Правда? — Для чего еще существуют деньги? — И на что же ты их потратил? — Главным образом на женщин. Мэриан отвела взгляд. Пол протянул руку и заставил ее повернуться к нему лицом. — Все бы ничего, но в итоге я встретил тебя, будучи нищим. Но ведь деньги — не главное? Разве ты не чувствуешь: то, что я могу тебе дать — если позволишь, — не купишь ни за какие деньги. Мэриан устремила на него маленькие серые глаза. Она не могла говорить, но светилась изнутри. Пол улыбнулся, и она отметила ослепительную белизну его зубов, ямочку на подбородке. Пронзительный взгляд из-под черных бровей проникал в самое сердце. Она не находила слов, чтобы выразить свои чувства. Пол взглянул на часы. — Мне пора. Конечно, если ты не хочешь, чтобы Мадлен устроила сцену. Мэриан проводила его до двери. Пусть идет: ей нужно в одиночестве обдумать их разговор и насладиться им. — Можно, я позвоню завтра? Где-то около семи? Она наклонила голову. Пол обласкал ее взглядом и исчез за дверью. Мэриан бросилась в спальню, к зеркалу. То, что она увидела, ее поразило. Она даже ущипнула себя, чтобы убедиться: это не сон. Улыбка сделала ее лицо неузнаваемо прекрасным. Глаза сияли. Мэриан казалось, будто она парит над землей. Могла ли она подумать, что простые слова способны сотворить чудо? Мадлен не пришла ночевать — и слава Богу! Мэриан не умела скрывать свои чувства и боялась, что Мадлен каким-нибудь замечанием убьет ее радость. Они стали встречаться каждый день — главным образом вечерами. Когда у Мэриан было выходной, они гуляли: бродили по парку, посещали зоосад, любовались витринами с недоступной для них роскошью. Сердце Мэриан превратилось в огнедышащий вулкан; оно извергало такую любовь и нежность, что казалось — от нее исходит сияние; даже брюзжание Мадлен ничего не могло изменить. — Классический закон подлости, — весело произнес Пол, стоя рядом с Мэриан перед витриной ювелирного магазина. — Именно теперь, когда у меня есть кто-то, на кого мне действительно хочется тратить деньги, я беден. Мэриан страстно хотелось обнять его и сказать, что это не имеет значения. Но они еще не дошли до объятий, а она стеснялась сделать первый шаг. Иногда Пол брал ее за руку или обнимал за плечи, но не целовал. Она убеждала себя: это ничего не значит, — однако, несмотря на беззаботную веселость, которую всякий раз испытывала в его присутствии, оставшись одна нередко поддавалась панике. По ночам она лежала в темноте и рисовала себе страшные картины: Пол встречает женщину, которую ему хочется целовать, ласкать, — а она, Мэриан, «в пролете». Но утром он снова звонил — предлагал встретить ее после работы, прокатиться в Бат или Вестон-Супер-Мар, — и ее страхи мгновенно улетучивались. Однажды вечером, когда они втихомолку потешались, что их вот-вот выставят из библиотеки за плохое поведение, Пол сообщил, что они целую неделю не увидятся. Вот он, страшный день, являвшийся ей в кошмарных снах! Мэриан вымученно улыбнулась. — Понимаю. — Ты не спросишь, почему? Глядя в пол, она мотнула головой. — Я все-таки скажу. Нужно отвезти рукопись. У меня состоялся телефонный разговор с издателем. Он вроде бы заинтересовался и предложил встретиться. Заодно проверну в Лондоне и другие дела. Мэриан тотчас вообразила, что «другие дела» означают женщину. На следующий день она проводила Пола на вокзал и, когда поезд отошел, почувствовала, что вулкан ее сердца погас, превратился в свинцовую чушку. Мадлен пришла с работы раньше обычного и застала Мэриан в слезах. — Что, Пол дал тебе коленом под зад? Мэриан подняла зареванное лицо. — Наверное. Мадлен швырнула сумочку на кровать и присела рядом. — Только не говори, что я тебя не предупреждала. Берешься играть не в своей лиге — готовься к поражению. — Мне плохо, Мэдди. При виде такого большого горя Мадлен смягчилась. — Ну ладно. По крайней мере, у тебя есть я. Конечно, если ты еще считаешь меня достойной твоего общества. Мэриан обняла ее. — Ты мне дороже всех на свете, хотя иногда говоришь дикие вещи. — Прости, что я психовала. Но раз между вами все кончено, давай забудем — словно и не было. Если бы она могла забыть! — Расскажи мне о нем, если хочешь, — предложила Мадлен, уютно устраиваясь в постели. — Он хоть доводил тебя до оргазма? Бьюсь об заклад, у него фантастическое тело. Счастливая! Это ж надо случиться такому везению — отхватить в качестве первого мужчины Пола О’Коннелла! — По телу Мадлен пробежала сладострастная дрожь. Но почему Мэриан молчит? — Вы ведь спали вместе? Сидя на своей кровати, Мэриан пила приготовленное Мадлен какао. — Нет. Если хочешь знать, даже не целовались. — Чем же вы занимались столько времени? — Разговаривали. — О чем? — Обо всем на свете. — Проклятье! — Но вообще-то Мадлен было приятно, что кузина не преуспела там, где она сама потерпела поражение. — Где он живет? — Не знаю. Он не говорил. — А ты не спрашивала? — Спрашивала. Он обходил этот вопрос. — Ясно: он женат. Мэриан чувствовала себя раздавленной: ведь Мадлен высказала вслух ее собственные подозрения. Она поставила чашку на тумбочку и выключила настольную лампу. — Не будем больше об этом говорить. В семь утра раздался звонок. И еще один — в семь часов вечера. С такой регулярностью звонки продолжались до понедельника: в этот день Пол попросил Мэриан встретить его завтра на вокзале. Она всю ночь не сомкнула глаз и даже показала Мадлен язык, когда та начала возмущаться: — Неужели у тебя нет гордости? Стоит ему щелкнуть пальцами, и ты бежишь, как собачка. Ты ему не нужна! Посмотри правде в глаза: он даже не хочет переспать с тобой! Поезд пришел рано; Пол уже стоял на перроне. Как же Мэриан хотелось броситься к нему — и чтобы он закружил ее! Но пришлось ограничиться улыбкой. Пол обнял ее за плечи, и они пошли к автобусной остановке. — Мадлен думает, ты женат. Пол расхохотался. — Вот как? А что думаешь ты? — Я… надеюсь, что нет. — А я решил делать так, чтобы твои надежды сбывались. — Значит, ты не… — Я не женат, — сказал Пол и, посмотрев ей в глаза, добавил: — Пока. И опять Мэриан захлестнула волна невыразимого счастья. — Ты так и не спросишь, как мои дела? — Как твои дела? — Еще не знаю. Издатель, с которым я встречался, обещал на будущей неделе позвонить — после того, как прочтет рукопись. Кстати, я дал ему твой телефон. Не возражаешь? — Ни капельки. Но женщины любопытны — меня так и подмывает спросить, почему. — Потому, дорогая, что у меня нет крыши над головой. Вчера я звонил своей хозяйке; она велела мне выметаться до пятницы. Мэриан ахнула. — Что же ты будешь делать? Он пожал плечами. — Не знаю. Что-нибудь придумаю. Автобус подошел к их остановке. Пол встал, и Мэриан перехватила устремленные на него восторженные взгляды двух девушек; от гордости у нее закружилась голова. Мадлен оказалась дома — с двумя подружками, Джеки и Шарон. Все три девушки буквально пожирали Пола глазами. От их откровенного кокетства у Мэриан свело желудок. Она пошла приготовить кофе. Мадлен схватила Пола за руку и усадила рядом с собой. Мэриан не разбирала, о чем они говорят, но судя по взрывам смеха, Пол распустил хвост. Вернувшись в гостиную, она почувствовала себя тем более не в своей тарелке, что ей не хватило места. Извинившись, она пошла в спальню. Спустя несколько минут в дверь постучали. Пол! — Мэриан, ты ревнуешь? Она кисло улыбнулась. — Ты видишь меня насквозь. Она сидела перед трюмо. Пол стал рядом, и она отвернулась, чтобы не видеть убийственного контраста между его красотой и своей ординарностью. — Ты меня боишься? — Иногда. Он взял ее за руку и подвел к кровати. Они сели рядом. — Почему ты меня боишься? — Честно? — Само собой. — По той же причине, что и всех остальных. — И что же это за причина? — Вряд ли тебе понравится мой ответ. — Мэриан печально улыбнулась. Пол крепче сжал ее руку, погладил по щеке. — Дело в том, что люди бывают очень жестокими с такими, как я. С нами не церемонятся. Из-за того, что мы не блещем красотой, нам отказывают в простых человеческих чувствах. Ты не поверишь — чего только мне не приходилось выслушивать! Хотя гораздо чаще меня просто не замечают. Как ни странно, я так и не смогла к этому привыкнуть. Каждый раз — гром среди ясного неба. Я боюсь людей, потомучто уродлива и постоянно жду, что мне сделают больно. Мэриан опустила глаза; на руку Пола, которой он накрыл ее руку, упала слезинка. Пол приблизил к ней лицо. У него оказались мягкие, нежные губы. Мэриан тоже приоткрыла рот и зажмурилась. Он обвил рукой ее плечи и, притянув к себе поближе, снова поцеловал; пальцы в это время перебирали ее волосы. — Мэриан, ты очень красивая, особенно когда говоришь. Твои честность и кротость прекрасны. Ты светишься изнутри, и этого никто не отнимет, кроме смерти. Послышалось чье-то хихиканье. Распахнулась дверь. Мэриан вскочила на ноги. — Извиняюсь, что помешала, — процедила Мадлен, — но мне пора переодеваться на работу. Пол взял Мэриан за руку и незаметно для других подмигнул. — Чуть не поймали с поличным. Говорил — потерпи! — Он повернулся к девушкам. — Не отпускает меня от себя больше, чем на две минуты. Я ее — тоже. И не успела Мэриан его остановить, как Пол повалил ее на кровать и сам плашмя шлепнулся сверху. После короткой немой сцены дверь закрылась. Пол приподнялся на локтях и лукаво посмотрел на Мэриан. Она притворно возмутилась: — Это я тебя не отпускаю? Представляешь, что будут говорить? — Тебя это волнует? — Ни капельки. — Опять поцелую! — пригрозил Пол и покатился со смеху, когда она покраснела. — Твоя кузина умеет выбрать момент! А я-то лез вон из кожи, чтобы быть романтичным! — Он помог Мэриан встать. — Но, кроме шуток, Мэриан, перестань жалеть себя. — Жалеть себя? — Конечно, и ты прекрасно это знаешь. В сущности, ты проделала этот трюк, чтобы я тебя поцеловал! Она открыла и тотчас закрыла рот. Глаза засверкали от радости. — Давай-давай, — подначивал Пол, — что ты хотела мне сказать? Не выдержав, Мэриан рухнула прямо в его объятия. — Я вот думаю, — сказала она позднее, накладывая бобы на гренок, — может, ты какое-то время поживешь у нас? Пока не подыщешь что-нибудь получше. Спать придется на диване, но все-таки не на улице. Пол заваривал чай; все было так по-домашнему, что у Мэриан потеплело на душе. — А что скажет Мадлен о таком развратном предложении? И они оба рассмеялись.* * *
— Что значит «немного поживет у нас»? — бушевала Мадлен. — Ты совсем спятила? — Это же ненадолго! И к тому же выгодно. Мы опять на нуле; я получила письмо-предупреждение от «Барклая». Не говоря уже о счетах. А так мы поправим свои дела. Мэдди, ты сделаешь большое дело, если скажешь «да». — Даже не мечтай! И не смей больше приставать ко мне с подобными гадостями! Мэриан оставила ее в покое, но вообще-то не собиралась сдаваться. Наоборот, она еще никогда не была столь решительно настроена. И когда в половине второго ночи Мадлен вернулась домой, Мэриан снова взяла ее в оборот: — Я хочу еще раз поговорить о Поле. Мадлен плюхнулась в кресло. — Хорошо. Видишь ли, я поразмыслила и поняла, что ты права. Так будет лучше для всех. Я согласна. — Мэдди, ты серьезно? — Конечно. Я вела себя как сопливая девчонка. Но вообще-то я рада за тебя, Мэриан. Он влюблен по уши, это видно невооруженным глазом. Кто я такая, чтобы становиться у вас на пути? Мэриан остолбенела. — Ты правда не против? Мадлен помотала головой. — Слава Богу! Ох, Мэдди, слава Богу! Я так хотела открыть тебе душу! Так соскучилась! Значит, мы теперь снова Друзья? — Естественно. — Давай отметим — выпьем какао. — Нет, вина! А потом ты полночи будешь поверять мне свои сердечные тайны. Пока Мэриан ходила за стаканами, Мадлен вспоминала сказанное подругой Джеки: «Ты дура, что отказалась. Да если вы будете жить под одной крышей, ты в два счета его заарканишь. Более того — выпытаешь у Мэриан, что он любит и чего не любит, — самой же потом будет легче. Не пройдет и месяца, как он будет есть у тебя с рук — особенно если он с ней не спит. Пару недель в твоем обществе — и он будет умолять тебя об этом! — Ты думаешь? — Я знаю! Но главное — будь ласкова с Мэриан, покажи Полу, какая ты благородная. Не успеешь глазом моргнуть, как он залезет тебе в трусики. Ну конечно! Джеки абсолютно права! Как она сама не додумалась? (обратно)Глава 3
Пол оторвался от пишущей машинки и посмотрел на Мэриан. Та рассеянно взирала на обои с причудливым узором и грызла кончик шариковой ручки. — О чем ты думаешь? — Пытаюсь придумать девиз из десяти слов для викторины. Пол облокотился на клавиатуру. — Что бы ты хотела выиграть? — Машину. Потом я ее продам и рассчитаюсь с долгами. — Понятно. Как насчет чашечки кофе? Мэриан отложила ручку. — Нет-нет, — запротестовал Пол, — я сам собирался это сделать. Ты занята важным делом — не то что я. Она запустила в него ручкой, но он успел скрыться за кухонной дверью. — Можно прочитать, что ты сегодня написал? — крикнула она вслед. — Валяй. Мэриан наклонилась над столом и вытащила из машинки лист бумаги. К тому времени как вернулся Пол, она успела перечитать эти четыре абзаца раз шесть, не меньше. — Спасибо, Пол. Передав ей чашку, он опустился в кресло и взял газету. Он прожил у них уже две недели, но чем больше Мэриан его узнавала, тем он казался загадочнее. Она ревновала Пола к прошлому, а до этого — к пишущей машинке, пока он не догадался и не стал работать в ее присутствии. Он привык спрашивать ее мнение, делился замыслами, даже просил записывать ее мысли и чувства, чтобы он мог ими воспользоваться. В своем последнем рассказе Пол вывел их с Мадлен. Читая, Мэриан покатывалась со смеху и бросалась в него диванными подушками. Пол сознательно исказил многие слова и поступки. Иногда он ставил Мэриан в неловкое положение — например, когда пытался анализировать ее чувство к нему. В такие минуты она замыкалась в себе; он не настаивал, а писал как думал, а потом спрашивал: правильно? Обычно его догадки оказывались верны, но Мэриан неизменно отвечала: «Мое дело — знать, а твое — догадываться». Разумеется, она его любила и ничего не имела против того, чтобы он это знал, — просто он должен был первым сказать о любви. Мэриан заерзала в кресле. В каком-то смысле они с Полом были близки, гораздо ближе, чем она могла себе представить; зато в другом между ними по-прежнему существовала дистанция, а уклончивые ответы Пола не способствовали ее сокращению. — Неужели для тебя важно, сколько у меня было женщин? Как они выглядели, где они сейчас?.. — Да, очень важно. Не знаю почему, но это так. — Чепуха. Ты, как большинство женщин, сама загоняешь себя в угол. Внушаешь себе, будто я что-то скрываю, а я просто хочу уберечь тебя от таких вещей, о которых тебе не нужно знать. Конечно, у меня были женщины, но ведь сейчас я с тобой. Ни одна из них не значила для меня и половины того, что ты. Умом Мэриан понимала: ей следует удовлетвориться этим ответом. Возможно, если бы он пошел дальше поцелуев, перед ее мысленным взором не возникали бы воображаемые картины Пола с другими женщинами. Опять же, с такой кузиной, как Мадлен, поневоле начинаешь считать недостаток сексуального опыта чем-то зазорным. Поэтому в душе постоянно ворочался червь сомнения и требовал пищи в виде признаний. — Какой у тебя пасмурный вид! О чем ты сейчас думаешь, Мэриан? — О тебе. — Что именно? — Расскажи мне о Флоренции. — Ты только что прочитала. — Это всего лишь роман… Ты как-то упомянул, что ездил туда каждую весну. Расскажи об этих поездках. — Да нечего рассказывать. Я их терпеть не мог. Меня таскали из церкви в картинную галерею, а оттуда во дворец — смертная скука для маленького мальчика. Но у мамы был пунктик — итальянская культура, поэтому папа каждый год возил ее во Флоренцию. Кажется, они провели там медовый месяц. — В глазах Пола вспыхнули озорные искры. Мэриан внушила себе, будто он бывал там с женщиной, и от него не укрылось радостное выражение ее лица, когда оказалось, что это не так. — Должен, однако, покаяться: я влюбился в тамошнее мороженое. Мама отщелкала добрую сотню снимков, на которых я — с замурзанной мордашкой. Когда-нибудь пробовала настоящее итальянское мороженое? — Не знаю. — Оно вне конкуренции. Вот подожди, издатели возьмутся за ум и опубликуют мою первую книгу — свожу тебя во Флоренцию. Посидим на Пьяцца Синьория, буду кормить тебя с ложечки. При намеке на общее будущее у Мэриан подпрыгнуло сердце. — Нет, лучше поедем в Рим. Там еда вкуснее, и вообще — совсем другая культура. Тебе понравится. Флоренция — большая деревня. Как погрузилась в сон после Кватроченто[3], так и продрыхла несколько веков — в то время как Рим буквально вибрирует всем пережитым. Прошлое в нем и поныне живет и дышит, как во времена Цезаря, Микеланджело и Пуччини. — Понимаю, — мечтательно произнесла Мэриан. Она уже представляла себе романтические прогулки вдвоем по булыжным мостовым. — Прошлым летом мы с Мадлен побывали в Риме. Всего несколько дней, но я влюбилась в этот город, хотя и мало что видела, кроме Виа Кондотти. Я хотела остаться подольше, но Мадлен рвалась на острова Эгейского моря, пожариться на солнышке. — Могу себе представить. Так или иначе, Мэриан, однажды мы откроем этот город вместе. Она уцепилась за эти слова как за что-то осязаемое. Никогда еще ей ничего так сильно не хотелось. Однако пришло время спуститься на землю. — Ты звонил издателю? Пол вздохнул. — Он отдал рукопись на прочтение. Как только поступит рецензия, меня поставят в известность. — По крайней мере не отказ. — Видя, что Пол приуныл, Мэриан села к нему на колени. — Жаль, что я не могу помочь. — Достаточно того, что ты здесь, со мной, — с улыбкой сказал Пол. — Воркуете, голубки? — проворчала Мадлен, выходя из спальни. Пол с Мэриан подняли на нее глаза. Полюбовавшись своим отражением в зеркале, Мадлен плюхнулась на диван, скрестив ноги так, что Мэриан смущенно отвела взгляд. — Ну и ночка была! Я притащилась в три. — Будешь завтракать? — Конечно. Я бы слопала лошадь, но ограничусь гренком и чашечкой кофе. — У нас кончилось масло, — напомнил Пол. — Не беда, — бодро произнесла Мэриан. — Сейчас сбегаю. Мадлен легла на спину и задрала ноги. — Удобно тебе здесь спать? — Да, очень. — Пол с легким изумлением наблюдал за ее выкрутасами. Мадлен лихорадочно соображала. Все прошлые попытки соблазнить Пола — принимая ванну или возвращаясь после выступления в пальто, под которым ничего не было (Мэриан в это время уже спала) — провалились с треском. Мадлен обсудила проблему с Джеки и Шарон. Те в один голос заявили, что главное — убрать с дороги Мэриан. Возможно, они имели в виду что-нибудь посущественнее, чем отправить ее за продуктами, но Мадлен была рада уцепиться за любую соломинку. Отбить у кузины Пола стало смыслом ее жизни. Он единственный оказался неуязвимым для ее чар, и Мадлен не могла с этим примириться. О последствиях она не думала: сейчас ей нужно было только одно — затащить его в постель. Джеки посоветовала как-нибудь вырвать у Пола признание, что он не спит с Мэриан, а как только речь зайдет о сексе и мужской неудовлетворенности, Мадлен своего не упустит. — Можете сдвинуть вместе кровати — мою и Мэриан — и развлекайтесь на здоровье. Я обойдусь диваном. Пол усмехнулся. — Очень великодушно с твоей стороны. Предложи это Мэриан. Неприятный ответ. — Я так и поступлю. Но ты-то что об этом думаешь? Или не жаждешь спать с ней? — Она еще не готова. — Тебе придется долго ждать. Полагаю, ты в курсе, что Мэриан — девственница? Пол кивнул. — Смех да и только — в ее-то возрасте! Бедняжка, вечно у нее проблемы с мужским полом. Я хочу сказать, были. — Должно быть, кузина затмевала ее своим блеском? Мадлен разрешила себе несколько минут понежиться в теплых волнах комплимента. Это уже кое-что! — Ну я не знаю… Вообще-то, не стану отрицать, за мной парни всегда ходили табунами, но Мэриан — девушка с головой, некоторым нравится. Беда только в том, что она не знает, что нужно мужчинам. — А ты, конечно, знаешь? Мадлен вытянула длинные ноги и изобразила притворный ужас, когда у нее распахнулись полы халатика. Но, конечно, не спешила застегивать. — У меня идея. — Нисколько в этом не сомневаюсь. — Пол встал и вернулся к пишущей машинке. Мадлен почувствовала себя покинутой. В чем дело? Все так удачно складывалось, так какого дьявола он заправляет в этот чертов драндулет чистый лист бумаги? — Тебя это бесит? — Что именно? — Ее целомудрие. Пол не удостоил ее ответом. Мадлен села и впилась жадным взглядом в его точеный профиль: прямой нос, черные брови и ресницы, чувственные губы. Пол подпер руками подбородок, и у Мадлен дрогнуло сердце: она представила, как эти руки ласкают ее тело. Никому еще не удавалось так ее завести. Секс был способом отблагодарить мужчину за восхищение ее красотой. С Полом О’Коннеллом все было по-другому. Она безумно хотела его: над ней, под ней, внутри нее, повсюду! Хотя Мадлен ни за что не призналась бы никому на свете, она еще не изведала полноценного оргазма, но всем своим существом стремилась к нему — и к Полу. Шестое чувство нашептывало: с ним все сбудется! Она подошла к Полу и погладила его по плечам. — Тебе помочь? — Спасибо, Мадлен, не нужно. — Не стоит благодарности. Ты даже не знаешь, что я хочу предложить. — Думаю, что знаю. Она отдернула руки. — В общем, я хотела предложить тебе заняться со мной любовью. — А я хотел избавить тебя от неловкости. Она остолбенела. Лицо залила багровая краска стыда, и оно сразу утратило свою привлекательность. Пол усмехнулся. Мадлен думала, что делать. Если залепить ему пощечину, он даст сдачи — и что дальше? Поэтому она воздержалась. Пулей вылетела из комнаты и хлопнула дверью. Пол испытал разочарование. Он продолжал работать, выбросив из головы Мадлен. Не то чтобы он был совсем равнодушен к ее прелестям — наоборот, находил ее тело дьявольски обольстительным. Но Мэриан с ее застенчивой улыбкой, смешными каламбурами и самоотверженной преданностью им обоим значила для него слишком много, чтобы жертвовать их отношениями ради мимолетного утоления похоти. В спальне Мадлен вне себя от ярости бросилась ничком на кровать. В поле ее зрения оказалась настольная лампа — подарок матери на Рождество. Она уже собиралась шваркнуть лампу о стену, но раздумала. Нет! Она не доставит Полу такого удовольствия. Ублюдок! Да хочет он, хочет ее ничуть не меньше, чем она его! Еще секунда — и он посадил бы ее к себе на колени. Ладно, больше она не станет унижаться. До сих пор ЕЕ упрашивали. А что до фарса с Мэриан, то очень скоро она посмеется над ним. Да! Устроит так, чтобы они — Мэриан с Полом — спали в одной комнате, и тогда посмотрим, как скоро он будет сыт по горло этой уродиной… Спустя полчаса в спальню кто-то постучался. Мадлен рявкнула: «Входи!» — и продолжала наводить марафет, так что Пол застал ее сидящей перед трюмо. Шелковистые волосы блестели; матовый загар лица (не зря она брала сеансы кварцевания!) мерцал в лучах зимнего солнца. На ней были джинсы и облегающий свитер под горлышко. Она не соизволила обернуться, да и зачем — он видел ее отражение в зеркале. Лицо Пола осталось непроницаемым. Однако в глубине души он не мог не восхищаться красотой Мадлен, которая так не вязалась с грубой, эгоистичной натурой. — Что, передумал? На губах Пола зазмеилась усмешка. — Меня беспокоит Мэриан. Уже полчаса, как ее нет. Мадлен ожесточилась. — Ну и что? — Может, пойти поискать? Она скорчила гримасу. — Ну и чего ты ждешь? Моего благословения? — Ты не знаешь, где она может быть? — Откуда? Сказала, идет в магазин, значит, так и есть. Пол вышел в прихожую. Надел пальто. — Появится Мэриан — скажешь, я пошел ее искать. — Если буду дома. Он не стал напоминать Мадлен, что кузина пошла купить ей масло. У этой девицы ни капли совести. Не прошло и пяти минут после его ухода, как вернулась радостно возбужденная Мэриан. Она на ходу сбросила пальто и швырнула в угол хозяйственную сумку. — Мэдди, — та как раз вышла в коридор, — мне нужно с тобой поговорить. Мадлен удостоила ее кислого взгляда. Мэриан явно похорошела, даже волосы заблестели. — Если по секрету от Пола — валяй, он ушел. — Куда? — Тебя искать. Где ты шлялась? — Искать меня? — Сияющая улыбка Мэриан привела Мадлен в бешенство. — Господи, он так надо мной трясется, просто не верится. Мэдди, я так люблю его! Чувствую себя совершенно другим человеком! — Что-то не заметила. У меня для тебя сюрприз. — И у меня! — воскликнула Мэриан. — И сюрприз, и новость. Сначала новость! — Она затащила Мадлен в спальню и закрыла дверь. — Я заходила в нижнюю квартиру, к Памеле Робинс. Она уезжает на съемки — на два-три месяца — и на этот срок сдала квартиру режиссеру из Лондона — он снимает у нас, в Бристоле, фильм для четвертого канала. Ни за что не угадаешь, кто это! Мэтью Корнуолл! — Это еще что за птица? — Ох, Мэдди! Да это же самый известный кинорежиссер страны — и писаный красавец! Да ты на днях читала о нем в журнале. — Что-то не припомню. Когда он вселяется? — На будущей неделе. Мэдди, ты только представь: Мэтью Корнуолл — в нашем доме! Это тот самый шанс, о котором ты мечтала! — Возможно, — осторожно заметила Мадлен, стараясь не выдать свои истинные чувства. Появление на сцене другого мужчины, да еще такого, как этот Мэтью, — именно то, что нужно. Пусть Пол поревнует! — Пригласим его выпить? — Как скажешь. Ну а твой сюрприз? — Имей терпение. А твой? — Тебе тоже придется подождать, — Мэриан лукаво улыбнулась. — Но если у меня получится, это будет что-то! — Она передала Мадлен пачку масла. — Иди поставь чайник и приготовь гренки. По возвращении Пол застал девушек сидящими на полу: они уплетали гренки и просматривали старые журналы в поисках хотя бы одной статьи о Мэтью Корнуолле. Мэриан вскочила и обняла Пола. — Я беспокоился. Где ты была? — Устраивала сюрприз. И болтала с соседкой из нижней квартиры. — Что за сюрприз? — Какой же это будет сюрприз, если я скажу? Мадлен зевнула. — Она сегодня странная. — На себя посмотри! Пол, хочешь гренок? Он кивнул. Мэриан поспешила на кухню. Пол поймал взгляд Мадлен и держал его до тех пор, пока та не заморгала. Он не собирался затевать авантюры, но дразнить Мадлен было одно удовольствие. Отвернувшись к телевизору, она с такой силой нажала на кнопку, что у Пола не осталось сомнений: эта злюка с радостью придавила бы его самого. — Зачем ты включила телевизор? — спросила Мэриан и, поставив поднос с кофе и гренками на стол, слегка повернула запястье Пола, чтобы взглянуть на циферблат. — По второму каналу новости. Посмотрим? Мадлен только пожала плечами. Мэриан стала переключать каналы. — Стой! — истошным голосом завопила Мадлен. — Давай обратно! Скорее! Мэриан щелкнула кнопкой. Появилась нечеткая картинка. — Это? Мадлен не отрывала глаз от экрана. Мэриан поразило злое, напряженное выражение ее лица. — Я не уверена, что здесь подходит слово «заговор», — сказала Стефани Райдер, отвечая на вопрос ведущего. — Так или иначе, моя партнерша и я были счастливы получить право на эту постановку. — Оливия Гастингс пропала без вести пять лет назад, — напомнил ведущий. — Почти все, что удалось установить, нашло свое отражение в прессе. Дебора Форман написала об этом книгу. Неужели вам удалось откопать что-то новенькое? Факты, свидетельства, версии, относящиеся к тому, что произошло в Италии? Стефани улыбнулась. — Боюсь, что вам придется подождать, пока фильм не выйдет на экраны. — Оливия Гастингс, — задумчиво повторила Мэриан. — Уж не та ли самая… — Тихо! — Мадлен хлопнула ее по руке. — Где состоится премьера? — не отставал репортер. — Здесь или в Америке? — В Америке. Надеюсь, мне удастся поставить фильм с английской съемочной группой, но наши спонсоры — американцы. Так же, как и сама Оливия. — Старая карга! — прошипела Мадлен. Мэриан была ошеломлена. — Кто? — Да вот та! Баба-продюсер! Стефани Фу-ты-ну-ты! Думает, если у нее берут интервью, она может мнить о себе черт знает что! Хоть бы кто-нибудь открыл ей глаза: она — сексуально озабоченная свинья, вот кто! — Да нет же, она очень симпатичная, — возразила Мэриан, а когда Мадлен опрометью вылетела из комнаты, устремила вопросительный взгляд на Пола. — Что это с ней? — Ты меня спрашиваешь? Такого еще не бывало, чтобы Мадлен ополчалась на совершенно незнакомого человека. Мэриан потопала в спальню. Мадлен сидела перед зеркалом и яростно драла щеткой волосы. — Мэдди, что случилось? — Не понимаю, о чем ты. — Ты как-то странно себя ведешь. — Заткнись, Мэриан! — И не подумаю. За что ты на нее взъелась? Мадлен крутнулась на вертящемся табурете и оказалась лицом к лицу с кузиной. — Ну если хочешь знать, это та самая стерва, которая швырнула мне в лицо мои шмотки в баре «Эйч-ти-ви». Довольна? Попробуй сказать Полу — убью! У Мэриан дрогнули губы, и она поспешила обратно в гостиную. Телеинтервью со Стефани Райдер подходило к концу. Теперь понятно, почему взбеленилась Мадлен. Стефани Райдер не только продюсер, но и очень красивая женщина. Неудивительно, что ее холодная самоуверенность заставила Мадлен почувствовать себя униженной. Вечером Мадлен не нужно было спешить на работу. Поэтому, после того как она приняла традиционный сеанс кварцевания, девушки прикинули свои финансы и отправились в «Шато». Перед этим они успели поссориться из-за того, что Мадлен швыряла деньги на салоны красоты, когда можно было оплатить несколько счетов. Она оправдывалась тем, что должна встретить Мэтью Корнуолла во всеоружии. Крыть было нечем. Их обычная компания собралась в самом дальнем уголке. После нескольких рюмок Мадлен оживилась. Она лезла из кожи вон, чтобы продемонстрировать Полу свою популярность. Однако, сидя за столиком рядом с Мэриан и увлеченно беседуя об экзистенциализме, он не обращал на нее внимания. К одиннадцати часам Мадлен была уже на взводе. Джеки с Шарон насмотрелись на Мэриан и Пола и были вынуждены завистливо констатировать: Мадлен ничего не светит. — Вон как он на нее смотрит, — сказала Шарон. — Как будто здесь больше никого нет. — Его можно понять, — подхватила Джеки. — Конечно, Мэриан и сейчас не красавица, но любовь творит чудеса. Она что, сбросила вес? — Черт ее знает. — Похоже, на сей раз тебе придется красиво признать свое поражение. — Ни за что! — прошипела Мадлен. Наоборот, ее решимость окрепла. — У меня есть еще один козырь в рукаве, и он сработает. — О чем вы говорили? — полюбопытствовала Мэриан, когда они собрались уходить. — Так, ни о чем. Пошли скорее домой. Помнишь, я обещала сюрприз? — Ну и где же он? — спросила Мэриан, переступая порог их квартиры. Мадлен бросила пальто на стул и ринулась к зеркалу — посмотреть, много ли бед натворил внезапный ливень. Пол украдкой наблюдал за ней. В этот вечер он обращал на нее гораздо больше внимания, чем она думала, но вряд ли его мысли доставили бы ей удовольствие. Пола раздражала ее откровенная охота за мужчинами, а вульгарный смех и похотливые взгляды доводили до белого каления. Но вообще-то было бы интересно посмотреть, как далеко она может зайти. — Мэдди! — нетерпеливо окликнула Мэриан. Мадлен посмотрела на Пола — тот зажигал камин. — Ну, в общем, я решила спать на диване, а вы получаете спальню в свое полное распоряжение. Пол раздосадованно поджал губы. Ему следовало предвидеть этот фокус, и он злился на себя за то, что не предотвратил попытку Мадлен поставить кузину в неловкое положение. — Мэдди! — в ужасе воскликнула та. — По-твоему, мы можем вот так об этом говорить? Пол взял ее за руку. — Нет, Мэриан, мы с тобой сами все решим. — Он повел ее в спальню. Дверь за ними закрылась. — Честное слово, Пол, мы не договаривались. Я не ожидала… Для меня это был точно такой же шок… Он приложил ей палец к губам. — Поймаем Мадлен на слове? Глаза и рот Мэриан превратились в три одинаковых окружности. Лицо из белого стало пунцовым. — Если тебе неприятно, забудь об этом. Или, например, поставим кровати подальше друг от друга. Обещаю не покушаться на твою невинность. В глазах Мэриан помимо ее воли запрыгали смешинки. Пол продолжал: — По-моему, ты поступишь мудро, если скажешь «да». Хотя бы затем, чтобы проучить Мадлен. — Она не хотела нас обидеть. Просто у нее своеобразное чувство юмора. — Не уверен, что дело здесь в «чувстве юмора», — ответил Пол, — но меня не интересует Мадлен. Я хочу услышать твой ответ. Мэриан опустила голову. Сердце стучало, как барабан. И уж конечно, Пол заметил, как у нее дрожат руки. Она кивнула. Он заключил ее в объятия. — Значит, «да»? Конечно, все должно было произойти не так. Знаешь что, Мэриан? Мы сдвинем кровати, но я не стану посягать на твою территорию, пока ты не скажешь, что готова. А Мадлен пускай думает, что мы занимаемся любовью. Пойду скажу ей, чтобы забрала свое барахло. Мадам хочет выпить на ночь? — Мадам хочет, — ответила она и сама поразилась непринужденности своей интонации. В комнату влетела Мадлен. — Мэриан, я так рада! — На самом деле ее душила злость. — Давай помогу тебе сдвинуть кровати. Она забежала между кроватями и убрала разделявшую их тумбочку. Мэриан ошалело наблюдала за ее действиями. — Представь себе, что ты уже разделась. — Мадлен подвинула тумбочку к окну и украдкой взглянула на кузину. Выражение шока на лице Мэриан доставляло ей удовольствие. — Свет оставь включенным, мужчины это любят. Когда вы целуетесь, Пол засовывает тебе в рот язык? Мэриан покачала головой. — Ну, значит, еще будет. Это — часть предварительной игры. Между прочим, когда засунет, ты должна сделать то же самое. Потом он поцелует тебя в шею, в грудь. А когда станет трогать там… — Прекрати, Мадлен! — Почему? В чем дело? — Это очень личное. — Разве тебе не нужен совет? — Нужен, но… — Слушай, если ты даже меня стесняешься, что же будет с ним? Это абсолютно естественно. Все так делают, кроме тебя. А Пол так точно проделывал это сотни раз. Ты ведь не станешь лежать как бревно, правда? — Нет, я не стану лежать как бревно. — В таком случае что ты будешь делать? Видишь — не знаешь! А если он попросит тебя взять в рот?.. Мэриан брезгливо скривилась. — Он не попросит. Или?.. — Ну конечно же попросит! И ты подавишься — в первый раз всегда так. Особенно если он заставит тебя глотать сперму. Но с этим так или иначе придется смириться: мужчины обожают оральный секс! И он пусть делает то же самое. Это — фантастика! — Не хочу больше слушать! — вскричала Мэриан. — Ты спятила, если думаешь, что я попрошу его проделывать со мной такое! — Какое «такое»? Ты даже не знаешь, что делает мужчина, когда засовывает тебе голову между ног. Правда? — Не знаю и не хочу знать! — Прекрасно. Забудь об этом. В любом случае, что бы ты ни делала, нужно все время играть с его шариками. Мэриан смущенно захихикала. — Как? — Немного подержишь их в руке, убедишься, что его инструмент стал твердым, как камень, — и как стиснешь! Он буквально взвоет от восторга! На лице Мэриан отразилось сомнение. — Я думала, это больно. Мадлен закатила глаза. — Господи, тебе учиться и учиться! Вот почему я сказала: убедись, что ОН твердый, тогда не больно. Мэриан безвольно опустилась на кровать. — У меня точно ничего не выйдет. — Выйдет! Делай, как я говорю, — и запасись прокладками, а то всю постель перемажешь кровью. — Кровью? Ах да, кровью. — Мэриан совсем было пала духом, но потом с облегчением вспомнила, что Пол пообещал ничего не предпринимать, пока она не будет готова. Она разделась в ванной, жалея о том, что у нее нет ничего более красивого, чем фланелевая ночнушка. Посмотрела на себя в зеркало и удивилась выражению спокойствия на своем лице, в то время как в груди бушевали эмоции. Слегка кружилась голова. Возникло желание, чтобы Пол и вправду трогал ее укромные местечки; однако уже в следующую секунду ей стало стыдно и тревожно. Пол уже лег. Мэриан смутилась при виде его обнаженного торса. Не то чтобы она его не видела — но сейчас все воспринималось иначе. Пол оторвал глаза от книги. — Я пошел в ванную. Твой напиток на тумбочке. — Спасибо, — охрипшим голосом произнесла Мэриан. У нее подкашивались ноги. На всякий случай она отвернулась — вдруг он голый? — но поймала отражение в зеркале. На Поле были плавки. При виде темной поросли у него на ногах она почувствовала слабость в коленках и опустилась на кровать. Выпила бренди. Вернулся Пол, благоухая зубной пастой. — Ложись, Мэриан, а то замерзнешь. Я же обещал не покушаться на твою невинность. Она забралась под одеяло. Сроду не испытывала такого странного чувства. Пол нашел ее руку и поцеловал. — Ты в порядке? Она кивнула. И прошептала: — Пол… — Что? Если бы она знала! В голове не было ни одной мысли — только радость оттого, что он здесь, рядом. Но ведь не станешь отпускать такие банальности. Она потупилась и мотнула головой. — Так, ничего. Он поцеловал ее в губы. — Забирайся ко мне, я хочу обнять тебя. И, поймав ее растерянный взгляд, улыбнулся. — Я не сделаю ничего такого, что тебе не понравится. Просто хочу, чтобы ты согрелась и успокоилась. Она неловко шагнула через узкий проход, и вдруг ноги запутались в длинной ночной рубашке, и она упала к нему на кровать, готовая расплакаться от стыда и унижения. Но Пол засмеялся и помог ей лечь. Пристроил ее голову у себя на плече. Поцеловал кончик носа. — Теперь можно будет говорить, что ты буквально упала ко мне в постель. Она издала булькающий звук: не то смех, не то рыдание. И вдруг почувствовала себя такой счастливой, что обняла Пола и приподнялась, чтобы он мог ее поцеловать. Но он отстранился. — Не искушай судьбу, Мэриан. Я всего лишь мужчина, из крови и плоти. А ты с каждой минутой желаннее. Он выключил свет; она послушно отстранилась. По телу пробежала волна радости и облегчения. Пока что ей было достаточно лежать с ним рядом и знать, что когда она наберется храбрости сказать ему, что готова, он тоже будет готов. В гостиной Мадлен мучительно ворочалась на скрипучем диване, так и не сомкнув глаз от переполнявшей ее ярости. Единственным утешением было сознавать, что в любую минуту может раздаться вопль Пола О’Коннелла, когда Мэриан последует ее совету. Но этого не случилось. С тех пор как под дверью спальни погасла полоска света, оттуда не донеслось ни единого звука. Это ее немного ободрило, но заснула она все-таки не скоро. Утром она застала Мэриан на кухне — та, мурлыча песенку, готовила завтрак. Мадлен поняла: что-то все-таки произошло. Она пробормотала, что не будет завтракать, и, пулей вылетев из кухни, ринулась в спальню, забыв, что там — Пол. Он стоял возле шифоньера, но тотчас обернулся и даже не попытался скрыть наготу. На лице не отразилось ничего, кроме легкого удивления. Проследив за ее жадным взглядом, он не смог сдержать улыбку. — Извини, — с непривычным смущением процедила она сквозь зубы и хотела ретироваться, но Пол остановил ее. — В чем дело, Мэдди? Ты много раз видела голых мужчин, так почему теперь удираешь? Она как ошпаренная выскочила из спальни. Досадно, конечно, что Пол смеялся над ней, но, что самое главное — она ему небезразлична! И это — после первой ночи с Мэриан! Ее план удался! Мэриан не способна удовлетворить мужчину — Пол недвусмысленно дал это понять. Но если он думает, что она по первому знаку сбросит трусики, он очень ошибается. Она еще помучает его, прежде чем уступить. Может, ему даже придется умолять ее!* * *
Весь уик-энд настроение Мадлен менялось от душевного подъема к депрессии и обратно. После инцидента в спальне Пол вел себя так, будто ничего не произошло, и не обращал на нее внимания. В лучшие минуты ей удавалось внушить себе, что это из-за присутствия Мэриан. А в худшие — она начинала ненавидеть кузину с такой силой, что ей стоило огромного труда выказывать дружелюбие. В понедельник в квартиру этажом ниже вселился Мэтью Корнуолл. Они узнали об этом по пришедшей на его имя бандероли, которую почтальон в подъезде вручил Мэриан. Человек, открывший дверь, сказал, что Мэтью говорит по телефону, и принял у нее бандероль. Мэриан стремглав ринулась наверх — сообщить Мадлен грандиозную новость. Страстное желание подбодрить кузину помешало ей заметить угрюмое выражение ее лица. Пол сидел за пишущей машинкой. Мэриан поцеловала его в макушку и бросилась к Мадлен. — Он уже здесь! Внизу! — Кто? — осведомился Пол. — Ну конечно же Мэтью Корнуолл! Я отнесла ему бандероль и хотела пригласить в гости, но он говорил по телефону. Я успела его рассмотреть. Мэдди, какой красавчик! Написать ему записку? Мадлен покосилась на Пола. Тот беззвучно смеялся. — Дайте человеку прийти в себя. Если он только что приехал… — Брось, Пол. Мы должны это сделать ради Мадлен. Иди, пригласи его. Ну пожалуйста! Но он поднял руки вверх и замотал головой. — Я не участвую в заговоре. — Обняв Мэриан за талию, он усадил ее к себе на колени. — Как насчет страстного поцелуя? Она стрельнула взглядом в Мадлен. Та вскочила и выбежала из комнаты. — Что случилось, Пол? Вы поцапались? — Нет. Хочешь посмотреть? — Не успела Мэриан опомниться, как он выдернул из машинки страницу и отдал ей. А сам скрылся за дверью. Он нашел Мадлен на кухне. — Ну вот, этот тип вселился. Что думаешь делать? — Тебя не касается. — Всего лишь десять минут назад ты угрожала заняться с ним сексом, чтобы я ревновал. — И что, ревновал бы? Его поразили нотки неуверенности в голосе Мадлен: ведь еще недавно, в отсутствие Мэриан, она злобно посулила, что он будет сходить с ума, представляя ее в объятиях Мэтью Корнуолла. Теперь же прекрасные фиалковые глаза излучали глубокую грусть. Наверное, он слишком далеко зашел в своих нападках. — Возможно. Мадлен презрительно усмехнулась. — Надеюсь, ты сдохнешь от ревности! — И, выпятив роскошную грудь, вышла из кухни.* * *
— На твоем месте я бы на это пошла, — авторитетно заявила Джеки. — Терять абсолютно нечего. Перепихнешься разок с Мэтью Корнуоллом — и дело в шляпе. — Что ты имеешь в виду? — Во-первых, он даст тебе роль — или хотя бы познакомит с нужными людьми. А во-вторых, Пол признался, что будет ревновать. Разве ты не добивалась этого? — Да… Но это еще не значит, что он бросит Мэриан. — Если благодаря Мэтью Корнуоллу ты обзаведешься связями, — добавила Шарон, — или, еще лучше, он займет тебя в своем фильме, Пол О’Коннелл будет есть у тебя с рук. — Почему ты так думаешь? — Что для Пола важнее всего? Его писанина. Прославившись, ты запросто сможешь открыть перед ним все двери. У Мадлен оставались сомнения. Она не сказала об этом вслух, а пошла домой, чтобы спокойно все обдумать. На лестнице ее догнала запыхавшаяся Мэриан; она торжественно потрясала в воздухе каким-то конвертом. — Получилось! У меня получилось! — Что получилось? — При виде ее радостного лица сердце у Мадлен сжалось от сложной комбинации любви, недоверия и зависти. Конечно, Мэриан очень похорошела, но что в ней мог найти такой мужчина, как Пол? — Сюрприз, о котором я говорила! — Ну, вы готовы? — спросила Мэриан пять минут спустя. Все трое сидели в гостиной: Пол за машинкой, Мадлен на диване, а Мэриан — за столом. Глаза у нее блестели. Пол велел ей пересесть к нему на колени и, поцеловав в голову, пробормотал: — Ну и что ты затеяла? Мадлен громко кашлянула. — Прошу прощения, вы тут не одни. Я целую неделю слышу про этот сюрприз, так нельзя ли поскорее? Она была так заинтригована, что забыла о собственных переживаниях. — Извини. Мэриан вспомнила свое намерение понаблюдать за лицом Пола в момент сообщения великой новости, и, перебежав через всю комнату, встала у камина. Там она надорвала конверт и театральным жестом извлекла три билета на самолет. — Нас ждет шикарный уик-энд в Риме! Мадлен первая пришла в себя. — Где ты взяла деньги? Мэриан на мгновение смутилась. — Получила по страховке, — солгала она. Не рассказывать же, что после безуспешной попытки взять ссуду в банке она отправилась в финансовую компанию в Хорфилде и всеми правдами-неправдами вытянула из них пятнадцать тысяч фунтов. — Черт с ними, с этими счетами, устроим праздник! Пол покачал головой. Ясно, она сделала это ради него. Он подошел к Мэриан и, взяв в ладони ее лицо, прошептал: — Мэриан Дикон, я люблю тебя. — Я тоже, — выдохнула она и вдруг расплакалась. — О Господи! — На языке вертелось кое-что еще, но Мадлен сдержалась. Однако видеть, как Пол гладит Мэриан по голове, целует ее, было выше ее сил, и она выбежала из комнаты. Мэриан ринулась за ней. — Мэдди! Мэдди! Что с тобой? Мадлен захлопнула дверь ванной прямо у нее перед носом. По лицу бежали ручьи слез. Сердце разрывалось от горя. — Почему? Ну почему он меня не любит? Мэриан стала ломиться в дверь. Пол остановил ее. — Оставь ее в покое: успокоится — выйдет. Уже на кухне Мэриан осенило: — Не нужно было обниматься у нее на глазах. Больше всего на свете ей нужен любимый и любящий мужчина. Мэдди ни за что не признается, но для нее это даже важнее славы. Вся ее бравада — напускная: только бы скрыть тоску одиночества. Вот почему я взяла три билета. Ты ведь не против, правда, Пол? — Нет, разумеется. — Ты такой добрый! Как бы я хотела, чтобы и Мадлен встретила кого-нибудь вроде тебя! Он пожал плечами. — Кто знает, может, этот Мэтью Корнуолл станет ответом на ее молитвы. А теперь поговорим о Риме. Мэриан выставила вперед руки. — Нет-нет, я знаю, что ты собираешься сказать. Что это очень великодушно с моей стороны, ты будешь благодарен мне по гроб жизни, но не можешь принять такой дорогой подарок. Он утвердительно наклонил голову. — Так вот, я купила специальные билеты, не подлежащие возврату. Так что, хочешь не хочешь, полетишь как миленький! Пол посерьезнел. — Мне пора в библиотеку. А вы пока посплетничайте. Мадлен была на кухне. Мэриан потопталась в дверях, не зная, что сказать. Мадлен налила два стакана вина, и они пошли в гостиную. — Прости, Мэриан. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, мне стало страшно тебя потерять. — Ты никогда меня не потеряешь. Мы трое так и останемся вместе. А когда и ты встретишь своего суженого, создадим дружный квартет. — Мэриан, я не могу лететь в Рим. Я… — Извини, тебе не остается ничего другого. Эти билеты не принимаются обратно. Кроме того, я хочу, чтобы ты была с нами. Слушай, я спрятала в спальне проспект — посмотрим наш отель? Кстати, у меня есть еще идея. Почему бы нам не открыть кредит у Дебенхэма или Джона Льюиса и купить себе что-нибудь приличное? На лице Мадлен отразилась странная смесь страдания и злости. А в глазах неожиданно полыхнул озорной огонь. — Десять тысяч фунтов! Мэриан презрительно фыркнула. — Не десять, а двести тысяч! И машины: «мерседес», спортивная модель, для меня и «релайент робин» — для тебя. — Особняк для меня и флигель на задворках — для тебя! — Тропический остров для меня и один акр Тихого океана — для тебя! — Что мне с ним делать? — Понятия не имею. Отправишься в небольшой интимный круиз с Мэтью Корнуоллом. Мадлен обдумала это предложение. — А правда, почему бы нет? Тащи сюда проспект! А завтра отправимся к Дебенхэму и будем тратить, тратить!.. Ко времени возвращения Пола Мадлен успела сбегать за второй бутылкой. Мэриан нетвердо держалась на ногах, а у Мадлен, по ее собственному выражению, «крыша поехала». — Я пошла знакомиться с Мэтью Корнуоллом. — Ох нет, Мэдди! Не в таком виде! Ты только все испортишь. — Чепуха. Знаешь, что я тебе скажу? Пусть он делает со мной все что угодно, лишь бы дал роль и помог прославиться. — Пол, задержи ее! Но он стоял и смотрел, как Мадлен ковыляет через прихожую, на ходу вытаскивая из-под свитера лифчик. На пороге она обернулась и с хохотом швырнула в него эту деталь дамского туалета. — Я пойду с ней! — заявила Мэриан. Пол перехватил ее у двери. — Пусть делает что хочет. В таком состоянии от нее всего можно ожидать. — Господи, — вздохнула Мэриан, — хоть бы его не оказалось дома!* * *
Осторожно спустившись на четвертый этаж, Мадлен что было сил забарабанила в дверь. Ждать пришлось недолго. При виде Мэтью Корнуолла она заморгала от удивления. Они так и не нашли его фотографию, но Мэриан отзывалась о нем как о красавце. Он оказался недурен, но, в общем, ничего особенного. — Привет, — не особенно внятно пробормотала она. — Меня зовут Мадлен. Я живу этажом выше. Он улыбнулся. — Привет. — Выпьем на пару? — Да, но это не… — Я бы пригласила тебя к себе, но там моя кузина со своим парнем. У тебя наверняка что-нибудь найдется. — Это не моя квартира. — Знаю, Памелы. Она не будет против. До тебя мы тут часто пьянствовали. Идем, покажу, где что лежит. И она прошмыгнула мимо молодого человека. Тот озадаченно смотрел вслед. Потом хмыкнул и последовал за незваной гостьей в спальню. — Фу, черт, заблудилась! — Мадлен изобразила смущение и прошла на кухню. — Где тут у нас винишко? — Я видел несколько открытых бутылок. — Отлично! Веди меня туда! Он провел ее в гостиную и любезно усадил в кресло. — Значит, ты живешь наверху? — Вдвоем с кузиной. Я ее ненавижу. Нет, не ненавижу, просто она действует мне на нервы. — Вот как? И чем же ты занимаешься? — Чем? — Мадлен растерялась. — Ах да. Художественным стриптизом. Знаешь, что это такое? — Вроде бы. — Дашь мне выпить? — Само собой. — Он прошел к буфету и налил ей стакан вина. — В общем, — произнесла Мадлен медовым голосом, — я потому и пришла. Понимаешь, я всю жизнь мечтала стать моделью, вот и подумала, может, ты… То есть, я жажду стать актрисой, так не найдется ли для меня роль в твоем фильме? — Она залпом осушила стакан и поставила на журнальный столик. — Понятно… Но, видишь ли… — Я знаю о взлетном ложе, — перебила Мадлен, — но предпочла бы обыкновенное прослушивание. Он зажал ротладонью, чтобы не расхохотаться. — Но если хочешь… ради Бога… пусть Пол сдохнет от ревности. Только сначала пообещай устроить мне прослушивание. Брови молодого человека взметнулись вверх — чуть ли не до корней волос. На этот раз он рассмеялся от души. — Кто такой Пол? — Парень моей кузины. — Ясно. — Он с минуту подумал и сказал: — Я правильно понял: если я пообещаю устроить тебе прослушивание, ты… — Дам себя трахнуть, — подсказала она, откидываясь на спинку дивана и кладя ногу на ногу. — Это очень великодушно с твоей стороны, Мадлен, но… Она уже стаскивала через голову свитер. Много лет проработав в кино, он встречал десятки женщин, готовых на любые услуги. И все же Мадлен отличалась от других — не только своими прелестями (ему всегда было трудно устоять перед пышным бюстом), но и выражением глаз. Сроду не встречал такого эротичного взгляда. Мадлен встала и двинулась к нему. — Как тебе мои бубочки? — Весьма, — пробормотал он, не отрывая глаз от соблазнительных выпуклостей, которые уже почти касались его торса. — Они всем нравятся! — Мадлен приподняла груди на ладонях. Потом потеребила пальцами соски — те набухли и налились малиновым соком. — Хочешь потрогать? Только обещай дать мне шанс. — О’кей. — Я передумала — не нужно мне никакого прослушивания, мне нужна роль. — Само собой. Потом он лежал на ней, истекая потом; воздух с присвистом вырывался из легких. Мэтью так легко попался на удочку, с таким жаром воззвал к Создателю в момент кульминации, что Мадлен не могла не возгордиться. — Хочешь познакомиться с Полом и Мэриан? — предложила она, одеваясь. Он взглянул на часы. — К сожалению, мне пора бежать. В другой раз. — Но ты выполнишь свое обещание? — Конечно. — А какая роль? Он тупо посмотрел на нее. — Ты сказал, что дашь мне роль в своем фильме. — Ах да. У нас вечно недокомплект вспомогательного состава. Хорошо, что ты подвернулась. Она просияла. — У тебя действительно есть для меня роль? Он подошел к столу и нацарапал на листке бумаги телефонный номер. — Вот, позвонишь завтра утром. Спросишь Дороти. Она тебе все объяснит. Мадлен схватила листок и выбежала из комнаты. Мэриан с Полом смотрели телевизор. Громко хлопнула входная дверь, и в гостиную ворвалась Мадлен. Она пританцовывала и с победным видом размахивала клочком бумаги. — Ура! Я получила роль! Мэриан даже не потрудилась скрыть удивление. — Какую? — Еще не знаю. Завтра утром позвоню вот по этому телефону, и какая-то Дороти скажет, когда и куда прийти. — На прослушивание? — Нет. Я же сказала: он дает мне роль! — Она стащила Мэриан с дивана и закружила по комнате. — Я буду сниматься в кино! Помня историю с «Эйч-ти-ви», Мэриан все еще сомневалась. Однако она смолчала, а утром Мадлен позвонила Дороти. Та предложила ей явиться в «Холидей Инн» к семи часам утра в следующий вторник. Там будет ждать транспорт, чтобы отвезти ее на место натурных съемок. Узнав об этом, Мэриан вздохнула с облегчением и поехала на Бристольский ипподром, где ей предстояло полдня стучать на машинке.* * *
— Что ты сделала, чтобы заполучить эту роль? — поинтересовался Пол, проводив Мэриан. Мадлен была занята изучением своего гороскопа и не удостоила его взглядом, процедив сквозь зубы: — А ты как думаешь? Он усмехнулся. — Ты все-таки трахнула его? — А почему тебя это удивляет? Хочешь верь, хочешь не верь, но на свете есть настоящие мужчины — не то что некоторые. — Я, например? Мадлен оторвалась-таки от гороскопа; на губах заиграла надменная улыбка. — Будем смотреть правде в глаза: если не считать небольшой демонстрации, от твоего вот уже несколько месяцев никакого толку. Пол покатился со смеху. Она метнула в него злобный взгляд и сделала движение, чтобы подняться. — Минуточку, Мадлен! Прими дружеский совет. В наше время не заставишь мужчину ревновать, если спишь с другим. Он будет бояться подцепить заразу. Прежде чем она успела залепить ему пощечину, он схватил ее за руку и заломил за спину. — Подонок! Пол кивнул. — Интересно, Мадлен, как бы тебя назвала Мэриан, если б знала?.. Он внезапно отпустил ее и, насвистывая, вышел в прихожую. Надел пальто. И захлопнул за собой дверь. (обратно)Глава 4
Поездка в Рим была омрачена только одним обстоятельством: у Мэриан в первый же день начались месячные. Пола это только позабавило, зато сама Мэриан была в отчаянии, и Полу понадобилось все его обаяние, чтобы убедить ее: это неважно. Мадлен с трудом скрывала злорадство. Но все равно ей было невмоготу смотреть, как Пол кормит Мэриан с ложечки мороженым на Пьяцца Навона — ни дать ни взять любовники, час как из постели. А как они бросали монетки в фонтан Треви или шастали по собору святого Петра и Сикстинской капелле, рискуя свернуть себе шею, вглядываясь в росписи на стенах и потолках — одного этого было достаточно, чтобы лопнуть от злости. Ей хотелось одного — скорее вернуться домой и подготовиться ко вторнику. Фильм Мэтью Корнуолла станет поворотным пунктом в ее судьбе. Конечно, она никогда не играла — даже в драмкружке, зато пересмотрела уйму кинофильмов. Не так уж это и сложно. Она даже втайне от других закатывала диалоги со своим отражением в зеркале. Результаты оказались впечатляющими. Она покажет Мэтью Корнуоллу, что удовольствие трахать ее — действительно удовольствие! — нужно заслужить. По окончании съемок она — так и быть — позволит ему разложить ее еще разок: в обмен на обещание следующей роли или, на худой конец, протекции в столице. Поддерживая отношения с Мэтью Корнуоллом, она получит великолепный шанс стать и моделью, и актрисой одновременно! Мадлен смутно чувствовала, что ее план имеет изъяны, — но ничего, она как-нибудь выкрутится, а потом, когда разбогатеет и прославится, Пол О’Коннелл и его драгоценная Мэриан будут валяться у нее в ногах, умоляя о любви. Она пошлет их ко всем чертям. В воскресенье вечером, в половине восьмого, они вернулись в Бристоль. Шел дождь. Выйдя из автобуса, все трое бегом пустились к своему дому на Вест Мэлл. Пол открыл дверь, и Мэриан застонала при виде содержимого почтового ящика: банковское извещение, письмо от Барклая и счет за газ с красной полосой — сигналом о последнем предупреждении. Пока Мэриан доставала почту, Мадлен стала не спеша подниматься по лестнице. На первой лестничной площадке ей пришлось посторониться, чтобы пропустить спускавшегося молодого человека. Он даже не посмотрел в ее сторону, однако она невольно обернулась и проводила его взглядом. Мэриан все еще возилась с почтой; при виде незнакомца она поздоровалась с ним; он тоже пробормотал приветствие, однако, судя по всему, не узнал ее — и вообще был не в духе. Дверь с грохотом захлопнулась. Мэриан вздрогнула и подняла глаза на ошарашенную Мадлен. — Я правильно поняла — это не тот человек, которого ты видела в памелиной квартире? — Не тот. — Ты уверена? — Неужели ты думаешь, я бы забыла такого парня? Ах, Мэриан, я так надеялась, что на этот раз повезет! Все рассчитала, приготовилась работать не жалея сил, доказать всем, что я не такая уж никчемная. А теперь… — Еще докажешь. — Мэриан опустилась рядом на ступеньку и обняла кузину. — Все-таки у тебя есть роль; тебе сказали, куда и когда явиться: значит, кто бы ни был тот человек, он наверняка имеет отношение к кино. — Как я могу быть уверена? Он — самый гнусный проходимец на свете! — Должно быть, это тот, кому я отдала бандероль, — сообразила Мэриан. — Но ты говорила по телефону с Дороти? — Откуда мне знать, кто она такая? Я ее не видела. — Кажется, у меня есть кое-какие догадки на этот счет, — вмешался Пол. — Дороти — их кассир. Ты трахнула первого помощника режиссера, Филиппа Форрестера по прозвищу Вуди. Мадлен сидела без кровинки в лице. — Откуда ты знаешь? — Наутро после твоего — гм — прослушивания я столкнулся с ним в подъезде. — Ах, сволочь! Ты все это время знал — и ни слова! — Она рванулась к Полу, но Мэриан схватила ее за руку. Пол успел отступить. — Я тебя ненавижу! Гнусный интриган! — Прекрати, Мадлен! — распорядилась Мэриан. — Пол, помоги мне отвести ее домой. Проходя мимо квартиры на четвертом этаже, Мадлен взвизгнула: «Ублюдок!» — но неизвестно, относилось это к Вуди или к Полу. — Ну вот, — произнесла Мэриан, усаживая Мадлен на диван. — Пол, как все-таки это вышло? Ты столкнулся с Вуди на лестнице? Что он сказал? — Что со мной на пятом этаже живет обалденная деваха и ему не терпится взглянуть на ее кузину. Кстати, Мэриан, если и ты захочешь участвовать в съемках, для тебя тоже найдется дело во вспомогательном составе. Мэриан помрачнела. — Как же все-таки Мадлен — она может рассчитывать на роль? — Конечно. Роль статистки. — Что-что? — Статисты — это те, кто снимается в массовых сценах: прохожие, покупатели в супермаркете и все такое прочее. Они ходят, толкаются, но ничего не говорят. Это называется массовкой. Мадлен снова взвыла. — Нет! Мэриан, он врет! Нарочно выставляет меня идиоткой! Мэриан сделала Полу знак губами: «Чай», — и он отправился на кухню. Ей понадобилось немало времени, чтобы убедить Мадлен в том, что Пол сказал правду. — Тебе ведь не прислали сценарий? Ты не встречалась с режиссером? Он — и только он — распределяет роли. — Ты хочешь сказать, что этот подонок Вуди врал даже насчет вспомогательного состава? — Нет, — донеслось от двери. — Массовка находится в ведении первого помрежа. Вполне может быть, что Мэтью Корнуолл о тебе не слышал. Мэриан бросила на Пола предостерегающий взгляд. Он продолжил: — Я вот что хочу сказать. Если Корнуолл не знает, дверь перед Мэриан все еще открыта. Начав с массовки, она не замедлит обратить на себя внимание режиссера. Остальное будет зависеть от нее самой. Многие статистки — если у них есть способности или они нашли подход к режиссеру — со временем переходят в основной состав. Мэриан повернулась к кузине. — Что скажешь, Мэдди? — Поезжай туда во вторник, — настаивал Пол. — Терять нечего. Другое дело — если этот Вуди уже похвастался перед Мэтью Корнуоллом… Но даже в этом случае… Мадлен запрокинула голову и зажмурилась. — Я не могу, Мэриан. Просто не могу. — Но почему? Пол прав, ты… — Представь. Если распрекрасный Вуди запросто выложил все Полу — которого видел впервые в жизни, — значит, и Мэтью в курсе. Бьюсь об заклад, этот ублюдок раззвонил каждому встречному-поперечному. На меня будут показывать пальцами. Мэриан не могла не признать: опасения Мадлен не беспочвенны. Было решено, что она позвонит Дороти и скажет, что Мадлен занята. Она наметила сделать это в понедельник утром, но у них отключили телефон.* * *
По дороге домой от телефона-автомата Мэриан задержалась у газетного киоска — взять любимую газету Пола, которую почему-то не доставили утром. Порывшись в сумочке, Мэриан вытащила монету в пятьдесят пенсов. — Когда вы сможете оплатить счет, дорогая? — спросил киоскер. — Он уже перевалил за сорок пять фунтов. Обычно мы не… — Сколько?! Он беспомощно развел руками. — Журналы для мисс Мадлен, они дорого стоят. Мэриан опустила глаза, чтобы не выдать свой гнев. — Да, конечно. В конце недели вас устроит? — Это было бы просто замечательно. Вот ваша газета и сдача. Мэриан заторопилась домой. Холодный ветер хлестал по щекам. Что толку упрекать Мадлен: она убита этой историей с Вуди и Мэтью Корнуоллом. Но как, черт возьми, в конце недели расплатиться с мистером Биггсом? Ясно было одно: какое-то время им придется обходиться без телефона. Да, но как же Пол? В глубине души он все еще надеется на звонок от издателя. Может, вместо телефона пожертвовать электричеством? Мадлен этого не перенесет. Ни тебе телевизора, ни фена, ни приличного освещения, чтобы подкраситься… Стоп! Вот чем можно пожертвовать: наведением марафета! Никаких салонов красоты — и никаких развлечений! Тут Мэриан вспомнила про красную полосу на счете за газ, извещение об уплате за гарантийное обслуживание телевизора и банковское извещение. На сердце навалилась свинцовая тяжесть. В ушах гудело. Скорей бы прийти домой и разобраться, на каком они свете. Но у входной двери она остановилась как вкопанная, вспомнив о займе в финансовой компании. Как ей могло прийти в голову, что она сможет вернуть долг? Мэриан тяжело поднималась по лестнице. Ей так хотелось съездить в Рим, доставить Полу и Мадлен удовольствие! Однако теперь у нее не укладывалось в голове, как она могла быть такой безответственной. Нельзя даже обратиться к ним за помощью: ведь она сказала, что вернула страховку. На нее точно нашло затмение! На четвертом этаже она задержалась возле квартиры Памелы. И вдруг, не отдавая себе отчета в том, что делает, позвонила. Нужно как-нибудь объяснить Мэтью Корнуоллу… что? Но еще оставалась надежда на то, что Вуди проявил скромность. А если даже и нет, почему бы Мэтью Корнуоллу не взглянуть на Мадлен? В квартире слышались голоса. Мэриан вдруг опомнилась: она только выставит себя на посмешище! — и повернулась, чтобы продолжить путь, но было уже поздно. — Чем могу быть полезна? В дверях стояла женщина лет тридцати, в джинсах, курточке с капюшоном и большой, наброшенной на плечи, пестрой шали. Женщина улыбалась, но Мэриан почувствовала, что ей некогда. — Спасибо, ничем… Вообще-то я хотела поговорить с мистером Корнуоллом. — Мне очень жаль, у нас производственное совещание. Что ему передать — кто спрашивал? Мэриан залилась краской стыда. — Мэриан Дикон. Я живу этажом выше. — Хорошо, передам. — Женщина скользнула взглядом мимо нее, к окну на лестничной площадке. — Чертов дождь. Весь наш график — коту под хвост. Боюсь, совещание затянется до самого вечера и продлится завтра утром. Так что вам лучше подождать до конца недели. — Спасибо. Уходя, Мэриан вдруг услышала за спиной: — Как, вы сказали, вас зовут? Мэриан Дикон? Так и есть: они все в курсе!.. — Да. — Вы живете этажом выше? Мэриан кивнула с несчастным видом. Женщина многозначительно взглянула на нее и, покосившись через плечо — не слышит ли кто, — прошептала: — Между нами, вам повезло, что вы наткнулись на Вуди. Конечно, ему нет оправдания, что он позволил вам считать, что он и есть Мэтью Корнуолл, — но, судя по его словам, вы не дали ему и рта раскрыть. Но если бы вы попытались проделать этот трюк с самим Мэтью… — женщина зябко повела плечами. — Мэтью терпеть не может женщин, которые… Ну, да не в том дело. Главное — нам действительно нужны статисты, так что, если это вас еще интересует… — Вы ошиблись, — пробормотала Мэриан. — Это была моя кузина, Мадлен… — И запнулась, почувствовав себя предательницей. — Мадлен? Точно, я перепутала! — Мэтью знает? Женщина утвердительно наклонила голову. — Тогда не говорите ему, пожалуйста, что я приходила. Хорошо бы забыть эту историю. — Как хотите. Когда Мэриан пришла домой, Мадлен принимала ванну, а Пол спал. У него вот уже несколько дней наблюдались все признаки простуды — может быть, даже гриппа. На цыпочках прокравшись в спальню, Мэриан пощупала ему лоб. Пол пошевелился. — Как ты себя чувствуешь? Он попытался сесть. — Ужасно. — По-моему, у тебя температура. Вызвать врача? Пол покачал головой. Мэриан нежно поцеловала его в щеку и пошла повесить пальто. — О чем ты договорилась с Дороти? — крикнула из ванной Мадлен. Мэриан заглянула в приоткрытую дверь. — Все в порядке. У них изменился график, так что ты ничего не потеряла. Как ты? Мадлен передернула плечами. — А ты как думаешь? Ни в чем не везет! А теперь, когда я видела Мэтью Корнуолла… Если бы он еще не был так дьявольски красив! Господи, сколько я потеряла! Рядом с ним даже Пол… Как по-твоему, я здорово все испортила? — Боюсь, что да. Но… внешность еще ни о чем не говорит. Может, он мерзавец? Или счастливо женат. Мадлен высунула из пены длинную ногу и подвергла ее критическому осмотру. — Тебе не кажется, что я растолстела? — Нет… Мэдди, нам нужно поговорить о деньгах. — Фу! — с отвращением фыркнула Мадлен и исчезла под водой. Мэриан подождала, пока она вынырнет. — Ты не могла бы поработать еще пару вечеров в неделю? Наши дела оказались хуже, чем я предполагала. — А кто виноват? — Я. И ты. — И как же ты собираешься поправлять положение? — Подпишу еще один контракт на машинописные работы. Может, удастся подработать в универмаге. В банке предупредили, чтобы я больше не выписывала чеков — счет на нуле. Мадлен села, расплескивая воду. — Не может быть. Когда они сказали? — На прошлой неделе. Сколько у тебя денег? — В банке — ноль целых ноль десятых. Все мои финансы — в кошельке. — Давай, когда закончишь, сядем и посчитаем. — А Пол? — У него грипп. К тому же его деньги у меня. — Как это по-семейному! Дай полотенце. А потом, если мы можем себя это позволить, я бы выпила чашку чаю. Положение оказалось катастрофическим. У них набралось около сотни фунтов на двоих, то есть на одиннадцать фунтов меньше, чем требовалось на оплату всех счетов, не считая долга финансовой компании. — Не обязательно сразу всем платить, — заявила Мадлен. — Можно по очереди. — Да, но как быть с газом и электричеством? И за то, и за другое пришли «красные» счета. И я обещала мистеру Биггсу рассчитаться в конце недели. А питание? Квартира? — Господи! — простонала Мадлен. — Если так и дальше пойдет, мы кончим на панели. Есть только один выход. Мэриан отрицательно покачала головой. — Я не могу больше приставать к маме. Мы и так вытянули почти все, что у нее было. — Что нам еще остается? — Не знаю. За этим последовали три кошмарные недели. Мэриан съездила в Юго-Западную электрическую компанию и добилась разрешения платить по частям. Мадлен провернула тот же фокус с газовой компанией. Они проигнорировали требование об уплате за квартиру, всячески избегали мистера Биггса и послали во все кредитные компании по десять фунтов. Никому не говоря, Мэриан продолжала заполнять карточки футбольного тотализатора и отправлять деньги по почте в надежде на чудо. Спустя неделю после выздоровления Пола оказалось, что и Мэриан подцепила вирус, а за ней Мадлен, так что доходы резко сократились. Мэриан не спала по ночам, а мысль о том, что она пропустила первый взнос за банковскую ссуду, наполняла ее леденящим ужасом. В конце концов она не выдержала — ей было просто необходимо с кем-нибудь поделиться. Вот только с Мадлен или с Полом? Это решилось само собой: Пол пришел с почты и застал ее в слезах. — Остается только одно, — сказал он, узнав, в чем дело. — Я должен устроиться на работу. — А твой роман? — Придется подождать. Нет, Мэриан, молчи. Ты ведь залезла в долги, чтобы доставить мне удовольствие, теперь моя очередь отплатить добром. Я и так сижу на твоей шее. — Неправда! Ты каждую неделю отдаешь мне пособие по безработице — это вдвое больше моего заработка. — Тем не менее, я намерен искать работу. — Он обнял Мэриан и крепко прижал к себе. — Глупышка, надо же было так влипнуть — и все из-за меня. Но я люблю тебя. И собираюсь доказать это, как только Мадлен выздоровеет и уберется из спальни.* * *
— Сто тысяч фунтов, — повторила Мэриан, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал бодро. Мадлен подняла щеточки густо накрашенных ресниц; фиалковые глаза обдали Мэриан презрением. — Заткнись! — И стала яростно тереть пальцем запотевшее стекло. Они сидели в кафе. За окном, сутулясь от холода, сновали прохожие; ветер рвал зонтики из рук. Мэриан тревожно вглядывалась во все еще бледное после гриппа лицо кузины. В последнее время та еще больше ожесточилась. Кажется, на сей раз и детская игра не спасет. Она оглядела зал. Несколько посетителей-мужчин пялились на Мадлен, но та была слишком подавлена, чтобы обращать на кого-то внимание. Неожиданно она забарабанила ложечкой по сахарнице. — Деньги, деньги, деньги! Торчим тут как нищенки! — Что-нибудь еще? Мадлен подняла голову и увидела официанта с блокнотом в руке. Но едва она собралась мотнуть головой, как вмешалась Мэриан. — Еще чашку кофе, пожалуйста. Перед тем как удалиться, официант взял пустые чашки и протер влажным полотенцем клеенку, служившую здесь скатертью. Мадлен устремила на Мэриан выжидательный взгляд, но та упорно смотрела в окно. — Что это на тебя нашло? — не выдержала Мадлен. — Ты не хуже меня знаешь, что у нас нет денег заплатить за кофе. — Нельзя же сидеть и ничего не заказывать. Нас просто вышвырнут на улицу. А Пол еще не вернулся. — Мэриан, мы же все рассчитали до последнего пенни. Одна порция на двоих и по чашке кофе. Ровно пять фунтов — все, чем мы располагаем. Где ты возьмешь еще восемьдесят пенсов? Не дождавшись ответа, Мадлен вскочила из-за стола. — Все, я ухожу. Разбирайся сама! — Сядь, Мэдди. — Отмени кофе. Мэриан опустила глаза и сжала в одном кулачке солонку, а в другом — перечницу. — Какой смысл? У нас нет денег даже на еду, лишняя чашка кофе ничего не меняет. Мадлен опустилась на стул. — Купила, да? Так твою мать! Купила? Мэриан кивнула. — Кретинка! У нас отключили телефон, нам нечем платить за квартиру, мы по уши в счетах, нет даже денег на еду, а ты тратишь последние пять фунтов на чертов тотализатор! — Вдруг я выиграю? Мадлен замахнулась, чтобы залепить ей пощечину, но Мэриан успела уклониться, и рука рассекла воздух. — Выиграешь, да? Это когда же ты выигрывала? Вечная неудачница! Глаза Мэриан наполнились слезами. Все было так плохо, что она уже не знала, за какую соломинку уцепиться. Покупка карточки футбольного тотализатора была своего рода вызовом судьбе, мимолетной радостью, от которой оставались горькие сожаления… Мадлен вздохнула. — Ладно, извини. Кончай реветь. Мы в одной лодке. Ты знаешь, я не хотела… — Чего не хотела? Они заметили Пола, только когда он подошел к столику. С белокурых волос на воротник пальто стекали дождевые капли. Черные брови были насуплены. Наконец он улыбнулся и заправил Мэриан за уши выбившуюся прядку волос. У Мадлен все перевернулось в груди. Заметив, что Мэриан плачет, Пол опустился на свободный стул. — Ну как? — спросила Мэриан, прежде чем он успел поинтересоваться, почему она плачет. Он вытер лицо бумажной салфеткой. — Пока секретарша искала рукопись, у меня кончились деньги. — Пол старался говорить небрежно, но Мэриан понимала, как он разочарован. Прошло два месяца с тех пор, как он отвез рукопись в Лондон, — и ни ответа, ни привета. Она хотела что-то сказать, но он приложил к ее губам палец. — Как насчет чашки кофе? — Мэриан ухнула все наши деньги на футбольный тотализатор, — ответила Мадлен, словно выплюнула. Господи, только бы Пол ее не возненавидел! Но он улыбнулся и взял руку Мэриан в свои ладони. — Ну что мне с тобой делать? Не в силах больше это терпеть, Мадлен вскочила на ноги и прижала к груди сумочку. — Пока вы тут милуетесь и вам плевать на остальных, я собираюсь оплатить этот счет. А ты, Мэриан Дикон, завтра же отправляйся в Девон клянчить деньги у матери. Лицо Мэриан снова стало несчастным. — А деньги на проезд? — Выпишешь чек и скажешь, что потеряла карточку. И не смей возвращаться, пока… Мэриан осенило: — Пол! Я ведь смогу оттуда позвонить редактору! Давясь злобой, Мадлен метнулась через весь зал. Интересно, подумал Пол, следя за ней краешком глаза, удовольствуется ли владелец кафе одним лишь созерцанием ее роскошного бюста? (обратно)Глава 5
Сморщенное мамино лицо сияло от счастья. Наливая им обеим чай из «парадного» фарфорового чайника, мать щебетала о своей новой работе школьной уборщицы. — Помнишь твою старую учительницу, миссис Уэбб? — Селия накрыла чайник чехлом и принялась разрезать домашний пирог с дягилем. — Она все время спрашивает о вас обеих. От волнения пирог не лез в горло. Мэриан знала: в последнее время мама редко печет пироги — не для кого. С появлением Пола она уделяла матери мало внимания. Чувство вины усугублялось воспоминанием о том, что Мадлен две недели уговаривала ее совершить эту поездку. Комната не изменилась: все такая же тесная, заставленная мебелью, с бумажными обоями в розовый цветочек, безделушками и фотографиями. Старое кресло отца словно ждало хозяина. Мать по привычке достала из кармана фартука тряпочку и протерла каминную решетку. Несмотря на свой возраст — а он приближался к шестидесяти, — Селия была очень опрятной, каждую пятницу причесывалась у парикмахера и раз в две недели надевала выходное платье, чтобы отправиться в женский клуб поиграть в бинго. — Небось, мечтаешь о своем молодом человеке? — предположила Селия, выходя из кухни и вытирая руки посудным полотенцем. — Когда же ты нас познакомишь? — Вот, тут у меня несколько фотографий. — Мэриан открыла сумочку. — Снято в Риме. — Ах да, вы же ездили туда втроем. Ну-ка, дай посмотреть. — Мать долго разглядывала снимки и наконец подняла голову. На напудренных щеках проступили розовые пятна. — Рим — это в Италии? — Да, мама. Глаза у Селии мечтательно расширились. — Италия. Очень красиво. Немного неухоженно — потеки на стенах, с крыш сыплется черепица… Мэриан, это и есть твой кавалер? — Да, мама, это Пол. — Ну что ж, он очень красив. Интересно, что сказал бы папа… Сколько ему лет? — Тридцать. — Староват для тебя. — Мама, летом мне стукнет двадцать три. — А… Да, конечно. Так у вас серьезно? — Ну… — Как насчет свадебных колоколов? Мэриан улыбнулась. — Поживем — увидим. Селия снова уткнулась в фотографию. — Что же ты не взяла его с собой? — Хочешь, позвоню — он примчится утренним поездом! У матери заблестели глаза. — Давай, звони. Пусть миссис Купер будет о чем посплетничать. А я пока поставлю котлеты. Уже в прихожей Мэриан спохватилась: телефон-то отключен. И потом, у Пола нет денег на билет, а она еще не сказала матери, зачем пожаловала. Она села на нижнюю ступеньку и уронила голову на руки. Господи, как все плохо. У нее нет постоянной работы; Мадлен не оправилась от гриппа; последние две недели только пособие Пола спасало их от голода. Она вернулась в гостиную. Засунув руки в карманы передника, Селия безмятежно смотрела куда-то поверх камина. При виде дочери в этих глазах отразилось такое радостное ожидание, что у Мэриан сжалось сердце. — Мам, я не могу позвонить. У нас отключили телефон. — Как это? — Мы не заплатили по счету. — Вон оно что… — Селия встала и направилась к комоду. По дороге она ласково потрепала Мэриан по руке. — Глупышка, тебе следовало сразу сказать. Вот, значит, зачем ты приехала. Ну что ж, посмотрим, что можно сделать. — Она выдвинула ящик и достала кошелек. — Мама… Дело не в одном телефоне. Все гораздо хуже. Селия остолбенела. А когда Мэриан выложила все как на духу, разволновалась. — Мы уже семь недель не платим за квартиру; не осталось ни единого пенни. Селия укоризненно покачала головой. — Надо же, какая беда. А ведь ты получила высшее образование. Ну да ничего не поделаешь. С утра пораньше сходим в банк, снимем немного денег. Ах, дочка, что сказал бы твой бедный папа? Мэриан отлично представляла себе, что бы сказал папа: «Что ты себе думаешь — тянешь из матери последнее, в твоем-то возрасте? Ты уже выбрала почти всю ее страховку, оставь хоть немного на черный день». Вот что сказал бы папа — и под каждым словом она могла бы подписаться. «На что ей тратить деньги? — Это уже Мадлен. — Ей даже приятно о нас заботиться. Так она чувствует себя нужной». Выйдя из банка, Селия протянула дочери конверт. — Я оставила себе десять фунтов, не хотела закрывать счет. Но это уже все, Мэриан, придется вам научиться самим зарабатывать на жизнь. Мэриан была готова провалиться сквозь землю. Как можно отбирать у матери последнее? — Нет, мам. Возьми его обратно. Я так не могу. — Не выдумывай. Вы попали в беду. Это поможет вам продержаться. А что с работой? Мэдди по-прежнему разносит поздравительные открытки? — Мэриан кивнула, стараясь не встречаться с матерью взглядом. — А ты? Все еще в агентстве? Значит, пора научиться жить по средствам. Скажи Мадлен, пусть позвонит мне с переговорного пункта. Она мне почти никогда не звонит. Да и ты, мадам. Ладно, идем, попьем чаю перед дорогой. Глаза Мэриан увлажнились. — Ты — лучшая в мире мама! — Перестань, дурашка. — Можно, я останусь еще на сутки? — Конечно. Что ж ты спрашиваешь — это твой дом. Ну ладно, пойду чистить картошку. А ты хорошенько спрячь деньги. И не забудь, если что-нибудь останется, поделиться с Мадлен. — Да, конечно. Мэриан сделала шаг к лестнице и вдруг оглянулась. Мама смотрела вслед. И в ее душе словно отворились шлюзы — она заключила мать в объятия и расплакалась. — Я люблю тебя, мамочка! — Знаю, моя хорошая. — Селия ласково погладила дочь по голове.* * *
Мадлен скосила глаза на отражение Пола в зеркале. Он сидел на кровати; одеяло почти не скрывало наготу. — Ты имеешь в виду — украсть? Он благосклонно улыбнулся и заложил руки за голову. Мадлен посмотрела на Пола в упор, и в этом взгляде — впервые за все время, что они провели вместе, — сквозило желание. Пол сидел, прикусив нижнюю губу и ласково щурясь — так он недавно смотрел на Мэриан. Мадлен вздрогнула, но потом — то ли подействовало неприкрытое желание в глазах Пола, то ли показалось заманчивым его предложение — ухмыльнулась. — Ты шутишь? Он перевел взгляд на лежавший на подушке чек. — «Выдайте мисс М.Дикон семьсот пятьдесят тысяч фунтов». Мадлен замерла. Неужели у Пола зародилась та же мысль, что и у нее самой — позавчера, когда нагрянули двое из комитета футбольного тотализатора? — Мисс Дикон? — осведомился один. Естественно, она сказала «да», потому что это соответствовало истине. И только узнав о цели их визита, сообразила, что им нужна Мэриан. Конечно, ей следовало тотчас открыть им глаза, но она продолжала внимать их объяснениям: мол, они уважают ее желание избежать огласки. На днях к ней зайдет их финансовый советник. Мадлен была слишком ошарашена, чтобы вступать в дискуссии. В голове крутилась одна-единственная мысль: если бы она не отправила Мэриан к матери… Дальше этого пока не шло. Взгляд Пола вернул ее в сегодняшний день. Внизу что-то грохнуло: Мэтью Корнуолл закрыл окно. Но Мадлен было не до Мэтью. Если она правильно поняла Пола, ей больше не нужен никакой Мэтью Корнуолл. Но… Этого не может быть! Это уж слишком крутой поворот судьбы. Нельзя взять и присвоить чек, не сказав Мэриан. Или можно? Она даже не узнает… Пол зевнул; его забавляла ее внутренняя борьба. — Мэриан поделилась бы с нами, — пробормотала Мадлен. — Да, она поделилась бы. Мадлен перевела взгляд на чек — и опять на Пола. Нахлынули воспоминания о том, что он проделывал с ней в эти двое суток. И она разразилась хриплым, булькающим смехом. Теперь у нее есть Пол, и деньги, и все на свете! Заметив ее вставшие торчком соски, Пол откинул одеяло и поманил ее согнутым пальцем. Но прежде чем подойти, она решила убедиться: — Что ты скажешь Мэриан? Он пожал плечами. — Зачем что-то говорить? — Она думает, ты ее любишь. — Да, она так думает. — А на самом деле? Он придирчиво изучал ее всю — от пальцев ног до макушки. Трудно сказать, кто из них красивее, она или Пол, но, чтобы он не забывал о ее физическом совершенстве, Мадлен распустила поясок; халат упал на пол… Только два часа спустя они окончательно пришли в себя. Одетая, Мадлен ждала Пола в гостиной, где он полчаса назад взял ее прямо в кресле, и разглядывала чек. Алчность заполнила все ее существо, парализовала волю. У нее есть Пол! Отныне он — ее собственность, так же как и эти семьсот пятьдесят тысяч фунтов! Она приняла решение. Еще раз хорошенько все взвесила, проверяя — не заговорит ли в ней совесть и не разобьет ли вдребезги ее планы? Этого не случилось. Будущее все еще виделось нечетко, как в тумане, но воображение уже переносило ее с континента на континент. Она попыталась представить себе их отъезд из Бристоля — и не смогла. Но и оставаться нельзя. Их теперь трое: Пол, она и выигранные мисс М.Дикон — мисс Мэриан Дикон — семьсот пятьдесят тысяч. В дверях появился чем-то озабоченный Пол. Подошел к пишущей машинке, заправил чистый лист бумаги. И сказал, отходя в сторону: — Может, напишешь ей записку? — Это ты у нас писатель! — А ты — член семьи. — А тебя она любит. Пол сел и закрыл лицо руками. — В чем дело? — занервничала Мадлен. Он сидел так уже несколько минут. Пол отнял руки, и ее поразило выражение его лица — смесь ярости и боли. — Посмотри на меня, Мадлен, хотя бы раз в жизни загляни мне в душу! Видишь, что ты наделала? Твоя красота разрывает мне сердце! Но если бы ты знала, как я ненавижу себя за эту слабость, за то, что безумно хочу тебя — жить не могу! Не представляю, что со мной случилось, когда я лег с тобой в постель, но… ты поймала меня, Мадлен. Ты этого добивалась? Атмосфера в комнате стала густой от эмоций. Мадлен набрала в легкие побольше воздуху и задержала дыхание, чтобы пропитаться ими. Пол преклоняется перед ее красотой, страдает, признает ее власть над собой! — Да, этого! Но теперь мне нужно гораздо больше!* * *
— А вот и я! — крикнула Мэриан, закрывая за собой дверь и снимая пальто. И вдруг заметила пустую вешалку. Какое разочарование! Она отнесла дорожную сумку в спальню и пошла в гостиную. Фу, холодина! Должно быть, они ушли рано утром: камин сегодня явно не зажигали. Или у них отключили газ?.. Слава Богу, не отключили. В гостиной ее внимание привлек стол, на котором явно чего-то не хватало. Машинки Пола! Куда он ее убрал? И почему? Превозмогая страх, Мэриан ринулась в спальню, рванула дверцу шифоньера. Там болтались одни лишь пустые вешалки. Мэриан попятилась, глаза округлились. Она побрела в ванную, где Пол держал бритву и зубную щетку. Пусто. Она вернулась в гостиную и уставилась на стол — словно надеясь, что машинка каким-то чудом окажется на месте. — Пол, — прошептала она. И громче: — ПОЛ! И как будто открылись шлюзы, выпуская на волю затопившее ее отчаяние. Она рухнула на колени и обхватила руками голову, словно затем, чтобы унять невыносимую боль. — Нет! Умоляю, Господи! Сгорбив плечи, она уткнулась головой в сиденье дивана. А когда подняла лицо, оно приняло пепельно-серый оттенок; вокруг глаз образовались черные тени. Ее окружали родные, знакомые вещи: диванные подушки, ковер, газовый камин, безжизненный экран телевизора… Она услышала беспечный смех Пола и резко обернулась. Из-за распахнутой двери спальни лились потоки солнечного света. И — ни души. — Не может быть! Мэдди! О Мэдди, где же ты? Час проходил за часом, а она по-прежнему сидела на полу в скорбном ожидании. Время от времени по щеке скатывалась одинокая слеза; ей было слишком тяжело, чтобы заплакать по-настоящему. И только после полуночи она заставила себя подняться. Кое-как дотащилась до окна. Уставила взор в черную пустыню неба и долго стояла, боясь пошевелиться. Боясь думать. Чувствовать. Знать. Наконец она сделала над собой усилие и, словно в трансе, побрела в спальню. Включила свет и, ослепленная, захлопала ресницами. С трудом и предосторожностями, чтобы не упасть, доплелась до шифоньера. Потянула дверцу. И ей открылась страшная правда.* * *
Следующие двое суток Мэриан не могла ни есть, ни спать — только сидела на краю кровати, не в силах пошевелиться. Каждое движение причиняло адскую боль. Не хотелось жить. Любой шорох на лестнице заставлял ее вскидывать глаза на дверь, но никто не приходил. Она обыскала всю квартиру — записки не было. Почта не принесла ни одного письма. На третий день Мэриан умылась, оделась и пошла платить за телефон. Но и после этого никто не позвонил. Она сходила в библиотеку, позвонила в агентство, где работала Мадлен, даже заглянула в «Шато». Их никто не видел. Обратный путь в Клифтон лежал мимо музея. Мэриан битый час простояла перед ним на улице. Кругом кипела жизнь, а ей остались одни только муки одиночества. Она пошла в банк, погасила все долги. Купила в супермаркете хлеба и банку фасоли, а в газетном киоске — «Индепендент» и карточку футбольного тотализатора. Она стала ходить на работу, а потом часами слонялась по улицам, страшась вернуться в пустую, холодную квартиру. Постепенно данные матерью деньги растаяли. Пора было брать себя в руки. В «Шато» Джеки и Шарон познакомили ее с Джейни — той было негде жить. — Может, тебе будет легче иметь кого-нибудь рядом? — посочувствовала Джеки. — Пусть она поживет у тебя. — Ты точно не знаешь, куда делась Мэдди? Джеки покачала головой и проглотила комок. Никогда еще никто не смотрел на нее таким затравленным взглядом. После того как Мэриан с Джейни ушли, Шарон спросила: — Думаешь, она выдержит? — Не знаю. Но за ней нужно присматривать. — Почему? — Как бы она не сделала что-нибудь такое, о чем мы потом горько пожалеем. — Что ты имеешь в виду? Джеки посмотрела подруге в глаза. — Они были всей ее жизнью. Боюсь, если они не вернутся, Мэриан покончит с собой.* * *
Очутившись в гостиной, Джейни достала кошелек. — Вот. Двухсот фунтов хватит? Мэриан кивнула. — Хочешь кофе? — Конечно. Могу сама сварить. Надо же налаживать отношения. На мгновение Мэриан показалось, что перед ней стоит Мадлен. Но нет — это была Джейни. — Не нужно, я сама. На кухне ей вдруг стало нечем дышать — словно незримая рука сдавила горло. — Господи! Дай мне силы не сломаться! — Ты что-то сказала? — спросила Джейни, входя в кухню с портативным магнитофоном. Мэриан покачала головой. — Сахару положить? — Нет. Как тебе музыка? Я так просто балдею! (обратно)Глава 6
В семь пятнадцать утра Мэтью Корнуолл откинул одеяло, пнул болтавшиеся под ногами туфли и с грохотом закрыл окно. С недавнего времени он жил холостяком и обзавелся кое-какими новыми привычками, а сейчас, когда съемки пришлось приостановить, и подавно пристрастился начинать день не спеша, потихоньку-полегоньку. Ему нравилось спать с открытым окном — этой роскоши он был лишен все годы женатой жизни. Однако удовольствие было отравлено постоянно преследующим его кошмаром — громоподобной, сотрясающей стены музыкой. Разница была только в том, что теперь адская какофония доносилась не из соседней спальни, а из квартиры на пятом этаже. Неужели норма чужого вмешательства в его жизнь еще не выполнена? Он стал ненавидеть людей. Во всяком случае, таково было его настроение этим утром. Стоит ли удивляться, что он изо всех сил грохнул створкой окна: хоть какая-то разрядка. Стекло задребезжало, но не разбилось. Проклиная себя за срыв (который, кстати, не принес ни малейшей пользы), Мэтью вернулся в спальню. В сущности, это был дамский будуар, где пенились сливочные, бело-розовые шелка и кружева в стиле «ретро». Стеганые пуховые покрывала идеально гармонировали с гардинами, а гардины — с обоями, платяными шкафами, абажурами и картинными рамами. Наручным часам Мэтью и рассыпанной на ночной тумбочке мелочи явно было неуютно среди пуховок и флаконов. Еще более неуместным казалось в этой обстановке обнаженное тело мужчины. Однако какие могут быть претензии? Хорошо уже и то, что эта дамочка сдала ему квартиру, пока сама на съемках в Венгрии. Он прожил здесь больше двух месяцев, но еще не привык к одиночеству. Не то чтобы оно его тяготило. Если бы не хамство обитателей квартиры на пятом этаже, он наслаждался бы, воображая себя — хотя бы на несколько часов — единственным уцелевшим после какой-нибудь катастрофы жителем Земли. Потребность в уединении явилась следствием неудачного брака, ставшего постоянным источником раздражения. Трудно сказать, когда именно произошло превращение Кэтлин в настоящую мегеру. Он ли был тому причиной? Мэтью знал одно: он больше не в силах выносить вульгарность жены. Ее грубый выговор кокни[4] скрежетом отзывался в мозгу. Кажется, когда они только поженились, этого не было. Впрочем, он уже плохо помнил, что тогда было. Помнил только, что готовился стать музыкантом и в девятнадцать лет едва не подписал выгодный контракт на поездку в Германию. Но Кэтлин забеременела, и не успел он глазом моргнуть, как уже стоял перед алтарем; а дальше — медовый месяц в Испании. Прощай, Германия, прощай, выгодный контракт. Впрочем, сожалений не было: посвяти себя Мэтью музыке, он не стал бы режиссером. С тех пор прошло двадцать лет. Он оставался с Кэтлин только ради детей и потому, что человеку с его загруженностью и честолюбием было легче уступить, чем сражаться со вздорной мегерой. Он часто изменял жене; ее реакция в тех случаях, когда удавалось что-либо разнюхать, была просто ужасной. Потом он сделал новое открытие: дети, которых он обожал, превратились в неуправляемых монстров. В доме не разговаривали — только орали, или хохотали, или горланили, или на полную мощность врубали рок. Рев мотоциклов и автомобилей без глушителей сопровождался ревом маленьких чудовищ — его детей и их дружков, а также визгом вооруженной пылесосом жены. Ненависть к собственной семье росла как на дрожжах. И наконец он ушел от них — полгода назад, перед своим тридцать девятым днем рождения. В то время он снимал фильм в Лондоне, недалеко от дома, и Кэтлин продолжала как ни в чем не бывало являться на место съемок (нередко в компании своей матери) с термосом горячего супа и последними сплетнями. У него волосы вставали дыбом при их появлении. Чего он не мог понять, так это поведения других членов съемочной группы: они делали все, чтобы дамы чувствовали себя желанными гостьями. А впрочем, чего же тут не понимать? Мэтью был режиссером, а участь режиссера, как ни завидна, имеет свои издержки: его окружает лесть. Или он превратился в циника? Мэтью усмехнулся и, проведя ладонями по смуглому лицу, которое с возрастом стало еще красивее, направился в ванную. Нет, какой же он циник, простоочень устал. А сегодня ему предстоит исключительно трудная встреча. Вот еще один недостаток его профессии: подлинная власть — у продюсера. А продюсер — тот самый, что сегодня специально приезжает в Бристоль, чтобы увидеться с ним, пока он снимает художественный фильм для четвертого канала, — уж точно заставит его поплясать, а может быть, и спеть, и походить на задних лапках, и покувыркаться через голову. Возможно, Стефани Райдер, получившая право на постановку «Исчезновения», даже потребует снова спать с ней. Но нет, это не в ее духе. Звонок телефона заставил его выскочить из-под душа. — Мэтью, ты дома? — Нет, Вуди, в Изумрудном городе. — Отлично. Когда возвращаешься? Пошлю кого-нибудь встретить твой воздушный шар. — Неостроумно, Вуди. Ближе к делу. — У нас проблема. Из числа тех, с которыми только вам, сэр, под силу справиться. Дело в… — Сэнди. Что с ней опять случилось? — Вы не догадываетесь? — Может, и догадываюсь, но всегда остается надежда на что-нибудь новенькое. — Не хочется тебя разочаровывать, но ты прав. Можешь приехать? Мэтью по привычке взглянул на запястье — часов не оказалось. — Без четверти восемь, — подсказал ясновидящий Вуди. — Ты только что выскочил из-под душа, чтобы ответить на звонок, и сейчас ломаешь голову, успеешь ли сюда перед встречей в «Хилтоне». — Ловко! Ну и как — успею? — Нет. — Тогда какого… — Я обещал. Меня нужно было бы гнать в три шеи, если бы я не докладывал режиссеру о капризах звезды. — То есть, если я не приеду, она угрожает наклюкаться? Черт, и почему они все из одного теста? — Увы! — Передай ей: «Счастливо опохмелиться!» Вуди гоготнул. — Ты это серьезно? — Вполне. Мы показываем ее мерзкую рожу во весь экран, а если она не способна отвечать за себя, при чем тут мы? — К тому же Стефани Райдер сделает из тебя отбивную. — Ты допрыгаешься. Ладно, скажи Сэнди, я приеду вовремя, чтобы сводить ее на ланч. Пусть Иан закажет столик у Харви. Да, ничего не скажешь, веселенький выходной! — Ричард Коллинз в двенадцать улетает в Лалсгейт. Возьмешь его с собой на ланч? — Был бы ты так умен, как притворяешься, не задавал бы таких вопросов. Закажи нам отдельный кабинет в «Холидей-Инн» на три часа, а до тех пор пусть не попадается мне на глаза. Устрой забастовку авиадиспетчеров или что-нибудь в этом роде. — Запросто. А вот ради отдельного кабинета придется попотеть. Наверху врубили рок. Мэтью прорычал в трубку: — До трех часов пусть не попадается мне на глаза — это все, о чем я прошу. Господи! Два продюсера в один день — это уж слишком. — Позвонить Кэтлин, чтобы приехала тебя утешить? — Еще одно такое предложение, и можешь обращаться на биржу труда. — Есть, сэр. — Нет, погоди. Передай Сэнди с рук на руки той затюканной костюмерше и заезжай за мной. — Уже лечу. Ровно в половине девятого — наверху как раз наступил антракт — с улицы донесся звук автомобильного сигнала. Мэтью уже оделся. Джинсы, кроссовки, темно-синий джемпер поверх белой сорочки и черный кожаный пиджак. Черные волосы еще не высохли и явно нуждались в стрижке; бритва работала отвратительно. Ничего, Стефани видела его и не в таком виде. Пусть не думает, что он специально для нее наводит лоск. Он открыл дверь и, прежде чем захлопнуть, проверил карманы — не забыл ли ключ. Вуди просигналил еще раз. Мэтью опрометью кинулся вниз по лестнице. Как ему удалось не свернуть себе шею, одному Богу известно, зато девушке, на которую он налетел, крепко досталось. — Какого… Что вы здесь делаете? Мэриан обхватила голову руками. Потом стала медленно подниматься, держась за перила. — Извините. — Вам плохо? — Нет-нет, все в порядке. — Она откинула назад жидкие, мышиного цвета волосы, и Мэтью увидел опухшие красные глаза, бледные как смерть щеки и искусанные в кровь губы. Казалось, она вот-вот расплачется. Мэтью вздохнул и, стараясь не выдать удивление и досаду, шагнул навстречу. — Вы живете наверху? Мэриан кивнула. — Хотите пожаловаться на шум? Жалуйтесь. Если вам удастся заставить ее перестать, я только спасибо скажу. Вуди просигналил в третий раз. Мэтью лихорадочно думал. Нельзя оставлять девушку в таком состоянии. А с другой стороны, не хватало разыгрывать из себя святого отца. — Слушайте, я спешу… Но эти концерты… Нужно что-то делать. Я вернусь около шести. Заходите, подумаем, что можно сделать. В опухших глазах Мэриан вспыхнула такая благодарность, что он пожалел о своем предложении. — Правда? Я… — Около шести, — перебил Мэтью и сбежал вниз.* * *
Вездесущий и всемогущий, а также преданный первый помощник режиссера по прозвищу Вуди, не сбавляя скорости несся в своем «порше» по булыжной мостовой и наконец затормозил перед отелем «Хилтон». Мэтью отдал кое-какие распоряжения, гоготнул в ответ на очередную хохму Вуди и поднялся на крыльцо. Его появление вызвало ажиотаж среди отутюженного и накрахмаленного персонала гостиницы. В прошлом году, после выхода его фильма «Месье и мадемуазель», пресса приложила все усилия, чтобы сделать из Мэтью Корнуолла что-то вроде секс-символа. Он пришел в ужас — но его смущение и грубость по отношению к репортерам только способствовали его окончательному превращению в звезду. Особый интерес вызывала его интимная жизнь, которую он, будучи по натуре замкнутым, старательно прятал от посторонних глаз. Тем не менее пресса не сдавалась и восполняла недостаток информации домыслами. Обладай Мэтью хотя бы половиной приписываемого ему темперамента, он мог бы выступать в цирке — как неоднократно обещал Кэтлин, когда она звонила, чтобы обвинить его во всех смертных грехах. Женщина-администратор лично провела его через фойе. Она распространяла терпкий запах духов и ни на секунду не закрывала рот. Наконец они остановились перед дверью без таблички, и мисс Картер — он прочел фамилию на нагрудной табличке — посторонилась, чтобы пропустить его вперед. А когда он поблагодарил ее, так зазывно улыбнулась, что он покраснел. В комнате никого не было — ничего удивительного. Обычный продюсерский приемчик: пусть подождут! Однако его поразили размеры комнаты. Это был настоящий конференц-зал: на длинных столах ждали блокноты, графины с водой и множество стаканов. Он поискал глазами видеомагнитофон — и, разумеется, нашел. Рядом высилась горка кассет. Он взял одну посмотреть, но она оказалась закодированной. Прошло несколько минут. Заложив руки в карманы, Мэтью мерил шагами комнату и гадал: почему она выбрала конференц-зал? Насколько ему известно, встреча должна была проходить с глазу на глаз. Он представил себе, как, взгромоздившись на стол, выкаблучивается перед аудиторией, состоящей из финансистов, исполнительных директоров, сценаристов и сопродюсеров, — и наконец падает перед ними на колени, умоляя доверить ему эту постановку. И видео… Может, когда он в последний раз был со Стефани, их снимали скрытой камерой и теперь она хочет прокрутить пленку, кадр за кадром, бесстрастно наблюдая, как он теряет остатки достоинства? Он засмеялся: «Кажется, у меня разыгралось воображение». Сколько лет он запрещал себе вспоминать ту ночь!.. Наконец послышались шаги. Дверь отворилась, и вошла она — Стефани Райдер. Его бывший помощник по производству, с которым он работал вплоть до того… Она улыбнулась. — Привет, Мэтью. За ее спиной болтались с нарочитой небрежностью собранные в узел волосы. Эта прическа шла ей больше, чем завивка. Стефани не злоупотребляла косметикой и больше не пыталась скрыть россыпь золотых веснушек, но зеленые с поволокой глаза и сочные губы были все так же соблазнительны. Она поставила на стол «дипломат» и, сняв пальто, осталась в темно-синем брючном костюме и белой блузке, схваченной у горла брошкой из искусственных бриллиантов. Все было новым — и стиль, и одежда. Он протянул было руку, но она привстала на цыпочки и чмокнула его в щеку. — Рада тебя видеть. Нет, правда. Ты выглядишь таким… щеголем. Как поживаешь? — Потихоньку. А ты? — Я тоже. Подтекст был ясен, и ему стоило громадных усилий удержаться и не заключить ее в объятия. Господи! Этого он никак не ожидал. Через столько лет она все еще… — Давай присядем. — Да, конечно. Кого мы ждем? — Ждем? Ах да, этот зал… У них не было ни одной свободной комнаты. Мы должны управиться до половины двенадцатого. Как думаешь, хватит времени? Мэтью пожал плечами. — Ты — босс. Стефани открыла «дипломат». Наблюдая за ее движениями, почти физически ощущая ее присутствие, он не мог не вспомнить атласную нежность ее кожи, щедрость губ, жизнелюбие и энергию. Все это когда-то принадлежало ему — и от всего этого он отказался. — Не смотри так. Мэтью отвел взгляд и провел рукой по подбородку. Черт, нужно было еще помучиться. — Ну а ты как? — спросил он. — Идешь в гору? Я смотрел все твои фильмы. И постановки на «Би-би-си». Кажется, для одной ты сама написала сценарий? — В соавторстве с Бронвен. Стефани немного постарела, но в отличие от большинства женщин стала еще эффектнее. Сколько же ей сейчас? Тридцать восемь? Нет, наверное, тридцать девять. Ее день рождения — через десять дней после его. Сразу после их разрыва она прислала ему открытку. Он не ответил тем же, посчитав, что чем решительнее он с ней порвет, тем легче им обоим будет потом. Но легче не стало. Им пришлось еще три недели работать вместе, а потом она уехала, оставив пустой кабинет и зияющую пустоту в его жизни. — Хочешь вспомнить прошлое или не стоит? Вот это на нее похоже! Сначала прочтет его мысли, потом угадает его желание — и станет действовать соответственно… Еще не родился мужчина, достойный этой женщины!.. — А ты — хочешь? — Нет. Во всяком случае, не сейчас. — Как тебе удалось получить право на эту постановку? Столь резкий переход заставил Стефани вздрогнуть. — Ты хочешь сказать — как я уломала Дебору Форман? — Да. Я слышал, она торжественно пообещала, что не продаст право на экранизацию. — В том-то и дело. Она — автор книги, но все права у Гастингсов. Я обратилась к ним. Мэтью усмехнулся. — Отдаю должное твоей настырности. Но как все-таки Гастингсы согласились тебя выслушать? Насколько мне известно, они отказывались говорить об исчезновении дочери. — Дебби устроила нам встречу. Строго между нами — Гастингсы о чем-то умалчивают. — Какой смысл? Эта история наделала столько шуму, что едва не переплюнула Уотергейт. Если бы что-нибудь было нечисто, это давно выплыло бы наружу. — Американцы умеют заметать следы. — Тогда почему Гастингсы согласились на постановку фильма? Стефани пожала плечами. — Видишь ли, два года назад, как раз после выхода Дебориной книги, были обнаружены — вернее, получены — новые факты. — Тебе известно, какого рода? Она утвердительно наклонила голову. — Можешь мне сказать? — Пока нет. Ясно. Сначала она решит, он ли будет ставить картину. — И этого достаточно для постановки фильма? Стефани вздохнула. — У меня нет стопроцентной уверенности. Гастингсы были не очень-то откровенны. Но Фрэнк согласился финансировать проект. — Здорово! Но почему он отдал его тебе? — Дебора говорит, я им понравилась. Но по-моему, дело в том, что они не хотят получить очередной голливудский боевик. Вот и решили снимать в Англии. После некоторых колебаний он отважился на вопрос: — Как ты узнала, что я мечтаю поставить этот фильм? — Слухом земля полнится. — И все-таки — что тебя толкнуло обратиться ко мне? Захотелось почувствовать себя моим боссом? Стефани прыснула. — Я совсем упустила из виду твое самомнение. Но ты прав, Мэтью, я взялась за эту ленту, потому что знала, что она не оставит тебя равнодушным. Я сама увлеклась. Дочь одного из богатейших людей Америки, ставшая в возрасте двадцати одного года известной художницей, окруженная полчищами соискателей руки и сердца, ведущая активную светскую жизнь — так что даже приемы принцессы Дианы по сравнению с ее развлечениями кажутся детскими забавами, — короче, девушка, у которой есть буквально все, неожиданно исчезает из Нью-Йорка, появляется в Италии и снова исчезает, на этот раз навсегда. Исключительно выигрышный материал! Так как же — приступим? Что ты обо всем этом думаешь? — Прежде чем приступить, я должен быть уверен, что это — не акт мести. — Это не акт мести. Мэтью вытянул перед собой длинные ноги и поудобнее устроился в кресле. — Давай твою концепцию, — поторопила Стефани. Он вынул из кармана пиджака потрепанный экземпляр сценария, присланный ее секретаршей. — Это никуда не годится. — Знаю. Что дальше? Последовали молниеносный обмен мнениями, дискуссия, вспышка энтузиазма, смех, разногласия, взаимные упреки и до боли знакомое чувство досады пополам с восхищением. Они проговорили до десяти минут двенадцатого, но так ничего толком и не решили. Стефани застегнула папку и убрала в «дипломат». — Спасибо, что пришел. У тебя интересные идеи. И вообще было приятно повидаться. — Она встала и перебросила через руку пальто. — Это все? — Кажется, мы ничего не забыли. — Кроме одного жизненно важного пункта. — Я подумаю об этом после того, как переговорю с другими претендентами. Свяжусь с тобой где-то в конце будущей недели. Он медленно поднялся — с непроницаемым лицом, но она догадалась, что он взбешен. — Понятно. Стефани, ты уверена, что правильно повела игру? — Я не играю. Но позволь заметить: после тебя я работала со многими режиссерами. Толковыми режиссерами, которые охотно возьмутся за эту ленту — и не создадут проблем. Ты готов принять мои условия? — Смотря какие. — Думаю, они тебе известны. И вот что еще я хочу тебе сказать. Я стала другим человеком. Я — продюсер, на мне лежит ответственность перед администраторами, инвесторами, сценаристами и актерами. Непрофессионализма я не потерплю. Хвост семейных неурядиц, который тянется за тобой из картины в картину, стал притчей во языцех. Тебе прощают только потому, что ты — талант. Но я не допущу, чтобы мой фильм или кто-то из моих коллег стал мишенью для насмешек. Кажется, я откровенно высказалась? — Вполне. — В его глазах появился опасный блеск. — Но если бы ты была хоть наполовину так информирована, как стараешься показать, ты бы знала, что я расстался с женой. Шесть месяцев назад — и на шесть лет позже, чем следовало бы. Ты это хотела услышать? От лица Стефани отхлынула кровь. Рухнула ее тщательно продуманная стратегия. Она оказалась не готова к такому повороту событий. Поскорее бы остаться одной! Если Мэтью сказал правду, это же все меняет. — Я не знала… — Теперь ты знаешь. Так что вроде бы условие номер один выполнено: я ушел из семьи. Условие номер два? Его сарказм привел Стефани в чувство. — Вы льстите себе, Мэтью Корнуолл. А насчет условия номер два поговорим, когда я буду готова. Что же касается первого, я все обдумаю и дам тебе знать. Возможно, этого и недостаточно. А теперь извини. Моя секретарша с тобой свяжется. Он дождался, пока она дойдет до двери. — «Месть и притворство» — в таких терминах я никогда не думал о тебе, Стефани. Не будь такой кровожадной, мой тебе совет. Она хлопнула дверью.* * *
К тому времени как Стефани добралась до своей машины, она еще не успела успокоиться. Слава Богу, в ответственнейшие моменты ей удавалось держать себя в руках. Зато под занавес — полная катастрофа! А впрочем, разве ей когда-нибудь удавалось сохранить самообладание в присутствии Мэтью Корнуолла? Стефани обеими руками взялась за руль. Ну не глупо ли — забыть, как на нее действовал один лишь его вид? А мысль о том, что без него она не стала бы тем, чем стала, лишь подлила масла в огонь. Он поверил в нее, а потом ей пришлось сражаться с судьбой в одиночку. И все эти годы, когда она неуклонно карабкалась вверх, ею владело одно-единственное желание — поменяться с ним местами. Мэтью сразу же раскусил ее; идея мести ей самой теперь казалась мелочной и пошлой. Того ли она добивалась? Ей был нужен он, Мэтью! Хотя за шесть лет не было минуты, когда бы она не винила его в своем унижении. Шесть лет назад он обещал ей все сокровища земли! Она была помощником режиссера и его любовницей. Он мечтал о своей компании, в которой она станет продюсером. Вместе они завоюют весь мир! Они оставят телевидение и будут делать видео, рекламу и иногда — художественные кинофильмы, станут равноправными партнерами. И все складывалось прекрасно — вплоть до той страшной ночи. До катастрофы, воспоминание о которой преследовало ее все эти годы. Они поужинали в ресторане, отметили регистрацию новой компании. О том, что он разведется с женой, не было сказано ни слова, но это подразумевалось. Мэтью стоял на пороге больших свершений и не мог позволить себе роскошь иметь жену-истеричку, которой ничего не стоило являться на съемочную площадку, указывать всем, что делать, клеймить их позором за небрежное отношение к работе, хаять костюмы и сценарии… Выйдя из ресторана, они прогулялись пешком по Парковой аллее в Челси. Деревья стояли в цвету, все было необыкновенно романтично. Они то и дело останавливались, чтобы поцеловаться. В ту ночь их любовь была жадной, требовательной; они не могли насытиться друг другом. Они еще не разомкнули объятий и весело шептались, когда раздалось пронзительное: «Ах ты сволочь!» Над ними возвышалась Кэтлин — во все свои сто семьдесят пять сантиметров. Мэтью взвился как пружина, схватил свою одежду, но Кэтлин коршуном налетела на него, замолотила кулаками по спине, а затем столкнула на пол, и не успела Стефани пошевелиться, как сорвала с нее одеяло. — Шлюха! Не можешь заиметь своего мужчину — крадешь чужих! Ну так этого ты не получишь! — Она бросилась на Стефани, но та успела увернуться и отскочить в дальний угол комнаты. Мэтью, по-прежнему в чем мать родила, вскочил на ноги и попытался утихомирить разъяренную супругу. — Прекрати! Слышишь, Кэтлин? Прекрати сейчас же! Но она сбросила его с себя и поползла через всю кровать. — Я убью тебя, шлюха! Стефани съежилась в углу, зажав в кулаке первое, что попалось под руку, — фарфорового поросенка. Мэтью перевернул кровать. Но Кэтлин успела-таки вцепиться сопернице в волосы. Стефани закричала и выронила поросенка; Кэтлин сыпала ругательствами, колотила и царапала ее обнаженную плоть. Казалось, драка никогда не кончится, но Мэтью все же удалось схватить разбушевавшуюся фурию. — Уходи, Стефани! — Я не могу оставить тебя одного с этой ненормальной! Кэтлин снова рванулась к ней, но Мэтью держал ее мертвой хваткой. — Как ты можешь? — вопила Кэтлин. — Дома тяжело больная дочь плачет, зовет папочку, а ты тут трахаешься с этой шлюхой! Я знала, на что ты способна, сука! Говорила ему!.. — Заткнись! — рявкнул Мэтью. — Что значит — Саманта тяжело больна? Что с ней такое? — Откуда я знаю? Даже врач не может определить. Но какое тебе до этого дело? — Она уткнулась в подушку и зарыдала. Он посмотрел на Стефани. — Придется ехать. — Нет! — прорычала Кэтлин. — Оставайся с этой!.. — Раз Саманта больна, я еду домой. — Не пущу, пока не поклянешься, что больше не увидишься с этой сукой! Клянись! Если ты этого не сделаешь, Мэтью Корнуолл, можешь забыть о своей драгоценной компании и обо всем остальном, потому что я вытяну из тебя все до последнего пенни. И навсегда простись с детьми. Мэтью повернул к Стефани напряженное лицо. — Клянись! — визжала Кэтлин. — Пусть послушает! Пусть знает, что она — всего лишь шлюха! Да, милочка, шлюха — и больше никто! Давай, Мэтью, скажи ей! — Ты на машине? — Поклянись! Скажи ей, что она — шлюха! — Я спрашиваю — ты на машине? — Выбирай — твоя дочь, твоя компания — или эта! — У меня нет выбора, — прошипел он, — и ты прекрасно это знаешь! Глаза Кэтлин зажглись злобным торжеством. — Слышала? У него нет выбора! Можешь проститься с твоими замечательными планами! Тебе ничего не светит! Я жду пять минут, — бросила она Мэтью. И ушла — так же, как вошла, через окно, которое Мэтью оставил открытым. Пока он одевался, Стефани молча стояла в углу. А когда он приготовился уходить, сделала то, чего не могла бы представить себе даже в страшном сне: бросилась к его ногам и, рыдая, умоляла его остаться. — Не уходи! Пожалуйста, Мэтью, не бросай меня! Он пытался поднять ее, но Стефани сопротивлялась. — Она заставляет тебя выбирать между мной и Самантой. Это нечестно, Мэтью. Это подло! — Стефани, прекрати, пожалуйста! Встань! — Не могу! Скажи, что я для тебя важнее Саманты! Что мы важнее твоей семьи! Пожалуйста! Скажи, что останешься со мной! Что ты любишь меня! — Стефани подняла голову, но он избегал встречаться с ней взглядом. И вдруг повернулся и пошел к двери. — Она лжет! Мэтью, неужели ты не понимаешь? Саманта не больна — она просто избалованная девчонка: капризничает, чтобы добиться своего. Пожалуйста, Мэтью, не покидай меня! Вечером следующего дня он позвонил ей. Саманта в больнице с подозрением на менингит. Она не сразу нашла силы вымолвить хотя бы слово. — Прости, Мэтью. Я раскаиваюсь. Ты можешь простить меня? — Конечно. Она собралась с духом и, понимая, что этого делать нельзя, выпалила: — А как же мы? Он долго молчал, а потом сказал слова, разбившие ей сердце: — Прости, Стефани. Нас больше нет. И теперь, шесть лет спустя, Стефани чувствовала, как со дна ее души поднимается вся муть, вся боль и все страдания. Она так любила его, что после той ночи не хотела жить. Однако выжила — только потому что верила: настанет день — и он вернется к ней. И вот он ушел от жены. «На шесть лет позже, чем следовало». Это его слова. На Стефани навалилась страшная усталость. Она прошла долгий путь — и очутилась на развилке. Куда теперь идти и зачем? (обратно)Глава 7
— Когда я приехала, их уже не было. Обоих. Даже записки не оставили. — Мэриан спохватилась и бросила на Мэтью растерянный взгляд. — Господи, вам же совсем не интересно. Просто я снова оказалась без денег, а тут подвернулась Джейни и предложила мне двести фунтов, и я взяла. — Она вытерла глаза и немного помолчала. Впервые с тех пор как исчезли Мадлен с Полом, ей представилась возможность выговориться. Но почему именно перед ним — ведь ему нет до нее абсолютно никакого дела! Мэриан ощутила острую тоску по Полу, и на нее нахлынула студеная волна одиночества. — Как они могли? Мэтью смотрел на нее, испытывая неловкость за свои мысли. Девушка была до того некрасива, что на месте Пола он мог бы сделать то же самое. К тому же у него выдалась трудная неделя, и он только этим вечером смог уделить Мэриан внимание. Откровенно говоря, он бы охотно избежал этого разговора, если б не какофония наверху. — Нельзя ли попросить ее не врубать магнитофон на полную мощность? — Думаете, я не пыталась? Она только смеется. — В таком случае прогоните ее. — Не уходит. Мэтью вздохнул и пошел ответить на телефонный звонок. Стал бы он разговаривать с Мэриан, если бы фильм не выбился из графика! Из-за ошибки в очередности массовых сцен случилась заминка с реквизитом. Плюс очередной запой ведущей актрисы, которую в эти дни видели где угодно: в постели, в баре, даже в реке — только не перед камерой. Придется проторчать здесь еще неделю. Звонил Вуди. Мэтью выслушал и рявкнул в трубку: — Вуди, мне до… — Трубный звук за спиной (это Мэриан высморкалась) заставил его вовремя остановиться. — Вуди, разбирайся с ней сам, тебе за это деньги платят… Я знаю… Знаю… Нет, сегодня вечером не могу. Завтра к восьми приволоки ее на площадку. — Он выслушал ответ и простонал: — Неужели нельзя было заранее справиться о времени приливов и отливов?.. Сам объясняй Ричарду Коллинзу, почему мы потеряли еще половину съемочного дня. Он швырнул трубку на рычаг. Мэриан с трудом поднялась на ноги. — Простите. Вы заняты. Я пойду. По крайней мере теперь вы хоть знаете, почему… — Сядьте! — приказал Мэтью. И, обернувшись, едва не покатился со смеху: так уморительно было выражение ужаса у нее на лице. — Извините. У меня сейчас трудное время. На чем мы остановились? — Я закончила. — А… Последовала неловкая пауза. Мэриан шмыгнула носом. — Насчет Пола… Вы случайно не видели его перед… уходом? — Нет. — А Мадлен? Мэтью покачал головой и задал встречный вопрос: — У вас нет никаких предположений, куда бы они могли смыться? — По-вашему, они сговорились? Откровенно говоря, я так не думаю. Не могу себе представить… нет, могу. Вот, значит, что… они сбежали вместе. Вы их видели. Можете смело мне сказать, обещаю не закатывать истерики. — Я их не видел. Просто это логично вытекает из вашего рассказа. Иначе очень уж странное совпадение. У Мэриан задрожал подбородок. — Господи, какой ужас! Простите, я только и делаю, что реву. К счастью, в дверь позвонили. Мэтью пулей ринулся в прихожую, на всякий случай затворив дверь гостиной. — Привет, Мэтью. Стефани! Несколько секунд он таращил на нее глаза. Потом тревожно покосился через плечо и снова уставился на нее. — Ну что, так и будешь стоять как изваяние? Или все-таки позволишь мне войти? Мэтью Корнуолла было не так-то просто выбить из колеи, но на этот раз он смешался. После той встречи он постоянно думал о Стефани. Желание видеть ее стало таким же сильным, как желание снять этот фильм. Но сейчас, когда в гостиной рыдает соплячка с разбитым сердцем… Он достаточно хорошо знал Стефани, чтобы понять: момент явно неподходящий. — Если я помешала, могу заглянуть попозже, — жестко сказала она. — Нет-нет, входи, — и он, положившись на милость провидения, распахнул перед ней дверь гостиной. Мэриан подняла глаза. Увидев ее зареванное лицо, Стефани резко повернулась к Мэтью — тот стоял с закрытыми глазами. — Значит, я все-таки не вовремя. Ну что ж… — Стефани, ты только… — Слава Богу, он вовремя удержался, чтобы не добавить «посмотри на нее!» — Только послушай… — Благодарю покорно. Не знаю, Мэтью, что сейчас происходит в твоей жизни, но, должно быть, у тебя хобби — разбивать женские сердца. — А ну стой! — Он схватил ее за руку и развернул лицом к гостье. — Стефани, это Мэриан. Мэриан, это Стефани. Будь добра, объясни ей, что привело тебя сюда, а я приготовлю выпить. — Он чуть ли не силой усадил Стефани в кресло и скрылся за кухонной дверью. Он дал им десять минут, в течение которых пытался как-то объяснить себе приезд Стефани, но был вынужден капитулировать. Сама скажет, как только он избавится от соседки. — Хоть бы записку оставили, — услышал он, входя в гостиную. — Что мне теперь делать? Где искать? — Вряд ли они жаждут, чтобы их нашли, — резонно заметил Мэтью. — Иначе позвонили бы. — Мэтью! — возмутилась Стефани. Он протянул ей бокал. — Ради Бога, имей хоть немного такта! Ты что, не видишь, в каком она состоянии? И она вновь переключилась на Мэриан. — Прежде всего нужно избавиться от Джейни. На лице Мэтью отразилось неподдельное восхищение. — Абсолютно согласен. — Вот ты этим и займись. — Я? — Ты — мужчина, девушка тебя послушается. А не захочет — выброси ее барахло на улицу. — Может, пусть лучше хозяин квартиры… — Это будет долгая история. Нет, ты сам избавишь Мэриан — и себя заодно — от этой нахалки. В крайнем случае дашь ей двести фунтов — не жмись, они у тебя есть. Пусть выметается. Остальное я беру на себя. Он скрестил руки на груди. — Горю желанием узнать, во сколько это обойдется тебе самой. Стефани смерила его презрительным взглядом и повернулась к Мэриан. — Кажется, ты сидишь без работы? Мне нужна секретарша. — У тебя же есть! — не выдержал Мэтью. Стефани не удостоила его ответом. — Мэриан, ты умеешь печатать на машинке? Да или нет? — Та стряхнула с себя оцепенение и кивнула. — Стенографировать? Отлично. Значит, решено. Будешь получать пятнадцать тысяч плюс сверхурочные и возмещение издержек. Встанешь на ноги — вернешь Мэтью долг. Дам тебе испытательный срок шесть недель. Если не подойдешь или тебе не понравится в мире кино, разойдемся по-хорошему. Устраивает? — Мир кино! — ахнула Мэриан. Ее вдруг осенило: — Вы — Стефани Райдер? — Точно, — усмехнулся Мэтью. Стефани усмирила его взглядом. — Но тебе придется переехать в Лондон. Ты согласна? Мэриан тупо поглядела на них обоих, словно недоумевая, что она здесь делает, почему выкладывает сокровенные тайны души незнакомым людям. И вдруг, пробормотав: «Простите», — ринулась в ванную. Там она долго сидела на краю ванны, обхватив себя руками и пытаясь привести в порядок мысли. Но бритва Мэтью на полочке над умывальником, словно нарочно, напомнила об утрате; на глаза навернулись слезы. Вот уже пять недель она одна, и каждый день возвращал ее к себе прежней. Только сейчас все стало гораздо хуже. Никогда еще ей не было так страшно и одиноко. Предательство звериными когтями рвало сердце. Гордость, достоинство — все ушло, словно и не бывало. Мэриан ненавидела себя за былую страсть к Полу. Они не вернутся, это ясно, но как оставить квартиру, где она была счастлива? В дверь постучали, и в ванную заглянула Стефани. — Как ты себя чувствуешь? Мэриан проглотила комок. — Спасибо, лучше. Я такая идиотка! Стефани села рядом и обняла ее за плечи. — Все мы через это прошли. Есть только один выход — жить дальше. Мэриан жалко улыбнулась. — Постараюсь. Просто иногда… — Я знаю, — остановила ее Стефани. — Переезд пойдет тебе на пользу. Здесь все напоминает о прошлом, а его нужно забыть. Тебе больно это слышать, но поверь — когда-нибудь все пройдет. Ты молода, ты еще полюбишь. — Мэриан вскинула на нее глаза, и Стефани улыбнулась. — Сейчас это кажется тебе невероятным. Мне тоже казалось. — И вам? Стефани глубоко вздохнула. — Мне было столько же, сколько тебе, когда меня бросил мой первый мужчина. Я не сомневалась: это конец света. Пол был у тебя первым? — Мы не… — Мэриан потупилась и шепотом закончила фразу: — Я девственница. — Ну, дорогая, — протянула Стефани, — ты не представляешь, как тебе повезло. Конечно, сейчас ты еще любишь Пола, но попробуй взглянуть на ситуацию объективно. Если он мог так обойтись с тобой, что же он сделает с Мадлен? — Правда… Но я не хочу, чтобы Мэдди так страдала! — Ей повезло, что у нее есть кто-то, кто ей так предан. А теперь сделай мужественное лицо и поехали ужинать — со мной и Мэтью. — Ох нет! Вы так добры, но… я не могу. — Еще как можешь. Видишь ли, если ты примешь мое предложение, нам троим придется вместе работать над «Исчезновением». Надо же познакомиться поближе! — Стефани встала сама и помогла подняться Мэриан. — Хочешь — сбегай к себе и через пятнадцать минут спускайся.* * *
— Ты — потрясающая женщина! — воскликнул Мэтью, когда за Мэриан захлопнулась дверь ее квартиры. — Выпьешь на посошок? — Только кофе. Прислонившись к дверному косяку, Стефани слушала, как он ругал Мэриан за то, что она поддалась эмоциям, и где — в ресторане! Сей обличительный монолог сопровождался звяканьем чашек и хлопаньем дверцы холодильника. Мэтью то открывал, то, так ничего и не достав, закрывал ее. — Молоко, — подсказала Стефани. — Мне показалось, что ты полез за молоком. — Спасибо, — не без иронии откликнулся он. — Кстати, она-таки славная девчушка: чем-то напоминает Саманту. Конечно, Саманта красавица, но это и неудивительно: при таком отце! Вот только зря ты предложила ей работу. И мои деньги. — Не жмотничай. А что касается работы, то мне действительно нужна секретарша. Таня подала заявление, и, откровенно говоря, мне заранее делалось плохо при мысли о том, что придется выбирать из тех расфуфыренных пустышек, с постным видом и жуткой косметикой. Мэриан — как раз то, что нужно: ее непосредственность действует освежающе. — Непосредственность? — Мэтью засмеялся. — Ну, это мягко сказано. Кто бы мог представить этакое чудо в наши дни и в ее возрасте? Если бы меня спросили… — Чего никто не собирается делать… — … я сказал бы, что эта девушка являет собой новый, усовершенствованный образчик наивности. Он взял поднос; Стефани последовала за ним в гостиную. Пока Мэтью наливал кофе, она сбросила туфли и забралась с ногами на диван. Они чуть ли не весь день проговорили о Мэриан. Стефани умилялась тому, как Мэриан буквально ожила, когда кто-то из них сказал: «Представляешь, что скажет Мадлен, узнав, что ты переехала в Лондон?» Мэтью с трудом подавлял раздражение и все пытался перевести разговор на будущий фильм, но из этого ничего не выходило; Стефани могла говорить только о Мэриан. Встал вопрос: где она будет жить? Мэтью испугался: уж не собирается ли Стефани предложить девушке поселиться у него? Он даже уронил стакан и только собрался заявить протест, как понял: она морочит ему голову, а на самом деле решила отдать Мэриан свободную комнату в своей квартире. — Ученая степень по философии, — промурлыкала Стефани. — Кто бы мог ожидать? — Я мог. Нынешняя молодежь спятила — гоняется за степенями. И что это ей дало? — Интересно, что все-таки случилось с тем парнем и ее кузиной? Впрочем, это нас не касается. По мне, так без них ей гораздо лучше. Та еще парочка — как по-твоему? — Стефани подняла на Мэтью глаза, и у нее учащенно забилось сердце: он так преданно, так покорно смотрел на нее! — Ты что, собираешься весь вечер просидеть с чашкой кофе? Он поставил чашку на стол и пересел к ней на диван. — А теперь расскажи, как ты счастлив, что будешь ставить «Исчезновение», — предложила Стефани. — Хочешь, чтобы я распинался в благодарностях? — Ничего не имею против. Он фыркнул. — Не дождешься! Но что все-таки повлияло на твое решение? И этот визит… Нет, я, конечно, польщен, но все-таки? Она намеренно обошла первый вопрос: — Хотела лично сообщить тебе эту новость. Отпраздновать вдвоем. Зарыть в землю томагавки войны и все такое прочее. — И поэтому потащила с нами в ресторан Мэриан Дикон? — Не будь злюкой. У нее был такой несчастный вид — даже ты заметил. Не забывай: я тоже через это прошла. Мэтью усмехнулся. — Долго же до меня доходит! «Клуб разбитых сердец», да? А меня пригласили в качестве козла отпущения — представителя вражеского лагеря? Я должен радоваться, что остался целым и невредимым? — Что ты хочешь сказать? — Ничего. Давай сменим пластинку. Стефани сделала глоток кофе. Она все еще пребывала в смятении. Ящик Пандоры оказался открытым, и она была не в силах удержать слова, рвущиеся наружу. — Шесть лет назад я сказала и сделала много такого, за что мне теперь стыдно. Не знаю, с чего начать. — Не надо, Стеф. Это в прошлом. — И все-таки нам нужно поговорить. Если мы собираемся работать вместе, нельзя делать вид, будто ничего не произошло. Я хочу, чтобы ты знал, что я чувствовала и почему так себя вела. В любом случае, я не имела права так говорить о Саманте. Но я была в таком отчаянии… — Я знаю, Стефани. Это я во всем виноват. Она горько усмехнулась. — О, я винила тебя, Мэтью! Ты мне столько наобещал, я построила на этом все свое будущее! А потом ты заявляешь, что нас больше не существует! И ни разу не позвонил, не написал, не ответил на мое письмо. Боже, как я тебя ненавидела! Он наклонился вперед, уперся локтями в колени и уставил взгляд в пол. — Стефани, я не мог иначе. Саманта была между жизнью и смертью, а Кэтлин шпионила за каждым моим шагом. Не стану говорить о своей вине, но беда в том, что перед ними я тоже был виноват. — Он повернулся и посмотрел ей в глаза. — Ты имеешь в виду то письмо, в котором поздравила меня с днем рождения? — Она кивнула. — Наверное, я тогда еще не понимал, как сильно люблю тебя. В моей жизни не было ничего тяжелее нашего разрыва. — Жалко, что я этого не знала. Мне был так нужен твой ответ — просто чтобы знать: я для тебя что-то значу. Он взял руку Стефани и переплел ее пальцы со своими. — Прости. В глубине ее души шевельнулось давно забытое теплое чувство к нему. Много лет она не позволяла себе вспоминать тот ужас. В конце концов ей удалось — или только показалось, что удалось — заполнить пустоту работой… Она вырвала руку. — Кто бы послушал. И мы еще смеемся над сентиментальностью Мэриан! — Ох, только не о Мэриан! — простонал Мэтью и увернулся от шутливой затрещины. Очарование было нарушено. Им нужно было так много сказать друг другу, но Стефани переключилась на «Исчезновение», и Мэтью не мог не загореться. Они долго перебирали актрис, которые могли бы сыграть Оливию Гастингс, обсуждали, сколько времени займут съемки в Нью-Йорке, когда лучше ехать в Италию и наконец — что все-таки случилось с Оливией? И все это время в их сердцах саднили старые раны, распускались долго подавляемые чувства, поднимались со дна души завихрения, словно ожившие бесенята… — Ты говорила о новых фактах в деле Оливии… — Я все ждала, когда ты об этом заговоришь. — Стефани посмотрела на часы. — Приедешь в Лондон — покажу тебе письмо, которое Фрэнк получил год назад. Мэтью не знал, что делать. Ему так не хотелось отпускать ее! — Когда я смогу познакомиться с Фрэнком? — Через пару месяцев слетаем в Нью-Йорк. Твой нынешний фильм будет на стадии озвучивания. — Ей хотелось расспросить его о фильме, говорить о чем угодно, лишь бы подольше не уходить. В то же время она испытывала потребность побыть одной — обдумать услышанное. — А если возникнут осложнения? — Что-нибудь придумаем. Их взгляды встретились. — Как насчет нас, Стеф? Тоже что-нибудь придумаем? Она напряглась и севшим голосом ответила: — Ты сказал: нас больше нет. — Я ошибся. — Правда? — Стефани, ты — единственная… — Молчи. — Стефани, ты все равно не сможешь от этого убежать! — Чего я точно не смогу, так это пережить такое снова. Не торопи меня, Мэтью. Пожалуйста! — и она разрыдалась. Когда он отпустил ее, она вся дрожала. — Не смотри так! — взмолилась она. — Извини. По-другому не умею. Стефани отвернулась. — Господи, Мэтью, если бы ты только знал, как я тосковала по твоей улыбке, по… — По чему еще? Она его оттолкнула. — Я не готова, Мэтью. Я… Это был такой шок — увидеть тебя через столько лет и узнать, что… — Шок? Ты же призналась, что приобрела права на эту постановку, потому что знала: я схвачусь за нее. — Увы. Все мои планы сводились к тому, чтобы поманить тебя ею — и отнять. — Месть? Она наклонила голову. — Ты отказалась от этого намерения, потому что… — Потому что мои чувства остались прежними! — выкрикнула она. — Ты это хотел услышать? Так оно и есть. Эта встреча — величайшая ошибка в моей жизни. Ну почему ты на меня действуешь? Я не понимаю, что говорю… — Не сердись. Она зашарила ногами по полу в поисках туфель. — Тебе легко говорить! Ты не страдал, как я. Взял и выложил, что расстался с женой, — и ждешь, что я побегу за тобой, как собачка. Не дождешься! — Ладно, ладно, — он в шутливом жесте воздел руки к потолку. — Не смейся. Я и так достаточно унижена. Если нам суждено вместе работать, не стоит больше вспоминать о прошлом. Пусть между нами будут только деловые отношения. Смотри на меня как на продюсера, а я на тебя — как на режиссера. Договорились? Последнюю фразу она произнесла, уже стоя возле двери. И, не дождавшись ответа, обернулась. — Договорились? Он раздраженно дернул себя за упавшую на лоб прядь черных волос. — Если тебе так легче, я согласен. Чисто деловые отношения. — Отлично. Позвони, когда приедешь в Лондон. Познакомишься с Бронвен — мы партнеры. По-видимому, тебе захочется взять с собой Вуди и Боба Фэрли? Мэтью кивнул. — Что ж, доброй ночи. Если ты сможешь уснуть. — Как раз в это время потолок дрогнул от дикой какофонии звуков. И она ушла, злясь на него за покладистость. А еще больше — на себя за то, что стала жертвой собственной откровенности.* * *
Сидя у окна, Мэриан видела, как отъехала Стефани. У нее было такое ощущение, словно сама судьба в образе Стефани Райдер постучалась в дверь — а возможно, уже вошла. Теперь, когда улеглось первоначальное волнение от знакомства с удивительной женщиной, взявшей на себя устройство ее жизни, она опять почувствовала, как ее, словно вакуум, засасывает одиночество. Вся ее жизнь была связана с Мадлен, и теперь Мэриан испытывала страх перед надвигающимися переменами. Но она примет эти перемены — хотя бы потому, что не в силах больше тупо смотреть на свое отражение в зеркале. Жизнь потеряла смысл. Мэриан снова стала уродиной. Волосы жалкими космами спускались на плечи. Поры заполнили ядовитые испарения. Ну что ж… Зато в ее жизни было несколько месяцев, когда она чувствовала себя живой и звонкой, потому что ее любил Пол… К горлу подступил комок. Мэриан побрела к кровати; по щекам текли слезы. — Где вы? — прошептала она в пустоту ночи. — Пол, Мэдди, где же вы? (обратно)Глава 8
Из люка посреди тротуара донесся протяжный свист. Мадлен заглянула туда — на нее, ухмыляясь, глазели из-под касок двое рабочих; по-видимому, особый интерес вызвали ее ноги. Она весело помахала им рукой и поспешила перейти на другую сторону Найтсбриджа. Сверилась со шпаргалкой в кулачке: да, адрес правильный. Полюбовалась своим отражением в витрине и двинулась дальше, по Бромптон Роуд. Очутившись перед стеклянными дверями, поискала на панели интеркома нужную кнопку. Агентство Дейдры Крэбб оказалось на третьем этаже. Мадлен назвала себя, и дверь отворилась. Она поднялась по лестнице — легкой походкой, но желудок свело от волнения. На третьем этаже она толкнула вращающуюся стеклянную дверь. Девушка в приемной подняла глаза, но не успела что-либо сказать, как из противоположной двери вышла молодая женщина строгого вида — личный секретарь Дейдры Крэбб. — Сюда, пожалуйста. Мадлен улыбнулась, но не дождалась ответной улыбки. Пройдя через несколько дверей, они очутились в кабинете Дейдры Крэбб. — Мадлен Дикон, — возвестила секретарша и смерила Мадлен критическим взглядом. Та отбросила с глаз непослушные пряди; на запястьях зазвенели золотые и серебряные обручи. Дейдра Крэбботорвалась от монитора компьютера. У нее были темно-рыжие, высоко взбитые над головой и опускавшиеся ниже плеч волосы — такие густые, что мисс Крэбб казалась еще более тонкой и гибкой, чем на самом деле. На красивом лице сияла улыбка. — А, Мадлен, — протянув к ней обе руки, Дейдра двинулась навстречу. — Добро пожаловать. Рослая — даже выше Мадлен, — она обняла девушку за плечи и подвела к одному из черных кожаных кресел в углу. Потом обернулась и сделала секретарше знак, чтобы та вышла. — После нашего телефонного разговора я с нетерпением ждала встречи. У нее был негромкий, мелодичный голос, а теплая улыбка сразу располагала к себе. — Я тоже. Для меня это большая честь. Вы пользуетесь такой известностью, и к вам не так-то просто попасть. Сощурив кошачьи глаза. Дейдра любовалась открытым лицом Мадлен. Вот, значит, какая она, эта девушка, готовая отвалить десять кусков каждому, кто даст ей шанс. Дейдра усмехнулась. — Действительно, я принимаю далеко не всех, кто хочет со мной встретиться: где взять время? В агентстве есть другие сотрудники, которые специально занимаются текучкой. Обычно новичкам приходится иметь дело с ними. Дейдра обошла кофейный столик и уютно устроилась в другом кресле, скрестив стройные ноги и одернув подол юбки горчичного цвета. Потом подперла кулаком подбородок и спросила: — Итак, ты мечтаешь стать моделью? Хотя что я спрашиваю! Иначе тебя бы здесь не было. Мадлен захихикала. Восхищенный блеск в глазах Дейдры вернул ей уверенность в себе. Дейдра склонила голову набок. Столь быстрая метаморфоза в поведении посетительницы ее поразила. — У тебя большой опыт работы моделью? До сих пор, проходя собеседование, Мадлен давала волю фантазии, но в Дейдре было нечто, исключавшее подобные уловки. — По правде сказать, никакого. Дейдра кивнула. — Ничего. Подозреваю, что под всей этой штукатуркой ты необычайно красива. Повернись лицом к свету. Пропустив «штукатурку» мимо ушей, Мадлен повернула лицо так, что на него упал оранжевый свет лампы. Она успела побывать у четырех агентов; все они вначале проявляли интерес, однако потом отказывали. Откуда ей было знать, что за этим стоит Дейдра Крэбб, чье влияние в этой области было очень велико? Тем не менее Мадлен хотелось понравиться Дейдре — ей казалось, что эта женщина способна изменить ее жизнь. У нее участился пульс; по телу как будто пробежал электрический разряд; щеки окрасил румянец. Мадлен облизнула трепещущие губы. Мелькнула мысль о Поле, и ее бросило в жар; в глубине фиалковых глаз загорелся темный огонь страсти. Завороженная, Дейдра подалась вперед. В этом взгляде, и томном, и похотливом, было столько чувственности, что ее охватило волнение. За двадцать лет карьеры агента она еще не сталкивалась ни с чем подобным. — О Господи! Мадлен потупилась. Однако она не представляла себе всей силы произведенного на Дейдру впечатления. Сама же Дейдра быстро овладела собой. — У тебя превосходная лепка лица, Мадлен. Как насчет веснушек — высыпают иногда? — С какой стати? Дейдра подняла руку. — Многие их даже не замечают. А на теле? Есть какие-нибудь изъяны — родинки, бородавки?.. — Вы шутите? Бородавки бывают только у стариков. Или нет? Дейдра улыбнулась. Эта девушка непостижимым образом сочетала в себе, казалось бы, несоединимые качества. Только что всеми порами источала похоть, а теперь — святая наивность. — У меня, во всяком случае, их нет, — сладким голосом сообщила Мадлен. — Хотите, разденусь и вы проверите? — Это не обязательно. Или ты предпочитаешь выступать в роли обнаженной модели? Мадлен просияла. — Вот именно. Хочу попасть на третью страницу «Сан». И вообще, чтобы мои фотографии печатались в журналах для мужчин. — Правда? — непритворно удивилась Дейдра. Среди всей поступившей к ней информации о Мадлен такая подробность отсутствовала. — Что ж, почему бы и нет? А как насчет демонстрации мод? Это тебя интересует? Мадлен пожала плечами. — Вы имеете в виду — ходить по подиуму? — И подиум, и журнальные развороты, и реклама — косметики, духов, крема для загара, автомобилей, прохладительных напитков… можно продолжать до бесконечности. Главное — представить тебя модным фотографам, режиссерам, рекламодателям… Перспективы самые разные. Сколько тебе лет? — Двадцать, — не слишком внятно ответила Мадлен, с трудом переваривая услышанное. — Многовато. — Многовато?! — Для дебюта — да. Но опять-таки я не думаю, что это послужит непреодолимым препятствием. Хотя многие к этому возрасту уже достигают вершины славы. Если я правильно поняла, тебя влечет вершина? — Да. Я всю жизнь мечтала прославиться. Дейдру тронула такая искренность. — Что ж, подумаем, что можно сделать. Мадлен несколько раз моргнула. Дейдра налила две чашки кофе через ситечко. — Меня немного беспокоит твое стремление попасть на третью страницу «Сан». Ты не боишься, что это скажется на твоем реноме? Тебе молока или сахару? — Спасибо, ни того и ни другого. Что вы имеете в виду, говоря о моем реноме? Дейдра вздохнула. — Центральный разворот «Пентхауза» или «Плейбоя» гораздо престижнее третьей страницы «Сан». Мадлен пожала плечами. Сама она не видела разницы, если не считать того, что в одном случае вас снимают голой до пояса, а в другом — полностью. Она так и сказала. И добавила: — У «Сан» больший тираж. — Да, с этим не поспоришь. Мадлен поставила чашку и с заговорщицким видом наклонилась вперед. — Я всегда мечтала о третьей странице. С тех пор как узнала о ее существовании. — Ну, раз твое сердце лежит к этому… — Дейдра взяла блокнот и принялась что-то писать. Судя по звону браслетов, Мадлен в это время двигалась по комнате, но Дейдра не стала отвлекаться. А когда закончила, у нее чуть глаза не выскочили из орбит. — Смотрите — никаких бородавок! — Боже милосердный, — пробормотала Дейдра и отвернулась, чтобы не расхохотаться. Однако ей быстро удалось взять себя в руки. — Теперь понимаю, почему ты хочешь выступать обнаженной. У тебя безупречное тело, моя дорогая. Пройдись к окну, медленно повернись и возвращайся ко мне. Мадлен была счастлива. Двигаясь по просторному кабинету, она разглядывала взятые в рамку журнальные обложки на стенах, и ей казалось, будто глаза красавиц полны зависти. Она упивалась своим превосходством. Ей было ясно; взгляд, который она недавно продемонстрировала Дейдре, уже решил ее судьбу. Но сама-то она главным образом полагалась на тело. И теперь отдавала дань привычному нарциссизму: любовалась своей высокой грудью, оглаживала ягодицы, выставляла напоказ укромные местечки. Ничто не могло доставить ей большее удовольствие, чем созерцание своих прелестей, если не считать интимных сцен с Полом. При мысли о нем по чреслам разлилось блаженное тепло, и Мадлен начала безотчетно ласкать соски. Скорей бы закончилось собеседование, чтобы вернуться к Полу. Лежать под ним, ощущать его в себе — как он двигается и наконец затапливает ее горячей лавой… Ни один мужчина не вызывал в ней подобных чувств. Кроме Пола, для Мадлен не существовало никого на свете. Стук в дверь вернул ее на землю. Она обернулась, и в глазах вспыхнули лукавые искры. — Ах, это ты, Рой, — сказала Дейдра, потешаясь над тем, как он ошалело замер у двери. — Познакомься с Мадлен Дикон. Мадлен, это мой компаньон Рой Велланд. Он специализируется на рекламе и связях с прессой. Мадлен демонстрирует свои таланты. Под ироническим взглядом Дейдры Рой прилагал бешеные усилия, чтобы отвести глаза, но окружавшая эту девушку аура никак не отпускала. За сорок четыре года жизни он ни разу не испытал такого томления, такой беспомощности. Однако через несколько секунд в глазах Мадлен погас сумасшедший огонь; Рой перевел дыхание и протянул ей руку с таким видом, словно всю жизнь только и делал, что здоровался с голыми девушками. — Как пожив… — Ему пришлось прочистить горло. — Как поживаете? Дейдра заходилась от смеха. Чтобы немного отвлечься, она стала рыться в ящике письменного стола. Рой и Мадлен следили за ней, ожидая дальнейших указаний. Однако Дейдра никак не могла выдавить из себя что-либо членораздельное. На смущенном лице Роя заиграла ухмылка. — Просто нет слов! Если ты умеешь включать и выключать этот взгляд по желанию, весь мир будет у твоих ног. А ты как думаешь, Дейдра? — Совершенно верно, — с трудом выговорила она. Мадлен непонимающе переводила взгляд с одного на другую. — Так вы меня берете? — Без сомнения, — отозвался Рой. Она вопросительно посмотрела на Дейдру. Та ответила: — Теперь дело за фотографами. Рой шумно втянул в себя воздух. — Есть еще одно обстоятельство… — У меня есть деньги, — перебила Мадлен. — Не знаю, нужно это или нет, но я могу внести десять тысяч фунтов. Дейдра задумчиво поводила языком во рту. Она все время ждала, когда Мадлен об этом заговорит, — хотя и без того приняла решение. — Оденься, дорогая, а то простудишься. Стараясь не встречаться взглядом с Роем, Дейдра подождала, пока Мадлен сунет руки в рукава. — Оставь чек у секретарши. Через несколько дней я с тобой свяжусь. Мадлен обмотала шею шарфом. — Я не такая дура! На лице Дейдры отразились удивление и обида. — Что ты имеешь в виду, Мадлен? Та покраснела. — Боишься, что мы тебя надуем? — Нет-нет. Я просто… Дейдра обняла ее за плечи. — Вот что я скажу тебе, Мадлен. Я с первого взгляда поняла, что ты обладаешь редкими достоинствами. У нас с Роем есть еще один компаньон, Дарио, он фотограф; так вот, мы поможем тебе сделать блестящую карьеру — можешь поверить на слово. А теперь иди: я дам тебе знать, когда что-нибудь решится. — Примерно когда? — Скоро. Дейдра проследила за тем, как Мадлен отдает секретарше чек. Улыбнулась на прощанье. Закрыла дверь. И лукаво посмотрела на Роя. — Видел бы ты свое лицо, когда она демонстрировала свои прелести! Он скривил губы. — Не помню, когда на меня в последний раз так действовала голая баба. А этот взгляд?! — Естественно, я обратила на него внимание. — Дейдра подошла к окну и посмотрела вниз, на Бромптон Роуд. — Так что ты о ней думаешь? Рой плюхнулся на диван и закинул ноги на столик. — Весьма любезно с ее стороны — самой себя финансировать. Дейдра прыснула. Потом, раскинув руки в стороны, как для объятия, произнесла: — Ее будет нетрудно раскрутить. Какой установим потолок? — Если она время от времени будет делать нам такие подарки, то самый высокий. В комнату вошла секретарша. — Ну что, Анна, удалось что-нибудь разузнать? — Она остановилась с другом в «Блейке». Его зовут Пол О’Коннелл, он начинающий писатель. Еще не печатается. Дейдра бросила вопросительный взгляд на Роя. Тот кивнул. — Они прибыли с Запада пять недель назад, — продолжала Анна. — В Бристоле она работала стриптизершей по вызову. Снимала маленькую квартирку вдвоем с кузиной. Сирота. С восьми лет ее воспитывала тетка. Родители погибли в авиакатастрофе. Дейдра нахмурилась. — Бедняжка. — Откуда у нее деньги? — поинтересовался Рой. — Должно быть, они принадлежат другу. Мы еще не выяснили до конца. — Дать задание аудиторам? — Да. И предупреди Дарио. Он в студии? — Насколько мне известно, да. Позвать? — Не нужно, я сама. После ухода секретарши Дейдра позвонила по прямому проводу. Рой пристально наблюдал за ней. Оба не скрывали своей радости.* * *
В отеле «Блейк» останавливалась самая шикарная публика — Мадлен прочла об этом в журнале «Она». Поэтому пять недель назад, сойдя с поезда, уговорила Пола поехать туда. Двое суток они наслаждались друг другом в гостиничном люксе и мечтали, на что станут тратить деньги, а на третий день отправились в «Каунтс Бэнк» на Стрэнде: Мадлен слышала, будто там держит деньги сама королева. Пол предоставил ей самой всем распоряжаться — правда, настоял на том, чтобы открыть два отдельных счета. Не то чтобы он собирался прикарманить часть денег, просто понимал: нельзя держать три четверти миллиона фунтов на одном счету. Пока Мадлен совершала покупки и подыскивала себе агента, Пол регулярно наведывался в «Каунтс Бэнк». Мадлен понятия не имела о его мудрых инвестициях. Было условлено, что если ее текущий счет опустится ниже условленного минимума в две тысячи фунтов, счет пополнится выручкой от продажи акций и ценных бумаг. И так несколько раз, пока она не спустит весь капитал — в чем Пол нисколько не сомневался. Для начала агентство по продаже меблированных коттеджей списало со счета Мадлен триста пятьдесят тысяч; к этой сумме прибавились взятки агентам по торговле недвижимостью. Пола забавляла манера Мадлен пускать в ход деньги, чтобы пробраться сквозь бюрократические рогатки. И как же мало требовалось усилий, чтобы уговорить людей взять их! Было бесполезно убеждать Мадлен, что в половине случаев это было совершенно не обязательно. Дорого бы он дал, чтобы увидеть выражение лица Дейдры Крэбб, когда Мадлен предложит ей взятку! В отличие от Мадлен, Пол знал, что такое Дейдра Крэбб — она работала с лучшими из лучших. Он ожидал, что Дейдра выставит Мадлен за дверь, а та осыплет ее ругательствами и тем самым усугубит положение. Какое-то время он мысленно смаковал непристойности, которые будут вылетать из прекрасного рта Мадлен. Потом ему надоело, и он вернулся к «Литературному справочнику». Пол О’Коннелл был единственным сыном Хэммонда О’Коннелла, крупного банкира, владельца отелей и покровителя искусств. В детстве Пол представлял из себя то, что называется «балованное дитя». Когда он появился на свет, родителям было за сорок, и они исполняли все его прихоти, а после их смерти эстафету приняла тетка. Теперь ее тоже не было в живых; унаследованных Полом поместий и капитала хватило бы на роскошную жизнь, если бы он пожелал в нее окунуться. Но за последние пару лет он и не притронулся к этим деньгам. Богатство было чем-то привычным; его манило неизведанное. В двадцативосьмилетнем возрасте он явился в Бристоль с одной спортивной сумкой и полусотней фунтов в кармане. Он сменил нескольких любовниц, и наконец Мэриан спасла его от полного краха — во всяком случае, так ей казалось. На самом деле в момент их знакомства Пол жил в районе Сент-Джордж с женщиной, чей муж вкалывал на Востоке. Эта связь устраивала Пола до тех пор, пока его любовница не воспылала бешеной страстью и не объявила (когда он позвонил ей из Лондона), что открылась мужу и потребовала развода. Пол почувствовал; пора сматывать удочки. Умело манипулируя Мэриан, он внушил ей мысль предложить ему поселиться вместе с ней и ее кузиной. Он с самого начала решил влюбить в себя Мэриан — в расчете на то, что ее обожание и его собственное благодарное чувство к ней явятся ценным материалом для психологических опытов. Более того, он и сам увлекся, хотя и в меру. Мэриан благотворно влияла на его литературные занятия. Однако Мадлен и история с чеком предоставили Полу возможность нового захватывающего исследования человеческой натуры — он не смог устоять. Ему как литератору доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие провоцировать людей на неожиданные поступки. Какое наслаждение — ставить себя и других в невероятные ситуации и беспристрастно наблюдать со стороны за своей и чужой реакцией на шок, трагедию или нечаянную радость. Подобная отстраненность стала для Пола предметом особой гордости, так же как и умение манипулировать людьми. Интересно, как далеко он сможет зайти? Внезапно справочник полетел в угол. Пол всегда — всегда! — добивался своего, но печататься оказалось сложно. И чрезвычайно утомительно. Зазвонил телефон. Они с Мадлен условились, что трубку будет брать только она. Это была предосторожность против Мэриан — если ей удастся напасть на их след. Когда телефон затих, Пол пожалел, что не снял трубку: окажись это и вправду Мэриан, он был бы не прочь поболтать с ней. А представить себе реакцию Мадлен!.. Простушка Мадлен! Покладистая и невероятно тщеславная. Уговорить ее украсть у кузины и деньги, и возлюбленного оказалось так легко, что он был даже разочарован. Дай он себе труд задуматься, он пожалел бы Мэриан, но все эти события уже вплелись цветными нитями в узор его жизни. Возможно, он вернется к Мэриан — в свое время. Несколькими минутами позже явилась Мадлен. Швырнула сумочку на кровать и закружилась по комнате. — У меня есть агент! И не какой-нибудь, а Дейдра Крэбб! Пол не стал скрывать свое удивление, чтобы не лишать Мадлен удовольствия. — Что я тебе говорила! Все имеют свою цену, даже Дейдра Крэбб! Ну как я? Эй, Пол, ты ничего не скажешь? Он лег на кровать и, заложив руки за голову, уставился в потолок. — Ты только что звонила из вестибюля — это была проверка? В глазах Мадлен полыхнул гнев. — Это все, что ты можешь сказать? Пол кивнул. — Ну а теперь, когда я выдержал проверку, может быть, ты объяснишь, почему так долго поднималась в лифте? Мадлен моментально смягчилась и с задумчивым видом присела на уголок тумбочки. Что ж, пусть подумает. За те пять недель, что они прожили вместе, Пол постоянно наблюдал за Мадлен, анализировал каждое слово, каждый жест в попытке определить, что ею движет. Разгадка все время ускользала, пока его не осенило: во всем, что касалось Мадлен, и не может быть никакой разгадки, потому что она — ничто. Она напоминала ему русскую матрешку: откроешь, а там точно такая же, только поменьше. И третья, и четвертая, и наконец — пустота. Без обольстительного тела и смазливой мордашки Мадлен ничего из себя не представляла — абсолютный ноль. Зато матрешка целиком и полностью в его власти, он волен делать с ней все, что заблагорассудится. Его власть над ее жизнью была абсолютной даже в разлуке. Только он мог вызвать в ее глазах тот неотразимый взгляд, который переворачивал ему душу, сколько бы они ни занимались любовью. Мадлен неторопливо расстегивала кофточку, под которой, как он и ожидал, ничего не было. — Кто был с тобой в лифте? — спросил Пол, загораясь при виде ее великолепных грудей. — Лифтер. — Он пожирал тебя глазами? — О да. — Что ты сделала? — Вот что. — Мадлен подошла к кровати и, взяв его руку, положила себе на грудь. Потом, лежа рядом с ней на ковре, Пол размышлял о лифтере. Он знал: в словах Мадлен нет ни грана правды, — но все-таки возбуждался от ее фантазий. Не то чтобы Мадлен была неспособна испытать силу своих чар на лифтере — просто лифт в «Блейке» был автоматическим. — А ты? — спросила Мадлен немного погодя, принимая ванну. — Чем занимался? Есть какие-нибудь успехи на литературном фронте? Нашел агента? Он придержал бритву и покачал головой. — Нет еще. Какое твое первое задание? — Понятия не имею. — Мадлен вытащила из воды покрытую радужными пузырьками стройную ногу. — Дейдра обещала позвонить. — Значит, ты все-таки рассталась с десятью кусками? — Пол, я ей верю. Она сказала, у меня редкий дар. Я поднимусь на вершину славы. — Еще бы. За десять кусков можно сказать все что угодно. Чем ты будешь заниматься? — Всем понемногу. Например, сниматься обнаженной… Пол помрачнел. — Смотри только, когда на тебя станут пялиться, не забывай, что ты — моя собственность! Она закрыла глаза и запрокинула голову. Пол схватил ее за руки. — Слышала, что я сказал? — Слышала, — промурлыкала Мадлен. — Скажи это еще раз! Он покрыл ее руки поцелуями. — Ты достала меня, Мадлен Дикон. Я никогда не чувствовал ничего подобного — ни с одной женщиной. Я тебя обожаю. Она тихо лежала в ванне; слова Пола казались ей утонченными ласками. — Мы вместе, — выдохнула она. — Прославленная красавица и знаменитый писатель. Мы покорим весь мир! Про себя она добавила: «И эта курица Мэриан будет кусать себе локти. Так ей и надо!» Пол отпустил ее руки. Она открыла глаза. — В чем дело? — Твоя красота сама говорит за себя, Мадлен, но вдруг из меня не получится писателя? Выскочив из воды, она обвила его шею руками. — Получится, я уверена! Просто для этого нужно время. — Нельзя исключить неудачу. Нет-нет, молчи, я хочу, чтобы ты подумала. Не могу высказать, как меня трогают твои честолюбивые замыслы. Я и сам хочу забраться на самый верх. Но нужно быть готовым и к поражению. Спроси себя: будет ли тебе нужен несостоявшийся писатель? — Он поцеловал ее в кончик носа, высвободился и хотел отойти, но, увидев выражение ее лица, вернулся и нежно поцеловал в губы. Но что бы она ни делала с его сердцем, Пол был намерен довести спектакль до конца. Сделаны первые шаги; сцена готова для чего угодно. Мадлен — инструмент; он станет играть на ней, баловать и наказывать ее. Она будет его рабой, его мелодией, пока не смолкнет музыка. (обратно)Глава 9
На Центральном вокзале Флоренции Дейдру никто не встретил. Майское солнце припекало как раз в меру, поэтому она решила пройтись пешком, чтобы вновь насладиться самым любимым городом на свете. Когда Дейдра добралась до здания на левом берегу Арно, ставни были закрыты. Как глаза, подумала она, всматриваясь в балкон со стальными ажурными перилами и цветущей в горшках геранью. Она открыла дверь парадного своим ключом и поднялась по пыльной каменной лестнице на третий этаж. Квартира встретила ее полумраком и спертым воздухом. Дейдра открыла окно и выглянула, чтобы полюбоваться видом на реку. В квартиру вместе с потоком золотых солнечных лучей ворвался неумолкающий гомон флорентийских улиц. Это бесспорно была квартира художника. На губах Дейдры появилась снисходительно-гордая улыбка. Большая часть картин была ей незнакома, но она узнавала отдельные детали, взятые у Беллини, Джорджоне, Карпаччо и других мастеров Возрождения. Здесь же висели эскизы, выполненные углем или карандашом; по запаху она догадалась, что недавно он работал темперой. В спальне было пусто; кровать не разобрана. Дейдра вздохнула. Как бы не прождать напрасно. Он приехал в полдень следующего дня. Дейдра была в ванной — стирала его одежду и вывешивала за окном для просушки. — Ах, cara[5]. Ты заботишься обо мне, а я забыл о твоем приезде. — Где ты пропадал? Он был небрит; изысканный черный костюм помят и осыпан мраморной крошкой. — В мастерской. Было много работы. — Он коснулся ее подбородка и заглянул в глаза. — Понимаешь? Конечно, она понимала. — Должно быть, ты голоден. Сейчас приготовлю спагетти. Он засмеялся. — Я так соскучился, cara, может, сначала займемся любовью? Потом, когда Серджио уснул, Дейдра долго любовалась его мускулистым телом. В сорок лет его красота стала еще более загадочной и неотразимой. И все так же разрывала ей сердце. Любить его всегда было больно, но это не шло ни в какое сравнение с возможной катастрофой, если бы она его потеряла. Семь лет назад Рой с Дарио познакомили их во Флоренции, но теперь ей не верилось, что было время, когда ее жизнь не была до краев заполнена любовью к этому человеку. Если бы Серджио позволил, она бы все бросила и поселилась с ним, но он воспротивился. Рой объяснил Дейдре, что Серджио Рамбальди — не такой, как другие, и если она хочет его удержать, нужно принимать его таким, какой есть. Вот его условия: никаких свадеб; они будут вместе не дольше трех недель подряд и не станут заводить детей. Он обещает верность, но любое давление с ее стороны чревато полным разрывом. — Но он хоть любит меня? — взмолилась Дейдра. Рой посмотрел куда-то мимо нее; она обернулась и увидела идущего к ним Серджио. Он протянул руки, и она ринулась в его объятия. — Да, я люблю тебя, cara, но не могу позволить тебе встать между мной и моей работой. Дейдра знала: за любовь нужно платить. Ей предстояло заплатить высокую цену, но она так любила его, что согласилась. Серджио еще спал. Дейдра встала и пошла готовить спагетти. Потом разбудила его и поставила поднос прямо на кровать. Пока он ел, она сидела рядом, вытирала ему салфеткой губы и смеялась, когда он морщился. — У тебя хорошее настроение, — заметил Серджио. — Да. — Из-за Мадлен? — Ты знаешь о Мадлен? — Дарио рассказал мне. Дейдра подперла ладонью подбородок. — Я счастлива. Потому что люблю, потому что я с тобой. — Надолго приехала? — Навсегда, если позволишь. Он помрачнел, и она в ту же секунду поняла свою ошибку. — Мне через несколько дней на работу. Отставив тарелку, он наклонился и провел руками по ее роскошной гриве. — Расскажи мне о Мадлен. Беспокойные темные глаза прожигали Дейдру насквозь, проникали в потаенные уголки ее души. Она поперхнулась воздухом и откинулась на спину, не в силах выдерживать этот пристальный взгляд. Нужно притвориться спокойной. Серджио встал. Она изо всех сил старалась не смотреть на его могучие плечи и стройные мускулистые ноги. Вернувшись, Серджио стал делать наброски, а Дейдра сидела рядом и рассказывала о Мадлен. Эпизод с раздеванием его рассмешил; на душе у Дейдры потеплело. — Она просто чудо! Встретив ее на улице, ты не обратишь на нее внимания: подумаешь, стандартная красотка! Хотя нет. В ней есть что-то такое, что побуждает взглянуть еще раз. Она ленива, напыщенна — и прямо-таки расцветает от чужого восхищения. При этом у нее такой вид, будто ее безмерно удивляет, что вы только сейчас оценили ее неизъяснимую прелесть. Впервые встречаю девушку, которая бы так упивалась сознанием своей красоты. Заметив, что Серджио слушает вполуха, она сделала паузу. Погладила его ногу. Он не шевельнулся: работа захватила его целиком. — В то же время Мадлен действительно не похожа на других. Трудно сказать, в чем тут дело, но бывает, сексуальность прямо-таки сочится у нее изо всех пор. И взгляд… Даже на меня подействовало. — Она начала массировать ему икры. — Если бы не этот взгляд, ее можно было бы упрекнуть в вульгарности. Вообще-то она и впрямь вульгарна, но мы над этим работаем. Я еще не решила, переделывать ли ее выговор: деревня деревней! Конечно, это не имело бы значения, обладай она хоть капелькой ума. Но, на ее несчастье, — и к счастью для меня — этого нет и в помине. — Почему «к счастью для тебя», cara? — Мадлен платит нам, чтобы мы вознесли ее на вершину славы! Она бы и так прославилась, но деньги упрощают дело. Не так-то просто — убедить редакторов эротических журналов в последнюю минуту заменить разворот или обложку — но деньги Мадлен окупятся сторицей. Рой полагает, если все хорошенько рассчитать, к лету — самое позднее к концу этого года — Мадлен будет пользоваться мировой славой. Серджио перестал рисовать и откинул голову, любуясь своей работой. — Для тебя это будет большим достижением. Я прав? — Да. Карандаш снова забегал по листу бумаги. Дейдра зевнула. — Вот кого я не до конца раскусила, так это ее возлюбленного. Мы навели справки — хотели установить происхождение богатства Мадлен, — и оказалось, что я его знаю. Вернее, мои родные знали его родных лет пятнадцать — двадцать назад. Если не ошибаюсь, имел место какой-то скандал из-за гибели его родителей, но благодаря деньгам его быстро замяли. Не помню, в чем там было дело. Так или иначе, в юном возрасте он унаследовал огромное состояние, включая то, что оставила тетка. Теперь он стоит несколько миллионов. И вот что интересно: он не тратит эти деньги — только на поддержание поместий. И все — даже проценты не берет. Так что нельзя сказать, будто он ее содержит. Скорее наоборот. Он писатель. — Недурно для ее имиджа. — Да, если бы он печатался. Я поручила это Рою. Мы ухитрились вставить их обоих в колонку светской хроники, и, откровенно говоря, я жду, что он произведет не меньший фурор, чем сама Мадлен. Если бы я была на десять лет моложе и не любила тебя, Пол О’Коннелл мог бы заставить мой пульс биться чаще. Рука Серджио дрогнула; он смазал лик Мадонны. — Как, ты сказала, его зовут? Дейдра перевернулась на живот и весело заболтала ногами в воздухе. — Пол О’Коннелл. А что? Только не говори, что ревнуешь: все равно не поверю. Из-за опущенных век она не видела глаз Серджио, но обратила внимание, что у него дрожат руки. — Серджио? Наконец он поднял лицо — не лицо, а красивую маску. Глаза помутились. Из него как будто ушла жизнь. — Серджио! — выдохнула она, чувствуя, как по спине побежали мурашки. Он встал с кровати; Дейдра на расстоянии ощутила, как напряжено его тело. — Пойду приму душ, а потом прогуляемся по солнышку. — Серджио! Почувствовав ее тревогу, он как будто смягчился. Зловещая аура начала таять. — Тебя огорчает моя ревность? Да, я ревнив, но, конечно, не имею на это никакого права. Ты так соблазнительна с распущенными волосами, так желанна! Похожа на Пандору Росетти. Такой я представляю тебя в разлуке. Дейдра протянула к нему руки; ей стало легче дышать. Давно уже Серджио не представал перед ней таким непостижимым. Шестое чувство подсказало ей, что нельзя ни о чем спрашивать. Она расслабилась в его объятиях. Они пробыли вместе три дня, больше ни разу не упомянув о Мадлен и Поле — вплоть до того момента, когда он привез ее на вокзал. Отойдя от кассы, Дейдра не выдержала: — Серджио, ты знаешь Пола О’Коннелла? — Кого? — Пола, возлюбленного Мадлен. — Откуда, cara? — Не знаю. Просто на тебя так подействовало его имя. В этом было что-то странное. — Да? Не помню. Ты же знаешь нас, художников. Все мы со странностями. — Да. Она радостно ответила на его поцелуй. И только в поезде, мчавшем ее в аэропорт в Пизе, отдала себе отчет в том, что Серджио не подтвердил и не опроверг прямо, что знает Пола. — Какая тебе разница? — спросил Рой, с которым она поделилась своими сомнениями. — Не знаю. Просто меня поразила его реакция. — Какая именно? — Трудно сказать… Понимаешь… на какую-то долю секунды мне стало страшно. — Ради Бога, Дейдра, перестань драматизировать! — В нем появилось что-то потустороннее… как будто он умер и осталась одна оболочка. Рой разразился хохотом. Досадливо кривя губы, Дейдра стала просматривать стопку фотографий. — Все ясно! — весело произнес Рой. — Пол О’Коннелл — двойник Серджио Рамбальди. Хороша версия? — Не смеши. Кстати, ты знаком с Полом — что он из себя представляет? — Нормальный парень. Когда рядом нет Мадлен, корчит из себя интеллектуала. Но это не самый страшный недостаток. — Ох уж этот Дарио, — пробормотала Дейдра. — Снимки вполне техничны, но ему не удалось уловить взгляд. — Удалось, — возразил, входя в комнату, фотограф и протянул ей другой конверт. — Взгляни на это. Дейдра взглянула, и у нее поднялось настроение. — Черт! Как это у нее получается? — Она отложила фотографии в сторону. — Еще немного — и я стану умолять тебя швырнуть меня на диван и дать волю животным инстинктам. — Всегда готов. Но вернемся к Полу. Я связался с тем твоим приятелем, Филиппом Хавзом. Он хочет встретиться с обоими — Полом и Мадлен. Посмотрим, что он скажет. — «Посмотрим, что он скажет»! Разве ты не предложил ему… — Предложил. И он взял, так что считай, что у Пола уже есть литературный агент. Кому ты звонишь? — Мадлен. Хочу предупредить, что в четверг у нее съемка для «Сан». — Ее уже предупредили. — Значит, скажу о своем приезде. — Заодно спроси Пола, знаком ли он с Серджио. — Зачем? — Не ты ли пять минут назад умирала от любопытства? — Я? — Дейдра передернула плечами. — Ну так я не умерла. Даже если они знакомы — какая разница? У Роя отвисла челюсть. — Ох уж мне эти женщины!* * *
С тех пор как Дейдра Крэбб взяла Мадлен под свое крылышко, Мадлен с Полом чуть ли не каждый вечер кутили напропалую. Ужинали в шикарных ресторанах, танцевали в клубах для избранных, до зари щекотали себе нервы азартными играми. Вокруг них вечно увивались фотографы; плиссированная юбка и гольфы Мадлен вызывали ажиотаж. Один фотограф поймал ее своим объективом, когда взметнувшийся подол юбки открыл взору узенькую полоску вместо трусиков. А снимки, запечатлевшие, как она танцует с членом королевской семьи, мгновенно появились во всех бульварных листках. Благодаря связям Роя и Дарио имя Мадлен замелькало в колонках светской хроники. — Это я! Я! — визжала она, развернув газету. — Что ты об этом думаешь, Пол? Я хорошо вышла? Нет, мне больше понравилось во вчерашнем номере — волосы выглядели эффектнее. Смотри — ты тоже здесь! Где это нас засекли? Наверное, когда мы выходили из ресторана… как он назывался? Ага… вот та пара, что пригласила нас… куда они нас пригласили? Пол! И ему приходилось, оставив машинку, рассматривать снимки, говорить комплименты, целовать ее, а потом возвращаться к работе. Мадлен упивалась своей новой жизнью. Ей было некогда вспоминать Бристоль, Мэриан или тетю Селию: они принадлежали далекому прошлому. В те редкие моменты, когда в ней просыпалась совесть, Мадлен загоняла эти образы в дальние уголки памяти и шла к зеркалу. Там она тренировалась: улыбалась, хмурилась, надувала губки, ела, а однажды даже поплакала. Это было после того, как Пол вытащил ее из ночного клуба и отхлестал по щекам за то, что она позволила рок-звезде, дружку Роя, себя лапать. Столь резкое проявление ревности до того возбудило Мадлен, что она чуть не отдалась ему прямо в такси. А дома с удивлением обнаружила, что Пол еще сердится. — Ты ведешь себя как шлюха! — рычал он. — А знаешь, почему? Потому что ты и есть шлюха. Мэриан ни за что так себя не опозорила бы! Мадлен опешила. Атака была так внезапна и груба, что ей только и оставалось, что хлопать ресницами. Она-то думала, что они довершат начатое в такси! Но Пол швырнул на тумбочку ключ и велел ей убираться, пока он не врезал ей еще раз. Она пошла в ванную и стала отрабатывать перед зеркалом эффектный плач — не забывая обдумывать план мести. Он еще поваляется у нее в ногах! Но, пробыв в ванной более получаса, она забеспокоилась: Пол не спешил пресмыкаться. Мадлен отперла дверь — он по-прежнему ничего не предпринимал. Она испугалась, что он ушел, и прокралась в спальню. Пол сидел на кровати. — Пол? Он протянул ей одну руку. Она ухватилась за нее и, пав на колени, стала покрывать поцелуями. — Прости, Пол! Я не имела права так поступать. Я не подумала. Он вырвал руку и посадил Мадлен на колени. — Это я не имел права. Но я так дико ревновал, просто ничего не мог с собой поделать. — Зажав ее лицо ладонями, он впился ей в губы жгучим поцелуем. — Пусть эти недоноски пялятся на тебя, Мадлен, но, ради Бога, не позволяй им до себя дотрагиваться! — Нет, нет! — всхлипывала она. — Никогда! — Случись рядом фоторепортер, это была бы сенсация номер один! Его рука у тебя под юбкой! Неужели ты не понимаешь, что выставила меня на посмешище? Она закивала. — Я ни за что не оставил бы Мэриан ради любой другой женщины, кроме тебя! Не вынуждай меня возвращаться к ней! Ее глаза расширились от ужаса. — Нет! Нет! Не говори так! Я люблю тебя, Пол! Это не повторится, обещаю! — Ладно. — Он обнял ее и поцеловал в макушку. — Все в порядке. Я люблю тебя, я с тобой. Прости, что поднял на тебя руку. Я возмещу тебе этот ущерб, дорогая. Сегодня вечером устроим интимный ужин — только ты да я. Отметим окончание первой ссоры. Мадлен захихикала и отерла слезы. Пол уже расстегивал брюки.* * *
Наутро Пол испытал тяжкое похмелье. Он понимал: нельзя столько праздновать — отмечать каждый пустяк, — иначе ему ни за что не закончить второй роман. Однако наслаждение, которое ему дарила Мадлен, превзошло все ожидания. И потом, она представляла неоценимый материал для книги. Сейчас она командовала установкой шкафов в спальне. Сперва выложила триста пятьдесят тысяч фунтов за дом с мебелью, а теперь прибегла к услугам самого дорогого мебельного салона, чтобы сменить обстановку. Ну ладно, хорошо уже и то, что она встретила рабочих одетой. Вчера вечером ей вздумалось отдаться ему в ванной, не запирая двери, а если кто-нибудь зайдет — так даже интереснее. К счастью, она как будто забыла об этом и спокойно руководила рабочими, а Пол лежал на тахте, которая раздражала бы его безвкусной обивкой, если бы не похмелье. Молодец все-таки Мадлен: подыскивая жилье, не забыла о его удобстве. Кабинет был что надо, а обставит его он сам, по своему вкусу. Мадлен сунула голову в приоткрытую дверь. Даже с подобранными волосами, без косметики и в мешковатой рубашке с короткими рукавами, все время съезжавшей с одного плеча, она ухитрялась выглядеть обольстительной. — Я за продуктами. Присмотришь за ними, ладно? Пол закрыл глаза и, махнув рукой, приготовился услышать, как отъезжает взятый напрокат автомобиль: два новеньких, купленных Мадлен, еще не пригнали из салона. Хорошо, что он поехал тогда вместе с ней, иначе она отхватила бы «порше» или, чего доброго, «роллс-ройс». А так она выкинула сто тысяч за «рейндж-ровер» для него и «мазерати» для себя. Покупкой машин они отметили первое выступление Мадлен в качестве модели и то, что у Пола появился литературный агент. Сколько же времени прошло с тех пор, когда Мадлен привела к ним в «Блейк» друга Дейдры, Филиппа Хавза, одного из авторитетнейших независимых литературных агентов страны? Да, порядочно. И тем не менее издатель продолжал хранить молчание. Пол не заметил, как уснул, а когда проснулся в шесть часов вечера, Мадлен сидела возле новой плиты, перелистывая журналы и репетируя свои ответы воображаемому репортеру: она начала заниматься этим после того, как Дейдра предложила ей потренироваться перед телепередачей. Пол поморщился как от боли. На сей раз его заставило страдать не похмелье, а вид безвкусных финтифлюшек, которыми Мадлен нашпиговала их жилье: медных лошадок, фарфоровых балерин в пачках, пластмассовых цветов, изображений плачущих детишек. Он тяжело поднялся и пошел к камину за сигаретами. И вдруг наступил на большую плюшевую собаку. — Идиот! — взвизгнула Мадлен, ринувшись поднимать свое сокровище. — Какого черта она здесь валяется? — Я положила, чтобы не забыть взять в машину, когда ее доставят. Это стало последней каплей. Пол закурил. — Попозже, Мадлен, мы с тобой потолкуем о деньгах — и о вкусе. Где рабочие? — Уже слиняли. Хочешь посмотреть, что получилось? — Не думаю, что я к этому готов. Пока с меня достаточно этой комнаты. — Что тебя не устраивает? — Все. Ты была в банке? — Я заблудилась. А когда выехала на Стрэнд, не нашла места для парковки. — Чем же ты расплатилась с рабочими? В ее глазах вспыхнули озорные огоньки. Пол внутренне сжался. Сейчас она скажет, что позволила ласкать свои груди. Зная Мадлен, он понимал, что скорее всего она ограничилась демонстрацией, но ей хочется его завести. А ему не до любовных утех. — Пойду приму душ. Он вошел в ванную — и тотчас попятился назад. С позолоченными кранами он бы еще смирился, даже с розовой пластиковой занавеской, но с портретом королевы — ни за что! — Убери сейчас же! — Не смей на меня кричать! — Выбирай, Мадлен: или эта фотография, или я. То же самое относится к любой другой дряни, которыми ты «украсила» этот дом. — Как ты можешь называть королеву дрянью? — Дрянь — это когда королева висит в ванной. Нашла тронный зал! — Я думала, это остроумно. Пол застонал. — Ты живешь не в какой-нибудь дыре, где пишут письма на линованной бумаге (намек на объяснительную записку, посланную ею после того как она пропустила фотосъемку) и прыскают в комнатах освежителем воздуха. Заруби себе на носу! — Мне нравится освежитель воздуха! — огрызнулась она. — И королева нравится! Она останется здесь. Пол посмотрел на ее лицо. Сложная гамма отразившихся на нем противоречивых чувств заставила его расхохотаться. Видит Бог, он не хотел мучить Мадлен, но не упускать же удобный случай! Он сел на крышку унитаза и огляделся. — Даже у Мэриан больше вкуса. — Не смей произносить при мне ее имя! Только и знаешь, что колоть мне глаза! Вчера, например — этот треп о… как это называется?.. — Метампсихоз. Переселение душ. Мэриан поняла бы. — Еще бы! Такая же зануда! Пол понимал: жестоко попрекать Мадлен ее убийственным скудоумием, но она так легко поддавалась на провокации — одно удовольствие! — Тоже мне вкус! Напялит мешок от Лоры Эшли, чтобы скрыть свой толстый зад. Палец о палец не ударит, чтобы выглядеть хоть чуточку привлекательнее. — Ну почему же, она старается… — Да? Ты когда-нибудь видел, чтобы она выщипывала брови или красила ногти? Чокнутая! Только и умеет, что трепаться о высоких материях, а ты ее поощрял. Брала бы пример с меня — сейчас не кусала бы локти. Маленькая сучка! Вечно носилась со своим университетом — только потому что я не получила высшего образования. Всем надо знать, какие у нее расчудесные мама и папа — лишь бы меня унизить. Ничтожество! Если она и осталась одна, так потому что не заслужила ничего другого. С какой стати мне ее жалеть? Пол вздернул брови. — Вот как, Мадлен, тебя мучают угрызения совести? Это что-то новое! — О чем ты говоришь? — окрысилась она. — У Мэриан гораздо больше достоинств, чем ты думаешь. Красота, знаешь ли, еще не все. — Красота, а потом — деньги, и не забывай, пожалуйста, кто за все платит. Заткнись насчет Мэриан! Хлопнув дверью, она бросилась в спальню. Нечего Полу колоть ей глаза этой хронической неудачницей! Пока она, Мадлен, выступала в кабаках со стриптизом, чтобы заработать деньги, эта дура корпела над учебниками, чтобы получить диплом, от которого абсолютно никакого толку. Пусть теперь не жалуется, что осталась одна, ей пойдет на пользу. А если не выдержит, при чем тут Мэд? Не может же она всю жизнь нянчиться с этой недотепой, своя рубашка ближе к телу. У нее все так отлично складывается, что просто не верится! Во всех газетах ее называют очаровательной, великолепной, неподражаемой — и, что гораздо важнее, у нее есть Пол. Так при чем тут Мэриан? Спустя час, приняв ванну и побрившись, Пол вошел в спальню и застал Мадлен в слезах; в то же время она пристально изучала свое отражение в зеркале. Он сел на кровать и посадил ее к себе на колени. — Прости. Я не хотел тебя обидеть. — Тогда зачем снова заладил про Мэриан? Ты вроде бы сказал, что она тебя больше не интересует? — Так и есть. Ну не плачь. Завтра у тебя боевое крещение — ты же не хочешь выйти с опухшим лицом? Ему не безразлично, как она будет выглядеть в свой великий день!Этого было более чем достаточно, чтобы Мадлен успокоилась и с обожанием посмотрела на Пола. Тот нежно поцеловал ее в губы. — Ну вот. А теперь покажи мне самые сногсшибательные позы, которыми ты собираешься очаровать публику. Она помотала головой. — Сперва объясни, что такое мета… психоз… Ну, ты понимаешь. — Ладно. После того как ты расскажешь, каким способом отблагодарила рабочих.* * *
Утром Мадлен поднялась ни свет ни заря. До трех часов ей было нечего делать в студии, так что она собиралась позагорать, а потом пообедать вместе с Полом. Она безмерно гордилась их единением. Наконец-то у нее есть человек, которого она может считать своим и любить от всего сердца, а не из благодарности, как тетю Селию или Мэриан. Мадлен гнала от себя мысли о том, что Пол может бросить ее, как родители; лезла из кожи вон, стараясь подучиться, показать ему, что его карьера значит для нее не меньше, чем для Мэриан, — даже больше. Вернувшись домой из салона красоты, Мадлен нашла записку: Пол предлагал встретиться в баре «Жюли». Она была разочарована: хотела похвастаться загаром перед тем как отправиться в Уэмбли, — зато дочитав записку до конца, едва не подпрыгнула от радости. Пол отправился на встречу с агентом! Издательство «Фримантл» заинтересовалось его книгой! Она довольно рано приехала в «Жюли» и решила пока полистать кем-то оставленную на столе газету. Правда, она не особенно вникала в смысл того, что читает: больше поглядывала по сторонам — какое она производит впечатление? Едва Пол вошел в зал, она поняла, что у него паршивое настроение. Он даже не поцеловал ее, а плюхнулся на стул и начал с деланным энтузиазмом разглагольствовать о художественных образах, мотивировках, композиции — словом, о непонятных для нее вещах. — Видите ли, — рычал Пол, — если я сделаю Джимми Пенна богатым юношей, чтобы о нем могли мечтать читательницы, — тогда роман напечатают! Мадлен обвила руками его шею. — Говорила я тебе, что как только мы попадем в газеты, ты найдешь издателя. Он резко отстранил ее. — Ты не слушаешь. Этот чертов редактор требует существенных правок! — А ты откажись. — Тогда он не напечатает. — О! — Сейчас явится Филипп Хавз, я скажу ему все, что думаю о Гарри Фримантле. — Ни в коем случае! Нужно быть осторожным. — Черта с два! Это мой роман. Я думал об этом всю дорогу и принял решение. Да брось ты эту чертову газету! — Не трогай! Я еще не дочитала свой гороскоп. — Ради всего святого! — взорвался Пол. — Хочешь узнать свой? Ну-ка, что тут написано про успех в делах? Пол вскочил на ноги; Мадлен взвилась следом, точно пружина. Он стряхнул ее с себя. К счастью, в это время появился Филипп Хавз. Мужчины обменялись рукопожатием. Мадлен пришлось согнуться в три погибели, чтобы клюнуть агента в щеку. За обедом Мадлен прилагала бешеные усилия, чтобы понять, о чем они толкуют. Зная, как это важно для Пола, норовила вставить ободряющую реплику, но на нее не обращали внимания. Потом, когда официант убрал со стола и принес кофе, Пол вдруг с силой хватил кулаком по столу и воскликнул: она и есть — ключ к проблеме! Филипп смутился и покачал головой, но Пол продолжал вести себя так, будто сделал важное открытие. Мадлен так ничего и не поняла, но поскольку время приближалось к двум часам, собралась уходить. Пол проводил ее до машины. — Убей их своей красотой, — сказал он и захлопнул дверцу. Мадлен опустила стекло, и он нагнулся, чтобы запечатлеть на ее губах страстный поцелуй. — Скажи, что ты меня любишь. — Я люблю тебя, Пол. Другие будут любоваться моим телом, но принадлежать оно будет тебе одному. Он слегка коснулся ее груди. — Смотри же, помни об этом! Жду тебя дома.* * *
На студии Мармота какой-то прыщеватый юнец, который не мог сказать слова, чтобы не хихикнуть, провел Мадлен по лабиринту коридоров. Она поинтересовалась, зачем над многими дверями горят красные лампочки, а узнав, что это означает — «Осторожно: идет съемка!» — спросила, нельзя ли поглядеть хоть одним глазком. — Нельзя. Фотографы не любят, когда взрослые подсматривают. — Даже модели? Он наморщил лоб и оглядел ее с головы до ног. — Ты — модель? — А кто же еще? Он озабоченно поскреб макушку. — Разве ты не Сандра Тернхем из Сент-Ивеля? — Ясно, нет. — Кто же ты? От гнева у нее раздулись ноздри. — Мадлен Дикон. Парень изумленно воззрился на нее. — Ну да… Тебя будут снимать для третьей страницы. Черт, не туда пошли. Сегодня от «Сан» работает Герби Проссер, шестая студия. Сейчас он занят с Фей Брод, так что успеем в гримерную. Мадлен последовала за ним по коридору, потом вверх по лестнице и наконец в дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». В комнате все было ослепительно белым: кафель, стулья, освещение, рамы на окнах, даже небрежно разбросанные полотенца. Здесь уже были три девушки: две стирали перед зеркалом грим, а третья натиралась кремом для загара. Все три — в чем мать родила; ни одна и глазом не моргнула при виде парня. Он крикнул: — Крисси! Одна из девушек встала и прошлепала к умывальнику, бросив по дороге мимолетный взгляд на Мадлен. Та улыбнулась. На лице девушки, словно высеченном из камня, не дрогнул ни один мускул. — Крисси! — Пошла за кофе, — ответила девушка с кремом для загара. — Тогда я тебя оставлю, — обратился парень к Мадлен. — Позову, когда Герби освободится. Примерно через полчаса. Дон, ты готова? Дон отложила крем и, сняв с крючка на двери халат, вышла вместе с ним. Мадлен ни за что не ожидала, что будет волноваться, однако у нее засосало под ложечкой. Что делать, что говорить? На выручку пришла девушка перед зеркалом. — Привет. Ты новенькая? Мадлен кивнула. Девушка походила на индианку; бросались в глаза густые, черные как смоль волосы. — Меня зовут Шамира. У Крисси в ее кабинете есть шкаф, повесишь свою одежду. Можешь прямо сейчас раздеться, чтобы потом не задерживаться. Крисси скоро придет. Как твое имя? — Мадлен. — Чем занимаешься? — Вообще-то, — как можно скромнее сказала Мадлен, — я снимаюсь для третьей страницы. — Чего? — «Биржи и рынка»! — съязвила девушка возле умывальника. Мадлен резко повернулась к ней. — «Сан», разумеется. — О-о-о! Предполагается, что мы попадаем от зависти? — Не обращай внимания, — понизив голос, посоветовала Шамира. — Она со всеми так. Кстати, раз ты снимаешься для «Сан», будешь иметь дело с Герби — он педик. Повезло тебе — попасть именно к нему! Я правильно поняла — это твой дебют? — Более-менее. Пару недель назад сделали несколько снимков в студии моего агента. Ее компаньон — фотограф. Ничего особенного. — Она хотела похвастаться впечатлением, произведенным на Дейдру этими фотографиями, но побоялась, что ее сочтут задавакой. — Кто твой агент? — Дейдра Крэбб. Шамира слегка растерялась. — Дейдра и мой агент. Не знала, что она берет таких… — Тут она спохватилась и обратилась ко второй девушке: — Вера, ты слышала? Мадлен — подопечная Дейдры Крэбб. — И шепотом объяснила Мадлен: — Вообще-то ее зовут Линн, а мы дразним Верой, она дико злится. Вера-Линн не удостоила ее ответом. Улыбнувшись Шамире, Мадлен пошла в незапертый кабинет Крисси — раздеться. Когда она вернулась в гримерную, Вера уже ушла, а Шамира мыла шампунем голову. Мадлен села на стул. — А ты чем сегодня занимаешься? — Уже отстрелялась. Рекламировала «Дюбонне» на стадионе в Уэмбли с Рэнди Роджером; слава Богу, присутствовал клиент, иначе мне бы не поздоровилось. Она откинула назад волосы и соорудила тюрбан из полотенца. В это время в гримерную вошла жизнерадостная толстуха с подносом. Увидев Мадлен, она вздрогнула и пролила кофе. — Ты — Мадлен? Извини, что задержалась, не могла найти молоко. Уже разделась? Умница. Меня зовут Крисси. Сейчас позвоню Мервину, что ты здесь. Хочешь кофе? — Кто такой Мервин? — Костюмер. Сделает тебе прикид. На вот, возьми, — она протянула Мадлен пластмассовую чашку. — Дать сахару? Мадлен сделала отрицательный жест головой. Крисси надорвала обертку «Кит-Кат» и вонзила в шоколадку зубы. — Ух, хорошо! Я чуть не умерла от голода. — Она вдруг спохватилась. — Шамира, я тебя не заметила. Дон уже ушла? — Десять минут назад. — Шамира посмотрела на Мадлен и присвистнула. — Ну и ну! Встань-ка, дай полюбоваться. Мадлен грациозно поднялась со стула. — Повернись! Крисси, ты только посмотри на ноги! А грудь! Черт бы тебя подрал, Мадлен! — И снова к Крисси: — Она — совершенство! — Фантастика! — согласилась толстуха. — Пойду позвоню Мервину. Спустя двадцать минут Мадлен подретушировали глаза и нацепили на нее что-то черное — кожаное и резиновое. Сновавшие взад-вперед девушки либо полностью игнорировали ее, либо отпускали ехидные замечания. Мадлен задрала нос кверху и продефилировала перед Мервином, чтобы он оценил свою работу. Это был коротышка с седыми курчавыми волосами и аккуратной бородкой. — Великолепно, Мадлен. А теперь снимай одно за другим. Ты смотришь, Крисси? — Смотрю! — донеслось из-за двери. Потом на пороге возникла сама Крисси. — Так, Морин, правильно… — Мадлен. — Извини, цыпленок. Так, Мадлен, а теперь расстегни молнию — на миллиметр выше лобка… Оголи свой прелестный зад. Мадлен оголила. Мервин кивнул. — Пока все замечательно. Заложи пальцы за края лифчика… так… потяни-ка… сильнее! Послышался треск разрываемой материи, и матерчатые чашечки очутились у Мадлен в руках, а на грудях остались косточки — основа бюстгальтера. — Получилось! — возопил Мервин. — Я — гений! Герби хотел именно этого. Скажешь ему, что у меня есть в запасе еще один вариант: проделать в чашечках глазки для сосочков. Может, ему так больше понравится? Сними лифчик, дорогая. Мадлен сняла. И хотела пожаловаться на тесные сапоги, но Крисси заявила: — Не мешает подстричь. Мадлен резко вскинула голову. — Ни за что! Я не позволю трогать свои волосы! — Не на голове, утенок. Просто подровнять. Явился прыщеватый юнец. — Готово, Мадлен. — Минуточку, Дерек, — вмешалась Крисси и, задрав на Мадлен кожаную юбку, вытащила из кармана ножницы. — Ну вот. Так гораздо лучше. Дай-ка еще раз взглянуть на твое лицо. Мадлен снова надела бюстгальтер, застегнула юбку и вышла вслед за Дереком и Мервином из гримерной. Сзади ковыляла Крисси и все норовила укутать ей плечи пушистым халатом. — Поскольку у тебя это впервые, поприсутствую на съемке. Обычно это делает один из моих ассистентов, но их до пяти не будет. Они вошли в темное помещение с одним-единственным источником света над небольшим помостом. Когда глаза привыкли к темноте, Мадлен различила несколько ходивших из угла в угол человеческих фигур. Потом из-за ширмы выскочил какой-то тип. — Мадлен? Она кивнула. — Это Герби Проссер, — радостно заржал Дерек. — Фотограф. Он пялил на Герби огромные, как блюдца, глаза, но тот не обращал внимания. — Рад познакомиться. Сделаем все просто, без выкрутасов. Посмотрим, что тут Мервин напридумывал. Крисси сняла с Мадлен халат. Герби придирчиво осмотрел ее костюм и рявкнул: — Мервин! — И обращаясь к Мадлен: — Сними эту гадость! Мадлен нерешительно покосилась на Мервина, Мервин — на Мадлен. А потом оба — на Герби. Тот ушел в глубь студии. Мервин засеменил за ним. — Герби, я так старался! — Сними! — повторил фотограф. — Клиентам нужны зады и титьки в натуральном виде. Мервин побитым щенком возвратился к Мадлен. Он и Крисси помогли ей снять юбку и бюстгальтер. Наконец-то она избавится от сапог! — Надень сапоги! Мадлен надула губки, но послушно нацепила на себя орудие пытки. — Пошли! — скомандовал кто-то. Крисси повела девушку к помосту. Ассистент зарядил пару «полароидов» и передал Герби. Тот прильнул к видоискателю. — Руки на бедра! Голову назад! Подними левую ногу! Так. Еще раз. Голову выше. Смотри в потолок. Разверни левое плечо к камере. Отлично. Еще раз. Растопырь пальцы. Кто-нибудь, намажьте ей соски детским кремом. Выше ногу! — и так несколько минут подряд, пока не потребовалось перезарядить камеру. — Расслабься, — уронил Герби. И вдруг завопил во всю мощь своих легких: — Кто там шляется? Никто не ответил, и он вернулся к Мадлен. Она сидела на краю помоста, кутаясь в халат. Рядом Крисси поправляла ей волосы. Герби сел рядом и велел Крисси убираться. — В сущности, — прошептал он Мадлен на ухо, — я всего-навсего добрый старый мишка, чей писк превратился в визг. Они меня ни капельки не боятся — только притворяются. Мадлен радостно улыбнулась. — Ну вот. Это была разминка. Что меня действительно интересует, так это твое лицо. Взгляд. Дарио мне все уши прожужжал, так что не могла бы ты включить его для меня? — Конечно, — ответила Мадлен, хотя на самом деле плохо представляла, что за взгляд такой. Она много слышала о нем от Дейдры, Дарио, Роя, а теперь вот и от Герби. Она вспомнила, как сидела перед камерой и Дарио сыпал командами: — Представь себе своего парня — вот он залезает на тебя! Как его имя — Пол, что ли? — Да. — Ты с ним кончаешь? Я хочу сказать — на самом деле? — Д-да. — Вот и думай о нем: что он делает, чтобы ты кончила. Вообрази, что он здесь, с тобой — и смотри в объектив. И теперь она добросовестно проделала это перед Герби. И только через полчаса, когда он объявил конец фотосъемки, отдала себе отчет в том, что все это время никто не проронил ни звука. Включили свет — и Мадлен оторопела при виде множества зрителей. Все были словно в трансе и не отрывали от нее завороженных глаз. Она нерешительно посмотрела на Герби. Тот испустил протяжный вздох и осклабился. — Теперь я понимаю, почему с тобой так носятся. Даже у меня встал — а этого уже много лет не было. Должно быть, твой парень — это что-то! — Вы знаете про Пола? — Дарио говорил. Прикройся, а то кто-нибудь не выдержит и набросится. Мадлен вернулась в гримерную — на этот раз там было полно народу. Кто-то крикнул: «Это она!» — и все моментально смолкли. Мадлен переводила взгляд с одного лица на другое: сначала растерянно, потом с подозрением и наконец — с обидой. Все они жадно пялились на нее — и все лопались от зависти. (обратно)Глава 10
В небольшом административном здании в районе Дин-стрит в Сохо кипела жизнь. Сновали взад-вперед посыльные, редакторы, гримеры, костюмеры и актеры. Мэриан познакомилась со всеми; все они наведывались в приемную, где она сидела за письменным столом, разбирая почту, принимая факсы, делая ксерокопии и пытаясь освоить телекс, внедренный Стефани сразу после ее приезда. Все телефонные разговоры велись через Мэриан; она переключала их на Стефани, чей кабинет был этажом выше, или Мэтью, если он был на студии. Компаньон Стефани, Бронвен Ивенс, в настоящее время находилась в Америке. Мэриан еще не встречалась с ней, зато часто говорила по телефону. За четыре недели, прошедшие с тех пор, как Стефани снова приехала в Бристоль, чтобы забрать ее со всеми пожитками в Лондон, только приветливый голос Бронвен помогал ей не пасть духом. Она не привыкла к тому, что люди носятся как угорелые, избегая смотреть по сторонам, чтобы ненароком не встретиться взглядом с кем-нибудь из знакомых. Подземка оказалась сущим адом, и она предпочла добираться на работу четырнадцатым автобусом, минуя «Хэрродс», «Риц» и Пиккадилли Серкус — кроме этого да огней на театральной Шафтсбери-авеню, она так толком ничего и не видела в Лондоне. Одна ездила на работу — и так же, в одиночестве, коротала вечера. Квартира Стефани в Челси была невелика, но это не имело значения, так как Стефани редко бывала дома. Мэриан тосковала по Мадлен, а нечаянная мысль о Поле обжигала такой болью, что ей хотелось спрятаться от всего мира — лишь бы никогда больше не испытывать ничего подобного. Он растоптал в ней и без того чахлые ростки самоуважения. И хотя она отчаянно противилась комплексу неполноценности, всякий раз глядя в зеркало она видела перед собой жалкую, забитую особу, всеми отвергнутую и никому не нужную. Метаморфоза, произведенная в ней любовью Пола, после его предательства дала обратный ход. В сердце рождался крик: за что?! Мэриан часто звонила матери — якобы затем, чтобы похвастаться новыми блестящими знакомствами, а на самом деле — в надежде услышать хоть что-нибудь о Мадлен. Но мама всякий раз укоризненно сообщала: «Мадлен так ни разу и не позвонила. Что она себе думает? Устроилась на работу?» Мэриан давала краткие, уклончивые ответы. Мама пребывала в уверенности, что девушки переехали в Лондон вместе. При мысли о матери Мэриан совсем раскисла. Глаза невидяще уставились на лежавшие перед ней на столе, так и не съеденные сандвичи. К горлу подступил комок. Она смахнула сандвичи в корзину для мусора и в который раз развернула газету. Слава Богу, мама не выписывает «Сан», иначе ее хватил бы инфаркт. Мадлен — в таком виде! Но, конечно, это вопрос времени. Всегда найдется услужливая соседка, чтобы открыть ей глаза. Это уже вторая подобная публикация. — Твоя кузина? — спросил Вуди, кладя на стол какие-то бумаги. Он забежал к Мэриан выпить кофе. — Нет. Ну ладно — это она… во всяком случае, похожа. Но… — Мадлен, — прочитал Вуди подпись под фотографией. — Это ведь ее имя? — А то ты не знаешь! Вуди сдвинул очки на переносицу и еще раз вгляделся в снимок. На языке вертелась фраза: мол, я бы не прочь повторить, — но, пожалуй, это было бы бестактно по отношению к Мэриан. — Зато ты знаешь, где ее искать. Позвони в редакцию. Она позвонила. Ей сказали, что они не дают координаты моделей, но она может оставить сообщение. Мэриан продиктовала оба свои телефона: рабочий и домашний. Но прошла неделя, а Мадлен не позвонила. В «Сан» вышел еще один фотопортрет, и, как только у Мэриан выдалось затишье, она начала было вращать диск телефона, но вдруг раздумала. Ей не хотелось докучать сотруднику редакции, который отфутболил ее в прошлый раз: еще раскричится. Всего за четыре недели в ее судьбе произошли столь разительные перемены, что Мэриан только и оставалось искать прибежища в своей раковине. Правда, в последнее время подсознание все настойчивее заявляло о себе, не оставляя камня на камне от ее жалких отговорок, требуя честно признать: в ней живет и другая Мэриан Дикон. К примеру, позавчера она заставила Стефани хохотать до колик, пародируя Вуди. Потом ей самой не верилось, что она это отчебучила: сроду не замечала в себе способностей к лицедейству, а уж публичная демонстрация своих способностей и вовсе не лезла ни в какие ворота. Но ей было приятно смешить Стефани, которую она обожала: не только за сделанное для нее лично, но и потому, что рядом со Стефани ей было не страшно жить.* * *
Стефани положила трубку и крикнула: — Это была Мэриан. Только что звонила Бронвен. — Не дождавшись ответа, она распахнула дверь ванной. — Я говорю… — Я слышал, — ответил Мэтью, вытирая голову. Прислонившись к дверному косяку, Стефани молча разглядывала его. — Она хочет, чтобы Мэриан вылетела в Нью-Йорк. — Вот как? — Мэтью бросил полотенце и начал причесываться. Однако поймал в зеркале ее отражение и ухмыльнулся. — На что это вы так пристально смотрите, Стефани Райдер? — На твои ноги. Он подошел и обнял ее. Как всегда, прикосновение его литого мускулистого тела зажгло в ней пожар; она подставила рот для поцелуя. Последние полтора месяца Стефани прожила в квартире Мэтью. Тот вечер в Бристоле открыл ей глаза. Глупо обманывать себя. Поэтому Стефани дождалась его возвращения в Лондон и соблазнила — по его выражению. Приехала, позвонила у двери, а когда он открыл, сказала: «Я люблю тебя». — «Тогда входи». Ей не забыть ту ночь и нежность его ласк. Он как будто поставил перед собой цель заживить все раны, унять боль, заставить ее забыть все страдания. А розы, которые он прислал ей на следующий день! А то, как однажды вечером она обнаружила его дверь открытой! Он сидел на диване в гостиной и читал газету. На кофейном столике красовалось шампанское. Он взглянул на часы и с присущей ему иронией заявил, что она припозднилась. И уткнулся в газету. Счастье было таким ощутимым, таким бесспорным, что всякий раз смотрясь в зеркало Стефани казалась себе отреставрированной картиной старого мастера. Иногда любовь переполняла ее так, что, где бы они ни были и что бы ни делали, она испытывала острую потребность сказать ему об этом, и он с улыбкой заключал ее в объятия. Теперь, когда оба отбросили притворство, им казалось, будто не было ни разлуки, ни тяжких мучений. Наконец он отпустил ее, бормоча: — Я люблю тебя, Стеф. У нее остановилось сердце. Сколько бы ей ни было отпущено лет, она никогда не устанет слушать эти слова! — Я тоже. Но если продолжать в том же духе, мы опять окажемся в спальне, а дел — под завязку! Когда Мэтью присоединился к ней в гостиной, Стефани уже сварила кофе и теперь вносила поправки во второй вариант сценария. Эта сторона их отношений была предметом ее особой гордости: они могли только что говорить о своей любви, а в следующее мгновение — уже обсуждать сценарий. В этот день им предстояло подобрать актеров на роли в «Исчезновении». Правда, основная часть работы была уже проделана, острые углы сглажены, камни преткновения убраны с дороги. Только что полученный Элеонорой Брей «Оскар» за роль второго плана помог добиться ее согласия играть Оливию. Пока Мэтью разговаривал по телефону, а Стефани рассматривала фотографию Оливии. Она изучила это лицо до мельчайшей черточки, но всякий раз у нее пробегал холодок по спине. Это лицо было неописуемо прекрасно, но в нем было что-то жуткое. На этом снимке Оливии было двадцать два года, но она казалась очень искушенной и даже старой. У Стефани было такое чувство, словно девушка издевается. Она ни с кем не делилась, но подозревала, что Бронвен чувствует то же самое. «Я ее ненавижу! — вырвалось однажды у Бронвен. — За то, что она меня ненавидит». Но почему? Откуда у юной, обласканной судьбой девушки такой циничный взгляд? Где она сейчас? Что с ней случилось? Мэтью бросил взгляд на часы. — Мне пора бежать. В четыре встреча с Тревором, он хочет показать мне предварительный монтаж бристольской ленты. После его ухода Стефани позвонила Мэриан. Та до того обрадовалась перспективе провести вечер в ее обществе, что Стефани стало совестно. С ее точки зрения идея перетащить Мэриан в Лондон была исключительно удачной. Девушка оказалась превосходной секретаршей. Вот только ее неприкаянность слишком бросалась в глаза. Разве не все одиноки? Ладно, пройдет немного времени — и она будет твердо стоять на ногах. Не кто иной как Мэриан послужила причиной первой ссоры Стефани с Мэтью после их воссоединения. Это же надо додуматься — показать Мэтью фотографию голой кузины! Естественно, он повернулся и ушел. Мэриан так растерялась, что Стефани стало за нее обидно. Вечером разразился скандал. — Ты полагаешь, что я должен распускать нюни при виде порнографических изображений членов ее семьи? И пожалуйста, не заводи старую пластинку о разбитом сердце! Это не значит, что с ней нужно обращаться как с тяжелобольной или бросаться грудью на ее защиту. По-твоему, мне не хватило этого дерьма с Кэтлин и Самантой? — Мэриан пытается наладить с тобой отношения. А ты ее терроризируешь. Да, я бросаюсь грудью на ее защиту — и впредь буду бросаться, потому что во всем, что касается этой девушки, ты проявляешь неоправданную жестокость. Надеюсь, ты не так обращаешься со своей дочерью?* * *
— Я не в ладах со всякими техническими новинками, — жаловалась Бронвен своим хрипловатым и в то же время мелодичным голосом уроженки Уэльса. — А если начинаешь за ними записывать, многие раздражаются, особенно в щекотливых ситуациях. Вот главная причина, почему я настаивала на твоем приезде. Один ум — хорошо… и так далее. Вдвоем нам будет легче восстановить хотя бы ключевые моменты. Было четыре часа дня. Моросил дождь; тусклая пелена, которую Мэриан видела из иллюминатора, когда самолет кружил над Нью-Йорком, сгустилась и туманом расползлась по городу. Она поежилась. Вот уже трижды они просили таксиста закрыть окно, но он не понимал по-английски. Бронвен встретила ее в аэропорту и мгновенно узнала по переданной Стефани по факсу фотографии. Сама Мэриан была уверена, что узнает Бронвен, — и действительно, длинные черные волосы, неровно подстриженная челка и тонкие, не знающие ни минуты покоя руки оказались точно такими, как она представляла. Несмотря на розовые пятна на высоких скулах, Бронвен отличалась бледностью и не признавала косметики — даже губной помады или туши. Она была одного роста со Стефани и почти такой же эффектной, но на этом сходство кончалось. В то время как в Стефани все дышало уверенностью в себе, хладнокровием, даже отчужденностью, горячность Бронвен, ее живость и словоохотливость придавали ей вид ветреницы, любительницы удовольствий. — Ну и движение! Кстати, ты еще не сказала мне, как долетела. Первый раз летела одна? Ты из Западной Англии? Прекраснейший уголок в мире! Как тебе Лондон? Такой же противный, как Нью-Йорк? Еще бы! Ненавижу Лондон в холодную погоду! Мэриан засмеялась. — Да, там довольно прохладно. И вообще, я с тобой во всем согласна. — Не слишком ли скоро? — поддразнила Бронвен. — Инструкции Стефани у тебя с собой? — Да. И Мэтью. Только он диктовал их на магнитофон, когда Стефани везла его в аэропорт. Ничего не разберешь. — Как-нибудь разберем. Знаешь, в жизни ты симпатичнее, чем на фотографиях. Тебе идет «конский хвост». Мэриан покраснела. — Стефани тоже так считает. — А я, если волосы не закрывают все лицо, похожа на клоуна. Уши торчат. Муж называет меня кувшинчиком. Мэриан прыснула. Бронвен открыла свой блокнот. — Что у нас намечено на уик-энд? Ты как — не против поработать в выходные? — Нет, конечно. — Вот и умничка. Сегодня ляжем пораньше, а утром расшифруем, что там Мэтью наговорил. Это, должно быть, замечательно — быть режиссером! Знай себе давай ценные указания. Так. На завтрашний вечер заказан столик в моем любимом ресторане в Виллидже. Выпьем по капельке вина, и ты мне расскажешь о себе. О том подонке, что тебя бросил. Ох, дорогуша, прости, пожалуйста! Я не думала, что у тебя еще болит. Язык мой — враг мой! Ну что, очухалась? — Да. Ты так неожиданно спросила. Я не знала, что Стефани тебе рассказала. Нет, я не в обиде. Просто стараюсь об этом не думать. — Правильно, не будем о нем говорить. Поговорим лучше о Мэтью и Стефани. Медовый месяц еще не кончился? — Нет. — Мэриан была и шокирована, и очарована прямолинейностью Бронвен. — Хорошо устроились! Пока мы тут вкалываем, они будут вздыхать при луне и пожирать друг друга глазами. Но расскажи мне про Стефани — она счастлива? Сколько я ее знаю, она сходила с ума по Мэтью. После него у нее не было ни одного мужчины. Беда в том, что деловой женщине приходится отодвигать личную жизнь на второй план. Хорошо, что я сначала вышла замуж. Иначе так и осталась бы старой девой. А ведь мне скоро сорок. Детей, правда, не завела — все было некогда. — Жалеешь? — Немного. — Но ведь, наверное, еще не поздно? — Рано! Может, когда закончим этот фильм… — Она беззаботно рассмеялась. — Я всегда так говорю. А потом на горизонте появляется новый фильм, проходит еще один год… — А твой муж? Не против, что ты столько работаешь? — Господи, нет! Он писатель, а ты же знаешь, что это такое. Лишь бы его не трогали. Чем дольше меня нет дома, тем лучше. Откровенно говоря, мне кажется, что я действую ему на нервы. Да, так на чем мы остановились? На завтрашнем ужине. А в воскресенье я свожу тебя на ланч в «Таверну», полюбуешься на всех этих толстосумов — встречаются такие противные! Держу пари, ты выпадешь в осадок от всех этих бриллиантов и лимузинов. И матрон с такой грунтовкой на лицах — хоть сажай дерево. Дебора Форман тоже придет. Она ужасная брюзга, только смотри, не передавай. Так. На понедельник я договорилась с Рабином Мейером. Это владелец художественной галереи, где выставлялась Оливия. Долго не соглашался на встречу, но Фрэнк Гастингс позвонил ему из Флориды и сказал, что все будет в порядке. Как тебе это нравится? Ага, мы почти приехали. Сейчас мы пересекаем Пятую авеню, здесь шикарные магазины. Смотри, вон Гуччи, а если повернешься назад, немного левее — Тиффани. Пропустила? Не беда. Они никуда не денутся. Такси остановилось перед отелем. Навстречу выскочил швейцар в зеленой ливрее и с зонтиком. — Привет, Тони, — кивнула Бронвен, выходя из машины. — Это Мэриан. Она первый раз в Нью-Йорке, так что прошу за ней присматривать. — Конечно. — Тони подождал, пока Бронвен расплатится с таксистом. — Для человека, не знающего ни слова по-английски, у Тони самый лучший англо-саксонский выговор, какой я только слышала, — объяснила Бронвен. — Пошли, Мэриан, покажу тебе отель «Дорсет». Администрация выселила из соседнего номера каких-то педиков, чтобы мы были с тобой поближе. Представляешь, какая любезность? Мэриан большей частью молчала. Не только потому, что Бронвен не давала ей рта раскрыть, а потому что Нью-Йорк ошеломил ее. Не успела она привыкнуть к Лондону, и вдруг, пожалуйста, великолепный город, полный жизни, людей, машин, небоскребов — быстрее, громче, выше, чем рисовало воображение. Прямо какой-то сюрреализм, подумала Мэриан и уже собралась спросить, нельзя ли, невзирая на дождь, немного прогуляться, как Бронвен предложила: — Заскочим в номер, проверим, все ли в порядке. А потом ты освежишься, и мы сходим в «Плазу», попьем чаю в Палм-Корте. У них фантастические пирожные! А еще — апельсиновый чай и великолепный струнный квартет. Американский вариант «Рица». В «Плазе» их провели за столик. Мэриан прилагала бешеные усилия, чтобы справиться с волнением: уж больно на нее подействовала вся эта экзотика. — Что будем заказывать? — спросила Бронвен, просматривая меню. И вдруг сжала руку Мэриан. — Ты не представляешь, дорогуша, как это здорово, если рядом — родная душа! Мэриан порозовела от удовольствия. От волнения ей удалось осилить только сандвич с огурцами, зато Бронвен ни в чем себе не отказывала и напоследок в мгновение ока разделалась с огромным куском шоколадного торта. — Ты не боишься растолстеть? — Шутишь? Я всегда была тощей. Ускоренный обмен веществ. Мама говорила… Кстати, о матерях. Я с нетерпением жду, когда ты познакомишься с Грейс Гастингс, матерью Оливии. Бесподобная женщина! Боюсь только, в этот приезд не получится: она во Флориде. Как-нибудь в другой раз. Мэриан отважилась на вопрос: — Если Гастингсы действительно что-то скрывают, почему они согласились финансировать фильм? Бронвен пожала плечами. — Странно, да? Во всем этом есть что-то загадочное. Весь Манхэттен прислушивается к Фрэнку Гастингсу — даже полиция пальцем не шевельнет без его одобрения. Он — сильная личность, вот увидишь. Излучает ауру. — Чем он занимается? — Проще сказать, чем он НЕ занимается. Главная ипостась — банкир. Кстати, для своего возраста он очень молодо выглядит. И жена тоже. Оливия унаследовала все лучшее. Видела ее фотографии? Мэриан кивнула. — Красавица, правда? — Д-да. — Ну вот, и ты туда же! У Стефани от нее мурашки по коже. И у меня. — Неудачный снимок? — Нет. На всех фотографиях одно и то же — серьезна она или улыбается. Сначала Грейс не хотела их показывать, но потом поняла, что я из-под земли достану — в смысле в редакциях газет. И ведь что интересно: я просмотрела публикации — повсюду использованы снимки, сделанные самое меньшее за два года до ее исчезновения. И это несмотря на то, что редакции завалены ее фотографиями, сделанными, когда она была в зените славы. Она прославилась в качестве богатой наследницы и одаренной художницы. Ее портреты печатались на журнальных обложках. За ней волочились все более или менее приличные холостяки города; дамы копировали ее стиль. Она носила темные очки, которые сама же и смоделировала, так один антрепренер сколотил целое состояние, наладив выпуск точно таких же. Чуть ли не все ходили в майках с буквами «ОГ» на груди. Газеты изощрялись на все лады, придумывая броские заголовки: «ОГо, какая девушка!»; «О — Гений!». Эти инициалы стали своего рода фирменным знаком. А после ее исчезновения в ход пошли новые клише: «О — Где же ты?», «О Господи, что с ней стряслось?» — или, как в одной газете: «Облапошенный Город». — Облапошенный? — Да. Я своими глазами видела в библиотеке. Причем, это была передовица — стоит ли удивляться, что редактора мигом уволили? — Что же там было написано? — Ничего особенного. Что ее картины не так уж и талантливы, просто все поддались магии имени. Но в конце содержался намек на какое-то расследование, результаты которого могут не понравиться «наверху». У меня в номере есть копия, сама прочтешь, если захочешь. — Конечно. — Мэриан немного подумала и спросила: — Может, стоило бы повидаться с этим редактором? — Легко сказать. — Он не откроет рта без санкции Фрэнка? — Он ни при каких условиях не откроет рта. — Видя растерянность Мэриан, Бронвен наклонилась к ней через весь стол и многозначительно прошептала: — Он умер. Официант принес счет. Бронвен расплатилась, и они вышли на улицу. Дождь перестал, но дул пронизывающий ветер. — Удачное совпадение, правда? — спросила Бронвен, беря Мэриан под руку. До их отеля было всего несколько кварталов, так что они решили пройтись пешком. — От чего он умер? — Погиб в дорожной катастрофе — где-то в Бронксе. — Ты подозреваешь, что это не была дорожная катастрофа? — Как я уже сказала, это явилось уж слишком удачным совпадением. Покойнику не задают вопросов. В ту ночь Мэриан долго лежала без сна, обдумывая услышанное. Что-то сильно беспокоило ее в этой истории, но она не могла понять, что именно; догадка все время ускользала, и только когда у нее начали смыкаться веки, мелькнула догадка, но сон сморил Мэриан прежде, чем она это осознала. Утром ее разбудил резкий телефонный звонок, ворвавшись в кошмарный сон, в котором человек в майке с буквами «ОГ» на груди гонялся за ней по опустевшим улицам Бристоля. Сначала это был Пол, но потом он превратился в Мэтью; рядом с ним бежала Мадлен. Мэриан не знала, почему убегает, но животный страх гнал ее дальше. В ушах гремел набат; легкие раскалились; глаза рвались наружу из орбит; ноги отказывались служить. Мэриан упала — и увидела мчащийся прямо на нее автомобиль; за рулем сидела Оливия. Ждать спасения было неоткуда. Мэриан, точно рыба, беззвучно шевелила распухшими губами. Еще секунда — и… И тут раздался звонок. Еще не поняв, явь это или продолжение сна, она схватила трубку и услышала оживленный голос Стефани. Та хотела знать, как она долетела. Потом к ней постучалась Бронвен и, показав, где буфет, оставила Мэриан завтракать, а сама побежала звонить. Остаток дня они провели вдвоем в комнате Мэриан, пытаясь разобрать инструкции Мэтью и сокрушаясь, что им ни за что не выполнить эти инструкции — даже сотую часть. — А это еще что за бред? — брюзжала Бронвен. — «Для получения требуемой глубины нужно приближаться к истине шаг за шагом, постоянно учитывая окружение, то есть шум, освещение, температуру. Одного лишь портрета золотой нью-йоркской молодежи, выполненного крупными мазками, недостаточно. Необходимо передать оттенки, преступную подоплеку, если таковая имеется. Потребуется полное — неприглаженное!!! — описание друзей и коллег». — Бронвен подняла глаза на Мэриан. — Это твои восклицательные знаки? — Он так произнес. Бронвен развеселилась. — Хотела бы я знать, что творилось в голове у Стефани, когда он все это диктовал. — Читай дальше. Добравшись до конца страницы, Бронвен снова покатилась со смеху. — Если бы я не симпатизировала Мэтью, я бы его возненавидела. Ну ладно. Будем надеяться, ты получила удовольствие от работы шифровальщика. Разрешаю тебе послать его… нет, лучше не надо, он кусается. Кажется, это голос Стефани? Мэриан кивнула. — Ну, дорогуша, теперь мы получили некоторое представление о том, как угодить Мэтью Корнуоллу. Впрочем, не этот ли педантизм и вознес его на вершину профессионального мастерства? Мы, жалкие ремесленники, должны благодарить судьбу за счастье работать с Мастером. — Она скривилась и поднялась с места. — А знаешь, многие чем угодно пожертвовали бы, чтобы оказаться на нашем месте. Правда, я предпочитаю иметь свое собственное. И вообще, я умираю от голода. Пошли ужинать. Пока Бронвен принимала душ, Мэриан ломала голову над загадкой Оливии. Они целый день склоняли ее на разные лады, анализируя каждый факт и фактик, но истинный внутренний облик девушки ускользал от них. В записках Стефани было сказано: «Нам никогда не узнать всей правды, но постарайтесь подобраться к ней как можно ближе — насколько вам позволят». Мэриан удивили такие капитулянтские настроения. В ней росла уверенность, что если они будут работать не жалея сил и копать глубоко, то обязательно найдут решение того, что ныне представляется неразрешимой загадкой. И ключом послужит погибший редактор. Но с чего начать? Проработав некоторое время с Бронвен и выслушав рассказы нескольких друзей и знакомых Оливии, Мэриан все еще верила: она что-нибудь придумает. Ей хотелось заняться этим расследованием в одиночку: не для того чтобы лишить Бронвен заслуженных лавров, а — если быть честной с самой собой — чтобы возвыситься в мнении Мэтью. Мысль о том, что она старается произвести на него впечатление, была не особенно приятна, но еще более невыносимо было то, что он третировал ее как ничтожество, недостойное даже дружеского приветствия. Мэриан решила доказать, что она способна на многое — гораздо большее, чем они думают. Правда, если ей не удастся хоть немного продвинуться в этом расследовании, ни у кого не откроются глаза и она только выставит себя на посмешище. Но прошла неделя, а ей так и не представилась возможность что-либо предпринять. Бронвен неотлучно была рядом, таскала ее на тусовки отпрысков богатейших и влиятельнейших семейств Нью-Йорка. Они облазили вдоль и поперек весь Манхэттен. Мэриан никогда не забудет, как однажды такси, в котором они ехали в галерею Рабина Мейера, обогнал мчавшийся на предельной скорости полицейский автомобиль — и затормозил прямо у них перед носом. Из него, не гася фар и не выключая сирены, выскочили четверо полицейских и устремились к какому-то зданию. Но главным потрясением явилось то, что она не испытала ни малейшего потрясения. Пребывание в Нью-Йорке было для Мэриан чем-то нереальным, словно происходящим в кино. Клубы пара из канализационных люков; шипящие языки пламени из окон зданий, небоскребы — все казалось слишком грозным, величественным, гротескным, чтобы быть правдой. Этот город и возбуждал, и обескураживал, но не пугал. По вечерам они с Бронвен ужинали в номере; Мэриан печатала отчеты. Рабин Мейер не сказал ничего такого, чего бы они не знали. Да, Оливия выставлялась в его салоне. Да, жила в небольших апартаментах над галереей. Нет, он ничего не знал о ее частной жизни кроме того, о чем упоминалось в газетах, а к этому нужно подходить с большой осторожностью. Ее бывшие друзья-мужчины либо вообще отказывались отвечать на вопросы: мол, они все рассказали в полиции, — либо пускались в догадки, что с ней могло приключиться. Подруги большей частью отзывались о ней как о загадочной, экзотичной и очень сексуальной молодой женщине, черствой эгоистке, абсолютно лишенной понятий о нравственности; одна назвала Оливию исчадием ада. Этой-то девушке Мэриан и решила нанести повторный визит. — Этого только не хватало! — простонала Бронвен, прочитав телеграмму о скором прибытии Мэтью. — Так и слышу его ворчливый голос: «Фрагменты, мазки, неполный портрет нью-йоркских прожигателей жизни». Да, это все, чего мы смогли добиться. Думаю, все же портрет получился достаточно выразительным. А ты как считаешь? Хорошо передана атмосфера роскоши и загнивания; персонажи ведут себя интригующе; а вечеринки с наркотиками, которые она устраивала в своей квартире, составляют колоритный фон. Хотя… — Бронвен вздохнула. — Ничего существенного. — Хорошо бы найти какого-нибудь друга — или подругу, — с которой ее связывали тесные отношения. — Что толку? Ясно, многие знают больше, чем говорят. Но даже если нам удастся что-нибудь вытянуть из них, Фрэнк ни за что не разрешит использовать это в фильме. — По-твоему, он знает, как она жила последние два года перед исчезновением? — Больше, чем говорит. Но в одном я уверена: Фрэнк понятия не имеет, где она сейчас. И никто не имеет понятия. — Может, на этом и построить сценарий? Пусть Дебора Форман перепишет его таким образом, чтобы каждый эпизод заканчивался своего рода вопросительным знаком — как сейчас делают интервью, — чтобы заставить зрителей думать. — О чем? — О том, что на самом деле представляла из себя Оливия. Что с ней могло произойти. Пусть люди делают собственные выводы, пусть о ней снова начнут говорить, и если кому-нибудь что-то известно, возможно, он захочет поделиться информацией. Ему будет нечего бояться — у всех на виду. Откровенно говоря, Мэриан сама не верила в реальность того, за что ратовала — и с таким апломбом! Все это — беллетристика. Как можно всерьез предполагать, будто кто-то боится, что его убьют за то, что он скажет правду? В нормальной жизни (то есть в Англии) так не бывает. Склонив голову набок, Бронвен внимательно слушала. — А что, в этом есть рациональное зерно. Если наш фильм станет большим вопросительным знаком, это будет как зонтик для разных версий. — Лицо Бронвен словно осветилось изнутри. — Конечно, Фрэнк не говорил ничего подобного, но, возможно, на это он и рассчитывает. Пусть развяжутся языки. Должен же кто-то знать, где сейчас Оливия. Ей-богу, Мэриан, ты попала в яблочко! Однако нужно от чего-нибудь оттолкнуться. — Выбирай: убийство; похищение; любовная интрига; прихоть художника; сатанизм; амнезия вследствие злоупотребления наркотиками… Что тебе больше нравится? — Меня бы устроил сатанизм, это объясняет перемену, происшедшую с ней за два года. Нужно уточнить у Фрэнка, какую степень художественной свободы он готов нам предоставить; имена придется заменить, а то по судам затаскают. Но, черт возьми, Мэриан, меня зацепило! Завтраприглашу Дебору Форман, пусть познакомится с Мэтью. — Я тебе не нужна? — спросила Мэриан. — Хочу пройтись по магазинам. Забраться на крышу Эмпайр Стейт Билдинг… где еще бывают туристы?.. Если ты не против. — Конечно, дорогуша! Можешь взять отгул. Но ведь это твоя идея — я думала, ты захочешь… — Нет. Ты все сама доходчиво объяснишь. А я не горю желанием встречаться с Мэтью: он меня недолюбливает. Бронвен рассмеялась. — Хотела бы я знать, кого он «долюбливает». Ну ладно, иди развлекайся, а дела предоставь мне. Утром Мэриан надеялась улизнуть из отеля до приезда Мэтью, но выйдя из лифта, увидела возле столика администратора знакомую высокую фигуру. По всему телу прошла жаркая волна. Сердце забилось чаще. Она уже думала вернуться в лифт, но двери успели сомкнуться. — Мэриан, ты куда? — раздался за спиной знакомый голос. — Я… просто… — Решила осмотреть достопримечательности? — Да. Бронвен меня отпустила. — Тогда сними с шеи фотоаппарат и спрячь в сумку. Мэриан растерянно заморгала. Мэтью вздохнул. — Девушки твоего возраста — любого возраста, если на то пошло — не шастают по Нью-Йорку, всем своим видом показывая, что они приезжие. — А… — Мэриан потянулась снять ремешок, но он зацепился за вешалку пальто. Дернуть бы хорошенько, порвать все к черту! Мэтью взял ее обеими руками за плечи и, развернув на сто восемьдесят градусов, распутал узел и снял камеру. — Какой номер комнаты Бронвен? Мэриан ответила и уже собралась идти, как за спиной снова раздался его голос: — Мэриан! Она замерла. — Желаю хорошо провести время! — И он, улыбнувшись, последовал за коридорным. Мэриан превратилась в соляной столб. Мэтью улыбнулся ей — в первый раз за все время! Впервые назвал по имени! Она наблюдала за тем, как он вошел в лифт — готовая броситься за ним, вернуть улыбку, — но двери лифта уже сомкнулись, а в вестибюле начал собираться народ. Она побрела к выходу. Тони поймал для нее такси, и полчаса спустя она подъехала к величественному зданию в одном из восточных кварталов Нью-Йорка. Привратник позвонил в квартиру Джоди Розенберг, сообщил имя гостьи и проводил ее к лифту. Меньше чем через пять секунд Мэриан была уже на тридцать третьем этаже и, выйдя из лифта, оказалась прямо в просторных апартаментах Джоди. Сама Джоди разговаривала по телефону, но сделала гостье знак чувствовать себя как дома. Мэриан бродила по необъятной комнате, прикидывая, сколько же здесь могло бы поместиться таких квартир, как у Стефани. Каток в Бристоле — и тот, наверное, меньше. Всюду были развешаны абстрактные картины. В другом конце комнаты, на возвышении, красовалось королевское ложе с роскошным резным изголовьем, покрытое розовой атласной накидкой; ноги утопали в серебристо-голубом ковре. Все это напомнило Мэриан закат в тропиках. А белоснежная мебель навела на мысль о прибое. На зеркальной поверхности обеденного стола лежало несколько номеров «Нью-Йорк таймс»; Мэриан сделала вид, будто читает. Ее начало покидать мужество. Одно дело — позвонить Джоди Розенберг и договориться о повторной встрече, и совсем другое — очутиться с ней наедине среди всего этого великолепия. А главное — о чем спрашивать эту женщину? Почему та считает Оливию исчадием ада? Сейчас это казалось таким банальным! И потом — вдруг она не так поняла? Или сама Джоди ляпнула не подумав? А даже если и сказала всерьез, разве это дает Мэриан право лезть ей в душу? Даже не посоветовалась с Бронвен! Мэриан украдкой бросила взгляд на хозяйку квартиры и внутренне сжалась в комочек. Даже в тренировочном костюме и кроссовках Джоди выглядела на редкость эффектно. Наконец, когда Мэриан уже совсем пала духом, Джоди положила трубку. — Привет. Иди сюда, поближе. Хочешь кофе? Чаю? Апельсинового сока? — Сока, пожалуйста. — Давай твое пальто, — сказала Джоди и стащила его с Мэриан, прежде чем та успела смутиться из-за своего неказистого наряда. — Надеюсь, я тебя не слишком побеспокоила? — поинтересовалась Мэриан, принимая из рук Джоди стакан свежеприготовленного апельсинового сока. — Просто… — Я ждала этого звонка. — Правда? — Конечно. Твоя коллега — шустрая особа. Умеет растравить душу. Вроде бы так, между прочим — и заставит забыть о бдительности. — С лица Джоди сошла теплая улыбка. — Я много думала, что тебе скажу, и все еще не уверена… Кажется, я назвала Оливию исчадием ада? Мэриан кивнула. — Она не всегда была такой. Связалась с дурной компанией. Наркотики… Здесь это запросто: кокаин с героином продают на каждом углу. Все мы немножко колемся: на вечеринках, ради кайфа, — но Оливия слишком далеко зашла. Ее было не узнать. Мы все пытались ей помочь, но она отвергала помощь. Это стало манией. Слухи докатились до отца, и вот тут-то все и началось. Фрэнк не хотел ей зла, но… Оливии пришлось расплачиваться. Всем приходится платить рано или поздно. Памятуя манеру Бронвен помалкивать, когда возникает ощущение, что собеседник вот-вот «расколется», Мэриан прилежно тянула паузу. Но по неопытности не вытянула. — Что же она сделала? — Если я скажу тебе это… — Джоди обвела комнату беспокойным взглядом. — Слушай, я больше ничего не знаю. И так распустила язык… — Ты же еще ничего не сказала. — Пусть так и остается. Я тебе ничего не говорила, тебя здесь не было, я не называла Оливию исчадием ада… — Почему же ты согласилась встретиться? — Потому что у меня бывают заскоки на почве нравственности. Вообразила, будто вы можете что-то сделать. Я ошиблась. Буду держать рот на замке, как другие. — А ты не можешь сообщить в полицию? — Смеешься? Копы знают гораздо больше меня. Как подумаю, что она ушла от ответственности, как будто ни при чем… Фрэнк пытался ее спасти, он и сейчас пытается, но все без толку. — Фрэнк знает, где сейчас Оливия? — Нет. Этого никто не знает. В газетах правильно писали: Фрэнк послал ее в Италию учиться живописи у Серджио Рамбальди. Она окончила курс — и больше ее не видели. — Люди не растворяются в воздухе. — А вот Оливия растворилась. — Думаешь, она жива? На лице Джоди появилось угрюмое выражение. — Говорю тебе, Мэриан, я лично надеюсь, что эта сука горит в адском огне. Я ее ненавидела. Все мы ее возненавидели, когда узнали… Она прекрасно понимала, что делала, но ей было плевать — лишь бы получить дозу. — Послушай, — заговорщическим тоном проговорила Мэриан, — клянусь, я не назову твоего имени, что бы ты мне ни сообщила. Только мы с тобой будем знать. Я скорее сяду в тюрьму, чем предам тебя. — В ее голосе зазвучали драматические нотки. Она слышала, что журналисты и детективы предпочитают скорее очутиться за решеткой, чем раскрыть источник информации. Джоди насмешливо скривила губы. — Если я скажу тебе то, что знаю, Мэриан, ты не сядешь в тюрьму — тебя убьют. Нас обеих убьют. Мэриан с трудом подавила в себе желание рассмеяться. Нью-Йорк не только походил на декорации к супербоевику, но и его жители вели себя как киногерои. Никто не высказывался попросту, как в нормальной жизни, — а так, будто за этим что-то кроется. — Неужели убьют? Джоди торжественно кивнула. — Конечно. Многих уже убили. Мэриан вспомнила: — Тот редактор погиб не от несчастного случая? — Ты знаешь? Конечно, это не был несчастный случай. — Я вот думаю, — нерешительно произнесла Мэриан, — может, он кому-нибудь рассказал о том, что знал? Джоди резко вскинула голову. — Почему ты так думаешь? — Ну… люди обычно делятся с теми, кому доверяют. Особенно если… — На этот раз ты ошиблась. — А ты откуда знаешь? — Знаю — и все. — Джоди встала. — Слушай, Мэриан, я сказала, что вечером свободна, но в последнюю минуту кое-что подвернулось. Извини. Мэриан тоже поднялась. Очень жаль, но когда тебя так недвусмысленно выпроваживают… В то же время в ней крепла уверенность, что за всем этим что-то кроется, хотя она и не представляла, что. Более того: теперь она была убеждена: редактор с кем-то поделился. Вот только как найти этого человека? Джоди подала ей пальто. Мэриан благодарно улыбнулась. — Спасибо, что согласилась встретиться. Когда она застегнула все пуговицы, Джоди проводила ее до лифта, а когда Мэриан вошла в кабину, надавила на кнопку и задержала лифт. — Вечером позвоню в отель. Тебе нужно кое с кем потолковать. Этот парень залег на дно, он смертельно напуган. Не знаю, согласится ли он. Но если согласится… Прежде чем дать тебе его координаты, Мэриан, хочу, чтобы ты хорошенько подумала. Ты подвергнешь себя большой опасности. У Мэриан пробежали мурашки по спине. — А ты? Разве тебе не грозит опасность? — Конечно, грозит. Но я, как и все в этом городе, люблю Фрэнка и Грейс, они не заслужили такой участи, и мне хочется им помочь. Ради собственной безопасности, Мэриан, не говори никому о том, что ты здесь была. Так будет лучше для нас обеих. Если меня спросят, я буду отрицать. — Джоди отпустила кнопку; двери начали плавно съезжаться. — В общем, я позвоню. Но мой тебе совет: брось это дело. Возвращайся в Англию и навсегда забудь Оливию Гастингс. На улице ее окутала промозглая атмосфера Парк-авеню. Мэриан оглянулась на громадное здание, из которого только что вышла, словно ожидая, что оно испарилось. Все эти дни она жила словно в театре абсурда. Она разучилась удивляться и даже тревожиться, потому что подсознательно отказывалась верить в реальность того, что ей говорили. Она доехала на такси до центральной библиотеки Нью-Йорка, где погрузилась в чтение газет пятилетней давности. А снова выйдя на улицу, почувствовала, что по-прежнему не верит, будто люди, о которых она читала, могут заинтересоваться такой мелкой сошкой, как Мэриан Дикон. То был захватывающий детективный роман, и ей предстояло подобрать ключ к разгадке. Она выписала имена покойного редактора и журналистов, работавших в то время. Когда Мэриан добралась до отеля «Дорсет», на город спустились сумерки. Она утратила чувство времени. Казалось, с момента, когда Тони посадил ее в такси, прошло не более часа. Мэриан бросила взгляд на часы — семь с небольшим. У нее заурчало в желудке. Нужно заскочить к Бронвен, спросить, как прошла ее встреча с Мэтью и Деборой Форман. А потом заказать в номер сандвичи. Но когда она протянула руку, чтобы постучаться к Бронвен, дверь распахнулась, и оттуда вылетел Мэтью, на ходу засовывая руки в рукава пальто. Сдержав стон (он отдавил ей ногу), Мэриан уже собиралась извиниться, что путается под ногами, как он сгреб ее в охапку. — Где тебя черти носили? Бронвен чуть с ума не сошла. Я сам собрался тебя искать. — Меня? — спросила она, хлопая ресницами. Мэтью отступил в комнату. Мэриан последовала за ним. — А где Бронвен? — А ты как думаешь? В такси прочесывает Нью-Йорк. Где ты пропадала? — Извините, я не хотела причинять вам беспокойство. Просто… — Где ты была? — Везде… — Что значит «везде»? Мэриан вздохнула. — Где именно? Я знаю этот город — в каком конкретном районе? Швейцар сказал, ты укатила на такси в Ист-Сайд. Она уклонилась от прожигающего насквозь взгляда темных глаз, уставившись в окно. — Мэриан, что у тебя на уме? — Ничего. — Тогда зачем тебе понадобилось ездить домой к Джоди Розенберг? Она заморгала, но не выдала тайну. — Мэриан, посмотри мне в глаза! — Мэтью приподнял ее лицо за подбородок и произнес, четко выговаривая слова: — Что тебе было нужно от Джоди Розенберг? К ужасу Мэриан, у нее дрогнули губы, а к глазам подступили слезы. И вдруг она заорала: — Я тебя ненавижу! Ты презираешь меня за то, что я уродина! Но это не значит, что у меня нет чувств! На какие-то несколько секунд Мэтью словно окаменел. Потом запрокинул голову и расхохотался. — Мышка пискнула! — Не смей называть меня мышью! Он поднял руки, словно сдаваясь. — Извини. Я имел в виду, что ты тихоня, а не уродина — что, кстати, совершенно не соответствует истине. С чего ты взяла? Ты довольно-таки привлекательная женщина. Она тупо смотрела на него. Мэтью продолжал смеяться. — Нечего разговаривать со мной снисходительным тоном! — выпалила Мэриан. — Я не сопливая девчонка и не допущу, чтобы меня третировали! — Тогда перестань вести себя как сопливая девчонка! Зачем ты ездила к Джоди? — Из-за тебя, если хочешь знать! Хотела доказать, что я не какое-то ничтожество! Думала, если я узнаю что-нибудь новое для фильма, ты станешь лучше ко мне относиться. Он встряхнул головой, словно для того, чтобы мысли встали на место. — А теперь, — все так же воинственно произнесла Мэриан, — я устала и хочу есть, так что иду к себе. Мэтью схватил ее за руку. — Ты никуда не пойдешь, пока не объяснишь все как следует. — Хватит обращаться со мной как с несмышленышем! — Тогда отвечай! — Я поехала к Джоди узнать, почему она назвала Оливию исчадием ада. — А тебя не удивило, что Бронвен сама этого не сделала? Мэриан открыла рот — и тотчас закрыла. — Джоди была дома? Ты говорила с ней? — Нет и еще раз нет! — Это правда? — Да! — В таком случае тебе повезло. Мэриан, такими вещами не шутят. Это очень серьезно. И опасно. — Почему? — Сама знаешь. В этом городе существует заговор молчания. Все скрывают, что здесь происходило перед исчезновением Оливии. Ну вот… Бронвен познакомила меня с твоей идеей, она великолепна. На том и остановимся. Мы — киношники, а не детективы. — Разве ты не хочешь знать, что случилось с Оливией? — Хочу. Все мы этого хотим и в первую очередь — Фрэнк Гастингс. Оставим раскопки ему. Пожалуйста, Мэриан, никогда больше не делай ничего подобного. Хотя бы ради меня. Она вдруг почувствовала себя такой несчастной, что не могла говорить, и, боясь разрыдаться перед Мэтью, опрометью выбежала из комнаты. — Все о’кей, дорогуша, — утешала ее спустя некоторое время Бронвен. — Это моя вина. Я же видела, что тебя распирает любопытство, и должна была догадаться, что ты отмочишь что-нибудь в этом роде. Но я думала, Стефани тебя предупредила… Нужно было мне самой это сделать. Я оставила Джоди в покое, потому что на данный момент этого достаточно. Ухватиться за эту ниточку означало поставить под удар не только нас, но и Джоди. Фрэнк с самого начала попросил нас копать не слишком глубоко. Естественно, мне тоже не терпелось довести дело до конца, но сработал инстинкт самосохранения. В этом городе творятся темные дела, в которых замешаны очень влиятельные люди. Так что пришлось пока остановиться. Мэриан так и подмывало рассказать о своем разговоре с Джоди, но она не могла нарушить данное слово. И потом, бывшая подруга Оливии не сказала ничего особенного. Когда она позвонит, Мэриан скажет, что решила внять ее предостережениям и оставить все как есть. — Пойдешь ужинать? — спросила Бронвен. — Мэтью обещал купить выпивку — загладить вину. — Да? Ну так поблагодари его от моего имени и скажи, что я уже заказала ужин в номер, а потом лягу спать. — Как хочешь. Скажу, что у леди есть своя гордость и от нее так просто не откупишься. Мэриан прыснула. — Вот-вот, так и передай. В половине девятого, когда зазвонил телефон, она уже спала, но голос Джоди моментально прогнал сон. Мэриан начала было объяснять, что решила последовать ее совету, но Джоди перебила ее: — Все равно без толку. Он не хочет с тобой встречаться. — Вот и хорошо, — пробормотала Мэриан. — Значит, ничего не было? — Совсем ничего. Положив трубку, Мэриан достала из кармана пальто сделанные в библиотеке записи и порвала их на мелкие клочки. Уснула она не скоро. Последним, что мелькнуло у нее в голове, было воспоминание о том, что Мэтью назвал ее привлекательной женщиной. (обратно)Глава 11
— Я не чувствую ног, — простонала Мадлен. — Зайдем куда-нибудь, выпьем кофе? — Отличная идея, — вздохнула Шамира. — Теперь, когда мы благополучно скупили всю Бонд-стрит, чашечка кофе не помешает. Поскольку рядом не было ничего подходящего, она повела Мадлен на Графтон-стрит. — В отеле «Браун» сногсшибательный чай. И вообще я проголодалась. — Это недалеко? — Нет — за углом Дувр-стрит. — Сволочь! — взвизгнула Мадлен: какой-то таксист окатил их водой из лужи. — Он нарочно! — вторила Шамира, скинув туфли и выливая из них воду. С тех пор как Мадлен фотографировали на студии Мармота для третьей страницы «Сан», девушки подружились — тем более что на первых порах выступали в разных амплуа и не чувствовали себя соперницами. Но Мадлен быстро шла в гору и постепенно расширила творческий диапазон: показывала моды, рекламировала в телевизионных роликах безалкогольные напитки, шампуни, белье — словом, делала все то же, что и Шамира, однако их дружба не стала менее тесной. В окружающем их мире царил закон джунглей, каждый был готов перегрызть другому глотку; поэтому Мадлен дорожила этой дружбой, тем более что Шамира слыла гордячкой. Но, пусть даже некоторые звали ее Сучьей Королевой, Мадлен угадала за внешней бравадой застенчивость, склонность к самокритике и доброту: без сомнения, Шамира была настоящей подругой и искренне радовалась ее успехам. Фотографии Мадлен успели появиться только в двух журналах: «Для мужчин» и «Плейбое», — но письма уже таскали мешками. Вместе с Дейдрой и Шамирой Мадлен охотно разбирала их, потешаясь и краснея, потому что неведомые фаны подробно расписывали, что бы они хотели с ней сделать. По вечерам она читала эти письма Полу, причем с выражением, так что фантазии приобретали зримые черты, разжигая в обоих бешеную страсть, доводившую их до изнеможения. Но Мадлен ни разу — нигде и ни с кем — не изменила Полу. Он был средоточием ее вселенной, все остальное не имело значения, даже ее восхождение на вершину славы. Она была всецело предана ему и, несмотря на непредсказуемость Пола (только что был жесток, а через минуту — само великодушие), верила, что он любит ее так же самозабвенно. — Слава Богу, притопали, — объявила Шамира. — Ну и натрескаюсь же я! — Счастливая! — Да уж! Не всех нас природа наградила суперсексуальной фигурой! Остается утешаться пирожными. Выбирай столик. Официант провел их к кожаному дивану в нише, и пока они шли, все взгляды были устремлены на них. Трудно сказать, которая из девушек была эффектнее. На обеих были плащи, джинсы и белые свитеры-водолазки (когда Мадлен заехала за подругой в Кенсингтон, их немало позабавило это совпадение), но в то время как Шамира уложила густые черные волосы узлом на затылке, Мадлен позволила своим струиться по плечам золотисто-белым каскадом. Они поставили сумки на пол. Мадлен хотела остаться в плаще, но троица бизнесменов в противоположном углу заставила ее передумать. Она сбросила плащ и сладострастно повела плечами. Мужчины оживились. — Знаешь, Мэдди, тебе не помешало бы хоть изредка носить бюстгальтер. У тебя слишком большие груди, не будешь следить — обвиснут. — Пол не велит. Понимаешь, ему если приспичит, так вынь да положь — и чтобы никаких застежек, бретелек, косточек… — Но ты же выходишь на улицу. Сегодня, например, ты вполне могла бы надеть лифчик. — Можно подумать, он у меня есть! Пол все повыбрасывал, когда мы переезжали в Лондон. Шамира покачала головой. — Придется обзавестись, если ты действительно нацелилась на то платье, что примеряла у «Шанель». — Я еще не решила. Но вообще-то мне нужна обновка для благотворительного бала. Ты идешь? — Не могу. Мне послезавтра лететь в Турцию, сниматься в видеоролике для бюро путешествий. Они платят бешеные бабки. Попроси Дейдру подыскать тебе пару. — Она как раз просила зайти. Тогда и попрошу. — Откровенно говоря, Мадлен испытывала сомнения. Дейдра заботилась о ее карьере на собственный манер и не терпела вмешательства. Не могла же Мадлен признаться подруге, что это она платит Дейдре, а не наоборот. Конечно, на ее имя поступали небольшие гонорары, но Дейдра тратила их на подкуп редакторов, чтобы в последний момент заменили портрет на обложке, и газетчиков — чтобы не забывали упомянуть о ней и Поле в светской хронике. Сделав заказ, Шамира повернулась к подруге. — А теперь расскажи о предстоящем туре с демонстрацией новой косметики. Нет, сначала о рекламных роликах. Когда они выйдут? — «Шампунь» запускают на будущей неделе. Насчет другого я не уверена. Шамира кивнула. — Иногда проходит целая вечность, прежде чем ролик выйдет на экран. Ты уже видела чистовой вариант? — «Шампуня» — да. Это фантастика! Мы снимали его в Холмс Плейс, в клубе здоровья на Фулхэм Роуд. Я — ассоциированный член. — Я тоже была — вечность назад. Теперь уже не помню, что это такое. Кажется, у них есть бассейн? — Там-то мы и снимали ролик — в бассейне. Я рассказывала — там еще плескался молодой человек и под конец заключил меня в объятия. Писаный красавец, но безнадежно голубой. Кажется, я внушила ему непреодолимое отвращение. Должна признаться, он мне тоже. Терпеть не могу гомиков! — Да нет, они хорошие ребята. Видит Бог, в нашей профессии их пруд пруди. Ну так что там за косметика? — Вроде бы очистительный крем. Фирма — то ли «Л’Ореаль», то ли «Ланком» — готовит умопомрачительный состав. Хотят назвать его… — Постой, я угадаю. «Взгляд?» — Точно. Если все пройдет без сучка без задоринки, я прославлюсь больше той коровы, что торчит на обложке «Элит Лаудер» — как ее? — Лили Топпит. О ней рассказывают презабавную историю… — Ой, смотри, сколько времени! Как бы мне не опоздать к Дейдре, а то и домой вернусь поздно. А если у Пола такое настроение, как утром… Мы устраиваем званый ужин для издателя Пола и его жены. Пол — шеф-повар, а я — по части закусок. Господи, хоть бы он оттаял! Ничего, если я тебя не подвезу? — Ничего. Позвони потом, если захочешь. Расскажешь, как все прошло. Мадлен собрала свои пакеты с покупками и на прохладный поцелуй Шамиры в щеку ответила пылким объятием.* * *
Движения Мадлен были неловкими, угловатыми, а слова и подавно. Она не знала, куда девать руки; сердце было не на месте. — В общем, — произнесла она, нервно ходя по кухне, в то время как Пол внимательно наблюдал за ней, покачиваясь в кресле, — Дейдра считает, что это можно будет провернуть через несколько недель. Состав уже на стадии производства, и они подыскивают подходящее лицо. Ну а поскольку им приглянулось мое, можно со дня на день ожидать контракта. Она отрезала себе кусочек авокадо и подождала, что скажет Пол. А не дождавшись, продолжила: — Еще что-то говорилось о моей собственной коллекции модной одежды. У Дейдры состоялся предварительный разговор с той дамой, знаменитым модельером, послезавтра мне самой предстоит с ней встретиться. Дейдра считает это чистой формальностью. Филипа — так ее зовут — прямо загорелась. Дейдра говорит, если так и дальше пойдет, это будет фантастика! Мои фотографии во всех газетах, журналах, по телеку! Не только в рекламе, но и в разных шоу. А потом она хочет провернуть все это в Штатах, так что не исключено, что мне придется поехать в Америку. Я, конечно, сказала, что посоветуюсь с тобой. Пол взял со стола бокал и отпил вина. — И во что же тебе обойдется «фантастика»? Вот оно — то, чего она боялась! Мадлен и сама содрогнулась, когда Дейдра назвала сумму. Но Дейдра заверила ее, что это жизненно необходимо и что скоро на Мадлен посыплется манна небесная. У нее будет свой стиль, свой имидж и мировая слава. — Я жду, — напомнил Пол. Стоя к нему спиной, Мадлен собиралась с духом. Нужно ответить будничным тоном — все равно что сказать, какой ужин их ждет. — Самое большее сто тысяч. «Сначала инвестиции, потом — дивиденды», — процитировала она Дейдру. — Как по-твоему, положить креветки в микроволновую печь, чтобы разморозились? Пол молчал, и ей ничего не оставалось, как повернуться к нему лицом. Он добродушно улыбнулся, а увидев, что ее глаза полны слез, подошел и обнял ее. Странный народ — женщины! Чем хуже с ними обращаешься, тем сильнее они любят. Утром, перед тем как Пол ушел из дому, они крупно повздорили; она даже залепила ему пощечину. А теперь ходит на задних лапках, волнуется и готова на все, только бы помириться. Пол с облегчением убедился, что следов на щеке не осталось — что могли подумать гости? — Прости, что я утром плохо себя вела, — уткнувшись ему в ворот рубашки, прошептала Мадлен. Он крепко прижал ее к себе. — Это я плохо себя вел. — У тебя сегодня трудный день. Я не должна была лезть с подколками. Он запечатлел у нее на лбу нежный поцелуй. — А я не должен был ревновать тебя к Шамире. Она стала с жаром целовать его. — Я люблю тебя, Пол, больше всех на свете! Мне никто не нужен, только ты! — Ты заслуживаешь лучшего, но что поделаешь — подвернулся я. «И в горе, и в радости»… Мадлен искательно заглянула ему в глаза. Это что, предложение? — Сто тысяч фунтов… — Пол покачал головой. В конце концов Дейдра вытянет из Мадлен все до последнего пенни. Этому пора положить конец, но как это сделать? Ведь карьера Мадлен идеально вписывается в его собственные планы. — Пол, ты сердишься? — Ни капельки. Это твои деньги, милая, распоряжайся ими по своему усмотрению. Если тебе хорошо, то и мне тоже: ведь я люблю тебя. Все время, пока Пол принимал душ и переодевался к ужину, эти слова звучали у него в голове — он даже раз-другой произнес их вслух. Удивительнее всего было то, что он говорил искренне. В последнее время любовь Мадлен стала затрагивать сокровенные струны его души. «Матрешка» становилась человеком; под деревянной оболочкой обозначилось содержание — и ранимость, которую он никак не ожидал в ней найти. Это несколько сглаживало ее вульгарность, помогало мириться с раздутым тщеславием. Но, что бы он ни чувствовал, какой бы она ни стала, он не позволит ей разрушить его планы. Мадлен не спросила, как он провел день: побоялась искушать судьбу. Отлично. Скоро она будет готова на все что угодно, лишь бы он был доволен. Это облегчало его задачу. Откровенно говоря, у Пола был паршивый день: они с Гарри Фримантлом так и не договорились насчет книги. Пол твердо решил добиться выхода романа в авторском варианте. Насколько он мог судить, единственная надежда была на претворение в жизнь замысла, зародившегося у него в мозгу во время ланча с Мадлен и Филиппом Хавзом в «Жюли». Сначала он хотел предложить Мадлен дать Гарри Фримантлу взятку. Интересно, до какой суммы простирается его алчность? Однако потом пришло другое, еще более гнусное и потому более заманчивое решение. Вернувшись на кухню, Пол застал Мадлен за приготовлением креветок. Она начиняла ими половинки авокадо, но было уже некогда объяснять, что так никто не делает. Он опустился на стул. — Вино оставь мне. Итак, в нашем распоряжении час. Раздевайся. Поскольку она все еще была в свитере-водолазке и джинсах, раздеться было делом одной секунды. — Повернись. Мадлен медленно повернулась вокруг своей оси и заглянула Полу в глаза. Он поцеловал ее в пупок. У нее была гладкая кожа, как у ребенка. Мягкие, шелковистые волосы золотым дождем струились меж пальцев. Несмотря на высокий рост и крепкое сложение, Мадлен была поразительно женственна; рядом с ней он чувствовал себя всемогущим богом. Зато стоило ей открыть рот — и оттуда, как в сказке, выпрыгивали лягушки. — Сам не знаю, что со мной творится, когда я смотрю на тебя, — пробормотал Пол, привлекая ее к себе на колени. — И какого дьявола я лезу к старому дураку Фримантлу с этой дурацкой книгой? — Встреча прошла нормально? — Нет. Он и слушать не хочет. Или я вношу правки, или он отказывается издавать книгу. Похоже, на сей раз я проиграл, Мэдди. Она не знала, что сказать — только лохматила ему волосы и сочувственно улыбалась. Он нежно подул ей на соски. — Знай он, каким я владею сокровищем, наверняка изменил бы свое мнение. — При виде сочных губ Мадлен и матового блеска ее глаз по телу пробежали электрические разряды. — Ты меня любишь, Мадлен? По-настоящему? Она облизнулась. — Сам знаешь. — Сильно? Ты смогла бы ради меня переспать с Гарри Фримантлом? Томная чувственность в ее глазах уступила место растерянности. Она медленно отстранилась и покачала головой. — Ты же сам говорил, что убьешь любого… — Это другое дело, Мэдди. Я прошу тебя только потому, что привык разделять все твои надежды. Мне нужен успех, чтобы стать достойным тебя. Но это невозможно без твоей помощи. — Дадим ему денег? — У него самого куры не клюют. Мадлен слезла с его колен. Пол не мог понять, что творится у нее в голове. Она оделась и с болью посмотрела на него. — Если бы ты действительно любил меня, не предложил бы такое. Не смотри так. Нет, Пол, я не могу выполнить твою просьбу. Не хочу. С его губ сползла улыбка. Он кивнул и поднялся. Мадлен, словно в трансе, наблюдала за тем, как он открыл духовку, проверил, готова ли утка, и вышел из кухни. Подождав пару минут, она поднялась вслед за ним в спальню. — Что ты делаешь? — Звоню Мэриан. У нее кровь отхлынула от лица. — Зачем? Пол положил трубку на рычаг и сел на кровать. — Иди сюда. Мадлен ждала, что он ее обнимет, но он отодвинулся. — Ты думала, заставить тебя отдаться Гарри Фримантлу — худшее, что я могу сделать? Так вот — ты ошибаешься. Худшее — это если я расскажу Мэриан о твоем преступлении. Я у нее в долгу. Теперь понимаю: в одном ее мизинце было больше благородства и самоотверженности, чем во всем твоем роскошном теле. Более того — она незаслуженно любит тебя. Вот почему ты не можешь спать по ночам: совесть замучила. Меня тоже. И, раз мне не суждено увидеть свою книгу опубликованной, лучше всего будет вернуться к ней. Она скорее, чем ты, поймет и примет неудачника. Мадлен была потрясена. — Ты не можешь так поступить. Ты пошутил. Пойми, Пол, для меня это все равно что стать проституткой. — Нет. Я всего лишь прошу тебя пустить в ход твой врожденный дар. Любить — значит делиться всем, что имеешь. Она ошалело смотрела на него. — Ты не раз говорила, что ради меня готова на любые жертвы. А теперь мне приходится подвергать тебя испытанию. И ведь я взял тебя не девственницей. Вспомни, сколько у тебя было мужчин. — Ублюдок! — взвизгнула она. — Правда колет глаза? Теперь я вижу: ты не способна на жертвы — даже ради любимого человека. — Нет! — Мадлен исступленно затрясла головой; лицо побагровело от страха и смятения. — Как раз потому, что люблю, я и не могу на это пойти! Ты должен понять! Он встал и пошел прочь. Она догнала его, но он оттолкнул ее. — Пол! Выслушай меня, пожалуйста! Он стряхнул ее с себя; она безвольно опустилась на пол. Пол схватил ее за плечи и повернул к себе. По его щекам текли слезы. — Что с тобой, Пол? Почему ты плачешь? — Хватит, Мадлен! — прорычал он. — Прекрати! Ты сама вынуждаешь меня тебя мучить, хотя мы оба знаем, как я люблю тебя, иначе скорее покончил бы с собой, чем позволил тебе спать с другим мужчиной. Но что мне остается? Я не могу коверкать роман; если ты мне откажешь, я тебя потеряю, потому что ты не сможешь любить неудачника. — Он оттолкнул ее и спрятал лицо в ладонях. — Нет! Ты меня не потеряешь! Я сделаю все, что ты скажешь. Только не уходи. Пожалуйста, скажи, что ты остаешься! — Ей удалось наконец оторвать его руки от лица и прижать его голову к своей груди. — Прости. Это было так неожиданно! Но если ты думаешь, что это поможет, я выполню твою просьбу. — Мадлен, ты разрываешь мне сердце! — Молчи! Он сгреб ее в охапку и жадно прильнул к ее губам. — Я люблю тебя, Мадлен! Люблю! Держи меня крепко, не отпускай! — Ни за что не отпущу! Вот увидишь! — Она начала возиться с его брюками. — Господи, Мадлен! Я так хочу тебя — каждую минуту! Что я с тобой… что я с нами делаю! Ласкай меня, Мадлен! Обещай, что ты это сделаешь. Смотри на это как на игру, словно мы действуем понарошке — так мне будет легче это перенести. Обещай, что ты в него не влюбишься! Что я не потеряю тебя! — Все будет хорошо, — всхлипывала она. — Я люблю тебя. И никогда не полюблю никого другого. Объясни, что мне делать, что говорить. Это будет шантаж, да? — Не говори так. Это слово недостойно твоих прелестных губ. — Но все-таки, Пол? Шантаж, да? Он уткнулся лицом в ее шею. — Как ты себе это представляешь? — Установим скрытую видеокамеру. Как в кино. Мне не обязательно идти до конца: главное — создать видимость. Добудем компромат; он все сделает, лишь бы жена не узнала. — Пожалуй. — Пол сжал ладонями ее лицо и впился в губы жадным поцелуем. Потом отпустил ее и сказал: — Как хочешь, Мадлен. Все будет так, как ты хочешь.* * *
К тому времени, когда приехали супруги Фримантл, Мадлен успела до такой степени успокоить Пола, что он смог продолжить кухонные приготовления. Время от времени он поднимался на второй этаж, чтобы поцеловать ее, пока она натиралась кремами и причесывалась на особый лад. Пол сам выбрал для нее черную кожаную мини-юбку, туфли на низком каблуке и полупрозрачную блузку. Дав Мадлен в последний раз полюбоваться своим отражением в зеркале, он последовал за ней вниз и помог накрыть на стол. Оправившись от первоначального шока, Мадлен даже почувствовала азарт: ведь ей предстояло проверить на Гарри Фримантле силу своей сексуальной притягательности. Она ни разу не видела Гарри, но решила, что если он не совсем людоед и страшилище (Пол заверил, что нет), ей не составит труда доказать Полу, как сильно она его любит, и избавить его от необходимости вернуться к Мэриан. Ради одного этого она была готова на все, и если «все» включает близость с Гарри Фримантлом, она проделает это не только с присущим ей мастерством, но даже с охотой. Она ни на секунду не допускала мысли о провале, потому что, как часто повторял Пол, секс — единственное, в чем она достигла совершенства. Мадлен напрягла воображение и решила предложить Гарри связать ее: будет похоже на изнасилование. В четверть восьмого в дверь позвонили. Пол в последний раз торопливо обнял Мадлен и, взяв за руку, повел встречать гостей. Она приготовилась увидеть приземистого, начавшего лысеть, багроволицего мужлана средних лет и чуть не ахнула при виде элегантного джентльмена с красивым смуглым лицом и приятными манерами. Она подарила ему одну из своих самых обольстительных улыбок. Все пойдет как по маслу! — Гарри, позволь познакомить тебя с Мадлен. Отвечая на рукопожатие, она легонько поскребла ноготком ладонь Гарри и запустила сияющий взгляд в самую глубину его черных глаз. — Я думала, Пол мне все о вас рассказал, но он утаил, что вы — очень интересный мужчина! Гарри улыбнулся и мягко, но решительно высвободил руку. — Значит, у меня есть перед вами преимущество, потому что я прекрасно представлял себе вашу красоту. Разрешите познакомить вас с моей женой Джулией. Мадлен изобразила дежурную улыбку и собиралась тотчас отвернуться, но ее остановил взгляд Джулии, такой откровенно дружелюбный, что она неожиданно для самой себя произнесла: — Очень приятно. Надеюсь, ужин вам понравится. Пол сам готовил. Я — только закуски. С бокалами в руках все направились в гостиную. Пол немного задержался на пороге. Ему было любопытно, что станет делать Мадлен. А она села на диван напротив Гарри и скрестила длинные ноги в ажурных чулках. Извинившись, Пол пошел на кухню. Пусть Мадлен покажет себя во всей красе. Сегодня он предоставит ей полную свободу действий: не станет поправлять речь, делать замечания за столом. А если она доставит несколько неприятных минут Джулии, значит, так тому и быть. Главное — чтобы она очаровала Гарри Фримантла. Авокадо с креветками были уже на столе. Пол открыл соус, полил салат и пошел в гостиную — звать гостей к столу. На лице Мадлен застыло изумленное выражение — Джулия рассказывала ей о своей работе в «Файнэншл таймс». — Как интересно! — воскликнула она, занимая свое место за столом и жестом показывая Гарри, чтобы он сел справа от нее. — В вашей газете пишут о деньгах? Не зная, куда сесть, Джулия вопросительно посмотрела на Пола. Тот немедленно отодвинул для нее стул. — И о бизнесе, — ответила она. — И разные новости. — Я ее не читаю. Правда, Пол выписывает — да, Пол? Я — профан в денежных делах. Полу приходится самому всем заправлять. — Мадлен захихикала и состроила Гарри глазки. — А вы, Гарри, делаете что-нибудь по дому? — Не слишком много. В основном дом держится на Джулии. — Он бросил на жену нежный взгляд. — Ага, значит, вы из тех жен, что на все руки? — Мадлен с энтузиазмом пожала гостье руку. — Откройте мне парочку секретов. Я не умею готовить. Зато Пол готовит бесподобно. Он все делает бесподобно, правда, любовь моя? — И она бросила на него лучезарный взгляд, стремясь перещеголять в этом Гарри и Джулию. — Зато тебе нет равных кое в чем другом. Мадлен прыснула. — Только не спрашивайте, что Он имеет в виду, а то еще скажет. Последовала неловкая пауза. Джулия беспомощно посмотрела на мужа. Пол наблюдал за Мадлен, а она недоумевала: почему гости не начинают есть? И вдруг ее осенило. Наверное, они из тех, кто ни за что не приступит к еде, не прочитав молитву. Хозяйка должна показать пример. Она сложила ладони и закрыла глаза. Пол несказанно удивился, а поняв, в чем дело, с трудом сдержал смех. — За все, что ты ниспосылаешь нам, Господи, большое спасибо, — пробормотала Мадлен и открыла глаза. — Поехали? — Да, конечно, — ответила ошеломленная Джулия. Мадлен осторожно поднесла ложку к губам. — Вы сказали, что сами готовите закуски, — заметила гостья немного погодя. — И соусы тоже? — Нет, что вы! Это готовые, из бутылки. — Я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь из моих знакомых признался, что пользуется готовыми приправами, — весело сказала Джулия, — хотя, можете мне поверить, так поступают абсолютно все. «Она мне определенно нравится», — решила Мадлен. И вдруг вспомнила: «Салфетки!» — и пулей вылетела из столовой. — Вы давно пишете, Пол? — поинтересовалась Джулия. — Всю жизнь мечтал об этом, но по-настоящему взялся только год назад. — Наверное, это съедает много времени? — Когда мы с вами расстались, — вступил в разговор Гарри, — я подумал: если бы объединить два наших ума… — Не нашла, — объявила, входя в комнату, Мадлен. — Вот вместо них бумажные полотенца. — Начинается заседание редколлегии, — предупредила ее Джулия. — Что-что? Пол ухмыльнулся. — Ничего. — Он был так уверен в успехе сегодняшнего предприятия, что не видел смысла в профессиональной дискуссии. Не стоит отвлекаться. — От авокадо толстеют, — предупредила Мадлен. — Ну, вам-то не о чем беспокоиться, — с улыбкой отозвалась Джулия. — У вас божественная фигура. — Все-таки в моей профессии приходится соблюдать осторожность. — Вы регулярно занимаетесь гимнастикой? — вежливо поинтересовался Гарри. Мадлен полоснула его взглядом, исполненным столь откровенной похоти, что у него отвисла челюсть, а ложка со звоном ударилась о тарелку. — Смотря что называть гимнастикой, — промурлыкала она и поглядела на Пола. Тот пробормотал что-то насчет утки и бросился на кухню. — Вы любите чи… читать, Мадлен? — Гарри запнулся, потому что она прижала свою ногу к его голени. — Мне некогда читать. Все время отнимает гимнастика, — и она многозначительно улыбнулась. — Как? — удивилась Джулия. — Даже те журналы, в которых помещают ваши портреты? — Вы имеете в виду — крутые? Просматриваю иногда, а другие — нет. Там вечно одно и то же: рак, воспитание детей, диета и прочая дребедень. Меня это не интересует. — Да, конечно. Но в «Харпер энд Куин» бывают любопытные статьи. — В будущем месяце я выйду у них на обложке. В обалденной шляпе. Сплошной шелк, фрукты и вуалетка вот до сих пор, — она показала чуть повыше бровей. — Как интересно! — восторгалась миссис Фримантл. — Обожаю шляпы! Жаль только, их некуда надевать. Вы бывали в Аскоте? — Нет, но, наверное, в этом году побываю. Агентство абонирует ложу, нас будет целая толпа. Модели, фотографы, важные клиенты… Знаете что, поехали с нами? Джулия покосилась на мужа. — Это было бы чудесно. Правда, дорогой? Он кивнул и, чувствуя, как нога Мадлен двинулась вверх вдоль его собственной, с отчаянной надеждой посмотрел на дверь, из-за которой никак не появлялся Пол. Джулия с грехом пополам поддерживала дружескую беседу, а нога Мадлен неотвратимо приближалась к цели. Еще немного — и ему придется спасаться бегством. К счастью, вернулся Пол. — Сейчас уберу грязную посуду и подам утку. Как насчет вина? — Он с удовлетворением убедился, что бокал Мадлен снова пуст. — Пойдем, дорогая, достанешь чистые тарелки. А я позабочусь о вине. — Ну как я? — спросила Мадлен, когда они вдвоем очутились на кухне. — Высший класс. — Он всячески подчеркивает свою преданность жене. — Это лишний раз доказывает, что ты его достала. — Как это? — А так. Он разыгрывает спектакль. Я нисколько не удивлюсь, если завтра он позвонит тебе с утра пораньше. — Пол стиснул ей груди и вернулся к духовке. — Иди развлекать гостей. За основным блюдом разговор коснулся литературы. Мадлен с горем пополам вспомнила парочку романов Барбары Картленд, но совершенно растерялась, когда остальные начали обмениваться мнениями по поводу Аниты Брукнер и какого-то француза, чье имя ей даже не удалось выговорить. — Я схожу за десертом, — предложила она. — Это будет фруктовый салат. Гарри, вы поможете мне убрать со стола? — Э… Да, конечно. — Пол — замечательный повар, не правда ли? — щебетала Мадлен, ставя тарелки в сушилку. — Да, замечательный. — Не уходите, — попросила она, видя, что он собирается улизнуть. — Как вам моя блузка? Пол от нее балдеет. — Могу себе представить. — Хотите, покажу вам свои фотографии в «Только для мужчин»? — Очень любезно с вашей стороны, — промямлил Гарри, пятясь к двери. — Конечно, вы предпочли бы в натуре. Но это — не сегодня. — Да-да. Не сегодня. Мадлен положила его трясущуюся руку себе на грудь. — Приятно? — Э… Да, конечно, но я лучше схожу… там осталась еще утка. Мадлен повела плечами. Наверное, он боится жены. И она, прихватив вазу с фруктами, вернулась в столовую. После десерта Пол предложил выпить кофе с бренди в гостиной. Мадлен пошла делать кофе. На кухне к ней присоединиласьДжулия. — Вам помочь? — Нет-нет. Как говорится, ситуация под контролем. Жалко, что Джулия — симпатяга, это усложняет дело. Нужно, чтобы она не узнала — не чувствовать себя виноватой. — Очень удобная кухня, — похвалила Джулия. — Как и весь дом. Можно его осмотреть? — Конечно. Давайте я отнесу кофе, а потом покажу вам спальни. Правда, мы пользуемся одной — в других почти пусто. Пройдем в сад на крыше. Оттуда виден весь Лондон. В гостиной Пол с Гарри продолжали литературную беседу и почти не обратили внимания на слова Мадлен, что они с Джулией отправляются на экскурсию по дому. И только поднявшись, чтобы налить еще бренди, Пол отдал себе отчет в том, что прошло уже полчаса, а их — ни слуху ни духу. Пока Гарри пел дифирамбы Ги де Мопассану и особенно рассказу «Лунный свет», Пол то и дело подливал ему бренди, время от времени бросая тревожный взгляд на дверь. В чем дело? Наверное, Джулия уже рассмотрела каждый коттедж по соседству. Наконец Пол не выдержал и, извинившись, отправился на поиски. Он обошел все спальни, сад на крыше, кухню, столовую и в конце концов нашел обеих женщин в своем кабинете. Мадлен устроилась на письменном столе, Джулия — в кресле напротив. То, как они внезапно прервали разговор, показалось ему подозрительным. — Извините, что помешал. Мэдди, можно тебя на минутку? Она бросила быстрый взгляд на Джулию и вышла в коридор. — Что происходит? — прошипел Пол. — Так, «между нами, девочками». Мы сейчас придем. — Поторопитесь. И покрутись перед ним побольше — пусть полюбуется твоими ногами. Ты в белье? Мадлен кивнула. Из кабинета выглянула Джулия. — Можно мне еще бренди? — Отдав Мадлен рюмку, она снова скрылась за дверью. — Я сам все принесу, — прошипел Пол. — Быстро иди сними белье. Когда он вошел в кабинет, Мадлен не было — очевидно, пошла выполнять его указание. Джулия поблагодарила за бренди, отпустила несколько восторженных замечаний по поводу его библиотеки и смолкла. Пол путано объяснил, что Мадлен скоро придет, и, сославшись на то, что, должно быть, у Гарри пустая рюмка, вернулся в гостиную. — Чем они занимаются? — спросил гость. — Треплются в кабинете. Обычная дамская болтовня. Скоро явятся. На побледневшем лице Гарри появилась вымученная улыбка. Прошло еще полчаса, и Пол снова не выдержал. Его бесило поведение Мадлен; явное смущение Гарри начало действовать на нервы. Когда он ворвался в кабинет, мизансцена не изменилась; единственным отличием было то, что Мадлен переоделась — в платье, которое он запрещал ей носить даже дома: белое, в цветочек и с поясом на талии, а главное — скрывающее ее прелести. Она откинула с лица золотистую прядь и приветливо улыбнулась. Пол издал неестественный смешок. — Хотел бы я знать тему вашего разговора: никак не можете остановиться. — Мы говорили о классической истории, — сказала Джулия. — Я рассказывала Мадлен о нравах в греческом гимнасии[6]. Он перевел взгляд на Мадлен — та изумленно вытаращила глаза. — Впрочем, для первого раза достаточно. Идем, Мадлен, украсим собой мужское общество. С возвращением Джулии беспокойство Гарри немного улеглось, и он рассыпался в комплиментах по поводу платья Мадлен. — Все в порядке, Джулия? — спросил он жену. — Да, разумеется. Не волнуйся. Странно, подумал Пол. За этим кратким обменом репликами что-то скрывалось, но что? Наконец Гарри решил, что пора уходить. Пока женщины нежно прощались в гостиной, Пол проводил Гарри до двери. — Так вы все-таки подумайте о моих предложениях. — К Гарри вернулись прежние учтивость и уверенность. — Я весьма заинтересован в вашей книге, Пол, но в ней попадаются длинноты и невразумительные места. — Я подумаю. — Пол чмокнул в щеку Джулию и постоял с Мадлен на пороге, провожая взглядами их «бентли». Наконец они остались одни, и Пол смог дать себе волю. — Что это значит, черт возьми? Почему ты нацепила эту дрянь? — По-моему, это платье более уместно для лекции по классической истории. — Хватит пудрить мне мозги. Я-то думал… Мадлен пребывала все в том же лучезарном настроении. — Ты ошибся, Пол. Мои попытки соблазнить Гарри были изначально обречены на провал. Видишь ли, в определенном смысле ты подходишь ему гораздо больше. — То есть? — Он голубой. — Женатый человек?! — Женатый или не женатый, но он — гомик. С минуту в комнате царила гробовая тишина. И вдруг Пол откинул голову назад и разразился безудержным хохотом. — Так вы об этом весь вечер болтали? — Главным образом. — Ясно. Вот откуда — параллель с греческим гимнасием. Что она сказала? — Что я даром теряю время, пытаясь затащить ее мужа в постель. — Мадлен задумчиво скривила губы. — Это очень грустно, потому что Джулия без ума от Гарри. Она не знала о его склонности, когда выходила замуж. А теперь они вынуждены поддерживать видимость — ради детей. Он осторожен и не делится с ней своими сердечными тайнами. Полу все еще не верилось. — Подобные вещи так просто не разглашают. Где гарантия, что она говорит правду? — Конечно, гарантии нет. Но, понимаешь, я не смогла вызвать у него эрекцию. И зачем бы ей лгать? — Чтобы сбить тебя со следа. Но нет — это чересчур сложно. Проще было закатить скандал. — А она не закатила. Нет, Пол, я не думаю, что Джулия лжет. Она заставила меня поклясться, что я не разболтаю. Видишь ли, я ей понравилась. Она приглашает меня пообедать вдвоем на будущей неделе. — Ты пойдешь? — Вряд ли. У меня много работы. Конечно, если ты хочешь… — Не особенно. Мадлен начала собирать на поднос пустые рюмки и чашки. — Почему ты так странно смотришь. Пол? Если он — извращенец, военный перевес на твоей стороне. — Военный перевес… Осталось добыть оружие. — Что-что? — Доказательства, — объяснил Пол. (обратно)Глава 12
Такой жары в Лондоне не было с 1976 года. В надежде хотя бы на один глоток свежего воздуха Мэриан распахнула настежь окна и двери, но в комнату проникали только гарь и грохот уличного движения, а жалкий электрический вентилятор не справлялся с избыточной влажностью и к тому же мешал работать. Телекс в углу вяло выдавал одну страницу печатного текста за другим. Юридические справки; список технических работников; предложения по рекламе; перечень актеров, которым предстояло пройти прослушивание, — и бесконечные технические подробности, до которых Мэриан не было никакого дела. Она вставила в пишущую машинку чистый лист и вытерла пот со лба. В поле ее зрения попал телефонный аппарат. Почему он не звонит? С ее возвращением две недели назад из Америки жизнь вошла в прежнее русло, и Мэриан изнывала от одиночества. Бронвен уехала в Уэльс, а Мэтью снова окружил себя стеной высокомерной замкнутости. Собственная зависимость от перепадов его настроения выводила Мэриан из себя, тем более что сама она расшибалась в лепешку, чтобы наладить отношения. В Нью-Йорке это удалось — или показалось, что удалось. Она даже начала понимать, почему с ним так носятся: ведь в тех редких случаях, когда Мэтью снисходил до того, чтобы излучать обаяние, он был неотразим. Здесь, в Лондоне, он был крайне загружен — но это не могло оправдать его последнюю выходку. Полчаса назад он вместе со Стефани прошел мимо раскрытой двери приемной — и даже не повернул головы, чтобы поздороваться. Стефани — та повернула. И даже в двух словах сообщила Мэриан об интервью, которое они только что дали на телевидении. Но, видимо, от Мэтью Корнуолла не дождешься подобной любезности. То ли дело в Америке! Последние два дня Мэриан провела у себя в номере, набрасывая эпизоды для будущего фильма. Бронвен показала их Мэтью, и у него не только нашлось время для Мэриан, но он даже заступился за нее перед Деборой Форман: — Как ты не понимаешь? Конечно, Мэриан плохо представляет себе истинное лицо Нью-Йорка и ту жизнь, которую мы стремимся показать в этом фильме, но именно поэтому в ее воображении возникают фантасмагории — как раз то, что нужно. Это придает всей истории колорит, которого прежде не было. Возможно, это было не самым тактичным объяснением, так что стоит ли удивляться тому, что Дебора Форман так и не оттаяла, но Мэтью незаметно подмигнул Мэриан — и ей стало абсолютно все равно, что о ней думает Дебора. Она со вздохом взяла ручку и принялась заполнять карточки футбольного тотализатора. Возможно, она не так остро воспринимала бы пренебрежительное отношение Мэтью, если бы его непредсказуемость не напоминала о Поле; правда, у Пола был другой темперамент. Его неожиданное бегство с Мадлен явилось страшным ударом, и теперь чье-то непостоянство выбивало ее из колеи. Она никому об этом не рассказывала — только Бронвен в минуты слабости, — но временами подступало отчаяние, и она торопилась укрыться в скорлупе одиночества, которое и сейчас переносила ничуть не легче, чем в первые дни после предательства Пола. Бронвен сказала, что она от себя слишком многого требует: нельзя за такой короткий срок совершенно оправиться от потрясения. Она, Бронвен, не сомневается: Мэриан выйдет из этого испытания победительницей. Просто на нее повлияло возвращение в Лондон и то, что она бывает подолгу предоставлена самой себе. Завести подругу? Но в окружении Мэриан не было никого подходящего. Не помогало и то, что она покупала все журналы и газеты с изображением Мадлен. Иногда ей начинало казаться, будто Мадлен умерла, а глянцевые обложки, с которых она ослепительно улыбалась, — всего лишь призраки. Хватит, сказала себе Мэриан; нужно перестать ломать голову над тем, чем занята в данный момент ее кузина, и попытаться ее возненавидеть. Но ненависть была настолько чужда ее натуре, что ее решимости хватило на одни сутки. «Ничтожество, — распекала она себя. — Ходишь перед всеми на задних лапках — лишь бы угодить. А какая, к черту, разница, нравишься ты кому-то или нет? Пошли они!» В это время запищал зуммер. Мэриан нажала на кнопку и вернулась за пишущую машинку. — Мэриан, ты не могла бы принести те сметы, что вчера печатала? — спросил голос Стефани. — Нет! — рявкнула она и с удвоенной энергией застучала по клавишам. Через несколько минут появилась сама Стефани. — Мэриан! Она продолжала печатать — в унисон с барабанным боем сердца. — В чем дело, Мэриан? У тебя что-нибудь случилось? — Нет, все просто замечательно! — Слава Богу. Я пришла за сметами. Где они — в верхнем ящике? Мэриан резко крутнулась на вертящемся табурете. — Они там, где и положено! — И она с силой дернула на себя ящик канцелярского шкафа. — Не бей меня! — взвизгнула Стефани. Мэриан вытаращила на нее глаза и вдруг, трясясь всем телом, уронила голову на руки. Стефани осторожно отвела назад ее волосы. — Мэриан, ты смеешься? — И вдруг сама залилась смехом. Мэриан подняла на нее полные слез глаза. — Бить тебя? Как только могло прийти в голову? — У тебя был такой свирепый вид, я не знала, чего ожидать. Что на тебя нашло? — Не знаю. Наверное, становлюсь истеричкой. — И они обе покатились со смеху. — Чем это вы тут занимаетесь? — спросил Мэтью, растерянно переводя взгляд с одной на другую. Но его озабоченный вид только подлил масла в огонь. — Уйди, пока я тебя не побила! — взвизгнула Мэриан. Стефани так и рухнула грудью на стол. — Обе спятили, — решил Мэтью и сел, чтобы досмотреть спектакль до конца. Так их и застала Кэтлин — и, точно вкопанная, застыла на пороге, подбоченясь и пожирая глазами Стефани. Мэриан первая ее заметила и нашла грозное выражение ее лица таким уморительным, что еле сдержала новый приступ смеха. — Там кто-то стоит! — взвыла она. Стефани обернулась, вытирая слезы. При виде Кэтлин кровь отхлынула у нее от лица. Мэтью взглянул туда же — и тоже побледнел. Держась за бок, хохоча и икая, Мэриан снова посмотрела на матрону у двери. И вздрогнула, услышав, как та заорала на Стефани: — Ты у меня похохочешь! Мэриан громко икнула. Стефани вновь разразилась заливистым смехом. — Не смей скалиться! — К величайшему изумлению Мэриан, женщина метнулась к Стефани и ударила бы ее, если бы Мэтью не перехватил ее руки и не завел за спину. — Ради Бога, Кэтлин! — Не смей меня останавливать, ублюдок! — орала матрона. — Я достаточно терпела… Она попыталась выдернуть руку, чтобы смазать Мэтью по лицу, а когда это не получилось, с силой наступила ему на ногу. От неожиданности он выпустил руку жены. — Мне давно пора высказать все, что я об этом думаю! Я отдала тебе лучшие годы жизни, а ты издеваешься! Что ты за человек? Мужчина! Сволочь недоделанная! Не способен даже… — Кэтлин! — вскричала Стефани. — Ты находишься в моем офисе! Это нарушение границ частного владения! Кэтлин и не думала тушеваться. — Вот как? А сама ты чем занимаешься? Трахаешь моего мужа? И не подумала, что будет с моей семьей! — Ты сама развалила свою семью! Не выставляла бы себя на посмешище… — На посмешище?! Конечно, это очень смешно — хотеть, чтобы отец моих детей хотя бы изредка с ними виделся! — Он с ними видится! — Ага — с Бобом! Настроил его против меня! — Кэтлин снова перенесла острие атаки на Мэтью. — Что ты ему наговорил? Почему он не приезжает домой? Зато к тебе — приезжал! Не отрицай, мне все известно! — Я ничего не отрицаю, — сквозь зубы процедил Мэтью. — Я… — Ага, признался! Отнял у меня сына! Что дальше, Мэтью? Примешься за Саманту? Надеешься и ее отнять — чтобы я осталась ни с чем? Ты этого добиваешься? — Это ты отравила всем жизнь! — воскликнула Стефани. — Если хочешь знать, твой сын способен сам разобраться, что за стерва его мать! — Стефани! Прекрати! — крикнул Мэтью. Кэтлин продолжала вопить: — Сука! Как ты смеешь так со мной разговаривать? Давай, продолжай в том же духе! Покажи ему, на что ты способна! Это твое влияние — не платит алименты, отрекается от дочери!.. — Не смеши, Кэтлин. Это когда же я отрекался от Саманты? Слушай, давай найдем тихое местечко и все спокойно обсудим. Только ты да я. — Нет! Я пришла к этой — и я до нее доберусь! — Метнувшись через всю комнату, она вцепилась Стефани в волосы. Мэтью в мгновение ока очутился там же. Завязалась борьба. Кэтлин сыпала ругательствами, Стефани вопила от боли, а Мэтью орал на обеих, чтобы они угомонились. Мэриан наконец-то овладела собой и схватила телефонную трубку. — Тихо! — гаркнула она. — Я кому сказала? — К ее изумлению, все трое замерли. Она надавила на кнопку селектора и, увидев, что Стефани по-прежнему тупо взирает на нее, скомандовала: — Иди к себе наверх и ответь Фрэнку. Он звонит из Америки по неотложному делу. Алло? Да, «Райдер и Ивенс» слушает. Привет, Вуди. Хорошо, я передам. Большое спасибо. — Она положила трубку. — Мэтью, твоя машина припаркована на Брюер-стрит? — Черт! — Он пригладил взъерошенные волосы и вдруг вспомнил, что Вуди нет в городе. — Ну что стоишь как столб? — рявкнула Мэриан и, выйдя из-за стола, протянула Кэтлин руку. — Миссис Корнуолл? Меня зовут Мэриан. Жалко, что нас никто не познакомил. Мэтью ошеломленно пялил на нее глаза. Такую Мэриан он не знал, но смекнув, что она задумала, попытался остановить ее: — Мэриан, послушай… — Будет очень жаль, — язвительно заметила она, — если тебе придется тащиться на Парк-Лейн — выкупать свою машину. Особенно если учесть, что в половине первого у тебя деловая встреча в Стритеме. — В Стритеме? — Да, в Стритеме. Так что давай — одна нога здесь, другая там. — Мэриан… — Ты еще здесь?! Он вскинул руки, словно капитулируя, и удалился. Мэриан повернулась к Кэтлин и остолбенела: та улыбалась. — Здорово! Видела выражение его лица, когда ты сказала о Стритеме? Не мог сообразить, что к чему. Мэриан пребывала в нерешительности. — Не волнуйся. Я сразу проникла в твой замысел. Надо же — иногда требуется вмешательство сопливой девчонки, чтобы понять, какой дурой ты себя выставляешь! Мэриан улыбнулась. — Есть немного. Извините, если обидела. — Более чем немного, — вздохнула Кэтлин. — Ну и что дальше? — Идемте пить кофе! — С удовольствием. — На лице Кэтлин появилось выражение такой усталости, что Мэриан порывисто сжала ее руку. — Тут через дорогу вполне приличное кафе. Мне самой хочется поскорей убраться отсюда.* * *
— Ох и вымоталась же я, — пробормотала Кэтлин, устроившись вместе с Мэриан за столиком у окна. — Ничего удивительного. Разве можно в такую жару горячиться? Я думала, вы сотрете Стефани в порошок. — Можешь мне поверить, я бы ни капельки не пожалела. Кэтлин пригладила короткие черные волосы, и Мэриан поразилась — какая она симпатичная, когда не рычит! — Это не решение вопроса. — Сколько тебе лет? — Двадцать три. — А на вид больше. Не обижайся. Просто я еще не видела, чтобы кто-нибудь укротил Мэтью. Наверное, уж если ты завелась — нипочем не удержать! — Откровенно говоря, такого со мной еще не бывало. Мэтью послушался, потому что я застигла его врасплох. Попробовал бы открыть рот — я бы ему такого наговорила! Кэтлин взяла свою чашку. — Я сама не ожидала, что сорвусь… Неправда. Я сделала это нарочно. — Вы были не в себе. — Просто видела их утром по телеку вместе. Ты не представляешь, каково это. — Очень хорошо представляю… — Я бы еще смирилась, но после передачи позвонил Бобби — он тоже смотрел — и назвал ее лакомым кусочком. Это была последняя капля. Мэриан поджала узкие губы. — Не очень тактично с его стороны. — Про себя она добавила: «Весь в папочку!» Наблюдая за тем, как Кэтлин кладет в чашку сахар и тщательно размешивает, она пыталась представить Мэтью женатым на такой женщине. Это оказалось совсем непросто — и не только из-за Стефани. Просто Кэтлин не принадлежала к его типу женщин. Слишком приземленная. И вульгарная. — Вы уже полгода врозь? — Восемь месяцев. Вот уже восемь месяцев, как он ушел из дома. Но у нас и до этого все шло наперекосяк, просто я не хотела замечать. Видишь ли, он никогда не мечтал на мне жениться, но я забеременела, и он поступил благородно. Кстати, я сделала это нарочно. Я имею в виду — забеременела. Иначе мне бы нипочем не удержать его. Мэриан отхлебнула кофе. — Извините, что я так говорю, но, по-моему, этот скандал не способствует… Я не очень хорошо знаю Мэтью, но… — Ты абсолютно права. Он ненавидит скандалы, этим его не возьмешь. Но я просто зверею, когда дело касается этой женщины. — Вы все еще хотите, чтобы он вернулся? Даже несмотря на то, что он… — Не любит меня? — Я не то хотела сказать. — Разве?.. Ты права, он меня не любит. А что до его возвращения, то, как ни странно, нет, не хочу. Больше не хочу. То есть хочу, но это гиблое дело. Мы никогда не подходили друг другу: Мэтью слишком умен для таких, как я. Просто я думала: он повсюду ездит, а мне хотелось перемен… Ну вот я их и получила — и поняла, что это не для меня. Просто я не могу смириться, что он опять с этой тварью. Мерзавка, разбила мою семью! Мэриан посмотрела ей в глаза. Кэтлин усмехнулась. — Для двадцати трех лет ты сообразительна. Признаю: он не связался бы с ней, если бы дома все шло нормально. — Все мы склонны искать виноватых. — Правда? А ты на кого сваливаешь свои неудачи? — К несчастью, на себя. Становлюсь несчастным, забитым существом и до тошноты жалею себя. — Но не закатываешь истерики? — Не хватает храбрости. Обе рассмеялись. Держа обеими руками чашку, Кэтлин пытливо изучала в Мэриан долгим проницательным взглядом. — Знаешь, — сказала она немного погодя, — я всегда думала, что Мэтью встретит кого-нибудь вроде тебя. Конечно, постарше, но спокойную, рассудительную и… сильную. — Это я-то сильная? — Да. — Кэтлин протянула руку и легонько ущипнула Мэриан за нос. — Боюсь, вам не понравится то, что я сейчас скажу, но Стефани — сильная женщина. Кэтлин вздохнула. — Наверное. У меня на нее зуб — вряд ли я когда-нибудь смогу судить о ней беспристрастно. — Даже если сами кого-нибудь встретите? — Даже тогда. Я знаю, что говорю: уже встретила. Только не передавай Мэтью. — Почему? То есть я, конечно, не передам, но почему вы не хотите, чтобы он знал? — Честно? Пусть еще помучается. Не беспокойся, он справится. На свете не так уж много вещей, которые Мэтью не по зубам. — А Саманта? Стефани говорила, он страдает из-за ее плохого отношения. — Это уж точно. Но я тут ни при чем, клянусь. Конечно, она знает, что я ненавижу Стефани, но я никогда не настраивала ее против отца. Если на то пошло, я даже убеждаю ее с ним встретиться, но она не хочет иметь с ним ничего общего, даже говорить отказывается. Думаю, она образумится. Во всяком случае, надеюсь — ради нее самой. Он все-таки ее отец; когда-то они были очень близки. Мэриан почувствовала ком в горле. — Хочешь еще кофе? — спросила Кэтлин. — Да, пожалуйста. — С тобой все в порядке? Ты побледнела. — Нет, ничего. Просто все это так… Должно быть, я так же, как Мэтью, плохо переношу скандалы. — Извини. — Кэтлин участливо пожала ей руку. — А что ты делаешь в этой компании — если не считать того, что выручаешь Стефани из беды? — Я ее секретарь. И секретарь Бронвен — это компаньон Стефани. — Надо же. Тебе нравится на них работать? — Откровенно говоря, не представляю, что бы я без них делала. — А Мэтью? — Что Мэтью? — Ты с ним ладишь? — Иногда. Но вообще-то я его боюсь. Кэтлин запрокинула голову и захохотала. — Не надо бояться Мэтью. На самом деле у него большое, доброе сердце. Просто он увлечен работой и ему не до нежностей. Но на земле трудно найти другого такого благородного, отзывчивого и, я бы даже сказала, романтичного человека, как мой муж, когда он позволяет себе быть собой. Не передавай ему. Но я скажу тебе кое-что еще. Для тебя будет гораздо лучше, если все останется так, как есть. Потому что, если он решит испытать на тебе силу своего обаяния, у тебя от одного взгляда начнут подгибаться коленки. За плечами у Мэтью больше разбитых сердец, чем поставленных фильмов. О половине случаев он даже не подозревает. — Как это? — А вот так. Я об этом позаботилось. Стоило мне почуять что-нибудь в этом роде — а я чуяла за версту, — и я проводила разъяснительную работу. Их как ветром сдувало. А вообще-то зря беспокоилась. Мэтью — не такая уж легкая добыча. В сущности, по-настоящему он любил только Стефани — и то вернулся ко мне. Вернее, к Саманте. Но я знала, что это — вопрос времени. Он никогда не переставал любить ее, даже в разлуке. Вот чего я не могу ей простить. Меня он никогда так не любил. — Может быть, вначале… — Говорю тебе, я подстроила ему ловушку. И пусть это послужит тебе уроком, Мэриан. Таким образом можно завоевать мужа, но не мужчину. — А тот, с кем вы сейчас встречаетесь, — вы его любите? — В каком-то смысле. Но, конечно, мало кто может сравниться с Мэтью. Есть в нем что-то этакое… Возможно, в моих устах это прозвучит не слишком уместно, но за напускной суровостью скрывается человек, которому всегда можно довериться, обратиться за помощью. — У нее дрогнул голос, но она тотчас овладела собой. — Смотри, не влюбись в него, Мэриан. Обещай, что не влюбишься. Он причинит тебе много горя. — Мне? — Лицо Мэриан стало пунцовым. — Почему вы так думаете? Он гораздо старше… Он… — О Боже! — простонала Кэтлин. — Ты даже не отдаешь себе отчета… — В чем? — Говорила же — я за версту чую такие вещи!* * *
Стефани с Мэтью ждали в приемной. — Где ты была? — Стефани вскочила на ноги и обняла Мэриан за плечи. — Где Кэтлин? Она тебя не обидела? Дурашка, тебе не надо было вмешиваться. Конечно, мы тебе благодарны, но… — Стефани, — буркнул Мэтью, — дай Мэриан самой рассказать. Ну, Мэриан? Она сняла с плеча сумочку и опустилась на табурет. — Мы с Кэтлин ходили пить кофе. Поболтали и разошлись. — О чем поболтали? — О том о сем. О погоде. Она чувствовала на себе пронизывающий взгляд Мэтью. Хоть бы он ушел! — Мэриан! — воскликнула Стефани. — Неужели она ничего не сказала о том, что произошло? К великому облегчению Мэриан, зазвонил телефон. Звонкий голос Бронвен попросил позвать Стефани. Мэтью помешал ей снять трубку. — Иди к себе в кабинет. — Зачем? Он покосился на входную дверь. — Ах да. Мэриан, будь добра, переведи разговор на меня. После ее ухода Мэтью облокотился на канцелярский шкаф и вперил в Мэриан инквизиторский взгляд. — Лента кончилась, — объявила она, вставая из-за пишущей машинки и направляясь к двери. Мэтью схватил ее за руку и развернул к себе. — Спасибо, Мэриан. Она потупилась. — И прости меня. — За что? — За то, что тебе пришлось отдуваться. Я сам должен был все уладить. — Насколько мне помнится, я не предоставила тебе выбора. Он усмехнулся. — Тем не менее, Кэтлин — моя жена, я не должен был взваливать… — У меня другая точка зрения. — Можно узнать, какая? — Нет. У нее так бешено колотилось сердце, что она боялась — Мэтью услышит. Пальцы мелко дрожали. Но он так и не отпустил ее руку. — Она была очень разъярена? — Нет. То есть сначала да, но быстро успокоилась. — Где она сейчас? — Поехала домой. Мэтью кивнул и на какое-то время ушел в себя. А когда снова взглянул на Мэриан, она поразилась: в его глазах плясали смешинки. — Ты только и делаешь, что преподносишь сюрпризы. — Я? — Сначала грозишься меня ударить, потом велишь выметаться из приемной и наконец укрощаешь мою истеричку-жену. И все это — после того как ты подсказала нам наилучшую концепцию фильма. Да уж, одни сюрпризы. Я бы сказал, что ты из тех, кто — как там в Библии? — держит свой свет под спудом, но ведь ты сконфузишься? У нее и впрямь запылали щеки; еще немного — и она провалится в бездну!.. — Что таится за этими кроткими серыми глазами, а, Мэриан? Чем ты удивишь нас в следующий раз? Никто из них не слышал шагов Стефани в коридоре и не заметил, как она вошла в коридор. Оба вздрогнули. — Я не вовремя? Мэриан со стыдом и ужасом попыталась вырвать у Мэтью свою руку, но он, не выпуская ее, вопросительно поглядел на Стефани. — Завтра прилетает Бронвен, — сообщила Стефани и, раскинув руки в стороны, устремилась к ним. — Прости, Мэриан. Ты в порядке? Тебе что-нибудь нужно? Мэтью наконец-то отпустил ее; у Мэриан немного кружилась голова. — Перед твоим приходом Мэтью гадал, что я еще отчебучу. Пожалуй, дерзну попросить принести мне чашку чаю. — Не искушай судьбу, — весело пригрозил Мэтью и вышел из приемной. — Я сама сделаю, — предложила Стефани. — А потом — у меня для тебя хорошая новость. Бронвен просила передать. Стефани скрылась на кухне. Мэриан подошла к телексу и начала просматривать сообщения. Она все еще улыбалась, вспоминая последнюю реплику Мэтью. Всего только двадцать минут назад она заверила Кэтлин, что не испытывает к нему ничего, кроме благоговейного страха, а теперь страх испарился, и осталась одна симпатия. Она так старалась — ради Стефани — наладить с ним отношения, и наконец-то это удалось. И вообще все обернулось как нельзя лучше. Конечно, впереди — одинокий вечер в пустой квартире, но об этом лучше не думать. — Ну вот, — сказала Стефани, ставя на ее письменный стол кружку. Легкий ветерок от вентилятора взъерошил ей волосы, и она с наслаждением вздохнула. — Что это за скомканный листок? — Ой! Я нечаянно испортила карточку футбольного тотализатора! — Вот не думала, что ты играешь в азартные игры. — Я заполняю их каждую неделю. Привычка. Отзвук нашей с Мадлен мечты. Стефани села на край стола. — Ты так и не знаешь, где она живет? — Нет. — Кажется, в редакции пообещали передать ей твое сообщение? — Не знаю, выполнил ли тот человек свое обещание, но она не позвонила. — Хочешь, я выясню? — Нет, спасибо. — Ты по ней скучаешь? — Да. — Тогда почему отказываешься? — Потому что знаю Мадлен. В глубине души ее мучают угрызения совести. Нужно дать ей время во всем разобраться. — Мэриан, ты святая! А твое чувство к Полу? — Я постоянно напоминаю себе о его предательстве. Это не всегда помогает; бывают моменты, когда меня неудержимо тянет обратно — пусть даже там все было построено на лжи. Молю Бога, чтобы он не поступил так же с Мадлен, она не переживет. Я тоже не двужильная, но Мэдди всю жизнь страдала от чувства незащищенности. Я и сама подчас принимала ее браваду за чистую монету, считала ее непробиваемой. Но после того, что случилось, я много думала о ней, и кое-что прояснилось. Все дело в том, что ее в раннем детстве бросили родители. С тех пор она отчаянно искала любви, одобрения, ласки. Мама с папой старались обращаться с ней точно так же, как со мной, но это все-таки не одно и то же. Наверное, она считала, что у меня все есть, а Пол стал последней каплей. В душе она была убеждена, что это я украла его у нее; в каком-то смысле так и было. Я знала, что она сохнет по нему, но… Ладно, это в прошлом. Единственное, в чем я раскаиваюсь, это что не подумала, каково ей было видеть меня с Полом. — Ты ее очень любишь? — Да. Но я всегда знала, что в один прекрасный день наши пути разойдутся. Конечно, я не ожидала, что это будет так… Думала, мы сохраним теплые отношения; она будет приезжать в гости — в лимузине с персональным шофером — и куда-нибудь брать меня с собой, а соседи будут глазеть из окон и дивиться: неужели серая мышка Мэриан Дикон — родственница знаменитой Мадлен Дикон? — «Унижение паче гордости»? Мэриан засмеялась. — Да нет. Просто у меня в голове сложился образ: блистательная актриса или модель — и брюзгливая старая дева, скорее всего учительница. Я даже представляла себе, как Мадлен спихивает на меня своих отпрысков, а сама раскатывает по свету. Блестящее будущее я себе нафантазировала, не правда ли? — Слава Богу, я помешала твоим планам. Иначе мир никогда не узнал бы об остроумии и таланте Мэриан Дикон, не говоря уже о ее очаровательной улыбке. Мэриан показала ей язык. — Во всяком случае, — продолжала Стефани, — тот, кому посчастливится завоевать твое сердце, будет мне благодарен. Уж я постараюсь, чтобы он не остался в неведении относительно моей роли. — Да, скажи ему. Только позволь напомнить, что половина моих фантазий уже сбылась. Без фотографии Мэдди не выходит ни одна газета. Не удивлюсь, если однажды включу телевизор и услышу, как она рассказывает репортерам о выгодном голливудском контракте. — Ну, ты все-таки еще далека от того, чтобы взяться за спицы. Нет, Мэриан, ты нужна мне на студии. Кстати, у Бронвен свои соображения на этот счет. — Какие? — Через неделю-полторы она летит в Италию. Звонила, чтобы узнать, смогу ли я тебя отпустить… Что с тобой? Я думала, ты обрадуешься. — Я рада. Просто мы говорили о Мадлен и Поле… Видишь ли, однажды мы все трое провели уик-энд в Риме. Стефани погладила ее по голове. — Прости, забыла. Но сейчас ты полетишь во Флоренцию, так что все в порядке. Мэриан не стала объяснять, что Флоренция едва ли не хуже: Пол бывал там с родителями… — Чудесно! А если и вы с Мэтью поедете, это будет просто фантастика! — Неплохая идея! Ладно, пойду к себе, просмотрю газетные вырезки о жизни Оливии Гастингс в Италии. И постараюсь уговорить Мэтью. Кажется, после обеда у него озвучивание. Черт, у него и завтра озвучивание, и всю неделю! Может, на следующей? — Ничего подобного. — Мэриан перевернула странички календаря. — В среду, четверг и пятницу он снимает еще один рекламный ролик. Стефани вздохнула. — А в понедельник он встречается с сыном. А если он снимает со среды по пятницу, значит, уик-энд уйдет на монтаж. Мэтью не помешало бы научиться говорить «нет». Ну ладно, что-нибудь придумаем. Который час в Нью-Йорке? Нужно позвонить Деборе Форман. Оставшись одна, Мэриан поставила локти на стол и посмотрела в окно. Сколько всего произошло за эти несколько часов! Сердце полнилось радостью. Новая жизнь начинала ей нравиться, даже очень! Воображение уносило Мэриан в заоблачные выси: она сочиняет сценарий художественного фильма; Мадлен играет главную роль; Стефани с Бронвен — продюсеры, а Мэтью — режиссер… (обратно)Глава 13
Дейдра и Серджио с трудом прокладывали себе путь сквозь толпу молодежи, заполнившей коридоры Академии. Время от времени Серджио останавливался, чтобы перекинуться парой слов с кем-нибудь из студентов; при этом Дейдра вся напрягалась. Она сама не понимала, откуда такое волнение, но все было так же, как пять лет назад, когда случилась та история; и она точно так же нуждалась в том, чтобы Серджио ее успокоил. — Ну конечно, я рад тебя видеть, cara, — сказал он, открыв дверь и пропуская ее вперед. — Просто не ожидал тебя увидеть. — Мне нужно с тобой поговорить. Сообщить кое о чем. — Они спустились по узкой лестнице и очутились в другом коридоре. — О чем же? Она подождала, пока он обменяется парой реплик еще с одним студентом. — Это касается Оливии Гастингс. Помнишь, той американской девушки? Он в задумчивости наклонил голову. — Помню. — И двинулся дальше. — О ней снимают фильм. — Знаю. — Ты знаешь? Серджио снова остановился, усмехнувшись при виде ее изумленных глаз. — Мне позвонила некая Бронвен Ивенс, и мы договорились встретиться. Она попросила меня рассказать о пребывании Оливии во Флоренции. Дейдра остолбенела. Но Серджио продолжил путь, и она последовала за ним. — Ты согласился? — Почему бы и нет? Что она могла сказать? — Я просто думала… после того, как пропала Оливия… тебя так долго тебя допрашивали… ты был так расстроен… Серджио усмехнулся. — Ты тащилась в такую даль, чтобы сказать мне о фильме, когда можно было просто позвонить? Но я рад тебе. Он остановился перед открытой дверью аудитории. — Серджио! — Жди меня дома, я скоро. Он обласкал ее взглядом и закрыл за собой дверь. Дейдра медленно побрела прочь. Она сама не понимала, почему так разволновалась. Просто в ней до сих пор жила неизбывная тревога, связанная с исчезновением Оливии. В то время Дейдра была с Серджио во Флоренции, но с началом следствия он уговорил ее вернуться в Англию: не хотел, чтобы ее впутывали в эту историю. С тех пор Дейдру одолевали дикие фантазии, и только сам Серджио мог рассеять возникшие подозрения. На залитой солнцем улице ее страхи начали улетучиваться. Конечно, на Серджио тяжело подействовали допросы. Он любил Оливию — как всех студентов, не более. Дейдра вспомнила, как однажды вечером Оливия позвонила в его квартиру. — Я пришла извиниться, — сказала она со своим гнусавым американским акцентом, и на этот раз Дейдра не заметила в ее взгляде ничего порочного. — Вот как? — улыбнулся Серджио, стоя на пороге и обнимая Дейдру за плечи. Оливия подняла руку, чтобы откинуть со щеки прядку золотистых волос, и Дейдра заметила, что рука у нее дрожит. Ей было жаль Оливию, как всех наркоманов. — Я не могу заниматься с тобой любовью, Серджио, — продолжала девушка. — Хочу, но не могу. Ты великий человек, я преклоняюсь перед тобой, и меня к тебе безумно влечет. Но — не могу. Сказав это, она надела темные очки и легко сбежала по лестнице. Серджио с Дейдрой изумленно уставились друг на друга, а когда внизу в парадном хлопнула дверь, разразились смехом. Студентки часто объяснялись Серджио в любви, и Дейдра выбросила бы этот эпизод из памяти, если бы не таинственное, чуть ли не сразу после этого случая, исчезновение Оливии. Поздно вечером какой-то американский студент якобы отвез ее в горы и высадил близ деревни Паэзетто ди Питторе[7]. Впоследствии он утверждал, что не пошел с ней в деревню, а поехал в Пизу, где на другой день взял билет на самолет до Амстердама. Его арестовали, несколько недель допрашивали и наконец были вынуждены отпустить за отсутствием улик. И вот уже пять лет, как об Оливии никто ничего не слышал. В квартире Серджио Дейдру ждал привычный беспорядок. К этому времени ее мысли перенеслись к Мадлен. Весь последний месяц модельер Филипа Джолли, с которой Дейдра училась в университете, вместе со всей своей командой работала чуть ли не круглосуточно, создавая специальную коллекцию модной одежды для Мадлен. И вот они закончили; на следующий день Мадлен предстояло продемонстрировать коллекцию в Париже. Дейдра позвонила своей секретарше. Анна заверила ее, что все идет согласно плану, и стала рассказывать о пробных отпечатках, полученных после недавней фотосъемки, когда Мадлен рекламировала косметику. Возможно, именно потому, что разговор шел о Мадлен, Дейдра сначала не нашла ничего странного в фотографии, стоявшей в рамке у Серджио на столе, но положив трубку на рычаг, задумалась: зачем здесь эта фотография? Это был один из тех снимков, которые Дарио сделал при первом знакомстве с Мадлен. Почему портрет Мадлен красуется в студии Серджио Рамбальди? Позднее он объяснил: — Я попросил Дарио прислать мне снимок. Ты так восторженно отзывалась об этой девушке, что мне захотелось увидеть ее собственными глазами. Теперь, конечно, в этом нет необходимости: она постоянно мелькает в итальянских газетах. — И журналах, — добавила Дейдра, тронутая интересом Серджио к ее работе. — А знаешь, продвигать Мадлен оказалось совсем не трудно. Правда, она красавица? — Si, очень хороша. Ты к ней привязалась? — Возможно. — Из-за того, что я не осчастливил тебя ребенком? — осторожно спросил он. А когда Дейдра подняла лицо, нежно поцеловал ее в губы. — Ты ненавидишь меня за это? — Иногда. Но ты предоставил мне свободу выбора. Я могла иметь детей от другого мужчины, но предпочла остаться с тобой. — А теперь у тебя есть Мадлен. — Временно, — грустно произнесла Дейдра. — В один прекрасный день Пол отнимет ее у меня. — Она украдкой покосилась на Серджио — как он воспринял упоминание о Поле? Но он продолжал спокойно созерцать лицо Мадлен. — Почему ты так думаешь? — Не знаю. Может, потому, что они очень любят друг друга. Это позволяет мне надеяться, что она будет счастлива, когда бросит работу. — Думаешь, бросит? — Если Пол велит. — Ты говорила, она бредит славой? — Да, но Мадлен уже прославилась. И потом, в ней поубавилось тщеславия, хотя временами ее заносит. В ней есть какая-то беззащитность, ее легко эксплуатировать — я сама это делаю, но оправдываю себя тем, что действую в ее интересах. Ты бы посмотрел на нее рядом с Полом — такое впечатление, как будто для них больше никого и ничего не существует. Иногда это немного раздражает: чувствуешь себя лишней. — Он, должно быть, безумно влюблен в нее, раз ведет себя здесь как собственник. Дейдра задумалась. — Пожалуй. Вот именно: собственник — ты нашел точное определение. Он как будто жаждет целиком владеть ею, держать под контролем. — Так бывает, когда люди сильно любят друг друга. Поцелуй меня, cara. Она подставила ему губы и в следующий миг почувствовала упругую твердость его тела. — О Серджио! — Я люблю тебя, — прошептал он, когда оба, потные, лежали в постели. — Правда? Он поцеловал одну из ее маленьких грудей. — Да. — А у тебя не возникает, как у Пола, желания отгородиться вместе со мной от всего мира? — Разве у нас не так? — В каком-то смысле да. Но ты не делишься со мной всем, что имеешь. — Я делюсь с тобой всем, чем могу. — Почему ты не показываешь мне свою работу? Серджио отвернулся. — Зачем ты спрашиваешь, если знаешь ответ? Моя работа в bottega должна оставаться скрытой от всех вплоть до ее завершения. От всех — значит, и от тебя. — А как же те мужчины и женщины, что работают с тобой? — Молчи! — Он резко сел на кровати. — Я здесь, с тобой, я люблю тебя — этого должно быть достаточно. — Но ты что-то скрываешь. — Тебе кажется. — Нет, скрываешь. Зачем делать из творчества тайну? Ты мне не доверяешь? — Дейдра, речь не о недоверии, а о том, чтобы защитить тебя от… — Он запнулся, и она почувствовала: сейчас он солжет. — Оградить тебя от любопытных. И меня тоже. — Но почему… — Сколько можно говорить? — рявкнул Серджио и набросил на плечи черный махровый халат. — Никто не должен быть допущен в bottega, пока я сам не разрешу. — Неужели ты не понимаешь, как меня оскорбляет твое недоверие? — Не понимаю! Темные глаза метали молнии. Серджио рванул ящик комода и выхватил пачку сигарет. Жадно затянулся. У него дрожали руки; смуглое небритое лицо потемнело от ярости. Дейдре вдруг стало страшно; в голове шевельнулось неясное подозрение, и она выпалила: — Ты бывал там с Оливией, да? Брал ее в bottega? На лице Серджио отразилось отвращение. — С чего ты взяла? Я… — Ты брал ее туда! А меня — нет! Почему? — Прекрати, Дейдра! — Ради Бога, неужели ты сомневаешься в моей любви? Не понимаешь, как мне важно твое доверие? — О чем ты говоришь? — Об Оливии. О том вечере… — При чем тут Оливия? Она ушла и… — Ушла, Серджио? Куда? — И сама же ответила: — Ты отвез ее в свою мастерскую. И с тех пор ее больше никто не видел. Господи, хоть бы он доказал, что это не так, и положил конец пытке! — Ты не понимаешь, что говоришь. Сумасшедшая! — Нет. Я отдаю себе отчет в своих словах. Разве я могу забыть, как ты сидел тут и плакал — в ту ночь, когда она исчезла? И поспешил отправить меня в Англию. А перед этим велел сказать в полиции, что ты провел со мной всю ночь. Но это была неправда. Серджио, где ты был? — Я был в мастерской. — А Оливия? Она тоже? — Нет! — Тогда где же она? — Не знаю! Никто не знает! Дейдра зажмурилась, пытаясь отогнать сомнения и поверить ему. — Почему же ты плакал? — спросила она шепотом и, услышав шаги, открыла глаза. Серджио стоял у окна. — Почему же ты плакал? — Не помню. Это было давно. — Из-за Оливии? Из-за того, что с ней случилось? Он достал еще одну сигарету. Оперся обеими руками на комод и опустил на них голову. Дейдру охватил ужас. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он снова подошел к кровати, сел, обнял Дейдру и положил ее голову к себе на плечо. — Ты хочешь знать, почему я плакал в ту ночь? У меня есть много причин для того, чтобы плакать, но они все — в прошлом. Что толку терзаться прошлыми страхами? — Если бы я знала, что тогда произошло… Если бы я только знала. — Тс-с-с, cara, это не имеетзначения. — Он укутал ее плечи простыней и поцеловал в макушку. — Серджио, почему я так сильно люблю тебя? Он улыбнулся. — Сегодня ты задаешь слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов. — Но на один, по крайней мере, ты можешь ответить? — Да. Дейдра собралась с духом. — Оливия была с тобой в мастерской? — Нет. — Его голос не дрогнул, а в глазах светилась такая нежность, что все ее страхи смыло волной любви и счастья.* * *
Плечом к плечу, закрутив роскошные волосы в очаровательные рожки, с щедрой россыпью золотых и серебряных блесток вокруг глаз, Шамира и Мадлен грациозно дефилировали по подиуму. На обеих были облегающие вечерние платья из переливчатого шелка из коллекции Филипы Джолли. Вокруг то и дело сверкали вспышки фотоаппаратов; в кинокамерах перематывалась пленка; шариковые ручки сновали по листкам блокнотов. Показ близился к концу; знаменитая кутюрье сама настояла на том, чтобы в финале к Мадлен присоединилась Шамира. Контраст влекущим фиалковым глазам Мадлен, ее коже цвета слоновой кости и золотистым волосам был чрезвычайно эффектен сам по себе, но еще более сильное впечатление создавали взгляды, которыми обменивались очаровательные манекенщицы. Даже Дейдра, прилетевшая под вечер после того, как провела утро с Серджио, была поражена загадочным, электризующим мерцанием двух пар глаз. Сидя в первом ряду, Пол тоже подметил этот немой разговор и прекрасно все понял. Он и раньше присутствовал на репетициях, где манекенщицы оттачивали жесты и движения, добавляя к ним новые, суперсексуальные оттенки; внимал их репликам, когда они деловито обсуждали, как усилить воздействие на зрителей, и понимал: секрет успеха — в их неподражаемой уверенности в себе. Они считали себя высшими существами, распространяющими вокруг ауру непостижимой чувственности. Шамира сделала прямо перед ним пируэт и запрокинула голову. Пол скользнул взглядом по ее стройной фигуре; в нем начал закипать гнев. Накануне вечером он подслушал, как она убеждала Мадлен: та просто чокнутая, если мирится с его выходками. Полу было плевать на мнение Шамиры, но его до глубины души возмутило то, что Мадлен позволяет себе обсуждения такого рода. Тогда он смолчал: время было позднее, ей предстоял трудный день; но теперь, когда все кончено, он исполнит задуманное. Едва дождавшись, когда смолкли аплодисменты, он встал и начал пробираться сквозь толпу в гримерную. Он нашел Мадлен в окружении Шамиры, Дейдры, Филипы, костюмеров и каких-то незнакомых людей. Филипа разливала шампанское из огромной бутыли и купалась в комплиментах. — Пол! — радостно завопила Мадлен. — Выпей с нами шампанского! Все расступились, чтобы дать ему пройти. Со всех сторон сыпались вопросы: правда ли, что он гордится Мадлен, считает ее самим совершенством? Но он грубо схватил ее за руку и потащил в дальний угол, повергнув всех в растерянность. — Что ты делаешь? — пробормотала она, сбрасывая на ходу шпильки, чтобы не подвернуть ногу. — Иди переоденься, мы возвращаемся в отель! Живо! — Как? Надо же отметить… Разве ты не видел… — Живо! — процедил он сквозь зубы. — Нельзя же так прямо взять и уйти… — Собирайся! — прошипел он и, к удовольствию зрителей, впился жгучим поцелуем ей в губы. Когда Пол отпустил ее, Мадлен ухмыльнулась и дурашливо отдала честь. — Есть, сэр! Дайте мне пять минут. Он вышел подождать ее на свежем воздухе — и тотчас был атакован репортерами и фотографами. — Пол, что вы думаете о сегодняшнем показе? — Как чувствует себя человек, женатый на секс-бомбе? — Мы не женаты! — огрызнулся он. — А когда же настанет великий день? — Вы закажете подвенечное платье Филипе Джолли? Пол поднял руки кверху. На следующий день все газеты обошел снимок с подписью: «Согласится ли она стать моей женой?» Тем временем Мадлен торопливо влезала в джинсы и уговаривала Шамиру не делать из мухи слона. — Врывается, точно неандерталец, — негодовала подруга, — и командует. Как он еще не выволок тебя отсюда за волосы? Сегодня ваш праздник — твой и Филипы. Неужели ты не имеешь права отметить?.. — Как раз это я и собираюсь сделать. Вдвоем с Полом. Мадлен выбежала на улицу, и ее тотчас же ослепили вспышки. — Бежим к такси! — гаркнул Пол. В толчее Мадлен порвали блузку, но в конце концов им удалось пробиться к машине. Та мгновенно сорвалась с места и понеслась к Елисейским полям. — Отвязаться от хвоста? — предложил водитель. — Какая разница, — ответил Пол. — Они знают, где мы остановились. Через каких-нибудь десять минут они подкатили к отелю «Георг V», ненамного опередив прессу. — Посмотри на мою блузку, — пожаловалась Мадлен. — Рукав вот-вот отвалится. При виде ее несчастного лица и разодранной в клочья блузки его гнев испарился, и он протянул к Мадлен руки. — Обещай больше не обсуждать с Шамирой мои недостатки. — Обещаю. — Знаешь, почему я ревную к ней, Мадлен? Потому что не хочу, чтобы ты рука об руку с ней поднялась на вершину славы. Я сам хочу разделить с тобой триумф. — Конечно, Пол, так и будет! У меня возникла идея насчет Гарри Фримантла. — Да? — Он ведь интересный мужчина, правда? Ни один уважающий себя гомик не откажется. Ну вот, я подкуплю какого-нибудь парня из агентства Дейдры, чтобы он лег с ним в постель у нас в спальне, а мы установим скрытую камеру — и птичка в клетке! — Неплохо. — Пол сел на диван и притянул Мадлен к себе на колени. — Только как затащить его в нашу спальню? — Раз плюнуть. Перед отъездом в Нью-Йорк я дам этому парню ключ от нашей квартиры, и он пригласит Гарри. Самое трудное — сделать так, чтобы Гарри в него влюбился. Но ты же знаешь манекенщиков. Если только Гарри не будет груб, все пойдет как по маслу.* * *
Дейдра сидела вместе с Роем в неосвещенном углу студии, наблюдая за работой декораторов и ассистентов фотографа. Ни Мадлен, ни Шамиры еще не было: скорее всего, они переодевались наверху. Сказать, что Дейдра была поражена, когда Шамира позвонила ей и попросилась участвовать вместе с Мадлен в фотосъемке для «Фэр Плей», значило бы ничего не сказать. За три года, проработанных в агентстве, Шамира ни разу не обнаружила склонности к представлениям такого рода. Конечно, ей тоже приходилось выставлять напоказ не одно лицо, и все-таки это желание можно объяснить только влиянием Мадлен, а их сближение несказанно радовало Дейдру, потому что у Мадлен, казалось, не было никого на свете, кроме Пола. Правда, где-то существовала кузина и даже пыталась связаться с Мадлен через редакцию «Сан». — Ах, эта! — рявкнула Мадлен, когда Дейдра сказала ей об этом. — Ей нужен Пол, а не я. Она делала все, чтобы разлучить нас, из-за этого нам пришлось уехать из Бристоля. Если снова позвонит, пошли ее к черту. Не желая вмешиваться в семейные дрязги, Дейдра выбросила листок с телефонным номером Мэриан, однако реакция Мадлен ее огорчила. Вот почему она так радовалась дружбе Мадлен с Шамирой, не говоря уже о профессиональных достоинствах этого дуэта. Мадлен остро нуждалась в подруге — все девушки в этом нуждаются, даже если влюблены. Дейдра не могла не признать: Шамира оказывает на Мадлен благотворное влияние. Мир моды все еще горячо обсуждал их успех в Париже, и Дейдра не сомневалась: разворот в «Фэр Плей» принесет им не меньшую популярность в мире ювелирных украшений. Правда, Мадлен охладела к совместным выступлениям и заявила, что в дальнейшем хочет делить славу с Полом, а не с Шамирой. А поскольку Мадлен платила, Дейдра не спорила. Наконец появились Мадлен с Шамирой, а за ними длинным шлейфом тянулись костюмеры, гримеры, сотрудники редакции «Фэр Плей» и какой-то пожилой мужчина с похожими на велосипедный руль усами и в костюме времен короля Эдуарда. Мадлен куталась в необъятный махровый халат, зато Шамира очень элегантно выглядела в черной атласной юбке по щиколотку и белой шифоновой блузке. Фотографы и редакторы из «Фэр Плей» суетились вокруг, устраняя мелкие недочеты и отдавая распоряжения манекенщикам. Мадлен сняла одежду, и напряжение в студии достигло апогея. Ее сексуальность прямо-таки била в глаза — даже женщины не остались равнодушными. Ей было все равно, снимают ее или нет. Между вспышками она выбирала кого-нибудь из мужчин и, устремив на него томно прищуренные фиалковые глаза, обволакивала жаркими волнами чувственности. Убедившись, что ей удалось завладеть всеобщим вниманием, Мадлен купалась в волнах восхищения и откровенной похоти. Окруженная сотрудниками «Фэр Плей», Дейдра не спускала с нее глаз, шокированная тем, что даже теперь, после произведенного фурора, Мадлен не удосужилась прикрыть наготу. Все объяснилось, когда возникло движение у двери и появился Пол. В студии царил полумрак; осталась гореть только одна лампа. Пол стоял там, заложив руки в карманы, явно забавляясь устроенным Мадлен представлением. Постепенно толпа разошлась. Пол остался потолковать с Роем и редактором «Фэр Плей», а Дейдра и обе ее подопечные поднялись в гримерную. Мадлен спешила: ей не хотелось заставлять Пола ждать, так что Дейдра успела только напомнить ей, чтобы послезавтра она не опоздала на самолет. И очень удивилась, услышав вопрос Мадлен о том, где, по ее мнению, на будущей неделе можно будет найти одного манекенщика. Она спрашивала об этом уже во второй раз, поэтому, спускаясь по лестнице, Дейдра позволила себе как бы между прочим поинтересоваться, в чем дело. — Один приятель Пола положил на него глаз. Я обещала их познакомить. Так он точно никуда не уезжает? — Точно. — Оставлю Полу его телефон, пусть в мое отсутствие устроит им встречу. — Не думала, Мадлен, что ты работаешь купидоном у геев. Так не забудь, отлет в… — Одиннадцать утра. В девять тридцать как штык буду в аэропорту. Рейс номер… — Хорошо, хорошо. Главное — приезжай вовремя. — Обязательно. Мадлен отдала Полу свою сумку, чмокнула Дейдру в одну, а затем другую щеку и пошла к «рейндж-роверу». Дейдру охватила грусть. Если бы она могла поделиться впечатлениями с Серджио! Созерцание. Пола с Мадлен, их страсти, обострило ее собственную потребность в любви. После того как они скрылись из виду, Дейдра с улыбкой опустила в сумочку только что полученный от Мадлен чек.* * *
Пол сидел в своем кабинете и любовался вставленным в рамку фотопортретом Мадлен. Теперь он повсюду натыкался на ее лицо. Третью неделю с беспрецедентным успехом продолжалась рекламная кампания косметических средств. Модели Филипы Джолли копировали в высших кругах, а фотографии, сделанные Дарио и его помощниками в Париже, красовались в каждой второй витрине. Все знали: вот-вот выйдут духи «Мадлен». До ее возвращения в Лондон оставалось несколько дней, и хотя она каждый вечер звонила и взахлеб рассказывала Полу о своих сногсшибательных знакомствах, фешенебельных ресторанах и ночных клубах, а также о купленных для него подарках, Пол безмерно тосковал в разлуке. Ему нравилось слушать ее речь (хотя он и не забывал исправлять ошибки). Нравились восторженные эпитеты, которыми она щедро награждала все вокруг: «Блеск!», «Класс!», «Супер!» А больше всего нравилось, как она заканчивала каждый разговор: «Тоскую по тебе всем телом, обожаю всем сердцем!» Простые слова, а волновали как поэма. Чем дольше Пол смотрел на портрет, тем тревожнее становилось на душе. Мадлен приобрела над ним мучительную, необоримую власть. Как будто он разобрал матрешку, а собирая, нечаянно упрятал внутрь самого себя. Он больше не мог относиться к Мадлен объективно — он словно был внутри нее, в западне, и хотя не собирался спасаться бегством, умом понимал, что это неизбежно — иначе его любовь, разбухнув до немыслимых пределов, задушит его желание писать. Перед отъездом Мадлен сообщила телефон манекенщика и каждый вечер Допытывалась, осуществил ли он их замысел. Он отвечал — нет, хотя камера была уже установлена. Его не покинула воля к действию; листок с телефонным номером манил к себе. Но он не мог заставить себя набрать номер. Соображения морали были тут ни при чем. Его останавливала интуиция, нашептывая: «Ты — накануне великого открытия». Не будь он так страстно влюблен в Мадлен, давно пустился бы в это плавание по волнам Неизведанного. (обратно)Глава 14
В одиннадцать часов вечера Мэриан вышла из временного пристанища Бронвен на Сидней-стрит, где они вместе уплетали купленные в кафе сэндвичи и изучали путеводитель по Флоренции. Бронвен очень не хотелось отпускать ее одну, пусть даже до квартиры Стефани — десять минут ходу. Однако Мэриан проявила настойчивость. После дневного зноя было приятно окунуться в ночную прохладу. Загнав подальше мысли об Оливии Гастингс и о Флоренции, Мэриан сосредоточилась на предстоящем уикэнде. Она соскучилась по матери, но встреча будет нелегкой. Нельзя больше скрывать правду о Мадлен. Мэриан понимала: их разрыв станет для Селии ударом — и поэтому не призналась раньше. Но теперь, когда Мадлен сделала блестящую карьеру, было невозможно и дальше держать Селию в неведении. Мэриан печально усмехнулась. Мать содрогнется, узнав, что ее девочки даже не поддерживают отношения. Впрочем, она наверняка догадывается, что что-то произошло. Селия наивна и простодушна, но отнюдь не глупа. Беда в другом: как бы она не предприняла попытку связаться с Мадлен. Мысль о мамином унижении наполнила сердце Мэриан горечью. Резкий автомобильный гудок привел ее в чувство. Что это она разгуливает одна по ночному городу? Мэриан поправила на плече ремешок сумочки и пошла быстрее. Возле Бромптонской больницы у нее возникло ощущение, будто за ней кто-то идет. Она занервничала и пошла медленнее. На улице еще попадались прохожие; мимо проносились машины; видимость была отличная. Мэриан остановилась — человек шмыгнул в подворотню. Она снова двинулась в путь, однако дойдя до Олд-Черч-стрит, была вынуждена остановиться перед красным сигналом светофора. Ее преследователь приблизился и замер в тени афишной тумбы. Мэриан смотрела прямо перед собой, усиленно внушая себе, что это безобидный прохожий, совершающий моцион перед сном. Однако руки в карманах плаща непроизвольно сжались в кулаки; ногти впились в ладони. Мимо прошла пара; Мэриан почувствовала искушение пойти за ними, но тут как раз загорелся зеленый свет, и она начала переходить улицу. Незнакомец двигался параллельно ей, а очутившись на другой стороне, подошел и дотронулся до ее руки. Мэриан подняла голову, но его лицо было в тени. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь. — Тихо! — прошептал он. — Не пугайтесь, пожалуйста, я не причиню вам зла. Все, о чем я прошу, это чтобы вы пошли со мной. Здесь неподалеку есть кафе, где мы сможем поговорить об Оливии. У Мэриан округлились глаза; сердце в груди стучало подобно кузнечному молоту. Она не могла пошевелиться, словно ее загипнотизировали. Американское произношение ее преследователя, имя Оливии и сам факт преследования повергли Мэриан в состояние, знакомое ей по Нью-Йорку. Она словно снималась в боевике и забыла роль. Могла ли она раньше видеть этого худощавого мужчину с рыжими волосами в красной куртке и джинсах? Нет, она его не видела. Зато он отлично знал, кто она такая. Невдалеке послышался вой полицейской сирены; по мере приближения патруля к Мэриан стало возвращаться чувство реальности. По-видимому, незнакомец собирался вместе с ней заглянуть к «Парсону» — что ж, пусть идет первым, а она тотчас бросится наутек. Она украдкой взглянула на своего непрошеного спутника. С отсутствующим видом он смотрел куда-то поверх крыш. Напротив горели яркие неоновые огни над кинотеатром, откуда начали выходить люди. Она в безопасности! — Вас зовут Мэриан Дикон, — прошептал он. — Вы живете на Каллоу-стрит вместе с начальницей, Стефани Райдер; сегодня она не ночует дома. У Мэриан закружилась голова. Человек по-прежнему с каменным лицом смотрел перед собой, и она усомнилась: может, ей лишь почудились эти, слова? И вдруг у нее точно молния сверкнула в мозгу. Он дал понять, что знает ее адрес. Беги, не беги — он до нее доберется! Незнакомец открыл тяжелую дверь кафе и пропустил Мэриан вперед. Им отвели столик в дальнем углу. Он заказал два кофе и две порции фаршированного перца. — Я ужинала. Он усмехнулся. — Нельзя же ограничиться одним кофе: нас просто выставят отсюда. Кстати, меня зовут Арт Дуглас. — Вот как? Он провел языком по сухим губам. — Вы все еще боитесь меня? — Нет, — солгала Мэриан. — Здесь полно народу. — Да, конечно, это успокаивает. — Вы… назвали имя Оливии… — Точно. — Это Оливия Гастингс, о которой снимается фильм? — Она самая. — Что вам о ней известно? Мужчина оперся локтями на стол. — После разговора с Джоди я много думал… — Вы — тот человек, который… — Да. Я знаю, что произошло с Оливией перед отъездом в Италию. Вы это хотели знать? — Да, но потом я сказала Джоди, что уже не хочу. Отец Оливии распорядился… — Знаю. Но Фрэнк ошибается. Рано или поздно правда выйдет наружу. Официант поставил на стол две тарелки с перцем, но ни один из них не притронулся к еде. — Кто вы? — Вы меня вычислили, Мэриан. Я — журналист, работал в той самой газете. Эдди мне все рассказал. После его убийства я уволился. С тех пор прошло пять лет, а Оливия так и не вернулась домой. И, должно быть, теперь уже не вернется. — Думаете, она погибла? Он зажег сигарету и несколько минут молча курил. «Мы оба сошли с ума, — думала Мэриан. — Или это грандиозный розыгрыш, и он вот-вот расхохочется. Сказать кому-нибудь — ни за что не поверит. Да что они — я и сама не верю, что это происходит наяву! — Не знаю, — наконец вздохнул он. — Я знаю только то, что ей нельзя возвращаться в Нью-Йорк после того, что она сделала. Теперь я понимаю Джоди: люди должны знать, в какую кучу дерьма превратился Манхэттен и кто в этом замешан. У нас нет другого способа открыть им глаза, как только через ваш фильм. — Но я уже сказала — мы не можем ослушаться Фрэнка Гастингса. Он досадливо отмахнулся. — Постарайтесь его переубедить. Расскажите ему все и объясните, что единственное средство вернуть дочь — это взорвать гадюшник и передавить гадов. — Каких гадов? У Мэриан по-прежнему было ощущение, будто она играет заштатную роль в дешевом вестерне. У всех вокруг под пиджаками спрятаны пистолеты; вот-вот начнется пальба. — Тех, которые превратили наш город в кучу дерьма. Которые развратили Оливию, сделали из нее то, чем она стала. Фрэнк рассказал вам о наркотиках. Она так прочно сидела на игле, что была готова на все, лишь бы получить дозу. Марихуана, кокаин, героин — назовите любой наркотик, она перепробовала их все. Когда-нибудь это ее погубит. — Он немного помолчал и продолжил: — Если еще не погубило. Но когда я видел ее в последний раз, она была жива. Он глубоко затянулся. Мэриан осенило: — Минуточку! Это не вы — тот «А», который прислал Фрэнку письмо? Он покачал головой и выпустил дым через ноздри. — Нет. Наша последняя встреча произошла в Нью-Йорке. Потом ее видели в Италии — взять хоть того парня, что подвез ее до Тосканы. Он не виновен. Никто не знает, что с ней случилось в Италии. Я могу говорить только о Нью-Йорке. И об этой сволочи, Рабине Мейере. — Владельце художественной галереи? — Да. Он знает больше, чем говорит, но Фрэнк лично допросил его и поверил, что Мейер непричастен к исчезновению его дочери. Я другого мнения. Это была идея Мейера — послать ее учиться живописи у того типа из Академии художеств. — Серджио Рамбальди. — Точно. И с тех пор ее не видели. Но это — не мое дело, а Фрэнка. Вот только я никак не могу вдолбить ему в голову, что нужно в первую очередь вскрыть гнойник — рассказать о том, что творилось в квартире Оливии над галереей Мейера. — Он раздавил окурок о дно пепельницы и, подавшись вперед, впился в лицо Мэриан полным ненависти взглядом. — Дети, Мэриан! Совсем еще дети — двенадцати-тринадцати лет! И кто, по-вашему, поджидал их там, куда их приводила Оливия? Отбросы общества в шикарных костюмах! Мейер устроил там притон. Знаете, чем они занимались? Групповым изнасилованием и убийствами. Жертвами становились черные и белые ребятишки, мальчики и девочки… Иногда кому-нибудь удавалось выжить, и родители заявляли в полицию. И хоть бы один из насильников был арестован! Если же дети умирали — все, что я могу сказать, это что им повезло. Многие навсегда остались калеками. Оливия Гастингс подкарауливала их на улице и приглашала в гости. Ее знал весь город, дети восхищались ею. Они ей верили. И вот, в то время как она в углу заряжалась героином, какой-нибудь старый развратник (а за ним другой, третий) похотливо подступался к ребенку. Мэриан заморгала и отвернулась. — Простите, Мэриан, но это грязная история. — Но почему? Зачем она это делала? — Фрэнк узнал о наркотиках и приостановил выплату дочери содержания. Приказал заморозить ее счет в банке. Вот в чем штука. — Господи, какой ужас! — Мой редактор готовился опубликовать разоблачительный материал. Однажды его пригласили в элитарный клуб. Он не знал, что это такое, а когда приехал и ему предложили десятилетнюю девочку, поспешил убраться. Он отправился прямиком к Фрэнку — и пошло-поехало. Мейер рассказал Фрэнку о своем друге — итальянском художнике. Фрэнк заставил Оливию уехать и… — Почему вы не рассказали об этом в полиции? — Ага! Да ведь этот притон посещали высшие полицейские чины! И прочие высокопоставленные особы. Стоило какому-нибудь полицейскому пониже рангом выйти на след, как его… — Он выразительно провел ладонью по горлу. — Неужели не нашлось способа положить этому конец? — Нашелся бы, если б не исчезновение Оливии. Фрэнк — могущественный человек, он уже добрался до метастаз, собрал улики и непременно передал бы эту информацию наверх — туда, куда этой швали не дотянуться, — но Оливия исчезла, и он убежден, что она в руках одного из этих негодяев. И стоит Фрэнку поднять шум, как с ней разделаются. — Арт Дуглас замолчал и несколько минут сидел с каменным лицом. — Она — его плоть и кровь, он обязан защищать ее. Но у тех детей тоже были матери и отцы, которые до сих пор оплакивают их и не знают, что с ними случилось. А еще есть мальчики и девочки, которые выжили, но не могут ходить… даже говорить. А будущие жертвы? Только вы с вашим фильмом можете положить этому конец. — Но каким образом? Если они… там, в притоне… узнают о наших планах, вы говорите, нам всем угрожает опасность? — Нет. Если вы переубедите Фрэнка, он обеспечит вам защиту. — Как же его переубедить, если он считает, что они держат Оливию заложницей? — Оливия находится в Италии. Бог свидетель, она в Италии! Те подонки не могут до нее добраться — хотя очень хотели бы. — Откуда вы знаете? — Они тоже ищут. Говорю вам: живая или мертвая, Оливия в Италии, но никто не знает, где именно, — может быть, за исключением Мейера. — Значит, опасения Фрэнка оправданны? — Конечно. Это азартная игра, в которой ставка — жизнь его дочери. Но подумайте о детях, Мэриан, и спросите себя: если та гадина жива, разве она не заслуживает смерти за свои преступления? — На этот вопрос я не могу ответить! — воскликнула Мэриан. — Один Бог решает, кто достоин жизни, а кто — нет. — Когда вы увидите некоторых из этих детей, вы измените свое мнение. Подумайте, Мэриан. А когда надумаете, поговорите с Фрэнком. Завтра утром я вылетаю в Штаты. Захотите со мной встретиться — обратитесь к Джоди. Но у вас теперь достаточно материала для фильма. Поступайте, как сочтете нужным, Мэриан, но ради Бога — сделайте что-нибудь! Он встал, прошел через весь зал, расплатился у кассы и вышел на Фулхэм Роуд. Мэриан тупо смотрела вслед. Наконец она тоже покинула кафе. Как сомнамбула, с трудом добрела до дома. Прошла в свою спальню, думая: «Нужно все хорошенько взвесить. Нельзя делать вид, будто ничего не произошло. Ты считала: Америка — далеко, чуть ли не в другой галактике. Но ведь Арт Дуглас нашел тебя здесь!» Она задернула шторы. «Господи, и зачем я тогда потащилась к Джоди Розенберг? Почему не рассказала Бронвен? Солгала Мэтью? Нужно сказать им сейчас!» Она сдернула с кровати покрывало. И вдруг словно что-то взорвалось в мозгу. Мэриан пошатнулась; на лбу выступила испарина. Она обещала никому не говорить! Ни одному человеку! Иначе их жизнь окажется в опасности. Как сейчас — ее собственная! Она уставилась на свое отражение в зеркале. На мертвенно бледном лице выделялись глаза — два озера, в глубине которых застыл ужас. «Это все выдумки, — уговаривала она себя, — в жизни так не бывает, во всяком случае, с такими безобидными существами, как я. Кошмарный сон рассеется, и я проснусь у мамы в Девоне». Она заморгала, стараясь стряхнуть наваждение. Но это был не сон, а самая что ни на есть действительность!.. Она услышала звук ключа, поворачиваемого в замочной скважине. — Мэриан, ты не спишь? — Стефани! Слава Богу, это ты! — Ты ждала другого? — поддразнила Стефани, запирая дверь. И вдруг разглядела ее лицо. — Что с тобой? Ты словно увидела привидение. — Нет-нет, я в порядке. Просто мне померещилось, что, когда я вышла от Бронвен, за мной кто-то шел. — Только померещилось? — Да. Но почему ты здесь? Разве ты не ночуешь у Мэтью? Стефани состроила недовольную гримасу. — Мы поссорились. Я взяла и ушла. — Ушла от Мэтью? — Мир определенно сошел с ума! — Из-за чего вы поссорились? Хотя, конечно, это не мое дело. — Я предложила совсем переехать к нему, чтобы его жена поняла: это уже окончательно. А он не захотел. — И только? — Мы кричали друг на друга. Я дала ему пощечину, а он назвал меня второй Кэтлин. — О Господи! Мэриан беспомощно озиралась по сторонам, не представляя, что сказать. — Он не звонил? — спросила Стефани и вдруг разрыдалась. — Прости, Мэриан, — всхлипывала она, шаря рукой в сумочке в поисках платка. — Наверное, ты считаешь меня идиоткой. Я такая и есть — во всем, что касается Мэтью. Она, с трудом передвигая ноги, побрела в свою спальню. Через некоторое время Мэриан осторожно постучалась в дверь, а не дождавшись ответа, приоткрыла ее и заглянула внутрь. Стефани сидела перед зеркалом, закрыв лицо руками. — Входи, Мэриан. Что это? В одной руке Мэриан держала бутылку вина, а в другой — жестянку. — В подобных случаях мы с Мадлен пили вино. Или какао. — Ох, Мэриан, что бы я без тебя делала? — Наверное, сама готовила бы какао. Она попятилась к двери. — Мэриан, — прошептала вдогонку Стефани, — твое плечо так же надежно, как сердце? — И пояснила, видя, что девушка вконец растерялась: — Мне необходимо выплакаться. — Значит, вино, — сказала Мэриан и улыбнулась.* * *
С той самой минуты, когда «Конкорд» приземлился в аэропорту Хитроу, Мадлен не находила себе места. Рой взял такси до Лондона, а секретарша Дейдры Анна отвезла Мадлен и Дейдру в студию в Фулхэме. Там ждала Филипа Джолли с новыми моделями одежды. Вскоре приехал Рой вместе со смешным коротышкой-французиком, который обнюхал Мадлен, ощупал и взял образцы пота и волос. Потом явились четверо представителей косметической фирмы с новыми элитными образцами. Пока Филипа суетилась с сантиметром и булавками, они проверяли пористость кожи, тыкали Мадлен пальцами в щеки, водили пальцами по шее и, беззастенчиво обсуждая ее данные, подбирали кремы и лосьоны. Наконец Дейдра критическим оком осмотрела платье, в которое Филипа втиснула Мадлен, и заявила, что они едут на банкет по случаю вручения Гран-при. Даже наслаждаясь всеобщим вниманием, Мадлен неотрывно думала о Поле. Она не успела сообщить о своем приезде и сгорала от нетерпения его увидеть. Но, по словам Дейдры, это был очень важный банкет: Дарио потратил столько сил, чтобы организовать лучших фотографов! С точки зрения Мадлен, это была недостаточно веская причина, но она решила не давать Дейдре лишнего повода напомнить, что все работают не покладая рук ради ее карьеры. Сидя на заднем сиденье «даймлера», мчавшего их по направлению к Силверстону, Мадлен придирчиво изучала свое лицо в зеркальце компактной пудреницы. Хелен Дэниэлс из команды Филипы соорудила изысканную прическу. А вот насчет платья у Мадлен оставались сомнения. Небесно-голубое с блестками, оно было наглухо закрытым до самого подбородка. Словно прочитав ее мысли, Дейдра шепнула: — Сегодня вечером — никакого эксгибиционизма: этим будут заниматься остальные девицы. Ты же не хочешь быть как все? Мадлен не спорила. Оставшуюся часть пути они посвятили разглядыванию пробных отпечатков для «Фэр Плей». Неплохо, решила Мадлен. Банкет был организован совместными усилиями фирм «Мальборо» и «Макларен» в просторном шатре прямо на финише. Не успела Анна припарковать машину, как из шатра вывалилась команда английских гонщиков во главе с Роем и в сопровождении целой армии фоторепортеров. Дейдра украдкой любовалась Мадлен: казалось, ничто не могло выбить ее из колеи. Она смеялась над шуточками журналистов и от души забавлялась их разочарованием по случаю ее архискромного наряда. И вообще вела себя с ними так, словно они были знакомы всю жизнь. Стоит ли удивляться, подумала Дейдра, что они ее обожают? Поправив одежду и прическу, Мадлен последовала за ней по траве. Это безлюдное место вызвало у нее странное чувство одиночества. В Нью-Йорке с ней тоже случалось такое: она вдруг спрашивала себя — что я делаю среди всех этих чужих людей? За какие-то несколько месяцев ее жизнь так круто изменилось, что временами это даже пугало. Неужели это она, Мадлен Дикон, работала стриптизершей в Бристоле? Или — еще более невероятно — росла в Девоне и ей ни в чем не везло? Что-то сейчас поделывает Мэриан? Может, уехала к матери в Девон? Ее охватило страстное желание увидеться с ними обеими… — Кто ходит на банкеты с таким лицом? — упрекнула Дейдра. — Что с тобой, Мадлен? — Ничего. Просто устала после Нью-Йорка и всего прочего. Дейдра ласково улыбнулась. — Завтра отоспишься. Взбодрись-ка! Мадлен моментально преобразилась. Одарив Дейдру одной из самых своих очаровательных улыбок и обозвав наседкой, она взяла ее под руку. Внутри шатра кутили фоторепортеры. Полураздетые блондинки крутились вокруг Энрико Таралло, в третий раз в этом сезоне добившегося успеха на своем «феррари». Потягивая шампанское, Мадлен наблюдала за этими безмозглыми девчонками со сверкающими как клавиши зубами и почти обнаженными грудями. Таралло выглядел смущенным и, казалось, был готов на все, лишь бы отвязаться от этих охотниц за знаменитостями. Мадлен усмехнулась про себя: захоти она, он бы сейчас был у ее ног. Однако Чарльз Ансти-Смайт, редактор газеты и большой друг Дейдры, поспешил пригласить ее в свою компанию. Там суетился Дарио с фотокамерой наготове. Мадлен с отвращением покосилась на других манекенщиц. Те злобно перешептывались: она опять перешла им дорогу. — Меня будут снимать с Энрико Таралло? — шепотом спросила она Роя, сражавшегося с бутылкой шампанского. — Мы посовещались и решили, что не стоит. Английской команде не очень-то везло; будет лучше, если ты поддержишь моральный дух соотечественников, а не разделишь триумф их соперников. Пробка выстрелила; из горлышка вырвалась шипучая струя. Кто-то облапил Мадлен сзади. — Потанцуем, секс-бомбочка? Она не знала этого человека, однако сбросила туфли и начала извиваться в твисте. Рой передавал ей один бокал за другим. Ее окружали мужчины. Шампанское ударило Мадлен в голову, и она чуть не начала раздеваться, но вспомнила запрет Пола: никакого стриптиза в его отсутствие! Поэтому она ограничилась тем, что потерлась о своего партнера и начала медленно пятиться назад; отовсюду к ней тянулись алчные мужские руки. Близилась ночь. Дарио и остальные фотографы разъехались. Энергия Мадлен начала выдыхаться. Дейдра заметила это и заставила ее сесть. — Тебе весело? — О да! Жаль только, нет Пола и Шамиры. Где сейчас Шамира? — У себя дома, в Лос-Анджелесе. — Правда? Когда она уехала? И мне не сказала! — Она говорила — во время съемки для «Фэр Плей», — но ты не слушала. У тебя есть ее телефон? — Где-то записан. Долго она там пробудет? — Несколько недель. Подвернулась работа. Дейдру кто-то окликнул. Мадлен зевнула и оглянулась по сторонам. К ее большому удовлетворению, мужчины все еще поглядывали на нее, даже танцуя с другими женщинами. Она заметила в дальнем углу Энрико Таралло с какой-то невзрачной женщиной. Мадлен долго сверлила чемпиона взглядом, но он так и не оглянулся. — Это его жена, — сказала Дейдра. На лице Мадлен отразилось крайнее изумление. — Ты сейчас задаешь себе тот же вопрос, который задавал весь мир, когда они поженились. Кажется, они еще в детстве полюбили друг друга. — Она же уродина! Дейдра помрачнела. — Это жестоко, Мадлен. Чтобы я больше не слышала таких замечаний, особенно на людях! — Дейдра немного помолчала и добавила: — Пора учиться скромности, Мадлен. И забудь о Таралло. Не такие, как ты, пытались его соблазнить, но у них ничего не вышло. Не хочу, чтобы ты выставила себя на посмешище. У них настоящая любовь, имей это в виду. И потом, как же Пол? У Мадлен вытянулось лицо. Она и впрямь безумно скучала по Полу. Здесь очень весело, но с ним было бы веселее. Должно быть, Энрико чувствует то же самое. Все это очень хорошо — побеждать и быть героем дня… Но присутствие любимого человека — ни с чем не сравнимая радость. Она еще немного потанцевала, посмеялась над особо льстивыми комплиментами, но взгляд неотрывно следовал за супругами Таралло. Когда они собрались уходить, она поискала глазами Дейдру. — Поедем? — Что, скучно без Пола? — Две недели не виделись. — Знаю. Пойду предупрежу Роя. Наверное, он захочет остаться. Попрошу Анну подать машину. Жди меня здесь и не пей больше. Мадлен усмехнулась. Дейдра ущипнула ее за нос. — Что мне только с тобой делать? — И растворилась в толпе. В машине Мадлен переоделась в купленную в Нью-Йорке грацию, пристегнула чулки. Снятую одежду она побросала в сумку и осталась в этом откровенно эротическом наряде. Когда Анна затормозила перед их коттеджем в Холланд-парк, перевалило за час ночи. Анна поднесла сумку. Дейдра неодобрительно смотрела на Мадлен, которая так и вышла из машины в белье. Они обменялись прощальными поцелуями; Мадлен отперла дверь и скрылась в доме. Прежде чем пройти в спальню, она завернула в ванную и критически рассмотрела себя в зеркале; надушила ложбинку между грудями и внутреннюю сторону бедер; потеребила соски и вытащила их наружу через специальные отверстия в чашечках грации; облизнула губы, выключила свет и на цыпочках поднялась наверх. Дверь спальни была приоткрыта. Мадлен услышала ровное дыхание Пола. Можно скользнуть под одеяло и разбудить его тем способом, от которого он был без ума, — но тогда он не увидит ее наряда. Поэтому она лишний раз проверила подвязки и, щелкнув выключателем, приняла триумфальную позу: поставила одну ногу на низенький столик и запрокинула голову. Пол вздрогнул и часто-часто заморгал. Мадлен была так возбуждена, что не могла ждать. Но не успела она броситься к Полу, как он сам подбежал к ней — и замер, точно вкопанный. — Мадлен… Он стоял перед ней в чем мать родила, но вместо того, чтобы ответить на ее улыбку, оглянулся на кровать. Она посмотрела туда же и похолодела: там спал голый мужчина. Мадлен перевела взгляд на Пола; тот отвел глаза. Потом вернулся к кровати и тихонько потряс Гарри Фримантла за плечо. (обратно)Глава 15
Заслышав шаги в коридоре, Мэриан подняла голову. Наверное, Стефани что-нибудь забыла. Но это оказался Мэтью. При виде курчавых черных волос и небритого подбородка сердце Мэриан затрепыхалось как птица в клетке. Он оторвался от газеты, которую просматривал на ходу, и спросил: — Почему хмурый вид? — Просто задумалась. — О чем? — Так, ни о чем конкретном. Даже если бы она отдавала себе полный отчет в своих мыслях — и то не поделилась бы ими с Мэтью. Он был абсолютно спокоен, как будто ссора со Стефани ничего не значила. Но это не ее дело. Мэриан схватила кипу писем, сунула в ящик письменного стола и снова вытащила. Он подошел поближе. — Извини, Мэриан, я не хотел тебя пугать. — Ничего. Ты что-то сказал? — Что я не отказался бы от чашки кофе. — Да, конечно. Она налила в чайник воды и стала ждать, когда закипит. Он взгромоздился на высокий табурет в углу. Мэриан с болью ощущала его присутствие. Она сама не знала, чего ей больше хочется: чтобы Мэтью ушел или остался. — Тебя давно не было видно. Как подвигается реклама? — С грехом пополам. Я отвык обходиться без Вуди. Только не передавай ему, а то зазнается. — Он вернулся из отпуска. Вчера звонил. — Хорошо отдохнул? — Черный как негр. Много курит. И суетится. — Узнаю Вуди. Они замолчали. Мэриан положила в чашки по ложечке кофе и с прежним нетерпением уставилась на чайник: закипай же! Мэтью не спускал с нее насмешливых глаз. Наконец чайник закипел. Когда Мэриан передавала Мэтью чашку, их пальцы соприкоснулись, и она почувствовала, как горячая краска заливает ее лицо. — У тебя что-то случилось? — Он тронул ее за подбородок. — Что? Она отвернулась. — А, пустяки. — Не похоже на пустяки. Тебя кто-нибудь обидел? — Нет-нет… Мама настаивает, чтобы я связалась с Мадлен, а я не знаю, где ее искать и что сказать ей. — Ну, что сказать, ты сама решишь, а в поисках я, пожалуй, смогу помочь. — Это очень великодушно с твоей стороны, но… — Что «но»? Все страдаешь из-за Пола? — Нет! — Тогда в чем дело? А «дело» было в чем-то до того абсурдном, что ей самой не верилось, как у нее могли возникнуть такие мысли. Вдруг, узнав о ее чувствах к Мэтью, Мадлен и его отнимет? Но это же полный маразм: разве он ее собственность? — Боюсь, она скажет или сделает что-нибудь такое, что причинит маме боль. В общем, это мои трудности. — Мэриан, ты не сможешь вечно ограждать других от сложностей жизни. Когда-нибудь им — в том числе твоей матери — придется самостоятельно решать свои проблемы. А как же ты? — Что «я»? — Кто тебя оградит? — От чего? — От меня. Она так и вытаращила на него глаза. Мэтью усмехнулся. — Не бойся. Я понимаю, ты считаешь меня величайшим негодяем всех времен и народов. Похоже, вы со Стефани начали защищать друг друга от меня. Вот я и спрашиваю: что я за зверь такой? — Просто эгоист. — Правильно! Эгоист до мозга костей. Но все же не такой черствый, чтобы не помочь тебе найти кузину… Над чем ты смеешься? — Не знаю, Мэтью. Может быть, над тобой. Он бросил на нее саркастический взгляд, каким часто награждал Стефани. — Мэриан, тебе следовало бы чаще улыбаться: у тебя неотразимая улыбка. И вообще ты сегодня фантастически смотришься. Это новый костюм? — Нет. Я купила его давно… ради первого свидания с Полом. — Значит ли это, что ты собралась на свидание? — Да. Меня пригласили на ужин. — Кто? Я его знаю? — Конечно — Вуди. С его губ тотчас сошла улыбка. — Ты встречаешься с Вуди? Сегодня вечером? — Ну да. Он резко поставил чашку в раковину. — Ничего подобного! — Прошу прощения? — Ты слышала, что я сказал. Ты не пойдешь на свидание с Вуди. — Да, я слышала, но не понимаю, при чем тут ты. — При том. Ты что, не знаешь его репутацию? Вспомни свою кузину. — Как ты смеешь? — Смею. Ему нужно только одно, и он всегда добивается своего. Ты не пойдешь на эту встречу. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. — Не твое дело! — вскричала Мэриан. — Вуди пригласил меня, потому что мне было одиноко, и я не позволю… — А я не позволю ему обойтись с тобой, как с теми потаскушками, которых он подцепляет у Стрингфеллоу! Тебя мало обманывали? — Что?! Мэтью грубо схватил ее за плечи. — Хочешь, чтобы все повторилось? Так и случится, если свяжешься с Вуди! — Не твое дело! Он вдруг резко отпустил ее. — Абсолютно не мое. — Тогда с какой стати ты вмешиваешься в мою жизнь? — Я давно знаю Вуди. Знаю, на что он способен, и не желаю видеть тебя очередной жертвой. Тебе известно, что он женат? Мэриан покачала головой. — У него трое детей. Об этом он тебе тоже ведь не докладывал? — Нет, но… это просто дружеская встреча. — Когда дело касается Вуди, речь может идти только об одном. Позвони и откажись. — И не подумаю! Прекрати мной командовать! — Кто-то же должен это делать! Господи, ты даже не представляешь, сколько здесь акул. Хочешь развеяться — поужинай со мной. — Я пойду с Вуди. Какое-то время они молча взирали друг на друга. Потом Мэтью вскинул голову и вышел. Мэриан безумно хотелось броситься за ним, но она рассмеялась. Что все это значит? Мэтью пригласил ее на ужин! Сделай он это месяц назад, у нее затряслись бы поджилки. Ах, Мэтью!.. Пришла Стефани с только что принятым в съемочную группу директором по производству, Хейзел Ридли. Мэриан встретила их сияющей улыбкой. — Как прошел обед? — Недурно, — ответила Стефани, — но, наверное, хуже, чем у тебя. Хейзел обвела приемную недовольным взглядом. — Черт возьми, Стеф! Я рада, что мы снова работаем вместе… Но это же просто собачья конура! Стефани подмигнула Мэриан и, скрестив руки на груди, прислонилась к дверному косяку. И стояла так все время, пока Хейзел совала всюду нос и отпускала критические замечания. — Фу, теснотища! — Здесь абсолютно ничего не изменилось, — сказала Стефани, — если не считать того, что вместо Тани — Мэриан. Как-нибудь поместитесь. — Привет, Хейзел, — бодро произнесла Мэриан. — Рада познакомиться. Стефани много о тебе говорила. Хейзел бросила на нее испепеляющий взгляд. — Тебе не кажется, что твои вещи занимают слишком много места? Придется перетащить их в угол. Я предпочитаю сидеть у окна. А теперь, Мэз, будь так добра принести чашечку чаю, а мы со Стеф поболтаем. Стефани бросила на «Мэз» извиняющийся взгляд. Та лишь пожала плечами и отправилась выполнять поручение. Вернувшись, она застала Хейзел сидящей в кресле с задранными на стол ногами. Она рассказывала Стефани «мерзопакостную» историю, которая недавно приключилась на Королевском ипподроме в Аскоте. — В общем,эта мерзавка послала меня… и при этом продолжала сидеть на моей шляпе! Это бы я еще снесла, но подул ветер, и все увидели, что на ней нет абсолютно никакого нижнего белья! Меня чуть не вырвало. Разве я могу теперь надеть эту шляпу? А ведь она стоила целое состояние! Стефани засмеялась. Хейзел попробовала чай и повернулась к Мэриан. — Это не «Эрл Грей». Я просила «Эрл Грей»! Мэриан бросила недоуменный взгляд на Стефани. Та поддержала ее: — Нет, Хейзел, ты ничего не говорила. Но мы что-нибудь придумаем. — Да? А кстати, ты опять работаешь с Мэтью? Где он сейчас? Улыбка на губах Стефани погасла. — Понятия не имею. Она умирала от желания спросить Мэриан, не звонил ли он, но не решилась сделать это при Хейзел. — Он все еще с той мерзавкой? — Нет, Мэтью порвал с женой. — Да? — оживилась Хейзел. — Значит, путь свободен? Здорово! Я давно положила на него глаз. Фантастическое тело! Стефани беспомощно посмотрела на Мэриан и, пробормотав что-то насчет неотложного телефонного разговора, бросилась к себе. Хейзел встала и обошла стол. — Первым делом нужно достать еще один вентилятор. — Она вытерла шею носовым платком. — Как же я окручу Мэтью, если от меня будет нести потом? Соедини меня с ним. Надо ковать железо, пока горячо. — Его нет, — сухо ответила Мэриан. Хейзел смерила ее уничтожающим взглядом. — Я слышала, ты недавно работаешь в кино. Поэтому позволю себе заметить, что в этом деле важно, чтобы каждый знал свое место. Ясно? Мэриан покраснела, как рак, но кивнула. — Ну вот, а теперь дай-ка мне досье на Оливию Гастингс. Я собираюсь уходить. Мэриан протянула ей папку. — Здесь нужно кое-что допечатать. Прислать, когда закончу? — Нет, я забираю ее с собой. — Хейзел застегнула сумку. — Извини, Мэз, если я показалась тебе грубой, но нам всем пришлось здорово попотеть, чтобы стать тем, чем мы стали. Тебе повезло: у Стефани доброе сердце. Не злоупотребляй этим. И еще. Дай мне телефон Мэтью. Мэриан нацарапала номер на листке бумаги. — Я тут уберусь к твоему приходу. И, конечно, достану чай марки «Эрл Грей». Что-нибудь еще? — Молодчина! Кажется, мы сработаемся. Нужно сразу ставить точки над i, ты согласна? Это избавляет от многих недоразумений в будущем. Чао! Если объявится Мэтью, скажи, что я скоро позвоню. Проводив ее взглядом, Мэриан сложила оставленную Мэтью газету и ухмыльнулась: — Мечтать не вредно. (обратно)Глава 16
Мадлен стояла в музыкальной комнате, в окружении цветов, и смотрела в сад. В ее жизни еще не было момента, когда бы она остановилась и задумалась над своими поступками и их последствиями для окружающих. Она жила осознанием своей красоты, своими интересами и желаниями. Но в последние две недели ей стал являться собственный образ — искаженный до неузнаваемости, почти чудовищный. Она все чаще думала о том зле, которое причинила тем, кто ее любил. В ней крепло убеждение: случившееся послано ей в наказание, в постигшей ее катастрофе есть какой-то тайный смысл. Тоска по Мэриан стала нестерпимой; один раз она отважилась набрать телефонный номер в Девоне, но в последний момент мужество покинуло ее, и она положила трубку. В своем стремлении забыться Мадлен как за соломинку цеплялась за работу. Позируя перед объективом фотокамеры или давая интервью, она автоматически открывала рот, прищуривалась и одаряла окружающих чувственным взглядом, смеялась и флиртовала, пила шампанское и выставляла напоказ длинные ноги. Не было ни одной минуты на дню, когда бы ее не ублажали, не украшали и не фотографировали. Парикмахеры и модельеры трудились над поддержанием ее имиджа, и она, словно марионетка, позволяла управлять собой. Но, как бы она ни выкладывалась на работе, сколько бы ни топила горе в вине и ни танцевала, она не могла убежать от Пола, его чудовищного поступка и своих мук, разрывавших сердце. С тех пор как Гарри Фримантл вымелся из ее постели, она и Пол спали в разных комнатах. После ухода Гарри Пол пытался что-то объяснить, но она заперлась в ванной и вышла, только когда он пообещал, что никогда больше к ней не притронется. Однако гнев и отвращение не смогли уничтожить любовь, и Мадлен испытывала ни с чем не сравнимый ужас всякий раз, когда внутренний голос нашептывал ей, что если Пол действительно гомосексуалист, ей нечем удержать его. Она так отчаянно сопротивлялась этим мыслям, так изнуряла себя работой, что когда добиралась до дому, ей хотелось одного: спать. Пол не покидал коттеджа — это внушало надежду; но она не могла ни говорить с ним, ни смотреть в его сторону. В конце концов потребность излить душу обострилась до того, что она позвонила Шамире в Лос-Анджелес. Это не помогло: Шамира сыпала прописными истинами и давала разумные, но невыполнимые советы. — Вышвырни его ко всем чертям! И смени замок. — Пол говорит, у него была причина, — лепетала Мадлен, но она и сама чувствовала несостоятельность своих доводов. — Какая еще причина — если не считать того, что он гомик? — Но я люблю его! — Разлюбишь. Слушай, он и так над тобой измывался, так что это — последняя капля. Не понимаю, как ты можешь терпеть его присутствие. Мэдди, я ему ни капельки не верю. Он еще повторит этот подвиг — и не один раз! Или сделает что-нибудь не менее гнусное. Попомни мои слова! Мадлен вздохнула. — Просто не знаю… — Послушайся доброго совета — гони его в шею! — Я подумаю. Но прошло уже три дня, а она все еще не могла ни о чем думать — просто гнала от себя тяжкие мысли и целиком отдавалась работе. Сейчас, глядя в окно, Мадлен почувствовала, как распахнулись шлюзы ее души, и осознала, что пора что-нибудь предпринять. Ей было слышно, как Пол меряет шагами свой кабинет на первом этаже. Мадлен вышла в сад. Небо дышало зноем — на нее словно навалилась тяжелая душная масса. В сизом мареве дрожали крыши соседних коттеджей. Мадлен села в гамак и стала медленно раскачиваться. Вскоре у нее начали смыкаться веки, и она понадеялась, что провалится в забытье, но сон ускользал от нее; перед глазами вставала одна и та же картина: Гарри спит в ее постели; Пол трогает его за плечо, чтобы разбудить. Этот жест был исполнен интимности — как будто Пол и вправду любил этого мужчину. Не в силах терпеть эту муку, Мадлен открыла глаза. Перед ней на столике лежал открытый журнал; она стала машинально листать его. Ей было трудно сосредоточиться; в то же время она не слышала, как открылась дверь, и не знала о присутствии Пола до тех пор, пока на нее не упала тень. Она отвернулась; журнал соскользнул с колен. Тишину воскресного вечера нарушал только отдаленный гул уличного движения. Потом кто-то включил газонокосилку; тявкнула собака. Несмотря ни на что, ее тело и душа жаждали Пола — чтобы он защитил ее от агонии. О, почему страдания не убили, а только усилили ее любовь? — Мэдди, нам нужно поговорить. — Нет. Пол сел рядом. Мадлен встала и пошла обратно в дом, но он преградил ей путь. — Пожалуйста, Мэдди, выслушай меня. Позволь объяснить… Она устремила невидящий взгляд на лавровое дерево — один из его «сюрпризов». — Ты не можешь вечно избегать меня, — продолжал Пол. — Мы должны справиться с этим — вместе. — Не могу. Я пыталась, но ничего не получается. — Позволь, я помогу тебе. Он не мог понять выражения ее лица и усиленно вглядывался, словно ища лазейку, сквозь которую мог бы проникнуть вглубь захлопнувшейся раковины. — Мужчина… — прошептала она. — Ты спал с мужчиной! — Да. Она обратила на него полный отчаяния взгляд. — А я? При чем тут я? — При том же, что и раньше. Мы по-прежнему вместе. По щекам Мадлен скатились две прозрачные слезинки. Пол стер их пальцами, обнял ее. Она не сопротивлялась. — Не нужно так, Мэдди. — Пол провел ее через весь сад и усадил в большое плетеное кресло, а сам опустился перед ней на колени. — Ты же знаешь, почему я это сделал. Она вырвала из его ладоней руки. — Нет, Пол, не знаю. Ни один нормальный мужчина не поступил бы так. — Мэдди, у меня не было другого выхода. — Я оставила тебе телефон того парня. Достаточно было позвонить — он бы все сделал. — Нет, Мэдди. Я много думал об этом, чуть с ума не сошел, но в конце концов понял: я не могу допустить, чтобы тебя шантажировали. — Меня? С какой стати? — Тот манекенщик обязательно заподозрил бы неладное. Его распирало бы любопытство: зачем нам понадобилось уложить его в постель с Гарри? Потом он держал бы нас на крючке. В лучшем случае все узнали, что мы платим мужчинам, чтобы они спали друг с другом, а в худшем — если бы он докопался до наших истинных намерений — мы трое: ты, я и Гарри — были бы кончеными людьми. — Он сделал паузу, давая Мадлен возможность это переварить. — Теперь понимаешь, почему мне пришлось сделать это самому? В ее глазах засветилась прежняя любовь. Пол выждал — ровно столько, чтобы растерянность Мадлен достигла кульминации, но еще не сменилась подозрением, — и прошептал: — Я хотел этого, Мэдди! — Хотел? Ты хотел!.. — Постой. Выслушай меня. Я должен был это испытать: ради нас, ради опубликования моего романа — и ради будущей книги. Я нуждался в опыте. Пытался представить себе двух мужчин в постели — и не мог. Вот почему я расхохотался, когда ты сказала мне о Гарри. Это было решением всех проблем. — А что будет со мной, ты подумал? — Я не собирался ничего менять. Если бы мы с Гарри не уснули, ты так и не узнала бы. Бог мой, Мэдди, я же люблю тебя, как ты можешь предполагать… — Ты достал видеокамеру? Пол напрягся и закрыл глаза, чтобы не выдать свой триумф. А когда открыл, в его взгляде светилась любовь. Он утвердительно кивнул. — Когда ты собираешься ему показать? — Он заедет завтра вечером. Если ты не против. Мадлен села. — Я сама это сделаю. — Что именно? — Скажу про видео. Нет нужды демонстрировать пленку: он сам знает, чем вы занимались. — Но почему… — Потому что я так решила! Ты мне должен! Он криво усмехнулся — и удивленный столь внезапным проявлением характера, и заинтригованный. Интересно будет посмотреть — особенно сейчас, когда благодаря Гарри он доказал, что не является рабом своей страсти к ней. — Как скажешь, Мадлен! Как ты скажешь…* * *
Готовясь к встрече с Гарри, Мадлен надела бледно-розовую блузку и короткую однотонную юбку. Волосы она заплела в косу. Бледное лицо было непроницаемо. Единственное, что она себе позволила, это еле заметно подвести брови. Он последовал за ней в гостиную. Пол стоял к ним спиной, облокотившись на камин, уставив взгляд в пустую топку. Мадлен ждала. Наконец Пол повернулся, и они с Гарри посмотрели друг на друга. Ее интересовало выражение лица Гарри. Было совершенно очевидно, что он не ожидал встретить ее здесь. Мадлен невольно задала себе вопрос: как бы эти двое поздоровались, если бы ее не было? — Может, ты хочешь его поцеловать? — обратилась она к Гарри. — Ради Бога, Мадлен! — взмолился Пол. — Я бы выпила. — Она опустилась на диван. — Гарри, твой выбор? Он нервно пригладил волосы. — Я лучше поеду. — Нет, не поедешь — во всяком случае сейчас. Садись, Пол даст нам выпить. Гарри сел на противоположный диван и стрельнул взглядом в Пола, словно ждал указаний. Но Пол раскладывал по фужерам лед и не откликнулся на молчаливый призыв. После того как Мадлен застигла их врасплох, они дважды занимались любовью в квартире, которую Гарри снял в Пимлико. Знает ли об этом Мадлен? И как Пол может жить с этой мегерой? Он смущенно улыбнулся и похвалил снимки в сегодняшнем номере «Дейли мейл». Реакция Мадлен его удивила: Пол утверждал, будто она не способна устоять перед лестью. Гарри насторожился. В воздухе пахло грозой. Пол передал Мадлен напиток; при этом она погладила его руку, а он поцеловал ее в лоб. Мадлен торжествующе взглянула на гостя. До сих пор Гарри удавалось держать свои гомосексуальные наклонности под контролем; они не мешали остальной жизни. Но видеть, как Пол отвечает на ласки этой женщины, было выше его сил. Гарри безошибочно распознал признаки настоящей любви. Он сам любил — и прежде, и особенно сейчас — Пола. Он даже подумывал о том, чтобы открыто поселиться с ним вместе, но это было нереально. Безнадежность ситуации угнетала. Пол передал ему бокал; их пальцы соприкоснулись, и Гарри почувствовал ожог. Он не смел поднять голову и заглянуть Полу в глаза, но при виде его ног все его тело затрепетало от вожделения. Пол вернулся на прежнее место у камина. Он так волновался, что не мог ни пить, ни говорить. Что выкинет Мадлен? Как отреагирует Гарри? Ясно было одно: они оба влюблены в него. Мадлен положила ногу на ногу и подняла свой бокал. — За тебя, Гарри. Я знаю, ты не ожидал меня увидеть, но это мой дом, а Пол — мой мужчина. Пол заморгал; Гарри снова нервно провел ладонью по волосам. — Я все сделаю, чтобы удержать его, — продолжала Мадлен, — и помочь его карьере. Ты, конечно, не виноват, что голубой, у тебя тоже есть чувства, но в данном случае ты промахнулся. Пол печется только о том, чтобы выпустить книгу без правок. Это я посоветовала ему переспать с тобой. Мне пришлось долго его уговаривать. Ну а теперь, когда он это сделал, я позабочусь о том, чтобы ему досталось вознаграждение. Гарри упорно смотрел в пол, сгорбившись и словно ожидая новых ударов. Но Мадлен замолчала и продолжила только после того, как он отважился поднять на нее глаза. — Есть кое-что такое, чего ты не знаешь о Поле. А именно: он обожает созерцать самого себя, занимающегося любовью. Видишь вон там, около телевизора, кассеты? На них увековечены мы с Полом в момент траханья. В глазах Пола блеснуло любопытство. Мадлен лгала — но он еще не разгадал ее игру. — А вон на той кассете — видишь, лежит отдельно? — запечатлены вы вдвоем. Я сняла копию, так что можешь взять оригинал. На твоем месте я бы взяла, потому что отныне это все, что у тебя останется от Пола. Конечно, не считая профессиональных контактов. Видишь ли, я иду в гору и хочу, чтобы Пол тоже прославился, а для этого ему нужна твоя помощь. Поэтому я решила тебя шантажировать. О Господи! Пол поспешил отвернуться, чтобы она не заметила, как он с трудом сдерживает смех. Зато Мадлен увидела глубокую грусть в глазах Гарри, который поставил свой бокал и провел ладонью по лицу. — Ему незачем прибегать к подобным уловкам. Дело в том… — Это я прибегаю к уловкам, — перебила Мадлен. — Я! Пол не имел понятия о том, что я собиралась сказать тебе сегодня вечером. Даже не знал о существовании копии. Просто я попросила его присутствовать. Пусть видит, на что я способна ради его блага. Гарри взглянул на Пола. Тот лишь пожал плечами. — Издание книги в авторском варианте, — сказала Мадлен. — Вот чего добивается Пол для начала. А потом — ты же не станешь утверждать, что не знаешь, каким образом книги попадают в списки бестселлеров? Вот ты этим и займешься. Более того, если понадобится, я дам тебе денег. Гарри встал и подошел к Полу. — Разве она не знает… — Оставь его в покое! — взвизгнула Мадлен и, в несколько прыжков очутившись перед телевизором, схватила кассету. — Он тут ни при чем! Все, что ему нужно, это выпустить книгу. На, бери! Можешь онанировать перед экраном, но всякий раз, когда будешь кончать, думай о том, во сколько тебе обошлось это удовольствие! Гарри с брезгливостью посмотрел ей в глаза. — Я не стану отвечать на твои пошлости, Мадлен. Но ты утверждаешь, будто любишь Пола, — вот это я не могу оставить без внимания. Вряд ли ты вообще способна любить кого-либо, кроме самой себя. Я издам книгу Пола — но не потому, что испугался твоих угроз. Да, Пол не отвечает мне взаимностью, но это еще впереди. И тогда тебе будет в тысячу раз тяжелее, чем сейчас — мне. — Не обольщайся, Гарри. — Ты — глупая девчонка. Что ты знаешь о жизни? Быть гомосексуалистом — непросто, Полу тоже пришлось в этом убедиться. Я ему помогу. Мадлен покатилась со смеху. — Разуй глаза, Гарри: Пол хочет меня, а не тебя! Это я ради него готова на любые жертвы! И не надейся, что он еще хоть раз переспит с тобой, потому что в этой комнате только один гомик — ты! Повернувшись к двери, она не заметила, каким взглядом обменялись Пол с Гарри. Уже в дверях Гарри остановился. — Ты страдаешь, Мадлен. Я тебе сочувствую. Мне тоже тяжело. Хочу чисто по-человечески посоветовать… — Вон! — Запустив в Гарри кассетой, она захлопнула дверь у него перед носом. Когда она вернулась в гостиную, Пол сидел на диване с бокалом в руке. Некоторое время оба молчали. Пол заговорил первым: — Знаю, что ты хочешь сказать: я должен ценить все, что ты для меня сделала. Я ценю. Не знаю, добилась ли ты своей цели, но ты сделала все, чтобы Гарри возненавидел тебя и еще сильнее полюбил меня. Что ж… Ты провела эту сцену с блеском — даже на меня это произвело впечатление. Не думаю, что с книгой будут проблемы. Он не станет вымещать на мне зло. Ты — гений. Мадлен!.. Почему ты молчишь? Неужели тебе нечего сказать? Или ты ждешь от меня заверений, что это больше не повторится? Клянусь. — Скотина! Лживая скотина! — Что это вдруг… — Гарри — порядочный человек и стоит дюжины таких, как ты, — но мне пришлось его унизить. А у тебя не нашлось даже словечка для него — хотя это ты его трахал, а не он тебя! — Ты все-таки прокрутила пленку? — В этом не было нужды. Я — женщина и прочла это у него на лице. Ты использовал его тело, вторгся в него и утолил похоть! Но ты прав — я видела пленку, и ты заплатишь мне за вранье! Я не брошу тебя, потому что люблю и ничего не могу с собой поделать. Но ты заплатишь, Пол О’Коннелл, ты мне заплатишь! (обратно)Глава 17
Мэриан и Бронвен сидели за столиком бистро на углу Понте Веккио, обмахиваясь карточками меню и потягивая ледяной лимонад. Над головой возносились башни в стиле готики, Ренессанса и барокко; ярко сияло небо изумительного голубого оттенка — без единого облачка. Глядя ввысь, Мэриан думала: какой величавый покой царит там, наверху, по сравнению с толчеей в этом городе, запруженном уличными художниками, торговцами и туристами! Они с Бронвен только накануне прилетели во Флоренцию после сумбурной встречи со Стефани и Мэтью в аэропорту Хитроу: рейс до Нью-Йорка был объявлен часом раньше. Собственная роль в их примирении наводила на Мэриан уныние, но она искусно скрывала свои чувства и даже ухитрилась весело посмотреть на Мэтью, когда он отвел ее в сторону и велел не верить ни одному сказанному о нем слову Вуди. Стефани без зазрения совести подслушала разговор. — Смотри, какой самонадеянный: решил, что вы с Вуди и впрямь убили вечер, перемывая ему косточки. — Так и было, — заверила Мэриан. — Конечно, — поддакнул Мэтью. — Разве на свете существуют другие темы для разговоров? — Ох, с каким удовольствием я бы тебе всыпала! — воскликнула Стефани. — Это — пройденный этап. В это время по радио в последний раз объявили посадку. Пришла Бронвен — она разговаривала по телефону. — Напоследок еще несколько ценных указаний, — и они со Стефани двинулись к паспортному контролю. Мэтью и Мэриан последовали за ними. — Меня довольно-таки заинтриговал этот срочный вызов, — признался Мэтью. — С удовольствием познакомлюсь с Фрэнком Гастингсом. — Стефани говорит, он заинтересован в скорейшем начале съемок. — Мы все в этом заинтересованы. Но срочно нужен хоть какой-то материал по Италии. Так что постарайся, о мудрейшая. Разнюхай там все что сможешь, но помни: ни шагу в сторону от проторенного пути! Наверное, у нее был расстроенный вид, потому что Мэтью торопливо обнял ее и, пробормотав что-то похожее на «долгие проводы — лишние слезы», отправился разбивать дуэт Стефани — Бронвен. Теперь, сидя вместе с Бронвен в бистро, Мэриан прикинула, который час в Нью-Йорке, и грустно усмехнулась. Ну разве не идиотизм — терзаться из-за того, что, возможно, Мэтью со Стефани в эту минуту нежатся в постели, сжимают друг друга в объятиях, делят на двоих радость обладания? Противоречивость собственных чувств повергала Мэриан в уныние. Флоренция пугала ее, но этот страх не имел отношения к Полу — ее интуиция непостижимым образом связывала его с Мэтью, а это уже маразм. Мэтью не был с ней — и никогда не будет, а Флоренция — что ж, несмотря на зной и докучливых туристов, она оказалась романтичнее, чем можно было предполагать. — Если через несколько минут Серджио Рамбальди не явится, — проворчала Бронвен, — закажу свой портрет уличному художнику, чтобы, когда я расплавлюсь и растекусь лужицей, ты изредка вспоминала мой светлый образ. Мэриан рассеянно наблюдала за стайкой школьников. — Думаешь, он придет? Бронвен передернула плечами. — В настоящий момент я адски страдаю от жары, так что ни до чего другого мне просто нет дела. И почему только он выбрал это бистро? Неужели не нашлось уютного местечка где-нибудь в теньке? Мэриан подвинула свой стул, чтобы дать пройти паре японских туристов, и вдруг вскрикнула: их фотокамера зацепилась за ее соломенную шляпу. — Прощай, элегантность! — Она подобрала помявшуюся шляпу и тупо уставилась на свое отражение в зеркальце. Волосы мелкими кудряшками прилипли ко лбу. — Надевай скорей, пока не увидели! — Бронвен засмеялась и тотчас поморщилась при виде новой группы туристов. — С ума посходили — переться сюда в это время года! Настоящая парилка! А вонь из канализационных люков! Ветер как раз донес до них очередную волну смрадных запахов. Мэриан нравился этот город, но теперь она понимала, что имел в виду Пол, говоря, что Флоренция «продрыхла несколько столетий». Над людскими и автомобильными потоками возвышались древние здания, придававшие Флоренции отрешенно-дремотный вид. Они как будто зевали — и закрывали глаза, чтобы не видеть бестолковщины современной жизни. — Брон, ты не знаешь, Мэтью бывал во Флоренции? — Не знаю, дорогуша, но моли Бога, чтобы он не свалился на нашу голову в это пекло. Ты можешь себе представить, как бедненький Вуди перекрывает уличное движение? Насколько я знаю Мэтью, он не преминет этого потребовать. А зная Вуди, можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что у него получится. — Они давно работают вместе? Вуди много рассказывал об этом. — В данном случае можешь ему поверить. Они работали вместе, еще когда Стефани только познакомилась с Мэтью. Кстати, как тебе нравится Вуди? Между вами не пробежала искра? — Нет. Кроме всего прочего, он женат. Да если бы и не был, я — не его тип женщины. — Не обижайся, дорогуша, так оно и есть. Вуди предпочитает таких, у которых мозги расположены пониже головы. Ты меня понимаешь. Мэриан ухмыльнулась. — То есть на одном уровне с его собственными? Бронвен покатилась со смеху. — Не в бровь, а в глаз! Здорово ты раскусила Вуди! Но подожди, начнем снимать, тогда ты увидишь настоящих акул, Вуди перед ними — сущий младенец. Тем более что он тогда мигом угомонится. Стефани считает его мастером своего дела, для нее это главное. — Интересно, каков Мэтью на съемочной площадке? — Совершенно невыносим, как все режиссеры. — Почему? — Слишком большое напряжение. — Синьора Ивенс? — раздалось рядом с ними. Девушки подняли головы и прищурились: даже темные очки не спасали от слепящих солнечных лучей. — Синьор Рамбальди? — пробормотала Бронвен, так же как Мэриан, сраженная его эффектной наружностью. — Рада познакомиться. Это мой секретарь, Мэриан Дикон. Надеюсь, вы не против ее присутствия? — Нисколько. — Он улыбнулся, и Мэриан почувствовала, что тонет в опасной глубине его глаз. — Здесь душно, не правда ли? Давайте зайдем ко мне в студию, там намного прохладнее. — Превосходная идея! — Это совсем недалеко. — Я готова топать пешком хоть до Венеции, лишь бы убраться отсюда. Он посторонился, давая девушкам выйти из-за стола, и повел их сквозь толпы туристов к Палаццо Торригьяни. Не прошло и десяти минут, как они уже любовались картинами и учебными этюдами, воспроизводящими детали полотен мастеров пятнадцатого века. — Это ваши? — поинтересовалась Мэриан, с трудом отрываясь от подрамника с копией «Милосердия» Андреа дель Сарто. — Не все. — Серджио Рамбальди открыл окно. — Некоторые выполнены моими учениками. Мэриан и Бронвен обменялись многозначительными взглядами, однако когда Серджио повернулся к ним, Мэриан прилежно изучала «Мадонну» Леонардо. — Здесь есть работы Оливии? — как бы между прочим спросила Бронвен. — Была одна, но я ее снял. — Вот как? Он сел на подоконник, спиной к улице, и жестом предложил гостьям располагаться. — Понимаете, за пять лет у меня было много учеников. Надо каждые несколько месяцев обновлять экспозицию. — Да, конечно. Бронвен сняла с плеча сумочку и села на подлокотник громоздкого кресла. Его еще раньше облюбовала Мэриан, однако под ее тяжестью сиденье стало медленно опускаться; еще немного — и ее голова окажется на уровне ног Бронвен. Мэриан сроду не чувствовала себя так глупо, тем более что так и не решилась снять злополучную шляпу. — Могу я предложить вам чего-нибудь прохладительного? — предложил гостеприимный хозяин. — У меня есть свежий сок манго. — Звучит заманчиво, — ответила Бронвен. Когда Серджио скрылся на кухне, она повернулась к Мэриан. — Ты когда-нибудь видела такого потрясного мужика?.. Эй, Мэриан, что ты там делаешь? — Пружины совсем сломались. Дай, пожалуйста, руку, пока его нет. С трудом сдерживая смех, Бронвен вызволила Мэриан из кресла. — Садись на другую ручку. И держи ушки на макушке, когда он начнет рассказывать. Я паршиво себя чувствую, а он — наша единственная зацепка. — Договорились. Вернувшись с напитками, Серджио удивленно посмотрел на Мэриан. — Ох, извините. Забыл, что это кресло сломано. Вам удобно? — Да, очень. Спасибо за сок. — Итак, вы хотите, чтобы я рассказал все, что знаю об Оливии? Он опять взгромоздился на подоконник. Из-за его спины в глаза девушкам било солнце. Уж не нарочно ли он сел так, чтобы они не видели его лица? — Не знаю, с чего начать. — Например, какой она была студенткой. У нее был талант? — Ничего особенного. Хотя в Америке ее считали одаренной художницей. — Она много работала? — Как когда. Временами ее душа словно витала где-то далеко от тела. — Из-за наркотиков? Или она была не так уж и предана искусству? — Наверное, и то, и другое. Хотя нет, дело все-таки в наркотиках. Она принимала героин. Весьма прискорбно. Бронвен понимающе кивнула. — Вы не могли бы рассказать о ее жизни в тот период? С кем она встречалась? Где проводила свободное время? И все такое прочее. — У нее было много поклонников, главным образом американцев. Я дам вам полистать личные дела. Возможно, вы разыщете кого-нибудь из ее однокурсников, расспросите, куда они ходили развлекаться. — Вы очень добры. — Бронвен прикрыла рот ладонью, чтобы скрыть зевок. — Извините. Это все жара. Мы хотим съездить в ту деревню, куда ее отвез американский студент. Знаете это место? — Песетто ди Питторе? Боюсь, что плохо. — Значит, вам не известно, зачем Оливия туда отправилась? Серджио пожал плечами. Бронвен задала следующий вопрос: — Вы не могли бы набросать портрет Оливии — я имею в виду словесный? Как она выглядела, когда жила во Флоренции? Как себя вела? Он улыбнулся. — Слова — не моя стихия. Однако попытаюсь. Она была очень… как это называется… похожа на статую… статная! Да, вот именно статная — рослая, с великолепной осанкой и выразительными глазами — когда не принимала наркотики. Когда она только приехала, в них было что-то зловещее. У нее были прекрасные белокурые волосы и очень красивые черты лица… опять-таки не всегда. Наркотики вызывали в ней прилив жизненной энергии. Многие искали ее общества: ведь она была сумасшедшей. — В каком смысле? — Я неточно выразился. Пожалуй, здесь подошло бы — «сумасбродная». Студенты таких любят. У нее была экстравагантная манера письма, граничившая с… может быть, даже богохульством. — В чем это выражалось? — Предпочел бы не распространяться на эту тему. Я — католик и не выношу кощунства. — Понятно, — произнесла Бронвен и вдруг схватилась за живот. — Простите, я могу воспользоваться ванной? Мне плохо… — О, разумеется. — Серджио соскочил с подоконника и отвел ее в ванную. — Большое спасибо, — послышалось оттуда. Захлопнулась дверь. Серджио вернулся в студию. — Солнечный удар, — ответил он на безмолвный вопрос Мэриан. — Напрасно она не последовала вашему примеру и не надела шляпу. Мэриан растерялась. Уж не прибегла ли Бронвен к уловке? Но у нее был по-настоящему больной вид. Придется самой продолжать интервью. Серджио ничего не имел против. — Итак? — Он снова занял свое место спиной к свету. — Богохульство, — напомнила Мэриан. — Как вы думаете, почему она это делала? — Из-за наркотиков. Хотя нет, это было бы слишком просто. Она словно пыталась выплеснуть на холст свою душу. Изгнать дьявола… — Понимаю. — Ее словно что-то беспокоило. — Что-то случившееся в Нью-Йорке? — Возможно. Мэриан понимала: если подозрения Арта Дугласа оправданны и Серджио Рамбальди знал о том, чем Оливия занималась в Нью-Йорке, она ступает на зыбкую почву. Поэтому она простодушно улыбнулась и спросила: — Интересно, что это могло быть? Может, она оставила там любимого человека? — Я нахожу такое объяснение правдоподобным. — Вряд ли. Ведь это не объясняет «богохульства», верно? — У девушки с разбитым сердцем могло возникнуть ощущение, как будто Бог от нее отвернулся. Измена хоть кого выбьет из колеи. Мэриан изобразила притворное волнение. — Это могло бы стать эффектным поворотом сюжета. Вы не находите? — Да, конечно. А все ее романы здесь, во Флоренции — реакция на предательство. — У нее были романы? — И довольно много. Как я уже сказал, она была очень красива — особой, волнующей красотой. — Где-то Она сейчас? — промурлыкала Мэриан. И, не дождавшись ответа, притворилась, будто делает над собой усилие, чтобы вернуться в сегодняшний день. — Вы не могли бы вспомнить какой-нибудь интересный случай? Пока Серджио углубился в воспоминания, Мэриан сокрушалась про себя, что не видит его лица. Неожиданно он расхохотался и поведал ей эпизод, когда Оливия явилась к нему домой, чтобы сказать, что не может заниматься с ним любовью. — А вам бы хотелось этого, если бы она согласилась? — ляпнула Мэриан и покраснела. Однако он не стал слушать ее извинения. — Да. Понимаете, я тоже увлекся. Она притягивала к себе как магнит. Возможно, вам пригодится для фильма — однажды я действительно предложил ей это. Мы были в доме-музее Буонаротти — срисовывали детали «Битвы с кентаврами». Оливия следила за движениями моей руки и вдруг призналась в любви. Я возразил: студенткам часто кажется, будто они влюблены в учителя. Но она настаивала: нет, это другое. Мужчине трудно устоять перед красивой женщиной. Я сказал, что хотел бы обладать ею. И мы продолжали работать. А через два дня она пришла сюда и сказала, что не может мне отдаться. Со мной в тот вечер была дама — почти жена; она привыкла к подобным выходкам со стороны студенток. Возможно, я покажусь нескромным, но в моей жизни такие случаи не редкость. Скромно или нескромно, подумала Мэриан, меня это нисколько не удивляет. — А эта дама… ваша жена… знала, что вы предложили это Оливии? — Нет. — Тогда эта сцена в картине может поставить вас в неловкое положение. — Конечно. Но мы скажем, что это художественный вымысел ради оживления фильма. Мэриан улыбнулась. — При следующей встрече с Оливией вы… — Я ее больше не видел. — Вы знаете, что ее отец получил письмо, в котором говорилось, что она жива? — Да, я читал в газетах. — Письмо было подписано инициалом «А». У кого-нибудь из ее поклонников был такой инициал? Серджио усмехнулся. — Трудный вопрос. Бесчисленное множество мужских имен начинается с буквы «А». Я все же советую вам посмотреть личные дела студентов. Вошла Бронвен — бледная, измученная. — Прошу прощения. Это все жара. — Конечно. Могу я вам что-нибудь предложить? — Нет, спасибо. Мне гораздо лучше. Продолжайте, пожалуйста. Серджио повернулся к Мэриан. — Кстати, о букве «А». Вам не приходило в голову, что это могла быть женщина? Мэриан растерянно посмотрела на Бронвен. Та ответила: — Такое предположение возникало. Но почерковедческая экспертиза утверждает: писал мужчина. Серджио задумался. — Я бы все-таки не стал полностью исключать такую возможность. Хотя Мэриан по-прежнему не видела его лица, она почувствовала: он наблюдает за Бронвен. Возможно, даже — Господи, откуда это ощущение? — пытается направить ее по ложному следу. — Мы ничего не исключаем, — ответила Бронвен. — Но записка вообще не будет фигурировать в картине. Это все бездоказательно. — Понятно. — Серджио взглянул на часы. — К сожалению, мне скоро уходить. Так что если вы хотите еще о чем-нибудь спросить… — Только о том, как Оливия приехала во Флоренцию, — перебила его Бронвен. — Если об этом еще не говорилось. Мэриан мотнула головой. — Она приехала одна? — спросила Бронвен. — Насколько мне известно, да. — Ей здесь нравилось? — Понимаете, когда Оливия появилась в моей группе, она уже пользовалась широкой известностью у себя в Нью-Йорке. Возможно, она скучала по родине. — Из-за своей популярности? — Пожалуй. — Почему же она уехала? — спросила Бронвен и вдруг снова побелела как мел. — Она обратилась в Академию в официальном порядке. Признаюсь, я о ней не слышал. Теперь, конечно, другое дело: ее знает вся Италия. — Разве Рабин Мейер не говорил о ней? — вырвалось у Мэриан. Она тотчас пожалела об этом. — Рабин Мейер? Я не знаю никакого Рабина Мейера. Этот человек утверждает, что мы знакомы? — Нет-нет, — заверила его Мэриан. — Просто при его профессии невозможно о вас не слышать. Я почему-то предположила, что это он порекомендовал вам Оливию… то есть вас Оливии. Мысли теснились в ее голове. Известно ли кому-нибудь, что именно Мейер предложил отправить Оливию во Флоренцию? Или Арт Дуглас сообщил об этом по секрету ей одной? Как бы то ни было, Серджио Рамбальди отрицает знакомство с Рабином Мейером так же, как Рабин Мейер отрицал знакомство с Серджио Рамбальди. «Я имею в виду личное знакомство, — уточнил владелец художественной галереи, — но, конечно, я не мог не слышать о нем как о прославленном художнике». Но Арт Дуглас утверждал, будто между этими двоими существовала некая связь — вроде бы они оба причастны к исчезновению Оливии. Еще немного — и она выдаст и себя, и Арта Дугласа!.. Мэриан воздела руки к потолку и засмеялась. — Господи, я все перепутала! Но она только подлила масла в огонь. Однако, когда Серджио с безмятежным видом отошел от окна, она почувствовала облегчение. Он приблизился к Бронвен и участливо положил ей руку на плечо. — Вам бы следовало вернуться в отель. — Да-да. Вы абсолютно правы. Большое спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Мэриан кивком подтвердила ее слова. Уже в дверях Серджио сказал: — У меня есть ваша визитка — Бронвен Ивенс. Но что касается вас, — он повернулся к Мэриан, — боюсь, что я забыл ваше имя. Она посмотрела ему в лицо и вспыхнула под его добродушным, почти ласковым взглядом. — Мэриан Дикон. — Рад был познакомиться, Мэриан. — Закон подлости! — выдохнула Бронвен, когда они очутились на улице. — Такой мужчина, а меня выворачивает наизнанку у него в ванной. Ох, дорогуша, как мне плохо! — Ты прямо зеленая. Идем скорее в отель. Но они не могли скорее — Бронвен еле стояла на ногах. — Вечером отстучи это все на машинке, ладно, Мэриан? — Она снова схватилась за живот. — Кстати, что он сказал о Рабине Мейере? — Так, ничего. Это я напутала. — Мэриан, кажется, я влюбилась! Как по-твоему, что он мог обо мне подумать? — Это зависит от того, в каком состоянии ты оставила его ванную. — Ой, мне больно смеяться! Стоя у окна студии, Серджио провожал девушек взглядом до тех пор, пока они не завернули за угол. Потом прошел в спальню и набрал телефонный номер. Ему не пришлось долго ждать. В трубке послышался мелодичный женский голос: — Галерея Мейера. — Соедините меня в Рабином Мейером. — Его нет. Что-нибудь передать? После секундного колебания Серджио произнес: — Передайте, чтобы он связался с bottega. — Будьте добры, по буквам. — Bottega, — повторил он и повесил трубку.* * *
Офис Фрэнка Гастингса был расположен в южном крыле небоскреба на Пятьдесят пятой Уотер-стрит в центре Манхэттена. Компания занимала верхние пять этажей — с пятьдесят пятого по пятьдесят девятый. Гастингс перебрался сюда три года назад из административного здания на углу Уолл-стрит и Бродвея: финансовый центр Нью-Йорка расширял свои владения. Фрэнк стоял у громадного, во всю стену, окна, созерцая бесконечный поток машин, переползающих через Бруклинский и Манхэттенский мосты. Это был рослый, плотно сложенный мужчина с седой шевелюрой, отливающей на солнце серебром, и густыми черными бровями. Обычно его лицо поражало сочетанием острого ума и врожденного добродушия, однако сейчас Фрэнк был мрачен. Он стоял сурово поджав губы и время от времени проводя пальцем по длинному аристократическому носу. Какое-то время он рассеянно следил за взлетевшим с Центрального вертодрома геликоптером, а когда тот скрылся за бруклинскими небоскребами, глубоко вздохнул и, заложив руки в карманы, повернулся лицом к присутствующим. За длинным столом красного дерева, торцом упирающимся в его письменный стол, сидели Стефани, Мэтью, Дебора Форман и Грейс Гастингс, его жена. — Мне понятны причины задержки, — сказал Фрэнк, облокотившись на высокую спинку кожаного кресла. — Погода, короткий световой день и, вследствие этого, дополнительные расходы. Но Бронвен и Мэриан уже в Италии. Вряд ли им потребуется много времени, чтобы решить, какие там можно снять эпизоды: ведь Оливия пробыла в этой стране только один месяц. Я хочу, чтобы вы начали снимать. — Вероятно, вы правы насчет Италии, — ответил Мэтью, — и я ничего не имею против того, чтобы снимать поздней осенью. Просто хочу предупредить: это чревато не только удорожанием съемок, но и вынужденными простоями из-за капризов погоды. Фрэнк кивнул. — Это также означает, что Деборе придется дописывать финал параллельно со съемками первых эпизодов в Манхэттене. — За мной дело не станет, — вступила в разговор Дебора. Мэтью постарался не заметить льстивых ноток в ее голосе. Дебора Форман прославилась как мастер журналистского расследования, однако ее последняя книга и сделанный по ней сценарий не произвели на Мэтью особого впечатления. У нее оказался сухой слог; она часто повторялась и без изменений переносила в текст пространные цитаты из газетных статей. Возможно, в свое время ее мнение что-то значило, но сейчас она была старой выдохшейся клячей, которую Фрэнк держал из уважения к былым заслугам. Это была крупная женщина пятидесяти с лишним лет, хотя толстый слой пудры, густо подведенные глаза и оранжевая помада выдавали ее потуги выглядеть тридцатилетней. — Конечно, — сказал Мэтью, обращаясь к Фрэнку, — снимать начало до полного окончания сценария — широко распространенная практика. Но вдруг развитие событий в Италии потребует существенной корректировки и, стало быть, пересъемок в Манхэттене? — Что вы имеете в виду? — спросила Грейс. — Я хочу сказать, если Деборе захочется домыслить какие-нибудь события во Флоренции или тосканской деревне, уходящие корнями в Манхэттен, мы должны узнать об этом заблаговременно. — О чем конкретно? — кисло спросила Дебора. — О том, что вы можете домыслить, — терпеливо объяснила Стефани. — Ведь такое возможно? — Откуда я знаю — до разговора с Бронвен? — Вот мы с Мэтью и говорим: пока эти куски не дописаны, мы не можем составить точное расписание съемок. Потом будет трудно вносить изменения. Почему? Потому что актеры будут строить свои планы в соответствии с этим расписанием. Натурные съемки, оборудование, спецэффекты — все будет привязано к графику. Нарушив его, мы понесем колоссальные убытки. Конечно, если вам удастся написать итальянские эпизоды в ближайшие три-четыре недели… — Это невозможно! — Правильно, невозможно. — Стефани повернулась к Фрэнку. — Значит, нужно заложить в смету резервную статью расходов на случай, если придется возвращаться в Нью-Йорк. В этом случае мы с Мэтью готовы приступить к съемкам. Хмыкнув, Фрэнк опустился в кресло. — Спасибо, Стефани. — Он посмотрел на Грейс, и, хотя оба молчали, Стефани и Мэтью кожей почувствовали нерасторжимую связь между этими двоими — духовную и физическую. — Что ж, я думаю, это возможно. Вы поддерживаете связь с Бронвен? — Я звонила ей вчера, в десять часов по флорентийскому времени. В сущности, разговора не получилось: кажется, у Бронвен был солнечный удар. Единственное, что мне удалось вытянуть, это что позавчера они встречались с Серджио Рамбальди и добыли ценные сведения. Но подробности известны Мэриан, а в ее номере никто не снял трубку. — Стефани посмотрела на часы. — После совещания попробую позвонить еще раз. И если у нее вчерне набросаны свежие эпизоды — а зная Мэриан, можно предположить, что это так, — скажу, чтобы она срочно связалась с Деборой. Подперев рукой подбородок, Фрэнк бросил вопросительный взгляд на жену. Та еле заметно кивнула. — Хорошо. В принципе расходы меня не пугают, но прежде чем дать добро, я должен знать точную сумму. — Разумеется. — Стефани достала из «дипломата» набросанный ею и Бронвен проект сметы. Пока Фрэнк читал, по его лицу было невозможно что-либо понять. Стефани начала нервничать. Общая сумма почти доходила до миллиона долларов. Она поглядела на Мэтью, но тот, казалось, с головой ушел в какие-то свои мысли. Одну руку он заложил за спинку кресла, вытянул перед собой ноги и машинально водил ручкой по подбородку. И вдруг подмигнул, и Стефани стало ясно: его рассеянный вид был лишь средством подразнить ее. Фрэнк ознакомился с проектом сметы и передал Грейс. — Хорошо. Я согласен с этой суммой. Все, что мненужно знать, это сроки выплат. Стефани протянула ему приложение к смете с календарной разбивкой. Фрэнк усмехнулся. — Ваш деловой стиль впечатляет. Предвидение — залог успеха. Стефани просияла, а заметив ехидную ухмылку Мэтью, небольно лягнула его под столом. — Я передам это в бухгалтерию, — пообещал Фрэнк и после нового обмена взглядами с женой добавил: — Стефани, побеседуйте с моими адвокатами. Вы и Дебора. Не хочу, чтобы меня потом потащили в суд за клевету или возникли осложнения иного рода. Я высоко ценю то, что вы с уважением отнеслись к моей просьбе не копать слишком глубоко и не требуете объяснений. Юристы приглашены на половину четвертого. Мэтью, с вами хочет поговорить моя жена — с глазу на глаз, если не возражаете. — Нет, конечно, — ответил Мэтью, не сумев, однако, скрыть удивление. — Минуточку, — вмешалась Дебора. — Рабин Мейер. Фрэнк вздохнул. — Да, разумеется. Он поджал губы. Дебора Форман скрестила руки на груди и с надменным видом откинулась на спинку кресла. Фрэнк спросил: — Стефани, сцены с Мейером — их действительно писала Мэриан? — В основном да. — Я так и думал. — А что? Что-нибудь не так? — встревожилась Стефани. — Напротив, они великолепны. Это исключительно скользкий тип — точь-в-точь такой, каким она его описала. Снабжает начинающих художников наркотиками. Кстати, — Фрэнк сделал пометку на календаре, — об этом тоже нужно посоветоваться с юристами. Мэриан изменила фамилию владельца художественной галереи, однако этого недостаточно. Но главное — сцена между Оливией и Мейером в Штатах. В ней чувствуется подтекст, будто он причастен к ее отъезду из Нью-Йорка. Это нужно переделать. Стефани так и подмывало спросить, почему, но она знала: Фрэнк скажет ровно столько, сколько захочет. — Дебора уже написала альтернативный эпизод, — продолжил Фрэнк. — Он не содержит двусмысленностей и вполне меня устраивает. У вас есть еще вопросы? — Насчет ночных клубов, — сказал Мэтью. — Чует мое сердце, у нас будут неприятности с разрешением снимать, если мы упомянем, что в клубах употребляют наркотики. Это можно утрясти? — Сейчас же отдам распоряжение секретарю. В Беннингтоне осложнений не ожидается? — Бронвен уверяет, что нет. — Отлично. Здесь, в центре, есть пара художественных салонов, которые вам было бы интересно посетить. Мэтью кивнул. Всем в комнате было ясно, что эти двое прониклись взаимной симпатией. — Итак, все упирается в итальянскую часть сценария, — подала голос Дебора, и Мэтью поразила ее прокурорская интонация: словно за сценарий отвечает кто-то другой. Впрочем, судя по представленному ею материалу, так и будет. — Жалко, что Мэриан не смогла приехать, — проговорил Фрэнк, надевая на ручку колпачок и убирая ее в карман. — Мы оба, Грейс и я, с нетерпением ждем случая познакомиться. Судя по ее предложениям, это очень способная девушка. — Так оно и есть. — Вечером жду всех у себя. Мой шофер заедет за вами в семь. Идет? Все поднялись из-за стола. Грейс поймала взгляд Стефани и улыбнулась. — Когда речь заходит о таких низменных вещах, как еда, мужчины вечно упускают главное. Среди вас есть вегетарианцы? Стефани засмеялась. — Ни в коем случае! — Кроме меня, — поправила Дебора. — А я-то думал, что она людоедка, — шепнул Мэтью на ухо Стефани и по выражению лица Грейс понял, что она слышала. Фрэнк вышел вместе со Стефани и Деборой. Грейс жестом предложила Мэтью сесть. Прекрасные манеры, великолепная осанка и спокойная уверенность этой женщины поразительно соответствовали ее имени[8]. В закрученных узлом на затылке волосах серебрилась редкая седина; вокруг ясных голубых глаз обозначились лучики морщин. И тем не менее ее тонкое лицо было копией лица Оливии, только старше и добрее. Во время совещания Мэтью невольно наблюдал за тем, как она неуловимо поддерживала Фрэнка. Чувствовалось, что именно она стала для него источником внутренней силы. Грейс не манипулировала мужем, не плела интриги, вряд ли даже входила в дела империи Гастингсов — просто эти двое любили друг друга. Она сложила руки на столе. — Мэтью, вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Арт Дуглас? Он наморщил лоб. — Не думаю. Кто это? — Журналист. Вернее, был журналистом — здесь, в Нью-Йорке. — Предполагается, что я должен его знать? — Нет. Но то, что вы его не знаете, делает наш разговор тем более необходимым. Мэтью был заинтригован. — Арт Дуглас был и остается в курсе того, что произошло с Оливией перед ее исчезновением. Вы слышали о погибшем в автомобильной катастрофе редакторе? — Да. — Арт Дуглас считает, что его убили. Интонация Грейс осталась прежней, однако атмосфера в комнате сгустилась. Мэтью выдержал твердый взгляд своей собеседницы и, не дождавшись продолжения, спросил: — Это связано с Оливией? — Да. Редактор — Эдди Калиновски — знал о преступлениях людей, с которыми она была связана. Он поделился с Артом. После псевдоаварии Арт «ушел в подполье». Фрэнк регулярно общается с ним; он уважает нежелание Арта всплывать на поверхность. Ведь если его подозрения насчет убийства Эдди обоснованны, то же может произойти с ним самим. Я говорю об этом, чтобы вы поняли: всякому, кто проник в тайну Оливии, грозит опасность. Так что если вы не хотите слушать дальше, самое время сказать об этом. У Мэтью мурашки пробежали по спине. — Есть причины, почему я должен это знать? — Потому что Мэриан знает. Ударь она его — и то Мэтью не удивился бы так. — Мэриан? Откуда? — От Арта Дугласа. — Он рассказал ей? Но когда? От возбуждения он вскочил с кресла. — Сядьте, пожалуйста, и я вам все расскажу. Арт с Фрэнком придерживаются разных точек зрения. Арт убежден, что Оливия оказалась в Италии в результате сговора между Рабином Мейером и Серджио Рамбальди. В сущности, Фрэнк того же мнения. Вот почему он попросил убрать тот эпизод: если Рабину Мейеру известно местонахождение Оливии, нельзя вступать с ним в конфронтацию. Фрэнк не открыл Арту, что разделяет его подозрения, опасаясь, что тот совершит какой-нибудь безрассудный поступок. — Но почему Арт Дуглас доверил тайну именно Мэриан? Она же еще дитя! — Потому что она ездила к бывшей подруге Оливии, Джоди Розенберг, а Джоди полностью согласна с Артом в том, что Фрэнку следует косвенно, посредством этого фильма, обвинить Мейера. Поскольку Мэриан проявила инициативу, Джоди с Артом решили поделиться с ней: вдруг она поможет им убедить Фрэнка? — Откуда вам все это известно? — После встречи с Мэриан Арта замучила совесть, и он признался Фрэнку в надежде, что тот обеспечит ей защиту. — Грейс выделила голосом три последних слова. — Если Мэриан проболтается кому не надо… Бог знает, что может случиться. — О Господи! Почему же она никому не сказала? — Арт и Джоди взяли с нее обещание молчать. Она имеет право говорить об этом только с Фрэнком. — А Джоди? Почему она не боится? — У нее целый отряд телохранителей, которые стерегут ее днем и ночью. А Арт беден. Мэтью ссутулился в кресле и уронил голову на руки. — Мэриан тоже. — Поэтому я и решила вас предупредить. — Черт! — пробормотал Мэтью, вспомнив сцену с Мэриан после ее посещения Джоди. — Знаете, она сделала это из-за меня. Забрала себе в голову, будто я считаю ее ничтожеством, и отправилась к Джоди. Мол, если она самостоятельно докопается до истины, я буду к ней лучше относиться. — Понятно. — Грейс усмехнулась про себя. Очевидно, она поняла больше, чем сам Мэтью. — А теперь мне остается только рассказать вам правду об Оливии. Конечно, вы не обязаны… — Обязан, — перебил он. — Мэриан не должна нести это бремя в одиночку. — Да, но это подвергнет вашу жизнь опасности. — Об этом не беспокойтесь. — Хорошо. Естественно, все, что я вам расскажу, должно остаться между нами. Нельзя использовать это в фильме, иначе мы поставим кого-нибудь под удар. — Конечно. — Не исключено, что Мэриан ничто не угрожает, но мы не можем рисковать. И Грейс начала рассказывать, а он слушал с крепнущим чувством тревоги и омерзения. Мать Оливии так страдала, что Мэтью несколько раз порывался остановить ее, но она продолжала обрушивать на него жуткие картины тайных сборищ растленных педофилов, не скрывая роль Оливии в их преступлениях. Грейс словно изгоняла дьявола. Мэтью вспомнил своих детей в этом возрасте и заскрежетал зубами. Ему были равно противны и насильники, и Оливия Гастингс. Сколько бы ему ни было отпущено лет, он никогда не поймет, почему дочь таких родителей, как Фрэнк и Грейс, у которой было все, пристрастилась к наркотикам. Когда Грейс закончила свой рассказ, ее лицо приняло пепельный оттенок, а глаза наполнились слезами. — Фрэнк заботится о семьях погибших детей — естественно, анонимно. Он основал благотворительный фонд в пользу детей, подвергшихся сексуальному насилию. Но я знаю: он никогда не перестанет казнить себя. Мол, если бы он не заморозил счет Оливии в банке, она не пошла бы на преступление. Но это я уговорила Фрэнка в надежде, что она одумается. Если кого-то и винить, так только меня. Мэтью захлестнула жалость; к горлу подступил комок. За что ей такое горе? «Грехи детей наших», — пробормотал он. Грейс ответила такой жалкой улыбкой, что у него перевернулось сердце. — Главное — уберечь Мэриан, — сказала она. — Вот почему Фрэнк попросил меня поговорить с вами. — Да, конечно. — Что вы думаете предпринять? — Пока не знаю. Ясно одно: ее нельзя брать на съемки в Нью-Йорк. Но… как объяснить это Стефани? — Пусть приезжает, — возразила Грейс. — Здесь, под наблюдением людей Фрэнка, она будет в большей безопасности, чем одна в Лондоне. То же касается Италии. Держите Мэриан при себе, пусть ее все время окружают люди. Лучше перестараться, чем подвергнуть ее опасности. Конечно, кроме Фрэнка, Арта Дугласа и нас с вами, никто не должен знать, что она посвящена в эту историю… Что с вами? Я сказала что-нибудь не то? Мэтью страдальчески поморщился. — Как раз сейчас Мэриан находится в Италии. Вчера она встречалась с Серджио Рамбальди, а потом, когда Стефани ей звонила, ее не оказалось в номере… Можно позвонить? — Конечно. Воспользуйтесь серым аппаратом, это прямая линия. Мэтью схватил трубку и вдруг вспомнил, что не знает номера пансиона, где остановились Бронвен и Мэриан. — У Стефани записан телефон. Грейс сняла трубку. — Лидия, Фрэнк все еще совещается с адвокатами? — Выслушав ответ, она повернулась к Мэтью. — Несколько минут назад Стефани уехала в отель. Он посмотрел на часы. — Еще не добралась. Поеду туда — может, Мэриан оставила сообщение. Из-за напряженного уличного движения машина ползла как черепаха. — Мэриан, Мэриан, — думал Мэтью, тупо глядя в окно. — Зачем ты это сделала?* * *
Мэриан кое-как удалось довести Бронвен до пансиона и уложить в постель. Потом она вынесла в кафе на крыше пишущую машинку и расположилась в уголке, где было что-то вроде увитой цветущим плющом беседки. Она битый час не могла заставить себя начать работу: любовалась очертаниями флорентийских крыш, наблюдала за юркими ящерицами, снующими между изъеденными временем каменными плитами, и позволяла взгляду праздно блуждать от величественного купола собора святого Петра до устремленных ввысь башен Синьории, а оттуда — к дремлющим в отдалении горным вершинам. Одновременно она прокручивала в уме все то, что собиралась доверить бумаге — искала подходящую форму. Однако в голове не сложилось ни единой строчки. Ее смущала не какая-то реплика Серджио Рамбальди — в этом она была абсолютно уверена. Нет, проблему представлял сам Серджио Рамбальди. Как описать человека, наделенного таким магнетизмом, таким могуществом, таким… Точные слова ускользали от Мэриан, но если она не справится, как же Мэтью найдет подходящего исполнителя? Да и существует ли такой актер? На свете не может быть двух таких личностей, как Серджио Рамбальди. Ей почему-то вспомнился Пол. Да, эти двое чем-то похожи, только Пол — блондин, да и не актер… В листве прошелестел легкий ветерок; Мэриан вернулась к машинке и едва коснулась клавиш, как на бумагу сами собой полились точные слова и образы. Она настолько увлеклась, что не заметила, как на крышу потянулись обитатели пансиона — пропустить по маленькой перед ужином. Официант принес лампу. Мэриан продолжала работать. И только после полуночи, убрав машинку в футляр, заглянула к Бронвен: не хочет ли она сандвич? Конечно, если на кухне еще что-нибудь осталось… — Ты говорила со Стефани? — спросила Бронвен при виде соломенной шляпы, которую Мэриан так и забыла снять. — Нет. Я работала на крыше. Как ты себя чувствуешь? — Впору умереть. А ты как — в порядке? — В полном. Вызвать врача? — Само пройдет. Но у меня к тебе просьба. — Какая? — Прежде всего закрой окно. Чем только местные жители могут заниматься в такое время суток? Грохот — как в час пик у нас в Лондоне, на Пиккадилли. Завтра, если я еще буду не в форме, погуляй по городу, поснимай для Мэтью виды Флоренции. И эти личные дела, о которых говорил Серджио… Она смолкла, изнуренная столь пространным монологом. — У меня идея получше, — сказала Мэриан, отходя от окна. — Поспи, а завтра, если будешь лучше себя чувствовать, махнем в горы. Там прохладнее и гораздо спокойнее. А когда придешь в норму, вернемся во Флоренцию. — Ты гений! — пробормотала Бронвен. — Горный воздух… рай земной! Утром такси увезло их. В Нью-Йорке в это время была полночь, а так как они не знали, где остановятся, Мэриан не стала звонить Стефани. Такси мчалось по главному шоссе в направлении Лукки. Бронвен изнемогала в углу на заднем сиденье — дрожа, исходя потом и проклиная резкую перемену погоды. День был серый, ненастный, а потом и вовсе разразилась гроза. — Окаянная страна, — брюзжала Бронвен. — Сначала поджаривает меня на сковородке, а потом решает на меня помочиться. Хочу домой! Глядя в окно, Мэриан пыталась представить себе, как выглядят эти живописные холмы, оливковые рощи и виноградники в солнечных лучах. Шум дождя и монотонное гудение двигателя убаюкали обеих. Когда Мэриан проснулась, они подъезжали к Лукке. Сообразив, что, если ненастье продержится несколько дней, им понадобится что-нибудь для защиты от дождя, Мэриан попросила водителя завернуть в город — купить зонтики и резиновые сапоги. На площади Наполеона Бронвен выказала признаки жизни, даже нашла в себе силы съехидничать по поводу ее несокрушимого здравого смысла. — Вам нужно Питторе? — спросил водитель, когда они снова выехали на автостраду. — Si, — ответила Мэриан, исчерпывая этим словом все свои познания в итальянском языке. Таксист кивнул и через несколько минут, не снижая скорости, свернул на круто уходящую вверх проселочную дорогу. В это время с небес обрушился настоящий ливень; было невозможно что-либо разглядеть. — Значит, Питторе? — уточнил шофер. — Si. — Вы когда-нибудь бывать Питторе? — Нет. — Остаться на ночь? «Если не разобьемся», — подумала Мэриан и ахнула, когда водитель, отпустив руль, воздел руки кверху в типичном итальянском жесте то ли удивления, то ли отчаяния. Вслух она спросила: — Там есть отель? — Si, si. Piccolo albergo[9]. — Слава Богу! — воскликнула Мэриан, догадавшись, что значит albergo. — Не надо остановиться в albergo, — как показалось Мэриан, с вопросительной интонацией произнес шофер. — Да, да. Там-то мы и остановимся. Если найдутся свободные комнаты. — Нет. Не остановиться в albergo. Остановиться в Камайоре. В городе. — Почему? — Ночью Питторе плохо. — Простите? — Крики. Вы слышите крики. Девушка. — Какая девушка? — Американка. Ночью. Кричать. Мэриан уставилась на отражение его лица в зеркале. — Она здесь, в Питторе? — Si. — И никто не приходит на помощь? Он ответил по-итальянски, а потом по-английски: — Может быть, она мертвая. — Но если она кричит… — Привидение. — О Господи! Мэриан словно вылили за шиворот ведро ледяной воды. Однако она тут же вспомнила страсть итальянцев к преувеличениям и решила, что это местное поверье. Или легенда, сочиненная туристами, которые побывали в деревне после исчезновения Оливии. — Поедем Камайоре? — спросил водитель. — Нет. Паэзетто ди Питторе, пожалуйста, — ответила Мэриан и чуть сама не вскрикнула, когда машина шарахнулась от несущегося на полной скорости встречного мотоциклиста. Проснулась Бронвен. Мэриан передала ей разговор с таксистом. — Надеюсь, дорогуша, он все это выдумал. Это место и без чьих-то загадочных воплей выглядит жутковато. Как думаешь, это уже Питторе — вон там, среди деревьев? — Si, Pittore, — подтвердил итальянец. — Слава Богу. Если я в ближайшее время не попаду в туалет, может случиться беда. Селение оказалось большим, чем предполагала Мэриан, хотя число коттеджей, разбросанных на горных склонах по обе стороны от узкой булыжной мостовой, едва ли превышало три десятка. Мэриан что-то смущало — и наконец она поняла, что именно. Кругом не было ни души. Закрытые ставни домов рождали ощущение, будто жители наблюдают за улицей в щелки. Такси затормозило перед кафе. Мэриан выбралась наружу. — Схожу узнаю, есть ли свободные комнаты. Укрываясь купленным в Лукке зонтиком, Мэриан подбежала к парадной двери, но та оказалась на замке. Обернувшись, она развела руками, но увидела, что Бронвен показывает куда-то вбок. Мэриан завернула за угол и, поднявшись на террасу, обнаружила другую дверь — к счастью, открытую. Напротив нее, подле большого камина, сложенного из серого камня, сидела пожилая женщина в черной шерстяной шали и с четками на коленях. Она подняла голову и, увидев Мэриан, расплылась в улыбке. — Buon giorno, signora. Desidera bere qualche cosa?[10] Мэриан развела руками. — Я не говорю по-итальянски. Женщина насторожилась. — Америка? — Нет, я англичанка. — Англичанка, — с облегчением повторила хозяйка. — Хотите кофе? — Вообще-то нам нужны свободные комнаты. Гостиница. Albergo. — Si, у меня есть комнаты. Сколько? — Две. Дня на четыре. Женщина кивнула. — Четыре дня — очень хорошо. Меня зовут синьора Джакоми. Я позвать мужа, он относить вещи. Поблагодарив, Мэриан вернулась к машине. — Выгружаемся. Она расплатилась с водителем. Тот, очевидно, был недоволен тем, что ему не удалось нагнать на них страху. Синьора Джакоми провела Бронвен через обеденный зал и дальше, по лестнице, в тесную комнатенку в задней части дома. Там пахло нафталином, зато было очень чисто; полевые цветы на тумбочке создавали ощущение уюта. — Вам плохо? Я о вас позаботиться, но сначала нужно отдохнуть. — Старуха повернулась к вошедшей следом Мэриан. — Ваша комната рядом. — Спасибо. — Приходите в час обедать с моей семьей, si? Мы подавать рубец. В Англия нет рубец? Мэриан улыбнулась. — Нет, рубец у нас не подают, но мы с удовольствием составим вам компанию. Большое спасибо. Не знаю только, сможет ли Бронвен… — Я делать специальное блюдо для ваша подруга. Она быстро выздоравливать. Я имею хорошая мазь. После ее ухода Мэриан прилегла на кровать и несколько минут лежала неподвижно, вслушиваясь в шум дождя за стеной. Ветер усилился. Мэриан чуть не уснула. Но тут в дверь постучали, и синьора Джакоми позвала ее обедать. Спустившись в зал, Мэриан немало удивилась, застав там Бронвен. Та сидела у специально затопленного камина, кутаясь в одеяло, и наслаждалась горячей похлебкой. — Как ты себя чувствуешь? — Лучше. Хорошо, что мы сбежали из Флоренции. Поешь супу, Мэриан. Не знаю, из чего он приготовлен, но вкус отменный. — Суп только для больных, — уточнила хозяйка, входя в комнату с горячим рубцом на подносе. — А это для вас. Появился ее муж в сопровождении хмурого человека с изможденным лицом и в рабочей одежде — наверное, только что возился на винограднике, — и симпатичной молодой женщины. Синьора Джакоми представила их как своего сына и невестку. Рубец и впрямь оказался очень вкусным, и Мэриан с удовольствием сообщила об этом синьоре. Не оставляя своего места у камина, Бронвен поддерживала разговор, и это было очень кстати, потому что она хорошо владела итальянским, а кроме синьоры Джакоми, никто из членов семьи не говорил по-английски. Имя Оливии ни разу не было произнесено, как будто девушки заключили между собой негласный договор. Это был слишком деликатный вопрос, чтобы касаться его походя, в день приезда. После обеда Бронвен уединилась в своей комнате, а Мэриан отправилась на поиски телефона. Единственный аппарат в коридоре оказался неисправным. — Вам нужно позвонить? — догадалась синьора Джакоми. Заранее отдавая себе отчет в невыполнимости такой просьбы, Мэриан извиняющимся тоном пробормотала, что хотела бы поговорить с одним человеком в Нью-Йорке. Лицо хозяйки словно окаменело. — В Нью-Йорке? Разве вы не из Англии? — Да, но… — Мэриан лихорадочно соображала, как бы получше объяснить, но ничего не приходило в голову. Наконец она выдумала, будто ее сестра находится в командировке в Америке и она обещала сообщить, когда возвращается в Англию. Очевидно, синьору удовлетворило ее объяснение: она с прежним добродушием предложила Мэриан следовать за ней. Они очутились в маленькой гостиной в дальней части дома — личных апартаментах хозяев. — Вы хотите позвонить из своей комнаты? — Да, если можно. К ее величайшему удивлению, хозяйка извлекла откуда-то вполне современный телефонный аппарат и отнесла его наверх, а там включила в розетку под подоконником. Мэриан внутренне посмеялась над своей глупостью. Конечно, это захолустная деревня, а хозяева — простые старики, но все же на дворе конец семидесятых — почему бы им не пользоваться благами цивилизации? Она набрала межгород и в ожидании ответа потерла ладошкой запотевшее стекло. Но ей так и не удалось ничего разглядеть. Меж деревьями и крышами домов плавали клочья облаков — очевидно, деревня была расположена выше, чем она предполагала. Отсюда — резкие перепады температуры. В трубке послышался женский голос: «Отель «Дорсет». Изумленная Мэриан назвала номер комнаты Мэтью, однако после бесчисленных гудков телефонистка ответила, что никто не снимает трубку — может, она оставит сообщение? Мэриан прочитала номер на телефонном аппарате, продиктовала по буквам «Паэзетто ди Питторе» и отключилась. Смогут ли они дозвониться в эту глушь? А впрочем, какая разница? Попозже можно будет повторить вызов. Она вытерла слезы и разозлилась на себя за этот рев без причины. Однако причина была. Прислонившись головой к каменной стене, она пробормотала вслух: — Мне просто хотелось услышать его голос. — Чей, дорогуша? Мэриан подпрыгнула; аппарат свалился с ее колен на пол, но, к счастью, уцелел. — Нет-нет, я так… Просто… — Понятно, — сказала Бронвен. — Раны сердца заживают не скоро, а в такой глухомани и подавно хочется иметь рядом любимого человека, правда? Бронвен решила, что она тоскует по Полу! — Правда… Между прочим, почему ты не в постели? — Хотела спросить, удалось ли тебе дозвониться до Стефани. Или Мэтью. — Их нет в отеле. Бронвен села на кровать. — Ты говорила с кем-нибудь из Джакоми об Оливии? — Нет — и не думаю, что это следует делать. — Вот и мне шестое чувство твердит то же самое. — Я всего лишь упомянула об Америке — и то старуха вылупилась на меня, как на дьявола. — Наверное, они по горло сыты расспросами. Каковы твои планы на сегодняшний вечер? Мэриан посмотрела в окно. — Какие могут быть планы в такую погоду? Я уже обработала всю новую информацию и отшлепала на машинке. Нужно будет еще раз отредактировать. Но я как раз читаю последнюю книгу из саги о Лаймондах Дороти Даннетт, хотелось бы закончить. — Счастливая! Ни один литературный герой не производил на меня такого впечатления, как Френсис Кроуфорд. Вот подожди, доберешься до конца. Пожалуй, и я потом перечитаю. — Он напоминает мне Мэтью, — легко произнесла Мэриан. — Правда? Ты имеешь в виду умение выходить победителем из любых переделок? — Да. — Стефани можно позавидовать. — Бронвен взяла со стола кипу листов бумаги. — Это твоя вчерашняя работа? — Да. — Можно посмотреть? — Конечно. Мэриан была довольна. Работая со Стефани и Бронвен, она никогда не чувствовала себя простой секретаршей. Они обращались с ней как с равной, старались заразить ее своей увлеченностью, охотно выслушивали и часто одобряли ее предложения, тем самым поощряя ее на новые подвиги. Вот почему она коротала одинокие вечера в Челси, прокручивая по видео шедевры мирового кино, пытаясь понять, как это сделано. Она пересмотрела — и не один раз — все фильмы Мэтью Корнуолла и теперь безошибочно узнавала его творческую манеру. Ее захватила работа по сбору материалов для «Исчезновения»; оправдать доверие Стефани и Бронвен, добиться уважения Мэтью — на большее она не рассчитывала. Среди ночи Мэриан вдруг проснулась и резко села. По лицу градом катился пот; сердце трепыхалось, как птица в клетке. Она поспешила включить лампу — в комнате было тихо; ничто не могло объяснить пережитый ею шок. Крик! Она явственно слышала его — отчаянный, эхом прокатившийся в горах. Парализованная страхом, Мэриан долго сидела на кровати, прислушиваясь к завыванию ветра, стуку дождевых капель о стекло, всевозможным ночным шорохам. И он повторился, этот душераздирающий вопль, словно родился в горах и взмыл высоко в небо, а оттуда ударом хлыста обрушился на маленькую гостиницу. Мэриан вскочила с кровати и выбежала в коридор. Дверь, ведущая в комнату Бронвен, оказалась полуоткрытой. Бронвен не было. — Ох, нет! — всхлипнула Мэриан. Вот когда она поняла, что такое «животный ужас», о котором читала в книгах. Внизу послышались голоса; она вся обратилась в слух, но разобрала лишь монотонное бормотание. Говорила в основном синьора Джакоми. Потом Мэриан услышала, как Бронвен поблагодарила хозяйку и стала подниматься по лестнице. — Бронвен! Та замерла. — Мэриан? Что ты здесь делаешь? Уже два часа ночи. Она поднялась еще на несколько ступенек. — Что с тобой? У тебя такой вид, будто ты увидела привидение. — Услышала. — Что?! — Бронвен повернулась к синьоре Джакоми. Та во все глаза смотрела на Мэриан. Бронвен пробормотала несколько слов по-итальянски и поднялась на второй этаж. — Идем в мою комнату. Садись на кровать. Выпей. Не знаю, что это за зелье, но мистер Джакоми за него ручается. — Нет, спасибо. Бронвен, ты слышала крик? — Нет. Только ветер. Это чертов таксист нагнал на тебя страху. Тебе приснилось. Нет, правда, как ты меня испугала! Я уж было подумала, что здесь водятся привидения. — Так и есть. Или Оливия жива и зовет на помощь. Бронвен стояла на своем: — Тебе приснилось. И неудивительно — в такую погоду! Мне тоже стало не по себе — пришлось спуститься чего-нибудь выпить. Угощайся. На этот раз Мэриан не стала отказываться — и действительно горячий напиток немного успокоил нервы. — Но, Бронвен, крик был совсем как настоящий! — Так всегда. Послушай, это не слишком обычное предложение, и Джакоми могут подумать Бог знает что, но, может, ты останешься у меня? — С удовольствием. — Тогда залезай. — И Бронвен отвернула край одеяла. Утром Мэриан изрядно удивилась, проснувшись в постели Бронвен. А припомнив случившееся, мысленно прокляла таксиста. — Синьор Джакоми предлагает отвезти меня в Камайоре, — сообщила Бронвен за завтраком. — Может, удастся взять напрокат автомобиль. Хочу поискать другую деревню для съемок. Как по-твоему? Мэриан жестом выразила согласие. — Плюс ко всему у меня начались месячные. Поищу аптеку. Здесь явно ничего нет — как только они обходятся? Хочешь со мной? — Я предпочла бы поехать вместо тебя. Ты не рано распрыгалась? И дождь хлещет как из ведра. В принципе я умею водить машину, просто давно не практиковалась. Но здесь мало машин. Правда, они, кажется, не признают никаких правил. — Езда по-итальянски! Но, знаешь, мне нужно проветриться. Пусть дождь промоет мозги. У меня же не простуда. Так что, дорогуша, я поеду сама. Заодно поспрашиваю там — сама знаешь о ком. — Хорошо, — согласилась Мэриан, принимаясь за горячий шоколад. — А я прогуляюсь по деревне. — Если услышишь душераздирающий вопль, знай: это я лечу с горы вверх тормашками.* * *
Мэриан шла по центральной улице Паэзетто ди Питторе. Резиновые сапоги были в грязи и налипших травинках: только что, срезая угол, она спустилась по узкой тропинке. Мешковатый плащ был застегнут на все пуговицы. Дождь перестал, но, судя по тому, как тучи обложили небо, антракт будет недолгим. Она по-прежнему не замечала признаков жизни и дивилась — где же местные жители? Вымерли они, что ли? Но тут отворилась дверь одного дома; оттуда вышел дородный мужчина и сел в старенький «фиат». Давая ему дорогу, Мэриан прижалась к высокому забору и приготовилась улыбнуться, но он даже не взглянул в ее сторону. Наверное, здесь не жалуют туристов. Опять пошел дождь. Мэриан увидела в заборе калитку и юркнула туда: очевидно, это более короткий путь к гостинице. Только бы не поскользнуться на круто уходящих вниз мокрых каменных ступенях. Глядя себе под ноги, она в то же время поглядывала по сторонам. Двери некоторых домов выходили прямо на лестницу. Мэриан так и подмывало постучаться в одну из них, но в это время она поскользнулась и шлепнулась на выщербленный камень. Хорошо, хоть успела ухватиться за деревянные перила, а то покатилась бы кубарем с горы. Она-таки заработала несколько ссадин и, кажется, растянула сухожилие — не говоря уже о том, что сильно испугалась. Пришлось посидеть, отдышаться. Массируя ступню, она заметила, что тучи сгущаются. Где все-таки местные жители? Мэриан произнесла это вслух, надеясь, что звук собственного голоса развеет злые чары. Ответом было завывание ветра. Нет, подумала она, мне не нравится это место. Сон не сон, а здесь явно что-то не так. Внезапно все ее чувства обострились и в жилах застыла кровь. В кустах, в нескольких футах от нее, кто-то двигался. Она затаила дыхание и стала медленно поворачивать голову в ту сторону, готовая закричать. И вдруг из зарослей ежевики выскочил цыпленок, отчаянно махая крылышками и недовольно попискивая. Вне себя от радости Мэриан встала и поковыляла дальше. С бамбуковых жалюзи на террасе гостиницы стекали крупные дождевые капли. Столы имели такой вид, словно за ними недавно сидели люди, но Мэриан знала: здесь никого не было. Она подергала за ручку — дверь оказалась на запоре. И вдруг услышала в доме сердитые голоса. То были хозяйский сын и его жена. Естественно, разговор велся по-итальянски, и Мэриан не разбирала слов, да и стыдно было подслушивать. Она уже хотела потихоньку уйти, как вдруг явственно прозвучало имя Оливии. Мэриан навострила уши. Интуиция подсказывала: речь идет не только об Оливии, но и о них с Бронвен. Полностью отдавая себе отчет в бесполезности своего подслушивания, она тем не менее прильнула к дверной щели. Но прошло несколько минут, а она так ничего и не поняла. И вдруг почувствовала: за спиной кто-то дышит. Чья-то ладонь зажала ей рот. Она все-таки ухитрилась повернуться — и, увидев, кто это, чуть не умерла от страха.* * *
— Прошу прощения, — учтиво произнес Серджио, — я не хотел вас пугать. — Ничего, — пролепетала Мэриан, — я понимаю. Они сидели в обеденном зале; синьора Джакоми суетилась, разливая вино и подкладывая на тарелки ветчину. Судя по ее поведению, можно было подумать, что божество спустилось с небес. Серджио с улыбкой сказал ей что-то по-итальянски, и она выплыла из зала, повторяя: «Si, signore. Si, si». Он повернулся к Мэриан. — Вам лучше? — Да, спасибо. Просто испугалась. — Меня? Или змеи? Она вспомнила хвост змеи, уползающей в расщелину. — Я ее даже не заметила. Господи, что было бы, если бы она меня укусила! — Да, неприятные создания. Здесь, в горах, этих тварей хватает. Впрочем, они большей частью безобидны. — Терпеть не могу пресмыкающихся. Даже червей. Серджио рассмеялся. Мэриан тоже выдавила из себя улыбку и взяла свой бокал. — Если это не слишком невежливо — что вы здесь делаете? — Решил вас проведать. Сегодня у меня нет занятий в Академии; я позвонил в отель, хотел предложить вам посмотреть личные дела однокурсников Оливии. А узнав, что вы уехали в Питторе, подумал — может, там я смогу быть вам полезным? Он лгал. У Мэриан не было доказательств, но она была уверена. Лгал, когда говорил, что плохо знает эту деревню: синьора Джакоми явно знала, кто он такой. — Еще что-нибудь вспомнили? — Нет, но если вы поделитесь со мной своими находками, возможно, это освежит мою память. — Вы пока что единственный, с кем мы говорили об Оливии. Вот через несколько дней вернемся во Флоренцию и начнем приставать к другим. А пока… — Она развела руками. — Понятно. — Серджио положил себе салями. — А как дела в Нью-Йорке? Вы закончили расследование? — Более или менее. За спиной Мэриан послышались тяжелые мужские шаги: очевидно, вошел синьор Джакоми. Серджио быстро произнес по-итальянски: — Perche non mi ha fatto sapere che aveva degli ospiti?[11] — Ho provato, signore, ma lei non ha mai risposto al telefono. — Gli altri ci sono? — Si, signore, sono gia nella bottega. Мэриан почувствовала: синьор Джакоми нервничает. Что Серджио сказал ему? — Я сказал синьору Джакоми: жалко, что погода испортилась. — А, — Мэриан оглянулась вокруг, но хозяина и след простыл. — Мы говорили о Нью-Йорке, — напомнил Серджио. — Американская часть сценария уже написана? — Да, мистеру Гастингсу осталось ее утвердить. — Прекрасно. Значит, скоро начнутся съемки? — Может быть. Точно не знаю. — Вы плохо себя чувствуете? — Нет-нет. Просто не могу отойти после того, что произошло на террасе. — Еще раз прошу прощения. Взгляд его темных глаз так и манил, так и притягивал к себе, но Мэриан понимала: нельзя поддаваться. По-видимому, Серджио обладает гипнотическими способностями; как бы не ляпнуть лишнее. К счастью, пришла Бронвен. Серджио устремился ей навстречу. — О, синьора Ивенс! Вам уже лучше? Садитесь, выпейте с нами. Он подвинул ей кресло. Бронвен стрельнула взглядом в Мэриан, но та не могла даже подать знак. Синьора Джакоми принесла бокал для Бронвен. Та наконец оправилась от изумления. — Мэриан, я нашла подходящую деревеньку. Попозже съездим. Она посмотрела на Серджио, и выражение ее лица изменилось: оно всеми порами излучало неприкрытое вожделение. Сославшись на то, что ей нужно позвонить матери, Мэриан оставила их одних и попросила у синьоры Джакоми телефонный аппарат. — Мам, это я. — Мэриан! Я думала, ты в Италии. — Так и есть. — А слышимость такая, будто в соседней комнате. Как ты, родная? — Все в порядке, мам. Правда, погода испортилась, но это пустяк. Я еще недельку-другую пробуду в Италии, а потом сразу навещу тебя. Тебе есть чем заняться? — Конечно. Сегодня вечером мистер Бутчер приглашает меня в «Британский легион» — ты помнишь мистера Бутчера, он распространяет карточки футбольного тотализатора? Я по-прежнему заполняю их от твоего имени. Когда-нибудь ты разбогатеешь. Мэриан засмеялась, но из-за комка в горле смех получился похожим на кудахтанье. — У тебя с ним роман? — О чем ты говоришь? Просто он видит, что мне немного скучно, а у него недавно умерла жена, вот он и предложил сходить в «Легион». Я согласилась. — Конечно, мамочка. Только не напивайся! Селия хмыкнула. — Нет, вы только послушайте! Это когда же я напилась? — Все когда-нибудь случается в первый раз. Ну ладно, давай закругляться. Если что-нибудь случится, позвони мне по этому номеру… До свидания, мамочка. Не переживай за Мадлен. Все будет в порядке. — Надеюсь. До свидания, милая, желаю хорошо провести время. И не забывай потеплее одеваться. — Хорошо, — ответила Мэриан и положила трубку. Успокоившись, она подумала, не присоединиться ли к Бронвен и Серджио, но решила, что Бронвен это не понравится. Для нее Серджио Рамбальди — «роскошный мужик». Зато у Мэриан сложилось впечатление, что его приезд имеет отношение к тому, что она сказала о Рабине Мейере. Но что такого она сказала? Арт Дуглас, Рабин Мейер, Серджио Рамбальди, Оливия Гастингс… Что их связывает? Замученные дети? Да, но не только. Что-то случилось здесь, в Италии, и Серджио Рамбальди знает, что именно. Но как ее угораздило в это влипнуть? Откуда такое ощущение, словно ситуация вышла из-под контроля? Где жители Питторе? Почему Серджио отрицал, что знает это горное селение? Действительно ли она слышала ночью крик или ей приснилось? Вспомнились слова матери: «Я несу ответственность за Мадлен. А теперь не знаю, чего и ждать». Что сказала бы Селия, если б узнала, во что влипла ее собственная дочь? Мама бы точно не пережила! По щекам Мэриан покатились слезы. Мама — просто чудо: чистая, доверчивая и такая добрая! Неожиданно зазвонил телефон. Мэриан подпрыгнула на кровати. «Господи, что у меня с нервами? Но ведь это — единственный аппарат в доме; нужно снять трубку. Правда, я не знаю итальянского»… — Алло, это Паэзетто ди Питторе. Albergo. — Мэриан, это ты? — Мэтью! — Сердце в груди подскочило от радости. — Тебе передали, что я звонила? Который час в Нью-Йорке? — Десять утра. Послушай… — Наверное, ты очень рано встал. Я звонила… — Мы переночевали у Гастингсов. Стефани ушла на очередное совещание с юристами, а я только что вернулся в отель. Мэриан, нам нужно поговорить. — Взять блокнот и ручку? — Нет. Просто слушай. Ты одна в комнате? Или с Бронвен? Она проглотила комок. Господи, о чем он собирается говорить? — Одна. Бронвен… — Отлично. Мэриан, Грейс рассказала мне об Оливии — все, понимаешь? А также об Арте Дугласе. — Понимаю. Мэтью, я бы тебе сказала… Просто… — Неважно, дорогая, главное — с тобой все в порядке. Я боялся, что ты проговорилась Рамбальди. Этого не произошло? Мэриан! Ты меня слышишь? — Да. Извини. Повтори последнюю фразу. — Ты сказала Рамбальди о Рабине Мейере? — Э… да… совсем немного… а потом замяла, так что вряд ли он обратил внимание. Он сейчас здесь, в кафе, беседует с Бронвен. — В Питторе? Каким образом? — Сама не знаю. Сказал, будто хочет помочь нам в нашем расследовании. — Вот как? — Мэтью молчал, но она слышала его дыхание. Наконец он снова заговорил: — Слушай. Я не хочу тебя пугать, у нас нет улик против Мейера и Рамбальди, но я требую, чтобы ты никуда не ходила одна — только с Бронвен. Ясно? — Да. — А теперь рассказывай. В состоянии, близком к эйфории, Мэриан рассказала ему все о Питторе — начиная с таксиста и кончая тем, как она проснулась в комнате Бронвен; не забыла и змею с цыпленком и, конечно же, заострила внимание на неожиданном приезде Серджио. Все это перемежалось описаниями погоды. — Ей-богу, Мэтью, новых сюрпризов я не переживу. Он засмеялся. — Что — гиблое место? — Точно. У меня все время мурашки по спине. Скорей бы уехать. — Когда мы приедем туда снимать, я сам буду за тобой присматривать, и тогда уж придется тебе обойтись без змей и цыплят. Вот только насчет душераздирающих воплей… Когда в эти места нагрянет дружный съемочный коллектив, вопли тебе обеспечены. Эй! Ты что притихла? Хорошо, что он не видит ее лица! — Я слушаю. Вряд ли в этой деревне можно будет снимать: местные жители не любят американцев. — Да, это проблема. Что думает Бронвен по этому поводу? — Уже подыскала подходящее место недалеко отсюда. — Умница. Когда вы возвращаетесь во Флоренцию? — Может, через пару дней. Позвонить тебе перед отъездом? — Если хочешь. И ни о чем не беспокойся. Если не будешь распускать язык насчет Рабина Мейера, с тобой ничего не случится. И Бронвен предупреди. Спросит, почему, — сошлись на указания Фрэнка. — Хорошо. — Береги себя. Надеюсь, скоро увидимся в Лондоне и обо всем поговорим. — Хорошо… Мэтью!.. — Но он успел положить трубку — и слава Богу, потому что она сама не знала, что собирается сказать. Она посмотрела в окно. Из-за туч выглянуло солнце. Но еще более яркое солнце горело у Мэриан в груди. Мэтью назвал ее «дорогая», сказал, что будет за ней присматривать! Она слышала его голос и дыхание! Ей удалось его рассмешить! Господи, сказала она себе, я благоговею перед ним, как синьора Джакоми — перед Серджио Рамбальди. Но нет, Мэтью — не божество, он — защитник! Она вдруг перестала его бояться! Мэриан вернула хозяйке телефонный аппарат. В груди шевельнулось виноватое чувство, словно она предала Стефани. У Мэтью был такой интимный голос, как будто он не совсем равнодушен к ней, Мэриан! Он прямо обнимал ее своим бесподобным голосом! Внизу она застала Бронвен за расстеленной на столе картой. — Впору доставать темные очки, — буркнула Бронвен. — Сначала солнце, потом твоя сияющая физиономия. Мать получила весточку от Мадлен? — Нет. Только что звонил Мэтью. А где Серджио? — У него тут неподалеку дела. Он приглашает нас обеих поужинать с ним, когда вернемся во Флоренцию. Кстати, это было очень тактично с твоей стороны — оставить нас одних. Я пустилась во все тяжкие. — Замужняя женщина! — с притворным ужасом воскликнула Мэриан. — Что же будет дальше? — Обещаю держать тебя в курсе. Ну ладно — что там, в Нью-Йорке?* * *
— У меня просто не укладывается в голове, — заявила Стефани, входя в их номер в отеле «Дорсет». — Ты говорил по телефону с Мэриан — и не узнал, что им удалось вытянуть из Серджио Рамбальди? — Не узнал. — Но почему? — Каюсь, забыл спросить. — Мэтью закрыл за собой дверь и, повернувшись к Стефани, наткнулся на ее недоуменный взгляд. — О чем же вы разговаривали? Он пожал плечами. — О змеях, цыплятах и ночных голосах. Стефани начала закипать. — Очень смешно! — Согласен. — Мэтью! Я изо всех сил стараюсь сохранять самообладание! Что Мэриан сказала о Рамбальди? — Что как раз в этот момент он внизу разговаривает с Бронвен. — И ни слова об интервью, которое они взяли у него накануне? — Ни слова. Мэтью прошел к телефону и набрал номер дежурной. Записал поступившие в их отсутствие сообщения. — Одно — для тебя. Она отмахнулась. — Мэтью,что происходит? Всего лишь два дня назад ты не мог дождаться звонка от Мэриан. А теперь говоришь мне, что вы мило беседовали о змеях, ночных голосах и Бог знает о чем еще. — В ее глазах мелькнуло подозрение. — Или ты что-то скрываешь? — По-моему, я признался, что люблю тебя, — ночью. Она топнула ногой. — Мэтью! Я продюсер этого фильма, а не какой-то помреж. Перестань играть со мной в кошки-мышки. А о чем с тобой говорила Грейс Гастингс? — Об Оливии, о чем же еще? — Не знаю, о чем еще. И жажду услышать об этом от тебя. — Мы уточняли характеры персонажей. — И только? — Могу подробнее, но в данный момент тебе следовало бы ответить на звонок. Это была агент Элеоноры Брей. Как продюсер ты обязана ублажать звезду. — Не смей издеваться! — Однако Стефани взяла себя в руки и продефилировала к телефону. Устроившись поудобнее, Мэтью включил телевизор. Его тяготила необходимость лгать Стефани, но он не мог сказать правду. Оставалось одно — уклоняться. Но, в самом деле, как же он не подумал расспросить Мэриан о Рамбальди? Он как раз смотрел шоу Опры Уинфри «Хорошие новости» и потешался над субъектом, который на глазах двадцати миллионов зрителей отказался жениться на своей девушке, когда Стефани сорвалась на крик: — Контракт уже составлен! В сентябре должны начаться съемки!.. Нет, я понимаю, что вы этого не знали, но у нас нет выбора. Ради Бога, она играет Оливию, мы не можем так радикально все менять! — И после продолжительной паузы: — Понимаю. Да, конечно, я очень рада за нее. — Судя по интонации, это не вполне соответствовало истине. — Хорошо. Спасибо. До свидания. Она яростно швырнула трубку на рычаг и забарабанила кулаком по столу. — Мать их так! — Что-нибудь случилось? — спросил Мэтью, не отрываясь от экрана. — Элеонора Брей беременна! Уже пять месяцев! — Ого! — Ого? Это все, что ты можешь сказать? Героиня нашего фильма горит синим пламенем, а ты говоришь «ого»? Я подам на нее в суд! — Правильно. — Мэтью, это не шуточки. Где мы найдем другую звезду за столь короткое время? — В нашем распоряжении два месяца. Найдем. — Например? — Ну… пока не приходит в голову. — Это ты ее выбрал! Мог бы, по крайней мере, разделить мое возмущение! — Я возмущен, но пять месяцев — солидный срок, ничего не поделаешь. Единственный выход — найти другую актрису на роль Оливии. — Прекрасно. Если это так легко, поручаю тебе. — Ладно. Сядь и успокойся. А еще лучше — позвони, чтобы нам принесли два джина с тоником. — Мэтью! — Стефани сдавила ладонями виски. — Я так больше не могу. Неужели до тебя не доходит ни одно мое слово? — Доходит. Особенно когда кричишь. — Я кричу, потому что еще немного — и меня можно будет везти в дурдом. Я сообщаю тебе, что мы лишились исполнительницы главной роли, а ты и ухом не ведешь. Грейс Гастингс с тобой секретничает, и ты не рассказываешь, о чем. И в довершение всего говоришь с Мэриан по телефону о чем угодно, только не о делах. Что с тобой? Вернее, с вами — с тобой и Мэриан. После разговора с Грейс ты первым делом спрашиваешь, звонила ли Мэриан. Не Бронвен, а Мэриан! И ни слова о разговоре с Грейс! Потом час за часом накручиваешь Италию, приходишь в страшное волнение, когда тебе наконец отвечают — и тебя снова не интересует Бронвен, только Мэриан! А после разговора с ней уверяешь Фрэнка, что Мэриан — наша единственная надежда в смысле сценария, тем самым выказывая неуважение к Деборе Форман. И это еще не все. Помнишь, как ты не отставал, пока я не позвонила Мэриан после ее свидания с Вуди? Что все это значит, а, Мэтью? Ты влюблен в Мэриан или что? — Садись, посмотри передачу — обхохочешься. Эта девица только что призналась своему парню, что она… — Мэтью! Выслушай меня, пожалуйста! Возможно, у меня начинается шизофрения, но ты знаешь, что мне пришлось пережить. А теперь этот спектакль с Мэриан! Неужели история повторяется? — Она не повторяется. Кстати, теперь, когда мы провели ночь у Гастингсов, у меня возникла идея для пролога. Понадобятся вертолет, два подъемных крана и две команды операторов. Что скажешь? Стефани закрыла глаза. Как о стенку горох. Сидит, не отрывая глаз от экрана. Ей ничего не оставалось, как пройти в ванную. Десять минут спустя Мэтью вошел туда, держа в руках два бокала с джином. — Успокоилась? — Не смей разговаривать со мной покровительственным тоном, особенно когда я голая. — Извини. Он поставил бокалы на умывальник и сел на стульчик. — Ты действительно сомневаешься во мне? — Нет, я все придумала. Она выключила воду. Он подал ей полотенце. — Скажи, Мэтью, ты хоть раз в жизни пробовал посмотреть на себя со стороны? — Не думаю. Мне не удается отойти на достаточно большое расстояние. — Не смей меня смешить. Я сержусь. — Знаю. — По-твоему, у меня нет повода? Кэтлин, потом Саманта, а теперь еще Мэриан. Как, по-твоему, я вписываюсь в эту картину? — Как продюсер. — Ты сейчас получишь! Дай-ка мне вон тот крем — сзади тебя на полке. И соберись с мыслями — расскажешь, что у тебя на уме. Он взял крем, но совсем не спешил поворачиваться к ней лицом. — Ты что? — Собираюсь с мыслями. Не мешай. Ага! Кажется, я уже готов доложить, что у меня на уме. Стефани, ты выйдешь за меня замуж? Она превратилась в изваяние. Мэтью обернулся и с насмешливой улыбкой посмотрел на нее. И вдруг снова пустил душ. Стефани молча наблюдала, как он раздевается, залезает к ней в ванну, намыливает руки и начинает яростно тереть ей плечи. — Повтори. — Что именно? — То, что ты только что сказал. — Ах, это! Я спросил, выйдешь ли ты за меня замуж. — Но почему именно сейчас? Что тебя подтолкнуло? — Ты. Хочу, чтобы ты не сомневалась в моей любви. Ни Кэтлин, ни Саманта, ни Мэриан не вписываются в картину — только ты. Она всем телом прильнула к нему. — Я люблю тебя, Мэтью. — Я так и думал. — И несмотря на то, что я на тебя очень злюсь, стану твоей женой! — Тогда почему бы тебе не перестать трепаться и не поцеловать меня, женщина?* * *
Они решили держать помолвку в секрете — главным образом из-за Саманты, но также потому, что в Кэтлин, которая в последнее время держалась тише воды, ниже травы, могут возобладать дурные чувства и она затормозит бракоразводный процесс, который сама же и затеяла. Тем не менее Мэтью свозил будущую жену в знаменитый ювелирный магазин к Тиффани и купил обручальное кольцо, которое она стала носить на левой руке, когда они были одни, и на правой — во всех остальных случаях. Мэтью выбрал также брелок для Мэриан — в знак благодарности за укрощение Кэтлин. Стефани сочла причину уважительной. Дни были заполнены встречами с адвокатами, поисками натуры, договорами и подбором актеров. Теперь, когда роль Оливии оказалась вакантной, им пришлось отбиваться от многочисленных юных дарований. Верный слову Фрэнк договорился с ночными клубами; Стефани зашивалась, подписывая контракты, разбираясь с возникающими проблемами. Не жизнь, а чертово колесо. Из Флоренции позвонила Бронвен, и Стефани наконец-то узнала, что именно Мэриан вытянула из Серджио Рамбальди. — Вот подожди, — захлебывалась Бронвен, — прочитаешь, что она тут понаписала. Сказка! Когда вернемся в Лондон, нужно будет ее вознаградить. Оплатить работу над сценарием и указать фамилию в титрах. — Согласна. Где она сейчас? — У себя, переодевается. Серджио пригласил нас поужинать вместе. Мэриан отказывалась: знает, что я к нему неравнодушна, — но не могу же я оставить ее одну в такой вечер! Кроме того, Мэтью строго-настрого приказал ей не отходить от меня ни на шаг. — Почему? — Наверное, считает меня распущенной. Стефани рассмеялась. — Он недалек от истины. Ну ладно, желаю хорошо провести время. Увидимся в Лондоне. Стефани не удержалась и проехалась при Мэтью насчет его строжайших инструкций для Мэриан. Однако вместо того чтобы посмеяться, он наорал на нее — мол, кончай цепляться. В последнее время они были чуть ли не на ножах из-за того, что Стефани отклонила предложение Мэтью насчет пролога. Она предпочитала строгие, простые титры — без выкрутасов. Не проходило дня, чтобы они не поцапались. Мэтью обвинял ее в зашоренности и отсутствии воображения. Ясно — телевизионные замашки! В ответ она напомнила ему, что финансовые рычаги все-таки в ее руках. Естественно, он пулей вылетел из номера. — Другое дело, если бы вертолет и два крана были нужны тебе для ключевого эпизода, — сказала она в другой раз. — Не исключено, что в Нью-Йорке вообще нет подъемных кранов. Представляешь, во что это влетит, если придется доставлять их из Калифорнии? Ты этого добиваешься? Мэтью смолчал, но, как всегда, не собирался сдаваться. — Кстати, — прокурорским тоном спросила Стефани, поднимаясь вместе с ним в лифте, — почему ты не велел Мэриан отходить от Бронвен? Он вздохнул. — Стефани, прекрати колоть мне глаза Мэриан. Время позднее, я выжат как лимон и не хочу нового скандала. — Скандала? Но почему упоминание о Мэриан непременно должно привести к скандалу? — Потому что так всякий раз случается. Стефани застыла с открытым ртом, осознав, что Мэтью говорит правду. Несмотря на предложение руки и сердца, она не могла выбраться из паутины неуверенности и ревности. Позже, в постели, она уютно устроилась у него на плече. — Мэтью, извини, пожалуйста. — За что? — За то, что не сказала: утром звонила Мэриан и просила тебя перезвонить. Он так и взвился. — Мэриан звонила утром — а ты только сейчас мне об этом говоришь?! — Почему ты злишься? — Потому что ты патологически ревнива, — процедил он сквозь зубы и вскочил с постели. — Ты куда? — К администратору — звонить в Италию. — Можно позвонить отсюда… — Нельзя. И оставь меня, пожалуйста, в покое! Рывком натянув джинсы, он выбежал из комнаты. (обратно)Глава 18
Примерно в четыре часа дня Пол вышел из квартиры Гарри Фримантла в Пимлико с пакетом в руке. Близился час пик; воздух был насыщен пылью и копотью душных лондонских улиц. Свернув на Ибери-стрит, он не удержался и, подбросив пакет в воздух, весело присвистнул. Все шло согласно плану. Первая книга — в типографии, а вторая, материалом для которой послужили переживания Мадлен и Гарри, с головокружительной скоростью выплескивалась на бумагу, так что он старался не отходить от письменного стола. Однако сегодня отлучка была необходима. Теперь, после визита к Гарри, можно надеяться, что до выхода книги в Англии пройдет не более полутора месяцев (в Штатах — еще меньше). Умеют быстро работать, когда хотят! Вспомнив все, что произошло за минувший час между ним и Гарри, Пол усмехнулся: не над собой — за то, что делает нечто такое, что еще месяц назад вызвало бы у него отвращение, — а над Гарри. Этот человек стал глиной в его руках. Пол поморщился. Мужчина в его положении должен иметь хоть какую-то гордость. Хотя… Это просто поразительно, до чего доводит страсть! Что до отношений с Мадлен, то она как будто еще сильнее полюбила Пола, ее эмоциональная зависимость от него возросла. Сама того не подозревая, она стала зависеть от него и в финансовом отношении. Но сам Пол ощущал свою полную зависимость от красоты этой хищницы. Ее хрипловатый голос и провинциальный выговор; ее начавшее понемногу убывать тщеславие; фанатическая преданность ему и неудержимое стремление к славе (для них обоих) — все это опутало, оплело его до такой степени, что он не представлял себе жизни без Мадлен. Стоило только представить ее лицо — и в груди поднимался вихрь эмоций. И хотя он доказал себе, что способен контролировать свою страсть и даже, если пожелает, причинить Мадлен боль, временами эта любовь внушала ему ужас. Но почему, любя, он испытывал потребность мучить ее? Тысячи раз Пол задавал себе этот вопрос. И отвечал; это давало ему ощущение свободы от чувств, даже своих собственных. Чувства, по мнению Пола, годились только на то, чтобы служить материалом для литературного творчества. Он был искренне убежден, что не может писать о том, чего сам не пережил. Когда он подъехал к дому, слуга уже дожидался. Пол взял из машины пакет и отпер парадную дверь. В доме было чисто и пахло свежестью: недавно приходила уборщица. По дороге на кухню он услышал в гостиной голоса и заглянул в дверь. Мадлен смотрела телевизор. На экране мелькали гоночные автомобили: Энрико Таралло в четвертый раз выиграл Гран-при сезона. Однако поза Мадлен и выражение страдания на запрокинутом лице свидетельствовали о том, что она не видит происходящего на экране. Сердце у Пола подпрыгнуло, мышцы напряглись. Неужели она каким-то чудом узнала про Гарри — именно сейчас, когда этот роман близился к завершению? Адское невезение! Когда он заговорил, чувство вины придало его голосу оттенок раздражения. — Ты вроде бы уже должна быть в Марокко? Она все так же смотрела в потолок. Пол положил пакет и выключил телевизор. — Что ты здесь делаешь, Мадлен? Я был уверен, что ты жаришься на каком-нибудь пляже, намазавшись «Амбрэ Солэр». Я правильно произнес название? Наконец она вздохнула. — Забастовка авиадиспетчеров. Рейс перенесли на завтра. — Ясно. А почему ты дуешься? Она молча изучала его лицо, жадно вбирая взглядом очертания его рта, прямую линию носа, черные брови и ресницы и поразительно светлые волосы, резко контрастирующие с загорелой кожей. — Пол! — Да? — Ты на мне женишься? — Да, если ты этого хочешь. Мадлен закрыла глаза. Может быть, ей померещилось? — Когда? — В свое время. Сейчас ты занята. Я тоже. Наша жизнь расписана чуть ли не по минутам. — Но ты хочешь на мне жениться? — Да, хочу. — Он опрокинул ее на подушки. — Так вот что не давало тебе покоя? Но почему? Разве ты предполагала другой ответ? — Не знаю. С тобой нельзя быть ни в чем уверенной. — Тебе станет легче, если я скажу, что никогда не любил никого так сильно, как тебя? Она кивнула, а после того как он поцеловал ее, настолько успокоилась, что обратила внимание на пакет. — Что это? — Гранки. Хочешь посмотреть? — Это и есть твоя книга? Можно почитать? — Не сейчас: здесь полно опечаток. Вот исправлю, тогда пожалуйста. Про себя он подумал: вряд ли даже тогда Мадлен одолеет его книгу.* * *
Утром Пол отвез ее в аэропорт. Расставание вышло тягостным. Он не хотел, чтобы Мадлен уезжала, а она после ночи любви и небывалой нежности особенно ясно поняла: слава и богатство — ничто по сравнению со счастьем быть с Полом. Дейдре с трудом удалось оттащить их друг от друга. Пол долго махал вслед, а Дейдра дивилась: почему он так сильно любит Мадлен, ведь между ними нет ничего общего? Наконец она не удержалась и задала прямой вопрос. Пол усмехнулся. — Если бы я это знал, можно было бы сказать, что мне удалось решить загадку, над которой испокон веку бьются люди. Любовь слепа. Подбросить тебя до Лондона? Не дождавшись ответа, он взглянул Дейдре в лицо и страшно удивился: обычно непроницаемое, оно выражало нестерпимую душевную муку. Впрочем, уже в следующее мгновение она полностью овладела собой. — Не обращай внимания. Ты прав, страсть не признает доводов рассудка. Когда они проезжали через Хаммерсмит, Пол спросил: — Когда возвращается Шамира? — Послезавтра. — Каким рейсом? Может, я ее встречу. Хочется сделать Мадлен приятное. Дейдра прикинула в уме. — Если рейсы примерно совпадут по времени, может, прихватишь меня с собой? — Ты куда-то летишь? Развлечься? Что тут можно ответить? — Я лечу к человеку, который даст мне самое большое счастье на свете — и, возможно, причинит самые горькие страдания.* * *
Ни один мускул не дрогнул на лице Серджио, когда он, снова забравшись в постель, развернул газету, которую рано утром купил для Бронвен. Пока он выходил, она приготовила завтрак. Насытившись, они снова занялись любовью. Потом она уехала в свой пансион, а газету оставила. Он безмерно долго рассматривал старую фотографию Мадлен и Пола — и оторвался, только услышав телефонный звонок. — Pronto[12]. — Серджио? Ты меня искал? — Рабин, друг мой! Да, я звонил несколько дней назад. Где ты пропадал? — Уезжал по делам. — Мы ждали тебя. — Извини, поздно получил сообщение. Как она? — Просто великолепно. Еще несколько недель — и все будет готово. Жалко, что ты пропустил последнюю встречу. Но я разыскивал тебя по другому поводу. Ты знаешь о фильме? — Конечно. Он у всех на слуху. — В Нью-Йорке, но не в Италии. Во всяком случае, пока… К тебе приходили киношники? — Да. — Ты открыл им, что как-то связан со мной? — Ты с ума сошел? С какой стати я стал бы об этом докладывать? — Что же ты им ответил? — Что слышал о тебе как о выдающемся художнике и посоветовал Гастингсам отправить Оливию изучать живопись под твоим руководством. — Ты уверен, что это все? — Конечно. Почему ты спрашиваешь? — Потому что эта соплячка дала мне повод заподозрить, будто она знает больше чем положено. — Та мышь, которая сопровождала дамочку из Уэльса? — Ее зовут Мэриан Дикон. Я не уверен на сто процентов, но мне кажется, будто она знает о нашей связи. — Откуда? — Это твоя забота, друг мой. Мое дело — предупредить, чтобы ты был осторожен. И еще: я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. — Но если она знает или хотя бы подозревает, bottega может полететь ко всем чертям, прежде чем… — Она — двоюродная сестра Мадлен Дикон. Его собеседник ахнул и только после продолжительной паузы снова заговорил: — Но когда ты… когда мы заполучим Мадлен, малютка Мэриан может стать исключительно опасной. — Не обязательно. Они в ссоре. — Как правило, семейные ссоры быстро кончаются. — Будем надеяться на исключение. Короче, Мэриан Дикон — моя головная боль, и я сам о ней позабочусь. Понятно? — Серджио, нужно от нее избавиться. — Нет. Если она что-то знает, значит, кто-то рассказал. В случае ее исчезновения этот человек догадается, откуда ноги растут. Западня захлопнется — и в ней окажутся Оливия и Мэриан, а мне нужны Оливия и Мадлен. Ты следишь за ходом моей мысли? — Конечно. Хочешь, я посажу кого-нибудь Мэриан на хвост? — Делай то, что считаешь нужным, но чтобы ни один волос не упал с ее головы. Она нам еще пригодится. — В каком качестве? Серджио усмехнулся. — В свое время узнаешь. А теперь addio[13], друг мой, мне пора в bottega. Сегодня нас будет только двое: Оливия и я. Примерно полчаса спустя Серджио вышел из дому и сел в свой автомобиль. Сворачивая с Виа дель Барди на Понте алле Граци, он не заметил, что за ним следует маленький голубой «сеат». Дейдра обеими руками вцепилась в рулевое колесо; глаза напряженно смотрели на едущий впереди черный автомобиль. Вот уже много лет она боролась с искушением, но сейчас ей было необходимо знать. Днем ранее, пока Серджио был в Академии, она обыскала его квартиру, а найдя то, что нашла, вернулась в свой пансион и весь вечер старалась убедить себя, что в этом нет ничего особенного. Нужно сесть в самолет и забыть о случившемся. Но она слишком далеко зашла и хотя бы затем, чтобы сохранить здравый рассудок, должна пройти весь путь до конца и либо подтвердить, либо опровергнуть ужасные подозрения. Ее чувства к Серджио не пострадают — просто она выяснит, куда он ездит. А ездил он в собственном автомобиле только в bottega. Она последовала за ним, соблюдая дистанцию, до окраины Флоренции, выехала на шоссе и помчалась в направлении Лукки. Внутри у нее все кричало, умоляло остановиться или свернуть на любую другую дорогу — только не на ту, что ведет к Паэзетто ди Питторе. Но спустя полтора часа, миновав Лукку, автомобиль Серджио начал карабкаться вверх по горной дороге, ведущей в деревню, где Оливия провела ночь перед своим исчезновением. Дейдра знала: дорога не имеет ответвлений и неизбежно приведет в Питторе. Сердце сжалось от невыносимой тоски, любви и ужаса. Она развернулась и поехала обратно. (обратно)Глава 19
— Как же ты меня напугала! — с ухмылкой произнес Мэтью, передавая Мэриан стакан с минеральной водой и садясь рядом с ней на диван. — Если бы тебя не оказалось рядом, одному Богу известно, что бы я натворил. Позвонил бы в ФБР — это точно. К счастью, все обошлось, если не считать небольшого недоразумения со Стефани. Мэриан устыдилась. Она не хотела пугать Мэтью, вообще не собиралась звонить — просто ей захотелось услышать его голос. Вот и позвонила — якобы затем, чтобы сообщить ему, что Бронвен провела ночь с Серджио Рамбальди. Не опасно ли это? — Кстати, — ответил он вопросом на вопрос, — Бронвен знает, что ты просветила меня насчет ее сердечных дел? — Нет. И не говори ей, пожалуйста, иначе она перестанет мне доверять. Мэтью в шутку отсалютовал ей наполненным бокалом. — Могила. Они сидели в баре клуба «Граучо». После шести сюда потянулась обычная публика: журналисты и издательские работники. Мэриан смотрела на оживленные лица, прислушивалась к звучавшим со всех сторон — «дорогая», «бесценная» и «чудненько!» и вспоминала Хейзел, их директора по производству. Вот кто чувствовал бы себя здесь как рыба в воде! Мэтью словно прочитал ее мысли: — Ты поладила с Хейзел? — Более или менее. В наше отсутствие она перевернула приемную вверх дном — я ничего не могу найти. Потом она подсадила к нам свою личную секретаршу, а тут еще Вуди с его хозяйством — мы теперь словно сельди в бочке. Но это неважно: ведь до отъезда в Нью-Йорк осталось несколько недель. В компании веселее — пусть даже Хейзел постоянно высмеивает мою прическу, отсутствие стиля и все прочее. — Скажи, чтобы на себя посмотрела. По-моему, ты — привлекательная женщина. И вовсе не обязательно украшать себя как рождественскую елку. — Ну раз ты одобряешь, можно не волноваться, — пошутила Мэриан, тая от блаженства. — Хватит о старушке Хейз. Я хочу поговорить с вами об Арте Дугласе, юная леди. — Не смей называть меня «юная леди», а то я чувствую себя детсадовкой. И потом, мне нечего добавить к тому, что рассказала Грейс. — Ни в коем случае не предпринимай ничего в одиночку. Если Дуглас нашел тебя в Лондоне, найдут и другие. Неужели тебе не страшно? — Сейчас — нет. С тобой, Мэтью, я чувствую себя в безопасности. — Смотри, не ляпни при Стефани. В общем, страшно тебе или нет, мы не имеем права рисковать. Я договорился с Бронвен — до отъезда в Нью-Йорк она поживет с тобой в квартире Стефани. Сослался на то, что тебе одиноко. А ей безразлично, где жить: с тобой или в квартире мужа, когда его нет в городе. — Я ей и так надоела. Мы две недели не разлучались ни днем, ни ночью. — Не стоит себя недооценивать. Бронвен даже обрадовалась. Она переберется в выходные, пока ты будешь у матери. Мэриан посмотрела на часы. Времени до отхода поезда еще достаточно. — Я прочел написанные тобой эпизоды, они выше всяческих похвал. Мэриан, у тебя талант, и ты не должна зарывать его в землю. Кажется, у Стефани есть кое-какие соображения на этот счет. — Мэтью, — тихо произнесла она, — как ты думаешь, Оливия жива? — Не знаю. Временами мне кажется — да, а временами — нет. А как по-твоему? — По-моему, жива. — Из-за тех криков?.. — Нет. Теперь я уверена, что мне померещилось. — Тогда почему ты так считаешь? — Ну… труп так и не нашли… — Надеюсь, ты не собираешься возглавить поисковую группу? — Он поставил бокал на столик и взял ее за руку. — Пойми, Мэриан. Здесь, в Лондоне, кажется, будто Италия и Америка очень далеко. Но люди, с которыми была связана Оливия — насильники, измывавшиеся над беззащитными детьми, — ни перед чем не остановятся. Будешь докапываться до истины — и тебя может постичь участь Оливии. Ведь ее потому и услали из Америки, что она слишком много знала. Я, конечно, прекрасно к тебе отношусь, но отнюдь не жажду ставить фильм о твоем исчезновении. Он так серьезно смотрел ей в глаза, что у Мэриан участился пульс; она лишилась дара речи. — Привет! Они одновременно обернулись и увидели Стефани с Бронвен. — Надеюсь, мы не помешали? — спросила Стефани, переводя взгляд с пунцового лица Мэриан на их сомкнутые руки. — Нисколько. — Мэтью встал. — Мы тут говорили об Оливии. — Неужели? — Ей-богу. Что будете пить? Стефани не удостоила его ответом. — Мэриан, разве ты не собиралась ехать в Девон шестичасовым поездом? Мэриан схватила сумку и забормотала, что ей пора бежать. Мэтью остановил ее. — Ничего подобного. Твой поезд без четверти девять, так что успеешь еще выпить. — Он обнял Стефани и, прошептав что-то на ухо, заставил сесть. — А ты, Брон? — «Кер-Рояль», пожалуйста. Мэриан, ты слышала? Мы будем жить вместе. — Да, Мэтью говорил. — Она сразу же пожалела о своих словах. К счастью, мимо как раз проходил какой-то знакомый Стефани и Бронвен, а когда они обменялись любезностями, вернулся Мэтью с напитками. В восемь часов Мэриан сказала, что ей пора. Мэтью вызвался отвезти ее на вокзал. — Ты же не на машине, — ехидно напомнила Стефани. — Возьму такси. — Может, тогда уж махнешь до самого Девона? — У меня есть идея получше. Давай вместе отвезем Мэриан на вокзал, а оттуда поедем домой. — Нет, спасибо. Я останусь с Бронвен. Всего хорошего. — Нет, правда, Мэтью! — взмолилась Мэриан уже в такси. — Я вполне могу сама о себе позаботиться. Нельзя, чтобы Стефани подумала… — Что между нами что-то есть? — Ну да… Но это же абсурд! — В самом деле? — весело проговорил Мэтью, но тотчас снова стал серьезным. — Мать встретит тебя на станции? — Да, обещала. — Ну а теперь, — сказала Мэриан после того как Мэтью нашел ее купе и затолкал ее сумку на багажную полку, — побегу мириться со Стефани. Веди себя хорошо и не разговаривай с незнакомыми мужчинами.* * *
Серджио ждал Дейдру у нее в кабинете. Она поняла это по поведению Анны: один только Серджио Рамбальди мог привести ее невозмутимую секретаршу в такое волнение. Серджио отложил журнал и раскрыл объятия. О, как хотелось Дейдре выплеснуть все, что на душе! Но эти темные глаза и без того доставали до дна, парализовали волю. Вот так же он действовал на нее в первые дни их связи, когда она была готова отдать ему всю свою жизнь. Возможно, она и отдала ему свою жизнь. Он приказал тихим, обволакивающим голосом: — Расскажи все, что тебе известно. Дрожащим шепотом она поведала ему об обыске в его квартире и слежке. — Понятно. Но скажи мне, cara, в душе ты знала?.. — Да — об Оливии. Но не о… Он приложил к ее губам палец. — И тем не менее не выдала. Я недостоин твоей любви. — Объясни мне, что происходит. Прошу тебя! — Это непросто, любовь моя. Но как только все будет кончено, обязательно объясню. Еще до того, как Оливия вернется в мир. — Так она жива? Он уставил невидящий взор в пространство. — Да, жива. Тебе дорога Мадлен? — Да, очень! Ты хочешь взять и ее? Поэтому у тебя столько ее фотографий? Пожалуйста, Серджио, скажи, что это неправда! Что ты не заберешь ее у меня! — Я должен, cara. — Но почему? Почему именно Мадлен? — По множеству причин, которые я не могу открыть — в настоящее время. Ты сама сделала ее знаменитостью. — Но это же безумие! Какая тут связь? — Когда-нибудь узнаешь. — Где ты спрячешь Мадлен, когда возьмешь ее? — Она будет с Оливией. Они вместе вернутся в мир. — Серджио, ты говоришь дикие вещи. Что значит «вернется в мир»? — Это значит, что ты снова ее увидишь. — Когда? Он погладил ее по волосам. — Ты отважная женщина, любовь моя. Я украл твое сердце и знаю ему цену. За это и люблю тебя. И нуждаюсь в твоем доверии. — О, Серджио! Если б я только знала, что ее ждет! — Тс-с-с! Знание не поможет. Верь мне, прошу тебя! Хотя Серджио почти не касался ее, у Дейдры было такое ощущение, будто он крепко сжимает ее в объятиях; она утопает в омуте его страсти, сливается с ним воедино; ее личность растворяется в его личности. — Обними меня! — прошептала она. — Пожалуйста, обними меня!* * *
— Хорошо провела время? — спросила Бронвен в воскресенье вечером, когда Мэриан возвратилась в Лондон. — Да, очень. Выиграла двадцать фунтов в бинго. — Хорошо, что мы с тобой одни. Можно поговорить спокойно. — Что-нибудь случилось? Бронвен смутилась и выпила немного вина. Она уже раскаивалась в том, что пообещала Стефани это сделать. — Это касается Мэтью. Мэриан отвела взгляд в сторону. Бронвен весь вечер репетировала свой будущий монолог, но сейчас ей стоило немалых усилий начать. — Мэтью гораздо старше тебя. Нет, я не то хотела сказать… Дело в том, что… он, конечно, неотразим… Эти черные глаза как будто смотрят тебе в душу… Некоторые принимают это за любовь… Ты так молода… В общем, Стефани и Мэтью давно любят друг друга. Они столько выстрадали! Им трудно, но в конце концов все утрясется. Мэтью без ума от Стефани… Я говорю это не затем, чтобы сделать тебе больно, а чтобы ты поняла… прежде чем… — Прежде чем выставлю себя на посмешище? — Нет. Прежде чем ты сделаешь или скажешь что-нибудь такое, о чем потом пожалеешь. — Это одно и то же. — Ну, Мэриан, все не так трагично… — Ничего, Бронвен. Я понимаю. Скажи: это Мэтью попросил тебя со мной поговорить или Стефани? Ей вдруг стало ясно, как было дело. В пятницу, посадив ее на поезд, Мэтью вернулся к Стефани, и они вместе попросили Бронвен поговорить с ней, пока ситуация не вышла из-под контроля. — Я пошла в ванную. Бронвен проглотила комок. — Подожди. Я давно замечала… Ты не виновата, это все Мэтью. — Не упрекай его, — возразила Мэриан. — Это только моя вина. Если бы я не поехала… — Куда? — Так, никуда. Бронвен улыбнулась. — Ладно, иди принимай ванну, а я приготовлю фантастический салат. Мэриан побрела к двери, но вдруг вернулась и порывисто обняла подругу. В понедельник утром она ехала на работу, безумно боясь столкнуться лицом к лицу со Стефани или Мэтью. К счастью, ни одного из них не оказалось на студии, так что она спокойно поставила чайник и начала просматривать почту. Мимо простучали каблуки Стефани: она проследовала к лестнице на второй этаж. Мэриан ринулась за ней, но дорогу преградили Вуди и Адриан, помощник режиссера по натурным съемкам. — Ты отпечатала расписание съемок? — Доброе утро. Да, оно там, в машинке. — Доброе утро, — запоздало буркнул Вуди, и они с Адрианом уткнулись в график. — Вот, нашел! Осталось уладить со Стефани. Мэриан, она у себя? Позвони, пожалуйста. Стефани спустилась вниз, необыкновенно элегантная в светлом платье в серую и белую полоску. — Ну, что у вас? — Пока немного, — признался Вуди. — Здесь предусмотрены только американские и итальянские эпизоды. Но, как я уже говорил тебе по телефону, Адриану не удалось — даже при поддержке Фрэнка Гастингса — договориться с владельцами ночных клубов. Они не хотят, чтобы их заведения ассоциировались с наркотиками. У Хейзел гениальная идея: снимать здесь, в Англии, — конечно, изменив до неузнаваемости интерьеры и сменив вывески. — Когда? — Вот за этим-то мне и понадобился график. У нас есть «окно» — две недели между Америкой и Италией; почему бы им не воспользоваться? — Идея действительно хороша — и сулит экономию. Поговори с Мэтью. Он сегодня работает дома. Поедем вместе. И, не взглянув на Мэриан, Стефани продефилировала к выходу.* * *
— Знаешь, Мэз, — произнесла Хейзел после того как битый час буравила ее взглядом, — временами у тебя бывает преотвратный вид, смотреть тошно. Мэриан внутренне сжалась. — Ты что, ревешь? Ох, Бога ради, прекрати, а то меня замучает совесть. И это как раз сейчас, когда я решила кое-что для тебя сделать! — Ничего, — прошептала Мэриан, — я всегда была некрасивой. И я вовсе не плачу. — Хейзел, зайди, пожалуйста, ко мне, нужно кое-что обсудить, — послышался от двери голос Стефани. Мэриан вскинула голову в надежде хотя бы на один добрый взгляд или улыбку. Но Стефани швырнула на ее стол аудиокассеты и, распорядившись передать их композитору, вместе с Хейзел вышла из приемной. Мэриан опустила голову на руки и расплакалась. Все так ужасно! Ей ни за что не вырвать из сердца любовь к Мэтью. Но как продолжать работать со Стефани, если та ее презирает? Уволиться? Потерять дружбу Бронвен? Все так перепуталось — а ведь всего несколько месяцев назад она жила себе в Бристоле с двумя самыми дорогими людьми… Как раз в сегодняшней газете она видела снимок: Мадлен с Полом, нежно улыбаясь друг другу, выходят из сада на крыше в Кенсингтоне. Надпись под фотографией гласила: «Золотая пара». Пола именовали «одним из талантливейших литераторов десятилетия»: он только что подписал с издательством «Фримантл» договор на баснословную сумму. Но почему именно эта заметка так на нее подействовала — ведь они появлялись в газетах каждый день? Возможно, потому, что именно теперь Мэриан особенно остро чувствовала свое одиночество. У всех кто-то есть… Ее почти тошнило от жалости к себе. Она расправила на столе скомканную газету и вгляделась в прекрасное лицо кузины. Вспоминает ли о ней Мэдди хоть когда-нибудь? У нее столько блестящих друзей, что вряд ли выпадает свободная минутка вспомнить прошлое. О себе же Мэриан знала: как бы ни сложилась ее жизнь, ей ни за что не выбросить из сердца Мадлен. Вернулась Хейзел. Мэриан затолкала газету в сумку и застучала на машинке. Щеки блестели от слез, но она побоялась достать платок — чтобы Хейзел ничего не заподозрила. — Хватит прикидываться! — распорядилась Хейзел. — Нам с тобой нужно кое-куда съездить. — Но Стефани ждет… — О Боже! — простонала Хейзел, увидев ее лицо. — Не лицо, а взрыв в кондитерском цехе. Иди высморкайся, попудрись — и поехали. — У меня нет пудреницы. — Ладно, возьми мою. По крайней мере, теперь мы знаем, где сделать первую остановку. Выйдя из туалета с катышками пудры на лице, Мэриан увидела Стефани и вздрогнула. — Не беспокойся, Мэриан. Хейзел предупредила, что умыкает тебя на весь день, я разрешила. И прости, что я так вела себя в пятницу. Нет-нет, ничего не хочу слушать. Возьми отгул. Может, Хейзел удастся тебя развлечь. — Она чуть ли не насильно вывела Мэриан на улицу. Хейзел уже ждала в такси. — Оксфорд-стрит, Селфридж, — скомандовала она и с торжественным видом повернулась к своей спутнице. — Мэриан Дикон, я намерена сделать из тебя другую женщину! Мэриан широко раскрыла глаза. Но даже если у нее возникло желание протестовать, Хейзел не предоставила ей такой возможности — ни в этот, ни в какой-либо другой день на этой неделе. Парфюмерные магазины, универмаги, салоны красоты и парикмахерские мелькали, как в калейдоскопе. Когда счет в банке иссяк, Стефани перевела дополнительную сумму. Мэриан сделали чистку и массаж лица, подстригли и уложили волосы, а фигуру, сколько она ни отбивалась, затянули в модное облегающее платье. Стефани только смеялась в ответ на ее извинения по поводу прогулов, а Бронвен порхала вокруг и сыпала комплиментами. Оглушенная Мэриан искала взглядом Мэтью — какова его реакция? Но он, казалось, не замечал никаких перемен, да и когда? Он вихрем врывался на студию и, не заходя в приемную, мчался к Стефани, а затем обратно. Все знали: Мэриан ждет его вердикта — и не отказывали себе в удовольствии подразнить ее. Когда она отваживалась взглянуть в зеркало, оттуда на нее смотрело незнакомое, загадочное существо — даже серые глаза казались больше. Кожа приобрела здоровый вид, губы стали чуточку более припухлыми, а волосы… просто нет слов! — Повернись-ка, я полюбуюсь своей работой, — скомандовала Хейзел. Они с Мэриан только что вернулись после очередного набега на универмаги; на Мэриан была голубая юбка с кофточкой в тон; коротко подстриженные волосы с серебряным отливом открывали уши и опускались на затылок; большие красные серьги идеально гармонировали с бусами, браслетами в виде обручей, поясом и туфлями. Сколько Мэриан себя помнила, она никогда не носила красного. — Неужели это то самое затюканное существо, которое сидело напротив меня всего неделю назад? Осталось только сбросить лишние килограммы. — Хейзел ущипнула Мэриан за бедро. — Фу, гадость — сплошная клетчатка! Ну ладно, ты прифрантилась — пора выходить в свет. Возьму-ка я тебя с собой к Кеттнеру. Любишь шампанское? Можешь не отвечать, и так ясно, что не пробовала. Перестань крутить сережку — сломаешь. Мимо по коридору пронесся Мэтью. Хейзел услышала, как вскрикнула Стефани, и закатила глаза. В пальцах у Мэриан хрустнула сережка. На следующий день она сидела одна в приемной, с отвращением поглядывая на стоящую перед ней на столе тарелку с обезжиренным творогом. Шаги на лестнице заставили ее поднять голову. Вошла — за своей сумкой — Хейзел в сопровождении Стефани и Бронвен. — Привет, Золушка! — весело поздоровалась Стефани. — Мы идем обедать. Если позвонит Фрэнк Гастингс, мы в «Веселом гусаре». — Хорошо. — Пока. — Стефани повернулась и прыснула: очевидно, кто-то из подошедших мужчин сказал что-то смешное. — Не смейте меня смешить! Какие могут быть шутки, когда все горит синим пламенем? Вся компания — три женщины, Мэтью, художник по костюмам Фредди и помощник режиссера по натурным съемкам Адриан — выкатилась на улицу. Мэриан помахала в окно оглянувшейся Бронвен и вновь воззрилась на творог. Фу, гадость! — Очень мило, — послышался от двери голос Мэтью. — Ты что, не с нами? Не желая признаваться в том, что ее не позвали, Мэриан промямлила что-то насчет строгой диеты. Он подошел и, взгромоздившись на край письменного стола, с такой теплотой заглянул ей в глаза, что она пожалела о своих длинных волосах, за которыми можно было спрятаться. — Извини, если задену твои чувства, но вышеупомянутая диета тебе на пользу. Чего нельзя сказать о помаде. Мэриан обрадовалась. — Я того же мнения! — И тотчас вытерла рот бумажной салфеткой. — Выброси к черту эту пакость и пойдем поедим по-человечески. — Хейзел будет сердиться. И потом, вдруг Фрэнк Гастингс позвонит? — С тобой все в порядке? Никто больше не пристает на Фулхэм Роуд? — Нет, но… может, мне почудилось… — Что именно? — Будто за мной следят. Наверное, расшатались нервы. — Сейчас же запри дверь и идем со мной! — Не беспокойся. Сейчас приедут Джози и Вуди — они уже в пути. Должно быть, мне померещилось. Он колебался. — Слушай, Мэриан. Сегодня вечером я ужинаю с дочерью, если она не передумает. Ты ненамного старше — вы могли бы найти общий язык. Пойдем с нами? В груди разлилось блаженное тепло. — Спасибо, но… Хейзел взяла мне абонемент на аэробику… Но можно пропустить… — Отлично. Заеду за тобой около шести.* * *
— Мэтью, ты готов? — крикнула Стефани. — Почти. Фотографии у тебя? — Да. — А где мои ключи? — Здесь, на столе. — Тогда поехали. Мэтью вышел из спальни с влажными после душа волосами, и у Стефани подпрыгнуло сердце: до чего же он красив! При виде тугих мышц его предплечий в ней вновь зашевелилось желание, и она подставила ему губы. — Возьми себя в руки, женщина, и пошли. В такси они рассматривали отобранные Джудит фотографии актеров, которым предстояло в этот день пройти прослушивание. Мэтью радостно потирал руки. — Сладкое бремя власти! Судьбы этих людей — в моих руках! — Спустись на землю, — посоветовала Стефани. — Кстати, вот этот мне нравится. Подходит на роль Рабина Мейера. — Правда? А по-моему, этот лучше. Но Стефани уже не смотрела на фотографии — любовалась темными завитками на его руках. И не удержалась — ляпнула, чего не следовало: — Скажи, Мэтью, тебя действительно совсем не влечет к Мэриан? Он насупился. — Это недостойно тебя, Стефани. — Неужели ты ведешь себя достойно? Вчера прошатался с ней до полуночи. Где вы были? Ты же мне сказал, твоя дочь не пришла, так что же это было — интимный ужин для двоих? — Замолчи, Стефани, пока не сказала чего-нибудь такого, о чем пожалеешь. — Неужели она все еще девственница? — Стефани, ты испытываешь мое терпение. Я думал, мы договорились насчет Мэриан. — Нет, Мэтью, мы ни о чем не договорились. Ясно одно: она влюблена в тебя, как кошка. А вот твои чувства — под вопросом. — Ну хватит. Или мы обсуждаем актеров, или молчим. Выбирай. Судя по тому, как Стефани отвернулась к окну, она выбрала молчание. Мэтью смотрел прямо перед собой. Хорошего настроения как не бывало.* * *
Когда Стефани кипя от злости ворвалась в свой кабинет, она застала там Мэриан, перебирающую на столе бумаги. — Ты что тут делаешь? — Ищу контракты, которые Хейзел вчера дала тебе на подпись. Они понадобились ей для встречи с юристами. — Она что, сама не могла зайти? — Я лучше знаю, где что лежит. Стефани швырнула «дипломат» на стул и посмотрела на часы. — Почему ты не на обеде? — Соблюдаю диету. Под презрительным взглядом Стефани она внутренне сжалась. Но сколько можно убегать от неизбежного? — Бронвен говорила со мной в позапрошлое воскресенье. Я хотела тогда же объясниться с тобой, Стефани, но мне показалось, что все уже утряслось. Я даже радовалась, когда ты и все остальные дразнили меня неравнодушием к Мэтью: думала, мы по-прежнему друзья. Но ты сердишься, и я догадываюсь, почему. Стефани, тебе не из-за чего расстраиваться. Мэтью пригласил меня на ужин в надежде, что я повлияю на его дочь. Саманта не пришла, но, раз уж мы очутились в ресторане, нужно было хотя бы поесть. Я рассказывала Мэтью о маме — она неважно себя чувствует. Конечно, теперь я жалею, потому что ты опять сердишься, хотя и не за что. Она сделала паузу и вдруг одарила Стефани обезоруживающей улыбкой. — Я профан в психологии, да и нет под рукой ни вина, ни какао… В общем… если ты больше не хочешь, чтобы я здесь работала, мне будет тяжело, но я пойму. Стефани посмотрела ей в глаза. — Вот что я скажу тебе, Мэриан. Я не имела бы права осуждать Мэтью, даже если бы он в тебя влюбился. Обними-ка меня и скажи, что я старая ревнивая корова. — Ты — старая ревнивая корова. Но я очень люблю тебя. — Я тоже. — Вы что, поссорились? Где он сейчас? — Пьянствует с Бобом Фэрли. Скоро явится. — Хочешь, я отменю все оставшиеся на сегодня деловыевстречи? Поезжайте домой и помиритесь! (обратно)Глава 20
Мадлен захихикала в трубку. Откинувшись на спинку кресла, Дейдра со снисходительной улыбкой наблюдала за ней. На душе было тревожно, но внешне Дейдра отменно владела собой. — Как Пол воспринял новость? — Он уже знал. — Мадлен с размаху бросилась на диван. — Приглашает тебя отпраздновать радостное событие. — С удовольствием. Гарри Фримантл придет? У Мадлен вытянулось лицо. — Да. Стоит ли докапываться до корней ее неприязни к издателю Пола, спросила себя Дейдра и решила: не стоит. Мадлен ликовала по поводу включения книги Пола в список бестселлеров. Еще бы: ведь ей пришлось выложить кругленькую сумму! — Ну, как тебе? — Мадлен в который раз вытянула руку, любуясь кольцом. — Правда, класс? Пол купил мне с аванса. Это обручальное. — Я так и поняла. Мои поздравления, Мадлен. Это действительно стоит отметить. А теперь открывай-ка свой ежедневник, пора приниматься за дела. Вошла Анна со свежей газетой и журнальными вырезками. Мадлен с таким восторгом рассматривала свои фотографии, что это могло бы вызвать неприятное чувство, но Дейдра привыкла. Кроме того, нарциссизм был у Мадлен в крови, и Дейдра радовалась его проявлениям как свидетельству возврата к норме. Очевидно, предложение руки и сердца послужило волшебным эликсиром — Мадлен перестала вспоминать о тете и кузине, больше не отказывалась от деловых предложений; из глаз ушло затравленное выражение. Она стала прекраснее, чем прежде. Дейдра испытывала облегчение — и презирала себя за это. Но от правды не уйдешь: теперь, когда Мадлен счастлива, ей будет легче исполнить данное Серджио обещание. Как-то он воспримет весть о помолвке? Он приказал держать его в курсе отношений Пола и Мадлен и вообще докладывать обо всем, что ей удастся узнать о Поле. Это подтвердило ее давнишнее подозрение: Серджио знает Пола — но в каком качестве? Кто они друг другу — друзья или враги? Серджио не удостоил ее ответом. — Итак, — сказала Дейдра, возвращаясь в сегодняшний день, — насчет завтра все ясно. Теперь что у нас послезавтра? Сначала ты принимаешь участие в утренней телепрограмме. Тебя спросят о новых духах, но, конечно, предварительно проинструктируют. Потом Рой отвезет тебя в Манчестер, где ты встретишься с Полом. Он будет давать автографы в магазинах Уотерстона, Смита и… У Анны есть список. Ребята из Би-би-си будут все это снимать. Рой даст тебе шпаргалку с ответами. Во второй половине дня у Пола запись на радио в Лидсе, а ты присутствуешь на открытии салона красоты. Будет разыгрываться лотерея; тебе достанется приз. Не забудь передать выигрыш в благотворительный фонд. Оттуда вы оба — ты и Пол — едете в Бирмингем, он снова дает автографы. Естественно, при телевизионщиках. В десять вечера — вечеринка у Стрингфеллоу; пригласительные билеты — у Анны. Она встретит вас на вокзале в Юстоне и отвезет домой переодеться. Дальше — клуб. Смотри, больше не обижай Питера Стрингфеллоу — и Полу скажи. Он хороший парень и еще пригодится. Теперь пятница. В восемь утра вы летите в Глазго. Там вы расстанетесь: у агента Пола — его расписание, у Роя — твое. Главным образом демонстрация мод. Потом вы встречаетесь в Эдинбурге, где примете участие в программе местного телевидения. Ночь — в Эдинбурге, потом два дня — грандиозный показ мод на Оркнейских островах. Я договорилась с Гарри Фримантлом и агентом по связям с прессой — они тоже считают, что Полу будет полезно поехать с тобой. Филипа возьмет несколько мужских костюмов из коллекции Армани. Разумеется, не обойдется без телевизионщиков. Как тебе такой план? — Фантастика! Пол в курсе? — Гарри ему все скажет. После Оркнейских островов вам дается день на сборы, а дальше — Лос-Анджелес. По-моему, шоу Джонни Карсона идет в записи, но это еще нужно уточнить. Потом у тебя прослушивание — роль, конечно, эпизодическая. На ночь я заказала номер в отеле «Беверли Хиллз», но Шамира приглашает вас к себе. Отменяем «Беверли Хиллз»? Прекрасно. Потом вы летите в Нью-Йорк и попадаете в руки издателей. Справитесь? Мадлен радовалась как дитя. — Можно, я возьму эти вырезки — покажу Полу? — Конечно. А теперь ты свободна. Вечером увидимся. Кстати, тебе идет одежда, шитая на заказ. — Подожди, вот увидишь мое вечернее платье! Белое, с блестками и чем-то там еще. В облипочку — даже белье не втиснешь. Верх насквозь прозрачный и два огромных круглых выреза на бедрах. Проводив Мадлен, Дейдра спросила секретаршу: — Дарио здесь? — Нет. Он уезжал на весь уик-энд охотиться — на этот раз на диких зверей — и еще не вернулся. Квартира Серджио не отвечает. — Хорошо. Продолжай звонить. У себя в кабинете Дейдра прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. После памятного разговора с Серджио прошло несколько дней, но она еще не оправилась от потрясения. Дарио — фотограф и ее партнер — оказался членом bottega! Серджио посвятил ее в тайну, чтобы при выполнении задания она не чувствовала себя одинокой. Но присутствие Дарио не успокаивало. С тех пор как Дейдра пообещала доставить Мадлен в Италию, она не могла ни есть, ни спать. Старалась не думать (время еще есть), но ее убивала неизвестность. Что ждет Мадлен в Италии? Какая пытка — ежедневно встречаться с ней и делать вид, будто все в порядке! Но она выполнит просьбу Серджио, потому что ее любовь к нему перешла всякие границы. И потому, что он сделал ей предложение. Разве не об этом она всю жизнь мечтала?* * *
— Все еще ругаются из-за проклятых кранов, — проворчала Хейзел, входя в приемную. — Это выше моего понимания. Ночью — любовники, днем — враги. Без Фрейда не разберешь. В приемной было полно народу, и на слова Хейзел никто не обратил внимания. И вообще, разногласия между Стефани и Мэтью из-за пролога давно стали фирменной шуткой. Бронвен стояла возле печатающей на машинке Мэриан, а Вуди накалывал на стену карточки с отдельными пунктами расписания съемок. Художник по гриму швейцарец Франц и костюмер Белинда, склонившись над столом, листали смету, а секретарь-машинистка Джози орала в трубку на кого-то в паспортном отделе. — Не понимаю, — буркнул Вуди, — почему Стефани упрямится. Он все равно сделает по-своему. — Гордыня, дорогой мой, — ответила Хейзел, выдергивая из своего кресла Белинду. — Франц, убери с моего стола свои вонючие ноги. И, ради Бога, надень туфли. — Идиот! — рявкнула Джози и бросила трубку на рычаг. — Придется ехать самой. Мэриан, вызови, пожалуйста, такси. — Она занята, — ответила Бронвен. В это время по лестнице прогромыхал Мэтью и опрометью выскочил на улицу. — Похоже, мы опять на мертвой точке, — философски произнес Вуди. — У них еще есть две недели, — с этими словами Хейзел сбросила со стола конечности Франца. — От Адриана нет известий? — Скоро явится. Производственное совещание в шесть? — В шесть тридцать. Стефани с Мэтью раньше не могут: проводят окончательное прослушивание на роль Оливии. — Вечно все делается в последнюю минуту, — посетовала Джози. Пальцы Мэриан быстро сновали по клавишам. Она не прислушивалась к общему разговору и не вникала в то, что печатает. В мыслях, как обычно, царил Мэтью. Теперь, когда все вокруг были посвящены в ее тайну, ей постоянно мерещились насмешки с оттенком жалости, а доброта Стефани делала ее положение еще более унизительным. После их разговора Мэриан внушила себе, что больше не останется с Мэтью наедине. Бронвен права: «Им трудно, но все утрясется». Но даже понимая абсурдность своих надежд, Мэриан не могла забыть кое-какие реплики Мэтью в ресторане. «Не беспокойся, как-нибудь справимся. Просто необходимо время». Он имел в виду дочь, но при этом как-то особенно сжал ее руку… — Мэриан, — обратилась к ней Бронвен, принимая отпечатанное письмо. — Я сейчас подпишу, а ты вечером отнесешь на почту. Джози, ты отдала сценарий для ксерокопирования? — Да. К шести должно быть готово. — Я могу прихватить на обратном пути, — вызвалась Мэриан. — Не стоит. Лучше просмотри эпизоды, которые Дебора Форман утром передала по факсу. Вуди, слетаешь за ксерокопиями? — Я — первый помощник режиссера, а не лакей! — Большое спасибо, Вуди. Джози будет благодарна тебе по гроб жизни. Позднее, покидая офис, Бронвен и Мэриан столкнулись в дверях со Стефани и Мэтью. — Вы куда это? — удивился он. — Обедать в «Граучо», — ответила Бронвен. — Как дела с Оливией? — Отлично! Ее будет играть Кристина Ханкок. — Слава Богу, хоть о чем-то договорились, — и Бронвен потащила Мэриан на улицу. — Мэриан! — послышался за спиной голос Мэтью. Она обернулась. Посовещавшись со Стефани, он шагнул навстречу. — Дождись меня в «Граучо». Приду сразу после собрания. Стефани едет к матери, так что сегодня вечером я один как перст. — Не могу. Мы собирались заскочить на минутку: нужно просмотреть сценарий. — Ладно, в другой раз… Тебе по-прежнему кажется, что за тобой следят? — Нет, — солгала она. — С матерью все в порядке? — Да, спасибо, замечательно. Не волнуйся. — Должно быть, я перегибаю палку. Ты не сердишься? — Нет. Ну, я пошла: Бронвен ждет. — И она с несчастным видом бросилась догонять подругу. Твердо придерживалась своей тактики, Мэриан старательно избегала встреч с Мэтью. К счастью, он объявил, что до отъезда в Нью-Йорк будет работать дома. Тем не менее он по нескольку раз в день звонил и спрашивал, как ее дела. Она отвечала сухо, почти грубо. Так лучше для всех! За пять дней до отлета Мэтью позвонил в приемную и попросил прислать Джози, чтобы она присутствовала на совещании в его квартире, которое он проводил вместе с главным оператором Бобом Фэрли, Вуди, Фредди и обоими художниками — по костюмам и гриму. Однако Джози отправилась в американское посольство за визами для новых членов труппы. Хейзел состроила недовольную гримасу: Джози могла бы потом принести утвержденное расписание съемок. Тут как раз подвернулась Мэриан. — Милочка, тебя сам Бог послал! Быстро лови такси и поезжай к Мэтью домой. И без графика не возвращайся. Дверь открыла Белинда и тотчас отвела Мэриан на кухню, чтобы она приготовила для всех кофе. Когда Мэриан с подносом вошла в гостиную, Мэтью объяснял, как он представляет себе начало фильма — эпизод за эпизодом. Он не заметил ее появления, даже не поднял головы, беря чашку. К тому же в комнате не было свободных стульев, так что Мэриан вернулась на кухню. Ей вдруг представилось, что она живет здесь вместе с Мэтью. Конечно, это значило лишь растравлять сердечные раны, но она ничего не могла с собой поделать. Он безраздельно господствовал в ее мыслях и сердце, даже тайна Оливии ушла на задний план и пряталась в тумане. Когда Мэтью позвонил ей в Италию и сказал, что знает об Арте Дугласе и Оливии, Мэриан возликовала: это может их сблизить! Так и случилось, но потом они вновь отдалились друг от друга — из-за Стефани. Даже с Полом она не испытывала таких душевных мук: возможно, потому что на этот раз ее чувство было безответным. По ночам, представляя Мэтью в объятиях Стефани, она была готова кричать от ревности и боли. Если бы можно было побежать к нему и сказать… что? Вымаливать любовь? Все равно что просить луну с небес. Мэриан заранее представляла весь ужас, весь позор подобной ситуации. Она не поедет в Нью-Йорк! Хватит с нее унижений! Нужно поговорить с Бронвен, та поймет… Через час Вуди позвал ее в гостиную. Остальные уже расходились; Вуди держал в руке кипу рукописных листов. — Вот, передай Джози. Не хотел бы я быть на твоем месте! Здесь на целую ночь работы. — Мэриан, на чем ты думаешь добираться в офис? — спросил Мэтью, когда они остались одни. При этом он с недовольным видом оглядел комнату. Всюду виднелись чашки из-под кофе и переполненные пепельницы. — Так мне и надо! Нечего устраивать производственные совещания на дому. — Можно, я позвоню от тебя — вызову такси? А потом помогу убраться. — Я сам тебя отвезу. Почему приехала ты, а не Джози? Мэриан объяснила. — Понятно. Слушай, Мэриан. Почему ты меня избегаешь? Что я еще натворил? Э, да ты вся дрожишь! Она бросилась к телефону. — Я спешу. Джози и Хейзел ждут графика. Заказав такси, она помогла Мэтью отнести на кухню грязную посуду. А когда в интеркоме послышался голос водителя, в последний раз ринулась из кухни — и угодила к Мэтью в объятия. — Мэриан, Мэриан, — пробормотал он, гладя ее по голове, — что мне с тобой делать? — Ничего. Я больше не буду путаться у тебя под ногами. Не поеду в Америку. Извини, Мэтью. Я не собираюсь отравлять тебе жизнь. — Отравлять мне жизнь? Это каким же образом? Не дождавшись ответа, он через интерком попросил шофера подождать. — Мэриан, я хочу, чтобы ты поехала в Нью-Йорк. — Не могу. Надо мной все смеются. Я чувствую себя такой идиоткой — особенно после того, как ты попросил Бронвен… — О чем? Он так настойчиво ее допрашивал, что Мэриан не выдержала и рассказала. Мэтью помрачнел. — Я не просил Бронвен. Конечно, за этим стоит Стефани. Мэтью был возмущен и полон сочувствия к Мэриан. И не только сочувствия. Он сам не мог определить свое отношение к этой девушке, да и не собирался анализировать, даже когда Стефани приставала с расспросами. Ясно было одно: ревность Стефани не лишена оснований. Он помог Мэриан встать. — Ладно, иди. Мне нужно подумать. Но обещай мне… Она кивнула. — Не увольняйся и не отказывайся ехать в Нью-Йорк. Давай хотя бы закончим фильм. Может, к тому времени что-нибудь прояснится… насчет Оливии. Мэриан проглотила комок и вдруг рассмеялась. — Со мной можно чокнуться. Вечно я создаю проблемы, а тебе — расхлебывать. Сначала Арт Дуглас, потом поиски агента Мадлен, потом ты вынужден терпеть мое нытье насчет маминой болезни, а теперь… Ладно, поеду. Обещаю не мозолить тебе глаза. Я знаю, ты любишь Стефани — я сама ее люблю. Особенно если вспомнить, что она для меня сделала! — Ты — чудо, Мэриан. Только не забывай, что ты мне тоже кое в чем помогла. У нас с тобой есть общая проблема. Сейчас она кажется тебе далекой, почти нереальной. Но Рабин Мейер и Серджио Рамбальди существуют — так же, как и те сволочи, с которыми Оливия якшалась в Нью-Йорке. А насчет Стефани ты права. Я люблю ее и всегда буду любить. Помни об этом, пожалуйста. Посмотри он на нее в это мгновение, возможно, Мэтью пожалел бы о своей жестокости. Но он, глубоко задумавшись, смотрел мимо. — Не говори Бронвен, хорошо? Я сам все улажу. Вот увидишь.* * *
Входя в дом Шамиры в районе Беверли Хиллз, Рой Велланд ожидал услышать включенный телевизор. Но кругом было тихо. Он прошел в гостиную; на полу валялись газеты и стояли наполовину опорожненные бутылки. За окном послышались голоса. Рой отдернул занавеску и, увидев в бассейне Шамиру и Пола, постучал по стеклу. — Эй! Уже кончается! — Что? — крикнула Шамира. — Громче, я не слышу! Рой прошел через музыкальную комнату и вышел к бассейну. — Я говорю, передача кончается. Почему не смотрите? — Господи! — ахнула Шамира. — Я совсем забыла! Пол, беги скорее, включай телевизор! Пол выскочил из воды и усмехнулся, поймав изумленный взгляд Роя. Он забыл не только о записанном вчера шоу Джонни Карсона с их участием — его и Мадлен, — но и о том, что абсолютно гол, так же как и Шамира. Когда она вошла в гостиную, шли заключительные титры. — Прозевали, — упрекнул их Рой. — Хорошо, что я сделал видеокопию. Иначе что скажет Мадлен, когда узнает, что вы забыли о шоу Джонни Карсона? — Я знаю, что ты думаешь, Рой, — сказала Шамира, протягивая ему коктейль, — но ты ошибаешься. В здешних местах купание голышом — в порядке вещей. — Но не с чужим мужчиной. — Сделай и мне такой же, — попросил, подходя, Пол. В набедренной повязке из полотенца, с бокалом и газетой в руке, он уселся на диван. Рой молча наблюдал за ним. Дейдра просила его присматриваться к Полу и Мадлен — все ли у них гладко? Это не удивило Роя: все знали, как Дейдра привязалась к Мадлен. Как-то ей понравится новость, что Пол с Шамирой обнаженными купались в бассейне? Может, она посмеется и назовет его ханжой? Именно так отреагировала Мадлен: — Ох, Рой, ты иногда такой зануда! Разве мы с тобой вчера не плавали вместе, пока Пол спал наверху, а Шамира ездила в город за покупками? Если меня не подвело зрение, ты тоже мужчина. — Ладно, Мэдди. Как прослушивание? — Нормально. Спасибо, Шамира. — Та подала ей коктейль. — Ролька маленькая, но… Они свяжутся с моим агентом. — Ты разыгрывала этюд? Читала текст? — поинтересовался Пол. — О чем там речь? — Один тип подцепляет в барах женщин. Если я получу роль, буду одной из них, только нас с ним покажут в постели. Ни за что не догадаетесь, кто играет этого парня, — Роберт де Ниро! Так что я ничего не имею против того, чтобы оголиться. Никто бы не отказался — с Робертом де Ниро! — Ты бы ни с кем не отказалась, — усмехнулась Шамира. — У, ехидна! Да, вы смотрели передачу? Пол поспешил с ответом: — Мы записали ее на видео, чтобы ты тоже смогла посмотреть. Мадлен подставила ему губы. — Так как же, Ройстон, — спросил Пол, когда девушки отправились наверх переодеваться. — Неужели я так и не уговорю тебя стать жертвой убийства? — Только не сегодня. — Надо же кого-то кокнуть, иначе как я смогу достоверно описать переживания человека, которого судят за убийство? Они начали этот разговор еще в самолете и с тех пор неоднократно возвращались к нему. — Поспрашивай заключенных. — Это не одно и то же. Я должен все прочувствовать изнутри. — Как насчет настоящего убийства? Кто это сделает? — Неважно. Мой герой предстает перед судом в состоянии транса, он сам точно не знает, убил или нет. И только в зале суда к нему возвращается память. — Ясно. Извини, друг, у меня как-то нет желания умирать. — Придется искать другого кандидата. В данный момент первым номером в списке значится мой издатель. — Думаешь, он согласится? — До сих пор Гарри был исключительно покладист, но, возможно, с убийством возникнут осложнения. Естественно, после суда он воскреснет. Я же не собираюсь провести двадцать лет за решеткой. — Ага, так это будет имитация убийства? — Да, но очень близкая к реальности. Власти должны считать человека мертвым, иначе нет смысла. — Где же ты возьмешь труп? — В том-то и загвоздка, — задумчиво сказал Пол. — Но я что-нибудь придумаю. (обратно)Глава 21
— Ладно, Вуди, давай посмотрим расписание, — сказала Стефани. — Второй съемочной недели — ты все норовишь подсунуть первую. Брось, меня не проведешь. Лучше попробуй доказать, что овчинка стоит выделки. Поняв, что его разоблачили, Вуди вытащил график второй недели съемок в Америке. Несколько минут Стефани изучала его. — Ты давно работаешь с Мэтью? — Десять лет. — По-твоему, он сможет провернуть фокус с кранами за одно утро? — Ничего другого не остается. С вертолетом проще: его можно взять в любое время. — Нет, — произнесла Стефани. — Я на это не куплюсь. В это время вошел Мэтью. — Что значит «не куплюсь»? Вуди, неужели она пронюхала? — Она пронюхала, — сурово ответила сама Стефани. — Влезли-таки в график со своими кранами! Ничего другого я от вас и не ожидала. Придется санкционировать. Только смотрите, чтобы у вас получилось. И еще. Ни в коем случае не сажайте в кабину актеров. Кадр и без того сложный. Часы будут отсчитывать не секунды, а доллары, помните это. — Она сладко улыбнулась и пошла наверх. Мэтью довольно потер руки. — Хейзел, звони в Голливуд Чепмену, подтверди предварительную заявку. — Какую? — На краны. Чтобы через десять дней их перегнали в Нью-Йорк. И вертолет. Вуди, ты заслужил выпивку. Мэриан, бери зонтик, идем пьянствовать. — Кое у кого работы по горло, — заявила Джози. — Поэтому я тебя и не приглашаю. Мэриан обожала, когда он был в таком настроении, и поэтому забыла не только о корреспонденции, но и о своем намерении избегать Мэтью. Это была их первая встреча после разговора в его квартире. Потом она тысячу раз прокрутила в уме все сказанное им — за исключением того, что касалось Стефани, это было слишком больно. Все же остальное носило настолько двусмысленный характер, что трудно было сделать определенные выводы, но интуиция подсказывала Мэриан: все будет хорошо. Воображение рисовало радужные картины; надежда нашептывала: нужно верить Мэтью, он придумает что-нибудь такое, отчего все будут счастливы.* * *
Три дня спустя, дождливым субботним утром, тридцать два члена съемочной группы вылетели в Нью-Йорк самолетом авиакомпании «Бритиш эрлайнз»; остальным предстояло лететь днем позже. Съемки должны были начаться во вторник в Беннингтоне, где Оливия Гастингс училась в колледже. Мэриан была так возбуждена, что все восемь часов полета не сомкнула глаз. Она сидела между Мэтью и Вуди, который потчевал ее ужасными историями о том, что случается с новичками на съемках. Бронвен с Хейзел сидели в хвосте самолета; остальные рассредоточились по всему салону. Кто-то спал, кто-то пил. Примерно на полпути Вуди уронил голову Мэриан на плечо и сладко захрапел. Мэтью накрыл руку девушки своей. — Тебе не страшно? Теперь, когда Арт Дуглас рассказал тебе об Оливии?.. — Нет. Мэтью колебался — предупредить ли Мэриан, что за ней следят? Пожалуй, не стоит: только волновать понапрасну. И потом, он мог ошибиться. Но нет — человек, сидевший через четыре ряда от них, был тот самый, что торчал в баре, где они выпивали несколько дней назад. А вчера кто-то очень похожий шатался вблизи их офиса. — Смотри, не совершай опрометчивых поступков. — Например? — Например, не вздумай отправиться к Джоди, а затем скрыть это от меня. Впрочем, это ей и не удалось бы. Люди Фрэнка Гастингса будут следить за каждым ее шагом. И вот — незабываемый момент! Через шесть с половиной часов после взлета командир воздушного лайнера сообщил по радио, что слева от них в иллюминаторы видны очертания Манхэттена. В прошлый раз была такая скверная погода, что Мэриан ничего не разглядела. Зато сейчас центр Нью-Йорка предстал перед ней во всей красе — с пронзающими дымку зноя небоскребами. Она много раз видела его в кино и читала описания в книгах, но все это не шло ни в какое сравнение с настоящим Манхэттеном. Мэриан охватило волнение. У нее появилось суеверное чувство, будто Нью-Йорк станет поворотным пунктом для ее отношений с Мэтью. Они прошли паспортный контроль, получили багаж, подверглись таможенному досмотру — и наконец шагнули из здания аэропорта Кеннеди в нью-йоркское пекло. К счастью, ожидавшие их лимузины были оборудованы кондиционерами. А в «Дорсете» Мэриан испытала огромное удовольствие от приема, оказанного ей швейцаром Тони. — Ну и ну! Вас, барышня, прямо не узнать. — «Юная леди», — поправила Хейзел, проходя мимо под руку с режиссером по свету Бобом Фэрли. — Конечно. Рад вас видеть, мисс… — Мэриан. — Мэриан. А где мисс Бронвен? — Она пока в машине, — ответила Мэриан и, не поскупившись на чаевые, последовала за коридорным. Джози была уже в их номере с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. — Вон там ксерокс. Ты не могла бы кое-что быстренько размножить? Мэриан взяла список, кого куда поселили, и пробежала его глазами. То, что она увидела, наполнило ее сердце ликованием. — Мы решили, что будет не совсем удобно, если продюсер с режиссером поселятся в одном номере, — объяснила Стефани, когда Мэриан отдала ей один экземпляр. — Почему? — Ну, например, кто-нибудь захочет посоветоваться, но побоится помешать. И потом, Мэтью будет нуждаться в полноценном отдыхе. И вообще, нечего мне изображать мадам в странствующем борделе, здесь и без того будет бардак, вот увидишь.* * *
В семь часов Мэриан спустилась в вестибюль, чтобы дождаться Стефани и вместе идти ужинать в «Иль-Мулино». На ней была свободная белая блузка, широкий пояс, юбка горчичного цвета чуть выше колен и туфли в тон. Волосы отливали серебром. Мэриан не накрасилась, только подвела глаза. Настроение было радужным. Но из лифта вышли Стефани и Мэтью — в обнимку. Мало того что Стефани обладала элегантностью и была выше и стройнее Мэриан, она еще и заплела рыжие волосы во французскую косу, а золотые сережки и блеск губ удивительно гармонировали с искрами в золотисто-карих глазах. Красавица! Однако Мэтью бросил на девушку одобрительный взгляд, и она расцвела. На прощание он расцеловал обеих. Сидя в такси, Мэриан выгибала шею, любуясь похожими на обелиски зданиями, заранее готовая испытать прежнее чувство чего-то нереального. Кругом разлилось море неоновых огней; из-под крышек канализационных люков просачивался пар; шум, гам, громкие голоса, яркие краски — все это по-прежнему бурлило и впечатляло, но не вызывало благоговейного ужаса. То ли город утратил былую магию, то ли Мэриан настолько сжилась с чувством нереальности, что уже и не замечала ничего необычного. В ресторане их тотчас провели к столику. — А теперь, — сказала Стефани после того как официант принял заказ, — давай немного посплетничаем. Эти недели были такими бурными, что я тебя почти не видела. Выкладывай со всеми подробностями. — Ну, дорогуша, — Мэриан идеально воспроизвела уэльский выговор Бронвен, — известно ли тебе, что Бронвен вот уже несколько дней тщетно пытается дозвониться до Серджио Рамбальди? — Известно. Бедняжка ждет не дождется итальянских съемок. — Если ты спросишь меня, милочка, — Мэриан совершила виртуозный переход к произношению и манере Хейзел, — я скажу, что Бронвен — дьявольски храбрая женщина. Он, конечно, дико красив, но у меня от него мурашки по спине. Эти угольно-черные глаза как будто прожигают насквозь. — Ну что, ты уже переросла увлечение Мэтью? — спросила Стефани, когда они приступили к десерту. Мэриан принужденно улыбнулась. — Как вспомню все мои девичьи влюбленности в мужчин гораздо старше меня!.. Глупо, да? Но в данном случае вина лежит исключительно на Мэтью. Он не должен был кружить тебе голову. Просто он не сознает всей силы своего исключительного обаяния. Но ведь ничего страшного не произошло? У Мэриан пересохло в горле, а в груди загрохотал тамтам. Но она снова изобразила улыбку. — Нет, ничего. — Это я и хотела знать. А теперь я посвящу тебя в свою маленькую тайну. Я просто умираю от желания с кем-нибудь поделиться, но Бронвен поглощена страстью к Серджио, мама где-то на Багамах, а Хейзел не способна хранить секреты, даже если речь идет о жизни и смерти. Мэтью сделал мне предложение. Зал вдруг поехал куда-то прочь от Мэриан; все стало далеким, как противоположный конец туннеля. Она изо всех сил старалась стряхнуть наваждение, сохранить хоть каплю здравого смысла. Слова звучали, но не доходили до ее сознания. Она смотрела в лицо Стефани, слушала свой собственный лепет насчет «фантастической» новости, а в душе росла паника. Этого не может быть! Здесь какая-то ошибка! Стефани неправильно все поняла! Мэриан хотела встать из-за стола, но ее словно парализовало; ноги налились свинцом. — Конечно, придется дожидаться развода. Бог знает, сколько это продлится. Вот почему мы решили держать это в секрете. Если Кэтлин узнает, она расшибется в лепешку, чтобы не допустить нашего брака. — Стефани сжала ее руку. — Ты же знаешь, как я этого ждала, как боюсь снова потерять его. Ох, Мэриан, тебе, наверное, скучно это слушать. Но без Мэтью я чувствую себя половинкой целого. Он говорит, что с ним то же самое, но… ты можешь представить себе Мэтью половинкой? Мэриан не знала, как пережила остаток ужина, — наверное, за счет гордости. Но едва очутившись у себя в номере, залилась слезами. Нельзя, внушала она себе, никак нельзя распускаться. Иначе ты этого не переживешь. На телефонном аппарате горела красная кнопка. Мэриан позвонила дежурной и чуть не лишилась чувств, узнав, что это Мэтью звонил от Гастингсов. Он вернется около полуночи и просит его дождаться. Нужно верить Мэтью, напомнила она себе. Он знает, что делает. Вот скоро придет и все объяснит. До полуночи оставалась четверть часа. Она перерыла свой гардероб и нашла голубую атласную ночную рубашку. Бросилась в ванную — посмотреть на себя в зеркало. Лицо хранило следы кораблекрушения. До прихода Мэтью — в двадцать минут первого — Мэриан успела перебрать все мыслимые поводы для его желания срочно увидеться. Но сколько бы она ни убеждала себя в том, что это касается Оливии, какие бы преграды ни возводила на пути надежды, та и не думала сдаваться. Вошел Мэтью — немыслимо красивый в черном костюме, с ослабленным узлом галстука; верхняя пуговица белой рубашки расстегнута. — Тайная вечеря, — пошутил он. Мэриан издала кудахтающий смешок. Он стоял так близко; его запах кружил ей голову. — Надеюсь, я тебя не испугал? Дело в том, что у меня новость. Это не имеет отношения к Оливии Гастингс или Арту Дугласу, но я хотел тебя подготовить. — К чему? — Держись, Мэриан. В общем, помимо банков Фрэнк возглавляет издательский дом «Сиберг и Райт». На будущей неделе они запускают роман Пола О’Коннелла. Пол с Мадлен присутствовали на сегодняшнем банкете. Вот я и решил, что необходимо поставить тебя в известность. «Предупрежден — значит вооружен» и все такое прочее. Мэриан хотелось наброситься на него и кричать, что ей нет никакого дела до кузины и Пола, пусть лучше объяснит, почему сделал предложение Стефани, в то время как… что? Она подняла на него глаза. Мэтью смотрел с таким участием, что ее захлестнуло ощущение безнадежности; она бросилась на кровать и разрыдалась. Мэтью помрачнел. Итак, она все еще любит Пола О’Коннелла, а чувство к нему самому — только жалкий отголосок? Но вместо ожидаемого облегчения пришла грусть. «Мэриан — дитя, — уговаривал он себя. — Тебе хочется ее утешить, потому что она одинока».* * *
— Сколько раз тебе говорить, Гарри, — раздраженно отчитывал его Пол, — между нами все кончено. Не представляю, чего ради ты заявился в Нью-Йорк. — Я «заявился» сюда как твой издатель — и потому, что ты сам этого хотел. У Гарри был измученный вид; руки дрожали. Пол оглянулся по сторонам. В баре «Двадцать одно» в этот час было малолюдно. — Я не говорил, что хочу твоего приезда. Черт, если Мадлен узнает… Надеюсь, ты не собираешься завтра на банкет? — Собирался. Но вопреки тому, что ты думаешь, у меня и в мыслях не было устраивать тебе сцены. Просто между нами возникло нечто… настоящее… ты сам знаешь. Пол ударил кулаком по столу. Кофейные чашки подпрыгнули и со звоном опустились на блюдца. — В последний раз говорю: я не гомосексуалист. Я — писатель, ведущий психологическое расследование. Цель достигнута, я больше в этом не нуждаюсь. — Может, и не нуждаешься, но ты хочешь этого, не отрицай. Пол задумался. Терять дружбу Гарри было невыгодно. Его последний роман далек от завершения. Но этот тип присосался как пиявка! — Как мне тебя убедить? — Я остановился в Ист-Сайде, угол Шестьдесят четвертой и Третьей улиц. Приезжай вечером, и если между нами ничего не произойдет… я поверю. Пол взглянул на клочок бумаги с адресом и порвал его. — Я запомнил. Приеду, когда смогу.* * *
Два подъемных крана медленно продвигались по аллее; под колесами хрустели сухие листья и шишки. Мэтью стоял вместе с Фрэнком меж колонн на крыльце готического особняка Гастингсов. За их спинами суетился Вуди, отдавая по рации команды. Всюду сновали ассистенты, рабочие и электрики. Под костюмы и гримерные принадлежности отвели часть конюшенного комплекса. У Мэриан кружилась голова. Она впервые присутствовала на съемочной площадке. В шесть утра они выехали из Манхэттена и направились в резиденцию Гастингсов в Уэстчестере. В девять должны были начаться съемки. С той ночи, когда Мэтью сообщил ей о Поле и Мадлен, она его не видела: он летал в Вермонт — и теперь сразу почувствовала перемену. Он стал чужим, далеким и как будто испытывал неловкость в ее присутствии. Но Стефани объяснила: на съемках Мэтью всегда такой, и не он один. Большинство режиссеров в такое время спят, едят, дышат, живут исключительно съемками. Это немного успокоило Мэриан, но сердце продолжало щемить. Стрела подъемного крана взмыла над северным крылом здания. Как раз в это время из парадного вышли Стефани и Грейс Гастингс. — Вы очень добры, — произнесла Стефани, — но я обещаю: это продлится не более трех дней. Откровенно говоря, я немного волнуюсь. Какое-то предчувствие… Грейс улыбнулась. — Вот не думала, Стефани, что вы суеверны. Снимайте, сколько понадобится. — На пятницу намечена художественная галерея. Ага, вот и шумовики. Прошу прощения, мне нужно поговорить с ними о съемках в ночном клубе. — Скажу по секрету, — шепнул Франц на ухо Мэриан, — здесь все мужчины вожделеют к Стефани. Но ходят слухи, что счастливый билет достался режиссеру. Лицо Мэриан окаменело, и она под каким-то предлогом бросилась бежать — чтобы натолкнуться на Вуди. — Не путайся под ногами, крошка! — И он снова заговорил по рации. Грейс улыбнулась. — Мы все сейчас лишние. Доброе утро. Меня зовут Грейс Гастингс. — Мэриан Дикон. — Мэтью говорил. Они с Фрэнком возлагают на вас большие надежды — что касается финала. — Вряд ли, — смущенно ответила Мэриан. — Над этим сейчас корпят Бронвен и Дебора. Но я стараюсь вносить посильную лепту, как все. — Идемте, я познакомлю вас с Фрэнком. Он сгорает от нетерпения. Мэриан была очарована. Грейс оказалась совсем не такой, какими она представляла себе жен американских миллионеров. Она не носила ни вычурных платьев, ни массивных золотых колец с огромными бриллиантами. Тем не менее у Грейс был ухоженный вид — леди от серебристоседых волос до носков изысканных туфель. Бледное лицо было таким же гладким и нежным, как голос, а морщинки вокруг глаз свидетельствовали о доброте, чувстве юмора и затаенной грусти. Воспользовавшись краткой передышкой, Франц подошел к Хейзел и Белинде. — Все сплетничаем? — Куда нам до вас, мужчин! — засмеялась Хейзел. — Ну-ка, Франц, расскажи, кто сейчас пользуется твоими милостями. — Всякий, кто хочет, дорогая. — Он без ума от Рори, — просветила подругу Белинда. Хейзел ухмыльнулась. — Похоже, ты сама его захомутала? Ну и как он в постели? — Небо и земля по сравнению с Бобом Фэрли. В небе громадной птицей метнулась стрела подъемного крана. Все посмотрели на Мэтью. Хейзел покачала головой. — Занято. — Скажи это крошке Мэриан, — предложил Франц. — Всякий раз, когда она его видит, у бедняжки мокро в трусиках. Хейзел притворилась шокированной. — У Мэриан? Франц, мое сокровище, возможно, Мэриан и влюблена, но она до сих пор девственница! — Надо же! — поразилась Белинда. — Я была уверена, что в наши дни они пользуются искусственными приспособлениями. Особенно в ее возрасте. Это противоестественно. Тем более, что она очень похорошела. — Знаете, что мне пришло в голову? — произнес Франц. — Кажется, да, — с усмешкой ответила Хейзел. Убедившись, что муж занят, Грейс предложила Мэриан: — Хотите осмотреть дом? — О, с удовольствием! Мэриан всегда питала слабость к старинным особнякам, но этот превзошел все ожидания. Они вошли в холл восьмиугольной формы; в каждом углу, отступая от него сантиметров на шестьдесят, высилась мраморная колонна. А у каждой из стен, как раз на уровне середины, красовалось по изумительному гипсовому бюсту. В центре холла стоял большой черный мраморный стол. Пол был выложен в шахматном порядке черной и белой плиткой. От выразительной простоты захватывало дух, но это оказалось лишь прелюдией к великолепию комнат. К тому моменту как они достигли конца коридора второго этажа в западном крыле, Мэриан потеряла всякое представление о времени. Она совершенно влюбилась в Грейс и могла бы осматривать дом хоть целую неделю, только бы не лишиться ее общества. Поднявшись по узкой лестнице, Грейс открыла дверь и пропустила гостью вперед. — Вот наша галерея. Большая часть картин на западной стене — полотна старинных мастеров. Но Мэриан больше интересовали портреты на противоположной стене. — Это ваши родные? — Да. Некоторые еще живы. Вот, в центре, Фрэнк. Рядом — его отец. А это я в восемнадцатилетнем возрасте. Старый плут рядом — мой отец. Мэриан скользнула взглядом по всей стене. — Не смотрите, женщин вы здесь не найдете. Обе наши матери живы — и до сих пор не простили нам этот брак. — Почему? — Фрэнк — еврей. Мои родители — выходцы из Ирландии, ревностные католики. Возможно, вам это покажется диким, но такое еще случается. Отец Фрэнка до конца был нашим союзником. Его жена так и не узнала, что в юности он любил девушку, тоже католичку, но не нашел в себе мужества пойти против воли отца. Оливия любила слушать семейные истории, считала их увлекательнее всякого романа. А вот и она. Здесь ей двадцать лет. Портрет Оливии, хотя и оправленный в такую же резную деревянную раму, был крупнее остальных. У дочери Гастингсов были тонкие черты, острый подбородок Грейс, большой рот и раскосые глаза. У Мэриан возникло странное ощущение. Впервые за все время она увидела в Оливии живого человека, личность, какой та была до трагического перелома. Эта девушка любила и была счастлива, жила — и, возможно, еще живет на свете. Оливия перестала быть условным персонажем, героиней фильма. — Она очень красива. Грейс кивнула. На сердце Мэриан словно легло бремя этой женщины. — Мы ставим фильм в надежде, что кто-нибудь отзовется… но если… что вы будете делать… Она не закончила фразу, но Грейс поняла. — Мы с Фрэнком много говорили об этом, прежде чем дать согласие. Видишь ли, Мэриан, Оливия — наш единственный ребенок. Возможно, мы ее избаловали, но потерять ее таким страшным образом… Нам жизненно необходимо знать правду. Любую. Мэриан перевела взгляд на портрет. Об исчезновении Оливии до сих пор почти ничего не известно. Вот уже пять лет полиция и частные сыщики ведут поиск и строят гипотезы, но безрезультатно. Но кто-то же знает правду — например, Рабин Мейер или Серджио Рамбальди! Мэриан похолодела. Что они с ней сделали? Где прячут? Может быть, в ту ночь в Паэзетто ди Питторе кричала все-таки Оливия? Рассказать об этом Грейс? Нет, зачем зря пугать? И потом, в свое время полиция прочесала всю деревню… — Я знаю, — продолжала Грейс, — ты в курсе того, что она совершила. Этому нет оправдания. Единственное, что я могу сказать — за два года, предшествовавшие ее исчезновению, Оливия перестала походить на мою дочь. До этого у нее было множество подруг, поклонников, она вела нормальную, счастливую жизнь. Вот кого я хочу вернуть, Мэриан, — мою дочь, какой она была до этого кошмара. Но мы с Фрэнком с ужасом отдаем себе отчет в том, что если ее найдут, то найдут чудовище, в которое ее превратили наркотики и подлые люди. И тем не менее я хотела бы вновь увидеть ее. Возможно, она смогла бы искупить свою вину, даже если бы для этого пришлось пройти через тюремное заключение. Мэриан инстинктивно взяла Грейс за руку. — Ее найдут, я уверена. Грейс слабо улыбнулась. — Хочешь взглянуть на ее спальню? Хотя… это действует угнетающе… — С удовольствием. Они прошли обратной дорогой через все западное крыло и вышли на веранду второго этажа. Послышался крик: «Кадр семьдесят три, дубль пять!» Обе женщины перегнулись через перила и увидели внизу, во дворе, оператора, медленно поднимающего камеру. — Стоп мотор! — крикнул Вуди из кустов. — Эй, Мэриан, какого черта ты там шляешься? Грейс с Мэриан виновато переглянулись и поспешили скрыться в глубине комнаты. Спальня Оливии находилась в конце длинного коридора, в юго-восточной части особняка. Мэриан показалось, будто она очутилась в сказочной стране. Гардины, занавески вокруг кровати, мебель, ковер, даже стены — все было девственно белым — за исключением абстрактных картин на стенах, принадлежащих кисти Оливии. Грейс закрыла случайно открывшуюся дверцу шифоньера. Из окна открывался вид на лесопарк, подступающий к самой кромке воды. Одинокий катер бороздил гладь реки. Мэриан попыталась представить себе, каково это — вырасти в таком доме, совершать с отцом речные прогулки, открывать потаенные уголки леса и сада. — А это что? — она показала на богато орнаментированный купол, вознесшийся над деревьями. — Бельведер. А вон там, за яблоневым садом, — летний домик. Любимое место для игр Оливии и ее подруг. Он поочередно становился то замком колдуна, то дворцом восточного падишаха. — Представляю, каково вам пришлось, — мягко произнесла Мэриан. — Если бы я могла чем-нибудь помочь… хотя бы найти слова… Грейс обняла ее и усадила рядом с собой на оттоманку. — Мы с Фрэнком любим тебя, Мэриан, и позаботимся о твоей безопасности. Если тебе что-нибудь понадобится, только скажи. Ты знаешь, что за тобой следят? Ну-ну, не пугайся, это люди Фрэнка. — Что, даже в Лондоне? У меня постоянно было ощущение, будто за мной кто-то ходит, но я отнесла это на счет разыгравшегося воображения. Грейс нахмурилась. — Нет, Мэриан, это был чужой. Мэтью заметил этого человека за несколько дней до того, как вы покинули Англию. Люди Фрэнка установили его личность. Это частный сыщик, работающий на Рабина Мейера. Вот почему Фрэнк обеспечил тебе охрану. — Понятно. — Ледяная рука страха сдавила Мэриан горло. — Но откуда Рабин Мейер знает, что мне что-то известно? Ах… Я упомянула его имя в разговоре с Серджио Рамбальди. — Да. Но этот парень сам по себе безобиден, иначе с тобой давно бы расправились. По-видимому, Рамбальди с Мейером не уверены, знаешь ты или нет. Вот и наняли детектива, который докладывает им, где ты бываешь и с кем встречаешься. Ни в коем случае не пытайся связаться с Артом Дугласом или Джоди. Договорились? — Выходит, за этим все-таки стоят Мейер и Рамбальди? — Мы в этом уверены, но пока не можем доказать. Приходится действовать очень осторожно: ведь тело Оливии не найдено. Естественно, это не гарантирует, что она жива, но вселяет надежду. Когда они собрались уходить, дверца шифоньера снова открылась. На этот раз к ней подошла Мэриан, а Грейс вышла в коридор. Искушение посмотреть наряды Оливии было очень велико, но Мэриан удержалась от этого соблазна. Во дворе металась стрела подъемного крана: Рори снимал панораму крыши. Наконец он поднял большой палец. Все зааплодировали. — Все! — крикнул Вуди. — Объявляю обеденный перерыв до половины третьего. К Мэриан и Грейс подбежала сияющая Стефани. — Семнадцать дублей! Но мы все-таки это сделали! Мэтью — гений! Исключительно эффектные кадры! (обратно)Глава 22
Сидя в ресторане вместе с Хейзел и Джози, Мэриан не спускала глаз с Мэтью, а он и Боб Фэрли внимательно слушали усиленно жестикулирующую Кристину Ханкок. Время от времени та разражалась демоническим хохотом — шло уточнение образа Оливии. В такие минуты никто не смеет сунуться к режиссеру. Ничего, она подождет. Вчера, когда она стояла перед портретом Оливии, в голове у Мэриан сложился финал картины. Наконец Кристина Ханкок отчалила, и она отважилась подойти к Мэтью. — Можно тебя на пару слов? — Конечно. Садись. Однако едва она успела сообщить, что у нее есть идея, как подошел Вуди. А потом уже не осталось времени. — Вечером загляну после прогона, — пообещал Мэтью. Однако в семь тридцать его еще не было, и она не выдержала — отправилась в просмотровый зал. Однако не успела взяться за ручку двери, как оттуда вышли Боб Фэрли и Стефани. Стрельнув взглядом через плечо, Стефани злобно прошипела: — На твоем месте я убралась бы от греха подальше! — Мне нужен Мэтью. Ей нечего стыдиться, она действует в интересах фильма! — Делай, что говорят! Если ты попадешься Мэтью на глаза… В это время снова открылась дверь, и Стефани осеклась. Мэриан просияла, но уже в следующее мгновение радость сменилась ужасом. Почему Мэтью так смотрит? — Чтобы я ее больше не видел! — процедил он сквозь зубы, а затем повторил, срываясь на крик: — Чтобы я ее больше не видел! Стефани схватила Мэриан за руку и потащила прочь. — Но почему? Что я сделала? — Испортила эпизод, вот что! Тот самый, с кранами! Ты попала в кадр. В конце, когда камера как бы въезжает в окно спальни, на пленке проявилось твое отражение в зеркале. Какого черта ты там делала? Мэриан похолодела и даже не заметила, что Стефани довела ее до двери номера и втолкнула внутрь. Ей хотелось провалиться сквозь землю или превратиться в кого-нибудь другого. Что угодно, только бы Мэтью никогда больше не смотрел на нее так. Все разногласия вокруг кранов, расходы, перегруженный график, технические сложности, всеобщая эйфория — коту под хвост! Ужас! Теперь ее выгонят с позором, велят убираться обратно в Англию. Появилась Джози. — На вот — Стефани распорядилась отнести тебе сандвичи, если не посмеешь спуститься в зал. — Думаешь, меня уволят? — Откуда я знаю? Одно могу сказать: постарайся какое-то время не попадаться Мэтью на глаза. — А пролог? — Боб торчит в лаборатории, ищет среди дублей: может, найдется хоть один неиспорченный кадр. Хейзел с Вуди насилуют расписание: нельзя ли втиснуть пересъемку. Мэриан, что на тебя нашло? Все знали, что нельзя околачиваться на месте съемок! — Джози, ты не можешь сказать ничего такого, чего бы я сама себе не говорила. — Наверное. Ну ладно, у меня срочная работа, так что лопай сандвичи. Стемнело. Сидя на краю кровати, Мэриан все глубже погружалась в пучину отчаяния. Наступила полночь, а никто не пришел и не позвонил. Она ненавидела себя, в том числе за идиотскую надежду. Как можно было на что-то рассчитывать — вопреки фактам? Но она не допустит, чтобы все рухнуло! Нужно сейчас же поговорить с Мэтью, объяснить… Она набрала его номер и немедленно бросила трубку, услышав голос Стефани. Чужая! Всем чужая и никому не нужная! Ее никто и никогда не любил, кроме мамы! И Мэриан принялась накручивать телефонный диск. Однако в Девоне никто не откликнулся. Наконец ее сморил сон — беспокойный, с проблесками сознания. В такие мгновения Мэриан говорила себе, что утром сообщит Стефани о своем возвращении в Англию. Утром, когда она с пепельно-серым лицом вошла в кафетерий, все смолкли. Бронвен вскочила и бросилась навстречу. — Плохо спала, дорогуша? Ну, не кисни. Это всего лишь фильм, а не конец света. — Где Мэтью? — За него не беспокойся. Он большой мальчик, как-нибудь переживет. Мэриан затаила дыхание: к ним приближалась Стефани. — Хотела навестить тебя перед сном, но подвернулось срочное дело. — Стефани… — Не надо, Мэриан. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Прибереги это для Мэтью. — Он очень сердится? — Боюсь, что да. Кажется, нашли один дубль, но не слишком выразительный. Мы полночи спорили. Он не может смириться с тем, что краны уже на полпути в Калифорнию и у нас нет ни минуты на пересъемку. Тем не менее, когда появился Мэтью, ничто не могло помешать Мэриан рвануться к нему. Он уставил на нее непроницаемые глаза. — Ты хочешь сказать, что тебе очень жаль? Мне тоже. Меня не интересуют подробности, как это произошло. Главное, чтобы ноги твоей больше не было вблизи съемочной площадки! Ясно? У нее задрожали губы. Глаза наполнились слезами. Бронвен пришла на выручку. — Идем, Мэриан, поможешь мне собрать вещи. — Ты уезжаешь? — На данном этапе моя работа закончена, и я хочу провести несколько дней с мужем. Представляешь, соскучилась! — Может, и я смогу достать билет на тот же рейс? — Зачем? — Хочу домой. — Ну нет! — с жаром воскликнула Бронвен. — Да, ты допустила оплошность, но я буду считать, что ошиблась в тебе, если ты дезертируешь. Все будет хорошо, дорогая. — Стефани меня уволит. — Нет. Не думаю, чтобы это приходило ей в голову. — Значит, Мэтью. Бронвен хмыкнула. — Не стану кривить душой: я тоже считаю, что его посещала такая мыслишка. Но он этого не сделал. Кроме всего прочего… — Что? — Ничего особенного. Просто он хорошо к тебе относится, только не пойми превратно. — Не беспокойся. После того как он с таким презрением на меня смотрел… Я выдавала желаемое за действительное. Ох, Бронвен! Видит Бог, я боролась с собой, но это так трудно! Ненавижу себя — в первую очередь за предательство по отношению к Стефани! — Ты — всего лишь человек из крови и плоти, как все мы, включая Мэтью. В свое время он нанес Стефани тяжелый удар, потому что не был готов расстаться с женой. Теперь, когда это свершилось, они все еще делают серьезные ошибки: Стефани сходит с ума от ревности, а Мэтью позволяет себе двусмысленные жесты по отношению к тебе. Не обижайся, дорогуша, и посмотри на вещи трезво. Найди в себе мужество. Наверное, Мэтью льстит внимание молодой девушки. Да и кому бы не польстило, тем более что ты не такая, как другие. — Знаешь, Бронвен, — призналась Мэриан, глотая слезы, — в самолете у меня было предчувствие, что эта поездка станет для нас с Мэтью поворотным пунктом. Так и вышло, только с обратным знаком. — Ах, Мэриан! До чего не хочется оставлять тебя в такую минуту!* * *
Обвязав бедра полотенцем, Пол вышел из спальни люкса в нью-йоркском отеле «Плаза». В гостиной девушка из службы заказов убирала со стола. Вокруг Мадлен все еще увивалось несколько щелкоперов. Пол причесался перед зеркалом, однако отражение Мадлен интересовало его больше, чем свое собственное. Обворожительная в новом собольем манто, она на протяжении всего обеда одаряла журналистов и фотографов ослепительными улыбками, но одному Полу было известно, что под мехами на ней ничего нет. Зато теперь это знают все. Последний фотокорреспондент — из «Плейбоя» — заснял ее в распахнутом манто; при этом Пол стоял рядом, положив руку на роскошную грудь. Они устроили этот спектакль ради рекламы его будущей книги. Ажиотаж вокруг Мадлен и пристальное внимание публики к их отношениям помогли его предыдущему роману занять место в списке бестселлеров. Но до чего же легко привлечь внимание публики! Два красивых лица, бьющая в глаза сексуальность, публичные проявления любви — и дело в шляпе. Творческие достижения ничего не значат. Похотливый огонь в глазах способен помочь продать все что угодно. В душе Пол сознавал: его произведения далеки от совершенства, но рецензентам щедро заплачено. А главное — Мадлен, ее умение обращаться с прессой, благодаря которому они до сих пор не стали жертвой новой сенсации — с отрицательным знаком. Рано или поздно это все равно произойдет. Так уж устроены люди: сначала возносят вас на пьедестал и позволяют попирать себя, а затем, когда вы меньше всего этого ожидаете, сбивают вас с ног и исступленно топчут ногами. Неважно, носит ли сенсация истинный или мнимый характер — она и только она питает прессу, позволяя удовлетворять аппетит публики. Придет и их с Мадлен черед — интересно будет понаблюдать, как она это воспримет. Закрыв дверь за последним писакой, Мэриан наградила Пола сладострастной улыбкой. Он взглянул на часы. Встреча с Гарри назначена на половину четвертого, но можно и опоздать. Единственным, что мешало Полу навсегда порвать с Гарри, была надежда уговорить его сыграть роль «жертвы» для нового романа. Похоже, из этого ничего не выйдет. Ну и черт с ним — от издателей нет отбоя! Он поманил Мадлен пальцем. Она приблизилась томной кошачьей походкой. Пол развязал полотенце. Она обвила руками его шею и блаженно замурлыкала — зажмурившись, выпятив влажные сочные губы. Страсть сдавила Полу грудь. Он безумно любил эту женщину. Еще немного — и ему придется признать свое поражение. И тогда — прощай литература, прощай все! Зазвонил телефон. Он снял трубку и швырнул ее на рычаг, захваченный пароксизмом страсти. Мадлен опустилась на колени. Ее чувственный рот сулил сладкую агонию. Пол поднял ее и поцеловал. Она потянула его к дивану и, уложив на плюшевые подушки, взгромоздилась сверху. Движимые неутолимым голодом, они перешли с дивана на пол, а оттуда — на кровать. И наконец одновременно достигли апогея. — Ты не представляешь, что для меня значишь, — пробормотал Пол немного погодя. — Так не хочется уходить! — Но ведь нужно увидеться с Гарри, чтобы он помог тебе с новой книгой. — Да. Ты не сердишься, что он последовал за мной в Нью-Йорк? После того, что я сделал… — Тс-с-с! Это в прошлом. Раз ты не испытываешь потребности заниматься этим… — Абсолютно никакой. Ты же знаешь, как я тебя люблю. — Остальное неважно… Продолжай, пожалуйста. — А ты чем думаешь заняться? — Что-нибудь придумаю. Может, посплю перед банкетом. — Умница. Ты меня проводишь? По-прежнему в чем мать родила, Мадлен дошла вместе с ним до лифта. Мимо проходили люди, делая большие глаза. Мадлен в своем репертуаре, подумал Пол. Этот вызывающий эксгибиционизм был одной из главных причин ее власти над ним. Когда Мадлен вернулась в номер, зазвонил телефон. И на этот раз она ответила.* * *
Спустя полчаса Мадлен была полностью одета — в джинсы и белую блузку; волосы завязаны «конским хвостом». Когда она красила губы, у нее дрожали руки. В дверь постучали, и она крикнула не оборачиваясь: — Войдите! — Привет, Мэдди, — раздался знакомый голос, от которого у нее похолодело внутри. — Как поживаешь? — Прекрасно. — Мадлен схватила ручку и сделала вид что пишет. — Каким ветром тебя занесло в Нью-Йорк? Мэриан ответила. Удивление Мадлен было так велико, что она соизволила обернуться. И испытала новый шок. — О Боже! Кто это над тобой потрудился? Мэриан понимающе усмехнулась. — Хейзел. Наша директор по производству. Мадлен прошла через всю комнату и опустилась в кресло. Скрестила стройные ноги. Критическим взглядом окинула похудевшую фигуру кузины, модную стрижку, шитое на заказ платье цвета хаки. — Присаживайся, если хочешь. Она сама не знала, что заставило ее взять такой тон: ведь ей безумно хотелось броситься к Мэриан, рассказать, как она скучала. Но вместо этого она вяло поинтересовалась: — Так что там за фильм? Пока Мэриан рассказывала, Мадлен слушала вполуха, думая о своем. Что если вдруг вернется Пол и увидит Мэриан такой привлекательной? Возможно, он даже обрадуется. В ее глазах полыхнула злоба, и Мэриан поняла: не нужно было приходить. Снаружи ревела полицейская сирена; рокотал вертолет. Мадлен встала. — Кажется, по телефону ты сказала, что хочешь мне что-то сообщить? Мэриан растерялась. О чем можно говорить, когда Мадлен так настроена? Но она взяла себя в руки. — Я влюбилась. — Вот как? В кого? — Его зовут Мэтью Корнуолл. Режиссер-постановщик. Помнишь, одно время он снимал квартиру Памелы? — Мэтью Корнуолл? Ну и ну! Позавчера я видела его на банкете. Он ничего о тебе не говорил. — Я знаю. — Староват для тебя. Мэриан покраснела. — Это неважно. Он не отвечает мне взаимностью. — Еще бы — такой мужчина! — Ты права, но не нужно было этого говорить. — Ты с ним спала? — Нет. — Естественно! Пол рассказал мне о ваших безгрешных ночах в Бристоле. Когда до тебя наконец дойдет, что у девственницы нет шансов завоевать мужчину, а тем более удержать его? — Здесь мы никогда не придем к общему мнению. — Во всяком случае, Пола ты не удержала. — Да… — На лице Мэриан появилось ожесточенное выражение, но оно тотчас смягчилось. — Я пришла говорить не о Поле, а о тебе, Мэдди. Чем ты занимаешься? Как живешь? Мне все интересно. — Ну, ты же видела в газетах. Я прославилась. — Да, и Пол тоже. Я всегда верила, что вы добьетесь успеха. Только не думала, что вместе. Прекрасные черты Мадлен исказил гнев. — Если ты явилась мстить, лучше убирайся. Пол никогда и ни за что… — Нет-нет, Мэдди, я и не помышляла о мести. Просто хотелось… — Украсть его у меня? Как я… — Украла его у меня? Нет, Мэдди. Я же сказала, что люблю другого человека. Пусть даже из этого ничего не выйдет. — Ты пришла, чтобы сказать мне об этом? Мадлен по-прежнему сама не понимала, что говорит. Совсем другие слова рвались из сердца — и натыкались на сознание своей вины. Что если Мэриан знает о краже? Или узнает? Мэриан страдала ничуть не меньше. Барьер между ними казался непреодолимым, она все еще на что-то надеялась. — Мне тебя не хватает, Мэдди. Очень. Почему ты так поступила? Сказала бы мне про Пола, я бы поняла. — Избавь меня от благородных жестов. — Это не благородство. Просто я хотела сказать, что рада за тебя. И прости, я больше не стану тебе докучать. Мадлен порывалась сказать о том, чем было переполнено ее сердце, но с губ слетело другое: — Не приходи больше. — Хорошо. Сейчас нам нечего сказать друг другу, но я знаю тебя, Мэдди, лучше тебя самой; вот почему мне очень, очень жаль, что так вышло. Береги себя.* * *
Ну вот, думала Мэриан, входя в отель, это не так уж и трудно — быть сильной. Нужно держать себя в руках, никто не должен знать, что у тебя на душе. А там, глядишь, и придет успокоение. В номере ее ждала записка от Хейзел с приглашением поужинать в тесной дружеской компании. Мэриан вздохнула. Она скучала по Бронвен. Однако тряхнула головой и пошла принимать душ. Когда «тесная дружеская компания» покидала отель, с другой стороны к нему подошли Стефани и Мэтью, обнимавший ее за плечи. На Мэриан вновь накатило чувство одиночества. Франц взял ее за руку, и они двинулись дальше. — Так вот, — горячо убеждала она Рори какой-нибудь час спустя, — мудрецов было не семь, а двадцать два… Да-да, с удовольствием выпью еще шампанского… Я писала о них диссертацию, а теперь ни черта не помню. Все дружно зааплодировали. — Говорят, это ты сочинила чуть ли не весь сценарий? — вкрадчиво спросил Рори, сплетая ее пальцы со своими. — О нет, только ма-аленький кусочек. Нет, большой. Огромный кусище. У меня даже есть идея финала, но я никому не скажу. — Тебя обязательно должны упомянуть в титрах. — А знаешь, Рори, ты дьявольски интересный мужчина. Хейзел, как по-твоему? — Молодой бог! Мэриан допила коктейль. — Мэтью не имел права на меня кричать. Теперь, если Рабин Мейер до меня доберется, он горько пожалеет. — О чем это она? — спросил Рори у Хейзел. — Понятия не имею. Перепила! — Скажи, Мэриан, — подал голос Франц, — тебе нравится Рори? — Нет, мне нравишься ты. — Она икнула и засмеялась. — А тебе — Рори. Да? — Увы, он влюбился в тебя! — Правда? — Истинная правда, — подтвердил Рори. — Идемте танцевать! Чего мне сейчас хочется, так это танцевать с Францем! Ха-ха-ха! — Хватит, — вмешалась Белинда. — Франц, иди поймай такси. В машине Мэриан положила голову Рори на плечо. — Все кружится. — Ничего удивительного. А теперь помолчи немного, скоро будем дома. — Есть, сэр! Швейцар Тони помог ей выбраться из такси, пока Рори расплачивался с водителем. — Тони, ты прелесть, — проворковала она и радостно повисла на руке Рори, который повел ее к лифту. — О, моя комната! Рори отпер дверь ее ключом и на руках внес Мэриан в номер. Бережно опустил на кровать. Включил настольную лампу. Мэриан зажмурилась от яркого света и, с трудом ворочая непослушным языком, сообщила: — Я — девственница. — Знаю. Но это поправимо. Мэриан пьяно ухмыльнулась. — Поправимо! — И ахнула, когда мужская рука залезла ей под юбку. Рори зажал ей рот поцелуем, одновременно расстегивая пуговицы. Потом отпустил ее и, рывком стащив с нее платье, швырнул его на стул. И больше она ничего не помнила. Утром, когда Мэриан продрала глаза, лампа все еще горела, а в окно лились золотые потоки солнечного света. Резь в глазах заставила ее отвернуться. А когда она попыталась встать, ее стошнило. — Что со мной? — пробормотала она. — Мамочка! Кажется, я умираю. Она вновь провалилась в спасительное забытье. Вдруг распахнулась дверь и вбежал Франц. Он бросил ей халат и велел одеться. — Я не могу… — Вставай! — орал Франц. — Мэтью сейчас разнесет отель. Он подслушал, как Рори хвастался… — Что? — тупо пробормотала она, не в силах поднять веки. Но Франц уже исчез. И опять ей помешали спать: кто-то тряс ее за плечи и повторял ее имя. Она разлепила веки и постаралась сфокусировать взгляд. — Мэриан! Мэриан! Это я, Стефани. Мэриан! Ты меня слышишь? — Не-а. — О Боже! Джози, беги за дежурной медсестрой. И пусть пришлют горничную — убраться… Мэриан снова отключилась. Стефани не отходила от нее, пока не пришла сестра. — Сон, — безапелляционно заявила та. — Крепкий сон — единственное средство от похмелья. — Я боялась алкогольного отравления, — призналась Стефани. — Она не привыкла пить. — Не похоже на отравление. По-видимому, ее спасло то, что ее вырвало. Я подежурю здесь до вечера, но не вижу оснований для тревоги. — Это еще неизвестно, — пробормотала Стефани себе под нос и, бросив на Мэриан полный сочувствия взгляд, удалилась.* * *
Вечером Мэтью как вихрь ворвался в офис вместе с Бобом Фэрли и приказал остальным убираться. А когда они остались одни, ринулся в атаку: — Я уважаю тебя как главного оператора, но, черт побери, почему ты не смотришь за своими людьми? Она еще совсем дитя. Что он себе позволяет? — Успокойся, Мэтью. Посмотри на вещи с точки зрения здравого смысла. — В чем ты видишь здравый смысл? Напоить девчонку и воспользоваться ее беспомощностью? — Она не девчонка. Ей двадцать три года, должна отвечать за себя. Мэтью стукнул кулаком по столу. — Сопливая девчонка! И минувшая ночь это доказала. Я своими ушами слышал, как он хвастался. Вышвырни его ко всем чертям! Боб выпустил облако сигарного дыма и посмотрел на Мэтью в упор. — Мы знаем друг друга много лет — не хочешь ли выслушать правду? Ты психуешь из-за того, что в другое время счел бы абсолютным пустяком. Что происходит? Мэтью первым опустил глаза и, рухнув в кресло, провел ладонью по лицу. — Не знаю, Боб. Наверное, на меня подействовала эта история с кранами. На мне такая ответственность… Но этот негодяй хвастался своей победой! Когда речь идет о женщине, мужчина превращается в зверя… В его распоряжении вся съемочная группа — почему же он выбрал Мэриан? — А почему не ее? Лицо Мэтью окаменело. — Ты на что намекаешь, Боб? — Сам знаешь на что. И потом… Это был небольшой заговор, в котором замешан не только Рори. Ты готов уволить Хейзел? Мэтью рассвирепел. — У нее нет орудия изнасилования! Убирайтесь! — Последний возглас относился к кому-то постучавшему в дверь. — Прошу прощения, — пробормотал Рори. — Мэтью, можно с тобой поговорить? Мэтью пронзил его испепеляющим взглядом и махнул Бобу, чтобы он испарился. — Ну? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Лицо Рори даже под шоколадным загаром приняло мертвенно-бледный оттенок. Он нервно запустил в волосы пятерню; глаза бегали. — Я хотел сказать, что… этого не случилось. Я с ней не спал. То, что ты случайно услышал за завтраком, было ложью. Мэтью брезгливо скривил рот. — Ну нет, Рори, на это меня не купишь! Что ты за человек? Мужчина! Даже не можешь отвечать за содеянное! — Я бы ответил, если бы было за что. Но в данном случае все обошлось. Я с ней не спал, она по-прежнему девственница. — Тогда зачем объявил при всех… — Ты не поверишь, но всего лишь затем, чтобы ее оставили в покое. Они зациклились на том, что кто-то должен… ну, ты понимаешь… и выбрали меня. Сначала я принял это за розыгрыш, но потом понял: они не шутят, и если я откажусь, они просто найдут другого. Ну я и сделал вид, будто согласен. — И ты думаешь, я этому поверю? — Да, Мэтью. Неужели я похож на человека, которому только и остается что насиловать упившихся девственниц? — Это ты ее напоил! — Да. И мне очень стыдно. Ладно, буду честным до конца: я действительно хотел напоить ее, чтобы она не оказала сопротивления. Она чертовски привлекательна — и так убивалась из-за испорченных кадров. А потом… Это может показаться смешным, но мне захотелось ее утешить. Но когда она отключилась… я оставил ее нетронутой. А другим сказал, что сделал это, чтобы не лезли. Но знаешь, все-таки будет лучше, если это останется между нами. История может повториться — с кем-то менее… порядочным. В это время зазвонил телефон. Мэтью рывком снял трубку. Через несколько секунд в его лице не осталось ни кровинки. — Она знает?.. Жди меня там! — И он опрометью ринулся из комнаты. Стефани ждала на восьмом этаже. — Ее уже два дня ищут. Только что позвонили… — Где она? — У себя. Я хотела предупредить тебя, прежде чем сказать ей… — Я сам скажу. Стефани открыла рот, чтобы выразить протест. Но Мэтью схватил ее за плечи и впился жгучим взглядом в ее лицо. — Ты слышала? Я сделаю это сам. — Понятно. Выходит, она тебе все-таки очень дорога, да, Мэтью? Он ослабил хватку. — У Мэриан умерла мать, а тебе приспичило выяснять отношения? Он отпустил ее и, резко повернувшись, пошел по коридору. Стефани с тоской смотрела вслед. Сердце щемило от недобрых предчувствий.* * *
Он держал ее в объятиях и баюкал как дитя. В комнате сгустился мрак, но он не стал включать лампу. Утром она уедет — одна. Почему, ну почему она так отчаянно одинока? Ему хотелось быть рядом, но это невозможно. Оставалось лишь обнимать и безмолвно вымаливать прощение. За все. Наконец она подняла голову и посмотрела на него полными слез глазами. — Нужно сообщить Мэдди. Он снял трубку и попросил соединить его с «Плазой». — Дай я сама с ней поговорю. — Ты уверена?.. Она кивнула и, услышав в трубке мужской голос, произнесла: — Пол, это Мэриан. Позови, пожалуйста, Мадлен. — Как только хватило наглости? — рявкнул Пол. — Мало тебе? Не знаю, что ты ей вчера наговорила, но я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. — Пол, прошу тебя, мама… Но он уже отключился. — Не беспокойся, — сказал Мэтью, — я все улажу. Он сел на кровати, откинувшись на подушки, и снова привлек ее к себе. Она немного поспала, а когда проснулась и увидела, что он все еще здесь, просияла. — Как ты себя чувствуешь? — Не знаю. Как в страшном сне. Но ты здесь… — Она сглотнула застрявший в горле комок. — Мэтью, прости, что я испортила кадр. Я не хотела… — Молчи. Это я должен просить прощения. Она засмеялась. Он немного отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. В них все так же стояли слезы. У него болезненно сжалось сердце. — Ох, Мэриан… Прижав свои губы к ее губам, он бережно положил ее на спину и лег сверху — чтобы целовать, обнимать и утешать ее.* * *
Утром он отвез ее в аэропорт Кеннеди и оставил там — одинокую фигурку с сердцем, разрывающимся от счастья и отчаяния. Глаза Мэриан не просыхали от слез. Мэтью… Нельзя о нем думать — только о маме. Два дня назад, когда она тщетно пыталась дозвониться, Селия была уже при смерти… Мэриан запрокинула голову и некоторое время бесцельно наблюдала за дрейфующими в небесной синеве облаками. В природе царила тишь, а в ее груди бушевал шторм. Ах, мама, мама! Если ты меня слышишь, знай — я безмерно люблю тебя! Господи, передай, пожалуйста, маме, что мое сердце разрывается от любви и скорби. Пусть ей будет хорошо там, наверху!.. Господи, сделай так, чтобы этого не было! Чтобы я приехала домой — и увидела ее… Объявили посадку на ее рейс. Мэриан опустила голову. Сколько событий всего за несколько дней! Она так старалась быть сильной, но сейчас силы покинули ее. Опереться бы хоть на чье-нибудь плечо. Пусть бы кто-то любил ее, не оставлял одну… но никого не было. Она глубоко вздохнула и вдруг почувствовала чью-то руку у себя на плече. Наверное, это стюардесса просит ее поспешить… Мэриан подняла голову и встретила полный сочувствия взгляд. — Мэриан, — тихо сказала Грейс. — Я лечу с тобой. (обратно)Глава 23
Усталые лучи конца лета пронзали темные аллеи, высвечивая булыжник под ногами и частично искрошившиеся, сплошь в трещинах, желтовато-коричневые стены. Ставни были закрыты; балконы с ажурными перилами из ковкого чугуна увиты плющом; земля иссушена зноем. От неплотно закрытых канализационных люков шел едкий запах; возгласы играющей ребятни не нарушали дремотного покоя. Серджио шел заложив руки в карманы, ни на чем не останавливая взгляда. Флоренция. Крупнейший культурный центр эпохи Возрождения. Торговцы, лошади, шелест юбок из грубошерстной ткани, звон флоринов, зловонные канавы, грязь, нищета и роскошь — он почти видел, слышал, осязал все это. Вот прогромыхала карета; нищий цепляется за ноги; а в отдалении звуки органа капеллы Медичи перекрываются радостными кличами при виде Мастера. Чей-то голос настойчиво пробивался сквозь грохот, выкликая его имя, пока не заглушил заунывные звуки прошлых столетий. Подняв голову, Серджио увидел одного из своих студентов — тот махал ему рукой, высунувшись из окна. Он махнул в ответ и, облизнув сухие губы, почувствовал горький вкус мраморной пыли. Пальцы еще ощущали резец. Серджио усмехнулся. Он как будто застрял между прошлым и настоящим и испытывал чувство, близкое к эйфории. Он был частью Флоренции, так же как она была частью его самого. Каждое лицо, каждый камень, каждое произведение искусства бесконечно много говорило его сердцу, питало тщеславие художника, со временем перешедшее в неутолимую жажду признания — не только ради собственной славы, но и ради славы любимого города. Она, эта жажда, стала такой же потребностью, как другие жизненно важные потребности его тела. Когда все будет кончено, его назовут безумцем: просто не смогут подобрать другого определения. Им не понять его экстаз и агонию, но, возможно, настанет день, когда первоначальный шок сменится восхищением и люди поднимутся до понимания его мотивов и свершений. Много лет назад, будучи двадцатилетним юношей, он возомнил себя современным воплощением Мастера. Но повзрослев, понял, что хотя верностью призванию и остротой душевных мук не уступает Микеланджело и всецело проникся его мироощущением, а его искусство вобрало в себя приемы гения, однако у него свой, особый творческий путь. Эпоха Кватроченто воздала хвалу Мужчине — двадцатый век призван воспеть Женщину. На душе у Серджио полегчало; он ускорил шаг. Его маршрут лежал через вытянутый в длину двор галереи Уффици. Впереди виднелись каменные своды; за ними катила свои воды Арно. На набережной он остановился купить вечернюю газету. Заметка на второй странице его не удивила. Еще вчера весь мир узнал о тщательно скрываемой трагедии дома Таралло. Росария, жена знаменитого гонщика Энрико Таралло, мать его сыновей, умирает от рака. Энрико вернулся в Италию. Серджио двинулся дальше, замедлив шаг; сердце сжалось. Много лет он запрещал себе думать о семье Таралло, но сейчас на него нахлынули воспоминания детства. Он увидел Росарию девочкой — уже тогда она была неразлучна с Энрико. Он, Серджио, тоже любил ее — как сестру. Она всегда внимательно слушала, с ней можно было делиться сокровенными мечтами, не рискуя напороться на насмешку. С другими она была застенчива, боязлива; Энрико защищал ее — даже от деспотичной матери. Точно так же Сильвестра, бабушка Энрико, защищала Серджио от необузданного нрава его собственной матери; по счастью, он так редко ее видел, что Сильвестра заняла ее место. Эта знатная дама, обитавшая во дворце, обращалась с ним, уличным мальчишкой, как со своим сыном; Энрико считал его братом. Семья Таралло стала его семьей; он разделил их горе, когда умер отец Энрико; он их искренне любил. А потом предал. Серджио остановился и дотронулся ладонью до шершавой каменной стены, чтобы прогнать воспоминание — прекрасное лицо Арсенио. Арсенио, возлюбленный младший брат Энрико и обожаемый внук Сильвестры… Мальчик, который преклонялся перед талантом Серджио, умолял взять его в bottega… Он продолжил путь — и уже не пытался отмахнуться от сменявших друг друга картин прошлого. Трагедия семьи Таралло была все равно что его собственной. Воздух в его квартире был спертым, но он не стал открывать окно, а разделся и стал под душ. Все это было так давно, но иногда его мутило от воспоминаний о пролитой крови. Однако настанет день — и весь мир падет к его ногам, сраженный величием его таланта и совершенством техники. Место в анналах истории ему обеспечено, но он заплатил высокую цену. Утром по радио передали о кончине Росарии. Значит, ждать осталось совсем недолго. Скоро великолепная Сильвестра покажет силу своего гнева и глубину ненависти. Теперь более чем когда-либо он должен думать о деле своей жизни — и о мести Полу О’Коннеллу, человеку, который причинил ему, а стало быть, и семье Таралло, непоправимое зло. Он снял трубку и набрал телефонный номер Дарио в Лондоне.* * *
Дейдра вышла на веранду виллы в Ла Тюрби. Из висящих над головой кашпо свисали пышные ветви герани и лобелии, почти смыкаясь с тянущимися вверх розовыми кустами, искусно рассаженными вдоль балюстрады. Веранда выходила в сад камней. Каменная дорожка вела от ступеней через лужайку и, раздвоившись, окаймляла бассейн. Из окон верхнего этажа открывался изумительный вид на Монте-Карло, море и берег Италии. Вилла принадлежала одной из ее приятельниц, уехавшей в Юго-Восточную Азию. Дейдра сняла ее за счет Мадлен на неделю, пока будет длиться рекламная кампания фирмы «Пирелли»; дело шло к концу. Вечером им предстояло с группой моделей и фотографов отправиться на банкет в «Отель де Пари». А на завтрашний вечер Дейдра запланировала вечеринку на вилле в честь окончания кампании и дня рождения Мадлен, которой исполнялся двадцать один год. Спустившись с веранды, Дейдра глубоко вдохнула цветочный аромат и, надев солнечные очки, устроилась возле бассейна и стала наблюдать за Полом, чьи могучие плечи рассекали водную гладь. Экономка Женевьева принесла бутылку ледяного лимонада. Сняв саронг, Дейдра вытянулась на шезлонге. Пол восхищенно свистнул. Она жестом предложила ему лимонад. Он мотнул головой и ушел под воду. Она вернулась мыслями к телефонному звонку Серджио неделю назад. Если бы не это, она бы и не подумала тащиться на юг Франции. Но он сказал: обстоятельства изменились, Мадлен может понадобиться ему скорее, чем он ожидал, хотя он и не может пока назвать точную дату, равно как объяснить причину спешки. С тех пор Дейдра провела не одну бессонную ночь. Конечно, она выполнит его просьбу, но неспокойная совесть доводила ее до отчаяния. В последнее время она стала настороженно держаться с Полом. Почему он не скажет Мадлен правды о своем происхождении, богатстве и связях? Почему махнул на все это рукой и долго ли еще будет скрывать? Ее подмывало задать ему прямой вопрос, но Серджио предупредил, чтобы она этого не делала. Дейдра нутром чуяла: между этими двоими существует тайная и, быть может, зловещая связь, а то, что Мадлен очутилась меж двух огней, добавляло тревожных предчувствий; чувство вины разрослось до немыслимых пределов. Ее также беспокоили внезапные приступы холодности со стороны Шамиры. И еще эта семейная ссора! Из-за всего этого Мадлен оказалась в изоляции — и никто, кроме Дейдры, не подозревал об этом. Вот зачем она поехала во Францию: чтобы быть рядом с Мадлен. Внутреннее состояние Мадлен также внушало тревогу. Казалось, в Нью-Йорке она пережила стресс, но, так же как Пол, держала рот на замке. Эта история как будто еще теснее сблизила любящих — и то слава Богу! Да, пусть Мадлен будет счастлива — пока она, Дейдра, и Серджио все не разрушили. Ведь если Мадлен суждено исчезнуть, как Оливии, и на такой же срок, все действительно рухнет. Дейдра закрыла глаза, стараясь прогнать неотвязные апокалиптические видения. Неужели она принесет Мадлен в жертву своему счастью? Внутренний голос ответил: да, принесет. Она слишком долго ждала, чтобы упустить свой шанс. Пять лет Оливия томится в bottega; отпустит ли ее Серджио, когда получит Мадлен? Вряд ли — ведь он пообещал, что они явятся в мир вместе. Так она вернется? Будет, как прежде, наслаждаться жизнью? Во всяком случае, страстная любовь Пола делает все гораздо проще. Дейдра резко поднялась с шезлонга. Кого она хочет обмануть? Проще не будет! Ничего не будет проще! — Ты так и не окунешься? — прокричал Пол. Она махнула рукой. — Нет. Голова раскалывается. На пороге столовой она услышала за спиной звонкий смех и обернулась. Мадлен с Шамирой сходили по каменным ступеням в сад. Вот они подошли к бассейну и лениво разделись. Кругом на деревьях красовались спелые плоды. Море на горизонте отливало бирюзой. Мадлен повернула золотистую головку, и у Дейдры сжалось сердце: ни дать ни взять одна из граций с картины Боттичелли «Аллегория Весны». Не потому ли Серджио избрал ее? Неужели и он заметил сходство?* * *
Гриль-бар на крыше «Отель де Пари» был уже открыт. На черном бархате неба ярко блестели крошечные булавочные головки звезд. Запахи горящего дерева и жареной рыбы смешивались с ароматами духов. Мадлен и ее свита прибыли последними и заняли свои места за столиком на двенадцать человек возле громадного, во всю стену, окна с видом на Ривьеру. Однако посетителям было не до красот модного курорта. От столика к столику плыл шепоток — и наконец Мадлен узнала, в чем дело. В нескольких метрах от них одиноко сидел Энрико Таралло. — Он тяжело перенес смерть жены, — пояснила одна из манекенщиц. — Несколько дней пропадал в море на своей яхте. — Бедняга, — молвила другая. — Интересно, куда он подевал детей? — Должно быть, отправил к бабушке. Это одна из самых богатых женщин Италии. Он унаследует большую часть ее состояния. — А вы видели его жену? — спросила Шамира, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Абсолютно не на что смотреть. — Зато из очень богатой семьи. Не потому ли он и женился на ней? В Италии до сих пор приняты браки по расчету. Зато теперь, когда он освободился, ему понадобится утешение — и блеск. Как вы расцениваете мои шансы? Дейдра неодобрительно посмотрела на свою подопечную Софи, которой принадлежала эта реплика. Та надула губы. — Тогда зачем он сюда явился? — Это его дело, — многозначительно произнес один из фотографов. На этом разговор не кончился. Вскоре стало ясно, что Софи выразила чуть ли не всеобщие чаяния. Мадлен была непривычно тиха, но Пол подметил взгляды, бросаемые ею на Таралло. Он сидел между Шамирой и Дейдрой, а Мадлен — напротив него, рядом с Софи. Эти две девушки недолюбливали друг друга, и у Пола мелькнула мысль: уж не хочет ли Мадлен досадить Софи? Однако нет, она не кокетничала. Пол насторожился и даже сам стал присматриваться к прославленному гонщику. Но тот никак не тянул на потенциального соперника. Даже когда Энрико сидел, было видно, что он по меньшей мере на несколько сантиметров ниже Мадлен. У него наметилась залысина, да и фигура была не из тех, что нравились Мадлен. Тем не менее, она проявляла именитому соседу повышенный интерес. От Энрико не укрылось всеобщее внимание, особенно со стороны Мадлен. Внешне он не поощрял и не отвергал ее притязания — просто смотрел сквозь нее, однако в груди клокотал гнев. Он ненавидел пустых самовлюбленных красоток наподобие Мадлен Дикон. Их выставленная напоказ красота граничила с уродством. А то, как она задирала ноги, демонстрируя отсутствие белья, вызвало у Энрико отвращение. Неужели она рассчитывает разжечь в нем страсть, прекрасно зная, что две недели назад он похоронил жену? Ему стало так противно, что он бросил на нее злобный взгляд и подозвал официанта. — С горя потерял аппетит, — съехидничала одна из моделей. — Нет, — грустно ответила Мадлен, — он обиделся. Мы глазели на него как на дикого зверя в зоопарке. — Отвечай только за себя! — фыркнула Софи. Мадлен вздрогнула. И правда, она-то и глазела больше всех. Ей стало стыдно; захотелось плакать. Пол встал и вывел ее в фойе. — В чем дело, Мэдди? — Не знаю, — ответила она, глотая слезы. — Просто мне его жалко. Он так одинок и несчастен. — И поэтому ты ревешь? Она судорожно глотнула воздух. — Не знаю, Пол. Правда! Наверное, все дело в Мэриан, но ты не любишь о ней говорить. — Мэдди, с тех пор как она заявилась в «Плаза», мы ни о чем другом и не говорили. Неужели ты приняла это близко к сердцу? — Нет… Наверное, нет… Все равно без толку. — Вот именно. Главное — это мы с тобой. — Знаю. Но несчастный вид Энрико Таралло напомнил мне о ней. До ее прихода я была спокойна, ни о чем не жалела… — Это пройдет, любовь моя. Я с тобой. — Он приподнял ее лицо за подбородок. — Ты ведь хочешь, чтобы я остался с тобой? — Конечно. — А то я уже начал думать, что ты сделала ставку на Таралло. — Ах, Пол, я не могу даже смотреть на других мужчин. — Однако смогла — на Таралло. — Это другое дело. Говорю тебе, мне было жаль его. Ты ведь не сердишься? — Нет… Да, черт возьми, сержусь! Я тебя бешено ревную. — Это хорошо. Мне спокойнее, когда ты ревнуешь. — Ладно, Мэдди. Поцелуй меня и пойдем обратно. — Пол… Ты знаешь Энрико? Я имею в виду — лично? Он резко повернулся к ней. — Нет. Но один мой знакомый знает.* * *
Лежа у себя в номере, Энрико испытал угрызения совести за то, что выместил злобу на Мадлен Дикон. Вряд ли она хотела его обидеть. Она такая, какая есть. Привыкла выставлять ноги и заигрывать. Он сам виноват: не надо было бросать якорь в таком месте. После похорон он покинул дом и ушел на яхте далеко в море — оплакивать утрату. Там, в полном одиночестве, он громко сетовал на несправедливость судьбы, пославшей смерть молодой, любящей и любимой женщине. Однако легче не стало. Наоборот, горе разбухло до таких размеров, что угрожало задушить его. Энрико встал с кровати. Сердце истекало кровью. Будет ли этому конец? Сквозь открытое окно до него донесся звонкий женский смех. Он подошел и снова увидел эту Дикон со свитой. Нет, он правильно сделал, что выказал ей свое отвращение. Она заслужила — хотя бы тем, что является полным ничтожеством и все-таки живет на земле! Из рамки на ночной тумбочке ему улыбалась Росария. И он не выдержал — тоже улыбнулся. Зачем обращать внимание на всякую шваль? Телефонистка соединила его с Тосканой, и он узнал, что бабушка Сильвестра с его сыновьями уже на пути на Сардинию. Следующий звонок был на борт яхты «Росария». Завтра они возьмут курс на Ниццу. Путешествие закончится на Сардинии. Там он даст волю своему горю и посвятит остаток лет близким. Близкие… Перед его мысленным взором возникло прекрасное лицо Арсенио. Блестящие, черные как смоль волосы зачесаны за уши. Большие темно-карие глаза. Типичный для жителей Флоренции длинный нос. Улыбчивый рот… Таким он был когда-то — но не теперь. Чтобы заглушить душевную боль, Энрико сжал ладонями виски. Он безумно любил Арсенио. А если и проявил жестокость, то для его же блага. Но эти доводы никогда не казались убедительными. Наступит день, когда ему придется ответить за то, что совершили они оба — он и Арсенио. А поскольку нет больше Росарии, вечно бросавшейся на защиту Серджио Рамбальди, этот тоже ответит.* * *
Настал день рождения Мадлен. Распивая на террасе шампанское, она разглядывала подарки от Дейдры и Шамиры. А когда приехала на пристань — место сегодняшней фотосъемки, — руководители концерна «Пирелли» преподнесли ей умопомрачительный комплект нижнего белья и экзотический кактус. — Очень смешно! — шутя ворчала она, щекоча колючками Шамиру. Та хохотала до слез. Этот эпизод задал тон всему дню, так что, вернувшись на виллу, Мадлен едва не падала от усталости — столько хохотала. Сидя в своей спальне, она одевалась к банкету, который Дейдра давала в честь ее дня рождения. Сидя с коктейлем в руках, Пол наблюдал за ее приготовлениями. В мягком освещении кожа Мадлен приняла медный оттенок. Она была прекрасна. Пол отошел к окну. Стемнело. Скоро нужно будет ехать на банкет. Но он должен сделать признание прямо сейчас. Он заранее все продумал, даже отрепетировал. Ему нужно было заручиться слепым, безоговорочным доверием Мадлен: не только для успеха сегодняшнего предприятия, но и на будущее. Он глубоко втянул в себя влажный морской воздух и, заложив руки в карманы, решительно произнес: — Мэдди, от твоих денег ничего не осталось. Мадлен заморгала, однако на губах застыла улыбка, словно она ждала, что Пол признается в розыгрыше. — Твои семьсот пятьдесят тысяч фунтов вышли почти два месяца назад. — Ты хочешь сказать, что мы должны? — Нет, любовь моя. Просто мы теперь существуем на мои средства. Но не на те, что заработаны литературным трудом. Она тщетно силилась понять, куда он клонит. — Тогда откуда… — Я богат, Мэдди.Всегда был богат. Сегодня мое имение оценивается в десять миллионов фунтов. Мой личный капитал — пять миллионов. Я не говорил тебе раньше, потому что хотел посмотреть, как ты распорядишься украденными у Мэриан деньгами и как низко падешь, чтобы добиться успеха — для нас обоих. Я понимаю, это неприятно слышать, и стыжусь, но если сейчас я не буду полностью откровенен, ты не сможешь мне верить. Я дурно с тобой обошелся, и хотя теперь ты знаешь мои мотивы, тебе от этого не легче. Однако теперь лжи пришел конец. Больше — никаких фокусов. И еще одно: я больше не намерен платить Дейдре за твою карьеру. Я убежден — если захочешь, ты вполне сможешь обойтись без нее. Она таращила на него глаза, очевидно, будучи не в силах переварить все сразу. — Дом переписан на мое имя, машины тоже. Твой счет у Каутса аннулирован. — Ты хочешь сказать, что я разорена? — В общем да. Зато я — нет. Остальное не имеет значения. Она растерянно смотрела на него. — Да, наверное. — Неужели это так плохо — зависеть от меня? Мадлен молчала, а он пытливо вглядывался в ее лицо, пытаясь прочесть ее мысли. Наконец она сказала: — Понимаю. Ты сказал, что я разорилась, и сразу же сообщил, что богат. Значит, мне не о чем беспокоиться? Пол погладил ее по голове. Мадлен в своем репертуаре: в первую очередь воспринимает практическую сторону дела. Тайные мотивы, лежащие в основе его манипуляций, подспудный смысл его лжи — все это ей недоступно. Мадлен подняла на него сияющие глаза. — Пол, ты любишь меня, несмотря на то, что у меня ничего нет — только тело и лицо? — Этого более чем достаточно. И пусть сегодня у тебя нет ни пенса, скоро дела поправятся. А пока, дорогая, ты всецело в моей власти.* * *
Звонко стрекотали цикады. В отдалении вздыхало море; о прибрежные валуны бились волны. Из соседней комнаты доносился гул голосов, а здесь, в столовой, звучали романтические мелодии Рахманинова. На столе возле каждого бокала лежала сложенная красная салфетка. Столовое серебро и хрусталь отражали пламя свечей. На террасе покачивались от легкого ветерка разноцветные лампочки. Дейдра окинула столовую критическим взглядом и подала Женевьеве знак, чтобы та приглашала гостей. Не успела Мадлен усесться на почетное место во главе стола, как в бой ринулись фотографы. Она и Пол нежно улыбнулись друг другу. По просьбе Серджио Дейдра ухнула в это скромное чествование уйму денег, чтобы оно попало если и не на первую полосу, то хоть в колонки светской хроники газет во всем мире. Он велел до самого конца создавать Мадлен паблисити. Пир стоял горой. Гости смеялись, пили вино, закусывали печеночным паштетом и свежим морским окунем. Потом подали фирменное блюдо Женевьевы — говядину в винном соусе. Голоса становились все громче; каждый старался переплюнуть остальных по части светских сплетен; непристойности и злые нападки на друзей и знакомых сопровождались хриплым смехом. У Шамиры блестели глаза; она то и дело разражалась бессмысленным смехом, что было совсем не в ее духе. Она сидела между французским корреспондентом «Нью-Йорк таймс» Джоном Родди и Дарио — фотографом и деловым партнером Дейдры. Уж не крутит ли Шамира любовь с Джоном Родди, подумала Дейдра. Они с Мадлен обменялись многозначительными взглядами. Перед десертом Дейдра сделала знак Дарио следовать за ней и выскользнула из столовой. Он догнал ее в холле — худой невысокий человек с гладким лицом и большими карими глазами. Она проработала с ним семь лет, но с тех пор как узнала о его принадлежности к bottega, он стал для нее незнакомцем. — Ты говорил с Серджио? — Вчера собиралась bottega. Я разговаривал с ним после того, как все разошлись. — Что он сказал? — Мадлен понадобится ему раньше, чем ты думаешь. Она побледнела. — Когда? — Через три недели. Дейдра ахнула. — Он говорил, обстоятельства изменились… возникли осложнения… но так скоро… Почему, Дарио? Прошу тебя, объясни мне, в чем дело! Он давно подозревал: Дейдра не знает, что Серджио как-то связан с семьей Таралло, — и сейчас лишний раз убедился в этом. — Не имею права. Так хочет Серджио. Дейдра промолчала. Нельзя давить на Дарио. Ей страстно хотелось спросить его об Оливии. Он член bottega и знает ответы на все вопросы. Ей ничего не нужно, только бы знать, что Оливия жива. Но на лице итальянца отразилось сожаление, и Дейдра поняла: он прочел ее мысли. — Я не имею права посвящать тебя в тайну. Но обещаю: придет время — и ты увидишь их обеих. Постарайся, чтобы не позднее чем через три недели Мадлен очутилась в Италии. Сделаешь? В его голосе не было угрозы: не пришло еще время угроз. Она любит Серджио — может быть, больше жизни — и пойдет на все, лишь бы стать его женой. Если же нет — он, Дарио, убьет ее. Таковы инструкции, полученные им от Серджио. Она слишком много знает. — Конечно, сделаю, — ответила Дейдра. Нельзя показывать страх — именно потому, что этот человек опасен. В столовой всеобщее веселье достигло апогея. Дейдра порадовалась за Мадлен. Та еще раньше шепнула ей, что знает, какой сюрприз приготовил Пол, но не скажет: он хочет сам оповестить публику. Очевидно, они назначили дату свадьбы. Мысленно Дейдра уже представляла себе лицо Мадлен, обсыпанное конфетти. Под аккомпанемент двух местных парней — один играл на трубе, а другой бил в барабан — Женевьева и ее помощница внесли именинный торт со свечами. Все хором спели «С днем рождения». Потом Дейдра постучала по столу, требуя внимания. Пол улыбаясь встал из-за стола. И, подождав, пока все угомонятся, поднял свой бокал. — Как вы наверняка уже знаете, я приготовил для Мадлен сюрприз. Она полагает, что догадывается, какой, но это не так. Итак, если вы готовы, дамы и господа… Мадлен, я хочу, чтобы ты первая нас поздравила. Я сделал Шамире предложение, и она приняла его. Со всех лиц моментально сошли улыбки; все глаза обратились к Мадлен. Слишком потрясенная, чтобы пошевелиться, она тупо взирала на Пола, а он все с той же улыбкой протянул руку к Шамире. Воцарилась мертвая тишина. И вдруг у Мадлен выскользнул из рук фужер и разбился. Это привело ее в чувство, и она стремглав бросилась к двери; никто не успел глазом моргнуть. Серебристое платье блеснуло и растворилось во тьме. Дейдра ринулась следом. Но когда она добежала до боковой калитки и выскочила на неширокую горную дорогу, Мадлен уже не было. (обратно)Глава 24
Энрико молча наблюдал за тем, как береговая кромка тает, словно воск, в розовой утренней дымке. Волны с белопенными гребешками лениво плескались о борта «Росарии». Энрико вздохнул и спустился в каюту. Горький аромат кофе смешивался со сладковатым запахом душистого мыла. Он улыбнулся. Мадлен хотела вернуть улыбку, но к глазам подступили слезы. — Я думал, вы поспите, — сказал он, беря у нее кофейник и наливая две чашки. Потом передал кофейник наверх, матросам. — Вернемся в салон. Диванные подушки еще хранили очертания ее тела. С дверцы шкафа свисало серебряное платье. Мадлен переоделась в халат Энрико, и он мысленно поблагодарил ее за то, что она не тронула вещей Росарии. Энрико все еще не был уверен, что правильно поступил, взяв ее с собой. Но когда он нашел ее в предутренней мгле сидящей на палубе в своем великолепном наряде, у него не хватило духу прогнать ее. Увидев его, она отпрянула, словно ожидая удара. Он заговорил по-итальянски, перешел на французский — и только потом вспомнил, что она англичанка. Он потребовал объяснений — в грубой, ультимативной форме; на ее лице появилось выражение затравленного зверька. Мадлен попыталась сигануть мимо него, но он поймал ее и заставил объяснить, как она сюда попала. Она кивнула и не слишком разборчиво заговорила. Все же с грехом пополам ему удалось восстановить картину вчерашнего вечера. Когда Мадлен закончила, у нее было белое, осунувшееся лицо: казалось, до нее самой только сейчас дошел весь ужас происшедшего. Он не стал задавать вопросов — например, почему она выбрала именно его яхту. Все знали, что Энрико Таралло потерял жену. Эта несчастная решила, что одно разбитое сердце поймет другое. Не без досады, но решил взять ее с собой. Что он будет делать с ней на Сардинии, Энрико пока не знал. На острове его бабушка и сыновья — и, конечно, там их с Мадлен дороги наверняка разойдутся. Теперь, когда они пили кофе, он рассудил: — Вам нужно позвонить Дейдре, чтобы она не волновалась. Можно передать по рации. — Потом, когда пристанем в Порто Черво. — Как вам угодно. В глазах Мадлен опять заблестели слезы. Он сел поближе и положил ее голову себе на плечо. И бедняжка уснула. Проснувшись, она нашла Энрико сидящим на палубе. Прокравшись мимо двух матросов у штурвала, села рядом. — Ну что, вам лучше? — Кажется. Взгляд Мадлен скользнул по его загорелым ногам с густой порослью черных волос. Плечи были нешироки, но мускулисты, а орлиный нос придавал красивому — особенно когда Энрико улыбался — лицу мужественное выражение. Она перевела взгляд на море. Солнце зажгло на воде бриллиантовые искры. — Красиво, да? Она кивнула и проглотила подступившие слезы. Энрико улыбнулся. — Природа — великая утешительница. Море дарит покой, солнце — тепло, а небо — ясность. Все вокруг словно учит: нельзя поддаваться унынию. В океане не одна капля. Здесь понимаешь: твоя жизнь — всего лишь минута в бездонной вечности. Сказав это, он закрыл глаза и откинулся назад. То были слова Росарии, сказанные, когда они пустились в очередное плавание и она открыла ему, что должна умереть. — Мне очень жаль, — еле слышно произнесла Мадлен. — Чего? Ей хотелось выразить ему свое сочувствие, но она не решилась. — Что я вам так навязалась. Он улыбнулся. — Может, оно и к лучшему. Куда бы вы еще пошли? Это было задумано как шутка, но она вздрогнула, как от удара. — Не знаю. У меня нет денег. Не просто с собой — вообще нет. — Вы же знаменитость. Ваше лицо встречаешь повсюду. У вас должны быть… — Нет. Я все истратила. Ничего не осталось. — Значит, вы нищая? Ирония в его голосе больно ужалила Мадлен в самое сердце. — Да, нищая. Ни денег, ни друзей, ни семьи. — Плохо, — сказал Энрико и понял, что больше не нужно ничего говорить. Немного погодя она сама заговорила: — Я слышала, у вас есть бабушка и сыновья. Должно быть, очень приятно иметь семью. Вы их любите? — Конечно. А вы, Мадлен? Вы любите своих родных? Неужели у вас совсем никого нет? — У меня есть тетя и двоюродная сестра — все равно что родная. Но я предала их. Особенно кузину. Если бы у меня хватило мужества искупить свою вину! Но уже поздно. Она никогда не простит. Сама того не зная, Мадлен затронула самое больное место, пробудила угрызения совести, преследовавшие Энрико после смерти Росарии. Он и раньше винил себя, но ничего не мог предпринять, потому что Росария любила Серджио и, несмотря на случившееся с Арсенио, заступалась за него. Он резко поднялся и отошел к другому борту. Слова Мадлен неотвязно звучали в мозгу. «Я предала их… Если бы у меня хватило мужества искупить свою вину! Но уже поздно…» Пять лет назад он упрятал Арсенио в лечебницу для душевнобольных, и с тех пор не проходило дня, чтобы он не спрашивал себя: кто дал ему право судить и решать судьбу брата? Он уговаривал себя: это было сделано для его же блага, — но в глубине души сознавал, что Арсенио заперли из-за имени, которое он повторял в бреду. Только семья Таралло имела право знать о bottega и о том, что причиной его безумия послужило то, что произошло с Оливией. Тогда Сильвестра отказала Серджио от дома, но не выдала полиции. Впрочем, она знала только часть правды. Никто из них — ни она, ни Энрико — не знал всего, что произошло в ту роковую ночь. Возможно, докопавшись до истины, он сумел бы искупить вину и вернуть Арсенио домой. Но всей истиной владел только Серджио, а он никогда не скажет. Усилием воли заставив себя вернуться в сегодняшний день, Энрико поискал взглядом Мадлен. Какое бы зло она ни причинила своей кузине, оно не может сравниться с тем, как он распорядился судьбой Арсенио. Он заклеймил брата клеймом убийцы, лишил семейной поддержки, низвел до уровня тени, оболочки человека, и все только для того, чтобы выгородить Серджио. Он нашел Мадлен на камбузе — она взбивала яйца, одетая в одну из его рубашек. Так часто одевалась Росария, и это его оскорбило. Под его тяжелым взглядом Мадлен смутилась. — Я скверная повариха, но надо же поесть. Однако выражение лица Энрико осталось жестким. Мадлен растерялась. — Пол всегда говорил, что злость возбуждает. Может быть… Я знаю, вам тяжело… может, вам станет легче, если… я у вас в долгу… Его лицо перекосилось от презрения. — Это яхта моей жены! Вы оскорбляете нас обоих: меня и ее — своими мерзостями. — Простите. Простите, Энрико, не обижайтесь, пожалуйста. Я просто… — Убери руки! Немедленно сними эту рубашку, надень свое платье и оставайся здесь, пока не прибудем в Порто Черво. Не хочу тебя видеть! — И он выбежал на палубу, исполненный отвращения к самому себе, потому что почувствовал, что его тело может предать сердце. Чувствуя настроение хозяина, матросы держались от него подальше и закрывали уши для всего, что не было гулом океана или криками чаек. Солнце описало дугу, не встретив ни единого облачка. Стыд жег Энрико не меньше солнечных лучей. Что он знает об этой девушке? Только то, что писали в газетах, а на прессу нельзя полагаться, это он знал по своему опыту. Она предложила ему себя, как другие, потому что он был знаменитым гонщиком. Но, с другой стороны, Мадлен Дикон сама не обделена славой. Вдруг она сделала это от чистого сердца, по-своему проявляя милосердие? Скорее всего, она не знает других средств выразить благодарность, а он отшвырнул ее с неменьшей жестокостью, чем человек, которого она любила. Когда Энрико снова спустился вниз, по волнам за «Росарией» следовала гигантская тень. Он остановился в дверях, понимая, что должен что-то сказать, но, сидя в уголке в своем серебристом платье (как он велел), Мадлен казалась такой юной и беспомощной, что он поперхнулся словами. Посмотрели бы на нее сейчас все эти люди! Что они знают о чувствах таких женщин, как Мадлен? — Прошу прощения, — хрипло выговорил он. — У вас свое горе, и мне следовало бы поблагодарить вас за попытку помочь мне перенести мое. Она поникла головой, спрятав лицо за волной золотистых волос. Он сел рядом на скамью. — Вы по-настоящему любили свою жену? — почти шепотом спросила Мадлен. — Да. — Я вас видела с ней. После вашей победы в Силверстоне. Она уже тогда знала о своей болезни? — Да, знала. — И что… скоро умрет? — Да. — Простите меня, Энрико. Мне, правда, очень жаль. Я не хотела вас обидеть. — Она вдруг порывисто обняла его. Энрико поднял голову. — Сейчас не время, но открою-ка я бутылку виски… — Насчет вашей кузины, — сказал он после того, как они молча выпили по рюмке. — Не может быть, чтобы вы сделали нечто до того ужасное, чтобы она не смогла простить. В трудное время, Мадлен, человек нуждается в поддержке семьи. Только родные могут бескорыстно любить и прощать. Мэриан знает, в чем вы провинились? — Частично. И это она уже простила. Но есть еще кое-что. Я обманула и ограбила ее, а потом по-хамски вела себя, когда она пришла повидаться со мной в Нью-Йорке. Самое странное то, что я не хотела этого, но чувствовала себя до того виноватой, что меня понесло. С тех пор, как я совершила эту подлость, я не знала ни покоя, ни счастья. Но, понимаете, я так хотела Пола, что была готова на все. — И севшим голосом добавила: — Он задумал погубить меня. И вот — я нищая. Ни дома, ни друзей, ни семьи. И все так же хочу его — вы можете этому поверить? Он улыбнулся. — Любовь зла. — Вам повезло, Энрико: Росария любила вас по-настоящему. — Да, в этом смысле мне повезло. — Почему мы не можем жить без любви? — Не знаю, cara. Наверное, потому что без этого не чувствуем себя людьми. Есть много родов любви, но любовь между мужчиной и женщиной — самая прекрасная. И самая трагическая. Ты достигла вершины славы, я стал знаменитым гонщиком… И мы оба убедились, что успех — ничто по сравнению с любовью, а слава не способна уберечь от горьких утрат. Нужно искать опору в семье — только она дает силу жить дальше. — Ты говоришь совсем как Мэриан. Он усмехнулся. — В таком случае Мэриан — мудрая женщина. Не правда ли? Мадлен тоже немного повеселела. — Ах, если бы она оказалась рядом! Я даже не знаю, где она сейчас — возможно, еще в Нью-Йорке. Но знаешь что? Как только я вернусь в Англию, сразу же разыщу Мэриан. Тетя наверняка знает, где ее искать. Мы сядем втроем, и я признаюсь в тех гадостях, которые совершила. — Я уверен, они простят, потому что почувствуют, что ты их любишь. А теперь, поскольку мы подплываем к Порто Черво, пора одеваться. Облачившись в шорты и рубашки из его гардероба, они сошли на берег. Зашли в переполненное кафе. И там, за аппетитной пиццей и охлажденным «фраскати», вели оживленную беседу, помогая друг другу забыться. Энрико рассказывал о гонках, и Мадлен почти физически ощущала упоение скоростью и риском, мысленно переживала ни с чем не сравнимую радость победы. В свою очередь, он расспрашивал ее о профессии модели и ужаснулся, узнав, как часто ей приходится обнажаться перед камерой. — По-твоему, это плохо? — растерянно спросила Мадлен. — Да, ужасно. — Но, поймав ее затравленный взгляд, он смягчился. — Ты прекрасная женщина, Мадлен; не сомневаюсь, людям доставляет удовольствие любоваться твоим совершенным телом. Но самой-то тебе нравится? — Да, — хмуро ответила она. — Похоже, ты не уверена. Может, тебе больше не нужно этим заниматься? — Не знаю. Сейчас мне уже все равно. — А раньше было не все равно? Она повела плечами. — Наверное. Меня никогда не влекло ни к чему другому. — Ну хорошо. Ты вырвалась вперед, но рано или поздно тебя обойдут другие — и что тогда? В ее глазах сверкнуло лукавство. — Может, стану гонщицей? Он ущипнул ее за нос. Они и не заметили, как к ним подкрался фотограф, а за ним другой. И вдруг — вспышка! Энрико пришел в ужас. Быть застигнутым в такой обстановке — вскоре после смерти жены! Он вскочил и сбил наглеца с ног. Внезапно вокруг них словно вспыхнул фейерверк — пресса рвалась запечатлеть на пленке сенсационный поворот сюжета. Мадлен бросилась к Энрико, но кто-то схватил ее за руку и потащил к выходу. Она отбивалась и звала на помощь, однако похититель зажал ей рот. Ее, как мешок, затолкали на заднее сиденье лимузина.* * *
Мэтью приехал вечером. Мэриан изнемогала от желания вновь очутиться в его объятиях, как в Нью-Йорке, но этого не произошло. Они проговорили всю ночь — главным образом о ее матери и Мадлен. Мэтью тоже рассказал о своей семье. Имя Стефани не упоминалось, но Мэриан почти физически ощущала ее присутствие. Грейс сама обо всем позаботилась — даже сдала на хранение личные вещи Селии, пока Мэриан не решила, как ими распорядиться. Дом сняла молодая семья: муж, жена и их маленький сынишка. Они должны были въехать на будущей неделе. После отъезда Грейс (которая не забыла обеспечить Мэриан охрану) она бесцельно слонялась по дому, окунаясь в воспоминания детства и дивясь: почему не приехала Мадлен? И вдруг новость: Мадлен исчезла, Пол публично отверг ее, и она скрылась. — Господи, почему она не обратилась ко мне? — сокрушалась Мэриан. — Я ей необходима так же, как и она мне. Мэтью шутя взъерошил ей волосы. — У тебя есть я. — И тотчас отвернулся, прочитав в ее глазах: «Так ли?» — Давай съездим к Кристи, — предложил он, когда она заперла дверь. — Вложишь вырученные за дом деньги в какое-нибудь произведение искусства, например в картину. Пусть она напоминает тебе о матери. Ты когда-нибудь бывала на аукционе? Она покачала головой. — Я тоже, так что мы оба получаем возможность пополнить образование. В Лондоне Мэриан первым делом купила утреннюю газету. Как и прежде, на первой полосе красовалось лицо Мадлен. Надпись под портретом гласила: она вместе с Энрико Таралло оказалась замешанной в какую-то заварушку на Сардинии. — Теперь мы хоть знаем, где она. — Боюсь, что пока нет, — возразил Мэтью. — Прочти-ка вот это. Мэриан прочла. И вдруг покатилась со смеху. — Ох, Мэтью! Мэдди всю жизнь мечтала о грандиозном приключении. Ну так она своего добилась. Черный лимузин! Извини, я понимаю, что это не смешно, но ничего не могу с собой поделать. Ты думаешь, это серьезно? — Кто знает.* * *
В широкой желтой юбке и белой цыганской блузке, таинственным образом появившихся утром у нее в комнате, Мадлен сидела на крохотной горной полянке, усыпанной голубыми колокольчиками. Внизу бирюзовые волны набегали на берег частного пляжа Таралло. Мадлен перевела взгляд дальше, туда, где в белесой дымке небо сливалось с землей. Солнце согревало и тело, и душу. На губах Мадлен блуждала улыбка; ей вспомнилось все происшедшее за последние сутки. Ее выволокли из кафе в Порто Черво, запихнули в лимузин и до самой окраины везли с завязанными глазами. Там машина остановилась; в нее сели Энрико и кто-то еще, и лимузин умчался дальше в ночь. Пассажиры громко разговаривали по-итальянски, а Мадлен непонимающе уставилась на Энрико, как только с ее глаз сняли повязку. От страха у нее отнялся язык. Энрико увидел выражение ее лица и улыбнулся. — Не бойся, cara, это проделки моей бабушки: она решила таким образом доставить нас домой. Из дальнего угла автомобиля донесся хриплый, каркающий голос. Женщина подняла вуаль, и Мадлен увидела белое старческое лицо. — Мадлен, познакомься с моей бабушкой, Сильвестрой Таралло. У нее повсюду есть осведомители. Они тайно следили за нами в кафе, где разыгрался скандал. Сильвестра, это… — Я знаю, кто она. Старуха говорила по-английски с сильным акцентом и тяжело дышала. Сказав что-то Энрико на родном языке, она повернулась к Мадлен. — Я сказала своему внуку, что ты навлечешь на нашу семью бесчестье. Я видела твои фотографии. — Сильвестра! Энрико снова перешел на родной язык, а Мадлен забилась подальше в угол. Они вошли вслед за старухой в роскошный зал, отделанный серым мрамором. Явились двое слуг. Сильвестра отдала им распоряжения и обратилась к Мадлен: — Твоя комната готова. Иди с Орсолой. У тебя есть вещи? Девушка покачала головой. Энрико незаметно от бабушки подмигнул ей и жестом показал, чтобы слушалась. Утром ее разбудили детские голоса, но после приема, оказанного ей Сильвестрой, Мадлен не посмела покинуть комнату. В изножии кровати лежала аккуратно сложенная одежда; ее платье и рубашка и шорты Энрико испарились. Пришел Энрико вместе с горничной, которая принялась сервировать завтрак на веранде. После ее ухода Энрико передал Мадлен утренние газеты, пестревшие сообщениями о вчерашнем скандале. — Если все похищения таковы, не представляю, из-за чего люди поднимают шум, — проговорила Мадлен. Энрико криво усмехнулся. — Однако нужно исправлять положение. Я сам займусь прессой. — С каждой минутой романтичнее, — хихикнула Мадлен и вдруг помрачнела, вспомнив о Поле. — Гони своих призраков, — посоветовал Энрико. — Наша кухарка Лара обидится, если ты не оценишь по достоинству ее чай. Она приготовила его специально для тебя: ведь ты — англичанка. Мадлен прыснула. — Я никогда не пью чай. Но, конечно, не стоит обижать Лару. После завтрака Энрико отвел ее в сад. — Погуляй. Если захочешь, спустись на пляж. Скоро я составлю тебе компанию. — А сейчас ты не можешь остаться? — Я должен объясниться с Сильвестрой. И с прессой. И вот Мадлен сидела на полянке наверху горы и любовалась морем. Внезапно на нее упала тень. Она подвинулась, давая место Энрико. — Знаешь, мне даже приятно быть твоей пленницей. Он закатил глаза. — Скажешь такое еще раз — потребую выкуп. — Сколько я, по-твоему, стою? — В лирах или фунтах стерлингов? Мадлен пожала плечами. — Я все равно бедна, как церковная крыса, так какая разница? Ты говорил с Сильвестрой? — Ты ее боишься? Мадлен кивнула. — Она хочет потолковать с тобой. Не пугайся. Она намерена извиниться за вчерашнюю бестактность. Мадлен назвала бы это иначе, но сочла за благо воздержаться от комментариев. — Да, кстати. Я сделал заявление для прессы, что тебя никто не держит здесь силой. Ты разочарована? Она с несчастным видом кивнула. — Это очень глупо с моей стороны, но я хотела, чтобы Пол поволновался. — Если интуиция меня не обманывает, сейчас он рвет и мечет, представляя тебя в когтях гнусного разбойника Энрико Таралло. — Ты — гнусный разбойник? — Я пошутил. Брось, не расстраивайся. Может, оно и к лучшему. Если он мог так поступить, да еще при посторонних, не такое уж он сокровище. Так же как и Шамира — не подруга. Правда, любовь не признает доводов рассудка… Мадлен легла на спину и уставилась в небо. Пол и Шамира… Их измена наполнила мир вокруг жуткими призраками. Но сейчас, когда рядом был Энрико, они отступили, чтобы вернуться ночью, жечь ее воспоминаниями о том, как Пол просил слепо верить ему и обещал, что больше не будет никаких фокусов, никакой лжи, — и в то же самое время вынашивал черное предательство. Вырви он у нее сердце из груди — и то было бы не так больно. И тем не менее, появись он сейчас здесь, на горе, — она бы так и бросилась к нему в объятия! Мадлен покосилась на Энрико, который сидел, рассеянно глядя вдаль. На острове так тихо, а Энрико так добр — остаться бы здесь навсегда! — Не хочется уезжать, — пробормотала она. — А как же публика? Ее глаза наполнились слезами. — Не надо, не говори так. Он улыбнулся. — Бедная, прекрасная Мадлен! «Девушка, завоевавшая мир демонстрацией своих прелестей»! Это из сегодняшних газет… Можно, я скажу, что думаю? — Да. — Лишиться родителей — трагедия для ребенка. Возможно, твоя жажда признания идет оттуда — из детства. Все мы нуждаемся в том, чтобы чувствовать себя единственными и неповторимыми. Должно быть, ты завидовала Мэриан, ощущала себя — как у вас говорят? — бедной родственницей. И вот ты стала показывать миру свою красоту в надежде обрести то, чем тебя будто бы обделили. Но, видишь ли, cara, среди чужих этого не найдешь. Это могут дать только родные — те самые кузина и тетя, которых ты запретила себе любить. Отвернувшись, Мадлен наблюдала за порхающей бабочкой. Запретила себе любить… Может быть, так оно и было? Возможно, Энрико прав: ею двигали зависть и детская потребность в любви и ласке? Однако Мадлен слишком слабо разбиралась в психологии и слишком плохо знала себя, чтобы ответить на этот вопрос. Ей вспомнились слова Мэриан, сказанные в отеле «Плаза»: «Я знаю тебя, Мэдди, лучше тебя самой; вот почему мне очень, очень жаль, что так вышло…» Очевидно, Мэриан имела в виду то же, что Энрико. Мадлен проглотила комок в горле и закрыла глаза, словно отгораживаясь от того, что произошло в Нью-Йорке. Слишком тяжело вспоминать о Мэриан, слишком больно… — Я вот думаю, — нарушила она молчание, — может, Пол сделал это для книги? Он и раньше нарочно пугал меня — только чтобы посмотреть мою реакцию. А потом он это описывал. Энрико молчал. Открыв глаза, Мадлен увидела, что его густые брови сошлись в одну напряженную линию. — Вот как? Но это же бесчеловечно! Хотя, если это правда и ты все еще любишь его, ты его простишь. Но тебе будет трудно. Мадлен задумалась. Каким-то непостижимым образом этот человек задел в ее душе сокровенную струну, и ей не хотелось расставаться. — А теперь, — Энрико поднялся и помог ей тоже встать, — ты не видела моих сыновей? Я обещал покатать их на яхте. — Они убежали в дом. Наверное, им было неприятно меня видеть. — Ах, cara, постарайся понять. Они всего лишь дети, недавно потерявшие мать, и боятся, что ты украдешь меня. Пойду их успокою. А ты ступай к Сильвестре. После обеда нагрянула мать Энрико с двумя дочерьми и их мужьями. Сильвестра велела Мадлен оставаться наверху, пока ее не позовут. Родня требовала объяснений. И она ждала, с замиранием сердца прислушиваясь к зычным голосам и хлопанью дверей. Не помогли ни извинения Сильвестры, ни ее доброта. Судьба забросила Мадлен так далеко от дома, что, когда Энрико зашел за ней, она чувствовала себя одинокой и беспомощной. — Тс-с-с, — прошептал Энрико, беря в ладони ее пепельно-серое лицо. — Все в порядке. Мы с Сильвестрой на твоей стороне. Мама не понимает, но она не причинит тебе зла. — Может, нам лучше не встречаться? — И что она подумает? Что ты — трусиха. — Я и есть трусиха, — подтвердила Мадлен и улыбнулась. Рядом с Энрико все страхи казались смешными. — Сегодня вечером мы рано сядем ужинать, чтобы мальчики повидались с бабушкой перед сном. Все соберутся к столу, и ты тоже должна быть среди нас. За мясным блюдом атмосфера накалилась. Чувствовалось, что ни Сильвестре, ни Энрико не удалось полностью развеять подозрения его матери. Это была суровая женщина с худым, острым лицом и волосами цвета охры, совершенно не похожая на Энрико. Ее слова, обращенные к гостье, были пропитаны таким ядом, что Энрико взял на себя труд отвечать за Мадлен. Сестры делали вид, будто их интересуют только Энрико и их собственные дети, однако и от них шли волны ненависти. — Слава Богу, это уже позади, — сказала Мадлен, входя в свою комнату. — Господи, как же они меня ненавидят! — Они продемонстрировали дурные манеры и вопиющее бессердечие. Если бы тебе завтра не уезжать, я бы сегодня же попросил их покинуть этот дом. Внутри у Мадлен все сжалось. — Мне обязательно нужно ехать завтра? — Да. Она подошла к окну — опустить жалюзи. Энрико наблюдал за ее силуэтом в лунном свете, и его сердце сжалось от внезапно нахлынувшего чувства жалости к этому одинокому существу. — Послушай. Сегодня ночью я буду держать тебя в объятиях. Нет, мы не станем заниматься любовью, но, возможно, это поможет тебе уснуть. — О да! — Спросим у Орсолы, во что тебе переодеться. Может, найдется ночная рубашка какой-нибудь из моих сестер. — Обычно я сплю голая. Он приложил палец к ее губам. — Сегодня нельзя. Я все-таки живой человек, Мадлен, а ты очень красива. Орсола принесла голубую шелковую ночнушку, которая скрывала фигуру от головы до пят, однако в ней Мадлен почему-то выглядела еще сексуальнее. Поэтому она поспешила юркнуть под одеяло. — Надеюсь, мальчики не рванут ко мне в спальню ни свет ни заря, — ворчал Энрико, залезая в постель в черной хлопчатобумажной пижаме. — Боюсь, что в этом случае нас не поймет даже Сильвестра. — Я причиняю тебе столько хлопот! — И, может быть, до рассвета причинишь еще больше, — пошутил Энрико. — Я буду хорошо себя вести. Она уютно устроилась у него на плече и сладко зевнула. — Закрой глаза, cara, и думай о приятных вещах. Завтрашний день принесет много неожиданностей, так что постарайся выспаться. Хочешь, я расскажу тебе сказку — как моим мальчикам, когда они боятся темноты и не могут уснуть? — Хочу, но я не знаю итальянского. — Неважно. Попробую то на английском, то на итальянском. Скоро ты захрапишь от скуки. Так и случилось. Прошло не больше пяти минут, как Энрико понял по ровному дыханию Мадлен, что она уснула, измученная переживаниями. Утром, когда она открыла глаза, Энрико уже не было. Мадлен улыбнулась. Могла ли она подумать, что проведет ночь в постели с мужчиной, не занимаясь сексом? Между ней и Энрико словно возникло что-то необыкновенно светлое. Где он, когда ушел? Должно быть, рано. Она подошла к окну, чтобы впустить в комнату яркий солнечный свет, и вдруг на нее с новой силой навалились тоска и отчаяние, словно море вытягивало последние силы. Что ей делать в Англии? Где искать пристанище? Ни одна живая душа не разделит с ней горе, как Энрико. Она будет совершенно одинока — без денег и без крыши над головой. — Я этого не вынесу, — пробормотала Мадлен. — Неправда. В дверях стоял Энрико в черных брюках и свободной белой рубашке с закатанными рукавами. У него был добродушный, но решительный вид. Она жалко улыбнулась. — Я понимаю, что нужно ехать, но мне страшно. — Не бойся. Я обо всем позаботился. Отвезу тебя в аэропорт в Ольбии; оттуда ты — транзитом через Рим — полетишь в Лондон. — Мой паспорт остался во Франции. — Знаю. Оттуда только что прибыл курьер, который забрал его у твоего агента. У Мадлен упало сердце: рухнуло последнее препятствие на пути домой. — Спасибо, Энрико, не знаю, что бы я без тебя делала. Кажется, я сейчас заплачу: так не хочется уезжать! Он усмехнулся. — Меня трогают твои слезы, cara, но нельзя вечно убегать от действительности. — Мы еще увидимся? — Вряд ли. Но я рад, что встретил тебя, Мадлен, и немного полюбил. А теперь одевайся и ступай вниз — там ждет курьер, который будет сопровождать тебя до Лондона. И не забудь попрощаться с Сильвестрой. Я буду ждать в саду, там и позавтракаем. Орсола даст тебе одежду для дороги. — Из вещей Росарии? — Si. — Это не оскорбит твои чувства? — Нет, cara. Росария одобрила бы мой поступок. Одеваясь, Мадлен давилась слезами и старалась не думать о пустоте, которая ее ожидает. Конечно, Дейдра обрадуется, но у Мадлен пропало желание быть моделью. Ах, если б вернуться в прошлое, когда они с Мэриан жили в Бристоле — до Пола, до ее бешеной ревности, нарциссизма и алчности. Безыскусная простота той жизни приобрела теперь в ее глазах особую ценность. Она получила то, чего заслуживала: публичное унижение и от ворот поворот. Теперь ей предстоит вести изнурительную борьбу за то, чтобы удержаться на гребне славы, — и нет надежного тыла: она уничтожила его, когда обокрала Мэриан и сбежала с ее возлюбленным. Когда Мадлен спустилась в холл, у нее был напряженный, но решительный вид несломленного человека. Она будет сильной — не для себя, так ради Энрико — хотя бы до тех пор, пока он не посадит ее в самолет. Из маленькой гостиной ее окликнула Сильвестра. — Дитя мое, — проговорила она своим каркающим голосом. — Сегодня день прощания. Ты подарила моему Энрико немного радости, и я благодарю тебя за это. Волнение помешало Мадлен ответить. Сильвестра улыбнулась; глаза в окружении морщин почти превратились в щелки. Потом она достала из ящика дубового бюро конверт. — Вот, возьми, здесь лиры и стерлинги. Будь счастлива, дитя, — и старуха легонько подтолкнула ее к двери. — Энрико ждет тебя. Господи, как сдержать рыдание? Чем она заслужила такую доброту? Мадлен проглотила комок. Нет. Она не сломается. Но вот она вышла в сад и увидела Энрико, беседующего с курьером. И все уголки ее существа затопила безумная радость. — О Господи! Энрико и курьер оглянулись, и… Почти ослепнув от слез, Мадлен бросилась в объятия к Мэриан.* * *
— Я думала, ты больше никогда не захочешь меня видеть после того, как я обошлась с тобой в «Плаза». Мэриан хмыкнула. — Должна признаться, я думала то же самое. Они расположились на той самой полянке, где накануне Мадлен сидела с Энрико. Мэриан обрывала алые лепестки с незнакомого горного цветка. — Прости меня за то, что я сделала. — И ты меня прости. — Мэриан перевела взгляд на море, где на невысоких волнах колыхались яхты. — Ах, Мэдди, кто бы мог подумать, что мы с тобой окажемся здесь, на Сардинии. Далековато от Бристоля! — Да. — У меня такое ощущение, словно с тех пор прошли годы, а не восемь месяцев. Столько событий! Ты прославилась, да так, как и не мечтала. А я… даже не знаю, как сказать, чтобы не получилось нескромно, но я тоже кое-чего добилась. И тем не менее — как же я по тебе скучала! — И я. Спасибо, что приехала. — Молодец Энрико, что позвонил! Что ж ты сразу не обратилась ко мне? Бедняжка Мэдди! — Теперь, когда ты рядом, все не так уж и страшно. — Ну слава Богу. Они долго молчали, но настал момент, когда Мэриан не могла больше оттягивать: — Он хочет, чтобы ты вернулась. — Ты с ним виделась? — Нет. Мне сказала Дейдра, когда я заезжала за твоим паспортом. — А Шамира? Он сказал, что… — Шамира в Лос-Анджелесе. Говорят, у них с Полом состоялся крупный разговор. Дейдра уверена, что Шамира ничего не знала. Для нее это был точно такой же шок, как и для тебя. Мадлен отвела взгляд в сторону. — Значит, он сделал это для книги. — Не знаю. Дейдра отдала мне ключи от твоего дома в Холланд-парк. Пол хочет, чтобы ты туда вернулась. А сам не появится, пока не позовешь. — Это его дом, — монотонно произнесла Мадлен. — Пол перекупил его у меня. — Он снова переписал дом на твое имя. Ты примешь подарок? Мадлен пожала плечами. — Мне больше некуда идти. Разве что… Мэриан, где ты живешь? Нельзя ли мне пожить с тобой? — Увы. Мои обстоятельства на сегодняшний день немного запутаны. Сама не знаю, на каком я свете. Но, конечно, ни о чем другом я и не мечтаю… — Перебирайся ко мне в Холланд-парк. Там три спальни. Пожалуйста, Мэриан! — А Пол? Он хочет, чтобы вы снова были вместе. Мадлен вздохнула и закрыла лицо руками. — Ты все еще любишь его, Мэдди? — Не знаю. Да, люблю, но… Что мне делать, Мэриан? Пожалуйста, переезжай ко мне! — С удовольствием. Это все значительно упростит. Но я волнуюсь за тебя. Пол ждет ответа. — Ну, это как-нибудь потом. Сейчас я хочу говорить о нас с тобой. Мне нужно… Она запнулась. Мэриан подбодрила ее ласковым взглядом. — Мне нужно кое в чем признаться. Может быть, ты меня даже и не простишь, и я пойму. Нет-нет, молчи и слушай. Дело в том, что, покидая вместе с Полом Бристоль, я украла у тебя кое-что еще. — Правда? Там же нечего было красть. Кроме долгов. — Да, но… Помнишь карточку футбольного тотализатора, из-за которой я наорала на тебя в Бродмиде? — Неужели я выиграла? — Да. Ты заполнила карточку на имя мисс М.Дикон, и я присвоила чек. Мэриан разволновалась. — Сколько же там было? Просто не верится! Какой мне достался приз — первый, второй или третий? — Первый. Семьсот пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Мадлен собрала все свое мужество, готовая перенести упреки, гнев, презрение. Мэриан молчала. — Хуже того, я все уже истратила. Не осталось ни пенни. Мэриан только моргала, переваривая новость. Наконец она открыла рот. — Истратила? Три четверти миллиона? Сколько же времени тебе потребовалось? — Пол говорит, около пяти месяцев. — Так много? В мечтах мы расправлялись с подобной суммой за пять минут! — Ты не сердишься? — С какой стати? Конечно, если бы я узнала об этом, когда осталась одна в Бристоле с кучей неоплаченных счетов… Но это в прошлом. С тех пор мы обе кое-чего добились. В конце концов, это всего лишь деньги. — Она подмигнула. — Думаю, я оказалась бы проворнее. — Мэриан, можно тебя обнять? — Конечно, родная! Господи, какое счастье — снова быть вместе! Три четверти миллиона фунтов! Мадлен Дикон, что мне с тобой делать? — Все что хочешь. Я заслужила. После того как они разомкнули объятия, Мадлен сказала: — В прошлый раз ты упомянула Мэтью Корнуолла. Прости, что я так к этому отнеслась, Мэриан. Как у вас обстоят дела? Он отвечает тебе взаимностью? — Не знаю, Мэдди. Правда, не знаю. — Ты мне расскажешь? — Потом. Дома. Ты приготовишь какао, и мы просидим полночи за разговорами. — Нет уж, на этот раз будем пить вино. Или — еще лучше — шампанское. Устроим праздник воссоединения семьи. — Ловлю тебя на слове. — А утром — надеюсь, похмелье будет не слишком тяжелым — махнем в Девон, к тете Селии. Мне нужно столько… В чем дело, Мэриан? Она не хочет меня видеть? — Слезы брызнули у Мадлен из глаз. — Что ж, я ее не виню. После того, что я сделала… Она написала мне письмо, а я не ответила. Мэриан, может, ты с ней поговоришь? Попроси ее простить меня. — Ах, Мэдди! Так ты ничего не знаешь? — Чего не знаю? К сердцу Мадлен подступил страх. Мэриан взяла ее руки в свои. — Мама умерла. Две недели назад, от сердечного приступа. Прости. Я думала, ты знаешь. — Нет. Не-е-ет! Этого не может быть! Мэриан, скажи, что это неправда! — Не могу, родная. — Господи! Тетя Селия! — Мадлен захлебнулась слезами. К тому времени, когда приехал врач, истерика кончилась, но он все-таки сделал успокаивающий укол и сказал Энрико, что Мадлен нужен покой. — Если бы не ужасные события последних дней, возможно, она перенесла бы это с большим мужеством, — предположил Энрико, спускаясь вместе с Мэриан по лестнице. — Примите мои соболезнования. Когда это случилось? — Немногим более двух недель назад. — Вы тоже много пережили. — Да. Я очень любила маму, и Мадлен тоже. Но мне помогли… Мой друг приехал в Девон, чтобы забрать меня в Лондон. — Вы работаете в Лондоне? А вот и моя бабушка. Сильвестра, Мэриан и Мадлен еще здесь. У Мадлен был нервный шок. — Какой еще шок? Девочка только пришла в себя! Неужели что-нибудь новое? — Боюсь, что да. — И он объяснил по-английски, чтобы Мэриан не чувствовала себя лишней. Она преисполнилась благодарности. — Какой ужас! — воскликнула Сильвестра, беря Мэриан за руку. — Ты потеряла мать, бедное дитя. Но как вышло, что Мадлен не знала? — Не представляю. Мэтью, наш режиссер, позвонил ей сразу после моего отъезда из Нью-Йорка, но вместо нее ответил Пол. Видимо, он по каким-то своим причинам утаил это от Мадлен. Лицо старой дамы исказила гримаса отвращения. — Пол О’Коннелл? — Да. Тут уж Сильвестра заговорила с внуком по-итальянски. Энрико побелел. — Что она говорит? — разволновалась Мэриан. — Пожалуйста, переведите мне! Сильвестра встала и выпрямилась. — Этот человек совершил подлость. Бедная Мадлен! Береги ее, Мэриан, будь рядом… — Хватит, Сильвестра, — перебил Энрико. Он понял, что сказала бабушка, и был потрясен. Но ему не хотелось добавлять Мэриан волнений: ей и так досталось. В конце концов Энрико и Сильвестра решили оставить девушек в неведении. Дорого же все они заплатили за эту ошибку! (обратно)Глава 25
В коридоре Академии художеств стоял невыносимый гвалт: студенты только что вернулись после каникул. Зажав уши ладонями и отчаянно чертыхаясь про себя, Серджио мерил кабинет шагами, бросая злобный взгляд на разбросанные по столу газеты. Наконец-то ожил телефон. Он рывком снял трубку. — Pronto! — Почему такой тон? — спросила Дейдра. — А ты почему столько времени не звонила? — Мы же разговаривали вчера вечером. Не имело смысла звонить, пока не было новостей. — А теперь есть? — Да. Час назад она вернулась в Англию. — Куда конкретно? — Домой, с кузиной. — С кузиной? Ты имеешь в виду Мэриан Дикон? — Да, — удивленно ответила Дейдра. — Она летала за Мадлен на Сардинию. — Что?! Почему ты мне раньше не сказала? — Откуда мне было знать, что для тебя это важно? Ты предупредил только, чтобы Мадлен держалась подальше от Таралло. Кстати, я и не подозревала, что ты знаешь Мэриан. — Конечно, знаю. По-твоему, я идиот? Долго она там пробыла? — Всего одни сутки. А что? — Она говорила с Сильвестрой? — Я не спрашивала. Моей заботой была Мадлен. — Узнай, говорила ли она Сильвестре, чем занимается. — А чем она занимается? — Участвует в съемках фильма об Оливии. Долгая пауза только сильнее разозлила Серджио. — Дейдра, ты слушаешь? — Не понимаю, при чем тут Сильвестра? И почему ты так настаивал на том, чтобы Мадлен не общалась с Энрико? Серджио, кто эти люди? Что они для тебя значат? — Очень много, и я не хочу, чтобы их впутывали. Они и так много страдали. — Из-за чего? — Ты что, не читаешь газеты? Таралло потерял жену. — Да, знаю. Но мне показалось, что тут кроется что-то еще. — Хватит задавать вопросы. Постарайся сделать так, чтобы Мадлен и Мэриан не встречались ни с кем из Таралло. Ты говорила с Полом? — Вчера вечером. Он просил поставить его в известность, когда вернется Мадлен. Возможно, он уже слышал по радио. — Каковы его намерения? — Похоже, он собирается вернуться в Лондон. — Позаботься о том, чтобы так и было. Воздействуй на Мадлен, пусть она с ним встретится. И спроси у Мэриан… До него вдруг дошло, что если Сильвестра успела рассказать Мэриан о bottega, это уже не имеет значения. — О чем? — напомнила Дейдра. — Ни о чем. Вообще не веди с ней разговоров о поездке в Италию. — Но всего минуту назад… — Говорю тебе, это неважно. Главное, чтобы Мадлен не общалась с членами семьи Таралло и как можно скорее помирилась с Полом. — А если она не захочет? — Я все равно намерен получить ее через две недели. Но до тех пор они должны быть вместе. — Он сменил тон на более мягкий. — Приложи все усилия, cara. Я понимаю, это нелегко, но я люблю тебя, и сразу после этого мы заживем как муж и жена. А теперь мне пора на лекцию, но я хочу попросить прощения за то, что нагрубил тебе. Ты столько для меня сделала — и когда-нибудь ты убедишься, что не напрасно. — Надеюсь… Серджио! — Si? — Раз Мэриан имеет отношение к съемкам… ты с ней знаком? — Да. Она приезжала во Флоренцию. А что? — Так, ничего. Просто хотела знать. Ну хорошо, позвоню, когда будут новости о Мадлен и Поле. Мэриан тебя больше не интересует? — Нет, — солгал он и, как только она положила трубку, набрал номер Рабина Мейера в Нью-Йорке. Ему пришлось долго ждать, пока горничная вытаскивала Мейера из постели, — и слава Богу, потому что эта задержка дала ему возможность подготовиться к предстоящему разговору. Он сжал ладонями виски — немного усмирить биение пульса. Сейчас, когда Мадлен далеко от Таралло, можно передохнуть. Только бы у нее не было контактов с этой семьей! В прошлом он причинил им зло и теперь содрогался при мысли о том, что история может повториться. Его мучили угрызения совести из-за Арсенио. Сильвестра об этом не знала. Но если бы она рассказала Мэриан о bottega, за ним бы давно пришли. Главное — что скажет Рабин Мейер, какую информацию он получил от частного сыщика. Если Мэриан что-то известно, она должна была себя выдать. В этом случае придется заткнуть ей рот раньше, чем он предполагал. А если Сильвестра рассказала ей о том, что связывает его с Полом О’Коннеллом… Страшно подумать.* * *
В кабинете Дейдры зазвонил телефон. — Меня ни для кого нет, — сказала она секретарше. — Это Пол О’Коннелл. Анна знала: на этот звонок Дейдра ответит, — и нажала на кнопку селектора. Пол так орал, что Дейдре пришлось держать трубку на некотором расстоянии от уха. — Почему ты не известила меня, что Мадлен уже в Англии? И что с ней Мэриан? — Здравствуй, Пол, — ровным голосом произнесла Дейдра. — Да, Мадлен в Англии, со своей двоюродной сестрой. Ты звонишь с севера? — Да. Завтра возвращаюсь в Лондон. Ты выяснила, почему она задержалась? — Кажется, Мэриан сообщила ей о смерти тети, и у Мадлен был припадок. Ей давали снотворное. — Если бы не твоя дурацкая затея отправить за ней Мэриан, этого не случилось бы. Черт возьми, Дейдра, о чем ты только думаешь? Послать именно эту… — Послушай! — рявкнула она, больше не в силах сдерживаться. — Хватит с меня твоих истерик! Во-первых, это была не моя идея, а Энрико Таралло. Во-вторых, задержка причинила и мне немало хлопот, но не я вынудила Мадлен бежать с юга Франции. Меня тошнит от тебя, Пол О’Коннелл! Не знаю, чего ты добиваешься, но ты болен! Ты говоришь, что любишь ее, — странный способ проявлять любовь! И почему все поднимают столько шума из-за Мэриан? — Кто, например? Она спохватилась: нужно выбирать слова. — Так, никто. Просто у меня был трудный день; не хватало еще, чтобы ты срывал на мне злость! — Ты спросила Мадлен, согласна ли она со мной встретиться? — Нет — предоставила это Мэриан. — Великолепно! Ты что, не знаешь нашу историю? Как я встречался с Мэриан, почти сделал предложение, а потом бросил ее ради Мадлен? — Нет, Пол, я этого не знала, но нисколько не удивляюсь. Ты только что показал, на что способен. Шамира и Мадлен были близкими подругами, а теперь что? — Я не обязан перед тобой отчитываться. Просто я хочу, чтобы Мадлен снова оказалась там, где ей и надлежит быть, — со мной. И если ты действительно в этом заинтересована, как уверяешь, убери с дороги Мэриан. — Это нереально. Мадлен и слышать не хочет. Кроме того, ты себе льстишь, если думаешь, что Мэриан все еще сходит по тебе с ума. Я знаю из достоверного источника, что это не так. — И что же это за источник? — Сама Мэриан. Перед тем как отправиться на Сардинию, она сказала мне, что если Мадлен все еще любит тебя, она не будет стоять у вас на дороге. Но это не изменит ее мнения о тебе как о мерзавце. Пол засмеялся. — Успокойся, Дейдра. У меня были свои причины так поступить, и хотя их не назовешь уважительными, когда-нибудь ты узнаешь. — Из-за твоей поганой книги? — В данном случае — нет. Но у меня еще не дописан последний роман. Имей в виду: я ищу жертву зверского убийства. — Это угроза? — Понимай как хочешь. Мэриан идеально годится на эту роль… Короче, завтра буду в Лондоне. Мне нужна крыша над головой, пока Мадлен не согласится меня принять. Как насчет твоей квартиры? — Даже не мечтай. Поговорю с Роем, может, он потеснится. Кстати, ты объяснился с прессой? — Нет. Стараюсь не привлекать внимания. А ты? — То же самое. — Дейдра… когда ты разговаривала с Мэриан, она не сообщила чего-нибудь… необычного? — Например? — Что-нибудь о Таралло… или их знакомых?.. Дейдра мигом насторожилась. — Нет, ничего. Почему ты спрашиваешь? — Так просто. Меня интересует эта семья. — Семья как семья! — рассвирепела Дейдра. — Какого дьявола все говорят загадками? Почему бы тебе не задать прямой вопрос? — О чем? У нее окончательно лопнуло терпение. — Все! С меня довольно! — и она бросила трубку.* * *
Такси затормозило перед небольшим административным зданием — штаб-квартирой кинокомпании «Райдер энд Ивенс» в Сохо. Дверца распахнулась, и умирающая от смеха Мэриан едва не вывалилась на асфальт. — Вылезай скорее! — заторопила она Мэтью. — Вон он, смотри — тоже выходит из такси. Не смотри, а то увидит! — Так все-таки — смотреть или не смотреть? — Не надо. Вот, шмыгнул в подворотню. Ни дать ни взять экранизация романа Агаты Кристи. Мэтью расплатился с водителем. — Ой! — спохватилась Мэриан. — Моя картина! И бросилась бы догонять такси, если бы Мэтью ее не остановил. — Она у меня. — Слава Богу!.. Вон, опять выползает! Я должна с ним поздороваться. — Тебе что, совсем не страшно? — Да уж больно он смешной. Наверное, я даже буду скучать по нему, когда все кончится. — И она дружески махнула Борису, как стала про себя называть филера.* * *
Проходя мимо приемной, Стефани случайно заметила на столе Мэриан сверток. Она не удержалась и вошла. — Что, купила картину? — Да. — Можно посмотреть? — Конечно. — Никогда не была на аукционе, — сказала Стефани, наблюдая за тем, как Мэриан разворачивает оберточную бумагу. — Интересно? — Да. Вот, смотри. Может, тебе не понравится, но мама обожала цветы. — Какая прелесть! Хейзел, ты видела? Хейзел с отсутствующим видом подняла голову и снова уткнулась в работу. — Да, божественно. Задребезжал телефон. Мэриан сняла трубку. — Алло. «Райдер энд Ивенс». Перед тем как отвернуться, она успела поймать злобный взгляд, которым обменялись обе женщины и который явно относился к ней самой. Господи! Вдруг они испортят картину? Звонила Мадлен — умоляла срочно приехать. — Хорошо. Через полчаса буду. Мэриан резко обернулась — Стефани все еще любовалась картиной. — Нужно, чтобы кто-нибудь помог тебе ее повесить. — Мы с Мадлен сами справимся. У Мэриан дрожал голос. Чувство вины породило в ней дикое желание наорать на Стефани — может быть, даже ударить. Вышибить из нее ненависть! — Ничего, если я отлучусь? Завтра утром приду пораньше и доделаю. Дома возникла проблема. — Да, конечно. Стефани помогла ей завернуть картину. — Что-нибудь серьезное? — Нет. Просто… С тех пор как Мадлен узнала о смерти моей матери, она и так не в себе, а теперь еще Пол позвонил, и она согласилась его принять. — Вызвать тебе такси? — Спасибо. Сама поймаю. — Где только ты берешь выдержку? — воскликнула Хейзел после ухода Мэриан. Стефани усмехнулась. — А что мне остается? Выходит, он возил ее на аукцион — после ночной съемки! Для нее он готов расшибиться в лепешку! Мэтью просунул голову в полуоткрытую дверь приемной. — Стефани, я пошел. Позже увидимся? — Вряд ли. Я обещала зайти в бухгалтерию. — До завтра, Хейз. Стефани, я еще позвоню. — И он исчез за дверью. — Зачем ты отказалась? Стефани покачала головой. — Какой смысл встречаться? Он не отвечает на мои вопросы, даже не смотрит в глаза. Пусть сам разберется в своих чувствах. Кажется, Мэриан тоже в подвешенном состоянии. — Милочка, она совершенно не вписывается в ситуацию! — Ты что, ослепла? — Нет. Мои глаза не настолько затуманены ревностью, чтобы не замечать вопиющих фактов. Стефани, ты сама его отталкиваешь. Вместо того чтобы спокойно все обсудить, толкаешь его в объятия Мэриан. — Его не нужно толкать! — Стефани издала похожий на рыдание звук и выбежала из приемной. (обратно)Глава 26
В дверь позвонили. Мадлен выронила рюмку и прижала ладони к пылающим щекам. — Это он! — Успокойся, — сказала Мэриан, наклоняясь за рюмкой, которая, к счастью, не разбилась. — И помни: ты не обязана делать то, чего не хочется. — Но что я ему скажу? — По-моему, это он должен объяснить свое поведение. Ты уверена, что хочешь его видеть? На лице Мадлен отразилась сложная гамма переживаний. Она не накрасилась; губы были бледны, лицо осунулось и утратило свой обычный цвет. Сколько дней они готовились к возможному визиту Пола и договорились его помучить — хотя бы месяц, чтобы Мадлен спокойно все обдумала. Но теперь Мэриан стало ясно: бедняжка по-прежнему умирает от любви к Полу. — Ну так что — впустить его? — Да-да. Я должна его видеть. Я обещала. — Хорошо. Жди здесь, я открою. Мне присутствовать при вашей встрече? Волнение помешало Мадлен ответить. Мэриан грустно улыбнулась и обняла ее. — Не беспокойся. Все образуется. — И пошла открывать парадную дверь. Она тоже волновалась: ведь когда-то Пол О’Коннелл занимал огромное место в ее жизни; она тяжело пережила его предательство. Но с тех пор столько всего произошло, что Мэриан стало казаться: это не она, а какая-то другая, незнакомая девушка любила Пола. Тем не менее она ожидала, что, открыв дверь, что-то почувствует: ревность, боль, сожаление или радость. Только не презрение. Он улыбнулся — когда-то эта улыбка переворачивала ей душу. Но, Боже мой, как давно это было — в другой жизни, на другой планете? Ныне она стояла на пороге роскошного особняка в фешенебельном районе Лондона, в доме, купленном Полом для Мадлен, потому что, как выяснилось, он был богатым человеком. — Привет, Мэриан. Как ты? — Спасибо, нормально. — Она посторонилась, давая ему пройти. — Ты изменилась. Если бы я не ожидал тебя здесь увидеть, ни за что не узнал бы. Тебе идет эта прическа, ты… — Мадлен ждет, — перебила она и первая шагнула в гостиную. Раздосадованный ее невниманием, Пол последовал за ней. Мадлен стояла в центре комнаты. Она похудела; прекрасное лицо выглядело изможденным. Мэриан, словно оберегая сестру, стала рядом с ней, и Полу захотелось ее убить. Зато в потемневших от боли фиалковых глазах — которые он безумно любил! — он разглядел за недоверием и страхом неугасимую страсть; Мадлен боролась с собой. С тех пор как она дала согласие на встречу, он много раз проигрывал в уме разные варианты, но теперь, при виде ее страданий, просто раскрыл объятия и прошептал: — Любовь моя! О любовь моя! Мадлен стремительно метнулась к нему на грудь, как измученное дитя. — Ты не представляешь, как я раскаиваюсь, — пробормотал он. — Я узнал от Дейдры о смерти твоей тети. Просто не знаю, что сказать в утешение. Ах, как хотелось Мэриан встретиться с ним взглядом! Нет, она не собиралась разоблачать Пола перед Мадлен — просто пусть знает, что она видит его насквозь. Сразу после ее отъезда из Нью-Йорка Мэтью известил его о кончине Селии. Но Пол не смотрел в ее сторону: пожирал глазами Мадлен. — Мы можем поговорить? Мадлен повернулась к кузине. — Не беспокойся за меня. И Мэриан поплелась наверх, потрясенная их молниеносным примирением и властью Пола над Мадлен. Еще хуже было то, что она убедилась: несмотря на все его гнусные выходки, всю ложь, Пол действительно страстно любит Мадлен, жить без нее не может. Как все сложно! Закрыв за ней дверь, Пол взял Мадлен за руку и усадил на диван. Сам сел рядом, обнял ее, погладил по волосам. — Ты догадалась, что я сделал это для книги, не правда ли? — Ну, я… Не знаю… Я надеялась… Он запрокинул голову и зажмурился, как от невыносимой боли. — Не могу высказать, Мэдди, чего мне это стоило. Я и всегда любил тебя, но сейчас… Обними меня, Мэдди, держи и не отпускай. Скажи, что прощаешь, что между нами ничего не изменилось. Она положила его голову себе на плечо и заплакала, вспомнив, как, утешая Энрико, мечтала, чтобы на его месте оказался Пол. И вот он здесь, рядом, он страдает, и ее сердце переполнено любовью. — Я прощаю тебя — за все. Как я по тебе тосковала! — Тогда почему ты сбежала к нему? Я буквально лез на стенку, представляя, чем вы там занимаетесь. Но поделом мне — за то, что я сделал! — Не мучай себя, Пол. Это в прошлом. Мы вместе, и нам ничего не страшно. — О любовь моя! — шептал Пол, целуя ей руки. — Я искуплю свою вину! Ты прекрасна и чиста, а я тебя эксплуатировал — ты даже не знаешь, как. Я сам не всегда понимал, что делаю. Но это не повторится. Никогда! Мне в жизни ничего не нужно, кроме тебя. Ты и есть — жизнь! — Тогда зачем ты это сделал? Я понимаю: для книги… но… — Это трудно объяснить. Я надеялся, что до этого не дойдет, но, понимаешь, Шамира… Мадлен побледнела. — Я обязан открыть тебе глаза, Мэдди. Это причинит тебе боль, но ты должна знать, что она из себя представляет. Он дал ей собраться с силами. — Ты готова? — Да. — Хорошо. В первый раз она пришла ко мне, когда ты была в Марокко — рекламировала крем для загара. Сказала, что любит меня и что я напрасно теряю с тобой время. Естественно, я велел ей убираться. Она ушла, но на другой день снова явилась. На нее было жалко смотреть: она валялась у меня в ногах, словно нищенка, вымаливая мою любовь. Но, жалея, я презирал ее и в конце концов силой поднял с колен и буквально выбросил на улицу, пригрозив, что если она не уймется, я расскажу тебе правду о твоей лучшей подруге. Прошло несколько недель. Она улетела в Лос-Анджелес, а потом и мы поехали туда. При тебе она не могла дать себе волю, но ей повезло: ты уехала на прослушивание. Помнишь, Рой застал нас в бассейне? Она сказала, что собирается за покупками, и я решил искупаться. Через несколько минут она вышла из дома с ножом в руке и пригрозила, что если я не займусь с ней любовью, она сделает меня инвалидом — в определенном смысле. Сначала я думал, что она шутит, но она прыгнула в воду и стала за мной гоняться. Даже тогда я был склонен считать это игрой. И только когда она приставила мне нож к горлу и потребовала, чтобы я ее поцеловал, понял, что она способна осуществить свою угрозу. Поэтому я поцеловал ее — и когда она на мгновение утратила бдительность, затащил под воду и вырвался. Слава Богу, в этот момент появился Рой, иначе Бог знает, что могло бы случиться. Я хотел рассказать тебе, но это было так дико, так неправдоподобно, что мне самому не верилось в реальность происходящего. К тому же, будучи писателем, я не мог не понимать, какой ценный психологический материал плывет в руки. Но мне не хватало развязки — хотелось чего-нибудь «забойного». Я решил сделать Шамиру жертвой воображаемого убийства. Это годилось для эффектной концовки, однако мне не хватало промежуточного звена, чтобы закруглить эту сюжетную линию. Я провел много бессонных ночей — и наконец понял: нужно довести эту историю до публичного разоблачения. Остальное ты знаешь. По телу Мадлен пробежала судорога. — Вот стерва, а еще называла себя моей лучшей подругой! Надо было меня предупредить — я бы тебе подыграла. Пол замотал головой. — Видит Бог, я сожалею о содеянном, но в то время я добивался полного правдоподобия. У меня уже были написаны все сцены: на террасе, наш разговор перед банкетом… Теперь ты понимаешь, почему я просил тебя о доверии? Я знал, что мне предстоит, и пытался косвенно тебя подготовить. Думал, мне это удалось, но… — Он издал сухой сдержанный смешок. — Теперь-то я понимаю, что провалился. Господи, если бы можно было вернуть тот вечер, я бы ни за что так не поступил… если бы знал, чем все это кончится. — Ты имеешь в виду ссору с Шамирой? — Нет — то, что мы будем вот так сидеть, пытаясь склеить то, что я неосторожно разбил. Но, видит Бог, мне хотелось ее растерзать! Набросилась на меня, словно дикая кошка: мол, я из ревности разрушил вашу дружбу. Но что меня совершенно убило, это что она свалила с больной головы на здоровую — сделала из меня развратного злодея, в то время как сама меня преследовала. — Так ты не занимался с ней любовью? — Нет. А ты с Энрико? Мадлен улыбнулась. — Нет. Правда, мы провели вместе ночь. Он держал меня в объятиях, баюкал и рассказывал сказку — можешь себе представить? Это было очень приятно. — Он не обладал тобой? — Не мог. У него только что умерла жена, он был в трауре. Знаешь, после тебя он — лучший мужчина в мире! Пол резко отстранился от нее и спрятал лицо в ладонях. — Значит, ты бы ему позволила, если бы не смерть жены?.. — Нет! Нет! — Страх перед новой вспышкой ревности толкнул Мадлен на ложь. — Нет, Пол, я ни за что не отдалась бы другому. — Ах, Мэдди, я так сильно тебя люблю, что не могу представить, чтобы другой мужчина обнимал тебя — и не загорелся страстью. — Но ведь так и было. — Клянешься? — Клянусь. — И ты не влюбилась в него? — Как можно? Я люблю тебя. — А пресса? Газеты постоянно намекают на ваш роман! — Ты что, не знаешь газетчиков? Вечно ищут жареного. С минуту он напряженно смотрел ей в глаза. И наконец улыбнулся. — Да, конечно.* * *
Утром, без четверти семь, Стефани зашла в приемную, чтобы посмотреть составленное Вуди черновое расписание съемок в Италии. Но ей было трудно сосредоточиться. Она провела почти бессонную ночь — впрочем, это стало привычным делом. У нее не укладывалось в голове, как стремительно и радикально изменились отношения Мэриан и Мэтью. Ее ревность к Мэриан перед поездкой в Нью-Йорк не шла ни в какое сравнение с нынешней агонией. Все было так ужасно, что она боялась, как бы это не отразилось на работе. Ведь если Мэтью действительно уйдет к Мэриан, у нее не останется ничего, кроме работы. Все ее существо было охвачено отчаянием. Господи, безмолвно молилась она, дай мне силы закончить этот фильм. Если он скажет, что между нами все кончено, я просто не выдержу. Пусть это случится как-нибудь потом, когда не нужно будет каждый день встречаться. О Мэтью, что с нами происходит? Стоило столько страдать, чтобы все так кончилось! Стефани мысленно встряхнулась и заставила себя сконцентрировать внимание на графике, но почерк Мэтью внизу листа вызвал на ее устах жалкую улыбку. Она отложила график и посмотрелась в зеркало над столом Хейзел. — Господи, я начинаю выглядеть на свои годы! — Я бы не сказал. Стефани резко повернулась, и у нее дрогнуло сердце: в дверях стоял Мэтью. — Я не слышала, как ты вошел. — Слишком увлеклась разговором с собой. Не в силах вынести его ухмылку, она посмотрела на часы. — Разве ты не должен быть на съемочной площадке? — Они еще не расставили аппаратуру. Я звонил тебе утром, но ты уже ушла. Думал, ты поехала на место съемок, а когда тебя и там не оказалось, решил поискать здесь. Он подошел к ней и стоял так близко, что Стефани ощущала принесенный им с улицы свежий воздух. Она засунула руки в карманы, чтобы не поддаться искушению до него дотронуться. — Ты хотел что-нибудь обсудить? — По-твоему, нечего? Она хотела отвернуться, но он взял ее за плечи. — В чем дело, Стефани? Почему ты меня избегаешь? — Неужели нужно спрашивать? — произнесла она голосом, в котором чувствовались слезы. — Нет, — устало ответил Мэтью и отпустил ее. — Не нужно. Ты ждешь от меня не вопросов, а объяснений. Вот только с чего начать? Где взять точные слова? Стефани вся напряглась. Вот сейчас он скажет… — Не надо, Мэтью! Он смотрел на улицу. Стефани проследила за его взглядом и запаниковала, увидев, как Мэриан переходит через дорогу. Скорее бежать отсюда! Невыносимо видеть их вместе! — Стефани! — крикнул Мэтью и бросился за ней. Он перехватил ее у самой двери — как раз в тот момент, когда вошла Мэриан. — Извините… Я обещала прийти пораньше… Но я могу прогуляться… — Ничего, — сказал Мэтью. — Мы со Стефани как раз… Стефани! Но она вырвалась и побежала наверх. Он выругался про себя. — Извини, — пролепетала Мэриан. — Если бы я знала… Я думала, здесь никого нет. — Не оправдывайся, ты тут ни при чем. Я сам во всем виноват. Пойду к ней. — Не ходи! Почти повелительный тон заставил Мэтью обернуться. — Не ходи, — уже более спокойно повторила Мэриан. — Я сама с ней поговорю. Ты много раз пытался — и все без толку. Я понимаю, нельзя открыть ей тайну Оливии, но ведь с этого все и началось. Стефани загнана в угол, она не понимает, что происходит, почему мы умолкаем, когда она входит в комнату, почему ты повсюду следуешь за мной… — И как ты все это объяснишь? — Не знаю, но будем надеяться, что у меня получится лучше, чем у тебя. — Мэриан, ты — чудо! Но ты не обязана… мы же знаем… — Что я люблю тебя? Стефани в курсе. Но пока ты не отвечаешь мне взаимностью, тебе не из-за чего чувствовать себя виноватым. Мэтью взъерошил себе волосы и отвернулся. — Ты же знаешь, что это не так. — Нет, я ничего не знаю. — Я тоже. Знаю только, что моя жизнь превратилась в ад. Я чувствую себя подлецом — и перед тобой, и перед Стефани. Но до окончания съемок мы бессильны что-либо предпринять. Все так запуталось… все смертельно устали… И вдруг, к ее крайнему удивлению, он бережно взял в ладони ее лицо и поцеловал в губы. — Мне давно хотелось это сделать — после Нью-Йорка… Но… Я лучше пойду, а то совсем развинтился. Но, видит Бог, мне хочется сделать это еще раз. И он исчез за дверью. Мэриан растерялась. Одна ее часть было до того счастлива, что впору было выбежать на улицу, танцевать и петь у всех на виду. Зато другая ее половина преисполнилась суровой ответственности. Похоже, из них троих только она еще сохранила способность принимать решения. Стефани не откликнулась на стук. Соблазн повернуться и уйти был очень велик, но Мэриан твердо решила исполнить задуманное. И вошла в кабинет. Стефани стояла у окна, уставив невидящий взгляд на противоположное здание. Она не плакала, но все ее тело, каждая клеточка кричала о нестерпимой боли. — Стефани, нам нужно поговорить. — Вот как? О чем же, Мэриан? — О Мэтью. — И что с ним такое? Мэриан вздохнула. — Стефани, мне тоже непросто… — Тогда какого дьявола притащилась? Я тебя не звала! Мне нет никакого дела… — Тебе есть дело. И ты права, между мной и Мэтью что-то есть. Но я хочу, чтобы ты знала: он все еще любит тебя и ужасно мучается. — Как ты смеешь врываться ко мне в кабинет и говорить о нем так, будто знаешь его лучше, чем я? «Он все еще любит тебя»! Чего ты этим хочешь добиться? — Ничего. Просто хотела, чтобы ты знала. И, несмотря на то, что ты думаешь, я не сделала ничего, чтобы это изменить. Хотя я… испытываю к нему очень сильное чувство. — Нет, я не верю своим ушам! Ты ненамного старше его дочери! И вот, зная нашу историю, имеешь наглость вторгаться сюда и говорить мне о твоих «чувствах»! Убирайся, Мэриан! Убирайся, пока я не сделала чего-нибудь такого, о чем нам обеим придется пожалеть! — Стефани, ты ему нужна. Помоги ему разобраться! — В чем? В его чувствах к тебе? — Если хочешь — да. — И ты просишь меня о помощи? Это неподражаемо! — Мы все трое нуждаемся в помощи. Так не может продолжаться. — Вот тут ты права. Так что давай, расскажи мне, что Мэтью нашел в тебе такого особенного. Почему ни на шаг не отходит, почему начинает психовать при каждом упоминании о тебе. Я знаю почему, но хочу услышать это от тебя. Кишка тонка? — Не в том дело. Мы скрыли это от тебя для твоего же блага. — Лгунья! Маленькая дрянь! — Дело в особом доверии, оказанном нам — мне и Мэтью — Фрэнком и Грейс Гастингсами. Единственное, что я могу тебе открыть: я знаю, чем занималась Оливия в Нью-Йорке. Мэтью тоже знает. Стефани открыла было рот — и снова закрыла. — Поэтому нам — мне во всяком случае — угрожает смертельная опасность. Хочешь от меня избавиться — выйди на улицу и скажи человеку у газетного киоска: да, Мэриан Дикон знает, что тогда происходило и кто повинен в исчезновении Оливии. Стефани бессильно опустилась в кресло, изумленно качая головой и не отрывая глаз от Мэриан. — Как ты узнала? — Это долгая история. Главное — я знаю. Фрэнк и Грейс не захотели, чтобы я единственная в съемочном коллективе была посвящена в тайну. Они попросили Мэтью присматривать за мной в Лондоне. В Нью-Йорке это делали люди Фрэнка. В Лондоне они тоже охраняют меня — когда Мэтью не может. — Так вот почему он настаивает на том, чтобы именно ты поговорила с Фрэнком о финале? Ты знаешь, о ком и о чем говорить? — Да. Мэриан умолкла, давая Стефани время это переварить. Она не знала, правильно ли поступила, поделившись даже этой скудной информацией, но Оливия Гастингс и ее похождения — только часть проблемы. — Спасибо, что сказала, — произнесла Стефани. — Это многое объясняет. Но не решает, не так ли? — Нет, не решает. Нам по-прежнему будет трудно работать вместе, поэтому, если хочешь, я подам заявление об уходе. — Ну уж нет! — с горьким смешком воскликнула Стефани. — На это я не куплюсь! Скажу честно, Мэриан: я была бы счастлива, если бы ты исчезла с горизонта: не очень-то, знаешь, приятно пригреть пиявку на груди, — но если ты уволишься, Мэтью скажет, что это я тебя довела. Нет, я повышу тебя в должности! Твое имя как редактора будет указано в титрах! Ты получишь гонорар. Как тебе этот удар ниже пояса? Недостаточно силен, чтобы ты перестала чувствовать себя виноватой? — Недостаточно. Но, знаешь, мне и в секретаршах хорошо. — Ты ею и останешься! Однако в титрах все-таки появишься, нравится тебе это или нет! — Раз ты решила, мне тебя не отговорить. Ты — продюсер. — Вот именно. Тот самый продюсер, который вытащил тебя из той дыры в Бристоле и дал тебе новую жизнь. И вот как ты меня отблагодарила! Не знаю, как тебе удалось разнюхать об Оливии, но ты — самая хитрая, самая расчетливая интриганка из свете! Ты даже хуже его жены, которая по счастливой случайности воспылала к тебе симпатией только за то, что ты сидела и слушала ее излияния. Это твоя излюбленная тактика: давать людям выплакаться у тебя на груди. Хочешь бороться со мной за Мэтью? Не трудись. Если он хочет тебя, пусть берет, я не намерена соперничать с сопливой девчонкой из-за человека, который просил меня стать его женой и за которого я намерена выйти замуж! Слышишь? — Да. — Тогда убирайся! Мэриан подошла к двери и остановилась. — Стефани, что бы мы с тобой ни решили, не будем забывать, что последнее слово останется за Мэтью. С этими словами она закрыла за собой дверь и стала медленно спускаться по лестнице. Стефани сложила руки на столе и уткнулась в них лицом.* * *
— И потом, — уговаривала Мэриан кузину, — у тебя будет возможность повидаться с Энрико. Глаза Мадлен распухли от слез. — Не думаю, что он захочет меня видеть. — Насколько я знаю Энрико, он должен был догадаться, что это — гнусные измышления. Ты обязана ему объяснить! — А как же Пол? — Пусть и он едет вместе с нами. В деревне, где мы будем жить, есть домики с одной и двумя спальнями. Мне досталась одна, но я отдам ее вам, а сама устроюсь на диване. Откровенно говоря, я нуждаюсь в твоей моральной поддержке: на меня косо смотрят из-за истории со Стефани. — Хорошо. Если Пол поедет, я согласна. Ты ведь знаешь, мы поклялись… — Да-да. Давай спросим, что он об этом думает. — Превосходная идея! — воскликнул Пол. — Нам с тобой, Мэдди, не мешает отдохнуть. А присутствовать при съемках картины — об этом можно только мечтать! — Значит, решено? — обрадовалась Мэриан. — Пойду закажу билеты. Что она и сделала с помощью Мэтью. А потом написала Энрико. Мэтью прочел письмо перед тем, как она заклеила конверт. На душе скребли кошки. Если его догадка окажется верной и Пол действительно замышляет то, в чем Мэтью его подозревает, опасность угрожает не только Мадлен. (обратно)Глава 27
Деревня Фелитто — небольшое скопление увитых плющом и заросших жимолостью домишек в горной части Тосканы — находилась в часе ходьбы от Паэзетто ди Питторе и на добрую тысячу метров выше ближайшего маленького городка Камайоре. По вечерам горы утопали в тумане или облаках, из-за чего езда по местным дорогам была сопряжена с немалым риском. К коттеджу, где жила Мэриан вместе с Мадлен и Полом, вели выщербленные каменные ступени. Здесь было две комнаты: спальня и что-то вроде гостиной с голыми белеными стенами, камином, ветхим ковром и балками под потолком. У окна стоял диван, а возле камина — кресло; это да еще шаткий деревянный стол — вот и вся мебель. В спальне стояла кровать. Вместо гардероба — вешалка за занавеской. Тем не менее в качестве временного пристанища дом был как дом; Мэриан он сразу пришелся по душе. Бронвен и Хейзел поселились через дорогу от нее, а Стефани и Мэтью — подальше, напротив бара. Домики выше на горе занял вспомогательный персонал. Из местных в деревне осталась немолодая супружеская чета — Манфредо и Габриэла. В понедельник, по приезде съемочной группы, Манфредо затопил в баре камин, но несмотря на солнечную погоду, там было холодно. Едва устроившись, Мэтью и Стефани заглянули в бар и присоединились к Бронвен у камина. Остальные расположились в глубине небольшого зала и, пересыпая речь итальянскими словами, с удовольствием накачивались гремучей смесью — фирменным грогом Манфредо. — Вчера прилетели Фрэнк и Грейс, — сообщила Бронвен. — Сняли виллу близ Вольтерры. Здесь, конечно, не тот комфорт, что в Нью-Йорке. Кстати, Арману не удалось заказать на четверг вертолет, придется перенести съемку на пятницу. Мэтью пообещал поговорить с Вуди. — И еще. В последнее время замечено оживление в Паэзетто ди Питторе. Прямо деревня призраков. По дорогам в любое время дня и ночи снуют машины, однако никто не видел, чтобы приезжающие входили в дома. Хоть пиши роман ужасов — «Тосканские тайны». — Ты встречалась с Рамбальди? — полюбопытствовал Мэтью. — Нет. Договорились на субботу, но он не явился. С тех пор я время от времени набираю его флорентийский номер — никто не отвечает. В Академии мне сказали, что у него нет лекций до конца месяца. Не представляю, куда он мог подеваться. — Зря тащилась, да, Брон? Она бросила на Мэтью убийственный взгляд. — Очень смешно! Я надеялась, что он объяснит мне, из-за чего весь этот сыр-бор в Питторе. Хотя… он ведь говорил, что плохо знает эту деревню. — Ты же не поверила, — напомнила Стефани. — Да, но все равно стоило спросить. Интересно, он знает, что случилось с Оливией? — На твоем месте я не приставал бы с этим вопросом к первому встречному, — внушительно произнес Мэтью. — Особенно здесь, в Италии. — Да? Мэтью, ты что-нибудь разнюхал? Он покачал головой, стараясь не встречаться взглядом со Стефани. — Нет. Но трагедия произошла где-то здесь. А Рамбальди лгал, будто не знает Питторе. В общем, будь осторожна. — У-у-у! — Бронвен возбужденно потерла руки. — Похоже на детектив, да, Стеф? — Не знаю… Послушай, может, стоило бы еще раз перечитать финальный эпизод, прежде чем дать актерам? — Конечно. Я уже внесла исправления своим варварским почерком. Мэриан прихватила машинку? — Мэриан все прихватила. — В голосе Стефани против ее воли прозвучали саркастические нотки. Она храбро встретила напряженный взгляд Мэтью. Однако уже в следующее мгновение от враждебности не осталось и следа. — Попрошу ее перепечатать. Во сколько завтра начинаем снимать? Стефани недовольно поморщилась. — В шесть. Нашему Микеланджело подавай восход солнца. Бронвен, ты не слушаешь? — О боги! — вымолвила та. — Теперь я вижу: Мэриан действительно все прихватила — вернее, всех. Мэтью встал и отошел к стойке, чтобы поздороваться с вновь пришедшими. Бронвен повернулась к Стефани. — Что происходит? — Спроси у Мэтью. Это выше моего понимания. Я устала бороться. У меня одна светлая мысль — дожить до окончания съемок. И чтобы эта кузина не сверкала близ съемочной площадки голыми титьками. — Ты разрешила им приехать? — Нет, но и не запретила. Она — ловкая бестия: напустила на меня Мэтью. — Ну и ну! Так вы с ним разговариваете или нет? — Только о делах. Видишь ли, как бы она ни действовала мне на нервы, я не могу не восхищаться тем мужеством, с каким она заговорила со мной в тот день. У меня бы не хватило духу. — У меня бы тоже. А Мэтью что говорит? — Ничего. Но между нами уже нет прежней вражды. Не представляю, чем все это кончится, но на данный момент мы заключили перемирие. — Хорошо бы и с Мэриан. — Я и сама думаю. Брон, она тебе нравится? — Да. Ты ей тоже симпатизировала до этой истории. Стеф, она, конечно, изменилась, но не нужно считать ее расчетливой маленькой хищницей. Я уверена: она страдает ничуть не меньше. Она же не виновата, что так случилось. Стефани жестко усмехнулась. — Адвокат дьявола! — Не совсем. Просто сердцу не прикажешь. Иначе жить было бы гораздо проще. — Просто можно было бы жить… На другом конце зала послышался пронзительный смех. Стефани процедила сквозь зубы: — Ладно, Брон, я попробую поладить с Мэриан. Но не с ее кузиной. Неужели она не может не визжать? — Красавчик! — выдохнула Бронвен. — Если ты о Мэтью, то да — временами. Бронвен засмеялась. — Вообще-то я имела в виду Пола О’Коннелла. Вот они стоят там, Мэтью такой чернявый, а Пол — блондинчик… — Они будут дружить семьями: Мадлен и Пол, Мэриан и Мэтью. Я прямо так и вижу, как они вместе проводят каникулы, ездят друг к другу в гости, празднуют Рождество, дни рождения, устраивают пикники… Извини, Брон, я лучше пойду. — Конечно, дорогуша. Я с тобой. — Не оборачивайся, — шепнула Мадлен на ухо кузине. — Она сматывается. У Мэриан сжалось сердце. — Не злорадствуй, Мэдди. Ей очень плохо. — А тебе-то что? Он здесь, с тобой… — Да, но все не так просто. — О чем вы там шепчетесь? — Мэтью повысил голос, чтобы перекричать шум в зале. — О тебе, — ответила Мэриан. — Не верю, — пошутил он и, обласкав ее взглядом, словно воздвиг невидимый барьер между ними и всеми прочими. — Нет, правда! — крикнула Мадлен и тут же ойкнула: Мэриан наступила ей на ногу. Мэтью с большой неохотой оторвал взгляд от Мэриан и возобновил разговор с Полом. — Ты не мог бы, — спросил тот, — ознакомить меня с расписанием съемок? — Само собой. Я пришлю к тебе Вуди или кого-нибудь из его ассистентов. — Спасибо. Просто я ищу уединенное местечко, чтобы можно было спокойно писать, и не хочу попасть в кадр. Зачем мне лишняя популярность? — Можно спросить, над чем ты сейчас работаешь? — Пытаюсь вжиться в образ человека, который должен предстать перед судом за убийство. Мой метод — лично переживать то, о чем я пишу. Однако никто из тех, к кому я обращался, не согласился сыграть роль жертвы. — Им не хватает спортивного азарта. — Вот и я так думаю. А ты бы сыграл? Мэтью стрельнул взглядом в сторону Мэриан и, повернувшись так, чтобы она не слышала, ответил: — Если так и дальше пойдет — возможно. — Что, старина, туго приходится? — Не то слово. Ладно, пойду посмотрю, что поделывают Стефани и Бронвен. Нужно кое-что переписать. Завтра утром увидимся. До свидания, Мэриан. — До свидания. Внезапно она вздрогнула и пролила свой напиток: сзади незаметно подкрался Вуди. — Ах, паразит! — Но симпатичный! Ну-ка, Мэриан, познакомь меня — еще раз — с твоей прекрасной кузиной. Он окинул Мадлен с головы до ног восхищенным взором. Мэриан шутя закатила глаза и совершила церемонию представления. И потом битый час знакомила Мадлен и Пола с членами съемочной группы. Около десяти часов вечера в бар опять заглянула Бронвен: не согласится ли Мэриан перед сном кое-что отпечатать? Вся честная компания проводила Мэриан сочувственными охами и ахами. Полчаса спустя у себя в коттедже она спросила Мадлен: — Ну как он тебе? — Роскошный экземпляр! — Правда? — И к тебе неровно дышит, это видно невооруженным глазом. Стоило нам войти в бар, как он бросил Стефани и рванул к тебе. — Я видела. — Да брось ты, все хорошо! Я говорила с Полом, он считает, что ты должна сказать Мэтью о своих чувствах. Вдолбить ему в башку. — Он знает, Мэдди. — Ты уверена? Все равно скажи — для верности. Ладно, печатай. Пойду присмотрю за моим красавцем, пока на него не положила глаз — как, ты сказала, ее называют? — Яйцедробилка Хейзел. Мэриан вышла вместе с ней на крыльцо и долго смотрела вслед. Ночь была сырая и очень темная. Из бара доносились оживленные голоса. Стрекотали цикады. В кустах шуршали разные ночные твари. Усиливался ветер. Мэриан вспомнила крик — и у нее побежали мурашки по спине. Все твердили: это был всего лишь сон и ничего больше. Они абсолютно правы. Однако, снова переступив порог неосвещенной гостиной, Мэриан, как тогда, оказалась во власти зловещего предчувствия. Комната словно грозила задушить ее. И крик повторился — пронзительный, полный ужаса и агонии. В венах застыла кровь. Мэриан вдруг поняла: он жил в ней самой. Как будто подсознание тщилось предупредить ее о чем-то до того ужасном, что перед этим бессильна самая необузданная фантазия. Паника накатила — и так же резко схлынула. Мэриан включила свет и села за пишущую машинку. Поразительное место — изумительно красивое днем и грозное ночью!* * *
Съемочная группа начинала работу рано утром и, чтобы избежать сверхурочных выплат, закруглялась в половине пятого. А так как по вечерам по техническим причинам не намечалось прогонов, все собирались у Манфредо отдать должное его грогу. Первые два дня прошли без сучка без задоринки, несмотря на брюзжание актеров по поводу частых переделок сценария и неполадки с генератором, которые Вуди быстро устранил. Просторную кладовую позади зала приспособили под производственный отдел. В конце рабочего дня Мэриан освобождала импровизированный стол в углу для Бини, которая производила покадровую разметку эпизодов на завтра. В среду вечером, пока рабочие устанавливали генератор в прачечной рядом с коттеджем Стефани, Мэтью сидел на скамейке на маленькой площади перед баром, попивая «кампари» с содовой и одновременно просматривая завтрашние эпизоды. Неподалеку Рори беседовал с посыльным; он дружески махнул рукой подошедшей Мэриан. Между ними как будто существовал молчаливый уговор: не вспоминать тот вечер в Нью-Йорке, словно его и не было. Мэриан знала: Рори сказал Мэтью правду — и была благодарна ему за это — так же как и за то, что он не воспользовался ее беспомощностью. Прочие думали, что в ту ночь она утратила невинность, но ее это не трогало. — Не помешаю? — спросила она, останавливаясь за спиной у Мэтью. — Нет-нет, я почти закончил. Садись, выпей со мной. — Не хочется. У тебя потрясающая шапка — ты в ней прямо славянин. — Зато теплая. — Он стащил шапку и пригладил волосы. — Черт, ветер пробирает до костей. Тебе тоже следовало бы надеть шляпу, Мэриан. Как дела? — Нормально. А у тебя? — Ну если не считать небольшого смятения чувств, все хорошо. — Он вытянул ноги и задрал их на низенький палисад. — Смотри, какой закат — особенно на горизонте. Что за краски — пурпурная, оранжевая, желтая!.. Надеюсь, на будущей неделе, когда настанет очередь вечерних эпизодов, природа устроит нам такое же представление. А вот и наш профессор Хиггинс[14] из Холланд-парк. — В полеих зрения появился Пол и, перепрыгнув через небольшой заборчик, исчез за домом. — Как дела в этой области? — Ничего из ряда вон выходящего, но я все же хочу тебе кое-что сказать. — Да? — Борис пропал. С тех пор как мы приехали сюда, я его ни разу не видела. — Может, сел не в тот самолет? Мэриан хмыкнула. — Может быть. Но мне как-то тревожно. Мэтью, я сделала кое-что такое, за что ты не погладишь меня по головке. — Что? — Когда Бронвен сказала, что не знает, куда делся Серджио… а тут еще Борис как сквозь землю провалился… Короче, я позвонила Рабину Мейеру в Нью-Йорк. Не беспокойся, я не представилась. Оказалось, что его нет в городе и не будет до конца месяца. Я спросила, как можно с ним связаться, и секретарша ответила, что он где-то в Европе. — Ясно. Какое-то время Мэтью с отсутствующим видом смотрел в пространство. И наконец произнес: — Ты слышала, как Бронвен рассказывала о кипучей деятельности в Питторе? — Да. — Нужно сообщить о Мейере Фрэнку и Грейс. И смотри, чтобы ноги твоей не было в тех местах! — Не волнуйся, меня туда на аркане не затащишь. — Не знаю, что там за возня в Питторе. Возможно, это и не имеет отношения к Рамбальди и Мейеру, но интуиция подсказывает мне, что имеет. Возможно, они поверили, что ты ничего не знаешь, и поэтому сняли наблюдение. Но ты все-таки не ходи без сопровождения — даже здесь. А теперь поговорим о Поле и Мадлен. — Хорошо, — удивленно произнесла Мэриан. — Сегодня Мадлен встречалась с Энрико. — Ну и как? — Кажется, все в порядке. Он знает цену газетчикам. И не сказал о нашем письме. — Отлично… Слушай, Мэриан, я хочу поделиться с тобой чем-то таким, что вряд ли — особенно в свете исчезновения Рамбальди и Мейера — благотворно скажется на твоей нервной системе. Но ты должна четко представлять ситуацию. — Какую? — Если твои подозрения относительно Пола верны, каковы могут быть последствия этого для тебя лично? — Откровенно говоря, мне это тоже приходило в голову. Но я все-таки — родня. — Это не останавливало его в прошлом, не правда ли? Как по-твоему, чья это была идея — присвоить твой выигрыш? Не хочу задевать твои чувства, но Мадлен не особенно смекалиста. Она, конечно, взяла всю вину на себя, но ты подумай: как легко такому, как Пол, ею манипулировать! Этот поступок разлучил вас — хотя бы на время. Ты никогда не задавалась вопросом, почему он не сообщил ей о смерти твоей матери? Потому что знал: она бросится к тебе. Для него все так удачно складывалось: ты — далеко, твоя мать — в могиле. Следующим его шагом было поссорить Мадлен с Шамирой. Потом он перестал платить Дейдре, и Мадлен стала полностью зависеть от него в финансовом отношении. Затем он мастерски срежиссировал историю с Таралло — чтобы выглядело так, будто это исходит от Мадлен. Расчет был на то, что Таралло не захочет больше с ней знаться. Слава Богу, этого не случилось, но Пол об этом еще не знает. А раз она так обошлась с Таралло, от нее отвернулась пресса. И осталась только ты. Мэриан смертельно побледнела. Господи, как зловеще выглядят горы в сумерках! Мэтью взял ее руку в свои. — Извини. Но ради твоего же блага я должен был открыть тебе глаза. Конечно, не исключено, что мы преувеличиваем, но я никогда не простил бы себе, если бы с тобой что-нибудь случилось. — Просто не знаю, что сказать. Все это очень правдоподобно. Если Пол сознательно создает вокруг Мадлен вакуум, тогда, конечно, в его интересах — убрать меня с дороги. А как? Разве что убить… — Ее распахнутые серые глаза встретились с его — черными, и она содрогнулась. — Книга, — озвучил он ее собственные мысли. — Он ищет жертву. — Но ведь тогда его посадят в тюрьму — и, может быть, навсегда разлучат с Мадлен. — Согласен. Но я считаю Пола способным на все что угодно. У него дьявольски изощренный ум, Мэриан, он непременно что-нибудь придумает! Хорошо бы мне повидаться с Энрико Таралло. Прямо сегодня. Он живет далеко отсюда? — Нет. Это в окрестностях Галлено, в получасе езды. Я уверена: он и его бабушка что-то знают о Поле. Не представляю, что именно: они говорили по-итальянски, — но потом она сказала, чтобы я берегла Мадлен. — Ступай позвони Энрико. Жду тебя здесь через десять минут. После ее ухода Мэтью остался сидеть на площади возле бара, размышляя о Поле О’Коннелле, Энрико Таралло и Серджио Рамбальди. Насколько ему было известно, эти трое не знакомы. Однако все они знали Мэриан, и по какой-то необъяснимой причине Мэтью был убежден, что между ними существует таинственная связь. — Привет. Он поднял глаза и увидел Стефани — в куртке с капюшоном и теплой шали. Он улыбнулся. — Привет. Как прошел день? — Нормально. — Она села рядом на скамью. — А ты доволен ходом съемок? Мэтью поморщился. — Мне не хватает прогонов. — Хейзел договорилась на субботу — арендовала кинозал в Камайоре. — Отлично. — Я вот думаю, — тихо проговорила Стефани, — может, съездим куда-нибудь поужинать? Например, в Лукку? — Прости, Стеф, не могу. — Ну ладно. Как-нибудь в другой раз. — Завтра? — Поживем — увидим. — Она встала. — Стеф!.. Она засунула руки в карманы и смотрела на него сверху вниз, ежась, словно от холода. — Стефани, мне очень жаль. — Мне тоже. — И она с грустной улыбкой вошла внутрь бара.* * *
Час спустя их ввели в столовую тосканской резиденции Таралло. На столе горели лампочки в виде свечей в роскошных канделябрах. Мерцал хрусталь. Потрескивали дрова в камине. — Вы очень добры, — сказала Мэриан, — но мы хотели только поговорить, а не ужинать. — Но сейчас как раз время ужина, — ответила Сильвестра, — я сама проголодалась. Мы не готовили ничего особенного. Остальные слушают оперу во Флоренции. В доме только мы с Энрико да слуги. — Вы, наверное, тоже собирались в оперу, — виновато пробормотала Мэриан, обращаясь к Энрико. — Не беда. Я уже много раз бывал в опере. — Нас четверо, — сказала Сильвестра. — Давайте сядем друг против друга. Мэриан, садись напротив меня рядом с Энрико. А вы, Мэтью, рядом со мной. Выпьете немного вина? Виноградники Таралло славятся на всю округу. — В таком случае грех отказываться, — ответила Мэриан, с любопытством поглядывая на высокую, хрупкую, однако величественную пожилую даму. — Итак, — начал Энрико после того, как комнату покинули слуги, — Мэриан, вы сказали по телефону, что хотите о чем-то спросить? — Да. О Поле О’Коннелле. Энрико и его бабушка переглянулись. Она незаметно кивнула. — Мы так и думали. Что вы хотите услышать? Мэриан растеряно покосилась на своего спутника. Мэтью пришел ей на выручку. — Все, что вы можете рассказать — конечно, если вы знаете что-то таксе, чего не знают другие. — Да, знаем, — ответила Сильвестра. — Я читала ваше письмо и поэтому согласилась встретиться. Вы правы, Мадлен угрожает опасность — и тебе, Мэриан, тоже. — Какая именно? — спросил Мэтью. — На этот вопрос может ответить только сам Пол. Понимаете, я не могу точно представить себе ход его мыслей. Одно скажу: Пол О’Коннелл — душевнобольной. У Мэриан из пальцев выпала вилка и со звоном упала на тарелку. — Я знала его мать, — продолжала Сильвестра. — Она тоже была больна, но не опасна для окружающих. А сейчас я расскажу вам, почему считаю опасным Пола. Мэтью не отрывал от старухи глаз, но она смотрела на Энрико. Между ними как будто шел безмолвный разговор. Потом она перевела взгляд на Мэриан, и та поежилась. — Пол О’Коннелл убил своих родителей, — прозвучало в мертвой тишине столовой. Мэриан показалось, будто комната плывет у нее перед глазами. Возможно, она упала бы в обморок, но Энрико положил ей на руку свою ладонь и поднес к губам стакан с водой. — Это случилось на охоте, — рассказывала Сильвестра, теперь уже адресуясь к Мэтью. — Я стара, и подробности не сохранились в моей памяти. Предполагалось, будто Элен — мать Пола — застрелила мужа, а потом застрелилась сама. Все знали, что у нее не в порядке с головой, но я хорошо знала Элен, я видела ее за неделю до ее гибели. У нее были грандиозные планы, она ни за что не убила бы себя в такой момент. Пол знал об этих планах — и убил, чтобы помешать их осуществлению. Очевидно, отец все видел, и Пол убрал свидетеля. Разразился скандал. Но никто не мог поверить, что одиннадцатилетний мальчик способен лишить жизни своих родителей, так что все сошлись во мнении, что это сделала Элен. С минуту Мэтью переваривал услышанное. — Но что же она собиралась предпринять? — Оставить мужа и сына ради одного человека здесь, в Италии. — И за это поплатилась жизнью? — Не забывайте: Пол унаследовал душевную болезнь. Его мозг устроен иначе, чем мозг нормального человека. — Пол рассказывал мне, что его мать любила Италию, — вспомнила Мэриан. — Особенно Флоренцию. Они приезжали сюда каждый год. — Да, это так. Но Элен бывала здесь гораздо чаще. У нее была на то причина, но пусть это умрет вместе с ней. Теперь об этом знаем только я, Энрико, Пол… и еще один человек: тот, ради которого она собиралась бросить мужа и сына. Пол любил мать и не хотел, чтобы она уезжала. С тех пор он всю жизнь боится быть брошенным тем, кого он любит. Вот почему он так обращается с Мадлен. Стремится удержать ее при себе, изолировать от всех, сделать так, чтобы она никого больше не любила — даже тебя, Мэриан. — Вы думаете, ради достижения этой цели он готов физически расправиться с Мэриан? — спросил Мэтью. — Не знаю. Я уже сказала: невозможно представить себе ход мыслей душевнобольного. Не хочу понапрасну сеять панику. — Но я не вижу выхода, — испуганно произнесла Мэриан. — Сказать Мадлен? Даже если она поверит, Пол все равно ее не отпустит. — Да, — подтвердила Сильвестра. — Вы ничего не можете предпринять, и мне нечего вам посоветовать — только предупредить об опасности. Они до полуночи ломали голову над тем, как спасти Мадлен, но так ни к чему и не пришли. Если уговорить Мадлен бросить Пола — кто знает, до каких крайностей он дойдет, чтобы вернуть ее, и какую месть измыслит для тех, кто встанет у него на пути. Когда гости уехали, Энрико, стоя на крыльце, обратился к Сильвестре: — Почему ты не сказала им всего? — Потому что это слишком запутанная история. Рок заново свел их в этом краю, и я не представляю, что делать. — Все равно нужно было сказать. — Возможно. Но так ли обязательно, чтобы они все знали? С тех пор столько воды утекло, Энрико, столько крови и слез! Не хочу, чтобы это повторилось. — Я все думаю, — сказала Мэриан, когда они оставили Галлено позади, — кто тот человек, к которому хотела уйти мать Пола? — У меня такое ощущение, — признался Мэтью, — будто это имеет отношение к Серджио Рамбальди. Это может показаться абсурдным, и у меня нет никаких оснований, но… — Мне тоже так кажется. Мэтью, я боюсь. Все это слишком далеко зашло, и я не представляю, как быть. Может, увезти Мадлен обратно в Лондон… даже в Бристоль? Но как я ей это объясню? Господи, если бы можно было вернуться в самое начало, когда мы жили в крохотной квартирке в Клифтоне и не знали Пола! Мэтью, как все это могло произойти? Откуда весь этот ужас? — Не знаю, милая. Знаю лишь, что ты должна вести себя так, словно не разговаривала с Сильвестрой. Это трудно, почти невыполнимо, но речь идет о твоей жизни и смерти. — Кошмар — спать под одной крышей с Полом, зная, что он убийца! — Я бы с удовольствием предложил тебе пожить у меня, но это приведет к осложнениям. Я все же думаю, что пока ты держишь язык за зубами, тебе ничто не грозит.* * *
Мэриан нашла Мэтью сидящим на ступеньках фургона — гримуборной Кристины Ханкок. Вместе с Фрэнком и Грейс он поглощал бутерброды. — Прекрасный день, не правда ли? — молвила Грейс. — Просто замечательный. Фрэнк понизил голос. — Мэриан, с тобой все в порядке? Мэтью рассказал нам о звонке Мейеру. — У меня все хорошо. Почувствовав ее состояние, Грейс перевела разговор на другое. Улучив минутку, Мэриан шепнула Мэтью: — Здесь Дейдра, агент Мадлен. — Серьезно? Ну так пусть задержится подольше. Еще одна пара глаз, чтобы присматривать за Мадлен, не помешает.* * *
— Чертов Манфредо! — проворчала Хейзел, когда к ней заглянула Бронвен. — Похмелье замучило. Меня там не ищут? Ах, черт! — Она нагнулась, чтобы собрать содержимое своей сумочки. — Напоминай мне, чтобы я не делала резких движений. Бронвен сочувственно улыбнулась и отказалась от предложенной сигареты. — Хочу потолковать о Стефани. Вернее, о Мэтью с Мэриан. — Да уж! Уму непостижимо! — Он тебе что-нибудь говорил о Мэриан? — Нет. — Мне тоже. Как по-твоему, между ними что-то есть? — Похоже на то, — ответила Хейзел, выпуская через ноздри дым. — Просто в голове не укладывается — зачем ему понадобилось демонстрировать это перед Стефани? Странно устроен мир! Ты замужем, я в разводе, Стефани и вовсе одинокая женщина — и ни у одной из нас нет готовых рецептов. — Ну, мы же знаем, почему Стефани не вышла замуж. Хейзел кивнула. — Мэтью тоже знает. На месте Стефани я бы выцарапала этой соплячке глаза. — Ох, Хейз, просто ума не приложу, что делать. С тех пор как она с ним познакомилась, у Стефани не было другого мужчины. Мэтью да профессия — вот все, что у нее есть в жизни. Он вроде бы тоже по ней с ума сходит. Так что же такое происходит? Может, с ним поговорить? Бронвен мотнула головой. — Это должна сделать Стефани. А она не хочет. Палец о палец не ударит — вот что меня больше всего угнетает. Ведь если он и вправду уйдет к Мэриан, ей уже не выкарабкаться.* * *
— Что?! — Серджио резко повернулся; глаза сверкали. — Она виделась с Таралло? Когда? — Вчера. И сегодня после обеда. Он сделал к ней шаг, и Дейдра невольно попятилась. У Серджио был измученный вид, но гнев придал ему силы. Она стукнул кулаком по подоконнику. — Это не должно повториться! Положи этому конец! Любой ценой удержи ее от контактов с кем бы то ни было из Таралло. — Почему? — Не задавай глупых вопросов, делай, что велят! Сегодня четверг — осталось продержаться до завтрашнего вечера. Тебе ясно? — А потом? — Тебя не касается! Все улажено, ты возвратишься в Англию. — Мавр сделал свое дело? Несколько секунд лицо Серджио сохраняло жесткое выражение, однако потом его черты смягчились. — Ты вынуждаешь меня быть с тобой грубым, cara. Поверь, мне этого вовсе не хочется. Скоро мы станем мужем и женой. Разве ты не об этом мечтала? — Да, но не так… Серджио обнял ее и начал покрывать лицо частыми поцелуями. — Мне понятно твое смятение, любовь моя, но скоро все будет кончено и мы поженимся, и будем жить долго и счастливо, и состаримся вместе. — А Мадлен? — Тс-с-с, cara, при чем тут Мадлен? Завтра — Мадлен, и послезавтра, и во все остальные дни, а сегодня на свете — только ты и я. Дейдра поняла, что настаивать бесполезно, и разрешила себе расслабиться. Вероятно, это их последняя встреча. Никогда больше он не будет держать ее в объятиях. Господи, думала она, я этого не переживу! Потом Серджио уехал в bottega, оставив ее одну в неприбранной квартире. Дважды звонил телефон, но он строго-настрого запретил ей снимать трубку. Да и не все ли равно, кто звонит и от кого он прячется? Дейдра могла думать только о том звонке, что предстояло сделать ей самой. Потому что, как бы она ни любила Серджио, как ни стремилась стать его женой, этого не избежать — раз ей не известно, что ждет Мадлен. Интуиция подсказывала: ей так или иначе суждено его потерять, а лихорадочный блеск в его глазах и неестественное возбуждение только укрепили ее в этом убеждении. То, что этот звонок чреват риском для ее жизни, уже не имело значения. Она сидела уставившись на телефонный аппарат. Судя по поведению Серджио, только один человек на свете может дать ответ на терзающий ее вопрос. Что-то он скажет? Со свинцовой тяжестью в груди она сняла трубку. Пять минут спустя она безвольно рухнула в кресло. Сердце билось как барабан; руки дрожали. Но жребий брошен: завтра ее ждут на вилле Таралло. Дейдра спрятала мокрое от слез лицо в ладонях. — Прости меня, Серджио. Я люблю тебя так сильно, что у меня разрывается сердце. Но я не могу позволить тебе забрать ее. (обратно)Глава 28
— Но это же именно то, что нужно! — кипятился Мэтью. — Ты только посмотри, какой зловещий вид! — Я же не виновата, что эти вертолетчики не хотят рисковать. — Ты предлагала увеличить плату? — Естественно. Слушать не хотят, и, положа руку на сердце, я их понимаю. — Я тоже. — Они оба рассмеялись. — Что ж, делать нечего, перейдем к бассейну. — Спасибо за одолжение, — съязвила Стефани и в тот же миг зажала уши ладонями, чтобы не слышать, как он зовет Вуди. Рабочие потащили оборудование вниз, к плавательному бассейну. В куртке с капюшоном и теплой шапочке, позаимствованной у костюмеров, Мэриан стояла возле своего коттеджа, прислонившись к стене, и наблюдала за их спуском. Сзади подкралась Мадлен. — Бу-у-у! — Мэдди, чтоб тебя черт побрал! — Да брось ты! Не так уж я тебя напугала. Или ты думала, это Мэтью? — Нет. Я знаю, где сейчас Мэтью. А где Пол? — Не знаю. Где-нибудь корпит над своим романом. — Виделась «кое с кем»? — Да. Сегодня мы собираемся во Флоренцию. Очень интересно! Мэриан уловила в ее интонации оттенок сарказма. — Мэдди, «кое-кто» вряд ли делает это для своего удовольствия: он столько раз это видел! Так что могла бы хотя бы из благодарности сделать вид… — Ладно, ладно, не начинай меня пилить. Открою тебе страшную тайну: осматривать достопримечательности «кое с кем» — и то интереснее, чем слушать, как Пол разглагольствует о своей книге. Тоска зеленая! Я половины не понимаю. — Надеюсь, ты ему этого не сказала? — Нет, конечно. Послушай, если ты сейчас свободна, пошли на кухню — может, Габриэла даст нам горячего супу? — Это для съемочной группы. — Ну ты сегодня точно не в духе! Мэриан принужденно улыбнулась. — Ладно, пусть будет суп. Заодно отнесем остальным. Как ты доберешься до Камайоре? — А, кто-нибудь подбросит, они так и шныряют взад-вперед. Когда за ними закрылась дверь кухни, Пол вышел из укрытия — узкого затененного проулка между двумя коттеджами. Ему хотелось ринуться туда вслед за девушками, вытащить Мадлен и зверски избить. Но нет, для нее это слишком мало. Ценой сверхчеловеческих усилий он взял себя в руки и, спотыкаясь на каменных ступенях, побежал в дом. Он тяжело дышал; кровь бешено стучала в висках. Таралло! Эта сука встречается с Таралло! После всего, что он, Пол, предпринял, чтобы не допустить этого! Они принимают его за идиота — думают, он не догадается, о ком речь! Не в силах более сдерживаться, Пол замолотил кулаками по стене и разбил их в кровь. Ноздри раздувались, как у дикого зверя. Никогда еще он не испытывал такого чувства ненависти! Все, для чего он работал, все жертвы — коту под хвост. Предательница! Она ускользнула из-под его контроля, лгала ему, изменяла, издевалась над ним! Пол так ошалел от ревности, что готов был убить ее! Он поднялся в спальню. Нужно хладнокровно все обдумать. Забыть о своих планах посвятить ей остаток жизни. Отрешиться от воспоминаний. Только думать! Сосредоточиться на ее предательстве. Успокоиться и принять решение.* * *
К половине третьего туман стал рассеиваться; за горами веером разошлись солнечные лучи. Пришлось прекратить съемку: неподходящее освещение. — И что теперь? — спросила Мэриан. — Поедем на шоссе снимать дорожные сцены. Неутомимая Хейзел раздобыла грузовик. — Эй, садитесь ко мне! — крикнул из своей машины Вуди. — Хорошо, — откликнулся Мэтью. — У Кристины не высохла одежда, — пожаловалась Белинда. — Пусть переоденется. Поговори с Бини. Она сделала покадровую разбивку эпизодов на завтра? Снимем, что можно. — Мэтью! — окликнул его один из ассистентов. — Нам понадобится автомобиль со сдвигающейся крышей или не обязательно? — Спроси у Вуди. — Мэтью схватил Мэриан за руку и повлек к импровизированному офису. — Бери скорей все необходимое, а то с Вуди станется — уехать без нас. — Только не без тебя. — Я бы не поручился. — Ты иди, а меня подберет кто-нибудь из персонала. А может, я и не поеду. Боюсь простудиться. — Нет уж, поехали. Не хватает, чтобы ты осталась здесь одна. — Ничего со мной не случится. Люди Фрэнка сидят в баре. И вообще, я хотела поспать. — Всю ночь не спала? Мэриан кивнула. — Это меня не удивляет, — со вздохом сказал Мэтью. — А где Мадлен? — С Энрико. — Так ты думаешь, вам ничего не угрожает? — Абсолютно. — Пол закончил свой роман? — Нет. Наверное, бродит по лесу, придумывает трагическую развязку. — Час назад он рванул отсюда в «панде». — Интересно, куда. — Он точно не знает о встречах Мадлен с Энрико? — Нет, что ты. Мы соблюдаем осторожность. Даже не упоминаем его имени. Мэтью задумался. — Так не может продолжаться до бесконечности. Мэриан захлопала ресницами, но тут же сообразила, что это относилось к Мадлен и Полу. — Ты прав. — Знаю, о чем ты подумала. Но у тебя и так хватает проблем, чтобы я добавлял свои. Когда все будет кончено, мы обязательно поговорим. В это время Вуди оглушительно выкрикнул в рупор его имя. — Ладно, позднее увидимся. Смотри, не ходи одна в лес. — Я не буду надевать красную шапочку. Он засмеялся и пошел к машине.* * *
Дейдра медленно катила во взятом напрокат «фиате», всматриваясь в окрестности и гадая, какие из этих земель принадлежат Таралло. Возможно, все. По обе стороны дороги тянулись нескончаемые виноградники и оливковые рощи. Остановившись возле черных чугунных ворот с фамильным гербом Таралло, она вышла из машины и надавила на кнопку звонка. Через несколько секунд ворота открылись; проезжая, Дейдра заметила вмонтированную в стену почти неразличимую камеру. Подъездная аллея оказалась короче, чем она ожидала, и была сплошь усыпана опавшей листвой; зато сад производил впечатление идеально ухоженного. Его украшали мраморные статуи, фонтаны в несколько ярусов; цветочные клумбы окружены аккуратно подстриженным кустарником. Цветов, конечно, не было, но Дейдра без труда представила себе, как усадьба выглядит весной и летом. Она припарковала автомобиль и улыбнулась привратнику. Тот ввел ее в просторный холл; каблучки звонко цокали по мраморному полу. Откуда-то доносились детские голоса. В гостиной ей первым делом бросились в глаза широкие, выходящие на террасу окна. Потом — превосходные картины на стенах. При виде одной из картин Дейдра не сдержала улыбки: она давно гадала, в какой частной коллекции может храниться именно это полотно Тициана. Ей захотелось потрогать раму, но она вовремя заметила провода сигнализации и отдернула руку. — Дейдра! Она вздрогнула и обернулась. Голос принадлежал сидевшей на диване в другом конце комнаты и оттого показавшейся миниатюрной женщине в черном. Должно быть, это Сильвестра. — Buona sera, signora[15]. — Говори по-английски. Не хочу, чтобы кто-нибудь понял разговор. — Я договорилась с Энрико… Сильвестра покачала головой. — Тебе нужен не Энрико, а другой мой внук, Арсенио, но он пока не может ни с кем встречаться. — Но… Сильвестра подняла костлявую руку. — Энрико тебе не поможет, а я помогу. Садись, пожалуйста. Дейдра опустилась в удобное кресло у камина и приготовилась терпеливо ждать. — В глубине души я знала, что когда-нибудь этот день настанет. — В темных глазах пожилой женщины застыла скорбь. — Я не могу вечно оберегать его, это грех. Я великая грешница. Все мы здесь согрешили в той или иной мере. — Она умолкла и унеслась мыслями далеко-далеко. Наконец взгляд Сильвестры снова обрел ясность, и она продолжила хриплым голосом с сильным акцентом: — Через несколько дней Энрико заберет брата из сумасшедшего дома. Энрико говорит, я его не узнаю, он сильно постарел. Мой прекрасный Арсенио состарился в тридцать лет. Это Серджио Рамбальди сделал из него старика. Я ненавижу Серджио Рамбальди, но когда-то любила как родного сына. Возможно, в душе я и сейчас его люблю, но он должен понести наказание. Я всегда знала: расплаты не миновать. — Но что, что он сделал? — Хочешь знать, что случилось с Оливией? На лице гостьи отразилось крайнее изумление. Накануне, разговаривая с Энрико по телефону, она сказала лишь, что хочет поговорить с ним о Серджио Рамбальди и о bottega. — Оливия, — задумчиво повторила Сильвестра. — Серджио рассказал мне, чем она занималась в Нью-Йорке: заманивала детей в бордель. Ей платили наркотиками. Она получала наркотики, а пожилые сластолюбцы — беззащитных мальчиков и девочек. Кто-то узнал об этом, и ее пришлось выслать из Америки, чтобы она не проболталась в полиции обо всем, что знала. Видишь ли, ради дозы наркотика она была готова на все. Поэтому Рабин Мейер предложил Серджио взять ее к себе. Он знал, чем Серджио занимается в bottega. — Сильвестра остановилась перевести дух и продолжила: — Серджио всю жизнь ждал такого случая. Он взял Оливию, но этого ему показалось недостаточно, и теперь он хочет Мадлен. — Но почему именно ее? — Из-за Пола О’Коннелла, разумеется. — Из-за Пола? При чем тут Пол? В устремленных на нее глазах Сильвестры мелькнуло удивление. — Как? Серджио тебе не сказал? — О чем? — Ну так я скажу. Пол О’Коннелл — брат Серджио. Дейдра совсем ошалела. — Этого не может быть. Серджио — итальянец. — У них была одна мать и разные отцы. Не знаю, кто был отцом Серджио — Элен унесла эту тайну с собой в могилу. Она родила Серджио, когда ей не было шестнадцати лет, и отдала в семью Рамбальди, которую немного знала. Это я уговорила их взять мальчика, но лишь формально: я сама растила Серджио как своего сына. Ему не было десяти, когда приехала мать и сказала, что у него есть младший брат, она замужем и хочет забрать его с собой. Но Серджио привязался к моей семье и отказался уезжать. Она стала навещать его — приезжала во Флоренцию с мужем и младшим сыном Полом. Эти встречи плохо действовали на Серджио, и он сказал ей, чтобы больше не приезжала, но она не слушала и часто наведывалась сюда одна. Постепенно Серджио привык к этим визитам и полюбил свою мать. Он рос очень одаренным мальчиком, и Элен загорелась желанием помочь ему в занятиях искусством. Она часто рассказывала ему о великом Микеланджело и внушала что он, Серджио, такой же гений, может быть даже новое воплощение Микеланджело на земле. Серджио поверил в — как это? — реинкарнацию. В один прекрасный день Элен решила покинуть свою семью и поселиться с Серджио в Италии, чтобы помочь раскрыться его таланту. Пол не хотел, чтобы она уезжала, и убил ее. — Господи! — ахнула Дейдра. — Но это же безумие! Это… — Да, Дейдра, они все безумны. Пол и Серджио унаследовали красоту матери и ее болезнь. В сыновьях эта душевная болезнь проявилась роковым образом. Пол убил мать, и с тех Пор Серджио жаждет отомстить. Вот почему он выбрал Мадлен. Дейдре хотелось крикнуть в лицо этой старой женщине, что она сама сумасшедшая. Но в глубине души она знала: как это ни ужасно, Сильвестра говорит правду. Ей вспомнились реакция Серджио на первое упоминание о Поле, настойчивые требования, чтобы она сообщала ему обо всем, что касалось Пола, делала все, чтобы Пол и Мадлен оставались вместе. — Но прежде я расскажу тебе об Оливии. Дейдра содрогнулась: интонация Сильвестры не сулила ничего хорошего. — Никто не знает, где она сейчас, жива ли… — Жива! Серджио говорил мне… — Нет, Дейдра, Оливия умерла. Затаив дыхание, Дейдра с яростным отрицанием смотрела на пожилую женщину. — Но Дарио… Серджио и Дарио утверждали, что я ее увижу… — Увидишь, но не так, как ты думаешь. Говорю это потому, что знаю, что случилось в bottega. Вот почему с тобой встретилась я, а не Энрико. Я — великая грешница. Ты любишь Серджио, да? Дейдра кивнула. — Значит, тебе знакома его манера ипнотизировать людей… — Гипнотизировать, — машинально поправила Дейдра. — Да, гипнотизировать — взглядом и силой своего обаяния. Все любят Серджио, всех к нему тянет, потому что он — гений, это знает вся Италия. Но он болен. После смерти матери Росария, жена Энрико, постаралась убедить его, что он — не Микеланджело, и он поверил, но и сегодня работает по методу Микеланджело, даже одевается в bottega как во времена Кватроченто. Однако он понимает: художников много, а ему хочется выделиться. И вдруг ему в руки попадает дочь очень богатого американца. Ее знает весь мир. А Мадлен — разве он не настаивал, чтобы ты помогла ей прославиться? — Да, но в этом не было нужды, я и сама… — Неважно. Главное, она — возлюбленная Пола О’Коннелла, а то, что она — знаменитость, явилось дополнительным подарком судьбы. О нем заговорит весь мир! Видишь ли, он изучает анатомию человека так, как это делал Микеланджело. Знаешь, что я имею в виду? Да, Дейдра знала… — Микеланджело расчленял тела мужчин. Серджио Рамбальди расчленяет тела женщин и благодаря полученным знаниям создает великолепные скульптуры. — Нет! Не может быть! Я не верю! Сильвестра словно не слышала. — Мой внук Арсенио боготворил Серджио и стал его учеником. Когда Оливия приехала в Италию и люди в Нью-Йорке приговорили ее к смерти, Серджио увидел в этом перст судьбы. В ночь перед сходкой Арсенио должен был дать ей снотворное — смертельную дозу. Но Арсенио полюбил эту девушку и захотел ее спасти. Они занимались любовью, а затем он подсыпал ей в напиток немного порошка. Она потеряла сознание, но не умерла. Но он побоялся признаться в этом Серджио. Поэтому, когда ей вонзили нож в артерию, оттуда хлынула кровь и ослепила моего внука. Теперь он повсюду видит только кровь. Он был невменяем, и Энрико отвез его в психиатрическую клинику, потому что в бреду Арсенио выкрикивал имя Оливии. Потом он пришел в себя, но мы оставили его там, чтобы спасти Серджио. Я делала это ради себя и ради Росарии, которая любила его как брата. Но теперь Росария мертва, и Серджио должен заплатить за свое преступление. О да, ты увидишь Оливию — теперь она живет в мраморе. Дейдра вскочила с помертвевшим лицом и сверкающими глазами. — Мадлен! Где она? — С Энрико во Флоренции. Дейдра на мгновение успокоилась. Зато в глазах Сильвестры мелькнул испуг. — Когда он хочет взять ее, Дейдра? — Сегодня вечером. — Так скоро! Мы должны спасти ее. Но я не могу связаться с Энрико. Будем надеяться, что они заедут сюда перед возвращением в деревню. А ты поезжай в Фелитто и жди там.* * *
В тот самый момент, когда Дейдра въезжала в ворота усадьбы Таралло, Пол остановил свой автомобиль возле кафе в Паэзетто ди Питторе. Начался дождь, но он не чувствовал ни дождя, Ни пронизывающего ветра: буря бушевала у него в груди. Все мысли и чувства сконцентрировались в один сгусток ярости и боли, разраставшийся с каждым воспоминанием о предательстве Мадлен. Но несмотря на омерзение и уязвленную гордыню, он был рад тому, что наконец-то принял решение. Вот она, панацея! Как он раньше не додумался? Он взошел на террасу; от напряжения на лбу появились морщины. Столько лет прошло! Однако он все прекрасно помнил. Энергичным пинком ноги он отодвинул стол; открылась дверь в погреб. Пол оглянулся по сторонам, окинул внимательным взглядом поросшие лесом горные склоны, унылые, заброшенные коттеджи, запертую дверь кафе и забрызганный грязью пол террасы. Пол рванул щеколду и стал спускаться по каменным ступеням. Он не подумал о фонарике и вскоре очутился в кромешной тьме. Однако он знал: за рядами покрытых толстым слоем пыли бутылок есть только один лаз, один-единственный путь, который приведет его к брату. На поиски ушло много времени, и много бутылок было разбито, прежде чем он нащупал и отворил дверь, ведущую в туннель. Ноги разъезжались в стороны; чтобы не упасть, ему дважды пришлось припасть к осклизлой стене, но еще немного — и он снова увидит дневной свет. Когда Пол вышел из недр горы, дождь припустил вовсю и сбил его с ног. Хватаясь за обнаженные корни деревьев, он поднялся и нырнул под спасительную сень леса. Через каких-нибудь десять шагов в зарослях ежевики обнаружилась дорожка — узкая, извилистая, круто забирающая в гору. Допотопные перила помогли ему удержаться на ногах и дотащиться до пещеры. То была гробница древних этрусков. Мать-природа заботливо укрыла вход, но Пол разгреб тяжелые сучья и ступил внутрь. По освещенным свечами стенам метались тени людей в рабочей одежде, суетившихся вокруг мерцающей в полутьме желтовато-белой мраморной плиты. Пол и потолок были расписаны причудливыми изображениями римских богов. По стенам сочилась влага, стекая в узкий желоб. Пахло землей и сыростью. Снаружи завывал ветер, словно злясь, что не может ворваться в оскверненную гробницу. Но Пол ничего этого не замечал, даже не обратил внимания на то, что люди у плиты прервали свою работу. Его взгляд был прикован к великолепной статуе в глубине пещеры. В золотых лучах прожекторов алебастровое лицо казалось в одно и то же время и живым, и неземным, демоническим. Мраморные губы словно разговаривали с ним, маня в глубь пещеры; глаза смотрели со слепым обожанием. Пол был совершенно околдован. Он затаил дыхание, но мрамор цвета слоновой кости излучал такую энергию, что, казалось, дышал вместо него и беззвучно что-то шептал — может быть, даже угрозы. Никогда еще Пол не видел такого сочетания красоты и порока. — Оливия! — выдохнул он. — Да, Оливия. Чары развеялись. Пол обернулся; острая боль пронзила сердце. Серджио! Старший брат, которого она считала гением! Сын, к которому стремилась, из-за которого Пол убил ее. Убил собственную мать. Бархатные глаза смотрели на него с улыбкой. Пол впился взглядом в идеально красивое лицо и почувствовал, как утихает бушевавшая в сердце ярость. — Я думал, ты никогда не придешь, — мягко вымолвил Серджио. — Меня никто не звал. — А теперь позвали? Пол вздернул брови и перевел взгляд на мраморную плиту, а затем — на помощника Серджио, чьи близко посаженные глаза не мигая следили за ним. — Мне нужна твоя помощь. — Ясно. Серджио кивнул своему помощнику; тот вместе с остальными скрылся в темном проходе в дальнем конце пещеры. Пол и Серджио остались одни — двое прекрасных мужчин, и похожих, и очень разных, как две стороны одной медали, отчеканенные одной и той же рукой из одного металла. Два совершенных творения одного мастера. Энергия, бьющая из глаз Серджио, схлестнулась со столь же мощной, бьющей из глаз Пола. Между ними как будто велся безмолвный спор. Серджио первым отвел глаза — но не в знак поражения, а торжествуя победу. Он добровольно уклонился от поединка и, прислонившись к стене, сложил руки на груди. — Садись. Пол сел туда, куда Серджио показал взглядом, — на мраморную плиту. — В последний раз ты приходил сюда ребенком. И так хорошо запомнил дорогу? Пол кивнул и перевел взгляд на статую Оливии. — Мне следовало догадаться, что она здесь. Такую же участь ты готовил Элен, если бы она приехала? — Нет. — А какую же? — Никакой. У меня не было далеко идущих планов. Все, о чем я мечтал, это спокойно творить. Она хотела создать мне условия. — Ты никогда по-настоящему не любил — и прекрасно обошелся без нее! — Конечно. Ветер усилился; отблески свечей метались по стенам, когда ветер проникал через загородившие вход ветви. — Все это в прошлом, — мягко произнес Серджио. — Ты поступил так, как считал нужным, и я не держу зла. Ты хотел просить о помощи? Пол долго буравил брата взглядом, исполненным подозрительности и в то же время любопытства, — словно оценивал его способность удивляться. — Я хочу предстать перед судом по обвинению в убийстве. На лице Серджио не дрогнул ни один мускул. — Решил признаться? — В этом случае мне грозило бы длительное тюремное заключение. Нет, я хочу, чтобы ты здесь кое-кого спрятал и сообщил в полицию, что я ее убил. А по окончании судебного процесса отпустил на свободу. — Вот как? И кто же эта особа? — Ее зовут Мадлен Дикон. Вижу, ты о ней слышал. Спрячь ее и дай свидетельские показания, что я ее убил. — А как же труп? — Я признаюсь в убийстве, но откажусь отвечать на вопросы о местонахождении тела. Серджио долго сверлил его взглядом, успешно скрывая ненависть за насмешливым любопытством. Он уже ощущал в горле сладкий привкус мести. — Значит, когда все будет кончено, я должен буду вернуть ее миру, чтобы тебя освободили из тюрьмы? Ты уверен, что я так и поступлю? — Не на сто процентов. Но я тебе верю. Не забывай: на самом деле она останется жива; в случае чего я подскажу полицейским, откуда начать поиски. И потом — я знаю об Оливии. — Да, конечно. Серджио со вздохом отделился от стены и, обойдя вокруг мраморной плиты, очутился у Пола за спиной. — Я выполню твою просьбу, но ты должен лично доставить ее сюда сегодня вечером. Сможешь? — Да. — Каким образом? — Что-нибудь придумаю. — Пол изогнулся, чтобы заглянуть в лицо брата, оказавшееся в тени. — Боишься, что потом она вспомнит?.. — Да. Серджио щелкнул пальцами. Из темноты вынырнул человек с близко посаженными глазами, и после того как Серджио что-то сказал по-итальянски, дал ему крохотный пакетик. — Это снотворное. Так тебе будет легче ее доставить. Мои люди будут ждать в кафе. Пол спрятал пакетик в карман. — На, возьми фонарь. Судя по твоему виду, ты добирался сюда ощупью. Бросив прощальный взгляд на сверкающую статую, Пол удалился. Стоя под аркой, Серджио долго следил, как он, горбясь под дождем, осторожно уходил прочь по скользкой дорожке. Когда он скрылся из виду, Серджио обратился к своему сообщнику: — Ты слышал? Не правда ли, очень любезно с его стороны — до такой степени упростить мою задачу? Мы, конечно, выполним его просьбу, но именно тебе, Джованни, предстоит сообщить в полицию. И ты же выступишь свидетелем в суде. Тебе нельзя нынче оставаться в bottega. Пусть соседи видят, как ты крутишься возле дома, а потом отправляешься в горы на прогулку. Понятно? — Да. — Рано утром сообщишь в полицию о том, что ты видел. А там, — Серджио сощурил глаза, — мой брат получит свое. А я — свое. Он посмотрел на сообщника так, словно ждал вопроса, и тот не обманул его ожиданий: — Сегодня снимают на шоссе. Мэриан одна в Фелитто. Доставить ее сюда? Серджио улыбнулся. — Нет, Джованни. Я сам это сделаю.* * *
Клубился серый туман. Вечер еще не наступил, но небо над головой заволокли темные тучи. Дождь перестал, но передышка обещала быть недолгой. Мэриан недоумевала: съемочная группа должна бы уже вернуться. Возможно, Мэтью решил, что дождь усилит зловещий колорит; в этом случае они задержатся допоздна. Мэриан подбросила в топку камина лишнюю чурку и, свернувшись клубком в кресле, возобновила чтение. Но через несколько минут отложила книгу. Столько мыслей роилось в голове, что она стала ловить себя на том, что по нескольку раз перечитывает одну и ту же страницу. Она посмотрела на часы. И Мадлен что-то задерживается. А где Пол? Вряд ли в такую погоду в лесу можно заниматься литературой. Но Мэтью видел, как он отъезжал куда-то в автомобиле. Наверное, ему что-нибудь понадобилось в Лукке или Виареджо. Она стала думать о Мэтью — и уронила голову на руки. Перед ее мысленным взором завертелся хоровод лиц: Стефани, Оливия, Борис, потом Серджио Рамбальди и Рабин Мейер, Мадлен и Пол… Они все кружились, кружились… Мэриан резко встала и прошлась по комнате. Несколько минут смотрела в огонь — и наконец, обессиленная, снова упала в кресло. Хотелось плакать, но слез не было. Может, пойти в бар, там сидят люди Фрэнка? По крайней мере, есть с кем поговорить. Но она чувствовала себя не в настроении вести разговоры — и вообще что-то делать. Только лежать свернувшись калачиком, лелея в душе дурацкую иллюзию, как будто, когда она откроет глаза, все волшебным образом переменится: будет раскрыта тайна Пола и Серджио, а она останется с Мэтью. Мэриан откинула голову на спинку кресла и посмотрела в окно. Там шел дождь. С виноградных лоз стекали крупные капли, образуя лужи. На ветру хлопнула дверь; Мэриан вздрогнула и мысленно пожурила себя за излишнюю нервозность. Нужно было ехать со всеми: лучше холод и слякоть, чем сходить с ума от страха. Она снова выглянула на улицу. Там не было ни души — только дождь хлестал как из ведра да завывал ветер. И вдруг в ложбине мелькнула человеческая фигура. Человек не спешил, как полагается в ненастье; похоже, ему доставляло удовольствие мокнуть под дождем. У нее подпрыгнуло сердце: она приняла его за Мэтью, однако в следующую секунду узнала путника — и ее легкие превратились в две большие сосульки. Она отпрянула от окна; кровь в венах стыла от ужаса. Что он здесь делает? Кого ищет? Может быть, Бронвен? Ну конечно же, он приехал к Бронвен! Шаги раздались возле самого дома. Все ее тело сковал страх. Тень человека заслонила окно. Мэриан бросилась на пол и замерла. Незнакомец постучал в наружную дверь, и вслед за этим лязгнула щеколда. Бешеный стук сердца рвал барабанные перепонки. Через открытую дверь в комнату ворвался холодный воздух; из камина повалил дым. Она так и осталась лежать на полу, притаившись за диваном. Господи, хоть бы он ее не заметил! Человек молча постоял на пороге. Дверь снова закрылась. Сердце Мэриан наполнилось радостью избавления. Она вновь обрела способность шевелить руками и ногами, но продолжала, зажмурившись, лежать на полу: слабость не позволяла подняться. Зачем он приходил? Что ему нужно? Господи, сделай так, чтобы скорее вернулся Мэтью! Но она больше не будет пассивно ждать, а побежит на шоссе, к нему! Только бы выбраться из деревни, где ветер рыдает, как дитя, а стук дождя похож на барабаны судьбы. Мэриан открыла глаза и ухватилась за боковую стенку дивана, чтобы встать. И в ту же минуту ужас вновь парализовал ее. — Нет, нет, нет! — шептала она, привалившись к стене. — В чем дело, Мэриан? — Красивое лицо Серджио выразило озабоченность. — Почему вы испугались? Я не причиню вам зла. Давайте я помогу вам подняться. Он протянул к ней руку, но она забилась дальше в угол. — Пожалуйста, оставьте меня в покое! — Я не собираюсь вам вредить. Не бойтесь. Я хочу лишь поговорить с вами: мне требуетсяваша помощь. Присядьте к огню, вы вся дрожите. Мэриан проглотила горький ком в горле и кое-как поднялась на ноги. А когда он подхватил ее под мышки, чтобы отвести к огню, не оказала сопротивления. — Что вам нужно? Он заботливо усадил ее в кресло. — Хочу просить вас об одной услуге. Это прославит ваше имя. Оно будет вписано в анналы истории моей страны — а возможно, и вашей. Ее округлившиеся глаза стали похожими на два огромных блюдца. Серджио усмехнулся. — Разве не великая честь — остаться в истории? — Да, — послушно ответила она, решив, что безопаснее не перечить. — Я рад, что вы так думаете. Но вам все еще страшно. Как мне убедить вас в том, что все опасения напрасны? Она бросила взгляд на дверь. Серджио усмехнулся. — Ах, вы хотите, чтобы я ушел? Но я предпочел бы, Мэриан, уйти вместе с вами. Хочу отвезти вас в мою мастерскую, показать, над чем и как я работаю. Чтобы вы записали это для потомков. Пусть весь мир знает, как Серджио Рамбальди творит свои шедевры. Вам и только вам я поведаю о своей жизни, семье и творчестве. Заклинаю вас сказать «да». Сделайте это для меня! — Н-но… Я н-не могу. У меня нет н-необходимой квалификации. Я не литератор. — Разве не вы написали большую часть сценария этого фильма? Бронвен хвалила ваш талант, утверждала, что вас ждет блестящее будущее. Поэтому я и решил обратиться к вам. Пожалуйста! Все, о чем я прошу, это отправиться со мной в мастерскую, выслушать мою исповедь и познакомиться с моим творческим методом. Я заранее запасся ручками и бумагой и даже приготовил пишущую машинку. Сами решайте, как вам удобнее работать. Мэриан не знала, что и думать. С точки зрения Серджио, он оказывал ей большую честь, предлагая стать своим биографом. Имя и творчество Серджио Рамбальди уже сейчас были окружены в Италии ореолом тайны. Такая книга может в корне изменить ее жизнь. И все же Мэриан хотелось одного: оказаться как можно дальше от этого человека. Но под каким предлогом попросить его уйти? Признаться, что она его смертельно боится? — Похоже, вы собираетесь мне отказать. — В голосе Серджио не было угрозы — одна грусть, усилившая ее смятение. В какой-то роковой момент ей подумалось, что она ошиблась в Серджио и он действительно не знает о судьбе Оливии. Черные глаза умоляли понять и поверить. — Если то, что вы увидите в моей мастерской, не вдохновит вас на создание книги, вы уйдете точно так же, как пришли. Этот визит не налагает на вас никаких обязательств. Я хочу, чтобы вы сделали это по доброй воле. Все, о чем я прошу, это сейчас поехать со мной и посмотреть мою работу. А по дороге я расскажу вам о своем детстве. Расскажу о Таралло… — Энрико? — Да. — Он ободряюще улыбнулся. — И об Энрико — он мне все равно что брат. И о Сильвестре, которая заменила мне мать. — Я не знала, что вы близки с Таралло. — А почему вы должны были это знать? Я больше с ними не живу: работа требовала моего переезда во Флоренцию. Брат Энрико, Арсенио, до своей болезни работал у меня в мастерской. С ним произошла трагедия, мы все очень переживали. Сильвестра знает о моей работе и все понимает. Росария, жена Энрико, тоже меня понимала. Она часто приходила в мастерскую. Как видите, вам нечего бояться. Они ведь и ваши друзья? — Сегодня они тоже там будут? Серджио пожал плечами. — Вероятно. Хотя теперь они навещают меня гораздо реже. Может, Энрико приведет Мадлен. Кажется, они сейчас во Флоренции? — Да, — ответила Мэриан. Напряжение начало отпускать ее. Никто, кроме Энрико, не мог сообщить Серджио о том, что он собирается с Мадлен во Флоренцию. И если члены семьи Таралло часто бывают в мастерской… Тем не менее ее что-то беспокоило. Что-то не сходилось, но что? Хоть бы Серджио перестал пронзать ее жгучим взором — может, ей и удалось бы выстроить логическую цепочку. У нее закружилась голова. — Идемте, — распорядился Серджио, подавая ей пальто. — Сегодня холодно, нужно потеплее одеться. — А где эта мастерская? Во Флоренции? — Да, — солгал он. — Только с этой минуты будем называть ее bottega, хорошо? По-итальянски это и значит мастерская. Я предпочитаю итальянский вариант. — Bottega, — повторила Мэриан. — Да, bottega. Она хотела взять у Серджио свой шарф, но он сам укутал ей горло и поправил волосы. С неба по-прежнему низвергались серые потоки. — Бежим к машине! От холода чары развеялись, и Мэриан снова насторожилась. — К машине? — Ну да. Мы же не можем пойти во Флоренцию пешком. Действительно… «Что со мной? — думала Мэриан. — Почему я словно смотрю на себя со стороны?» Она все еще боялась Серджио, но решила бороться со страхом, чего бы это ни стоило. Серджио взял ее за руку и увлек под холодные струи. Скользя и расплескивая лужи, они побежали к полянке, где стоял красный «фольксваген». — Эта машина принадлежит Энрико, я одолжил ее, пока моя в ремонте. При упоминании об Энрико Мэриан успокоилась и забралась на сиденье. — Итак, — начал Серджио, когда они выехали на узкую горную дорогу, — с чего бы начать? Конечно, с моего рождения. Он на приличной скорости вел машину по самому краю пропасти, не снимая ногу с тормоза. — Я расскажу вам о матери — отца я никогда не знал. Она сохранила его имя в тайне от всех — не только от меня. Он рассказал о своем детстве и юношеских годах в Галлено, о том, как рос вместе с Энрико и Арсенио. Слушая мелодичный, богатый модуляциями голос, Мэриан зримо представляла себе обстановку. У подножия горы он вдруг резко свернул на обочину, едва избежав столкновения с встречным автомобилем. Мэриан вытерла ладошкой запотевшее стекло. — Это же Дейдра, агент Мадлен! — Если она и дальше будет так носиться, то рано или поздно свернет себе шею, — ухмыльнулся Серджио.* * *
Маленький синий «фиат» резко затормозил перед фургоном Кристины Ханкок. Оттуда выскочила Дейдра и, даже не закрыв дверцу, ринулась к коттеджу Мэриан. На стук никто не ответил. Она что было сил замолотила кулаком по двери. — Мэдди! Где ты? Обнаружив, что дверь не заперта, Дейдра вбежала в дом и через минуту снова выскочила. Мокрые растрепавшиеся волосы торчали из-за поднятого воротника пальто. К ней бежал какой-то человек. Она ринулась навстречу: — Вы не видели Мадлен? — Нет. Кто вы такая? — Ее агент. А где Мэриан? — Разве ее нет в коттедже? — Там никого нет. Человек недоверчиво уставился на Дейдру и вдруг, грубо оттолкнув ее, ринулся в дом. Даже вой ветра не мог заглушить его ругательств. — Быстро в бар! — приказал он, снова появившись на крыльце. — Зачем? — Делайте, что говорят! — Он спрыгнул с крыльца и бесцеремонно потащил ее прямо по траве. В баре на Дейдру дохнуло теплом, но ее продолжала бить нервная дрожь. Ее неожиданный спутник заорал на сонно клюющего носом мужчину: — Вставай сейчас же! Ее нет! — Как?! А где Мэтью? — спросонья гаркнул второй мужчина. — Здесь, — послышалось от двери. — Фу! Наконец-то добрались! Дейдра молнией метнулась к выходу, едва не сбив Мэтью с ног. — Что здесь происходит? — Она ищет Мадлен, — объяснил охранник. — Мадлен? С какой стати? И почему в панике? — И вдруг, не дожидаясь ответа, бросился догонять Дейдру. — Подождите! Дейдра, вернитесь! Мэтью в несколько прыжков догнал ее и схватил за руку. Она вырвалась и попыталась залезть в машину. — Ради Бога, Дейдра! Что случилось? — Некогда объяснять. Я должна разыскать Мадлен! — Отвечайте! — гаркнул Мэтью, не давая ей сесть за руль. — В чем дело? Это имеет отношение к Полу? — Да! Имеет — и очень большое! Где он? Вы его видели? — Нет. Мы сразу после обеда уехали на съемку. Может, Мэриан его видела? Почему бы вам не успокоиться и не зайти к ней в коттедж? — Мэриан исчезла. Он побелел как мел и больно сжал ей запястье. — Что значит «исчезла»? — Ее нет. Я уже заходила. Те люди в баре — они ее ищут. — О Господи! — выдохнул Мэтью и потащил Дейдру обратно к бару.* * *
Мадлен стояла на стоянке такси на главной улице Камайоре. Одной рукой она придерживала шляпу, а другой махала отъезжающему Энрико. — Можете подбросить меня до Фелитто? — прокричала она в окошко такси. В это время грянул гром. — Si, si, Фелитто. — Таксист начал открывать заднюю дверцу. — Я сам ее отвезу. Пол! Он решительно взял Мадлен за руку и увлек в сторонку. — Привет, — растерянно пробормотала она. — Привет. Надо же, какая встреча! Я заехал купить газету. А ты? Куда-нибудь ездила? — Он метнул взгляд на ее свертки. — Во Флоренцию, за покупками. — Идем, спрячемся от дождя. — Он потащил ее в кафе. Видел ли он Энрико? Судя по поведению — нет. Однако ее беспокойство не проходило. Пол заказал две чашки кофе и спросил у официанта, где здесь дамская комната. — Зачем она тебе понадобилась? Я не хочу в туалет. Или у тебя вдруг прорезались определенные наклонности? — Просто подумал — может, ты захочешь привести себя в божеский вид. Настоящая лахудра. Надувшись, Мадлен сделала именно то, на что он и рассчитывал: рванула причесываться. Принесли кофе. Пол незаметно опустил в чашку Мадлен две полученные от Серджио таблетки. — У тебя такой довольный вид, — сказала Мадлен, занимая свое место за столиком. Она успокоилась: Пол явно не видел Энрико. — На то есть основания. Я почти закончил книгу. — Правда? Это нужно отметить. — Отметим, когда совсем закончу. А пока выпей кофе и расскажи, много ли ты потратила во Флоренции. — Целое состояние! Тебе тоже кое-что купила, но это — сюрприз ко дню рождения. — Даже не намекнешь? — Нетушки! Наберись терпения. А для Мэриан я купила зажигалку в виде падающей Пизанской башни. Ужасная безвкусица! Жду не дождусь увидеть ее реакцию. Притворюсь, будто я в восторге. Ты же знаешь, Мэриан готова на все, лишь бы не задеть чьи-то чувства. Пол улыбнулся и все время, пока Мадлен щебетала о своих приобретениях, нежно смотрел ей в глаза. Все его существо как будто раздвоилось. Матрешка наконец-то обрела содержание. Но создавая ее, он разрушил собственную личность. Он заполнил собой ее зияющую пустоту, зажег в ней огонь — а сам погас, задохнулся. Ему больше ничего не нужно, кроме ее преданности, ее любви, ее слез, ее смеха, ее жизни… Чтобы выжить самому. Когда Мадлен допила кофе, он спросил, наклонившись к ней через стол: — Знаешь, чего бы мне сейчас хотелось? — Что, прямо здесь? — Она зевнула. — Нет. Прокатиться. — Мы и так прокатимся — до Фелитто. — Нет, дальше. Заберемся высоко в горы и притворимся, будто мы — единственные люди на земле. — Ладно, если тебе хочется. Только ненадолго. Я хочу есть. — Подожди здесь. Пойду раздобуду автомобиль. — А поцеловать? — капризно напомнила Мадлен, когда Пол встал из-за стола. Но он только посмотрел на нее прищурившись и велел подождать. — Нет, ты точно чокнутый, — проворчала она полчаса спустя. Автомобиль совершал немыслимые виражи на крутой горной дороге. — Хотя это даже немного романтично. И тепло, и сухо. Только я очень попросила бы тебя ехать помедленнее. Пол не отреагировал. Он целиком сосредоточился на дороге и был непроницаем как сфинкс. — Может, заедем в Фелитто и предупредим Мэриан? Он опять не удостоил ее ответом. — Так говоришь, ты закончил книгу? Когда Пол и на этот раз не ответил, Мадлен начала нервничать. Может, он все-таки видел Энрико? Но тогда он бы уже давно на нее набросился. И потом, она не сделала ничего плохого. Не спала с Энрико. За что же Пол злится? — Пол, ты имеешь хоть какое-нибудь представление, где мы находимся? — Имею. — Ну и слава Богу, а то я совсем не ориентируюсь. Может, повернем назад? Что-то спать хочется. После этих чертовых магазинов чувствуешь себя как выжатый лимон. Пол продолжал молча вести машину. Гроза приближалась. Ослепительные зигзаги молний все ярче и безжалостнее вспарывали черное небо и терялись в кронах деревьев. Гроза соответствовала настроению Пола. Им владело одно желание — наказать Мадлен, раз и навсегда отбить у нее охоту насмехаться над ним. Когда она будет томиться и чахнуть во мраке bottega, он напишет ей из тюрьмы и все объяснит, и пообещает вызволить из заточения, но при условии, что она поклянется стать его рабой — душой и телом. Оглушительный раскат грома заставил его вздрогнуть. Он свернул на обочину и резко нажал на тормоз. Дворники перестали метаться по стеклу, и, кроме дождя, ничего не было видно. Пол включил освещение. — Ты спишь? — Ум-гу. — Просыпайся! — Он схватил Мадлен за волосы и приблизил ее лицо к своему. — В чем дело? — сонно пробормотала она. — Почему ты дергаешь меня за волосы? Глаза Пола лихорадочно блестели; зубы обнажились в зверином оскале. — Я любил тебя, стерва! Ты была темной, тщеславной, жадной шлюхой, а я хотел дать тебе все! — Пол! Что случилось? — Она никак не могла разлепить свинцовые веки. — Энрико Таралло! Ты трахаешься с Энрико Таралло! — Нет-нет, Пол, это не так! — Лгунья! Он ударил ее по лицу; Мадлен стукнулась головой о стекло, но все равно не проснулась. Он распахнул дверцу. — Вылезай! Она, как мешок с песком, свалилась в кювет. Пол обошел машину. Мадлен лежала в кювете без сознания. Он смотрел на нее и любя, и ненавидя. Гроза была в разгаре. Он будет тосковать по Мадлен — уже сейчас все в нем кричало от боли. Без Мадлен он ничто. Но там, в камере, в ожидании суда, ему и следует быть ничем. Он станет жить для нее одной, для их общей славы — и однажды они воссоединятся навеки.* * *
Наконец-то к Мэриан вернулось чувство реальности. Она стояла под аркой входа в пещеру. Животный ужас исказил ее черты, мурашками разошелся по коже, заставил бешено биться сердце. Она пыталась ровно дышать, но ничего не получалось. А при виде статуи Оливии в свете прожекторов — и прекрасной, и кощунственной — ее вырвало. Серджио стоял у нее за спиной. Когда она бессильно прислонилась к стене, по его знаку из темноты вынырнул какой-то человек и ввел ее внутрь пещеры. — Я хочу выйти отсюда! — всхлипывала она. — Пожалуйста, отпустите меня! Но лицо человека, державшего ее мертвой хваткой, говорило: ее ни за что не отпустят, особенно теперь, когда она видела Оливию. — Что вы хотите со мной сделать? — прошептала она, повернувшись к Серджио. — Прошу вас, Мэриан, успокойтесь. Я же сказал, что не желаю вам зла. Но вы должны остаться здесь до окончания моей работы. Я уверен, что вы меня понимаете. — Оливия… Что вы с ней сделали? Где она? — Да вот же она — разве вы не видите? — Нет! Она зажмурилась. Запахи сырой земли и расплавленного воска грозили снова вызвать рвоту. — Но она жива? — Ей пришлось умереть, Мэриан. Люди в Нью-Йорке приговорили ее к смерти и передали мне для исследований. — Серджио! — взмолилась она. — Я не смогу быть вашим биографом. Позвольте мне уйти! — Я уже объяснял, cara… — он помолчал, пережидая мощный раскат грома. — Я уже объяснял, что избрал вас. Вы сохраните для истории то, что вершится здесь, в bottega. — Но это же… — Она чуть не сказала «безумие» и осеклась, поняв, что это так и есть — в буквальном смысле. — Серджио, вы не можете так поступить. Меня хватятся… — Вас никогда не найдут, Мэриан. Это прозвучало как смертный приговор. Мэриан пошатнулась. Сообщник Серджио осторожно опустил ее на пол. Из темноты вышел Рабин Мейер и, не обратив на нее внимания, снова скрылся. Дьявольски красивый, Серджио еще немного постоял у входа в пещеру. И шагнул к Мэриан. Его крупная, статная фигура отбрасывала гротескные тени. Темные глаза цвета охры сверкали. Тень от орлиного носа упала на рот, так что когда Серджио улыбнулся, зубы показались черными. Мэриан вздрогнула и, сжавшись в комочек, незаметно сложила пальцы для крестного знамения. Он сел на мраморную плиту и подался вперед, поближе к ней. — Сегодня вам предстоит стать свидетельницей моего творческого процесса. Вы своими глазами увидите мой метод в действии. Метод великого Микеланджело. Вот этот мрамор, — он погладил плиту, на которой сидел, — явится материалом для шедевра. Она будет лежать здесь. И когда я вскрою вены, мрамор впитает в себя ее кровь. Мы исследуем ее кости, мышцы — все строение ее тела. И сделаем наброски и макеты, которые впоследствии воплотятся в мраморе. Мэриан смотрела на него во все глаза. Теперь она уверилась: он ненормален и, значит, ей осталось только молиться. Она опустила голову и забормотала слова молитвы. К ее невыразимому ужасу, Серджио присоединился к ней, причем искренне. Какое кощунство! В это время зашевелились закрывавшие вход ветви, и вошел человек в длинном черном пальто с капюшоном. Он сказал Серджио несколько слов по-итальянски. Тот с нежностью и участием взглянул на Мэриан. — Приготовьтесь, Мэриан. Сейчас доставят женщину — для вас это будет большой неожиданностью. Возможно, увидев ее, вы поймете, почему мой выбор пал на вас. Вы будете писать эту книгу кровью своего сердца. Мэриан догадалась, о какой женщине идет речь. — Нет, Серджио! Не делайте этого, умоляю вас! Вы же не мясник. Вы нуждаетесь в помощи. Пожалуйста, не убивайте ее. Я все сделаю. — Тс-с-с, — прошептал он. Ветви разошлись, и ужас Мэриан удесятерился при виде мужской фигуры. Его лицо было забрызгано грязью, с волос стекала вода. Он держал на руках бесчувственное тело Мадлен. — Пол! — вскрикнула Мэриан. — Не давай ему это делать! Ты же ее любишь! Ты… Ей бесцеремонно заткнули рот. — Что она здесь делает? — удивился Пол. — Она знает об Оливии. Пол приблизился и опустил тело Мадлен на мраморную плиту. Поправил волосы, нежно поцеловал в губы. Мэриан снова затошнило. — Тебе пора, — напомнил Серджио. — Твое желание будет исполнено. Утром за тобой придут. Пол выпрямился. Мужчины стояли лицом к лицу. Мэриан похолодела: ей вдруг бросилось в глаза сходство между ними. Оба распространяли ауру — пещера прямо-таки пропиталась ею. Мадлен снова зажмурилась и возобновила молитву. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле. Это кошмарный сон, галлюцинация, которая скоро развеется. Но открыв глаза, она снова увидела лежащую на мраморной плите Мадлен и склонившегося над ней Серджио. Пола не было видно. Серджио повернулся к ней, словно для того чтобы выразить сочувствие, но поймав в ее глазах мольбу о пощаде, махнул рукой и удалился. Мэриан показалось, что прошло несколько часов, прежде чем он вернулся в пещеру. Время от времени у нее являлась смутная мысль: что там, за каменным сводом? Она даже не слышала, что кончилась гроза. Что же делать? Бежать? Но помощник Серджио неотлучно находился при ней, уставив отсутствующий взгляд в дальний угол пещеры. Когда она обращалась к нему с мольбой, он переводил на нее этот стеклянный взгляд. Наконец ей удалось встать и сделать шаг к Мадлен, но он грубо схватил ее за руку, и она опять упала на пол. В глазах стояли слезы бессильной ярости. Это какой-то ад. Или все-таки кошмарный сон? Так не бывает! Эти люди и их поступки принадлежали какому-то иному, потустороннему миру. Мэриан начала всхлипывать. Если это сон, почему он не кончается? Почему Мэтью не спешит на помощь? Если бы только она поехала с остальными! А Мадлен — почему она так бледна? Что они собираются с ней делать? Мэриан посмотрела на лицо Оливии и застонала. Вернулся Серджио в черном балахоне скульптора, из-под которого виднелись мятые брюки. Она хотела что-то сказать, но пересохшее горло не издало ни звука. Руки и ноги налились свинцом. Появилась резь в глазах. Мозг — и тот отказывался служить. Она насчитала в пещере семерых; все они окружили плиту из мрамора. Серджио стоял к ней спиной — возился у верстака с инструментами. Трое в рабочей одежде начали раздевать Мадлен. Еще двое подошли к Мэриан, чтобы связать ее. — Прошу прощения, — молвил Серджио. — Когда начнется рассечение тела, нельзя допустить, чтобы вы путались у нас под ногами. Она настолько отупела, что не нашла что ответить и не оказала сопротивления этим двоим — они оказались женщинами. Ей скрутили руки и ноги железной проволокой — не так туго, чтобы затруднить кровообращение, но достаточно, чтобы проволока впилась ей в кожу и причинила нестерпимую боль, если она попробует освободиться. Погасили свечи. Осталась только одна — на верстаке. Слабый поток холодного воздуха, идущий от входа в пещеру, колебал пламя. Мэриан понимала: необходимо что-то делать, попробовать их отговорить… Но ее воля была парализована страхом. Серджио начал читать заклинание по-итальянски или по латыни. При этом он касался одного инструмента за другим, словно освящая эти орудия убийства. Прочие молча смотрели на обнаженное тело Мадлен. Серджио зашел с торца; в руке блеснуло лезвие. Он поднял скальпель высоко над головой, и тотчас грянул хор голосов: «Lunga vita alla donna! Lunga vita al nuovo rinascimento!» Когда скальпель вошел в тело Мадлен, Мэриан закричала. И ни на миг не переставала кричать. Это был тот самый крик, что преследовал ее в Паэзетто ди Питторе, а потом в Фелитто. Кровь Мадлен окропила мрамор. Серджио вытащил скальпель из раны на груди и, поднеся к лицу, вонзил в розовую мякоть губ. Кто-то крепко держал Мэриан; проволока впилась в кожу — она отчаянно пыталась освободиться. Ей что-то говорили, успокаивали, но она все кричала и кричала, умоляя их остановиться. И вдруг увидела под аркой у входа в пещеру Энрико. — Он убил ее! — зарыдала она. — Поздно, Энрико! Слишком поздно! — Мэриан! — Это был знакомый голос Мэтью. — Мэтью! Она мертва! Он убил ее! И сознание покинуло ее. (обратно)ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СПУСТЯ Глава 29
Убийство Мадлен так и осталось загадкой для широкой публики. Официальная информация была весьма скупой, но кое-какие сведения все-таки просочились. Говорили, что полиция арестовала Пола О’Коннелла и Серджио Рамбальди — обоим предъявлено обвинение в убийстве, хотя трудно было понять, кто из них убил Оливию, а кто — Мадлен. На фоне всеобщего ажиотажа в связи с гибелью Мадлен тот факт, что в могиле в дальнем углу пещеры были обнаружены останки Оливии, прошел почти незамеченным — по крайней мере в Италии. В Штатах это открытие повлекло за собой многочисленные аресты. В конце концов следователь, инспектор Веццани, сделал заявление для прессы: в настоящее время полным ходом идут допросы Серджио Рамбальди и Пола О’Коннелла. Удалось точно установить полную непричастность Пола О’Коннелла к тому, что произошло с Оливией. Стало известно, что Мэриан Дикон явилась свидетельницей убийства Мадлен, что с места преступления ее доставили в клинику во Флоренции, а оттуда — прямиком на виллу Таралло в Галлено, где она до сих пор и остается. Целая армия полицейских и телохранителей стерегли виллу от прессы, и только одному фотографу посчастливилось заснять Мэриан, играющую с детьми Энрико в саду. Кроме полицейских, все приезжавшие на виллу пользовались скоростными лимузинами с затемненными стеклами. За недостатком информации газетчики стали намекать на роман между Энрико и Мэриан, но ничем не подкрепленные сплетни быстро выдохлись. Наконец одному журналисту удалось разговорить адвоката Серджио Рамбальди. Он заявил, что Серджио неповинен в смерти Мадлен: это Пол О’Коннелл дал ей смертельную дозу снотворного. Таким образом впервые были упомянуты наркотики; воодушевленная пресса мигом состряпала историю любви Мадлен и Серджио. Но поскольку от адвоката Пола О’Коннелла не последовало опровержения, газетная братия вновь напустилась на полицию. Под большим давлением инспектор Веццани сообщил лишь, что до тех пор, пока Мэриан Дикон не оправится настолько, чтобы подтвердить или опровергнуть показания Рамбальди и О’Коннелла, он не имеет права вдаваться в комментарии. Истина заключалась в том, что с самой ночи убийства Мэриан, Сильвестра и Энрико вели нескончаемые переговоры с сотрудниками полиции, и инспектор Веццани, так же как и его начальство, знал обо всем, что тогда произошло, вплоть до мельчайших подробностей. Тем не менее семья Таралло обратилась с просьбой — до тех пор, пока это не станет абсолютно неизбежным, не давать информации, и полиция сочла возможным эту просьбу удовлетворить. Адвокат Серджио Рамбальди также проводил на вилле много времени, расспрашивая Сильвестру и Энрико, входя во все обстоятельства жизни Серджио и пытаясь обосновать невменяемость своего клиента. Узнав об этом, Серджио отказался от его услуг: он твердо решил предстать перед судом за убийство Оливии Гастингс. Зато Пол О’Коннелл не имел такого намерения в связи со смертью Мадлен. Сначала он охотно признался в убийстве — но это было до того, как он узнал, что Мадлен и вправду мертва, что Серджио Рамбальди арестован, а Энрико Таралло знает о похищении. В конце концов после длительных консультаций, в которых приняли участие врачи, высшие полицейские чины и члены семьи Таралло, обоим — Серджио Рамбальди и Полу О’Коннеллу — было предъявлено обвинение в убийстве. Пол знал: его единственный шанс выйти из тюрьмы в Сан-Витторе свободным человеком связан с Мэриан. Она видела, как он принес Мадлен в bottega, и все, что случилось потом; она должна знать, что, когда Серджио вонзил в нее скальпель, Мадлен была еще жива. Но без свидетельства самой Мэриан его утверждения не имели никакой цены. Мэриан знала об упованиях Пола: полицейские постоянно держали девушку в курсе его душевного состояния. Стоит ей сказать слово — и обвинение против него рухнет. Но она хотела, чтобы он мучился, чтобы у него сердце разрывалось от страха: пусть узнает, что это такое — оказаться совершенно беспомощным, как Мадлен, когда он на руках внес ее в bottega. — Я понимаю твои чувства, — сказал Энрико однажды утром, когда они рука об руку прогуливались по саду. — Никто из нас не хочет, чтобы он вышел на свободу — но ведь это вовсе не обязательно. Даже если Пол не убивал Мадлен, он все равно преступил закон. — Ты имеешь в виду похищение? — Да. Или даже покушение на убийство. Что же касается Серджио, то здесь все ясно: его будут судить за убийство. — Я увижусь с Полом. Наедине. Но при условии, что все будет так, как обещал инспектор Веццани. Вы должны находиться в соседней комнате. И пусть под конец он об этом узнает. — Как скажешь. — Где состоится встреча? — В тюрьме. Мэриан зажмурилась и прислонилась головой к плечу Энрико. — Ах, Пол О’Коннелл! — пробормотала она. — Если б я знала, в какой ад ты превратишь нашу жизнь! Сколько бессонных ночей я провела, выбирая для тебя самую страшную, самую позорную смерть! А теперь мне предстоит сыграть тебе на руку. Зачем? Почему я должна это делать? Невдалеке кто-то кашлянул. Это Сильвестра вышла из дома и приближалась к ним по усыпанной лепестками дорожке — как всегда в черном, под густой вуалью. — Так и думала, что найду вас здесь. Ну, Мэриан, ты решилась? — Да. — Нужно позвонить инспектору Веццани, пусть все подготовит. Ты проявила большое мужество, дитя мое, и ради всех нас должна довести дело до конца. А потом разобраться в собственной жизни. — Несмотря на вуаль, Мэриан чувствовала, что глаза Сильвестры излучают тепло и участие. — Знаешь, что я имею в виду? — Да. Мэтью. — Si. Он только что звонил. Я сказала, что ты не можешь подойти к телефону, но он очень беспокоится о тебе, Мэриан. Я постаралась убедить его, что все в порядке, что мы все полюбили тебя и счастливы о тебе заботиться. Но все равно он хочет с тобой поговорить. Его глубоко задело, что ты отдалилась от него после трагедии с Мадлен, но он понимает твои чувства. Мы все понимаем, cara. У Мэриан сжалось сердце. — Я позвоню ему. Сразу после свидания с Полом.* * *
В шесть утра, едва солнце прорезалось сквозь горизонт, от ворот виллы отъехали лимузин и полицейский автомобиль, которые взяли курс на Милан. При виде двух машин Мэриан удивилась: она ожидала, что Энрико отвезет ее на своем автомобиле. Однако в лимузине ждала Сильвестра, и Мэриан устроилась рядом с ней. Пополудни обе машины остановились у закрытых ворот. Энрико с Веццани вышли переговорить с охранником. Мэриан прислушивалась к разговору. Нельзя сказать, что она все поняла, но по крайней мере разобрала, что шеф Веццани предупредил коменданта тюрьмы об их приезде. Энрико вернулся в машину. Охранник показал водителю, которая из мрачных серых каменных построек им нужна, и прикрепил к ветровому стеклу карточку — знак того, что они имеют право въезда на территорию тюрьмы. Минут через десять они вошли в здание, и началось одно из самых долгих путешествий в жизни Мэриан — по бесконечным коридорам с обшарпанными стенами, по лестницам и переходам. Через каждые двадцать метров перед ними оказывалась очередная запертая дверь, и приходилось ждать, когда ее отопрут. Они не встретили никого, кроме охраны и нескольких человек в белых халатах, — очевидно, медиков. Стояла мертвая тишина — никаких признаков присутствия заключенных. Мэриан сама не понимала, что чувствует: она словно отрешилась от своей личности, чтобы заглушить панический ужас, не оставлявший ее с тех пор, как она приняла решение. Все, что она ощущала, это руку, продетую в сгиб ее локтя, которую она накрыла своей ладонью, да успокаивающее присутствие за спиной Энрико и инспектора Веццани. Наконец сопровождавший их охранник, который за все это время не вымолвил ни одного слова, остановился перед синей дверью и открыл ее без ключа. Мужчины пропустили Сильвестру с Мэриан вперед. Они очутились в небольшой комнате с голыми стенами, где не было ничего, кроме стола и шести металлических стульев. Мэриан подошла к зарешеченному окну — сквозь толстое матовое стекло ничего не было видно. Она обернулась. Охранник уже ушел. — Ты в порядке, Мэриан? — спросил Энрико, заботливо указывая ей на стул. Она глубоко вздохнула, чтобы снять напряжение. — Наверное. Где вы будете? — Вот здесь. — Веццани показал на дверь, которую она не заметила раньше. — Это так близко, что все слышно без специального оборудования. Мы оставим небольшую щель. Вам все понятно? Если нам удастся вытянуть из него признание в убийстве родителей, его будут судить как убийцу. Если нет, ему предъявят обвинение в соучастии в убийстве, но толковому адвокату не составит труда доказать шаткость такого обвинения, и его придется отпустить. — Понимаю. Они уже много раз все это обговаривали. Она может сколько угодно хитрить, улещать и запугивать Пола, но в конце концов будет вынуждена открыть правду: он неповинен в смерти Мадлен. Вошел офицер охраны. После краткого обмена приветствиями он отвел всех в соседний закуток, оставив Мэриан наедине с горькими мыслями. Мэриан повернулась к Полу. Черные глаза опасно блестели. Вот когда она поверила, что справится: ее страх испытать жалость и сострадание оказался напрасным. Ненависть не оставила места ни для чего другого. — Ты рассчитываешь на сочувствие? — Нет, конечно. — Лицо Пола перекосилось от душевной боли; он уронил голову на руки и со стоном произнес: — О Мэриан! Не будь такой жестокой! Я понимаю, через что тебе пришлось пройти, но я не убивал Мадлен, и ты это знаешь. Скажи, что ты веришь мне! Подтверди, что я оставил ее живую! — Откуда мне знать? Особенно тогда — она была без сознания. — Но теперь-то ты знаешь! — взмолился Пол, и она чуть не растрогалась. Но сразу овладела собой. — Полицейские говорят, ты ни разу не пожалел о смерти Мадлен. Все что тебя волнует — как выпутаться самому. В конечном счете, если бы ты не привез ее в пещеру… — Мэриан! Как я могу выражать раскаяние, если я его не чувствую? Посыпать голову пеплом из-за того, что Серджио умертвил Мадлен? Но я все время знал, что он это сделает! Да, я мечтал от нее избавиться. Уж ты-то, кажется, должна понять! — Понять?! — От такой наглости у нее все смешалось в голове. — Но ведь ты говорил, что любишь ее! На мгновение ей показалось, будто Пол смутился. Однако он тотчас встряхнул головой, чтобы прояснились мысли. — Нет, Мэриан, я всегда любил только тебя. Все, что я делал, делалось из любви к тебе. — Нет! Ты лжешь! Он протянул к ней руку, но не дождавшись, чтобы она вложила в нее свою, с нежной грустью улыбнулся. — Я был вынужден так поступить. Это был единственный способ помешать ей разрушить нашу любовь. — Ну и подлец же ты, Пол! Неужели ты думал, что я поверю хоть одному слову из того потока нечистот, который вылился из твоего рта? Только сейчас я по-настоящему поняла, как мне повезло, что когда-то ты ушел из моей жизни. Я еще могу понять твою попытку взвалить на меня ответственность за гибель Мадлен. Но что у меня совершенно не укладывается в голове и чего я никогда не смогу простить, так это грязь, которой ты облил Мадлен, обвинив ее во всех гнусностях, присущих тебе самому. Я не произнесу ни слова в твою защиту. Если бы это зависело от меня, тебя заточили бы в самое страшное подземелье — но и тогда ты даже наполовину не искупил бы того, что совершил. Тебя будут судить за убийство, Пол О’Коннелл; весь мир узнает, что… — Мэриан, выслушай меня! Я понимаю, для тебя это шок. Я забыл, как сильно ты изменилась. Нельзя было обрушивать все это на тебя вот так, сразу. Начнем сначала! Вернемся к истокам, попробуем забыть… — Я никогда не смогу забыть, Пол! Ни-ког-да! Ты заплатишь за то, что сделал с Мадлен, ты… — Мэриан, неужели ты собираешься мстить? Вот не думал, что в твоем сердце до сих пор живет обида… — Наши отношения ни при чем. Это — прошлое. Я давно тебя разлюбила. — Тогда зачем пришла? — У нас нет общей жизни, Пол. Я тебя презираю: за то, что ты такой, какой есть, за твою мелкую душонку, а главное — за то зло, которое ты причинил Мадлен. Ненавижу твою изощренную ложь, лицемерие, вопиющую самоуверенность, позволяющую тебе думать, будто ты можешь улизнуть отсюда — ко мне. Не бывать этому! Ты мне омерзителен! По мере того как Мэриан говорила, выражение лица Пола менялось. Наконец-то до него дошло! Но какие мысли зародились в его хитроумном мозгу — этого Мэриан не знала. Откинувшись на спинку стула, Пол надменно скривил губы. — Настоящая речь! Браво, Мэриан! Ты поумнела. Но если твои чувства таковы, зачем же ты явилась? — Я пришла, потому что знаю: ты убил своих отца и мать. Голова Пола дернулась, как от удара: лицо покрыла мертвенная бледность. Мэриан даже почудилось, будто он готов наброситься на нее. И вдруг он расхохотался — громко и презрительно. — Да ну? Как же ты разнюхала? — Это неважно. Пол не отрывал от нее глаз; на губах змеилась злобная усмешка. Он поправил волосы, задумчиво почесал подбородок и произнес: — Ты, дура набитая, маленькая сучка! Я вижу тебя насквозь! Они уговорили тебя вытянуть из меня признание! Отсюда следует вывод: они знают, что я не убивал Мадлен. А тебе очень хочется упрятать меня за решетку, да, Мэриан? Ты настолько ослеплена жаждой мести, что тебе плевать, убил я твою кузину или нет — лишь бы сквитаться за причиненное тебе зло! — Не мне, а Мадлен. — Она заслужила. — Почему? — Не стоит испытывать на мне твои жалкие потуги психолога-любителя! — Ты когда-нибудь любил ее? — Я не способен любить! — Но все-таки? — Какое-то время. Приятно сделать из куклы человека. — Твоя мать тоже была куклой? Он зарычал: — Брось это, Мэриан. Номер не пройдет! Чтобы заманить меня в ловушку, требуются не твои куцые мозги! Так что если тебе еще не надоело — ради Бога, продолжай игру. — Я не играю, Пол, а докапываюсь до истины. — Это одно и то же. Послушай, почему бы тебе не сказать тем, кто слушает в смежной комнате, чтобы впредь подсылали кого-нибудь повзрослее. Может, у них получится. — Это доставит тебе удовольствие? — Почему нет? Психологическая борьба… Моя гордость страдает оттого, что кто-то мог предположить, будто меня способна расколоть такая соплячка, как ты. — Если признаешься, тебя ждут увлекательные психологические поединки! — Зато уйдет радость охоты. — Кажется, ты застрелил их на охоте? Пол расхохотался. — Торопишься, Мэриан. Слишком торопишься. — Это почти признание. — Почти, но не совсем. Однако меня удивляет твое хладнокровие. Не ожидал. Впрочем, у тебя выступил пот на лбу и кулаки сжались, аж побелели. Ты так близко, Мэриан, — и так бесконечно далеко! — Не совсем так. Оба резко обернулись. В комнату скользнула женщина под густой вуалью. Но когда изящные белые руки подняли вуаль, Мэриан впилась взглядом в Пола. У того почти глаза вылезли из орбит от изумления. — Как видишь, у нее есть я, — прошепелявила Мадлен. Лицо Пола перекосилось от ужаса и бессильной злобы. — Лживая маленькая дрянь! Воцарилась мертвая тишина. Мэриан догадалась — Пол перебирает в памяти все, что сказал: как он клялся ей в любви, как обливал Мадлен грязью и осыпал насмешками. На нее снизошло озарение: где-то в потаенных уголках его души гнездилась настоящая любовь к Мадлен. И если бы эта любовь не обладала такой страшной разрушительной силой, можно было бы даже пожалеть Пола. Вошел инспектор Веццани. — Все в порядке, Мэриан. Идемте. Она позвала: — Пол! Ей не сразу удалось привлечь его внимание. А когда это произошло, оказалось, что ей нечего сказать. Мадлен все сказала.* * *
Вечером, когда все легли спать, Мэриан пробралась в комнату, которую занимала Мадлен с тех пор, как неделю назад ее привезли из клиники, куда ее поместили после первой, решающей операции. Врачи думали, что она умрет, но Мадлен выжила — и наконец разрешили ей погостить на вилле Таралло перед тем, как они вплотную займутся ее лицом. — Это ты, Мэриан? — Мадлен включила ночник. — Да. Хотела узнать, как ты себя чувствуешь. — Небольшая слабость. Слишком долгое путешествие… — Да уж, — вздохнула Мэриан и, пройдя через всю комнату, села на кровать. Подоткнула одеяло. Как всегда, она держалась вполне естественно и не избегала смотреть на изуродованное лицо кузины, хотя при этом ей всякий раз хотелось плакать. — Хочешь обсудить?.. — Как-нибудь в другой раз. Инспектор Веццани обещал завтра сделать заявление для прессы. — Мадлен попыталась улыбнуться. — Надо же, все считают меня мертвой! — Почти так оно и было. Приятно воскреснуть? Мадлен пожала плечами и снова попыталась улыбнуться, но ее бедный искалеченный рот скривился от боли. — Конечно. Нельзя же вечно меня скрывать. Она помрачнела и, выпростав руку, протянула к Мэриан. Та проглотила комок, застрявший в горле. — Мне нужно было сразу открыть тебе глаза, как только я заподозрила Пола. Господи, почему я этого не сделала? — Я бы не поверила. Конечно, я с самого начала знала о его недостатках, но закрывала на них глаза. А теперь я хочу одного — чтобы он навсегда исчез из моей жизни. Знаешь, Мэриан… нам с Полом досталось по заслугам. — Нет, Мэдди, не смей так говорить! Мы не могли предположить, что он окажется таким. Остается благодарить Бога, что ты осталась в живых.* * *
Позднее, когда Мэриан покинула комнату Мадлен, открылась дверь еще одной спальни и на слабо освещенную лестничную площадку вышла Сильвестра в ночной рубашке. — Ну, как Мадлен? — Нормально. Но мне все время кажется, что она скрывает свои истинные чувства. Каково ей было видеть, как Пол в ужасе отшатнулся? — Ничего. Скоро у нее опять будет красивое лицо. Меня больше беспокоишь ты, Мэриан. — Я? — Да, ты. Тебе столько пришлось пережить — и развязка еще не наступила. Я знаю, завтра у тебя будет трудный день. Не стану выпытывать, любишь ли ты его, это твое личное дело. Но хочу, чтобы ты знала: как бы ни сложилось, какое бы решение ты ни приняла, здесь ты всегда можешь чувствовать себя как дома. Волнение помешало Мэриан ответить сразу. — Не знаю, как отплатить вам за вашу доброту. Сильвестра потрепала ее по щеке. — Я сказала все, что хотела, и думаю, ты поняла. Остается пожелать тебе доброй ночи, дитя мое, и да пребудет с тобой Господь.* * *
Посасывая «капуччино», Мэриан рассеянно наблюдала на сновавшими вокруг туристами. В прошлый раз она сидела в этом бистро вместе с Бронвен — они ждали Серджио Рамбальди. Возможно, она поступила неблагоразумно, выбрав для встречи с Мэтью именно это место: те события были еще свежи в памяти, — но оно первым пришло в голову, когда они договаривались по телефону. И вдобавок, его легко найти в хитросплетении флорентийских улочек. На нее упала тень. Она подняла голову и заранее напряглась, чтобы не выпустить на волю грозившую захлестнуть ее лавину чувств. Но при виде его строгих черных глаз, непослушных вихров, бесконечно дорогого лица сердце болезненно сжалось. Только бы не разреветься! — Привет, Мэриан. — Привет. Спасибо, что приехал. Он сел за столик. — Как Мадлен? — Хорошо, насколько это возможно. Не надо было брать ее в Милан. Она не жалуется, но у нее был обморок. Бедняжка! — Как это перенес Пол? Мэриан издала сухой смешок. — Закатил истерику. Видел бы ты его лицо, когда он увидел, что с ней стало. На нем были написаны такой ужас и такое отвращение, что не знаю, как Мадлен это пережила. Она ведь всегда кичилась своей внешностью. Кажется, его повезли в Лондон — больше я ничего не знаю и не хочу знать. Ужасно так говорить, но я желаю ему смерти. Подошел официант. Мэтью сделал отрицательный жест. — Может быть, погуляем? — Охотно. Он расплатился за ее коктейль, и они рука об руку пошли по набережной. — Бедная Мэдди! — со вздохом повторила Мэриан. — Она то и дело вспоминает какие-нибудь мелочи — что он говорил или делал. Какой удар для нее! — Хвала Господу за Энрико? — Да, конечно. — Между ними что-нибудь намечается? Мэриан улыбнулась. — Если что-то и намечается, то между ней и Арсенио, его братом. — Тем самым?.. — Да. Его привезли домой за несколько недель до Мадлен. Он просиживает у нее вечер за вечером; они разговаривают. О чем — известно только им двоим. Главное — они помогают друг другу выжить. — Я очень рад. Мне почему-то казалось — еще тогда, — что Энрико начинает испытывать к ней нежные чувства. — Не забывай: прошло всего полгода с тех пор, как Энрико потерял жену. Он скрывает свое горе от других, но я вижу по глазам, как он тоскует. Они прошли под аркой и стали любоваться рекой. Ярко светило солнце, но было холодно. — Читала об арестах в Нью-Йорке? — Да. Наверное, это стало сенсацией. — Вероятно. — Мэтьюпроследил взглядом как чайка сделала изящный пируэт и взмыла в небо. — Фрэнк и Грейс не хотят, чтобы статуя была уничтожена. Это тебе известно? — Да. Грейс рассказала. Для них это значило бы вторично убить Оливию. Эксперты уверяют, что это — шедевр. — Да, я слышал. Но где можно выставить такую статую? — Не знаю. Это решать полиции. Пока что она находится в их распоряжении как улика. — Мэриан… Фрэнк хочет, чтобы мы закончили фильм. — Ты согласился? — Да. Ты как — с нами? Мэриан заглянула в лучистые колдовские глаза и почувствовала спазм в горле. В этих глазах была надежда — и еще что-то такое, чего она не поняла. — Нет, Мэтью, я не смогу. — Мне бы этого очень хотелось. И остальным тоже. — Спасибо. Он посмотрел на ее профиль — она любовалась солнечными бликами на воде. Мэриан изменилась, он заметил это еще в бистро, вот только не мог подобрать подходящее определение. И вдруг его осенило. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. — Я любил тебя, Мэриан, — тихо произнес Мэтью. — Очень. Хочу, чтобы ты это знала. — Я знаю. — Она храбро всмотрелась в это лицо, которое какая-то часть ее существа никогда не перестанет любить. — Я слышала, ты ездил с дочерью кататься на лыжах. — Да. — Я очень рада. — Она сделала паузу, пережидая, пока мимо пройдет влюбленная пара. Он печально и ласково коснулся ее щеки; к глазам Мэриан подступили слезы. — Прости. Она приложила к его губам палец. — Не говори так. Я счастлива, что ты стал моим первым мужчиной. И ни в чем не раскаиваюсь. Он поцеловал ей руку. — Ты чудо, Мэриан. Мне будет тебя не хватать. — Мне тебя тоже. Желаю счастья — тебе и Стефани. — Ах, Мэриан! Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь того, кто будет тебя достоин. — Мэтью сжал ее в объятиях и прильнул к губам нежным поцелуем. — Я тоже надеюсь. Он молча повернулся и ушел чисто по-английски — не прощаясь. Мэриан проводила его взглядом и снова стала смотреть на реку. Всего один год — а в ее жизни произошли столь глубокие перемены, что оставалось только дивиться неисповедимой прихоти судьбы, которая вручила ей волшебный дар любви и обрекла на тяжкие страдания, наполняя сердце то леденящим ужасом, то беспредельным счастьем.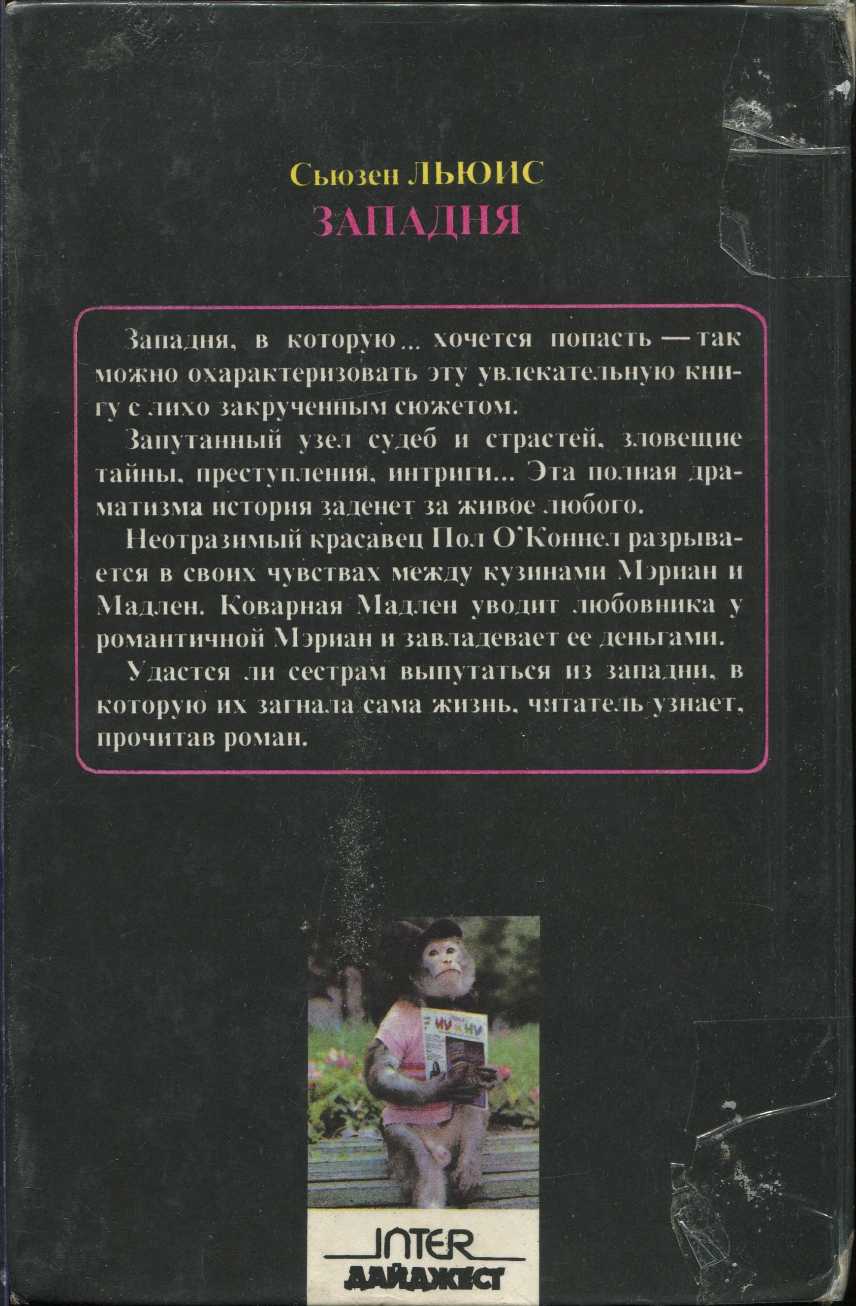 (обратно)
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
(обратно)
(обратно)
Пьер Рей, Джонатан Лоутон Вдова. Красотка
Пьер Рей Вдова
Автор не рекомендует отождествлять персонажей романа с реально существующими лицами. Все здесь — характеры, ситуации, диалоги, несмотря на упоминание отдельных фактов, действительно имевших место, — плод его воображения.

Пролог
Женщина в зеленом платье до боли сжимала ей руки. Отрешенно долдоня слова поздравления, она уставилась на Пегги блекло-голубыми глазами — пустыми и тусклыми, как старое потрескавшееся зеркало. Наконец женщина как бы с сожалением выдавила из себя: — Желаю вам большого, большого счастья. — Холодность ее тона граничила с угрозой. Пегги не приходилось пожимать столько рук даже тогда, когда Скотт готовился к президентским выборам. Временами жара застилала ей глаза и вместо очередного лица перед ней возникало нечто вроде расплывчатого розовато-оранжевого пятна — без глаз, носа, ушей и бровей. А оттуда плыли слова-поздравления, исполненные восторга и восхищения, слишком, правда, любезные, чтобы быть искренними. Пегги в эти минуты ощущала только прикосновения чужих рук — жестких, вялых, наглых, робких, но одинаково неприятно влажных. Вытереть ладони о свадебное платье на глазах у всех она не решалась. Придется сделать это, незаметно коснувшись чьих-нибудь лацканов, когда гость заключит ее в объятия. Шествие приглашенных длилось уже два часа. Они чувствовали себя избранниками судьбы. Ведь уже за несколько недель до церемонии зависть и страх, что их не пригласят, заставили многих сильных мира сего терять голову. Их принадлежность к «сливкам общества» гарантировалась миллионами и громким именем. Весну эти любители зимнего спорта проводили в Швеции, зимой предпочитали греться на солнышке где-нибудь на Багамах или в Акапулько. Талантом они называли готовность делать все что угодно, а высшим его проявлением считали умение вообще ничего не делать, хотя и скрывали свою праздность под маской постоянной занятости. Эти особы, владеющие роскошными апартаментами в самых шикарных отелях мира, имеющие собственные яхты, «роллс-ройсы», самолеты с личным экипажем, проигрывающие в рулетку или в карты целые состояния, подозрительные, безжалостные, завистливые, окруженные толпой услужливых лакеев и прихлебателей, — все они со страхом думали, попадут ли на свадьбу Калленберга или нет. Не получить приглашение означало стать изгоем. И наоборот, маленькая синяя карточка являлась неопровержимым доказательством их права на достойное место в негласной и хитроумной иерархии клана, где позволительно было иметь душевные изъяны, но не прощались плохой вкус, неудачная фраза, прошлогоднее платье, нездоровый цвет лица и даже превратности судьбы. Флотилию судов, на которых прибыли гости, службы порядка отвели подальше от острова. И теперь две тысячи избранных гуляли по усеянным лепестками роз аллеям. Они вели себя так, как считали нужным: могли сделать вид, что не узнают хороших знакомых, могли приветствовать как старых друзей тех, кого едва знали. Но все они дружно обсуждали событие, ради которого явились сюда: новое замужество этой скандальной особы — новоиспеченной миссис Калленберг. Ей предстояло стать то ли восьмой, то ли девятой — даже газетчики толком этого не знали — по счету женой миллиардера. Кроме Пегги, имя которой уже само по себе являлось синонимом непредсказуемых и бурных событий, всеобщее внимание в этот памятный день привлекал шатер с голубым тентом — точная копия королевского полевого лагеря, — где были выставлены на всеобщее обозрение безумно дорогие свадебные подарки. Группа полицейских в белых костюмах с напускной беспечностью приглядывала за этими сокровищами, небрежно разложенными на китайском розовом ковре. Чтобы собрать такой богатый «урожай», Калленбергу пришлось сыграть на тщеславии своих гостей. Через особо доверенных лиц он организовал «утечку» информации о том, что под каждым подарком будет стоять имя дарителя. Весть распространилась со скоростью молнии, и результат превзошел все ожидания: драгоценностей оказалось, как утверждали некоторые из гостей, не меньше чем на два-три миллиона. — Повезло этой перезрелой охотнице за миллиардерами, — хихикнула какая-то американка. — Так сколько же ей лет? — поинтересовалась ее спутница, не скрывая злорадного любопытства. — Что-то около… Почти одновременно с ответом прозвучало возмущенное восклицание третьей дамы: — Да вы шутите! Гораздо больше! Пегги, стоявшая неподалеку, конечно, все слышала, но не придавала этому особого значения. Она привыкла к сплетням и пересудам, воспринимая язвительные реплики в свой адрес как естественную дань своему успеху. Ничего не поделаешь: победы даром не достаются. Вон и Рита смотрит на нее с откровенной неприязнью. Рита, старшая дочь Калленберга, в это время беседовала с двумя молодыми людьми, не переставая украдкой наблюдать за Пегги. Двадцатилетняя Рита известна была своим снобизмом, превыше всего она ставила интересы своего класса. Красотой она не блистала и уйму времени посвящала борьбе с невероятным аппетитом. Женитьбу отца на этой нахалке Рита воспринимала как вызов обществу, завидуя втайне манерам, положению и внешности очередной мачехи. — Будьте осторожны! — шепнул Додино. — Это — сумасшедший! — Кто? — спросила Пегги, не без труда высвобождаясь из объятий пожилого мужчины, который клялся, что был лучшим другом ее отца. — Вон тот старый потаскун. Он коллекционирует награды, сплетничает, обожает молоденьких мальчиков и откровенно вас ненавидит. Обрюзгший тип в сиреневом костюме приближался к ним, и Аморе распростер объятия. — Господин посол! Еще одна медаль? — А знаете ли вы, что у меня с ней связано? — Как с символом или сделкой с совестью? Впрочем, ваше превосходительство, я плохой отгадчик и сдаюсь на милость победителя. Кстати, и мне давно уже следовало получить награду — я два года прожил с одним евреем. Пегги, разрешите представить вам его превосходительство Этторе Адриано, единственного в мире человека, имеющего израильскую медаль Свободы и немецкий орден «За заслуги перед рейхом», которым награждали иностранцев, симпатизировавших национал-социализму. Гитлер учредил его в тридцать седьмом или в тридцать восьмом году, не помню точно. — В тридцать седьмом, — уточнил старый педераст. — Но я тогда был еще ребенком. В ответ на эту беззастенчивую ложь Додино расхохотался. — Вы все шутите. Вас тогда уже комиссовали. Пегги прикусила губу, чтобы не рассмеяться, и в какое-то мгновение еле сдержалась, когда посол поклонился и церемонно поцеловал ей руку. — Поздравляю вас от души. Очень рад, что вы почтили своим присутствием эту свадьбу. — Было бы забавно не присутствовать на собственной свадьбе, — со смешком ответил за нее Додино. — Не более забавно, чем не прийти на похороны собственного мужа. Лицо Пегги едва заметно сжалось. Аморе пришел ей на помощь. — Не думаю, что присутствие миссис Калленберг было столь необходимо на похоронах господина Сатрапулоса. Пегги смерила Адриано взглядом и сухо процедила: — Ох, господин посол, в вашем возрасте простительно путать даты и события. Смею вас уверить, мы сейчас на свадьбе, а не на похоронах. — Вы совершенно правы, — согласился посол. — Какое нам дело до чьей-то смерти. — С этими словами он низко поклонился и развернулся, чтобы уйти. Додино недовольно бросил ему вдогонку: — Туалет прямо и направо, за павильоном. Адриано остановился и, не смущаясь, ответил: — Спасибо, я только что оттуда. — Еще раз поклонившись, он смешался с толпой. — Старый педик вымещает свое зло на вас! — пробурчал Аморе. — Это почему же? — Потому что он — маразматик, урод и импотент. Он презирает красивых женщин — и вас первую! Разделавшись с Адриано, Додино неожиданно от души рассмеялся, чем вернул Пегги нормальное расположение духа. Но лицо ее оставалось по-прежнему каменным. Негодяй! Еще несколько лет назад подобная дерзость была немыслима. Никто не посмел бы! Она была леди номер один! Вся Америка была у ее ног. Потом Скотт погиб. А выбор у нее был, в сущности, невелик. Конечно, Пегги до конца жизни могла играть роль безутешной вдовы, образцовой и самоотверженной матери. Могла председательствовать в различных лигах милосердия и ассоциациях типа «Вдовы ветеранов войны». Какой? Второй мировой или вьетнамской? Но это она воспринимала как ночной кошмар, холод и смерть. А жизнь предлагала ей в качестве альтернативы иной мир, в котором было возможно исполнение любых, даже невероятных желаний. Этот мир манил теплой лазурью Средиземного моря, солнцем, ласкающим гладкую кожу, бриллиантами, дорогими мехами и еще чем-то таинственным, неизведанным — всем тем, о чем мы мечтаем в детстве, когда еще верим в добрых волшебниц. Неприступная жена Цезаря недолго колебалась, прежде чем сказать «да» Греку. Она стала его женой, и пьедестал, на который ее возвели при жизни Скотта, рухнул, от мифа о прекрасной леди не осталось и следа. Обожание, с которым на нее смотрел мир, обратилось в ненависть. — Прикройте поскорее нос платком, — шепнул Додино, указывая взглядом на огромную женщину в облегающем платье из ярко-красного шелка, которая остановилась перед Пегги, бесцеремонно оглядывая ее злыми черными глазками. От нее исходил тошнотворный запах очень сладких духов. Размалевана она была ужасно, но густой слой пудры и румян не мог скрыть нескольких ее подбородков и дряблых, отвисших щек. Пальцы гостьи в красном были унизаны множеством колец, а на запястьях с пожелтевшими набрякшими венами бренчали бубенчиками серебряные браслеты. Громадина сипло втянула в себя воздух и выпалила залпом, будто боясь, что ей не хватит дыхания закончить фразу: — Одна моя приятельница посмела утверждать, что вы будете в черном по причине последнего вдовства. Я же поспорила, что в белом, и благодаря вам выиграла сто долларов. Не дожидаясь ответа, женщина резко развернулась и потопала к буфету, где уже толпились приглашенные. Додино с трудом сглотнул слюну и откашлялся. Он многое бы отдал, чтобы в этот момент оказаться где-нибудь в другом месте, по опыту зная, что сильные мира сего, когда задето их самолюбие, чаще всего обращают свой гнев на свидетелей — пусть даже и случайных — подобных сцен. Он с беспокойством поглядывал то на Пегги, то на массивную спину этой жирной слонихи со стаканом в руке. К счастью, в общем шуме, похоже, никто, кроме него, не заметил инцидента. Пегги с улыбкой продолжала принимать поздравления очередного гостя, словно ничего не случилось. Аморе с облегчением вздохнул. Но тут она обронила угрожающе нейтральным тоном: — Одна из ваших приятельниц? — Кто? Люси Мадден? Это ядовитое дерьмо? Плевать я хотел на нее и на сто миллионов ее читателей! Ей место на помойке! — О ком здесь речь? — прогремел сверху голос. Гигантская тень Калленберга накрыла Пегги, и ее платье из белого стало нежно-голубым. — Ну как вы себя чувствуете, дорогая? — Ох, Герман! Просто великолепно! — Довольны? — Разве это не видно? — Вы произвели настоящий фурор. На комплименты в ваш адрес гости не скупятся, поверьте мне. — Вот как? Я польщена. В это мгновение Пегги заметила Нат. Подруга через головы и спины подавала ей какие-то знаки. Пегги бессильно махнула рукой. — О! А вот и Салли с мужем! — воскликнул Калленберг. — Я вас на минутку оставлю. — Он устремился к гостям. Солнце, готовое вот-вот спрятаться за горизонтом, вновь коснулось теплыми лучами лица Пегги. Она сощурилась, силясь рассмотреть Нат. Та от нетерпения топталась на месте. И все в ней, казалось, говорило: «Ну подойди же». — Я безмерно счастлив… — Очередной гость уже обнимал Пегги. — Позвольте представить вам мою жену. Но Пегги, казалось, ничего не слышала, во все глаза глядя на Нат, которая отчаянно жестикулировала, призывая подругу. — Извините, я отлучусь на минутку. — Пегги, не замечая протянутой руки, почти побежала за Нат, которая быстро удалялась, время от времени оборачиваясь. Она, как нож масло, рассекла толпу, почтительно расступившуюся перед новоиспеченной госпожой Калленберг. Нат была уже около шатра и сворачивала налево. На несколько секунд Пегги потеряла ее из виду. Толпа редела, и вскоре на ее пути не оказалось никого, кроме слуг. Вдали вновь показался гибкий силуэт Нат, которая остановилась в кипарисовой аллее. Пегги ускорила шаг, и теперь они молча стояли друг против друга: Пегги — встревоженная, Нат — с искаженным беспокойством лицом. Обе тяжело дышали. — Что? — выдохнула Пегги. — Ну что? Нат пристально глянула на нее и выпалила: — Слушай! Слушай меня внимательно! Сколько тебе даст этот брак? Изумленная Пегги не сразу поняла, о чем говорит подруга. Нат повторила: — Да, да, с Калленбергом. Сколько? — Сколько? — глупо переспросила Пегги. — Я знаю, почему Грек ничего тебе не оставил. — Нат… — Помолчи и слушай! Стиман только что позвонил мне из Нью-Йорка. — Стиман? — Ну да, мой финансовый агент. Сократ хотел подложить тебе свинью. В его завещании, как оказалось, есть еще один пункт! Лицо Пегги стало холодным и жестким. — Не понимаю, какой еще пункт? — А вот какой: если ты в течение двух лет после его смерти не выйдешь замуж, то наследуешь… — Сколько? — Пятьдесят миллионов долларов. Несколько мгновений был слышен только треск цикад, шум ветра в верхушках покачивающихся деревьев и отдаленный гул праздника. — Стиман узнал это от любовницы Миллера, который через год должен вскрыть завещание. — Ты уверена? — робко спросила Пегги, хотя в глубине души уже верила, что Сатрапулос мог с ней сыграть такую шуточку. — А почему она рассказала именно ему? — Да потому что спит с ним и без ума от него. Пегги молча уставилась в землю. Вереница муравьев у ее ног спешила к муравейнику. Она несколько раз покачала головой, прикусила губу, силясь подавить подкатывавшуюся тошноту. Вдруг все потеряло смысл. Глухим голосом, скорее для себя, чем для Нат, она пробормотала: — Как это глупо! Как же это глупо! — Слушай! Мне кажется, в любом случае ты не сможешь вытянуть из Калленберга пятьдесят миллионов. — Конечно же нет. Если бы я знала это утром! Все еще было возможно. — Может, есть какой-нибудь выход? — Слишком поздно. — Не думаю. Пегги была так взбешена, что поначалу пробормотала нечто невнятное, а потом уж, взорвавшись, выпалила: — Ты же была там! Ты же видела меня! Я теперь замужем! И свидетели тому две тысячи приглашенных! — Возможно. Но ведь брак еще не зарегистрирован. — Что это меняет? Теперь она смотрела на подругу как на врага. Нат заговорила мягче: — Все! Контракт недействителен, пока он еще не зарегистрирован. Понимаешь? К тому же ни архимандрит Галлиротиос, ни этот тип из мэрии сегодня вечером еще не приедут. Следовательно, твой брак не будет узаконен до завтрашнего утра. — Что из этого? — Постой… Скажи откровенно. Это важно… Если бы у тебя был выбор, что ты предпочла бы: сделаться женой Калленберга или остаться вдовой Грека? — Не знаю. Не своди меня с ума. — Отвечай! — Ты сказала — пятьдесят миллионов? — Да. Пегги пожала плечами и отчеканила: — Вдовой. На лице Нат появилось победное выражение. — Тогда все еще возможно! Если Герман, несмотря на свои частые разводы и возможные осложнения со стороны церкви, решился взять тебя в жены, ему ничего не стоит добиться считать сегодняшнюю церемонию недействительной. Ну, сделать так, будто ее вовсе и не было. — Пойди и преподнеси ему твою замечательную идею, — холодно буркнула Пегги. — Подумай, а вдруг по какой-то причине он завтра откажется от тебя? — Ты бредишь! Сегодня наша первая брачная ночь! — Ты должна это сделать! Придумай что-нибудь! — Но что? — Тише, кто-то идет. Тонкая и элегантная фигура Додино показалась в конце аллеи. Он шел, махая над головой руками. Прежде чем исчезнуть, Нат повторила со всей силой убеждения, на какую только была способна: — Придумай, Пегги! Придумай что-нибудь. — Мы уже начали волноваться, — сказал Додино, приближаясь. — Решили, что вас похитили. Он сразу заметил странное выражение лица Пегги. — Вам нехорошо? — Нет-нет… — Новобрачный беспокоится и повсюду вас ищет. — Додино взял Пегги за руку и потянул за собой, словно добычу, навстречу возбужденным крикам, таким громким, что они заглушали пение птиц.* * *
Калленберг быстрым шагом пересек холл, толкнул дверь в свою комнату, сбросил пиджак и с такой силой сорвал с себя рубашку, что пуговицы разлетелись в стороны. Он крикнул Джонатану, который было последовал за ним: — Потом! Потом! Захлопнув ногой дверь, он начал рыться в шкафу в поисках чистой рубашки. Совсем близко слышался поросячий визг этой… Конечно же, слуги все видят и скоро весь дом узнает. И Калленберг с ненавистью выкрикнул: — Заткнись! Убирайся вон! Этот чертов Джонатан способен лишь на то, чтобы портить ему настроение. Куда же запропастились запонки? Он вынул их из промокшей от пота рубашки и от возбуждения никак не мог вдеть в манжеты. Из-за двери донесся робкий, жалобный голос: — Она здесь, патрон. Я же сказал вам, что она здесь. — Гони ее вон! — Но патрон… — Вон, кретин! Вон! Нужно было успокоиться. Калленберг увидел в зеркале набухшие на висках вены и почти испугался. Не в первый раз девицы с животами приходили к нему качать права. Эти идиотки приписывали свою беременность его трудам. Ищите дураков! Он нередко наблюдал за посетительницами в глазок, когда мускулистый мажордом выставлял их из прихожей. Их лица ему ничего не говорили. Разве всех упомнишь? А если шлюшка готова была оголить перед ним свой зад, то это ее личное дело. Обычно пачки денежных билетов, брошенной телохранителем, было достаточно, чтобы успокоить очередную истеричку. Но как эта девка посмела заявиться в его дом в день свадьбы? Калленберг настоял на том, чтобы церемония состоялась на Иксионе, что было для него своего рода символом и вызовом соперникам. Покупка этого острова несколько лет назад ознаменовала собой первый этап его могущества. Здесь он кувыркался со своими секретаршами, принимал государственных деятелей, надувал бизнесменов, оплакивал смерть своих псов, присутствовал при рождении своих несчетных детей. Здесь он отпраздновал две или три свадьбы, но сожалел лишь об одной из своих жен, Ирен, которая после очередной ежедневной ссоры при таинственных обстоятельствах покончила жизнь самоубийством. Таинственных не для него, конечно. До сих пор последствия этого самоубийства давали о себе знать. Политики с каким-то садизмом вновь и вновь создавали различные комиссии по расследованию, постоянно донимавшие его глупыми вопросами под предлогом прояснить ту или иную деталь досадного инцидента. Обычно кончалось тем, что Калленберг прикладывал к своим ответам чек на кругленькую сумму. Это именовалось благородным вкладом миллиардера в экономику страны. И было маловероятно, что мерзавцы, таким образом доившие его, когда-нибудь закроют дело. Впрочем, ничего не поделаешь. Главное — не доводить дело до прокуратуры. Да он и не собирался портить себе настроение из-за таких мелочей. У Калленберга в его шестьдесят три был ясный взгляд, хищная улыбка, розовый язык, обильный жидкий стул и сон младенца. А сегодня место в его постели займет Пегги. Через каких-то пару часов… До дня свадьбы эта женщина неизменно отвергала все его авансы. Но скоро она заплатит за это! Он отыграется за все: за унизительные отказы и за безумные подарки, которыми приходилось ее осыпать. Но покоя не давала затаившаяся в глубине души старая тревога: как она будет реагировать на его крошечный фаллос? Да нет, Пегги должна была быть в курсе. Пенис Калленберга был столь же известен в определенных кругах, как нос Клеопатры. Поговаривали, что у Грека был член как у коня. Но даже кони умирают, и останки Грека давно уже стали добычей рыб. Другое дело — уметь пользоваться этой штукой. Калленберг поправлял бутоньерку в петлице, когда раздался робкий стук. — Да? В приотворенную дверь просунулась голова Джонатана. — Можно? — Я велел тебе убираться. Но Джонатан все же вошел и с мрачной миной промямлил: — Патрон… Мне страшно неприятно… — Как! Ты еще не выставил эту шлюху? — Выставил. — И что еще? — Это ужасно, патрон. Но пришла еще одна.* * *
Ночь благоухала. Легкие порывы теплого ветра доносили солоноватый запах моря и поднимающийся от земли стойкий аромат эвкалиптов и роз. Хотя «Вагран» был прикован к причалу, набегавшие волны создавали иллюзию, что вместе с отливом судно движется, скользя по черной глади, сверкающей тысячами светлячков, которые, едва вспыхнув, тут же гасли. Через открытое окно каюты до Пегги доносились звуки бала, который должен был длиться всю ночь. Калленберг хотел сделать ей сюрприз, поэтому только в полночь она смогла увидеть апартаменты, предназначенные для новобрачных. Половину комнаты со стенами, обшитыми деревом, занимала кровать, если можно было так назвать низкое овальное ложе четырехметровой длины, обтянутое черной кожей, с огромной впадиной посредине. Пегги разогналась и, соединив ноги вместе, прыгнула на него, подскочив как на батуте. Герману, наверное, пришлось ломать пол, чтобы разместить подобную громадину. Еще раз подскочив, она приземлилась на ковре, уже в который раз открыла шкаф и достала оттуда кожаный чемоданчик. Щелкнул замок, и комната осветилась блеском беспорядочно брошенных в него драгоценностей. Калленберг поморщился, когда она потребовала, чтобы ее свадебные подарки были перенесены из шатра в ее спальню. Она не произнесла ни слова. Но одного ее быстрого взгляда, сменившегося в ту же секунду детской, обескураживающей улыбкой, было достаточно, чтобы он подчинился. Эскортируемый шестью вооруженными людьми, чемоданчик сию же минуту был доставлен на корабль. Она задумчиво закрыла крышку и поставила чемодан опять в шкаф. Весь предыдущий час Пегги посвятила кое-каким мероприятиям, а что из этого получится, она вот уже совсем скоро узнает. Нужно дать еще несколько поручений — благо телефон под рукой. Теперь, к лучшему это или к худшему, но ставки сделаны. Калленберг может приходить. Она готова его принять.* * *
Чернокожий массажист вышел из каюты. Калленберг готовился к брачной ночи как атлет к Олимпийским играм: быть первым, именно первым, особенно в постели, чтобы навсегда стереть из памяти Пегги воспоминания о других мужчинах с Греком во главе списка. На это в его распоряжении было всего два часа. Не больше. После чего придется рассчитывать только на собственные ресурсы. Он вынул из серебряной коробочки две белые горошины, положил их на язык и, поморщившись, проглотил. Все ему гарантировали удивительный эффект этого средства. «Вы увидите… вы уже не сможете остановиться, она запросит пощады…» Но его врач настаивал на одном: «Не больше двух пилюль, иначе сдаст сердце». Калленберг вернулся в ванную, сбросил махровый халат и, остановившись перед зеркалом, выпятил торс и напряг мускулы бицепсов. Неплохо, совсем неплохо. В последний раз он натер огромное тело туалетной водой, пощекотал указательным пальцем пупок, прополоскал рот, припудрил тальком пальцы ног. Почувствовав себя гладким и надушенным, он натянул плавки, накинул на плечи пестрый золотисто-красный халат и взглянул на светящийся циферблат. Час ночи… Чтобы попасть в комнату Пегги, достаточно пересечь коридор. Накануне капитан получил приказ никого не пускать в ту часть судна, где располагались их личные апартаменты. Все в порядке. Готовясь шагнуть, Калленберг принял вид обольстителя. Но смутные опасения оказаться не на высоте все же не покидали его. Калленберг три раза осторожно постучал в дверь. Изнутри послышался голос Пегги: «Войдите». Дверь неслышно открылась. Пора, средство начинало действовать. А долгий опыт научил его, что супруга с самого начала должна узнать, в чем заключается сила ее мужчины. Его первые слова даже ему самому показались странными. Хотелось произнести нечто блестящее, остроумное и нежное. Но все, что удалось выдавить из себя, была невесть откуда взявшаяся фраза: — Ваши драгоценности в безопасности? Пегги заметно встревожилась. — Почему вы об этом спрашиваете? — Не знаю. Просто так. — Странное начало. Смутившись, он встряхнул головой, заметив краем глаза, что Пегги, одетая в строгий серый костюм, стояла опершись о комод, довольно далеко от супружеского ложа, хотя оно и заполняло почти всю комнату. Калленберг подошел к ней, взял за руки и спросил, чувствуя все ту же странную скованность: — Хотите чего-нибудь выпить? Слишком холодно она его принимает. Похоже, ее разозлила его неудачная фраза. Пегги нетерпеливо высвободила руки, а он молча откупорил шампанское, наполнил два бокала и один протянул ей со словами: — За нас и нашу новую жизнь. Она лишь слегка пригубила, а он жадно осушил свой, налил себе еще и спросил: — Вам не жарко? — А вам? — В общем-то да. По правде говоря, все в нем пылало. Эти проклятые пилюли слишком быстро начали действовать. С каждым ударом сердца его тело вздрагивало как от разряда высокого напряжения. — Вы мне не сказали, как вам нравится спальня? — Речь, полагаю, идет об этой подстилке? — в голосе Пегги слышалась явная насмешка. Растерявшись, Калленберг чуть не выронил бокал, но сделал вид, что принял ее слова за шутку. — Вы ее уже опробовали? — Нет. — Небрежным жестом Пегги отказалась от протянутого ей бокала. Калленберг залпом опрокинул свой, чувствуя, как его охватывает приступ злости. Эта дамочка еще не знала, чем рискует. Трахнуть бы ее бутылкой по голове или вышвырнуть в море. Парадоксально, но эти импульсы к убийству, которые временами озадачивали и его самого, были мощным стимулятором его мужской силы. В такие минуты он не знал себе равных, о чем хорошо знали его жены и многочисленные подружки, с которыми Герман занимался любовью, поначалу хорошенько отколотив свою партнершу. — Скажите, а почему вас прозвали Синей Бородой? — В глазах Пегги зажегся лукавый огонек. Сбитый с толку, Калленберг опустошил еще один бокал и хихикнул: — Видите ли, я прячу трупы своих жен в шкафу. От досады, что снова сказал глупость, он прикусил губу. — Так я и думала, — усмехнувшись, сказала Пегги. — Что вы имеете в виду? Она не ответила, а он нервничал все больше и больше. — Говорите же! Что вы имели в виду? Действие пилюль становилось невыносимым. В венах, казалось, бушевал огонь, пронизывая все тело до кончиков пальцев ног. Он сделал последнее усилие, чтобы этот долгожданный момент не был испорчен окончательно, и, смущенно кашлянув, вполне дружелюбно спросил: — Пегги, что это на вас нашло? Я вас чем-то обидел? — Нет. — Тогда почему вы меня так встретили? Почему? Если б вы знали, как я вас хочу! Если б вы только знали!.. — Вот как? — Да я умираю от желания. Неужели это не видно? На ее лице мелькнула загадочная улыбка. — Пока я ничего не вижу. Приняв ее слова за приглашение к действию, Калленберг ринулся к ней, хотел обнять. — Пегги! О, Пегги! Она грубо оттолкнула его. — Не так! Отойдите! — Но как? — промямлил он. — Как? — Раз вы утверждаете, что желаете меня, я хочу видеть. — Не понимаю. — Хочу, чтобы вы мне показали… Я достаточно ясно выразилась? — Вы хотите, чтобы я вам… показал? — Да. Хочу. Калленберг чуть не застонал. Такого неистового желания ему еще никогда не доводилось испытывать. Оно причиняло ему дергающую боль, туманило взгляд, отдавалось звоном в ушах. Дрожащей рукой он быстро приспустил плавки и распахнул халат. — Вот… — проблеял он. — Вот… На лице Пегги читалось изумление. Она приблизилась на два шага, словно отказывалась верить тому, что увидела. Слегка нагнувшись, чтобы лучше рассмотреть, она резко выпрямилась и процедила сквозь зубы: — Не может быть! — Ее презрительный, категорический тон не сулил ничего хорошего. — Одевайтесь, Герман! — Как? Как?! — Мне нужен мужчина, а не сморчок. — Что? Сморчок? Да как вы смеете? Мне… После всего, что… после… В его глазах вновь вспыхнула ярость, в голове билась мысль: овладеть ею, а затем убить. Он вдруг захотел ее так, как не хотел ни одну другую женщину. Схватив ее за руку, Герман повис на ней и изо всей силы дернул, так что оба упали на кровать. Тяжело дыша, он хрипел: — Сука! Сука! Сука! Пегги как уж извивалась под ним. Сковав ее своим весом, он схватил ее за волосы, не давая поднять голову, и впился жадным ртом в пухлые губы. Но в ту же секунду звериный рык вырвался из его груди — проклятая шлюха укусила его. Ощущая во рту странный привкус крови, желчи и еще чего-то, он заломил чертовке руки за спину и ударил ее кулаком в лицо. Она смягчила удар, резко повернув голову, и тут же попыталась стукнуть его коленкой между ног. Но это ей не удалось. Медвежьи лапы Германа клещами стиснули ей плечи. Теперь Пегги испугалась всерьез. Окажется ли эффективным ее последнее оружие? От резкого рывка отлетели пуговицы ее блузки, как бумага затрещала рвущаяся ткань. Под блузкой у Пегги оказалась комбинация, а на ней была изображена ухмыляющаяся физиономия Сократа. Да, это был Грек. Это его лицо поднималось и опускалось в такт прерывистому дыханию Пегги. Это его зубы как бы скалились в усмешке, когда ее грудь вздрагивала. Ошеломленный Калленберг был настолько обескуражен, что на какую-то секунду отпустил ее. Пегги воспользовалась передышкой, чтобы вскочить на ноги, но Герман схватил ее и швырнул на супружеское ложе. — Чего ты хочешь добиться? — орал он. — Этот несчастный кретин мертв! А я жив! И заставлю тебя в этом убедиться! Обрушив на нее целый центнер своего веса, Калленберг обеими руками вцепился в ее юбку. Она разошлась как бумажный пакет. Та же участь постигла и комбинацию. Одна грудь выпала из лифчика, Герман схватил ее и жадно припал к ней ртом. Пегги напряглась, отталкивая его. И тут он, цепенея от ужаса, увидел, что и на лифчике справа и слева красовалась ненавистная рожа его злейшего врага. Спасая подбородок от ногтей Пегги, он быстро нагнул голову вниз и наткнулся на то, чего уже ожидал: с белых трусиков Пегги на него с насмешкой уставился Грек. Не помня себя от ярости, Калленберг, как кожу, содрал с Пегги эти трусики и сделал попытку овладеть ею, безуспешно стараясь раздвинуть ее плотно сжатые ноги. Когда его рука легла на лобок, он очень удивился: вместо упругих шелковистых завитков его пальцы ощутили гладкую кожу. — Секунду! — приказала Пегги. Ее резкий, настойчивый голос отрезвил его. В голове мелькнула неожиданная мысль, что это были первые ее слова с самого начала потасовки. — Да отпустите же меня! — не сдавалась Пегги. Задыхаясь от внезапно накатившей откуда-то свинцовой тяжести, он разжал руки. Сердце бешено стучало в груди. Этот стук, казалось, заполнял всю комнату. Потом наступила гнетущая тишина. Пегги тоже тяжело, прерывисто дышала и несколько раз с трудом сглотнула слюну, прежде чем произнести изменившимся голосом: — Взгляните! Присмотритесь внимательно! Она убрала руки, прикрывавшие промежность, позволяя Калленбергу прочитать то, что было начертано на гладко выбритом лобке. Шесть тщательно выписанных синих букв складывались в проклятое имя — СОКРАТ! Подкатившая к горлу тошнота и слабость внезапно обмякшего тела не оставляли сомнения в том, что действие «волшебных» пилюль кончилось. Калленберг даже не пошевелился, когда Пегги соскочила с постели и наклонилась над ним. Он уже не мог ни нападать, ни защищаться, ни вытереть кровь, сочившуюся из его прокушенной губы. Ладонь Пегги коснулась его груди, скользнула по животу и опустилась ниже. Кончиками пальцев она сочувственно потрогала его опавший член, походивший теперь скорее на вареную макаронину. Улыбка, с которой она посмотрела ему прямо в глаза, показалась Калленбергу ласково-снисходительной, почти материнской, но голос прозвучал решительно и с нескрываемым презрением: — Сморчок и импотент! Герман отвел взгляд, не в силах произнести ни слова, потом как-то собрался и с трудом пробормотал: — А теперь уходите. Пегги подошла к телефону и отчетливо скомандовала: — Эмили, я жду вас и Муди в своей комнате. Она набросила пеньюар, закурила, усевшись перед зеркалом, и стала медленно расчесывать спутанные волосы. Белый как полотно, Калленберг с огромным усилием поднялся на ноги. Даже не запахнув полы халата, он, как лунатик, двинулся к двери — истощенный, сгорбившийся, отчужденный. Не поворачивая головы, Пегги безразлично бросила: — Не забудьте закрыть дверь, сморчок! Ответа не последовало. Эмили и Муди, личный камердинер Пегги, вошли в комнату и остановились, ожидая распоряжения хозяйки. — Ждите меня у лодки. Я сейчас приду. Когда за ними захлопнулась дверь, Пегги одним движением плеча сбросила пеньюар и прошла в ванную. Не замечая висевшего на вешалке белья, она надела прямо на голое тело легкое пальто и вернулась в комнату. Оставалось только взять черный чемоданчик и уйти отсюда как можно скорее и навсегда. «Нужно провернуть это дело так, словно твоего замужества не было вовсе», — вспомнились ей слова Нат. Все получилось, как было задумано, и Пегги уже ничуть не сомневалась в том, что утром Калленберг из кожи вон вылезет, чтобы ни у него самого, ни у всех присутствующих и воспоминания не осталось о несостоявшемся браке. Но не хватало еще одной, немаловажной на ее взгляд, детали. И Пегги, чтобы общественное мнение было на ее стороне, решила ее добавить. Поднявшись на палубу, она направилась к группе офицеров, что-то обсуждавших с капитаном и с большим трудом делавших вид, что не замечают ее. Она шла прямо на них, и они тут же смолкли. Пегги обвела их взглядом и сказала: — Знаете, почему я ухожу? — Никто не произнес ни слова. Тогда она добавила еще громче, чтобы ее слова услышали и находившиеся неподалеку матросы: — Потому что у вашего патрона не член, а сморчок. И к тому же он — импотент. Остолбеневшие офицеры стояли и смотрели, как она спустилась по трапу и прыгнула в лодку. Снизу послышался шум мотора, лодка сделала полукруг и направилась к Афинам. Пегги сидела, прижимая к груди черный чемоданчик. В конце концов, эти подарки принадлежат ей, она их заработала. А через час рейс на Нью-Йорк. Свежий ветер хлестал в лицо, и она вдыхала морской воздух полной грудью. Что ж, миссис Калленберг ей так и не пришлось сделаться. Она по-прежнему оставалась вдовой Сократа Сатрапулоса. Вдовой! (обратно)Книга первая
Глава 1
Родители дали ей имя Чарлен, но все ее звали Лон[1]. И только она знала почему. В детстве одна из нянь часто брала девочку на руки и вальсировала, напевая: «Чарлен, Чарлен, Чарлон, Лон… Лон…» Так за ней и осталось — Лон. В моменты душевного смятения она находила, что это имя ей очень подходит, потому что она была очень одинокой. И чем больше людей ее окружало, тем сильнее ощущалось это одиночество. Сама крупная и высокая, Лон завидовала стройным и изящным. Надежды на то, что после пятнадцати лет ее тело изменится, приобретет волнующие формы, не оправдались. Ей уже исполнилось восемнадцать, а ничего подобного не произошло. У Лон были большие глаза странного желтого цвета, которые со временем как бы утратили всякое выражение. Как часто даже в случайно брошенном взгляде можно прочесть все, что хотел сказать человек, хотя ни слова еще не было произнесено. Взгляд Лон ничего никогда не говорил. Но стоило ему коснуться вас, как неподвижный зрачок становился все шире и шире, волнуя и неумолимо притягивая к себе. — Лон? — Что? — Может, затяжечку? — Нет. В огромной комнате в самых живописных позах расположились двадцать человек приблизительно одного с нею возраста. Все курили. Впервые Лон попробовала гашиш в двенадцать лет и, почувствовав себя дурно, поклялась никогда больше не начинать. Правда, сдержать обещание ей так и не удалось. Но это был скорее протест против занудливой матери, чем желание поймать кейф. Рядом с ней на полу развалился рыжий верзила. Чуть дальше, на диване, два парня и девушка занимались любовью. По кругу ходили косячки. Откуда-то из угла неслась мелодия джаза, а в такт ей бренчала на пианино высокая, обнаженная до пояса блондинка. Дом этот принадлежал отцу Чарли, сколотившему состояние на ананасовых консервах. Отец почти никогда здесь не появлялся, опасаясь встречи с бывшей женой, которая иногда сюда заглядывала. И фактически весь дом был в распоряжении Чарли, их единственного сына. Считалось, что он изучает социологию в Бостонском университете. Работать? Зачем? Состояние отца позволяло ему более приятно проводить время. И вообще, какой смысл бороться за то, чем ты уже владеешь? В Энцино у него было все: дом полон друзей, девочки раздеваются без приглашения и никто не требует углубляться в дурацкие теории Маркузе. Пока они вели себя не слишком шумно, полиция не смела войти на территорию поместья. Однако любой длинноволосый бродяга не старше двадцати и с гитарой под мышкой мог постучать в ворота в любое время суток, а важный привратник в униформе обязан был его впустить. — Эд? — Что? — Ты слушаешь меня или кейфуешь? Рыжий с усилием повернул голову. — И то и другое. — Когда они вернутся? — Кто? — Чарли и Квик. — Не знаю. А где их носит? — Понятия не имею. Чарли мало интересовал Лон, а вот один взгляд Квика вводил ее в транс. Никогда нельзя было даже предположить, о чем он думал. Часто, когда они оставались вдвоем и Лон донимала его вопросами, Квик отвечал ей лишь чуть насмешливой улыбкой. И бесполезно было спрашивать, откуда он родом, есть ли у него семья и любит ли он кого-нибудь. Единственной и всепоглощающей его страстью были автомобили. Лишь однажды Квик чуть приоткрылся и признался, что за рулем чувствует себя богом. Читал он только спортивные журналы и знал на память имена победителей «Формулы-1» за последние двадцать лет. Его любимым запахом был запах отработанного масла, любой музыке он предпочитал рев 12-цилиндрового двигателя, делающего восемь тысяч оборотов, а всем красотам природы — гоночную трассу. Девиц, постоянно крутившихся вокруг него, Квик попросту не замечал. На улице многие — и мужчины и женщины — оборачивались ему вслед: так великолепно он был сложен. Высокий, стройный, гибкий, он, казалось, всегда останется таким, даже после смерти. Не потому ли Квик словно бросал ей вызов, участвуя в автогонках на самых опасных трассах… Машины ему доставались полуразбитые, деньги платили ничтожные. Но ничего лучшего никто не предлагал. В остальное же время он с невозмутимостью вельможи принимал подарки от многочисленных поклонниц и приятелей типа Чарли. А Лон? Как она была благодарна Квику, когда он,случалось, брал у нее деньги! Сейчас они с Чарли куда-то укатили, чтобы испытать новенький «порше», который папаша преподнес сыну сегодня утром в день его рождения. Восемнадцатилетний Чарли считал себя спортсменом-автогонщиком и уже угробил с десяток дорогих машин, которыми его родители старались компенсировать свое невнимание к единственному отпрыску. Он мстил бездушной технике за все не высказанные предкам обиды. Лон обеспокоенно глянула на часы. Они отсутствовали уже целый час. Ей всегда было не по себе, когда Квик садился за руль. С Чарли дела обстояли еще хуже. Выпив пару рюмок, он начинал воображать, что находится в самолете. А после дюжины сигарет шоссе казалось ему взлетной полосой. Лон повернулась к рыжему. — Эд? — Ну что еще? — Дай-ка мне затянуться.* * *
У Пегги никогда не возникало желания продать старый родительский дом. Ни замужества, ни частые переезды, ни поездки за границу не заставили ее забыть эти места и уволить живущих тут с незапамятных времен двух старых слуг. В этом «холостяцком приюте», как она его называла, время, казалось, остановилось. Здесь Пегги всегда было восемнадцать лет, ее ждал университет, корпуса которого виднелись из окна. Сюда в любую минуту мог зайти за ней прекрасный принц. Пять часов — время чаепития. Минута в минуту появилась Эмили с подносом. Пегги окинула его быстрым взглядом. Все как обычно: ложка белковой икры в фарфоровой вазочке, несколько тостов, варенье из лепестков роз, чашка крепкого кофе и бутылочка «Дом Периньон» вот уже три дня как начатая — свои деньги она никогда попусту не тратила, хотя легко транжирила чужие. Но сегодня она так нервничала, что решила поесть поплотнее и приказала дополнительно подать бифштекс по-татарски и бутылку красного «помероля». К черту диету! Бывают минуты, когда забываешь обо всем. Еще полчаса терзаний — и станет известно, как и когда она получит свои деньги. Прошел уже год, как Пегги спешно покинула остров Калленберга. Их брак не был зарегистрирован, и, следовательно, не состоялся. Значит, все идет как надо: соблюдены поставленные Греком условия и она получит наследство! Сегодня, восьмого сентября, ей должен позвонить нотариус Миллер! Долгие месяцы Пегги никак не могла решить, как она должна воспринять это якобы неожиданное для нее сообщение — с деланным безразличием, неприятным удивлением или достойной, без подобострастия признательностью. Без конца комбинируя существительные и прилагательные так, чтобы они улеглись как можно лучше, — лучше для нее, разумеется, — она остановилась на словах «достойная» и «признательность». Готовая к бою, Пегги уже с десяти утра была на ногах и ждала благословенного звонка буквально не отходя от телефона и мысленно проклиная тех, кто беспокоил ее в этот день. Только раз она отвлеклась, пытаясь во время завтрака дозвониться до своих детей. Их было трое: Майкл, Чарлен и Кристофер. Как всегда, никто из них не находился там, где ему следовало быть. Дети уже давно жили своей жизнью и сами, в общем-то, решали собственные проблемы, что позволяло и Пегги жить так, как ей хочется. Пока они были маленькие, ее обязанности по воспитанию выполняли многочисленные няни. А она? Она была слишком женщиной, чтобы стать заботливой матерью. Днем у нее состоялся долгий разговор с Нат. В сотый раз они говорили об одном и том же и пообещали друг другу, как только все уладится, закатить грандиозный «холостяцкий» пир. Но было уже 17.17, а мерзавец нотариус все не звонил. Что же делать? Через каких-нибудь 10–12 минут закроется его контора. Позвонить бы Нат, спросить совета, но нельзя занимать телефон. Пегги резко отодвинула поднос. И тут появилась Эмили с бифштексом. — Что это у вас? — Холодный взгляд Пегги, брошенный на блюдо, не сулил ничего хорошего. — Бифштекс, мадам. — Кто его заказал? — Вы, мадам. — Я? Бифштекс в такую минуту? Вы сошли с ума! Унесите немедленно, от одного его вида меня тошнит. — Слушаюсь, мадам. Эмили послушно удалилась. Она уже давно привыкла не возражать. Ей ведь и платили именно за то, что она всегда была не права. Но хозяйка могла снова потребовать этот злополучный бифштекс дня через три или еще больше. Холодильник в доме был забит едой с различным сроком давности. Все рекорды побила оставшаяся от праздничного обеда баранья нога, наличие которой Пегги проверяла тридцать восемь дней подряд! До закрытия конторы оставалось восемь минут. Почему же не звонит Миллер? Тогда она сняла трубку и решительно набрала его номер. Ждать не пришлось: Пегги было достаточно назвать свое имя, чтобы ее тут же соединили с нотариусом. — Говорит Пегги Сатрапулос. Мне необходимо срочно встретиться с вами. На другом конце провода на какую-то секунду воцарилась тишина. Потом извиняющийся голос Миллера попросил отложить встречу на восемь дней. Дела, не терпящие отлагательства, вынуждают его выехать сию же минуту. И она будет столько ждать из-за фокусов этого кретина?! — Нет-нет. Мы должны увидеться сегодня. И немедленно! Уверенная, что скоро получит огромное состояние, Пегги наделала долгов гораздо больше, чем обычно. Эти пятьдесят миллионов долларов нужны ей сейчас, сию минуту! А прохвост Миллер, наверное, положил их под проценты на свой счет: пятьдесят миллионов долларов под семнадцать процентов. Сократ же, как помнилось Пегги, требовал не больше десяти процентов. Следовательно, разницу в три с половиной миллиона долларов адвокатишка положил себе в карман. Недурно! — Не возражайте, господин Миллер. Я буду у вас через двадцать минут. Нотариус, сбитый с толку, ответил, что откладывает свою поездку и готов принять госпожу Сатрапулос. Надела она, как и подобает вдове, строгий костюм, накинула на плечи черную шубку из норки, а выходя, везде погасила свет — незачем ради Эмили и Муди жечь электричество. Теперь оставалось бросить последний взгляд в зеркало и нажать кнопку личного лифта. Через час она будет богатой и свободной. Такой, какой еще никогда не была.* * *
По всем характеристикам Чарли был, как говорится, обыкновенным парнем: среднего роста, среднего здоровья и среднего ума. Чрезмерными были лишь его богатство и самомнение. Но ему хватало такта не подчеркивать этого перед приятелями-бродягами, целыми ночами бренчавшими на гитарах в его доме. Втайне он завидовал тому напускному безразличию, с каким они обжирались за его счет, поглощая икру и дорогую водку, удивлялся их умению складно болтать о левых, правых, о Маркузе, об освобождении масс и диктатуре пролетариата. По его смутным догадкам, они тоже завидовали ему: только их бедностью можно объяснить все эти жаркие дискуссии. Деньги отца не в счет, их к талантам не отнесешь. Просто они есть — и все. А вот чем по-настоящему Чарли гордился — это собственным умением водить спортивные автомобили. Он украдкой посмотрел на Квика. Тот был невозмутим, словно сидел в курилке библиотеки, хотя стрелка спидометра колебалась между 180 и 200. И это за сто метров до поворота! Когда «порше» сильно заносило на виражах, Чарли чувствовал, как лоб у него от страха покрывается испариной, и злился на себя за то, что испугался сам в тот момент, когда собирался нагнать страху на другого. А Квик лениво развалился рядом и был спокоен, как мешок картошки. Он вроде и не понимал, что они рискуют жизнью. Ладно, посмотрим… Чарли нажал на педаль газа, с ходу переключился на четвертую и, продолжая наращивать скорость, тут же перешел на пятую. Все в нем кричало — «Тормози! Тормози!», но нога, казалось, перестала слушаться и не сдвинулась ни на миллиметр. Понимая, что не сможет взять надвигавшийся со скоростью пушечного ядра поворот и будет отброшен к деревьям, он инстинктивно нажал на тормоз. Машина взвизгнула, развернулась, отпрыгнула в сторону, закачалась и опять выровнялась. А Квик даже не шелохнулся. От страха у Чарли перехватило дыхание, и он, отпуская тормоз, проблеял дрожащим голосом: — Неплохо держит дорогу, а? Квик что-то буркнул в ответ. — Хочешь ее попробовать? — Ты настаиваешь? — Ну давай же, встряхнись немного. — Давай. Чарли съехал на обочину. Дорога здесь была всего лишь узкой полоской асфальта, петляющей между частными владениями на склонах холмов. Водители не раз возмущенно сигналили несущемуся по ее середине «порше», а две машины перед поворотом даже съехали в кювет, чтобы избежать столкновения. Чарли на ватных ногах вышел из машины и стал мочиться на полоску лютиков, высаженных вдоль дороги, затем закурил. Ему было не по себе, но его утешало то, что он удивил приятеля. — Поехали? Молодые люди поменялись местами. Квик спросил: — Поедем дальше или вернемся? — Вернемся. — Хорошо. Пристегни ремень, — посоветовал он, включая зажигание. — Зачем? — Пристегни — так будет лучше. Чарли усмехнулся. — Дуешься, что я нагнал на тебя страху? — Ты о чем? — Возможно, я гнал слишком быстро, но никогда не дрейфь, если я за рулем. Что-что, а водить я умею. Квик плавно развернул машину и, не взглянув на Чарли, равнодушно бросил: — Ты водишь хуже некуда. Он положил правую руку на рычаг, мягко подгазовал, опустил сиденье, пытаясь найти более удобное положение спинки, а затем включил первую скорость. Нажав левой ногой педаль сцепления до отказа, он правой вдавил педаль газа. «Порше» задрожал от напряжения. — Держись. — И Квик отпустил сцепление. Мотор, который вращался со скоростью шесть тысяч оборотов, бросил машину вперед с такой силой, что Чарли испугался. Но, пару раз вильнув, «порше» выровнялся. Квик старался сохранить тот же режим при каждом переключении скорости. За несколько секунд стрелка продвинулась со 150 до 200. Чарли закричал сдавленным голосом: — Не психуй! Научись сначала чувствовать ее! Квик ничего не ответил, а лишь пожал плечами. 210… 215… 220… Шоссе резко спускалось вниз. В пятистах метрах был поворот на 120 градусов, в который трудно было вписаться на скорости выше шестидесяти. Дорога на этом участке была не огорожена, и гонка грозила закончиться полетом в никуда. Чарли уцепился обеими руками за приборную доску и со всей силой давил на воображаемый тормоз, пытаясь не потерять лица, оставаться спокойным. — Тебе следовало бы притормозить! Квик пожал плечами. Поворот был уже рядом, и Чарли с ужасом понял, что приятель увеличивает скорость. — Тормози! — раздался его отчаянный крик. Будь что будет! Слишком поздно! Все кончено! И вдруг — о чудо! — Квик незаметно переключил скорость и нажал на тормоз. Никогда бы Чарли не подумал, что такое возможно. В ту же секунду, несмотря на ремень безопасности, он ощутил мощный удар в спину, бросивший его вперед. Несколько незаметных движений руля, и «порше» на скорости 120 проскочил поворот, отклонившись лишь чуть-чуть. Чарли, истекавший потом, не успел даже опомниться, как тяжесть от невероятного ускорения снова прижала его к сиденью и сдавила живот. У подножия очередного холма был поворот под прямым углом, но за ним на этот раз вырастала стена. От ужаса Чарли закрыл глаза, придавленный все той же невыносимой тяжестью. Но уже в следующую секунду всякое давление исчезло. Осторожно приподняв веки, он бросил взгляд назад: поворот остался позади. А Квик уже опять разгонял машину. — Квик! Эй, Квик! — Что? — Остановись на минуту! — Зачем? За стеклом с головокружительной скоростью мелькали холмы, поля, деревья. — Мне нужно отлить. — Но ведь ты только что… — На минутку! — Через пять минут будем на месте. Потерпи! Я хочу знать, что можно выжать из этой клячи! К горлу Чарли подступила тошнота.* * *
В Нью-Йорке Миллера считали жестким дельцом, которому пальца в рот не клади. Кто-кто, а он умел выколачивать проценты по делам, которыми занимался. Но в Солт-Лэйк-Сити, мировом центре религии мормонов, толстяк нотариус числился чуть ли не в святых. Уже два года ему предлагали принять духовный сан, как одному из самых влиятельных членов секты. И Миллер чувствовал себя способным достойно нести это высокое звание, но не решался взять на себя ответственность за вверенные ему души по одной прозаической причине: мирских дел у него было невпроворот. Его строго обставленный кабинет украшали только два портрета: Джозефа Смита, основателя доктрины, и Спенсера В. Кимбала, проповедника и патриарха, которого мормоны почитали так, как католики — папу римского. А сколько раз старик Кимбал спасал его от искушений мятежной плоти, когда рука прямо-таки сама тянется к округлой попке Мэрилин, очаровательной личной секретарши Миллера. Хотя с ней, как, впрочем, и с другими женщинами, нотариус грешил только в мыслях. Его контора была самой популярной в Нью-Йорке среди пятисот других. А Мэрилин он считал самой восхитительной особой — после достойнейшей миссис Миллер, разумеется. Его палец почти коснулся кнопки звонка, но девушка без вызова уже открывала дверь в кабинет. Миллер откашлялся и хотел что-то сказать, но Мэрилин заговорила первая: — Только что позвонил секретарь мистера Кимбала — подтвердил вашу программу. Завтра вы завтракаете с мистером Кимбалом — он уже здоров. А что касается лекций, они распределены на все время вашего пребывания. — Отлично. В котором часу мой самолет? — В 21.45. — Вы предупредили Лео? — Да. — Отлично… отлично… Мэрилин, подайте, пожалуйста, вон то досье по делу Манфреда. Возьмите лесенку. Миллеру было наплевать на дело Манфреда, просто хотелось полюбоваться ножками девушки. Захватывающее зрелище, которое нотариус старался устраивать почаще, тайком запихивая досье на самую высокую полку. Впрочем, те восемь дней, которые он собирался провести в Солт-Лэйк-Сити, должны с лихвой вознаградить его за монотонную жизнь здесь. Когда Мэрилин поднималась уже на пятую ступеньку, зазвонил телефон. Миллер недовольно снял трубку, внимательно выслушал и пробурчал: — Соедините меня с ней. Несмотря на все свое могущество, он не мог сделать вид, что его нет на месте, когда звонила вдова самого Сократа Сатрапулоса. По мере того как она говорила, удивление на его лице сменилось откровенной досадой. — Очень хотелось бы с вами встретиться, — кисло произнес он, — но это невозможно. Я сейчас выезжаю в аэропорт. — Губы его задрожали от волнения. — Уверяю вас, через восемь дней я в вашем распоряжении… Извините? Нет, нет, повторяю — сегодня никак невозможно. — Нотариус вынул из кармана носовой платок и вытер выступившую на лбу испарину. — И действительно нельзя подождать ни дня? Теперь его голос аж вибрировал от возмущения. Швырнуть бы трубку, но такого он не мог себе позволить. Неужели придется отложить поездку, оскорбив тем самым великого Спенсера В. Кимбала! Вдова утверждала, что ее безотлагательная встреча с ним — это вопрос жизни или смерти. А Миллер знал по опыту, что для миллиардеров вопрос жизни и смерти всегда упирался в деньги. И в подобных ситуациях он почти всегда разрывался между совестью и обстоятельствами. Последние, как водится, одержали победу. — Хорошо, миссис Сатрапулос. Приезжайте. Я отменю свою поездку, — бледнея от ярости, выговорил он и, уже повесив трубку, добавил: «Шлюха!» Что тут можно сделать, когда у него нет выбора. С Пегги Сатрапулос нельзя было не считаться. Мэрилин на лесенке уже не было, а досье Манфреда лежало перед Миллером на столе. Бросив сокрушенный взгляд на портрет Кимбала, он глубоко вздохнул и произнес вслух: — Мне очень жаль, Спенсер. Но я сделал все, что мог. Затем он снова вызвал Мэрилин.* * *
Чарли быстрым шагом прошел через салон, не обращая внимания на тех, кто пытался с ним заговорить, и закрылся в ванной. Его рвало. Этот чокнутый не только обставил и оскорбил его, но еще и насмерть перепугал. К черту! Сию же минуту его нужно вышвырнуть за дверь. Нет, невозможно! С Квиком уйдут и остальные. Даже машина в его руках вела себя как любящая женщина, послушно подчиняясь каждому его движению. Ярость Чарли тут же переключилась на этот проклятый «порше», который лучше слушался чужака, а не хозяина. Раз уж нельзя отыграться на Квике, кто помешает за все унижения отомстить злополучному родительскому презенту? Он сполоснул лицо, натянуто улыбнулся и вернулся в салон, где сильно пахло марихуаной. — Эй, парни! Мой старик решил посмеяться надо мной и подсунул не машину, а какой-то тарантас. Верно, Квик? — Настоящая кляча, — подтвердил тот. — Тогда пошли! Расколотим ее! Послышались возгласы одобрения, и вся компания высыпала во двор. — Поджечь ее, что ли? — прозвучало первое предложение. — Слишком медленная смерть, — возразил, смеясь, Чарли. — Мы ее забросаем камнями. В одно мгновение был разобран бордюр, огораживающий цветочную клумбу. — Секунду! — крикнул Чарли. — Дамы — первые! — И он церемонно протянул Лон булыжник. Девушка пожала плечами. — Идиоты! Новая машина. За тридцать тысяч долларов. Чего ты добиваешься? В лучах заката «порше» мягко светился, олицетворяя для собравшихся все то, что они презирали и к чему стремились. Еще какое-то время он стоял во всей своей красе, сияя безупречным серебристым кузовом, поблескивая хромом, щекоча ноздри запахом дорогой кожи, которой был отделан салон. Затем начался погром. Первый булыжник запустил в ветровое стекло сам хозяин «порше». И сразу же на машину обрушилась лавина камней. Несколько человек схватили палки и неистово лупили по кузову. Кто-то принес нож и резал шины. Одна из девиц полосовала огромными ножницами сиденья. Двое парней сорвали капот и долбили мотор. Вскоре из внутренностей того, что когда-то было спортивной машиной, словно кровь, потекли масло и бензин. Оставались лишь едва узнаваемые каркас и устилавшие землю металлические обломки. — Осторожно! — завопил Рыжий, зажигая спичку и кидая в лужу бензина. Машину охватило пламя. Квик, стоявший с самого начала неподвижно, взял Лон за руку. — Пошли. Нечего нам оставаться с этими кретинами.* * *
Вот уже десять минут они обменивались банальностями, и каждый ждал, когда собеседник коснется главного. Пегги, сгорая от нетерпения, ерзала в кресле, поминутно меняла положение ног и нервно вертела на пальце обручальное кольцо. Когда же ей стало ясно, что Миллер не заговорит первым, она перешла в атаку. — Думается, мэтр, вы знаете, почему я хотела вас видеть именно сегодня? Нотариус натянуто улыбнулся и сделал уклончивый жест. Пегги продолжала настаивать: — Вы не понимаете? — Честно признаться, не очень. — То есть как? — По телефону, если не ошибаюсь, вы сказали, что речь идет о жизни и смерти. — Верно. — Нельзя ли объяснить более конкретно? — Понимаю, вас удивила моя настойчивость, — издалека начала Пегги. — Но, видите ли, у меня на содержании трое детей. Есть и другие дела, требующие немалых расходов… А после смерти мужа я осталась одна. — Позвольте заверить вас, что я больше чем кто-либо уважаю ваш траур и отдаю должное вашим заслугам перед страной. — Благодарю. Я борюсь, борюсь и смертельно устала. Из уважения к памяти Сократа я отказалась от одной из самых блестящих партий, о чем вы, полагаю, слышали. — О да, миссис Сатрапулос. Дело о несостоявшемся браке две недели было на первых полосах газет и вызвало настоящий скандал. — Сегодня восьмое сентября! Миллер это и сам хорошо знал. Еще бы! Ведь сегодня он впервые подвел достопочтенного Спенсера В. Кимбала. — Признаюсь, вашего звонка я ждала целый день. — Моего звонка? — Ну да. Понимаете, у меня сейчас затруднения. — Затруднения? — Слишком много расходов и никакой поддержки ни с чьей стороны. Любопытно, куда она девает деньги — глотает, что ли? Ни для кого не секрет, что от Калленберга она ушла с тремя миллионами долларов в чемоданчике. Нотариус нахмурился. Если дамочке пришла в голову мысль вытянуть из него некую сумму, то не на того напала. Однако внешне Миллер был как всегда любезен. — Могу ли я что-нибудь сделать для вас? — Это нетрудно. Я пришла поговорить с вами о моем наследстве. — Но ведь дело о наследовании закрыто. Согласно распоряжению вашего покойного мужа, наша контора будет отчислять вам ежегодно двести тысяч долларов на протяжении десяти лет. И я не вижу… — Из-за таких мелочей я бы не осмелилась вас побеспокоить. Поговорим лучше о пятидесяти миллионах долларов. — Пятидесяти миллионах? — Да, уважаемый мэтр, карты на стол… Я в курсе дела. Наш разговор останется только между нами. Играйте же честно. — Ничего не понимаю. О каком таком деле идет речь? Пегги начинала нервничать. За кого ее принимает этот мошенник? Она обожала играть в кошки-мышки, но только тогда, когда сама была кошкой. Растерявшийся вконец и сбитый с толку Миллер уже всерьез подумывал, не включить ли ему сигнал тревоги. Охранник в это время постоянно находился на этаже. Истеричность Пегги ни для кого не была тайной, и нотариус просто боялся, что она сегодня не в себе. — Ну что ж, постараюсь выражаться яснее. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о втором, тайном пункте завещания моего мужа. — Но нет никакого второго пункта. Дело окончательно закрыто. — Не может быть! А если этот негодяй говорит правду? Нет, невозможно. Пегги провела свое расследование, которое подтвердило слова Нат. Неужели он по какой-то причине решил поиздеваться? Ничего, она знает, как зажать его в угол. — Вам знакомо имя Додо? — Додо? — удивленно переспросил Миллер. — Да, Додо, Додо! Девяносто сантиметров объем груди, остальные формы не хуже, чем у кинозвезды, блондинка, двадцать пять лет, ослепительно белые зубы! — выпалив все это, Пегги агрессивно подалась вперед. — Это что, неудачная шутка? — возмутился Миллер, бледный от гнева. — Шутка?! — орала Пегги. — Сегодня, восьмого сентября, вы должны были мне объявить, что есть второй пункт завещания! И я хочу знать, почему вы этого не сделали! Не пытайтесь юлить, мне все известно. Нотариус возмущенно подскочил. — Не понимаю, о чем вы, но мне это уже надоело! — И это еще не все! — крикнула Пегги. От паники она потеряла свое легендарное хладнокровие. Чтобы не выдать источник информации, она не могла назвать имя Стимана, финансового агента Нат, которому его любовница Одиль Блеклей, так называемая Додо, шепнула по секрету, каким сексуальным утехам предавался этот лицемер и ханжа. Но страх все сильнее сжимал ее сердце. Что-то уж слишком искренне возмутился Миллер. А если он сказал правду? Если она зря порвала с Калленбергом… Если выпустила такую добычу из рук ради чего-то призрачного и вообще несуществующего? Не может быть! Нужно бороться. А нотариус отчаянно пытался взять себя в руки, страстно желая, чтобы этот кошмар наконец кончился. — Миссис Сатрапулос, выслушайте меня. Умоляю вас, выслушайте! В Америке я один из самых уважаемых членов общины мормонов. Наш учитель, великий Спенсер В. Кимбал, — нотариус уважительным жестом указал на портрет старика, — давно предлагает мне стать духовным пастырем. И вы думаете… — Я думаю, что он узнает о существовании Додо! — сухо отчеканила Пегги. — Миссис Сатрапулос! Посмотрите на него! — Миллер снова простер руку к патриарху. — Я торжественно клянусь перед ним и перед Богом, который все видит, что никогда, никогда… Пегги похолодела. Жалкий паяц не врал. Как ни ужасно было это сознавать, но он говорил правду! И все же она сделала еще одну, тщетную, конечно, попытку. — Я понимаю вашу щепетильность, мэтр. Но это — тот случай, когда стоит пожертвовать профессиональной тайной, чтобы уберечь от горя женщину. — Клянусь! Перед Богом! Никакого завещания. Никакой Додо… Нервы перестали ей повиноваться. Из глаз Пегги полились слезы, а из груди вырвался истерический смех. Все пропало! Как такое могло случиться? От кого исходил удар? Понятно, ей расставили ловушку, чтобы она не вышла замуж за Калленберга. А она кинулась туда с закрытыми глазами. Но кто из всего этого извлек выгоду? Нат? Неужели Нат? Нет, Нат была ее лучшей подругой и неоднократно это доказала. А если Нат, сама того не подозревая, тоже проглотила наживку? Господи, сколько вопросов и ни одного ответа! А над столом прямо в уши плыл хнычущий голос Миллера: — Вы мне верите? Ну скажите, что верите… — Прошу вас, мэтр, извинить меня. — Это все, что она могла сказать. — Объясните хотя бы… — Очень жаль, но я ничего не могу объяснить. — И Пегги поднялась, давая понять, что тягостный для них обоих разговор окончен. Очутившись на шумной Шестой авеню, она чуть не упала в обморок. Дома вокруг плыли, качались и, казалось, собирались обрушить ей на голову все свои этажи. Она сама — сознательно! — отказалась от миллиардов Калленберга ради призрачного богатства. Разве может такая женщина, как она, прожить на жалкие крохи, которые получает? А сорокалетний рубеж она, между прочим, уже перешагнула. Есть разные ступени бедности, и Пегги Сатрапулос искренне считала себя нищей, имея всего каких-то четыре или пять миллионов, которые еще можно было спасти. Ее вдруг охватил озноб, несмотря на влажное душное тепло, исходящее от асфальта. Кружилась голова. Спешили по своим делам прохожие, толкая ее и даже не узнавая. И нужно было начинать сначала. С нуля! Что ж, прежде она все выяснит с Нат, чтобы знать… Знать! Не обращая внимания на шофера, который что-то ей говорил, Пегги яростно рвалась вперед, не видя ничего, не разбирая дороги. (обратно)Глава 2
— Убери руку, свинья! — Сам свинья, ты меня провоцируешь! — Нас могут увидеть. — Ну и что? Им бы это понравилось! Два парня, Боб и Дидье, прятались за кучей шуб. Они украдкой тискали друг друга, позволяя себе все более смелые ласки и заливаясь довольным смехом. Лица их выражали притворное смущение. Впрочем, у Джованни Аттилио в течение дня все открыто теребили друг друга, но скорее нежно, для забавы, не решаясь на явно страстные проявления чувств. Разве могли что-нибудь значить пальцы, перебирающие волосы друга, рука, украдкой скользнувшая к нему в брюки, или нежная записка, тайком прочитанная в жизненном центре фирмы — туалете, где завязывались и развязывались интриги. Так, флирт без продолжения. Более серьезные развлечения во время работы считались неуместными. Джованни Аттилио не потерпел бы этого. Впрочем, к себе он был менее строг. Утомленный тяжелыми обязанностями, шеф время от времени вызывал к себе в кабинет одного из тех юношей, кого лично принимал на работу. Никаких дипломов от претендентов на ту или иную должность Джованни никогда не требовал. Достаточно было иметь приятную внешность и согласиться пройти своеобразный конкурсный экзамен: провести час в оборудованном звукоизоляцией кабинете Аттилио. Это именовалось личной — очень личной! — беседой шефа с новым сотрудником. Имя новичка тотчас же вписывалось в журнал персонала, или, как называли его злые языки, в журнал личного состава гарема Джованни. На пяти этажах особняка на Парк-авеню, где обосновалась империя Аттилио, можно было найти все, что могло бы достойным образом украсить заплывшие жиром телеса шестидесятилетних матрон с тугим кошельком. На первом этаже располагался выставочный зал, по которому неслышно скользили одетые с иголочки, красивые, внимательные юноши. В их обязанности входило принимать клиентов. На втором и третьем размещались примерочные. Четвертый этаж занимали парикмахеры, фотографы, гримеры, закройщики и манекенщицы, — стройные бледные куколки, закутанные в несвежие пеньюары. Но когда наступал их час, они перевоплощались в сверкающих загадочных бабочек и на подмостках в безжалостном свете юпитеров выглядели полупризрачными, почти нереальными. На пятом этаже царила иная атмосфера. Здесь изготавливались и подгонялись известные всему миру модели Аттилио, и попасть сюда можно было только через потайную дверь. Через нее-то и входили рабочие, прежде чем отметить время прихода. Центр управления находился на втором этаже, что позволяло Джованни неожиданно появляться везде и в любое время. Он вмешивался во все и вся, обострял отношения, хвалил одних, разнося в пух и прах других. Когда-то, двадцать лет назад, Аттилио приехал в Штаты из маленькой итальянской деревушки без гроша в кармане. Его родители были простыми крестьянами, многие поколения женщин в их семье одевались в платья, выкроенные ножом из грубой черной ткани. Джованни стал королем моды, Гением, как его окрестили журналисты. Он диктовал свои законы женщинам всего мира, а через них и их мужьям. Если он решал, что пришло время носить короткие платья, в Париже, Риме и Токио можно было услышать лихорадочное позвякивание ножниц. Если ему хотелось, модными становились длинные одеяния. Никто не смел ему противоречить. Малейший каприз Гения превращался в диктат. Разумеется, он был мультимиллионером. Триста два раздельных контракта разрешали производителям во многих странах мира использовать его торговый знак, разумеется, за огромные отчисления. Но в душе Аттилио был меценатом и тратил огромные деньги на начинающих художников, музыкантов, актеров, писателей или просто на молоденьких парнишек с торговых судов, которых он отыскивал, бродя у доков. На такие прогулки Гений выбирался, как правило, в обычном костюме, но иногда позволял себе превращаться в сказочного персонажа, нацепив белый парик и куртку с воротником из роскошной чернобурки. Во внешности Джованни не было ничего примечательного. Худой, суховатый, среднего роста, со странной привычкой как-то по-особому склонять голову набок, он напоминал потерянную птицу. Необычными были только его глаза — глаза мечтателя, всегда устремленные вдаль. Куда? Он и сам не смог бы точно сказать. И зимой и летом на Аттилио всегда был один и тот же серо-голубой фланелевый костюм, который украшал обычный черный галстук. — Осторожно! — предупредил Боб Дидье. — Джованни! В противоположном конце салона появился Гений, о чем-то тихо беседующий с администратором. Когда Дидье и Боб поправили одежду и выбрались из своего укрытия, около пятидесяти человек уже топтались на почтительном расстоянии от шефа. — Господа, — начал он, когда воцарилась полная тишина и все взгляды обратились к нему. — Я очень хотел объявить вам эту новость… — Он вдруг замолчал, сделал несколько нерешительных шагов вперед, заложив руки за спину, и продолжил: — Господа, нам оказала честь, согласившись сотрудничать с нами, известная всему миру Пегги Сатрапулос. Она появится здесь завтра утром. Но едва он успел выйти в коридор, ведущий к его кабинету, все пять этажей империи загудели, как разбуженный улей. Дидье удивленно посмотрел на Боба. — Вдова? Черт знает что! Ты представляешь ее за швейной машинкой? — Увидишь, дорогой, — заключил Боб, выражая, сам того не зная, общее мнение, — за три недели эта бабуля слопает у нас всю прибыль на пятьдесят лет вперед!* * *
В пятистах милях от аэропорта Кеннеди начал снижение «Боинг-747». Пегги вышла из сауны, отказавшись от теплого пеньюара, который ей протягивал нубийский евнух. Гигант поклонился и неслышно удалился, а Пегги с сожалением оглядела ванную с ее золотыми кранами. Жаль, что нельзя их упрятать в свой чемодан. В этом самолете все, похоже, было из золота. Немыслимые богатства, собранные здесь, превращали его в настоящий летающий музей. Подобные сокровища не могли присниться персонажам из «Тысячи и одной ночи» даже в их самых сумасшедших снах. В салоне, длина которого, несомненно, превышала двадцать метров, одна из стен была отведена для картин. И каких картин! Тинторетто, Рубенс, Брейгель-старший… А вот несколько эскизов самого Леонардо да Винчи и автопортрет Рембрандта. А здесь, как бы перекликаясь с Кватроченто, излучают неповторимое внутреннее сияние импрессионисты — Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей. И уж совсем трудно отвести глаза от лаковых панно Короманделя, от редкостных безделушек из нефрита и слоновой кости. Пол устилали китайские ковры вековой давности, и даже кресла в стиле Людовика XV вовсе не казались здесь старомодными, настолько удивителен был весь ансамбль. Пегги, которую трудно было вообще чем-либо удивить, была потрясена этим великолепием, поднявшись на борт «боинга». Ей почему-то вспомнились последние слова Хаджи Тами эль-Садека, который принимал ее три дня назад в Баране с королевскими почестями: «Не забудьте… Вы сами и ваши наследники призваны сыграть важную роль в будущем равновесии на планете». Что он имел в виду? Перед отлетом эль-Садек преподнес Пегги шкатулку, которую она открыла дрожащими руками. Там оказалось бриллиантовое ожерелье. Она знала о существовавших между эмиром и Сократом связях и сейчас очень сожалела, что в свое время не расспросила Грека подробнее о механизме его интриг. Арабы ее всегда впечатляли. Она находила в них что-то жестокое, животное, чувствуя, что они, несмотря на подчеркнутое уважение к ней, относились к женщинам с глубоким презрением. Для этих людей ее обаяние, ее имя, ее положение в обществе особого значения не имеют. Тем не менее, возвращаясь в Нью-Йорк с сопровождавшим ее министром иностранных дел Барана Слиманом Бен Слиманом, Пегги была очарована его утонченными манерами и безупречной вежливостью. Ей было известно, что он занимался всеми крупными делами эль-Садека — куплей и продажей оружия, вкладами в швейцарские банки, инвестициями в европейскую недвижимость, размещением капитала в Японии и на Ближнем Востоке. Слиман, разумеется, получал определенный процент за участие в этих и подобных им операциях. Пегги подозревала, что он был сказочно богат, но хотел стать еще богаче. А значит… Это значит, что пройдет определенное время и Слиман непременно предаст своего хозяина, чтобы занять его место. Все течет… Приятным сюрпризом оказался для нее стенной шкафчик: там обнаружились ее любимые духи. И откуда они это узнали? Пегги задумчиво растерла тело и уселась перед зеркалом в позе лотоса, как можно шире разведя ноги. Пока удавалось принять эту или какую-либо другую позу, пока она могла, лежа на спине, коснуться коленями головы — все было в порядке: тело оставалось таким же гибким и юным, как в молодости. Теперь оставалось только развернуть бедра, чтобы убедиться, какой совершенной прямой линии можно достичь, постоянно упражняясь. В эту минуту Пегги безумно нравилась сама себе и жалела, что никто ее не видит.* * *
— Быстрее! — сказал Бен Слиман. — Теперь помедленнее… Так… Да… Продолжай… Хорошо… Не останавливайся… — Его руки судорожно стискивали голову блондинки, прижатую к его животу. Слиман никогда не отправлялся в дорогу, не прихватив вместе с багажом двух-трех скандинавок с белоснежной кожей. Он мечтал о таких красотках будучи подростком, но тогда ему были доступны лишь местные толстые проститутки. Сегодня же за право подняться на борт его личного авиалайнера боролись редкие красавицы, зная, что получат за свои труды более чем щедрое вознаграждение. А трудиться приходилось, что называется, в поте лица. Изощренные сексуальные требования грубого, похотливого, не знающего нежности Бен Слимана вызывали чуть ли не шок даже у самых искушенных жриц любви. А после возвращения этим несчастным, одурманенным гашишем, измученным, потерянным требовалось немало времени, чтобы прийти в себя. Такое случалось даже тогда, когда Бен Слиман брал с собой в очередную поездку трех или четырех девиц и они регулярно сменяли друг друга, чтобы удовлетворить хозяина. Для любовных утех был отведен роскошно отделанный салон в задней части авиалайнера. — Ты мне делаешь больно! Так… Да… Быстрее!.. Еще быстрее!.. Его тело содрогнулось, и девушка с перекошенным от отвращения лицом бессильно откинулась на спину. Она лежала неподвижно, с широко открытыми глазами, не имея сил вытереть обрызганное спермой лицо. Цепкие пальцы Слимана все еще сжимали ее руку. Почему он не дает ей передохнуть? Поспать бы немного… Поспать? Девушка посмотрела на него, и гримаса удивления застыла на ее лице: невероятно, но ее мучитель был готов снова заниматься любовью. — Начинай! — приказал Бен Слиман, даже не посмотрев на партнершу. Взгляд его странно расширенных, округлившихся глаз был устремлен на стену. Дело в том, что его салон и помещение, которое занимала Пегги, разделяла стена, представлявшая собой специальное зеркало без амальгамы. И вид нагой Пегги, чьи ноги были разведены аж на 180 градусов, доводил Бен Слимана до исступления.* * *
Ну как не впустить посетителей, если в руках у них чек на целых двадцать тысяч долларов в пользу «Общества защиты птиц»? Люси Мадден в одинаковой степени ненавидела и мужчин и женщин, но птицы, по ее мнению создания среднего пола, представлялись ей существами иного, высшего порядка. Люси была от них без ума. Ее квартира выглядела как огромный вольер, где щебетали всевозможные пернатые — от крохотного колибри до обыкновенной канарейки. Всюду громоздились клетки, где обитали попугаи, дрозды, две совы, какаду, зимородки, райская птичка, дятлы, славка, три перцеяда и раненый пеликан, доставленный из Греции неделю назад. С бессознательным садизмом Люси разместила самок и самцов в смежных, но отдельных клетках, так как зрелища их совокупления она бы не вынесла. С нее хватало того, что подобные видения преследовали ее по ночам, в кошмарных снах. Люси просыпалась в холодном поту, с ужасным чувством стыда и вины. Каждое утро ее горничная выгребала из клеток столько помета, что желающий мог бы основать процветающее предприятие по производству удобрений. В квартире стояла удушливая, как в зоопарке, вонь, но никто из многочисленных посетителей, ожидающих приема с подарками для «дорогих малюток», казалось, не замечал этого. Можно ведь зажать нос и перетерпеть. Это было ничто в сравнении с несколькими строчками в колонке знаменитой Люси Мадден. А она могла многое: кого-то вознести, сделать известным, а кого-то перестать упоминать вообще, что означало приговорить его к забвению. — Впустите их, — приказала Люси Аните. Два приличных молодых человека, одетые со скромной элегантностью, поклонились и уважительно поцеловали хозяйке руку. Неплохое начало… — Господа, — сказала она, держа в руке чек. — Не знаю, как и благодарить вас за вашу щедрость. Да, да! Ведь птички такие беззащитные и так страдают от людской черствости… Что вас привело ко мне? — Мы журналисты, — шатен выговорил эти слова чуть запинаясь. — И вы тоже? — обратилась она ко второму посетителю, блондину. — Да, — ответил тот. — Напомните-ка мне ваши имена. — В ее голосе прозвучало плохо скрываемое недоверие. — Ричард Гордон, — представился шатен. — Питер Грант, — поклонился блондин. — Полагаю, вы хотите взять у меня интервью как у президента «Общества защиты птиц»? — спросила она. — Н-не совсем так, — промямлил Гордон… — Безусловно, мы восхищены вашей деятельностью на этом поприще, но… — Обращаемся к вам как к коллеге, — прервал его Грант. — И помочь нам можете только вы, женщина, способная столько времени и сил отдать этим необыкновенным существам. — Он широким жестом указал на вольер. В это время Гордон, несмотря на жесткий самоконтроль, не выдержал и зажал нос платком, делая вид, что сморкается. — И чем же я могу помочь? — Никто лучше вас не осведомлен о том, что происходит за кулисами нашего огромного мира… Еще бы! Ни одна знаменитость и шагу не могла ступить, чтобы об этом сию же минуту не стало известно ей, Люси Мадден. За тридцать лет своей журналистской карьеры она все успела увидеть, все узнать, все запомнить. Ее поразительная желчная память сохраняла даже незначительные подробности увиденного или услышанного. Люси и спустя десять лет могла безошибочно назвать цвет платья какой-нибудь дамы на каком-нибудь приеме или описать ее безобразную шляпку. В «расследовании» любовных приключений ей не было равных, и она со злорадным удовлетворением камня на камне не оставляла от репутации того или иного общественного деятеля, разбивала браки, ссорила лучших друзей, сеяла панику в правительствах. Благодаря ей из газеты «Пэйдж Твэлв», где она работала, один за другим вылетели три директора, словно она мстила им за то, что ни разу в жизни не переспала с мужчиной. — Какое издание вы представляете? — Мы корреспонденты агентства. — Какого агентства? — Агентства «Глобаль», правление которого находится в Мюнхене. Мы освещаем события по всей Европе, вплоть до железного занавеса. — Как поживает мой друг Ганс Фехнер? По-прежнему лысый? — Если честно признаться, контактов на таком высоком уровне у нас нет, но наш шеф чувствует себя неплохо. — Отлично! Что вы хотите? — Мы хотели бы выпустить серию статей об одной… особе. — О ком? Гордон и Грант обменялись взглядами. И Грант, словно бросаясь в омут, выпалил: — О Пегги Сатрапулос. — Странно! Я уже все сказала о ней в те времена, когда она еще вызывала к себе какой-то интерес. Сегодня она представляет только себя саму, то есть ничего. Она вышла из моды. — Вы знаете, европейцы… — Не говорите, я знаю их лучше, чем вы. В каком плане вы собираетесь о ней писать? — Скорее в критическом. — Самое худшее для человека — это когда о нем вообще не говорят. — Если бы вы могли… — К сожалению, не могу. — Она сложила чек кончиками пальцев и сунула его в корсаж. — У меня контракт с «Пэйдж Твэлв». — Но никто никогда не узнает о том, что вы нам помогали. — Все так говорят. — Уверяем вас, никто… — Пусть так! Но я очень занята. — Может быть… еще тридцать тысяч для ваших птичек… — Конечно, пятьдесят тысяч на эти цели… — Тридцать. — …пятьдесят тысяч стоят того, чтобы кое-чем пожертвовать. Поэтому я не стану вам рассказывать о том, что уже всем известно: о ее многочисленных любовниках, сексуальных извращениях, продаже фетишистам своего нижнего белья, о контракте с фабрикой по производству надувных кукол, которая продает изображение Вдовы в натуральную величину и платит ей огромные проценты. Скандальные подробности о несостоявшемся браке сКалленбергом тоже ни для кого не тайна. Я, кстати, там была и не постеснялась высказать этой дамочке все, что о ней думаю. — Не так быстро, — умоляюще произнес Гордон, вынимая блокнот для записей. Люси Мадден, казалось, не слышала его. — В конце концов, все это было в бульварных газетенках и интересует лишь определенный сорт людей. Иное дело — материалы о ее жизни со Скоттом Балтимором, о ее причастности к политике и делишках с сомнительными личностями из Саудовской Аравии, о результатах секретного расследования, которое провел ее второй муж, чтобы докопаться до причины смерти первого. Эти документы хранятся в моем сейфе, и я знаю, почему они не скоро выплывут на свет божий. — Вы правы. Думается, наше правление позволит заплатить пятьдесят тысяч долларов за подобную информацию. — Значит, вы согласны? И если гарантируется полная тайна… — Мы дали вам слово! — Видите ли, я терпеть не могу эту женщину. Даже в свои лучшие времена она ни цента не пожертвовала на моих славных птичек! — Правда? — спросил Грант, стараясь сохранять серьезность. — Клянусь вам! Да, заберите ваш чек, дайте лучше наличными. — Пятьдесят тысяч наличными? — Не пятьдесят, а семьдесят. Ведь деньги у вас при себе? Или я ошибаюсь? Как она догадалась? Он и Гордон действительно имели при себе сто тысяч долларов. Это была максимальная сумма, которую им разрешалось заплатить за подобного рода информацию. Конечно, деньги принадлежали агентству, но они не испытывали особого желания отдавать их за здорово живешь этой жирной, озлобленной на всех и вся стерве. — Гм… — произнес Гордон, бросая отчаянный взгляд на Гранта. — Ну-ну, поторопитесь, — в голосе Люси Мадден слышалось нетерпение. — Доставай, — сдался Грант. Гордон сунул руку в портфель и на ощупь отсчитал семь пачек. Если бы эта кобра знала, что у них целых десять пачек… Грант с сожалением наблюдал, как деньги переходили из рук в руки. — Отлично, — сказала Люси. — Начнем сейчас же. Задавайте мне любые вопросы. Мэри! Мэри! Подождите минутку, я отдам это своей секретарше. Прижимая к огромным грудям пачки долларов, она скрылась в коридоре под аккомпанемент птичьих криков и щебетанья. Если эти типы — журналисты, то она с полным правом может назвать себя архиепископом. Интуиция ее ни разу не подводила: большая политика — вот с чем связан визит этих двоих. Начинается предвыборная кампания, то есть жестокая борьба, которая многим развяжет языки и кошельки. Уотергейт показал, что для достижения цели хороши любые средства: главное — деньги и изворотливость. В газетах то тут то там уже стали появляться разоблачительные статьи. Всех, кто имеет отношение к политике, нельзя считать нормальными людьми. Тщеславные, самодовольные, суетные, они поразительно легко становились мишенью для вездесущих репортеров, сами подставляли головы, сами лезли прямо под удар. А потом такие вот Пегги Сатрапулос и ей подобные еще и жаловались, что их разделывали в пух и прах. Зато ей, Люси Мадден, такие потрясения неведомы. Она всегда вела себя сдержанно и скромно, стараясь жить незаметно среди обожаемых ею птиц.* * *
Красоту обнаженного мужского тела не могло скрыть от ее глаз даже матовое, с узором стекло двери в ванную. На земле есть только один такой парень — Квик! И этот парень принадлежит ей одной. Лон сунула в рот сигарету, пошарила рукой возле кровати, ища зажигалку, и, не найдя, крикнула: — Квик, где у тебя спички? Голос его заглушал шум льющейся воды, разобрать удалось лишь одно слово — карман. Лон поднялась и пошла искать куртку Квика, которая оказалась на полу в противоположном углу комнаты. В одном из карманов ее рука наткнулась на маленький кусочек картона. Машинально скользнув по нему взглядом, она от неожиданности остолбенела, потом заставила себя прочитать четко выписанные слова еще раз. Кошмар какой-то! Не осознавая до конца, что делает, Лон бросилась на постель и с головой укрылась простыней. — Нашла? — спросил Квик, выходя из ванной. — Нет. Нагнувшись над ней, он отвернул край простыни и легонько куснул ее за плечо. — Подожди, я сам найду. Держи, вот спички. А пожевать что-нибудь найдется? Да что это с тобой? Он прикурил две сигареты и одну протянул ей. Лон затянулась. — Ничего. Все нормально. — Отлично. Перекусим? Да, в этом был весь Квик. Были бы машины, любовь, пища… — Есть холодный цыпленок в холодильнике. — А ты будешь? — Не хочу. Останешься сегодня у меня? — Нет. Через десять минут мне надо уйти. А знаешь, о чем я думал, стоя под душем? — Он засмеялся, вгрызаясь в крылышко цыпленка. — Когда ты в платье, то кажешься толстоватой, а голая — в полном порядке! Объясни-ка, всезнайка, почему так получается? — Надо не объяснять, а сожалеть об этом. — Лон! Ты сердишься? — Квик — твое настоящее имя? — Ее вопрос мог показаться смешным после их шестимесячной связи. — А зачем тебе это знать? — спросил он добродушно. — Меня зовут Квик, потому что я самый быстрый, самый высокий, самый лучший! — Он стал изображать рев машины, набирающей скорость, и сжал воображаемый руль. — У тебя есть родители? — Что? — Родители у тебя есть? — Ну у кого их нет? — А где они живут? — Откуда я знаю! — Вы не встречаетесь? — Послушай, остановись. Я же твоими не интересуюсь. Там еще что-нибудь найдется? — Что? — Ну, цыпленка еще не доели? — Да, кусочек найдется. Лон встала с постели, обернулась полотенцем и подошла к холодильнику. Пока Квик стоял к ней спиной, ее рука осторожно вытащила из кармана его куртки злополучный кусочек картона. — Квик? — Ну? — Рот его был набит, и вопрос прозвучал невнятно. — Пока ты был в ванной, я нашла вот это. — Что именно? — Какую-то карточку. — Положи ее туда, откуда взяла. — Я прочитала, что на ней написано. — Ну и что? Глаза Лон наполнились слезами, она резко повернулась к нему. — Квик!.. Квик!.. Ты сошел с ума! — Да что с тобой? — Это ужасно! Ужасно! Неужели ты не понимаешь? — Не закатывай истерику. — Ох нет, нет! Лон вытерла рукой глаза и, сдерживая рыдания, снова уставилась на картонный квадратик. На карточке вверху стоял штамп: «Резус — отрицательный». А ниже страшные слова: «В случае моей смерти я, нижеподписавшийся Эрнест Бикфорд, разрешаю любому медицинскому учреждению использовать мое тело и его органы без каких бы то ни было ограничений. Данное разрешение действительно для всех стран мира, где меня может настигнуть смерть». Дальше следовало пояснение, где и когда написано разрешение. И под всем этим стояла подпись: «Эрни Бикфорд». Лон схватилась руками за голову, а Квик искренне недоумевал. — Тебя удивило, что меня зовут Эрни? — Квик! Ох, Квик! — Да ты вдумайся в то, что там написано: «использовать». Это от слова «полезный». Если вдруг я околею, то какая разница, кому пересадят мою печень или мои глаза. Главное — это поможет кому-нибудь выжить или увидеть мир. Все бродяги так делают! — Но только не ты! Не ты! — Почему же? — Ты мне нужен живой — понимаешь? Не хочу, не могу представить, что тебя будут резать на куски. Он расхохотался. — Какая же ты дуреха! Одевайся! Подбросишь меня, а то я и так здорово опаздываю.* * *
Спустя пять минут они были на улице. Квик сел за руль, а Лон устроилась рядом. Она места себе не находила, словно эта карточка была извещением о его смерти. Нагнувшись к заднему сиденью, чтобы взять несколько салфеток, она вдруг заметила следующий за ними чем-то знакомый автомобиль. — Квик… — Что, малыш? — За нами кто-то следит. — Ерунда! Тебе показалось. — Нет. Видишь большой черный «бьюик»? Похоже, моя мать что-то заподозрила. — Ты уверена? — Да. — Что будем делать? Уйдем от них? — Бесполезно. Но она мне за это заплатит.* * *
— Передать вам сахар? — Нет, спасибо. Кабина, выступавшая над корпусом «боинга», была переоборудована в комнату отдыха в восточном стиле. В небольшом бассейне, выложенном голубой плиткой, играл фонтанчик воды, а вокруг прямо на полу были разложены подушки. В Слимане Бен Слимане, несмотря на его европейские манеры и костюм, чувствовалась какая-то животная жестокость, которая приводила Пегги в смятение. Иногда она ловила на себе его брошенный украдкой взгляд, откровенный, такой, какой бывает у мужчин, когда они вас хотят или мысленно уже обладали вами. Нет, есть в нем все-таки что-то отвратительное. Тогда почему же она испытывает к этому человеку какое-то странное влечение? Нахмурившись, Пегги постаралась отогнать от себя эту гаденькую мысль. — Хаджи Тами эль-Садек будет вам вечно благодарен за то, что вы нанесли ему визит. — Он был другом Сократа. — Да, ваш муж много сделал для нашего общего дела. В действительности же при жизни Греку было совершенно наплевать на все дела, кроме своих собственных. Его интересовали только деньги, откуда бы они ни поступали. И как можно больше. Принадлежа к богатому сословию, Пегги с рождения знала, что начиная с определенной цифры никакой дружбы быть не может, разве что временный союз, основанный на общих интересах. Этот старый краб эль-Садек пригласил ее на уик-энд, конечно же, не ради ее красивых глаз. Было и еще «что-то». — Думаю, ваша жизнь радикально изменится в ближайшие месяцы. — Почему вы так решили? — Политика. Вот оно что! Наконец-то до нее дошел подлинный смысл слов, сказанных эль-Садеком при прощании: «Вы сыграете важную роль в установлении равновесия сил на планете». Какую? Выйдя замуж за Грека, она утратила всякое влияние на американское общественное мнение. Конечно, при поддержке некоторых членов клана Балтиморов она тайно готовила своих сыновей Майкла и Кристофера к тому, чтобы подхватить факел, выпавший из рук их отца. Но время еще не пришло. Балтиморы возьмут реванш позже. И она вместе с ними. К этому Пегги стремилась изо всех сил. — Но у меня нет никаких политических амбиций, — произнесла она с очаровательной улыбкой, — и никаких подобных планов по отношению к моим детям. Убийство первого мужа было страшным ударом для меня. — Вы правы, но как это прекрасно, когда ваше дело продолжает жить и после вашей смерти. — Вы говорите о замыслах Скотта? — Конечно, — Слиман улыбнулся. — Наши республиканцы успели наделать массу глупостей. Стране они, в общем-то, не очень и нужны. — А вам не предлагали принять участие в избирательной кампании? — Я пока воздерживаюсь. На самом же деле ей никто ничего не предлагал. Ее имя было связано с такими скандалами, что многие политики предпочитали держаться от Пегги Сатрапулос как можно дальше. Появись она рядом с кандидатом от демократов, тот был бы навсегда скомпрометирован. Во всяком случае, так представлялась ей ситуация. — Еще чаю? Пегги жестом отказалась. — А почему это вас интересует? — Выборы нового президента США — вопрос первостепенной важности для арабского мира. Малейшие изменения в американской политике вынуждают подвергать корректировке и нашу собственную. — Мне кажется, достаточным гарантом вашей независимости служит ваша финансовая мощь. — Что ж, это можно сформулировать и так: невеста очень хороша, а мы очень богаты. Кстати, знаете, каковы суммарные доходы эмиратов, в которых эль-Садек пользуется исключительным влиянием? Губы Пегги округлились, чтобы произнести магическое слово, с которым была неразрывно связана вся ее жизнь и которое она произносила чаще, чем какие-либо другие. — Сколько? — Сто миллионов долларов. — В месяц? — В день. — Невероятно! — Она пыталась выглядеть равнодушной, но ее чувства выдавал сдавленный голос. — И само собой разумеется, что интерес к нам в мире очень велик. Это было мягко сказано. Владыки Ближнего Востока тратили баснословные суммы, чтобы этот интерес никогда не угасал. В департаментах всего мира шла борьба, отчаянная борьба между чиновниками за назначение на хоть какой-нибудь пост, но поближе к Кувейту. По прибытии туда даже самый незначительный из них сразу попадал под золотой дождь. И только швейцарским банкам были известны те неслыханные суммы, которые переходили из рук в руки. Если бы кто-нибудь решился опубликовать даже неполные данные, надежно упрятанные в бронированные сейфы Женевы и Цюриха, разразились бы уже не скандалы, а настоящие революции. Многие высокопоставленные чиновники за предательство поплатились бы жизнью или, в лучшем случае, провели бы оставшиеся годы за решеткой. — Они найдут вас, — произнес он загадочную фразу. — Кто «они»? — Одни или другие, а может быть, все вместе. Вы понадобитесь им. — Зачем? — Вы можете мне не верить, но до сих пор вы являетесь одним из важных элементов механизма политической игры. — Ну, в этом плане я уже ничего не представляю. — Не стоит себя недооценивать. Я другого мнения на этот счет. Придет время — и вы сами во всем убедитесь. Вы, Пегги, — одно из связующих звеньев, которое способно покачнуть власть в том или ином лагере. Теперь в его голосе уже звучало раздражение. Бен Слиман считал эту женщину легкомысленной и корыстной, но отнюдь не дурой. Но сейчас он не мог понять, то ли она действительно глупа, то ли ей наплевать на его слова. Кажется, он выражался предельно ясно. Хаджи Тами эль-Садек дал ему задание «прощупать» Вдову. Все, что ему было нужно, — это узнать у Пегги, сколько ей следует заплатить, чтобы она действовала по их указке. Нет, неправда, не только это: при воспоминании о том, какой он ее видел полчаса назад, кровь прилила к лицу Бен Слимана. Пока бюллетени не опущены в урны, всякие способы хороши. Достаточно было Пегги заговорить, и демократы потеряли бы огромную часть своих избирателей. Но готова ли она к этому? Слиман сомневался и поэтому умолчал о предложении, которое он и эль-Садек хотели ей сделать. Два миллиона, предназначенные на эти цели, естественно, останутся пока у него. Зачем их отдавать Вдове, если она в данный момент не может им помочь? Пожалуй, стоит немного подождать. Он негромко кашлянул. — Если я вам понадоблюсь, стоит только позвонить. Явлюсь тотчас же. — Как джинн в сказке «Волшебная лампа Аладдина?»— усмехнулась Пегги. — Совершенно верно. Даю слово и от всей души надеюсь, что вы предоставите мне возможность это доказать. В салон неслышно вошел евнух. Низко кланяясь, он что-то уважительно шепнул на ухо хозяину. Бен Слиман с улыбкой повернулся к Пегги. — Командир корабля передает, что мы скоро начнем приземление. Если не возражаете, перейдем к нашим креслам. Уходя, евнух нечаянно задел чайник, и несколько капель попали на брюки хозяина. Бен Слиман вскочил, яростно ударил слугу по лицу и выругался: — Грязная свинья! Евнух покорно упал на колени, хватая руки хозяина и пытаясь их целовать. Тот ногой отшвырнул его. Слуга упал в бассейн и остался там лежать, не смея пошевелиться. Слиман еще что-то выкрикнул по-арабски. — Что вы ему сказали? — спросила Пегги. Глаза у нее расширились от страха, а рот она прикрыла ладонью, чтобы не закричать. — Ничего особенного, — ответил Бен Слиман. — Я объяснил, что по возвращении в Баран ему отрубят руку. В следующий раз будет поаккуратнее. — Он галантно склонился к Пегги, помогая ей подняться с кресла. — Не волнуйтесь. Это хороший слуга. И я дам ему возможность выбрать, какую руку оставить. Идемте же. Скоро Нью-Йорк. (обратно)Глава 3
— Господи! Ну какие здесь могут быть гонки? По лицу Квика скользнула насмешливая улыбка. — Бывали трассы и похуже. — Но ты же сам видишь! — Вижу что? Лон растерянно смотрела на стадион. Здесь, в пригороде Нью-Йорка, когда-то очень давно проводились собачьи бега. Но место это пустовало многие годы и теперь выглядело заброшенным и зловещим. Ветер раскачивал проржавевшие металлические конструкции трибун, и они уныло скрипели. Временами хозяева сдавали стадион организаторам автомобильных гонок с препятствиями. Дело это было достаточно хлопотное. Требовалось немалое воображение, чтобы как-то привлечь привередливую публику. Вот и для завтрашней гонки на трассе было установлено невиданное число ловушек. На пятистах метрах пробега шли один за другим участки, покрытые смолой, льдом, маслом, грязью. Не говоря уже о небольшой впадине, куда перед самым началом соревнований предполагалось вылить несколько канистр бензина, а затем поджечь его. Естественно, об этой детали Квик умолчал, не желая пугать Лон. Накануне в одном из баров Виллиджа он встретил приятеля, который шепнул ему, что один из гонщиков три дня назад сломал тазовые кости и что Квику следует обратиться к организатору соревнований Хибасеку. Тот согласился дать Квику освободившуюся машину. Условия таковы: сотня долларов за победу, пятьдесят — если гонщик дойдет до финиша, и ничего — если он сойдет с трассы. Квику предстояло сесть за руль «шевроле» старой модели. Машина выглядела латаной-перелатаной от капота до крыльев. Но ради этой суммы он был готов даже заплатить вступительный взнос или управлять, если понадобится, «утюгом». — Квик… Ну это же несерьезно! — А как, по-твоему, можно сделать себе имя? Спутанные ветром волосы, глаза, устремленные вдаль, затуманенные мечтами о будущей славе, — едва ли он в эти минуты помнил о Лон. Он уже слышал яростный рев моторов, видел, как заносит его машину на масле и на льду. А вот и огненная стена, и другие машины, которые преграждают ему путь, пытаясь столкнуть в ров. Где-то в подсознании возникло неясное видение: белые стены, больничные кровати… Нет, это не сегодня… И не завтра… А потом… — Ну, насмотрелась? Тогда пошли. — Ко мне? — Нет. Приятель уступил мне хату. Тебе понравится. Там классно. Бросив последний взгляд на стадион, они обогнули ржавую решетку центрального входа и пролезли через дыру в стене под трибунами. — Почему не ко мне? Он легонько щелкнул Лон по носу. — Потому что твоя мать думает, что мы все еще в Калифорнии, и там, куда мы поедем, она тебя не найдет. — Квик обнял девушку за плечи, прижал к себе, и они побежали к машине, которую оставили чуть дальше, на пустыре.* * *
— Но я не только от своего имени говорю. — Послушай, Джереми. Мне осточертела ваша болтовня — долг, родина и что там еще… — Пойми, сейчас нельзя допустить ни малейшей ошибки. На тебя будет смотреть вся страна. — А мне плевать! Оставьте меня в покое! Я же не тарабаню в вашу дверь, когда у меня проблемы. — Пегги, ты ведь знаешь, что мы всегда готовы тебе помочь. — Ну как же! Мчитесь наперегонки. — В чем ты нуждаешься? — В деньгах! — рявкнула Пегги. В аэропорту ее встречал мужчина, чье появление там программой не предусматривалось. Это был шофер Джереми Балтимора, младшего брата Скотта. И ей пришлось сесть в его длинный «кадиллак». Всякий раз, когда она возвращалась в Штаты, повторялось одно и то же: Балтиморы донимали ее советами и рекомендациями о том, что следует и чего не следует делать. Когда они наконец сообразят, что она — вдова Сократа Сатрапулоса, а Скотт и все, связанное с ним и его родственниками, осталось в прошлом. Правда, семейство первого мужа выплачивало ей ежегодно сто тысяч долларов, но это были гроши, которых едва хватало на косметику и на горничную. Джереми, стараясь сдержать приступ охватившего его гнева, примирительно произнес: — Пегги, мы просим тебя в последний раз. — Кто это — мы? — Я и мои друзья. — Хороши же у тебя дружки! Стая стервятников, которые думают лишь о том, как извлечь побольше выгоды из своего положения. — Как только пройдут выборы… Она агрессивно закончила фразу за него: — …и как только ты перестанешь быть нам нужна, малышка, можешь катиться ко всем чертям! Нет, это невозможно! До вас мне нет никакого дела и отвяжитесь вы от меня! — Но речь идет о нескольких месяцах! В ноябре все уже закончится. — К этому времени я могу околеть. — Я же сказал, что мы готовы помочь тебе. — Помочь? Что ты называешь помощью? Сколько? Джереми нахмурился. Все разговоры с Пегги заканчивались одним словом: сколько? Он глубоко вздохнул и замолчал. Внешне Джереми ничем не напоминал Скотта — он был слишком высокий и массивный. Лишь в его лице, если внимательно присмотреться, можно было уловить некоторое сходство с братом. Да и по характеру они сильно отличались. Скотт всегда выглядел красивым, веселым, жизнерадостным, удивительно искренним. А Джереми, казалось, начисто был лишен присущего старшему брату обаяния, хотя и он, наверное, мог, если бы захотел, быть и веселым, и жизнерадостным, и искренним. Но у него был всегда такой занудный и важный вид, какой бывает у людей, убежденных, что на них держится мир. — Я не против, Пегги, но придется немного подождать. — Мне надоело ждать. — Мы сейчас поддерживаем, как можем, партию. Сама знаешь, выборы стоят очень дорого. Ну и Грек, надо полагать, не оставил тебя на воде и хлебе. — Ложь! — взорвалась Пегги. — Шесть миллионов долларов! И те положены на имя детей до их совершеннолетия. У меня нет на них никакого права! Вы постоянно чего-нибудь требуете от меня, ничего не давая взамен. Вчера еще раз вы ударили по моей репутации — заставили работать у этого педика-модельера! — Но это чисто символически! — К твоему сведению, завтра я иду туда! Но не как заказчица, а как прислуга! Я сыта по горло вашими прикрытиями! И хочу быть свободной! — Кто же тебе мешает? — Вы! Джереми разозлился не на шутку. — Потому что ты ведешь себя как… как… — Он не находил слов. — Зачем ты ездила в Баран? Ну? Зачем? Чтобы переспать с этим грязным арабом? Еще минута — и он ударил бы ее, но сдержался при мысли, что эта шлюха тут же в него вцепится. Только не перед шофером… Уже достаточно было скандалов. А что еще может произойти в ближайшие месяцы — об этом страшно и подумать! — В последний раз, Пегги… Партия… — Плевать я хотела на вашу занюханную партию! — Она забарабанила в стекло, отделяющее их от шофера. Лимузин подъехал к тротуару. Вслед ему неслись ругательства, возмущенные гудки других машин. Пегги схватила сумочку и выскочила. — Подожди! — крикнул Джереми. — С меня хватит! Слышишь? Хватит! — Она изо всех сил хлопнула дверцей. Джереми высунулся из машины. — Пегги! Но она уже отскочила в сторону и подняла руку, останавливая такси. — Поехали, — махнул шоферу Джереми. Лимузин тронулся с места.* * *
Слиман Бен Слиман вынул из кармана ручку и стал поспешно искать лист бумаги. Иногда ему в голову приходили гениальные мысли. Если не записать, то тут же забудешь. И они будут потеряны — не для него, нет, — а для грядущих поколений. Когда-нибудь, если есть на земле справедливость, потомки соберут его изречения в новую священную книгу. Не находя ничего подходящего, он схватил салфетку и нацарапал на ней: «Если враг, которого ты ударил по правой щеке, достаточно глуп, чтобы подставить тебе левую, сломай ему шею!» Он перечитал написанное и спрятал очередное гениальное изречение в карман. Затем окинул удовлетворенным взглядом роскошный салон. Здесь обычно проходили секретные переговоры и заключались тайные сделки. Салон был частью королевских апартаментов, включавших еще два зала для приемов, четыре спальни, четыре ванных и сауну, где могла понежиться, не мешая друг другу, дюжина гостей. Апартаменты размещались на последнем этаже отеля «Уолдорф Астория», сходство которого с североафриканским базаром было гарантией его инкогнито. За сутки здесь проворачивалось столько людей, что сама английская королева осталась бы незамеченной в этом столпотворении. При условии, конечно, что королева не стала бы бродить по гигантскому бару на первом этаже с короной на голове. Официально апартаменты были сняты на год одной гамбургской фирмой. Но для обслуживающего персонала не было секретом, что здесь обитали вечно пьяные арабы. Впрочем, двухсот тысяч долларов, уплаченных вперед, оказалось вполне достаточно, чтобы клиент не заполнял регистрационную карточку. У Бен Слимана был свой ключ, открывающий обе входные двери его резиденции. Обычно днем он занимался делами, а ночью устраивал настоящие оргии. Но на этот раз ему предстояло выполнить только первую часть программы. По приказанию Хаджи Тами эль-Садека он должен был немедленно вернуться в Баран, как только доставит Пегги и встретится с тремя нужными людьми. Звонок в дверь раздался в тот момент, когда Бен Слиман обдумывал свой новый афоризм. И хозяин апартаментов, проклиная все на свете, вышел встречать гостя. Им оказался Али Ганун. Они обнялись и обменялись ритуальным приветствием: «Желаю долгой жизни брату моему». По отношению к Гануну это приветствие было скорее данью обычаям. У казначея одной из экстремистских палестинских группировок, каковым официально числился Ганун, на счету были два покушения в Иерусалиме и угон самолета с заложниками. Бен Слиман был по-своему привязан к нему и каждый раз спрашивал себя, уж не последняя ли это встреча. — Ну как? — спросил Али. — Все в порядке, — ответил Слиман. — Отлично, — сказал Али. — Моим братьям будет чем сражаться. — Мы всегда будем рядом с нашими братьями в борьбе за общее дело. «Общее дело», однако, стоило дороговато. Последний взнос Бен Слимана составил восемь миллионов долларов. Этих денег оказалось достаточно, чтобы снабдить многие сотни человек винтовками, автоматами и гранатометами. Несколько месяцев назад подобные сделки заключались в Ливане, но теперь эта страна перестала быть надежной и место действий переместилось в Цюрих. — Великий Хаджи поручил передать вам, что любая просьба наших братьев будет исполнена. Ганун почтительно склонил голову. — Больше ничего? — Ничего. Желаю успеха! Да будет Аллах с вами на вашем пути! Они снова обнялись. Когда дверь за Али Гануном закрылась, Слиман попытался вспомнить, что же ему хотелось записать. Но ничего не вышло. После беседы с этим фанатиком вдохновение у него пропало.* * *
Вторым посетителем был невысокий плотный мужчина с добродушным лицом. Ни внешность, ни костюм, ни манера поведения этого человека никому бы не бросились в глаза — такие ежедневно сотнями встречаются на вашем пути. Но никто из тех немногих, кто его знал, не смог бы с уверенностью сказать, на кого он работает — на ЦРУ, ФБР или на кого-то третьего. За ним числились дела, на которые был способен только агент-профессионал высокого класса, талантливый организатор и тонкий психолог. Его прошлое, пороки и слабости, имя его любовницы — все оставалось загадкой. В настоящее время у него был паспорт на имя Джона Робинсона, торгового агента, пятидесяти двух лет от роду. Единственное, чего он не скрывал, это откровенной ненависти к коммунизму и, казалось, был лично заинтересован в уничтожении этой идеологии, которая, по его мнению, грозила, подобно сифилису, охватить всю страну. Шестой год Робинсон руководил специальной службой партии республиканцев, занимающейся психологической обработкой населения. В его ведении находились колоссальные средства, выделяемые на проведение избирательной кампании. Робинсон одинаково презирал негров, арабов, евреев, представителей левых движений. Точнее, он презирал всех и был убежден, что практически из любого человека, как из глыбы, можно при желании вылепить все, что найдешь нужным. Положение республиканцев в те дни было не из лучших. Страна одну за другой сдавала свои позиции: сегодня во Вьетнаме и Анголе, а завтра, глядишь, то же самое произойдет на Ближнем Востоке и в Европе. Уж кто-кто, а Джон Робинсон знал, как делается большая политика: заверения в дружеских чувствах хороши для публичных выступлений, а за кулисами используются все возможные средства — убийства, шантаж, взятки. — Вы уже получили необходимую информацию? — спросил Бен Слиман. — Мои люди сейчас этим занимаются. Но у нас не хватает средств. — Возьмите. — Слиман достал из портфеля чек на десять миллионов долларов, выписанный на «Импорт трейд компании. Эта фиктивная компания, с помощью которой республиканцы осуществляли различные секретные операции, служила своего рода прикрытием. — Достаточно? — Пока да. — Я только что расстался с миссис Сатрапулос. Мы вместе летели в Нью-Йорк. — И? — Не думаю, что она готова сделать то, чего мы от нее ожидаем. Эта вдовушка производит впечатление весьма легкомысленной особы. Боюсь, она попросту не сумеет… — Она — возможно. Но не люди ее клана. Положение у нас сейчас не из лучших. Опросы показывают, что мы здорово отстаем от демократов. — Но до выборов еще десять месяцев. Демократы даже не назвали имени своего кандидата. — Это и нас беспокоит. Похоже, они собираются поставить на кого-то нового, на темную лошадку. — А что делать с Вдовой? — Придумаем что-нибудь. — Если мне не удастся ее обработать, сможете ли вы заставить ее сыграть против демократов? — Два моих человека подкупили одну журналистку. Они готовят досье, которое свяжет Пегги Сатрапулос по рукам и ногам. — Будем надеяться. Я лично сожалею, что приходится прибегать к подобным крайностям. Миссис Сатрапулос — очаровательная особа. — К несчастью, высшие интересы… — Увы!* * *
— Нет же, мы вовсе не хотим, чтобы какие-то безответственные экстремистские группировки наносили вред экономике нашей страны. Мы ничего не имеем против вас и уважаем ваш народ. — Бен Слиман сделал паузу и посмотрел на свою собеседницу. Это была женщина редкой красоты с волосами цвета воронова крыла и темными глазами с фиолетовым отливом. Когда она улыбалась, ей можно было дать не больше двадцати пяти лет. Но она выглядела женщиной без возраста, когда вела деловые разговоры, перемежая свою речь цифрами. Ее звали Эстер Эдлак, она была еврейкой и очень интересовала израильские спецслужбы. От Бен Слимана Эстер периодически получала огромные суммы, предназначенные для покупки оружия. Эмиры в этом случае не жалели денег, считая, что Израиль может приостановить хотя бы на время распространение в арабском мире социалистических идей. Складывалась парадоксальная ситуация: одни арабы передавали Израилю крупные средства для борьбы с другими арабами. Бывали случаи, что один и тот же поставщик оружия за деньги, полученные от Бен Слимана, одновременно выполнял заказы и той и другой стороны. — Мне нужно идти, — сказала Эстер. Она ненавидела Бен Слимана всей душой. Чек, который он только что дал ей, жег Эстер руки. Но она не швырнет его в лицо этому мерзкому типу. Его деньги помогут ее народу уничтожить как можно больше арабов, похожих на Бен Слимана. Она потянулась за своей шубой и не видела, как сановный хозяин апартаментов вожделенно сглотнул слюну, восхищаясь округлостью ее бедер, туго обтянутых джинсами. Он многое отдал бы, чтоб… — Послушайте… — начал он. Эстер обернулась и холодно спросила: — Что еще? Бен Слиман уже открыл было рот, но передумал и пробормотал что-то невнятное: — Нет… Ничего… Извините. — До свидания. — До свидания. Эстер вышла, неслышно закрыв за собой дверь. Бен Слиману оставалось только уложить вещи, в аэропорту Кеннеди его ожидал «боинг». И вдруг память подсказала ему афоризм, который он хотел записать перед приходом Али Гануна. К сожалению, едва он взял ручку, как в мозгу всплыло, вытесняя все остальное, воспоминание о бедрах Эстер. Какие уж тут мысли! — Ну вот! — разозлился он, думая о будущих поколениях, которые так и не узнают, что они потеряли.* * *
Едва Нат успела лечь в постель, как зазвонил телефон. Пегги немедленно хотела видеть подругу. — Дорогая, я только что приняла снотворное, — пыталась объяснить Нат. — Давай лучше встретимся завтра. — Бери такси и побыстрее приезжай! Нат натянула брюки, затолкав в них ночную сорочку, закуталась в шубу, взяла ключи и, отчаянно зевая, вышла. Она не могла отказать Пегги, чувствуя себя виноватой перед ней за случившееся на острове Калленберга, и десять минут спустя уже была у ее двери. — Сделай мне кофе, дорогая. Я сплю на ходу. А что, собственно, случилось? Пегги сняла трубку внутреннего телефона. — Эмили, чашку крепкого кофе. — И, повернувшись к Нат, добавила: — Да проснись ты, я оказалась в безвыходном положении. — Что? — спросила Нат, превозмогая зевоту. — Если б ты только знала, что со мной происходит! — Рассказывай… — Тебе известно, что я побывала в Баране. А кстати… Подожди минуточку. — Пегги повернула висевшую на стене картину Дега, за которой скрывался сейф, набрала шифр и достала оттуда футляр. — Взгляни-ка. Нат привычным жестом открыла крышку и ахнула: — О! — Глаза у нее загорелись. — Откуда у тебя эта прелесть? — От эмира Барана. — Твой эмир знает толк в красивых вещах! — Пальцы Нат с хищной нежностью перебирали бриллиантовые звезды ожерелья. — Надень его, — предложила Пегги. — Иди полюбуйся на себя. Нат кинулась к зеркалу. — Потрясающе! Оно великолепно смотрится даже на ночной сорочке. Да, арабы умеют жить. — Это тебе не Джереми! — В голосе Пегги прозвучала злорадная нотка. — Кретину пришло в голову ждать меня в аэропорту. Одного не понимаю, откуда он узнал обо всем? — Чего он хотел? — Все того же. Выборы… Чтобы я не высовывалась… Нат, скажу прямо, — она чеканила слова, — я больше так не могу! Надоело потакать им! Я задыхаюсь! Когда был жив Сократ, меня ничто не волновало. Я только ставила свою подпись. И все. В комнате воцарилась тишина. Нат опасалась, не напомнит ли имя Грека об их недавней ссоре. Пегги тогда пришла к ней злая, мертвенно бледная и обрушила на нее град упреков, считая, что подруга расстроила ее брак. В тот вечер они чуть было не стали врагами. Но Нат отвечала на оскорбления ледяным молчанием. И Пегги вскоре выдохлась. Потом они долго вдвоем обсуждали, кто же мог подложить такую свинью. Но это так и осталось тайной, несмотря на целую армию детективов, которым подруги поручили расследование. — Со Скоттом тоже… — продолжала Пегги, догадавшись, о чем думала Нат. — Скотт был поприжимистей. — У него не было выбора. Ему приходилось платить мои долги. Но его отец, вот тот не считался с расходами! Знаешь, сколько он мне дал, чтобы я не подавала на развод перед президентскими выборами? Миллион долларов. Тихо постучав, вошла Эмили с дымящимися чашками кофе на подносе. За пятьдесят долларов в неделю (плюс еда, жилье и одежда) она была обязана никогда не выбрасывать остатки обеда или ужина, затыкать початые бутылки, пока их не перельют в другую емкость, штопать порванные чулки хозяйки. В праздничные вечера они с Муди имели право доесть то, что оставалось от гостей. Сейчас Эмили хотелось только одного — скорее уйти отсюда и лечь спать. — Я вам еще нужна? — Да. — Слушаюсь. Вам стоит только позвонить. Пегги подождала, пока горничная выйдет, и затем бросилась к Нат. — Я на мели, понимаешь? У меня нет ни гроша. — Как так? — Ты единственная, кому я могу признаться, а ты не веришь! Только ювелиру в Афинах я задолжала двести тысяч долларов. Кто это оплатит? Где я их возьму? — Правда? — Ну да! А мой гардероб? — Как? Разве Гений не одевает тебя бесплатно? — Не могу же я постоянно носить его модели. Последняя коллекция Аттилио просто ужасна! А сколько я должна в Риме и Париже! Нат удивленно приподняла брови. — И они смеют брать с тебя? — Не все, конечно. Но некоторые — да. — Ну и наглецы! — Знаешь, на какие деньги я живу? На триста тысяч в год. Ты смогла бы? — Нет. — Представь, я тоже не могу. — Да, это ужасно! Но почему бы тебе не обратиться к Балтиморам? — Когда дело касается денег, они делают вид, что не понимают. — Пригрози им, что напишешь мемуары. — Мне еще дорога моя шкура. — Ты шутишь? Они не посмеют. — Я для них кобыла, которая произвела на свет будущих королей этой проклятой династии! Моя миссия окончена, и теперь я им мешаю… Вот если бы я ушла в монастырь, они были бы счастливы. И это еще не все. Меня очень беспокоит Чарлен. Я наняла сыщиков, чтобы проследили за ней. — Боишься, что она спит с парнями? — Нет, на этот предмет я спокойна. Слишком она нескладная. Кто на нее позарится? Ни фигуры, ни грации — как мешок! — С возрастом изменится. — Не думаю, она всегда была некрасивой. А тут узнаю, что она связалась с бандой молодых кретинов, мечтающих перестроить мир. — Ей же еще восемнадцати нет. — Боюсь, что она употребляет наркотики. Они все теперь курят. Девчонки, едва исполняется тринадцать лет, уже ходят с сигаретой в зубах! И с ней такое могло случиться. Пегги закурила, нервно затянулась и тут же раздавила сигарету в пепельнице. — Извини, Нат! Целый вечер тут плачусь. Но я не для этого тебя позвала. Знаешь, у меня возникла идея, как одновременно убить двух зайцев. Имеется в виду — поправить свое финансовое положение и отравить жизнь семейке первого мужа. — И что же ты надумала? — спросила Нат. — Выйду замуж. — Но за кого? — Еще не знаю. Рассчитываю на твою помощь. Картотека у тебя еще хранится? — Конечно! — Где она? — В моем банке, в сейфе. — Привези ее завтра утром. Я даю себе два месяца, чтобы стать миссис какой-то там… И ни дня больше!* * *
Люси Мадден решила пойти немного отдохнуть. Три часа кряду Гордон и Грант допрашивали ее с такой дотошностью и профессионализмом, что ее первоначальные подозрения только укрепились: парни эти, конечно же, не журналисты. Похоже очень, что они работают на какую-то секретную организацию. И это надо выяснить. Итак, если подвести итог, ей известно, с кем она имеет дело. Они, судя по всему, тоже не дураки и вряд ли искренне верят в то, что им удалось ее провести. С грацией бегемота она плюхнулась на свое ложе, прогнувшееся под ее весом. В противоположность многим женщинам, Люси начала свой путь к славе не в кровати, а под кроватью. Этот необходимый в спальне предмет сыграл роль символа как в ее профессиональной карьере, так и в ее фантазиях. Что касается фантазий, то особым смыслом было преисполнено — «в кровати», ибо и в шестьдесят два года она оставалась девственницей и, считая себя чуть ли не мученицей, с горечью думала, что другого ей не дано. Сколько раз по ночам, несмотря на страх, Люси оставляла дверь в квартиру открытой в надежде, что кто-нибудь зайдет и изнасилует ее. Но годы шли, а ей так ни разу и не удалось покувыркаться с парнем «в кровати». Зато повезло в другом: однажды, спрятавшись «под кроватью», Люси получила возможность поприсутствовать при шалостях, так сказать, одной известной супружеской пары. Она сделала из этого свою первую статью, послужившую трамплином к ее будущей блистательной карьере. Как давно это было — еще в тридцатые годы. — Шлюха! Шлюха! — Заткнись, маленький негодяй! Так обращался к престарелой девственнице ее любимый попугай Артур. Он жил в спальне хозяйки и мог наблюдать ее в самые интимные моменты бытия. Слова, которые он выкрикивал, приводили ее в экстаз, поскольку в своем сексуальном развитии Люси не продвинулась дальше четырехлетнего возраста. Стоило Артуру обозвать ее шлюхой, как она безумно возбуждалась, отдавая тело в полную власть пьянящим, сумасшедшим грезам, которые завершались тем, чем должны были завершиться, хотя она и не позволяла себе прикосновений к эрогенным зонам. Нет, не совсем так. Она переворачивалась на живот и прерывистым голосом гудела: «Маленький негодяй!». — Шлюха! Шлюха! — И Люси впадала в странный транс, сопровождавшийся неистовым трением живота о простыни. Под предлогом работы над статьей о порнографии Люси частенько поручала своим секретаршам покупать ей непристойные журналы. Но в то же время она сгорала от стыда при одной только мысли, что могли подумать эти девчонки. Вдруг они догадаются, что журналы нужны ей лично? Люси растерянно пожирала глазами страницу за страницей. Господи! Она и предположить не могла, что подобные позы существуют в действительности. Наконец, пресытившись до отвращения и вся дрожа, она снова начинала ворковать: — Артур! Маленький негодяй! — Шлюха! Шлюха! Как всякая женщина, проповедующая феминизм, Люси презирала представительниц своего пола. Презирала потому, что походила на них, живя в неосознанном ожидании того, чем Творец — увы! — не одарил ее. Ненависть, которую она испытывала к мужчине-самцу, по силе была соизмерима лишь с подавляемым в себе желанием. В молодости раза два-три ей подворачивался случай, и она могла бы… если б захотела. Но позволить, чтобы в тебе видели только предмет вожделения? Нет, никогда! И Люси, сама того не заметив, стала просто предметом. — Негодяй! Маленький негодяй! — Грязная шлюха! — вяло прокричал попугай, занятый чисткой своего клювика. Люси лежала, размышляя, не достать ли ей из сейфа «папку для журналов». До чаепития оставался час, и можно еще, пожалуй, успеть… Но зазвонил телефон. Это оказался Гений. Его она еще как-то терпела, потому что Аттилио боялся ее. — Джованни! Я от тебя не отстану. Рассказывай немедленно, что мы, женщины, будем носить в этом сезоне? Слушая объяснения Гения, она зажала трубку рукой и бросила Артуру: — Негодяй! — Шлюха! — Я потрясена! — Эти слова были обращены уже к Аттилио. — Где вы только находите эти идеи? Люси свободной рукой потянулась к лежащим на столике шоколадкам, загребла пятерней горсть и запихнула в рот. Не переставая жевать, она продолжала вставлять реплики: — …неужели… вы не шутите?.. восхитительно… И вдруг она поперхнулась, проглотив, не жуя, целую шоколадку. — Но она же разорит вас! Вы с ума сошли! В ответ Аттилио заговорил так быстро, что Люси не удавалось вставить ни слова. Наконец он замолк, и она сказала уже нормальным тоном: — Секундочку, я помечу… Конечно же, буду! Информация была из первых, как говорится, рук. Итак, через восемь днейГений представит свою новую коллекцию под названием «Кибернетика». Но не это в его сообщении было главным. Ошеломляющей оказалась вторая новость: Аттилио нанял Вдову! Да еще пригласил эту дуру председательствовать на презентации коллекции! — Шлюха! — пискнул попугай. — Заткнись! — Хозяйку Артура теперь волновали другие проблемы. Она немедленно напишет самую ядовитую за всю свою карьеру статью. По рукам от волнения прошла дрожь. Люси, чтоб попугай не отвлекал ее, набросила на клетку черный сатиновый чехол. — Гаденыш! Но Артур, несмотря на внезапно наступившую ночь, не сдавался и напоследок возмущенно выкрикнул слабеющим голоском: — Грязная шлюха! На это Люси со злорадным ликованием ответила: — Это Пегги — шлюха, а не твоя мамочка! Она ринулась к пишущей машинке и жестом пианистки распрямила пальцы. Вдова получит великолепный «подарок» — ведь статья выйдет в день презентации коллекции Аттилио. Она перестанет быть Люси Мадден, если Пегги сумеет подняться после такого удара! Пальцы Люси легли на клавиши. Она колотила по ним с такой яростью, словно за каждой из букв скрывалось ненавистное лицо ее жертвы.* * *
— Я не могу на тебя так смотреть… Не двигайся. Я сейчас сделаю то же самое. Несколько лет назад Нат приобщила подругу к занятиям йогой. Пегги, не способная к какому бы то ни было творчеству, обладала тем не менее удивительным даром адаптации и имитации. Ей было в высшей степени безразлично, с какой целью люди всем этим занимаются, ее попросту задевало, что кто-то мог управлять своим телом лучше, чем она. — Не торопись! — посоветовала Нат. — Потихоньку! Вот уже добрых пять минут она стояла на голове. Это, по ее мнению, благотворно влияло на ее мозговое кровообращение. Подруги основательно устали, разбирая картотеку, собранную Нат. Карточки были заведены примерно на двести лиц мужского пола и очень напоминали полицейские досье. Почти каждый из упомянутых людей был довольно известен, и всех объединяли, независимо от возраста и национальности, размеры их состояния. В этом списке мог фигурировать только тот, кто владел капиталом не менее чем в сто миллионов долларов. Это, по грубым подсчетам, давало годовой доход в десять миллионов. Только на такие деньги можно прожить безбедно. — Теперь все в порядке, я тебя вижу нормально. — Пегги тоже стояла на голове, и ощущение было таким, будто сила тяготения неожиданно стала действовать в обратном направлении. Голова, как ей казалось, упиралась в потолок, а ноги свободно раскачивались в пустоте в трех метрах от люстры, привинченной почему-то к полу. Нат всегда жила на доходы своих настоящих и бывших мужей, как живут те, кто делает деньги на случке беговых лошадей. Ей понадобилось лет двадцать, чтобы собрать картотеку возможных претендентов в мужья. Зато теперь достаточно было одного взгляда на эти записи, которые уточнялись изо дня в день, чтобы точно знать, кого, где и как можно загарпунить. Мужчины в ее глазах были настолько глупы, что легко становились добычей умной женщины. Интуиция еще ни разу не подводила Нат, она всегда безошибочно выходила на того, кто обогатит ее и сделает вдовой. Из восьми ее очередных мужей четверо уже отправились в лучший мир — кто от старости или по болезни, кто от злоупотребления алкоголем, а кто и от чрезмерного тщеславия. Такое случилось, например, с Гэсом Бэмбилтом, который, будучи мертвецки пьяным, нырнул в бассейн на семьдесят втором этаже принадлежащего ему небоскреба. — Еще кофе? — Да. Не меняя позы, Нат протянула руку и нажала спрятанную под ковриком кнопку. Тут же появился ее камердинер, которому пришлось согнуться в три погибели, чтобы посмотреть в лицо хозяйке. — Сэм, подай кофе. — Слушаюсь. — Ай! — застонала Пегги. — Судорога… — Не делай резких движений. Разворачивайся постепенно и прими позу зародыша. — Мне не стоило вообще из нее выходить. — Ну что, снова возьмемся за работу? — Нат разогнулась и встала. Ее стратегическое оружие разместилось на широком кожаном диване. Помимо имени и даты рождения потенциального кандидата в мужья в карточке давалась подробная информация о его родословной и наследниках, болезнях и несчастных случаях, физических данных и сексуальных предпочтениях, вкусах и увлечениях. Указывались адреса его банков, размеры состояния в наличных деньгах, перечислялись объекты движимости и недвижимости, которыми он владел, прилагалось полное описание его коллекций. Последний пункт, не очень интересовавший Нат, содержал перечень почетных званий кандидата. Это при необходимости давало возможность войти в среду, где вращались самые состоятельные люди. Пегги взяла три отобранные карточки, еще раз задумчиво на них посмотрела и неуверенно покачала головой. — Этих троих я знаю. Особого восторга они не вызывают. У тебя нет ничего другого? — Думается, в твоей ситуации они очень даже годятся. Сэм принес кофе. Нат и Пегги сделали по глотку. — Лучше Арчибальда Найта, уверяю, ты не найдешь. — С какого он года? — Родился 13 февраля 1889 года под знаком Водолея. — Но ведь ему… — Ну и что? Какая разница? Лучше послушай… Свой первый миллион Найт заработал в 1919 году на обмундировании для американской армии, высадившейся во Франции в конце первой мировой войны. И вообще, чего он только не производил! В промышленных кругах ему дали кличку «Спрут». — Да знаю я все это. — Его настоящее состояние оценивается в миллиард долларов. Физических недостатков нет, только легкая хромота — следствие падения с лошади. Вегетарианец, алкоголя не употребляет. Жена умерла тридцать лет назад. Сыну шестьдесят семь лет. — Ничего себе! Хороша я буду в роли мамочки такого «бутуза»! — Не беспокойся. Им занимаются няни. Найт держит его в клинике для умственно неполноценных. — А если папочка умрет, он унаследует его состояние? — Чепуха! Дебилы лишены права наследования. Я узнавала… — Ты уверена? — Когда-нибудь я теряла время зря? Ну-ка, взгляни, это что-то новенькое. Наш Арчибальд, оказывается, извращенец. — Что?! — Больше ничего нет, только одно слово — «извращенец». — Но как это понимать? Он визионист, педераст, мазохист? Бьет плеткой маленьких девочек? Четвертует маленьких мальчиков? Или бегает на четвереньках? Мне нужна точная информация о человеке, с которым придется иметь дело. Нат расхохоталась. — Если все пойдет по плану, скоро узнаешь. Не перебивай. Он получает колоссальные дивиденды с капитала, вложенного в банки, биржи, в текстильную и тяжелую промышленность. Коллекционирует художников Возрождения. Владеет скульптурами Якопо делла Кверча, Поллайоло, Верроккьо, картинами Перуджино, Мантеньи, Беноццо Гоццоли и т. д. Двадцать два сантиметра… — Что ж, похоже, Найт именно тот тип, который может отравить жизнь Балтиморам. Он похож на них! Кто второй? — Менее известен, чем Арчибальд, но его состояние столь же внушительно… Сильвио Торрико, родился в 1901 году в Портофино, сын местного судовладельца. Пробовал разные профессии. Владеет самыми крупными автомагистралями. Платит налоги с восьми миллионов долларов ежегодного дохода. Одержим игрой: карты, рулетка, скачки, бокс. А вот и маленькая закавыка! Содержит нескольких любовниц, не жалея на них денег. Пегги пожала плечами. — Шлюхи. — Вдовец. Холост в настоящее время. Детей нет. Восемнадцать сантиметров. — Достаточно! Давай третьего. Этот, по крайней мере, родился… — Джон Дерутланд. Пэр королевства Англия. Герцог. Владеет заводами по производству резины. Имеет плантации в Бразилии, охотничьи угодья в Южной Ирландии. Коллекция семейных драгоценностей, имеющих историческую ценность. Кстати, его род ведет свое начало с 1008 года, и если они ничего не распродали… Яхта «Эль-Негро» с экипажем в тридцать человек. Родился 12 марта 1922 года. Разведен с леди Пенелопой. Дивиденды в тяжелой промышленности. Роскошный образ жизни. Двенадцать сантиметров. Пегги нетерпеливо махнула рукой. — Да уймись ты со своими сантиметрами. Можно подумать, что у тебя это мания. Нат бросила на нее удивленный взгляд. — Ты вышла бы замуж, не зная заранее, какой член у твоего будущего мужа?* * *
У Фредди замерзли ноги и совсем онемели руки, но по коридору, несмотря на поздний час, все еще шныряли какие-то подозрительные личности. Когда они появлялись, детектив делал вид, что вышел от кого-то и направляется к лестнице. Нико остался внизу, в машине, там было тепло и работало радио. Хорошо, если ему не пришло в голову смыться в другой, менее опасный квартал. После полуночи редко кто осмеливался появляться на улицах Гарлема. Фредди сделал еще одну попытку — подкрался на цыпочках к двери, из-под которой виднелась полоска света. Внезапно свет в коридоре погас, и в наступившей темноте стал явственнее ощущаться тяжелый тошнотворный запах, идущий от лестничной клетки — запах застарелых окурков, выставленных у входа пакетов с мусором и пищевыми отходами. Ко всему этому примешивалось еще что-то, чего детектив не мог определить. Когда глаза привыкли к темноте, Фредди увидел, что лучик света пробивается через замочную скважину. Нагнувшись, он заглянул в нее. Через отверстие для ключа он заметил часть кровати, на которой лежали четыре ноги: нога мужчины, нога женщины, опять нога мужчины и снова женщины. Ничего больше разглядеть не удалось. Только ноги, и то — до икр. Может, они вовсе не голые? Но вдруг ноги исчезли… И на какую-то секунду в поле зрения Фредди появился высокий парень с волосами цвета спелой соломы. Совершенно голый. Что ж, все ясно. Детектив помчался вниз по лестнице. Бьюик с выключенными фарами стоял у перекрестка. Он дернул дверцу, но она оказалась закрытой. Тогда Фредди постучал в стекло и прижался к нему лицом, чтобы Нико мог узнать своего. — Где тут поблизости открытый бар? Двигай! — Горит, что ли? — Они в постели. Голые. — Ну и что ты собираешься делать? — Позвоню ее матери. — У тебя с головой не в порядке. Взгляни на часы! — Ну и что? Она велела мне звонить в любое время, хоть днем, хоть ночью. — Это так говорится… Сейчас уже два часа ночи! — Трогай! Остановись, где открыто. Я все же позвоню! Тяжелый «бьюик» сорвался с места, проскочил на красный свет и повернул направо.* * *
Рони Бейли был писателем. По крайней мере, так считал он сам. А точнее, хотел им стать. Несколько написанных Рони романов так и остались лежать на полках, их никто и не думал покупать. Разве он виноват, что его книги не были косноязычным сиюминутным чтивом, которое с помощью ловких дельцов чаще всего попадает в бестселлеры. Если бы он только захотел! Успех других казался ему дутым, легковесным, иными словами — незаслуженным. Терпение! Рони писал не для кретинов-современников. Когда угаснут эти мимолетные светлячки — жертвы собственной ничтожности! — потомки оценят творчество Рони Бейли. Его книги на законных основаниях попадут в университетские программы, а школьники станут изучать родной язык по его произведениям. Конечно, он не сможет насладиться своим триумфом — его уже не будет на свете. Ну и что из того? Разве не жили в нищете Селин, Амброз Бирс и Рембо? Время, однако, шло, а признание не приходило, и у Рони поубавилось уверенности относительно лучезарного будущего. Восторженные отзывы немногих друзей уже не могли снять годами копившуюся в нем злобу на тех бездарных выскочек, которые наживались на огромных тиражах своих книг. Короче говоря, эти свиньи жили, ели, путешествовали, ничуть не сомневаясь в своем будущем. Правда, у него еще была Пегги… Эта женщина, которую все считали легкомысленной, морально поддерживала его как никто другой. Десять — двенадцать страничек текста, над которыми он работал неделями, вызывали у нее именно такую реакцию, какую он и ожидал. Пегги искренне восхищалась его изысканным стилем, по нескольку раз перечитывая цветистые, исполненные глубочайшего смысла фразы, которые, по ее мнению, доходили прямо до сердца. К несчастью, хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать тех, кого, кроме Пегги, интересовали литературные опусы Рони. «Конечно, — размышлял он. — Даже образованные люди теряются в моем обществе. Как это тяжело — носить в себе такое интеллектуальное богатство и делить его лишь с горсткой избранных». Его рука потрогала в кармане две сложенные вчетверо странички. Найдет ли Пегги время прочитать их? По стажу Рони был самым давним ее любовником. Когда она хотела его видеть, то звонила в любое время суток. И он тут же являлся. Иногда она, голая, сразу кидалась к нему навстречу, прежде чем Рони удавалось сказать хоть слово. Два часа ночи… Нет, она, конечно же, позвала его ради «этого», а вовсе не затем, чтобы обсуждать его творения. Поднимаясь на сорок третий этаж, Рони с горечью думал, что по большому счету между ним и вибромассажером особых различий не было. Единственное отличие заключалось в том, что он мог говорить, а вибромассажер просто гудел, выполняя свои функции. С ним Пегги можно было ничего не опасаться. Все происходило без всякого риска, так сказать, стерильно. Раздевание, постель, ванная, мыло, халат… Рони нажал на кнопку звонка. Ему открыла взволнованная и совершенно одетая Пегги. Не ожидая, пока за ним закроется дверь, она вернулась к телефону. Рони хотел было взять лежащие рядом на столике карандаш и блокнот, но она не позволила. — Повторите адрес! — Пегги быстро записывала. — Сейчас приеду. — И, повернувшись к Рони, выпалила: — Неприятности с дочерью. Мне очень жаль, но сегодня ты не можешь остаться, я должна привезти ее домой. Натянув пальто, она схватила сумочку, ключи и, не дожидаясь ответа, выбежала в холл, вскочила в лифт. Оттуда донесся ее голос: — Захлопни дверь, когда будешь уходить!* * *
— Это здесь. Третья дверь по коридору. Может, мне войти первым? Пегги, не отвечая, шла вперед. Нико и Фредди семенили позади. Нико предложил еще раз: — Может, мне войти… Она рассеянно глянула на детективов, словно видела их в первый раз, и категорически бросила: — Убирайтесь! Они нерешительно топтались в коридоре, не зная, что делать. Пегги постучала в дверь. — Пошли, — шепнул Фредди Нико. — Подождем внизу. — И они побрели на лестничную площадку. Сердце у Пегги колотилось так, что казалось, еще секунда — и оно выскочит из груди. Кипя от злости, она решила надавать пощечин этому мерзавцу, а Лон за уши притащить домой. А что будет потом? Дверь приоткрылась… Сначала показалась прядь золотистых волос, потом лицо с поразительными голубыми глазами, которые округлились от удивления, но в ту же секунду сузились в щелочки от улыбки, которую парень никак не мог сдержать. Потом дверь распахнулась, и Пегги увидела убогую комнатушку, главным украшением которой была кровать, а на ней лежала нагая Лон. У Пегги защемило сердце. Но прежде чем она опомнилась от изумления, парень прыснул со смеху. Да он чокнутый, этот тип! Придерживая обмотанное вокруг бедер полотенце, он с трудом произнес: — Лон! Твоя мать! Твоя мамуля! Лон приподнялась и устремила неподвижный взгляд прямо в лицо матери. Вся ее поза выражала решительность, которой раньше за ней не замечалось. — Одевайся! — скомандовала Пегги. Дочь не шелохнулась. А дальше стали происходить совсем уже невероятные вещи: парень преспокойно улегся в постель рядом с Лон. И Пегги растерялась. — Зачем? — спросила Лон. — Поедем домой! — О каком доме ты говоришь? У меня его нет. — Чарлен, ты поедешь со мной немедленно! А этот мерзавец пусть убирается! — Еще чего! — лениво огрызнулся Квик и спокойно закурил. — Я у себя дома. Или почти что дома. — Чарлен! — крикнула Пегги дрожащим голосом. — Ты хотя бы отдаешь себе отчет? — В чем, мама? — Ты все сказала? — заорала Пегги. Изумление уступило место бешеной ярости. Ее дочь, еще вчера сосавшая соску, сегодня валялась в этой мерзкой комнате с уличным бандюгой! Она бросилась к Лон, сдернула простыню и схватила негодяйку за руку. — Эй! — вмешался Квик. — Не надо так нервничать. — Шлюха! Потаскуха! А ты заткнись! Я тебя за решетку отправлю. Она размахнулась, чтобы ударить Квика, но тот небрежно парировал удар. — Не вмешивайся, Квик, — попросила Лон. — Я ухожу. — Почему? Это ей надо уйти. — Что?! — опять закричала Пегги. — Сволочь! Бандит! Лон без всякого стеснения стала одеваться, а взбешенная, растерянная Пегги старалась заставить себя не смотреть на нее. — Давай сюда твои документы! — повернулась Пегги к Квику. И вдруг представила себе, какой смешной она выглядит в глазах этого блондинчика, спокойно курившего сигарету. А Чарлен, невозмутимая и равнодушная, вела себя так, словно спектакль, который разыгрывала мать, не имел к ней никакого отношения. — Вы случайно не из полиции? — поинтересовался Квик. — Негодяй! Ты обо мне еще услышишь! Чарлен, ты готова? — Почти. — Лон, — обратился к девушке Квик. — Хочешь я ее выведу? — Не надо. Я сама все улажу. Ошеломленная Пегги не верила своим ушам. Господи! И это говорит ее дочь! Сама себе она казалась случайным свидетелем какого-то очень важного события, главным участникам которого было наплевать на ее присутствие. Она машинально взяла протянутую Квиком сигарету, но тут же опомнилась и, швырнув ее на пол, выбила у него из рук пачку. — Вам повезло, что вы ее мать, — сказал Квик улыбаясь. — Я готова, — повернулась к ней Лон. Пегги широко распахнула дверь. Дочь не спеша подошла к Квику, обвила его шею руками, что-то зашептала на ухо. Квик одобрительно кивнул и поцеловал ее в нос. Это было уж слишком! Пегги в эту минуту показалось, что она попала на неизвестную планету, где существовали неизвестные ей законы и правила игры, где ее воля и желания ровным счетом ничего не значили. — Да идешь ты наконец? — зашипела она на Лон. Ничего себе положеньице! Вместо того чтобы показать свою власть, она растерянно стоит и ждет, когда ей позволят уйти. Мать и дочь вышли в коридор, пропахший вареной капустой. — Иди впереди! — командовала Пегги. — С завтрашнего дня ты уже никуда не выйдешь. Лон пожала плечами и стала спускаться по лестнице. А Пегги, двигаясь за ней шаг в шаг, не могла отделаться от мысли, что она не лучшим образом сыграла роль. Раньше ей и в голову не могло прийти, что бывают ситуации, когда и в собственных глазах приходится выглядеть законченной дурой. (обратно)Глава 4
— Вы как всегда прелестны. — Всегда? — Точнее вечно. И почему я на вас не женился? — Думаете, я бы согласилась? — Кто знает? Может быть, придут времена, когда я буду в расцвете лет… Они оба улыбнулись шутке. Что восхищало Нат в Арчибальде, так это его чувство юмора. Через несколько месяцев ему стукнет восемьдесят восемь, но, несмотря на возраст, от него исходило какое-то странное очарование. Правда, так бывало не всегда. Временами Нат замечала, как его взгляд вдруг затуманивался и Арчибальд становился похожим на мумию. Моменты отрешенности длились, как правило, не больше четырех-пяти секунд и очень редко — секунд десять. Затем в нем вновь вспыхивало пламя жизни и начинали блестеть глаза. Одно ласковое слово, и его губы растягивались в слегка иронической улыбке, а симпатичные ямочки на щеках делали мягче жесткие черты лица. «Как он великолепно выглядит, — думала Нат. — Стройный, сухощавый, ни капли лишнего веса, всегда безупречно элегантный. В нем все, даже морщины, лишь подчеркивает неуемную жажду жизни и по-юношески задорную манеру поведения». Соперники Арчибальда Найта утверждали, что он питается кровью своих сотрудников. Своей неутомимой энергией он изматывал тридцатилетних, выжимал из них все соки, ошеломлял цифрами. Найт мог разбудить любого из них звонком среди ночи, чтобы пожелать приятных сновидений. Он держал свою команду под колпаком, не давая возможности расслабиться. Бывали дни, когда его подчиненные не имели ни минутки свободного времени чтобы сбегать перекусить или, скажем, завернуть в туалет, словно самому Арчибальду эти естественные потребности были совершенно несвойственны. Он мог в один и тот же день вызвать к себе поочередно с десяток директоров предприятий и устроить им разнос. Те покидали его кабинет подавленные, внезапно постаревшие и выглядели в эти минуты гораздо старше, чем шеф. — А вы еще способны покорять женские сердца! — сказала Нат. — Бог с вами! Такой старик как я! — Вы мне не верите? — Скажите, о ком вы ведете речь, и мы посмеемся вместе. — Угадайте! — Английская королева? — Пегги Сатрапулос. В его глазах вспыхнули лукавые огоньки. — Она все еще Сатрапулос? — Конечно, она же вдова. — Разве она не вышла замуж? Я когда-то хорошо знал ее бывшего свекра, старого Балтимора. Нат, не выдержав, хихикнула. — Вас рассмешило слово «старый»? Вы правы, он был моим ровесником. Да, полвека отделяет нас от вашего поколения. Я даже преуменьшил… Скажем, век — и на этом точка! — Должно быть, это потрясающе… — О чем вы? — Достичь вершин власти и почивать на лаврах. — Ну что вы, такая юная, можете знать об этом? — Довольно много. — Вы преувеличиваете… — А вы, оказывается, пессимист. — Скорее реалист. — Не скажите! Ваша репутация свидетельствует совсем о другом. — Богатым часто приписывают многое из того, чего на самом деле нет. «И стараются им побольше продать», — мелькнуло в голове у Нат. Ходили слухи, что в бронированных подвалах принадлежащего Найту ранчо хранятся бесценные творения искусства, которые, кроме Арчибальда, никто никогда не видел. Поговаривали и о том, что он не имел привычки при покупке той или иной картины интересоваться, откуда она взялась. К музеям Найт относился с презрением, считая, что тупые взгляды невежд оскверняют шедевры искусства. Разве может возникнуть у нормального мужчины желание выставить напоказ перед слугами обнаженное тело собственной жены? Он был убежден, что высшее наслаждение от созерцания шедевра можно получить лишь тогда, когда остаешься с ним один на один. А это возможно при условии, если ты им владеешь. Никто не мог похвастаться тем, что когда-либо спускался в «пещеру» этого современного Али-Бабы. А из церквей и музеев по-прежнему ежегодно исчезали навсегда картины и драгоценные реликвии. — Ваша подруга имеет отношение к выборам? — Вот уж нет. Из-за политики она уже потеряла своего первого мужа. — Да, он был вполне приличным молодым человеком. Старики остаются жить, а молодые умирают. Это несправедливо. — Старый тот, кто умирает первым. В серых глазах старика мелькнул огонек. — Ну-ка, ну-ка, это интересно. Повторите! Это ваша мысль? — Нет, армянская пословица. В салон вошел камердинер и молча поклонился. — Разрешите пригласить вас к столу, — сказал, поднимаясь, Арчи. — Все уже готово. Нат встала и прошла первой. Главным козырем она не без оснований считала свою фигуру и была уверена, что даже этот почти столетний старец… — Если увидите вашу подругу, передайте, что буду рад с ней познакомиться. Привозите ее сюда. Я расскажу ей нечто такое, что ее очень удивит. — А можно мне узнать этот секрет? — спросила Нат. — Нет. Он касается только нас двоих. Обещаю, что она покраснеет. События, по мнению Нат, развивались как нельзя лучше. Одной встречи хватило, чтобы заставить старца заинтересоваться Пегги. А об остальном можно не беспокоиться. Опыт и интуиция ее подруги довершат начатое ею. Спрут практически уже попал к ним на крючок! На столе в эту минуту появилась селедка на золотом блюде. И, вспомнив, до какой степени Найт был скупердяем, Нат подумала, что выиграть партию будет не так-то просто.* * *
— А если кто-нибудь войдет? — Да нет же, я запер дверь на ключ! Гений возбужденно лепетал: — Секунду… Станьте там. Я хочу посмотреть на вас сзади. Обнаженный мужчина — на нем были только плавки — послушно повернулся. — Поднимите руки и напрягите мускулы. — Послушайте… — Я очень прошу! Вы так красивы! Мужчина выполнил просьбу Джованни. Подняв руки над головой, он несколько раз напряг бицепсы. Сложен он был безупречно. Его тело, закаленное долгими часами тренировок, казалось, целиком состояло из мускулов. Особенно четко они выступали и гармонично переплетались на спине и ногах. — Боже мой! — застонал Аттилио. — Какая мускулатура! Просто невероятно! Он подошел к атлету и влюбленно погладил эту живую статую. — Эй вы! — запротестовал тот. — Поосторожнее! Уберите-ка руки. — Ну, я чуть-чуть. Вы такой… такой… Повернитесь теперь ко мне лицом. Снимите, пожалуйста, плавки! — У вас что, с головой не в порядке? — Плавки все портят, нарушают гармонию. — Вы педик? — Снимите их, снимите… — Я не из тех, кто… — Дайте я вам помогу. Вот так. Боже мой! Это невероятно! Атлет, скорее всего, был не из «голубых», но эта извращенная игра, похоже, и смущала, и одновременно волновала его. — А вдруг войдет мой приятель? — Я же сказал, что запер дверь на ключ. Давайте присядем. Вон туда, на диван. Хотите выпить? Аттилио отступил на несколько шагов и с благоговением сложил руки. — Как великолепно смотрится ваше тело на фоне этих мехов. Я все бы отдал, чтобы быть похожим на вас! — Спортом надо заниматься. — Я пробовал, но посмотрите сами… У меня очень худые ноги. Гений спустил брюки. Худые — это было мягко сказано. Его ноги были похожи на палки: лодыжки по окружности ни на миллиметр не отличались от икр. Да плюс ко всему безобразно искривленные колени. — А торс мне даже неловко вам показывать, — лепетал Аттилио, лихорадочно срывая с себя пиджак и рубашку. Насколько элегантным он казался, когда был одет, настолько жалким выглядело его тщедушное тело будучи обнаженным. Стягивая плавки, он бормотал: — Право, мне стыдно раздеваться перед вами. Честное слово, стыдно. — Кто же вас заставляет это делать? — Вам нравятся красивые галстуки? — В общем-то да. — Вот, берите, выбирайте. Нет, забирайте все! Аттилио снял с турникета несколько галстуков, обвил одним из них шею гостя и восторженно затараторил: — Как сюрреалистично! Великолепно! Затем он опустился на колени и прижался лицом к мускулистым бедрам атлета. — Вы точно чокнутый, — вяло противился парень. Но было уже слишком поздно. Когда Аттилио готовил новую коллекцию, для него не было лучшего источника вдохновения, чем любовные игры с мужчинами. Вот и сейчас, придумав какой-то предлог, он вызвал к себе в кабинет одного из дежурных пожарников. Почему-то его именно люди в форме буквально сводили с ума. Причем форма могла быть любой. Сутана, халат или спецовка — для Гения это не имело принципиального значения. Сегодня, например, ему захотелось позаниматься любовью с пожарником. Накануне Аттилио получил неприятное известие. Сегодня к работе должна была приступить его новая и престижная сотрудница — Пегги Сатрапулос, но через своего секретаря она сообщила, что в этот день будет занята. Весь персонал теперь только тем и занимался, что обсуждал это событие. — Трахни меня! — попросил пожарника Гений, которому надоело думать о неприятных вещах. — Трахни как женщину!* * *
— Теперь поговорим! Первый вопрос: ты уже, полагаю, не девственница? — А ты до сих пор не догадывалась? Пегги не знала, что и сказать. Вместо того чтобы изобразить потрясенную мать, узнавшую, что ее любимая дочь согрешила, она не решалась смотреть на Чарлен, испытывая страшную неловкость. С одной стороны, сама мысль о том, что Чарлен уже стала женщиной, невольно старила Пегги в собственных глазах, а с другой — ей очень трудно было на равных обсуждать с дочерью сексуальные проблемы. Тем более что на подобные темы они никогда не говорили. — Второй вопрос: когда это случилось впервые? — Какая разница? — пожала плечами Лон. — Я хочу знать. — Если ты так настаиваешь, то первый раз я переспала с парнем в тринадцать лет. — Как?! — А что тут такого? Думаешь, я одна такая? Господи! У Пегги в голове все перемешалось. Что говорить? Что делать? Чарлен обезоруживала ее своей искренностью. Ни гнев, ни угрозы, ни увещевания — ничто не могло вывести Лон из равновесия, скрытого под маской жестокости и простодушия. Она была такой же чистой и прозрачной, как бриллиант, и Пегги тщетно ожидала, что дочь соврет и даст ей хоть какое-то преимущество в их схватке. — Объясни, почему я до сих пор ничего не знала. — А ты меня когда-нибудь спрашивала? — Напрашиваешься на пощечину? — Если тебе станет легче… — Маленькая потаскуха! Будь жив твой отец… — Он мертв, мама. А будь жив, не стал бы вмешиваться в наши дела. — «Наши»? — Да, наши! Можно подумать, тебя это не касается. Пегги, не найдя лучшего ответа, неожиданно для себя брякнула: — И тебе не стыдно? — Ничуть. — Лон пристально посмотрела на мать своими большими желтыми глазами, отчего Пегги почувствовала себя не в своей тарелке. — А знаешь ли ты, чем все это могло кончиться? Моим заветным желанием было дать тебе достойное воспитание. — На твоем месте, мама, я бы лучше помолчала. — Что?! — Можно подумать, ты мною занималась! Спихнула нянькам и гувернанткам. Вот и вся твоя забота. — Как ты смеешь! Да как ты смеешь! — Ладно, мама. Оставь эту патетику для кого-нибудь другого. Не понимаю, почему ты выходишь из себя. Ну, я люблю парня и он любит меня. Что тут такого? Это же естественно! — Вот как ты заговорила! — А сколько раз за свою жизнь ты говорила подобное? Пегги подскочила к дочери и наотмашь ударила ее по лицу. Лон не охнула, не закрылась руками, а продолжала стоять как статуя, не отрывая от матери глаз. — Ну как, тебе полегчало? Кризис прошел? — Заткнись. — Ты все сказала? Теперь послушай меня. Трагическое представление ты уже устроила, свое неодобрение выразила. Чего еще тебе надо? Пегги прикусила губу. Больше всего на свете ей хотелось сейчас разрыдаться, но она взяла себя в руки. — Завтра я отправлю тебя в Англию, в закрытую школу. Посидишь годик взаперти, может, научишься себя вести. Шлюха! — Что ты сказала? — Шлюха! Есть вещи, которые лучше не слышать. Но Пегги услышала. Услышала, как дочь бросила ей в лицо дрожащим от гнева голосом: — Сама ты шлюха! Эти слова были для нее страшнее удара ножом в сердце. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, ноги задрожали, перехватило дыхание. Она несколько раз открывала рот, но не смогла произнести ни слова. И не было сил ни реагировать, ни защищаться. А Лон все так же бесстрастно нанесла последний удар: — По крайней мере я сплю с кем-то не за деньги, а потому что хочу этого. — Убирайся, — в голосе Пегги слышались слезы. Дочь окинула ее вызывающим взглядом и вышла из комнаты.* * *
Сказать, что Арчибальд Найт не лыком шит, было бы по меньшей мере наивно. Он родился еще до начала века, а с тех пор уже много воды утекло. На этом и попадались его противники, опрометчиво думая, что с возрастом у него атрофировались мозговые клетки и притупились зубы. Конечно, Арчи уже не работал двадцать четыре часа в сутки, как пятьдесят лет назад. Семи-восьми часов в день ему было достаточно, чтобы вести свои дела и противостоять любому — правительствам, международным концернам или политическим группировкам. Многие недоумевали: зачем ему все это? Ответ был настолько прост, что его враги никогда в это не поверили бы — Арчибальд Найт боялся смерти. Каждый вечер, укладываясь спать, он надеялся, что завтра мир будет потрясен известием о научном открытии или чудодейственном лекарстве, которые отменят этот чудовищно несправедливый вселенский закон и подарят вечную жизнь если не всем, то хотя бы ему. Другие, впрочем, мало интересовали Найта. Он жил только для себя и заботился только о себе. Единственным чувством, которое связывало его с остальными людьми, была ненависть. О его мстительности и безжалостности ходили легенды. Этот человек многие годы помнил о любом нанесенном ему оскорблении и, будучи болезненно подозрительным в бизнесе, никогда никому не доверял. Даже особо доверенным лицам редко было точно известно, что затевает шеф. Он создал множество компаний, действующих через подставных лиц, и в один прекрасный день вдруг открывалось, что соперничающая фирма, постоянно враждующая с его собственными, тоже принадлежит ему, а ее директор об этом даже не подозревает. Арчи был готов потерять сто долларов, чтобы сэкономить один, но не мог допустить, чтобы кто-то вставлял ему палки в колеса или даже попросту возражал. Убеждение, прямой обман, взятка — Найт ничем не брезговал, прибегая и к прямым угрозам, если этого требовали обстоятельства. Поговаривали, что некоторые из них не были голословными. — Джон, принесите мне досье Балтиморов и все, что имеет отношение к Вдове. Он отодвинул в сторону обзор международной печати, который ему каждый день готовила дюжина секретарей, и позволил себе улыбнуться. Настроение ему поднял неожиданный визит Нат. Он прекрасно знал, что просто так к нему не ходят: или выудить что-нибудь, или продать. Но от Арчи ничего нельзя было добиться, если он этого не хотел. Когда обманутый его доброжелательным видом визитер уже был уверен, что одержал победу, ему приходилось уходить ни с чем. Найту понадобилось всего лишь десять минут, чтобы понять, что Нат пришла продать Пегги, и еще пять, чтобы угадать причину: Вдова жаждала с его помощью насолить Балтиморам. Наконец-то провидение предоставляло Арчибальду готовую возможность сполна рассчитаться с этой семейкой за все обиды и унижения, но тот факт, что ему отводилась роль пугала, безмерно раздражал самолюбивого старика. Сказали бы ему подобное лет шестьдесят назад! — Вот требуемые вами материалы, — сказал Джон, кладя перед Найтом папку. — Это все? — Да. Арчи едва уловимым жестом дал понять секретарю, что тот может уйти, и раскрыл досье.* * *
Джереми едва сдерживал себя. Он метался по комнате, сжав кулаки. Ну и баба! Не успеешь справиться с одними неприятностями, как она подбрасывает другие. — Что ты собираешься делать? — Он внезапно остановился перед Пегги. — Даже не представляю, иначе я не была бы здесь. — Кто этот тип? — Откуда я знаю? — Ты же говоришь, что устроила за ней слежку. Что смогли выяснить твои детективы? — Почти ничего. Бродяга, который слоняется по студенческим общежитиям. Таких, как он, — тысячи. — Он где-нибудь учится? Пегги презрительно скривилась. — Собирается стать автогонщиком. — Автогонщиком! — фыркнул Джереми. — Ладно, давай его адрес. Я займусь этим. — А как мне поступить с Чарлен? — Отправь ее куда-нибудь до ноября. — Джереми… Она пугает меня. — Думаешь, ты меня не пугаешь? Ну и дела! Не мать, так дочь откалывает номера. Заметь, что с Майклом и Кристофером у нас не было никаких проблем. А знаешь почему? Потому что их воспитанием занялись мы. — Джереми, не доводи меня до крайности. Я бы на твоем месте была поосторожней. — Сама будь поосторожней! Все, что бы ты ни делала, оборачивается против нас. Я не позволю компрометировать… — Довольно! — перебила его Пегги. — С меня достаточно проблем с Чарлен. — Ты получила лишь то, на что давно нарывалась! — Прекрати сейчас же! Я больше этого не потерплю! По ее тону Джереми понял, что невестка вот-вот потеряет контроль над собой, и он решил сбавить тон. — Ты сможешь ее держать в узде? — Так мне казалось до вчерашней ночи. — Где она сейчас? — Сидит взаперти в своей комнате. Джереми злорадно ухмыльнулся. — Лучше бы ты никогда и не выпускала ее оттуда. Как думаешь, она привязана к этому типу? — Для нее важнее отравить мне жизнь. Если я помешаю Лон с ним встречаться, будет еще хуже. — Как его имя? — Эрнест и как-то там еще. Все называют его Квик. — Ты сказала — автогонщик? — Да, а что? — Хорошо. Забудь пока о нашем разговоре и на время оставь Чарлен в покое. У меня есть одна идея. Джереми замолчал на какое-то время, прошелся по комнате и со злостью добавил: — Нужно же кому-то исправлять твои ошибки! Где телефон? Хочу позвонить Белиджану.* * *
Трубка, пока он ждал соединения, бубнила монотонным голосом: «Добро пожаловать в мир сигарет «Невада». Ждите, вам ответят… Попробуйте сигареты «Невада». Нет ничего лучше, ароматнее, крепче… Это — «Невада»…» Реклама звучала в сопровождении Бранденбургского концерта. — Дерьмо собачье, — пробормотал сквозь зубы Белиджан. Он нервничал. Джереми приказал ему действовать немедленно. Дело решали минуты. А Джереми также носил фамилию Балтимор, как и его брат Скотт, чье избрание в президенты обеспечивал он, Белиджан. Он вел все секретные дела партии демократов, к которой принадлежала эта семья, занимался распределением фондов, предназначенных для проведения избирательных кампаний. Разумеется, эти суммы не фигурировали ни в каких документах. Требовалось лишь одно: держать данное тобой слово и язык за зубами. Ведь с так называемыми честными людьми, которым неожиданно приходило в голову выступить с разоблачениями или даже просто проболтаться, могло случиться всякое. Можно было умереть от сердечного приступа прямо на улице, оказаться сбитым неизвестной машиной, задохнуться в застрявшем лифте, скончаться от пищевого отравления или же случайно получить пулю в затылок во время потасовки в баре. К тому же на месте происшествия всегда болталось с десяток свидетелей, готовых подтвердить ту или иную версию. Полицию это вполне устраивало. Ей оставалось лишь закрыть дело. — Алло! Алло! — «…Попробуйте сигареты «Невада». Нет ничего лучше, ароматнее, крепче…» Белиджан раздраженно посмотрел на часы. — Черт бы вас всех побрал! Последнее время демократы вели себя не лучшим образом. Они погрязли в нескончаемых дебатах по поводу кандидатуры кандидата, которым пока и конца не было видно. А тем временем Джон Робинсон, не совершивший ни одной ошибки, действовал так успешно, что республиканцы стремительно набирали очки. Сейчас, как никогда, следовало использовать любую благоприятную возможность. — Вас слушают. — Не очень-то вы спешили. Соедините меня с Бринаном. — Президент на совещании. Вас устроит его секретарь? — Да. И пошевеливайтесь. В трубке раздался щелчок, и другой голос спросил: — Кто вам нужен? Высокомерный тон неожиданно развеселил Белиджана. — Бринан, — ответил он мягко. — Президент занят. — Будьте так добры, побеспокойте его. — Кто его спрашивает? — Белиджан. — Минутку, сейчас узнаю. — Вот-вот, и побыстрее. Через десять секунд его соединили с президентом «Невада тобакко». — Привет, дружище! Как дела? К вам есть небольшая просьба, за которую, кстати, вы позже будете мне благодарны. Когда Белиджан объяснил, чего хочет, на другом конце провода прозвучали робкие протесты. Жесткая ухмылка тронула его губы. Что значит власть. Вы приказываете, а другие исполняют. Впрочем, у Бринана не было выбора. Только сумасшедший мог позволить фотографу подкараулить себя в Центральном парке в тот момент, когда его трахал в кустах двадцатипятилетний черный атлет. А почтенному отцу семейства, занимающему такой высокий пост, было что терять.* * *
Когда Лон появилась на стадионе, гонки подходили к концу. Ей даже не пришлось покупать билет, так как служащие со всей выручкой давно ушли. Войдя в тоннель, она услышала свист и крики толпы, и у нее в груди сжалось сердце. На стадионе было несколько сотен зрителей. Повсюду валялись обрывки бумаги, пакеты, пустые банки из-под пива. Около десятка машин еще продолжали соревнование. Машина Квика, как ей помнилось, была сине-красной. Но как ее узнать? Ревущие и дымящие драндулеты, мчащиеся по кругу, были забрызганы грязью и маслом, покрыты копотью и по цвету казались абсолютно одинаковыми. В центре поля стояли изнуренные гонщики. А чуть дальше за ними виднелись белые расплывчатые пятна. «Носилки!»— промелькнуло у Лон в голове, и она не помня себя закричала: — Квик! А он спокойно сидел десятью рядами ниже, положив на колени шлем. Ветер развевал его волосы. Все это девушка увидела секундой позже, бросилась вниз по лестнице и, что называется, рухнула на скамейку рядом с Квиком. — Ты выиграл? Пожав плечами, он покрутил пальцем у виска и отчаянно выкрикнул: — Я врезался! Лон попыталась что-то сказать, но Квик жестом приказал ей молчать и в то же мгновение был уже далеко, за тысячи километров от нее. Пальцы его сжались в кулаки, словно руки были еще на руле и бросали машину в сторону, уводя от смертельного столкновения. О Лон он начисто забыл. Девушка была вне себя от счастья, что Квик рядом, что он жив и невредим. Но ей хотелось плакать от обиды — ведь даже в мыслях он сейчас был так далеко от нее. А как она металась, пытаясь выбраться из комнаты, где ее заперла мать, как боялась опоздать на эти гонки. Сколько усилий пришлось потратить, чтобы вывинтить шурупы, на которых держалась дверь, и попросту снять ее. На трассе какой-то мужчина махнул флажком. — Последний круг! — крикнул Квик. — Идем… Она не сразу поняла. Тогда он вскочил, взял Лон за руку и потянул к раздевалкам. — Сматываемся. Я только зайду забрать свои вещи. — Ты доволен? Он бросил на нее презрительный взгляд. А девушка, спохватившись, виновато пробормотала: — Ну, не сердись на меня, ладно? Я ведь только пришла и почти ничего не видела. Что произошло? Квик пожал плечами. — Это чудо, что такой кляче, какую мне дали, удалось сделать целых десять кругов. Я не получу ничего, ни гроша. — Но у меня есть деньги! — Ты — это не я! — Меня заперла мать. — И правильно сделала. Было ясно, что это упрек за ее отсутствие. — Квик… — Сволочи! — Я сказала ей,что люблю тебя. — Я вел машину как кретин. — Она требует, чтобы я перестала с тобой встречаться. — Они поимели меня еще на первых двух кругах… А потом уже тяжело было наверстывать… — Квик… Я решила жить с тобой. — Что ты сказала? — опомнился он. Как раз в этот момент к ним подошли два типа, одетые в комбинезоны с рекламой сигарет «Невада». — Вы Эрни Бикфорд? — Да, — буркнул Квик. — Ну и что? — Мы видели вас на трассе. — А, это! — он махнул рукой. — Значит, видели и драндулет, который мне подсунули. Там все было на соплях! — Возможно, — ответил тот, который повыше. — Но было не так уж и плохо. Квик недоверчиво посмотрел на него. — Что вы имеете в виду? — Вы хорошо справлялись. — Как это понимать? Издеваетесь, да? — Нам нужно с вами поговорить, — вмешался в разговор тип, который до сих пор стоял молча. — О чем? — О вас. У нас есть одно предложение. Квик непонимающе глянул на Лон. Но она стояла неподвижно и беспокойно поглядывала то на одного мужчину, то на другого. — А вы, собственно, кто такие? Незнакомцы указали на надпись «Невада» на своих комбинезонах. — Пять минут наедине вы можете нам уделить? — спросил высокий, явно давая понять, что Лон была лишней. — Зайдем в раздевалку, — предложил им Квик. — Хорошо. — Квик, — забеспокоилась Лон. — Я тебя подожду! — Будь умницей, малыш. Сегодня мне не до этого… Возвращайся домой. — Домой! Куда «домой»? После того что у Лон произошло с матерью, пути назад у нее не было. Как не было и дома. И все же она решила ждать, провожая глазами что-то оживленно обсуждавшую троицу до тех пор, пока они не скрылись в раздевалке. Тогда она достала из кармана смятую сигарету и закурила.* * *
«Если сейчас упустить момент, — думал Рони, — потом будет поздно». Даже любовью с Пегги он занимался теперь лишь для того, чтобы услышать ее мнение о написанном им. В эти дни Рони жил только литературой. В голове у него бурлили, перемешиваясь, ища выхода, тысячи слов и мыслей. Он чувствовал себя антиподом Бога. Бог создал слово. У него же слово создавало Бога, становилось на один уровень с ним. Тело Бога превращалось в фонемы, морфемы, буквы, абстракции, музыку и становилось каким-то невысказанным символом. К несчастью, и на этот раз Рони не повезло. Пегги была не в настроении и совершенно не слушала его. Опять он понадобился ей, чтобы попросту снять напряжение. Но желаемое она уже получила. Значит, надо сделать еще одну попытку втянуть ее в разговор о самом для него важном. — Только вдумайся в эту фразу! Краем глаза он увидел, как Пегги наливает себе виски. — Ты будешь? — спросила она. — Подожди. Послушай. Я прочту: «Если бы каждый знал, сколько ему осталось жить… — Рони, заметив, что она собирается перебить его, поспешил закончить фразу: —… ни один из нас не был бы похож на другого». — Красиво, — равнодушно сказала Пегги, думая о чем-то другом. — Может быть, повторить? — Который час? Рони охватила ярость. Он не выносил, если его слушали невнимательно. — Ты куда-то собираешься? Хочешь, чтобы я ушел? — С большим трудом он сдержался, чтобы не добавить: «Трахнулась и испытываешь теперь одно-единственное желание — чтобы я поскорее убрался!» — Не заводись, Рони. Я просто расстроена. — Что случилось? — Проблемы с Чарлен. Я заперла ее, но паршивая девчонка сбежала. — Когда? — Сегодня после обеда. — И это тебя волнует? — Я же сказала, что заперла ее на ключ. — За что? — Она спит с одним типом. — Странно. Я всегда считал ее ребенком. — Я не могу тебе всего объяснить. Это слишком длинная история. — Никуда она не денется. Вернется, вот увидишь. — Нет. Свою дочь я уж знаю. Перед твоим приходом я все рассказала Джереми. — Джереми? Зачем? Пегги соскочила с постели и натянула халат. — Послушай, Рони. Ты мне надоел. Будь добр, одевайся и уходи. — Мадам больше не требуются мои услуги? — пробурчал он. На ее лице читалось раздражение. — Поторопись. Мне нужно побыть одной. Рони с видом обиженного ребенка взял свои трусы, рубашку и носки. Галстука нигде не было видно, и он, опустившись на колени, заглянул под кровать. Раздался телефонный звонок. Пегги схватила трубку. — Слушаю. Это была Нат, голос которой дрожал от возбуждения. — Все прошло как нельзя лучше. Старый краб попался в сеть! Еще небольшое усилие с твоей стороны и… Кто там у тебя? Я не помешала? — Потерпи минут пять, я сама перезвоню. В эту минуту ей ужасно захотелось пнуть ногой эту белую задницу, торчащую из-под кровати. — Подожди! — продолжала Нат. — Арчи Найт приглашает нас к себе во вторник вечером! Отмени все свои встречи. — Где мой галстук? — мрачно спросил Рони. — Дорогая, — Пегги попыталась остановить подругу. — Повторяю, я не могу сейчас разговаривать с тобой. У меня тут один зануда. Я его вышвырну и тотчас же тебе перезвоню. — Повернувшись к любовнику, неловко натягивающему брюки, она наткнулась на его яростный взгляд. — Это уже слишком! — бормотал Рони, надувшись как индюк. Он схватил куртку и выскочил в коридор, изо всех сил хлопнув дверью. А Пегги спокойно набрала номер Нат. К Рони Бейли она относилась как к прирученной собачонке — не успеешь позвать ее, а она уже стремглав несется навстречу. А вот Арчибальд Найт — это совсем другое дело. Здесь нужна предельная осторожность в обращении. В одно мгновение были забыты и Джереми, и Чарлен, и Рони. Приятный трепет, возникающий у нее тогда, когда в сеть вот-вот могла угодить крупная дичь, охватил все ее тело.* * *
Квик вышел из раздевалки с сияющим лицом. От этой его откровенной радости Лон стало не по себе, она инстинктивно почувствовала в ней угрозу своему счастью. Квик прошел рядом, не замечая девушки, размахивая спортивной сумкой и подпрыгивая на ходу. — Квик! Он обернулся и нахмурился. — Ты еще здесь? — Я ждала тебя. — Ладно, пошли. — Куда? — Ко мне, куда же еще! — Лучше туда не возвращаться. — Это еще почему? — Моя мать знает этот адрес. — Ну и что? — Она не оставит нас в покое. — Послушай, Лон. Мне до лампочки твоя мать. Я ей ничего не должен. — Ты — возможно. Но не я. — А кто тебя заставляет бегать за мной? — Квик… Он поставил сумку на землю и обнял Лон за плечи. — Нам нужно поговорить. Знаешь, такое произошло! Я даже не могу в это поверить… Невероятно! Видела этих типов из «Невады», которые только что со мной говорили? Ты сейчас упадешь. Знаешь, что они мне предложили? Не поверишь, но я подписал с ними контракт! Меня берут на работу! — И что ты у них будешь делать? — Как что?! Они дают мне машину! Я буду гонщиком! Понимаешь? Лон смотрела Квику в глаза, но он не видел ее. Это был скорее монолог, чем диалог. И девушка почувствовала, что он не сказал ей самого худшего. — Это здорово, — Лон старалась говорить спокойно. — Расскажи мне все. — У этих типов наметанный взгляд! Они сказали, что наслышаны обо мне и пришли посмотреть, чего я стою. Они дают мне шанс! Конец этим добитым развалинам, этому ржавому лому! Меня берут в «Формулу-3». Сечешь? Хотя я сегодня был не в лучшей форме… — Квик, это же замечательно! А когда ты начнешь? — Это уже решают они. Сначала тренировки, а потом я буду работать у них там! — Где там? — В Европе! — Он засмеялся и добавил: — Невероятно! И уже завтра я уезжаю. Лон внезапно ощутила во рту страшную горечь и, чтобы не расплакаться, быстро запихнула туда жевательную резинку. — А где в Европе? — Сначала в Греции… Квик неожиданно остановился и недоверчиво посмотрел на подругу. — Лон, я хочу, чтобы ты знала. Ехать со мной тебе нельзя. Это одно из условий контракта: никаких женщин! Он пытался выглядеть огорченным, но ничего не получалось. Слишком велика была радость, чтобы ее можно было скрыть. Она чувствовалась во всем: в его нетерпении, в возбужденной речи. А у Лон в висках стучало: «Не заплакать… не заплакать…» — Разве в Греции есть трассы? — Точно не знаю. Скорее, меня отправляют туда, чтобы поднатаскать в теории, пока будет подготовлена моя машина. — Контракт у тебя на какой срок? — На год. Но будет продлен при условии, что мной будут довольны. Подожди, подожди… Ты не радуешься за меня? — Нет-нет, что ты! — Все девчонки одинаковы! Как только у парня что-то получается, у вас кислая физиономия. — Неправда! — Тогда в чем дело? Ну, говори! — Я думала… — Давай, я слушаю! — А как же я? С бессознательным садизмом Квик равнодушно сказал: — Все остается по-прежнему. Ты будешь ходить в школу. Подумай только! «Невада»… У них один из лучших автопарков в мире! Я буду рядом с известными гонщиками! Пойдем, я тебя провожу! — Куда? — Домой. Лон опустила голову. — Я не пойду туда. — А куда же? — Не знаю. — Лон, прекрати. Хочешь мне все испортить? Ты что, ревешь? — Нет, умираю от смеха! Будто ты не знаешь, что я разругалась с матерью! Это зашло слишком далеко! Я не хочу больше ее видеть. А ты… ты! Квик от досады вздохнул. Так обычно вздыхают парни, которых девчонки хотят запереть в «клетку». Он сделал над собой усилие, чтобы тут же не убежать от нее сломя голову. — Присядем на минутку. Они сели на кучу ржавого лома. Лон пальцем стала чертить на позеленевшем бетоне невидимые круги. — Лон! Сколько мы уже знакомы? — Мне кажется, что всю жизнь. — Ты меня хоть немного любишь? Она опустила голову и пожала плечами. — Не хочешь, чтобы я стал знаменитым? А деньги? У тебя их полно… Думаешь, мне нравится каждый раз выклянчивать десять долларов на сигареты? При слове «сигареты» в его голове мелькнуло: «Невада». Квик увидел себя на трассе в нарядном комбинезоне с этим магическим словом на груди. Черт подери, ей не удастся его заарканить! — Лон, честное слово, я еще не знаю, куда еду… Как только устроюсь, сразу напишу. — А я не смогу к тебе приехать? — спросила она с надеждой в голосе. — Да, конечно… — смутился Квик. Он врал и знал это. Его будущие тренеры были неумолимы: никакой личной жизни без их ведома. После будет видно… Жертвовать карьерой ради какой-то девчонки он вовсе не собирался. Да и надоела она ему. Скорей бы остаться одному и постараться привыкнуть к неизвестно откуда привалившей удаче. Уложить сумку, сунуть ключ под дверь, а завтра первая ступенька — Афины! — Мне пора! Оба встали. Лон прикусила губу. — Где мне тебя высадить? — Квик старался держаться будто ничего не произошло. — Где хочешь. — В Центральном парке пойдет? — Хорошо. — Ты сейчас к себе? — Не беспокойся. — Ладно. Давай ключи. Девушка еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Ей-то некуда было ехать. А Квику хочется побыстрее от нее отвязаться. Квик… Это невозможно! Если он уедет, они больше никогда не встретятся. Лон порылась в сумочке и достала ключи. — Держи. (обратно)Глава 5
— Вы любите селедку? — поинтересовался Арчибальд Найт с видом гурмана-знатока. Пегги украдкой взглянула на Нат, которая еле сдерживалась от смеха, и бодро ответила: — Обожаю! — Тем лучше, — продолжал Арчибальд, — она очень полезна. А люди недооценивают это и, хороших манер ради, объедаются икрой. Хотя что может быть отвратительнее икры? — Зато я ее потребляю в огромных количествах, — заявила Пегги. — Вот как? И вам нравится? — изумился Найт. — Я же не сказала, что ем ее. Лучшего шампуня, чем икра, еще не придумали. Берете килограммовую банку икры, наносите на волосы как маску и держите минут двадцать. Посмотрите, какие у меня блестящие волосы! — Великолепные, — согласился старик без энтузиазма. Под столом Нат наступила подруге на ногу. Об удивительной скупости Арчибальда ходили легенды. Поговаривали, что он частенько встает по ночам — проверить, выключили ли слуги свет. Ну что за детские шутки, Пегги! Так мы его никогда на тебе не женим! Не поднимая глаз, Пегги мужественно принялась за селедку, извлекая кусочек за кусочком из беловатого соуса. Впрочем, если подавать ее на золотом блюде, то, пожалуй, есть можно. Арчибальд кивнул официанту. — Вина? — улыбнулся он женщинам. Те утвердительно кивнули. Пегги чуть пригубила из хрустального бокала и поморщилась: ужасная кислятина! Все, уже можно и разводиться. — Вам нравится? — спросил хозяин. — Вино просто замечательное! — поспешно ответила Пегги. — Необыкновенный букет, — поддакнула Нат. — Мне доставляют его из Франции. Это — бордо. — Найт отхлебнул воды из стакана, который подал ему камердинер. — Вы не пьете вина? — удивилась Пегги. — Я в винах не разбираюсь, — вздохнул Арчибальд. — Ни в еде, ни в напитках. И мои повара в отчаянии. — Может быть, вы курите? — не унималась Пегги, за что получила еще один удар ногой от подруги. — Конечно же нет. — Что за мужчина! — В голосе Пегги прозвучала едва уловимая ирония, но Найт ее не заметил. — Вы были бы идеальным мужем! — Для кого? — Для любой женщины! — Не уверен. Однажды я, впрочем, был женат, лет эдак пятьдесят назад, и, кажется, не совсем хорошо обошелся с женой. Нат бросила мимолетный взгляд на двух слуг, которые не упускали ни слова, хотя старательно притворялись глухими. Беседа принимала такой оборот, что она стала опасаться самого худшего. Арчи не выносит насмешек. Зачем Пегги играет с огнем? Не слишком ли это рискованно по отношению к человеку, которого она явилась соблазнить? Но Пегги не унималась. — А чем вы интересуетесь всерьез, если, конечно, это не тайна? — Чем интересуюсь? — повторил с улыбкой Арчибальд. — В сущности, тем же, чем и вы. — И что на первом месте? — Эпоха Возрождения. — А еще? — Деньги, чтобы покупать работы мастеров этой эпохи. — А из художников? — Фра Анджелико. — У Арчи потрясающая коллекция! — вмешалась Нат, думая, что Пегги уже окончательно свела на нет ее посреднические усилия. — Ты ее видела? — осторожно поинтересовалась Пегги. — Честно говоря, — сказал Арчибальд, — мою коллекцию еще никто не видел. — Почему же? — В тоне Пегги появились бесцеремонные нотки. — Потому что очень немногие достойны созерцать эти шедевры. — Жаль, — вздохнула Пегги, — я обожаю Донателло! Арчибальд снисходительно улыбнулся. — У меня есть кое-что получше. Потерпите немного, и увидите полотна Микеланджело и да Винчи! Пегги холодно посмотрела ему в глаза. — Вы хотите показать их нам, я правильно поняла? — О, я никогда не позволил бы себе беспокоить вас по мелочам. А вот и жаркое! Камердинер торжественно водрузил на стол огромное блюдо, на котором лежали пять несчастных кусочков говядины в обрамлении столь же несчастных шести вареных картофелин. — Попробуйте, — любезно предложил Арчи. — Надеюсь, мясо на этот раз хорошо прожарено. Нат принялась отчаянно пилить ножом совершенно несъедобное засушенное мясо. Жевать каждый кусочек приходилось долго и энергично. — Еще вина? — О нет, благодарю вас! У меня уже кружится голова, — поспешила отказаться Пегги. Несмотря на все свое раздражение, Нат опять чуть не прыснула. Какая разница, что жевать, если вы находитесь у самого входа в сокровищницу Али-Бабы! Пегги взглядом подала ей знак: с Арчибальдом произошла странная метаморфоза. Его лицо стало каменно-неподвижным, глаза затянуло матовой пленкой. Потрясенные подруги одновременно повернулись к застывшим на месте слугам, которые, похоже, не первый раз видели такое. На пергаментном лице Арчи не было ни малейших признаков жизни. Сейчас он походил на чучело ящерицы, а от его странной неподвижности веяло смертью. И вдруг словно свершилось чудо: глаза Найта вновь стали блестящими и живыми, и в них запрыгали чертики. Обморок длился секунд десять. Пегги, не удержавшись, судорожно сглотнула слюну. — Мистер Найт, объясните, зачем любителю Ренессанса картины Дега и Лотрека в столовой? — И кто из них вам больше нравится? — Дега. — Тогда позвольте сделать вам подарок. Дега ваш. — Но… — Пегги растерялась. — А вы, Линди, очень меня обяжете, если согласитесь принять Лотрека. — Арчи! — запротестовала Нат. — Это ничтожная плата за то удовольствие, которое мне доставил ваш визит. — И, обращаясь к прислуге, Найт небрежно, словно речь шла о коробке конфет, распорядился: — Запакуйте эти картины! Думаю, дамы возьмут их с собой. А вам, — он повернулся к молодым женщинам, — хочу предложить выпить по чашечке кофе в библиотеке. Ох, простите, совсем забыл! Сейчас подадут десерт. Вы любите крем-желе? — Спасибо, но после такого обеда… — Тогда прошу вас в библиотеку. Нат вошла первой и замерла в нескольких шагах от порога, любуясь сангинами Тинторетто. А Пегги, хоть и была ошеломлена всем происходящим, приблизилась к Найту. — Нат шепнула мне по секрету, что у нас есть одно общее воспоминание. Это правда? — Да, — ответил Арчибальд, и лицо его забавно сморщилось. — А можно узнать, какое? Кажется, мне предстоит покраснеть… — Не исключено. — Любопытно, я не краснела где-то лет с пятнадцати. Они стояли лицом к лицу, их разделяли всего несколько сантиметров. Нат, оценив ситуацию, исчезла из библиотеки, а у Пегги появилось предчувствие чего-то неизбежного, и в первый раз за весь вечер она посмотрела на Арчи не как на старика, а так, как женщина смотрит на мужчину, который действительно интересен. — Это довольно старая история, — начал Найт с улыбкой. — Вам было годика три или четыре. Я ужинал у ваших родителей, когда к вашей матушке подошла няня — кажется, вы плакали — и ваш отец попросил, чтобы вас привели. Войдя в гостиную, вы направились прямо ко мне и вскарабкались на колени. Я обнял вас, а вы положили головку на мою грудь. — Как видите, — мягко перебила Пегги, — у меня нет повода заливаться румянцем. — Минуточку терпения… Вскоре я почувствовал, как мои брюки стали мокрыми. — Вы сделали пи-пи в штанишки? — Не я. Вы! Пегги рассмеялась. — Я должна извиниться? — Вовсе нет. Хотя вы сделали не только пи-пи, а нечто большее… — Что же еще? — Догадка молнией пронзила ее мозг. — Неужели? Губы Арчи слегка дрогнули. — Вот-вот. Как будто что-то невидимое дрогнуло и разбилось. Пегги стало как-то не по себе. В этой ситуации, пожалуй, лучше всего просто отшутиться. Ничего другого ей не оставалось. — Сожалею, делаю все возможное, но — увы! — покраснеть не могу. — Тем лучше, — кивнул Арчи. — Видите ли, это маленькое недоразумение — мое самое нежное воспоминание. Пегги вдруг захотелось немедленно уйти отсюда, чтобы прогнать дурацкое наваждение. Найт преградил ей дорогу и добавил, словно бросаясь в воду. — Хочу вам сделать признание. Я готов отдать что угодно. Повторяю — что угодно, лишь бы еще раз испытать подобное наслаждение. И вдруг Пегги почувствовала, как краска заливает ей лицо и шею. В любви ей объяснялись многие, но такое признание она услышала впервые. В наступившей внезапно тишине прозвенел голос появившейся на пороге библиотеки Нат: — Молодые люди, кофе стынет!* * *
Лон машинально постукивала яйцом по краю блюдца. Изможденный молодой негр разбрасывал по полу опилки. Бармен разгадывал кроссворд, слушая музыку: на прилавке рядом с кассой стоял магнитофон. Кончиком ногтя Лон выковырнула из белка застрявшие в нем маленькие осколки скорлупы, намазала горчицей кусочек хлеба и с безразличным видом принялась за еду. Сегодня она решила лечь пораньше, уже забралась в постель и даже немного поплакала, но сон не приходил. Тогда она оделась и вышла на улицу. На Бродвее, несмотря на холодную погоду, как всегда, толпился народ. Из дверей ресторанов и баров вырывались клубы пара, гремела музыка и туда-сюда сновали парочки. — Вы любите горчицу? — зацепил Лон какой-то тип. Она откусила сразу пол-яйца и, не переставая жевать, вытерла губы бумажной салфеткой. Снять бы эти надоевшие темные очки… Нет, пожалуй, не стоит. Ничего не поделаешь — она была дочерью своих родителей, и ее фотографии Бог знает с каких времен периодически появлялись в газетах и журналах. Мало ли кто может ее узнать и выдать! И блудную дочь вернут домой, отчитают и запрут в четырех стенах раньше, чем она сумеет осуществить задуманное. — Выпейте со мной стаканчик, — не отвязывался тип. — Яйца не рекомендуется есть всухомятку. Бар закрывался, свет в зале и фонарь снаружи уже погасли. Посетители разошлись, только Лон и этот приставала еще сидели у стойки. Лон сняла номер в дешевом отеле. Прямо перед ее окном, на двадцать третьем этаже, каждые десять секунд вспыхивала голубоватым неоновым светом огромная надпись: «Кэмел». Можно иметь десятки и даже сотни друзей в Нью-Йорке, в своем штате и даже во всей стране, но наступил день, когда она не имеет права вспоминать об их существовании. Она — пария, и должна скрываться, если хочет, чтобы ее планы осуществились. А полиция, возможно, уже разыскивает дочь экс-президента Соединенных Штатов. Квик оставил Лон на аллее в Центральном парке. Она, побродив часок, чуть было не поехала к нему, чтобы броситься в его объятия, но не сделала этого — держалась изо всех сил. Впрочем, новая идея, которая неожиданно пришла ей в голову, была намного лучше. Лон машинально смела ладонью со стола крошки хлеба и скорлупу яйца. Незнакомец поймал ее руку. — А если мы выпьем в другом месте? В первый раз она подняла глаза на этого типа. Ну и образина! На вид не меньше пятидесяти, с отвратительной ухмылкой, обнажающей гнилые зубы. — Ну как, малышка? Что скажешь? Лон раскрыла сумочку, вытащила две измятые долларовые бумажки и, кинув их на прилавок, соскользнула с табурета. Мужчина тоже вскочил и подхватил ее под руку. Девушка спокойно высвободилась и с таким же спокойным презрением уронила: — Слиняй, козел. — Что? — растерялся тот. Уже на улице до нее донеслись его возбужденные вопли — он призывал в свидетели бармена: — Вы слышали, что она сказала?! Слышали? Лон спокойно закрыла дверь и быстро зашагала к своему отелю, который находился неподалеку, через два квартала отсюда. Сонный старичок портье при ее появлении приоткрыл один глаз и машинально пробормотал: — Если вам что-то нужно… Лифт поднял ее на нужный этаж. Перед дверью номера она остановилась и задумчиво оглядела мрачный, выкрашенный в грязно-зеленый цвет коридор. Номер выглядел не лучше: выцветшие, с желтоватыми пятнами обои, кровать с деревянными спинками и продавленным матрацем, ковер, до основания протертый не одной сотней топтавших его ног. Она подошла к запотевшему окну, стерла со стекла капельки воды и прижалась к нему лбом. Щелкнул выключатель, комната погрузилась во мрак, и почти сразу вспыхнули неоновые лампочки рекламы на доме, расположенном напротив. Лон прилегла и закурила. Интересно, что сейчас делает Квик? Завтра после полудня нужно будет забежать в банк и снять со счета тысячу-другую долларов. В Европе ей, конечно, понадобятся деньги. Зачесалась нога. Голова пухла от неотвязных мыслей. Теперь Лон была уверена, что мать имела прямое отношение к отъезду Квика. В чем конкретно это выражалось, девушка пока не знала, но была какая-то связь между их ссорой и предложением, которое сделали Квику. Он и сам знал, что был посредственным гонщиком. Тогда почему же его заметили? В детстве такие парни, как Квик, гоняют мяч по пустырю и мечтают о спорте, победах, славе. Но в большой спорт попадают единицы, а остальных жизнь заставляет выбирать более прозаические занятия — мыть машины, продавать бензин, устроиться — и это в лучшем случае! — механиком в пригородный гараж. Лон не хотела, чтобы Квик стал механиком и тем более — гонщиком. Просто ей было нужно знать, что он всегда будет рядом с ней. Какая разница — богат он или беден? И вдруг ей в голову пришла такая идея, что Лон чуть не закричала от радости. Теперь она знает, как отомстить матери. Снова зачесалась нога. Ощутив под пальцами что-то теплое и влажное, Лон зажгла свет. Пальцы были в крови. К коже присосалось какое-то коричневатое насекомое. Клоп! Она увидела его впервые в жизни. В ужасе она соскочила с кровати, схватила сумку и опрометью бросилась в коридор, промчалась мимо портье и вылетела на улицу.* * *
Не успел «роллс-ройс» тронуться с места, как Нат повернулась к Пегги и нетерпеливо потребовала: — Ну, рассказывай! Пегги кивком указала на шофера и шепнула: — Потом… — Включите нам музыку! — скомандовала Нат. — У вас есть «Босса Нова»? — Да. Зазвучал голос Виничиус де Марес. — Что там у вас за тайны? — не унималась Нат. — Да еще такие, из-за которых тебе приходится краснеть. — Да так… Он видел меня голой, когда я была маленькой, — не задумываясь, соврала Пегги. Зачем она сказала неправду? Нат устроила ей встречу с Арчибальдом Найтом. И Пегги обычно ничего не скрывала от подруги. Но на этот раз что-то ее остановило. Она почувствовала, что не должна ничего рассказывать Нат, краснея при одном только воспоминании о выходке Арчибальда! Хорошо еще, что в машине было темно и Нат не видела ее лица. — Зайдем ко мне, — предложила Нат. — И все обсудим за чашкой кофе. — Завтра, дорогая. Я падаю от усталости. Раздосадованная, Нат откинулась на спинку сиденья. Остаток дороги они молчали, и каждая мрачно размышляла о своем. «Роллс-ройс» остановился у дома Нат. Пегги взяла ее за руку. — Не будешь сердиться? Я позвоню тебе завтра. — Завтра так завтра. Они поцеловались, а портье уже брал у шофера пакет с Лотреком. Через пять минут Пегги была дома. В прихожей она окликнула Муди, и тот забрал Дега. Шофер почтительно снял фуражку. — Миссис Сатрапулос, куда прикажете поставить машину? Пегги была озадачена. — Поставить? Зачем! — Хозяин сказал, что машина теперь принадлежит вам и я поступаю в ваше распоряжение. В глазах Пегги запрыгали чертики. — Поблагодарите мистера Найта. Но, право, к чему мне третий «роллс-ройс» и второй шофер? Спокойной ночи. Шофер какое-то время нерешительно топтался на месте, но потом все-таки сел в машину и уехал. Да, в фантазии Арчибальду не откажешь… Пегги прошла в свои апартаменты, но не спешила наверх, хотя распаковать картину хотелось немедленно. На цыпочках она пробралась в конец коридора к комнате Чарлен и охнула, увидев, что, стало с дверью. Она заглянула в ванную, распахнула дверцу шкафа, посмотрела под кроватью. Все ясно. Чарлен сбежала! Ссора с Джереми была мгновенно забыта. Его нужно предупредить! И сию же минуту!* * *
Было уже три часа ночи, когда Джереми снова наполнил свой стакан — восьмой по счету. Без галстука, в измятой рубашке, с пробивающейся на щеках щетиной, он кивнул Белиджану на бутылку виски. — Хочешь? — Нет. Кто-то из нас двоих должен мыслить трезво. — Ну добавь еще, что я надрался как свинья. — Каждому свое. — А что прикажешь делать? А все из-за твоей дурацкой идеи! Милый флирт без последствий превратился в черт знает что! — Идея-то была твоя! — Что?! — рявкнул Джереми. — Это я, значит, устроил ее побег? — Не передергивай. Я только сказал, что это твоя идея. Я не говорил, что она плохая. Но то, что ты сейчас назвал милым флиртом, было половой связью с хиппи-наркоманом. Рано или поздно газетчики разнюхали бы все. — Крошка пошла по стопам матери. А Пегги, — Джереми шипел от злости, — Пегги — обыкновенная шлюха. — Твой братик тоже не был паинькой. Возможно, и Пегги вела бы себя иначе, если б он не начал изменять ей первым. — Ерунда! Ну, подгуливал иногда! Нервы-то не железные! — Самое любопытное, что у супруги нервы сдавали тоже несколько раз в день, причем синхронно с «нервными срывами» у мужа. Странно, не правда ли? — уточнил Белиджан. — Ну и что? Дело не в этом. Во всяком случае, Скотт никогда не пытался шантажировать собственную семью! — Дай ей все, что она требует. Разумеется, при условии, если они оставят нас в покое! — Ни за что! Это дело принципа. — Видишь ли, я всю жизнь покупал нужных мне людей. Можно купить и Пегги. — Она уже подложила нам свинью пятнадцать лет назад, когда хотела развестись со Скоттом как раз перед президентскими выборами! Мой отец отстегнул ей миллион, чтобы мадам успокоилась! — И добился своего. Твой отец был умным человеком. — А от меня она ничего не добьется! Будет делать то, что ей скажут! Белиджан скептически пожал плечами. — Как знаешь. — Ты заморозил счет Чарлен? — Да. — Наши службы на вокзалах и в аэропортах предупреждены? Эта негодяйка еще и в Европу может рвануть. К своему кретину! Нужно ее немедленно найти! — А я, по-твоему, чем занимаюсь? Кстати, перед приходом сюда мне сообщили интересную новость о Пегги. Джереми подскочил. — Что еще она отколола? — Ничего особенного. Обедала с Линди Нат Бембилт. — С этой проституткой? У кого? — У Арчибальда Найта, — сообщил Белиджан нарочито безразличным тоном. Джереми сжал губы так, что они побелели. — Ты что, смеешься? — Я похож на шутника? — Она была у этого старого козла, который всегда делал нам гадости? — Именно. Джереми хлопнул ладонью по лбу. — Что еще затевает эта идиотка? Она совсем свихнулась? — Думаю, нет. — Ты хоть знаешь, сколько ему лет? — При чем тут возраст, если речь идет о ставке в пятьсот миллионов? — Но ты же не думаешь… — А Грек? Кто тогда мог подумать? — Нет, это невозможно! Я сейчас позвоню ей! — Джереми рванулся к телефону. — Не дури! — попытался урезонить его Белиджан. — Не лезь! Это касается только нашей семьи! Джереми стал набирать номер, но Белиджан вырвал у него трубку и положил на рычаг. — Я уже двадцать пять лет вожусь с твоей чертовой семейкой! И если б я не исправлял ваши глупости, никому бы не пришло в голову о вас вспоминать. Так что заткнись и иди спать. Сегодня ты уже ни на что не годен. Она хочет устроить нам ловушку. А ты, я вижу, горишь желанием угодить в нее! — Плевал я на это! Она не получит ни цента! — Жаль, ты бы здорово облегчил мне жизнь, если б не лез очертя голову прямиком в дерьмо. — Посмотрим, кто прав. — И так все ясно. Прошу тебя, не лезь на рожон и пока не трогай ее. Выясним сначала, что она затевает. — Пусть вытворяет что хочет. Я не дам ей ни цента! — Тебе известна ставка, Джереми? — Ни цента! Чтоб ей сдохнуть! — Послушай, я тоже не стану ее жалеть! Только на твоем месте я бы прежде посоветовался с матерью. — С моей матерью? Я давно уже вырос из коротких штанишек. За кого ты меня принимаешь? — Иногда и сам не знаю…* * *
Лон провела кошмарную ночь, впадая то в бешенство, то в отчаяние. Она сполна прочувствовала, несправедливость ситуации, в которую попала, и не могла уснуть до семи утра. Еле дождавшись десяти часов, она, все в тех же черных очках, преисполненная ненависти и решимости, пешком отправилась на Пятую авеню, где находился ее банк. Возле нужного окошка никого не было. Опершись о стойку, Лон достала из сумочки чековую книжку и выписала чек на пятнадцать тысяч долларов. Служащая равнодушно взяла протянутый чек и машинально открыла кассу, но, взглянув на него, вздрогнула как от удара. — Вы мисс Балтимор? — Нет, я Грегори Пек. Служащая натянуто улыбнулась. — Минуточку, мисс Балтимор. Я сейчас принесу ваши деньги. — Она встала и исчезла за дверью. Лон мгновенно учуяла подвох. Родственнички очухались быстрее, чем она предполагала. Секунду поколебавшись, она забрала чек, сунула его в сумку и метнулась к двери. Ей объявили войну? Превосходно! Меньше будет сожалений. Мамочка и родственнички все еще считают ее глупенькой девчонкой! Есть и помимо банков немало местечек, где можно раздобыть денег, — там такую свинью не подложат! И есть способ одним выстрелом убить двух зайцев!* * *
К десяти утра Джереми открыл глаза. Но тут же их закрыл. Черт! Зачем, спрашивается, ему было нужно бросаться из одного кошмара в другой? Во рту пересохло, голова гудела. После ухода Белиджана Джереми не сразу оторвался от бутылки: сначала пил, чтобы успокоиться и уснуть, а потом просто не мог остановиться. Часам к шести или семи утра виски его все-таки свалило. Джереми поднялся и, шатаясь, побрел в ванную. Где эти чертовы таблетки? Есть! Он бросил две в стакан с водой, поморщившись, выпил и полез под душ. Обливался то горячими, то холодными струями, пока не пришел в себя окончательно. Сначала он решил последовать совету Белиджана и подождать, когда Пегги раскроет карты. А может, следует перейти в наступление, пока она не натворила черт знает чего? Он докрасна растерся махровым полотенцем и присел на кровать. Кое-что за несколько недель они подсобрали. Взять хотя бы историю со взятками в компании «Локхид». На всех видных политиков имеется неплохой материальчик: тут и их финансовые махинации, и данные об их любовницах. А чего стоит один только неопубликованный бюллетень о состоянии здоровья президента, который удалось откопать ребятам Белиджана. Вот, пожалуйста, все анализы, рентгеновские снимки, описание внутренних органов. Перечислены отклонения в развитии мозга, указаны вес костей, вес и симметричность его яичек, приводятся данные о частоте половых сношений и о степени удовлетворенности ими. Есть заключение о том, как на его здоровье отразились травмы, полученные в молодости при занятиях борьбой и боксом. Словом, будет чем «увлечь» избирателей. Джереми не считал себя святым. Политика есть политика. Если уж занялся ею, то нужно уметь врать, плести интриги, умело умалчивать о том, чего не следует знать ни дуракам друзьям, ни врагам. В один прекрасный день — Джереми это прекрасно знал — и его вываляют в грязи. Но на проделках Пегги, Чарлен или еще каких-нибудь других родственничков его не поймают! К черту Белиджана! Он сам уделает Пегги. И прямо сейчас! Рука его потянулась к телефону.* * *
Рони дал себе торжественное обещание не вылезать из постели раньше полудня. Легенда, известная, впрочем, только узкому кругу его хороших знакомых, требовала, чтобы вдохновение посещало писателя Рони Бейли непременно по ночам. Считалось, что обычно он работал с вечера до шести утра. Если это и было правдой, то далеко не полной, чаще ему нужно было просто убить время, поскольку засыпал он поздно, предаваясь отвлеченным размышлениям иногда и до самого рассвета. С приходом сна как бы сам собой устанавливался идеальный порядок, и Рони спокойно закрывал глаза, убаюканный приятной мыслью о том, что он закрывал занавес именно тогда, когда другие только выходили на сцену. Но поскольку яркое своеобразие его творений так и не было признано широкой публикой, ему приходилось довольствоваться славой непризнанного гения. В одиннадцать часов утра его разбудил противный треск домофона. Дрожащей рукой Рони нажал на кнопку, проклиная наглеца, позволившего себе прервать его сладкий сон. — Кто там? Сквозь ужасный треск прорвался юный голос. — Это я, Лон! — Кто? — Чарлен. Ты откроешь, или мне придется взломать дверь? — Лон… Поднимайся. — Да ты сначала открой, идиот! Дверь холла, восемью этажами ниже, распахнулась. И Рони вдруг осенило. Похоже, Пегги, устроившая ему такую чудовищную сцену, решила извиниться и в качестве парламентера прислала дочь. Он вскочил с постели, бросился в ванную, выдавил чуть ли не весь тюбик пасты на щетку и принялся усердно чистить зубы. В дверь позвонили. — Минутку! — крикнул он, набрасывая халат поверх пижамы. Собственное отражение в зеркале его отнюдь не радовало: серое лицо, мешки под глазами, отросшая щетина… — Черт! — выругался Рони и пошел открывать. — Я принесла тебе рогалики, — весело сообщила Лон. — Где у тебя кухня? А кофе есть? Он отступил, чтобы впустить девушку. С ее приходом в квартиру, казалось, ворвался свежий ветер. Лон подняла жалюзи в гостиной. — У тебя тут здорово воняет! — Воняет? Чем? — Рони удивленно поморщился. — Старым холостяком, который дрыхнет один в своей берлоге. — Девочка, ты пришла меня воспитывать? Только подумайте, я дрыхну. — Можешь опять лечь, я сама все сделаю! — Все? — лениво переспросил он, зевая. — Например, приготовлю завтрак и подам его тебе в постель. Поверь, я еще ни о ком так не заботилась. — Если тебя прислала твоя мать… — Моя мать? А ну ныряй под одеяло! И поживее. Она втолкнула его в комнату. Изумленный, он снопом рухнул на кровать и натянул одеяло на голову. Почему каждый раз, когда внезапно просыпаешься, возникает ощущение, что кто-то нарочно сбрасывает тебя с небес на грешную землю, не давая забыться в мечтах? Ничего не поделаешь, но его могучий ум просыпается только к пяти вечера. — Сахар под… — крикнул он. — Я нашла! — донесся из кухни голос Лон, заглушаемый перестуком банок. Рони помнил Лон с пеленок, он стал любовником ее матери еще до того, как та вышла замуж за Скотта. Как быстро летит время! А его главное произведение еще так и не написано… И он вернулся к любимому сюжету, к мыслям, роящимся вокруг одного и того же человека — Рони Бейли. Кстати, вспомнилось ему, Пегги, кажется, жаловалась на проблемы с дочерью. — Лон! — Минуточку! — Иди сюда! — Уже иду! — Послушай-ка… Лон появилась на пороге. Она надела зеленый передник с мордашками утенка Дональда и держала в руках поднос с чашками, кофейником, блюдечками меда, сахарницей и купленными ею рогаликами. — Кушать подано. Чуть наклонив голову, Рони испытующе и недоверчиво посмотрел на нее. Желтые глаза Лон сощурились. Она улыбалась. — Послушай, малышка, не дурачь меня. В чем дело? — Я проходила мимо твоего дома, увидела, что в окнах нет света, и решила зайти. Вот и все. — Лон, ты серьезно… — Один кусок сахара или два? — Полтора. — Пожалуйста. Размешать? — Ну, раз уж ты здесь, — пробормотал он, — то объясни наконец… — Ты этой ночью работал? — Лон, кусая рогалик, запивала его кофе. — Почему ты спрашиваешь? — Мой бедный дядюшка. Видик у тебя еще тот. Как у старой мочалки. — Благодарю. Она взъерошила его волосы. — Не дуйся, дядюшка! На твоем месте я бы оценила завтрак в постели. Причем поданный симпатичной девушкой! — Вот нахалка. — А ты, старичок, оказывается, обидчивый! — Пустяки. Вот ты как прислуга получаешь у меня два балла. Из десяти. — Не кофе, а помои, да? — Где фруктовый сок? — Ну ты и зануда! Лон вскочила, помчалась на кухню, наполнила два стакана апельсиновым соком и, вернувшись в комнату, бесцеремонно уселась на кровать. — Подвинься и пей свой сок! Рони уткнулся носом в стакан, а Лон, задумчиво окинув его взглядом, сказала: — Никак не могу понять, что моя мать в тебе нашла? Рони поперхнулся и закашлялся так, что из глаз полились слезы. — Что ты сказала? — едва выдавил он. — На месте Пегги я не взяла бы тебя в любовники. Рони снова закашлялся, а Лон похлопала его по спине. — О! Большому мальчику плохо! Посмотрите, он подавился! Рони был свято убежден, что ни одна живая душа не знала о его отношениях с Пегги. И Чарлен, всегда думалось ему, смотрит на него как на добродушного крестного, этакого друга семьи… Ну и от какой печки теперь танцевать? — Почему ты поперхнулся? Из-за того, что я сказала? Рони, не придумав ничего лучшего в ответ, неожиданно для самого себя брякнул: — Нехорошо мать называть Пегги. — Для нянек я всегда придумывала прозвища. — Она тебе не нянька. — Биологически может быть и нет. Но вот в эмоциональном плане… — Да что с тобой? Вы поссорились? — И не на шутку! — Ты это серьезно? — Дай-ка мне чашку. Рони машинально подчинился, и она налила ему кофе. Их глаза встретились. Лон смотрела не мигая, и он, сам не зная почему, смутился. — Почему ты отводишь глаза? — Лон не спускала с него взгляда. — Подай мне, пожалуйста, сигареты. Они на столе. Лон протянула ему пачку. Рони вытащил сигарету и сделал глубокую затяжку, выпустив кольцо дыма. Лон закурила тоже. — Рони… Может, хватит нам обоим дурака валять? — Не понимаю. — Сейчас объясню. Я многое хотела бы тебе объяснить… — Например? — Кое-что о тебе, если заинтересуешься, и обо мне, если найдешь время выслушать. Говорят, устами младенца глаголет истина. Жаль только, что я не младенец. Ты хотел бы стать знаменитым? Так? Задетый за живое, Рони чуть не покраснел. Он глянул на девушку, попытался иронически прищуриться, но Лон не смотрела в его сторону. — Ты никогда не спрашивал себя, почему твои «священные писания» никто не покупает? — Я счастлив уже тем, что их пишу, — сухо ответил Рони. — Врешь! — улыбнулась Лон. — Только врешь себе, а не мне. Они вдруг поменялись ролями: Рони почувствовал себя ребенком перед этой не по летам взрослой девочкой. — Сколько тебе лет, Рони? Он прикинул, отвечать ли, а потом бросил как вызов: — Пятьдесят три! — Поздравляю, ты неплохо сохранился. — Кончиком пальца Лон провела по его лицу, не удержавшись от замечаний: — Ни лысины, ни седины. Благородные морщины. Глаза с чертовщинкой… А знаешь, что ты весьма привлекательный мужчина? Я хочу сказать, без очков… — А тебе, соплячка, сколько лет? — Рони вдруг охрип. Он разволновался больше, чем хотелось бы, а потому злился. — Я женщина, — спокойно ответила Лон. Нет, ее нужно отшлепать и выставить за дверь! Его взгляд задержался на ее округлых бедрах. Рони уже не соображал, что происходит. — Ну и что ты думаешь о моих книгах? — Они слишком нудные. — Ты еще слишком молода, чтобы понять их. Девушка весело и звонко расхохоталась. — Мой милый Рони, наше поколение уже решило все твои проблемы! — Несмеши меня! — Впрочем, у тебя есть талант. Но то, что ты пишешь, сухо и невыразительно. Понимаешь, никаких чувств, а чувства — это соль! Хочешь показать, как ты умен, и ударяешься в нудные поучения. Не там ищешь! Головой не пишут! — Чем же, по-твоему, пишут? — теперь вопросы задавал он. — Членом, — спокойно ответила Лон. Рони подпрыгнул как от удара током высокого напряжения. — Да ты лежи, — сказала Лон. — Довольно. Если б твоя мать это слышала! — Ложись, — мягко повторила девушка. — Ты прекрасно знаешь, что я права. И если хочешь что-то кому-то растолковать, то лезь не сюда, — она постучала по лбу, — а сюда… — Взяв руки Рони в свои, Лон приложила их к переднику, прикрывающему низ ее живота. — Девочка, а не слишком ли ты торопишься? Он нервно закурил, забыв предложить сигарету гостье. Лон откинулась на подушки рядом с ним и вновь взяла его за руку. — Не я тороплюсь, Рони. Это ты отстаешь. Хочешь знать, сколько мне лет? — Какая разница… — Тринадцать. — Черт тебя поймет! — Что скажешь, Рони? — А в двадцать что тебе останется? — То, чего тебе не хватает в пятьдесят. Мечты и надежды. Рони замолчал, не зная, о чем говорить дальше, но наконец решился: — Послушай, Лон, ты заявляешься ко мне без предупреждения, когда я еще сплю, и, как молоток, обрушиваешь мне на голову свои побасенки. Да знай я об этом сразу… Иди-ка ты, девочка, домой!.. — Слишком поздно! — Что?! Она приподнялась на локте, провела большим пальцем по его губам, наклонилась над ним и чарующе медленно принялась ласкать их своими. Потрясенный Рони молил небо ниспослать ему силы оттолкнуть ее. Пока еще он не пересек границу, за которой перестанет быть Рони. А граница так близка… Так пьянит его эта неожиданная близость. Насколько мать была груба, настолько нежной, свежей, гибкой казалась ему дочь. И этот — с ума сойти! — почти забытый аромат — нет, не духов, а самой юности… Девочка права, все сказанное ею, — правда. Это он старый дурак! Второй такой встречи не будет! Хватит рассуждать, жить иллюзиями в ожидании Бог знает какого счастья. Она с ним, здесь… Его руки сжали гибкое тело Лон. Какая разница, что привело ее сюда! Рони прижался щекой к ее щеке, потрясенный, задыхающийся, с бешено бьющимся сердцем. — Лон… — Он скорее угадал, чем увидел ее улыбку. — Ты и сам видишь: слишком поздно, — прошептала она.* * *
Теперь Пегги была уверена: прислуга ворует! На одну чашу весов она поставила пустое фарфоровое блюдо, на другую принялась выкладывать металлические бигуди, пока чаши не уравновесились. Туда, где находились бигуди, она добавила еще килограммовую гирю, а на блюдо выложила из консервной банки икру, всю до последнего зернышка. Но чаша с икрой продолжала оставаться вверху. Пегги быстро прикинула: 123 грамма икры Эмили втихомолку слопала на кухне! При одной только мысли, что ее обкрадывают, ей стало плохо. Она вскочила, нервно нажимая кнопку звонка, и бросила машинальный взгляд в зеркало, по привычке напрягая грудь. Да, этим природа ее не обидела: грудь по-прежнему оставалась высокой и упругой. — Вы меня вызывали? — Эмили, скромно потупившись, остановилась у порога. — Вам известно, сколько стоит килограмм икры? — зло прошипела Пегги. Эмили пожала плечами. — Я никогда не покупаю икру, мадам. — Ну еще бы! Вы прекрасно обходитесь той, что покупаю я! — Мадам! — Замолчите! Вы съели 123 грамма! А килограмм икры стоит 163 доллара. Значит, ваш завтрак обошелся в 20 долларов и четыре цента. Я не собираюсь скармливать вам мой «шампунь», а поэтому вычту эту сумму из вашей зарплаты. И, вывернув икру с блюда на голову, Пегги принялась сердито втирать ее в волосы. Эмили робко попыталась возразить: — Мадам, уверяю вас! — Вон отсюда! Зазвонил телефон. Эмили поспешно сняла трубку. — Мадам, вас спрашивает мистер Джереми. Пегги подошла, но прежде чем взять трубку, вытерла лоснящиеся от икры руки о белоснежный передник горничной. — Выметайся! — приказала она и, обращаясь к Джереми, попросила: — Перезвони чуть позже. Эта чертова икра попала мне в ухо!* * *
Рони впервые за Бог знает сколько лет наслаждался невыразимым покоем и счастьем. Он впитывал радость всеми фибрами души и тела. Когда ему приходилось заниматься любовью с Пегги или, скорее, служить ей для занятий любовью, его желание не находило удовлетворения. Всегда после интимных встреч с ней он сам себе напоминал оскорбленную женщину, которую используют, не заботясь о ее удовольствии. Но Лон! У дочери было все, чем не обладала мать. Лон была столь же нежна и мила, сколь ее мать бесчувственна и жестока. Теперь до Рони дошел смысл брошенной Лон фразы о том, что в его книгах «нет соли». Просто раньше он не испытывал подобных ощущений и даже не представлял себе, какое невыразимое наслаждение может дать согретая любовью плоть, когда ты забываешь о ней и все твое существо переполняет счастье, для которого не находишь слов. — Ловишь кейф? — не без иронии поинтересовалась Лон, выходя из ванной. — Лон… — Рони, ты не мог бы оказать мне маленькую услугу? — Услугу? — В эти минуты он вскрыл бы себе вены и отдал бы ей всю кровь до последней капли. — Ничего особенного, — успокоила его Лон, причесываясь. — Мне нужно немного денег… — И только? Да я отдам все, что у меня есть. Сколько тебе нужно? Двадцать, тридцать, пятьдесят, сто тысяч? — Пятнадцати хватит. Я выпишу тебе чек. Предки заморозили мой счет в банке. — Почему? — Они подозревают, что я хочу отыскать Квика. — Кого? — Парня, которого я люблю. Господи, да что она говорит? Ведь не прошло еще и десяти минут, как они вместе возносились к сияющим вершинам… И вот… Рони ощутил в горле горький комок. — Парня, которого ты любишь? Какого парня? Лон все еще причесывалась, спокойно улыбаясь, словно ничего не произошло. — Квика, — повторила она. В ее голосе звучало нетерпение. — Из-за него мы поругались с Пегги. С моей мамочкой не соскучишься! Трахается со всеми подряд, воображая, что мне всего шесть лет. Эти слова, как ножом, полоснули по сердцу Рони. Значит, Пегги попросту пудрила ему мозги, уверяя, что он был ее первым внебрачным приключением! А ее дочь, в которую он сразу без памяти влюбился, тоже любит другого! Не многовато ли для одного? — Кто он, этот Квик? — стиснув зубы спросил Рони. — Что в нем особенного? — Ничего. Он как все. Ему двадцать лет, он блондин. Автогонщик. — И ты его любишь? — Угу, — пробормотала Лон, натягивая толстый шерстяной свитер. Нанесенная Рони сердечная рана была слишком свежа, чтобы он мог защищаться. Если бы удалось хоть на минуту притвориться легкомысленным, ироничным и добродушным… Но ничего не получалось. — Лон? — Что? — Ты сейчас же отправишься домой. Девушка влезла в джинсы, застегнула сапожки. — И не подумаю. Неужели ты ничего не понял? — Лон произнесла эту фразу тоном, каким взрослые объясняют детям простые вещи. — Я не дам тебе денег. Выражение лица Лон не изменилось, но она, вздохнув, покачала головой. — О, Рони! Опять ты за свое. Неужели не понимаешь, что значит любить человека, но жить без него? — Тогда зачем ты переспала со мной, если любишь другого? — в голосе Рони зазвучал гнев. — Не вижу связи. — Как? Тебе лишь бы трахнуться? Так же терпеливо и ровно Лон пояснила: — Ну да, я делаю это, когда хочу. Это все равно что чистить зубы. При чем тут чувства? Рони услышал только то, что хотел услышать — она сказала: «Когда хочу…»— и ухватился за эти слова как утопающий за соломинку, стараясь как можно спокойнее и мягче спросить о главном. — Значит, тебе хотелось переспать со мной? — Да. Ему бы остановиться, но он не удержался и задал следующий вопрос: — Почему? Лон весело рассмеялась. — Ну не за твои же красивые глаза! А чтобы достать мою мать. Рони ощутил, как к горлу подкатывает тошнота. Если опустить голову, то его вывернет прямо на ковер. — Ты… Ты ей об этом расскажешь? — Конечно… Попробуй только не дать мне денег. Перед его глазами закачалась стена, заплясало окно… И потом все разом рухнуло и исчезло.* * *
Вопли Джереми ударили по ее барабанным перепонкам. От неожиданности Пегги дернулась, откинула голову назад. Зернышко икры сорвалось с ее волос на грудь и соскользнуло на кровать. — Она вернулась? — рычал Джереми. — Черт тебя подери! — взбесилась Пегги, глядя на жирное пятно на простыни. — Что ты там бормочешь? Пегги резко смахнула остатки икры тыльной стороной ладони. Несколько икринок с размаху прилепились к бледно-розовому абажуру. — Я говорю: черт тебя подери! — повторила Пегги. — И прими, пожалуйста, к сведению: мне наплевать, вернулась она или нет. Но если ты не сменишь тон, то очень скоро об этом пожалеешь! — Ах так! Зачем ваша милость таскалась к Арчибальду Найту с этой стервой Нат? Тебе мало вонючих арабов? Нужно было еще откопать и эту старую мумию. Пегги схватила с подноса кофейник и шарахнула им об стену. Задыхаясь от ярости, она затараторила со скоростью пулемета, выплескивая из себя все, что в данный момент приходило в голову. В другое время она, возможно, и не решилась бы говорить о подобных вещах, но сейчас ее понесло. — Ты что, за мной шпионишь? Отлично! Тогда разреши сообщить последнюю новость: я выхожу замуж! На другом конце провода воцарилось молчание. Пегги наслаждалась произведенным эффектом. В своем воображении она даже слышала, как скрипят, тяжело поворачиваясь, извилины Джереми, обдумывая услышанное. — Повтори-ка! — Не притворяйся! Ты прекрасно слышал! Я выхожу замуж! — За араба или за эту столетнюю рухлядь? — За кого прикажете? Больше я не могу себя содержать сама! — Пегги, Пегги! Ты сошла с ума! — Зарплаты у Аттилио мне, по-твоему, хватает, да? — Пегги! — патетически воскликнул Джереми, окончательно сдаваясь. — Мы готовы тебе помочь! Честное слово! — Прибереги эту милостыню для своей партии! — Пегги! — И не трать денег на свадебные подарки, я вышвырну их в мусорную корзину. Обессиленная схваткой, она швырнула телефонную трубку. Что ж, придется для правдоподобности подкрепить слова делом. Эта невероятная помолвка должна состояться! Только бы у Арчибальда Найта не хватило свинства испортить ее затею. Все должно решиться в ближайшие дни. (обратно)Глава 6
Это было ужасно. Что ни придумывай — не поможет: его приперли к стенке. Если он даст девчонке денег, Пегги рано или поздно обвинит его в содействии побегу дочери. Если Лон денег не получит, то расскажет матери о том, что переспала с ним. И в том и в другом случае его не похвалят. И тогда, как и все слабохарактерные люди, Рони решил сложить руки и положиться на волю судьбы. Будь что будет. Может быть, Лон блефует? Ну что же, эта выяснить не трудно. И он произнес довольно твердо: — Я не могу одолжить тебе эти деньги. Твоя мать обвинит меня в том, что я потакаю твоим причудам. — Предпочитаешь, чтобы она обвинила тебя в изнасиловании? Рони побагровел. — Это ложь! Ты сама залезла ко мне в постель. Лон рассмеялась. — Ну и бред! Подумайте, семнадцатилетняя девушка совратила пятидесятилетнего мужика! — Но это же правда! — Между нами говоря, ты совершенно прав. Только кто тебе поверит? Все, у меня время не резиновое. Даешь мне пятнадцать тысяч? Да или нет? Рони уперся с отчаянной храбростью труса. — Нет. — Отлично, у тебя был выбор. Я звоню Пегги. Ему бы в эту минуту закричать, заспорить, обнять ее, ударить, попытаться переубедить — словом, хоть что-нибудь сделать. Но Рони даже не пошевелился. Словно в кошмарном сне он увидел, как Лон сняла телефонную трубку, набрала номер и сказала спокойным и уверенным голосом: — Эмили! Это Чарлен! Пригласите, пожалуйста, маму.* * *
В присутствии матери Джереми всегда чувствовал себя трехлетним ребенком. Допусти он хоть какую ошибку, она, не задумываясь, влепила бы сыну пощечину, что Джереми даже и не удивило бы. Железная леди, воспитанная на железных принципах — Господь Бог, Деньги и Абсолютная власть, — Вирджиния Балтимор не допускала, чтобы дети, плоть от плоти ее, были людьми иной закалки. — Мой бедный мальчик! Все это так несерьезно. — Мама, сейчас не те времена. В наши дни политика совсем иная — она куда жестче и беспощаднее! Мать рассмеялась. — Скажите пожалуйста! По-твоему, то положение, которое ты занимаешь с рождения, — игра случая? «Сначала мы!» — вот что было девизом твоего деда, великого Стивена Балтимора I. — Подбородок Вирджинии дернулся по направлению к портрету основателя династии, висевшему на стене над многочисленными изображениями членов клана Балтиморов. — И ты полагаешь, что твой отец… — Новое движение подбородка. Старая женщина перекрестилась, — …достиг вершин власти по счастливой случайности? Цель оправдывает любые средства! Цель и слава Господня! — Мама… — Знаешь, как мы с твоим отцом представляли вашу карьеру… Скотт должен был занимать пост президента с 1961 по 1969 год. После него Питер — до 1977. — Но мама… Скотта убили. А Питер умер! Она смерила его холодным презрительным взглядом. — На все воля Божья. Ни Скотт, ни Питер не искали смерти. Ты же должен был победить на следующих выборах и продержаться у власти до 1985 года. Мне бы дожить до того момента, когда к власти придет Кристофер Балтимор III, мой внук… — Мама! Наша судьба не всегда в нашей власти! — Ерунда! Наша воля сильнее любых поворотов судьбы! — Все не так просто, — пробормотал Джереми. — А я что говорю? В противном случае на президентском месте мог бы оказаться самый распоследний негр. К Пегги у меня нет ни капельки уважения, что я не раз повторяла твоему брату. Сейчас речь о тебе. Твоя партия должна победить на выборах! Если Пегги можно нейтрализовать, сунув ей чек, — так в чем же дело? И поосторожнее с Арчибальдом Найтом — это еще тот обольститель! — Мама! Но ему же скоро девяносто! — Ну и что? Мне уже больше. Джереми с трудом сдержал нервный смех. Этого мать не потерпела бы. — Запомни, — произнесла она спокойно и властно, — если никто из Балтиморов не станет президентом, то я зря прожила жизнь! Что ей ответить? Вот почему так трудно обращаться к ней за советами: интересоваться мнением Вирджинии — значит получить от нее приказ. К счастью, Пегги послала его ко всем чертям, дав время еще раз все взвесить. Мать — не Пегги, она его просто раздавит. В ее руках все состояние Балтиморов. Если старуха разозлится, она может изменить завещание. Забавная ситуация, нечего сказать: в сорок лет просить позволения рассердиться! Но мать есть мать. Только беспрекословное повиновение и никакой самодеятельности. Не то получишь хорошую трепку!* * *
— Знаешь, мне иногда кажется, что ты меня попросту используешь, — вздохнула Нат. — Выкладывай, что с тобой, — спокойно попросила Пегги. — Я что-то не пойму: ты действительно хочешь выйти замуж за Арчи или просто дразнишь Балтиморов? Пегги, которая подводила глаза, сидя у зеркала, повернулась к подруге. — Нат… Ну что тебе стоит? Ты поможешь мне? — Вчера мне показалось, что ты многое недоговариваешь. — Не говори глупостей. Джереми взбесил меня, и я сказала, что выхожу замуж за Арчибальда. Неважно, состоится свадьба или нет. Главное, чтобы Джереми поверил в это и разболтал всем. Вот если бы Арчибальд приехал сегодня вечером на презентацию коллекции Аттилио… Как думаешь, мы сможем его вытащить? — Арчибальд никогда не появляется в свете! — Отлично! Значит, если он появится со мной… — Но он до смерти боится всяких там приемов. — Нат! — Пегги уже начинала терять терпение. — Да мне начхать на то, что ему нравится, а что нет! Ты на его стороне или на моей? Скажем так: нужно выяснить, клюнул он или нет. Если да, то пойдет. — А если он вечером занят? — Черт подери! — взорвалась Пегги. — Если занят — освободится, а не освободится — пусть хоть сдохнет! — Не волнуйся, я попробую… — Звони ему сейчас же! — Идет. На пороге возникла Эмили. — Ну? — нетерпеливо бросила ей Пегги. — Мадам, я подумала, что должна… — Короче! — Мадам, вы видели эту газету? — Какую газету? — «Пэйдж Твэлв». Ее только что принесли. — Дай сюда эту туалетную бумагу! — Она вырвала газету из рук горничной и пробежала глазами несколько строк. Лицо ее вытянулось и помрачнело. — Вон отсюда! — Это относилось к наблюдавшей за хозяйкой Эмили. — Ну, что там? — поинтересовалась Нат. — Читай! Статья была написана Люси Мадден. И собственно, не статья, а бред истерички — врагу не пожелаешь! — Вот дрянь, — простонала Нат. — Не может быть! — Я ее угроблю! — прорычала Пегги. — Она будет сегодня вечером у Аттилио? — спросила Нат, пряча усмешку. — Тебе смешно? — буркнула Пегги. — Пусть только сунется туда — убью! — Делать тебе больше нечего. — Конечно, написали ведь не о тебе! — Можешь помолчать минуту? Я придумала кое-что получше убийства. — Она обняла Пегги за шею и что-то зашептала ей на ухо. Пегги воспрянула духом и даже улыбнулась. — Ты думаешь, получится? — Конечно. — Да, но где это найти и как мы узнаем, что она их сожрала? — От шоколада Люси никогда не отказывалась! — И кто ей пошлет? — Конечно, Аттилио! У тебя есть его визитка? — Подожди-ка… Пегги порылась в ящичке у зеркала и, довольная, вытащила оттуда квадратик картона, на котором было написано: «С наилучшими пожеланиями от Джованни Аттилио». — Отлично! — Нат почему-то перешла на шепот. — Я все сделаю! Надо будет оформить это как подарок Аттилио и отправить с посыльным. — Все! Беги сейчас же! Зазвонил телефон. Пегги сняла трубку и знаком попросила Нат подождать. — Кто? — переспросила она. В глазах ее вспыхнули молнии. — Давайте мне ее! Слушаю. Где это? Хорошо! Сиди там, я уже еду. — Кто это? — спросила Нат. — Чарлен. — О Господи! Где она? — У Рони Бейли. Ты позвони Арчи, пока я с ней разберусь. Скажи ему, что он должен пойти. — Она включила домофон: — Эмили! Муди и «ройс-роллс» — к подъезду! Живо! Набросив норковое манто, Пегги взбила волосы и махнула рукой подруге. — Не забудь о шоколаде!* * *
— Шлюха! — крикнул попугай. Люси Мадден перехватила насмешливый взгляд, которым обменялись Грант и Гордон, и поджала губы. — Прошу прощения! Я на минутку. Она кинулась в спальню, забыв закрыть за собой дверь, подбежала к клетке Артура и зашипела: — Заткнись, свинья, у меня гости! — Жирная шлюха! — Скотина, бромом напою! Она сорвала накидку с подушки, накрыла ею клетку и вернулась в гостиную. — Я уже говорила: неважно, от кого получены эти сведения. Только учтите, что малышка сбежала два дня назад. — Хорошо, не раскрывайте источники, скажите только, как вы их добываете. — У меня везде есть нужные люди, — с шумом вздохнула она. — Один из них связан с автогонщиками и намекнул как-то, что Чарлен видели с одним очень перспективным молодым спортсменом. Я проверила этот факт. После очередного свидания домой она не вернулась. Из этого следует, что девица уехала вместе со своим хахалем. — Как его зовут? — Вы слишком многого требуете! Если бы я это знала, то, конечно, назвала бы имя. Грант незаметно подмигнул Гордону. — Как бы то ни было, мисс Мадден, примите наши поздравления! Ваша статья вызовет грандиозный скандал. — О, чепуха! Это так, лишь бы отмахнуться. Маленький розыгрыш. Только начало, потому что в следующем номере я расскажу об исчезновении ее дочери. Например, под заголовком «Яблочко от яблони…» или «Малышка и автогонщик»… Не будь Пегги такой тряпкой, она вываляла бы меня в смоле и перьях! Хотите? — Люси указала на коробку шоколада, которую ей доставил посыльный полчаса назад. — Нет, спасибо. Аттилио знал о ее слабости к сладкому и любезно послал ей конфеты. И пока они беседовали, Люси успела наполовину опустошить коробку. — Не забывайте, — подхватила она, запихивая в рот сразу три шоколадки, — сегодня вечером я встречаюсь с моей постоянной мишенью. Она теперь крутится в салоне моего друга Аттилио… Бедный мой, бедный Аттилио! Честное слово, у него есть голова, но кем он себя окружил! У него там просто притон какой-то для голубых и шлюх! Чуть позже, когда ее гости были уже на улице — подальше от этой дряни, Гордон скомандовал Гранту: — Пошевеливайся, шеф ждет! Опять опаздываем.* * *
Рони открыл дверь, и у него чуть не подкосились ноги. Пегги бросила на него короткий вопросительный взгляд и поискала глазами Чарлен. Та сидела на стуле и спокойно курила. А Рони вдруг захотелось удрать куда глаза глядят, подальше от собственного дома и вообще от Нью-Йорка, пока не разбилась эта хрупкая тишина и не разразилась буря. И все же, несмотря на решимость Лон и ее твердые обещания, он надеялся, что девушка промолчит. На всякий случай Рони старался держаться поближе к двери. Ему так хотелось превратиться в какую-нибудь вещь и забыть обо всем на свете. Только бы не ждать с замирающим от ужаса сердцем слез, криков, ударов. Что разыграют его гостьи? Драму или водевиль? Пегги вдруг отвела взгляд от Лон, устремив его на Рони, словно только что его заметила. Будь Рони стеной, он тотчас рухнул бы. — Как дела? — вполне вежливо поинтересовалась Пегги. Он бессмысленно помотал головой, но не смог выдавить из себя ни слова. Пегги снова повернулась к дочери и сказала как ни в чем не бывало: — Я хочу, чтобы сегодня вечером ты отправилась со мной к Аттилио — он представляет новую коллекцию. У тебя есть приличное платье? — Не пойду. Меня тошнит от этих ваших приемов! Рони судорожно стиснул ручку двери. Пора как можно скорее убираться. Пороховая бочка вот-вот взорвется. Но ничего подобного не случилось. Ответ Пегги прозвучал спокойно, почти безразлично: — Меня тоже. Но, к сожалению, это моя работа. И я хочу, чтобы ты пошла. Рони перевел дух. Пегги пока еще не задала ни одного лишнего вопроса, не проявила ни малейшей враждебности. Может, все еще уладится… И вдруг Лон плеснула масла в огонь. — Странно… Тебе ведь хотелось меня запереть? Или я ошибаюсь? — Поговорим об этом дома. — А не лучше ли сейчас? Рони чуть не вырвало. Но он ухитрился прошептать: — Я оставлю вас на минуточку. Мне нужно… Спасительная дверь уже открывалась, когда его остановил насмешливый голос Лон: — Останься, Рони, останься! Лишним не будешь, и, возможно, у тебя появится новый сюжет. — Ты думаешь? — растерялся Рони. — Минуточку! Давай кое-что выясним. И закрой, пожалуйста, эту чертову дверь. Рони вытер со лба ледяной пот, чувствуя, что во рту у него пересохло как после недельной лихорадки. — Ну вот, — мирно продолжила Лон. — Я хочу признаться тебе, мамочка: мы с Рони занимались любовью. Пегги понадобилась вся воля, чтобы удержать себя на месте. И ей удалось на миг притвориться невозмутимой. — И как, понравилось? Лон пожала плечами. — Рони, кажется, в восторге, а я… Ну, в общем, ты понимаешь. Одним прыжком Пегги очутилась рядом с дочерью и влепила ей увесистую пощечину. Потом еще одну. Лон не шевельнулась. Теперь наступила очередь Рони. И он, съежившись как ребенок, закрыл лицо руками. — Эта потаскушка говорит правду? Пегги вцепилась в Рони и принялась немилосердно трясти его, пытаясь добраться до физиономии. Она была готова выцарапать любовнику глаза, убить его на месте! Рони отчаянно защищался, испуская жалобные стоны. Лон развеселилась. — Кавалер у тебя что надо! Пегги словно водой окатили. Рядом в такой же позе застыл Рони. А Лон с издевкой заметила: — Мама, мамочка, нехорошо девочке смотреть на драму взрослых. — Лон! — воскликнул Рони, неосмотрительно опуская руки. И Пегги наконец вцепилась ему в физиономию. Он поднес ладонь к губам и с тупым удивлением уставился на кровь. Лон вскочила на ноги, отбрасывая стул, и швырнула сигарету на палас. Палас задымился, но всем было наплевать на это. — Хватит! — скомандовала она, делая решительный шаг в сторону матери. — Во-первых… — Взгляд дочери с ненавистью уткнулся в побелевшее лицо Пегги. — Ты больше и пальцем меня не тронешь. Нервишки пошаливают — так отыгрывайся на этом недоноске! На несколько секунд воцарилось молчание, прерываемое лишь тяжелым дыханием Пегги, неподвижной, как гранитная скала, и всхлипами Рони. — Ты меня слышишь, Пегги? — Желтые глаза Лон угрожающе сузились. Она была выше и крепче матери. — Впредь я не потерплю ни советов, ни придирок, ни палок в колеса! И предупреждаю: попробуй только помешать мне — закачу такой скандал, что тебе и в страшном сне не приснится! Я много думала… И немало поняла. Папины родственнички хотят задвинуть тебя на время этих фиговых выборов! И ты хочешь этим воспользоваться, но травить себя я не позволю! Ты ухитрилась выставить Квика — я его найду! Оставь меня в покое! Забудь вообще! Возьмешься за меня — я тоже за тебя возьмусь. Одно доказательство уже есть, и, честное слово, оно не последнее! Или уж давай играть на равных. А на все твои интриги мне наплевать. Я только гнили боюсь! Девушка с минуту помолчала, хотела было еще что-то сказать, но сдержалась. Вытащив из сумки сигарету, она закурила, пригасила тлеющее пятно на паласе. — Пойдем домой, Чарлен, — почти беззвучно прошептала Пегги.* * *
— Ну как наши дела? — поинтересовался Джон Робинсон. И хотя тон его был спокойным, Гордон и Грант ощутили нечто очень похожее на страх, который всегда вызывал у них этот невзрачный человечек, с виду такой добродушный и такой обыкновенный. Впрочем, Гордон и Грант тоже мало походили на примерных детей. Они уже не раз — и довольно успешно — оказывали республиканцам немалые услуги весьма сомнительного свойства. — Примите рапорт, — привычно вытянулся в струнку Грант. Робинсон взял исписанные листки и просмотрел по диагонали. Легкая усмешка раздвинула ему губы. Грант, зная шефа, готов был тут же сунуть нос в свои записи, чтобы выяснить, что же так его развеселило. Не отрывая глаз от бумаг, Робинсон миролюбиво заметил: — Не вытягивайте шею, все равно не догадаетесь. Грант покраснел до ушей, его коллега — тоже. Ну откуда они могли знать, что все, о чем умолчала Люси Мадден, шефу было отлично известно. Не сообщать же им, что несколько последних месяцев их услуги оплачивались из средств, предоставленных Слиманом Бен Слиманом. Много знать опасно… — Сколько вы заплатили этой… мм… даме? — Люси Мадден? — уточнил Грант. — Семьдесят тысяч долларов, — ответил Гордон. — Многовато, — пробормотал Робинсон и добавил: — Многовато за такую информацию. — Это было нелегко, шеф. — И она поверила в нашу историю с агентством? — Наплевать. Она ведь не знает, на кого работает. — Вы получили у директора ее банка копию чека? — Она их еще не вносила. — Тогда почему бы не отобрать их? И, видя, как смутились помощники, Робинсон смилостивился: — Я шучу. Впрочем, парни при их рвении вполне могли принять эту шутку за приказ и, чего доброго, выполнить его. — Не блестяще… Что скажете? — Да, шеф. — Мне ведь тоже необходимо отчитываться, куда уходят деньги. Значит так: возвращайтесь и потрясите эту старую шкуру еще раз. Идет? — Есть, шеф.* * *
Аттилио был ошеломлен. Статья Люси Мадден о Пегги была воистину кошмарна! Гости начнут съезжаться не позже чем часа через два, и, конечно, не удастся выставить за дверь ни одну, ни другую. Хорошо, если Пегги не подведет его. Они же устроят грандиозный скандал и, чего доброго, еще и подерутся. Прощай тогда презентация. А может, это послужит дополнительной рекламой? Джованни беспокойно выглянул в окно. Вход в здание уже перекрыли фоторепортеры и телевизионщики: они устанавливали аппаратуру. Никто не отказался от приглашения. Еще бы — такое событие! Сама Вдова за работой! Только бы она явилась. А нервы у Аттилио уже подрагивали. И вдобавок исчез его пожарник. С ним бы он быстро успокоился, проведя минутку-другую наедине… Проклятый пожарник! Завтра же надо позвонить начальству парня, отыскать его, содрать с него униформу и сделать своим личным секретарем. Джованни мерил шагами кабинет, сжимая и разжимая кулаки. А тем временем под окнами уже собралась толпа, и легавые тщетно пытались навести порядок. Конечно, возможность расслабиться у него есть: стоит только позвать кого-нибудь из служащих… В конце концов, каждый из них прошел через постель, прежде чем быть принятым. Но кого? Аттилио, стараясь справиться с дрожью, нажал на кнопку: — Позовите-ка Дидье! Живо! Он сбросил халат и принялся расстегивать брюки.* * *
— Меня ожидает мистер Найт. — Как о вас доложить? — Джон Робинсон. — Одну минуту. Второй раз в жизни нога Робинсона вступала в чертоги Арчибальда Найта. Взглядом знатока он окинул наброски и эскизы в гостиной. Как и все — нет, лучше чем кто бы то ни было, он был осведомлен о коллекции Арчи — потрясающей коллекции полотен эпохи Возрождения. То обстоятельство, что старикан ее никогда и никому не показывал, только увеличивало ее ценность в глазах окружающих. Двух или трех картин да Винчи хватило бы на всю предвыборную кампанию, если продать их с аукциона. Перед ним как из-под земли вырос лакей. — Следуйте за мной, мистер Робинсон. Мистер Найт ожидает мистера у себя. Робинсон ухмыльнулся. Надо же суметь трижды всунуть слово «мистер» в одну короткую фразу. — Входите, — бросил Арчи. — Рад вас видеть. Что скажете? Робинсон с готовностью достал донесение Гордона и Гранта, которое пришлось слегка подредактировать. Старик рассеянно перелистал его, не особенно вникая в детали, и поинтересовался, не глядя на гостя: — И во сколько вам обошлась эта чушь? — В семьдесят тысяч долларов. — Было бы за что! Кому пошли эти деньги? Робинсон заколебался. Старикан был одним из основных теневых спонсоров партии и деньги на ветер выбрасывать не любил. — Так кому же? — повторил Арчи. — Я не уверен, что… — Громче, пожалуйста, я плохо слышу! — Найт в стотысячный раз разыгрывал глухого. Он всегда прекрасно слышал лишь то, что хотел услышать. — Одной журналистке… — запинаясь, пробормотал Джон. — Ее имя? Какого черта я должен тянуть вас за язык! — Люси Мадден. — Газета? — «Пэйдж Твэлв». — Какая, повторите! — «Пэйдж Твэлв». Найт свирепо засопел. Робинсон молча ждал объяснений, если, конечно, старик снизойдет до этого. — Почему вы не предупредили меня заранее? — Но вы не спрашивали! — Но хоть что-то можно было сообразить самому? Ваши идиоты-агенты плевать на вас хотели! Теперь Джону явился совсем другой Арчибальд Найт. Робинсон привык к беспрекословному подчинению, к неограниченной власти и не выносил, когда на него кричали. Но сейчас он растерялся как мальчишка. Старикан буквально держал его за горло. — Кретины! Тупицы! — выходил из себя Арчибальд. — «Пэйдж Твэлв» принадлежит мне. Понятно? Как и еще семнадцать газет! Робинсон остолбенел. Этого он и предположить не мог. Его профессиональная гордость была уязвлена. — Не будь вы таким олухом, мы получили бы эти сведения бесплатно, — не унимался Арчи. — Какая чушь… Какая глупость… — Откуда я мог это знать? — попытался объяснить Робинсон. — Да я вам плачу за это! — взбесился Найт. — А вы ни черта не знаете. — И все же… — Замолчите! Мысли Арчибальда бродили где-то далеко, он долго молчал, потом произнес: — А известно ли вам, что я готовлюсь к помолвке? Робинсон вздрогнул от неожиданности. — Честное слово, нет… — Вот видите! И знаете с кем? — Понятия… — С Пегги Сатрапулос. Сегодня мы впервые вместе появимся в свете. Если бы Робинсон не сидел на стуле, он плюхнулся бы на пол. Все рухнуло… Отныне Вдова была в полной безопасности под могучим крылышком Найта, одного из финансовых повелителей партии, вместе со Слиманом Бен Слиманом. Никаких пакостей, никаких сплетен по отношению к ней они теперь не могли себе позволить. Придется искать другой способ уделать демократов. — Ну и ну, — буркнул он и тут же поправился: — Я хочу принести вам сердечные поздравления и сию же минуту прикажу прекратить расследование в отношении вашей будущей невесты! — А кто вас об этом просит? — вцепился в него Арчи. — Кто? Разве я упомянул о чем-либо подобном? — Я подумал… — Вам платят не за размышления, а за выполнение распоряжений. Любовь не имеет никакого отношения к моим политическим взглядам.* * *
Квик уже провел в Париже два дня, сгорая от нетерпения. Когда он в назначенный час появился в аэропорту Кеннеди, его взяли под свою опеку старые знакомые — те два парня из «Невады», которые пригласили его в Европу после злосчастных гонок. И сразу же — сюрприз: он поедет не в Афины, как было условлено, а в Париж! Его проводили до самого выхода на летное поле. Весь багаж Квика уместился в спортивной сумке — шлем-талисман, две рубашки, брюки, старый свитер и пакет с зубной щеткой, пастой, бритвой и кремом для бритья. В последнюю минуту провожатые сунули ему в карман конверт с тысячей долларов. Сердце Квика радостно подпрыгнуло, когда он пересчитал десять новеньких хрустящих банкнот. «В Париже вас встретят», — сказал на прощание один из парней. В Орли его действительно ожидал ничем не приметный мужчина среднего возраста. Единственное, что запомнилось Квику в тот день, — это квартал, где находился отель с претенциозным названием «Сад лилий». Мужчина пообещал, что с Квиком в ближайшее время заключат контракт, и удалился. Вот и все. С тех пор Квик умирал от скуки в ожидании телефонного звонка или стука в дверь, не решаясь выйти из номера. От нечего делать он перечитал все валявшиеся в номере порнографические журналы. Впрочем, вряд ли это можно было назвать чтением, если иметь в виду две-три строчки комментариев под огромными, во всю страницу фотографиями. К тому же по-французски Квик не знал ни слова, что тоже не прибавляло радости. Его кровать ужасно скрипела, в комнате воняло, душ протекал, а кран никак не закручивался. Еду здесь подавали отвратительную: мясо жесткое, как подметка, и совершенно прокисшее вино. Пришлось обходиться кока-колой. Чертов отель! В Париже можно было найти кое-что получше этих серых унылых кварталов и похожих на ходячие трупы постояльцев. К Квику должен был явиться некий Дэвид. Ему сказали: «Он придет сразу же, как только сможет». Интересно, что значит это «сразу же…» по местным меркам? И вообще, пусть все катится к чертям. В конце концов, денег у него навалом. Так почему бы этим не воспользоваться? Квик натянул чистую рубашку, пригладил ладонью волосы, вышел на улицу и остановил первое попавшееся такси. Ему пришлось долго объяснять шоферу, что хочет попасть в Латинский квартал. Приятели Чарли когда-то громко расхваливали прелести этого парижского уголка. И пока тарантас полз по темным закоулкам под холодным моросящим дождем, Квик подумал, что его прогулка не очень-то удачно началась…* * *
Яркий свет прожекторов «и нестерпимая жара. За кулисами расхаживали манекенщицы. Им с освещенной сцены видны были только золоченые стулья с выгнутыми ножками, словно подпирающие затянутые бордовым бархатом стены демонстрационного зала. На каждом из стульев и на приставных сиденьях в проходах пристроились в неудобных позах по трое-четверо приглашенных. Большинство присутствующих составляли женщины, в основном немолодые, с невообразимыми прическами и пронзительными глазами. Среди них было много настоящих старух, основательно наштукатуренных, натянуто улыбающихся, в вызывающе декольтированных туалетах, обвешанных с ног до головы драгоценностями. Под платьями угадывались их агрессивные клиторы размером с банан и всегда готовые к бою. По презрительному выражению Гения, «у этих шлюх клитор находится не под юбкой, а в башке». У подиума толпились модельеры. По залу то тут, то там бродили несколько странных существ неопределенного пола, одетых с искусной небрежностью или в строгие костюмы, с разрисованными во все цвета радуги физиономиями, с золотыми цепочками и амулетами на шеях. Жара, духи, золото, волны шепота, прокатывающиеся по залу, словно глупая, бессмысленная, бестолковая музыка с внезапными крещендо и паузами. С появлением каждого нового гостя шум усиливался — все поворачивали головы и приветствовали входящего воздушными поцелуями. Аттилио наблюдал за этим через щель в занавесе. Гению нравилось играть роль невидимки. Нервно перебирая янтарные четки, он молился о том, чтобы Пегги, его королева, не подложила ему свинью. Аттилио уже физически ощущал нетерпение этой толпы, томящейся от тесноты и жары. Два приветствия прозвучали почти одновременно: одно было адресовано Нат, появившейся в гордом одиночестве в роскошном манто из шиншиллы, из-под которого виднелись джинсы, второе — Люси Мадден. Журналистка вошла с мрачно-снисходительным видом, словно публика собралась здесь в ее честь, и кисло улыбнулась тем, кого соизволила заметить. Несколько человек предупредительно вскочили, чтобы пропустить скандально известную знаменитость на ее место, расположенное в центре третьего ряда. Сидевшие неохотно потеснились. Только маленькая блондинка, упрямо восседавшая на стуле, предназначенном для Люси, даже не пошевелилась. Старания распорядителя разрешить конфликт миром успеха не имели, и он отправился за подкреплением. Виновница замешательства торопливо шарила в сумочке, делая вид, что ищет несуществующее приглашение. А весь ряд холодно и враждебно следил за ней, особенно Люси, чьи черные, жесткие глазки зловеще вспыхнули. Это была первая неприятность знаменательного для всего Нью-Йорка вечера. Едва Люси уселась, как в дверях зала возник Додино, который, конечно же, не мог пропустить торжество Аттилио. В свое время, когда Гений делал первые робкие шаги в своей карьере, Аморе взял его под свое теплое крылышко и теперь гордился тем, что своим высоким положением Джованни во многом был обязан именно ему. Из коротких сумбурных сношений этой пары, где каждый хотел играть роль женщины, родилась прочная дружба. По чистой случайности он и Люси Мадден оказались рядом. — Привет, — любезно поклонился ей Додино. — Привет, — рассеянно ответила Люси, словно только что его заметила. Но вдруг раздался дружный радостный крик, и публика бросилась к входным дверям. Вспыхнули с новой силой юпитеры, защелкали фотоаппараты, зажужжали кинокамеры. Еще не видя свою звезду, Гений понял, что он выиграл! В зал не вошла, а вплыла Пегги, божественно прекрасная, в длинном белом платье, сверкая драгоценностями. Уже давно всю Америку волновал вопрос: кто же будет следующим после Скотта Балтимора и Грека? Ответ напрашивался сам собой. Рядом с «очаровательным скорпионом» вышагивал Арчибальд Найт. Журналисты рванулись к телефонам — такая новость может стать гвоздем любого номера! Арчибальд, гордо выпрямившись, галантно подождал, пока устроится его спутница, и опустился на стул рядом с ней. Он держался очень надменно, но, усаживаясь поудобнее, кокетливо скрестил ноги. — А вот выпрямить их ему вряд ли удастся, — шепнул Додино соседке. Люси, однако, сделала вид, что не слышит. В подобных случаях она напускала на себя высокомерный вид, а ее почитатели принимали это за «отрешение от всего мирского», как выразился когда-то знаменитый Мальро. — Мне хотелось бы напомнить, — начал ведущий, — что летняя коллекция Джованни Аттилио посвящена кибернетике. Праздник начинался! Появилась первая бледная манекенщица, одетая в развевающееся полупрозрачное платье, под которым четко просматривалась обнаженная грудь. Поворот, несколько скользящих шагов, снова поворот… А ведущий продолжал представлять модели: — Для вашей виллы в Майами или на мысе Код. Номер девятнадцать. «Робот-домработница». — Вам нравится? — спросила Пегги у Арчи, незаметно переглядываясь с Нат. Она повернула голову и, заметив Додино в двух рядах позади, изобразила радостное удивление. — А вам? — ответил вопросом на вопрос Арчи. Двадцатью минутами позже Гений уже был уверен в успехе. Большинство его моделей произвели настоящий фурор. Но публика ожидала главного — парада вечерних туалетов, который должен был завершиться показом «изюминки» программы — подвенечного наряда. — «Стерео». Вуаль цвета индийских кораллов. Номер сорок семь. В третьем ряду Люси Мадден скорчила гримасу, не имевшую никакого отношения к представленной модели. Вот уже четверть часа ее мучили жестокие судороги в желудке. Чем они могли быть вызваны? Ведь у нее никогда в жизни не возникало никаких проблем с пищеварением! Проклятье! Люси напрягалась изо всех сил, чтобы их унять. Уйти с середины представления? Нет, об этом не может быть и речи! Да и как выбраться, если даже проходы забиты до отказа? Интересно, сколько до конца? Люси взглянула на часы и свирепо сжала ягодицы, чтобы облегчить спазмы, и отогнала мысль о том, что… Нет! Об этом и подумать страшно! Она промокнула покрывшийся каплями пота лоб кружевным платочком и с тоскливой безнадежностью впервые подумала о том, что из поединка с Пегги победительницей ей не выйти. Она попробовала отвлечься, представляя себе роскошные пляжи, витражи Сен-Шапеля в Париже, вспоминала номер своего счета в банке, суровое лицо своего духовника, папу Павла VI, тельце любимого тукана, для которого пришлось построить маленький мавзолей… Ничего не помогало. Спазмы усиливались с каждой минутой. И в зловещей тишине, которую посылает судьба перед неминуемой катастрофой, несмотря на всю железную собранность Люси и сжатые в тугой комок мышцы, из нее вылетел хлопок, похожий на треск разорванного листка бумаги. И… ничего не случилось. В таких случаяхреагировать не принято. Второй хлопок раздался сразу же за первым, прозвучав неожиданно громко и музыкально. Головы ближайших соседей с подозрением повернулись в сторону Люси. В их глазах читалось пока еще сдержанное любопытство. Господи! Выскочить бы отсюда поскорее. Но было уже слишком поздно. У нее оставался единственный шанс — взять себя в руки и постараться продержаться еще немного. Люси проделала титаническое усилие, загоняя газы внутрь. Щеки ее затряслись как желе, брови сошлись на переносице, лицо покрылось каплями пота, а мышцы сотрясла мелкая дрожь, как струны на гитаре… — «Электроника». Номер сто два. Новый треск! Из глаз Люси брызнули слезы бессильной ярости. На этот раз Додино не счел нужным притворяться — его буквально перекосило! И не только его. Со всех сторон в Люси уткнулись брезгливо-враждебные взгляды, в которых не было и тени сочувствия. — И, наконец, «Роскошь», номер один. Подвенечное платье… И тут Люси, не в силах больше сдерживаться, разразилась целой серией «пулеметных очередей». Возмущению публики не было предела. Послышались возгласы: — Прекратите! — Какая наглость! — Выйдите отсюда! — Позволять себе такое в публичном месте! Все, кому она делала пакости, теперь получили редкую возможность отомстить этой дряни. По залу прокатились смешки. Пегги едва заметно подмигнула Нат. — Что здесь происходит? — спросил Арчи. — Не знаю. — Глаза Пегги не выражали ничего, кроме невинного удивления. Люси Мадден сорвалась с места, с яростью раненой слонихи растолкала весь ряд и, опрокинув несколько стульев, напролом двинулась к выходу. И как последний штрих к картине прозвучал жеманный голос Додино, который громко, так, чтобы слышали все, сострил: — Похоже, она сменила письменный жанр на разговорный! (обратно) (обратно)Книга вторая
Глава 7
Каждый из сидящих за столиком был очень богат и, как почти неизбежное следствие этого, патологически скуп. Пегги как женщину проблема, кто будет оплачивать счет, не волновала. За нее всегда кто-то платил. Оставались Арчибальд Найт и ливанец, каждый из которых еще не успел понять, является его визави хозяином или же гостем, о котором заботятся. Предвидя возможные осложнения, Арчи ограничился тем, что заказал себе селедку и салат из грейпфрутов, запивая все это минеральной водой. Ливанец же потребовал две порции икры, проглотил омара, расправился с перепелами и попросил официанта подать ему три бутылки старого вина, которое пробовал, восхищенно прищелкивая языком. Пегги, делая вид, что в винах не разбирается, «нечаянно» заказала себе розовое «Клико» урожая 1929 года и «Ричбург» 1929 года, отчего фантастический счет увеличился раз в десять, если не считать нескольких блюд, до которых она едва дотронулась и сразу же отослала обратно. Скрепя сердце Арчибальд попытался подсчитать в уме стоимость трапезы и побледнел. По обыкновению, счет его в этом ресторане, где он бывал довольно часто, не превышал тринадцати долларов. — Цена вполне умеренная, — сказал ливанец. Арчи едва не сорвался с места, но вовремя вспомнил, что намек относился не к счету, а к той сделке, которую они собирались обсудить. — Восемьсот тысяч долларов! — хмуро произнес он. — За такие деньги можно приобрести реактивный самолет! Ливанец улыбнулся, обмакивая в соус ломтик хлеба. — Господин Найт! В лучшем случае на эти деньги я могу купить этажерку, но не ди Бенедетто да Борго Сан-Сеполькро! — Я полагала, что речь идет о Пьетро делла Франческа? — вмешалась в их беседу Пегги. — Это одно и то же, — нетерпеливо отрезал Арчибальд. — Просто две картины идут по одинаковой цене. Прошу меня извинить… Он раздраженно оттолкнул официанта, который делал вид, будто помогает именитому гостю подняться со стула. Фоторепортеры, скромно державшиеся в стороне, засуетились. Со дня знакомства Арчи и Пегги прошло уже полгода, но всякий раз повторялось одно и то же. Где бы они ни появлялись вместе, их уже ожидала толпа представителей прессы. Именно этого Арчи и добивался, но постоянное преследование уже начинало ему надоедать. Он спустился по лестнице и отправился в туалет, желая хоть на несколько минут остаться наедине с собой, чтобы обдумать, как вести себя дальше. Ему страстно хотелось заполучить Пьетро, из трех эскизов которого, где было изображено воскрешение Христа в Борго Сан-Сеполькро, сохранился лишь один. Два затерялись в веках. Редчайшая вещь могла от него ускользнуть. Цена в восемьсот тысяч долларов Найта не смущала. Ливанец оказался таким же хитрым и изворотливым, как и он сам, а значит, не уступит ни цента. Арчибальд решил не торговаться. Оставалась лишь проблема с оплатой счета. Женщина, обслуживающая туалет, поклонившись Арчи, угодливо улыбнулась. Найт поморщился. Любая протянутая рука вызывала в нем чувство протеста, как бы напоминая, что в нее следует вложить чаевые. Наличных у Арчи при себе никогда не было. Сама мысль о плате за что бы то ни было погружала его в мрачную ярость. Этими вопросами занимались его подчиненные и, как правило, в отсутствие хозяина. Разозлившись, он заперся в кабинке, обдумывая новую проблему: как незаметно улизнуть отсюда, чтобы не бросать монетку в кружку служащей. Тем более что использовать писсуар по его прямому назначению Найт вовсе не собирался. Не удирать же ему через окно. В его возрасте это практически невозможно. Впрочем, выход есть: даже самому бдительному стражу вряд ли удастся разглядеть, что клиенты опускают в кружку. Он порылся в карманах в поисках предмета, который можно было бы опустить вместо монеты, но ничего не обнаружил. По многолетней привычке Арчи никогда ничего не носил при себе, боясь, что его ограбят. И вдруг его осенило. Он потеребил пуговицы ширинки и попытался оторвать одну из них. Но ничего не получалось. Пуговицы, казалось, были пришиты намертво. Значит, надо отыскать здесь что-нибудь острое. Но где его взять? Итак, оставались только зубы, великолепные зубы из настоящего фарфора потрясающей белизны, которые обошлись ему в целое состояние. Машинально Арчи попытался согнуться, чтобы отгрызть пуговицу, но не смог. Тогда он снял брюки и, оставаясь в одних кальсонах, начал перетирать нитку передними зубами. Его усилия увенчались успехом. Взвесив на ладони оторванную пуговицу, он уронил ее на керамический пол, но звук при ее падении ничем не напоминал звон монеты в пятьдесят центов. В бешенстве он вцепился зубами во вторую пуговицу. Но, вкладывая их в жилетный карман, Арчи обнаружил новое неудобство: ширинка брюк в результате всех его манипуляций оказалась неприлично приоткрытой. Пришлось, насколько это было возможно, замаскировать ее носовым платком. Он вышел, глянул на себя в зеркало, еще раз проверил положение платка и прошел перед служащей с высоко поднятой головой и равнодушным, устремленным вдаль взглядом. При виде Арчи женщина поднялась. Вся ее поза выражала ожидание. Найт небрежно сунул большой и указательный пальцы в карман жилета, достал оттуда пуговицы и под пристальным взглядом женщины втолкнул их в кружку. Раздался глухой стук, который поверг Найта в панику, заставив выскочить из туалета подобно вору. Как только он скрылся, та немедленно подняла крышку кружки и, обнаружив на дне ее всего лишь две брючные пуговицы, прошипела: «Ну и сволочь». — Что вы решили? — спросил ливанец, когда Арчи вернулся к столику. — Семьсот, — пробормотал Найт. — Сожалею, что заставил вас потерять столько времени. — В тоне ливанца прозвучали решительные нотки. — Отложим до следующего раза? — Согласен, восемьсот, — быстро сказал Арчи. — Но вы попросту грабитель. — Не скажите, — улыбнулся ливанец. — Я бы назвал эту сделку одной из самых выгодных. Для вас, конечно. — И он сделал знак метрдотелю, чтобы принесли счет. Арчибальд отметил этот жест с облегчением, напряженные черты его лица смягчились. — Когда вам доставить картину? — спросил ливанец. — За такую цену — сегодня же. — Черт! Тогда нужно поторопиться. Иначе закроется банк и я не успею достать ее из сейфа. Картина будет у вас через два часа, если мне повезет. Самым естественным образом он поднялся из-за стола, поцеловал руку Пегги, которая сделала вид, что ничего не понимает, и кивнул Арчибальду. — Поставьте меня в известность сразу же, как только получите покупку! И прежде чем Найт успел что-либо ответить, ливанец проскользнул между столиками и оказался у выхода. По дороге он столкнулся с метрдотелем, несшим на серебряном чеканном подносе злополучный счет. Пегги машинально вертела в руках пепельницу и брелок для ключей с эмблемой ресторана, упакованные в целлофан, когда к ней подошел администратор и шепнул на ухо, что ее просят к телефону. Она извинилась перед Арчибальдом, ошеломленным проставленной в счете суммой, и прошла к лестнице, ведущей к туалетам и телефонным кабинам. — Прошу вас сюда. Первая кабина, — сообщила обслуживающая коммутатор телефонистка. Пегги закрыла за собой дверь. — Это вы, Эмили? — Да, мадам. Мне очень неудобно вас беспокоить, но я подумала, что… — Не надо думать! В чем дело? — Вот… Я вошла в комнату мисс Чарлен… — И что? — На ее подушке лежал запечатанный конверт, адресованный вам. — Что там написано? — Простите, мадам. Там написано: «Для Пегги». — Да не на конверте! В письме! — Мадам! Разве я могу себе позволить… — Можете! Распечатайте письмо и читайте. — Слушаюсь. Секунду. Вот… «Я нужна Квику. Еду к нему. Не пытайся мне в этом помешать и не пробуй разыскивать. Я сумею себя защитить». — Если кто-нибудь спросит у вас, где Чарлен, отвечайте, что она на занятиях, — приказала Пегги. Она положила трубку и задумалась, уткнувшись лбом в стекло кабины. Лон перечеркнула все ее планы. Теряя контроль над дочерью, Пегги теряла контроль над кланом Балтиморов именно в тот момент, когда Джереми собирался все прибрать к рукам и мог отвалить ей приличный куш. Дело было в Арчибальде Найте. Она не ошиблась, сделав ставку на знакомство со стариканом. Ее публичное появление с ним на презентации у Аттилио сразу же приобрело политическую окраску. Газеты республиканцев мгновенно ухватились за этот факт, придавая ему значение, далеко выходящее за рамки светской хроники: смотрите, вот как ведет себя та, чья семья является ядром партии, претендующей на управление страной! На следующий день взбешенный Джереми предложил Пегги перемирие и сто тысяч долларов, но получил отказ. С тех пор она уже полгода появлялась с Арчибальдом на публике в сопровождении толпы газетчиков, ловко провоцируя слухи, будто они… Свой нейтралитет она оценила в миллион долларов. Приближалось 15 июля — день выдвижения кандидатов на пост президента страны. Накануне Ассамблея демократов определила своего кандидата — никому не известного Джонни О'Брейна. Через шесть недель начнется предвыборная кампания, и Пегги чувствовала, что Балтиморы готовы уступить. Но второй побег Чарлен мог спутать все ее планы. Пегги уже больше не контролировала ситуацию. Она вышла из телефонной кабины и прошла в туалет, чтобы освежить косметику. Пегги посмотрелась в зеркало, похлопала себя по щекам. Дверь мягко скрипнула. В зеркале она заметила служащую туалета. Пегги уже приготовилась что-то ей рявкнуть, но потом увидела, что та ей заискивающе улыбается, протягивая салфетку. — Не желаете ли расческу или щетку? — Нет, благодарю, — отказалась Пегги, делая усилие, чтобы изобразить улыбку. Женщина оставила ее одну. Пегги быстро освежила тушь на ресницах, провела помадой по губам, размышляя, как выиграть время и получить свой миллион, прежде чем Джереми станет известно о бегстве Чарлен. Конечно, если обман раскроется, она потеряет все. Она уже собиралась вернуться, но вдруг вспомнила о букете фиалок на столике при входе и металлической кружке. Нужно что-нибудь дать этой женщине, но денег у Пегги, как и у Арчибальда, при себе никогда не было. Она покопалась в сумочке, пытаясь найти что-либо металлическое, похожее на монету в пятьдесят центов. Пальцы нащупали целлофан. Ах, сувенирный брелок! Это подойдет. Ей и минуты не потребовалось, чтобы отделить его от цепочки. Поймав на себе настойчивый взгляд женщины, она сделала вид, будто что-то ищет в сумочке, зажала брелок в пальцах и опустила его в кружку. Раздался звон металла. — Спасибо, большое спасибо, — рассыпалась в благодарности служительница. Она с нетерпением ждала, пока Пегги удалится, чтобы заглянуть в кружку. Но там оказался всего лишь брелок. — Вот дрянь! — Женщина была вне себя от гнева. Кружка и несчастные фиалки полетели на плиточный пол. Успокоившись немного, она сказала самой себе: — Надо же, брелок и две пуговицы от ширинки! Одна свинья стоит другой! Озабоченная услышанным от Эмили, Пегги подошла к Арчибальду, собираясь попросить его срочно проводить ее домой. Но он первым предложил ей это: — Если вы готовы, мы можем ехать. Пегги не решилась спросить, чем так встревожен ее спутник. Она не заметила скатанный в шарик злополучный счет, который старый скряга вертел в пальцах.* * *
— О'Брейн — дурак! — А кто в этом сомневается? — Если он пройдет — Америке хана. — Ну, все не так страшно. Он отнюдь не первый кретин, который окажется во главе страны. Как известно, никто от этого не умер. Преимущество заключается в другом: О'Брейн будет делать то, что ему скажут, а через четыре года ты займешь его место. — А если он за это время войдет во вкус? — К несчастью для нас, ничто не подтверждает, что его изберут. — Нынешний президент — вообще полное ничтожество. — Голосуют за красивые морды, уж ты-то должен это знать. 40 процентов избирателей составляют, как известно, женщины, 21 процент — это люди, которым еще нет и тридцати лет, 15 процентов — чернокожие. Иными словами, среди тех, кто придет к избирательным урнам, 76 процентов — это люди безответственные. Таким нужны картинки, а не ум. Ах… Если бы можно было выдвинуть тебя! О Джонни О'Брейне, новом лидере демократов, еще несколько недель назад никто не имел понятия. У него были ослепительно белые зубы и вполне подходящий возраст — до пятидесяти. Вот, пожалуй, и все, что было известно об этом парне. Отделу партии по связям с прессой пришлось здорово попотеть, чтобы научить его принимать важный и сосредоточенный вид перед телекамерами. Часами перед ним гоняли весьма смелые порнографические сюжеты, на которые несчастный обязан был никак не реагировать. Через три недели такого режима он был готов к любым политическим баталиям. Было более чем вероятно, что его соперником окажется нынешний президент, промахи которого были всемирно известны. Но как это ни странно, именно его тупость являлась еще одним козырем республиканцев, поскольку ограниченный интеллект этого человека не позволял ему ввязываться в крупные грязные операции. Наступало время добродетели и очищения, что следовало в первую очередь принимать во внимание. — Все выяснится вечером 18 августа. Но я могу поспорить, что партия будет разыгрываться между О'Брейном и нынешним президентом. В обоих случаях в Белом доме засядет дебил. — Да, — задумчиво протянул Белиджан и добавил: — Ты видел свою мать? — Чем реже я ее вижу, тем лучше себя чувствую. — Возможно, она была права. Можно было бы попробовать с тобой. — Имея за спиной вторую идиотку? Я не сомкнул бы глаз на протяжении всей избирательной кампании. Если запахнет деньгами — она способна на все! — Как и многие другие. — Хуже! Ей даже в голову не приходит позаботиться о будущем. — Своем или Балтиморов? — Давай дальше! Если б она не была женой Скотта, Грек на нее даже не взглянул бы! — Я прикинул, сколько дней осталось до начала кампании — пятьдесят один. Ты можешь за это время ее обезвредить? Джереми пожал плечами. — Но ведь даже малейшая ошибка в предстоящие недели может привести к неминуемому поражению. — Чего ты от меня хочешь? Если так сомневаешься — будь ей нянькой сам! Или же отсчитай из своего кармана миллион, который она так хочет от нас получить! Белиджан предпочел не заметить задиристого тона Джереми и гнул свое. — Надо ее остановить, ты слышишь? Надо ее остановить! Если она будет продолжать выставляться напоказ с этим старым хреном — мы пропали! Джереми нервно налил себе полный стакан. — Иди и сам ей скажи! Она это делает специально. Чтобы заставить выполнить свои условия. — А не блефует ли она? — Не понял. — Ну а вдруг она действительно выйдет за мумию замуж? Джереми осторожно поставил стакан и посмотрел на Белиджана широко открытыми от изумления глазами. — Надеюсь, ты пошутил? — Пять минут назад ты утверждал, что она способна на все. — На все — да, но только не на ЭТО! Белиджан нервно покусывал нижнюю губу. — А я вовсе не уверен. И не хочу брать на себя такой риск. — Придурок ты! — Это еще не все. Где сейчас Чарлен? — Не знаю. У своей матери, наверное. Но почему ты об этом спрашиваешь? — Потому что девчонка настолько же опасна, как и сама Пегги. Через них очень легко можно добраться до твоего семейства, а потом — и до всех нас, до партии. Джереми бросился к телефону. — Я это сейчас же узнаю! Белиджан не стал его останавливать. В критических ситуациях у Джереми появлялось нечто вроде нюха на возможные осложнения и опасности. — Кто говорит? — гаркнул он. — Где Чарлен? Хорошо. А ее мать? Отлично, благодарю. — Чарлен на занятиях, — сообщил он Белиджану. — А Пегги? Джереми сделал большой глоток скотча. — Если ты полагаешь, что она информирует слуг о своих разъездах…* * *
Нат ворвалась, подобно метеору, в парикмахерскую «К Александру». — Где миссис Сатрапулос? — Под сушуаром, с Педро. Нат стремительно проскочила несколько залов, где люди, шурша накрахмаленными халатами, склонялись к затылкам богатых, уверенных в себе клиенток. У парикмахеров высшего разряда существует особая иерархия, еще более безжалостная, чем армейская. Каждая посетительница оценивает свою значимость по тому рвению, с которым ее здесь встречают. Парикмахер должен быть дипломатом, льстецом, развратником и даже грубым, если не хочет, чтобы его напомаженное стадо разбежалось. Вес Нат в обществе можно было определить по характерному звуку в зале. Но сегодня тихое жужжанье сплетен оставило равнодушной молодую женщину. Нат только что выяснила, кто же ее одурачил полтора года назад, когда Пегги, по ее совету, предпочла остаться вдовой и не вышла замуж за Калленберга. Пегги сидела в последнем зале. На соседнем кресле гордо восседал, тоже под сушуаром, ее пес Педро. Маникюрша покрывала лаком его когти, а две руки помощника в голубом халате массировали ему грудку. — Педро хочет пить, — сказала маникюрша. — Пусть ему принесут чаю, — приказала Пегги. — И, обратившись к Нат, которую уже усадили в кресло, она спросила: — А что ты будешь пить? — Кофе. Один из помощников кинулся выполнять распоряжение. Нат погладила Педро. История о том, как пес попал к Пегги, напоминала сказку о добрых феях. В один из вечеров, возвращаясь из загородного ресторана, она увидела сидящего посреди дороги пса. Шофер остановил машину, и Пегги подошла к нему. Животное было ранено, а от его намокшей под дождем шерсти исходил смрадный запах. Породу пса определить было невозможно. По виду он был похож на молодого барашка или даже медвежонка. А если иметь в виду чисто собачьи качества, в нем было что-то и от овчарки, и от спаниеля, и от фокстерьера. Глаз собаки Пегги тогда не смогла рассмотреть, их скрывали жесткие мокрые пучки шерсти. Но пес нашел совершенно естественным тот факт, что красивая женщина усадила его в «роллс-ройс». Пегги дала найденышу кличку Педро и поклялась небом, что сделает из него самого знаменитого пса в Нью-Йорке. И она сдержала слово. Сейчас Педро получит в гардеробе свой кафтанчик из шкуры леопарда, сшитый на заказ у самого Джованни Аттилио. Гений находил очень забавным придумывать иногда модели и для собак. В торжественных случаях на шее Педро красовалось колье с сапфиром, а его спину обвивала золотая цепочка тонкой работы. Постоянно он носил лишь небольшой бриллиант в два карата, вправленный в платиновое кольцо. Столь оригинальная серьга была вдета в левое, проколотое ухо собаки. Проделать эту операцию был приглашен самый известный хирург-косметолог. Помощница протянула руку под сушуар, чтобы узнать, готова ли шерсть Педро для того, чтобы нанести последний штрих на его прическу. — Осторожнее! — предупредила Пегги. — От жары он становится нервным. — Нам надо поговорить, — сообщила подруге Нат. — Я тебя слушаю, — сказала Пегги, глядя мимо. — Мне известно, кто нас облапошил. — Облапошил? — Ну, я имею в виду Калленберга и твое замужество. — Кто? — Рита. — Кто?! — Рита, его дочь. — Рассказывай. — Секундочку… Помощник принес поднос с чашками. — Запишите на мой счет, — бросила Пегги привычную фразу. И он, и сама Пегги прекрасно знали, что эти слова ничего ровным счетом не значат. Она пользовалась услугами лучшего здешнего мастера бесплатно. Стоит ли портить добрые отношения какими-то денежными расчетами? И расходы, таким образом, взял на себя парикмахер. — Молоко или лимон? — Молоко, — сказала Пегги. Помощница взяла чашку и поднесла сидевшей под сушуаром собаке. — Продолжай, — обратилась к Нат Пегги, увидев, что Педро уже опустошил чашку. — Ты помнишь Додо? — Я никогда ничего не забываю. — Додо спала со Стиманом, моим кретином-финагентом, и еще с одним альфонсом. Именно с его помощью Рита и провернула дело против тебя. За сто тысяч долларов он уложил Додо в постель к моему дурачку. Этой шлюшке удалось убедить Стимана в том, что она была любовницей Миллера и что от нотариуса ей стали известны подробности о наследстве Грека. Естественно, Стиман предупредил меня. Я клюнула на это и совершенно искренне постаралась предостеречь тебя. — И тебе это отлично удалось, — съязвила Пегги. — Пегги! Ты сделала бы то же самое на моем месте, — оправдывалась Нат. — Ну, а эта… Рита? — Она боялась, что ты приберешь к рукам состояние ее отца. — Что она делает сейчас? — То же самое. Калленберг хочет жениться на графине Ван Зитен. А Рита интригует, стараясь любыми способами убрать с дороги эту грязную авантюристку. Просто невероятно! — Да, — подтвердила Пегги. Ее лицо окаменело. Нат и сама была очень расстроена. Вот уже скоро два года, как они вместе упорно пытались докопаться до истины. Пегги постоянно твердила подруге, как это важно для нее. Теперь же, когда результаты были получены, она отнеслась к этому совершенно безразлично. — Что ты об этом думаешь? — не отставала от нее Нат. — Ничего. — Я подумала… — Я не просила тебя думать. — Ты сама не своя. Что случилось? — Все хорошо. Чарлен сбежала. — Куда? — В Европу. — Когда? — Вчера. Она уехала к своему бродяге. Мне все это осточертело, — пробормотала Пегги больше для себя, чем для Нат. — Если Джереми узнает эту новость не от меня, а из газет, плакали мои денежки! — Она поправила волосы и со злостью добавила: — Хватит одного раза. Нат сделала вид, что не поняла намека. — Может, все-таки следует сказать ему? — Предположим, что бегство моей доченьки-дурочки не получит огласки, и тогда у меня остается маленький шанс. Нат воскликнула: — Так воспользуйся же им! Пегги смерила ее взглядом, словно впервые видела. — Чего ты суешься? По твоей милости я уже совершила самую большую глупость в своей жизни. Прибереги теперь свои советы! А служащему неопределенного пола, который делал невероятные усилия, чтобы уловить, о чем говорят клиентки, она бросила: — Хватит торчать здесь! Не видите, что мой пес умирает от жажды? Ступайте и принесите ему еще чаю!* * *
Длинный песчаный пляж, окаймленный утесами настоящего фиолетового цвета, нежно-зеленое, прозрачное, как родник, море, а рядом под ногами теплый и сухой песок, в котором тонешь по самые лодыжки… Лон споткнулась и залилась смехом, повиснув на плечах у Квика. — Хочешь есть? — спросил он. — А ты? — Да. — Тогда пошли! Под пальмами стояли сколоченная из досок хижина и колченогие деревянные столы, никогда не знавшие краски. — Зайдем, — сказал Квик, — посмотрим, найдется ли у Лео что-нибудь пожевать. — Лео? Ты его знаешь? — Нет, друзья рассказывали. В помещении с земляным полом, полном мух, единственной приметой нынешнего века был огромный холодильник, возвышавшийся у стола для разделки рыбы. В его витрине виднелись куски мяса и рыбы разной величины. В углу, на плите, стояла миска с кипящим маслом. — Добрый день, — приветствовал их хозяин на ломаном английском. — Что Лео вам может предложить? Он был крохотный, черноволосый и чернокожий, полупират, полуповар в переднике сомнительной чистоты. — Хочешь рыбы? — спросил Квик. — О'кей, — кивнула Лон. — Подай нам «узо»! — сказал Квик Лео. — Сию минуту! — встрепенулся тот. — А что это такое? — заинтересовалась Лон. — Национальный греческий напиток, очень вкусный! Но если ты хочешь колы… — Два «узо»! — крикнула Лон. — Выбирай рыбу… Ты очень голодна? — Очень, как вон та самая большая рыбина. — Да уж, она огромная!.. Лео! — К вашим услугам. — Изжарь нам вон ту большую рыбину и подай стаканы. Лео принес стаканы. Квик и Лон уселись спиной к хижине, в двадцати метрах от которой лениво плескалось море. Чуть дальше за одним из столов расположилась целая компания парней и девушек с обнаженными, золотистыми от загара грудями. — Тебе это нравится? — спросил Квик. — Не сегодня. Я еще слишком белая. Лео поставил перед ними тарелку, полную маленькой жареной рыбы. Лон взяла одну и принялась неумело чистить. — Не смеши меня, — развеселился Квик. — Ее надо заглатывать целиком — с головой и хвостом. Они изнемогали от жары. В необычайно тихом воздухе слышались звуки гитары… Мимо них прошла обнаженная девушка. Она, как мать ребенка, прижимала к груди маленькую обезьянку в красных шортиках. Обезьянка подпрыгивала во все стороны и сосала палец. Квик улыбнулся. Девушка ответила ему такой же улыбкой и села за соседний столик. — Ну как тебе? — спросил Квик у Лон. Вместо ответа она сжала его руку и поднесла к губам. — Еще раз окунемся? — Давай. Не спеша они двинулись к пляжу и медленно вошли в воду. Море было таким же теплым, как воздух, и таким спокойным, что ноги, казалось, окунулись в масло. Как хорошо лечь на спину и лежать не двигаясь. Ни паруса, ни птицы, ни облачка — ничего вокруг. Только яркая синева моря и неба и слепящее солнце. — Готово! — крикнул Лео из хижины. — Пошли. — Дорада, — пояснил Квик, придвигая блюдо, когда они уселись за стол. — Ты ее разделаешь? Он отделил мякоть от костей и подал Лон. Затем кивнул Лео. — Дай лимоны! Лео принес им четвертинки маленьких зеленых лимонов, сок которых Квик выжал на рыбу. — Нравится? — спросил он. — Угу! — восторженно прогудела Лон с набитым ртом. Их взгляды встретились, и они залились веселым смехом. Какой прекрасной казалась им в эту минуту жизнь! — Вот увидишь, — заговорил Квик. — Здесь потрясающе. Понимаешь, никому ни до кого нет дела. Каждый живет своей жизнью. — Откуда ты знаешь это место? — Знаю. У меня есть приятели, которые приезжали сюда на неделю, а остались на два года. Они и рассказали. — Чем они жили? — Ничем конкретно. Здесь на два доллара в день живешь как миллионер. — Как это место называется? — Эримопулос. Огромный бородач подошел к девушке с обезьянкой. Он протянул девушке сигарету, а обезьянке — полбанана. Лон, вслушиваясь в незнакомую речь, спросила: — Немцы? — Возможно. Или голландцы. Здесь настоящее вавилонское столпотворение. Кого только нет! Парни и девушки спят в машинах или прямо на пляже. Лео поставил перед ними блюдо с белым сыром и высыпал туда пригоршню черных оливок. — Простите, я забыл… — У тебя есть белое вино? — Конечно! Одну секунду! — Ты любишь вино? — Дома я его никогда не пью. — Ну а здесь — Греция. — Ладно, попробую. Бутылка была прямо из холодильника, с капельками ледяной воды, стекавшими по запотевшему стеклу. Лео наполнил стоящие перед ними стаканы и вернулся на кухню. Оттуда тянуло запахом жареной рыбы. — За тебя! — поднял стакан Квик. — За тебя! — эхом ответила Лон. Они выпили по глотку, и Квик произнес новый тост: — За Энцо Феррари, бога гонки! Лон приняла его игру. — За великого Квика, короля гонщиков! — За Фердинанда Порше! — продолжил Квик. Лон на секунду замолчала, обдумывая, что же ей сказать. Отхлебнув из стакана, она опустила глаза и тихо произнесла: — За нашу любовь… На Крит они прибыли сегодня утром, проведя ночь в Афинах. Полгода Лон металась в Нью-Йорке, ожидая весточки, не в силах вынести разлуку, но ни письма, ни телеграммы, ни звонка не было. А Квик, как он сам считал, прозябал в Париже. Ничего интересного ему не предлагали. Он принял участие в каком-то жалком ралли и двух гонках со столкновениями. Время от времени Квика навещал тот человек, который встречал его в Орли, и спрашивал, не нужны ли ему деньги. Вот и все. Квик раз сто пытался вернуться в Штаты, но каждый раз ему обещали престижные соревнования и давали небольшую сумму. От нечего делать он записался на курсы вождения и срывал злость на маленьких французских автомобилях — разбивая их один за одним. Ездил он как черт, сломя голову. Но однажды все это ему осточертело: осточертело ждать, осточертело болтаться среди хиппи, которыми был наводнен город, и он послал телеграмму Лон. Через сутки девушка была здесь, а два часа спустя они уже летели в Афины. — Что ты сказала матери? — спросил Квик. — Ничего. Я ей оставила записку, что еду к тебе. — За кого она сейчас собирается замуж? Лон помрачнела. Всякий раз она чувствовала себя неловко, когда кто-нибудь заговаривал при ней о личной жизни Пегги. Родителей не выбирают. Но девушке, с тех пор как она себя помнила, хотелось иметь других родителей, которые любили бы друг друга и жили душа в душу. В семьях ее круга детям давали все, кроме главного — любви. И она ожесточилась. — Пока не пройдут выборы, мой дядюшка Джереми не позволит ей ничего выкинуть. Квик ухватил большой кусок сыра. — Мне больше повезло, чем тебе, — сказал он. — Я по крайней мере никогда не знал свою старуху. Лон, смутившись, предпочла перевести разговор на другую тему. — Будешь нырять сегодня? — Я за этим и приехал. — На какую глубину ты можешь опуститься? — С баллонами? Метров на тридцать, а может, и на пятьдесят. — Научишь меня? — Твоя экипировка в машине. Они взяли напрокат фургончик фирмы «Фольксваген». И пока Лон раздавала чаевые продавцам, Квик выбирал снаряжение для подводного плавания: ласты, маски, трубки, гарпуны. Это было второй его страстью помимо гонок. Пошли они все!.. Он все меньше понимал, зачем его держали в Париже. В первые недели он еще жил надеждой помериться силами с такими противниками, как Никки Лауда или же Фиттипалди. Вместо этого ему приходилось торчать в бистро Латинского квартала и заводить от нечего делать интрижки с тамошними красотками. Успех у них он имел, но такое времяпрепровождение казалось ему лишенным всякого смысла. — Есть одна вещь, которую я не понимаю. — О чем ты? — спросила Лон. — Да так, в общем-то ни о чем, — помолчав, ответил Квик. — Все очень туманно… К черту! Пошли возьмем баллоны. Он взял Лон за руку и повел к фургончику. Ни один из хиппи, покуривавших, растянувшись в тени пальм прямо на песке, даже глаз не поднял, чтобы посмотреть на них. (обратно)Глава 8
Злые языки утверждали, что она старше Арчи. На самом деле Урсула была на два года моложе, но в те дни, когда очень уставала, ее можно было принять за его мать. На службу к Найту она поступила пятьдесят три года назад. Оба упрямые и раздражительные, хозяин и служанка все время пререкались, но обойтись друг без друга не могли. Арчибальд постоянно по поводу и без повода отчитывал Урсулу, она же не могла удержаться от едких упреков в его адрес. Найт просматривал утренние газеты, когда Урсула без стука вошла в столовую с флаконом, наполненным жидкостью, цвет которой колебался между желтым и каштановым. — Можете радоваться! Тот же вес. — Поставьте туда, куда нужно, — буркнул Арчибальд не поворачивая головы. Ворча себе под нос, Урсула вышла. Лишь ей одной были известны странные причуды хозяина. Но со временем она к ним привыкла. Вот уже полвека в ее обязанности входило каждое утро взвешивать фекалии и мочу Арчибальда Найта. То же самое Урсула проделывала с жидкой и твердой пищей, которую хозяин поглощал в течение дня. На этом церемониал не заканчивался. В ванной хозяина дома, за вращающимся зеркалом, находился вход в огромную комнату, где поддерживалась постоянная температура — ноль градусов. Там на металлических стеллажах стояло рядами в хронологическом порядке, как свидетельствовали этикетки, более восемнадцати тысяч сосудов. Каждый сосуд содержал экскременты Арчибальда начиная с 11 марта 1925 года. В самых старых из них сохранилась лишь сероватая пыль, которая давала почтенному старцу пищу для размышлений о бесцельности и суетности вещей в этом мире. Начиная собирать эту странную коллекцию из чисто экономических соображений, он был ошеломлен разницей в результатах между количеством поглощенных и воспроизводимых организмом веществ. Иногда испражнений было больше, чем он проглатывал, в другие же дни — наоборот. Но в любом случае Арчи испытывал чувство чудовищного дискомфорта, шокированный загадочной логикой обмена веществ, в которую ему никак не удавалось проникнуть. Ибо, в конечном счете, содержимое этих пузыречков было не чем иным, как законсервированным Арчибальдом Найтом, являясь без его согласия уплаченной данью жизни, чтобы она продолжалась. И эта загадка оставалась нераскрытой: двести граммов испарялись (куда же?), триста граммов появлялись (почему?). Граммы, которые были им самим, составляли его субстанцию! Урсула вернулась в комнату. — Сегодня вечером вы имеете право на 722 грамма вместе с минеральной водой. Ваше счастье, — добавила она, — что за столом не будет этих развратниц, которых вы так часто приглашаете. — О ком это вы? — Об этой женщине и ее подружке! Или вы думаете, что я не читаю газет? — Заткнитесь и убирайтесь на кухню. — Вот уж нет! Она приносит только несчастье. Всякий раз, когда она приближала к себе мужчину, тот умирал. Это случится и с вами, если будете продолжать с ней встречаться. — Вон отсюда, старая мерзавка! — фыркнул Арчибальд. Урсула хлопнула дверью, но спустя секунду опять ее открыла и просунула голову в щель. — В библиотеке вас ждет посетитель. Гастон мне только что сказал. — И Урсула так снова хлопнула дверью, словно минуту назад не жаловалась на упадок сил. Арчибальд поднялся с кресла, сбросил халат и натянул домашнюю куртку. Он согласился принять Джона Робинсона. Он знал, что финансовый мозг республиканцев пришел просить денег! Скандал! Очевидно, широко известные моральные устои американских выборов существовали лишь на бумаге. Накануне Найт тайком вручил чек на баснословную сумму… Белиджану. Как Арчи ненавидел демократов — знал только Бог. Но, финансируя обе партии, он был уверен: что бы ни случилось, в обоих случаях он выиграет. А Робинсон слишком много тратит, его следует выставить вон!* * *
Пегги всегда унижала Нат с особым удовольствием. Это успокаивало ее. А сейчас ей хотелось кусаться. Слишком уж долго события шли своим чередом, а не так, как она рассчитывала, без ее на то согласия. Мир вертелся вокруг нее и жил по своим законам, которые устанавливала не она. Взять хотя бы ее неудавшийся брак с Калленбергом или воображаемое наследство Грека. А постоянная денежная зависимость от клана Балтиморов, державшего ее на поводке по политическим причинам… И уж совсем омерзительным было поведение любовника, изменившего ей с ее собственной дочерью. Тяжело было вспоминать бунт Чарлен и их последний разговор. Нужно немедленно положить всему этому конец! Пегги дала себе сорок восемь часов на размышления. Быстрое расследование подтвердило, что Лон в Нью-Йорке нет. Переборов себя, Пегги даже позвонила Рони. Как она и ожидала, этот ничтожный человечишка не видел Лон. И прежде чем он решился пуститься в малопонятные и плаксивые объяснения, она положила трубку. Придет и его час. Он получит сполна за все. Хочешь не хочешь, а надо было предупредить Джереми, чтобы обратить в свою пользу новый жестокий удар. И Пегги позвонила ему в контору. — Приезжай ко мне немедленно. — Я занят. — Занят, задница?! Если не появишься через десять минут — тем хуже для тебя, я уже уйду! Пегги хорошо знала, как задеть Джереми за живое, — он заявился к ней раньше времени и был вне себя от злости. — Не много ли ты себе позволяешь, моя милая? — Заткнись! — Что? Что? — голос его сорвался на визг. — Заткнись! Я слишком много вытерпела от тебя, твоей проклятой семейки и твоей чертовой партии. Плевать мне на твои выборы! Сейчас говорю я. Ты же будешь слушать и подчиняться. Джереми плюхнулся в кресло и даже вроде бы успокоился. — Прими стаканчик, — сказала Пегги спокойным, но ледяным тоном. — Тебе это будет как нельзя кстати. Наливай, наливай! Джереми машинально встал, подошел к бару, плеснул себе виски и снова уселся, не притрагиваясь к стакану. Пегги бросила на него злобный взгляд. — Ты считаешь меня набитой дурой, да? Тебе было начхать на то, как унижал меня твой братец, на то, что я вынесла, когда он умер. Тебя ничуть не волновало, что Сатрапулос ограбил меня — выкручивайся сама как хочешь. Не так ли? Тебе на все наплевать до того момента, пока это не затрагивает твои интересы. Даже если я сдохну, ты только ухмыльнешься. Еще бы! Всех вас такой вариант устроил бы как нельзя лучше. Джереми залпом выпил виски. — Так вот, — продолжала Пегги, — я все-таки существую, я здесь и собираюсь распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Плевала я на тебя и на всех вас! Джереми сделал неопределенный жест. — И для того чтобы мне об этом сказать, ты… — И о многом другом тоже! Во-первых, твоей милости следует знать, что Чарлен ушла из дома два дня назад! Джереми поспешно сделал еще глоток. — Из-за тебя, между прочим! Если бы тебе не пришла в голову идиотская идея отослать ее дружка, она бы не поехала за ним и была бы у нас под контролем. Теперь любой ловкач-писака может обнаружить это и шлепнуть в своей газетенке, что дочь великого Скотта Балтимора крутит любовь с грязным неудачником. Я уже не говорю о том, какие последствия фокусы Чарлен могут иметь для говняных выборов. — Ты меня просто ошарашила, — простонал Джереми. — Я еще больше тебя ошарашу! Полгода назад ты отказал мне в ничтожной сумме, которую я просила в интересах твоей же семьи. Но великий умник Джереми Балтимор ошибся. Жизнь дорожает с каждым днем, и доллар уже не тот, чем был раньше. Мне, чтобы сохранить прежний уровень, пришлось наделать новых долгов. — Хм… — Миллиона, который я у тебя просила, больше недостаточно! Я хочу два. Джереми аж рот открыл. В эту минуту он походил на боксера, которого только что нокаутировал противник. Полагая, что он хотел что-то сказать, Пегги жестом оборвала его. — Два миллиона долларов, понял? И не через три недели и даже не через неделю, а через два дня! — Пегги! — Если я их не получу, поверь мне на слово, все ваши грязные делишки станут известны избирателям! Гарантирую, что твой идиот Джонни О'Брейн никогда не пройдет! Никогда! Он не осмелится на улицу выйти от страха, что в нем узнают одного из ваших! И теперь — последнее… Джереми ошалело глянул на нее. — Убирайся вон! Ответа я жду не позже чем завтра до полудня. Джереми поднялся. Он совсем сгорбился и неуверенно пробормотал: — Я поговорю об этом с мамой. И вышел.* * *
Квик фыркнул, и через маску, которую никак не удавалось приподнять, Лон увидела тысячи капелек воды, блестевших на заходящем солнце. — Ну? Что я тебе говорил? Понравилось? Лон отдышалась. — Потрясающе! — Было бы еще лучше, но ты слишком много пьешь. Недостаток новичка. — Я пью? — удивилась Лон. Квик снял ласты. — Слишком много воздуха глотаешь, потому что глубоко захватываешь шланг. Надо дышать спокойно. Он сунул руку в плавки. — Держи, это подарок. На его ладони лежала крошечная ракушка, закрученная спиралькой. Ее перламутр переливался всеми цветами радуги. — Это ничего не стоит и не причиняет никому боли! Красиво, не правда ли? Лон взяла ракушку и машинально поднесла ее к уху. Квик расхохотался. — Да нет же, дурочка! Там ты не услышишь моря! Лон подхватила его смех и повернулась к Квику спиной, чтобы он снял ее баллон со сжатым воздухом. — Смотри, — крикнула Лон. — Она возвратится туда, откуда пришла. И девушка взмахнула рукой, в которой держала ракушку. — Ты собираешься ее выбросить? — удивился Квик. — Кретин! Я буду хранить ее всегда. Быстрым движением она сунула ракушку в крошечный кусочек красной ткани, который служил ей трусиками. Квик рассмеялся и сострил: — Очень приятно, что ты хранишь мои подарки у самого сердца. Они повалились на песок — усталые, радостные, беззаботные. При первом погружении Лон Квику показалось, что она не решится опуститься больше чем на десять метров. Он крепко прижимал девушку к себе, и они как бы слились воедино, любуясь стайками синих рыбешек, резвящихся вокруг. — Опустимсязавтра еще глубже? — А мне поначалу казалось, что подводное плавание тебя не интересует. — Я тоже так считала, пока не попробовала. Лон, дурачась, набирала полные пригоршни песку и осыпала им Квика. — Есть хочу, — заявил он, потягиваясь. — Еще? — Всегда! Набросившись на Лон, он сделал зверское лицо, как бы собираясь куснуть ее за живот. — Поднимайся, пошли! У Лео в меню сегодня икра. Они сложили снаряжение в большую сумку из оранжевого полотна, и Квик водрузил ее себе на плечо. — Завтра я возьму гарпун. Если повезет, попробуешь мою рыбу! — «Узо»? — спросил Квик, когда они уселись за стол. — «Узо»! Опустилась темнота, и над входом заведения Лео вспыхнул фонарь, который тотчас же облепила мошкара. Вокруг, как тени, возникали из мрака и исчезали группки разноязычных хиппи. Они или болтали между собой, или курили марихуану, передавая сигарету после затяжки друг другу. Из кухни доносился стук кастрюль, которыми гремел Лео. А из засиженного мухами транзистора плыла пронзительная мелодия бузуки. Блаженное состояние покоя, охватившее Квика и Лон после ужина, было таким расслабляющим и приятным, что им даже не хотелось разговаривать. Позже они присоединились к трем парням с гитарой, и Лон через какое-то время с удивлением заметила, что она тоже подпевает остальным. — Странно, — шепнула она на ухо Квику, — первый раз в жизни я сама слышу, как пою. Он ласково привлек девушку к себе. — Это потому, что тебе очень плохо и ты очень несчастна. И еще потому, что ты меня ненавидишь. А, дурочка? Мало-помалу тени, которые их окружали, стали одна за другой исчезать. — Ты хоть раз спала под открытым небом? — спросил Квик. — Нет, никогда. — Сегодня вечер вполне подходящий. Зачем париться в фургоне? Идем возьмем матрацы и устроимся на пляже. Они расположились почти у самой воды. Убаюканная тихим шелестом прибоя, Лон лежала неподвижно, устремив взгляд в черное небо, усыпанное крупными яркими звездами. Ее пальцы сжимали руку Квика. В какой-то момент Квик приподнялся на локтях и внимательно посмотрел на нее. — А что ты там делаешь? Лон улыбнулась, и в темноте Квик заметил перламутровый блеск ее зубов. — Проверяю, на месте ли моя ракушка. — Ну и как? — Да, она там. — Тогда не шевелись. Я сам отыщу ее. Она увидела над собой его глаза и ощутила тяжесть его тела. А над ними далеко в вышине, как сумасшедшие светлячки, закружились звезды.* * *
Белиджан бесился. Мало того что О'Брейн гроша ломаного не стоит, так еще и семейка Балтиморов усложняет ему жизнь! Из-за одного только Скотта, пока тот стал президентом, он лет на десять постарел. Скотт считал любой день потерянным, если ему не удавалось обслужить хотя бы двух представительниц прекрасного пола. Тогда он на глазах тускнел, становился вялым и апатичным. Но не потянешь же за собой в турне еще и свой гарем, кроме многочисленной свиты. Поэтому специальные посланцы опережали его, чтобы отыскать ему источник вдохновения на месте. А его как нарочно тянуло на сексуальные «подвиги» именно в маленьких городишках, где все шпионят друг за другом и все про все знают. Зато он был неотразим, когда занимался любовью, она была ему необходима, как инъекция наркоману. Но Скотт погиб, а младший брат не годился ему даже в подметки. Помимо всего прочего, Джереми обладал удивительной способностью притягивать к себе все неприятности, какие только могли случиться, и был совершенно неспособен найти выход из той ситуации, в которую сам же себя загнал. А ему, Белиджану, приходилось нянчиться с ним и исправлять его ошибки. Пегги — Белиджан знал это по опыту — становилась неуправляемой и чрезвычайно опасной, если не удовлетворить ее требования. Даже когда Вдова блефовала по поводу своего мнимого брака с Арчибальдом Найтом, Белиджан воспринимал это очень серьезно. Не надо было ее провоцировать! Если бы этот кретин Джереми вовремя дал ей миллион долларов — кстати, мизер по сравнению с тем, что проглатывала избирательная кампания, — до выборов она сидела бы тихо. Но Джереми нравилось изображать из себя этакого непреклонного супермена. А теперь придется истратить уже два миллиона, и то если старуха Вирджиния Балтимор согласится пойти на уступки. В этом Белиджан сильно сомневался и не ждал ничего хорошего от разговора Джереми с матерью. Из-за собственной глупости тот, конечно, упустит свой единственный шанс. А еще на голову свалилось бегство Чарлен. В Париже — последнем предполагаемом месте, где мог находиться Эрнест Бикфорд, или просто Квик — для его поклонниц, человек из команды Белиджана уже работал в контакте с французскими спецслужбами, которые ни в чем не отказывали своим американским коллегам. Зазвонил телефон — это был Париж. Мужской голос звучал так отчетливо, будто собеседник Белиджана находится в соседней комнате. — Они сбежали в Афины, — доложил он. — Вы их засекли? — Еще нет. Но скоро все выяснится. Там, на месте, есть человек, который наводит справки. Я объяснил ему, что нужно сделать, чтобы вернуть птичку в клетку. — Ее или его? — Его. А что, нужно заняться и ею? Белиджан непроизвольно стиснул трубку. — Нет, нет, только не это! Я займусь этим сам. — Хорошо. Какие еще будут распоряжения? — Пока все. Позвоните мне, как только появятся новости. Окончив разговор, Белиджан предался размышлениям. Сам по себе вообразивший себя гонщиком сопляк ничего не значит. Главное — это дочь Скотта Балтимора, которую нужно было нейтрализовать как можно быстрее. Белиджан знал, что только один человек может справиться с девчонкой — это ее мать. В конце концов, Вдову стоит заставить хорошенько попотеть, чтобы отработать эти два миллиона долларов! Джереми хотелось бы много чего утаить от матери, но это ему, как всегда, не удалось. Когда речь заходила о деньгах, голова старухи работала как компьютер. Утверждение о том, что старение клеток головного мозга приводит к снижению умственных способностей, к Вирджинии не относилось. По мнению Джереми, матери суждено прожить не меньше чем сто восемьдесят лет, и она всегда будет твердо помнить, что дважды два — это четыре, особенно если каждая единица этой комбинации цифр составляет миллион. И ему пришлось все рассказать — об исчезновении Чарлен, об ультиматуме Пегги, сложном положении, в которое из-за всего этого попала партия. Вирджиния не ответила ни «да», ни «нет», а выдала сыну весь комплект едких нравоучений о предательстве своих. Под «своими» надо было понимать демократов. Она не могла простить сыну того, что он не решился выдвинуть свою кандидатуру, уступив этому идиоту О'Брейну, который и взялся-то неизвестно откуда. Джереми ссылался на тактические соображения, но предпочел бы умереть, чем назвать настоящую причину своего отхода от предвыборной борьбы: он боялся, страшно боялся! Перед его глазами стояла смерть двух братьев — он не хотел быть третьим. Кто, кроме собственной матери, посмеет упрекнуть его за это? Не будь Джереми Балтимором — он бежал бы куда глаза глядят из этого мира жестоких амбиций, интриг и беспощадной борьбы не на жизнь, а на смерть. Состояние можно сделать на чем угодно, только бы не на политике. Увы, он был Балтимором, пешкой, которая должна была сыграть свою роль во славу могучего семейного клана. Джереми не решился сказать матери то, что она вряд ли бы захотела понять: популярность Балтиморов в данный момент была на нуле. А его рейтинг был еще ниже — с отрицательным знаком. Службы Белиджана установили это со всей очевидностью. Слишком много скандалов выплыло на свет Божий в самый неподходящий момент. Если противники не пощадили даже память Скотта, то уж поведение Пегги было у всех на языке и проецировалось на партию в целом. Это заставило ее лидеров выдвинуть наиболее приемлемого кандидата — Джонни О'Брейна. Он по крайней мере верил в то, что говорил, и выглядел искренним даже тогда, когда с важным видом молол чепуху. Слишком глупый, чтобы быть лжецом, слишком честный, чтобы распознать обман, О'Брейн обладал огромным преимуществом перед всеми, кто боролся за президентское место: он был никому не известным, впервые появившимся на политической арене претендентом, чья добропорядочность еще ни разу не подвергалась испытанию властью. Он выплыл в удачное для себя время, когда Америка с удовольствием перемывала грязное белье уже хорошо известных ей кандидатов. Это давало демократам пусть и незначительный, но все-таки перевес в борьбе с республиканцами. Только бы не попала в хорошо отлаженную машину какая-нибудь песчинка, способная застопорить ее ход. В этом плане особую опасность представляла Пегги. Пресса бдительно следила за каждым ее шагом. Когда распространился слух, что она может обручиться с девяностолетним старцем, на демократов со всех сторон посыпались насмешки и издевки, а это не прибавляло им популярности. Миллионы избирателей отождествляли Балтиморов и Пегги со всей партией. Пегги для них, несмотря на брак с Сатрапулосом, по-прежнему принадлежала к семье великого Скотта. — Мама, — рискнул сказать Джереми после долгого молчания. — Я говорил, что Пегги требует… — Говорил. — В голосе Вирджинии зазвучали металлические нотки. — …два миллиона долларов. — Она совершенно права. На ее месте я, возможно, потребовала бы вдвое больше. У Джереми появился слабый проблеск надежды: по причинам, ему не известным, Вирджиния, похоже, была готова стать на сторону своей бывшей невестки. Возможно, она даст денег и вытащит их из этой чертовой мышеловки. — Все так, мама, но партия сейчас, как никогда, нуждается в деньгах. Мы подумали, что вы, возможно, могли бы нам одолжить… Вирджиния посмотрела на него с добродушной улыбкой и проронила: — Конечно же нет. — Мама, речь идет о наших общих интересах… — Мои интересы — больше не ваши. Ах, если б ты сам себя выдвинул! — Мать никогда не упускала случая попрекнуть сына Скоттом. — Если бы ты был кандидатом, — повторила она, — я бы сделала все с помощью Господа Бога и моих банкиров, чтобы ты выиграл. Но это не тот случай. — Мама! — Я не оставляю тебя на ужин. Пятница, как известно, — мой постный день. Хоть ты и мало ешь, но сегодня рискуешь остаться голодным. Джереми собирался выходить, когда Вирджиния добавила: — До выборов три месяца. Многое еще может произойти. — Что, например? — спросил Джереми, начиная злиться. — Возможно… этот… О'Брейн сам откажется и уступит место тебе. Видишь ли, Джереми, так хочется увидеть еще одного из моих сыновей в Белом доме, пока я жива. — Мама! Через четыре года… — Это будет слишком поздно и для тебя, и для меня. Я умру. Спокойной ночи, Джереми. Вирджиния взяла с комода тяжелые четки и повернулась к сыну спиной. Джереми вышел чуть ли не на цыпочках. Совсем так, как в те времена, когда он был маленьким, совсем еще маленьким мальчиком.* * *
Его звали Перикл. Согласитесь, несколько необычное имя для типа, который был известен на Крите тем, что всегда был готов оказать любые услуги, в том числе и самого сомнительного свойства, любому, кто хорошо платил. На днях клиент из Афин поручил ему пустяковое, с его точки зрения, дело: найти на острове следы двух молодых людей, прилетевших на Крит два дня назад. За это ему обещали заплатить аж тысячу зеленых. Периклу понадобилось двадцать минут, чтобы узнать, что его подопечные взяли напрокат в агентстве Херца автофургончик. За машину расплачивалась девушка, которая оставила в залог триста долларов и указала в страховой ведомости место назначения — Эримопулос. Перикл поморщился, прочитав название селения. Это место облюбовали бродяги со всего света, которым для полного счастья достаточно было немного еды и много солнца, музыки и наркотиков. От Перикла требовалось немногое: передать парню несколько слов, которые должны были заставить его немедленно вернуться в Париж, и попытаться увезти его из Эримопулоса так, чтобы этого не заметила девушка. Перикл раскурил окурок — все, что осталось от небольшой черной сигары, которую он никогда не выпускал изо рта, и направил свой «остин» по ведущей в бухту ухабистой дороге. Он вез парню билет на авиарейс Афины — Париж и тысячу долларов как компенсацию за прерванную идиллию. Всю дорогу Перикл предавался размышлениям, стоит ли отдавать парню всю сумму или с него хватит и пятисот долларов. Вопрос был лишь в том, узнают или не узнают об этом работодатели? В конце концов ему удалось найти компромиссное решение: этому парню, некоему Эрнесту Бикфорду, можно дать только 750 долларов. В двадцать лет еще позволительно не знать настоящей цены деньгам.* * *
— Что у вас там? Говорите, — эти слова Арчибальд произнес ледяным тоном. Плохое начало! Джон Робинсон помедлил с ответом, не совсем себе представляя, как и с какой стороны подступиться к этому бетонному столбу. — Ну вот… — начал он несколько неуверенно. — Вот… Наши дела идут не слишком хорошо. Арчибальд оставался непроницаемым. — Вам, конечно, известно имя кандидата, которого выдвинули демократы, — Джонни О'Брейн. До вчерашнего дня мы надеялись, что их выбор падет на Джереми Балтимора. Но они не попались на удочку. Робинсон пытался отыскать на лице собеседника хоть какой-то намек на одобрение или хотя бы на внимание к своим словам. Но тот был неподвижен как монумент из бронзы. — До настоящего времени, — запинаясь, продолжал Робинсон, — мы пытались обезоружить наших противников, сосредоточив все удары на имени Балтиморов. И выиграли очко! Но выдвижение Джонни О'Брейна смешало все карты. Еще немного, и избиратели забудут, что партия демократов подчинена одному-единственному клану — клану Балтиморов. — Чего же вы хотите от меня? — нетерпеливо сказал Арчибальд. — Я пришел просить вас о помощи. — Если речь идет о деньгах — не рассчитывайте на это. От меня вы получили более чем достаточно. Робинсон понимал, что при слове «доллар» Арчи сию минуту укажет ему на дверь. Поэтому он предпочел слукавить и дождаться более благоприятного момента, чтобы возобновить попытку. Он поднял руки в знак успокоения и протеста. — Конечно нет, хотя кампания пробила огромную брешь в финансах партии. Я пришел за советом. Вы не хуже меня знаете, чем грозит стране приход к власти наших противников. Вам, в частности… — Не беспокойтесь обо мне, — перебил Робинсона Найт, — мое будущее обеспечено. — Я в этом не сомневаюсь, но опасаюсь за людей… за принципы… Поддерживая нас, вы всегда поддерживали свои собственные идеи, господин Найт. Нам нужен какой-нибудь крупный скандал, который окончательно подорвал бы реноме Балтиморов. И за оставшиеся до выборов три месяца мы сумели бы привлечь избирателей на свою сторону. — Какой скандал? Надо было продолжать, но Робинсон не решался прямо выразить свою мысль, поскольку этот скандал мог вызвать только сам Арчибальд Найт. И не чем иным — а только своей женитьбой на Пегги Сатрапулос. Только в этом случае потрясенные рядовые избиратели отвернутся от демократов и проголосуют за кандидата республиканцев. Робинсон колебался, мучился, безуспешно призывая на помощь провидение, в которое сам не верил. Ну какие нужно найти слова, чтобы эта жаба поняла его и не выставила за дверь? Тишину нарушил его жалкий смешок. — Ах, господин Найт, если бы вы претворили свой план в жизнь… Взглянув на старца, Робинсон увидел, что его намек до Найта попросту не дошел. — Какой такой план? — в голосе Арчибальда прозвучало нескрываемое пренебрежение. — Вспомните. Полгода назад вы мне говорили о своей возможной помолвке с миссис Сатрапулос… — Ну и что? — спросил Арчи, делая вид, что не понимает, куда этот болван клонит. Ужаснувшись, что зашел слишком далеко, Робинсон попытался отступить. — Как жаль. Это… потрясающая женщина! Глаза Арчибальда сверкнули. — Какая, позвольте спросить, связь между моей помолвкой и выборами? — Никакой! Никакой! — поторопился ответить Робинсон. — Просто я порадовался бы за нее! Выйти замуж за такого человека, как вы… Пренебрежительное выражение на лице Найта сменилось гримасой отвращения. — Вы хотите сказать, что, выйдя замуж за старого болвана, Пегги Сатрапулос непременно скомпрометирует себя и, естественно, всю семейку Балтиморов? Робинсон, который не краснел уже с четырнадцати лет, стал пунцовым, как помидор. — Нет-нет! Вы меня не так поняли! Я бы никогда такого не подумал! — Значит, я, по-вашему, просто-напросто старый осел, верно? — Господин Найт! — Замолчите! Вы правы, но это уж слишком. Человек, которому я плачу, осмеливается говорить такие вещи! — Господин Найт, клянусь, я… — Таким образом, в ваших глазах я выгляжу пугалом, вызывающим отвращение у молчаливого большинства. Не так ли? — Прошу вас… Робинсону в эту минуту хотелось одного: исчезнуть, испариться, никогда не появляться здесь. — Я этого не говорил! Я думал только… полагал, что вы, возможно, женитесь… вы это говорили! — Да, говорил. Ну что ж, я так и сделаю! — Господи! — вырвалось у Робинсона. — Да, да! Ведь, по-вашему, это единственный способ спасти страну. Скажите, Робинсон, между нами… Вы полагаете, что она захочет такую развалину, как я? Робинсон заикался, жестикулировал, изворачивался. И вдруг, как актер, который предстает перед публикой после того как сыграл свою роль, Арчибальд сменил тон. Его лицо стало властным и напряженным. — Теперь послушайте меня! Клянусь, что при малейшем слове, которое прозвучит фальшиво, мои слуги выкинут вас отсюда и вашей ноги здесь больше не будет! Подчинившись, Робинсон принял позу, сильно напоминающую позу солдата, стоящего по стойке «смирно». — Если вы мне ответите искренне, — продолжал Арчибальд, — у вас появятся некоторые преимущества. Я больше не шучу, постарайтесь не принимать меня за дурака! Итак… Будь что будет, и Робинсон решил принять участие в предложенной ему игре. — Хорошо. Что вы желали бы знать? — Что вы думаете о Вдове? Робинсон заколебался, но угрожающее выражение лица Арчибальда заставило его отважиться: — Миссис Сатрапулос, вне всякого сомнения, необыкновенная женщина, но… — Что «но»? — Она больше всего на свете ценит мирские блага. — Только ради Бога, не надо громких слов! Вы хотите сказать, что она думает только о деньгах, да? — Да, это так. — Что еще? — Ее считают эгоцентричной. — Ну и что? Ей наплевать на то, ради чего другие лезут из кожи вон. Я ее понимаю: я такой же. Еще? — Думаю, что приличная сумма может подтолкнуть ее к… — Иными словами, — перебил Робинсона Арчибальд, — Пегги порядочная сволочь, которая способна выйти замуж за старого дурака ради денег! — Что ж… — И сколько ей нужно? — Боюсь, что… — Все? — захохотал Арчибальд. — Все, — жалобно подтвердил Робинсон. Арчи сделал несколько шагов по комнате. Робинсон не мешал ему думать. — Послушайте, Робинсон… Знаете ли вы, сколько я стою? — Честное слово, нет. Предполагаю — очень дорого. — Ошибаетесь! На самом деле я стою гораздо дороже, чем вы думаете. Честно говоря, мое состояние настолько велико, что я сам затрудняюсь назвать точную цифру. Вы помните Сатрапулоса? — Да. — Знайте же, что по сравнению со мной он и дюжина ему подобных — голодранцы. Не спрашивайте себя, почему я с вами откровенничаю, лучше скажите, чем, по вашему мнению, станут мои деньги после моей смерти? — Не знаю… — И я тоже! Поверьте, меня это очень огорчает. Кроме живописи, я не люблю ничего — ни собак, ни детей, ни людей. Честно признаться, плевать мне на человеческий род! Итак, Робинсон, в данной ситуации мои деньги уйдут или к свиньям из правительства, или к ювелирам какой-то шлюхи, а вы мне сами сказали, что эта женщина — шлюха! Что же вы от меня хотите, в чем разница? — Господин Найт! Я вас прошу! — Вы, похоже, верите в чудеса, и я завидую вашему тупоумию. Но я верю в две вещи — в свою смерть и в человеческую глупость. Значит, делая дурь ради дури, я вас спасу? Нет, я пойду на это по другой причине — ради того чтобы вызвать ярость и злобу огромного количества двуногих. Чем им будет хуже, тем лучше, не так ли? Я скажу Вдове, что если она примет предложение стать моей женой в течение ближайших двух недель, а это именно тот срок, который вам нужен… Итак, я скажу ей, что она унаследует все мое состояние, все мои ценности, без исключения! А теперь, Робинсон, забудьте обо всем, что вы здесь услышали. Никогда и ни с кем я не вел подобных разговоров. Думаю, мы друг друга понимаем… А сейчас уходите. Мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Когда Робинсон вышел из библиотеки, то ему можно было дать все девяносто. Ему, а не Арчибальду Найту! (обратно)Глава 9
Пегги размышляла, а Джереми в это время пытался подсчитать в уме количество выпитого им за последние часы виски. Регулярно он пил до цифры «двадцать один». Нет, конечно, он мог выпить и больше, но после двадцать первой по счету рюмки, которую он проглотил, расставшись с матерью, у него возник какой-то провал в памяти. Собственно, бутылка была практически пуста уже во время беседы с Белиджаном, который считал, что в таком состоянии Джереми и думать нечего, чтобы встречаться с Пегги. Кретин! Все у него получилось. Пусть отчасти туманно, но он же сумел объяснить ей, чего от нее ждут. Теперь ее очередь ответить «да» или «нет». Все карты в руках Пегги. А то, что они чуть-чуть подтасованы, эта мерзавка заметит в самом лучшем случае где-то через неделю. А может, и того позже. Суть сделки заключалась в следующем: Пегги должна отыскать Чарлен и привезти ее в Штаты так, чтобы никто не пронюхал. Взамен Джереми вручит ей два миллиона долларов. Где их раздобыть, он пока еще не знал. — Это же проще простого. Разве нет? — сказал Джереми, громко икая. Пегги смерила его рассеянным, презрительным взглядом. Ее смущала неделя отсрочки, которую тот просил, — не ловушка ли это? По мнению Джереми, Чарлен укатила с Квиком в Афины. Найти их, как он считал, было делом нескольких часов. А потом парнем займутся он и его «друзья». Пегги же предстоит уговорить дочь. — У тебя есть билеты? — резко спросила Пегги. — Ты согласна? — Мне надо восемь билетов первого класса — туда и десять — обратно. — Что?! Ты с ума сошла! Никого нельзя брать с собой. Все должно делаться без лишнего шума. — Я и не собираюсь. — Зачем тогда куча билетов? — Если нельзя нанять личный «боинг», самое меньшее, что можно сделать, — это избежать тесного соседства с другими пассажирами. Ты принес расписку? — Какую расписку? — Обыкновенную. Ты мне должен два миллиона долларов, и я хочу, чтоб это было оформлено как положено. Не забудь указать срок уплаты. Джереми сделал негодующее лицо. — Пегги! Это смешно! Ты не доверяешь мне? — Нет! — Как будто я шатаюсь с бумагами такого рода и держу их при себе! — Отлично, я не еду! — Пегги! — Придешь, когда будешь иметь этот документ, заверенный твоим банком. — Ты получишь его завтра! — Ладно. Приходи завтра. — Но, Пегги, это срочно! Ты должна улететь сегодня вечером! Есть самолет в 22.00. — Лети сам, если тебе это надо. Придешь с распиской, понял? А теперь убирайся! Я жду одного человека. Если б не затуманивший мозг алкоголь, Джереми в ярости придушил бы ее на месте. Хватит ему того, что он выслушал от Белиджана, когда тот узнал, что Вирджиния отказалась дать денег. — Если бумаги будут через два часа, — добавила Пегги, — я, пожалуй, успею вечером улететь. На твоем месте я бы сильно постаралась. Учти, что завтра мои планы могут измениться, и тогда я не приму твои условия. Торопясь выпроводить Джереми, она сама открыла ему дверь. Всего час назад ей позвонил сам Арчибальд Найт и попросил о немедленной встрече. «Я должен, — сказал он, — сделать вам необычайно важное предложение». Арчи презирал семейство Балтиморов, обвиняя их в том, что они «проводят политику, рассчитанную на негров и домохозяек». Нельзя, чтобы он в ее квартире столкнулся с Джереми. Пьяный в дым бывший шурин, чего доброго, еще набросится на старикана, чтобы на нем сорвать злость. — Хорошо. Я все улажу, — бормотал Джереми, ритмично покачиваясь в метре от двери. Да, но как? Какой банк выдаст ему такой документ? Под какие гарантии? — Сделай быстро, — сказала Пегги, выталкивая его. — Как можно быстрее! Иначе я могу и отказаться. — Сильным толчком она вышвырнула его вон.* * *
Из предосторожности Белиджан ничего подобного раньше не делал. Но сейчас он был настолько раздражен, что сам позвонил в Париж, поскольку при первом разговоре забыл сказать самое важное, то, чего не следовало знать даже Джереми. К счастью, нужный ему человек оказался на месте. — Есть новости? — спросил он. — Пока нет, я жду, — ответил тот. — Хорошо. Скажите, эта гонка будет опасной? — Как и все гонки. Черт! Этот французишка намеков не понимает. Придется сказать ему прямо, а значит, скомпрометировать себя. — Нет, судьба этого типа нас не волнует, он попросту засранец, вы понимаете? Это опасный вид спорта, можно и шею себе свернуть, верно? На другом конце провода, там, на другом континенте, возникла очень длинная пауза. Она была настолько тягостной, что Белиджан резко прервал разговор. — Держите меня в курсе дела. Звоните в любое время дня или ночи. — Он положил трубку. Нужно быть глухим или последним дебилом, чтобы не понять сказанного.* * *
Арчи в этот момент было не восемьдесят, не шестьдесят, не сорок, не двадцать лет. Он чувствовал себя семнадцатилетним юношей и злился на себя за охватившее его волнение перед встречей с Пегги. Оказавшись в ее огромной гостиной, окна которой были распахнуты в сверкающую ночь Нью-Йорка, он совсем не притворялся, он действительно был влюблен, как герой-воздыхатель из примитивного мюзикла, как дурачок, который приходит просить руки возлюбленной с букетом цветов. В его годы это просто смешно! Он мямлил, маршируя вокруг стола, через каждое слово извинялся за свою путаную речь. — Это глупо! Слишком глупо! — смущенно бормотал он. Пегги смотрела на него с удивлением, заинтригованная, недоверчивая, но в душе наслаждавшаяся этим странным превращением, которое происходило на ее глазах: жесткий и могущественный человек выглядел сейчас растерянным мальчишкой, которого хотелось усадить на колени, утешить, приласкать. Конечно, она не забывала, что так называемому мальчику было под сотню лет, но ей искренне хотелось ему помочь. Кроме того, ее терзало жгучее любопытство, что за ящик принес и поставил у входа Арчи, когда Эмили открыла ему дверь. Найт наконец успокоился, взглянул на нее и сказал: — Я кажусь вам идиотом, да? — Боже! Что вы говорите?! Разве так можно? — Пегги дала бы отрубить себе палец, чтобы узнать, что лежит в ящике. — Это смешно, — пробурчал Арчи, возобновляя хождение вокруг стола. — Смешно! — Ради Бога, сядьте! У меня уже кружится голова! — Простите меня. — Ну сядьте же рядом со мной! Вот так. Успокойтесь! Арчи уселся на край дивана и как бы окаменел. — Теперь говорите, — ободряюще сказала Пегги. Он молчал, опустив голову. — Ну, не бойтесь, Арчибальд! Я чувствую, что вам нужна помощь. Расскажите мне все. Найт уставился на носки своих туфель, а Пегги почувствовала, как по ее позвоночнику поднимается вверх волна неизъяснимого наслаждения. Еще бы! Перед ней сидел не властелин могущественной империи, а человек, потерявший дар речи и совершенно парализованный. Такими зрелищами она никогда не могла пресытиться. Не будь у Арчи таинственного ящика, она еще долго продолжала бы игру, в которой искусно сплетались вызов и рассчитанное равнодушие и которой не могли противостоять даже те представители мужского сословия, кто относился к категории неприступных. Как бы случайно Пегги накрыла руку Арчи своей, испытав двойственное ощущение — то ли к ящерице она прикоснулась, то ли к куску старого сгнившего шелка, который вот-вот расползется под пальцами. — Я… — начал Найт. По его руке пробежала медленная, тяжелая дрожь. — Ну, дальше! — ослепительно улыбнулась ему Пегги. — Я, как вы знаете, был когда-то женат, — сказал Арчи. — У меня есть сын… взрослый шестидесятисемилетний сын… — Неожиданно он вскочил и забегал по гостиной. — Ах нет! Сожалею! Это слишком по-дурацки! Не сердитесь, из-за вас я теряюсь! Вот… Да помогите мне! Вы же видите, что я пришел просить вашей руки! Он посинел от напряжения, но приступ агрессивности вернул ему способность говорить. — Да, я грубиян, не соображаю, что говорю. Извините, я просто сумасшедший. Примите мой подарок. До свидания! Ошеломленная Пегги, видя, что он быстро направился к двери, подскочила к нему, снова взяла за руку и силой усадила на диван. — Арчибальд! Даже в двадцать лет я ни от кого не слышала столь пылкого, столь искреннего объяснения в любви! — Я старый дурак! — проворчал Найт, уставившись на свои туфли. — Арчибальд! Ну как можно говорить такое? Успокойтесь, пожалуйста. Говорите помедленнее, а то я уже не знаю, на каком я свете… Кажется, вы что-то упоминали о каком-то подарке? — Там, у входа… сундучок. — Какой сундучок? Конечно, так спешить не следовало бы, но любопытство разъедало Пегги как кислота. Она моментально принесла ящик, обернутый в обыкновенную упаковочную бумагу. — Подарок, вы говорите? Для меня? Ах, зачем это? Вы позволите посмотреть? Ее пальцы уже нервно разрывали бумагу. Под упаковкой действительно оказался сундучок из черного дерева, окованный ржавым железом. — Что это? — Сувенир… Один из тех редких предметов, который пережил крушение корабля, века и море. — Прелесть! — с чувством произнесла Пегги, делая вид, что не ощущает тяжести этой старинной реликвии. На ее лице было написано восхищение таким оригинальным подарком. — Откройте же его! — процедил сквозь зубы Арчи, опустив голову. Пегги не заставила его повторять дважды. Нервным движением она коснулась двух боковых замков. Сундучок открылся. — О! — воскликнула она, остолбенев от изумления. В нем, как в пиратских сундуках, которые можно увидеть только во сне, на велюре цвета спелого граната сверкали драгоценные камни. — Идиотский подарок, правда? — проворчал Арчибальд. — Я никогда не умел делать подарки. Но Пегги не слышала. Как опытный ювелир, она прикидывала стоимость фантастической диадемы из платины, изумрудов и бриллиантов, кулонов, колец, серег с рубинами и бриллиантами, сапфировых клипсов, бело-голубых колье и браслетов, холодный блеск которых контрастировал с теплым сиянием золота. Молчание нарушил Арчи. — Это банально! — негромко сказал он. Только теперь Пегги вспомнила о присутствии Найта и бросила на него самый ласковый, на какой вообще была способна, взгляд. На миг он показался ей самым красивым в мире мужчиной, которым можно было восхищаться как отцом, которому следовало поклоняться как Богу. — Арчи! — пробормотала она. — Арчи… Даже Грек, осыпая ее подарками, подобных чудес не преподносил никогда. Перед ними не устояла бы ни одна женщина в мире. Да эти драгоценности созданы именно для нее! А сейчас нужно срочно что-то сделать! Неважно что — обнять Найта, раздеть его, покрыть его тело поцелуями, поклясться ему в верности, умолять подарить ей ребенка… И Пегги с благоговением прильнула губами к губам ошеломленного старца. — Вы безумец! Смущенный Арчибальд сделал неопределенный жест. — Пегги, это все ничего не стоит. Мне надо о многом вам сказать… Давайте поужинаем вместе. Но в этот миг она вспомнила: Лон, Джереми, ее авиабилеты, отъезд сегодня вечером — и, больно закусив нижнюю губу, тихо сказала: — Я должна уехать! — Зачем? Когда? Инстинктивным движением она закрыла сундучок, стиснув его обеими руками. — Сегодня вечером. Уже сейчас. — Но Пегги! Это невозможно! Я с вами еще толком не поговорил! — Который час? — прервала она его. — Не знаю, я никогда не ношу часов. Пегги посмотрела на свои: уже восемь. Проклятый Джереми! Он уже должен был быть здесь с документами. Чтоб он сдох! Пошли они все… Боже, прости меня! Их чертовы выборы сутки могут подождать. — Арчибальд, я принимаю ваше приглашение. — Но вы сказали… — Видите ли, — Пегги слегка заколебалась, — мне нужно было лететь сегодня вечером в Афины по семейным делам. Это касается моей дочери Чарлен и Джереми, моего бывшего шурина. Но дела могут подождать. Идемте ужинать, только дайте мне пять минут, чтобы переодеться. — Благодарю вас! Благодарю. — С чувством неясной тревоги Арчибальд увидел, что она забрала с собой сундучок.* * *
Лон открыла глаза и увидела, что лежит не на матраце, а просто на песке: должно быть, соскользнула с него во сне. Первой мыслью после пробуждения было — где Квик? Она так боялась его потерять! Здесь… Можно протянуть руку и дотронуться до него, чтобы убедиться, что не спишь, что есть это небо, и этот плеск волны, которую впитывает песок, и эти звезды, не исчезающие даже на рассвете. А он уже вставал там, у края моря, над линией горизонта, полыхая оранжево-розовым пламенем. Стояла такая тишина, что Лон отчетливо слышала, как бьется сердце Квика. Думая поначалу, что это невозможно, она приложила к его груди сначала одно, потом другое ухо. Нет, стучит! В пять часов утра 20 августа на пляже Эримопулоса в Греции единственными уловимыми шумами на планете были едва слышное скольжение волны и биение сердца человека, которого она любила. Эти минуты стоит запомнить навсегда. Квик был и останется самым дорогим человеком в ее жизни. Она смотрела на лицо спящего юноши с благоговением и благодарила Бога за то, что он сделал его таким красивым. Ради того чтобы быть рядом с ним, она была готова на все: убить, сделаться проституткой, совершить клятвопреступление, залить землю потоками крови, предать ее огню. Никому она не позволит стать между ними. Никому! В Нью-Йорке, похоже, вот-вот начнутся поиски. Поднимется колоссальная суматоха. Клан Балтиморов бросит все силы на то, чтобы вернуть заблудшую овцу в лоно семьи. Но что общего может быть у нее с этими алчными хищниками, всю жизнь стремившимися к деньгам и власти? Лон молила об одном — чтобы чудо этого мгновения продолжалось вечно. Солнце вдруг взметнулось над морем и стало быстро подниматься, заливая мир ослепительным светом. — А не сходить ли тебе за кофе для меня? Руки Квика обхватили ее. Лон прижалась к нему, а он протер глаза и улыбнулся. — Хорошо спала? Она кивнула головой и, свернувшись калачиком, еще тесней прижалась к любимому. Квик погладил ее волосы, тихо разжал ее руки, встал и по-кошачьи потянулся. — Вот здорово! Пошли! Он потянул ее, помогая подняться на ноги. Девушка запротестовала: — Подожди, я ведь голая… — Ну и что? А я что, одет? Держась за руки, они побежали к морю.* * *
Увидев огромный торт, который слуга в белых перчатках торжественно водрузил на стол, Пегги поняла, что ужин подходит к концу. Вино показалось ей подозрительным, поэтому она ограничилась глотком воды, чтобы запить селедку, которую якобы попробовала, едва прикоснувшись к ней кончиком вилки. Что значила эта жалкая земная пища, когда она была все еще ослеплена сумасбродным подарком Арчи! Вернуться бы поскорее домой и насладиться сполна. Обо всем, что ее волновало, Пегги могла говорить без утайки лишь со своей собакой и своими камешками. А что касается предложения Арчи, то он должен будет оговорить с предельной ясностью все финансовые детали их брачного контракта. Но это может подождать… — Не хотите ли кусочек торта? — спросил Арчи. — Моя Урсула специально испекла его для вас. Пегги еще раз взглянула на торт и подумала, что эта женщина, должно быть, здорово ее ненавидит. — Не хотите ли перейти в библиотеку выпить кофе с ликером? Под «ликерами» Арчибальд подразумевал самые разнообразные алкогольные напитки, которые он хранил для почетных гостей. Они поднялись из-за стола. Пегги оперлась на галантно предложенную ей руку. — Есть две… возможно, три вещи, которыми мы могли бы сегодня вместе заняться. — Какие? — Сначала поговорим. А потом я вам кое-что покажу. Впрочем, как вам будет угодно. — Тогда поговорим. Они уселись друг против друга в кресла, разделенные низким столиком. Арчи немного помялся, но Пегги ободрила его нежным взглядом. — Знаете, Пегги, я хотел попросить вас об одном одолжении. Прошу выслушать меня до конца не прерывая. Обещаете? — Ну конечно. — Я вел себя с вами очень странно. Хотел просить вашей руки, а наговорил глупостей. На секунду Пегги испугалась, что он передумал, но послушно осталась сидеть, стыдливо опустив глаза, так, как это делают юные девушки. — Вы, должно быть, решили, что я впадаю в маразм. — Пегги здесь позволила себе легкий протестующий жест. — Видите ли, мы знакомы уже полгода. А в моем возрасте время идет в два раза быстрее именно потому, что дни мои сочтены. Самая настоящая слеза скатилась с ресниц правого глаза Пегги. Этот глаз никогда ее не подводил: слеза появлялась всегда в самую нужную минуту. К сожалению, она ничего не могла поделать с левым, никакие усилия не помогали: не удавалось заставить его заплакать — и все! Впрочем, по-настоящему она плакать не умела — ни от счастья, ни от горя, ни из сочувствия к кому бы то ни было. Несмотря на старческую дальнозоркость, Арчибальд увидел, как стекает эта слеза, и деликатно вытер щеку Пегги шелковым платочком. — Не плачьте! Я не хотел вас расстраивать! Извините, ради Бога! Из-за него никто не плакал, кроме его матери. Да и она пролила слезу, но не от радости, а от гнева, когда он семьдесят пять лет назад сначала сбежал из дому, а потом вернулся. Мать привыкла к мысли, что его нет, и разозлилась, когда сын появился. — Ничего, ничего. — Пегги искусно изобразила стыдливое волнение. — Простите меня! Но надо, чтобы вы знали. Конечно, я выгляжу моложе, но мне скоро исполнится девяносто лет. — Арчибальд замолчал, словно признание, которое он ей сделал, вернулось к нему бумерангом, нанося удар. У Пегги хватило такта сделать большие глаза. — Я бы дала вам не больше шестидесяти. — Ну, ну, дорогая, кого вы хотите провести? А теперь главное. Если вы согласитесь провести со мной последние дни, которые мне суждено прожить, я сделаю вас единственной наследницей всего, чем владею. Пегги затихла, размышляя о том, кому из адвокатов следует доверить составление их брачного контракта. Арчибальд, приняв ее молчание за колебание, посчитал необходимым уточнить: — А владею я многим! Пегги встала. — Теперь моя очередь смущаться и бессвязно говорить. Не из-за ваших чувств ко мне, они, конечно, трогательны, а из-за предложения, высказанного в такой форме. Она перевела на него напряженный взгляд, и Найт еще раз увидел чудо: снова огромная слеза скатилась по щеке Пегги. — Арчибальд, я прошу вас быть искренним, потому что мой вопрос затрагивает наши будущие отношения. Вы считаете меня продажной? Арчи не сводил с нее глаз. Он испытывал нечто вроде непонятного головокружения, которое заставляло его вот уже несколько часов думать о том, что говорил он сам, а главное — о ней, о ее словах. Ему было отлично известно, что Пегги растратила не одно огромное состояние. Из головы не выходили слова Урсулы: «Вдова? Она приносит несчастья!» — Ответьте мне, — настаивала Пегги. Его взгляд остановился на слезе, которая, казалось, с каждой секундой увеличивалась. Пегги подошла к нему, взяла его руку в свои и поцеловала ее. — Спасибо, спасибо, дорогой Арчибальд. — Она не сомневалась, что старик долго не протянет, это биологически невозможно. Полгода, ну, может, год-два от силы. А ей надолго хватит унаследованного состояния. — Ваше предложение взволновало меня. Вы заставляете меня трепетать. Мысли путаются в голове. Я с трудом представляю, где нахожусь. Дайте мне время подумать. — Не торопитесь! Недели на размышление вам достаточно? — Недели?! — В моем возрасте это очень много. Времени, чтобы ждать, увы, так мало. Неделя… В том, как Найт произнес это слово «неделя», Пегги почувствовала не только просьбу, но и властное распоряжение. Что ж, она успеет содрать с Джереми два миллиона, а после скажет «да» Арчибальду. Выигрыш в обоих случаях обеспечен. — Согласна. Пусть будет неделя. Арчи, улыбаясь, взял ее за руку. — А сейчас я кое-что вам покажу. Это «кое-что» вскоре будет принадлежать вам! Сгорая от любопытства, Пегги поспешила за ним в холл. Они прошли по длинному коридору в другое крыло дома. Арчи вытянул связку ключей и открыл первую бронированную дверь, которая выходила на лестницу, ведущую в огромный подвал с низкими сводами. Носком ноги Найт слегка прикоснулся к невидимой кнопке у основания стены. — Входите, — торжественно сказал Арчибальд. — И вы увидите мои шедевры… Кроме меня, здесь никто еще никогда не бывал. Они снова спустились на несколько ступенек. С чувством тревоги Пегги ощутила металлический лязг тяжелой стальной двери, закрывающейся за ними. Если Арчи не в себе, ее никто никогда не отыщет в этой могиле! — Это убежище настолько надежно, — продолжал Арчи, — что десять бомб не причинят ему никакого ущерба. Кстати, в нем имеется все необходимое, чтобы выдержать целый год, если там, наверху, разразится ядерная катастрофа. Внизу Арчибальд достал еще один новый ключ, и Пегги со страхом поспешила за ним в открывшийся узкий стальной проход. Последнюю дверь можно было открыть как сейф, набирая определенную комбинацию цифр. — Ничего не бойтесь. Входите. Единственная лампочка скудно освещала помещение, размеры которого она не могла определить, но заметила поблизости полотна на стенах. — Прошу вас, садитесь. Ошеломленная и подавленная, Пегги опустилась на диван. — Вам, конечно, известна, — заговорил, хитро посмеиваясь, Арчибальд, — моя любовь к искусству Ренессанса. Но яхочу предложить сыграть в занятную игру. Попробуйте назвать имя хотя бы одного художника, чьих работ у меня нет. Любого! — Даже из современных? — Да, если хотите. — Ренуар! И тогда произошла невероятная вещь: Арчибальд коснулся кнопок стальной клавиатуры, которую Пегги сначала приняла за низкий столик, и все вокруг осветилось мягким светом. Ее окружали полотна, каждое из которых было шедевром и кричало об имени своего создателя: Тинторетто, Рембрандт, Кранах, Брейгель. Ее внимание переключилось на легкое гудение: словно по волшебству как бы из-под земли перед ней появилась картина, освещенная так, что изображенное на ней лицо ребенка казалось удивительно живым и просветленным. Ошеломленная, Пегги смогла лишь пробормотать: — Потрясающе! Это одна из самых захватывающих работ Ренуара, которые мне когда-либо приходилось видеть. Арчи молчал, а она украдкой присматривалась к нему. Лицо Найта казалось окаменевшим, неподвижным, живыми были только глаза, впившиеся в картину так, словно старец хотел вытянуть и поглотить всю исходившую от нее жизненную силу. Потом, как бы очнувшись, он произнес: — Мне не очень нравится Ренуар, хотя я отдаю должное его мастерству. Что еще вам показать? Называйте. — Вермер? — спросила Пегги, зная, что сохранилось около двадцати его полотен, и надеялась… Надеялась — на что? — Ну, меня вы в лужу не посадите, — самодовольно усмехнулся Арчи. Он снова коснулся клавиатуры. И место Ренуара заняла картина Вермера. На ней была изображена женщина, приоткрывающая дверь изнутри. — Если позволите, — нарушил тишину Найт, — я включу музыку. Для меня каждая картина ассоциируется с ней. Взгляните только на знаменитый свет Вермера, которым освещен весь интерьер. Это тепло, нежность, счастье. Раздались первые звуки концовки Девятой симфонии, Гимна радости. Пегги долго молчала и тогда, когда музыка смолкла, а потом повернулась к Арчи. — Арчибальд? Никакого ответа. Пегги легонько коснулась его руки. — Арчибальд? Его лицо медленно повернулось, но глаза еще не видели ее; в них отражалась картина. Он только что провел несколько минут с этой женщиной, может, даже говорил с ней. Со страхом Пегги снова перевела взгляд на полотно. Но нет, ничего не изменилось: женщина не сделала ни единого движения. Она навечно останется стоять в чуть приотворенной двери, которая не закроется… — Вы что-то сказали? — Найт, словно после глубокого сна, медленно возвращался в этот мир. — Я никогда ничего не слышала об этой картине Вермера. Старик рассмеялся. — В этом нет ничего удивительного. Скрывать не буду — большинство моих полотен были украдены, некоторые даже много веков назад. Ими наслаждались фанатики вроде меня, первой заботой которых было спрятать картины от неподобающих глаз. Музеи… Какое заблуждение! Невежественные взгляды оскверняют шедевры, превращают в доступных всем шлюх! Посмотрим что-нибудь еще? Пегги задумалась. — Арчибальд, на сегодняшний вечер, пожалуй, достаточно. Я хотела бы вернуться. Мне нужно лететь в Грецию. Я еду искать дочь. — А-а, — произнес он разочарованно. — Не огорчайтесь. Хочу, чтобы вы знали… Я могла бы провести целые годы в этом подземелье и смотреть, только смотреть, ничем другим не занимаясь… Арчибальд, мы часто будем приходить сюда вдвоем. — Я провожу здесь все свои ночи. Пегги неожиданно вспомнила все, что он говорил за ужином. — Но вы еще кое-что хотели мне показать. Помните? Он смущенно опустил голову. — В другой раз, в другой раз… Этот музей подействовал на Пегги в общем-то угнетающе. Обратно она шла впереди Найта, притихшая, оробевшая, и тайком облегченно вздохнула, когда они вновь оказались в холле. Теперь можно было снова настаивать. — И все-таки, что еще я должна была увидеть? — Только не сегодня, прошу вас. Впрочем, это была бы глупая затея. — Арчибальд! — Ничего интересного, дорогая, уверяю вас! Это несколько иная коллекция. Если можно так выразиться, очень личная. Когда мы получше узнаем друг друга… Сгорая от любопытства, Пегги решила не трогаться с места, пока не узнает, что еще старикан хотел ей показать. — Но я очень вас прошу! Лучше бы вы об этом не говорили. — Нет, нет! Вы будете разочарованы. — «Очень личное» — вы так, кажется, сказали? — Ну да, — запнулся Найт. — Скажем, имеющее прямое ко мне отношение. Взгляд его затуманился, словно он только что попрощался с миром. Что-то наподобие бельма скрыло радужную оболочку глаза и зрачок. Прошло целых двадцать секунд… — Прямое отношение к вам? — повторила Пегги. — Все, что исходит от вас, вдохновляет меня! Найт нерешительно пожал плечами. — Вы на меня рассердитесь. — Арчи, — она скользнула по нему нежным и ласкающим взглядом, откинув голову назад. — Хорошо. Но запомните: вы сами этого хотели. Теперь он повел гостью в ванную, нажал очередную кнопку, и одна из панелей бесшумно повернулась. Перед Пегги предстали нескончаемые ряды сосудов с этикетками. Еще не зная, в чем же дело, она почувствовала странную дурноту. Подобное ощущение ей пришлось испытать, когда в детстве одна из гувернанток затащила ее в ярмарочный сарай, где были выставлены заспиртованные уродливые зародыши и мертворожденные дети. Чувствуя то же острое покалывание в сердце, Пегги постаралась засмеяться. — Консервы? — Именно. — Из чего? — Из меня. Ее чуть было не вырвало. — Сюда я тоже никого не приводил, — продолжал Арчибальд. — Одна лишь Урсула подсчитывает экспонаты и наклеивает этикетки… Вы первая, Пегги. Ибо я доверяю вам и думаю, что… вы и я… вскоре… Пегги подняла на него глаза, пытаясь изо всех сил скрыть свое отвращение. — Раз уж я осмелился, — Арчибальд стоял, покусывая губы, — то примите в дар одну из скляночек. Пегги еще нашла в себе силы пробормотать первое, что пришло на ум: — Это самое лучшее доказательство вашей любви ко мне, Арчибальд. Ничто другое не доставило бы мне большего удовольствия! Его лицо озарилось радостной, почти детской улыбкой, и она подумала, что Найт просто сумасшедший! Тем не менее она собрала все свое мужество и протянула руку к полке. — Нет, нет! — поспешно остановил ее Арчи. — Только не любую! Позвольте мне самому выбрать! Он исчез между полками. Послышался стук ударившихся друг о друга сосудов, и Найт с триумфальным видом остановился перед Пегги. — Держите. Только взгляните на дату. 13 февраля 1938 года. День моего пятидесятилетия! Возьмите это, оно ваше! Пегги схватила сосуд, словно дароносицу, и, преодолевая тошноту, сказала: — Это самый дорогой подарок, который я когда-либо получала. Найт опустил голову, и она поняла, что он краснеет. — А теперь мне нужно возвращаться домой. Арчи решил сам проводить ее. В это время Урсула председательствовала на домашнем военном совете. Присев за дверью на корточки, она не пропустила ни единого слова из любовного объяснения хозяина. Слуг в доме было больше двадцати, и теперь они обсуждали, как помешать чужачке поселиться в доме. Старая экономка, конечно, не знала, что подслушанная ею новость назавтра станет известна Белиджану. На улице Арчи с неожиданной резвостью бросился к машине и, оттолкнув шофера, сам распахнул дверцу перед Пегги. — Не ждите, пока я стану немощным стариком, и поторопитесь с ответом, — напомнил он, надеясь, что она поспешит его успокоить. Пегги поднялась на кончиках пальцев и шепнула ему на ухо: — Неделя, и ни дня больше, обещаю вам это! Она отошла на несколько шагов, прижав к груди «драгоценный» дар будущего супруга, повернулась к Найту и повторила громче: — Неделя!* * *
В ее комнате на подушке лежал большой бежевый конверт, который Эмили специально положила на видное место. В нем Пегги обнаружила кипу билетов на несколько — на выбор! — авиарейсов до Афин и подписанный Джереми документ, подтверждающий, что ей через неделю предстоит получить два миллиона долларов от «Морган гаранта траст». Ее адвокат через несколько часов тщательно изучит его, чтобы избежать возможных ловушек, и завтра она улетит. «Презент» Найта, который она машинально поставила на ночной столик, опять вызвал у нее приступ тошноты. Пегги сбросила с себя одежду прямо на пол и поспешила в ванную. Ей достаточно было поносить какую-либо вещь хотя бы час, как специальное агентство могло продать ее в десять раз дороже. Извращенцы, как известно, никогда не скряжничают, когда речь идет о предметах, принадлежащих их идолам. Приняв душ, Пегги, не одеваясь, пошла проверить, хорошо ли заперты двери, опущены ли шторы. После этого она открыла стенной сейф, достала сундучок Арчибальда и поставила его на кровать. Нет, это не сон! Драгоценности были на месте. Она разложила их на простыне, легла и обеими руками обхватила их так, как сделала бы это с любовником. Она осыпала ими лицо, грудь, живот, сладострастно вздрагивая от приятного холодка камней и металла. Ни одна мужская рука так ее не возбуждала. Чтобы согреть самый красивый бело-голубой бриллиант весом, пожалуй, почти в сорок каратов, она взяла его в рот и пососала. Лишь кретины уверены, что деньги не пахнут, а бриллианты не имеют вкуса. Камень постепенно теплел, а Пегги наслаждалась, языком перекатывая его от одной щеки к другой. Движения повторялись все быстрее и быстрее… И тогда произошла катастрофа. Пегги проглотила камень! Пальцы, которые она отчаянно затолкала в собственное горло, ничего не нащупали: бриллиант уже слишком глубоко опустился в таинственные лабиринты ее пищевода! Не помня себя от горя, она кинулась в ванную и залпом проглотила содержимое одной из бутылочек, в которой находилось сильное слабительное. Только бы это произошло завтра! Она медленно вернулась в спальню и, не осмеливаясь лечь, присела на краешек кровати. А если тело откажется возвратить полмиллиона долларов, исчезнувших в ней? Пегги рассеянно пересыпала драгоценности, когда ее взгляд задержался на коричневатой банке Арчибальда. И в мозгу словно застучали невидимые молоточки: дерьмо — золото, золото — дерьмо… Дерьмо! Золото! Что общего было между этими двумя словами? Ах да, есть сказки, в которых волшебные животные выделяют из организма не отвратительный навоз, а золото. Но Пегги недоставало главного — умения разгадать скрытый смысл этого упрямого мифа, такого же старого, как и само человечество, которое с момента возникновения цивилизации не переставало бессознательно уподоблять золото экскрементам, иными словами, деньги — дерьму. Она скользнула под простыню, погасила свет и улеглась прямо на камни, которые продолжала перебирать уже в темноте. Рука ее нежно погладила живот, где переваривался сказочный бело-голубой бриллиант в сорок каратов.* * *
С момента, когда Лон увидела этого типа в серых брюках и пропитанной потом белой измятой рубашке, она инстинктивно ощутила исходящую от него опасность. — Это ваш? — спросил он, указывая на фургончик. Лон на минутку оставила Квика у Лео и вернулась к машине за сигаретами. А тип уже стоял возле нее и разглядывал номерной знак. Но еще до того как он успел открыть рот, девушка внутренне ощетинилась, мобилизуя все свое самообладание. Она инстинктивно выбрала естественно расслабленный тон, который мог ей помочь сориентироваться, улыбаясь незнакомцу. — Похоже, мой. Но он не продается. Я взяла его напрокат. Тип хитровато посмотрел на Лон, отчего ей стало совсем не по себе. Он вынул изо рта маленькую черную дурно пахнущую сигару и небрежно сказал: — Я разыскиваю Эрнеста Бикфорда. — Вам не повезло, он в городе, — ответила в тон ему девушка. — А кто вы такой? — Меня зовут Перикл, и в Греции я представляю фирму «Невада». — А-а, — неопределенно протянула Лон. — Он ненормальный, ваш Квик! Его повсюду разыскивают вот уже три дня. — И кто же им так интересуется? — Ну я! Звонили из Парижа! У него послезавтра гонка, а он пропал, там все ужасно злятся. Сердце Лон забилось, но она постаралась не показать этого. — Гонка в Париже? Перикл рассмеялся. — Ну да. Ему что, зря платили за месячные тренировки? — Квик очень обрадуется! — сказала Лон, прикуривая сигарету, чтобы не слышать противного запаха сигары. — Я думаю! «Формула-3»! Для начинающего это совсем неплохо. — Просто великолепно! — Отлично, тогда пошли отыщем его. Ведь он в городе, да? — Да, но где? Город-то большой! — Не волнуйтесь! Я знаю Эримопулос как свои пять пальцев. Мы быстро найдем вашего парня. Лон кивнула, понимая, что выбора у нее нет. Надо прежде всего удалить отсюда этого опасного болвана, потом постараться улизнуть от него и бежать с Квиком куда глаза глядят. Он же может вернуться в фургончик с минуты на минуту. Относительно его выбора она никаких иллюзий не питала: Квик, к сожалению, сомнений испытывать не будет. Волнение ее с каждой секундой росло. — Вы на машине? — заторопилась она. — Да. Но вы уверены, что он в городе? — Вы сомневаетесь? — спросила Лон с издевкой, ее раздражал назойливый взгляд этого типа. — Нет. Просто если он уехал за покупками, то должен был взять машину. Лон ответила ему самой искренней улыбкой. — Он уехал с друзьями. Пошли? — Вон там стоит черный «остин», это моя машина. Они вдвоем сели в развалюху, которая когда-то, может, и была выкрашена в черный цвет. — Потом я доставлю вас обратно, — сказал Перикл. — Не нужно, я возьму такси. Перикл украдкой посмотрел на девчонку. Она, конечно, обманывает его. Что ж, ей не удастся смыться, пока он не наткнется на парня. Этого нельзя допустить. — Когда ему нужно уезжать? — спросила Лон. — Сегодня вечером. У меня в кармане его билет на самолет и 750 долларов на мелкие расходы. Перикл включил стартер, и Лон почувствовала привкус металла во рту. Что делать? Как от него избавиться? Когда колымага тронулась с места, поднимая облако пыли, какой-то лимузин остановился на дороге, ведущей к пляжу. В нем сидела Пегги.* * *
— Ну, ты доволен? Она уехала! — Джереми налил себе стакан виски и залпом проглотил. Белиджан окинул его взглядом. — Рассказывай. — Ее слуги и мой человек подтвердили, что видели, как Пегги отправилась в аэропорт. Сейчас она уже в Греции, с Чарлен. Я умею быть терпеливым. — А я — нет. — Почему? Сомневаешься, что она привезет дочь? — Нет, в этом я уверен. Но есть другая неприятная новость. Знаешь, с кем Пегги вчера вечером ужинала? С Арчибальдом Найтом! — Дура! Я же ей запретил! — Очевидно, твои запреты ей до того самого места. — Если эта дрянь хочет получить деньги, то пусть отдает себе отчет в своем поведении. Белиджан презрительно проронил: — Твои два миллиона… — Что ты хочешь сказать? — Она выходит замуж за старого интригана. Джереми обладал надежной защитной реакцией — его мозг отказывался сию же минуту воспринимать то, чего он не желал слышать. Суть неприятного сообщения доходила до него обычно минут эдак через пять. Поэтому он ответил Белиджану таким же безразличным тоном, каким произносят фразы типа «А, пошел дождь». — А, так она выходит замуж… Белиджан взорвался. — Это все, что ты можешь сказать?! Свадьба Пегги — конец всем нашим надеждам! У О'Брейна был один шанс из ста, теперь и его нет. Не могу понять, почему никто ничего не знал? Нас поимели, кретин! Поимели! У Джереми был вид человека, который еще не проснулся. — Она действительно собирается выйти замуж за Найта? Но тогда мои два миллиона… — Не переживай! Их она мимоходом прихватит. Привезет домой Чарлен, получит по чеку. И как только развяжет себе руки, сразу выйдет замуж за денежный мешок! Старый осел уже на последнем издыхании и сделает Пегги вдовой не позже чем через полгода. Ей хватит денег, чтобы финансировать республиканцев, а нас смешать с дерьмом. Парадоксально, но это катастрофическое известие избавляло Джереми от многих забот. Пока он еще не осмелился признаться Белиджану, что разговора с матерью у него не получилось. Он, наоборот, соврал, заявив, что Вирджиния готова отдать требуемую сумму непосредственно самой Пегги. Теперь проблема была решена: мерзавка не получит ни цента. — Как ты узнал? — решился Джереми на вопрос. — Экономка старикана сказала повару, тот — шоферу, шофер — горничной. И пошло! Чем это для нас обернется? Мы и так по уши в дерьме! Тогда Джереми произнес свою коронную фразу, которая сопутствовала ему с первых дней политической карьеры и как нельзя лучше его характеризовала: — Что ты собираешься делать? — Откуда мне знать? — опять взорвался Белиджан. — Пегги — упрямая ослица. Для нее главный аргумент — это деньги! У тебя их достаточно? Нет! — А у него? — Кого ты имеешь в виду? — Арчибальда Найта. Белиджан бросил на Джереми сочувственный взгляд. — А знаешь, сколько у него денег? Если эта ходячая мумия вобьет что-то себе в голову, всего золота Форт-Нокса не хватит, чтобы отговорить его! Если Пегги войдет в игру выйдя за него, он нас полностью уничтожит. Белиджан замолчал и принялся ходить взад-вперед по кабинету. Джереми, не желая прерывать его размышления, потянулся к бутылке. — Да прекрати надираться! — Белиджан со злостью вырвал у него бутылку. Он опять замолчал, маршируя из угла в угол. — Что-нибудь еще? — забеспокоился Джереми. Белиджан неожиданно улыбнулся ему, но не ответил, а сходил за бутылкой, вылил ее содержимое в большой стакан, протянув его Джереми. — Чем обязан? — подозрительно покосился тот. — Ты только что подкинул мне потрясающую идею! Пока не все ясно, но я думаю… — Думаешь, что удастся предотвратить удар? — Ни о чем не беспокойся, предоставь это мне! Если случайно увидишься с Пегги, не говори ей ни слова! Держись с ней как и прежде, до нашего разговора. Договорились? — А если она потребует у меня деньги? — Они у тебя есть? — Нет! Вообще-то есть. Но у матери. — Тогда все просто. Отдай их ей словно ничего не произошло! Отдать два миллиона, которых у него не было, и делать вид, что все в порядке?! Желудок Джереми спазматически сжался: не успеешь избавиться от одного кошмара, а тебя подстерегает другой. — Дурака валяешь, да? После всего что ты мне сказал! — Забудь об этом. Постарайся по крайней мере. Иначе мы все загремим. — Мне бы тоже хотелось суметь забыть, — плаксиво запричитал Джереми. Он с видимым отвращением осушил свой стакан, надел пиджак и вышел.* * *
— Это здесь, — сказал шофер. — Эримопулос! Дальше ехать нельзя, иначе завязнешь в песке! Вы надолго? — Не знаю. — Ну хотя бы примерно? — Не знаю. Шофер нахмурился. — Хорошо, тогда, с вашего позволения, я пойду окунусь. Если понадоблюсь, найдете меня на пляже. Пегги вызверилась на него. — Я плачу вам не за морские купания. Будьте добры оставаться в машине, даже если меня придется ждать полгода. Настроение у нее было собачье. Путешествие ее утомило, стюарды в самолете еле шевелились. Вертолет в Афинах не был готов к полету, что-то там сломалось. И, наконец, на Крите ей подвернулся не шофер, а любитель морских купаний. Но самым худшим было то, что тело ее, превращенное в сейф, пока еще не возвратило проглоченный бриллиант. По лицу шофера она поняла, что тот готов устроить скандал. Ничтожество! Ни слова не говоря, Пегги сняла большие темные очки и несколько секунд смотрела на негодяя убийственным взглядом. Этого оказалось вполне достаточно: парень увял и моментально снял фуражку. Высаживая красотку, он невольно залюбовался ее кругленькой попкой в джинсах и торчащими под прозрачной блузкой сосками. Похоже, малышка заявилась сюда на свидание к какому-нибудь старикану с тугой мошной. Ни один мужчина в Греции моложе пятидесяти не может позволить себе платить такие деньги за «роллс-ройс» с личным шофером. — Слушаюсь. Он подождал, пока дамочка удалится, и только тогда надел фуражку. Пегги изнемогала от жары, ноги ее увязали в песке. Она сняла туфли и направилась к пальмовой рощице, которая виднелась среди дюн рядом с каким-то бараком. Повсюду стояли палатки и крытые прицепы с иностранными номерными знаками. Ей был известен номер «фольксвагена», взятого Чарлен напрокат, но прежде чем заняться поисками, она хотела насладиться этим воздухом, этой атмосферой, яркими красками синего неба и моря. Она любила эту страну, и как всем, кто ее тоже любит, Греция чуть-чуть принадлежала и ей. Сократ когда-то высокопарно клялся подарить ей свою страну. Если б не ее слишком чистые волосы и слишком темные очки, она легко могла бы сойти за одну из девчонок в купальниках, загорелых, безразличных ко всему и ко всем, кто попадался им на пути. Причиной полусонной вялости и мягкой небрежности идущих навстречу ей девиц и парней, конечно же, была марихуана. Пегги подошла к бараку и ощутила нечто вроде укола в живот: там, прислонившись к стволу пальмы, прямо на песке сидел Квик и возился с гарпуном. Напрягшись, Пегги сделала три шага в его сторону. Он поднял голову, когда она его закрыла своей тенью. Сухим голосом она бросила: — Я приехала за Чарлен. Где она? Квик сделал большие глаза, словно увидел привидение, и улыбнулся. — Мамуля, — съязвил он. — Вы загнали меня в угол! — Где Чарлен? — Как вы здесь оказались? Лицо Пегги исказилось, побледневшие губы вытянулись в узкую щель. — Где моя дочь? — Там, наверное, в фургончике. Идите посмотрите. Пегги круто повернулась и быстро обошла барак, обнаружив за ним фургон, двери которого были распахнуты настежь. Чарлен там не было. Пегги задержала взгляд на двух надувных матрацах, валявшихся всюду свитерах и плавках, на маленькой косметичке, которую она подарила дочери в день ее шестнадцатилетия. Здесь же было сложено подводное снаряжение и кислородные баллоны. Заметив плитку, Пегги поморщилась: ее дочь подогревает кофе своему дурачку! Это уж слишком! На любой из яхт, принадлежащих самым именитым семействам, сочли бы за честь принять дочь Скотта Балтимора, а Чарлен застряла на этом жалком пляже, облюбованном наркоманами и бродягами! Вне себя от унижения, Пегги снова пошла к бараку. Она свернет шею этой скотине! Совращение несовершеннолетней, вымогательство денег — вот в чем можно будет его обвинить. Эта мысль, промелькнув в голове, словно в зеркале отразилась и на ее лице. Но Квика под пальмами не было. Она обвела пляж глазами и увидела его спину, исчезавшую за песчаным холмом по направлению к морю. В руках он нес большую сумку. Она догнала его. — Эй, вы! Квик остановился, обернулся и позволил ей приблизиться. — Чарлен там нет! Он спокойно спросил: — И что вы предлагаете мне делать? — Я здесь не одна и сейчас же иду за полицией! Парень рассмеялся. — Вы привезли их на вертолете? — Я спрашиваю в последний раз — где Чарлен? — Послушайте, очень жарко, я хочу поплавать. Отстаньте от меня! Лон не обязана никому докладывать о своих разъездах! Может, она пошла в порт? Может, куда еще? Я не знаю, понятно! И перестаньте дергаться, изображая безутешную благородную мать! — Я упрячу вас в тюрьму! На лице Квика появилась обезоруживающая улыбка. — За какие преступления? — Сутенерство! Вы живете за ее счет! На мои деньги! Парень, не моргая, уставился на нее. — А вы сами! Вы за чей счет живете? На чьи деньги? Рука Пегги с длинными лакированными ногтями, готовыми вцепиться в него, мгновенно напряглась. Квик заблокировал удар ее кулака. Выражение его лица изменилось, и он сказал дрожащим от ярости голосом: — Никогда так больше не делайте! В Нью-Йорке вы тоже лезли в драку. Попробуйте еще хоть раз поднять на меня руку, тогда я, даю слово, так вас вздую, что вы окажетесь в больнице! Понятно? Оба бледные от гнева, они стояли друг против друга, и ни один не опустил глаза. — Черт побери! Чарлен вас не любит! Вы никогда не обращали на нее внимания! Оставьте ее в покое, иначе… — Она рискует стать похожей на вас, — закончил за Пегги Квик, отпустил ее руку, развернулся и медленно пошел к морю.* * *
Урсула, озабоченная катастрофой, грозившей «ее» дому, рассеянно проверяла по этикеткам, не нарушен ли порядок на полках, где стояли баночки Арчибальда Найта. С течением времени она полностью слилась в одно целое со своим хозяином, и такое положение казалось ей абсолютно нормальным. Более того, старуха испытывала гордость, что именно ей одной доверил хозяин свою тайну. Что же будет с этой «коллекцией», с раз и навсегда заведенным ритуалом, который соблюдается вот уже полвека изо дня в день, если «чужачке» удастся втереться в их дом? Впрочем, некоторые слуги вовсе не воспринимали предстоящие события как трагедию. Садовник даже позволил себе высказывания, граничащие с богохульством: «Что вы все имеете против Вдовы? В конце концов, она, может, не так скупа, как наш господин!» А ведь этот негодяй хорошо знал, что Урсула обязательно передаст его слова Арчибальду. Настоящий конец света! Всю жизнь беззаветно служить ему, а на склоне лет, когда Господь вот-вот призовет ее к себе, столкнуться с таким предательством. Час назад Урсула безуспешно пыталась дозвониться своему священнику — отцу Полю-Людвигу, чтобы попросить его о помощи. Уже тридцать лет она не принимала ни одного важного решения без его одобрения. Отец Поль-Людвиг возглавлял местную общину антуанистов, которых по всей стране насчитывалось 350 тысяч. Основателем движения был Луи-Антуан, рабочий-шахтер из Жемап-сюр-Меза, который сто тридцать лет назад стал проповедовать бескорыстную любовь к ближнему, глубокое уважение к своей вере, основанной на молитвах и христианских добродетелях. Всю жизнь Урсула старалась следовать этим заповедям. Но как любить ближнего, если он приходит из ада, чтобы вас уничтожить? — Урсула! От внезапного испуга она чуть было не выронила баночку с этикеткой: 27 февраля 1933 года, Атланта, Джорджия. Она нажала кнопку переговорного устройства. — Да? — Вас просят к телефону, — сообщил Альберт, лакей. — Кто? — Священник Поль-Людвиг. Вас соединить? — Господи! Поскорее. — Она схватила трубку. — Моя добрая Урсула. — Отец мой! Ах, отец мой, если б вы знали! — Скажите мне, дочь моя… — Я пыталась к вам дозвониться. Страшное несчастье вот-вот обрушится на господина! — Он болен? — Он хочет жениться! — Мы в курсе. — Это ужасно, отец мой! — Ужасно. Голос Поля-Людвига доходил до нее искаженный металлическими шумами, но такой теплый, такой настоящий, как голос самого Бога. — Вы знаете на ком, отец мой? — Увы… — Грех! Грех войдет в дом! А я ничего не могу сделать, чтобы защитить господина! — Нет, Урсула, нет. — Что, отец мой? — Молитесь, дочь моя, молитесь. Бог да услышит ваши молитвы. — Вы будете молиться вместе со мной, отец мой? — Да, Урсула, да. Мы можем сделать больше: я пришлю к вам наших братьев и сестер, чтобы они помолились с вами. Урсулу переполняло чувство благодарности: она больше не была одна, Господь был на ее стороне! — О, отец мой, спасибо! И надо же было случиться, чтоб эта женщина околдовала господина. — Мы его расколдуем! — Как, отец мой, как? Он ни во что не верит! — Не беспокойтесь. Мы совершим большой ритуал. Очертим круг. Она больше не сможет проникнуть в ваш дом. Урсула? — Слушаю, отец. — Будьте готовы принять наших друзей. Они будут у вас через час. Согласны? — Да! Да! — Вы уверены, что никто не сможет их унизить? — Отец мой! — Не забывайте, что вы на службе у безбожника. — Я молюсь за него днями и ночами. — Возможно, он захочет прогнать наших братьев, помешать им молиться. — Его не будет дома до вечера. — Итак, будьте готовы, дочь моя, мы идем. Зло не сможет противостоять нашим молитвам. — Я жду вас, отец мой! Жду вас! Разговор был закончен. Несмотря на свой артрит, не зная, сможет ли она подняться, Урсула рухнула на колени, чтобы вознести горячую молитву благодарения Господу. И то обстоятельство, что она в этот миг машинально сжимала в руке тысячную баночку с датой — 27 февраля 1933 года, ни в коей мере не могло помешать Создателю считать ее одной из праведниц.* * *
Лон водила Перикла по городу уже часа два. Пешком они обошли все лавочки в порту, все таверны. Конечно, Квика нигде не было. Лон во время этих странствий больше молчала, думая о своем: заметил ли Квик ее отсутствие, волновался ли за нее. С ним этого нельзя было знать. Иногда он уходил в себя без всякой видимой причины. И Лон чувствовала, что лучше ему не мешать. — Думается, мы его не найдем, — сказал Перикл. — Вас это волнует? Лон, улыбаясь, пожала плечами. Перикл снова нарочито равнодушно заговорил: — Вы упоминали, что он уехал в порт на машине. Может, он уплыл на чьей-нибудь яхте? — Нет, — поторопилась ответить Лон. — Ни у кого в Эримопулосе нет яхты. — Мне это чертовски надоело. Что будем делать? — Послушайте, ну уедет он завтра, но здесь ведь близко. Завтра же и окажется в Париже. Так что вас беспокоит? — А машина? Думаете, что его включат в число участников, если у него не хватит времени испытать машину? Они опять оказались на набережной, там, где Перикл припарковал «остин». В неглубокой воде были ясно видны мириады маленьких рыбешек. В солнечном сиянии волны они, казалось, все время меняли направление. — Ну, вы идете? Я подвезу вас. — Он открыл дверцу своей колымаги. Лон запротестовала. — Не утруждайте себя! Мне надо повидать подругу. Я поймаю такси! — Я буду ждать вас. Нужно его обязательно найти! Если его нет здесь — значит, он там. — Господин Перикл… — Да? Лон задержала дыхание. Надо было во что бы то ни стало помешать этому слизняку поговорить с Квиком. Инстинкт ей подсказывал, что, если они встретятся, Квик уедет и она его больше никогда не увидит. Скорее, как можно скорее надо улизнуть отсюда — неважно куда. Квик был достаточно импульсивным, чтобы даже не потребовать у нее объяснений. Она бы сочинила историю о местах, где полно рыбы, и увезла бы его в другой конец страны. — Господин Перикл. Я вспомнила! Квик, кажется, собирался в Айос-Николаос. Да! Точно! — Что ж, поехали туда! — сказал он, не спуская с девушки глаз. — Нет, это далеко. Мне уже надо возвращаться. Один час! Да пошлет ей небо еще один час! Она бы позаботилась об остальном! — Айос-Николаос? Вы уверены? Хорошо, съезжу один. — Конечно! Вы найдете его там, в маленькой таверне у моста на канале, в порту. Мы всегда туда ездим! — О'кей. Если мы там не встретимся, передайте ему, что я тотчас же вернусь в Эримопулос. Уже не знаю, выпустят ли его на гонку или нет. Его ждут сегодня вечером, понимаете? — Конечно же! Я ему все передам! Он кивнул головой, включил стартер. Машина, чихая, удалилась. Лон подождала, пока она исчезнет за молом, и вскочила в единственное местное такси. — Эримопулос! Быстрее! Вскоре такси миновало последний дом и помчалось по ухабистой дороге, ведущей к пляжу. Лон от нетерпения все время сжимала и разжимала кулаки. Как ей хотелось уметь летать! Перикл раскурил одну из своих ужасных сигар. Он сидел за рулем «остина», укрытого в зарослях тамариска. Когда такси пронеслось мимо, оставляя облако пыли, он через двадцать секунд мягко включил стартер и поехал следом. Потерять их было нельзя: туда вела лишь одна-единственная дорога.* * *
Урсула отдала распоряжение садовнику Фредерику: открыть священникам ворота, как только они прибудут. — А что я скажу потом хозяину? — поинтересовался садовник. Он знал о глубокой ненависти своего хозяина ко всем тем, кто носил сутану или целлулоидный воротничок. До настоящего момента ни один священнослужитель не переступал порога его дома. Фредерик, тайно разделявший взгляды Арчибальда Найта на религию, всегда выставлял их с удовольствием, когда у кого-либо из посланцев Бога хватало наглости настаивать, чтобы их впустили. Но жизнь научила его не выступать очень уж явно против диктата Урсулы. Старая дева была очень опасной, поскольку все докладывала хозяину и в своей интерпретации. Поэтому он лишь пробурчал: — Хорошо, мисс Урсула. Если вы это берете на себя… Через двадцать минут черный микроавтобус уже сигналил у ворот. Из привратницкой Фредерик увидел протестантского пастора, машущего ему рукой. Садовник нажал на кнопку, и ворота открылись. Из машины, остановившейся на посыпанной гравием аллее, вышли семь или восемь братьев и сестер во Христе. Двое из них направились к крыльцу, где их ждала Урсула. Остальные остались стоять во дворе. — Мир вам, дочь моя. — Входите, отец мой, входите. — Я — отец Пьер, а это — брат Жан. Отец Поль-Людвиг попросил нас действовать быстро. — Проходите, пожалуйста. — Урсула пригласила их в дом. Следуя за ней, они пересекли огромный холл, прошли под монументальной лестницей и оказались в маленькой комнатке, откуда Урсула следила за работой остальных слуг. Увидев в руках визитеров небольшие черные саквояжи, Урсула предложила им оставить их здесь. Но отец Пьер и брат Жан вежливо отказались. — Позднее, позднее. Время не ждет. До того как начнутся моления, мы благословим каждый порог этого жилища. И зло покинет его. Отец Пьер был длинным худым блондином, в очках без оправы и черном пиджаке. Не будь на нем жесткого круглого воротничка, выдававшего его сан, можно было бы принять его за студента — так молодо он выглядел. Лицо его выражало одновременно и суровость, и доброту. Урсула была этим тронута — такой молодой и уже священник… — С чего вы хотели бы начать? — спросила она. — Сначала освятить все места, где она ходила или бывала. Я подчеркиваю — именно все! Потом, повернувшись к брату Жану, толстому брюнету, отец Пьер распорядился: — Действуйте! — Повинуюсь, отец мой. Брат Жан открыл свой саквояж и извлек оттуда нечто вроде кадила, подвешенного на тонкой золотой цепочке. — У вас есть план дома? — обратился отец Пьер к Урсуле. Та утвердительно кивнула головой, подошла к комоду, порылась в ящике и извлекла оттуда чертеж, который протянула ему. — Теперь покажите нам, где она прошла. Пальцем Урсула указала маршрут. — Вход вот здесь. Холл, маленькая гостиная, столовая, библиотека… И вдруг ее палец замер на месте, где находилась ванная. — Ну? — ободрил старую деву брат Жан. — Говорите, дочь моя, говорите, — подключился к нему отец Пьер. Урсула заколебалась. — Она прошла… туда. За… — За ванную? — Да. — А что там размещается? — Другая комната, довольно большая… — Для чего она служит? — Мм… Там хранятся… личные предметы господина Найта. — Какие предметы? — Баночки. — Баночки? А что в них хранится? Урсула вздрогнула, борясь с собой, но ведь есть вещи, которые она не может доверить никому, даже слугам божьим. — Старые баночки. Я уверяю вас, отец мой, там нет ничего интересного. Просто специфическая коллекция. — Мы взглянем на нее, когда попадем туда, — вмешался брат Жан. — Но я, — окончательно смешалась Урсула, — я не имею права никого туда впускать. — Даже нас? — улыбнулся брат Жан. Урсула опустила голову, но отец Пьер пришел ей на помощь. — Мы ни к чему не обязываем вас, дочь моя. Действуйте по вашему усмотрению, в согласии с вашей совестью. Со двора вдруг послышалась музыка и зазвучали торжественные песнопения. Это братья и сестры выстроились во дворе и под аккомпанемент аккордеона и цимбал запели молитву. Урсула бросилась к окну и перекрестилась. — Наши братья и сестры молятся за вас, — сказал отец Пьер, и улыбка озарила его лицо. — Продолжим наши дела. Где это грешное создание еще проходило? — Она была в музее, — с трудом выговорила Урсула. Впервые в жизни она упомянула о бронированных подвалах, где ее хозяин хранил свои сокровища. — А где находится этот музей? — спросил отец Пьер. — Под домом, в подвалах, — ответила Урсула. — Ключей от него, полагаю, у вас нет? — Как это нет! — воскликнула Урсула, гордо выпрямившись. — Но… — Туда войти нельзя, — задумчиво протянул отец Пьер. — А жаль, — добавил брат Жан. Последовала довольно долгая пауза. А за окном звучала торжественная литургия — в единое целое сливались голоса поющих, мелодия аккордеона и ритмичный перестук цимбал. Все слуги прильнули к окнам. — Начинайте! — кивнул отец Пьер брату Жану. Тот поклонился и вышел из комнаты, одновременно размахивая кадилом и следя глазами за планом, чтобы не упустить ни одной ступеньки, на которую ступала нога великой грешницы — Пегги Сатрапулос. Когда он исчез из виду, отец Пьер шепнул: — Не беспокойтесь, дочь моя, это создание больше не войдет в ваш дом. Я вам это обещаю! Но помогите же мне! Помогите всеми своими силами! Не нарушая своих обязательств перед работодателем, помогите нам освятить все места в доме, где она побывала. Мы не войдем туда, куда запрещено, но изгоним оттуда миазмы. — Но что еще я могу сделать? — растерянно спросила Урсула. Она разрывалась между желанием сделать все, чтобы спасти Арчибальда вопреки ему самому, и своей лояльностью по отношению к хозяину. — Доверьте мне ключи на несколько минут. Я окроплю их святой водой и произнесу над ними молитвы. Они после этого наглухо закроют доступ в музей… — Я схожу за ними, — не выдержав, перебила его Урсула. Отец Пьер сложил руки и принялся читать молитвы. Когда Урсула вернулась и, не решаясь его прервать, остановилась, держа в руках связку, он мягко взял у нее ключи, не переставая что-то бормотать скороговоркой. Закончив, он спрятал их в саквояж. — Теперь пойдем и споем вместе с нами. Урсула последовала за ним. В холле они встретили брата Жана, который усердно изгонял злых духов, осеняя углы крестным знамением. Песнопения гремели все громче. Отец Пьер подвел Урсулу к поющим, а одна из сестер взяла у него саквояж. Отец Пьер вошел в автобус, взял у шофера гитару и присоединился к остальным, аккомпанируя и подпевая им. — А теперь повторяйте за мной, — сказал он Урсуле. И она послушно произнесла загадочные слова, а когда закончила, он предложил вернуться в дом. — Все прошло великолепно, дочь моя. Господь услышал нас. Держите. Отныне они больше не впустят грех в дом. — И отец Пьер протянул ей связку ключей. Появился брат Жан. — Вы везде побывали? — Благодарю вас, сестра моя. Снаружи засигналила машина. Урсула бросилась к окну. Кошмар! У «роллс-ройса» стоял сам Арчибальд Найт и неистово нажимал на сигнал, чтобы прекратить это гнусавое пение. Он был вне себя от гнева. — Это хозяин, — сказала Урсула. — Да простит его Бог! — Вот увидите, позже он будет нам очень благодарен. — Отец Пьер поклонился Урсуле. — Да будет мир с вами, сестра моя. Наша миссия окончена. С их появлением во дворе пение прекратилось. Мгновенно аккордеон, цимбалы и гитара оказались в автобусе. Братья и сестры чинно расселись по своим местам. Арчибальд Найт оставил в покое сигнал. Слуги спрятались за шторы. Одна лишь Урсула смело, даже вызывающе смотрела хозяину в лицо. Арчи в бешенстве двинулся к ней. Конечно, ей грозят большие неприятности, но она мужественно ждала его, преисполненная чувством с честью выполненного долга.* * *
Пегги ходила кругами — от пляжа к машине, от машины к Лео, от Лео к скалам. Часа ожидания ей хватило с лихвой, чтобы насытиться всеми прелестями Эримопулоса. Хорошо бы сейчас поплавать. Ах, как хочется! Но Пегги не решалась уйти, боясь упустить Лон, когда та вернется. Песок и море — да, это чудесно, но на яхте, где слуги угадывают каждое твое желание, или на острове, где границы частного владения не смеет пересечь никто чужой. Как Чарлен может жить в этом душном фургоне, забитом чем попало, включая грязное белье, питаться в жалкой харчевне, общаться с недомытыми хиппи, одуревшими от наркотиков? Идти было некуда. Редкие защищенные от солнца уголки заняты, шофер нанятой ею машины смотрит на нее с осуждением, а у Лео какой-то бородач тут же попытался приставать к ней, соблазняя стаканом араки! Машинально она потрогала свой живот: бриллиант еще там. Полмиллиона долларов! Мысль о том, что она может свободно разгуливать, не боясь носить при себе, а вернее в себе, такую сумму, позабавила ее. Здесь, похоже, ее и не узнал никто. А все-таки, почему бы ей не окунуться? Пегги вернулась к машине, взяла полотняную черную сумку и пошла к фургончику. Закрыв за собой дверцу, она задернула шторы и стянула с себя джинсы и натянула купальник. Еще бы взглянуть в зеркало, полюбоваться собой, но этого предмета в фургончике не было. Фу, какая жарища! Скорее надо открыть дверцу, иначе задохнешься. Теперь оставалось последнее — черкнуть несколько слов дочери. Не найдя ничего подходящего, она на первом подвернувшемся ей листке написала своей помадой: «Чарлен, я здесь, жди меня». Перед тем как подписаться, она заколебалась. Потом четко вывела: «Мама». Но это смешно! Зачеркивая подпись, она с такой силой мазнула по листку, что он порвался. Вместо этого дрожащая рука нарисовала пять букв: «Пегги». Оставив записку на видном месте, она отправилась на пляж. Вода оказалась удивительно теплой, той же температуры, что и воздух, — тридцать градусов. Пегги повернула направо, миновала несколько компаний совершенно нагих молодых парней и девушек и добралась до мыса, где можно было спрятаться от чужих глаз. Не то чтобы она стыдилась своего тела — в свои сорок лет она могла легко соперничать с любой двадцатилетней красавицей, — но выставлять себя напоказ перед кем попало — это казалось ей унизительным. В том, что «чернь недостойна созерцать шедевры», она была полностью согласна с Арчибальдом. Кажется, тогда, в музее, он сказал ей нечто подобное. Сколько в его словах правды и сколько лжи? На этот вопрос она не могла ответить. Красота людей, красота окружающего мира — все это преходящее, одни лишь драгоценные камни и золото ненесут на себе отпечатка времени. Даже в юности Пегги никогда бы не пришло в голову влюбиться в парня лишь потому, что он красив, как случилось, например, с ее дочерью. Конечно, ей приходилось иногда заниматься любовью с модным, скажем, актером или плейбоем. Но Пегги шла на это не по зову души или тела, а чтобы вызвать зависть или ревность какой-нибудь из своих подруг. Естественно, подобные отношения не могли продолжаться долго. Даже в самые интимные моменты она оставалась внутренне холодной и не считала нужным изображать притворную страсть. Никто бы не поверил, но в такие минуты она обычно мысленно читала стихи любимых поэтов, чаще всего обожаемого ею Мильтона. Иными словами, ничья красота, кроме собственной, ее не волновала. Ее привлекали мужчины в своем роде исключительные, те, за которыми стояли самые могущественные символы времени — власть или богатство. А возраст или внешность для Пегги не имели никакого значения. Так было и со Скоттом, хотя ко всему прочему он еще оказался и весьма симпатичным. Ничего не поделаешь, но близость с партнером доставляла ей определенное удовольствие лишь в том случае, если его состояние было выше отметки в пятьдесят миллионов долларов. Все остальное касалось лишь проблем гигиены. Она медленно вошла в воду, легла на живот и медленно, ленивым брассом, стала удаляться от берега. Потом, перевернувшись на спину, она закрыла глаза, отдаваясь морю, теплу и солнцу. Когда это случилось, все ее мускулы мгновенно напряглись… Там, под водой, что-то слегка коснулось ее. Готовясь к защите, она приняла вертикальное положение, вся сжалась, рассекая перед собой воду маленькими прерывистыми ударами ладоней. Но когда какой-то черный предмет появился на поверхности буквально в нескольких сантиметрах, она вскрикнула и только потом разглядела маску, в которой голубые глаза Квика казались неестественно огромными. Тьфу! И она выплюнула воду, которую только что проглотила. А парень на секунду вытащил трубку изо рта и иронично поздоровался, словно они встретились в гостиной. Через секунду там, где он был, не осталось ничего, кроме легкого водоворота. Пегги вне себя от бешенства быстро поплыла к берегу. Этой сволочи удалось-таки испугать ее! Выскочив из воды, она увидела его неподалеку, уже без маски. Квик в тот момент освобождался от баллонов со сжатым воздухом. — Подонок! Ты мне за это заплатишь! Его губы тронула игривая усмешка: — Ах да, вам ведь за все нужно платить. Она бы его ударила, но услышала громкий, спокойный шепот: — Тсс… тсс! Берегитесь! Я вас предупредил! Гнев и унижение жгли ей лицо, но в его глазах таилась такая угроза, что она опустила руку. У ног Квика грудой были свалены маски, ласты, трубки, баллоны. Ударами ноги она разбросала все это в стороны, схватила баллон и шарахнула о камень. — Круто, — оценил ее действия Квик, а увидев, что она снова заносит ногу, добавил: — Валяйте. Когда Лон окажется на тридцатиметровой глубине, она умрет, так и не узнав, кто постарался отправить ее на тот свет. — Что? — закричала Пегги. — Вы заставляете Чарлен нырять? — А почему бы ей не делать этого, если хочется? — А ее сердце? — взвизгнула Пегги. — Да вы знаете, что у нее слабое, хрупкое сердце? Квик рассмеялся. — Вот как! Это у нее от вас, да? Будь у Пегги пистолет, она не колеблясь влепила бы пулю в эту ухмыляющуюся рожу. Бессильная ненависть ослепляла ее, душила, не позволяла сосредоточиться. Жалкое дерьмо бросает вызов ей, Пегги Сатрапулос, и рассчитывает легко отделаться. Нет, она прикончит его. Найдет способ! Прикусив ноготь большого пальца, она сделала несколько шагов по песку, пытаясь заставить свои мускулы, голос, дыхание вновь подчиниться себе. Как великолепно смотрится утес настоящего охрового цвета, погруженный в чистый кобальт воды, как пламенеет алый шар клонящегося к закату солнца и дурачатся пьяные от морского воздуха чайки. Все это машинально отметил ее взгляд, пока не наткнулся на гарпун, лежащий у ног Квика. Гарпун… Если бы удалось схватить его. И тут прозвучал его ровный голос: — Вы и натянуть его не сумеете. С веселым любопытством поглядывая на Пегги, он поднял гарпун и упрятал его в парусиновый чехол, не забыв хорошо затянуть шнурок. К чувству беспомощности добавился жгучий стыд — ее разгадали. Какой дурой она выглядит в глазах этого мерзавца, которого ничем не проймешь! Каждое ее слово, каждый жест вызывали немедленную реакцию с его стороны. Квик для нее оказался книгой за семью печатями, подобрать к нему ключ ей было не по плечу. Единственное, что оставалось, — это вернуться к машине, дождаться Чарлен и увезти дочь как можно дальше отсюда. Но совершенно неожиданно для себя Пегги вдруг выпалила: — Не одолжите ли вы мне баллон? — Вы все еще хотите его разбить? — Квик продолжал делать вид, что ничего особенного не произошло. И эта пренебрежительная снисходительность была для Пегги невыносима. Ведь он понял, что она хотела убить его. Понял! Понял! Но ему нравилось издеваться над ней. — Я хочу понырять, — объяснила она. — Вы когда-нибудь пробовали это делать? Пегги раздраженно передернула плечами. Каким тяжелым сейчас показался ей баллон, который она так легко подняла в приливе злобы! Когда она попыталась неловко просунуть руки в ремни, Квик понял, что мать Лон понятия не имела о подводном плавании. — Наденьте сначала ласты. Так будет легче. Сейчас поведение Пегги несколько обескуражило его: чего она хочет? Но спроси он об этом у нее, она сама не смогла бы ответить. Опустив баллон на песок, она так посмотрела на Квика, что он не решился предложить ей помощь. Забрав с собой снаряжение, она потащилась к морю, подальше от этого типа, и там кое-как нацепила на себя. Положение глупее, чем то, в котором она оказалась по собственной воле, трудно было представить. Пегги всегда ужасно боялась погружаться в воду. Но глаза Квика, устремленные на ее спину, не оставляли ей возможности выбора. Скрыться было некуда. «От чего скрыться?»— с гневом подумала она. Кому был нужен этот идиотский вызов? Кое-как она защелкнула ремень и захватила губами наконечник трубки, тут же выплюнула его, не ощутив ничего, кроме омерзительного запаха пластмассы. — На вашем месте я открыл бы клапан, — ухмыльнулся Квик. К счастью, ей довольно быстро удалось его отыскать, и она снова закусила наконечник. Попытка стать на ноги ей не удалась: вес баллона и тяжелого свинцового пояса заставил ее потерять равновесие. Пегги споткнулась и оказалась на четвереньках всего сантиметрах в тридцати от воды. Помогая себе ногами и руками, она поползла, поднимая фонтаны брызг, чтобы поскорее удалиться от берега. Нельзя впадать в панику, море сейчас подхватит ее, освободив от тяжести металла. Лучше сдохнуть, чем упасть лицом в грязь. Но пловчихой Пегги была превосходной, и, очутившись под водой, она кое-как преодолела страх. Ее окружал неведомый доселе мир. Купаясь в почти нереальном, мягком синем свете, она видела стайки малюсеньких серебряных рыбешек, которые шныряли от одного камня к другому, иногда застревая в водорослях. Дальше прозрачность переходила, вернее, наталкивалась на непроницаемую стену темной, сверкающей, глубокой зелени. Вдруг камень, мимо которого она проплывала, казалось, замер на краю открывшейся бездны, и Пегги подумала, что сейчас упадет туда. У нее закружилась голова, она сделала полукруг и заметила Квика, лениво плывущего в трех метрах вслед за ней. Он сделал ей знак рукой и, устремившись головой вниз по крутому обрыву, исчез в расщелине скалы. Появился он минут через десять, держа в руках морскую звезду. В глубине ее цвет казался темно-пурпурным, но по мере подъема вверх стал ярко-оранжевым. Тогда и она, пусть из чистой бравады, бросилась вниз, осмелившись на то, на что никогда не считала себя способной. Ее тело вдруг стало невесомым, а координация движений непривычной. Когда она проплывала мимо Квика, тот зааплодировал ей обеими руками. Она решилась даже просунуть голову и плечи в маленькую пещеру, откуда он извлек морскую звезду. От сознания того, что она совершила подвиг, осмелившись опуститься так глубоко и даже заглянуть во мрак грота, у нее, как от легкого опьянения, закружилась голова. Вверху солнечные блики играли на поверхности волн. Это было так необычно! Она, Пегги, была рыбой, была сиреной! Квик улыбнулся ей и указал на скалистую поверхность обрыва, которая терялась в фиолетовых глубинах. Он опять бросился вниз, погружаясь еще на несколько метров. Она поколебалась с минуту, но он, казалось, ждал ее там, в глубине, неподвижный, отлично сохраняющий равновесие в этой бесконечной сине-зеленой бездне. И, решившись, она нырнула, удивленная тем, что тело подчинилось ей без малейших усилий. Здесь, в глубине, оно повиновалось самому легкому ее движению, послушно направляясь туда, куда она хотела. Минуту она фланировала над отмелью, слегка касаясь мягких водорослей, покорных неуловимому ритму течения. Пегги проплывала над лощиной, когда Квик, державшийся за скалу в десяти метрах от нее, пригласил ее приблизиться. Протянутой рукой он указывал на что-то, скрывшееся в углублении. Приблизившись, она с ужасом увидела щупальца маленького осьминога, которого Квик дразнил кончиками пальцев. В темно-коричневых глазах морского чудовища, обрамленных золотом, таился страх. Вобрав голову в плечи, она рассекла воду ластами и отдалась упоительному свободному падению к видневшемуся внизу плато. Квик обогнал ее и резко остановился в двух метрах от дна, над которым колыхались сиреневые водоросли. Оказавшись рядом с ним, она увидела, что Квик показывает ей на большой черный циферблат на своей руке. Стрелка застыла на цифре 23. Неужели она опустилась на такую глубину? Он отставил большой палец в знак поздравления. Окрыленная, Пегги, как стрела, скользнула глубже, чтобы схватить со дна перламутровую ракушку, но случилось непредвиденное. Сначала у нее возникло ощущение, что воздух разредился. Она сделала глубокий вдох — ничего не изменилось. Воздух перестал попадать в ее легкие, перед глазами появились черные круги, потом — красные и море стало похожим на ванну из крови. Сердце с каждым ударом становилось все огромнее, казалось, оно вот-вот вырвется из груди. Что-то ее коснулось, это она еще ощутила, но увидеть уже ничего не могла, поскольку море вокруг стало белым, мутно-белым, как известковое молоко. Она попыталась закричать, открыла рот — и жизнь вернулась к ней! Воздух вновь циркулировал в ее теле, и Пегги пила его длинными большими глотками, доверившись Квику, который держал ее в своих руках. Надышавшись, она разглядела улыбку на его лице и указательный палец, упирающийся в лоб. Квик показывал ей, что она попросту ненормальная, если не сумела разглядеть запасной клапан и открыть его. И произошло невероятное: непроизвольным движением Пегги сцепила руки на шее Квика и почувствовала, как отвердел его член, прижатый к ее бедру. Ни о чем больше не думая, она крепко сжала его в своих объятиях и мягко раздвинула ноги, чтобы он мог войти в нее. Сплетенные в едином порыве, они мягко двигались в теплой морской воде, исполняя захватывающий танец. Не было больше ни высоты, ни глубины, ни времени. Они тихо скользили то вниз, то вверх, и каждый попеременно становился и скакуном и всадником. Сквозь толщу воды им щекотали ресницы солнечные лучи, меняя цвета от пурпурного и индиго до фиолетового и даже черного. И Пегги вторично потеряла сознание, но уже от впервые в жизни испытанного наслаждения, такого сильного, что она зашлась в крике, глубоком, как бездна. Спасибо случаю, который привел ее сюда, спасибо за краткий миг счастья, вобравший в себя и все счастливые мгновения, которые она пережила, и все, которые оставалось пережить. Они поднимались вверх медленно, слившись воедино в объятиях друг друга, освобожденные от веса собственных тел, лишенные плоти, как стелющиеся по дну водоросли. Выйдя из воды, они разомкнули объятия. Пегги ухватилась обеими руками за выступающий над берегом край скалы и прямо перед собой увидела чьи-то ноги. Она подняла голову вверх — над ней стояла Лон, устремив на мать свои огромные желтые неподвижные глаза. Квик, должно быть, заметил девушку в тот же самый момент и быстро сказал: — Помоги мне, твоя мать чуть не утонула! Она захотела нырнуть поглубже — и не рассчитала силы. Лон потянула Пегги на себя, а он подтолкнул ее сзади. Потом ее усадили на колени. Она не знала, что сказать, и дочь — тоже. Квик снял с Пегги акваланг, ласты и повалился на песок. — Ну как, уже лучше? Пегги утвердительно кивнула, машинально потерла ладошкой о ладошку и пожаловалась: — Мне холодно. Но Лон даже в голову не пришло подать матери полотенце, валявшееся у ее ног. Пегги подняла его сама, накинула на плечи и отчужденно проронила: — Иди за мной. Нам надо поговорить. И, посмотрев на Квика как на пустое место, она устремилась к тропинке, ведущей к пальмовой рощице. Лон секунду поколебалась, бросив на друга вопрошающий взгляд, но прочла на его лице лишь одно: «Я ничего не понимаю, и это меня не касается». Лон небрежным взмахом руки успокоила его и беззвучно прошептала: «Жди меня, я сейчас вернусь». Она тоже пока еще ничего не понимала. Откуда мать узнала, что они с Квиком уехали на Крит? Почему мать, которая никогда не увлекалась подводным плаванием, вдруг оказалась в море с аквалангом и вышла из воды чуть ли не в объятиях человека, которого ненавидела? И вообще, что матери от нее нужно? Квик провожал их глазами, пока они не скрылись за дюнами, потом достал из сумки сухое полотенце, растер им тело и сунул в рот сигарету. Мать и дочь… Этого он не хотел. Просто так получилось — и все. И нечего забивать себе голову. Квик собирал вещи, запихивая их в сумку, болтавшуюся у него на плече, когда перед ним остановился человек в грязной от пыли белой рубашке, от пота прилипавшей к телу. — Эрни Бикфорд? Это было больше чем вопрос, это было утверждение. Квик молчал. — Девушка вам передала? — Кто вы такой? — Перикл. «Невада» в Греции — это я, и разыскиваю вас вот уже два дня. — Ну и что? — Как что? Вы полагаете, что вам платят за безделье? За ваши красивые глаза? Вот! Смотрите. Он порылся в кармане наброшенного на плечи черного пиджака, достал билет на самолет и белый запечатанный конверт. — Это ваш билет до Парижа, в конверте — семьсот пятьдесят долларов. Автогонки состоятся через два дня. Выехать надо немедленно. — Гонки? — Старт из Монлери, «Формула-3». Вам предстоит испытать новую машину. — Правда? — искренне удивился Квик. — Она вам ничего не сказала? — Нет. — Ах, женщины! У них в голове ветер! Из-за нее у вас все могло сорваться. Поехали? — Сейчас? — Я, кажется, ясно выразился, что испытания назначены на послезавтра! — Хорошо, я схожу за вещами. — Вы с ума сошли! Если она увидит, что вы уезжаете, все полетит к черту. Конечно же, увяжется за вами, начнет хныкать, закатит истерику. В конверте — семьсот пятьдесят зелеными, неужели не хватит на пару рубашек? Кстати, взгляните на билет… Видите — туда и обратно! После гонок вернетесь, если захотите. — О'кей! Я ей оставлю записку у Лео… — И нарветесь на нее. — А это уж мое дело! — возразил Квик тоном, не допускающим возражений. — Вы на машине? Перикл сообразил, что перегибать палку не стоит. — На дороге стоит старый голубой «остин», сразу садитесь в него. — Ладно, ждите меня. Я на пять минут. Он повернулся и быстрым шагом направился к харчевне. Радость переполняла его. Фантастика! Он будет участвовать в «Формуле-3». Что ж, он всем покажет, с кем они имеют дело! Даже если долбанется машина, он все равно придет первым. Вот уже полгода он ждет этого! — Лео, дай мне карандаш и бумагу. — Сейчас поищу. То, что он принес, выглядело как тряпка, которой вытирали стол. — Почище у тебя нет? — Что ты хочешь? Здесь ресторан, а не почтовое отделение! Квик пожал плечами. Он облокотился на стойку, покусывая карандаш. Как бы это получше объяснить? Сказать проще, а написать! И времени — в обрез. И все же через минуту несколько слов ему удалось нацарапать: «Лон, я уезжаю в Париж на автогонки. Жди меня здесь, если получится. Вернусь через три дня». Ему многое хотелось написать: признаться, что ему будет недоставать ее, объяснить, что он не может упустить этот единственный в его жизни шанс, попросить, чтобы она не поддавалась на уговоры матери. Но на это уйдет слишком много времени. А его уже ждут… В конце концов он ограничился тем, что поставил размашистую подпись: «Квик». — Лео, на секунду! Лео поспешил к нему. В обеих руках он держал два вертела с дымящимися кусочками мяса. — Окажи мне услугу: через десять минут отнеси эту записку Лон в мой фургончик. — И что ей сказать? — Ничего. Отдай записку — и все. И еще: сколько я тебе должен? — Ты уезжаешь? — Уезжаю и вернусь. Сколько? — Не знаю. Квик разорвал конверт и достал оттуда стодолларовую купюру. — Пойдет? — Ты с ума сошел! У меня нет сдачи! — Сдачу оставишь себе. Квик хотел сунуть деньги в карман, но на Лео были только трусы. — Открой! — Он подсунул банкноту к лицу Лео. Тот удрученно вздохнул и открыл рот. Квик вложил ему в зубы сто долларов. — Не забудь про записку. Идет? Лео потряс вертелами в знак согласия. — Чао! — И Квик, выскользнув в заднюю дверь, побежал к машине Перикла. Откуда ему было знать, что у него нет никаких шансов на выигрыш и что его судьба и жизнь зависят отныне от сильных мира сего. (обратно)Глава 10
— Твоя мать перевела деньги? — Не знаю. — Вот как? — удивился Белиджан. — И как долго нам придется ждать этого? — Как всегда, наша касса пуста, — съязвил Джереми. Он снова сидел в офисе Белиджана и чувствовал себя нашкодившим мальчишкой. В кабинете не было никакой мебели, кроме письменного стола. Периодически техники тщательно осматривали резиденцию шефа, проверяя, нет ли в ней «чужих» микрофонов, нормально ли работает система подслушивающих устройств, которыми пользовался Белиджан, чтобы держать под контролем своих политических соперников. Джереми мялся, покусывая ноготь большого пальца. Желая выиграть время, он сам загнал себя в угол. Мать не дала и не даст ему двух миллионов. Неужели придется признаться Белиджану, что солгал и не может найти такой суммы? Господи, если бы эта проклятая потаскушка провалилась в преисподнюю! Желание видеть Пегги мертвой возникло помимо его воли, и он незаметно за спиной скрестил средний и указательный пальцы, чтобы отогнать ужасное видение. — Напомни Вирджинии непременно сегодня. Можешь? — спросил Белиджан, оглядывая Джереми испытующим взглядом. — Конечно. Сейчас же займусь этим… — сказал он с уверенностью, которая была далека от истины, и с притворной небрежностью добавил: — Есть что-нибудь новое? — По поводу? — Ну, об Арчибальде Найте. Ты мне говорил… — Не твоя забота. Выкладывай денежки. Пегги нужно их вручить в ту же минуту, когда она сойдет с трапа самолета. Разговор был окончен. Белиджан подождал, пока Джереми выйдет, и снял с вешалки пиджак. Он владел ценным качеством: чуял подвох за сто метров! Старуха, конечно же, послала сынишку-недотепу ко всем чертям. Чтобы быть окончательно уверенным, он решил немедленно нанести визит Вирджинии Балтимор.* * *
Ни один бродяга не соизволил повернуться в ту сторону, несмотря на вихрь песка и горячего воздуха. Пилот посадил вертолет прямо на пляж, в пятидесяти метрах от харчевни Лео. Две молодые женщины спешно поднялись на его борт, но тут же одна из них выскочила и побежала обратно. Вслед ей раздалось несколько громких свистков. Она подскочила к стоящему на пороге своего заведения Лео. — Лео! Поклянись, что не забудешь все передать. Пусть ждет меня, пусть не уезжает! Я буду звонить сюда три раза в день! — Ради Бога, не так часто. Я разорюсь, если буду все время торчать у телефона, — улыбнулся Лео. — Держи! — Лон сунула ему пачку смятых банкнот. И пока он придумывал, что сказать, девушка была уже у вертолета. Захлопнулась дверца, и машина стала стремительно набирать высоту. — О дьявол! — спохватилась Пегги. — Я же забыла об этом типе. — О ком ты? — равнодушно спросила Лон. — Да о шофере. Он все еще там. Посмотри! Она пальцем указала на лимузин, который казался теперь лишь черной точкой на краю пляжа. Лон, казалось, не слышала, что говорила мать, стараясь навсегда запечатлеть в памяти эту рощицу лысых пальм, дощатую хижину с колченогими столами, крохотную полоску серебристого песка, приглаженную морем. Отныне, что бы с ней ни произошло, она больше не узнает подобного счастья и к этим местам всегда будут возвращаться ее воспоминания в самые тяжелые минуты. Записку Квика — «Жди меня здесь, если получится»— она спрятала на груди. Пегги, видя мрачную, упрямую решимость Лон, начала атаку мягко, издалека. Она предложила дочери до возвращения Квика на три дня куда-нибудь съездить. — Здесь нет даже отеля! — Тогда отправляйся в Афины, — не сдавалась Лон. — Чарлен, дорогая, я не могу бросить тебя одну! Не упрямься. И Лон, убитая внезапным отъездом друга, поверила обещанию матери вернуться в Эримопулос через три дня. Ее жизнь замерла, остановилась на целых семьдесят два часа, так не все ли равно, где, в каком месте придется их провести… — Чарлен? — Да? — Знаешь, куда мы летим? — Нет. — В Миконос. На яхту Бертона. Там будет чудесно, поверь мне! Заодно сделаем покупки. — Да. — Тебе, конечно, понадобятся платья? — Нет. Пегги не стала продолжать опасный разговор, а сделала вид, что любуется пейзажами Крита. Какая прелесть эти остроконечные вершины, эти пляжи цвета охры, эта яркая лазурь теплого моря! Здесь они часто бывали с Сократом на его яхте. Воспоминания постепенно уступили место заботам о сегодняшнем дне. Многое, очень многое ей предстояло сделать: любыми путями увезти дочь в Нью-Йорк, выколотить из Джереми два миллиона, прежде чем выйти замуж за Арчи. Перед этими проблемами померкло, отошло куда-то на задний план ошеломляющее приключение с любовником дочери. Когда дамы вышли из вертолета, смущенный пилот задал Пегги вопрос: — Что мне делать теперь? — Вы свободны, — небрежно проронила Пегги. — Записать на ваш счет? — Что записать? — Наем вертолета. Какая бестактность! Если не поставить на место этого невежу, он, пожалуй, решит, что она, Пегги Сатрапулос, сама занимается подобными вещами. — Вы у меня об этом спрашиваете? Да вы знаете, кто я такая? — Да, — пролепетал пилот. — Пусть ваш хозяин сообщит в мою контору. Вопрос будет улажен через бухгалтерию. Идем, Чарлен! Это была именно одна из тех сцен, которых Лон не выносила. Смущенная и злая, она последовала за матерью, не осмеливаясь даже взглянуть на пилота.* * *
— Садитесь, милый Бели! Я приготовлю вам чай из ромашки! — Вирджиния Балтимор знала Белиджана вот уже четверть века и испытывала к нему слабость, как к старинной фамильной мебели. Тем не менее он никогда не осмелился бы противоречить ей, зная, что она может замкнуться так же плотно, как двери сейфа. С того времени, когда Белиджан стал доверенным человеком семейства Балтиморов, он понял, что клан объединяли лишь деньги, хотя на публике его члены изображали горячую любовь друг к другу. Огромное состояние Стивена Балтимора создавалось задолго до того, как появились на свет его наследники, но их поведение и образ жизни были раз и навсегда определены его взглядами на жизнь. Всем Балтиморам от рождения предназначалось стоять у руля власти точно так же, как выходцам из рабочей среды суждено работать сорок восемь часов в неделю. Служанка наполнила его чашку. — А вы со мной не выпьете? — вежливо спросил Белиджан. Ему казалось несправедливым глотать это отвратительное пойло одному. — Это вредит моим нервам, — пояснила Вирджиния. Пока он размышлял, с чего начать, она атаковала первой: — Ну, рассказывайте. Вы, полагаю, пришли сюда не для того чтобы развлекать старуху. — Вирджиния позволила себе короткий суховатый смешок. Белиджан сразу сообразил, как ему следует себя вести, — лгать, чтобы узнать правду. — Я хотел бы с вами поговорить о Джереми. Вирджиния пожала плечами. Этот жест красноречиво свидетельствовал о ее мнении о своем сыне. — Какую глупость он еще совершил? Белиджан весело улыбнулся. — Не сумел вас убедить. — И как бы он это сделал? Он слишком мягкий и нерешительный. Насколько его братья были энергичными и, я бы сказала, своенравными… Понятно! Ее фраза подтвердила сомнения Белиджана: Джереми его обманул, Вирджиния не дала и даже не обещала ему двух миллионов! И теперь в дерьме оказался он, Белиджан! Как всегда! — Все это невесело, — сказал он безразличным тоном. — Да. Но поверьте, бывает и хуже. После всех жертв, которые принесла наша семья, я должна буду умереть, не достигнув своей цели: увидеть последнего из моих сыновей президентом Соединенных Штатов. — Через четыре года! — воскликнул Бели. — Давайте поразмыслим. С Джереми никто не считается. У него был единственный шанс — предложить сейчас свою кандидатуру. Но этот дурачок так и не решился выдвинуть себя… от своей же собственной партии! Сдался без борьбы. Я никогда бы не подумала, что Бог может допустить такое. — Через четыре года, я вас уверяю! — повторил Белиджан. — Тсс, тсс! Вы и сами не верите в это! Еще чашечку? — Спасибо, нет! Но вы забываете о смене — Майкл, Кристофер… — Я ничего не имею против внуков, но меня ведь уже не будет на свете. Я этого не увижу. Ах, если бы Скотт и его брат были живы! — Так было угодно Богу, — произнес убежденно Белиджан. Она замолчала. — Я спрашиваю себя, как прореагирует Пегги? — начал он после долгой паузы. — Очень плохо. Вне всякого сомнения, очень плохо! — заключила Вирджиния с оттенком самодовольства в голосе. — Я ее уважаю и всегда считала своей невесткой, потому что она — мать моих внуков. Белиджан воспользовался моментом, чтобы попытаться склонить ее к теме, которая его волновала. — Вы забыли о Чарлен. В ответ прозвучала короткая фраза: — Чарлен никогда не станет президентом Соединенных Штатов. Не зная больше, какой линии поведения придерживаться, Белиджан с удивлением услышал свой собственный голос: — Если позволите, я выпью еще чашечку. — Ах, вам нравится мой чай? Он залпом проглотил это гнусное пойло и поднялся. — Позвольте удалиться. Придется искать другое решение. — Вы его найдете, Белиджан! Обязательно найдете! Вы всегда находили выход из любого положения! Эта старая женщина почти никогда и ни в чем не ошибалась, кроме одного: ни он и никто другой никогда не найдут способа вытянуть из нее деньги, если она решила не раскошеливаться.* * *
Квик подтянул ноги к животу, поерзал на сиденье, усаживаясь поудобнее, и поднял большой палец. У трех механиков, стоявших рядом с машиной, на лицах было написано беспокойство. Они провозились два часа, стараясь создать гонщику наилучшие условия. — Теперь правильно? — спросил Селлерс, руководитель гоночного отдела фирмы «Невада». Он злился, что должен доверить один из трех болидов новичку, но указания, полученные от самого босса Тары Бринена, были категоричными: Эрнест Бикфорд, и никто другой! Хотя раньше предоставлялась полная свобода выбора. Если Бринен по каким-то там причинам решил от него избавиться — по возвращении в Нью-Йорк стоит швырнуть ему в лицо заявление об уходе. — Отлично! — сказал Квик, холодея от страха при мысли, что не понравится этому типу, который, похоже, ищет предлог чтобы снять его с гонки. С яростью нажимая на тормоз и сцепление, он еще больше старался поджать колени, которые упирались в щиток приборов и нижнюю часть руля. Машина чуть коротковата для него, поэтому ноги и не удается выпрямить до конца, чтобы в лежачем положении мягко и свободно касаться педалей кончиками пальцев. — Вы уверены? — в голосе Селлерса прозвучало сомнение. — Конечно! Все нормально. — А мне кажется, что вы не полностью вытянулись. — Да нет, посмотрите! Все хорошо. Томас, один из механиков, вытащил спинку сиденья, словно этого было достаточно, чтобы Квик выпрямил ноги. — Что там у вас еще? — рявкнул Селлерс. Присутствие Томаса, этого «бесплатного приложения» к инструкциям Бринена, взбесило его окончательно. Какого дьявола они прислали еще одного механика? Чтобы унизить его, следить за ним? — Можно ехать? — спросил Квик. — Секундочку, — пробурчал Селлерс. — Не забудьте: сначала пять кругов не увеличивая скорости. И не давите на машину! На шестом засечем время. Квик опустил стекло шлема. — Мотор! — крикнул Селлерс. Квик включил ключ зажигания: раздалась упоительная музыка шести цилиндров. Он мягко вырулил на запасную полосу, идущую вдоль трибуны, и выехал на дорожку. Теперь он покажет, на что способен. Вот и вираж, надо переходить на более низкую передачу. Как здорово! Ведь он и это чудовище прямо созданы друг для друга. Квик засмеялся от счастья, подскакивая к правой линии, где, по условиям, следовало перейти на пятую скорость. Он подавил в себе желание сразу рвануть и помчаться вперед не помня себя. Те, кто наблюдает за ним, только и ждут, что он совершит ошибку. Ах, как хорошо! Болид вел себя как любящая и покорная женщина, готовая повиноваться каждому его движению. — Погоди немного, сволочь! — проревел Квик под свист ветра. — Посмотрим, что там у тебя в брюхе. Уже трижды трибуна то увеличивалась, то исчезала прямо на его глазах, остались позади крошечные силуэты в белых комбинезонах, от которых зависело его будущее. Четвертый круг позволил ему отчетливо запечатлеть в памяти все сложности трассы, идеальные траектории, дистанцию минимального торможения до поворота. Но в гонке — он хорошо это знал — одного лишь умения недостаточно. Выигрывает тот, кто способен бросить вызов смерти, кто снимет ногу со сцепления последним, когда границы безопасности уже не существует. А Квик любил рисковать! За рулем он звал смерть, насмехался над ней, оскорблял ее, отлично зная, что она над ним не властна, что в любой момент он может справиться с ней, избежать ловушек. Выходя из виража, он увеличил скорость, резко перешел со второй на третью и нажал на педаль, пьянея от радостной злости. Трибуна всего в трехстах метрах, пятый круг сейчас начнется. Теперь он покажет класс! Отныне для Квика не существовало ничего, кроме трассы и его самого. В этом «он сам» срастались, сливаясь воедино, болид и его тело, сливались так, что невозможно было различить, где проходит граница между человеческой плотью и металлом. Тень его машины в сотую долю секунды скользнула по асфальту трибуны, которой Квик уже не видел, ибо глаза его были устремлены на трассу. Заезжая на кривые, он проскакивал их на грани заноса, почти одновременно нажимая на тормоз и газ, тормозя лишь тогда, когда это казалось невозможным, используя все пять скоростей, подобно пианисту-виртуозу, чьи пальцы так и порхают по клавишам. Все его существо пело от наслаждения собственным мастерством. Песне счастья вторил рев мотора. Едва он закончил круг, Селлерс нажал на хронометр и подавил улыбку восхищения, которая наползла на его губы: для новичка время, которое тот показывал, было прямо-таки фантастическим. Но на вопросительные взгляды присутствующих он ответил небрежно: — Что-то парень, конечно, может. Только чтоб машину не долбанул. — Да ты скажи прямо, будет толк из этого блондинчика? — обратился к нему один из механиков. — Видел, как он идет? — спросил он, поворачиваясь к Томасу. Тот рассеянно посмотрел на край дорожки, где только что прошла машина, и сказал: — Да. Жаль… — Что ты сказал? — Ничего.* * *
Они пришли вшестером. Профессионалы. Все произошло со смехотворной легкостью. Когда в резиденции раздался звонок, Фредерик приблизился к окошку и недоверчиво спросил: — Что вам угодно? — Телефон! Там раненая! Быстрей! Сторож сделал несколько нерешительных шагов. Какое ему до этого дело? Пусть убираются отсюда вон! Но перед ним стоял растерянный человек, поддерживая молодую женщину с залитым кровью лицом. — Куда звонить, говорите! Женщина принялась громко стонать. Мужчина умолял: — Помогите мне! Поддержите ее! Она может умереть, понимаете? Ворча, Фредерик вернулся в свое убежище, сунул кольт в карман и включил механизм, который открывал вход. — Быстрей! Быстрей! — повторял мужчина. Фредерик подошел и наклонился к женщине. И вдруг у него в мозгу вспыхнуло пламя, а потом наступил мрак. Женщина выпрямилась, вытерла гемоглобин, которым было вымазано ее лицо. Ее спутник, пряча дубинку под пиджак, тихо посвистел, заложив в рот пальцы. Четыре силуэта вышли из тени. — Перенесите его в кладовую. Кляп и лейкопластырь — на глаза. Надя, ты останешься и приглядишь за ним. Остальные — пошли! Шествие возглавляли отец Пьер и брат Жан. Карман отца Пьера, настоящее имя которого было Лу Скализи, оттягивали дубликаты ключей из связки Урсулы. На жаргоне он был «рулем» — то есть человеком, который оказывал всем, кто мог хорошо заплатить, определенного рода услуги, связанные с большим риском. Полиции в разных уголках страны он был известен, но, по его словам, не провел и года в тюрьме, хотя имел на совести двадцать семь убийств. Впрочем, совести у него не было. Зато благодаря клиентуре, как правило высокопоставленным чиновникам и агентам секретных служб, ему все сходило с рук. То же можно было сказать и о брате Жане, которому в начале его карьеры не так повезло, как отцу Пьеру: он провел два года в Алькатраце под своим настоящим именем — Эдди Бонато. Он тоже числился вне закона, но полиция была к нему на редкость снисходительна. — Бебе и Луиджи, вы нас прикроете. Эдди со мной! Ангус, за тобой телефон! Вперед! Одним движением пятеро мужчин натянули на лица шелковые чулки. Было два часа ночи. Скализи покопался в замке главного входа, и двери бесшумно растворились. Как только ночные гости вошли в дом, не было произнесено ни одного слова. Они провели не один час над изучением плана-схемы дома и точно знали, где находится каждая вещь и где спит прислуга. Ангус погрузился в темноту холла прихожей с непринужденностью человека, живущего здесь с самого детства. Он перерезал телефонные провода. Скализи и Эдди добрались до винтовой лестницы. Нужная им комната находилась на втором этаже, в глубине коридора, откуда открывался вид на вход в резиденцию. Как и предполагалось, там никого не было. Они снова спустились в холл, где трое спокойно ждали их. — Пора, — прошептал Скализи. Бебе, Луиджи и Ангус достали армейские пистолеты и разошлись в трех различных направлениях. Скализи и Эдди пересекли вестибюль, проследовали по длинному коридору, в конце которого Скализи без труда открыл первую бронированную дверь. Спустившись по лестнице, они пересекли сводчатый подвал и остановились у стены со стеллажами бутылок. Скализи, не раздумывая, нажал ногой на кнопку, спрятанную у ее основания: дверь слева от них открылась сама. Освещая себе путь лучом карманного фонарика, они быстро сбежали вниз по очередной лестнице, скорее ощущая, чем слыша, как опускается сзади стальная дверь. Вот и указанная на плане площадка. Скализи осветил стенку, нащупал деревянную коробку, открыл защелку и пошарил внутри. На этот раз часть стены справа чуть отодвинулась, открывая длинный узкий проход. Новая дверь преподнесла им сюрприз: на ней не было замка, а лишь цифровой код. — Пожелай мне ни пуха ни пера, — проворчал Скализи сквозь зубы. В ответ Эдди скрестил указательный и средний пальцы. Кончиком пальца в черной шелковой перчатке Скализи набрал код из семи цифр… Секунда ожидания — и огромный металлический блок сделал бесшумный поворот. Вот она — пещера Али-Бабы! Там тихо звучала классическая музыка. Арчибальд Найт сидел к ним спиной, тихо созерцая ярко освещенную картину, на которой была изображена женщина с младенцем на коленях. Малыш был толстячком, а женщина просто обычной женщиной, даже не такой уж хорошенькой, и Скализи с раздражением подумал, что же этот старикан находит в подобной мазне, если он сам ничего путного в ней не видит. Они подошли к хозяину вплотную, но он, казалось, не заметил присутствия посторонних. Тогда Скализи начал действовать. Он легонько хлопнул миллиардера по плечу. Найт поначалу был похож на человека, только что очнувшегося от глубокого сна. Но постепенно его взгляд становился все более пристальным, а пальцы, раньше чем Скализи успел сообразить, коснулись какой-то кнопки на клавиатуре. Эдди, опомнившись, схватил его за кисть руки. Музыка смолкла. Установилась странная, звенящая тишина. Арчибальд молчал, чему Эдди и Скализи очень удивились. Обычно их «пациенты» начинали скулить от страха, едва увидев тех, кто к ним пожаловал. Скализи проревел: — Вы знаете, кто мы? Арчибальд пожал плечами. — Меня это мало интересует. В замешательстве Скализи повернулся к Эдди. — Нет, ты только послушай, что он говорит! — Вы мне мешаете, — спокойно произнес старик. — Скажите, чего хотите, и проваливайте! — Снимай штаны! Скализи сделал знак Эдди, быстро забежал за диван, на котором сидел Арчибальд, и связал ему руки. На мгновение громила даже смутился — такими худыми они ему показались. Эдди, не найдя у старика ремня, понял, что тот носит подтяжки. Секунда — и Арчибальд оказался без брюк. На какое-то мгновение Эдди остолбенел, с изумлением глядя на кальсоны Найта — ярко-красные, с тканым плетеным узором цвета ультрамарина. Когда он их стянул, то даже растерялся: жилистые ноги старика напоминали конечности засушенной цапли, которые, должно быть, уже не один десяток лет не видели солнечного света. Скализи тем временем снял с Арчибальда пиджак, разорвал рубашку, а галстук, не развязывая, повернул вокруг шеи узлом назад и, пользуясь им как недоуздком, заставил свою жертву подняться на ноги. Найту на цыпочках пришлось идти за ним к зеркалу. — Посмотри на себя! — приказал Скализи. Трудно было представить более жалкое зрелище. Изможденный, высохший старик стоял и смотрел на свое немощное тело. Тем не менее Найт, несмотря на прямо-таки идиотский вид, который придавали ему черные носки, держался прямо, без видимого волнения. — Ну что, очень ты себе нравишься? — съязвил Скализи. Арчибальд сокрушенно склонил голову. — О да! Что может быть безобразнее… Эдди и Скализи повернулись друг к другу, чтобы обменяться взглядами, но маски помешали им увидеть глаза друг друга. — Красотой ты не блещешь, — со злостью сказал Эдди. — Это правда, — эхом отозвался Арчибальд. И вдруг в какую-то секунду они поменялись ролями. Найт смерил визитеров холодным властным взглядом, будто не он, а они стояли перед ним голые. — Могу я наконец узнать, с какой целью вы сюда заявились? Если бы Скализи не получил четких указаний, он отвесил бы старикану пару затрещин, чтоб научить его быть проще. За кого эта мумия себя принимает? Держится нагло, высокомерно, словно и за людей их не считает. Ему, видите ли, неинтересно, как они сюда попали и почему так с ним обращаются. — Мы пришли тебя пристрелить. — И чего же ты ждешь, дубина? Скализи хотел сорвать с себя чулок, прилипший к вспотевшему лицу, и пристрелить этого заносчивого типа, несмотря на указания сверху. Никто еще не осмеливался бросить ему вызов — да еще перед Эдди — и остаться в живых! Он с трудом справился с собой и с презрением процедил сквозь зубы: — Мешок костей. — Мешок дерьма! — бесстрашно огрызнулся Арчибальд. Эдди первым понял, что они оказались в безвыходной ситуации. Он схватил за руку Скализи, который уже замахивался, чтобы долбануть старикашку рукояткой пистолета по башке. — Подожди! Пусть сначала узнает, кто мы. Из Лиги добродетели. Слышал про такую? Тебе, говорят, жениться не терпится? Это в твоем-то возрасте, с твоими «прелестями»! Лига против оскорбляющих общественную нравственность противоестественных союзов. Теперь Арчибальду стало ясно, зачем они здесь и кто их послал. — Короче, — продолжал Эдди, — тебе, старому дебилу, инкриминируется — Скализи про себя с удивлением отметил это слово — попытка жениться на шлюхе. Подобного свинства мы допустить не можем. А потому считаем необходимым шлепнуть вашу милость. — Тогда пошевеливайтесь, — сказал Арчибальд. — Мне холодно. — Хватит! — заорал Скализи. — Оставь этого козла мне! Уж я сумею его убедить! — Его пальцы сорвали с шеи старика галстук и сдавили ее. — Или ты откажешься от своей идиотской затеи, или я тебе кое-что отчикну. Полупридушенный Арчибальд мужественно прохрипел: — Убирайтесь к черту! — Подожди, — остановил шефа Эдди. — Подтащи его сюда. — Он подошел к подставке, где таинственно светилось полотно. Арчи стоял опустив голову, с отвращением разглядывая валявшиеся на полу свои претенциозные кальсоны, изодранную рубашку и смятый пиджак, потом наклонился и машинально поднял галстук, но от сильного толчка в спину чуть не упал. — Посмотри на этого придурка, — хохотнул Скализи. — Он думает, что ему только галстука не хватает. — Теперь скажи, — Эдди указал на картину, — вот это… Это что? — Ничего особенного, — чуть быстрее, чем следовало бы, ответил Арчибальд. — Ничего ценного. — Ясно, — ухмыльнулся Эдди, поворачиваясь к Скализи. — У тебя есть зажигалка? Давай сюда. Спасибо. В руке Эдди сверкнул нож. Убить старикашку они не имели права, но ведь никто не уточнил, что можно, а чего нельзя было делать с его картинами. Движением, которое красноречиво свидетельствовало о ловкости рук, он грубо вырезал картину из рамы. И вот тут-то Скализи увидел, как задрожали колени Арчибальда. Прямо как у раненой клячи. Эдди смял полотно словно обычную тряпку, поджег газету и медленно поднес к нему огонь. — Остановитесь! — не помня себя закричалАрчибальд. — Это да Винчи! — Как ты сказал? Что это? — издевался Эдди, глядя, как пламя побежало по краям шедевра. — Винчи! Винчи! Винчи! Погасите, именем Бога! Погасите! Умоляю вас! Но Эдди ещё подул, чтобы усилить горение, держа пылающую картину за не тронутый огнем угол на некотором расстоянии от себя. Лицо женщины с ребенком исказила гримаса, и оно исчезло в огне. Скализи пришлось слегка стукнуть голого старца ключом, поскольку Арчибальд делал отчаянные попытки броситься к картине. — Ублюдки! Ублюдки! — Ну и осел! — удивился Скализи. — Это дерьмо ему дороже собственной шкуры. Тьфу! — И он с отвращением толкнул Найта на диван. — Мой Винчи… Последний из частной коллекции во всем мире, — пробормотал Арчибальд. Эдди заметил, что старик обеими руками закрывает свое лицо, а не половые органы, и подумал, что тот не иначе как свихнулся. — Ну что? — рявкнул Скализи. — Тебе все еще хочется жениться? Арчи отрицательно покачал головой. Потом, словно забыв о присутствии своих мучителей, он поднялся и медленно натянул кальсоны. — Кто тебе разрешил одеваться? — угрожающе спросил Скализи. Но старик, казалось, его не слышал, возясь с рубашкой, вернее с тем, что осталось от нее. Визитеры не мешали ему. Скализи предложил своему напарнику: — Подожги еще парочку картинок! Я хочу убедиться, что он все прекрасно понял. — Которые? — Выбери побезобразнее. Они-то и окажутся самыми дорогими. Арчи поднял дрожащую руку. — Не надо. Я не женюсь на Пегги Сатрапулос. — А кто нам это гарантирует? — в голосе Скализи прозвучало недоверие. Арчибальд обреченно махнул рукой. В эту минуту он напоминал самца, утратившего волю и способность защищаться. — Я слишком стар. — Солжешь — берегись, — предупредил Эдди. — Надеюсь, ты убедился, что сюда запросто можно войти! Если мы вынуждены будем вернуться — всего этого не станет. Тебя — тоже! Слышишь? Арчибальд автоматически кивнул. Он опустился на колени перед пеплом картины да Винчи, осторожно взял пальцами щепотку, высыпал на руку. Со стороны могло показаться, что он взвешивает. — Я слишком стар, — пролепетал он дребезжащим голосом. Но в хранилище уже никого не было. Впрочем, Арчи исчезновения громил не заметил. Он стоял на коленях, собирая драгоценный пепел, и тихо плакал. Вернувшись в холл, Эдди и Скализи увидели слуг, которых держали под прицелом Ангус, Бебе и Луиджи. Знаком Скализи дал распоряжение об отступлении. — Никому не шевелиться десять минут! — предупредил Ангус. — Двое наших снаружи наблюдают за вами. Урсула перекрестилась, шепча молитву. С хозяином случилась беда. И все из-за той мерзкой женщины. Она это предвидела, но не смогла его уберечь. Божий гнев поразил его, и даже добрые пастыри — брат Жан и отец Пьер — не смогли предотвратить несчастья. В машине Эдди восхищенно сказал Скализи: — Поразительно! Как тебе удалось разгадать комбинацию цифр замка бронированной двери? Скализи заважничал. Все прошло как по маслу, и Эдди совсем не обязательно было знать, что ему это было заранее известно. — Это легко, — ухмыльнулся он. — Достаточно было набрать «один», «три», «два», «один», два раза «восемь» и один раз «девять». Эдди смотрел на него во все глаза. — Не понимаю, поясни. — Это дата его рождения: 13 февраля 1889 года. Эдди аж присвистнул. — Ну ты даешь! — Но, подумав секунд двадцать, он осторожно спросил: — А если бы ты ошибся? — Ерунда. Дверь-то была последняя. Мы бы просто подождали, пока старикан не выползет из своей дыры. И загнали бы его в тупик. Уважение, которое Скализи прочел во взгляде Эдди, придало ему уверенности и побудило задать вопрос, который буквально вертелся у него на языке. — Видишь ли, когда мы были у него внизу, ты сказал одно слово. — Скализи поколебался и запинаясь произнес: — Инкриминавать… — Инкриминировать? Ну, это значит «обвинить в преступлении». — Да? Интересно, где ты такие словечки откапываешь! Это что, тоже по-английски?* * *
Квик все понял, поймав злые взгляды двух других пилотов. В мире гонок не существует подарков. Здесь терпят только победителей. Среди тысяч молодых гонщиков лишь немногим удается пробиться. Большинство же вынуждены отказываться от мечты выйти на старт после двух-трех ралли. Только гений или сумасшедший может создать себе громкое имя, если его не погубят владельцы многочисленных тотализаторов, за которыми стоят акулы большого бизнеса, готовые выложить огромные деньги за соответствующие результаты. Тот, на кого они ставили, должен был обязательно прийти первым. Накануне, на испытаниях, Квик показал лучшее время, чем два других гонщика, выступавших под флагом «Невады»: 2.11.3. У шедшего за ним было всего лишь 2.13.1. Понятно, что в подобной ситуации логичнее было бы дать Квику самую подготовленную машину. Но у Селлерса логика очень часто уступала место капризам его настроения. Всю ночь три механика работали как звери, чтобы переделать контакты в коробке передач — четвертая не подходила для пробега такой сложности. И когда двое из них, валясь с ног от усталости, пошли спать, третий, Томас, еще продолжал возиться с болидом Квика, меняя ремень водяного насоса, который дважды порвался во время испытаний. То обстоятельство, что машина была не новая — возраст три года и не одна тысяча километров пробега, — для Квика не имело никакого значения. Плевать ему на это: лишь бы она выдержала гонку и пришла к финишу первой. Он спокойно вывел свой болид на стартовую линию под оглушающий рев моторов, работавших вхолостую. Главное — надо сразу же рвануть, чтобы избавиться от кучи конкурентов, иначе на победе можно поставить крест. Среди участников гонки большинство составляли известные в Европе пилоты. Квика здесь никто не знал, зато он знал лучших среди них. Вот Бивер, дружески помахавший рукой ему, новичку, вот великий Стюржесс, дважды выигравший трудные гонки в Монзе, за ним Брюньер, Андротти, Клиренс, Голсмейстер… Легкими прикосновениями Квик ласкал педаль газа, глядя, как и все остальные, на флажок, готовый подать старт. С фантастическим ревом болиды рванулись на дорожку, покачиваясь и скользя, предельно напрягая все триста лошадиных сил своих моторов. Почти не касаясь сцепления, Квик перешел на вторую скорость, выталкивая ее до отказа, мгновенно переключился на третью, держа тормоз, чтоб его не занесло на первом вираже и не бросило на Андротти, перед которым шел Стюржесс. Сзади, гудя, неслась сумасшедшая свора машин, пытающихся не отставать. — Покажи мне, на что ты способна, сволочь! Покажи мне это! — кричал в упоении Квик. Он напряг мускулы, чтобы еще глубже вжать педаль газа на выходе из виража, переходя на третий режим в 7800 оборотов. Это было пределом, о котором его предупреждали. «Дальше все полетит в тартарары», — говорил Риверс, один из механиков. Сейчас посмотрим! Более подвижная машина Андротти опять промчалась перед ним. Но разогнать болид не было возможности. Другие машины шли справа от Квика, и ему надо было предельно сократить дистанцию, чтобы задержать их на повороте. Восемь тысяч оборотов… Четвертая… пятая… Еще восемьсот метров. У него есть еще восемьсот метров и несколько мгновений, чтобы снизить скорость с трехсот километров в час до шестидесяти и подойти вплотную к первому из двух поворотов… Квик слегка ухмыльнулся, увидев, что Стюржесс затормозил первым, сохраняя предел безопасности, который ему самому показался до смешного преувеличенным… Андротти проделал тот же маневр, уже рискуя, ибо его и Стюржесса разделяли лишь несколько сантиметров. Теперь на очереди был Квик. Он хладнокровно перешел на более низкую передачу, до третьей скорости, и был уверен, что мотор сейчас взорвется. Но, несмотря на загоревшийся в мозгу сигнал опасности, нога его оставалась прижатой к педали газа как парализованная, отказываясь передвинуться на три сантиметра влево, чтобы надавить не тормоз… Поздно! Безрамный кузов машины задрожал, шины странно искривились. Квик, приросший к рулю, изо всех сил боролся с чудовищем, которое вставало на дыбы, отказываясь взять препятствие. Изо всех сил он контролировал занос колес, срезал конец второго круга, даже не отдавая себе отчета, что прошел его первым… Теперь он знал, прекрасно знал возможности этой машины. Болид Квика прорвался мимо трибун, касаясь колесами защитных шин. В зеркале он видел желтое пятно «мазарати» Брюньера, который был еще далеко позади, может, в ста метрах… Две другие машины «Невады» — красные с белым, как и его собственная, — давно исчезли из его поля зрения. Затерялись в массе отстающих. Квик благодарил богов, что дебютировал в таком опасном пробеге, каждая ловушка которого давала гонщику преимущество показать возможности болидов. Выиграет тот, кто больше всех рискует! Он решил атаковать Стюржесса и Андротти сразу же на следующем круге, в начале трассы. Если удастся их обогнать, он будет первым. Только бы немного удачи, чтобы машина выдержала все три часа испытаний. А почему бы и нет? В эту минуту Квик мог сделать невозможное! Пусть это и странно, но ему было жаль, что рядом нет Лон. Она бы боялась, видя, как он выкладывается. Приятно, когда кто-то переживает за тебя. — Давай же, сволочь! Давай! Наступил самый ответственный момент… Квик находился в середине длинной прямой лишь в трех метрах от Стюржесса. Его надо обойти на въезде на поворот. Но Стюржесс понял замысел соперника и изо всех сил нажал на газ. Губы Квика растянулись в улыбке. — Жми! Жми! Скоро и ты притормозишь. И вот уже трасса мчалась перед ним с сумасшедшей скоростью… Будучи впереди, Андротти ловко держался прямого угла. Стюржесс не выдержал первым — затормозил. Какие-то секунды он и Квик шли рядом. Затем Квик вырвался вперед и, сдернув ногу с педали газа, с силой надавил каблуком на тормоз, переходя на более низкую скорость, перед тем как пройти крутой поворот. На четвертой скорости заскрежетали все шестерни, но мотор работал ровно. Жар ударил Квику в лицо, но в ту же секунду ледяной панцирь сковал плечи: педаль газа заклинило! Он отчаянно затормозил, пытаясь замедлить стремительный бег машины, с которой больше не мог бороться. Облако дыма вырвалось из капота, когда болид находился всего лишь в восьмидесяти метрах от защитных шин, куда Квик собирался врезаться на полном ходу, если это удастся… Третья скорость… Под давлением взорвалась коробка передач. Отныне ничто в мире уже не могло остановить машину. Пятьдесят метров… тридцать… двадцать… Последним движением Квик рванул машину вправо, чтобы дать Андротти шанс выжить. Мир, взрываясь, перевернулся несколько раз. Небо оказалось внизу, сноп огня — вверху. Крик ужаса потряс трибуны. Обезумевший, Селлерс заорал своим людям: — Скорей, скорей! Джип! Томас! Где этот дурак Томас? Основная группа машин пронеслась перед ним в гул моторов, перекрывающем вой сирены «скорой помощи», которая мчалась к снопу огня и дыма с зажженными фарами, хотя все вокруг было залито солнечным светом жаркого августовского дня. Томаса нигде не нашли! (обратно)Глава 11
На рассвете третьего дня Пегги, которая легла в пять утра, проснулась в шесть от палящей жары. Она ужасно напилась накануне. Бертоны устроили прием в ее честь, пригласив на яхту всех именитых особ, которые в те дни находились в Греции. К полуночи оркестр местных музыкантов вывел приглашенных на улицы Миконоса. Пегги попыталась уговорить Чарлен принять участие в празднике, но ничего из этого не вышло. Лон после ужина заперлась в своей каюте, и Пегги, уходя, попросила помощника капитана незаметно понаблюдать за дочерью. Выпив два больших стакана воды, она поспешила в ванную, чтобы подвергнуть себя унизительной процедуре, которую безуспешно проделывала уже пять дней, и вышла оттуда порядком напуганная. Неужели придется ложиться на операцию, чтобы извлечь бриллиант, который все еще был в ней, в глубинах ее желудка. Встревоженная каким-то неясным предчувствием, она быстро натянула джинсы и футболку, нацепила огромные черные очки. Прошли уже те времена, когда бессонные ночи не оставляли на ее лице никаких следов. Поднявшись на мостик, она застыла, увидев, как Чарлен старается преодолеть препятствие в виде помощника капитана перед своей каютой. Тот облегченно вздохнул, заметив, что Пегги идет к ним, поклонился ей и удалился. — Куда ты? — Пегги не узнавала своего голоса, таким растерянным он ей показался. — Я уезжаю, — спокойно сказала Лон. — Куда? — В Эримопулос. Ждать Квика. — Чарлен, выслушай меня. — Ну, говори. — Не здесь, не будем устраивать сцен. Идем в мою каюту. — Нет. — На пять минут… — Нет. — На нас смотрят матросы, прошу тебя! У меня есть предложение. — Выкладывай. — Хорошо… Ты мне доверяешь? Лон молча, отчужденно смотрела на мать. — Да или нет? — Если действительно хочешь мне что-то сказать — говори. Я спешу. Еще каких-то полгода назад Пегги не потерпела бы даже намека на такую наглость. Тогда у нее была дочь, которой она распоряжалась, как своими слугами или собакой: она решала, что ей делать, что есть, как одеваться, как проводить время, с кем дружить. Но сейчас перед ней стояла чужая молодая женщина, упрямая, подозрительная, непредсказуемая. Ее Пегги временами побаивалась. Была и другая причина, из-за которой она предпочла не конфликтовать с дочерью: Чарлен нужна была ей в Нью-Йорке, чтобы обделать дельце с Джереми. — Ты мне сказала, что этот парень уехал в Париж? — Говоря «этот парень», Пегги избегала произносить имя Квика, опасаясь, что взгляд дочери заставит ее покраснеть. — Да. «Этот парень» в Париже. — Хорошо. Почему бы и нам не отправиться туда? Это я тебе и предлагаю. Позвони в Эримопулос, сообщи, где будешь. И мы вылетим сегодня же первым самолетом. Ты попрощаешься с… этим парнем, и вернемся в Америку. Договорились? — У меня нет его парижского адреса. — Чарлен! Он ведь гонщик? А у меня в Париже столько друзей — министр внутренних дел, владельцы газет и, кстати, гонщики тоже. Его отыщут уже к концу дня! Он такой маленький, этот Париж, тоже, по сути, деревня. — А если я его не найду? — Это невозможно! — С Квиком никогда не знаешь, что возможно, а что нет. — Ладно. Обещаю, что завтра же, если он не найдется, мы улетим в Афины! Больше того, даю тебе слово, что мы не вернемся в Соединенные Штаты, пока не приберем парня к рукам. — Мне надо минуту подумать… Четыре часа спустя они входили в вестибюль отеля «Георг V». Там Пегги ждали «ее» апартаменты, занимавшие чуть ли не триста квадратных метров. В гостиной всюду стояли охапки свежих роз, которые прислал Андре Сонье, администратор отеля. С террасы открывался вид на авеню Георга V, в эти часы почти безлюдную, утопающую в зелени каштанов. По привычке Пегги распорядилась вызвать к себе обслуживающий персонал в полном составе. Ей не нравились картины, цвет покрывала, мебель, недостаточно, по ее мнению, удобная. Зная капризный характер мадам Сатрапулос, администрация тотчас удовлетворила все ее требования. Здесь было принято исполнять пожелания клиентов, какими бы экстравагантными они ни представлялись. — Чарлен, уже перевалило за полдень, город будет мертвым еще два часа. Я сейчас поставлю на ноги всех моих друзей. Они его отыщут. А мы, чтобы убить время, проедемся по магазинам. Согласна? — Потому что город будет мертвым? — Но не для меня, дорогая. Их действительно ждали — у Бушрона, на Вандомской площади, у Кардена, в предместье Сен-Оноре. Пегги, стараясь не замечать мрачного вида Лон, выбрала себе несколько браслетов из нефрита и несколько пар золотых серег с бриллиантами. — Доставьте это в «Георг V». Потом она вспомнила о дочери, которая сидела в стороне, отрешенно глядя на суету вокруг матери. — Хочешь, я тебе что-нибудь подарю? Лон покачала головой. — Нет. — Почему? Доставь мне удовольствие — выбери хоть какое-нибудь колечко. Покажите, что у вас есть? — Это с рубином, — оживленно щебетала она, — выглядит просто великолепно! Я беру его. И еще этот бриллиантик, оправленный в платину! Казалось, что она вот-вот зааплодирует при виде этого обилия драгоценностей, блеск которых отражался в ее глазах. — Чарлен, неужели тебе ничего здесь не понравилось? Это же глупо! Но едва они вышли, возникла проблема с оплатой счета. Раньше было проще: все счета отсылались Греку, который подписывал чеки, не вникая в подробности. А что предпринять сейчас? Кто оплатит эти покупки на двадцать тысяч долларов? Было решено ждать возвращения коммерческого директора, чтобы решить эту проблему. У Кардена визит Пегги тоже вызвал подобную суматоху. Лон, совершенно подавленная, безучастно наблюдала за матерью, которая и здесь оставалась в своей стихии. Перед ней одна за другой скользили манекенщицы, демонстрируя все новые и новые платья, меха, костюмы из кожи, сногсшибательные вечерние туалеты. Примерочная была завалена ворохом самых различных нарядов. — Чарлен, ты непременно должна купить себе… — Нет. Когда Пегги уже отобрала себе с дюжину платьев, которые, возможно, и носить не собиралась, Лон не выдержала: — Я возвращаюсь в отель. — Чарлен! Мы ничего еще толком не посмотрели! — Оставайся. Тебе вовсе не обязательно уходить со мной. С нарядами повторилась та же история, что и с драгоценностями. Счет Пегги предъявить не решались, а она, естественно, его не потребовала. И вопрос об оплате остался открытым. По дороге в отель Пегги сказала Лон: — Если известий о твоем друге не будет, я позвоню президенту Франции. Он, думаю, знает, что в таких случаях нужно делать. Известий оказалось предостаточно: за два часа весь Париж успел узнать, что Вдова здесь, и многие именитые представители высшего света оспаривали друг у друга честь принять ее у себя этим вечером. Перебирая телефонограммы и визитные карточки, Лон инстинктивно выбрала именно ту, которая была ей нужна: «… будьте любезны позвонить…», далее следовал номер телефона. Лон дрожащей рукой набрала его и передала аппарат матери, не решаясь сама вести разговор. — Жан? — воскликнула Пегги. — Как любезно с вашей стороны позвонить мне и… Лицо ее внезапно побледнело, а голос упал до шепота. — Что?.. Что?.. — повторяла она, растерянно прижимая трубку к уху и пряча глаза, чтобы не наткнуться на взгляд Лон. Только бы дочь не услышала. Только бы не услышала! — Сожалею, очень сожалею… Несчастный случай… настоящая трагедия… Молодой человек, которого вы разыскиваете… Ох, дорогая, я не знаю, как вам сказать… Сердце у Пегги колотилось как бешеное, зубы стучали. — Говорите же! — Он погиб.* * *
— Четыре валета. — Бубновый туз! — Покажи! — Марсель недоверчиво посмотрел на приятеля. Луи открыл карты. — Подай-ка бутылку. Хочешь? Перед ними на столе кроме стаканов и бутылки «Божоле» была и закуска: пакет мясного паштета и полбатона. Постороннему человеку, вошедшему в это помещение впервые, показался бы странным едва уловимый запах, одновременно сладковатый и проспиртованный, не каждый ведь догадался бы, что это — формалин. Но он был частью существования этих двух людей, и они его не замечали. Луи и Марсель разыгрывали очередную партию в покер в покойницкой морга. Зимой они проводили большую часть времени в маленькой теплой конторке, соседствующей с покойницкой, где в специальные холодильные установки были вмонтированы напоминающие пеналы выдвижные ящики с трупами. Здесь приятно игралось в карты, здесь, включив электроплитку, можно было разогреть принесенный из дому обед. Красивая жизнь! Глубоко ошибаются те, кто считает людей, зарабатывающих на смерти, сплошь мрачными и угрюмыми. Торжественная скорбь похорон — это всегда лишь театральное представление, рассчитанное на семью дорогих усопших. Нигде, пожалуй, не встретишь столько весельчаков, балагуров, выпивох и обжор, как среди факельщиков и бальзамировщиков, словно постоянное общение со смертью заставляло их брать у жизни все, что можно взять. Одно только название их профессии — «сторож» — вызывало взрыв смеха у работников морга. Сторожить — что? кого? Нет, их работе можно позавидовать! Летом, когда люди на улицах плавились от жары, прохладная покойницкая превращалась в идеальное место для дружеских пирушек. Вечному сну их подопечных это уже никак не могло помешать. Безмятежную жизнь сторожей нарушали лишь просьбы и визиты администрации, кстати, крайне редкие, или такие события, как, например, выход из строя электроплитки. Зазвонил телефон. — Послушаешь или мне подойти? — спросил Марсель. — Давай ты. Марсель, держа в правой руке огромный сандвич с паштетом, не успев прожевать кусок, с трудом произнес: — Да? — И в ту же минуту выражение его лица изменилось. Он со злостью уставился на Луи, послушал еще несколько секунд и сказал: — Я сам этим займусь, господин директор. — А потом, уже положив трубку, обратился к коллеге: — Ты слышал? — Что? — Это из собора. Им нужен манекен. — Когда? — Немедленно. И надо его подготовить. — Осточертели мне эти типы! Скоро они всерьез решат, что мы у них на побегушках. Будто у нас других дел нет. — Кого возьмем? — Какая разница! — отмахнулся Луи, наливая себе очередной стаканчик. — Назови любую цифру от единицы до девяти. — Четыре. Марсель подошел к стенной перегородке, поискал пальцами цифру четыре, перебросил сандвич в левую руку, а правой выдвинул ящик. В нем покоился светловолосый молодой парень. — Подготовим этого. — Он свеженький? — Еще шевелится! Его только вчера привезли. Луи расхохотался. — Шевелится. Ну у тебя и словечки! Теперь давай без дураков: он минут десять может подождать. А мы давай по-быстрому закончим партию. Марсель, не задвигая ящика обратно, откусил огромный кусок от своего сандвича и вернулся к столу.* * *
Белиджан бросил ледяной взгляд на Джереми. — То, что ты ведешь себя как десятилетний ребенок, — чепуха! Это твои проблемы. Но подставлять партию под удар я не позволю! Джереми беспокойно заерзал на стуле. Ему было очень неловко. — Скажи наконец, в чем дело! — Я встречался с Вирджинией. Она не дала тебе ни цента. Ты мне солгал! Скотина, грязный обманщик! И что ты завтра ответишь Пегги на ее вопрос о деньгах? Джереми попытался изобразить гнев, что ему иногда удавалось, но сейчас это вышло неубедительно. — Я попрошу ее подождать! — Она не из тех, кто ждет! — Да пошла она! — А не пойти ли тебе самому? И знаешь — куда… — Что я могу поделать, если мать отказала? Попробуй сам вытряхнуть из нее хоть цент. — Вопрос не в этом! — А в чем? — Ты стал врать. Понимаешь, врать! Джереми пожал плечами. — Я хотел выиграть время. — Браво. У тебя великолепно получается! У Джереми было огромное желание налить себе стаканчик, но он не решался и от этого злился еще больше. Белиджан не отстает от матери и обходится с ним как с безответственным мальчишкой. Но все же он постарался сдержать себя и заговорил вполне дружелюбным тоном: — Послушай, Бели… — Заткнись! С меня хватит! — Я начинаю беситься, когда вспоминаю об этой дуре. Сколько лет она нам портит кровь! Не будь мой брат идиотом, он не женился бы на ней. На этой фразе Джереми, понимая, что заходит дальше, чем следует, чуть не поперхнулся. И тогда, вопреки своему желанию, он неожиданно выпалил свой обычный вопрос: — Что ты собираешься делать? — Понятия не имею, — мрачно ответил Белиджан. — Только в одном я абсолютно уверен: надо найти два миллиона, и как можно быстрее. — У партии? — робко спросил самый молодой из Балтиморов. — Касса пуста. Сам знаешь, сколько он нам стоит, этот О'Брейн! — Пусть бы старикашка, которого она нам лепит, поскорее сдох! И тут Белиджан совершил ошибку. Он машинально сказал: — Старик больше меня не беспокоит. Только он знал, что Арчибальд Найт в настоящий момент решил продлить на неопределенный срок свою холостяцкую жизнь. Белиджан с досадой покусывал губы, но было уже поздно. — Вы его убедили? — с надеждой в голосе спросил Джереми. — Что ты имеешь в виду? — неискренне удивился Белиджан. — Он отдал Богу душу? — не отставал Джереми. — Джереми, я дам тебе совет. Поезжай к матери. Упади к ее ногам, обещай ей все что угодно, выпроси у нее свою часть наследства, но достань деньги. До сегодняшнего дня мне удавалась, не знаю каким чудом, обезвреживать Пегги. Но завтра все будет потеряно. Я ничего больше не смогу сделать. И она долбанет нам выборы! — Но Бели, — возмутился Джереми, — ей нечем будет нас шантажировать, ведь Найт уже не хочет жениться. Теперь ее угрозы и выеденного яйца не стоят! Белиджан уныло посмотрел на соратника, а воодушевившийся Джереми продолжал: — Она наконец-то отстанет от нас! Будущее казалось ему окрашенным во все цвета радуги. Отныне он был убежден, что сможет противостоять бывшей невестке. Имея на руках такие козыри, нужно быть последним кретином, чтобы проиграть. — Послушай, Бели, — сказал он не задумываясь, — я сделаю все, о чем ты меня просишь. Я вернусь к маме, попытаюсь снова… Белиджан с сомнением покачал головой. — Ладно. Попробуй. Он прекрасно знал, что Джереми лжет и что скандал вот-вот разразится. Его кошмары имели одно лицо — лицо Пегги.* * *
Утром в восемь, как обычно, Луи и Марсель явились на работу и были приняты Ахиллом — свеженьким, бодрым, уже выбритым. — Все в порядке, парни? Хорошо спали? Среди сторожей при морге медицинского факультета Ахилл пользовался славой человека с железными нервами. Летом он переносил свою раскладушку в покойницкую, уверяя, что это единственное место в Париже, где не страдаешь бессонницей от изнурительной жары. Дурачил их коллега или на самом деле спал в одном помещении с мертвецами, Луи и Марсель не знали. Они считали нормальным играть там в карты, пить, есть, развлекаться. Но спать! — Секундочку! Насмешливо улыбаясь, Ахилл прошел в покойницкую, дверь которой намеренно оставил открытой, и на глазах у приятелей стал складывать свою раскладушку. Ее и ворох журналов «Он» и «Плейбой» Ахилл отнес в контору и убрал в шкаф. Указывая на весьма смелую фотографию на обложке одного из журналов, он громко заржал: — Эти бабы там, на картинках, расшевелят даже мертвого! Шутка показалась его сменщикам довольно забавной, и они в свою очередь тоже засмеялись. Как только Ахилл удалился, Луи спросил у Марселя: — Ты веришь, что он похрапывает рядом с этими жмуриками? — Кто его знает… Поможешь мне? Они перенесли стол из конторки в зал, прихватив с собой плитку, еду и карты. Но приступить к приятным занятиям приятелям не удалось: им сообщили, что в морг на опознание явились две женщины. — И постарайтесь быть посерьезнее, — добавила звонившая секретарша, — это важные шишки. — Давай по-быстрому, Луи, опять переезжаем! Стол был водворен на прежнее место, еда, бутылка и плитка исчезли в шкафу. И в этот момент появился профессор Майет собственной персоной, за ним шли две женщины. — Эти дамы пришли по поводу господина Эрнеста Бикфорда, — сухо сказал Майет. Марсель поспешил к огромному журналу. — Одну секундочку, господин профессор. Майет обратился к той, что была постарше: — Мадам, вы желаете остаться одни или предпочитаете, чтобы я был рядом? — Одни, — тихо попросила ее молодая спутница. Майет с поклоном, который красноречиво свидетельствовал о важности посетительниц, сообщил, что остается в их распоряжении и будет ждать у выхода. Луи поспешил на помощь Марселю, который растерянно листал книгу учета. Тот шепнул ему: — Черт! Бикфорд… Бикфорд? Когда он к нам поступил? — Бикфорд? Вчера. — Вчера их было трое! Который из них? — Откуда я знаю? Ты ничего не записал! — Я думал, ты это сделаешь. — Вот так влипли! — Ага, нашел! — пробормотал Луи сквозь зубы. — Открой девятый. Марсель торжественно повернулся к двум женщинам и произнес: — Дамы, не угодно ли вам последовать за мной? Он прошел в морг, осторожно выдвинул ящик под номером 9, затем почтительно отступил на два шага, со злостью думая о том, что эти две идиотки испортили ему завтрак. И чего они застыли как вкопанные, вместо того чтобы подойти и в две минуты покончить со всеми этими формальностями? Молодая судорожно вцепилась в руку второй, в черных очках. Видя, что ни одна из них, похоже, не сделает и шага, Луи, который стоял сзади, кашлянул. Этот звук был рассчитан на то, чтобы привести посетительниц в чувство. Они приблизились к ящику, в котором лежал толстый, лысый и крайне непривлекательный тип. — Эрнест Бикфорд, — скорбно, как только мог, произнес Марсель. Молодая женщина склонилась над ящиком и, отшатнувшись, громко воскликнула: — Не он! Это не он! Пегги, едва взглянув на лысого типа, с ледяным бешенством приказала: — Пойдите за профессором! — Мадам, — попытался вмешаться Луи. — Быстро! — оборвала его Пегги. Обнимая Лон за плечи, она отвела дочь в конторку, усадила на стул. Девушка рыдала, обхватив голову руками. Луи удалился на цыпочках и мгновенно вернулся, но уже с профессором, который, должно быть, стоял за дверью. — Мадам? Мадемуазель? — Я буду жаловаться! — с металлом в голосе отчеканила Пегги, еле сдерживая гнев. — Я не понимаю, — пробормотал Майет. — И, повернувшись к Марселю: — Фабр! Потрудитесь объяснить… — Это ошибка, господин профессор. — Какая ошибка? — возмутился Майет. — Ошибка в надписи… я хотел сказать, на ящике… в журнале! Я знаю, что произошло. Господина Бикфорда вчера запросили в собор. — В какой собор? — с удивлением спросила Пегги. Майет смущенно опустил голову, и Марсель решил принять удар на себя. — Его вчера подготовили… и отвезли еще до того, как окончилось наше дежурство. — Достаточно! — перебил его Майет, осмелившись поднять глаза. Его взгляд утонул в непроницаемой черноте очков Пегги. — Мадам, я глубоко сожалею… Тело господина Бикфорда было предоставлено определенной общественной организации для одного опыта… — Какого опыта? — раздался душераздирающий крик Лон. — Я вам объясню, — пробормотал Майет, с трудом сглатывая слюну. — Вы лжете! Квик не умер! — рыдала Лон. — Как? — голос Пегги сорвался на визг. — Вы осмелились?.. — Но, мадам, — заикался Майет. — У нас было на это право… Мы не знали… Фабр! — Господин профессор? — Расписку! Марселю не пришлось за ней идти, Луи уже передавал ее Майету. — Мадам, не могли бы вы посмотреть… Пегги вырвала карточку у него из рук. Она прочла: «В случае моей смерти я, нижеподписавшийся Эрнест Бикфорд, разрешаю любому медицинскому учреждению использовать мое тело и его органы без каких-либо ограничений. Данное разрешение действительно для всех стран мира, где меня может настигнуть смерть». Вверху виднелась голубая печать, на которой четко просматривались слова: «Резус отрицательный». Мертвенно бледная Пегги протянула документ дочери. Слезы застилали Лон глаза, но она узнала ужасную бумагу, которую обнаружила в кармане у Квика полгода назад. — Разрешение было найдено в кармане комбинезона господина Бикфорда, — счел нужным уточнить профессор. — Где тело? — безжизненно и отрешенно спросила Пегги. — Это значит, мадам… уже поздно что-либо предпринимать. Я боюсь, что… — Где тело? — отчеканила Пегги во второй раз. Тогда профессор Майет объяснил ей. Как только Пегги услышала адрес, она сказала Лон: — Быстро! Может быть, еще успеем. И они стремительно выскочили из конторки. Майет бросился следом. — Дамы, дамы! Прошу вас! Уделите мне минутку! — взывал к ним бегущий сзади Майет. — Я позвоню туда, чтобы предупредить.* * *
— Господа, сейчас вам предоставляется возможность наблюдать напрямую, если можно так выразиться, лобовое столкновение двух автомобилей. Позвольте мне публично поблагодарить от вашего и моего имени высшие ответственные инстанции этого центра… Внутренний голос настойчиво рекомендовал профессору Пиоберу постараться излагать свои объяснения как можно короче. Крупный специалист в области травматологии в Гаршской клинике, он обожал вступать в споры со своими студентами и был известен не только своей ученостью, но и высокомерной манерой дидактически и догматически распространять свои знания. Теперь ему предстояло не только поучать, но и вести беседу с этими юными говнюками, чтоб им понравиться! Профессор откашлялся… — Я буду краток. — Пиобер сделал паузу, думая о нынешних нравах, царящих в высшей школе. Приходится чуть ли не извиняться перед сопляками за то, что пытаешься передать им свои знания. — Вы прекрасно знаете, что при лобовом столкновении 55 процентов причастных к катастрофе людей разбиваются сразу. Конечно, конструкторы умудряются, здесь к месту об этом упомянуть… — Он быстрым взглядом обвел собравшихся, чтобы узнать, произвели ли его слова впечатление. Видимо, нет, ибо кроме двух-трех угодливых улыбок, он ничего утешительного для себя не заметил. — Итак, конструкторы, проявляя изобретательность в увеличении безопасности автомобилей и водителей, обязывают человека, сидящего за рулем, пользоваться различного рода приспособлениями: к примеру, ремнями безопасности. В ситуации, которую вы сейчас увидите, за рулем легковой автомашины будет не обычный манекен, а труп, подготовленный согласно нашей технологии. Тело обескровлено, в него введен препарат, приготовленный из чернил и формалина в равных долях. Таким образом, благодаря этой искусственной системе кровообращения мы имеем возможность продемонстрировать вам, на каком уровне обнаруживаются смертельные повреждения тела, а именно повреждения грудной клетки, если водитель пренебрегает ремнем безопасности. Имейте в виду, что 15 процентов водителей погибли при таких столкновениях от разрыва аорты. Запомните также следующее: смерть может наступить от болевого шока — это 31 процент несчастных случаев, и от того, что водителя выбрасывает из автомобиля, когда тот переворачивается, — 40 процентов. — Пиобер заметил нетерпеливый блеск в глазах слушателей, но никак не мог остановиться и продолжал разглагольствовать: — Стена, столб, дерево, конечно, самые распространенные препятствия, но сейчас вы увидите, как выглядит лобовое столкновение между тяжелым тридцатитонным грузовиком и прогулочной машиной, за рулем которой находится специально подготовленный к эксперименту труп. Пиобер сделал паузу, поискал подобающую формулировку, чтобы завершить речь, не нашел ее и решил не делать выводов, чтобы наказать своих слушателей. Так, по крайней мере, ему казалось. — Господа, — сказал он, — на этом я заканчиваю. Не хотите ли проследовать за мной? Мы перейдем в собор!* * *
— Гоните! — крикнула Пегги. Шофер полуобернулся, лицо его выражало озабоченность. Все его внимание было сосредоточено на полицейском, который сделал ему знак остановиться. Терять место, чтобы доставить удовольствие этой сумасшедшей, он не собирался. — Гоните, или я вас вышвырну! — яростно прошипела Пегги, тыча ему под нос пачку банкнот. Тот ошалело взглянул на деньги и, словно после укола наркотика, нажал на газ. «Роллс» проскочил мимо красно-белого заграждения прямо под носом у стража порядка, который кинулся к постовой будке, чтобы снять телефонную трубку. Профессор Майет в эти минуты тщетно пытался дозвониться в центр, чтобы остановить готовящийся опыт, но аппарат почему-то не подчинялся ему, видимо, был неисправным. Чудом водитель слышал о центре в предместье Парижа, куда его пассажирки стремились попасть. Он примчался в рекордное время, если учесть преклонный возраст его «дилижанса». — Стоп! Шофер лихо затормозил. Это получилось у него как в старом военном фильме, когда джип заносит под сильной бомбежкой! — Сюда! — крикнула Пегги. Но Лон уже бежала, доверяясь своему инстинкту, по лабиринту коридоров. Пегги ринулась за ней, желая удержать дочь, но увидела, что ей это не удастся. Только бы догнать ее! Она несколько раз свернула вправо и кинулась за Лон по крутой металлической лестнице, ведущей куда-то вверх. Чуть дыша, она взбежала по последним ступенькам и натолкнулась на дочь, неподвижно застывшую на огромной стальной платформе. Платформа простиралась вправо и влево от них и была освещена прожекторами. Тут только Пегги рассмотрела, что она была как бы подвешена на боковой поверхности искусственной пещеры на высоте не меньше восьми метров. Так вот что имел в виду профессор, когда произнес странно прозвучавшее там, в морге, слово «собор». Картина, открывшаяся перед задыхающейся Пегги, поразила ее, как внезапно пронзившая сердце пуля. В ярком свете прожекторов она увидела группу силуэтов в белых халатах, контрольные табло, рельсы управления, множество каких-то приборов. А вокруг — нагромождение разбитых автомобилей. С одной стороны стоял огромный грузовик с песком, а метрах в двадцати от него, на противоположном конце платформы — обычая легковая машина, казавшаяся удивительно маленькой и хрупкой. Зловещая тишина, казалось, предвещала чудовищные кошмары и убийства. Но это было еще не все: за рулем легковушки сидел Квик! Лон он показался таким, каким она его видела в последний раз под солнцем Греции, — знакомый гибкий силуэт, знакомый взгляд, далекий, почти равнодушный. — Квик! — раздался душераздирающий крик Лон. Она ухватилась за поручни и почти зависла над пропастью пустоты. Пегги схватила дочь за талию, пытаясь оттащить, и тоже закричала. Но ее голос растворился в грохочущем реве моторов, многократно усиленном резонансом собора. Обессилевшие, оцепеневшие от ужаса, мать и дочь стали свидетелями второй смерти Эрни Бикфорда… В полосе света управляемый по радио грузовик начал тяжело надвигаться на маленькую машину, которую ему предстояло раздавить. Легковушка тоже сдвинулась с места. Квик пошевелился, и Лон показалось, что он улыбается. Связанные невидимой нитью, ведущей к смертельной черте, машины на огромной скорости столкнулись. Маленькая словно взорвалась от удара, листовое железо отлетело от кузова, расползаясь, как мокрая бумага, и тело Квика, это вновь подвергнутое пытке тело с наполненными формалином венами цвета алой крови, разорвалось во второй раз, превратясь в комок мертвой плоти, куски которой прилипли к металлу, в то время как правое переднее колесо грузовика дробило голову. (обратно)Глава 12
— Я сама об этом читала! Местность называется Вилькабамба, она расположена на холмах Святой долины в Андах! Никто не знает, воздух там такой или пища. Столетние мужчины как мальчишки бегают по улицам, уходят на пенсию в сто двадцать лет, а умирают к ста сорока пяти — ста пятидесяти годам. Можете поверить, у меня есть статья из газеты… Вместо того чтобы оставаться здесь, в этом нездоровом климате… — Замолчите. — Женщины там способны рожать до шестидесяти пяти лет. — Заткнитесь! Вы мне осточертели! Так неловко, хотя и с огромным желанием Урсула пыталась поднять моральный дух хозяина. Накануне он долго не выходил из своего музея, а когда появился, выглядел очень странно и рубашка на нем почему-то была изодрана в клочья. Арчибальд гневно отверг помощь слуг, поднялся в свою комнату и заперся там, не желая впускать даже ее, Урсулу. Больше того, он пригрозил выкинуть всех на улицу, если только заметит, что сюда сует нос какой-нибудь врач или же полицейский. Остаток ночи прошел в тревоге. Урсула подозревала, что эти люди в капюшонах причинили зло господину. Да, но какое? Хозяин утром поднялся как обычно и, не говоря никому ни слова, прошел прямо в комнату за ванной, где хранилась его специфическая коллекция. Двумя часами позже он позвал туда Урсулу. По его приказу она пересыпала из глиняного сосуда в золотую урну пепел, происхождение которого определить не могла. Он ничем не напоминал высушенное дерьмо — ни по консистенции, ни по цвету, ни по самому веществу. Во всяком случае, если это и были экскременты, то не господина, а кого-нибудь другого. За пятьдесят лет службы у Арчибальда она научилась определять продукт без тени сомнения, безошибочно. — Ну вот… Готово… — Принесите этикетку. — Куда? — На урну, сумасшедшая старуха, не на вашу же задницу! Грубость Арчибальда подтвердила страхи Урсулы: хозяин был несчастен! Она чуть было не проговорилась, что пыталась изгнать из резиденции зло с помощью святых братьев по вере, но в последнюю секунду передумала, полагая, что совершит грех, похваляясь добрыми поступками. Подлинное милосердие не выставляет себя напоказ. — Что это значит? — тихо спросила она. — О чем вы? — Ну, вот здесь написано: «Леонардо скорбит…» — Какое ваше собачье дело? — рявкнул Арчибальд. Он вовсе не собирался объяснять этой старой дуре, что принял решение хранить пепел сожженной картины да Винчи с теми же почестями, как и свои собственные испражнения. — Хорошо, хорошо… вот так, уже готово. Куда прикажете поставить? — Найдите на восемнадцатой полке четвертой этажерки место, где должен был находиться сосуд в честь моего пятидесятилетия. — Его там больше нет? — испугалась Урсула. — Я его отдал, — сухо ответил Арчибальд. Урсула вскрикнула как раненый зверь: — Отдали? — Да. И вас это не касается, — проворчал Арчибальд. — Боже мой! Боже мой! — она истово перекрестилась. — И еще, — добавил Арчибальд, — если госпожа Пегги Сатрапулос попросит меня к телефону… — На секунду он замялся. — Скажите ей, что меня нет. — А вдруг она начнет настаивать? — Тогда объясните, что я уехал… и вернусь через пару лет… Нет, скажите лучше, что я сюда вообще не вернусь. Пусть поймет, что звонить мне бесполезно. — Передам, передам, — пробурчалаУрсула, стараясь скрыть ликование. Она будто помолодела, двигаясь с необычайной легкостью, когда ставила золотую урну на подобающее ей место.* * *
Это произошло в самолете, куда Пегги буквально втолкнула Лон. Как обычно, она забронировала все места в салоне первого класса «боинга», который возвращал их в Нью-Йорк. Уже со вчерашнего дня дочь не произнесла ни единого слова, но Пегги, хотя и была крайне встревожена, не осмелилась нарушить это молчание. В «Георге V» им тоже не решились напомнить об оплате счета. За завтраком, который им подали в номер, она краешком глаза наблюдала за Лон, но та ни к чему не прикоснулась, а сидела устремив куда-то в сторону пустой, отрешенный взгляд, словно обрушившаяся на нее трагедия освободила ее от страданий и слез. Почти автоматически Пегги занялась текущими делами. Прежде всего она позаботилась о том, чтобы у Квика была приличная могила, подняв ради этого на ноги массу знакомых. Ее торжественно заверили, что все будет сделано подобающим образом. Она всегда знала, что нужно сказать в том или ином случае, как уладить те или иные формальности, не забыла она и еще об одной, очень важной, по ее мнению, детали. Воспользовавшись тем, что Лон пошла в ванную, она позвонила некоему хорошо известному ей человеку и дала задание самым тщательным образом расследовать все обстоятельства гибели Квика. В ее кругу, где жизнь любого человека была покрыта тайной, «естественная» смерть всегда вызывала противоречивые чувства: она казалась слишком банальной, чтобы принять ее без всяких оговорок. Был ли хоть один шанс из десяти, — а мысленно Пегги рассчитывала на все восемь, — что ее подозрения подтвердятся? Если был, то она не хотела его упустить. Осведомленный мужчина стоит двоих, но женщина в ее положении стоит сотен мужчин! — Чарлен? Дочь не пошевельнулась. Пегги легонько коснулась ее руки. — Лон… Девушка вздрогнула. Впервые мать назвала ее так, а не полным именем. Она сказала: «Лон»! И тогда с губ Лон сорвалось слово «мама». Благодаря этим двум словам между матерью и дочерью внезапно возникла связь, едва уловимая, тонкая и, как ни странно, прочная. Повернувшись к Лон, Пегги увидела, что по ее щекам текут слезы — слезы удивления и нежности. Она отвела взгляд и робко, неловко прикоснулась к руке дочери. Лон схватила мать за руки, стиснула их, поворачивая к ней заплаканное лицо, и замерла, пораженная невиданным зрелищем: огромная слеза медленно скатывалась по скуле Пегги. Лон никогда не видела мать плачущей и не подозревала, что в чрезвычайных обстоятельствах правый глаз Пегги действует безотказно. И девушка сломалась, бросилась в объятия матери. В неудержимом потоке слез и сбивчивых фраз она сказала то, чего раньше никогда бы не осмелилась произнести вслух: — Мама! Прости! Я не знала… Рони Бейли, мне стыдно… ты мне веришь, мама? Я хотела причинить тебе зло… Я думала, что ты меня не любишь. Я так думала! У меня не было никого, кроме Квика. А ты, мама! Ты теперь у меня есть. Навсегда! Я не понимала… Ты красивая, мама. Останься! Останься! Пегги прижала ее к себе так, как делали это няньки, когда Лон была маленькой, гладила ей волосы и руки. И тогда из груди Лон вырвался отчаянный, протестующий крик. — Мама! Квик… он же ничего никому не сделал! Почему они убили его? Пегги, чувствуя, как к горлу подкатывает комок, осторожно отодвинула дочь, стараясь делать это как можно нежнее. — Подожди. Я сейчас вернусь. Она едва успела добежать до туалета, с трудом сдерживая тошноту. Ее вырвало, и она вынуждена была задержаться там, чтобы привести себя в порядок. Механически, привычными движениями накладывая косметику, Пегги, как заклинание, повторяла про себя: «Только бы не думать, ни о чем не думать…» И это ей удалось настолько хорошо, что Пегги начисто забыла о проглоченном неделю назад бриллианте в сорок каратов. Ей даже в голову не пришло, что в этом проклятом самолете ее тело, на секунду вышедшее из-под контроля, уже выбросило драгоценный камень прямо в унитаз. Пятьсот тысяч долларов поглотили экскременты каких-то неизвестных засранцев, летевших вместе с ней в Нью-Йорк.* * *
В голове у Пегги все путалось. Но когда она открывала дверь ванной, ее вдруг обожгла мысль: ее бриллиант?! Сердце, казалось, взорвалось от потрясшего ее мощного взрыва. Господи! Неужели камень остался там, в туалете «боинга»? И все из-за того, что она позволила себе на какой-то миг растрогаться и забыла проверить. Действовать, надо действовать! И немедленно. Если есть хоть малейший шанс… Пегги кинулась к телефону, торопливо набрала номер, назвалась. Да, она приедет сию минуту. Ведь речь идет о жизни или смерти. Проклятие! Почему так медленно ползет лифт? Через четверть часа она уже входила в кабинет своего врача. Тщательное обследование не оставило — увы! — и тени надежды. — Вы уверены? — повторила она дрожащим голосом. — Абсолютно уверены? — Да вы сами взгляните на снимки. Видите, там ничегошеньки нет. Ваши внутренние органы так же чисты и прекрасны, как и черты вашего лица, — галантно добавил врач. — Благодарю, — пробормотала Пегги. Гримаса настоящей боли исказила ее лицо. Неужели конец? Нет, надо сражаться, попробовать еще что-то предпринять. Вернувшись домой, она позвонила в аэропорт, назвала себя и попросила соединить с управляющим. — Дорогой друг, произошла история настолько дурацкая, насколько и трагическая… — Пегги запнулась, подыскивая нужные слова. — Я прилетела из Парижа часа два назад. Минутку, не помню номера рейса. — Видимо, вы имеете в виду номер 872, который не так давно прибыл? — вежливо предположил ее собеседник. — Да, да, именно этим! — Чем я могу вам помочь? — Я кое-что забыла на борту… — Да? Что конкретно? — Бриллиант… в сорок каратов! — Вот как?! И где — на кресле? — В туалете. — Так… Надо полагать, на умывальнике? — Нет, он попал в унитаз. — Вы туда его упустили? Если больше никто из пассажиров не заходил после вас, возможно, служащая его извлекла… — Я спустила воду, — произнесла Пегги самым ледяным, самым надменным своим тоном. На другом конце воцарилось молчание. — Вы меня слушаете? — спросила она. — Да-да, конечно же. — Ну что вам еще сказать? — голос ее дрожал от сдерживаемого напряжения. — И если уж расставлять все точки над «i», то мой бриллиант я проглотила. Теперь, надеюсь, понятно? Очень прошу, окажите мне услугу, свяжитесь с надзором за путями сообщения. Это срочно! Про себя управляющий облегченно вздохнул. Слава Богу, речь идет не о краже. — Прошу, не кладите трубку… Я сейчас соединю вас с тем сотрудником, который отвечает за взлетную полосу, и останусь на линии в полном вашем распоряжении! Послышались потрескивание, отдаленные сигналы… И наконец раздался голос: — Слушаю вас. — Господин Пинтер, полагаю, ввел вас в курс дела? — Да. — Итак? — Боюсь, предпринять что-либо уже невозможно. — Как? — Слишком поздно. — Слишком поздно? Вы это мне говорите? Послушайте, когда прибывают самолеты, что вы делаете с… с…? — Это сливают. — Смею подозревать, что вы не оставляете себе это в качестве сувенира! — съязвила Пегги. — Когда и как? — Сразу же после посадки. В самосвал, оборудованный специальной цистерной. — Затем? — Содержимое цистерн сбрасывается в большой коллектор. — И где таковой находится? — Везде! Под нашими ногами, например. Я имею в виду канализационную систему Нью-Йорка, протяженность которой составляет сотни километров! Могу еще добавить, что… Пегги повесила трубку и набрала другой номер. — Мой чек еще у тебя? — спросила она тоном, не предвещающим ничего хорошего. — Ты привезла Чарлен? — вопросом на вопрос ответил Джереми, голос которого звучал слишком уж миролюбиво и добродушно. — Да. Где мой чек? — Чарлен с тобой? — Да! — сорвалась на крик Пегги. — Да! — Отлично. Никуда не уходи. Я буду через десять минут. Обругать этого хама ей, к сожалению, не удалось. Он успел вовремя отключиться. Пегги металась по комнате не находя себе места. Тогда она налила приличную порцию виски и залпом осушила стакан. Она чуть было не позвонила Нат, но вовремя вспомнила о последней ссоре с подругой. Глупее ситуации не придумаешь. Кто может позволить себе потерять камень в полмиллиона долларов? Кто ей возместит потерю? Ага, Джереми! Ведь в Грецию она отправилась не по своей воле, а по настоянию этих проклятых Балтиморов. Следовательно, и расходы должны взять на себя ее, так сказать, наниматели, включая и потерю бриллианта, что вполне можно отнести к производственным издержкам. Поэтому с Джереми она возьмет не два, а два с половиной миллиона долларов. Только и всего. И наплевать, поверит он ей или нет, а денежки ему придется выложить. Потом можно позвонить Арчибальду, подписать контракт и назначить день их свадьбы. В эту минуту раздался звонок в дверь. Явился Джереми. — Браво, дорогая! Ты ее действительно привезла. От имени всей семьи я тебя… — Деньги! — Не нервничай. Получишь! — Чек уже в моем банке? — Нет, но скоро будет там. — Ах, скоро! — взвизгнула Пегги. — Ты принимаешь меня за идиотку? — Нет, нет. Не говори так. — О наших условиях ты уже забыл? — Что ты, нет. — Я свои обязательства выполнила. Выкладывай чек! — Да получишь ты его, и очень скоро. Во взгляде Джереми, когда он произносил эти слова, не было обычной угрозы. Их неясный блеск, который у любого другого человека сошел бы за юмор, насторожил Пегги. Значит, милый «родственничек» готовит ей или уже сделал какую-то пакость. Что ж, придется изменить тактику. — Джереми, мне вовсе не хочется, чтобы между нами возникли какие бы то ни было недоразумения. Ведь в Европу за Чарлен меня отправил ты, боясь, что поступок моей дочери поставит под удар твоего дерьмового кандидата. Верно? Джереми утвердительно кивнул. — Я привезла ее домой. В обмен на это ты должен был мне выплатить два миллиона долларов. Правильно? — Ну да. — И еще одна деталь: по твоей просьбе я обязалась повременить с замужеством, которое положило бы конец всем моим финансовым затруднениям. Из лучших, разумеется, побуждений. Семья, государственные интересы, президентство!.. Ты все так же согласен со мной? Он снова энергично кивнул. — Но есть одна маленькая неувязочка. У меня были непредвиденные расходы. — Сколько? — Полмиллиона. Джереми лишь поднял бровь. — Счетов не видно, поэтому позволю вопрос: на что они потрачены? — У меня нет желания об этом говорить. Просто поверь на слово! Он совершил ошибку, не сумев скрыть иронической усмешки. Пегги смерила его взглядом. — Что-то не так? — Да нет, ничего. — Тогда тебе придется добавить эти полмиллиона к двум обещанным ранее. А взамен получишь свою расписку. Теперь мой вопрос: у тебя есть эти деньги? Да, черт побери, или нет? У Джереми чуть не сорвалось с языка — «нет!», но он сдержался и с притворным сочувствием произнес: — Пегги, ты еще не пришла в себя после утомительной поездки. Отдохни, успокойся, а позже вернемся к нашим делам. Так, понятно. Этот ублюдок попросту издевается над ней! А в памяти одно за другим возникали и исчезали видения недавнего прошлого — светлые, согревающие душу, и грозные, леденящие сердце: сначала неизведанное дотоле наслаждение на дне моря, потом холод морга, взорвавшееся вторично тело Квика, отчаяние дочери, бриллиант, исчезнувший навсегда в стоках огромного города… Да еще этот изнеженный идиот, издевающийся над ней. — В последний раз спрашиваю: да, черт побери, или нет? — Ну Пегги! Немножко терпения… Джереми улыбался прямо как невинное дитя. Пеги схватила трубку, отлично зная, что он только и ждет этого движения, которое сам и спровоцировал, но остановиться уже не могла. — Мистера Найта, пожалуйста… В ответ старческий женский голос надменно, как показалось Пегги, проскрежетал: — Кто его спрашивает? — Пегги Сатрапулос. — Хозяин в отъезде. Больше она не успела ни спросить, ни сказать. Раздались короткие, злые гудки: трубку повесили. Но Джереми не должен был этого заметить, и Пегги продолжала говорить с воображаемым собеседником: — Хорошо. Пусть он мне позвонит через час… Но попался ли Джереми на ее обман? Нет, конечно. Пегги поняла это, как только он открыл рот. — Что-нибудь не так? — спросил он заискивающим, неискренним тоном. Ответа не последовало. И тогда он нанес удар. — Благодарю за предоставленную отсрочку. Извини, но тебе сразу следовало проверить, признан ли долг моим банком. К тому же я не совсем уверен, что правильно указал сроки платежа. Все произошло так быстро… Сейчас она, похоже, вцепится ему в горло или каким-либо другим образом покажет, что смирилась. Видел бы Белиджан, как он уделал строптивую шлюху! Но Пегги не доставила ему этой радости, и Джереми мысленно оценил выдержку бывшей невестки. Невозмутимо щелкнув зажигалкой, Пегги выпустила из ноздрей тонкую струйку дыма и задумчиво взглянула на сияющего самодовольством мерзавца. — Джереми… — Что? — спросил тот, смущенный неподвижностью ее спокойного взгляда. — Давай заключим пари. — Такими глупостями я не занимаюсь. — И все-таки не упирайся. У тебя, дорогой, нет выбора. Итак, я торжественно заявляю, что завтра, еще до восхода солнца, ты приползешь сюда и станешь умолять меня принять твой чек. Он решился позволить себе покровительственный смешок, хотя ее потрясающая наглость сразу испортила ему настроение. — Ох, Пегги, Пегги! Ну будь же благоразумной. Она глубоко затянулась. — И поскольку ты не сдержал слова, я решила тебя наказать. Ставка возросла: принесешь три миллиона. Понятно? «Уж не сошла ли она с ума»? — подумалось Джереми, но он храбро продолжал: — За такую цену, я предполагаю, твой шантаж будет включать как минимум то, что ты прогуляешься обнаженной на лошади в Центральном парке? Пегги, казалось, была сама любезность, когда сладким голоском прощебетала: — Я сделаю хуже. Джереми, чуть паясничая, сокрушенно развел руками, склонил голову и вышел. А Пегги снова набрала номер Арчибальда. — Я миссис Сатрапулос. Это вы мне только что отвечали? — Да. — Так в чем же дело? — Я вам сказала… — Называйте меня — «миссис»! И прежде всего, кто вы такая? — Экономка, миссис Сатрапулос. — Где мистер Найт? — Уехал. — И когда вернется? — Он будет отсутствовать очень долго… миссис. Мне кажется, что хозяин вообще не собирается сюда возвращаться. Пегги тихо опустила трубку на рычаг. Чем же им удалось вызвать такой страх у Арчибальда? Ведь он принадлежал к тем людям, которые готовы были скорее умереть, чем позволить себя запугать. Итак, в обозримом будущем у нее оставалась в руках лишь одна козырная карта. Одна-единственная. И она набрала новый номер. Удача ей улыбнулась: абонент на краю света оказался на месте. — Вы узнаете меня? — Разве можно забыть ваш голос? — Помните, однажды в небе вы мне что-то пообещали. — Да. — Неужели вспомнили? — О, конечно, конечно. — Вы мне нужны. — Что я должен сделать? — Завтра пообедать со мной. — Где вы сейчас? — В Нью-Йорке. — Я прилечу. — Жду вас у «Пьера» в половине первого. — Буду непременно. Победная улыбка озарила лицо Пегги. Теперь Джереми получит свое. В зубах принесет чек!* * *
В час дня Джереми отправился пообедать в маленький французский ресторанчик, разместившийся в подвале на Восьмой авеню. Сюда он иногда заглядывал, если был не один, зная, что ничем не рискует. Его знакомые в такие забегаловки не заглядывали. За его столиком сидела совершенно пьяная женщина. Естественно, он время от времени появлялся на публике с весьма респектабельными особами женского пола, у него была и жена. Но это для престижа! А сексуальное удовольствие, по причинам, в которых Джереми и сам не мог разобраться, он испытывал лишь с вульгарными самками, чьи умственные способности оставляли желать лучшего. С Лили ему здорово повезло. Достаточно было открыть рот и произнести хотя бы слово, неважно какое, или просто сказать «а», как эта кретинка начинала ржать так, что на нее все оборачивались. Вот и сейчас в ответ на просьбу передать соль она прыснула со смеху. И вдруг распахнулась маленькая застекленная дверь, прикрытая занавеской из ситца в красно-белую клетку. Вошел Белиджан. Когда его глаза привыкли к царившей в зале полутьме, он заметил Джереми. Тот сидел к нему спиной и опомниться не успел, как сильная рука вытащила его из-за стола. — Иди за мной! От неожиданности Джереми чуть не подавился куском селедки, который он в эту минуту отправлял в рот, и, не успев его прожевать, уже оказался в черном лимузине с затемненными стеклами. Ничего еще толком не соображая, он тупо уставился в окно, стараясь справиться с этой проклятой селедкой, и увидел бежавшую по тротуару Лили с салфеткой в руке. Ее грудь подпрыгивала в такт движениям. Она орала так громко, что перекрывала уличный шум. Белиджан схватил его за лацкан пиджака. — Очнись же, черт побери! Я знал, что это случится! Ты заплатил ей? Джереми отрицательно покачал головой. — Идиот! Из-за твоих штучек мы потеряем все! Прощай Белый дом и все остальное. Ты хоть знаешь, где она сейчас? Не добившись ответа, Белиджан вне себя от злости рявкнул: — Сидит в ресторане «Пьер». — Ну и что? — пробормотал Джереми, которому удалось наконец проглотить недожеванный кусок. — Как «что»? Догадайся, с кем? — Откуда я знаю? — Тогда скажи: кто наши самые многочисленные избиратели в Нью-Йорке? — Евреи… — Браво! А кто хочет стереть Израиль с лица земли? — Арабы. Джереми, понимая, что выглядит полным дураком, растерялся. Разозлившись на себя, на издевательские вопросы Белиджана, он готов был возмутиться, потребовать объяснений, но тот опередил его. — Что ж, ты выиграл! Пегги в этот момент обедает со Слиманом Бен Слиманом! Она нас поимела! Понимаешь? Полудохлый старец на крайний случай — это мелочь по сравнению с тем, что нас ожидает. Этот араб, как тебе известно, финансирует и вооружает всех палестинских экстремистов! Ресторан уже штурмуют репортеры. Их там не менее двухсот. Теперь жди появления фотографий в вечерних выпусках. А комментарии! Нам — конец! Джереми был так ошарашен услышанным, что не думая выпалил: — И что ты собираешься делать? — Ничего! Остается только пустить себе пулю в лоб. Но, разумеется, после того как я всажу в тебя не меньше двенадцати. Вот что я сделаю. Он наклонился к шоферу и рявкнул: — Пошевеливайся! Быстрее! — Куда мы все-таки едем? — пробормотал Джереми. Но Белиджан грубо оборвал его: — У тебя с собой чековая книжка? — Да. — Выписывай чек на два миллиона на имя Пегги! Немедленно! — Ты сошел с ума! У меня нет такой суммы в банке! — Мне на это наплевать! — Белиджан гневным жестом откинул пюпитр из орехового дерева, встроенный в спинку переднего сиденья. — Пиши! — Бели! Опомнись! Ты еще не все знаешь. Лицо Белиджана окаменело. — Не все? Как это — не все? Джереми замолчал, потом, собравшись с духом, запинаясь произнес: — Послушай… Мы с ней вчера вечером виделись. У нее были непредвиденные расходы… — Сколько? — Пятьсот тысяч долларов. — Ого! Значит, ты ей должен два с половиной миллиона! — Немного больше. — А ну выкладывай все! Говори или я… я… Белиджан был так разъярен, что с ходу не смог найти подходящей угрозы, и его слова повисли в воздухе. Джереми схватил его за руки, как бы умоляя выслушать. — Она теперь требует три миллиона. Белиджан схватился за голову, бессильно откинувшись на спинку сиденья. Джереми выглянул. Машина подъезжала к ресторану. — Видишь ли, — начал было он, но Белиджан вцепился в него и сильно встряхнул. — Выписывай! — Я тебе повторяю, что… — Пиши, или я разобью твою дурацкую башку! И ради всех святых, не пропусти ни единого слова из того, что я сейчас скажу. Он задыхался от гнева, и, когда говорил, из его ноздрей вырывался сиплый свист. — Я попробую, постараюсь в последний раз — запомни: в последний раз! — спасти положение. Мы сейчас войдем в этот проклятый ресторан. Ты и я. Вместе. Пойдем прямо к их столику… Ты должен вести себя так, словно опоздал на эту встречу. — Но у меня не запланирована встреча! — взбунтовался Джереми. Белиджан посмотрел на него с нескрываемым презрением. — Ты обнимешь Пегги как лучшую подругу. Поздороваешься с Бен Слиманом. Что-нибудь закажем. Своим присутствием мы превратим эту скандальную свиданку в политическое событие особой важности. Глава демократов берет на себя инициативу обсудить проблемы мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке с лидером арабских сил, который прибыл в Нью-Йорк на встречу с Джереми Балтимором, политической надеждой страны. Усек, кретин? Это все я сейчас расскажу репортерам! — Но Пегги… Она меня пошлет! — Нет, идиот! Ибо, прижав ее к своей груди, ты незаметно сунешь этой мерзавке чек. Выписывай живее! И — вперед! — Бели! Ты прекрасно знаешь, что мама… — Плевал я на твою маму! — Банк… — Дерьмо твой банк! Дом еще принадлежит тебе? — Но… — Сколько он стоит? — Семь… восемь миллионов. — Заложи его! Выкручивайся как хочешь, но подпиши! Быстро, они уже здесь. Джереми торопливо поставил подпись. Распахнулась дверца. Белиджан и он вышли навстречу окружившим лимузин репортерам с торжественно-сосредоточенными лицами, как и подобает государственным мужам, вершителям международной политики. Отпуская на ходу шуточки, Белиджан двинулся вслед за Джереми к столику Пегги. Она встретила непрошенных визитеров так естественно, словно ждала их со дня своего появления на свет. Джереми заключил ее в объятия, прижал к себе и сунул ей в руку чек. Пальцы Пегги хищно сжались, скрывая вожделенную бумагу от посторонних глаз. На ухо она ему едва слышно шепнула: — Три? Подставляя ей для поцелуя щеку, Джереми так же тихо ответил: — Три. Только тогда Пегги представила прибывших ошарашенному Бен Слиману, который изо всех сил старался казаться невозмутимым. — Что происходит? — Пегги и сама была удивлена. — Ничего не понимаю, — тихо прошептала она ему. На лице Слимана Бен Слимана застыла дежурная улыбка, а Белиджан, бросив пару ничего не значащих фраз, поднялся, увлекая репортеров в другой конец зала и на ходу отвечая на вопросы, которые сыпались со всех сторон. Джереми, продолжая игру, наполнил бокалы шампанским и провозгласил тост: — За вас… За арабский мир! Но Бен Слиман не сделал и движения. — Я не употребляю спиртного, — холодно отказался он. (обратно)Эпилог
Гирлянды, стоики с закусками, цветы, оркестранты и певцы, сменяющие друг друга, нацеленные на огромное электронное табло телевизионные камеры — так выглядел в ночь с 1 на 2 ноября громадный бальный зал отеля «Уолдорф», где собрались не менее двух тысяч приглашенных, чтобы напрямую принять участие в выборах нового президента. Сюда поступали данные из всех штатов, и комментаторы, поднимаясь на подиум, здесь же давали оценку результатам голосования. Демократы не набрали и половины необходимых для победы голосов. Имя человека, которого консерваторы назвали единственным кандидатом, стало известно 18 августа. А в сентябре он и лидер демократов Джонни О'Брейн начали изнурительное предвыборное турне по стране. Марширующие в военной форме девицы, сотни встреч, тысячи рукопожатий не оставили бы, наверное, никаких воспоминаний, если бы не вкус пыли, не покрасневшие от недосыпания глаза. — Кто хочет обнять будущего президента? — Крупный подвыпивший мужчина лет пятидесяти в куртке цвета зеленого яблока схватил высокого молодого человека за руку и поднял ее. А тот, смущенно улыбаясь, пытался освободиться. — Майкл Балтимор! — орал толстяк. Большинству поддерживающих демократов избирателей странная кандидатура Джонни О'Брейна казалась всего-навсего недоразумением, свои надежды они связывали с кланом Балтиморов, с именами двух молодых отпрысков этого рода — Майклом и Кристофером, которым с рождения было уготовано судьбой вести дела государства. Майкл пробрался к брату, окруженному толпой почитателей, наперебой втолковывающих ему, какой линии поведения держаться, как только он окажется в Белом доме. — Крис! Высокие, голубоглазые, стройные, братья были поразительно похожи друг на друга. Утонченность их внешнего облика, безукоризненность манер, уверенность в себе — все это они получили в наследство от трех поколений клана. К этому следовало добавить и балтиморовские миллиарды. Валяйся они в лохмотьях на свалке мертвецки пьяными, любой таксист обошелся бы с ними в высшей степени предупредительно и отвез бы прямиком в «Риц», не спрашивая адреса. Такие парни могли жить только в таком месте. — Где мама? — Не знаю. Потерялась. — А Чарлен? — Не видел. — Посмотри, кто идет! Худой и угрюмый мужчина горящими глазами окинул юношей. — Джованни! Как дела? — Плохо. Ваша мама меня покидает. Иронически-сочувственная усмешка тронула губы Майкла. — А что это меняет? Она, похоже, не так уж часто появлялась у вас. Джованни Аттилио подавил улыбку. — Честно говоря, всего трижды за десять месяцев. Он меланхолически кивнул братьям и удалился вышагивая, как аист. Но тут перед ним вырос взволнованный Аморе Додино. — Ты уже знаешь? — Что? — Ну, о Пегги. — Что с ней? Додино, как обычно, лишь только становился хранителем какой-нибудь тайны, смаковал эту новость на губах. — Она выходит замуж! — Вот как? — Да! А знаешь за кого? — он наклонился к Аттилио и возбужденно прошептал ему на ухо имя очередного претендента на руку Вдовы. Модельер дернулся так, словно его укусил скорпион. — Не может быть! — Вот. Даже ты потрясен. А представляешь, какой шум поднимет пресса! Хм… галстучек у тебя очень даже неплох. Твоя модель? Но тут Аморе увидел, что Аттилио больше его не слушает. Его неподвижный, горящий взгляд был устремлен на нечто находившееся за спиной Додино. Тот резко обернулся и протестующе воскликнул: — Нет, нет! Я первым его увидел! Это нечестно с твоей стороны. Предметом, так заинтересовавшим обоих приятелей, оказался парень с потрясающей мускулатурой, который изображал статую атлета на фоне темно-красного полотнища. С минуту Аттилио молчал, стараясь унять биение сердца, потом сказал примирительно: — Хорошо. Но после… после приведи его ко мне. Обещаешь? Я хотел бы его одеть! — Одеть?! — В тоне Аморе прозвучала едва уловимая ирония. Он кивнул, соглашаясь на просьбу Джованни, и торопливо зашагал по направлению к «статуе». Покинутый всеми, Аттилио стал угрюмо проталкиваться к подиуму, рассекая толпу. В проходе, образованном охраной, появилась старая дама в длинном белом платье. Она держалась очень прямо, гордо подняв голову. Публика, расступившаяся перед ней, стала скандировать: — Вирджиния, фото! Вирджиния, фото! В одно мгновение Пегги оказалась рядом с Вирджинией Балтимор, к ней пристроился Джереми, обнимая за плечи Майкла и Кристофера. Пегги, продолжая улыбаться, еле слышно скомандовала Майклу: — Найди сестру! Быстро! Тот растворился в бурлящей толпе, направляясь туда, где видел Чарлен час назад. Он нашел сестру на том же месте. Возле нее вертелся какой-то репортер в очках, а она со скучающим видом отвечала на его вопросы. — Лон! Торопись! Фото для потомков! Он взял ее за руку. Лон не хотелось идти, но она позволила себя увести. — Улыбнись! — приказала Пегги, чьи губы не переставали улыбаться. Лон послушно приподняла уголки рта. — Потрясающе! — выкрикивали со всех сторон суетящиеся фоторепортеры. Эта непринужденно расположившаяся группа казалась идеальным воплощением успеха, солидарности, радости жизни. Одной рукой Джереми нежно прижимал к себе мать, другая с такой же любовью обнимала плечи Пегги. А сияющая Вдова в свою очередь приобняла сыновей. Чарлен, которая не знала, куда ей пристроиться, стала позади матери, и на фотографиях, появившихся в газетах на следующий день, были видны лишь кончик ее носа, прямая линия бровей и каштановая шевелюра. — Балтимор! Балтимор! — скандировала толпа. На подиуме ведущей вдруг закричал: — Дамы! Господа! Прошу вас! Мы только что получили последний голос! Голос Вирджинии! В зале воцарилось молчание. — Я уполномочен объявить вам имя нового президента Соединенных Штатов!.. Соцветие Балтиморов неподвижно застыло, но их руки непроизвольно разомкнулись. Вирджиния, стоя с непроницаемым видом, неслышно пробормотала самой себе: — В любом случае, тот или другой — все равно дурак! На лице Пегги, которая на секунду потеряла контроль над своими лицевыми мускулами, снова засияла ее неотразимая улыбка. Джереми тоже улыбался, но у него это больше походило на гримасу. Лон тихо, незаметно отделилась от живой картины и очнулась лишь тогда, когда вновь оказалась рядом с очкариком-репортером. — Простите, мисс Балтимор, — тараторил он. — Я взволнован! Это ведь счастье — принадлежать к такой семье, как ваша. Лон смерила его взглядом огромных желтоватых глаз, лишенных всякого выражения, и, ничего не ответив, ушла. За ее спиной раздался рев тысяч голосов, приветствующих нового президента. (обратно) (обратно) (обратно)Джон Лоутон Красотка
 Когда жизнь делает крутой поворот и мы ищем объяснения этому в поступках и словах, или в чьей-то злой воле, или в обстоятельствах окружения — редко кто в это время видит лукавую улыбку всевидящей судьбы…
— Филипп, прекрасный прием!..
— Ну еще бы! Это все жена. Она даже пригласила фирму по обслуживанию приемов…
Адвокат Филипп Стаки лавировал среди гостей с изяществом и легкостью привыкшего к таким сборищам человека. Он успевал улыбнуться, пожать руку, произнести тонкий и льстивый комплимент, назначить встречу, напомнить о свидании… Среди приглашенных были в основном нужные люди — ведь, как известно, нигде так просто не устанавливаются будущие деловые контакты, как в непринужденной обстановке взаимного расположения.
— Эдварда не видели?.. — Где Эдвард? — то и дело останавливали Филиппа.
— А в самом деле, где Эдвард? — Стаки начал нервничать — на этот прием возлагались определенные надежды.
А в это время в комнате наверху Эдвард Луис, как всегда привлекательный и элегантный, но заметно раздосадованный, что было на него совсем не похоже, — вел нелегкий разговор по телефону со своей подругой.
— …я просил секретаршу, чтобы она все с тобой оговорила.
— Я говорю с твоей секретаршей чаще, чем с тобой! А между прочим, это моя собственная и единственная жизнь, Эдвард!
— Понятно. Но эта неделя для меня очень важна. Я хочу, чтобы ты была здесь.
— Ты меня не предупредил, что я должна быть у тебя на побегушках!
— Нет, ты не должна быть у меня на побегушках, — с досадой сказал Эдвард.
— Но именно так я себя и чувствую…
— Если ты этого хочешь, то уезжай! — Эдвард рассердился.
— Когда ты приедешь в Нью-Йорк, мы это обсудим.
— Давай лучше сейчас.
— Пока, Эдвард, — раздалось в ответ, и тут же послышались короткие гудки, которые показались особенно противными.
— Пока, Джессика, — бросил он в пустоту.
Эдвард Луис не любил, когда у него что-то не получалось. Похоже, сейчас был именно такой случай. «Именно сейчас, когда мне нужно быть в полной форме», — сердито думал он, сбегая по лестнице. Им овладело какое-то странное, непреодолимое желание скорее уйти. Хотя он знал, что там, в отеле, в своем роскошном люксе, он будет злиться еще больше. Но все-таки какая-то неведомая сила, которой он даже и не пытался найти объяснения, гнала его отсюда.
— Поговорите лучше с моим адвокатом, — на ходу бросил он одному из сотрудников, попытавшемуся что-то сказать. — Кстати, в Токио какой курс акций Морриса?
— Не знаю.
— Как! Токио открылся, между прочим, девятнадцать с половиной минут назад! Как можно быстрее узнайте.
— Хорошо, сэр!
Слуга подал пальто. «Я, может быть, еще сюда вернусь», — утешил сам себя Эдвард и тут же услышал:
— Эдвард!
К нему подходила Сьюзен.
— Сьюзен! — искренне обрадовался он. — Я слышал, что ты вышла замуж?
— Ну да! Я не могла вечно тебя ждать…
Обняв ее и наклонившись совсем близко, он неожиданно для себя спросил:
— Скажи, Сьюзен, когда у тебя был роман, ты говорила с моей секретаршей чаще, чем со мной?
— Она была у меня на свадьбе подружкой невесты.
— Твоему мужу очень повезло, — искренне шепнул он. — Пока! Эта встреча маленькой теплой капелькой согрела душу…
Когда жизнь делает крутой поворот и мы ищем объяснения этому в поступках и словах, или в чьей-то злой воле, или в обстоятельствах окружения — редко кто в это время видит лукавую улыбку всевидящей судьбы…
— Филипп, прекрасный прием!..
— Ну еще бы! Это все жена. Она даже пригласила фирму по обслуживанию приемов…
Адвокат Филипп Стаки лавировал среди гостей с изяществом и легкостью привыкшего к таким сборищам человека. Он успевал улыбнуться, пожать руку, произнести тонкий и льстивый комплимент, назначить встречу, напомнить о свидании… Среди приглашенных были в основном нужные люди — ведь, как известно, нигде так просто не устанавливаются будущие деловые контакты, как в непринужденной обстановке взаимного расположения.
— Эдварда не видели?.. — Где Эдвард? — то и дело останавливали Филиппа.
— А в самом деле, где Эдвард? — Стаки начал нервничать — на этот прием возлагались определенные надежды.
А в это время в комнате наверху Эдвард Луис, как всегда привлекательный и элегантный, но заметно раздосадованный, что было на него совсем не похоже, — вел нелегкий разговор по телефону со своей подругой.
— …я просил секретаршу, чтобы она все с тобой оговорила.
— Я говорю с твоей секретаршей чаще, чем с тобой! А между прочим, это моя собственная и единственная жизнь, Эдвард!
— Понятно. Но эта неделя для меня очень важна. Я хочу, чтобы ты была здесь.
— Ты меня не предупредил, что я должна быть у тебя на побегушках!
— Нет, ты не должна быть у меня на побегушках, — с досадой сказал Эдвард.
— Но именно так я себя и чувствую…
— Если ты этого хочешь, то уезжай! — Эдвард рассердился.
— Когда ты приедешь в Нью-Йорк, мы это обсудим.
— Давай лучше сейчас.
— Пока, Эдвард, — раздалось в ответ, и тут же послышались короткие гудки, которые показались особенно противными.
— Пока, Джессика, — бросил он в пустоту.
Эдвард Луис не любил, когда у него что-то не получалось. Похоже, сейчас был именно такой случай. «Именно сейчас, когда мне нужно быть в полной форме», — сердито думал он, сбегая по лестнице. Им овладело какое-то странное, непреодолимое желание скорее уйти. Хотя он знал, что там, в отеле, в своем роскошном люксе, он будет злиться еще больше. Но все-таки какая-то неведомая сила, которой он даже и не пытался найти объяснения, гнала его отсюда.
— Поговорите лучше с моим адвокатом, — на ходу бросил он одному из сотрудников, попытавшемуся что-то сказать. — Кстати, в Токио какой курс акций Морриса?
— Не знаю.
— Как! Токио открылся, между прочим, девятнадцать с половиной минут назад! Как можно быстрее узнайте.
— Хорошо, сэр!
Слуга подал пальто. «Я, может быть, еще сюда вернусь», — утешил сам себя Эдвард и тут же услышал:
— Эдвард!
К нему подходила Сьюзен.
— Сьюзен! — искренне обрадовался он. — Я слышал, что ты вышла замуж?
— Ну да! Я не могла вечно тебя ждать…
Обняв ее и наклонившись совсем близко, он неожиданно для себя спросил:
— Скажи, Сьюзен, когда у тебя был роман, ты говорила с моей секретаршей чаще, чем со мной?
— Она была у меня на свадьбе подружкой невесты.
— Твоему мужу очень повезло, — искренне шепнул он. — Пока! Эта встреча маленькой теплой капелькой согрела душу…
— Он уходит, Эдвард уходит! — жена Филиппа забеспокоилась. Филипп нагнал Эдварда уже во дворе около машин. — Эй, Эдвард, ты куда? — У тебя ключи от машины есть, от твоей? — не ответил на вопрос Эдвард. — А где твой лимузин? — Лимузин там похоронили, его не выгрызешь теперь оттуда, — Эдвард махнул рукой в сторону стоянки, где скопом стояли машины, так как никто не собирался уезжать до окончания приема. Шофер лимузина, принадлежавшего отелю, красноречиво развел руками… — Ну ладно, — вынужден был согласиться Филипп, видя, что его друг уже сидит в машине. — Только знай, ты несколько взволнован… Э… Эдвард, а ты вообще знаешь эту машину? Это совсем новая машина, будь с ней поаккуратнее, она совсем новая, слышишь? Машина нервно рванулась вперед и тут же остановилась. Филипп увидел, как Эдвард без разбору дергает за все ручки. «Дело плохо», — похолодел он. — Эдвард, ради Бога, умоляю тебя, ничего с ней не сделай! Я люблю эту машину! Куда ты едешь, тебе же в другую сторону! Но последних слов Эдвард уже не слышал. Его машина неслась к городу, все ближе к сияющим огням, мимо холма, на котором огромными буквами, видными отовсюду, горела надпись ГОЛЛИВУД.
На улицы Лос-Анджелеса опускались сумерки. Вернее было бы сказать — над Лос-Анджелесом загорались сумерки, потому что как только начинало слегка темнеть — миллиарды немыслимо красивых рекламных огней загорались с неистовой силой. Наступало время праздности и любви. В маленькой захламленной квартирке зазвенел будильник. Стрелки показывали без пяти девять. Пора… Нельзя сказать, что обладательница симпатичной попки и роскошных ног встала с постели с неудовольствием. Вид у нее был скорее деловой. Привычно взглянув на стену, на которой кнопками были приколоты несколько странных фотографий: у всех тех, к кому прижималась симпатичная обладательница стройных ножек, безжалостной рукой были отрезаны головы — впрочем, на это, наверное, были свои причины, — девушка начала одеваться. Одежда была сведена к минимуму — чтобы все достоинства были видны сразу. Деловито подкрасив черным фломастером вытертые места на сапогах, девушка натянула их на свои длиннющие ноги, а молнию на одном из них, чтобы не открывалась, прихватила булавкой — так надежнее. Теперь — легкую красную куртку, любимую игриво-вызывающую кепочку, духи — и в путь… Только выйдя за дверь, она услышала внизу громкую перебранку. Хозяин требовал плату за квартиру. «Нужно заплатить», — подумала она с неохотой и вернулась в квартиру. В туалете, под крышкой бачка — от воров подальше — была спрятана мыльница с деньгами. Она открыла ее и увидела только одну бумажку… «Ах, негодяйка подлая», — без особой злобы подумала она и крадучись снова вышла из квартиры. Теперь быстро к черному ходу, по давно отработанному маршруту: окно, пожарная лестница, грязный двор, теперь за угол — и спокойным широким шагом с вызывающей статью девушка вышла на Голливудский бульвар. — Добро пожаловать в Голливуд! Все стремятся в Голливуд, чтобы найти свою мечту! Какая у вас мечта у всех? Эй, мистер, у тебя какая мечта? — приставал к прохожим пьяный негр… — Что случилось? — Девушку убили… — А что с ней? — Да кокаин, Господи, такие быстро умирают. С кем-то не поладила, ее и пришили… Услышав это, она тоже подошла посмотреть. Это не прибавило настроения. Девушку она не знала, но от всего этого повеяло такой безысходностью, что защемило сердце. Скорей, скорей отсюда. Уже совсем без злобы и обиды, а просто чтобы выяснить отношения, она зашла в клуб «Голубой банан». — Эй, дедусь, Кит здесь? — обратилась она к гардеробщику. — Наверху, в бильярдной. Наверху было еще страшнее и грязнее, чем внизу. Дым и угар стоял такой, что она с трудом разглядела подружку. — Вивьен! — Кит была уже прилично пьяна. — Карлос, познакомься, это Вивьен, — представила она подружку. — Ты куда наши деньги потратила? — укоризненно спросила, вернее прокричала, пытаясь пробиться сквозь грохот музыки, Вивьен. Кит почти не смутилась, так, чуть-чуть: — Он мне предложил… Я ему была должна… — Нам же за квартиру платить… — уже тихо, почти только на какую-то секунду отчаявшись, проговорила Вивьен. — Подумаешь, что такое двести долларов, — попыталась оправдаться Кит. — Двести долларов? — заинтересовался Карлос. — Вивьен, ты можешь отработать у меня двести долларов, если захочешь. «Ну это уж слишком», — подумала Кит. — Нет-нет, спасибо, очень приятное предложение, но не сейчас, — заторопилась Кит, уводя подружку подальше от греха. Они спустились из бильярдной и остановились у дверей бара. — Значит, я спала, а ты все деньги утащила, — попыталась снова рассердиться Вивьен. — Но это моя квартира, между прочим. — Да, но платить-то надо… — Я тебе деньги дала, квартиру, предложила неплохую работу, — Кит деловито набирала на бумажную тарелку закуску, выставленную на стойку. — Должна же я была долг отдать! И не лезь ко мне! — Там девицу убили… — без всякой связи сказала Вивьен. Инцидент был исчерпан, ссориться было совсем ни к чему. — Я знаю, тощая Мария, — просто ответила Кит. — Она так накурилась, что ничего не соображала. Привычная тоска сжала душу. Последнее время все чаще Вивьен заставляла себя ни о чем таком не думать. И все-таки поддавшись на этот раз, спросила: — Неужели ты не хочешь выбраться отсюда? — Выбраться куда? — вспылила Кит. — И чего это ты хочешь выбираться, мать твою, — суровым голосом добавила она и твердо велела: — Пойдем!..
Голливудский бульвар блистал как всегда. Кит и Вивьен подошли к магазину. Здесь начинались их владения. Издавна повелось, что границей являлись — знаменитая достопримечательность Голливудского бульвара — звезды с именами великих актеров на асфальте. Под деревом, напротив магазина, уже стояла блондинка в клетчатом платье. — Эй, ты Ритчел? — с вызовом прокричала Кит. — Да. — Вот видишь эти звездочки на асфальте? — Кит указала себе под ноги. — Мы работаем тут с Вивьен. Братья Рис тоже наши, — указала она на следующую звезду на тротуаре. — Мы работаем до угла, это наша территория, понятно? Лучше убирайся отсюда! — Я решила тут отдохнуть! — с вызовом ответила блондинка. — К тому же она новенькая. — А я старенькая! — Кит ни на секунду не позволяла усомниться в своем праве. — Так что давай отсюда… — Ты становишься занудой, — уже уходя и почти миролюбиво сказала блондинка. Кит огорчилась. — Правда, я зануда? — Да, — сказала Вивьен. И тут же, смягчившись, добавила: — Иногда. — Это потому что я есть хочу, — тут же нашла себе оправдание Кит. Она была невысокой, хорошо сложенной, с приятными большими живыми глазами. И чувствовала себя в жизни вполне на месте. — Мы можем пойти перекусить, — с готовностью предложила Вивьен, чтобы только не стоять вот так. — Эй, миленький! — Кит в это время уже окликала каких-то парней в автомобиле. — Девочки, а в честь дня рождения бесплатно нельзя? — отозвались они. Кит тут же потеряла к ним интерес. — Катись отсюда! Размечтался! — парировала она. И затеребила Вивьен. — Слушай, может, тебе взять сутенера? Ты Карлосу очень понравилась. — Чтобы он забрал наши деньги и командовал нашими жизнями? — Ты права. Мы все-таки решаем сами за себя: где, когда и сколько. — Как тебе моя прическа? — спросила Вивьен, чтобы поддержать разговор. Кит еще раз внимательно оглядела Вивьен. Высокая, тоненькая, ярко накрашенные красивые губы, белые зубы в лучезарной улыбке, глаза немного грустные — это у нее бывает. И прическа что надо — светлые, чуть выше плечей, по кругу подстриженные волосы и длинная, до бровей, челка. — Прекрасно, замечательно, — искренне ответила Кит. — Ой, да ты посмотри, — тут же, без перехода, засмеялась она, глядя на дорогу. Вивьен тоже посмотрела туда. Шикарная спортивная машина какими-то странными то ли рывками, то ли прыжками продвигалась в их сторону. Проехав таким образом еще несколько метров, она остановилась. — Это не его машина, уж точно, — со знанием дела отметила Кит. — Ну, иди к нему, — благословила она Вивьен, — ты ему обязательно понравишься. Скажешь сто, не меньше. Сотня, поняла? Вивьен, приосанившись, сняла куртку и широким шагом направилась к машине. — Работай милая, работай… — уже вслед напутствовала Кит подругу.
День явно не складывался. Эдвард Луис понял это. Вот уже почти час какая-то неведомая сила водила его по городу, а он все не мог найти отель. Да, в лимузине с шофером все значительно проще. И машина Филиппа какая-то странная. Где в ней что — никак толком не разобраться. — Сейчас, сейчас, где эта чертова первая скорость, — бормотал он. Машин стояла около какого-то магазина. Переключатель скорости не поддавался, и Эдвард начал потихоньку свирепеть… — Слушай, тебе девушка не нужна? Эдвард даже не сразу сообразил, о чем идет речь. — Нет, я только хочу найти Беверли-Хиллз. Вы можете мне помочь? — Конечно. За пять долларов. — Это глупо, — даже не рассердился Эдвард. — Тогда за десять. — Вы не можете взять с меня за то, что укажете, где Беверли-Хиллз. — Что хочу, то и делаю… «Почти как я», — мелькнуло у Эдварда. — Это моя игра, и ты проиграл. «Забавная», — машинально подумал он. — Хорошо, хорошо. Я проиграл, ты выиграла… — Эдварду хотелось скорей добраться до отеля. Вивьен быстро села в машину. Это все-таки лучше, чем торчать около магазина. — Вот тебе двадцатка, — сказал Эдвард, решив проявить щедрость. — За эту двадцатку я тебе покажу, где тут все звезды обедают. — Не надо, в этих барах я уже был. Машина тронулась с места, нервно подпрыгнув. Дальше пошло немного лучше, но Эдвард чувствовал, что с ней нужно быть все время начеку. — Слушай, неплохо было бы фары включить, — напомнила Вивьен. — Ну и машина у тебя… Чудо, а не машина! Твоя? — Нет, не моя. — Угнал? — Ну не совсем… А тебя как зовут? — спросил Эдвард, чтобы переменить тему. — А как ты хочешь, чтобы меня звали? — вызывающе спросила она, но тут же, приветливо улыбнувшись, сказала: — Вивьен. Меня зовут Вивьен. — Мы ищем Беверли-Хиллз, — напомнил Эдвард. — Это там, дальше, — до угла, потом повернуть. Слушай, твоя машина едет будто по рельсам. — Было видно, что ее начинает раздражать такая езда. — Неужели ты не понимаешь, что здесь четыре цилиндра? — Ты разбираешься в машинах? Откуда? «Ишь, какая», — с некоторым удивлением подумал Эдвард. — Дома, где я росла, — Вивьен неопределенно махнула рукой куда-то в сторону, — у нас все парни говорили про «корветы», про «мустанги»… Ну, я слушала внимательно, запомнила. А что, ты сам в машинах не разбираешься? — Моей первой машиной был лимузин… «О черт, где же эта скорость? Металлолом», — пробормотал Эдвард. — Ты сама откуда? — спросил он у Вивьен, почти справившись с управлением. — Из Джорджии… Эй, послушай, ты, кажется, там что-то потерял на дороге. Эдварду надоело бороться с автомобилем. — Может, ты за руль сядешь? — предложил он. — Шутишь? — не поверила Вивьен. — Давай я остановлю машину, а ты сядешь. Только так, во всяком случае, ты сможешь слезть с моего пальто, пока совсем его не измяла, — пошутил Эдвард. Они поменялись местами, и Вивьен села за руль. — Ремень пристегни, — напомнила она Эдварду. — Сейчас покажу тебе, на что эта машина способна. Готов? — лихо спросила она как заправский водитель. — Готов, — отозвался Эдвард. Из-под колес рванувшей с места машины повалил дым. Вивьен, неожиданно оказавшись при деле и даже ощутив свою значимость, разглагольствовала: — Понимаешь, у этой машины есть педали, они расположены очень близко, это гоночная машина. Педали как будто для женщин, потому что у женщин ноги поменьше. Не считая меня, конечно, — вспомнив о главном, уточнила она. — У меня девятый размер. «Это же надо, оказывается, и тут есть размер», — удивился Эдвард. Только сейчас, оказавшись в привычной для себя роли и на привычном для себя месте, он понял весь комизм своего положения. Его, Эдварда Луиса, везет в отель проститутка! «А она ничего, даже милашка. И улыбка такая хорошая, искренняя. И глаза… Интересно, сколько они зарабатывают?»— Этого он не знал. — Много вы теперь зарабатываете? — Эдвард замялся, не зная, как ее назвать. — Ну… девушки? — Да сотню… — Вивьен была полностью поглощена важностью своего дела. — За ночь? — За час. Инструкции Кит нужно было соблюдать твердо. — За час?! Сто долларов за час?! — ахнул Эдвард. — И при таких деньгах у тебя сапоги застегиваются на булавку? — съязвил он. — Ты шутишь… — Я не шучу, когда разговор о деньгах. — Сто долларов за час! Это круто… — все еще поражался Эдвард. Вивьен вернулась к действительности. Она протянула руку и потрогала у Эдварда то, что нужно. — Нет, еще не совсем круто, — с профессиональной интонацией сказала она. — Но потенциал чувствуется. Эдвард даже слегка смутился.
Отель оказался совсем недалеко. Это было роскошное здание в старом стиле и со старыми правилами — только для очень порядочных и очень богатых. Когда спортивная машина Филиппа с шиком подкатила к дверям отеля, тут же рядом оказался швейцар, ловко открыл дверцу и учтиво произнес: — Добрый вечер, мистер Луис! Вам сегодня машина еще понадобится? — Надеюсь, что нет, — ответил Эдвард выходя. Вышла из машины и Вивьен. Вид шофера, доставившего к отелю мистера Луиса, потряс швейцара. «Что хотят, то и делают», — тем не менее без эмоций подумал он. — Ну вот, приехали. — Вивьен была здорово смущена. Тут она почти никогда не бывала, во всяком случае зайти в отель ей никогда и в голову не приходило. Сейчас она думала лишь об одном — как бы поскорее уйти. Но почему-то хотелось сказать этому парню что-то хорошее. Однако она не находила слов. — У тебя все будет в порядке? — спросил Эдвард. Ему нравилась эта забавная Вивьен. — Да. На двадцатку возьму такси — и обратно. — И поедешь обратно на работу, в контору? — еще недоговорив, Эдвард понял, что сморозил глупость. — Да, в мою контору, — как-то сразу расслабившись засмеялась Вивьен. Все стало на свои места. Каждый остался при своем. — Спасибо, что подбросила. — Эдвард не мог понять, что удерживает его на месте, почему он тут стоит и ведет этот глупый разговор. — Пока… — уже через плечо бросила Вивьен. — До свидания. Рядом с отелем была автобусная остановка. Не оглядываясь, Вивьен пошла туда. Села на спинку скамейки в ожидании автобуса. Мысли ее были уже далеко отсюда. Во всяком случае, она уже не думала про это приключение. И первая двадцатка была в кармане… Швейцар с любопытством выглянул на улицу. Мистер Луис все еще стоял у входа в отель и смотрел на проститутку, с которой приехал. «Все, сейчас в номер. Наконец-то», — подумал Эдвард, продолжая стоять и смотреть, как уходит Вивьен. «Ноги у нее — действительно девятый размер», — отметил он и порадовался своим новым знаниям. Эдвард видел, что Вивьен уже не думает о нем, и это его даже как-то обижало. «А что если…»— мелькнула мысль, и он обрадовался ей, как будто ждал от кого-то этой подсказки. «Действительно… она забавная… а в номере можно выпить шампанского, небось такого она никогда и не пила… Ишь, пошла, даже не попытавшись заработать свою сотню… И вообще, как просто с ней — никаких обязательств, объяснений, разборок… А интересно, как отреагирует вся эта добропорядочная публика отеля на такую девицу… Эдвард Луис может делать все, что он хочет, даже то, что для всех запрещено… Вот и сделаю для девочки приключение…» В одном только не признавался себе Эдвард — что Вивьен ему просто понравилась… — Что, такси нет? — спросил он, подойдя к Вивьен. — Нет, мне больше автобус нравится. — Знаешь, я подумал… Правда, сто долларов за час, да? — еще раз как бы уточнил Эдвард. — Да! — твердо ответила Вивьен, не ожидая никакого продолжения. — У тебя нет никаких планов? — просто сказал Эдвард. — Я буду тебе очень признателен, если ты проводишь меня в гостиницу… — Договорились, — легко согласилась Вивьен, тут же привычно включившись в новую ситуацию. — Тебя как зовут? — Эдвард. — Здорово! — Вивьен фамильярно подтолкнула его плечом и радостно соврала: — Это мое самое любимое во всем мире имя! — Да не может быть! — Эдварду стало легко и весело. «Отлично, что это пришло мне в голову», — подумал он. — Надень вот это, — подал он Вивьен свой плащ. — Зачем? — Ну понимаешь, в таком отеле не сдают номера на час… Вивьен немного растерялась. «А, черт с этими отелями…» — подумала она. Но покорно надела плащ и широким шагом, стараясь казаться независимой и бывалой, пошла за Эдвардом. Шик огромного холла потряс ее. — Просто усраться! — искренне восхитилась Вивьен во весь голос. Швейцары, девушки за конторками, мальчики-носильщики, богатые господа, отдыхающие в креслах, элегантные дамы, оказавшиеся поблизости — словом, все, кто был в это время в холле, — замерли. — Все в порядке! — успокоил их всех сразу Эдвард. — Все будет нормально, — он повернулся к смутившейся Вивьен. — Пошли со мной. И перестань дергаться! — приказал он. Вивьен, прислонившись плечом к стене около стойки администратора, старалась выглядеть уверенно. Украдкой оглядевшись, она быстренько сняла с головы свою фривольную кепочку — «Так спокойнее будет», — подумала она. Эдвард разговаривал с девушкой-администратором: — Мне что-нибудь просили передать? — Да, пожалуйста. — Девушка протянула Эдварду пачку бумаг. — И еще, — продолжал Эдвард, — вы не могли бы прислать в номер шампанское и клубнику. Он не просил, а вежливо приказывал. «С ним не пропадешь», — успокоилась Вивьен, и они пошли к лифту. Около лифта уже стояла пара. Женщина одним неуловимым взглядом сразу определила, кто такая Вивьен. Мужчина же ничего с собой не мог поделать и искренне Вивьен разглядывал. Все это было довольно неприятно. — О, мой дорогой, — противным голосом громко сказала Вивьен, не в силах ничего с собой поделать, — у меня поехала петля на колготках! Она задрала ногу и поставила ее на тумбу около лифта. — О! — жеманно продолжала она, с вызовом глядя на даму. — А у меня колготок-то нет… В это время подошел лифт. Лифтер — молодой парень с хитрой физиономией — посторонился, пропуская Вивьен. — Черт! Тут диван есть! — крикнула Вивьен из лифта. — На двоих места хватит, давай! Эдварда эта выходка — а он был уверен, что Вивьен так вела себя нарочно — совершенно не смутила. Повернувшись к паре, он показал рукой в сторону лифта и скорее весело, чем извиняясь, сказал: — Первый раз в лифте! Женщина кивнула и показала, что они не поедут. Когда за Эдвардом закрылись зеркальные дверцы, она с некоторой долей презрения сказала мужу: — Дорогой! Закрой рот…
— Извини, я ничего не могла с собой поделать, — чувствуя неловкость за свою выходку, сказала Вивьен. — А ты постарайся в следующий раз! — беззлобно отозвался Эдвард. «Смешная», — подумал он. — Ваш этаж. Номер люкс, — стараясь сделать безразличное лицо сказал лифтер. Сценка несказанно развлекла его. Ведь такого здесь никогда не бывает. — Номер люкс? — переспросила Вивьен восхищенно. — Налево, — скомандовал Эдвард, перехватив любопытный взгляд лифтера. Физиономия лифтера снова стала каменной, и дверцы лифта тотчас закрылись. Некоторое время пришлось повозиться с замком. — Ох, эти современные ключи! — сердился Эдвард, вставляя плоскую пластинку в щелку замка. Наконец дверь поддалась, и они вошли в номер. Номер на самом верху, который занимал Эдвард, был лучшим люксом в отеле. Огромный холл с большим балконом, с которого открывался потрясающий вид на город, большая спальня, ванная с бассейном и что-то там еще, и еще что-то… Эдварду было приятно видеть изумление Вивьен. — Ну как, производит впечатление? — спросил он с улыбкой. — Ты что, шутишь, — как можно безразличнее пробормотала Вивьен. — Я часто здесь бываю. Такие номера, конечно, сдают по часам. — Ну конечно сдают, — иронично заметил Эдвард, усаживаясь за письменный стол и начиная разбирать бумаги. — Черт! Какой вид! — услышал он голос Вивьен с балкона. — Отсюда даже, наверное, океан виден, — предположила она восхищенно, возвращаясь в комнату. — Не знаю. Готов тебе поверить. — Эдвард углубился в бумаги. — Никогда на балконе не был. У меня боязнь высоты, — уточнил он, оторвавшись от чтения. Вивьен бродила по комнате, рассматривая внимательно все вокруг. — А чего ж ты живешь на самом верху? — спросила она для поддержания разговора. — Это самый лучший номер. Я хотел найти такой номер на первом этаже, но не смог. Вивьен вспомнила, зачем она пришла. — Ну вот ты затащил меня сюда, и что же ты собираешься со мной делать? — игриво спросила она, усаживаясь напротив. Вопрос поверг Эдварда в смятение. Он и забыл об этом. Ему было хорошо, просто, весело — вот и все. — Честно говоря, — искренне сказал он, — понятия не имею. Я это как-то не планировал. — А ты в жизни все планируешь? — с уважением спросила Вивьен. — Всегда. — Я тоже, — так же искренне сказала Вивьен. И в ту же секунду вспомнила, что говорила в таких случаях Кит и чему ее учила. Она приняла бывалый разбитной вид и развязно сказала: — Хотя нет, я не всегда планирую. Я такой человек, — понимаешь? — куда меня потащит моя задница, туда я и волокусь. Вспомнив Кит, она вспомнила о деньгах. Этому тоже учила Кит: неизвестно, как сложится обстановка, — деньги вперед. — Ты знаешь, ты можешь мне заплатить, и это, может быть, облегчит обстановку. — Ах да, прости, — в самом деле с облегчением сказал Эдвард. — Очевидно, наличными? — предположил он. — Наличными — гениально, — сказала Вивьен. Она подошла к столу и села прямо на бумаги. — Ты села на мой факс, — мягко заметил Эдвард. — А-а-а, так вот что у меня под задницей, — игриво ответила Вивьен, слегка приподнимаясь. «Здорово сыграно», — подумал Эдвард и вслух сказал: — Здорово! — Ладно! — Вивьен решила взять события в свои руки. Она расстегнула сапог и достала из него несколько презервативов. — Выбирай, — протянула она их веером Эдварду. — Есть красный, зеленый, желтый и вот — показала круглый, завернутый в желтую фольгу — этот — как золотая медаль, только для чемпионов. Даже если захочешь, не лопнет. Эдвард по-настоящему смутился. — Ты любишь безопасность? — чтобы что-то сказать, спросил он. — Да, я обожаю безопасность, — ответила Вивьен, не обращая внимание на его замешательство и приступая к делу. — Давай снимем… Она взялась за его брюки. — Нет-нет, — поспешно сказал Эдвард. — Давай сначала поговорим. — Поговорим… — немного недоуменно повторила Вивьен. «Чудной», — подумала она про себя. — Да. Хорошо. Она начала разговор: — Эдвард, ты в город приехал по делам или повеселиться? — По делам, наверное. Эдварду снова стало легко и весело, и интересно. Он ничуть не жалел, что притащил сюда эту смешную девчонку. — По делам, наверное… — повторила за ним эхом Вивьен. Эдвард снял пиджак, сел в кресло и вытянул ноги. Ему почему-то было хорошо. Вивьен села напротив, готовая поговорить. — Ну вот. Сейчас я угадаю… Ты, наверное, адвокат. — Почему ты думаешь, что я адвокат? — Понимаешь, у тебя такой острый взгляд… — Она еще раз удостоверилась, заглянув ему в глаза. — Ты, в общем, похож на адвоката, — завершила она свое психологическое исследование. — Наверное, ты много знала адвокатов? — с нетактичным любопытством спросил Эдвард. — Я всех знала, — философски заметила Вивьен. Раздался резкий звонок в дверь. Вивьен и Эдвард от неожиданности вскочили. В глазах у Вивьен мелькнул привычный испуг, а Эдвард в ту же секунду вспомнил: «Шампанское…» и внутренне рассмеялся тому, что в первую секунду тоже испугался — в своем-то номере! — Что это? — прошептала Вивьен. — Шампанское… — прошептал ей в ответ Эдвард, сдерживая смех. — А-а-а! Пригодится, бери побольше! Вивьен почувствовала себя хозяйкой и широким уверенным шагом направилась к двери. «Сейчас остолбенеет», — поспорил сам с собой Эдвард, представляя официанта. Эдвард выиграл. Официант, увидев Вивьен, не смог совладать с любопытством. И хотя он сдерживался изо всех сил, не мог оторвать от нее глаз. — Добрый вечер, — как можно более безразлично приветствовал их официант. — Привет! Вивьен чувствовала себя как дома, и Эдварду это, между прочим, нравилось. — Куда это? — спросил официант. — Куда это? — с достоинством переспросила Вивьен у Эдварда. — Туда, к бару, — посоветовал он. — Я запишу это на ваш счет, мистер Луис, — сказал официант и выжидательно посмотрел на Вивьен. Вивьен снова испугалась. — Чего ты смотришь? — спросила она с вызовом. — Чего он смотрит? — уже более неуверенно повернулась она к Эдварду. Эдвард достал деньги и подал официанту. — Спасибо, мистер Луис! — Официант тотчас ушел. — Чаевые… — сказала Вивьен не растерявшись, но как бы внутренне себя укоряя. — Да. Это я забыла. Эдвард понял, о чем она подумала. Его самого, кстати, совсем не раздражало ее желание чувствовать себя хозяйкой. В этом было даже что-то трогательное… — Не волнуйся! — сказал он. Вивьен и не волновалась. Некогда размышлять над ошибками — время, оплаченное Эдвардом, бежало слишком быстро… «Так. На чем остановились? А-а — поговорить…» Вивьен решила совместить несколько этапов. — Ты не против, если я сниму сапоги? — спросила она. И тут же, не дожидаясь ответа, уселась на пол и стала стягивать сапоги. При этом она продолжала прерванный разговор: — У тебя есть жена, девушка? — И то и другое. Эдвард стоял около бара и открывал шампанское. «Да, неплохой праздник устроил я девочке. Уж такого шампанского она никогда не увидит…» — поймал он себя на этой мысли, и опять это было ему приятно. — И где они сейчас? — продолжала разговор Вивьен. — Вместе пошли в магазин? — Она игриво улыбнулась. Эдвард наливал в бокал шампанское. — Моя бывшая жена, — сделал он ударение на слове «бывшая», — сейчас в моем бывшем доме на Лонг-Айленде, с моей бывшей собакой. Он подал бокал Вивьен и на секунду отвернулся, чтобы взять клубнику. — Моя бывшая девушка Джессика в Нью-Йорке и сейчас выезжает из нашей квартиры. Он повернулся к Вивьен и увидел, что она допивает последний глоток. «О Боже! Шампанское — залпом… Кошмар!»— ахнул Эдвард. Вивьен даже не обратила внимания на его ироничный взгляд — время, время уходило, а она не привыкла брать деньги даром. — Попробуй клубнику, — предложил Эдвард. «Нарочно он, что ли?!» — Зачем? — простодушно спросила Вивьен. — Клубника подчеркивает вкус шампанского, — поделился своими познаниями тонкостей пития Эдвард. — Да? Вивьен взяла клубничку и как можно элегантнее откусила кусочек. — Ну а ты пить не будешь? — Нет, — ответил Эдвард и присел на стул около столика, внимательно разглядывая Вивьен. Удивительно, но вот уже почти час ему было хорошо. Просто хорошо. Присутствие этой забавной, невоспитанной, искренней и незамысловатой девчонки было ему приятно. И самое странное — ему захотелось остановить время. — Послушай, — начала неуверенно Вивьен, подбирая слова, — большое спасибо за все эти соблазны… Я хочу… немножечко намекнуть тебе… Знаешь, я ведь получила только за час… Давай действовать, — как можно элегантнее попыталась выразиться она, учитывая обстановку. — Давай начинать… — Самое главное — это расписание, — досадливо воскликнул Эдвард. — Час, час… — передразнил он Вивьен. И вдруг неожиданно для себя предложил: — Слушай, а сколько за всю ночь? — Чтобы я осталась здесь? От неожиданности Вивьен даже не обрадовалась, а испугалась. Инструкции Кит касались только одного часа, других вариантов они не обсуждали, а такого, как Эдвард, у Вивьен еще не было. — Тебе это не по карману, — сказала она, чтобы как-то сосредоточиться. Эдвард точно понял причину ее смятения и включился в игру: — Давай попробуем… — Триста! — выпалила Вивьен. — Согласен! — моментально согласился Эдвард. — Спасибо, — печально отозвалась Вивьен, глубоко сожалея, что не попросила больше. — Теперь мы можем не спешить. Эдвард вновь ощутил какую-то давно забытую легкость. Ему было спокойно и весело, и он — удивительно! — нравился сам себе и был доволен собой. Роль этакого Санта-Клауса была ему приятна. Теперь можно было не торопиться. Вивьен с удовольствием выпила еще шампанского, съела клубнику. Чудесно! Несколько зернышек от клубники застряли в зубах. Это было как-то неприятно, и Вивьен направилась в ванную. Она достала нитку для чистки зубов и, прикрывая дверь в ванную, крикнула Эдварду: — Я сейчас выйду! Это шампанское, немножечко… ты сам понимаешь… Она почему-то стеснялась ковырять в зубах при ком-либо. Этот процесс казался ей очень интимным и постыдным… Вдруг в зеркале она увидела Эдварда. — Что ты сказала? — Я сказала, что сейчас выйду, — поспешно сказала Вивьен, пряча футлярчик с ниткой за спину. Это движение не ускользнуло от Эдварда. — Что у тебя за спиной? — гадкая догадка мелькнула у него в голове. «Чем может заниматься такая девица в ванной?!» — Ничего, — с вызовом ответила Вивьен. Эдвард разозлился. — Ладно, мне не нужны здесь никакие наркотики! Забирай свои вещи — и уходи! — Я не принимаю наркотики и никогда не принимала! — воскликнула Вивьен, не понимая причину его гнева. — А это что такое? — возмущенно воскликнул он, разжимая ее руку, и увидел футлярчик и нитку для чистки зубов. — Это нитка для чистки зубов, — сказал он как бы сам себе. Ему стало стыдно, по-настоящему стыдно. Ведь если бы здесь была какая-то другая женщина, он никогда бы не побежал за ней в ванную. — У меня от клубники там застряло, — объясняла в это время Вивьен. — Ты знаешь, десна, зубы — это такая вещь… — Пожалуйста, продолжай! — смущенно сказал Эдвард, продолжая стоять в дверях. Вивьен вновь взялась за нитку, но засмущалась. — Ты собираешься смотреть? Эдвард был поражен ее смущением. Если учесть ее профессию, то такая стыдливость была удивительной. — Ты собираешься смотреть? — переспросила Вивьен. — Нет. — Спасибо. — Просто люди часто удивляют меня, — сказал Эдвард. Похоже, что он имел в виду и Вивьен, и себя. — Тебе повезло. Меня уже давно ничего не удивляет, — философски заметила Вивьен. — Ты смотришь… — напомнила она. — Я ухожу. Дверь в ванную закрылась.
Прошло два часа. Эдвард сидел за письменным столом и разговаривал по телефону: — …все равно мне нужны эти данные… Так, из Лондона… Сейчас из Токио запишу… Хорошо. Спасибо… Машинально он наблюдал за Вивьен, которая совсем успокоилась и расслабилась. Она как ребенок радовалась неожиданно обретенному дому и чувствовала себя совершенно свободно. На полу, посреди комнаты, она устроила маленький пикник — шампанское, фрукты. По телевизору показывали глупый скетч, который несказанно веселил ее. — Ты точно не хочешь выпить и устроить здесь пикник и для себя? — спросила она. — Нет. Я пьянею от жизни… — Эдвард сказал сущую правду. Бизнес, которым он занимался, был трудным и рискованным, требовал знаний и твердости характера. Он считал, что держит вожжи в руках. Так, в общем-то, и было. Что касается радости и свободы… Вот сейчас, глядя на эту смешную девицу, он увидел… он увидел, что так легко себя чувствовать, так радоваться — именно этой минуте, этому вечеру — он не может. Она в чем-то была свободнее его. Вивьен развалилась на полу, подперев голову руками, и хохотала, глядя телевизор. — Я эту серию никогда не видела, — весело прокомментировала она. Эдвард пересел на диван поближе, продолжая разглядывать Вивьен. Она уловила его взгляд и повернула к нему разгоряченное лицо. Ее большие темные глаза блестели радостью. Он увидел в ней женщину. Вивьен моментально почувствовала изменение в его взгляде. Он ей нравился, и ей было приятно, что он именно так на нее смотрит. Она подошла к дивану и стала медленно снимать с себя малюсенький костюмчик, который едва прикрывал тело. Эдвард сидел не двигаясь. И в том, как он замер под ее руками, любопытства от первой встречи с настоящей проституткой было гораздо меньше, чем просто желания. — Что ты хочешь? — спросила Вивьен, расстегивая на нем рубашку. — А что ты можешь? — вопросом на вопрос ответил Эдвард. — Все. Только не целуюсь в губы. — Я тоже не целуюсь в губы… На другие слова уже не было времени.
Когда Эдвард вышел из душа, Вивьен уже спала. Тихо подошел он к креслу, на котором оставил часы. Рядом, на кресле, валялись вещи Вивьен, а на ручке кресла он увидел… волосы: светлые, по кругу стриженные, с длинной челкой. Эдвард от неожиданности вздрогнул и повернулся к кровати — Вивьен спала, разметав по подушке пушистые рыжие волосы. Сейчас, без парика, она выглядела по-настоящему беззащитной и трогательной. Он вышел из спальни, зажег настольную лампу и взялся наконец за бумаги. Была уже глубокая ночь.
Утро началось с привычной суеты. Официант расставлял в номере на столе завтрак, принесенный из ресторана, а Эдвард в халате и с трубкой радиотелефона возле уха ходил по номеру и разговаривал с Филом Стаки — своим адвокатом: — Да-да. Он давно уже управлял своей компанией. Теперь он уже забыл про все это. Он хочет с тобой встретиться… — Как всегда, жизнерадостный Фил сидел у себя в офисе, готовый давать советы. — Сегодня вечером, — ответил Эдвард. — Я бы не согласился. — Сегодня вечером — ужин, — твердо повторил Эдвард. — Нет-нет, по моему это не очень хорошая мысль, — попытался убедить Эдварда Филипп. — Он такой крепкий старик. — По его виду не скажешь. И потом, это может быть все и не так, поэтому мне это все так и нравится. Да, кстати, о твоей машине, — сказал, вдруг чему-то улыбнувшись, Эдвард. — О Боже мой, что?! — ахнул Филипп. — Ты знаешь, на ней как будто по рельсам едешь. — Что? — не понял Фил. — Привет, — сказал Эдвард и положил трубку. В дверях спальни показалась Вивьен в белом махровом халате. Рыжие волосы были растрепаны, но с такой прической она выглядела очень милой. — Доброе утро! — сказала Вивьен. Эдвард посмотрел на нее и улыбнулся. — Я рыжая, — констатировала очевидный факт Вивьен. — Так намного лучше, — похвалил Эдвард. Вивьен увидела разложенные на столе бумаги, газеты. — Ты меня не разбудил, — оправдываясь сказала она. — Ты очень занят… Если хочешь, я сейчас умотаю. — Торопиться некуда, — так же просто ответил Эдвард. — Ты есть хочешь? Садись, поешь. Я заказал все, что есть в меню, не знал, что тебе понравиться. — Спасибо, — сказала Вивьен. Она подошла к столу. Эдвард открыл все судки, предлагая еду на выбор. Вивьен взяла булку. — Ты хорошо спала? — Очень. Даже забыла, где я, — ответила Вивьен и вышла на балкон. Прогулявшись немного по балкону, она вернулась в комнату, жуя булку. Эдвард просматривал газету. Увидев, что Вивьен его слышит, он необидно сказал: — Вообще-то ты по ночам спишь редко, у тебя профессия такая… — Да. Это была правда, поэтому его слова совершенно не тронули Вивьен, и она пропустила их мимо ушей. — А ты спал? — Да, на диване… немного. Я работал ночью. Вивьен подошла к столу, присела на край рядом с Эдвардом и с некоторым удивлением спросила: — Ты не спишь, не колешься, не пьешь, почти не ешь. А чем ты занимаешься, Эдвард? Я ведь знаю — ты не адвокат. — Я не адвокат, — подтвердил Эдвард. И мягко сказал: — Тут еще четыре кресла. Вивьен поняла намек, слезла со стола и села поджав ногу на стул рядом. Откусив еще кусочек булки, она вновь спросила: — Так чем же ты занимаешься? — Я покупаю компании. — Какие компании? — заинтересовалась Вивьен. — Я покупаю компании, у которых сейчас финансовые трудности. — Наверное, по дешевке? — проявила она свои познания в бизнесе. — Ну как тебе сказать… Вот как раз сейчас я хочу купить по дешевке за миллиард. — За миллиард? — поразилась Вивьен. — Да, — сказал Эдвард и почувствовал, что ему приятно рассказывать о своих делах, приятно видеть восхищение в ее глазах. — Надо же! Ты, наверное, очень умный, — без тени зависти сказала Вивьен. — А я вот даже школу не кончила. Ты, небось, всю школу кончил? — Да, всю, — ответил Эдвард, улыбнувшись такому определению степени образования. — Наверное, твои родители тобой очень гордятся, — высказала Вивьен высшую похвалу, которую знала. Эти слова Эдвард оставил без ответа… Одевшись, Эдвард возился с галстуком. «Даже у самых умных могут быть такие глупые проблемы — завязывание галстуков, например», — думал он. Подошла Вивьен и стала помогать ему. Делала она это просто и элегантно. — У тебя на самом деле есть миллиард долларов? — спросила она. Было видно, что разговор о миллиарде потряс ее воображение. — Нет. Мне придется взять взаймы у банка, у какого-нибудь финансиста. — И ты ничего не делаешь? — Да. — И ничего не строишь? — Да. — А купив, что с ними делаешь? — Продаю. — Продаешь? — удивилась Вивьен. — Да. Я не продаю целиком компанию, а разбиваю ее на кусочки и получается больше, чем одна компания. — Ну, это все равно что крадешь машину и продаешь ее на запчасти, — с большим знанием такого рода операций сказала Вивьен. Ее сообразительность очень удивила Эдварда. Главное, что по сути дела она была права. — Ну да. В общем-то да… Только то, что я делаю, — в рамках закона. Ему нравилась беседа. Он даже удивился про себя, что с интересом обсуждает свои дела. Чужое искреннее внимание, оказывается, неплохая штука. Вивьен закончила возиться с галстуком и удовлетворенно оглядела свою работу: — Это другое дело! — Неплохо — одобрил Эдвард. — Где ты этому научилась? — Знаешь, в школе… я там трахалась с одним, — дурашливым голосом начала Вивьен. — Да ладно, перестань! — прервал ее Эдвард. — У меня был дедушка. Он научил меня галстуки завязывать, — теперь серьезно сказала Вивьен. Она подала Эдварду пиджак. Все это она делала так естественно и просто, будто всегда провожала его на работу. Эдвард это отметил. И отметил еще одно, удивительное для себя — он гнал мысль, что ему жаль расставаться с Вивьен. Лучше и проще, чем в эти несколько часов, ему давно не было. — Я могу принять ванну, ты не против? — Вивьен была пока тут. — Да ради Бога. Только оставайся в тени, — зачем-то добавил он. Раздался телефонный звонок. — Алло. Это Фил. Хочу тебе сказать, что мы договорились на сегодня. — Хорошо. — Он будет с внуком, — продолжал Фил. — Он говорит, что хочет, чтобы внук заменил его потом. — А-а-а, да-да-да… Это напряженный молодой человек по имени Дэвид. Играет в поло, — вспомнил Эдвард. И в это время услышал какое-то мяуканье, доносившееся из ванной. С телефонной трубкой в руке, слушая Фила, он подошел к открытой двери. В ванне, полной пены, лежала Вивьен. На голове у нее были наушники, рядом лежал плейер — и она закрыв глаза подпевала кому-то. Делала она это с таким самозабвением, что без улыбки невозможно было смотреть. — Ты слышишь меня? — Фил говорил с чувством. — Я должен тебе повторить — мне не нравится, что ты пойдешь туда один. Будет лучше, если ты возьмешь какую-нибудь девушку. Ну понимаешь, чтобы это не было так официально. Эдвард, ты меня слышишь? — окликнул он Эдварда, не слыша никакой реакции. — О да, слышу. Эдвард с улыбкой смотрел на Вивьен. Ему очень хотелось оставить ее еще на денек, но признаться в этом было очень трудно даже самому себе. — Что ты там говоришь? — Фил услышал в трубке какие-то звуки. — Это у меня тут уборщица поет. — Послушай, Эдвард, — не отставал Фил, — я знаю очень много хороших девушек. За последнее время Эдвард встретил только одну хорошую девушку. И ею была Вивьен. Эдвард все решил в одну секунду. Он почувствовал в себе уверенность сильного человека. Он сам распоряжается своими делами и своей жизнью: компаниями, сотрудниками, женщинами, проститутками… До конца недели у него будет спутницей Вивьен — и никто не посмеет сказать ни единого слова! — Нет, ты не знаешь, — с улыбкой глядя на поющую Вивьен, сказал он Филу. — К тому же девушка у меня уже есть. Ты лучше узнавай про Морриса побольше. Эдвард подошел и сел на край ванны. Вивьен почувствовала его присутствие, открыла глаза и улыбнулась просто и радостно. — Принц! Обалдеть какая музыка! — сообщила она. — Лучше чем жизнь! — в тон ей ответил Эдвард и уже уверенно, как подобает такому крупному человеку, сказал: — Вивьен! У меня есть к тебе деловое предложение. Эта фраза застала Вивьен врасплох. — Что тебе нужно? — Я буду в городе до воскресенья и хочу, чтобы ты провела со мной неделю. — Правда?! У Вивьен от удивления открылись глаза, и улыбка сошла с лица. — Да, — подтвердил Эдвард. — Чтобы ты со мной была как сотрудница. Лицо Вивьен засветилось, глаза засияли каким-то немыслимым светом. На минуту Вивьен забыла обо всем. Перед ней сидел принц из сказочной мечты. Он спустился с небес, красивый, богатый и добрый. Он увидел в ней, несчастной, бедной, брошенной девчонке ее большое сердце, способное на огромную любовь, разглядел под слоем сажи и копоти ее ангельскую красоту — и протянул руку, чтобы она встала рядом. — Ты не против провести со мной неделю? Вивьен даже немного смутилась от торжественности этого сказочного момента… Эдвард увидел это смущение, но понял его по-своему. Он сейчас был миллионером Эдвардом Луисом, который делает только то, что хочет. — Я тебе заплачу, чтобы ты была у меня на побегушках, все время на побегушках… Свет в глаза потух. «Конечно, так не бывает». Но огорчения не было. Слишком часто сказки не сбывались… — Я с удовольствием была бы у тебя на побегушках, но ты такой богатый, что можешь миллион девушек бесплатно найти, — продемонстрировала Вивьен свою щедрость: пусть видит. — Мне нужна профессионалка, у меня нет времени на всякие там романтические бредни. Разговор принял для Вивьен привычный деловой характер. — Если это будет двадцать четыре часа в сутки… Тебе это будет очень дорого стоить! — Ах, да! — Эдвард вспомнил про правила игры. — Ну хорошо, начинаем по новой. Говори, сколько всего? — Шесть полных ночей и дней… Четыре тысячи! — назвала свою цену Вивьен, внутренне ахнув. Сейчас Эдвард был прежде всего бизнесмен. — Шесть ночей — это… — прикинул он, — тысяча восемьсот, ну две тысячи… — Три тысячи, — сбавила первоначальную цену Вивьен. — Договорились! — тотчас согласился Эдвард. Сейчас для него сумма не имела значения. Почему-то ему хотелось, чтобы их отношения были деловыми и честными. Потому что никогда до сих пор с женщинами у него не было этого. — Черт возьми! — восхитилась собой Вивьен и с радостным воплем скрылась под водой. «Три тысячи!!!» От такой реакции ему стало смешно. Наклонившись над пеной, он громко спросил: — Вивьен, это — да? Вынырнув, она радостно заорала: — Да! Да!
Вивьен провожала Эдварда к двери номера. — Меня почти целый день не будет. Купи себе одежду. — Эдвард достал кошелек и протянул Вивьен деньги. — Тебе нужно купить вечернее платье, мы куда-нибудь выйдем. — Какое платье? — Ну знаешь, не совсем чтобы открытое, не очень сексуальное… — Нечто консервативное. — Понимаешь — элегантное… — Скучное… — Вопросы есть? — спросил Эдвард, открывая дверь. — Тебя можно звать Эдди? Это был дополнительный пункт, который следовало обсудить отдельно. — А как я должен тебе отвечать? «Мог бы назвать Вив», — подумала она. А вслух сказала: — За две тысячи я бы осталась. «Тысяча — за Вив», — сразу сообразил Эдвард. — Я бы тебе заплатил четыре тысячи, — не скрывая восхищения от ее хватки, сказал Эдвард. — До вечера! В дверях он еще раз оглянулся. — Тебе будет так хорошо, что тебе не захочется меня отпускать, — пообещала Вивьен. Но хозяином положения сегодня был Эдвард. — Три тысячи. Шесть дней. И я отпущу тебя после этого, Вивьен! Дверь за Эдвардом закрылась. — А началось все с одного часа! Три тысячи долларов! Вивьен подпрыгивала на кровати как девчонка. «Три тысячи долларов — это… это…». Она не могла еще осознать всего, оценить случившееся, но ощутила себя свободной. И тут же вспомнила Кит. Она схватила телефон и набрала номер. После нескольких гудков ответил сонный голос Кит. — Я звонила тебе, звонила весь вечер. Где ты была? — Мама! — спросонья не узнала подругу Кит. — Это Вив! — А, привет! Я была на вечеринке. — Слушай, ты готова меня выслушать? Ну, этот тип… в машине… Я сейчас в его отеле, в Беверли-Хиллз, в люксе! Черт, у него ванная больше, чем наш клуб «Голубой банан»! — И что дальше? — недовольно спросила сонная Кит. — Он хочет, чтобы я была здесь целую неделю. И знаешь, сколько он мне заплатит?! — Вивьен представила, какое сейчас будет лицо у подруги. — Сколько? — Три тысячи долларов, — торжественно произнесла Вивьен. — О черт! Врешь! — восторженно завопила Кит. — Клянусь Богом! И еще деньги на одежду! — Надо же! Я же тебе его подарила. В их деле все — лотерея. И Вивьен вытащила счастливый билет. — Три тысячи! — продолжала Кит. — Он какой-нибудь извращенец? — Нет. — Уродлив? — Симпатяга. — Тогда что с ним не так? — в голосе Кит послышалось сомнение. — Он тебе деньги заплатил? — Нет, он мне в конце недели заплатит. — А… Вот что с ним не так… — Он дал мне триста долларов за ночь. Этих денег хватало заплатить за квартиру, а Вивьен они пока были не нужны. — Слушай, я тебе деньги в гостинице оставлю, запиши адрес. Она продиктовала и, зная безалаберность Кит, сказала еще раз: — Запиши, запиши, а то забудешь. Я тебе оставлю деньги внизу. — Слушай, — вспомнила Вивьен. — Где мне купить одежду? Хорошую… — В Беверли-Хиллз? — Да. — Ну конечно на Родео Драйв, милая, — со знанием дела посоветовала Кит. В вестибюле отеля царило дневное оживление. Здесь были в основном праздные туристы и служащие гостиницы. Вивьен подошла к девушке-администратору и протянула ей конверт. — Я хочу это оставить для Кит Де Лука, — довольно уверенно сказала Вивьен. — Она за этим приедет сюда. Только не открывайте, — строго предупредила она. — Нет, мэм, — слегка опешив ответила девушка. Вивьен, гордая и довольная собой направилась к выходу. Управляющий гостиницей Барни Томпсон с удивлением проводил ее взглядом. — Вы знаете эту даму? — спросил он у администратора. — Нет, сэр! — ответила девушка.
Фешенебельная улица в Беверли-Хиллз встретила Вивьен ярким солнцем и праздным многолюдьем. Для Вивьен все было в диковину — и дневная улица, и богато одетая публика. Впервые она чувствовала себя одной из них. Но любопытные взгляды, которыми провожали ее, говорили о том, что такие как она редко появлялись на этой улице. Вивьен проходила мимо роскошных магазинов. «Шанель», «Гуччи»… — читала она. Сегодня в любой из них она могла зайти. В магазине модной женской одежды было пусто. Элегантные продавщицы занимались каждая своим делом. Появление Вивьен привело их в замешательство. — Я могу вам помочь? — спросила одна из них, обратившись к Вивьен, которая рассматривала платья на стойке. — Я хочу просто посмотреть, — сказала Вивьен. — Вы ищете что-нибудь конкретное? — Нет, — сказала Вивьен. Но тут же, спохватившись, вспомнила рекомендации Эдварда: — Ну да, что-нибудь консервативное. Продавщицы разглядывали Вивьен. Такие клиенты к ним не заходили никогда. — У вас здесь неплохие вещицы, — похвалила Вивьен. — Сколько это стоит? — Я думаю, вам это не подойдет, — высокомерно заметила одна из них. — Я не спрашиваю у вас, подойдет ли это. Я спрашиваю, сколько это стоит, — с вызовом ответила Вивьен. — Сколько, Мэри? — обратилась одна из продавщиц к другой. — Очень дорого, — растягивая слова произнесла Мэри. Почувствовав стену неприязни, Вивьен как бы ощетинилась. — Послушайте, у меня есть деньги, и я хочу их потратить! — Я боюсь, что у нас для вас ничего нет. Вы явно ошиблись адресом. Уходите, пожалуйста!.. Выставляя Вивьен, продавщицы чувствовали свое превосходство. И Вивьен, растерянная и униженная, вышла. Сколько раз вместе с Кит они мечтали о том, что у них будет много денег, которые откроют им все двери. Сейчас, обиженная, она возвращалась в отель.
Управляющий гостиницей поймал ее прямо у входа. — Простите, мисс, я хочу вам помочь. «Еще один…»— подумала Вивьен. — Я иду к себе в номер, — машинально ответила она. — У вас есть ключ? — профессионально вежливо спросил он. — О черт, я забыла эту картонную штуковину, — вспомнила Вивьен. — Я живу на верхнем этаже. — Вы у нас остановились? — все так же вежливо спросил управляющий. — Я с другом, — немного растерялась Вивьен. — А кто ваш друг? — Эдвард… Эдвард… «Как же его зовут?»— от растерянности Вивьен не могла вспомнить. В этом момент из лифта вышел вчерашний знакомый — лифтер. — Он знает меня, — обрадовалась ему Вивьен. — Денис! — подозвал управляющий парня. — У вас только что закончилась ночная смена? Лифтер кивнул. Управляющий, по-отечески застегнув воротничок и поправив ему форму, как бы невзначай спросил: — Вы знаете эту девушку? — Она с мистером Луисом. — Да, да. С мистером Эдвардом Луисом. — Вивьен благодарно хлопнула парня по плечу и быстро зашла в лифт. — Она была с ним ночью, — шепнул управляющему лифтер. Прежде чем закрылась дверь, управляющий уже был рядом с Вивьен и под руку вывел ее из лифта. — О черт! Ну теперь что еще, что?! — возмутилась Вивьен. — Да что с вами со всеми?! — Прошу вас, пройдемте со мной, — по-прежнему вежливо предложил управляющий. Кабинет мистера Томпсона, управляющего гостиницей, выглядел уютным и ухоженным. Поливая цветы и сохраняя видимую бесстрастность, он спросил: — Как вас зовут, мисс? — А как ты хочешь, чтобы меня звали? — не задумываясь, по привычке ответила она. — Девочка, не играй со мной! — строго предупредил Барни. — Вивьен. — Спасибо, Вивьен, — ровно и вежливо поблагодарил управляющий. — То, что происходит в других отелях, в нашем отеле невозможно, — многозначительно продолжал он. — Но мистер Луис — наш особый клиент. Мы его считаем даже не клиентом, а другом. Если бы он был просто клиентом, он должен был бы расписаться за приглашенного гостя. Но так как он наш друг — мы закрываем на это глаза. Вы, очевидно, его… родственница? — подсказал мистер Томпсон. — Родственница… — эхом ответила Вивьен. — Я так и думал. Вы, очевидно, его… — замялся управляющий, подыскивая подходящее слово. — Племянница? — подсказала кротко Вивьен. Барни удовлетвореннокивнул. — Естественно, когда мистер Луис выедет из нашего отеля, мы вас больше не увидим, — по-прежнему ровно продолжал Томпсон. — Я полагаю, у вас других дядей здесь нет? Вивьен покачала головой, и ее глаза наполнились слезами. — Хорошо, значит, мы понимаем друг друга. Барни не испытывал к девушке неприязни, более того, в ней было что-то симпатичное и трогательное, но положение обязывало его вести этот неприятный разговор. — Я хотел бы предложить вам одеться более… как подобает… — Барни не находил подходящего слова. Вивьен не выдержала и расплакалась. Она достала из кармана комок купюр и, показывая их Барни, не понимая, что происходит, проговорила: — Я пыталась купить себе платье, а женщины… женщины… Они мне не помогли! Вот, у меня есть эти деньги, а я не знаю, где купить платье… — всхлипнула Вивьен. — Вы мне не можете помочь — то ли вопросительно, то ли утвердительно сказала она. — Вот эти деньги, мне нужно купить сегодня платье на ужин, но никто, никто не помогает мне! Барни достал носовой платок, протянул его Вивьен, а сам подошел к телефону. — Ну конечно, теперь ты в полицию звонишь, — увидев это и вспомнив рассказы подруг, громко сказала Вивьен. — Звони! Ну конечно! Давай! Звони! Это здорово! Передай им привет от меня! — Пожалуйста, магазин женской одежды, — услышала она ровный голос Барни. — Бриджитт, пожалуйста. Бриджитт, привет! Это Барни Томпсон… Спасибо, что помнишь… У меня есть к тебе просьба. Пожалуйста, будь добра, я сейчас пришлю девушку, ее зовут Вивьен, она… гость в нашем отеле, она племянница нашего гостя, — сделал он многозначительное ударение на слове «гость» и «племянница».
Эдвард Луис был очень хорошо известен в кругах крупных бизнесменов. Несколько удачных дел по покупке больших компаний, удачная реализация задуманных ходов принесли ему, а вместе с ним и его команде, огромную прибыль, которая позволяла все более увеличивать размах дела. Сегодня под прицелом Эдварда была компания старика Морриса. Моррис сопротивлялся. Но было похоже, что ему уже не устоять. Кризис, на пороге которого стояла компания, был реален, а в сложившейся ситуации на чью-то помощь было трудно рассчитывать. Команда Луиса вышла на финишную прямую. Игра шла по-крупному. В офисе, принадлежащем Луису, шло очередное заседание. На экране мелькали кадры владений Морриса. Размах его дела впечатлял. — Это — настоящая жемчужина в короне Морриса, — комментировал Фил Стаки. — Потрясающие возможности застройки, — отозвался Эдвард. В это время к Филиппу подошел один из сотрудников и что-то зашептал. — Мы получили еще одну информацию, — возбужденно сказал Филипп Эдварду. — Прекратите, пожалуйста, показ на несколько секунд! — Да, что? — не понял Эдвард. Служащий быстро заговорил: — Старик Моррис только что договорился, что подпишет контракт на 350 миллионов. Он будет строить эсминцы для военно-морского флота. — Я не могу поверить — ты сказал, что им уже ничего не светило! — воскликнул Фил, не скрывая своей досады. — Да, я так думал, — подтвердил сотрудник. В команде, в полном составе сидевшей за столом, произошло некоторое замешательство. — Да… Это нам будет стоить намного больше. — Акции наверняка поднимутся в цене. — Черт! — Может быть, нам еще повезло, что мы получили эту информацию, сэр, и можно еще отказаться? — Отказаться?! — заорал Фил. — И думать забудь! Мы потратили год работы, тысячу человеко-часов на это все! Теперь все это бросить?! — Господа, господа, успокойтесь, — спокойно сказал Эдвард. Он был профессионалом, и, как настоящий игрок, умел просчитывать ходы и находить лучшее продолжение. — Кого мы знаем в комиссии сената по военным расходам? — обратился он. — Сенатора Адамса. — Узнайте, где он. Чтобы ВМФ потратил 350 миллионов долларов, не одобрив это сначала в комиссии?! — сказал Эдвард. — Я просто не знаю, что теперь делать, — в голосе Фила чувствовалась растерянность. — Я тебя поэтому и нанял, Фил, чтобы ты волновался за меня, — Эдвард взял портфель и направился к двери. Фил нагнал его. — Я буду у себя. На сегодня, на вечер все готово? — спросил Эдвард. Фил кивнул. И с плохо скрываемым любопытством спросил: — Ну, кто, кто эта девушка? — Ты ее не знаешь, — с легкой улыбкой ответил Эдвард, представив на секунду Вивьен.
На первом этаже шикарного магазина одежды Вивьен ждала незнакомую Бриджитт. Она немного нервничала. «Не дергайся!»— приказала она себе словами Эдварда. Но сделать это было очень трудно — перед глазами все еще стоял «теплый» прием в предыдущем магазине. Увидев себя случайно в зеркале, Вивьен заинтересовалась своей внешностью. В это время к ней подошла миловидная дама. — Здравствуйте, — сказала она. — Вы, наверное, Вивьен. А меня зовут Бриджитт. — Здравствуйте! — ответила Вивьен и тут же на всякий случай добавила: — Барни сказал, что вы очень добрая. — Барни сам очень добрый. Это Вивьен уже заметила. — Какие у вас планы? — Я хочу поужинать. «Классно звучит…»— оценила эту фразу Вивьен. — Вы пойдете в город на ужин? — уточнила Бриджитт. — Да. — Значит, вам нужно платье для коктейлей, — с полным знанием дела сказала она. — Пойдемте со мной. Они пошли на второй этаж. — Мы наверняка найдем что-нибудь, что понравится вашему дяде. У вас шестой размер? — спросила она, даже не посмотрев на Вивьен. — Как вы догадались? — с восхищением спросила Вивьен, еле поспевая за ней. — У меня работа такая, — просто ответила Бриджитт. — Бриджитт, он мне не дядя, — проникнувшись симпатией, решила довериться ей Вивьен. — А кто из них дядя, дорогая…
Вивьен вернулась в гостиницу с покупкой. В вестибюле стоял Барни Томпсон и что-то объяснял японцу. Радостно-возбужденная, Вивьен даже не заметила, что оттолкнула японца. — Барни, я купила платье! — Я думал, что ты его сразу наденешь, — тихо, без выражения ответил Барни. — Нет! Я еще и туфли купила, — поделилась радостью Вивьен. — Ты не хочешь посмотреть? Барни был добр, и Вивьен безоговорочно включила его в круг своих друзей. — Я не считаю это необходимым, наверняка все это очень красиво. Вивьен своей искренностью забавляла и трогала его. — Я не хотела тебе мешать, — заметив наконец японца, сказала Вивьен. И, наклонившись к Барни, с благодарностью в голосе, прошептала: — Она была великолепна, твоя Бриджитт… Спасибо! — Пожалуйста, мисс Вивьен, — почти бесстрастно ответил Барни.
Еще из коридора она услышала, что в номере звонит телефон. Вивьен подбежала и сняла трубку: — Алло! — Никогда, никогда не подходи к телефону, — услышала она назидательный голос Эдварда. — Тогда чего ты звонишь? — удивилась Вивьен. — Ты где была? — Я платье купила. Для коктейлей, — с гордостью сообщила Вивьен. Эдвард улыбнулся. — Прекрасно! Я буду внизу ровно в семь сорок пять. — Ты не поднимешься за мной наверх? — осведомилась Вивьен. — У нас не свидание, а деловая встреча, — напомнил Эдвард про их договор. — Ты меня куда ведешь? — не удержавшись, с любопытством спросила Вивьен. — В ресторан «Вольтер», очень элегантный ресторан. От страха у Вивьен екнуло сердце. — Хорошо, — постаравшись не выдать волнения, сказала Вивьен. — Встретимся внизу. Только потому, что ты мне платишь… Вивьен дала понять Эдварду, что помнит условия договора. — Да, большое спасибо, — вежливо поблагодарил Эдвард. Он положил трубку и отошел было от стола секретарши, но тут же вернулся и попросил: — Наберите еще раз, пожалуйста, этот номер. — Сейчас приду, у меня очень важный разговор, — сказал он позвавшему его Филу. В номере снова раздался звонок. Вивьен тотчас сняла трубку. — Алло? — Я тебе сказал — никогда, никогда не поднимай трубку! Это был Эдвард. — Тогда перестань мне звонить! — возмутилась Вивьен и повесила трубку. «Логично», — подумал Эдвард. — Больной! — сказала Вивьен, отходя от телефона.
Вивьен нашла Барни внизу. — Платье не подошло? — попытался догадаться он. — Нет-нет, подошло. Но у меня есть проблемы… Кроме Барни, довериться было некому. В пустом ресторане суетились официанты, готовясь к вечеру. Вивьен сидела за большим, сервированным для ужина столом и внимательно слушала Барни. — …Итак, еще раз. Салфетку — на колени. Локти снять со стола. Не сутулиться… — Хорошо, — Вивьен прилежно училась. — Это — вилка для креветок, это — для салата, эта — собственно для ужина… В такой роли Барни Томпсон не выступал ни разу. — Так, салат, я помню. — Вивьен тяжело вздохнула. — Насчет всего остального я немножечко путаюсь… — Если вы начнете нервничать, — Барни подошел к столу и взял вилку, — пересчитайте. Видите — 4 зубчика для основного блюда, иногда бывает три зубчика, это не страшно… Эдвард подъехал к гостинице, когда на часах было уже восемь. В вестибюле он не увидел Вивьен и подошел к телефону, чтобы позвонить наверх. — Мистер Луис? Я мистер Томпсон, управляющий гостиницей. — Барни вежливо тронул Эдварда за плечо. — Вам просили передать. — Кто? — слегка удивился Эдвард. — Ваша племянница, — без эмоций, но внимательно глядя ему в глаза, сказал управляющий. — Моя… что? — опешил Эдвард. — Молодая дама, которая живет с вами… в вашем номере, — поправился Барни. — А-а-а! — сообразил Эдвард. — Я думаю, что мы оба знаем, что она мне не племянница, — оценил деликатность управляющего Луис. — Конечно. — Я это знаю потому, что был единственным ребенком в семье… А что она просила передать? — Она ждет вас в баре… Очень интересная молодая дама, мисс Вивьен, — добавил Барни. — Очень интересная? — не совсем понял, что он имел в виду, Эдвард. — Желаю хорошо провести вечер, — снова абсолютно ровным голосом сказал Барни. Он и так уже позволил себе с клиентом слишком много. — Спасибо! Эдвард направился в бар. В баре было немноголюдно, но Вивьен Эдвард сразу не увидел. Оглянувшись несколько раз, он уже собрался уходить, когда в даме, сидящей у стойки, ему почудилось что-то знакомое. В это время дама повернулась и сказала: — Ты опоздал. Он не мог поверить своим глазам, но перед ним была Вивьен. В элегантном открытом черном платье, в изящных туфлях, с подобранными кверху пушистыми рыжими волосами, она абсолютно не была похожа на ту Вивьен, с которой он простился утром. Природная грация и какое-то внутреннее изящество и благородство, которые он бессознательно отметил еще при первой встрече, новая одежда проявила и подчеркнула. — Ты потрясающе красива, — искренне сказал он. — Тебе понравилось? — смущенно спросила она. — Пойдем ужинать. Эдвард галантно предложил ей руку, и они вышли из бара. Он отметил про себя, что Вивьен уже никто не проводил любопытным взглядом.
Когда Эдвард и Вивьен вошли в зал, мистер Моррис и его внук были уже в ресторане. — Сюда пожалуйста, мистер Луис, — пригласил метрдотель. — Перестань дергаться, — приказал Вивьен Эдвард, и она подошли к столику. — Мистер Моррис? — Да. Мистер Луис? — Да. — Мистер Луис, а этот сорванец — мой внук Дэвид. — Не знаю, сорванец ли, но внук — точно, — как можно непринужденнее сказал Дэвид и протянул Эдварду руку. Мужчины вопросительно посмотрели на Вивьен. — Прошу познакомиться. Вивьен Уорд. — Очень приятно. Эдвард отодвинул стул, чтобы Вивьен села. Вивьен села и тотчас встала. Мужчины тоже встали, вопросительно глядя на Вивьен. — Ты куда? — удивленно шепнул Эдвард. Как можно элегантнее, с обворожительной улыбкой глядя на присутствующих, Вивьен сказала: — Мне нужно в туалет. Старик Моррис восхищенно посмотрел на Вивьен, а Дэвид и Эдвард переглянулись. — Прошу прощения, — вспомнила про этикет Вивьен. — Наверх, направо, — подсказал Эдвард. — Тебе заказать? — Да, — тут же выпалила она. Но вспомнив, что сегодня она — секретарь миллионера, очень вежливо добавила: — Будь добр, пожалуйста, закажи, спасибо! Это было все, что она смогла вспомнить. — Мистер Луис, — продолжал разговор Дэвид, — мой дедушка считает, что человек, который создал компанию, должен и дальше заниматься ею. Подали закуску. Это оказались маленькие бутербродики с икрой. Вивьен растерялась. Барни говорил, что вначале бывает салат. — Где салат? — спросила она громким шепотом у Эдварда, вклиниваясь в середину разговора. — Салат будет в конце ужина, — как можно мягче, стараясь не потерять нить разговора, сказал Эдвард. — Да я из-за вилки спрашиваю, — объяснила Вивьен, мучительно вспоминая, какой вилкой воспользоваться. Дэвид хихикнул и, чтобы этого никто не заметил, быстро продолжил: — Можно сказать так. Ваше заявление и слухи, которые вас окружают, мешают нам понять… Старик Моррис был восхищен той непосредственностью, с которой Вивьен пыталась разобраться с вилками, и как истинный джентльмен, пришел ей на помощь: — Не знаю как вы, а я никогда не мог понять, какой вилкой что есть. Он взял бутерброд рукой и откусил. Вивьен благодарно ему улыбнулась и сделала точно так же, правда, кокетливо пальцем расправив икру на бутерброде. Подали следующее блюдо. Моррис в это время рассказывал: — Вы знаете, было время, мы строили корабли размером с города. — Кто это заказал, — с отчаянием сказала Вивьен, глядя в тарелку. — Это эскарго — так по-французски называют улитки, — сказал Дэвид. — Попробуй, это деликатес, — посоветовал Эдвард, незаметно пытаясь показать, как пользоваться щипцами. — Дэвид… — пригласил он к продолжению разговора Дэвида Морриса. — Мистер Луис! Если вы купите, во что я не верю, нашу компанию, что вы собираетесь с ней делать? — Разбить на составные части и продать. — Надеюсь, вы понимаете, — вступил в разговор сам мистер Моррис, — мне не очень нравится идея, что сорок лет моей жизни вы превратите в предмет распродажи. — Учитывая то, мистер Моррис, сколько я плачу, вы будете очень богатым человеком. — Я уже достаточно богат, просто меня интересуют мои доки… Казалось, что Вивьен ничего не слышит из этого разговора. Все ее внимание было сосредоточено на тарелке с этими проклятыми улитками. Наконец ей удалось подцепить одну щипцами, но улитка тут же выскользнула и полетела в сторону официанта. Официант с неподражаемой ловкостью поймал ее. Старательно улыбаясь, чтобы скрыть смущение, Вивьен произнесла: — Вот сволочи, скользкие какие! — Это часто бывает, — ободрил ее официант. Все за столом постарались спрятать улыбки. Эдвард подумал, что Фил был прав, посоветовав пойти на разговор с девушкой, чтобы смягчить его официальность. Вивьен в этой роли была неподражаема… — Ваш отец, — перевел разговор Моррис. — Его звали… Казе Луис? — Да, Казе Луис. — Ему принадлежит, как все говорят… — Нет, нет. Это все принадлежит мне, — сказал Эдвард. Моррис спросил: — Он гордится вами? — Сомневаюсь. В общем-то это не имеет значения, он скончался. — Я не слышал об этом. Прошу прощения, мне очень жаль. — Мне тоже очень жаль, — наконец вступила в разговор Вивьен, так как подали мороженое, а тут у Вивьен проблем не было. Эдвард снова вернулся к делу. — Мистер Моррис! Вы попросили меня прийти, чем я могу вам помочь? — Оставьте мою компанию в покое! — Этого я не могу сделать. Мне принадлежат акции на десять миллионов, — сказал Эдвард. — Я куплю ваши акции! — сказал Дэвид. — У вас нет денег! — Разговор становился все напряженнее. Вивьен, расправившись с мороженым, уже внимательно следила за их борьбой. — Но у нас будут деньги, мы будем строить эсминцы. — Никакого контракта на эсминцы у вас не будет! — сказал Эдвард. — Ваш контракт будет навсегда похоронен в сенатской комиссии по военным расходам. — Как вам это удалось сделать?! — воскликнул Дэвид. — Вы купили политиков? — Тише, тише, — начал успокаивать внука старый Моррис. — Мистер Луис играет серьезно. — Да, очень серьезно, — подтвердил Эдвард. Дэвид вскочил, не в силах больше говорить. — С меня достаточно! Он повернулся к Вивьен. — Вивьен, было очень приятно познакомиться. — И продолжил: — Извини, дедушка, мне нужно пойти подышать. — Мистер Луис, я пойду со своим внуком, — сказал старый Моррис. — А вы наслаждайтесь десертом, наверняка, это очень вкусно, — как можно мягче произнес он, глядя на Вивьен. — До свидания, мисс, желаю вам удачи! И, глядя прямо Эдварду в глаза, твердо сказал: — Луис, я разорву тебя на кусочки, понятно? — С удовольствием буду ждать этого, сэр, — как бы без эмоций ответил Эдвард. Вивьен наблюдала за всем происходящим.
— Эдвард, ты же сказал, что никогда не выходишь на балкон! Эдвард сидел в кресле на балконе около самой двери. Они только что приехали из ресторана и даже не переоделись. Всю дорогу Эдвард молчал, и Вивьен понимала, что его мучает. — Я не совсем вышел, только наполовину, — погруженный в себя, ответил Эдвард. — Ты ничего не говорил, когда ехали обратно. Ты думаешь о том, что произошло за ужином? О разговоре? — Он был как маньяк, — с досадой бросил Эдвард. Вивьен прошла по балкону и села на широкие перила. От ужаса Эдвард прикрыл глаза… — Сейчас у него неприятности, раньше было хорошо. Ты хочешь купить его компанию, он не хочет продавать… — излагала свою версию Вивьен. — Ну в общем, да. Так можно сказать… — Проблема в том, что мистер Моррис тебе понравился, — подытожила Вивьен. Она попала в самую точку. Действительно, этот волевой старик и его симпатичный, романтичный внук чем-то нравились Эдварду. Ему нравились отношения между дедом и внуком — отношения партнеров — то, чего в своей жизни он был лишен. Но главное — его как-то задевало то, что их компания занималась большим, конкретным делом… — Мне бы больше понравилось, если бы ты оттуда слезла, — ушел от ответа Эдвард. — Я очень нервничаю. Пожалуйста, слезь! Вивьен захотелось его подразнить. Сидя на перилах балкона, она стала медленно наклоняться назад, нагибаясь над пустотой. — А что если я вот так отклонюсь, чуть-чуть? Ты меня будешь спасать, если я буду падать? Эдвард отвернулся, потому что это зрелище было для него невыносимым. — Вивьен, я серьезно, я не смотрю! — Здесь так высоко, посмотри! — продолжала дразнить Вивьен. — Посмотри, я не держусь, не держусь… Ну хорошо! — сжалилась она. — Извини! — И села ровно. Эдвард на нее не смотрел, а как бы размышлял вслух, все еще думая о ее словах. — Дело в том, что нравится мне мистер Моррис или нет, — это не имеет ни малейшего значения. Чтобы я еще путал эмоции с бизнесом?! Этому не бывать! Вивьен искренне понимала его. Ведь и в своем бизнесе она никогда этого не делала. — Я знаю, — с убежденностью сказала она. — Кит так всегда говорит: «Когда ты там работаешь с парнем, не чувствуй ничего по отношению к нему». Поэтому я и не целуюсь ни с кем. Потому что это слишком личное. Понимаешь, — делилась она, — когда я сплю с парнем, я как робот. Я просто делаю все, что ему нужно, просто ничего не чувствую. Но увидев внимательный взгляд Эдварда, вдруг поняла, что ее здорово занесло. Она постаралась сгладить явную неловкость и сказала: — Ну, то есть, не считая тебя, конечно. Пока Эдвард слушал искренние откровения Вивьен, он абсолютно ясно видел, насколько они похожи между собой. Он, миллионер, и она, проститутка, практически делали одно и то же. — Ты и я — мы так похожи, Вивьен, — просто сказал он. — Мы оба трахаем людей за деньги. Эти слова ничуть не обидели Вивьен. Она прекрасно отдавала себе отчет о своей работе. Ей стало жаль Эдварда, потому что она понимала, как трудно и больно для него это открытие. — Мне очень жаль, что умер твой отец. Когда он умер? — перевела она разговор на другую тему. — Месяц назад, — без эмоций ответил Эдвард. — Ты скучаешь без него? — с состраданием спросила Вивьен. — Я с ним не разговаривал четырнадцать с половиной лет. И меня не было при нем, когда он умер. — Ты хочешь поговорить об этом? — спросила она. — Нет, — коротко ответил он. — А знаешь, — неожиданно предложила Вивьен Эдварду то, что казалось ей самым лучшим. — Давай будем смотреть всю ночь старые фильмы. Мы будем в пижамах смотреть телевизор. — В пижамах? — уточнил Эдвард с улыбкой. — Вот именно. Ничего не будем делать, а будем лежать спокойно, как овощи на грядке. Душа Эдварда разрывалась. Он давно не испытывал такой боли и тоски. И ему страшно захотелось напиться. — Знаешь, я вернусь завтра. И буду как овощ, — попробовал пошутить он. — А ты куда? — забеспокоилась она. — Вниз, на какое-то время… До трех часов ночи Вивьен смотрела старые фильмы. Эдварда все не было. Она сняла трубку и позвонила вниз. — Здрасьте, — сказала она дежурному. — Я здесь, в люксе наверху. Этот тип, сэр Луис, он там, вы его не видели, он внизу? Знакомый парень-лифтер с удовольствием проводил Вивьен в бар. Босиком и в банном халате она выглядела довольно забавно. В баре уже никого не было. Только служащие убирали столы. Эдвард сидел у рояля и самозабвенно импровизировал. «Он здорово играет», — подумала Вивьен. В это время Эдвард кончил играть и раздались аплодисменты. — Спасибо, большое спасибо, — поблагодарил невольных слушателей Эдвард. Вивьен подошла. — Я и не знала, что ты умеешь играть, — сказала она. — Я играю только для незнакомых людей. — Мне наверху стало одиноко. Незнакомое чувство защемило душу… «Вивьен…» Он ощутил себя мальчиком, усталым, растерянным и расстроенным. А эта женщина пришла его пожалеть и успокоить. — Господа, вы можете нас оставить? Будьте добры! — попросил он. Зал опустел. — Люди всегда делают то, что ты им говоришь? — задала необязательный вопрос Вивьен. Эдвард не ответил. Он притянул ее к себе и уткнулся головой в колени, как бы ища защиты. Вивьен погладила его по волосам со всей нежностью, на которую только была способна. Эдвард встал, потянулся губами к ее губам. — Наверное, нет… — сказала Вивьен. Она понимала, что сейчас она нужна ему, но не знала, будет ли так завтра. Она по-прежнему боялась боли. Сейчас Вивьен была для Эдварда не просто необходимой и доброй, но, может быть, впервые по-настоящему желанной.
— Проснись, пора! У кровати стоял уже одетый Эдвард. Светило солнце. Наступило утро. — Вот, — протянул Эдвард кредитную карточку. — Если у тебя будут какие-нибудь неприятности и ты не будешь знать, как пользоваться этой карточкой, — позвони в отель. — Опять в магазин, — расстроено сказала Вивьен. — Странно, что ты купила вчера одно платье, — не понимая ее настроения, сказал Эдвард. — Ты знаешь, это было не так весело, как я думала. — Почему? — Они были злы по отношению ко мне. — Злы?! — удивился и возмутился Эдвард.
По знакомой улице Эдвард за руку вел Вивьен в магазин. Она еле поспевала за ним и нервно жевала резинку. — Люди смотрят на меня. — Нет, они не на тебя смотрят, а на меня, — успокоил ее Эдвард. — В магазинах мне не нравится, — канючила Вивьен. — Магазины не любят людей, они любят кредитные карточки, — уверенно сказал Эдвард. «Ты ошибаешься, — подумала Вивьен. — Таких как я они не любят даже с деньгами». — Перестань дергаться! — услышала она слова Эдварда. — Выплюнь жвачку! Она выполнила его приказ и тут же выплюнула резинку прямо на тротуар. — Как ты могла так сделать?! — пожурил ее Эдвард, и они зашли в магазин.
Эдвард выбрал один из самых роскошных магазинов. Здесь очень любили кредитные карточки. — Я помощник управляющего, — встретил их у входа продавец. — Могу я вам помочь? — Эдвард Луис, — представился ему Эдвард. С полувзгляда продавец умел отличать солидного клиента от простого покупателя. — Да, сэр? — с внимательной готовностью сказал он. — Вы видите эту молодую даму? — Да! Он обратил внимание на Вивьен сразу, как только они вошли. Но постарался ничем не выдать своего глубокого удивления. Эта пара выглядела экстравагантно — джентльмен и девица. «У богатых свои привычки», — бесстрастно подумал он. — У вас есть в этом магазине нечто столь же красивое, как и она? — спросил Эдвард. — О да!.. О нет! — вопрос Эдварда застал его врасплох. Но он знал, что нужно говорить настоящим клиентам, поэтому быстро нашелся: — Нет, конечно нет! Я хотел просто сказать, что у нас есть очень много красивых вещей, которые понравятся вашей даме… — Послушайте, необходимо, чтобы нам помогли несколько человек, — Эдвард решил устроить для Вивьен настоящее представление. — Знаете, почему? Мы хотим здесь потратить непристойно большую сумму. Вам нужна будет помощь. — Да, конечно, вы правильно сделали, что пришли именно к нам. Все, что вы здесь видите, мы можем вам предложить, даже лучше… Мэри! Кристина!.. Быстро сюда! — закричал помощник управляющего. Вивьен усадили в кресло. И буквально через минуту ее окружили порхающие продавщицы, вежливые джентльмены и огромное количество дорогих вещей. Эдвард стоял в стороне и с удовольствием наблюдал за этой кутерьмой. — Простите, сэр, — решил еще раз удостовериться в реальности происходящего помощник управляющего. — Насколько непристойно большую сумму вы хотите истратить? Потом подумал и добавил: — Неприлично непристойную? — Чудовищно непристойную сумму, — поправил его Эдвард. — Как он мне нравится! — с восхищением обращаясь к себе сказал помощник управляющего. Вивьен наконец совершенно успокоилась и с полной самоотдачей включилась в праздник. Иногда она показывала Эдварду издалека что-нибудь из вещей и ловила его взгляд — то одобряющий, то сомневающийся. Этот взгляд решал дальнейшую судьбу вещи. — Сэр! Мистер Луис! Ну и как? — помощник управляющего вновь подошел к Эдварду. — Хорошо, хорошо! Мне кажется, нам нужна еще и еще помощь. Эдвард не мог позволить себе долгой праздности, поэтому успевал сейчас наблюдать за Вивьен и просматривать деловые бумаги. — Очень хорошо, сэр, — не отходил помощник управляющего. — Вы могущественный человек: когда вы сюда пришли, я сразу это понял. Это немного даже разозлило Эдварда. — Речь идет не обо мне, а о ней, — сказал он с легким раздражением. — Простите, сэр! — помощник управляющего мгновенно уловил интонацию и отошел. Эдвард достал трубку радиотелефона и набрал номер Фила. — Алло! Где же ты? — услышал он тотчас в трубке голос Фила Стаки. — Все об этом уже знают — похоже, Моррис откажется от твоего предложения, — возбужденно говорил он. — Не похоже! Хотя он крепкий старик. Нет! Деньги он возьмет. — Он, наверное, решил договориться со своими сотрудниками? — предположил Фил. — Выясни, поддерживает ли его кто-нибудь. — Хорошо. Эдвард подошел к Вивьен. Она сияла. — Мне нужно идти на работу. Ты давай действуй сама. Вот моя кредитная карточка. — Мы ей поможем, сэр! — заверил помощник управляющего. Вокруг Вивьен продолжалась праздничная суета. Приносили все новые платья, коробки с обувью. Вивьен почувствовала себя абсолютно свободно. — Эдварду понравился бы такой галстук… — заметила она, показывая на галстук одного из продавцов, который примерял ей в это время туфли. — Быстро, быстро отдай ей этот галстук! — велел помощник управляющего.
В элегантной женщине в светлом платье, шляпке и перчатках, которая вышла из магазина модной одежды, вряд ли кто-то из знакомых мог бы узнать Вивьен. Все, что она купила, из магазина отправили в отель. Она взяла с собой только шляпу в шикарной коробке и одно платье на плечиках, которое ей понравилось больше всего. Вивьен шла по улице, и мужчины оборачивались ей вслед. Но теперь это были совсем другие взгляды — мужчины заглядывались на красивую, эффектную женщину… Вдруг Вивьен увидела, что идет мимо магазина, в который заходила вчера. Она вспомнила свою обиду. — Здравствуйте, — сказала она входя. Продавщица бросилась к ней с готовностью услужить. — Я могу вам помочь? — Нет! — с вызовом ответила Вивьен. — Вы помните меня? — Нет, простите, — растерянно ответила продавщица. — Я приходила сюда вчера, вы отказались меня обслужить. Вы получаете проценты с продаж? — несколько небрежно спросила Вивьен. — Это была ваша ошибка, очень большая ошибка… Вивьен направилась к выходу. — Теперь я пойду дальше по магазинам, — бросила она через плечо. Сегодня был ее день.
Барни Томпсон, как всегда, был в холле гостиницы и разговаривал с кем-то из гостей. Только спустя несколько секунд он узнал в даме, которая прошествовала мимо него, Вивьен. Впечатление было таким сильным, что он не смог закончить фразу, которую в это время произносил.
Совещание в офисе Эдварда закончилось. Все разошлись, остались только Эдвард и Фил. — Ты был прав, — сказал Фил. — Моррис все заложил, вплоть до своих трусов. — А банк? Эдвард казался задумчивым и погруженным в себя. — Банк здесь ни при чем! У него ничего не осталось. — Фил был возбужден. — Причем здесь банк?! Банк понимает, что им важнее ты, чем мистер Моррис. Позвони туда — и все будет в порядке! — Да, — произнес без всяких эмоций Эдвард. — Эдвард, прости меня ради Бога! Ну что с тобой происходит всю эту неделю, черт возьми! Неужели ты его отпустишь?! Это такой шанс! Эдвард отрешенно строил из стаканов стеклянный небоскреб. — Ты знаешь, о чем я мечтал, когда был ребенком? — после небольшой паузы сказал он. — Я мечтал о домах. О том, чтобы строить дома. Возводить их… — Ну купи «Монополию», будем играть, в чем дело — не понимаю! — попробовал пошутить Фил. — А мы ничего не строим, ничего не делаем, — все с тем же выражением продолжал Эдвард. — Эдвард, мы делаем деньги! — напомнил Фил. — Мы целый год вкалывали, разрабатывая эту операцию. Ты говорил, что тебе это нужно. И вот я тебе все сделал… Моррис сейчас страшно уязвим. Мы должны нанести ему последний удар и убить его! Прикончить! Позвони в банк, чтобы ему отказали в займе!.. Эдвард выглядел безучастным.
Стол в номере был сервирован на двоих. Вивьен ждала Эдварда. Она сидела у стола, голая и в галстуке, который купила для Эдварда. — Как прошел день, дорогой? — спросила она тоном великой Одри Хэпберн, когда Эдвард вошел в номер. Вид у нее был несколько экстравагантный, но Эдварду понравилось. — Хороший галстук, — одобрил он. — Я купила его тебе, — проявила щедрость Вивьен.
Они лежали вдвоем, и Эдвард впервые рассказывал то, чего не рассказывал никогда и никому. — Моя мать была преподавательницей музыки. Она вышла замуж за моего отца. Он был очень богат уже тогда. Потом он развелся с ней и женился на другой. И забрал с собой все деньги. Потом мама умерла. Я был очень зол на него. Я потратил десять тысяч, чтобы психоаналитик сказал мне, что я очень зол на него… После этого я мог сказать, что я очень зол на моего отца. Мой отец был президентом третьей компании, которую я купил в своей жизни. Я купил ее и продал по кусочкам. — Что сказал психоаналитик? — заинтересовалась Вивьен. — Что я здоров. — Ну теперь ты расквитался с ним. Ты доволен? Эдвард взял руку Вивьен в свои ладони и задумался. Совсем недавно он бы однозначно ответил на этот вопрос. Сейчас он молчал… Вивьен почувствовала это и решила перевести разговор на другое. — Я тебе говорила, что длина моей ноги сорок четыре дюйма? — весело спросила она. — Так что сейчас я могу тебе устроить восемьдесят восемь дюймов терапии… Всего лишь за три тысячи долларов, — засмеялась она. — Да, — засмеялся Эдвард в ответ.
На открытие чемпионата по игре в поло традиционно собралось все высшее общество. Это было событие, которого ждали, и где в непринужденной обстановке решались многие дела и проблемы. Для женщин это была возможность показать себя и посплетничать о других. Все друг друга знали, места и роли были заранее распределены, и каждый новый человек вызывал особый интерес. Играла музыка, официанты предлагали традиционное шампанское. Праздник был в разгаре, когда приехал Филипп Стаки с женой. — Осторожно, смотри, куда идешь, а то на что-нибудь наступишь, и вся машина будет вонять… — наставлял Фил жену, одновременно разглядывая присутствующих. — Эдварда не видели? — спросил он у знакомого. В это время Эдвард и Вивьен стояли у машины, на которой приехали, и о чем-то говорили. — А что если кто-нибудь узнает меня? — с опаской говорила Вивьен. — Я слишком много времени проводила на Голливудском бульваре. — Вряд ли, — успокоил ее Эдвард. — Они там не бывают. — Но ты же там оказался?! — Ты великолепно выглядишь, — совершенно искренне сказал Эдвард. — Как настоящая леди! — Хорошо, — сдалась Вивьен, и они пошли. — Только не дергайся и улыбайся! — сказал свою любимую фразу Эдвард. Вивьен сразу успокоилась и улыбнулась.
Около столика судьи стояли Эдвард, Вивьен и еще две дамы. Эдвард рассказывал смешную историю: — …и ее сестры вышли замуж… — Эдвард! — позвали его. — Секундочку! — извинился Эдвард и отошел. Сейчас же одна из дам с ехидцей спросила: — А-а-а! Это вы у нас теперь изюминка на торте? — Да нет! Перестаньте, — попыталась сгладить неловкость вторая и объяснила Вивьен: — Просто все его пытаются заполучить. Он очень богатый холостяк! «Чтоб вы провалились!», — подумала Вивьен, а вслух произнесла: — Он мне нужен только для секса. И пошла за Эдвардом. Было видно, что ее слова произвели огромное впечатление. Эдвард стоял около игрового поля и наблюдал за игрой. — Слушай, зачем мы сюда пришли? — все еще под впечатлением разговора с дамами спросила Вивьен. Эдвард с интересом следил за игрой, болея как мальчишка. Вивьен сразу забыла про обиду. С Эдвардом все казалось простым и естественным. — Бизнес, — коротко ответил он. — Бизнес? — не ожидала Вивьен. — Да. Знакомиться с людьми, разговаривать с ними. Вивьен совершенно успокоилась. Тут была работа, а по договору она была секретарем. Так что все в порядке. — Эдвард, мы здесь! — Фил наконец увидел Эдварда. Вместе с женой он подошел к Эдварду, с любопытством разглядывая Вивьен. — Фил, добрый день. Познакомься, это Вивьен Уорд. Это — Фил Стаки, — представил он Фила. «Вот это да! Красотка!»— подумал Фил. Жена перехватила его взгляд, который очень хорошо знала. — Это моя жена Элизабет, — представил жену Фил. — Всегда приятно познакомиться с новой девушкой Эдварда! — с ядовитой нежностью сказала Элизабет и тут же отошла, увидев знакомых. — Ты знаешь, что сенатор Адамс здесь? — обратился Фил к Эдварду. — Это я его пригласил, — спокойно ответил Эдвард. — Вот почему я поклялся тебе в вечной любви и верности! — восхищенно сказал Фил. «Значит, Эдвард не передумал: все по-прежнему. Моррис наш!»— подумал Фил. А вслух сказал: — Я принесу сейчас выпить. — Кто он такой, этот тип? — спросила Вивьен. — Мой адвокат, в общем. И эта встреча Вивьен была неприятна. «Какие мерзкие бабы», — подумала она и сказала: — Слушай, а задница у его жены… — Об этом мы поговорим потом. Я разберусь с ее задницей. — Она жена твоего друга, — Вивьен не ожидала именно такой реакции от Эдварда. — Дамы и господа! — раздался из громкоговорителя голос судьи соревнований. — Нам нужна ваша помощь! Все, кто был вокруг, с удовольствием включились в традиционный ритуал. В основном это была забава для дам. Игровое поле было буквально изрыто копытами лошадей, и задача зрителей состояла в том, чтобы втоптать кусочки дерна и заровнять поле. Вивьен была на поле со всеми и искренне радовалась этой забаве. — А она очень мила, Эдвард, — сказала Элизабет, заметив с какой нежностью и умилением смотрит он на Вивьен, которая резвилась как ребенок. — Где ты нашел ее? — По телефону, — ответил Эдвард. Он подошел к Вивьен и стал вместе с ней затаптывать траву. Ее искренняя радость передалась ему, и они веселились как дети. Голос главного судьи подсказывал в микрофон: — …один совет. Если вы увидите, что под ногами что-то дымится — лучше не наступайте… Вивьен захохотала. Эдвард обнял ее и закружил по полю.
Вивьен, разгоряченная, сидела на капоте машины. К ней подошел молодой человек в спортивной форме для игры в поло. — Привет! Я Дэвид Моррис, — увидев, что Вивьен не узнает его, представился еще раз Дэвид. — Как дела? — Хорошо! Вивьен стояла босиком на траве. Дэвид вспомнил их ужин и улыбнулся. Вивьен страшно ему нравилась. — Пойдемте, я покажу вам лошадь! — Меня Эдвард ждет, — не совсем уверенно ответила Вивьен. — Ну хорошо, только на секунду. — Мы будем здесь, рядом, — успокоил ее Дэвид, и они подошли к его лошади.
Филипп наконец смог поговорить с Эдвардом наедине. Его безумно интересовала Вивьен. — …Ну вот и все, — закончил говорить Эдвард. — Я спросил ее, как проехать… — А чем она занимается? Она работает? Что она… — Она занимается, — Эдвард подыскивал слово, — …торговлей, — нашелся он. Филипп через плечо Эдварда вдруг увидел Вивьен, которая стояла с Дэвидом Моррисом. Он понял, что его тревожило все это время. — Послушай, — с нажимом сказал он. — Послушай меня внимательно! Мы давно с тобой знакомы. Ты как-то изменился за эту неделю. У тебя галстук другой — слегка дернул он его за галстук. — Может быть, все это из-за этой девушки, которая очень хорошо разговаривает с Дэвидом Моррисом?! — закончил он саркастично. Эдвард обернулся и увидел Вивьен с Дэвидом. Чувство ревности кольнуло сердце… — Я их познакомил на днях за ужином. — Может быть, эта девица на самом деле работает на них?! — почти с уверенностью воскликнул Фил. — Да нет, Фил! — Откуда ты знаешь? Может быть, она познакомилась с тобой только лишь для того, чтобы передавать Моррису информацию? — Фил, Фил… — Эдвард знал, как его успокоить. — Она не шпион. Она проститутка, шлюха. Увидев, что Фил буквально обалдел, повторил еще раз с улыбкой: — Проститутка. Я подобрал ее на голливудском бульваре, посадил в твою машину. Сначала Фил изумился, а потом начал хохотать, мерзко прихрюкивая. — Ты единственный знакомый мне человек, который способен явиться со шлюхой на такой прием! — продолжал смеяться Фил. Эдвард понял, что зря сказал все Филу. Реакция Фила была неприятной и даже гадкой. — Мне очень жаль, что я тебе это сказал, — жестко обрезал он и отошел.
— Сенатор! Сенатор Адамс! — Эдвард подошел к сенатору. — Как я рад, что вы сумели прийти! — Надеюсь, что информация, которую я сообщил, вам помогла, — по-дружески сказал сенатор. — Очень помогла, большое вам спасибо! Но даже эта приятная встреча не могла отвлечь Эдварда. Он досадовал на себя за свою глупую откровенность. Он поискал глазами Вивьен, но не увидел ее. Вивьен тоже искала Эдварда. Ей было легко и хорошо. Она увидела Фила, который направлялся к ней, и улыбнулась ему. — Хорошо тебе, Вивьен, нравится? — с искусственным вниманием спросил Фил. — Да, мне очень здорово! — Лучше, чем на Голливудском бульваре? Вивьен остолбенела. Улыбка моментально слетела с ее лица и сердце заколотилось. — Эдвард сказал мне, — с гадкой улыбочкой шепнул Фил. — Не волнуйся, я никому не скажу! И погладив ее по плечу, фамильярно предложил: — Послушай, может, мы с тобой встретимся, когда Эдвард уедет? — Да, конечно, почему бы нет, — затравленно пробормотала Вивьен. Все рухнуло в одну секунду. Сказка не для нее. «Дрянь… Дрянь…» — подумала она то ли про Фила, то ли про Эдварда. Она почти не слышала, как Фил продолжал: — Надо будет обязательно встретиться. Она знала, знала, что так будет. Сколько раз вместе с Кит они мечтали о другой, красивой жизни. Но никогда, никогда не сбывались их мечты… Издали Эдвард помахал ей рукой. У Вивьен не хватило сил даже на улыбку. Всю дорогу Вивьен молчала, односложно отвечая на вопросы. — С тобой все в порядке? — спросил Эдвард, когда они зашли в номер. — Нормально, — коротко сказала. — Нормально… — повторил за ней Эдвард, взяв со стола бумаги и просматривая их. — Засранец. Вот тебе новое слово, — сказала громко Вивьен из соседней комнаты. — Хочешь? — Нет. Нормально, наверное, лучше. Он не совсем понимал изменения ее настроения. — Только скажи мне одно, зачем ты меня вырядил всю вот так? — Вивьен стояла в дверях комнаты, и лицо ее буквально пылало яростью. — Ну, я хотел подобрать тебе подходящий наряд, — примирительно сказал Эдвард, все еще не понимая причины. — Не-е-т! — в голосе Вивьен к ярости примешались обида и отчаяние. — Если ты всем будешь говорить, что я шлюха, тогда почему я не пошла в своем наряде, в своей одежде, чтобы тогда, когда ко мне подошел такой тип, как Стаки, я могла бы справиться… — она не нашла подходящего слова, — …я тогда была бы готова… Эдвард снял пиджак и сел на кровать. «Так это Стаки. Не надо было говорить», — подумал он. — Мне очень жаль, что я сказал Стаки, — размеренно, стараясь, чтобы голос был как можно ровнее, сказал он, — и что он так поступил. Я очень недоволен Стаки. Эдвард встал и подошел к Вивьен. Она пыталась открыть бутылку с кока-колой, но руки ее дрожали, и бутылка никак не открывалась. — Но он мой адвокат, я знаю его десять лет, — продолжал он. — Стаки решил, что ты промышленный шпион. У него паранойя, — после небольшой паузы сказал он. По его мнению, этими словами все было сказано. Эдвард оправдывался перед женщиной, чего не делал никогда. — А теперь ты, что ли, мой сутенер и можешь передавать меня своим друзьям?! Я тебе не игрушка! — Между прочим, ты забыла, что ты действительно проститутка и работаешь на меня! — Да! Но я тебе не принадлежу! — заорала Вивьен. — Я сама решаю, когда и с кем… — Я вообще отказываюсь ругаться с тобой три дня, — сбавил тон Эдвард. — Я извинился, — еще тише сказал он, и вспомнил, что именно этих слов он не говорил. — Действительно, извини! Я больше сказать ничего не могу, — сновавспылил он. Вивьен повернулась и пошла в комнату. — Мне очень жаль, что я тебя увидела, мне жаль, что пошла с тобой, села в твою машину! — кричала она. — Как будто у тебя были другие варианты! — крикнул Эдвард в ответ. Вивьен вышла из комнаты. В руках у нее были скомканные кое-как новые платья. Она наклонилась, достала из-под тумбочки свою старую сумку, повесила ее на плечо. — Никто никогда не обращался со мной, как будто я полная дешевка, — тихо сказала она. — В это трудно поверить, — в запальчивости бросил Эдвард и вдруг увидел у нее в руках вещи. — Ты куда? — Заплати мне, я ухожу, — тихо сказала Вивьен. Эдвард чувствовал, что он виноват. Но уязвленное самолюбие было сильнее. Со злостью он достал кошелек, вытащил деньги, бросил их на кровать и вышел в гостиную. Чтобы чем-то занять себя, взял со стола бумаги и даже не повернул головы, когда Вивьен проходила к двери. Дверь за Вивьен закрылась. Эдвард глянул на кровать — деньги лежали там. «Никто не обращался со мной, как будто я полная дешевка», — слова Вивьен звучали у него в ушах. Ему стало по-настоящему больно. В это время Вивьен стояла у лифта. Дверь номера открылась, и в коридор вышел Эдвард. — Извини! — сказал он как будто впервые произнося такие слова. — Я был не готов отвечать на вопросы про нас. Это было глупо и жестоко. Я не хотел. Я не хочу, чтобы ты сейчас уходила. Останься до конца недели. Вивьен стояла, прижав к себе платья, глаза были полны слез. Она отрицательно покачала головой. — Я видел, как ты разговаривала с Дэвидом Моррисом. Мне это не понравилось. — Мы с ним просто разговаривали… — Ты мне сделал больно, — сказала Вивьен. — Не делай так больше. И они вернулись в номер.
Они лежали на кровати лицом друг к другу и разговаривали. — Первый парень, в которого я влюбилась, был полным ничтожеством. Второй был еще хуже. Моя мать называла меня магнитом для уродов. Если урод где-нибудь появлялся, то я тут же в него влюблялась. Так в итоге я оказалась здесь. Поехала сюда за уродом номер три. Приехала — денег нет, друзей нет, урода тоже не стало. — А как ты выбрала свою профессию? — Ну, я была кое-где. Сначала я пыталась парковать машины. Понимаешь, я не могла вернуться, мне было слишком стыдно. Потом я познакомилась с Кит. Она проститутка, и сказала, что это — гениальная профессия. Она убедила меня. И однажды я попробовала — проплакала несколько дней. А потом у меня появились постоянные клиенты. Ты знаешь, это, конечно, не мечта детства, но… — Ты могла бы стать… достичь большего, чем сейчас. — Если ты начинаешь в это верить, люди начинают тебе делать больно. — Я думаю, что ты очень умная и необыкновенная женщина. — Ты знаешь, намного легче верить в плохое, ты никогда этого не замечал?
Эдвард в смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке выглядел очень нарядным. Дверь открылась, и из спальни вышла Вивьен. В длинном вечернем платье она была обворожительна. Немного стесняясь себя, она спросила: — Ну как, нормально? Эдвард предполагал, что вечернее платье будет ей к лицу, но то, что он увидел, привело его в восхищение. Стараясь не очень показать это и готовя свой сюрприз, он как-то задумчиво произнес: — Чего-то не хватает… — Знаешь, никто бы не влез в это платье, — не поняла его Вивьен. — Вот в этой коробочке… — вытащил Эдвард из-за спины небольшую черную коробочку. — Только не радуйся очень. Это взаймы… Предвкушая эффект, он открыл футляр — и Вивьен увидела настоящие драгоценности! Это было бриллиантовое колье с рубинами и такие же серьги. Впервые в жизни вот так близко были вещи, о которых она могла только слышать… Осторожно, одним пальцем она потрогала их, как будто хотела удостовериться в их подлинности. Уже в лифте она поинтересовалась: — Куда мы едем? — Сюрприз. — Эдвард был немногословен. — Знаешь, я забыла тебе сказать, — тихо произнесла Вивьен. — Мне ночью было очень хорошо. — Спасибо… Парень-лифтер стоял к ним спиной и улыбался. Он слышал эти слова и был искренне рад за Вивьен, потому что она была ему симпатичнее всех его клиентов. Появление Эдварда и Вивьен в холле гостиницы произвело невиданное здесь впечатление. Швейцары и посыльные, девушки-администраторы и, наконец, управляющий Барни Томпсон — все оборачивались, глядя на нее с восхищением. И Эдвард тоже смотрел на нее с восторгом. — Когда ты не дергаешься — ты очень красивая и очень высокая! Они вышли из отеля, сели в лимузин. Для Вивьен это были минуты торжества. Ей и не хотелось знать, куда они едут, что ее ждет — вот так сидеть рядом и ехать… И тогда счастье не кончалось бы никогда. Машина подъехала к летному полю. — Я никогда раньше не летала, — только и сумела произнести Вивьен. Она полностью доверила свою жизнь Эдварду. Они не расстались, впереди были еще три дня! Вивьен вновь с широко открытыми глазами погрузилась в сказку. — Полет будет очень легким, мистер Луис, — Вивьен слышала, как пилот разговаривает с Эдвардом. — Погода прекрасная, мы будем в Сан-Франциско через 50 минут. Эдвард раскрыл свой сюрприз только тогда, когда они подъехали к театру. Они прилетели на оперный спектакль. Сегодня был не просто спектакль, это была премьера — весь свет был в театре. Ложу рядом занимала пожилая пара. Дама довольно преклонных лет обрадовалась, увидев Эдварда. — Дорис, добрый вечер! — Добрый вечер, Эдвард! Вивьен даже забыла поклониться. Вид театра ошеломил ее. Она снова испугалась. Но теперь уже не чужого взгляда и слов, а своего ничтожества в этом дивном мире. — Эдди, ты посмотри, посмотри, — не могла она сдержать восторга. — Да, я видел и не раз… — мягко сказал он. Вивьен снова забеспокоилась. — Ты сказал, что это на итальянском. Как же я пойму, о чем они поют? — Ты поймешь, поверь мне. Музыка очень сильная. Вивьен радовалась по-детски. — Смотри, там оркестр сидит. Свет постепенно начал гаснуть… Эдвард наклонился к Вивьен: — Знаешь, когда люди первый раз слушают оперу — это нечто необыкновенное. Она им сразу нравится или нет. Если им сразу нравится — они всю жизнь будут любить оперу. А если нет — они потом смогут научиться ценить ее, но опера никогда не станет частью их души. Но Вивьен уже не слышала, что говорил Эдвард, потому что… Зазвучала Музыка! Для ее неискушенной, чистой души, не было барьера между ней и Виолеттой. Музыка Верди увела ее туда, в ту жизнь. Она растворилась в этой музыке, которая рассказывала и про нее. Конечно, судьба несчастной Виолетты, была понятнее ей, чем кому-либо вокруг, но не об этом плакала она сейчас. Музыка рассказывала всем о том, как рвется ее душа к счастью, как жаждет любви, как ранят ее люди и как умеет она прощать. Эдвард не мог оторвать взгляда от Вивьен. Уже который раз за эту неделю он был счастлив. Когда они выходили из ложи, глаза Вивьен еще были полны слез. Пожилая дама в бриллиантах с воодушевлением обратилась к ней: — Вам понравилась опера, дорогая? Со всей искренностью, на какую она была в эти минуты способна, Вивьен ответила: — Вы знаете, мне так понравилось, что я чуть не уписалась, вы верите? Оценка спектакля была столь нетрадиционной, что дама глубоко задумалась над смыслом сказанного. — Она сказала, что вообще любит Верди, — пришел даме на помощь Эдвард. В отель они вернулись глубокой ночью. Но о сне не могло быть и речи. Вивьен и не раздевалась даже — так хотелось ей продлить этот дивный праздник. — Мне очень понравилось, очень понравилось… — только повторяла она. — Я не могу шевельнуться… Они сели к столу и начали играть в шахматы. Нельзя сказать, что Вивьен была классным игроком, но за эти дни названия фигур уже выучила. — Это не королева, это ферзь, — поправил ее в очередной раз Эдвард. «Королева» ей нравилось все-таки больше. — Давай завтра доиграем, уже поздно, мне нужно работать, — мягко напомнил Эдвард. — А что если ты завтра не пойдешь на работу? — пришла в голову Вивьен замечательная мысль. — Устроишь себе выходной? — Не работать?! — ужаснулся Эдвард. Но тут же у него возник очень веский довод в пользу праздности, и он привел его себе вслух: — Мне же принадлежит компания, я могу сам решать.
Филипп Стаки был в конторе с утра. В ожидании Эдварда он сам с собой разыгрывал на бильярде очередную партию. Вошла секретарша, протянула Филу бумаги. — Вот, пожалуйста. Вам звонил мистер Луис. Он сказал, что сегодня решил устроить себе выходной. — Решил устроить выходной? — изумился Фил.
— Я очень хочу есть, — Эдвард и Вивьен вот уже полдня гуляли по городу. Был прекрасный солнечный день, а для Эдварда это был еще и совершенно неожиданный праздник. Сегодня они поменялись ролями с Вивьен — Санта Клаусом была она. В городе, на улице, Вивьен чувствовала себя совершенно естественно. А для Эдварда это было довольно серьезное испытание. Ведь уже многие годы он «не выходил из автомобиля». — Вон там есть закусочная. У тебя деньги есть? — весело отозвалась Вивьен. — Деньги у меня есть, но что такое закусочная? — Не волнуйся, тебе понравится! Трапеза в закусочной действительно понравилась Эдварду. Во всяком случае, это было довольно любопытно. Ведь он отвык есть без того, чтобы за спиной не стоял официант. После они решили немного отдохнуть. Со знанием дела Вивьен ловко расстелила под деревом на лужайке недалеко от людной улицы плед и усадила Эдварда. Если посещение закусочной было не столь частым, но отдаленно знакомым делом, то вот такое сидение под деревом — настоящей экзотикой. «Если бы меня видел Фил, — подумал Эдвард. — Он, наверное, взорвался бы…» В это время Вивьен помогала ему снять туфли и носки — наступил верх блаженства… Для полного счастья не хватало только узнать, что происходит на работе. Эдвард достал трубку радиотелефона и набрал номер. Но Вивьен, не обращая внимания на протест, властно забрала трубку из его рук. Вечером они вернулись в отель. У Эдварда хватило сил только чтобы добраться до постели. Он лег, взял книгу, но не смог прочесть ни строчки.
Вивьен вышла из ванной в изящной шелковой рубашке. Со своими золотыми пушистыми волосами она выглядела настоящей принцессой. Она была счастлива. Сегодня она смогла подарить Эдварду свой праздник. Если бы у нее хватило смелости, то она весь день пела бы для него ту музыку, которую слышала вчера и которая до сих пор звучала у нее в душе! Ей даже в голову не приходила мысль, что все это может иметь какое-то продолжение. Она долго с нежностью смотрела на спящего Эдварда. У нее возникло непреодолимое желание поцеловать его. Это было не чувственное стремление, а переполнявшая ее благодарность за все, что он дал ей. Она присела на край кровати, услышала его ровное дыхание и тронула пальцем его губы. Потом наклонилась к нему, чтобы поцеловать, но не решилась, и только нежно дотронулась губами до его щеки. Эдвард не проснулся. Губы его были так близко, а ее нежность была так велика, что над ней уже не властны были никакие запреты. Эдвард проснулся как от ожога, почувствовав ее губы. И уже не мог, не хотел отпустить ее… Для них сейчас не существовало ни земли, ни неба — они были одно целое… — Я тебя люблю… — прошептала Вивьен запретные слова. «И я тебя люблю», — подумал Эдвард, но ничего не сказал.
Когда Вивьен вышла из спальни, Эдвард уже заканчивал завтрак. — О чем ты думаешь, пока сидишь один? — Я просто думал, что это будет наша последняя ночь вместе, и ты от меня избавишься, — как-то печально пошутил он. — К тому же я практически закончил все свои дела и возвращаюсь в Нью-Йорк. Повисла пауза… — Я бы очень хотел как-нибудь увидеть тебя! Это были слова, которые она втайне желала услышать, но боялась даже признаться себе в этом. — Правда?! — счастливо улыбнулась Вивьен. Они смотрели друг другу в глаза. — Хочешь, я сниму тебе квартиру? У тебя будет машина и куча магазинов, в которых будут делать все, что ты захочешь… Только ты скажи! Она опять была не готова. Как страшно что-то терять в жизни хорошее! Но потеря в тысячу раз страшнее, если ты к ней не готов. «Кит права». Глаза Вивьен погасли. — И ты, уходя от меня, будешь оставлять деньги на тумбочке? — Вивьен, но это будет все не так! — Эдвард не сразу понял истинный смысл слов, которые произнес. — А как это будет? — холодно спросила Вивьен. — Ну, во-первых, ты не будешь работать на улице. «Какая разница! Разве в этом дело!»— кричала ее душа. — Это лишь смена географии, — устало сказала Вивьен и вышла на балкон. Эдвард пошел за ней, но на балкон не вышел, а как всегда остановился в дверях. — Вивьен, чего ты хочешь? Что, по-твоему, между нами происходит? «Чего я хочу? — думала Вивьен. Я хочу уехать отсюда, закончить школу, хочу, чтобы ты приезжал ко мне, и мы были вместе… Я не хочу быть проституткой». — Я не знаю, — ответила Вивьен не глядя на него. — Знаешь… когда я была маленькой и плохо себя вела, мать часто запирала меня на чердаке. Я думала, что я принцесса, которую злая королева заперла в высокой башне. И вдруг появлялся прекрасный рыцарь на белом коне. И верила, что он поднимется ко мне на башню — и спасет меня… Она повернулась к Эдварду и, глядя ему прямо в глаза, сказала: — Но никогда, ни-ко-гда! Ни разу! Когда я думала об этом, рыцарь никогда не говорил мне: «Милая, давай я сниму тебе хорошую квартиру». Звонок телефона спас Эдварда от необходимости что-то ответить. Ему казалось, что он делает то, чего она ждет. Оказалось, что это опять не так. Он не знал или не понимал чего-то главного — и от этого злился на себя. — Да? — спросил он в трубку. Это звонил Фил. — Я должен был позвонить. Я только что разговаривал с Дэвидом Моррисом. Он хочет с тобой поговорить. — О чем поговорить? — По-моему, все в порядке. Все в наших руках. В комиссии у них ничего не получается. Он хочет с тобой встретиться во второй половине дня. — Нет! — отрезал он жестко. — Если он хочет со мной встретиться, я не буду ждать. Если хочет встретиться — пусть встречается в первой половине дня. До свидания! — он бросил трубку, не дожидаясь ответа. Фил наконец-то узнал прежнего Эдварда.
Эдвард подошел к Вивьен. — Мне нужно идти. Я хочу, чтобы ты поняла. Все, что я сказал — это все. Все, на что я способен сейчас. Для меня это и так очень большой шаг. В этой ситуации Эдвард не мог найти выхода. У него не хватало решимости — и он это ясно осознал. — Да, я знаю, — сказала Вивьен и машинально поправила ему галстук. — И вообще, это очень хорошее предложение для такой девушки, как я. — Я никогда не обращался с тобой, как с проституткой! — воскликнул Эдвард и вышел. — Ты только что это сделал, — с горечью сказала Вивьен.
Кит Де Лука добралась до отеля только в субботу. Вивьен была еще под впечатлением от разговора с Эдвардом, когда зазвонил телефон, и она услышала голос Барни Томпсона, управляющего отелем: — Это Барни Томпсон, мисс Вивьен. Вы не можете спуститься? Здесь с вами хотят поговорить. Она говорит, что ее зовут мисс Де Лука. Кит стояла у стойки администратора, ловила на себе удивленные взгляды — и от этого держалась еще более развязно. — Да! Дай, я сама с ней поговорю, — выхватила она трубку у Барни. — Эй, Вив! — заорала она в трубку. — Милая, спустись-ка. А то этот фараон меня не пропускает… Управляющего позвали, и он, уходя, поручил девушке-администратору: — Присматривайте за ней. — Хорошо, сэр! — ответила девушка, с испугом глядя на Кит. Этот взгляд не забавлял, а раздражал Кит. Она прекрасно понимала ситуацию. Всем своим поведением она как бы оборонялась от этого назойливого внимания. Неожиданно она улеглась животом на стойку, подышала на ее полированную поверхность, а потом громко чавкая стала жевать резинку. Увидев, что администраторша побледнела, она удовлетворилась. «Кто еще?», — оглянулась она и увидела пожилую парочку, которая в упор смотрела на нее. — За полтинник, дедуся, хочешь? — игриво спросила она. — За семьдесят пять жена может посмотреть. Пара буквально растворилась. «Если Вив сейчас не спустится, я им, пожалуй, тут всех поразгоняю…», — думала Кит с мстительным азартом. Наконец показалась Вивьен. Подруги обнялись и вышли во внутренний дворик. Тут все было так же шикарно и респектабельно. — Слушай, я тебе звонила! — Да, мне сказали. Ты должна была во вторник прийти, я тебе деньги оставила, — сказала Вивьен. — Слушай, но я была занята, у меня тоже своя жизнь есть, — торопилась рассказать как можно больше новостей Кит. — Ника избили — я должна была в больницу съездить. Карлос от меня отлип. Слушай, если бы он тебя увидел, просто лопнул бы. Они сели за столик под большим зонтиком. — Я просто боялась тебя обнять, — продолжала радостно Кит. — Думала, что помну. Ты очень хорошо выглядишь. Слушай, у тебя здорово все тут, я смотрю. Слушай, тебе нужно такой на бульваре показываться, а не такой, как раньше была. Вивьен с улыбкой слушала болтовню Кит, но весь вид ее говорил о том, что сейчас ее мысли далеко… — Ты хоть квартиру убрала? — спросила невпопад Вивьен, подумав о скором возвращении. — Да! — буркнула Кит. Ее интересовало совсем другое. — Когда он уезжает? — Завтра, — коротко ответила Вивьен. — А одежду ты оставляешь себе? — для Кит это было очень важно. Вивьен кивнула, и Кит это порадовало. — Эдвард спросил, не хочу ли я еще с ним встретиться потом. Тон Вивьен насторожил Кит. — Но я думаю… Я думаю — нет. «Ой-ой-ой… похоже…», — подумала Кит. Вивьен не обратила внимания на ее подозрительный взгляд и продолжала, глядя в пространство: — Нет, ну зачем? — Нет? Зачем? — язвительно переспросила Кит. «Все ясно». — О, я знаю этот взгляд, — сказала она нараспев. — Ничего ты не знаешь, — оправдываясь, сказала Вивьен. — Ты влюбилась в него! — поставила диагноз Кит. — Ты целовала его в губы? — Ну да! Да! Целовала! — Ты целовала его в губы. Ты влюбилась в него. Выходит, я ничему тебя не научила! — Кит с досадой хлопнула по столу. Мечтательный вид Вивьен, тем не менее, нравился ей. — Ты дура! Я не люблю его, просто он мне нравится. — Он тебе точно нравится? Сомнений у Кит не оставалось. И она решила как-то поддержать подругу. Ведь они так часто мечтали об этом! — Ну, Луис, конечно, такой шикарный, богатый молодой человек… — Он мне сердце разобьет, да? — попыталась опередить ее Вивьен, не понимая, к чему она клонит. — Ну, не знаю. Иногда так бывает… Может быть, вы там… будете жить вместе, он купит тебе бриллианты, лошадь… Это же бывает? — Когда это бывает, Кит?! — узнав только что истинную цену таких иллюзий, спросила с улыбкой Вивьен. — Когда это по-настоящему бывает? С кем? — Ну, с кем? — не дождавшись ответа, снова заговорила Вивьен. — С Ритчел? С тощей Марией? — Ну ладно, ладно, — примирительно сказала Кит. — Они были наркоманки. — Ну хорошо. У кого это было? Хоть пример приведи! — не отставала Вивьен. — Тебе назвать кого-нибудь… — Кит лихорадочно припоминала, кто бы это мог быть. «Кто, кто… Ведь был же кто-то… Черт…» И тут Кит осенило. «Ну конечно!» — Золушка, мать ее! — радостно завопила она. Подруги расхохотались. Они-то знали, что такое может быть только в сказке…
Вся команда Эдварда Луиса собралась на главную битву. Сегодня будет решено то, к чему они шли целый год — сегодня Моррис примет их условия и его компания перейдет к Луису. Напряжение и возбуждение были велики, но исход разговора практически ясен. Моррисы — дед и внук — понимали, что им не устоять. Слишком шатким было их положение, слишком сильным был Эдвард Луис. Филипп Стаки тоже был готов к разговору. Все документы, все возможные варианты, все нужные бумаги, — все было у него в руках. Оставалось только поставить на них подписи. Стаки ликовал: часть прибыли — и немалая — скоро пополнит его счет. Все расселись. Один Эдвард прохаживался по кабинету. Он был сосредоточен и задумчив. Впрочем, таким он был всегда перед большим разговором. — Мистер Моррис, — начал Стаки. — Вы сказали, что хотите поговорить с мистером Луисом. Мистер Луис вас слушает. Для Морриса наступила тяжелая минута. — Я снова рассмотрел ваши предложения о покупке моей компании. Эти слова означали «да» — и все это поняли. На лице Стаки появилась легкая улыбка. — Одно условие, — продолжал Моррис. — Меня не очень волнует моя судьба, меня волнует судьба людей, которые у меня работают… — О людях позаботятся. Это не проблема. — Стаки взялся за бумаги. — Так, господа, сейчас рассмотрим контракты. — Прошу прощения… — вдруг раздался голос Эдварда. Все это время он стоял у окна, смотрел вдаль, слушал и молчал. Сейчас он повернулся к собравшимся и без особого выражения в голосе сказал: — Господа, я хотел бы поговорить с мистером Моррисом наедине. Все встали и вышли из кабинета. Филипп продолжал сидеть, так как в таких случаях это его не касалось — он был адвокатом Луиса и участвовал во всех, даже секретных переговорах. — Фил, тебя это тоже касается… Эдвард и Моррис остались одни. Эдвард все не начинал разговор. Он прохаживался по кабинету, и было видно, что этот разговор для него имеет какое-то важное значение. — Так лучше? — спросил он дружелюбно у Морриса, задвигая штору, чтобы солнце не светило ему в глаза. — Так хорошо, — сдержанно ответил Моррис. — Хотите кофе? — предложил Эдвард. — Черный. Эдвард налил кофе, подал чашку. Помолчал. Наконец, как бы окончательно решив, начал: — Мистер Моррис! Мой интерес к вашей компании изменился. — Что теперь вам нужно, мистер Луис? — Какая-то внутренняя уверенность в том, что что-то хорошее должно произойти сейчас, исчезла. Моррис ждал. — Я не хочу больше покупать вашу компанию и разбивать ее на составные части. И не хочу, чтобы кто-нибудь другой это сделал. А вы в очень уязвимом положении. Поэтому я сегодня оказался в очень непривычной роли — я хочу помочь вам. Предчувствия не обманули Морриса. Он был стар и мудр, и в Эдварде, еще в их первую встречу, почувствовал человека, которому мало только делать деньги. Ему еще тогда понравился Эдвард и то, что он пришел в ресторан с этой смешной девушкой. Он не боялся, а значит, мог думать и решать. — Почему? — тем не менее спросил Моррис. — Мистер Моррис, я думаю, что мы можем многого добиться с помощью вашей компании. — Эдвард испытывал огромное облегчение и радость, что он поступил так, как подсказывала ему его собственная душа, переступив через колебания и даже легкий страх. Сегодня он сделал то, о чем думал и мечтал. — А как ваш контракт с флотом? — вспомнив, спросил Эдвард. — Но его же не отменили, а просто отложили. — Моррис улыбался. — Я немножечко блефовал. — Хорошо блефуете, я вам почти поверил, — улыбнулся в ответ Эдвард. — Я думаю, что все мелкие подробности мы оставим остальным, — закончил он этот тяжелый — и такой легкий — разговор. — Я не хочу вам показаться невежливым, — старик Моррис встал и подошел к Эдварду. — Я горжусь вами! — тихо сказал он. — Спасибо! — так же тихо ответил Эдвард. — Я думаю, что теперь можно всех впустить. Вся команда во главе с Филом вновь заняла свои места за столом. — Господа, прошу садиться! — Фил снова был у руля. Эдвард взял в руки свой кейс и направился к двери. — Скажи, что все это значит? — не понял Фил. — Действуй, Фил, заканчивай! — Эдвард приветливо улыбнулся всем и вышел. За дверью он на минуту остановился и услышал, как Фил начал говорить: — Итак, если мы этот договор будем подписывать… Тут же раздался голос Морриса: — Мы ничего не будем подписывать. Эдвард представил лица своих сотрудников, и особенно выражение лица Фила. Он даже пожалел немного, что сейчас не видит их. Он не ошибся, потому что из-за двери послышался громкий голос Фила, который не смог сдержать эмоций: — Что здесь происходит, мать вашу?! И спокойный голос Морриса: — Мы с мистером Луисом будем строить корабли. Большие, большие корабли. Дальше Эдвард уже не слушал. Дальше сотрудники сделают все сами. Он вышел на улицу. Впервые за многие годы он испытывал покой. И хотя он понимал, что солнце не могло засветить ярче, ему казалось, что вокруг стало светлее. Шофер лимузина из отеля ждал у входа в офис. — Я пройдусь пешком. — Эдвард подал ему свой кейс и медленно пошел вдоль улицы. Сейчас ему было хорошо, и это чувство, почти им забытое, даже немного тревожило. Он сошел с дороги на траву и неожиданно для себя разулся. Ощущение напомнило детство, и Эдвард понял, как назвать то, что он чувствовал. Это была беззаботность.
В номере отеля была одна Вивьен. Она собирала вещи. Собственно, и собирать-то было нечего — коробка с шикарной шляпой и несколько платьев, купленных с Эдвардом… Грустные это были минуты. Срок их соглашения истекал завтра, но у Вивьен просто не было сил ждать этого часа. Она уже остыла от утренней обиды, даже горечи не осталось. Наоборот, она остро ощутила, что жизнь подарила ей сказку, и хотелось, чтобы это ощущение осталось с ней. Пусть ее сказка будет с печальным концом — бывают и такие… За свою жизнь Вивьен научилась ценить даже самые маленькие радости. А то, что она получила за эти дни, несравнимо ни с чем. Вивьен улыбнулась, представляя себе, как они будут разговаривать с Кит, как обрадуется Кит ее подаркам. Потом представила, как огорчится Кит, когда узнает про ее решение. В это время раздался звонок. Вивьен подошла к двери, ожидая увидеть Эдварда. Но вошел Фил. — Мне нужен Эдвард! — Сказать, что Фил был рассержен — мало. Он был разъярен и жаждал объяснений. — Эдварда здесь нет. Он был с вами. — Вивьен даже не смотрела на Фила, так он был ей неприятен. Фил бесцеремонно, по-хозяйски зашел в номер и направился к бару. Налил себе, залпом выпил. — Нет, Эдвард теперь точно не со мной. Не-е-т, — противно протянул он. — Если бы Эдвард был со мной… Вернее, — поправился он, подбирая слова, — вернее, когда — да, когда — Эдвард был со мной, тогда он не отказывался от дела, которое сулило миллионы. Я думаю, что Эдвард с тобой, вот что я думаю — Филипп ненавидел Вивьен и не мог этого скрыть. — Выпить хочешь? — развязно предложил он, вкладывая в тон все свое презрение. — Нет, спасибо, — Вивьен постаралась сдержаться, не выдать своего страха. «Дрянь! Какая дрянь! Дрянь!..»— Ее мысли как будто зациклились на этом одном слове и дальше не продвигались ни на шаг. Она подошла к дивану, села и сделала вид, что не реагирует на его присутствие. — Что ж, Эдварда нет, а мы его подождем, — услышала она слова Фила у себя за спиной. — Он, наверное, скоро вернется. Он с минуты на минуту будет дома. Ее простые слова привели Фила в бешенство. Что позволяет себе эта шлюха?! С бокалом в руке он подсел к Вивьен. — Ты знаешь, это ведь не дом. Это — отель… «Сейчас я покажу ей ее истинное место», — злорадно думал Фил и придвигался к Вивьен все ближе. — Это отель, — повторил он, — а ты — не женушка. Ты — проститутка. Ты, наверное, хорошо трахаешься, если ты проститутка. Может, и я тебя трахну, и мне будет плевать, что я потерял миллион. Вивьен сидела не шевелясь. Страх уже прошел, осталось только ощущение страшной грязи. А Фил уже просто не владел собой. Если бы его кто-нибудь видел сейчас, вряд ли в этом человеке он нашел бы хоть каплю порядочности. — Потом, я скажу честно, Вивьен. Меня это очень заводит. Очень. Я очень зол сейчас. Сейчас я просто в ярости! — Фил придвигался все ближе. — Возможно, если я трахну тебя, — грязно ругался он, — потом съезжу с тобой в оперу… Он не окончил фразы, и схватил Вивьен за руку. — Убери руки! — закричала она. Но Фила уже трудно было остановить. Он попытался обнять Вивьен, она отбивалась. Но ярость и злоба у Фила превратилась в похоть. И чем сильнее отбивалась Вивьен, тем сильнее напирал Фил. — Отпусти меня, слышишь?! — Вивьен попыталась вырваться. Фил со всего маху ударил ее по лицу, Вивьен упала. — Ты же шлюха! — заорал он и прыгнул на нее. В эту минуту в номер влетел Эдвард. Он буквально сгреб Фила и швырнул к стене. Потом подскочил к нему и схватил за лацканы пиджака. Фил таким его никогда не видел. — Я хочу тебе сказать, — закричал он теперь уже на Эдварда. — То, что ты сделал сегодня… — Вон отсюда! — Эдвард не дал ему договорить. — Да она шлюха, шлюха чертова! — орал Фил. И Эдвард ударил его. Фил упал, потом вскочил и шатаясь подошел к зеркалу: — Ты, наверное, нос мне сломал, — заканючил он, пытаясь тем не менее как бы сгладить ситуацию. Ведь они — вместе, они — другой круг. А эта болезнь скоро пройдет. — Вон отсюда! — твердо сказал Эдвард. Филипп не верил ушам. — Да что с тобой, Эдвард?! Я с тобой десять лет был. Я тебе жизнь свою отдал. — Это все чушь собачья, это все вранье, — Эдвард уже не сдерживался и кричал. — Тебе нравятся операции, а не я! Я тебя сделал очень богатым человеком. Ты делал только то, что ты сам любишь! Эдвард не дал Филу сказать ни слова в ответ. Он схватил его портфель и выбросил в коридор. — Иди отсюда, я сказал! — уже тише, с ненавистью произнес он.
Вивьен лежала на диване, а Эдвард готовил для нее примочку из льда… У него самого болела рука после удара, но об этом он не думал. — Почему мужики всегда бьют женщин по лицу? — говорила она, предоставив себя его заботам. — Такое впечатление, что сейчас глаза вылезут. Это что такое? Вас что, в школе учат потихоньку, пока мы не видим? Эдвард приложил еще одну примочку. — Знаешь, не все дерутся, — в голосе его чувствовалась искренняя теплота. — Я слышала про то, что ты сделал с Моррисом. — Это было чисто деловое решение, — Эдварду было приятно ее одобрение. — Это было хорошо. — Да, у меня тоже осталось хорошее ощущение. Вивьен совсем оправилась от происшествия. «Пора…» — подумала она. Не самыми лучшими получились последние минуты их совместной жизни. «Так в жизни всегда бывает», — думала она, не зная, что «так» и что «бывает». — Кажется, все уже. Мне надо идти, — просто сказала Вивьен. — Да, я заметил, что ты собрала вещи… — только сейчас Эдвард понял, что она собралась уходить. — Почему ты уходишь сейчас? — задал он ненужный вопрос. — Эдвард, всегда найдется какой-нибудь твой приятель, и он будет думать, что со мной можно обращаться, как Стаки… И что ты тогда будешь делать? Со всеми драться? — Ты ведь не поэтому уходишь… — У Эдварда было чувство, что они очень давно знают друг друга, что им ничего не скрыть. Это был разговор скорее чтобы продлить последние минуты вместе, чем выяснить причины. — Знаешь, ты мне сделал очень хорошее предложение, и несколько месяцев назад не было бы никаких проблем, — Вивьен встала. — Но сейчас все другое, ты все изменил. И ты не можешь это все изменить снова. Мне нужно больше. — Я знаю, что это такое, когда нужно больше. Считай, что я сам придумал это понятие — хотеть больше. Вопрос — насколько больше. — Мне нужна сказка. Это была правда. У Вивьен не было даже горечи или печали… Эти дни решили все в ее жизни. И говорить об этом было бессмысленно. Она знала, что все самое лучшее, самое теплое, самое трогательное в ее жизни уже произошло. Но она не оставляет это здесь, а забирает с собой. — Невозможные отношения, — сказал Эдвард. — Мой главный талант — невозможные отношения. Шутка получилась горькой, но они вместе улыбнулись. Вивьен села на невысокий порожек у выхода и стала обуваться. Эдвард присел рядом, достал пачку денег и подал Вивьен. — Спасибо, — сказала Вивьен и положила деньги в карман. — Когда тебе что-нибудь понадобится, нитка для чистки зубов например, — сказал он и Вивьен рассмеялась, — позвони мне. — Мне было очень хорошо, — улыбнулась Вивьен. — И мне… Вивьен встала, взяла свои наряды. — Тебе вызвать носильщика? — Нет, не надо. — Я это возьму, — Эдвард наклонился и взял коробку. Они подошли к двери. — Останься, — выдохнул Эдвард. Он знал, понимал, что это глупо, что это ничего не меняет, что все кончилось. Но сердце просило, душа не соглашалась. У него не было сил быть стойким. — Останься сегодня со мной! На одну ночь. Не потому что я плачу, а потому что я этого очень хочу. — Я не могу. Сейчас Вивьен была сильной. В эти минуты началась ее новая жизнь. Возможно, у нее не будет больше никогда ничего лучшего, чем эти мгновения. Но перед Эдвардом стояла уже другая Вивьен, и назад дороги не было. — До свидания! — сказала она и не смогла только чуть-чуть совладать с собой, потому что предательски заблестели глаза. Эдвард закрыл дверь. И для него сказка кончилась…
Вездесущий Барни Томпсон был на своем посту в холле. Он был — лицо и дух гостиницы. Вивьен не хотела уходить, не попрощавшись с ним. Он один помог ей в самую трудную минуту, от него, чувствовала она, исходит по отношению к ней уважительная симпатия. — Привет, Барни! — окликнула его Вивьен. — Мисс Вивьен! — Барни был искренне рад ей. Он был настоящий управляющий гостиницей и мог угадывать события только по одному ему известным приметам. Сейчас он знал, что Вивьен уходит. — Я хотела попрощаться. — Значит, вы не будете сопровождать мистера Луиса в Нью-Йорк? — вместо ответа спросил он. Вивьен была в его жизни каким-то неописуемым существом: он чувствовал себя как бы ее крестным. И ему хотелось, чтобы она была не такой, как все. — Барни, — улыбнулась Вивьен. — Мы ведь живем с тобой в нормальном, реальном мире, правда? Барни любовался Вивьен и испытывал странное чувство благодарности к ней. Эта девушка не обманула его надежд. — Вы договорились о машине? — спросил он как у очень уважаемого постояльца. — Я поймаю такси. — Ни в коем случае! В их отеле есть лимузин, всегда готовый к услугам. — Гарольд! — позвал Барни шофера. — Отвезите мисс Вивьен туда, куда она скажет. — Мне было очень приятно с вами познакомиться, — сказал Барни Вивьен — и это не была фраза вежливости. Вивьен видела в нем друга и искренне протянула ему руку на прощание. Барни взял ее руку в свои, наклонился и поцеловал.
Наверху, в своем люксе, Эдвард Луис все еще стоял, прислонившись к двери. Жизнь как-то внезапно опустела, и он как бы сживался с этим чувством. Вдруг он, подумав о чем-то, медленно вышел на балкон, подошел к перилам и с опаской глянул вниз. Сейчас он победил в себе еще один страх.
Наступило воскресенье. Эдвард уже упаковал все вещи и ждал посыльного. Ни на секунду Вивьен не оставляла его: он думал о ней, вспоминал ее слова, ее смешные жесты, ее искреннюю радость своим маленьким победам, ее немыслимую красоту — он просто любил ее…
В маленькой квартирке Кит Де Лука смотрела, как Вивьен упаковывает вещи. Кит знала, что Вивьен уедет. Еще вчера, когда она увидела ее в гостинице, она поняла, что Вивьен решила все бесповоротно. Она знала Вивьен, любила ее — и очень гордилась ею. Но все-таки решила попробовать еще раз отговорить ее. — В Сан-Франциско, знаешь, ничего особенного нет. И климат там — Господи! Холодно! — Я свитер надену. — А что ты там будешь делать? — Найду работу, закончу школу. Ты знаешь, я неплохо училась, между прочим. — Да это понятно, это я вижу. Кит сидела, обняв своего любимого плюшевого мишку и думала о том, как расходятся их дорожки. — Ты не хочешь поехать со мной? — спросила Вивьен. — И бросить все это?! — засмеялась Кит, потому что Вивьен сказала глупость. — Даже за миллион не соглашусь! Это ее жизнь, ее мир, в который Вивьен занесла судьба, а для Кит это единственное, что она знала и где ей, несмотря ни на что, было хорошо. — Иди сюда! — позвала Вивьен. Кит подошла. Вивьен достала из кармана часть денег и положила их ей в карман. — А это что? — Кит растерялась. — Это часть стипендии Эдварда Луиса, — сказала Вивьен с улыбкой, а потом добавила торжественным голосом: — Мы считаем, Кит Де Лука, что у вас большой потенциал. — Правда? У меня правда большой потенциал? Таких слов Кит никто никогда не говорил. А она ведь тоже очень способная, она ведь, если захочет… Чувства переполняли душу, и Кит со слезами на глазах прижалась к Вивьен.
Эдвард Луис спустился вниз, расписался в карточке. — Для меня ничего нет? — спросил он у Барни без всякой надежды. — Нет, мистер Луис. — Мне никто не звонил? — Боюсь, что нет, сэр! Эдвард был уверен, что так и будет. Но как мальчишка надеялся на чудо. — Вызовите машину, я поеду в аэропорт. — Вас отвезут, куда вам нужно, — как всегда учтиво ответил Барни. Эдвард достал коробочку, протянул ее Барни. — И еще… Вы не можете это вернуть в ювелирный магазин, который находится в вашей гостинице? — Да, конечно. Вы позволите, сэр? — Барни открыл коробочку. Там было изумительной красоты колье, в котором Вивьен была в опере. — Наверное, трудно расставаться с такой красотой… — как-то задумчиво сказал Барни. И потом, совершенно без эмоций, голосом вышколенного служащего, не глядя на Эдварда, произнес: — Вы знаете, Гарольд вчера отвез мисс Вивьен домой. Какое счастье, если встречается в жизни такой человек, который знает, какими важными могут быть ничего не значащие фразы. Эдвард ехал в аэропорт. За окном шел дождь, но Гарольд, шофер лимузина, успокоил его: — Ваш самолет вылетит по расписанию, сэр. Вы будете в Нью-Йорке вовремя. «А зачем? — подумал Эдвард. Зачем быть в Нью-Йорке вовремя? Чтобы…» Бывают в жизни такие моменты, когда достаточно сделать только один шаг, подойти к краю и глянуть вниз. И в эту секунду пропадает страх. И потом уже не возвращается никогда. Все, что делал дальше Эдвард, было уже простым следствием этого одного шага…
Вивьен стояла уже у двери, когда в открытое окно донеслась музыка. Эта была та музыка, за которой ехала она сейчас в Сан-Франциско, которая перевернула ее жизнь и вернула ее к жизни. Эту музыку подарил ей Эдвард, и сейчас это он был там, внизу. Если сказки могут сбываться, как прекрасно, что сбылась именно эта! Вивьен вышла на балкон. Ее волшебный принц, взяв букет в зубы, преодолевая последний, самый последний страх, лез по лестнице. И хотя в доме было только три этажа, и Вивьен даже спустилась немного, чтобы помочь ему — это был самый главный подвиг в его жизни! — А что было дальше, потом, когда он залез и спас тебя? — спросил принц на всякий случай. — А потом тут же я спасла его, — ответила принцесса… (обратно) (обратно)
Пьер Рей Аут

(обратно)
Если вы видите прыгающего из окна швейцарского банкира, следуйте за ним. Есть вероятность заработать деньги.ВОЛЬТЕР
(обратно)
ПРОЛОГ
При выходе на прямой участок пути Ролан резко нажал на тормозной рычаг и руками и позвоночником ощутил, как содрогнулась семисотпятидесятипятитонная махина состава. — Развлечемся вечером? Ролан продолжал медленно жать на рычаг, уменьшая скорость. — Я не против, но… — Она красивая? — Спрашиваешь! Это же моя мама! — А мне казалось, что она никогда не выезжает из Лозанны. — Когда я остаюсь ночевать в Цюрихе, она иногда приезжает ко мне. — Сбавь еще… Состав медленно приближался к конечному пункту назначения. Наконец-то заканчивалась бесконечная лента блестящих стальных рельсов. Не снимая руки с рычага, Ролан машинально бросил взгляд на бетонный перрон, заставленный ручными багажными тележками, заваленный тюками, заполненный встречающими, которых становилось все больше по мере того, как электровоз приближался к зданию вокзала. — Что это с ними? — С кем? — Ты только посмотри на их физиономии… До ограничительного буфера оставалось сто метров. Стоявшие на перроне люди со странным выражением на вытянутых от удивления лицах смотрели на Ролана и Лючиано. Выражение страха и омерзения не исчезало даже тогда, когда электровоз медленно проплывал мимо них, и они, повернувшись, смотрели ему вслед. — Слушай, может, у меня на лбу размазан томатный соус? — А у меня? — спросил Ролан. Когда электровоз въехал под стеклянную крышу навеса, где в застывших позах рядом со своим багажом стояли пассажиры, скорость не превышала десяти километров в час. — Прибыл поезд номер 127 Женева — Цюрих… Не подходите близко к краю перрона, — раздался мужской голос из многочисленных громкоговорителей. Ролан увидел, как какая-то толстуха выронила из рук свою сумочку и, вместо того чтобы наклониться за ней, ткнула указательным пальцем в его сторону и в ужасе зажала ладонью рот. — Черт! — чувствуя неясное беспокойство, воскликнул он. — Что все это может означать? У всех на лицах появилось одно и то же удивленное выражение. Был еще один момент, которого хватало с лихвой, чтобы вызвать у машинистов поезда тревогу: там, где они проезжали, устанавливалась мертвая тишина. — Тормози! Ролан до упора вывел рычаг тормоза. Электровоз остановился, не доехав пятидесяти сантиметров до ограничительного буфера. Лючиано отключил электроснабжение. Двое служащих вокзала о чем-то тихо перешептывались, бросая быстрые взгляды в их сторону. Тот, который был поменьше ростом, энергично кивнул головой и засеменил к зданию вокзала. Второй, Ролан его знал, подошел к электровозу и по лестнице вскарабкался в кабину. Не говоря ни слова, он странно посмотрел на машинистов. — Где вы это подцепили? — прокашлявшись, спросил он. — Что «это»? — резко парировал Ролан. — Как, что это»? — удивился железнодорожник. — Вы можете выражаться яснее? — рявкнул Лючиано. — Мы не гадалки, и у меня нет желания играть в отгадки! — Следуйте за мной. Стоявшие на перроне люди молчали… Слышалось только астматическое пыхтение дряхлого паровичка, выезжавшего из ворот ангара. Лючиано и Ролан спрыгнули наперрон. Только оказавшись перед электровозом, который они ласково называли «Маргаритой», они все поняли: на решетке обходной площадки электровоза, словно прикрепленная рукой злого шутника, висела мужская нога, отрезанная по пах. Едва заметное пятно крови ржавого цвета проступало сквозь темную ткань брюк в том месте, где были перерублены кости. Совсем не к месту Ролан подумал, что нога принадлежала респектабельному мужчине и выглядит элегантно. Возможно, на эту мысль его натолкнула великолепная кожа черной туфли и шелковый носок такого же цвета. Присмотревшись получше, он заметил тонкую струйку крови, стекавшую по лодыжке на туфлю и расплывавшуюся коричневым пятном по полу стальной обходной площадки. Ни Ролан, ни другие свидетели не могли себе вообразить в тот момент, с какой невероятной скоростью расплывется это пятно по многим континентам, превращаясь в кровавое море. (обратно)ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЭКСПРЕСС «ЖЕНЕВА-ЦЮРИХ»
ГЛАВА 1
Когда рядом с ним была его жена, Морти О’Бройн старался не дышать. Джудит наводила на него ужас. Язвительную складку горечи в уголках ее рта не могла скрыть даже лучшая косметика. От ее взрывного голоса Морти хотелось раствориться, но еще страшнее было ее молчание, тягостное и презрительное, или ее мигрень, единственным виновником которой, естественно, был он и при этом не относился к ней с должным благоговением, на которое она имела право как страдающая женщина. В последние годы Морти оставил всяческие попытки наладить с женой нормальные человеческие отношения, не говоря уже об интимной стороне их жизни. Как можно ее наладить проводя ночи в разных спальнях… Обычно их разговор ограничивался обменом односложными предложениями, среди которых чаще всего встречались слова «мигрень», «смешной», «платить», «сколько»… В начале совместной жизни Морти надеялся найти у Джудит поддержку, проявление интереса к своим делам и успехам — наивная простота! Он очень быстро заметил, что она с удовольствием высмеивает его неудачи и никак не реагирует на маленькие победы, считая это само собой разумеющимся. Незаметно между ними выросла глухая стена обоюдной неприязни, и каждый ушел в себя. Джудит перестала вслух высказывать свои жалобы, перейдя на мимику, а Морти ревностно хранил свои профессиональные удачи, опасаясь, как бы случайным оскорбительным или презрительным словом она не свела к нулю его радость. Четыре года тому назад, став уже известным в Нью-Йорке адвокатом, он получил предложение работать на Синдикат и на радостях чуть не рассказал ей об этом. Но в последнюю секунду необъяснимое предчувствие остановило его. Он завалил ее дорогими мехами, одеждой, драгоценностями, но все это не помогло перебросить хрупкий мостик взаимопонимания между пропастью их отчужденности. Имя Габелотти говорило Джудит ровно столько, сколько имя Крэнч для фермерского работника. Она прикурила двадцатую за утро сигарету и бросила спичку в чашку с почти нетронутым кофе, стоявшую на подносе. Рассеянным движением руки Морти прошелся по замкам небольшого чемодана. — Ты уезжаешь? — спросила она. — Да. — Но ты только что прилетел из Европы. Господи, у меня опять мигрень! — Прими таблетки. — Куда ты отправляешься? Неожиданный вопрос насторожил его: ни о чем подобном раньше она его не спрашивала, демонстрируя полное безразличие к его отъездам. «Что с тобой?» — хотел спросить он, но вовремя прикусил язык. — В Нассау. Она машинально перелила содержимое кофейной чашки, наполненной обгоревшими спичками, в стакан, заполненный до половины соком грейпфрута, и опустила туда едва начатую сигарету. — Везет же тебе… Он разволновался и стал искать ее взгляд, но с облегчением отметил, что ничего, кроме обычной скуки, в нем нет. — Если будешь готова через пять минут, я возьму тебя с собой, — иронично сказал он. — Смешно… У меня мигрень. Знала бы она, чего он достиг. Он, которого и сегодня она рассматривает как заурядного адвоката-неудачника, каким он был в начале карьеры, когда приходилось чуть ли не просить милостыню. Он, которого она мечтала сделать импотентом, отказав ему в интимной близости. Смогла бы она поверить в то, что он собирается осуществить, расскажи он ей всю правду? Он кашлянул и сказал: — Ну вот… Надо ехать. Было бы совершенно естественным, если бы он испытывал чувство исполненного долга, волнение, охватывающее героев романов, когда они одним росчерком пера подводят черту двадцатилетнему союзу. Но нет, ничего подобного он не ощущал. Мортимер О’Бройн был спокоен, как если бы сегодня вечером он возвратился домой к ужину. Мысль, что у них нет детей, неожиданно наполнила его необыкновенной легкостью; они ничего не создали, он ничего не разрушает. Оставляя ее, он оставляет и частицу самого себя, покрытый пылью отрезок своей жизни, воспоминание о которой удручало его: слишком долго он не мог решиться на этот окончательный шаг. Пройдет менее сорока восьми часов, и он, вместе с другой, будет далеко отсюда: в мире грез, о существовании которого не догадается ни один человек в мире. Он, Мортимер О’Бройн, станет самым богатым человеком на земле, таким богатым, каких еще никогда не было; настолько богатым, что этого не сможет представить себе самый изощренный человеческий мозг. С чемоданом в руке он стоял уже почти у самой двери, когда она окликнула его. — Морти, попроси Маргарет принести мне стакан холодной воды и мои таблетки. Он согласно кивнул головой, подумав, что последнее слово, услышанное от нее, было «таблетки». Закрывая за собой дверь, он улыбнулся: она никогда больше не увидит его.* * *
Маленький самолет делал третий заход… Он снова спикировал над главной артерией Чиавены, пролетел вдоль нее и резко взмыл вверх, едва не задев колокольню церкви. Стоя с поднятыми к небу лицами, жители небольшого городка с интересом смотрели, как сверху, чем-то похожие на опавшие листья, медленно опускались разноцветные листочки бумаги. Был полдень. Ярмарка собиралась раз в неделю, и вся главная улица городка была заполнена народом. Легкий бриз, дувший в этот апрельский четверг с расположенного рядом озера Коме, с определенной точностью позволял угадывать гибкие тела молодых девушек, успевших достать из нафталина свои легкие платья. Двое мальчишек подобрали с земли упавшие бумажные листики, которые вначале они приняли за рекламные листовки, и с недоумением осмотрели их со всех сторон. Молча поглядели друг на друга, не смея поверить… Двенадцатилетний мальчишка, сын булочника, первым сделал вывод, что то, что он держит в руках, есть именно «то». Переполненный эмоциями, он со всех ног бросился к родительской пекарне, крепко прижимая к груди ворох банковских билетов, упавших с неба, и крича не своим голосом родителям, которые вышли на улицу, привлеченные шумом низко пролетевшего самолета: — Деньги! Папа! Мама! Быстрее сюда! Идет дождь из денег! И тут даже скептики, с ухмылкой смотревшие на падавшие с неба бумажки, ощутили невероятное возбуждение. Все бросились между машинами, в беспорядке припаркованными на улице. Согнувшись вдвое, они подбирали купюры, и воздух наполнился криками, плачем, подбадриванием и угрозами. На несколько секунд все потонуло в грохоте возвратившегося самолета. Старухи бормотали: «Чудо! Чудо!» Кое-где право на обладание «небесными деньгами» стали выяснять с помощью кулаков. Дети бросились к деревьям доставать банковские билеты, застрявшие между ветками. Это были красивые, нежно-сиреневого цвета, настоящие банковские билеты Швейцарского национального банка достоинством от десяти до пятидесяти франков. Лихорадка охватила всех, драки уже шли по всей улице. Рената выровняла самолет и рассмеялась: сверху зрелище напоминало сошедший с ума курятник, обитатели которого с невероятной быстротой клевали воображаемые зерна. — Ну и дрянь же ты! — крикнул во всю силу своих легких Курт, стараясь перекрыть шум двигателя и вой ветра. Рената резким движением задвинула плексигласовый колпак над кабиной, и самолет взмыл вверх. Она бросила на Курта незаметный взгляд. — Зачем дразнил меня? — сказала она. Они летели над небольшой зеленеющей долиной с разбросанными по ней темно-зелеными пятнами елей. — Держись крепче! Пикирую! — крикнула Рената. — Рената! — завопил Курт, чувствуя, как по спине побежали противные струйки холодного пота. Самолет камнем полетел вниз, прямо на стадо коров, которых Рената избрала своей целью. Едва не прокатившись по их спинам, самолет унесся в долину, преследуемый двумя огромными собаками. Весь маневр занял не более секунды, но Курт успел заметить, как пастух потряс кулаком им вслед. — Что ты пытаешься мне доказать? — спросил он, стараясь говорить спокойным тоном. — Что ты во всем не прав! Ты видел, как они бросились за мелочью, которую я им выбросила? Даже начали драться! Ты утверждал, что никто не сдвинется с места! Что это унизительно! Что это оскорбление чувств простого народа! Кто оказался прав?.. Курт заерзал в кресле и сделал вид, что ничего не слышал. Его подташнивало. Он сожалел, что спровоцировал ее на этот эксцентричный полет, превративший в ее руках пассажирский самолет в кошмарный реактивный истребитель. Курт никогда не забудет тот день, когда пригласил ее на день рождения своего коллеги. Сидя рядом с ним за столом, она шепнула ему: «Мой сосед — зануда. Спорим, что я опрокину на него свою тарелку со спагетти?» То ли по рассеянности, то ли по неосторожности он произнес: «Спорим», — и по безукоризненному костюму его товарища по работе потек томатный соус… — Ты не ответил мне! В отместку за его молчание она тут же сделала «свечу», послав самолет вверх перпендикулярно земле. У Курта перехватило дыхание. Затем он «насладился» очередным пике, когда небо и земля поменялись местами. Падая вниз головой, он услышал: — Ну так что? Ты все еще утверждаешь, что деньги — дерьмо и люди не встанут на четвереньки, чтобы поднять их? Он стиснул зубы, из последних сил контролируя свои эмоции… Если эта сумасшедшая не разобьет самолет в ближайшие секунды, у него есть микроскопический шанс добраться живым до места, откуда они отправились в это безрассудное путешествие, — в Цюрих. Именно там через три дня, а точнее 26 апреля, состоится их бракосочетание.* * *
Заза Финней искренне удивлялась, что до сих пор ни один продюсер не остановил ее на улице и не предложил сниматься в главных ролях, настолько неотразимой она себя считала. Ни одно пятнышко, ни одна морщинка не портили гладкую, натянутую кожу ее лица, озаренного темно-синими глазами, которые, по ее мнению, были таинственными и необыкновенными. Стоя обнаженной перед зеркалом, она принимала различные позы, любуясь своим телом со спины, в фас и профиль. Она не могла оторвать взгляд от совершенной линии перехода тонкой талии в полные бедра, от шелковистой мягкости золотистой от загара кожи, от изящных тонких лодыжек и волнующих выпуклостей ягодиц. Слезы навернулись у нее на глазах от собственной красоты. Она в очередной раз спросила себя, правильно ли поступает, решив связать свою жизнь с этим плюгавеньким мужичком, который, — черт знает, как у него это получается! — как по волшебству, превращает в золото все, за что берется рукой и куда ступает его нога… Странный случай свел ее с ним шесть месяцев назад. К страсти, которую она испытывала к собственному телу, добавлялось невероятное тщеславие актрисы. Она была уверена, что стоит ей только появиться на экране или сцене, как тут же многообразием мимики, силой своих чувств она заставит зрителей рыдать или смеяться. Надо было с чего-то начинать. Она стала фотомоделью. Ее снимки украшали коробки с концентратом спаржевого супа. Переспав с ней, фотограф уговорил ее сфотографироваться в более интимных позах, поклявшись, что дальше его личного архива негативы не уйдут. Она чуть не лопнула от гордости, когда три месяца спустя увидела себя в одном сомнительного характера журнале, сообразив тем не менее, что из этого можно извлечь определенную выгоду, если притвориться оскорбленной и униженной. Из предательства фотографа можно сделать небольшой скандал, который, при удачном стечении обстоятельств, перерастет в настоящий и вызовет нужную реакцию в прессе. У одной из своих подруг она узнала фамилию лучшего адвоката в городе, решив предать максимальной огласке это «злоупотребление» доверием. В кабинете Мортимера О’Бройна ее встретил зануда стажер, который, посмотрев на нее, как на неудачно выпеченный блин, заявил, что не знает, где патрон, и неизвестно, когда будет. Она приходила еще дважды. Во время третьего визита в ее разговор со стажером вмешался невысокого роста мужчина, из тех, на кого женщины обращают внимание только в том случае, если у него в спине торчит нож или на груди написана внушительная цифра состояния. К ее большому удивлению, стажер неожиданно смутился и с подобострастной улыбкой заявил: «Мистер О’Бройн лично займется вашим вопросом». С этого все и началось… Она быстро отметила, что за неприметной внешностью этого незнакомца скрывается экстравагантная широта души, необыкновенная щедрость, которая не исчезла после первой ночи любви. В то время Заза жила в убогой комнатенке и в постоянном страхе быть выброшенной на улицу за неуплату за жилье. Все ее богатство состояло из дешевого чемодана, одного вечернего платья, спортивного костюма и косметички. Дорогие подарки Мортимера ослепили ее настолько, насколько разочаровали его кроличьи объятия, которые, однако, доводили самого адвоката до любовного истощения, граничившего с мистическим экстазом. Спустя некоторое время он снял для нее роскошные апартаменты в отеле «Уолдорф-Астория», где — о, сказка! — она могла заказывать из ресторана все блюда без ограничения. Аппетит у нее рос не по дням, а по часам, и уже через неделю ее гардеробу могла бы позавидовать средней величины кинозвезда. Чтобы испытать прочность чувств своего любовника, она потребовала драгоценности. Он выполнил ее просьбу с ошеломляющей поспешностью, выйдя далеко за пределы ее воображения. Ни одна просьба не могла застать его врасплох, и он с удовольствием исполнял ее желания, стоило ей только чего-то захотеть. Взамен он требовал от нее безоговорочного присутствия на бесконечных приемах, на которых она умирала от скуки. Его привычка брать ее за руку, когда за ними наблюдали, и с выражением безграничной глупости смотреть ей в глаза выводила ее из себя. Она краснела, внутри у нее все клокотало, и она готова была провалиться от стыда хоть в тартарары. Он никогда не говорил с ней о делах, ограничиваясь подарками, пока однажды, месяц назад, не произнес эту загадочную фразу: — Я хотел бы, чтобы мы жили вместе… Только ты и я. Ты готова к этому? Заза знала, что он женат. От перспективы постоянной совместной жизни ее передернуло от отвращения. Она тут же проконсультировалась с Джимми, фотографом «предателем», с которым продолжала поддерживать интимные отношения и который без излишней скромности принимал от нее «капусту», как ей поступить. Он чуть не сорвал голос, доказывая ей преимущества такого любовного союза и не переставая удивляться, что человек такого положения, как О’Бройн, оказался на крючке этой самовлюбленной вонючей телки, — у него перед глазами в студии за день проходило десятка полтора ничуть не хуже. Как и большинство дурочек, свято верящих в непреходящее очарование своего зада, Заза, которая не видела дальше собственного носа, ограничилась небрежной репликой: — Конечно, не тебе поливать этот овощ… То, что она услышала в ответ от Джимми, явилось для нее полной неожиданностью и произвело огромное впечатление. — Тот, которого ты держишь за овощ, улаживает самые щепетильные дела Синдиката! Она разразилась смехом: Мортимер — гангстер!.. Не без усилий заставив работать свой мозг, она через десять секунд смотрела на О’Бройна уже глазами Джимми. Вчера Мортимер опять задал ей тот же вопрос: «Ты готова?» Она ответила: «Да». Заза отодвинула штору в сторону и посмотрела вниз через огромное, во всю стену, окно: подобно медленной реке, текла нескончаемая толпа туристов. Она всегда мечтала побывать в Нассау и пройтись по Бей-стрит. Теперь она здесь, и ей невероятно скучно. Морти возвратится не раньше чем через час. Билеты на самолет заказаны, но куда они летят, ей неизвестно. Он всячески уклоняется от ответа, ограничиваясь обещаниями. «Там, куда мы направляемся, ты будешь вроде как королева. Любая твоя прихоть будет исполняться мгновенно!» «Хочу слона», — скучным голосом сказала она. Морти уточнил восторженно детским голосом: «Полагаю, ты имеешь в виду слона из чистого золота!» Разволновавшись, она прошла в ванную комнату, подсчитывая, для поднятия настроения, количество дней, которые ей предстоит провести вместе с Морти, прежде чем она найдет способ наложить лапу на добрую часть его капитала и сбежать к Джимми. Противнее всего было не то, что он пользовался ее задом, а его привычка брать ее за руку и ждать от нее проявления этой мерзопакости — нежности.* * *
Военные грузовики с солдатами выехали из Женевы, Ниона, Фрибурга, Люцерны, Цуга и Цюриха. Каждый солдат получил приказ тщательно обследовать триста метров железнодорожного полотна в радиусе десяти метров по обе стороны от путей. Хоть однажды швейцарская полиция и армия пришли к единому мнению, что человеческий труп, пусть даже с ампутированной ногой, может нарушить размеренный ритм жизни швейцарской деревни. Полиция занялась расследованием, армия — поиском. Приказ был категоричен: искать до тех пор, пока не будут найдены останки. С наступлением темноты младшие офицеры отдали распоряжение включить электрические фонари. Найденная на обходной решетке электровоза Женева — Цюрих нога была передана следователям. На туфле стоял штамп нью-йоркского изготовителя обуви — «Биаска». Цюрихские полицейские незамедлительно связались по телефону с нью-йоркскими коллегами, и те включились в расследование. При небольшой удаче можно будет быстро установить личность владельца туфли. В кармане штанины швейцарские инспекторы обнаружили пять тысяч долларов и железнодорожный билет, закомпостированный в Цюрихе. Это обстоятельство их сильно озадачило, потому что, по логике вещей, нога-путешественница, вместе со всем телом законного ее обладателя, должна была прибыть в Женеву…* * *
Расслабленно откинувшись на спинку кресла, Итало Вольпоне, он же Малыш Вольпоне, внимательно наблюдал за одиннадцатью мужчинами, сидевшими за столом заседаний. Справа от него занял место Витторио Пиццу, слева — Моше Юдельман. Заняв кресло брата, он чувствовал себя спокойно и уверенно. Чтобы лучше войти в роль, он сделал над собой усилие, приказав пальцам оставить в покое авторучку из чистого золота, а глазам прекратить метаться из стороны в сторону. Он осторожно просунул два пальца во внутренний карман пиджака, чтобы на мгновение прикоснуться к колоде игральных карт, с которыми никогда не расставался. Игра вдыхала в него жизнь, а жизнь давно превратилась в опасную игру. В путешествия он всегда брал с собой миниатюрную рулетку. Когда он запускал шарик из слоновой кости, постепенно увеличивая ставки, время для него останавливалось. Свой рекорд продолжительности игры он установил в одном частном салоне в Лас-Вегасе: три дня и четыре ночи! Через равные промежутки времени лакеи ставили перед ним пиццу и напитки. Он машинально глотал, ни на секунду не прерывая игру. Встав из-за стола, он потянулся, чтобы размять онемевшие мышцы и… рухнул на пол, мгновенно уснув. Его перенесли в спальню, где, ни разу не проснувшись, он проспал сорок часов. — Наш друг О’Бройн, ваше доверенное лицо, в эту минуту вылетает из Цюриха. Все в порядке! Кстати, вот телеграмма, которую я получил от дона Дженцо. Он вытащил из кармана мятый лист бумаги, который успел прочитать не менее ста раз, перед тем как выполнить указание брата — собрать совет и объявить новость. Этторе Габелотти бросил быстрый взгляд и молча передал лист Симеону Ферро, который переправил его Джозефу Дотто. В то время как Кармино Кримелло, Витторио Пиццу, Анджело Барба, Винченце Брутторе, Томас Мерта, Алдо Амальфи Карло Бадалетто и Фрэнки Сабатини по очереди знакомились с содержанием телеграммы, Итало думал о том, что присутствует при рождении исторического события: мирная встреча — после двадцатилетней холодной войны, нарушаемой время от времени смертоносными взрывами — двух самых могущественных «семей» Синдиката, «семьи» Габелотти и «семьи» Вольпоне. Его взгляд скользнул по лицам присутствующих, отметив дрожь удовлетворения, которое не могли скрыть под искусным лаком масок их физиономии. Пройдя по кругу, телеграмма снова возвратилась к Итало Вольпоне. — И все? — нагло спросил Карло Бадалетто. Он ненавидел Итало и использовал любой предлог, чтобы задеть его. Пять лет тому назад, когда Итало возвратился из Лондона, Бадалетто еще входил в число членов «семьи» Вольпоне. Вместо «Добро пожаловать!» он иронично бросил: «Как дела, голожопник?» За эту фразу он расплатился двойным переломом челюсти и потерей передних зубов, один из которых, после сильнейшего удара Итало головой, остался у того во лбу. На Сицилии «голожопниками» презрительно называли тех, кто уезжал из страны за границу, это слово рассматривалось как оскорбление. Но если Итало провел два года в Англии, все главы больших «семей» Нью-Йорка и Западного побережья знали, что он выполняет приказ своего брата. Дзу Дженцо Вольпоне был доном, и малейшее его слово воспринималось как изречение оракула. Даже его младший брат не мог оспаривать его решений. — Все! — ответил Итало, испепеляя Бадалетто взглядом. Итало хотел дать почувствовать ему свое превосходство, стать в чем-то похожим на своего брата Дженцо, который, не прибегая ни к каким ухищрениям, только своим присутствием заставлял трепетать любого… Итало был не из робких, но Дженцо обладал громадным преимуществом — его уважали! Но за мягкими манерами Дженцо, его открытой улыбкой и фантастическим даром сглаживать острые углы в конфликтных ситуациях скрывалась безжалостная и алчная натура. В противоположность брату, Итало не мог долго сдерживать в себе кипящий гнев, который постоянно и независимо от сознания переполнял его. Неконтролируемые импульсы толкали его на сиюминутное удовлетворение своих желаний, были ли они личные, чувственные или экономические. Обделенный ораторским даром, разрываемый бушующими в нем страстями, он, не будь рядом Дженцо, чаще заменял бы разговоры физической расправой. Руководители Синдиката с подозрением относились к отсутствию в Итало хладнокровия и предрасположенности к грубому и примитивному насилию. Времена Аль Капоне безвозвратно ушли в прошлое… Нет, случаев насилия не стало меньше, но техника исполнения стала гибче: человек исчезал без излишнего шума, а анонимные исполнители, подобранные через посредников, получая деньги, не знали, почему и для кого они выполняют «заказ». И ни один сыщик не выйдет на истинного заказчика, потому что это уважаемый бизнесмен, который исправно платит налоги и находится под защитой закона, а если и ведет непримиримую войну, то только с конкурентами по бизнесу. Сегодня, с помощью армии высококвалифицированных юристов, деньги, полученные от рэкета, шантажа, продажи наркотиков, проституции, вкладываются в легальные предприятия, находящиеся вне всякого подозрения: госпитали, учебные заведения… Не являлся исключением из правил и Дзу Дженцо Вольпоне, инвестировавший огромные суммы в систему школ по изучению международного права. — Первая фаза операции завершилась, — заговорил Моше Юдельман. — В течение трех месяцев наши деньги будут «отмыты»… Родившись в Бронксе, нищем квартале Нью-Йорка, Юдельман получил университетское образование, раскладывая овощи по полкам и играя с «одноруким бандитом». Но Бог дал ему бесценный дар: Моше мог превзойти в быстроте принятия единственно правильного решения по той или иной финансовой операции любого директора центрального банка. Появившись на свет с цифрами в голове, как другие рождаются с голубыми глазами, он знал — не изучая, понимал — не начав размышлять и никогда не искал — всегда находил. Его острое финансовое чутье удваивалось за счет математического гения. Ни одно досье, каким бы запутанным оно ни было, не выдерживало в его руках более пяти минут. Он мгновенно выхватывал самое слабое место, находил едва заметную неточность, например отсутствующую запятую, которая в корне меняла содержание, делая легальным то, что преследовалось бы законом, и при этом не наталкивала проверяющего на недоверие к изложению и не вызывала у него сомнений. Он лучше компьютера помнил точные цифры доходов «семей»-противников, входящих в Комиссьоне, представлявшую собой высший орган ассоциации одиннадцати «семей», контролирующих мировой подпольный бизнес, в котором Дзу Дженцо Вольпоне был далеко не на последних ролях. Когда Юдельман вошел в «семью», Дженцо пришлось приложить немало усилий, чтобы Моше стали считать своим. Сицилийцы с трудом терпели присутствие еврея в своей среде. Страстно привязанные к прародительским традициям своей древней страны, они испытывали извращенную ненависть ко всему, что было чуждо их клану, их этнической группе, сбросив в одну корзину ирландцев, негров, евреев, китайцев и протестантов. Первое время Юдельман вел себя ниже травы, тише воды, подавая голос лишь тогда, когда интересовались его мнением. Он сохранял абсолютный нейтралитет, никогда не поддерживая чью-либо сторону, и никогда не произносил грубых, оскорбительных слов. Он просто всегда был на месте: как мебель, к которой привыкли и которой пользовались в нужный момент. Он был достаточно проницательным, чтобы быстро сделать вывод относительно негласных законов клана, сводившихся к девизу святого Франсуа Асиза: «Не пытайся изменить мир! Измени его!» К этому у него стремления не было. Невидимый мир, в котором он варился, давал ему возможность удовлетворить собственный голод власти и амбиции тайного советника. Его поразительные математические и организаторские способности обеспечивали ему все остальное. В то время как в целях упрочения своего влияния «семьи» вели братоубийственные войны, Моше сумел не только выжить, но занял место, о котором не смел даже мечтать, став одним из влиятельных лидеров высшего эшелона мафиозной структуры. Роль личного наперсника Дзу Вольпоне, о которой знали на всех уровнях структуры Синдиката, сделала Моше при разрешении крайне щепетильных вопросов чем-то вроде единственного арбитра, за которым оставалось последнее слово. Его напряженная, ответственная работа не мешала ему создавать собственное состояние, увеличивающееся день ото дня через посредство разумных и выгодных капиталовложений и неординарных решений при игре на бирже. Он никогда не забывал старую пословицу: чтобы не быть съеденным львом, его нужно кормить. В первые годы он все свои усилия направил на заполнение деньгами карманов своих хозяев. И только почувствовав некоторую свободу в действиях, взялся за накопление собственного состояния. Это по его совету Дженцо согласился на временный альянс с человеком, которого всегда считал врагом номер один: Этторе Габелотти. Римская маска, тяжелые мешки под глазами. Этторе весил сто двадцать килограммов и внешне напоминал добродушного отца семейства, чьи периодические приступы гнева, правда, часто заканчивались для любого, оказавшегося в его немилости, смертельным исходом. Если человек ему не нравился или не выполнял его приказов, бесполезно было отвечать «да» или «нет», он умирал, не успев обратиться к всевышнему за помощью. Моше потребовались чудеса дипломатии, чтобы убедить его, что, когда речь заходит о распределении доходов, его интересы пересекаются с интересами Дженцо Вольпоне, а в выигрыше остаются оба. Но сегодня договор был подписан и давал ход самой фантастической финансовой операции, когда-либо реализованной международной мафией. Габелотти, до сих пор не произнесший ни слова, почувствовав, что Юдельман смотрит на него, метнул в его сторону пронзительный взгляд и тут же смягчил его. Моше улыбнулся и отвел глаза. — Дайте мне телеграмму, — потребовал Габелотти. Едва касаясь кончиков пальцев присутствующих, телеграмма перелетела на другой конец стола. Взяв ее в руку, Габелотти хохотнул и посмотрел в сторону младшего Вольпоне. — Скажи, Малыш, твой брат не разорился, отправив этот текст? Присутствующие оживились. Итало засмеялся вместе со всеми, когда понял, что никакого подтекста в крошечном замечании Этторе в его адрес нет. Следует сказать, что сообщение из Цюриха состояло из одного слова, составленного из трех букв: «АУТ». Эти три буквы подводили итог криминальной деятельности сидевших за столом переговоров. Речь шла о двух миллиардах долларов!* * *
Инес утверждала, что в детстве питалась только молоком и кровью. В ее племени мужчины достигали роста двух метров двадцати сантиметров, а женщины — метра девяноста. Когда мужчины выходили на поле брани против «нормальных» воинов, те казались просто карликами. Еще она говорила, что ее отец — король и у нее есть восемь братьев, один красивее другого. Во время церемонии посвящения в совершеннолетие они, доказывая свою неустрашимость, должны были наносить себе серьезные раны в области гениталии. Ландо, которому ничто не было чуждо в сфере гениталий, слушал ее истории, открыв рот, не улавливая границы между вымыслом и правдой. — Ты хочешь сказать, что твои братья затачивали свои палки бритвой? Инес протянула руку и взяла мандарин из вазы, стоявшей на полу. — Именно так… — Надо быть сумасшедшим, — вздохнул Ландо. — Дикари, они и есть дикари! Он искоса посмотрел на большое тело своей любовницы. Без обуви она была одинакового с ним роста, что позволяло ему заниматься с ней любовью стоя, без лишних ухищрений. Он повернулся к ней и спросил: — Какой у тебя рост? — Сто восемьдесят пять. — Странно… Ты не производишь впечатления жирафа… — Все относительно, бедненький ты мой Ландо. В моей стране даже ты смотрелся бы недомерком. Инес приехала из Бурунди, из города Бужумбура. Она часто показывала своим отполированным, покрытым красным лаком ногтем крошечную, как мушиное пятно, точку на карте между Кенией, Конго и Танзанией. — Рядом с твоим городом протекает река, да? — спрашивал Ландо, тыкая пальцем в голубую ниточку, извивавшуюся по охристому тону карты. — Большая? — Чуть больше ручейка… Сто метров в ширину и тысяча километров в длину. Совсем маленькая… — Ты шутишь? — Совсем нет. Настоящее ее имя было Кибондо, принцесса Кибондо. Попробуй докажи, что это не так! Она рассказала ему, что до приезда в Швейцарию работала ведущей фотомоделью в Риме и что итальянский фотохудожник дал ей это имя — Инес. Ее хорошо знали в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, где за фотосъемки ей платили сумасшедшие деньги. Ее тело было настолько совершенным, что она позволяла себе носить туфли на десятисантиметровом каблуке, ничуть при этом не уродуя свою фигуру. Не обратить на нее внимание было невозможно. Но никогда никакой иронии не было в глазах тех, кто пожирал ее взглядом. Лишь легкое восхищение, которое может вызвать вещь, прибывшая с другой планеты, и которую находят красивой, поразительно красивой, несмотря на то что она не укладывается в общепринятые эстетические рамки. Ландо провел рукой по бесконечно длинному бедру цвета разогретой бронзы, гладкому, как камень, обработанный морскими волнами за тысячелетие, мускулистому, но мягкому, приятно обжигавшему ладонь. Ему льстило, что такое создание принадлежало ему… С тех пор как она стала заниматься проституцией, деньги и подарки посыпались на него, как из рога изобилия. Она осторожно убрала его руку с бедра. — Я опаздываю. В семь у меня свидание. — Опять твой старикашка? — Когда он стоит напротив меня, его очки находятся точно на уровне моей груди. — А когда лежит? — В кровати — все одинакового роста. Почти… — Задержись, пусть немного понервничает. — Нет, он очень пунктуален. А когда я работаю, никогда не опаздываю. Она потянулась, как филин, изобразила похлопывание крыльями, улыбнулась… Вид широких ореолов цвета темной меди, окружавших твердые соски ее грудей, снова возбудил Ландо, и он не выдержал. — Инес, только одну минутку… Ладно? Она задумчиво посмотрела на него. Разве можно отказать такому красавчику!.. — Для белого ты неплох в кровати… — Но черный все-таки лучше, да? — Дело не в цвете, Ландо… — В чем, в таком случае? — В том, что находится у тебя в брюках. Ландо напыжился. Он гордился интимной частью своего тела, которой пели дифирамбы сотни обессиленных и растерзанных женщин после его высококвалифицированных эротических заходов. Но реплики Инес выбивали у него из-под ног почву. Она молчала, и он сам решил напроситься на комплимент. — Тебе понравилось? — Неплохо… — Как это «неплохо»?.. — Он чувствовал себя утомленным и опустошенным, готовым проспать десять лет, чтобы восстановить силы. Инес склонила к плечу изящную головку, украшенную огромными, умными, фантастически красивыми глазами, и негромко, одними губами сказала: — Для белого — неплохо… Ландо никак не мог понять, как принцесса Кибондо, дочь короля, может зарабатывать себе на жизнь, — с королевской небрежностью отдавая часть денег ему, — продавая свое великолепное тело каким-то толстосумам? Несмотря на свой богатейший опыт общения с женщинами, он, как маленький мальчик, не мог проникнуть в ее тайну. Она села на край кровати и медленно натянула высокие сапоги. В клетке зацокал клювом один из ее попугаев. — Ты сама купила этих воробьев? — Подарили… Любишь птичек? Орландо Баретто встал с кровати и с удовольствием потянулся своим мощным, без единой капли жира, телом. — Обожаю… Ландо подошел к позолоченной клетке, открыл дверцу и запустил внутрь два пальца. Попугайчики отпрыгнули в дальний угол. Он осторожно вытащил одного из клетки, и тот неожиданно клюнул его в палец. Он уложил птичку в ладонь и струей теплого воздуха изо рта распушил перышки вокруг головки, почти касаясь губами тельца птички. Затем с улыбкой посмотрел на Инес. — Я без ума от всех животных, — сказал он и, без всякого перехода, одним щелчком зубов обезглавил попугая. (обратно)ГЛАВА 2
Хомер Клоппе вежливо встал навстречу посетителю и, не обратив внимания на протянутую для приветствия руку, ограничился легким кивком. Жестом руки он указал на кожаное кресло. Гость осторожно присел на самый краешек. На отполированной до зеркального блеска поверхности рабочего стола Хомера ничего не было: ни карандашей, ни папок с документами, ничего, кроме визитной карточки посетителя, на которой было отпечатано: «Андрэ Ловен. Управляющий». Ловен прокашлялся и едва заметно улыбнулся. Ему было около шестидесяти, ужасно элегантный, с загорелым, обрамленным прядями седых волос лицом. Хомер скрестил пухлые руки на столе и достаточно красноречиво посмотрел на часы. — Выражаю вам глубокую благодарность за возможность принять меня, — заговорил Ловен. — Я должен был бы заранее условиться о времени встречи, но, к сожалению, в Цюрихе я проездом, а дело, которое привело меня к вам, настолько деликатное и безотлагательное, что я решился все-таки побеспокоить вас. Он подтянул штанину с безукоризненной складкой, пригладил ладонью темный галстук и непринужденным жестом откинул волосы назад. — Итак! — после некоторого молчания продолжил он. — У меня с собой есть некоторая сумма денег, которые я хотел бы поместить в ваш банк. Он машинально коснулся рукой небольшого черного чемоданчика, стоявшего на ковре подле его ног, и, не выдержав взгляда пронзительных глаз, смотревших на него из-за толстых стекол очков в тонкой золотой оправе, вытащил из кармана пиджака шелковый носовой платок и устало провел им по внезапно вспотевшему лбу. Смущенный молчанием Хомера, Ловен заерзал в кресле, закинул ногу на ногу и положил руку на чемоданчик, ошеломленный суровостью обстановки кабинета, которая не давала ни малейшего намека на его функциональную принадлежность. Совсем не таким он представлял себе «святая святых» — директорский кабинет одного из самых «молчаливых» и мощных банков Цюриха. Стены покрывали простые бежевые обои, на полу лежал самый заурядный синтетический ковер серого цвета… Он тяжело вздохнул и сказал: — Речь идет о восьми миллионах французских франков. Клоппе даже не шелохнулся. Ловен торопливо добавил: — Это составляет миллион семьсот тысяч долларов. Банкир безразлично кивнул головой. — Результат моей двадцатилетней работы. Вы понимаете?.. Если со мной что-нибудь случится… я не хотел бы, чтобы это превратилось в дым в качестве наследства… Клоппе согласно кивнул. Ловена уже понесло… — Сейчас я вам все объясню… Клоппе сделал резкий останавливающий жест рукой, и его лицо напряглось. — Вы — управляющий, мистер Ловен, не так ли? — Совершенно верно! Если вы мне позволите… Он извлек из кармана пиджака черное портмоне из крокодиловой кожи, раскрыл его и длинными нервными пальцами достал пачку документов, подтверждающих его личность. — Я должен был бы начать с этого, — извиняющимся тоном проговорил он. Клоппе взял из его рук ворох бумаг и внимательно просмотрел их. — Ваш визит — большая честь для меня, мистер Ловен. Не могли бы вы объяснить мне причины, побудившие вас выбрать именно мой банк? — Ваш банк?.. — пробормотал Ловен, ошеломленный недоверием к человеку, обладающему восемью миллионами. Час тому назад, спустившись по трапу самолета, он ощущал себя хозяином вселенной. Как и было оговорено заранее, перевозчик ждал его в баре, на Вассервертштрассе. За доставку ценного груза из Лиона в Цюрих Ловен заплатил ему два процента от общей суммы, то есть сто шестьдесят тысяч франков. И вот теперь, когда его должны бы чествовать как победителя, развернуть перед ним красный ковер и с уважением принять деньги, его спрашивают, почему он выбрал «Трейд Цюрих бэнк»! Ему вдруг захотелось схватить чемодан и бежать от этого ледяного человека. Город забит банками, и в любом его встретят с распростертыми объятиями. — О вас мне рассказали мои парижские друзья, — собрав нервы в кулак, вежливо ответил он. Брови Клоппе взлетели вверх. — Назовите кого-нибудь из них, мистер Ловен. — Ломбар. Эдуар Ломбар. — Да, я знаю мистера Ломбара. Хорошо, мистер Ловен, как вы думаете использовать ваш капитал? Хотите заморозить его, покупать валюту, играть на бирже? — Пока никаких операций. Для начала я хотел бы положить деньги на срок… три месяца. Сколько это составит? — Заморозить на три месяца? — Клоппе нажал на кнопку интерфона и спросил: — Гарнхайм, какой процент по вкладу французских франков сроком на три месяца? Да. Спасибо. — Повернувшись к Ловену, он сказал: — Девять и двадцать пять сотых процента. На лице управляющего отразилось разочарование. — Мало. Я надеялся на большее. — А вы не хотели бы конвертировать ваши деньги в другую валюту? — Например? — Доллары, марки, швейцарские франки… — В этом случае процент увеличивается? — Нет, за исключением доллара, который в настоящий момент очень нестабильный, потому что все ждут публикации финансового годового баланса. — Сколько даст марка? — Четыре и пять десятых процента. Естественно, необходимо учитывать нестабильность франка в связи с другими факторами. Но лучше иметь минимальный процент на валюте, чей курс растет, чем повышенные дивиденды на валюте падающего курса. — Как бы вы поступили на моем месте, мистер Клоппе? — Я — не на вашем месте, мистер Ловен. — Могу я получить номерной счет? — Как вам будет угодно. Кто еще, кроме вас, будет знать шифр? Ловен удивленно вскинул на него глаза. Клоппе добавил: — Все мы ходим под Богом, мистер Ловен. Кому мне следует сообщить о вкладе в случае вашего… исчезновения? — Кстати, об этом я собирался с вами поговорить. Я женат… Клоппе достал из ящика стола чистый лист бумаги и приготовился записывать. — Вероятно, это будет миссис Ловен? — О нет, нет! — затараторил Ловен. — Только не она! Лицо Клоппе едва заметно посуровело. — В таком случае, кто же? — Моя крестница. — Фамилия? — Лили. То есть Элиан… Элиан Гурией. — Таким образом, законным преемником вы объявляете миссис Гурней? — Мисс Гурней. Да, именно ее. — Ее адрес? — Париж, улица Гренель, 118… — Округ? — Кажется, седьмой… но я могу ошибаться… — Профессия? — Секретарь. — Родилась? — Двадцать седьмого декабря. — Год? У Ловена был такой вид, словно он бросался в омут. — Тысяча девятьсот пятьдесят третий. Клоппе бросил на него быстрый, осуждающий взгляд. — Фирма, где она работает? — Мисс Гурней — моя секретарша. — А… Я хотел бы, мистер Ловен, чтобы вы немедленно открыли общий счет с вашей… крестницей. — Общий? — В таком случае мисс Гурней получит право пользоваться вашими деньгами, — терпеливо разъяснил Клоппе. — Но если… если… — растерянно залепетал Ловен. — Что «если», мистер Ловен? — Если, например, мы поссоримся?.. Как избежать, чтобы она… Короче, вы же сами знаете женщин! — Должен ли я понимать так, что мисс Гурней не пользуется вашим полным доверием? — Не настолько, чтобы позволить ей запустить руку в восемь миллионов франков! — возмущенно воскликнул Ловен. Хомер Клоппе резко встал. — Тогда я не понимаю, каким образом я или мои компаньоны могут позволить ей взять самый мизерный кредит. — Но, сэр… — смущенно начал Ловен. — Спасибо, что вы обратились к нам, но быть вам полезными на таких условиях мы не сможем. — Вы хотите сказать, что отказываетесь принять вклад в один миллион семьсот тысяч долларов? — Всего доброго, мистер Ловен! Вы, вне всякого сомнения, найдетедругое финансовое учреждение, которое с удовольствием примет ваши деньги. В доказательство того, что разговор закончен, он одним движением разорвал лист, на котором вел запись. Ловен вскочил с кресла, схватил чемоданчик, в последний раз бросил взгляд на Клоппе, но то, что он прочел в его глазах, отбило у него всякое желание возобновлять диалог. Он стряхнул с лацкана пиджака несуществующую пылинку и направился к двери. Хомер дождался, когда за ним закрылась дверь, и, подойдя к окну, облокотился на подоконник. Ревнивая любовь старых красавцев к своим секретаршам была постоянной головной болью всех истинных банкиров. Как и большинство коллег-швейцарцев, Хомер Клоппе рассматривал свою профессию, которую ставил превыше всего, не как ремесло или призвание, а как священный сан, которому он и ему подобные были верными служителями. Деньги заслуживали высочайшего почтения, о них следует говорить в самых уважительных выражениях, приглушенным голосом, словно речь идет о Боге в божественном храме. Манипулировать ими, направлять, вкладывать, считать и пересчитывать — означало священнодействовать, и этим могли заниматься только их слуги с безупречной моралью. Священные врата никогда не открывались для подозрительных капиталов, несмотря на идиотское поверье во всем мире, что Швейцария — бездонная денежная клоака, всосавшая в себя все нечестно заработанные деньги в мире. Вчера он должен был призвать все свое хладнокровие, чтобы не дрогнуть перед невероятной цифрой капитала, который доверил ему один из его клиентов, американец итальянского происхождения — Дженцо Вольпоне. Он снова, как будто это случилось два часа назад, пережил ту сцену. — Чем могу быть вам полезен, мистер Вольпоне? — Открыть мне номерной счет. — Вы решили больше не пользоваться тем, что уже имеете в нашем банке? — Нет. — Прекрасно. — Менее чем через час вы получите уведомление о переводе денег из Нассау. — О какой сумме идет речь? — О двух миллиардах долларов. От неожиданности Хомер снял очки, которые секунду назад протер. Его профессия приучила его к спокойному восприятию бесконечного ряда цифр, но здесь… И этой суммой владел всего лишь один человек! Дженцо Вольпоне спокойным голосом добавил: — Я хочу, чтобы деньги «работали» в течение срока их нахождения в банке. — Естественно. — Что вы можете предложить? — Все зависит от срока… — Какой процент в ситуации «со дня на другой»? Деньги будут находиться у вас двадцать четыре часа — минимум или сорок восемь часов — максимум. — Шесть процентов. — Семь! — Но такса «со дня на другой» составляет шесть процентов! — Меня это не интересует! Я хочу семь процентов! — Хорошо. Ваши дальнейшие указания? — Переведете все в Панаму, в «Кэмикл интер траст». Мы оба наделены одинаковыми полномочиями. Только теперь Хомер Клоппе обратил внимание на сорокалетнего тщедушного спутника Дженцо Вольпоне. Вольпоне представил его как Мортимера О’Бройна, финансового консультанта, доверенное лицо его компаньона. Естественно, Клоппе не задал ни одного вопроса, чтобы выяснить личность таинственного «компаньона». Он и без того знал, каким огромным авторитетом пользуется человек по имени Мортимер О’Бройн среди заправил международного теневого бизнеса. Вот только не представлял, что у финансовой знаменитости такой невзрачный вид. — Какой пароль вы выбрали, мистер Вольпоне? — «Мамма». — Записываю его. Господа, не могли бы вы дать образец вашей подписи… для «маммы», так бы я сказал. — Зачем? — удивился Вольпоне. — Все указания мы сделаем по телефону. — Рутинная формальность, — объяснил Клоппе, протягивая Вольпоне авторучку и чистый лист бумаги. О’Бройн и Вольпоне написали образцы своих подписей. Клоппе с облегчением вздохнул. — Кто из вас даст указание о переводе денег? Мистер Вольпоне или мистер О’Бройн? Вольпоне улыбнулся. — Я! Но какая разница? Действует ведь «мамма»! — Вы абсолютно правы! Мне осталось только подобрать вам комбинацию цифр. — Не стоит себя утруждать. Я составил ее уже в Нассау. — Я могу ее записать? — 828384. — Чудесно. — Наши дивиденды вы переведете на отдельный счет, естественно. — Разумеется. — Сколько вы хотите за свою услугу? — Сто двадцать пять тысячных процента от общей суммы. — Солидно… Мне бы следовало стать банкиром! — У каждой профессии есть свои преимущества и свои недостатки, мистер Вольпоне. — Возможно, я позвоню вам завтра. — Всегда к вашим услугам. Когда все встали, Хомер добавил: — Желаю вам приятного пребывания в Швейцарии. — Я остаюсь здесь еще на двое суток, а вот О’Бройн должен немедленно вылететь в Соединенные Штаты. После их ухода Клоппе позвонил Эжьену Шмеельблингу, руководителю одной из самых мощных тайных финансовых организаций в мире. Обычное, ничем не привлекающее внимание здание находилось в Шаане, недалеко от Вадуза, в Лихтенштейне. Даже на двери главного входа не висело никакой таблички, указывающей на род занятий обитателей четырехэтажного особняка. Каждый день в семнадцать часов из его дверей выходили служащие с утомленными лицами и торопливо направлялись к паркингу. Единственной их специальностью была работа с деньгами. Именно здесь, в Шаане, находился «банк всех банков», который через сложную систему своих отделений в Нассау, Панаме, Люксембурге занимался «отмывкой» денег с большой для себя выгодой. Клоппе мгновенно перевел деньги в Шаан, объяснив Шмеельблингу, что капитал в два миллиарда долларов будет находиться в его распоряжении на условиях «со дня на другой». Шмеельблинг запускал деньги в «работу» под процент, значительно превышающий тот, который он обещал швейцарскому банкиру. Клоппе сделал устный подсчет: Вольпоне, настояв на семи процентах «мамма», вероятно, пребывал в тот момент в прекрасном расположении духа, получая 383 562 доллара в день. Два миллиарда долларов, переведенных Клоппе в Шаан уже под девять процентов, давали 493 150 долларов в день. Его чистая прибыль, таким образом, составляла 109 588 долларов, что было не такой уж мелочью на карманные расходы богатому банкиру. Означенный срок вклада прошел, а Вольпоне до сих пор не подал признаков жизни, что увеличило доход Клоппе еще на 109 588 долларов. «Пусть они забудут о них еще на месяц!» — взывал он к неизвестному божеству. Он не мог прямо обратиться к Богу, когда дело касалось денег. За его спиной резко стукнула дверь. — Спорю, что ты сейчас думал о какой-то женщине! Хомер вздрогнул, словно его застали на месте преступления. — Могла бы постучать, перед тем как войти. — Я передам твою просьбу маме. Девушка обняла его и закружила по кабинету. — Я только что сыграла в забавную игру! — Расскажи… — подозрительно посмотрев на нее, сказал Хомер. Сумасбродное поведение дочери приводило его в восторг, хотя иногда ее выкрутасы были небезопасны. Он с грустью отметил, что Рената имеет над ним полную власть и он не в силах противиться ее капризам. Возможно, это происходило потому, что она была полной противоположностью своей здравомыслящей матери. Возможно, потому, что у нее была тонкая фигура с длинными ногами — как при таком коротконогом отце она могла их иметь? — и фиолетовые глаза, которые приводили в смущение мужчин, когда ее лицо неожиданно делалось строгим, а во взгляде застывал недвусмысленный вопрос. И почему только из всех, кто за ней ухаживал, она выбрала человека не их круга? Отец Курта Хайнца, ее жениха, был кассиром в его банке. Безупречным, но все-таки кассиром, и уже в течение тридцати пяти лет. Через неделю Хомер вынужден будет танцевать с Уттой Хайнц, не слишком представительной супругой Йозефа Хайнца. И свадьба дочери, представлявшаяся ранее ослепительным праздником, пройдет среди серых и неуклюжих родственников его зятя. — Это дебильная и восхитительная игра! Она называется «небесная манна». Между бровей банкира пролегла глубокая складка. Он машинально повторил: — Небесная манна?.. — Во всем виноват Курт и его глупая теория, из которой следует, что деньги по своей сути — дерьмо, действуют разлагающе и тому подобная чепуха… — Я не совсем понимаю… — Мой будущий муж понимал еще меньше! Я села в самолет и пролетела над Чиавеной в самый разгар сельскохозяйственной ярмарки, сбросив на толпу крестьян пачки денег! Видел бы ты, что там началось! Увидев трагическое выражение на его лице, она прыснула от смеха. — Не делай такое лицо! Надо приучать Курта к роскоши! На кой черт нам нужны все эти деньги, если не уметь немного развлечься!* * *
В своей жизни Пьетро Бьяска сожалел только об одном: его отец умер раньше, чем увидел триумф своего сына. Именно старому Джузеппе обязан Пьетро своим успехом. Старик заставлял его до изнеможения изучать линию обуви, как изучают тело любимой женщины. «Ты еще увидишь, — говорил он, — то, что сегодня наводит на тебя скуку, станет твоим богатством». И он оказался прав! В сорок восемь лет Пьетро был богат, что значило немало, учитывая его голодное детство. Но он имел нечто большее, чем деньги, — он был знаменит и уважаем. Свои «произведения искусства» он продавал только тем, кого считал достойным быть его клиентом. Часто приглашаемый на премьеры, вернисажи, коктейли, он стал одним из самых известных персонажей высшего света. Поп-звезды называли его по имени, финансисты дружески похлопывали по плечу как равного себе, и не так уж редко актрисы, игравшие главные роли в голливудских фильмах, удовлетворяли желание иметь его обувь, расплачиваясь своим телом… Секрет его успеха заключался в том, что к ноге он относился с таким же уважением, как к руке. В мастерских Бьяски тачали не обувь, а шили «перчатки» для ног из кусочков мягчайшей и самой дорогой кожи. Его магазин на Седьмой авеню превратился в подобие частного клуба, членам которого и в голову не приходило обсуждать фантастические цены, которые, кстати, Пьетро никогда сам не устанавливал. Когда клиент, смущаясь, спрашивал о цене, Пьетро вел разговор так, что слово «деньги» никогда не произносилось. С ослепительной улыбкой он заявлял, что подумает… как только выдастся свободная минутка… Забавно, но то, что он никогда прямо не требовал деньги, приносило ему всегда невероятные суммы. Так, например, одна из кинозвезд, умершая от передозировки наркотиков, не успела рассчитаться с Пьетро. Каким-то образом об этом узнал ее отец и сказал, что никто не должен уходить из жизни с грузом долга на душе. Как только были улажены наследственные формальности, Пьетро «унаследовал» два подлинника Ренуара, которые теперь висели на стене примерочного салона, прямо над баром, где знаменитых заказчиков угощали деликатесами, включая черную икру и коллекционное шампанское. Обычно цены на обувь колебались от пятисот до тысячи долларов, в зависимости от фантазии клиента. «Я — единственный сапожник в Соединенных Штатах, обладающий настоящим Ренуаром!» — не уставал шутить он. Пьетро Бьяска вошел в учебную мастерскую. Молодой подмастерье, итальянец, тренировался снимать мерку с ноги своего товарища. Пьетро подошел ближе, вдыхая пьянящий запах кожи, наполнявший комнату, где десяток мужчин сосредоточенно занимались своим делом. Тоном оракула он произнес: — Не забывай, что линия зависит от формы ступни и ее объема! — Он пошел вдоль стеллажей, на которых стояли муляжи ступней клиентов, сделавших более двух заказов. Он обернулся к подмастерью: — Ты видишь эти ступни? Они говорят мне больше, чем лица их владельцев. Даже с закрытыми глазами, только прикоснувшись к ним, я могу сказать, кому они принадлежат. В мастерскую вошла высокая светловолосая девушка в великолепно сшитом платье. — Синьор Бьяска… (В рабочее время Пьетро требовал от своих работников обращаться к нему «синьор».) Он вопросительно вздернул подбородок. — Вас спрашивают два господина. Пьетро вышел в торговый зал. Он моментально определил, что перед ним полицейские, несмотря на то что у одного из них было вполне благородное лицо. — Господа?.. — Мистер Бьяска, — сказал «благородный», — я хотел бы задать вам один вопрос. — Если я только смогу вам чем-то помочь, — ответил Пьетро, бросив мимолетный взгляд на документ, который в это время ему ненавязчиво предъявлял второй мужчина. — Можете ли вы по туфле, сделанной вами, определить ее владельца? — Если она действительно вышла из этих стен — без труда. Полицейский развернул пакет, который все это время держал в руках, и спросил: — Она ваша? Бьяска даже не взял ее в руки. — Она принадлежит моему другу, — он сделал нажим на слово «моему», — Дженцо Вольпоне. Полицейские посмотрели друг на друга так, словно их одновременно ударило током. — Чью фамилию вы назвали, мистер Бьяска? — Вольпоне. Дженцо Вольпоне! — уверенно повторил Пьетро, прекрасно понимая, что это магическое имя мгновенно вырыло между ним и этими посетителями бездонную пропасть. — Вы уверены в этом, мистер Бьяска? — Я шью обувь для своего друга Вольпоне уже десять лет, — сказал Бьяска. — Эти туфли он приобрел у меня менее трех лет назад. — Скажите, мистер Бьяска… — Я запатентовал способ, который позволяет моему клиенту получить каблук в девять сантиметров высотой, но внешне он не превышает четырех… Кстати, если вы желаете, можете взглянуть на его ступни… — Его ступни?! — Муляж… В моей коллекции есть тысяча триста пятьдесят шесть пар ступней. — А муляжей промежностей у вас нет? — иронично спросил второй. — Вы абсолютно уверены, что… — заговорил «благородный». — Пусть мне отрубят голову! — не дал ему договорить Пьетро. — А для чего вам это? — Большое спасибо, мистер Бьяска. Мы заглянем к вам… через час. — И они заторопились к выходу. Что бы это могло значить? И как туфля великого Дженцо Вольпоне оказалась в руках полиции? Вдруг Пьетро вздрогнул и быстро направился к своему кабинету. Плотно закрыв за собой дверь, бросился к телефону.* * *
Как только минутная стрелка накрыла цифру семь, Хомер Клоппе нажал указательным пальцем на кнопку электронного прибора, находившегося у него в кармане. Дверь служебного входа автоматически открылась. Именно через эту дверь каждое утро ровно в восемь тридцать входили служащие «Трейд Цюрих бэнк». За всю историю Швейцарии в Конфедерации не был ограблен ни один банк. Дело в том, что ворам негде спрятаться. И как им удалось бы выехать за пределы страны, опустоши они сейфы какого-нибудь банка? Практически сделать это невозможно! И тем не менее отсутствие такого прецедента не мешало финансовым учреждениям охранять свое золото, секреты и наличность с помощью самых изощренных технических средств. В Берне, Лозанне, Женеве, Цюрихе фирмы, специализирующиеся на обеспечении безопасности банков, процветали. Специалисты фирм в действии демонстрировали самые невероятные запорные устройства, предварительно прошедшие испытания в лабораторных условиях. Несмотря на то что усовершенствования зачастую были незначительными, старое безжалостно выбрасывалось на свалку и приобреталось новое, сколько бы оно ни стоило. Инес задержалась на какое-то мгновение в дверном проеме. Одетая в норковое манто, доходившее ей до щиколоток, из-под которого виднелись лишь носки темно-коричневых сапог, она была великолепна. Ослепленный этим черным солнцем, Хомер Клоппе поднял голову, но, наткнувшись на холодный взгляд Инес, поспешно отступил в сторону, позволяя ей войти. Он снова нажал на кнопку дистанционного электронного «ключа», и дверь бесшумно закрылась. Одновременно были заблокированы все выходы. Он засеменил за ней по коридору, не зная, чему отдать предпочтение: ее фантастически гибкой фигуре, посадке головы или этой длинной шее, растущей из плеч, как стебель цветка… Они прошли через центральный холл и по лестнице спустились в подвал. Следуя за Инес, Клоппе едва сдерживал себя, чтобы не дотронуться до нее. Если бы он был более решительным, он попросил бы ее поднять полы манто, задрать юбку, чтобы видеть перед собой ее подрагивающий обнаженный зад. Наконец они остановились перед последней дверью. Электронное устройство прыгало в дрожавших руках Хомера, когда он набирал кодовое слово из пяти букв, которое позволяло войти в помещение, где стояли сейфы, и одновременно отключало всю сигнализацию. Они вошли в комнату-сейф — прямоугольной формы хранилище размером восемь на десять метров. Потолок, стены были из толстой стали, способной выдержать даже атомный взрыв. Аромат духов Инес, казалось, наполнил эту комнату, хранившую холодный, мертвый металл, человеческим теплом. — Постели постель! — приказала она. Хомер Клоппе извлек из кармана два металлических ключа и вставил их в замочные скважины его личного сейфа под номером 829. Застыв, как статуя, Инес наблюдала за его действиями, чувствуя, как в ней поднимается теплая волна возбуждения. — Доллары?.. — пробормотал банкир. — Доллары, марки, швейцарские франки и несколько золотых слитков… — Вы не снимете манто? — Сниму… Хомер запустил обе руки в сейф и вытащил охапку пачек денег. Он бросил их на пол, и Инес разровняла их носком сапога. — Еще! Он неловко вытащил несколько слитков золота, один из которых выскользнул из его рук и упал на пол. Хомер тут же мысленно извинился перед ним виноватым внутренним голосом. Она наблюдала за ним, как ящерица за муравьем. На полу уже возвышался полуметровый куб из денег и желтого металла. Хомер стал на колени и осторожно разровнял денежную массу. Инес небрежно помогала ему носком сапога. Когда подобие «матраца» толщиной в двадцать сантиметров было готово, Хомер улегся на него. Инес усмехнулась. — И чем это пахнет? — Устраивайтесь рядом, и вы сами почувствуете… — пробормотал он. — Позже… Раздевайтесь! — Уже? Она отступила на три шага назад. — Смотри, я тебе кое-что покажу!.. Она легла на спину, задрала юбку и подняла вверх ноги. Ошеломленный, Клоппе едва смог прошептать хриплым голосом: — Инес!.. На этот раз ее голос прозвучал тверже. — Раздевайся! Хомер сел на матрац из денег и стал расстегивать брюки. На нем был строгий серый костюм, черный галстук, белая рубашка. Единственное отступление от стиля — тайна, о которой не знали ни жена, ни близкие, ни, тем более, сослуживцы, — заключалось в трусах ярко-красного цвета в белый горошек, классической длины до колен. — Снимай их, — сказала Инес. Он вдруг понял смысл этой сцены: деньги выступали в качестве Бога, а его собственные действия символизировали жертвоприношение. С тех пор как он начал встречаться с Инес — этим дьяволом во плоти! — этот эротический ритуал всегда повторялся. — Раздвинь ноги, белое ничтожество! — приказала она, становясь на колени у него в ногах. Вытянув вперед губы, она поползла вверх по его ноге, касаясь ими поросшей рыжими волосами кожи…* * *
Холл отеля напоминал деревенскую площадь в день ярмарки, настолько разнообразно и пестро была одета толпа. Обливаясь потом, Мортимер О’Бройн прокладывал себе дорогу через орущих, смеющихся, беззаботно поглядывающих по сторонам людей. С трудом добравшись до регистрационной стойки, он обратился к портье: — Моя фамилия Эрвин Келли, номер 879… Не успел он закончить фразу, как мужчина метнулся к «сотам», где лежали ключи, и подал ему телеграмму. — Вашего ключа нет, мистер Келли. Миссис Келли у себя в номере. А это для вас… Мортимер, не глядя, сунул телеграмму в карман. С бьющимся сердцем он влетел в кабину лифта. Выйдя на восьмом этаже, сделал несколько шагов, обернулся и, убедившись, что, кроме него, никого нет, вытащил смятый прямоугольник, который, не переставая, комкал все это время в кармане. Телеграмма была адресована Эрвину Келли, отель «Эксельсиор», Нассау, Багамские острова. Штемпель указывал, что телеграмма прибыла из Лондона. Текст был кратким: «Просьба позвонить Джудит». Лицо его исказилось, и он облегченно вздохнул. Он прошел в конец коридора и остановился перед пепельницей на высокой ножке. Щелкнув зажигалкой, поджег телеграмму, дождался, когда она сгорела, и растер пепел пальцами. Рукавом пиджака он вытер мокрое от пота лицо и направился в 879-й номер, где его ждала Заза. Теперь пути к отступлению не было. Полученная телеграмма обрывала все связи с его прошлой жизнью. С этой минуты его больше не существовало, он мертв и только что прочел о собственных похоронах. Дальнейшее должно завершиться в течение ближайшего часа. Звонить из своего номера было опасно… Он решил, что сделает звонок из аэропорта за несколько минут до вылета. Принимая во внимание разницу во времени, в Цюрихе сейчас шестнадцать часов.* * *
Итало Вольпоне оттолкнул от себя обнаженную девушку, мылившую ему спину. Он вытер руки о банный халат, осторожно взял лежавшую на краю раковины дымившуюся сигару, жадно затянулся и удивленным голосом бросил в трубку: — Повтори! Он разговаривал с Анджелой, молодой женщиной, которую вынужден был оставить одну в Нью-Йорке. Итало безумно любил ее и с такой же страстью ревновал. Если ему случалось расстаться с ней более чем на сорок восемь часов, он беспрестанно и без всякого повода звонил ей только для того, чтобы услышать ее голос. До встречи с Анджелой «ЖЕНЩИНЫ» для Итало не существовало. Но однажды Малыш Вольпоне встретил Анджелу. ЖЕНЩИНУ! И где? Там, куда он не заходил ни разу за всю свою жизнь, — в библиотеке в Лондоне. Оказался он там случайно, отрываясь от двух подонков, которые охотились за ним. Сжимая пистолет в кармане, он стоял за дверью главного входа, когда за его спиной раздался голос: — Могу ли я вам чем-то помочь? Несмотря на нежный голос, он вздрогнул. Еще не видя ее, только оборачиваясь, он понят, что это — ОНА. Земля могла перестать вращаться, в него могли всадить дюжину пуль, осудить на пожизненное заключение, пытать, но ничто не смогло бы поколебать его уверенности в том, что эта женщина рождена для него и что с этой минуты они больше никогда не расстанутся. Анджела первой опустила глаза, не выдержав долгого взгляда, сказав этим все, не произнеся ни слова. И уже совсем некстати задала вопрос: — Какую книгу вы ищете? Она подумала, что впервые в жизни встретила мужчину такого класса: очень сильный, элегантный, с дерзким взглядом холодных глаз, он источал запах настоящего мужчины. Ослепительно улыбнувшись, он ответил: — Любой учебник, дающий ответ, как избавиться от двух сволочных особ. — Здесь нет таких книг, только по философии… — В таком случае, может, здесь есть черный ход? Она проводила его, и, прощаясь, он взял ее за руку. — Спасибо. — Она не торопилась высвободить руку, и он добавил: — Если вы свободны сегодня вечером, мы могли бы вместе поужинать. Я все бы вам объяснил… Есть мгновения, которые никогда не повторяются. Надо уметь выбрать между «да» и «нет». Мгновенно! — Да, — прошептала она. — Я заеду за вами в восемь. Договорились? Через пятьдесят восемь дней Итало Вольпоне женился на ней и увез из дождливого Лондона. За шесть месяцев замужества Анджела так и не поняла, чем конкретно занимается ее муж и кто он по профессии. На все ее вопросы он отвечал с улыбкой: — Помогаю брату… Немного торгуем овощами, фруктами… Крутимся… Но деньги, которым он не знал счета, их шикарные апартаменты на Парк-авеню заставляли ее задуматься. — Анджела, дорогая моя, повтори… — громко сказал он, хотя слышимость между Нассау и Нью-Йорком была превосходная. Когда он удостоверился, что не ослышался, его тело от смеха заходило ходуном. — Послушай, Итало! Они сказали, что это очень серьезно и срочно. — Нет, ты рассмешила меня! Вызови полицию! — Эта мысль показалась ему настолько забавной, что его охватил новый приступ безудержного смеха. — Они тебе сказали, почему я должен им позвонить? — Нет. Они ни о чем не хотели больше говорить. Ты должен немедленно связаться с управлением на Седьмой авеню. Итало снова рассмеялся. Он, Малыш Вольпоне, должен выйти на связь с этими крестьянами в униформе! — Ты сказала им, где я? — Нет, нет! Я сказала, что ничего не знаю. — Послушай, дорогая, я стою под душем… Валюсь с ног от усталости… Отвергнутая девушка посмотрела ему в глаза и, призывно улыбаясь, приподняла в ладонях свои тяжелые груди. Итало сделал ей знак, чтобы она ждала его в спальне. Куда бы он ни приезжал, люди клана устраивали ему парад женских задниц и грудей. Ему оставалось остановить свой выбор на одной или выбрать всех сразу… В шутку его люди и он сам называли этих проституток «снотворным». Итало придерживался здорового образа жизни, и в плане строгого соблюдения гигиены «снотворное» ему было необходимо. Естественно, он не допускал мысли, что изменяет Анджеле, проведя несколько часов с одной из таких телок. — Анджела, все, умоляю тебя!.. Мне надо еще одеться. У меня деловая встреча. Толчком указательного пальца он запустил миниатюрную рулетку, бросил шарик и в уме загадал «девятку». — Итало, пожалуйста! Ты должен им позвонить! Я встречалась с ними… Они очень взволнованы! — Ты встречалась с ними? — закричал Вольпоне. — Они приходили домой… Тебе что, жалко? — И ты впустила их в мой дом? — Малыш, а что мне оставалось делать? После долгих подпрыгиваний шарик опустился в лунку с номером 31. — Ладно, я сейчас позвоню туда, а потом перезвоню тебе. Он резко опустил трубку на рычаг, скрипнул зубами, сделал большой глоток виски и набрал «восьмерку» — выход на телефонистку отеля. — Говорят из 1003-го… Соедините меня с Нью-Йорком, управление на Шестой авеню. Когда он вошел в спальню, девушка капризно надула губы. Она лежала на кровати на животе, широко разведя ноги в стороны. Он небрежно, но достаточно сильно хлопнул ладонью по ее ягодицам и с удовольствием увидел, как на нежной коже проступил розовый отпечаток его ладони. — Ты сделал мне больно, — пожаловалась девушка. — Как тебя зовут? — Ты злой! Не скажу! — Знала бы ты, как мне на это наплевать… — сказал он, наливая в стакан виски. — А сейчас, шкура, займись мной!.. Она перевернулась на спину. — А если для начала займешься мной ты? Зазвонил телефон. Она взяла у него из руки стакан и сделала маленький глоток. — Управление? Откуда мне знать? Вы же сами просили мою жену, чтобы я позвонил вам… Итало Вольпоне… Да… Хорошо… Он толкнул девушку в плечо и заставил ее взять свой член. Затем надавил рукой на ее затылок. Она поняла и присела перед ним на корточки… — Да… Вольпоне… Что?.. Почему?.. — Внезапно его лицо исказилось, мышцы тела напряглись. — Что вы сказали? — прорычал он. Секунд тридцать он молчал. Его губы превратились в твердую побелевшую полосу… Уловив враждебные интонации в его голосе, девушка подняла на него глаза, не прерывая своего занятия… Он оттолкнул ее ногой в сторону. — Сваливай! — прошипел он, не глядя на нее. Ей захотелось защитить свое право на уважение. — Ты не смеешь разговаривать со мной таким тоном. Итало с размаху влепил ей пощечину. Оглушенная, она смотрела на него глазами, полными страха и слез. Он достал из ящика стола пачку долларов и швырнул ей в лицо. — Закончили развлекаться, соска… Даю тебе двадцать секунд… Она наклонилась, собирая деньги, и вид округлого зада и стройных прямых ног заставил Итало пожалеть, что не смог воспользоваться ею… — Вылетаю первым самолетом, — бросил он в трубку и положил ее на рычаг. — Я иду в ванную, а когда выйду, чтобы тебя здесь не было, — резким тоном приказал он девушке. Она быстро пересчитала деньги, потерла щеку и неопределенно улыбнулась. За такую сумму она была бы не прочь получить еще одну пощечину. Через три минуты она закрыла за собой дверь номера Итало Вольпоне. Итало вызвал своих телохранителей, поручив одному ждать его внизу у машины, а второму заняться билетами на ближайший рейс до Нью-Йорка. Затем связался со своим адвокатом и объяснил, что должен появиться в управлении на Шестой авеню, где его ждут. Наконец он приказал разыскать Мортимера О’Бройна и доставить его в аэропорт. Несмотря на то что он находился на вершине иерархической лестницы всемогущей и неприкосновенной организации, Малыш сохранил мышление мелкого воришки. Подкупая за баснословные деньги высокопоставленных чиновников полиции, он чувствовал себя не в своей тарелке при виде регулировщика уличного движения, словно ему по-прежнему было четырнадцать лет. Нервничая, он порвал шнурок и с дрожью в теле подумал о туфле Дженцо, которую, как ему заявили эти гнилые полицейские, они нашли, не захотев объяснить ни где, ни при каких обстоятельствах. Его брат мог сделать все, но только не потерять свои туфли… (обратно)ГЛАВА 3
Мортимер О’Бройн отвел Зазу в бар и попросил никуда не уходить, уточнив, что через сорок минут они вылетают. На все ее расспросы — куда же, в конце концов, они летят? — он отвечал загадочной улыбкой… Мортимер быстро затерялся в толпе пассажиров и провожающих, собираясь сделать свой предпоследний ход в этой фантастической партии в покер. Если он ему удастся, тогда он сделает последний, победный, — навсегда растворится в природе. Сердцебиение в груди усиливалось. Он нервно посмотрел на часы и подошел к телефонистке. — Мисс, мне нужно позвонить в Швейцарию. — Это в Соединенных Штатах? — Европа! Рядом с Францией, Германией, Англией, Италией!.. — Номер? — 836592, Цюрих. — Третья кабина. — Долго придется ждать? — Третья кабина!.. Он плотно закрыл за собой дверь, словно боялся, что его начнут подслушивать раньше, чем он начнет разговор. Дышать было нечем. Носовой платок, как и рубашку, можно было выкручивать. Вначале его план был не более чем игрой ума, диалектическим развлечением, перечислением причин и следствий, приятно компоновавшихся в единую, логически безукоризненную цепочку… И однажды, к своему большому удивлению, он обнаружил, что теоретические размышления выкристаллизовались в реально осуществимое предприятие, над которым, оказывается, он бессознательно, но напряженно и серьезно работал. Его встреча с Зазой расширила, если не открыла, совершенно неизвестные ему доселе чувственные горизонты и вызвала непреодолимое отвращение к собственной жене. Где она сейчас? Вероятнее всего, наглотавшись аспирина, мокрая лежит в постели, не зная того, что давно уже для всех умерла, в том числе и для себя. От внезапно раздавшегося телефонного звонка он вздрогнул. Сорвал трубку, и она выскользнула из его потной ладони. Женский голос что-то говорил по-немецки. Он прокашлялся в надежде укрепить голос, но сумел только с трудом промямлить на английском: — «Трейд Цюрих бэнк»? — Кто вам нужен? Итак, сейчас он сыграет с жизнью в «орел или решка». — Хомер Клоппе. По личному делу и срочно! — Сейчас узнаю, на месте ли мистер Клоппе. Как вас представить? Морти, с трудом проглотив застрявший в горле ком, более-менее внятно произнес два слога магического слова: — «Мамма».* * *
Все, что было связанно с Сицилией, вызывало у капитана Кирпатрика только ненависть. Он яростно ненавидел сицилийских мужчин, женщин, домашних животных, и особенно американцев сицилийского происхождения. Он возмущался, что они имеют право быть католиками, и с удовольствием издал бы закон, запрещавший им появляться в церкви, иметь паспорта и выходить из гетто, куда навсегда сселил бы их. На каждое преступление, совершенное Синдикатом, на каждого мелкого воришку-сицилийца у него было исчерпывающее досье. Эти сволочи, не жалея денег, оплачивали целые армии адвокатов, готовых смешать небо с землей, если полиция тронет хоть волосок на голове их клиентов. Он чуть не заорал от радости, когда ему сообщили, что нога-путешественница, прибывшая в Цюрих, принадлежит, по всей вероятности, неприкасаемому Дженцо Вольпоне. Обувщик Бьяска, ничего, кроме тошноты, у него не вызывавший, формально подтвердил принадлежность туфли гангстеру. Это было хорошо, но, одновременно, и очень плохо. «Крестный отец» никогда не теряет ногу, чтобы за этим не последовали значительные и нежелательные события. А так как речь идет о Вольпоне, события должны потрясти землю, вызвать непредсказуемую цепкую реакцию, которая взорвет «семьи» Синдиката и подбросит полиции работы на долгие годы вперед. Что предпринять, чтобы это «что-то» не начало происходить? Что? Ответить на этот вопрос Кирпатрику было не по силам. Но главное, он не мог поверить, что Дженцо Вольпоне нет больше в живых. А вдруг, по счастливой случайности, Бог все-таки забрал его к себе на небеса? Он довольно потер руку об руку и мечтательным взглядом посмотрел на своего заместителя, лейтенанта Финнегана. — Через час на этом стуле будет сидеть Вольпоне. — Между нами, капитан, вы действительно верите в это? — Нет, но хочу надеяться. — Что конкретно он сказал вам по телефону? — Он сказал: «Я еду…» — А если он действительно приедет? — Один шанс из десяти, и тот нереальный. — Предварительно он посоветуется с адвокатами… Мне кажется, он сразу направится в Швейцарию, чтобы опознать ногу. — А вот ты мог бы опознать чью-либо ногу, а? — Если бы она принадлежала красивой девочке… — Кстати, у тебя все готово? — Да. — Как только он выйдет из этого кабинета, я хочу, чтобы наши люди не спускали с него глаз. — Если он сюда войдет… — Если он сюда войдет, — с тоской повторил Кирпатрик. Он покачал головой, и его лицо неожиданно просветлело. — Представляешь, Финнеган, мы его прижучили!.. Какой поднимется шум!.. А его приговаривают к смертной казни! Садят на электрический стул! Ладно, я хочу сказать… Я отдал бы десятилетнюю зарплату, если бы мне разрешили дернуть за ручку трансформатора…* * *
Обычно после интимных отношений — он ограничивался одним разом в неделю — Хомер Клоппе два дня подолгу чистил зубы. Это было необходимо, как он считал, чтобы уничтожить миллиарды микробов, попавших в его ротовую полость в результате контакта его губ с нестерильной партнершей. Он ожесточенно чистил зубы восьмой раз, начиная с утра, когда раздался телефонный звонок. — По личному вопросу и срочно, — сказала телефонистка. — Этот сэр назвал имя… «мамма». Это вы? — Соедините! Послышался щелчок. Две долгие секунды банкир отчетливо слышал чье-то прерывистое дыхание. Инстинктивно он насторожился: работа с деньгами выработала в нем шестое чувство. — Алло? — Алло?.. Мистер Клоппе? — Да. — Мамма. Голос принадлежал не Дженцо Вольпоне. Это мог быть только тщедушный коротышка Мортимер О’Бройн. Странно, Вольпоне сказал, что звонить будет сам. — Слушаю вас. — Вы узнали меня? — Да. — Перевод осуществите, как было условлено. — Разумеется. — Есть небольшое изменение. Пальцы Клоппе сильнее сжали трубку. Неужели он не ошибся? В воздухе запахло паленым? — Какое изменение? — Выбрано другое место перевода денег. — Куда следует их перевести? — Центральный банк Женевы. И сию минуту. — Это сложно… — Что вы сказали? И снова Клоппе поразило прерывистое дыхание О’Бройна. Тот, вероятно, был чем-то очень взволнован. — Я сказал, что это сложно. Я не могу перевести деньги по этому адресу только по желанию одного из двоих, имеющих на это право. — Что? Но у нас нет времени! Мы же обо всем договорились! Клоппе холодно уточнил: — Наша договоренность остается в силе по условиям первого контракта. В данном случае вы меняете предусмотренное ранее направление… — Ясно. Что я должен сделать? — Секундная формальность: мне нужна ваша подпись. — Но я уже не в Швейцарии. — Сожалею. Человек, который был с вами вместе, по-прежнему здесь? Последовала едва заметная пауза. — Не думаю… Он должен быть уже в пути… Хомер понял, что адвокат врет. Основная его функция заключалась в защите и соблюдении прав клиента, но в данном случае он сомневался и, несмотря на отсутствие прямых улик, решил, что его долг — выиграть время. — Я прекрасно понимаю ваше положение, — сказал он. — Пришлите мне пару слов, подписанных вашим именем, и я тотчас выполню ваше указание. — Повторяю вам — это срочно! — закричал О’Бройн. — Я смог бы получить вашу подпись в течение двух суток. — Это невозможно долго! Оба замолчали. О’Бройн заговорил, явно стараясь держать себя в руках: — Послушайте, принимая во внимание срочность… Мой клиент будет недоволен… — Верьте мне, сэр, у меня нет другого выхода. — Хорошо, я прилечу к вам сегодня вечером. — Сегодня вечером? Откуда вы мне звоните? — Из Нассау. — Который у вас час? — Двенадцать дня. — Знаете ли вы, сэр, что в Цюрихе уже девятнадцать часов и вы застали меня в кабинете по чистой случайности? — Мистер Клоппе, когда речь идет о такой сумме, время теряет свой смысл. — Я так не думаю, сэр. Более того, сегодняшний вечер у меня занят… — Когда вы сможете меня принять? — Банк начинает свою работу в девять утра. Даже если бы вы вылетели сию секунду, я не смогу встретиться с вами до начала работы банка. — А ночь!.. Ночь!.. Кто мне сказал, что нужна всего лишь секунда, просто подпись?.. Я настаиваю… — По ночам, сэр, я не занимаюсь делами. У меня железное правило ложиться спать до двадцати трех часов. Сожалею… — Буду у вас завтра утром, — сдался О’Бройн. — Еще раз приношу вам свои извинения. Жду вас завтра. Хомер Клоппе положил трубку, и у него возникло непреодолимое желание еще разок почистить зубы.* * *
Войдя в здание управления, трое адвокатов поморщились: воняло нестираными носками, прокисшими бутербродами, пивом. Два чернокожих полицейских не обратили на них никакого внимания. Один что-то печатал одним пальцем на антикварной машинке, второй, заложив руки за спину, стоял перед решеткой и с бесстрастным выражением лица слушал оскорбления какой-то проститутки в свой адрес. — Извините, — с презрительной интонацией произнес Джонни Кифф и сделал два шага вперед. Его коллеги Хьюберт Мердл и Честер Хенли остались стоять рядом с Вольпоне. Кифф, Мердл и Хенли считались самыми дорогими адвокатами в Нью-Йорке. В зависимости от важности персоны клиента гонорар каждого колебался от трех до пяти тысяч долларов в час. Естественно, эта деталь не касалась Синдиката, который в течение года выплачивал им такие баснословные суммы, что они в любую секунду бросали все свои дела и клиентов и сломя голову мчались выполнить любое его поручение. — Слушаю вас, — не поднимая головы от машинки, сказал дежурный полицейский. — Нас ждет капитан Кирпатрик, — недовольным тоном сказал Джонни Кифф. Полицейский продолжал печатать. — Вас? Кто вы? Кифф сунул ему под нос свою визитную карточку. Негр взял плотный прямоугольник картона, повертел его в руках и неохотно встал со стула. — Сейчас узнаю, — сказал он и исчез за дверью в глубине комнаты. Через минуту он вернулся, безразлично посмотрел на адвоката и пробурчал. — Капитан не может вас принять, на это время у него назначена встреча… Просит зайти позже или позвонить. — Что? — возмутился Кифф. — Он срывает с отдыха моего клиента и отказывается нас принять! — Вашего клиента? Кто ваш клиент? — Мистер Вольпоне, — встрял Хенли. — Итало Вольпоне! — Кто из вас Вольпоне? — спросил полицейский. — Все, хватит! — вскипел Кифф. — Идите и доложите своему шефу! Пока они ждали возвращения полицейского, Кифф несколько раз повторил: «Возмутительно!» Коллеги согласились с ним, молча кивнув. — Комиссар ждет вас, — сказал негр, оставив дверь открытой. Они шли по коридору к кабинету Кирпатрика, как быки, рвущиеся на арену. Когда они вошли, Кирпатрик встал им навстречу. — Сожалею, метр! Я не знал, что вы будете сопровождать мистера Вольпоне. Дежурный плохо вас понял… — Господин Хенли, господин Мердл, господин Вольпоне, — сухим тоном представил всех Джонни Кифф. — Присаживайтесь, господа! — Спасибо, предпочитаем выслушать вас стоя, — сказал Хьюберт Мердл. — Как вам будет угодно, — ответил Кирпатрик, машинально проведя ладонью по своей огненной шевелюре. — Господин Вольпоне, боюсь, что с вашим братом случилось несчастье… Бьяска формально подтвердил, что туфля, которую наши швейцарские коллеги нашли на оторванной ноге, принадлежала вашему брату Дженцо. Я не могу категорически утверждать, что найденная нога — это нога вашего брата. Хочу спросить у вас… — Кирпатрик сделал секундную паузу, — находился ли ваш брат в Цюрихе последние три-четыре дня? — Мы можем посмотреть туфлю? — прервал его Кифф. — Одну секунду, метр. Вы можете ответить на этот вопрос, мистер Вольпоне? — Да, — вступил в разговор Хенли, — да, действительно, в эти дни Дженцо Вольпоне находился в Швейцарии. Капитан смотрел прямо в глаза Вольпоне, которые метались из стороны в сторону, не зная, на чем остановиться. — Мистер Вольпоне? — не обращая внимания на выпады адвокатов, настаивал Кирпатрик. — Мой брат отправился в Цюрих на деловую встречу, — ответил Итало. — Вы не обязаны вдаваться в детали, — упрекнул его Мердл. — Туфлю! — потребовал Вольпоне. Из ящика стола Кирпатрик достал пакет, развернул его и протянул туфлю Вольпоне. Тот долго разглядывал ее. — Вполне возможно, что эта обувь принадлежала моему брату. — Вы не уверены в этом? — Как он может быть уверен? — возмущенно пожал плечами Кифф. — Можете ли вы с полной уверенностью опознать какую-нибудь вещь, принадлежащую вашим близким? — Комиссар, я, вероятно, чего-то недопонимаю, — язвительно сказал Хенли. — Наш клиент выехал отдохнуть два дня на Багамах, а вы выдергиваете его оттуда… — Я всего лишь попросил его приехать, — перебил его Кирпатрик, не спуская внимательных глаз с Вольпоне. — Мистер Вольпоне мог просто проигнорировать мое приглашение. Хочу признаться, мистер Вольпоне, что не ожидал увидеть вас в окружении стользнаменитых адвокатов при выполнении такой малозначительной формальности. — Когда была найдена нога? — спросил Итало. — Тридцать шесть часов назад. Она была прикреплена к обходной решетке электровоза, прибывшего на вокзал в Цюрих. — Хватит, пошли отсюда, — нервно передернул плечами Итало. — Что касается вашего брата, я вынужден был обратиться в Интерпол. И еще, в любую минуту может потребоваться ваше свидетельствование, мистер Вольпоне. — Вы знаете, где можно найти мистера Вольпоне, — сказал Кифф. — Мистер Вольпоне, вы не собираетесь покидать Нью-Йорк в ближайшие дни? — спросил Кирпатрик. — Что? — задохнулся от возмущения Мердл. — Что это значит? — Ничего особенного, метр. Просто я хочу знать, где, в случае необходимости, я смогу найти мистера Вольпоне. — Я вылетаю в Швейцарию первым самолетом, — буркнул Итало и огорченно опустил голову. — Если с моим братом что-то случилось, я хочу узнать — что? — Будем надеяться, что речь идет не о нем, мистер Вольпоне. Есть еще один момент, который привел в изумление моих швейцарских коллег. В кармане штанины нашли билет Цюрих — Женева, закомпостированный в Цюрихе за двадцать минут до прибытия поезда. — И что? — спросил Мердл. — Метр! — укоризненно произнес Кирпатрик. — Кто-то, на данный момент нам неизвестный, садится в поезд Цюрих — Женева, а отрубленная нога этого неизвестного возвращается в Цюрих спустя двадцать минут после его отъезда. — Дальше, капитан. — По логике вещей, ногу должны были отрубить в Женеве, разве не так? — И что это меняет? Так как еще не определили, кому она принадлежит… — Уходим отсюда! — повторил Вольпоне. — Мистер Вольпоне, если вы хоть что-нибудь узнаете о своем брате, сообщите мне, — попросил Кирпатрик. — Если что-то узнаю я, непременно дам вам знать… Все головы почти одновременно склонились в знак прощания, и Вольпоне, сопровождаемый адвокатами, вышел из кабинета. Едва за ними закрылась дверь, появился Финнеган. — Финнеган! — радостно завопил Кирпатрик. — Они уже нервничают! Пусть твои люди проверят, на самом ли деле этот ублюдок собирается улететь сегодня в Швейцарию. Я хочу, чтобы двое наших сидели в том же самолете. Полетят Кавано и Махоуни.* * *
Он извивался под ней, отворачивая лицо, когда она, смеясь, хотела поцеловать его, и наконец резко сбросил ее с себя. — Нас могут услышать! — Ну и что? Это даже забавно! — Я старомоден… — Если бы ты знал, как возбуждаешь меня, делая вид, что боишься, что я тебя изнасилую. Или ты действительно боишься? Тыльной стороной ладони Курт вытер рот, чем сильно удивил Ренату. — Моя губная помада не пачкается! Давай попробуем еще раз! Курт попятился от нее. Родившись в семье среднего достатка, он вырос пассивным бунтарем-революционером. Его презрение к комфорту, роскоши, деньгам и ко всей капиталистической системе в целом было не чем иным, как показным противостоянием благосостоянию… Рената Клоппе вобрала в себя все, что он провозглашал тошнотворным: беззаботность, богатство, вызывающую красоту и полное отсутствие интереса к великим проблемам — голоду в мире, ухудшению экологии, марксизму, идеалам рабочего класса… И к тому же Курт ненавидел своего будущего тестя. Однажды, сидя за обеденным столом, после нескольких рюмок спиртного он откровенно высказался в адрес Клоппе: — Даже если вы искренни в своих убеждениях, даже если вы думаете, что несете благо, все равно все ваши усилия направлены на утверждение собственной власти и разложение общества! Хомер Клоппе посмотрел на него, как на сумасшедшего, а восхищенная Рената умирала со смеху. Она быстро увела его в спальню, и там он произнес искрометную речь, в которой доказал, что Швейцария со всеми ее банками и так называемым нейтралитетом, экологически чистой пищей повинна во всех мировых несчастьях, начиная со смерти Альенде и заканчивая нищетой в социалистических странах… Рената пожирала его глазами и шептала: — Да, мой дорогой Курт, да… Ты прав… Трахни меня! Как обычно, она провоцировала, брала инициативу на себя… И он уступил, что-то недовольно бормоча себе под нос. — Курт, помоги! У меня заело молнию платья… Она сидела на кровати в коротеньком платьице известнейшего в мире модельера, которое стоило больше, чем колумбийский шахтер мог заработать за двадцать лет… — У меня не получается, — смущенно сказал Курт. — Какое счастье, что я никогда не ждала, когда ты разденешь меня! Иначе, дорогой Курт, я до сих пор ходила бы в девственницах. Мануэла!.. Мануэла! — позвала она еще раз. — Куда она подевалась? Эта сучка по уши влюблена в парня, который сколачивает состояние в Ботсване на алмазах. — А она работает прислугой? — Он уехал туда всего три месяца назад. — Владеет шахтами? — Копает… Они оба из Португалии. Прочитал объявление и сорвался отсюда. Когда он возвратится, естественно, богатым, он женится на ней, сделает одиннадцать детей и припечатает к делу… Что поделаешь, она любит своего Хулио! Когда он ее трахал, это занимало десять минут, теперь она проводит весь день перечитывая его письма, и ничего не хочет делать! Мануэла! — Слушаю вас. Мануэла была невысокого роста, с короткой стрижкой, но красивая, с каким-то детским, наивным взглядом темных глаз. — Вы только что из Ботсваны, дорогая, да? Мануэла ангельски улыбнулась. Она часто и подолгу доверительно разговаривала с молодой хозяйкой: Рената Клоппе всегда была готова выслушать сердечные трудности других. Она давала дельные советы, щедро расплачивалась в конце месяца и вообще рассматривала прислугу больше как подружку, а не как наемного работника. Мануэла обожала ее. — Что нужно сделать? — Курт попытался меня изнасиловать, но резко дернул за молнию, и ее заело. Посмотри… Хихикая, Мануэла быстро все исправила. Глядя в зеркало, Рената искала взгляд Курта, но великий революционер смотрел в окно, чтобы никто не видел залившей его лицо краски.* * *
— Эта гнилая вонючка хуже ирландского дерьма, акула — этот полицейский! Вы бы видели, как он радовался. Вольпоне в его кабинете! Дженцо никогда мне этого не простит! Юдельман смущенно опустил глаза. Итало говорил таким тоном, словно никакой ноги не существовало. Всякий раз, когда он пытался направить разговор в это русло, младший Вольпоне тут же уходил в сторону. — Меня это тревожит, Малыш, очень тревожит… Я приказал начать розыски в Швейцарии, но твой брат исчез, как невидимка. Понимаешь, эта нога… — Закройся! Я тебе говорю, что это не он! Ты думаешь, что Дженцо такой дурак, чтобы прыгнуть под поезд? Покусывая губы, Юдельман пробормотал: — А если ему помогли? Неожиданно Итало схватил его за лацканы пиджака и притянул к себе. — Я же тебе сказал — это не он! Он должен был поехать в Италию к одной шкуре. Сейчас он ее трахает! Кто лучше меня знает брата? Но Юдельман не мог спокойно смотреть на это дело, которое таило в себе большую опасность… Ему пришлось вцепиться двумя руками в свое мужество, чтобы не дрогнуть. Он был одним из немногих, кто знал дикую, необузданную мощь слепой ярости Итало Вольпоне. — Не злись. Малыш, лучше выслушай… Ты знаешь, что на протяжении восемнадцати лет я являюсь советником твоего брата и всей «семьи». Скажи, Дженцо хоть однажды критиковал мои советы? — А! Прекрати! — Ответь мне только на один вопрос, единственный. — Рожай! — Если речь идет действительно о ноге Дзу, ты смог бы опознать ее? Итало взорвался. — А какого черта я собираюсь лететь в Швейцарию? Сыры жрать?.. — У тебя есть особые приметы? — Да, черт побери! Когда мы были пацанами, старик подарил нам велосипед, один на двоих. Он выиграл его в покер у одного пьянчуги. Дженцо захотел тут же прокатиться. Я устроился сзади, на багажнике. Короче, мы упали… Дженцо педалью рассекло ступню, и шрам остался на всю жизнь. Я хочу удостовериться, есть ли он… там… Моше прочистил горло и осторожно спросил: — Левая или правая ступня? Малыш уничтожающе посмотрел на него. — Правая! Когда мой самолет? — Через два часа. Меня тревожит еще одно обстоятельства… Сегодня утром я должен был встретиться с О’Бройном. На встречу он не явился. — Ну и что? — Ничего. Я позвонил ему домой, но и там его не оказалось. Жена не видела его с тех пор, как он улетел в Нассау. — К чему ты клонишь? — Не торопись… У О’Бройна есть любовница — Заза Финней. — Знаю, знаю… — Она тоже исчезла. Вольпоне бросил на Юдельмана недоуменный взгляд. — Моше, что ты хочешь мне сказать? — Мне кажется странным, что вкладчик двух миллиардов долларов, обладающий шифром счета, исчезает… Итало изумленно посмотрел на него. — Если О’Бройн исчез, меня это не касается. Пусть об этом беспокоится его шеф, Этторе Габелотти! Юдельман медленно покачал головой. — Одну секунду… Ты знаешь, почему Габелотти не полетел вместе с твоим братом в Цюрих? — Все знают, что этот мудак дрожит за свою задницу и боится летать. — Правильно! Поэтому он и отдал свои полномочия О’Бройну. Теперь только два человека имеют доступ к деньгам: дон Дженцо и Мортимер О’Бройн. Итало рассмеялся фальшивым смехом. — Говори сразу, что этот недоносок хочет смыться с деньгами Синдиката. — Такого я тебе не говорил. Я только напоминаю тебе, что речь идет о двух миллиардах долларов. — Мертвому не надо и трех центов! — О’Бройн еще не мертв… его просто нигде невозможно найти, — тихо сказал Юдельман. Итало раздраженно передернул плечами. — О’Бройн! Этот несчастный боится собственной тени! — С двумя миллиардами долларов никто не может считаться несчастным или трусом. Итало подозрительно посмотрел на Юдельмана, не понимая, говорит тот серьезно или шутит. Нет, вид у Моше был очень озабоченный. — Каким бы ты умным ни был, но кое-что упустил, — начал Итало. — Неужели ты думаешь, что Габелотти настолько простой парень, что даже не поинтересовался у О’Бройна номером счета? — Возможно, это так, — сказал Юдельман. — Даже наверняка поинтересовался! — Ну? Для чего тогда ты крутишь все это кино? — Ладно. Забудем! И не злись на меня. Я всей душой хочу, чтобы эта операция удалась. Мне повсюду кажутся черти… — Только не О’Бройн может нас поиметь! У него пусто в штанах. Он никогда не осмелится! Моше!.. — Вольпоне вдруг замолчал. — А если эта свинья Габелотти?.. — Нет, нет! — прервал его Юдельман. — Габелотти от этого ничего не выиграет. Хватит, достаточно навоевались! Нет, не Габелотти. Если, не дай Бог, что-то случилось с Дженцо… Извини, я опять за свое… Этим человеком может быть только О’Бройн. — Потому что он засел в твой черепушке, — сплюнул Итало. — Сходи и поговори на эту тему с Габелотти. Сходи, спроси у него… — Я должен тебе признаться… Если О’Бройну стукнула моча в голову… он не успеет шевельнуть мизинцем… Я попросил, чтобы предупредили Орландо Баретто в Цюрихе… Он не даст ему и шагу сделать к банку. Здесь два человека следят за его квартирой… Еще двое наблюдают за квартирой его подстилки… Не волнуйся, Итало, отправляйся в Швейцарию и успокой меня хорошим известием о Дженцо. Пошли? — Хочу дать тебе одно поручение, пока меня здесь не будет: ликвидируй Бьяску. — Бьяска? Почему? — удивился Юдельман. — Он навел на меня фараонов. — Возможно, у него не было выбора… — Меня это не интересует. Ликвидируй его! Прежде чем открыть пасть перед фараонами, он должен был предупредить меня. — Ладно, посмотрим… Итало посмотрел на него леденящим душу взглядом. — Ты уберешь его или мне заняться этим самому? — Не нервничай! Преподадим ему небольшой урок… Сейчас есть более неотложные дела! — Нет! Я люблю решать свои вопросы по горячим следам. — А наши деньги, ты думаешь о них? — Они находятся там, где им положено быть. Ликвидируй Бьяску, остальное — моя забота… — Хорошо, — буркнул Моше, — хорошо… Лучше обойти Итало, а не идти на пролом. В минуту гнева он готов даже пожертвовать громадным состоянием в угоду своему капризу. — Итало, прилетишь на место, позвони мне… Если у тебя возникнут трудности, я тут же вылечу… Лицо Вольпоне окаменело, и Юдельман предпочел не продолжать. — Как хочешь, — торопливо сказал он, — как хочешь… Я провожу тебя в аэропорт.* * *
Мануэла закурила тонкую сигарету. Она позволяла себе это удовольствие четыре раза в день в свободную от работы минуту. Положив ноги на край туалетного столика, она еще раз перечитала письмо. «Любимый Хулио! Я могла бы наизусть пересказать твое письмо, которое прочитала с большим волнением. Я не могла даже представить, насколько опасна твоя работа. Поэтому я прошу тебя — оставь ее! (Она дважды подчеркнула слова «оставь ее».) Пропади они пропадом, эти деньги! Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Если на то пошло, мы могли бы быть счастливыми и здесь. Важнее быть счастливым и живым, чем богатым и мертвым. Возвращайся! Мы года два еще поработаем в Цюрихе. Моя хозяйка подыщет тебе спокойную работу, потом уедем в Албуфьеру и купим магазин. И еще, Хулио, что я буду делать с ребенком, которого ношу в себе, если с его отцом случится несчастье до того, как он на мне женится? Садись в первый самолет, сколько бы ни стоил билет, и возвращайся, Хулио. Не всегда деньги — главное!.. Вчера у мистера Клоппе были гости, и хочу сказать тебе, что все эти люди, набитые деньгами, имеют противные лица и, поверь мне, редко занимаются любовью. В любом случае не так часто, как мы! Не исключение и мистер Курт с мисс Ренатой, которые женятся в следующий четверг, и об этой свадьбе говорит весь город. Мне очень тебя не хватает, Хулио. Хулио, пожалуйста, сделай так, как я тебя прошу, — возвращайся! Не спускайся больше в эту проклятую шахту и приезжай обнять свою маленькую Мануэлу. Ей этого так хочется! Я еще раз, перед сном, прочту твое письмо, хотя уверена, что ночью мне будут сниться кошмары. Мне холодно одной в кровати. Я люблю тебя! Навечно твоя — Мануэла». Мануэла взяла со стола конверт и написала адрес своего жениха: «Мистеру Хулио Альмейде «Вассенарз консолидейтед» Шукуду, Ботсвана (Южная Африка)». Завтра утром она пойдет на почту. Она легла в кровать и спросила себя, сегодня ли это произойдет. Одна из ее подружек сказала, что начиная с третьего-четвертого месяца беременности будущая мать может ощутить шевеление ребенка. Срок ее беременности был уже три с половиной месяца.* * *
Когда трое парней вошли в магазин, Бьяска понял, что это бандиты. Они были молоды, внешне напоминали студентов, но в их глазах застыло что-то жестокое и беспощадное. Самый высокий держал в руках футляр от скрипки. «Что в нем может быть?» — подумал Бьяска. У него не было никаких недоразумений ни с полицией, ни с кем-нибудь из влиятельных лиц нью-йоркских «семей». Кроме того, все хорошо знали о его дружеских отношениях с Дзу Дженцо Вольпоне, чтобы кто-то осмелился угрожать ему. После визита полицейских ему так и не удалось дозвониться домой к дону Вольпоне: или телефон был занят, или никто не отвечал. После двухчасового напрасного накручивания диска он попытался связаться с секретарем Вольпоне, но и там его ожидала неудача. — Господа, чем могу быть вам полезен? — Вы — Пьетро Бьяску? — Да, — ответил он, вдруг ощутив свою силу в тех высоких и многочисленных знакомствах, которыми так гордился. — Мы хотели бы заказать обувь, — сказал высокий парень с футляром. — Этим вопросом занимается моя секретарша. Но вначале нужно сделать муляж ваших ступней. — Пожалуйста, вот вам образец, — ответил парень. Он резко развернул Бьяску к себе спиной и сильно ударил его ногой в зад. Клиенты, работники, находившиеся в зале, с недоумением наблюдали за нелепой сценой. Лицо Бьяски побагровело. Понимая, что на карту поставлен его авторитет, он с решительным выражением повернулся к обидчикам. — Вы не понимаете, на кого подняли руку! Один из бандитов вытащил из кармана «кольт» и, небрежно помахивая им, стал у входной двери. Второй рывком оборвал телефонный провод. — Возможно, тебя устроит этот размер? — мягко сказал парень с футляром и ударил Бьяску ногой в пах. Пьетро выдержал удар. — Я не знаю, ни кто вы, ни какой сумасшедший вас прислал, но, клянусь, вы дорого за это заплатите! Последовал новый удар ногой. — Ты займешься нами, или я должен тебя изуродовать? — Вам что-нибудь говорит имя Дзу Дженцо Вольпоне? — Бьяска выбросил козырную карту. Тот, который оборвал шнур, подошел к Бьяске. — Послушай, старина, я очень много ходил сегодня пешком… Видишь, туфли запылились… Почисть… Он подтянул к себе стул и поставил на него ногу. — Давай, чисти!.. Бьяска продолжал неподвижно стоять. Это стоило ему удара кулаком в лицо. — Чисти! Чтобы придать своим словам больше ясности, он приставил к виску итальянца «харрингтон энд ричардсон» 22-го калибра. С наполненными яростью и страхом глазами, Бьяска вытащил из кармана шелковый носовой платок и провел им по туфле от носка до каблука. — Сильнее тут! Стань на колени! Я хочу, чтобы они блестели, как новенькие. Пьетро опустился на колени и принялся полировать кожу. — Достаточно! — сказал тип. — А теперь сними с нас мерки. Одна из клиенток решительно направилась к выходу. — Я ухожу. Ваши дела меня не интересуют… — Тсс… тсс, — цыкнул парень с «кольтом» и дулом оружия указал ей на к прежнее место. — Не могли бы вы мне сказать, что вам от меня нужно? — спросил Бьяска, которого охватил настоящий, жуткий страх. — Тебе же сказали! Туфли! Пошел, вперед! — Эй! — крикнул парень, стоявший у входа. — Закрываемся! Поставивший Бьяску на колени приказал кассирше: — Задерни шторы на окнах, мымра! Когда кассирша проходила рядом с ним, он протянул ей табличку, на которой было написано: «Закрыто». — Прикрепи так, чтобы хорошо было видно с улицы. Бьяска грубо втолкнули в мастерскую. Никто из подмастерий даже не шелохнулся, но Бьяска на всякий случай предупредил: — Не пытайтесь меня защищать, они вооружены. — Что это такое? — спросил бандит с футляром, показывая на полки с муляжами ступней. — Слепки с ног моих клиентов, — ответил Бьяска. — А теперь все-таки объясните мне… — Подай мне одну такую хреновину. Пьетро снял с полки муляж и протянул его бандиту. Вертя в руках ступню, тот спросил: — И много у тебя таких? — Две тысячи семьсот, — ответил Пьетро. — Из чего они сделаны? — Из гипса. — А почему здесь написано «Пол Ньюмен»? — Это слепок с его ступни. — Вот это да! — восхищенно присвистнул бандит. — Знатная у тебя клиентура! Бьяска нервно передернул плечами. — Послушайте, в какую игру вы играете? — Ты и ты! — приказал парень, ткнув указательным пальцем в двух ближе всего к нему сидевших подмастерьев. — Возьмите палки и быстренько сбросьте всю эту дребедень на пол! — О нет! — завопил не своим голосом Бьяска. — Вы не посмеете! К нему подошел тот, которому он чистил туфли, и сильно ударил рукояткой пистолета по побледневшей щеке. Падая на пол, Бьяска простонал: — Не делайте этого. Это — все мое богатство… — Чего вы ждете? — ледяным тоном спросил парень с футляром. Бросив беспомощный взгляд на хозяина, подмастерья начали сбрасывать гипсовые слепки с полок. Ударяясь о пол, муляжи разлетались на кусочки со звуком разбивающейся глиняной посуды. Подмастерья старательно избегали смотреть на Бьяску, по лицу которого, смешиваясь с кровью, ручьем текли слезы. — Теперь топчите… Превратите их в пыль… Там, на верхней полке, осталась еще одна хреновина. Вниз ее!.. Самый старший по возрасту работник Бьяски возразил: — Только не это… Мэрилин Монро! — Монро? Без шуток? — Пожалуйста! — Ладно, оставляй свою Монро! А впрочем, там, где она сейчас, башмаки ей не понадобятся. Разбивай! Разбивай! Закрыв лицо руками, Бьяска был не в силах смотреть, как его единомышленники, в каком-то смысле его дети, давили ногами то, что было его гордостью и богатством… — А теперь покажи склад готовой продукции! Бьяска кивнул в сторону двери, находившейся в глубине мастерской и едва просматривавшейся сквозь густое облако белой пыли. Он с трудом встал на ноги, успев выхватить взглядом обломок с надписью: «Генри Киссинджер». В одну секунду все потеряло для него смысл. Он открыл дверь склада, набитого готовой обувью, дорогими сортами кожи, привезенной из Италии, Англии, Испании… Парень неторопливо открыл футляр. К удивлению Бьяски, вместо ожидаемого автомата он увидел портативный газовый резак, к которому с помощью шланга был присоединен миниатюрный баллончик с кислородом. — Собираетесь поджечь? — безразличным голосом спросил Бьяска. — Никакого пожара… Хочу немного поджарить недоброкачественный товар… Он открыл вентиль и поднес к вырывающейся струе газа огонек зажигалки. Голубая струя пламени прошлась по первым рядам готовой обуви. — Может, вам нужны деньги? — спросил Пьетро. — Нет, никаких денег… — Что же вам нужно? — Ничего. Разувайся. Бьяска машинально снял обувь. Страх прошел, все ему стало безразлично. Разве можно причинить ему еще большую боль? Его муляжи превращены в пыль, сам он публично унижен, а готовая обувь безвозвратно повреждена. — Зачем? — отрешенно спросил он. — У тебя есть муляжи собственных ступней? — Нет. — Тем лучше… Они тебе больше не понадобились бы. — Почему? Неожиданно пламя резака метнулось вниз, и Бьяска увидел, как оно запрыгало по его ступням, и услышал звук трескавшейся под огнем кожи. — Потому что теперь они приобретут другую форму, — вежливым тоном объяснил бандит. (обратно)ГЛАВА 4
Отъезжая от здания аэропорта Кеннеди, куда он только что привез Малыша Вольпоне, Моше Юдельман попросил шофера доставить его как можно быстрее домой, не нарушая при этом правил дорожного движения. Он лучше других знал, что жизнь за гранью закона требует слепого подчинения тысячам абсурдных законов, о которых обыватель зачастую не имеет никакого понятия. Несколько лет тому назад в одной итальянской газете он прочитал, как дорожная полиция остановила какого-то министра за превышение скорости. И тот, вместо извинений, пригрозил полицейским ужасными наказаниями. Глупый и дисциплинированный полицейский составил соответствующий протокол и подал его в суд. Министр задействовал все свои связи, но полицейский не хотел слушать свое начальство и рвать протокол. Он обратился в свой профсоюз, дело приобрело всеобщую огласку, и в конце концов полицейский остался полицейским, а министру пришлось подать в отставку. Грустная, но поучительная история. Юдельман с горечью подумал, что неприятности только начинаются… Он не решился до конца высказать Итало все свои опасения. Но инстинктивно уже чувствовал запах крови… Кроме безграничной профессиональной компетенции, он не видел в О’Бройне ни одного достойного мужчины качества. Моше считал его слабохарактерным, нерешительным и уж слишком внешне добропорядочным, чтобы верить ему. Если это действительно нога Дженцо Вольпоне, если он действительно умер в окрестностях Цюриха, случайность этого происшествия полностью исключается. Кому в таком случае на руку это преступление? Моше сразу же исключил из возможных подозреваемых «семью» Габелотти. Ее дон Этторе не настолько идиот, чтобы нанести предательский удар до того, как будет улажен деликатный банковский вопрос, который должен был решиться в течение ближайших недель. Кроме того, проблема преемственности, вызванная исчезновением Дженцо, настолько острая, что обязательно вызовет необходимость в арбитраже всесильной Комиссьоне. Сейчас, когда после трехлетней кровавой вражды установился временный мир, Синдикат не простил бы Габелотти разжигания новой войны и общими усилиями стер бы его в порошок. Габелотти об этом знает. Остается О’Бройн. У Юдельмана не укладывалось в голове, как можно протянуть руку к деньгам Синдиката, забыв о собственной шкуре. Такая попытка равнозначна пуле, пущенной собственной рукой себе в лоб. К сожалению, именно он, Моше, убедил Вольпоне и Габелотти пойти на этот временный союз, чтобы осуществить исключительную, выходящую за рамки обычного представления, операцию. И теперь смерть дона Дженцо, у истока которой формально стоял он, может повлечь безумный и безудержный каскад человеческих смертей. Эта перспектива настолько его испугала, что он приказал шоферу изменить маршрут и немедленно отвезти его к Габелотти. А почему бы нет? Он искренне поделится с ним своими подозрениями, поинтересуется местом нахождения О’Бройна и тем, знает ли он номерной счет в Цюрихе. Если Габелотти правильно оценит его шаг, у него хватит ума позвонить в Швейцарию и проверить, на месте ли два миллиарда долларов. Поразмыслив несколько минут, Юдельман отказался от только что выработанного плана. Этторе мнителен и недоверчив. Его демарш может вызвать подозрение и у Итало. Следует дождаться новостей от Малыша из Цюриха, окончательно убедиться, что с доном Дженцо случилось непоправимое несчастье. А если деньги уже испарились из банка? Сердце Моше сжалось, когда он подумал, что если бы Габелотти не боялся самолетов, он полетел бы с Вольпоне в Цюрих и стал бы носителем секрета. О’Бройн никогда не входил, даже теоретически, в цепочку операции «АУТ». Когда шофер затормозил у его дома, Моше, погруженный в океан мрачных мыслей, долго сидел неподвижно, не замечая открытой перед ним дверцы. Если предчувствия не обманывают его, ужасные неприятности скоро обрушатся на всех…* * *
— Заходите, дорогой, прошу вас… Хомер Клоппе энергично пожал руку посетителю. Это был сорокалетний стройный мужчина с седыми коротко подстриженными волосами. — Путешествие было приятным? — Очень, спасибо. — Хотите чего-нибудь выпить? Виски? — С удовольствием. Хомер снял с полки два серебряных бокала. — Присаживайтесь… Надолго в Цюрих? — Через три часа снова улетаю в Детройт. — Неразумно… Я надеялся вместе поужинать. Хомер извлек из ящика рабочего стола флакон с наклейкой чернил известной фирмы «Уотерман». Отвинтив пробку, он налил светлую жидкость в бокалы. — Не волнуйтесь, — сказал он, улыбнувшись, — даже швейцарцы не пьют чернила. Ирландское виски, тридцать лет выдержки… Попробуйте… Седой недоверчиво понюхал. Его звали Мелвин Бост, и он управлял административной службой «Континентл мотокарз» — автомобилестроительного завода, основанного на следующий день после окончания войны. Эдмонд-Люсьен Клоппе, отец Хомера, и он сам, праправнук Оноре Клоппе, основателя «Трейд Цюрих бэнк» финансировали первые шаги зарождающегося концерна. В то время, в 1946 году, Эдмонд-Люсьен взял в долю на паритетных началах с двадцатью процентами стартового капитала четырех партнеров: «Уньон бэнк Сюисс», «Креди Сюисс», «Чейз Манхэттен» и «Морган гаранти траст». Десять лет спустя небольшой заводик с тремястами рабочими превратился в огромный комплекс, где уже работало шесть тысяч человек. За это время акции предприятия выросли на 1 200 процентов от первоначальной стоимости: «Чейз», «Креди», «Уньон» и «Морган» часть своих акций выгодно продали. В силу этих обстоятельств Эдмонд-Люсьен, который не притронулся к своему пакету ценных бумаг, оказался основным держателем капитала «Континентл мотокарз». К радости и горю… — Ваш телефонный звонок удивил меня. Какой такой секрет вы хотите сообщить мне? Лицо Мелвина Боста сразу же приняло озабоченное выражение. — Произошла еще одна авария. Он машинально протянул руку с бокалом Клоппе, и тот плеснул в него добрую порцию виски. — Еще одна? — Седьмая за шестнадцать месяцев. И все по той же причине: отказ рулевого управления. Маленький розовый рот Хомера скривился. — Что показало расследование? — Причина известна: неправильная закалка стали колонки управления, как результат — облом… Из этой стали сделаны все колонки управления, которые стоят на всей серии «Бьюти гоуст Р9». — Почему все? — Эта деталь произведена нами. Мы купили эту сталь по дешевке… — Замените сталь. — Это уже сделано. — Вы выставили санкции поставщику? — С того дня, когда вдова того типа, который разбился на «Р9», бросила против нас армию адвокатов. — Она выиграла? — Выиграет… Она легко доказала, что в аварии повинен не муж, а технический брак. Но это еще не все… Родственники шести других жертв тоже атакуют нас. — Что, по вашему мнению, следует предпринять? — Ума не приложу, сэр. Поэтому я и прилетел сюда, чтобы посоветоваться с вами. — Сколько «Р9» находится в эксплуатации? — Всего в мире? 482 326. — Вы уверены, что эти несчастные случаи не являются чистой случайностью? — Семь смертельных исходов в результате одной причины — это не случайность, а закономерность. Хомер глубоко вздохнул. — Кто нам докажет, что будут новые аварии? — Мы проиграли возможность несчастных случаев на компьютере. Результаты неутешительные: ожидается одна авария на десять тысяч машин, или сорок восемь на 482 326 «Р9», которые бегают по дорогам Европы и Америки. — Невероятно! — Такова статистика, сэр. Никто не может гарантировать, что это произойдет, но ЭТО МОЖЕТ случиться. — Я не могу допустить этого! Мы должны предупредить всех владельцев «Р9»… во всем мире. — Что вы предлагаете? — Произвести бесплатную замену дефектной детали. — Мы уже думали над этим, мистер Клоппе. Реализация вашего предложения превысит все мыслимые материальные затраты. — Откуда вам знать! Ваш жест лояльности произведет такой рекламный эффект, который привлечет внимание новых покупателей. — С моей точки зрения, сэр, не всякая реклама стоит того, чтобы в нее вложить сто пятьдесят миллионов долларов. От неожиданности Хомер пролил на пол половину содержимого бокала. — Что вы сказали? Какую цифру вы назвали? — Сто пятьдесят миллионов долларов, — повторил Мелвин Бост. Хомер чуть не задохнулся, молниеносно подсчитав в уме, что его личный вклад составит около тринадцати миллионов долларов. Кто может позволить себе выбросить на ветер такую сумму? — Видите ли, сэр, — в спокойном тоне продолжал Мелвин Бост, — я ждал этого благородного шага с вашей стороны и должен вас предупредить, что это обернется для фирмы банкротством. — Но я не могу оставить… рисковать жизнью еще сорока восьми человек. — Шесть тысяч человек станут безработными, пятьсот пятьдесят инженеров и работников административного аппарата окажутся на улице… Поэтому я и не хотел принимать никаких решений, не посоветовавшись с вами. — Я в растерянности… — Есть от чего… Мы не можем принять половинчатое решение. Известив владельцев «Р9» о начале нашей акции, мы вынуждены будем идти до конца… до банкротства. — Что же делать?.. Что делать?.. — Хотите знать мое мнение, мистер Клоппе? Ничего не делать! Может случиться и так, что больше не произойдет ни одной аварии. Не будь этого процесса со вдовой, мы, возможно, никогда бы не узнали причины отказа рулевого управления. Попытаем шанс… Клоппе сурово посмотрел на него. — Речь не о нашем шансе, Мелвин! Мы не имеем права… — Я вам уже говорил, что из семи аварий только четыре со смертельным исходом. Хомер горько покачал головой. — Только!.. — В двух случаях — относительно серьезные травмы, в последнем водитель отделялся легкой контузией. Если вы согласны меня выслушать, сэр, я изложу вам свою идею. Она стоит столько, сколько стоит… Итак… Если в течение трех месяцев ничего не произойдет, я имею в виду новую аварию, мы оставляем все так, как есть… За это время я что-нибудь придумаю, чтобы спасти фирму… если снова начнутся аварии. Что вы на это скажете? Хомер надолго погрузился в размышление. Мелвин Бост уважительно не нарушал тишину. — В данном случае, сэр, — заговорил он после молчания, — это самое верное решение. К тому же новые «Р9», которые пойдут с конвейера через месяц, будут совершенно безопасны. — Сделайте все, что в ваших силах, Мелвин.* * *
Капитан Кирпатрик относился к Интерполу с таким же пренебрежением, как к своей первой паре наручников. Он доверял только тем людям, которых обучил сам. И еще он прекрасно знал, каким соблазнам подвергаются молодые инспекторы, в душе которых еще не зажегся священный огонь. Синдикат своими умопомрачительными взятками мог коррумпировать все, что коррумпировалось… Когда зарабатываешь пятьсот долларов в месяц, и тебе не всегда оплачивают расходы за общественный транспорт, как тут не заслушаться волшебным пением сирен! Поэтому его выбор пал на Патрика Махоуни и Дейва Кавано, таких же ирландцев, как и он сам: неподкупных и ревностно им выученных. В них он был уверен: такие парни не упустят Итало Вольпоне, даже если потребуется последовать за ним в ад. В аэропорту он дал им последние наставления. — По мере возможности старайтесь работать порознь. Он будет подозревать, что за ним следят. Будьте осторожны и начеку! Он попытается уйти от вас. Один из вас должен сидеть у него на пятках, второй подстраховывать. Никаких контактов со швейцарской полицией! Они терпеть не могут, когда чужие суют нос в их миску… Попадете в переделку, выкручивайтесь сами… Из своего кабинета я вам ничем не помогу. Махоуни и Кавано вежливо слушали и удивлялись тому, что говорил Кирпатрик. Такие инструкции они постеснялись бы давать даже зеленому инспектору. Они долго изучали фотографии Малыша Вольпоне, запечатлевая в памяти его живые жесткие глаза, блестящие, цвета воронова крыла волосы. Сейчас, делая вид, что не знают друг друга, они поднимались по трапу в «Боинг-747». Кавано летел туристическим классом, Махоуни — первым: результат игры «орел или решка». Махоуни было тридцать два года, Кавано — двадцать девять. Это были самые ответственные и дисциплинированные сыщики бригады, но, несмотря на поставленную задачу, командировку в Швейцарию они рассматривали как приятное путешествие. Последующие события докажут, что они ошибались…* * *
Во внешности Шилин Клоппе не было изюминки: голубые глаза, двойной подбородок, темные волосы, бледная, нежная кожа лица. Она жила размеренной жизнью по раз и навсегда определенному порядку: время чая, время приема пищи, время молитвы, время встреч с друзьями, отход ко сну… Существование, одновременно полное, как яйцо, и пустое… Она была заряжена на необходимость помочь другим, подчиняться мужу, справедливо относиться к слугам и не испытывала никакого расизма — без колебаний нанимала итальянцев, французов или португальцев, а в случае необходимости приглашала горничную метиску или кухарку арабку. Ее подруги, жены банкиров, тихо вздрагивали от такой смелости. «Надо жить в ногу со временем», — отвечала Шилин, взволнованная собственным либерализмом. Посаженная в теплый кокон, созданный Хомером, она ни к чему не испытывала страстного влечения. Имела разумное количество бриллиантов, как и все ее подруги, шофера и относительно скромный гардероб. — Хомер, ты уже закончил ужинать? — Я должен еще немного поработать перед сном. Извини… — Тебе прислать чай в спальню? — Лучше кофе. — Это неразумно. Уже половина десятого. — Нужно прочесть массу документов к завтрашнему дню. Где Рената? — Кажется, с Куртом. Лицо Хомера Клоппе едва заметно перекосилось. Шилин сделала вид, что не заметила перемены в его настроении. Они сотни раз обсуждали личность будущего зятя. Шилин отстаивала кандидатуру Курта перед Хомером и своими друзьями, которые называли ее прогрессивной, и она таяла, очарованная этим словом. Хомер списывал ее прогрессивность на инфантильность, нереальное восприятие окружавшего ее мира, на эмоциональное отрицание происходящего вокруг нее. Его преподавательская деятельность где-то в глубине души импонировала ему. — Спокойной ночи, — сказала Шилин с улыбкой любящей супруги и добавила: — Ты слишком много работаешь, Хомер… Я увижу тебя завтра за завтраком? Хотелось бы посвятить тебя в последние приготовления перед церемонией… Клоппе бросил на нее пронзительный взгляд. Она сделала вид, что не заметила его. — И не забудь — завтра четверг! — не поднимая глаз, напомнила она. — Разве можно забыть! — пробормотал Клоппе. — Спокойной ночи. Глядя ему вслед, она подумала, что он хороший муж, примерный христианин, добропорядочный гражданин, любящий отец и что только он, при его положении в обществе, мог решиться пойти навстречу капризу дочери, задумавшей устроить свою свадьбу шиворот-навыворот. Хомер никогда не забывал день рождения жены и в этот день никогда не опаздывал к ужину. Даже в те далекие времена, когда он был интересным, он никогда не поднимал глаз на другую женщину в ее присутствии. Однажды она даже спросила у самой себя, позволительно ли ей спросить у него о фотографиях, которые, по невероятной случайности, она нашла в кармане его плаща, когда вешала его в шкаф. На всех фотографиях была изображена, в одних микроскопических трусиках, очень высокая негритянка во всевозможных позах. Шилин посчитала, что такого роста женщина может работать только в цирке.* * *
Несмотря на протесты младшего Вольпоне, Юдельман убедил его взять с собой в Швейцарию двух телохранителей, для «прикрытия». По многим и разным причинам его полным доверием пользовались Фолько Мори и Пьетро Беллинцона. Оставаясь обычным убийцей, Мори, несмотря на незаурядные качества, казалось, находил удовольствие в своем положении, хотя живостью ума, презрением к опасности и необузданностью мог добиться более высокого положения. К несчастью, именно его способности, к которым добавлялось уникальное умение владеть ножом, заставляли его шефов побаиваться его и несправедливо держать в тени. Пьетро Беллинцона был проще: самые деликатные поручения он выполнял без излишнего шума, никогда не вникая, кому и для чего это нужно. В свои пятьдесят лет он ежедневно выпивал бутылку виски, что никак не мешало ему простреливать черный кружок мишени. Он был невероятно сильным и в такой же степени невозмутимым. Находясь на службе у Вольпоне более двадцати лет, он был доволен судьбой и по-своему наслаждался жизнью, находя радость в исполнении отдаваемых ему приказов. Моше Юдельман поручил ему ни на шаг не отходить от Итало Малыша. Фолько Мори, наоборот, должен был находиться в отдалении и вмешиваться в ход событий только в случае необходимости. Жаль… Пьетро Беллинцона обожал компанию Фолько. Они часто работали бок о бок. Выполняя задания, Мори всегда действовал артистически. Кто не видел, как он одним ударом бейсбольной биты ломает ногу упрямому неплательщику, ничего не видел. Беллинцона обожал такую филигранную работу. Его внутренние ощущения обострялись быстрее от мгновенного разрушения и уничтожения и не были рассчитаны на долгое удовольствие. Он прошел вслед за Вольпоне через паспортный контроль и вовремя спохватился, собравшись было подмигнуть Фолько, который увлеченно читал экономический журнал. Пьетро с грустью вспомнил о своем любимом «кольте», оставленном в теплой квартире на Манхэттене. Юдельман строго-настрого запретил брать с собой оружие, предупредив, что все пассажиры проходят через детекторное устройство. Да, прошли те времена… Сумасшедшие всех мастей стали поворачивать самолеты с курсов, угрожая разнести их вдребезги, но при этом не требовали денег… Беллинцона, глубоко почитавший порядок, никак не мог понять, почему нервные любители извращают ремесло ради каких-то вшивых политических амбиций. Он успокоил себя мыслью, что по прибытии на место их снабдят оружием. Краем глаза он наблюдал за Фолько Мори, который по-прежнему не поднимал головы от журнала. Патрон оставался для него загадкой. Он не только не перебросился с ним словами, но даже не скользнул по нему взглядом. Глядя, как Итало Вольпоне поднимается по трапу самолета, жестко ставя ногу на ступеньку, Пьетро Беллинцона подумал, что он напоминает накачанного допингом боксера, выходящего на ринг.* * *
Первый глоток любимого пунша показался ему горьким. Второй — тоже. Хомер с отвращением раздавил сигару в пепельнице. Встреча с Мелвином Бостом основательно расстроила его. Он искал и не находил ответа на волнующий его вопрос: как согласовать мораль с успешным ходом дела? Может, лучше пойти на неопределенный риск, чем оставить без работы шесть тысяч человек? Он с грустью подумал, что в этой внутренней борьбе с самим собой побеждать некого. Его жена и дочь считали, что управление банком — рутинная работа раз и навсегда отлаженного механизма. Рената, никогда ни в чем не нуждавшаяся, демонстрировала полное безразличие к деньгам, а Курт, у которого за душой не было ни гроша, мог позволить себе критиковать богатство других… Хомер мысленно, со злорадством, пожелал ему стать богатым… Шилин, посвящавшей свое время чаепитию и тысяче других ничтожных дел, деятельность мужа казалась естественной: всякий мужчина, вышедший из хорошей семьи, мог быть только банкиром. Основная его задача — холить и лелеять свою супругу. И никого не интересовало, а возможно, они даже об этом не подозревали, что зачастую ему приходится балансировать одной ногой над пропастью. В дополнение к неприятностям с «Континентл мотокарз» сегодня утром новая проблема свалилась ему на голову в виде телекса с пометкой «совершенно секретно», полученного из Южной Америки. «Вызывает беспокойство безопасность работы в шахте. Опасность забастовки рабочих. Длительность работ по укреплению стволов шахты — 8 месяцев, необходимые для этого ассигнования — 4 миллиона долларов. Ждем срочных указаний дальнейшим нашим действиям». Под текстом стояла подпись: «Эрик Морталд, директор «Вассенарз консолидейтед», Шукуду, Ботсвана». А ведь до сегодняшнего дня «Вассенарз консолидейтед» представлялась как благополучное предприятие! Геологи голландскойфирмы «Вассенарз» обнаружили в Южной Африке, в труднодоступном уголке Ботсваны, алмазные жилы. Не имея достаточных средств для их разработки, «Вассенарз» обратился за финансовой поддержкой в «Трейд Цюрих бэнк», который инвестировал десять миллионов долларов в это мероприятие. Было оговорено условие, по которому банк оставлял за собой право на все добытые алмазы вплоть до того момента, пока не будет погашена задолженность, и в дальнейшем получал право на 14,7 процента от объема ежегодной добычи. Первые шаги дали более чем обнадеживающие результаты. И вот теперь все поставлено на карту этой чертовой телеграммой: «Вызывает беспокойство безопасность…» Для кого? Для рабочих или банкира? У Клоппе мелькнуло подозрение: не собирается ли Эрик выжать из него деньги, играя на чувствительных струнах? Просто немыслимо, чтобы десять миллионов долларов, выделенные банком, были промотаны в диких джунглях Южной Африки! Пока не будет покрыта задолженность, ни о каких новых миллионах не может быть и речи… А дальше он посмотрит, что можно предпринять для общего блага сторон контракта. Из уважения к своим клиентам, деньгами которых он воспользовался, Хомер не мог закрыть шахту, а тем более дать еще четыре миллиона, не увидев цвета алмазов. Ну, это так, для красного словца? Цвет алмазов из Шукуду он знал прекрасно. Он прошел в угол комнаты, отвернул ковер и открыл сейф, вделанный в пол. Хомер взял мешок из мягкой черной ткани и вытряхнул на ладонь белоголубое великолепие. Камень был чистой воды, без единой заметной глазу примеси. Он вложил его в мешочек и взял в руку авторучку. «В настоящее время не представляется возможным удовлетворить вашу просьбу. Советую продолжать работы до тех пор, пока результаты не позволят перевести вам требуемую сумму». Он прошел в ванную и в течение десяти минут чистил зубы. Впечатление, произведенное на него алмазом — первенцем из шахты Шукуду, чуть не выбило у него из головы встречу с этим подозрительным человеком по имени Мортимер О’Бройн, которая должна состояться через несколько часов. Он стал думать, как, чтобы это выглядело достаточно легально, отказать О’Бройну и дождаться личного указания Дженцо Вольпоне о переводе двух миллиардов долларов.* * *
— В принципе Дзу Дженцо — честный парень, но его брат — гнида! — сказал Карло Бадалетто, машинально проводя кончиками пальцев по тому месту, где от удара головой Итало у него не осталось ни одного переднего зуба. — Ты можешь мне сказать, с какой целью этот сучий Малыш отправился в Швейцарию? И почему это произошло сразу же после его визита к Кирпатрику в сопровождении орды адвокатов? Этторе Габелотти по-отечески мягко на него посмотрел и ответил: — Не нервничай, сынок! Почему нас должны интересовать перемещения Итало Вольпоне? Что касается полицейских, возможно, его предупредили о неуплате штрафа за парковку в запрещенном месте. Шутка из его уст была такой редкостью и прозвучала так неожиданно, что Карло рассмеялся. Но оказался не прав. Этторе взорвался: — Постерегись, придурок! Если эта тварь Итало хоть на полпальца обведет меня, отвечать будешь ты! Вот уже несколько дней Габелотти пребывал в состоянии неожиданных, беспричинных взрывов ярости. Его врач, покритиковав сто двадцать килограммов веса Этторе, прописал ему строгую диету, исключив любимую пиццу и спагетти, не говоря уже о вине, дозу которого этот недоумок уменьшил до одного литра в день, когда обычно он выпивал до пяти литров, не считая всякого алкогольного дерьма, поглощаемого во время деловых встреч. Подозрение удивило его, хотя в глубине души он его разделял и с подачи своего советника вызвал в Нью-Йорк Рико Гатто. Парня в городе никто не знал, и он мог относительно спокойно следить за Вольпоне. Через человека Синдиката, работающего в аэропорту Кеннеди, он узнал, что Малыш Вольпоне взял билет на свое имя на 311-й рейс Нью-Йорк — Цюрих. Рико Гатто должен был держать Габелотти в курсе всех перемещений Итало по Швейцарии. Узнав, какую мерзкую миссию ему предстоит осуществить, Рико очень расстроился. Обычно такие поручения заканчивались моргом… Вознаграждение зависело от «качества» клиента и количества жертв… Будучи в душе артистом, Рико любил импровизировать и редко использовал один и тот же прием для убийства. Перед исполнением каждого контракта он испытывал легкий мандраж, как артист перед выходом на сцену. — Главное, чтобы Рико не засветился, — хрустнув суставами пальцев, сказал Бадалетто. — Успокойся, его никто не знает, а в случае… он всегда сможет за себя постоять. Габелотти нравилось, что Карло нервничает. Бадалетто хотелось бы самому «пасти» своего ненавистного врага.* * *
Рико Гатто отстегнул ремень безопасности и приподнялся с кресла, чтобы «прокатиться» поверх голов, а заодно достать пачку «Кэмел» из кармана плаща. Он заметил мощный затылок Итало Вольпоне, достал сигареты и снова опустился в кресло, успев окинуть взглядом весь салон первого класса «Боинга-747». Его острый, наметанный глаз охотника моментально выделил блондина лет тридцати. Внешне парень не был похож ни на бизнесмена, ни, тем более, на жиголо — единственно способного приобрести билет первого класса на самолет, летевший в такой далекий рейс. Этим человеком мог быть либо телохранитель Вольпоне, либо полицейский. Они его не интересовали… Он развалился в кресле, с наслаждением вытянул ноги и пообещал себе сходить перед ужином в бар, который располагался на втором ярусе гигантского лайнера, и пропустить стаканчик. Отсюда Вольпоне деваться некуда! В ожидании ужина Рико погрузился в чтение Ветхого Завета. Количество преступлений, проходивших через святое писание, было столь впечатляющим, что его собственные злодеяния казались сущим пустяком.* * *
— Падроне, не хотите немного шампанского? — Что? Итало Вольпоне встряхнулся, словно уходя от обуревавших его мыслей. Пьетро Беллинцона повторил: — Шампанского? — Нет, — буркнул Итало. Все-таки Моше Юдельман убедил его в том, что О’Бройн пытается надуть их. Итало поклялся вытянуть из него все жилы по одной, прежде чем собственной рукой пристрелит его. Он все припомнит ему: и высокомерное отношение, и вялые, неохотные ответы на его вопросы, и небрежное пожатие руки, и… все! От приступа накатившей на него злобы, ему захотелось разрядиться на Беллинцоне, этом жирном куске мяса. Отослать бы его куда-нибудь. Но куда? И он должен терпеть это омерзительное соседство весь полет, долгие часы! Неповторимый в насильственных акциях, в свободное время Беллинцона представлял собой тяжелую, ленивую массу. Полной противоположностью был Фолько Мори, которого Юдельман специально посадил в туристический класс, как прикрытие. В рядах «солдат» «семьи» Вольпоне он оказался совершенно случайно. Работая в цирке, купаясь в лучах прожекторов и славы, он допустил профессиональную ошибку и навсегда был изгнан с цирковой арены. Официально нож, который он метнул в мишень, вместо того чтобы вонзиться рядышком с партнершей по номеру, случайно попал ей в горло. Несмотря на моментально оказанную медицинскую помощь, она умерла на пути в госпиталь, не произнеся ни слова. Драма, разыгравшаяся на глазах двух тысяч зрителей, ни у одного из них не вызвала подозрения, что они присутствовали при хладнокровном убийстве. Дирекция цирка разорвала с ним контракт уже на следующий день, и Фолько оказался безработным. Цирк — это большая семья, члены которой, живя на разных континентах, знают друг о друге все и вся. Новость о дисквалификации Фолько Мори мгновенно облетела земной шар, закрыв перед ним выход на арену. Будучи сицилийцем, он постучал в дверь дома Дженцо Вольпоне и попросил работу. Дон осторожно навел справки о циркаче, которыми никогда ни с кем не делился, и по-своему оценил новобранца. В действительности в тот вечер Фолько ужасно разругался со своей партнершей. Канатоходец, проходя мимо артистической уборной двух звезд, слышал, как Фолько называл партнершу «стервой» и обвинял в измене. С тех пор Фолько пунктуально выполнял все приказы, отдаваемые гангстером. Несмотря на его небольшой рост, тонкое, гибкое тело, даже Итало Вольпоне в глубине души побаивался Фолько. В его глазах было что-то такое, что человек, взглянувший в них, мгновенно понимал — этот никогда ничего не прощает. — Беллинцона! — Слушаю, падроне! — Сходи пописай. — Что вы сказали? — Я сказал, иди пописай! — Но, падроне… Я только что писал! — Закройся! Иди в туалет, в самый конец самолета, и посмотри, что там делает Фолько! Пьетро Беллинцона тяжело поднялся и направился в салон туристического класса, провожаемый взглядами Рико Гатто и Патрика Махоуни, сидевших в глубине салона. Впервые в жизни Махоуни прикоснулся к реальной роскоши. Его инспекторская работа позволяла ему наблюдать за этой стороной жизни, только листая иллюстрированные журналы. Его уделом были драки всех мыслимых видов, синяки, раны и шишки. После двенадцати лет службы в полиции под руководством капитана Кирпатрика он и сегодня проводил по нескольку часов в тире, снискав славу непревзойденного снайпера. Но метко стрелять он мог не только в мишень! Ему ничего не стоило сбить муху с ноги бегущего человека с расстояния в пятьдесят метров, что он неоднократно проделывал. Его сослуживец Кавано, или, как его называли, Большой Дейв, немного уступая ему в стрельбе, превосходил его в рукопашной борьбе. Патрик Махоуни упивался мгновением… Стюардесса уже наполняла его бокал шампанским, хотя он даже не смел ее об этом попросить. Да, салон первого класса — высший класс обслуживания! До чего же все-таки прекрасна жизнь! Он с нежностью вспомнил о жене Мэри, которая, покормив двоих детей, сама готовится ко сну. Только от прочитанных в меню блюд у него потекли слюнки. Неужели все эти деликатесы входят в стоимость билета и полагаются ему? Фолько Мори заметил, как несколько человек повернулись и смотрят в спину идущему по проходу Пьетро. Пьетро Беллинцона был похож на циркового Геркулеса, который всегда выступал перед его номером, пока он в последний раз проверял острие ножей и отсутствие дрожи в руках. Ему не хватало этого усыпанного опилками круга, напряженной тишины, когда его ножи, как стрелы, летели к стоявшей в десяти метрах от него Рите, впиваясь в дерево рядышком с ее шеей. Почему Рита изменила ему с этим напыщенным воздушным гимнастом? Сплошные мышцы и ничего в голове. И где сейчас его мышцы, когда спустя три месяца оборвался линь трапеции, смоченный тремя каплями кислоты? Он разбился, как горшок, упав на арену с высоты четырнадцать метров. Ни цветов, ни почестей собаке! У паршивца не оказалось даже ни одного родственника. Когда произошел этот «несчастный» случай, Фолько уже был членом «семьи» Вольпоне. Все счеты были сведены… Он закончил артистическую карьеру, отдав свой талант более незаметной, но много лучше оплачиваемой работе. Проходя мимо, этот кретин Беллинцона не смог удержаться, чтобы не скользнуть кулаком по его плечу. Но Дейв Кавано, сидевший тремя рядами впереди, этого не мог видеть. Из динамиков раздался голос: — Просим пассажиров занять свои места. Сейчас вам подадут ужин. Мы летим на высоте одиннадцать тысяч метров и прибываем в Цюрих через пять часов. (обратно)ГЛАВА 5
Заза и Мортимер вылетели из Нассау в Цюрих на три часа раньше, чем «боинг» с Вольпоне на борту, взявший курс из Нью-Йорка в том же направлении. Их воздушное путешествие превратилось в сплошную перепалку. Не зная конечного пункта их бегства из Нью-Йорка, Заза ужасно нервничала. — Куда мы направимся после Цюриха? — Не волнуйся, дорогая, для тебя это будет приятный сюрприз. Она смутно чувствовала, что какая-то песчинка заблокировала механизм прежней самоуверенности ее любовника. Уже в Нассау, когда он возвратился за ней в бар, чтобы сообщить об отлете в Швейцарию, она поняла по напряженному выражению его лоснящегося от пота лица, что у него возникли непредвиденные проблемы. Несмотря на ее настойчивые расспросы, он не сказал ей ни слова, но предательский страх проступал на его лице, как капля масла на светлом костюме. Заза начала сомневаться: уж не сделала ли она глупость, последовав за ним? Кто убедит ее в том, что тайна, в которую он ее не посвящает, не обернется для нее какой-нибудь опасной неожиданностью? Она дала клятву, что в Цюрихе не отстанет от него ни на шаг и в случае неблагоприятного развития событий тут же улетит в Нью-Йорк. Едва они успели пройти паспортный контроль, как Мортимер попросил подождать его… Она взорвалась: — И речи быть не может! Мне осточертели бары в аэропортах! — Хочешь, я отвезу тебя в отель? Через час-два я возвращусь. — Чтобы на меня смотрели, как на проститутку? Я еду с тобой! — Заза, будь умницей… Это деловая встреча… Тебе будет скучно. — Какая встреча? Я хочу знать! — Потерпи еще один день. — Я достаточно натерпелась! Я хочу знать, куда ты собираешься тащить меня дальше? Он устало пожал плечами. — Ты мне не веришь… — Верю, но начинаю сомневаться. — Послушай, Заза… Я должен заехать в банк за деньгами. Я выйду из него ровно через пять минут. — Я еду с тобой! Он огорченно покачал головой. Бессонная ночь на борту самолета еще больше утомила его. При дневном освещении она лучше рассмотрела тяжелые мешки у него под глазами, болезненную бледность кожи, непрекращающийся тик, дергавший его щеки, и этот взгляд, в котором ничего, кроме страха, она не видела. — В отеле тебе будет лучше. Неожиданно ее охватила паника: а вдруг он просто решил отделаться от нее, бросив в этой чужой стране без цента в кармане? Тем более нельзя оставлять его ни на секунду! Она изобразила подобие улыбки и взяла его под руку. — Я хочу быть все время рядом с тобой, Мортимер. — Да? — Куда мы направимся из Швейцарии? — Не знаю, — глухим голосом ответил он. Уголки ее рта опустились, и она бросила на него подозрительный взгляд. — Ты не знаешь?! — Да нет же, знаю… Но, возможно, случится так, что нам потребуется еще один промежуточный перелет. Чтобы окончательно запутать следы после этого опасного, изнурительного возвращения в Цюрих, он решил, что сразу же после того как отдаст распоряжение этому проклятому Клоппе, сядет в первый самолет и улетит в любом направлении, лишь бы подальше от Цюриха. Три-четыре зигзага по разным континентам — и финальная часть его замысла решена. Когда они подходили к стоянке такси, она сделала невероятное усилие и с трагическим выражением шепнула ему на ухо: — Мортимер, то, что я делаю для тебя, я бы не сделала ни для одного мужчины. Ему показалось, что он стал весить на тридцать килограммов больше и вырос на несколько сантиметров.* * *
Когда в дверь раздался звонок, Орландо Баретто был уже в плаще. Рука автоматически ушла под пиджак, где в кобуре под мышкой находился «маузер». Он посмотрел в глазок. Инес! Сбросив цепочку, он впустил ее в квартиру. — Позже прийти не могла? Еще секунда, и я бы смылся. Вместе с Инес в комнату влетело ароматное облачко ее духов. На ней было потрясающее манто из натурального меха цвета карамели, доходившее ей до щиколоток. — Я не привыкла выпрыгивать из постели в семь утра, — сказала она, подавив зевок. — Привыкай… — Зачем позвал? — Как зовут… этого… твоего банкира? — Почему тебя это интересует? — Не твое дело! Фамилия? — Клоппе. Хомер Клоппе. — «Трейд Цюрих бэнк»? — Да. А в чем, собственно, дело? Он похлопал ее по твердым, как кусок бифштекса, ягодицам. — Возможно, собираюсь положить туда кое-какие сбережения. Это серьезная контора? На лице Инес появилась лукавая улыбка. Она вспомнила стальной подвал с рядами сейфов вдоль стен, где раз в неделю трахала розовенького рыжего банкира на ковре из банковских билетов. — Очень серьезная. — А что представляет собой этот Клоппе? — Пастеризованный… холеный… Пятьдесят лет. Для белого засранца у него прекрасные зубы. — Искусственные? — Настоящие. Самые настоящие… Я дергала за них… От удивления у Ландо отвисла челюсть. — А мои? Они что, из дерьма? — Вполне сгодятся для белого засранца. Он хозяйским, уверенным движением руки забрался ей под меха и бесцеремонно сжал промежность. — Я сваливаю… — И это все… что ты хотел от меня? — На сей момент, да. — Вечером увидимся? — Не знаю. Сиди дома. А теперь, принцесса, уходи первой. Не хочу, чтобы нас видели вместе крысы этой паскудной дыры. Она ушла, а вместе с ней исчезло ароматное облачко. Если бы он смог встретиться с ней сегодня вечером, он бы ей задал… Но когда Ландо поручалось дело, он своим временем уже не распоряжался. Ему платили за год вперед, и к выполнению приказов он должен был быть готов в любое время суток. Его патрон, дон Дзу Дженцо Вольпоне, был великодушно щедр. Любая удачная работа вознаграждалась дополнительно, и не только деньгами. Во время своего недавнего пребывания в Цюрихе Дзу Дженцо пригласил его выпить с ним по стаканчику, что само по себе было невероятно! Но этим все не закончилось. Он подарил ему его мечту — сверкающую лаком «Бьюти гоуст Р9» с откидным верхом, одну из самых престижных моделей, выпускаемых американской фирмой «Континентл мотокарз». И сделал это лишь потому, что заметил, каким жадным взглядом Ландо посмотрел на нее, проходя мимо витрины. — Она тебе нравится? Она — твоя! Дзу Дженцо в течение десяти минут оформил покупку, несмотря на протесты Ландо, и лично вручил ему ключи от машины. — Теперь ты сможешь отвезти меня на вокзал. От избытка нахлынувших на него чувств благодарности и уважения он буквально рыдал, целуя руки дону Вольпоне. — Падроне… За что?.. За что?.. — Мы довольны тобой, Ландо. А эта машина — дружеский знак. — Я не заслужил ее, патрон!.. — Не думай так. Если не сегодня, ты заслужил бы ее завтра… Когда дон распрощался с ним теплым рукопожатием, Орландо показалось, что он расстался с родным отцом. Через два дня, в три часа утра, раздался телефонный звонок из Милана. — Орландо, ты знаешь О’Бройна? Мортимера О’Бройна, адвоката? — Знаю, что есть такой. — Ты его когда-нибудь видел? — Однажды… — Сможешь его узнать? — Да. Голос, который столько раз отдавал ему приказы, продолжал: — Он может объявиться в твоих краях. Прищеми его! — Где его искать? — «Трейд Цюрих бэнк». Знаешь такой? — Слышал. — Он не должен войти в здание банка. Ты понимаешь? — Да. — Дежурь у банка начиная с сегодняшнего дня. С открытия и до закрытия. — Понял. — Увидишь его — задержи. — Что с ним делать дальше? — Спрячь где-нибудь и позвони мне. — Хорошо. Где спрятать? — Это твои проблемы. Смешное и странное совпадение, которое минуту назад ему подтвердила Инес: он получил приказ охранять банк, хозяином которого был не кто иной, как любовник его любовницы! Через пять минут после ухода Инес он спустился в гараж, не переставая радоваться блестевшему лаком подарку Вольпоне, и отправился на место дежурства, на Штамфенбахштрассе. «Лейтенанты» босса могли не беспокоиться: О’Бройн сможет попасть в «Трейд Цюрих бэнк» только в кремированном виде…* * *
«Боинг-747» коснулся колесами посадочной полосы и завибрировал от включения реверса турбин. — Мы приземлились в Цюрихе. Надеемся, что полет был для вас приятным и мы еще встретимся на наших авиалиниях… — послышался голос стюардессы. Итало Вольпоне с презрением посмотрел на своего обмякшего телохранителя: Пьетро Беллинцона спал сном праведника, развалясь в кресле, и тихо похрапывал. Перед отлетом из Нью-Йорка Моше Юдельман был категоричен. — Как только ступишь на швейцарскую землю, прежде чем звонить жене, езжай в морг. Фолько Мори обеспечит тебе охрану от любопытных. Итало вспомнил эти слова, отстегивая ремень безопасности. То, что он не сможет сразу позвонить жене, удручало его. Предрассудок или старая традиция «семьи», но жена капо должна быть спокойна за судьбу своего мужа, несмотря на то что она ничего не знает о его делах и причинах его путешествий. — Просыпайся, корова! Прибыли! Беллинцона сладко потянулся и чуть охрипшим голосом сказал: — Все пересохло во рту… Он уснул через два часа после взлета, выпив в одиночку две бутылки шампанского. — Забыл, где находишься? — зло бросил Итало. — О пивной мечтаешь? Думаешь, я привез тебя сюда опохмелиться? — Извините, падроне… Извините… Это я со сна… — Мудак! Беллинцона встал с кресла, не замечая, что за ним через полусмеженные веки наблюдает Патрик Махоуни. С этой минуты Махоуни должен временно передать наблюдение за гангстером Дейву Кавано. Такой была установка Кирпатрика. Он взял салфетку, в которую был завернут пистолет, и незаметно переложил его в кобуру под мышкой. В Нью-Йорке, предупрежденные начальством, таможенники стыдливо отвели глаза от их багажа. Махоуни надел плащ и с безразличным видом направился к люку рядом с фюзеляжем, не взглянув даже мельком ни на Вольпоне, ни на Беллинцону. В это время Дейв Кавано рвался вперед, чтобы первым сойти по трапу. Его суетливость привлекла внимание Фолько Мори. Пока змейка пассажиров двигалась к зданию аэропорта, Мори, выйдя последним, отыскал глазами парня в черном непромокаемом плаще. Что-то в его фигуре, манере держаться, видеть все вокруг, никого и ничего не рассматривая, натолкнуло Мори на мысль, что появление этого человека в Цюрихе имеет непосредственное отношение к их путешествию. Все проанализировав, Мори пришел к выводу, что имеет дело с таким же профессионалом, как и он сам. Своим высоким ростом Дейв Кавано тоже резко выделялся из толпы пассажиров. Он упорно старался не смотреть в спину Вольпоне, чтобы случайно не встретиться с ним взглядом, если тот вдруг обернется. Когда Малыш Вольпоне и его телохранитель Беллинцона сели в такси, ситуация сложилась следующая: Дейв Кавано «висел» на пятках у Вольпоне и Пьетро. За ним с ехидной улыбкой наблюдал Рико Гатто, которого, в свою очередь, «пас» Фолько Мори. — В морг, — бросил Вольпоне шоферу. В ближайшее время это заведение станет самым посещаемым местом в городе…* * *
Ландо без устали «утюжил» тротуар на Штамфенбахштрассе, ни на секунду не упуская из виду вход в банк. Он дважды прошелся мимо еще закрытых для посетителей дверей банка и остановился перед витриной магазина, торговавшего снаряжением для подводной охоты, делая вид, что увлечен рассматриванием гарпунов, ластов, подводных пистолетов, ярких комбинезонов для подводного плавания… Часы показывали без пяти минут девять. Проходя в очередной раз мимо уютного итальянского бистро, он бросил рассеянный взгляд в зал через окно. Его внимание привлекла великолепная грива светлых волос сидевшей к нему спиной девушки. Водопад волос, стекая на бежевое манто, разметался по ее плечам. Мужчина, сидевший напротив девушки и что-то горячо ей говоривший, показался ему знакомым. Мама миа! Сердце Ландо бешено застучало. Это был Мортимер О’Бройн! Ландо быстро отступил от окна и укрылся в ближайшей арке, метрах в десяти от входа в бистро. Но какая неожиданность! Его миланский корреспондент ничего не сказал относительно спутницы О’Бройна. А если девушка потащится вместе с ним в банк? Ландо проклял себя за то, что пошел на задание один. Как сейчас быть? Зайти в бистро? Вряд ли О’Бройн узнает его по прошествии двух лет, после мимолетной встречи. Войти, непринужденно приставить дуло «маузера» к печени и тихо вывести на свежий воздух… Звук открывшейся двери бистро заставил Ландо выглянуть из арки. О’Бройн неторопливо шел в сторону банка. Ландо пошел следом за ним, ускорил шаг и вскоре обогнал его. Теперь, естественно, все варианты отпадали. Ландо был впереди О’Бройна метров на пять и уже стоял на первой из пяти ступеней, ведущих ко все еще закрытым дверям банка. Он машинально посмотрел на часы: ровно девять. За стеклянной дверью мелькнул чей-то силуэт, щелкнули запоры замка… Ландо повернулся. Мортимеру О’Бройну оставалось преодолеть последние две ступени. — Мистер О’Бройн? — Что вы сказали? — Я ваш друг, мистер О’Бройн. Пройдемте, пожалуйста, со мной. — Куда? Кто вы такой? Не задерживайте меня! Не успел Ландо шевельнуть мизинцем, как О’Бройн развернулся на сто восемьдесят градусов и во всю прыть своих коротких ножек засеменил обратно в бистро. Поток адреналина хлынул к сердцу Ландо. В его ремесле успех — это жизнь, неудача — морг. В три прыжка он оказался рядом с О’Бройном. Редкие прохожие с удивлением оглядывались на них. В Цюрихе, не говоря уже о Женеве или Лозанне, хорошо воспитанные люди по улицам не бегают. Подножка Ландо была настолько незаметной, что ни один свидетель не смог бы указать причину падения О’Бройна. Адвокат всем телом рухнул на асфальт и остался неподвижно лежать. Ландо присел рядом, подхватил его под мышки и успокаивающе улыбнулся остановившимся прохожим. Решив разыграть комедию до конца, он сморщил нос, давая понять зевакам, до какой степени пьян его приятель. Затем, подняв его, как сноп соломы, он быстро потащил Мортимера к своей машине, оставленной за углом. — Эй, вы! Что вы делаете? Ландо обернулся. Перед ним стояла блондинка из бистро. — Что происходит? — пронзительным голосом, в котором звучал страх, закричала она. — Ему стало плохо, — пробормотал Ландо. — Неужели вы не видите, что он в стельку пьян? — Что вы такое говорите? Пьян? Да мы не выпили даже по чашке кофе! — Зачем вы шумите? Помогите мне его увести… Но девушка не сдвинулась с места. Она смотрела на него глазами, полными страха. Когда Мортимер вышел из бистро, она наблюдала за ним из окна. Заза была зла. Мортимер так и не согласился, чтобы она пошла с ним в банк. Мысль, что он может от нее улизнуть, сорвала ее с места, и она вышла на улицу. Весь путь от столика до выхода занял три секунды, но этого времени оказалось достаточно, чтобы найти Мортимера лежащим на тротуаре без сознания. — Куда увести? — с надрывом спросила она. — Что вы собираетесь с ним сделать? Ландо почувствовал, как его охватывает паника. Мало того, что этой красотки не было в его задании, так она еще готовится закатить истерику прямо на улице. А Цюрих — это не Чикаго! Здесь полицейские строго стоят на страже закона, а жители охотно превращаются в полицейских, чтобы поддержать общественный порядок. С ней надо было разобраться… — Подойдите поближе, я хочу кое-что вам показать. Он прижался к ней и незаметно для нескольких зевак, стоявших в пяти — семи метрах от них, ткнул ствол «маузера» ей в живот. — Или вы молча идете со мной, или я продырявлю вам внутренности. Если она закричит, все пропало… Ее огромные голубые глаза стали еще больше, она до крови закусила губу, но обняла Мортимера за плечи и громко сказала: — Да он совершенно пьян! — Сюда, — сказал Ландо. Прохожие разошлись. Общественный порядок нарушен не был. Машина Ландо стояла сразу же за углом. — Откройте дверцу, — приказал Ландо. Девушка безропотно подчинилась. Ландо затолкнул Мортимера на заднее сиденье и устроился рядом. — А вы садитесь за руль! Заза повернула ключ зажигания, и мотор мягко заурчал. Случалось, что дружки могли влепить ей пощечину, но чтобы дуло пистолета в живот!.. Такого с ней еще никогда не было! Мало того, этот высокий, стройный парень, как ей показалось, совсем не шутил. Не понимала она одного: почему Мортимера взяли, когда он шел в банк, а не тогда, когда он выходил бы из него с деньгами? — Вы собираетесь трогаться с места? — Куда ехать? — Пока вперед… Какая ей разница, куда ехать? В Европе она впервые, а города тем более не знала. Ей казалось, что они кружат вокруг одного и того же места, пока не въехали в узенькую улочку с непроизносимым названием: Эшвизенштрассе. — В конце улицы, справа, вы увидите гараж. Въедете на подземную стоянку. У въезда в гараж стоял полицейский «понтиак». Два фараона о чем-то мирно беседовали с лысым, невысокого роста мужчиной. — Налево и без остановки, — твердым, угрожающим голосом приказал Ландо. Станция техобслуживания и гараж принадлежали его другу, такому же, как и он, сицилийцу. Какого черта понадобилось здесь полицейским в такой неподходящий момент? В подземном гараже, в самом дальнем углу, была металлическая дверь, всегда запертая на ключ. За ней находилось помещение размером три на четыре метра. Именно там Ландо планировал спрятать О’Бройна до тех пор, пока за ним не приедут заинтересованные в нем люди. — Все время прямо? — Закройся и рули! Ему нужно было время, чтобы подумать. В этот тайник соваться уже не стоит, следует срочно подыскать другое место. Зашевелился О’Бройн. Он удивленно вращал глазами, глядя на ствол «маузера», упиравшегося ему в печень. — Что вам от меня нужно? — Закрой пасть! — Заза, что происходит? Не отрывая глаз от дороги, Заза ответила: — А то, что ты втянул меня в дерьмо. — Вам нужны деньги? — спросил Мортимер у Ландо. Это была его последняя надежда, но она рассыпалась, как карточный домик… Он быстро понял, что этот парень — человек Синдиката и, следовательно, его обман раскрыт. Как же им удалось так быстро обо всем узнать? — Заза, умоляю, верь мне… Я не понимаю… ничего не понимаю… — Сейчас свернешь налево, — сказал Ландо. — Если вы немедленно не скажете мне, что вам нужно, я выпрыгну из машины! — пригрозил Мортимер. — Да закроешься ты наконец или тебя пристукнуть? — взревел Ландо. — А ты, блондинка, на перекрестке свернешь направо. В принципе, если того требовали обстоятельства, Ландо умел быть с женщиной деликатным, но эта блондинистая курица, должно быть, крупная стерва, если позарилась на такого плюгавого мужика, как О’Бройн. — Когда проедешь мост, дуй все время прямо! Теперь он знал, куда их везти. Место тихое и вне всяких подозрений: квартира Инес!* * *
Сердце Итало Вольпоне сжималось от недобрых предчувствий. Мрачно глядя себе под ноги, он шел по длинному коридору позади мужчины, одетого во все черное. Когда Вольпоне вошел в морг, его удивил не холод, а отсутствие какого-либо запаха: ни резкого тяжелого запаха формалина, обязательного для таких мест, ни сладковатого, дурманящего голову запаха смерти. — Будьте любезны, подождите секунду, — вежливо попросил мужчина и начал листать журнал регистрации. Итало казалось, что он борется с каким-то кошмаром. Несмотря на отцовское отношение к нему, Дженцо как старший брат был с ним строг, но справедлив и щедр. Всем, чем обладал Итало, он был обязан ему. Два раза Дженцо даже спас ему жизнь. Малыш крепко сжал зубы, пытаясь справиться с рвущимися из него эмоциями. Служащий морга подошел к стене и выдвинул длинный стальной ящик. Затем сделал два шага в сторону и замер. Неожиданно Вольпоне-младшему стало страшно. Теперь, когда он мог узнать правду, он не хотел этого. Он боялся… — Вот… — после долгого молчания сказал человек в черном. Итало сделал несколько шагов вперед, заставляя себя держать глаза открытыми. В металлическом ящике, рассчитанном на покойника нормальных размеров, нога казалась маленькой и в то же время огромной. Он мгновенно узнал ее и понял, что никогда больше не увидит своего брата. Собравшись с силами, задыхаясь от спазмы, перехватившей горло, он наклонился, чтобы рассмотреть то, в чем хотел убедиться: тоненький шрам едва заметной ниточкой проходил по посиневшей коже. Когда они упали с велосипеда и Итало увидел кровь, сочившуюся из ноги брата, он заплакал. Дженцо тогда улыбнулся и сказал: — Ерунда, Малыш, мне не больно. Малыш… Именно Дженцо первым так ласково назвал его. Тогда это имя вызывало у домашних добрую улыбку, теперь люди дрожали от страха, произнося его. — Мистер Вольпоне, вы узнали? — Убирайтесь! Я хочу побыть один. — Позовите меня… Я жду в коридоре. Кто мог сделать такое с Дженцо? Кто? Где тело? Слезы хлынули у него из глаз, и он зарыдал. Как сообщить эту ужасную новость Франческе, его свояченице, и двум его племянникам? А вдруг Дженцо жив? Вдруг он выжил и где-то лежит раненый? Пусть он только будет жив, пусть будет жив!.. Он с такой яростью сжал кулаки, что ногти глубоко впились в ладони. Итало разжал пальцы. Они были в крови. Его затрясло, и он забормотал быстро и тихо, протянув руку над ящиком: — Дженцо… Дженцо!.. Брат мой! Я не знаю, кто это сделал… Но я тебе клянусь, клянусь именем и памятью нашей святой мамы, я узнаю! Даже если на это уйдет вся моя жизнь! И в тот день не хватит крови на земле, чтобы смыть ту боль, которую тебе причинили! Кто бы он ни был, где бы ни скрывался, я найду его и убью собственной рукой! Убью его и всех его родных, вырежу до последнего все его племя!.. Переполненный ненавистью, он вихрем вылетел из траурного помещения, не обращая внимания на слезы, стекавшие по лицу. Теперь его ожидает священная миссия: заменить дона Дженцо во главе клана и завершить дело, начатое братом. Скоро все узнают, кто он есть — Итало Вольпоне, Малыш Вольпоне! Ему было только тридцать восемь лет. Свои новые обязанности дона он решил начать исполнять с посещения банка.* * *
Он был немцем, и его звали Эрнст Флюгге. Двухметровый гигант весом сто двадцать килограммов. Один раз в месяц он прилетал по делам из Гамбурга в Цюрих. И раз в месяц проводил два часа в обществе Инес. Вначале, когда он встретился с ней по рекомендации своего швейцарского друга, он был настолько поражен ее красотой, что едва справился со своими мужскими обязанностями. Совершенство тела негритянки вызвало в нем бурю, связанную с представлением о собственной неуклюжести. Обычно проститутки не смущали его. Вместе с деньгами, которыми он расплачивался за удовольствие, исчезала и его болезненная застенчивость. Но здесь, несмотря на то что Инес была обыкновенной проституткой, пусть даже очень дорогой — два часа забвения с ней обходились ему в две тысячи долларов, — она так умело сохраняла дистанцию, что при расставании, когда она прятала деньги в сумочку, ему хотелось сказать: «Благодарю вас, мисс!» И никогда Эрнст не чувствовал себя обворованным, как это зачастую случалось после встреч с другими жрицами любви. Сейчас он лежал на полу с закрытыми глазами и прерывисто дышал… С помощью кисточки Инес наносила на тело гиганта длинные мазки меда, тщательно прорабатывая каждый сантиметр кожи, начиная с пальцев ног и вплоть до корней волос на голове. Потом она начнет его слизывать… — Ты знаешь, сколько стоит килограмм меда, птенчик? — Только не останавливайся, умоляю тебя! — Дорого, очень дорого! — Я заплачу. — Ты никогда не сможешь расплатиться… — Да, да… я знаю… Никогда не расплачусь, — бормотал Эрнст, ослепленный обещаниями невероятно восставшей плоти. Он протянул руку и погладил ее по бедру. Неожиданно в дверь позвонили. Эрнст вздрогнул, открыл глаза и встретился с недоуменным взглядом Инес. — Ты кого-нибудь ждешь? Она молча прижала указательный палец к своим губам. На ней был только розовый пеньюар, открывавший все великолепие ее тела. Эрнст хотел встать, но она силой удержала его. Новый звонок, и тут же последовал стук в дверь. — Не следует, чтобы меня здесь видели. Она сделала успокаивающий жест рукой и направилась к двери. Несмотря на природное хладнокровие, она вздрогнула, увидев в глазок Ландо, какого-то мужчину и молоденькую блондинку. Орландо никогда не приходил к ней, не предупредив заранее о своем визите. А сейчас он был даже не один, а с двумя незнакомыми людьми. Из-за двери раздался его раздраженный голос: — Откроешь ты наконец?! Я знаю, что ты там! — Я не одна. Приходи позже. — Нельзя, — закричал Ландо. — Открой! — Не открывай! — застонал Эрнст, оставаясь лежать на ковре и прикрывая руками свои мужские прелести, которые уже приняли более скромные размеры. Он не знал, что делать: бежать под душ и смыть медовое покрытие или удалиться в другую комнату и подождать, когда Инес уладит это недоразумение. Он с ужасом увидел, что она отодвигает задвижку. — Это мой брат, — объяснила она. — Мне очень неприятно… Эрнст ожидал увидеть чернокожего воина под три метра ростом, но им оказалась миниатюрная блондинка, у которой глаза вылезли из орбит от необычного зрелища. За ней вошли тщедушный мужчина и высокий брюнет, типичный метис, которых Флюгге почему-то больше всего боялся. Он вскочил на ноги и бросился в ванную. — Кто это? — спросил Ландо. — Кто позволил тебе прийти сюда? — вопросом на вопрос ответила Инес ледяным тоном. Только теперь она заметила пистолет в опущенной руке Ландо. — Ты сошел с ума! Убирайся отсюда! Он зло посмотрел на нее и медленно произнес угрожающим тоном: — Заткнись! Выставь за дверь этого мудака и приготовь кофе для моих друзей. — Приготовь сам и убирайся! От резкой пощечины ее голова дернулась, как шарик пинг-понга. Ошарашенная, она машинально подняла руку к лицу: никогда раньше Ландо не бил ее. Разочарованным голосом она сказала: — Ты не прав, Ландо. — Свари кофе! Она направилась в кухню. Проходя мимо телефона, Инес спокойным, естественным движением сняла трубку. Указательный палец запрыгал по кнопкам. Ландо медленно поднял руку с пистолетом в ее сторону. — Положи трубку. Я пью кофе с двумя кусочками сахара. Мгновение Инес колебалась, но выражение глаз мужчины, стоявшего перед ней, не имело ничего общего с Ландо, которого она знала. — Я не знаю ни что тебе нужно, ни почему ты так себя ведешь, но когда ты выйдешь за порог этой квартиры, ты никогда больше сюда не возвратишься. Ландо повернулся к О’Бройну и Зазе, окаменевшим возле двери. — Вам сколько? — Что? — вздрогнул О’Бройн. — Сколько сахара? — терпеливо повторил Ландо. — Без сахара… — А вам? — Какой кофе! — гневно сверкнула глазами Заза. Из ванной донесся жалобный голос Флюгге: — Инес… Инес… Она сделала шаг, но Ландо жестом руки остановил ее и, подойдя к ванной комнате, настежь распахнул дверь. Эрнст Флюгге, двухметровый колосс, с жалким видом стоял в душевой кабинке и пытался отвернуть краны. — Чем могу быть вам полезен? — вежливо спросил Ландо. — Извините, — пробормотал гигант, — не могли бы вы подать мне одежду… пожалуйста… она в гостиной. Ландо сделал два шага вперед, резко схватил его за руку и, потянув на себя, развернул лицом к двери. Затем сильным толчком катапультировал его в комнату. — Возьми сам и вон отсюда! — Он с отвращением посмотрел на свои испачканные руки. — Да он же липнет, эта жирная свинья! — Это мед, — спокойным голосом сказала Инес. — Или ты не любишь мед? Озадаченный, Ландо посмотрел недоуменным взглядом на присутствующих. — Не любишь что? — Эрнст платит мне за то, что я намазываю его медом. Если это ему нравится, то какое тебе до этого дело? Ландо рассмеялся. Вначале никто ничего не понял. Не выдержали нервы у О’Бройна: он издал глухой хохоток, перешедший скоро в безудержный смех. Отчаянно покусывая губы, пробовала сдержать себя Заза, но и она затряслась в приступе охватившего ее смеха. Сцена была гротескной! Флюгге безуспешно пытался надеть рубашку. Стоило материи раз прикоснуться к телу, как она превращалась в клейкую ленту. Когда немец начал натягивать носки, Инес, которая до сих пор сохраняла серьезность, поддалась общему настроению и сквозь смех, с трудом произнося слова, сказала: — Не злитесь на меня, Эрнст… Не злитесь! Это — подонок! Он заплатит мне за свое хамство… Когда Флюгге, держа туфли в руках, вышел из квартиры, довольный, что все так благополучно для него завершилось. Мортимер затравленным взглядом посмотрел на Ландо. — Скажите, вы долго намереваетесь нас здесь держать? Ландо резко оборвал смех. Его губы плотно сжались в горизонтальную линию. Он снял трубку телефона и сказал: — Ты узнаешь об этом через несколько секунд.* * *
В Нью-Йорке Моше Юдельман отвел Фолько Мори в сторону и дал последние конфиденциальные инструкции: — Итало — человек нервный и импульсивный. Может случиться так, что за ним будут следить, и он этого даже не заметит. Никому не позволяй за ним шпионить. Если только кого-нибудь заподозришь, ликвидируй! — Ликвидировать? — А ты хочешь нарисовать его портрет? Проще говоря, следовало убивать всех, кто проявит нездоровый интерес к персоне Малыша Вольпоне. Патроны парят в облаках… Их приказы должны претворяться в жизнь, но способ их осуществления они предлагают найти тебе самому… Сидя в машине, взятой напрокат, в ста метрах от морга, Фолько Мори почувствовал легкое покалывание в позвоночнике, узнав высокого блондина, которого «выловил» еще в аэропорту. Из аэропорта этот тип поехал в такси следом за Итало, не подозревая, что сам находится на крючке у Фолько. Теперь он делал вид, что интересуется магазинами, прохаживаясь вдоль витрин, в то время как шофер, сидя в своей развалюхе, читал «Сюисс». А Пьетро Беллинцона, которого Вольпоне тормознул у входа в морг резким движением руки, казалось, понятия не имеет, что находится под наблюдением. Едва Итало скрылся за дверью, как Пьетро метнулся в кондитерскую лавку и выскочил оттуда с огромным пакетом пирожных, которые начал поглощать с такой поспешностью, словно боялся, что через секунду-другую их у него отберут. Рассчитывать на него Фолько не приходилось. Итак, если визит Итало в морг имеет какое-то значение, значит, парниша не должен никому об этом говорить. Фолько машинально почесал спину и ощутил успокаивающее присутствие ножа в футляре, закрепленного высоко между лопатками. Ему достаточно было доли секунды, чтобы выдернуть его и поразить цель. К сожалению, он был не в цирке и не в ночном Нью-Йорке, а в Цюрихе, таком чистом городе, что неудобно было даже плюнуть на тротуар. Об убийстве, которое выглядело бы как насильственная смерть и повлекло за собой ненужные осложнения, не могло быть и речи. Только «несчастный» случай… Над этим надо было поразмышлять… Опасаясь не выполнить указаний Юдельмана, он прокручивал в голове все новые и новыеспособы ликвидации блондина, но ничего, кроме насилия, не вырисовывалось. Фолько вышел из машины, решив довериться интуиции и своему дару импровизатора. Небрежной походкой он направился в сторону такси, взывая к Богу, чтобы Беллинцона, стоявший в этот момент к нему спиной, не заговорил с ним, если вдруг обернется. Малейшая ошибка, и тип, который не спускает с Пьетро глаз, раскусит их. Не доходя трех шагов до своего напарника, Фолько сказал тихим, но четким голосом: — Пьетро, это Фолько. Не оборачивайся, не смотри на меня. Беллинцона так великолепно сыграл свою роль, что Фолько засомневался, услышал ли он его. Когда Фолько поравнялся с ним, Беллинцона смял бумажный пакет в комок, поискал глазами, куда бы бросить, и, не найдя урну, сунул его в карман пиджака. Фолько прошел мимо, продолжая свой путь. В какой-то миг он готов был пойти блондину навстречу и просто сунуть ему нож в живот. Он отчаянно искал возможность избавиться от «топтуна». Избавиться от него можно будет при более благоприятных условиях, а пока надо помешать ему продолжать следить за Итало. Небольшое дорожное происшествие должно разрешить эту задачу… Но никто из них не подозревал о присутствии Рико Гатто, который тоже попадет в ловушку, подстроенную Фолько… (обратно)ГЛАВА 6
— У вас назначена встреча? — Нет. — Не знаю даже, на месте ли мистер Клоппе. Мужчина в черном, не мигая, сверлил ее взглядом. Смутившись, секретарша поспешно добавила: — Не могли бы вы назвать свою фамилию? — Вольпоне, — ответил он, в упор рассматривая ее. Она покраснела и исчезла за дверью кабинета, облегченно вздохнув, что ушла от этого странного типа, растревожившего ее. Странное, непроницаемое, как маска, лицо… И этот непрекращающийся тик, от которого приподнимались уголки рта в неестественной и пугающей улыбке. И угнетающий траурный вид: черный костюм, такого же цвета галстук, черные носки. Ангел смерти!.. — Мистер Клоппе, к вам посетитель. — Кто, Марджори? — Говорит, что его фамилия Вольпоне. Клоппе удивленно поднял голову: он ждал О’Бройна, а пришел Вольпоне. А ведь этот врунишка адвокат сказал, что Вольпоне уже в Соединенных Штатах. Прекрасная возможность прояснить ситуацию! — Скажите мистеру Вольпоне, что я приму его. Через минуту я освобожусь. Марджори вышла, и на лице Клоппе появилось выражение полуразочарования… С одной стороны, он может предупредить Дженцо Вольпоне о нечистоплотном маневре О’Бройна, а с другой… Ему было жаль расставаться с деньгами, которые с пользой для него могли бы еще полежать день-другой в Шаане, у его друга Эжьена Шмеельблинга, «банкира всех банкиров». За три полных дня его доход составит 328 764 доллара, не говоря о 0,125 процента от двух — двух с половиной миллиардов долларов! «Аллилуйя!»— прошептал он. — Мистер Вольпоне, — доложила Марджори. Хомер встал, чтобы встретить того, кто три дня назад доверил ему «общак» сицилийской мафии. Вытянув руку вперед для приветствия, он шагнул к двери. Каково же было его удивление, когда перед ним возник незнакомец. Слишком поздно, чтобы дать незваному гостю от ворот поворот: эта дурочка Марджори уже закрыла тяжелую дверь, обитую натуральной коричневой кожей. — Вы — Хомер Клоппе? — спросил незнакомец. — Да, — холодно ответил Клоппе. — Мне кажется, произошла ошибка. Вероятно, моя секретарша назвала не ту фамилию. — Моя фамилия Вольпоне, Итало Вольпоне. Скрывая свое удивление, Хомер всматривался в это трагическое, замкнутое лицо, ощущая неясную, магнетическую силу угрозы, исходившую от иностранца. — Я младший брат Дженцо Вольпоне, — добавил Итало. Он быстро сунул руку во внутренний карман пиджака. — Удостоверьтесь, это мой паспорт. Банкир внимательно просмотрел документ. — Все в порядке? — спросил Вольпоне. — Не желаете ли присесть, мистер Вольпоне? Итало не шелохнулся. — Предполагаю, что вы в курсе ужасной новости. Брови Хомера взлетели вверх. Он сел в кресло и принял позу внимательного слушателя. Адамово яблоко Вольпоне безостановочно бегало вверх-вниз, словно он никак не мог проглотить слюну. Наконец с невероятным усилием он произнес: — Мой брат мертв. Клоппе непроизвольно напрягся. — Его убили! — с ненавистью сказал Вольпоне. — Вы встречались с О’Бройном в один из этих трех дней? — О’Бройн? — Мортимер О’Бройн! Так он должен был представиться. Он пытался связаться с вами? Клоппе покусывал губы и нервно перебирал пальцами авторучку. — Я жду вашего ответа, — не выдержал Итало. — Как произошло это несчастье с вашим братом? — сочувственно спросил Клоппе. — Вы читаете газеты? — Гмм… преимущественно финансовые. — Спустя три дня после вашей встречи с Дженцо на оградительной решетке поезда, прибывшего в Цюрих… — И опять быстро-быстро забегал кадык, а в уголках глаз Вольпоне появились слезы, — …нашли оторванную ногу моего брата… — Это ужасно! — искренне воскликнул Клоппе. — Его ногу?.. — Да. — Но… мистер Вольпоне, как вы можете утверждать, если не видели тела? — Я только что приехал из морга! — резко оборвал его Итало. — Я заявляю!.. Я заявляю, что мой брат мертв! Я утверждаю, что ему помогли умереть! Я клянусь, что О’Бройн заплатит своей жизнью за это убийство! Клоппе вдруг почувствовал, что его трясет. — Послушайте, мистер Клоппе! Находясь в Нью-Йорке, я лично получил телеграмму, в которой он сообщил, что доверил вам деньги! Сейчас моего брата нет в живых, а О’Бройн исчез! Опустив голову, Клоппе продолжал поигрывать авторучкой. Вольпоне глубоко вздохнул. — Не беспокойтесь, мы разыщем эту вонючку. Это всего лишь вопрос времени! Для вас ничего не изменилось. Я прошу вас перевести деньги согласно указаниям моего брата. Клоппе осторожно кашлянул и поднял глаза на собеседника. — О каких деньгах вы говорите? Итало показалось, что он ослышался. — Что вы сказали? — Я спрашиваю вас, о каких деньгах вы говорите? Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Итало лишился дара речи. Он смотрел на банкира, как на марсианина. — Как «о каких деньгах»? О наших! О двух миллиардах долларов, которые мой брат временно перевел в ваш банк! Авторучка замерла в пальцах Клоппе. Не дрогнув ни одной ресницей, он сказал абсолютно ровным голосом: — Я не понимаю, о чем вы говорите. — Что вы не понимаете? — побагровел Вольпоне. — Три дня тому назад вы принимали здесь моего брата Дженцо и вонючего ублюдка О’Бройна. Или такой встречи не было? — Я встречался здесь с двумя мужчинами. — Ну вот! — приободрился Вольпоне. — Я не прошу вас о невозможном, только переведите деньги, два миллиарда долларов, по известному вам адресу! Клоппе беспомощно развел руки в стороны. — Я не понимаю, о чем вы говорите. — Что-о-о? — задохнулся Вольпоне. — Я совершенно не понимаю, на что вы намекаете? Итало шагнул к столу. Хомер быстро встал и поджал губы. — Повторите! — безразличным голосом попросил Вольпоне. — Я не понимаю, что вы пытаетесь мне сказать! — отрубил Клоппе. — Издеваетесь?.. — скрипнул зубами Итало. — Мистер Вольпоне, примите мои соболезнования относительно трагической смерти вашего брата, но я больше не намерен терпеть ваше хамство! По лицу Вольпоне прошла вся цветовая гамма радуги. Все его ощущения и желания слились в единое целое — убить! — Спрашиваю вас в последний раз: где деньги? — Попрошу вас выйти из кабинета. Итало жадно пожирал глазами толстенького, холодного человечка, который осмелился поднять руку на Синдикат в его лице, в лице Малыша Вольпоне! — Вы знаете, кто я? — зловеще прошипел Итало. Клоппе даже не моргнул. — Выйдите отсюда! — холодно сказал он. Перед глазами Вольпоне поплыли разноцветные круги. — Послушайте!.. Внимательно слушайте!.. Я не знаю, какую игру вы затеяли со мной, но я торжественно вас предупреждаю: деньги, два миллиарда долларов, вы должны перевести завтра до полудня! Это крайний срок! Если это не будет сделано до этого часа, вы — труп! — Еще одно слово, и вас депортируют из Швейцарии! — Это вас не спасет! — отрезал Вольпоне. Уже стоя на пороге кабинета, он обернулся и ткнул в сторону Клоппе указательным пальцем. — Вы уже воняете!..* * *
Пьетро Беллинцона с недоуменным видом потирал щеку. — До сегодняшнего дня я ни от кого не получал пощечин. — Как видишь, дождался, — лаконично прокомментировал Фолько Мори. — Морду били, стреляли… Ничего не имею против… Но такое!.. Это… это… — …унизительно, — подсказал Мори. — Вот именно! Унизительно. Ты бы позволил такое? — Мне пощечин не давали, — спокойно ответил Мори, глядя в пустоту. Он лежал, вытянувшись во весь рост, на кровати, одетый в черный костюм, с безукоризненно завязанным галстуком, положив ноги в дорогих туфлях на белоснежную наволочку подушки. — Я должен был ему ответить! — Так в чем дело? Поскромничал? Беллинцона яростно передернул плечами. — Это был Вольпоне! — С чего бы это он начал отвешивать тебе пощечины? — лениво спросил Фолько. — Если бы я знал! Тебе смешно, да? — Я не смеюсь, улыбаюсь… — А что бы ты сделал на моем месте? — Подставил бы вторую… — Почему он разозлился на меня? — Спроси у него. — Дерьмо, дерьмо и еще раз дерьмо! — ругался Беллинцона, ударяя своим огромным кулаком правой руки по ладони левой…* * *
Спустя три часа после прибытия в Цюрих он уже успел испытать на себе разрушительное настроение своего патрона. Внезапно он ощутил свою ненужность… Обычно он всегда, в большей или меньшей степени, был в курсе предстоящего дела. Даже сам Дженцо Вольпоне, у которого он не раз бывал в роли телохранителя, доверял ему какой-нибудь маленький секрет или находил доброе слово. Но Итало! Тот не разрешил даже сопровождать его в морг. А когда он, словно ошпаренный, выскочил из морга, чуть не сбив его с ног, и Пьетро поинтересовался, все ли в порядке, Итало рявкнул: «Заткни пасть, мешок с дерьмом!» Эти слова обидели Пьетро больше, чем разозлили… Никто с ним еще так не обращался. Нет, один-два раза что-то подобное уже было, но обидчики после этого долго не прожили… Ну, а пощечина!.. Весь путь до отеля Итало сидел, не разжимая губ. Беллинцона зашел с ним в кабину лифта, а затем эскортировал Итало до дверей его номера. Вольпоне достал из кармана ключ и только тогда сделал вид, что заметил присутствие своего телохранителя. — Что ты здесь делаешь? Пьетро не знал, что ответить. Малыш злобно посмотрел на него и повторил: — Ну? Что ты здесь делаешь? Удивленный бледным цветом лица Итало, его сверкающими ненавистью глазами и сильным нервным тиком, обезображивающим его лицо, Беллинцона пробормотал: — Моше сказал мне… Пощечина оборвала фразу. — Сваливай отсюда! — Но, падроне… в чем я виноват? Вольпоне ответил мгновенно: — Ты слишком приметный! — и захлопнул перед ним дверь.* * *
— Хочу тебе сказать, Фолько, что все это мне не нравится. Я чувствую себя оскорбленным. — Забудь об этом, — сказал Фолько. — Ты ничего подозрительного не заметил, когда стоял у морга? — Нет. — За нами следили два типа. — Черт! — Странно то, что они работали каждый сам по себе. — И куда они нас «довели»? — Никуда! До морга и все… — Как же ты их тормознул? — Выкатил машину поперек улицы… Им ничего не оставалось, как «поцеловаться» с ней… — Малыш в курсе? — Забудь его! Мы здесь для того, чтобы обеспечить ему покой, а не расстраивать. — Ты чокнулся! За кого он меня снова примет? — Оставь его в покое! Мы достаточно взрослые, чтобы самим решать такие проблемы. Я знаю, как одного из них можно убрать прямо сейчас. — Он в отеле? — спросил Беллинцона, и его взгляд стал жестким и заинтересованным. — Да. Второй — тоже здесь. — Швейцарец? — Такой же швейцарец, как ты ариец! Они прилетели из Нью-Йорка тем же рейсом… вместе с нами. Пьетро жадно провел языком по верхней губе, напрочь забыв о своем унижении. — Полицейские? — Не знаю. Мне кажется, что они не из одной команды, но это только личное впечатление. — Что ты собираешься сделать? — Заняться первым. Он живет на нашем этаже, в 647-м. — У тебя есть идея? — Да. Забавная… А теперь слушай, что надо делать.* * *
Когда Итало вошел в номер, его ярость была такой, что он не в силах был сдержать ее напор, поэтому он занялся тем, что Дженцо назвал бы «мальчишеством». Не смея стрелять по предметам обстановки номера, он прошел в ванную и взял опасную бритву, которой брился каждое утро. Он сам затачивал лезвие, доводя его до состояния, когда оно могло разрезать волос на лету. Итало встал напротив кровати, ожидая, когда волна ненависти достигнет своего апогея. Он начал шептать ругательства на сицилийском диалекте, среди которых часто произносилось слово «Клоппе». Очень скоро эта фамилия вытеснила все другие слова. В уголках рта появились пузырьки пены, рука, сжимавшая бритву, напряглась, побелели костяшки пальцев… Вдруг, издав нечеловеческий крик, он бросился к кровати и начал резать одеяло налево и направо, широко взмахивая бритвой и представляя себе, что перед ним находится тело Клоппе. — Тварь!.. Такую твою мать! Грязная свинья! Итало катался по постели, прижав к себе подушку, и резал ее до тех пор, пока в руках не остались лохмотья наволочки. Только тогда он замер. Тяжело дыша, хватая воздух широко открытым ртом, он невидящими глазами смотрел в потолок, обливаясь потом. Постепенно его дыхание успокоилось, бритва выскользнула из расслабленных пальцев. Он с трудом встал. Ему казалось, что его тело весит десять тонн. Он прошел в ванную, открыл кран с холодной водой и три минуты охлаждал горевшее лицо. Насухо вытерев лицо полотенцем, он окончательно пришел в себя; хотел позвонить Юдельману, но его палец жил собственной жизнью, набирая свой домашний номер телефона. После шестого сигнала трубку сняла жена. — Анджела… Голос Анджелы звучал так чисто и близко, что ему показалось, будто она где-то рядом, в комнате. — Итало… — Чем занимаешься? — Я спала. — В Америке было шесть часов утра. — Итало? — голосом, в котором чувствовались тревога и нетерпение, вопросительно сказала она. — Да… — Дженцо?! Вольпоне проглотил застрявший в горле комок. — Да… — Итало… Ты уверен… — Да. Я видел. Он знал, что сейчас она едва сдерживает себя, чтобы не разрыдаться. Возможно, не столько из-за смерти Дженцо, которого она знала всего лишь шесть месяцев, сколько из-за жалости к нему. — Трудно в это поверить, — сказала она после долгого молчания. — Это ужасно! — Сообщи Франческе. — Да. — Скажи ей, что я обо всем позабочусь. — Да. Теперь он отчетливо слышал, что она плачет. Он почувствовал, как у него самого защипало глаза от слез. — Я еще позвоню тебе днем. — Итало? — Слушаю. — Нет, ничего… Итало бережно положил трубку на рычаг, провел тыльной стороной ладони по глазам и набрал второй номер. Когда в трубке послышался заспанный голос Юдельмана, он сказал: — Это я… Даже если бы он позвонил президенту Соединенных Штатов, он не представился бы иначе. Кем бы ни был его собеседник, по телефону он всегда говорил одинаково: «Это я!» — Дженцо?.. — сразу же спросил Юдельман, и Вольпоне был ему за это благодарен. — Дженцо? — повторил Юдельман. — Да, — обронил Итало. — Господи, Господи!.. — закричал Юдельман. — А тело? — Пока нет. — Господи!.. Это катастрофа. — Да. — А может, есть шанс, что… — Никакого! И не спрашивай почему… Я чувствую это… Я знаю… Все! — Что ты решил? — Я заступаю на его место. Наступившая в трубке тишина обеспокоила Итало. Ему показалось, что нарушилась связь. — Моше, ты слышишь меня? — Да… да… — Я сказал тебе, что заступаю на место Дженцо. — Я слышал. Голос Юдельмана показался ему странным, не его голосом. — Ты против? — Нет, нет! — Чем ты тогда недоволен? — Нет, нет… Все так неожиданно… — Я только что приехал из банка. — Что-о-о? — Говорю тебе, что только что приехал из банка! Ты глухой? У нас неприятность! — Итало! Какая неприятность? — трагическим голосом спросил Моше. — Этот прохвост банкир прикинулся, что ничего не знает. Несмотря на страх, который ему внушали необузданные поступки Итало Вольпоне, Юдельман запротестовал: — Зачем ты это сделал? Если Габелотти узнает о твоем демарше, он может подумать… он может подумать… — Что он может подумать? — Я не знаю… Ты торопишь события… Действуя таким образом, можно лишиться всего! — Моше! — Да? — Ты со мной или против меня? — Пойми же, Итало! Попытайся понять! — Со мной или против? — грубо оборвал его Вольпоне. — Если бы я был против, я не мешал бы тебе делать глупости! — обиженным тоном произнес Юдельман. — Неужели ты мог подумать, что швейцарский банкир «рассыплется» перед тобой бисером, если ты не знаешь номер счета? — Плевал я на номер, — буркнул Итало. — Я дал ему время до завтрашнего полудня. — Господи! — застонал Моше. — Это наши деньги, нет? Из-за них умер мой брат! Ты хочешь, чтобы я отступил? — Но у тебя ничего не получится… — Я не собираюсь с ним церемониться! — Итало! Послушай меня! Умоляю, выслушай! Это очень серьезно… Сиди на месте и жди, я вылетаю. Я сейчас же найму самолет и вылетаю! — Ты держишь меня за мальчишку? — рассвирепел Вольпоне. — Итало! У меня есть опыт в подобного рода делах. Я знаю, как надо себя вести в таких ситуациях… — Я тоже. — Итало, разреши мне приехать! — Если в этом будет необходимость, я тебе позвоню. — И все-таки я вылетаю! — Попробуй только появиться в Цюрихе без моего согласия! Даю слово, я убью тебя! — Итало, мы идем к катастрофе… — Ладно, не лезь в это дело! — Позволь мне предупредить Габелотти. Иначе он подумает, что мы затеяли за его спиной что-то скверное… — Забудь эту бочку с прогорклым жиром! Когда я закончу с банкиром, займусь им. Я не такой терпеливый, как Дженцо! — Итало! В последний раз… — Закрой пасть! — Не клади трубку, Итало! Я делаю тебе последнее предложение… Ты доверяешь мне? У меня в Цюрихе есть друг, очень хороший друг… Он уже оказывал Дженцо солидные услуги. Его зовут Карл Дойтш… Он часто работает на нас. Из уважения к памяти твоего брата позволь мне предупредить его… Он очень хорошо знает банкира. Доверься ему. Я сейчас же его попрошу, чтобы он связался с ним… — Можешь посылать к нему хоть папу римского, мне наплевать! Но если завтра в полдень у меня не будет того, что нужно, я все решу по-своему. — Плохо!.. Плохо! Силой ты ничего не добьешься! — Это все, что ты хотел мне сказать? — угрожающе произнес Вольпоне. — Нет!.. О’Бройн? — Глухо! — Он единственный, кто мог… Итало!.. Швейцарцы очень упрямы!.. Ты проиграешь… — Моше… — Действовать надо осмотрительно. — Моше! — Да? — Ты мне осточертел! Итало резко бросил трубку, охваченный новым приступом ярости. Он обвел глазами комнату, выбирая, что можно было бы еще разнести вдребезги. И в этот момент раздался телефонный звонок.* * *
Дейв Кавано швырнул пиджак на стул и направился в ванную. Отвернув до отказа кран над раковиной, он подставил лицо под мощную струю холодной воды. Он был невероятно зол. Из-за какого-то кретина, который плохо поставил машину на ручной тормоз, — «мерседес» неожиданно выкатился на середину улицы, и таксист не успел затормозить, — он потерял след Вольпоне. Ему ничего не оставалось делать, как возвратиться в отель. В холле отеля «Сордис» он заметил Патрика Махоуни, внешне погруженного в чтение журнала. Махоуни незаметно поднял глаза и несколько раз моргнул, давая понять, что «дичь» возвратилась в свое гнездо. Новость, естественно, хорошая — далеко этот подонок не ушел, — но где Вольпоне был все это время и с кем встречался? Те полчаса, которые Дейв потратил, чтобы добраться до отеля, гангстер явно ходил не по музеям. Куда ездил? Что делал? С кем встречался? Капитан Кирпатрик терпеть не мог вопросов, на которые невозможно было ответить. Кавано вынужден был признать, что ответами на эти вопросы не располагает. Он возвратился в комнату. За все время пребывания в Швейцарии Дейв всего лишь два раза накоротке переговорил с Махоуни да несколько раз они перемигнулись. Он машинально достал «кольт», собираясь почистить его, в силу многолетней привычки, и тут зазвонил телефон. Дейв подумал, что Патрик нашел возможность позвонить ему из холла. Бросив «кольт» на кровать, он снял трубку. — Слушаю! Он с удивлением услышал испуганный голос торопливо говорившего человека: — Это швейцар! Откройте окно и посмотрите вниз. Только что произошло нечто ужасное! Первой мыслью Дейва было: Махоуни! Он бросился к окну, открыл его и выглянул наружу. Порыв ветра бросил тонкую ткань гардины ему в лицо, и он тут же почувствовал, что позади него кто-то есть. Очень близко. Освобождая лицо от невесомой ткани, он с ужасом ощутил, как чьи-то сильные руки сжали его лодыжки. Напрасно пытался он ухватиться за бетонный край подоконника… Непреодолимая сила оторвала от пола девяносто килограммов его тела, и, ломая ногти о бетон, за который судорожно цеплялись его пальцы, он полетел в пустоту. Перед его глазами промелькнула жена с младшей дочерью на руках, и он услышал слова, сказанные Кирпатриком в шутку: «Кавано, хотя вы работаете в полиции, для них вы — простой смертный?» Когда он понял, что падает, как камень, вдоль фасада здания и никакое чудо не прервет этот смертельный, кошмарный полет, его последней осознанной мыслью был вопрос, на который, как и на многие другие, он никогда не узнает ответа: «Будет ли мне больно?..» Фолько Мори быстро перекрестился — старая христианская привычка, к которой он прибегал всякий раз, когда отправлял своих врагов к праотцам. Даже не посмотрев вниз, он отошел от окна и торопливо обыскал пиджак своей жертвы. Первый документ, который он извлек из портмоне, сказал ему о том, что он хотел знать: «Дейв Кавано. Муниципальная полиция города Нью-Йорка». Итак, только что он прикончил фараона. «Не первого за свою жизнь, — подумал Мори и саркастически улыбнулся. — И не последнего!» Он положил портмоне на место и взглядом профессионала оценил лежавший на кровати револьвер. Прикоснуться к нему он не решился. Фолько осторожно выглянул в коридор. Никого. Только у открытой двери 609-го номера стояла тележка со стопками чистого постельного белья. Неслышно ступая, он преодолел двадцать метров до 609-го номера и заглянул внутрь. Горничная по-прежнему пылесосила ковер, стоя к нему спиной. Он спокойно вставил в замочную скважину служебную отмычку, которой воспользовался минуту назад, чтобы проникнуть в комнату сыщика. Из-за приоткрытой двери за ним наблюдал Пьетро Беллинцона. Фолько утвердительно кивнул ему головой. Беллинцона поднял вверх большой палец. Может, у него и придурковатый вид, но с ролью швейцара по телефону он справился великолепно. Если у выброшенного из окна полицейского есть сообщник, значит, произойдет еще один несчастный случай.* * *
— Хомер, ты совсем ничего не ешь! — удивленным голосом упрекнула Шилин и повернулась к Ренате. — Скажи отцу, чтобы он что-нибудь съел. Тебе не нравится суфле, Хомер? — Нет, почему же… Извини, но я еще не голоден, — ответил Клоппе. — Ты не заболел? И вчера вечером ты едва притронулся к еде… — Сэр, вам подать что-нибудь другое? — спросила Мануэла. — Нет, спасибо… Окна большой гостиной выходили на прозрачные воды Циммы. Шилин настояла, чтобы комната была меблирована в стиле эпохи Луи XV. Ей казалось смелым соединить этот стиль с подлинниками Ренуара, Мане и Писсарро, украшавшими стены. — Не волнуйся, мама… Это на него действует весна! — Рената… — А почему бы и нет? На меня, например, очень действует! — Рената! — возмущенно воскликнула мать. — Никогда бы не сказала, что через три дня ты выходишь замуж! — Поэтому я и выхожу замуж… Только поэтому… — Мисс Рената, вам положить еще суфле? — Мануэла, скажи, только честно, на тебя действует весна?.. Без Хулио… — Нет, Рената, это уж слишком! — сказала Шилин, поджав губы. Это был обычный обед в семье Клоппе, разве что с небольшим нюансом в настроении хозяина: два часа тому назад — такое случилось с ним впервые в жизни — ему угрожали смертью. Ярость и возмущение, клокотавшие в нем, отбили весь аппетит. О том, чтобы обратиться в полицию, не могло быть и речи. В Швейцарии менее, чем в любой другой стране, «банк» рифмуется с «полицией». Хомер не собирался прощать подонку нанесенного ему оскорбления. Существовало множество легальных путей, чтобы сполна с ним рассчитаться. Он чувствовал, что Вольпоне торопится, нервничает, но в итоге так ничего и не получит. Если не объявится Дженцо Вольпоне или, на худой конец, Мортимер О’Бройн, два миллиарда долларов будут продолжать приносить ему доход, оставаясь в Шаане у его друга Шмеельблинга. Теперь, если Дженцо Вольпоне действительно убит, как заявил его брат, — хотя можно ли на протяжении одной ночи с достаточной уверенностью определить личность несуществующего трупа? — Хомер мог бы скрепя сердце выполнить указание О’Бройна или любого другого, назвавшего цифровую комбинацию и слово — пароль счета. Если смотреть в ближайшее будущее, предположив, что О’Бройн не явится, у Итало Вольпоне есть только один способ завладеть деньгами: обратиться в суд. Как правило, расследование длится долгие годы, растягиваясь иногда на двадцать лет. А по прошествии этих лет сколько воды утечет!.. Если этот маленький идиот будет продолжать ему угрожать, Хомер обратится к своему старому другу, влиятельному политику, и все выложит ему начистоту. Итало Вольпоне ничего не успеет понять, как окажется за пределами Швейцарской Конфедерации. Так было уже со многими, которые, чувствуя себя всемогущими, повышали голос в стране, где тишина ценится так же высоко, как и добродетель. Что он сказал ему, покидая кабинет? «Вы уже воняете!» — Папа, если ты честно скажешь, о чем думаешь, я поцелую тебя. — О ноге, — машинально ответил Хомер и тут же смутился. — Ну, что? — победоносно воскликнула Рената. — Кто был прав? На него действует весна! Банкир улыбнулся. — Мануэла, я с удовольствием попробовал бы суфле. Шилин расцвела в улыбке. Когда Хомер принимался за еду, она мысленно взлетала до небес.* * *
— Оттавио, — представился голос. — Это я! — сказал Итало. Оттавио был «управляющим» клана Вольпоне по Средиземноморскому побережью. У него были квартиры и виллы в Риме, Неаполе и Милане, и где бы он ни находился, его шефы всегда знали, как с ним связаться. В противоположность тем, кто всю жизнь горбатится за право умереть в собственной постели, жизнь тех, кто существует в тайном мире, зависит от скорости получения информации. Дженцо Вольпоне так «соткал» сеть своей организации, что мог в одночасье с разных концов планеты получить предупреждение об опасности, грозящей его делам. Не было ни одного более-менее значительного города, где не находились бы его люди, и не было деревеньки, где бы у этих людей не имелись свои информаторы. Такая информационная структура стоила больших денег, но это было каплей в море по сравнению с тем, что она приносила. — Нашли твоего типа… Радостная дрожь пробежала по телу Вольпоне. — Живого? — Абсолютно! — Где он? — Он не один. — Что прикажешь мне теперь делать? Где он? — С Ландо. Угол Университетштрассе и Валденвахштрассе. Кажется, это недалеко от того места, где ты находишься. Можешь отправляться туда прямо сейчас. — Ясно. — Университетштрассе, 7, третий этаж. Он ждет тебя, я его предупредил. — Оттавио! — Да. — Спасибо! Итало Вольпоне положил трубку и хрустнул пальцами, осклабившись в свирепой улыбке. Итак, эта мразь Мортимер О’Бройн — у него в руках! Теперь-то Итало узнает, что случилось с его братом! Узнает и номер счета, на котором «спят» два миллиарда долларов! Когда все узнает, изрубит О’Бройна на куски собственной рукой. Он снял трубку и позвонил в номер Беллинцоны. — Пьетро, зайди за Фолько и тащите свои задницы в холл, уезжаем…* * *
Патрик Махоуни с интересом наблюдал, как портье и люди, толпившиеся в холле, бросились к выходу. Он поднялся с кресла, держа в руке помятый журнал, который уже знал наизусть. Мимо него быстро пробежал портье, возвратившийся с улицы, направляясь к главной лестнице. Махоуни инстинктивно последовал за ним, не понимая, какая причина им движет, но хорошо помня, что ничем не должен себя выдать. В то же время он прекрасно знал, что, если его мышцы начинают реагировать помимо его воли, это неспроста. И похоже это на животный инстинкт, который помогает полицейским добиться успеха в их ремесле. Махоуни поднялся на второй этаж, где размещались бар, танцевальный зал, небольшой ресторан и переговорный пункт. Он увидел, как портье выбежал на террасу, перегнулся через балюстраду, посмотрел вниз и отпрянул назад, поднеся руку ко рту, с гримасой отвращения на лице. Махоуни подошел к нему и тоже посмотрел вниз. Его чуть не стошнило: среди зеленых кустов, в луже крови, в забрызганной кусочками мозга белой рубашке лежал его друг Дейв Кавано. Он был без пиджака. Странно, но одна из его туфель стояла рядом с раздробленной головой, образуя нереально прямой угол по отношению к шее. Несмотря на то что тело Дейва лежало на животе, его широко распахнутые глаза смотрели в небо… Кавано не тот человек, чтобы банально выпасть из окна. Его выбросили! Махоуни влетел в кабину лифта и нажал кнопку с цифрой «шесть». Дейву он уже ничем не поможет, а при микроскопической удаче, возможно, поймает отребье, которое сбросило его товарища вниз. Как он мог это допустить? Махоуни вышел в коридор и в спринтерском темпе добежал до 647-го номера. Дверь была закрыта на ключ. Он окликнул горничную, мимо которой только что пробежал, не заметив ее, и которая удивленно наблюдала за ним. — У вас есть универсальный ключ? Только что произошел несчастный случай! Откройте 647-й! В номере никого не было. На кровати лежал револьвер. Пиджак Дейва висел на спинке стула. Окно было открыто. — Что произошло? — спросила женщина. — Из окна выпал человек… Вы видели кого-нибудь в коридоре? — Никого. — И ничего не заметили? — Нет. — Никто не проходил? — Я же вам уже сказала! — удивилась горничная. — Оставайтесь здесь. Скоро сюда приедет полиция. Махоуни медленно пошел вниз по лестнице к себе в номер. В коридоре открылись две двери. Фолько Мори и Пьетро Беллинцона одновременно в победном жесте подняли большие пальцы: теперь они точно знали, кто их очередная жертва! Махоуни подошел к окну и бросил взгляд вниз. Он должен отомстить за смерть Дейва, отомстить, чего бы это ему ни стоило! И горе Вольпоне, если он приложил к этому руку! В этот момент из-под козырька входа в отель вышли Вольпоне и Беллинцона. Погруженный в мрачные мысли, Махоуни потерял секунду, прежде чем осознал, что гангстеры уходят у него из-под носа. Схватив плащ, он метнулся к двери, привычно проведя рукой под мышкой, где в кобуре находился «Магнум-359», которым он надеялся в скором времени воспользоваться. (обратно)ГЛАВА 7
Звонок в дверь прозвучал так неожиданно, что все вздрогнули. Нарочито расслабленной походкой Инес направилась к двери. Едва щелкнул замок, как дверь резко распахнулась, отбросив ее к стене. Орландо Баретто шагнул навстречу Вольпоне. Но Итало не видел его, он не видел никого, кроме Мортимера О’Бройна, расстреливая его леденящим душу взглядом. — Итало, объясни мне!.. — выпалил О’Бройн. Молниеносным движением Вольпоне схватил его одной рукой за лацканы пиджака, оторвал от пола и свободной рукой ударил в лицо. Затем затащил в ванную комнату и начал бить головой о край биде. Не успел О’Бройн застонать, как ему в шею уперлось дуло «маузера». — Два вопроса! — прорычал Вольпоне, глядя на него безумными глазами. — Первый: как и с кем ты убил моего брата? — Итало… — залепетал О’Бройн, умирая от страха. — Второй! Номер счета! У тебя есть пять секунд. — Он силой раздвинул О’Бройну челюсти и вставил дуло «маузера» в рот до самой глотки. — Раз!.. Два!.. В промежутках между «раз» и «три» затерроризированный мозг О’Бройна подсказал ему, что брат Дженцо не убьет его до тех пор, пока не узнает номер счета операции «АУТ». Но если он сообщит шифр кому-нибудь третьему, пусть им окажется даже брат Дженцо, этим самым он подтвердит, что знает о смерти дона. Другими словами, признается, что собственными руками «убрал» его. Заговорить — значит подписать себе смертный приговор! Молчать — жить! Пусть несколько минут, но продолжать дышать… — Четыре! — глухим голосом отсчитывал Вольпоне. Какого черта он считает? По его взгляду О’Бройн понял, что при счете «пять» этот сумасшедший выстрелит, как пообещал. И плевать ему на два миллиарда! — Патрон! — вмешался Пьетро Беллинцона. — Только не здесь! Умоляю вас! — Пять, — сказал Вольпоне, еще глубже засовывая ствол «маузера» в рот О’Бройну. Беллинцона осмелился на жест, оскорбляющий его величество: спокойно, но настойчиво, с силой бульдозера он вырвал из рук Итало оружие. — Патрон, мы переполошим весь город. Мы не сможем выйти из дома, если вы пристрелите его здесь. — Он прав, — сказал Ландо, выбитый из колеи ошеломляющей скоростью происходящего. — Он прав! — На всякий случай он схватил руку Вольпоне и поднес ее к своим губам. — Кто эта блондинистая сучка? — спросил Итало, высвободив руку и кивнув в сторону Зазы. — Она с ним, — ответил Ландо. — А негритянка? — Моя… Она живет в этой квартире. — У тебя есть машина? — Да. — Всех увозим. — Куда? — от удивления глаза Ландо округлились. — Послушайте! — взвизгнула Заза. — Все, что здесь происходит, меня не касается. Я хочу уйти… — Заткнись! — оборвал ее Вольпоне. — Смею заметить, что вы находитесь в моей квартире, — сказала Инес. Итало презрительно посмотрел на нее. Повернувшись к Ландо, он сказал: — Завези нас в тихое местечко. В деревню, например… Блондинку возьмешь в свою машину и посадишь рядом с собой. Пьетро и это дерьмо сядут сзади. Я беру негритянку и еду следом за тобой. — Заметив, что Ландо не торопится к выходу, Итало резким тоном добавил: — Ты не слышал меня? Вперед! — Патрон! — подал голос Беллинцона. — Его нельзя выводить из дома в таком виде. У него вся рожа в крови. — Оботри его. Пьетро схватил первую попавшуюся материю, которая оказалась у него под рукой: пеньюар, в котором была Инес. — Убери лапы! — крикнула она. — Ты, шкура, закрой свой рот! — выругался Вольпоне. — Или я оторву тебе сиськи рукояткой пистолета. Вмешаться Ландо не решился. Беллинцона рванул пеньюар, и Инес оказалась совершенно голой в своей вызывающей неземной красоте. Пьетро протянул пеньюар Зазе. — Вытри своего плюгавого! Заза сделала шаг назад и отрицательно покачала головой. — Сука! — с сожалением сказал Пьетро. — Для постели ты еще годишься, но для серьезных дел… Он смял пеньюар в ком и вытер лицо неподвижно стоявшему ошарашенному О’Бройну. — Уходим! — сказал Вольпоне. Беллинцона скривил губы, разглядывая обнаженную Инес. — В этом наряде ее не повезешь. — Мы теряем время, — занервничал Вольпоне. — Набрось ей на задницу шубу и убираемся! Инес с укором посмотрела на Ландо, и он отвел глаза. Из шкафа она достала шикарное манто из черного меха и неторопливо надела на себя. — Пьетро, первому, кто дернется, прострели колено, — сказал Вольпоне. — В дорогу! Последним из квартиры Инес вышел Ландо и запер дверь на ключ.* * *
Мгновенное расслабление, и он снова потерял их след. Вместе с другими постояльцами отеля он поднялся на второй этаж и вышел на террасу. Каково же было его удивление, когда он узнал в парне, лежавшем в луже крови, блондина, который привлек его внимание в аэропорту. И было это всего лишь несколько часов назад… Не торопясь с выводами, Рико Гатто поднялся к себе в номер, чтобы поделиться своими соображениями с Габелотти. Десять минут он накручивал диск телефона, но так и не дозвонился до Нью-Йорка. Он спустился в холл, чтобы снова не упустить Вольпоне. Через пять минут решил проверить, на месте ли его «подопечные». Из телефонной кабинки, позволявшей видеть вход в отель «Сордис», он поочередно позвонил в номера Итало Вольпоне и Пьетро Беллинцоны. В номерах никто не ответил. Он с огорчением понял, что и на этот раз оказался не на высоте. В данный момент он располагал единственным достоверным фактом: Вольпоне посетил морг. Рико поднялся в номер и устроился у окна, чтобы не прозевать возвращения Малыша Вольпоне. Вольпоне и неотступно следовавший за ним Беллинцона появились через сорок пять минут. С точки зрения Рико Гатто, ему поручили непосильную для него миссию. Понятное дело, если бы ему приказали следить за людьми, которых в итоге нужно было прикончить. Но здесь!.. В качестве умственной зарядки он с самого утра прорабатывал возможные варианты уничтожения Вольпоне, лелея надежду, что Габелотти даст ему зеленый свет. Рико снял трубку телефона и заказал Нью-Йорк через телефонистку. Надо сообщить Габелотти, что Вольпоне посетил морг в Цюрихе. Докладывать, что он дважды терял его след, нет необходимости. «Опустить» одну-две детали — не значило соврать.* * *
Едва Патрик Махоуни успел закрыть за собой дверь номера, как раздался телефонный звонок. Вероятно, ему давали Нью-Йорк. На мгновение он заколебался: предупредить начальство о смерти Кавано или потерять след Вольпоне. Он не успел ответить себе ни на один вопрос, так как уже спускался по лестнице. Когда завелся мотор его машины, габаритные огни «форда» Итало были уже далеко. Махоуни заметил, что водитель «форда», всякий раз оказавшись на перекрестке, колеблется в выборе дальнейшего маршрута. В конце концов он остановился на Университетштрассе перед четырехэтажным зданием, позади вызывающе новой «Бьюти гоуст Р9» серого цвета. Итало и его телохранитель быстро вышли из «форда» и скрылись в подъезде. Махоуни повезло: он загнал свою машину между двумя огромными грузовиками двадцатью метрами дальше. Место для наблюдения было почти идеальное. Он закурил. Ужасная картина разбившегося о бетон Кавано навязчиво преследовала его. Ничто не указывало на то, что Вольпоне или его телохранитель виновны в падении Кавано. Логического намека на это не было. Но Махоуни готов был дать отсечь себе правую руку, что это не так. Ему вспомнились слова Кавано, сказанные им в кабинете Кирпатрика. Тогда, улыбаясь во весь рот, он радостно сказал: «Ты только представь себе, мы летим в Цюрих! Приятный отдых!» Он с горечью подумал, что уже спустя двадцать часов все встало с ног на голову… А внешне задача, поставленная Кирпатриком, представлялась обычной рутиной: узнать, что делал Дженцо Вольпоне в Цюрихе, каким образом потерял ногу, — предположив, что нога действительно принадлежала ему, — и где его останки? Махоуни прикуривал от окурка третью сигарету, когда увидел Вольпоне. Гангстер решительным шагом направлялся к «форду». Рядом с ним шла высокая, выше его на целую голову, негритянка. Куда он собирается ее везти? Из подъезда вышел телохранитель и отступил в сторону, пропуская белокурую молодую женщину, которую держал под руку высокий, широкоплечий мужчина итальянского типа. Последним вышел невысокий, тщедушный человечек. Телохранитель дружески обнял его за плечи, подвел к «бьюти гоуст» и буквально вбросил внутрь машины. В голове Махоуни раздался сигнал тревоги: он уже где-то видел этого коротышку. Где? Когда? При каких обстоятельствах? В памяти замелькали лица, зазвучали голоса… Широкоплечий брюнет сел за руль «Р9». «Прекрасный образчик сутенера», — подумал Махоуни. Рядом с ним села блондинка. На заднем сиденье устроились «горилла» и хлюпик. «Бьюти гоуст» мягко съехала с тротуара, «форд» Вольпоне поехал следом. Махоуни нажал на стартер и тут же вспомнил: невысокий мужчина был Мортимером О’Бройном, одним из самых известных финансовых адвокатов Соединенных Штатов!* * *
Невероятно! Огромные синие мухи, носившиеся по бараку, осмеливались садиться чуть ли не на острие пера его ручки. Пот проступал на лбу крупными каплями и падал на мятый лист бумаги, лежавший перед ним. И все-таки, несмотря на сорока пятиградусную жару, частые проливные дожди, отвратительную пищу и невыносимые условия работы, Хулио Альмейда привык к Ботсване. Шахта располагалась в двадцати километрах от Шукуду. Работали там в своем большинстве негры. Каждый вечер после сигнала сирены, оповещавшего об окончании рабочего дня, все поднимались на поверхность и подверглись тщательному обыску. Три месяца назад, чуть ли не в день приезда, он хотел возвратиться в Швейцарию. Но высокая заработная плата, щедрые премиальные за «риск» оказались убедительными аргументами, и он остался. Постепенно ему стала нравиться эта примитивная жизнь, радость выживания, потоки воды с неба, красноватого цвета почва, мужская община и этот грузовичок, на котором раз в неделю в лагерь привозили чернокожих проституток, которых трахали прямо на соломе под тентом-шапито, возведенном специально для этих целей. И надо же такому случиться! То, что несколько недель назад он принял бы как освобождение, сегодня представлялось катастрофой. Как об этом сообщить Мануэле? Он раздавил муху кончиком пера и начал писать адрес на конверте: «Мисс Мануэле Родригес, проживающей у мисс Ренаты Клоппе, Беллеривштрассе, Цюрих, Швейцария». Затем, забыв о жаре, поте и мухах, принялся писать. «Моя дорогая Мануэла! Хочу сообщить тебе о плохой новости и не знаю, с чего начать. Эта плохая новость обрадует тебя, но ты не права. У нас ходятслухи, что собираются закрыть шахту по причине малой эффективности. Они говорят, что есть другие, богатые жилы, но до них трудно добраться, не подвергая жизнь людей риску… Они не могут больше гарантировать безопасность. За три месяца я видел шесть трупов, но это негры, так что не волнуйся. В Европе нельзя заработать и половины того, что я получаю здесь. Короче говоря, я ничего не знаю, но такие слухи ходят. Признаюсь, я расстроен, и мне не хочется возвращаться в Цюрих, не скопив денег на магазин. Я прочитал твое письмо и должен сказать, что твоя хозяйка — просто класс! Подарить тебе свои платья!.. У нее по-прежнему все хорошо с Куртом? Я буду писать тебе еще завтра, но вряд ли что-либо проясню относительно сегодняшней ситуации. Целую тебя, моя дорогая женушка!» Написав внизу листа «Хулио», он вложил его в конверт. Неожиданный шум голосов и радостные возгласы вернули его к реальности. Сегодня четверг, день приезда проституток. Обычно он первым врывался под купол шапито.* * *
Мортимер О’Бройн начал заживо умирать, когда машина, проскочив пригород, понеслась дальше. Десять раз он хотел выпрыгнуть и десять раз ему не хватило смелости. А такая возможность была… Беллинцона, казалось, дремал, не обращая на него никакого внимания. Парень за рулем был занят управлением и не успел бы среагировать. Неподвижно сидевшая рядом с ним Заза напоминала статую. Мортимер задумался над судьбой свой любовницы: выживет ли она в этом путешествии, из которого, судя по всему, нет возврата? Но главное, каким образом Вольпоне узнал о смерти брата? И как ему удалось так быстро наложить на него лапу? Выявить двух «солдат», которым он поручил убрать Дженцо, ни теоретически, ни практически невозможно. У него хватило ума проявить осторожность и обойтись без посредника, встретился с ними сам. В Нью-Йорке их не знают. Никаких неожиданностей преподнести ему они не могли, потому что не знали личности заказчика. Два года тому назад Мортимер О’Бройн спас от электрического стула американца польского происхождения, обвиненного в тройном убийстве. Его звали Этьен Кац. В знак благодарности Кац дал ему имена двух своих друзей из Неаполя и сказал: «Метр, если однажды вам что-нибудь понадобится… Не торопитесь отказываться, мало ли что может случиться. Позвоните им от моего имени, и они сделают для вас все. Все!» Тогда О’Бройн недоуменно пожал плечами, однако оставил в уголке своей памяти номер телефона, который назвал ему Кац. Он подумал, вдруг придется им когда-нибудь воспользоваться. Через три недели Кац был задушен в своей камере кем-то из заключенных и навсегда унес в могилу все свои секреты и мечты. Возможно, не встреть он Зазу, идея убийства никогда бы не пришла ему в голову. Желая покорить молодую женщину, он завалил ее дорогими подарками, в то время как основной его капитал был основательно потрепан в результате неудачных финансовых махинаций. Конечно, Мортимер имел счет в швейцарском банке… Но цифра вклада его не радовала. Во время одной из бесед Этторе Габелотти сообщил ему под большим секретом о перемирии с «семьей» Вольпоне. Речь шла о беспрецедентной операции: «отмыть» одним заходом два миллиарда долларов! И надо же было такому случиться, что в этот момент Заза закапризничала, стала требовать бриллианты, а Джудит, жена Мортимера, стала подозревать и упрекать его в непомерных расходах. Однажды ночью он проснулся от внутреннего толчка: если Дженцо Вольпоне умрет, он, Мортимер О’Бройн, — доверенное лицо Габелотти — может завладеть двумя миллиардами долларов! Слов нет, эта мысль была кошмаром, абсурдом и абсолютно нереализуемой затеей. Никто не мог рассчитывать, что спасет свою жизнь, решив сыграть в такую игру с Синдикатом. Все, кто отваживался на подобные попытки, закончили жизнь в страшных мучениях под пытками. Не существует на земле такого места, где можно было бы спокойно жить, не опасаясь возмездия Синдиката. Первое время Мортимер противился этой мысли, испугавшись уже того, что она у него возникла. Затем, увлекшись диалектической игрой «а что из этого могло бы получиться?», он развил ее в нескольких продолжениях, рассматривая каждое с точки зрения возможных последствий, отсекая непредвиденные, предугадывая реакцию противника, просчитывая, как компьютер, возможность неудачи. К своему большому удивлению, он вскоре пришел к заключению, что его задумка выглядит не так уж безнадежно, хотя определенный риск несколько омрачает сверкающие перспективы финала. Но два миллиарда долларов затмевали достаточно реальные и, увы, небезопасные для жизни неприятности. Движимый желанием взять реванш у жизни, которая сделала его бесцветным там, где он хотел блистать, маленьким, где ему хотелось быть большим, он принял решение убить Дженцо Вольпоне. С этого момента детали предстоящей операции стали накапливаться у него в голове в арифметической прогрессии. Он связался по телефону с двумя подонками из Неаполя. Не называя себя, представился от имени Каца и поблагодарил Бога, что они в полном здравии и готовы выполнить часть его проекта. Опасаясь их спугнуть, он умышленно не назвал имя человека, которого им предстояло убить. Не имея твердой гарантии выполнения контракта, он тем не менее перевел им в Италию пятьдесят тысяч долларов. И машина пришла в движение. За два дня до своего появления вместе с Вольпоне в Цюрихе он предупредил убийц о дне приезда их жертвы, с удовлетворением отметив, что они готовы выполнить свои обязательства до конца… Он дал им описание внешности Дженцо, сообщил адрес отеля, где он остановится, и снабдил расписанием его распорядка дня. Остальное было за ними… Как они это сделают, Мортимера не интересовало. В самолете, летевшем из Цюриха в Нью-Йорк, — сразу же после встречи с Клоппе — у Мортимера наступило просветление. Слишком поздно! Слишком поздно он понял, что его невероятный набор в покер не выигрывает. Ему оставалось надеяться, что друзья Каца «подведут» его и не выполнят контракт. Но едва прибыв в Нассау, он получил обратное тому подтверждение: «Просьба позвонить Джудит». Условленный текст телеграммы означал, что непоправимое свершилось: Дзу Дженцо Вольпоне мертв! Хотел он теперь этого или нет, но безжалостный механизм реализации проекта, созданный им самим, вынуждал его сделать очередной шаг, и он подчинился. Возвратившись в Нью-Йорк, он отчитался перед доном Габелотти. Перед тем как встретиться с ним, О’Бройн отметил, что предстоящая ложь претит ему больше, чем организованное им убийство. — Номер? — после невнятного приветствия потребовал Этторе. — 21877. Габелотти записал цифры в блокнот. — Слово-пароль? — «Год». — Прекрасно! Мортимер был взволнован: впервые за время своей блестящей профессиональной карьеры он не сказал клиенту правду! Теперь Мортимеру оставалось только перевести деньги в другой банк и исчезнуть вместе с Зазой. Он обласкал взглядом ее затылок. Предательство, которое она проявила по отношению к нему в квартире Инес, не удивило его. Она была слабовольна, расчетлива, порочна, холодна, идиотична и эгоистична. Но он любил ее, любил как единственную женщину, давшую ему почувствовать себя мужчиной. Вот только выживет ли она? У Итало нет ни одного доказательства, что убийство организовано им, Мортимером О’Бройном. Может ли он взять на себя безрассудный риск убить его раньше, чем получит доступ к деньгам? «Трейд Цюрих бэнк» никогда не отдаст вклад, если не будут соблюдены легальные условия его получения. А обеспечить их мог только он. Машина резко свернула вправо, и Мортимера бросило на Беллинцону. Тот недовольно выругался и отшвырнул О’Бройна к противоположной дверце.* * *
Поворачивая за угол, Фолько Мори увидел позади себя темносиний «фиат» полицейского, которого он час назад выбросил из окна. Теперь за рулем сидел его напарник. Откровенно говоря, Фолько Мори предпочел бы поменяться с ним позициями. Тому уже ничто не поможет. Ему не дожить до захода солнца и никогда не сообщить Кирпатрику, что Итало Вольпоне увез О’Бройна и его любовницу в безвозвратное путешествие в швейцарские горы. И все-таки успел ли он сообщить в Нью-Йорк о смерти Кавано? Когда Вольпоне и Беллинцона вышли из отеля «Сордис», Мори находился в засаде, сидя в своем «фольксвагене». Он видел, как полицейский поехал следом за ними, неопределенно надеясь, что второй, неустановленный, преследователь вскоре выдаст себя. Но, к сожалению, его не было видно. Фолько изнывал от желания узнать, с кем имеет дело, перед тем как «завалить» их обоих. Он сделал краткое резюме: в аэропорту на пятках Вольпоне «сидело» трое. Двое были полицейские и работали командой, хоть и делали вид, что незнакомы. Один уже мертв. Второй катит за ним в синем «фиате». Третий остается неизвестным и действует в одиночку. Он может принадлежать к какой-нибудь параллельной полиции государственной службе или… быть «акулой» противоборствующей «семьи». В таком случае им может оказаться только человек Этторе Габелотти… Что касается полицейского номер два, не стоит ломать голову, чтобы закамуфлировать его убийство под несчастный случай. Дикий пейзаж, раскинувшийся по обе стороны дороги, удаленность от населенных пунктов просто «предлагают» избавиться от ненужного человеческого дерьма. Пока обнаружат труп, Фолько будет уже далеко.* * *
— Я секретарь мистера Вольпоне, — сказал Рико Гатто. — А… — безразлично отреагировал сторож морга. — Понимаете… Сегодня утром мой шеф был здесь и, вероятнее всего, именно здесь случайно обронил одну вещь… Мне поручено поискать ее и забрать. — Какую вещь? — Часы. — Где он их обронил? — Я хотел бы посмотреть… — Но где? — Там, где он был. — Я не могу вас пропустить. — Почему? — Войти сюда могут только члены семьи. Пусть приходит сам… — Мистер Вольпоне уже уехал из Цюриха, — врал Рико Гатто, доставая из кармана пачку долларов. Сторож сделал вид, что не замечает деньги. В Соединенных Штатах этот жест мгновенно открыл бы все двери, а если бы понадобилось, были бы сорваны крышки со всех гробов согласно представленному списку. Но в Швейцарии!.. — Возьмите, — сказал Рико, протягивая доллары. — Зачем? — с искренним удивлением спросил сторож. — За причиненное вам беспокойство. — Какое беспокойство? Это моя работа, и за нее мне платят. — В таком случае, проводите меня, — теряя терпение, сказал Рико. — Я уже сказал вам, что для посетителей морг закрыт! — Что я должен сделать, чтобы войти? — Как и все, подождать, пока не умрет кто-нибудь из ваших близких… Красивой концовкой этого разговора могла быть только пуля, пущенная в череп этого страшилища. Этторе Габелотти задохнулся от ярости, когда, разговаривая с ним по телефону, узнал, что Рико не может назвать фамилию покойника, которого навестил Вольпоне. — Не мог ли мистер Вольпоне уронить часы в гроб? — хитрил Гатто. — Господи… Я сам закрывал ящик и ничего там не видел. — Вы уверены в этом? — Абсолютно. Не думаете же вы, что я мог перепутать их с ногой! — Как с ногой? Сторож внимательно посмотрел на Рико. — Ну да… Нога… Рико был настолько ошеломлен, что допустил оплошность, задав неосторожный вопрос. — Мистер Вольпоне приходил смотреть ногу? Чью ногу? — Как, вы сказали, вас зовут? — забеспокоившись, спросил сторож. — Посмотрите еще раз… Перед закрытием я зайду… Он направился к машине, провожаемый подозрительным взглядом служащего морга. Теперь Габелотти не в чем будет его упрекнуть. Как можно узнать, чья нога лежит в морге?..* * *
Теперь Патрик Махоуни знал, как умер Дейв Кавано. Ни о каком несчастном случае не могло быть и речи, хотя внешне это выглядело именно так. Это было убийство: хладнокровное, безжалостное, спланированное… Как только «Р9», а следом за ней и «форд» съехали на горную дорогу, Махоуни заметил, что за ним неотступно следует «фольксваген» бежевого цвета. Фолько решил поменяться с Махоуни местами и еще в городе свернул в узкий переулок, пропустив полицейского вперед. «Полдела сделано», — подумал он, выезжая из переулка. Махоуни проклинал себя за то, что не подумал о человеке Вольпоне, который мог следить за ним из засады. В силу необъяснимой причины Дейва Кавано подтащили к окну и сбросили вниз. Он весь задрожал от животной радости, подумав, что проделает то же самое с убийцей Дейва. Его рука ласково прошлась по рукоятке «магнума». Он — предполагаемая дичь — убьет охотника! Неожиданно он осознал, что даже внутренне он произнес слово не «арестует», а «убьет»! Он, словно забыв свои обязанности полицейского и задание, которое получил от капитана Кирпатрика, торопился собственными руками отомстить за Кавано. Он мог придумать тысячу причин, чтобы оправдать убийство, которое собирался совершить, но было достаточно одной — самооборона. Вначале он заставит своего преследователя говорить, а когда все узнает, будет вгонять в него пули до тех пор, пока не выплеснет наружу всю свою ярость. По мере того как они поднимались вверх, снега становилось все больше. «Фиат» с трудом преодолевал очередной подъем. Едва машина выкатилась на вершину подъема, как тут же сорвалась с головокружительного спуска длиной метров тридцать. От неожиданности Махоуни резко нажал на педаль тормоза, заблокировав колеса. Машину развернуло поперек дороги, и она начала съезжать вниз, к повороту, где, словно специально высаженные для таких случаев, росли густые кусты какой-то вечнозеленой растительности. Махоуни инстинктивно понял, что это должно произойти здесь и сейчас. Он выпрыгнул из машины в ту секунду, когда она остановилась, развернувшись, поперек дороги и закрыла собой поворот. Быстро вскарабкавшись на четвереньках по склону, он спрятался за деревом, сжимая в руке оружие. Звук мотора приближающегося «фольксвагена» вызвал у него на лице злую улыбку. Вначале показались два передние колеса, затем капот, и «фольксваген» скользнул вниз. Когда Фолько увидел стоявший поперек дороги «фиат», что-либо предпринимать было уже поздно. Махоуни в три прыжка оказался рядом с дверцей и резко распахнул ее. Он одной рукой схватил человека, сидевшего за рулем, и выбросил его из машины. Ошеломленный Фолько Мори увидел в двух сантиметрах от своего правого глаза угрожающее отверстие дула пистолета. Он поднял голову и тут же получил удар рукояткой в шею. Задыхаясь, он схватился руками за горло, перевернулся и уткнулся лицом в снег. Махоуни быстро обыскал его, и в его руках оказалось портмоне. Он сделал два шага назад, держа Фолько под прицелом пистолета. — Чем ты собираешься здесь торговать? — ледяным тоном спросил Махоуни. Фолько стонал, харкая слюной с желчью. Он не торопился отвечать, разглядывая своего противника. Тот листал его паспорт, в котором стояла отметка «коммерческая поездка». Судя по тому, как он его обыскивал, по его поведению и нарочитому спокойствию, Фолько не сомневался, что этот фараон, не раздумывая, выстрелит ему в голову. Ну вот — конец путешествию… Придется за все расплатиться. Умереть ему было не страшно, страшно перестать жить, где-то гнить, когда другие будут продолжать наслаждаться жизнью, трахаться, загорать под солнышком… Иногда он с безразличием думал: где это может произойти?.. Теперь этот вопрос решен: лес, где так хорошо дышится, пушистый сугроб, апрель месяц… — Как ты убил моего друга? — спросил Махоуни. По произношению Фолько распознал в нем такого же выходца из Бронкса, как и он сам. — Ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? — зарычал Махоуни, и его лицо исказилось от ярости. Опираясь на руки, Мори встал на ноги, не в силах справиться с прерывистым дыханием. — Какой смысл мне отвечать? — У тебя есть три секунды! — предупредил Махоуни. — Как ты убил моего друга? Мори увидел, как побелел его палец на спусковом крючке «магнума». Он покачал головой и отступил на три шага назад. — Зачем тебе знать? — Он безразлично пожал плечами. Так или иначе, но признание состоялось. Ствол «магнума» дрогнул и поднялся вверх. Он выстрелит, когда Фолько сделает движение рукой к карману. — Руки за голову! — приказал Махоуни, следуя профессиональному рефлексу. Мори послушно выполнил приказание. Они стояли друг против друга на расстоянии десяти метров: Фолько — держа руки за головой, Махоуни — с оружием в руке на уровне бедра. Дальше произошло что-то странное. Махоуни увидел, как Фолько вытянул руку в его направлении, а сам бросился на снег. На что эта сволочь надеялась? Попытается уйти от предназначенной ему пули? Махоуни хотел рассмеяться, но вместо этого из горла хлынул поток теплой жидкости, и он увидел, как три или четыре Мори бросились в разные стороны. Деревья заплясали над ним джигу, а небо становилось то черным, то пурпурным. Он опустил голову и увидел, что «магнум» валяется почему-то у его ног. Он машинально поднес отяжелевшую руку к горлу, и его пальцы наткнулись на рукоятку ножа, пронзившего его горла Махоуни с беспокойством подумал: «Только бы не была задета сонная артерия…» Это была его последняя осознанная мысль перед тем, как вечная ночь и смерть втянули его к себе… (обратно)ГЛАВА 8
В четыре часа дня Карл Дойтш вошел в кабинет Хомера Клоппе. Банкир встал и вышел из-за стола навстречу «доктору». После двух ничего не значащих фраз вежливости мужчины сразу перешли к делу. — Прошу извинить меня за беспокойство, — сказал Дойтш. Хомер сделал великодушный жест рукой. — Не хотите ли виски? — спросил Клоппе, доставая гигантскую бутылку «Уотерман». Они были знакомы уже лет десять и испытывали друг к другу взаимное уважение. Выходец из Австрии, Карл Дойтш приложил колоссальные усилия, чтобы в швейцарских финансовых кругах забыли о его национальности. Несмотря на лингвистическое родство, он долгое время считался «чужим». Однако его высокопрофессиональные качества посредника, врожденное желание оказывать услуги, а также обширные, на высоком уровне, международные связи убедили местных снобов, что он равный среди равных. Достаточно часто к нему обращались директора банков с просьбой высказать свое мнение о клиентах, с которыми они собирались заключать многомиллионные сделки. Карл Дойтш, как в сказке, бескорыстно и молниеносно предоставлял им необходимую информацию. И ни один из его диагнозов не оказался ошибочным вплоть до сегодняшнего дня. Поэтому ему почти прощалось его не слишком серьезное отношение к протестантской религии. И напротив, его глубоко уважали за то, что он постоянно «тащил» в Конфедерацию иностранные капиталы, распределял их по своему усмотрению в различных банках Цюриха, Женевы или Лозанны и умел при этом извлечь для себя соответствующую выгоду. Ни одна крупная операция в стране не проходила без его участия. Он знал все секреты и был вхож во все двери. К его посредническим услугам прибегали как отдельные мультимиллионеры, так и иностранные банки, трансконтинентальные компании и правительства некоторых стран, испытывающие нужду в деньгах для проведения краткосрочных, выгодных финансовых операций. Дойтш играл на курсе валюты, зная раньше всех точный день, когда должна подняться или опуститься стоимость той или иной денежной единицы. Дойтш мог бы дать вам адрес, куда можно было бы продать, если вы это имели в наличии: сто танков «тигр», десять тысяч винтовок «мас», сто легких пулеметов «штейн». Он имел дело даже с Советским Союзом, когда тому необходимо было продать несколько сот тонн золота. Он с одинаковой легкостью конвертировал его в зерно или доллары. Его гений заключался в том, что он умел найти в дебрях международных ограничений щель, через которую легально обходил закон. Само собой разумеется, что его талант не мог пройти незамеченным финансистами Синдиката. Карлу Дойтшу приходилось неоднократно «отмывать» громадные суммы денег, совершенно не интересуясь ни их происхождением, ни кому они принадлежат. — Ваше здоровье! — сказал Клоппе, поднимая бокал. — Ваше здоровье! — эхом ответил Дойтш, выпив все до последней капли. Хомер тут же налил ему еще. — Итак, — сказал Дойтш, глубоко вздохнув, — я глубоко и искренне вас уважаю, мистер Клоппе. Я прошу вас не комментировать то, что вы сейчас услышите от меня. А когда я уйду, вы вольны поступать по своему усмотрению. Речь пойдет об одной истории, которая, естественно, не имеет ничего общего с реальностью… — Естественно, — сказал несколько озадаченный Клоппе. — Рассказывая эту историю вам, я имею намерение оказать вам, в некотором роде, определенную услугу… Судить об этом вам!.. Итак, предположим, я повторяю, предположим, что какому-то банку города был доверен огромный капитал под номерной счет. — Дойтш увидел, как нахмурилось лицо Клоппе. — Предположим еще, — продолжал он, — что этот капитал… скажем, транзитного характера… и принадлежит какой-то крупной организации, не швейцарской, конечно… скажем, иностранной… например, американской… мораль которой чувствительно отличается от наших о ней представлений. Я хочу сказать, что в их глазах документы имеют меньшее значение, чем слово джентльмена… Клоппе аккуратно поставил бутылку с виски в ящик стола. Он все мог представить себе относительно Карла Дойтша, за исключением того, что тот уполномочен представлять интересы Вольпоне. — Теперь предположим, что те, кто знает шифр, не могут по каким-то причинам прийти сами за вкладом. Профессиональный долг банкира состоит в том, чтобы никогда и никому не говорить, что деньги находятся у него… даже тем, кто имеет на них право, но не знает кода. И все это понимают… — Карл Дойтш прокашлялся и продолжил — …за исключением или, это, пожалуй, будет точнее, если вкладчиками являются преступники или сумасшедшие, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть деньгами. В данном случае, я подчеркиваю, именно в данном случае здравый смысл должен восторжествовать над чувством долга… — Вы получили приглашение на свадьбу моей дочери? — спросил Клоппе. — Разумеется. — Собираетесь прийти? — Конечно. Клоппе встал. — Думаю, будет лучше, если вы не сможете прийти. Забудьте о приглашении, как я уже забыл о только что сделанном мне предложении, из которого я ничего не понял. Лицо Карла Дойтша побледнело, и он вскочил на ноги. — Сожалею, мистер Клоппе, глубоко сожалею. Я надеялся, что вы отнесетесь к этому как к доброжелательной дружеской подсказке. — До свидания, доктор, — сказал Клоппе. — До свидания, мистер Клоппе. Направляясь к двери, Дойтш чувствовал, как за эти десять минут постарел на несколько лет. И все-таки он сделал все возможное, чтобы избежать худшего…* * *
Остановившись на лестничной площадке, Анджела Вольпоне не решалась нажать на кнопку звонка. Сердце громко билось в ее груди, и ей ужасно хотелось броситься вниз по лестнице, убежать отсюда. Полчаса назад она позвонила Франческе и сказала, что придет к ней. Теперь, стоя перед дверью, она не знала, хватит ли у нее сил сказать своей свояченице, что ее муж, дон Дженцо Вольпоне, мертв. Она подняла руку и нажала на кнопку. Дверь открыла сама Франческа. Ей было около пятидесяти лет, но выглядела она гораздо старше. За все время своей супружеской жизни с Итало Анджела встречалась с Франческой не более трех-четырех раз. И ни разу у них не было случая поговорить по душам, слишком многое их разделяло… Даже то, что они были замужем за родными братьями, не сближало их. Со своей жаждой к жизни, Анджела чувствовала себя неловко в присутствии этой спокойной, безропотной женщины. Что же ей пришлось испытать, чтобы с таким покорным, безысходным видом воспринимать происходящее вокруг?.. — Входите же, Анджела… Добро пожаловать… Внутреннее убранство квартиры, несмотря на огромные комнаты, было таким же тусклым, безликим, как и сама хозяйка. Все было выдержано в серых тонах, несколько грустных, не совсем соответствующих духу времени… — Хотите кофе? Анджела покачала головой. Они подошли к окну и сели в кресла. — Вот… — неуверенно начала Анджела. — Только что мне позвонил Итало… из Цюриха… Я принесла вам плохую новость… Франческа непроизвольно напряглась. — Речь идет о вашем муже… доне Дженцо. С ним случилось несчастье… Не в силах выдержать пожиравший ее взгляд, Анджела опустила глаза. — Несчастье? — повторила Франческа. — Но он… но он… — Франческа встала. Ее руки мелко дрожали. Анджела закусила губы и еще ниже опустила голову. Затем она одним движением оказалась на ногах и бросилась на грудь Франческе. По вздрагиванию ее тела Анджела поняла, что та плачет. Франческа плакала без слез. — Где он? — спросила она изменившимся голосом, отстраняясь от Анджелы. Анджела не знала, что ответить. Только сейчас она поняла, что Итало ничего больше ей не сказал. — Я спрашиваю вас, где мой муж? — повторила Франческа. — Что с ним случилось? — Я не знаю, — сквозь рыдания ответила Анджела. — Итало должен мне еще позвонить… Он ничего больше не сказал. Он обо всем позаботится… Франческа упала на диван, зарылась лицом в подушку и, стуча по ней кулаками, истошно закричала: — Я знала, что они убьют его. Я это знала. А теперь они убьют Итало. Чтобы не закричать от страшного смысла слов Франчески, Анджела впилась зубами в свои сжатые в кулаки руки.* * *
Съехав на проселочную дорогу, машина Ландо направилась к каким-то строениям, стоявшим в пятистах метрах от горной трассы. Ландо остановился у большого ангара и заглушил мотор. Он подождал, пока подъедет «форд», и поспешно открыл дверцу Вольпоне, избегая смотреть на сидевшую рядом с ним Инес. — Это место вам подойдет? — Проверь, нет ли здесь кого-нибудь, — сказал Вольпоне, не выходя из машины. Проваливаясь по колено в снег, Ландо пошел к ангару. Все было закрыто и, казалось, вымерло. На всякий случай он постучал в дверь. Никого. Никакого движения внутри. Он обошел здание, снова подошел к двери и толкнул ее. Заскрипев заржавевшими петлями, дверь открылась. Глинобитный пол был покрыт толстым слоем опилок. У противоположной стены стоял всевозможный сельскохозяйственный инвентарь. Центр помещения занимала стационарная электропила. Ландо провел пальцем по покрытому ржавчиной и пылью диску пилы. Вероятно, с осени здесь никто не появлялся. Он вышел наружу. — Что там? — спросил Вольпоне. — Все в порядке. — Вытаскивай этих мерзавцев! Ландо подал знак Пьетро Беллинцоне. Вольпоне вышел из машины и встал позади Инес. На секунду все замерли. Стояла пронзительная тишина, которая обычно предшествует смертной казни. Лица у всех были бледные, напряженные, глаза опустошенные… Когда послышался звук мотора приближающейся машины, Вольпоне поднял руку вверх и никто не сдвинулся с места. Из-за поворота показался «фольксваген» Фолько Мори. Он встал в линию за двумя машинами, выключил мотор, потянул за рукоятку ручного тормоза и, захлопнув дверцу, подошел к остальным. — Откуда ты появился? — спросил Вольпоне. — Ехал за вами… — Мы тебя не видели, — забеспокоился Беллинцона. — Вынужден был остановиться. — Зачем? — не унимался Беллинцона. — Просто так… Вольпоне кивнул головой, и все направились к строению. У входа он остановился и, обращаясь к Пьетро и Мори, сказал: — Всех загоните внутрь, а ты, — он указал пальцем на Ландо, — останешься со мной. Когда Заза, Инес, Мортимер, Фолько и Беллинцона вошли внутрь, Итало, ковыряя носком туфли снег и не глядя на Ландо, спросил: — Ты знал моего брата? — Да. Встречался с ним три дня назад. — Где? — В городе. Он пригласил меня в бар «Континенталь». — Зачем? — Дон Дженцо хотел, чтобы я проводил его на вокзал. — Ты проводил? — Да. — Рассказывай. Ландо растерянно посмотрел на него. — Что рассказывать? — Вы поехали на вокзал в такси? — Нет, — он показал на «Р9», — на ней. — Твоя? — Ее подарил мне дон Дженцо. — Когда? — В день отъезда. Мы проходили мимо автомагазина, и ему захотелось сделать мне подарок. — Ты проводил его до вагона? — Он не разрешил. Мы расстались у входа в здание вокзала. — Ты не проводил его даже до касс? — Он приказал мне уехать. — Ты не знаешь, куда он собирался отправиться? — Нет. — Какое у него было настроение? — У кого? — У моего брата, — занервничал Вольпоне. — Хорошее… Спокойное… — За вами следили? На лице Ландо появилось удивление. — Следили? Кто? Я не заметил. — Ты знаешь типа, которого умыкнул? — Мортимер О’Бройн, адвокат. — Ты видел его вместе с моим братом? — Нет. Когда я встретился с доном Дженцо, он был один. — Твоя фамилия Баретто? — Орландо Баретто. Ландо. — Сколько лет ты в «семье»? — Девятый год… — Заработком доволен? — Вполне. — С сегодняшнего дня ты будешь получать в два раза больше. — Но, патрон… — засмущался Ландо. — Возражаешь? — Нет, нет! — живо ответил Ландо. — Но… — Возьми это! — приказным тоном сказал Вольпоне, сунув ему в руку пачку денег. — Десять тысяч долларов. — Святая Мадонна! — Это аванс. Ты любил моего брата? Ландо энергично закивал головой. — Он мертв, — сказал Итало. — Ты знаешь, кто его убил? Глаза Ландо расширились, зубы не хотели разжиматься. — Убил?.. — Эта сука О’Бройн убил его. Слушай меня! Мне нужно задать ему один-два вопроса, после чего он не должен возвратиться в Цюрих. Ты понимаешь? — Да, — ответил Ландо, все успев понять. — Блондинка… вместе с ним… Готов мне помочь? — Да. — Кто эта негритоска? — Она со мной. — Она тебе нужна? — Как сказать? — выдавил из себя Ландо, удивляясь своему вдруг осипшему голосу. — Она тоже не должна возвратиться в Цюрих. — Но, патрон… — Я тебе возмещу… — Она здесь совершенно ни при чем! Ничего не знает… — Возможно… Просто ей не повезло. — Но… — Мне не нужны свидетели. Найдешь себе другую. Слава Богу, проституток хватает. — Послушайте, патрон… Вольпоне сверкнул глазами. — Я же тебе сказал — возмещу! — Знаю, патрон, знаю! Дело не в этом. Ее исчезновение не пройдет незамеченным… Она трахается со многими финансистами города, влиятельными людьми… Туда, куда вы направили меня за О’Бройном… этот банк… — Какой банк? — «Трейд Цюрих бэнк». Она встречается с банкиром. — Кто? — Инес. — С Клоппе? — Да, — торопливо подтвердил Ландо. — Он без ума от нее. Мозг Вольпоне заработал с молниеносной быстротой. — Так ты говоришь, что твоя негритоска трахается с Хомером Клоппе? — Да! Клоппе… Это он… — Ты хотел бы, чтобы она дышала? — Она честная! — И хотел бы привезти ее в Цюрих живой и невредимой? — Пусть только откроет рот, я сам сниму с нее шкуру. Вольпоне пристально посмотрел на него. — Доверяешь ей? Ландо колебался мгновение. — Ей — да! — А я — нет! По крайней мере до тех пор, пока она не будет мертвой. Послушай, Баретто! Если она расколется, ответишь собственной головой. Согласен? — Согласен. Вольпоне легко хлопнул его по плечу. — Не волнуйся, если я разок ей врежу… Так, для порядка… Ради шутки, — сказал он и шагнул через порог. Ландо последовал за ним.* * *
Когда родители Курта узнали, что он женится на девушке, чьи родители находятся на вершине социальной иерархической лестницы и являются обладателями огромного состояния, их охватил ужас. Они отговаривали его в два голоса, предупредив о неприятностях, которые его поджидают в этом неравном браке. Курт смотрел на их растерянные лица, и это его злило. Словно отвечая на свои тайные мысли, отец сказал: — Вот и все… Свершилось… и свершилось… Но не думай, что мне это приятно. — Ты преподаватель, Курт, — решила сказать свое последнее слово мать. — Если вы сделаете все так, как задумали, у тебя появится много недоброжелателей… Курт раздраженно пожал плечами. Переубедить Ренату отказаться от сумасбродной идеи, приводившей ее в восторг, он не мог. — У тебя совершенно отсутствует воображение, — говорила она. — Но страшнее всего то, что ты слишком мелочен, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Тебе не хватает немного безумия, мой бедный Курт! Ты знаешь, что сказал мне однажды Дали? Он хочет организовать корриду, а затем поднять с арены в небо поверженных быков и победителей на задрапированных красной тафтой вертолетах. — Ну и что? — Ничего. Чтобы придумать такое, надо иметь мозги. — Дебильные. — Ты никогда не поднимешь меня на вертолете! — А почему бы не попробовать? В день нашей свадьбы… Глаза Ренаты сверкнули, она оживилась. — Ты всегда говорил, что презираешь зажиревших буржуа в нашем городе. Докажи! Не сдрейфишь? — Я? Вот так и совершаются глупости, играючи, слово за слово… Они на полном серьезе разработали сценарий собственной свадьбы, который должен был максимально шокировать приглашенных гостей. Главная тема церемонии бракосочетания была определена — все наоборот. За три дня до свадьбы ни о каких изменениях не может быть и речи… Курту становилось не по себе, когда он представлял, как вертолет поднимает их в ночное небо в корзине, украшенной цветами. Возможно, на это представление, о котором раструбила вся местная пресса, сбегутся и его студенты… После такого скандального спектакля ему останется одно — подать в отставку. Что его ждет в таком случае впереди?.. Этого он не знал. — Курт, — сказал Йозеф Хайнц, — ты впутываешь меня и мать в грязную историю. — У вас нет чувства юмора, — скрипнул зубами Курт. — А если лопнет трос? — обеспокоенно спросила Утта. — Вы не в состоянии понять… — сказал Курт. — Рената — жизнерадостный человек. — Я боюсь, что ты потеряешь работу, — пробормотала Утта, опустив глаза. — Я тоже так думаю, — поддержал жену Йозеф. — Мы столько в тебя вложили, — заплакала Утта. — Так надеялись… Хотели… Отец и я… — Чего хотели? Он чуть не крикнул: «Хотели, чтобы я был похож на вас?» Но вовремя сжал губы, поняв по тяжелому вздоху отца, что тот догадался… Они — другая планета, другое измерение… Добавить нечего! — Ну, все! Я должен идти. Твое платье готово, мама? Она утвердительно кивнула. — Вот увидишь, ты будешь самая красивая. До свидания, папа… Он коснулся губами гладко выбритой щеки этого старого, уязвимого ребенка, который так и не стал мужчиной. А он, Курт, разве он мужчина? Но самая богатая наследница в городе выбрала его в мужья. Он, не торопясь, пошел вниз по лестнице. Когда-то, в детстве, он садился на поручень и со счастливым визгом скатывался вниз…* * *
При виде входившего Вольпоне ему ужасно захотелось раствориться, стать невидимкой. Однако наэлектризованный, уверенный в неизбежности своей смерти и предшествующих ей мучений, Мортимер О’Бройн неожиданно сделал шаг навстречу своему палачу. — Итало! Клянусь жизнью, я не понимаю вашего ко мне отношения. Здесь какое-то вопиющее недоразумение! Итало задумчиво осмотрелся вокруг, задержал взгляд на пиле, стенах, покрытых паутиной, толстых балках перекрытия. Рядом с пилой на глинобитном полу лежала прямоугольная металлическая пластина. Вольпоне сделал знак рукой и Беллинцона поднял ее, открыв яму размером два на один метр и восемьдесят сантиметров глубиной. В ней находились электромотор и рубильник. — Оставь так! — приказал он Пьетро. — Итало! — закричал О’Бройн. — Я требую объяснений. Вольпоне повернулся к нему с таким видом, словно видел его первый раз в жизни. — Сейчас ты их получишь, — мягким голосом сказал он, затем взял его под руку и отвел в сторону. — Значит, так, — спокойно начал Итало, — мой брат убит. О’Бройн собрал остатки сил, чтобы выдержать взгляд Вольпоне. — Да что вы такое говорите? — выдохнул он. — Закройся! — прорычал Вольпоне. — Говорю я! Сейчас ты скажешь мне цифровую комбинацию, под которой зарегистрирован вклад… — Итало! Я не могу! Это же предательство по отношению к Дженцо! Чтобы тут же не разорвать его на куски, Вольпоне закрыл глаза, обхватил голову руками и изо всех сил сжал ее. — Слушай, гниль, слушай меня внимательно! Перед тем как я тебя убью, я предлагаю тебе сделку. Если ты сейчас же скажешь, что мне требуется, я убью тебя как человека — пущу пулю в лоб. И даю тебе слово, что с головы твоей подружки не слетит ни один волос… — Что? Вы хотите… — Если заупрямишься… все равно ты заговоришь. Я буду сдирать с тебя кожу сантиметр за сантиметром… Выбирай! — Итало! Клянусь… вы ошибаетесь! Клянусь… — Пьетро! Закрой дыру и поставь на пластину блондинку. — Не-е-е-т… Я не хочу! — запротестовала Заза. — Какое я имею отношение к вашим делам? Я почти с ним незнакома… Беллинцона завел ей руки за спину и толкнул на плиту. — Что делать теперь? — спросил он. — Повесишь ее, — спокойно ответил Вольпоне. — Сволочи! — завопила Заза. Инес отреагировала на происходящее неожиданно: — И долго будет продолжаться это кино? Я замерзла и хочу домой. — А ты спроси у этого ублюдка, — подсказал Мори и кивнул в сторону О’Бройна. — Я не знаю, что они хотят от вас, — сказала Инес, глядя на Мортимера, — но скажите все, что знаете. Неужели вы не понимаете, что из-за вашего упрямства все мы оказались в дерьме. Выполняя немой приказ глаз Вольпоне, Фолько Мори взял лежавший у стены моток веревки и протянул его Ландо. Один конец веревки Ландо перебросил через балку. Затем под любопытным взглядом Беллинцоны сделал петлю. — На шею, — приказал Вольпоне. С вылезшими из орбит от ужаса глазами, с выражением недоумения на лице Заза искала взглядом чьей-нибудь помощи. — Мортимер! — закричала она. — Мортимер! — Оставьте ее! — заорал О’Бройн. — Оставьте ее! Беллинцона одним движением заломил руки Зазы за спину, в то время как Ландо привязывал другой конец веревки к кольцу, прикрепленному к стене. — Мортимер! — во всю силу своих легких крикнула Заза. Она увидела, как он сделал жалкую попытку вырваться из рук Фолько Мори. — Пластину! — приказал Итало. Беллинцона ухватился двумя руками за ее края и потянул на себя. Лишившись опоры, Заза повисла над пустотой. — Омерзительно! — выкрикнула Инес. — Пьетро! Возьми негритоску и развлекись, — резким тоном сказал Итало. Беллинцона искоса посмотрел на Ландо. Мертвенно-бледный, сжав кулаки, Ландо смотрел на Вольпоне, в руке которого неожиданно оказался «маузер». — Баретто! — спокойно сказал Вольпоне. — Запусти пилу. Но в его голосе слышалась такая угроза, что Ландо даже не шелохнулся, когда Беллинцона, схватив Инес за рукав манто, потащил ее за штабель досок. — Баретто! — повторил Итало. — Я кому сказал? Тяжело ступая, Ландо подошел к краю ямы и спрыгнул вниз, коснувшись тела Зазы. Ему пришлось развести ей ноги, чтобы добраться до рукоятки рубильника. Диск пилы начал медленно вращаться, быстро набирая обороты. Чтобы не слышать, что происходит за штабелем досок, Ландо взял толстый брус и подставил его под пилу. Он был разрезан мгновенно, словно спичка. — Тащи его к пиле, — сказал Итало Мори. Из-за штабеля к самой крыше взметнулся нечеловеческий стон Инес. Ландо застыл. Вольпоне сделал вид, что ничего не случилось. Послышался голос Беллинцоны: «Сука!» Последовали глухие удары и шум борьбы. — Баретто, положи его перпендикулярно пиле и держи. О’Бройн, ничего уже почти не соображая, пытался что-то сказать, но ни единого звука не вылетало у него изо рта. В десяти сантиметрах с бешеной скоростью вращался зубчатый диск. Вольпоне схватил его за волосы. — Я слушаю тебя! Изрыгнув порцию желчи, Мортимер, который хотел жить, собрался с силами и выдавил из себя два слога заветного слова, придуманного Дженцо: — Мамма! Мамма! Но Итало не понял, что он услышал половину ответа, которого добивался. Он подумал, что слово, вырвавшееся из недр души О’Бройна, всего лишь последний крик о помощи и окончательный отказ. Внутри у Итало все перевернулось. В долю секунды его лицо покрылось потом, перед глазами мелькнули длинные ослепительные полосы, повлекшие за собой быстро сменяющиеся картины воспоминаний… Его брат, его слова: «Не трусь… Это не больна…» И Анджела, его жена… Ему показалось, что он ощущает на кончике своего языка вкус соска ее груди… И Дженцо… живой… мертвый… его нога… — Мразь! Сука! — заорал он, забыв вдруг, кто он есть, почему он здесь, что должен делать… Когда световые, пульсирующие полосы исчезли, он увидел, что по-прежнему держит голову Мортимера за волосы. Он поднял глаза и уставился сумасшедшим взглядом на Фолько и Ландо, которые смущенно отвернулись в сторону. Он увидел, что их одежда забрызгана кровью. Только сейчас он заметил, что ничто не связывает голову, которую он держал в руке, с телом Мортимера О’Бройна. Вместе с ней он отсек одновременно последнюю связь с двумя миллиардами долларов…
(обратно) (обратно)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТУПИК
ГЛАВА 9
Рената Клоппе позвонила Мануэле и заказала себе завтрак: крепкий черный кофе, охлажденный сок грейпфрута, клубничный джем и яичницу с беконом. Тяжело вздохнув, она встала, подошла к платяному шкафу и открыла его. На внутренней стороне дверцы были нанесены три небольшие черточки. — Остается две, — сказала она, стирая пальцем крайнюю слева. В тот день, когда они с Куртом определили дату свадьбы, она нанесла мелом сто двадцать пять черточек, как это делают заключенные, считая последние дни перед выходом из тюрьмы. Она до сих пор не понимала, почему решила выйти замуж за Курта. Он представлял собой полную противоположность тем, кто обычно ей нравился. А нравились ей красивые, светловолосые, высокого роста парни с непринужденными манерами, ленивые и беззаботные. Курт былсреднего роста, темноволосый, всегда чем-то озабоченный… И что в нем больше всего ее раздражало — она всеми силами противилась этому слову — он был трудолюбив. Всегда собранный, неспособный отвлечься от реальности или совершить маленькое безумие, он до конца своих дней был обречен тащить на плечах груз мировых забот, бросаясь с закрытыми глазами в разрешение коллективных проблем, лишь бы не решать свои личные. — Доброе утро, мисс! Как спали? Осталось всего лишь два дня? — Доброе утро, Мануэла! Вы забыли перец. — Сейчас принесу. — Мануэла, вопрос на тысячу франков… Почему я выхожу за него замуж? — Потому что любите… — Проиграла! — Я пошла за перцем, а вы посмотрите меню… — Где оно? — На подносе. Рената взяла прямоугольной формы карточку из шикарного бристольского картона, на котором готическим шрифтом был напечатан перечень блюд праздничного вечера 26 апреля 1970 г. Коллекционное шампанское, 1936 г. Кофе. Рыбное суфле. Шарлотка в шоколаде. Сыры. Провансальская баранья ножка. Бутерброды в ассортименте. Гусиная печенка. Устрицы. Аперитив. Дом Периньон, 1961. Клико, розовое, 1929. Луи Филиппон, знаменитый французский шеф-повар, прибывающий послезавтра к Клоппе с полным составом своих подручных, без всяких комментариев отверг меню, предложенное Ренатой. Это «все наоборот» не произвело на непроницаемого сноба никакого впечатления. Под предлогом того, что застолье состоится в три часа утра, он запросил двойной гонорар. «Ночной тариф», — без улыбки уточнил он. Рената спрашивала себя, как далеко она может зайти, не дойдя до крайности… Она поддразнивала Курта, чтобы узнать его собственные границы абсурда. Но одно ее предложение он категорически отверг: когда она попросила его нарядиться в ее муслиновое платье, а себе решила взять его смокинг. Она чуть не возненавидела его, обвинив в нарушении договоренности. Но он твердо стоял на своем и с самым серьезным видом клялся, что отказывается не из-за своей прихоти, а просто не хочет срамиться перед студентами. Чему может научить молодежь такой придурок? — Пожалуйста, перец, мисс… — Мануэла, я поняла! Я знаю, почему выхожу за него замуж! Мне нужен человек, над которым я могла бы издеваться в течение целого дня. — До того дня, когда он не займется этим сам, — не без лукавства сказала горничная. — Я приготовила для вас бежевый костюм. — Спасибо. Но… Я надену небесно-голубой. — Мимо! Он тоже готов! Рената рассмеялась. Она обожала Мануэлу и во всем старалась ее поддержать. Когда ей было по-настоящему весело, а такое случалось часто, она дарила ей свои платья. Курта это приводило в бешенство. — Ты унижаешь ее этим, обращаешься с ней как со служанкой! — Мануэла, мой жених считает, что я обращаюсь с вами как со служанкой. — Но я и есть служанка! — смеялась Мануэла. Но одно качество Курта Рената ценила высоко: абсолютная пассивность в кровати. Она пользовалась им как предметом, безропотно и добросовестно выполнявшим все ее безумные сексуальные фантазии. Рената много путешествовала и нередко встречала уверенных в себе фаллократов, которые, как показал опыт, оставляли ее неудовлетворенной. Она поклялась не изменять мужу после свадьбы. Но перед тем как погрузиться в скучную и монотонную супружескую жизнь, она совершит последний безумный поступок: выйдет на улицу в ночь перед бракосочетанием, выберет первого понравившегося ей мужчину и отдастся ему.* * *
Через равные промежутки времени с неприятным гудением пила снова и снова наплывала на него, отрезая очередной кусок плоти. Итало изгибался, пытался уклониться от ее укусов, вскрикнул… и открыл глаза. Свет волнами проникал в комнату через опущенные жалюзи. Он весь был покрыт холодным потом. Снял трубку телефона, неизвестно сколько времени уже трезвонившего, и, не поинтересовавшись абонентом, бросил в трубку: «Секунду!» Пошатываясь, направился в ванную. Освежая лицо холодной водой, он одновременно мочился в раковину. Какое отвратительное пробуждение! Он спал не более двух часов, проведя ночь за своей мини-рулеткой, которая не принесла ему успокоения: ни один из задуманных номеров не выпал… Он сто восемь раз ставил на «ноль» и в итоге — ноль. Когда он решил поставить на «одиннадцать», шарик трижды падал в лунку «ноль». Ему никак не удавалось сконцентрироваться, мысли постоянно возвращались к окровавленной голове О’Бройна. Почему он позволил ему так быстро и легко умереть? Он должен был пытать его и пытать, чтобы мерзавец сполна заплатил за смерть брата. Но вначале следовало вырвать секретную комбинацию цифр. Умерев, это подобие человека сыграло с ним злую шутку… Дженцо — мертв, О’Бройн — обезглавлен, нить оборвана. Два миллиарда долларов, принадлежащие «семьям» Вольпоне и Габелотти, могут обрести своих хозяев только по желанию банкира. Но Итало уже успел познакомиться с его проявлением доброй воли. Он взял с кровати трубку. — Алло, — громко сказал он. — Итало? Он узнал голос Моше и подумал, что этот моралист сейчас опять примется за свое. — Итало? Ты меня слышишь? — Не кричи, Моше. — Какие новости? — Никаких. — Плохо. Послушай… Все очень плохо… Карл Дойтш заходил к твоему парню в банк… — И что? — Тот выставил его за дверь. Горло Вольпоне сжалось. Еще одной возможностью стало меньше. — Там полный мрак! Ничего не получится… — добавил Юдельман. — Плохо! Плохо! — А чего-нибудь посмешнее ты не можешь мне сказать? — Нет. Габелотти срочно вызывает меня к себе. — Что? — Вызывает к себе… — И ты собираешься туда идти? — рявкнул Итало. — С каких это пор эта жирная свинья начала приказывать тебе? — Не забывай, сейчас мы — компаньоны. Он имеет право. — Не ходи! — Ты считаешь, что у нас недостаточно неприятностей? Хочешь еще решить и проблему Габелотти? — Потяни время. К полудню я все решу. — Итало! Будь жив Дженцо, он сказал бы тебе то же самое: своими методами ты ничего не добьешься! — Но я не вижу, чтобы штучки твоего Карла Дойтша оказались эффективнее, — зло бросил Вольпоне. — Единственная наша возможность достойно выйти из этой ситуации — найти О’Бройна. — Подожди секунду, — сказал Итало. Неожиданно, ему стало страшно рассказать Юдельману о том, что произошло с О’Бройном. Ему нужно было время подумать. События развивались слишком быстро. — Мне принесли аспирин, — соврал он. — Голова раскалывается… — Что мне сказать Этторе о Дженцо? Если ты не возражаешь, я введу его в курс дела. Все равно он узнает… Итало посмотрел на часы: девять часов десять минут. Менее чем через три часа он выложит Клоппе свою последнюю карту. Неприятнее всего то, что в действительности он не может реализовать ни одной своей угрозы: жизнь банкира представляла для него невероятную ценность. Самое большое, что он мог себе позволить, — запугать его. По меньшей мере, попытаться… — Моше! Если ты ослушаешься меня, вычеркивай себя из членов «семьи»! — Это — твое право. Но у меня есть обязательства перед Дженцо. Он не хотел войны. Я сделаю все, чтобы его указания были соблюдены. Ради него и ради тебя я пойду на все… — Пошел ты к черту! — Если у меня не получится, сделай со мной что хочешь. — Плевал я на тебя. — Не суйся в банк!.. Поверь мне! Дождись результатов моей встречи с Этторе. Я должен поговорить с ним, должен… Итало Вольпоне резко опустил трубку на рычаг. Слушать дальше означало признать его доводы. Ему ужасно этого не хотелось, хотя в глубине души он считал, что Юдельман прав. До сегодняшнего дня никому, даже брату, не удавалось разубедить его в принятом решении, невзирая на ожидавшие его последствия. Он пообещал Клоппе быть у него точно в полдень, и он будет.* * *
Выйдя из сауны в ванную комнату, Этторе Габелотти стал на весы. Его лицо приобрело расстроенное выражение: стрелку заклинило. Иногда ему удавалось сбросить вес до ста двадцати пяти килограммов — максимум, на что были рассчитаны весы. Но такое случалось, когда дела шли удачно. В противном случае нервное напряжение и беспокойство он компенсировал тем, что выпивал и съедал все, что попадалось под руку. Личный врач объяснил ему, что его обжорство вызвано не чувством голода, а является результатом психосоматического расстройства. Слово показалось ему настолько необычным, что он запомнил его. Естественно, покопавшись в медицинском справочнике, он узнал, что речь идет о снижении умственного потенциала. Он разволновался, бросился к холодильнику и съел огромную банку свинины в желе. Если он становится идиотом, как же он сможет управлять своей империей? Он с неприязнью посмотрел на свое дряблое, огромное тело, отвислый живот, свисавшие вдоль талии складки жира, и его всего передернуло от отвращения. Когда-то, в тридцать лет, он мог взять каждой рукой по человеку и отшвырнуть от себя на три метра, как два мешка с арахисом. Сегодня такую работу он мог поручить только своим «солдатам». В соседней комнате, небольшой уютной гостиной, расположенной рядом с его спальней, нервничали его советники Кармино Кримелло и Анджело Барба. Он надел белую рубашку, темно-синий костюм, повязал галстук и освежил лицо туалетной водой. Он с большой неохотой согласился на настоятельную просьбу Моше Юдельмана объединиться с «семьей» Вольпоне для реализации этой разовой финансовой операции. За десять долгих лет непрекращающейся убийственной войны невидимое поле боя было усеяно трупами «солдат» из обеих «семей». Когда же наконец они поняли, что федеральным властям на руку их огнестрельное противостояние, они заключили относительно мирное соглашение, тщательно разделив зоны влияния. Но чтобы объединить финансы! Этторе Габелотти никому не верил, но еще меньше — Дженцо! И вот его предчувствие сбывается, Вольпоне пытается его надуть. При его появлении Кримелло и Барба синхронно вскочили с кресел. Небрежным жестом руки Габелотти дал понять, чтобы они не дергались. Он достал из холодильника бутылку пива, налил в стакан и добавил туда коньяка. Затем проглотил два куска ветчины, запил коктейлем и хмуро уставился на мужчин. — Не нравится, что вытащил вас из кровати в три часа утра? Кармино и Анджело вяло запротестовали: — Падроне, если… — Я не мог уснуть. Я скучаю, когда вас нет рядом… Чувствую себя потерянным… Вам должно это льстить, разве нет? Он одним глотком допил смесь и машинально наполнил стакан одним коньяком. — Вот так! Когда мне не по себе, я жру… обжираюсь… И ничего веселого в этом нет… Он проглотил полстакана коньяка. — Рико Гатто позвонил мне из Швейцарии… Как вы думаете, какого черта Вольпоне делает в Цюрихе? Кримелло и Барба, прекрасно знавшие его характер, поняли, что сейчас грянет буря. — Он посетил морг, — ответил Этторе. — Морг? — Да, морг. Каждый может почувствовать необходимость поклониться останкам… Габелотти замолчал. — Чьим останкам? — не выдержал Барба. — Ноги. — Чьей ноги? — попытался уточнить Анджело, обменившись с Кримелло непонимающим взглядом. — Если бы у меня работали компетентные люди, я бы это знал, — подозрительно мягким голосом сказал Габелотти. — Но у Рико Гатто мозгов на это не хватило. Разве это не смешно? Кримелло и Барба, почувствовав себя вдруг неуютно, заерзали в креслах. Барба решил рискнуть: — Дон Этторе, если бы вы раньше сказали, что вас тревожит… — Нас трахнули! — взревел Габелотти и вдребезги разбил стакан о журнальный столик. — А если меня натянули, значит, я окружен мудаками. Вас что-нибудь удивляет, нет? Брат моего компаньона совершает туристическую поездку в морг, и одновременно исчезнет мое доверенное лицо! — О’Бройн? — Да! О’Бройн! Если хоть один из Вольпоне дотронется до волоска на его голове, я сотру их в порошок. Кармино Кримелло откашлялся. — Падроне, на чем остановится ваше… — Ни на чем! — зло оборвал его Габелотти. — В эту минуту нас натягивают, а мы сидим сложа руки! А Мортимер, как бы невзначай, не подает признаков жизни с тех пор, как улетел в Насса. Жена его не видела, и никто не может найти его шкуру. Хотите знать, в чем дело? «Семья» Вольпоне положила глаз на наши деньги! — Секундочку! — заговорил Барба. — Секундочку! Он уважал мнение дона, но не торопился с выводами. — Не может ли быть такого, что О’Бройн просто загулял со своей подружкой? Габелотти мрачно на него посмотрел. — И забыл, что на карту поставлено два миллиарда долларов? — Мне кажется, падроне, что вы преждевременно начали волноваться, — сказал Кармино. — Это ты так думаешь! Если сволочи прикончили О’Бройна, кто помешает им смыться с деньгами? — Вы, дон Этторе! — выкрикнул Анджело. — Вы тоже знаете номер счета! Вам ничего не стоит позвонить в банк и изъять вклад. — Если он еще там, — буркнул Габелотти. — Проверить — нет ничего проще! — Сейчас я позвоню Филиппу Диего, — неохотно согласился Этторе. — Он знает банкира и должен быть на месте. — В три часа утра? — удивился Кримелло. — В Цюрихе — девять! Барба безрезультатно искал метафору, чтобы в уважительных оборотах речи дать понять дону, что его теория фантастически глупа, но находил только синонимы. — «Семья» Вольпоне может быть чем угодно, но только не сумасшедшей. После подобного разбоя Комиссьоне приговорила бы всех к смертной казни. — Вначале их надо найти, — сказал Габелотти. — Они же не прячутся! Вы только что сказали, что Итало находится в Швейцарии. — Ты мне осточертел! — прогремел Габелотти, истощив терпение и аргументы. — Когда я говорю тебе, что нас натягивают, верь мне на слово! Анджело Барба сел в кресло и замолчал. Никто не в силах был атаковать Габелотти в лоб, особенно если логика у него заменялась интуицией. Его следовало обходить мелкими, осторожными шажками, не задавая… — Моше Юдельман? — рискнул произнести Кримелло. — Я не слышал, что ты сказал! — с горечью произнес Габелотти. — Он должен появиться здесь с минуты на минуту. — Жена Итало в городе? — с намеком, но с безразличным выражением лица спросил Кримелло. Габелотти засунул полпачки печенья в рот и, мощно двигая челюстями, презрительно посмотрел на него. — Ты думаешь, это обменная монета? Когда на кон поставлено два миллиарда долларов, считаешь, что девочка перевесит? — Но она здесь? — не унимался Кримелло. — Да, — обронил Этторе. — Двое моих людей не спускают с нее глаз.* * *
Встреча была великолепна своей непродолжительностью. Филипп Диего был препровожден Марджори в кабинет Хомера Клоппе в 9.01. В 9.04 он вышел, еще до конца не осознав, что его попытка закончилась стопроцентной неудачей. В свои неполные сорок лет Филипп Диего уже пользовался репутацией одного из самых блестящих адвокатов нового поколения. В этом возрасте поэты ищут себя, художников одолевают сомнения, композиторы сочиняют музыку, Диего же эксплуатировал двадцать три сотрудника и занимал четыреста квадратных метров площади в здании, расположенном рядом с парламентом Конфедерации. Его контора процветала! У него была квартира в Париже, временное жилье в Лондоне, частные владения в Сен-Поль-де-Вансе и несколько участков земли на Багамах. Преуспевающий человек, он сочетал в себе преимущество молодости и опыт зрелости, обаяние и острый ум и ту, едва заметную толику скепсиса, который очаровывает и ослепляет клиента. Войдя в кабинет банкира, Диего сразу заговорил в открытую: — Дорогой друг, я прекрасно понимаю, как трудно вам будет дать ответ на мой вопрос. И тем не менее я надеюсь его получить, что поможет мне успокоить одного из моих клиентов, который станет также и вашим. Он только что позвонил мне из Нью-Йорка и высказал мне свое крайнее беспокойство… Его зовут Этторе Габелотти. Вам знакома эта фамилия? Посмотрев в непроницаемое лицо Клоппе, Диего расплылся в улыбке. — Речь об одной очень важной проблеме, в которой переплелись интересы Габелотти и Вольпоне. Сложившаяся ситуация почти анекдотична… Габелотти ужасно боится летать самолетами, что мешает ему самому проконтролировать ход событий на месте. В вашем кабинете его представлял Мортимер О’Бройн. Но с некоторого момента его компаньон Вольпоне не дает о себе знать, впрочем, как и Мортимер О’Бройн… Мой клиент пребывает в ужасной растерянности. Перед тем как отдать распоряжение о переводе денег, которые находятся у вас, он, из уважения к своему компаньону, захотел, чтобы я встретился с вами… Через меня он хочет убедиться, что ни О’Бройн, ни Вольпоне не предприняли никаких действий, забыв поставить его в известность. Мой вопрос — это его вопрос, и заключается он в следующем: по-прежнему ли деньги находятся в «Трейд Цюрих бэнк»? Хомер поднялся с кресла, подошел к окну и посмотрел на голубое, без единого облачка, небо. — Какая прекрасная погода! — задумчиво сказал он. Обескураженный Филипп Диего попытался скрыть свое поражение за легким смешком. — Ну что ж! Тем хуже! Я пытался… Да, так я и скажу… — Рад был встретиться с вами, — с каменным лицом произнес Хомер. — Я — тоже! Кстати, у Габелотти есть номер этого счета… Я передам ему, чтобы он навестил вас сам… — До свидания, метр! Переговоры завершились.* * *
Моше Юдельман согласился встретиться с Этторе Габелотти в три часа утра лишь потому, что не хотел, чтобы война между «семьями» началась опять. В течение последних нескольких часов ситуация настолько накалилась, что малейшая ошибка могла стать искрой, влетевшей в пороховой склад. Никто не смог бы предугадать реакцию дона на откровения Моше Юдельмана. После разговора с Итало Юдельман долго колебался, выбирая форму поведения: то ли сказать Габелотти всю правду, то ли усыпить его некоторыми подробностями, умолчав о деле в целом. Быстрый анализ подсказал ему выбрать первый вариант. Если Габелотти захотел с ним встретиться, значит, почувствовал что-то неладное. В таком случае тем более надо играть в открытую игру. Время встречи насторожило Моше, и он по-детски, рефлекторно и совсем напрасно, попросил Витторио Пиццу сопровождать его. Когда машина остановилась перед домом, где жил Габелотти, Юдельмана пронзила неожиданная мысль. — Ты вооружен? — спросил он Витторио. — Как обычно. — Оставь свою пушку в машине. — Почему? — Доставь мне удовольствие. Мы идем не в бой… — Ты собираешься выйти оттуда живым? — Витторио! Не будь ребенком. Если они захотят нас прикончить, какое для них имеет значение, вооружен ты или нет. Спрячь пистолет в бардачке. Пиццу склонил голову к плечу и разочарованным голосом спросил: — Зачем ты меня взял с собой, Моше? — Мне нужен свидетель и поддержка, а не выстрелы… — С Габелотти ни в чем нельзя быть уверенным. Он будет один? — Не знаю, Витторио! — Так что делать с пистолетом? — Оставь… Поверь мне, так будет лучше… Пиццу с большим сожалением вытащил из кобуры оружие и бросил в бардачок, накрыв сверху дорожными картами. — До чего же глупо! — обиженным тоном сказал он. — Сейчас я чувствую себя голым. — Пошли. Двое мужчин встретили их в прихожей внешне доброжелательно, не унизив обыском. От такого приема Витторио еще с большим сожалением подумал о пистолете. Но когда он следом за Моше вошел в кабинет дона, то с удивлением обнаружил, что тот находится в окружении трех своих людей: Анджело Барбы, Кармино Кримелло и перебежавшего в «семью» Габелотти Карло Бадалетто. При их появлении, Этторе Габелотти наклонил голову, якобы в знак приветствия. Было заметно, что он провел бессонную ночь: под глазами висели большие, рельефные мешки. Юдельман мгновенно ощутил смену настроения присутствовавших: три дня назад, в Нассау, во время встречи двух кланов, атмосфера была почти эйфоричной. Теперь в воздухе висели опасность и подозрение. — Располагайтесь, — пригласил Габелотти. Юдельман и Пиццу сели в кресла. Рядом с ними тут же стали: справа — Кримелло и Барба, слева — Карло Бадалетто. Несколько секунд Этторе молча их рассматривал. — Моше, я вызвал тебя, чтобы задать несколько вопросов относительно наших денег. — Слушаю вас, — сказал Юдельман. — После полученной от Дженцо телеграммы деньги должны были быть переведены из швейцарского банка уже на следующий день, в крайнем случае через день. Хочу сказать, что твое поведение встревожило меня. От такого друга, как ты, я ждал новостей по телефону. Не дождался! Молчит и Дженцо. Я разочарован. Итак, первый вопрос: переведены наши деньги, два миллиарда долларов, или нет? — Еще нет, дон Габелотти. — Могу я спросить почему? — Даже если бы вы меня не вызвали, я сам приехал бы к вам обсудить эту тему. — Зачем ты привел с собой Пиццу? Моше не решился спросить у него, для чего он сам пригласил трех головорезов. — Боялся, что одного тебя не примут? — съязвил Габелотти. Юдельман ограничился вежливой улыбкой. — Я могу и выйти, — бросил Пиццу, обводя всех взглядом. — Не дергайся, — осадил его Габелотти. — У нас ты всегда желанный гость, Витторио. Разве мы не компаньоны? Или ты забыл? И без всякого перехода обратился к Моше: — Так, я слушаю тебя. Моше весь подобрался, сплел пальцы рук на коленях и сказал: — Произошла небольшая задержка. — Почему? — отеческим тоном спросил Габелотти. — Случилось несчастье… — Он увидел, как Габелотти обменялся мимолетным взглядом с Кримелло и Барбой. — Дон Дженцо погиб. В комнате нависла звенящая от напряжения тишина. — Это действительно большое несчастье, — сказал Габелотти. — Что с ним произошло? — Несчастный случай… в Цюрихе. Его оторванную ногу нашли на обходной решетке электровоза. — Его ногу?! — удивленно воскликнул Габелотти. — А где его тело? — До сих пор еще не нашли… Его брат сейчас находится в Швейцарии. — Каким образом он узнал об этом несчастье? — Он узнал об этом здесь, в Нью-Йорке, через полицию… — Ты хочешь сказать, что полиция опознала ногу Дженцо? — Дон Дженцо приобретал обувь у Бьяски. Швейцарские фараоны переслали туфлю сюда, местным легавым. Бьяска подтвердил, что эту туфлю он сшил для Дженцо. А в Цюрихе Итало сам опознал ногу брата. — Я очень сожалею, Моше, — сказал Этторе. — Мы все скорбим… Дон Дженцо был умным, уважаемым человеком. От своего имени и от всей «семьи» приношу тебе свои самые искренние соболезнования. Где состоятся похороны? — Их не будет до тех пор, пока Итало не найдет тело. — Если бы три дня назад мне сказали, что может случиться такое, я бы не поверил, — сказал Этторе. — В чем заключается действительная причина смерти дона Дженцо? Юдельман был не настолько глуп, чтобы расслабиться под фальшиво сочувствующим взглядом Габелотти, и на миг задался вопросом: «Стоит ли рассказывать ему дальше?» Но Габелотти уловил его замешательство и четко отсек путь к отступлению. — Говори, Моше, говори… Здесь все свои. Смерть подстерегает каждого из нас, но мы должны избегать ее, если представляется такая возможность… — Дон Этторе, сказать что-то определенное относительно этого момента очень сложно… — Объясни, Моше… — Несмотря на свои годы, Итало в первую очередь подумал не о расследовании причин смерти брата, а о наших общих интересах. — Что ты имеешь в виду? — Он посетил банк, в котором лежат наши деньги. На лице Габелотти отразилось удивление и недоумение одновременно. — Итало? Какое ему до этого дело? Разве я просил его лезть в мои личные дела? — Нет, — перебил его Юдельман. — Нет, дон Этторе! Просто Итало решил оказать услугу, чтобы мы напрасно не теряли время. — Извини, Моше, но я не совсем понимаю, о чем ты сейчас говоришь… Кто-то просил Итало об этой услуге? Если это так, то о какой услуге идет речь, Моше? Несмотря на то что Витторио Пиццу чувствовал себя не совсем комфортно, он отметил, что разговор незаметно перешел в допрос, который начинает приобретать опасный оборот. Если бы Моше не заставил его оставить пистолет в машине, они попытались бы использовать шанс выбраться из этой мышеловки живыми. Юдельман с трудом откашлялся. — Смерть дона Дженцо очень взволновала Итало. Предполагаю, что он действовал под влиянием эмоций… Возможно, он поторопился довести дело брата до конца… ускорить процедуру перевода денег. — И для этого он пошел в банк? — Да, дон Этторе! Чтобы ускорить операцию… — Не спросив у нас разрешения! — Вероятно, он подумал, что… — Что «что…»? Юдельман с трудом проглотил набежавшую слюну. — Так как Дженцо — мертв, он становится во главе «семьи»… — Это кто же ввел тебе в уши его планы? — Он сам мне сказал об этом после посещения банка. — И кем же он представился в банке? — Братом Дженцо Вольпоне. — И этого оказалось достаточно, чтобы разблокировать счет? — Нет, дон Этторе, ему отказали… В комнате установилась тишина. Никому не предложив, дон Этторе налил себе полный стакан коньяка. Уставившись в пустоту, он долго вертел его в пальцах. Пиццу готов был поклясться, что слышит тиканье часов присутствующих. Габелотти залпом выпил стакан коньяка, вытер губы ладонью и посмотрел прямо в глаза Юдельману. — Есть один момент, который меня беспокоит, — рассудительным тоном заговорил он. — Как мог Итало, который всегда был братом своего брата и ничего собой, кроме себя, не представлявший, позволить себе уравняться со мной? Горем это не объяснить… — Дон Этторе, я хочу… Итало подозревает, что на дона Дженцо совершено покушение. — Покушение? Ты это серьезно говоришь? Кто мог решиться отнять жизнь у такого уважаемого человека, которого окружали только друзья? — Не знаю, — ответил Юдельман. — Ты сам понимаешь, что это несерьезно! Но я тебе благодарен, что ты поделился со мной этой мыслью. Не забывай, что ты в ответе за союз наших «семей», но ты ни в коем разе не несешь ответа за импульсивные действия брата своего патрона. Кстати, ты знаешь, что я до сих пор не получил новостей от Мортимера О’Бройна? — Нет, — упавшим голосом ответил Юдельман. — Это очень неприятно, потому что мое доверенное лицо, как ты знаешь, в курсе номера счета. Ты не мог бы меня просветить по этому затруднительному моменту? — Я? — удивился Юдельман. — Или ты, или Итало… — Откуда я могу знать? — Да, ты прав, извини… Я просто задаю вопросы, понимаешь? Ты заявляешь, что дон Дженцо убит, что его брат берет инициативу на себя, а я замечаю, что исчез О’Бройн. Что ты об этом думаешь, Моше? — Я думаю… я чувствую неприятный запах… — А! Ты понял! Я разделяю твои ощущения. Моше заерзал, не решаясь сказать слова, которые готовы были сорваться с его губ: сказать ли ему, что единственный человек, которому была на руку смерть дона Дженцо, — Мортимер О’Бройн? — Моше, ты хочешь что-то еще сказать? — Нет, нет… Ах, как же ему хотелось выложить Габелотти свои подозрения! Ведь только О’Бройн мог помочь умереть Дзу Дженцо Вольпоне! — Говори, Моше, говори… Ради спокойствия всех нас… — Хорошо, — сказал он, съеживаясь под пронзительным взглядом Габелотти. — Принимая во внимание грандиозность операции, я спрашиваю себя, идет ли речь о случайности или… — Или? — Или почему из трех человек, знавших номер счета, один — умирает, а второй — исчезает… Произнося последние слова, Юдельман опустил глаза и принялся внимательно рассматривать ногти. Габелотти энергично качнул головой. — Моше, ты безоговорочно прав! Но скажи мне, Моше, окажись ты в моей шкуре, разве ты не волновался бы? Третий человек — это я! Надеюсь, что со мной ничего не случится. Карло Бадалетто от удовольствия хихикнул. Этторе сделал вид, что не услышал. — Ну, Моше, что ты на это скажешь? Юдельмана пронзила мысль, что уже в эту минуту Габелотти замышляет грязную комбинацию против «семьи» Вольпоне. Когда Итало говорил ему о такой возможности, Моше не поверил и, судя по развитию событий, ошибся. Теперь, после разговора с Габелотти, он взвешивал свои шансы выйти живым из этой комнаты. Терять больше было нечего, и Моше решился: — Очень плохо, дон Этторе, что вы не отправились в Цюрих вместе с доном Дженцо. — Но ты же хорошо знаешь, что я не переношу самолеты. — Знаю, дон Этторе, знаю… Но, если бы вы были рядом с доном Дженцо, он был бы сейчас среди нас. — Что ты хочешь этим сказать, Моше? — Два капо и больше никого. — Моше? Ты намекаешь на то, что О’Бройн оказался не на высоте? — Нет, нет, дон Этторе! Компетенция вашего доверенного лица не вызывает сомнений. — Тогда в чем дело? — Мортимер О’Бройн всегда отличался безукоризненной честностью, но и он — человек… вы понимаете… со своими слабостями… Габелотти смотрел на него с нескрываемым удивлением. Медленно, словно с трудом подбирая слова, он сказал тихим голосом: — Ты считаешь, что Мортимер способен предать своего падроне? — Я этого не говорил, — живо запротестовал Юдельман. — Как без доказательств я мог бы выдвинуть такое серьезное обвинение? Я хочу всего лишь докопаться до правды… Игнорируя Пиццу, Этторе поочередно посмотрел на Анджело Барбу, Кармино Кримелло и Карло Бадалетто. — А если Моше прав? Слушай, Моше, если О’Бройн действительно совершил ошибку, как тебе представляется ситуация? — Никак, дон Этторе. Я не могу позволить себе высказываться на этот счет. — Не суетись, я тебе помогу… Предположим, что Мортимер сошел с ума… Полагаю, ты согласен, что нужно быть чокнутым, чтобы решиться на что-то подобное!.. Предположим, что ему захотелось прикарманить наши деньги… Он вопросительно посмотрел на Юдельмана, проверяя, следует ли тот его рассуждениям. — Предположим, — согласился Юдельман. — Прекрасно… Как, ты думаешь, развернутся события дальше? Мог ли О’Бройн пойти на убийство, чтобы завладеть нашими деньгами? Юдельман молчал. — Не волнуйся, — улыбнулся Габелотти, — мы только рассуждаем… предполагаем… Так мог? — Такая возможность не исключается, — осторожно ответил Юдельман. — Так, так… По меньшей мере, ты откровенен, Моше. Итак, Мортимер убивает Дженцо, ворует деньги у Синдиката и исчезает… Так получается, Моше? Юдельман беспомощно развел руками. — Я там не был, дон Этторе. Это — ваши слова. Несмотря на свои сто двадцать пять килограммов веса, Габелотти легко вскочил на ноги, отчего его кресло отлетело к противоположной стене. — Ты принимаешь нас за идиотов? Пиццу, застыв под взглядами людей дона, следил за тем, чтобы его ладони не оторвались от поверхности стола и чтобы не сделать резкого движения, которое может стоить ему жизни. Ошарашенный Моше пробормотал: — Дон Этторе… я не понимаю… — Сейчас поймешь! — зарычал Габелотти. Гримаса ярости исказила его лицо. Он схватил Моше за плечи и встряхнул, как тростинку. — Если кто действительно и убил Дженцо, то это мог сделать только его вонючий брат! Он же убил и О’Бройна, замордовав его пытками и вырвав номер счета. Слушай меня внимательно, Моше! Если все произошло так, как я сказал, жить ему осталось два дня! И не только ему! Я тебе клянусь, что за ним, по одному, последует вся «семья»: мужчины, женщины, дети — все вы!.. Юдельман побледнел, зрачки его глаз расширились, казалось, он перестал дышать. Из столбняка его вывел голос Пиццу: — Пошли, Моше, пошли… Едва держась на дрожащих ногах, Моше встал. С вздувшимися венами на шее, сжатыми кулаками, Габелотти выкрикнул последнюю угрозу: — Скажи этой вонючке Итало, что мне известен каждый его шаг! Каждый!.. Если он шевельнет мизинцем, я оторву ему голову! С этой минуты я беру дело в свои руки. А тебя я жду здесь через три часа! Убирайся! Когда они сели в машину, Пиццу тут же достал спрятанное оружие. — Я сделаю все, что угодно, лишь бы избежать войны, — прошептал Моше. — Но и Итало, и Габелотти — они оба сумасшедшие! — Предупреди Итало, что в Цюрихе за ним следят люди Габелотти. Этот боров сказал, что знает о каждом его шаге. — Посмотрим… посмотрим… — вздохнул Моше. Находясь в состоянии крайней подавленности, он мог предвидеть только самое худшее. (обратно)ГЛАВА 10
Выпроводив Филиппа Диего из кабинета, Хомер совершил необычный для него поступок: несмотря на раннее время, он откупорил бутылку «Уотерман», налил себе изрядную порцию виски и залпом выпил. Выяснился третий человек, владеющий номером счета, — Габелотти. Итало Вольпоне обвинил О’Бройна в убийстве своего брата, но Клоппе никак не мог представить себе адвоката в роли организатора преступления. Более того, его шеф, Габелотти, принадлежит к той же социальной прослойке, что и Дженцо Вольпоне. А это означает лишь одно — восстановление справедливости должно последовать незамедлительно и без излишних слов. Интуитивно он чувствовал, что кто-нибудь из двоих — Габелотти или О’Бройн — обязательно позвонит ему в течение дня. Смысл номерного счета до удивления прост: достаточно любому лицу, предварительно назвав себя, сообщить его банкиру, и деньги мгновенно оказываются в распоряжении вкладчика. Клоппе чуть передернул карты, когда отказал О’Бройну в переводе двух миллиардов долларов под предлогом необходимости иметь его подпись. Он нажал на кнопку, и часть панели стены напротив него отошла в сторону, открыв экран телевизора. Телевизор относился к системе внутренней связи и с его помощью Хомер мог наблюдать за всем происходящим как в кабинетах, так и в холле банка. Он быстро выделил из толпы посетителей в холле троих мужчин, которые должны были не пропустить Вольпоне в банк. Девять тридцать… Этот сумасшедший придет в двенадцать… В агентстве, которое обычно обеспечивало безопасную перевозку денег в бронированных автомобилях, Хомер нанял на сегодняшний день охрану. Все трое имели лицензию на ношение оружия. Клоппе дал своим агентам-телохранителям подробное описание внешности Вольпоне и приказал выбросить его из банка, но аккуратно и незаметно… Почувствовав себя в безопасности, он позвал Марджори. — Слушаю, сэр! — Я поехал к дантисту. Он ждет меня к десяти часам? Марджори полистала черную записную книжку. — Да, сэр. — К двенадцати я возвращусь. Обычный профилактический осмотр. Он уже взялся за ручку двери, когда его окликнула Марджори: — Сэр! Телекс… — Я опоздаю, Марджори. Прочту позже… — Телекс из Соединенных Штатов… из «Континентл мотокарз»… — Дайте! Клоппе прочитал текст, и ему показалось, что на него рушатся небеса. «Восьмая по счету авария в Лондоне. Отказ рулевого управления. Жду указаний. Мелвин Бост». Он заметил, что Марджори, застыв на месте, напряженно смотрит на него. — Чего вы ждете? Идите к себе! Смутившись, секретарша вышла из кабинета. Клоппе вспомнил секретные переговоры трехдневной давности с Мелвином Бостом. «— Сколько единиц «Бьюти гоуст Р9» находится в эксплуатации? — Всего? 482 326. — Вы уверены, что эти аварии не являются случайностью? — Семь аварий по одной и тот же причине — уже не случайность, а закономерность». Мелвин уточнил, что, согласно компьютерному анализу, предполагается сорок восемь аварий из расчета на все количество «Р9», двигавшихся по дорогам мира. «Это не значит, что они обязательно произойдут, на ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ». Именно по причине этого «может», не содержащего в себе определенности, Хомер, положив на одну чашу весов опасность, поджидавшую водителей «Р9», а на другую — расходы фирмы по замене дефектной детали в сумме 150 миллионов, решил оставить все как было… А что оставалось делать? Закрыть завод? Объявить себя банкротом? Оставить без работы шесть тысяч рабочих? Мелвин Бост предложил ничего не предпринимать до новой аварии. Дождались! Сто пятьдесят миллионов долларов! «Трейд Цюрих бэнк» развалится вместе с заводом. Если только… если только речь не идет о черной полосе неудач… Почему бы не выждать еще некоторое время? Чувствуя, что сейчас ему станет плохо, Клоппе решил дать ответ через три дня. После свадьбы Ренаты он попытается рассмотреть все в ином свете… Он нажал на кнопку интерфона. — Слушаю, сэр. — Я уезжаю. Предупредите дантиста, что опоздаю на несколько минут… Время доктора Штроля было расписано по секундам. Он был единственный человек, которого Хомер не хотел бы заставлять себя ждать.* * *
Приблизительно в тот час, когда Итало Вольпоне был разбужен телефонным звонком Моше Юдельмана, Инес открыла глаза. Практически, ночь для нее оказалась бессонной. Она ворочалась с боку на бок и никак не могла согласиться с тем, что ее изнасиловали. За свою еще недолгую жизнь Инес переспала с большим количеством мужчин: с одними — по желанию, с другими — из интереса, но никогда это не случалось против ее воли. Когда тот жирный, отвратительный, потный боров бросил ее на опилки и вошел ей в анус, она хладнокровно поклялась, что он умрет. Только его смерть может стереть из ее памяти это отталкивающее лицо, эти жадные слюнявые губы, прижимающиеся к ее рту, эти грубые, шарящие у нее в промежности, руки… После непродолжительного сопротивления он оглушил ее ударом рукоятки пистолета и по-звериному взял в полуобморочном состоянии. Она посмотрела в сторону Ландо, сидевшего в кресле, встретилась с его внимательным взглядом и равнодушно отвела глаза в сторону. Через минуту встала, плотно обернула вокруг тела одеяло и машинально занялась тем, что ежедневно делала по утрам: съела яблоко, выдавила в стакан сок из грейпфрута и поставила варить кофе. — Я тоже выпью чашку, — сказал Ландо и потянулся. Она перелила в чашку готовый кофе, бросила кусочек сахара и молча ушла в ванную, щелкнув задвижкой. Орландо Баретто был ей так же противен, как и Пьетро Беллинцона. Ландо выпил приготовленный Инес сок грейпфрута, провел тыльной стороной ладони по заросшей щетиной щеке и спросил себя, как вести себя с ней дальше. Из личного опыта он знал, что его любовница не принадлежит к тем женщинам, которыми можно помыкать. Какой смысл объяснять ей, что малейшее его вмешательство стоило бы им обоим жизни! К Мортимеру О’Бройну и Зазе Финней Итало без колебаний добавил бы и их. Он с сожалением вспомнил время, когда был профессиональным футболистом. Не сиди в нем зверские наклонности, он сделал бы блестящую карьеру. К несчастью, он был внесен в черные списки всех итальянских клубов. Когда борьба накалялась, когда его теснил противник, Ландо не ограничивался игрой руками и ногами, он кусался. В первый раз, когда у него во рту осталось ухо соперника, он всем и повсюду клялся, что это произошло чисто рефлекторно. Он навестил пострадавшего в клинике, принес ему свои извинения, а в качестве компенсации — двухмесячный заработок. Во второй раз он впился зубами сопернику в нос, и никакие объяснения его не спасли. Тогда-то он и занялся делами, которые не приносили славы, но вознаграждались лучше. Войдя в «семью» Вольпоне, он начал новую карьеру. Но даже сейчас на него иногда находило безумное желание кусаться. Он страдал от этого и ничего не мог с собой поделать. Два дня назад, когда он взял в руки птичку и губами ощутил тепло нежного оперения, он не смог сдержаться и откусил ей голову. Вчера что-то подобное сделали с Мортимером О’Бройном. Он снова увидел Итало Вольпоне в забрызганном кровью пиджаке, с отрезанной головой адвоката в руке. В тот миг он подумал, что Вольпоне в приступе нечеловеческой ярости сошел с ума. Он пришел в себя только тогда, когда Фолько вырвал из его рук голову. Затем они зарыли трупы. Голову Мортимера, по прихоти Итало, захоронили отдельно от тела. Краем глаза Ландо заметил плохо застегнутую ширинку брюк у Беллинцоны и с горечью подумал, что гигант воспользовался его капиталом совершенно бесплатно. Дальнейшие события ничего радостного не принесли… Вольпоне влепил Инес сильнейшую пощечину и задушевным голосом пообещал убить ее, если она, без колебаний и прямо сейчас, не начнет подчиняться его приказаниям. Какими бы они ни были. Он забросал ее вопросами относительно Хомера Клоппе, интересуясь его распорядком дня, привычками, сексуальными наклонностями. Инес отвечала механически, с отсутствующим выражением лица, доводя до сведения Ландо детали, которые он и представить себе не мог. Клоппе трахал ее на ковре из банковских билетов! Из ванной появилась Инес. Сделав вид, что не заметила выпитого сока, она приготовила себе еще. — И долго ты собираешься молчать? — спросил Ландо. На ней были брюки и свитер с высоким воротом. Со спины она была похожа на мужчину — гибкая фигура чемпиона по баскетболу. — Может, набить тебе морду? Она посмотрела на него. Он не смог бы сказать, что было в ее взгляде: презрение или безразличие. — Убирайся! — бросила она. Он рассмеялся. — Вместо того чтобы вертеть хвостом, ты лучше поблагодарила бы меня… Осталась ведь живой!.. Жизнью ты обязана мне, запомни, кукла! Ты знаешь, кто такой Вольпоне? Ты что-нибудь слышала о Синдикате? Там я и работаю. Они могут раздавить меня, как муху… или мошку, — уточнил Ландо. — Ты и есть мошка, — незлобно и безразлично ответила она. — Если ты не будешь точно выполнять, что тебе скажут, я за твою шкуру и цента не дам. Они все могут и все знают! Чего ты злишься? Толстый поросенок трахнул тебя, да? И что из этого? В конце концов, с невинностью ты рассталась давно… Ты должна целовать мне руки за то, что я уговорил Вольпоне оставить тебя в живых. У тебя в самом деле нет выбора. Ты будешь с ними до тех пор, пока они не получат то, что хотят. И забудь, что видела и слышала! — Я забыла, — сказала Инес. — Пока еще ты не в безопасности… Знаешь, что ты должна сделать сегодня после полудня? — Да. — Отлично. Он попытался обнять ее за плечи. — Не прикасайся ко мне! — Что? — Я сделаю все, что мне скажут, но только не трогай меня. — Хорошо, — ухмыльнулся он, — хорошо… раз ты подчиняешься… Мне нужно сейчас уйти… Будет глупо с твоей стороны, если ты предупредишь полицию или смоешься… Во-первых, ты под наблюдением, во-вторых, им понадобится меньше суток, чтобы разыскатьтебя и… вырезать тебе матку. Не забывай, что ты — свидетель и соучастник двойного убийства. Не ты ли копала могилу Зазе? Все ясно? — Да. — Чао! Едва за ним закрылась дверь и затихли спускавшиеся вниз по лестнице шаги, она схватила трубку телефона, набрала международный кол и номер в Нью-Йорке. В Филадельфии трубку должен поднять тот, кто придет ей на помощь, ее младший брат Рокки. Младшенький был два метра двадцать сантиметров ростом и весил сто тридцать килограммов. До того как он стал баскетбольной звездой Восточного побережья, он ходил чемпионом среди студентов по легкоатлетическому десятиборью. Всего он добивался играючи. Как и остальные восемь братьев Инес. Рокки был ленив, но необыкновенно одарен… и не только в плане физических возможностей. Рокки был способен быстро и нестандартно решать и находить выход из самых запутанных ситуаций. Он был единственный, кто мог вытащить ее из этой мышеловки. — Рокки? Это — Инес. Слушай меня внимательно, Рокки!..* * *
Дверь открылась, и в кабинет вошел инспектор в гражданской одежде. Кирпатрик бросил на него рассеянный взгляд и снова углубился в бумаги. Не поднимая головы, он бесцветным голосом спросил: — Неприятности? Полицейский молча положил на стол телеграмму. Его рука заметно дрожала. «Капитану Кирпатрику. Центральное управление, 6-я авеню, Нью-Йорк. Просьба срочно связаться с лейтенантом Блечем. Окружная полиция Цюриха. Предмет: кончина инспектора Дейва Кавано». «У него осталось трое сирот», — мелькнуло у Кирпатрика в голове, и он снял трубку телефона.* * *
В Цюрихе было два места, где Хомер Клоппе по-настоящему чувствовал себя как дома: в своем кабинете и в кабинете доктора Аугуста Штроля. Аугусту Штролю было пятьдесят два года, и он благоговел перед всем, что относилось к зубоврачеванию. Дважды в год он выезжал в Соединенные Штаты для ознакомления с последними достижениями в области зубопротезирования. Его жена, очаровательная молоденькая брюнетка, тоже врач-дантист, испытывала к своему супругу, который вполне годился ей в отцы, невероятное профессиональное восхищение. Штроль преподавал у нее на курсе, а затем женился на ней. Их взаимная страсть не угасла после шести лет совместной жизни и подарила им двух сыновей. Они работали так виртуозно и качественно, что все горели желанием получить челюсть с маркировкой «Штроль». Но, увы, всех принять они не могли и тщательно отбирали свою клиентуру. Аугуст часто говорил Хомеру Клоппе, что тот прошел мимо своего призвания. Банкир проявлял неподдельный интерес к работе дантиста, новым методам протезирования, задавал вполне профессиональные вопросы, пытаясь до тонкостей понять тот или иной процесс. «Из вас мог получиться замечательный стоматолог!» — заявлял Штроль. Иногда он говорил Хомеру комплименты относительно состояния его зубов: «Если бы у моих пациентов были такие зубы, как у вас, я быстро оказался бы без работы». Едва пациент садился в мягкое кожаное кресло, как зажигались лампы и убаюкивающий голос Ингрид начинал шептать: «Расслабьтесь… Совершенно расслабьтесь…» И возникало желание побыстрее открыть рот и довериться опытным рукам Аугуста Штроля, слушая музыку Вивальди, звучавшую в течение всего приема. — Я заждался вас, — мягко упрекнул доктор, когда Хомер вошел в кабинет. — Неужели моя секретарша вас не предупредила? — удивился Клоппе. — Шучу! Вы опоздали меньше чем на три минуты. Как ваши дела? — Хорошо… хорошо… — слишком энергично ответил банкир, чтобы поверить его словам. Штроль заметил, что Клоппе напряжен и скован. В кабинет вошла Ингрид. Хомер в очередной раз был поражен ее красотой и великолепной, гибкой фигурой, которая угадывалась под складками белого халата. Будь она чернокожей и сантиметров на пятнадцать выше — это была бы Инес. Аугуст поймал его взгляд. Но такие взгляды мужской части его клиентуры вызывали в нем не ревность, а гордость за свою жену. — Расслабьтесь, мистер Клоппе, расслабьтесь, — заговорила Ингрид. Хомер открыл рот. — Посмотри, дорогая, нет, ты только посмотри… Можно ли себе представить более великолепные зубы? — восторгался Штроль, склонившись над Хомером. — Не забудьте, — сказал Хомер, — завтра, как всегда в конце месяца, вы снимаете у меня камни. Точно на уровне своих глаз он увидел проступавшие через ткань халата твердые соски Ингрид. — Расслабьтесь, — шептала она. — Расслабьтесь…* * *
Не сказав Пьетро ни слова, Итало Вольпоне вышел из «форда», захлопнул дверцу и, тяжело ступая, направился к банку. Было ровно двенадцать часов. Разбуженный звонком Моше, он все утро провел в размышлениях, вырабатывая план действий. Если Хомер Клоппе, к своему несчастью, не выполнит его ультиматум, он начнет на него давление по возрастающей… Орландо Баретто, Пьетро Беллинцона и Фолько Мори знали, как разрушить непробиваемую скалу упорства банкира. Затем на сцену выйдет негритянка. В ней он был совершенно уверен. Она выглядела подавленной, отрешенной, беспрекословно выполняла все его приказы, спокойно отвечала на вопросы, от которых зависел успех осуществления его плана. Одним словом, она была укрощена. Каблуки Итало гулко стучали по мраморному полу центрального холла. Он свернул налево. Вчера, чтобы попасть в кабинет Клоппе, он вынужден был обратиться к швейцару. Тот поинтересовался его фамилией и указал на четвертый этаж. Сегодня он знал, куда идти. В глубине холла находилась дверь, ведущая к лифту. В тот момент, когда он взялся за ручку, его мягко придержали за рукав. — Могу быть вам чем-нибудь полезен, сэр? Он молча оттолкнул мужчину и направился к лифту. Тот в два шага нагнал его и вежливо, но решительно преградил путь. — Извините, сэр, но эта половина банка только для служащих. Кассы находятся в холле. Вольпоне уничтожающе посмотрел на него. — Плевал я на кассы! У меня назначена встреча с Клоппе. — В таком случае следуйте за мной. О вас доложат… Итало резко схватил его за руку и почувствовал стальные мышцы. Он толкнул его, но тот не сдвинулся ни на миллиметр. — Или ты уберешься с дороги, или я размозжу тебе голову! — закричал Вольпоне. — Пожалуйста, сэр, только без скандала. Неожиданно рядом с ними возникли еще двое богатырей. — Проблемы? — спросил один из них и, как бы невзначай, положил руку на плечо Вольпоне. Это простое прикосновение дало Итало понять, что они здесь не случайно, а для того, чтобы помешать ему пройти к Клоппе. — Повторяю еще раз!.. Меня ждет Клоппе! — Разумеется, сэр… Сейчас мы его предупредим. — Ты помял сэру костюм, — сказал третий. Под предлогом того, что он хочет разгладить несуществующие на пиджаке складки, его пальцы быстро пробежались по швам, как это делают таможенники перед посадкой в самолет. Оружия при себе у Итало не было. — Назовите вашу фамилию, сэр. Диспозиция, которую они заняли, не оставляла Итало никаких надежд пробиться к лифту. Мысленно он дал себе обещание поквитаться с банкиром за это дополнительное оскорбление. — Вот моя визитная карточка. — Он сунул левую руку во внутренний карман пиджака. И в ту же секунду правая рука Итало стремительно метнулась к низу живота стоявшего перед ним мужчины. Левой ногой он одновременно ударил в пах второго «гориллу». Третий каким-то чудом увернулся от Итало, отскочив в сторону. Когда рука Итало, разрезав пустоту, завершила движение, в бок ему уже упиралось дуло «маузера» солидных размеров. На полу корчились от боли и стонали двое «горилл», прижимая руки к низу живота. Задыхаясь с рвущимся из груди сердцем, Вольпоне с ненавистью смотрел на угрожавшего ему типа. — Стреляй, сволочь! Ну, стреляй же! — Уходите, — сказал мужчина. — Быстро! «Никакого скандала, — предупредил их Клоппе. — Проучите и выставьте за дверь». Итало посмотрел на лежавших и ухмыльнулся: — Что, слабаки, получили? Он повернулся и вышел в холл. Часы показывали 12.06. Ультиматум предъявлен не был. Военные действия были начаты. (обратно)ГЛАВА 11
Своей быстрой и блестящей карьерой в окружной полиции лейтенант Фриц Блеч был прежде всего обязан чисто типичным качествам швейцарца: гибкости ума, эффективности, упорству, чувству долга. Цюрих был тем мировым перекрестком, на котором в течение суток преступных и забавных происшествий случалось больше, чем в любой другой европейской столице, правда, с небольшим отличием: иностранному туристу казалось, что здесь никогда ничего не происходит… На улицах нельзя было увидеть полицейского с дубинкой в руке, вид студентов говорил о том, что слаще учебы для них ничего нет, рабочие не выходили на демонстрации, а когда сталкивались два автомобиля, водители обменивались визитными карточками, приносили друг другу извинения и вместе шли в ближайшее кафе выпить по стаканчику, в то время как техничка оттаскивала искореженные автомобили в ремонтную мастерскую. Иностранные рабочие не докучали профсоюзам. Армия, составленная из добровольцев, не входила ни в один европейский военный блок, а солдаты по вечерам возвращались в свои комфортабельные квартиры. Жители города уважали полицию. Она одинаково защищала как богатых, так и менее богатых. Бедных, в прямом смысле слова, не было. К проявлению насилия полиция относилась нетерпимо, но свои функции выполняла незаметно, не стараясь составить из преступников японскую икебану и сунуть ее под нос туристам. Искусство полиции заключалось в том, чтобы не поднимать волн. Никогда! Все, что не выходило за рамки приличия и не нарушало общественный порядок, было терпимо. Мошенников незаметно изолировали, убийц высылали из страны, а ревнивые мужья сводили счеты с женами в Гамбурге, Лондоне, Риме или Париже. Круглосуточно была открыта граница для десятков тысяч туристов, которые везли в страну валюту. И при всем этом — никакого проявления расизма к приезжим… Но власти округа бдительно следили за тем, чтобы приезжающие иностранцы не пользовались их территорией для выяснения своих отношений. Именно этим и занимался Фриц Блеч. В рапорте он, естественно, изложил свои соображения относительно связи, существующей между отрубленной ногой и американским полицейским, «случайно» выпавшим из окна отеля «Сордис» три дня тому назад. С точки зрения логики, чтобы связать эти два события — подвести их под общий знаменатель, — следовало взять на учет всех американцев, находившихся в городе в момент драмы. Но их было столько!.. Дипломаты, банкиры, политики, честные бизнесмены и шулеры… Цюрих представлял собой кипящий котел приездов и отъездов, и проследить за всеми не представлялось возможным. Тем не менее экспресс-расследование позволило лейтенанту выяснить, что после смерти Девида Кавано второй выходец из Соединенных Штатов, Патрик Махоуни, прилетевший из Нью-Йорка тем же рейсом, что и Кавано, в отель не возвратился. Счет за проживание остался неоплаченным, а его чемодан хранится у портье. После небольшого дополнительного уточнения оказалось, что этот Махоуни находится в списке людей капитана Кирпатрика — Центральное управление на 6-й авеню. Из этого следует, что оба дули в одну трубу… Другими словами, занимаясь решением каких-то своих проблем, они обошли стороной швейцарскую полицию на ее собственной территории, что очень не понравилось Фрицу Блечу. Когда ему сказали, что Кирпатрик у телефона, он спросил себя, будет ли его коллега откровенен и поведет ли честную игру… Капитан любезно поинтересовался, говорит ли Фриц по-английски. Да, он говорит по-английски, но с немецким акцентом, хотя какое это может иметь значение! — Как это произошло, лейтенант? — Ничего определенного сказать не могу. Расследование продолжается, и говорить сейчас можно только о несчастном случае. — И вы в это верите? — До тех пор, пока не будет доказано обратное. Примите мои соболезнования. — Спасибо. — Вы могли бы мне помочь, капитан… Девид Кавано… он выполнял в Цюрихе какое-то задание? — Да… В некотором роде… Обычная рутина… — Не могли бы вы быть поточнее? — Наблюдение… — А!.. За кем он следил? — За неким итало-американцем, подозреваемом в принадлежности к Синдикату. — Фамилия? — Послушайте, лейтенант… У Девида Кавано сиротами остались трое ребятишек. Я уже сообщил вдове… Это ужасно… Вы можете организовать транспортировку его тела в Нью-Йорк? — Сразу же после вскрытия, капитан. — Когда? — Медицинское заключение я получу сегодня вечером. Я все сделаю… — Спасибо. — Капитан… — Да? — У вас в Цюрихе был только один человек? Секунду Кирпатрик молчал. — Два. — Инспектор Махоуни? — Да. — Он возвратился в Нью-Йорк? — Как вы сказали? — Я спрашиваю, возвратился ли Патрик Махоуни в Нью-Йорк? — Не думаю… мне об этом ничего не известно. — А мне — тем более. Но ваш человек больше не появляется в отеле. — Откуда вам это известно? — Он исчез, не оплатив счет, — холодно ответил Фриц Блеч. В Швейцарии, как, впрочем, и во всем мире, это не проходит незамеченным.* * *
Выйдя из банка, Итало Вольпоне сел в «форд» и бросил Пьетро, сидевшему за рулем: — Поехали! Он был бледен от гнева и переполнявших его сознание вариантов отмщения. Когда он завладеет деньгами, он прикончит банкира. Нет, не сразу. Он даст ему возможность все забыть… И однажды, когда тот меньше всего будет этого ожидать, получит пулю в лоб, или взорвется вместе с машиной, или будет отравлен в ресторане, или сбит сумасшедшим водителем грузовика при переходе через улицу. — Куда едем? — спросил Беллинцона. — Заткнись! В отель! Пьетро проглотил слова, которые собирался сказать. Он бросил взгляд в зеркало заднего обзора и заметил серый «опель», отъезжающий от тротуара. За рулем сидел тип, которого Фолько «вычислил» еще в аэропорту. До сих пор Беллинцона ничего не сказал Вольпоне о слежке за ними. Фолько попросил не говорить Малышу о том, что кроме О’Бройна и Зазы Финней, в лучший мир благодаря его заботам ушли еще два американских полицейских. — Еще не время, — говорил Фолько. — Выберем момент, когда он будет в настроении. Скромность напарника восхищала Пьетро, но он опасался последствий затянувшегося молчания. Реакция Малыша Вольпоне была непредсказуемой и всегда враждебной. — Падроне… Казалось, Вольпоне не слышит его. — Падроне… — Чего тебе? — рявкнул Итало. — За нами следят. — Кто? — Какой-то тип в сером «опеле». — Как ты узнал? — спросил Вольпоне, заставляя себя не оборачиваться. — Фолько вычислил его, когда приземлились. Он прилетел тем же самолетом. — Мудак! У меня на пятках сидит фараон, а ты молчишь! — Это не полицейский, падроне… — Откуда тебе знать! — взорвался Вольпоне. — Фолько все вам объяснит. Вы были так заняты… Но мы не сидели сложа руки… — Что ты хочешь сказать? — нахмурившись, спросил Вольпоне. — Фолько все вам объяснит, — повторил Беллинцона, пытаясь выбраться из опасной зоны, куда завела его болтливость. — Фолько думает, что это человек Габелотти. Короче… Возможно… — На первом перекрестке сверни направо, — приказал Вольпоне, — и дальше — прямо. Я должен подумать. Сделав вид, что ему что-то понадобилось на заднем сиденье, он обернулся. Серый «опель» ехал за ними. — Где Фолько? — Едет за «опелем». — Налево! Пьетро объехал стоявшего на перекрестке полицейского. Тот проводил их спокойным взглядом. — Он все еще сзади? — спросил Итало. — Да. Хотите прижать его? — Закройся и рули! По набережной доедешь до парка, свернешь налево и прямо до «Командора». — В этом огромном, недавно построенном отеле Вольпоне провел последнюю ночь. — Высадишь меня у входа и сделаешь вид, что уезжаешь. Машину бросишь, где захочешь… В холле я задержусь минуты на три… Затем, когда этот тип сядет мне на пятки, ты пойдешь за ним… — Вы что-то придумали? — Смотри на дорогу! Показалось здание отеля, высоко взлетевшее тридцатью этажами над зеленым массивом парка. Беллинцона мягко остановил машину. Швейцар, выряженный в адмиральскую форму, поспешно открыл дверцу Вольпоне. Беллинцона резко сорвался с места и, следуя стрелочным указателям, влетел на открытую стоянку. Пробежав двести метров, отделявших стоянку от отеля, от увидел, как Фолько Мори протягивает ассигнацию «адмиралу», уже сидевшему в «фольксвагене» кремового цвета. Они едва переглянулись, и каждый сам по себе зашел в отель. Беспрестанно поглядывая на часы, словно у него назначена встреча, Итало Вольпоне нервно вышагивал по холлу. В двадцати метрах от него «торпедос» делал вид, что поглощен изучением меню, вывешенного у входа в ресторан. Расположившись у стойки регистрации, Беллинцона листал рекламные проспекты. Зажав в руке один из проспектов, он подошел к Итало и, развернув перед ним первые попавшиеся страницы, вполголоса сказал: — Он читает меню… — Кто тебя просил ко мне подходить? — прошипел Итало. — Падроне, он же видел меня за рулем рядом с вами. Если он заметит, что мы раздельно топчемся здесь, он подумает, что я за ним слежу. А этим занят Фолько… Он уже здесь. — Где? — Возле газетного киоска. — Иди узнай что-нибудь в регистратуре. — Что? — Что хочешь! Поговори с портье и возвращайся с таким видом, будто у тебя важное сообщение для меня. Вольпоне видел, как Пьетро заговорил с портье, что-то уточнил, кивнул головой и направился к нему, подошел и с заговорщицким видом сказал: — Уже половина первого. — Иди за мной. Они пошли через холл. Рико Гатто сделал вывод, что отправились к кому-то на встречу. Рико горел желанием реабилитировать себя за провал с моргом. Габелотти рвал и метал, когда он не смог дать конкретных сведений относительно принадлежности ноги. Он видел, как Вольпоне и Беллинцона раздвинули портьеры за огромной колонной, у дальней стены холла, и исчезли за ними, он быстро направился в ту же сторону. Фолько Мори отошел от киоска и фланирующей походкой двинулся через холл. За портьерами находилась огромная стеклянная дверь, ведущая в банкетный зал. Зал был подготовлен к какому-то торжеству: столы украшали великолепные букеты цветов. В конце зала была установлена небольшая трибуна, на которой стояли графины с водой и стакан. Оратор, как и все остальные, придет позже. Зал был пуст. Рико Гатто заволновался: уж не упустил ли он Вольпоне в очередной раз? И вдруг его пронзила неожиданная мысль: если Итало намеренно улизнул, значит, он ТОЧНО знает, что за ним следят. Это открытие все меняло! Вольпоне пытается завлечь его в ловушку и убить! Рико провел ладонью под мышкой, где под пиджаком, в кобуре, находился пистолет. Затем, выхватив оружие, он, не таясь, громко ступая, направился к трибуне. Когда до нее оставалось пять шагов, он сделал два прыжка в сторону и присел. Никого… Он осторожно нажал на ручку двери, которую до сих пор скрывала трибуна. Щелкнул отошедший язычок замка, и Рико сильно ударил ногой в дверь. Перед ним был длинный пустой коридор. Медленно, прислушиваясь, он пошел по коридору и через двадцать метров увидел две двери. Осторожно открыл левую: глубоко вниз ухолила винтообразная лестница. Если Вольпоне ушел по ней, преследовать его бесполезно: он уже далеко. Но оставалась еще одна возможность… Он с тревогой посмотрел на дверь с правой стороны, на которой красными буквами было выведено: «Опасно». Сверху был намалеван классический черный устрашающий череп. Рико нажал на ручку, и дверь легко открылась. Он сделал шаг вперед и осмотрелся. Это было огромное машинное отделение, обеспечивающее жизнедеятельность гостиничного хозяйства. Искать Вольпоне здесь — зря терять время. Это был тупик, а Итало не такой тупой — Рико улыбнулся неожиданному каламбуру, — чтобы забраться в мышеловку. Он собрался уходить, когда слева от головы что-то просвистело и тут же раздался грохот выстрела. Падая, Рико трижды выстрелил в ту сторону. Откатившись за какой-то резервуар, он встал на колени и еще два раза нажал на курок. Неожиданно сильный, как удар молота, толчок в правое плечо заставил его разжать пальцы, и пистолет упал на пол. И в ту же секунду чьи-то руки схватили его за голову, и ему в лицо полетел металлический корпус резервуара. Он потерял сознание. Фолько Мори наклонился над Рико Гатто и вытащил из предплечья нож, вонзившийся по самую рукоятку. Он увидел, как Беллинцона бросился к Итало Вольпоне, который, с перепуганным лицом, пошатываясь, шел по узкому проходу. — Падроне, вы ранены! Итало покачал головой и хотел его оттолкнуть. Пьетро с ужасом увидел маленькое черное отверстие в пиджаке, прямо напротив сердца. Распахнув на Вольпоне пиджак, Беллинцона приготовился увидеть ужасную рану, но белая рубашка Итало была безукоризненно чистой. Ни капли крови! Итало не успел среагировать, как Пьетро запустил руку во внутренний карман пиджака. С ошеломленным видом он вытащил колоду из пятидесяти двух карт, с которой младший Вольпоне никогда не расставался. Пуля вошла черному тузу прямо в масть! Ему захотелось закричать о чуде, поблагодарить Бога, но он только сказал: — Надо же!.. — Кто это? — спросил Вольпоне у Мори и, без всяких комментариев забрав у Беллинцоны карты, положил их на прежнее место. Мори протянул ему паспорт типа, которого заливала кровь, хлеставшая из раненой руки. «ЭНРИКО ГАТТО. АГЕНТ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ. 256, ВАШИНГТОН-АВЕНЮ. МАЙАМИ». Мужчина открыл глаза. Он увидел три враждебных, склонившихся над ним лица и понял, что сейчас умрет. — Кто тебя послал? — спросил Вольпоне. Рико Гатто потянулся левой рукой к ране и крепко сжал губы. — Помогите, — сказал Итало. Через мгновение Рико уже стоял на ногах. Итало сделал знак Беллинцоне. — Не позволяйте ему орать! Пьетро зажал своей огромной ладонью рот Рико. Итало резко прижал его раненую руку к горячему корпусу резервуара. От невероятной боли глаза Рико вылезли из орбит. Напрасно он напряг мышцы, пытаясь выскользнуть из-под Вольпоне, который прижимал его с силой бетонной плиты. — Кто тебя послал? — повторил Вольпоне. Рико посмотрел на него сумасшедшими глазами и выдавил: — Габелотти! Вольпоне отвернул кран резервуара. Из него вырвалась белая струя обжигающего пара. Вольпоне двумя руками разжал челюсти Рико Гатто и толкнул его прямо на кран, который исчез во рту Рико. Его лицо покраснело, затем посинело и стало похожим на кусок отварной говядины. Когда Фолько и Беллинцона оторвали от него Вольпоне, он уже давно был мертв. — Дай твой нож, — сказал Итало. Фолько протянул ему нож. Итало наклонился над телом Рико Гатто, но его поза не позволяла Фолько и Беллинцоне видеть, что он делает. Несколько секунд он стоял к ним спиной, затем что-то завернул в носовой платок. — Смываемся? — обеспокоенно спросил Пьетро, посмотрев в сторону двери. — Секунду! — остановил его Итало. — Тащите его за мной… Беллинцона и Фолько равнодушно подняли тело Гатто. — Его паспорт у тебя? — спросил Вольпоне у Фолько. — Да. — Давай сюда! Они подошли к огромной, метра три в диаметре, крышке. Вольпоне сдвинул ее в сторону, открыв четырехугольное отверстие, из которого пахнуло жаром и зловонием. — Бросайте его! — приказал он. Фолько и Беллинцона подтащили труп Гатто к краю дыры и столкнули вниз. Вольпоне уложил крышку на место. — Именно это ему и нужно! Собаке собачья смерть, — произнес Итало надгробную речь. Пар, вырывавшийся из незакрытого крана, белесым туманом наполнял помещение. Они без осложнений вышли из отеля. Никто ничего не слышал. Возвратившись в свой отель, Вольпоне протянул Пьетро сто долларов и сказал: — Сходи и купи мне часы. — Какие часы? — Часы! И еще бумагу… сделать бандероль… — Понял, — ответил Беллинцона. Он уже достаточно хорошо изучил своего нового падроне, чтобы не задавать лишних вопросов.* * *
Шилин Клоппе тяжело вздохнула. Она знала об этом раньше из книг, рассказывающих о гонениях на евреев в разных странах Европы. Но тогда это были истории — трагические, жестокие, однако никак не связанные ни с нею, ни с ее семьей. Любые несчастья могли произойти с кем угодно, но только не с ними. И все-таки, Бог весть почему, иногда ее пощипывал страх, тот самый лютый страх, который, должно быть, испытывали жертвы бесчисленных погромов. Чтобы сдержать обещание, данное Ренате, она должна покинуть свой дом на сорок восемь часов. Никто, в том числе и она, не должен знать, что здесь будет происходить накануне праздничного вечера. Через час сюда придут люди, чтобы поставить все с ног на голову: переставят ее стулья «Луи XV», уберут ее любимое кресло, перевесят картины Писсарро, Ренуара, Мане. К ним можно добавить два полотна Ван Гога и одного Гогена. И за всем этим днем и ночью будет наблюдать недремлющий глаз охранников, нанятых по такому случаю. — Где же вы будете спать? — спросила Шилин их шефа. — Не волнуйтесь, миссис, нам не привыкать… На полу. В глубине души она боялась неаккуратности этих мужчин, боялась, что их запахом пропитаются стены гостиной, что они наследят обувью на персидском ковре, уложенном поверх голубого коврового покрытия. Но больше всего ее беспокоили причуды дочери… Свадьба Ренаты должна была стать какой-то неприличной и безумной вечеринкой. Чтобы не расстраиваться лишний раз, Шилин решила не возражать. От отца Рената унаследовала железную волю, и горе ждало того, кто попытался бы ее образумить. Чтобы успокоить мать, она с лукавым выражением просюсюкала: — Я ведь не прошу твои бриллианты! Освободи мне квартиру на двое суток, это и будет для меня свадебным подарком. Отравленный подарок, который грозил лишить их уважения всего города. Некоторые из приглашенных под разными благовидными предлогами уже отказывались прийти на свадьбу. Одни считают неприличным присутствовать на церемонии бракосочетания в три часа утра. Другие, наоборот, восторгаются: «Как оригинально! Наконец-то вы растормошите Цюрих! До чего пикантная идея!» В дверь позвонили. Она взяла чемодан и направилась к выходу. На пороге стояли двое здоровенных мужчин. — Здесь живут Клоппе? — Да… Краснощекий, вероятно, приняв ее за прислугу, — иначе как объяснить его фразу? — сказал: — Вы правильно делаете, что уезжаете. Скоро здесь начнется грандиозное бордельеро!* * *
Беллинцона, Баретто и Мори с интересом наблюдали, как Вольпоне перевязывает золотой ленточкой небольшой, аккуратно обернутый бежевой бумагой, пакет. Убедившись в надежности упаковки, Итало прилепил клеющуюся этикетку и написал на ней адрес получателя. — Фолько, отвезешь в аэропорт. Я хочу, чтобы бандеролька улетела в Нью-Йорк первым самолетом. Отдашь ее лично в руки, и в Нью-Йорке ее тоже должны передать лично в руки. Ясно? — Кому я передам? — спросил Фолько. — Я никого здесь не знаю… — Баретто! — Вольпоне посмотрел на Ландо. — Зайдешь в отдел по приему грузов, — сказал Ландо. — Спросишь Элизабет. Она все устроит. — Не из-за чего драть котенку хвост, — съязвил Итало. — Это сувенир… часы. Подарок… Я не собираюсь платить пошлину… — Падроне, — возразил Беллинцона, — но за часы стоимостью восемьдесят долларов пошлина не должна быть большой! — Заткнись! — рявкнул Вольпоне и посмотрел на Фолько. — Когда пакет улетит, зайдешь ко мне в номер. Есть разговор… Мори помрачнел. — Хорошо. Итало повернулся к Пьетро Беллинцоне. — Спустись в холл и купи мне две колоды по пятьдесят две карты. — Уже пошел. Дошла очередь и до Баретто. — Ты сейчас же пойдешь в агентство и снимешь квартиру или дом. Что-нибудь поприличнее… Оплатишь за шесть месяцев вперед. Можешь сказать, что это для дипломата, или что-то в этом роде… Мне плевать! Но сегодня ночью я должен спать там. Ты все еще не ушел? Наличные у тебя есть? — Немного… — Немного — это недостаточно. Возьми! Он сунул в руку Ландо толстую пачку денег. — Не пересчитывай — десять тысяч долларов! А теперь расскажи мне о своей шкуре. — Она все сделала. Все! — Рассказывай. — Я только что разговаривал с ней по телефону. Она позвонила ему. — Когда? — Он собирался как раз обедать… — Что она сказала ему? — Что хочет его видеть. — Обычно она его снимает? — Нет, встречи назначает Клоппе. — Ей удалось выведать у него завтрашний его распорядок дня? — Да. — Ты хорошо объяснил ей ситуацию? — Она все поняла. — Хорошо. Сваливай! Ландо заколебался, стоит ли задавать вопрос, который все это время вертелся у него на языке. — Что у тебя еще? — спросил Итало, заметив его нерешительность. — Вы сказали, на шесть месяцев, падроне? — А что? Здесь прекрасный воздух, разве нет? — Да, падроне! Итало обождал, когда за Ландо закрылась дверь, и вытащил из ящика комода портативную рулетку. Он решил поставить шесть раз подряд на «ноль» и бросил шарик… С его точки зрения, он уже достаточно примелькался в этом отеле. Лучше сменить адрес… Даже при самом плохом раскладе более трех дней в Цюрихе он не задержится. Принимая во внимание средства, которые он собирается применить против Хомера, чтобы сломить его сопротивление, этого срока ему вполне достаточно. Зачем он выбросил на ветер десять тысяч долларов за ненужное ему жилье? Итало нечаянно дотронулся рукой до кармана халата и почувствовал твердость колоды карт, спасшей ему жизнь. Он на лету подхватил шарик, не дав ему опуститься в лунку. Сняв трубку телефона, набрал номер своего дома в Нью-Йорке. В это время Фолько Мори, ехавший в своем «фольксвагене» в аэропорт, взял пакет и посмотрел на адрес получателя. Он вздрогнул, увидев написанную печатными буквами фамилию: ЭТТОРЕ ГАБЕЛОТТИ.* * *
Его слушали два десятка мужчин и две женщины. Конечно, его выступление нельзя было назвать безукоризненным. Любой старый член коллегии или синодального собрания мог прервать оратора по пункту, который казался ему спорным или требующим дополнительных доказательств. Один-два раза Клоппе уже вежливо поправили за ошибки, допущенные в названии дат. Но даже такая мелочь выбивала его сегодня из колеи. Впервые в жизни, когда речь шла о Цвингли, его мысли были далеко… И это несмотря на то, что место располагало к сосредоточенности и собранности. Небольшая группа людей собралась в библиотеке старого крита, примыкавшего к западному крылу собора. Сегодня мысли о Цвингли упорно перекрывались хриплым и чувственным голосом Инес. Он собирался обедать, когда она позвонила. Никогда раньше Инес не звонила ему ни домой, ни в банк. Он сам назначал время встреч. — Я хочу вас видеть… Он узнал ее голос. — Это невозможно… — Когда? — Я могу вам перезвонить… — И уже для Шилин, следившей за ним внимательными глазами, добавил, прикрыв ладонью микрофон: — На работу… — Чем вы заняты после полудня? — К сожалению, занят. В пятнадцать я иду в церковь Гроссмюнстер. — Мне вас не хватает… А завтра? Она никогда ему так не говорила: мне вас не хватает. — Весь день буду занят. — Я все время думаю о вас… Шилин не могла не заметить, как краска залила его лицо. — Утром деловые встречи, совещание, в шестнадцать часов иду к дантисту. — А потом? — Выдаю дочь замуж… Масса дел с этим… — Когда же? Послезавтра? Когда она говорила, ему казалось, что она поет блюз. — Нет! Нет! У моей дочери — свадьба! Это было лишним! Он никогда ни слова не говорил ей о своей семье. Идиот! — Жаль… Вы знаете, чем я занимаюсь, разговаривая с вами? — Нет… — Я ласкаю себя. Лежу совершенно голая в постели… раздвинув ножки… Его лицо побагровело. А Шилин в это время показывала глазами, что остывает жаркое. — Послушайте!.. Прошу извинить меня… Я обедаю. — Он понимал, что фраза звучит по-идиотски, но остановиться не мог. — А вы не обедаете? — Когда мастурбирую, нет… Жаль… Чао! Она бросила трубку, а он продолжал делать вид, что разговор не закончен. — Хорошо, дорогой друг. Начиная с двадцать седьмого… вы найдете меня в кабинете в любое удобное для вас время. Пожалуйста! До свидания! Как он ненавидел себя из-за этой лжи. — Тебе подогреть жаркое? — Нет, хорошо и так. — Он уткнулся носом в тарелку. — Кто это был? — Так, один клиент. — Ты плохо себя чувствуешь? — Наоборот. — Но ты такой красный! — Правда? У меня сегодня был трудный день… Сорок пять минут назад он присутствовал на телевизионном представлении победного появления Итало Вольпоне в «Трейд Цюрих бэнк». К сожалению, установить телекамеры в коридоре, на уровне лифта, оказалось технически невозможно. Но охранники в деталях рассказали ему, как был выдворен из банка американский гангстер. Клоппе чувствовал себя удовлетворенным… Его слушатели сидели спиной к двери библиотеки. Хомер находился к ней лицом. Он увидел, как дверь медленно открылась и в ее проеме возник фантастический силуэт Инес, казавшийся еще выше из-за длинного манто, доходившего ей до щиколоток. Банкир протер глаза и уставился на нее неподвижным взглядом. Этого не могло быть! Сон! Видение, которое сейчас исчезнет. Все головы одна за другой повернулись в сторону взгляда Клоппе. Раздались многозначительные покашливания, заскрипела кожа кресел от нетерпеливого движения тел, женщины презрительно поджали губы, и все посмотрели на Клоппе, словно ожидая от него совета, как себя вести в такой неслыханной ситуации. Ошарашенный Клоппе попытался сохранить лицо. Он встал и неузнаваемым голосом промямлил: — Прошу извинить меня… Эта дама… Я сейчас возвращусь… Продолжайте без меня… Она стояла в десяти метрах от него, улыбающаяся, величественная, нереальная, как кошмар. Он сделал три неуверенных шага к ней, но она остановила его властным движением руки. Не обращая внимания на присутствующих, она медленно распахнула манто, представ совершенно голой. Несмотря на бредовую ситуацию, Хомер не мог не восхититься шоколадным цветом ее кожи и черным, как ночь, густым треугольником ее лобка. Потрясенные, но не упускающие ни крошки из разыгрываемого перед ними спектакля, свидетели окаменели: даже в Евангелии не было описано существа подобного совершенства. Уверенно стоя на ногах, продолжая улыбаться и демонстрировать свое тело, Инес сказала: — Извините, Хомер… Мне казалось, что вы уже закончили дела со своими друзьями. Продолжайте. Я жду вас в нашей квартире… Она повернулась с величием королевы и дверь со скрипом закрылась. Видение исчезло! Кошмар остался! (обратно)ГЛАВА 12
Анджело Барба сидел, вжавшись в кресло, и, казалось, хотел слиться с ним, превратиться в невидимку. Когда Габелотти проходил рядом с ним, он чувствовал колебания воздуха, создаваемое его стодвадцатипятикилограммовой массой. Дон был в ярости. Он вышагивал по гостиной, бросая уничтожающие взгляды на своих советников. Кармино Кримелло и Карло Бадалетто неподвижно замерли в углу комнаты, пережидая бурю. Гнев еще больше обострил болезненное обжорство дона Этторе. Проходя мимо огромного блюда с сандвичами, он рассеянным движением брал очередной кусок хлеба с маслом и колбасой и целиком отправлял в рот. Час тому назад Филипп Диего сообщил ему о своем провале. Дон Этторе смешал его с землей, обвинив в несостоятельности и отсутствии дипломатии. — Почему бы вам самому не позвонить Клоппе и не отдать ему распоряжение напрямую? — с холодком в голосе порекомендовал уязвленный Диего. — Это совет? — Нет. Некоторые вещи лучше не делать по телефону. — Что дальше? У вас не хватает мозгов на что-то решиться? Им одновременно пришла в голову одна и та же мысль, но ни один даже намеком не выдал себя. Габелотти — потому что никому не доверял, даже такому серьезному своему адвокату, как Диего. А если Вольпоне готовит ему такую же участь, как и Мортимеру О’Бройну? Филипп Диего — из-за боязни проглотить отказ Габелотти. Находясь на месте, он мог бы легко перевести деньги, если бы Габелотти доверил ему номер счета и если, конечно, Вольпоне еще не умыкнул два миллиарда долларов на свой счет. — Почему бы вам не дать письменное распоряжение? — Глупо. Диего знал это. Утечка капиталов и уклонение от налогов приводили американское правительство в бешенство. Вся корреспонденция, адресованная в Швейцарию или другой безналоговый рай, автоматически становилась подозрительной и опасной для отправителя: почта перлюстрировалась, письма терялись… — Жаль, что вы не можете прилететь сюда, — вздохнув, сказал адвокат. Неудачное пожелание: Габелотти с бранью бросил трубку. В очередной раз страх перед самолетом мешает ему оказаться на месте событий. Но лететь было выше его сил! Логически это выглядело глупо, но все фибры его души кричали, что он умрет еще до взлета, как только закроется люк самолета. Это был тупик! Он не мог ни письменно, ни по телефону, ни кому бы то ни было доверить номер счета, который сообщил ему О’Бройн. И, естественно, не мог собственной персоной оказаться в Цюрихе. Путешествие в Европу морем займет пять суток, в течение которых деньги смогут сто раз изменить свое местонахождение. Не в силах больше оставаться в неведении, Габелотти решился пойти на риск: позвонить Клоппе и сообщить ему комбинацию цифр и пароль. К сожалению, когда он дозвонился до «Трейд Цюрих бэнк» в Нью-Йорке было девять утра. В Швейцарии часы показывали три часа дня, и именно в эту минуту Клоппе входил в Гроссмюнстер. — Когда он возвратится? — Не раньше завтрашнего утра, сэр. — Не могли бы вы дать номер телефона, по которому я могу его найти? — Нет, сэр. Если желаете, я могу вас соединить с заместителем директора, мистером Гарнхаймом. Габелотти резко положил трубку. Он схватил с блюда два последних сандвича и, почти не жуя, проглотил их. — Почему же не звонит Рико Гатто? — с горечью в голосе воскликнул Кримелло. Этторе недоуменно пожал плечами. — Послушайте, дон Этторе, мне кажется, что из виду упущено главное, — заговорил Барба. — Я понимаю ваши опасения и разделяю их. Но есть одна вещь, которая должна вселить в нас надежду: Малыш Вольпоне все еще находится в Швейцарии, не так ли? Оставался бы он там, сумей заполучить деньги? — В этом я чувствую какой-то подвох! — громыхнул Габелотти. — Я не верю ни одному слову, сказанному Юдельманом! Нас пытаются одурачить! — Когда должен прийти Моше? — Я жду его! Если придет без новостей, мы круто возьмемся за это мерзкое племя…* * *
Луи Филиппон внимательнейшим взглядом осмотрел каждого из десяти мужчин, которым предстояло отправиться в поездку. Смотр проходил во внутреннем дворике ресторана «Бон Бек», который был его гордостью. Аттестованный тремя звездочками десять лет тому назад, «Бон Бек» воплощал в себе все достоинства французской кухни. Из маленького ресторанчика, одиноко стоявшего на берегу Дюранс, «Бон Бек» с течением лет превратился в престижное заведение. Сегодня ни одна важная персона, направляющаяся на Ривьеру, не преминет свернуть с автострады на усыпанную мелким гравием дорожку, ведущую к «Бон Беку». Жинетт и Луи Филиппон начали восьмую «Золотую книгу» для благодарственных записей посетителей, в которых отмечались высочайшее качество блюд, безукоризненное обслуживание, утонченные вина и горячий прием. В парижских салонах стало хорошим тоном иметь среди гостей кулинарную знаменитость — Луи Филиппона. Один раз в году, с половины октября и до конца ноября, супружеская пара Филиппонов уезжала на отдых. Положение обязывало, и Луи Филиппон проводил отпуск в экзотических местах: охотился в Кении, рыбачил на Бермудах, отстреливал медведей в Польше. Жинетт Филиппон одевалась в платья от Сен-Лорана, Луи заказывал себе костюмы в Риме или на берегах Темзы. В гараже стояли «бентли» и «феррари». Обычно Луи Филиппон не демонстрировал свои таланты, выезжая за пределы «Бон Бека». Весь мир съезжался к нему, умоляя выделить столик. Но в этот раз он отступил от своего принципа только лишь из-за дружеского отношения к Хомеру Клоппе, который, однажды побывав у него, «вручил» ему ключи от «золотой швейцарской клиентуры». — Жан! — Да, метр! — Что это у тебя вокруг шеи? Поваренок густо покраснел. — Галстук… — А я вижу шнурок от ботинок! Хочешь опозориться в Швейцарии? Что касается остальных, — он окинул всех властным взглядом, — прошу не забывать об исключительности нашей миссии. Не буду объяснять вам, что мы являемся послами французской кухни. В Швейцарии мы должны показать, что могут сделать одаренные люди из обычных продуктов! И никаких заявлений местной прессе!.. Я верю в вас! А теперь — в путь! Он поцеловал Жинетт, усадил свою бригаду в микроавтобус, лично закрыв дверцу за последним поваренком, сам сел в «феррари», и машины взяли курс на аэропорт Мариньон. В аэропорту их ждал специальный самолет, заказанный Ренатой.* * *
Они выехали на Аурораштрассе, проколесив добрых тридцать минут по узким улочкам и переулкам. — Ну и дыру же ты нашел! — недовольно буркнул Вольпоне. — А разве это вас не устраивает? — выгнув грудь колесом, довольно спросил Ландо. Вдоль обеих сторон улицы тянулись великолепные виллы, укрытые высокими стенами. — Эту улицу еще называют улицей банкиров, — уточнил Ландо. — Почему? Баретто сделал широкий многозначительный жест рукой, словно приглашая оценить аккуратные лужайки, расцвеченные яркими красками цветов, которые просматривались сквозь черные кованые решетки ворот, изысканную архитектуру строений и покой, царивший вокруг. Было четыре часа дня. Погода стояла теплая, и, несмотря на боль в висках, Вольпоне с наслаждением вдыхал свежий аромат весны. — Денег хватило? — Тысяча осталась. Я заплатил девять тысяч, но не за шесть месяцев, а за три… Он искоса посмотрел на Итало: разозлится тот или нет. — Вы еще не разучились надувать другдруга здесь, в Цюрихе, — расхохотался Итало. Ландо облегченно вздохнул и мягко нажал на акселератор «Бьюти гоуст Р9». Вот это машина! Ему еще не удавалось выжать из нее все возможное, но он дал себе слово испытать ее на пределе, как только закончится эта история. Выедет на автостраду, а там — педаль акселератора в пол… Он с грустью вспомнил дона Дженцо, сделавшего ему такой королевский подарок. Итало был другим человеком: жестокий и бессердечный, он повергал людей в ужас своими свирепыми непредсказуемыми выходками. Когда Ландо рассказал о том, что Инес выполнила задание, ему показалось, что он прочел в глазах Вольпоне немую благодарность. Итало заставил его дважды пересказать всю историю, попросив не упустить ни малейшей детали. — Какое выражение морды было у этого подонка, когда она показала ему свою «щетку»? — У него глаза полезли на лоб… — А остальные? — Полный нокаут! Итало удовлетворенно покачал головой. Конечно, Ландо мог и приукрасить… Он ведь не присутствовал на этом спектакле. А Инес, когда он начал задавать ей вопросы, коротко отрезала: — Я сделала все, что ты просил. Оставь меня в покое! Он вынужден был поверить ей на слово. — Это здесь, патрон! Итало направил «Р9» в створ бронзовый ворот, которые оставил открытыми, когда приезжал смотреть дом с женщиной из агентства. Ему с превеликим трудом удалось отделаться от нее, заставив себя сыграть непривычную роль джентльмена. Она хотела, чтобы он убедился в том, что список серебряных предметов составлен точно, пересчитав при нем каждую вилку и каждый нож; что в сортире сливной бачок функционирует исправно; что все лампочки в люстрах вкручены и горят; что… И при этом она повторяла с упрямством попугая: — Сожалею, что отнимаю у вас время, но мисс Дэвис — очень щепетильный человек. С натянутыми до предела нервами, Ландо был вынужден слушать ее чириканье в течение нескончаемо долгих тридцати минут. Трехэтажная вилла имела вид небольшого замка. Белый фасад. Белые ставни. — Сейчас я вам все покажу, — сказал Ландо. Пока он шарил по карманам в поисках ключа, Итало посмотрел в сторону парка. Трава была такого же цвета, как и сукно стола рулетки. Он вспомнил Анджелу: вот место, которое ей бы понравилось! Она часто ему говорила, что для счастья ей достаточно клумбы с цветами, нескольких деревьев и много свободного времени. — А я? Для меня есть место в твоей программе? Вместо ответа она улыбнулась, прижалась к нему всем телом и поцеловала в мочку уха. Как только он разгребет все это дерьмо, он обязательно свозит ее на Сицилию. — Прошу! — торжественным голосом сказал Ландо. Вольпоне вошел в холл, украшенный светильниками и многочисленными картинами, на которые никто никогда не обращает внимания: портреты предков в боевых доспехах или грандиозные батальные сцены. Анджела как-то пообещала ему, что объяснит, в чем заключается прелесть этих заплесневелых «бутербродов». Он открыл дверь и вошел в огромную гостиную, окна которой выходили на лужайку. — Сколько комнат? — Точно не помню, — ответил Ландо, — тринадцать или четырнадцать… Вольпоне нахмурился. — Тринадцать? — Может, больше, может, меньше… — Пересчитай и возвращайся! Телефон работает? — Да. — Где он? Ландо показал ему на старинный низкий столик. — Второй аппарат находится в вашей спальне. — В моей спальне? Ты уже успел выбрать? — Самая красивая, — искренне сказал Ландо. Небрежным жестом руки Итало спровадил его. Баретто, конечно, проявлял себя послушным и полезным, но был сутенером, что очень не нравилось Итало. По неясным причинам у Малыша Вольпоне сутенеры вызывали тошноту, несмотря на то что проституция была одной из статей дохода «семьи» Вольпоне. Но там она была поставлена на поток, казалась чем-то абстрактным, где женщин, как скот, считали по количеству голов. Что бы там ни было, но именно благодаря негритянке Ландо Хомер Клоппе потерял свое лицо и самое для себя важное: уважение в обществе. И это было только начало. Вольпоне продумал трехэтажную комбинацию, чтобы сломить сопротивление банкира: вначале — уважение; затем — его личность и наконец — его семья. Итало с грустью посмотрел на телефон. Он собирался сообщить Юдельману то, что до сих пор скрывал: весть о смерти О’Бройна. Моше неоднократно сглаживал углы разногласий Итало и Дженцо, всегда приводил их к примирению. Советник испытывал к Вольпоне-младшему почти отцовские чувства, и Итало знал это. По этой причине он терпел от него то, за что другим никогда бы не сносить головы. Итало неохотно набрал номер Юдельмана, и почти тут же в Нью-Йорке сняли трубку. — Это я! — сказал Итало. — Господи! — пронзительно вскрикнул Моше. — Я уже несколько часов не могу до тебя дозвониться. Ты где? — Все там же. — Оставь все, Итало! Оставь! Дела плохи, очень плохи! Возвращайся! — Это все, что ты можешь мне сказать? — Послушай, Итало, мне страшно! Мы уже достаточно накуролесили! Еще один шаг — и все рухнет! За тобой следят! — Уже нет. Все улажено. — Улажено? — Я же тебе сказал — все в порядке! — взорвался Вольпоне. — Тебе ясно или нет? — Ты звонишь из отеля? — с подозрением в голосе спросил Моше. — Нет, можешь говорить все. Никого нет. — Габелотти сошел с ума. Он говорит, что мы собираемся его надуть. — И ты позволяешь себя одурачить этому хряку? — Этот хряк скоро нас перестреляет. Всех! — Неужели? — хохотнул Вольпоне. — Он уже не соображает, что говорит! Он думает, что ты прикажешь прикончить О’Бройна. — Ошибается. — Я знаю, но это ничего не меняет. Итало глубоко вздохнул и спокойно сказал: — Мне незачем приказывать убивать этого подонка! Я прикончил его собственными руками. В трубке установилась долгая, томительная пауза. Затем раздался возбужденный до крайности голос Моше: — Ты безумец!.. Безумец! — Произошел несчастный случай… Я допрашивал его, а он плевать на меня хотел. — О нет! — застонал Юдельман. — Только не это! Ты ничего не понял!.. — Ты меня утомляешь! — Теперь Габелотти может сделать с нами все, что угодно! Комиссьоне его оправдает! — Тупица! — побагровел Вольпоне. — Сходи лучше к Габелотти и спроси у него, что делал О’Бройн в банке, когда его прихватили. Давай! Что ты мне на это скажешь? — Итало, я виделся с Габелотти! Я уже не понимаю, что происходит… — А я понимаю! Эта сволочь убила моего брата, чтобы спереть наши деньги! А теперь, после того как ты ходил к нему, он может подумать, что его оставили в покое, и будет еще долго плевать мне в лицо. — Итало! — Закрой глотку! Если вы с ним такие друзья-приятели, пусть он объяснит тебе, с какой целью он направил О’Бройна к Клоппе? — Итало! А если О’Бройн действовал самостоятельно? — Несчастный! — скрипнул зубами Вольпоне. — Это же не кино! — Ты забываешь одну вещь: Габелотти с первого дня знает номер счета! Ему достаточно сказать одно слово! — Кто тебе сказал, что он это не сделал? — взревел Вольпоне. — Почему, как ты думаешь, он направил вместо себя это дерьмо О’Бройна? Ну?.. Объясни мне! — Итало, я хочу говорить с тобой откровенно… Не знаю, с чего начать… В этой истории есть много темных пятен. Мы можем многое испортить и тогда… все потеряем. — Только не я! Мой брат мертв, а его деньги, возможно, украдены! Мне нечего больше терять… больше нечего! — Дай мне еще одну возможность… — Не лезь больше в это дело! — Возвращайся в Нью-Йорк! Объяснимся с доном Этторе! Выложим ему все карты!.. — Я удивляюсь, как долго мог тебя терпеть Дженцо! Ты же конченый мудак! — Тогда я пойду один, — решительно сказал Моше. — В интересах «семьи». — «Семья» — это я! — зарычал Вольпоне. — Итало, прошу тебя в последний раз: возвращайся в Нью-Йорк! — Плевать я на тебя хотел! — Они убьют тебя! — тихим, холодным тоном сказал Моше. — Но я не позволю тебе подвергать опасности жизнь Франчески, ее детей, жизнь Анджелы… У Итало широко распахнулись глаза. — Анджела? — охрипшим голосом спросил он. — Если ты в ближайшие часы не возвратишься в Нью-Йорк, пусть нас хранит Бог! — сказал Моше Юдельман и положил трубку. На какое-то мгновение мозг Итало парализовала волна адреналина… Моше был прав! Анджела!.. Нужно сейчас же предупредить ее, чтобы она немедленно уехала из города.* * *
— Сдохнуть можно, — прыснула со смеху Рената. — Им придется лечь на спину, чтобы почувствовать, что они стоят на ногах! — Восхитительно! — согласился Курт. — Даже трезвые будут чувствовать себя пьяными. Они лежали на полу в помещении, которое еще два часа назад представляло собой традиционно богатую гостиную преуспевающего цюрихского буржуа. Но сейчас Шилин не узнала бы свой зал приемов. Рабочие начали с того, что перевесили все картины наоборот. — Посмотрите! — восторженно воскликнул Освальд Хепброер. — Шедевр в любом положении остается шедевром, даже если висит вверх тормашками! В Цюрихе Освальд считался непререкаемым авторитетом в области дизайна. В 1968 году он закончил Школу изящных искусств, затем взял приступом Сорбонну… Проповедуя конформизм, он с энтузиазмом отнесся к идее Ренаты Клоппе: свадьба «наоборот». Три недели не покладая рук он работал над проектом. Теперь его воплощали в реальность. Рабочие выклеили потолок обоями, на которые был нанесен рисунок пола. Для большей достоверности к нему подцепили настоящие стулья сиденьями вниз… — А нельзя ли присобачить к потолку хотя бы одно кресло в стиле Луи XV? — спросила Рената, озорно блеснув глазами. — Слишком тяжелое, — задумчиво произнес Освальд. — А вот этот небольшой столик, пожалуй, можно… Поль! Стол на потолок! — Понял!.. Понял!.. — Почему бы не добавить немного мусора? — подал голос Курт, который не хотел оставаться в стороне от абсурдной затеи. — Банально… — ответил Освальд. — Слишком примитивно. Мусор надо использовать осторожно. Его и так повсюду предостаточно. Это утомляет… — Освальд! — вмешалась Рената. — Одежда! Как будто кто-то оставил одежду на полу… — Не стоит мелочиться… Сначала — главное направление! Детали придут позднее, сами собой. Нет, вы только посмотрите на вашего Писсарро! Небо внизу… Это фантастика! Они пришли в десять. Чтобы не слишком волновать своих родителей, Рената попросила закончить весь тарарам как можно быстрее. — Полная свобода действий, — сказала она Освальду. — Приглашаешь всех необходимых тебе людей, и работаете ровно сутки, день и ночь. После праздника сразу же быстро все приводите в порядок. Хепброер, который ни перед чем не пасовал, особенно перед солидным денежным чеком, не задумываясь, согласился. О предстоящей свадьбе писали все газеты. А так как у него было немало друзей в местных редакциях, это событие обеспечивало ему невероятную личную рекламу. — А это? Это разве не прекрасно? — спрашивал он, показывая на всевозможные бутылки спиртного, приклеенные к поверхности стола, прикрепленного к потолку с помощью крючков за ножки. — Добавьте на стол букет цветов… Осторожно наверху! Вес должен равномерно распределяться по всей поверхности стола. Он посмотрел на жениха и невесту и заговорщицки подмигнул им. — Ну как, ребята? Какая работа! Какое мастерство! О вашей свадьбе никогда не перестанут говорить! Курт взял Ренату за руку. По мере того как их безумная идея становилась реальностью, им начинало овладевать восхищение, хотя в глубине души, души мелкого буржуа, он еще сопротивлялся этой нелогичности. Но машина была запущена. Было слишком поздно делать вид, что происходящее раздражает его. Чтобы как-то принять участие в творимом бедламе, он спросил: — Освальд, когда начнешь клеить потолок на пол? — Позже, позже!.. Дети мои, мне не хотелось бы вас выдворять отсюда, но мне необходимо активизировать работу! Разрешаю вам заходить сюда каждые два часа… Посмотрите, как продвигается дело. К этому времени я как раз сделаю из пола потолок. Почувствовав прикосновение руки Курта, Рената бессознательно оттолкнула ее. С ней происходило что-то такое, что было неподвластно ее воле. — Ты идешь? — Пошли, — ответил Курт. — Рената, — окликнул ее Освальд Хепброер, — ты все прекрасно придумала, но я приготовил тебе несколько сюрпризов. Увидите, дети!.. Увидите!..* * *
Моше Юдельман входил в кабинет дона Этторе с чувством, с каким входят в камеру пыток. Кармино Кримелло, Анджело Барба и Карло Бадалетто молча смотрели на него, не скрывая враждебного отношения. Моше сделал два кивка в сторону Габелотти и твердым голосом спросил: — Дон Этторе, я могу поговорить с вами наедине? — Выйдите, — сказал Габелотти, указав рукой на дверь. — Одну секунду, патрон, — сказал Бадалетто. Он быстро ощупал одежду Юдельмана, который стоял, не шевелясь, с презрительной усмешкой на губах. — Вон! — повторил дон Этторе, пожав плечами. Когда за Карло закрылась дверь, Габелотти исподлобья посмотрел на Моше. — Слушаю тебя. Направляясь на встречу с доном после безрезультатного разговора с Вольпоне, Моше надеялся, что его появление послужит проявлением доброй воли, и в первую очередь в отношении его самого. Но если он не понял игру Габелотти, если Итало оказался прав, тем хуже для него: живым ему отсюда не выйти. — Дон Этторе, — начал он. — Вы просили меня вернуться — и я здесь. По своей доброй воле. Я верю в вашу справедливость и ваше благоразумие. Я не принадлежу к вашей «семье» — но все мы — дети одной «семьи», Синдиката. Мы достаточно поработали, как одни, так и другие, чтобы пыль беспричинно не покрыла наши следы. Габелотти внимательно слушал его, хрустя фисташками. То, что Юдельман не побоялся возвратиться, было хорошим признаком. После многочисленных бесплодных попыток его людям удалось заполучить номер телефона Хомера Клоппе. Женский голос ответил, что банкира нет дома, и попросил его назвать себя. Когда Габелотти отказался, трубку положили. Теперь ему оставалось ждать и молиться, чтобы Вольпоне не снял деньги со счета. И если Юдельман здесь, значит, это не что иное, как то, что Итало еще не добрался до денег. — Откровенно говоря, и я хочу, чтобы вы это знали, я пришел к вам вопреки желанию Вольпоне. — Ты говорил с ним? — спросил Этторе, не скрывая жадного выражения заинтересованности на лице. — Да. — Он в Цюрихе? — Да. Габелотти забросил в рот полную пригоршню фисташек и протянул Юдельману коробку. Кивком головы Моше поблагодарил его. — Он объяснил тебе, чем там занимается? — Убили его брата, — тихо сказал Юдельман. — Он сам тебе сказал? — Позвольте, дон Этторе… Эта история засунула нас всех в дерьмо. Каждый из нас боится произнести слова, которые не соответствуют мыслям, слова, вызванные гневом. Совсем недавно вы выдвинули против Итало очень серьезные обвинения. Я не согласен с ними. Но и Итало, со своей стороны, обвиняет вас. Я тем более не согласен с ним. Все, чего я хочу, — это восстановить истину и покончить с претензиями. — Твой дон мертв! От чьего имени ты говоришь? — От своего собственного, от имени разума и во благо нашего общего интереса. Я как-то уже говорил, что после смерти дона Дженцо его младший брат взял на себя временно полномочия главы «семьи». — Итало — человек безответственный! — Нет, дон Этторе, Итало — просто человек, которому до сих пор не представлялась возможность проявить ответственность. К несчастью, у Итало большой траур. Он импульсивен, упрям… Он уверен, что О’Бройн решил действовать за вашей спиной ради собственной выгоды. Моше выдержал змеиный взгляд Габелотти, несмотря на холодный пот, стекавший у него вдоль позвоночника. Если только этот гигант узнает, что Мортимера О’Бройна нет в живых, что Итало Вольпоне убил его собственными руками, начнется безжалостная война до последнего человека. Тогда первым будет он — Моше Юдельман. — Это тоже твое мнение? — спросил Габелотти абсолютно безразличным тоном. — У всех людей есть свои слабости, дон Этторе. Даже Мортимер О’Бройн не является исключением из этого правила. Итало считает, что смерть его брата не случайна… — Я в этом уверен! — голосом, полным понимания, воскликнул Этторе. — Ты хочешь знать, что я обо всем этом думаю? Так как передо мной нет живого и невредимого О’Бройна, который мог бы это сказать, никто не заставит меня проглотить эту наживку — его измену. Слишком удобно все сваливать с больной головы на здоровую, когда нет человека, который мог бы защитить себя! Слишком легко! И не надо быть слишком прозорливым, чтобы понять, кто все это сочиняет! Итало Вольпоне! — Есть радикальный способ поставить все на свои места, дон Этторе. И одновременно выйти из тупика. Три человека знали номер счета: дон Дженцо, О’Бройн и вы. Вам достаточно позвонить в Цюрих, чтобы навести порядок. — Если я не сделал этого до сих пор, то лишь потому, — врал Габелотти, — что уважаю своего друга Дженцо! Мы были вместе. — Если Малыш Вольпоне совершил ошибку, появившись в банке и не предупредив вас, — врал в свою очередь Моше Юдельман, — так это потому, что смерть брата склонила его к мысли, что О’Бройн готовился затеять за вашей спиной грязную игру. А теперь я очень прошу вас позвонить в Цюрих и дать приказ о переводе денег. Габелотти решил подыграть. Он посмотрел на часы. — Уже поздно. В Европе восемнадцать часов. Банк закрыт. — Тогда завтра, дон Этторе, с самого открытия. Мы полностью доверяем вам! Габелотти задумался. — Кстати, ты знаешь, как позвонить Вольпоне? — Конечно! Этторе быстро придвинул к нему аппарат. — Позвони ему. Я хочу поговорить с ним. — Хорошо, — сказал Моше. Скрывая досаду, он снял телефонную трубку. До этого момента он надеялся, что достаточно тонко ведет игру, чтобы избежать конфликта, высвободить два миллиарда и сохранить человеческие жизни. Он поставил себя между двумя бочками с порохом: если они столкнутся, произойдет взрыв. И снова по спине потек гадкий, холодный пот. Моше по-дружески улыбнулся Габелотти, который сидел, впившись в него глазами. — Отель «Сордис»? Соедините меня с номером Вольпоне. — Ждите. К своему удивлению, он услышал, как голос, ответивший ему в Цюрихе, заполнил комнату: Габелотти включил усилитель. Моше мысленно произнес молитву, чтобы Итало не оказалось на месте. — Номер мистера Вольпоне не отвечает. — Соедините меня с портье. Портье подошел к телефону. — Слушаю вас, сэр. — Ключ от номера мистера Вольпоне на доске? — Мистер Вольпоне уехал из нашего отеля, сэр. — Что вы сказали? — Часа два тому назад мистер Вольпоне оплатил счет… В отеле его нет. У Юдельмана было ощущение, что он растворяется. — Он оставил какую-нибудь записку? — Никакой, сэр. Моше положил трубку, не смея поднять глаза на дона Этторе. Все ясно, Итало потерял над собой контроль и готов наделать новых ошибок. Умирают всего лишь раз… Моше неопределенно пожал плечами. — Ну вот, дон Этторе, теперь вы знаете столько же, сколько и я… Он чуть не сказал, что умолял Итало вернуться в Нью-Йорк, бросить все и подождать, пока он уладит дела. Вдруг он почувствовал, как усталость сковала его тело. — Возможно, он на пути в Нью-Йорк, — неуверенно сказал Моше. — Может, он скоро позвонит мне? Юдельман медленно встал. — Куда собрался? — спросил Габелотти. — Домой. Я свяжусь с вами, как только он даст о себе знать. — Моше, — сердечно произнес Габелотти, — у тебя убитый вид… — Он обошел письменный стол и положил на плечо Юдельмана руку, толстую, как батон ветчины. — Я хотел бы, чтобы ты воспользовался моим гостеприимством… И еще — ты можешь мне понадобиться, когда я буду звонить в банк. Кроме того, мы же с тобой еще и компаньоны. Отдохни… Симеон проводит тебя в спальню. Симеон! Симеон Ферро появился в ту же секунду, словно стоял за дверью, прижавшись к ней ухом. — Слушаю, падроне! — Я хочу, чтобы ты проводил моего компаньона Юдельмана в гостевую спальню. Посмотри, чтобы всего было в достатке. — Будет исполнено, падроне. У Моше сжалось сердце, но он сумел выдавить на лице жалкую улыбку. — Вы правы, дон Этторе. Я должен отдохнуть. Искренне благодарю вас за гостеприимство. — Твое согласие — большая честь для меня, — ответил Габелотти. Как только закрылась дверь за Моше и Симеоном Ферро, он нажал на кнопку интерфона и резким тоном приказал: — Взять Анджелу Вольпоне! (обратно)ГЛАВА 13
Двое сидевших негров ничем, кроме приятной внешности, не привлекали к себе внимания. Кожа одного из них была светлее, и он был одет с той небрежной элегантностью, которая присуща студентам американских университетов: джинсы, бело-голубые кроссовки и просторная футболка с огромными цифрами «11». Второй был в тонком свитере, твидовом пиджаке, фланелевых, горчичного цвета брюках и темно-коричневых туфлях. Они были родными братьями, имели право на титул принца и являлись прямыми наследниками короля Кибондо. Первый, Амаду Гезе, больше известный в Соединенных Штатах под кличкой Рокки, был одним из пяти самых высокооплачиваемых баскетболистов мира. Куаку Туаме, младше его на год, уже три недели находился в Париже по приглашению Комитета по атомным исследованиям. Несмотря на свои двадцать два года, Куаку, занимаясь проблемой изучения ускорения частиц, считался одной из самых серьезных надежд в области атомной физики. Рокки и Куаку имели еще шесть братьев. Рост самого высокого равнялся двум метрам двадцати восьми сантиметрам, самого маленького — ста трем сантиметрам. В семье его любовно называли гномом. Куаку и Рокки занимали место в золотой середине: 216 сантиметров — первый, 220 — второй. В Бужумбуре, где они родились, этот рост считался нормальным. Рокки прикладывал немалые усилия, чтобы увлечь своего брата игрой в баскетбол, где его физические данные в короткое время позволили бы ему заработать большие деньги. Но Куаку не проявлял интереса к деньгам. Ему нравилось заниматься фундаментальными исследованиями. Чтобы размять мышцы, он появлялся иногда на стадионе и показывал такие результаты в спринте, прыжках и метании, что краснели даже профессиональные атлеты. Рокки позвонил ему из Нью-Йорка. — Через восемь часов я буду в Париже. Освободись от всех дел. — На какое время? — На один-два дня. — Куда отправимся? — В Цюрих. Все объясню. Семейное дело. Когда кто-то из Кибондо произносил священное слово «семья», все вопросы отпадали. Оскорбление одного из них считалось оскорблением всего племени. Все братья вышли в люди: пятеро учились в университетах, двое стали профессиональными спортсменами, и только один Манго оказался «домашним ребенком» и остался дома, рядом с королем. Инес была единственной сестрой, и братья обожали ее. Она много путешествовала по Европе, какое-то время жила в Риме, Лондоне, Париже, снимаясь в качестве фотомодели в престижных журналах мод. — Что с ней случилось? — спросил Куаку у Рокки. — Какой-то тип в Цюрихе неуважительно с ней обошелся. Несмотря на то что каждый из них принадлежал к элите в своей области деятельности, был вхож в самые «узкие» круги, слово «неуважительно», имеющее отношение к члену их семьи, мгновенно срывало с них социальный лоск. Пробуждался зов предков племени Кибондо — отомстить! Чтобы их сестра стала жертвой!.. Это было немыслимо! — Не физически же над ней надругались? — обеспокоенно спросил Куаку. — Она ничего об этом не сказала. Просто попросила прийти ей на помощь. Я подумал, что тебе доставит удовольствие выручить сестренку из неприятностей. — Спасибо, — простодушно поблагодарил Куаку. — Думаю, разыскать обидчика больших трудов не составит. — Насколько я понял, их несколько. Я однажды был в Цюрихе — крошечный городишко. Если они не сорвались с места, справедливость восстановим быстро… Когда самолет коснулся колесами посадочной полосы и они встали, чтобы взять свои дорожные сумки из багажного отделения, все пассажиры с откровенным удивлением и восхищением уставились на них. В ту же минуту на взлетно-посадочную полосу № 8 приземлился самолет Марсель — Цюрих, на котором прибыли Луи Филиппон и его кулинарная бригада в полном составе.* * *
Анджела Вольпоне осуждала свое вчерашнее поведение. Вместо того чтобы поддержать свою родственницу в тяжелую для той минуту, она быстро ушла домой, оставив ее наедине со своим горем. После шести месяцев замужества она вдруг поняла, что никогда не станет «своей» в семье Вольпоне. Ее независимое прошлое, учеба в университете, ее вкусы и образ жизни стояли непреодолимой преградой между ней и обычаями клана, где женщине была уготована роль бессловесного наблюдателя. Так жили все сицилийские семьи с незапамятных времен! Но Анджела не была сицилийкой. Вкус постоянного страха и беды был ей непривычен. С ней просто случилась ужасная вещь: она до безумия влюбилась в мужчину, который отгородил от нее собой весь внешний мир. Когда Итало вошел в библиотеку в Лондоне, она испытала какое-то острое животное чувство, мгновенно пронзившее ее, как удар ножом. — Какую книгу вы ищете? — Существует ли учебник, в котором написано, как избавиться от двух сволочных особ? Она никогда не забудет эти две фразы, связавшие воедино их судьбы. Вечером он заехал за ней в библиотеку. Ей было двадцать три года, и она была девственницей. Но это ее не печалило и не тревожило. Она знала, что некоторые ее университетские подружки начали заниматься любовью с тринадцатилетнего возраста. Когда она принимала приглашение от парня ее возраста прийти на свидание, дело никогда далеко не заходило… Отец обычно не давал ей никаких советов по этому поводу, а мать тем более. О таких вещах в семье не говорили. Анджела была красива: огромные серые глаза, черные как смоль волосы, сочные и нежные губы, изумительно правильный овал лица. И, само собой разумеется, она не испытывала недостатка в льстивых комплиментах. Но в противоположность своим сверстницам она считала, что физической любви должен предшествовать какой-то «внутренний взрыв». Весенними вечерами она чувствовала, как в ней закипает желание отдать все, что в ней накопилось. И тогда ее посещали сомнения: уж не обделяет ли она самое себя, лишая свое тело чего-то очень значительного, приятного и нежного… Итало привез ее в очаровательный итальянский ресторанчик, затерянный в тихом квартале Эдгуар. Загипнотизированная невероятно волнующим взглядом его абсолютно черных глаз, их глубиной и живостью, она наблюдала, как он ест, не в силах проглотить ни крошки. — Вы не голодны? — Нет… — Вы даже не притронулись к еде. Сколько вам лет? — Двадцать три. Он рассмеялся, не переставая жевать спагетти. — Двадцать три? Правда? — Почему вы смеетесь? В этом есть что-то смешное? Она настолько была уверена, что проведет ночь с ним, что даже взяла с собой зубную щетку. Сегодня ночью будет ОН! Только ОН! Она так давно этого ждала! — Вы американец? — По паспорту, а по крови — сицилиец. — Вам удалось избавиться от своих преследователей? — Да. Что хотите на десерт? — Кофе. Они вышли из ресторанчика, когда уже горели уличные фонари. Он предупредительно открыл перед ней дверцу машины, сел за руль и закурил. — Чем бы вам хотелось заняться? — Когда? — Сейчас. Она ответила без колебаний: — Тем же, чем и вам. — Вы располагаете временем? — Да. Для него у нее всегда будет время, стоит ему лишь захотеть. Они оказались в казино. Он играл два часа, напрочь забыв о ней, пристально следя за картами, раздаваемыми банкометом. У нее создалось впечатление, что его здесь знали… Суммы, которые он выбрасывал в каждом коне, позволили бы Анджеле без забот прожить целый год… Банк!.. Банк!.. Банк!.. — Я выиграл одиннадцать тысяч фунтов! Вы принесли мне удачу. Выигрыш делим пополам. — Да вы сошли с ума! — Это всего лишь деньги… Берите! Он разделил толстую пачку денег у нее на глазах и попытался засунуть половину ей в сумочку. — Зачем создавать лишние трудности? Если бы я проигрался, я не колеблясь одолжил бы у вас денег на бензин. Я — проще, чем вы! Так берете или нет? Они стояли на улице у входа в казино. Она смотрела на него и пыталась понять, не шутит ли он. На его лице она заметила легкое раздражение. — Вы действительно отказываетесь? — Да. — Ну что же, тем хуже. Эй!.. К ним подошел проходивший мимо какой-то оборванец с пустыми, вероятно от безысходности, глазами. Со сжавшимся от ужаса сердцем Анджела наблюдала, как Итало молча и бесцеремонно вложил в грязную ладонь этого мужчины пачку денег. У мужчины от удивления отвисла челюсть, и он, сняв засаленную шляпу, попятился назад, не переставая кланяться и не соображая, за что ему привалила такая удача. Едва держась на ослабевших ногах, Анджела села в машину. — Когда я решаю с чем-нибудь расстаться, я никогда не возвращаю это обратно… От только что испытанного потрясения она не могла произнести ни слова. Она возвращала лавочнику пустые бутылки из-под кока-колы, получая взамен их залоговой стоимости сигареты. Она возненавидела его за этот необъяснимый расточительный жест. — Вы разозлились? — Да. Вы унизили, унизили и оскорбили его бедность. Он легко и весело рассмеялся. — Вам следовало бы вначале поинтересоваться мнением заинтересованного лица, прежде чем так категорично заявлять. — Отвезите меня домой! — Хорошо… Еще раз напоминаю: вы по-прежнему имеете право на половину моего выигрыша. Берете? — Нет, — ответила она, стиснув зубы. — На вашем месте… Даю вам на размышление одну секунду. Он разделил на две части оставшиеся деньги. Одну половину положил на сиденье, другую оставил в руке и вышел из машины. Ее чуть не стошнило, когда она увидела, как Итало остановил цветочницу и, отдав ей все деньги, взял только одну розу. — Может, вы согласитесь взять цветок? Она упорно отмалчивалась. — Половину? — вежливо спросил Итало и, оторвав головку от стебля, протянул ее Анджеле. Она сделала вид, что ничего не видит. Он оторвал лепестки и высыпал их ей на колени. Затем завел мотор, и они поехали. — Кстати, — капризным тоном начал он, — у меня осталось немного денег от выигрыша в казино. Как вам известно, половина принадлежит вам. Берете? — Вы находите это смешным? Он снова разделил оставшиеся деньги и протянул ей половину. — Да или нет? Она пожала плечами и уставилась в окно. Итало нажал на кнопку автоматического опускания стекла. Купюры затрепетали в кончиках его пальцев и, подхваченные ветром, унеслись в ночь. — Не желая вас обидеть, Анджела, я позволю себе еще раз напомнить, что вы имеете право на пятьдесят процентов от остатка выигрыша. Берете? Она окаменела. И снова протянутые ей деньги исчезли в ночи. Когда они подъехали к ее дому, у него в руке оставалось лишь две банкноты. Одну он протянул ей. — Ваша доля! Берете? Она судорожно искала ручку дверцы, чтобы выйти из машины. Он поджег одну ассигнацию и прикурил от нее сигару. С того момента, как она села в машину, Анджела не произнесла ни слова, разрываемая противоречивыми чувствами, переполненная злостью, восторгом, унижением, невероятным желанием, которому она отчаянно сопротивлялась и от которого сжималось ее сердце. — Помогите мне выйти, — ледяным тоном попросила она. — Одну секунду!.. Анджела… Осталась одна бумажка… Берете? Он разорвал банкноту пополам. — Прошу вас, откройте мне дверь! Он смял две половинки банкноты, оставшейся от одиннадцати тысяч фунтов, и выбросил их в окно. Затем вышел из машины, обошел ее сзади и открыл ей дверцу. — До свидания… — До свидания… В течение следующей секунды еще можно было все изменить. Они стояли друг перед другом не в силах отвести взгляд… Но она опустила глаза и повернулась к нему спиной. Он не шелохнулся, чтобы задержать ее. Она решительным шагом пошла вверх по ступенькам крыльца, но чем выше поднималась, тем медленнее становились ее движения. Наконец она остановилась и повернулась к нему. Итало Вольпоне с серьезным, задумчивым лицом стоял, прислонившись к машине, перекатывая из одного угла рта в другой дымящуюся сигару. Не шелохнулся он и тогда, когда увидел, как она, словно нехотя, стала медленно спускаться вниз. Она подошла к нему. — У вас нет ключей от квартиры? — спросил Итало. — Есть. — Тогда не могли бы вы меня выручить? — Чем? — У меня в кармане не осталось ни гроша, — не в силах сдержать улыбку, сказал он. — Я рискую быть схваченным полицией за бродяжничество. Не одолжили бы вы мне пятьдесят центов? — Даже таких денег у меня нет… — ответила она. Они оказались в объятиях друг друга, даже не поняв, как это произошло. Это были объятия без поцелуев, но их крепко прижавшиеся тела сказали все без слов. Он хрипло смеялся, гладя ее волосы. — Так как вы не захотели взять свою долю, чего же вы хотите? — Вас!.. Очутившись в апартаментах Итало, снятых им на год в отеле «Дорчестер», Анджела не решилась его предупредить… Впервые в жизни она лежала обнаженной в кровати рядом с мужчиной. От подружек она слышала, что мужчины, как от огня, бегут от девственниц. Когда он входил в нее, она сжала зубы, чтобы не закричать. Подхваченная волной боли и какого-то невероятного наслаждения, она была потрясена, что в мире может быть что-то такое жесткое и одновременно невыразимо нежное… Она потеряла сознание. — Я не хотела тебе говорить… — Но почему?.. Почему? — Я боялась, что ты оттолкнешь меня… О Итало, я так хотела тебя!.. На следующий день она не пошла не лекции. В обычное послеобеденное время не появилась в библиотеке. Наступила ночь, но она все еще находилась в постели. А он в ней — постоянно… Время от времени официант приносил из ресторана огромные блюда, уставленные деликатесами, тонкими винами, прозрачными, как родниковая вода. Следующую ночь они спали не более двух часов. Он не выходил из нее… Утром они продолжали заниматься любовью. В полдень, с обоюдного молчаливого согласия, решили находиться в кровати. Вечером, на третьи сутки, выйдя из ванной, Анджела сказала: — Я не знаю, день сейчас или ночь… Я забыла, как меня зовут. Уставшая, она доверчиво прижалась к его груди. Он нежно обнял ее за плечи и приподнял голову за подбородок. — Сейчас я тебе скажу, как тебя зовут… Тебя зовут Анджела… Анджела Вольпоне… Спустя пятьдесят восемь дней они сыграли свадьбу в Нью-Йорке. Дженцо, брат Итало, подарил ей браслет с бриллиантами умопомрачительной стоимости. Праздник отмечался в отеле «Пьер». Были приглашены сотни гостей. На вопросительные взгляды Анджелы Итало отвечал шутливым подмигиванием. А когда они приехали в великолепные апартаменты на Парк-авеню, Анджела непроизвольно воскликнула: — Господи! Да где же ты взял деньги на такой дворец? — Дженцо и я — мы немного занимаемся торговлей… Овощи, фрукты… Оптом… Как видишь, дела наши идут неплохо. Иногда Итало приглашал своих друзей к ним в дом поиграть в покер. Приглашенные демонстрировали подчеркнутое уважение к Анджеле. По прошествии какого-то времени у нее возникла странная мысль, которую она долго не могла сформулировать. Однажды вечером, не в силах больше носить в себе закравшееся в ее душу подозрение, она полушутливым, полуироничным тоном задала Итало вопрос: — Итало, скажи мне откровенно, ты гангстер? На его лице возникла трагическая маска, и он плюхнулся на диван, беззащитно разбросав руки в стороны. — Какой ужас! Трижды ужас! Она все знает! Я признаюсь!.. Я страшный гангстер! Я режу маленьких детей на кусочки и ем их со спаржей и горчицей. Только умоляю тебя, не доноси на меня в полицию! И они оба рассмеялись счастливым смехом. А вчера, когда Франческа узнала о смерти своего мужа, она произнесла ужасную фразу: — Я знала, что они убьют его! А теперь убьют Итало! Анджела вздрогнула… Этот крик стоял у нее в ушах. Вдруг она ощутила себя одинокой и потерянной в этих огромных комнатах. Зазвенел дверной колокольчик. Должно быть, возвратилась ее прислуга, Фьорентина, которую она послала за газетами. Она встала с дивана, и в этот момент зазвонил телефон. Сердце прыгнуло к горлу… Итало! Она сняла трубку. — Анджела! — Итало! Снова звякнул колокольчик. — Любовь моя, одну секундочку! Пришла Фьорентина. Я только открою ей дверь… — торопливо сказала Анджела. Она положила трубку на стол и бросилась к двери. Ей показалось, что Итало что-то громко кричит ей в трубку… Резко распахнув дверь и даже не взглянув на Фьорентину, она повернулась, готовая броситься к телефону, но неожиданно почувствовала, как ее запястье сжали железные тиски. Округлившимися от ужаса глазами она смотрела на двух одинаково одетых мужчин, похожих на тех, которые приходили к ним играть в карты. Незнакомыми были только их лица. — Миссис Вольпоне? — склонив голову в вежливом поклоне, спросил мужчина, державший ее за руку. — Простите за беспокойство, но вы должны пойти с нами. Вас хотят видеть! Переборов страх, Анджела хотела резким движением высвободить руку. Напрасный труд! Она открыла рот, собираясь закричать, но ладонь второго мужчины молниеносно накрыла его, а в бок больно впилось дуло револьвера. — Только без глупостей, миссис Вольпоне… Мы не желаем вам плохого. Вы быстро возвратитесь домой… Ощущение вкуса ржавого металла заполнило рот Анджелы. Она впала в шоковое состояние, перед глазами поплыли разноцветные круги, и она потеряла сознание. Пока один из мужчин поддерживал ее за талию, не давая ей упасть, второй прошел в комнату и осторожно положил трубку на рычаг.* * *
Хомеру Клоппе хотелось одного: провалиться сквозь землю… После только что пережитого потрясения он забыл даже, что приехал в Гроссмюнстер на машине, и ушел пешком. Он брел по тротуару нетвердой походкой, не отдавая себе отчета, куда направляется, не осмеливаясь поднять глаза на встречных прохожих и напрасно пытаясь отделаться от кошмарного видения. Ему нужно было побыть одному, прийти в себя и понять мотивы, толкнувшие Инес на эксгибиционистскую сцену в святом месте. Он поднял голову и заметил, что инстинктивно движется в направлении дома. Момент для его появления там был не совсем подходящий. Именно в этот час «дизайнеры», приглашенные дочерью, громили квартиру, переделывая ее к свадьбе. Он перешел на противоположную сторону улицы и пошел к банку. Ему казалось, что все внимательно смотрят на него, читая в его глазах вину за случившееся. Домой ему было нельзя, улицы дышали враждебностью, не было и человека, которому можно довериться… Последним и единственным убежищем оставался кабинет в банке. Едва он вошел в кабинет через личную дверь, как появилась Марджори. — Вам беспрестанно звонят, сэр. Он посмотрел на нее тусклыми глазами. — Меня здесь нет!.. — Сэр… — Ни для кого! Уходите! На ее лице появилась знакомая ему гримаса раненого достоинства. — Извините, сэр, если я вас раздражаю, но некоторые очень настаивают… Говорят, что для вас, сэр, это вопрос жизни или смерти… Третья линия… Какой-то мистер… Он сказал, что звонит от имени Инес… вы все поймете… Во всяком случае, я вас предупредила. Она поджала губы и вышла с видом вспугнутой курицы. Знает ли она уже о его позоре? Дрожащей рукой Хомер нажал на кнопку «три». — Кто говорит? — спросил он, ослабляя узел галстука. — То, что вам устроила Инес, — всего лишь первое предупреждение. Можно даже сказать, дружеское. Но оно неприятное и даже опасное для человека вашего социального положения. Представьте, что об этом заговорит весь город! Хомер скрипнул зубами, узнав голос Итало Вольпоне. Первым его желанием было бросить трубку. Но он сдержался, решив выслушать все до конца. — Инес слегка чокнутая, вы знаете об этом. Она способна отколоть этот номер в любом общественном месте. — Что вам от меня нужно? — с металлическими нотками в голосе спросил Клоппе. Голос Вольпоне, до сих пор почти задушевный, вдруг стал агрессивным. — Эту тему мы уже обсуждали! Если завтра в течение часа после открытия банка этот вопрос не будет решен, ваши неприятности только начинаются! Клоппе затаил дыхание, сглотнул слюну и резко бросил: — Пошел ты к черту! Впервые в жизни он изменил культуре языка.* * *
Команда Луи Филиппона стояла по стойке «смирно» на кухне в квартире Хомера Клоппе. — Некоторые из вас, возможно, спросят себя, что они делают в Цюрихе? Отвечаю им… — Луи Филиппон обвел всех строгим взглядом. — Вы здесь для того, чтобы удивить! Я ничего вам не прощу! И ничего не потерплю! На этой иностранной земле вы являетесь послами великой французской кухни. Нас будут осуждать, критиковать, резать на мелкие кусочки… Несмотря на то что это — ужин «наоборот», я хочу, чтобы он прошел по высшему классу! Доставьте такое удовольствие мне и мадам Филиппон, которой, к большому сожалению, нет с нами по причине того, что она должна беречь наш очаг. Будьте достойны «Бон Бека»! А теперь — за работу!* * *
Какой бы оборот в дальнейшем ни приняли события, война между Габелотти и младшим Вольпоне представлялась неизбежной. Задержав в своей квартире Моше Юдельмана и похитив жену Итало, Этторе сжег все мосты к примирению. В принципе, конфликт мог возникнуть в любой момент. По словам Моше, Итало сам провозгласил себя главой «семьи». Как он может рассчитывать на поддержку Комиссьоне, имея репутацию пижона и хвастуна? А если его не утвердят?.. Неожиданное исчезновение Итало из отеля ничего хорошего Габелотти не сулило. Существовало две возможности: или он понял, что банк ему не по зубам и ни с чем возвращается в Америку, или же ему все-таки удалось наложить лапу на два миллиарда долларов Синдиката. Больше всего Этторе Габелотти томила неизвестность. Из-за разницы во времени в Нью-Йорке будет три часа утра, когда в Цюрихе откроется банк. Что ответит Клоппе, когда он назоветему номер счета? Разнервничавшись, он открыл холодильник, достал несколько бутылок пива, нарезанный хлеб и баночку масла. От делал бутерброды и тут же проглатывал их, запивая пивом. Ожидание повергло его в состояние глубокой, болезненной депрессии. События развивались таким образом, что он не мог ни повлиять на них, ни приостановить. Превентивные меры, предпринятые против этой сволочи Вольпоне, были смехотворны, если он скрылся с деньгами… Разве могла жизнь двух человек, его жены и советника, стоить двух миллиардов долларов?! Несколько часов тому назад ему позвонили Томас Мерта и Фрэнки Сабатини и сообщили, что Анджела Вольпоне «последовала» с ними без приключений. Он настрого запретил своим телохранителям применять против молодой женщины насилие. Что касалось Юдельмана, Этторе обеспечил ему даже собеседника в лице Симеона Ферро и попросил его проследить, чтобы Моше ни в чем не нуждался. Советника «семьи» Вольпоне Этторе уважал… Но, оставаясь верным Итало, Моше собственноручно подписал себе смертный приговор. Он поставил на плохую лошадь. Как мог Юдельман пытаться убедить его в предательстве О’Бройна? Он яростно откусил половину бутерброда и, не прожевав, проглотил. О’Бройн боялся всего и всех. И особенно его — Габелотти. В дверь постучали. — Кто? — рявкнул Габелотти. В кабинет осторожно заглянул Анджело Барба. — Для вас принесли бандероль. Из Цюриха… — Кто принес? — Курьер из аэропорта. — Давай! Он с подозрением взял в руки небольшой пакет, аккуратно завернутый в бежевую бумагу. Адрес и фамилия были его. Адрес отправителя отсутствовал. Не было и марок, а тем более почтового штемпеля… — Как ты узнал, что он из Швейцарии? — Курьер сказал, что его передали с последнего самолета, прилетевшего из Цюриха. Габелотти взвесил на ладони пакет. Он был слишком легким, чтобы таить в себе опасность. И все-таки… Он небрежно протянул его Анджело Барбе. — Вскрой. Я поищу чего-нибудь выпить… Он повернулся и прошел к холодильнику, удалившись на более-менее безопасное расстояние. Присев, он начал громыхать бутылками, переставляя их с места на место и подозрительно посматривая на Барбу, который срывал оберточную бумагу. Не переставая звенеть бутылками, он равнодушным голосом сказал: — Наверняка эту штуку прислал Рико Гатто. Ну, что там? — Черт! — воскликнул Анджело. — Что? — Идите посмотрите, дон Этторе. Габелотти выпрямился. — Ты открыл? Анджело подошел к нему и протянул разорванный пакет. В кольце браслета часов лежал еще один пакетик, размером не больше куриного яйца. Барба машинально поднес пакет к уху. — Тикают, — удивленно произнес он. К браслету была привязана бирка, на которой было отпечатано: «Сувенир из Цюриха». Этторе развернул пакетик. Поверх спичечной коробки лежала фотография Рико Гатто и первая страница его паспорта. Габелотти прочел: «Энрико Гатто. Агент по продаже недвижимости. 256, Вашингтон-авеню. Майами». Барба и Габелотти молча обменялись непонимающими взглядами. Забыв о всякой осторожности, Этторе схватил спичечную коробку и решительным движением открыл ее. На дне, испачканном бурыми пятнами, лежало что-то похожее на кусочек мяса, источая сладковатый запах. Преодолевая отвращение, Габелотти поднес коробочку ближе к глазам и узнал человеческий язык… От неожиданной догадки он содрогнулся: язык Рико Гатто. (обратно)ГЛАВА 14
На третий день своего пребывания в Цюрихе Итало Вольпоне проснулся с первыми лучами солнца. Как всегда, когда он не высыпался, первым делом он спрашивал себя, где он, не узнавая просторную комнату, голубого цвета стены, тяжелую, темную мебель… Через приоткрытое окно в комнату врывался веселый птичий щебет… Он потянулся, зевнул, почесал затылок и посмотрел на часы: половина седьмого утра. И все вспомнил… Его лицо напряглось, он резким движением соскочил с кровати и прошел в ванную комнату, выложенную черным кафелем. Вчера, начав разговаривать по телефону с Анджелой и услышав, что она идет открывать дверь Фьорентине, Итало закричал, чтобы она не делала этого. Но Анджела уже не слышала его и к телефону больше не подошла. Спустя несколько минут связь прервалась. Итало снова набрал номер своей квартиры, но трубку уже никто не снимал: ни Фьорентина, ни Анджела. Сходя с ума от беспокойства, он позвонил Моше Юдельману. Но и там трубку не снимали. Тогда он позвонил преданному Пиццу, чья судьба уже двадцать лет была связана с «семьей» Вольпоне. Но квартира на 8-й авеню, где жил Витторио, тоже молчала. Создавалось впечатление, что все близкие ему люди одновременно исчезли из города. Беспрестанно набирая эти три номера, он в промежутках связался поочередно с тремя «лейтенантами»: Алдо Амальфи, Винченце Брутторе и Джозефом Дотто. К его большому удивлению, ни один из них не знал о смерти их дона. Проклиная Юдельмана за невыполнение его приказа, Итало кратко информировал их о смерти брата и сказал, что в развитии дел «семьи» ничего не изменилось. Он заявил им, что становится во главе клана, и приказал бросить всех свободных «солдат» на розыски Анджелы и Моше Юдельмана. После чего он снова набрал номер своей квартиры. Фьорентина была уже на месте. Она сказала, что хозяйка отправила ее за газетами, но, когда она возвратилась, дома ее не оказалось. Спазма сдавила горло Итало. Он молил Бога, чтобы она отправилась к Франческе, вдове Дженцо. Отсутствующим, безразличным голосом Франческа объяснила, что со вчерашнего дня не видела Анджелу. Изменив вдруг тембр голоса, она резким тоном потребовала подробностей смерти мужа. Итало не знал, что говорить. Рассказать все о деталях было невозможно. По крайней мере, не сейчас… Рыдая, Франческа напрасно умоляла его сказать, где тело Дженцо, перед которым она в последний раз хотела бы преклонить колени, перед тем как тело предадут земле. Итало пробормотал что-то неопределенное и пообещал еще перезвонить. Он принял ванну, надел чистое белье и один из своих многочисленных черных костюмов. Дом еще спал. Он спустился в кухню. Сварил себе кофе, выкурил первую сигарету и собрался пройтись по парку, как неожиданно ощутил рядом чье-то присутствие, хотя ничто не нарушало тишины. — Я хотел сварить вам кофе, — сказал Фолько Мори. — У меня есть к тебе разговор. — У меня тоже. — Тогда выкладывай! — Значит… Пора вам уже знать… С момента нашего прибытия в Цюрих события развивались быстро… Вы были очень заняты, а несчастье, обрушившееся на вас, на всех нас, мешало вам видеть то, что происходило за вашей спиной. Голос Фолько звучал спокойно и уверенно. Прищурив глаза, Малыш Вольпоне с интересом смотрел на него. — Что произошло за моей спиной? — Мне пришлось убить двух человек, — не моргнув, ответил Мори. — Когда? — За то время, пока мы здесь… — Почему? — Они начали следить за вами еще в Нью-Йорке и притащились за нами в том же самолете. — Габелотти? — Нет. Когда я прикончил первого, я не знал, кто он. И должен с сожалением сказать, что им оказался фараон. — Как ты его убил? — Он выпал из окна восьмого этажа в отеле «Сордис». Несчастный случай. — Несчастный случай? — Никто не сможет доказать обратное. Об этом знаете вы, Беллинцона и я. — Второй… тоже полицейский? — Да. Из той же конторы. Центральное управление на Шестой авеню. Люди Кирпатрика. Когда вы повезли в горы О’Бройна, его блондинку и негритоску, он сел вам на хвост. — Где был ты? — Сзади… И это едва не стоило мне жизни… Повезло… — Тело? — В пятистах метрах от лесопилки. Сбросил в расщелину. Вольпоне отвел от него глаза и уставился в окно. Затем медленно сказал: — Возможно, ты ждешь от меня поздравлений? — Я ничего не жду. Ввожу вас в курс событий. Это все. — А ты не думал, что второй может быть не полицейским? — Если бы я не сделал так, как сделал, мы бы все сейчас сидели за решеткой за убийство блондинки и Мортимера О’Бройна. Итало вздохнул и посмотрел Фолько в глаза. — Ты все хорошо сделал. У тебя не было выбора. Спасибо. Он дружески похлопал Мори по плечу. Фолько приготовился сказать еще что-то, но тут появился Пьетро Беллинцона и не смог скрыть удивления, увидев их вместе. — А я-то думал, что проснулся первым… Он подавил зевок и сказал, осмотревшись по сторонам: — Жрать хочется… Вольпоне бросил на него недобрый взгляд. — Первое и последнее предупреждение. Если в будущем ты шевельнешь мизинцем, не предупредив меня, выброшу из «семьи»! У гиганта глаза полезли на лоб. — Что я сделал? — Ты помог Фолько прикончить двух фараонов и ничего об этом мне не сказал. Беллинцона укоризненно посмотрел на Фолько. — Я думал, — забормотал он. — За меня думать не надо! Приказы отдаю я! — Пьетро здесь ни при чем, — тихо сказал Фолько. — Я у тебя, кажется, не спрашиваю! — взорвался Вольпоне. — Я тебе уже сказал, что я обо всем этом думаю. Вы должны были поставить меня в известность! Я должен все знать! Все! Это ясно? Он злобно посмотрел на обоих. Они молчали. Итало ткнул в Беллинцону указательным пальцем. — Через два часа у тебя начнется зубная боль. Обеспокоенный туманной угрозой, Пьетро посмотрел на Фолько, надеясь по выражению его лица определить смысл слов Итало. Лицо Фолько было непроницаемым. — Фолько! — Да, падроне. — Ты знаешь причину моего приезда в Цюрих? — В общих чертах, — не задумываясь, ответил Мори. — Какой-то паскудный банкир заблокировал деньги, доверенные ему моим братом. Я не хочу, чтобы он умер… Не сейчас… Я хочу раздавить его. Если по случайности он умрет, пропали деньги. Мне нужно, чтобы он заговорил! Ты понимаешь меня? — Да. — Цюрих становится для нас вонючим городом… Делать все надо быстро! Пьетро! — Да. — Как бы ты поступил на месте Габелотти, когда убивают одного из твоих людей? Беллинцона потер подбородок. — Собрал бы боевиков и поехал устанавливать справедливость. — Правильно! А ты, Фолько, окажись на месте Кирпатрика… Исчезают два твоих фараона… — То же самое. Я предупредил бы своих швейцарских коллег. Вольпоне одобрительно кивнул. — Этим ты все и сказал… В скором времени нам в задницу вопьется свора собак… По этой причине мы должны быстро все закончить и смыться. Главная проблема — банк! Упорная башка! Но я — настырнее. Нужно сломать его. Вчерашнего предупреждения оказалось недостаточно. Сегодня мы его раздавим… — Знал бы он, что его ожидает, не стал бы блефовать! Итало зло улыбнулся. — Побеседуем с ним через два часа… Готов поспорить, что он расколется. Слушайте внимательно! К девяти вы подъедете к дому номер девять на Цвайерштрассе. Подниметесь на третий этаж и позвоните в дверь дантисту по фамилии Штроль. Профессор Аугуст Штроль. Вам откроет его жена Ингрид и скажет, что без предварительной записи доктор не принимает. Беллинцона будет держаться за челюсть и делать вид, что умирает от боли. Ты объяснишь, что парень мучается зубом мудрости. Пьетро с облегчением вздохнул. — Ну и напугали же вы меня, падроне! Что нам делать в кабинете? В глазах Вольпоне зажегся демонический огонь. — Сейчас все объясню.* * *
— До каких пор мы будем ждать, дон Этторе? Мало того, что он водит нас за нос, так он еще держит нас за идиотов. Начиная со вчерашнего нескончаемо длинного дня Габелотти в сотый раз посмотрел на часы: почти три часа утра. Авторитеты «семьи», собравшиеся у него, вели бесконечную дискуссию относительно дальнейших действий. Кармино Кримелло и Анджело Барба предлагали дождаться открытия «Трейд Цюрих бэнк» и окончательно выяснить судьбу двух миллиардов. Карло Бадалетто с каким-то остервенением требовал положить головы Моше Юдельмана и Анджелы на плаху. В его глазах получение языка Рико Гатто было не только подтверждением безумия Итало Вольпоне, но и непростительным, вызывающим оскорблением. — Повторяю вам, Вольпоне — сумасшедший! Если он почувствует в нас слабинку, мы последуем в могилу один за другим! Чтобы успокоить свои нервы, Габелотти приказал принести в кабинет пятикилограммовую банку черной икры. Зная его невероятную прожорливость, приглашенные даже не притронулись к деликатесу, чтобы не вызвать в нем еще большего раздражения. Габелотти выскреб со дна банки последние икринки и тщательно размазал их по куску хлеба с маслом. Он выпил стакан водки и отправил в рот последний бутерброд. До сих пор он почти не вмешивался в разговор, не принимая чью-либо сторону, и лишь с недоумением пожимал плечами, когда Бадалетто взвинчивался вне всякой меры. Жизни Моше и Анджелы для Габелотти ничего не значили. Если Вольпоне действительно «натянул» его, за это расплатится вся «семья», начиная с самого дохлого «солдата» и заканчивая самим Итало, которого он убьет собственной рукой, даже если этому придется посвятить остаток жизни. — Кармино, время? — Три часа одна минута. Часы Габелотти показывали два пятьдесят девять. И тем не менее он снял трубку и набрал номер «Трейд Цюрих бэнк». Ему ответили после второго сигнала. — Я звоню издалека и хотел бы поговорить с Хомером Клоппе. Я — его клиент. Это очень срочно, очень важно и конфиденциально! Все замерли и напряглись. Установившуюся тишину можно было резать ножом. Сейчас все прояснится!* * *
В девять тридцать утра в дверь квартиры профессора Аугуста Штроля, расположенной на третьем этаже, позвонил худощавый мужчина в темном костюме. Рядом с ним, сжимая челюсть огромной рукой, приплясывал от боли гигант с мученическим выражением на лице. Дверь открыла Ингрид Штроль: высокая, стройная, знающая себе цену красавица. — Господа? Фолько Мори кивнул на Пьетро Беллинцону. — Началось час назад… Если ему не помочь, умрет… — Вы по записи? — спросила Ингрид. — Мы в Цюрихе проездом… Конечно, нам следовало бы позвонить из отеля, мы остановились в «Континентале»… — Это ничего не меняет… — Но я не могу оставить друга в таком состоянии! Подыгрывая, Пьетро застонал. — К сожалению, ничем не могу вам помочь, — сказала Ингрид. — Наш приемный день расписан по минутам. Могу вам дать адрес другого дантиста. — Нет, нет… — запротестовал Фолько. — Мой друг хочет лечиться только у вас. В отеле нам сказали, что профессор Штроль — лучший дантист в Цюрихе. Ингрид колебалась не более секунды. — Посидите минуточку… Сейчас доктор занят с пациентом… Я посмотрю, что можно для вас сделать. Она повернулась к ним спиной, и гангстеры с восхищением оценили чувственную линию ее бедер. Они находились в приемной, которая больше напоминала частный салон, нежели отстойник перед камерой пыток. На низком столике лежали специальные журналы на немецком, французском, английском и итальянском языках. На стенах висело несколько старинных гравюр, на которых зубодралы работали огромными клещами во рту своих жертв. — Напрасно они выставили эту гадость, — сказал Беллинцона. — Это же выводит из равновесия пациентов. У тебя, Фолько, когда-нибудь болели зубы? — Нет. — У меня тоже. И знаешь почему? Когда я был пацаном, мне вышибли все зубы бейсбольной битой. Корни у меня свои, а все остальное… Он открыл рот и блеснул двойным рядом золотых зубов. — Это выглядит побогаче, ты как думаешь? — Закрой пасть, — прошипел Мори краем рта. Возвратилась Ингрид. Беллинцона уже успел принять позу вечного мученика. — В десять у профессора очередной пациент. Если будет свободное время, он осмотрит вас. Но совершенно исключено, что он займется вами сегодня. Она протянула Пьетро стакан воды и белую таблетку. — Выпейте это, вам станет легче. Беллинцона подозрительно понюхал стакан. — Пей! — приказал Фолько. Пьетро положил таблетку под язык и с отвращением сделал несколько глотков. Как только Ингрид оставила их одних, он выплюнул таблетку в ладонь и спрятал в карман. Ингрид вошла в приемную без пяти минут десять. — Пройдите, пожалуйста, со мной… Она провела их в кабинет, сверкавший никелем и напоминавший одновременно операционную и электростанцию. Приятная музыка наполняла комнату. — Я смогу вас лишь осмотреть, — сказал Аугуст Штроль, обращаясь к Беллинцоне. — Ваша жена? — спросил Фолько, показывая на Ингрид. Штроль нахмурился и обменялся быстрым взглядом со своей супругой. — Что вы сказали? — У нее аппетитная задница, — ответил Фолько, высоко задирая халат Ингрид. В тот же момент в его правой руке сверкнуло лезвие опасной бритвы и остановилось в пяти миллиметрах от горла женщины. А «вальтер» Беллинцоны уже смотрел в солнечное сплетение дантиста. — Подними-ка ей подол повыше, — попросил Пьетро. Рука Фолько, сжимавшая низ халата, поднялась до плеча Ингрид. — Да ты посмотри! Эта шкура ходит даже без трусов! — воскликнул Пьетро. Кровь, отхлынувшая от лица Аугуста Штроля, казалось, прилила к лицу Ингрид. Воспользовавшись секундным замешательством, Фолько сказал: — К вам у нас нет никаких претензий. Но это не помешает мне перерезать ей горло, если вы не исполните в точности то, о чем я вас попрошу. — Вы же не хотите, чтобы перерезали глотку вашей хорошенькой женушке? — с нотками притворного сочувствия сказал Пьетро. — Кстати, Фолько, а почему она без трусов? Наверное, он трахает ее, когда нет посетителей. — Ошибаешься, — ответил Фолько. — Пока он рвет зуб, она раздвигает ноги, и пациент забывает о боли. Беллинцона захихикал. Он любил Фолько за юмор, который тот не терял ни при каких, даже самых щепетильных, обстоятельствах. Преодолев нервную дрожь, ознобом сотрясавшую его, едва держась на подкашивающихся ногах, Аугуст Штроль сказал: — Скажите, сколько вам нужно, и убирайтесь отсюда. — Тебе это ничего не будет стоить, — ответил Фолько, отводя Ингрид в глубину кабинета. Он отодвинул портьеру и оказался перед небольшой комнаткой, где на стеллажах были выложены слепки человеческих челюстей. Вялая, как гуттаперчевая кукла, Ингрид безвольно дала Фолько крепко себя прижать. Пьетро посмотрел на Мори и одобрительно кивнул головой. — Подходит? — Вполне. Укроемся с ней здесь. — Пожалуйста… — дрожащим голосом заговорил профессор, — через минуту придет один из моих пациентов… — Он нам и нужен… — ледяным тоном оборвал его Мори. — Пока ты будешь заниматься им, помни — мы здесь и все видим. — Да что же вам, в конце концов, от меня нужно? Беллинцона не смог удержаться от смеха. Он нежно провел ребром ладони по кадыку Штроля. — Сейчас мы тебе все скажем… И если ты этого не сделаешь, твоей жене… конец! — А в качестве дополнительной премии ты получишь пулю в свои потроха, — добавил Фолько с грустным выражением лица и начал неторопливо и обстоятельно объяснять, чего они ждут от доктора Штроля. Напрасно Штроль, выпучив глаза, размахивал руками, не соглашаясь… — Если ты хочешь посмотреть, как сдохнет твоя жена, прежде чем отправишься вдогонку за ней, дело твое, — пожав плечами, подытожил Фолько. В дверь позвонили. Пришел Хомер Клоппе. — Открывай! — спокойно сказал Мори. Беллинцона подтолкнул дантиста, и тот едва удержался на ослабевших ногах. — Помни, мы за тобой наблюдаем. Малейшее слово, движение, взгляд… и начнется резня. Плотно сжав между собой Ингрид, они исчезли за портьерой. — Поймите, это — невозможно! — в последний раз запротестовал профессор. — Он… Из комнаты раздался приглушенный стон Ингрид. На грани потери рассудка Аугуст бросился к двери. Когда он открыл дверь, часы показывали тридцать две секунды одиннадцатого.* * *
Когда Хомер Клоппе пересекал центральный холл банка, ему чудилась ирония в приветствиях, которыми с ним обменивались служащие. Невозможно было представить, что они еще не знают о вчерашнем скандале. Естественно, две кумушки, должно быть, все разболтали, а Цюрих не такой большой город, чтобы секрет долго хранился в тайне. Терзаемый чувством стыда и вины, Хомер не спал всю ночь, пытаясь разобраться в создавшейся ситуации. Узнает Шилин, узнает дочь, узнает весь город, вся страна!.. Сколько ему еще осталось жить? Что он сделал, чтобы заслужить уважение? Разве он дал своей единственной дочери надлежащее воспитание? Если да, тогда почему оказалась возможна подобная свадьба? А Шилин? Чем он отплатил ей за ее безграничную преданность? Спал с чернокожей проституткой! Что будет с Шилин, когда разразится скандал? Изменив добродетели, он совершил зло. Он осужден и приговорен. Наказан в самом чувствительном месте — потерял уважение в обществе. Теперь остается одно — платить по счету. После свадьбы Ренаты, которая состоится послезавтра в три часа утра — какое безумие! — он начнет действовать согласно своей совести, какие бы последствия его ни ожидали… Разговор с Мелвином Бостом оставил в его душе горький осадок. Из-за слабости характера, а возможно, собственного корыстолюбия, он отказался кардинально решить проблему «Континентл мотокарз». Это чудовищно, чтобы в угоду экономическим проблемам умирали невинные. Хомер этого не позволит. Чего бы это ему ни стоило, он отдаст приказ заменить дефектную деталь на всех проданных «Бьюти гоуст Р9». А потом, если Богу будет угодно, пусть фирма разоряется! Для завершения активной деятельности Клоппе установил себе срок в три года. Сына-наследника у него не было. Ренату финансовые дела не интересуют. И уж, конечно, не Курту управлять банком. Какой в таком случае смысл работать дальше? К чему копить деньги, если из средства к существованию они превратились в товар? У него с Шилин есть все… Даже безумствуя, они не истратят до конца своих дней и сотой доли того, чем обладают… С надменным видом, Марджори поджидала его у дверей кабинета. Знает ли она? — Срочно, важно, лично! Какой-то мужчина хочет говорить с вами по телефону. Клоппе посмотрел на часы: одна минута десятого. — Слушаю! — сказал он, сняв трубку. — Мистер Хомер Клоппе? — Да. — Мы с вами незнакомы, но в вашем банке находятся мои деньги. — Слушаю вас. — Вы уже встречались с моим доверенным лицом, Мортимером О’Бройном. В голове Клоппе зажглась маленькая красная лампочка. Этим мужчиной может быть только Этторе Габелотти — клиент Диего и компаньон Дженцо Вольпоне. И тут же перед глазами банкира запрыгали цифры — 828384… «Мамма». — Сейчас я назову вам номер счета и попрошу произвести некоторые операции. — Слушаю. — 21877… «ГОД». Клоппе словно пронзило током. Он сдвинул брови и плотно сжал губы. Итак, его подозрения относительно Мортимера О’Бройна подтвердились… Нечестный человек дал своему хозяину вымышленный номер. К сожалению, он мог помочь Габелотти не более, чем Вольпоне… Обезличенным голосом утомленного человека он сказал: — Извините, но я не понимаю, о чем вы говорите. — Что-о? — пророкотал его собеседник. — Информация, которую вы мне сообщили, не имеет никакого отношения к существующей в нашем учреждении. — Что вы такое говорите! Что вы говорите? — Ничем не могу вам помочь, сэр. Вы ошиблись. Всего доброго, сэр, — сказал Хомер и положил трубку. Затем звонком вызвал Марджори. — Если вдруг опять позвонит этот человек, меня нет! — Хорошо, сэр. Оставалось ровно сорок пять минут до приема у дантиста. В силу привычки он нацарапал эти цифры на листе бумаги. Вот уже пять дней, как в «Трейд Цюрих бэнк» лежат два миллиарда долларов Дженцо Вольпоне. Хомер мгновенно перевел их в Шаан, своему другу Эжьену Шмеельблингу, «банкиру всех банкиров». Его собственный интерес уже составил 547 940 долларов.* * *
В дверь постучали: три легких и один сильный удар. Орландо Баретто приоткрыл дверь. Итало Вольпоне боком проскользнул в квартиру. — Где она? — В спальне. Вольпоне вошел в комнату. Инес лежала на горе подушек у радиатора центрального отопления и листала правой рукой журнал мод. Левая была пристегнута к секции радиатора наручниками. Она отложила журнал и посмотрела на Вольпоне отсутствующим взглядом. — Писать умеешь? — спросил Итало. Ландо удивленно посмотрел на него. Задавать такой вопрос девушке, проучившейся три года в университете, просто глупо!Ландо почти не спал всю ночь. По приказу своего падроне он одел на Инес наручники. После того что произошло на лесопилке, она не упрекнула его даже взглядом, но и разговаривать с ним не захотела. Она упорно, враждебно и презрительно молчала. Было договорено, что Ландо будет подавать ей телефон всякий раз, когда раздастся звонок. Длина цепочки наручников не позволяла ей самой подходить к аппарату. Так решил Вольпоне. Он считал, что негритянка должна сама отвечать на звонки, чтобы не вызвать подозрений у своих клиентов. Естественно, через прослушивающую трубку Ландо следил за темой разговоров, открывая для себя неизвестные аспекты жизни своей бывшей любовницы. Ей звонили подружки-манекенщицы, такие же, как и она, проститутки, какой-то немец и итальянец. Первый был импресарио, второй — известный фотохудожник. Инес вежливо отклонила предложение сняться для популярного журнала мод в одежде, состоящей только лишь из драгоценностей стоимостью в три миллиарда. Еще с кем-то она говорила на своем родном, африканском, диалекте. — Мои двоюродные братья, — объяснила Инес. — Они здесь проездом… Дипломаты… Придут ко мне в гости. Ландо занервничал. — Могла бы сказать, что тебя не будет. — Мы не виделись уже два года. Везут мне подарки… Если не хочешь, можешь не открывать… — Если будешь продолжать так со мной разговаривать, размозжу тебе голову. Ему ужасно хотелось ее. Понимая, что это невозможно, он бесился…
— Пиши, что я тебе продиктую, — сказал Итало, протягивая ей лист бумаги и ручку. Глазами она показала на наручники. — Они мешают мне. — Правая рука свободна, нет? — Я левша. — Освободи ее. Ландо вставил в замок наручников маленький ключик. Инес потерла правой рукой затекшее левое запястье и взяла бумагу. — Секунду, — сказал Вольпоне. — Мне нужна твоя фотография. Без одежды… Она подошла к комоду, выдвинула ящик и достала альбом фотографий. Выбрав одну, небрежно протянула Итало. Тот мельком взглянул на нее и молча сунул в карман. Инес легла на кровать на живот, взяла ручку в левую руку и положила перед собой лист бумаги. — Диктуйте, — не посмотрев на Вольпоне, сказала она.
* * *
При других обстоятельствах Хомер Клоппе непременно обратил бы внимание на растерянный вид профессора Штроля, его вялое, безжизненное пожатие. Но, погруженный в свои личные переживания, он просто ничего не замечал. — Миссис Штроль нет дома? — спросил он из чистой вежливости. — Скоро придет… — чуть слышно ответил Штроль и быстро повернулся к банкиру спиной, чтобы тот по выражению его глаз чего-нибудь не заподозрил. — Устраивайтесь, пожалуйста… Сейчас я вами займусь… Он сделал вид, что готовит на металлическом подносе инструмент. Клоппе тяжело опустился на диван черной кожи, который мог быть и креслом, и операционным столом, в зависимости от наклона спинки. Он снова окунулся в свои мрачные мысли, забыв о времени и месте, где находится, когда неожиданно яркий свет рефлектора, направленный Штролем прямо лицо, вернул его к реальности. Он зажмурился, чтобы не видеть эти тысячи слепящих солнц, и почувствовал, как Штроль повязывает салфетку вокруг его шеи. Его молчание удивило Хомера. Обычно профессор, не умолкая, рассказывал бесконечные истории, сам смеялся, сам задавал вопросы и отвечал на них. — У вас все в порядке? — поинтересовался Хомер. — Да, да… Сейчас проведем оценку общего состояния ротовой полости. Аугусту Штролю хотелось закричать Клоппе, чтобы он бежал отсюда. Чтобы убедиться, что все происходящее — не кошмарный сон, он бросил испуганный взгляд в направлении комнатки, где, с приставленной к горлу бритвой, находилась его жена. Портьера шевельнулась и отошла в сторону. Геркулес ободряюще подмигнул ему. И тут же он увидел Ингрид в объятиях другого мужчины, который одной рукой сжимал ее за талию, а другой, приподняв подбородок, поигрывал у ее горла блестящим лезвием бритвы. Чтобы не сойти с ума, Аугуст Штроль бросился в профессиональный монолог. Одновременно он хотел отвлечь внимание банкира, который знал в теории зубоврачевания не меньше его. — Сегодня я готов ответить на ваш вопрос, заданный в прошлый раз… Наклоните голову чуть влево… Так… Да… Спасибо… Так вот, относительно воздействия органических кислот на эмаль… Рот не закрывайте… Как вы знаете, кариозные бактерии… Хомер Клоппе поднял палец, прося слова. Он почувствовал, как Штроль убрал руки с его лица. — Но существует и другая возможность. Одновременное растворение органической ткани и эмалевого покрытия… По лицу профессора стекали крупные капли пота. Он снова посмотрел в дальний угол кабинета. Гигант сделал нетерпеливый жест. — Маловероятно, дорогой друг, маловероятно, — механически ответил он Клоппе. Ничего у него не получится. Клоппе моментально заподозрит неладное, если он предложит ему наркоз… У него великолепные зубы! Он обязательно потребует объяснений! Что ответить? Но если он этого не сделает… там, за портьерой… Ингрид… У Штроля не оставалось ни выбора, ни времени… Подталкиваемый страхом, от которого сводило желудок, он деланно рассмеялся и сказал: — Сейчас я предложу вам нечто совершенно новое… совершенно изумительное… Шведское… Закройте рот. У вас немного воспалилась десна в области четвертого резца. Я хочу снять воспаление… Хомер удивленно сдвинул брови. — Расслабьтесь… Не напрягайтесь… Не переставая говорить, Штроль подготавливал маску, соединенную резиновым шлангом с крошечным баллончиком протоксидазота. — Глубоко вдохните два-три раза. Клоппе насторожился. Вчера Штроль осматривал его… Не могло же это воспаление образоваться за одну ночь! Он собрался задать вопрос, но Штроль уже приложил маску к его лицу. — Спокойно… Дышите… Не напрягайтесь. Не понимая, что им движет, Хомер хотел встать. Рефлекторно он сделал глубокий вдох и тут же почувствовал, как странная слабость распространяется по всему телу. Он поднял руку в знак протеста и неуверенным движением схватил Штроля за локоть. Маска еще плотнее прижалась к его скулам, рука профессора, лежавшая у него на лбу, стала тяжелой, как металлическая плита. Он потерял сознание. В течение еще нескольких секунд дрожащими руками профессор удерживал маску на лице банкира. Убедившись, что Клоппе полностью находится под воздействием наркоза, он с жалким видом, со слезами в глазах, повернулся к гангстерам. — Я не могу, — простонал он. — Я не могу… Он вытер пот, заливавший ему глаза и крикнул: — Я не могу! Гигант подошел к нему и влепил тяжелую пощечину. — Работай, дерьмо! Или ты хочешь, чтобы мы пустили кровь твоей жене? Аугуст обреченно посмотрел на Ингрид. Она была бледная, как смерть, в ее огромных глазах стоял непередаваемый ужас. Лезвие бритвы ни на миллиметр не удалилось от ее шеи. Он понял, что она умрет, если он не приступит… Преодолевая поднимавшуюся в нем тошноту, он схватил зубные щипцы, раздвинул челюсти Хомера Клоппе и затоптался на месте, выбирая лучшую позицию для атаки. Он ухватил щипцами верхний резец и с силой дернул вниз… Голова банкира последовала за движением руки Штроля. Профессор снова уложил голову Клоппе на подголовник и заблокировал ее, прижав левый локоть ко лбу банкира. Затем он начал расшатывать зуб в вертикально-горизонтальном направлениях. Отложив щипцы, он взял скальпель и надрезал десну до кости челюсти. Опять взял щипцы, сделал глубокий захват и дернул изо всей силы. Раздался треск… Под равнодушным взглядом Беллинцоны Штроль бросил окровавленный зуб на металлический поднос и приступил к очередному… Когда были удалены все передние зубы, обессиленный Штроль бросил умоляющий взгляд на Беллинцону. Никакой пощады, кроме приказа продолжать, он не прочел в его глазах. С коренными зубами было труднее, но и они все через восемь минут лежали в кровавых лужицах на металлическом подносе. Во рту у Хомера Клоппе не осталось ни одного зуба. Штроль посмотрел на поднос, глаза его остекленели, ноздри затрепетали, и он медленно опустился на пол. Беллинцона презрительно поморщился. Он грубо раздвинул челюсти банкира, вставил в рот указательный палец и быстрым круговым движением прошелся по деснам. Работа была выполнена прекрасно. Удовлетворенный, он вытер испачканный кровью палец о пиджак Клоппе. Фолько Мори отпустил женщину и спрятал бритву в карман. Она едва держалась на ногах. Проходя мимо, Беллинцона дружески ей улыбнулся. Неожиданно его рука взметнулась вверх, и открытая ладонь гиганта резко ударила Ингрид в лоб. Она качнулась и рухнула на пол. Из комнаты, где хранились зубные протезы, гангстеры вышли через дверь черного хода на лестницу и, не торопясь, спустились вниз. Прошло несколько минут, но никто в кабинете не подавал признаков жизни. Магнитная лента продолжала наполнять комнату звуками музыки Вивальди. Десяток раз прозвонил телефон и замолчал. Хомер Клоппе шевельнулся, открыл изумленные глаза и инстинктивно поднес руку ко рту, отметив, что губы в крови. Он опустил голову и увидел на полу неподвижное, распростертое тело Аугуста Штроля. С трудом поворачивая голову, он наткнулся глазами на Ингрид Штроль. Она лежала на спине, с высоко оголенными длинными округлыми бедрами, широко раскинув руки в стороны. Не в силах что-либо понять, он встал и, шатаясь, сделал несколько шагов к зеркалу в бронзовой раме. Не узнавая, он долго рассматривал мужчину, смотревшего на него из зеркала. Его одежда, лицо тоже были испачканы кровью… Две извилистые струйки черной крови стекали из уголков рта по подбородку… С бьющимся, как паровой молот, сердцем, он собрал все свое мужество, чтобы убедиться в страшной догадке, и открыл рот… Его кровоточащие десны представляли собой изорванную, лишенную всякого рельефа массу. Сто лет тому назад, когда он садился в кресло, у него были самые лучшие зубы в городе. Теперь не было ни одного. Из его глаз потекли слезы. Потрясенный, он отвернулся от созерцания непоправимой катастрофы. Сидя на полу, Ингрид, с расширенными от ужаса зрачками, смотрела на него. Зазвонил телефон. Не обращая внимания на стоны мужа, она встала, как автомат, и сняла трубку. Она слушала с отсутствующим выражением лица и, казалось, ничего не слышала… И тем не менее она протянула трубку Хомеру Клоппе, который машинально взял ее. Жесты обоих были тяжелыми и замедленными. Несмотря на пережитый шок, банкир мгновенно узнал голос, который ему никогда не забыть, — голос Итало Вольпоне. — Второе и последнее предупреждение… Если деньги не будут переведены в течение часа, я не ручаюсь ни за вашу жизнь, ни за жизнь членов вашей семьи. Комок спекшейся крови застрял у Клоппе во рту, и он никак не мог его выплюнуть. Языком он подтолкнул его к губам и выдавил наружу. Затем неузнаваемым голосом едва слышно прошептал: — Плевал я на тебя!.. (обратно)ГЛАВА 15
То, что с ней произошло, превзошло все ожидания… Уже шестнадцать часов она была заперта в богато обставленной комнате, вдоль стен которой тянулись стеллажи, уставленные книгами на любой вкус. Она могла пользоваться стереосистемой, телевизором и… колокольчиком. Стоило позвонить, как тут же словно из-под земли появлялась симпатичная полная женщина, готовая выполнить любое ее желание, кроме одного — главного: объяснить, почему она находится здесь, у кого и скоро ли ее отпустят домой. Анджела пыталась ее разговорить, но женщина ограничивалась доброй, вежливой и молчаливой улыбкой, беспрестанно интересуясь, довольна ли она обстановкой, не нужно ли чего-нибудь из предметов туалета и нравится ли ей пища. Те двое, похитившие ее из дому, были такими же неразговорчивыми. Она смутно чувствовала, что это похищение каким-то образом связано с мужем. Теперь она сожалела, что не удосужилась хоть однажды более детально расспросить его о том, чем он занимается… Она целый день кружила по этому миниатюрному дворцу-тюрьме, отметив отсутствие ручки на двери и наглухо закрытые окна. Через матовые стекла проникал только дневной свет. Никто, кроме полной женщины, к ней не заходил. События изменились в половине четвертого утра. После стука в дверь в комнату вошел огромного роста и необъятной толщины мужчина. — Я пришел принести вам свои извинения за тот способ, каким вы были сюда доставлены. — Кто вы? — Друг вашего мужа. Даже больше чем друг, мы с Итало — компаньоны. Меня зовут Этторе Габелотти. Извините, если я разбудил вас. — Я хочу домой! — Позвольте мне кое-что прояснить… Я только что приехал, и, как оказалось, мои указания не были в точности исполнены… Я просил, чтобы вам объяснили причину приглашения. — Приглашения? Меня увезли, ткнув пистолетом в живот. — Эти люди уже наказаны. Попытайтесь понять… Итало находится в Цюрихе по нашему общему делу. Вы об этом знаете. К его большому горю, он потерял брата, которого мы все очень уважали. Однако вполне вероятно, что Дженцо умер не своей смертью. Итало это беспокоит… А когда я узнал, что кое-кто, кто ненавидит вашего мужа и меня, замышляет против вас что-то подозрительное, я посчитал, что у меня вы будете в большей безопасности. — Я хочу уехать отсюда. — Вы можете это сделать, но я рекомендовал бы вам не торопиться… Позже вы скажете мне спасибо. — Послушайте, сэр, я была похищена вчера после полудня. Сейчас четыре часа утра, и я не хотела бы злоупотреблять вашим гостеприимством. Можете мне верить, что я расскажу Итало, как мило ко мне отнеслись под этой крышей. А теперь пусть меня отвезут домой. — Я вижу, что вы злитесь на меня, но я слишком уважаю Итало, чтобы позволить себе подвергать вас риску. Я еще раз настоятельно прошу вас провести остаток ночи здесь. Анджела почувствовала, как у нее на глаза наворачиваются слезы. Сдерживая их, она закусила губу. Итало был деревом, которое заслоняло ей лес. Она видела только его… В Нью-Йорке нигде, кроме двух-трех ресторанов и такого же количества музеев, они не бывали. Центром вселенной для них была супружеская кровать. Все остальное в расчет не принималось. Но сейчас Итало не было рядом, и она чувствовала себя безнадежно одинокой и беззащитной. За мягкими, ложно скромными манерами обращения этого борова она отчетливо видела властность и нетерпеливость. Даже когда он улыбался, от него исходила опасность. Она понимала, что ей придется подчиниться неизбежному, и, пряча страх за ироничностью тона, сказала: — Я просыпаюсь в девять утра и пью свою утреннюю чашку кофе без сахара, а в яичнице люблю хорошо поджаренный бекон. Габелотти поклонился, насколько позволял ему живот. — Я очень признателен вам за то, что вы приняли мое приглашение. Еще раз приношу вам свои извинения. Анджела легла в кровать, закрыла глаза и прошептала: — Итало!.. Итало… Где ты?.. На часах было ровно пять утра.* * *
В «семье» Вольпоне Моше Юдельмана любили все. Не был исключением и Витторио Пиццу. Но в его глазах Моше обладал одним серьезным недостатком — он был поэтом. Юдельман считал, что правильно найденные слова и искусно проведенные переговоры могут разрешить самое деликатное дело. Из личного опыта Витторио знал, что это не так. Иногда наступает момент, когда приходится браться за оружие, чтобы доказать свою точку зрения или отстоять свои интересы. Когда Моше сообщил ему о своем намерении пойти «сдаться» в лапы Габелотти, Витторио попытался отговорить его, разложив по полочкам причины опасения. Но Моше остался непреклонен. — Если мы будем сидеть сложа руки, мы ничего не решим. — Если ты такой отмороженный, иди… Но живым оттуда тебе не выбраться. — Я пойду… Один. И возвращусь! Не суй нос в это дело, Витторио. Пиццу сделал вид, что снимает с себя всю ответственность. Однако он отдал приказ Винченце Брутторе выделить двух «солдат», чтобы те незаметно прикрывали советника. Вито Франчини и Куинто Фавара, оба в джинсах, длинноволосые, в мотоциклетных шлемах, подъехали на мощной «хонде» к дому Этторе Габелотти, и тут у них «отказал» двигатель. Они дождались приезда Юдельмана и точно записали время, когда советник вошел в дом. Витторио Пиццу перевернул вверх дном весь Нью-Йорк, но следов Анджелы его «солдаты» нигде не обнаружили. Существовало две возможности… Первая была безобидной и без последствий: все члены «семьи» знали о сумасшедшей любви Итало и Анджелы, это было постоянным предметом дружеских шуток. До встречи с Анджелой Малыш Вольпоне клялся, что никогда не женится. Но Анджеле хватило одного взгляда и пяти-шести недель, чтобы Итало забыл о своей клятве. С тех пор Итало резко изменился: стал пораньше уходить домой, забыл кутежи с девочками до утра, и даже покер перестал его удерживать в компаниях. Ну, а Анджела… Она хотела, чтобы Итало всегда находился от нее на расстоянии досягаемости поцелуя. Поэтому вполне возможно, что почувствовав нестерпимое жжение в сокровенном месте, Анджела не предупредив Итало, решила сделать ему сюрприз и вылетела следом в Швейцарию… Вторая возможность — похищение Анджелы людьми Габелотти. Если это так, Итало никогда не простит Габелотти нанесенного ему оскорбления, и война между «семьями» завершится не раньше, чем наступит смерть одного из них. Витторио посмотрел на часы. Сомнений быть уже не могло… Моше вошел в дом Габелотти вчера, во второй половине дня. Сейчас — пять часов утра, а домой он так и не возвратился. Или дон Этторе держит его заложником, или убил в приступе гнева. Витторио поспал всего лишь три часа, остальное время, регулярно, через каждые тридцать минут, он получал телефонные звонки от Вито Франчини и Куинто Фавары, которые подтверждали, что Юдельман по-прежнему у Габелотти. С гримасой на лице он снял трубку и набрал новый номертелефона Итало в Цюрихе, который ему передал Винченце Брутторе. Пора было переходить к активным действиям, но без приказа Итало он не мог шевельнуть мизинцем. Ему повезло, Итало был на месте. — Говорит Витторио. — Где ты прячешься, мудило? Я повсюду тебя разыскиваю. Анджела! Где Анджела? — Я прочесал весь Нью-Йорк, но пока безрезультатно. Падроне, мы продолжаем поиски… Несмотря на тысячи километров, разделявшие их, Витторио вздрогнул от яростного крика Вольпоне: — Я хочу, чтобы вы нашли мою жену! Ты слышишь? Чтобы нашли мою жену! — Хорошо, падроне. — Я вас всех сгною, если ее напугали! Всех! И тебя в том числе! Ты понял? Ты отвечаешь за нее головой! Пиццу с трудом сглотнул. — Хорошо, падроне, я найду ее. Падроне, Анджела скучает без вас… Я подумал, что, возможно, она вылетела… — Она предупредила бы меня! Анджела всегда говорит мне правду! Всегда! А относительно Габелотти у тебя мыслей не возникало? — Да. — Так что тебе мешает проведать его? Где Моше? — У Габелотти. — С какого времени? — Со вчерашнего дня. — Ты что, совсем спятил? Вы там все с ума посходили! Сучья твоя башка, пока я здесь рву задницу, вы развлекаетесь!.. — Я ждал вашего приказа, падроне. — Бери Амальфи, Брутторе, Дотто и возвратите мне Юдельмана. — Хорошо… И чтобы доказать Итало, что никакой двусмысленности в иерархии не существует, добавил: — Хорошо, дон Вольпоне.* * *
Внимание Моро Дзуллино привлек не столько мотоцикл, сколько два парня в шлемах и кожаных куртках, беспрестанно курсировавшие между мотоциклом и пивным баром, работавшим круглосуточно. Моро Дзуллино был рядовым «солдатом» в «семье» Габелотти. Три помощника дона Этторе — Карло Бадалетто, Фрэнки Сабатини, Симеон Ферро или же, в особых случаях, сам Томас Мерта, который командовал ими всеми, отдавали ему приказы. Частные апартаменты дона Этторе располагались на восьмом этаже и занимали площадь в пятьсот квадратных метров. Седьмой этаж занимали «административные» службы клана. Здесь проходили деловые встречи, находилось несколько кабинетов, помещение для телохранителей, которые двадцать четыре часа в сутки обеспечивали безопасность дона Этторе. На восьмой этаж можно было подняться только специальным лифтом, охраняемым круглосуточно. Без обыска в лифт никто не мог войти, за исключением нескольких доверенных лиц: адвокаты, бизнесмены, политики, профессионально связанные с Синдикатом. Дом принадлежал одной фирме, торгующей недвижимостью, полностью контролируемой доном Этторе. Томас Мерта настоял на том, чтобы одну комнату отвели для постоянного наблюдения за главным входом в здание. Все, что происходило на улице, не могло ускользнуть от наблюдателя с первого этажа. О малейшем подозрительном оживлении на улице тотчас передавалось на седьмой этаж. Уже в шестой раз за четыре часа дежурства Моро Дзуллино видел, как один из мотоциклистов возвратился из пивной, перебросился несколькими фразами с приятелем, который возился с картером «хонды», и тот, поднявшись с корточек, в свою очередь направился в бар. Их странное поведение в пять часов утра насторожило Моро, и он решил предупредить дежурного на седьмом. Он мог сделать это и раньше, но, попивая пиво, увлекся вестерном по телевизору, а главное, опасался вызвать недовольство парней на привилегированном этаже напрасной тревогой. Он снял трубку и доложил о своих наблюдениях. Его обругали… Не за информацию, а за то, что не доложил сразу…* * *
— Мануэла… — Мисс Рената? — Почему я выхожу за него замуж? Мануэла фыркнула и поставила поднос с завтраком на кровать перед Ренатой. — Вы спрашиваете меня об этом каждое утро. Я всегда вам отвечаю одно и то же. — Плохо отвечаете, — сказала Рената, взбивая пальцами волосы. — Я не люблю его. Получила сегодня письмо от своего Хулио? — Еще нет. Возможно, с дневной почтой… — Вы забыли перец. — Я забываю его каждое утро. — Уволю! Мануэла… — Да, мисс Рената. — О чем вы пишете друг другу? Мануэла на миг задумалась. — О Господи! Я пишу, что скучаю без него… Рената спросила себя, подошла бы эта фраза ей — относительно Курта. Нет, это было невозможно. Она никогда не смогла бы написать подобные слова. — А что вам пишет он? — То же самое! — рассмеялась Мануэла. Ренате хотелось понять смысл отношений, связывающих двоих, когда они влюблены друг в друга. — Но это же скучно! — Вовсе нет, мисс! Это так приятно знать… А Хулио — такой же, как и я. Ему нужны эти слова. Если бы вы только знали, какое красивое у вас платье… Свадьба сегодня! Вы не забыли? — Да, сегодня… — Это будет что-то фантастическое! — Возможно, — задумчиво ответила Рената. — Так вы принесете мне перец?* * *
— Это не фараоны, — сказал Томас Мерта, — это — «шестерки» Вольпоне. После того что он сделал с Рико Гатто, с ними сделаем такое же!.. В три часа утра Томас Мерта, Фрэнки Сабатини, Симеон Ферро и Карло Бадалетто, низко опустив головы, присутствовали при самом фантастическом взрыве ярости, когда-либо наступавшем у Этторе Габелотти. — Фальшивка! — орал дон Этторе. — Фальшивый номер! Этот сучий сын матери, зачавшей от осла, вонючий О’Бройн, всучил мне фальшивый номер! Он! Мне! Присутствующие молча молились, чтобы циклон быстрее закончился. В подобных ситуациях Габелотти был способен на все, вплоть до проявления несправедливости даже в отношении верного ему окружения. И он все-таки выбрал козла отпущения — Карло Бадалетто. — Ты хотел убить Юдельмана! Ты требовал перерезать горло Анджеле Вольпоне. Тварь! Те свиньи, которых я кормлю, предают меня! Предают свои же! Я знал, что Итало не такой идиот, чтобы играть со мной в кошки-мышки! Если бы я послушал тебя, пришлось бы лезть сейчас в петлю. Сволочи, вы требовали, чтобы я съел самого Вольпоне! Где ваши мозги? Теперь нам придется дорого заплатить за похищение жены Итало и Юдельмана. Пока вы затевали игры в войну, два миллиарда долларов спокойно лежат в Швейцарии. Карло Бадалетто очень неудачно встрял в монолог Габелотти. — Дон Этторе, если Итало такой чистенький, как вы об этом говорите, позвольте задать вам вопрос: какого черта делает он в Цюрихе? Габелотти расстрелял его взглядом. — Закрой свою вонючую глотку, кретин! Его отвислые щеки задрожали, и он вплотную подошел к Бадалетто. — Хочешь что-то сказать еще? Говори!.. Карло понял, что дон его убьет на месте, если он откроет рот. Он испуганно затряс головой, заложил руки за спину и отошел к стене. Уставившись в картину, ничего при этом не видя, он ждал пулю в затылок. Четыре года назад дон Этторе в упор выстрелил в боевика, который позволил себе неуместную шутку в тот момент, когда решался серьезный вопрос. С простреленным плечом боевик нашел в себе силы встать на колени, чтобы извиниться, и даже успел поцеловать руку Габелотти, после чего потерял сознание. Этот жест спас ему жизнь. Его тут же отвезли к врачу, обслуживавшему «семью» Габелотти. — Я встречусь с Анджелой Вольпоне и попытаюсь уладить ваши глупости. С налитыми кровью глазами от ярости и бессонной ночи, Габелотти вихрем вылетел из кабинета. «Лейтенанты» смущенно переглянулись: неужели дон Этторе такой наивный, что рассчитывает добрым словом смыть оскорбление, нанесенное Итало? — Фрэнки, сядешь в «бьюик», — сказал Томас Мерта, — и проедешь мимо «шестерок» Вольпоне, даже не взглянув в их сторону. Скройся с их глаз и по параллельной улице возвратись обратно. Остановишься в перпендикулярной, недалеко от перекрестка, но мотор не выключай. На все маневры тебе дается семь минут, как только выйдешь отсюда. Симеон, через шесть минут тридцать секунд ты сядешь в «понтиак» и медленно поедешь по улице. Метров за пятьдесят включи фары, чтобы они тебя заметили, и на скорости кати прямо на них. Они попытаются улизнуть на мотоцикле. Фрэнки, когда они подъедут к перекрестку, ты стартуешь. Раздави их! Он посмотрел на часы. — Готовы? Фрэнки, пошел!..* * *
Куинто Фавара быстрым шагом возвращался из пивной. Подойдя к Вито Франчини, он сказал: — У Винченце я кое-кого заметил. Кажется, нас засекли… Смываемся! Он резко опустил прозрачное забрало шлема и натянул перчатки. Вито Франчини не стал терять времени на вопросы. Он нажал на кнопку зажигания, и «хонда» взревела мощным мотором. От удара рукой Куинто по плечу он обернулся. Сзади, с включенными фарами, на них двигалась, увеличивая скорость, длинная черная машина. Вито улыбнулся: ни одна машина в мире, даже «Формула-1», не могла развить с места такую скорость, как его «хонда». Вито резко взял старт, и через шесть секунд стрелка спидометра показывала скорость в сто шестьдесят километров в час. До восхода солнца оставался еще час времени, и улица была пустынна. Вито перешел на четвертую скорость. И тут Франчини увидел, как из-за угла выехала машина и остановилась на перекрестке, перекрыв собой улицу. Тормозить было слишком поздно. «Понтиак», остановившийся на перекрестке, оставлял им узкий проход, через который можно было проскочить только чудом. Но этот маневр Франчини разгадал: как только мотоцикл приблизится к проходу, машина сорвется с места и собьет их. В одну десятую долю секунды Вито принял решение, которое давало им единственный шанс выбраться живыми из этой ситуации. Обманное движение! Он направил мотоцикл к проходу и, как и предполагал, «понтиак» мгновенно перекрыл его. Этого и ждал Вито. Он до упора повернул ручку газа и метнулся вправо, пытаясь обойти «понтиак» сзади, но стойка для упора ноги задела за задний бампер машины… Переднее колесо «хонды» вильнуло на бордюр тротуара, мотоцикл взбрыкнул, как взбесившаяся лошадь, и они, как из катапульты, полетели головами вперед, навстречу бетонному фасаду здания…* * *
Шилин очень не хотелось говорить об этом с Хомером. Но чем ближе становился день свадьбы, тем тревожнее она себя чувствовала. Когда Рената, смеясь, рассказала ей, каким образом они собираются покинуть праздник, она вздрогнула, но, чтобы не прослыть «устаревшей», сделала вид, что одобряет экстравагантный замысел дочери. А ночью ей приснился кошмар: вертолет поднимает в воздух в корзине улыбающихся, счастливых молодоженов, которые радостно машут руками оставшимся на террасе гостям. И вдруг все вскрикнули от ужаса: фал оборвался, и корзина, странно зависнув в воздухе, начала медленно приближаться к земле, покачиваясь, как опавший лист. Но Рената и Курт как ни в чем не бывало продолжают махать руками. Неожиданно корзина устремляется вверх, а затем камнем падает на крышу «Трейд Цюрих бэнк». Шилин терялась в догадках, к кому обратиться за расшифровкой сна — к священнику, психиатру или гадалке.* * *
После разговора с Анджелой Габелотти возвратился к себе в спальню. Если он сейчас же не уснет, с ним случится нервный срыв. Действия, которые он должен предпринять в свете предательства О’Бройна, не должны быть импровизацией. Он должен чувствовать себя спокойным и отдохнувшим. Но уснуть, к сожалению, не удавалось… В пять тридцать, так и не сомкнув глаз, он надел халат и прямо из спальни прошел в гостиную, хмурый и смертельно злой. Его душевное состояние к этому не располагало, но он все-таки решил поговорить с Моше Юдельманом. Он вызвал Томаса Мерту и приказал ему привести Моше. Когда Юдельман вошел в гостиную, Этторе дружески похлопал его по плечу. — Моше, извини, что так рано разбудил тебя! Доставь мне удовольствие выпить с тобой чашечку кофе. Этторе поставил перед ним чашку с кофе и блюдо с бутербродами, которые принес на подносе Мерта. — Пришло время, когда я должен кое о чем тебе рассказать… объяснить. Я прошу тебя, Моше, верить тому, что я сейчас скажу при свидетелях. Карло Бадалетто и Томас Мерта молниеносно обменялись удивленными взглядами. — Мы — компаньоны, Моше. Что бы ни случилось с одним из нас, это касается всех остальных, к какой бы «семье» они ни принадлежали. Эта история выбила нас из колеи… Посмотри на меня, я потерял сон… Почему? Потому, что я все время думаю… Есть вещи, о которых ты не знаешь и о которых я не хотел тебе говорить до тех пор, пока не улажу их… Поэтому я не хотел волновать тебя лишний раз. Вчера мои люди предупредили меня, что кто-то хочет похитить Анджелу Вольпоне. Ты догадываешься почему? Кто хочет положить на лицо Вольпоне шляпу? Я? Дон Этторе? Нет, Моше, кому-то выгодно нас поссорить. Многие хотели бы, чтобы наши «семьи» начали войну между собой… Габелотти бросил уничтожающий взгляд на Бадалетто. — Чего стоишь? Где бутерброды? Не видишь, что все съели? Карло исчез за дверью. — Смерть дона Дженцо, — продолжал Габелотти, — все перевернула с ног на голову. Ты знаешь, когда я узнал об этом, мне стало страшно. Первой моей мыслью было — обезопасить жену Итало. Я немедленно послал за ней двух «солдат», чтобы доставить ее под мою крышу. Ты одобряешь мои действия? Чтобы сдержать гнев, Юдельман надолго припал губами к чашке с кофе. Когда он почувствовал, что достаточно спокоен, он суровым голосом сказал: — Лучше сделать было невозможно, дон Этторе. Я высоко ценю вашу предусмотрительность и от имени Итало благодарю вас. — В таких поступках среди нас нет ничего необычного! — запротестовал Габелотти. — Сегодня ночью я объяснил Анджеле мотивы, побудившие меня пригласить ее в свой дом. Конечно, я понимаю, что ей хотелось бы возвратиться домой… Она молода, импульсивна и, кроме всего прочего, не знает меня… Я рекомендовал ей провести остаток ночи у меня, она согласилась. Как только она проснется, ты с ней увидишься. Юдельману хотелось спросить, по каким таким мотивам его самого держат взаперти. И почему — под такой сильной охраной? Моше сделал вывод, что возникли какие-то новые обстоятельства, вынуждающие Габелотти возвратиться на мирный путь. — Дон Этторе, пока я спал, вы, вероятно, уже успели связаться с банком? — Пытался, Моше… Пытался… — врал дон, глядя ему прямо в глаза. — Клоппе не оказалось на месте… А сообщить номер счета его заместителю я посчитал лишним. Я собираюсь еще перезвонить… Габелотти тяжело поднялся с кресла и подошел к окну. Он рассеянно посмотрел с высоты восьмого этажа вниз, на улицу. В двухстах метрах от дома, на перекрестке, полицейские наносили мелом разметку на тротуаре, на котором, накрытые одеялами, лежали два тела. Он повернулся к Томасу Мерте. — Что там рисуют фараоны? Мерта сокрушенно пожал плечами. — Несчастный случай с мотоциклистами, дон Этторе. Мальчишки гоняют, как сумасшедшие…* * *
Появление Луи Филиппона на кухне было встречено восхищенным рокотом. Его команда на несколько минут оторвалась от дел, завороженно глядя на его черный кашемировый блейзер, клубный галстук с желтыми полосами, безукоризненные стрелки фланелевых брюк цвета антрацита и небесно-голубую рубашку. Филиппон относил приготовление пищи к одному из видов искусства, например к камерной музыке, которым надо заниматься, облачившись в смокинг. — Ну что? — спросил он, делая вид, что не замечает восхищенных взглядов своих учеников. — За работу, лентяи! Он взял несколько очищенных креветок и стал нарезать их кусочками размером не больше злакового зерна. Луи Филиппон никогда не допускал на стол блюдо, сделанное другими руками, не сдобрив его своей фантазией в виде пикантной добавки…* * *
Витторио Пиццу наставлял своих «лейтенантов». — Эта работа касается нас, а не наших «солдат». Этого хочет Итало, и я его поддерживаю! Затронут вопрос чести! Никто не может тронуть пальцем члена «семьи», не поплатившись за это. Алдо Амальфи, Винченце Брутторе и Джозеф Дотто молча согласились. Насилие и убийство были делом их юности, и иногда им этого не хватало. — Они прихватили Моше. Вполне возможно, что они похитили и Анджелу. — Убьем и Габелотти? — спросил Амальфи. — Убьем всех, кто окажет сопротивление. Винченце, немедленно отправь четверых «солдат» на место. Пусть переоденутся в мусорщиков… Достань им мусоровозку… В качестве прикрытия они будут убирать тротуары рядом с домом Габелотти. Вооружение: автоматы и гранаты. Брутторе понимающе кивнул головой. Мусоровозка не представляла никаких проблем. На каждой ступеньке иерархической лестницы муниципальной службы города у «семьи» Вольпоне стояли свои люди, готовые выполнить любое задание, не задавая никаких вопросов. — Будет сделано, — сказал Брутторе. Затем они провели короткое совещание и распределили роли. Последние метры, отделявшие их от дома дона Этторе, они преодолели пешком. Машина осталась за углом. Витторио увидел четверых парней, неторопливо подметавших тротуар рядом с мусоровозкой с муниципальными номерами. Те сделали вид, что не замечают приближающихся Пиццу, Брутторе, Дотто и Амальфи. Пиццу заговорщицки подмигнул Винченце Брутторе и тут же вздрогнул, увидев на перекрестке полицейскую машину. Витторио бросил вопросительный взгляд на одного из мусорщиков. — Мотоциклист не справился с управлением, — не разжимая зубов и продолжая махать метлой, объяснил тот. — Можете идти спокойно… Лицо Витторио помрачнело. — Ты приказал Франчини и Фаваре оставить пост? — спросил он у Брутторе. — А в чем дело? — Ни в чем. Пошли. Они не могли знать, что беспрепятственному входу в подъезд они обязаны его величеству Случаю. Именно в этот момент Моро Дзуллино отошел от окна, чтобы включить телевизор и открыть очередную банку пива. Когда он снова занял свой пост, на улице по-прежнему работали только люди из муниципальной службы по поддержанию чистоты, убирая ящики с мусором и подметая тротуары. Моро зевнул. Сегодня он видел кое-что поинтереснее даже вестерна. На седьмой этаж они поднялись в лифте молча. Амальфи, Брутторе, Дотто и Пиццу знали, что дверь лифта открывается прямо в прихожую, где круглосуточно дежурили два охранника. От реакции этих людей зависел дальнейший успех их экспедиции. Едва ощутимо вздрогнув, лифт остановился. Им повезло и на этот раз: Матарелла и Крисаффули спокойно открыли двери лифта, уверенные, что это прибыли их шефы Фрэнки Сабатини и Симеон Ферро, возвратившись после карательной акции против мотоциклистов. Не успели еще разойтись до конца створки двери лифта, как Пиццу, стоявший у самого выхода, всадил расслабившимся стражам по пуле в голову. С залитыми кровью лицами те рухнули на пол. Четверо мужчин, сжимая по пистолету в одной руке и по гранате в другой, почти одновременно ворвались в гостиную. Время между выстрелами и их появлением в гостиной измерялось секундой… Габелотти не успел проглотить даже половину откушенного бутерброда. Карло Бадалетто, чуть присев, успел лишь сунуть руку в карман пиджака, а Мерта уже почти достал свое оружие. Но увидев Пиццу и его людей, они окаменели. Сидевший напротив дона Этторе Моше Юдельман побледнел, выпрыгнул из кресла, как игрушечный чертик из коробки, и закричал: — Не стреляйте! — Моше, с тобой все в порядке? — спросил Витторио, ни на миллиметр не опуская дуло пистолета, направленного прямо в сердце Габелотти. Моше утвердительно кивнул головой. Дон Этторе повернулся к нему и с абсолютно спокойным выражением лица спросил: — Моше, у твоих друзей странный способ появляться в моем доме. Ты приглашал их сюда? Он сел и сделал глоток остывшего кофе. — Это недоразумение, — ответил Моше. — Где Анджела Вольпоне? — спросил Пиццу. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. — Спит… если только ваша канонада не разбудила ее. Моше, может, ты объяснишь им… — Да, она спит… — Сходите за ней! — приказал Пиццу. — Карло! — рявкнул Габелотти. — Иду, падроне. — Стой! — бросил Пиццу. — Алдо, пойдешь с ним. Амальфи подтолкнул пистолетом Бадалетто к выходу. Этторе Габелотти, вдохнувший запах смерти, знал, что в тот момент его шкура не стоила и цента. И тем не менее он попытался принять угрожающе-оскорбленный вид. — А теперь, господа, я требую немедленных объяснений вашего недружественного появления!.. — Мы мирно беседовали, — торопливо сказал Моше. — Спрячьте оружие! Никто не отреагировал. — Ни в коем случае, — сказал Пиццу и обратился к Габелотти: — Ваши два сторожевых пса хотели нас застрелить… без всякой причины. Они — мертвы! Дон Этторе закатил глаза и с сожалением в голосе сказал: — Моше, нам не повезло… Матарелла и Крисаффули были теми «солдатами», которые знали имена подонков, хотевших похитить Анджелу Вольпоне. Жаль, они не успели мне их назвать…* * *
Окончив диктовать, Итало Вольпоне сам пристегнул Инес к радиатору. — Что мне делать, когда заявятся ее черномазые кузены? — спросил Ландо, когда они вышли в гостиную. — Отвяжешь ее и сядешь в углу комнаты. Если тебе что-то покажется подозрительным, не раздумывая, стреляй через карман. Все равно твоя негритоска уже не жилец… Она мне нужна еще на несколько часов, а потом… что ты прикажешь мне с ней делать? Она — не наша!.. Расколется… Орландо стоял, опустив голову. Спасти от неизбежной смерти свою любовницу он не мог… — Относительно тебя у меня есть кое-какие планы, — продолжил Вольпоне. — С минуты на минуту придет Беллинцона и сменит тебя. Ты отправишься к себе, побреешься, переоденешься и станешь красивым… Должен быть в форме! Тебе придется кое-кого соблазнить. — Кого, падроне? — Дочь банкира. Ренату Клоппе. Несмотря на все уважение к Итало, Ландо посмотрел на него, как на марсианина. — Но, падроне, сегодня ночью она выходит замуж! Весь город только об этом и говорит! — Дополнительная возможность продемонстрировать мне, на что ты способен! — Накануне свадьбы? Откровенно говоря, я не вижу большой необходимости ее трахать. Какая от этого польза? — Не торгуйся! — резко оборвал его Вольпоне. — Ты должен не просто трахнуть ее, а затрахать до потери сознания, чтобы она забыла о своей свадьбе!.. — Хорошо, падроне. Он подошел к зеркалу. На него смотрела небритая физиономия мужчины в мятой, несвежей рубашке. Трахнуть ее!.. Легко сказать… Он даже не знал, как она выглядит. Кроме того, его голова была занята мыслями о судьбе Инес. Он размышлял, что ему лучше надеть, когда в дверь позвонили: три коротких и два длинных звонка. Условный сигнал членов «семьи». Беллинцона вошел в квартиру, похотливо улыбаясь. — Где твоя красотка? Я с удовольствием ей вставлю… — Итало не хочет, чтобы ее трогали. Она в спальне… В наручниках… Сделав удивленный вид, Пьетро холодно спросил: — Ты злишься, что я вспрыгнул на нее? — Нет. — Я выполнял приказ! И неприятностей ей не доставил… Не в обиду тебе сказано, но с тем колодцем, который у нее между ног, — одной палкой больше, одной меньше… Ландо пожал плечами. — Ладно, прекращай. Сюда ожидается визит двух ее двоюродных братьев. Беллинцона уставился на него недоуменным взглядом. — Сюда? Ты что, спятил? — Вольпоне знает… — Он разрешил тебе впустить этих типов? — Да. Когда они придут, ты ее отвяжешь и не будешь сводить с них глаз. — Дикари? — Дипломаты. — Моя задница! Дипломаты! Негры? Что Итало сказал в точности? Как себя вести? Секунду Ландо колебался. Тяжело вздохнув, он сказал правду: — Если почувствуешь что-то подозрительное, стреляй, не раздумывая. — Если так будет продолжаться дальше, все швейцарские фараоны сядут нам на пятки… Не следовало бы принимать здесь этих обезьян! Ландо резко повернулся к нему. — Прекрати поучать меня! Они не советовались со мной! И по телефону разговаривали с ней. Ясно? — Чего ты нервничаешь? Тебе что-то не нравится? — с иронией произнес Беллинцона. — Чао! — сказал Ландо, снимая со спинки стула пиджак. — Секунду! — остановил его Беллинцона. — Покажи мне, что она жива и дышит… Нервным движением Ландо распахнул дверь спальни. — Привет, куколка, — поздоровался Пьетро. — Если позвонят по телефону, дашь ей трубку. Сам возьмешь прослушиватель. Это — приказ Итало. — А если ей захочется пописать? На пол? Ландо протянул ему ключи от наручников. Неожиданно в дверь раздался громкий стук, послышались веселые голоса, смех… — Гадство! Это они! — сказал Ландо, сунув руку в карман. Беллинцона последовал его примеру. Не успели они прийти в себя, как раздался радостный крик Инес: — Мальчики, я здесь!.. Беллинцона наградил ее недобрым взглядом. — Скажешь им, что ты занята… Даю тебе пять минут, чтобы выпроводить их отсюда… Или этим займусь я! И в подтверждение своих слов достал из кармана «вальтер». Ландо присел рядом с Инес. Пока он снимал с нее наручники, Беллинцона в два прыжка оказался у окна, сел в кресло и положил на колени журнал. Правую руку он держал в кармане. Ландо помог Инес встать, сел на диван и сказал: — Открывай! Инес не торопясь сняла цепочку безопасности… Вначале в дверном проеме появился огромный букет цветов, затем, пригнув головы, вошли двое молодых парней. Потрясенный Беллинцона посмотрел на их ноги, чтобы убедиться, что гости пришли не на ходулях. Нет, они стояли на собственных ногах и их обувь была в пределах 52—53-го размера. Не веря своим глазам, Беллинцона встал. Впервые в жизни его сто восемьдесят восемь сантиметров роста показались ему ничтожными… Они обменялись с Ландо удивленными взглядами. Парни бросили цветы на пол, обняли Инес за плечи и по очереди закружили ее по комнате. Неожиданно гиганты замерли, увидев, что в комнате находятся еще двое мужчин. — Извините, — сказал парень в спортивной куртке. Второй вежливым кивком головы поздоровался с Беллинцоной. Заметив смущение братьев, Инес непринужденно пришла им на помощь. Повернувшись к Пьетро и Ландо, она счастливым голосом сказала: — Разрешите представить вам моих двоюродных братьев! Куаку… Рокки… Негры ослепительно улыбнулись. С самым естественным видом они шагнули к Баретто и Беллинцоне, протянув руки для приветствия. И тогда, несмотря на врожденную подозрительность, люди Вольпоне, находясь под гипнозом этих двух человеческих феноменов, допустили непоправимую ошибку: они автоматически вытащили правые руки из карманов брюк, расставшись с оружием. Дальше все произошло с такой молниеносной быстротой, на какую не способна даже кобра. С восхитительной синхронностью, ставшие вдруг легкими, как воздушные шарики, Беллинцона и Баретто взлетели в воздух и полетели по дуге. До того как они грохнулись на пол, отчего содрогнулась квартира, один получил удар ребром ладони по затылку, второй — ногой в солнечное сплетение. В мгновение ока их оружие оказалось в руках гигантов. — Он? — спросил Рокки, показав на Баретто. — Нет, — ответила Инес, — этот толстый хряк. — А этот? — настаивал Рокки. Она презрительно посмотрела на Ландо, лежавшего без сознания. — Ничтожество! Пигмей! — Собирай вещи и жди нас в спальне. Когда закончим, скажем… Инес вошла в спальню и закрыла за собой дверь. Куаку и Рокки больше не улыбались. Беллинцона застонал и открыл глаза. — Вонючие негритосы! Ни один, ни второй не посчитали нужным ответить. Они о чем-то тихо разговаривали, небрежно поигрывая конфискованным оружием. Беллинцона увидел, как Куаку подбросил вверх монету. — Орел, — сказал Куаку. — Ты проиграл, — сказал Рокки. — Решка! Пьетро язвительно сказал: — Что вы разыгрываете, черномазые? Свои задницы? — Твою, — холодно ответил Куаку. — Чертовы ниггеры! — сказал, как выплюнул, Беллинцона. Куаку с удивлением посмотрел на него. — Эй, Рокки, мне кажется, этот боров оскорбил тебя. — Меня? Нет! — Траханные в задницу черномазые, — прохрипел Беллинцона. Рокки и Куаку дружно рассмеялись молодым беззаботным смехом. Пьетро с трудом поднялся на ноги. Гиганты не возражали, но глаз с него не спускали. Теперь уже Рокки вытащил из кармана монету. — Орел или решка? — Орел, — ответил Куаку. Рокки подбросил вверх швейцарский франк. — Черт! Ты выиграл, — недовольно сказал он. Куаку бросил оружие на диван и вплотную подошел к Беллинцоне. Воспитанный и закаленный в безжалостных рукопашных схватках в доках Нью-Йорка, Пьетро никого не боялся. Ему было всего тринадцать лет, но при упоминании его имени дрожали все подростки квартала. И все они, в одинаковой степени, ненавидели негров. — Моя сестра утверждает, что ты отнесся к ней без должного уважения, — ласковым тоном сказал Куаку. — Эта шкура — твоя сестра? — рассмеялся Пьетро. — Я ей так вставил, что она пернула! Несмотря на то что Пьетро был готов к схватке, он ничего не успел заметить. Три удара с силой и регулярностью гидравлического пресса с поразительной точностью обрушились на его печень, сердце и челюсть. Американец вздрогнул и мешком рухнул на пол. Куаку наклонился и одной рукой вздернул Беллинцону на ноги. Затем расстегнул ему брюки и спустил их до щиколоток. В этот момент Ландо, о котором, казалось, все забыли, бросился сзади на Куаку. Рокки, не вставая с дивана, без размаха ударил Ландо ногой в живот. Этого оказалось достаточно, чтобы он во второй раз потерял сознание. Беллинцона пришел в себя в тот момент, когда Куаку одним движением сорвал с него трусы, порвав их, как сгнившую тряпку. Пьетро безумно завращал глазами и попытался вырваться. Куаку взял его за шею и трижды ударил головой о мраморное основание абстрактной скульптуры. Лежа у ног Рокки, Ландо блевал желчью. Куаку наклонился к уху Пьетро и что-то прошептал ему. Пьетро, который едва видел его сквозь красный туман, застилавший ему глаза, отрицательно покачал головой. Рокки отошел в угол, повернулся ко всем спиной и стал делать странные движения рукой, словно, помочившись, никак не может стряхнуть последнюю каплю с члена. Куаку, ладонь которого легко обхватывала баскетбольный мяч, с отвращением положил руку на голову Беллинцоны. — Слушай меня внимательно, — не повышая голоса, сказал он. — Сейчас ты испытаешь то, что проделал с нашей сестрой. И запомни, трахнутыми в задницу будут не негры, а ты! Беллинцона с ужасом понял, что ничего не может сделать, сил у него оставалось не больше, чем у ребенка. Он снова отрицательно покачал головой. Его огромное полураздетое тело лежало на ковре: толстые ягодицы и чудовищных размеров бедра напоминали зад племенного борова. От ощущения собственного бессилия на его глазах выступили слезы. — Не делай этого, брат, не делай… Не обращая на слова Пьетро никакого внимания, Куаку обратился к позеленевшему от страха Орландо. — Тебе нечего бояться… Ты только смотри, как будут натягивать твоего приятеля. И знаешь, почему мы тебя не тронем? Потому, что он никогда тебе не простит, что ты присутствовал при этом… Он убьет тебя. — Не делай этого! — стонал Беллинцона. — Пристрели меня! — Закройся! Рокки, ты готов? — Вполне, — ответил Рокки. Все посмотрели в его сторону. Он стоял к ним лицом, и то, что увидели Ландо и Пьетро, потрясло их. Из расстегнутой ширинки брюк Рокки торчал член нечеловеческих размеров, разбухший и поднятый в вертикальное положение с такой силой, что казалось, ничто и никогда не сможет его согнуть. Куаку стал коленями на лопатки Беллинцоны и придавил его всем телом. — Застрели меня, сволочь! Застрели! — кричал Беллинцона. Ландо хотел закрыть глаза, но тут же открыл их, завороженно уставившись на жуткий спектакль. Он увидел, как Рокки лег на Беллинцону, который рыдал, как ребенок, ломая ногти о пол. — Не надо! Не надо! — Недоносок! — сплюнул Рокки. Он сделал несколько неуверенных движений бедрами, затем резко послал их вперед, пронзая тело Беллинцоны. Дикий рев Пьетро слился с победным кличем чернокожего мстителя… (обратно)ГЛАВА 16
— Тебя что-то беспокоит? — спросила Шилин у Хомера. — Ты странно выглядишь. Она отложила платье, которое рассматривала, и положила руки ему на плечи. — Из-за Ренаты?.. Да? — спросила она. Хомер легонько похлопал ее по рукам, но его взгляд оставался далеким и отсутствующим. — Будешь пить чай? Движением головы он отказался. — Не волнуйся… Я знаю, что для отца это тяжелая минута… Посмотри на меня. Она взяла его за подбородок двумя пальцами и приподняла. — Улыбнись мне. Губы Клоппе механически раздвинулись, обнажив прекрасные зубы. — Мне нравится, когда ты улыбаешься, — сказала Шилин. За четыре часа до этого Хомер безжизненно лежал в кабинете Аугуста Штроля. Хотя только что его подвергли физической пытке, но именно он с помощью Ингрид привел в чувство дантиста, который не мог держаться на ногах. Профессор находился в глубоком шоке. — Они заставили меня, мистер Клоппе. Я не хотел. Это ужасно! К горлу Ингрид они приставили бритву… Я никогда не прощу себе этого, никогда… Парадоксально, но безвольное состояние супружеской пары придало банкиру сил… Неожиданно ему в голову пришла фраза, характеризующая ситуацию: «Стисни зубы!» Но зубов у него не было. Сгусток крови, прилипший к верхней десне, вызывал тошноту. Он попытался оторвать его. Вместе с выдернутой изо рта слизью, как фонтан гейзера, хлынула кровь. — Помоги мне, идиот! Хватит хныкать! Он сильно тряхнул Штроля за плечи. — Садитесь… Вы правы… Сейчас я вас обработаю… Ингрид! Компрессы! Коагулирующие!.. В нем снова ожили профессиональные навыки. Он восстановит… Он обладает достаточным талантом, чтобы в искусственном варианте восстановить то, что он разрушил. Но не сейчас… позже… — Этой ночью моя дочь выходит замуж, — сказал Клоппе. — Я должен встречать гостей, в том числе и вас… со всеми зубами… Несмотря на ужасную шепелявость, Ингрид и Аугуст поняли смысл произнесенных слов. Они обменялись обеспокоенным взглядом… Возможно ли по живому поставить временный протез?! — За работу! — подбодрил их Клоппе и попытался улыбнуться… Операция длилась три часа. Профессор и его супруга превзошли самих себя. По разным причинам ни Клоппе, ни Штроль ни словом не обмолвились о разбойном нападении. Клоппе — потому что знал. Ингрид и Аугуст — потому что не могли еще выйти из шока. Когда банкир посмотрелся в зеркало, он увидел свое собственное лицо. Его челюсти украшали два ряда зубов. — Я сейчас же иду в полицию! — заявил Штроль. Хомер посмотрел на него пронзительным взглядом. — Это ваше право! Но… я запрещаю вам упоминать мое имя… — Но почему?.. Почему? Клоппе чуть не ответил ему: «Банковский секрет!» — но вовремя придержал язык, принимая от Ингрид таблетки, тампоны и дезинфицирующие средства. — Увидимся сегодня вечером. Поздравляю вас с превосходно выполненной работой! Фраза прозвучала настолько двусмысленно, что у Штроля на глазах навернулись слезы. Он осторожно взял банкира за запястье. — Мистер Клоппе… — Знаю… знаю… До вечера… Захваченный мыслями о предстоящей борьбе, Клоппе решительно возвратился в банк с твердым намерением, не медля, осуществить то, что планировал сделать после свадьбы дочери. В разные концы земного шара он направил два телекса. Один — Мелвину Босту в Детройт с приказом предупредить всех обладателей «Бьюти гоуст Р9» об опасности управления машиной. Второй — в Южную Африку, Эрику Морталду, директору «Вассенарз консолидейтед»: «Согласен на проведение работ, связанных с обеспечением безопасности. Деньги перевожу немедленно». Клоппе не волновало, что будет с его банковской империей. Главное — он в согласии со своей совестью. Навсегда! Вознесшись на вершину справедливости, он решил открыться Шилин, признаться ей во всех своих прегрешениях, ничего не утаив. Но, переступив порог дома, он заколебался: стоит ли погружать ее в грязный и жестокий мир, в котором он живет последние двое суток? Не нанесет ли он этим ей сильнейшую душевную травму? Шилин парит в своих розовых облаках… Готова ли она выдержать подобное испытание? — Шилин… — Да, Хомер. Стоя перед зеркалом, она с довольным видом рассматривала себя в новом платье, в котором собиралась выйти вечером к праздничному столу. — Я хочу с тобой поговорить, — сказал Хомер. — Тебе нравится сыр «пармезан»? Извини… Что ты хотел мне сказать? Ощущая ужасную боль в челюсти, Клоппе решил отложить разговор. — Ничего, — ответил он. — Ничего…* * *
Фраза, которая выплыла у него из закоулков памяти, поразила его. Принадлежала она какому-то французскому автору: то ли Коктаю, то ли Както или Кокто. Вспомнить он не мог. «Если мы не можем проникнуть в тайну, сделаем вид, что мы — ее создатели…» Странно, что именно сегодня она пришла ему в голову. Но Габелотти знал, что никогда не воспользуется ее смыслом, потому что рассчитана она на слабаков. Рядом с ним, с трагически-озабоченным выражением на лицах, сидели Кармино Кримелло, Анджело Барба, Томас Мерта, Карло Бадалетто, Фрэнки Сабатини и Симеон Ферро. Чтобы «крестный отец» немедленно не отреагировал на убийство двух членов «семьи», произошедшее на глазах у всех, не укладывалось в их сознании. Священный закон Синдиката гласил, что нанесенное оскорбление никогда не прощается. Что-то здесь было не так! Или дон Этторе размяк, или испугался Вольпоне, или, на что каждый в глубине души надеялся, приготовил для Итало какой-то сюрприз. Тела двух убитых «солдат» были незаметно вывезены из дома. Их уложили в лифт и спустили прямо в подземный гараж. Там перенесли в микроавтобус с матовыми стеклами. «Семья» Габелотти купила на дальнем кладбище Нью-Йорка тридцать фамильных склепов. И когда возникала необходимость захоронить члена «семьи», погибшего от пули, ножа, в драке или в результате вспыльчивости дона, погребение проходило без лишних административных формальностей: ни морга, ни вскрытия, ни полиции… Сторожами кладбища были надежные, высокооплачиваемые люди, у них никогда не возникали вопросы, в какой час суток нужно предать человека земле. Медоточивая улыбка расползлась по лицу Габелотти. — Ситуация вам известна, — начал он. — Мортимер О’Бройн хотел нас прокинуть. Я не знаю, жив он или мертв, не знаю, где скрывается… Мне кажется, что наш компаньон, — он закашлялся, — наш компаньон Вольпоне разделался с ним. И здесь он не прав! Почему? Потому что, попади эта мразь мне в руки, этот сучий О’Бройн, он раскололся бы, как орех. Могу в этом поклясться! Ни Итало, ни я не знаем номера счета. Малыш Вольпоне переполнен доброй волей, но этого недостаточно. Поэтому, чтобы довести дело до конца, я сам отправляюсь в Цюрих. Мужчины с изумлением уставились на него: дон Габелотти терпеть не мог путешествий. Мир шел к нему, зачем нужно было менять порядок вещей? К тому же его боязнь самолетов ни для кого не была секретом и являлась предметом шуток во многих «семьях» Синдиката. — Как вы собираетесь туда добираться? — спросил Кримелло. И, не подумав о последствиях, добавил: — Теплоходом? — Повтори! — угрожающе произнес Габелотти. Осознав, что допустил оплошность, Кримелло обвел присутствовавших растерянным взглядом. Никто не попытался прийти ему на помощь. Все упорно избегали его взгляда. Оказавшись в одиночестве, Кармино вынужден был держать ответ сам: — Я не сказал ничего плохого, падроне. Я знаю, что вы не любите летать самолетом… всего лишь… Не вы один такой… Я боюсь еще больше… — В будущем прибереги свои шуточки для себя! А самолетом ты полетишь завтра. Все подняли головы. — Полетим вместе, — добавил дон Этторе со злой решимостью в голосе. — Естественно, мы не можем высадиться в Цюрихе целой командой. Анджело, Томас и Карло полетят во Францию… в Лион. Оттуда поездом прикатите в Швейцарию. Фрэнки и Симеон направятся в Милан и затем прибудут в Цюрих. А ты, Кармино, так как боишься летать самолетом, будешь сопровождать меня до Цюриха. — Он бросил на него тяжелый взгляд. — А чтобы тебе не было страшно, я буду держать тебя на своих коленях. Раздался смех и тут же смолк. — Там мы встретимся с людьми Вольпоне. Если кто-нибудь из вас коснется хоть малейшим намеком событий, происшедших здесь, будет немедленно отправлен в Америку. До тех пор пока мы не получим деньги, мне нужен мир! Я требую полного согласия… — А потом? — серьезно спросил Барба. — Что «потом»? — Когда получим деньги? — У нас будет достаточно времени, чтобы разобраться с доном Вольпоне, — ответил Габелотти. Слово «дон» он произнес с таким чувством, словно хотел избавиться от накопившейся во рту слюны.* * *
Все у него шло наперекосяк. Анджела до сих пор не найдена! Габелотти вставлял ему палки в колеса и держал заложником Юдельмана! Витторио Пиццу не хватило мозгов проявить инициативу! Хомер Клоппе не хотел сдаваться! Уже в который раз Итало проклинал свою несдержанность. Ему фантастически повезло, когда он наложил лапу на О’Бройна. И так глупо не воспользоваться шансом… Адвокат был не такой закалки, как банкир. Немного терпения, и он вырвал бы у него номер счета. Но самым большим желанием Итало было возвратиться в Соединенные Штаты. Погрузить Нью-Йорк в огонь и кровь, но во что бы то ни стало найти жену. К сожалению, сделать это сейчас он не мог. От результата операции «АУТ» зависели его жизнь, его будущее, его счастье… Он прекрасно знал, что говорят за его спиной, сравнивая его с Дженцо: хвастун, пижон, насильник… Да, все это в нем было… Но как они не могут понять, что он был таким, потому что Дженцо повезло родиться раньше, чем ему. Дженцо был для него больше чем отец: воспитывал, защищал, баловал, избавлял от всех забот, решал и говорил вместо него. С каждым годом власть Дженцо крепла, и все привыкли видеть Итало в его тени. Привык к этому и Итало. Зачем за что-то бороться, если можно попросить? Зачем драться, если Дженцо сделает это вместо него? И только после встречи с Анджелой он начал понимать, на что способен. Рядом с ней он быстро ощутил жажду к независимости. Он перестал быть младшим братом, а стал самостоятельным мужчиной, готовым постоять за любимую женщину. Он попытался объясниться со старшим братом, мягко упрекнув его в том, что тот не возлагает на него достаточную ответственность… Дженцо молча, сбольшим вниманием выслушал его. — У меня нет к тебе никаких претензий, Дженцо, ты, возможно, уж слишком опекаешь меня. Я начинаю от этого задыхаться. Мне хочется полетать на собственных крыльях. Понял ли его Дженцо? Он улыбнулся и взлохматил ему волосы, как маленькому. — Ты полностью прав, Малыш! Но не стоит на меня злиться. Может, я что-то просмотрел и не заметил, как ты вырос. — Мне тридцать восемь лет. Дженцо было только сорок шесть. Но когда Итало было десять, Дженцо уже верховодил десятками жестоких подростков, готовых без раздумий пустить в ход кулаки или холодное оружие. Он превосходил их умом, прозорливостью, умением просчитать риск… Восемь лет разницы в возрасте выработали между братьями отношения отца и сына, учителя и ученика. Для Дженцо Итало всегда оставался десятилетним мальчуганом. А для Итало Дженцо навсегда останется сорокашестилетним… После звонка Пиццу он еще раз посетил морг. Он долго стоял на коленях перед металлическим ящиком, в котором лежала нога его брата. Горькие и теплые слезы медленно текли по его щекам, вызывая яростное желание мести. Из морга он поехал на виллу. За рулем сидел Фолько Мори. Теперь Итало, как никогда, был уверен, что доведет дело брата до конца — единственный способ выразить ему благодарность за благодеяния и любовь к нему. Он неистово поклялся, что станет достойным преемником тяжелой короны, и горе тому, кто захочет снять ее с него! Но чтобы уверенно предстать перед Комиссьоне, нужно завершить начатое Дженцо дело. Заставить Клоппе перевести деньги. Войдя в гостиную виллы, он увидел сидевших на диване Пьетро Беллинцону и Орландо Баретто и тотчас почувствовал: что-то случилось. Ландо должен был возвратиться обратно один… — Мне кажется, ты должен охранять черномазую, — сухо сказал он Беллинцоне, заметив, что лицо Пьетро покрыто кровоподтеками. — Нас прокрутили… Она сбежала. Итало почувствовал, как кровь прилила к лицу. Инес должна была еще сыграть важную роль в его плане. — На нас напали ее братья, — поспешно добавил Ландо. — Закройся! Я разговариваю с Беллинцоной. Фолько Мори стоял у окна, внимательно рассматривая лужайку перед домом. Не в силах говорить, Беллинцона в немощном жесте развел руки в стороны. — Что? — взревел Вольпоне. — Их было двое… — глухим голосом произнес Пьетро. Было заметно, что слова даются ему с большим трудом. — Когда они вошли, мы не спускали с них глаз… Я держал палец на спусковом крючке… Он тоже… Вот… — Что «вот»? Беллинцона упорно рассматривал носки своих туфель. — Я не понимаю, падроне… Он хотел продолжить и не смог. Стыд давил на него десятитонной бетонной плитой. — Нас поимели… — Два гиганта, — добавил Ландо. — Гигант с пулей в голове больше не гигант, а кусок дерьма! — взорвался Вольпоне. — И вы тоже два куска дерьма! Два мудака! Мне нужна эта негритоска. Где она? Ландо и Беллинцона не осмеливались даже посмотреть друг на друга. Ландо охватило жуткое беспокойство. Он отдал бы все, только бы не быть свидетелем содомии Беллинцоны. Один из негров предупредил его: «Тебя мы не тронем. Твой друг сам займется этим. Он убьет тебя!» Эта угроза сверлила его мозг с тех пор, как они покинули квартиру Инес. — Я спрашиваю у вас! Где она? — кричал Вольпоне. Они молчали. — Ландо, убирайся отсюда! Тебя ждет работа! И на твоем месте я очень бы постарался. — Хорошо, падроне. Находясь в состоянии прострации, он не представлял себе, как сможет соблазнить дочь банкира. Предположим, что он ее встретит. Предположим, что ему удастся избавиться от выражения страха на лице. Предположим, она его заметит и он ей понравится. Дальше? Для высшего пилотажа в сексе нужны еще и свободные мозги. А после спектакля, устроенного братьями Инес, его уверенность в своей мужской силе заметно поколебалась. К тому же не давала покоя мысль, что второго провала Вольпоне ему не простит. — Фолько, поезжай в аэропорт и прочеши здание снизу доверху. Их легко заметить! Три гиганта! Пьетро, езжай с ним! Исчезни, или я разнесу тебя в клочья! Беллинцона тяжело поднялся. Сколько он будет жить, столько будет носить в себе этот позор. Или пока не убьет того, кто над ним надругался. Он даже чуть пожалел, что Вольпоне не взбеленился до такой степени, чтобы пристрелить его. Он шел рядом с Фолько Мори, который тактично не задавал ему никаких вопросов. Раздосадованный таким поворотом событий, Вольпоне поднялся в спальню и позвонил в Нью-Йорк. Что с Анджелой? Страх не давал ему дышать. Первые слова, услышанные им от Витторио Пиццу, как струя кислорода, наполнили легкие. — Ваша жена дома, падроне. Чувствует себя великолепно… Передаю трубку Моше, он вам все объяснит… Покидая дом Габелотти, Юдельман ломал голову над тем, в каком ключе разговаривать с Вольпоне. Рассказать Итало всю правду, равно как и утаить ее, было одинаково опасно. Моше ни на йоту не поверил Габелотти. Несмотря на воображаемые угрозы «семье» Вольпоне, которые он придумал в свое оправдание, дон Этторе просто держал их заложниками. А что могло означать его спокойствие, когда у него на глазах убили его «солдат»? Моше знал, что Габелотти ничего не прощает и никогда не забывает. Счеты дон Этторе начнет сводить, когда получит два миллиарда долларов… Но и Вольпоне таит в себе не меньшую опасность. Его страх не быть принятым всерьез задевал его самолюбие, он готов был пойти на что угодно, лишь бы утвердиться… Так и не найдя нужного хода, мысленно адресуя молитву всем богам и надеясь на импровизацию, Юдельман взял трубку, протянутую ему Витторио Пиццу. — Все хорошо, Итало, все в порядке! — заговорил он спокойным голосом. — Где Анджела? — Сейчас я тебе все расскажу, Итало… Мы должны поставить свечку дону Этторе… Без него… — Что-о-о? Что ты несешь? — взревел Итало. — Габелотти вызволил нас из грязной истории… Он узнал, что нам угрожает опасность. Из уважения к тебе он спрятал нас под своей крышей… — Да ну?! — Да, Итало! Он предложил нам свое гостеприимство. — Кому? — Анджеле и мне. — Моя жена пошла к этому жирному борову? Он дотрагивался до нее? Говори! Юдельман чувствовал, как испаряется его уверенность. — Вся эта история — досадное недоразумение, Итало. — А Дженцо — тоже недоразумение? А О’Бройн? Ты бьешь поклоны перед этим мешком с жиром, а я даже не знаю, что он сделал с нашими деньгами! — Дай мне сказать слово, Итало. — Закройся! Ты ничего не знаешь. Он получил мой язык? — Твой язык? — Язык одного придурка, который следил за нами уже из Нью-Йорка в пользу твоего нового вонючего друга! Язык Рико Гатто! Я отправил его Габелотти, завернув в паспорт этого слизняка. Где Анджела? — У себя дома. — Кто ее охраняет? — Четверо и Винченце. — Добавь еще четверых! Если ее напугали, я убью тебя собственной рукой, Моше! — Хорошо, ты убьешь меня. Могу я вставить слово? — Нет. Ты еще не знаешь… Мои парни были вынуждены ликвидировать двух фараонов. — Швейцарских? — задохнулся Моше. — Американских. Парней Кирпатрика. Это что-то меняет? — О черт! Только не это… — Нет, это!.. Банкир не сдается! Цюрих кишит фараонами и информаторами. Я — в мышеловке! А в это время моя правая рука милуется с подонком, который похитил мою жену и убил моего брата. — Это неправда! — повысил голос Юдельман. — Ты ошибаешься. Если бы это сделал Габелотти, он никогда бы нас не отпустил. Моше закусил губу, но было уже слишком поздно… Он проговорился и все испортил. Вольпоне взорвался. — Старый вонючий врун! Ты слышал, что только что сказал? Катастрофа… Теперь ни о каком союзе не могло быть и речи. — О’кей, о’кей! — обронил Моше. — Тебе хочется услышать правду? Слушай! Я возвратился к Габелотти, и он меня не отпустил. И причиной тому явился ты, Итало! Он попросил позвонить тебе в отель, но ты уже съехал оттуда. Естественно, он тут же заподозрил, что ты… А что бы ты сделал на его месте? Ты поступил бы точно так же. И он направил двух боевиков за Анджелой… — Скотина! — Сегодня, в пять утра, он сказал, что мы свободны. Он извинился и объяснил свои действия. Послушать его, так твою жену собирались похитить… — Кто? — Не знаю. Он хотел нас защитить. Сказал, что мы компаньоны и у нас общие интересы… — И ты это проглотил? — С большим удовольствием! Особенно после того, как я узнал о языке. Он всех нас перерезал бы! Дальше, Пиццу, выполняя твой приказ, ворвался в квартиру Габелотти. Вместе с ним были Алдо, Винченце и Джозеф. На входе они уложили двух охранников, что еще больше накалило обстановку. — Не думал ли ты, что я брошу жену и не вмешаюсь? — Я тебя умоляю, Итало, не вмешивайся больше. Пойми, сейчас мы плывем с Габелотти в одной лодке. Он, как и мы, не может подобраться к деньгам. Итало молчал. Моше понял, что аргумент попал в десятку. — Но почему? Почему? У него же есть номер счета! — Нет. По неизвестной мне причине номера счета у него нет. Иначе деньги были бы уже далеко. Итало, послушай, Дженцо — мертв, и ты станешь «крестным отцом». Ты станешь доном. Это многим не по душе… В Комиссьоне о тебе противоречивое мнение, они против тебя, осуждают твое прошлое… Для них ты — как бельмо в глазу. Один твой неверный шаг, и тебя ликвидируют. Я этого не хочу, Итало! Если ты меня послушаешься… есть один шанс… — Закройся, трус! Габелотти никогда бы не посмел похитить жену Дженцо! — Верно. Но твой брат никогда не махал у него перед носом красной тряпкой. Он попытался бы его убедить, а не давать новых поводов для недоверия. Ты знаешь, кому на руку наши глупости? Банкиру! Твой враг не Габелотти, а Клоппе! Ты еще не знаешь банкиров, Итало! Это легальные бандиты, они похуже нас! Они сильны, тверды, динамичны! Они свергают правительства, выигрывают войны, смещают глав государств! Они опаснее, чем десять армий. Они опутали всю землю и правят, потому что у них деньги. Если им не назвать этот чертов номер, мы никогда не увидим, какого цвета эти два миллиарда долларов! Надо сплотиться с Габелотти, соединить силы в один мощный кулак. — Что большего, чем я, может сделать эта корова, если у нее нет шифра? — скрипнув от злости зубами, спросил Вольпоне. — Ты решишь это с ним на месте. — Что? — Завтра дон Этторе вылетает в Цюрих. Он хочет встретиться с тобой.* * *
Двое парней и девушка сидели в небольшом зале клуба джазовой музыки на улице Колизей. Цюрих был далеко… Час тому назад они прилетели в Париж. Сегодня вечером они разлетятся в разные стороны: Куаку возвращается в Саклей, Рокки улетает в Нью-Йорк, а Инес — в Лондон, где у нее много друзей. То, что ее братья прилетели ей на помощь с разных концов света, наполняло ее счастливой гордостью. Закончился неприятный эпизод в ее жизни… Удачно!* * *
В какой одежде покончить со своим девичеством? Рената перебирала пальцами десятки платьев и костюмов, которыми были забиты шкафы. Некоторые были совершенно новые. Ей доставляло удовольствие просто иметь их. Иногда в плохом настроении она заходила в магазин и покупала что-нибудь «от Диора» или «от Кардена», как другие покупают мороженое. Повесив покупку в шкаф, она забывала о ней, а через полгода отдавала платье или костюм своей служанке Мануэле. Сама же Рената уже третий год носила одни и те же джинсы. Свой выбор она остановила на голубом фланелевом костюме мужского покроя. Она надела его и посмотрелась в зеркало. Скорчила рожу. Сейчас, когда надо было сдержать данное себе слово, прежнего желания уже не было. И вообще идея, которую она так долго вынашивала, начинала казаться ей идиотской. К чему за несколько часов до свадьбы «снимать» кого-то незнакомого на улице? Она долго искала причину, толкавшую ее на это безрассудство и, в конце концов нашла: этот жест компенсирует в дальнейшем ее полную верность Курту. По крайней мере до тех пор, пока будет длиться их союз. Миссис Хайнц! Поменяла хромого коня на слепого. Ей никогда не нравилась фамилия Клоппе… Хайнц была еще хуже… Рената Хайнц!.. Он пожала плечами, закурила и поставила на электрофон пластинку «Битлз». Затем села прямо на пол и прислонилась спиной к стене. Вошла Мануэла и от восхищения присвистнула. — До чего же вам идет голубой! Новый?.. — Старый, как нищета… — Вы понравитесь мистеру Курту… — Это не для него… — А! А для кого же? — Еще не знаю. Для первого, кто захочет меня… Мануэла вежливо и смущенно улыбнулась. — Мне кажется, что вы мне не верите, — сказала Рената. — Да, я собираюсь сделать самую глупую вещь в своей жизни… Мануэла исподтишка посматривала на нее. Она никогда не знала, когда ее хозяйка говорит серьезно, а когда шутит. — Вы мне расскажете? — Конечно, нет! Это мой последний девичий секрет! Какие новости от Хулио? Получили письмо? — Да, только что… — У него все в порядке? — Не очень… Поговаривают, что закроют шахту. — Почему? — По причине безопасности… — Он расстроился? — Да. Очень. Он хорошо зарабатывает. — А как вы к этому относитесь? — Я безумно рада. С тех пор как он уехал, я только и делаю, что молюсь, чтобы он скорее вернулся. Ни Рената, ни Мануэла, ни тем более Хулио не знали, что «Вассенарз консолидейтед» принадлежал Хомеру Клоппе, основному держателю акций. — Это еще не все, — добавила Мануэла. — У меня будет ребенок. — Не может быть! — воскликнула Рената. — Уже четыре месяца. По ночам я чувствую, как он там шевелится. — Восхитительно! Вам надо прекращать работать! — Еще рано, — запротестовала Мануэла. — Я могу работать еще четыре месяца. — Ни в коем случае! — Но я буду вам нужна… молодоженам… — Я найму кого-нибудь еще, но и вы останетесь в доме. Мануэла? — Да. — Сделайте мне приятное! Я хочу быть крестной вашего ребенка. Мануэла посмотрела на нее глазами, полными признательности. — Спасибо, мисс… — И не переживайте, если Хулио потеряет работу. Я подыщу ему что-нибудь подходящее в Швейцарии. Мое платье готово? — Осталось немного… Я сразу же принесу его вам. Рената раздавила окурок в пепельнице. Как просто все смотрится со стороны… Она встала, скорчила рожу в зеркало и усмехнулась. Следуя своему плану, она должна выйти на улицу и «снять» или «дать себя снять» первому, более-менее приятной внешности, типу и спросить у него самым обворожительным своим голосом: «Не хотите ли переспать со мной?» До этого момента все шло гладко… А если тип ничего не ответит? Придурков хватает повсюду, даже в Цюрихе. Внутренне улыбаясь, она взяла свою сумочку и вышла на Беллеривштрассе, навстречу своему последнему приключению. Далеко идти ей не пришлось. Она увидела его сразу. Высокий, стройный, с ярко выраженной итальянской внешностью. Безукоризненного фасона темный блейзер был великолепно пошит. Он стоял, прислонившись к сверкающей «Бьюти гоуст Р9» серого цвета. Он смотрел, как она приближается к нему, словно ждал ее на этом месте уже целую вечность и знал, что она придет. Сердце ее бешено стучало, и она спрашивала себя, хватит ли у нее смелости осуществить задуманное. В двух шагах от него она остановилась. Вблизи он оказался еще красивее: скуластое, с правильными чертами лицо, напряженный взгляд. Она обратила внимание на его руки: тонкие, сильные, ухоженные. — Как вас зовут? — спросила она. Его губы расплылись в улыбке. — Орландо. — А меня — Рената. Я хотела бы заняться с вами любовью. — Я — тоже, — сказал он, открывая перед ней дверцу машины. (обратно)ГЛАВА 17
Закатив глаза, Рената умоляла: — Нет! Нет! Нет… Нет… — Поднимайся! — Я больше не могу. — Поднимайся. Она поднялась еще на одну ступеньку. Она была не в состоянии сказать, что с ней происходит. Было ли это восхождение пыткой, или наслаждением, или и тем и другим одновременно. Каждая новая ступенька была — как новое распятие на кресте. И этой распятой была она. С Беллеривштрассе Ландо привез ее к себе домой. Взволнованная больше, чем ей бы того хотелось, — из собственного опыта она знала, что в таких случаях надо сохранять холодную голову, — она даже не попыталась узнать, куда они направляются. Хранил молчание и Ландо. Они вышли из лифта, доставившего их на четвертый этаж. Пока он открывал дверь своей квартиры, она чувствовала себя проституткой, прикидывающей сумму, которую потребует с клиента. Ландо, прекрасно разбиравшийся в женщинах, знал, что лишние слова могут только помешать действию. Он не стал терять время, предлагая стаканчик вина или музыку — основная ошибка дилетантов-соблазнителей, которые проигрывают сражение, дав противнику время на обдумывание. Ударом ноги он захлопнул дверь, повернул ключ в замочной скважине и, прижав Ренату к двери, бесцеремонно задрал ей до пояса голубую юбку. Даже не поцеловав молодую женщину, не приласкав ее, не сказав ни слова, он спустил с нее тонкие колготки ниже колен и властно вошел в нее. С Ренатой так еще никто не обращался. Богатый профессиональный опыт Ландо подсказал, что никаких предварительных игр не надо. Да или нет! Сразу! Прижатая к двери, изумленная и шокированная Рената почувствовала, как пробуждается ее тело под сильными толчками Орландо. Обычно Курта она трахала сама. Но здесь ни о какой инициативе не могло быть и речи. Впервые в жизни она осваивала для себя новую роль — пассивную. — Я хочу в кровать, — простонала она. Не отвечая, он продолжал проникать в нее, чередуя длинные и короткие удары, замирая иногда, чтобы переждать накатывающуюся волну извержения. — Пожалуйста… кровать. Этот ненаступавший оргазм — в последнее мгновение он останавливался — сводил ее с ума. Так он развлекался с ней сорок пять минут: стоя, не уставая, ввинчиваясь в нее, хладнокровно контролируя ритм своего тела. Изнемогая, глядя на него остекленевшими глазами, Рената почти рыдала: — Ну же, ну же… еще… Но Ландо плевал на ее просьбы. Он точно знал, как довести ее до состояния, из которого она не выйдет… В этом празднике чувств, который он создавал, он был всего лишь инструментом… Он делал все возможное, чтобы как можно лучше выполнить приказ Вольпоне. И только… — Ландо… Ландо! Умоляю тебя… Как только она начала судорожно вращать тазом, он снова замер. Но на этот раз он опоздал на какую-то долю секунды… Рената вышла из-под его воли, улетев на таинственных волнах удовлетворения. Разочарованный, он вынужден был следовать движению ее бедер, нанося тяжелые, мощные, финальные удары. Рената обмякла, черты ее красивого лица исказились до неузнаваемости. Ландо пришлось удержать ее за талию, чтобы она не упала на ковер. Впервые в жизни она перешагнула рубеж, разделявший простое наслаждение от ослепляющего оргазма. Оглушенная, вялая, она подняла на Ландо изумленные глаза и чуть слышно прошептала: — Спасибо… спасибо… Но сюрпризы для нее только начинались. Было бы вполне естественно, если бы он сейчас закурил сигарету, улыбнулся, удовлетворенно потянулся и пошел принять душ. Вместо этого он стал на колени, обнял ее сильными руками и начал нежно лизать внутреннюю сторону ее бедра в том месте, где оно теплое и нежное, как под крылышками у ласточек. Когда его язык коснулся ее треугольника, обессиленная Рената хотела его оттолкнуть. — Нет, Ландо, нет… Обожди, обожди!.. Но он крепко держал ее в кольце своих рук и, не обращая внимания на ее протесты, жадно припал ртом к шелковистому руну. Через пятнадцать минут она снова унеслась к звездам. Она начала выкрикивать задыхающимся, прерывистым голосом: — В кровать… В кровать! Отнеси меня в кровать! Он еще быстрее задвигал языком, думая в это время о тысяче других вещей: хорошо ли накачаны шины его машины, где сейчас может находиться Инес, как оценит Вольпоне его усилия, если он добьется успеха… Эта мысль вдохнула в него новые силы. Его ласки стали еще неистовее. Рук, казалось, стало в несколько раз больше: они под разными углами исследовали тело Ренаты, задерживаясь на самых чувствительных местах, ласкали, сжимали, проникали… Когда мышцы рта уже начала сводить судорога, он вынудил ее кончить еще раз. Рената безжизненно рухнула на пол. Ноздри ее расширились, тело содрогалось в спазматических судорогах. С отчаянием, смешанным с удивлением, она увидела, что член Ландо снова готов набрать силу… Не глядя на нее, он поставил ее на ноги и прошептал на ухо: — Сейчас ляжем в кровать. Ты этого хотела, ты это получишь… Крепко обняв сзади, он легонько подтолкнул ее вперед. Пошатываясь, Рената направилась к лестнице, которая вела в лоджию. Когда она ступила на первую ступеньку, он вошел в нее. Несмотря на полное изнеможение, она почувствовала, как горячая волна поднялась по телу от пальцев ног, пройдя через лобок, соски, до корней волос. Она умирала в третий раз… Неутомимый Ландо посадил ее на вторую ступеньку, нежно, но настойчиво развел руками ей ноги и припал ртом к ее источнику. Рената безнадежно пыталась оттолкнуть его, не понимая, то ли она сошла с ума, то ли уже умерла… Ландо все настойчивее прижимался лицом… — Ты убьешь меня… Ты убьешь меня! Он подумал, что скорее умрет сам, если не добьется того, чего хочет от него Итало Вольпоне. Он отпустил ее лишь тогда, когда она изогнулась с силой взбрыкнувшей лошади, издав нечеловеческий крик. Не давая ей прийти в себя, он поднял ее на третью ступеньку, повернул к себе спиной и мгновенно вошел в горевшую, как раскаленное железо, плоть. — Пощади, я больше не могу… Нет… нет! Он укусил ее в затылок и выдохнул: — Ты же хотела в кровать… Осталось всего лишь пять ступенек…* * *
— Это я! — сказал Вольпоне, стараясь не выдать своего волнения. — Итало!.. Итало!.. — повторяла Анджела. Итало был рад, что жена не видит, до какой степени он разволновался, услышав ее голос. Он сжал челюсти и заскрипел зубами, чтобы сдержать глупые слезы, появившиеся у него на глазах. Страх потерять Анджелу тысячу раз опускал его в могилу. — Анджела, объясни, что произошло. Тебе сделали плохо? Моше, который до сегодняшнего дня не обременял себя разговорами с нею, долго наставлял ее, подробно все объясняя: — Анджела, мы сделали большие ставки! Многого я сейчас вам рассказать не могу. Знайте только, что, если вы пожалуетесь Итало, всем нам будет очень плохо… — Почему всем? — Нервы у вашего мужа — на пределе. Смерть брата возложила на него громадную ответственность. Именно он должен завершить дело, начатое Дженцо. Трудное дело… Итало любит вас больше всего на свете… Он далеко от нас и может неверно истолковать приглашение Габелотти. Итало ненавидит его, но Габелотти действовал только во благо вам… Он защищал вас… — Но от кого? — удивилась Анджела. — Не задавайте мне вопросов, Анджела. Я — ваш друг. Не делайте мое и без того нелегкое положение еще труднее. Ну что ж, она готова сыграть роль женщины, с которой ровным счетом ничего не произошло. Игривым тоном она сказала: — Нет, любовь моя, нет, никто не сделал мне ничего плохого. Я ужасно скучаю без тебя. — Я тоже, Анджела… Если бы ты знала… — Хочешь, я прилечу к тебе? — Нет, нет! Я задержусь еще на один-два дня! — Я могу тебе чем-то помочь? — Да. Скажи, что ты меня любишь. — Я люблю тебя, Итало! — Закончу здесь все дела, и съездим с тобой на Сицилию. — Правда? — Да. После Италии навестим твоих родителей. Этот Габелотти, он разговаривал с тобой? — Да… Он был очень вежлив… — Почему ты не сказала мне, что едешь к нему? — Все так быстро произошло… Когда мы с тобой начали разговаривать, в дверь позвонили… Я пошла открыть… а когда возвратилась, в трубке услышала короткие гудки… — С тобой хорошо обращались? — Да, Итало, очень… — Ладно, ладно… Я волновался, понимаешь… Думал, что ты там одна с этим… этим… Мои друзья, они сейчас рядом с тобой? — Да. — Сколько? — Четверо. — Ладно. — Итало. — Да. — Я не любопытная, Итало, но ты — мой муж. Возможно, когда-нибудь ты расскажешь мне… Ты понимаешь, о чем я говорю? — Да… Не создавай себе проблем… Ты видела Франческу? — Это ужасно! Она чуть не сказала ему о предсказании вдовы Дженцо: «Они убьют Итало!» — Анджела. — Да. — Тебе что-нибудь нужно? — Ты! — А мне — ты! Моше приходил к тебе? — Он ушел час назад… складывать чемоданы. Вольпоне нахмурился. — Чемоданы? Зачем? — Итало, ты же его хорошо знаешь… — Не может быть!.. — взвыл Вольпоне. В нем все закипело от мысли, что его советник поступает как хочет, думает за него и не выполняет его приказов. — Он летит в Цюрих первым самолетом, — сказала Анджела.* * *
Курт незаметно посматривал на своих родителей. Они стояли чуть в стороне, почти касаясь друг друга и настороженно глядя по сторонам, и не знали, что им делать. Возбужденные оригинальностью оформления зала, гости сновали взад-вперед, толкали их и растворялись в группах общих знакомых. Часы показывали начало первого ночи. Ренаты все еще не было. Неловко себя чувствуя в черном велюровом костюме и белой рубашке с жабо, Курт безнадежно всматривался в лица прибывавших гостей, ожидая, что вот-вот вспыхнет великолепное светло-розовое платье его невесты. У него была достаточно сильная интуиция, чтобы почувствовать, что все начинается плохо. Сдержанный более обычного, Клоппе, сделав видимое усилие, улыбнулся ему, и они обменялись несколькими словами. Шилин вела себя, как всегда, непринужденно, громче всех хлопала в ладоши. — Сегодняшняя молодежь — просто сумасшедшие! Вы только посмотрите, во что они превратили мою квартиру! — кудахтала она, беря под руку своих подруг и прогуливаясь по дому. Курт с тоской подумал, что ему предстоит еще мучиться в этом цирке почти три часа, прежде чем они с Ренатой сбегут отсюда. Не было еще и священника. Вертолет зависнет над крышей без нескольких минут три и доставит их на аэродром, откуда Рената поведет собственный самолет в Италию, в Портофино. Там их ждет яхта, на которой они совершат восьмидневный круиз по Средиземному морю. Восемь человек экипажа: капитан, его помощник, механик, бармен, три стюарда и два повара. И все — для них одних! У входа началось какое-то оживление, сопровождаемое криками, громкими фразами… Курт подумал, что пришла Рената. Облегчение, которое он почувствовал, было соизмеримо с беспокойством, вызванным ее отсутствием. Но нет… Это была не она. Пришли университетские друзья и бросились его поздравлять. — Твоя невеста уже тебе изменяет! — А что же будет после свадьбы? — Эй, Курт, куда ты спрятал Ренату? Курт был в недоумении. Рената должна была быть здесь еще час тому назад. Курт смущенно отвечал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы и шутки. Давняя его подружка, приподнявшись на носках, шепнула ему в ухо: — Если она не придет, вспомни обо мне. Я всегда готова ее заменить… Шилин, направляясь к Курту, прокладывала себе путь через плотную толпу гостей. — Вы не знаете, где Рената? — с беспокойством, которое ей не хотелось бы показывать, спросила она. Курт широко улыбнулся. — Должно быть, заканчивает наряжаться… А разве вы ее не видели? — Она ушла из дому около четырех часов. Собиралась пойти к парикмахеру… — И… — С тех пор я ее не видела. Я волнуюсь… Метрдотели в белом разносили шампанское. — Где невеста? — выкрикнул кто-то, поднимая бокал. — Сейчас будет… Сейчас будет… — успокаивающе сказала Шилин. — А вот и священник! Курт, пожалуйста, сделайте что-нибудь… И она заторопилась навстречу святому отцу, старому другу семьи, который с большой неохотой согласился участвовать в церемонии бракосочетания при таких нелепых обстоятельствах. Курт незаметно посмотрел на часы: 12.30. Через полчаса все сядут за стол. Он решил обождать еще десять минут и отправиться на поиски Ренаты.* * *
Она закурила, сделала глубокую затяжку и указательным пальцем провела по лицу Ландо. Это едва ощутимое прикосновение заставило его почувствовать, как он устал. Конечно, у нее не хватит всей жизни, чтобы восстановить в памяти те неизгладимые впечатления, ощущения, которые в течение нескольких часов разрушили ее представление о счастье. Она навсегда перешагнула границу в его измерении. О своем партнере она знала только то, что его зовут Ландо. И о ней он знал столько же: шесть букв, составляющих ее имя, — Рената. Он был Бог, и никто не мог с ним сравниться. Но ей надо было уходить. — Ландо… Который час? Он провел пальцем по ее соску. — Понятия не имею… Полночь… Час ночи… Два часа… Какое это имеет значение? Она с горечью улыбнулась. — Мне нужно уходить. — Сейчас? — Я даю бал… — Среди ночи? — Да… Свадьба! Моя! Через час я выхожу замуж. — Тебе наплевать на меня? — Нет! Правда, нет! Он надеялся, что она забыла о времени, но того, что он с ней сделал, ей явно не хватило… Подгоняемый страхом, который ему внушал Вольпоне, он отдал все силы, чтобы она осталась. Язык болел, став тяжелым и сухим, как лоскут материи. Снова пустить его в дело было невозможно. Остальное… Итало был категоричен: — Я хочу, чтобы у Клоппе разразился скандал! Над девчонкой не издевайся, но вздрючь ее так, чтобы она забыла о свадьбе. Ландо наклонился к Ренате и нежно укусил за мочку уха. Она напряглась, вспомнив, как его зубы впились ей в затылок… — Я не верю тебе, — сказал он. Она заставила себя улыбнуться. — Хочешь, чтобы я пригласила тебя? — Зачем ты выходишь замуж? Она надолго задумалась. — Откровенно говоря, не знаю… Как твоя фамилия? Он заколебался, но ответил. — Баретто. «Рената Баретто», — промелькнуло у нее в голове. — Ты любишь его? — Нет. — Тогда вообще непонятно, зачем ты выходишь замуж! — Я сама этого не понимаю… Слишком поздно об этом сейчас говорить, Ландо… Все закручено… Он пожал плечами. — Я не одна! Об этом знает весь город… Приглашены гости… Я не хочу доставлять отцу неприятности… — Чем занимается твой отец? — Банкир. — В Цюрихе? — Да. А чем занимаешься ты? — На пенсии. Она прыснула со смеху. — Я был профессиональным футболистом. Отыграл свое… — Какая же дерьмовая свадьба предстоит! И это — моя свадьба! Она сделала движение, чтобы выбраться из кровати. Он притянул ее к себе и крепко прижал. — Ты знаешь, что между нами произошло? Для меня — нечто необыкновенное!.. — И для меня… — серьезно сказала она. — Почему бы тебе не поехать со мной? — Куда? — Куда скажешь. — Сейчас это невозможно, Ландо. — Машина внизу… Сбежим? Она задумчиво на него посмотрела, и ее сердце забилось быстрее. Он заметил ее волнение и колебание. — Ты готова сделать такую глупость? Тебе хорошо со мной? Она машинально прижалась к его груди. — Ну так что? — настаивал Ландо. Не глядя на него, она быстро прошептала. — То, что ты мне дал… Нет, ты не сможешь это понять. Она отстранилась и встала. Его мозг лихорадочно работал в поисках средств удержать ее. Если бы он только мог оглушить ее, все проблемы разрешились бы… Он смотрел, как она натягивает колготки, надевает юбку… — Я не могу держаться на ногах, — сказала она. Ноги у нее дрогнули, и она села на край кровати. Он продолжал лежать не шелохнувшись. Она доверчиво положила голову ему на плечо. — Ландо… — Не уходи! Возможно, промолчи он, и она осталась бы… Но его слова словно подстегнули ее. Она с трудом встала, застегнула бюстгальтер и сказала: — То, что произошло со мной, — ужасно! Ужасно! Ужасно! Она посмотрела на себя в зеркало и вздрогнула. — Господи! Я выгляжу как столетняя старуха. Что ты со мной сделал, Ландо? — Ничего. Так как ты уходишь… — Пойми меня, Ландо… — Нет. На ее глаза навернулись слезы. — Ландо, до завтра! Если ты этого хочешь. Клянусь тебе, я разведусь! Он протянул ей туфли. — Ты опоздаешь, уже половина третьего. Партию он проиграл. Интуиция подсказывала, что он ее не удержит. — У меня не осталось времени переодеться. Это — ужасно! — Я отвезу тебя. В машине она сказала: — Я хотела бы иметь твою фотографию. У тебя найдется для меня одна? — Нет. — А мою хочешь? Было три часа утра без десяти минут. Они медленно ехали по совершенно пустынной Штамфенбахштрассе, освещенной рекламными огнями магазинов. — Останови, — попросила она. Ландо затормозил. Она вышла и перебежала через улицу. Между двумя магазинами дорогих подарков стояла кабинка фотоавтомата. Рената вошла в нее и задернула за собой шторку. Четыре, одна за другой, электронные вспышки прорезали ночь. И снова Рената сидела рядом с ним. — Гони! — попросила она и протянула ему четыре влажных отпечатка. Он мельком взглянул на них, сделал удивленное лицо и, наклонившись, что-то шепнул ей на ухо. Лицо Ренаты вытянулось. — Нет, — решительно возразила она. — Нет!.. В следующий раз. Тогда Ландо еще что-то шепнул ей. Рената заколебалась, но все-таки вышла из машины и возвратилась в кабинку. Когда она задернула шторку. Ландо увидел, как одна, а затем и другая нога исчезли из его поля зрения. Четыре электронные вспышки… Ландо завел мотор и с удовлетворенной улыбкой посматривал на новые снимки. На этот раз лица Ренаты на них не было — только ее лобок в разных ракурсах. Он отъехал от тротуара. — Рената, если ты передумаешь… Я оставлю тебе машину… И ключи… Я буду ждать тебя у себя дома… Сколько понадобится. Она молча взяла его руку, крепко сжала и поднесла к своим губам…* * *
К часу ночи гости преклонного возраста, не имевшие привычки бодрствовать ночью, расселись вокруг небольших столов. Шилин, почувствовав надвигающуюся катастрофу, заламывая руки, бросилась к появившемуся в зале будущему зятю. — Курт! Вы нашли ее? — Нет, миссис, нет. Я решительно ничего не понимаю. Ее нигде нет… — Господи! Что я скажу священнику? — Меня беспокоит не пастор, а Рената, — зло бросил Курт. — Все на месте, кроме невесты!.. Она что-нибудь вам говорила? — Нет… — Но последней видели ее вы! — Что делать, Господи, что делать? — Где ваш муж? — Хомер? Не знаю… Только что он был здесь. — Это — ненормально! С Ренатой, вероятно, что-то случилось! — Но где? Что? — Вы звонили в полицию? — Нет… Но… А все эти люди? — Пусть садятся за стол. — Пойду посоветуюсь со священником. Курт повернулся, но не успел сделать и трех шагов, как оказался в окружении группы молодых людей. — Ну так что? Где твоя жена? Мы уже проголодались! — Жрите! Курт направился к Клоппе, который в глубине комнаты разговаривал с двумя мужчинами средних лет. Пробормотав извинения, взял банкира за локоть и отвел в сторону. — Я не понимаю, что происходит. Куда исчезла Рената? — Вы были у нее в комнате? — Да. Ее нет! — Что говорит Мануэла? — Она не видела ее с четырех часов дня. Клоппе мучила пронзительная боль в челюсти. Неожиданно ему в голову пришла мысль, что Вольпоне сделал очередную подлость. — Надо вызвать полицию, — сказал он. До тех пор пока дело касалось лично его и его чести, он вел себя достойно, не прибегая к помощи полиции для решения своих проблем, которые были прямым продолжением его банковских дел. Но Вольпоне зашел слишком далеко! Хомер и так задержался с его уничтожением. — Срочно позвоните в окружную полицию и попросите лейтенанта Фрица Блеча. Пусть он даст команду начать розыски! Шилин подошла к ним раньше, чем успел отойти Курт. На ее лице было неподдельное беспокойство, но она находила в себе силы механически улыбаться и посылать воздушные поцелуи всем гостям, которые делали ей дружеские знаки. — Что же происходит? Где Рената? Что вы решили делать? — Успокойтесь! — сказал Клоппе. — Сейчас Курт свяжется с полицией. — Но Хомер!.. А эти люди?.. Она показала на двести приглашенных, которые, с бокалами шампанского в руках, стояли разбившись на группы, а по залу распространялся тихий ропот нетерпения… — У вас неприятности? — вежливо поинтересовался отец Курта. В десяти сантиметрах позади него, как тень, стояла Утта. — Нет, папа, нет! Все в порядке! Проводи маму к столу! В глазах матери он увидел такое страдание, словно она была виновата в том, что до сих пор нет его невесты. — Ваш сын прав, миссис Хайнц. Проходите к столу. — Я еще не имел удовольствия видеть Ренату, — сказал Йозеф Хайнц. — Послушай, отец, мне самому хотелось бы на нее посмотреть! Ты выбрал неудачный момент! Иди за стол! — Твоей невесты все еще нет? — с болезненным выражением лица спросила Утта. Курт вдруг возненавидел ее зеленое платье. Шилин подозвала к себе метрдотеля. — Быстро накрывайте на стол. Зазвенел колокольчик, приглашая гостей. Все потянулись к столам, на которых стояли картонные таблички с указанием фамилии каждого. Наиболее нетерпеливые, заглянув в меню, разразились смехом, предполагая, что наборщик ошибся в порядке размещения блюд. Меню было составлено наоборот. А официанты в белых перчатках уже несли подносы с дымящимися чашками кофе и коллекционным шампанским. На какой-то миг наступило замешательство. Как все это следовало понимать? — Очаровательно! — крикнул кто-то из гостей. — На десерт нам подадут устрицы! Но Шилин уже не на шутку волновало затянувшееся отсутствие Ренаты. — Курт, где вы ходите? Он торопливо шел между столов, и со всех сторон к нему тянулись руки; его похлопывали по плечу, поздравляли, отпускали вслед шутки… В момент сбора гостей отсутствие Ренаты прошло незамеченным, но сейчас волна ропота прокатилась по залу и на лицах гостей появились двусмысленные улыбки. Курт подходил к лестнице, ведущей в холл, когда перед ним возник пастор Люстц. — Профессор Хайнц! — Да, святой отец! — Где ваша будущая супруга? — Сейчас будет. Я иду за ней. Он бросился к телефону и схватил трубку. — Алло, полиция! Курт машинально бросил взгляд в сторону входной двери. — Я хочу говорить с лейтенантом Блечем! Срочно! Дверь медленно открылась, и в проеме он увидел Ренату. Курт положил трубку на рычаг. Он был поражен видом своей невесты. Ее лицо было бледное, вытянутое, прическа взлохмачена. Вместо торжественного светло-розового платья на ней был мятый костюм голубого цвета. И никакой косметики на лице! — Рената! Вместо страха, что он больше ее не увидит, пришла злость. — Откуда ты появилась? Все уже чешут языками! Твои родители сгорают от стыда! Я только что звонил в полицию! Он взял Ренату за руку и отвел в угол. Она смотрела на него так, словно видела в первый раз. — Ты скажешь мне, что случилось? Ты даже не одета? Рената, я с тобой разговариваю. Она отсутствующим взглядом посмотрела на его вспотевшее лицо. Это — не ее парень! Она выйдет за него замуж — изменить ничего нельзя, но завтра подаст на развод. Он сильно встряхнул ее за плечи. — Наглоталась наркотиков? Рената! Откуда ты пришла? Вялым движением она высвободилась из его рук. — Курт, ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж? — Что-о? — чуть не задохнулся он. — Тогда оставь меня в покое и не задавай вопросов. Ошеломленный, он сделал шаг назад. — Но ты не можешь… В этой одежде… — Если ты сейчас же не пойдешь со мной, я ухожу… Она пошла по лестнице. Он настиг ее уже на верхней площадке. Подхватив под руку, принял победный вид, и они вошли в зал. — А вот и она! — крикнул кто-то. Когда раздалась приветственная овация, Рената нашла в себе силы улыбнуться. Женщины тут же начали обсуждать ее появление в голубом костюме, гадая о его отношении к церемонии бракосочетания в три часа утра. А впрочем, — кто знает? — возможно, так и было задумано! Здесь все поставлено с ног на голову. Цюрих перестал быть Цюрихом!.. Рената села за стол родителей Курта. — Неприятности? — спросил Йозеф Хайнц. — Потом все расскажу… — ответила Рената. Вышколенный официант поставил перед ней весь набор пропущенных ею блюд: кофе, шампанское, шоколадную шарлотку, сыры, кусок жареной баранины на вертеле. Он наклонился к ней и учтиво объяснил: — Вы должны начать с кофе… Поторопитесь, сейчас подадут бутерброды. — Уберите все это, — сказала Рената. — Вы не голодны? — спросил Йозеф. — Рената! Рената! — голос Шилин вибрировал от возмущения. Она вышла из-за стола и направилась к Ренате, чей голубой костюм был как удар кулаком ей в солнечное сплетение. — Но… Где твое платье? Рената ласково обняла мать за шею и прошептала: — Мама, если ты сию минуту не возвратишься за свой стол, я выйду из зала. Удрученная и испуганная, Шилин послушно направилась к своему столу. Пока разносили аперитив, распространился слух, который развеселил гостей: какой-то итальянский банкир зашел в туалет, но унитаза там не оказалось. Каково же было его удивление, когда, случайно посмотрев вверх, он увидел его на потолке. Без нескольких минут три пастор Люстц незаметно подозвал к себе новобрачных, их свидетелей и членов семьи. Все прошли в комнату, которую на одну ночь превратили в часовню. Пастор произнес ритуальную речь и сказал: — Курт Хайнц, вы согласны взять в жены Ренату Клоппе? — Да, — ответил Курт. Сдерживая слезы, Шилин закусила губу. — Рената Клоппе, вы согласны взять в мужья Курта Хайнца? — Да, — ответила она, не поднимая головы. — Объявляю вас мужем и женой! — заключил пастор. Дверь распахнулась, и в комнату хлынули гости, чтобы в объятиях, поздравлениях задушить молодоженов. Из-за общего шума никто не слышал, как над крышей дома завис прилетевший вертолет. На крыше гостей встретили сильные порывы ветра, хлеставшие по лицам, как пощечины. Женщины, в шелковых платьях, ежась от холода, прижимались к своим спутникам, которые по-рыцарски, расстегнув смокинги, предлагали «убежище».Терраса была освещена косым светом прожекторов, направленных в небо для освещения вертолета. Пилот удерживал аппарат на высоте пятнадцати метров над центром террасы, где стояла пассажирская корзина, украшенная цветами. От нее вверх к вертолету тянулся стальной трос. — Пропустите молодоженов! — одновременно закричало несколько голосов. Толпа потеснилась в сторону, освобождая проход Ренате и Курту. Ветер разметал ее волосы. Она с изумлением смотрела на мизансцену, которую поставила сама, не смея поверить, что додумалась до такой вызывающей глупости. Почувствовав ее неуверенность, Курт потащил ее за собой по живому коридору, из которого раздавались крики «браво». Теперь и он осознал всю абсурдность затеи. — Рената! Рената! — стараясь перекричать шум роторов вертолета, кричала Шилин, вцепившись в руку дочери и повиснув на ней всем телом. Толпа рассмеялась. — Она хочет присутствовать при первой брачной ночи! — Возьмите ее с собой! — Шилин с ними! Шилин с ними! Фразу скандировали, хлопая в ладони. Некоторые взяли с собой бутылки со спиртным и теперь пили, передавая друг другу. — Рената, не ходи туда! Не садись! Откажись! Я видела плохой сон! Курт бесцеремонно оттолкнул тещу в сторону. Он решительно забрался в корзину и был неприятно удивлен ее низкими бортами. Оставалось лечь на дно, чтобы не смотреть вниз, и порыгать в собственное удовольствие. А в это время в этой невероятной неразберихе разворачивались два параллельных действия. Шилин снова вцепилась в Ренату, которая собиралась переступить через борт корзины. В дальнем углу террасы стоял человек, в обязанность которого входило дать красный световой сигнал прожектором вертолетчику, когда молодожены устроятся. С бутылкой виски в руке, к человеку направился голландский финансист, уже изрядно пьяный. — Глотни, старина, — предложил он. — Окоченеешь! Глотни! Нас знакомили? Техник улыбнулся. Отказываться от глотка спиртного в такую погоду — грех. Он взял бутылку и начал пить из горлышка. — Что это за хреновина? — спросил голландец и нажал на рукоятку. Красный луч прожектора пробил ночь. Пилот с трудом удерживал аппарат под сильными порывами ветра и был обрадован, увидев красный световой сигнал. Что делалось внизу, он не мог видеть из-за слепящих лучей прожекторов, которые освещали вертолет. В соответствии с полученными инструкциями, он мягко повел вертолет вверх. Корзина оторвалась от крыши. В ней был только Курт! Его крик потонул в общем реве толпы. Но пилот ничего этого не слышал. Он развернулся и полетел известным ему курсом, неся корзину над самыми крышами домов города. «Муж улетел!» — раздался возглас. Рената увидела, как Курт отчаянно машет руками, быстро исчезая в ночи. Посиневшие от холода гости все свое внимание перенесли на Ренату. Она оторвала от себя руки матери, оттолкнула отца, пытавшегося ее задержать, и бросилась к лестнице. Очутившись на улице, она оглянулась по сторонам в надежде увидеть такси. Она хотела добраться до аэродрома вместе с Куртом. И тут она вспомнила о машине Ландо. — Рената! На пороге дома стоял Хомер Клоппе. На секунду она замерла. — Послушай, Рената! — Потом, папа, потом! Она добежала до машины Ландо, проскользнула за руль «Бьюти гоуст Р9» и завела мотор. Ренату знобило. Она поискала кнопку опускания верха, не нашла и включила отопление. Затем дала назад и резко взяла старт вдоль Цюрихбергштрассе. Сейчас она все расскажет Курту. Они просто ошиблись! И ничьей вины здесь нет! Он поймет… Когда она на скорости сто двадцать километров в час выходила из поворота, в колонке рулевого управления раздался сухой треск и тут же заклинило руль. Она не успела даже испугаться, а только подумала: «Я опоздаю…» Потеряв управление, тяжелая машина рыскнула влево. Не выпуская из рук рулевого колеса, Рената резко нажала на педаль тормоза. Завизжали шины. Передние колеса задели скрытый травой откоса бордюр, и машина начала переворачиваться. Ренату выбросило на шоссе, и, лежа на спине с широко открытыми глазами, она увидела, как, словно при замедленной съемке, на нее падает двухтонная «Р9»… Фирме «Континентл мотокарз» предстояло зарегистрировать девятую аварию «Бьюти гоуст Р9», вызванную механическим дефектом, и пятую со смертельным исходом.
(обратно) (обратно)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ АУТ
ГЛАВА 18
Избежать этого было невозможно: в конце рабочего дня, вытянувшись длинной цепочкой, белые и негры проходили через шмон. Прощупывался каждый шов. Если каким-то чудом что-то ускользало от внимания охранников, обмануть рентген никому не удавалось. Два специалиста просвечивали желудки, и ни один алмаз, проглоченный в шахте, дальше аппарата не выносился. Хулио приходилось слышать всякие истории… Говорили, что какому-то белому, немцу по национальности, удалось вынести много алмазов. Его фокус заключался в том, что он закатывал алмазы в жевательную резинку, а ее обертывал серебристой бумагой от шоколада. Все знали эту историю, но никто не знал этого немца. Попробуй докажи обратное!.. Но Хулио не из тех, кто способен на подобные хитрости. Дисциплина была строжайшей. Лагерь окружали несколько рядов колючей проволоки, через которую пропускался ток напряжением в 250 вольт. По утрам вдоль ограждения находили погибших диких животных. К полудню они разлагались от жары. К пяти часам вечера высыхали. К следующему утру от них не оставалось никакого следа: их сородичи доедали останки. Охранники отличались высоким ростом, низкими лбами и полным отсутствием чувства юмора. Раза два Хулио выезжал в город. Эти поездки оставили в его душе горький осадок. Каким бы белокожим ты ни был, но в Ботсване португальца не считали за чистокровного белого. Это давали понять в барах, где долго не обслуживали и в конце концов говорили, что его место в шахте вместе с неграми. В лагерь он возвращался без всякого сожаления. Воздух здесь был чистый, а грузовичок раз в неделю исправно привозил проституток. Письма Мануэлы поддерживали его моральный дух. — Что у тебя в руке? — спросил охранник. — Письмо, — ответил Хулио. — Покажи… — Ты не умеешь читать. — Дай! Охранник скомкал лист бумаги в своей огромной пятерне и бросил его Хулио. — Порядок, сваливай. Единственным родным человеком на земле для Хулио была Мануэла. Его совершенно больная мать проводила остаток своих дней в приюте для престарелых. Хулио ежемесячно высылал деньги на ее содержание. В последний его приезд в Португалию, два года тому назад, она уже не узнавала его. Его радовало и успокаивало, что Мануэла волнуется за него. Письмо он получил утром. А сейчас мог уже рассказывать наизусть целые куски. «Я не знала, что новая работа настолько опасная. Оставь ее!» Последние слова были подчеркнуты двумя линиями. «Возвращайся, Хулио! — писала Мануэла. — Поживем еще года два в Цюрихе. Хозяйка подыщет тебе спокойную работу…» В Швейцарии Хулио работал шофером по доставке заказов на дом. Но униформа и форменная фуражка действовали ему на нервы. В газете «Ля Сюисс» он прочел небольшое объявление, из которого следовало, что предлагается работа в Ботсване с зарплатой в четыреста долларов в неделю. А Мануэла еще писала: «Возвратимся в Альбуфьеру. Купим магазин, будем жить вдвоем…» Сколько же они мечтают о своем магазинчике! Если он отработает здесь еще год — дело в шляпе. Денег, сэкономленных им и Мануэлой, с лихвой хватит для первого взноса. Остальное возьмут в кредит… Но прежде всего надо взять несколько дней отпуска и жениться на Мануэле до того, как у них родится ребенок. Осталось меньше пяти месяцев. К сожалению, по лагерю ходят слухи, что шахту закроют из-за плохой организации безопасности труда. Работать действительно становилось опасно. За три месяца Хулио видел шесть трупов погибших негров. Некоторые говорили, что хозяева «Вассенарз» никогда не пойдут на закрытие шахты. Наоборот, увеличат премиальные за риск. Хулио подходил к своему бараку, когда раздался звук сирены и тут же послышался голос из динамиков, развешенных по территории лагеря. — Срочный сбор у здания дирекции… Повторяю… — Что им нужно? — спросил Гонзалес, его соотечественник. — Пошли узнаем, — ответил Хулио. Перед зданием, где они получали зарплату, толпились сотни черных и белых мужчин. На террасе появился главный начальник. Эрик Морталд. Он поднес ко рту рупор. — У меня для вас есть три новости. Две — хорошие и одна — плохая. Начну с плохой. Шахта закрывается! В мгновенно наступившей мертвой тишине эхом отозвалось в горах: закрывается… закрывается… Для них это простое слово означало изменение в жизни: для европейцев — возвращение домой. Но для всех общим было одно — потеря работы. — А теперь хорошая новость! Работы прекращаются, чтобы построить для вас более комфортабельный лагерь и обезопасить работу в шахте. По моей просьбе, и в ваших интересах, высшее руководство компании выделило для этих целей четыре миллиона долларов! Морталд сделал паузу, давая время ощутить значение этой громадной суммы. Но для тех, кто его слушал, эта цифра была как пустой звук, она просто не укладывалась в их сознании. Что такое четыре миллиона долларов? Какой-нибудь святой или планета Марс? — Эта сумма, — продолжал директор, — будет направлена на ваше благо. — Какое благо, если мы сворачиваемся? — раздался чей-то крик, и охрана забегала в поисках недовольного. — Именно так и будет! — выкрикнул Морталд своему неизвестному оппоненту. — Как только будут закончены работы по укреплению стволов шахты, мы возвращаемся… Все будут снова приняты на работу… — Когда уходят, уже не возвращаются! На этот раз охрана засекла крикуна и бросилась к нему, чтобы пощекотать бока электродубинкой. — Стоп! — крикнул Морталд. Охранники неохотно остановились. — Поймите правильно, — продолжал Морталд, — компании было нелегко решиться на этот шаг. Через восемь месяцев шахта снова заработает. В качестве выходного пособия каждый из вас получит двухмесячную зарплату. Те, кто подаст нам письменное заявление о желании работать на шахте после ее открытия, по возвращении получат четыре месячных оклада. Морталд откашлялся. Телекс, полученный сегодня утром, был кратким и исчерпывающим. Морталда взволновала забота Хомера Клоппе о рабочих. На его месте он… В заключение он прокричал в рупор: — Удачи всем! — Дерьмо дело! — сказал Гонзалес. — Что ты собираешься делать? Хулио неопределенно пожал плечами. Прежде всего надо предупредить Мануэлу о возвращении в Цюрих. Он достал из кармана ее письмо и еще раз прочел строчки: «Моя хозяйка подыщет тебе спокойную работу». Это было написано черным по белому. Хулио знал Ренату и то, что Мануэла ее обожает. Но вчера дочь банкира вышла замуж, и вряд ли у нее найдется время заняться его проблемами. В барак Хулио возвратился в плохом настроении. Он достал из ящика стола ручку, лист бумаги и начал писать.* * *
Доктор Мэллон осторожно взял Габелотти за запястье и посчитал пульс. — Хорошо себя чувствуете? — Нет, — прохрипел Габелотти. Когда его взгляд случайно задерживался на иллюминаторе, он быстро закрывал глаза, чтобы остановить начинавшееся головокружение. Он упорно смотрел в лежавшую на коленях газету и не видел ни строчки. К тому же он никак не мог забыть ужасные слова командира корабля: «Мы летим на высоте одиннадцать тысяч метров!» Еще до взлета доктор Мэллон напичкал его транквилизаторами. От них разболелась голова, но страх не прошел. Вцепившись пальцами в подлокотник, Габелотти перебирал в памяти все авиакатастрофы за последние десять лет. «ДС-10» в Париже… двести трупов… Месяц назад в Санта-Крус… такой же «Боинг-747», как и этот… Еще в… — Ричард… — Да, дон Этторе. — Что-то мне совсем не по себе. Дайте мне еще одну вашу чертову таблетку. — Вы уже превысили дозу. — Плевать! — Как скажете. Врач вызвал стюардессу и попросил принести стакан воды. Перед тем как направить свой талант на поддержание здоровья богатой клиентуры, он три года проработал в психиатрической клинике. Он приблизительно знал, что такое страх полета для человеческого сознания. Знал он и то, кем был Габелотти. И часто спрашивал себя, не является ли его неудержимая страсть к власти компенсацией полового бессилия. Но для этого надо было побеседовать с Габелотти, задать ему несколько вопросов… Правда, с таким же успехом на эту тему можно говорить с каменными идолами с острова Пасхи. И тем не менее Габелотти предложил ему одиннадцать тысяч долларов за сопровождение в полете. За такие деньги его клиенты в Нью-Йорке могут три дня обойтись без него. — Вам лучше, дон Этторе? Заботливость Кармино Кримелло выводила Габелотти из себя. Этим он еще больше давал ему прочувствовать свое недомогание. — Убирайся, — не глядя на него и не разжимая зубы, прошипел Габелотти. Дважды повторять не было необходимости… Кримелло поднялся по винтовой лестнице в бар и налил себе целый стакан виски. Его проблема заключалась не в самолетах, а в машинах. Если за рулем сидел кто-то другой, он умирал от страха. Но больше всего он боялся умереть от пули. — Если уж на то пошло, дон Этторе, глотайте сразу две, — сказал доктор Мэллон. — Может, попробуете уснуть? — Я не хочу спать! Мне приснится, что я лечу в самолете, и я проснусь. — Прекрасная шутка, — засмеялся доктор Мэллон. — Не волнуйтесь… Через три часа мы будем в Цюрихе. — Я сдохну раньше. Дон Этторе в десятый раз убедился, что бумажный мешочек, как и рекламные проспекты, по-прежнему находится в кармашке кресла. Умереть — это еще куда ни шло, но блевать публично!..* * *
Телефонный звонок оторвал Шилин от группы друзей, оживленно обсуждавших сказочный взлет Курта Хайнца. Как и все, она от души смеялась и продолжала смеяться даже тогда, когда незнакомый голос из трубки сказал, что Рената стала жертвой автомобильной катастрофы на шоссе Декомпозе. Положив трубку, она нетвердой походкой подошла к Хомеру и тихо сказала ему на ухо о постигшем их горе. Никому не сказав ни слова, они незаметно покинули своих гостей и, сходя с ума от ужаса, бросились к месту аварии. Первый шок Хомер испытал, увидев лежавшую вверх колесами незнакомую «Бьюти гоуст Р9». Второй — когда увидел тело Ренаты… Затылок дочери был раздроблен, грудная клетка раздавлена. Кошмар продолжался дома… Несмотря на поздний час — четыре утра, большинство гостей, уже совершенно пьяных, продолжали веселиться… Одни горланили песни гренадеров, другие громко, с шутками перекликались, находясь в разных концах комнаты, третьи танцевали между столами, уставленными пустыми бутылками… Входная дверь неожиданно распахнулась, и в проеме показалась рыдающая Шилин. За ней шли мужчины в черном, неся на носилках тело Ренаты, покрытое одеялом. Процессию замыкал Хомер. Он шел с отрешенным видом, плотно сжав губы. Все прошли в комнату, которая когда-то принадлежала молодой женщине. Едва за ними закрылась дверь, оцепеневшие гости стали на цыпочках покидать дом. Есть горе, которое невозможно разделить… К восьми часам утра Рената была одета в свой последний путь. Шилин разбудила телефонным звонком директора фирмы погребальных обрядов, и он направил к ним четырех лучших специалистов. Рената лежала на своей девичьей кровати. Лицо ее было спокойным и таким же красивым, как в жизни. Мать попросила одеть ее в светло-розовое платье, которое предназначалось для церемонии бракосочетания. На каждом углу кровати стояли зажженные свечи. Раздавленные горем, держа друг друга за руки, Шилин и Хомер стояли на коленях и беззвучно рыдали.* * *
Курт Хайнц появился в доме в восемь десять утра. Ни тесть, ни теща не посмотрели на него. Он опустился рядом с ними на колени и начал молиться. Когда он возвращался из аэропорта, кипя от злости и негодования, его такси было остановлено полицейским заслоном. На обочине, колесами вверх, лежала машина с откидным верхом. Курт ненавидел такие сцены. — Поезжайте, — сказал он, отводя глаза. Он промерз до последней косточки и не знал, что ему делать дальше. Теперь все зависело от Ренаты. Если она извинится и подробно объяснится, он готов возобновить диалог… Она испортила его свадьбу, одновременно были унижены его родители. — Секунду! — попросил шофер. — О черт! Такая красивая девушка! Курт машинально повернул голову. Сердце прыгнуло ему в горло. Он узнал голубой костюм Ренаты. Выскочил из машины, забыв о холоде, со странным ощущением вкуса ржавчины во рту. Через пять минут подъехали Клоппе. — Эта машина — погибшей? — спросил у Хомера старший полицейский. Тот горько покачал головой. Кто бы ни был владельцем «Р9», ответственность за случившееся ложится на его плечи. Почему Господь Бог посадил его собственную дочь в этот смертоносный аппарат, который у него не хватило смелости вовремя нейтрализовать? — Имя жертвы — Рената Клоппе, правильно? — спросил полицейский. — Нет, — сказал Курт, — Рената Хайнц. Хомер молча повернулся к нему спиной. Курт заехал домой, чтобы сменить свой нелепый теперь велюровый наряд и плиссированное жабо. Он принял горячий душ, надел халат и надолго сел в кресло, пытаясь понять, как он стал вдовцом через пять минут после свадьбы. Закончив молитву, он посмотрел на тестя. Клоппе держал за руку свою жену. Время от времени он поднимал глаза на лежавшую на кровати Ренату. Только сейчас Курт заметил на ней светло-розовое платье. Это потрясло его. Банкир принадлежал к другому, нежели он, миру. Однако в этот момент Клоппе не показался ему чужестранцем, а скорее братом, с которым его связывает общее горе. Ему захотелось дать это почувствовать Клоппе, и он тихо прошептал: — Что мы сделали Господу, что он так жестоко нас наказал? Не разжимая зубов, Хомер Клоппе едва слышно сказал: — Оставьте нас в покое. — Рената была моей женой, — возразил Курт. — Она была моей дочерью, а не вашей женой. Вам больше нечего здесь делать. Уходите. И снова рот Курта наполнился этим странным вкусом ржавчины.* * *
Моше Юдельман только что выдержал бурю. Он стоял у окна и наблюдал, как в золотистом отсвете заката птички перепрыгивали с ветки на ветку. Он уже забыл, когда в последний раз видел живое дерево… Обнаженный по пояс, с впечатляющей мускулатурой, животной силой, Итало Вольпоне ходил по комнате, растирая себя махровым полотенцем. Каждое его движение приводило в движение бугры мышц. — Кто просил тебя приезжать? — в десятый раз повторил он. — Кто? Будешь отвечать? — Никто. — Ты делаешь глупость за глупостью! Ты позволил похитить мою жену и протянул руку похитителю! Ты, может, думаешь, что я спал и видел, как встречусь с Габелотти? Юдельман резко отвернулся от созерцаемого пейзажа. Ему вдруг надоело выслушивать грубости Вольпоне. — Прекрати обвинять других! Ты находишься здесь уже четыре дня! Где результат? У тебя есть номер счета? Нет! А чтобы прикончить двух американских ищеек, необязательно было лететь в Цюрих! Твои парни с тем же успехом могли бы это сделать в Нью-Йорке! Итало вплотную подошел к нему. Он был бледен от душившей его злобы. — Если тебе дорога твоя шкура, — прогрохотал он, — никогда больше не разговаривай со мной в таком тоне. Никогда! Моше пожал плечами. — Плевал я на свою шкуру. Я хочу спасти твою! Комиссьоне имеет на тебя зуб. Если она сунет свой нос в наше дело, загремим все… — Тебе хочется, чтобы я сквозь пальцы посмотрел на убийство Дженцо. Тебе понравилось бы, если бы я проглотил наглую выходку Габелотти и сказал ему «спасибо»! — Есть время делать дело, а есть — сводить счеты. Я любил Дженцо больше, чем ты! Или мы случайно проработали рядом семнадцать лет? Ты знаешь, почему он стал доном? Потому, что он всегда ждал своего часа, чтобы вернуть долг! Итало мгновенно успокоился. Моше был прав. И эта его правота выводила его из себя. — Ты — не боевик, Итало, а новый капо нашей «семьи». А капо в первую очередь использует свое серое вещество, а не хватается за пушку. — Если ты такой умный, — язвительно сказал Итало, — посмотрим, что ты сумеешь сделать. — Главное — выжить! Я только что прилетел и ничего не знаю, если не считать того, что наши деньги по-прежнему находятся в банке. Что ты сделал с этим банкиром? — Так… припугнул… Небольшой скандал… Подослал в церковь, где он читал лекцию, чернокожую проститутку… — Еще… — Вырвал все зубы… — Результат? — Ноль! Он отправил меня пощипать травку. — Неудачный ты выбрал прием… — мрачно обронил Моше. — Даже если бы ты ему оторвал яйца, он бы не раскололся. Ты думаешь, что воюешь с одним человеком? Ошибаешься! Ты поднял руку на всю Швейцарию! А этих сучьих банкиров еще никто не обламывал. — И что из этого? — взревел Вольпоне. Юдельман разочарованно вздохнул и снова повернулся к окну. — Надо подождать прибытия дона Этторе, — сказал он. Итало недовольно посмотрел на него. — Что? Ты ждешь подсказки от этого борова? — Нет. Я жду, что этот боров прольет слезу. До сегодняшнего дня шевелились одни мы… В случае неудачи ответ держать придется нам. Габелотти сделал бы перед Комиссьоне мину, что дал нам полную свободу, а мы запороли дело. Дав ему возможность посуетиться, мы уравняем шансы. — Что большего, чем я, он может сделать? — Боюсь, что ничего. Но сейчас это не так важно. Партию разыграют четверо: Итало Вольпоне, Габелотти, банкир… и фараоны. Первый кон, Малыш, ты проиграл. Второй предоставим Габелотти. — А чем в это время буду заниматься я? Сидеть сложа руки и считать мух на стекле? — Ты будешь ровно дышать и дашь ему попыхтеть. Посмотрим, когда он начнет задыхаться… — А если у него ни черта не выйдет? — Тогда, Итало, даю слово, я первый санкционирую военные действия против банкира…* * *
Проплакав несколько часов, Мануэла решила, что оставаться у Клоппе она не сможет. Через два месяца ей исполнится столько же лет, сколько было Ренате. Она положила руку на живот. Присутствие умершей в доме дало ей лучше почувствовать, насколько дорога ее жизнь, носительницы другой жизни. Все очень просто. Сейчас она отошлет телеграмму Хулио. Всего лишь одно слово: «Возвращайся!» Она знала, что Хулио бросит все и приедет.* * *
С самого утра Ландо терпел язвительные уколы Вольпоне. Прибытие в Цюрих Моше Юдельмана явно не принесло ему успокоения. Итало орал во всю глотку: — И ты отпустил ее! У тебя не хватило мозгов задержать ее! — Я сделал все, что смог… — Не много, должно быть, ты ей сделал, — ухмыльнулся Вольпоне. — А я-то считал тебя чемпионом! От усталости Ландо шатало. Проводив Ренату, он сел в такси и возвратился к себе. Измятая постель напомнила ему о его любовном труде, который ни к чему не привел: Рената не возвратится. От перенапряжения он долго не мог уснуть и провалился в сон только к шести утра. В семь его разбудил будильник. Через сорок минут он уже отчитывался перед Вольпоне. Итало слушал его три минуты, затем обругал и засомневался, можно ли в будущем доверить ему какое-нибудь дело… Несправедливо обиженный, Ландо прошел на кухню, где уже хозяйничал Беллинцона. Неожиданно он почувствовал, что голоден. Он с остервенением стал делать бутерброды с маслом и салями. Пьетро открыл холодильник и достал бутылку пива. Ландо сел за большой инкрустированный стол и впился зубами в первый бутерброд. Но больше, чем прошедшая ночь, его беспокоили предыдущие события. Богородица уберегла его от гигантов, возложив весь позор на его товарища. Он спрашивал себя: как человек, оттраханный в задницу, находит в себе силы смотреть в глаза другим? Беллинцона с ним не разговаривал, а если отвечал, то голову не поднимал. «Он тебя убьет», — сказал брат Инес. — Эй, Пьетро, я сделал бутерброды и для тебя. За спиной стояла мертвая тишина. Встревоженный Ландо обернулся, чтобы посмотреть, чем занимается Беллинцона. Волосы на голове у него зашевелились. Пьетро стоял в метре от него и задумчиво смотрел на его затылок. В правой руке он сжимал огромный нож-пилу. В течение нескончаемых пяти секунд они смотрели друг другу прямо в глаза. В горле у Ландо застрял кусок. — Что ты так на меня смотришь! — пронзительно закричал Ландо. Беллинцона молча отвел глаза и стал резать хлеб.* * *
Когда Габелотти ступил на твердую землю, он чуть не упал на колени и не поцеловал ее, как это делают спасшиеся после кораблекрушения. Несмотря на огромное количество проглоченных транквилизаторов, Габелотти до самого приземления сохранял ясность ума и с ужасом смотрел на приближающуюся посадочную полосу. По его лицу градом скатывался пот, и он был уверен, что самолет разобьется. — Ну вот, не так все и страшно, — сказал доктор Мэллон. Габелотти бросил на него зверский взгляд, отстегнул ремень безопасности и оказался у люка раньше, чем подогнали трап. Кармино Кримелло стоял позади него, но из осторожности держал рот закрытым. По бледному лицу дона Этторе он понял, что полет оказался для него мучительным испытанием. Пройдя паспортный контроль, они увидели ожидавшего их Бадалетто. — Здравствуйте, дон Этторе. Все прибыли… Следуя полученным инструкциям, Карло вместе с Томасом Мертой и Анджело Барбой улетели из Нью-Йорка в Милан. Фрэнки Сабатини и Симеон Ферро приземлились во Франции, в Лионе. И те и другие прибыли в Цюрих поездом. В Швейцарии организационными вопросами занимался Лючиано Дзулино, контролировавший сеть проституции, принадлежавшую «семье» Габелотти в Южной Европе. Когда Анджело Барба попросил его организовать пребывание дона в Цюрихе, Лючиано Дзулино с радостью ухватился за возможность показать себя. — Я займусь всем и все сделаю! — заверил он. Он никогда не видел Габелотти, но моментально выделил его из толпы сопровождающих лиц. Он схватил правую руку дона Этторе и поднес ее к губам. — Целую вам руки! Габелотти прекрасно обошелся бы без этого проявления уважения в общественном месте. Он выдернул руку и прошел мимо Лючиано, как мимо пустого места. Два «мерседеса» черного цвета с тонированными стеклами ждали их перед зданием аэропорта. Шоферы, одетые в черное, подобострастно распахнули дверцы машин. — Вы с нами, доктор? — спросил дон Этторе у Мэллона. — Нет, доберусь на такси. У вас и без меня достаточно забот. Вы знаете, где можно меня найти? — Знаю. За несколько часов до вылета я позвоню вам. Билет для вас возьмут. — Всегда к вашим услугам. Мэллон поклонился и затерялся в толпе. Дон Этторе, Лючиано Дзулино и Анджело Барба сели в первый «мерседес». Бадалетто, Кримелло, Мерта, Сабатини и Ферро — во второй. Разрабатывая план прибытия в Европу, дон Этторе решил, что его люди должны прилететь небольшими группами и в разные города. Теперь ему стало ясно, что эта предосторожность бесполезна. Зачем прятаться? Он — уважаемый бизнесмен и путешествует со своей деловой командой. — Я зарезервировал вам несколько апартаментов в отеле «Командор», дон Этторе. — Хорошо. Цветы? — В багажнике машины. Лючиано Дзулино открыл рот, собираясь что-то сказать, но так и не решился. — Далеко туда ехать? — спросил Габелотти. — Пятнадцать минут, — ответил Дзулино. Дон Этторе сидел, развалившись на сиденье из мягкой кожи, и смотрел на проносившийся мимо пейзаж. — Если вы задержитесь здесь, — сказал Лючиано, — я мог бы снять для вас виллу. — Спасибо, — ответил Габелотти, — этого не потребуется. Остаток пути проехали в полном молчании. Дзулино решил, что дон относится к категории «молчунов». «Мерседес» остановился. — Приехали, дон Этторе, — сказал Дзулино. В ста метрах от них остановился «фольксваген» кремового цвета. За рулем сидел Фолько Мори. Моше Юдельман, которому Габелотти сообщил номер рейса, поручил ему проследить за Габелотти и доложить. Он увидел, как Габелотти вышел из машины и сразу же попал в окружение семи человек, среди которых он узнал Кримелло и Барбу. Третьим был Томас Мерта, он командовал «солдатами», устраивавшими самые крупные дела «семьи». Остальные: Бадалетто, Сабатини и Ферро — пыль… Седьмого Фолько не знал. Неожиданная мысль поразила его своей смелостью: три-четыре гранаты — и от верхушки клана соперников останутся одни воспоминания. Служащий морга через окно видел прибытие импозантного кортежа. Роскошные машины, как и сановный вид Габелотти, произвели на него впечатление. — Сейчас я провожу вас… Что же касается цветов… Позволю себе заметить, что в нашем учреждении они не имеют никакого смысла. Лючиано Дзулино знал об этом уже тогда, когда получил заказ на цветы: морг — не кладбище. Но из скромности не решился об этом сказать. Служащий провел их в холодное помещение. Габелотти властно кивнул Бадалетто. До того как Бадалетто стал одним из «лейтенантов» Габелотти, он долгие годы состоял на службе у Дженцо. И если кто мог узнать эту посиневшую плоть, то только он. Он наклонился над металлическим ящиком и беспомощно пожал плечами. Карло согласился на это опознание потому, что не хотел лишний раз злить своего падроне. Но смешно было даже предположить, что Дженцо Вольпоне показывал свои ноги ему, в то время простому «солдату»! Зачем, по какому поводу? Постояв минуту с опущенной головой, Дон Этторе расписался в журнале посетителей, протянутом ему служащим морга. — Наш несчастный родственник был очень уважаемым человеком. Думаю, что многие друзья приходят сюда отдать ему последние почести… — Несколько человек приходили, — ответил служащий. Габелотти кивнул и направился к выходу. В Цюрихе он узнал не более того, что знал в Нью-Йорке. Кроме утверждения Итало, ничто не доказывало, что нога принадлежит Дженцо. И где доказательства, что Дженцо мертв? Пока он летел в Швейцарию, оба Вольпоне, возможно, уже испарились в неизвестном направлении вместе с деньгами. (обратно)ГЛАВА 19
Сообщить об этом было невероятно трудно, потому что жизненно касалось всех… Но молчать дальше Мелвин Бост не мог. Глаза членов административного совета смотрели на него вопрошающе и обеспокоенно. Он прочистил горло и помахал недавно полученным телексом. — Плохая новость! Сейчас я зачитаю вам то, что прислал президент. Он нацепил на нос очки и развернул лист бумаги, содержание которой знал наизусть. — Адресовано Мелвину Босту, генеральному директору, «Континентл мотокарз» и т. д. «Немедленно предупредить всеми возможными средствами владельцев «Бьюти гоуст Р9». Производственный брак колонки управления. Опасно! Дефектная деталь заменяется за счет фирмы». Подпись: Хомер Клоппе. Бост положил телекс на стол, словно он весил тонну. Воцарилась зловещая тишина. — Это — самоубийство! — раздался чей-то голос. — Если мы сделаем такой шаг, мы разоримся. Продано более четырехсот тысяч «Р9». Каждая замена нам обойдется в триста долларов. Посчитайте! — Вы же нам сами сказали, — закричал директор научно-исследовательского центра, — что президент готов рискнуть… Все сидящие здесь знают прогноз компьютера! — Мы сами лезем головой в петлю! — бросил административный директор. — Ни одна фирма не сможет выжить после такой пункции. Это — саботаж! Под градом слов Мелвин Бост опустил голову. Он совсем не хотел говорить им то, о чем узнал десять минут назад из телефонного разговора с Гарнхаймом, правой рукой Клоппе в «Трейд Цюрих бэнк». Но раз дело принимало такой оборот, он решил не оставлять им ни малейшей иллюзии. Он поднял руку, требуя тишины. — Господа! Господа! Когда шесть дней назад я встретился с президентом в Швейцарии, он уже тогда не хотел брать на свою совесть невинные человеческие жизни. Чтобы убедить его, чтобы спасти нас, я предложил ему следующий компромисс: если в течение трех месяцев не произойдет ни одной аварии, мы все оставляем, как есть… — И что? Уже что-то случилось? — Когда президент отсылал этот телекс, все было нормально. Это еще раз подтверждает, что он все-таки изменил свое первоначальное мнение… Как-то повлиять на него сейчас невозможно! Несколько минут назад я узнал, что на нашу голову обрушилась очередная неприятность. В восьмой раз отказало рулевое управление «Р9». — Где? — В Цюрихе. — Тяжелая авария? — Смертельная! За рулем нашей модели сидела дочь Хомера Клоппе.* * *
— Все собрались? — Все. Габелотти прибыл со всей своей штаб-квартирой. — Кого ты видел? — Кармино Кримелло, Анджело Барбу, Томаса Мерту, Карло Бадалетто, Симеона Ферро и Фрэнки Сабатини. Плюс еще один тип, которого я не знаю. Он встречал их в аэропорту. Догадайтесь, куда они сразу поехали? — В отгадки не играю. — В морг. С букетами цветов… — Хорошо. Возвращайся. Такой телефонный разговор состоялся между Моше Юдельманом и Фолько Мори. Моше отреагировал молниеносно, позвонив в Нью-Йорк Витторио Пиццу. — Витторио? Захвати с собой Алдо, Винченце, Джозефа — и не тяни, первым же рейсом вылетай в Цюрих. Давай! Ты знаешь, где меня найти? Получив положительный ответ, он положил трубку. Приезд Пиццу, Амальфи, Брутторе и Джозефа Дотто восстановит равновесие между «семьей» Вольпоне и «семьей» Габелотти. Оставалось выяснить, для каких целей дон Этторе привез в своем багаже этих костоломов… Слушая Фолько Мори, Моше мгновенно понял, что остановка в морге, цветы и посещение останков Дженцо не что иное, как показное проявление мирных намерений дона Этторе. Сделал Моше и еще один вывод: если Габелотти демонстративно предлагает мир человеку, которого ни во что не ставит, значит, в данный момент он, по неизвестным Моше причинам, чувствует себя слабее его. С одной стороны, эта неопределенность отношений волновала Моше, с другой — он мог быть спокоен: ни один из донов не имел доступа к деньгам. Единственный человек, который мог разрешить проблему, был банкир. К сожалению, после того как его обработал Итало, стало маловероятным, чтобы Клоппе принес им комбинацию на блюдечке. Теперь нужно было утрясти вопрос, который он решил от имени Вольпоне, не посоветовавшись с ним. — Итало, я только что узнал одну забавную новость… Звонил Мори… Габелотти уже в Цюрихе. Но не один… Притащил с собой всю свою команду. — Так чего ты ждешь? Звони Витторио и скажи, чтобы собрал Алдо, Винченце и Джозефа. — Ты думаешь, в этом есть необходимость? — А тебя устраивает пять против десяти? — Хорошо, я позвоню. — Кто прилетел с Габелотти? — Кримелло, Барба, Мерта, Бадалетто, Сабатини, Ферро. И еще двое незнакомых… Но ты прав, Итало, Габелотти ищет твоей поддержки. Из аэропорта он сразу поехал в морг. — Это он убил его! — Нет, не он — О’Бройн! А теперь не мешай расчистить для тебя площадку… Моше нужно было решить одну деликатную проблему: утрясти детали встречи «в верхах». Переговоры должны проходить на нейтральной территории и, предпочтительно, с глазу на глаз. В глубине души Моше был уверен, что Вольпоне и Габелотти придут к общему согласию, если не будут выпендриваться перед своим окружением. Если Итало допустит ошибку, Моше всегда найдет способ исправить ее.— У тебя что-то не в порядке, Пьетро? Беллинцона вез его в отель «Командор», где остановилась «семья» Габелотти. За весь путь Пьетро не проронил ни слова. — Что тебя беспокоит? — Меня? Нет… нет… Ничего. Моше давно знал Пьетро: сильный, бесстрашный, преданный до мозга костей. Итало кратко рассказал, как Пьетро и Ландо лажанулись с трехметрового роста неграми, завалили операцию с подружкой Клоппе и упустили ее. Было от чего переживать Пьетро, чей профессионализм стал уже легендой в Синдикате. Машина обогнула клумбу и остановилась перед ступеньками, ведущими к входу в отель. — Жди меня здесь, — сказал Моше. На верхней ступеньке стоял Анджело Барба. Иерархия соблюдается везде… В то время как Моше поднялся на четыре ступеньки вверх, Барба сошел на четыре вниз. Сделав одинаковое количество шагов навстречу друг другу, они встретились точно посредине лестницы. — Мы вас ждем, — сказал Барба. — Я здесь, — ответил Моше. Они пересекли холл отеля, и Барба вежливо, на правах хозяина, пропустил Моше вперед, в кабину лифта.
* * *
Чувство страха по-настоящему стало преследовать Ландо. Во сне он видел Беллинцону, стоявшего за его спиной с огромным ножом в руке. Масса ничтожных деталей, на которые он раньше не обращал внимания, теперь не давала ему покоя. После драмы в квартире Инес Пьетро ни разу не заговорил с ним первым. Даже после инцидента с ножом Беллинцона отвернулся, чтобы не отвечать на его вопрос. Ландо с облегчением вздохнул, когда увидел Беллинцону и Моше, отъезжающих от виллы. Едва машины выехали за ворота, как возвратился Фолько. Ландо решил воспользоваться моментом и сменить напряженную атмосферу виллы на собственную квартиру: принять горячую ванну, надеть домашний халат и на час-другой обо всем забыть. — Фолько, я хочу забрать свою машину и переодеться. Если босс спросит меня, я — дома. — О’кей, — ответил Мори. — Фолько… — Да? — Ты давно знаешь Беллинцону? — А в чем дело? — Да так… Ни в чем… Вызвав по телефону такси, он пошел к воротам… — Беллеривштрассе! Подъезжая к дому Клоппе, он отметил, что машины на прежнем месте нет. — Поехали вокруг квартала, — сказал он шоферу такси. «Бьюти гоуст Р9» исчезла… Кто увел машину? Рената? Украли? Но в Швейцарии, это общеизвестно, нет мелких воришек. Рассчитавшись с шофером, Ландо вошел в подъезд своего дома. — Мистер Орландо Баретто? Один из мужчин, стоявший, прислонившись к стенке холла, улыбнулся и, подойдя к нему, сунул под нос удостоверение полицейского. И еще раз вежливо переспросил: — Вы — мистер Баретто? — Да, — захлопал глазами Ландо. — Позвольте пригласить вас в комиссариат. — Что я там забыл? Второй полицейский отделился от стены, но здание не рухнуло. — Речь пойдет о вашей машине. — Ну, прямо в десятку!.. Только что ее у меня украли! Я как раз собирался сделать заявление в полицию. — Не волнуйтесь, мистер Баретто, мы ее уже нашли. — Да? Где? — На трассе, ведущей в аэропорт. Пройдемте. Голос оставался вежливым, но его уже взяли с двух сторон. По взгляду мужчин Ландо понял, что это не просьба, а приказ. — Я хотел только переодеться. Не могли бы… — Мы задержим вас только на одну минуту. Простая формальность… Пройдемте, пожалуйста… Вас ждет лейтенант Блеч.* * *
После продолжительной дискуссии Юдельман и Барба сошлись на том, что встреча их падроне состоится в парке «Гранд-Отеля». Место для разговора, возле бассейна, расположенного между площадкой для игры в гольф и двумя теннисными кортами, показалось им надежнее, чем какая-нибудь гостиная, которая — кто знает? — может оказаться нашпигованной микрофонами. Встречу наметили на двенадцать дня. Вольпоне и Габелотти имеют право взять с собой двух телохранителей, которые будут находиться на расстоянии пятнадцати метров от них. Таким образом, будет сохраняться секретность и обеспечиваться безопасность. Попрощавшись, советники отправились к своим донам доложить о результатах совещания. Без пяти минут двенадцать ко входу в парк «Долдер» подъехал черный «мерседес» Габелотти. Походкой бездельничающего буржуа дон Этторе направился к бассейну. Купающихся еще не было, но солнце заставило многих раздеться, и они лениво лежали на надувных матрасах. Дон Этторе свернул в аллею и пошел по усыпанной мелким гравием дорожке, обсаженной с двух сторон кустами розмарина. У поворота аллеи, у двух кленов, он заметил Симеона Ферро, любовавшегося фонтаном. Его черный, строгий костюм показался дону Этторе неуместным в этот погожий весенний день. Но тут же он отметил, что и сам, и сопровождающий его Томас Мерта одеты в темные костюмы. Еще один темный силуэт, маячивший в ста метрах от него, привлек внимание дона Этторе. Он узнал тяжелую, мощную фигуру Пьетро Беллинцоны. Его острый, наметанный взгляд отметил отсутствие Малыша Вольпоне. Через пять секунд после прибытия «мерседеса» к парку подъехал Итало на «форде». Фолько Мори, сидевший за рулем, вышел из машины и открыл ему дверцу. И эти двое были одеты в темные костюмы. На краю цветущей лужайки Итало увидел неподвижную фигуру Пьетро Беллинцоны. Каждый из «крестных отцов» отправил по одному телохранителю в парк на разведку, оставив рядом с собой наиболее способных бойцов рукопашного боя. Кроме пистолета, который оттягивал ему правый карман, Фолько имел в запасе два ножа для метания. Олин, тот, которым он пронзил горло Патрика Махоуни, как обычно, находился в футляре, закрепленном высоко между лопатками, второй был прикреплен ремнями к левой голени. Когда в поле их зрения появился Вольпоне, Томас Мерта по знаку Габелотти незаметно удалился. Тот же маневр проделал и Фолько Мори. Как ему советовал Моше, Итало сделал первый шаг в направлении Габелотти. При одинаковой силе власти в этом жесте ничего зазорного не было: младший идет навстречу старшему по возрасту. К тому же этого требовала и традиция. Не доходя одного метра до Этторе, Итало остановился и сказал: — Вы хотели со мной встретиться, дон Этторе? Я перед вами. На лице Этторе Габелотти появилась добрая, отеческая улыбка. — Спасибо, что откликнулся на мою просьбу. Это покровительственное обращение на «ты» вызвало у Итало раздражение. Но дон Этторе уже раскрыл объятия и прижал его к своей груди. — Позволь мне еще раз рассказать тебе о горе, которое я испытал, узнав о смерти твоего брата. Не снимая своих рук с плеч Итало, Этторе отстранился и посмотрел на него глазами старого друга, не видевшего его сто лет. — С доном Дженцо мы были друзьями. Я всегда восхищался им и глубоко уважал. Он фамильярно взял Вольпоне под руку и увлек за собой. Итало непроизвольно напрягся, но послушно пошел рядом. — Мне многорассказывали о тебе, Итало, и я благодарен случаю узнать тебя ближе… Я познакомился с твоим братом в самом начале его карьеры… От него я узнал кое-что о тебе… Ты удивлен? — Что, например? — холодно спросил Итало. — Нападение на кондитерскую отца Бискотио… Ну что? Видишь? Тебе тогда было четырнадцать лет. — Тринадцать. — Что я хочу сказать? В жизни тебе очень повезло, Итало, но одновременно и не повезло… Ты родился в тени великого человека. Ты же сам понимаешь, что дон Дженцо был великим. Жизненные случайности иногда разводили нас по разные стороны баррикад, но все вопросы мы старались решать по-доброму. Я не должен тебе об этом говорить, такие поступки требуют скромности, но прежде чем поехать в отель переодеться, я заехал в морг, чтобы отдать последнюю дань уважения твоему брату. Взволнованный этими воспоминаниями, Габелотти замолчал. Молча они прошли метров двадцать. У скамейки дон Этторе остановился. — Сядем? Так будет удобнее разговаривать. Как ты видишь, у меня несколько лишних килограммов, да и возраст… Ходьба утомляет меня. Габелотти опустился на скамейку и удовлетворенно вздохнул. Итало сел рядом. Все происходило совсем не так, как он себе представлял. Он сконцентрировал в себе всю энергию, чтобы укусить разъяренного дикого зверя, а вместо этого выслушивал пустую болтовню усталого, безразличного человека. При таком продолжении можно схватить радикулит… Но Моше просил его не нервничать и не торопить события. — Ты мало говоришь, — сказал дон Этторе. — Возможно, ты шокирован тем, что я обращаюсь к тебе на «ты». Тогда знай: с моей стороны это — знак доверия и уважения. Если ты хочешь, чтобы я уважал тебя, как твоего брата, будь добр, обращайся ко мне тоже на «ты». И прошу тебя, верь в искренность моих слов. Я знаю, что ты не доверяешь мне. Нет-нет! Не говори обратное, я не поверю тебе! Чтобы судить друг о друге, надо пройти испытание делом. Мы с тобой — компаньоны, и дело у нас — общее. Через какое-то время ты, возможно, станешь капо «семьи». — Я — уже капо. И снова этот покровительственный, родительский смех. — Ах, Итало, Итало! Дженцо очень хорошо обрисовал твой портрет: импульсивный, но добрая душа… Заметь, дон не передается по наследству, это надо заслужить. — Или взять, — не повышая голоса, сказал Итало. — Ты совершенно прав. Это еще и берется… Я уверен, что с тобой клан Вольпоне будет в надежных руках. А теперь поговорим серьезно. Ты догадываешься, почему я прилетел в Цюрих? Исчез О’Бройн! Твой брат убит. Из уважения к тебе я не стал ничего предпринимать без твоего ведома. Итак, я тебя спрашиваю: не видишь ли ты каких-то неудобств, если я высвобожу наши деньги из «Трейд Цюрих бэнк» и переведу туда, куда мы собирались это сделать с доном Дженцо? Вольпоне бросил на него пронзительный взгляд. — Я чем-то удивил тебя? — спросил Габелотти. — Ты против? — Абсолютно согласен. Вы разговаривали с банкиром? Дон Этторе ткнул в него пальцем. — Итало, Итало… Ты меня расстраиваешь… Почему ты обращаешься ко мне на «вы»? — Ты говорил с ним? — Этим я займусь после нашей встречи. Вольпоне не удержался и задал вопрос, который жег ему рот, хотя знал, что спрашивать об этом просто глупо: — У тебя есть номер счета? Габелотти с обиженным видом посмотрел на него. — Но, Итало, если его нет у меня, у кого же он? Я знаю, что ты навещал банкира, чтобы активизировать дело, начатое твоим братом. Я прекрасно понимаю твой эмоциональный порыв и желание оказать нам всем услугу… Я мог бы сказать тебе то, что ты должен был бы знать с самого начала: швейцарские банки неприступнее Форт-Нокса. Кроме того, я мог неправильно истолковать твои действия. Если говорить совсем откровенно, я мог бы даже подумать, что ты суешь нос не в свое дело или что твое горе толкнуло тебя на безумный шаг… Поставь себя на мое место!.. — Поставь себя на мое место! — жестко оборвал его Вольпоне. — Мой брат убит, а в это время исчезает твой прохвост О’Бройн… — Как ты об этом узнал? — Ты сам мне сказал. — Правильно, я тебе это сказал. Но когда ты направился в банк, ты этого еще не знал. — Не старайся перехитрить меня, — повысил голос Вольпоне. — В Синдикате всем известно, что твой адвокат вымазан в дерьме с ног до головы. Круглые глаза Габелотти мгновенно превратились в две сверкающие щели. Он чуть не подал сигнал Томасу Мерте пустить в ход оружие. На таком расстоянии Томас мог прострелить пикового туза в центре карты. Ему стоило огромных усилий взять себя в руки. Тяжело дыша, он закрыл глаза и вовремя вспомнил, что Вольпоне прав: эта тварь О’Бройн, действительно предал его. Но он не хотел, чтобы об этом знал Вольпоне. Не сейчас, по крайней мере… Он терпеливо дождался, когда успокоится пульс, затем наклонился и сорвал одуванчик. — Слушай, Итало, слушай внимательно… Я никогда не повторяю дважды. Если ты хочешь долго находиться на месте дона Дженцо, выбирай слова. Говорю это из уважения к твоему брату и как старший по возрасту. Я думаю, что ты сделаешь правильный вывод. Главное — долго жить… — Дженцо говорил эти же слова, — с горечью произнес Итало. Габелотти встал. — Не забывай моих слов. А сейчас я еду в банк. Позже сообщу тебе результат… Он повернулся и пошел к выходу из парка. Итало заметил, что Габелотти шел быстро и уверенно. Первые переговоры закончились.* * *
Лейтенант Блеч резко опустил трубку на рычаг: через несколько часов он встретится с капитаном Кирпатриком. В продолжение длинного разговора, когда каждый старательно пытался водить за нос другого, Блеч понял, что шеф Центрального управления на Шестой авеню — такой же мудак, как и шеф окружной полиции Цюриха. Преимущество Блеча над Кирпатриком заключалось в том, что Кирпатрик с самого начала отвел ему роль недоумка. Тем хуже для американца… Блеч дал ровно столько сведений своего расследования, чтобы Кирпатрик еще больше запутался. Имена, которые он ему сообщил, казалось, повергли того в транс. — Повторите, лейтенант! Повторите!.. — Позволю себе заметить, что эти люди прибыли сюда отдельными группами. Информация поступила ко мне из разных пограничных пунктов нашей страны. Одни прибыли из Франции, другие из Италии. Только Габелотти и Кримелло прилетели прямо из Нью-Йорка. — Послушайте, лейтенант… Я все объясню вам по приезде. — Что вы сказали? — Да… Я прилечу в Цюрих… Блеч терпеть не мог, когда в его владениях начинали топтаться чужестранцы. Всякое вмешательство иностранной полиции в дела его округа он рассматривал как личное оскорбление. Он надолго замолчал, давая понять Кирпатрику, что не одобряет его проект. — Я прилечу, естественно, как частное лицо, лейтенант. Я знаю этих людей… Если вы не отказываетесь от моих услуг… Я ограничусь выяснением типично американского аспекта дела, о чем вы не можете знать… — Кто эти люди? Теперь надолго замолчал Кирпатрик. Наконец с сомнением в голосе ответил: — Этторе Габелотти — капо одной из «семей» Синдиката. — Я депортирую его. — Не делайте этого, лейтенант! Мы можем провернуть фантастическую операцию. — Мы? — Вы! Заверяю вас, мой приезд будет вам полезен. Чтобы не показаться своему заокеанскому коллеге окончательным занудой, Блеч рассказал Кирпатрику последнюю новость, которая, по его мнению, тем или иным образом была связана с необычными событиями, обрушившимися на Цюрих в течение последней недели. Несколько часов тому назад, между тремя и четырьмя часами утра, на дороге, ведущей в аэропорт, в автомобильной катастрофе погибла единственная дочь самого богатого банкира в Цюрихе. Это произошло сразу же после бракосочетания с псевдореволюционером профессором Куртом Хайнцем. Машина, в которой разбилась Рената Клоппе, принадлежала итало-американцу по фамилии Орландо Баретто. Блеч навел справки, и оказалось, что Баретто — бывший профессиональный футболист, получивший вид на жительство сроком на пять лет с обязательной перерегистрацией каждые шесть месяцев. Официально он зарегистрирован как «посредник по продаже зерна», но подозревается в получении доходов из других источников. Поддерживает близкие отношения с некоей Инес, проституткой категории «люкс». Ни в каких скандальных историях замечен не был, общественного порядка не нарушает, имеет два счета в разных банках. — Лейтенант, — в кабинет заглянул инспектор, — парень, которого вы хотели видеть, уже здесь… Баретто… — Пусть войдет, — сказал Блеч, стараясь принять холодное, безразличное выражение лица, что, впрочем, для него не составило большого труда. В пути Ландо выработал тактику поведения. Фараоны ни в коем случае не должны установить его связь с Ренатой Клоппе. Достаточно какому-нибудь сумасшедшему провести параллель Вольпоне — Клоппе, и они сунут нос во всю операцию. Это будет стоить ему жизни… — Входите, мистер Баретто… Я лейтенант Блеч. Спасибо, что пришли. — Инспектор сказал, что вы нашли мою машину. — Да, нашли… — А я собирался делать заявление… — Когда ее у вас украли, мистер Баретто? Как только этот красавчик вошел в кабинет, Блеч сразу же почувствовал к нему антипатию. — Вероятно, сегодня ночью, — ответил Ландо. — Утром я уже не нашел ее… Насколько мне известно, вы нашли ее на шоссе в аэропорт… — Где вы ее оставили, мистер Баретто? — Рядом с домом. — Как давно вы ее приобрели? — Чуть больше недели назад… Могу я ее забрать? — Сейчас — невозможно, мистер Баретто. Ваша машина попала в автокатастрофу. — В автокатастрофу? — Вы знакомы с Ренатой Клоппе? — Кто это? — Рената Клоппе… Дочь банкира. Ландо отрицательно покачал головой. — Никогда о такой не слышал. — Вспомните, — доброжелательно улыбнулся Блеч. — Вы давно живете в Цюрихе и не можете не интересоваться маленькими местными новостями. Рената Клоппе — это молодая женщина, которая сегодня в три часа утра вышла замуж… Об этом событии писали все газеты! — Да, возможно… Что-то я читал… Но какое это имеет отношение к… — Имеет, мистер Баретто. Рената Клоппе разбилась именно на вашей «Бьюти гоуст Р9». Вы можете мне объяснить, как она в ней оказалась? Ощущение надвигающейся опасности мгновенно смыло с него всю усталость, накопившуюся со вчерашнего дня. — Но… лейтенант, откуда мне знать? — Сколько вы заплатили за «Р9»? — Кто? — Не кто, а сколько? Сколько стоит ваша машина? — Моя машина? Ландо еще даже не понял, что Блеч уже его допрашивает. Врун от рождения, он знал, что не следует делать из правды совершенную тайну, надо отщипывать от нее крохи… — Она должна стоить восемнадцать — девятнадцать тысяч долларов. — Платили за нее долларами? — Швейцарскими франками. — Чеком? — Послушайте, лейтенант, я не понимаю. — Чеком? — Да, чеком. Но оплачивал не я. Ландо понял, что попал в мышеловку. Фараон уже все знает и методично подводит его к пропасти. — Мне ее подарили. — Красивый подарок. — Это не совсем так, лейтенант. Всего лишь карточный долг. В баре я познакомился с человеком… почувствовали взаимное расположение… начали играть в покер. Я выиграл у него около двадцати тысяч долларов. — Как звали этого человека? — Он не представился. — А вы не из любопытных… — А зачем мне это, если я выигрываю, — сказал Ландо, безразлично пожав плечами. — Его фамилия Вольпоне, Дженцо Вольпоне. — Вполне возможно. — Или, скорее, так его звали… Ландо почувствовал, как взмокли его ладони… Но ему удалось ничем не выдать своего волнения, сохранить вежливо-безразличное выражение лица. После произнесенного имени он понял, что Блеч не выпустит его из участка. Сжав зубы, Ландо ждал приговора, лишающего его свободы. Неожиданно Блеч отвел взгляд в сторону. — Благодарю вас, мистер Баретто, — быстро сказал он. — Машину сможете забрать сразу же… как только закончится расследование. Но я вас попрошу не выезжать из города. Может случиться так, что мне потребуются ваши уточнения. Оказавшись на улице, Ландо едва сдержал себя, чтобы не броситься бежать. Свободен!* * *
Шилин пришлось силой увести Хомера из траурной комнаты. Отрешенный, Клоппе со вчерашнего дня не притрагивался к еде и все это время простоял на коленях перед кроватью, на которой лежала его мертвая дочь. Время от времени он поднимал голову и неистово всматривался в лицо Ренаты. Он смотрел до тех пор, пока ему не начинало казаться, что ее лицо в колеблющемся свете свечей оживает. — Хомер, нельзя здесь оставаться так долго… Это плохо… Он как тень прошел через зал, где рабочие с величайшей осторожностью приводили все в порядок. Вышел на улицу, думая о деньгах, которым посвятил всю свою жизнь. К чему теперь все это, если Ренаты нет в живых? Он пришел в себя только в банке, куда не собирался заходить. Марджори была в приемной. Смущенная и скованная. Он знал, что она в курсе его несчастья. В газетах еще не успели об этом сообщить, но слух по городу прошел. — Сэр… На большее у нее не хватило сил. Хомер похлопал ее по руке и, не подняв на нее глаз, прошел в кабинет. Он по привычке сразу же сел за стол, выдвинул ящик и достал бутылку «Уотерман». Отвинтил пробку и сделал глоток прямо из горлышка. Зачем он пьет? Ему ничего не хотелось, как будто он уже был мертв. Он открыл папку, не понимая, что могут означать эти параллельные строчки букв… Все потеряло свой смысл… Марджори осторожно заглянула в кабинет. — Сэр, вы на месте? — Нет. Она собралась закрыть дверь, но он машинально спросил: — Кто? — Какой-то господин… Он прилетел из Нью-Йорка и настойчиво требует встречи с вами. Этторе Габелотти, так он представился. В голове Клоппе взорвалась фамилия Вольпоне. Он даже подумал, уж не его ли рук дело — автокатастрофа… Нет, не этот мерзкий гангстер убил его дочь, а он сам, потому что боялся потерять состояние… Габелотти был партнером Дженцо Вольпоне, человека, которого он принимал здесь восемь дней назад. — Пусть войдет. Этторе Габелотти был высок ростом, толстый, огромный и неприятный. Движением подбородка Клоппе пригласил его сесть. — Благодарю, — сказал Габелотти. — Вам знакомо мое имя? Филипп Диего — мой адвокат. Он должен был рассказать вам обо мне. Я оказался в очень затруднительном положении, понимаете? В вашем банке на моем счете находится значительная сумма денег. Два миллиарда долларов, как вы знаете… Дон Этторе бросил мимолетный взгляд на банкира, пытаясь найти в выражении его лица подтверждение своим словам. И ничего не нашел… — Этот капитал находился в состоянии перевода, когда мой компаньон, вы это тоже знаете, был найден мертвым… Мой друг Дженцо Вольпоне. Случилось так, что в результате необычных обстоятельств мое доверенное лицо, Мортимер О’Бройн, который был у вас вместе с Вольпоне… Габелотти замолчал, глубоко вздохнул и продолжил: — Случилось так, что Мортимер О’Бройн повел себя недостойно… Вместо настоящего номера счета он дал мне фальшивый, о чем я узнал, позвонив сюда… Да, мистер Клоппе, меня предал человек, которому я безгранично доверял на протяжении многих лет. За все это время Хомер сделал движений не больше, чем мраморная статуэтка, стоявшая у него на столе. Даже его глаза, казалось, замерли. Габелотти заерзал в кресле. — Еще я знаю, мистер Клоппе, что брат моего компаньона, Итало Вольпоне, взял на себя ответственность, ничего не согласовав со мной, предпринять некий демарш… Я хорошо знаю его плохие стороны, и мне очень не хотелось бы, чтобы допущенные им ошибки свалились на голову такому уважаемому человеку, как я. Если я лично выбрал ваш банк, чтобы поместить сюда деньги, так это потому, что я прекрасно знаю вашу репутацию, лояльность и абсолютную честность. Как вы уже успели заметить, я выложил перед вами все карты. А все потому, что я вам доверяю. Вы знаете, деньги, которые находятся в вашем банке, принадлежат мне. Таким образом, я призываю вас к благоразумию и прошу, без свидетелей, как мужчина мужчину, — переведите деньги в «Панама кэмикл», как это было договорено. На несколько секунд установилась зловещая тишина. Казалось, что только сейчас Хомер Клоппе «увидел» перед собой Этторе Габелотти. Он внимательно посмотрел на него близорукими глазами, затем встал, давая понять, что разговор закончен, и спокойным голосом сказал: — Сожалею, но я не знаю, о чем вы говорите. (обратно)ГЛАВА 20
Объявление о закрытии шахты никого не повергло в уныние, как ожидалось, а, наоборот, наэлектризовало. Всем захотелось вырвать из земли побольше алмазов, которые так неохотно отдавали ее недра. Безграмотных и образованных, руководство и чернорабочих — всех охватила лихорадка, которой когда-то горели искатели золота. Шахта превратилась в источник эмоций, не уступавших по своему накалу зеленому сукну игральных столов в казино. Каждый день что-то происходило… Хулио не был исключением… Ажиотаж со вчерашнего дня достиг апогея. Предупредив, что шахта будет закрыта на восемь месяцев. Эрик Морталд непроизвольно вызвал у шахтеров яростное желание «найти». Каждый надеялся наткнуться на что-то «такое», что весило бы между ста и тысячью каратов. Стоя на коленях под землей, Хулио мечтал о сказочной удаче. Кончиками пальцев он осторожно ковырнул почву. Тонкая струйка песка беззвучно просыпалась к его ногам. Он крепко сжал пальцами древко шахтерского молота, примеряясь к наиболее обещающему месту в его поисках. Короткими, резкими ударами он начал откалывать куски твердой породы. И тут же, сверху, на него заструился песок. Опасность! Узкий лаз был едва закреплен несколькими наспех поставленными вертикально брусами. Хулио лучше было не рисковать и уползти в более безопасное место. Но желание «найти» заставляло его копать дальше, продвигаться и продвигаться вперед. Тыльной стороной ладони он вытер пот, от которого щипало глаза, и снова стал бить молотом перед собой… И вновь произошел мини-обвал. Хулио замер. Но сегодня у него оставалась последняя возможность, последний шанс. Завтра вечером, 30 апреля, «Вассенарз консолидейтед» закрывает ворота. Неожиданно его молот ушел в пустоту. Рукой он расширил отверстие до размеров, чтобы можно было осветить дыру лампой. Он чувствовал, что не ошибся: вышел на жилу. Дрожа от нетерпения, Хулио взял в руки кирку. От первых, достаточно сильных ударов порода над ним пришла в движение и рухнула вниз по всей длине подземного коридора, сломав, как спички, крепежные брусы. Засыпанный землей, но еще живой, Хулио произнес имя женщины, ребенка которой он уже никогда не увидит: Мануэла!* * *
Таможенник бросил на них быстрый взгляд и без всякого интереса перелистал их паспорта. Четверо мужчин были одеты в одинаковые темные костюмы. У каждого в руке был дипломат, без которого деловой человек не может обойтись. — Проходите, господа… Пиццу, Амальфи, Брутторе и Дотто смешались с толпой пассажиров, прилетевших рейсом Нью-Йорк — Цюрих. В кармане Пиццу лежал адрес виллы, где их ждали Вольпоне и Моше Юдельман. — Ты знаешь, как называется место, куда мы направляемся? Улица Банкиров. В Швейцарии этим только и надо заниматься. — Хочу есть, — сказал Брутторе. — Где возьмем оружие? — спросил Дотто. — Не волнуйся, — ответил Витторио. — Итало об этом позаботится. Они сели в такси. Пиццу, который по-немецки говорил не лучше своих спутников, протянул шоферу лист бумаги, на котором было написано: «Зонненберг, Аурораштрассе». — Ясно! — ответил шофер, трогаясь с места. В это время таможенник, которого подменил его коллега, звонил в Центральный участок окружной полиции Цюриха. — Лейтенанта Блеча, пожалуйста. — Кто спрашивает? — Таможня аэропорта. Сержант Глюкке. — Его нет, старина! Но давайте, что у вас? Я в курсе! Новые гости? — Четверо. — Секунду, возьму карандаш… Говорите… — Прилетели из Нью-Йорка. Винченце Брутторе… — С двумя «т»? — Алдо Амальфи… Джозеф Дотто… Витторио Пиццу. — Хорошо. Вы предупредили наших людей? — Да. Они поехали за ними. — Еще раз спасибо. — Привет! — Привет!* * *
Лейтенант Блеч и капитан Кирпатрик мгновенно невзлюбили друг друга. Капитан — сам нежеланный гость, привез с собой сопровождение. Такого уговора не было. — Мой заместитель, лейтенант Герберт Финнеган, — представил Кирпатрик. Блеч кивнул. — Мистер Скотт Дэмфи, — продолжил Кирпатрик. Блеч посмотрел на коротконогого человечка, у которого был развеселый вид. На нем были задрипанный костюм, шляпа и галстук, напоминавший половую тряпку. — Вы — полицейский? — подозрительно спросил Блеч. — Не совсем так, — осторожно сказал Кирпатрик. Он прочистил горло и бросился головой в омут. — Мой друг Скотт Дэмфи является сотрудником федеральной налоговой инспекции. Блеч недовольно сдвинул брови. Если кого он не хотел видеть в Цюрихе, так это парней из федеральной налоговой инспекции Соединенных Штатов. Но он не позволит этому недомерку совать нос в дела швейцарских банков! Вместо того чтобы предложить гостям сесть, как это он всегда делал, Блеч ледяным тоном заявил: — Я удивлен, капитан! Я поверил вам, что вы приедете один и как частное лицо… Кирпатрик от души рассмеялся, что не соответствовало его внутреннему состоянию. Если Блеч не любил рыжих, он ненавидел всякого, кто был похож на швейцарца. Очень часто след, по которому он шел, обрывался в Лозанне, Женеве или Цюрихе. — Так оно и есть, лейтенант Блеч! — В таком случае я не понимаю, что здесь делает американская федеральная налоговая инспекция? Скотт Дэмфи зашелся от смеха, словно речь шла совсем не о нем. Кирпатрика от этого смеха покоробило. — Он тоже прибыл с дружеским частным визитом, — ответил капитан. — Должен вас предупредить, капитан, что я прослежу, чтобы ваш визит не вышел за рамки… частного… Мы болезненно относимся к вмешательству в наши проблемы, на нашей национальной территории, иностранных чиновников, несмотря на то что они принадлежат к дружественной нам стране. Дружественная страна! Кирпатрик от возмущения чуть не задохнулся. Какая страна? Всю Швейцарию можно в носовом платке перенести в Америку, и ее территории не хватит, чтобы накрыть китайский квартал в Нью-Йорке! Чтобы у патрона не произошло кровоизлияния в мозг, Финнеган поспешил ему на помощь. — Мы прекрасно обо всем этом знаем, — доброжелательно улыбнулся он. — И речи не может быть, чтобы мы активизировались за вашей спиной. Забудьте, что мы с вами коллеги, и рассчитывайте на нас как на добровольных помощников. Блеч внимательно посмотрел на Скотта Дэмфи. — Могу ли я узнать, сэр, в чем заключается истинная цель вашего путешествия? — Это я попросил его поехать со мной, — сказал Кирпатрик. — Для чего? Дэмфи вновь не удержался от смеха. Кирпатрик угрожающе на него посмотрел. — Видите ли, лейтенант, дело, которым мы занимаемся, скорее аспект этого дела, выходит за рамки моей компетенции… — Вы удивляете меня! — оборвал его Блеч. — Во время нашего недавнего разговора по телефону вы утверждали, что речь идет о чисто уголовном деле. — Правильно! — И?.. Кирпатрик, привыкший сам задавать вопросы, занервничал. Не будет же он докладывать этому плюгавому швейцарскому полицейскому о всех тонкостях операции… Что может понять швейцарец в тех проблемах, которые Синдикат создает в Соединенных Штатах? — Вы не очень любезны, капитан, — холодно обронил Блеч. — Что вы сказали? — Добавлю, мне не нравятся ваши манеры. Лицо Кирпатрика приобрело цвет кирпича. Он поочередно посмотрел на Дэмфи и Финнегана, чтобы узнать, слышали ли они слова Блеча. Финнеган стоял, опустив голову. Дэмфи тихонько хихикал. Блеч рубанул рукой. — С того момента, как я сообщил вам о смерти Махоуни, вы без устали держите меня за дурака. Вы пытаетесь убедить меня, что готовы мне помогать! Это — ложь! Вы пытаетесь вытянуть из меня все возможное и ничего не дать взамен. Это не по-дружески! Ошарашенный Кирпатрик молчал, не зная, как вести себя дальше. Он чувствовал себя выбитым из седла. — Я знаю столько же, сколько и вы… Возможно, даже больше… — категорично заявил Блеч. — Я знаю все ваши маленькие секреты… Вольпоне, Юдельман, Пиццу, Беллинцона, Мори, Дотто, Брутторе, Амальфи… Все они — здесь, в моей стране! Могу добавить к ним и клан Габелотти! Кримелло, Барба, Бадалетто, Мерта, Сабатини, Ферро! Блеч вытянул вперед открытую ладонь и сжал ее в кулак. — Все они здесь! А Рико Гатто вы знаете? Нет! А Орландо Баретто? Тоже нет! Вам еще многое нужно узнать, капитан! Кирпатрик принял удар. Финнеган смущенно уставился в сторону. Ему показалось, что даже Дэмфи прекратил смеяться. — А теперь выслушайте мое предложение. Или мы откровенно обменяемся информацией и, даю вам слово, работаем рука об руку, или вы молчите, и, в таком случае, я вас не задерживаю. Кирпатрик нервно покусывал губы. Он посмотрел на Дэмфи, затем на Финнегана. Финнеган сказал: — Я думаю, капитан, что лейтенант прав. — Секунду! — перебил его Блеч. — Уточняю, в Швейцарии вы не обладаете никакими официальными полномочиями. — Что нам остается? — с трудом сглотнув слюну, спросил Кирпатрик. — Ничего! Вы присутствуете при расследовании, которое я провожу, а выводы сделаете, когда возвратитесь в Америку. — А если вы начнете аресты? Блеч иронично на него посмотрел. — Вы забываете об одной детали, капитан! В Швейцарии не берут под стражу до тех пор, пока окончательно не будет доказана вина подозреваемого. Как, кому и какую вину я буду вменять и по какому праву арестовывать? Чтобы скрыть удовлетворение от реванша над капитаном, Блеч сделал несколько шагов по кабинету, затем вплотную подошел к Кирпатрику. — Итак? Вы согласны? Кирпатрик запустил чуть дрожавшую руку в свою огненную шевелюру. — Согласен, — пробормотал он. Лейтенант улыбнулся краешком рта и нажал на кнопку. В кабинет вошел дежурный. — Стаканы, лед и виски! — Слушаюсь, лейтенант! Лейтенант Блеч повернулся к американцам. — Откровенно говоря, я прекрасно обошелся бы без присутствия ваших соотечественников в Цюрихе… У меня есть одно желание — быстрее от них избавиться! Если они сошли с ума и перепутали Швейцарию с Чикаго, такими вы их получите обратно. Помолчав секунду, он сказал: — А сейчас, капитан, я слушаю вас…* * *
Ни в холле, ни в комнатах первого этажа никого не было. Прыгая через четыре ступеньки, Ландо взбежал по лестнице на второй этаж. Неизвестно куда исчезла усталость. Надо срочно сообщить Вольпоне, что швейцарская полиция напала на их след. На лестничной площадке он столкнулся с Фолько Мори. — Где падроне? — Занят. — Мне надо с ним поговорить, Фолько! — Только что приехали Пиццу и все остальные. Итало и Моше разговаривают с ними. — Черт! Это надолго? — Не знаю. Ландо не решился поделиться с Мори своими опасениями. Первым эту новость обязательно должен узнать падроне. Раздосадованный, он спустился вниз и направился на кухню что-нибудь выпить для поднятия настроения. Пьетро сидел на низкой скамеечке и листал журнал комиксов. Рядом с ним на полу стояли четыре пустые банки из-под пива. Ландо взял бутылку водки, налил полстакана и залпом выпил. — Пьетро, как ты думаешь, они еще долго будут совещаться? — Трудно сказать, — ответил Пьетро. — Кто тебе нужен? — Вольпоне. — Они уже час там. Неожиданно Ландо вздрогнул. Беллинцона заговорил с ним! Это приободрило его. Вероятно, бессонные ночи нагнали на него излишнего страха. — Сегодня тебе лучше? — с теплотой в голосе спросил Ландо. — Что? — Вчера у тебя был убитый вид… Хоть в гроб клади… Если бы он мог, он сказал бы ему, что уже ничего не помнит из того, что произошло в квартире Инес. — Да, лучше… лучше… Пьетро встал, подошел к холодильнику и достал очередную банку пива. Сделав несколько глотков, он с задумчивым видом направился к двери. Ландо увидел, как он дважды повернул ключ в замке. — Эй! Ты что делаешь? — удивленно спросил Ландо. Беллинцона сунул руку с ключом в карман брюк. Когда он вытащил ее, она сжимала «вальтер». — Ты сошел с ума, — закричал Ландо. Пьетро приложил указательный палец к губам, как бы предлагая не кричать. — Не шуми, парень! Не мешай тем, кто работает… — Зачем ты взял меня на мушку? — Я тебя сейчас убью, Ландо. Ландо показалось, что он превратился в глыбу льда. — Что я тебе сделал? Беллинцона почесал затылок. — Вообще-то ничего… ничего… Клянусь, я ничего против тебя не имею. — Мы уже больше не друзья? — спросил Ландо, стараясь унять дрожь в голосе. — Друзья, — ответил Беллинцона. — Но я должен убить тебя. — За вчерашнее? Ты — сумасшедший! Я ничего не видел. Я не смотрел! Такое могло произойти и со мной! — Но произошло со мной, — мрачно произнес Пьетро. — И пока ты жив, я не смогу жить дальше. — Пьетро, — взмолился Ландо, — ты это не сделаешь! Ты не убьешь меня! Услышат звук выстрела! Итало снимет с тебя шкуру! Не делай глупости, старина! Все забыто! Слово мужчины… Лицо Беллинцоны окаменело. — Не смотри на меня. Мне не нравятся твои глаза. Повернись! — Пьетро! — Повернись! — Пьетро, не делай глупости! Едва держась на трясущихся ногах, Ландо повернулся к нему спиной. Он не слышал, как сзади подошел Пьетро и выдохнул ему в ухо: — Извини, парень… У меня нет выбора. — Пьетро! — крикнул Ландо. Он хотел обернуться, но рукоятка «вальтера» со всего размаха врезалась в шейные позвонки. Ландо качнулся и рухнул на керамический пол. Пьетро быстро подошел к двери и приложил к ней ухо. Затем открыл ее и осторожно выглянул в холл. Прислушался. Никого. Совещание наверху продолжалось. Он закрыл дверь, запер ее на ключ и вытащил из морозильника огромный, килограммов пятнадцать весом, кусок льда. Положив его на край верха холодильника, он подошел к лежавшему без сознания Ландо и ногой перевернул его на спину. Глубоко вздохнув, он снял глыбу льда с морозильника и с высоты своего роста бросил прямо на голову Ландо. В раздирающем душу грохоте куски льда, испачканные кровью, разлетелись в разные стороны. Глыба раздробила Ландо лоб. Беллинцона взял метелку, смел в пластиковый мешок окровавленные кусочки льда и выбросил его в мусорный ящик. Приподнявшись на носках, он открыл шкафчик над полками с посудой, где хранились продукты. Перед приходом Ландо он положил туда полиэтиленовый мешочек с кусками нарезанного хлеба. У основания полок он осторожно опрокинул табуретку. Подняв с пола неразбившийся кусок льда, положил его в раковину для мытья посуды и открыл кран с горячей водой. Затем подтянул тело Ландо к табуретке, перевернул его лицом вниз и потер раздробленным лбом о плитку пола. Оставалось сделать последний штрих, чтобы сцена выглядела правдоподобной. Он взял стопку тарелок и положил их рядом с мешочком, в котором лежал хлеб. В раковине отрубил кусок льда сантиметра в три толщиной и пять длиной. Этим куском льда он подпер стопку тарелок. Через две минуты лед растает и тарелки полетят вниз. Горячая вода полностью растворила орудие преступления, превратив его в воду. Беллинцона в последний раз окинул взглядом свое творение. Было ясно, что Ландо разбил голову, упав с табуретки, когда пытался дотянуться до мешочка с хлебом. Глупая смерть… Пьетро открыл дверь кухни. Все заняло три минуты. Теперь никакого шума… Неслышно ступая, Беллинцона прошел в дальний угол холла и сел в кресло. Развернув газету, он окликнул Мори: — Эй! Фолько! — Что? — Ты веришь в эту хреновину? — В какую? Мори стоял на верхней площадке и смотрел вниз на Пьетро, который показывал ему газету. — Они пишут, что откопали зерна злаковых, которым больше двух тысяч лет. — Какие зерна? Беллинцона открыл рот, собираясь ответить, и в этот момент из кухни раздался грохот бьющейся посуды. — Что это? — спросил Фолько и вытащил пистолет. — Оставайся на месте, я посмотрю. Сжимая в руке «вальтер», Пьетро пересек холл и остановился в дверях кухни. — Черт! Не может быть! Мори скатился вниз по лестнице и стал рядом с Беллинцоной. На полу, вытянувшись во весь рост, в луже крови и тысяче осколков разбившихся тарелок лежал Орландо Баретто. Фолько подошел к телу Баретто и перевернул его на спину.* * *
Когда могильщики собрались забить крышку гроба, распорядитель остановил их движением руки и подошел к Шилин. — Миссис, хотите проститься с ней в последний раз? Шилин зарыдала и бросилась в объятия Хомера. Он крепко прижал ее к себе, осторожно гладя рукой по затылку. Глазами подал знак распорядителю. Тут же застучали молотки. Сотрясаемая рыданиями, припав всем телом к мужу, Шилин сжала кулаки и до крови впилась в них зубами. Преодолевая ее сопротивление, Хомер потащил ее по коридору в спальню. С трудом ему удалось усадить ее на кровать. — Мужайся… Он стоял рядом с ней, и из его глаз тоже текли слезы. Она в отчаянном жесте обняла его за ноги. — Ну скажи мне, что это неправда! Скажи! — Мужайся! — повторил он. — Бог не оставит нас… — Он уже оставил, — застонала Шилин. — Брошенные! Он снял очки и протер стекла пальцами. Внизу стоял кортеж автомобилей… — Пойдем, — сказал Хомер. — Мы должны до конца пройти через наше горе. Он помог ей встать. Она прислонилась к нему, спрятав лицо у него на груди. Вдруг Хомер напрягся. По коридору прошли четверо мужчин в черном, которые должны были вынести гроб с Ренатой. Прислонившись к стене, во всем черном, рыдала Мануэла. Она машинально взяла Шилин под руку, и они начали спускаться по лестнице, усыпанной цветами. На улице к ним подошел лейтенант Блеч. — Я потрясен, сэр… Примите мои соболезнования… Клоппе кивнул головой и хотел пройти мимо полицейского. — Мистер Клоппе… Хомер посмотрел на него невидящими глазами. — Мистер Клоппе, — быстро и тихо заговорил полицейский, — я понимаю, что это не к месту… — Говорите, — сказал Клоппе. — Поверьте, я никогда бы себе такого не позволил, но срочность… Вам угрожали, мистер Клоппе? — Кто угрожал? — непонимающим тоном спросил Хомер. — В Цюрихе происходят странные вещи, возможно, даже имеющие отношение к смерти вашей дочери. Я веду расследование… Вам угрожали? Хомер посмотрел прямо в глаза Блечу и мрачным голосом сказал: — Я не понимаю, о чем вы говорите.* * *
Итало был ужасно удивлен, что мафиози может умереть, упав с табуретки. Если бы не два свидетеля, Фолько Мори и Пьетро, Вольпоне Малыш никогда бы не поверил, что такое возможно. Они все стояли вокруг трупа Ландо, когда Юдельман снял трубку зазвонившего телефона. — Это — Анджело Барба. Габелотти предлагает снова встретиться на прежнем месте. В четыре часа… Согласен? — спросил он, глядя на Итало. И, не дождавшись ответа, бросил в трубку: — Дон Вольпоне согласен. Все мгновенно забыли о распростертом у их ног теле. Высшее руководство «семьи» обменялось мимолетными взглядами. В результате произнесенного Юдельманом слова «дон» практически официально узаконивалось для членов «семьи» и для «семьи» соперника признание Итало Вольпоне «крестным отцом» и законным наследником своего брата Дзу Дженцо Вольпоне. Никакой двусмысленности с этого момента быть не могло: король умер, да здравствует король! Итало промолчал, но про себя поклялся вознаградить Юдельмана. С такими мозгами в его лагере «семью» еще ждут погожие дни… В четыре часа вечера, соблюдая все пункты утреннего рандеву, Габелотти и Вольпоне снова встретились в парке «Долдер». Несмотря на протесты Анджело Барбы и Кармино Кримелло, дон Этторе решил рассказать Вольпоне о предательстве О’Бройна. Делал он это не из-за большой любви к правде или завоевания доверия Итало, а потому, что дальше отступать было некуда. И еще потому, что он подозревал, что Малыш Вольпоне не только в курсе этого события, но уже успел отловить его финансового советника, подвергнуть его пыткам и, ничего не добившись — иначе зачем ему здесь находиться? — отправил его в мир иной. Сейчас было еще жарче, чем в полдень. Как только доны увидели друг друга, их телохранители отошли в сторону. На этот раз Габелотти сам, первым, шагнул навстречу Вольпоне. — Итало, я должен принести тебе свои извинения. Как и утром, он взял его под руку и увлек к той же скамейке. — Ты был прав. О’Бройн предал меня. Я был у банкира. Номер, который мне сообщил О’Бройн, — фальшивый! Итало незаметно расслабился. — Я не могу в это все еще поверить, — продолжал дон Этторе, покачивая головой. — Что меня больше всего волнует? Смог ли этот мой чертов адвокат вытащить деньги из банка? Итало наблюдал за двумя голубями, боровшимися за корочку хлеба. — Банкир ничего определенного не сказал, понимаешь… Как узнать, где деньги? В банке или О’Бройн скрылся вместе с ними? Он вопросительно посмотрел на Вольпоне. — На какого ставишь? На правого или левого? — спросил Вольпоне, показав на голубей. — Это очень важно для нас… Брать в осаду банк не имеет смысла, если Мортимер упорхнул с деньгами. Если бы прояснить этот вопрос, мы подумали бы, каким образом направить наши совместные усилия. Ты в Цюрихе давно, может, тебе известно больше, чем мне? Вольпоне отрицательно покачал головой. — Я оказался в очень затруднительном положении, Итало, и откровенно спрашиваю тебя: что ты думаешь на этот счет? У тебя есть какой-нибудь план? — Закончить то, что начал, — отвечал Итало. — То есть? — Давить на Клоппе. — Но до сих пор эта тактика ничего не дала. — Мы были слишком вежливыми… Габелотти с удовлетворением отметил это «мы». — Ты понимаешь, что его жизнь для нас дорога? И он это знает. Это дает ему возможность куражиться над нами столько, сколько ему вздумается. В конце концов он может заявить в полицию. И, в лучшем случае, нас выдворят отсюда, — сказал дон Этторе, прищелкнув пальцами. Малыш задумался. Юдельман и он рассматривали две возможности: у Габелотти есть номер счета и у Габелотти нет номера счета. Второй вариант устраивал их больше. Он вспомнил совет Моше и спокойным голосом сказал: — У меня есть предложение. Этторе внимательно на него посмотрел. Несмотря на все его провокации, Итало отказался комментировать поступок О’Бройна. И ни на секунду на его лице не возникло выражения обеспокоенности… Вывод: Малыш Вольпоне рассчитался с адвокатом, но секрета так и не узнал. — Слушаю, Итало, говори! — Как ты думаешь, сможем ли мы расколоть Клоппе, если подержим его несколько дней у себя? — Вне всякого сомнения, Итало. Но, к сожалению, этот план невозможно осуществить. — Ты так думаешь? Почему? — Исчезновение Клоппе взбудоражит всю Швейцарию и поднимет на ноги всю полицию. Впервые за время их общения Итало позволил себе улыбнуться. — Я так не думаю, Этторе. Он вытащил из кармана конверт. — Хочешь узнать, что находится внутри? Внешне безразличным жестом Габелотти достал из конверта вчетверо сложенный лист бумаги и фотографию молодой высокой негритянки с великолепным телом, одетой только в микроскопические прозрачные трусики. — Кто это? — спросил Габелотти. — Подружка Клоппе. Проститутка по имени Инес. Он трахается с ней в бронированном подвале собственного банка. А теперь посмотри, кому адресовано письмо. Твердым, типично американским почерком было написано: «Миссис Шилин Клоппе. 9, Беллеривштрассе, Цюрих». Габелотти с изумлением посмотрел на Итало. — Хочешь сказать, что подружка Клоппе написала письмо его жене? — Под мою диктовку. Прочти… Габелотти развернул лист. «Миссис, так как Хомеру не хватает решительности сказать Вам об этом, я делаю это вместо него. Мы уезжаем на восемь дней на отдых на Сардинию, если Вас интересуют детали. После тридцати лет супружеской жизни с Вами он заслужил это. Я возвращу его Вам в хорошем состоянии, немного уставшим, возможно, но в хорошем состоянии. Принцесса Кибондо». — Я ставлю на левого, — сказал дон Этторе. — Ты проиграл. Смотри… Голубь справа улетел, зажав в клюве корочку хлеба. — Она действительно принцесса? — спросил Габелотти. — Больше шкура, чем принцесса. Я тоже — принц, в своем квартале… Ты думаешь, что, получив такое, жена Клоппе бросится в полицию? Она сделает все, чтобы это не выплыло наружу. Какая женщина хочет, чтобы ее принимали за дурочку? — Продолжай… — Похищаем Клоппе… — Как? — Я вызову людей из Италии. Заодно взломаем банк. — Не думаешь ли ты вскрыть все сейфы? — Зачем? Наших денег там нет. Клоппе, с интересом для себя, пустил их в дело. — Дальше. — Мы подложим ему такую свинью, что в Цюрихе он превратится в ноль. Вытряхнем из него душу! Он расколется. Не мы будем опустошать его сейфы, а скандал… Клиенты побегут в более спокойные банки! — Что бы ты хотел в качестве выигрыша? — Не понял. — Я проиграл пари с голубями, — с натянутой улыбкой сказал Габелотти. — Когда мы закончим эту историю, ты подаришь мне швейцарские часы. — Когда похищение? — Сегодня вечером. — А банк? — Сегодня ночью… если ты не возражаешь. Дон Этторе надул губы. — Я не против быстрых действий, но… без излишней спешки. — Десять боевиков прибывают сегодня вечером из Италии. Все уже улажено. Габелотти усмехнулся. — Молодые волки работают на старых волков, да? — Нет, Этторе, все волки работают вместе. Накаленный до предела ощущением своей мощи, Итало, не мигая, сверлил его взглядом своих черных глаз. — Ты доверяешь мне? Габелотти сжал его руку двумя ладонями. — Полностью, Итало. Абсолютно! А сейчас не мог бы ты посвятить меня в детали? — Естественно. — Понимаешь, Итало, мне нравится быть зрителем, но не тогда, когда речь идет о двух миллиардах!* * *
Как только гроб опустили в землю, Курт встал рядом с Шилин, какполноправный член семьи. Людей на кладбище собралось невероятно много. Те, кто хотел выразить семье Клоппе свои соболезнования, ждали полчаса, медленно продвигаясь в очереди, змейкой извивавшейся между могил. По прошествии часа бесконечных рукопожатий Шилин наклонилась к Хомеру и едва слышно прошептала: — Мне плохо… Хомер взял ее под руку. — Я провожу тебя. — Не могу, — сказала Шилин. — Все кружится перед глазами. — Тебе плохо? — спросила Хелена Маркулис, близкая ее подруга. Она стояла позади Шилин, словно предчувствуя, что понадобится ее помощь. — Пойдемте отсюда, — предложил Хомер. — Нет! — запротестовала Шилин. — Мы не можем уйти до конца церемонии. — Хелена, вы отвезете Шилин домой? — Да. Она обняла Шилин за талию и сделала незаметный знак Мануэле, которая скромно стояла в сторонке, но в любую минуту готова была прийти на помощь. — Что я могу для вас сделать? — спросил Курт. Хомер промолчал. Появление Курта на кладбище казалось ему бестактным и невероятно раздражало. — Я на машине, — продолжал Курт. — Могу вас подвезти. Клоппе встал к нему вполоборота. К нему подошел какой-то шофер в ливрее и шепнул: — Мистер Клоппе, я приехал за вами. — Иду, — машинально ответил банкир. Разрезая толпу, шофер направился к выходу с кладбища. Хомер последовал за ним, без сожаления расставшись с Куртом. Шофер открыл дверцу черного «мерседеса» с тонированными стеклами. Клоппе сел в машину. Дверца захлопнулась. В салоне «мерседеса» уже находилось четверо мужчин. Двое были ему незнакомы. Что касалось двух других, он отдал бы многое, чтобы не встретиться с ними при таких обстоятельствах: Итало Вольпоне и Этторе Габелотти. — Поверьте, — сказал Габелотти, — я искренне сочувствую вашему горю. — Примите мои соболезнования, — добавил Вольпоне. Сжав губы, банкир пытался открыть дверцу. Она была заблокирована. «Мерседес» медленно тронулся с места и взял направление на Цюрих. — Я действительно неловко себя чувствую, — сказал Габелотти, — но боюсь, что на этот раз вам придется с большим вниманием выслушать нас. (обратно)ГЛАВА 21
Оттавио Джакомасси, дожив до 65 лет, был ветераном, он когда-то входил в число людей Лаки Лучиано. Когда в 1936 году Лучиано — «одного из самых гнусных преступников, когда-либо представавших перед правосудием», как сказал о нем мэр Нью-Йорка Томас Дэви, — посадили на тридцать лет в тюрьму, Оттавио, в свои двадцать пять, почувствовал себя сиротой. На следующий день после заключения его падроне за решетку ему объяснили, что для него ничего не изменилось. Лучиано продолжал управлять своей империей из камеры. Через три года Европа погрузилась в пучину войны. Это событие Джакомасси никак не взволновало. Париж, Берлин, Лондон были для него всего лишь географическими названиями. Однако в его карьере наступил резкий перелом, когда Соединенные Штаты решили встрять в военный конфликт. Надо было подготовить плацдарм для высадки американских войск в Европе. Италию захлестнул фашизм. Специальные службы Белого дома на полном серьезе отправились в тюрьму на консультацию к Лучиано. «Самому гнусному преступнику» предложили роль военного советника канцелярии президента с полномочиями, превышающими власть десяти генералов с пятью звездочками на плечах. Его попросили предоставить для блага нации знания, связи, людей и всю инфраструктуру его организации. Взамен Лучиано пообещали сократить срок заключения, что и было выполнено 2 февраля 1946 года, после девяти лет и шести месяцев его нахождения в неволе. Оттавио Джакомасси выпала честь быть включенным лично Лаки в группу итало-американцев, которым поручалось организовать «прием» союзников на Сицилии. Когда Лучиано выдворили из Соединенных Штатов, Джакомасси был в первых рядах встречающих Лаки в Палермо. Спустя десять лет Лаки — влиятельный член всемогущей и таинственной Комиссьоне — отдал Оттавио молодому, уверенному и амбициозному волку Дзу Дженцо Вольпоне, к которому благоволил. С того дня Джакомасси занял в «семье» Вольпоне место главы клана по Северной Италии. Когда Малыш Вольпоне кратко рассказал о несчастье, постигшем «семью», Оттавио впал в уныние: после Лаки дон Дженцо был вторым уважаемым им человеком, с которым ему приходилось общаться. И Итало, который стремился унаследовать положение брата во главе «семьи», не собирается, судя по всему, почивать на лаврах: для своей первой операции в роли капо он попросил Оттавио прислать — прямо сегодня вечером! — десятерых боевиков, чтобы вдребезги разнести банк в Цюрихе, «Трейд Цюрих бэнк». Звонок Итало в миланское бюро не застал Джакомасси врасплох. Опыт подпольной работы позволял ему практически мгновенно произвести рекрутирование необходимого числа людей. Кроме того, его очаровала напористость Малыша. Джакомасси знал, как переправить людей в Швейцарию, не переходя официальной границы легально, правда, его смутило, что Итало ни слова не сказал о том, как он собирается возвратить людей в Милан. Ах, молодость, молодость!.. К счастью, папаша Оттавио позаботился и об этом.* * *
Мануэла готова была многое отдать, только бы не говорить в этот момент Шилин Клоппе о своем решении. Едва они возвратились с кладбища, Шилин закрылась в своей спальне. Не снимая траурных одежд, она легла в кровать, предупредительно разобранную ее подругой Хеленой Маркулис. Мануэла приготовила чай. Хелена выпила чашку, но Шилин отказалась. — Попей, Шилин, попей… Тебе станет легче… Шилин покачала головой, готовая снова разрыдаться. Задыхаясь от подступивших слез, она с трудом сказала: — Не злись на меня, Хелена… Я хочу побыть одна… одна… Подруга ушла, попросив Мануэлу предупредить ее, если Шилин понадобится ее помощь. Мануэла стояла у кровати, не зная, с чего начать. — Вам помочь раздеться? — Нет, нет… С минуты на минуту должен возвратиться Хомер… — Миссис… Я потрясена тем, что случилось… — Знаю, Мануэла, знаю… Она вас очень любила… — Я тоже… — Я знаю… — Я хотела вам сказать, миссис… Это так тяжело… Особенно сейчас… вы должны знать… я не могу больше… — Что вы не можете? — всхлипнула Шилин. — Я хочу уйти, миссис… Возвратиться в Португалию. Шилин укоризненно посмотрела на нее и затряслась в беззвучных рыданиях. Невероятно смущенная, со слезами на глазах, Мануэла нервно переступила с ноги на ногу. — Простите меня, миссис… Здесь я все время буду думать о ней. Она закусила губу, заплакала и пробормотала: — Это невозможно! Я не смогу… Шилин всхлипнула и чуть слышно прошептала: — О Мануэла, Мануэла… Она взяла ее руки в свои и с такой силой сжала их, словно маленькая португальская горничная была единственным ее спасательным кругом. — Мануэла, Мануэла… А я… Мне еще тяжелее!.. Я не знаю, как смогу жить дальше… Бог несправедлив… Как же вы правы, покидая нас! В этом доме всегда будет пахнуть смертью! Я понимаю вас, Мануэла! Я понимаю вас!.. — Миссис… — Я помогу вам… Считайте мой дом своим домом… Всегда… В память о ней… А ваш ребенок… ваш ребенок… Слезы хлынули у нее из глаз, и она не смогла больше произнести ни слова. Не переставая плакать, Мануэла вложила ей в руку конверт и вышла. Оставшись одна, Шилин постепенно успокоилась. Вытерев простыней лицо, она машинально распечатала конверт. На покрывало упала фотография. Она протерла пальцами глаза и мгновенно узнала высокую негритянку, фотографии которой нашла в кармане плаща муха. С замершим сердцем она пробежала глазами текст и дважды перечитала последние строчки. «После тридцати лет супружеской жизни он заслужил это. Я возвращу его вам в хорошем состоянии, немного уставшим, но в хорошем состоянии…» В ее голове закружили безумные мысли. Она снова посмотрела на фотографию, задержавшись на великолепной обнаженной груди великанши, выбросившей в победном жесте правую руку. Она была уверена в том, что Хомер попал в беду. Слишком хорошо она его знала, чтобы поверить в то, что он способен оставить ее в такую минуту. До предела наэлектризованная, она позвонила Курту. Он уже был дома и сказал, что Хомер уехал с кладбища около часа назад. Она поблагодарила его и набрала номер банка. Марджори не видела патрона со вчерашнего дня. Шилин позвонила в справочную и попросила номер окружной полиции. Когда на том конце линии подняли трубку, она показалась себе смешной и нажала пальцем на рычаг. Она решила обождать два часа. Если в течение этого времени Хомер не возвратится, она предупредит лейтенанта Блеча.* * *
Аппарат стоял в начале запасной взлетной полосы, находящейся в зоне миланского аэропорта и зарезервированной властями для самолетов-такси и тренировочных полетов двух аэроклубов. Это был «МД-315», списанный с вооружения французской армии и проданный за бесценок. Десять мужчин, бросая подозрительные взгляды на проржавевшую обкладку входного люка, один за другим поднялись в самолет. В салоне не было ни одного сиденья. Ремни безопасности крепились прямо к стене. Один из мужчин, знавший пилота, тихо спросил у него: — Слушай, Мороббиа, ты уверен, что этот металлолом летает? На лице Амедео Мороббиа отразилась неуверенность. Он пожал плечами. — Все зависит от дня недели, ветра, Мадонны… Пристегивайся, сейчас взлетаем, — сказал он и скрылся в кабине пилота, где его ждал Джанкарло Ферреро, радист-механик. — Взлетаем? — Взлетаем. Амедео включил зажигание. Оба двигателя дружно чихнули, захлебнулись и наконец заработали. Корпус самолета дрожал, словно на испытательном стенде. Шумоизоляция, как и герметичность, отсутствовала. В ней, впрочем, не было необходимости. Оттавио Джакомасси приказал лететь на бреющем полете, как только они пересекут швейцарскую границу. Местность, куда они летели, Мороббиа знал наизусть. Он должен приземлиться в треугольнике Цуг — Нефль — Швиц на выгоне длиной пятьсот метров. Этого более чем достаточно как для посадки, так и для взлета. Когда Амедео высказал мысль о создании авиашколы, Оттавио, не раздумывая, субсидировал его. Конечно, он зарабатывал себе на жизнь не редкими учениками, а выполняя деликатные, специальные задания Оттавио Джакомасси. Например, доставить или забрать какие-то пакеты в треугольнике Цуг — Нефль — Швиц. — Учебный «МД-315» просит разрешения на взлет с девятой полосы. — «МД-315», взлет разрешаю, — ответил диспетчер. — Ясно… Взлетаю. Мороббиа увеличил газ, и груда металла, пробежав триста метров, с трудом преодолевая земное притяжение, медленно поползла вверх. При полной загрузке «МД-315» едва развивал скорость в 250 километров в час. От Милана до места приземления было около ста пятидесяти километров. Амедео взял курс на северо-запад. Похлопав по руке своего механика, он прокричал ему прямо в лицо, стараясь перекрыть шум двигателей. — Джанкарло, ты проверил уровень масла?* * *
Темно-серый костюм, белая рубашка, черный галстук, не красавец, не урод, среднего роста — Чезаре Пиомбино был образцом мужчины, которого можно десять раз встретить на улице и ни разу не обратить на него внимания. Он вошел в «Трейд Цюрих бэнк» за сорок минут до закрытия. Вежливо спросив у привратника, где находится служба сейфов, он поблагодарил и в лифте поднялся на третий этаж. Зажав портфель под мышкой, Чезаре прошел по коридору и подошел к стойке, за которой сидели девушки в одинаковых костюмах цвета морской волны. — Мне нужен господин Рунге… — Господин Рунге был до обеда. У вас назначена встреча? — Да. — Не хотите ли переговорить с его заместителем? — Нет. У меня личный вопрос. Когда он будет? — Завтра утром. — Спасибо. Я зайду завтра утром. Его появление было настолько банальным, что ни одна из девушек даже не удосужилась поинтересоваться его именем. Как и большинство руководителей служб, Рунге присутствовал на похоронах дочери Клоппе. Чезаре Пиомбино еще не успел дойти до лифта, как девушки уже напрочь забыли его и готовы были искренне поклясться, что никогда его не видели. Чезаре Пиомбино торговал антикварной мебелью на Цурлинденштрассе. Его прибыль была мизерной, потому что плевать он хотел на всякую мебель, а тем более антикварную. Он был человеком Оттавио Джакомасси в Цюрихе. Когда-то он работал вместе с Оттавио: убивал, вымогая признания, в добрые старые времена войны. Его специализацией были диверсии на железной дороге и отравление питьевой воды, которой пользовались оккупационные войска. Задание, которое он получил от Джакомасси, было сродни тому, чем он занимался четверть века тому назад. Прежде всего, надо остаться в банке. Затем, если боги с ним, сделать то, что нужно сделать, и целехоньким убраться из банка. За работу он получит от Оттавио десять тысяч долларов. Чезаре осторожно открыл дверь рядом с шахтой лифта. Запасный выход! Он прижал к груди черный портфель, набитый динамитным и бикфордовым шнуром, и стал медленно спускаться по лестнице.* * *
Мануэла вошла в свою комнату, сняла траурное платье, собираясь принять душ. На кровати она увидела голубой прямоугольник — телеграмму, которую, вероятно, принес мажордом, когда она была на похоронах Ренаты. Нахмурив брови, она прочла, не понимая, о чем идет речь. Ноги у нее подкосились, и она опустилась на кровать. В голове зашумело… Она перечитала текст телеграммы во второй раз. В горле застрял плотный, колючий ком, и несколько секунд она не могла вздохнуть. Слова текста, как пули, впивались в ее сердце. «Сожалением сообщаем смерти Хулио Альмейды результате несчастного случая. Ждем указаний возможности транспортировки тела. Подпись: Эрик Морталд. Директор «Вассенарз консолидейтед». Шукуду. Ботсвана». У Мануэлы мелькнула мысль, что ребенок никогда не будет знать отца.* * *
Эта небольшая станция техобслуживания, затерявшаяся в конце тихой улочки Эшвизенштрассе, ничем не отличалась от тысячи других, разбросанных по стране. Всего лишь три бензоколонки: две бензиновых и одна с соляркой для грузовиков. Справа от заправки уходил вниз бетонный съезд на подземную стоянку, рассчитанную на тридцать автомобилей. Именно здесь собирался Орландо Баретто спрятать Мортимера О’Бройна и Зазу Финней. Хозяин станции техобслуживания, сицилиец по происхождению, не принадлежал к Синдикату, но иногда оказывал организации небольшие услуги. Энцо Приано никогда не задавал вопросов и взамен за свои труды получал конверт с полноценными швейцарскими франками. Чаще всего он укрывал людей, которые потом бесследно исчезали, забыв оставить ему визитную карточку. В глубине паркинга, за горой изношенных покрышек, находилась металлическая дверь, всегда закрытая на ключ. За ней — помещение с железной кроватью, умывальником с холодной водой, голой лампочкой над головой и дырой в бетонном полу, помпезно называемой «турецким кабинетом». Обстановку дополняли деревянный стол, на котором лежали несколько книг и стопка старых журналов, и две табуретки. За десять минут до приезда черного «мерседеса» с тонированными стеклами Энцо Приано разобрал гору старых шин и открыл металлическую дверь помещения, которое он называл «комнатой друзей». В нее вошли трое мужчин. У одного, самого маленького, на глазах была черная повязка. Второй был громадный и толстый; третий — коренастый, с суровым выражением на лице. Ему Энцо отдал ключ от убежища. Когда Вольпоне снял с Клоппе повязку, тот захлопал глазами и с презрением осмотрел место, куда его привезли. — Очки! — сказал он. Этторе Габелотти протянул ему очки. — Вы можете сесть, — сказал Габелотти. Хомер, не шелохнувшись, продолжал стоять. Он знал, что находится в Цюрихе, в подземном гараже, о чем говорил запах масла и бензина. Но в каком районе он находится? Когда к нему подошел шофер в ливрее и сказал: «Я приехал за вами», он подумал, что его прислала Хелена, и без всякой задней мысли последовал за ним. — Мистер Клоппе, — с нажимом сказал Габелотти, — только от вас зависит, как быстро вы выйдете из этого неприятного места. Я хочу сказать, выйдете живым… Ваше упорство оправдывает наши методы, которыми мы пытаемся его сломить. Вы располагаете двумя миллиардами долларов, которые вам не принадлежат по той простой причине, что настоящими владельцами являемся мы! В последний раз спрашиваем вас: переведете ли вы деньги туда, куда вам указал Дженцо Вольпоне? Клоппе осторожно сел на краешек кровати. Все ему было безразлично. Пытки его не пугали, смерти он не боялся. Рената похоронена, ценности, составлявшие смысл его жизни, потеряли свое значение. Единственное, что осталось, — принцип профессионального сохранения тайны, то, на чем зиждется величие его страны. Служащие банка не заговорили под пытками нацистов, когда те пытались узнать заблокированные номера счетов евреев. Он медленно поднял голову и посмотрел вначале на Габелотти, затем на Вольпоне. Насмешливая улыбка тронула его тонкие губы. — Мне кажется, что он смеется над нами, — безразличным голосом заметил Итало. После встречи с доном Этторе в парке «Долдер» Малыш Вольпоне отправил гонца на Беллеривштрассе с письмом Инес. Возвратившийся «солдат» рассказал ему о смерти Ренаты. Это сообщение изменило все планы, разработанные совместно с Этторе Габелотти. Времени на размышление не оставалось, и они сымпровизировали, поехав на кладбище. — Я задал вам вопрос, — с неожиданной резкостью сказал Габелотти. Хомер Клоппе спокойно покачал головой. — Я не понимаю, о чем вы говорите. Малыш Вольпоне подскочил и плюнул Хомеру в лицо. — Послушай меня, мудак! Есть по крайней мере одно, в чем ты скоро убедишься: ты узнаешь, что произойдет с тобой, твоим банком и твоей женой!* * *
Как только Блеч заметил, что Кирпатрик закрыл свою широкую глотку, он милостиво сбавил обороты агрессивности. В течение часа они обменивались откровенной информацией, отвечая на вопросы друг друга. После совещания Блеч отправился к Клоппе. Дэмфи, Кирпатрик и Финнеган — в отель. В «Сордис» они распаковали чемоданы и привели себя в порядок. И снова все собрались в кабинете Блеча. Тема разговора — исчезновение Патрика Махоуни. — Есть у меня одна гипотеза, — сказал Блеч. — Но, откровенно говоря, стоит она на ногах слабенько… — Говорите, говорите, — подбодрил его Кирпатрик. — Если ваш инспектор был ликвидирован, то, как мне кажется, я знаю, каким образом… Три дня назад в машинном отделении отеля «Командор» произошла драка… — Между кем и кем? — Не знаю. Никто ничего не слышал и не видел. Служащих встревожил пар, вырывавшийся из подвального помещения. Водопроводные трубы горячей воды были перфорированы пулями… Мои люди обнаружили на полу следы гильз. Был там и я. Я почти уверен, что труп сбросили в котел с кипящей водой. — Вы не проверяли? Блеч бросил на него раздраженный взгляд. — Нет, капитан. Это невозможно. Там — ад! От человека ничего не остается через десять минут. Чтобы охладить котел, нужно три дня. — Что вам дает основание думать, что это — Махоуни? — За последние дни в Цюрихе исчезли два человека. Инспектор Махоуни и некто Рико Гатто, боевик с Западного побережья. — Откуда вам известно, что этот Гатто исчез? — Он въехал в Швейцарию, но не выехал. Он не оплатил счет за отель, — холодно сказал Блеч. — По моему мнению, один из них, Махоуни или Гатто, стал жертвой преступления в отеле «Командор». Кто из них, сказать не могу, потому что не обнаружены тела ни того, ни другого. — А если ни одного тела так и не будет обнаружено? — спросил Финнеган. Блеч бессильно развел руки в стороны. — И еще, капитан… Хотя этот факт вас совершенно не касается… Люди, за которыми вы следите, совершают какую-то денежную махинацию с «Трейд Цюрих бэнк». Дочь владельца банка. Рената Клоппе, погибла два дня назад в автомобильной катастрофе через четверть часа после свадьбы. В эту минуту ее хоронят. Вы знаете, кому принадлежит машина, в которой она нашла свою смерть? Некоему Орландо Баретто, сицилийцу… А знаете, кто заплатил за машину Баретто? Он посмотрел на них, кипящих от нетерпения и сидевших, как два послушных, внимательных ученика. — Дженцо Вольпоне, — выстрелил он. — Где Баретто? — скрипнул зубами Кирпатрик. — В городе, — небрежно обронил Блеч. — Как? Вы не задержали его? — Если я буду арестовывать всех, кто заявляет о пропаже автомобиля… — Лейтенант, — подал голос Финнеган, — сегодня у вас есть фантастическая возможность отличиться! Такое может больше никогда не повториться. Почему бы вам не арестовать ВСЕХ?.. Скажем, под каким-нибудь предлогом… На лице Блеча появилась растерянность. — Под каким предлогом? Разве был нарушен общественный порядок? Кто-то подал на них жалобу? Финнеган и Кирпатрик грустно переглянулись. — Могу я позволить себе задать один вопрос? — спросил Дэмфи. — Не говорил ли вам Клоппе, что ему угрожают? Фриц Блеч поджал губы. — Мистер Дэмфи, у нас банк — это государство в государстве. Финансовый консорциум абсолютно самостоятелен. Они сами нанимают охрану, сами ведут расследование, приглашают экспертов и сами организуют свою собственную полицию. — Клоппе не представляет, с кем имеет дело, — ухмыльнулся Кирпатрик. — Синдикат настолько мощная организация, что может поставить на колени всю Швейцарию. Блеч посмотрел на него с искренним сожалением. — Никому это еще не удавалось сделать, капитан. Знаете почему? Потому что в нашей стране никто не берет взятки! В Америке вы все прогнили! Увидев, что Кирпатрик залился краской, он не дал ему времени возразить. — Капитан, как вы думаете, настолько ли Вольпоне и Габелотти сумасшедшие, что решатся броситься на приступ банка? — А почему бы и нет? — сказал, как плюнул, Кирпатрик. — Если они считают, что правы… Скотт Дэмфи оценил тонкий ход и забулькал смехом. — Это было бы интересно, — сказал Блеч. — Если я правильно понимаю, — заговорил Кирпатрик, — вы вмешаетесь только тогда, когда эти сволочи подожгут Цюрих и зальют его кровью. — Я знаю, что и когда мне делать, — сухо отрезал Блеч. — Лейтенант, я далек от мысли давать вам советы, но, принимая во внимание обстоятельства, вы могли бы использовать прослушивание телефонов… — Вы в Цюрихе, капитан, а не в Вашингтоне! Такие методы мы не приемлем. Кирпатрик сжал кулаки, сдерживая ярость. Этот простофиля упустит из-под носа главарей двух самых мощных «семей» Синдиката. Лицо Кирпатрика стало вишневого цвета. Заметив это, Блеч решил смягчить свою реплику и подошел к американцу. — Вам не стоит так волноваться, капитан. Два моих сотрудника наблюдают за банком.* * *
«МД-315», несмотря на свой не внушающий доверия вид, ни разу за три года полетов по маршруту Милан — Швейцария не подвел Амедео Мороббиа. Обычно после приземления его пассажиры выпрыгивали и бежали к лесной дороге, где их ждала машина. Мороббиа со спокойной совестью возвращался обратно и простым телефонным звонком докладывал Оттавио: — Возвратился. Все в порядке. Сегодня в программе предстояли некоторые изменения. Он должен посадить самолет, подъехать к кромке леса и хорошо замаскировать его. И ждать! — Как долго? — Не знаю, — ответил Оттавио. — Если меня долго не будет, в Милане начнут волноваться. — У тебя может быть поломка, и ты совершил вынужденную посадку. — Да, но я обязан их предупредить. — О’кей! Это я беру на себя. Если к утру никто не придет, возвращайся. — Хорошо. Колеса сильно ударились о землю, самолет подпрыгнул, снова коснулся неровной почвы и, сотрясаясь всем корпусом, покатился в сторону леса. Мороббиа выключил зажигание. Джанкарло перебрался в салон и помогал пассажирам отстегивать ремни безопасности. — Выметайтесь, парни! Выметайтесь… Вас ждут за оврагом. Все быстро покинули самолет. Это были молодые парни, модно одетые, при галстуках, с дипломатами и небрежно переброшенными через руку плащами. По тому, как они побежали, можно было судить об их хорошей физической подготовке. В лесу их ждали машины. Небольшими группами разными маршрутами их доставят в Цюрих, где им предстоит дождаться ночи, чтобы приступить к действию. — Что будем делать? — спросил Ферреро. — Сачковать, — ответил Мороббиа. — Долго? — Друг мой, если б я знал… Он удобнее устроился в пилотском кресле и закурил.* * *
— Мой друг Итало Вольпоне и я, без всяких разногласий, приняли ряд решений, которые хотим довести до вашего сведения. Этторе Габелотти прошелся доброжелательным взглядом по внимательным лицам слушателей, собравшихся в библиотеке виллы. Члены «семей» сидели отдельными группами. На лице Габелотти появилось удрученное выражение. — Ни Малыш Вольпоне, ни я не хотим насилия. Но вы понимаете, что через наши интересы затрагивается престиж Синдиката. Как мы должны смотреть на то, что какой-то мелкий банкир бросил вызов Организации? Мой компаньон и я пришли к единому мнению: не оставлять без внимания это оскорбление. Он протянул руку в сторону Вольпоне. — Итало, объясни нашим друзьям, чего мы от них ждем. Этторе сел и вытер платком лоб. Итало встал. Не прошло и двух недель, как он пережил подобную ситуацию в Нассау. Перед высшим руководством двух «семей» он зачитал телеграмму своего брата, состоявшую из трех букв: «АУТ». Тогда он не мог себе представить, что в скором времени может стать кем-то другим, а не временным заместителем дона Дженцо. Он, младший брат своего брата, пижон и игрок, которого никто не принимал всерьез. Смерть Дженцо все изменила… Власть — совершенно новый и необычный плод, вкус которого ему необходим. Ни Габелотти, ни кто другой не помешают ему насладиться им. — Перед нами стоит двойная задача, — начал он. — Возвратить деньги и запугать банкира. Ликвидировать банкира мы не можем, не потеряв выход к деньгам. Поэтому планомерным давлением мы должны вынудить его расколоться. Хомер Клоппе уже в наших руках, но мы слишком надолго задержались в Цюрихе. Сейчас надо сделать все быстро: ударить, взять, исчезнуть… Сегодня ночью мы нападем на банк и превратим его в обломки. Надо дать понять Клоппе, что мы готовы идти до конца, если он не отдаст нам то, что принадлежит нам. У Синдиката воровать нельзя! — Если бы ты нам еще сказал, как собираешься все это осуществить, — наглым тоном заметил Карло Бадалетто. С того дня, когда передние резцы Карло остались в коже черепа Итало, он не упускал возможности продемонстрировать ему свое пренебрежительное отношение. Пальцы рук Вольпоне дрогнули и сжались в кулаки. Он опустил голову и, не повышая голоса, сказал: — Закройся! Говорю я! По его тону Моше Юдельман понял, что хрупкое деревце мира, с таким трудом им высаженное, может треснуть раньше, чем принесет плоды. Почувствовал изменение климата и дон Этторе. Он тоже приложил немало сил, чтобы установить временное перемирие, и не хотел, чтобы кто-то его разрушил. Гневно сверкнув глазами, он набросился на своего «лейтенанта»: — Или ты закроешься, или я сам вышвырну тебя отсюда. Карло почувствовал напряжение, возникшее между кланами, и вжался в кресло. Итало как ни в чем не бывало продолжил свою речь. Моше мысленно послал ему горячие поздравления. — Я вызвал из Италии десять боевиков. Вы возьмете их под свою команду и разнесете банк в щепки. Томас Мерта вежливо поднял палец вверх, прося слова. — Я видел банк. Это каменное шестиэтажное здание. Даже если сбросить на крышу двухтонную бомбу, она растрескает только стены. — Ты будешь действовать по моему плану, и все пойдет по-другому, — сказал Вольпоне. — Успех нашей операции заключается в неожиданности и быстроте… Если банк будет разгромлен в течение четырех минут, все останутся живы и здоровы. Мы — дон Этторе и я — решили, что в операции будут участвовать все «лейтенанты» двух «семей». Витторио и Томас осуществляют руководство операцией. Алдо, Винченце, Джозеф, Бадалетто, Фрэнки и Симеон поведут боевиков. В общей сложности в банк проникнут восемнадцать человек. На каждом этаже и в центральном холле будут действовать по три человека. Разгромить все и поджечь. У нас будут зажигательные гранаты и огнемет американской армии. — Падроне, — подал голос Пиццу, — гранатами вход в хранилище мы не взорвем. — Этого делать вам не придется, — добродушно сказал Габелотти. — Наша задача — не грабить, а нанести максимально больший ущерб. Менее чем за четыре минуты вы должны сжечь все документы. Главное не деньги, а скандал! Бордель! Томас Мерта обратился к Итало Вольпоне: — Вы сказали, что восемнадцать человек проникнут в банк. Каким образом? — Естественно, через дверь… — У вас есть ключи? Итало недобро улыбнулся. — Ровно в полночь дверь разлетится на куски. Один из моих людей спрятался в банке с динамитом. — Какие указания относительно полицейских? — спросил Брутторе. — Ты их не увидишь! — осадил его Вольпоне. — Полиции потребуется восемь минут, чтобы добраться до банка после сигнала тревоги. Вы действуете ровно четыре минуты. Когда они примчатся, вы будете уже дома. — Дома? — переспросил Фрэнки Сабатини. — Как можно выехать из страны за четыре минуты после такого фейерверка? — Не трусь! Завтра утром ты будешь пить кофе в Италии. Отход «солдат» ставил перед Итало большую проблему. Дон Этторе пока не затрагивал этот вопрос. Его мало интересовали человеческие потери в «семье» Вольпоне. Наоборот, ослабление клана Итало было ему на руку в дальнейшем осуществлении его планов. К сожалению, Итало лишил его возможности таскать каштаны из огня чужими руками, уточнив: «Дон Этторе и я, мы решили, что в операции примут участие «лейтенанты» двух «семей». Хотя дон Этторе ничего не решал. Он ничем не выдал своего удивления, но его изощренный мозг сразу же выявил ловушку. То, что Вольпоне взял на себя организацию операции, — флаг ему в руки! Но включать в команду камикадзе своих «лейтенантов» он не хотел. По крайней мере, без гарантий! Медоточивым голосом, словно ему все хорошо известно, Габелотти попросил Вольпоне: — Объясни этим парням, как они будут эвакуированы. Я чувствую, что они волнуются. Вольпоне только и ждал этого толчка, чтобы публично прибавить несколько очков к своему авторитету. Он мило улыбнулся Габелотти. — Я продумал это, дон Этторе, я продумал… — сказал он, прекрасно зная, что, говоря от первого лица, он выводит Габелотти из участников принятия решения по этому очень важному пункту. Этот ход ему подсказал и организовал еще в Милане Оттавио Джакомасси. Но никто не заставляет его говорить об этом. — На выходе из банка вас будут ждать шесть машин. Все разъедутся по разным маршрутам, где меньше всего ездит полиция. — Кто водители? — спросил Кармино Кримелло. — Друзья. Они знают город, как собственный карман. Разными дорогами вы приедете в одно место недалеко от Цюриха. — Через четверть часа после взрыва все дороги будут перекрыты, — сказал Томас Мерта. — Что нам делать? Прятаться в кустах? Итало посмотрел на него осуждающим взглядом. — Мне кажется, я уже сказал, что завтра ты будешь пить кофе в Италии. — Как перейдем границу? — В молоке, — спокойно ответил Итало Вольпоне. Он дал им секунду пофантазировать. — У моего брата Дженцо был небольшой молочный завод под Цюрихом. Каждый вечер туда привозятся тысячи бидонов молока. Три раза в неделю четырнадцать молоковозок отправляются в Милан, чтобы милые итальянские малыши пили вкусное, свежее швейцарское молоко. Каждая цистерна содержит пятьдесят тысяч литров. Уже шесть лет таможенники наблюдают, как проезжают эти молоковозки. В восьми цистернах мой брат сделал тайники. В каждом из них с удобством могут расположиться три-четыре человека. За четыре часа с небольшим вы окажетесь в Милане. Вас там встретят. Ясно? Анджело Барба рискнул задать вопрос, который жег ему губы. — А мы? Если дело обернется плохо? — Почему оно должно обернуться плохо? — удивился Итало. — Можешь ты мне объяснить, какая существует связь между тобой, честным американским бизнесменом, находящимся в Цюрихе по делам, и анархистами, которые ради забавы сожгли банк, не взяв при этом ни гроша? — И все-таки подумай, как мы будем выбираться из Цюриха. Вольпоне укоризненно на него посмотрел. — Ну как ты мог предположить, что я об этом не подумал, Анджело… (обратно)ГЛАВА 22
Фолько Мори окинул взглядом комнату. — Должно сойти, как ты думаешь? — спросил он. Пьетро Беллинцона поморщился. — Не знаю… — Что? Чего-то не хватает? Фолько пристально посмотрел на труп Орландо Баретто. Пролежав почти сутки в подвале на вилле, тело Ландо совершенно окостенело. Получив приказ от Вольпоне отвезти труп Ландо на его квартиру, они так и не сумели уложить его в багажник. Время шло, и они рискнули положить его на пол машины, вдоль заднего сиденья. Сверху набросили шотландский плед. Сжав зубы, Фолько вел машину, тщательно соблюдая правила дорожного движения, уступая проезд другим машинам, оставаясь предельно внимательным и стараясь ничем не привлечь к себе внимания. Сидевший рядом Пьетро казался аморфным, без нервов. После смерти Ландо ему стало легче дышать. Он был уверен, что его никогда не заподозрят в убийстве Ландо. Теперь никто не узнает об унижении, которое он испытал. Он был не настолько глуп, чтобы не знать, что в «семье» Вольпоне его принимают за идиота. Организованной мизансценой убийства он в какой-то мере отомстил им, пустив по ложному следу. Жаль, что этим нельзя было ни с кем поделиться… В квартире Ландо они воспроизвели весь сценарий… Когда соседей встревожит запах разложившегося тела и они взломают дверь, картина, которая предстанет перед их глазами, будет иметь вид невинного несчастного случая. — А вообще-то плевать нам на все это! — сказал Фолько. — Когда его найдут, мы будем уже далеко. — Я любил его, — искренне сказал Пьетро. — Я тоже, — подтвердил Фолько. — Не повезло парню… Они в последний раз посмотрели на окоченевшее тело товарища и тихо вышли из квартиры. Вольпоне просил их как можно быстрее возвратиться на виллу.* * *
Ганс Брегенц с ненавистью вышагивал по Штамфенбахштрассе. За два часа своего дежурства он наизусть изучил все витрины магазинов, находившихся в радиусе пятидесяти метров от входа в «Трейд Цюрих бэнк». Легкий промозглый ветерок начинал пробирать его до костей. Он поднял воротник непромокаемого плаща и посмотрел на часы: десять вечера. — Поль! Мне это осточертело! Когда нас сменяют? — В полночь! — ответил Романшорн. — Я бы с удовольствием чего-нибудь выпил… — Что нового? — Откуда новое? Блеч даже не сказал, какого хрена он нас здесь выставил, у этого старого банка. У них же есть свои сторожа или нет? Романшорн пожал плечами. В замысел лейтенанта Блеча невозможно было проникнуть. Дисциплина и еще раз дисциплина. Своим людям он говорил минимум информации, не считая нужным объяснять цель задания, которое им поручалось. — Сообщайте обо всем, что покажется вам подозрительным в непосредственной близости от банка. «И сваливайте!..» — мысленно добавил Брегенц. Он взял из рук Романшорна переговорное устройство. — Пройдись по тротуару… Забегу в кафе на секунду, замерз что-то… — Давай, — ответил Романшорн. Прохожих почти не было. В Цюрихе рано ложились спать и рано вставали. Романшорн пытался понять смысл задания. Банки были святым местом. На его памяти никто не посягал на них. Черт! Еще два часа надо убить в ожидании смены.* * *
Хомер Клоппе сложил ладони ковшиком и подставил под струю холодной воды. Со вчерашнего дня он еще ничего не ел. Перед отъездом на кладбище выпил только чашку кофе без сахара. Но голода не ощущал. Габелотти и Вольпоне обошлись в этот раз без насилия, ограничившись угрозами и детальным описанием картины ожидавшей его судьбы, если он не выполнит их требование. Он хотел бы освободиться от давившего его груза, но он не смел даже подумать о том, чтобы отдать Полю то, что доверил ему Пьер. Смысл его профессионализма заключался в абсолютном сохранении тайны. И он молчанием защищал доверенные ему ценности, как это делали его отец и дедушка. За свое упорство он уже заплатил собственными зубами. Вольпоне поклялся, что возьмется за его жену, за банк и за него самого. Когда Вольпоне плюнул ему в лицо, у него возникло желание помочь ему: сказать, что деньги находятся у него, но он отдаст их только на легальных условиях, соблюдая все формальности. Габелотти показал себя более мягким, терпеливее чередуя угрозы с обещаниями и сожалениями… — Я чувствую себя неловко, мистер Клоппе, действуя относительно вас таким образом. Но признайте, вы не оставляете нам выбора… Вы вынуждаете растереть вас в порошок. Он сидел на кровати, прямо держа спину, сложив руки на коленях. В замочной скважине заскрежетал ключ. Первым вошел Этторе Габелотти. За ним появился Вольпоне. Он запер дверь на ключ и положил его в карман. Хомер даже не шелохнулся. — Мы позволили себе, мистер Клоппе, — начал Габелотти, — нанести вам последний визит, перед тем как произойдут необратимые и неприятные события. Чтобы облегчить принятие решения, я откровенно расскажу вам, что должно произойти. С сильно побледневшим лицом, Вольпоне сидел на табуретке, уставившись неподвижным взглядом в стену убежища. Он сидел неподвижно, но его левая нога отбивала быструю дробь. — Сейчас двадцать три часа, господин Клоппе. Через час «Трейд Цюрих бэнк» будет разгромлен. Коммандос уже в городе. Они все разрушат и сожгут. От вашего учреждения останутся одни развалины. Одни развалины! Предполагая, что этот инцидент вас не убедит, завтра мы похитим вашу жену. Я не так дурно воспитан, чтобы рассказывать вам, что ее ожидает, прежде чем она найдет покой в смерти. Итак, похитив вашу жену, подвергнув ее пыткам, мы затем сожжем ваш дом. Далее, мы отдадим вас в руки ублюдков, которые, клянусь вам, заставят вас заговорить. Вы — человек здравомыслящий, мистер Клоппе, христианин… Вы понимаете, что мы не блефуем. Таким образом, я вас умоляю, подумайте… Подумайте быстро! Времени немного, но оно у вас еще есть. Возвратите нам наше, и, даю вам слово, мы тут же оставим вас в покое. Вы уже достаточно знаете нас, чтобы понять, с кем имеете дело. В наших действиях мы всегда идем до конца. Я восхищаюсь вашей смелостью, которую вы демонстрировали до сих пор. Но всему есть предел. Ваше упорство становится преступным. А теперь вы в ответе и за свою жену. Габелотти замолчал. Нога Вольпоне все быстрее и быстрее стучала по бетонному полу. — У нас с вами есть один общий момент, мистер Клоппе. Вы что-нибудь слышали об омерте? Это — закон молчания. Мы с тем же неистовством следуем ему, как и вы. С одной лишь разницей: наши причины благородны, они касаются нашей чести. В вашем случае речь идет не о чести, мистер Клоппе, а о деньгах! О тех, которые к тому же принадлежат нам. А теперь скажите, вы отдадите приказ разблокировать наш капитал? Неожиданно нога Вольпоне замерла. Абсолютную тишину нарушало лишь тяжелое, астматическое дыхание Габелотти. Хомер Клоппе медленно поднял голову и внимательно посмотрел на дона Этторе. Этот человек использовал всю силу слова, взывая к человеческим чувствам, уму и здравости рассудка. Но за всем водопадом слов скрывалось одно: завладеть деньгами… А его лицо? За маской человеческого понимания Хомер угадывал насилие, алчность, беспощадность, и что-то холодное, звериное виделось в его глазах. Чтобы достичь той вершины власти, на которой находился этот человек, он должен был убивать, пытать, унижать… Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, и Габелотти показалось, что он выиграл, что сейчас банкир заговорит. Ему даже показалось, что у Клоппе шевельнулась губа. Итало вскочил и бросился на Клоппе. — Ты будешь говорить, подлый вор! Ты будешь говорить! Клоппе даже не попытался защититься. Он опрокинулся навзничь под весом тела Вольпоне, который душил его за горло. Габелотти обхватил Вольпоне сзади за талию, приподнял и изо всех сил прижал к себе. — Итало! Итало! — Закройся! Он вывернулся из объятий гиганта и направил на него револьвер. На лице Габелотти появилось огорчение, и он обратился не к Вольпоне, а к Клоппе. — Поверьте, мне очень жаль, что вы так повели себя, мистер Клоппе. Есть по крайней мере одна вещь, которую вы не украдете у нас: траур и те несчастья, которые обрушатся на вас. Он повернулся к Итало, фамильярно взял его за локоть, игнорируя револьвер в его руке, и сказал: — Пошли, Итало, пошли… Вольпоне позволил увести себя. Когда металлическая дверь с лязгом закрылась, дон Этторе попытался вспомнить оставшихся в живых из тех, кто угрожал ему оружием. Нет, таких не оказалось. Ни одного!* * *
— Ганс, тебе это не кажется странным? — Что? — спросил Брегенц. — Третья машина остановилась у тротуара. — Ну и что? — Из машин никто не выходит. — Не писай кипятком, — съязвил Брегенц. — Смотри! — воскликнул Романшорн. — Еще одна! Брегенц увидел, как в тридцати метрах от «Трейд Цюрих бэнк» остановился «опель». Фары погасли. — Уже четыре, — прошептал Романшорн. Его лицо напряглось. С интервалом в двадцать секунд подъехали еще две машины. Брегенц озабоченно нахмурил брови. — И что ты увидел в этом необычного? — Ты помнишь, о чем говорил Блеч? — спросил Романшорн, не отводя глаз от Штамфенбахштрассе. — Сообщать ему обо всем, что покажется подозрительным. Одна тачка — нет вопросов! Но шесть! В одно и то же время на одной улице! Дай-ка мне говорилку. Он выхватил из руки Брегенца уоки-токи. — Дорнер? Говорит Романшорн. Где Блеч? — Что случилось? — Шесть машин остановились на Штамфенбахштрассе… Никто из них не выходит. — Сейчас свяжусь с ним, — сказал Дорнер. Романшорн отключил связь. — Что будем делать? — спросил Брегенц. Его часы показывали 11.56. — Ничего… Ждать. Привычным жестом Брегенц проверил «кольт» в кармане непромокаемого плаща.До сих пор он пользовался им только в тире, во время тренировочных занятий. Он внимательно наблюдал за кавалькадой машин, выстроившихся вдоль тротуара. Неприятное ощущение, когда никто из них не выходит.* * *
Лейтенант Блеч лежал на диване в своей холостяцкой квартире и наслаждался стереофоническим звучанием музыки своего любимого композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта. Телефонный звонок прозвучал неожиданно и совсем некстати. Блеч посмотрел на часы — 23 часа 56 минут 37 секунд — и решил не поднимать трубку. Но телефон настойчиво трезвонил, нарушая восприятие чарующих звуков его любимой оперы. — Да! — Говорит сержант Дорнер, лейтенант. — Что случилось? — Только что звонил Брегенц. Шесть машин припарковались рядом с «Трейд Цюрих бэнк». Никто из машин не вышел. — И что из этого следует? — рявкнул Блеч, все еще находясь под впечатлением музыки. — Ничего, лейтенант… Извините… Вы просили меня… — Господи! — воскликнул Блеч. — Немедленно отправьте туда два автобуса с людьми! Перекрыть с двух концов Штамфенбахштрассе! Быстро! Я еду туда.* * *
Последняя встреча перед нападением на банк была назначена на молокозаводе. Завод находился в северо-восточном направлении от города, чуть в стороне от шоссе, ведущего в Бассердорф. Трехметровой высоты стена окружала всю территорию. На центральный двор можно было въехать только через огромные деревянные ворота. Там, готовые отправиться в дальний путь, стояли четырнадцать цистерн-молоковозок, принадлежавших заводу. Витторио Пиццу в сопровождении Алдо Амальфи, Винченце Брутторе и Джозефа Дотто вошел в кабинет на втором этаже административного здания. Там уже находились Итало Вольпоне, Этторе Габелотти, Моше Юдельман, мрачный вид которого его удивил, и два «лейтенанта» дона Этторе: Кармино Кримелло и Анджело Барба. В глубине комнаты в окружении Карло Бадалетто, Фрэнки Сабатини и Симеона Ферро сидел Томас Мерта. Он никак не мог привыкнуть к постоянному присутствию членов «семьи» Габелотти. Это соседство ненавистного клана, ставшего неожиданно союзником, казалось ему насмешкой. Слишком долгие годы войны и большое число трупов разделяли «семьи» Габелотти и Вольпоне, чтобы он поверил в продолжительность мирного сосуществования. — Десять человек из Италии уже прибыли. Не отходите от них ни на шаг, — сказал Итало. — С этой минуты руководство ими вы берете в свои руки и объясните им, чего я от них жду. В одиннадцать пятнадцать вы отправитесь отсюда на шести машинах к банку. После погрома в банке возвратитесь сюда и спрячетесь в тайниках цистерн. До восхода солнца вы уже будете в Милане. Встретимся в Нью-Йорке. Дон Этторе сделал жест, который, будь он священником, можно было бы принять за благословение. Витторио посмотрел на часы: без одной минуты двенадцать. Через тридцать секунд он откроет дверцу, что послужит сигналом для остальных. Все соберутся возле центрального входа в банк, на безопасном расстоянии от взрыва. Если этот Пиомбино серьезный человек, взрыв произойдет через тридцать восемь секунд. Витторио открыл дверцу и спустил ногу на асфальт. Одновременно открылись дверцы всех машин. Все молча двинулись к банку.* * *
В 22.50 Чезаре Пиомбино выбрался из шкафа, в котором хранился инвентарь для уборки помещений. Там он провел семь часов в неестественной позе, борясь с судорогами, сводившими мышцы. Он сделал несколько неловких гимнастических движений, разминая мышцы, присел и едва смог выпрямиться. Подозрительно озираясь по сторонам, он пошел в направлении центрального входа, не представляя себе, какая система сигнализации охраняет банк. В любой момент могла завыть сирена тревоги. Он подошел к огромной входной двери, которая отделяла центральный холл от Штамфенбахштрассе. Присев на корточки, он раскрыл портфель и достал свое снаряжение. До взрыва оставалось четыре минуты. Он взял шашку тола и присоединил к ней бикфордов шнур. От длины этого шнура зависела его собственная жизнь. После взрыва он сразу же бросится в пролом и побежит к своей машине, которую оставил на перпендикулярной Штамфенбахштрассе улице. С помощью ножниц он сделал фитиль на конце шнура, щелкнул зажигалкой и поднес к ней пламя. Когда шнур зашипел, разбрасывая мелкие искры, он пробежал через холл и укрылся за дальней мраморной колонной. Бросив на пол портфель, он зажал уши двумя руками, закрыл глаза и присел, прислонившись спиной к колонне. Он начал считать. При счете «двадцать восемь» невероятной яркости вспышка осветила холл, последовал грохот, от которого содрогнулось здание. По нему прошлась горячая волна плотного воздуха. На пол сыпались осколки стекла, обломки железа и куски бетона… Чезаре Пиомбино встал и бросился к огромной дыре, зиявшей на месте двери.* * *
На глазах Романшорна и Брегенца разыгрывался волнующий спектакль: совершенно пустынная Штамфенбахштрассе в течение трех секунд заполнилась толпой людей, которые молча, небольшими группами направлялись к «Трейд Цюрих бэнк». — Черт! — воскликнул Брегенц охрипшим голосом. — Восемнадцать! — Нет, девятнадцать! — шепнул Романшорн. — Поль… Что делаем? — Спрячемся… Подождем подкрепление… У обоих в руках было табельное оружие окружной полиции: «кольты» 38-го калибра. Неожиданно Брегенц перестал ощущать холод. Машинально проведя пальцем между воротником рубашки и шеей, он отметил, что вспотел. — Посмотри, — сказал Романшорн. Мужчины, направлявшиеся к банку, остановились в пятнадцати метрах по обе стороны от входа. Брегенц заметил, что они плотно прижались спинами к стене здания. Он уже совсем ничего не понимал в происходящем. Они стояли в арке на противоположной стороне улицы, не зная, что делать. Брегенц собрался задать вопрос Романшорну, когда яркое пламя, вырвавшееся из двери банка, ослепило их. Оглушенный взрывом, Брегенц не слышал, что кричал ему Романшорн. В арку ворвалась горячая волна воздуха. Дверь главного входа в «Трейд Цюрих бэнк» исчезла. Он с изумлением заметил, как из банка выбежал мужчина, прижимая к груди портфель. Не обращая внимания на бросившихся в банк людей, он метнулся в боковую улицу. Посчитав, что в действиях можно будет разобраться позже, Романшорн открыл беглый огонь. Один из мужчин упал, но тут же был подхвачен под руки своими товарищами. — Стреляй, — крикнул Романшорн Брегенцу. Рядом просвистели пули. Их обнаружили. И в этот момент послышалась сирена приближающихся полицейских автобусов.* * *
Не успели упасть обломки взрыва, как внутрь банка устремились два вторых лица враждующих «семей»: Витторио Пиццу и Томас Мерта. В течение многих лет они противостояли друг другу, и теперь ни один не хотел уступать другому ни шагу. Витторио выдернул чеку гранаты и бросил ее в глубину холла, за окошечки касс. Мерта прошелся огнеметом по полкам, на которых стояли сотни папок с документами. За ними ворвались боевики и разбежались по разным направлениям, указанным «лейтенантами» Габелотти и Вольпоне. Неожиданный крик Алдо Амальфи пригвоздил всех к месту. — Фараоны! Все уходим! — Наверх! — приказал Мерта. — Ты чокнутый! — завопил Амальфи. — Они засели напротив и всех нас перестреляют! Олин человек уже ранен! Два автобуса перекрыли улицу! Присутствие Витторио Пиццу вызвало у Томаса Мерты чувство противоречия. — Все наверх! Все жгите!.. — Витторио! — побагровел Алдо. — Да сделай ты что-нибудь, чтобы осалить этого недоумка! Томас Мерта мгновенно направил огнемет на Алдо Амальфи. — Повтори, что ты сказал! — Не дергайся! — крикнул Пиццу, направив на него пистолет. Секунду они расстреливали друг друга глазами, понимая, что малейший жест другого закончится убийством. С улицы послышались звуки выстрелов. — Сваливаем! — заорал во всю глотку один из боевиков Оттавио Джакомасси. — Улица забита фараонами! Быстрее! Неожиданно голос Винченце Брутторе перекрыл весь шум. — Прекратите глупости! Мы попались! Уходим! Секунду спустя все высыпали наружу. Витторио Пиццу мгновенно оценил ситуацию: ничего хорошего она им не сулила. Полицейские, укрывшись в арке дома напротив, обстреливали их из автоматического оружия. Витторио выдернул чеку гранаты и бросил ее в сторону арки. Полицейские автобусы с включенными фарами и сиренами перекрыли улицу с двух сторон. — По машинам! — закричал Пиццу. Согнувшись вдвое, мужчины бросились вперед, прикрываемые Томасом Мертой, который выпустил две огненные струи в направлении полицейских автобусов. — Куда ты собрался ехать, мудак?! — заорал он, обращаясь к Пиццу. — Не видишь — все перекрыто! Витторио бросил очередную гранату в сторону полицейских, стрелявших из-за автобуса. В сполохе взрыва он увидел, как двое полицейских схватились руками за лица и рухнули на асфальт. И тут же воспламенился бак с горючим. Огонь лизнул корпус автобуса и взметнулся вверх. — Не твое дело! Вперед! У них был один шанс из тысячи выбраться из этой адской западни. Но даже если бы оставался один шанс из миллиона, Пиццу попытался бы использовать его. Он бросился к своему «форду». Впрыгнув в машину, он не успел закрыть дверцу, как шофер сорвался с места. — Жми прямо на автобус! — крикнул он. «Форд» набирал скорость. Пиццу оглянулся: остальные машины ехали за ним. Куда только они все приедут? В тридцати метрах, по спускающейся вниз улице, полицейский автобус перегораживал Штамфенбахштрассе по всей ее ширине. Даже по тротуару невозможно было проскочить мимо автобуса, не врезавшись в него. — Попались! — бросил Амальфи, успевший вскочить в машину вместе с Витторио. Пиццу молча выдернул чеку гранаты. Неожиданно завизжали шины машины, она стала поперек улицы и провалилась в пустоту, сотрясаясь от ужасных толчков. Пиццу бросило к Амальфи. — Граната! — заорал Амальфи. — Бросай гранату! Пиццу швырнул гранату в разбитое ветровое стекло, и она взорвалась в воздухе. На спуске Штамфенбахштрассе, между двумя зданиями, имелся узкий проход. Он вел к лестнице, спускавшейся на набережную Лиммаж. Скатившись на набережную, «форд» резко повернул налево, затем направо и через мост переехал на другую сторону реки. Пиццу с удивлением отметил, что все пять машин с коммандос держатся за ними. — Через пять минут будем на молочном заводе, — буднично сказал водитель.* * *
Лейтенанту Блечу хватило одного взгляда, чтобы оценить нанесенный ущерб. В конце улицы горел полицейский автобус, который поливали из огнетушителей люди в униформе. Трое полицейских склонились над своими товарищами, лежавшими на земле. Он резко затормозил перед горящим автобусом и выпрыгнул из своего «опеля». — Вы! Один из полицейских обернулся. — Я — лейтенант Блеч. Доложите. Быстро! — У нас два человека серьезно ранены, господин лейтенант. Гранаты! — Об этом позже! — прервал его Блеч. — Где подонки? — Вон они, — сказал полицейский, показав на исчезнувшую между домов у них на глазах машину с боевиками. — В машину! — Но… лейтенант! — Садитесь! Блеч сильно толкнул его и скользнул за руль. Полицейский, сделав акробатическое движение, плюхнулся рядом с Блечем. Блеч дал задний ход, выехал на тротуар и непостижимым образом проскользнул в узкий проход между задним бампером автобуса и стеной здания. — Фамилия? — спросил он полицейского, когда машина, подпрыгивая, спускалась по ступенькам лестницы. — Шиндлер, господин лейтенант, — заикаясь, ответил он, потрясенный лихим маневром Блеча. — Возьмите рацию! Внимание всем полицейским машинам! Внимание окружной полиции! Шиндлер повторил приказ Блеча в микрофон: — Внимание всем полицейским машинам! Внимание окружной полиции! — Говорит Блеч! — сказал Блеч. — Говорит окружная полиция, — ответил гнусавый голос. — Держите микрофон перед моим ртом, — приказал Блеч. Шиндлер поднес микрофон к лицу Блеча. — Нападение на «Трейд Цюрих бэнк»… Оставайтесь на связи и высылайте подкрепление по маршруту, который я буду указывать! — Понял, лейтенант. — Сколько было машин? — спросил Блеч. — Несколько… Много… Не могу точно сказать, господин лейтенант. — Кретин! Сколько человек? — Десять… Двадцать… — Кретин! — Что вы сказали, господин лейтенант? — спросил гнусавый голос. — Это не вам, — покраснел Блеч. — Оставайтесь на связи! Я вижу машину! Шиндлер, черт бы вас побрал, где микрофон? Двигаюсь по Музеумштрассе. Проезжаю мимо вокзала… — У них есть огнемет, — сказал Шиндлер. — Выехал на Лимматштрассе!.. Преследую «БМВ» черного… или темно-синего цвета. — Высылаю подкрепление, господин лейтенант. — Отлично! «БМВ» приведет нас к остальным. Он выключил фары и снизил скорость, чтобы не привлекать внимания пассажиров «БМВ». — Вы вооружены, Шиндлер? — Да. — Да, господин лейтенант! — рявкнул Блеч. — Боеприпасы? — Двенадцать патронов, господин лейтенант. Проехав Лимматплац, «БМВ» свернул налево. — Шиндлер, микрофон! Преследуемая машина движется в направлении Корнхаузштрассе. Гранаты у них есть? — Да, господин лейтенант. И огнемет. — Твари!.. Твари!.. Микрофон!.. Выехал на Шафхаузерштрассе. — Все понял, господин лейтенант… За вами следуют четыре автобуса. Двадцать четыре человека… — Вооружение? — Боевые винтовки, автоматы… — Сворачиваю на Хиршвизен… — Понял, господин лейтенант!.. Оповещаю… — Рассказывайте, Шиндлер! — Когда мы подъехали, в банке уже полыхал огонь… Потом оттуда повыскакивали эти типы и применили против нас огнемет… — А вы в это время играли в карты? — Одного мы ранили, господин лейтенант. — Подъезжаю к Винтертюрерштрассе… Общее направление — северо-восток. Через пять минут «БМВ» выехал на шоссе Бассердорф. Неожиданно он свернул влево, и Блеч потерял его из виду. «Опель» повторил маневр и выехал на другую дорогу, ведущую к строениям, окруженным высокой глухой стеной. «БМВ», казалось, прошел сквозь стену и исчез. Блеч притормозил и съехал на обочину под развесистый куст розмарина. — Мы засекли их, Шиндлер! Что это? — «Сюисс милк энд буттер», господин лейтенант. Еще они делают сыр… Здесь работала моя двоюродная сестра. — Микрофон! Приказываю всем полицейским машинам окружить «Сюисс милк энд буттер», шоссе Бассердорф, направо при выезде из Цюриха! — Все понял, господин лейтенант! Автобусы уже подъезжают к вам. — Поторопитесь, черт побери! Не могу же я держать осаду в одиночку! Он отложил микрофон и вышел из машины. — Шиндлер, за мной! Шиндлер достал пистолет и побежал по мокрой траве за лейтенантом. Из-за стены доносился рокот моторов тяжелых грузовиков. Блеч подбежал к воротам. Они были закрыты. — Помогите мне! Шиндлер подставил спину. Блеч осторожно заглянул во двор поверх стены. То, что он увидел, потрясло его…* * *
Вся ответственность за неудачно проведенную операцию ложилась на плечи Витторио Пиццу и Томаса Мерты. И они это понимали. Когда наступит час разбора, придется точно определить, кто из них допустил промашку. Но сейчас было не до того. Чтобы запутать следы, машины прибыли на молочный завод разными маршрутами. По словам боевиков, никто их не преследовал. Мерта и Пиццу ворвались в кабинет на втором этаже, чтобы доложить Вольпоне и Габелотти о постигшей их неудаче. Набирая номер телефона, Пиццу кричал: — Они хотели скандал, мы его устроили! — Это так тебе кажется! — взорвался Мерта. — Банк едва поцарапали. А надо было разгромить его до основания! Что сделали? Небольшой беспорядок в центральном холле! Если бы ты послушал меня, банк сгорел бы дотла. — Если бы я послушал тебя, мы уже сидели бы за решеткой! Моше Юдельман мудро посоветовал обоим донам больше не появляться ни в отеле, ни на вилле до тех пор, пока не станут известны результаты операции. — Все может обернуться плохо, Итало. Всего предусмотреть нельзя. Не грех с уважением отнестись и к швейцарской полиции. Между тем Моше позвонил в Милан Оттавио и попросил его подготовить их отход в Америку, если в Цюрихе начнутся осложнения. В любой момент швейцарская земля может превратиться для них в раскаленную сковородку. Оттавио сказал, что подумал об этом раньше, чем позвонил ему Моше. По совету Юдельмана оба дона, ближайшее их окружение и телохранители укрылись на квартире некоей Инес, о которой Витторио ничего не знал. Трубку сняли. — Говорит Пиццу. — Передаю трубку дону Вольпоне, — вежливым голосом сказал Барба. — Витторио? — Дело плохо, падроне! Фараоны ждали нас!.. Нарвались на засаду! — Ты где? — На базе. — Задача выполнена? — Гмм… Частично!.. Город уже прочесывают, падроне. Уходите, падроне! Здесь становится опасно! — Мать твою так! — удивленно воскликнул Томас Мерта. — Внизу полицейские! Послышались звуки выстрелов. — Притащили все-таки ищеек на хвосте! — Витторио! — прорычал Вольпоне. Пиццу бросил трубку и побежал к окну. Двигатели молоковозок ревели, как турбины взлетающего самолета. Из тайников выпрыгивали боевики, разбегаясь в разные стороны. Прорваться через двенадцать стоявших за спиной полицейских автобусов было невозможно. — Здесь — полиция! — раздался голос, усиленный мегафоном. — Всем выйти с поднятыми руками… Вы окружены. Пиццу открыл окно, выдернул чеку гранаты и бросил изо всех сил по ту сторону стены. Взрыв заглушил выстрелы автоматического оружия. Находившиеся во дворе боевики Джакомасси, к которым присоединились «лейтенанты» Вольпоне и Габелотти, обстреливали стену, над которой время от времени возникала голова полицейского в каске. Пиццу увидел, как одна из бронированных полицейских машин разворачивается в сторону ворот. Выехав на прямую перед воротами, она отъехала назад метров на сто. Полицейские готовились таранить ворота. Наступая Томасу Мерте на пятки, Витторио скатился за ним по лестнице. Сдаваться было немыслимо. Всем им грозило по меньшей мере пожизненное заключение. — Сюда! — крикнул Алдо Амальфи. Он стоял, размахивая руками, в облаке слезоточивого газа, заполняющего двор. Под мощными ударами бронированного автомобиля ворота треснули и слетели с петель. Машина врезалась в молоковозку и вспыхнула, как факел, пробив цистерну. Люди Габелотти и Вольпоне бросились в цех переработки молока. Задыхаясь от бега, Пиццу, Брутторе, Дотто, Мерта, Ферро, Бадалетто и Сабатини окружили Алдо Амальфи, который что-то кричал какому-то рабочему завода. — Быстрее! Он знает, как выйти отсюда! Все за ним! Мужчины вбежали в ангар, где в пол были вделаны огромные чаны, содержавшие в себе тысячи гектолитров молока. Через каждые десять — пятнадцать метров кто-то открывал огонь, останавливая преследовавших их полицейских. Алдо Амальфи и Симеон Ферро, отставшие от группы, неожиданно оказались отрезанными от всех засевшим под кровлей крыши стрелком. — Прикрой! Прикрой! — кричал Амальфи в адрес Пиццу, который не решался проскочить через небольшую металлическую дверь, за которой скрылись следовавшие за проводником его товарищи. Пиццу выдернул чеку последней гранаты и бросил ее за чан с киснувшим молоком, из-за которого осаждавшие вели огонь по Симеону и Алдо. Граната ударилась о стену ангара, и тут же последовал мощный взрыв. Три человека в униформе, изрешеченные осколками, упали в чан. Брутторе грубо схватил за руку Витторио Пиццу, который не мог оставить в беде своего товарища, и втянул его в узкий, уходивший вниз коридор. Через пятьдесят метров наклон перешел в горизонтальную плоскость. Они увидели машину. За рулем сидел рабочий завода. Сидевший рядом с ним Томас Мерта что-то кричал, отчаянно жестикулируя. На заднем сиденье находились Карло Бадалетто и Фрэнки Сабатини. Из другой машины обезумевшими глазами на них смотрел Джозеф Дотто. Витторио и Винченце бросились к нему. Машины сорвались с места и понеслись по узкому проходу между стен ангаров. Через триста метров они остановились перед металлической плитой, образовывавшей тупик. Рабочий выскочил из машины и нажал какую-то кнопку. Плита медленно поплыла вверх, открывая проход. Рабочего звали Энцо Чердженоло. Он был сицилийцем и другом Дженцо Вольпоне. Именно он пять лет тому назад уговорил Дженцо Вольпоне прорыть этот подземный ход, который впоследствии не раз оказывал им огромные услуги. За достойным и известным фасадом «Сюисс милк энд буттер» неприметно и плодотворно действовал нелегальный бизнес Синдиката. Только Энцо имел ключ ко входу в эту бетонную кишку, которая вела в горы.* * *
Взобравшись по поросшему травой склону на вершину, дон Этторе едва держался на ногах от головокружения. Темень стояла непроглядная. Габелотти взбирался по склону, уцепившись за руку Анджело Барбы. За ним поднимался Фолько Мори, «солдат» Вольпоне, загадочный и холодный. В какой-то миг ему в голову пришла мысль, что Вольпоне привез его сюда, чтобы убить. Он сунул руку в карман. Пальцы привычно сжали рукоятку «люгера». — Моше, чего ты ждешь? — послышался голос Итало. Тонкий луч фонаря пробил ночь. И тотчас метрах в ста впереди вспыхнул ответный сигнал. — Пошли, — сказал Вольпоне. Дон Этторе, Моше Юдельман, Фолько Мори, Пьетро Беллинцона, Кармино Кримелло и Анджело Барба двинулись следом за Вольпоне в густую темноту ночи. После телефонного звонка Витторио Пиццу между Вольпоне и Габелотти состоялся короткий, прохладный разговор. За последние дни надежда на успех сблизила их. Неудача общих усилий снова разъединила, и теперь уже навсегда. — Я могу взять тебя с собой! Но уезжаем сейчас же! Габелотти колебался. Моше Юдельман убеждал их, что временное отступление — самое разумное решение. Все закончилось тем, что Габелотти сел в черный «мерседес». Перед самым отъездом Вольпоне позвонил Энцо Приано, владельцу станции техобслуживания, где в качестве заложника находился Хомер Клоппе. — Энцо! Не отпускай его. Жди моих указаний! Из темноты донесся приглушенный голос: — Моше? — Он здесь, — ответил Вольпоне. — Сколько вас? — спросил Мороббиа. — Семеро. — О’кей! Залезайте. Луч его фонарика осветил ступеньки лестницы. Дон Этторе замер перед листами ржавого железа… Вольпоне, Юдельман, Барба и Мори забрались в самолет. Кримелло, понимая, что творится в душе Габелотти, легонько подтолкнул его в спину. — Где взлетная полоса? — потерянным голосом спросил Габелотти. — Поднимайтесь, падроне, поднимайтесь, — уважительным тоном подбадривал его Кармино. Пьетро Беллинцона неподвижно стоял у лестницы, ожидая, когда Габелотти решится… — Я забыл предупредить доктора Мэллона. Мне нужно возвратиться. — Дон Этторе, — с нажимом произнес Кримелло. Из люка выглянул Джанкарло Ферреро. — Поторопитесь, пожалуйста. Кармино легко хлопнул по плечу Пьетро. Беллинцона все понял. Вдвоем они подтолкнули в спину Габелотти, и Ферреро, догадавшись, в чем проблема, схватил дона Этторе за руку и втянул внутрь. — Сюда, сюда… Он провел его вперед и заставил сесть на пол. — Вы, конечно, привыкли летать первым классом в «747-м», — сказал он, смеясь. — Чувствуете разницу? Он застегнул на Габелотти ремень безопасности. — Не волнуйтесь… Это железо летает! Через пятьдесят минут мы приземлимся в Милане. Там вас ждет «боинг». Его арендовали специально для вас… Взлетаете, как только приземлимся… Ферреро закрыл люк и крикнул: — Амедео, поехали! (обратно)ГЛАВА 23
С тех пор как у него начала расти щетина, Фриц Блеч впервые в жизни не побрился в восемь часов утра. После осады «Сюисс милк энд буттер» он занимался ранеными. Их эвакуировали в окружной госпиталь Цюриха. Убитых отвезли в морг. Потери с обеих сторон были значительными. Два будущих инспектора, Ганс Брегенц и Поль Романшорн, были разнесены в клочья взрывом гранаты. У троих полицейских — ожог третьей степени. Трое раненых и три трупа на молочном заводе. Один из них, Шиндлер, который отважно забрался под крышу, был убит разрывной пулей в голову. Гангстеры потеряли девять человек. В их карманах не было найдено ни одного документа, удостоверяющего личность. Двое с тяжелыми ранениями были срочно доставлены в госпиталь. Врач категорически отказал Блечу в просьбе допросить их. Третий раненый чувствовал себя удовлетворительно, но не ответил ни на один вопрос. Молчал, словно прилетел с другой планеты. Он наотрез отказался от предложенных ему сигарет, пива и бутербродов. В семь утра, когда Блеч собрался уходить домой, в его кабинет вошло трио, которое он меньше всего хотел бы видеть: капитан Кирпатрик, лейтенант Финнеган и Скотт Дэмфи, человек из федеральной налоговой инспекции. После обмена несколькими резкими фразами Блеч выставил их из кабинета. Он еще не успел осмыслить причин, превративших Цюрих в кровавую бойню, а Кирпатрик посчитал нужным прочитать ему нотацию. — Я предупреждал вас, лейтенант! Блеч вынужден был вызвать мускулистых дежурных, чтобы выдворить Кирпатрика из кабинета. Но вдогонку он пожелал ему счастливого возвращения в Соединенные Штаты. Естественно, весь Цюрих знал о ночном бое. В полночь город проснулся от незнакомой ему музыки: взрывов гранат, воя полицейских машин, стрекота автоматического оружия. В восемь утра, раздосадованный упорным молчанием своего пленника, бледность лица которого становилась опасной, лейтенант надел непромокаемый плащ и направился домой. И только дома обнаружил, что обулся на босую ногу. В этот момент позвонили из полиции и сказали, что его срочно хочет видеть Шилин Клоппе. Проклиная все на свете и одновременно умирая от любопытства, он отправился к ней на Веллеривштрассе. — Лейтенант, я уверена, что моего мужа похитили. Она протянула ему письмо Инес. — Я получила его вчера. Я долго ждала и решила обратиться к вам. Все надеялась, что Хомер возвратится. — Миссис, вы в курсе событий сегодняшней ночи? — Каких, лейтенант? — Вы ничего не слышали? — Нет! — Не слышали стрельбу? — Да о чем вы говорите? Реакция Шилин привела его в смущение. — Группа вооруженных людей напала на «Трейд Цюрих бэнк». — Они разрушили его банк? Это было сказано тоном: «Поломали мою игрушку?» — Вы должны мне помочь, миссис. Кто — «они»? — Но об этом должны сказать мне вы, лейтенант! Откуда я могу знать? — Не показалось ли вам в течение последних дней, что ваш муж чем-то озабочен? Он закусил губу, встретив осуждающий взгляд Шилин и увидев в ее глазах слезы. Оплошность! Они только что похоронили дочь. — Не обижайтесь на меня, миссис Клоппе, я взвинчен до крайности… — Я тоже, лейтенант! — Вы могли бы направить меня на след… Письмо явно имеет целью закрыть вам рот, чтобы вы не обратились в полицию. — Что вы хотите знать? — В курсе ли вы дел вашего мужа? Я имею в виду банковских дел… По изумленному выражению лица Шилин он понял, что совершил вторую ошибку. — Вам не угрожали? — Угрожали? Но почему? — Просто так, миссис… Я хотел только спросить. Могу ли я попросить вас связаться со мной, если вы заметите что-то подозрительное? А сейчас не волнуйтесь, я отдал приказ обыскать весь город… Буду держать вас в курсе событий… Он попрощался и собрался уходить, когда она окликнула его: — Лейтенант! — Слушаю вас, миссис. — Мой муж — хороший человек, очень хороший! Почему напали на его банк? Почему ему хотят сделать плохо?* * *
— С глубоким сожалением сообщаю вам, что Комиссьоне потребовала объяснений, — сказал Габелотти. Выражение его лица было натянутым и холодным. Несколько секунд дон Этторе молчал, давая возможность ощутить нависшую над ними угрозу. Ни на кого не глядя, он продолжил: — Ни одна «семья» Синдиката не должна подвергаться риску в результате ошибки, допущенной некоторыми членами другой «семьи». Сжав зубы, Итало Вольпоне задвигался в кресле, с трудом сдерживая себя. Моше заставил его поклясться не реагировать ни на какие провокации и сохранять хладнокровие. К сожалению, он знал границы своего терпения, и не в его характере было долго выслушивать завуалированные намеки Габелотти. За весь путь от Цюриха до Нью-Йорка они не обменялись ни словом, храня враждебное молчание. Едва Итало пересек порог своего дома, он заключил Анджелу в объятия и понес ее в спальню. Не обращая внимания на присутствие в гостиной Юдельмана, Фолько и Беллинцоны, он закрылся на ключ… Спустя час Моше постучал в дверь спальни. — Малыш, это очень важно… — Пошел к черту! — Анджела, попроси его выйти. Речь идет о его безопасности. — Итало… — прошептала она ему в ухо. Он даже не стал раздевать ее… Он отпустил ее только тогда, когда в третий раз зарычал от удовольствия. Прерывисто дыша, она лежала на полу, широко разбросив руки и ноги… Смертельно усталая и счастливая… Снова раздался стук в дверь. — Итало! — позвал Моше. — Ты дашь мне принять душ? — Поторопись, Итало, поторопись!.. Он просунул руку под ее тело, поднял и понес в ванную. Открыв на полную мощность краны, стоя под теплыми струями, он еще раз вошел в нее. — Нас ждет дон Этторе, Итало! — Если хочет меня видеть, пусть понервничает. Моше позвонил Анджело Барбе и попросил подыскать для проведения встречи нейтральное место. Они быстро сошлись на том, что встретятся в ночном клубе на Седьмой авеню. Оба дона прибыли одновременно. Габелотти сопровождали Кармино Кримелло, Анджела Барба и два телохранителя. Фолько Мори и Пьетро Беллинцона остались на улице. Габелотти, Вольпоне, Кримелло и Юдельман сели за стол у края танцевальной площадки. На душе у Моше было очень неспокойно. С того времени как они спешно убрались из Цюриха, от Пиццу, Амальфи, Брутторе и Дотто не поступило еще никаких новостей. Взятие окружной полицией молочного завода породило ужасные слухи, которые докатились и до Нью-Йорка. Все, что нарушало установленный порядок, было неприемлемо для Комиссьоне. Синдикат привык решать свои внутренние проблемы без излишнего шума, не вызывая ненужных волн недовольства общественного мнения. То, что произошло в Цюрихе, было равнозначно объявлению войны государству в государстве. — Комиссьоне, — продолжал Габелотти, — дала мне понять, что не одобряет личных инициатив, которые ставят под удар остальные «семьи». Заметив, что Итало открыл рот, собираясь ответить, Моше торопливо сказал: — Что вы ответили Комиссьоне, дон Этторе? Габелотти посмотрел на него тяжелым взглядом. — Правду, Моше правду… Я сказал, что вынужден был отправиться в Италию, чтобы выправить ошибки, допущенные не по моей вине. — Не мог бы ты сказать, кем они были допущены? — безразлично-холодным тоном произнес Вольпоне. Пропустив мимо ушей слова Итало, Габелотти продолжал смотреть на Юдельмана. — Комиссьоне упрекнула меня в мягкости, Моше. И я вынужден был признать себя виновным. — В чем, Этторе? — вежливо спросил Моше, сердце которого стучало все быстрее и быстрее. — В том, что позволил действовать безответственному человеку, — мягко сказал Габелотти. Вольпоне вскочил на ноги. — Стронцо! Безответственный — это ты! Габелотти сделал вид, что только теперь заметил присутствие Итало. — Есть слова, которые не следует произносить, если хочешь жить долго… Кипя от ярости, Итало процедил сквозь зубы: — Старый тот, кто умирает первым. Постарайся это помнить. Все! Больше ничего нельзя было сделать! Дело зашло слишком далеко. — Господа! Господа! — начал Юдельман. — Умоляю вас! Забудьте личные разногласия! Мы должны решить главный вопрос: как вернуть два миллиарда долларов? Этторе Габелотти встал. Его мертвенно-бледное лицо исказилось от гнева. Он ткнул пальцем в сторону Вольпоне. — Ты — ничто! Ты делал глупость за глупостью! Ты узурпировал власть дона Дженцо. Не лезь больше в это дело! Когда я все улажу, твои наследники получат свою долю! Ты понял? Вольпоне встал, подавшись вперед всем телом. — Ты осмеливаешься мне угрожать! И это после того, что ты сделал с моим братом? — Ничего плохого твоему брату я не сделал, — рявкнул Габелотти, ударив кулаком по столу. — Тварь, ты приказал убить О’Бройна! — Нет! — закричал Вольпоне. — Не приказал убить, а собственными руками прикончил этого вонючего вора! — Будь он жив, — побагровел Габелотти, — у нас уже был бы номер счета. Ты заплатишь за это! — Господа! Господа! — взывал Юдельман. — Если вы останетесь вместе… еще не все потеряно… Клоппе по-прежнему в наших руках! Неожиданно Юдельман замолчал. Лицо его вытянулось, исказилось, и он пробормотал, словно пораженный молнией: — Черт возьми! Никто никогда не слышал, чтобы он ругался. Его тон насторожил присутствующих, и все взгляды устремились на него. — Я знаю, у кого есть номер счета, — не своим голосом проговорил он.* * *
В Нью-Йорке стояла мерзкая погода. Капитан Кирпатрик надел непромокаемый плащ и разочарованным тоном произнес: — Ну вот!.. Огромный зал аэропорта Кеннеди был забит народом. Пятнадцать минут назад они приземлились. Они возвратились с пустыми руками, оскорбленные вшивым швейцарским полицейским, нежелание которого сотрудничать поразило их. — Как подумаю, что они все были у них в руках… — сказал Кирпатрик с тоской в глазах. Дэмфи стало жаль его. — Я еще раз перепроверю все счета казино Западного побережья. В конце концов мы прихватим эту банду. — Вы действительно в это верите, Скотт? — Вспомните Аль Капоне! Ему тоже казалось, что он — неприкасаемый! — Я хочу их схватить, понимаете? Я знаю, что этим я не возвращу жизни ни Кавано, ни Махоуни, но мне будет легче дышать. Скотт, хотите знать, что я думаю о Швейцарии? — Говорите, старина… Подбежал запыхавшийся Финнеган. — Капитан, я поймал такси. — Вас подвезти? — спросил Кирпатрик у Дэмфи. — Нет, спасибо. За мной должна приехать жена. — Быстрее, капитан, — торопил Финнеган. — Такси мало, а желающих — море… Могут увести наше! — Иду, иду… Скотт, чем вы заняты завтра? — Еще не знаю… В любом случае я вам позвоню. Они попрощались, пожав друг другу руки…* * *
Аксель Грин допил оставшееся в стакане виски и поморщился. Растаявший лед придал спиртному отвратительный привкус чая. Он привел в порядок разбросанные по столу бумаги и посмотрел на часы. Рабочий день подходил к концу. Он ослабил узел галстука, надел легкий пиджак и бросил взгляд в окно. На Бей-стрит, как всегда, было столпотворение от нескончаемого потока фланирующих, глазеющих на витрины магазинов туристов. Два года назад Грин съездил в Лондон по домашним делам. К исходу третьего дня он возненавидел город, мелкий холодный дождь и постоянно серое небо. Несмотря на то что он был англичанином в десятом поколении, Англию он больше не любил. Семнадцать лет назад он приехал в Нассау на стажировку в Багамский кредитный банк и остался здесь навсегда. Несмотря на местную окраску названия — «Багами кредит бэнк», — учреждение являлось британским филиалом, штаб-квартира которого находилась в Лондоне. «Багами» служил для проведения полулегальных финансовых операций британского правительства. Начав простым служащим, Аксель Грин сегодня руководил отделом иностранных счетов. Деньги поступали и из Европы, чтобы после краткосрочного пребывания в одном из бесчисленных банков Нассау снова возвратиться в Европу. И все при этом что-то зарабатывали. В Нассау он женился на американке, которая родила ему троих детей. Старший, Джон-Джон — его гордость, учился в выпускном классе колледжа. В нескольких шагах от офиса плескался океан, всегда было солнце и прекрасная погода. Он вышел на улицу и тут же попал в водоворот толпы, решая, пойти на пляж или нет. — Мистер Аксель Грин? — Да. — Будьте любезны, сядьте в машину, — сказал высокий мужчина, кивнув головой в сторону «воксхолла» бутылочного цвета. — Не понимаю вас. Второй мужчина, стоявший рядом, открыл заднюю дверцу и, прежде чем Аксель успел понять, что происходит, втолкнул его внутрь машины. Все произошло так стремительно, что он не успел ни возразить, ни испугаться. Третий, сидевший за рулем, резко сорвался с места. — Я собирался пойти искупаться, — на всякий случай сказал Аксель. — Сделаете это позже. Нам недалеко… — Куда? — Отель «Бич». С вами хотят встретиться. — Со мной? Для чего? — Все узнаете на месте, мистер Грин. Когда машина остановилась у входа в отель, высокий счел нужным предупредить: — Мы будем сопровождать вас вдвоем, мистер Грин. — Он отвернул полу пиджака, и Грин увидел рукоятку пистолета в кобуре под мышкой. — Я бы даже сказал — втроем. Думаю, что будет лучше, если все обойдется без эксцессов. Ясно? — Для этого у меня нет причин, — сказал Грин. — Прекрасно, мистер Грин. Пошли… Эскортируемый с двух сторон незнакомцами, Грин прошел через весь холл, ответив по пути на приветствия нескольких своих знакомых. Все трое вошли в кабину лифта и поднялись на последний этаж. Мужчина позвонил в дверь углового номера 1029. Дверь открылась. — Сюда, мистер Грин. Эти господа ждут вас. Грин оказался в гостиной с огромным окном во всю стену. От красоты открывавшегося вида перехватывало дыхание, но это, казалось, не интересовало пятерых человек, находившихся в комнате. Все пятеро встали. Один из них подошел к Грину. — Поверьте, мне очень неприятно, что пришлось приглашать вас таким образом. Но дело не терпит отлагательств… Позвольте представиться… Моше Юдельман. В голове Грина что-то щелкнуло. Он знал, кем был Юдельман. — Это — мистер Габелотти. Толстяк кивнул головой. — Мистер Итало Вольпоне, — продолжал Юдельман. — Мистер Барба и мистер Кримелло, финансовые консультанты мистера Габелотти. Грин был потрясен этой сценой знакомства. Обычно «крестные отцы» Синдиката не открывают своего лица. — Что-нибудь выпьете, мистер Грин? — С удовольствием, — ответил Аксель. — С содовой или без?.. — спросил Барба, наливая виски в стакан. — Со льдом, пожалуйста, — попросил Грин. — Присаживайтесь, мистер Грин, присаживайтесь… Грин сел в кресло. Никто, кроме Юдельмана и Барбы, не произнес еще ни слова. — Ваше здоровье, мистер Грин, — сказал Юдельман, поднимая свой стакан. — И за успех предстоящей сделки… — Сделки? — удивился Грин. — Именно, сделки! — подтвердил Юдельман. — Великолепной для вас сделки. Вы станете богатым, мистер Грин. — Меня это устраивает, — ответил Грин. — Двести тысяч долларов — немалые деньги, не так ли? — твердым голосом произнес Юдельман. — Что я должен сделать, чтобы заработать двести тысяч долларов? — Немного. Сообщите нам сведения, которыми мы обладали, но которые, к сожалению, утеряны… Речь идет о номере счета, на который вы перевели деньги вашего клиента Дженцо Вольпоне в Швейцарию. Два миллиарда долларов, мистер Грин, переведенных в «Трейд Цюрих бэнк» 22 апреля. Вы можете дать мне номер этого счета? — Это очень затруднительная просьба, мистер Юдельман. — Вы знаете, кто мы? — добродушно спросил Юдельман. — Знаю, — ответил Грин. — Боюсь, что у вас нет выбора, мистер Грин. Чтобы облегчить ваши сомнения, я скажу вам следующее… — Юдельман отпил небольшой глоток виски. — Эти деньги принадлежат нам, и вы, надеюсь, в этом не сомневаетесь. Два человека, знавшие секрет, мистер Дженцо Вольпоне, брат присутствующего здесь мистера Итало Вольпоне, и мистер О’Бройн, адвокат мистера Габелотти, погибли при трагических обстоятельствах, не успев сообщить нам номер счета… Сообщив его нам, вы не делаете ничего предосудительного. Наоборот, вы совершаете акт справедливости и оказываете нам услугу, о которой мы никогда не забудем. Аксель Грин откашлялся. — Предположим, что я отказываюсь… — После всех наших откровений, думаю, это невозможно, — перебил его Юдельман. Грин кивнул головой. — Да, — сказал он, — да… — Не согласитесь ли вы принять двести тысяч долларов в знак дружбы и признательности? Грин провел ладонью по лицу. Он знал, что все, сказанное Юдельманом, — правда. В голове его мелькнули цифры: 828384 — обычный цифровой ряд без всяких премудростей. Детская игра… А как бы на его месте поступили люди, которыми он восхищался, — герои книг? Они бы отказались говорить. Но Аксель Грин хотел жить. Он достаточно долго прожил в Нассау, чтобы не знать, что малейшее неподчинение Синдикату равносильно подписанию себе и своим близким смертного приговора. — Мы знаем, что учеба Джон-Джона обходится вам дорого, — серьезным тоном сказал Моше. — Не забывайте, что у вас есть еще Поль и маленькая Кристина, из которой ваша жена хочет сделать балерину. Нет ничего лучше счастливой семьи, мистер Грин. Но правильное воспитание детей требует немалых денег… — Значительных, — согласился Грин. — Поэтому мои друзья и я решили вам помочь, предложив такую солидную сумму за вашу услугу — двести тысяч долларов! — Я ценю это, — сказал Грин. — Тогда позволю себе задать вам вопрос: какой номер счета?.. — 828384,— ответил Грин, глубоко вздохнув. — Да, 828384. — Спасибо, мистер Грин, вы очень благоразумный человек. Двести тысяч наличными вам доставят домой завтра к вечеру.* * *
В замочной скважине заскрежетал ключ. Он быстро сел на кровати и зажал в ладони небритый подбородок. Богу угодно, чтобы он умер грязным. Вошедший незнакомец бросил на кровать черную повязку. — Завяжите себе глаза. Движением головы Клоппе отказался. Если умирать, то смотреть смерти в глаза! — Чего ждете? Убирайтесь отсюда! Вы — свободны! Клоппе продолжал сидеть не двигаясь. Мужчина зашел к нему со спины и набросил повязку на глаза. — Предупреждаю, если вы ее снимите, я всажу вам пулю в череп. Клоппе услышал характерный звук взведенного курка. — Встать! В нос ударил запах бензина,смешанный с порывами свежего воздуха. Когда за ним хлопнула металлическая дверца, он понял, что находится внутри микроавтобуса. Заработал мотор. Сначала он слышал шум города, затем только рокот проносившихся мимо машин. От резкого торможения его бросило вперед. Сидевший рядом с ним человек успел схватить его за плечо. — Выходи… Мой приятель уезжает… Я остаюсь с тобой… Громко считай до двухсот. Потом можешь делать что хочешь… Начинай! — Один, два, три, четыре, пять… — Громче! — Шесть, семь, восемь… — Уже лучше! Продолжай! Звук мотора удалялся… — Тридцать два, тридцать три… Клоппе замолчал. Ничего не происходило. Он снял повязку. На востоке всходило солнце. Он глубоко вдохнул свежий, пахнущий травой и деревьями воздух и осмотрелся. В пяти метрах от себя он увидел указатель: «Цюрих — 11 километров». Он поднял руку. «Мерседес», не сбавляя скорости, пронесся мимо. Элегантно одетый водитель быстро отвел глаза в сторону. Уже в двадцатый раз он поднимал руку, но водители одинаково стыдливо смотрели в этот момент мимо него. А впрочем, разве он сам не поступал так же в аналогичных ситуациях? Он поклялся, что с сегодняшнего дня никогда не проедет мимо «голосующего» человека. Сзади раздался звук затормозившей машины. Он оглянулся. — Эй, папаша! Утренняя пробежка? Их было трое в стареньком «джипе», на котором было написано: «Не смейтесь, возможно, здесь — ваша дочь!» Им было не более двадцати лет. Девушка была похожа на Ренату. — Подвезете меня до Цюриха? — Садись! Чем больше сумасшедших, тем смешнее! Когда он вошел в дом, Шилин была в гостиной. Она выронила чашку чая из рук и бросилась к нему на грудь. — Хомер!.. Хомер!.. Я столько выплакала! Тебе не сделали плохо? — Нет… нет… Все в порядке. Но я должен срочно принять ванну. — Слава Богу! Слава Богу! Поверх ночной рубашки на ней был пеньюар. От нее вкусно пахло. Уткнувшись лицом в его плечо, она с трудом произнесла: — Хомер, ты должен знать — в твоем банке был пожар…* * *
Откровение Акселя Грина не улучшило отношений между Габелотти и Вольпоне. Со вчерашнего дня они не сказали друг другу ни слова, общаясь через своих советников. Оскорбления и угрозы, которыми они обменялись в Нью-Йорке, вырыли между ними такую пропасть, которую рано или поздно придется заполнить телом одного из них. После ухода Грина Моше сделал отчаянную попытку к примирению. — Господа! Господа! Цель достигнута! Никто теперь не может нам помешать завладеть нашими деньгами. Дон Этторе снял трубку телефона. Он подчеркнутым жестом переключил его к громкой связи, чтобы каждый мог слышать, что ему будут отвечать. Этторе набрал номер своего швейцарского адвоката Филиппа Диего. Когда адвокат ответил: «Слушаю вас», всем показалось, что он находится где-то рядом с ними. — У меня есть интересующий нас номер, — сказал Габелотти. — Запишите. — После вашего отъезда из Цюриха в городе произошло печальное событие: исчез один из наших самых уважаемых банкиров — мистер Клоппе. — Мне остается только разрыдаться, — сказал Габелотти. — Мы не понимаем, что происходит, — продолжал Филипп Диего. — Было совершено нападение на банк Хомера Клоппе. Вся полиция стоит на ушах… Есть смертельные случаи. — Я не понимаю, какое мы имеем отношение к вашим местным событиям! — не выдержал дон Этторе. — Запишите номер счета и выполните все формальности по переводу денег! — Этот парень один в банк не пойдет! — бросил Вольпоне Юдельману. — Немедленно предупреди Карла Дойтша. Габелотти нахмурился, слушая ответ Диего. — Мне кажется, я плохо вас понял, — говорил Диего. — Все финансовые операции приостановлены. Повторяю, банкир исчез! — Я все хорошо понял! — рявкнул Габелотти. — Кто вам сказал, что банкира нет дома? И, в таком случае, что может помешать проведению этой рутинной операции? — Ничего, разумеется, ничего… Если у вас есть номер и слово-пароль… Габелотти бросил зверский взгляд на Анджело Барбу и Кармино Кримелло. Моше Юдельман и Итало Вольпоне замерли. — Что еще? — побагровел Габелотти. — Деньги были в обязательном порядке приняты под каким-то кодовым словом… Оно есть у вас? — У меня есть номер! Этого достаточно! — отрезал Габелотти. — Боюсь, что нет… — заметно волнуясь, сказал Диего. — Если предположить, что банкир объявится, то… гм… небольшое разногласие, имевшее место между нами, не позволит склонить его к выполнению нашей просьбы. Он будет строго следовать букве закона… — Да что вы несете? — взорвался Габелотти. Это было бы слишком глупо: когда деньги, казалось, уже лежат у них в кармане, снова удалиться от них на недосягаемое расстояние. Моше сделал знак рукой, привлекая к себе внимание Габелотти. — Скажите мистеру Диего, что вы перезвоните ему, — прошептал он. — Оставайтесь на месте, я перезвоню вам, — прорычал Габелотти и бросил трубку. Никто не осмеливался поднять на него глаза. Тишину нарушил Барба. — Моше, вас не смутит, если минут пятнадцать мы переговорим между собой? — Я сам хотел предложить вам это. Барба, Кримелло и Габелотти вышли из гостиной. То же сделал и Вольпоне со своей командой. Когда они остались одни, Моше огорченно покачал головой. — Все пропало, Итало. Только Дженцо и О’Бройн знали пароль. Ни того, ни другого нет… Что делать дальше, я не знаю… Вольпоне ударил кулаком по столу. — Сука О’Бройн! Надо было убивать его медленно! Когда на него наезжала пила, он, вместо того чтобы заговорить, вспомнил свою свинячью мать! Мамма… мамма… Моше словно пронзил электрический заряд. — Повтори! Повтори! Что он сказал? Итало удивленно посмотрел на него. — Что с тобой, Моше? — Что сказал О’Бройн под пилой? — Мамма, — повторил Вольпоне. — Что из этого? Дерьмо умирало от страха. Он знал, что я с ним сделаю, знал! Вместо того чтобы отвечать, он звал на помощь свою проститутку мать. Губы Юдельмана задрожали. — О’Бройн был ирландцем, Итало, ирландцем! Ты понимаешь, что я хочу сказать? Вольпоне смотрел на него, как на сумасшедшего. — Что ты несешь? — О’Бройн тебе ответил, Итало! Человек перед смертью говорит на своем родном языке… Ни один ирландец не будет произносить слово «мама» на итальянском… «Мамма» — это пароль!* * *
Перед входом в «Трейд Цюрих бэнк» прохаживались трое полицейских в униформе. У Хомера сжалось сердце, когда он увидел, во что превращен центральный холл банка. Швейцар, как обычно, стоял на своем месте. — Здравствуй, Виктор! — прошептал Хомер. — Здравствуйте, мистер Клоппе! — уважительно поприветствовал его Виктор. Несмотря на острую душевную боль, сердце Клоппе наполнилось гордостью. Он принадлежал к сильной, работоспособной расе. Какая бы катастрофа ни обрушилась на страну, банк всегда будет продолжать работать. Начиная со второго этажа ничего не было тронуто. С обычной активностью работали все службы. Марджори, предупрежденная о его приходе, ждала его у двери в приемную. Она обратилась к нему так, словно ничего, абсолютно ничего не произошло с тех пор, как они виделись в последний раз. — Вам многие звонили, сэр… Я всех записала. Вам нужен сейчас этот список? — Позже, — ответил Клоппе. — Вас соединять? — Только с теми, у кого, по вашему мнению, важные вопросы. Он доставал из стола бутылку «Уотерман», когда по интерфону Марджори сказала: — На линии мистер Шмеельблинг. Соединить? — Да. — Хомер! Господи! Я не знаю, что думать! Что происходит? — Ведется расследование. — Куда мы идем? Нет, куда мы идем? Все перестали все уважать! — О да! — вздохнул Клоппе. — Да, да… Именно Шмеельблингу, «банкиру всех банкиров», восемь дней назад он доверил два миллиарда долларов. Его «интерес» за эти восемь дней составил 876 704 доллара. За такие деньги он еще лучше отремонтирует свой банк. — Скажите, Хомер… Относительно того, что вы мне перевели… Вы помните?.. — Да. — Что мне делать? — Продолжайте, Эжьен… Продолжайте до очередных указаний… — Это превосходно, друг мой! Именно это я и хотел от вас услышать. — До свидания. — До свидания. Марджори проскользнула в святая святых и закрыла за собой дверь. — Пришел этот полицейский, мистер Клоппе. Лейтенант Блеч. Он уже несколько раз заходил… — Пусть войдет. Хомер спрятал бутылку в стол и встал навстречу гостю. — А, мистер Клоппе, рад видеть вас в здравии! — Спасибо, лейтенант, спасибо! — Ваша жена сообщила о вашем возвращении. Я приказал прекратить розыск… — Приношу вам свои извинения за причиненное вам беспокойство. Нет мне прощения! Я должен был вас предупредить. Лицо Блеча окаменело. — Я не понимаю вас, мистер Клоппе. — Видите ли, лейтенант, я был очень взволнован… Уехал, никому ничего не сказав… Мне нужно было побыть одному… подумать… — Могу я вас спросить, где вы были, мистер Клоппе? Банкир удивленно вскинул брови. — Не думаю, чтобы это представляло для вас какой-нибудь интерес, лейтенант. — Вы ошибаетесь, сэр! Погибли двое моих людей. — Сожалею, лейтенант! Но если бы я был полицейским, я бы обратил внимание на тех, кем полиция совершенно не интересуется. — О ком вы говорите? — О левых, лейтенант. Клоппе сделал три шага к двери и открыл ее. — Не стесняйтесь прийти ко мне, когда ваше расследование продвинется вперед… Я всегда в вашем распоряжении… Блеч козырнул и вышел. В приемной он увидел двух самых известных в городе адвокатов: Филиппа Диего и Карла Дойтша. — Вы примете их? — спросила Марджори, предупредив Клоппе о посетителях. — Они очень настаивают. — Да. Филипп Диего заговорил первым. — Мы все знаем… Скандал… — Невероятно! — высказался Дойтш. Клоппе стоял прямо, неподвижно, внимательно глядя на них. — Я очень занят, — ледяным тоном произнес он. — Какова цель вашего визита? — Итак, — начал Диего, — мой коллега Карл Дойтш и я представляем интересы одного нашего клиента, у которого есть номерной счет в вашем банке. Этот клиент поручил нам передать вам, чтобы капитал был сегодня же переведен в «Кэмикл интер траст», в Панаму. — Под каким словом зарегистрирован счет? — «Мамма». — Номер счета? — 828384. — Сумма? — Два миллиарда американских долларов. Клоппе снял трубку телефона. — Марджори, попросите Гарнхайма принести досье «Мамма». В течение пяти минут ни один из троих мужчин не произнес ни слова, не сделал ни одного движения. Стояла абсолютная тишина. Мэрджори положила папку на стол перед Клоппе. Хомер открыл папку, полистал бумаги и протянул Диего лист. — Распишитесь в нижнем правом углу, пожалуйста. Диего поставил свою подпись. — Вы тоже, — сказал Клоппе Дойтшу. Клоппе резко встал. Филипп Диего суетливо протянул ему руку. Клоппе сделал вид, что не заметил, и холодно произнес: — До вечера все необходимые формальности будут сделаны. Когда адвокаты вышли из кабинета, он подошел к окну и с задумчивым видом прижался лбом к стеклу. Весна набирала силу. Самая прекрасная весна, которая когда-либо приходила в Цюрих. Хомер Клоппе возвратился за стол и достал бутылку «Уотерман»… (обратно) (обратно)ЭПИЛОГ
Между Лозанной и Моржем железная дорога на два километра уходила под горы. На выходе из тоннеля открывался прекрасный дикий пейзаж: высокие сосны, карабкавшиеся вверх по склонам гор, и широкая долина, через которую протекал горный ручей с ледяной прозрачной водой. На берегу ручья отдыхала семья Хуммеров. Отец, Франц Хуммер, воспользовавшись хорошей погодой и выходными, вывез жену и двоих детей в горы. Жан-Франсуа было одиннадцать лет, Мишелю — чуть больше девяти. — Мама, можно мы пойдем погуляем? — Куда? — спросил Франц. — Полазаем по склонам… — Доешь вначале пирожное. — Не хочу больше. Биргит завернула остатки еды в бумагу и вложила все в полиэтиленовый мешок. Уезжая, она положит его в багажник, а в Морже выбросит в мусорку. После них не должно остаться ни крошки, ни клочка бумаги. — Далеко не уходите… Жан-Франсуа, присматривай за младшим братом! Мишель недовольно пожал плечами. — Я такого же роста, как и он. — Не испачкайтесь, — дала последние наставления мать. Издав боевой клич индейцев, мальчишки убежали. — Франц, открой багажник. Франц подошел к «вольво», сверкающей новизной, и присел. Послюнявив палец, он начал оттирать крошечное пятнышко грязи на заднем бампере. — Ты откроешь багажник? — едва сдерживая смех, повторила Биргит. — Что тебя рассмешило? — Ты как ребенок!.. — Ну разве она не красива? — Фантастика… — Может, покатаемся?.. Она положила мешок в багажник и захлопнула его. Он тут же забеспокоился. — Зачем же так сильно хлопать? Сломать можно… Осторожнее, чуть-чуть… Она взяла его за руку и увлекла за собой. — Ты видишь их? Франц окинул взглядом круто уходивший вверх склон недалеко от железнодорожных путей. Почти рядом с рельсами он увидел красное и голубое пятна одежды своих детей. — Жан-Франсуа! Мишель! — закричал Франц. Дети замахали руками, подзывая их подойти к ним. Над соснами, под которыми они стояли, кружилась стая воронов. — Пошли к ним, — сказал Франц. Когда они подошли достаточно близко к детям, Жан-Франсуа и Мишель закричали: — Папа! Мама! Смотрите, птицы! — Я же просила вас далеко не уходить, — упрекнула их Биргит. — Папа, Жан-Франсуа говорит, что это черные вороны. — Да, — сказал старший, — вороны! Правда, папа? Франц посмотрел в небо. Казалось, что птицы о чем-то спорят, касаясь друг друга крыльями. — Что они делают, папа? Дерутся? Франц отошел на несколько метров в сторону. Теперь он стоял точно на уровне выхода из тоннеля, к которому склонились верхушки сосен. Он внимательно всмотрелся в просвет между деревьями. Там, в яме, лежало человеческое тело лицом вверх. Два ворона клевали лицо с пустыми глазницами. Два других кружили над ними в ожидании своей очереди. — Идите к машине, — сказал он голосом человека, чей рот набит пищей. — Что ты там увидел, папа? — спросил Жан-Франсуа. — Разве я не сказал идти к машине! Биргит, уведи их! Она поняла, что Франц стал свидетелем чего-то ужасного. — Хоп, пошли! Побежали! Мужчина был одет в элегантный темный костюм. Его часы на дорогом браслете отражали тысячи тоненьких иголочек солнечного света. Даже с расстояния пяти метров было хорошо видно, что единственная туфля сшита из великолепной кожи. Второй ноги у трупа не было. Франц вздрогнул и побежал к ручью. (обратно) Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам. (обратно) (обратно)Пьер Рей Казино "Палм-Бич"
Бестселлеры мира
 (обратно)
(обратно)
Глава 1
В девять вечера полицейские перекрыли автомобильное движение по всей набережной Круазетт. На землю опускались мягкие, ароматные сумерки. Тысячи людей в нетерпеливом ожидании расположились вдоль баллюстрады, нависавшей над пляжем, который был разбит на квадраты деревянными купальными кабинками. Было 21 июля. Туристический сезон только начинался. Пространство между выстроившимися в одну линию шикарными, ярко освещенными отелями заполнялось все новыми толпами отдыхающих, стекавшихся на набережную из прилегающих улочек. У входа в казино «Палм-Бич» метрдотели встречали первых гостей праздничного представления и провожали их к столикам, установленным иод открытым небом. Те, кому счет в банке позволял поселиться в «Мажестик», «Карлтоне», «Мартинези» или «Гранд-отеле», стояли у окон в ожидании предстоящего события. Обосновавшись на краю дамбы, у самого основания маяка, пиротехники в последний раз проверяли свои приборы. Шеф команды посмотрел на часы. – Начинаем через пять минут. Освещение! В ту же секунду Канны погрузились в темноту. По набережной прокатился глухой ропот. Из акустических колонок, закрепленных на стволах пальм, на фасадах зданий, замаскированных в листве кустарника, полились бархатные звуки духовой музыки. Толпа взорвалась аплодисментами и криками, которые упругой волной ушли в ночь. В это же время в сторону понтона, на котором стояли пушки, подготовленные для фейерверка, на предельной скорости понеслась моторная лодка. Несмотря на тарахтение двигателя, четверо находившихся в ней мужчин отчетливо услышали ритуальную фразу, которой ежегодно открывался всемирный фестиваль пиротехнического искусства. «Испания представляет…» Описав широкую петлю вокруг понтона, лодка мягко к нему причалила. Двое мужчин, не теряя ни секунды, перепрыгнули на скользкое дощатое покрытие. Мотор работал на пониженных оборотах, издавая глухое и хриплое рычание, напоминавшее агонию смертельно раненного зверя. Со стороны берега донеслись первые звуки музыки д'Аранжуаза. – Осталось четыре минуты,- сказал мужчина-штурвальный в черном. Наклонившись, он без видимых усилий поднял со дна лодки связанного, с торчащим изо рта кляпом человека и взвалил себе на плечо. – Тебе помочь? – Придержи лучше посудину. Последний из оставшихся в лодке перебрался на понтон, загроможденный специальной конструкции приспособлениями, к которым крепились петарды всевозможных калибров. Связанный безумно и умоляюще вращал глазами. Его бросили между двумя рядами бенгальских огней. Один из мужчин опустился перед ним на колени и укрепил на животе жертвы мощный заряд взрывчатки. Затем с помощью проводов присоединил детонатор к связке цилиндров, предназначенных для финального букета салюта. Несчастный прилагал нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от веревок, но они не поддались ни на миллиметр. Его лицо покрылось испариной, вены на шее вздулись. – Только посмотрите на этого мудака! Его сажают в ложу, а он возмущается! Мужчины рассмеялись. – Марко, тебе когда-нибудь приходилось вот так близко наблюдать салют? – Никогда. Пацаном мечтал об этом… – Осталось не более двух минут,- напомнил штурвальный в черном. – Все! Закончили. Все трое прыгнули в лодку. Оставленного на понтоне человека звали Эрвин Брокер. Ему было двадцать восемь лет, и он не хотел умирать. Судорожно изгибаясь, он изо всех сил пытался сбросить взрывчатку с живота, но она лишь чуть-чуть сместилась в сторону. Эрвин скрипел зубами и боялся потерять сознание. Скоро начнется стрельба… Он понимал, что сейчас умрет, что ничто в мире не может спасти его. Наконец Эрвин затих, откинул голову на пропитанные влагой доски настила и посмотрел в небо. С берега доносились праздничный шум толпы и легкие звуки музыки. До сих пор он никогда не смотрел на звезды. Своим холодным светом они буравили теплую ночь… Они понравились ему. Вдруг свет тысячи солнц брызнул ему в лицо. Кляп превратил его крик в глухое рычание. Вверх, пересекая друг дружке путь, взлетели ракеты, ярко освещая чернильно-черное небо. Эрвин почувствовал, как на нем загорелась одежда, как огонь добирается до его тела. Ощущение тяжести взрывчатки на животе сводило с ума. Он знал, что она взорвется, как только придет в движение самое большое колесо. Его глаза расширились от ужаса – колесо начало вращаться: сначала медленно, затем быстрее и вскоре завертелось с невероятной скоростью. Вырвались первые всполохи огня, и это было последнее, что увидел в своей жизни Эрвин Брокер. Взрыв подбросил понтон вверх, и в небо взметнулся огненный столб. (обратно)Глава 2
Ровно в тринадцать часов на всех восьми этажах, где размещались административные службы компании «Хакетт Кэмикл Инвест», раздался пронзительный сигнал, оповещавший о начале обеденного перерыва. Более шестисот сотрудников компании: начальники отделов, машинистки, секретарши, юристы – повскакивали со своих мест и в едином порыве бросились к лифтам. Спустя несколько секунд скоростные лифты выплюнули их тридцатью этажами ниже в душную и влажную атмосферу 42-й улицы. Только Ален Пайп, сидевший на тринадцатом этаже в 8021 кабинете, не двинулся с места. Уставившись невидящим взглядом в одну точку, он предавался невеселым размышлениям. Самуэль Баннистер, взявшись уже за ручку двери, с любопытством посмотрел на него. – О чем задумался, парень? – Это касается только меня,- вяло пробормотал Ален. Баннистер внимательно всмотрелся в него. – Я обедаю в «Романос». Ты идешь? – Нет аппетита, спасибо. Озадаченный Баннистер нерешительно переступил с ноги на ногу. – Что тебя тревожит? Мюррей? – Да, он. Баннистер с сожалением разжал пальцы, державшие ручку двери,- он очень торопился – и шагнул к широченному столу, за которым они сидели друг напротив друга вот уже четыре года. – Не лучше ли обсудить эту проблему за банкой холодного пива? Ален отрицательно покачал головой и еще глубже вжался в кресло. – Иди один, Сэмми. Мне нужно подумать… Баннистер потоптался на месте, открыл рот, собираясь что-то сказать, но так и не решился. – На который час он тебя вызвал? – На три. – А вдруг он решил повысить тебе жалованье? – Издеваешься? – Да прекрати ты в конце концов рвать себе нервы! Я уверен, что все обойдется… – Ты рассуждаешь как тот парень на электрическом стуле: «Надеюсь, что отключат электроэнергию». Баннистер смутился, пожал плечами и нарочито беззаботным голосом сказал: – Если передумаешь, найдешь меня в «Романос». Ален остался один. Он тяжело вздохнул, поднялся с кресла и подошел к огромному, во всю стену, окну. Прижавшись носом к стеклу, грустно посмотрел вниз. Так, не шелохнувшись, он простоял минут десять. Вдруг он быстро подошел к столу и, сняв трубку, набрал номер телефона собственной квартиры. Ему нестерпимо захотелось увидеть Марину, поделиться с ней своими опасениями. Телефон в квартире не отвечал. Времени ждать у него не было. При небольшом везении он застанет ее еще в постели: обнаженную и теплую. Он положил трубку на рычаг, набросил на левое плечо пиджак, висевший на спинке кресла, и вышел в пустынный коридор.***
– Какая еще может быть женщина, Пенни?!- взвыл Абель Хартман. Он был заурядным адвокатом, специализировавшимся на бытовых тяжбах, разводах, залитых соседями помещениях… Как ненавидел он свою клиентуру! – Мабель Пайп,- спокойно ответила секретарша.- Бывшая жена Алена Пайпа. Хартман тоскливо застонал. Опять этот чертов Пайп не выплатил вовремя алименты! – Нечего было выходить замуж за нищего! Скажите ей, что я в Турции. – Она видела вас в коридоре, когда вы шли забирать дело Лейланда. Советую вам принять ее, иначе она устроит здесь погром. – Она случайно нам не задолжала? – Ни цента. – Видеть не могу этих вампирш! Стоит им однажды заполучить парня в руки – пощады не жди. Наткнувшись на испепеляющий взгляд Пенни, он тут же вспомнил, что она тоже разведена. Он смущенно кашлянул и проворчал: – Пусть войдет. Пора заканчивать этот цирк. Я сейчас же начну судопроизводство против Пайпа.
***
Такси едва тащилось сквозь плотную липкую жару. – Побыстрее нельзя?- раздраженно спросил Ален. – Чтобы запороть движок? Ален нервно постукивал пальцами по подлокотнику добитого «понтиака», который коптил, как старый примус. Марина, наверно, уже встала. Когда он увидел ее в первый раз, его поразило ее удивительное сходство с Монро. В тот день он зашел в бар на 6-й улице, чтобы купить сигарет. Одетая в белое платье, она сидела на высоком табурете возле стойки и в одиночестве пила какую-то смесь с вишнями и мятой. Вместо того чтобы пройти к автомату с сигаретами, он сел неподалеку от нее и заказал виски. Он бросал на нее мимолетные взгляды, мучительно ища предлог заговорить. Но она оказалась решительнее. – Если вы честно скажете, почему пялитесь на меня, я угощу вас стаканчиком. Только не жульничайте! Говорите сразу. – Мне кажется… мне показалось…- пожирая ее глазами, забормотал Ален. – Что я похожа на… – Абсолютно верно! – Это я уже слышала тысячу раз! Все говорят одно и то же… Она поднесла стакан к губам и острым кончиком розового язычка лизнула наполовину растаявший кусочек льда. После пятой или шестой порции виски, все еще не осмеливаясь смотреть ей в глаза, Ален пригласил ее поужинать с ним. Она посмотрела на него долгим взглядом, чем привела в еще большее замешательство, и неожиданно рассмеялась. – Да перестаньте тушеваться! Марина достала из сумочки зубную щетку и нежно провела ею по его лицу, между верхней губой и кончиком носа. Ничего, кроме зубной щетки и платья, у нее в тот день с собой не было… Ее кожа оказалась нежной, теплой и упругой. А еще Алена поразило в ней отсутствие какой бы то ни было стыдливости. Она ходила по квартире обнаженной, не задумываясь, принимала позы, от которых покраснела бы рота матерых наемников. На свое тело она смотрела глазами новорожденного. Сидя на ковре с сигаретой во рту, она могла машинально ласкать свою грудь, в то время как другая рука с растопыренными пальцами зависала в воздухе, чтобы высох пурпурный лак на фантастически длинных ногтях. В первый же вечер Ален отдал ей запасной ключ от своей квартиры. Ее поведение удивляло его не меньше, чем ее внешность. Она уходила и приходила когда ей заблагорассудится, иногда исчезала на несколько дней, затем как ни в чем не бывало возвращалась, никогда не пытаясь оправдаться за свое отсутствие. Она входила в квартиру с охапкой дорогих цветов, спрашивала что-нибудь поесть и, если в холодильнике ничего не было, охотно шла за продуктами. Ален любил ее и все прощал. Подарки, которые он ей делал, превышали его финансовые возможности, но она не придавала им никакого значения. Однажды вечером он по неосторожности попытался заявить на нее свои права. – Ален,- назидательным тоном сказала она,- я живу с тобой потому, что ты мне нравишься. Если ты станешь мне неприятен, я уйду. – Но, Марина… – Ты – свободен. Я тоже – свободна. Находиться рядом с тобой я могу только при открытых дверях. Выбирай! Тогда он дал себе слово, что сделает все, чтобы не потерять ее. – Эй! Остановитесь здесь. Шофер свернул к тротуару и затормозил. Ален расплатился и, выходя, резко хлопнул дверцей, высказав таким образом свое неудовлетворение обслуживанием. Дверь в квартиру он открыл ударом ноги. Марина была дома. Она делала свое любимое упражнение – стойку на голове, и одежды на ней было не больше, чем на Еве. Ее изогнувшееся в талии тело подчеркивало мягкую, волнующую округлость бедер. Алена бросило в жар. Не спуская с нее глаз, он снял пиджак, сбросил туфли и расстегнул рубашку прилипшую к телу от пота. – Привет,- сказала она, не меняя положения. – Ален, ты знаком с Гарри? – Привет,- поздоровался Гарри. Он сидел на полу, забросив ноги на спинку кресла, и с безмятежным видом потягивал любимое виски Алена. – Очень приятно,- процедил сквозь зубы Ален. – Двадцать пять,- выдохнула Марина и рухнула на ковер. – Двадцать,- бесстрастно уточнил Гарри. – Двадцать пять,- настаивала она. – Послушайте!- вмешался Ален, приходя в себя. – Ален, миленький, принеси мне стакан молока,- капризным тоном попросила Марина. Он посмотрел на нее выпученными от удивления глазами и, как сомнамбула, направился на кухню. – Вы познакомились?- спросила Марина, когда Ален с полной бутылкой молока и стаканом возвратился в комнату. Ален не знал, как себя вести с нежданным гостем, и предложил ему, на всякий случай, молока. – Хотите? – Старина, я предпочитаю виски и уже себе налил. Ален посмотрел на Марину. – Ты можешь мне объяснить?.. – Что?- простодушно поинтересовалась она. – Почему этот тип оказался в моей квартире? – Это вы обо мне?- удивленно, с агрессивной интонацией спросил Гарри. – Послушайте, вы! Заткнитесь! Марина, я требую ответа. – Я у себя дома или нет? Да или нет?- повысив голос, переспросила она. – Да!- с отчаянием выкрикнул Ален. – Тогда какие могут быть вопросы? Разве я не могу пригласить к себе кого хочу? – В таком виде? – Хороши манеры,- запоздало отреагировал Гарри. – Подобным тоном со мной еще никто не разговаривал.- В голосе Гарри звучали угрожающие нотки. – Прости его, Гарри! Он всегда такой нервный, когда возвращается с работы. – Его самочувствие меня не волнует. Я ухожу. Изящно изогнувшись, он поднялся с пола, допил из стакана виски и, направляясь к двери, кивнул Марине на прощание головой. – Мне ужасно хочется набить вам морду,- устремив на Гарри налитые кровью глаза, прошипел Ален. Марина встала с пола, влезла в свои трещавшие по швам джинсы, затем надела рубашку Алена. – Марина, ты куда? Она подошла к нему, легким движением руки взъерошила его волосы и резко, как выстрел из револьвера, выпалила: – С ним. – Ну, если я еще соглашусь,- сухо уточнил Гарри. – Гарри, не будь таким противным,- захныкала Марина. – В таком случае пошевеливайся. Этот твой мужичок мне не нравится. – Марина!- задохнулся Ален. – Ты мне осточертел,- грубо оборвала она его. Дверь за ними захлопнулась. Ошарашенный таким финалом, Ален машинально налил себе виски. – Дерьмо, дерьмо и еще раз дерьмо,- прошептал он. Неожиданно в дверь позвонили. Марина! Она подшутила над ним! Вне себя от охватившего его восторга, он бросился к двери, но простая мысль охладила его пыл: не следует так бурно проявлять свои чувства, иначе она поймет, какую имеет над ним власть. Он сделал строгое лицо, слегка нахмурил брови и открыл дверь. – Здравствуй, Ален! Я могу войти? На пороге стояла улыбающаяся Мабель. От неожиданности он оцепенел. – Ты перекрасила волосы в зеленый цвет? – Тебя это волнует?- проходя мимо него, спросила она. Быстрым, цепким взглядом она осмотрела комнату. – Все на своих местах, за исключением моих фотографий. Почему ты убрал их? Они тебя раздражали? Она села в кресло, и ее юбка высоко задралась, обнажив мясистые ляжки. – Я очень тороплюсь. У меня сейчас обеденный перерыв, и я буквально на секунду за… – Разве ты работаешь?- перебила его она. – А из каких средств, по-твоему, я плачу тебе алименты? Мабель засмеялась мелким, так хорошо ему знакомым покровительственным смехом. – Ален, Ален… Сегодня – 22 июля, а чек я должна была получить тридцатого числа прошлого месяца. Ты говоришь несерьезные вещи. Она широким жестом положили ногу на ногу, и он заметил полоску ее трусиков телесного цвета. – Ты его получишь. – Когда? – В данный момент я на мели. Мне нечем заплатить даже за квартиру. Более того, у меня задолженность в банке по кредиту. Она с подозрительным вниманием посмотрела на него. – С тобой всегда так… Как ее зовут? – Кого? – Ту, которая потрошит тебя? Господи, ты постоянная добыча женщин… Все! С меня достаточно!- Она глубоко вздохнула, снисходительно посмотрела на него, затем, потупив глаза, тихо сказала: – Все получилось так глупо… Может, мы поторопились? Иногда мне приходит мысль… ведь не все же было так уж плохо… – Что? – Наша жизнь,- ответила она голосом провинившей ся школьницы. Инстинктивно Ален почувствовал надвигающуюся опасность. – Ты к чему клонишь? Мы живем независимо друг от друга, и нас ничто не связывает… – Связывает! Мои деньги! – Если бы ты знал, как мне тяжело их принимать. Но я одинока, и у меня нет выбора. Это ужасно… Вдруг она расстегнула блузку и тыльной стороной ладони потерла грудь. Ален успел заметить розовый набухший сосок. – Жарко здесь… Она откинулась на спинку кресла, и ноги ее широко разошлись в стороны. – Может, начнем все сначала? Наконец-то он понял ход ее мыслей, и его охватил ужас. – Сначала?- медленно произнес он. – Не мы первые, кто оказывается в таком положении… Несмотря на жару, он почувствовал, как его зазнобило. – Что ты на это скажешь, Ален? – Мабель, я опаздываю. – Да или нет?- надтреснутым голосом спросила она. – Нет! Это была ошибка… Недоразумение… Резким движением она оправила юбку и вскочила на ноги. Мышцы ее лица конвульсивно сокращались. – Я только что от Хартмана. Он завел на тебя дело, и тебе, миленький, придется раскошеливаться… Мабель показалось, что слов недостаточно, чтобы выразить ему всю накопившуюся в ней ненависть, и она плюнула ему прямо в лицо.
***
За исключением мягких перчаток из черного шевро и соломенной, украшенной мелкими цветочками шляпки, натянутой до бровей, на Марине, как обычно, ничего не было. Опершись ладонями о пол, она усердно делала отжимания. – Пятьдесят,- сказала она тяжело дыша и распласталась на полу мастерской, широко раскинув в стороны руки и ноги. – Меньше тридцати,- невозмутимо заметил Гарри.- Почему ты постоянно врешь? – Ничего не могу с собой поделать. Принеси мне стакан молока. Наклонив консервную банку, Гарри поливал поверхность охристого полотна, лежавшего на полу, карминово-красной краской. – Возьми сама. – Гарри… ну, пожалуйста. – Ты меня с кем-то путаешь. Не меняя положения, Марина впилась зубами в яблоко и задумчиво уставилась в потолок. – Он славный – тот,- сказала она мечтательно. – Уже жалеешь его?- с ехидцей спросил Гарри. – Он хорошо трахается. От этих слов Гарри даже хохотнул. – Бухгалтер! Ничтожный, жалкий, смешной бухгалтеришка! В какие это времена «минусы-плюсы» стали как следует трахаться? Подойди сюда… Она послушно поднялась, подошла к залитому краской полотнищу и растянулась на нем во весь рост. – Повернись… живее! – Я испачкаю перчатки,- запротестовала она. Не переставая жевать яблоко, Марина размазывала своей округлой попкой карминово-красную краску. – Подожди, когда я продам этот шедевр, закуплю для тебя целый супермаркет. – Никто никогда не купит ни одной твоей картины. – Кто не понимает тонкости моей живописи – законченный мудак. Активнее шевели задницей. Я назову это произведение «Отпечатки». Эй! Ты куда? Испачканная краской, Марина развинченной походкой подошла к холодильнику, достала бутылку молока и выпила всю прямо из горлышка. – Психопатка! Ты о чем думаешь? Краска высохнет. Она медленно подошла к низкому дивану и, не обращая внимания на то, что вся была в краске, села. Гарри хотел возмутиться, но она опередила его. – Я думаю об Алене. (обратно)
Глава 3
Когда Ален вошел в кабинет, лошадиное лицо Баннистера расплылось в широкой доброжелательной улыбке. – Уже без четверти три! В мою черепушку стали закрадываться разные мысли… Что-нибудь случилось? – Ничего особенного. Просто я заехал домой… Выражение лица Алена насторожило Баннистера. – А если честно?.. – Марина пробросила меня… Я застукал ее у себя с каким-то мерзавцем. Она психанула и ушла вместе с ним. Потом заявилась Мабель и сказала, что приклеила мне на задницу своих адвокатов. Короче, все в порядке. Самуэль рассмеялся. – Ты шутишь? – Только этим и занимаюсь. Ален сел за стол и тоскливо уставился в окно. Баннистер подошел к нему и с несвойственной ему застенчивостью протянул какой-то пакет. – Это тебе. Держи. Ален неуверенно протянул руку и, подняв глаза на Баннистера, спросил: – Что там? Бомба? Самуэль улыбнулся. – Теперь – это твое! Смотри… Сегодня двадцать второе июля… Ты забыл дату? Ален с недоуменным видом покачал головой. – А день твоего рождения? Олух! – Бля…- пробормотал Ален.- Я совсем забыл… Послушай, Сэмми, ты – псих! Не надо было… – А для чего же тогда друзья? Ален разорвал оберточную бумагу, в которую была завернута коробка, и извлек из нее украшенную гербом бутылку. Баннистер выгнул грудь колесом. – Французский коньяк! Черт знает какой выдержки! Из ящика стола он достал два пластмассовых стаканчика и бросил один Алену. – Жизнь становится не такой противной, когда немного выпьешь. Сколько тебе стукнуло? Сто десять? Сто пятьдесят? – Столько же, сколько твоему коньяку. – А если серьезно? – Тридцать. – Завидую тебе. Мне сорок шесть, а я так ничего и недобился, и впереди никакого будущего… За твое здоровье! – За твое…- ответил Ален, поднимая стакан. Они залпом выпили. – Спасибо, что не забыл, Сэмми. Самуэль подмигнул ему и прищелкнул языком. – Может, рановато начинать с сорокаградусного напитка, но это все-таки лучше, чем дождевая вода. Он снова налил в стакан до краев. – Какая гадость!.. До дна! – До дна! Они чокнулись. Едва стаканы коснулись стола, как Баннистер снова наполнил их. – С днем рождения, кретин! – За твое благополучие, осел! – Старый осел,- поправил его Самуэль. – Сэмми? – Да? – Какая же все-таки Марина тварь… Она уже не вернется. – Они все возвращаются! Возьми, к примеру, Кристель: мне так и не удалось от нее избавиться. – Мне кажется, я люблю ее. – Где твой стакан? – Понимаешь, Сэмми, я дорожу ею. – Ты великодушно относишься к женщинам. Пей! – В этом ты прав. До дна! Пронзительно зазвонил телефон внутренней связи. Баннистер схватил трубку и прорычал: – Меня здесь нет!- Неожиданно выражение его лица изменилось, и он буквально прошептал:- Да… Хорошо… Сию секунду… Он медленно и осторожно опустил трубку на рычаг. – Я говорил тебе, что Мабель плюнула мне в лицо?- спросил Ален, с трудом подавив икоту. – Мюррей,- обреченно выдавил из себя Баннистер. – Что Мюррей?- переспросил Ален. – Уже три часа. Он ждет тебя. Ален плеснул в стакан большую порцию коньяка, торопливо проглотил, закашлялся, вытер салфеткой губы и презрительно сказал: – Мюррей – это вонючий засранец! Он торжественно положил руки на плечи Баннистера и посмотрел ему в глаза. – Хочу тебе признаться, Сэмми…- Он сделал паузу, чтобы придать большую значимость продолжению мысли, и веско сказал:- Я терпеть не могу Оливера Мюррея. Глаза Самуэля просветлели. – Я тоже. – Скажу больше… Если Мюррей думает, что вышвырнет меня с работы в день моего рождения, он долго будет сожалеть о своей затее… Баннистер энергично закивал головой и с беспокойством посмотрел на часы. – …потому что Оливер Мюррей – настоящий вонючий засранец!- подытожил Ален. – Да,- согласился Баннистер,- да… А сейчас ты должен идти. – Естественно. Выходя из кабинета, Ален громко хлопнул дверью. Оливер Мюррей был по своей натуре человеком злым. Являясь начальником кадровой службы, он держал в ежовых рукавицах и терроризировал весь административный коллектив «Хакетт», расположившийся на восьми этажах Рифолд Билдинга. После рабочего дня его часто видели в других кабинетах, где он рылся в столах, перелистывал папки, что-то искал в корзинах для бумаг… Обстановка его кабинета никак не отражала вкусов хозяина. Он восседал за огромным столом, позади которого стоял несуразно больших размеров бронированный сейф. На столе никогда не лежало ни чистого листа бумаги, ни какого-нибудь документа, ни карандашей – пустота. На стене висел портрет Арнольда Хакетта, основателя и президента совета директоров фирмы. Перед столом стояло три металлических стула, предназначенных для его жертв, с которыми он разговаривал с садистской вежливостью. Ален вошел в кабинет. Сохраняя каменное выражение лица, Мюррей долго и молча его рассматривал. В этой дуэли между сидящим за столом Мюрреем и стоящим Аленом проигрывал тот, кто первым нарушал молчание. – Я уже здесь,- не выдержал Ален. Продолжая сверлить его взглядом, Мюррей сказал ледяным тоном: – Мистер Пайп, позвольте напомнить вам, что в рабочее время употреблять алкоголь запрещается. – Это все, что вы хотели мне сказать? Мюррей холодно улыбнулся. – Садитесь, пожалуйста. – Лучше постою. – Как вам будет угодно. Перед тем как объяснить вам причину, ради которой я вас вызвал, мне хотелось бы уточнить некоторые детали… Сколько лет вы работаете в фирме? – Четыре года. – Четыре года два месяца и восемь дней. Не могли бы вы напомнить мне размер вашего жалованья? – Вы его знаете лучше, чем я. – Совершенно верно, мистер Пайп. Ваш месячный оклад составляет одну тысячу семьдесят два доллара. Солидно! – Может, это вы оплачиваете мою квартиру, покупаете мне одежду, пищу, выплачиваете алименты?.. Мюррей сделал вид, что не замечает грубости в голосе Алена. – Ваша личная жизнь, мистер Пайп, меня не интересует. – В таком случае воздержитесь от оценки моей зарплаты. Или вы решили ее увеличить? – Не совсем так, мистер Пайп. Речь пойдет не об увеличении… Видите ли, фармацевтическая промышленность переживает сейчас трудные времена, вызванные конъюнктурными колебаниями в международной экономике. Однако «Хакетт», благодаря своей динамичной политике развития и тщательному подбору кадров, с честью выйдет из создавшегося положения. Алену становилось все труднее удерживать тело в вертикальном положении: его начинало пошатывать. – К делу, Мюррей! К делу! – Я уже близок,мистер Пайп. Административный совет «Хакетт Кэмикл Инвест» принял решение о некотором уменьшении численности персонала фирмы. У Алена дрогнули колени, но выражение лица осталось бесстрастным. – Принимая во внимание ваши четыре года трудового стажа, я должен, к большому вашему огорчению, заявить, что вы имеете право на семимесячное выходное пособие, которое составляет 11 704 доллара. Итак, его выбрасывают на улицу. Неожиданно для себя он ткнул указательным пальцем в Оливера Мюррея. – Я ничего не понял из того, что вы мне сказали. Не ходите вокруг да около, Мюррей! Выкладывайте все как есть… – Тем лучше, мистер Пайп. У вас нет больше необходимости возвращаться в кабинет. Вы уволены.***
Баннистера терзали мрачные предчувствия, и он никак не мог сосредоточиться на лежавших перед ним документах. Обычно вызов к Мюррею ничего приятного не обещал и чаще всего заканчивался «дверью». Слухи о предстоящих увольнениях уже несколько дней обсуждались в «Романос» и коридорах фирмы. Ален, как никто другой, попадал под эту акцию: уважительный, благородный, не отвечающий на многообещающие взгляды жен своих коллег, не претендующий на чье-либо место – такое поведение в системе «Хакетт» вызывало подозрение. Здесь все было наоборот: любого сослуживца по кабинету следовало рассматривать как врага, устраивать ему пакости, наушничать Мюррею… В таком климате могла выжить только сволочь. Ален такими «достоинствами» не обладал. Когда он вошел в кабинет и, даже не взглянув на Баннистера, прошел мимо него, тот подскочил как ужаленный. – Ален? – У тебя еще осталось чего-нибудь вмазать? – Да рассказывай, черт тебя подери! Что он сказал? – Налей, Сэмми! Баннистер бросился к шкафу, где была спрятана бутылка. Но вначале он сам сделал большой глоток прямо из горлышка, затем дрожащей рукой налил в стакан и протянул Алену. – Приятности или неприятности – выкладывай все! Ален залпом проглотил коньяк. Посмотрел на Баннистера, как на марсианина, сделал несколько судорожных движений ртом, но оттуда не донеслось ни звука, Баннистер быстро наполнил стакан. Ален схватил его и повернулся спиной. – Меня вышвырнули, Сэмми! Вышвырнули, как дерьмо!
***
– А! Мистер Пайп!..- Из стеклянной будки выглянул привратник. – Скандал! У вас отключили воду. – Совсем? – Совсем. – А душ? Туалет? – Перекрыты, – Суки,- бросил Ален, входя в подъезд. Вдруг он обернулся и с извиняющейся улыбкой на несчастном лице посмотрел на привратника. – Я еще не все сказал, мистер Пайп! Не могли бы вы уплатить за квартиру? – Ну конечно… обязательно,- пробормотал Ален. Войдя в квартиру, он снял влажную от пота рубашку, скомкал ее и бросил на диван, затем прошел в ванную и открыл кран. Послышались зловещие звуки сухих труб. Он снял туфли, носки, брюки и с тяжелым сердцем подошел к книжным полкам, где обычно хранил запасы виски. – Пусто… На кухне Ален нашел длинный окурок «Кэмела» с испачканным губной помадой фильтром. Лег на кровать, прикурил и сделал глубокую затяжку. Опустил руку к полу поисках пепельницы, но ее там не оказалось. Тогда он повернул голову и увидел конверт, выглядывавший из-под двери. Как же он его не заметил? От Марины? Когда он поднял конверт, к горлу подкатила тошнота: в левом углу стоял штемпель его банка. Он разорвал конверт, вытащил лист бумаги и быстро прочел отпечатанный на машинке текст. Ничего не понимая, перечитал еще раз. Кровь застучала у него в висках, в горле мгновенно стало сухо. Не веря своим глазам, он медленно, по слогам прочел две строчки невероятного сообщения: «Доводим до Вашего сведения, что мы переводим на Ваш лицевой счет выходное пособие в сумме 1 170 400 долларов». (обратно)
Глава 4
– Я очень тороплюсь, мисс,- нервничал Баннистер, протягивая в окошко регистрации авиабилет. Брюнетка и бровью не повела. По судорожному вздрагиванию ее плеч Самуэль видел, что она занята какой-то таинственной работой, смысла которой он не мог уловить. Он в очередной раз постучал по стеклу костяшками пальцев, пробуя привлечь внимание девушки. – Я опаздываю на самолет! Прошу вас, только штамп… Без него меня не пропустят… Брюнетка бросила на него уничтожающий взгляд сине-зеленых глаз, которые за толстыми линзами в тяжелой роговой оправе показались ему неестественно большими и безобразными. Продолжая содрогаться всем телом, она сказала прерывистым голосом: – Я занята. – Чем?- возмутился Баннистер, испугавшись, что не успеет на посадку. – Неужели не видите? Я мастурбирую,- ответила девушка.- Не верите? Посмотрите сами! Самуэль наклонился и просунул голову в окошко до самых плеч. Женщина сидела на стопке из трех толстенных телефонных справочников и яростно терла правой рукой по клитору. Ее ноги были широко расставлены, и Баннистер хорошо видел, как пушившиеся внизу живота волосы чернильно-черного цвета мягкими завитками исчезали между бедер и карабкались вверх, доходя до пупка, наполовину прикрытого поясом, к которому крепились чулки телесного цвета. – Вам нравится?- спросила она, не прекращая двигать рукой. Самуэль смотрел на нее, вытаращив глаза. Его лицо пылало, как раскаленная сковорода. Оцепенев от такого наивного бесстыдства, он не мог произнести ни слова. – Хотите попробовать?- предложила она.- Смелее! Все настоящее… Положите свою руку сюда… – Вы не возражаете?- колебался Баннистер.- Нет, правда можно? – Ну конечно, олух! Вот так… А теперь пальчиками, вверх-вниз, вверх… Самуэль сунул онемевшие пальцы туда, куда направила их брюнетка, и начал тереть ими по клитору. – Свинья,- раздался голос Кристель. Самуэль открыл глаза и окончательно проснулся. Он лежал среди знакомой надоевшей обстановки супружеской спальни рядом со своей толстой женой и самозабвенно тер рукой ее промежность. Они были женаты уже двадцать лет, имели троих взрослых детей, один из которых учился в университете,- гордость Баннистера. Лет пять тому назад Кристель, прервав любовную игру в самый пикантный момент, заявила, что больше такими глупостями заниматься они не будут. И свое слово она сдержала. – Мне приснился кошмарный сон,- сказал он извиняющимся тоном, побагровев от стыда. – Тварь! Грязное животное! Она встала и вышла из спальни. Зазвонил телефон, и Кристель вернулась. – Ален Пайп,- ледяным голосом сказала она. Самуэль рывком выпрыгнул из кровати и босиком прошлепал по коридору, где уже плавал запах поджаренного хлеба и свежесмолотого кофе. – Ален? – Мне нужно встретиться с тобой, Сэмми. – Прямо сейчас? – Немедленно! – Но это невозможно!- простонал Баннистер.- К тому же я не в духе… – Когда сможешь? – Во время обеда в «Романос». – Нет, там всегда слишком много знакомых. Приезжай в гриль к Пьеру. – Ален, скажи по крайней мере… В трубке послышались гудки. – Что ему нужно?- крикнула Кристель из кухни. – Не знаю… – Но он же не просто так звонил тебе? Самуэль сел на краешек табуретки. – Он хочет со мной встретиться. Кристель заложила два очередных кусочка хлеба в тостер и сказала: – Не могу понять, что может быть у вас общего? Этот Пайп… Разведенный, ленивый, бабник… – Он классный друг!- возразил Баннистер.- У него большие неприятности: вчера его уволили с работы. Задумавшись, он окунул поджаренный, намазанный маслом и джемом ломтик хлеба в чашку с кофе.***
Ален трижды прошёл мимо банка, пока решился зайти внутрь. Банк «Бурже» выдавал огромные суммы наличными гигантским международным корпорациям. Среди его клиентов значились «Дженерал моторс», «Ай Ти Ти», «Нейшнл Сэйл» из Детройта, «Хакетт Кэмикл», «Лей Лойдс» и многие европейские компании. Дрожащей рукой он заполнил чек на пятьсот долларов и протянул его кассиру. Тот с холодной вежливостью скользнул взглядом и, поставив на нем закорючку, спросил: – Купюрами по 100 долларов, мистер Пайп? Ален смог лишь кивнуть головой, от волнения у него пропал голос. Он поспешно сунул деньги во внутренний карман пиджака и, внешне ничем не выдавая своего волнения, направился к выходу. Оказавшись на улице, он с трудом удержал себя, чтобы не броситься бежать. Перешел на противоположную сторону, зашел в бар и сел на табурет у стойки. Бармен, не пытаясь скрыть недовольства, отложил в сторону газету с биржевыми сводками. – Слушаю вас. – Двойное виски,- попросил Ален. – Со льдом? – Без… и не двойное, а тройное! Бармен неодобрительно посмотрел на него, затем на часы: 9 часов 12 минут. Обычно даже самые горькие пьянчужки из завсегдатаев не появляются раньше полудня.
***
– Оливер Мюррей спрашивал о вас минут десять тому назад. – Что ему нужно? Пэтси безразлично пожала плечами. – Такая путаница в документации по фтору! Никак не могу разобраться. Уже девять двадцать, вам следует поторопиться. Перед кабинетом Мюррея он едва не дал задний ход, но собрался с духом и дважды легко постучал в дверь. Когда он вошел, Мюррей тут же бросил взгляд на часы: Девять двадцать две. – Извините, я опоздал,- сказал Баннистер.- Как ваши успехи? Ответом было зловещее молчание. Мюррей уставился на него своими поросячьими глазками и стал поигрывать карандашом. – Я разговаривал с Токио,- не совсем уверенно сказал Баннистер, пытаясь оправдаться. В глазах Мюррея сверкнули молнии. – «Машибуту»… фтор… Звонили из дочерней компании. Лицо Мюррея стало опасно подергиваться. – В Токио сейчас двадцать три часа двадцать две минуты. Неужели?- смущенно пробормотал Самуэль.- Вы уверены в этом? – Баннистер, вы ужасно меня разочаровываете. Какая у вас зарплата? – Около двух тысяч двухсот долларов. – Солидно! – У меня двадцать один год стажа. – Это много. Самуэль напрягся. Сейчас последует смертельный приговор. – Мюррей, я вас предупреждаю: то, что вы задумали сделать со мной, будет вам дорого стоить. К чему вы можете придраться? Я обращусь к адвокатам! Трюк, который вы проделали с Аленом Пайпом, со мной не пройдет! В чем вы можете меня упрекнуть? Выкладывайте, Мюррей, я вас слушаю. – Убирайтесь!- неожиданно резко бросил Мюррей.- Ваше агрессивное поведение заслуживает наказания! Самуэлю вдруг захотелось обнять его: угроза наказания автоматически исключала увольнение. – Послушайте, Мюррей… – Уходите! – У меня плохо начался день с женой… В необъяснимом порыве захлестнувших его чувств он схватил руку своего мучителя и горячо пожал ее. Мюррей побагровел от злости и попытался освободиться, но Баннистер был крепким парнем. В коридоре он не сдержался и несколько раз подпрыгнул козликом. На этот раз пронесло…
***
Не в силах сдвинуться с места, Ален с благоговейным ужасом взирал на величественные стены отделения банка «Бурже» на 8-й авеню. Он размышлял над тем, как провести очередной эксперимент, и от этих мыслей сердце уходило у него в пятки. А надо было всего лишь войти – таких отделений банка в Нью-Йорке было двенадцать – заполнить чек на тысячу долларов на свое имя, получить деньги и как ни в чем не бывало выйти на улицу. Первый раз ему повезло. Но вот сейчас ошибка вскроется, его арестуют и посадят за решетку. Ощущение страха достигло пика, когда он вошел в центральный холл. Стиснув зубы, обливаясь потом, он с трудом дошел до окошечка кассы. Передавая чек кассиру, Ален подумал, что вот-вот упадет без сознания. Кассир взял чек и наметанным взглядом проверил его по какому-то лежащему перед ним списку. – Какими купюрами желаете получить, мистер Пайп? – Сотнями,- промямлил Ален. – Восемь, девять, десять… Пожалуйста. Кассир протянул новые хрустящие деньги, и Ален, едва уняв дрожь в руках, взял их. Не успел он сделать и двух шагов, как за его спиной раздался голос: – Мистер Пайп! Собрав в кулак остаток сил, Ален медленно обернулся, но скрыть побледневшее лицо не мог. – Слушаю. – Если вы позволите, мистер Пайп… Кассир протянул ему в окошко какой-то буклет. – Здесь все написано. Прибыль составляет шесть и двадцать пять сотых процента после вычета всех налогов. Прекрасная возможность вложения капитала. Подумайте над этим! Кивком головы Ален поблагодарил его и направился к выходу. Теперь он знал, что смерть – это не что иное, как то ощущение, которое он только что пережил.
***
Марину разбудили солнечные лучи, к полудню добравшиеся до раскрытого окна мастерской. Она приоткрыла глаза и тут же закрыла их, натянув на голову простыню. Гарри, ты здесь? – Да. – Что ты делаешь? – Горбачусь. – Который час? – Поздно. – Молоко осталось? – Не знаю. – Ты можешь посмотреть? – Нет. – Гарри? – Да? – Ты плохой, Гарри! – Да. – Принеси молока. – Нет. Марина зевнула, потянулась, резко отбросила в сторону простыню и села на кровати, протирая кулачками глаза. Сидя на корточках в глубине комнаты, Гарри размешивал деревянной палочкой в тарелке какую-то цветную микстуру. Марина встала и направилась в ванную, захватив по пути соломенную шляпку, которую тут же водрузила себе на голову. Повертевшись три минуты под теплыми струями душа, она затем долго чистила зубы. Закончив, бросила влажную щетку в сумку, а не поставила, как обычно, в стакан. Вытершись досуха, молча прошла через мастерскую, оделась и небрежно засунула в сумку перчатки и шляпку. Краем глаза Гарри внимательно наблюдал за ней. – Уходишь? – Да. Она взяла со стола половину яблока и впилась в нее зубами. – Я возвращаюсь к Алену,- сказала она, не переставая жевать. Гарри неопределенно хмыкнул. Когда она направилась к двери, он даже не обернулся.
***
Гриль-бар был переполнен, а метрдотель – любезен, но непреклонен. – Меня ждет друг,- нервничал Баннистер.- Вон он… Я его вижу! Из дальнего угла зала Ален подавал ему знаки поднятой рукой. Лавируя между столиками, Самуэль нечаянно опрокинул на скатерть чей-то стакан и, не остановившись, извинился. Тяжело дыша, он упал на стул. – Для начинающего безработного ты красиво стартуешь,- заметил он, не успев отдышаться.- Спрашивается, откуда люди берут бабки? Начинай, рассказывай! Вдруг он наклонился к бутылке, лежащей в корзиночке из ивовых прутьев, и его глаза от удивления округлились. – Что это? Ален откупорил бутылку и налил янтарную жидкость в стоящий перед Баннистером бокал. – «Померол» 61-го года выдержки. Баннистер пригубил и уважительно закивал головой. – Сколько? – Сорок пять долларов. Самуэль поперхнулся. – У тебя все в порядке с головой? – Сэмми, могу я тебе полностью доверять? – Конечно, нет. А теперь послушай меня… На работе паника, и мы можем потрепаться не более двадцати минут. Усек? – Да или нет, Сэмми? Ты способен хранить тайну? – Ты прекрасно знаешь, что нет. Ален быстро достал из кармана распечатанный конверт. – Читай. Баннистер тут же заметил на конверте банковский штемпель. – Если ты заставил меня проехать через полгорода, чтобы посмотреть на твои несчастные долги, со мной сейчас случится нервный срыв. – Читай! Самуэль развернул лист и быстро пробежал глазами две строки: «Доводим до Вашего сведения, что мы перечисляем на Ваш лицевой счет выходное пособие в сумме 1 170 400 долларов». Он с безразличным видом положил бумагу на стол. – Ты думаешь, что, заказав гамбургер, я смогу скрыть свое крестьянское происхождение? Ален расстреливал его глазами. – «Хакетт» перевела мне больше миллиона долларов, а ты задаешь идиотские вопросы. Баннистер пожал плечами. – А вчера вечером я ужинал с папой римским! А? Старина, проснись… В прошлом месяце я получил счет за телефонные переговоры на восемьсот тысяч долларов. Ты думаешь, я бросился оплачивать его? Такие глупости случаются каждый день. Кто их принимает всерьез? Свыше миллиона долларов! Да я купил бы себе гарем, залил в бассейн виски и не вылезал бы оттуда до конца своих дней! – Ты не знаешь одной детали,- мрачно произнес Ален.- Деньги на самом деле лежат на моем счете. Баннистер рассмеялся. – Уговорил! Я пришлю тебе бронированный фургон. – Они мне их перевели,- стоял на своем Ален. Только теперь Баннистер заметил, каким осунувшимся и бледным было лицо у его друга. – Ален? – Восемь дней я ломал голову над тем, как выплатить Мабель алименты! Я задолжал банку триста семьдесят два доллара. Только что я побывал в двух отделениях банка «Бурже»: в одном снял со счета пятьсот долларов, в другом – тысячу. Мне их выдали без проблем. Ну, хитрая голова, как ты это объяснишь? – Никак,- сказал Самуэль.- Это просто невозможно. Ален резко вытащил из кармана пиджака пачку банкнот. – А это что? Использованные презервативы? Повторяю, я был пустой, как барабан! У меня не было денег даже оплатить жилье!. – Невероятно! То, что ты рассказываешь, – мистика. – Но денежки ведь лежат на моем счете! – Понимаю, тебе бы этого хотелось. – Но они там, в моем банке! – Ты их клиент. Они тебя знают. Сумму в полторы тысячи долларов они могут даже не проверять. Мелочь! – Миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов – мелочь? – Тебе не могли перевести такую сумму, Ален. Я не могу поверить. – Я прикончу тебя!- взревел Ален. На лице Баннистера появилась деланная улыбка. – Ну если так, тогда ты прав. На твоем месте я пошел бы в «Бурже» и снял двадцать тысяч долларов. Если тебе их выдадут, я поверю в чудеса. Ты знаешь, который час? Вставая, он опрокинул стул и, опершись руками о стол, глядя Алену прямо в глаза, сказал изменившимся голосом: – Даю голову на отсечение, что твоя история, Ален,- туфта. Я хотел бы, чтобы ты мне сказал одно – зачем все это кино? Лицо Алена приобрело растерянное, детское выражение, и от бессилия он закусил губу. – Честное слово, Сэмми, я сам задаю себе этот вопрос.- Затем он поднял голову и решительно выпалил:- – Ни черта в этом не понимаю, но я докопаюсь!.. (обратно)
Глава 5
В халате из темного шелка, Арнольд Хакетт, блаженно вытянувшись, лежал на низком диване в квартире Пэппи, которую снимал для нее уже два года. Кроме того, ему приходилось решать и другие финансовые проблемы Пэппи: начиная с оплаты дорогостоящей учебы в университете ее брата, собиравшегося стать архитектором, и заканчивая выделением двух тысяч долларов ежемесячно на карманные расходы самой Пэппи. Снисходительно улыбаясь, он думал о том, что его малышке всегда не хватает денег. Арнольду льстило, когда она устраивала ему сцены из-за редких визитов, но, к сожалению, управление империей «Хакетт» требовало немало сил и времени. Были и другие обстоятельства, не позволявшие ему жить в собственное удовольствие. Лет пять тому назад с ним случился сердечный приступ. Медицинские светила, консультировавшие его, настоятельно рекомендовали поберечь здоровье. – А любовь?- поинтересовался он. – В меру,- неопределенно ответили ему. Раза два-три в месяц Хакетт отводил душу с шикарными проститутками. С Пэппи все было по-другому: она любила его и не стеснялась своих чувств. Этому нежному ребенку было столько же лет, сколько его дочери Гертруде,- двадцать два. Но Пэппи, в противоположность Гертруде, чувствовала под собой землю: не презирала деньги, не искала сомнительных приключений в общении с хиппи и не влачила с ними сегодня жалкое существование где-то неподалеку от Сан-Франциско, а серьезно занималась танцами в престижной студии на 6-й авеню. Но одно несколько смущало его: ей нравился его возраст, его семьдесят один год. Пэппи с презрением относилась к молодым людям, считая их пошлыми, ничтожными, лишенными обаяния и индивидуальности. – Ты представить себе не можешь, как мне скучно с этими сопляками! – надув губки, говорила она. Он никогда не считал себя красавцем, но всю жизнь женщины говорили ему о «маленьком веселом огоньке», горевшем в его глазах. Говорили все, кроме его жены Виктории. Дела у Арнольда шли вроде бы сами собой. Людей мучили астма, бронхит, фурункулы, инфекции… Его химики изобретали фармацевтический продукт, который должен был облегчить их страдания, а Арнольд клал прибыль в собственный карман. Земля продолжала вертеться. За сорок лет он превратил «Хакетт Кэмикл» в одну из самых могущественных и процветающих фирм в стране. Шестьдесят тысяч человек, работающих в многочисленных филиалах – несколько даже находились в Европе,- ежечасно приумножали его состояние. Его ежегодный доход составлял около полумиллиарда долларов! Он был богат и всемогущ! Подошла Пэппи и провела своими ухоженными пальчиками по его лысому черепу. – Я сойду с ума… не уезжай завтра! – Это невозможно. А может, поедем вместе?- оживился он. – Ты же знаешь, я не могу оставить брата одного в Нью-Йорке. Он сел, снял телефонную трубку и набрал номер. – «Хакетт»? – «Хакетт Кэмикл», слушаю вас. Его собственная фамилия, повторенная телефонисткой, отозвалась в нем ощущением легкой гордости, не покидавшей его с тех пор, как он основал «Хакетт Кэмикл». – Соедините меня с Мюрреем! – Простите, с кем?- переспросила девушка. – С Мюрреем! – Кто его спрашивает? – Хакетт. – Сейчас узнаю, сможет ли мистер Мюррей переговорить с вами. Арнольд побагровел. – Неужели вы не поняли, что я – Арнольд Хакетт? – Секунду, мистер Хакетт, соединяю. Пэппи взяла его руку и стала покусывать ему кончики пальцев. – Мюррей? – Мистер Хакетт? – Как дела, Мюррей? Он высвободил палец изо рта Пэппи, прикрыл ладонью микрофон и зашептал: – Глупый, злой, противный, но очень нужный! Начальник отдела кадров административной службы в Нью-Йорке… Широко открыв глаза, Пэппи с обожанием смотрела на него. – Как там, Мюррей, головы летят? – Не беспокойтесь, мистер Хакетт! Арнольд был настроен на легкий юмор. – А как ваша, Мюррей? – В трубке молчали. – Ладно, Мюррей, вы же знаете, я шучу. На каком вы этапе? – Я составил список из сорока человек, мистер Хакетт. – Этого недостаточно! Я хочу, чтобы все зашевелились! Мне нужны люди, набитые идеями, энтузиазмом… – Мне нужны молодые… Кстати, Мюррей, сколько вам лет? Молчание. – Пятьдесят два, мистер Хакетт. – Ну конечно же… Это ничего не значит, Мюррей! У незаменимых людей нет возраста. Как обстановка? – Напряженная. – Вы ее выдерживаете? Назовите мне бунтарей, я вас прикрою. – В основном старые работники! Двадцать лет в фирме… закружилась голова… мнят себя неприкасаемыми… – Фамилии, Мюррей! – Их много! – Одну фамилию! – Баннистер. – Чем он у нас занимается? – Начальник юридической службы. – Вон! – Слушаюсь, мистер Хакетт! – Никаких хромых лис в «Хакетт» не должно быть! – Пятьдесят голов, Мюррей, ясно? Будьте безжалостны! Он резко опустил трубку, издал что-то наподобие смеха и по-отцовски посмотрел на Пэппи. – Я знаю, что ранил твою чувствительность, но если я время от времени не буду увольнять их сотнями, эти придурки станут неуправляемыми.***
Ален доехал до 6-й авеню, рассчитался с таксистом и уверено вошел в здание 11-го отделения банка «Бурже». Вызов, сделанный Баннистером, избавил его от мерзкого страха, который буквально душил его в предыдущих двух попытках. Он подошел к ближайшему окошку, вытащил чековую книжку и выписал двадцать тысяч долларов. Высокомерно посмотрев на кассира, он подписал чек и протянул его в окошко. – Желаете получить сумму наличными, мистер Пайп? – Естественно! На лице кассира появилось озабоченное выражение. – Будьте любезны, подождите секунду. Он встал с вертящегося стула, на котором проводил восемь часов ежедневно, и удалился. Конечно, сейчас он поднимет тревогу! Из банка Ален выйдет… но для того, чтобы войти в тюрьму. Он спокойно прикурил сигарету. Сбежать? Зачем? Ставки сделаны… Краем глаза он отметил появление кассира, за которым следовали два полицейских, и тут же услышал низкий, почтительный голос, принадлежащий незнакомцу в сером костюме: – Абель Скотт, заместитель директора отделения. Не желаете ли, чтобы эти люди сопроводили вас? Ален покорно протянул руки… под наручники. – Вы берете большую сумму, мистер Пайп! Они проводят вас до машины. – На прошлой неделе здесь произошло нападение,- любезно объяснил высокий полицейский. Ален смущенно посмотрел на свои вытянутые вперед руки. Чтобы оправдать этот становившийся опасным жест, он потер руку об руку и опустил их. – Нет, нет, спасибо! В этом нет необходимости. Абель Скотт бросил на него осуждающий взгляд и, как бы согласившись с ним, едва заметно поклонился. Кассир выложил перед Аленом большой бумажный пакет. – Пересчитать, мистер Пайп? Купюры замелькали с молниеносной быстротой в коротких пальцах кассира. – Всего доброго, мистер Пайп,- сказал Абель Скотт.- Для меня будет большим удовольствием лично встретить вас в следующий раз, если, конечно, вы окажете нам такую честь. Ален поблагодарил, небрежно взял пакет, набитый долларами, и непринужденно направился к выходу. Улица поглотила его. Он прошел добрую сотню метров, прежде чем увидел бар. Прибавив шаг, он вошел в него и, не задержавшись у стойки, прошел в туалет. Его стошнило.
***
– Ален! Где ты запропастился? Что я скажу Кристель? Самуэль незаметно наблюдал за Пэтси. Сделав безразличное выражение лица, она повернулась к нему спиной и стала рыться в шкафу. На самом же деле она вся обратилась в слух. Самуэль прикрыл угол рта ладонью. – Это где? Как называется? Подожди, я запишу… Повтори номер. Хорошо, жди меня там. Ален не объяснил, в чем дело, но просил его пообедать вместе с ним. Его голос показался Баннистеру странным. – Мистер… – Слушаю, Пэтси. – Извините, мистер, но мне хотелось бы задать вам вопрос, который ко мне никакого отношения не имеет. Впрочем, самую малость… Я хочу сказать, что меня это не касается… – Меня ждет Мюррей, покороче, Пэтси,- поторопил ее Баннистер. – Я знаю, мистер, но… Ходят слухи… – Какие слухи? – Поговаривают о крупных увольнениях… – Если принимать за чистую монету коридорную лапшу… Вы достаточно давно здесь работаете и знаете, что у нас есть большие мастера болтать языком. – С этим я согласна, но ведь не бывает дыма без огня! – Наступает время отпусков. Люди возбуждены… – Кстати, Ален Пайп! Говорят… – Что говорят, Пэтси? – Говорят, что его уволили. – Неужели?- воскликнул Самуэль, захваченный врасплох, не зная, как поступить: рассказать всю правду или увильнуть от ответа. – Как дела с фтором? – Я запуталась. – Постарайтесь разобраться. Я пошел. События развивались бурно. – Входите, Баннистер,- пригласил Мюррей.- У меня для вас хорошая новость. Самуэль напрягся. У Мюррея хорошей новостью считалось объявление о кончине других. – Сегодня двадцать третье июля, Баннистер. С удовольствием сообщаю вам, что тридцать первого декабря вы получите двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят два доллара.- Посмотрев в выпученные глаза Баннистера, он добавил: – С первого января вы уволены.
***
Молодая женщина легким шагом пересекла зал бара. У входа в бильярдную она столкнулась с молодым парнем. – Привет, Джон! – Привет, Пэппи! – Он там? – Они обдирают его как липку. Она улыбнулась и вошла в прокуренную комнату. Возле бильярдного стола, освещенного сильной лампой, стояли человек десять мужчин и внимательно наблюдали за здоровенным парнем, который намеревался провести проигрышный шар. – Питер! Здоровяк обернулся и уничтожающе посмотрел на нее. – Ты будешь играть?- нетерпеливо спросил Макс. Он недружелюбно посмотрел на Пэппи и громко добавил: – Здесь бильярд, а не чайный салон, мисс. – Извини, Питер…- пролепетала Пэппи. Мужчины ехидно рассмеялись. – Убирайся,- процедил сквозь зубы Питер. Пэппи энергично закивала головой. – Я буду ждать тебя в баре. Питер наклонился над столом и надолго замер, готовясь нанести удар. Красный шар прошел мимо лузы… – С тебя восемьсот долларов,- сказал Макс. Питер отвел его в сторону. – Дай мне десять минут! Улажу одно дельце и отдам тебе бабки. Макс подозрительно посмотрел на него. – Ладно… Десять минут, не больше. Питер вышел в бар и увидел Пэппи, сидевшую на табурете у стойки. – Из-за тебя я проиграл! – Много? – Полторы тысячи долларов. Джин, двойной… Пэппи робко положила свою ладонь на руку Питера. Он сделал вид, что ничего не почувствовал, и продолжал рассматривать разноцветные бутылки на полках. – Ты злишься на меня? – Нет, радуюсь, браво!..- ответил он. Когда он находился рядом с ней, она чувствовала себя десятилетней девочкой. Красота Питера лишала ее сил. – Питер… – Закройся! – У меня был Арнольд, поэтому я задержалась. – Старый Хакетт,- саркастически заметил он. – Я могу тебе помочь, Питер… – Ты вытащила что-нибудь у этой развалюхи? – Немного. – Сколько? – Две тысячи. – Давай. Она протянула ему деньги, и они тотчас исчезли в его кармане. – Никак не пойму, как такой мудак может быть таким богатым? А подумать, что он принимает меня за будущего архитектора, а тебя за мою сестру?.. Сестричка!.. Кто же трахает родную сестру?..
***
Виктория не соответствовала своему имени: высокая, спокойная, с белокурыми волосами и белой, как бумага, кожей, она казалась пастеризованной. Такой она была всегда. За тридцать восемь лет супружеской жизни другой он ее не видел. Никогда… – Ты рада, что мы едем?- спросил Арнольд. Она посмотрела на него так, как будто он изъяснялся на незнакомом ей языке. – Что ты сказал? – Я спрашиваю, рада ли ты отъезду? – О да, Арнольд, да… – Ричард предупредил Голена о нашем приезде? – Да. – Жить будем в наших постоянных апартаментах? – Да, на одиннадцатом этаже: большой салон, терраса и две угловые комнаты. – Ричард попросил Голена заменить ковры? – Не знаю. – Как там погода? – Просто великолепная! – Прекрасно! Поиграю в теннис… В глазах Виктории мелькнуло беспокойство. С сердцем у меня все в порядке,- упредил ее вопрос Арнольд.- Как море? – Двадцать пять градусов. – Билеты есть? – Сегодня утром я положила их в твой бумажник. Арнольд Хакетт машинально похлопал по карманам – пусто. Он посмотрел на Викторию. Она не обращала больше на него внимания, забавляясь с любимой китайской собачкой Тристаном. Арнольд был уверен, что бумажник забыл у Пэппи. – Виктория? – Арнольд! – Я забыл бумажник в кабинете. Пошли Ричарда. . Нет, нет, я поеду сам… Он не найдет.
***
Все было на своих местах и в то же время неуловимо говорило о чьем-то недавнем присутствии. Ален замер, втянул ноздрями воздух, пробежал глазами по комнате… На кухне он неожиданно для себя потянул за ручку холодильника, и его пронзило, словно электрическим разрядом: в одной из бутылок почти не было молока. Марина! Она возвратилась! В порыве охватившей его радости он подбросил к потолку пакет с двадцатью тысячами долларов, словно тот не представлял собой никакой ценности. Ален с безразличным видом смотрел на лежащий на полу пакет. Много он отдал бы, чтобы узнать, где в этот момент находится Марина. (обратно)
Глава б
Арнольд Хакетт прижался ухом к двери. Из квартиры доносились приторные звуки джаза: Пэппи была дома. Арнольд обожал делать сюрпризы. На его лице появилась самодовольная улыбка, и он осторожно нажал на ручку… Перед его глазами развертывался спектакль, смысла которого он не понимал. За широким, низким диваном (3800 долларов) две божественные женские ножки, казалось, порхали в воздухе, совершая мягкие и ритмичные движения вверх-вниз. Ступни этих ножек опирались на старинный столик, купленный тоже им у итальянского торговца антиквариатом за сумасшедшие деньги. Бесшумно ступая, он обошел диван и увидел обнаженную незнакомую девушку, которая азартно отжималась от пола. На ней были длинные, до локтей, перчатки из черного шевро и соломенная шляпка, украшенная цветочками. Обладательница шляпки вполголоса вела счет: – Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать… Поза, в которой она находилась, не позволяла ей видеть Арнольда. Ошарашенный красотой этого восхитительного тела, он не мог решить, что ему делать: то ли уйти, то ли продолжать наслаждаться спектаклем? В конце концов, он все-таки у себя дома. – Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре… Он жадным взглядом рассматривал ее несколько тяжеловатые груди, которые при каждом опускании касались пола. Если бы еще и ее лицо, закрытое волосами, было таким же прекрасным, как эти бедра!.. – Тридцать, тридцать один, тридцать два… Арнольду хотелось, чтобы она считала до тысячи. Но на счете «тридцать пять» девушка рухнула на пол, перевернулась на спину, разбросив руки, и только теперь увидела его. – Сдыхаю,- сказала она.- Когда я в форме, могу отжаться пятьдесят раз. А вы? Арнольд хмыкнул. – Не знаю. Я всегда забываю считать. Она без всякого смущения встала с пола и взяла бутылку молока, стоящую рядом с диваном. – Хотите? Арнольд терпеть не мог молоко. Растерявшись, он сказал: – С удовольствием! Она сделала большой глоток прямо из горлышка и протянула ему бутылку. – Не знаю, куда Пэппи подевала стаканы. Такой у нее везде бардак! Глаза Арнольда без устали путешествовали между ее лицом и темно-коричневым волосяным покровом лобка. – Удивительно!.. Вы похожи… – Я знаю. – Меня зовут Арнольд. А вас? – Марина. – Пэппи о вас мне не рассказывала. – Если вы тот, с кем она трахается, я балдею! Вы же ей в дедушки годитесь! Удар пришелся в солнечное сплетение, но ему удалось по-отечески улыбнуться. – Я – Арнольд Хакетт! Краем глаза он следил за ее реакцией, но его имя не произвело на нее ровно никакого впечатления. – Я забыл здесь свой бумажник. С вашего позволения, я поищу его. Он прошел в ванную. На полу, сброшенные в кучу, лежали вещи Марины. Он поднял ее рубашку и жадно потянул носом, прижавшись к ней лицом. Затем вытащил из кармана банного халата бумажник и возвратился в комнату. По-прежнему голая, Марина сидела верхом на стуле, широко разведя ноги. Под ее пристальным взглядом он неожиданно покраснел. – Наверное, плохо быть старым?- спросила она. Из шестидесяти тысяч служащих фирмы «Хакетт», мужчин и женщин, никто и никогда не говорил ему более грубых слов. Но, странное дело, сказанные прелестным ртом Марины, они даже не задели его. Наоборот, он попытался вызвать в своих глазах «маленький веселый огонек». – Будь у меня выбор, я предпочел бы ваш возраст. Было бы глупо не давать отчета прожитым годам, и оставшееся ему время было бесценным. Не упускать ни одной возможности! Брать! Брать сразу! Он уже знал, что готов на любое безумство за право хоть одним пальцем прикоснуться к телу этой девушки. Зачарованно глядя на распустившиеся лепестки ее «цветка», он хрипло произнес: – Послушайте, Марина… Мы едва знакомы, но у меня есть для вас привлекательное предложение…***
Сказать Кристель об увольнении или промолчать? Как объяснить ей, что сегодня он не будет ужинать дома? – Кристель! Кристель! Ее не было ни в прихожей, ни на кухне. Самуэль молил Бога, чтобы ее не оказалось и в гостиной. – Кристель! Но она была там: сидела, глубоко вжавшись в кресло, и с нескрываемым упреком смотрела на него. – Почему ты так громко кричишь? Ты знаешь, который сейчас час? Надень домашние тапочки. – Я ухожу. Глаза ее округлились, и она посмотрела на него так, как если бы перед ней стоял инопланетянин. – Что ты сказал? – Я ужинаю с Аленом Пайпом. – Забудь этого неудачника и иди мыть руки. Ты никуда не пойдешь! – Я обещал… – Ты бросаешь меня из-за этого мерзкого типа, который только тем и занимается, что трахается с проститутками? Впервые за все годы супружеской жизни Баннистер взорвался: – Эти проститутки бывают лучше иных добропорядочных… Он повернулся к ней спиной и направился в коридор. – Самуэль, ты куда? Охваченный какой-то дикой, до сих пор неведомой ему радостью, он, не оборачиваясь, бросил: – Иду напиться с проститутками! – Сэмми, у тебя поехала крыша. – Очень заметно?
***
Ален пришел в заведение, принадлежащее уважительному китайцу Ман Лину, чуть раньше условленного времени. Когда-то они с Самуэлем часто здесь обедали. Место было недорогое, симпатичное и спокойное. Когда Самуэль подошел к столику, Ален заметил, что лицо у него бледное и покрыто испариной. – Что-то случилось? Самуэль молча взял бутылку вина, налил себе полный бокал и залпом выпил. – Э! Сэмми! Я с тобой разговариваю или… Баннистер посмотрел на него грустными глазами и сказал: – Меня тоже… – Что «тоже»? – Уволили! – Ты шутишь? – Он отомстил мне. – Но это невозможно! Когда ты разговаривал с ним? Что конкретно он сказал? – Досрочный выход на пенсию с первого января. Меня натянули, как засранного пидора. Устроиться на другую работу в моем возрасте практически невозможно. – Он не имеет права… – Он получил его. – Кристель в курсе? – Еще нет. – Он объяснил тебе причину? – И не попытался… – Действуй! Твой адвокат… профсоюз… Шевелись, защищайся! К тому же тебя хорошо знают. А твои связи? Ты можешь устроиться где угодно… в «Байер», в «Скауэб» или «Глэксо»… – Слишком стар. – В сорок шесть лет? – Угомонись, у меня свой подсчет. – Суки,- не выдержал Ален,- сволочи и еще раз сволочи… Одним словом, поганые твари. – Что будете заказывать?- спросил как из-под земли выросший официант. Ален не стал даже смотреть меню. – Жареные креветки, весенний салат, курица под миндальным соусом и говядина с пряностями. Приняв заказ, официант удалился. Самуэль впился взглядом в глаза Алена и произнес глухим голосом: – Я хочу отомстить. – Да,- согласился Ален,- это без вопросов… – С тобой это произошло вчера, со мной сегодня, а завтра наступит очередь других ни в чем не повинных… Нами манипулируют, как пешками! Угрожают, унижают, не объясняя почему, выбрасывают на улицу!.. С меня достаточно! Я хочу кусаться! Ален сделал вид, что полностью разделяет его негодование. Баннистер схватил его за запястье и крепко сжал. – Я отомщу! Ты понимаешь, что я имею в виду? – Да, да… – Раздавить их! Уничтожить!.. Они вздрючили нас, я вздрючу их… Ален осторожно высвободил руку. – Они сильнее нас, Сэмми. Мы заранее проиграли. – Все равно я их вздрючу,- не мог успокоиться Баннистер. – Вдвоем мы эту систему не перевернем. – Я хочу увидеть, как они агонизируют! – Мюррей? – Мюррей – винтик, шурупчик, шут гороховый… Я хочу голову… Хакетта! Да, именно так… самого Хакетта. – Мне хочется разорить его! – Пятьсот миллионов годового дохода, шестьдесят тысяч специалистов и рабочих по всему миру, поддержка банков, благословение правительства… А теперь скажи, что можно сделать с этим десятиголовым монстром? – Не знаю еще, но сделаю. Ты со мной? Ален нервно хихикнул. – Это похоже на объявление Монако войны Советскому Союзу. Они замолчали. Официант поставил на стол заказанные блюда. – Десерт? – Чуть позже,- сказал Ален.- Принесите еще бутылку такого же вина. Он потянулся за бокалом, но задел локтем лежавший на столе пакет, и тот упал на пол. Ален поднял его и положил на край стола, ближе к Баннистеру. Самуэль вопросительно посмотрел на него. – Капуста,- равнодушным голосом сказал Ален. Брови Баннистера взметнулись вверх, глаза выпучи лись. – Денежки из банка «Бурже». Двадцать тысяч долларов,- безжалостно добивал его Ален.- Что скажешь на это? Самуэль торопливо сделал большой глоток вина. – Здесь… у тебя… д-д-двадцать тысяч д-долларов?- от неожиданности он начал заикаться. Ален небрежно ковырнул острием ножа упаковку и предложил: – Посмотри… Из разрезанного пакета на Баннистера смотрели аккуратные пачки долларов. – Черт!- вырвалось у него.- Они настоящие? Он протянул руку, собираясь пощупать купюры, но в последний момент заколебался, и его рука зависла в воздухе. – Смелее,- приободрил его Ален и выложил на стол несколько ассигнаций. – Это… тогда это значит, что «Хакетт» на самом деле… – Я пытаюсь с самого утра вбить тебе это в голову,- перебил его Ален.- Миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов – МОИ! Баннистер со всего размаха ударил по столу кулаком. – Этот первый миллион родит нам следующие… – Не забывай только об одной детали,- холодно заметил Ален.- Да, в банке у меня действительно больше миллиона, но моих там – ни цента. Баннистер ласково, как живое существо, погладил пакет с деньгами и неожиданно крикнул: – А это что? Говно? – Не мои! Я даже пинцетом не притронусь к ним! – А с работы тебя вышвырнули пинцетом или ногой под зад? Ты кого-нибудь ограбил? Кто и в чем тебя может упрекнуть? – Деньги не мои,- не давал себя переубедить Ален.- И не пори чушь! На моем месте ты сделал бы точно так же. – Меня бы только видели… Деньги лежат на твоем счету, тебе не надо никаких разрешений, воспользуйся удачей, олух! Чем, в принципе, ты рискуешь? – Оказаться за решеткой. Меня такой финал не устраивает. – Ты знаешь, почему мы оба нищие? Популярно объясняю: у нас никогда не было стартового капитала. Всегда не хватало одного доллара, чтобы сделать десять. Теперь другое дело – этот капитал у тебя есть. Последний из кретинов может легко утроить миллион в течение недели. Ален открыл рот, собираясь возразить, но Баннистер, сверкнув глазами, рявкнул: – Заткнись! Мы достаточно поработали на дядю! Ясовершенно точно знаю, что надо делать. Выслушай меня и не перебивай. – Я не буду ничего слушать до тех пор, пока не узнаю, откуда появилась ошибка, сделавшая меня миллионером. Баннистер расстреливал его глазами. – Плевать, откуда она появилась! Главное, с умом воспользоваться этими деньгами, сколотить капитал и отомстить подонкам из «Хакетт».
***
Оскару Вленски было не по себе. Когда Фишмейер впадал в ярость, здание банка «Бурже» сотрясалось до основания. Оскар допустил неосторожность высказать в его присутствии свое мнение, вместо того чтобы ограничиться, как обычно, словами «Да, мистер» или «Нет, мистер». – Я удивлен, мистер, мой компьютер никогда не делал ошибок. – Вленски, вы говорите глупости. Хотите, я сейчас же прикажу службе сейфов принести прямо сюда, и к тому же наличными, вклад нашего клиента? – В этом нет необходимости, мистер. – Значит, вы верите мне на слово? – Разумеется, мистер. – Благодарю вас, Вленски! Последние слова, как плевок, полетели Оскару в лицо. Фишмейер угрожающе ткнул в него толстым, как сосиска, указательным пальцем. – Если подобная ошибка повторится еще раз, мы с вами навсегда расстанемся, Вленски. Клиент банка «Бурже» – это священно! Вленски должен был бы на цыпочках выйти из кабинета, возвратиться к себе и закопаться в корзину для бумаг, но он, к своему несчастью, вспомнил фразу, сказанную Галилеем, хотя тому она чуть не стоила жизни. Не двигаясь с места, опустив голову, он рассеянно пробормотал: – И все-таки она вертится… – Что вы сказали?- побагровел Фишмейер. – Вы тысячу раз правы, мистер! Но в подобных ситуациях я – человек непреклонный. – И вы можете позволить себе такую роскошь? – Исключительно в подобных ситуациях. В тот момент, когда я визировал для юридической службы необеспеченный кредит нашего клиента… совсем незначительный, я… Фишмейер остервенело смотрел на него, но отступать было поздно. Оскар с трудом сглотнул и закончил начатую мысль: – Мистер, он на самом деле – должник. – Что вы мне морочите голову!- взревел Фишмейер. – Я сам видел карточку мистера Пайпа. На его счете больше миллиона долларов! Вы сумасшедший! Хотите, чтобы он перевел деньги нашим конкурентам? С этого момента приказываю вам обеспечить ему эксклюзивное обслуживание! Вы поняли? ЭКСКЛЮЗИВНОЕ! До свидания, Вленски! В расстроенных чувствах, Оскар вышел из кабинета. Он не знал, кому верить: компьютеру или Фишмейеру? Приблизительно в это же время Самуэль Баннистер посмотрел на часы: девять утра. Он бросил незаметный взгляд в сторону Пэтси, которая увлеченно занималась своими ногтями и плевать хотела на папку с запутанной документацией по фтору. Неожиданно у Самуэля начался сильный приступ кашля. Пэтси быстро сунула пилочку для ногтей под стопку документов. – Принести воды, мистер? Лицо Баннистера покраснело, кашель усилился. – Мне что-то нездоровится, Пэтси. Болит голова, знобит… Сходите в аптеку за пилюлями. Она встала из-за стола. – Каких? – Спросите у провизора, он должен знать… Едва за ней закрылась дверь, он тотчас снял трубку телефона и набрал домашний номер Арнольда Хакетта. Всю ночь он ломал голову над тем, как раздобыть этот номер, а нужно было лишь полистать телефонный справочник. – Мистера Хакетта, пожалуйста. – Кто спрашивает? – Оливер Мюррей, начальник отдела кадров «Хакетт». – Мистера нет дома. – Вы не подскажете, как я могу с ним связаться? – Не думаю, чтобы мистер Хакетт хотел с кем бы то ни было контактировать. Миссис и мистер уехали на отдых за границу. – Извините мою настойчивость, но мистер Хакетт сам просил меня связаться с ним. Речь идет о деле чрезвычайной важности. Думаю, что мистер Хакетт ничего, кроме благодарности, вам не выразит, если вы сообщите мне место его пребывания. – Отель «Мажестик». Канны. Франция. – Благодарю вас,- задушевно сказал Баннистер и скороговоркой выпалил:- Но я нахожу совершенно безобразным то, что Арнольд греет свою дряблую задницу под солнышком, а я вкалываю в Нью-Йорке. До свидания! Дрожа от радостного возбуждения, он снова принялся накручивать диск телефона. – Ален, я выяснил, где дислоцируется враг! Ты едешь завтра. – Куда? – Во Францию! Отель «Мажестик»! Канны! Он нажал пальцем на рычажок и набрал номер международной справочной. – Мне нужен номер телефона отеля «Мажестик» в Каннах. Да… да… Франция… Жду… (обратно)
Глава 7
Растянувшись на полу на животе, Ален в очередной раз просматривал список дел, составленный Баннистером, которые он должен был выполнить в течение дня. Было несколько минут десятого, но Нью-Йорк, несмотря на изнурительную влажную жару, уже деятельно бурлил, и его рабы, обливаясь потом и задыхаясь в офисах, зарабатывали свой кусок хлеба. Ни о чем не думать, не дрогнуть, только действовать… Ален подтянул за шнур поближе к себе телефон и позвонил биржевому маклеру. – Артур Дэйли?.. Моя фамилия Пайп. Я хотел бы приобрести золото. Какой сейчас курс? – Сто восемьдесят долларов за унцию, мистер Пайп. – Какой суммой вы располагаете? – Двести тысяч долларов. – Великолепно! Двести тысяч! Форма расчета? – Именной чек, выданный на банк «Бурже». Через час вы получите чек прямо в руки. – Вам выслать котировки? – Нет, спасибо. В Нью-Йорке я проездом… – В каком отеле остановились? Остановился у своих друзей. Запишите номер телефона. – Диктуйте, мистер Пайп. – Тридцать девять – девяносто – семьсот тридцать три. – Записано. Вы позволите мне перезвонить вам через пять минут? Меня срочно вызывают… В трубке послышались гудки. Ален ухмыльнулся и покачал головой. Дэйли побежал проверять состояние его счета. Он надел брюки и новую рубашку. Появляться на улице при галстуке в такую жару было смешно, но разве можно было переубедить Самуэля? Зазвонил телефон. – Извините, мистер Пайп, меня вызывал шеф. Жду вас через час. Вы знаете, где мы находимся? – Разумеется. Он надел легкий пиджак, уверенный, что уж сейчас-то разбогатеет честным путем, в последний раз обвел комнату глазами, сунул список Самуэля в карман и вышел. Через двадцать минут он входил в здание «Америкэн Экспресс». В кабинетах толкалась тьма народу, к кассам тянулись бесконечные очереди. – Мисс, завтра я улетаю во Францию, на Лазурный берег… Вы можете заказать машину к моему прибытию? – Сложно,- равнодушно ответила девушка.- Мы не справляемся. Кстати, какую модель вы бы хотели? – «Роллс корниш», с шофером, разумеется. – Она с интересом посмотрела на него. – Сейчас узнаю,- девушка сняла трубку телефона. Ален закурил. – Вам повезло. Одна машина этой модели свободна. Двести пятьдесят долларов, включая страховку. – А шофер? – Входит в сумму. Чаевые, естественно, на ваше Усмотрение. Устраивает? – Вполне. – Ваша фамилия? – Ален Пайп. Еще мне нужны тревелс-чеки. Сможете помочь в этом? – На какую сумму? – На двести тысяч долларов. Теперь она смотрела на него уже с уважением. Ален попросил у нее ручку и заполнил чек на двести тысяч долларов с оплатой «Америкэн Экспресс». Улыбаясь, она взяла чек и сказала: – Извините, я покину вас на минуту. Опять проверка его счета в банке «Бурже». Через несколько секунд, с той же улыбкой на губах, она возвратилась. – Все в порядке, мистер Пайп. Вы сможете зайти через час? Я подготовлю тревелс-чеки. – Да, чуть не забыл… мне понадобится еще яхта. – Сколько членов команды вас устроит? Вопрос застал Алена врасплох. – Восемь? Десять? Этого достаточно? Она была небольшого роста, но с прекрасной фигурой, большими голубыми глазами и роскошными, черного цвета, длинными волосами. – Мистер Пайп, вы должны определиться сами. К сожалению, не мне придется отдыхать на ней. Фраза сопровождалась вполне недвусмысленной мимикой, которая читалась так: «Где ты хочешь? Когда ты хочешь?» Она покопалась в папке, извлекла лист бумаги и протянула его Алену. – Что вы об этом скажете? Десять человек экипажа, два повара – марокканец и его помощник француз. Скорость пятнадцать узлов в час, шесть кают… – Мне кажется, подойдет. – Да она просто великолепна! Четыре тысячи долларов в сутки. Без питания. На какой срок оформить? – Точно сказать затрудняюсь,- пробормотал Ален, чувствуя, как у него на голове зашевелились волосы. – Яхта освободится через три дня. Вы можете ею воспользоваться не более двух недель. Если вы закажете ее с двадцать шестого… это день моего рождения. Меня зовут Энн. Она подняла глаза на Алена и увидела, к своему большому удовлетворению, что производит на него самое благоприятное впечатление. – Яхта называется «Виктория И». Швартуется в Каннах… она посмотрела в карточку,- в порту Канто. Это ваша первая поездка туда? – Нет, – соврал Ален. – Что-нибудь еще? Она ожидающе и настойчиво смотрела на него. – Пожалуй, все. – Всегда к вашим услугам, мистер Пайп. – До встречи. – Я буду ждать вас. Спросите… – …Энн. Я помню. Направляясь к выходу, Ален чувствовал, что она смотрит ему вслед. На улице он остановил такси и поехал в магазин «Гуччи», следуя совету Самуэля делать покупки только в престижных магазинах. «О тебе будут судить не по твоей смазливой роже, а по качеству твоих чемоданов»,- убеждал его Самуэль. Ален выбрал несколько понравившихся ему дорожных сумок и чуть не потерял сознание, узнав их стоимость. С ощущением легкого головокружения он вышел на улицу. Такси ждало его на прежнем месте. – К «Саксу»,- сказал он шоферу. Он отобрал несколько костюмов различных расцветок: от цвета яичной скорлупы до черного антрацита. Некоторые из них требовали незначительной переделки. Ему предложили зайти на следующий день. – Слишком поздно,- властным голосом, который удивил его самого, сказал Ален.- Или все будет готово сегодня вечером, или я не беру… Еще мне нужны рубашки и белье. Управляющий коммерческой службой подобострастно согнулся в пояснице, словно говоря, что желание клиента будет выполнено, и проводил Алена в секцию рубашек. Подписывая чек на тысячу семьсот пятьдесят девять долларов, он сказал, что заедет за покупками в четыре часа. Сев в такси, он назвал шоферу адрес своего банка. Там он быстро и беспрепятственно получил двадцать тысяч долларов на «мелкие расходы», как посоветовал неугомонный, всепредвидящий Самуэль. Из банка Ален направился на 5-ю авеню, где находилась контора Артура Дэйли. Он объяснил секретарше цель своего визита и тотчас был препровожден в микроскопический кабинет биржевого маклера. – Вот чек,- сказал Ален. Дэйли снял трубку телефона и кому-то передал заказ на покупку золота. Вся операция заняла не более двадцати секунд. Широко улыбнувшись, он посмотрел на Алена. – Теперь вы – обладатель тридцати одного килограмма четырехсот девяноста пяти граммов золота, мистер Пайп. Поздравляю вас с удачным вкладом капитала. Цена на золото может подскочить в любой момент. На какой срок вы хотите его «заморозить»? – Затрудняюсь сказать… – Всегда к вашим услугам! Если вы хотите провести удачную сделку в короткий срок, позвольте вам посоветовать фармацевтическую промышленность. С начала отпускного сезона – это настоящий бум. Цена акций все время растет. – В самом деле?- удивился Ален. – Можете мне верить, мистер Пайп. В течение трех месяцев вы сможете «подняться» на двадцать пять процентов… – Я подумаю. После полудня он снова появился в «Америкэн Экспресс». Судя по выражению лица Энн, создавалось впечатление, что она ждала только Алена. – Все в порядке, мистер Пайп! В аэропорту в Ницце вы позвоните но этому телефону, и через двадцать минут подъедет «роллс». Шофера зовут Норберт. Что касается жилья, мы можем предложить вам прекрасные виллы с прислугой, на срок от двух недель до нескольких лет. – Предпочитаю отель. – «Мажестик»? «Карлтон»? «Негреско»? – «Мажестик». Она одобрительно кивнула головой. – А это ваши тревелс-чеки,- протягивая ему увесистый конверт, сказала Энн. – В котором часу вы заканчиваете работу?- неожиданно спросил Ален. Ее невинные голубые глаза широко распахнулись. – В пять тридцать. Внутри у него что-то оборвалось, но он сумел преодолеть робость и силой воли выдавил из себя: – Если у вас не намечается чего-нибудь интересного… думаю… Сегодня я ужинаю один… возможно, мы могли бы… По мере того как Ален героически пытался ее «снять», лицо Энн все больше мрачнело, в замешательстве она прикусила нижнюю губу. – Сегодня вечером? Право, не знаю… Меня пригласили… Ален незамедлительно капитулировал. – Жаль… Кстати, как же это я забыл?.. Меня пригласили сегодня на коктейль… Жаль… Испугавшись, что он сейчас уйдет, она, торопливо глотая окончания слов, сказала: – Я могу отказаться, но должна обязательно заехать домой. Где мы встретимся? В руках она уже держала карандаш и блокнот. – Отель «Ориенталь»,- не задумываясь, соврал Ален. – Встретимся в холле. – Чудесно! Буду ждать вас. Там превосходный сухой мартини. – Мистер Пайп!.. – Да? Он боялся, что она изменит свое решение. – Вы не проверили тревелс-чеки. – Не беспокойтесь,- небрежно обронил он. Такси ждало его прямо напротив входа в «Америкэн Экспресс». – Куда теперь?- поинтересовался шофер. – Отель «Ориенталь». Спустя четверть часа он уже сидел за столиком вместе с Баннистером в баре отеля «Ориенталь». Подозрительно посмотрев на бутылку вина, уютно лежавшую в корзиночке из ивовых прутьев, Ален нахмурил брови. – Кто это заказал? – Я,- с обезоруживающей простотой ответил Баннистер.- «О-Брион», 61-го года. Двести долларов! Ален почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. – Кто будет платить? – Ты, естественно. Для раскачки я заказал еще икру. На подходе водочка. Ну как? Устраивает ассортимент? – Ты офонарел!- взорвался Ален. Баннистер непонимающе пожал плечами. – Чтобы много зарабатывать, надо уметь тратить. Ты выполнил мои поручения? – Да,- рявкнул Ален. – Почему ты так нервничаешь? У тебя неприятности? – Мои неприятности – это ты. Золото, шмотки, «роллс», яхта… И во что обошлась вся эта гастрономия? – Пока в пределах четырехсот долларов. – А если я тебя проброшу и оставлю одного со всеми этими закусочками и водочкой на подходе?.. Он замолчал. Подошедший официант взял бутылку из корзиночки и с торжественным выражением на лице налил нектар в бокал Баннистера. – Не желаете ли попробовать? Баннистер с видом искушенного ценителя сделал небольшой глоток и, смакуя, подержал во рту. Стоя по стойке «смирно», официант ждал приговора. – Великолепное!- вымолвил наконец Баннистер. – Благодарю вас, мистер,- ожил официант. С той же предупредительностью он наполнил оба бокала и, поклонившись, исчез. Самуэль сладко потянулся. – Я начинаю понимать жизнь. Жаль, что так поздно. – Ты издеваешься надо мной?- прошипел Ален. – Так, приказ номер один: возьми себя в руки. – Шкура горит на мне, а не на тебе. – Приказ номер два: делай все по плану. Не зная финансовых проблем, богатые не испытывают метафизических тревог. Их счета в банках позволяют им относительно легко решать любые деликатные проблемы. Они никогда не торопятся – их ждут. Если они глупы – их находят воплощением ума. Если они молчат, потому что не могут составить фразу их трех слов,- они хранят тайну. Если говорят – глаголят истину. – У меня ни цента!- раздраженно бросил Ален. – Ошибочная скромность! Ты – миллионер и мне это доказал. – Эти бабки не мои. – Неважно. Если другие думают… – Сколько это может безнаказанно продолжаться? – Если не наделаешь ошибок – всю жизнь. Деньги идут к деньгам. Даже если ты будешь богат неделю, а лучше две, этого срока достаточно, чтобы сколотить состояние и безбедно жить человеку со средними запросами. – А если я упаду, как говорится, мордой об асфальт. Что тогда? – Я тысячу раз мечтал оказаться на твоем месте. На стол поставили круглую хрустальную посудину с икрой, обложенную снаружи колотым льдом. Официант налил в рюмки водку. Баннистер поднял свою и сказал, глядя Алену в глаза: – За удачу, Ален!- В его глазах сверкнули озорные искорки. Он кивнул в сторону икры:- Крупная. 100 долларов. Ален не смог сдержать улыбку. – Ты невыносим, Сэмми. – Пища – богатых, Ален, вино – королей! Ты чувствуешь, как по-другому заработали мозги? Люди, у которых желудок набит картошкой, думают, как плебеи. – Откуда ты все это знаешь?- спросил Ален, намазывая икру на кусочек белого хлеба. – Жизнь научила,- серьезно ответил Баннистер. Ален долго и пристально всматривался в него. – Я балдею от тебя, Сэмми. Не знаю, что с тобой случилось, но со вчерашнего вечера ты – больше не ты. Не узнаю тебя. – Золото купил? – Да. На двести тысяч долларов. – Биржа прекращает работу в четыре. В три часа, самое позднее в три тридцать дай команду продать его. Тревелс-чеки? – У меня. – Наличные? – Тоже. – Как только устроишься в отеле, сразу же отправляйся в казино «Палм-Бич». В отпускной сезон там играют по-крупному. Ты предъявишь чек на свое имя на сумму пятьсот тысяч долларов. Они, как водится, наведут о тебе соответствующие справки, перепроверят твой счет и включат тебе зеленый свет. На следующий день и в течение двух следующих ты постепенно будешь набирать жетоны на сумму кредита. Можешь кое-что проиграть, развлекись… Остальные жетоны сдашь в кассу и тебе выпишут чек, который оплачивает банк казино. Таким образом, ты перекачаешь деньги из одной страны в другую, минуя таможенные премудрости. – Просто и блестяще,- мрачно сказал Ален.- Но ты упустил немаловажный момент: Хакетта. Баннистер виновато отвел глаза и почесал затылок. Ален резко ткнул в него пальцем. – Не пытайся задурить мне голову, Сэмми. Это у тебя не пройдет. Если ты не скажешь, что я должен делать с Хакеттом, я все бросаю. Я хочу иметь четкий план, и постарайся придать ему солидный вид. – Мать твою так! Ты что, дебил? Будешь действовать в соответствии с обстановкой. Вы будете дышать одним и тем же воздухом, барахтаться в одних и тех же волнах, есть ту же пищу, трахать одних и тех же кисок!.. Импровизируй! Какие у тебя были шансы в Нью-Йорке оказаться рядом с Хакеттом? – Никаких. Я не поеду. Баннистер исподлобья посмотрел на него, выждал секунд двадцать и неопределенным тоном сказал: – В твоем распоряжении ровно две недели, чтобы найти брешь и атаковать его. Ладно, не хотел говорить, но теперь скажу. Я знаю, откуда взялась ошибка. Ален подскочил, словно его ужалила змея. – Я всю ночь ломал голову над твоей задачкой. И мне кажется, усек. В любом случае, ничего более подходящего я не вижу. – Что? – Компьютер! Просто ошибся компьютер. А теперь спокойно, не нервничая, ответь мне на вопрос: какое выходное пособие положил тебе Мюррей, когда выставил за дверь? Ален захлопал ресницами, заколебался… – Сколько ты получал в месяц? – Тысячу шестьсот семьдесят два доллара. – Умножь на семь. Ален достал ручку и хотел было подсчитать на салфетке, но Баннистер остановил его. – Не трудись! Одиннадцать тысяч семьсот четыре доллара. Какая сумма объявилась на твоем счете? – Один миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов. Самуэль саркастически рассмеялся. – Ну что, хитрец, улавливаешь? – Нет. – Неужели не видишь, что это те же цифры, только прибавилось еще два нуля?! – Черт!- воскликнул Ален.- Господи! Они засадят меня за решетку! – Кто это «они»? «Хакетт» или «Бурже»? Кто из них сморозил глупость? – Не знаю, но… – Или наш компьютер дал маху и забыл поставить запятую, или электронные мозга «Бурже» перегрелись. Но положение дел это не меняет. Начиная с завтрашнего дня, у нас есть две недели для размышлений. – Откуда они появились? – Обнаружить ошибку «они» смогут не раньше восьмого августа, потому что именно восьмого числа каждого месяца счетчики компьютера сбрасываются на ноль, и он мгновенно выдает общефинансовое состояние нашей фирмы. – А если ошибку допустил банк? – То же самое. «Хакетт» – один из самых крупных клиентов «Бурже». А «Бурже» – единственный банк, переваривающий деньги «Хакетт» и выдающий ей деньги на зарплату. Весь капитал циркулирует исключительно между двумя домами. Четыреста пятьдесят девять миллионов в год! А ты дрожишь, получив какие-то чаевые. А теперь повозражай мне! Ален беспомощно покачал головой. – Я поражен. – О мелочах я побеспокоился. Билет ждет тебя в аэропорту. Полетишь первым классом. Заказал шикарные апартаменты в «Мажестик». Вечером расскажу, чего мне все это стоило. – Сегодня вечером?- забеспокоился Ален.- Нет, не могу. Я занят. – Не сходи с ума. Надо уточнить еще множество деталей. – Говорю тебе, невозможно! У меня свидание. – Плевал я на твое свидание! Наше дело поважнее! – Если бы ты ее видел!.. Ее зовут Энн… Самуэль наклонился над столом и с заговорщицким видом спросил: – Блондинка? – Брюнетка. – Когда и где ты откопал ее, скотина? – Сегодня в «Америкэн Экспресс». Занималась моими проблемами… Я соврал ей, сказал, что живу здесь. Вечером встречаемся в холле. – Номер снял? – Нет, конечно. – Дай двадцать долларов… Метрдотель! Самуэль незаметно передал ему банкноту, только что взятую у Алена. – Мистер Пайп в Нью-Йорке проездом. Номер, к сожалению, зарезервировать не успел. Придумайте что-нибудь… Люкс, например… – Сделаю все возможное, мистер. Он заскользил между столиками, перестав вдруг обращать внимание на зов клиентов. – Ты видел, как он побежал?- спросил Баннистер.- Я всегда мечтал давать большие чаевые. Это так все упрощает! – Хочу тебе напомнить, что ты разбазариваешь мои деньги. Сколько стоит «люкс» в этой «хибаре»? – Неуместный вопрос. И вообще, когда ты прекратишь говорить о деньгах?. Распираемый от сознания собственной значимости, метрдотель наклонился к Баннистеру. – Нет ни одного свободного номера, но мне удалось… У мистера Пайпа – люкс 325-326! Принесли бифштекс. – Ты на самом деле прилетишь ко мне, Сэмми? – Еще спрашиваешь? Это дело займет не более трех-четырех дней, даю слово. – Не сдрейфишь? – Как будто ты меня не знаешь! – А Кристель? – Не помеха… – Работа? – Возьму бюллетень. Я много должен сделать, перед тем как хлопнуть дверью. После кофе и коньяка они договорились, что созвонятся завтра утром. – Приятного траханья!- улыбаясь, сказал Баннистер и подмигнул. Он поехал на работу, а Ален позвонил из телефонной будки на биржу. -Артур Дэйли? Говорит Ален Пайп, вы помните меня? – Разумеется, мистер Пайп. Чем могу быть полезен? Немедленно продайте мое золото, а деньги переведите в «Фирст Нэйшнл». Через двадцать минут буду у вас. Когда он вошел в кабинет Дэйли, тот бросил на него пронзительный взгляд. – Примите мои поздравления, мистер Пайп! Каким образом вы узнали? – Что именно? – Иран. – Иран? Сохраняя улыбку на лице, Дэйли, понизив голос до шепота, сказал: – Понятно, мистер Пайп, извините. И все-таки, если представится подобный случай, не забудьте обо мне. Я с удовольствием поучаствую… Пытаясь скрыть недоумение, Ален достал носовой платок и высморкался. – Когда я выполнил ваш заказ сегодня утром, унция золота стоила сто восемьдесят долларов, а к моменту закрытия биржи подскочила до двухсот пятнадцати. Ваша прибыль составляет около сорока тысяч. Снимаю шляпу! Как вы считаете, это – потолок? – С золотом?.. Все зависит от объема добычи. Если закроют шахты… Сейчас такое смутное время… Возможны всякие неожиданности. Уладив все формальности с маклером, Ален направился в отель. Он никак не мог поверить, что заработал почти 40 000 долларов, не ударив палец о палец. За пять минут до свидания он надел новую рубашку, повязал галстук, выбрал темный костюм, в последний раз осмотрел себя в зеркале и вышел из номера. В баре звучала приглушенная музыка. Ален сел за маленький столик и стал ждать Энн. Она появилась в черном брючном костюме. Широкие, длинные, развевающиеся штанины скрывали высокие, не менее десяти сантиметров, каблуки. – Привет! – Привет! – Мартини? – Мартини. Он сделал заказ. – Тяжелый день? – Ужасный! Народ словно с цепи сорвался. Кажется, весь Нью-Йорк собрался выехать из города. – Я сплю, или вы подросли? – Вы не спите. Служащая – ниже, женщина – выше. – И как часто происходит подобная метаморфоза? Каждый день? – Совсем не обязательно. Все зависит от настроения. – И какое оно сегодня? – Прекрасное! А ваше? – В прямой зависимости от вашего. Они рассмеялись. После третьей порции мартини Ален сказал: – Энн, сегодня мой последний вечер в Нью-Йорке. Мне должны позвонить из Франции и Японии… Я хочу кое-что вам предложить. – Говорите. – Мой номер на восьмом этаже. Окна выходят в парк… У меня сегодня был такой же тяжелый день, как и у вас: люди, встречи, деловые переговоры… В голове у меня кипит. Мне хочется тишины… только вы и я. Давайте поужинаем у меня. Энн медленно перебирала пальцами стакан. – А почему бы и нет,- согласилась она, не поднимая глаз. – Умираю с голода,- доверительно признался Ален. Войдя в номер, она сразу же направилась к огромному, во всю стену, окну, выходившему на Центральный парк, и замерла, наслаждаясь красотой и великолепием вечернего пейзажа. Ален подошел к ней, мгновение поколебался, а затем обнял за плечи. Она подалась назад и всем телом прижалась к нему. – Восхитительно,- прошептала она. Ален продолжал нежно обнимать ее. В ответ на этот жест, она взяла его за руку. Он зарылся лицом в ее волосы. – Энн?.. Глядя вниз невидящими глазами, она пробормотала словно про себя: – Ночь в Центральном парке… Вам повезло… Взволнованный теплом ее тела, он коснулся губами ее щеки. Она повернулась к нему и обвила его шею руками. Как все просто, если ты богат!.. (обратно)Глава 8
Он закурил тридцатую за день «Мюратти» и с беспечным видом подошел к перилам террасы, стараясь не смотреть туда, куда ему так хотелось посмотреть. Даже находясь на таком расстоянии, он чувствовал за собой слежку. С седьмого этажа отеля «Мажестик», на котором располагались его апартаменты из четырех комнат, бассейн казался голубовато-зеленой блестящей фасолиной. Он втянул в прокуренные миллионом сигарет легкие воздух и рискнул посмотреть вниз. За одним из столиков, в беспорядке расставленных вокруг бассейна, он увидел двух женщин, коротавших время за чашкой чая. Эмилия моментально подняла голову. Ему стало дурно, но он нашел в себе силы и энергично помахал рукой. Его жест остался без ответа. Обычно, оставшись один, он доставал из металлического дипломата, постоянно закрытого на ключ, кипу порнографических журналов и с помощью увеличительного стекла тщательно исследовал каждую страницу. Его социальное положение позволяло ему лишь в мечтах осуществлять свои эротические фантазии. Он прекрасно знал, что достаточно малейшей оплошности в поведении, и он сразу же лишится всего, навсегда будет выброшен из обоймы привилегированных. В пятьдесят лет рисковать оказаться на улице после сладкой жизни набоба? Игра не стоила свеч. Он быстро возвратился в комнату, схватил «Ницца матэн», в которой, парализованный присутствием Эмилии, он успел прочесть только заголовок. Он был уверен, что начни он читать статью, находясь в одной комнате с ней, она обязательно что-нибудь заподозрила бы. Она внушила ему такой ужас, что даже уезжая за тысячи километров от нее, он ощущал ее властный, подозрительный взгляд. – Жертва Каннского залива установлена: Эрвин Брокер, американец двадцати восьми лет!» (продолжение на стр.4). Трясущимися руками он развернул газету. «Комиссар Анджелини и инспекторы Барбо и Куману установили личность жертвы Каннского фестиваля пиротехнического искусства. Рыбаки вытащили в сетях портмоне, в котором полиция обнаружила удостоверение личности, выданное на имя Эрвина Брокера, американца, двадцати восьми лет, проживавшего в Нью-Йорке. Господин Брокер поселился в отеле «Карлтон» двенадцать дней тому назад. Знакомых на Лазурном берегу, куда он приехал впервые, у него не было». Вдруг ему послышались какие-то шорохи у входной двери. Он положил газету на кровать и прислушался. Мягко, по-кошачьи ступая, он пересек комнату, подошел к двери и резко распахнул ее – никого. В коридоре тоже ни души. Он прошел на террасу и посмотрел вниз. Понадобилась доля секунды, чтобы он поймал на себе взгляд Эмилии. Это было невероятно! Какой же интуицией нужно было обладать, чтобы так мгновенно реагировать на его появление? Он возвратился в комнату и снова погрузился в чтение статьи. «Личность Эрвина Брокера установлена, естественно, благодаря фотографии в паспорте. В Каннах он должен был находиться еще десять дней. В настоящее время все теряются в догадках относительно обстоятельств трагического случая. Комиссар Анджелини поставил в известность о происшедшем службы Интерпола и приступил к расследованию». Почувствовав, что жар окурка обжигает пальцы, он, не глядя, раздавил его в пепельнице и закурил очередную сигарету. После глубокой затяжки сложил газету и выбросил ее в мусорную корзину в ванной комнате. Неожиданно он забрал ее оттуда и хотел было вырезать статью, но тотчас отбросил эту мысль. Эмилия со своим фантастическим нюхом могла обратить на это внимание. В каких только местах он не прятал свои заначки, она всегда их находила. Он устало провел рукой по лбу: до чего же глупо он себя ведет! Откуда Эмилии знать, кто такой Брокер? Он лишь однажды принимал его в своем кабинете, и то при большом наплыве других посетителей. Последующие встречи происходили в баре на 8-й улице, где его никто не знал. Он вышел из номера, оставив дверь открытой, и вложил «Ницца матэн» в корреспондентский ящик №751. Закрыв за собой дверь, он снял темные очки, вышел на террасу и сел в шезлонг. Солнце, стоявшее в зените, обжигало его плечи сквозь тонкий шелк белой рубашки, но его почему-то била мелкая дрожь. Холодные волны зарождались где-то в желудке и растекались по телу отвратительными щупальцами страха. Мысленно он возвратился на три дня назад в «Палм-Бич»… Одновременно с финальным залпом салюта раздался настолько мощный взрыв, что присутствующие обменялись недоуменными, испуганными взглядами. Но уже через несколько секунд все громко смеялись и аплодировали. И в этот момент всеобщего ликования послышался душераздирающий женский вопль. Эмилия вопросительно посмотрела на него: они сидели с нескольких метрах от столика, за которым раздался крик. Кто-то бросился оказывать помощь потерявшей сознание женщине. Спустя минуту несколько мужчин с помощью метрдотеля вынесли женщину с террасы. Все происходило в сумерках. Ослепленные светом салюта, зрители ничего не заметили. Многие из-за шума голосов даже не слышали крика женщины. В конце ужина метрдотель Луи, которого, тайком от Эмилии, он одаривал щедрыми чаевыми, рассказал ему о том, что произошло. Луи в свою очередь получил информацию от официанта, обслуживавшего несчастную даму. Опустив ложку в суп из омаров, она вытащила из тарелки оторванный человеческий палец с золотым перстнем. Официант успел подхватить его, завернул в салфетку и с перекошенным, мертвенно-бледным лицом бросился к Жан-Полю, директору ресторана. Тот, едва сдержав подступившую тошноту, передал палец инспектору полиции. Пресса, само собой разумеется, хранила по этому поводу мертвое молчание: ничто не вправе омрачить начало сезона. Газеты как бы мимоходом сообщили, что тело неизвестного, разорванного в клочья, было почти сразу обнаружено в районе маяка, недалеко от понтона, на котором находились пушки, предназначенные для финального салюта. Ужасная история, рассказанная Луи, оказалась правдой: оторванный палец принадлежал Эрвину Брокеру. Смерть Эрвина Брокера означала не только крах тщательно разработанного плана, но и прямую угрозу его собственной жизни, если, конечно, он не найдет Брокеру замену. К несчастью, запасного варианта он не предусмотрел. Сегодня уже 25 июля! Взрывное устройство, включенное несколько месяцев тому назад, сработает точно 8 августа. Его могло спасти только чудо: за оставшиеся тринадцать дней найти простака, подобного Брокеру! (обратно)Глава 9
Марк Голен управлял империей отеля «Мажестик» из маленького кабинета на первом этаже. Закоренелый холостяк, он определил себе за правило никогда не смешивать работу с личными чувствами. Обитательницы отеля, призывно посматривавшие на него, оставались ни с чем. Он с такой элегантностью и обаянием ускользал от них, что ни одна покинутая киска на него не обижалась. Летом в Каннах к сердечным неудачам относились более чем легко, вся трудность заключалась лишь в выборе того, с кем в данный момент хотелось утешиться… «Мажестик» как магнит притягивал к себе красоту и деньги. Этот альянс жил очень дружно и прочно. Во время сезона в Каннах невозможного не было. Переведя взгляд с экрана монитора внутреннего телевидения на шефа-кассира, Альберта Газолли, Марк Голен спросил: – Сколько нам задолжал Гольдман? – Он прибыл 8 июля, и я уже трижды посылал счет. – Оплатил? – Еще нет. – Сколько? – Около ста тысяч. – Ресторан? – Много. Обеды… ужины у бассейна. Столики на двадцать – тридцать приборов. – Он подписал? – Нет. – Так какого же черта, Альберт? – Вы его знаете. Это не так просто… – Бар? Много? – Много. – Оплатил? – Нет. – Перекрыть для него кассу! Хватит! Альберт с удрученным видом посмотрел на него. – Вы должны были сказать об этом вчера. Сегодня утром он уже взял сорок тысяч франков. – Где его сраный чек? – Он его не дал. Сказал внести сумму в его общий счет. – Вы псих?! Он еще с прошлого года должен мне сто тысяч франков! От охватившего его чувства неловкости Альберт Газолли готов был умереть. – И еще… цветы. – Какие цветы?- прорычал Голен. – Пятьдесят букетов чайных роз для жен приглашенных… – И вы сейчас скажете, что оплатили их? – Двадцать пять тысяч,- прошептал растерянно Газолли. – Он вас поимел! – Но он собирается снять грандиозный фильм с участием Брандо, Ньюмена, Редфорда, Де Ниро, Пека, Фэй Данауэй… – …по сценарию, написанному Виктором Гюго, а в главных ролях будут наводить шорох на зрителя Леонид Брежнев и Джимми Картер. Он вам что-нибудь говорил относительно приема? – Там будет присуждена первая премия. – Да! Кто ее получит? – В принципе, он, Гольдман. Марк Годен резко ударил кулаком по столу. – Альберт, нас натянули! Натянули по самые уши!***
Молодой человек в светлом костюме прошел в дверцу, отделявшую зону прибытия пассажиров от зала аэропорта в Ницце. Слегка бледный, с напряженным выражением лица, он только что прилетел из Нью-Йорка и впервые в жизни ступил на французскую землю. У него екнуло сердце, когда он увидел двух полицейских, управлявших потоком прибывших пассажиров. Они о чем-то переговаривались, смеялись и совершенно не обращали на него внимания. Казалось, что все вокруг пребывают в хорошем настроении и все их заботы сводятся к тому, чтобы радоваться жизни. В воздухе витало ощущение отдыха, солнца и моря. Из телефонной кабинки Ален позвонил в транспортное агентство и сообщил о своем приезде.
***
Стоя перед зеркалом, графиня Арманда де Саран внимательно рассматривала огромный синяк под глазом и при этом чему-то загадочно улыбалась. У коренастого, низколобого, с толстыми руками и бычьей шеей водопроводчика оказалась тяжелая рука. А какой резкий, животный запах исходил от него! И лет ему было не больше двадцати пяти. Придумав историю с неисправным краном в ванной, она попросила Голена прислать кого-нибудь починить его. Едва это молодое животное переступило порог ее номера, она решила, что он будет ее, сразу же! Холодный, надменный вид одной из самых элегантных аристократок на земле не произвел на водопроводчика впечатления. По крайней мере он даже не взглянул на нее. Чтобы спровоцировать его, она самым презрительным тоном стала отдавать приказания, унижая его, как не унизила бы самого нерадивого слугу у себя дома. Он стоял на коленях рядом с раковиной и лениво копался среди труб. – Нельзя ли побыстрее, друг мой, шевелитесь… Он вызывающе посмотрел на нее, ухмыльнулся и медленно произнес: – Если вам не нравится… – Да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Я буду жаловаться! Вы знаете, кто я? Его глаза рассматривали ее длинные ноги. Не разжимая зубов, он веско сказал: – Шкура! Она влепила ему пощечину. Он рывком вскочил на ноги, схватил ее за талию и свалил на пол, жадно прижавшись губами к ее рту. – Сильнее! Ну… пожалуйста, сделай мне больно! Ударь! Он поднял ее, поставил лицом к стене и грубо овладел ею… Какое это было блаженство! Ей нравились только сволочи и подонки. Чем больше в них было грубости, пошлости, грязи, необузданной фантазии в желаниях, тем быстрее она ощущала наслаждение, которое никогда не испытывала от близости с рафинированными эстетами своего круга. Хлопнула дверь, и в гостиную вошел граф де Саран. Он сразу же почувствовал, что здесь только что произошло. – Мэнди!.. Он подошел к ней, и его глаза сполна выдавали зарождавшееся в нем возбуждение. – Кто это был? Она пожала плечами и удовлетворенно улыбнулась, продолжая смотреться в зеркало. – Так, какой-то парень… – Рассказывай! Он тебя бил? Тебе было больно? Скажи, Мэнди, не молчи!.. – Попозже, я должна одеться к коктейлю. – Плевал я на этот коктейль!- взвизгнул он и неожиданно заканючил, как обиженный ребенок:- Мэнди, ну пожалуйста, Мэнди, сделай мне минет. Она внимательно посмотрела на него. Ему было около шестидесяти; неказистый, невысокого роста, он принадлежал к очень знаменитому роду. Уже лет десять, как он знал все о ее изменах. И она баловала его, рассказывая в мельчайших подробностях обо всем, что с ней делали, доводя своей изощренной откровенностью этого знатного потомка древнего рода Франции до безумного экстаза. – Нет,- ответила она,- не сейчас. Возможно, ночью… Из букета, который ей преподнес Гольдман, она вытащила розу и осторожно провела ею по начавшему заплывать глазу.
***
Норберт и два носильщика загружали сумки и чемоданы в багажник «роллса». Машина была запаркована в запрещенной для стоянки зоне, но это нарушение, казалось, совсем не интересовало ни одного из двух полицейских, стоявших в пяти метрах от «роллса» и лениво посматривавших по сторонам. Ожидая, пока загрузят багаж, Ален закурил и неожиданно для себя заметил, что проходившие мимо него девушки бросают в его сторону быстрые пронзительные взгляды, успевая улыбнуться ему краешком рта. От обилия пышноволосых красавиц и их обещающих улыбок ему стало не по себе. Что же ждет его впереди? – Мистер! – В чем дело?- спросил Ален, приходя в себя. – Предпочитаете ехать с открытым верхом? – Да,- ответил он. Норберт проскользнул за руль и нажал какую-то кнопку: верх мягко поднялся и сложился сзади аккуратной гармошкой. – Мистер, все готово!- почти торжественно произнес Норберт. Ален неловко сунул в руку носильщика сто франков и сел в машину. Полицейские, до того стоявшие со скучающим выражением на лицах, вдруг приосанились и в приветствии поднесли два пальца к форменным фуражкам. У Алена от удивления отвалилась челюсть. «Роллс» бесшумно тронулся с места.
***
Надя Фишлер жила игрой, для игры и собиралась умереть за карточным столом. Она поняла это в тот день, когда ее пальцы впервые коснулись карт, протянутых ей крупье в казино в Монте-Карло. Тогда ей едва исполнилось девятнадцать лет. Отца она не знала, и ее воспитанием занималась только мать. В тринадцать лет у нее появился первый любовник, сын мясника, который приносил ей в обмен на любовь ветчину и сосиски, и она, возвращаясь домой с бумажным пакетом в руке, утверждала, что ходила за покупками в магазин. Колбасные изделия ей нравились, чего она не могла сказать о первом опыте, оставившем в ее душе смутные, неприятные воспоминания. В дальнейшем она себя вознаградила. В сорок лет ее глаза все еще производили на мужчин ошеломляющее впечатление. Она знала их магическую силу, перед которой не мог устоять ни один мужчина, и с безжалостным цинизмом опустошала карманы тонувших в ее бездонных глазах жертв, чтобы удовлетворить свою патологическую страсть к игре. Ее красота привлекала внимание влиятельных деятелей кинобизнеса, и в течение трех-четырех лет она путешествовала с одной киностудии на другую, где сходившие с ума от ее красоты продюсеры в спешном порядке перекраивали под нее роли. Зарабатывая огромные деньги, она все оставляла на зеленом сукне карточных столов в казино. Она больше была известна своими невероятно высокими ставками в игре, нежели талантом актрисы. Состоятельные, занимавшие высокое положение в обществе мужчины не однажды пытались уцепиться за ее руку, но выдерживали, в зависимости от хладнокровия, кто неделю, кто два дня, кто всего лишь три часа.
***
– Норберт, я не прочь чего-нибудь выпить. Остановитесь у ближайшего кафе! – С удовольствием, мистер! Однако позволю себе заметить, что справа от вас, в стенке, есть бар с большим выбором виски и прохладительных напитков. Уверен, найдется и пепси-кола. – Спасибо, но мне хочется посидеть в кафе. У первого встретившегося им кафе Норберт притормозил и съехал с трассы. Он хладнокровно запарковал машину в запрещенном месте, открыл дверцу и показал на террасу, уставленную большими разноцветными пляжными зонтами. – Подходит, мистер? – Вполне. Вы пойдете со мной? – С удовольствием, мистер. С террасы их уже заметили и откровенно рассматривали. Семнадцатилетние девчушки в облегающих маечках заинтересованно поглядывали на Алена. – Норберт, вы не могли бы снять фуражку? Улыбнувшись, шофер выполнил просьбу. – Что будете пить, Норберт? – Анисовый ликер, с вашего позволения. – Тогда и я то же. Неожиданно Ален почувствовал себя неловко: его темно-коричневый костюм, черный галстук и белая рубашка диссонировали с одеждой окружающих. Вся публика в кафе была одинаково полураздета: шорты и сандалии на босу ногу да что-нибудь символическое сверху у женщин… Строгая черная униформа Норберта вообще отдавала похоронами среди этого, съедаемого солнцем, пейзажа.
* * *
Виктория Хакетт не могла оторвать глаз от огромного букета роз. – Арнольд! – Виктория? – Ты знаешь этого мистера Гольдмана? – Только по фамилии. Он продюсер. – Эти розы еще красивее чем те, в Майами! Очень мило с его стороны. – Да. Твоей спине лучше? – Немного лучше… Они прибыли только вчера, но стоило Виктории пройтись от отеля до пляжа и обратно – весь путь занял десять минут,- как на ее плечах появились волдыри. Эта история повторялась каждый год. – Тебе дать еще крем? – Нет, все в порядке. – Я готов. – Какие нежные розы! – Да, да… нежные.
***
– Вы говорите по-французски, мистер? – Плохо. – Здесь вам не часто придется им пользоваться. Все общаются на английском. – Вы знаете отель «Мажестик»? – Очень хорошо. – Ну и как он? – Вполне подходящий, мистер. – Не скучный? – Очень веселый, мистер. Ален заерзал на стуле. Ему не нравилось, что после каждой сказанной фразы Норберт неизменно произносил «мистер». – Норберт? – Мистер? – Вас не утомляет все время называть меня «мистер»? Он улыбнулся шоферу и по-приятельски подмигнул ему. Норберту было лет пятьдесят – пятьдесят пять: высокий, сильный, с корректирующими очками на крупном носу. Мелкие морщинки в уголках глаз свидетельствовали о его веселом нраве. – Такое обращение предусмотрено правилами агентства, где я работаю. Большинству клиентов это нравится. – Мне – нет. Вы давно на этой работе? – Двенадцать лет. – А до этого? – Работал в системе образования. Ничего особенного. – Кем? – Преподавал философию… (обратно)
Глава 10
Убедившись, что оба телохранителя находятся в коридоре рядом с дверью ее номера, Бетти Гроун тем не менее закрылась на ключ, задернула шторы на окнах, включила ночную лампу и осторожным движением направила ее свет на шкатулку. Закрыв глаза, она подняла крышку и погрузила пальцы в сокровища, мгновенно узнавая каждый предмет по форме, весу, материалу: золото, сапфиры, топазы, бриллианты, изумруды, перстни, колье, серьги, подвески, броши… Прикасаясь к той или иной драгоценности, она мысленно произносила имя мужчины, подарившего ее. Одних такие подарки разоряли, другие, чтобы приобрести их, шли на преступление, третьи швыряли в лицо в качестве прощального сувенира… Их осязаемость волновала ее больше, чем ласки тех, кто преподносил их. Стоили они невероятно дорого. Малейшая небрежность с ее стороны могла повлечь за собой разрыв контракта со страховой компанией, охранявшей их от краж и случайных утерь. Бетти открыла глаза и подумала, что всем, чем она обладает, она обязана исключительно своей великолепной заднице. И голове, конечно. Она владела искусством, которому не учат в школах: извлечь максимум щедрости из чувств влюбленного мужчины. Ей было смешно, когда ее называли проституткой. Снова закрыв глаза, не вынимая рук из шкатулки, она воспроизводила в памяти свой вчерашний триумф на вечере у Синьорели. Появившись на террасе, она краем глаза заметила свою ненавистную соперницу Надю Фишлер, оживленно беседовавшую с Онором Ларсеном, человеком, на которого у обеих были свои планы… Внешне Ларсен был похож на солидный мешок с долларами, к верхней части которого приставлены очки в тяжелой роговой оправе. Он приобрел известность тем, что преподносил женщинам, с которыми проводил несколько дней или даже часов, подарки умопомрачительной стоимости. И эта сучка Фишлер захотела прибрать к рукам щедренького Ларсена! Бетти решила, что наступил ее звездный час и пора идти в атаку. Прием у Синьорели показался ей вполне подходящим моментом. Уверенная в красоте своих роскошных, развевающихся при ходьбе волос, загадочных зеленых глаз, она провела несколько часов перед зеркалом, цепляя на себя свои сокровища, излучавшие миллионы тончайших световых стрел. Ее появление произвело на Онора Ларсена такое же ошеломляющее впечатление, как и на остальных. Забыв о стоявшей рядом Фишлер, он откровенно любовался ею. Надя, в своем неизменном черном платье, была уничтожена ее сверкающим великолепием: миг, который обе никогда не забудут. Онор тут же пригласил ее на ужин, и она, не раздумывая, согласилась. Если чуточку повезет, Надя Фишлер будет смотреть им вслед сегодня… Она открыла глаза, сделала глубокий вдох и с сожалением закрыла шкатулку. Затем подошла к двери и позвала охрану. Один из костоломов взял в руки шкатулку, второй, не вынимая правой руки из кармана пиджака, пошел рядом. Ее камушки оценивались в шесть миллионов долларов, приблизительно столько проиграла Надя Фишлер в течение последних трех-четырех сезонов. Улыбаясь, Бетти подумала, что ее извечная соперница так и умрет в нищете… Внизу ее уже ждал Онор Ларсен.***
Официант принес анисовый ликер. Пока Ален копался в кармане, доставая французские деньги, Норберт уже расплатился. – Извините… так положено. Я расплачиваюсь, а вы рассчитываетесь со мной в день отъезда. Ален молча спрятал деньги. Они сделали по глотку. Его передернуло, и Норберт улыбнулся. – Закажете что-нибудь другое? – Нет, ни в коем случае, буду привыкать… – Хочу вам сказать, что вы не должны были давать такие чаевые носильщикам. Слишком много! – О!.. – Речь идет не о вас, мистер, а о тех, кто приедет после вас. Если они заплатят по тарифу, их обругают. – Больше так делать не буду,- рассмеялся Ален.- Скажите, Норберт, вы не скучаете без философии? – Без философии – да. Но преподавание философии это другое дело. Меня эксплуатировали и ничего не платили. Когда я работал лакеем, я получал значительно больше. – Вы – лакеем?! – Восемь лет. Это прекрасная работа. Голова всегда свободна. Пока чистишь обувь, есть время поразмышлять. У тех, кто в промышленности, коммерции или экономике, его практически нет. – Вы правы,- задумчиво сказал Ален. – Об этом я говорю и своим друзьям. – В агентстве? – Нет, в партии. Я – член коммунистической секции в Пегомасе. У Алена от неожиданности выпал из рук стакан. Мимо их столика прошли две высокие длинноногие девушки в полупрозрачных коротеньких шортах, под которыми, как показалось Алену, ничего не было. Одна из них обернулась, улыбаясь посмотрела на Алена и сделала несколько быстрых движений розовым языком. Ален покраснел. Девушки рассмеялись и пошли к выходу. – Поехали,- сказал Ален. Норберт уже стоял, держа в руках фуражку. Он пропустил Алена вперед и двинулся следом за ним. – Вы позволите, я уберу в машине? – Сейчас?- удивился Ален. – Каждый раз, когда я оставляю ее с открытым верхом, в нее бросают мусор. Они подошли к машине. На переднем сиденье мутными лужицами растекались три раздавленных брикета шоколадного мороженого. – Минутку,- сказал Норберт. Он достал из-под сиденья тряпку и вытер липкую жидкость. – Коммунисты?- с добродушной иронией спросил Ален. – Нет, буржуа,- тем же тоном ответил Норберт. – Только буржуа может загадить то, чем не может обладать. Садитесь, пожалуйста. Ален сел на переднее сиденье рядом с Норбертом. У того от удивления брови взметнулись вверх. – Мне так лучше,- заметив его недоуменный взгляд, объяснил Ален. Норберт положил руки на руль и нажал на стартер. Вдруг он рассмеялся, любовно похлопал по рулю и сказал: – Хорошая машина… Очень хорошая машина!
***
Широко раскинув в стороны руки и ноги, она безмятежно лежала на кровати. Даже из такого положения она могла, слегка приподняв голову, увидеть через окно море. Солнце оставило на ее теле единственное светлое пятно в виде крошечного треугольника – точную копию ее купальных трусиков. Резким движением она встала на ноги, подошла к двум букетам роз, украшавшим ее комнату, и, чувственно изогнувшись, понюхала цветы. Кто мог их прислать? В бассейне она ни с кем не разговаривала, за исключением мальчишки, которого попросила принести «коки» со льдом и лимоном. Она прочла визитные карточки, прикрепленные к букетам: ни Луи Гольдман, ни Цезарь ди Согно ей не были знакомы. Она скомкала их, бросила в унитаз и спустила воду. Затем достала из холодильника бутылку молока и сделала большой глоток из горлышка. Все здесь приводило ее в восхищение. Она подошла к открытому окну, поднялась на кончиках пальцев и сладко потянулась. Не меняя положения, выдвинула ящик комода и извлекла оттуда странную, украшенную цветочками соломенную шляпу и длинные перчатки из черного шевро. Она натянула перчатки, надела шляпу и, положив ступни ног на край кровати, начала делать отжимания, мурлыкая песенку, которой ее научили двадцать один год тому назад.
***
Через несколько минут вдали показались Канны. – Каким маршрутом желаете ехать? По Круазетт или Д'Антиб? – А в чем, собственно, разница? – Круазетт идет вдоль моря, д'Антиб через центр города. Отель «Мажестик» находится в конце Круазетт. – В таком случае, по Круазетт,- ответил Ален. Подъехав к развилке, Норберт свернул налево, проскочил под мостом и круто повернул направо. Нескончаемая вереница машин, бампер в бампер, двигались им навстречу. – Движение хуже, чем в Париже. Ален был поражен количеством хорошеньких девушек, в одиночестве сидевших за рулем малолитражек. – Их всегда так много?- спросил он. – Всегда, и днем и ночью,- ответил Норберт. – Где же они живут? – Кто их знает? Где придется. Одни спят на пляжах, другие в палаточных городках или снимают квартиру у местных жителей. В июле население в Каннах увеличивается в двадцать раз. Вы бывали в Сен-Тропезе? – Нет. – Там вообще в сто раз. Большинство приезжает без денег. – На что же живут? – Выкручиваются… Девушки за бутерброд расплачиваются тем, чем одарила их природа. Кстати, парни тоже. – Хотите сказать, занимаются проституцией? – Скажем, выживанием. Поставьте себя на их место. Следует приглашение на тридцатиметровую яхту, икра, виски, музыка и бац – в кровать… Деньги развращают всех, мистер.
***
– Как прошло чаепитие?- спросил Гамильтон. – Нормально,- ответила Эмилия, бросив на него вопросительный взгляд.- Ты уходишь? – Спущусь в бар на пять минут. Голен хочет со мной о чем-то посоветоваться. – Надеюсь, ты выставишь ему счет? Он сухо рассмеялся. – Непременно и сразу же. Мне ждать вас внизу или подняться сюда? – Спустимся сами. Сара, что ты себе выбрала? Я не хочу, чтобы мы были одинаково одеты. – Белое, от Сен-Лорана. – Прекрасно! Я надену зеленое от Кардена. – Ухожу,- сказал Гамильтон. Он осторожно, стараясь не хлопать, закрыл за собой дверь. Сара жестом предупредила мать не шевелиться. Она прошла в прихожую, открыла дверь и, убедившись, что в коридоре никого нет, возвратилась в гостиную. – Хочу кое-что тебе показать. – Что? – Кое-что из увлечений твоего мужа. – Прекрати называть Гамильтона «муж». Он, кстати, твой отчим. – Может, мне называть его папочкой? После того, что я тебе покажу… Она достала из шкафа черный дипломат, спрятанный под стопкой пуловеров Гамильтона. – Тебя никогда не интересовало, что он в нем хранит? – Наверное, какие-то бумаги… – Да, бумаги, но специфического характера… Из кармана брюк она достала маленький плоский ключик. – Сара!- возмутилась Эмилия.- Откуда у тебя этот ключ? Ты не имеешь права! – Я его взяла, мама, чтобы ты узнала, с каким мужчиной ты живешь уже двенадцать лет. – Сара, я тебе запрещаю! Я тебе не разрешаю! – Посмотри только одним глазом и все поймешь! Она поковырялась в замке, подняла крышку и высыпала содержимое на диван: порнографические журналы. – А это, ты знаешь, что это такое? Увеличительное стекло! Он рассматривает эту гадость через увеличительное стекло! Эмилия быстро отвернулась. – Сара, я приказываю тебе закрыть этот чемодан. Я возмущена твоим бестактным поступком. Гамильтон – мой муж, но я никогда не позволяла себе рыться в его вещах. – Дело твое. Закрой на это глаза. Но теперь ты знаешь, с каким сатиром ты живешь! – Не вмешивайся в мои дела!- крикнула Эмилия, побагровев от злости. – Я хотела тебя только предупредить!- ответила Сара. Она сунула ключ в карман и исчезла в своей комнате. Эмилия стояла оцепенев, дрожа от гнева и внутреннего бессилия. На этот раз Сара перешла все границы. Никто в мире не имеет права рыться в личных вещах мужчины, кроме собственной жены… Из шкатулки, в которой хранились ее драгоценности, она достала маленький плоский ключик и открыла дипломат. В течение их многолетней супружеской жизни Эмилия проделывала это много раз. Коллекция Гамильтона регулярно пополнялась новыми экземплярами. Сжав губы, жадно, широко раскрыв глаза, она рассматривала влагалища, разрываемые непомерно большими мужскими членами. В жизни только у двух мужчин она видела нечто подобное: у Фрэнка Бурже и Гамильтона Прэнс-Линча, ее двух мужей.
***
Попав в невероятную пробку, «роллс» тащился черепашьим шагом. «Въезжаем в Канны»,- подумал Ален. – Это – Круазетт?- спросил он. – Нет, дальше… Надо повернуть еще направо. Впереди Ален заметил здание, построенное в стиле рококо. Окруженное пальмами, оно имело импозантный вид. – Что это? – Летнее казино «Палм-Бич». Его мгновенно охватило беспокойство. Уже сегодня вечером он должен попытаться провести за этими стенами операцию с чеком на пятьсот тысяч долларов. Из Нью-Йорка, да еще после вкусного ужина, эта задача казалась ему вполне выполнимой. Она представлялась продолжением мечты, когда думаешь, что уже действуешь. Но оказавшись на месте, в реальной обстановке, он с ужасом подумал, как ему получить этот огромный кредит. Он возненавидел Баннистера. – До отеля еще далеко? – Круазетт начинается здесь, а отель находится на другом конце. «Мажестик», «Палм-Бич» – это одни и те же хозяева, та же политика – ощипать беззащитных миллионеров. – Вы против?- сдерживая улыбку, спросил Ален. Норберт бросил на него удивленный взгляд. – Так делают все! И я первый в этом списке. – А ваши политические убеждения?- подзадоривал его Ален. Норберт улыбнулся, и глаза его сузились. – Я набит противоречиями по самую крышу…- Он едва увернулся от мальчишки, который чуть не попал под машину, и добавил:- Только за них я беру ответственность на себя.- Он замолчал. Затем, указав на гигантское здание, стоявшее по правой стороне, произнес:- Отель «Карлтон». Он свернул в узенькую улочку, проехал вдоль западного фасада здания, еще раз повернул налево и затормозил у тротуара. – «Мажестик?»- удивленно спросил Ален. Норберт отрицательно покачал головой. – Мистер, я хотел бы попросить вас об одолжении… Я дорожу своим местом и вынужден следовать правилам фирмы. Позвольте мне надеть фуражку и будьте любезны пересесть на заднее сиденье. – Почему? Какое это имеет значение? – Так положено,- ответил Норберт.- Обитатели «Мажестик» должны суметь определить, кто из нас – шофер, а кто – пассажир. – О'кей!- согласился Ален.- А я-то думал, что вы способны отвечать за свои противоречия. – Сожалею, мистер! Но речь идет не о моих или ваших противоречиях, а о символике системы, которая требует моментального определения, кто есть кто. – Повторите это еще раз, но помедленнее,- попросил Ален, обхватив голову руками. Когда он пересел на заднее сиденье, Норберт с серьезным видом надел свою фуражку и машина двинулась вперёд.
***
Всякий раз останавливаясь в «Мажестик», Джон-Джон Ньютон, кроме люкса на шестом этаже, постоянно снимал еще один номер на втором. Спальня в нем предназначалась для представительниц прекрасного пола, гостиная – для деловых встреч с мужчинами. Случалось, что «соседи» проявляли интерес друг к другу, и все развивалось предварительно разработанному сценарию. В зависимости от значимости присутствующего у него гостя, Джон-Джон подстраивал так, что в какой-то момент из-за двери спальни выглядывала прелестная женская головка. Разыграв смущение, он представлял девушку и через несколько минут, под предлогом срочного телефонного разговора, исчезал из номера. Когда через полчаса он возвращался обратно, принося извинения за долгое отсутствие, он с первого взгляда определял результат своего маневра. В трех случаях из четырех девушка, предварительно заказанная за бешеные деньги в соответствующем агентстве, оказывалась «соблазненной» его гостем, который от сознания, что ему удалось трахнуть подружку такого влиятельного и обаятельного мужчины, как Джон-Джон Ньютон, чувствовал себя на вершине блаженства. Впоследствии, при решении деловых вопросов, он бессознательно становился более уступчивым. Суммы сделок, проводимых Джон-Джоном, исчислялись многими миллионами долларов, и поэтому ничтожная доля процента за посреднические услуги могла равняться целому состоянию. Ньютон запросто общался с израильскими генералами, министром иностранных дел Саудовской Аравии, партийными руководителями китайского народа и со всеми остальными, кто прибегал к помощи его фирмы в случае необходимости экипировать будь то регулярную армию или банду наемников его изощренным электронным оборудованием. В дверь кто-то постучал. Джон-Джон нажал на ручку двери и широко распахнул ее. Небольшого роста мужчина в безукоризненном черном блейзере протягивал ему руку. Джон-Джон схватил ее и горячо пожал. – Входите, дорогой друг, прошу… Желаете выпить? – Нет, спасибо. Я на минутку. Приглашен на коктейль. Ньютон улыбнулся. – Гольдман? – Вы знакомы с ним? – Немного… Но достаточно, чтобы он помнил меня всю жизнь. – Женщина? – Хуже! Во Флориде я обыграл его в гольф. – Большая была ставка? – Если не брать в расчет его тщеславие – никакая. Партия обошлась ему в два миллиона долларов. – Расскажите мне… – Не сегодня, но в один из ближайших дней расскажу во всех подробностях. Неожиданно вся доброжелательность и радушие исчезли с лица Джон-Джона. – Какие новости? Чем порадуете? Гамильтон Прэнс-Линч спокойным голосом сказал: – Все идет как нельзя лучше. Мне кажется – дело в шляпе.
***
Пока Ален возился с дверцей, к машине подбежал носильщик в униформе и распахнул ее. В Ницце Алена встречали улыбки и розы, в Каннах – смех, природу которого он еще не успел уловить. К нему подошел огромного роста рыжий детина в форме адмирала флота. – Не примете ли участие в коктейле, мистер,- спросил он.- Сегодня в «Мажестик» праздник – присуждается премия. Ален поблагодарил его кивком головы, не зная, как вести себя в этой ситуации. Его выручил грум, выросший как из-под земли. – Мистер, если позволите, я провожу вас в службу регистрации. Ален облегченно вздохнул и последовал за ним. В это время носильщики с помощью Норберта, под бдительным присмотром адмирала, доставали из багажника «роллса» дорогостоящие чемоданы. Адмирала звали Серж. Уже четверть века он встречал прибывающих в «Мажестик» гостей. Чего он только не насмотрелся за это время! Наклонившись к племяннику, двадцатилетнему парню, которому собирался передать премудрости своей профессии, он говорил: – Никогда не суди о человеке по автомобилю. Это еще ни о чем не говорит. Главное – манеры. Непринужденно-естественные… Даже в машине из чистого золота безродный остается безродным. Внимая с открытым ртом, парень с благоговением смотрел на своего мудрого учителя. – А этот, который только что приехал? Безродный? – Не обязательно. Но… Первое: машина взята напрокат. Второе: слишком новые чемоданы. Третье: костюм куплен в магазине. Четвертое: он не знает, что делать с руками. Обязательно обращай внимание на руки! Если они им мешают, они ищут чем занять их, значит, эти люди больше привыкли к кемпингам, чем к дворцам. Как дела, Норберт? – Привет, Серж! – Слушай, Норберт, я говорил своему племяннику… – Кто этот тип? – Пайп. Ален Пайп. – Новичок на побережье? Чем торгует? – Не знаю. Американец… Серж повернулся к молодому Антуану Безару. – Ты понял? Неожиданно он бросился навстречу молодому человеку, который шел в окружении десятка мужчин и женщин, и подобострастно поприветствовал его, сняв фуражку. – Ваше высочество… Затем он возвратился к Норберту и племяннику. – Принц Али, племянник Фейсала. Сегодня утром прилетел из Лондона. Ищет виллу… Агенты по недвижимости готовы перегрызть друг другу горло. Антуан Безар задержал взгляд на линялой рубашке, обшарпанных внизу джинсах и старых сандалиях принца и сказал: – Похож на безработного. Серж снисходительно похлопал его по плечу. – Ты забываешь одну деталь, малыш… Класс! Высочайший класс! Посмотри, как он себя держит! (обратно)
Глава 11
Двери лифта распахнулись на площадке седьмого этажа. Служащий из регистрации, одетый во все черное, посторонился, пропуская вперед Алена, а затем быстро обогнал его, направляясь к 751-му номеру. Повертев «вездеходом» в замочной скважине, он открыл дверь. – Входите, пожалуйста… Прихожая была погружена в полумрак. Служащий, проходя в глубь номера, нажал по пути выключатели, и повсюду загорелся свет. Ален подошел к огромному окну и посмотрел на небо: в вечернем небе летали чайки. – Балкон… Ален сделал несколько шагов и вышел на свежий воздух. Пейзаж, открывшийся перед ним, привел его в восторг: справа, на западе, в золотом мареве опускалось за горизонт солнце. Прямо перед собой он видел порт, куда со всех сторон скользили белокрылые парусники. Когда он возвратился в гостиную, его сопровождающего уже не было. На столе стоял великолепный букет роз. Ален зарылся в него лицом и вдохнул тонкий аромат. Затем он сбросил туфли, снял рубашку и только успел выбраться из брюк, как в дверь постучали. Ален быстро прошел в ванную, набросил на себя халат и открыл дверь. – Ваш багаж, мистер. Вам прислать горничную, чтобы разобрать его? – Нет, спасибо. Минутку… Он достал из кармана французские деньги, попытался перевести их в доллары, но это ему не удавалось. Носильщик с фальшивым интересом рассматривал висевшую на стене гравюру. Ален взял две бумажки по сто франков, но вспомнил наставления Норберта, и протянул носильщику одну ассигнацию.***
Цезарь обнял Хакетта за плечи и отвел в сторону. – Наша встреча – это удивительное стечение обстоятельств. Не далее как неделю тому назад, в Лондоне, во время совещания нашего международного комитета, вы были названы в числе пяти лиц как наиболее энергичный Руководитель самой динамичной фирмы Соединенных Штатов. Могу ли я задать вам один нескромный вопрос, Уточнив, что вы совсем не обязаны на него отвечать. В какой цифре выражается годовой доход фирмы «Хакетт»? Не торопитесь отвечать, я назову сам, а вы меня поправите, если ошибусь. По моим предположениям – пятьсот миллионов долларов. – Совершенно верно,- напыжившись, ответил Арнольд. Цезарь смотрел на него с неподдельным восхищением. – Какой успех! В чем ваш секрет, мистер Хакетт? Арнольд на некоторое время задумался, чтобы точнее сформулировать ответ. Наконец он сказал: – Энтузиазм, твердость руководства, фантазия, риск… – Великолепно!.. В прошлом году лауреатом нашей премии стала фирма «Мерседес». Не согласились бы вы стать следующим обладателем нашей премии? – А почему бы нет? Цезарю стоило немалых усилий сдержать свои эмоции и не потереть руку об руку: старый шимпанзе попался на крючок! – Правда, я должен сообщить об этом административному совету. – Само собой разумеется! Вы знаете, как я вижу процедуру церемонии?.. Во-первых: место… Необыкновенное, теплое, удаленное… Акапулько!.. Два «Боинга-747» доставляют гостей со всех уголков планеты: Лондона, Мюнхена, Парижа… Главное, не дать ему сейчас задуматься: ошеломить, закружить, увлечь… – Когда вы будете свободны, мистер Хакетт? – Ваша премия присуждается раз в год? – Арнольд?.. – Виктория… Хочу представить тебе Цезаря ди Согно. – Миссис Хакетт, моя жена. Цезарь сложился вдвое к протянутой руке, оценивая стоимость бриллианта, который Виктория носила на среднем пальце. Ее появление оказалось очень кстати, оно спасло Цезаря от затруднительного ответа. Ему неловко было признаться Хакетту, что число вручаемых премии зависело от количества простаков, готовых ее проглотить! Он горячо потряс руку Арнольду. – Надеюсь, мы продолжим наш разговор во время обеда. Где вы будете завтра? Хакетт посмотрел на Викторию. – В «Палм-Бич». – Прекрасно! Вы мои гости.
***
– Ален, где ты? Ты уже на месте, Ален? Взволнованный голосом друга, Ален представлял себе Баннистера за тысячи километров, в маленьком душном кабинете, где они провели много лет, мечтая совсем о других вещах… – Слушай меня, Сэмми, слушай… – Откуда ты звонишь? – Из Канн… Ты слышишь меня? – Я тебя слышу. – Сэмми, я его видел! – Кого? – Хакетта. – Хакетта? Правда? – Минуту назад! В коридоре, в красном блейзере. – В красном блейзере? Ты уверен, что это он? – Ты смеешься надо мной? Ладно, что мне сейчас делать? – Наблюдай. – Что я должен наблюдать? Ты думаешь, я буду наблюдать десять лет? – Спокойно… Спокойно… Который у тебя там час? – Почти девять вечера. – Хорошо. Первое – это казино. Понимаешь, о чем я говорю? – Да… да… – Ты обменяешь! Прежде всего ты должен обменять! Договорились? – Дальше? – Послушай, Ален!.. Благодари Бога… Обстановка здесь заразная: сейчас два часа дня, увольнения продолжаются, невероятная жара, с меня льет пот ручьем… Я тебе не жалуюсь! Меняй! Ты меня слышишь? – Поем и пойду туда. – Потом поешь… – Я еще не ел, как улетел из Нью-Йорка. Ты обедал сегодня? – Хорошо… хорошо… Как там? – Что? – Все. Вообще?.. Ален окинул взглядом свои шикарные апартаменты, но не нашёл слов, которые точно передали бы его ощущения. – Все по-другому,- сказал он.- Совсем не так, как в Нью-Йорке. – Ты удивляешь меня, хитрая голова,- сказал Баннистер. – Получше, пожалуй, чем та крысиная нора, в которой я задыхаюсь! – Ты говорил с Кристель? – Девочки есть? – Я тебя спрашиваю, говорил ли ты с Кристель? – Да, да, сегодня буду говорить. Девочки есть? – Полно. И все «в чем мать родила» – Вонючий обманщик! – Честное слово. У тебя лопнули бы глаза… – Сейчас придет Пэтси. Заканчиваем… Э! Ален? – Да. – Смотри без глупостей! – Что ты имеешь в виду? На несколько секунд Баннистер замолчал. – Ничего. Без глупостей, и все! – Не понимаю. – Не забывай, для чего ты там… Береги нервы… – Постараюсь. – Завтра я тебе позвоню в это же время. В конце концов не за свои же, фирма не обнищает. – Что еще? – Черт!.. Связь прервалась. Ален улыбнулся. Ему было приятно услышать голос Самуэля. И вдруг он почувствовал, что умирает с голода. Он позвонил в ресторан и вызвал официанта. – Будьте любезны, меню. – Пожалуйста, мистер. Желаете сделать заказ на сейчас? Мясо? Рыбу? Ален пробежал глазами список блюд и выбрал салат из креветок и королевскую дораду на вертеле. – Вот список вин, пожалуйста. Ален отодвинул его в сторону. – Полагаюсь на ваш вкус. – Возьмите «Саран», это превосходное шампанское. – Согласен,- сказал Ален. – Будете обедать на балконе? – Да. И принесите виски. – В гостиной у вас есть бар, мистер. Официант удалился. Ален снял халат, прошел в ванную и на полную мощность открыл кран душа. В баре он взял стакан и бутылку виски. Держа стакан в руке, он стал под холодный поток, наблюдая, как струйки воды попадают в стакан, и чувствуя, как холодная вода смывает с него усталость и напряжение. Он вытерся, открыл один из чемоданов, достал рубашку и брюки. Затем снова вышел на балкон. Внизу, рядом со своим «роллсом», он увидел еще три такие же модели с откидным верхом. Все столики в баре, расположившемся на террасе, как и в ресторане, по правую сторону, были заняты. Вода в бассейне подсвечивалась изнутри, но люди, еще час назад сновавшие вокруг него, исчезли. Он налил себе еще виски и сел в шезлонг. Перед ним открывался фасад отеля, большинство окон которого были освещены. Не собираясь этого делать, он неожиданно вторгся в интимную жизнь обитателей дома, которые забыли задернуть шторы. Но это, казалось, смущало их меньше всего. Ален с любопытством переводил взгляд с одного окна на другое: было время, когда жильцы облачались в вечерние туалеты. Совсем обнаженная молодая девушка помогала другой застегнуть платье. Двумя этажами ниже мужчина массировал плечи женщине, сидевшей в кресле, вся одежда которой состояла из одного черного бюстгальтера. Налево пожилая дама вышла из ванной с перекинутым через плечо полотенцем. Ален быстро отвел глаза и посмотрел на звездное небо. Послышалось легкое царапанье в дверь. Она открылась, и появился официант, толкая перед собой столик на колесиках. Все блюда были накрыты серебряными крышками. Предусмотрено было все, даже букет роз. – Попробуете вино, мистер? Ален взял протянутый бокал, поднес ко рту. Вино было холодное и вкусное. Он поднял крышку, вдохнул аромат королевской дорады, затем опустил палец в соус и облизал его. На всякий случай он протянул официанту стофранковую бумажку. Тот схватил ее и с невероятной быстротой спрятал в карман. – Благодарю, мистер. – Эти чаевые… сколько составят в долларах? – Около 23 долларов, мистер. – Прекрасно…- пробормотал Ален. За двадцать три доллара они с Баннистером купили бы себе в Нью-Йорке по паре рубашек. (обратно)
Глава 12
– Может, задернуть шторы?- спросил Арнольд Хакетт. – Зачем?- безразличным голосом спросила Марина. Она лежала на кровати в купальных трусиках. – Вас могут увидеть из других окон. – Всего делов? Вы же меня видите! Арнольд откашлялся. Он не решался сказать ей, что, оплатив ее путешествие в Европу, рассчитывал иметь на нее исключительное право. Ничего подобного сказать Марине он не мог. Он была с другой планеты, где язык Хакетта, его доводы, логика ровным счетом ничего не значили. Она без особых восторгов согласилась приехать сюда, и Арнольд, сам не зная почему, почувствовал, что не сможет приручить ее. – Марина, вы довольны? – Пфф… Она посмотрела ему прямо в глаза, и, как обычно, его охватило смутное беспокойство. Его партнерши должны были поддерживать его, направлять, вселять уверенность… Время, когда он с радостью бросался на любое существо в юбке, безвозвратно ушло. Сейчас ему нужна была ее помощь, инициатива, как это бывало с Пэппи. Но Марина была непробиваема, как бетонная стена. Ее глаза обескураживали его: он ничего не мог в них прочесть. Скрывая смущение, он направился к окну и резким движением задернул шторы. Он находил пикантным, что поселил Марину в том же отеле, где остановился вместе с женой. – Как жаль, что сегодня вечером я не могу вас взять с собой в казино… я хочу сказать, официально. Марина перевернулась на живот. – Какое это имеет значение? – Мне было бы приятно. Чем вы займетесь сегодня вечером? – Не знаю. – Где ужинаете? – Еще не решила. Он осторожно присел рядом с ней на край кровати и бросил взгляд на букет роз, стоявших на столе в вазе, но не осмелился спросить, от кого они. Он протянул руку и провел пальцами по ее ягодицам. Она резко повернула голову. Их глаза встретились лишь на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы он поспешно встал. – Я буду на сегодняшнем коктейле… Марина редко проявляла интерес к тому, что он говорил, поэтому ему не всегда удавалось закончить фразу. – Будут вручать премию Луи Гольдману, продюсеру. Вы знаете его? – Нет. – Известный человек. Он предложил мне участвовать в финансировании его следующего фильма. Вас интересует кино? – Нет. – Я мог бы сделать из вас кинозвезду. Он с отчаянием думал, что бы еще сказать. Когда он разговаривал с Пэппи, та проявляла живой интерес, и он мог часами рассказывать, уверенный, что будет понят и им будут восхищаться. Но здесь… – Может, вы придете в казино… попозже? Никакого ответа. – Завтра пойдете на пляж? Ее «да», едва слышно произнесенное, он воспринял как дорогую награду. – На «Бич?» – Не знаю. – Могу я прийти к вам завтра? – Пфф… – Эй! Марина, Марина… У меня столько планов относительно вас! Она встала, потянулась, достала из шкафа соломенную шляпу и перчатки из шевро. Помогая себе движениями бедер, она стянула с себя трусики и бросила их на кровать. Поняв это как приглашение, он протянул руку к ней и шагнул ей навстречу. Ее взгляд остановил его. – Сейчас я буду делать отжимания. – Марина, у меня есть идея!.. Сегодня вечером, поздно… ночью… я могу прийти к вам. – Не хочу. – Не хотите? Почему? – Я буду не одна. – Как не одна? С кем? – С первым, кто мне понравится. Жить без мужчины – опасно для здоровья. Время от времени мне необходимо потрахаться.***
В разгар сезона в подземном гараже «Мажестик» находилось до двадцати «роллсов», не говоря уже о «феррари», «мазаретти», «порше», «кадиллаках», «ягуарах»… Но Серж никогда в жизни не видел стоящих рядом перед отелем трех одинакового белого цвета «роллс-ройсов». Это его развеселило. – Эй, парни, что вы рвете глотки? Шоферы смеялись. Серж подошел и представил их друг другу. – Норберт, это Ричард. Работает у Хакетта. – Очень приятно,- сказал Ричард, протягивая Норберту руку. – Это – Анджело, шофер Гамильтона Прэнс-Линча. Прэнс-Линч – это банк «Бурже». Ты знаешь? – Смотри-ка,- сказал Норберт,- мой хозяин, получается, – один из ваших клиентов? – Как его фамилия?- поинтересовался Анджело. – Пайп. Ален Пайп. Он расплатился с моим агентством чеком вашего банка «Бурже», в Нью-Йорке. – Вполне возможно. Ты работаешь по лицензии? – Для этого не хватает средств,- ответил Норберт. – Зарабатываю меньше, но меньше и неприятностей. – Надеюсь, твой хозяин не такой жмот, как мой? Моего трясет, если нужно заменить колесо. А бензин!- пожаловался Ричард удрученным голосом. – Да, это гадко,- согласился Серж. – Внимание!- сказал Анджело и бросился к машине, чтобы открыть дверцу Эмилии и Гамильтону Прэнс-Линчу. За ними следовала их наследница Сара Бурже. – Добрый вечер!- поздоровался Серж, сделав широкий жест рукой, в которой была зажата фуражка. Следом появился Ален Пайп. Он сел в «роллс», и Норберт проскользнул за руль. Серж повернулся к Ричарду. – Давай заключим пари! Пусть мне отрубят руку, если завтра же Эмилия не даст команду перекрасить машину в другой цвет. – Анджело, кто этот молодой человек, который только что сел в белый «роллс»?- спросила Эмилия у шофера. – Американец, миссис. Его фамилия Ален Пайп. Возможно, мистер его знает. Мне сейчас сказали, что он клиент банка «Бурже» в Нью-Йорке. Гамильтон вздрогнул, но промолчал. Слова шофера он запомнил.
***
Когда Ален сел рядом, Норберт почувствовал, что тот в плохом расположении духа. Несмотря на его настойчивую просьбу, Норберт отказался снять фуражку. – Меня здесь все знают. Любой недоброжелатель может сообщить в агентство, что в рабочее время я был одет не по форме, а это серьезное профессиональное упущение. «Роллс» медленно двигался в потоке машин по Круазетт. Когда впереди засверкал неоном «Палм-Бич», движение внезапно остановилось. – Авария? – Нет, мистер. Все направляются туда же, куда и мы. Отгонщиков машин человек пять-шесть, поэтому образовалась очередь. Ален заметил, что все стараются остановиться точно напротив входа в казино. Норберт затормозил. Втянув голову в плечи, Ален быстрым шагом прошел к дверям, стараясь не видеть любопытных взглядов, направленных на него, и не слышать полунасмешливых, полузавистливых реплик в свой адрес. Излишнее внимание к своей персоне раздражало его. Он почти бегом пересек центральный холл, свернул налево и подошел к регистрационному столику, рядом с которым стояли несколько служащих в коричневой униформе. – Вы впервые здесь, мистер? – Да. – Будьте любезны, ваше удостоверение личности. Ален достал из кармана паспорт. Служащий записал его данные в журнал. – Благодарю вас. Приятного вечера, мистер. Физиономист бросил на него пронзительный взгляд. Ален вошел в зал. Все игральные столы были окружены тройным кольцом зрителей… В зале стоял устойчивый приглушенный шум, нарушаемый легкими вскриками, звоном жетонов и голосами крупье. Ален сглотнул слюну, глубоко вдохнул и направился к кассе с тем же чувством рвущегося на части сердца, как это было в Нью-Йорке во время посещения им банков. Он подождал, пока двое мужчин обменяли жетоны, и оказался лицом к лицу с человеком в униформе. – Мне нужно обменять чек. – Какой банк, мистер? – «Бурже», в Нью-Йорке. – Будьте любезны, ваши документы. Ален достал из кармана паспорт. Почувствовав чье-то присутствие слева от себя, он обернулся и испытал двоиной шок: от аромата духов и невероятно глубокого цвета фиолетовых глаз. – Не могу ли я посмотреть вашу чековую книжку, мистер? У женщины были высокие скулы, на которые ниспадали завитки волос, и совершенной формы нос. Прекрасно сшитое платье черного цвета с довольно скромным вырезом на груди великолепным образом подчеркивало ее безукоризненную фигуру. Брошь с огромным бриллиан-том была единственным на ней украшением. – Мистер, пожалуйста, вашу чековую книжку,- повторил Джованни Ферреро. – Извините…- пробормотал Ален, отводя взгляд от прелестной незнакомки. Он положил чековую книжку на стол и снова посмотрел на женщину, восхищаясь ее красотой и манерой себя держать. Если бы она была актрисой, он непременно бы узнал её, но она ею не была. – На какую сумму чек, мистер? Казалось, что она не замечала присутствия Алена. – Мистер? – Извините… – Прошу вас назвать сумму,- повторил кассир. – Пятьсот тысяч,- выдохнул Ален. Бледное лицо Ферреро задрожало. – Во французских франках, конечно,- уточнил Ален.- Сколько это составит? Ферреро быстро подсчитал в уме. – Два миллиона сто пятьдесят тысяч франков. Я вас попрошу подождать. Коллар! Замените меня, я отойду на секунду. Он взял чековую книжку, паспорт Алена и отошел в сторону. – Джованни!- обратилась к нему незнакомка.- Ты мне нужен. – Коллар, обслужите мисс Фишлер. – Нет, ты, Джованни. Ее голос был низкий, хриплый и чувственный. Неожиданно ее лицо преобразилось: она улыбалась Ферреро, словно он был бог. – Хорошо,- сказал Ферреро,- я буду к вашим услугам через секунду. – Он открыл дверь, находившуюся в глубине комнаты, и исчез за ней. – Самый уважаемый человек в «Палм-Бич»,- сказала Надя, поднося ко рту сигарету. Не смея подумать, что фраза имеет отношение к нему, Ален посмотрел вокруг – они были одни. Он поспешно достал зажигалку и поднес ей огонь. Она глубоко затянулась, затем выдохнула дым и своими фиолетовыми глазами уставилась в глаза Алена. На ее лице появилась ироническая улыбка. – Это не потому, что он соблазнительный, а потому, что распределяет «кашку». Не в силах произнести хоть слово, Ален согласно закивал головой и, нервничая, прикурил сигарету. – Американец? – Да. – В отпуске? – Да. – Мадам Фишлер,- вмешался Коллар,- чем могу быть вам полезен? – Мне нужно десять тысяч. Она рассмеялась и повернулась к Алену. – За последние несколько сезонов я оставила здесь столько, что могла бы десять раз купить эту лавочку. – Вы проиграли? Она неопределенно повела плечами. – Приходит… уходит… Плохое начало вечера. А у вас? – Я пришел,- сказал Ален. – Уже? – Сегодня в первый раз. – Вам повезло. – Мистер Пайп!.. Джованни Ферреро снова сидел на своем месте. – Перед тем как вам выдадут требуемую сумму, необходимо выполнить некоторые формальности. Будьте любезны, пройдите в бар. Угощение за счет фирмы. Сейчас вас проводят. Не успел Ален ответить, как Ферреро щелкнул пальцами, и рядом с ним, как в сказке, возник молодой лакей. – Проводите мистера Пайпа в бар. Преодолевая застенчивость, Ален решил взять мяч в броске. – Могу ли я вас пригласить?- спросил он у Нади Фишлер. – Никогда не пью во время игры, спасибо. Ален сделал полупоклон. – Возможно, позже? – Возможно… Не скрывая сожаления, Ален повернулся и последовал за грумом. Все свое внимание Надя направила на кассира. – Джованни, кто этот красавчик, набитый бабками? Ферреро пожал плечами. – Сколько ты хочешь? – Десять,- беззаботным тоном бросила она. – Десять? Будь серьезней, Надя. Джим Хоуден установил для тебя потолок – пять, в сумме это составит двадцать. – Ну и что? Это твои деньги? – К счастью, нет. Но я не могу сам себе отрубить руку. В «Бич» Джованни Ферреро был последней стеной, выступающей перед обезумевшими игроками. Надя и он уже долгие годы вели друг с другом борьбу: каждый своим оружием. Он: категорический отказ, просчитанный риск… Она: обаяние, фальшивый гнев, распущенность… – Джованни, что за гадство? – Тебе показать, сколько ты нам должна? – Через час я все возвращу. Ну же, давай… – Нет и нет! – Джованни! Ее фиолетовые глазастали детскими и умоляющими – этакая молоденькая беззащитная девственница. – Хозяин спустит с меня шкуру. – Поторопись! Я чувствую, что мне сегодня повезет! Он пожал плечами, нацарапал на розовом листе бумаги цифру и выложил на стол пять толстых жетонов. – Подпиши. – Сколько? – Пять. И скажи спасибо на этом… Надя быстро смахнула фишки в сумочку, подписала квитанцию, отошла на три метра от стола и, повернувшись, произнесла монаршьим тоном: -Жмот!
***
Джим Хоуден доводил до изнеможения игроков, которые осаждали его в надежде получить дополнительный кредит. Он приблизительно знал финансовые возможности каждого из них и предел, который он не должен был преступать, чтобы не разорить казино. Джованни имел на этот счет строгое указание, и все попытки клиентов добиться его расположения разбивались о его каменно-неприступное лицо. В неудачные дни постоянные клиенты поджидали Ферреро за дверью в надежде выклянчить несколько тысяч для продолжения игры. Надя Фишлер не принадлежала к этой категории, но ежедневно трепала Хоудену нервы. Ее страсть к игре и международная известность делали из нее желанную приманку для посетителей. Проиграв здесь фантастические суммы, она рассматривала казино как собственный банк. Хоуден вынужден был ежедневно решать эту проблему. Не торопясь и деликатно… Он не хотел терять ни Надю, ни те деньги, которые она добывала своими любовными приключениями и которые в противном случае пополнили бы кассы игорных домов Монте-Карло. Главной его задачей было следить, чтобы она не наделала больших долгов. Он наставлял Ферреро: – Она попросит у тебя десять тысяч. Будь осторожен! Дай пять. – Что делать, если она проиграет? – Зайдешь ко мне. Он внимательно посмотрел паспорт и чековую книжку, которые передал ему Ферреро. Кто он такой, этот незнакомец, так непринужденно запросивший пятьсот тысяч долларов? Он попросил телефонистку соединить его с Нью-Йорком. Полночь в Каннах – это пять часов вечера в Нью-Йорке. Банки закрываются для клиентов в пять часов, но персонал продолжает еще работать два часа. – Банк «Бурже»?.. Будьте любезны, Абеля Фишмейера. Джим Хоуден… Абель!.. Как дела? Джим! Да, да, великолепно!.. Температура воды двадцать пять градусов. – Чего же вы ждете? Мне тоже хотелось бы… Да… да… – Абель, мои друзья, агенты по продаже недвижимости, нуждаются в конфиденциальной информации. Их интересует платежеспособность одного из ваших клиентов… – Пайп. Ален Пайп. Хоуден налил себе в большой стакан виски «Черный Джонни». Он знал, что банкиры ужасно боятся, что их клиенты играют в казино, поэтому-то он и соврал Фишмейеру. – Да, Абель, слушаю вас. А! Хорошо… Отлично! Они хотели бы только узнать, с кем имеют дело. Да… да… Рутина… Абель, речь идет все-таки о большой сумме… Полмиллиона долларов… Он буквально прилип ухом к трубке. – Правда? Приятно это слышать! Спасибо, Абель, спасибо! Тем лучше! Я передам своим друзьям… И не забудьте, Абель, убегайте… Жить осталось не так уж много. Надо всем пользоваться не откладывая! Да… да… До скорой встречи! Жду вас! Спасибо! Он положил трубку. Затем нажал на кнопку внутренней связи: – Ферреро… Что касается вашего парня, Алена Пайпа, у него полный порядок. Кредит разрешаю. (обратно)
Глава 13
В течение четверти часа Надя Фишлер давала представление театра одного актера. Стол, за который она села играть в рулетку, осаждался со всех сторон желающими стать свидетелями ее непрекращавшегося выигрыша. Интуитивно варьируя, постоянно играя 7 или 9, она не проиграла ни одной ставки с момента вступления в игру. – Ставки сделаны,- объявил крупье. Зажав шарик из слоновой кости между большим и указательным пальцами правой руки, он запустил рулетку левой. Шарик запрыгал в обратном направлении движения механизма. Двести пар глаз завороженно следили за его траекторией. Когда движение шарика сместилось в сторону крылышек цилиндра, Надя выкрикнула: – Конечная девятка и все на двадцать девять! Большинство игроков с патологическим терпением ждали последней секунды, чтобы объявить выбранные номера. Вдруг разом зазвучали голоса, отдавая приказы крупье, и те с профессиональным артистизмом автоматически разбрасывали фишки по столу. – Ставки сделаны,- сказал крупье. На магическую поверхность стола, освещенную лампами-прожекторами, мгновенно упала тишина. Шарик еще несколько раз подпрыгнул на медных перегородках, перескакивая с номера на номер, на мгновение замер между 7 и 18 и наконец улегся в лунку с двумя цифрами. – Двадцать девять,- объявил крупье. Легкий ропот прошел среди зрителей. Надя выиграла снова. Гребки крупье, как хищные птицы, налетели на сукно стола, убирая проигранные ставки. Даже на тех, кто не принимал участия в игре, сила волшебства происходящего действовала ошеломляюще: громадные суммы в мгновение ока переходили из рук в руки. Такое мгновенное обогащение в жизни требовало времени, капиталовложений, хороших мозгов, лишений и особенно терпения. В игре все было гораздо проще. С того места, где он находился, Ален жадно всматриался в лицо Нади, которое на три четверти заслоняли готовы зрителей. Ее губы и глаза выражали жадное нетерпение и напряженность. Что-то такое, что напоминало приближение оргазма… Он хотел ее с такой силой, как, возможно, никогда в жизни не хотел женщину. На столе остались лежать жетоны, принадлежащие Наде. Медленным движением крупье, с помощью гребка, стал подвигать в сторону Нади впечатляющую стопку толстых жетонов. – Триста четыре тысячи пятьсот франков,- прошептала худосочная блондинка стоявшему рядом с ней мужчине.- Мне никогда так не везло. Надя зажала в губах сигарету. Десяток зажигалок вспыхнули одновременно. Она прикурила, не сводя своих фиолетовых глаз с жетонов, которые, подталкиваемые крупье, приближались к ней. – Делайте ставки,- предложил крупье.- Господа, делайте ставки! И снова над столом запорхали жетоны. – Ставки сделаны!- сказал крупье и запустил рулетку. Надя сидела прямо, положив ладони на край стола. Ален не сводил с нее глаз и с удивлением отметил, что весь свой предыдущий выигрыш она снова поставила на 29. Между тем шарик танцевал свой ритуальный танец. Пальцы Надиных рук слегка подрагивали. Ален хотел, чтобы она выиграла еще раз. И как эхо своим мыслям он услышал: – Двадцать девять. Толпа возбужденно загудела. Игроки, сидевшие за другими столами, повскакивали со своих мест, чтобы посмотреть, что произошло. По казино прокатился слух, что Надя дважды выиграла по максимуму. Не проявляя никаких эмоций, безразличная к страстному любопытству, которое она вызывала у окружающих, и почтительной тишине, установившейся вокруг нее, она спокойно собрала очередную золотую жатву. – Господа, делайте ставки! – Можно мне с вами сыграть,- обратился к Наде мужчина в зеленом смокинге. Ален с удовлетворением отметил, что Надя не удостоила его даже взглядом. Зеленый смокинг метнул на 29 жетон в 10 000 франков. – Двадцать девять! – Невозможно, месье,- сказал крупье.- Максимальная ставка на номер – тысяча пятьсот франков. Он сделал знак, и концом гребка жетон был сброшен с номера. – Вам не нужны мои деньги?- с раздражением в голосе спросил толстяк. – Только полторы тысячи франков, не более. – Это возмутительно! – Делайте ставки, господа, делайте ставки! Зачастую игроки идут по следу выигравшего, но никто еще не сошел с ума, чтобы рисковать поставить на номер, который выиграл уже дважды. На 29 оставались лежать лишь жетоны Нади, она не меняла цифр. – Все ставки сделаны, господа, все ставки сделаны. У Алена перехватило дыхание, словно на кон были поставлены его собственные деньги. Его пальцы впились в жетоны, которые он держал в руках. Шарик отправился в путь… Стоявшая вокруг стола публика затаила дыхание. Совершая мертвую петлю, шарик задевал за перегородки, перескакивал из одного отделения в другое, пока наконец в мертвой тишине не раздался голос крупье: – Двадцать девять! Еще несколько секунд стояла пронзительная тишина. И вдруг, издав восторженные вопли, зрители рассыпались по залу, как стая воробьев, чтобы обсудить невероятную новость. Оставив все жетоны в распоряжении крупье, Надя встала и вышла из-за стола. Ошеломленный Ален увидел, что она направляется в гриль и обязательно должна пройти мимо него. Ее, казалось, ничего не видящие глаза остановились на нем, и, улыбнувшись, она кивнула на жетоны, которые он судорожно сжимал в руках. – Надеюсь, вам повезет так же, как и мне. Ален хотел ответить, но слова застряли где-то глубоко в горле. – Я проголодалась,- как старому знакомому сказала она.- Составите мне компанию? Она прошла мимо него. С рвущимся из груди сердцем он двинулся следом. Она обернулась и ослепительно улыбнулась: – Каждый раз, когда я выигрываю, у меня пробуждается волчий аппетит. А у вас? Ален не знал, что ответить. – Вы уже ужинали? – Нет, нет,- торопливо ответил он. Не успела Надя преодолеть две ступеньки, отделявшие игорный зал от гриля, как перед ней возникли сразу три метрдотеля. – Столик, мадам Фишлер? Пожалуйста, пройдите сюда. Едва они сели, как официант хлопнул пробкой «Дома Периньон». Она окунулась взглядом в глаза Алена и пристально посмотрела на него с легкой улыбкой на губах. – Как вас зовут? – Пайп,- пересохшим горлом с трудом ответил он.- Ален Пайп. – Ален Пайп,- задумчиво повторила она.- А я – Надя Фишлер. Может ли Надя Фишлер узнать у Алена Пайпа, что он делает в казино «Палм-Бич» в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июля? Ален заерзал на стуле. – Смотрю на вас. – И чтобы посмотреть на меня, вы приехали… – …из Нью-Йорка. – Ну а теперь, когда вы меня увидели?- доставала она Алена, не спуская с него глаз.- Чего бы вы хотели от Нади?.. Ален решил не отказать себе в маленьком удовольствии: – Хочу вас… обнять… Она строго посмотрела на него. – Правда? Я тоже! Они рассмеялись. От запаха ее духов, ее присутствия, голоса, взгляда и, возможно, потому, что он почувствовал, что она догадалась о самых его сокровенных мыслях, ему стало легко и свободно. – Чем бы вас побаловать? Мне кажется, вы так же голодны, как и я. Угощаю! – Ну уж нет!- сказал Ален и положил на стол жетоны. Она насмешливо посмотрела на него. – Мистер Пайп почувствовал себя уязвимым, получив приглашение от женщины? Я права? – Нет, нет… но… – Икра? Жареные лангусты? Взбитый кофе? Выбирайте! – Я буду то же, что и вы. – Хорошо! Марио, спагетти! – Слушаюсь, мадам Фишлер! Сейчас же закажу. Как всегда с жареным салом? – Вы любите нарезанное мелкими кусочками и хорошо поджаренное сало?- спросила Надя у Алена. – Я люблю все. – Он неподражаем,- шепнула Надя Марио.- Тогда с салом. Мистер Пайп обожает сало! Она кивнула в сторону жетонов. – Вы намереваетесь вставить их в раму? Ален посмотрел на нее, не понимая, к чему она клонит. – Я не видела, чтобы вы играли. Вам не нравится играть? – Мне никогда не приходилось,- чистосердечно признался Ален. – Никогда?!- воскликнула она, удивленно округлив глаза.- А… для чего же тогда эти жетоны? – Хотел попробовать,- ответил Ален, сглотнув слюну. – Во что вы хотите их проиграть? Он почувствовал, что клетка захлопнулась. Она уже встала из-за стола. – Идемте,- сказала она, взяв его за руку. Не отпуская его руку, она потащила Алена в противоположный угол зала, где царила особая тишина, та, которая сопровождает борьбу гигантов. Ален попробовал высвободить руку, но Надины пальцы только сильнее сжали его запястье. Она по-хозяйски забрала у него жетоны и шепнула на ухо. – Пополам… – Пятьдесят тысяч в банке,- объявил крупье. – Банк,- выкрикнула Надя. У Алена повлажнели ладони. Он поднял глаза на банкомета и от неожиданности вздрогнул – перед ним сидел Арнольд Хакетт. Алену пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не сбежать. Пока он утихомиривал дрожь в ногах, Надя небрежным жестом выбросила на стол взятые карты: два короля. С хитрой улыбкой на лице Хакетт открыл свои: четверка треф и двойка пик. Ален едва не застонал, когда увидел, как забирают его бесценные пять жетонов. Гребок крупье двигал жетоны в сторону Хакетта, который тут же накрыл их своими маленькими жирными руками. Справедливость начинала торжествовать: волей случая Хакетт возвратил в Каннах часть того, что «Бурже» по ошибке выдал в Нью-Йорке. Новый кон… – В банке сто тысяч,- спокойно произнес крупье.- Сто тысяч. Надя сильно сдавила руку Алену. – Ваша очередь. – Что я должен делать?- едва слышно спросил он. – Говорите «банк». Ален вдохнул полной грудью и услышал свой голос: – Банк. Но голос оказался таким слабым, что крупье пришлось переспросить. – Кто сказал «банк»? Не в силах больше произнести это слово, Ален поднял вверх два пальца. Арнольд Хакетт уважительно кивнул головой и сдал ему две карты, Надя заставила Алена спрятать их в глубине ладони, вытащила их кончики и бросила на них безразличный взгляд. Хакетт открыл свои карты. – Восьмерка в банке,- сказал крупье. Старому крабу недолго осталось жить,- шепнула Надя.- Выбрасывайте свои. Ален выложил на стол 5 бубен и 4 треф. – Девятка на понтер,- сказал крупье. Два жетона по 50 000 франков проделали путь и легли перед Аленом. – Переход,- предупредил крупье. Он положил перед Аленом колоду карт. – Берите банк,- шепнула Надя. Он растерянно посмотрел на нее. – Берите! Она выложила на стол все жетоны: два по 50 000 и пять по 10000. – В банке 150 000,- произнес крупье.- Господа, делайте ваши ставки. – Банк,- сказал Хакетт. – Две карты ему, две себе,- подсказала Надя. Ален неловко выбросил две карты, и крупье пришлось подвинуть их гребком к Хакетту. – Карту,- попросил Хакетт. Ален открыл ему третью карту. Хакетт подозрительно посмотрел на нее и наконец сказал: – Семь. – Девять,- радостно воскликнула Надя. Крупье передал Алену в руки несколько жетонов по 100 000 и один на 50 000. Ален машинально зажал жетоны под мышкой, но Надя вытащила их и хладнокровно положила на сукно стола рядом с тремя выигранными жетонами. – Триста тысяч в банке,- сказал крупье. Ален быстро подсчитал в уме, что ставит на игру 70 000 долларов. Его лоб покрылся испариной. – Он их ненавидит,- прошептала Надя, вид которой говорил о том, что все это ее очень забавляет. Лицо Арнольда Хакетта приобрело коричневый оттенок. Казалось, он колеблется… – Триста тысяч в банке,- повторил крупье.- Господа, триста тысяч… – Банк,- решительно произнес Хакетт. Ален сдал карты. – Семь на понтер,- сказал крупье. – Восемь – банк!- ликующим голосом воскликнула Надя. Крупье придвинул Алену три жетона по 100 000 франков. Если присовокупить их к тем, что составили банк, получилось 600 000 франков, или 140 000 долларов! Когда он подумал, что ему потребовалось бы проработать в «Хакетт» шесть лет, чтобы заработать эту сумму, его охватило непреодолимое желание забрать выигрыш. – Он начинает ломаться,- возбужденным голосом шепнула Надя. Глазами смертника Ален наблюдал за тем, как Надя выкладывала на стол весь выигрыш. – Шестьсот тысяч франков в банке. Господа, шестьсот тысяч. Хакетт наклонился к Гамильтону Прэнс-Линчу и что-то прошептал ему на ухо. Гамильтон задумчиво смотрел на молодого человека, который, если верить шоферу, был одним из его клиентов. – Банк,- сказал он. – Банк принят! Карты!.. Влажными руками Ален сдал две карты Прэнс-Линчу и две себе. – Карту,- дрогнувшим голосом попросил Прэнс-Линч. Ален выбросил ему карту. Надя бесстрастно следила за игрой. Он вопросительно посмотрел на нее и в ответ получил ободряющую улыбку. Прэнс-Линч открыл 10 бубен и 6 треф. – Шесть,- объявил крупье. – Семь,- взвизгнула Надя, не в силах сдержать эмоции. – Семь – банк,- повторил крупье. Он забрал шесть жетонов из стопки Гамильтона и аккуратно положил их перед Аленом. – Вы хотите продолжать?- умирающим голосом спросил он у Нади. – При такой удаче?! Она рассмеялась и небрежным движением руки отправила весь выигрыш на середину стола. – Сейчас увидим, на что они способны! – Миллион двести тысяч франков в банке, господа. Миллион двести тысяч… Ален низко опустил голову, моля Бога, чтобы никто не принял банк. Только теперь он заметил, что их стол окружила плотная толпа зрителей. – Господа, миллион двести тысяч!- бесстрастным голосом повторил крупье. Арнольд Хакетт и Гамильтон сделали вид, что очень заняты разговором между собой. – Надя, можно вопрос?- спросил Луи Гольдман.- Кто из вас играет? Ты или месье? Алену захотелось спрятаться под стол. – Касса общая, дорогой,- ответила она нежнейшим голосом.- Ты не собираешься покончить жизнь самоубийством? Гольдман расхохотался. Перед ним лежало всего лишь три жетона по 50 000. Он вытащил чековую книжку из кармана, нацарапал цифры и передал ее лакею, который бросился к кассе и тут же возвратился назад, сказав несколько слов на ухо распорядителю игры. Два лакея выложили перед Гольдманом стопку жетонов на 150 000 франков. Он бросил на пол погасшую сигарету, тут же прикурил очередную, не забыв в промежутке сделать глоток шампанского, посмотрел на Надю, затем перевел взгляд на Алена и, саркастически хохотнув, сказал: – Банк! Опасаясь, что руки могут его выдать, Ален положил две карты, предназначенные сопернику, перед собой. Крупье переправил их Гольдману. Посмотрев их, он пробормотал: – Еще… Трясущимися руками Ален бросил ему карту и украдкой посмотрел свои. – Девять,- произнес Гольдман. Лицо Алена осунулось. – Девять на понтер,- объявил крупье. Ален открыл свои карты. – Девять – банк. Поровну. Толпа загудела. – Последний кон,- объявил крупье. Тыльной стороной ладони Ален вытер пот со лба. Единственным его желанием было вырваться из-за этого проклятого стола. – Оставляем банк прежним?- вежливо спросила Надя у Луи Гольдмана. Не успел он ответить, как раздался чей-то тихий голос: – Мистер Гольдман, вы позволите мне? Ален почувствовал, что сердце его может не выдержать. Сумасшедший, который хотел вступить в игру, был мужчина с тонкими чертами лица и узенькой полоской черных усов. Гольдман сделал великодушный жест рукой. – Прошу, принц. – Благодарю,- ответил тот. Он пристально и вызывающе посмотрел на Надю. Алену захотелось убить его. – Банк,- сказал принц, не сводя с нее глаз. – Сдавайте,- шепнула Надя. Алену показалось, что Надя занервничала. Он вытащил две карты из колоды и положил их на стол. Крупье придвинул карты Хададу. Даже не взглянув на них, он сделал знак, что достаточно. Ошарашенный, Ален открыл свои. – Восемь,- сказал крупье.- Восемь – банк. Принц небрежно выбросил свои карты. – Семь,- объявил крупье. Ему пришлось дважды поработать гребком, прежде чем перед Аленом оказалось двенадцать жетонов по 100 000 франков каждый. – Игра закончена, господа! Все встали. Хадад обошел вокруг стола, поклонился Наде и любезным голосом, с волчьей улыбкой на лице, сказал: – Примите мои поздравления, мадам! Надеюсь, вы не уклонитесь от реванша? – Когда вам будет угодно,- холодно ответила Надя. На Алена принц даже не взглянул. Надя взяла его под руку. – Пойдем… Ален хотел собрать жетоны, но Надя, улыбнувшись, сказала: – Никто их не возьмет. Через четверть часа начнется новая партия. Она повела его в сторону гриля.***
На автомобильной стоянке казино три белых «роллса» стояли рядом. – В чем заключается твоя работа в агентстве?- спросил Анджело Ла Стреза у Норберта. Все трое шоферов были в расстегнутых пиджаках, без галстуков и форменных фуражек. Грум из казино подкатил к ним столик на колесиках с шампанским, холодной осетриной, сыром и ванильным мороженым. – Я еще на работе,- сказал Норберт и, подцепив вилкой кусочек осетрины, положил его на бокал с шампанским, давая понять, что от спиртного отказывается. – У тебя нелимитированный рабочий день? – В принципе, да. Я всегда должен быть готов. Сколько ты уже работаешь у Прэнс-Линча? – Гамильтона? Пять лет. – Приятный он человек? – Прохвост. Дай-ка мне твое шампанское. Спасибо. Он относится к тому типу людей, которые, улыбаясь, могут вспороть тебе живот. – Ужасно!- прокомментировал Норберт. – Мой еще хуже,- вступил в разговор Ричард Хэвенс.- Хакетт никогда не пошутит, не скажет доброго слова, не поблагодарит, ничего… Смотрит на меня как на ломовую лошадь. – А его жена?- поинтересовался Анджело. – Чуть лучше. Витает где-то… Ты разговариваешь с ней, а она всегда просит повторить еще раз. Они не трахаются уже лет тридцать, я полагаю… А он – ходок еще тот! – В его-то возрасте? – А что? Сколько раз, вместо так называемой работы, я возил его к телкам! – Там, в Штатах, вы состоите в профсоюзе?- спросил Норберт.- Я имею в виду служащих фирмы. – Я даже не знаю, есть ли у нас профсоюз. Профсоюз чего? Для чего? Чтобы гнуть спину на других? В Америке стоит щелкнуть пальцем, и ты получишь место, какое пожелаешь. – Это так,- подтвердил уверенно Анджело.- Наша профессия нарасхват. Не хозяин тебя нанимает, а ты его выбираешь. – Таким же образом обстоит дело и с прибавкой к жалованью. Два раза повторять не приходится, тут же получаешь. – Ты просил у Хакетта? – Да. – У меня не так. Все решает она. Хочу сказать вам, что Гамильтон – под каблуком у своей женушки. Ох и неласковая же она, мамаша Эмилия! Ох и жадина! Ей кажется, что весь мир положил глаз на ее бабки. И дочь ее, Сара, такая же. Когда парни начинают вертеться вокруг нее, она думает, что только из-за ее капусты. Норберт встал со стула. – Не кажется ли вам забавным, что эти стулья в стиле Луи XV находятся на автостоянке? – Да у них просто нет ничего другого,- ответил Анджеле. – Ты куда?- спросил Ричард. – Хочу вас угостить ужаснейшим арманьяком. Он у меня в машине. – Раз ты уже встал и не употребляешь, захвати из моей колымаги лед. – О'кей,- ответил Норберт. Он покопался в баре машины и извлек бутылку. Анджело ударил себя ладонью по лбу. – А кофе? – В самом деле, мы же заказали,- засуетился Ричард. – Уснули они там, что ли? Сейчас я им напомню… Анджело подошел к своему «роллсу» и трижды нажал на клаксон. Спустя две минуты появился парнишка с серебряным подносом в руках. – Не торопишься,- упрекнул его Ричард. – Извините, мистер… Не справляемся. – Не справляемся… не справляемся…- проворчал Анджело. Увидев, как Ричард опустил руку в карман, он живо запротестовал: – Нет, старина, нет! Оставь, рассчитаюсь я. С убийственным спокойствием он отвалил груму солидные чаевые. – Держи, малыш, и прибери со стола,- попросил Ричард. Он посмотрел на Анджело, потом на Норберта. – Не возражаете против партии в покер?
***
– Марио! – Мадам Фишлер? – Могу ли я посекретничать с вами? – Разумеется, мадам Фишлер. Надя устало ткнула вилкой в тарелку со спагетти, стоявшую перед ней. – Ваши спагетти – отвратительны! – Но, мадам Фишлер… Сейчас же заменю их! Марио никогда не пытался вникнуть в причины недовольства клиентов. Кухня здесь была ни при чем. Все зависело от их настроения, усталости, самочувствия, проигрыша… Не стоило себе ломать голову, потому что один профессиональный психиатр облысел, думая над этой проблемой. Все игроки были экзальтированы и неуправляемы в своих капризах… Оставалось исполнять их прихоти и никогда не противоречить, какие бы глупости они не говорили. – Марио! – Мадам Фишлер? – Они холодные. – Вы совершенно правы. Не желаете ли ликера, пока приготовят следующую порцию? – Я ничего не хочу, Марио. Спасибо… Властным и незаметным жестом Марио отослал официантов, стоявших в ожидании заказа вокруг стола. Затем поклонился и удалился. – Вы хотите еще спагетти? – Я… вы знаете… откровенно говоря…- залепетал Ален. – Да или нет? – Как скажете… Она встала и бросила салфетку на стол. – Меняем кофейню. Я знаю место, где готовят великолепные спагетти. – В Каннах?- чтобы как-то поддержать разговор, спросил Ален. – В Риме,- ответила она. Думая, что она шутит, Ален вежливо улыбнулся. – Марио! – Мадам Фишлер? Она сунула ему в руку пачку денег, которую он быстро, но с достоинством спрятал в карман. – Немедленно позвоните Альберто, виа Ливорнио в Риме. Скажите ему, что через два часа я буду там. Пусть приготовит спагетти! – Хорошо, мадам Фишлер. – Позвоните еще в «Локейт» в Ниццу. Марио украдкой посмотрел на часы, но Надя заметила его жест. – Плевала я на время! Разбудите их. – Разумеется, мадам. – Мне нужен «Фалькон-10». Туда и обратно. Соберите мои жетоны на картах и рулетке. Марио! – Мадам? Самолет должен быть готов к вылету через тридцать минут. Она повернулась к Алену. – Вы на машине? Он смотрел на нее круглыми, ошарашенными глазами. – Да. – Великолепно! Поехали! Она взяла его под руку и повела к выходу. – Довольны выигрышем? – Да… да… – Это ерунда! Когда я в форме, я способна разорить их к чертовой бабушке. Однажды я это уже сделала. Где ваша развалюха? – Сто двадцать семь… Белый «роллс». – Сто двадцать семь… Приятное сочетание,- весело сказала Надя.- Как бы вы их разложили? Один и двадцать семь или двенадцать и семь? «Роллс», заложив вираж, достойный гонки «Большого приза», едва касаясь покрышками земли, подлетел к ступенькам. Норберт не успел шевельнуться, как два лакея распахнули дверцы машины. – Опустите верх, не люблю ветер. В аэропорт в Ниццу – молнией,- приказала Надя. – Слушаюсь, мадам,- сказал Норберт. Он включил первую передачу, и «роллс» мягко тронулся с места. – По шоссе или по набережной? – По набережной,- ответила Надя. Она взяла Алена за руку и прислонилась к его плечу. Теперь я по-настоящему голодна. Вы знаете Альберто? – Нет. – А Рим? – Тем более. Она засмеялась и еще плотнее прижалась к нему. – Чем вы занимаетесь в Нью-Йорке? – Бизнесом. – Недвижимость? Биржа? Промышленность? Финансы? – Всем понемногу. – У вас грустный вид. Устали? – Нет, нет. Впрочем… Я только сегодня прилетел. Я не спал уже двадцать часов… – А вы знаете, сколько времени я могу обходиться без сна? – Сколько? – Свой рекорд я поставила здесь, в «Бич»,- семьдесят два часа. Какая была партия! – Выиграли? – Проиграла все, что только можно. Вы знаете людей, которых сегодня пощупали? – Нет. Два жмота в начале игры – Арнольд Хакетт и Гамильтон Прэнс-Линч. – Хакетт?- простодушно спросил Ален. – Хакетт из «Хакетт Кэмикл Инвест». Годовой доход – 500 миллионов долларов. Второй – Гамильтон Прэнс-Линч, прозванный Хэмом Бурже. Он женился на Эмилии Бурже, вдове Франко Бурже III. Несмотря на опущенный верх машины, Ален почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы. – Бурже?.. Банк?..- спросил он. – Да. «Бурже Траст Лимитед». Воры! – Вы их клиентка? – Раньше или позже я была, буду или уже клиентка всех банков планеты. Через своих любовников… Она рассмеялась, затем наклонилась к его уху и показала пальцем на затылок Норберта. – Как зовут вашего лихача? – Норберт. Она шлепнула шофера по плечу. – Эй, Норберт, нельзя ли побыстрее? Остынут спагетти! Машина рванулась вперед. Удобно развалившись на заднем сиденье, Ален не мог поверить в то, что сегодняшними карточными соперниками у него был его собственный хозяин и владелец банка «Бурже». – Толстяк с сигарой – это Лу Гольдман, продюсер. Последнего вы тем более не знаете. Араб – принц Хадад. Если он захочет поразвлечься… может купить казино, Канны, Лазурный берег и всю Францию с потрохами. Его доходы – десять тысяч долларов в минуту. Вы знаете, сколько минут в сутках? Тысяча четыреста сорок. Ну, и… четырнадцать миллионов четыреста тысяч долларов за двадцать четыре часа. Что бы вы делали с такими деньгами? – Не знаю,- ответил Ален. Надя наклонилась к нему, и ее губы коснулись его лба. – Сейчас я вам скажу. Вы делали бы то, что сейчас именно и делаете. Пригласили бы красивую женщину в Рим на спагетти. В аэропорту их уже ждал мужчина в летной форме с отличительным знаком авиакомпании «Локейт». Он поздоровался с Надей, затем с Аленом. – Самолет к вылету готов. – Мне ждать вас, мистер?- спросил Норберт. – Нет, спасибо,- ответил Ален. – Конечно же, ждать,- властно сказала Надя.- Мы возвратимся через три часа, не позже. Поспите в машине. В сопровождении служащего они прошли через пустынное здание аэропорта, сели в поджидавшую их машину и направились по взлетной полосе к импозантному «Фалькону-10». Поднялись в самолет, и радист закрыл люк. – Пристегните ремни. Взлетаем сразу. Он улыбнулся и исчез в кабине пилота. В салоне самолета стояло пять широких кресел. Надя села у иллюминатора, откинула спинку кресла и вытянула ноги. Ален устроился рядом. Она подняла руку вверх и включила плафон. – Все в порядке? Он нежно сжал ее пальцы. – Все в порядке,- ответил он, чувствуя, как ему не хватает воздуха. (обратно)
Глава 14
– Арнольд, вы проиграли?- спросила Эмилия Прэнс-Линч с наигранной веселостью. – Да, немного. И мне очень неприятно…- признался Хакетт. Эмилия, продолжая улыбаться, внимательно посмотрела на своего мужа. – Ты тоже играл, дорогой? Гамильтон заерзал на стуле и буркнул: – Два-три кона… по маленькой… чтобы поддержать Арнольда. Эмилия терпеть не могла, когда он садился за игральный стол, и вела с ним непримиримую войну. – Что ты называешь «по маленькой»? Гамильтон и Хакетт договорились ничего не рассказывать Эмилии об общем банке, который они проиграли Наде Фишлер. Чуть-чуть,- ласковым голосом проворковал он.- Несколько жетонов. – Я там была,- сказала Сара, не поднимая носа от своего стакана. Ей доставляло огромное удовольствие поставить отчима в затруднительное положение. Гамильтон знал, что она доносит Эмилии о его действиях и малейших промахах. – Кто был тот альфонс, который играл вместе с Надей Фишлер против вас? – Альфонс? Альфонсам запрещено проводить время там, где нахожусь я,- смеясь, сказал Джим Хоуден. Он галантно поцеловал руку Виктории Хакетт и Эмилии Прэнс-Линч, нежно провел рукой по волосам Сары и щелкнул пальцами, подзывая Марио. – Шампанского! Хоуден сел за стол. – А сейчас, Сара, рассказывайте. – Я говорила о парне, который был вместе с Надей. Вдвоем они обыграли в баккару этих несчастных Гамильтона и Арнольда. – Несчастных, но только в игре,- парировал Арнольд, которого не так легко было выбить из седла. Сара моментально выделила Алена из толпы: бледность его лица и видимое отсутствие уверенности понравились ей. Она чувствовала себя комфортно только с теми мужчинами, которыми могла бы управлять. Она прилагала максимум усилий, чтобы отшить властолюбивых, и в этом была точной копией своей мамаши. – Удивляюсь, как эта проститутка может играть на чужие деньги?- сказала Эмилия, плотоядно улыбаясь. Виктория Хакетт захихикала. Она дорого дала бы за возможность сказать такую блестящую фразу. Хоуден знал, что Эмилия была в курсе его дружеских отношений с Надей. Возможно, она знала, что когда-то он даже спал с ней. Но кто еще не успел переспать с Надей? Ничего необычного он в этом не видел. Эмилии просто захотелось его задеть. Ну что ж, в долгу перед ней он не останется. – Она нравится мужчинам, дорогая Эмилия. В ней есть притягательная сила. Самцы не могут долго ей сопротивляться… – Скажем, самцы определенного типа,- оборвала его Эмилия, поджав губы. – Арнольд,- спросила Виктория с обворожительной серьезностью,- неужели мужчин притягивают легкодоступные женщины? – Ну что вы,- безапелляционным тоном возразил Джим.- Соблазняет только добродетель, дорогая Виктория. Он заметил, что Эмилия бросила на него не слишком нежный взгляд, и понял, что окончательно рассчитался с ней…***
Они ехали по спящему Риму в машине, которую Альберто прислал за ними в аэропорт Фьючимино. Виа Леворнио была пустынна: ни прохожих, ни света в окнах. Альберто ждал у дверей ресторана. – Надя! Как дела? Она бросилась в его объятия. – Альберто, старый плут! Мне так тебя не хватало! – Мне тоже, Надя, тебя не хватало! Сейчас я угощу вас такими спагетти, которых вы еще не пробовали в своей жизни! – Альберто – это Ален Пайп. Это – Альберто! Альберто пожал Алену руку, как самому своему лучшему другу. Ален осмотрел пустой ресторан. В углу зала стоял столик, накрытый белой скатертью, в центре которого горели три свечи. Два официанта бросились к столику и предупредительно отодвинули стулья. – Я разбудил их к вашему приезду,- сказал Альберто и повернулся к Алену. В Риме ради Нади готов проснуться любой. Вам повезло, синьор. Он налил в стакан немного холодного вина. Неожиданно кто-то запел под звуки гитары, и Ален с удивлением обнаружил певца. – Это Энрико,- объяснил Альберто Наде.- Я позвал его специально для тебя. Я знаю, ты любишь его мелодичные песни. Он взял ее руку и с чувством поцеловал. – Надя! Боже мой!.. Сейчас все принесу сам. Он бросился на кухню. Пораженный Ален смотрел на Надю. Она ласково взяла его за руку. – Голодны? – Уже не знаю. Во время полета к ним пришел радист и принес бутылку шампанского. Они выпили за Канны, за Рим, за Америку, за казино… Ален готов был убить его. Ему хотелось остаться с Надей наедине. Может, на обратном пути… – Вам нравится здесь?- спросила Надя. – Очень. – Мне всегда здесь хорошо. Я чувствую себя как дома. – Что вы любите в жизни? – Жизнь. – А еще? – Свободу. – Вы свободны? – Нет. – Вы похожи на мальчишку, который ограбил банк. Вы на самом деле ограбили банк? – Я слишком неуклюжий для этого. Меня бы сразу же арестовали. – Женаты? – Был женат. – Я тоже. И много раз… – Мораль? – Невозможно жить одному, как и жить вдвоем. – Вывод? – Менять партнеров, как зубные щетки. Это избавление от одиночества и не утомляет. – Спагетти!- торжественно провозгласил Альберто, появившись в зале с огромным дымящимся блюдом в руках. Он прикрикнул на официанта:- Подогретые тарелки! Быстро! Стаканы! Они же у них пусты! Чего ждете? Он метался из стороны в сторону, этот волшебник странного праздника, в реальность которого Ален никак не мог поверить. Он поднял стакан и сделал большой глоток вина. По крайней мере, хоть один раз в жизни он прикоснулся к безумству. – Кушайте, умоляю вас! Сейчас все остынет. Коста! Еще бутылку вина! Надя, тебе нравится? – Мммм…- ответила она с полным ртом. – А вам, синьор? Ален утвердительно кивнул несколько раз головой. Ему не хотелось есть. В присутствии Нади у него отнимались ноги и пропадал аппетит. – Скажите, Ален, этот банк…- проговорила она между двумя глотками.. Его рука с вилкой повисла в воздухе. – Какой банк? – Вы же прекрасно знаете… Тот, который вы ограбили.
***
Подходя к окошечку заказа международных телефонных разговоров, Гамильтон Прэнс-Линч дважды обернулся: Эмилия и Сара вполне могли идти следом за ним. Он ушел, предварительно спросив у Эмилии разрешения «помыть руки». – Мадемуазель, сколько времени придется ждать Нью-Йорк? – Ни секунды. Прямая связь. На листочке бумаги он нацарапал несколько цифр. – Какая кабина? – Первая. Когда соединят, вы услышите звонок. В холле толпилась масса народу: одни, проиграв, уходили, другие, полные надежды, спешили навстречу року. – Мистер, Нью-Йорк на линии. Гамильтон бросился в кабину и снял трубку. – Говорит Гамильтон Прэнс-Линч,- оросил он сухим, властным голосом банкира.- Кто у телефона? – Телефонистка, мистер. Он посмотрел на часы – час ночи. – Абель Фишмейер у себя? – Сейчас узнаю. В трубке послышалось потрескивание, затем раздался грубый голос Фишмейера: – Кто? Говорите! – Приветствую вас, Абель. Говорит Гамильтон. – Мистер Прэнс-Линч! Откуда вы звоните? – Абель, мне нужны кое-какие сведения… Есть ли у нас среди клиентов Ален Пайп? – Ален Пайп? Поистине удивительное совпадение, мистер Прэнс-Линч! Час тому назад мне звонил Джим Хоуден, чтобы узнать, платежеспособен ли он. А вчера утром я разговаривал о нем с Вленски! – В чем дело, Абель? Что-нибудь не так? – Идиот Вленски пустил тюльку: записал его в должники. – У него все в порядке? – Полтора миллиона долларов на счете… или что-то около этого. – Это точно? – Абсолютно! – С какого времени вклад? – Мне уточнить? – Я хотел бы, Абель. – Есть подозрения, мистер Прэнс-Линч? – Нет… нет. Эти сведения нужны для моего хорошего друга. – Сейчас же все сделаю. – Секунду, Абель! Я ужинаю с друзьями и должен к ним возвратиться. Проштудируйте его досье и все для меня выпишите: сумму, откуда поступили деньги, когда… Я вас не очень побеспокоил своим звонком? – О, совершенно нет!- прогремел Абель. – Я перезвоню через час, хорошо? – Конечно, конечно! – Еще раз спасибо, Абель, и извините меня… Вы правильно записали фамилию? – Пайп. Ален Пайп. – Все правильно, Абель! До скорой встречи. – До скорой встречи, мистер Прэнс-Линч. Взволнованный Гамильтон вышел из кабины. Чтобы он не знал клиента с более чем миллионным вкладом? Такого не могло быть!
***
Самолет мягко оторвался от взлетной полосы, набрал высоту, заложил правый вираж и лег на курс. Через иллюминатор Ален видел мириады огней ночного Рима. Он поудобнее устроился в кресле, игнорируя возникающие в голове вопросы, на которые у него не было ответов. Его опасения не могли изменить ход событий. Выходя из ресторана, Надя дала Альберто пачку денег, не считая… Таким же жестом она рассчитывалась и с метрдотелем гриля в «Палм-Бич»… – Надя? – Да? В салоне стоял полумрак. Надя предупредила радиста не беспокоить их… – Вы всегда так живете? – Как? – Я хочу сказать – на скорости сто миль в час. – Всегда. – И вам никогда не бывает страшно? Она промолчала. В жизни ему не приходилось встречать такую красивую женщину, но и такую сумасшедшую тоже. Неожиданно Надя просунула свою руку ему под рубашку. – Знаешь, почему ты нравишься мне? Он почувствовал, как его пронзил ток высокого напряжения. Она придвинулась и прошептала прямо ему в рот: – Под твоей маской робкого плейбоя прячется крестьянин. Я тоже – крестьянка. Я нравлюсь тебе? – Очень,- прошептал Ален, полностью парализованный. Самолет пронзал чернильно-черную ночь на высоте 8000 метров. Невообразимо далеко внизу, на земле, он видел тысячи светящихся точек, а здесь, рядом с ним, была Надя, с ее запахом и хриплым голосом. Он хотел кого-нибудь поблагодарить за этот восхитительный миг. От переполнявшей его нежности Ален захотел обнять ее. Она остановила его и прерывающимся голосом спросила: – Ты хочешь меня? – Очень, Надя, очень… – Почему же ты не трахнешь меня прямо здесь? Чего ты ждешь? Он увидел, как она подняла до пояса платье, и отвел глаза, ослепленный белизной ее бедер. – Смотри же!.. Она расстегнула блузку и из нее, как рыбка из садка, выскользнула грудь. – Трахни меня, подлец, трахни!.. Он не мог сдвинуться с места, словно в вены ему залили свинец. Она нырнула головой вниз, расстегнула ему брюки и стянула их. Затем губами взяла его член и начала неистово ласкать. Он не мог представить, что такое может происходить подобным образом. Ему пришлось приложить огромное усилие, чтобы прогнать мысли и избавиться от пронизывавшего его тело холода. Вдруг с какой-то охватившей его злостью он отбросил от себя Надю, схватил левой рукой ее за запястья и опрокинул в кресло. Упав на колени между ее бедер, он грубо вошел с нее. В тот момент, когда его семя выплеснулось в горячий лабиринт ее плоти, он посмотрел на ее лицо, освещенное лунным светом: морщинистое, застывшее, оно выражало безысходность. Напрасно он искал в нем признаки удовлетворения, радости и умиротворения… Ничего подобного он не заметил. Он понял, что Надя Фишлер ощущает оргазм, только играя в карты.
***
Гамильтон Прэнс-Линч был опасен тем, что относился к типу людей со слабым характером. Абель Фишмейер прекрасно знал, какой ужас испытывал тот перед своей супругой. Без нее он был ничто. Иногда Абель мечтал устроить Гамильтону пакость. Достаточно было разжиться кое-какими компрометирующими его сведениями: история супружеской измены, соответствующие адреса, фотографии, числа… и у руля банка мог оказаться он, Абель Фишмейер. Сара разбиралась в финансовых делах не более, чем Эмилия. – Вленски еще здесь? – Сейчас узнаю, мистер. Почему все-таки Гамильтон так неожиданно заинтересовался этим Пайпом? – Оскар?.. Фишмейер! Два дня тому назад мы разговаривали об одном клиенте… Пайпе, Алене Пайпе. Возьмите под мышку его досье и бегом ко мне в кабинет. Да, немедленно. Когда Вленски вошел в кабинет, Абель напрягся, чтобы не выдать чувство презрения, которое он испытывал к этому лысому человеку. – Присаживайтесь, Вленски. Итак, Ален Пайп! Он взял досье и быстро пролистал несколько страниц. – Так… У нас уже четыре года… Работает в «Хакетт»… – Отлично… Регулярные ежемесячные поступления… Никаких других доходов, кроме заработной платы… Оскар Вленски назидательно поднял вверх указательный палец. – Он многократный должник, мистер Фишмейер… Абель отблагодарил его холодным взглядом и проворчал: – Зарплата тысяча шестьсот семьдесят два доллара… – Возврат… возврат… Поступление… Он замер на слове «поступление», как охотничья борзая. – Поступление один миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов, Вленски. – Слушаю, мистер Фишмейер! – Замолчите!Эти деньги поступили на счет клиента 22 июля утром. Откуда, Вленски? – Не знаю, мистер. – Как это вы не знаете? Оскар, казалось, растворился в своих задрипанных одежках. – Я уполномочен подписывать для бухгалтерии только бумаги по задолженности. Мой компьютер… – Вленски, немедленно разыщите мне этот чек. – Где искать, мистер? – Откуда мне знать! Найдите его, и все! Это банк или бордель? – Хорошо, мистер, но позвольте напомнить вам, что я говорил о задолженности, составлявшей… – Выйдите! Вленски возвратился через несколько минут. На его лице не было ни кровинки. Не в состоянии произнести ни слова, странно подергивая головой, он с обескураженным видом протянул Фишмейеру квадратной формы картонку. Абель вырвал чек у него из руки и поднес к лампе. – Выдан нашим банком… Снято со счета «Хакетт»… – Подписано Оливером Мюрреем. Вленски вяло помахал рукой, привлекая его внимание. – Что, Вленски? Что еще? – Цифры, мистер Фишмейер… Посмотрите цифры…- прошептал он умирающим голосом. Абель прочел: 1 170 400 долларов. Его лицо мгновенно стало кирпичного цвета. А Вленски своим уточнением еще добавил: – Я был уверен, что произошла ошибка. Когда я обратил на нее ваше внимание, вы поручили мне обеспечить клиенту эксклюзивное обслуживание,- простонал он. – Я? Никогда! Исключено! – Это невероятно, мистер… Два лишних нуля… – Но кто? Кто?- рычал Фишмейер. С выражением обреченности на лице Вленски сказал: – Я нахожу всего лишь один ответ: нас предал компьютер.
***
Ален ощущал горечь: он обладал только тенью. Он занимался с Надей не любовью, а трахал какое-то тело, готовое принять самую немыслимую позу, но оно никогда не отдавало себя другому. Замигала белая лампочка, предупреждавшая о необходимости пристегнуть ремни. «Фалькон» пошел на посадку. Надя дремала, положив голову на плечо Алена. Колеса самолета коснулись взлетной полосы. – Прибыли?- спросила Надя. Она включила над собой плафон, достала из сумочки зеркальце и проверила, в порядке ли ее макияж. – Ты восхитительна,- сказал Ален. Он хотел еще добавить, что по ее лицу нельзя догадаться о том, что между ними произошло… А произошло ли?.. Он украдкой посмотрел на ее красивое лицо, но по какой-то загадочной причине больше не ощутил его очарования. Ни чувств к ней, ни желания Ален в себе не отметил… Преодолев три ступеньки до земли, Надя широким жестом одарила пилота, который вышел с ними попрощаться, оставшейся пачкой денег. Норберт спал в машине. Было пять часов утра. Небо на востоке начинало светлеть. От звука открывшейся дверцы Норберт встрепенулся, моментально вышел из состояния сна и был готов выполнить любой приказ хозяина. – В отель, мистер? – В «Бич»,- сказала Надя. – Ты хочешь сейчас возвратиться в «Бич»?- удивленно спросил Ален. – Очень подходящий момент. Они устали, начинают нервничать, делают ошибки… Увидишь!.. Вытащим из них еще несколько миллионов долларов. Она покопалась в сумочке, вытащила что-то круглое, завернутое в салфетку, и осторожно развернула. – Посмотри, Ален. Он увидел черноватую массу. – Мой талисман,- сказала Надя, подмигнув.- С этим можно ничего не бояться. Она была совершенно сумасшедшей. Он соберет в «Бич» свои жетоны, обменяет на чек и быстрее оттуда… – Свежее сердце кролика,- объяснила Надя.- Могу поспорить один к десяти, что Хадад ждет нас. Он знает, что я обязательно вернусь. – «Пой, птичка, пой, через полчаса я буду спать в своей постели»,- думал Ален. Для него такой ритм был утомителен. Он выдохся. – Погоди же, Баннистер! (обратно)
Глава 15
– Что? Повторите! Телефонная кабина была без кондиционера, и Прэнс-Линчу приходилось рукой разгонять дым, от которого становилось трудно дышать. Эмилия с подозрением посмотрела на него, когда во второй раз в течение часа он попросил у нее разрешения пойти помыть руки. Из-за помех на линии и посторонних шумов Гамильтон плохо слышал голос Фишмейера. – Ален Пайп всего лишь мелкий служащий, мистер Прэнс-Линч. Мы ошибочно кредитовали его на 1 170 400 долларов. – Как ошибочно, Абель? Гамильтон вспомнил, как американец бросал жетоны на стол. Этот мерзавец играл против него деньгами банка «Бурже», иначе говоря, его собственными деньгами! – Двадцать второго июля от фирмы «Хакетт» поступило заявление о перечислении. Компьютер допустил ошибку, и два последних нуля не были отделены запятой. На самом деле на его счет следовало зачислить 11 704 доллара. Я не могу связаться с людьми «Хакетт», чтобы узнать причину перечисления. Там уже никого нет… Неожиданно Гамильтон почувствовал чье-то присутствие рядом с собой. Он обернулся: рядом с кабиной стояла Эмилия и смотрела на него уничтожающим взглядом. Ревность ее была чудовищной, но не по причине большой любви, а потому, что она не могла себе представить, что принадлежащее ей существо может дышать, не находясь рядом с ней. – Секундочку, Абель, не кладите трубку… Не успел Гамильтон произнести слово, как Эмилия уже находилась в кабине. – С кем вы разговариваете? – С Фишмейером,- ответил он, прикрывая ладонью микрофон. – Правда? Дайте-ка трубку, я хочу сказать ему несколько слов. Она взяла трубку, расстреливая его глазами. – Алло!.. По ее разочарованному виду он понял, что она узнала голос управляющего банком. – Как дела, Абель? Да… да… Наглотавшись дыма, она начала сильно кашлять, и Гамильтон поспешил открыть дверь кабины. Зло взглянув на него, она дала понять, чтобы он закрыл дверь. – Да, Абель, да… Рада была вас услышать! Передаю трубку мужу. Сунув трубку ему в руку, она проговорила раздраженным голосом: – Поторопитесь, я хочу домой. Я жду. Он смотрел ей вслед до тех пор, пока она не затерялась в толпе. – Вы слышите меня, мистер Прэнс-Линч? – Да, Абель. – Я сейчас же заявлю в полицию! Гамильтон натянулся, как струна. – В полицию? Зачем? Вы что, сумасшедший? – Но, мистер, сделать заявление просто необходимо! Начисление денег прошло все инстанции, и он в любой момент может выписать чек. – Оплачивайте! – Мистер Прэнс-Линч, я не понимаю! Речь идет о ваших деньгах! – Если кто-то и виноват, то только – вы, а не он. Вы хотели бы, чтобы у этой истории выросли длинные ноги и на каждом углу говорили, что «Бурже» – помойка? – Миллион сто семьдесят четыре тысячи долларов!!! – Я знаю, что делать! Если начнут поступать чеки, оплачивайте их. Передайте Вленски, чтобы держал язык за зубами и ничего не предпринимал. Ждите моих указаний! Вам ясно? – Слушаюсь, мистер Прэнс-Линч. – Никому ни слова. Вы меня слышите? – Да, мистер. – Прекрасно, Абель! Завтра я вам перезвоню. Он резко опустил трубку на рычаг, вытер пот со лба и от окурка прикурил очередную «Мюратти». Какое-то время он неподвижно стоял в кабине, сдерживая желание закричать от радости. Выйдя из кабины, он не закрыл за собой дверь и быстро направился в зал. При небольшом везении он выкарабкается из катастрофы. План действий в общих чертах был уже составлен.***
«Роллс» затормозил у ступенек, ведущих к входу в казино. – «Палм Бич», мистер,- сказал Норберт. Была половина шестого. Невесть откуда взявшийся лакей открыл дверцу, и Надя, выбравшись из машины, потянулась, подставляя лицо первым солнечным лучам. – Я одна из тех счастливчиков, которые ежедневно наблюдают восходы и заходы солнца. Она рассеянно взяла Алена за руку. – Я сплю тогда, когда все работают. Ты идешь? Бессонная ночь никак не сказалась на ней: и намека на синеву не было под ее фиолетовыми глазами. – Я хочу возвратиться к себе… Чтобы не мешать разговору, Норберт предупредительно отошел в сторону. Как и все на Лазурном берегу, он знал Надю Фишлер и теперь переживал за своего хозяина – уж очень быстро она его окрутила. Он симпатизировал этому Пайпу, который явно чувствовал себя не в своей тарелке во всей этой истории. Фишлер раскрутит его до последнего цента, и парень останется без штанов. – Ален? Ты шутишь?- воскликнула Надя. – Я выдохся,- признался он. – Ты же не бросишь меня, когда начинается самое интересное? Норберт! – Мадам! – Машину на стоянку! Мы продолжаем! Она достала из сумочки оставшиеся деньги и вложила в руку Норберта. Он быстро спрятал их в карман. – Слушаюсь, мадам. Надя уцепилась за руку Алена и повела его в холл казино. – Только три ставки. Выиграли или проиграли. Банк. Удачу надо уметь использовать. Зал был погружен в полумрак. Игра шла только за одним столом, стоявшим в углу. Все стулья вокруг него были заняты. – Джованни, это ограбление. Деньги!- бросила она голосом, в котором слышалось хорошее настроение. – Все? – Да. Я сейчас пущу вас по миру… Неожиданно она ожила, стала веселой, обаятельной, соблазнительной, полной энергии: щеки ее порозовели, глаза заискрились. – Ален, хочешь кофе? Ферреро подвинул ей впечатляющую стопку жетонов. – Семьдесят тысяч франков я высчитал за самолет. – Квитанцию выписывать на двоих? – Плачу сама,- ответила Надя, ставя свою подпись на розовом листочке бумаги. Ферреро отошел в глубь комнаты и подумал, что этот парень не вырвется из коготков Нади. Сейчас он начнет играть и все проиграет. Если бы добрая фея дала ему такую удачу – стать обладателем 1 200 000 франков, он без всяких угрызений совести всадил бы пулю в затылок Наде. – Пошли!- возбужденно сказала Надя. Нагрузившись жетонами, она направилась к играющим. Подходя к столу, Надя еще не знала, какая сумма поставлена на игру, но ноздри ее расширились, и она крикнула: – Банк! – Банк,- как эхо повторил крупье.- Два миллиона франков в банке, господа! Ален остановился как вкопанный: ему показалось, что в солнечное сплетение уперлось дуло револьвера. Надя взяла карты, которые ей выбросил банкомет, и открыла их. – Шесть на понтер,- сказал крупье. У принца Хадада оказалось больше.
***
К пяти часам вечера посетители стали покидать «Романос», в семь в зале осталось несколько запоздалых бродяг. В восемь Том закрыл заведение. Он бросил быстрый, незаметный взгляд на Баннистера и незнакомца, сидевших в глубине зала. Парень был крепкого телосложения, с рожей протестантского пастыря, волосами цвета ржавчины и с пенсне на носу. Его звали Корнелиус Грант. Он работал адвокатом и когда-то просиживал штаны за одной партой с Баннистером. Время от времени Баннистер неофициально консультировался с ним по наиболее острым профессиональным вопросам. Но сегодня разговор шел о личном… – Я не говорю, что такой случай имеет место, Корнелиус, а прошу только представить, что… – Ну-ка расскажи еще раз свою туфту. – Пожалуйста. Предположим, что волею необъяснимого случая кто-то, ничего не требуя, получает чек на огромную сумму… – Фирма «Хакетт», например,- подсказал уверенно Грант. Самуэль быстро поднял глаза, но тот даже не смотрел на него. – Если тебе так хочется, пусть будет «Хакетт». – На какую сумму чек? – Сумма очень большая. Что-то больше миллиона долларов. – С чего это вдруг? – Я уже тебе говорил, просто так… Ошибка! Грант недоверчиво посмотрел на него. – Сэмми, хватит валять дурака! За здорово живешь такие деньги не выписывают. – Согласен, давай предположим, например, что сделали перечисление на мой счет: возместили убытки… Мне должны были перечислить десять долларов, а я получаю тысячу. Ошибаются на два нуля, если ты догоняешь мою мысль. – Прекрасно! Дальше. – Этот чек у меня в руках. Что я должен делать? – Ни в коем случае не притрагиваться к нему! Возвратить… – Я не могу снять деньги? Почему? – Рискуешь оказаться в дерьме. – Том, еще два виски!- крикнул Баннистер, допив содержимое стакана. Расстроенный, он покусывал себе губы. – Подведем черту,- начал Корнелиус.- Ты хотел узнать, можно ли воспользоваться ошибкой, в которой ты не виновен? – Совершенно верно. Том поставил два стакана на стол и демонстративно посмотрел на часы. – Сэмми, скажи честно, это ты получил чек? – Нет. – Я хочу, чтобы это было именно так. – Но в чем дело? Ведь не ты допустил ошибку? – Но ты знал, что она есть. Не темни. С кем это случилось? – С моим другом,- ответил Баннистер и тяжело вздохнул. – Он снимал деньги? Баннистер задвигался на стуле, чувствуя, что ему становится все хуже и хуже… – Да. – А! Ты знаешь, что я сказал бы твоему другу? Верни, парень, капусту! Том начал громко двигать стульями. Баннистер бросил на стол мятую десятидолларовую бумажку. Несмотря на то, что Грант и Баннистер были друзьями детства, у последнего не хватало смелости сказать, что вдохновителем операции был он. Корнелиус встал и хлопнул его по плечу. – Не загружай свои мозги, Сэмми! Ничто, с точки зрения юриспруденции, не доказывает, что я прав. Самуэль уже не слышал его. Единственным его желанием было немедленно предупредить Алена. Нужно прекращать их затею…
***
Ноги отказывались повиноваться ему, и Ален вынужден был сесть. Позолоченный стул угрожающе скрипнул под его весом. Только что Надя в мгновение ока проиграла принцу Хададу два миллиона франков. Охваченный страхом, он встал со стула и подошел к столу, за которым играли. С презрительной улыбкой на лице Хадад поставил на кон все только что выигранные у Нади деньги. Он смотрел на нее, как кошка смотрит на мышку. Она и бровью не повела. – В банке два миллиона,- сказал крупье.- Господа, делайте ваши ставки! В зале стояла церковная тишина. Ее нарушил напряженный, холодный голос Нади: – Банк. Крупье бросил на нее пронзительный взгляд и громко сазал: – Игра! Карты… Но принц, державший колоду в руках, не шелохнулся. – Мадам,- сказал он и пристально посмотрел на Надю. Она знала, что нужно «засветить», то есть выставить на игру заявленную сумму. Перед ней лежало жетонов всего лишь на 400 000 франков. – Минутку!- попросила она. Она пронзила Алена своими фиолетовыми глазами и произнесла низким глухим голосом: – Не дай этому типу унизить меня. Я знаю, у тебя в кассе кредит на пятьсот тысяч долларов. Возьми его! Не в силах произнести ни слова, Ален отрицательно покачал головой. Он с ужасом заметил, что в этой звенящей тишине все взгляды были устремлены на него. – Иди,- повторила Надя. Принц нервно поигрывал пальцами по столу. – Я их сразу же тебе верну! Ты ничем не рискуешь! – Иди! Она повернулась к принцу и высокомерно сказала: – Секунду… Надя впилась пальцами в руку Алена и толкнула его к кассе. – Джованни! Жетоны на весь его кредит! Ферреро вопросительно посмотрел на Алена. – Делай, как я сказала,- крикнула Надя.- Он согласен. И снова немой вопрос кассира. – Спасибо!- сказала Надя Алену, который, оцепенев, сидел с открытым ртом.- Джованни! Ферреро вздохнул и выложил жетоны на стойку. Потеряв к Алену всякий интерес, Надя собрала жетоны и мелкими шажками направилась к столу. Алену не хватало воздуха. От слабости его мутило. Неожиданно среди плотного шума голосов он услышал: «Карты!» Парализованный страхом, он закрыл глаза и молча обратился к небу с молитвой. Если бы Баннистер присутствовал на этом спектакле, он умер бы прямо у стола.
***
Графиня де Саран появлялась на пляже только в утренние часы и только в прозрачных одеждах. Шофер подвозил ее к бассейну, который соединялся с морем. Она арендовала на весь сезон одну из многочисленных кабинок, разбросанных по пляжу, в которых можно было укрыться от нескромных взглядов и заниматься чем угодно: есть, пить, раздеваться догола, принимать душ, спать или заниматься любовью… Муж присоединялся к ней не раньше полудня, поэтому утренним временем она распоряжалась по-своему. В это время по пляжу бродили инструкторы по плаванию и собирали лежаки. Ради интереса Мэнди переспала с двумя-тремя из этих атлетов, но большого удовольствия от накачанных мышцами тел не получила. К тому же они были излишне чистоплотны, что не отвечало ее вкусу, а в объятиях – примитивны и совершенно лишены воображения. С пляжной сумкой в руке, огромной соломенной шляпой на голове и темными очками на носу, она направлялась к своему обиталищу. Неожиданно она заметила выходившего из казино молодого человека. Лицо его было небрито и отличалось нездоровой бледностью, глаза щурились от яркого солнечного света. Зачарованно глядя на него, она остановилась. От мужчины исходил запах мочи… У него был отсутствующий взгляд и темные круги под глазами. – Мистер!.. Ален осмотрелся, чтобы убедиться, что обращаются именно к нему. От усталости он едва держался на ногах, безнадежно пытаясь понять, как Надя ухитрилась проиграть не только выигрыш, но и его 200 000 долларов в тре-велс-чеках, лежавших в сейфах «Мажестик», не говоря о 500 000 долларов, испарившихся в одной ставке. Она сказала единственную правду: «Я сыграю три раза, только три раза!» Три ставки, которые подписали ему смертный приговор. – Не могли бы вы оказать мне услугу? Он молча посмотрел на нее, ослепленный солнцем, бессильно опустив руки, сотрясаемый внутренним страхом. Игра в казино продолжалась, и Надя даже не заметила его исчезновения. – Пройдемте со мной. Это недалеко. Измотанный усталостью, неспособный думать, он двинулся следом за ней. Его единственным желанием было окунуться в прохладные волны моря, чтобы они унесли его в никуда, отмыться, утонуть… Он безразлично смотрел на гибкую фигуру и танцующую походку незнакомки. – Это здесь… Он вошел в кабину из тростника: две пляжные кровати, стол, два стула, душ, зонт… Мэнди опустила свою пляжную сумку на песок, села на корточки и достала из нее флакон с маслом для загара. Ален рассеянно наблюдал за ее действиями. Она сняла через голову прозрачные покровы, и он с удивлением обнаружил, что все ее тело покрыто синяками. Она заметила его взгляд, но не посчитала нужным объяснить ему, что это – «сувенир», оставленный ей водопроводчиком. Мэнди протянула ему флакон, затем легла на одну из кроватей, расстегнула бюстгальтер, сняла трусики, оставив только шляпу и очки. Он даже не поинтересовался, как ее зовут. До сих пор он не произнес ни слова, совершенно не думая о том, какое может последовать продолжение. – Полейте мне спину маслом. Он открыл флакон, неловко наклонил его. Большая часть содержимого пролилась ей между ягодиц. – Помассируйте… Кончиками пальцев он начал растирать масло по ее телу. – Сильнее! Маслянистыми руками он ослабил узел галстука, испачкав при этом рубашку. – Сильнее! Не бойтесь сделать мне больно! Она начала изгибаться, ухватившись руками за изголовье кровати, издавая глухие и продолжительные стоны, напоминавшие животное рычание. Ален почувствовал, как из глубины усталости в нем поднимается горячая, кипящая струя. Его руки скользили по ее липким, бронзовым от загара бедрам… Вдруг она села, широко расставив ноги, схватила флакон и вылила остатки масла ему за рубашку. Затем прижалась лицом к его животу, шаря по его телу, пока не схватила своими нервными пальцами самую интимную часть тела… Ален поднял глаза к небу. Наступила темнота… Задыхаясь, совершенно опустошенный, он упал на кровать. Схватив свои сохнувшие плавки, Ален надел их и, не взглянув на нее, выскочил из кабины. Он бросился к морю, перепрыгивая через несколько ступенек деревянной лестницы, ощущая животную радость от прикосновения ног к раскаленному песку, и как торпеда вошел в море. (обратно)
Глава 16
Уснуть было невозможно. В три часа ночи, раздираемый угрызениями совести и сомнениями, Самуэль Баннистер все еще сидел в кресле в гостиной. После разговора с Корнелиусом Грантом он пришел к окончательному выводу, что дело принимает катастрофический оборот. Желание отомстить «Хакетт» отправило его друга на гильотину. Он налил себе пятый стакан виски и задал вопрос, на который не находил ответа: как выйти из игры и чистыми выбраться из этого дерьма? Как повернуть дело вспять? Занять денег и возместить потраченное? Сходить к Мюррею, попытаться разжалобить его, чтобы он не подавал в суд? – Самуэль… Баннистер от неожиданности так резко подпрыгнул, что половина стакана виски выплеснулась ему на брюки. Голос Кристель был ласковым… Это сразу же насторожило его. С того времени, как они поссорились, он не обменялся с ней и двумя словами. – Он: «Я ухожу от тебя.» – Она: «Убирайся к черту». Оставив супружеское ложе, он поспешил спать в комнату, предназначенную для гостей. После этого она не задавала ему больше никаких вопросов. Ужинали вместе, раскрывая рот лишь для того, чтобы проглотить пищу. Она робко присела в кресло, стоявшее напротив. При других обстоятельствах она бы показала ему, как в три часа ночи пить виски в одиночестве! – Самуэль… – Да… – Сколько лет мы с тобой женаты? – Не помню… Двадцать пять? Двадцать шесть?.. – Двадцать пять. Я хочу тебе сказать…- Она закусила губу и, не глядя на него, прошептала:- Я сожалею о том, что произошло в тот вечер. Сожалею… Ты весь занят Пайпом… Я разнервничалась… Он бросил на нее пронзительный взгляд, стараясь понять, не прячется ли за несвойственным ей тоном очередная ловушка – начало нового скандала. – А! Все это ерунда. – Нет, нет… Я была не права! Я должна была тебя поддержать, быть рядом с тобой. А вместо этого… – Ерунда все это, Кристель, забудем. – Тебе не спится? – Нет. Я думаю. – Ты по-прежнему хочешь уйти? – Нет. Он поклялся Алену приехать. Но он не только не собирается ехать, но даже не может попросить его возвратиться. – Его вышвырнули вон, ты понимаешь? – Понимаю. Теперь самым естественным было бы сказать ей о том, о чем он никогда не собирался говорить. – Ты должна знать, Кристель, «Хакетт» только что выставил и меня…***
Ален вышел из воды, прошел к душу и потянул за цепочку. От сильной ледяной струи у него перехватило дыхание. Усилием воли он заставил себя оставаться под душем в течение нескольких долгих минут. Как сообщить Баннистеру о провале? Он подошел к инструктору по плаванию и попросил показать свободную кабинку. – Все заняты, мистер. Ален недоверчиво посмотрел на него. – Сейчас только десять утра. Не все клиенты пришли. – Они арендуют их из года в год… Хотите, поставлю кровать у бассейна? Возвращаться в отель ему не хотелось. Вначале надо выспаться, а потом решать, стоит ли сдаваться полиции. Из-за разницы во времени он сможет связаться с Баннистером не раньше чем в четыре часа. Он спустился в раздевалку, расположенную под землей, и подошел к кассе, за которой сидела молодая блондинка. Ален выбрал темные очки и цвета морской волны майку. – Номер вашей кабины, мистер? – У меня ее нет. На лице блондинки появились темные тучки. – Ну что ж, оплатите, когда будете уходить. Двести восемьдесят франков. Знаете…- начал он, стараясь скрыть смущение. Он так проигрался в казино, что ему нечем было заплатить за вещи. – Моя фамилия Пайп! Мой шофер рассчитается с вами. Он вышел на солнечный свет. В кармане его брюк оставалось еще несколько банкнот, но брюки, как и остальная замасленная одежда, все еще находилась в кабинке изнасиловавшей его истерички. Лучше он потеряет деньги, чем встретится с ней еще раз. – Ваша кровать, мистер. Желаете зонтик? – Нет, спасибо, нет… Извините, моя машина осталась на стоянке, не могли бы вы пригласить сюда шофера? – Разумеется! Какая модель? – Белый «роллс»,- смущаясь, сказал Ален.- Шофера зовут Норберт. – Будет исполнено. – Принесите, пожалуйста, крепкий кофе и что-нибудь поесть. – Хорошо. Что бы вы хотели? – Яйца, ветчину, немного красного вина. – Будет исполнено, мистер.
***
Принц Хадад имел в «Мажестик» три люкса, где он мог разместиться в любой час и в любое время года. В сезон он снимал восемнадцать номеров, разбросанных по этажам таким образом, что его деловые встречи не пересекались с моментами собственного удовольствия. Этими деликатными вопросами занимался его личный секретарь Кхалил. В основную задачу Кхалила, наделенного чрезвычайными полномочиями, входило предвидение желаний хозяина до того, как они у него возникли, и материализация малейших его капризов. Так, например, пять апартаментов, расположенных на четвертом этаже, были зарезервированы для случайных гостей, иначе говоря, для проституток высшего класса, которым платили сумасшедшие деньги, но которые, благодаря своей образованности и манерам, могли вполне сойти за жен министров. Деньги они получали исключительно за ожидание… Обычно к полудню Хадад заканчивал игру в казино и часто перед сном утолял свой маленький сексуальный голод с одной из них. На пятом этаже жили последняя из его официальных жен, трое детей и несколько кормилиц. На седьмом размещался сам Хадад, Кхалил и Гонсалес, его личный парикмахер. Гонсалес должен был находиться в полной боевой готовности в любое время суток. Любитель изысканной пищи, Кхалил имел в ресторане открытый счет. Дни он проводил загорая на пляже, за едой, смакованием тонких вин, у телевизора или трахая одну из проституток, особенно ему понравившуюся. Хадад ленился и, опасаясь отрицательных эмоций, часто просил Кхалила первым испытать претендентку… Все эти привилегии, обеспечивавшие ему сладкую жизнь, создавали, естественно, определенные неудобства. Принц терпеть не мог, когда кто-нибудь из его окружения был не в форме в момент его возвращения из казино. Кхалил посмотрел на часы: девять утра. Он подавил зевок и обратился к четверым девушкам, дремавшим на диване: – С минуту на минуту здесь будет принц, так что советую подготовиться. Постельные способности троих он оценил в баллах: 12 – финке, 14 – немке, 13 – француженке. Несмотря на чувство долга, он не мог «испытать» четвертую, смешение кровей которой не позволяло даже ей самой точно определить свою национальность. Ее звали Карина. – Карина! Встань! Ты слышала, что я сказал? Это была высокая стройная блондинка. Она улыбнулась ему, сладко потянулась. От этого движения грудь ее подалась вперед, и сквозь тонкую натянувшуюся материю проступили твердые соски. Кхалил пресыщенным, ленивым взглядом посмотрел на нее. – Устала? – Немного… – Держи… Он бросил ей пачку банкнот. Она наклонилась, подняла деньги с пола и кончиком языка провела по губам, делая вид, что собирается съесть их. – Ммм… Вкусно! – Ты смогла бы съесть их? – Запросто,- ответила Карина. – Черта с два! Какая ставка? Какое ваше мнение?- обратился Кхалил к девушкам. – Один съедает, один себе,- предложила француженка. Номинал?- раздался голос немки. – Ассигнации по 500 франков,- не задумываясь, предложил Кхалил и достал из кармана огромную пачку денег. Для него, как и для Хадада, деньги не имели никакого значения. – Начинаем? – Внимание! – Я готова,- ответила Карина. Финка захлопала в ладоши в предвкушении сенсационной игры. – Жри!- приказал Кхалил, протягивая первую купюру. Карина, смеясь, взяла ее, скатала в шарик и проглотила. – Вот так! – Вкусно? – Восхитительно! Еще… Она широко раскрыла свою сумочку, чтобы удобнее было укладывать премиальные. Проглатывая вторую ассигнацию, Карина несколько изменила технику: перед тем как проглотить, она ее пожевала. На пятнадцатой ее лицо стало землистого цвета, но она храбро проглотила и ее. Теперь каждая очередная купюра сопровождалась глотком шампанского. На лбу у девушки выступила испарина. – Двадцатая!- крикнула немка.- Двадцать первая! Проглотив двадцать пятую ассигнацию, Карина с перекошенным лицом бросилась в ванную. Ее стошнило. Кхалил пожал плечами: – Когда я говорю, что деньги не приносят счастья, мне никто не верит.
***
– Вы звали меня, мистер? – Да, Норберт,- ответил Ален, открывая глаза.- У меня небольшие неприятности с одеждой. Какой-то тип опрокинул мне на брюки кетчуп… – Вы хотите, чтобы я съездил за одеждой в отель? – Это было бы очень любезно с вашей стороны. Брюки, рубашку, туфли… Все найдете в шкафу. – Больше ничего не надо, мистер? – Я вышел без денег… – Сколько, мистер? – Тысячу франков. Норберт достал из кармана две ассигнации по 500 франков. – Возьмите, пожалуйста. Может нужно еще?- спросил Норберт. – Нет, нет, спасибо. Этого достаточно. – Хорошо, мистер. Я скоро вернусь. Он улыбнулся, надел фуражку и по-военному повернулся на каблуках. Накануне вечером он выиграл у двух других шоферов «роллсов» 8000 франков в покер. Но, в отличие от своего хозяина, он не позволил какой-то Наде Фишлер выудить их у него. Ален задумчиво смотрел ему вслед. От всего состояния у него осталось всего лишь 20 000 долларов, которые Сэмми уговорил взять на карманные расходы. В другое время и при других обстоятельствах это были бы деньги, но в Каннах этого едва хватало на день на чаевые.
***
На кухню влетел поваренок. – Он уходит! Дремавшая бригада поваров вскочила на ноги. Марио поправил узелок бабочки под подбородком и направился в игорный зал. Было десять часов утра. Увидев Марио, принц сделал ему знак рукой. Конец игры сопровождался всегда одним и тем же ритуалом. У Хадада была странная прихоть: живя в «Мажестик», он питался только с кухни «Палм-Бич». Четыре человека на кухне всегда были готовы приготовить любое блюдо, заказанное принцем, и плевать они хотели на бессонные ночи. Сезон продолжался три месяца, в году их было 12, а чаевые, которые оставлял Хадад, позволяли им комфортно жить оставшиеся девять месяцев. – Принц? Что прикажете? Рыбу или мясо? – Рыбу. Жареную, просто жареную. И блины. Мысленно Марио поздравил себя: принц не заказал суфле. – Фрукты? – Да. Я хотел бы сесть за стол через четверть часа. – Будет исполнено! Марио бегом пересек зал, влетел на кухню и отдал команду: все принялись за работу. У служебного входа в «Палм-Бич» под парами стоял грузовичок, в который загружалась еда и теплой доставлялась в «Мажестик». Хадад пребывал в отличном настроении. За несколько банков он до нитки обобрал Надю Фишлер. В прошлом году он направил к ней Кхалила, чтобы тот передал ей его предложение переспать с ним.. К его большому удивлению, она отказала. Но принц прекрасно знал, что добродетель женщины растворяется как дым перед определенным количеством нулей. Задетый за живое ее отказом, он поклялся, что возьмет ее по-другому… Ничто так не радовало его, как вид троих сыновей от последней жены, они громко смеялись бултыхаясь в бассейне. Когда мальчики заметили его, они издали оглушительный вопль радости. – Папа!- крикнул старший.- Сделай нам маленькие караблики! Хадад опустил руку в карман… Десять минут в день, перед тем как поесть, потрахаться и выспаться, он уделял детям.
***
Ален набрал воздуха в легкие и нырнул в глубину бас-сейна. Под трехметровой толщей воды он растянулся на голубой плитке и оставался в таком положении до тех пор, пока хватило воздуха в легких. Вынырнув, он глубоко вдохнул и ухватился за бортик бассейна. Он закрыл глаза и стал слушать детские крики, раздававшиеся рядом. Неожиданно к его щеке прилипла мокрая бумага, и сразу же последовал громкий детский смех. Он открыл глаза и был поражен увиденным: поверхность бассейна была покрыта огромным количеством бумажных корабликов, сделанных из пятисотфранковых купюр. – Ахмед!- строго сказал Хадад.- Простите его, пожалуйста. Принц подал Алену руку и помог ему выбраться из бассейна. – Поздравляю с выигрышем,- сказал принц, узнав Алена и не выпуская его руки.- К сожалению,- уточнил он, разыгрывая смущение,- я только что выиграл вторую партию у вашей партнерши. Она все проиграла… – Такова игра,- ответил Ален. – Меня зовут Хадад. Принц Хадад. – Ален Пайп. – Очень приятно. Рад буду сыграть с вами партию-реванш. Ален вспомнил фразу Самуэля: «Веди себя как богач». – А почему бы нет!- ответил он. Они еще раз пожали друг другу руки. Ален направился к своему лежаку, не заметив молоденькой блондинки, которая, сидя в пяти метрах от него на краю бассейна, отталкивала большим пальцем правой ноги кораблики-деньги, ветром сносимые к ней. Она подняла лицо вверх, навстречу солнечным лучам. У Хадада дрогнули ноги: Мэрилин! Он десятки раз видел фильмы с ее участием… Она была миражем его ночей. Она здесь! К женщинам принц сам никогда не обращался. Если он хотел с кем-то познакомиться, этим занимался Кхалил. Но сейчас Кхалил ждал его в «Мажестик», вместе с сонями проститутками… Впервые в жизни Хадад нарушил один из своих принципов: он подошел к незнакомке, сидевшей к нему спиной, наклонился и прошептал на английском языке: – Я – принц Хадад. Вам нравятся мои маленькие кораблики?
***
Он проснулся то ли от кошмара, то ли от тени, упавшей на него. – Хэлло! Над ним против солнца стоял мужской силуэт, и Ален, видя общие очертания, не мог различить детали. Рядом, на маленьком столике, стояла заказанная им еда. Он поднял крышку судка и потрогал пальцами яйца, они были еще теплыми. – Вы не узнаете меня?- спросил голос.- Мы играли с вами в казино. Мужчина сделал шаг в сторону, и его осветило солнце. Ослепленный солнечными лучами, Ален различил выцветшие шорты-бермуды и теннисную рубашку. Из ворота рубашки торчала индюшачья шея с головкой Гамильтона Прэнс-Линча. Ален вскочил на ноги. – Да, не беспокойтесь, друг мой! Ешьте, пожалуйста, яйца. Они сейчас остынут. Позволю себе представиться: – Гамильтон Прэнс-Линч. – Пайп… Ален Пайп. – Американец? – Да. – С Запада? – Из Нью-Йорка. – И я из тех краев. Ешьте, ешьте. Ален набросился на яйца. Он жевал их с таким остервенением, словно это было жесткое мясо, и никак не мог проглотить. – В отпуске? – Да…- промычал он. – Прекрасная страна, не так ли? Мы с женой приезжаем сюда уже десятый сезон подряд. Где вы остановились? – Отель «Мажестик». – Мы тоже. – Когда прибыли? – Вчера. Возможно, копы уже стоят за его спиной или притаились где-нибудь в тени. – Чем зарабатываете на жизнь, мистер Пайп? Ален молча глазами указал ему на бутылку вина. – С удовольствием,- сказал Прэнс-Линч.- Надеюсь, что я не помешал вам? Едва справляясь с дрожью в руках, Ален налил себе вина, проклиная Баннистера за то, что тот не предусмотрел такого рода вопросы. – Совсем нет,- промямлил он. Гамильтон сделал маленький глоток. – Очень приятное! Просто великолепное! Так каким делом вы занимаетесь, мистер Пайп? – Бизнесом… Гамильтон с глубоким уважением посмотрел на него. – Интересно… Он выдержал паузу и небрежно обронил: – Я работаю в банке. Возможно, вы знаете банк «Бурже»? Ален поперхнулся. Вино неожиданно приобрело вкус уксуса. – У нас тридцать филиалов. Ален весь сосредоточился на еде и не смел поднять глаза на Прэнс-Линча. – Вы любите яйца, да? Зачем продолжать эту пижонскую игру? В его голове уже сложилось фраза: «Хорошо, Прэнс-Линч, прекратим валять дурака. Я сдаюсь! Везите меня в тюрьму». – Ваша вчерашняя партнерша – большая гурманка. Надо иметь крепкие нервы, чтобы находиться рядом с ней. Снимаю шляпу! Говорят, что она потенциальная самоубийца: любит проигрывать. Вы любите проигрывать, мистер Пайп? Так как Ален молчал, он добавил: – Я – нет! Обожаю выигрывать. Он встал, склонил в приветствии голову и сказал: – Ваше вино – превосходно, мистер Пайп. До скорой встречи! Мы, конечно же, еще увидимся. Очень рад был с вами познакомиться! Он пошел, лавируя между загорающими… Солнце палило нещадно. Ален завернулся в простыню, его бил озноб.
***
– Вы читали сегодняшнюю газету?- спросил Цезарь ди Согно у Гольдмана и гордо помахал «Ницца матэн». На четвертой странице была помещена их фотография на ступеньках «Мажестик». Текст под фотографией сообщал: «Цезарь ди Согно вручает премию «Лидер» Луи Гольдману». – И это только начало!- сказал Цезарь.- Скоро прибудут газеты и журналы из Парижа… Выходя из «Мажестик» через черный ход, он все-таки столкнулся с Марком Голеном. Голен вежливо спросил у него, не чей счет отнести расходы по приему, на его или Гольдмана. – Гольдмана!- не моргнув глазом, ответил Цезарь. Он знал, что Гольдман на этот вопрос ответит: «Цезаря ди Согно!» – Триумф, Лу!.. Какой триумф! Вы заказали на вечер столик? – А вы? – У меня столько приглашений, что я просто в затруднительном положении! И никого ведь нельзя обидеть! – Кто будет за вашим? – Достаточно…- неопределенно ответил Гольдман. – Почему бы нам не сделать общий стол? – С кем? – Хакетты, Прэнс-Линчи, граф и графиня де Саран… – Вы знакомы с графом?- удивился Гольдман. – Они очень, очень старые мои друзья! Мэнди – моя подружка.- Желая заполучить Гольдмана, Цезарь рискнул добавить:- Присоединяйтесь к нам с вашей женой и друзьями, я приглашаю. – Нет вопросов,- ответил Гольдман, который еще никак не мог заказать столик.- Согласен, но с условием – приглашаю я. – Друзья мне этого не простят,- возразил Цезарь. – Хорошо, я попытаюсь уладить это… Он направился в бар. Пикантность его положения заключалась в том, что он сам не был никем приглашен и за душой у него не было ни цента.
***
От очередного кошмарного сновидения его освободил женский голос. – Хэлло! Он поднес ладонь к лицу, прикрывая глаза от слепящих лучей солнца. – Меня зовут Сара. Сара Бурже. Мышцы его тела напряглись. – Лежите,- сказала она.- Я пришла к вам в качестве посла. Ален приподнялся и сел на край лежака. – Пайп… Ален Пайп. Она села рядом с ним. – Я знаю. От имени двух семей мне поручено пригласить вас на сегодняшний благотворительный концерт. – Каких семей?- пробормотал Ален. – Бурже и Хакетт. Ее нельзя было назвать ни красавицей, ни дурнушкой: в ней чувствовалась какая-то дисгармония. Взятые по отдельности, части ее тела были великолепны: прекрасные ноги, большие карие глаза, темные волосы, ироничный рот, руки, линия плеч… Но все вместе не играло. Природа сделала невозможным согласие этих совершенных частей… – Значит… да? Он с ужасом представил себя сидящим между Арнольдом Хакеттом и Гамильтоном Прэнс-Линчем. – Хочу признаться вам, что представления наводят на меня скуку, а благотворительность надрывает душу. За темными стеклами очков Ален увидел ее огромные глаза. – Вы знакомы с Гамильтоном?- спросила она. – Нет. – Как так! Вчера вы ощипали его в баккару. А десять минут тому назад разговаривали с ним. Плюгавенький такой… Это карманная собачонка моей мамаши: железная женщина в бархатных корсетах… Что он вам наболтал?.. Ален неопределенно покачал головой. – Расскажите мне, мистер Пайп!.. Какую пользу может поиметь от вас Гамильтон? – Не знаю. – Он – подонок! Самая грязная свинья из всех, которые когда-либо рождались на земле. У Алена затекли ноги, и он сменил положение. – Снимите очки, я хочу видеть ваши глаза. Снимите… Ален исполнил ее просьбу и заморгал от яркого света. – У вас невинный взгляд. Хотите один совет? Не соглашайтесь ни на одно предложение моего отчима. Сегодня вечером я все время буду рядом с вами. Я не дам ему вас одурачить. Ален снова надел очки. – Я занят. – Обманщик! Встречаемся в девять в холле «Мажестик»! Спасибо, и не опаздывайте. Она удалялась от него уверенным шагом. Обескураженный, он с трудом дошел до бассейна и бросился в воду. (обратно)
Глава 17
– Вленски, вы – осел! – Да, мистер Фишмейер. – Вы допустили грубейшую профессиональную ошибку! – Я? – Вы! Отныне ваша карьера в этом доме закончена. – Но, мистер Фишмейер… – Молчите! Мы переводим на счет какого-то клиента миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов, и вы ничего не замечаете! «Бурже» вы не нужны! – Прошу прощения, мистер Фишмейер, но я вам сигнализировал о задолженности. – Вы мне ничего не говорили. Никогда! – А триста двадцать семь долларов, мистер Фишмейер! Клянусь!.. Я говорил об этом здесь, в этом кабинете. – Триста двадцать семь долларов,- завопил Фишмейер.- Что я должен был с ними делать? Он схватил трубку телефона, который уже давно трезвонил, и прогремел в трубку: – Меня здесь нет!- Перевел дыхание.- У вас хватает наглости напоминать мне о трехстах двадцати семи долларах, когда из под носа уплывает больше миллиона! Пайп! Что он за человек? Снова зазвонил телефон. – Я же вам сказал…- закричал Фишмейер. Вленски увидел, как неожиданно он замер и, внимательно слушая, безумно завращал глазами. Прикрыв микрофон ладонью левой руки, он сказал: – Выйдите, Вленски! Все!.. Разговор закончен! Вон!.. – Одно только слово, мистер Фишмейер… – Вон!.. По его побагровевшему лицу Вленски понял, что данный момент не самый лучший для продолжения разговора. Он на цыпочках подошел к двери и неслышно закрыл ее за собой. – Как ваши дела, мистер Прэнс-Линч?- изменившимся голосом спросил Фишмейер. – Хорошо, Абель, хорошо… Вы разговаривали с Вленски? – Только что, мистер Прэнс-Линч. – Мы можем рассчитывать на его молчание? – Безусловно. – Поступили чеки, подписанные Аленом Пайпом? – Еще нет, мистер. – Если это произойдет, вы знаете, что нужно делать. – Да, мистер Прэнс-Линч: оплачивать. – Прекрасно Абель! А теперь хорошенько слушайте меня. Вам необходимо срочно выполнить для этого клиента то, о чем я сейчас вас попрошу… Абель Фишмейер весь обратился в слух. Через секунду от удивления у него отвисла челюсть.***
К обеденному времени не осталось ни одного свободного столика, все были зарезервированы. Официанты катали между ними столики на колесиках, уставленных блюдами. Сидя в тени, о чем-то своем болтали старушки, на вышкеразминались прыгуны в воду… Теоретически находиться рядом с бассейном с обнаженной грудью было запрещено, но практически все особи женского пола от шестнадцати до пятидесяти лет и старше демострировали свои прелести. У некоторых после искусного вмешательства врачей грудь стояла под углом в девяносто градусов вне зависимости от позы, в которой находились их владелицы. Когда они лежали на спине, их сиськи, как жерла пушек, смотрели прямо в небо. Войти незамеченным в зону бассейна было невозможно, десятки глаз устремлялись на новичка. Стеснительные заворачивались в халаты или простыни и снимали их, лишь добравшись до своего места. Другие, гордясь своим телом или, наоборот, игнорируя его изъяны, шли по керамической плитке с той же уверенностью, как если бы были одеты в вечернее платье. Жизнь в Каннах проходила в ускоренном темпе. Встречи случались вечером, а расставания иногда уже ночью. Страсти были бурными, разочарований в любви не существовало, клятвы не признавались. Появление Норберта в черной униформе не прошло незамеченным. Он величественно, не обращая на насмешки полуобнаженной публики никакого внимания, обошел бассейн. – Мистер… Он наклонился к лежавшему Алену и увидел, что тот спит. – Мистер Пайп,- повторил он, сняв фуражку. – Что?- встрепенулся Ален. – Все в порядке. Я оставил вашу одежду в раздевалке и позволил себе расплатиться за ваши покупки. – Спасибо, Норберт, спасибо. – Мне кажется, вам не следует лежать на солнце. Почему бы вам не отдохнуть в отеле? – Который час? – Одиннадцать. – Вы позволите мне окунуться в последний раз? На лице Норберта появилась вежливая улыбка. – Я буду ждать вас у выхода. С тем же достоинством он проделал обратный путь через весь бассейн. – Хэлло, мистер Пайп! Ален увидел толстого мужчину с огромной сигарой во рту. – Луи Гольдман,- представился толстяк. Он схватил руку Алена и сердечно пожал ее. – Вчера вечером вы дали фору! Как закончилась ночь? – Пожалуй, плохо…- ответил Ален. – Вы позволите? Гольдман бесцеремонно сел на лежак. – Надя – сумасшедшая! Вы давно ее знаете? Если бы она только захотела!.. Мы все лежали у ее ног, умоляли сниматься в кино… Она прошла мимо фантастической карьеры. Он подозвал официанта. – У вас есть холодные лангусты? Надо заморить червячка,- сказал он Алену.- Вы не против? И принесите бутылочку «Дома Периньон», похолоднее. Как и все, Ален знал это имя. Но откуда Гольдману известно его? – Вы спали или еще не ложились? – Еще не ложился. – Плохо, старина. Если собираетесь быть сегодня вечером в форме, надо выспаться. Игра в казино и боксерский ринг – одно и то же. Никакого алкоголя, никаких женщин, отдых и физкультура! Чем вы занимаетесь в данный момент? – Бизнесом… – Мне кажется, вы в хороших отношениях с Хададом. Поговаривают, что он слишком крут. У вас были с ним общие дела? – Нет,- ответил Ален. Гольдман задал ему еще несколько вопросов, затем начал рассказывать о кинематографической индустрии вообще и своих планах в частности. – Ваше вчерашнее поведение натолкнуло меня на мысль, что из вас мог бы получиться неплохой продюсер. Это развлекло бы вас. Э! Поставьте все сюда. Официант поставил поднос с лангустами на столик и открыл бутылку шампанского. Гольдман налил вино в стакан и протянул Алену. – У вас будет интересная компания за столиком? – Я не иду на концерт. С тех пор, как я прилетел из Нью-Йорка, я еще не спал. Ален продолжал держать стакан в руке, а бутылка была уже наполовину опорожнена. Каким образом Гольдман мог пить так быстро? – Хорошенько выспитесь, и милости прошу к нашему столу. Моя жена будет счастлива познакомиться с вами. Вы – мой гость! – Спасибо,- поблагодарил Ален,- но я не думаю, что… Гольдман сделал последний глоток и встал. – Мой шофер заедет за вами. Он приветственно помахал рукой и ушел. Теперь все лежаки был заняты. Бассейн бурлил… Алену снова захотелось искупаться. Едва он сделал два шага, как наткнулся на официанта, которому Гольдман делал заказ. – Извините, мистер, лангусты и шампанское, заказанные мистером Гольдманом, я занесу на ваш счет.
***
– Только две прелестные женщины из всех купающихся обошлись без монокини! Лучезарно улыбаясь, Цезарь послал воздушный поцелуй Саре и Эмилии. Затем, как лучшим своим друзьям, пожал руки Арнольду и Гамильтону. – У вас есть секрет вашей стройности? Покупаю его! Диета или спорт?- Он поцеловал руку Виктории Хакетт, единственной женщины, одетой в платье. – Миссис Хакетт, у вас потрясающий муж! Все вам завидуют. – Выпьете?- спросил Гамильтон. – Никогда до обеда ни капли. Предполагаю, что столик вы уже заказали. Прекрасно! Предлагаю аннулировать заказ. Вы – мои гости! – Но, мистер ди Согно,- запротестовала Виктория. – Да, да, да! Я решил собрать вместе всех самых симпатичных людей в Каннах. Вы знакомы с моими друзьями, графом и графиней де Саран? Они будут рады разделить с вами компанию. – Видите ли…- заколебался Хакетт, бросив вопросительный взгляд на Эмилию Прэнс-Линч,- у нас заказ на шесть персон, и еще одного человека пригласили дополнительно. – Чем больше сумасшедших, тем веселее!- воскликнул Цезарь. – Мы с удовольствием присоединимся к вам, но не может быть и речи, чтобы мы были вашими гостями. – Нужно быть проще, мистер Прэнс-Линч. Примите мое приглашение, и это доставит мне огромное удовольствие! – Я разделяю мнение Гамильтона,- вступил в разговор Хакетт.- Согласен объединить наши столы при условии, что все вы – наши гости. – Пригласим еще моего друга Гольдмана и его жену Юлию. Она очаровательна. Хорошо? А сейчас бегу обрадовать хорошей новостью графа и графиню. Он быстрым шагом направился в сторону кабинок. – Терпеть его не могу,- сказала Сара. – А я тем более,- добавила Эмилия. – Почему?- удивилась Виктория.- Он такой милый! А какие утонченные манеры! – У него повадки сутенера,- уточнила Сара, незаметно посмотрев на отчима. – Сара!- возмутилась Эмилия. – Его знают во всех уголках земли,- сказал Гамильтон. – А премия «Лидер» имеет огромный резонанс…- добавил Арнольд. – Хочу признаться вам,- заговорила Виктория,- я с удовольствием принимаю приглашение. Впервые в жизни я буду находиться рядом с настоящими графом и графиней.
***
– Вы похожи на кого угодно, только не на араба. – О! Даже так!- удивился принц.- Почему? – У вас голубые глаза,- ответила Марина. От удовольствия Хадад рассмеялся. Она была не только точной копией Мэрилин, но совершенно не скрывала своих мыслей. В этом женском теле жила душа ребенка. «Кадиллак» медленно ехал по Круазетт. Между коленями Марина зажала один из многочисленных корабликов, сделанных из пятисотфранковых ассигнаций. – Вы в Каннах одна? – Да. – Чем занимаетесь в жизни? – Ничем. Я ничего не умею делать. А вы? – Я тоже. Ничего! Вы приехали с друзьями? – Нет. Меня пригласил какой-то старикашка. Он оплатил дорогу. – Старикашка?.. Какой-то старикашка?- с подозрением спросил Хадад. Несмотря на ее внешность, она, возможно, проститутка, которых здесь более чем предостаточно. – Очень неприятная рожа! Извращенец. Он содержит Пэппи, мою подружку. – Но пригласил-то он вас? – Ну и что? Все произошло в течение пяти минут… Я жила тогда в квартире Пэппи. – А почему не у себя? – У меня нет квартиры. – Где же вы живете? – Где придется. Это зависит от парней, с которыми я встречаюсь. Поссорилась с Аленом, ушла к Гарри. Затем возвратилась к Алену, но у него не работал душ… Я пошла к Пэппи и там встретила этого старого маразматика. Он купил билет на самолет… – Как это?.. – Вот так. – Почему вы сказали, что он извращенец? – Он любит смотреть, когда я занимаюсь спортом. – Теннис? Гольф? – Отжимание. Люблю делать отжимания. – А где он… этот маразматик? – Здесь, в «Мажестик». Он приехал с женой. – Думаю, что за все платит он. – Конечно! Не я же,- хихикнула Марина.- У меня нет ни цента. – Марина, я не спал всю ночь… Сейчас я собираюсь поесть вместе с друзьями. Не хотите присоединиться к нам? – Нет. Я хочу забрать свою шляпу, забыла ее в номере… – Сегодня вечером состоится благотворительное представление. Я вас приглашаю. – А как надо быть одетой? – Вечерняя одежда… длинное платье… – Тогда пустой номер. У меня только юбка и джинсы. – Это легко поправить,- сказал Хадад.- Мой шофер и секретарь будут сопровождать вас по магазинам. Покупайте все, что понравится, не стесняйтесь. – Правда? – Правда. У вас есть драгоценности? Марина рассмеялась. – Зачем? – Они вам не нравятся? – Плевать! Это старит. – Купите самые лучшие из тех, которые вам понравятся: Ван Клиф, Жерар Картье, Бушрон… У вас только одна трудность – выбрать! Я хочу, чтобы вы выглядели красивее королевы! Он взял ее руку и поцеловал кончики пальцев. – Вы так удивительно похожи на Мэрилин Монро! Марина резко выдернула руку. – Черт! И вы! Все говорят одно и то же! Когда же это закончится?!
***
Цезарь осторожно постучал в дверь кабины. – Мэнди? Это Цезарь ди Согно. Вы там голая или можно войти? – Я – голая! Входите! – Секунду!- послышался голос Хюберта. Он торопливо набросил на тело жены халат красного цвета. Мэнди пожала плечами. – Цезарь знает мое тело лучше, чем вы. – Это еще не довод,- занервничал Хюберт.- Входите! – Самая очаровательная пара на Лазурном берегу! Граф, я знаю вас уже десять лет, и с каждым годом вы выглядите на два года моложе! Что касается Мэнди… нет слов… Он легко, по-дружески потрепал ее по затылку. – Ты была удивлена, если бы узнала, сколько женщин завидует твоей красоте. Ты самая красивая! – На самом деле? Кто, Цезарь, кто? – Расскажу сегодня вечером. Вы собираетесь на представление? – Мы будем за одним столиком с четой Синьорели. – Нет, Хюберт, нет! С ними вы умрете от тоски! – Ты хочешь что-то предложить?- спросила Мэнди. – Еще бы! Можно провести время с очень веселыми людьми! – С кем? – Например, с Гольдманом, продюсером… – Мне кажется, что он еврей,- забеспокоился граф. – Никто не совершенен,- парировал Цезарь.- Он не заразный и к тому же – гений, и принадлежит к белой расе. Будут Хакетты, Прэнс-Линч и авиационный магнат Онор Ларсен. – Слишком поздно отказывать Синьорели… – Хюберт,- раздался голос Мэнди,- мы их видим чуть ли не ежедневно. Я люблю смену лиц!.. – «Членов»,- уточнил про себя Цезарь. – Скажите им, что у меня мигрень. – А если их столик окажется рядом? – Жизнь коротка! Сейчас лето, и всем на все наплевать,- энергично подвел итог ди Согно.- Хюберт, вы позволите мне уладить этот вопрос? Я скажу, что пригласил вас раньше, они поймут. – Послушайте, Цезарь,- начал граф,- я согласен, но при одном условии – вы мои гости. – Никогда! Я лучше предпочту отказать себе в удовольствии видеть вас за своим столом! – Каким вы можете быть занудой, Хюберт. Какая разница, кто платит?! Главное – быть вместе и веселиться… – Графиня права,- согласился Цезарь.- Даете зеленый свет на Синьорели? – Да, да, да!- затараторила Мэнди. Она поднялась и стала под душ. Голая. – Цезарь, щадя самолюбие графа, отвернулся. – Хорошо,- согласился Хюберт де Саран.- Но,- добавил он, понизив голос,- дайте честное слово, что счет оплачу я. – Никакого слова я вам не дам,- ответил Цезарь, рассмеявшись. – Цезарь, обещаете? – Сегодня вечером в девять тридцать. Жду вас в холле! Бай-бай, Мэнди! Он вышел, даже не взглянув на нее. Она не принадлежала к женщинам его типа. Каждый раз, когда они занимались любовью, он чувствовал себя лишенным прерогативы самца. Кроме того, ему претило издеваться над женщиной: бить ее, царапать, кусать… Ему нравились нежность, ласки и страсть. На террасе он заметил Бетти и гиганта Ларсена. Они обедали. Он поцеловал Бетти в лоб, взял оливку, сделал глоток шампанского и протянул руку Ларсену. – Клянусь вам, что все, что я сейчас скажу,- ложь! – Кстати, здесь все – подделка! Иногда я спрашиваю себя: настоящий ли я? Бетти, ты, конечно, будешь сегодня за моим столиком. Не спорь! Все, кого я сегодня пригласил, согласились прийти лишь потому, что там будешь ты с Онором. Граф и графиня де Саран, Луи Гольдман, Арнольд Хакетт, Гамильтон Прэнс-Линч, их жены и дети… Как тебе нравится компания, дорогая? Бетти быстро обменялась несколькими фразами на английском с Ларсеном. – Он с удовольствием придет, при условии, что платит он. Будьте его гостями! – И разговора быть не может! Я все беру на себя. Она укоризненно посмотрела на него. – Не злись, Цезарь… – Совсем нет… Скажи ему, что… – Оставь! Встречаемся здесь? – В холле «Бич», в девять тридцать! Годится? – И последнее, Цезарь…- сказала она ледяным тоном.- Предупреждаю, если заявится Фишлер, я устрою скандал. – Я тоже,- успокоил он ее. Дела складывались блестяще: все хотели платить! Последняя оливка, последний глоток шампанского, последний кусочек, зацепленный вилкой из тарелки Бетти… – До вечера! – Очень, очень симпатичный,- сказал Онор.- Это ваш друг? – Мы бываем в одних компаниях. Он забавляет меня. – Как вы считаете, стоит мне принимать его премию? – Это – почетная награда, Онор. Спустя час она увидела, как принц Хадад обнимал за плечи парня, которого Надя подцепила накануне в казино. – Онор, вы видите этого мальчика, там, внизу, на лежаке? Справа от брюнетки в зеленом купальнике… Вы сейчас пойдете и пригласите его за наш стол. – Вы и его знаете?- удивился Онор. – Не совсем. Он близкий друг Хадада и проворачивает большие дела с Ближним Востоком. Я думаю о вас, Онор… Ларсен отложил в сторону салфетку, выпрямил своей впечатляющий торс и поцеловал кончики пальцев Бетти. – Бетти, вы ничего не упускаете! Я пошел. Искупавшись, Ален почувствовал себя лучше, но усталость все еще сковывала его тело. Если он еще на минуту останется здесь, он уснет навсегда, на неделю… Он подошел к лежаку, взял простыню и собрался уходить, когда на него упала громадная тень. – Онор Ларсен,- сказал гигант, схватив его ладонь. – Ален Пайп,- машинально ответил он. Ален попытался высвободить руку, но не тут-то было. – У нас с вами общий друг – Хадад. Вы будете сегодня вечером на представлении? – Нет. Я должен выспаться. – Никто не спит на Лазурном берегу, мистер Пайп! Все умирают стоя! Ну, если принимают горизонтальное положение, исключительно, чтобы заняться любовью. Придя в восторг от собственного остроумия, он рассмеялся. – Не доставите ли вы мне удовольствие быть моим гостем? – Онор, представьте нас, пожалуйста… Ален с изумлением посмотрел на прелестное рыжеволосое существо, возникшее рядом с ними. – Ален Пайп,- сказал Онор.- Мисс Бетти Гроун. Она была завернута во что-то напоминающее сари, которое эффектно подчеркивало совершенные формы ее тела. Ничего подобного, что могло бы сравниться с ее зелеными глазами, Ален не видел. Разве что фиолетовые глаза Нади? – Я хочу, чтобы вы были вместе с нами,- сказала она, настойчиво буравя его своим взглядом. – Я хотел бы… К сожалению… – У нас очень веселая компания. Не огорчайте меня. Будет много красивых женщин. Вы где остановились? – В «Мажестик». – Прислать за вами машину? – Нет, нет… – Итак, в холле «Бич» в девять тридцать. Я могу рассчитывать на вас? – Я только что сказал мистеру…- забормотал Ален. – Договорились, мистер Пайп. Встречаемся здесь. Мы с Онором будем рады видеть вас среди наших гостей. Вы идете, Онор? Направляясь в раздевалку, Ален спрашивал себя, не сошли ли с ума все эти люди? В Нью-Йорке его выставляли за дверь, а в Каннах идет драка, чтобы заполучить его к себе.
***
Марина развлекалась, как ребенок. Она указывала пальцем на предмет, и продавцы быстро заворачивали его. Дальше пакет переходил в руки двух телохранителей Кхалила, которые передавали его шоферу, и тот относил покупку в багажник черного «кадиллака». Настоящая сказка фей! Марина была безразлична к одежде и к чему бы то ни было материальному, но ее приводило в восторг то, что она была центром внимания. Каждый раз, когда она выбирала платье, Кхалил просил ее взять еще несколько… Они ей были не нужны, она никогда их не наденет, но приобретать их было восхитительным занятием. Все самые модные модельеры на Круазетт обращались с ней как с королевой английской. Но в магазине Ван Клифа она растерялась. Директор выложил перед ней массу коробочек с драгоценностями, предназначения которых, как и их цену, она не знала. – Обратите внимание на красоту этого бриллиантового колье, мадам! Какой поразительной красоты камни! У нас есть к нему и серьги… Марина надула губы. – Нет ли у вас чего-нибудь неординарного? – Неординарного? Что вы имеете в виду? – Я знаю!- воскликнул один из продавцов в строгом черном костюме из альпака.- Извините, мадам… одну секунду. Он наклонился к директору и, потирая руки от удовольствия и нетерпения, прошептал ему несколько слов на ухо. – Принесите! Последняя наша модель, мадам. Надеюсь, она вам понравится. Вскоре возвратился продавец и поставил на столик изящную шкатулку. – Но это…- восторженным голосом воскликнула Марина. – Совершенно верно, мадам! Ошейник. На платиновом колье установлен двадцать один бриллиант. Вы позволите? Он закрепил колье на шее Марины. Три продавца с разных сторон поднесли зеркала. – Беру! Эта штуковина просто атас! – Прекрасно, мадам! А сейчас мы покажем вам наши кольца. Кхалил незаметно отвел в сторону директора. – Его высочество оценит колье. А поводок вы можете продать?
***
Зайдя в номер, Ален свалился в постель и тут же уснул. Его разбудила настойчивая трель телефонного звонка. Он нащупал рукой трубку и посмотрел на часы. Они показывали четыре часа. Чего? Утра? Вечера? Он не мог понять. – Алло,- вялым голосом пробормотал он. – Ален? Это Сэмми. – Сэмми? Который час? – В Нью-Йорке девять утра. Ты спишь или напился? Слушай меня внимательно, Ален. Это очень важно. Я все обдумал! Нашу акцию прекращаем. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы слова Баннистера дошли до его сознания. – Что прекращаем? – Я проконсультировался с моим другом, адвокатом. Мы сваляли дурака, Ален. Прекращай транжирить деньги. Придется покрутиться и возвратить истраченные… Ты слышишь меня? Ален почувствовал, как по венам потек расплавленный свинец. – Если возвратим деньги в банк, все обойдется. Они ничего не сделают с тобой. Ты заявишь об ошибке, и все станет на свои места. Тебе подыщут какую-нибудь работу, и все успокоятся. – Ты не знаешь одной маленькой детали, Сэмми,- сказал Ален обреченным голосом. Он сделал паузу.- У меня нет больше денег! – Как? – У меня нет больше денег,- завопил Ален.- Поэтому я не смогу их возвратить. Ты понимаешь? – Нет,- с трудом выдавил Баннистер. – Закончились, испарились, исчезли! Ты хотел, чтобы я сделал обмен? Я это сделал. Они все забрали! – Ален, ты шутишь? Хочешь напугать меня? – Ни цента… – Я не верю тебе. Ален, поклянись! – Дерьмо! – Ален, я вылетаю к тебе первым самолетом. – Пошел ты… Расстроенный, он бросил трубку. В дверь постучали. Поднимаясь с кровати, он проклинал Сэмми, Надю и особенно себя. Он резко распахнул дверь. – Здравствуйте! На пороге стояла Бетти Гроун. Сари она сменила на черные брюки и белую блузку. – Я могу войти? Ален посторонился, пропуская ее в комнату. – У вас вид человека, который только что получил неприятное известие. Я права? Ален закрыл дверь. Их окутывал густой полумрак и аромат ее духов. – Я сказала Онору, что иду к парикмахеру. Она села на кровать, подтянула к подбородку колени и обхватила ноги руками. – Сядьте рядом со мной. Вы мне симпатичны. Я не помешала вам? – Нет. – Я живу этажом ниже. Онор скоро вернется… Я тороплюсь… Она потянулась и во весь рост легла на кровать. Ален увидел, как она задвигала бедрами, снимая брюки. – Помогите…. Он неуклюже помог ей завершить операцию. Бетти сильно притянула его к себе, и ее рот стал жадно ловить губы Алена. Одновременно ее рука взяла руку Алена и потянула к низу живота… (обратно)
Глава 18
Абель Фишмейер, мягко говоря, совершенно не симпатизировал Оливеру Мюррею. Мюррей был маленького роста, он – высокого; Мюррей сыскал известность своей мелочностью, он – широтой натуры… Иногда они сталкивались в силу профессиональной необходимости, и тогда Фишмейера коробили безобразные манеры шефа кадровой службы «Хакетт». Но, к сожалению, «Хакетт» принадлежала к числу основных клиентов «Бурже». Восьмого числа каждого месяца банк выдавал деньги на зарплату шестидесяти тысячам служащих фармацевтической корпорации. Таким образом, около 120 миллионов долларов, контролируемых Абелем со стороны «Бурже» и Мюрреем, вызывали у Абеля чувство отвращения. С неприятным чувством на сердце он набрал номер его телефона. – Оливер? Как ваши дела? Фишмейер… Да, да… Я хотел бы кое-что уточнить по денежному переводу, в который вкралась досадная ошибка. У вас работает некто Ален Пайп? Трескучий голос Мюррея заставил его скрипнуть зубами. – Четыре дня тому назад он вычеркнут из списка персонала «Хакетт». Если быть совершенно точным – двадцать второго июля. – Это правда? Какая причина, Оливер? – Сокращение штатов. В списке он оказался первым, ему не повезло. Почему вы интересуетесь им, мистер Фишмейер? – Ничего особенного, Оливер, ничего особенного… Как чувствует себя миссис Мюррей? – Прекрасно, благодарю вас. – А чем занимался у вас этот Пайп? – Был заместителем начальника одной из финансовых служб. – Передо мной как раз находится его банковская карточка. Меня заинтересовало, почему вдруг вы перечислили ему одиннадцать тысяч семьсот четыре доллара. – Речь идет о выходном пособии… – Хорошо, Оливер, спасибо и всего наилучшего! Через секунду он снова поднял трубку и попросил телефонистку соединить его с отелем «Мажестик» в Каннах. Сейчас Гамильтон Прэнс-Линч узнает, какому ничтожеству отсчитал деньги банк «Бурже».***
Ален любил женщин, случалось, они отвечали ему взаимностью. Но даже в тех случаях, когда они первыми делали шаг навстречу, он никогда не чувствовал себя игрушкой в их руках. Но от трех приключений в Каннах ничего, кроме неприятного привкуса во рту, у него не осталось. Надя Фишлер, Бетти Гроун и незнакомка на пляже втянули его в какую-то невероятную борьбу самца и самки, где женская особь доминировала: нападала, отталкивала, потребляла, принуждала… И все происходило автоматически: без ласки и удовольствия. Он осмотрел просторную комнату, в которой еще витал запах духов Бетти. Простыни валялись на полу… В самых неожиданных местах лежали подушки. Бетти, стоны которой, наверное, переполошили всю прислугу отеля, по-надобилось «пропутешествовать» через три кресла, чтобы удовлетворить свои желания. Смолотый в мелкую муку, исцарапанный, искусанный, с кровоточащими губами, Ален чувствовал себя так, как будто выбрался из эпицентра урагана. Но, странное дело, ему расхотелось спать. Он прошел в ванную, долго стоял под душем, затем лег в кровать и задумался над своим положением. Ситуация стала неконтролируемой. Вдруг он вскочил с кровати, натянул брюки, рубашку и набрал номер 165… – Гараж? Ален Пайп. Номер 751. Машину к выходу! Норберт, сваленный усталостью, спал сном праведника и возможно, видел во сне Канта и Ницше. Холл отеля был заполнен красивыми женщинами, собаками, стариками в одежде яхтсменов и умопомрачительно элегантными молодыми людьми. – Серж к вашим услугам, мистер Пайп. Вызвать шофера? Ален снял темные очки и сел за руль. – Нет, не надо. – Мистер Пайп! Ален посмотрел на человека, который обратился к нему. – Марк Голен, директор отеля. К своему большому сожалению, я не смог раньше засвидетельствовать вам свое почтение. Среднего роста, с лицом пирата, не лишенного обаяния, он смотрел на него своими черными преданными глазами. – Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь. Я хочу, чтобы ваш отдых здесь не разочаровал вас. Ален улыбнулся, молча кивком головы поблагодарил его и тронулся с места. Свернув налево, он выехал на Круазетт и удивился, как послушно себя вела в его руках эта огромная, тяжелая, бесшумная машина. Он проехал мимо казино «Палм-Бич», бросил взгляд в сторону моря и взял направление на Хуан ле-Пин. Молоденькие, загорелые, полуобнаженные девушки с любопытством оборачивались вслед «роллсу». Если бы они знали правду!
***
Несмотря на знойное солнце, которое накалило Нью-Йорк, как сковороду, мужчина был одет в строгий серый костюм. На обшлагах пиджака золотом блестели вышитые буквы «ББ». – Что они означают, эти «ББ»?- спросил привратник. – Банк «Бурже». Посыльный протянул письмо. – Передайте лично в руки мистеру Пайпу. – Хорошо. Как только увижу его… Было 26 июля. Пайп до сих пор не заплатил за квартиру и с 23-го числа исчез в неизвестном направлении. Возможно, переехал. Привратник взвесил в руке письмо и решил, что его долг – ознакомиться с содержимым конверта. Он пошел на кухню, где в кастрюле кипела вода для чая. Подержал конверт над паром, а затем осторожно поддел уголок острием лезвия. Он извлек сложенный вчетверо лист бумаги, заранее предугадывая его содержание. От прочитанного у него зашумело в голове. Он ничего не понимал… Перечитал еще раз и рухнул на стул, как если бы его лягнула лошадь.
***
Их было человек двенадцать, сидящих в тени раскидистых деревьев. Один из них, здоровенный рыжий детина с красной тесьмой, повязанной через лоб, лениво перебирал струны гитары. Другой, лежа на спине, хлопал в такт мелодии по пустому бидону, который стоял у него на животе. Девушки вполголоса подпевали. Им было от 18 до 25 лет. Иногда прохожие замедляли шаг, прислушиваясь к музыке: Лазурный берег буквально кишел студентами, которые приезжали сюда пожариться на солнышке со всех концов Европы. Еда стоила недорого, фрукты и овощи и того меньше. Спали они под открытым небом, концерты и девушки были бесплатны, а море принадлежало всем. – Провокация,- беззлобно сказал голландец, показав на белый «роллс», стоявший у тротуара. – Нувориш…- процедила его подружка. – Свинство! – У тебя хватит мозгов купить такую колымагу? – Много ты знаешь… – Ты готов вылизать задницу любому, только бы заполучить такую. – Лучше сдохнуть на месте. – Ганс, где пузырек? – В рюкзаке. – Парни, не дурите! Что вы докажете? – Развеем скуку. – Вы что, недоноски? – Ганс, давай… Ганс достал из вещевого мешка аэрозольный баллончик. – Что писать? – «Капиталист, вали домой!» – Идиот, он же у себя дома. – «Богатая свинья» – это звучит лучше? Ганс присел у крыла «роллса». Черная краска брызнула на девственную белизну кузова. Все дружно рассмеялись. Остановившиеся прохожие одобрительными возгласами поддержали их… Чувствовалось, что в этом деле Ганс набил руку. – Я – бывший полковник, и я протестую,- сказал один из свидетелей. – Но это наша машина,- с насмешкой ответил гитарист.- По какому праву, полковник, вы хотите помешать нам разрисовать ее? Раздался новый взрыв смеха. Ганс закончил выводить «и» в слове «свинья» и протянул баллончик длинноногой девушке с пепельными волосами. – Закончи, Тьерри, я устал… Высунув кончик языка, Тьерри дописала слово. Зрители и актеры зааплодировали. Один из зрителей вышел из толпы, спокойно осмотрел машину, бросил взгляд на молодых людей, открыл дверцу «роллса» и сел за руль. Вставив ключ в замок зажигания, он завел двигатель и тронулся с места. – Черт!- воскликнул Ганс, придя в себя от неожиданности. Отъехав метров двадцать, «роллс» остановился и дал задний ход. Ошеломленная, забыв, что продолжает держать баллончик в руках, Тьерри увидела, как водитель жестом подзывает ее к себе. – Садитесь! Она вопросительно посмотрела на своих друзей, но те буквально окаменели. Ален открыл дверцу. – Вы боитесь? Онемев от смущения, она села рядом с ним. – Э! Этот подонок увозит ее!- закричал Ганс, машинально стараясь запомнить номер машины. «Роллс» быстро набрал скорость. – Как вас зовут?- спросил Ален. – Тьерри. – Англичанка? – Какое вам дело? – Никакого. Вы правы… Он говорил спокойным, лишенным всяких эмоций голосом. Она исподлобья посмотрела на него, но его глаз, спрятанных за темными стеклами очков, не увидела. – Куда едем? – Не знаю. Он проехал через весь Хуан и выехал на национальную автостраду. – Вам это кажется смешным?- спросила Тьерри. Ален промолчал. – Я хочу выйти. – Кто вам мешает? Он увеличил скорость. Она пожала плечами и откинулась на кожаную спинку сиденья. – А вы не слишком разговорчивы. Он резко свернул налево и вывел «роллс» на боковую Дорогу. Они стали подниматься вверх по склону холма. – Чем вам не понравилась моя машина? – Она вызывающая… Отвратительная! А вы не такой уж старый! – Проедем еще немного вперед? Он вставил в магнитофон кассету. – Послушайте,- взорвалась она,- мне осточертели ваши штучки! Вашу машину изуродовали, я согласна… Но стоит ли из-за этого убиваться? Если есть деньги на покупку «роллса», их должно хватить и на перекраску! Остановитесь… Ален съехал с дороги, затормозил и заглушил мотор. Она выскочила из машины. Он даже пальцем не шевельнул, чтобы удержать ее. Решительным шагом она пошла в обратном направлении. Он развернулся и, обогнав ее метров на пятьдесят, остановился и вышел из машины. Проходя мимо него, она отвернула голову. Он сделал прыжок и схватил ее за руку. – А теперь вы получите хорошую порку! – Попробуйте. Он затряс ее изо всей силы, но разозлиться не мог. – Кто возместит мне причиненный ущерб? Она презрительно посмотрела на него. – У вас есть «темные» деньги, вы и оплатите. – Когда? Вдруг ей стало страшно. А если он сумасшедший, сутенер или гангстер? – Отпустите меня! Он разжал пальцы, снял очки, усталым жестом провел рукой по глазам и отвернулся. Она стояла, сжав кулачки, не шелохнувшись. Ему было лет 25 – 30. Она увидела, как он достал из пачки сигарету и закурил. Он по-прежнему стоял спиной к ней. – Эй!.. Он не обернулся. – Послушайте, честное слово, я сожалею, что… Мы сделали это без злого умысла. Хотели пошутить… Он пожал плечами и сделал затяжку. – Вы злитесь на меня? – Много чести,- ответил он, криво усмехнувшись. – Думаю, после того, что случилось, у вас нет желания отвезти меня обратно? – Откровенно говоря, большим желанием не горю… – Хорошо. Я пойду пешком. Она переступила с ноги на ногу. – Как вас зовут? – Ален. – Странно…- начала она,- вы как-то не соответствуете этой модели машины. Такой катафалк в вашем возрасте – это глупо. Он молчал. – Вы американец? – Да. – Чем занимаетесь? – Всем. Леплю солдатиков из пластилина. – А я изучаю… – Что? – Жизнь. – Это входит в программу вашего курса? Он повернулся: на ней были джинсы и мужская, не по росту большая, рубашка цвета хаки. Ее руки были маленькими и нежными, как у ребенка. – Вы угостите меня сигареткой? – Гашиш не курю. – Почему вы так со мной разговариваете? – А ваши друзья, хиппари?.. – Они одного с вами возраста, но душой они моложе вас,- сказала она, кивнув в сторону «роллса». Он прикурил от своей сигареты новую и протянул ей. Взгляды их встретились, и в ее глазах он увидел отражение собственного лица. – Поехали. Он открыл ей дверцу, и она села в машину. – Кем вы хотите стать, когда вырастете? – Остаться ребенком. А вы? Он включил первую передачу, и машина мягко покатила вниз по склону. – Попытаюсь превратиться в старика. – Вы на правильном пути. Предполагаю, что у вас есть шофер. – Само собой… – И шикарные апартаменты во дворце! – Естественно… – А вечером, перед ужином, вы повязываете галстук. – Обязательно… и смокинг. – Вам не нравится? – Лучше умереть.- Она рассмеялась.- Зачем вам все это? – Вы всегда делаете только то, что вам нравится? – Всегда. – Вам повезло,- вздохнул он. Она ударила кулачком по приборному щитку. – Расстаньтесь с этой машиной, выбросьте в море старые тряпки и заживите новой жизнью! Ален сделал строгое лицо. – Где вы живете? – Гольф-Хуан. Мы с подружкой снимаем квартиру. – Подружка метр девяносто ростом и с бородой? – Пятьдесят пять вес и девяносто окружность груди. – Ваша любовница старая? – Лет триста и очень ревнивая. Когда они выехали на улицу Хуан, он с удивлением отметил, что больше не злится на нее. – У вас есть телефон? Она сочувствующе посмотрела на него. – А почему не ванная, выложенная мрамором? На площадке есть кран с холодной водой. И еще… вода из него течет, когда ей заблагорассудится. Хотите посмотреть? – С удовольствием… Он остановил машину в узенькой тихой улочке Гольф-Хуан. Мальчишки, которые играли в футбол, завизжали от восторга, когда увидели надпись на «роллсе». Тьерри сделала вид, что не слышит их. – Это здесь,- сказала она. Они прошли мимо маленького ресторанчика, на вывеске которого было написано «У Тони». – Меню за двадцать семь франков. Свежие жареные сардины, салат, фрукты. Она бросила на него пронзительный взгляд. – То, что требуется народу. Нам на пятый этаж… У вас хватит сил подняться? – Попытаюсь,- ответил Ален. Она пошла впереди него вверх по винтовой лестнице, гак легко переступая со ступеньки на ступеньку, что, казалось, пританцовывала.
***
Я очень обеспокоен, ваше высочество. Мое правительство требует, чтобы я дал ответ в течение сорока восьми часов. Власти не хотят, чтобы товар слишком долго находился на военной территории. – Номенклатура?- спросил Хадад. – Сто аппаратов. Сорок «Дрэкенов», тридцать пять «Виджеров» и двадцать пять «105-х»,- ответил Ларсен.- Нельзя до бесконечности держать в ангарах восемьсот миллионов долларов. – Можно ли перевести деньги через одно из ваших предприятий? – Нет, ваше высочество. За нами очень тщательно следят, и не только шведы… Переговоры проходили на пятом этаже в отеле «Мажестик». Хадад и Ларсен были знакомы с давних пор, но на людях предпочитали этого не демонстрировать. Дела, которыми они занимались, требовали исключительной конспирации. Политика и экономика настолько тесно переплелись, что становилось совершенно невозможным совершить какую-нибудь сделку нормальным образом. Военную технику для своей армии Хадад мог закупить только в Соединенных Штатах, но Соединенные Штаты поддерживали Израиль, и им было не с руки поставлять оружие арабскому эмиру. Хадад был вынужден обратиться к Франции, Швеции, Великобритании, Италии… До сих пор, благодаря посредничеству Эрвина Брокера, поставки летной техники осуществлялись из Швеции. – Откровенно говоря, я не понимаю, что могло с ним произойти,- мрачно сказал Ларсен. – Он подорвался…- без тени юмора сказал принц. – Я знаю, но почему? Кому понадобилось привязать его к платформе и положить динамит на живот? – Сколько составляли его комиссионные? – Два процента, 16 миллионов долларов,- вздохнул принц. – Боюсь, что мы можем оказаться в безвыходном положении, ваше высочество. Смерть Брокера завела нас в тупик. У вас есть подходящая кандидатура на данный момент? – Нет. А у вас? – Тем более. Каждый погрузился в свои мысли. Найти нужного человека за два дня было архисложным делом. Последствия могли оказаться непредсказуемыми и плачевными… – Ваше высочество, вы сохранили связи с людьми, которые рекомендовали вам несчастного Эрвина? – Нет,- солгал принц. Он не хотел, чтобы Цезарь ди Согно был каким-то образом замешан в этом деле. Он был слишком заметной фигурой: о нем много говорили, да и сам он не держал язык за зубами, когда речь шла о других. Когда четыре года тому назад он представил ему Брокера, принц посчитал это за счастливое знамение. Но Брокер уничтожен, и интуиция Хадада подсказывала ему, что Цезарь – человек подозрительный. Он еще годится поставлять девочек, но для серьезных дел – никогда. – Жаль,- вздохнул Ларсен.- Вы будете сегодня на представлении?- совсем некстати спросил он. – Речь ведь идет о благотворительности,- многозначительно произнес принц. – В нашей компании будет один из ваших друзей. – Кто же?- удивился принц. – Ален Пайп. Хадад нахмурил брови. – Мне говорили, что у вас с ним общие интересы,- уточнил Ларсен. – Сегодня утром вас видели вместе в бассейне. Принц мучительно пытался вспомнить. Да, тип, которого задел кораблик, пущенный сыном… Казино… – Я его не знаю,- ответил он.- На что вы намекаете, мистер Ларсен? У Ларсена от смущения покраснело лицо. – Абсолютно ни на что, ваше высочество. Я очень крепко озабочен.. Я ищу… Если мы не найдем решения в течение сорока восьми часов, восьмисотмиллионная сделка лопнет как мыльный пузырь.
***
– Осторожно! Перекрытие! Поберегите голову. Ален наклонился и прошел в помещение. Тьерри закрыла за собой дверь. – Какая ваша?- спросил Ален, указав на две кровати, покрытые пледами. – Слева – моя, а справа – Люси. Вам сварить кофе? – А разве это возможно? – Если согласны на растворимый. – А я думал, что у вас нет воды. Тьерри театральным жестом отдернула ярко-голубую занавеску, за которой находилась маленькая каморка: душ, умывальник и газовый нагреватель воды. – И вы мне поверили? – Все это похоже на картины Матисса. – Что? – Ваша комната, ее цветовая гамма, открытое окно… Его слова удивили ее. – Вы знаете о Матиссе? Богатый и образованный, это же просто чудо! – Неужели я так глупо выгляжу? – Априори, деньги заменяют культуру, обаяние, вежливость, ум… Не стойте как вкопанный, это раздражает меня. – Где можно сесть? – На мою кровать,- предложила Тьерри. – Если я там сяду, я лягу… – Кто вам мешает это сделать? – Я не спал уже двести лет. – Снимайте туфли и устраивайтесь поудобнее. В какой-то момент он подумал о том, что не разыгрывается ли и здесь тот же спектакль, который он пережил с Надей, Бетти и истеричкой на пляже «Палм-Бич»… – Вы кутили? – Прошлую ночь я провел в Риме. – Дела?.. – Спагетти,- чистосердечно признался он. Она положила две ложечки «Нескафе» в чашку и подставила ее под кран с горячей водой. – Сахар? – Если можно, один кусочек. А вы? – Не терплю «Нескафе». А Люси, наоборот, просто обожает его. Подавая ему чашку, она посмотрела на него и прыснула. – Что вас рассмешило? – Вы! Вы похожи на затюканного школьника. Все не дает покоя «роллс»? Он смотрел, как она поливает герань из стакана… молодая, гибкая, здоровая, естественная… Красавица! У него возникло ощущение, что он встретился с кем-то родным и дорогим ему. – Почему вы так на меня смотрите? Их взгляды словно зацепились друг за друга и не могли разъединиться: Ален был не в силах отвести глаза. – Тьерри? – Да? – Я хотел бы заехать за вами завтра. Мы могли бы вместе поплавать. Сейчас она скажет «нет». Но даже если она скажет «да», он может не встретиться с ней. Ему грозит разоблачение с минуты на минуту. – В котором часу?- спросила она. – В десять. – Здесь? – Здесь. Оказывается, не одна она могла летать: спускаясь по лестнице, он буквально парил над ступеньками. Он сел за руль и резко взял старт. Надпись на машине превратила «роллс» в мусорный ящик, но теперь Алену на все было наплевать. В его душе звучала музыка. (обратно)
Глава 19
Прыгая через четыре ступеньки, Люси вбежала наверх, вставила ключ в замочную скважину и широко распахнула дверь. – Ты дома? Прекрасно! Я так боялась не застать тебя! Тьерри загадочно ей улыбнулась. Она лежала на кровати, закинув руки за голову, и курила. – Собирайся! Через десять секунд уходим. Люси бросила в большую соломенную сумку зубную щетку, яблоко, тюбик зубной пасты, купальник и рубашку. – Такого шикарного дома ты в своей жизни еще не видела! Бассейн среди оливковых деревьев и кипарисов, комнаты со сводчатыми потолками, зал для прослушивания стереомузыки… Пошевеливайся!.. Машина ждет нас на набережной. Неожиданно она заметила, что Тьерри как ни в чем не бывало продолжает лежать на кровати. – Э!.. Ты слышишь меня? Поторопись! Ночь мы проведем у Мака Дермонта. Они нас ждут. Что с тобой случилось? Ты заболела? – Я никуда не хочу ехать,- сказала Тьерри.- Завтра у меня здесь свидание. – С кем? Она глубоко затянулась. – С мужчиной,- безразличным тоном ответила она. – С каким мужчиной? – С Аленом. – Я его знаю? – Нет. Словно пытаясь проникнуть в имя, она еще раз произнесла его: «Ален». – Ладно, Тьерри, пусть, пусть будет так… Завтра у тебя свидание с Аленом. А теперь пошли. Обо всем поговорим в машине. – Он чудо,- не слыша ее, промурлыкала она.- Заедет за мной в десять. – Ну и отлично! Это нам не помешает. Поужинаем и выспимся у Дермонтов, а завтра утром возвратимся. Они очень хотят познакомиться с тобой. Я же специально за тобой заехала! У них так красиво! Так красиво! Видела бы ты их коллекцию картин! Кли, Модриан, Миро, Шагал! Поехали! Она вспрыгнула на кровать и затормошила Тьерри, но та даже не отреагировала. – Мне не хочется, Люси. Поезжай одна. – Ни за что! Клянусь собственной головой, завтра утром мы вернемся обратно! Поехали, Тьерри! Поехали… Она бросилась в так называемую туалетную и побросала вещи Тьерри в свою сумку. – Вставай! По дороге ты мне все расскажешь. Она вытолкнулаподружку на лестничную площадку, закрыла за собой дверь, но запирать на ключ не стала. Зачем? Единственную драгоценность, которой они обладали,- молодость украсть у них никто не мог.***
Первым, кого увидел Ален, подъезжая к «Мажестик», был Норберт. – Мистер,- удрученно сказал он, открывая дверцу,- вы видели машину?.. – Что с ней?- рассеянно спросил Ален. Подошел Серж. Посмотрев на непотребную надпись, он с чувством сказал: – Какие сволочи! За решетку бы их! – Пальцы им отрубить!- подхватил Норберт. – Это случилось на Хуан-ле-Пин,- пожаловался Ален,- когда я зашел в магазин за сигаретами. Норберт не осмелился сказать хозяину, что в качестве шофера агентство наняло его. Передавать управление клиенту считалось грубейшим нарушением. Правда, в данном случае была небольшая деталь: Ален Пайп взял машину, не спросив у него. – Вам не следовало самому садиться за руль, мистер. Сейчас я отведу машину в гараж на ремонт. – Все расходы я беру на себя,- сказал Ален, разрываемый между чувством вины и желанием поскорее уединиться в своем номере и предаться мечтаниям о Тьерри. – Машина застрахована, мистер. Боюсь, после перекраски нам придется долго ждать… – Масляная краска!- воскликнул Серж, царапнув ногтем надпись.- А вы думали, что они используют гуашь? Ну и времена! – Что мне делать, если в агентстве не окажется машины этой модели, мистер? – Я позвоню им,- сказал Серж, направляясь к телефону-автомату, укрепленному на стене отеля. – Я сожалею, Норберт,- виноватым голосом сказал Ален. – Не беспокойтесь, мистер, бывает и хуже. Ален по-дружески похлопал Норберта по плечу и направился к лифту. – «Почему я не попросил ее провести со мной сегодняшний вечер?»- спрашивал себя Ален. Его глаза слипались, но он нашел в себе силы подойти к бару и налить в стакан виски. Зазвонил телефон. – Мистер, вас беспокоит портье. Рядом со мной находится человек, который хочет поговорить с вами. Передаю ему трубку. – Кто?- спросил Ален, впадая в полуобморочное состояние. Но его уже не слышали, и в трубке раздался грубый, но доброжелательный голос, говоривший на скверном английском языке. – Мистер Пайп? Я – капитан Ле Герн. Ваша яхта ждет вас. Яхта? Какая яхта?- ничего не понимая, спросил Ален. – «Виктория II». Вы заказали ее с 26-го числа. Сегодня 26 июля. Жду ваших распоряжений. Оцепенев, Ален не знал, что ответить. Водоворот событий, в который он попал, прибыв в Канны, выветрил у него из головы этот момент. – Вы слышите меня, мистер? – Да, капитан. – Все готово, чтобы принять вас на борт. Прислать моряков за вашими вещами? Я позволил себе заказать для вас ужин на вечер. Ален едва не закричал «да». Выйти в море и обо всем забыть… – Где вы стали на якорь, капитан? – В старом порту, точно напротив зимнего казино, в начале дамбы. Я на машине. Могу вас сейчас же туда отвезти. – Послушайте, капитан…- заколебался Ален, и его фраза повисла в воздухе. Он не мог ему объяснить, что уже несколько суток ему не удается выспаться. Но… Яхта! Яхта принадлежит ему! Он сгорал от желания увидеть ее. – Я спускаюсь, капитан. – Жду вас в холле. Пошатываясь от усталости, возбужденный новостью, Ален начал одеваться.
***
– Здравствуйте,- сказал Баннистер.- Вы меня знаете, я друг Алена Пайпа. Привратник недоверчиво посмотрел на него. – Я пришел за его почтой. – Почему вы? Разве он уехал? Меня он не предупреждал. – Он в командировке…- закашлявшись, сказала Самуэль.- Он очень торопился и не мог предупредить вас. – И надолго он… – На несколько дней… Есть для него почта? – Если вы его друг, может, заплатите за жилье… – Он не заплатил? На самом деле? – На самом деле. Сегодня двадцать шестое. Я ему доверяю, но порядок есть порядок. Двести восемьдесят пять долларов. Самуэль достал из кармана чековую книжку таким жестом, словно речь шла о пяти центах. – Немедленно оплачиваю. После того как он втянул Алена во всю эту историю, оплатить квартиру было меньшее, что он мог для него сделать. Правда, существовала маленькая деталь: он не был уверен, что на его счете имелась необходимая сумма. Кристель тщательно следила за его прибавкой к жалованью и оставляла ему минимум на карманные расходы. – Меньше будешь пить,- говорила она с материнской жестокостью. Привратник внимательно наблюдал, как он подписывает чек. Когда Баннистер протянул ему чек, тот еще раз проверил вписанную сумму, затем сложил его вдвое и спрятал в бумажник. – Есть письмо из его банка. Мне вручили его прямо в руки. В висках у Баннистера застучала кровь. Он буквально выхватил из рук привратника конверт бежевого цвета, поспешно попрощался и выбежал из дома. Он дошел до угла, свернул налево и юркнул в первый попавшийся подъезд. Трясущимися руками он разорвал конверт. Текст состоял из двух строчек. Он прочел и, чтобы не упасть, прислонился к стене.
***
– Вы уже наметили маршрут? Ле Герн не знал, что ни о каком путешествии не могло быть и речи, но Ален включился в игру. – Еще нет. Что посоветуете? – Можно остаться в акватории Средиземного моря. Корсика, Сардиния и Италия, Португалия, Рапалло, Сан-та-Маргарита… Или Капри, если захотите. Или остров Эльба. У вас много гостей? Ален украдкой посмотрел на него. – Ммм… Нет. По крайней мере в настоящий момент. Всем своим видом капитан походил на плакатного морского волка: голубые глаза, глубокие морщины, дубленая кожа лица… Машина выехала на набережную Святого Петра. – Откуда вы, капитан? – Корсика. Очень долго плавал на подводной лодке. Машина остановилась прямо у сходного мостика. – Сегодня я хочу только посмотреть, что за птица эта яхта,- сказал Ален, избегая смотреть на судно. Он переживал одно из тех редких мгновений, когда человек имеет возможность сопоставить мечту с реальностью. Он сделал глубокий вдох и перевел глаза на яхту: она была великолепна. Она была прекраснее его мечты. Люди, прогуливавшиеся по набережной, с ностальгическим восхищением смотрели на яхту. – Салон,- сказал Ле Герн, посторонившись, пропуская вперед Алена. Стены помещения были обиты красным деревом, бар, низкие столики, телевизор и гравюры на морскую тематику… – Столовая расположена на верхней палубе. Желаете посмотреть свою каюту? От вида «его каюты» у него перехватило дыхание. Кровать была не менее шести квадратных метров, а роскошь обстановки поражала воображение. Здесь свободно можно было кататься на велосипеде. – Сколько всего кают?- спросил он. – Шесть, мистер. Две большие, остальные поменьше. – Экипаж? – Кроме меня и моего помощника – восемь человек и два повара. – У яхты большая автономия? – Можно совершить кругосветное путешествие, улыбнулся Ле Герн.- Прекрасное судно! Были бы деньги! Тогда все мечты реализуются. – Я должен возвратиться в отель, капитан. Жду телефонного звонка. Увидимся завтра. – Слушаюсь, мистер. Жаль все-таки терять день! Ле Герн отвез его в «Мажестик». В необъяснимом смятении чувств Ален поднялся в свой номер. Он задернул шторы, сбросил одежду и упал на кровать. Спать… спать… Как назло, зазвонил телефон. – Вы готовы? Уже девять. Это Сара. – Я не могу, Сара, честное слово, не могу. Сожалею… – И вы говорите мне такое?.. Для вас заказано место… Вы – мой сосед справа. – Послушайте, Сара… – Предупреждаю вас, Ален, если через десять минут вы не спуститесь в холл в смокинге, я поднимусь к вам и высажу дверь! Она положила трубку. Ален знал о ней не много, но достаточно, чтобы поверить ее словам. Обескураженный, потерянный, он позвонил дежурному по этажу. – Двойную порцию кофе и покрепче, пожалуйста, – попросил он. Затем прошел в ванную и стал под ледяные струи душа. Когда он одевался, снова зазвонил телефон. – Мистер Пайп, вас вызывает Нью-Йорк. Ален напрягся: Баннистер? – Ален! Ты слышишь меня? Не клади трубку, Ален! – Это Сэмми! – Пошел к черту! – Не будь дураком, Ален! Я ни черта больше не понимаю! – А я тем более,- прокричал Ален. – Это фантастика! Я только что был у тебя дома. Забрал почту… Ты знаешь, что я обнаружил? – Полицейских? – Прекрати! Письмо из банка «Бурже». Ален съежился: попался… – Тебе снова перевели деньги! Я становлюсь сумасшедшим! Два миллиона долларов на твой счет! – Врешь,- прорычал Ален.- У тебя перегрелись мозги, и ты не соображаешь, что говоришь. – Клянусь головой! Два миллиона! У меня в руках бумага. – Выбрось ее в мусорку! С меня хватит. – Ален, умоляю тебя… Он бросил трубку и обхватил голову руками. Его трясло. Все рушилось, теряло смысл… Ему стало страшно. Телефон снова зазвонил. – Это Сара! Я иду за вами! Он едва сдержался, чтобы не нагрубить ей. – Я спускаюсь. – Поторопитесь! В номер вошел официант. – Ваш кофе, мистер. Ален выпил его одним глотком, как лекарство. Он поправил бабочку, натянул носки, и в это время снова зазвонил телефон. – Это портье, мистер Пайп. Вас ждут внизу… – Иду,- раздраженным голосом бросил Ален. Продолжая находиться под впечатлением разговора с Баннистером, он налил в стакан виски и выпил до дна. Выходя, он громко хлопнул дверью. Возле лифта было многолюдно: все в праздничных одеждах. В герметичной коробке лифта нечем было дышать от аромата всевозможных дорогих духов. Холл напоминал муравейник. Он глазами поискал Сару и, не найдя ее, вышел на улицу. Навстречу ему заспешил Серж. – Мистер Пайп, эти господа ждут вас. Ален увидел огромный, перламутрового цвета «Мерседес-600», ощетинившийся телерадиоантеннами, три «роллса», два белых и один гранатового цвета. Четверо шоферов в униформах дружно шагали ему навстречу. Из этой компании он знал только одного, своего Норберта. Мистер,- сказал Норберт,- здесь какое-то недоразумение. Эти господа тоже приехали за вами. Анджело Ла Стреза от мистера Прэнс-Линча, Леон Троцкий от Гольдмана, а Энрико Капилло – шофер мистера Ларсена… Ален отметил, что в каждом автомобиле дверца была предусмотрительно распахнута. – Перекрасили?- спросил Ален, кивнув в сторону двух белых «роллсов». – Нет, мистер. В нашем распоряжении прежний автомобиль. – А! Вот и вы!- радостно воскликнула Сара.- А еще говорят, что опаздывают только женщины! Анджело, вперед! С видом собственницы она повела Алена в сторону «роллса».
***
Маленький ресторанчик был заполнен молодежью. Тони, хозяин заведения, прикрикнул на парней, затеявших возню между столиками. Вытерев руки о фартук, он оперся кулаками о стол и сказал Гансу: – Есть новости. «Роллс» принадлежит агентству «Карлукс». Человек, который взял его напрокат,- американец, некто Ален Пайп. Он остановился в «Мажестик». – Ганс резко отбросил от себя стул. – Не горячись, малыш. Никто ведь не похищал твою Тьерри. Она добровольно села в машину. – Спасибо, Тони, спасибо! Он выбежал из помещения и прыгнул на заднее сиденье огромного мотоцикла. – Вперед, Эрик! Едем в Канны! Переднее колесо мотоцикла оторвалось от земли, и он пулей понесся по шоссе. Держась за плечи друга, с заложенными от ветра и скорости ушами, Ганс переваривал великолепную мысль о самоубийстве. Проведя два бесполезных часа на лестнице в ожидании Тьерри, он решил действовать. Тони знал в округе всех и вся. До того как открыть свой ресторан, он два года работал в полиции, и многие его связи сохранились. Ганс сообщил ему номер «роллса», и трех телефонных звонков Тони хватило, чтобы выяснить, кому он принадлежал. – Быстрее, Эрик! Мотоцикл выехал на улицу Антиб, дважды свернул налево и вырвался на Круазетт. – Остановись здесь,- попросил Ганс,- я сейчас вернусь. Он уверенно пересек «плац почестей», глядя с презрением на всех этих старых бонз – для перешагнувших тридцатилетний рубеж жизнь была закончена, так считал он. Почему королевские автомобили типа «феррари» принадлежат тем, кто не может их водить? Он бесцеремонно шел сквозь толпу смокингов и вечерних платьев. Забегавшийся обслуживающий персонал не обращал на него никакого внимания. – Где я могу видеть Алена Пайпа? – Он только что уехал на концерт, мистер. – Один? – С женщиной. – Концерт в «Палм-Бич»? – Да, мистер. Служащий в голубой униформе, отвечая на вопросы Ганса, даже не взглянул на него. Он отвечал десяти человекам одновременно и, возможно, даже на десяти языках. Обезумев от ревности, Ганс выбежал из отеля. Женщиной могла быть только Тьерри. То, в чем ему было отказано, получит другой, потому что у него «роллс». – Куда сейчас?- спросил Эрик. – Возвращаемся назад. – А твоя милка? Ты нашел ее?- не мог успокоиться Эрик. – Какой-то подонок потащил ее на сраный концерт… – Поехали за ребятами. Мы тоже будем на празднике. – Где? – В «Палм-Бич». (обратно)
Глава 20
Сара крепко держала Алена под руку. Непрерывно сверкали фотовспышки, лакеи, обливаясь потом, не успевали отгонять машины прибывающих гостей. Несмотря на присутствие службы безопасности, десятки зевак сумели проникнуть через металлическое заграждение, установленное в виде коридора. Оно должно было обеспечить беспрепятственный проход приглашенным на террасу. Волосы Сары украшала сногсшибательная диадема, которую она, улыбаясь, придерживала рукой. Навстречу Саре устремился Поль, директор ресторана. – Мадемуазель, позвольте проводить вас за столик… Он пошел впереди них по аллее, и сотни пар глаз с жадным любопытством принялись разглядывать молодую пару. Сара, наследница семьи Бурже, рассматривалась как самая завидная партия на планете: кто ее сопровождает? – Вам нравится мое платье?- спросила она, делая вид, что не замечает неприкрытый интерес присутствующих, вызванный их появлением. Держа Алена под руку, она шла уверенным шагом, содрогаясь от удовольствия от того, что она увидела, и от того, что ее видят; приветствуя на ходу знакомых и дозируя улыбку согласно значимости человека, которому она была адресована. Ален чувствовал себя пуделем, которого тащили на поводке. – Ален, вам нравится здесь или нет? Не зная, что ответить, Ален хотел улыбнуться, но, кроме гримасы, ничего изобразить не смог. – Всегда в последний момент,- по-отечески пожурил ее Цезарь ди Согно. Он встал, обнял Сару и, наклонясь, чтобы поцеловать ей руку, добавил: – Вы оба – просто кинозвезды! К своему большому ужасу, Ален должен был обойти всех сидящих за столом, чтобы представиться. Когда Арнольд Хакетт горячо пожимал ему руку, он приложил чудовищное усилие, чтобы не сорваться с места и не сбежать. Но Цезарь крепко держал его, положив свою ладонь ему на плечо. – Полагаю, что вы всех знаете… Граф и графиня де Саран, миссис Хакетт… Гамильтон Прэнс-Линч и миссис «урожденная Бурже»,- добавил он сквозь зубы.- Онор Ларсен и, конечно, Бетти Гроун… Юлия и Луи Гольдманы… Пожалуй, все. Я никого не забыл? Тогда садитесь, представление должно вот-вот начаться. С влажными от многочисленных рукопожатий руками, Ален сел на предназначенный ему стул. Слева от него сидела Сара, справа – графиня де Саран. Пока официанты наполняли бокалы вином, а разговоры приобретали все больше камерный характер, он исподтишка наблюдал за ней, пораженный загадочной, неземной красотой женщины, о которой он бесчисленное количество раз читал в журналах. Своей известностью она была обязана титулу графини и исключительной элегантности, попадая ежегодно в десятку наиболее роскошно одевающихся женщин в мире. Она почувствовала его взгляд и, подарив ему загадочную улыбку, прошептала: – Вашу одежду я сдала в чистку. Завтра утром ее принесут вам в номер. Лицо Алена мгновенно залила краска: он не допускал и мысли, что это изысканное воздушное существо и та, покрытая синяками незнакомка, которая сегодня утром как безумная набросилась на него в кабинке и которую он облил маслом и собственной спермой,- одно и то же лицо. Машинально он бросил взгляд на графа, и их глаза встретились. Ален тут же отвел глаза и наткнулся на взгляд Гамильтона Прэнс-Линча, который смотрел на него с располагающей доброжелательностью. Подали икру. – После того что произошло в Иране, остается только удивляться, как они там выкручиваются, чтобы иметь ее!- громко заметил Арнольд Хакетт.- Современные люди – безумцы!- добавил он, накладывая двухсантиметровый слой икры на тоненький ломтик поджаренного хлеба. – Устраивают революции, бунтуют, отлынивают от работы! Рабочие хотят стать руководителями, бедные – богатыми! Черт знает что творится… Вставной челюстью он откусил добрую половину бутерброда. – В кинематографе та же проблема,- поддержал его Гольдман.- Статист, после первого участия в съемках, претендует на звание кинозвезды, а распоследний оператор мнит себя Орсоном Уэллсом! Хакетт ткнул пальцем в сторону Алена. – Так как вы еще молоды, мистер, я хочу кое-что сказать вам. Знаете, как я поддерживаю у служащих уважение к своей фирме? Каждый год в период отпусков я провожу сокращение штатов! Надрыв души! Увольняю несколько человек, а остальные начинают шевелиться еще активнее. – Он не настолько злой, насколько глупый,- шепнула Сара Алену, который от слов Хакетта превратился в статую. – Когда мне было двадцать лет,- разошелся Хакетт,- за место под солнцем приходилось жестоко драться. – Арнольд, вам и сегодня и всегда будет двадцать лет,- встрял Цезарь и поднял свой бокал.- Предлагаю выпить за тех, кто не стареет душой! – Как долго вы пробудете здесь?- наигранно безразличным тоном спросила Мэнди де Саран. – Думаю, несколько дней,- ответил Ален. – Вы должны обязательно посетить нашу яхту. – Ален, потанцуем? Сара уже вышла из-за стола и пронзительным взглядом смотрела на него. Ален встал, отодвинул стул и шагнул к Саре. Она взяла его под руку и повела к танцевальной площадке. – Посмотрите мне в глаза. Я вам только что задала вопрос, и вы мне не ответили. Я не люблю, когда мои вопросы остаются без ответа. Какого цвета у меня платье? Хитрец! Вы только сейчас посмотрели… Оно вам нравится? Или вы принадлежите к типу мужчин, которым безразлично, во что одета женщина, если она уже находится в их объятиях? Она еще теснее прижалась к нему, и ее щека коснулась его лица. – А вы знаете,- шепнула она,- вы очень соблазнительны. Графиня не сводит с вас глаз. Мне кажется, что она так же легко снимает свои трусики, как и очки. Кстати, очки она не носит… Несчастный Хюберт… Кончиками ногтей Сара начала тихонечко царапать его затылок. – Вы были женаты? – Да,- ответил Ален. – Долго? – Достаточно, чтобы больше не хотеть этого. Заметив, что он смотрит куда-то в сторону поверх ее плеча, она обернулась и была удивлена, встретившись взглядом с Бетти Гроун. – Она вам нравится? – Кто? – Та, которая смотрит на вас. Она танцует с Ларсеном. Бетти Гроун. – Я не смотрю на нее. – Обманщик! У нее прекрасные глаза и… все остальное. Говорят, что она уже четверть века занимается проституцией. Вы любите проституток? Завтра мы обедаем на островах, не опаздывайте! – Завтра я занят. Она уютно устроила свою головку у него на груди. – Я обожаю вас!- сказала она, не обращая внимания на его слова.- Вы ведете себя как молоденькая девушка, которая боится, что ее изнасилуют. Вас насиловали, Ален? – Да. Она еще сильнее прижалась к нему. – Меня это не удивляет. Что вы ощущаете, когда такое количество женщин желает вас? Неожиданно появилась группа танцующих цыган и скрипачей. Они рассыпались по всей террасе, и танцевавшая публика, позвякивая драгоценностями, направилась к своим столикам. – Я бы потанцевала,- ни к кому не обращаясь, сказала графиня. Сара по-хозяйски положила свою ладонь на руку Алена. – Он мне уже пообещал,- с ядовитой усмешкой на губах сказала она. – Сара, голубушка, осчастливьте меня! – Но мои лангусты, Арнольд? – Приоритет тому, у кого двадцатилетнее сердце. Она с большой неохотой поднялась со стула, строго посмотрела на Алена и пошла танцевать с Арнольдом Хакеттом. Ален еще раз поймал на себе взгляд Гамильтона. Чувствуя себя не в своей тарелке, он отвел глаза и встретился глазами с Бетти, которые откровенно приглашали его… – Как вам вечер, мистер Пайп? Рядом с ним, на место Сары, сел Ларсен. – Чем конкретно вы занимаетесь, мистер Пайп? Ален сделал неопределенный жест рукой. И, чтобы выиграть время, пригубил бокал с шампанским. – Вы когда-нибудь сидели в тюрьме? Ален поперхнулся и чуть не выплюнул остатки вина. Ларсен похлопал его по спине… – Никогда,- прохрипел он. – Вы знаете, кто я?- вкрадчиво спросил Ларсен.- основной держатель акций авиастроительного комплекса Скандинавии. Мне хотелось бы создать частное предприятие вместе с вами. Это возможно? Где и когда? Время не терпит. – Онор, или вы уступите мне мой стул, или я сажусь вам на колени. Ларсен поспешно встал и, наклонившись к Алену, прошептал ему на ухо: – Встретимся сегодня после концерта. – О чем вы здесь щебетали?- спросила Сара.- Он консультируется с вами относительно цен, запрашиваемых Бетти? Эта старая сова Хакетт превратил мои ноги в мармелад. – Сара! – Нет, спасибо…- сухо ответила она Цезарю ди Согно и жадно набросилась на остывшие лангусты. – Несъедобно…- капризным голосом сказала она, отодвигая тарелку в сторону.- В каком бы месте вы ни появлялись, вы становитесь центром внимания. Как вам это удается? Ален открыл рот, собираясь ответить, но в этот момент к ним подошел Хюберт де Саран и галантно поцеловал руку Саре. – Обожаю медленные танцы. Не откажите. Они пошли танцевать. – Я хочу танцевать,- повторила графиня. Ален встал и повел ее на середину террасы. Она была почти одного с ним роста, но так легко передвигалась, что он едва ощущал ее в своих руках. – Вам понравилось? – Что именно? – Сегодняшнее утро? Она плотно прижалась к нему. – Ваш муж смотрит на нас. – Я ему все рассказываю. После танца я пойду в туалетные комнаты. Жду вас там. Ему показалось, что он ослышался. На ее губах была высокомерная и безразличная улыбка. Отсутствующий вид, с которым она танцевала, никак не соответствовал энергичным движением низа ее живота, которым она терлась о мужские достоинства Алена. – Я жду вас,- с отрешенным и холодным выражением лица повторила она. Они вместе дошли до стола, и она, взяв свою сумочку, расшитую золотыми нитками, ни на кого не глядя, направилась к выходу. Гамильтон Прэнс-Линч тут же воспользовался освободившимся местом графини и сел рядом с Аленом. – Мне нужно с вами поговорить, мистер Пайп. Ален почувствовал, как летит в бездну. – Здесь?- пробормотал он. – После этой вечеринки будьте у себя. Я вам позвоню. Он ослепительно улыбнулся своей жене, которая не спускала с него глаз и совершенно не слушала что-то говорившую ей Викторию Хакетт. Неожиданно погас свет. Мужчины инстинктивно обняли своих дам, но только для того, чтобы помешать некоторым «шаловливым ручкам», воспользовавшись темнотой, посрывать у них драгоценности. В лучах прожектора возник торжественный Джим Хоуден. – Господин президент… Ваше высочество… Господин граф… Миссис, мисс… – Начинается цирк,- вздохнула Сара. Проводив Юлию Гольдман до места, Цезарь поцеловал ей руку. Ален вспомнил о Мэнди де Саран, которая ждала его в туалетных комнатах, и усмехнулся. – Ален, о чем вы думаете? – …это так прекрасно помнить о них, помогать им… ваше великодушное сердце…- распинался Джим Хоуден,- …щедрость… аукцион… спасибо, от имени всех страждущих, спасибо! Впервые за весь вечер Ален посмотрел ей прямо в глаза. Он лишился всего, терять ему было нечего, он больше не боялся Сары. Ни ее… ни кого бы то ни было… – Не хотелось бы вас шокировать,- сказал он. – Шокировать? Меня? Не хитрите! – Нет, ничего. Правда… Пустяки… – Произведение великого маэстро Шагала… Пятьдесят тысяч долларов. Справа уже дают шестьдесят… Кто сказал больше? Семьдесят… Благодарю, господин президент… Восемьдесят!.. Девяносто!.. Все музеи мира с завистью смотрят на него… Сто! Она взяла его руку под столом. – Вы странный ребенок, Ален… Загадываете загадки… – Сто двадцать! Господин президент! Сто пятьдесят! Принцесса!.. – Сто шестьдесят!- пророкотал Хакетт, художественный вкус которого ограничивался графическими изображениями на фирменных календарях. Бетти легонько толкнула локтем Ларсена. – Ваша очередь. Он недоуменно посмотрел на нее. – Это – благотворительность. Примите участие. – Сколько? – Двести тысяч. – Двести тысяч!- прокричал Ларсен, подняв руку. – Двести!- как эхо повторил Хоуден.- Кто больше? Двести! Неожиданно со стороны главного входа послышался приглушенный шум: сопровождаемый многочисленной группой друзей и приближенных, на террасе появился принц Хадад. Все повернули головы в ту сторону. – Итак, господа. Двести тысяч за изумительного Шагала. Кто сказал двести десять?.. Как и все, Ален рассматривал опоздавших. На руке принца буквально висела сногсшибательная блондинка в великолепном белом платье, сверкая бриллиантами и драгоценными камнями… Сердце Алена замерло: Марина! Хакетт торопливо надел очки: Марина! Впереди процессии, направлявшейся к огромному столу, стоявшему в первом ряду, шли факелоносцы. Ален был уверен, что все происходящее – сон, но когда Марина оказалась в десяти метрах от него, он импульсивно поднял руку вверх, привлекая ее внимание. И тотчас оказался в ослепительных лучах прожектора. – Двести десять тысяч!- простонал изнемогающий Джим Хоуден.- Вот они – двести десять тысяч! – Вам до такой степени нравится Шагал?- с иронией, за которой пряталось восхищение, спросила Сара. – Что вы сказали? Марина прошла рядом, не заметив его. Желающих увеличить ставку не оказалось. – Двести десять тысяч, господа! Кто больше? Шагал! – Нет желающих? Раз… Два… Три… Продано! По террасе прокатилась волна аплодисментов. – Пожалуйста, мистер!.. Мистер! Подойдите! Сара толкнула Алена коленом. – Чего вы ждете? – Не понимаю… Он никак не мог сообразить, почему этот чертов прожектор так настойчиво освещает его. Две белокурые девушки в голубой униформе подхватили его с двух сторон под руки. Оглушенный, по-прежнему преследуемый лучом прожектора, он тяжелым шагом поднялся на сцену. – Примите мои поздравления,- сказал Хоуден, горячо его обнимая. Десятки микрофонов потянулись к нему. Хоуден продолжал держать его в своих объятиях… Блондинки подняли вверх картину и вертели ею в разные стороны. Ему аплодировали! Неожиданно Хоуден куда-то исчез. Ален, как идиот, остался стоять один на сцене в лучах прожектора, держа в руке неизвестно каким образом оказавшуюся у него картину. Вдруг блондинки забрали у него картину, и на сцене снова появился Хоуден. Приблизившись к Алену, он сказал: – Заполните чек… Я хочу, чтобы все видели этот благородный жест! Ален безумным взглядом уставился на него. И в этот момент на террасу, сопровождаемые ужасным грохотом, ворвались три рычащих мотоцикла. Приняв это за экстравагантный аттракцион, богатые дамы лениво зааплодировали кончиками пальцев, отягощенных бриллиантовыми кольцами. Через секунду со стороны моря на сцену вырвался еще десяток ревущих монстров. Они подобно реактивным снарядам проносились по сцене и, продолжая движение, в свободном полете опускались на ближайшие столы, круша под собой мебель, посуду, остатки десерта… Удушающий дым горячих выхлопных газов заполнил террасу. Какой-то мотоциклист вырвал из рук оказавшегося на его пути метрдотеля огромный кремово-шоколадный торт и размазал его по безукоризненной форме адмирала флота. Некоторые из гостей еще продолжали задавать друг другу вопросы, но большинство поняло всю серьезность ситуации. – Быстрее вызовите полицию,- крикнул Джим Хоуден шефу службы безопасности. Теперь уже более сотни мотоциклистов на полной скорости метались между столиками, чудом не задевая друг друга. В касках с тонированными пластиковыми забралами, они были похожи на космических пришельцев. В этой невероятной кошмарной карусели раздавались их страшные крики, призывавшие крушить все и всех. В ход пошли железные прутья, которыми ломали столы, стаскивали скатерти… В воздухе стоял непрекращающийся звон разбиваемой посуды. – А теперь – в игорный зал,- крикнул кто-то из мотоциклистов. Пятьдесят мотоциклистов с невероятным грохотом ринулись в коридор и, несмотря на все попытки служащих помешать им, ворвались в зал. Вокруг столов началась паника. Каждый торопился забрать свою ставку и при возможности прихватить соседнюю. Началось настоящее побоище… – Полицейские! Где-то снаружи послышались завывания полицейских сирен. Мотоциклисты быстро разобрались по своим машинам и по коридору понеслись к главному выходу. Одним из них был Ганс. Тьерри он так и не нашел. Злоба переполняла его. Это организованное им родео не утолило злость, кипевшую в нем. Он сунул два пальца в рот и свистнул, затем, пробуя перекричать невообразимый грохот двигателей, крикнул: – А теперь в Монте-Карло! Разнесем все там! (обратно)Глава 21
Я ложусь спать,- сказала Эмилия. Для него это звучало как: «Гамильтон – в постель!» – Иду, дорогая,- ответил он, улыбаясь.- Только приготовлю тебе твой апельсиновый сок. Это был ежевечерний ритуал. Вот уже в течение двенадцати лет он должен был собственными руками отжимать сок из трех-четырех апельсинов, который она выпивала перед сном. Кроме этого, он должен был подносить ей огонь, как только сигарета оказывалась у нее во рту, и открывать перед ней дверь там, где они появлялись, молчать, когда она говорила, делать обеспокоенное лицо, если она замолкала, терпеть ядовитые замечания Сары, согласовывать свой распорядок дня с ее планами. А взамен он получал право на внешние признаки власти и славы. – Гамильтон, чего ты ждешь? – Ложись в постель, я иду. Он увидел, как она направляется в спальню. В свои пятьдесят лет Эмилия сумела сохранить стройность и фигуру молодой девушки. Гамильтон знал, что мужчины находят ее соблазнительной, но ему она никогда не нравилась. Он открыл холодильник, достал три апельсина и выдавил сок из них в стакан. Затем на цыпочках подошел к двери и заглянул в комнату. Готовясь ко сну, Эмилия накладывала на лицо какой-то крем ужасного коричневого цвета. Он возвратился в гостиную, достал из маленькой коробочки, которую прятал в кармане, три таблетки, и бросил их в стакан с соком. – Гамильтон! – Я здесь. Она терпеть не могла ждать, это раздражало ее. Он взял стакан и пошел в спальню. – Ты еще не переоделся? – Я должен просмотреть кое-какие документы. Он поставил стакан на ночной столик. – В три часа ночи? – Фишмейер ждет ответа. Это займет не более двадцати минут, дорогая. Ты не расстроилась? – С чего бы? – Эта неприятная история в «Палм-Бич»… – Немного понервничала… Она взяла стакан и залпом выпила содержимое. Он присел на край кровати, взял ее руку и нежно поцеловал. – Я скоро приду. Возвратившись в гостиную, он сел в кресло и задумался. Два дня тому назад деньги Джон-Джона Ньютона были переведены в Нью-Йорк. Чтобы не вызвать подозрения у своего управляющего, Гамильтон разместил их в банке Манхеттена, запросив при этом и получив согласие на двенадцать процентов за этот краткосрочный вклад. Но гибель Брокера, к сожалению, спутала все карты. Гамильтон сам подумывал о том, чтобы убрать Брокера, но не раньше чем завершится операция. Брокер знал слишком много, и достаточно было одного его слова, чтобы вся карьера Гамильтона полетела к черту. Об этом страшно было даже думать. Он глубоко вздохнул и попробовал оценить свое положение. Через несколько часов Джон-Джон Ньютон потребует от него ответа. Если он не предложит соответствующую замену, Ньютон выйдет из дела, а сам он окажется на краю пропасти. Теперь все его будущее зависело от какого-то ничтожного клерка, который, по ошибке получив деньги, возомнил о себе невесть что. Он посмотрел на часы. Через пять минут снотворное «успокоит» Эмилию, и он сможет нанести визит Алену Пайпу.***
– Вы были великолепны, Ален! – Я даже пальцем не шевельнул. – А мотоцикл? – Когда он оказался на столе, я только потянул за скатерть. Боялся, что эта железка может задеть вас. – На вашем месте мой отчим использовал бы в качестве щита мою мать. Как только прибыла полиция, Сара утащила Алена из начавшегося там конца света… – Почему вы так его ненавидите? – Он пройдоха, ничтожество и посредственность. – Но ваша мать, надо полагать, другого мнения. – Он служит для нее ковриком, о который она вытирает ноги, знает об этом и люто ненавидит ее. Они шли по Круазетт, а мимо них в сторону «Бич» с включенными сиренами проносились пожарные команды и кареты «скорой помощи». Ночь была теплая и безветренная. – Сара, вы замужем? – Нет. – Почему? – Еще не встретила своего хозяина. Краем глаза она заметила улыбку Алена. – Вам смешно? – Вы говорите о муже, как о подчинении силе. – А разве не так? – А доверия друг к другу вам недостаточно? Вот вы, например, доверяете людям? – Да. – И никогда об этом не пожалели? – Почему же? Почти всегда. – И тем не менее продолжаете? – Так уж я устроен. Отправит его Гамильтон за решетку сегодня или завтра? А что означает появление Марины в компании с Хададом? Еще сколько часов тому назад от всех бед, свалившихся на него, ему хотелось умереть, но встреча с Тьерри резко все изменила. Взгляд ее серых глаз и водопад пепельных волос сумели возвратить его к жизни. Как оказалась Марина в Каннах на благотворительном вечере, если еще неделю назад она даже не знала, что есть такая страна – Франция? – Ален, вы думаете о чем-то далеком… Где вы? – Я здесь. В какой-то миг ему захотелось поделиться с ней своими тревогами, попросить помощи, совета… Он совершенно перестал понимать, в каком мире находится, что происходит вокруг и куда он попал. Несчастный Баннистер в Нью-Йорке, перед тем как сесть за обеденный стол, должен снимать домашние тапочки, а он нагрубил ему… Сара сжала его руку. – Не хотите ли пригласить меня на бокал вина? К себе… Возможно, у двери его номера уже нетерпеливо маячат Ларсен и Прэнс-Линч. – Сожалею, Сара, но я устал. Если не посплю несколько часов – умру. – Вы умрете в любом случае. Они подошли к «Мажестик». К отелю одна за другой подъезжали машины, доставляя из «Палм-Бич» миллионеров, перенасыщенных сильными эмоциями. Послушать со стороны – каждый из них был героем. – Ален? – Нет, Сара, нет… Я едва держусь на ногах. – Вы боитесь меня? Она насмешливо посмотрела на него и напомнила: – Постарайтесь не забыть, завтра обедаем на островах. Встречаемся в холле, в одиннадцать. Ален подумал, что у него есть великолепный шанс отобедать завтра в тюрьме.
***
Было восемь часов вечера, и они собирались ужинать. Воспользовавшись тем, что Кристель была на кухне, Самуэль зашел в спальню, открыл шкаф и задумался… Что взять с собой из одежды? Для него это была проблема, потому что ему еще никогда не приходилось отправляться на Лазурный берег. Он прислушался: из кухни доносились привычные звуки переставляемой посуды и позвякивание вилок. С тех пор как она узнала, что его уволили, она перестала придираться к нему. Как воспримет она его сообщение об отъезде? – Самуэль… – Кристель? – Все готово. – Уже иду. Он в последний раз проверил замки чемодана, закрыл дверцу шкафа и пошел на кухню. – Все на столе, можешь садиться. – Так вкусно пахнет… Он сел за стол и набросился на жареную куриную ножку. Она села напротив и, не спуская с него глаз, открыла бутылку пива и бутылку кока-колы. Они ели молча, не зная, что сказать друг другу. Чем дольше длилось молчание, тем труднее было Самуэлю заговорить о своем предстоящем путешествии. Он откашлялся и сказал: – Кристель. – Слушаю тебя,- не поднимая головы от тарелки и ковыряя косточкой в зубах, ответила она. – Сегодня после обеда я разговаривал по телефону с Аленом Пайпом. Дела его – хуже некуда… Кристель никак не отреагировала. Он вылил остатки пива из бутылки в стакан. – Я чувствую себя перед ним несколько виноватым. Ты понимаешь? – В чем? – Он моложе меня. Я как бы опекал его в «Хакетт»… Она медленным движением положила крылышко курицы на край тарелки. – Сейчас он очень нуждается в моей помощи. – Передвижной госпиталь милосердия торопится на помощь…- пробормотала она сквозь зубы. – Я управлюсь за пару дней. Она оросила через всю комнату недоеденный початок кукурузы, и лицо ее побагровело. – Куда ты собираешься ехать? С кем? Со мной? Пайп! Пайп! Только и слышишь – Пайп. Женись на Пайпе! – Кристель, речь идет только о… – В пятьдесят лет ты стал безработным, у жены нет средств к существованию, а ты отправляешься с Пайпом! Мальчикам захотелось развеяться!.. А я? Отдыхала когда – нибудь? Самуэль положил салфетку на стол и втянул голову в плечи. После разговора с Аленом, который послал его подальше, он купил билет на самолет до Ниццы. Больше всего его беспокоило и приводило в ужас письмо из «Бурже» и вновь поступившие на счет Алена два миллиона. Пусть Кристель говорит что угодно, но завтра он вылетает в Европу. – Слушай меня хорошенько, Самуэль! Если завтра вечером тебя не будет к ужину, можешь не возвращаться… Меня здесь больше не будет! Он от всей души пожелал себе, чтобы она сдержала слово.
***
Ален уже давно перешагнул ту критическую черту усталости, за которой невозможно было уснуть. Держа в руке стакан с виски, он с отрешенным видом сидел в кресле и думал о том, что его путешествие подходит к концу. Через несколько минут придет Гамильтон и устроит ему варфоломеевскую ночь. В дверь постучали. Он с обреченным видом поднялся из кресла и открыл ее. Перед ним стоял Прэнс-Линч. – Я вас долго не задержу, мистер Пайп. Вы позволите, я сяду? Он успел сменить смокинг на черную кашемировую куртку и избавиться от бабочки. – Мы с вами не знакомы, но я знаю о вас все. Вам тридцать лет, вас только что уволили из фирмы «Хакетт» и вы собираетесь приятно провести время на Лазурном берегу за деньги, которые по ошибке мой банк «Бурже» перевел на ваш счет. Если я не ошибаюсь – миллион сто семьдесят четыре тысячи долларов. Ален стоял окаменев, не в силах произнести ни одного слова в свою защиту. Напряжение последних дней было настолько велико, что он почувствовал облегчение – все кончилось… Через несколько часов за ним закроются ворота тюрьмы, и он уже никогда больше не встретится с Тьерри. – Не думаете ли вы, что я допущу, чтобы за мои деньги вы устроили себе здесь жизнь миллионера? Ален молча вертел в руке стакан с виски. В наступившей звенящей тишине слышалось лишь позвякивание кусочков льда о стенки стакана. – Вы ничего не хотите мне сказать, мистер Пайп? Ален устало пожал плечами. – Вы прекрасно знаете, что я могу отправить вас за решетку. Ален молчал. – Я сказал «могу», но не сказал «отправлю». Моя точка зрения такова, что я считаю неразумным заточить человека в вашем возрасте на долгие годы в тюрьму. Может, лучше… Ален поднял голову и наткнулся на взгляд серо-зеленых, слегка выпуклых, беспощадных глаз. На лице Гамильтона сияла притворно доброжелательная улыбка. – Я попытался влезть в вашу шкуру и таким образом понять ваши действия. Я задал себе в первую очередь вопрос: как такой умный парень решился на такое глупое предприятие? И нашел лишь один ответ, мистер Пайп: обида и злоба. Вам наступили на ногу, и вы решили отомстить. Или я не прав? Алену показалось, что Прэнс-Линч чуть ли не одобряет его поступок. – Но, к несчастью, пробуя насолить Хакетту вы, того не зная, наступили на мозоль мне, потому что ошибку, которой вы воспользовались, совершил мой банк. До сегодняшнего вечера вы были лично знакомы с Арнольдом Хакеттом? – Нет. – Человек он жесткий, если не сказать большее… В его жизни главное – годовой доход, а не судьбы человеческие. Я хорошо понимаю тех, кто ненавидит его, но никоим образом не собираюсь оправдывать ваши нечестные действия. Я только пробую найти им объяснение. А теперь вопрос: вы по-прежнему хотите отомстить ему? – Мне больше ничего не хочется. – Несмотря на то, что сделал с вами Хакетт? – Он даже не представляет, что я существую. – А если я предоставлю вам возможность отплатить ему той же монетой? – Меня это не интересует. – Человек, который лишил вас работы и толкнул на бесчестный поступок… – Все, с меня достаточно! Вызывайте полицейских! – Ой ли, мистер Пайп?.. Он принялся что-то искать глазами и, отвечая на молчаливый вопрос Алена, сказал: – Нельзя ли чего-нибудь выпить? В вашей ситуации это меньшее, что вы можете для меня сделать. Ален посмотрел на него и достал из бара бутылку виски и ведерко со льдом. – За ваше здоровье, мистер Пайп! Он сделал большой глоток и причмокнул губами. – А если я скажу, что пришел к вам как друг? Ален насторожился. – Вы хотели бы разорить человека, который выставил вас за дверь?.. Что вы на это скажете, мистер Пайп? Он сделал очередной глоток виски. – Я делаю вам очень серьезное предложение и даю возможность взять реванш. Что же касается ваших мальчишеских проказ, я закрываю на них глаза. Чтобы говорить дальше, мне надо заручиться абсолютным согласием. Вы понимаете это? – Да – ответил Ален, разрываемый желанием быстрее прекратить этот изматывающий его разговор и воспользоваться неожиданно вспыхнувшей искрой надежды. – Итак, вы говорите «да»? Ален в замешательстве покусывал губы. – Прекрасно, мистер Пайп! А теперь открываем карты! Сегодня утром я перевел на ваш счет два миллиона долларов. Значит, Баннистер, сказал правду. – Надеюсь, вы понимаете, что я вас обкладываю со всех сторон… – Для чего эти деньги?-пробормотал Ален. – Вы – в заднице, мистер Пайп, и я пытаюсь вас вытащить… Кроме того, я не хочу иметь официальные дела с человеком, у которого в кармане нет ни цента. – Какие дела? – Небольшое дельце, которое вас позабавит. – Что вы хотите от меня? – Я хочу, чтобы вы выкупили фирму «Хакетт». Ален вскочил со стула. – Что вы сказали? – В скором времени вы выкупите «Хакетт Кэмикл Инвест»,- ровным голосом повторил Прэнс-Линч. – Вы сошли с ума! – Вам лучше знать. – «Хакетт» стоит по меньшей мере двести миллионов долларов. – У вас будет эта сумма. – Никто не поверит, что простой служащий, уволенный несколько дней тому назад, смог купить… Смех Гамильтона, прервавший слова Алена, напоминал скрежет заржавевших шестеренок. – С того момента, когда вы сможете платить, вопрос «верить или не верить» перестанет для всех существовать, мистер Пайп. Все забудут ваше прошлое, и никто не будет копаться в поисках происхождения ваших денег. – Чем вам досадил Хакетт? – Проблема Хакетта – не ваша! – То, что вы задумали,- это реально? Ваша операция осуществима? – Это не «моя операция», а ваша, мистер Пайп. Ничего сложного в ней нет. Предполагаю, что вы хорошо знаете, что представляет собой «организация». Завтра от своего имени вы публично заявите о желании купить «Хакетт». – Но, мистер Прэнс-Линч, даже в том случае, если все мелкие держатели уступят свои акции, вы ровным счетом ничего не добьетесь. Все знают, что Арнольд Хакетт владеет контрольным пакетом акций. Шестьдесят процентов капитала принадлежат ему. – Мистер Пайп,- резко прервал его Прэнс-Линч,- если бы вы так же хорошо, как и я, знали, что почем и кто чем обладает, вы были бы сегодня на моем месте – во главе «Бурже»! А я был бы на вашем – в дерьме. Будьте любезны делать то, что я вам говорю, и, ради Бога, не пытайтесь думать за меня. В качестве вознаграждения, по окончании операции, вы получите двадцать тысяч долларов. Вы сами снимете их со своего счета, на котором у вас находится миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов… Остальные возвратите. Лицо Алена побледнело. – Маленькая неприятность, мистер Прэнс-Линч. Этих денег больше нет. – Что-о-о? – А чем, по-вашему, я играл вчера вечером? – Но вы же выиграли? – У вас, да! А принцу Хададу все проиграл. – Вы играли против Хадада? – Не я, моя партнерша. Надя Фишлер. Она-то все и проиграла. – Вы думаете, я вам поверю? – Я говорю вам правду. В казино все об этом знают. Можете поинтересоваться. – Вор! Подонок! Вы лжете? Я хочу получить свои деньги! Вы принимаете меня за идиота? Сжав кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев, он стоял перед Аленом и смотрел на него вылезшими из орбит глазами. – Я сдам вас в полицию! Я сделаю так, что вас на десять лет упрячут за решетку! Даю вам время до десяти утра, чтобы достать и возвратить всю сумму. До десяти утра! Вы меня поняли? Выкручивайтесь со своей проституткой как хотите! И маленький вам совет… Не пытайтесь скрыться! С этой минуты вы – под наблюдением! Вы меня поняли? Он бросил на пол стакан, из которого пил, и, пошатываясь, направился к двери. Чувствуя себя на грани нервного срыва, Ален подождал, пока успокоится биение сердца. Собравшись с мыслями, он попытался проанализировать только что закончившийся разговор. Прэнс-Линч сказал ему слишком многое. Ален чувствовал, что совершенно случайно прикоснулся к тайне, смысла которой пока не понимал. Стоит ли предупреждать Хакетта? Он вспоминал слова Прэнс-Линча: «С этой минуты вы – под наблюдением». Лучший способ проверить реальность угрозы – это спровоцировать ее. Он положил в сумку джинсы, несколько рубашек и необходимые предметы туалета. Было три часа ночи. Часам к семи утра он, пожалуй, доберется до дома, где живет Тьерри. Главное, перед тем как оказаться в тюрьме,- увидеться с ней, а там хоть потоп… В дверь постучали.
***
Граф с беспокойством и нетерпением ждал жену. Во время погрома в казино она куда-то исчезла, и теперь, сидя перед телефоном, он думал, стоит ли звонить в полицию. Неожиданно в замочной скважине заскрежетал ключ, и в комнату вошла графиня. – Мэнди! Что с вами случилось? Я умираю от беспокойства… Черное муслиновое платье висело на графине лохмотьями, на одной из туфель не было каблука, спутавшиеся волосы на голове были испачканы грязью. – Мэнди! Жестом руки она попросила его замолчать. Опершись спиной о стену и закрыв глаза, она прерывисто дышала. Ее грудь судорожно поднималась и опускалась. Он подошел к ней. От нее исходил запах бензина и отработанного масла. – Мэнди, что с вами сделали? – Дайте отдышаться, Хюберт. Он внимательно ее рассматривал: ее шея была покрыта подозрительными, напоминающими кровоподтеки, пятнами. Она заметила его взгляд. – Это мелочи,- сказала она странным голосом.- Посмотрите сюда… Она задрала подол вечернего платья, и граф увидел фиолетового цвета полосы на ее теле. Его лицо стало мертвенно-бледным. – Они меня отстегали ремнями, Хюберт. – Они изнасиловали вас?- дрожа всем телом, спросил он. Она молча кивнула головой. – Они делали это на своих мотоциклах… – Сколько их было? – Не знаю. – Я вызову полицию. – Не надо, Хюберт,- устало запротестовала она и в каком-то животном экстазе почти крикнула:- Это было восхитительно, Хюберт!.. Восхитительно!..
***
В дверях стоял Ларсен. Увидев сумку в руках Алена, он удивленно спросил: – Вы уезжаете? – Не совсем так… На Ларсене был смокинг, а его свежий, безукоризненный вид в такой час вызывал восхищение. – Я понимаю, время не располагает к разговору, но дело не терпит отлагательства. Он жадным взглядом посмотрел на бутылку виски. – Со льдом?- спросил Ален. – Без! Лед портит алкоголь. Ален нервничал. Каждая истекшая минута уменьшает его шанс сбежать. Он бросил на Ларсена нетерпеливый вопросительный взгляд. – Мистер Пайп,- начал гигант,- я хочу сделать вам предложение. Но прежде чем я изложу суть дела, позвольте задать вам несколько вопросов. У вас американское гражданство? – Да. – Где вы живете? – В Нью-Йорке. – У вас есть фирма? – Нет. На лице Ларсена появилось недоуменное выражение. – Я думал, что вы в бизнесе. – Сегодня исполнилось ровно три дня, как я безработный. – Великолепно! Ален с удивлением посмотрел на него. – Что вы хотите этим сказать, мистер Ларсен? Ларсен колебался не более секунды. – Не хотели бы вы выступить в качестве посредника, мистер Пайп? За приличные комиссионные, разумеется. – А если поточнее, мистер Ларсен? За что комиссионные? – За организацию некоей сделки… – Какой сделки? – Вы прекрасно знаете, чем я торгую, мистер Пайп. – Самолетами? – Совершенно верно. – Вы предлагаете мне купить у вас самолеты?- делая от удивления круглые глаза, спросил Ален. Онор утвердительно кивнул. – Что же от меня требуется? – Прикрыть сделку своим именем. В течение последних тридцати минут ему во второй раз предлагали стать подставным лицом. – Почему вы обратились ко мне, мистер Ларсен? – Потому что у моего постоянного посредника возникли непреодолимые препятствия, а сделка должна завершиться в течение сорока восьми часов. К большому сожалению, замены на данный момент у меня нет. Вы согласны? – Сколько самолетов? – Сто. Неужели виновата в этом усталость? Ален отчетливо ощутил, как ноги подогнулись в коленках, и вынужден был сесть в кресло. – Ваша миссия заключается в том, чтобы своим именем подписать соответствующие документы, мистер Пайп. Аппараты будут поставлены в определенную страну, где их заберет покупатель. Вам ни о чем не придется беспокоиться, а за свои труды вы получите 0,5 процента от суммы сделки. – Которая равняется?..- поникшим голосом машинально произнес Ален. – Восьмистам миллионам долларам,- ответил Ларсен, нервно хихикнув.- Эту цифру вы сможете проверить по документам, которые будут подписывать. – Интересно,- выдохнул Ален, стараясь не выдать охватившего его волнения. Мозги в его голове кипели. Четыре миллиона долларов. Появлялась возможность рассчитаться с «Бурже» и покончить со всем этим кошмаром. Гамильтон дал ему время возвратить деньги. – Когда вы намереваетесь провести эту операцию, мистер Ларсен? – Как можно быстрее. Сегодня! – Я согласен, мистер Ларсен. Можете ли вы перевести в мой банк в Нью-Йорке какую-то предварительную сумму? От переполнившего его чувства облегчения Ларсену захотелось увеличить процент. Но это была мимолетная слабость. – Безусловно! Вас устроит половина суммы комиссионных? – Эти деньги вы переведете в момент подписания контракта. А когда я получу оставшуюся часть? – Как только товар будет принят заказчиком. Скажем, через две недели. Вы первым узнаете об этом, потому что без вашей второй подписи сделка не может быть завершена. – Когда подписываем документы? – Вас устроит в восемь утра? – Через четыре часа… Отлично! Но сделаем это, если вы не возражаете, за пределами стен «Мажестик». Ларсен поморщился. – Где вы предлагаете? – На моей яхте,- ответил Ален.- Она стоит у причала в старом порту. «Виктория II». (обратно)
Глава 22
– А торговый центр на Манхеттене вы можете купить?- улыбнулась Марина. – Он уже мой,- совершенно серьезно ответил Хадад. – Правда? – Вру. Что вы прикажете мне с ним делать? – А если вы… Марина захихикала. Она находилась в том пограничном состоянии, когда алкоголь активизирует мозг и обычные вещи, сохраняя свою реальность, начинают приобретать необычные очертания. Давно она не попадала в такую восхитительную заварушку, которую устроили в «Бич» ворвавшиеся мотоциклисты. Ее платье из белого китайского крепа не выдержало «праздничного» напряжения. Оно лежало на полу порванное, все в винных пятнах, рядом с туфлями на высоких каблуках, которые она сбросила, едва перешагнув порог апартаментов принца. – А я-то думала, что арабы не употребляют алкоголь! Хадад поднял свой бокал. – На людях – никогда. Он смотрел на нее с искренним восхищением. Вся ее одежда состояла из крошечных трусиков и кружевного бюстгальтера. Казалось, она совершенно забыла о своем теле и не отдавала себе отчета о силе его воздействия на принца. Он очень расстроился, когда, возвратившись в отель, она отдала ему все драгоценности. – Они мне больше не нужны. Я ничего не хочу носить на себе. Возьмите их. Такое очаровательное безразличие к бриллиантам взволновало принца. Странно, но у него не возникло плотоядных мыслей обнять это прекрасное тело. Он наслаждался ею, созерцая, что совершенно противоречило его правилам. Он увидел, как она налила себе шампанского, облизала розовым кончиком языка края бокала и опустила туда палец. – Прохладное,- сказала она.- Окунуться бы туда! Хадад снял телефонную трубку. – Обслуживание? Принесите в мой номер десять ящиков «Дома Периньон». Немедленно! Он прикрыл ладонью микрофон и наклонился к Марине. – Какого года выдержки вы предпочитаете? – Выдержанное или нет, шампанское имеет тот же вкус. – Как вам будет угодно… Убрав ладонь, принц сказал: – Лучшее! Я жду. – До чего же вы забавный!- сказала Марина.- О, уже светает! Я совсем забыла о своей любимой гимнастике! Вы подождете меня? – Куда вы собираетесь пойти? – Спущусь к себе, возьму все необходимое для спорта и вернусь. Хададу это не понравилось. – Я пошлю своего секретаря, и он все принесет. – Ни в коем случае!- запротестовала Марина и, с большим трудом встав на ноги, пошатываясь направилась к двери. – Марина, неужели вы пойдете в таком виде? Набросьте на себя что-нибудь. – Это недалеко, этажом ниже. И вообще, кому какое дело, в чем я отдыхаю? Посвистывая, она вышла из комнаты. Через двадцать секунд после ухода Марины в номер зашла группа официантов с ящиками шампанского в руках. – Вылейте все в ванну,- приказал принц. Официанты устроили легкую канонаду пробками, и шипучая жидкость пролилась в емкость из розового мрамора. Когда была опустошена последняя бутылка, ванна оказалась заполненной на три четверти. В дверях официанты столкнулись с Мариной, закутанной в белый махровый халат. Она прошла мимо Хадада, села на кровать, достала из кармана старую мятую соломенную шляпку, украшенную вишенками, и надела ее себе на голову. – Вы должны повторять за мной все движения,- сказала она, натягивая перчатки из черного шевро.- Хорошо? – Согласен,- ответил Хадад, и на его губах появилась озорная улыбка. Она сняла халат, и от вида ее обнаженного тела у Хадада перехватило дыхание. – Чего вы ждете?- спросила Марина. – Вначале объясните, что я должен делать. – Будете отжиматься… Раздевайтесь! Он не знал, что означает «отжиматься», но дважды повторять «раздевайтесь» ему не требовалось. Она положила ступни ног на край кровати, подалась вперед и оперлась руками о пол. – Начинайте! Принц попытался принять положение, в котором находилась Марина, но тут же рухнул на пол: он забыл, когда в последний раз делал физические упражнения. Марина рассмеялась и начала отжиматься. На счете сорок она распласталась на полу. – А теперь в душ,- сказал Хадад. Он не скрывал волнения, которое вызвала в нем Марина своими гибкими спусками-подъемами… Он взял ее за руку и повел в ванную комнату. Зачерпнув ладонью из ванны пахучую жидкость, он вылил ее себе в рот. – Попробуйте. Марина наклонилась, не сгибая ног в коленках, и осторожно сунула кончик языка в ванну. – Шампанское!- воскликнула она, захлопав в ладоши. Она переступила через край ванны и, погрузившись по шею, принялась быстрыми движениями языка лакать шампанское.***
– Который час? Это были первые слова, которые произнес Ален, едва успев открыть глаза. Приятный запах сваренного кофе нежно щекотал его ноздри. – Половина восьмого, мистер. У кровати стоял молодой парень в светло-голубой форме. – Кто вы? – Коста, мистер. Ваш камердинер. Ален сел в кровати, потер указательными пальцами глаза и осмотрелся. Он находился в огромном, роскошно обставленном помещении. Он все вспомнил: «Виктория II»… И если это был не сон, в восемь часов здесь должен появиться Онор Ларсен. Добравшись до яхты среди ночи, он с трудом убедил дежурного, что является ее хозяином. – На всякий случай я заказал шеф-повару приготовить для вас яичницу с беконом. Вы не возражаете? – Прекрасно!- ответил Ален. В 7 часов 55 минут Ален вошел в кают-компанию. Ровно в восемь, в сопровождении одного из членов экипажа появился Ларсен. – У вас великолепная яхта, мистер Пайп. Она принадлежит вам? – Документы с вами?- спросил Ален, не ответив на его вопрос. Ларсен положил на стол тяжелый портфель и извлек из него папку голубого цвета. – Внимательно изучите и поставьте свою подпись… Ален углубился в чтение. Согласно документам, он становился владельцем 100 военных самолетов типа «Кобра», 40 «Викингов», 25 «105» и 35 «Викторов». Транспортировка осуществлялась морем до Дакара. – Дальше?- спросил он у Ларсена. – Ваши представители проверят товар, и он будет отправлен к месту назначения. – Кто эти люди? Ларсен добродушным тоном сказал: – Мистер Пайп, вас это не касается. Ваши полномочия ограничены операцией «купил-продал». – Но я настаиваю. Кто эти люди? – Могу я у вас спросить, для чего это вам нужно?- лицо Ларсена внезапно потемнело. – Когда товар дойдет до получателя, я буду иметь право еще на два миллиона долларов, не так ли? – Вы их получите. – Где гарантия? Я не знаю, когда, где и кто будет получать товар. – Гарантией для вас является мое честное слово. Не требуйте слишком многого. Ален еще раз перечитал бумаги и взял ручку, протянутую Ларсеном. – Мистер Ларсен, сегодня ночью мы договорились, что в момент подписания я получу первые два миллиона долларов. Я готов подписать… У вас есть два миллиона? Ларсен расхохотался. – Я предвидел ваш вопрос, мистер Пайп. Он достал из кармана смятый лист бумаги и протянул его Алену. – Вот телекс из «Фирст Нэйшнл» в Нью-Йорке. Мне только что его доставили. Ален прочел текст и чуть не закричал от восторга: на его счете в «Фирст Нэйшнл» было два миллиона долларов. – Я мог бы перевести их в Швейцарию или на Багамы, но так как вы предпочли Соединенные Штаты… С этого момента вы можете свободно ими распоряжаться. Ален откашлялся и задал вопрос, который все это время не давал ему покоя: – Почему вы доверяете мне, мистер Ларсен? Швед хитровато улыбнулся. – Я, конечно, не могу определить стоимость человеческой жизни, мистер Пайп, но ни одна жизнь, в том числе и ваша, не стоит восьмисот миллионов долларов. Ален наклонился над столом и поставил свою подпись.
***
Уснуть было невозможно. Гамильтон тихо встал и посмотрел на спящую Эмилию: теперь ее не разбудить и пушками. Может, он перестарался со снотворным? Он прошел в салон, надел брюки и повязал галстук. От страха Гамильтона знобило. Напрасно он так глупо повел себя с Пайпом. Теперь он в ловушке! Ньютон не согласился, чтобы банк продолжал и дальше держать деньги, принадлежащие «организации». Он с отвращением посмотрел на себя в старинное, потемневшее от времени зеркало: лицо было отвратительным. Из-за своей идиотской несдержанности он может потерять все: положение, семью, а главное, 70 миллионов долларов. Искать и найти кого-нибудь другого было задачей невозможной и неразрешимой. Надо обязательно встретиться с Пайпом и убедить его сотрудничать, какие бы деньги он ни запросил. Впрочем, у служащего Хакетта тоже не было выбора. Деньги он проиграл в карты, и у него нет никакой возможности вернуть их банку. Таким образом, рыбка плавает уже в садке. Но, с другой стороны, Пайп тоже держит его на крючке: достаточно, чтобы об их разговоре стало известно, и ему – крышка. Эрвин Брокер прогиб, потому что решил его шантажировать. Но и Пайп может пойти по этой дорожке! Он надел пиджак и, осторожно закрыв за собой дверь, вышел в коридор седьмого этажа. Ему надо было спуститься двумя этажами ниже. Было восемь часов утра. Он постучал в дверь номера, где жил Джон-Джон Ньютон. Несмотря на бушевавшую в его душе панику, он постарался принять вид человека, пришедшего с хорошими новостями. Ньютон встретил его широкой улыбкой. – Как дела? Все в порядке? – Все!- выдохнул Гамильтон.- Понадобится еще день-другой, чтобы отшлифовать кое-какие детали… Холодный взгляд Ньютона не дал ему договорить. – Мистер Прэнс-Линч, я прекрасно обходился и буду обходиться, не обладая фирмой «Хакетт»! У меня создается впечатление, что вы столкнулись с непреодолимыми трудностями. Если это действительно так, объясните их суть, и я умываю руки. – Помилуйте… дорогой друг, о каких трудностях вы говорите? – Уже неделю вы водите меня за нос. Я хочу наконец услышать имя посредника. Должен ли я напомнить вам о наличных деньгах, которые вы получили? Гамильтон изобразил сладчайшую улыбку. – Понимаю вашу нервозность, но поставьте себя на мое место! Даже здесь, в Каннах, я постоянно нахожусь рядом с Арнольдом Хакеттом! Я – его банкир. Положение, в котором я нахожусь, не позволяет мне проигрывать! Перед тем как мы нанесем окончательный удар, я должен тщательно выверить каждый шаг. Вы понимаете это? – Эта задержка не предусмотрена нашим контрактом. Я вынужден требовать от вас выполнения договора до тех пор, пока деньги не пойдут по назначению. Я отношусь с подозрением к тем людям, которые не могут сдвинуть дело с мертвой точки! Если через сорок часов я не обнаружу в финансовых газетах следов денег «организации», я прекращаю сделку. – Джон-Джон…- залепетал Гамильтон, приторно улыбаясь,- все будет закончено задолго до указанного вами срока. – Я хочу вам этого пожелать,- сказал Ньютон. Гамильтон вышел от Ньютона белый как полотно. Он поднялся по служебной лестнице на седьмой этаж и несколько раз нажал на кнопку звонка номера 751: Алена Пайпа там не было.
***
В прекрасном расположении духа, кокетливо сдвинув на глаза фирменную фуражку, гладко выбритый, Серж подошел к Арнольду Хакетту. – Вам вызвать машину, мистер Хакетт? – Нет, не надо. Спасибо. Я вышел немного прогуляться. Хочу посидеть в баре на террасе. – Посыльный,- крикнул Серж,- столик на террасе для мистера Хакетта! День выдался великолепный. В бассейне, под строгим оком нянек и телохранителей, уже вовсю плескались дети. За долгие годы у Хакетта выработалась привычка вставать в шесть часов утра, даже если ложился, как в данном случае, в четыре. Он развернул «Геральд трибюн», от которой исходил свежий запах типографской краски, и задержал взгляд на высокой девушке, направлявшейся к бассейну. На ней был белый махровый халат и темные очки. Виктория долго не могла уснуть от головной боли и теперь проснется не раньше полудня. Он повернул голову в сторону западного фасада отеля и вычислил окно Марины. Оно было широко распахнуто. Ее появление с Хададом вызвало у него сильнейший шок. С ним ли провела она остаток ночи? Если так, тогда пусть он оплачивает ее пребывание в отеле. Он вспомнил о Пэппи, которой было грустно и одиноко без него в Нью-Йорке. Сотни раз она повторяла ему, что умирает от тоски, когда его нет рядом… Марина, наоборот, совершенно не нуждалась в его присутствии. Он заказал томатный сок и, воспользовавшись отсутствием Виктории, рюмку водки. За соседним столиком несколько англичанок пили свой первый утренний чай. Одна из них, кивнув на газету, спросила: – Какие новости? – Плохие,- ответил он,- плохие… Женщины, которым было за тридцать, его не интересовали.
***
Когда Ларсен покинул яхту, до Алена дошел смысл происшедшего: он стал богатым и всем его неприятностям наступил конец. Теперь он сможет не только возвратить деньги «Бурже», но на его счете в «Фирст Нэйшнл» останется 800 тысяч долларов! А впереди его ждут еще два миллиона, которые, как пообещал Ларсен, он получит через две недели. Ален стремительно поднялся на палубу, пулей промчался мимо удивленных матросов команды, сбежав по трапу на набережную, пустился по улице… Как только он получил возможность рассчитаться с Гамильтоном, ему больше некого было опасаться в «Мажестик». – В отеле есть телекс?- спросил он у швейцара. – Разумеется, мистер. Еще не успев отдышаться, Ален написал текст и протянул его оператору. «Нью-Йорк. Банк «Фирст Нэйшнл». Перевести в банк «Бурже Транс Лимитед» 1 170 400 долларов. Ален Пайп. Отель «Мажестик». Канны. Франция». Ален ворвался в свой номер. Схватил телефонную трубку и набрал номер апартаментов Прэнс-Линча. Там мгновенно подняли трубку. – Говорит Ален Пайп. – Где вы? Мне необходимо с вами встретиться. – Мне тоже. Я у себя. – Иду. Через тридцать секунд Гамильтон был уже у Алена. Ален не успел открыть рот, а Гамильтон уже горячо тряс его руку. – Приношу вам искренние извинения за свою невыдержанность прошлой ночью, самые искренние… Усталость, агрессивность этих подонков… Не выдержали нервы… Я сожалею, что так глупо вел себя. Изумленный Ален пожал ему руку. – У меня для вас, мистер Прэнс-Линч, есть хорошая новость! Я только что возместил вам всю сумму, которую по ошибке ваш банк перевел на мой счет. – Повторите… – Мы в расчете. В этот момент «Фирст Нэйшнл» переводит вам миллион сто семьдесят тысяч четыреста долларов. Лицо Прэнс-Линча побледнело. – Но это невозможно! Вы же сказали, что проиграли все в казино! – Совершенно верно! Я нашел источник, который… Все, я вам больше ничего не должен! Сейчас девять тридцать, ваши условия я выполнил. Забудем эту историю! – Минутку, мистер Пайп. Я восхищен вашим сообщением… Но ничего не мешает нам обсудить мое предложение. – «Хакетт»? – «Хакетт». – Сожалею, мистер Прэнс-Линч, но меня это совершенно не интересует. – Постойте, постойте…- запротестовал Гамильтон, притворно улыбаясь.- Сегодня ночью я говорил жесткие, грубые, даже обидные слова… Я был не прав. Но вознаграждение остается в силе… Двадцать тысяч долларов! К десяти часам Ален должен был быть у Тьерри. Горячая волна залила его лицо. – Нет и нет! Я не намерен менять решение… – Мистер Пайп… Ситуация изменилась. Еще вчера вы были должны мне больше миллиона. Вы говорите, что сегодня возместили… – Пожалуйста, проверьте. Прэнс-Линч поднял руки, словно подтверждая, что не сомневается в этом. – Верю, верю… Я уверен, что вы это сделали. Поэтому я предлагаю вам не двадцать тысяч долларов, а тридцать! Ален украдкой посмотрел на часы. Если он попадет даже в небольшую пробку, он опоздает. – Благодарю вас, мистер Прэнс-Линч, но я не соглашусь даже за сто тысяч! – Я согласен на сто тысяч! Они – ваши!- спокойным голосом сказал Гамильтон, с ужасом видя, что Ален не блефует. Он понимал, что все его слова неубедительны и смешны, но более сильных доводов найти не смог. А Ален знал слишком много… – Сто тысяч долларов у вас в кармане и плюс реванш над Хакеттом! Он заметил, что Ален пристально смотрит на него и едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. – Ночью вы сказали, что согласны. Вы помните? – Послушайте, мистер Прэнс-Линч, меня ждут. – Поймите, мне трудно отказаться от ваших услуг после нашего конфиденциального разговора. Такие дела требуют строжайшей тайны. – Даю вам слово, что… – Но вы уже не сдержали его, согласившись вчера и отказавшись сегодня. Почему я должен верить вам еще раз?- тихо произнес Гамильтон. – Плевал я на Хакетта и «организацию», которую вы можете направить против него. Прошу извинить меня, но я очень тороплюсь. Лицо Прэнс-Линча окаменело. – Назовите вашу сумму! Ален с удивлением посмотрел на него. – Повторяю… – Ваша сумма! Каждый человек имеет свою цену. Я хочу знать, сколько стоите вы! – Неужели вы не понимаете, что я отказываюсь от вашего предложения? – Вы уже не можете это сделать, мистер Пайп! Слишком поздно. – Слишком поздно? Что вы хотите этим сказать? – Я не могу рисковать существованием моего банка из-за каприза человека, который не держит свое слово. – Пусть провалятся в тартарары ваш банк и фирма «Хакетт»! Я уже забыл вашу трепотню! А теперь, убирайтесь! – Спрашиваю в последний раз… Сколько? Ален оттолкнул его в сторону, прошел в ванную, взял купальные принадлежности и вышел из номера, оставив там стоявшего как столб Гамильтона. – Мистер Пайп,- придя в себя, закричал Прэнс-Линч… Он выбежал в коридор, но Алена там уже не было. Этот мальчишка не только завалил операцию, но и подписал ему смертный приговор.
***
Устав лежать в темноте с открытыми глазами, Баннистер зажег лампу. Он чувствовал себя виноватым перед всем миром, начиная с Кристель и Алена. Он перевернулся на другой бок, сожалея, что еще только три часа ночи, но решил больше не спать. Его самолет улетал в семь утра. Он встал, босиком прошел на кухню и выпил стакан молока. Затем на цыпочках, чтобы не разбудить Кристель, возвратился в комнату, достал из шкафа чемодан и начал складывать вещи. Закончив, он сел на край кровати, свесив руки… Он сожалел о вчерашней ссоре с Кристель, но в чем-то убедить ее было невозможно. Он с трудом переносил ее присутствие и в то же время чувствовал, как сжимается его сердце при мысли, что несколько дней он проведет без нее. Двадцать лет совместной жизни породили необъяснимые привычки… Ему не давало покоя новое поступление на счет Алена. Не является ли оно очередной ошибкой компьютера? Если да, то сколько еще времени будет сыпаться эта манна небесная? Он прошел в ванную, побрился, принял душ, затем оделся и еще раз проверил паспорта и билеты в кармане. Не в силах больше находиться в этой давящей тишине, он взял чемодан, вышел на лестничную площадку и осторожно закрыл за собой дверь. Кристель он позвонит из аэропорта и попрощается. Раздираемый необъяснимыми угрызениями совести, он нажал на кнопку лифта.
***
– Можно быстрее? Я опаздываю. Шофер безразличным взглядом посмотрел на него через плечо. – Стоит ли торопиться? Если вы ей не нужны, она уже ушла, если дорожит вами, заявитесь хоть через год, она будет на месте. Зная отношение Тьерри к «роллсу», Ален решил заехать за ней на такси. – В каком месте на Хуан? – Едем вдоль моря, а там я подскажу… Вы можете обождать меня пять минут? – И куда дальше?… Вопрос шофера поставил Алена в затруднительное положение. – Еще не знаю, посмотрим. С тех пор как они расстались, Ален не переставал думать о Тьерри: как они проведут время, каким прекрасным будет для них этот день. Но где? Об этом он не подумал.
***
Цезарь ди Согно открыл глаза и с удивлением посмотрел на женщину, лежавшую рядом с ним в его кровати. Он впервые ее видел. Это была блондинка, и, чтобы убедиться в ее подлинности, он приподнял край простыни и посмотрел вниз: да – настоящая. По обрывкам воспоминаний он попытался восстановить события: когда эти ублюдочные хиппи ворвались на мотоциклах в «Бич», он решил не искушать судьбу и незаметно улизнул. Возвращаться туда позже не имело смысла, и он предпринял небольшое путешествие по барам, которых в Каннах было великое множество и где всегда найдется желающий выпить за чужой счет и расплатиться за это болтовней. В тот вечер он пил со всеми подряд, приобрел массу друзей, но набрался, как последний докер. Как она оказалась здесь? Он осторожно потряс ее за плечо. – Э-эй! Она издала что-то наподобие мычания, повернулась к нему спиной и натянула на голову простыню. Цезарь легонько похлопал ее по попке. – Пора вставать, милочка… Из-под простыни донесся достаточно приятный голос: – Пора что? – Меня зовут Цезарь. – А мне какое дело! Это несколько озадачило его. – Я хочу кофе, апельсиновый сок и яичницу с беконом,- продолжил голос. – Как вас зовут? – Патриция… – Мы знакомы? – Не знаю. Я вас еще не видела. – Хочу сообщить вам, что вы находитесь в моей постели. – Я хочу кофе, а потом… еще поспать. Он подошел к окну, раздвинул шторы, и солнечньй свет ворвался в комнату. – Патриция, мне нужна моя комната. Я жду гостей. Патриция!.. Резким движением он сдернул с нее простыню. Обнаженное тело незнакомки не разочаровало его, наоборот… Он подумал, что с ней ему было не скучно, если, конечно, он ею воспользовался. – Скажите, Патриция… Вы и я… Он взял пальцами ее за подбородок и повернул лицом к себе. Сомневаться не приходилось, он видел ее впервые и ничего не мог вспомнить… – Не мешайте спать, я совсем без сил. – Только один вопрос: мы трахались? Неожиданно затрезвонил телефон. – Да? – Цезарь? – Да. – Узнаете меня? – Гамильтон Прэнс-Линч? – Да. Я хочу попросить вас об одном одолжении. – Слушаю. – То же, что и в прошлый раз… Припоминаете? Цезарь колебался всего лишь секунду. – Да. – Вчера вечером он сидел за нашим столом. Любитель живописи. Понимаете, о ком я… – Я понял. Когда? – Немедленно! – Сейчас же займусь! Можете на меня рассчитывать. Сделаю все возможное. Цезарь положил трубку. Он собрался набрать нужный ему номер, но увидел, что Патриция снова укрывалась простыней. Разговор был такой важности, что она напрочь выскочила у него из головы. Цезарь поднял с пола ее вечернее платье из черного муслина, позолоченные туфли на высоком каблуке, бюстгальтер и микроскопические черные прозрачные трусики, свернул все в ком и бросил его на кровать. – Забирайте свои вещички и убирайтесь! – А кофе?..- захныкала Патриция, потягиваясь. Цезарь грубо схватил ее за руку и сбросил на пол. – Вон! У меня работа. Она протерла глаза и испуганно посмотрела на него. – Вы сумасшедший! – Убирайся отсюда! Я просил тебя по-хорошему, ты не понимаешь… – Сволочь! Она поднялась с пола и натянула на себя платье. Затем села на стул и, не спуская с него взгляда, начала надевать туфли. – Закончишь одеваться в коридоре,- со злостью сказал Цезарь. Он схватил ее за руку, дотащил до двери и вытолкнул из номера. Затем возвратился к телефону и набрал нужный номер. – Марко?.. Это – Цезарь. В «Мажестик» тебя заждался клиент!.. Ален Пайп… Да… Сегодня! Сейчас! Я жду. Он положил трубку и пошел в ванную. Открывая кран душа, он мучительно думал, что теперь никогда не узнает, трахнул он Патрицию или нет. (обратно)
Глава 23
В хрустальной вазе лежали фрукты: апельсины, яблоки… Через открытое настежь окно можно было видеть кусочек искрящегося моря. А перед ним, в центре комнаты, в брюках и белой широкой рубашке, с книгой в руках стояла Тьерри. – Ну что же вы, входите!.. Поберегите голову! Ален сделал шаг вперед, и его охватило странное чувство возвращения к чему-то близкому и родному… – Вы пунктуальны. А мне почему-то казалось, что вы забыли… не придете. От волнения у Алена перехватило дыхание, и он с трудом произнес: – Что вы читаете? – Анаис Наин, «Дневник». Читали? – Нет. Она бросила книгу на покрытую пледом кровать. – Кофе? – Нет, спасибо. – Вам удалось поспать? – Немного. Чуть-чуть… – У вас утомительный отдых. Он смущенно улыбнулся. – У меня есть предложение,- сказала Тьерри,- В порту стоит катер. Не мой, разумеется, но друзья Люси разрешили мне воспользоваться им. Устраивает? – Превосходно! – У вас есть плавки? – Уже на мне. Она положила в соломенную сумку какие-то вещи. – Внизу нас ждет такси. – Я готова. Они вприпрыжку спустились по лестнице. Увидев Тьерри, шофер восхищенно прищелкнул языком и подмигнул Алену. – Что я говорил? – Возвращаемся в Канны,- холодно сказал Ален.- Порт Канто. – Что значат его слова?- спросила Тьерри, когда машина тронулась с места. – Когда я ехал сюда, он объяснил мне свою теорию относительно женщины и ее терпения. – Ну и что? – Я сказал ему,- начал шофер, который не пропустил ни одного слова Алена,- что если женщины не уходят сразу, они способны ждать хоть десять лет. Разве я не прав, мисс? – Абсолютно правы,- подтвердила Тьерри. – Вы на самом деле так думаете?- удивился Ален. – Нет, конечно. Люси осталась у Лермонтов. У них сказочный дом. Хочется поселиться в нем и никуда не выходить. Вас не утомляет Нью-Йорк? – Очень. – Что это такое – быть миллионером? Что вы находите в этом притягательного? – Да, теперь, когда в «Фирст Нэйшнл» у него лежало 800 тысяч долларов, он смело мог причислить себя к их числу. – Ничего,- ответил он улыбаясь. – Порт Канто,- сказал шофер. – А как же мы найдем катер?- обеспокоенно спросила Тьерри. – По названию. – Я не знаю… – А имя владельца знаете? – Мак Дермонт. – О'кей! Сейчас спросим у причальной службы. Он выехал на набережную и остановился перед невысоким строением. – Я на секунду. Через минуту шофер садился за руль. – Знаете, как называется судно? «Праздник»! Название, если не ошибаюсь, прямо в масть! Машина тронулась с места и, проехав метров двести, остановилась напротив большого катера с подвесным мотором. С катера к ним спустился мужчина, одетый в матросскую форму. – Мы друзья Рональда Мак Дермонта,- сказала Тьерри. – Я предупрежден и ждал вас. Меня зовут Гвен. Кивком головы он поприветствовал Алена, который рассчитывался с шофером. Шофер даже присвистнул, увидев свои чаевые. – Спасибо! Если я вам понадоблюсь, вы всегда сможете найти меня на стоянке у отеля «Мажестик». Тьерри уже поднялась на катер, и Ален поспешил за ней. Одним движением она сбросила с себя одежду. Отвязав швартовые канаты, Гвен спросил: – Куда поплывем, мисс? – В открытое море! Гвен улыбнулся, сел за руль и запустил мотор.***
– Твой муженек занялся джогингом?- с ехидцей в голосе спросила Сара. Они завтракали на террасе под большим, защищавшим их от солнечных лучей зонтом, за столом, накрытом небесно-голубой скатертью. Сара посыпала перцем яичницу и посмотрела на мать. По утрам Эмилия ограничивалась только чашкой чая. Бесконечные выпады дочери против мужа приводили ее в отчаяние. В большинстве случаев замечания Сары были справедливы, но нельзя же говорить об этом постоянно и везде… – Сегодня я беру яхту. Ты пойдешь в «Бич»? – У меня мигрень,- ответила Эмилия.- Вчерашний вечер доконал меня. – А меня позабавил. Банда моторизованных панков на благотворительном вечере! Такое можно увидеть только в Каннах! – Сволочей достаточно везде! – Да, но благотворительные вечера – редкость. Я отдыхаю с Пайпом. – С кем?- рассеянно спросила Эмилия. – С Пайпом! Молодой человек, который сидел напротив тебя. Ты не могла его не заметить. Это было единственное приятное лицо из всей компании. – А! Да, я помню…- ответила Эмилия, глядя с высоты седьмого этажа в сторону бассейна: куда мог исчезнуть Гамильтон? – Мама, ты меня слушаешь? – Да, да… – Но у тебя такое выражение лица… – Я прекрасно слышала, Пайп… Ален Пайп. Что из этого? Что в нем особенного? Сара посмотрела на мать и безразличным тоном сказала: – Я выхожу за него замуж.
***
Они настолько далеко отплыли от берега, что могли одновременно видеть в голубом мареве и Канны, и Ниццу. Катер на большой скорости неудержимо рвался вперед, в открытое море, оставляя за собой восхитительной белизны пенистый след на темно-синей поверхности воды. Они обгоняли парусники, барражировавшие вокруг островов, другие прогулочные судна. – Поплаваем?- предложила Тьерри. – С удовольствием!- ответил Ален. Когда Гвен выключил мотор, нос катера глубоко зарылся в воду и катер еще несколько секунд продолжал двигаться по инерции. Наконец он остановился и мягко закачался на легких волнах. Теперь берег напоминал тонкую серую полоску горизонта. У них одновременно возникло чувство, что они одни в этом мире. Одни – никого больше! Гвен повернулся к ним спиной и закурил сигарету. Тьерри первой бросилась в воду и поплыла. Несколько секунд Ален наблюдал за ее легкими, красивыми движениями, затем оттолкнулся от борта и нырнул в теплую воду. – А если Гвен уплывет без нас?- смеясь, спросила Тьерри, когда Ален подплыл к ней. – Надеюсь, что вы дотащите меня до берега. Она наклонила голову вперед и ушла под воду. На мгновение над поверхностью воды взметнулись ее ноги, и Ален с удовольствием отметил их безукоризненную форму. На том месте, где она только что была, ее не стало. Пустота… Вдруг он почувствовал, как две руки схватили его за лодыжки и потянули вниз. Он едва успел сделать глоток воздуха… Они резвились как две счастливые, довольные собой зверюшки: взбирались друг другу на спину или спокойно плыли рядом, легко касаясь ногами, бедрами, руками… В какой-то миг их мокрые лица оказались совсем близко друг от друга, но они не опустили глаза, и их губы встретились в солоноватом от морской воды поцелуе. Тьерри взяла руку Алена, нежно пожала ее и поплыла к катеру. Отказавшись от помощи Гвена, она рывком поднялась на борт. – Я проголодалась,- сказала она. На лице Гвена появилось растерянное выражение. – Мистер Дермонт не дал мне на этот счет никаких указаний. – А нет ли какого-нибудь ресторанчика на острове?- спросил Ален. – Есть, но он всегда переполнен. – Ну и ладно,- сказала Тьерри,- поедим на берегу. Я не хочу никого видеть. – Если вы не возражаете,- сказал Гвен,- я взял с собой несколько бутербродов и две бутылки красного вина. – Присоединяйтесь… Тьерри и Ален переглянулсь и рассмеялись. – Вот и прекрасно,- сказал Гвен и тоже засмеялся. Он выдвинул ящик, который находился рядом с приборной доской, и достал бутылку вина. – Могу предложить вам пройти между островами. Когда он разливал вино по стаканам, то заметил на их лицах счастливую отрешенную улыбку, они не сводили друг с друга глаз, растворялись в них…
***
Марко вышел из холла «Мажестик». Его клиента в отеле не оказалось. Он задумчиво смотрел на подъезжающие и отъезжающие от отеля шикарные лимузины миллионеров. Цезарь ди Согно приказал выполнить работу до вечера. Как выполнить, если жертва – до такой степени неуловима? Он подошел к Сержу. – Я ищу своего друга. Его зовут Ален, Ален Пайп. К сожалению, в номере его нет. – Он только что уехал,- ответил Серж и заторопился на помощь двум пожилым дамам, собаки которых пытались вцепиться друг дружке в глотку. Разняв собак, он возвратился к Марко. – Я вызывал ему такси. – Возможно, вы знаете, куда он поехал? – Спросите на стоянке такси. Это недалеко, через улицу, напротив. Кстати, его повез Альберт. – Спасибо. – Всегда к вашим услугам, мистер. Собаки снова затеяли грызню, бросаясь друг на друга и громко лая. Марко перешел на противоположную сторону Круазетт и обратился к стоявшему первым в очереди шоферу: – Я ищу мистера Альберта. – Это я,- ответил Альберт. На лице Марко появилась приветливая улыбка. – Мне сегодня везет. Он достал из кармана пятидесятифранковую купюру и вложил ее в руку Альберта. – Распорядитель отеля по транспорту сказал, что вы подвозили моего друга, Алена Пайпа. – А! Да… Он пока единственный пассажир, которого я взял сегодня возле «Мажестик». Я отвез его в порт Канто. Они уплыли на катере. Большой катер со странным названием «Праздник». – Огромное спасибо. Теперь осталось разыскать его в море. – В Каннах все плавают по одному и тому же маршруту – к островам. Марко еще раз поблагодарил шофера и удалился. В ста метрах от стоянки такси в старом «додже» кремового цвета его ждал Салисетти. – Давай в Теул, к гроту. Быстрее! «Додж» так резко взял с места, что завизжали покрышки. Улицы в этот час были почти пустынны, все ловили солнечные лучи на пляжах. Машина набрала скорость, обогнула акваторию старого порта и помчалась вдоль побережья в направленииЛа-Нарули. Марко закурил. – Едем на рыбалку?- спросил Салисетти. – Да,- пробормотал Марко.- Очень вкусная рыбка. – Среди белого дня? Опасно рыбачить в это время…- высказался Салисетти, не отрывая глаз от дороги. – Не так, как кажется… В разгар сезона в море происходит столько несчастных случаев!.. Одним больше, одним меньше… Эти сумасшедшие управляют лодками как Бог на душу положит. – Да, это так,- согласился Салисетти. Он подавил смешок и сказал: – Я всегда говорю, что море и фейерверк – очень опасны. Через десять минут «додж» остановился перед металлическими решетчатыми воротами, за которыми начиналось спрятанное среди скал частное владение. Заметить постройки со стороны дороги было невозможно. Марко открыл ворота и, как только «додж» въехал на территорию, закрыл их. Под домом, стоявшим на скале, был выбит грот, где находился катер. – Такое чудовище видеть еще не приходилось,- сказал Салисетти. По форме катер напоминал лезвие ножа. Он был собран вручную и предназначался для контрабандных операций в море. Ни одно полицейское суденышко не могло соперничать с ним в скорости, превышавшей 150 километров в час. – Забирайся,- сказал Марко. – Куда направляемся? – Прогуляемся к островам. Марко добавил газ, и катер стал выплывать из грота.
***
Солнечные лучи ласкали тело Тьерри. Она лежала на корме катера и выражение спокойного счастья одухотворяло ее лицо. Лежа рядом с ней, Ален не решался посмотреть на нее, опасаясь, что может повторить тот мимолетный жест, когда в море их губы соприкоснулись в солоноватом поцелуе. Рука Тьерри лежала в десяти сантиметрах от него… Ему ужасно хотелось прикоснуться к ней. Вода в море была абсолютно прозрачная. Через ее восьмиметровую толщу на золотистом песке дна четко просматривались ракушки, шныряющие в беспорядочном движении небольшие серебристые рыбешки… Святое время послеобеденного отдыха. Покой, жара, солнечный свет… Рука Алена неотвратимо приближалась к руке Тьерри. Когда до нее оставался миллиметр, она в нерешительности замерла. Мгновение было прекрасно, и Ален боялся испортить его. Кончиками пальцев он осторожно провел по ее руке, и ее пальцы ответили ему. Ни один из них не заметил проплывшего в пяти метрах от «Праздника» катера с бело-голубыми полосами на корме. – Гвен,- не отпуская руки Алена, сказала Тьерри,- мы хотим искупаться по ту сторону острова. Моряк отложил в сторону газету и завел мотор. – Через пять секунд начинай, не суетясь, двигаться за ними,- сказал Марко, обращаясь к Салисетти.
***
И в час дня Алена все еще не было в холле. Сара несколько раз звонила ему в номер, подолгу не клала трубку, но все напрасно – никто не отвечал. Она направилась к Сержу, который что-то поправлял в перебинтованной руке. – Серж, вы не видели шофера мистера Пайпа? – Норберта? Да, мисс! Вот он. – Что с вашей рукой? – Укусили, мисс. – Женщина? – Собака. – Тогда это не опасно. Она подняла голову и посмотрела на коренастого мужчину, подошедшего к ним. – Вы шофер мистера Пайпа? – Да, миссис. – Мисс!- поправила она Норберта.- Вы видели его сегодня утром? – Нет, мисс. Жду его указаний. – Он что-то планировал? – Нет, мисс. – Прекрасно! Спасибо. Она пошла в бар на террасе, но Алена не было и там. У бассейна несколько молоденьких девушек, игнорируя запрещение загорать с обнаженной грудью, отчаянно демонстрировали свои прелести. Кивком головы Сара приветствовала знакомых, отказалась от десятка приглашений поужинать, прошла через бар и направилась к лифту. Войдя в лифт, она нажала на кнопку седьмого этажа. Никогда еще она не вела себя подобным образом. Мужчин, которые пытались ухаживать за ней, она быстро ставила на свое место. За восторженными взглядами поклонников ее бдительное око усматривало покушение на ее состояние. Большого физического влечения к мужчинам она не испытывала. Иногда, чтобы успокоить нервы, она заводила любовника. Но повторная встреча случалась очень редко. В третий раз она не встречалась никогда. Между ней и ими всегда стояла незримая стена ее миллионов. Она вышла из лифта и, пройдя по коридору, постучала в 751-й номер. Возможно, он еще спит? – Там никого нет, миссис. Сегодня утром я очень рано прибирала, и мистера уже не было. Сара холодно посмотрела на горничную и пошла к лифту. Когда она предложила Алену совершить прогулку на яхте, он ничего ей не пообещал. Ее сердце сжалось, когда она вспомнила вчерашнюю прогулку по Круазетт. Она шла рядом с ним, держа его под руку… Стояла теплая ночь… Она точно вспомнила момент, когда ей был нанесен удар в сердце. Подходя к отелю, она ясно дала понять, что хочет выпить стаканчик вина у него в номере. Тогда он ответил: «У меня нет сил, Сара. Я умру, если не посплю несколько часов!» У него был вид провинившегося ребенка. И тогда она поняла, что это будет он и никто другой. Он так не похож на всех остальных! Несколько минут назад мать, поняв, что она не шутит, обозвала ее сумасшедшей. – Но ты ведь совсем не знаешь его! – Это будет он, мама. – Очередной альфонс на твои денежки! – Не думай, что все такие прогнившие, как твой мудак муж! – Сара! – Завтра я сама предложу ему свою руку. Попробуй только помешать мне! Она спустилась в холл и решила съездить в «Палм-Бич». А вдруг Ален там!
***
– О чем вы думаете?- спросил Ален. Головка Тьерри лежала у него на плече. – Я ни о чем не думаю. Просто смотрю в небо. – Что вы там видите? – Ни одной тучки. Ален наклонил голову и поцеловал ее в губы. – А теперь? – Ничего. У меня закрыты глаза. Кончиком языка она искала его губы. Они лежали в неглубокой песчаной впадине, но камни, неизвестно как здесь оказавшиеся, защищали их от любопытных взглядов со стороны моря. В трехстах метрах от них, едва покачиваясь на легкой зыби, дрейфовал «Праздник». Гвен, вероятнее всего, спал. – Странно, что мы здесь вдвоем…- вздохнула Тьерри. – Странно? Она взяла его лицо в ладони и жадным взглядом посмотрела ему в глаза. – В вас есть то, что я не приемлю… – То есть? – Истиблишмент… Положение… Практически, все внешние признаки… «Роллс», «Мажестик», «Палм-Бич», деньги… – Что вы обо всем этом знаете? Он сгорал от желания рассказать ей всю правду, но боялся упасть в ее глазах. – Что вас смущает? – В принципе, ничего. Я не принадлежу к тем, кто подкладывает бомбы, и прекрасно знаю, что у некоторых людей за внешним величием прячется хрупкая душа… В вас это я почувствовала инстинктивно, поэтому и села тогда в вашу чертову машину. И сейчас я здесь! Сколько вам лет? – Тридцать. – Странно, но вы очень плохо выглядите. Вас утомляют деньги? – Очень! Особенно когда их нет,- ответил Ален. – Вы говорите о них тоном человека, у которого их много, слишком много… Почему-то всегда не дорожат тем, чем обладают. – Чем конкретно? Она покрыла его рот быстрыми, легкими поцелуями. – Этим… Это не за деньги… В этом нужно почувствовать себя нищим, чтобы очень захотеть стать богатым. И снова Алену захотелось во всем ей признаться, но что-то неясное удерживало его. – А сколько лет вам? – Двадцать два. – Какие планы у вас на будущее? – Те же, что и в данный момент: быть хорошей… – Вы правда хорошая? – Да. – Я тоже, – Ален… – Что?- пробормотал он, пряча свое лицо в ее пахнущие солью волосы. – Ничего… Она обняла его за шею и притянула к себе. Закрыв глаза, Тьерри несколько раз медленно повторила его имя: – Ален… Ален… Ален… Горячая волна страстного желания прокатилась по его телу, но вместе с ним он ощутил в себе незнакомую до сих пор нежность. Медленными движениями руки он гладил ее бедро, и с каждым движением его ладонь все больше смещалась к его внутренней поверхности. Она спокойно отдавалась этой ласке, но вдруг убрала его руку и посмотрела прямо в глаза. – Я хочу тебя, Ален, так же, как и ты меня. Но не здесь и не так. Не злись на меня… – Когда?- тихо спросил он. – Сегодня ночью. Хорошо? – Да,- ответил он охрипшим голосом. Она резко поднялась на ноги и, пробежав несколько метров, бросилась в расступившуюся под ее телом воду. Ален увидел, как, делая быстрые взмахи руками, она поплыла в направлении катера. Он нырнул следом за ней и долго оставался под водой, стараясь успокоиться и остудить жар еще не прошедшего желания. Когда он вынырнул, она уже взбиралась на корму катера. Ему оставалось проплыть метров двадцать до «Праздника», когда внезапно он услышал гул мотора и увидел огромных размеров катер, который, едва касаясь дном воды, мчался прямо на него. Он услышал истошный крик Тьерри и увидел мечущегося по корме и размахивающего руками Гвена. Он что-то кричал, но Ален не мог разобрать слова. На какое-то мгновение его парализовал страх: неужели водитель катера не видит его? Он отчаянно замахал поднятой вверх рукой, обнаруживая себя, но катер ни на сантиметр не отклонился от курса. Ален бросил взгляд в сторону спасительного выступа скалы, торчащего из воды, и, нырнув, поплыл к нему. От недостатка кислорода нестерпимо жгло грудь и готовы были разорваться легкие… Эти парни на катере сошли с ума. Гул мотора приближался. Если он всплывет, его разрежет пополам. Стиснув зубы, задыхаясь, он думал лишь об одном: выжить. Наконец сквозь толщу сине-зеленой воды он заметил спасительный склон скалы. Он оттолкнулся от него и с широко открытым ртом вынырнул на поверхность… Когда он подплыл к «Празднику», Гвен рывком поднял его на катер, и он, как мешок с водорослями, рухнул на палубу. Лицо Тьерри было мертвенно-бледным.
***
Марина с трудом открыла глаза. Она не узнавала ни комнаты, ни кровати, на которой лежала, и с удивлением обнаружила, что закутана в белый махровый халат. Под халатом на ней ничего не было. Ей казалось, что вся комната пропитана алкоголем. Она поднесла ладонь к лицу и понюхала – от нее пахло спиртом. Обхватив пальцами лодыжку левой ноги, она подтянула ступню до уровня носа – тот же отвратительный запах. Резким движением она встала с кровати и направилась в ванную. Ванна была заполнена подозрительной, желтоватого цвета жидкостью, издававшей винный запах. Она опустила туда палец, обсосала его и нахмурила брови: шампанское. Сомневаться в том, что она окуналась в эту «водичку», не приходилось. Марина вытащила заглушку и, наблюдая, как шампанское уносится в канализацию, никак не могла вспомнить событий, происшедших ночью. Ответ на ее вопрос лежал на краю ванны в виде маленького бумажного пакетика. Она сорвала обертку и обнаружила небольших размеров изящную шкатулку. Внутри лежал восхитительный, украшенный драгоценными камнями браслет и записка: «Марине на память о сказочной ночи любви. Хадад». Задумчиво опустив голову, она присела на край ванны: она ничего не могла вспомнить…
***
– Вы только посмотрите на этих сволочей! Из-за таких каждый год происходят смертельные случаи. Идиоты! Сумасшедшие! Бандиты! Прошло десять минут, а Гвен никак не мог успокоиться. Ему стало жутко, когда он увидел, как катер мчится прямо на Алена. – Таких подонков нельзя допускать к управлению судном! – Вероятно, они меня не заметили,- сказал Ален. Накинув на плечи полотенце, он сидел рядом с Гвеном на скамейке и отрешенно смотрел перед собой. – Именно это я и ставлю им в вину. Но существует еще и ограничение скорости вблизи берега. Я думал, что они разрубят вас пополам. – Вы правы, Гвен, но все закончилось благополучно… Давайте забудем! – Никогда!- решительно заявил Гвен.- Как только доплывем до берега, я сделаю заявление в морскую полицию. Ален толкнул Тьерри локтем и улыбнулся. Ее лицо все еще было бледным. – Умеешь? Он глазами показал на кончики водных лыж, выглядывавших из-под скамейки. – Да… но не сейчас. – Тебе не хочется прокатиться? – Я не смогу устоять на ногах. – Гвен! – Да, мистер. – Я могу воспользоваться водными лыжами? Гвен сбросил газ. – На вашем месте я бы не рискнул. – А меня это взбодрит. До берега оставалось не более трехсот метров. Ален прыгнул в воду, и Гвен бросил ему лыжи. Ален закрепил их на ногах и подмигнул Тьерри. – Напрасно ты отказалась! Гвен разобрал фал и бросил один конец Алену. Ухватившись за деревянную ручку, закрепленную на конце каната, он крикнул: – Вперед! Он почувствовал, как мощная сила вытаскивает его на поверхность моря, и старался не потерять равновесия. Совсем малышом мать привела его на пляж и в первый раз помогла надеть лыжи. Ален с удовольствием отметил, что, несмотря на перерыв, его тело ничего не забыло. Он выполнил несколько фигур, радуясь, что память и мышцы не подводят его, а даже опережают его замыслы. Устав, он подал знак рукой, чтобы Гвен притормозил, и в этот момент Тьерри, все время не спускавшая с него глаз, неожиданно закричала, показывая куда-то за его спину. Ален обернулся и похолодел от ужаса: в тридцати метрах от него, неизвестно откуда возникнув, мчался тот же чудовищный катер. Встревоженный криком, Гвен обернулся и, заметив надвигающуюся опасность, заложил крутой левый вираж и прибавил скорость. Катер повторил их маневр и с обескураживающей легкостью обошел их. Ален стиснул зубы и впился пальцами в ручку. Если он остановится или упадет – ему конец. Его тревожила мысль, что ноги могут не выдержать безумной скорости, с которой он сейчас мчался. Единственный шанс на спасение заключался в том, чтобы быстрее добраться до пляжа. Вираж, который сделал Гвен, оказался очень крутым. На преследовавшем их катере, казалось, только этого и ждали: они развернулись и понеслись наперерез фалу. Через несколько секунд катер был почти рядом… Стараясь избежать столкновения, Ален приложил все оставшиеся силы и сумел уйти вправо. Едва касаясь днищем воды, катер пронесся в метре от Алена. От набежавшей волны Ален едва не потерял равновесия. Тьерри кричала, как безумная. Катер-убийца снова пошел в атаку. Ален понимал, что на этот раз ему не увернуться. Он весь собрался, напрягся, как хищный зверь, и, дождавшись критического момента, направил лыжи на набегавшую волну. Он взлетел с волны вверх, как с трамплина, и в сверхчеловеческом прыжке перелетел через катер. До берега оставалось не более ста метров. Обезумевший катер взял курс в открытое море и вскоре исчез. Гвен сделал резкий поворот в сторону спортивного пляжа. Ален отпустил фал и по инерции доплыл до понтона, ухватился руками за металлическую перегородку. Острая боль пронизывала грудь. С трудом переводя дыхание, он поднял голову: в трех метрах от него, выключив мотор, покачивался «Праздник». Тьерри взахлеб плакала. Лицо Гвена было бледным. Дрожащим голосом он сказал: – Мистер, вас хотели убить. (обратно)
Глава 24
Баннистер вышел из такси, расплатился с шофером и, попросив подбежавшего носильщика заняться его багажом, направился в холл отеля. – Где я могу найти мистера Пайпа?- спросил он в службе регистрации. Он еще не возвращался. Его ключ здесь. – Моя фамилия Баннистер. Самуэль Баннистер. Я прилетел из Нью-Йорка. Я его лучший друг. Он меня ждет. Дайте мне ключ от его номера. Администратор быстро провел коротенькое совещание со своими стоявшими рядом коллегами. – Это невозможно, мистер. Господин Пайп не оставил нам никаких указаний на этот счет. – Он забыл. Я очень устал. Мне надо принять душ. Давайте ключ! – Право, мистер, я очень сожалею… – Повторяю вам, что я лучший его друг. Ладно… У вас есть свободный номер? – Сожалею, мистер но все номера заняты по август включительно. Вы можете обождать мистера Пайпа в баре. – А душ? В своем твидовом пиджаке он умирал от жары. – Последний раз спрашиваю: «да» или «нет»? – Напоминаю вам, мистер… – Прекрасно! Решительным шагом он направился к ближайшему креслу. Он уселся в кресло, снял туфли, галстук, расстегнул рубашку, стянул носки и начал расстегивать брюки. Народ, находившийся в холле, раскрыв рот, с удивлением наблюдал за неожиданно подвернувшейся сценкой мужского стриптиза. – Быстро найди мистера Голена!- приказал администратор молодому посыльному. – Кто это?- безразличным тоном спросила графиня де Саран. Граф ушел играть в гольф, а она только что возвратилась из магазина, купив себе небольшую коллекцию парфюмерии. Ее помятое накануне тело пронизывала сладостная истома. – Этот человек выдает себя за друга мистера Пайпа, госпожа графиня. К сожалению, мы не можем дать ему ключ от номера мистера Пайпа. Вид волосатых ног Баннистера крайне возбудил графиню. Этот мужчина был так некрасив, так зауряден, но в то же время так смел в отношении «общественного мнения», что она почувствовала болезненную необходимость отдаться ему, и немедленно. Ко всему прочему у него было лошадиное лицо. Лечь под лошадь была заветная мечта эротических фантазий графини. Она собралась уже вмешаться, но тут, в сопровождении посыльного, появился Голен. Он несколько секунд подискуссировал с Баннистером и сдался. Посыльный собрал одежду Баннистера, взял ключ от номера Алена и пошел к лифту. Мэнди машинально провела языком по губам. – Какой номер у мистера Пайпа? – 751-й, госпожа графиня. Она вошла в лифт и поднялась на седьмой этаж. Дверь 751-го номера была приоткрыта. Она толкнула ее и вошла в комнату. – Привет! – Привет…- автоматически ответил Баннистер, не соображая, что может быть нужно от него этой холеной женщине. Не давая ему прийти в себя, она всем телом прижала его к стене, засунула свой язык ему в рот и, запустив руку в его трусы, сказала: – Трахни меня!***
– Миссис, поклянитесь! – Да, идиотка, да! Клянусь! Алиса, горничная Нади, поднесла руку ко лбу. – Господи! Мы выиграли три миллиона долларов! – Я поклянусь тебе еще в одном… В этот раз я никому их не отдам… Я только что купила «Ла Вольер»! – Виллу?! – Ты вспомнила? Я же тебе говорила, что однажды она будет принадлежать мне. Все! Она – моя! Два миллиона долларов! – О, миссис, это великолепно!.. Восхитительно! Нам будет там спокойнее. – Сейчас ты отправишься туда,- сказала Надя.- Я хочу, чтобы все знали! Мой реванш! Сегодня вечером я устраиваю потрясающий прием! Приглашаю все побережье. Бетти Гроун умрет от зависти! – А не поздно ли сегодня, миссис? – Ты о чем? Я уже все уладила. Десять мальчишек-посыльных из «Мажестик» разносят в этот момент тысячу приглашений. Веселимся с полуночи и до полудня… Для тех, кто выживет, завтрак будет сервирован на берегу моря. Приглашено десять оркестров! Давай убирайся! Шофер ждет тебя. Опустив голову, Алиса направилась к выходу. Надя остановила ее. – Ты даже не поинтересовалась, у кого я выиграла эти деньги. – У кого, миссис? – У Хадада. – Надеюсь, вы не пригласили его? – Конечно же он приглашен. Но я не думаю, что он придет. Почему ты не спрашиваешь у меня, что ты будешь делать в «Ла Вольер»? – Что я буду там делать?- послушно спросила Алиса. – Ты будешь руководить разгрузкой. Мы устроим настоящий карнавал! В девять тридцать из Парижа прибывает спецрейс. Я вызвала трех костюмеров. Должны привезти маски, перья… Это будет птичий карнавал!.. И он состоится в моем доме! – Миссис, кто же будет причесывать всю эту массу народа? – Александр! Он прилетает в Ниццу последним рейсом. С ним будет пятнадцать помощников.
***
Спортивный пляж был заполнен стройными юношами, которые с нескрываемым интересом смотрели на них. Ален взял Тьерри за руку и провел в тихое место, за здание кафе. – Слушай меня внимательно, Тьерри… Сейчас ты поедешь домой. Я вызову такси… Ты закроешься в своей комнате и не двинешься с места до тех пор, пока я не приеду к тебе. В ее серых глазах еще отражался ужас пережитых мгновений. – Ты слышишь меня, Тьерри? – А ты? Что ты собираешься делать? – Мне кажется, я знаю егеря сегодняшней охоты. Я хочу убедиться в своих предположениях и сразу же приеду к тебе. – Когда? – Через час… два… Ему было страшно за нее. Их больше не должны видеть вместе. Первым его желанием было спрятать ее на яхте, но убийцы уже, вероятно, знают о ее существовании. Над именем организатора его уничтожения он долго не размышлял: это мог быть только Гамильтон Прэнс-Линч! Он вспомнил завуалированные угрозы, когда отказался участвовать в предложенной ему игре, и его охватило дикое желание схватить Гамильтона за горло и бить его головой о стену до тех пор, пока она не расколется. – На улицу не выходи… Он зашел в бар, попросил вызвать такси и возвратился к Тьерри. Ее сотрясала нервная дрожь. Ален обнял ее. – Не волнуйся, все будет хорошо. Словно ища у него защиты, она всем телом прижалась к нему. – Я люблю тебя, Тьерри… Я люблю тебя,- шептал он, зарывшись лицом в ее волосы. Эти, произнесенные им слова оглушили его: никогда раньше он никому не говорил их. – Ален… Ален… Я люблю тебя,- как эхо повторила она. – Э! Мистер! Ваше такси. – Иду,- ответил Ален. Последнее пожатие руки, долгий, взволнованный и удивленный взгляд Тьерри…
***
Ален вошел в холл «Мажестик» бледный, переполняемый ненавистью и молил Господа, чтобы ему не встретился Гамильтон. В тот момент он был готов совершить любой безрассудный поступок. – Ключ,- резким тоном обратился он к администратору. – Его только что забрал ваш друг, мистер. – Кто? – Мистер Баннистер из Нью-Йорка. Мы делали все возможное, чтобы он не получил его, но он прямо здесь, в холле, разделся до трусов… – Баннистер?! Круговорот событий так закружил его, что он напрочь забыл о нем. – Ален, где вы скрывались? К нему прижалась Сара и трясла его за плечи. – Я повсюду вас ищу. Жду вас целый час! Вы меня обманули! Собрав волю в кулак, чтобы не накричать на нее, он осторожно высвободился из ее объятий. – Извините, Сара, у меня непредвиденные обстоятельства… К сожалению, я должен срочно подняться к себе в номер. – Я иду с вами! – Это невозможно! Ко мне приехал мой друг. Он ждет меня. – Пусть подождет! Мне нужно с вами поговорить. – Сара, честное слово, я не могу. – Ален, это очень важно! – Позже, Сара, постарайтесь меня понять… Он повернулся к ней спиной и почти бегом направился к лифту. Она бросилась следом. Из лифта вышла маленькая девочка, держа на поводке трех огромных собак. – Ален, это не терпит отлагательства! Речь идет о нашем с вами будущем. В этот момент в холл вошла возвращающаяся из «Палм-Бич» Марина. Увидев Алена, она остолбенела. Не задумавшись над тем, каким образом он оказался здесь, она бросилась к нему. Ее в свою очередь заметил Арнольд Хакетт, который выходил из бара, где провел несколько часов, наблюдая за ее окном. Забыв о своем возрасте, достоинстве, положении в обществе, он быстро засеменил к ней. Стальные двери лифта закрылись прямо перед носом Марины и Хакетта. – Ален. Но секунду времени вы можете мне уделить? – Нет. – Ален! – Нет, нет и нет! Оставьте меня в покое! – Грубиян! Но я все же скажу! Я выхожу за вас замуж! Вы слышите? Ален прислонился к стенке лифта. – Что вы сказали? – Вы и я, мы женимся. Посмотрев на его выражение лица, она добавила: – Мама об этом знает… Мигнула лампочка пятого этажа. – Сара, вы сошли с ума! – Да, благодаря вам! Вам ни о чем не придется беспокоиться! Мои адвокаты составят брачный контракт! Медовый месяц мы проведем там, где вы скажете… Проехали шестой этаж. – Ален… Я знаю, что у меня импульсивный характер… Но впервые в жизни мне захотелось выйти замуж. – Я не хочу! – Мы будем прекрасно жить! – Никогда! Седьмой этаж. Двери лифта раздвинулись. Одновременно прибыл и второй лифт, откуда вышли Хакетт и Марина. – Марина, я требую объяснений! – Надоело! Все вам надо объяснять! Она остановилась как вкопанная. – Ален! – Марина!- воскликнул Алей. – Как ваши дела?- учтивым тоном поинтересовался Арнольд у Сары. – Ален, кто эта женщина?- спросила Сара. – Это – Марина,- чувствуя, что сходит с ума, ответил Ален. – Здравствуйте, мистер,- холодно поздоровался Хакетт. Марина бросилась Алену на шею, забыв, что встретила его в Каннах, когда всего лишь несколько дней тому назад рассталась с ним в Нью-Йорке. – Как ты оказался здесь? Невероятно! Ты знаешь, с Гарри все кончено. – Ален, прошу вас, представьте меня,- четко произнося каждую букву, ледяным тоном попросила Сара. – Марина, это – Сара… Сара, это – Марина. – Откуда вы ее знаете?- занервничал Арнольд. – Ален, ты только послушай, что он говорит!- Марина рассмеялась. Затем повернулась к Хакетту и зло бросила:- Если вы такой любопытный… Мы жили вместе! – Ален, это правда?- спросила Сара. – Послушайте,- по слогам произнес Ален.- Слушайте меня внимательно! Он глубоко вздохнул, собираясь сказать заключительное слово и прекратить эту перебранку, но нужных слов не находил. Это оказалось не так просто… Неожиданно он юркнул в коридор и, добежав до своего номера, забарабанил кулаком в дверь. – Ален!- одновременно крикнули Марина и Сара и бросились за ним. – Самуэль, открой! Это я! Открой!- стуча в дверь, умолял Ален. – Ален, со мной никто никогда так не обращался,- подбежала Сара. – Оставьте его в покое, сумасшедшая,- кричала Марина, оттягивая Сару за рукав платья. – Закройте рот, вы! И не притрагивайтесь к моему жениху! – Марина,- повысив голос, чувствуя, что нервы его на пределе, сказал Хакетт,- вынужден вам заметить… – Да пошел ты, старый козел… Дверь открылась, и показалась взлохмаченная голова Баннистера. На нем были только трусы и один носок, а выражением лица он напоминал боксера, только что поднявшегося с пола ринга после глубочайшего нокаута. Ален оттолкнул его в сторону и прошел в комнату. За ним дружно проследовала вся группа. В гостиной его поджидал сюрприз: прямо на полу широко раздвинув ноги лежала графиня де Саран. С достоинством королевы Франции, восседающей на троне, она кивком головы поприветствовала вошедших. – Самуэль!- истерично закричал Ален. Баннистер бессильно развел руки в стороны. – Ален, клянусь жизнью Кристель…- Он указал подбородком в сторону графини и тихо добавил:- Она меня изнасиловала. С шутливым выражением лица Ален сказал: – Разрешите представить вам моего лучшего друга Самуэля Баннистера. Сэмми, это – Марина, о которой ты уже слышал, это – мистер Арнольд Хакетт и мисс Сара Бурже. Каждое произнесенное Аленом имя было как удар в солнечное сплетение. Показав на графиню, которая, не обращая никакого внимания на присутствующих, непринужденно облачалась в платье, Ален сказал: – Графиня де Саран… Арнольд Хакетт вдруг словно переломился в пояснице. – Мое почтение, госпожа графиня! Я вас здесь не видел. Мэнди рассеянным жестом протянула ему руку для поцелуя. – Ален, я жду ответа,- потребовала Сара. – Что ей от тебя надо?- ироничным тоном спросила Марина. – Ален, я с вами разговариваю? – Я имею право знать, чем вы занимались с этим арабом. – Принимала ванну из шампанского! – Ален,- дрожащим голосом обратился Баннистер,- я хочу чего-нибудь выпить. Покрепче… В дверь постучали. – Ален… В комнату вошла Надя Фишлер. Ее лицо сияло. Не обращая внимания на присутствующих, она подошла к Алену и нагло впилась в его рот страстным поцелуем. – Дорогой, я все отыграла! Вот денежки! Она помахала перед носом Алена увесистым пакетом. Ален попытался вырвать его, но она быстро убрала руку за спину. – Он – твой, но при одном условии… Дай слово, что ты придешь сегодня на мой праздник. Обмываю свою покупку… «Ла Вольер»!.. Приглашаю вас всех,- сказала она, делая широкий жест рукой.- Придешь? – Надя, я не могу. – Сколько здесь денег?- спросил Баннистер. – Восемьсот тысяч долларов!- торжественным голосом объявила Надя. – Он придет,- истошно закричал Самуэль. – Я хочу, чтобы было весело, безумно весело!- сказала Надя, засовывая пакет за пояс брюк Алену.- Ночь птиц! Будем летать! Сегодня… В полночь… «Ла Вольер»… – А сейчас все уходите!- нетерпеливым тоном сказал Ален.- Уходите! Он грубо оттолкнул обнявшую его Сару. – Я тоже?- спросил Баннистер, поддерживая рукой трусы. – До чего же ты нервный,- сказала Марина. – До скорой встречи, дорогой!- сказала Сара.- Я незамедлительно даю публичное объявление о нашей свадьбе. Хакетт посторонился, пропуская вперед величественную графиню де Саран, и во всю прыть засеменил своими коротенькими ножками за Мариной. Ален повернул ключ в замочной скважине и прислонился спиной к стене. Широко раскрыв рот и прерывисто дыша, он молча смотрел на Баннистера отсутствующим взглядом. – Ален, тебе плохо? Ален! Ты где? – Убиваю одного типа,- произнес Ален, отстраняя его. Баннистер вжался в стену. – Ты можешь объяснить мне, что происходит в этом сумасшедшем доме? – А чем ты сам занимался в трусах в холле? – Послушай… Ален закрыл лицо руками. – Там бар… Есть виски… Налей мне. Самуэль налил в стакан виски и протянул Алену. Тот опустился на пол и, глядя в пустоту, начал рассказывать о своих приключениях, беспорядочно перепрыгивая с одних событий на другие.
***
– Господи, какая ты бледная! Ты не заболела? – Все прекрасно, Люси! – По твоему виду этого не скажешь. Ты встречалась с ним? – Мы вместе провели почти целый день на катере Дермонта. – Рассказывай! Хорошо было? – Чудесно!- ответила Тьерри, отводя глаза в сторону. – Я встретила ребят из нашей компании… Кажется, они лихо провели ночь. Из Канн они перебрались в Монте-Карло и устроили погром в нескольких казино. Класс! Сегодня вечером они отправляются в Сьесту. Ты едешь? – Нет. – Почему? – За мной должен заехать Ален. – Нет, вы только посмотрите! У вас серьезно?.. Ты влюбилась? Попалась все же рыбка на крючок! – И, кажется, до конца своих дней,- тихо, словно самой себе, сказала Тьерри.
***
Баннистер допивал шестую порцию виски. Ален заканчивал только вторую. Выполнение задуманного требовало светлой головы. – Налей еще,- попросил Баннистер. – Не терпится напиться? – Отнюдь. Я очень расстроен тем, что не узнаю тебя. Такое впечатление, что ты – это не ты, а кто-то другой! – А ты как думал? Прожить здесь три дня и остаться невинным! В Нью-Йорке меня замордовала работа и я мечтал, как теперь понимаю, сам не знаю о чем. Мне казалось, я был в этом уверен, что работа – это средство к обеспеченной жизни… Я был баран в стаде баранов и считал их честными и любезными. Я никогда не видел волков в деле. И я с интересом наблюдаю, как они рвут друг на друге шкуру, стараясь схватить зубами кусок пожирнее. – Ты думаешь, что они счастливее нас? – Двадцать пять лет ты натирал мозоли на заднице, работая на них. В итоге тебя, как прокаженного, выбросили на улицу… И ты еще говоришь о счастье. Пойми, Сэмми, жизнь дается один раз! Еще утром я хотел все бросить и возвратиться в прежнюю жизнь, в Нью-Йорк: вымолить какое-нибудь место и надрывать здоровье за полторы тысячи долларов в месяц. Это желание подтверждает, что я такой же недоумок, как и ты. Но тут появился Ларсен. Клянусь тебе, Сэмми, я не поверил ему! Когда же я увидел, что его слова не блеф, я понял, что в этом мире все возможно… – Не спорю. Зато я сплю спокойно. – Потому-то ты уже труп. Социально, финансово, сексуально! Свою немочь ты выдаешь за добродетель. А когда у тебя была такая женщина, как та, которую ты трахал здесь, в моей постели? – С меня достаточно Кристель. – Лгун! Ты всегда боялся переспать с другой. Баннистер покачал головой, снял очки, достал платок и протер линзы. – Ты прав. Но поступать так, как ты собираешься… – Меня пытались убить, осел! Я всем нужен. Ты хотел бы, чтобы я всем простил? – Не кипятись,- спокойно заерзал Баннистер.- Поставь себя на мое место. Пять дней тому назад я провожал парня, который находился в состоянии ужасной депрессии. Причина его болезни вполне уважительная: его вышвырнули с работы. А сейчас я встречаю контрабандиста оружием, который строит из себя набоба на Лазурном берегу: воротит свое рыло от стелющейся перед ним наследницы самого большого частного банка в Соединенных Штатах. А этот банк хочет проглотить шестьдесят тысяч работников фирмы и нанимает этого несчастного для такой щепетильной операции. Есть от чего закружиться моей голове. – Ты сам меня на это толкнул! Все твои упреки – это твои же требования. Забыл? – Это были слова. – Безработный? Тоже слово? А мои останки в формалине в каннском морге? Тоже слова? Я знаю, ты бы взялся за организацию поминок по улетевшей на небеса моей душе! О, я могу представить себе эту сцену! Пять минут крокодиловых слез по несчастному Пайпу – и жуткая попойка в «Романос» вместе с коллегами. – Не рви мне душу, Ален. – Не надо было вкладывать в мою голову свои мысли. Гамильтон – подонок! Хакетт – мразь! Ты хочешь, чтобы я сказал им слова благодарности после того, что они с нами сделали? Все, Сэмми! Больше никаких подарков! Я прошел здесь хорошую школу. Самуэль хотел возразить, но Ален прервал его: – Слова закончились, переходим к делу. Судорожным движением пальца он набрал три цифры на телефонном диске. – Гамильтон Прэнс-Линч? Говорит Ален Пайп. Я хочу с вами встретиться. Немедленно! В холле. Иду… Он повернулся к Баннистеру. – Прекрати дрожать и не двигайся отсюда… Я скоро вернусь.
***
Гамильтон сильно сжал телефонную трубку. – Что? Что вы сказали? – Все провалилось,- повторил Цезарь ди Согно. Гамильтон с опаской посмотрел на дверь: теперь его судьба полностью в руках Пайпа. Каким бы дураком он ни был, он догадался, кто организатор покушения. – Надо во что бы то ни стало довести дело до конца! – Мои люди предпринимают все возможное для второй попытки. – Не будет ли она такой же «результативной», как и первая? – Я делаю все, что в моих силах. – Постарайтесь сделать больше! Я хочу, чтобы ликвидация осуществилась до того, как наступит завтрашний день. В его голосе слышались угрозы. Гамильтон держал ди Согно в руках, и эта слизь знала, что он – в его власти. – Я контролирую ситуацию,- сказал Цезарь.- Все будет в порядке. – Я вам этого желаю… Вне себя от ярости, Гамильтон бросил трубку. – Кому ты звонил? От неожиданности он конвульсивно дернулся и обернулся. Эмилия с ехидным выражением в упор смотрела на него. Как же он не заметил ее? – Ошиблись номером… Взгляд ее стал подозрительным. – Ты отсутствовал весь день. Где был? – Искал тебя. Заглянул в «Палм-Бич», на пляж Карлтон, на спортивный пляж, в порт Канто… Вот пришел… – Ты чем-то обеспокоен? – Тебе кажется. У меня – никаких проблем. На ее лице появилась загадочная улыбка, именно та, которая всегда предшествовала очередной гадости, которую она собиралась сообщить. – У меня неприятности с Сарой. Любые неприятности, происходившие с Сарой, ласковым теплом грели душу Гамильтона. Но он нахмурил брови, и на лице появилось страдальческое выражение. – Прекрати ломать комедию,- презрительным тоном сказала Эмилия.- Я знаю, что ты в восторге… К несчастью, ее проблема касается и тебя. Представь, она вбила себе в голову выйти замуж за Алена Пайпа! Гамильтон почувствовал, как кровь отливает от лица. Зазвонил телефон, но он даже не обернулся. – Чего ты ждешь? Возьми трубку!- В ее голосе слышались раздраженные нотки. Гамильтон взял трубку с такой осторожностью, словно она была раскалена. – Слушаю… Да… Это я… Лицо его изменилось. Эмилия насторожилась. Он предупреждающе поднял руку. – Когда? Где? Прекрасно! Я спускаюсь. Он положил трубку. – Ален Пайп. Он хочет срочно встретиться со мной. – Я иду с тобой. – Эмилия, это невозможно! – Я лучше тебя знаю, что надо сказать этому альфонсу. И вообще, Сара – моя дочь! Ему нестерпимо захотелось влепить ей пощечину. – Эмилия, не торопи события. Позволь мне первому получить удар. Я выслушаю его, потом мы посоветуемся, и ты начнешь действовать. Хорошо? – Долго не задерживайся!- резким тоном предупредила она. Ален Пайп был уже в холле. Он ждал Гамильтона, сидя в кресле под пальмой, высаженной в кадке. – Присаживайтесь, мистер Прэнс-Линч. Гамильтон сел на краешек кресла, готовый в любую секунду броситься бежать, если Пайп вытащит оружие. – Ваше предложение все еще в силе? – Вы изменили свое отношение?- подозревая ловушку, спросил Прэнс-Линч. – Я подумал и решил, что могу оказать вам услугу, но на несколько других условиях. Гамильтон позволил себе немного расслабиться: никаких намеков на разговор о Саре, а тем более о покушении… – Слушаю вас. – Вы предложили мне сто тысяч долларов. Мои условия – двести тысяч! От охватившей его радости Гамильтон чуть не бросился Алену на шею. – Это – большие деньги, мистер Пайп! – Не мне об этом судить, мистер Прэнс-Линч. – Предположим, что я согласен. – Ваши предположения меня не устраивают. Да или нет? – Вы приставляете мне нож к горлу. – Когда я получу деньги? – Половину – как только мы придем к согласию. Вторую – по завершении операции. Но вначале я должен перевести на ваш счет два миллиона долларов, которые, после вашего отказа, были, естественно, отозваны. – В какой банк вы собираетесь положить мои двести тысяч? Гамильтон с недоумением посмотрел на него. – В мой, разумеется! В «Бурже». Ален решительно покачал головой. – Нет, нет и еще раз нет! Я не испытываю никакого доверия к банку, который пользуется неисправным компьютером и который к тому же предает своего клиента. Исходя из этих соображений, я аннулирую свой счет в вашем банке. Будьте любезны перевести эту сумму в «Фирст Нэйшнл». А теперь объясните мне в мельчайших подробностях механизм предстоящей операции. И в конце скажите, что именно требуется от меня взамен на двести тысяч долларов. Я внимательно вас слушаю. Выпучив от удивления глаза, Гамильтон долго и молча смотрел на собеседника. Затем, положив руки на колени, начал говорить. (обратно)
Глава 25
– Мюррей, как ваши дела? Все идет превосходно, мистер Хакетт! – Много недовольных? – Единицы, мистер Хакетт. Несмотря на отпускное время, производительность как никогда высокая. – Хорошо, хорошо…- пробормотал Хакетт.- Завтра двадцать восьмое июля. Документы к выплате зарплаты подготовлены? – В девять утра я встречаюсь с Абелем Фишмейером, мистер Хакетт. Все как обычно… Кстати, хочу сообщить вам, что вчера вечером он звонил мне. Хотел получить информацию об одном из уволенных сотрудников… – Мы – не полицейский участок,- отрезал Хакетт. Неблагодарное отношение к нему Марины комом застряло у него в горле. Ни ласки, ни доброго слова, ни благодарности – ничего. Была бы на ее месте Пэппи, она бы, стоя на коленях, слушала его и пожирала глазами. И никогда бы не засветилась с арабом. – Вы не уполномочены отвечать на вопросы, касающиеся увольнений. – Совершенно с вами согласен, мистер Хакетт! Я… – Замолчите! Вы сказали, что Фишмейер проявляет интерес… Я немедленно переговорю с Гамильтоном! – Разумно, мистер Хакетт! – И не вздумайте, как попугай, повторять все то, что я вам говорю! Я не люблю болтунов, Мюррей! – Мистер Хакетт… – Поостерегитесь, Мюррей! Не испортите мне отдых… Он резко опустил трубку на рычаг. Виктория ушла к парикмахеру, и он, сидя в шезлонге на балконе, наслаждался одиночеством. Он в сотый раз посмотрел в сторону широко распахнутого окна Марины. Может, он встретит ее на вечере у этой странной женщины с фиолетовыми глазами… Нади Фишлер?***
Они как завороженные смотрели друг другу в глаза и не могли отвести взгляд, пошевельнуться, заговорить. Через открытое окно до них доносились обрывки разговоров на улице, шум проезжавших машин, запахи шафрана и жареной рыбы из ресторана. – Я боялась, что больше никогда тебя не увижу,- прошептала она. – Все закончено, Тьерри. Ему захотелось сказать ей необыкновенные слова, которые еще недавно, в устах других, он считал дебильными. Она почувствовала его состояние. – Скажи, Ален… Говори… Я хочу слышать.. Я хочу знать, совпадают ли наши ощущения! – Да… – Совсем, совсем… – Да. – Говори… Пожалуйста… Застрявший в горле комок мешал Алену. Он еще сильнее прижал ее к себе. – Ну же, Ален, говори. – Я не готов к тому, что со мной происходит. – Я тоже. У меня болит душа. – Никогда не думал, что все так обернется. Собирался только переспать с тобой… Теперь все по-другому… Она с трепетной нежностью посмотрела на него, стянула с себя через голову кофточку и начала расстегивать ему рубашку. Он почувствовал теплое прикосновение сосков ее груди и осторожно прикоснулся к ним кончиками пальцев. Сотрясаемый охватившим его желанием, он поднял Тьерри на руки и понес к кровати. Ее расширившиеся, как у наркомана, зрачки превратились в темную бездну. Они легли рядом. – Я хочу, чтобы ты смотрел на меня,- сказала она.- Все время смотрел… Их языки соприкоснулись, и он с изумлением увидел в ее ставших огромными глазах чудовищную по силе волну удовольствия, которая со скоростью света уносила их на незнакомую планету.
***
Прэнс-Линч стряхнул оцепенение и снял трубку. Сейчас он позвонит Фишмейеру и даст указания привести машину в действие. – Абель? Говорит Прэнс-Линч! Он откашлялся и властным голосом банкира продолжил: – Я очень тороплюсь, Абель. Вам следует выслушать меня и пункт за пунктом выполнить то, о чем я вас попрошу. Уяснили? – Я – весь во внимании, мистер Прэнс-Линч! – Прекрасно! Возьмите ручку и запишите. «Бурже» запускает «организацию». – Против кого? – Против «Хакетт». Фишмейер молчал. – Вы слышите меня, Абель? – Не могли бы вы повторить, мистер Прэнс-Линч? – Мызапускаем «организацию» против «Хакетт», у вас проблемы со слухом? – Но это наш самый солидный клиент! – Фишмейер,- назидательным тоном сказал Гамильтон,- вы сделали у нас блестящую карьеру. Мы с женой даже рассматривали вашу кандидатуру на пост генерального директора. Если эта должность вас не интересует, говорите сейчас же. – Мистер Прэнс-Линч, вы прекрасно знаете, что интересы «Бурже» для меня превыше всего. – «Бурже» – это я! Постарайтесь помнить об этом, Фишмейер! – Я понял, мистер. – Чему равен кредит «Хакетт»? – Как обычно… сорок миллионов долларов. – Из чего слагается? – Доверенности, накладные поставщиков, долгосрочные займы… В последнее время «Хакетт» осуществила громадные инвестиции.. – Сколько мы должны выдать им завтра на зарплату? – Сорок миллионов. – Итого, задолженность «Хакетт» составит 80 миллионов долларов. – Абсолютно точно. Смею заметить, что такое положение вполне нормальное. – Спасибо за уточнение!- саркастическим тоном сказал Гамильтон.- У вас наберется неоплаченных доверенностей тысяч на пятьсот? – Вполне возможно. – Немедленно перекупите их на имя Алена Пайпа. – За какие деньги, мистер Прэнс-Линч?- спросил Фишмейер. – У клиента, от имени которого я действую, на счете в «Чэз Манхеттен» сто тридцать миллионов долларов. Переведите их к нам. Эта сумма предназначена для покупки шести миллионов пятисот тысяч акций, из десяти миллионов, находящихся в обращении. Сегодня акция «Хакетт» стоит двадцать долларов. У нас хватит наличных, чтобы заплатить каждому, кто придет продавать акции. Вы слышите? – Да, да… , – Что вас смущает, Абель? – Мистер Прэнс-Линч, эта операция нереальна. Арнольд Хакетт владеет шестьюдесятью процентами акций собственной фирмы. Его невозможно лишить контрольного пакета даже в том случае, если вся «мошкара» придет к кассам… – Абель, вы принимаете меня за дурака? – Поверьте, Хакетт не сумасшедший, чтобы сдать часть акций и лишиться контроля над своей фармацевтической империей. – Фишмейер, я не потерплю, чтобы мой сотрудник вставлял мне палки в колеса. У вас недостаточно ума, чтобы влезть в шкуру Хакетта и разобраться в его мыслях. Вы будете или не будете выполнять мои указания? – Извините, мистер Прэнс-Линч. – Сейчас я продиктую вам текст объявления «организации». Как только я положу трубку, вы доведете его до сведения прессы, телевидения, радио, финансовых изданий! Машина должна заработать с завтрашнего утра. Записываете? Гамильтон начал читать из блокнота заранее подготовленный текст: «Банк Бурже Транс Лимитед», по цене Двадцать долларов за штуку, скупает все находящиеся в обращении акции «Хакетт Кэмикл Инвест». Это предложение действительно лишь в том случае, если количество акций достигнет шести с половиной миллионов штук на День прекращения покупки, который определяется третьим августа». Находясь более чем за пять тысяч километров от Фиш-мейера, Гамильтон уловил его сдержанный вздох. – Что я должен сказать административному совету, мистер Прэнс-Линч? – Ничего! Не тревожьте их… Когда они проснутся, мы будем уже далеко. С кем вы будете иметь дело завтра по зарплате? – С Оливером Мюрреем. – Вы скажете ему следующее… Он долго объяснял Фишмейеру тонкости и секреты предстоящей операции, и чем глубже тот вникал в ее замысел, тем тревожнее становилось у него на сердце. Когда Гамильтон положил трубку, пот с него катил градом. Кости брошены! Как они откроются?
***
Обычно после упоительного праздника тела у Алена возникало желание побыть в одиночестве. Иногда он готов был сбросить партнершу с кровати, лишь бы быстрее от нее избавиться. С Тьерри он познал то, чего еще никогда не испытывал: оказывается, женщину можно хотеть «до», «после» и «во время», просто хотеть, чтобы она была рядом, вдыхать ее, чувствовать, слушать ее, наслаждаться ее молчанием. Прижавшись к ней, Ален чувствовал себя таким свободным и легким… – Тьерри… – Да. – Ты сейчас оденешься и пойдешь со мной. – Куда? – Один человек организует у себя на вилле карнавал. Побудем там час, не больше… Обещаю. За несколько часов он забыл всех: Мабель, Марину и всех остальных. Для него существовала только Тьерри. – Мне так хорошо, Ален. – Который час? – Не знаю. – Я должен появиться там до того, как уйдет последний гость. Вставай! – Нет. Я буду ждать тебя здесь. Мне трудно будет видеть, как на тебя станут смотреть другие. – А мне хочется, чтобы видели тебя! Я хочу показать всем, какая ты у меня красивая. Мы ненадолго… Эта проказница Надя Фишлер сделала потрясающий жест в отношении меня! Я пообещал ей прийти. Ты увидишь сумасшедших. Им не повезло познакомиться с тобой… Чем другим прикажешь им заняться? Не видя ее лица в сумерках, он почувствовал, что она улыбается. – С этой породой ты не знакома… Элита побережья… Не все они заслуживают плохого к ним отношения. Подушечкой пальца он провел по контуру ее губ. – Я буду ждать тебя, Ален. – Обещаю, что тебе будет весело! Ты представить себе не можешь, что тебя ожидает. – Уходи… Уходи быстрее. Чем раньше уйдешь, тем быстрее возвратишься. – Ты злишься на меня? – Пусть все будут такими счастливыми, как я! – Поклянись, что никуда не уйдешь! – Куда же я могу уйти? – Не вставай даже с кровати! – У меня на это не хватит сил. Ему не хотелось уходить. Никуда. Когда он вернется, он обязательно ей об этом скажет!
***
Большие железные ворота были широко распахнуты. Четверо охранников бросали незаметные взгляды на выходивших из машин гостей. По освещенной электрическим светом аллее все направлялись к зданию, расположенному в пятистах метрах от входа. Из подъехавшего «кадиллака» появился Хадад. – Ждите меня здесь, я скоро вернусь,- бросил он шоферу. Пройдя ворота, он окунулся в музыку, которую исполняли десять оркестров, расположенных в разных местах парка, в звуки голосов и высоко вверх взлетающий смех. Рядом с ним прошел двухметрового роста индюк и изящная фазанья курочка, и он подумал, что гости Нади Фишлер неплохо веселятся за его деньги. Три очаровательные девушки подхватили его под руки и повели в холл, приспособленный под раздевалку. – В какую птичку вы хотите превратиться? – В сокола,- произнес женский голос. Хадад обернулся и увидел изумительной красоты райскую птичку: Надя! Он нерешительно взял протянутую ему руку и галантно поцеловал. – Примите мои поздравления по поводу такого экстравагантного способа использования моих денег! – Были ваши, стали наши,- холодно ответила Надя. – Надолго ли, Надя? – До тех пор, пока передо мной будут сидеть слабонервные противники. – Вы ненавидите меня, потому что вы – еврейка, а я – араб? Ловкие руки надели ему на голову маску сокола. – Много чести,- ослепительно улыбнулась Надя.- Вы просто мне не нравитесь. Хадад улыбнулся: – Мне становится страшно, когда меня любят. Я не привык получать, я люблю брать. – Тогда возьмите бокал и выпейте чего-нибудь! – С удовольствием! Он последовал за ней и вошел в огромный зал, где сразу же попал в какой-то нереальный мир: кудахтанье, мяуканье и другие неопределенные звуки, беспорядочно доносившиеся со всех сторон, создавали впечатление всеобщего помешательства… Было два часа ночи. Все были сильно пьяны. Между гостей сновали десятки официантов в воробьиных масках. Они получили указание наливать в бокалы, едва их относили от губ. Несколько в стороне, за букетами роз в огромных вазах, павлин отбивал атаки ворона. – Где я сейчас их найду? Все уехали за город! – Если с головы Пайпа упадет хоть один волосок!.. – Помилуйте, мистер Прэнс-Линч,- сказал павлин,- вы же сами отдали приказ… – Остановите их, Цезарь!- в голосе ворона слышались угрожающие нотки.- Делайте что хотите, но за Пайпа отвечаете головой! Павлин развернулся на сто восемьдесят градусов и метнулся в сторону телефона. Уже несколько часов он обзванивал все места, где могли быть Марко и Салисетти, но напрасно. – Какая картина,- воскликнула Надя.- Хочется поохотиться! – Я охочусь только на крупную дичь,- уточнил Хадад, скривив губы. – На девочек мадам Клод? – В моей стране по коровам не стреляют. – Ваша репутация в Каннах говорит об обратном. – Вы знаете, что Канны – это фальшивка. Надя рассмеялась и показала на парк. – Это тоже фальшивка? – Как и все остальное,- ответил принц.- Этот дом, эти птицы, эти статуи… Иллюзия! Все скоро исчезнет, как и ночь… – Вы злитесь на меня из-за проигрыша? Я выиграла у вас деньги… – Иллюзия! Кто вам сказал, что вы реально их выиграли? Когда вы показали свою пятерку, а я, не открывая карты, сдал игру, можете вы поклясться, что там не было девяти очков? – Подонок!- выдохнула Надя. – Я хотел дать вам шанс продолжать верить в свою удачу. Он поклонился и с иронией в голосе добавил: – В свою я верю. Я возвращаюсь в казино. До свидания! – Ну что вы… что вы…- слабо протестовал журавль, вытаскивая из своего бюстгальтера руку петуха.- Вы ужасно сексуальны, но слишком торопитесь. – Я хотел всего лишь потрогать,- сказал Баннистер. Увидев его расстроенное лицо, журавль положил руку Баннистера на прежнее место. – Вы так хотели? А вы любите играть? – Во что, Карина? – Есть одна забавная игра… Моя любимая… Я глотаю банковские ассигнации. – Не может быть! – Честное слово! – Хотелось бы посмотреть на это собственными глазами! – У вас есть с собой деньги? Он почти по локоть засунул руку в карман. – Ах, как жалко, ничего… Но я могу вам предложить кредитную карточку «Америкэн Экспресс». Она нежно прижалась светловолосой головкой к его груди и мечтательно сказала: – Ассигнации лучше… Мы можем попробовать в отеле. – Да… да… Это неплохая мысль… – Привет, Самуэль,- весело сказала сова. – Арнольд!.. Я вас потерял! Куда вы исчезли? – Виктории захотелось посмотреть на море при лунном свете. Женская прихоть… – Вы знакомы с Кариной? Арнольд церемонно поцеловал руку журавлю. – Хакетт,- представился он. Баннистер замер: в вестибюле Алена наряжали голубем. – Карина,- сказала он, поспешно вставая,- расскажите Арнольду о вашей любимой игре. Я скоро вернусь. Баннистер был уже в десяти метрах от своего друга, когда неизвестно откуда появилась Сара. На ней была черная блестящая туника и огромный, угрожающий клюв. – Ален! Я повсюду вас ищу!- сказала она, вцепившись в его руку.- Пойдемте, мне надо вас представить. Ален бросил умоляющий взгляд на Самуэля и не смог сдержать улыбку. – Сэмми, прокукарекай, пожалуйста. – Только на рассвете,- сказала Сара.- Ни в коем случае не раньше. Иначе это приведет к беде. – Мистер Пайп! Не успел Ален осмотреться, как его ладонь схватил ворон и потряс ее, как старому знакомому. – Голубь! Как это забавно! – Самуэль, хочу тебе представить Гамильтона Прэнс-Линча… А это Самуэль Баннистер. От неожиданности петух подпрыгнул, но все-таки взял себя в руки и пожал руку Гамильтону. Большое количество сильных ударов за короткое время сделали его нечувствительным… Ничего, сейчас он проснется рядом с Кристель, и этому жуткому сну наступит конец. – Очень приятно, мистер Бурже,- произнес он. Сара прыснула от восторга. – Вы сказали Бурже? Помилуйте, это смешно! Бурже – это я! Но вы можете называть меня Сарой. Взгляд Гамильтона готов был испепелить ее. – Ален, мама давно вас ждет. Она хочет поговорить с вами. – Сара, я только что пришел и должен сказать слова восхищения хозяйке этого необыкновенного праздника. Чуть позже я обязательно присоединюсь к вам. – Я иду вместе с вами!- сказал Прэнс-Линч. Он готов был своим телом защищать Алена от пуль убийц, которые шли по его следу. Механизм уничтожения запущен, и он не оставит его одного ни на минуту. Опасность подстерегала Пайпа повсюду, любой из присутствующих мог быть убийцей. Он исподтишка смотрел на подозрительную группу попугаев, которые прямо из горлышка пили шампанское, передавая огромную бутылку по кругу. – Гамильтон,- возмутилась Сара,- отпустите в конце концов руку Алена. Голос ее звучал так, словно речь шла о ее собственности. Баннистер, воспользовавшись перепалкой родственников, наклонился к Алену и шепнул ему на ухо: – Догадайся, кто стал моим другом? Хакетт! Может, прекратим играть эту комедию? Я ему все рассказал. Он снова берет нас на работу. Ален изо всей силы нанес ему удар в пах. Баннистер, схватившись за низ живота, сложился вдвое. Сара и Гамильтон, прервав выяснение отношений, удивленно уставились на согнувшегося Баннистера, не понимая, что произошло. Ален заметил, что вышел из поля зрения «друзей» и, сделав шаг в сторону, исчез в толпе. Надю он разыскал в парке. – Надя? – Ален! – Я пришел. Она повернула его лицо к лунном свету и долго смотрела на него. – Я счастлива. – Я тоже. Это правда, что ты купила этот дом? – Правда. – Он великолепен! Ничего подобного раньше не видел. – Ты будешь приходить сюда? Он был поражен спокойствием ее голоса. Обычно она говорила экспрессивно, многословно, словно слова запаздывали и не справлялись с количеством историй, которые она собиралась рассказать. – Он обошелся тебе в целое состояние, да? – В половину реальной стоимости. Два миллиона долларов… наличными. – Это чудо! – Я хотела защитить себя от игры: обладать чем-нибудь таким, что не исчезнет со стола, по крайней мере в течение ночи. Мне это не удалось. Я проиграла… Ален замер. – Что ты хочешь этим сказать? – Я только что продала его. Он почувствовал, как к горлу подкатил комок. Она пошла по аллее медленным, шаркающим шагом, опустив вниз руки. – Я возвратилась в казино. Впервые в жизни я забыла свой талисман. Их обгоняли обнявшиеся птичьи пары. Это была волшебная ночь: теплая, нежная, когда такой кажется вся планета. Он обнял ее за плечи. – Хадад подстерег меня, и я все проиграла. Он был здесь и оскорбил меня. У меня ничего больше нет: ни драгоценностей, ни мехов, ни машин, ни дома. Не за что купить даже коробку спичек. Дом выкупили за пятьсот тысяч те, кто вчера продал его мне за два миллиона. Я потеряла их за один банк. И вот я здесь… Тысяча лис на моих лужайках пьют мое вино и жрут мою пищу. Ни один из них не протянул мне руку помощи, не предложил ни цента. Они сделали вид, что не верят мне. Гольдман рассмеялся мне прямо в лицо. Я столько раз выручала его, что он до сих пор не может рассчитаться. Твари!.. Ален притянул ее к себе. – Надя… Сколько тебе надо? Сколько? Надя? Она взяла пальцами его за подбородок и нежно поцеловала в губы. – Ален, мне уже ничего не надо. Спасибо! Ты единственный, кто не оставил меня. Она высвободилась из его объятий, горько улыбнулась ему и бросилась бежать в направлении обрыва. Ален все понял. – Надя!- закричал он. Она побежала еще быстрее, и Ален увидел, как, раскинув в стороны бутафорские крылья райской птицы, Надя бросилась вниз. Эхо донесло до него глухой и страшный звук разбившегося тела. (обратно)
Глава 26
Каждый месяц, 28 числа, Оливер Мюррей, как молитву, совершал один и тот же ритуал: в девять утра он появлялся в штаб-квартире банка «Бурже», чтобы подписать документы на получение денег для выплаты заработной платы 60 000 рабочих и служащих фирмы «Хакетт». Обычно его принимал Абель Фишмейер. Оливера тошнило от его дорогих костюмов, его высокого роста, притворно-учтивых манер, цветущего, преуспевающего вида, панибратского отношения к себе. В течение пятнадцати минут, которые требовались для оформления документов, каждый старательно демонстрировал другому, насколько он рад его видеть. Мюррея вполне бы устроили строгие деловые отношения, но Фишмейеру, казалось, доставляло удовольствие расспрашивать его о жизни, интересоваться здоровьем жены… – Мистер Фишмейер ждет вас, мистер Мюррей,- мило улыбнувшись, сказала секретарша. Не меняя каменного выражения лица, Мюррей вошел в кабинет, который своим видом мог ошеломить любого посетителя, но только не Мюррея: невероятно далеко от входа, у противоположной стены, находился стол, пол покрывали ковры с таким высоким ворсом, что в нем тонула обувь, изысканность мебели сковывала посетителя, бар, заполненный дорогостоящими спиртными напитками, стереосистема, как будто у серьезного банкира есть время слушать музыку… – Рад вас видеть, Оливер! Как дела? От Фишмейера исходил запах дорогой туалетной воды. С чувством отвращения Оливер пожал ему руку. Как только рукопожатие закончилось, Мюррей тут же достал из портфеля бумаги и положил их на стол. – Как ваша печень, Оливер? – Печень меня меньше всего беспокоит, мистер Фишмейер. – Разве? Вам нужно взять отпуск. Вы плохо выглядите. Придется вывезти вас за город. Вы играете в гольф? – Нет. – Жаль… Миссис Мюррей хорошо себя чувствует? – Прекрасно, спасибо.- Резким жестом он показал на документы, лежавшие на столе.- Я тороплюсь! Будьте любезны подписать. Фишмейер вышел из-за стола и сел в кресло для гостей. – Садитесь, Оливер. Мюррей сел в кресло, и оно до макушки поглотило его тщедушное тело. – Вынужден вас огорчить, Оливер… «Бурже» не может выдать вам деньги на зарплату. Мюррея словно катапультой выбросило из кресла. – Что вы сказали? Фишмейер сделал успокаивающий жест рукой, но дежурная улыбка слетела с его лица. – «Хакетт» задолжала банку 42 миллиона долларов. Административный совет решил, что кредит слишком большой и увеличивать его дальше, без солидных на то гарантий, опасно. Я очень сожалею… – Вы пошутили?- просипел Мюррей, стараясь контролировать дыхание. – Мы сотрудничаем таким образом долгие годы. «Хакетт» – самый крупный ваш клиент! – Поверьте, мы огорчены… Поймите, при вашей задолженности в 42 миллиона мы подвергаем себя опасности, авансируя вам еще 40… – Мистер Фишмейер, я не могу в это поверить! То, что вы привели в качестве довода,- смешно… Имущество «Хакетт» – это сотни миллионов долларов! – Не спорю. Может, вы переусердствовали с инвестициями? Ваша экономическая политика, направленная на расширение производства, вызывает восхищение, но на этот раз административный совет не поддержал ее. – Вы нам подстроили западню!- выкрикнул Мюррей, выбросив вперед в обвинительном жесте указательный палец.- Если вы собирались это сделать, не следовало оттягивать до последней минуты! Вы загоняете нас в угол! – «Хакетт» – здоровое предприятие, Оливер. – Прекратите называть меня Оливером! – С вашей репутацией вы легко найдете выход из положения. – Найти восемьдесят два миллиона за три дня? Я протестую! Вы хорошо подумали о последствиях вашего отказа? – Наш административный совет… – Пошел он к черту! Я сейчас же сообщу мистеру Хакетту о разрыве наших отношений. И посмотрим, что скажет Гамильтон Прэнс-Линч! Они как раз вместе отдыхают во Франции. До свидания, мистер! – С пылающим от возбуждения лицом тот направился к выходу. Фишмейер даже не попытался задержать его. Перед тем как сесть в ожидавшую его машину, Мюррей обратил внимание на рамку в «Геральд трибюн», которой размахивал продавец, выкрикивая заголовок:- «Бурже» дает зеленый свет «организации» против «Хакетт»! Пунцовый цвет лица Оливера стал пепельно-бледным. Он выхватил у продавца газету и, не взяв сдачу, сел в машину. – В фирму,- бросил он шоферу.***
Ален открыл глаза, осмотрелся, ничего не узнавая, и заметил, что держит Тьерри в своих объятиях. Он закрыл глаза и еще крепче обнял ее. – Который час? – Четыре. – Утра? – Вечера. Она была обнаженная и теплая. – Я проснулась давно,- прошептала она,- но боялась пошевельнуться, чтобы не разбудить тебя. Ты так крепко обнимал меня, словно боялся утонуть. – Не может быть! – Ты разговаривал во сне и целовал меня. Раза два я попыталась встать, но ты так вцепился в меня, что чуть не задушил… – Тьерри? – Что, милый? – Мне хорошо… Она наклонилась и коснулась губами его щеки. – Хочешь кофе? – Я хочу тебя. – Сейчас приготовлю и принесу. После самоубийства Нади он еще два часа оставался в «Ла Вольер». Прибывшая полиция устроила допрос многочисленным свидетелям драмы. Когда он вернулся к Тьерри, в его лице не было ни кровинки. Она выслушала его, успокоила. Она стала для него спасательным кругом… Он так неистово любил ее, как никогда никого раньше. Это было что-то очень глубокое, непрерывное, грубое и одновременно нежное. Сон настиг его в ее объятиях, прямо на ней… – Я правда уснул на тебе? – Я чуть не задохнулась. – Такого со мной никогда не случалось. – Со мной тем более,- смеясь, сказала она. – Тьерри… – Да. Он лег на нее и языком лизнул ее губы. – Ты терпеливая, Тьерри? – Как ангел. – Чтобы сделать ребенка, требуется время… Я хочу сказать, пока он родится… Девять месяцев, да? Он почувствовал, как под ним напряглось тело. – Кому ты хочешь сделать ребенка? Он сполз вниз и положил голову ей на бедро. – Я хочу жить с тобой. – Три дня? – Всегда. Она взяла его лицо в свои ладони и строго на него посмотрела. – Не говори так. – Почему? – Я могу поверить. – Так ты согласна? Она пожала плечами. – Тьерри, ты согласна? Новый, еще более строгий вопросительный взгляд. Они одновременно почувствовали, как их тела словно пронзил электрический разряд. – Да,- чуть слышно выдохнула она. – Я сейчас сойду с ума. – Сойду с ума,- как эхо повторила она.- Чему ты улыбаешься? – На какую-то секунду я увидел нас со стороны. Мы как две слипшиеся конфетки! – Ты подшучиваешь надо мной? – Впервые в жизни мне никуда не хочется и ничего делать тоже… Если бы меня спросили, чего бы я хотел, где бы хотел оказаться… только здесь и только с тобой. Мне настолько хорошо, что трудно вообразить, что может быть лучше. Понимаешь? Дрожь пробежала по его телу, когда ее ноги коснулись его затылка. – Да, понимаю. – У нас было так мало времени… Мы даже не смогли как следует поговорить. Послушай, Тьерри… В ближайшие часы я буду очень занят. Мне нужно два дня, чтобы… Ты будешь ждать меня? – Если обещаешь, что не будешь заниматься водными лыжами. – Нет, нет… Позже я тебе все объясню. В моей жизни происходят невероятные вещи. Одна фантастическая операция, только одна… Ты не поверишь… Огромные деньги! – Зачем они? Он рассмеялся и сказал: – Долго объяснять… Сейчас ты не сможешь понять.
***
– Я нахожусь в телефонной кабине в холле. Нам нужно встретиться. Узнав голос Цезаря ди Согно, Гамильтон вскочил на ноги. Вы нашли их?- задыхаясь, спросил он. – Да. – О Господи! Спасибо! Удача поворачивалась к нему лицом. Пайп жив и будет жить, а он, Гамильтон Прэнс-Линч, возьмет контроль над «Бурже», навсегда избавится от своей жены, плюнет в ненавистное лицо Сары, уберет к чертовой бабушке Фишмейера и предастся радостям жизни. – Нам нужно встретиться,- повторил ди Согно. Властный и торопящий голос этого недоноска покоробил Гамильтона. Не слишком ли он высоко берет? Придется подрезать ему крылышки. – У меня невозможно. Я разыщу вас позже. До свидания. – Мистер Прэнс-Линч, не кладите трубку! Всего лишь на пять минут, но сейчас… – Нет! Моя жена находится в соседней комнате. – Неправда! Я только что видел ее. Она уехала в автомобиле. Советую вам принять меня. Я иду… Разъяренный Гамильтон с недоумением смотрел на трубку: Цезарь позволил себе первым прервать разговор. Он закурил пятидесятую «Мюратти» за день, в сердцах ударил каблуком по ножке стола и, вскрикнув от неожиданной боли, заметался по комнате. В дверь постучали. – Вы хотите, чтобы все узнали о наших отношениях?- бросился в атаку Гамильтон. – Никто меня не видел. – Вы говорили с ним? – Да. – Никакой опасности? – Никакой. – Что вы хотели? – Им надо заплатить. – Уже сделано. – Что вы имеете в виду? – Наше первое дело. – Я говорю о втором. Брови Прэнс-Линча взметнулись вверх. – Разве было что-то сделано? – Я вас не понимаю. – Пайп – жив! Ваши бездельники не справились… Я ничего не должен. На лице Цезаря мелькнула слабая тень недоумения. – Мистер Прэнс-Линч, вы издеваетесь надо мной? – Измените свой тон,- не выдержал Гамильтон. – Вы должны им тридцать тысяч долларов. – Ни цента! Это дело меня больше не интересует. Цезарь бросил на него презрительный взгляд. – Будет лучше, если вы сдержите свое обещание. – Уходите! Вам здесь больше нечего делать. – Это – ваше последнее слово? – И никогда не приходите сюда! – Я скажу им об этом. Объясняться с ними вам придется самому. – Шевельните только пальцем, и я упрячу вас за решетку. На пороге Цезарь остановился и, перед тем как хлопнуть дверью, сказал: – Не хотелось бы мне оказаться на вашем месте.
***
Едва Ален вошел к себе в номер, как к нему подскочил Баннистер. – Я ищу тебя со вчерашнего вечера! Все тебя ищут! Беспрестанно звонит Прэнс-Линч… Раз десять приходила Сара. Я начал думать, что с тобой что-то случилось. Собирался уже звонить в полицию! Я… Со странной улыбкой на губах Ален, как сомнамбула, прошел мимо Баннистера, не слыша, что тот ему говорит. – Ален! – Привет, Сэмми! Он подошел к бару, налил в стакан виски и, не выпуская его из руки, вышел на балкон. Заинтригованный Самуэль последовал за ним. – Ален, ты слышишь меня? Ты где? – Я женюсь,- сказал Ален. Лицо Баннистера расплылось в широкой улыбке. – Правда? – Можешь не сомневаться. – Я знал, что ты к этому придешь! Великолепно! Конец нашим неприятностям! Самая богатая невеста в Америке! – Богатая? Тьерри? – Кто? – Тьерри. – Тьерри? Кто эта Тьерри? Ален? Не томи… Ален стоял облокотившись о парапет балкона, увитого цветами, и думал, что никому не позволит украсть ее у него. – Скоро увидишь. Она… Он стал подыскивать слова, чтобы описать ее, но она не укладывалась ни в какое описание. Он неопределенно пожал плечами и сделал глоток виски. – Чем она занимается?- не мог успокоиться Баннистер. – Студентка. Психолог или литературовед… Что-то в этом роде… – Где ты ее раскопал? – Здесь… Краской из баллончика она писала гадость на моей машине. У нее изумительные волосы… она немного богемна… короче, такого вот типа. – Как ее зовут? – Тьерри. – А фамилия? – Не знаю. У нее серые глаза. – Ты собираешься жениться на хиппи и даже не знаешь ее фамилии?- взорвался Баннистер. Он похлопал ладонью по своему затылку. – Нет, этот парень свихнулся! Самая именитая наследница Соединенных Штатов ползает у его ног, а он крутит любовь с нищей анонимкой! Я этого не допущу! Клянусь! Я буду защищать тебя от тебя же! Представь себе, что Сара, можно сказать, исповедовалась здесь прямо передо мной. Она без ума от тебя! Она рассказала мне о ваших планах. – Каких планах? – О вашем доме, самолете, яхте, лошадях… Ты начнешь с управляющего банком, а я стану начальником финансовой службы. – Прими мои поздравления. – Новый год вы проведете на мысе Шен, на собственной вилле. – А?.. – Пасху на Багамах… Семья Бурже Пасху проводит обычно на Багамах. Сара рассказывала тебе о своей бабушке? – Не помню. – Ее зовут Маргарита. Потрясающая женщина! Ей 91 год! Совесть клана, в некотором роде. Кто-то настойчиво постучал в дверь. – Самуэль! – Сара!- сказал Баннистер и бросился к двери. Ален успел схватить его за плечи. – Самуэль, слушай меня внимательно! Сейчас я спрячусь в ванной… Если ты только скажешь этой сумасшедшей, что я – здесь, даю слово, больше ты меня не увидишь. – Ты не должен с ней так поступать. Она любит тебя, она хочет тебя, беспокоится о… – Ты хорошо меня понял, Самуэль? Мне еще нужно сорок восемь часов, чтобы выбраться из сортира, в который ты меня запер. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. – Самое крупное состояние в Соединенных Штатах,- захныкал Баннистер. – Не делай глупостей, иначе пожалеешь… Бросив на него угрожающий взгляд, Ален скрылся в ванной и запер дверь на задвижку. – Иду, иду,- прокричал Баннистер. Он посмотрел на себя в зеркало, поправил воротник рубашки и открыл дверь.
***
Арнольд Хакетт взял из коробочки две сердечные пилюли и проглотил их. Затем прошел в спальню и рухнул на кровать. Ему не хватало воздуха, и он, как рыба, выброшенная на берег, ловил его открытым ртом. Виктория ушла в магазин, и он мог умереть, не дождавшись ее возвращения. Лежа на спине с открытым ртом, он ждал, когда успокоится сердцебиение, которое причиняло ему нестерпимую боль в груди. Сообщение, полученное от Мюррея, было чудовищным: «Бурже» отказывал ему в кредите, в то время как на протяжении многих лет он был самым крупным его клиентом! «Бурже» бросил «организацию» против «Хакетт»! Его акции! Это было невероятно! Ему захотелось встать, взять что-нибудь потяжелее, пойти и размозжить голову Прэнс-Линчу. Если то, о чем сказал Мюррей,- правда, Гамильтону не хватит жизни, чтобы рассчитаться за свою подлость. Арнольд разорит его, выбросит на улицу, если понадобится, купит его банк, он увидит, как тот сдыхает на помойке. Ему показалось, что дыхание стало нормальным. Он встал с кровати, вышел из номера и прошел несколько метров, которые разделяли их номера. Он собрался уже стукнуть ногой в дверь, как она внезапно открылась. – Арнольд, как дела? – Дай войти, подонок! Гамильтон быстро вышел в коридор и закрыл за собой дверь. – Только что пришла Сара… Вам плохо? Арнольд схватил его за лацканы пиджака и прижал к стене. – «Организация»! Мои кредиты! Отвечайте! Прэнс-Линч напрасно пробовал вырваться из рук Хакетта: как большинство стариков, он обладал мертвой хваткой. – Успокойтесь, Арнольд. Не лучше ли пойти в бар и там спокойно все обсудить? – Так, значит, это – правда?- взревел Хакетт. Обитатели отеля, стыдливо опустив глаза, не задерживаясь, проходили мимо. – Прошу вас, Арнольд, не теряйте чувства меры. Мы ведь джентльмены! – Подлец! – Арнольд! Нас видят и слышат. Мы – на виду… Не доводите до скандала. Не выпуская Прэнс-Линча из рук, Хакетт потащил его в конец коридора и вытолкнул за двойные двери на лестничную площадку служебного хода. – Говорите, что произошло, или я проломлю вам голову. – Моей вины в этом нет, Арнольд! Административный совет отказал вам в сорока миллионах долларов по причине вашей сорокадвухмиллионной задолженности. – А «организация»? Откуда она взялась? На что вы надеетесь? Ждете, что я уступлю вам свои акции? С какой целью вы все это затеяли, Прэнс-Линч? Я хочу знать! – Арнольд, вы меня задушите! Не драться же мне с вами! Хакетт отпустил его и неожиданно ударил по лицу слева направо. – Ты не способен на это, мразь! Вонючий, задрюченный альфонс! Жалкий ублюдок! Я сотру тебя в порошок, разорю твой банк и отправлю тебя туда, откуда ты пришел… Утоплю в дерьме! Он плюнул ему в лицо и вышел в коридор.
***
– Ушла? Ален осторожно выглянул из-за двери. – Если не спряталась под кроватью,- с горечью в голосе ответил Баннистер.- Я не понимаю тебя, Ален. Здешний климат сделал тебя чокнутым. Восемь дней тому назад, оказавшись без работы, ты был на грани самоубийства. Сегодня у тебя появилась возможность стать владельцем банка, и ты на это плюешь. Ален достал сумку и стал складывать в нее свои вещи. – Не на банк. На Сару. Улавливаешь нюанс? – Что тебе в ней не нравится? Красавица!.. – Уже сегодня она напоминает свою мать. Я не хочу становиться вторым Гамильтоном. – Ты куда собираешься? – На яхту. – На яхту? Какая яхта? – Та, которую ты заставил меня взять напрокат. Мне нужно успокоиться. У меня масса дел, и я не хочу, чтобы меня беспокоили. – Красивая яхта? – Великолепная! – А чем заняться мне? Куда пойти? – Останешься здесь. – Почему ты не хочешь взять меня с собой? – Ты слишком приметный мужчина. – Но мне не за что жить в «Мажестик»! Ты знаешь, какие здесь цены? Глаза лезут на лоб. – Я оплачу. Открываю тебе безлимитный счет. Но при условии… Ты будешь моим прикрытием: защищаешь, информируешь, предупреждаешь меня. Договорились? – Какое название у твоей яхты? – «Виктория II». – Где она? – У причала в старом порту. Предупреждаю, если допустишь хоть одну бестактность, я уплыву на Антилы. Мне нужно еще сорок восемь часов полной свободы. – Что отвечать, если будут тебя спрашивать? – Ты меня не видел, ничего не знаешь. Я временно уехал. Самуэль налил в стакан виски, сел на подлокотник кресла и задумчиво посмотрел на Алена. Эта быстрая метаморфоза, происшедшая с его другом, терзала его душу. – Ален… – Что еще? – Эта история с женитьбой на студентке… Ты пошутил? Захотелось меня напугать? – Ты будешь свидетелем с моей стороны. – Жаль… А я уже видел себя управляющим банком «Бурже». У меня такое чувство, словно меня уволили во второй раз. Ален застегнул сумку. – Ален… – Что? – А если все-таки у тебя получится… – Ну и что? – Ты возьмешь меня секретарем? Ален изобразил на лице удивление. – Тебя? Ты не сможешь застенографировать даже обычное письмо!
***
Оливер Мюррей дрожащей рукой положил трубку. Публичного объявления «организации» оказалось достаточно, чтобы посеять панику в биржевых кругах Нью-Йорка. О здоровье гиганта, который так неожиданно закачался, ходили самые невероятные слухи. Корпорация «Хакетт» полностью потеряла доверие, – Мистер Хакетт в отпуске,- односложно отвечал он крупным держателям акций, звонившим ему после того, как они узнавали сенсационную новость. Телефоны на всех восьми этажах Рифолд Билдинга беспрестанно трезвонили. Тревожные звонки поступали из всех филиалов, разбросанных на территории Соединенных Штатов. Директора, инженеры, химики – все хотели знать, под каким соусом их проглотят. Мюррей умолял Арнольда Хакетта не возвращаться в Нью-Йорк, что тот намеревался сделать, когда узнал о предательстве «Бурже». В запасе оставалось два дня, чтобы найти средства и вдохнуть жизнь в тело умирающего колосса. Мюррей знал, что только Прэнс-Линч может дать обратный ход событиям. (обратно)
Глава 27
– Они все еще в ссоре? – Мой даже рта не раскрывает. Мрак… А твой? – Я – в отчаянии… Какими были друзьями! Было 30 июля. Слух о ссоре Прэнс-Линча и Хакетта молниеносно облетел все этажи «Мажестик». Во всех газетах на первой полосе было напечатано объявление «организации». – То, что сделал твой хозяин в отношении моего,- отвратительно,- сказал Ричард, обращаясь к Анджело Ла Стрезе. Устроившись в тени кустов мимозы, налево от входа в отель, четверо шоферов обсуждали ошеломившее всех событие. Все были единодушны во мнении, кроме Леона Троцкого, который, находясь много лет рядом с Гольдманом, ничего необычного в том, что случилось, не видел. – Знали бы вы, что творится в кинематографе! Чтобы поставить фильм, Гольдман, если потребуется, заложит черту собственную мать! – И ты считаешь это нормальным?- спросил Ричард.- Хакетт – жестокий и говнистый, этого у него не отнимешь, но он, по крайней мере, порядочный. – Что ты знаешь о его порядочности?- запротестовал Ла Стреза.- У Гамильтона тоже репутация порядочного человека. А он – самый гнусный подлец! Чего стоит номер, который он выкинул, когда заподозрил, что я собираюсь попросить увеличения жалованья! Это же закон природы, Ричард! В бизнесе ты можешь выдавать себя за кого угодно, главное – сожрать других. – Я никак не могу понять, что вас возмущает в этой истории, – заговорил Норберт.- Мы живем при капитализме. И Хакетт, и Прэнс-Линч – оба они прогнили до основания… – Тогда все прогнили,- вставил Серж. – Почему все? А мы?- удивился Норберт. – Потому что,- назидательным тоном произнес Серж.- Попробуй устроиться на тепленькое местечко! – Ты сделаешь все, чтобы обойти друзей! Каждый ест того, кто ему по зубам. Увидев направляющихся в бар графа и графиню де Саран, Серж заспешил им навстречу. – А где твой патрон?- озабоченно спросил Норберта Ричард. – Не видел его уже двое суток. – Счастливчик! Эх, почему мне не повезло работать у Пайпа? Норберт недовольно поморщился. – Помолчал бы лучше,- сказал он сквозь зубы.- А вот и его друг! Он сделал насколько шагов навстречу рыжеволосому мужчине с лошадиным лицом. – Подать машину, мистер Баннистер? – Да,- ответил Баннистер.- Едем в «Бич».***
Как только Арнольд Хакетт узнал о грозящей ему опасности, он перевернул все вверх дном в поисках денег. Усилия его оказались напрасны. Все банки, к которым он обращался, как сговорившись, отвечали отказом. Еще неделю назад они готовы были лизать ему пятки, лишь бы он согласился взять у них деньги. Американское правительство сделало вид, что ничего не знает. Госсекретарь, старый друг семьи, даже ухом не повел, когда Хакетт позвонил ему и сказал: – Если я потеряю фирму, безработными окажутся шестьдесят тысяч человек. Складывалось впечатление, что за последние часы Хакетт возобладал даром создавать вокруг себя пустоту. До сих пор не нашли решения проблемы и маленькие рафинированные гении, стоявшие во главе административных служб, которым он платил бешеные деньги. – Какие результаты совещания, Мюррей? – Продолжаем поиски, мистер Хакетт. – Вы все кретины, Мюррей. Я плачу вам за то, чтобы вы нашли… – Мистер Хакетт, умоляю вас выслушать меня. Если через сорок восемь часов от вас не придет решения, мы – кончены… Мелкие владельцы акций устроили паломничество к кассам «Бурже», мистер Хакетт. Полнейшая паника! Кредиторы рвут нас на части! – Скажите этим подонкам, чтобы подождали. – Они боятся. Ходят слухи один тревожнее другого. За акцию платят двадцать долларов, и все стремятся продать… – У кого находится контрольный пакет?- прокричал Хакетт, побагровев от возмущения.- Я держу шестьдесят процентов акций! Чего бояться? Он знал, чего следовало бояться, но хотел, чтобы об этом ему сказал кто-нибудь другой, и тогда он убедится в безысходности положения. Он – в ловушке! – Мистер Хакетт, если мы не найдем сорок два миллиона на покрытие кредитов и сорок миллионов на зарплату, мы – банкроты! – Где я смогу найти за несколько часов, в воскресенье, сорок два миллиона? – А не хотите ли вы продать какую-то часть своих акций? – Никогда! – Стоимость акций может упасть с минуты на минуту. Мистер Хакетт, сделайте что-нибудь! – Вы все там – мудаки! Я возвращаюсь в Нью-Йорк. – Наш единственный шанс – это Канны… – Мюррей, если вы произнесете фамилию Прэнс-Линча, я выброшу вас на улицу! – Если он по-настоящему захочет, он сможет остановить «организацию». Я умоляю вас, мистер Хакетт, во имя высоких интересов фирмы, поговорите с ним. – Я вас предупреждал, Мюррей! Я увольняю вас! – Я уже уволен, мистер Хакетт. Начиная с утра, вы уволили меня шесть раз. – Это будет седьмой! Вы наделали много глупостей! Что ж, я все беру в свои руки. Оставайтесь на своих местах! Я лечу… Он положил трубку. – Твое сердце, Арнольд, побереги его,- с упреком сказала Виктория. – Закройся! После скандала с Прэнс-Линчем он не сомкнул глаз и ничего, кроме таблеток, своему желудку не предлагал. – Позвони портье. Набери сто шестьдесят три. Я же сказал сто шестьдесят три, а не сто шестьдесят два. Дай трубку! Портье? Говорит Арнольд Хакетт! Закажите мне в аэропорту Ниццы реактивный самолет. Немедленно! Пусть будет «боинг», мне все равно… Да, до Нью-Йорка. – Мне плохо, когда я вижу, до какого состояния ты себя доводишь из-за денег,- сказала Виктория. – Мне хотят пустить кровь. Может, мне поблагодарить их за это? – Возьми… Она протянула ему две пилюли. – Предупреди Ричарда. Пусть подаст машину! Впервые за последние пять лет она позволила себе прикоснуться к нему, положив руку на плечо. – Арнольд, я все думаю… – Ты еще способна думать… – Ты хорошо себе представляешь, что будешь делать в Нью-Йорке? То, что происходит с ним сейчас, он десятки раз проделывал с другими. Они сопротивлялись, он ставил их на колени. Он был не настолько глуп, чтобы не понимать, что его появление в штаб-квартире фирмы ничего не изменит. Наступила его очередь признать себя побежденным. Он ощутил, как его давит груз прожитых лет и усталость от успехов, завоеванных в безжалостной борьбе. – Да, Виктория, я не знаю.
***
– Дорогой друг, я вам принес только хорошие новости. Все идет как нельзя лучше. За два дня выкуплено тридцать процентов капитала. На лице Джон-Джона Ньютона появилась скептическая улыбка. – Еще немного, и контрольный пакет у нас в кармане. Я вас правильно понял? – Я вам обещал, что Хакетт не выдержит и треснет,- сказал Гамильтон, радостно потирая руки.- Гарантирую вам, что не пройдет и сорока восьми часов, как вы будете контролировать «Хакетт»! У него нет выбора. Или он продает свои акции, или все теряет. – Хотелось бы, чтобы ваше предположение сбылось. – Я не оптимист, дорогой друг, а реалист. – А если он предпочтет закрыть фирму? – Он же не сумасшедший! – Может ли он найти финансовую поддержку? – Боюсь, что нет. Единственный, кто может спасти его, это я. А сейчас я должен вас покинуть. Нужно еще откорректировать последние моменты этой схватки. Вы будете у себя? – Я все время здесь. – До скорой встречи! Надеюсь сообщить вам радостную весть задолго до установленного срока. Когда он входил к себе в номер, телефон надрывался. – Слушаю… Он почувствовал облегчение, узнав голос своего птенчика. – Зеленый свет,- кратко сказал он. – Хорошо,- ответил Ален.- Я иду туда.
***
Когда Виктория вошла вномер, Арнольд все еще лежал на кровати. Он даже не заметил, что она выходила. – Арнольд, ты можешь принять мистера Пайпа? – Кого? – Алена Пайпа. Он ужинал с нами в «Палм-Бич». Он говорит, что у него есть важная информация относительно твоих дел. Почему бы тебе не выслушать его?! Пригласить? Ричард сидел за рулем автомобиля, самолет ждал в Ницце, а в Нью-Йорке царило вавилонское столпотворение. В гостиную вошел Ален. – Здравствуйте, мистер Хакетт! Нахмурив брови, Арнольд посмотрел на стоявшего перед ним мальчишку. Ему, наверное, не было и тридцати. Зависть к его возрасту кольнула Арнольда. Не вставая, он поприветствовал его кивком головы. – Я улетаю. У вас тридцать секунд. Слушаю. Ален вежливо улыбнулся. – Я только что узнал о ваших неприятностях, мистер Хакетт. Арнольд нетерпеливо завертел головой. – Что вы хотите мне предложить? – Я могу, не выходя отсюда, выручить вас,- скромно сказал Ален. Ощущение было такое, словно на него рухнуло сорокаэтажное здание. Или он сумасшедший, этот парень, или провокатор. – Что вы имеете в виду под словом «выручить»? – Обеспечить кредит в сорок два миллиона долларов, мистер Хакетт. Хакетт с надменным видом посмотрел на него. – У вас есть сорок два миллиона? – Разве посмел бы я вас потревожить в противном случае? Арнольд не мог поверить в такую удачу. – Что вы хотите взамен? – Контрольный пакет акций,- холодно ответил Ален. – Как только вы сюда вошли, я сразу же понял, что имею дело с недоумком. – Жизнь нас рассудит, мистер Хакетт. Я готов покрыть вашу задолженность в обмен на шестьдесят миллионов ваших акций. – А сто двадцать миллионов не хотите?- ухмыльнувшись, спросил Хакетт. – В создавшейся ситуации было бы глупо платить вам двадцать долларов за акцию. Акции «Хакетт» жгут руки тем, кто держит их сегодня в очередях. От них стремятся избавиться, а не приобрести. – А вы не думаете, что я могу закрыть фирму? – Нет. Вы достаточно умны, чтобы понять, что через сорок восемь часов вы вообще не сможете продать ни одной акции. Вас объявят банкротом, мистер Хакетт! Принимая во внимание остроту положения, я предлагаю вам вполне разумную сделку: семьдесят миллионов за ваши личные акции. Хакетт сделал быстрый подсчет в уме и пришел к выводу, что, будь он на месте Алена, попытался бы прижать его еще крепче. – Ваше предложение ничего, кроме улыбки, у меня не вызывает, мистер Пайп. Я не согласен! – Да или нет?- твердым голосом спросил Ален. По тону его Хакетт понял, что мальчишка не блефует. – Присаживайтесь, мистер Пайп,- устало предложил он.
***
Как обычно, голая, в соломенной шляпке и перчатках из черного шевро, Марина чистила зубы над раковиной в ванной комнате. Как могла она столько времени гнить в Нью-Йорке, когда существует такая сказочная планета, как Канны? Она прополоскала рот, прошла в комнату и посмотрела на скопившиеся там цветы. Она не переставала удивляться тому, как ее воздыхателям удавалось узнать номер, где она жила. Ей хотелось сделать несколько отжиманий, но она решила, что для этого сегодня слишком жарко. Техника обольщения не менялась: вначале цветы, потом приглашение по телефону. Но Кхалил всегда был начеку. Перед ужином он заходил за ней и провожал в апартаменты принца. По нескольку раз в течение дня, не столько чтобы проверить, чем она занята, сколько следуя своей прихоти, Хадад отправлял ей подарки: небольшой бриллиант, браслет, жемчужное ожерелье… Марину это забавляло. Она наплевательски относилась к деньгам и драгоценностям, но внимание приводило ее в восторг. Мужчины, с которыми она была знакома, исключая Алена, никогда не относились к ней с такой нежностью. Она собиралась лечь в постель, когда в дверь постучали. Открыв дверь, она от удивления замерла. – Господи! Что с вами случилось?
***
– Поздравляю вас, мистер Пайп! Гамильтон закурил вторую сигарету за последние две минуты. Он сделал несколько затяжек и нервным движением раздавил ее в пепельнице. До последней секунды он разделял мнение Ньютона: Хакетт откажется от предложения продать собственные акции. – Как прошли переговоры, мистер Пайп? – В непринужденной обстановке,- ответил Ален.- Арнольд Хакетт прекрасно понял, где он выиграет. – Он угрожал вам, оскорблял? – Абсолютно нет. Разве не я принес ему решение его проблемы? Прэнс-Линч внимательно посмотрел на Алена, но лицо Пайпа оставалось непроницаемым. – Вы принесли подписанное соглашение? – Разумеется, мистер Прэнс-Линч. Он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо лист бумаги и положил на стол. Гамильтон жадно схватил его. Когда он, разворачивая, подносил бумаги к глазам, руки у него дрожали. Ален подошел к бару, взял бутылку виски, стаканы и лед. – Хотите? – Нет, нет, спасибо. Вы отдали ему чек? – Неужели он подписал бы этот документ без чека? Вначале он позвонил в Нью-Йорк и удостоверился, что деньги лежат на аккредитиве и предназначены для решения данной проблемы. Кстати, а где мой чек? – Что вы сказали? – Мой чек на сто тысяч долларов? Проходя мимо стола, он небрежно взял лист бумаги, на котором было написано, что Хакетт уступает ему 6 миллионов акций за 70 миллионов долларов. – Пожалуйста,- сказал Гамильтон.- Я подготовил его заранее. Ален не торопясь проверил сумму, подпись и дату. – А второй? – Как договорились, после вашего возвращения из Нью-Йорка. Когда улетаете? – Сейчас. В Ницце меня уже ждет «боинг». Им же я прилечу обратно. Счет вы получите с минуты на минуту. – Что? – Я считаю, что платить должны вы. Не вижу смысла оплачивать эти расходы. Сам Арнольд Хакетт задержал самолет. Вам повезло! – Сколько?- спросил Прэнс-Линч. – Откуда мне знать. Увидите. Полагаю, что вы уже дали команду выплачивать кредиты. – Это вас не касается! Исполняйте то, что от вас требуется. Через сколько часов вы возвратитесь? – Через семнадцать… восемнадцать… А теперь прошу извинить меня, надо кое-что собрать в дорогу. Прэнс-Линч бросил на него подозрительный взгляд. – Постарайтесь не допустить ошибки, мистер Пайп! – Постараюсь,- спокойно ответил Ален. Когда Прэнс-Линч вышел, он маленькими глотками допил виски. Его мозг был максимально сконцентрирован. Он вышел на террасу. Внизу, за рулем «роллса», увидел Норберта. Посмотрел на себя в зеркало, висевшее в гостиной на стене, скорчил рожу и сказал вслух: – Сейчас или никогда! Удачи! Он подумал о Баннистере, вышел в коридор и направился к лифту. – Ален! Сара! Все-таки она вычислила его. Вероятно, она целый день дежурит в холле. – Сожалею, Сара, но я улетаю. Ее глаза превратились в два больших блюдца. – Куда вы летите? – Я вернусь. – С женщиной? Я уже две ночи не могу спать. – Принимайте снотворное. – Ален, я хочу знать! В холл вошла стайка детишек в сопровождении нянек, Ален отступил в сторону, делая вид, что пропускает их, а сам бросился к выходу. Подбежав к «роллсу», он юркнул в салон автомобиля и захлопнул за собой дверцу. – Поехали! Пожалуйста, быстрее, Норберт! Машина резко сорвалась с места. Через несколько секунд Ален оглянулся: Сара бежала за ними… – На улицу Хуан, Норберт. Мне надо кое-что там оставить. – Хорошо, мистер! Не попасть бы в пробку! – Посмотрим. Он отстегнул откидной столик из красного дерева, достал ручку и стал писать в блокноте. «Я вынужден уехать. Возвращусь через 20 часов. Жди меня. Я тебя люблю! Ален». Он вложил лист в конверт, адресованный Тьерри, и положил его на сиденье рядом с собой. Затем вставил кассету в магнитолу и, откинув голову на спинку сиденья, улетел в мечтах к своей любимой. О ком другом мог он еще думать? С тех пор как они встретились, все вокруг него изменилось. Что бы он ни делал, где бы ни был, между ним и остальным миром всегда стояли серые глаза Тьерри. – Мистер, приехали. Ален показал, где следует припарковаться. Он взбежал по знакомой лестнице наверх и остановился перед знакомой дверью. Он знал, что Тьерри и Люси уехали в гости к друзьям, но не удержался и постучал в дверь. Никого. Он приколол кнопкой конверт к двери, легко коснулся его губами и сбежал вниз. Ганс ждал Тьерри уже два часа. И все это время он торчал под лестницей. Когда Ален вошел в подъезд, он сразу же узнал его, плейбоя из белого «роллса». От ревности и злобы у него перехватило горло. Что ему здесь нужно? Едва за Аленом захлопнулась входная дверь, Ганс вышел из своего укрытия и медленно поднялся наверх. Увидев прикрепленный к двери конверт, он долго смотрел на него, читая и перечитывая имя адресата, затем резким движением сорвал и, скомкав в кулаке, сунул в карман брюк.
***
В дверях стоял до неузнаваемости постаревший Арнольд Хакетт. – Вы заболели, Арнольд? Марина посмотрела ему в глаза и увидела столько боли и горя, что ей сделалось не по себе. – Входите же, Арнольд. Он направился прямо к кровати, грузно опустился на нее, не обратив внимания на то, что Марина была абсолютно голой. – Вы попали в аварию? Он покачал головой, и его губы скривились в жалком подобии улыбки. – Мне надо с вами поговорить, Марина. Вы позволите, я побуду у вас минуту?.. – О чем разговор, ради Бога! Она ласково погладила его по затылку. Что бы там ни было, но ведь благодаря ему она оказалась здесь. – Рассказывайте. От самодовольного, уверенного в себе старика, которого она выставила за дверь несколько дней тому назад, ровным счетом ничего не осталось. Дыхание его было тяжелым и прерывистым. – Жена? – Нет, нет… – Тогда что? Говорите. Покусывая губы, он подыскивал слова и не находил их. Опустив голову, он едва слышно произнес: – Я только что продал «Хакетт». Марина удивленно посмотрела на него. – И это довело вас до такого состояния? – Я как будто похоронил свое дитя. Она бережно обняла его за плечи. – Полно, Арнольд! Может, это и к лучшему. В вашем преклонном возрасте… Вы всю жизнь горбатились, пора и на покой. – Какой покой! Меня просто вздрючили! Вы понимаете? Раньше такие трюки я проделывал с другими, теперь наступила моя очередь. Меня вынудили стать на колени. – Вас разорили? – Да. – И у вас ничего не осталось?- сочувственно спросила она. – Чуть-чуть… – Сколько? – Семьдесят миллионов долларов. – Господи! Это же огромные деньги! – Огромные!- воскликнул он, выходя из заторможенного состояния.- Но акции стоят двести миллионов! – Какая разница, двести или семьдесят! – Я потерял свое дело. У меня теперь ничего и никого нет… Я – сирота! – У вас есть жена. – Мы уже пятьдесят лет не разговариваем друг с другом. У меня отобрали главное – цель в жизни. – Что мешает вам построить другие заводы? Да за семьдесят миллионов вы можете купить, если захотите, «Дженерал Моторс»! – Я оказался в худшем положении, чем безработный. – От этого еще никто не умер. У меня есть друг, которого выгнали из фирмы «Хакетт»… И вдруг от внезапной догадки она замолчала: неужели Арнольд Хакетт и есть фирма «Хакетт»? – Ну и дела! Значит, вы и есть Хакетт? – Разве вы не знали? – Очень нужно было! Конечно, нет! – Да, я – Хакетт. – Ну, вы и подлец! Вы увольняете людей! Вы знаете Алена Пайпа? Хакетта затрясло так, словно его посадили на электрический стул. – Пайп? – Что вам сделал плохого Пайп? Он пахал на вас, а ему взяли – и под задницу! – Где он работал?- машинально спросил Хакетт. – Бухгалтерия! – В Нью-Йорке? – Да. В Нью-Йорке. Он – мой парень! – Дайте воды, Марина. Воды, немного воды… Пока она набирала воду в ванной, он достал две пилюли, положил их в рот и, запрокинув голову, уставился невидящим взглядом в потолок. Она вошла в комнату, обошла кровать и поставила стакан на ночной столик. – Мы вместе жили. Но я сделала глупость и ушла к Гарри, а тот оказался эгоистом. Главным в его жизни была живопись, а на людей он смотрел как на собак. Даже на меня. Она легла рядом с Арнольдом, который по-прежнему сидел повернувшись к ней спиной. Ей стало стыдно, что в такую тяжелую для него минуту она дала волю своим чувствам. Она осторожно провела пальцами по его затылку. – Ваше время ушло, Арнольд, и не надо из этого делать трагедии. Не вы первый, с кем такое случается. Пора уступить место молодым… Она продолжала гладить его по дубленой коже затылка, как вдруг отчетливо почувствовала дрожь, пробежавшую по его телу. Испугавшись, что незаметно для себя перешла хрупкую границу дружеской ласки и вызвала у него сексуальное желание, она быстро убрала руку. Чего доброго он еще прыгнет на нее, чтобы доказать, что несмотря на свой возраст… Но он даже не обернулся. – Купите яхту… Играйте в гольф… За те деньги, которые у вас есть, можно доставить себе массу удовольствий. Или я не права? Арнольд?.. Он молчал. Осмелев, она обняла его за плечи. – Арнольд? Она легко потянула его к себе, и он медленно завалился на бок. – Нет, Арнольд, нет! Не надо, будьте умничкой! Она хотела оттолкнуть его, но он упал прямо на нее. Его глаза были открыты, лицо застыло… Он был мертв. Она закричала. (обратно)
Глава 28
Едва машина въехала в центр города, как Нью-Йорк буквально ошарашил Алена: тяжелый, перенасыщенный пылью и отработанным бензином воздух, липкая жара, обычная нью-йоркская суета… Это был его город, но он не узнавал его. Сегодня – 30 июля. Отсюда он уехал 25 -го утром. Пяти дней оказалось достаточно, чтобы изменилось его восприятие жизни. Теперь слишком поздно давать обратный ход… – Подождите меня здесь. Через несколько минут мы возвращаемся в аэропорт. Он задумчиво посмотрел на фасад банка. Сто лет тому назад, 23 июля, он, обливаясь от ужаса потом, принес сюда свой первый чек на 500 долларов. Он поднялся по ступенькам лестницы, ведущей к входу, прошел через холл и направился в приемную управляющего банком. – Мистер Фишмейер ждет меня. Моя фамилия Пайп. Через тридцать секунд он входил в роскошный кабинет управляющего банка «Бурже». Двухметровый Абель Фишмейер, согнувшись в пояснице, с протянутой для рукопожатия рукой, торопливо шел ему навстречу. – Фишмейер! Рад вас видеть! – Пайп! Очень приятно! Ален откашлялся и достал из портфеля документ, согласно которому Арнольд Хакетт уступал ему 6 миллионов акций. – Мистер Фишмейер, вот шесть миллионов акций «Хакетт». Управляющий прочел документ, осмотрел его со всех сторон. – Прекрасно, мистер Пайп!.. Прекрасно! – Стоимость этих акций равняется ста двадцати миллионам долларов. Я отдаю их вам за семьдесят миллионов и прошу разницу в пятьдесят миллионов долларов выдать мне в виде чека. – Не желаете ли чего-нибудь выпить, мистер Пайп? – Благодарю, но я очень тороплюсь. Меня ждет самолет. Сегодня я должен возвратиться в Канны. – Во Францию? – Не могли бы вы выписать чек? – Разумеется,- ответил Фишмейер, поджав губы. Он открыл центральный ящик стола, достал чековую книжку банка и, вписав нужную цифру, поставил свою подпись. – Проверьте, пожалуйста. Ален спокойно взял из его рук голубой листок бумаги. Чек был выписан на его имя, и в нем, цифрами и прописью, значилась необыкновенная сумма – 50 миллионов долларов. Абель бросил на него холодный и высокомерный взгляд. Ален знал, что этому гиганту прекрасно известно, кто он есть на самом деле. – До свидания, мистер,- попрощался Ален. – До свидания, мистер,- ответил Фишмейер. Ни один из них не протянул друг другу руки. Как только Ален сел в кресло самолета, он пристегнулся, попросил стюардессу принести бокал шампанского и до того, как самолет пошел на взлет, сделал несколько глотков. Он улыбнулся, когда подумал, что он единственный пассажир в этом огромном салоне «боинга». Самолет медленно выруливал на взлетную полосу.***
Возможно, она не обладала таким классом, как Мэнди де Саран, но ему она нравилась. Округлые формы ее тела, жизнерадостная улыбка, темные волосы тронули сердце Баннистера. – Кларисса, где вы научились говорить по-английски? – В Лондоне. Я работала гувернанткой у супружеской пары, которая продавала картины. – Много у них было детей? Кларисса хихикнула. – Это было двое мужчин. – Давно работаете в «Палм-Бич»? – Почти месяц. А вообще собираюсь доработать до конца сезона. Муж у меня англичанин, дома мне скучно, поэтому и работаю, чтобы как-то заполнить свободное время. Только поэтому… Она оценивающим взглядом осмотрела номер. – Чем занимаетесь вы, мистер Баннистер? – Руковожу предприятием, выпускающим фармацевтическую продукцию,- хладнокровно соврал Баннистер.- В Нью-Йорке. Хотите выпить? – Не сейчас. Вы надолго приехали в Канны? Нельзя было сказать, что дело было уже в шляпе, но то, как разворачивались события, вселяло определенную надежду… Самуэль нашел Клариссу в туалетной комнате в «Палм-Бич». Она сидела на стуле, читала «Вог» и рассеянно слушала звон монет, которые посетители бросали в стоявшую перед ней чашку. Отсутствие звука, когда Баннистер выходил из охраняемого ею объекта, насторожило ее. Она подняла голову и строго посмотрела на него. Он глазами показал на чашку, в которой лежала десятифранковая бумажка. Они оба одновременно улыбнулись. Бурные страсти рождаются иногда на ровном месте. Не ломаясь, она согласилась выпить с ним по стаканчику вина. – Устраивайтесь поудобнее, Кларисса. На ней было легкое платье, которое плотно облегало аппетитные формы. Сквозь тонкую ткань материи четко виднелись широкие ореолы сосков. Самуэль кашлянул и отвел глаза. Если не считать графиню, которая сама бросилась на него, он за двадцать пять лет супружеской жизни не имел ни одного любовного приключения. – У вас красивое имя… Кларисса… – Вам нравится? Они сидели в креслах друг напротив друга. Ему хотелось каким-то легким, непринужденным и необидным жестом показать на кровать, но его рука неожиданно стала весить десятки тонн. С ощущением ужасного комка в горле он поднял ее и потянулся к руке Клариссы. Когда до нее оставалось пять сантиметров, в дверь постучали. Очарование было разрушено – все придется начинать сначала. Он встал и, проклиная незваного гостя, направился к двери. В дверях стояла молодая девушка. У нее были пепельного цвета волосы и серые глаза. – Я, видимо, ошиблась,- смущаясь, сказала она.- Мне сказали, что один из моих знакомых живет в этом номере. – Как его зовут? – Ален Пайп. – Все верно. Это – его номер,- недовольным голосом сказал Баннистер. – Меня зовут Тьерри. Ах вот оно что! Это в нее влюбился Ален! – Его здесь сейчас нет,- враждебным тоном сказал Баннистер. – Вы не знаете, когда он возвратится? – Он уехал… Я – его друг, Баннистер. – Вы встретитесь с ним? – Встречусь, но не знаю когда. – Не передадите ли вы письмо? Она протянула Самуэлю конверт. Он осторожно взял его двумя пальцами. – Это очень важно,- прошептала она. – Можете рассчитывать на меня,- ответил Баннистер.- Передам сразу же, как только увижу его… – Скажите ему, что я срочно вынуждена уехать. Впрочем, в письме я обо всем написала. Скажите ему еще… – Что? Что я должен ему еще сказать? Она прикусила губу. – Нет, ничего. Спасибо. Она попрощалась кивком головы и пошла по коридору. Баннистер закрыл дверь, приходя в ужас от мысли, что Ален может променять Сару Бурже, со всеми вытекающими из этого преимуществами, на эту неприметную девицу. Слава Богу, что он оказался на месте! Самуэль порвал письмо на мелкие кусочки, бросил в унитаз и спустил воду. И с чувством исполненного долга возвратился к ожидавшей его Клариссе.
***
«Роллс» свернул с Круазетт и поехал по аллее, ведущей к «Мажестик». Весь путь от Нью-Йорка до Ниццы Ален проспал и проснулся, уже когда самолет катился по посадочной полосе. – Я еще понадоблюсь вам сегодня?- спросил Норберт. – Не думаю… Если вам нужен сегодняшний вечер, я не возражаю. – Спасибо, мистер. – Любовное свидание, Норберт? – Собрание партийной секции, мистер. Ален улыбнулся и замер. – Быстрее! Ни в коем случае не останавливайтесь перед отелем. Объедьте вокруг! Он заметил Сару, которая оживленно беседовала с Сержем, и не хотел оказаться в плену ее навязчивой идеи о замужестве. Он почти распластался на заднем сиденье. – Норбет, как вы думаете, меня заметила девушка в зеленом платье, которая разговаривает с Сержем? – Нет, мистер. Мисс Бурже продолжает разговаривать. – Спасибо. Остановитесь. «Роллс» остановился напротив конференц-зала. Ален вышел из машины и по узенькой, идущей параллельно Круазетт, улочке дошел до служебного входа. Проявляя осторожность, беспрестанно оглядываясь по сторонам, он подошел к администратору и сказал: – Семьсот пятьдесят первый, пожалуйста. – Вашего ключа нет, мистер. Мистер Баннистер должен находиться в номере. Из лифта вышла Марина. – Ален! Ее заплаканное лицо тронуло его. – Это ужасно, Ален. Он умер у меня на руках. – Хадад? – Хакетт. – Хакетт мертв? Она зарыдала еще громче. – Умер. У меня в номере. Что обо мне подумают?- всхлипывала она. Ален взял ее за плечи и встряхнул. – Марина! Что ты с ним сделала? Марина? Поверх ее головы он заметил входившую в холл Сару. Он быстро втащил за собой в лифт Марину и нажал кнопку седьмого этажа. – Я лежала на кровати и тихонечко гладила его по затылку. Он только что продал все свои заводы, и его надо было успокоить. И я хочу тебе сказать, что Хакетт – это «Хакетт»! – Я знаю,- ответил Ален.- Я знаю… – Мне нужно вниз,- сказала дама в красном с маленькой собачкой на руках. Ален обнаружил ее присутствие только тогда, когда она заговорила. – После того, как поднимемся на седьмой,- ответил Ален. Собачонка устрашающе тявкнула. – Пока я сходила за водой и легла на кровать, он уже умер. – От чего он умер? – Остановилось сердце. Какое это имеет значение! Чтобы не таскать его по коридорам, его оставили лежать у меня. Меня перевели на шестой… Куда-то исчезла моя джинсовая юбка. Двери лифта открылись. – Марина, увидимся позже, и ты подробно все мне расскажешь. – Это ты должен мне сказать, что делаешь в Каннах! – Мы будем спускаться в конце концов!- занервничала дама. Ален не успел выйти, и стальные двери лифта автоматически закрылись. Дама хотела нажать на кнопку третьего этажа, и в этот момент собачонка выскользнула у нее из рук. – В Нью-Йорке я заходила к тебе. С Гарри все!.. Несчастный Арнольд! У тебя не было воды, и я ушла. – Где ты познакомилась с Хакеттом? – Осторожно! Моя собачка!- кричала дама.- Жан-Поль, сюда… Прыгай! Но напрасно она подставила руки, Жан-Поль не реагировал… – У Пэппи,- ответила Марина.- Ты знаешь Пэппи? – Нет. Лифт остановился на первом этаже. Двери открылись. Собачонка быстро шмыгнула в холл. Дама хотела броситься следом, но натолкнулась на Марину. – Ален!- раздался голос Сары.- Ален! Ален автоматически нажал на кнопку седьмого этажа. Лифт плавно двинулся вверх. – Мне нужно вниз,- завизжала дама в красном.- Жан-Поль!.. – Э! Вы, в красном! Осторожнее! Вы отдавили мне ноги,- сказала Марина. – Я – подруга мистера Голена,- задыхалась от негодования дама.- Я протестую! Я приезжаю сюда уже двадцать лет! Если с моей крохотулечкой что-нибудь случится!.. – Кто эта Пэппи, Марина? – Подружка Питера. – А что у нее общего с Хакеттом? – Меня это не касается. После того как я ушла от тебя, я встретила его у нее, и он пригласил меня сюда. Как бы всех их я ни уважала…- Нахмурив брови, она повернулась лицом к даме и закончила фразу:- …старики мне противны! Лифт остановился, – Это вы сказали в мой адрес?- спросила дама. – Да!- рявкнула Марина.- И еще, я терпеть не могу собак! В этот раз Алену удалось выскользнуть из лифта раньше, чем закрылись двери. Он постучал в свой номер. – Кто там?- послышался голос Баннистера. – Я! Открывай! – Ален? – Ты откроешь, или я высажу дверь! Послышался скрежет ключа в замочной скважине. Дверь приоткрылась, и появилась голова Баннистера. Ален оттолкнул его в сторону и заметил, что тот в одних трусах. – Опять! – Я не один…- смущаясь, сказал Самуэль. Ален посмотрел на него испепеляющим взглядом. – Графиня? – Дама из туалетных комнат в «Палм-Бич». Умоляю тебя, Ален, будь повежливее! Она замужем. – Вот и сопроводи ее в туалеты! Мне срочно нужен номер. – Ален, мы только начали немного… – Вон! Ален открыл двери ванной и, обернувшись, посмотрел на Баннистера. – Когда я отсюда выйду, я выброшу вас обоих через окно. Что касается тебя, придешь через час… у меня для тебя будет новость… Ален захлопнул дверь, включил холодную воду и разразился истерическим смехом. Когда он вышел, в номере никого не было. Он оделся, сделал какую-то запись в блокноте и позвонил Прэнс-Линчу. – Я прилетел, зайдите ко мне. Он погрузился в изучение цифр, которые только что написал. Раздался стук в дверь. Он быстро спрятал листок в карман и пошел открывать. – Хорошо долетели, мистер Пайп?- спросил Гамильтон. – Прекрасно! Спасибо! – Все прошло удачно? – Лучше не бывает! – Я только что разговаривал с Фишмейером… Покажите мне, пожалуйста, чек. – Ваш здесь, а где мой? – Пожалуйста,- сказал Прэнс-Линч. – Они обменялись чеками. – Честно, мистер Пайп? – Честно. – Ну что же, отлично,- сказал Гамильтон, возвращая Алену чек на пятьдесят миллионов долларов, выписанный Фишмейером на его имя.- Вам осталось провести операцию передаточной подписи в одном из банков Женевы, который я вам укажу. Ален повернулся к нему спиной. – Вы слушаете меня, мистер Пайп? – Да, я слушаю вас. – Вы оформите передаточную подпись… – Я не буду этого делать,- прервал его Ален. – Что вы сказали? – Чек выписан на мое имя, и я собираюсь положить эти деньги на свой счет. Прэнс-Линч, выпучив глаза, смотрел на Алена. – Вы шутите? – Вовсе нет,- ледяным тоном ответил Ален.- Посмеяться надо мной хотели вы! Вы воспользовались мной, чтобы закамуфлировать профессиональную ошибку и заработать пятьдесят миллионов долларов за счет преданного вам клиента. – Вы считаете себя достаточно сильным, чтобы шантажировать меня?- презрительно спросил Гамильтон. – Хакетт – мертв, потому что доверял вам. – Все знают, что у него было больное сердце. – Вы совершили безнравственный поступок, мистер Прэнс-Линч. Я в шоке! – Сколько вы хотите,- скрежетнул зубами Гамильтон. – Вначале проанализируем, в каком положении находится каждый из нас. – Ближе к делу. – Когда вы в первый раз заговорили об «организации», меня крайне удивило то, что вся ваша затея не стоила и выеденного яйца. Даже скупив все имеющиеся на руках акции, вы приобрели бы только сорок процентов капитала. Недостаточно, чтобы контролировать «Хакетт», не так ли? Успех вашей операции обеспечивали два условия. Первое – найти способ вынудить Хакетта продать свои акции. Вы – его банкир, и вам ничего не стоило перекрыть ему кислород, отказав в кредите. Второе – появление на сцене третьего лица с чистыми руками, чтобы выкупить у него контрольный пакет за смехотворную цену: это – я. Идеальный простачок, мистер Прэнс-Линч, особенно после того, что со мной произошло. – Даю вам последний шанс, Пайп! Оставьте себе двести тысяч, отдайте мне пятьдесят миллионов и исчезните. Улыбаясь, Ален смотрел на него. – Есть страшные слова, мистер Прэнс-Линч, например «исчезновение». В том, что я не исчез раньше, после моего первого отказа, вы не виноваты… Гамильтон напрягся всем телом. – Что вы хотите сказать? – Ничего,- ответил Ален, не сводя с него глаз.- Ровным счетом ничего. Мы понимаем друг друга… – Не совсем. Ален заметил, что он на секунду опустил глаза. – А это вы не забыли?- спросил Прэнс-Линч, доставая из кармана лист бумаги. Ален узнал текст, который он подписал четыре дня тому назад во время заключения их сделки. В нем говорилось, что Ален выступает посредником и подставным лицом Прэнс-Линча. – Стоит мне показать это любому представителю закона, и вы будете уличены в шантаже,- угрожающим тоном сказал Прэнс-Линч. Улыбаясь, Ален смотрел ему прямо в глаза. – Черта с два! – Не провоцируйте меня… – Этот документ лишний раз свидетельствует о вашей нечистоплотности, мистер Прэнс-Линч. Ни один банкир не имеет права давать зеленый свет какой-то «организации» с целью личного обогащения. Это – преступление. – Я увеличиваю ваши комиссионные до пятисот тысяч долларов. – Не в вашем положении делать предложения. У меня другие соображения на этот счет. Я хочу получить контрольный пакет «Хакетт»! Прэнс-Линч чуть не задохнулся. – Вы – сумасшедший, и вас надо связать. – Об этом мне уже говорил Хакетт, когда я предложил ему продать акции. А теперь слушайте меня! Делаю вам предложение. – Связать,- автоматически повторил Гамильтон. – Если вы его принимаете, а, между нами говоря, я не вижу для вас другого выхода, я дам вам комиссионные. И не пятьсот тысяч долларов, а пять миллионов. – Что за бред вы несете?- возмутился Гамильтон. – Я возвращаю вам чек на пятьдесят миллионов долларов, а вы восстанавливаете документ на шесть миллионов акций, которые я отдал Фишмейеру. – Кто будет за них платить?- покраснел Прэнс-Линч. – Вы, естественно! Но из собственного кармана. Вы – шеф «Бурже». Вы предоставляете мне долгосрочный кредит на 75 миллионов долларов. За 70 миллионов я выкупаю акции и 5 миллионов перевожу вам на счет в качестве комиссионных. Ален бросил небрежный взгляд на часы. – Для принятия решения даю вам ровно пять минут. Он налил в стакан виски и вышел с ним на балкон. Несколько секунд Гамильтон сидел не шелохнувшись, затем схватил бутылку, налил полный стакан и, не отрываясь, выпил до дна. Если положить пять миллионов в швейцарский банк под один процент годовых, это составит кругленькую сумму. Может, стоит не трепать себе нервы и быстрее обрести свободу: расстаться с Эмилией и лететь на собственных крыльях? – Мистер Пайп! Ален стоял возле парапета и смотрел в сторону бассейна. Услышав голос Прэнс-Линча, он обернулся, и на его губах мелькнула презрительная усмешка. – Я обдумал ваше предложение,- сказал Прэнс-Линч и дрожащей рукой достал из пачки «Мюратти».- Я согласен. (обратно)
Глава 29
Шестого августа, спустя два дня после закрытия счета «организации», Ален вышел из машины на 42-й улице. От нестерпимой жары Нью-Йорк казался липким. Он вошел в здание Рифолд Билдинга, пересек холл, поднялся на лифте на тридцатый этаж. Было десять утра. Через час он должен предстать перед административным советом «Хакетт Кэмикл Инвест», чтобы быть избранным президентом. С шестьюдесятью процентами акций в кармане процедура представляла собой не более чем рутинную формальность. Коридор встретил его знакомыми запахами, звуками, но сегодня они означали для него окончание его прошлой жизни. Мимо прошли несколько бывших коллег, странно посмотрели на него и мимоходом поздоровались. Его это удивило. Неужели они не знают, что теперь хозяин здесь – он? Он толкнул дверь кабинета под номером 8021. Баннистер поспешно убрал ноги со стола. – Что ты дергаешься? – Изучаю документацию по фтору,- виноватым голосом пробормотал Самуэль. Ален с недоумением посмотрел на него. Затем подошел к окну и уткнулся носом в стекло. Баннистер видел его в такой позе сотни раз. Ален возвратился из Канн два дня назад, направив по следу Тьерри детективов из частного сыскного бюро. Но никаких новостей о ней не поступало. Они ищут… Он поселился в отеле, где провел ночь с девушкой из «Америкэн Экспресс». После «Мажестик», «Палм-Бич», изысканных Канн уже ничто не могло произвести на него впечатления. Даже его победа была с привкусом горечи, потому что не было человека, с которым можно было бы отпраздновать ее… Только Самуэль… Он посмотрел на него через плечо. Тот усердно перелистывал бумаги, лежавшие перед ним. – Сэмми! Баннистер поднял голову. – Слушаю. – Проблемы? – Извините, у меня много работы. – Ты издеваешься надо мной? – Нет… нет…- залепетал Баннистер, еще ниже склоняясь над бумагами. Ален ошалело посмотрел на него. – Ты обращаешься ко мне на «вы»? – Это я нечаянно,- ответил Баннистер и буквально уткнулся носом в лежавшие перед ним бумаги. Ален прыгнул к столу, резким движением смахнул все папки на пол, схватил Баннистера за лацканы пиджака и рывком поставил на ноги. – Если ты сейчас же не объяснишь, почему воротишь от меня свою рожу, я выбью тебе все зубы! – Честное слово… Просто накопилось много работы… – Не надо запускать мне за воротник морского ежа. От возмущения лицо Алена приобрело вишневый цвет. – Ты не хочешь смотреть мне в глаза, не разговариваешь, как будто я прокаженный! Если я чем-то тебя обидел, скажи… Или ты принимаешь меня за хозяйку третьесортного борделя, что не можешь снизойти до разговора со мной? Баннистер осторожно освободился из рук Алена, опустил голову и едва слышно пробормотал: «Именно…» – Что «именно»?- взревел Ален. Баннистер отвел глаза в сторону. – Я не… не знаю, как мне сейчас с тобой… – Какая же ты скотина!- с облегчением вздохнул Ален.- А я подумал, что ты меня больше не любишь. – Засранец! Ты хоть понимаешь?! Теперь Хакетт – это ты. В конторе все в шоке. В «Романос» переполох… Все парни дрожат от страха. – В чем я изменился? – Ты – хозяин! Баннистер схватил трубку уже несколько секунд трезвонившего телефона. Лицо его исказилось. – Хорошо, мистер… Разумеется, мистер… – Кто это?- спросил Ален. Самуэль опустил трубку вниз и шепотом произнес: «Мюррей!» – Дай-ка мне его. Мюррей? Немедленно зайдите в мой бывший кабинет. Баннистер с ужасом смотрел на него. – Вчера он устроил мне разнос по поводу моего отсутствия. От считает, что я нарушил профессиональную этику, и хочет уменьшить мне выходное пособие. – На самом деле? – Ты же знаешь его. – Он прав,- сказал Ален.- Следуя букве закона, ты не имеешь права бросать работу, когда тебе вздумается. Лицо Баннистера стало похожим на печеное яблоко. Ален показал ему заголовок в «Геральд трибюн», которую принес с собой. «Убийцы Гамильтона Прэнс-Линча задержаны». – Ты знаешь, кто его прикончил? Те два типа, которые охотились за мной, когда я занимался водными лыжами. Кстати, они выполняли его приказ. До этого они подорвали во время фейерверка Эрвина Брокера. И всем этим балетом руководил Цезарь ди Согно. Они во всем признались. Теперь сидят за решеткой. Если верить убийцам, Гамильтон отказался платить по счету, и тогда они сами с ним рассчитались… правда, по-своему. Он заметил, что Баннистер не слушает его, а с ужасом в глазах смотрит за его спину. Ален повернулся. В дверях стоял Мюррей. – Мистер Пайп, позвольте мне выразить вам искренние поздравления с заслуженным назначением. На протянутую Оливером руку Ален обратил внимания не более, чем на брошенный в урну окурок. Он ледяным взглядом окинул фигуру Мюррея и сел за стол. – Скажите, Мюррей… Вы же знаете, что употреблять спиртное в рабочее время запрещено. Или у вас для этого есть особая причина? Почувствовав себя не в своей тарелке, Баннистер отошел к окну. – Мистер Пайп, я за всю жизнь не выпил ни капли спиртного. Почему вы спросили? – Мне показалось, Мюррей… Сколько лет вы у нас работаете? – Пятнадцать лет, мистер. – СОЛИДНО! Сколько вам лет? – Пятьдесят два, мистер. Ален надолго замолчал. Мюррею не предложили сесть, и он нервно переступал с ноги на ногу. – Какая у вас зарплата? – Три тысячи триста шестьдесят пять долларов в месяц. Чистыми… – Многовато,- произнес Ален.- Сколько составит выходное пособие в случае вашего увольнения? – Вы хотите меня уволить?- чуть не задохнулся Мюррей. – В данном случае решение принимаю не я. Я подпишу только то, что посчитает нужным наш новый генеральный директор, господин Самуэль Баннистер, по счастливой случайности присутствующий здесь. – Примите мои искренние поздравления, господин генеральный директор,- жалобно забормотал Мюррей, поклонившись Баннистеру. Лицо Баннистера стало похоже на радугу после дождя: красный цвет переходил в желтый, тот в зеленый и т. д. Дверь открылась, и в кабинет вошел посыльный. – Мистер Пайп, миссис Виктория, мисс Гертруда Хакеты и другие члены семьи хотели бы встретиться с вами до начала заседания административного совета. Они ждут вас в кабинете мистера Хакетта. – Хорошо,- сказал Ален,- уже иду. Мюррей, вы можете возвратиться в свой кабинет. Господин генеральный директор, изучите его личное дело и примите решение о целесообразности его дальнейшего пребывания в нашей фирме. У двери Ален обернулся и сказал Баннистеру: – Ты слышал, старый козел! Займись Мюрреем! И не особенно с ним церемонься. Это – мразь! Наэлектризованный Баннистер неожиданно, и в первую очередь для себя, бешеным взглядом посмотрел в глаза своего мучителя и рявкнул, как сержант на проштрафившегося новобранца; – Чего ждете, Мюррей? Ваше личное дело уже давно должно было бы лежать у меня на столе! По лестнице Ален поднялся на два этажа выше, в святая святых фирмы «Хакетт». Перед дверью кабинета он попробовал узел галстука и нажал на ручку. Высотой потолков помещение напоминало кафедральный собор. В глубине кабинета, у противоположной стены, стоял огромный стол из нержавеющей стали. За ним сидела девушка в белом трикотажном платье и солнцезащитных очках. ТЬЕРРИ! Ален побледнел. Он скрипел зубами, до хруста в суставах сжимал кулаки, сдерживая себя, чтобы не броситься к ней. Ему до ужаса хотелось заключить ее о объятия и закружить в бесконечном танце. Он медленно прошел тридцать метров, разделявших их. – Здравствуйте, Гертруда Хакетт! – Здравствуйте, мистер Ален Пайп! – Вы хотели меня видеть? – Я хотела познакомиться с вами, перед тем как оставлю свою должность. Мой отец, вопреки моему желанию, назначил меня менеджером фирмы. Не могу сказать, что я что-нибудь сделала на этом посту… В жизни у меня были другие устремления… – Какие? – Учеба, путешествия. Я хотела быть свободной. Вы понимаете меня? – Понимаю. – Я не очень ладила с отцом… Он поклонялся только деньгам, поэтому наши взгляды на жизнь и ее ценности не совпадали. В восемнадцать лет я ушла из дому и обеспечивала себя сама. Я только что прилетела с Лазурного берега. – Вам понравилось там? – Я познакомилась с восхитительным человеком… – Я тоже… – Возможно, я была не права в отношении отца… Пожалуй, мне надо было больше интересоваться делами. Покидая вас, я немного сожалею, что для меня здесь не найдется работы. – А вам хотелось бы? – Я почти ничего не умею делать. – Печатать? – Приблизительно… – Хотите попробовать? – Да. – Садитесь за машинку. Я продиктую вам письмо. Если я останусь вами доволен, получите место секретаря-стажера. Тьерри встала из-за стола, подошла к низкому столику, на котором стояла пишущая машинка, и заправила чистый лист бумаги. – Я готова. – Приступайте,- безразличным голосом сказал Ален. «Мисс, в ответ на ваше письмо от 28 июля, которое я не получил, прошу вас принять к сведению, что я Вас люблю». Он замолчал на несколько секунд, затем продолжил. «Я Вас люблю… Я Вас люблю». – Сколько раз напечатать «Я Вас люблю»,- не поднимая головы, спросила Тьерри. – Десять, сто раз, столько, сколько вы пожелаете… Диктую дальше. – Я слушаю. «В связи с вышесказанным, не могли бы Вы в своем ближайшем письме назначить дату нашей свадьбы?» Треск машинки резко оборвался. Тьерри сняла очки. Превозмогая дрожь в ногах, Ален напряженно смотрел на нее. Лицо ее было бледным. В течение бесконечно долгих десяти секунд они стояли неподвижно, затем в едином порыве бросились в объятия друг другу.(обратно) (обратно)
Даниэла Стил Мираж (Только раз в жизни)
Поверь мне, в жизни только раз момент любви находит нас. Много их, лишь к нам слепых. Но если ты силен и храбр, правдив и смел И рядом случай пролетел, Не дай ему уйти, ведь нам не знать его пути; Любовь исчезнет поутру, а ты сжимаешь пустоту. Услышишь сердцем, как судьба даст знать тебе в окошко: Не бойся, крошка, платить сполна. Любви цена мала всегда, какой бы ни была, Любой ценой узнай любовь, она лишь раз находит нас. (обратно)Глава 1
Когда в рождественский сочельник в Нью-Йорке идет снег, город внезапно преображается. Если посмотреть из окна на Центральный парк, можно видеть, как постепенно все окутывает белая снежная пелена, все кажется таким неподвижным, таким спокойным. Однако ниже, на улицах, по-прежнему шумит большой город: гудки машин, людская речь; только гул шагов, транспорта, всеобщей спешки становится приглушенным, как бы неясным. В последних часах ожидания Рождества есть какое-то замечательное напряжение, готовое вот-вот взорваться смехом и подарками... Прохожие спешат домой с охапками пакетов в руках, уличные певцы колядуют, бесчисленные Санта Клаусы, подвыпившие и румяные, радуются, что наступил последний вечер их торчания на холоде, мамы крепко держат за руку детишек, беспокоятся, чтобы те не упали, улыбаются и смеются. Все торопятся, все взволнованны, всех в этот неповторимый вечер объединяет одно... Веселого Рождества!.. – машут швейцары, радуясь рождественским чаевым. Через день, через неделю возбуждение будет забыто, подарки развернуты, ликер выпит, деньги истрачены, но в сочельник еще ничто не закончилось, все только начинается. Для детей кульминация месяцев ожидания, для взрослых безумного периода покупок, столпотворения, поиска подарков... время свежих, какпадающий снег, надежд, ностальгических улыбок, воспоминаний далекого детства и юности. Время воспоминаний, надежды, любви. Снег шел не переставая, и движение на улицах стало наконец затихать. Сильно похолодало, и только редкие пешеходы брели по снегу, хрустящему у них под ногами. То, что днем было слякотью, теперь превратилось в лед, который скользил, скрытый шестью дюймами свежего снега. Ходить стало опасно, и к семи часам движение совсем замерло. Воцарилась непривычная для Нью-Йорка тишина. Лишь изредка сигналили автомобили да случайные прохожие звали такси. Голоса дюжины людей, расходившихся с вечеринки из дома № 12 по 64-й улице, звучали как веселый колокольный перезвон. Они смеялись, пели, так как чудесно провели время. На вечеринке были и жженка, и глинтвейн, шампанское лилось рекой, была огромная елка и много попкорна. Уходя, каждый получил небольшой подарок: кто флакончик духов, кто коробку конфет, кто миленький шарфик или книгу. Принимали гостей бывший литературный обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» и его жена, известная писательница. Среди приглашенных были подающие надежды писатели, известные пианисты, выдающиеся красавицы и умы Нью-Йорка. Все они собрались в большой гостиной их городского дома, где дворецкий и две служанки разносили закуски и напитки. Это была традиционная вечеринка в сочельник, продолжавшаяся обычно до трех-четырех часов утра. В числе немногих, кто покинул ее незадолго до полуночи, была миниатюрная блондинка в большой норковой шапке и длинной темной норковой шубе. Всю ее фигуру окутывал густой шоколадного цвета мех, а лицо едва виднелось из-под воротника. Она на прощание помахала своим друзьям и пошла домой пешком, а не поехала вместе с ними. В этот вечер она видела достаточно людей, и теперь ей нужно было побыть одной. Ей всегда было тяжело во время рождественского сочельника. Многие годы она проводила его дома, но в этот вечер решила поступить иначе: ей захотелось повидать друзей, хотя бы ненадолго, и все были удивлены и обрадованы ее появлением. – Рады видеть тебя, Дафна. Наконец-то ты вернулась в Нью-Йорк. Работаешь над книгой? – Я только начала. Большие голубые глаза излучали доброту, а нежная свежесть лица маскировала ее возраст. – И это значит, что ты закончишь ее на следующей неделе? Было известно, что обычно она пишет очень быстро. Весь же прошедший год был посвящен работе над фильмом. Веселая улыбка ответила на привычную шутку. Зависть... любопытство... уважение. Она была женщиной, которая вызывала все эти чувства, целеустремленной, решительной, заметной в литературных кругах, хотя по-настоящему в них не вращалась. Всегда казалось, что она чуть в стороне, недосягаема, когда же смотрела на вас, возникало ощущение, что она касается самой души. Словно видит все и в то же время как бы не хочет быть замеченной. Когда ей было двадцать три года, она была общительной, веселой, неистовой... защищенной, счастливой. Теперь стала спокойнее, веселость таилась лишь в глубине ее глаз. – Дафна! На углу Медисон-авеню она быстро обернулась, услышав сзади шаги, приглушенные снегом. – А, Джек! Это был Джек Хокинс, главный редактор ее нынешнего издательства «Харбор и Джонс». Его лицо покраснело от холода, светло-голубые глаза слезились на ветру. – Может, подвезти? Она покачала головой, улыбнулась и опять поразила его своей миниатюрностью, которую подчеркивала огромная норковая шуба. Руками в черных замшевых перчатках Дафна придерживала воротник. – Нет, спасибо. Мне правда хочется пройтись. Я живу недалеко. – Но уже поздно. При виде нее ему хотелось ее обнять, как, впрочем, и другим мужчинам. Но он никогда этого не делал. В свои тридцать три ей все еще можно было дать двадцать пять, а порой и двенадцать... Трепетная, свежая, нежная... но не только в этом дело. В ее глазах сквозила тоска независимо от того, каким бы эффектным ни было лицо. Дафна была одинокой женщиной, хотя этого не заслуживала. Но жизнь была несправедлива к ней, и ее уделом стало одиночество. – Сейчас полночь, Дафф... – Он не решил, присоединиться ли к медленно удалявшейся остальной компании. – Сегодня сочельник, Джек. И ужасно холодно. – Дафна усмехнулась, и чувство юмора проснулось в ней. – Я не думаю, что сегодня меня кто-то будет насиловать. Он улыбнулся: – Нет, но ты можешь поскользнуться и упасть на лед. – Ну да! И сломаю руку, и не смогу несколько месяцев писать, ты об этом? Не беспокойся. Следующую вещь я сдаю только в апреле. – Ну поедем, умоляю тебя. Выпьешь с нами. Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку, похлопав по плечу. – Иди. Не беспокойся. Я просто не хочу. После этого она помахала ему, повернулась и быстро пошла по улице, уткнув подбородок в шубу, не глядя ни вправо, ни влево, не обращая внимания на витрины магазинов и лица редких прохожих. Ветер обвевал ее лицо, и ей было лучше, чем на вечеринке. Подобные встречи, как бы они ни были приятны, сколько бы там ни было знакомых, всегда были одинаковы и утомляли ее. Но в тот вечер ей не хотелось оставаться одной в своей квартире, не хотелось возвращаться мыслями к событиям этого года... не хотелось... это было невыносимо... Даже теперь, когда снежинки покалывали лицо, воспоминания возвращались, и она ускоряла шаг, словно хотела обогнать их. Почти инстинктивно она добежала до перекрестка, взглянула, нет ли машин – их не было, – и не стала дожидаться зеленого сигнала светофора... словно рассчитывая, что если будет бежать достаточно быстро и перебежит улицу, то ей удастся оставить позади воспоминания. Но они всюду неотступно следовали за ней... особенно в этот рождественский сочельник. Перебегая Медисон-авеню, Дафна поскользнулась и чуть не потеряла равновесие. На углу она резко повернула налево, чтобы пересечь улицу, и не заметила длинный красный, набитый людьми автомобиль-универсал, спешивший проскочить на зеленый свет. Раздался крик женщины, сидевшей рядом с водителем, глухой удар, возглас кого-то из пассажиров, странно завизжали по льду колеса, и машина наконец остановилась. Наступила тишина. А потом все дверцы сразу открылись, и полдюжины человек выскочили наружу. Голоса, слова, крики – все умолкло, когда водитель, подбежав к ней, остановился. Женщина, лежавшая на мостовой, напоминала маленькую порванную тряпичную куклу, брошенную лицом в снег. – О Господи... о Господи... Он на мгновение беспомощно застыл на месте, а затем бросил на женщину, стоявшую рядом, испуганный и злой взгляд, словно винить надо было кого-то другого, а не его: – Бога ради, вызови полицию. Потом он опустился на колени рядом с Дафной, не решаясь к ней прикоснуться, боясь поверить, что она мертва. – Она жива? – Другой мужчина встал на колени рядом с водителем. От него сильно пахло виски. – Не знаю. Не было ни пара от ее дыхания, ни движения, ни звука, ни признака жизни. И вдруг водитель, тронув ее, стал тихо плакать. – Я убил ее, Гарри... Я убил ее... Он протянул руки к своему другу. Они так и стояли, обнявшись, на коленях; между тем остановились два такси и пустой автобус, и водители выскочили наружу. – Что случилось? Внезапно все пришло в движение, начались разговоры, объяснения: она выбежала перед машиной... не посмотрела... он не увидел ее... скользко... не смог затормозить... – Где, черт возьми, эта полиция, когда она нужна? – ругался водитель, а снег все шел и шел... и он почему-то вспомнил колядку, которую пел со всеми час назад... «Тихая ночь, святая ночь...» Теперь эта женщина лежит в снегу перед ним, мертвая или умирающая, а проклятых полицейских все нет и нет. – Леди?.. Леди, вы меня слышите? – Водитель автобуса стоял на коленях рядом с ней, наклонившись, пытался почувствовать ее дыхание на своем лице. – Она жива. – Он посмотрел на остальных. – У вас есть плед? Никто не пошевелился. И тогда почти со злостью он произнес: – Дайте ваше пальто. Водитель красной машины на мгновение опешил. – Господи, да ведь она, возможно, при смерти. Сними пальто. Тогда тот торопливо подчинился, как и двое других, и они набросили на Дафну пальто. – Не пытайтесь ее шевелить. Старый чернокожий водитель автобуса со знанием дела подоткнул под нее тяжелые пальто и осторожно взял в ладони ее лицо, чтобы предохранить его от обморожения. Вскоре показался красный маячок «скорой помощи» – им досталась хлопотная ночь. Так всегда бывало в сочельник. Вслед за «скорой» приехала полицейская машина, мерзко завывая сиреной. Бригада медиков сразу же бросилась к Дафне, полицейские, поняв ситуацию, двигались не так проворно. К ним поспешил водитель-виновник, уже более спокойный, но ужасно продрогший, ведь его пальто лежало на мостовой. Водитель автобуса наблюдал, как санитары осторожно положили Дафну на носилки. Она не издала ни звука, ни стона. Теперь он увидел, что ее лицо было ободрано и порезано в нескольких местах, но, поскольку она лежала лицом в снег, кровь не текла. Полицейский записал показания водителя и объяснил, что необходимо пройти проверку на трезвость, прежде чем его отпустят. Все остальные кричали, что он трезвый, что он выпил в этот вечер меньше других, а пострадавшая выбежала перед машиной, даже не посмотрев, и на красный свет. – Извините, так положено. – Полицейский не проявлял ни особой симпатии к водителю, ни каких-либо эмоций, когда взглянул на лицо Дафны. Еще одна женщина, еще одна жертва, еще один случай. Он видал и похуже. Почти каждый вечер нападения, избиения, убийства, изнасилования. – Жива? – Ага, – кивнул шофер «скорой помощи». – Пока. Они как раз надели кислородную маску и распахнули норковую шубу, чтобы проверить бьется ли сердце. – Но мы можем ее не довезти, если не поторопимся. – Куда повезете? Полицейский торопливо писал рапорт: «Белая женщина неопределенного возраста... вероятно, около тридцати лет». Водитель «скорой», обернувшись, предложил: – Повезем в Ленокс-Хилл, это ближе всего. Я не думаю, что она дотянет дальше. – Документов нет? Это была бы еще одна проблема. Они уже отправили две неопознанные жертвы в морг нынешней ночью. – Нет, у нее есть сумочка. – О'кей, мы едем за вами. Я все перепишу там. Шофер кивнул и скрылся в кабине, а полицейский вернулся к дрожащему водителю, который наконец надел свое пальто. – Вы собираетесь меня задержать? – Теперь он выглядел испуганным. Для него Рождество мгновенно превратилось в ночной кошмар, когда он вспомнил Дафну, лежащую лицом вниз на мостовой. – Только если вы пьяны. Мы можем проверить вас на трезвость в больнице. Пусть один из ваших друзей сядет за руль, и следуйте за нами. Водитель кивнул и скользнул в машину, велев одному из друзей сесть за руль. Когда они ехали за двойным воем сирен в Ленокс-Хилл, больше уже не было ни разговоров, ни радости, ни смеха. Было только молчание. (обратно)Глава 2
В приемном отделении царила атмосфера безумной активности, сновали толпы людей, одетых в белое, которые, однако, двигались с точностью артистов балета. Бригада из трех медсестер и врача-ординатора немедленно приступила к работе, как только санитары вкатили Дафну. Были вызваны еще один ординатор и врач-интерн. Норковая шуба была отброшена на стул, торопливо разрезалось платье. Это было сапфирово-голубое бархатное вечернее платье, которое она купила у «Джорджио» в Беверли-Хиллз[2] в начале зимы, на теперь это не имело значения... – Перелом таза... сломана рука... рваные раны обеих ног... На бедре у нее была глубокая рана, из которой теперь струйкой лилась кровь. – Едва не задело бедренную артерию. Ординатор быстро измерил давление, проверяя пульс, наблюдая за дыханием. Дафна находилась в шоке, и ее лицо было таким же белым, как лед, на котором она лежала. Вся она теперь носила печать какой-то удивительной отрешенности, обезличенности, анонимности. Она была просто очередным телом. Просто очередным случаем. Но серьезным случаем. И все знали, что следует работать быстро и хорошо – только тогда удастся ее спасти. Одно плечо было вывихнуто, рентген должен был показать, сломана ли нога. – Травма головы? – спросил второй интерн, приступая к внутривенному вливанию. И подтвердил кивком: – Серьезная. Старший интерн нахмурился, когда посветил ей фонариком в глаза: – Господи, можно подумать, что ее сбросили с вершины Эмпайр-Стейт-билдинга.[3] Теперь, когда Дафна уже не лежала на льду, все лицо было в крови, и необходимо было наложить с полдюжины швов. – Позови Гарисона. Он может понадобиться. Тут была работа и для старшего пластического хирурга. – В чем дело? – Сбила машина. – Сбили и смылись? – Нет. Он остановился. Полицейские говорят, у него такой вид, будто его сейчас кондрашка хватит. Сестры молча наблюдали за работой склонившихся над Дафной интернов, а затем медленно перевезли ее в рентгеновский кабинет. Она все еще не двигалась. Рентген показал перелом руки и таза, трещину бедренной кости; травма черепа оказалась не столь серьезной, как они опасались, но сотрясение мозга было тяжелым – могли наступить конвульсии. Через полчаса ее положили на операционный стол, чтобы сложить кости, зашить лицо и сделать все, что можно, чтобы спасти ей жизнь. Не обошлось без внутреннего кровотечения, но, учитывая ее комплекцию и силу, с какой машина ее ударила, ей вообще повезло, что она осталась жива. Очень повезло. Хотя и сейчас состояние Дафны внушало опасение. В половине пятого утра ее перевезли из операционной в отделение интенсивной терапии, где дежурная сестра подробно ознакомилась с историей болезни и посмотрела на пациентку с выражением крайнего изумления. – В чем дело, Ваткинс? Вы что, не видели таких случаев? Дежурный интерн цинично взглянул на сестру, она обернулась и с досадой прошептала: – Вы знаете, кто это? – Ну да. Женщина, которую сбила машина на Медисон-авеню прямо перед полуночью... перелом таза, трещина бедра... – Знаете что доктор, вы гроша ломаного не будете стоить в своем деле, если не научитесь видеть больше. На протяжении семи месяцев она видела, что он делает свое дело умело, но с очень малой долей гуманности. У него была техника, но не было сердца. – Ладно, – произнес он с усталым видом. Общение с медсестрами не доставляло ему особого удовольствия, но он понимал, что это необходимо. – Так кто же она? – Дафна Филдс. – Она произнесла это почти с благоговением. – Прекрасно. Но это не значит, что, если я узнал, как ее зовут, у нее стало меньше проблем. – Вы никогда не читали ее книг? – Я читаю книги и журналы по медицине, – произнес он самоуверенно готовую фразу и тут же вспомнил. Его мать читала все ее книги. Ершистый молодой врач на мгновение умолк, а затем спросил: – Она знаменита, да? – Она чуть ли не самая известная писательница у нас в стране. – Это ей не помогло сегодня ночью. – Он вдруг с сожалением посмотрел на маленькое неподвижное тело под белыми простынями и кислородной маской. – Справила, называется, Рождество. Они долго смотрели на нее, а затем медленно вернулись к сестринскому пульту, где мониторы сообщали о жизненных функциях каждого пациента, находящегося в ярко освещенном отделении интенсивной терапии. Здесь нельзя было отличить день от ночи. Все шло одинаково размеренно двадцать четыре часа в сутки. Некоторых клиентов чуть не до истерики доводил постоянный свет, гудение мониторов и аппаратуры жизнеобеспечения. Это было не самое спокойное место, но большинство пациентов в отделении интенсивной терапии были слишком слабы, чтобы замечать что-либо. – Кто-нибудь заглянул в ее документы, посмотрел, кого нам следует известить? – Сестра не сомневалась, что у такой женщины, как Дафна, должна быть толпа людей, проявляющих о ней заботу: муж, дети, агент, издатель, важные друзья. Однако из газет она знала, как ревностно Дафна оберегала свою личную жизнь. О ней почти ничего не было известно. – У нее ничего не было, кроме водительского удостоверения, небольшой суммы денег, нескольких квитанций и губной помады. – Я посмотрю еще раз. Она достала большой коричневый крафтовый конверт, который уже собирались положить в сейф, и, просматривая вещи Дафны Филдс, почувствовала себя неловко, хотя и понимала, что делает важное дело. Она прочла все книги этой женщины, влюблялась в героев и героинь, порожденных фантазией писательницы, и многие годы относилась к самой Дафне как к своему другу. А теперь так запросто копалась в ее сумочке. Люди в книжных магазинах часами ждали в очереди, только чтобы получить улыбку и автограф в книге, а она тут обшаривала ее вещи как обычный вор. – Вы ее почитательница, не так ли? – Молодой интерн был заинтригован. – Она удивительная женщина с необычным складом ума. – По глазам сестры видно было, что она недоговаривает. – Многим людям она подарила радость. Когда-то... – Она чувствовала, что глупо это говорить ему, но так было надо. Это был ее долг перед женщиной, которая теперь отчаянно нуждалась в их заботе. – Когда-то она изменила мою жизнь... вернула мне надежду... веру в себя. Это случилось, когда Элизабет Ваткинс потеряла мужа в авиакатастрофе и сама не хотела больше жить. Она на год уволилась из больницы, сидела дома и горевала, пропивая пенсию, назначенную за Боба. Но что-то в книгах Дафны вернуло ее к жизни, словно Дафне самой была знакома эта боль. Она воскресила в Элизабет желание жить, двигаться, бороться. Она вернулась к работе в больнице, в душе понимая, что к этому ее побудила Дафна. Но как ему это объяснить? – Она мудрая и необыкновенная женщина. И все, что в моих силах, я постараюсь для нее сделать. – Это ей может пригодиться, – вздохнул он и взял следующую историю болезни, но подумал, что при случае надо будет сказать матери, что он лечил Дафну Филдс, ведь она, как и Элизабет Ваткинс, ее поклонница. – Доктор Джекобсон, – сестра мягко обратилась к нему, когда он уже собирался уходить. – Да? – Она выкарабкается? Он на мгновение заколебался, а затем пожал плечами. – Не знаю. Сейчас слишком рано судить. Внутренние травмы и сотрясение мозга пока внушают много опасений. Особенно пострадала голова. И он ушел. Надо было заниматься и другими пациентами, не одной Дафной Филдс. Поджидая лифт, он пытался понять, в чем секрет таких, как эта Дафна Филдс. В том ли, что она сочинила хорошую сказку, или в чем-то еще? Почему такие люди, как сестра Ваткинс, воспринимают ее как свою хорошую знакомую? Неужели все это иллюзия, преувеличение? Что бы это ни было, он надеялся, что им удастся ее вытащить. Он не любил, когда не удавалось спасти пациента, но было бы вдвойне обидно, если бы умер кто-то известный. Одним словом, сплошная головная боль. Когда дверь лифта за ним закрылась, Элизабет Ваткинс опять обратилась к документам Дафны. Как ни странно, нигде не было написано, кому следует позвонить в экстренных случаях. В ее сумочке не было ничего значащего... Лишь потом в боковом кармашке ока нашла потрепанную, с загнутыми уголками фотографию маленького мальчика, сделанную, по-видимому, совсем недавно. Это был очаровательный ребенок с большими голубыми глазами и здоровым, золотистым загаром. Он сидел под деревом, широко улыбался и изображал руками что-то смешное. Кроме этого, были только водительское удостоверение и квитанции да еще двадцатидолларовая купюра. Жила Дафна на 69-й улице, между Центральным парком и Лексингтон, сестра знала, что это красивый, хорошо охраняемый дом, но кто ждал ее там? Странно было сознавать, что, несмотря на очарование книг этой женщины, о ней самой она не знала почти ничего. Нигде не было даже номера телефона, кому позвонить. Пока Элизабет думала над этим, на одном из мониторов появились тревожные сигналы, и ей пришлось вместе с другой сестрой пойти к пациенту в палату 514. Накануне утром у него случился инфаркт, и состояние было тяжелым. Пришлось пробыть с ним около часа. И только в семь утра, когда ее дежурство заканчивалось, она смогла опять подойти к Дафне. Другие сестры проверяли ее состояние каждые пятнадцать минут, но за два часа, что прошли с тех пор, как ее привезли на пятый этаж, изменений не произошло. – Как она? – Все так же. – Данные стабильны? – Пока без перемен. Сестра Ваткинс хотела опять посмотреть историю болезни, но поймала себя на том, что не может оторвать глаз от лица Дафны. Несмотря на бинты и бледность, в нем было что-то притягательное. Нечто такое, от чего вам хочется, чтобы она открыла глаза, посмотрела на вас и открыла вам свою тайну. Элизабет Ваткинс стояла рядом с ней, слегка касаясь ее руки. Вдруг веки Дафны стали медленно вздрагивать, и сестра почувствовала, что сердце ее забилось от волнения. Дафна медленно открыла глаза и посмотрела затуманенным взглядом. Сознание еще не вернулось к ней полностью, и было очевидно, что она не понимает, где находится. – Джефф? – только и прошептала она. – Все в порядке, миссис Филдс. – Сестра Ваткинс решила, что Дафна Филдс замужем. Когда Элизабет произносила эти слова у самого уха Дафны, голос ее был привычно мягким, успокаивающим. Ее интонация обычно вызывала у пациентов вздох облегчения и ощущение безопасности. Но Дафна казалась испуганной и озабоченной, когда ее взгляд сфокусировался на лице сестры. – Мой муж... – Она вспомнила знакомый вой сирен минувшей ночью. – С ним все в порядке, миссис Филдс. Все хорошо. – Он пошел к ребенку... Я не могла... Я не... – У нее не хватило сил продолжать. Элизабет медленно поглаживала ее руку: – Не беспокойтесь... Не беспокойтесь, миссис Филдс... Произнося это, она думала о муже Дафны. Он, верно, уже потерял рассудок, не зная, что приключилось с его женой. Но почему в рождественский сочельник она была одна на Медисон-авеню? Элизабет ужасно хотелось знать больше об этой женщине, о людях, заполнявших ее жизнь. Были ли они такими же, как те, о ком она писала в своих книгах? Дафна снова погрузилась в свой беспокойный, наркотический сон, и сестра Ваткинс пошла сдавать дежурство. Она не смогла удержаться и спросила сестру утренней смены: – Ты знаешь, кто здесь? – Попробую угадать. Санта Клаус. Кстати, с Рождеством тебя, Лиз. – И тебя также. – Элизабет Ваткинс устало улыбнулась: ночь выдалась тяжелая. – Дафна Филдс. – Она знала, что сменщица тоже читала ее книги. – Правда? – Сестра-сменщица удивилась. – А как она к нам попала? – Ее сбила машина сегодня ночью. – Господи, – содрогнулась сестра. – Состояние тяжелое? – Загляни в историю болезни. Большая красная наклейка на ней обозначала, что положение пациентки было критическим. – Ее привезли из операционной около половины пятого. Она пришла в сознание всего несколько минут назад. Я сказала Джейн, чтобы она это записала. Сестра-сменщица кивнула и посмотрела на Лиз: – Какая она? – И поняла, что задала глупый вопрос. Как можно было на него ответить, если Дафна в таком состоянии? – Да нет, я так, – улыбнулась она смущенно. – Просто она меня всегда интересовала. Лиз Ваткинс не скрывала, что разделяет ее интерес: – Да, и меня тоже. – А муж у нее есть? – Вероятно, да. Она спросила о нем, когда очнулась. – Он здесь? – Маргарет Мак-Гован – сестра, принявшая дежурство, была заинтригована. – Нет еще. Я не думаю, что кто-либо знает, кому следует сообщить. У Ht& в бумагах ничего нет. Я там внизу скажу. Он, наверное, жутко волнуется. – Это будет жестокий удар для него в рождественское утро. Обе женщины согласно кивнули, и Лиз Ваткинс, расписавшись в журнале, ушла. Но прежде чем уйти из больницы, она зашла в регистратуру на первом этаже и сказала, что у Дафны Филдс есть муж по имени Джефф. – Это нам не особенно поможет. – Почему? – Их телефона нет в справочной. По крайней мере, Дафна Филдс у них не значится. Мы ночью проверяли. – Проверьте Джеффа Филдса. И из любопытства Лиз Ваткинс решила на пару минут задержаться и посмотреть, что получится. Девушка из регистратуры позвонила в справочную, но Джефф Филдс у них также не значился. – Может, Филдс – это псевдоним? – Нам это ничего не даст. – Так что же? – Подождем. Скорее всего ее семья теперь в панике. Они, вероятно, позвонят в полицию, в больницы и найдут ее. Она же не просто неизвестно кто. А в понедельник можно позвонить ее издателю. Девушка в регистратуре, видно, тоже узнала, кого привезли сегодня ночью. Она с любопытством посмотрела на Лиз. – Как она выглядит? – Как пациент, которого сбила машина. – Лиз помрачнела. – Она выкарабкается? Лиз вздохнула: – Надеюсь. – И я тоже. Господи, она единственный автор, которого я могу переваривать. Я перестану читать, если она не выкарабкается. Предполагалось, что эта фраза должна быть забавной, но Лиз уходила из центральной регистратуры раздосадованная. Получается, что та, наверху, не живой человек, а просто фамилия на обложке книги. Лиз вышла на улицу, где под лучами зимнего солнца ярко сверкал снег. Она поймала себя на том, что думает о женщине,скрывающейся под именем Дафна Филдс. Лиз редко«брала домой» пациентов. Но это была Дафна Филдс. Женщина, с которой, как ей казалось, она знакома уже четыре года. И когда она дошла до станции метро «Лексингтон-авеню» на 77-й улице, то вдруг остановилась и посмотрела в сторону центра. Дом, указанный в истории болезни, находился в нескольких шагах от места, где она сейчас стояла. Почему же не пойти к Джеффу Филдсу? Он, должно быть, сейчас сходит с ума, не зная, куда делась его жена. Это, конечно, нарушало обычный порядок, но, в конце концов, мы же все люди и он имеет право знать. Если она сейчас ему скажет и тем самым сократит безумные поиски, что в этом плохого? Ее ноги сами выбирали направление. Она шла по соли, которой был посыпан свежевыпавший снег, и, дойдя до 69-й улицы, повернула направо к Центральному парку. Минутой позже Лиз уже стояла перед нужным домом. Он был именно таким, каким она себе его представляла, – большим, красивым, кирпичным, с темно-зеленым козырьком. В подъезде стоял швейцар в ливрее, Он открыл ей дверь с видом следователя и спросил: – Вы к кому? – Здесь квартира миссис Филдс? Как странно, подумала она про себя, глядя на швейцара. В течение четырех лет она читала ее книги и теперь стояла в вестибюле ее дома, словно была с ней знакома. – Мисс Филдс нет дома. Она заметила, что у него английский акцент. Это было как кино или сон. – Я знаю, я хотела бы поговорить с ее мужем. Швейцар сдвинул брови: – У мисс Филдс нет мужа. Он говорил авторитетным тоном, но ей захотелось его переспросить, уверен ли он в этом. Может, он здесь недавно и не знает Джеффа. Или, может, Джефф – это просто ее любовник, но ведь она сказала «мой муж». На мгновение Лиз смутилась. – А еще кто-нибудь дома есть? – Нет. Он смотрел на нее настороженно, и она решила объяснить: – С мисс Филдс нынче ночью произошел несчастный случай. В подтверждение она распахнула пальто, демонстрируя белый халат, и показала накрахмаленный чепец, который всегда носила в полиэтиленовом пакете. – Я медсестра из больницы Ленокс-Хилл, и мы не нашли никаких данных о ее родственниках. Я подумала, может... – Она в порядке? – Швейцар выглядел обеспокоенным. – Неизвестно. Кризис еще не миновал, и я подумала, что... С ней вообще живет еще кто-нибудь? Но он только покачал головой: – Нет. Каждый день приходит прислуга, но не в уикэнды. И ее секретарь, Барбара Джарвис, но ее не будет до понедельника. Барбара сказала ему это с улыбкой, когда вручала рождественские чаевые от Дафны. – А вы не знаете, как я могу ее найти? Он снова в замешательстве покачал головой, и тогда Лиз вспомнила фотографию маленького мальчика. – А ее сын? Швейцар странно посмотрел на нее, как будто она была ненормальной: – У нее нет детей, мисс. – В его взгляде промелькнуло что-то дерзкое и покровительственное, и Лиз было усомнилась, не врет ли он. Но он посмотрел ей в глаза с холодным достоинством и произнес: – Она, знаете ли, вдова. Эти слова поразили Лиз Ваткинс почти как физический удар. Минутой позже, поскольку говорить уже больше было не о чем, она медленно возвращалась к станции метро и чувствовала, как глаза жгут слезы, выступившие не от холода, а от собственной беспомощности. Словно она опять ощутила со всей остротой смерть своего мужа, ощутила ту боль, которая терзала ее весь первый год после его гибели. Так, значит, она это тоже... значит, это не были просто выдуманные истории. Теперь Лиз Ваткинс чувствовала еще большую близость к ней. Дафна была вдовой и жила одна. И у нее не было никого, кроме секретаря и прислуги. И Лиз Ваткинс поймала себя на мысли, что женское одиночество было автором этих книг, полных мудрости, сострадания и любви. Возможно, Дафна Филдс была так же одинока, как сама Лиз. «И это тоже нас роднит», – думала Лиз, спускаясь в недра нью-йоркской подземки. (обратно)Глава 3
Дафна безвольно плакала в тумане своего беспамятства, когда яркий свет, как ей показалось, стал пробиваться сквозь мглу откуда-то издалека. Она с большим трудом пыталась сосредоточиться на нем. И свет на время приближался, а потом пелена окутывала ее вновь, словно она уплывала от берега, теряя из виду последние, едва видимые ориентиры и слабо мерцающий вдали маяк. В этом свете, звуках, запахе было что-то очень знакомое и пугающее. Дафна не знала, где находится, но чувствовала, что уже побывала здесь прежде и что со всем этим связано что-то очень и очень плохое. В какой-то момент, лежа в забытьи, Дафна издала слабый стон, когда ей привиделась огненная, непроходимая стена. К ней тут же подошла дежурная сестра и сделала очередной укол. Через мгновение не стало воспоминаний, не стало пламени, не стало боли. Дафна опять уплыла на одеяле из мягких, пушистых облаков, какие можно видеть в иллюминатор самолета: нереальных, чистых, огромных... таких, на которых хочется танцевать и прыгать. Она услышала где-то вдалеке собственный смех, и ей привиделся Джефф – такой же, каким он был давным-давно... – Побежали наперегонки вон до той дюны? А, Дафодиленок? Дафодиленок... Дафоутенок... Дафи-Принцесса... Смешная мордашка... Он придумывал ей тысячи прозвищ, и в его глазах всегда был смех, смех и что-то очень ласковое, что предназначалось только ей. Бег наперегонки был, конечно, озорством, как и многие их выдумки. Его длиннющие, мускулистые ноги гнались за ее, тонкими и изящными, и рядом с ним она выглядела как ребенок, как летний цветок на пригорке где-нибудь во Франции... Ее большие голубые глаза сияли на загорелом лице, а золотистые волосы развевались на ветру. – Побежали, Джеффри... Дафна, смеясь, бежала, рядом с ним по песку. В двадцать два года ей можно было дать двенадцать. Она была проворной, но тягаться с ним не могла. – Давай... давай! Но прежде чем они добегали до дальней дюны, он сбивал ее с ног и заключал в объятия, а его губы приникали к ее губам с той знакомой страстью, от которой у нее всегда захватывало дух, стоило ему к ней прикоснуться. Так было и в тот первый раз, когда ей исполнилось девятнадцать. Они познакомились на собрании Ассоциации адвокатов. Дафна писала о нем для газеты «Дейли Спектейтор» Колумбийского университета. Она изучала журналистику и с большой серьезностью и ответственностью готовила серию статей о преуспевающих молодых адвокатах. Джефф мгновенно обратил на нее внимание и каким-то образом ухитрился улизнуть от своих товарищей и пригласить ее на обед... – Я не знаю... Мне бы надо... Волосы, собранные на затылке в тугой узел, в него воткнут карандаш, в руке блокнот, и эти огромные голубые глаза, которые смотрели на него с некоторым налетом озорства. Казалось, она дразнит его, не произнося ни слова. – А вам разве не надо работать? – Мы оба будем работать. Вы можете взять у меня интервью за обедом. Потом, через несколько месяцев, она обвинила его в самонадеянности, но была не права. Ему просто ужасно хотелось побыть с ней. И он своего добился. Они купили бутылку белого вина, немного яблок и апельсинов, длинный французский батон и немного сыра, потом зашли поглубже в Центральный парк, взяли напрокат лодку и плыли в ней по озеру, разговаривая о работе, учебе, путешествиях в Европу, летних каникулах, которые в детстве доводилось проводить в Южной Калифорнии, Теннесси и штате Мен. Ее мама была из Теннесси. Внешне Дафна была похожа на изнеженную красавицу южанку, пока из разговора с ней не выяснилось, какая она волевая и целеустремленная, Джефф и не думал, что южанка может быть такой. Отец Дафны был из Бостона, он умер, когда ей было двенадцать. После этого они опять вернулись на Юг, который Дафна возненавидела. Так продолжалось до тех пор, пока она не поступила в нью-йоркский колледж. – А что ваша мама думает об этом? – Его интересовало о Дафне все. Сколько бы она ему ни рассказала, ему хотелось знать еще больше. – Я думаю, она смирилась. – Дафна сказала это с леткой улыбкой, а ее глаза опять засветились так, что тронули Джеффри до глубины души. К ней невозможно было остаться равнодушным. В ней было что-то пленительное и приятное и в то же время нечто неистовое и порывистое. – Она решила, что, несмотря на все ее усилия, я все-таки янки. Но этого мало, я сделала нечто непростительное, я обзавелась мозгами. – А что ваша мама имеет против мозгов? – рассмеялся Джеффри, Эта девушка ему нравилась. Она ему в самом деле чертовски нравилась, решил он, стараясь не пялить глаза на длинный разрез ее бледно-голубой льняной юбки и стройные ноги под ней. – Моя мама считает, что ум надо скрывать. Южные женщины очень скрытны. Пожалуй, лучше будет сказать, хитры. Многие из них ужасно сообразительны, но не любят этого показывать. Они играют. Последнюю фразу она сказала с тягучим южным акцентом, достойным Скарлетт О'Хара, и оба они расхохотались. Было прекрасное июльское утро, и полуденное солнце пекло их непокрытые головы. – Моя мама имеет степень магистра истории средних веков, но она никогда в этом не признавалась. – Знаешь, она просто красивая ленивая южанка. – Это она опять произнесла с южным акцентом и улыбкой своих васильковых глаз. – Одно время я хотела стать юристом. Какая это профессия? Она вдруг опять показалась ему совсем иной, и он со вздохом удобно откинулся в маленькой лодке. – Трудная. Но мне нравится. Он специализировался по издательскому праву, и это ее больше всего заинтересовало. – Вы хотите перейти на юридический? – Может быть. – Подумав, она покачала головой. – Нет, конечно, нет. Я подумывала об этом. Но мне кажется, что писать – это мне больше подходит. – Что писать? – Не знаю. Рассказы, статьи. Дафна слегка покраснела и опустила глаза. Она не решалась признаться ему, что на самом деле хотела бы делать. Ведь это могло и не исполниться. Только порой ей казалось, что это возможно. – Я бы хотела когда-нибудь написать книгу. Роман. – Так в чем же дело? Она расхохоталась, он же подал ей очередной стакан вина. – Чего проще, да? – Почему нет? Раз вы хотите, у вас наверняка получится. – Мне бы вашу уверенность. А на что я буду жить, пока пишу свою книгу? Дафна истратила последние деньги, которые отец завещал ей на учение, и ввиду того, что предстоял еще год учебы, уже беспокоилась, что скромной стипендии может не хватить. Ее мать не могла ей помочь. Камилла Бомон работала в одном фешенебельном магазине готового платья в Атланте, и, несмотря на это, зарплаты ей самой едва хватало на жизнь. – Вы могли бы выйти за богатого. – Джеффри улыбался, но Дафне не было смешно. – Вы говорите, как моя мама. – Она этого бы хотела? – Конечно. – А что вы думаете делать, когда закончите учебу? – Подыщу подходящую работу в журнале, может быть, в газете. – В Нью-Йорке? Она кивнула, а Джефф, сам не зная почему, почувствовал облегчение. Вдруг он посмотрел на нее с любопытством, наклонив голову набок. – Дафна, а этим летом вы не собираетесь домой? – Нет, я хожу на занятия и летом. Так я раньше закончу. У нее не было достаточно денег, чтобы устраивать себе каникулы. – Сколько вам лет? Получалось, что он берет у нее интервью, а не она у него. Она не задала ему ни единого вопроса о собрании Ассоциации адвокатов или о его работе. С тех пор как они оттолкнули маленькую лодку от пристани, они говорили только друг о друге. – Мне девятнадцать. – Дафна это сказала неожиданно дерзко, как будто привыкла к тому, что ей всегда давали меньше. – А в сентябре мне будет двадцать и я буду выпускницей. – Потрясающе. – Его глаза засветились доброй улыбкой, и она покраснела. – Я серьезно. В колумбийском колледже трудно учиться, вам, наверное, приходится чертовски много заниматься. По его тону она догадалась, что он не подтрунивает, и это ее обрадовало. Он ей нравился. Пожалуй, даже очень. А может, причиной всему были солнце и вино, но, глядя на него, она понимала, что дело еще и в другом. В линии его рта, доброте глаз, силе красивых рук, которые время от времени неторопливо касались весел... и в том, как он смотрел нее, с интересом и умно... в его отзывчивости. – Спасибо. – Ее голос прозвучал очень тихо и мягко. – А чем вы еще занимаетесь? Вопрос ее смутил: – Что вы имеете в виду? – Как вы проводите свободное время? Ну, когда не делаете вид, что берете интервью в Центральном парке у слегка пьяных адвокатов. Она рассмеялась в ответ, и ее смех повторило эхо, поскольку они проплывали под небольшим мостом. – Разве вы пьяны? Тут, должно быть, дело в солнце, а не в вине. – Нет. – Джефф медленно покачал головой, когда они выплывали из-под моста. – Я думаю, причина в вас. Он наклонился и поцеловал ее, а потом они до вечера гуляли. Обнявшись, они брели в направлении зоопарка, где смеялись над бегемотом, бросали орехами в слона и пробежали по обезьяннику, со смехом зажимая носы. Джефф хотел, чтобы Дафна прокатилась на пони, как девочка-малышка, но она со смехом отказалась. Вместо этого они прокатились по парку в красивом экипаже и под конец побродили по 5-й авеню, в тени деревьев, пока не дошли до 94-й улицы, где она жила. – Хочешь зайти на минутку? – Она робко улыбнулась, держа в руке красный шарик, который он ей купил в зоопарке. – С удовольствием. А твоя мама не осудит? Ему было двадцать семь, и на протяжении трех лет, с тех пор как окончил юридический факультет Гарвардского университета, он ни разу не думал ни о чьих матерях, а тем более их осуждении или одобрении. Впрочем, на одобрение нечего было и рассчитывать. Со времени окончания учебы у него было множество мимолетных знакомств и ни к чему не обязывающих связей. Дафна засмеялась в ответ, встав на цыпочки и положив руки ему на плечи: – Да, мистер Джеффри Филдс, моя мама этого не одобрила бы. – Почему? – Он притворился обиженным. В это время мимо них прошли супруги-соседи, возвращавшиеся с работы. Они посмотрели на Дафну с Джеффом и улыбнулись. Оба были молоды, красивы и очень подходили друг другу: волосы у него были темнее, чем у нее, глаза пронзительно серо-зеленые, черты лица такие же правильные, как у нее, а молодая сила резко контрастировала с ее хрупкостью, особенно когда он ее обнимал. – Потому что я янки? – Нет... – Она склонила голову набок, и он почувствовал, как у него все плавится внутри, когда коснулся ее осиной талии. – Потому что ты намного старше и слишком привлекателен... – Она улыбнулась имягко высвободилась из его объятий. – И еще потому, что ты, наверное, перецеловал уже половину девушек в городе, – она опять засмеялась, – включая меня. – Ты права. Моей маме это тоже не понравилось бы. – Ладно, тогда пойдем наверх пить чай, а я не скажу твоей маме, если ты не скажешь моей. Подруга, с которой она снимала жилье, уехала на летние каникулы, и квартира была в полном распоряжении Дафны. Она была маленькая, но вполне сносная, скромная и не безобразная. Дафна угостила его чаем со льдом, к которому подала мятный ликер и замечательное нежное лимонное печенье. Джефф сел рядом с ней на диван и вдруг обнаружил, что уже восемь вечера, а ни усталости, ни скуки нет и в помине. Он не мог отвести от нее глаз и знал, что наконец встретил женщину своей мечты. – Как насчет ужина? – А я тебя еще не утомила? – Она сидела, поджав под себя ноги. Часы пролетали словно минуты. Солнце как раз зашло за Центральным парком, а встретились они в полдень. – Я думаю, что ты меня никогда не утомишь, Дафф. Ты выйдешь за меня замуж? Она засмеялась в ответ, взглянув в его лицо, заметила в глазах что-то необычайно серьезное. – В дополнение к ужину или вместо него? – Я же серьезно, ты знаешь. – Ты с ума сошел. – Нет. – Его взгляд был серьезен. – На самом деле я соображаю чертовски хорошо. Я на выпуске был пятым из всего курса, у меня действительно хорошая работа, и когда-нибудь я стану сильным и преуспевающим юристом. Ты будешь писать бестселлеры, и... – он сощурил глаза, как бы прикидывая, что дальше, – у нас будет, скажем, трое детей. Мы могли бы иметь двоих, но ты так чертовски молода, что у нас может появиться третий, прежде чем тебе исполнится тридцать. Как, по-твоему? Она смеялась, не в силах остановиться. – По-моему, ты сумасшедший. – Ладно, я сдаюсь. Ограничимся двумя детьми. И собакой. Лабрадором. Она, смеясь, покачала головой. – Ладно. Французский пудель. – Ты перестанешь? – Почему? – Он вдруг стал похож на маленького мальчика, а она опять ощутила то же учащенное сердцебиение, которое чувствовала весь день, пока была с ним. – Разве я тебе не нравлюсь? – Я думаю, ты неподражаем. И совершенно сумасшедший парень. Ты со всеми применяешь такую тактику или только с неопытными студентками вроде меня? Джефф казался абсолютно серьезным и спокойным. – Я еще никогда и никому не делал предложения, Дафна. Никогда. – Он откинулся на спинку дивана. – Когда мы поженимся? – Когда мне будет тридцать. Она скрестила руки на груди и озорно смотрела на него с противоположного конца дивана. Но он с важным видом покачал головой: – Когда тебе будет тридцать, мне будет тридцать восемь. Я буду слишком стар. – А я еще слишком молода. Позвони мне через десять лет. Она вдруг стала женственной, и уверенной в себе, и очень, очень волевой. Это ему понравилось, и он подвинулся к ней ближе. – Если я сейчас уйду отсюда, то позвоню тебе через десять минут. Если смогу выдержать так долго. Ну что, выйдешь за меня? – Нет. Но когда он приблизился, все в нейперевернулось. – Я люблю тебя, Дафф. Даже если ты думаешь, что я сумасшедший. Хотя это неправда. И, веришь ты мне сейчас или нет, мы обязательно поженимся. – У меня нет ни гроша за душой. – Она подумала, что необходимо это ему сказать, если он говорит серьезно. А в том, что он не шутит, она уже почти не сомневалась. – Я тоже без гроша, Дафф. Но когда-нибудь деньги появятся. У нас обоих. А пока мы можем питаться этим великолепным печеньем и чаем со льдом. – Ты серьезно, Джефф? – Дафна вдруг посмотрела на него трепетно. Ей хотелось знать, не играет ли он. Она надеялась, что нет. Но его голос был хрипловатым, сильным и добрым. Он одной рукой коснулся ее щеки, а другой взял ладонь. – Да. Теперь я твердо знаю: что бы ни происходило между нами, это будет правильно, Дафф. Я это чувствую. Я мог бы жениться на тебе хоть сегодня и знаю, что это будет правильно для нас на всю оставшуюся жизнь. Такое бывает только раз в жизни. И я не хочу это упустить. Если ты будешь сопротивляться, я буду тебя преследовать до тех пор, пока ты меня не послушаешь. Потому что я прав и знаю это. Помолчав, он добавил: – Я думаю, ты это тоже понимаешь. Дафна устремила взгляд на Джеффа, и он увидел, что на ее ресницах заблестели слезы. – Мне надо это обдумать... Я не уверена, что вполне понимаю, что происходит между нами. – А я понимаю. Мы полюбили друг друга. Вот и все. Мы могли бы искать друг друга еще пять или десять лет, но я нашел тебя сегодня, на этом проклятом нудном собрании, и раньше или позже ты станешь моей женой. Потом он ее ласково поцеловал и встал, все еще не отпуская ее руки. – А теперь мне следует пожелать тебе спокойной ночи, пока я не совершил какого-нибудь действительно безумного поступка, например, не набросился на тебя. Она засмеялась и поняла, что ей ничто не угрожает. Другого она бы никогда не пригласила к себе, но тут она инстинктивно чувствовала, что Джефф ее не обидит. Это была одна из причин, почему он ей сразу понравился. Она чувствовала себя в безопасности, счастливой и защищенной. Дафна поняла это, еще когда они шли от пруда к зоопарку. Он излучал спокойствие, уверенность и силу и в то же время некоторую мягкость. – Я тебе завтра позвоню. – Я буду на занятиях. – Во сколько ты уходишь? – В восемь. – Значит, я позвоню тебе раньше. Сходим вместе пообедать? Она кивнула, чувствуя себя вдруг испуганной и немного ошеломленной. – Неужели это все наяву? – Именно так. Он поцеловал ее в дверях, и она ощутила волнение, которого раньше не испытывала. Ночью, когда Дафна лежала в постели и думала о нем, пытаясь привести в порядок мысли, ее охватило новое для нее, сильное и страстное влечение. Все, что Джефф говорил в тот первый вечер, он говорил всерьез. Он позвонил ей на следующее утро в семь часов, а в полдень появился у факультета журналистики. Пиджак переброшен через плечо, галстук в кармане, а волосы отливают золотом на солнце – таким он предстал перед ней, когда она нерешительно спускалась по лестнице, чувствуя поначалу некоторую робость. Эта встреча отличалась от предыдущей. Им не мешал шум собрания Ассоциации адвокатов, не было ни вина, ни лодки, ни заката в ее окне. Был только этот необыкновенный золотокудрый мужчина, стоявший на полуденном солнце, смотревший на нее с гордостью, словно она уже принадлежала ему. И сердцем она чувствовала, что так оно и есть и будет всегда. Они поймали такси и поехали обедать в Метрополитен-музей. Ели там как на пикнике, сидя у пруда. Потом он проводил ее обратно на занятия, и к ней вернулось то же чувство полного покоя и защищенности, которое она испытывала с ним накануне. Вечером Дафна приготовила ему дома ужин, и он опять рано ушел. А на уик-энд они с Джеффом поехали в Коннектикут погостить у друзей, поиграть в теннис и поплавать на лодке. Они вернулись с золотисто-коричневым загаром, и на этот раз он пригласил ее к себе домой, в район пятидесятых улиц, и сам приготовил ужин. Именно там Джефф наконец обнял ее и, гладя шелковистое загорелое тело, невероятно ее возбудил. Дафна провела ночь в его объятиях, и только под утро он овладел ею, со всей нежностью, осторожностью и сдержанной страстью мужчины, который очень, очень любит девушку. Благодаря Джеффу этот первый раз был прекрасным. А на следующую ночь они занимались любовью уже у нее дома, и теперь она взяла инициативу на себя и удивила не только его, но и себя саму силой своего темперамента. Они провели остаток лета как в постели, так и вне ее, приспосабливая свой график к графику тех, с кем делили свои жилища. Наконец Джефф не выдержал, и на пасхальные каникулы они налетели самолетом в Теннесси и там поженились. Церемония была скромной, в присутствии ее матери и дюжины друзей. На ней было длинное белое кисейное платье и большая шляпа, а в руках – большой букет полевых цветов, и мама рыдала от волнения и радости, что дочь вышла замуж. Камилла была смертельно больна лейкемией, но еще не сказала об этом Дафне. Перед их отлетом она сообщила об этом Джеффри. Он пообещал, что будет заботиться о Дафне всегда. Через три месяца она умерла, а Дафна была беременна их первым ребенком. Джефф полетел с ней в Атланту на похороны, во всем помогал и утешал ее. Теперь у нее не осталось никого, кроме Джеффри и ребенка, который должен был родиться в марте следующего года. Все лето Дафна была безутешна. Те немногие вещи, привезенные из Атланты, которыми они обставили свою новую квартиру, напоминали ей о матери. Дафна закончила учебу в июне, а в сентябре получила первую работу в «Коллинз мэгэзин», очень солидном женском журнале. Джеффри считал, что не имеет особого смысла идти работать, раз она беременна, но в конце концов согласился и со временем вынужден был признать, что работа пошла ей на пользу. Предродовой отпуск в журнале Дафна взяла после Рождества. С каждым днем она была все более взволнованна, и наконец Джефф заметил, что прошлогоднее горе исчезает из ее глаз. Она настаивала, что, если будет мальчик, она назовет его Джеффри, а он хотел девочку, которая была бы похожа на нее. И поздно ночью, лежа в постели, Джефф касался ее живота и с любовью и изумлением чувствовал толчки ребенка. – А это не больно? – Он очень беспокоился за нее, но Дафна была воплощением здоровья и только смеялась над его опасениями. – Нет, иногда это необычно, но это не больно. – Она посмотрела на него, лежащего рядом, счастливым взглядом и почувствовала себя как бы немного виноватой, когда он протянул руку, чтобы погладить ей грудь. Джефф всегда желал ее, даже теперь, и они занимались любовью почти каждую ночь. – Джефф, может, тебе не нравится, какая я сейчас? – Нет. Конечно же, нет. Ты прекрасна, Дафф. Даже красивее, чем была раньше. В ее лице было что-то такое нежное и лучистое, золотистые волосы дождем спадали на плечи, а глаза светились своеобразным внутренним светом, о котором он только читал, но которого никогда сам не видел. Казалось, что она преисполнена надежды и некой волшебной радости. Она позвонила ему на работу после первых редких схваток, ее голос был неудержимо веселым и почти торжественным, и он стремглав помчался домой, чтобы быть с ней рядом. Джефф даже забыл, что в офисе его ждет клиент, что за дверью осталось висеть пальто, он прихватил зачем-то свод законов, который листал, когда Дафна позвонила. Он чувствовал большую растерянность и испуг, чем мог предположить. Но, когда увидел ее, спокойно сидящую в кресле и ждущую его, он понял, что все будет хорошо, в чем был всегда убежден. Джеффу передалось ее радостное возбуждение, и он налил им по стакану шампанского. – За нашу дочь! – За твоего сына! Ее глаза озорно смеялись, а потом вдруг затуманились болью. Он на мгновение испугался, быстро схватил ее руку, забыв о шампанском, а потом вспомнил все, чему в течение двух месяцев их учили на занятиях по подготовке к родам, стал помогать ей переносить схватки, замерять их длительность заранее купленным секундомером, и так продолжалось до четырех часов, когда он раньше Дафны понял, что пора идти. В больницу Дафна входила прямо как королева, с высоко поднятой головой, такая взволнованная и гордая, а потом она порывисто приникла к Джеффу, слушая его напутствия, и лишь глаза выдавали, как нелегко ей превозмогать боль. – Ты просто необыкновенна, дорогая. Господи, как я тебя люблю. Джефф проводил ее в предродовую палату, сел с ней рядом, держа ее руку в своей, и помогал правильно дышать, надел халат и маску и в десять вечера поспешил с ней в родовую палату, потом Дафна изо всех сил тужилась, а из глаз Джеффри, полных изумления и благоговения, лились слезы. И, наконец, в десять девятнадцать родилась их дочка. Эми Камилла Филдс мощным криком известила о своем появлении на свет, а ее мать издала вопль победы и ликования. Доктор высоко поднял девочку и тут же подал Дафне, а Джеффри смотрел на них обеих, смеялся и плакал, гладил мокрые волосы Дафны одной рукой, а другой касался малюсеньких пальчиков ребенка. – Какая же она красивая, а, Джефф?! Дафна теперь плакала и улыбалась одновременно, глядя на него взглядом, который был ему понятен без слов. Он нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. – По-моему, ты никогда не была так прекрасна, Дафф. – Я люблю тебя. Сестры отошли от них подальше, испытывая то, к чему они никогда до конца не могли привыкнуть, – ощущение чуда, которое на их глазах совершалось каждый день, и давая троице возможность побыть вместе как можно дольше. Наконец Дафну доставили обратно в ее палату, и уже в полночь, когда она заснула, Джеффри вернулся домой и лег, но не мог уснуть – все думал об их маленькой девчушке, своей жене и обо всем, что их объединяло на протяжении этих двух лет. Прошло еще три года. Дафна вернулась работать в «Коллинз», когда Эми исполнился год. Она как могла растягивала свой отпуск, ей не хотелось оставлять ребенка. Но, сколь сильно она любила Эми, с такой же силой ей хотелось возобновить работу. Дафна знала, что это ей нужно, да и Джефф всегда понимал, как важно для нее быть не только матерью и женой, но еще кем-то для самой себя. Ежедневно к ним приходила няня, пожилая женщина, которую Дафна наняла после рождения ребенка, Джефф помогал, когда надо было вставать к ребенку ночью, а в уик-энды они втроем отправлялись в парк или ехали за город, к друзьям. Для всех, кто их знал, было очевидно, что они очень, очень счастливы. – И вы никогда не ссоритесь? – беззлобно ехидничал один из коллег Джеффа, когда они в один из уик-эндов приехали к нему в Коннектикут. Он любил их обоих, а Джеффу еще и очень завидовал. – Конечно, ссоримся. Не меньше двух раз в неделю. Мы делаем это по расписанию. Я немного ее колочу, она меня поливает помоями, соседи вызывают полицию, а когда все уходят, мы садимся смотреть телевизор. Дафна на это улыбнулась и поверх головки Эми послала Джеффу воздушный поцелуй. Он был таким всегда: остроумным, любящим и надежным – одним словом, таким, каким она хотела видеть своего мужчину. Он стал для нее воплощением мечты. – Меня от вас тошнит, – пошутила однажды жена друга, глядя на них. – Как могут быть супруги так счастливы? Вы хоть что-нибудь вообще соображаете? – Ни капельки, – отвечал Джефф, обнимая Дафну за плечи. Эми спрыгнула с ее колен и побежала за кошкой, которую как раз увидела. – По-моему, мы слишком глупые. Поэтому не знаем ничего лучшего. Замечательными были их жизнерадостность и доброта по отношению друг к другу. «Идеальная пара», – прозвали их друзья, и иногда это раздражало Дафну, поскольку она опасалась, что счастье не может так долго продолжаться. Однако за пять лет их отношения изменились только в лучшую сторону. Они стали как бы одним целым, и единственное, что несколько огорчало Дафну, так это пристрастие Джеффа смотреть кровопролитные воскресные матчи регбистов в Центральном парке. Просто дело было в том, что два человека нашли именно то, что им подходило лучше всего, и имели мудрость правильно распорядиться этим, И единственной проблемой, с которой они сталкивались, была периодическая нехватка денег, чему, впрочем, ни Дафна, ни Джефф не придавали особого значения. В свои тридцать два года Джеффри вполне прилично зарабатывал как адвокат. Этого было достаточно, а ее заработки в «Коллинз» шли на дополнительные расходы. Они подумывали о втором ребенке и, когда Эми было три с половиной, решили осуществить задуманное. Однако на этот раз ничего не получалось. – Смешно, что ради этого приходится так стараться, не так ли, детка? – шутил Джефф воскресным рождественским утром. – Хочешь попробовать еще раз? – После сегодняшней ночи? Я боюсь, у меня сил не хватит. После того как накануне они нарядили елку и приготовили подарки для Эми, они занимались любовью до трех утра. Их половая жизнь стала даже лучше, чем была пять лет назад. Дафна с возрастом становилась все привлекательнее и женственнее. Дафна подкралась к нему и начала нежно поглаживать пальцем его голый живот и медленными круговыми движениями гладить там, где ему было приятно. – Если будешь продолжать, можешь подвергнуться насилию! В это время в комнату ворвалась Эми с охапкой новых игрушек, и ему пришлось быстро завернуться в полотенце, в то время как Дафна пошла помочь ей одеть новую куклу, которую подарил Сайта Клаус. – Извини, дорогой. – Ох уж эти дети! – простонал Джефф и отправился принимать душ. День получился приятный, легкий; они втроем до изнеможения объелись индейкой с клюквенным желе и приправами, и, когда наконец Эми легла спать, Джефф с Дафной расположились у камина в гостиной, просматривая воскресный выпуск «Тайме», попивая из чашек горячий шоколад и глядя на елку. Дафна вытянулась на кушетке и положила голову на колени Джеффри. – Горный хребет в Перу? – Сдаюсь. Назови. У него никогда не получалось разгадывать кроссворды, над которыми она ломала голову каждое воскресенье и даже на Рождество. – Как, черт подери, тебе удается разгадывать эту дрянь, Дафф? Господи, я учился на юрфаке Гарварда, окончил его с отличием и до сих пор не могу двух слов связать. Обычно она заканчивала разгадывать воскресный кроссворд ко вторнику, причем не сдавалась до тех пор, пока полностью не добивалась успеха. Джефф не в силах был ей помочь, и все-таки Дафна всегда его спрашивала. – И не спрашивай меня, как звали сестру Бетховена, а не то я вылью на тебя мой шоколад. – Ах так? – Она зловеще засмеялась и села. – Насилие! Этого слова мне и не хватало под двадцать шестым номером по горизонтали. – От этого спятить можно... Вставай. – Он встал сам и подал ей руку. – Пошли в постель. – Давай подождем, пока догорит огонь. Спальни их и Эми были наверху, они сняли эту квартиру после недавнего повышения Джеффа, и Дафне очень нравился камин, но она всегда беспокоилась, особенно сейчас, когда так близко стояла елка. – Да не волнуйся, он почти погас. – Давай все-таки подождем. – Давай не будем. – Он ущипнул ее сзади. – Я сгораю от нетерпения. Ты, наверное, подсыпала приворотного зелья мне в шоколад. – Боже ты мой! – Она улыбнулась и встала. – Сколько я тебя знаю, ты всегда был сексуальным маньяком. Вам не нужно приворотное, Джеффри Филдс. Вам нужно добавлять в пищу селитру, чтобы вы были нормальным. Он засмеялся и погнался за ней вверх по лестнице, в спальню, где мягко бросил ее на постель и стал ласкать под свитером, а она задавалась вопросом, как это было уже на протяжении двух последних месяцев, забеременеет ли она в этот раз. – Как ты думаешь, почему у нас так долго не получается? Она казалась лишь слегка обеспокоенной. Эми она забеременела почти с первой попытки, но теперь так не выходило. Джеффри только пожал плечами и улыбнулся: – Может, я постарел... черт возьми, может, я тебе уже не гожусь. Она серьезно посмотрела на него. В этот момент они раздевались. – Я бы никогда не нашла того, кто бы тебе в подметки годился. Я не буду горевать, если у нас больше не будет детей. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. – Как сильно? – Его голос был низким и хриплым, когда он протянул к ней руки и медленно привлек ее к себе. – Сильнее, чем ты даже думаешь, милый. Он не расслышал, поскольку уже накрыл ее губы своими. Они целовались и обнимались под стеганым ватным одеялом, которое Дафна купила для их большой латунной кровати. Она была довольно смешная: пружины стонали, и кровать неимоверно скрипела, когда они предавались любви, но это была старинная вещь. Они приобрели ее на аукционе, и она им нравилась. Для Эми была куплена маленькая кроватка. Среди маминых вещей Дафна нашла очаровательное стеганое одеяльце, сделанное ее руками. – А Эми не надо проверить? Она это делала всегда перед сном, но сегодня ее переполняли сладострастие и лень. Лежа, пресыщенная, в объятиях мужа, который был охвачен теми же чувствами, и словно осененная предвидением, Дафна задумалась, не возникла ли снова жизнь внутри ее. Их ласки в ту ночь были такими пылкими, проникновенными и серьезными, что, казалось, обязательно должны были привести к зачатию их желанного второго ребенка. Засыпая в объятиях мужа, она думала о будущем ребенке, а не о том, которого уже имела. – Она в порядке, Дафф. Он всегда над ней подтрунивал, потому что Дафна уж очень торжественно каждый вечер стояла у кроватки Эми, любуясь золотокудрой девчушкой, которая была так на нее похожа. И если та засыпала слишком быстро, Дафна прикладывала палец к ее носику, чтобы убедиться, что она дышит. – Хоть сегодня не беспокойся. Она в порядке. Дафна вяло улыбнулась и через минуту засопела в уютных объятиях Джеффри. Она так спала несколько часов, пока ей не приснился сон о прошлом. Они стояли у водопада, все трое, она, Джеффри и Эми, и звук низвергающейся воды был таким громким, что нарушил ее сон, но было и еще что-то – запах древесины, который настойчиво лез в нос, и наконец она зашевелилась под боком у Джеффри, кашляя, открыла глаза, чтобы избавиться от сновидения, и, глядя в дверь их спальни, обнаружила, что шум воды, разбудивший ее, был ревом пламени и что напротив их спальни была стена огня. – Джефф!.. Господи, Джефф! Дафна вскочила с постели, ошеломленная и растерянная, а он только слабо пошевелился, когда она трясла его и кричала: – Джефф! Эми! Он проснулся и моментально понял, что произошло. Вскочил с кровати и голый бросился к двери спальни. Дафна устремилась за ним с расширенными от ужаса глазами, но пламя заставило их отступить. – Господи, Джефф, ребенок! Ее глаза слезились от едкого дыма и обыкновенного страха, но он повернулся к ней и, крепко обняв ее за плечи, прокричал сквозь рев пламени: – Перестань, Дафф! Огонь в гостиной. Мы вне опасности, и она тоже. Я сейчас ее возьму, и все будет в порядке. Укройся одеялом и беги как можно скорее вниз по лестнице к входной двери. Я возьму из кроватки Эми и побегу за тобой. Бояться нечего! Ты меня поняла?! Говоря это, Джефф завертывал ее в одеяло, его движения были быстрыми и проворными. Он подтолкнул ее на площадку этажа, где была их спальня, и отчетливо произнес ей на ухо: – Я люблю тебя, Дафф. Все будет хорошо. Он сказал это без тени сомнения и потом бросился к двери спальни Эми, в то время как Дафна спускалась по лестнице, стараясь не паниковать, зная, что Джефф спасет Эми, он всегда заботился о них... всегда... всегда... Она повторяла это снова и снова, медленно спускаясь по лестнице и оглядываясь, но дым становился все гуще, и она едва могла дышать, она чувствовала себя так, словно плыла вслепую в едком дыму, и вдруг за ней раздался взрыв, но, когда она его услышала, он прозвучал далеко, и она вновь оказалась в своем прежнем сновидении, стоящей у водопада с Эми и Джеффом, и вдруг подумала, не привиделся ли ей и огонь. Она успокоилась, когда поняла, что это был... всего лишь сон... всего лишь сон... она вновь засыпала и чувствовала рядом Джеффа... потом сквозь сон она услышала голоса, а потом раздалось странное завывание сирены... вновь тот знакомый звук... тот звук... и свет, пробивающийся к ней сквозь туман... – Миссис Филдс, – произнесли голоса, – миссис Филдс... – И тогда свет стал слишком ярким, она очнулась в незнакомом, пугающем месте, и ее охватил ужас; не в силах вспомнить, как она сюда попала и почему, она всюду искала Джеффа... не понимая, где сон, где явь... на ее руках и ногах были бинты, и толстый слой мази на лице, и доктор смотрел сверху вниз на нее с отчаянием, а она кричала: – Нет, НЕТ! Не мой ребенок!.. Не Джефф!!! НЕ-Е-ЕТ... Дафна Филдс крикнула надломленным страдальческим голосом, вспомнив, когда она прежде видела этот яркий свет, после пожара... Очнулась она рождественским утром. Сестра дневной смены отделения интенсивной терапии прибежала и застала ее, дрожащую, со слезами на глазах и лицом, искаженным всплывшей болью. Она очнулась так же, как тогда, ощущая ту же пронизывающую муку. Все было как тогда, девять лет назад, в ту ночь, когда Джефф и Эми погибли в огне. (обратно)Глава 4
Барбара Джарвис приехала в Ленокс-Хилл через два часа после того, как ей позвонила Лиз Ваткинс. Лиз нашла телефон Джарвис в справочнике, когда пришла домой, и Барбара сразу приехала, потрясенная сообщением. Было девять часов утра, и в отличие от сестры, во всем накрахмаленном, проводившей ее в холл, Барбара Джарвис выглядела так, словно не спала всю ночь. Она поздно легла, да еще новость о случившемся потрясла ее до глубины души. По телефону ее уведомили о том, что Дафна Филдс находится в отделении интенсивной терапии больницы Ленокс-Хилл и что она может навещать ее, но не более пятнадцати минут через каждый час, и просили сообщить, какие родственники имеются у пациентки. Позвонив, Лиз Ваткинс задалась вопросом, приедет ли секретарша и какая она. По телефону она говорила не особенно любезно, не поблагодарила Лиз за звонок и даже с каким-то подозрением отвечала на вопросы. Лиз предположила, что она странная особа, и сестра, которая встретила посетительницу в регистратуре, наверняка бы с этим согласилась. Она была если не странной, то, во всяком случае, не особенно приветливой, и о Дафне спрашивала неприятным, покровительственным тоном. Судя по ее вопросам, она страдала разновидностью паранойи, и это вызывало у сестры чувство раздражения. Она хотела знать, сообщено ли прессе, навещал ли кто-нибудь мисс Филдс, появилось ли ее имя в каком-либо центральном реестре и знает ли персонал, кто она, мисс Филдс, такая. – Да, некоторые из нас знают. – Сестра посмотрела на нее. – Мы читали ее книги. – Возможно. Но здесь она не пишет. Я не хотела бы, чтобы мисс Филдс беспокоили. – Барбара Джарвис имела свирепый вид: внушительный рост, темные волосы, собранные в узел, в глазах глубокая озабоченность. – Вам понятно? Из какой бы газеты ни позвонили, никаких комментариев, никаких сообщений, никаких рассказов. Мисс Филдс – человек с именем и в данной ситуации имеет право, чтобы ее не беспокоили. Дежурная сестра не замедлила огрызнуться: – В прошлом году у нас лежал губернатор Нью-Йорка, мисс... – Она так ужасно устала, что не могла даже вспомнить фамилию этой особы, ее так и подмывало назвать ее мисс Битч [4]. – И он пользовался полной конфиденциальностью, пока был здесь. То же будет с мисс Филдс. Но было очевидно, что темноволосая амазонка, стоящая перед ней, не верила ни единому ее слову. Она была полной противоположностью своей работодательнице, миниатюрной, хрупкой, нежной и светловолосой. – Каково ее состояние? – С тех пор как вы позвонили, перемен не было. У нее была тяжелая ночь. Искорки беспокойства вспыхнули в глазах Барбары Джарвис: – Она очень страдает от боли? – Не должна. Ей обеспечен хороший уход, но сказать трудно. – Сестра раздумывала, может ли Барбара пролить хоть какой-то свет на тот загадочный бред, который был у Дафны минувшей ночью. Когда она вновь взглянула на Барбару Джарвис, ее голос смягчился: – У нее была действительно тяжелая ночь. Она рассказала о галлюцинациях больной, которые Лиз Ваткинс описала в истории болезни. Судя по выражению глаз, Барбара Джарвис знала, о чем идет речь, но не хотела ничего раскрывать. – Ее мучили кошмары... сновидения... возможно, это последствия сотрясения мозга, я не знаю. Секретарша не проронила ни единого слова. – Если вы хотите ее навестить, это должно быть недолго. Она находится в полуобморочном состоянии и может вас не узнать. Барбара кивнула и обвела взглядом двери палат, выходившие в ярко освещенный холл. В отделении интенсивной терапии даже здоровому человеку становилось не по себе. В холл не проникал ни единый луч дневного света, однако все сверкало и светилось, все было начинено техникой и очень рационально. Там было по-настоящему страшновато, а Барбара Джарвис никогда до этого не видела ничего подобного. Но знала, что Дафне это знакомо. Она поступила к ней работать через несколько лет после того трагического пожара. И Дафна однажды вечером рассказала ей об этом. Барбара знала все: и об Эми, и о Джеффри; за три последних года работы с Дафной она узнала еще очень многое. – Можно мне ее сейчас повидать? Сестра кивнула и повела ее в палату Дафны. Она вошла и сразу остановилась. Посмотрела на Дафну, перевела взгляд на мониторы и, видимо, осталась довольна осмотром. Дафне час назад сделали очередной укол промедола, после которого она должна была проспать несколько часов. Сестра взглянула на Барбару и увидела слезы, медленно текущие по ее щекам. Она подошла к Дафне, взяла ее миниатюрную белую руку в свою, большую, и держала ее, как будто больная была ее ребенком. Пульс у Дафны был все еще слабым, и по-прежнему рано было говорить, выживет ли она. Барбара задерживала дыхание, стараясь не плакать, но не могла сдержаться. Сестра наконец оставила их одних. Барбара стояла, печально глядя на Дафну, пока сестра не вернулась и не подала знак, что пора уходить. Высокая, сильная женщина стояла на том же самом месте, где старшая сестра ее оставила, потом она осторожно поправила руку Дафны на кровати и вышла из палаты. Барбара медленно шла по холлу и, казалось, была совершенно убита горем. Когда они остановились у сестринского стола, она сняла маску. – Она поправится? – Глаза Барбары искали чего-то, чего не могли найти: утешения, надежды, обещания. Действительно, было трудно поверить, что Дафна, лежащая там, такая безмолвная, такая маленькая и неподвижная, может выкарабкаться. Вид у нее был уже почти как у покойницы. Лиз немного успокаивало сознание того, что спасению Дафны, несомненно, отдадут все силы. Но Барбара Джарвис теперь смотрела на сестру, ожидая ответа, которого никто не мог дать, кроме Бога. – Говорить слишком рано. Очень возможно, что она выкарабкается. И ее голос, натренированный за многие годы, стал мягче: – А может, и нет. Она получила очень серьезные травмы. Барбара Джарвис молча кивнула и медленно пошла к телефонной кабине. Когда она вышла, то спросила, можно ли опять повидать Дафну. Сестры сказали, что можно через полчаса. – Не хотите ли чашку кофе? Вы сможете опять навестить ее в течение пятнадцати минут. Или... Может, она захочет уйти, в конце концов, она всего лишь ее секретарь... Барбара прочла их мысли: – Я останусь. – Она постаралась слабо улыбнуться, но оказалось, что это выше ее сил. – Я бы выпила кофе. – И почти с болью: – Спасибо. Сестра-практикантка проводила ее к кофеварке, удобно стоящей рядом с голубым виниловым диваном, повидавшим много горя на своем веку. Сам этот диван показался ей удручающим, когда она подумала о людях, которые ждали на нем, выживут или умрут их близкие, причем последнее происходило чаще. Сестра в голубом налила чашку горячего черного кофе и подала Барбаре. Та минутку постояла, глядя девушке в глаза. – Вы читаете книги? Покраснев, сестричка кивнула и ушла. А в три часа Лиз Ватки не пришла снова на сдвоенную смену, Барбара все еще была там и выглядела измученной и обезумевшей. Лиз посмотрела историю болезни и увидела, что улучшения нет. Потом она пришла поговорить с Барбарой Джарвис и налила ей свежую чашку кофе. Ей было интересно, что Барбара за человек. Было понятно, что она примерно ровесница Дафны, и сначала хотелось спросить, какая Дафна на самом деле, но Лиз понимала, что сделать это значило бы снова навлечь на себя враждебность секретарши, словно темную тучу. – У больной есть какие-либо родственники, которым следовало бы сообщить о случившемся? – Это было единственное, на что она решилась. Барбара только долю секунды помедлила, а затем покачала головой: – Нет, никаких. Она хотела сказать, что Дафна одна на всем белом свете, но это было не совсем так, да к тому же какое до этого дело сестре. – Я знаю, что она вдова. Барбара, казалось, удивилась, что Лиз это знает, но кивнула и отхлебнула горячего кофе. Однажды об этом говорилось в телешоу, но больше нигде это не обсуждалось, Дафна не хотела, чтобы кто-то знал об этом. Теперь она была известна только как «мисс Филдс», и подразумевалось, что она никогда не была замужем. Поначалу Дафна сама воспринимала это как измену Джеффу, но понимала, что в перспективе так будет лучше. Она не могла говорить о нем и об Эми. Она говорила о них только с... Но Барбара отогнала от себя эту мысль, представив, что бы он сейчас переживал. – Газетчики не звонили? – Она с внезапным беспокойством подняла глаза над чашкой. – Никто. – Лиз доверительно улыбнулась. – Я ими займусь. Не беспокойтесь. Мы их к ней не допустим. В первый раз Барбара немного улыбнулась настоящей улыбкой, и, странное дело, на долю секунды она стала почти миловидной. – Она всей душой ненавидит репортерскую настырность. – Это, должно быть, очень неприятно. Они, наверное, постоянно за ней охотятся. – Конечно. – Барбара опять улыбнулась. – Но она умеет им противостоять, когда захочет. В поездках этого избежать нельзя, но даже там она очень умело уклоняется от бестактных вопросов. – Она очень застенчивая? – Лиз как голодная набрасывалась на каждую подробность о Дафне. Это была единственная знаменитость, которую Лиз хотела бы повстречать, и теперь она была здесь, рядом, и все же оставалась сплошной тайной. Барбара Джарвис снова стала осторожной, но без враждебности. – В некотором роде да. А с другой стороны, ничуть. Я думаю, ей лучше подходит эпитет «скромная». Она тщательно охраняет свою частную жизнь. Она не боится людей. Она просто держит дистанцию. Кроме, – Барбара Джарвис на мгновение задумалась, – кроме людей, о которых она заботится и с кем ее связывают близкие отношения. С ними она похожа на восторженного счастливого ребенка. – Сравнение, казалось, понравилось обеим женщинам, и Лиз с улыбкой поднялась. – Я всегда восхищалась ею, когда читала ее книги. Жаль, что знакомство с ней произошло при таких обстоятельствах. Барбара кивнула, ее улыбка померкла, глаза сделались печальными. Она не могла поверить, что женщина, которую она боготворила, может быть при смерти. И горе Барбары отразилось в ее глазах, когда она посмотрела на Лиз Ваткинс. – Я скажу вам, как только можно будет опять зайти к ней. – Я подожду здесь. Лиз кивнула и поспешила прочь. Она потеряла почти полчаса, а дел была масса. Дневная смена была самой напряженной, ее хватило бы на две, а еще предстояла собственная ночная. День обещал быть долгим и нелегким и для нее, и для Барбары Джарвис. (обратно)Глава 5
Когда обе женщины снова вошли в палату Дафны, Барбара увидела, как глаза лежащей приоткрылись и потом закрылись, дрожа. Барбара в панике быстро взглянула на старшую сестру. Но Лиз была спокойна. Она измерила пульс и с улыбкой кивнула Барбаре. – Успокоительное понемногу перестает действовать. И почти одновременно с тем, как она это сказала, Дафна снова открыла глаза и попыталась сфокусировать их на Барбаре. – Дафна? – тихо обратилась Барбара к своей работодательнице и подруге. Глаза Дафны опять раскрылись с выражением озабоченности. – Это я... Барбара... На этот раз глаза остались открытыми, а на губах появился слабый намек на улыбку. Она снова как бы погрузилась в сон на одну или две минуты, после чего опять посмотрела на Барбару и, казалось, хотела что-то сказать. Барбара наклонилась, чтобы лучше ее слышать. – Кажется... это была... вечеринка... У меня... ужасно башка трещит... Ее голос пресекся, и она улыбнулась тому, что произнесла. Слезы наполнили глаза Барбары, хотя она и засмеялась. Она вдруг почувствовала облегчение, что Дафна заговорила, и повернулась к Лиз с торжествующим видом, словно это были первые слова ребенка, и глаза Лиз тоже увлажнились от утомления и переживаний. Она себя бранила за слабость, но ее не могла оставить спокойной увиденная сцена. Эти две женщины составляли странную пару, одна такая маленькая и светлая, а другая такая высокая и темная, одна такая сильная своим словом, хотя и миниатюрная, другая крупная и так благоговеющая перед Дафной. Лиз увидела, что Дафна снова сделала попытку заговорить. – Какие новости? – Она это едва прошептала, ее с трудом можно было расслышать. – Новостей немного. Последняя – это то, что ты сбила машину. Мне сказали, что от нее остались рожки да ножки. Они обменивались шутками каждое утро, но в этот раз, когда Дафна смотрела на Барбару, глаза ее были печальны. – От меня тоже... – Это чепуха, и ты это знаешь. – Скажи мне правду... как мои дела? – Лучше всех. Глаза Дафны обратились на сестру, которую она теперь хорошо видела, словно хотела получить заверения. – Вам гораздо лучше, мисс Филдс. А завтра вы почувствуете себя еще лучше. Дафна кивнула, как маленькая послушная девочка, словно она верила в это, и вдруг ее глаза наполнились беспокойством. Она опять нашла глазами Барбару, и теперь, когда она снова заговорила, в ее взгляде было что-то непреклонное: – Не... говори... Эндрю... Барбара кивнула. – Я серьезно... И... Мэтью... От этих слов сердце Барбары упало. Она боялась, что Дафна это скажет. А если что-то случится? Если она не «почувствует себя завтра лучше», как пообещала сестра? – Поклянись... мне!.. – Клянусь, клянусь. Но, ради Бога, Дафф... – Нет. Она явно слабела, глаза закрылись и потом опять открылись, на этот раз с любопытством. – Кто... меня... сбил? Как будто это могло иметь значение. – Какой-то болван с Лонг-Айленда. Полиция говорит, что он не был пьян. Этот парень заявил, что ты не смотрела, куда идешь. Она попыталась кивнуть, но вдруг сморщилась, и потом ей потребовалось перевести дыхание, Лиз тем временем замеряла ее пульс. Время посещения подходило к концу. Но казалось, что Дафна хочет еще что-то сказать: – ...Честно... говоря... Они ждали, но ничего больше не услышали, и тогда Барбара наклонилась и спросила: – Что, дорогая? Голос был тихим, и глаза снова улыбнулись. – Этот... болван... я... не... смотрела... я думала... И затем ее глаза устремились на Барбару. Только она одна знала, каким невыносимым было для Дафны Рождество, как это было больно каждый год, с тех пор как Джефф и Эми погибли в огне в рождественскую ночь. А в этом году она была одна> и ей было еще тяжелее. – Я знаю. А теперь воспоминания о них чуть не стоили ей жизни. Или она просто зазевалась? Барбару поразила страшная мысль: вдруг она нарочно бросилась под машину? Но она бы этого не сделала. Не Дафна... нет, или да? – Не беспокойся, Дафф. – ...Пусть... его не.., наказывают... Он не виноват... Передай им, что я,., так сказала. Она посмотрела на Лиз, как бы желая, чтобы та засвидетельствовала это. – Я... ничего... не помню. – Хорошо, хорошо. И затем она помрачнела, и слезы наполнили ее большие голубые глаза. – ...кроме... сирен... они выли, как... Дафна закрыла глаза, и слезы медленно скатились из уголков ее глаз на подушку. Барбара сама со слезами на глазах взяла ее руку. – Не надо, Дафна, не надо. Тебе надо поправляться. – А затем как бы вернула Дафну назад. – Подумай об Эндрю. Дафна открыла глаза и долгим и тяжелым взглядом посмотрела на Барбару; между тем Лиз показана на часы и кивнула Дафне. – Теперь мы хотим, чтобы вы отдохнули, мисс Филдс. Ваша подруга через некоторое время сможет опять навестить вас. Может, желаете болеутоляющего? Но Дафна покачала головой и, казалось, была благодарна, что снова может закрыть глаза. Она уснула еще до того, как Барбара и Лиз вышли из палаты. Пройдя рядом с Барбарой до половины холла, Лиз повернулась и посмотрела на нее: – Есть ли что-то, что вы хотели бы узнать, мисс Джарвис? – Ее глаза глубоко вонзились в глаза Барбары. – Иногда сведения глубоко личного характера очень помогают в работе с пациентом. – Она хотела добавить: помогают пациенту сделать выбор между жизнью и смертью, но не добавила. – Этой ночью ее мучили кошмары. В ее тоне звучали тысячи вопросов, и Барбара Джарвис кивнула, но моментально возникла стена, защищающая Дафну. – Вы уже знаете, что она вдова? – Это все, что она сказала, – подтвердила Лиз. – Понимаю. Затем она подошла к своему столу, а Барбара, после того как налила себе очередную чашку черного кофе, вернулась на голубую виниловую кушетку. Она со вздохом села и почувствовала себя совершенно измученной. Почему, черт возьми, она пообещала ничего не говорить Эндрю? Имеет же он право знать, что его мать, возможно, при смерти. А если бы она сказала ему, что тогда? Дафна выделяла ему более чем достаточно из своих гонораров в последние годы, но ему было нужно гораздо больше. Ему была нужна Дафна, и никто другой... и если она умрет... Барбара содрогнулась, посмотрела на снег, который опять стал падать за окном, и почувствовала, что на душе у нее так же уныло. Дафна ничего ей о нем не сказала в первый год работы у нее. Вообще ничего. Она была известным автором, работала больше многих других, практически не имела личной жизни. Впрочем, в этом не было ничего странного. Где бы она нашла на нее время, если писала по две большие книги в год? Она не могла этого себе позволить. В сочельник Барбара задержалась у Дафны допоздна и вдруг обнаружила ее в кабинете рыдающую. Именно тогда она все сказала ей о Джеффе... и Эми... и Эндрю... Эндрю – ребенок, которого она зачала в ночь рокового пожара... ребенок, родившийся девять месяцев спустя, когда ей было так одиноко без семьи, без мужа, без друзей, которых она не хотела видеть, потому что все они напоминали ей о Джеффе. Эти роды были совершенно другими, чем первые. Эми родилась с громким криком, когда Джефф держал Дафну за руку, и оба они то плакали, то заливались победным смехом. Эндрю Дафна рожала сложно: каждому его вздоху угрожала пуповина, пока наконец через восемнадцать часов он и его мать не были милостиво освобождены срочным кесаревым сечением. Доктор говорил, что новорожденный издал странный, тихий звук, когда появился на свет, и был почти синим и что они прилагали все усилия, чтобы спасти его и Дафну. Когда анестезия прошла, она была слишком слабой, чтобы взять его. Но Барбара навсегда запомнила выражение глаз Дафны, когда та рассказывала ей о том, как сестра впервые положила его ей на руки. Вдруг боль исчезла, все в мире потеряло значение, когда она взяла этого малыша, который смотрел на нее очень серьезным, недетским взглядом и был так похож на Джеффри. Она назвала его Эндрю Джеффри Филдс. Дафна хотела назвать его именем отца, но не решилась. Имя «Джефф» каждый раз вызывало бы слишком много болезненных воспоминаний, поэтому она назвала его Эндрю. Это было имя, которое они выбрали для мальчика, когда Дафна была беременна Эми. Она также рассказала Барбаре о том, какой пережила шок и радость, когда обнаружила через шесть недель после пожара, что беременна. Только это было единственным, что позволило ей пережить эти кошмарные месяцы, единственным, что удержало ее от самоубийства. И она осталась жить, как и Эндрю, несмотря на его неблагополучное рождение. Он был очаровательным, розовощеким, веселым малышом. У него были, как у Дафны, васильковые глаза, но в остальном он был точной копией отца. Дафна сняла маленькую квартирку для них двоих и всю детскую завесила фотографиями Джеффри, чтобы в один прекрасный день малыш узнал, каким был его отец, а в небольшой серебряной рамке поместила фотографию его сестры. Только когда Эндрю исполнилось три месяца, Дафна стала подозревать, что с ним что-то неладно. Он был самым покладистым ребенком, какого она когда-либо видела, упитанным и здоровым. Но однажды Дафна уронила на пол целую стопку тарелок, а он спокойно лежал на кухонном столе и даже не вздрогнул при этом. Она хлопнула в ладоши у него над ухом, а он просто улыбнулся ей. Ее охватил тихий ужас. Дафна не отважилась сразу обратиться к специалисту, но при очередном посещении врача она как бы невзначай задала пару вопросов, и он моментально понял, что она подозревает. Ее наихудшие опасения подтвердились. Эндрю был от рождения глухим. Он время от времени издавал случайные звуки, но только позже можно было выяснить, является ли он еще и немым. Неизвестно было, явилось ли это результатом шока, пережитого ею сразу после зачатия, или лечения, которое она прошла в больнице от ожогов и ран, полученных при пожаре. Она провела в больнице больше месяца, принимала много лекарств, никто даже не предполагал, что она беременна. Но какова бы ни была причина потери слуха, она была полной и необратимой. Дафна любила его горячо, с рвением и самопожертвованием. Днем она проводила с ним каждую свободную минуту, ставила будильник на пять тридцать, чтобы наверняка проснуться раньше его и быть готовой ко всему, что бы ни принес им день, готовой помочь ему в любую трудную минуту. А таких минут было много. Сначала она панически боялась потенциальных опасностей, которые могли его подстерегать, но со временем привыкла предупреждать своего малыша, ведь он не имел понятия о сигналах машин, лае собак и шипении бекона на сковороде. Она постоянно пребывала в стрессе. И все же выпадали бесконечно драгоценные минуты, часы, когда слезы нежности и радости от общения с сыном лились по ее щекам. Он был очаровательным, лучезарным ребенком, но снова и снова ей приходилось сталкиваться с истиной, что его жизнь никогда не будет нормальной. В конце концов все в ее жизни остановилось, кроме занятий с Эндрю. Она посвящала сыну каждую свободную минуту, боясь оставить его с кем-либо, боясь, что другие могут не понимать так хорошо, как она, опасностей и разочарований, которые его поджидали. Она брала на свои плечи все заботы о его жизни, и каждую ночь ложилась спать обессиленная, истощенная этими усилиями. Бывали также моменты, когда ее собственныеогорчения от общения с глухим ребенком почти одолевали ее, когда для того, чтобы побороть в себе желание закричать на него или нашлепать, ей приходилось сжимать зубы и кулаки. Ей хотелось наказать не Эндрю, а жестокую судьбу, которая сделала глухим ее любимое дитя. Она трудилась с тяжелым ощущением, что это она виновата, что она должна была это предотвратить. Дафна не смогла спасти Джеффа и Эми от гибели в огне, а теперь она не могла оградить Эндрю от этой жестокой реальности. Она была не в силах что-либо изменить. Она перечитала все книги, какие только могла найти о детях с врожденной глухотой, и она показывала его всем специалистам в Нью-Йорке, но они были бессильны ему помочь. Дафна воспринимала очевидность этого почти с яростью, как врага, с которым надо бороться. Она столько потеряла, а теперь и Эндрю... Несправедливость случившегося пылала в ней, как тихая ярость, а ночью ее мучили кошмары про пожар, и она с криком просыпалась. Специалисты, которых она посещала, советовали ей со временем отдать Эндрю в специальную школу, что было бы для него самым лучшим, поскольку он не сможет общаться с нормальными детьми. И они еще и еще раз подчеркивали, что, несмотря на нечеловеческие усилия Дафны, существуют барьеры, которые она не в силах преодолеть. Хотя Дафна знала Эндрю лучше, чем кто-либо, даже она испытывала трудности в общении с ним, и специалисты предупреждали, что через некоторое время она будет обижаться на него за собственные просчеты. В конце концов, она не была профессионалом, настаивали они, он же требовал большей квалификации, чем она могла ему предложить. Кроме того, постоянная изоляция от других детей сделала его подозрительным и враждебным в те редкие моменты, когда он их видел. Слышащие дети не хотели играть с ним, потому что он был другим, и их жестокость причиняла Дафне такую боль, что она не ходила с ним на детскую площадку. И все-таки она противилась идее окружения Эндрю такими же, как он, детьми, и поэтому держала его при себе. Между тем доктора продолжали донимать ее насчет отправки сына в специальный интернат. – Интернат? – воскликнула она на приеме у одного известного врача. – Я никогда такого не сделаю. Никогда! – То, что вы делаете, гораздо хуже, – мягко возразил ее собеседник. – Подумайте сами, Дафна: дома вы не сможете научить его тому, что он должен знать. Ему требуются совершенно иные навыки, чем те, которые вы сумеете ему дать. – Тогда я сама их освою! Она кричала на него, потому что не могла кричать на глухоту Эндрю, или на жизнь, на судьбу, или на богов, которые были так неблагосклонны к ней. – Провалиться мне, но я выучу их, и я буду сидеть с ним день и ночь, чтобы помочь ему! Но она уже это делала, и это не работало. Эндрю жил в полной изоляции. – А когда вы умрете? – спросил педиатр грубовато. – Вы не имеете права так с ним поступать. Вы сделаете его целиком зависимым от вас. Дайте ему право на собственную жизнь, черт возьми! Школа научит его самостоятельности, она научит его жить в нормальном мире, когда он будет к этому готов. – И когда это произойдет? Когда ему будет двадцать пять? Тридцать? Когда у него уже не будет сил покинуть мир, в который его поместили? Я видела людей оттуда, я говорила с ними через переводчика. Они даже не верят, что когда-нибудь, как они говорят, «услышат людей». Они все отверженные, черт возьми! Некоторым из них по сорок лет, и они никогда не жили нигде, кроме интерната. Этого я ему не желаю. Эндрю сидел, наблюдая за разговором, завороженный жестикуляцией и выражением лиц, но ничего не слышал из гневных слов, произносимых матерью и доктором. В течение трех лет Дафна продолжала сражаться, нанося постоянный ущерб Эндрю. Тем временем стало очевидно, что Эндрю не сможет говорить, и, когда ему исполнилось три года, ее новые попытки познакомить его со здоровыми детьми на площадке потерпели поражение. Все его сторонились, словно откуда-то знали, что он совсем другой. Однажды она увидела, как он сидел в песочнице один, смотрел на других детей, по его лицу текли слезы, а потом он посмотрел на свою маму так, как будто хотел спросить: «Что во мне не так?» Она подбежала к нему, схватила на руки, нежно покачивая. Оба плакали, чувствуя себя отверженными и испуганными. Дафна чувствовала, что подвела его. Через месяц война для Дафны закончилась. С тяжелым сердцем она стала ездить по школам, которые отчаянно ненавидела, чувствуя себя так, словно в любой момент у нее готовы отнять сына. Она бы не вынесла еще одной потери в своей жизни. И все же знала, что если этого не сделает, то исковеркает собственное дитя. Освободить его – самое большее, что она обязана была ему дать. И наконец нашла единственную школу, где она согласилась бы его оставить. Школа находилась в небольшом уютном городке в Нью-Гемпшире, ее окружали березовые рощи, в парке был симпатичный прудик и речка, где дети ловили рыбу. И что ей понравилось больше всего, так это то, что там не было «воспитанников» старше двадцати лет. Их не называли пациентами или больными, как то было принято в других интернатах. Их называли детьми и учащимися, как обычных людей. И большинство возвращались в семьи после достижения старшего подросткового возраста, чтобы по возможности поступить в колледж или начать работать. Пока Дафна медленно прогуливалась по парку с директором, статной седой женщиной, она вновь почувствовала всю тяжесть своей утраты, сознавая, что Эндрю может провести здесь около пятнадцати лет или по крайней мере лет восемь – десять. Предстоящая разлука разрывала ей сердце. Это был ее последний ребенок, ее последняя любовь, единственная родная душа, и она собиралась его покинуть. От этой мысли глаза снова наполнились слезами, и Дафна ощутила ту же пронзительную, невыносимую боль, которая терзала ее на протяжении месяцев, прежде чем она приняла решение. Когда же слезы потекли по лицу, она почувствовала на плече руку директрисы и вдруг очутилась в тесных и сердечных объятиях этой пожилой женщины и выплакала всю боль минувших четырех лет, включая и ту, что накопилась до рождения Эндрю. – Вы делаете важное дело для вашего сына, миссис Филдс, и я знаю, как это трудно. – И потом, когда рыдания наконец утихли: – А у вас есть работа? Вопрос прозвучал как удар. Неужто они сомневались в ее возможности оплатить его содержание? Она запасла некоторую сумму денег из их с Джеффом сбережений и была крайне экономной. Она купила себе только одно платье, не считая нескольких приобретений после пожара, и собиралась тратить всю страховку Джеффа на школу столь долго, сколько потребуется. Но теперь, конечно, с уходом Эндрю, она могла вернуться на работу. Она не работала со смерти Джеффа. Сначала она выздоравливала, а потом обнаружила, что беременна. Тогда она в любом случае не могла бы работать, совершенно обезумев от горя после их смерти. И «Коллинз» выплатил ей щедрое выходное пособие, когда она подала заявление об уходе. – Нет, я не работаю, миссис Куртис, но мой муж оставил мне достаточно, чтобы... – Нет, я не об этом. – Улыбка директрисы была полна сострадания. – Я хотела знать, свободны ли вы, чтобы остаться здесь на какое-то время. Некоторые из наших родителей так делают. Первые месяцы, пока ребенок привыкнет. А Эндрю еще такой маленький... Там было пятеро детей его возраста, отчасти поэтому она и выбрала эту школу. – В городе есть очаровательная маленькая гостиница, которой владеют супруги-австрийцы, и у них всегда есть свободные места. Вам стоит об этом подумать. Дафна почувствовала себя так, словно получила отсрочку. И ее лицо просияло. – Я смогу видеть его каждый день? – Слезы снова выступили у нее на глазах. – Поначалу. – Голос миссис Куртис был мягким. – Со временем для вас обоих будет лучше, если вы начнете сокращать посещения. И знаете ли, – она тепло улыбнулась, – он будет ужасно занят со своими друзьями. В голосе Дафны прозвучало отчаяние: – Вы думаете, он меня забудет? Они остановились, и миссис Куртис посмотрела на нее: – Вы не теряете Эндрю, миссис Филдс. Вы даете ему все, что ему будет необходимо для нормальной и успешной жизни. Месяцем позже они с Эндрю совершили путешествие по Новой Англии, и она вела машину как можно медленнее. Это были последние часы их прежней жизни, и ей хотелось растянуть их как можно дольше. Она чувствовала, что не готова оставить его, а красота сельской местности почему-то делала разлуку еще более тяжелой. Листья желтели, и холмы окрасились в темно-красные и ярко-желтые тона, с дороги были видны дома, конюшни, лошади, поля и маленькие церковки. И вдруг она вспомнила о большом прекрасном мире, окружавшем их квартиру, из которой она не хотела его выпускать. Всего этого Эндрю никогда не видел, он показывал пальчиком и издавал непонятные нечленораздельные звуки, означавшие, что он хочет задать ей вопрос. Но как она могла объяснить ему существование мира, полного людей, самолетов и экзотических городов, таких, как Лондон, или Сан-Франциско, или Париж? Она вдруг осознала, сколь многого она его лишила и сколь немногому на самом деле научила, и знакомое чувство неудачи опять переполнило ее, пока они ехали по алым холмам Новой Англии. В машине были все любимые сокровища и игрушки Эндрю, его медвежонок и тряпичный слоник, которого он так любил, и книжки с картинками, которые они вместе листали, но которые никто не мог ему прочитать. Дафна по дороге думала обо всем этом и вдруг осознала, как мало она сделала и сколько ей еще предстоит сделать, и еще подумала, как бы Джефф поступил на ее месте, если бы был жив. Возможно, у него было бы больше изобретательности или больше терпения, но он бы не мог любить сына больше, чем любила его она. Дафна любила его каждой частичкой своей души, и, если бы могла отдать ему свои собственные уши, чтобы он мог слышать, она бы это сделала. За час до приезда в школу она остановилась перекусить на обочине, и ее мрачное настроение немного рассеялось. Эндрю, казалось, был в восторге от поездки и с восхищением смотрел на все вокруг. Глядя на него, она хотела бы рассказать ему про школу, но сделать это не было возможности. Дафна не могла также объяснить ему, что она сама чувствует, почему оставляет его там и как сильно его любит. В течение всей его жизни она удовлетворяла только его физические потребности или показывала пожарные машины, беззвучно мчащиеся по улице. Дафна не могла делиться с ним своими мыслями и чувствами. Она не сомневалась: Эндрю должен знать, что мама его любит, что никогда его не покинет. Но что он подумает теперь, когда она оставит его в школе? Как ему объяснить? Сознание своего бессилия только усиливало ее собственную боль. Миссис Куртис, директор школы, сняла для нее небольшой домик в городе, и Дафна собиралась остаться до Рождества, чтобы навещать Эндрю каждый день. Но это очень отличалось бы от прошлого, когда они все время проводили вместе. Их жизнь уже никогда не будет такой, как прежде, в этом Дафна была уверена. Ей предстоял самый трудный в жизни поступок – покинуть сына, за которого ей хотелось держаться больше, чем за саму жизнь. Они прибыли в школу вскоре после наступления сумерек, и Эндрю с удивлением осматривался, будто не понимал, зачем они сюда приехали. Он смотрел на Дафну в смятении, а она кивнула и улыбнулась, когда он с беспокойством смотрел на других детей. Но эти дети отличались, от тех, кого он встречал в Центральном парке в Нью-Йорке, и он инстинктивно чувствовал, что они такие же, как он. Эндрю смотрел, как они играют, как объясняются жестами, а они все время подходили к нему. Это был первый теплый прием, оказанный ему его ровесниками, и, когда одна девочка подошла и взяла его за руку и потом поцеловала в щеку, Дафна отвернулась, чтобы он не видел слез, стекавших по ее лицу. Миссис Куртис помогла ему наконец присоединиться к детям, взяла его за руку и подвела, а Дафна смотрела на это, чувствуя, что поступила верно и что новый мир открывался перед Эндрю. Пока она наблюдала, произошло нечто необычное: Эндрю стал протягивать руки этим детям, которые были так похожи на него. Он улыбался, смеялся и на время забыл о Дафне. Он стал наблюдать за жестами, которые они подавали руками, и, смеясь, воспроизвел один из них, а потом, издав смешной возглас, подошел к той девочке, которая первая обратила на него внимание, и поцеловал ее. Потом Дафна подошла к нему и помахала, давая понять, что уходит, но он не плакал и даже не выглядел испуганным или несчастным. Ему слишком нравилась компания новых друзей, и Дафна в последний раз, стараясь бодро улыбаться, обняла его и убежала, до того как снова появились слезы. Он уже не видел, каким опустошенным было лицо матери, когда она вела машину по дороге, ведущей из интерната. – Позаботься о моем ребенке... – прошептала она, обращаясь к Богу, которого всегда боялась. На этот раз она молилась, чтобы он ее услышал. (обратно)Глава 6
За две недели Эндрю полностью привык к своей новой жизни в интернате, а Дафна чувствовала себя так, словно прожила в уютном городке в Новой Англии всю жизнь. Домик, который миссис Куртис помогла ей найти, был теплым, в нем была замечательная маленькая деревенская кухня с кирпичной печью для выпекания хлеба, маленькая гостиная со старым диваном и глубокими уютными креслами, был также камин и сверкающие медные горшки с растениями, а в спальне – кровать с пологом, покрытая ярким стеганым одеялом. Именно там Дафна проводила большую часть времени, читая книги и ведя дневник. Она начала его вести, когда была беременна Эндрю, в нем были записи о ее жизни, о том, что она думала и чувствовала, небольшие очерки о том, что значила для нее жизнь. Она всегда думала, что однажды, когда Эндрю подрастет, она покажет ему свои записи. А пока она в них изливала свою душу в долгие, одинокие ночи, как те, в Нью-Гемпшире. Дни стояли яркие, солнечные, и она совершала длительные прогулки по лесным тропам и вдоль ручьев, думая об Эндрю и глядя на заснеженные вершины гор. Это был совершенно иной мир, не похожий на Нью-Йорк. Тут были конюшни, коровы на пастбищах, холмы и луга, где она могла гулять, не встретив ни души, что ей очень нравилось. Она только хотела бы делиться этим с Эндрю. Все последние годы он был ее единственным спутником. И каждые несколько дней она отправлялась в школу, чтобы его повидать. Ей к этому было очень трудно привыкнуть. На протяжении четырех лет ее жизнь сосредоточивалась вокруг него, а теперь вдруг он ушел, и порой пустота буквально одолевала ее. Она все чаще думала о Джеффе и Эми, которой теперь было бы восемь лет, и, когда Дафна видела девочек такого возраста, она отворачивалась с глазами, полными слез. Дафна убеждала себя, что потеря Эндрю не была так трагична. Он был жив, счастлив и занят делом, и она поступила правильно. Но снова и снова приезжала в школу и сидела на скамейке в парке с миссис Куртис, наблюдая, как он играл и учился объясняться при помощи жестов. Дафна тоже обучалась языку жестов, чтобы лучше с ним общаться. – Я знаю, как вам трудно, миссис Филдс. Детям привыкнуть легче, чем их родителям. Для малышей это своего рода освобождение. Здесь они наконец свободны от мира, который их не принимал. – Но он их когда-нибудь примет? – Да. – В голосе директрисы была полная убежденность. – Обязательно. Эндрю всегда будет не таким, как все. Но при правильном обучении для него практически не будет преград. – Она мягко улыбнулась Дафне. – Наступит день, когда он будет вам благодарен. «А как же я? – захотела ее спросить Дафна. – Что теперь будет со мной? Что я буду делать без него?» Пожилая дама словно прочла ее мысли: – Вы подумали, что будете делать по возвращении в Нью-Йорк? Для одинокой женщины отсутствие сына создало бы ужасный вакуум, к тому же миссис Куртис уже было известно, что Дафна не работает, с тех пор как забеременела почти пять лет назад. По крайней мере у большинства родителей есть супруг, другие дети, работа, дела, которые компенсируют отсутствие этих особых детей. Но ясно было, что у Дафны этого нет. – Вы снова вернетесь на прежнюю работу? – Не знаю... – медленно произнесла Дафна, глядя на холмы. Как ей будет одиноко без сына. Сейчас боль была чуть ли не больше, чем когда она его впервые привезла сюда. Реальность отрыва от сына она осознала окончательно. Ее жизнь уже никогда не будет такой же... никогда... – Я не знаю. – Она отвела глаза от холмов и посмотрела на миссис Куртис. – Прошло столько времени. Не знаю даже, возьмут ли они меня. – Она улыбнулась, и в ее глазах отразилось течение времени. Годы преподали ей болезненный урок. – Вы не думали о том, чтобы поделиться с другими тем, чему научились с Эндрю? – Как? – Дафна удивленно взглянула на нее. Эта мысль не приходила ей в голову. – По этой теме не хватает хороших книг. Вы упомянули, что в колледже изучали журналистику и работали в «Коллинз». Почему бы не написать книгу или серию статей? Подумайте над тем, как это могло бы помочь вам, когда вы впервые узнали о глухоте Эндрю. Дафна помнила ужасное чувство одиночества от того, что никто не способен разделить с ней ее несчастье. – Это мысль. – Она медленно кивнула, наблюдая, как Эндрю обнимал маленькую девочку, а потом погнался за большим красным мячом через всю игровую площадку. – Может, вы как раз созданы для этого. Но единственное, что она сейчас писала ночь за ночью, был ее дневник. У нее теперь появилось много свободного времени, и ночью она не чувствовала той усталости, которая преследовала ее, с тех пор как родился Эндрю. Он был, как любой другой ребенок, постоянно занят, но ему необходимо было уделять даже больше внимания, чем остальным, чтобы уберечь его от опасностей, к тому же приходилось все время сталкиваться сего огорчениями из-за невозможности общаться с другими детьми. Закрыв ночью свой дневник, она лежала в темноте и снова обдумывала предложение миссис Куртис.Идея была неплохой, но все же Дафна не хотела писать об Эндрю. Это казалось ей нарушением его прав как личности, и она не чувствовала себя готовой делиться с ним собственными страхами и болью. Все это было слишком свежо именно потому, что Джефф к Эми погибли уже давно. Она об этом тоже никогда не писала. И все же знала, что все это упрятано внутрь и ждет выхода наружу, равно как и ощущения, которых она не испытывала годами: того, что она все еще молода, что она женщина. На протяжении последних четырех лет единственным близким человеком был для нее сын. В ее жизни не было ни одного мужчины и очень мало друзей. У нее не хватало на них времени. Она не хотела сочувствия. А встречаться с другим мужчиной – это казалось ей изменой Джеффри и всему тому, что их объединяло. Вместо этого она заглушила все свои чувства, закрыла все двери и из года в год жила одной только заботой об Эндрю. Но теперь этой причины больше не оставалось. Он будет жить в школе, а она одна в их квартире. Это отбивало у Дафны всякое желание возвращаться в Нью-Йорк. Ей хотелось спрятаться в домике в Нью-Гемпшире навсегда. По утрам она совершала дальние прогулки и однажды по обыкновению зашла в маленькую «Австрийскую гостиницу» позавтракать. Супруги-владельцы очень подходили друг другу: оба полные и добрые. Хозяйка всегда справлялась о сыне Дафны. Она знала от миссис Куртис, зачем Дафна сюда приехала. Как в любом маленьком провинциальном городке, так и тут люди знали, кто местный, а кто приезжий, почему приехал и когда уедет. Такие люди, как Дафна, не были здесь редкостью, другие родители тоже приезжали навестить своих детей. Большинство останавливались в гостинице, меньшая же часть поступала так, как Дафна, и, как правило, летом. Они снимали коттеджи и небольшие дома, привозили с собой остальных детей и обычно устраивали из этого семейное торжество. Но миссис Обермайер поняла, что Дафна не такая, как все. В этой миниатюрной, хрупкой женщине была какая-то молчаливая отрешенность. Только заглянув ей в глаза, можно было видеть, что она гораздо мудрее своих двадцати восьми лет и что жизнь не всегда была с ней ласкова. – Как ты думаешь, почему она такая одинокая? – спросила однажды миссис Обермайер своего супруга, укладывая в корзину сладкие булочки и задвигая противень с печеньем в духовку. От пирогов и тортов, которые она выпекала, у любого текли слюнки. – Может, она в разводе. Ты же знаешь, такие дети могут расстроить брак. Может, она уделяла слишком много внимания мальчику, и ее муж не выдержал этого. – Она выглядит такой одинокой. Франц Обермайер улыбнулся. Его жена вечно за всех переживала. – Может, она просто скучает по малышу. Миссис Куртис, кажется, говорила, что он очень маленький, и это ее единственный ребенок. Ты тоже так тосковала, когда Гретхен уехала учиться в колледж. – Это не одно и то же. – Хильда Обермайер посмотрела на него, зная, что он замечает далеко не все. – А ты не заглядывал в ее глаза? – Да, – признался он с ухмылкой, и его толстые щеки покраснели, – они очень симпатичные. Он шлепнул свою жену по заду и вышел, чтобы принести еще немного дров. В этот уик-энд в их гостинице было очень много постояльцев. В конце зимы здесь собирались любители беговых лыж, а осенью приезжали жители Бостона и Нью-Йорка полюбоваться многоцветьем осенней листвы. Но оранжевые и красные листья уже почти все опали. Стоял ноябрь. В День благодарения Дафна поехала в школу и ела праздничную индейку вместе с Эндрю и другими детьми. Потом они играли в разные игры, и Дафну поразило, когда он рассердился и жестами сообщил: – Ты ничего не понимаешь, мама. Гнев в его глазах задел ее за живое, и она почувствовала оторванность от него, которой никогда прежде не ощущала. Дафна вдруг обиделась на школу за то, что та отняла у нее сына. Он больше не был ее, он был их, и Дафна возненавидела их за это. Но она обнаружила, что вместо школы изливает злобу на Эндрю. Миссис Куртис была свидетелем их диалога и позже объяснила Дафне, что такие чувства вполне нормальны. Все теперь для Эндрю менялось очень быстро, а следовательно, и для Дафны тоже. Она не могла говорить жестами так же быстро, как он, ошибалась и чувствовала себя неуклюжей и глупой. Но миссис Куртис заверила ее, что потом отношения между ними наладятся, будут гораздо лучше, чем когда-либо прежде, и что не стоит отчаиваться. Перед ужином они с Эндрю помирились, пошли к столу, держась за руки, и, когда он жестами произнес молитву перед началом еды, Дафна думала, что лопнет от гордости, а он потом улыбнулся ей. После ужина Эндрю опять играл со своими друзьями, но, когда устал, пришел посидеть у нее на коленях, как, бывало, делал в прошлые годы, и она счастливо улыбнулась, когда он заснул у нее на руках. Во сне он тихо посапывал, а она его баюкала, желая, чтобы стрелки часов повернули вспять. Дафна отнесла сына в его комнату, переодела и аккуратно положила в постель под наблюдением одной из воспитательниц. И затем, последний раз взглянув на спящего светловолосого ребенка, тихо вышла из комнаты и спустилась вниз к другим родителям. Но в тот вечер ей не хотелось быть с ними. Раз Эндрю спит, она лучше вернется к себе в домик. Она уже привыкла к одиночеству, возможности побыть наедине со своими мыслями и к удобству излить душу в своем дневнике. Дафна ехала домой по знакомой объездной дороге и онемела от изумления и испуга, когда услышала, как что-то лязгнуло, машина вдруг осела передом и остановилась. Сломалась ось. Дафну только тряхнуло, она ничего себе не повредила и сразу подумала, как ей повезло, что это не случилось где-то на шоссе. Но в то же время это было слабым утешением. Она была одна на пустынной дороге на расстоянии около семи миль от дома. Единственный источник света – луна – хорошо освещал дорогу, но было ужасно холодно, и Дафне предстоял долгий путь домой на резком ветру. Она подняла воротник пальто, жалея, что не надела шапку, перчатки и более подходящую обувь. По случаю Дня благодарения она была на высоких каблуках и в платье. Глаза Дафны слезились от холода, щеки покалывало, а руки сразу окоченели, даже в карманах, но она уткнула подбородок в пальто и за неимением выбора продолжала путь. Наконец примерно через час Дафна увидела впереди на дороге свет фар, и вдруг ее охватила паника. Даже в этом сонном городишке могло случиться неприятное. Она была одна на темной проселочной дороге, и, если бы что-то с ней произошло, никто бы не услышал ее криков и не пришел ей на помощь. Как испуганный кролик она вдруг остановилась на дороге, глядя на приближающийся свет. А потом инстинктивно спряталась за дерево, а сердце у нее при этом так громко колотилось, что, казалось, она его слышала в своем укрытии. Дафна задавала себе вопрос, видел ли водитель ее бегство. Он был еще довольно далеко, когда она убежала с дороги. Автомобиль приблизился, это был грузовик. Сначала казалось, что он проедет мимо, но он с визгом затормозил, и она в испуге затаила дыхание. Дверца грузовика открылась, и из кабины вышел мужчина. – Эй?! Есть там кто?! Он несколько минут стоял, озираясь, и все, что она могла разглядеть, – это что он был очень высокий, и ей вдруг показалось глупым то, что она прячется. Поскольку ноги у нее окоченели от холода, она хотела выйти из-за дерева и попросить подвезти, но как теперь объяснить, почему она спряталась? Ее реакция была дурацкой, и теперь надо было сидеть здесь. Водитель медленно обошел вокруг грузовика, пожал плечами, снова сел в кабину и поехал дальше. Тогда Дафна медленно вышла из-за дерева, она смущенно улыбалась и говорила себе: «Ты дуреха. Замерзнешь как цуцик, пока доберешься домой. Так тебе и надо». И она стала что-то напевать, смеясь над собственной глупостью и понимая, что слишком долго жила в городе. У нее не было никаких причин для страха, кроме той, что это чувство она постоянно испытывала на протяжении последних нескольких лет. Получалось, что она стала робкой от недостатка общения с людьми. Кроме того, она всегда испытывала такую ответственность за Эндрю, что вдруг ужасно испугалась, что беда может случиться и с ней самой. Дафна прошагала по дороге еще милю и вдруг услышала шум автомобиля сзади. Она опять подумала, не убежать ли с дороги, но на этот раз покачала головой и мягко себе сказала: «Бояться нечего». Ей сделалось неловко, что приходится себя убеждать, но она стала как вкопанная, когда отошла в сторону и увидела, что к ней приближается уже знакомый ей грузовик. Он опять остановился, и на этот раз она смогла разглядеть водителя, когда он открывал дверцу освещенной кабины. У него было мужественное лицо, волосы с проседью и широкие плечи, одет он был в грубый овчинный полушубок, плотно прилегающий к фигуре. – Там, сзади, ваша машина? Дафна кивнула, нервно улыбнулась и заметила, что руки у него большие и грубые, когда он вынул их из кармана. Прежнее ощущение страха пробежало у нее по спине, но она заставила себя остаться на месте. Если он порядочный человек, то подумает, что она сошла с ума. А если нет, теперь было слишком поздно прятаться от него. Ей придется поступать в зависимости от обстановки. Она улыбнулась, но ее взгляд был настороженным. – Да, моя. – А чуть раньше я проезжал мимо вас? – Он смущенно посмотрел на нее сверху вниз. – Мне показалось, что я видел кого-то на дороге, но когда остановился, то никого не нашел. Когда я увидел там, сзади, вашу машину, я подумал, что проехал мимо вас. Судя по его глазам, он понимал все без ее объяснений, а голос у него был низким, хрипловатым и добрым. – Ось сломалась, все ясно. Можно вас подвезти? Холодноватая сегодня ночь пешком ходить. Они постояли минуту-другую. Дафна посмотрела ему в глаза, а потом кивнула: – Я бы не отказалась, Большое спасибо. Дафна надеялась, что он подумает, будто ее голос дрожит от холода, а не от страха, хотя и сама до конца не была в этом уверена. Она продрогла до костей и не смогла открыть кабину окоченевшими пальцами. Он помог ей, и Дафна забралась внутрь. Он вернулся на свое место и сел за руль, даже не взглянув на нее. – Вам повезло, что вы не ехали по главному шоссе на скорости. Она что, так ни с того ни с сего? – Да, просто лязгнуло спереди, вот и все. Теперь Дафна чувствовала себя лучше, В кабине грузовичка было замечательно тепло. Пальцы у нее согрелись и болели, и она дула на них. Он молча дал ей пару толстых перчаток на овечьем меху, и она не снимала их всю дорогу до дома. Лишь минут через пять он обратился к ней снова, тем же добрым хрипловатым голосом. Все в нем напоминало суровую силу гор: – Вы не поранились? Она покачала головой: – Нет, просто замерзла. Мне бы пришлось добираться домой пару часов. Тогда Дафна вспомнила, что надо ему сказать, где она живет. – Это старый дом Ланкастеров, что ли? – Он, казалось, был удивлен. – Я не уверена. Мне так кажется. Я сняла его у женщины по фамилии Дорси, но мы с ней не встречались. Я все оформила по почте. Он кивнул. – Это ее дочь. Старая миссис Ланкастер умерла в прошлом году. Не думаю, что ее дочь переедет сюда в ближайшие двадцать лет. Она живет в Бостоне. Замужем за каким-то юристом. Это было так провинциально – подробности, которые всем известны. Дафна невольно улыбнулась, вспомнив свой страх быть подвергнутой нападению. Все, что хотел сделать этот мужчина, рассказать ей местную сплетню. – Вы тоже из Бостона? – Нет, из Нью-Йорка. – Отдохнуть приехали? Это была ни к чему не обязывающая болтовня попутчиков, но Дафна тихо вздохнула. Ей не хотелось ему рассказывать, и водитель моментально это понял. Он поднял вверх руку, виновато улыбнулся и опять перевел взгляд на дорогу. – Извините. Можете не отвечать. Я здесь уже столько лет, что забыл, как себя надо вести. Все в городе задают такие вопросы, но ведь это не мое дело, зачем вы приехали. Извините, что спросил. С его стороны это было так мило, что она улыбнулась в ответ. – Ничего, Я сюда приехала, чтобы быть поближе к сыну. Я только что отдала его в... Говардскую школу. – Она уже хотела сказать: «в школу для глухих», но эти слова застряли у нее в горле, и она не смогла их произнести. Водитель обернулся к ней. Он и так знал, что такое Говардская школа. Это знали все в городе. Тут не было ни позора, ни секрета. – Сколько лет вашему сыну? Или я опять слишком любопытен? – Нет-нет. Ему четыре. Он нахмурился и посмотрел на нее с пониманием: – Вам, наверное, чертовски тяжело оставлять его. Он очень маленький. Странное дело, но ей вдруг самой захотелось задать ему вопросы. Как его зовут? Есть ли у него дети? Они вдруг стали случайными попутчиками на темной проселочной дороге. Но в следующую минуту он остановился у ее дома и выскочил из кабины, чтобы помочь ей выйти. Дафна чуть не забыла вернуть перчатки и улыбнулась, глядя ему в глаза: – Большое спасибо. Если бы не вы, я бы еще долго добиралась домой. Теперь уже он улыбнулся, и она заметила юмор в его глазах, которого раньше не было. – Вы могли сэкономить целую милю, если бы поверили мне с самого начала. Она покраснела в темноте и засмеялась. – Извините, – пробормотала она, чувствуя себя словно девочка рядом с этим огромным мужчиной. – Я спряталась за дерево и уже почти вышла, но мне стало стыдно, что я прячусь. Он улыбнулся ее признанию и проводил до двери. – Вы, наверное, были правы. Никогда не знаешь, кого встретишь, а в этом городе есть полоумные ребята. Они сейчас везде есть, не только в Нью-Йорке. Ну, я рад, что нашел вас и подвез. – Я тоже. Она на мгновение задумалась, не пригласить ли его на чашку кофе, но это показалось ей не совсем подходящим. Было девять вечера, она была одна и, по сути дела, его не знала. – Сообщите мне, если я смогу вам чем-то помочь, пока вы здесь. – Он протянул ей свою крепкую руку. – Меня зовут Джон Фоулер. – А меня Дафна Филдс. – Рад с вами познакомиться. Она открыла дверь ключом, а он помахал ей, когда шел обратно к своему грузовику, и в следующую минуту уехал, а Дафна стояла в пустом доме, жалея, что не пригласила его. В конце концов, с ним можно было бы поговорить. Даже дневнику в этот вечер она не уделила особого внимания. Она все думала о мужественном лице, волосах с проседью, сильных руках и поняла, что, как ни странно, этот человек ее заинтересовал. (обратно)Глава 7
На следующее после Дня благодарения утро Дафна пошла в «Австрийскую гостиницу» и обменялась обычными любезностями с миссис Обермайер. Она съела яичницу с беконом и рогалики, а после завтрака поговорила с Францем и спросила его, что делать с машиной. Он направил ее в один из местных гаражей. Дафна пошла туда, попросила отбуксировать машину в город и отправилась с водителем грузовика, чтобы показать ему место аварии. Но когда они туда приехали, машины уже не было, остались только следы колес на обочине, подтверждающие, что ее кто-то уже отбуксировал. – Кто-то вас опередил, мадам. – Водитель грузовика был смущен. – А вы никого больше не просили ее забрать? – Нет. – Дафна с нескрываемым удивлением смотрела на место, где оставила машину. Это, без сомнения, случилось здесь, но машина пропала. – Никого. Вы думаете, ее могли украсть? – Все может быть. Но вам надо сначала проверить в других гаражах. Может, кто-то отбуксировал ее в город без вас. – Это невозможно. Никто не знал, где она находится. Да и никого в городке Дафна не знала. Кроме... но это казалось маловероятным. – А сколько еще гаражей здесь? – Два. – Ну ладно, я сначала лучше проверю, а потом заявлю в полицию. Она вспомнила, что накануне вечером Джон Фоулер говорил о «полоумных ребятах» Может, кто-то из них украл ее машину, хотя особой ценности она не представляла, тем более со сломанной осью. Шофер грузовика подбросил ее до первого из двух гаражей, и не успела она зайти внутрь и спросить, как увидела свою машину, с которой уже возилось двое парней в «алясках», джинсах, грубых бутсах, с черными от мазута руками. – Это ваша? – Да. – Она все еще была немного ошарашена. – Моя. – Повозиться тут, конечно, придется. – Один из парней по-мальчишески ей улыбнулся. – Но завтра все будет готово. Джон Фоулер сказал, что должно быть готово сегодня к обеду, но мы не успеем, если вы хотите, чтобы мы наладили вам и все остальное. – Он сказал? – Значит, все-таки это был он. – А когда он ее привез? – Сегодня, часов в семь утра. Тянул своим грузовиком. – А вы не знаете, где его можно найти? Надо было его поблагодарить... И Дафна внезапно покраснела, вспомнив, как лишь накануне вечером она испугалась, что он ее может изнасиловать. А каким порядочным человеком он оказался! Оба парня в ответ на ее вопрос покачали головами. – Он работает на базе лесорубов, но где живет, я не знаю, – сказал веснушчатый рыжий механик. Дафна поблагодарила его, сунула руки в карманы пальто и отправилась назад к своему дому. Она прошла уже полпути, когда вдруг услышала гудок, и рядом с ней остановился голубой грузовик Джона Фоулера. Дафна широко улыбнулась: – Я вам так признательна. Вы были так любезны... – Пустяки. Подвезти вас? Она колебалась лишь долю секунды, а потом кивнула. Джон открыл ей дверцу: – Запрыгивайте. И когда Дафна, устроившись на широком сиденье, взглянула на него, он весело прищурил глаза: – Может, лучше спрятаться за дерево? – Это нечестно! – Дафна смутилась. – Я боялась, что... Джон добродушно засмеялся: – Я знаю, чего вы боялись, и вообще-то ваши действия были очень разумны. Хотя, – он улыбнулся ей, – я слегка на вас обиделся. Разве у меня такой устрашающий вид? – Смерив ее взглядом, он за нее же ответил: – Пожалуй, такой малютке, как вы, могло стать страшно, так ведь? – Его голос стал вдруг очень мягким, а глаза добрыми. – Но я не хотел вас пугать. – А я вас даже не видела, когда стояла за деревом. У Дафны все еще не прошел румянец, но ее глаза были веселыми. Она тихо вздохнула: – Мне кажется, я стала немного чудной, с тех пор... с тех пор как осталась одна с сыном. Это огромная ответственность. Если со мной что-то случится... Дафна осеклась и снова посмотрела на него, задавая себе вопрос, почему она ему все это говорит. Но в нем было что-то очень располагающее. Джон долго молчал и наконец спросил: – Вы разведены? Она медленно покачала головой: – Нет. Я вдова. Все пять лет она ненавидела это слово. Вдова. Ужасно звучит. – Сочувствую. – Спасибо. – Дафна улыбнулась, чтобы ободрить его, и в этот момент они подъехали к ее дому. – Может, зайдете на чашечку кофе? «Хоть этим его отблагодарить», – подумала она. – Конечно. С удовольствием. На работу мне только в понедельник, и времени свободного навалом. Он вошел за ней в дом, повесил на вешалку свою куртку, а Дафна поспешила на кухню, чтобы подогреть кофе, оставшийся с утра. – Парни в гараже сказали, что вы работаете на базе лесорубов, – сказала она через плечо, доставая чашки. – Да, так оно и есть. Дафна обернулась. Джон стоял, прислонившись к дверному косяку, и наблюдал за ней. Ее охватило очень странное чувство. Накануне вечером он подобрал ее на дороге, а теперь вдруг оказался у нее на кухне. Лесоруб, совершенно незнакомый мужчина, и все же в нем было что-то притягательное. Дафна одновременно испытывала и влечение к нему, и в то же время страх, но, снова отвернувшись, она поняла, что причина страха не в нем, а в ней самой. Словно чувствуя ее смущение, он вышел из кухни в гостиную и ждал ее там на диване. – Может, разжечь камин? Ее реакция была немедленной, и он увидел ужас в ее глазах. – Нет! – И, поняв, что нечаянно выдала ему сокровенное, Дафна тут же добавила: – Тут становится слишком жарко. Я обычно не топлю его. – Ну и ладно. Необычный человек. Он словно улавливал ее мысли раньше, чем Дафна их высказывала, будто видел то, чего не видели другие. Дафну это слегка смущало, но в то же время очень помогало в общении. – Вы боитесь огня? Вопрос был задан очень просто, мягким тоном. Дафна сначала торопливо замотала головой, а потом посмотрела на него и утвердительно кивнула. Она поставила чашки с кофе на стол и стояла перед ним. – Мой муж и дочь погибли во время пожара. До сих пор она никому не говорила об этом. Джон взглянул на нее, словно хотел обнять. Его добрые серые глаза смотрели очень пристально. – Вы там тоже были? – мягко спросил он. Дафна кивнула, и на глазах у нее выступили слезы. Она поспешно отвернулась и не глядя подала ему чашку. Но взгляд его оставался вопрошающим. – И ваш маленький сын тоже? Она вздохнула. – Тогда я была беременна, но не знала этого. На протяжении следующих двух месяцев они давали мне столько лекарств... от ожогов... инфекции... успокаивающие... антибиотики... Когда я узнала, что беременна, было уже поздно. Поэтому Эндрю родился глухим. – Вам обоим повезло, что вы остались живы. Теперь он лучше понимал, почему она чувствует такую ответственность за Эндрю и как трудно ей было отдать его в интернат. – Жизнь странная штука. – Он оперся о спинку дивана, кофейная чашка казалась миниатюрной в его ладони. – Знаешь, Дафна, иногда происходящее кажется совершенно бессмысленным. Она удивилась, что он запомнил ее имя. – Я потерял жену пятнадцать лет назад, она погибла в автокатастрофе, в гололед, Это была замечательная женщина, все в городке любили ее. – Его голос стих, а глаза стали чистыми, как утреннее небо. – Я этого до сих пор не могу понять. На свете столько плохих людей. Почему погибла она? – Я так же думала о Джеффе. По прошествии пяти долгих, одиноких лет Дафна впервые с кем-то заговорила о нем, но она внезапно почувствовала необходимость открыться этому незнакомцу. – Мы были так счастливы. Когда она это говорила, в ее глазах не было слез, а скорее изумление. Джон внимательно наблюдал за ней. – Вы долго прожили вместе? – Четыре с половиной года. Он кивнул: – Мы с Салли прожили девятнадцать. Нам было по восемнадцать, когда мы поженились. – Он улыбнулся. – Мы были просто детьми, оба тяжело трудились, какое-то время голодали, потом дела пошли лучше, жизнь наладилась. Она стала как бы частью меня. Мне было чертовски тяжело, когда я ее потерял. Теперь глаза Дафны утешали его. – Мне тоже, когда я потеряла Джеффа. Мне кажется, что около года я пребывала в каком-то оцепенении. Пока у меня не появился Эндрю. – Она улыбнулась. – Я была с ним так занята, что об этом уже не думала, разве что иногда... ночью. – Дафна тихо вздохнула. – А у вас были дети, Джон? Так непривычно было произносить его имя и слышать из его уст свое. – Нет. Никогда. Сначала нам не хотелось. Мы не хотели быть как другие, как наши ровесники, которые переженились после школы, понарожали за три года по четверо детей, а потом только жаловались и ссорились друг с другом. Мы же решили в первые несколько лет не иметь детей, а потом подумали, что нам и так хорошо. Я в самом деле никогда об этом не жалел... пока она не погибла. Тебе повезло, что у тебя есть Эндрю. – Я знаю. – Ее глаза засияли при мысли о дорогом ребенке. – Иногда мне кажется, что он для меня значит даже больше, потому что... потому что он... такой, какой есть. – Ты боишься произносить это слово? Его голос был таким добрым, таким ласковым, что ей захотелось расплакаться или прильнуть лицом к его груди и дать себя обнять. – Иногда. Я ненавижу то, что оно будет для него значить. – Ему надо немного больше стараться, на авось рассчитывать уже не придется. От этого он, возможно, станет лучше и сильнее, надеюсь, так оно и будет. Я думаю, что пережитые испытания именно так повлияли на тебя. Легкий путь не всегда самый лучший, Дафна. Посмотри на людей, которых ты уважаешь, – это, как правило, те, кто шел по трудным дорогам, многое пережил и выстрадал. Те, кто ищет легких путей, гроша ломаного не стоят. Достойны же внимания люди, взбирающиеся на вершину, несмотря на ушибы, исцарапанное лицо и кровоточащие ноги. Может, это зрелище не из приятных, но таким может быть путь твоего ребенка. – Я бы не хотела для него такого пути. – Конечно. А кто хочет? Но он его одолеет. И ты тоже. Дафна задумчиво посмотрела на него. Их взгляды встретились. – Чем ты занималась до того, как поселилась в этом бревенчатом домишке? Она на мгновение задумалась, вспоминая прошедшие пять лет. – Заботилась об Эндрю. – А что будешь делать теперь, когда он в школе? – Я еще не знаю. Я раньше работала в журнале, но это было давно. – Тебе это нравилось? Дафна чуть задумалась и кивнула: – Да. Но я была гораздо моложе. Я не уверена, что теперь это мне будет так же нравиться. Работа казалась мне интересной, когда я была замужем за Джеффри, но это было так давно... –Она улыбнулась ему, чувствуя себя ужасно старой. – Мне тогда было всего двадцать четыре. – А теперь тебе сколько? – усмехнулся Джон. – Двадцать пять? Двадцать шесть? – Двадцать девять. – Дафна произнесла это очень торжественно, и он рассмеялся. – Ну конечно. Я и не думал, что ты такая старая. Мне, дорогая моя, пятьдесят два. Двадцать девять – это для меня детский возраст. Пожалуй, он на столько и выглядел. Но годы только добавляли ему достоинств, как хорошему коньяку. Они допили кофе, Джон встал и оглядел комнату: – Тебе здесь нравится, Дафна? Здесь очень уютно. – Да. Иногда я подумываю, не остаться ли здесь навсегда. Она улыбнулась и пригляделась к нему. Он был очень привлекательным мужчиной даже в свои пятьдесят два. – Почему ты хочешь здесь остаться? Ради себя или ради Эндрю? Дафна хотела сказать, что не знает точно, но на самом деле она знала. Причина была в нем, и он увидел этот ответ в ее взгляде. – Тебе надо в ближайшее время вернуться в Нью-Йорк, голубушка. Не растрачивай здесь свою жизнь ради ребенка. Ты должна вернуться к людям твоего круга, работать, встречаться с коллегами, друзьями. По-моему, ты все эти годы провела в каком-то летаргическом сне, и знаешь что? Не теряй зря время. А то однажды проснешься такой же старой, как я, и будешь жалеть, что угробила собственную жизнь. Ты достойна большего, я же это вижу. Дафна посмотрела ему в глаза. В ее взгляде была боль утрат, боль прошлого. – У меня нет такой уверенности. Я не ставлю перед собой какие-то невероятные цели, не собираюсь создавать какие-то бессмертные творения, не мечтаю о карьере. Почему я не могу быть счастлива здесь? – Ну и чем ты будешь заниматься? Навещать Эндрю? Цепляться за него, в то время как ты должна предоставить ему свободу? Ходить по темным проселочным дорогам, если сломается машина? По субботам ужинать в «Австрийской гостинице»? Одумайся, я не знаю всех обстоятельств твоей жизни, но я и так вижу, что ты заслуживаешь лучшей участи. – Разве? Почему? – Потому что ты очень толковая и чертовски хорошенькая. Независимо от того, хочешь ты это принять к сведению или нет. Дафна покраснела, а Джон улыбнулся ей и потянулся за курткой: – Ну ладно, я утомил тебя своей болтовней, пора и честь знать, пойду-ка посмотрю, как дела у тех ребят, что чинят твою ось. – Это совсем не обязательно. Дафне не хотелось, чтобы он уходил. С ним ей было хорошо и спокойно. А теперь она опять останется одна. В течение пяти лет это ее не заботило, а теперь вдруг стало беспокоить. Но Джон улыбнулся ей от двери: – Я знаю, что это не обязательно, но я так хочу. Вы мне нравитесь, Дафна Филдс. – Помолчав, он вдруг спросил: – Можно тебя пригласить как-нибудь вечером на ужин в гостиницу? Я обещаю, что не буду читать нотаций и произносить речей, просто меня всегда огорчает, когда вижу, что симпатичные молодые женщины губят свою жизнь. – Я с удовольствием поужинаю с тобой, Джон. – Отлично. Остается только это выполнить. – Он на мгновение задумался, потом улыбнулся ей: – Может, завтра вечером? Не возражаешь? Дафна медленно покачала головой, задавая себе вопрос, что же она делает, кто этот мужчина и почему ей так хочется ближе с ним познакомиться, быть с ним. – Очень хорошо. – Я заеду за тобой в шесть тридцать. Время деревенское. Джон кивнул ей, улыбнулся, легко шагнул через порог и тихо прикрыл за собой дверь, а Дафна стояла и смотрела на него в окно. Он помахал ей из кабины, выруливая на дорогу, гравий заскрежетал под колесами, и грузовик скрылся. Она долго стояла, глядя на пустую дорогу и пытаясь понять, куда устремилась ее жизнь и кто на самом деле Джон Фоулер. (обратно)Глава 8
Вечером в субботу Джон приехал ровно в шесть тридцать. Сверху на нем был тот же полушубок, но под полушубком – рубашка с галстуком, пиджак и серые слаксы. Одежда не была ни безупречно скроенной, ни дорогой, и все же на его могучей фигуре смотрелась хорошо. Дафну тронуло, что он принарядился, собираясь с ней на ужин. В нем было этакое старомодное рыцарство, которое ей, безусловно, нравилось. – Боже мой, Дафна, ты выглядишь очаровательно. На ней была белая юбка и голубая водолазка, почти под цвет ее глаз, а сверху – короткая мерлушковая шубка, которая делала ее похожей на карликового французского пуделя. Все в ней было миниатюрным и изящным, и все же в этой женщине чувствовалась какая-то внутренняя сила, совсем не вязавшаяся с ее комплекцией. Волосы у нее были собраны в простой пучок, Джон посмотрел на ее прическу с интересом и застенчивой улыбкой: – А ты когда-нибудь носишь распущенные волосы? Дафна на мгновение задумалась и покачала головой: – Нет, в последнее время нет. Она их носила распущенными при Джеффе, они спадали ниже плеч. Но это была часть другого времени, другой жизни, ее женственность была нужна другому мужчине. – Я бы хотел увидеть их распущенными. Он заглянул ей в глаза и с мягким смешком произнес: – Я питаю слабость к красивым блондинкам, предупреждаю тебя. Но несмотря на его шутки и очевидный интерес в глазах, с ним она чувствовала себя в безопасности. Это качество Дафна заметила еще раньше. Может, это было связано с его мощью, а может, с почти отеческим отношением к ней – во всяком случае, она знала, что может рассчитывать на его заботу. Но в ней самой теперь тоже появилась новая черта. Дафна знала, что может позаботиться о себе сама. Когда она выходила за Джеффа, у нее не было такой уверенности. Этот же мужчина не был ей необходим. Он ей просто нравился. Джон привез ее в «Австрийскую гостиницу». Чета Обермайеров, казалось, была удивлена, видя их вместе, и особенно старалась угодить. Дафна и Джон входили в число их любимых клиентов, и, когда на кухне возникла небольшая передышка, Хильда с заинтригованным видом обратилась к мужу: – Как ты думаешь, где они могли познакомиться? – Не знаю, Хильда. Да и не нашего это ума дело, – мягко упрекнул ее Франц. Но ее любопытству и удивлению не было предела: – Ты понимаешь, что он не приходил к нам ужинать с тех самых пор, как умерла его жена? – Хильда, разве ты не понимаешь, что нельзя так говорить? Они взрослые люди и делают то, что им нравится. И если ему хочется пригласить симпатичную женщину на ужин, что в этом такого? – Я же не сказала, что это плохо! По-моему, это великолепно! – Вот и отлично. Тогда отнеси им кофе и заткнись. Он легонько шлепнул ее по заду и вернулся в зал посмотреть, не нужно ли чего гостям. Франц увидел, что Джон и Дафна беседуют за кофе: он рассказывал ей что-то забавное, а она смеялась, как маленькая девочка. – И что ты им тогда сказал? – весело спросила Дафна. – Что раз они не могут руководить лесоразработкой, им надо руководить балетом. И представь себе, через шесть месяцев они продали это дело, смотали удочки и приобрели какую-то балетную труппу из Чикаго. – Он покачал головой, а в глазах у него все искрились смешинки. – Вот дурачье-то! Он рассказывал ей о двух ловкачах из Нью-Йорка, которые несколько лет назад решили купить местную базу лесоразработок и отмыть на ней свои налоговые грехи. – Черт подери, я там вкалывал не для того, чтобы два прохвоста из Нью-Йорка пришли и все промотали. Так не годится. – Тебе нравится твоя работа, Джон? Он ее интересовал. Он был, несомненно, умен, начитан, ориентировался в том, что происходит в мире, хотя всю жизнь прожил в маленьком городишке в Новой Англии и работал не покладая рук. – Да, нравится. Она мне подходит. Я никогда не был бы счастлив в конторе. У меня была такая возможность. Отец Салли был здесь директором банка и очень хотел, чтобы я у него работал, но это было не по мне. А так я весь день на воздухе, в мужском коллективе, работаю физически. – Он улыбнулся Дафне: – Я в душе работяга, миссис Филдс. Но было очевидно, что это слишком скромная оценка. Однако физический труд, бесспорно, наделил его силой, чувством реальности, научил лучше разбираться в людях и их характерах. Джон обладал мудростью, и к концу вечера Дафна поняла, что именно это ей в нем нравится. За десертом он долго не отрывал от нее взгляда, а потом взял ее руку в свою: – Мы оба испытали много утрат, и ты, и я, и все же мы здесь, сильные и живые, мы это пережили. – Мне иногда казалось, что я не переживу. Как хорошо, что можно было с кем-то этим поделиться. – Пережила и переживешь в будущем. Но ты сама еще в этом сомневаешься, да? – Иногда меня одолевают сомнения. Мне кажется, что еще одного дня я не выдержу. – Выдержишь. – Он это произнес с полной уверенностью. – Но, может, тебе пора прекратить сражаться в одиночку? Он моментально понял, что в ее жизни долгое время никого не было, заметил тихую тоску, присущую женщине, которая почти забыла ласковое прикосновение любви. – Дафна, а в твоей жизни был кто-нибудь с тех пор, как умер твой муж, или, может, мне не следует об этом спрашивать? Она смущенно улыбнулась, огромные василькового цвета глаза вдруг стали еще больше. – Почему, спрашивай. Нет, не было. На самом деле. – Она зарделась, и Джон почувствовал почти непреодолимое желание поцеловать ее. – Это мое первое свидание... долгие годы... Дафна не договорила. Но он и так понял. – Такая женщина зря пропадает. Однако на этот раз он явно переборщил, а Дафна отвела взгляд. – Так было лучше. Я могла всю себя посвятить Эндрю. – А теперь? – Теперь не знаю... – ответила она озабоченно. – Я не знаю, что делать без него. – По-моему, – он сощурил глаза, присматриваясь к ней, – по-моему, тебе предстоит совершить нечто очень значительное. Дафна рассмеялась и покачала головой: – Что, например? Стать сенатором? – Возможно, если это то, чего ты хочешь. Но хочешь ты не этого. Внутри тебя, Дафна, есть что-то, что так и просится наружу. И, возможно, в скором времени ты дашь этому выход. Дафну поразили его слова. Она часто думала о том же, пока же изливала свои чувства только в дневниках. Она хотела рассказать о них Джону, но вдруг застеснялась. – Может, прогуляемся? После ужина они вышли на улицу. Миссис Обермайер смотрела им вслед с явным удовольствием. – В этом городе тебя любят, малышка, – с улыбкой заметил Джон. – Ты нравишься миссис Обермайер. – Я ее тоже люблю. Какое-то время они молча шли рядом по пустынным улицам, а потом Дафна взяла его под руку. – Когда ты познакомишь меня с Эндрю? Казалось, Джон считал это естественным, вопрос был лишь в сроке, Дафна подумала, что за два дня этот человек словно бы стал частью ее жизни, она не знала, куда они идут, но чувствовала, что это ей нравится. Она вдруг ощутила себя свободной от пут, которые сковывали ее на протяжении лет. Она понимала, что в какой-то степени плывет по течению, но ей это доставляло удовольствие. Дафна подняла глаза на Джона и посмотрела на его мужественный профиль. Она точно не знала, какую роль он сыграет в ее жизни, но была совершенно уверена, что он будет ее другом. – Как насчет завтра? Я собиралась навестить его после обеда. Хочешь поехать? – С удовольствием. Они медленно вернулись к его грузовику, и Джон отвез ее домой. Он проводил ее до двери. Дафна не пригласила его, а он, судя по всему, на это и не рассчитывал. Она помахала ему на прощание, Джон сел в кабину и уехал, занятый мыслями о Дафне. (обратно)Глава 9
Когда Дафна и Джон приехали в школу, Эндрю ждал снаружи с двумя педагогами и другими детьми, и Дафна сразу заметила подозрение во взгляде сына. Он не знал, что это за мужчина, а может, его испугал рост Джона. Но Дафне показалось, что ему не нравится, что кто-то был с его матерью. У него выработался по отношению к ней собственнический инстинкт, которому она же и дала расцвести. Дафна быстро заключила сына в объятия, поцеловала в щеку и шею, прильнув лицом к его лицу, чувствуя родное тепло ребенка, который был частью ее самой, а потом отстранила его и объяснила жестами, что это ее друг, вроде тех, что есть у него в школе. И что его зовут Джон. А Джон встал на колени на землю рядом с ним. Он не понимал жестов, которым уже научилась Дафна, но казалось, что он общается с малышом при помощи глаз и своих огромных, добрых рук, и через несколько минут Эндрю с опаской приблизился к нему, словно робкий щенок. Не говоря ни слова, Джон протянул ему руку и взял маленькую ладошку в свою. Потом он стал разговаривать с ним своим низким, мягким голосом, а Эндрю не отрываясь смотрел на него. Глаза мальчика были прикованы к глазам Джона, и раз или два он кивнул, словно понимал его. Как с восхищением заметила Дафна, между ними, казалось, было полное взаимопонимание. А потом, не говоря Дафне ни слова, Эндрю увел Джона, чтобы сесть с ним поддеревом и «поговорить». Ребенок говорил жестами, а мужчина словами, и казалось, что они понимают друг друга, словно всегда были друзьями. Дафна стояла и наблюдала за ними издали, чувствуя, что ее захлестывают эмоции; это была и печаль от потери еще одной частички Эндрю; это была и радость от того, что Джон так отнесся к ее любимому ребенку. А где-то глубоко было еще и чувство обиды, что дверь в молчаливый мир Эндрю так легко открылась для Джона, в то время как она так долго добивалась, чтобы открыть ее. Но выше всего этого была нежность и к Джону, и к Эндрю, когда они наконец к ней вернулись, улыбаясь и держась за руки. Потом они стали играть, и скоро уже все трое смеялись. Часы до ужина пролетели как минуты. Дафна показала Джону школу, внезапно гордая, что сделала хорошее дело для Эндрю. А когда они спускались по лестнице из спальни Эндрю, Джон посмотрел на нее с теплотой, согревшей ее как средиземноморское лето. – Тебе кто-нибудь говорил, малышка, какая ты необыкновенная? Дафна зарделась, а он обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. Тогда она в первый раз ощутила его близость, и впечатление было таким сильным, что она даже закрыла глаза, нежась в его объятиях. – Ты храбрая и необыкновенная. Ты сделала великое дело для Эндрю, и это пойдет на пользу вам обоим. – А потом он тихо произнес слова, заставшие ее врасплох: – И я люблю тебя за это. Она остановилась и мгновение внимательно смотрела на него, не зная, что сказать, а он улыбнулся и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. – Все о'кей, Дафна, я не хочу тебя обидеть. – Спасибо. Она не знала, почему это сказала, и не смотрела, почему вдруг обняла его за талию и не хотела отпускать. Она так отчаянно нуждалась в ком-то, кто бы ей сказал то, что сказал Джон: что она не бросила Эндрю, что это было правильно, что она сделала нужное дело. – Большое тебе спасибо. Он порывисто обнял ее, и потом они спустились вниз, где встретили Эндрю и остальных, готовых садиться ужинать. Им пора было уезжать, и на этот раз Эндрю чуть-чуть хныкал перед их отъездом, и Дафна со слезами на глазах крепко обнимала его, тихо повторяя у него над ухом: – Я люблю тебя. Потом она отстранила его, чтобы он мог увидеть, как ее губы произносят эти слова, и он опять неистово бросился ей в объятия и издал возглас, который у него означал: «Я люблю тебя». Тогда подошла миссис Куртис и с доброй улыбкой прикоснулась к его щеке, давая ему понять, что спрашивает, готов ли он ужинать. Он на мгновение застыл в нерешительности, а потом кивнул и улыбнулся, жестом показал «да», после чего, торопливо помахав маме и дружелюбно взглянув на Джона, оставил их и присоединился к остальным. – Ну что, поедем или хочешь еще подождать? Джону не хотелось ее торопить. Он сам чувствовал ту же боль, которую ощущала она. Но она медленно кивнула, все еще глядя вслед малышу, а потом обернулась и с благодарностью, что он был рядом, посмотрела на Джона. – Ты в порядке? – Да. Поедем. Он вышел следом за ней, и она подумала, как это хорошо, когда есть кто-то, кто заботится и о тебе. Вдруг, когда холодный ночной воздух ударил им на улице в лицо, ей захотелось бежать. Боль от прощания с Эндрю уже притупилась, и она чувствовала в себе энергию, которой не ощущала давно. Она вдруг засмеялась и запрыгнула в кабину, словно девочка. – Он классный малыш, знаешь? – Джон взглянул на нее почти с гордостью, запуская двигатель. – Ты сделала великое дело. – Такая уж у него натура. Вряд ли это моя заслуга. – Твоя, твоя. И не забывай об этом, – сказал он почти сурово и, взглянув на нее, обрадовался счастливому выражению ее лица. – Может, заедем в гостиницу поужинать? Я чувствую, что надо что-то отметить, но не совсем знаю что. Он посмотрел на нее, и их глаза встретились. Теперь их связывали тесные узы: ведь она поделилась с ним важной частью своей жизни. Джон был тронут и благодарен, что она позволила ему познакомиться с Эндрю. – А что, если я сама приготовлю тебе ужин? – А ты умеешь готовить? – пошутил он, и они оба рассмеялись, – Я ем много. – Как насчет спагетти? – И все? Он был удивлен, и Дафна радостно засмеялась, как ребенок, и вдруг, непонятно почему, вспомнила, как впервые приготовила ужин Джеффу в своей квартире. С тех пор прошла целая вечность, и ей было стыдно сознавать, что все это теперь казалось туманным, далеким и не совсем реальным. Время шло, и ее воспоминания о Джеффе постепенно блекли. – Только спагетти? – Голос Джона вернул ее к действительности. – О'кей, а если бифштекс? И салат. – Согласен. С удовольствием, – добавил он, и Дафна опять засмеялась. – Тебя прокормить никаких денег, наверное, не хватит, а, Джон? Выражение ее лица, похоже, его рассмешило: – Не беспокойся, я прилично зарабатываю на лесозаготовках. – А это опасно? – Она слегка нахмурила брови. И ему понравилось, что она беспокоится. – Иногда. Не очень часто. Большинство из нас знают свое дело. Опасаться надо зеленых, молодых ребят, которые нанимаются на лето. Те могут убить, если за ними не смотреть. Дафна молча кивнула. Они остановились у ее дома, зашли и в течение следующего получаса были заняты стряпней. Джон накрыл на стол и поджарил бифштексы. Дафна отварила спагетти и приготовила салат. Перехватив его вожделенный взгляд на камин, она моментально поняла, о чем он думает. – Пожалуйста, Джон, если хочешь, растопи. С камином здесь будет уютнее. – Не надо. Здесь хорошо и без этого. Но ей вдруг захотелось, чтобы он его непременно растопил. Ей захотелось навсегда оставить прошлое позади. Она устала от страхов, опасений и страданий прошлых лет. – Давай, давай растопи. В этом человеке было что-то такое, от чего она себя чувствовала храбрее. – Я боюсь, что тебе будет неприятно. – Не бойся. Я думаю, пора забыть о прошлом. Странно было это произносить, но впервые она не восприняла это как измену. Джон встал из-за стола, положил в камин полено и добавил немного щепы на растопку. Огонь быстро занялся, и она долго сидела и смотрела на него, думая не столько о той роковой рождественской ночи, сколько о том, как они с Джеффом много раз сиживали дома по воскресеньям, читая воскресные газеты и любуясь огнем. Не говоря ни слова, Джон через стол взял ее за руку, а она вспомнила, как он обнимал ее за плечи в школе, и это было здорово, стоять с ним рядом. – О чем ты только что подумала? У тебя был такой счастливый вид. В ее глазах отражалось пламя камина, и он решил, что она думала о Джеффри. – Я думала о тебе. Я рада, что ты подобрал меня тогда на дороге. Он тоже улыбнулся, вспоминая это. – Я мог бы подобрать тебя раньше, если бы ты не пряталась. Они оба рассмеялись, и Дафна принесла две чашки горячего кофе. – Ты хорошо готовишь. – Спасибо. Ты тоже. Бифштексы были что надо. Он посмотрел на нее почти печально. – У меня большая практика. Пятнадцать лет сам готовлю. – Почему ты не женился снова? – Не хотел. Не встречал никого, кого бы полюбил. – «До тебя», – хотел он добавить, но побоялся ее отпугнуть. – Мне просто не хочется начинать все сначала. Но ты молода, малышка. Ты можешь и когда-нибудь должна на это решиться. Она печально покачала головой, глядя на него. – Не думаю. Нельзя начать жизнь снова, нельзя воссоздать то, что было. Это бывает только раз в жизни. – Отдельные события, конечно. Но другие приходят им на смену, они так же важны. Они просто иные. – И это ты говоришь. Ты ведь такой же, как я. – Не совсем. Ты удачливее. – Я?! Почему? – У тебя есть Эндрю. – Они оба улыбнулись. – Когда я общаюсь с детьми, то сожалею, что у меня нет ребенка. – Еще не поздно. Но он только засмеялся в ответ. – Я уже старик, Дафна. Мне пятьдесят два. Черт подери, я мог бы быть твоим отцом! Дафна улыбнулась. Она не находила его таким, да и он не собирался хвалиться возрастом. Они были друзьями по многим причинам. И у нее никогда до этого не было такого друга, как он. Может быть, потому, что она никогда не была той женщиной, какой теперь стала? Минувшие годы сделали ее сильной, сильнее, чем она когда-либо могла предположить. Она была равным партнером для любого мужчины. Даже такого мужчины, как Джон. Они сели на диван, глядя на огонь. Дафне было с ним необыкновенно хорошо и покойно. Спешить было некуда, можно было радоваться каждой драгоценной минуте. И крупные черты его лица в свете огня выглядели прекрасными. – Джон... – Она не знала, как высказать, что она чувствует. Может, позже она расскажет об этом в своем дневнике. – Что, малышка? Но она не могла подобрать подходящих слов. Наконец тихим хрипловатым голосом призналась: – Я рада, что повстречала тебя. Он медленно кивнул, испытывая те же чувства, что и она, ощущая умиротворение и понимая, что происходило между ними. Он положил руку ей на плечо, и она почувствовала ту же спокойную силу, которая исходила от него весь вечер. Ей нравилась тяжесть его руки, ощущение ее прикосновения, нравился запах Джона. Это была крепкая смесь лосьона, шерсти, свежего воздуха и табака. Он и выглядел соответственно: как сильный, привлекательный мужчина, который всю свою жизнь провел среди лесов и гор. Когда он взглянул на нее, то увидел, как слеза ползет по ее щеке. Он встревожено привлек ее ближе. – Тебе грустно, любимая? Его голос был очень глубоким и ласковым, но она покачала головой: – Нет... я очень счастлива... тут, сейчас... – Она подняла на него глаза. – Ты можешь подумать, что я сумасшедшая, но я опять живу. Я себя чувствую так, как будто долго была при смерти. Я думала... – Она с трудом подбирала слова. – Я думала, что тоже должна умереть, потому что их не стало. Я осталась жить только ради Эндрю. Я жила только ради него. А теперь она опять жила и для себя тоже. Наконец. Казалось, он молчал бесконечно долго, вглядываясь в ее лицо. – Теперь у тебя есть право на собственную жизнь, Дафна. Ты заплатила долги. Потом он нежно поцеловал ее в губы, и это получилось так, словно ее пронзила стрела. Прикосновение его губ она ощутила всем телом, у нее перехватило дыхание, а поцелуй все продолжался и его объятия тоже. Наконец он взял в ладони ее лицо и сказал, спокойно глядя на нее: – Где ты была всю мою жизнь, Дафна Филдс? – Он опять поцеловал ее, и на этот раз она обняла его за шею и привлекла к себе. Она чувствовала, что хотела бы прильнуть к нему на всю жизнь и не отпускать, а он обнимал ее так, словно тоже желал этого. Его ладони стали медленно гладить ее плечи, а потом осторожно скользнули на грудь и наконец под свитер. Она издала тихий легкий стон, и он обнял ее крепче, чувствуя, что в ней разгорается страсть. Потом он остановился, отодвинулся от нее и заглянул ей в глаза. – Я не хочу делать ничего, чего бы ты не хотела, малышка. Я старик, я не хочу тебя использовать. Но она покачала головой и поцеловала его, а он вытащил шпильки из ее волос, и они каскадом рассыпались по ее плечам. Он провел пальцами по ее волосам и опять стал гладить ее лицо и грудь, потом его громадные ладони осторожно скользнули к ее ногам, и она не стала сдерживать сладостную муку, охватившую ее от его прикосновений. – Дафна... Дафна... – шептал он ее имя, когда они лежали на диване у камина. Все его тело трепетало от желания, и тогда она поднялась, взяла его за руку и повела в свою спальню. – Ты не ошибаешься? Он понимал, что они мало знакомы, что она его почти не знает. Все между ними произошло так стремительно, и он не хотел, чтобы она совершала что-нибудь, о чем могла бы пожалеть на следующее утро. Он хотел, чтобы это была близость надолго, а не просто на одну ночь или на мгновение. – Нет, нет. Ее голос перешел на слабый шепот, он медленно раздевал ее, пока она наконец не предстала перед ним: миниатюрная, идеально сложенная; кожа ее матово белела при свете луны, а светлые волосы казались почти серебряными. Он взял ее на руки и положил на кровать, аккуратно разделся сам, положил одежду на пол и лег рядом с ней. Прикосновение ее атласной кожи было таким пленительным, что его влечение к ней достигло своей вершины. Он был уже не в состоянии сдерживать себя, но именно она взяла ладонями его лицо, прильнула к нему и ощутила, как медленно, со сладостной полнотой возвращается к ней забытое чувство, она ощутила, как он проникал в нее, и она взлетела на высоты, которых не знала даже с Джеффри: Джон был искусным, необыкновенным любовником. Потом, усталые, они лежали рядом, и она шептала ему на ухо, что любит его. – Я тоже люблю тебя, малышка. О Боже, как я люблю тебя... И когда он это произнес, она посмотрела на него с сонной улыбкой, крепче прижалась к нему, ее глаза закрылись, и она уснула в его объятиях – снова женщиной, такой женщиной, какой еще не бывала никогда... его женщиной и женщиной для самой себя. Джон был прав. Годы сделали ее сильной, сильнее, чем она могла предположить. (обратно)Глава 10
– Что это? – Джон стоял голый на кухне в шесть утра следующего дня, держа в руках два дневника Дафны в кожаных переплетах. Дафна встала, чтобы приготовить ему завтрак перед уходом на работу, но они припозднились из-за нового прилива страсти. Она посмотрела через свое обнаженное плечо с улыбкой, все еще удивляясь, как же хорошо она себя чувствовала рядом с ним. – Что? А, это мои дневники. – Можно мне их когда-нибудь почитать? Дафна поставила на стол яичницу с беконом. – Конечно. – Она была слегка смущена. – Они тебе могут показаться немного глуповатыми. Я излила в них свою душу. – В этом нет ничего глупого. – Он улыбнулся, глядя на ее голый зад. – Знаешь, у тебя просто грандиозная попка! – Заткнись и ешь свою яичницу. – Так говорят в конце романа. Но роман между ними только начался. Они даже умудрились урвать еще один разочек до того, как он уехал на работу. – Не знаю, хватит ли у меня сегодня сил работать после такой дозы любви. – Ладно, тогда оставайся дома. Я о тебе позабочусь. – Это уж точно! – Он громко рассмеялся, застегивая на «молнию» теплую куртку, которую держал в машине как робу. – Избалуешь ты мужика, Дафна Филдс. Но, обняв его перед уходом, она тихо прошептала: – Это ты меня балуешь. Ты делаешь меня счастливее, чем я когда-либо была, и я хочу, чтобы ты это знал. – Весь день помнить буду. По пути домой я заеду в магазин, и мы мило поужинаем. О'кей? – Отличная идея. – А что ты будешь делать? Ее глаза на мгновение засветились, и она улыбнулась: – Может быть, я напишу новое предисловие к своему дневнику. – Ладно. Я проверю его, когда приеду. До вечера, малышка. И он уехал, шурша гравием, а она стояла у окна кухни, обнаженная по пояс, и махала ему вслед. После отъезда Джона день казался Дафне бесконечным, и она стала придумывать, чем бы заняться, пока его нет. Неплохо бы съездить к Эндрю, но слишком часто навещать его нельзя. Она решила остаться дома и занялась уборкой. Потом стала писать дневник, но голова у нее все утро была занята другим, и после обеда Дафна вдруг обнаружила, что пишет рассказ. Он получился сразу весь, сложился сам собой, и, когда он был закончен, она села, с удивлением глядя на дюжину исписанных страниц. Она впервые сделала нечто подобное. Когда Джон вернулся, Дафна ждала, одетая в серые слаксы и ярко-красный свитер. – Ты очаровательна, малышка моя. Как прошел день? – Великолепно, но мне тебя не хватало. Это было так, словно он всегда был частью ее жизни, и она ждала его каждый вечер. Они опять вместе приготовили ужин из того, что он купил в лавке, и Джон рассказал ей, как прошел день на базе лесорубов. А потом она показала ему свой рассказ, и он с удовольствием прочел его, когда они сидели у камина. – Изумительно, Дафф. – Он посмотрел на нее с нескрываемой гордостью. – Ну, скажи правду. Все чепуха? – Да нет, черт подери. Это просто здорово. – Это мой первый в жизни рассказ. Я даже не знаю, откуда он пришел мне на ум. Он с улыбкой коснулся ее шелковистых волос. – Отсюда, маленькая моя. И я думаю, там еще куча таких рассказов, как этот. Она открыла в себе возможности, о которых раньше не подозревала, и почувствовала даже большее удовлетворение, чем когда писала свои дневники. В эту ночь они предавались любви у камина, потом на кровати и еще раз в половине шестого утра. И он уехал на работу, напевая какую-то песенку, а она на этот раз не ждала второй половины дня. Сразу же после его отъезда она написала новый рассказ, который отличался от предыдущего, и, когда Джон прочел его вечером, он ему больше понравился. – Ты чертовски сильно пишешь, Дафф. И после этого он неделями зачитывался ее дневниками. К Рождеству их жизнь как-то наладилась. Джон практически переехал к Дафне в домик, Эндрю становился благодаря школе все более и более самостоятельным, а у Дафны было больше свободного времени, чем когда-либо. Это позволило ей писать рассказы ежедневно. Одни удавались лучше, другие хуже, но все были интересны, и у всех был свой неповторимый стиль. Было так, словно она открыла ту свою грань, о которой раньше не подозревала, и Дафна признавалась себе, что это ей очень нравится. – Это такое замечательное чувство, Джон. Я не знаю, мне трудно объяснить. Все это, знаешь, как будто всегда во мне было, а я об этом не знала. – Может, тебе следует написать книгу? – Он произнес это совершенно серьезно. – Не шути, О чем? – Не знаю. Посмотри, что получится. Я знаю, что она у тебя внутри. – Не знаю, не знаю. Рассказы – это совсем другое дело. – Но это не значит, что тебе не под силу книга. Попробуй. Почему бы и нет? Время у тебя есть. Что тут еще делать зимой? Он был прав, оставалось только посещать Эндрю. Она ездила к нему во второй половине дня по два раза в неделю, и каждый уик-энд они ездили туда с Джоном. К Рождеству стало очевидно, что Эндрю совершенно счастлив, он подружился с Джоном, которому показывал жестами что-то смешное, а Джон к тому времени уже выучил его язык. Они затевали на улице возню, и чаще всего Эндрю оказывался у Джона на одном плече, а кто-нибудь из его друзей – на другом. Он полюбил малыша, и Дафна смотрела на них с гордостью, восторгаясь дарами, которые ей подносила жизнь. Получалось так, словно вся боль прошлого наконец ушла. Теперь воспоминания о Джеффе не мешали ей жить. Единственное, что по-прежнему доставляло ей сильную боль, – это видеть девочек, ровесниц Эми. Но и с этим она научилась справляться. Джон умел смягчать всякую боль и сделал все, чтобы она была спокойна и счастлива. Иногда они даже привозили Эндрю на несколько часов домой. Джон давал ему с дюжину мелких заданий, которые надо было сделать по дому. Они вместе носили дрова, и Джон вырезал ему маленьких зверюшек из щепок. Вместе с Дафной они пекли печенье и покрасили старое плетеное кресло-качалку, которое Джон нашел за сараем-. Было очевидно, что Эндрю становится более самостоятельным, и ему уже легче с ними общаться. Дафна овладела азбукой глухонемых, и напряженность между ними ослабла. Эндрю не сердился на нее за ошибки: только пару раз хихикнул, когда она неправильно показала слово, а потом жестами объяснил Джону, что мама сказала, что собирается на ужин приготовить лягушку. Но его молчаливое общение с Джоном оставалось таким же глубоко трогательным. Они подружились, словно всегда были частью одной жизни, гуляли вместе молча по полям, останавливаясь, чтобы проследить бег зайца или оленя, их глаза встречались, словно и не нужно было слов. А когда наступало время возвращаться в школу. Эндрю садился на колени Джону в грузовике и брался своими ладошками за руль рядом с большими ладонями Джона, а Дафна с улыбкой смотрела, как они вместе рулили. Он всегда радовался возвращению в школу. И разлука с ним уже не была такой болезненной. У нее с Джоном была своя жизнь. Дафна считала, что никогда ей не приходилось испытывать такое удовлетворение. И это отразилось на ее творчестве. В феврале она наконец набралась храбрости начать книгу и работала над ней тяжело и подолгу каждый день, пока Джон был на работе, а вечером он читал дневную порцию, оценивал и комментировал, и, казалось, он ни минуты не сомневается, что это ей под силу. – Знаешь, если бы не ты, я бы не смогла этого сделать. Она лежала, развалившись, на диване в джинсах и ботинках со стопкой исписанных листов, а он в это время ломтиками нарезал для них обоих яблоки. – Смогла бы. Я тут ни при чем, ты же знаешь. Это все у тебя внутри, вот тут. И никто не сможет это у тебя отнять. – Не знаю... Я все еще не понимаю, откуда это все берется. – Это не важно. Просто знай, что оно там, внутри тебя. Никто больше не может на это повлиять. – Нет. – Она взяла ломтик яблока и наклонилась, чтобы поцеловать его. Ей очень нравилось прикасаться губами к его лицу, особенно к вечеру, когда оно было уже немного шершавым, небритым. Все в нем было таким мужественным и удивительно сексапильным. – Я все-таки думаю, что это благодаря тебе. Если бы не ты, я бы никогда не написала и строчки. Они оба с улыбкой вспомнили, что Дафна написала свой первый рассказ после их первой ночи. В начале нового года она послала его в «Коллинз» так, на всякий случай, и все еще ждала ответа. Ответ пришел в марте, от ее бывшей начальницы Аллисон Баер. Они предлагали ей гонорар в пятьсот долларов. – Ты видишь это, Джон? Они купили мой рассказ! Они спятили! – Дафна ждала его в этот вечер с бутылкой шампанского, чеком и письмом Аллисон. – Поздравляю! – Он был рад не меньше ее, и они отмечали это в постели до самого рассвета. Он подтрунивал над ней, что она не дает ему спать, но было более чем очевидно, что обоим это доставляло наслаждение. Покупка «Коллинз» ее рассказа ободрила Дафну, она стала работать еще упорнее, писала всю весну и окончательно закончила работу в июле. Она сидела, глядя на увесистую рукопись, несколько испуганная проделанной работой, и в то же время сожалея о прощании с персонажами, которые стали так реальны за эти долгие месяцы. – Что же делать теперь? Работы больше не было, и Дафна почти сожалела, что закончила. – Это, радость моя, интересный вопрос. – Он посмотрел на нее, преисполненный гордости, с обнаженным торсом, с загорелым лицом и руками, потягивая пиво после долгого трудового дня. Стояло прекрасное лето. – Я не знаю, но мне кажется, тебе надо нанять агента. Почему бы тебе не посоветоваться с твоей бывшей начальницей из «Коллинз»? Позвони ей завтра. Но Дафна всегда терпеть не могла с ней говорить. Та вечно твердила, какая у Дафны необычная жизнь. Дафна не сказала ей про Джона, и Аллисон решила, что Дафна живет в Нью-Гемпшире, чтобы быть поближе к Эндрю. Она все настаивала на том, что Дафне следует вернуться в Нью-Йорк и начать работать. Дафна возражала, ссылаясь на то, что сняла жилье до сентября. А потом она бы нашла другие отговорки. Сейчас в ее планы не входило уезжать отсюда. Она была счастлива с Джоном и хотела остаться в Нью-Гемпшире навсегда. Но Джон никогда с этим не соглашался, считая, что ее место в Нью-Йорке, среди «своих», за интересной работой. Он думал, что ей не следует проводить остаток жизни с дровосеком. Но на самом деле он не хотел, чтобы она уезжала, да и у нее не было намерения бросать его, ни сейчас, ни вообще когда-либо. – А где берут агентов? – Может, отвезти книгу в Нью-Йорк и искать там? – Только если ты поедешь со мной. – Это глупо, дорогая. Я тебе для этого не нужен. – Ошибаешься. – Она выглядела, словно счастливая девочка, сидя рядом с ним. – Ты нужен мне для всего. Разве ты этого до сих пор не уяснил? Он уяснил, но оба они знали, что многое ей под силу сделать самой. И это было действительно так. – Что мне делать в Нью-Йорке? – Он не был там двадцать лет и не имел особого желания туда ехать. Он был счастлив в горах Новой Англии. – И все-таки почему бы тебе не позвонить завтра Аллисон и не послушать, что она скажет? Но на следующий день Дафна этого не сделала. Она решила подождать до осени. Она как-то еще не была готова к тому, чтобы предлагать свою книгу, и заявила, что хотела бы ее еще перечитать пару раз, чтобы внести окончательную правку. – Цыпленок, – шутил он, – нельзя же без конца прятаться. – Почему нет? – Потому что я тебе не позволю. Ты этого недостойна. Он всегда заставлял ее чувствовать себя так, словно ей все по плечу. Просто поразительно, сколько уверенности ей прибавили те месяцы, что она провела с ним. Изменился и Эндрю. Ему было почти пять, он уже не был маленьким несмышленышем. В августе Дафна планировала отправиться с ним и с группой других детей и родителей в поход под руководством миссис Куртис. Для всех участников это было событие, и Дафна хотела, чтобы Джон тоже пошел в четырехдневный поход, чтобы поделился опытом с Эндрю, но он не смог отпроситься. На их базе работало двадцать ребят из колледжей, и все взрослые мужчины были нужны, чтобы присматривать за молодежью. – Неужели ты не можешь отпроситься? – Она была так расстроена. – Я правда не могу, дорогая. Я очень сожалею. Вы наверняка отлично проведете время. – Без тебя это будет не то. – Она надула губы, а он засмеялся, ему нравилась в ней женщина-ребенок. В двадцатых числах августа они отправились в поход со спальными мешками, палатками и лошадьми. Для детей это были новые впечатления: путешествовать по лесам, где их окружали опасности и открытия. Дафна взяла один из своих дневников, чтобы записывать для Джона все, что будет делать смешного Эндрю, и детали, которые она могла бы не запомнить. Но большую часть времени, как оказалось, она писала о Джоне, вспоминая их последнюю ночь перед выходом. В первый раз за девять месяцев им предстояла разлука, и ее огорчала эта перспектива. Потеряв один раз любимого человека, она ужасно боялась покидать Джона. Иногда по ночам ее даже мучили кошмары, что она может его потерять. – Ты так легко от меня не избавишься, крошка, – шептал он ей на ухо, когда она делилась с ним своими страхами. – Я тертый калач. – Я не смогла бы жить без тебя, Джон. – Смогла бы, смогла. Но тебе и пытаться-то не надо будет. Это же ненадолго. Путешествуй с детьми в свое удовольствие, а мне потом расскажешь. Она лежала рядом с ним на рассвете, после ласк, и чувствовала, как его гладкое прохладное тело касалось ее бедра. Это всегда вызывало у нее волнение. – Я могу соскучиться по твоим ласкам за эти дни. Как любовник он избаловал ее. Может, он и называл себя «стариком», но в его страсти не было и тени старости. Пылом он не уступал юноше, но обладал еще и опытом, научил ее вещам, о которых она раньше не имела понятия. Иногда она задавалась вопросом: было ли ей так хорошо просто потому, что она по-настоящему его любила? И именно об этих и подобных вещах она писала в своем дневнике, пока была в походе, когда не играла с Эндрю. Дафна наслаждалась этими особыми днями, проведенными с сыном, возможностью наблюдать его с друзьями, жить вместе в лесу и, просыпаясь утром, видеть это маленькое лучезарное личико. Они вернулись через четыре дня, как заправские туристы, грязные, усталые, но довольные. Родителям поход понравился не меньше, чем их детям. Дафна проводила Эндрю до школы, положила свой спальный мешок и рюкзак в машину и, сев за руль, зевнула. Ей не терпелось вернуться домой, к Джону. Но когда Дафна подъехала к домику, она его там не застала. В раковине была грязная посуда, постель была не застелена. Дафна улыбнулась и с наслаждением встала под душ. К его приходу она все приберет. Но когда она стояла на кухне и мыла посуду, раздался незнакомый стук в дверь. Она пошла открыть с руками в пене и улыбнулась, увидев одного из друзей Джона, человека, с которым они редко виделись, но которого – она это знала – Джон любил. – Здравствуй, Гарри, что нового? Она была загорелой, отдохнувшей и счастливой, но друг Джона казался угрюмым. – Когда ты вернулась? Его лицо было серьезным, а глаза печальными, как всегда. Джон часто над ним подтрунивал, что у него вид, как будто только что скончался его лучший друг. У него была толстуха жена и шестеро детей, а этого хватило бы, чтоб любого повергнуть в тоску, как говорил Джон. – Как Гладис? – Дафна, можно тебя на минутку? На этот раз видно было, что он по-настоящему расстроен. Вдруг где-то за своей спиной она услышала тиканье кухонных часов. – Конечно. – Дафна вытерла руки о джинсы, отложила полотенце и подошла к нему. – Что-то случилось? Гарри медленно кивнул, не зная, как сказать. Он никак не мог начать, и между ними наступила жуткая тишина. – Давай сядем. – Он нервно направился к дивану, она последовала за ним как во сне. – Гарри? В чем дело? Что случилось? Его глаза были словно два мрачных черных камня, когда он взглянул на нее. – Джон погиб, Дафна. Он погиб, когда тебя не было. Ей показалось, что комната заходила ходуном, а лицо Гарри она увидела как бы на расстоянии... Джон погиб... Джон погиб... Слова были как из дурного сна, из нереальности, это не могло случиться, не с ней... опять. И вдруг в окружавшей их тишине она услышала женский смех – истерический, хриплый. – Нет! Нет! Нет! – Пронзительный смех превратился в рыдания, пока Гарри смотрел на нее, желая рассказать, как он погиб, но она не хотела этого слышать. Это было не важно. Она это предчувствовала. Но, невосприимчивый к тому, что она чувствовала, Гарри стал рассказывать. Ей хотелось заткнуть пальцами уши, завопить и убежать. – На базе в тот день, когда вы ушли в поход, произошел несчастный случай. Мы позвонили в школу, но они сказали, что тебя невозможно вернуть. Эти чертовы студенты не справились с лебедкой, и штабель бревен раздавил его... – Гарри стал плакать, а Дафна смотрела на него широко раскрытыми глазами. – ...Перелом спины и шеи. Он умер на месте. Джефф тоже. Так они, во всяком случае, говорили. Какая разница? Какое значение этоимеет теперь? Она села, глядя на Гарри, и все ее мысли сосредоточились на сыне. Что она скажет ему? – Нам чертовски горько. Студентов отправили домой. Попрощались с телом. У него здесь нет родственников, да и нигде, по-моему, нет. Они все умерли. И мы не знали, что ты захочешь сделать... Гладис думала... – Спасибо. – Она вскочила с напряженным и бледным лицом. – Не беспокойся. Она уже проходила этот путь раньше. И только когда Гарри ушел, подступили слезы, громадные реки молчаливых, страдальческих слез. Она оглядела комнату и снова села. Джон Фоулер уже больше никогда не вернется домой. «Ты справишься сама, крошка». Она помнила эти его слова, сказанные когда-то. Но она не хотела «справляться сама». Она хотела быть с ним. – Ох, Джон... – Это был тихий, надломленный шепот в тишине домика. Она вспомнила все, о чем они раньше говорили: он о смерти своей жены, а она о гибели Джеффа. То, что произошло, по своему значению было сопоставимо, она это хорошо понимала, и все-таки все было иначе в этот раз, и было ясно, что сопротивление бесполезно. На закате она пошла в лес, и слезы хлынули снова, когда она смотрела на летнее небо и думала о нем, о широких плечах и больших ладонях, низком голосе, о человеке, который любил ее и Эндрю. – Я проклинаю тебя! – закричала она в розово-лиловое с оранжевым небо. – Я проклинаю тебя! Зачем ты так? Она долго так стояла, обливаясь слезами, между тем как небо темнело. А потом, вытирая щеки рукавом его рабочей блузы, в которой она была, Дафна кивнула: – О'кей, дружище. О'кей. Мы справимся. Только помни, что я любила тебя. – И все еще плача, она посмотрела в ту сторону, где за холмами только что скрылось солнце, и прошептала: – Прощай, – и со склоненной головой пошла домой. (обратно)Глава 11
На следующее утро Дафна проснулась еще до рассвета в кровати, которая вдруг показалась ей слишком большой для нее одной. Оналежала, думая о Джоне и вспоминая утренние часы, когда часто перед рассветом их тела были сплетены в единое целое. Солнце медленно проникало сквозь окна, но Дафна чувствовала себя свинцовой, она хотела бы больше никогда не вставать. Она не испытывала ужаса или паники, как было после гибели Джеффа. Было только чувство опустошенности и потери, некая беспредельная печаль, которая давила на нее как собственная могильная плита, когда она прикосновением своей памяти снова, и снова, и снова бередила эту рану... Жгучие слова регулярно проносились сквозь ее сознание: «Джон погиб, погиб, погиб... Я больше никогда его не увижу... никогда не увижу...» И самое плохое, что не увидит его и Эндрю. Как ему рассказать? Настал полдень, когда она наконец заставила себя подняться, и когда встала, в первый момент у нее закружилась голова. Было ощущение тошноты от голода, ведь она с прошлого утра вообще ничего не ела и сейчас не могла ничего есть, потому что в ее голове продолжало эхом отдаваться: «Джон погиб... Джон погиб...» Полчаса она провела под душем, уставившись в пространство, в то время как вода хлестала ее, словно яростный дождь, а потом ей потребовался почти час, чтобы надеть джинсы, рубашку Джона и туфли. Она смотрела на их гардероб, словно там были несметные сокровища, но она уже имела опыт и не позволила себе снова расклеиться. После гибели Джеффа сознание, что она носит в себе их неродившегося ребенка, в конце концов помогло ей выжить, но в этот раз такого не было – чуда жизни, уравновешивающего смерть. Однако у нее был сам Эндрю, и Дафна знала, что ей надо теперь отправиться к нему ради него и ради себя самой. Он у нее еще оставался. Дафна поехала в школу, все еще ошеломленная, оцепеневшая и отсутствующая, и, только когда она увидела Эндрю, радостно играющего в мяч, она снова начала плакать. Она долго стояла, глядя на него, пытаясь привести в порядок мысли и сдержать слезы, но они не хотели останавливаться, и наконец Эндрю повернулся и увидел ее, нахмурился, выронил мяч и медленно подошел к ней с выражением беспокойства и озабоченности в глазах. Она села на траву газона и протянула к нему руки, улыбаясь сквозь слезы. Теперь он снова был центром ее жизни. – Привет, – сказала она ему жестом, когда он сел рядом. – Что случилось? – Вся любовь и преданность, которые они чувствовали друг к другу, отразились в его глазах. Наступила длительная пауза, и Дафна заметила, что руки у нее трясутся. Она не могла заставить себя жестикулировать. Наконец она решилась: – Я должна сообщить тебе что-то очень грустное. – Что? – Он был удивлен. Она оберегала его от всех огорчений и несчастий, и в жизни он еще не сталкивался с чем-либо подобным. Но нельзя было скрывать это от него. Мальчик очень привязался к Джону. Подбородок у Дафны дрожал, и глаза наполнились слезами, когда она обняла сына, а потом отпустила, чтобы он увидел жесты, которых она боялась. – Джон погиб, когда нас не было, мой милый. Произошел несчастный случай. Я узнала вчера, и мы его больше никогда не увидим. – Никогда-никогда? – Глаза Эндрю недоверчиво расширились. Она кивнула и ответила: – Никогда. Но мы его всегда будем помнить и будем любить его, как я люблю твоего папу. – Но я не знаю своего папу. – Маленькие ручки дрожали, когда он жестикулировал. – И я люблю Джона. – Я тоже. – Слезы опять потекли по лицу Дафны. – Я тоже... Как и тебя. Они обнялись, и малыш начал всхлипывать, с шумом глотая слезы. Этот звук разрывал ей сердце. Так они и сидели, тесно прижавшись друг к другу. Казалось, прошло несколько часов, пока оба смогли пошевелиться. Они стали гулять, взявшись за руки, и Эндрю то и дело жестами показывал, каким был Джон и чем они вместе занимались. Дафну опять поразило, как случилось, что этот громадный лесоруб без слов очаровал ее сына. Джон не нуждался в словах. В нем было что-то редкостное и сильное, что побеждало все остальное, даже инвалидность Эндрю и страхи Дафны. Ее удивило, когда Эндрю спросил ее: – А ты здесь без него останешься, мама? – Да. Я здесь ради тебя, ты же знаешь. Но они оба знали, что в последние шесть месяцев это было не совсем так. Эндрю становился все более и более самостоятельным, а Дафна оставалась в Нью-Гемпшире из-за Джона. Но уехать сейчас она не могла. Эндрю в ней нуждался, и больше, чем когда-либо, а она нуждалась в нем самом. Уходили последние недели лета, а Дафна тихо тосковала по Джону. Вскоре она перестала плакать и больше не вела дневник. Она почти ничего не ела и ни с кем не виделась, кроме Эндрю. Только миссис Обермайер однажды, встретив ее, была поражена увиденным. Дафна, и так худенькая, потеряла двенадцать фунтов. На ее лице было написано страдание. Пожилая австрийка обняла ее, но даже тогда Дафна не заплакала, а просто стояла. Дафна превозмогла боль> она цеплялась за жизнь и даже не совсем понимала, зачем это делает, разве что ради Эндрю. Даже ему она не особенно была сейчас нужна. У него была школа, и миссис Куртис убеждала ее, что визиты следует сократить. – Почему бы вам не вернуться в Нью-Йорк? – спросила миссис Обермайер за чашкой чая, к которому Дафна едва притронулась. – К вашим друзьям. Вам здесь слишком тяжело. Я это вижу. Дафна это тоже понимала, но ей не хотелось возвращаться. Ей хотелось остаться в домике навсегда, в окружении его одежды, обуви, запаха, его духа. Еще задолго до гибели он переехал к ней насовсем. – Я хочу быть здесь. – Вам здесь быть плохо, Дафна. – Мудрая пожилая женщина говорила с убежденностью. – Вы не можете жить только прошлым. Дафна хотела ее спросить почему, но и так знала, что та ответит. Она уже через это прошла. Но от этого ей отнюдь не было легче. Ее рассказ напечатали в октябрьском номере «Коллинз», и Аллисон выслала ей дополнительный экземпляр с припиской: «Когда ты вернешься, черт возьми? Твоя Алли». «Никогда», – мысленно ответила ей Дафна. Но в конце месяца она получила письмо от владельца дома в Бостоне. Срок ее аренды истек, и дом был продан. Они хотели, чтобы она выехала до первого ноября. У нее больше не было отговорки, что ее квартира в Нью-Йорке занята. Ее квартирант выехал первого октября. Следовательно, ей ничего другого не оставалось, кроме как возвращаться в Нью-Йорк. Она могла бы и здесь найти другую квартиру или домик, но особого смысла это не имело. Дафна виделась с Эндрю только раз в неделю, и он едва обращал на нее внимание. Он был все более и более самостоятельным, и миссис Куртис подчеркивала, что ему пора все свое внимание уделять школе. В какой-то степени посещения Дафны мешали, так как он цеплялся за нее. Но на самом деле это Дафна цеплялась за него. Она упаковала все вещи, в том числе и Джона, погрузила все на грузовик, в последний раз оглядела домик, чувствуя, как к горлу подступает комок, и наконец издала ужасный крик. Рыдания сотрясали ее целый час, она сидела на диване плакала в тишине. Она была одна. Джона не стало. Ничто его не вернет. Он ушел навсегда. Она тихо прикрыла за собой дверь и на мгновение прислонилась к ней лицом, чувствуя на щеке древесину, вспоминая минуты, проведенные вдвоем с ним, а потом медленно пошла к машине. Грузовик Джона она подарила Гарри. В школе Эндрю был поглощен занятиями и друзьями. Дафна поцеловала его на прощание и пообещала вскоре приехать на День благодарения. Она тогда остановится в «Австримской гостинице», как и другие родители. Прощаясь с Дафной, миссис Куртис не говорила о Джоне, хотя она знала его и очень сожалела о его гибели. Дафна ехала до Нью-Йорка семь часов, а когда въехала в город и вдали мелькнул Эмпайр-Стейт-билдинг, не почувствовала никакого волнения. Это был город, который она не желала видеть, куда не хотела возвращаться. Здесь у нее больше не было дома. Здесь была только пустая квартира. Квартира была в приличном состоянии. Квартирант оставил ее чистой, и она вздохнула, бросив чемодан на кровать. Даже здесь обитали призраки. В пустой комнате Эндрю были его игрушки, в которые он больше не играл, книги, которые больше не читал. Он забрал с собой в школу все любимые сокровища, а из остального уже вырос. И Дафна почувствовала, как будто тоже выросла из этой квартиры. Она казалась удручающе городской после многих месяцев жизни в сельском доме, из окон которого открывался вид на холмы Нью-Гемпшира. Здесь из окон видны были только другие здания; миниатюрная кухонька совершенно не похожа на ту, уютную, к которой она привыкла; гостиная с выцветшими занавесками, старый ковер со следами игр Эндрю и мебель, местами оббитая и поцарапанная. Когда-то она так следила за ней, желая, чтобы это был счастливый, радостный дом для нее и ее сына. Теперь, без него, эта квартира потеряла значение. В первый же уик-энд Дафна пропылесосила ковер и поменяла занавески, купила новые цветы, а остальное ее мало волновало. Большую часть времени она гуляла, снова привыкая к Нью-Йорку и просто избегая своей квартиры. Время года было прекрасное, самое лучшее для Нью-Йорка, но даже прохладная, солнечная золотая осень не радовала Дафну. Ей все было совершенно безразлично, и в ее глазах было что-то мертвое, когда она вставала каждое утро и задавалась вопросом, что с собой делать. Она знала, что ей следует идти искать работу, но ей этого не хотелось. У нее все еще было достаточно денег, чтобы пока не работать, и она решила для себя, что после Нового года подумает об этом. Она положила рукопись в письменный стол и даже не стала себя утруждать звонками своей старой начальнице, Алли. Но однажды Дафна встретила ее в универмаге в центре, где выбирала пижаму для Эндрю. Он за прошедший год вырос на два размера, и миссис Куртис прислала ей список нужных ему вещей. – Что ты здесь делаешь, Дафф? – Зашла купить кое-что для Эндрю. – Она говорила нормально, но выглядела хуже, чем год назад, и Аллисон Баер не могла сдержаться, чтобы не выразить удивление и не спросить, что с ней в самом деле произошло. – Он в порядке? – В ее глазах было беспокойство. – Более чем. – А ты? – Весьма. – Дафна, – старая подруга коснулась ее руки, обеспокоенная увиденным, – ты не должна жить только ребенком. Неужели она так горюет оттого, что отдала сына в школу? Это было бы неразумно. – Я знаю. С ним все прекрасно. Ему там очень нравится. – А ты? Когда ты вернулась? – Пару недель назад. Я собиралась позвонить, но была занята. – Писала? – с надеждой спросила Алли. – Нет, что ты. – Она теперь не могла даже думать об этом. Это было частью ее жизни с Джоном, которая закончилась. Как она считала, закончилось и ее писательство. – А что случилось с той книгой, которую ты обещала мне прислать? Ты ее уже закончила? Она хотела сказать «нет», но почему-то не сказала. – Да, я закончила ее этим летом. Но не знаю, что делать дальше. Я хотела просить тебя найти агента. – Ну так что? – Аллисон была воплощением нью-йоркской деловитости; Дафне это претило, она была утомлена уже буквально через пять минут. – Можно мне посмотреть? – Думаю, да. Я тебе занесу. – Пообедаем завтра вместе? – Я не знаю, смогу ли... Я... -Она отвела взгляд, обессилевшая от толчеи в универмаге и напористости подруги. – Послушай, Дафф. – Алли мягко взяла Дафну за локоть. – Откровенно говоря, ты выглядишь хуже, чем когда уезжала год назад. На самом деле ты выглядишь просто дерьмово. Тебе надо взять себя в руки. Ты же не можешь избегать людей всю оставшуюся жизнь. Ты потеряла Джеффа и Эми, Эндрю пристроен в школу; так, Боже ты мой, надо и самой чем-то заняться. Давай вместе пообедаем и поговорим об этом. Перспектива была пугающей. – Я не хочу говорить об этом. Но когда она пыталась отделаться от Алли, было так, словно она слышала откуда-то издалека голос Джона: «Давай, крошка, черт подери... ты сможешь... ты должна...» Похоронить книгу в письменном столе было все равно что подвести Джона. – Ну ладно, ладно. Сходим пообедать. Но я не хочу говорить об этом. Ты можешь рассказать мне, как найти агента. На следующий день они встретились в «Золотой вдове». У Алл и было полно заманчивых предложений. Казалось, что она пытается разглядеть все в глазах Дафны, но Дафна строго придерживалась темы. Алл и дала ей список телефонов агентов, взяла рукопись и пообещала вернуть ее после уик-энда. Когда же вернула, восторгу ее не было предела. По ее мнению, это была лучшая вещь из того, что она читала за последние годы, и, несмотря на свое отношение к подруге, Дафна обрадовалась ее похвале. Алли всегда была чертовски суровым критиком и редко расщедривалась на одобрительные оценки. Но Дафне она рукоплескала. Она объяснила, с кем из списка следует связаться, и в понедельник Дафна позвонила, все еще делая это ради Джона, но неожиданно и ей стало передаваться возбуждение Алли. Дафна занесла рукопись в контору, думая, что позвонят ей не скоро, но через четыре дня, когда она собирала вещи, чтобы поехать к Эндрю, агент Айрис позвонила и спросила, можно ли с ней увидеться в понедельник. – Что вы думаете о книге? – Дафне вдруг понадобилось это знать. Она медленно возвращалась к жизни, и книга становилась для нее важной. Это была последняя нить, связывающая ее с Джоном, и последняя нить, связывающая ее с жизнью. – Что я думаю? Честно? Дафна затаила дыхание. – Я в восторге. И Аллисон права, она мне звонила в тот день, когда вы ее принесли. Это лучшая вещь, какую я читала за последние годы. Это, безусловно, большой успех, Дафна. Впервые за три месяца Дафна по-настоящему улыбнулась, и слезы наполнили ее глаза. Слезы волнения и облегчения, и опять явилось знакомое желание поделиться чем-то с Джоном, и боль от сознания, что это невозможно, потому что его нет. – Я думала, что в понедельник мы могли бы вместе пообедать. – Я уезжаю из города... – Дафна хотела отклонить приглашение, но в то же время знала, что в воскресенье вернется. – Ну, хорошо. Где? Аллисон предупреждала Айрис, что Дафна сложный человек, что ее травмировала гибель мужа и дочери три года назад, что у нее сын в интернате и что она еще по-настоящему не оправилась. Аллисон всегда думала, что Эндрю умственно неполноценный из-за глухоты. – В «Лебеде» в час? – Я буду. – Хорошо. И еще, Дафна... – Да? – Поздравляю! После этого разговора она села на кровать, ее колени дрожали, а сердце колотилось. Им понравилась ее книга... книга, которую она написала для Джона... Это было поразительно. Даже более поразительно, чем если бы ее купил издатель. (обратно)Глава 12
Ужин вместе с Эндрю в День благодарения был сам по себе особо радостным событием, но в ту ночь в своей постели в «Австрийской гостинице» она лежала без сна, и ее мысли блуждали, Трудно было забыть, как год назад Джон подобрал ее на темной проселочной дороге и началась их совместная жизнь. И вот всего год спустя она закончилась. Теперь ей предстояло возненавидеть еще один праздник, День благодарения, как раньше она возненавидела Рождество. И она знала, что в этом году Эндрю чувствовал то же самое. Она часто видела его задумчивым, и раз или два он с тоской в глазах жестами рассказывал ей о Джоне. Им обоим приходилось жить со слишком большой ношей воспоминаний. Неимоверно большой, думала она про себя, тщательно избегая проходить мимо их домика. Но Дафна не могла давать волю воспоминаниям о Джоне, ей надо было думать об Эндрю и его успехах в школе. В этот раз прощание с Эндрю было не особенно болезненным. Она собиралась приехать снова на рождественские каникулы. Перед отъездом Дафна совершила одинокую прогулку по холмам, где рассыпала пепел Джона. И вдруг поймала себя на том, что громко разговаривает с ним. Она рассказала ему о книге и об Эндрю, а потом, глядя на деревья и зимнее небо, прошептала: «Мне тебя правда очень не хватает». Она могла почувствовать эхо его мыслей и знала, что ему тоже не хватает ее. Может быть, это было везение, что она полюбила его. Дафна поняла это, только когда все кончилось. Она села в машину и поехала обратно в Нью-Йорк и, приехав, утомленная, свалилась в кровать. На следующий день она встала, надела белое шерстяное платье, теплое черное пальто и сапоги – на улице был заморозок. Дафне казалось, что она уже сто лет ни с кем не обедала в городе. Тем более странно было идти и обсуждать с какой-то женщиной свою книгу. Дафна помнила обеды с авторами по своей работе в «Коллинз», но забавно, что автором теперь была она. – Дафна? Меня зовут Айрис Маккарти, – представилась ей рыжеволосая, гладко причесанная дама; на ее ухоженных руках сверкал целый набор дорогих колец. В течение всего обеда они обсуждали ее книгу, а за кофе и шоколадным муссом Дафна заговорила о своем замысле второй книги. Этот замысел она обсуждала с Джоном, и он ему понравился. Айрис он тоже понравился, и Дафна довольно улыбнулась. Она как будто слышала, что Джон шепчет ей на ухо: «То, что надо, крошка... Тебе это под силу». К концу обеда они договорились о названиях обеих книг, и Дафне они очень понравились. Первую назвали «Осенние годы» – ту, которую она написала в Нью-Гемпшире, о женщине, которая в сорок пять лет теряет мужа, и как ей удается это пережить. Эту тему она знала хорошо, и Айрис заверила ее, что «на нее будет громадный спрос». Вторая должна была называться просто «Агата» – история молодой женщины, живущей в Париже после войны. Дафна уже написала об этом рассказ, но он так и просился, чтобы его расширили, и теперь такая возможность появилась. Дафна пообещала начать работу над планом немедленно, а затем обсудить его с Айрис. Уже вечером того же для она сидела за письменным столом перед чистым листом бумаги. И когда идеи стали приходить в голову, она дала им выход. К полуночи она набросала начало очень основательного плана, а по возвращении с рождественских каникул он был не просто закончен, но и хорошо отделан. План был доставлен Айрис в ее офис, и та его одобрила. На протяжении следующих трех месяцев Дафна заперлась у себя в квартире и работала день и ночь. Писать эту книгу было нелегко, но работа ей очень нравилась. Часто она была так поглощена, что даже не подходила к телефону, но, когда однажды в апреле он зазвонил, она встала, со стоном потянулась и пошла на кухню ответить. – Дафна? – Да. – Ее всегда так и подмывало ответить: «Нет, Дракула». Кто еще мог взять трубку? Может, горничная с верхнего этажа? Звонила Айрис. – У меня для вас новости. Но Дафна слишком устала, чтобы внимательно ее слушать. Накануне она работала над книгой до четырех часов утра. – Нам только что звонили из издательства «Харбор и Джонс». – И что? – Сердце Дафны вдруг стало бешено колотиться. За прошедшие четыре месяца это стало для нее важным. Ради нее самой, ради Джона, ради Эндрю. Она хотела, чтобы это случилось, и казалось, что все тянулось слишком долго. Но Айрис уверяла ее, что четыре месяца – пустяк. – Им понравилось? – Можете так считать. – Айрис улыбалась на том конце провода, – Я бы сказала, что предложенные ими двадцать пять тысяч долларов, пожалуй, об этом свидетельствуют. Дафна стояла у себя на кухне с открытым ртом, уставившись на телефон. – Вы серьезно? – Ну конечно, серьезно. – О Господи... ах Боже мой! Айрис! – По лицу Дафны разлилась улыбка, она смотрела на весеннее солнце за окном кухни. – Айрис! Айрис! Айрис! Наконец это случилось, Джон был прав. Она смогла это сделать! – А что же дальше? – Во вторник у вас обед с вашим редактором. Во «Временах года». Для вас это большой успех, миссис Филдс. – Да, да, конечно. Дафне был почти тридцать один год, и намечался выход в свет ее первой книги и обед с редактором во «Временах года». Уж на этот обед она никак не могла не пойти. И она пошла. Дафна прибыла точно в назначенное время, в полдень во вторник, в новом розовом костюме от Шанель, который она купила ради такого случая. Редактор оказалась строгого вида женщиной с хищной улыбкой, но к концу обеда Дафна поняла, что работать с ней можно, и не только работать, но и многому научиться. Когда они сели за столик рядом с бассейном в мраморном зале, где суетились официанты, Дафна завела речь о второй книге. Редактор спросила, можно ли взглянуть на черновики. Через месяц поступило предложение о заключении договора на издание второй книги. Закончив писать ее в конце июля, Дафна отправилась в Нью-Гемпшир, чтобы провести месяц с Эндрю. Первая книга с посвящением Джону вышла на Рождество и имела скромный успех, но вторая сделала ей имя. Она вышла следующей весной и почти сразу возглавила список бестселлеров газеты «Нью-Йорк тайме». За нее Дафна получила сто тысяч долларов. – Как ты воспринимаешь свой успех, Дафф? – Алл и испытывала материнскую гордость за ее успех и пригласила ее на обед по случаю своего тридцатидвухлетия. – Черт возьми, мне следовало бы заставить тебя заплатить за обед. Но было очевидно, что Аллисон не завидовала ей, а просто радовалась ее возвращению к жизни так, как и все те, кто знал Дафну и беспокоился за нее. – Над чем ты сейчас работаешь? Дафна писала уже третью свою книгу, заранее приобретенную издательством «Харбор и Джонс». Дафна рассчитывала закончить ее к лету. – Над вещью, которая будет называться «Сердцебиение». – Мне нравится название. – Надеюсь, тебе понравится и содержание. – Наверняка понравится, как и всем твоим читателям. – Алли ни на секунду в этом не сомневалась. – Я немного беспокоюсь. Они собираются послать меня в турне, чтобы ее рекламировать. – Давно пора. – Это ты так считаешь. Ну о чем мне говорить на шоу-программах в Кливленде? – Дафна по-прежнему выглядела очень молодой и немного застенчивой, и перспектива телесъемок заставляла ее очень нервничать. – Расскажи им о себе. Людям это интересно. Они меня всегда расспрашивают. – Ну и что им сказать? – Аллисон достаточно долго была ее подругой, чтобы знать правду. – Что у меня трагично сложилась жизнь? Именно этого я и не хотела бы им рассказывать. – Тогда расскажи им, как ты пишешь книги, и все такое прочее. – Аллисон хихикнула. – Расскажи им, с кем ходишь на свидания. Дафна стала прекрасно выглядеть за последние два года, Алли решила, что у Дафны толпа поклонников. Она не знала, что в жизни Дафны не было никого на протяжении двух лет, с тех пор как погиб Джон. Дафна приходила к выводу, что лучше так и оставить. Она не могла снова испытывать судьбу, да и не собиралась. – Кстати, в твоей жизни есть мужчина? Дафна улыбнулась: – Эндрю. – Как он? – спросила Алли из приличия. Ее интересовали взрослые мужчины, карьера, успех. Она никогда не была замужем и не особенно любила детей. – Прекрасно. Он большой, красивый и очень, очень занятой. – Он все еще в интернате? – Да, он пробудет там какое-то время. – В глазах Дафны мелькнула грусть, и Аллисон пожалела, что задала ей этот вопрос. – Надеюсь, что через пару лет я смогу забрать его домой. – Ты уверена, что это правильно? Аллисон выглядела шокированной. Она все еще считала, что Эндрю ненормальный. Дафна знала об этом ее мнении, но не обижалась на свою подругу. – Посмотрим. На этот счет существуют разные мнения. Я хотела бы отдать его здесь в обычную школу, когда он будет к этому готов. – А это не помешает твоей работе? Конечно, Аллисон не дано этого понять. Как может любимый ребенок помешать работе? Наоборот, он будет дополнительным стимулом. Кое-какие сложности, разумеется, возникнут, но с ними она справится. – Ладно, расскажи мне о поездке. Куда ты собираешься? – Еще не знаю. Средний Запад, Калифорния, Бостон, Вашингтон. Настоящее безумие. Двадцать городов за двадцать дней, без сна, без еды и страх оттого, что не помнишь, где находишься, проснувшись утром. – По мне, так просто здорово. . – Может быть. Для меня это кошмар. – Она часто вспоминала, как жила с Джоном в домике в Нью-Гемпшире, но то уже ушло и никогда не вернется. Теперь Дафна подумывала, не купить ли квартиру в Восточном районе шестидесятых улиц. После обеда Дафна отправилась домой работать над новой книгой, которой посвящала все дни, все ночи, все свое время, исключая лишь посещения Эндрю. Она нашла, чем заполнить вакуум: вымышленной жизнью, которую вели на страницах ее книг люди, жившие и умиравшие в ее воображении, удовольствием сотен и тысяч читателей и миллионными тиражами. В жизни Дафны не было ничего, кроме работы, но работа не была напрасной. Прямо накануне того, как ей исполнилось тридцать три, книга Дафны Филдс «Апачи» вышла на первое место списка бестселлеров газеты «Нью-Йорк тайме». Она справилась. (обратно)Глава 13
– Как она? – Глаза Барбары устало смотрели на сестру, когда та снова проверяла все мониторы, но спрашивать было бесполезно. Было очевидно, что перемен нет. Невозможно было представить себе, что Дафна лежит здесь, такая неподвижная, такая безжизненная, лишенная энергии, которой она так щедро делилась с теми, кто в ней нуждался. Барбара лучше других знала, какие горы Дафна могла свернуть. Она свернула их ради Эндрю, ради себя самой, а потом и ради Барбары. Когда сестра снова вышла из комнаты, Барбара на минуту прикрыла глаза, вспоминая свою первую встречу с ней, когда Барбара еще жила со своей матерью, – это были давно ушедшие, кошмарные дни. В тот день она вышла купить продукты и вернулась усталая, едва переводя дыхание после долгого подъема по лестнице в их мрачную, обшарпанную квартиру в Вест-Сайде, где Барбара уже много лет жила со своей больной матерью. Дафна нашла ее через Айрис Маккарти, которая знала, что Барбара берет на дом машинописные работы. Она этим занималась, чтобы дополнить свою мизерную секретарскую зарплату, и еще, чтобы найти себе отдушину в жизни, которую она так отчаянно ненавидела. Рукописи же позволяли хоть краем глаза заглянуть в иной мир, даже если работать при этом приходилось тяжело. Барбара вошла в дверь, пошатываясь под тяжестью сумок с продуктами. В нос, как всегда, ударил запах капусты и второсортного мяса. В квартире ее ждала Дафна – серьезная, спокойная, превосходно одетая и вся какая-то очень свежая. Для Барбары это было как открытое окно или глоток свежего воздуха. Глаза женщин встретились почти мгновенно, и Барбара покраснела. Никто сюда никогда не приходил, она всегда сама ходила в литературное агентство за работой. Барбара собиралась заговорить с Дафной, когда услышала знакомый жалобный вопль: – Ты купила мне рису? Барбара почувствовала внезапное желание ответить криком, но, видя, что Дафна на нее смотрит, сдержалась. – Ты всегда покупаешь не тот сорт. – Голос матери, как всегда, был отвратительный, жалобный, злой и настойчивый. – Да, я купила рис. Теперь, мама, почему бы тебе не пойти в комнату и не полежать, пока я... – А как насчет кофе? – Я купила. – Старуха стала копаться в обеих сумках, издавая негромкие квохчущие звуки, а у Барбары тряслись руки, когда она снимала куртку. – Мама, пожалуйста... Она виновато смотрела на Дафну, которая улыбалась, стараясь не раздражаться от наблюдаемой сцены. Но находиться здесь было невыносимо. Глядя на Барбару и ее мать, Дафна чувствовала себя в западне. В конце концов старуха ушла в комнату, и Дафна смогла объяснить цель своего визита. Рукопись свою она получила в срок, превосходно перепечатанную, без единой ошибки, похвалила Барбару и сказала, что такой результат просто удивителен при таких условиях работы. Дафне такая жизнь показалась ужасной, она задавалась вопросом, почему Барбара живет с матерью. Потом Дафна принесла ей новую работу – перепечатку правок, черновиков и сюжетных набросков, а через некоторое время предложила Барбаре приходить работать к себе на квартиру. И именно тогда Барбара наконец рассказала о себе. Ее отец умер, когда ей было девять лет. Мать прилагала все силы, чтобы вывести ее в люди – отдавала в лучшие школы, потом оплачивала учебу в колледже. Барбара поступила в Смитовский колледж и окончила его с отличием, но у матери тогда случился инсульт, и она больше не могла ей помогать. Теперь пришла очередь Барбары прилагать все силы ради матери – на протяжении двух лет ее необходимо было обслуживать. Барбара работала секретарем у двух адвокатов, а ночью ухаживала за матерью. Ни на что другое не оставалось ни времени, ни сил. О романе, который был у нее в колледже, пришлось забыть: ее молодой человек не выдержал бы такой жизни, и, когда он сделал ей предложение, Барбара со слезами на глазах отказалась. Она не могла оставить мать, да та и сама умоляла дочь не делать этого. Барбара просто не имела права ее бросить, после того как Элеонора Джарвис столько лет сбивалась с ног, работая на двух работах, чтобы Барбара могла окончить школу и колледж. Долг надо было отдавать, и мать постоянно напоминала ей об этом. «После всего, что я сделала, ты собираешься меня бросить...» Она жаловалась на судьбу и во всем обвиняла дочь, Барбара даже не помышляла ее бросать. Два года она выхаживала мать, одновременно работая в юридической фирме. К концу тех двух лет ее шеф бросил свою жену и стал ухаживать за Барбарой. Он знал, какую жизнь она ведет, и ему было ее очень жаль. Она была способной, умной девушкой, и он не мог смотреть, как она уродует свою жизнь. В двадцать пять Барбара стала похожа на старуху. Именно он уговаривал ее каждую свободную минуту проводить вне дома. Он заезжал за ней и частенько разговаривал с ее матерью. Мать сильно протестовала каждый раз, когда она уходила, но он был непреклонен, считая, что Барбаре надо хоть чуть-чуть жить и для себя. Барбара изо всех сил старалась угодить и ему, и матери. Вся эта история продолжалась шесть месяцев, до Рождества, когда он сказал Барбаре, что возвращается к своей жене. У той был климакс, ей было тяжело, да и дети доставляли массу хлопот. – У меня есть обязательства, Барбара. Мне надо вернуться и помочь ей. Я просто не могу позволить ей продолжать бороться одной... – Он говорил это извиняющимся тоном, и Барбара смотрела на него с легкой горькой усмешкой и со слезами на глазах. – А как же твоя собственная жизнь? Ты же говорил мне, чтобы я пользовалась жизнью, а не плясала под чужую дудку? – Все это правильно. Я верю во все, что говорил. Но, Барб, ты должна понять. Это нечто другое. Она моя жена. На тебя давит властная, требовательная, безрассудная мать. У тебя есть право на собственную жизнь. Но моя жизнь принадлежит также и Джорджии... просто невозможно выбросить за окошко двадцать два года. Она тоже не могла оставить мать. Он был подлец, и Барбара это поняла. Вскоре он вернулся к жене, и так закончилась эта история. После Нового года Барбара уволилась с работы, а через две недели обнаружила, что беременна. Целую неделю она раздумывала, закрывшись в своей комнате, рыдая в подушки. Она думала, что любит его, что он разведется и когда-нибудь женится на ней... что она уедет от своей матери. А что, черт возьми, ей было делать теперь? Сама она растить ребенка не может, а сделать аборт значило пойти против всего, во что она верила. Барбара не хотела делать этого. В конце концов она решилась позвонить ему. Он пригласил ее на обед, был очень деловит и несколько холоден. – У тебя все в порядке? Она кивнула с мрачным видом, чувствуя себя ужасно гадко. – А как мать? – Она в порядке. Но доктор беспокоится за ее сердце. – По крайней мере так мать говорила Барбаре каждый раз, когда та хотела уйти, пусть даже в кино. Теперь Барбара никуда не ходила. Незачем, да и не хотелось. Ее все время подташнивало. – Я хочу тебе кое-что сказать. – Да? – Он насторожился, словно нутром почуял. – Ты получила последний чек? Они решили, что ей будет лучше уволиться из фирмы, и он оформил ей большое выходное пособие, чтобы смягчить свою вину. «Да, сукин ты сын, – думала она про себя, – но дело не в деньгах. Дело в моей жизни. И твоем ребенке». – Я беременна. – Она не могла думать о том, чтобы сообщить ему это в более мягкой форме, да и не хотела. Плевать на Джорджию и ее климакс. Это было важнее. По крайней мере для Барбары. – Это в самом деле проблема. – Он пытался не подавать виду, но по его глазам она поняла, что он обеспокоен. – Ты уверена? У врача была? – Да. – Ты уверена, что это мой? – Даже зная ее жизнь, он не постеснялся сказать такое. Слезы брызнули у нее из глаз и скатились по щекам. – Знаешь что, Стэн? Ты настоящее дерьмо. Ты что, на самом деле думаешь, что я спала с кем-то другим? – Извини. Я просто подумал...... – Нет. Ты просто захотел увильнуть от этого. Он помолчал. Потом, когда он снова заговорил, его тон немного смягчился, но он даже не потрудился взять ее за руку, в то время как она, плача, сидела напротив за столиком. – Я знаю одного, он... Она съежилась от страха перед тем, что он собирается сказать. – Не знаю, смогу ли я это сделать... Я просто не могу... – Она стала всхлипывать, и он нервно оглянулся. – Послушай, будь реалисткой, Барб. У тебя нет выбора. – И, ничего больше не говоря, он нацарапал фамилию на клочке бумаги, выписал чек на тысячу долларов и все это вручил ей. – Позвони по этому номеру и скажи, что это я тебя прислал. – Ты что, там на особом положении? – Несомненно, с ним это случалось не впервые, и тогда она с отчаянием в глазах взглянула на него – это не был мужчина, которого она знала, это не был мужчина, которому она верила... мужчина, который, как она думала, спасет ее. – Ты бы и Джорджию отправил к нему? Он с каменным лицом смерил ее долгим взглядом: – В прошлом году я посылал к нему свою дочь. Барбара опустила глаза и покачала головой. – Извини. – И ты меня тоже. – Это были последние добрые слова, которые он ей сказал. Он встал, глядя на нее сверху вниз. – Барб, сделай это побыстрее. На это надо решиться. Ты почувствуешь себя гораздо лучше. Она посмотрела на него со своего места: – А если я этого не сделаю? – То есть как это? – Он почти плевал в нее словами. – Что, если я решу оставить ребенка? У меня еще есть выбор, ты знаешь. Я не обязана делать аборт. – Ну что ж, это будет только твое личное дело. – Ты хочешь сказать, чтобы я к тебе больше не обращалась? – Теперь она его ненавидела. – Я хочу сказать, что даже не знаю, мой ли это ребенок. И эта тысяча долларов – это последнее, что ты от меня получишь. – Вот как? – Она взяла чек, посмотрела и порвала его пополам, а потом отдала ему. – Спасибо, Стэн. Но сомневаюсь, что он мне понадобится. – С этими словами она встала и вышла из ресторана. Она плакала всю дорогу домой, а вечером мать ворвалась в ее спальню. – Он тебя бросил, не так ли? Вернулся к своей жене. – Она чуть ли не злорадствовала. – Я так и знала... Я говорила тебе, что он плохой... он, наверное, ее вообще не бросал. – Мама, оставь меня одну... пожалуйста... – Она легла на спину на кровати и закрыла глаза. – Что с тобой? Ты больна? – И она моментально догадалась. – О Господи... ты беременна... Ну, скажи! Скажи! Мать наступала на нее, кипя от злости. Барбара села, горестно глядя на мать. – Да, беременна. – О Господи... незаконнорожденный ребенок... ты знаешь, что люди о тебе скажут, ты, маленькая шлюха? – Ее мать вытянула руку и дала ей пощечину, и вдруг все разочарование и одиночество взорвалось в Барбаре. – Черт побери, да оставь же меня в покое. У тебя случилось то же с моим отцом. – Нет... мы были помолвлены... он не был женат. И он женился на мне. – Он женился на тебе, потому что ты была беременна. И он ненавидел тебя за то, что ты поймала его в ловушку. Я слышала это, когда вы дрались. Он всегда ненавидел тебя. Он был помолвлен с другой... Мать опять дала ей пощечину, и Барбара, рыдая, снова упала на кровать. На протяжении следующих двух недель они почти не разговаривали, кроме моментов, когда мать изводила ее по поводу незаконного ребенка. – Это будет конец... позор... ты никогда больше не найдешь себе работу. Барбару это тоже очень беспокоило. Она не могла найти работу с тех пор, как ушла из конторы Стэна. С минувшего лета безработица росла, и, даже имея диплом с отличием, она ничего не могла найти. А теперь еще и ребенок. В конце концов ей больше ничего не оставалось. Из гордости она не стала обращаться к Стэну за координатами его врача, она позвонила подруге, та ей порекомендовала врача, и она сделала нелегальный аборт в Нью-Джерси. Домой она ехала на метро, ошеломленная, мучаясь от обильного кровотечения, и на платформе потеряла сознание. Матери позвонили из Рузвельтовской больницы, но та отказалась приехать. Когда спустя три дня Барбара вернулась домой, мать встретила ее в гостиной и произнесла только: – Детоубийца. После этого ненависть между ними усилилась, и Барбара собиралась уйти от нее. Но с матерью случился новый инсульт, и Барбара не могла ее оставить. Все, что она желала, – это иметь свою жизнь и собственную квартиру. Она получала пособие по безработице, поскольку Стэн оформил ей увольнение по сокращению штатов; мать получала пенсию, и на это они жили, едва сводя концы с концами. Барбара опять на протяжении шести месяцев выхаживала мать, и все это время та не давала ей забыть об аборте. Она обвиняла ее в своем инсульте и выражала разочарование дочерью как человеком. Не сознавая этого, Барбара жила в состоянии постоянной подавленности. В конце концов, она нашла работу в другой юридической фирме. Но на этот раз не было ни романов, ни мужчин, была только ее мать. Она растеряла всех своих подруг по колледжу, и даже когда они звонили, сама их потом не искала. Что она могла им сказать? Все они были замужем, или помолвлены, или имели детей. У нее же был роман с замужним мужчиной, аборт, работала она секретаршей и, кроме того, постоянной нянькой при матери. А мать все время придиралась, что у них мало денег. В юридической фирме, где Барбара работала, была еще одна секретарша, которая посоветовала ей обзвонить литературные агентства. По вечерам она могла бы перепечатывать на машинке, деньги за это платили вполне приличные. И в самом деле, заработок иногда был совсем неплохим. Вот этим Барбара и занималась, когда Дафна Филдс с ней познакомилась – к тому времени она уже десять лет занималась перепечатыванием на дому рукописей, была иссушенной, одинокой, нервной старой девой тридцати семи лет. Когда-то интересная, хорошо сложенная, спортивная девушка, староста выпускного курса в колледже, получившая диплом с отличием по специальности «политические науки», занималась машинописными работами на четвертом этаже без лифта в Вест-Сайде, присматривая за своей еще более озлобленной матерью, которая ненавидела в Барбаре все. Особенно ее злило отсутствие в дочери характера и живости. А ведь именно она их в ней подавила. И главным образом из-за матери Барбара так никогда и не оправилась от трагического романа и аборта. Барбара была сразу же очарована Дафной, но не посмела расспрашивать о ее прошлом. В Дафне была какая-то замкнутость, как будто она хранила множество секретов. И только однажды поздно вечером, когда Барбара привезла ей рукопись – это было через год после их знакомства, – обе женщины стали рассказывать друг другу о себе. Барбара тогда рассказала ей об аборте и об отношениях с больной матерью. Дафна молча выслушала длинную горестную историю, а потом рассказала ей о Джеффе, Эми и Эндрю. Они сидели на полу в ее квартире, пили вино и говорили до рассвета. Теперь, когда Барбара смотрела на нее, безжизненную, прикованную к больничной койке, ей казалось, что это было вчера. Дафна была тверда во мнении, когда услышала рассказ Барбары, что той следует оставить мать. – Подумай, черт возьми, это же вопрос твоего выживания. – Они обе были немного пьяны, и Дафна ткнула в нее пальцем. – Что я могу сделать, Дафф? Она с трудом ходит, у нее больное сердце и было три инсульта... – Помести ее в дом престарелых. Тебе это по средствам? – Если поднапрячься, то было бы можно, но она говорит, что покончит с собой. А я перед ней в таком долгу. – Барбара подумала о прошлом. – Благодаря ей я окончила школу и колледж. – И теперь она гробит твою жизнь. Тут уж долг ни при чем. Подумай о себе. – А что я? Мне уж ничего не осталось. – Ты не права. Барбара посмотрела на Дафну, готовая с ней согласиться, но уже многие годы она не решалась думать о себе. Мать убила в ней все желания. – Ты можешь делать все, что тебе захочется. Так говорил Джон в домике в Нью-Гемпшире. И она рассказала о нем Барбаре – первой, с кем Дафна этим поделилась. Когда ночь подошла к концу, секретов больше не осталось. Снова и снова они возвращались к разговору об Эндрю. Он был всем для Дафны, всем, что имело значение и принималось в расчет, что вселяло жизнь и огонь в ее глаза. – Везет тебе, что он у тебя есть. – Барбара посмотрела на нее с завистью. Еесобственному ребенку теперь исполнилось бы десять. Она все еще часто об этом думала. – Да, я знаю. Но у меня нет его в обычном смысле. – Выражение сожаления промелькнуло на лице Дафны. – Он в школе. А у меня своя жизнь, так уж вышло. Барбара понимала, что по-своему судьба у Дафны далеко не лучше, чем у нее. У Дафны был сын и работа, но больше ничего. В ее жизни не было мужчины, с тех пор как погиб Джон, да она и сама не хотела никого. Конечно, на протяжении последних лет многие мужчины проявляли к ней интерес: старые друзья Джеффа, писатель, с которым она познакомилась в своем агентстве, издатели, но всем она отказывала. В общем-то она была так же одинока, как Барбара. И это их роднило. Дафна ей доверяла как никому другому, и когда Барбара стала приходить работать к ней домой, они вместе ходили обедать или по магазинам в субботу, во второй половине дня. – Знаешь что, Дафна? Мне кажется, что ты сумасшедшая. – Это не новость. – Дафна улыбнулась своей высокой подруге, когда они шли вдоль прилавков в магазине «Сакс». Барбаре удалось сбежать от матери на целых полдня, которые они решили провести вместе. – Я серьезно. Ты молода, красива. Ты могла бы иметь любого, какого захочешь, мужика. Зачем ты ходишь по магазинам со мной? – Ты моя подруга, и я тебя люблю. А мужчина мне не нужен. – Вот в этом и сумасшествие. – Почему? У некоторых никогда не бывает того, что было у меня. – Дафна сразу пожалела, что сказала это Барбаре, у которой так неудачно сложилась жизнь. – Конечно. – Барбара посмотрела на нее с теплой улыбкой, внезапно став моложе. – Я знаю, что ты имеешь в виду. Но у тебя-то нет причин ставить на этом крест. – Есть. У меня больше никогда не будет того, что было с Джеффри и Джоном. Чего еще можно желать? – Это не аргумент. – В моем случае – да. Больше в жизни такого мужчину найти невозможно. – Может, не именно такого. Какого-нибудь другого. Неужели ты действительно собираешься отказаться от этого на ближайшие пятьдесят лет? – Барбару ужаснула эта мысль. – Это в самом деле чертовски неумно. Самой же ей не казалось таким безумием то, что она отказалась от своей жизни ради матери, которую ненавидела. Но к себе она подходила с другой меркой. Дафна была красивой, миниатюрной, и Барбара сразу поняла, что она добьется большого успеха. Их жизни были, по мнению Барбары, диаметрально противоположны. Однако Дафна не считала положение подруги безвыходным и постоянно ворчала, чтобы та была поактивнее. – Почему, черт возьми, ты не переезжаешь? – Куда? В палатку в Центральном парке? А что я поделаю со своей матерью? – Помести ее в дом престарелых. – Это стало постоянным рефреном их разговоров, но когда Дафна купила квартиру на 69-й улице, она разработала план и с горящими глазами познакомила с ним Барбару. – Господи, Дафна, я же не могу. – Можешь, можешь. – Она хотела, чтобы Барбара переехала в ее бывшую квартиру. – Я не смогу платить за две. – Подожди, выслушай меня до конца. – Дафна предлагала Барбаре работу у нее на полную ставку за очень хорошее вознаграждение, которое ей самой было вполне по карману. – Работать у тебя? Ты серьезно? – Глаза Барбары засветились, словно летнее небо. – Конечно, но я не считаю, что делаю тебе благодеяние. Так мне, черт возьми, нужно. Благодаря тебе я избавлена от многих проблем. И не хотела бы услышать в ответ «нет». Барбара почувствовала, как сердце у нее радостно забилось, но в то же время она испугалась. А что же с матерью? – Не знаю, Дафф. Мне надо это обдумать. – Я уже все за тебя обдумала, – улыбнулась ей Дафна. – Ты не можешь начать работать, пока не переедешь от матери. Как по-твоему, предложение дельное? Оно было дельным, и обе это прекрасно понимали, но только после месяца мучительных колебаний Барбара стала внутренне готова это сделать. Дафна налила ей пару рюмочек, а потом на такси отвезла домой. На прощание она обняла Барбару, поцеловала и сказала, что в ее поступке нет ничего предосудительного. – Это твоя жизнь, Барбара. Дорожи ею. Матери и дела нет до тебя, а ты свой долг уже оплатила. Не забывай этого. Сколько еще ты можешь давать?.. Сколько еще ты бы хотела давать? Барбара уже знала ответ. Впервые за многие годы она видела свет в конце тоннеля и стремилась к нему так настойчиво, как только могла. Она поднялась наверх, сказала матери, что переезжает, и осталась глуха к угрозам мести, или инсультов, или шантажа. Мать переехала в дом престарелых в следующем месяце, и хотя она никогда не признавалась в этом Барбаре, ей там на самом деле понравилось. Она была с людьми своего возраста, и у нее была целая компания подруг, которым она могла жаловаться на свою эгоистичную дочь. И когда новая квартира Дафны была готова, Барбара переехала в ее старую. Ей казалось, что она наконец освободилась из тюрьмы. Свои прежние переживания она теперь вспоминала с улыбкой. Каждое утро она просыпалась с легким сердцем и ощущением свободы, потягивалась в постели, варила кофе в солнечной маленькой кухне, чувствуя себя так, словно ей был подвластен весь мир, а бывшую спальню Эндрю использовала в качестве кабинета, если приносила работу домой, что случалось нередко. Она работала у Дафны каждый день с десяти утра до пяти вечера и, уходя домой, всегда забирала с собой кипу работы. – Тебе что, больше делать нечего, ей-богу? Оставь это здесь. Но, говоря это, Дафна сама сидела за письменным столом, намереваясь работать до поздней ночи. Они хорошо подходили друг другу. Ни у одной, ни у другой жизнь не сложилась нормально, и все, что Барбара хотела от жизни, – это отплатить подруге за добро. Но существовала другая опасность, что Барбара перенесет свою склонность к преданности и рабству на Дафну. – Только не относись ко мне, как к своей матери! – шутливо наставляла Дафна, когда Барбара заходила в кабинет с обедом на подносе. – Ой, заткнись. – Я серьезно, Барб. Ты всю жизнь заботишься о ком-нибудь. Позаботься о себе для разнообразия. Сделай себя счастливой. – Я делаю. Мне нравится моя работа, ты же знаешь. Невзирая на то что приходится трудиться до боли в заднице. Дафна рассеянно улыбалась и снова принималась за работу, она сидела за пишущей машинкой с полудня до трех-четырех часов утра. – Как, черт возьми, ты можешь так работать? – Барбара смотрела на нее с изумлением. Дафна никогда не делала больше одного перерыва, только когда пила кофе или принимала душ. – Ты угробишь здоровье, работая в таком режиме. – Нет, не угроблю. Это делает меня счастливой. Но «счастливая» не было тем словом, которое бы Барбара употребила, чтобы охарактеризовать эту женщину. Глаза Дафны не светились счастьем уже несколько лет; оно в них поселялось лишь после посещения Эндрю. Обстоятельства ее жизни глубоко отразились в ее глазах, и тоска по людям, которых она потеряла, никогда по-настоящему не покидала ее. Радость и удовлетворение от работы она поместила между собой и призраками, с которыми жила, но все равно они всегда присутствовали, и это было видно, хотя она редко говорила об этом. Но временами, когда она была одна в своем кабинете, Дафна просто сидела и смотрела в окно, и мысли ее были далеко... в Нью-Гемпшире, с Джоном, или в местах, куда они ездили с Джеффом. Она старалась держать себя в руках, но на глаза наворачивались слезы при воспоминании об Эми. Это были ее сугубо личные переживания, которыми она делилась только с Барбарой. Дафна рассказывала ей о разных периодах своей жизни, о людях, которых потеряла, таких, как Джон, Джефф и Эми. И всегда, всегда она говорила об Эндрю – как она по нему тоскует. Теперь ее жизнь была не такой, как до отъезда Эндрю в Нью-Гемпшир. Она была наполнена работой, обустройством, славой, встречами с издателями, журналистами и ее агентом. У Дафны оказались неплохие деловые способности, о которых она раньше не подозревала, она хорошо знала свое ремесло, искусно владела пером и чувствовала, чего ждут от нее читатели. Единственное, что она ненавидела в своей работе, – это рекламные шоу, в которых ей периодически приходилось участвовать, потому что она не желала, чтобы кто-то совал нос в ее личную жизнь или расспрашивал об Эндрю. Она хотела защитить его от всего этого. Ничем из своей личной жизни Дафна не желала делиться с другими, она считала, что ее книги говорят сами за себя, но признавала, что для издателей реклама важна. Эта проблема снова возникла, когда ее пригласили на «Шоу Конроя» в Чикаго. Она колебалась, нервно грызя карандаш. – Что мне им ответить, Дафф? Ты поедешь завтра в Чикаго? – Они приставали к Барбаре все утро, и пора было дать им ответ. – В двух словах? – Дафна улыбнулась, массируя себе шею. Накануне она до поздней ночи работала над новой книгой и к утру ужасно устала. Но такая усталость была даже приятна. Дафна никогда не жаловалась на боль в спине или неизбежную боль в плечах. – Нет, я не хочу ехать в Чикаго. Позвони Джорджу Мердоку в «Харбор» и спроси его, считает ли он это нужным. – Но она уже и так знала ответ. Хоть в тот момент новая книга только писалась, популярность всегда была важна, а «Шоу Конроя» в Чикаго было одним из самых известных. Барбара пришла через пять минут с виноватой улыбкой. – Ты на самом деле хочешь знать, что он сказал? – Нет, не хочу. – Так я и думала. Барбара наблюдала, как Дафна со вздохом погрузилась в удобное кресло, откинув голову назад на мягкую белую подушку. – Почему ты так чертовски много работаешь, Дафф? Нельзя же все время выдерживать такой темп. Дафна по-прежнему выглядела как девочка, когда так сидела, но атмосфера женственности всегда окружала ее, хотя сама она старалась об этом не задумываться. Дафна была добра со всеми, с кем ей приходилось общаться: с издателями, агентом, секретаршей, немногими друзьями, сыном, персоналом школы, другими детьми. Она была добра ко всем, но не к себе. Себе она ставила непосильные цели и предъявляла почти невозможные требования. Она работала по пятнадцать часов в сутки и всегда была терпеливой, участливой, душевной. В душевности она отказывала только себе. Она в самом деле никого к себе не допускала. В ее жизни было слишком много боли, слишком много утрат, и теперь она навсегда окружила себя стенами. Барбара снова об этом подумала, глядя на неподвижное тело, распластанное на больничной койке, и эхо слов Дафны раздавалось у нее в голове. – Я не убегаю, Барб. Я делаю карьеру, а это не одно и то же. – Разве? По мне, так то же самое. – Может быть. – С Барбарой она обычно была откровенна. – Но это ради доброго дела. Она работала на благо Эндрю. Благосостояние ему когда-нибудь понадобится, и она хотела, чтобы его жизнь была легкой. Все, что она делала, казалось, сфокусировалось на сыне. – Я уже раньше это слышала. Но ты достаточно уже сделала для Эндрю, Дафф. Почему бы тебе для разнообразия не подумать о себе? – Я думаю. – Неужели? Когда? – В течение примерно десяти секунд, когда умываюсь утром. – Она улыбнулась своей наперснице и подруге. Были вещи, о которых Дафна не любила говорить. – Итак, они хотят, чтобы я ехала в Чикаго, да? – Ты можешь оторваться от работы над книгой? – Если понадобится. – Так мы едем? – Не знаю. – Она нахмурила брови и посмотрела в окно, прежде чем снова перевела взгляд на Барбару. – Меня это шоу беспокоит. Я никогда в нем не участвовала и, по правде говоря, не хочу. – Почему? Барбара предвидела ответ на этот вопрос. Боб Конрой задавал много каверзных вопросов и был дотошен. У него была превосходная команда «ищеек», он умел раскапывать мелочи из прошлого людей и выкладывать их в своих передачах на национальном телевидении. Барбара понимала: Дафна боялась, что это может случиться и с ней. Она прилагала большие усилия, чтобы ее биография не стала достоянием масс – ни с кем никогда она не говорила о Джеффе или Эми и была непреклонна в том, что касалось Эндрю. Она не хотела, чтобы сын стал предметом досужего любопытства или сплетен. Он жил счастливой, изолированной жизнью в Говардской школе в Нью-Гемпшире и понятия не имел, что его мама – знаменитость. – Ты боишься Конроя, Дафф? – Если честно? Да. Я не хочу, чтобы прошлое выставлялось напоказ. – Она смотрела на Барбару своими большими голубыми и печальными глазами. – То, что случилось со мной, – это мое личное дело. Ты знаешь, как я это воспринимаю. – Да, но ты не можешь всегда все держать в секрете. Что, если что-то откроется, разве это так страшно? – Для меня да. Я не нуждаюсь ни в чьем сочувствии, да и Эндрю тоже. Нам этого не нужно. – Она распрямила спину и села, глядя независимо и дерзко. – Это бы только заставило твоих читателей любить тебя еще больше. Барбара лучше, чем кто-либо, знала, как они уже ее любили. Она отвечала на все письма от почитателей таланта Дафны. Дафна умела изливать душу в своих книгах, так что читателям казалось, что они с ней знакомы. В самом деле, они знали ее лучше, чем она думала, хотя она и выдавала написанное за вымысел. – Я не хочу, чтобы они любили меня больше. Я хочу, чтобы они любили мои книги. – Может, тут и нет разницы. Дафна молча кивнула и затем со вздохом поднялась. – Кажется, у меня нет выбора. Если я не поеду, Джордж Мердок мне не простит. Они весь нынешний год пытались затащить меня на это шоу. – Она посмотрела на Барбару с улыбкой. – Поедешь со мной? В Чикаго отличные магазины. – Поедем с ночевкой? – Конечно. У Дафны там была любимая гостиница, как почти во всех больших городах. Это всегда были самые спокойные, самые консервативные и в то же время самые элегантные гостиницы в каждом городе. Гостиницы, где дамы носят собольи шубы и полагается говорить шепотом. Она заказывала номер и пользовалась возможностями, которые ей предоставляла ее профессия. Она к этому уже привыкла, и ей приходилось признавать, что в ее успехе были стороны, которые были ей очень приятны. Дафне больше не надо было беспокоиться о деньгах, она знала, что будущее Эндрю обеспечено. Она удачно вкладывала деньги; по возможности покупала дорогую одежду, антиквариат и картины, которые ей нравились. Но в то же время в Дафне не было ничего показного. Она не тратила деньги на то, чтобы хвастаться своим успехом, не устраивала шикарных вечеринок и не пыталась удивить своих друзей. Все было очень спокойно, просто и основательно. И. как это ни забавно, она знала, что это было именно то, чего бы хотели Джеффри и Джон. Она повзрослела, и сознание этого было ей приятно. – У тебя шоу в десять вечера. Ты хочешь ехать утром или после обеда? Перед тем как мы поедем в студию, тебе надо поужинать и немного отдохнуть. – Да, мамочка. – Ой, заткнись. Барбара что-то быстро записала в своем блокноте и исчезла, в то время как Дафна опять вернулась к письменному столу с озабоченно нахмуренными бровями и уставилась на клавиатуру машинки. Она сказала Барбаре, что у нее странное чувство по поводу шоу, какое-то нехорошее предчувствие. А Барбара сказала ей, что она глупая. Теперь Барбара вспомнила это, глядя на лицо Дафны, так искалеченное сбившей ее машиной. Казалось, в Чикаго они были сто лет назад. (обратно)Глава 14
Дафна и Барбара прибыли в студию точно в девять тридцать. На Дафне было простое шелковое платье бежевого цвета, а волосы уложены в изящный узел. В ушах были жемчужные серьги, а на руке – кольцо с большим красивым топазом, которое в этом году она купила у Картье. Она выглядела элегантно и отнюдь не шикарно или вызывающе. Это было типично для Дафны. На Барбаре, как обычно, был один из ее темно-синих костюмов. Дафна всегда подтрунивала, что у подруги их четырнадцать и все похожи, но Барбара выглядела аккуратно и строго, прямые черные волосы падали гладким блестящим потоком ей на плечи. Теперь, после разрыва с матерью, она выглядела моложе. Дафна заметила, что на протяжении года Барбара делается все более и более привлекательной. Она стала напоминать свои фотографии студенческих лет, и теперь, когда смотрела на Дафну, ее глаза смеялись. Когда их проводили в стандартную комнату ожидания с удобными креслами, баром и обслугой, Барбара наклонилась и шепнула: – Не будь такой скованной. Он не собирается тебя укусить. – Откуда ты знаешь? Дафна всегда нервничала на подобных мероприятиях. Отчасти поэтому она брала с собой Барбару. Да и вообще здорово было иметь рядом подругу, с которой можно поболтать в самолете, которая помогала разобраться, если с броней гостиницы не все было в порядке. Барбара обладала замечательной способностью держать все под контролем. Благодаря ей багаж никогда не терялся, еду Дафне приносили в номер вовремя, постоянно были под рукой свежие газеты и журналы, не досаждали репортеры, а когда предстояло интервью, вещи всегда были отглажены. Казалось, что все это ей удается без особого труда. – Может, хочешь выпить? Дафна покачала головой: – Не хватает только, чтобы я там появилась подшофе. Тогда я и впрямь выболтаю ему кое-что. – Они обе улыбнулись, и Дафна устроилась в кресле. Она вообще практически затем взял с журнального столика книгу и снова взглянул в камеру. – Но предвижу, что большинство из вас знают о ней самой очень мало. Судя по всему, Дафна Филдс – особа очень замкнутая. Он снова улыбнулся и медленно повернулся к Дафне, в то же время камера захватила и ее, вторая камера медленно приближалась к ним. – Мы рады, что ты прибыла к нам сюда, в Чикаго. – Я рада встрече с тобой, Боб. – Дафна застенчиво улыбнулась Конрою, зная, что камера покажет ее спереди и поворачиваться к ней не обязательно. Такая проблема возникала во время шоу в провинциальных городах, где камеры всегда были направлены только на ведущего. Однажды в Санта-Фе она целый час участвовала в шоу, не зная, что зрители видели только ее затылок. – Ты живешь в Нью-Йорке, не так ли? – Да. – Она улыбнулась. – Ты сейчас работаешь над книгой? – Да. Она называется «Любовники». – Прелестное название! – Он подмигнул невидимым зрительницам. – Твоим читателям оно понравится. Ну и как продвигается исследование? – Он издал двусмысленный смешок, и Дафна слегка покраснела под макияжем. – Моя работа – художественный вымысел. Голос Дафны и улыбка были мягкими, и в ней было что-то необыкновенно деликатное, из-за чего сам Конрой выглядел наглым и грубым со своим вопросом. Но потом он ее за это проучит. Это была его программа, и он собирался вести ее долго. Дафна была только гостем одного вечера. Он оказался в дураках, и никогда ей этого не забудет. – Погоди, погоди, ведь у такой красивой женщины... должна быть целая армия любовников. – Однако не сейчас. – На этот раз в ее глазах блеснуло озорство, и она не покраснела. Она начинала чувствовать, что сможет это пережить. Но юмор пропал в голосе Конроя, когда он повернулся к ней. – Как я понял, Дафна, ты вдова? Этого хода она не ожидала, и на мгновение у нее чуть не перехватило дыхание. Он хорошо провел свое расследование. Дафна кивнула. – К большому сожалению. – Но, – он выдавливал из своего голоса симпатию и сострадание, – может, именно поэтому ты так хорошо пишешь. Ты много пишешь о проблеме потери близких, и тебе эта тема, несомненно, знакома. Мне говорили, что ты потеряла еще и маленькую дочку. Ее глаза от возмущения наполнились слезами. Он как ни в чем не бывало потрошил ее за своим журнальным столиком и позволял себе разглагольствовать о Джеффе и Эмм. – Я вообще-то не обсуждаю свою личную жизнь в контексте моей работы, Боб. – Она старалась вернуть себе самообладание. – Может, напрасно? – Его лицо было серьезным, голос участливым. – Это бы приблизило тебя к читателям. Цап! Тут она и попалась. – Поскольку мои книги реалистичны... Он прервал ее: – Как они могут быть реалистичны, если читатели не знают, какая ты? – Прежде чем она смогла ответить, он продолжил: – Правда ли, что твои муж и дочь погибли при пожаре? – Да. – Она сделала глубокий вдох, и Барбара видела на мониторе, как слезы выступили у нее на глазах. Как противно. Сукин сын... Дафна была права, опасаясь приезжать сюда. – Твой муж был прототипом мужчины из повести «Апачи»? Она покачала головой. Прототипом был Джон. И вдруг она в панике подумала: а если он знает и о нем?! Но это было невозможно. – Какой необыкновенный персонаж! Я думаю, все женщины Америки влюбились в него. Знаешь, из этой книги получился бы замечательный фильм. Она стала понемногу приходить в себя, молясь, чтобы интервью быстрее закончилось. – Я очень рада, что ты так думаешь. – А перспективы на будущее? – Пока неясны, но мой агент считает, что они есть. – Дафна, скажи, сколько тебе лет? Вот дрянь. Никак не удавалось от него улизнуть, но она мягко рассмеялась. – Я должна сказать правду? – Но она не делала секрета из своего возраста. – Мне идет тридцать третий. – Господи Боже мой. – Он оценивающе оглядел ее. – Тебе столько не дашь. Я бы спокойно дал тебе двадцать. Это был шарм, который так нравился его женской аудитории. Но в то время как Дафна улыбнулась, он снова пошел в наступление с тем же участливым видом, которому она уже не верила, и правильно делала. – И ты никогда не выходила замуж вновь? Как давно ты вдова? – Семь лет. – Это, вероятно, был ужасный удар. – И с невинным видом: – А сейчас в твоей жизни есть мужчина? Дафна хотела закричать или дать ему пощечину. Ведущие никогда не задавали таких вопросов писателям-мужчинам, но женщины были законной добычей. Считалось как бы само собой разумеющимся, что личная жизнь женщины-писателя – часть ее работы, а следовательно, общее достояние. Мужчина бы послал его ко всем чертям. – В данный момент нет, Боб, – ответила она с любезной улыбкой. Он слащаво улыбнулся. – Я не могу в это поверить. Ты слишком красива, чтобы оставаться одной. Ну а книга, над которой ты сейчас работаешь... как бишь ее, «Любовники»? Она кивнула. – Когда она выйдет? Я уверен, что твои читатели ждут ее затаив дыхание. – Да нет, пусть дышат спокойно. Книга не выйдет раньше следующего года. – Будем ждать. Они снова обменялись искусственными улыбками. Дафна ждала передышки, она знала, что конец близок, и не могла дождаться момента, когда можно будет вскочить со стула и убежать подальше от его вопросов. – Знаешь, я хотел тебя спросить еще вот о чем... Она уже приготовилась к тому, что он спросит, какой у нее размер лифчика. – Наш следующий гость – тоже писатель, но по другой, чем у тебя, тематике. Его книга не беллетристика. Он написал замечательную книгу об умственно отсталых детях. Дафна почувствовала, что бледнеет, видя, к чему он клонит... но он не посмеет... – Моя хорошая знакомая из «Коллинз», где ты работала, сказала, что у тебя неполноценный ребенок. Может, с родительской точки зрения ты могла бы пролить нам свет на данный вопрос? Она посмотрела на него с неприкрытой ненавистью, но думала об Алли... Как она могла сказать ему такое? Как она могла? – Мой сын не неполноценный, Боб. – Вот оно что... может, я не так понял... Она представила себе, как все зрительницы затаили дыхание. За десять коротких минут они узнали, что Дафна потеряла мужа и дочь при пожаре, работала в «Коллинз», в данный момент в ее жизни нет мужчины, а теперь они еще думают, что ее единственный выживший ребенок ненормальный. – У него просто задержка развития? – Нет, это не так. – Она повысила голос. Неужели он думает, что ему все позволено? – Мой сын слабослышащий, он учится в специальной школе, но в остальном это совершенно нормальный, замечательный ребенок. – Я рад за тебя, Дафна. Сукин сын. У Дафны внутри все кипело. Она чувствовала себя так, словно с нее сорвали одежду. Но хуже, гораздо хуже этого было то, что он раздел Эндрю. – Я был рад узнать о «Любовниках» и сожалею, что наше время подходит к концу. Но надеемся встретиться с тобой снова, когда ты посетишь Чикаго. – С удовольствием. – Она через силу улыбнулась ему, затем повернулась к телезрителям. Наступила рекламная пауза. Едва сдерживая бешенство, она отстегнула микрофон от платья и вручила ему, пока шла реклама. – Знаешь, я поражаюсь, как тебе самому не совестно. – Почему? Потому что у меня пристрастие к правде? – Теперь он улыбался. Ему было на нее наплевать. Его заботил только он сам, его зрители и спонсоры. – Для чего это все нужно? Какое ты имеешь право задавать кому бы то ни было такие вопросы? – Это вещи, которые люди хотят знать. – Это вещи, которые люди не имеют права знать. Разве в твоей жизни нет такого, что бы ты не хотел выставлять напоказ? Неужели для тебя не существует ничего святого? – Вопросы здесь задаю я, Дафна, – сказал он холодно. Между тем следующий гость готовился занять ее место. Она еще мгновение постояла, глядя на него, и не подала ему руки на прощание. – Это твое счастье. – И, сказав это, Дафна повернулась и покинула студию. Она стремительно прошла в комнату ожидания и дала знак Барбаре следовать за ней. Двумя часами позже они были в самолете, летящем в Нью-Йорк. Это был последний рейс, и в аэропорт Ла Гуардия они прибыли в два часа ночи. В два тридцать Дафна была уже у себя в квартире. Барбара поехала домой на такси. Дафна закрыла за ней дверь и пошла прямо к себе в спальню. Не включая свет, она упала на кровать и зарыдала. Она чувствовала себя так, словно в этот вечер вся ее жизнь была выставлена напоказ – вся ее боль и печаль. Единственное, о чем он не знал, это о Джоне. Хорошо, что она не рассказала Алли... а скажите-ка, мисс Филдс, это правда, что вы сожительствовали с дровосеком в Нью-Гемпшире?.. Она повернулась на спину и лежала в темноте, глядя в потолок, думая об Эндрю. Может, и хорошо, что он в школе. Может, если бы он был дома с ней в Нью-Йорке, его жизнь превратилась бы в интермедию. Люди вроде Алли относились бы к нему как к уроду... ненормальному... отсталому... Она съежилась от этих слов и лежала, пока не заснула как была: в бежевом платье, со следами слез на лице и таким чувством в сердце, словно ее избили камнями. В эту ночь ей снились Джеффри и Джон, и она проснулась на следующее утро от телефонного звонка, замирая от ужаса... Она вообразила, что что-то случилось с Эндрю. (обратно)Глава 15
– Дафна, ты здорова? – Это была Айрис. Она видела шоу. – Как-нибудь переживу. Но больше этого делать не буду. Можешь сказать это Мердоку, или я сама скажу. Как хотите, но это решено. Мои публичные выступления закончены. – Я не думаю, что тебе следует это так воспринимать, Дафф. Подумаешь, одно неудачное шоу. – Это по-твоему. А я не собираюсь переживать такое вновь, да и не обязана. Мои книги и так хорошо продаются, я не желаю, чтобы какие-то подонки развешивали мое белье на своей веревке. Но самое главное, что нестерпимо мучило, – это как они поступили с Эндрю. Она так старалась защитить его от этого мира, и в один миг они прорвали ее защиту и представили его неполноценным. Она все еще содрогалась от того, что они сказали. И каждый раз, когда она думала об этом, ей хотелось убить Алли. Дафне пришлось заставить себя слушать то, что говорила Айрис. Та настаивала, чтобы они пообедали во «Временах года», но Дафне этого совершенно не хотелось. – Что-то случилось? – Нет. Очень интересное предложение, и я хотела бы его с тобой обсудить. Может, зайдешь в офис? – А почему бы тебе не прийти сюда? Я не настроена никуда выходить. – По правде говоря, ей хотелось спрятаться в какое-нибудь укромное место. Или уехать в школу, чтобы обнять Эндрю. – Хорошо. Я буду в полдень. Ты здорова? – Абсолютно. И не забудь позвонить Мердоку. Но Айрис хотела с этим немного повременить. Реклама книг Дафны была просто слишком важна, чтобы принимать скоропалительные решения, и она надеялась, что Дафна передумает. Хотя, зная Дафну, можно было бы предположить, что она не передумает. У нее был упрямый характер, и больше всего она ценила неприкосновенность своей личной жизни. Надругательство над ней по национальному телевидению было для Дафны тяжелым испытанием. – Ну, тогда до скорого. Было уже десять часов, когда Дафна услышала в двери скрежет ключа Барбары. Она еще не переменила вчерашнее платье. Вид у нее был как после грандиозной попойки. – Господи, ну и видок у тебя сегодня утром. – Барбара, облаченная в серые слаксы и красный свитер, лучезарно улыбалась, и Дафна улыбнулась ей, ставя на огонь кофеварку. Барбара вошла на кухню и поставила сумку. Это был один из редких моментов, когда у нее в руках не было блокнота. – Ты хоть спала сегодня? – Барбара очень беспокоилась за нее, но не решилась звонить. Она полагала, что Дафна если и не спит, то, во всяком случае, не станет ни с кем общаться. Однако наутро Дафна была уже законной добычей, и Барбара себя не сдерживала. – Ты меня, конечно, извини, но выглядишь ты дерьмово. Ты спала? – Немного. Барбара отхлебнула горячего кофе. – Я очень сожалею, что вчера вечером все так получилось, Дафф. – И я тоже. Но больше этого не случится. Я только что попросила Айрис позвонить Мердоку. – Она не позвонит. – Барбара сказала это со знанием дела, и Дафна улыбнулась. – Ты всех знаешь как облупленных, не так ли? Может, ты и права. Но если она не позвонит, я сама это сделаю. – Как ты намерена поступить с Аллисон Баер? В глазах Дафны появилась угроза. – Откровенно говоря, я хотела бы убить ее. Но я ограничусь тем, что выскажу, что я об этом думаю, и больше с ней разговаривать не буду. – С ее стороны гадко было так поступать. – Я могу простить ей почти все, но не то, что она сказала про Эндрю. Они обе мгновение помолчали, и Дафна со вздохом уселась в кресло. Она чувствовала, что смертельно устала. Казалось, что ей необходим кто-то, кто бы раздел ее, приготовил горячую ванну и расчесал волосы, и Барбаре вдруг стало жаль, что у Дафны нет мужа, который бы все это сделал. Она могла бы быть хорошей женой, но и сама нуждалась в ком-то, кто бы о ней заботился. Дафна напряженно работала, испытывала слишком много огорчений и несла все заботы на своих хрупких плечах. Ей был нужен мужчина, как и самой Барбаре, но вопрос был в том, чтобы найти подходящую кандидатуру, а Дафна не хотела об этом и слышать. Она пальто себе подавать не позволяла, какой уж там брак! – Кстати, а что Айрис было нужно? – Не знаю. Она что-то сказала об интересном предложении. Но если это рекламная поездка, – Дафна грустно улыбнулась и встала, – я намерена сказать ей, чтобы она от этого отказалась. – Совершенно с тобой согласна. Надо ли кому-нибудь позвонить? Дафна подала ей список и пошла принять душ. А когда без пяти двенадцать пришла ее агент, на Дафне были белые габардиновые слаксы и белый кашемировый свитер. – Господи, ну и прелестно же ты выглядишь! – Характерная для нее спокойная элегантность всегда нравилась Айрис. У большинства писателей элегантность была зачастую показная, у Дафны же никогда. Она имела свой очень изысканный стиль, который временами делал ее старше, но менять его она не собиралась. Впрочем, тяжелые жизненные испытания тоже не могли пройти бесследно для ее внешности, но они же наделили ее мудростью, уравновешенностью и большим чувством сострадания. – Ну, что новенького? – Они сели обедать, и Дафна налила Айрис бокал белого вина, Айрис же посмотрела на нее долгим и строгим взглядом. – Какие-то неприятности? – Ты работаешь слишком напряженно. – Айрис сказала это как строгая мать, она знала Дафну достаточно долго, чтобы читать по ее глазам, что она и сделала в этот раз. Она заметила, что Дафна устала. – Почему ты так считаешь? – Ты слишком похудела, и глаза у тебя такие, словно тебе полтораста лет. – На самом деле мне столько и есть. Сто пятьдесят два, если быть точной. В сентябре исполнится сто пятьдесят три. – Я серьезно, Дафна. – И я тоже. – Ну ладно, я это с мыслью о моем бизнесе. Как продвигается книга? – Неплохо. Я.закончу ее в следующем месяце. – А что потом? Какие планы? – Я хотела бы какое-то время провести с Эндрю. Знаешь, – она с горечью посмотрела на Айрис, – с моим больным сыном. – Дафна, не принимай это так близко к сердцу. В телеинтервью и газетах говорится множество такой чепухи. – Да, но они не будут говорить этого обо мне и моем сыне. Вот и все. Ты позвонила Мердоку? – Она строго посмотрела на Айрис. – Еще нет. Но позвоню. Барбара была права: Айрис обманывала ее. – Если ты не позвонишь, я сделаю это сама. Утром я говорила с тобой совершенно серьезно. – Ну ладно, ладно. – Айрис протянула руку, словно моля о помиловании. – Я хотела бы обсудить прежде всего еще кое-что. Тебе поступило очень интересное предложение. – Что надо делать? – Дафна не казалась особенно обрадованной, скорее подозрительной. Она жестоко обожглась накануне вечером. – Сделать фильм на Западном побережье. – Айрис предложение явно нравилось. Дафна внимательно слушала. – Они хотят купить права на «Апачи». Вчера, после твоего отлета, звонили со студии «Комсток». Они хотят приобрести права, но хотят также предложить тебе написать сценарий. Дафна долго сидела молча. – А ты думаешь, я смогла бы? Я никогда этого не делала. – Ее глаза выражали беспокойство. – Для тебя нет ничего невозможного, если ты только захочешь. – Это опять было эхо слов Джона, и Дафна улыбнулась. – Я бы хотела в это верить. – Ну так я верю, и они тоже. Они предлагают очень приличный гонорар. Ты бы жила там, а они бы оплачивали все расходы по проживанию, в пределах разумного. – Что это значит? – Дом, питание, развлечения, горничная и машина с водителем. Дафна сидела, задумчиво уставившись в тарелку, и потом посмотрела на Айрис: – Я не могу этого сделать. – Почему? – Айрис удивленно подняла брови. – Дафна, это фантастическое предложение. – Я не сомневаюсь в этом и уступлю им книгу. Но я не могу написать сценарий. – Почему? – Сколько мне пришлось бы там пробыть? – Возможно, около года, чтобы написать, и еще они хотят, чтобы ты была консультантом на съемках. – Не меньше года, а может, и больше. – Дафна вздохнула, внимательно глядя на Айрис. – Я не могу оставить Эндрю на такой большой срок. – Но он и так ведь здесь не живет. – Айрис, я стараюсь навещать его хотя бы раз в неделю, если могу. Иногда я остаюсь там на уик-энд. Я не смогу этого делать, живя в Лос-Анджелесе. – Ну тогда возьми его с собой. – Он не готов уйти из школы. Я бы этого очень хотела, но он не готов. – Отдай его в тамошнюю школу. – Ему это будет слишком тяжело. Это было бы просто нечестно. – Она решительно покачала головой. – Я не могу. Может, через пару лет, но не сейчас. Я действительно очень сожалею. Попробуй им это объяснить. – Я не хочу им это объяснять, Дафна. По-моему, это жертва, которую вы оба должны принести. Я хотела бы, чтобы ты подумала об этом хотя бы до понедельника. – Я не изменю своего решения. Зная Дафну, Айрис опасалась, что она действительно не изменит его. – Ты совершишь серьезную ошибку. Это на самом деле следующий важный шаг в твоей карьере. Как бы тебе не пришлось потом жалеть, если ты его не сделаешь. – А как я это объясню семилетнему ребенку? Сказать ему, что моя работа для меня важнее, чем он? – Постарайся объяснить это ему, ты в конце концов можешь прилетать на день или два, когда у тебя будут перерывы. – А что, если я не смогу вырваться? Тогда что? Я не могу позвонить ему по телефону и объяснить. Это остановило Айрис. Конечно, Дафна не могла бы позвонить ему. Об этом Айрис не подумала. – Я просто не могу, Айрис. – Но почему бы тебе не подождать с решением? Но Дафна уже знала, каким будет ее решение в понедельник, и после того, как Айрис ушла, она обсудила его с Барбарой, свернувшись калачиком в большом уютном белом кресле. – А ты бы хотела поехать, если бы могла? – Честно говоря, я не вполне в этом уверена. Я не уверена, что могла бы написать сценарий, да и жизнь в течение года в Голливуде – это не в моем вкусе. – Она оглядела свою милую небольшую квартиру со вздохом и пожала плечами. – В любом случае не стоит даже думать об этом. Я не могу оставить Эндрю на такой срок. Нет гарантии, будет ли у меня возможность навещать его. – А разве он не мог бы прилететь к тебе, если бы ты не могла? Я бы могла сопровождать его обратно, если хочешь. Хотя они никогда не встречались, Барбаре всегда казалось, что она знает ребенка. Дафна улыбнулась этому великодушному предложению. – Я люблю тебя за это. Спасибо. – Почему бы тебе не поговорить об этом с миссис Кур-тис, когда ты будешь там в этот уик-энд, Дафф? Но о чем тут можно было думать? Ни Айрис, ни Барбара не могли этого понять. Они не знали, чего ей все это стоило: обнаружить, что Эндрю глухой, когда ему было всего несколько месяцев, пытаться общаться с ним, сражаться с врачами, которые настаивали, что его надо отдать в интернат. Они не знали, что это было, – собирать его вещи и везти его в Нью-Гемпшир... или сообщать ему о гибели его друга Джона. Им не были известны ее переживания во все эти моменты. А вдруг с ним что-нибудь случится, а она будет находиться за три тысячи миль? Они не знали этого и никогда не узнают. Ей нечего было обдумывать – Дафна это вновь осознала, когда собрала чемодан, положила его в машину и отправилась в Нью-Гемпшир повидаться с Эндрю. (обратно)Глава 16
Дафна была в пути пять часов и подрулила к Говардской школе темным зимним вечером. Когда она приезжала сюда, у нее всегда ныло сердце, не только из-за Эндрю, но и из-за Джона. Дафна мыслями всегда возвращалась к дням, которые они вместе провели в домике. Школа была ярко освещена, и через мгновение ей предстояло увидеть Эндрю. Дафна посмотрела на часы и поняла, что самое время поужинать с ним. Когда Дафна вошла, миссис Куртис была в вестибюле и явно обрадовалась и удивилась, увидев ее. – Я не знала, что ты приедешь на этой неделе, Дафна. – За эти годы они подружились, и она звала Дафну по имени. Дафне же из-за почтенного возраста Хелен всегда было неудобно называть ее по имени. Она посылала ей все свои книги, и Хелен Куртис говорила, что они ей очень нравятся. – Как там наш мальчик? Дафна сняла в вестибюле пальто и почувствовала себя как дома. В Говардской школе всегда царили теплота и гостеприимство. Школа хорошо финансировалась и поэтому прекрасно содержалась. Все здание было прошлым летом отремонтировано, и теперь холлы украшали фрески, которые очень нравились детям, а на потолке были нарисованы облака. – Ты не узнаешь Эндрю! – Миссис Куртис улыбалась ей. – Что, опять постригся? Обе женщины рассмеялись, вспоминая, как он выглядел прошлой зимой, когда он и двое его друзей решили побаловаться ножницами. Правда, Эндрю пострадал от этого меньше, чем его друзья. Маленькие девочки с нарядными светлыми косичками, когда их так же «обработали», стали почти лысыми и похожими на маленьких пушистых утят. – Нет-нет, дело не в этом. – Миссис Куртис с улыбкой покачала головой. – Просто за этот месяц Эндрю, похоже, вырос на целых два дюйма. Он вдруг стал огромным. Тебе опять придется кое-что ему купить. – Слава Богу, у меня есть гонорары! – И тут же с нетерпением спросила: – Где он? Миссис Куртис ответила ей, указав на лестницу. Эндрю спускался в бежевых вельветовых джинсах, красной фланелевой рубашке и новых ковбойских сапожках, которые она купила ему в прошлый раз. Ее лицо просияло широкой улыбкой, а глаза искрились, когда она медленно шла к нему. – Привет, мой сладкий. Как дела? Теперь она не только объяснялась с ним жестами, но и говорила; он с широкой улыбкой читал по ее губам, а потом изумил ее, заговорив: – Все в порядке, мама... а как... у тебя? – Слова были корявыми, он еще не мог говорить отчетливо, но любой бы понял, что он сказал. – Я по тебе соскучился! И он бросился в ее объятия, а она едва сдерживала слезы, которые всегда подступали, когда она его видела. Они уже привыкли к своей теперешней жизни, и дни их добровольного заточения в ее старой квартире казались далеким сном. Эндрю побывал в ее новой квартире, но сообщил ей, что старая ему больше нравилась. Дафна заверила его, что он привыкнет и к этой, показала ему его комнату и сказала, что когда-нибудь он поселится в ней насовсем. Но теперь для нее важно было только одно – прижимать к себе теплое маленькое тело сына. – Я тоже по тебе соскучилась. – Она немного отклонилась, чтобы он мог видеть ее лицо. – Чем ты занимался? – Я ращу огород! – сообщил Эндрю взволнованно. – И вырастил два помидора. Он показывал ей это жестами, но когда говорила Дафна, он читал по губам и, казалось, делал это без труда. – Посреди зимы? Как это тебе удалось? – В большом ящике внизу, там особое освещение. А когда наступит весна, мы все пойдем на улицу сажать цветы. – Вот здорово! Потом они, держась за руки, пошли в столовую и сели вместе с другими детьми, которые ели жареных цыплят с вареной кукурузой и печеной картошкой, смеялись, перекидывались шутками. Дафна побыла в школе, пока Эндрю не пошел спать, уложила его и потом спустилась вниз, чтобы перед уходом увидеться с миссис Куртис. – Неделя прошла удачно? Но в глазах миссис Куртис, когда она задавала этот вопрос, было что-то странное, и Дафна инстинктивно поняла, что та смотрела шоу. А кто его не смотрел? – Не совсем. Я вчера была в Чикаго. – Она колебалась, сказать ли что-нибудь еще, но это было не обязательно. – Я знаю. С его стороны это было гадко, что он сделал. – Ты смотрела шоу? – Да. Но больше я никогда не буду его смотреть. Он ублюдок. Дафна улыбнулась этому не типичному для Хелен крепкому словечку. – Ты права. Я сказала своему агенту: я больше в рекламных шоу не участвую. Хватит с меня. Меня особенно возмущает, что они никогда бы не задали мужчине таких вопросов. Но самое плохое, конечно, что он и Эндрю не оставил в покое. – Послушай, это не важно. Ты и он знаете правду, а остальные это быстро забудут. – Может, да, – поколебавшись, сказала Дафна, – а может, и нет. Копаться в грязи очень занимательно. Через десять лет кто-нибудь вытащит эту пленку и сделает из нее историю. – Твоя работа не из легких, моя дорогая. Но ведь она и вознаграждается. – Иногда. – Дафна улыбнулась, но в ее взгляде была озабоченность, которую Хелен заметила. – Что-нибудь случилось? – Нет... нет, нет... но... Мне нужно посоветоваться. Я думала, может, мы поговорим позже. – А зачем ждать? Давай поговорим сейчас. Проходи, садись. –Она указала на свою комнату, и Дафна кивнула. Для нее это было бы большим облегчением. Квартира миссис Куртис при школе была маленькой и опрятной, в ней было много старинных вещей, которые она купила сама, и висели пейзажи Нью-Гемпшира. На низком столике стояла ваза с живыми цветами и лежала вязаная скатерть, которую Хелен купила в антикварном магазине в Бостоне. Не вызывало сомнений, что это жилище школьной учительницы, но в то же время здесь царил уют, и некоторые из вещей были просто очаровательны. Дафна огляделась – как и все в школе, это было ей близко. Хелен Куртис тоже огляделась, почти с ностальгией, но Дафна этого не заметила. Хелен налила чаю в маленькой кухне и подала Дафне чашку с нежными цветочками и маленькую кружевную салфетку. – Ну так что тебя беспокоит, моя дорогая? Что-нибудь связанное с Эндрю? – Да, но косвенно. – Дафна решила перейти прямо к сути. – Мне предложили сделать фильм. Студия «Комсток» хочет приобрести моего «Апачи», что очень хорошо. Но это бы означало, что мне придется пробыть в Лос-Анджелесе примерно год. И я думаю, что это невозможно. – Почему? – Хелен выглядела и обрадованной, и удивленной. – А как же Эндрю? – Как быть с ним? Ты хотела бы отдать его в тамошнюю школу? На этот раз уже миссис Куртис выглядела озабоченной. Она знала, что в данный момент смена школы была бы для мальчика нежелательна. Говардская школа стала его домом, и он бы сильно страдал. – Я думаю, что смена школы – это будет слишком большая ломка для него. Нет, если я поеду, я бы оставила его здесь. Но он будет очень тосковать. – Нет, если ты ему это правильно объяснишь, и не более, чем любой ребенок его возраста. Ты могла бы сказать ему, что это нужно для твоей работы и что это ненадолго. Он прилетал бы к тебе или ты бы сама его здесь навещала. – На последнее рассчитывать не придется. Насколько я знаю, когда идут съемки, почти невозможно отлучиться. Но ты и вправду считаешь, что он мог бы прилететь ко мне? – Я не вижу препятствий, – ласково и спокойно ответила Хелен. – Он становится старше, Дафна, он уже больше не несмышленыш и многое умеет, это поможет ему. Он раньше летал на самолетах? Дафна покачала головой. – Может, ему это понравится? – А тебе не кажется, что все это будет слишком тяжелым испытанием для него? Он ведь не сможет видеть меня так часто, как сейчас. – Знаешь, большинство родителей не навещают детей так часто, как ты. Это твое счастье, что ты можешь приезжать, другим, как правило, мешают домашние дела, работа... Эндрю с тобой просто повезло. – А если я уеду? – Он привыкнет. Должен будет привыкнуть. Расстаться с Эндрю было бы так тяжело. Дафна чувствовала себя ужасно виноватой. – Я знаю, что поначалу будет нелегко, но это может пойти на пользу вам обоим. Для тебя это необычное и интересное дело. Как скоро ты, возможно, уедешь? – Очень скоро. В течение месяца. – Ну, все-таки у тебя достаточно времени, чтобы его подготовить. – Она вздохнула и посмотрела на свою молодую подругу. За последние годы она полюбила Дафну, в которой ее покоряли выдержка и доброта. Обе эти черты находили отражение в книгах Дафны, это было очень привлекательное сочетание. – К сожалению, у меня не было столько времени, чтобы подготовить тебя. – Подготовить меня? К чему? – Дафна побледнела, ее мысли все еще были заняты раздумьями, покидать Эндрю или нет и ехать ли в Лос-Анджелес. – Я ухожу из школы, Дафна. На пенсию. – Ты? – У Дафны словно камень лег на сердце. Слишком много у нее самой было тяжелых переживаний и потерь близких людей: – Но почему? Хелен тихо засмеялась: – Спасибо, что ты спросила. По-моему, причина налицо. Я старею, Дафна. Мне пора на покой, а школу надо поручить кому-то более молодому, более динамичному. – Но как это ужасно! – Это совсем не ужасно. Так будет лучше для школы. Дафна, я просто стара. – Неправда! – Дафна искренне возмутилась. – Правда, правда. Мне шестьдесят два года. Это уже многовато, и я не хочу ждать до тех пор, пока вы меня вывезете отсюда на инвалидной коляске. Поверь мне, время пришло. – Но ты не больна... – Дафна казалась ребенком, который вот-вот может потерять свою мать... так, наверное, отреагировал бы Эндрю, если бы она ему сообщила о своих намерениях уехать. Да и как она могла теперь его оставить, когда не будет и миссис Куртис? Он решит, что все, кого он знает, покинули его. Дафна посмотрела на нее почти с отчаянием: – Кто тебя заменит? Да это просто невозможно. – Ты не права. Женщина, на чье место я пришла, думала, что она незаменима, а теперь, спустя пятнадцать лет, никто ее даже не помнит. И в этом вся правда. Школа сильна, пока сильны люди, которые ею управляют, и надо, чтобы эти люди были молоды, энергичны и полны новых идей. С нового года у нас будет работать замечательный педагог, который сейчас руководит Нью-Йоркской школой для глухих и на год перейдет к нам, чтобы познакомиться с нашей работой. Он возглавлял Нью-Йоркскую школу восемь лет и чувствует потребность в новых идеях. Впрочем, ты с ним завтра познакомишься. Он приехал на неделю войти в курс дела. – А для детей не слишком ли много перемен? – Я так не думаю. Нашему совету директоров он понравился. Он принят на год. У Мэтью Дэйна исключительно хорошая репутация в нашей области. В прошлом году я подарила тебе его книгу. Он их написал три. Значит, у вас есть общие интересы. Дафна помнила книгу и считала ее очень толковой. Но все же... – Я завтра тебя с ним познакомлю. – Улыбнувшись, Хелен встала. – А теперь, прости меня за чрезмерную заботливость, я думаю, тебе надо хорошенько выспаться. Ты выглядишь ужасно усталой. Тогда Дафна подошла к ней и сделала то, чего никогда раньше не делала, – крепко обняла ее. – Нам будет вас не хватать, миссис Куртис. У Хелен на глазах были слезы, когда она высвободилась из объятий Дафны. – Мне тебя тоже будет не хватать. Но я часто буду приезжать. Потом Дафна простилась с ней и поехала в знакомую гостиничку. Миссис Обермайер проводила ее в комнату, где на столе стояли термос с горячим шоколадом и блюдо с печеньем. Жители городка любили Дафну, она была знаменитостью, которую они знали, и женщиной, которую уважали. Им нравилось наблюдать, как она гуляет с Эндрю. Все считали ее очень человечной. Дафна, зевая, улеглась в постель, налила себе шоколада и выпила его с мечтательным выражением лица. Ни с того ни с сего все вдруг стало меняться. Она выключила свет, опустила голову на большую мягкую подушку и через пять минут уснула так спокойно и крепко, что даже не поменяла позу, пока утренние солнечные лучи не стали проникать в окошко. (обратно)Глава 17
В субботу утром, позавтракав в гостинице, Дафна приехала в школу, как раз когда дети играли в салки в саду. Эндрю бегал и смеялся с друзьями, а Дафна со стороны наблюдала за ним. А может, он не будет цепляться за нее и рыдать от отчаяния, когда узнает, что мама покидает его надолго? Ведь он теперь уже многое понимал. Дафна порой пыталась представить себе, что произойдет, когда он наконец покинет школу. Ему будет так одиноко без постоянного общения с другими детьми. Именно это обстоятельство беспокоило Дафну, когда она думала о далеком дне его возвращения домой. Но к тому времени он станет старше, да и жизнь изменится. У него будет учеба и новые друзья – слышащие дети, не такие, как он. Дафна немного постояла, оглядываясь по сторонам, ожидая миссис Куртис, чтобы продолжить разговор, начатый накануне вечером. Но когда она увидела ее вновь, та была погружена в беседу с высоким, худощавым, симпатичным, по-мальчишески улыбчивым мужчиной, и обнаружила, что загляделась на него. Дафне показалось, что она его откуда-то знает. В этот момент миссис Куртис повернулась, поймала взгляд Дафны и пригласила подойти к ним. – Дафна, я хочу познакомить тебя с нашим новым директором, Мэтью Дэйном. Мэтью, это мама Эндрю, мисс Филдс. – За годы своих литературных успехов «миссис» невзначай превратилась в «мисс» даже здесь. Дафна протянула ему руку, но ее взгляд слегка изменился, из приветливого стал вопросительным: – Рада с вами познакомиться. Мне понравилась ваша последняя книга. Он улыбнулся комплименту широкой юношеской улыбкой, которая делала его моложе: – А мне понравились все ваши книги. – Вы их читали? – Она выглядела и обрадованной, и удивленной одновременно, и его это рассмешило. – Как и около десяти миллионов других людей, как я полагаю. Вообще-то Дафна часто задавалась вопросом, кто читает ее книги. В конце концов она часами просиживала за письменным столом, придумывая характеры и сюжеты, и все-таки было трудно представить, что где-то существуют Реальные люди, которые их читают. Ее всегда удивляло, когда люди говорили, что читали ее книги. А самым удивительным было повстречать прохожего со своей книгой под мышкой. «Эй... постойте... Это я написала... вам нравится? Кто вы?..» Она опять улыбнулась ему, их взгляды, полные вопросов, встретились. – Миссис Куртис сказала мне, что вы на год приедете в Говардскую школу. Для детей это будет большая перемена. – Дафна это говорила, а в ее глазах было беспокойство. – Для меня это тоже означает большую перемену. В нем было что-то очень убедительное, когда он так стоял, глядя на нее сверху, с высоты своего роста. Он был очень моложав и в то же время излучал спокойную силу. – Я понимаю, многих родителей может беспокоить, что мое пребывание здесь только временное, но миссис Куртис будет рядом и сможет нам помочь, – он с улыбкой посмотрел на нее, а потом на Дафну, – и думаю, этот опыт всем нам пойдет на пользу. Нам есть чему поучиться друг у друга. – Дафна кивнула. – К тому же мы хотим опробовать некоторые новые программы, осуществить обмены с Нью-Йоркской школой. Дафна об этом слышала впервые, и это ее заинтересовало. – Обмен? – Да. Как вы знаете, большинство наших детей старше, а здесь больше малышей. Но миссис Куртис и я думаем, что это может быть очень полезно, если некоторые из учащихся Нью-Йоркской школы приедут сюда на недельку-другую, чтобы познакомиться с сельской жизнью, может, взять шефство над здешними детьми, а потом можно привезти малышей туда на неделю или две. Здесь они живут изолированно, и для них это может стать открытием. Посмотрим, во что выльется эта идея. – И опять на его лице появилась мальчишеская улыбка. – У меня есть еще кое-какие задумки, мисс Филдс. Главное, не забывать о наших задачах – вернуть детей в мир слышащих. Именно поэтому в Нью-Йоркской школе мы уделяем большое внимание чтению по губам, большее, чем языку жестов, потому что, если в дальнейшем они попадут в мир слышащих, они должны будут понимать, что происходит вокруг, и, несмотря на перемены в последние годы, все еще очень немногие слышащие люди что-то знают о языке жестов. Мы не хотим обрекать этих детей на жизнь только среди таких же, как они. Это было то, о чем Дафна часто думала сама, и она посмотрела на него почти с благодарностью. Чем быстрее он научит Эндрю необходимым навыкам, тем скорее тот сможет вернуться к маме. – Мне нравится ваш подход, мистер Дэйн. Именно поэтому мне так понравилась ваша книга. Она была приближена к реальной жизни, а не заполнена безумными идеями. – О-о! – Его глаза засверкали. – Безумные идеи у меня тоже есть. Например, когда-нибудь открыть интернат для слышащих и глухих. Но это дело далекого будущего. – А может, и нет? – Они постояли, какое-то мгновение глядя друг на друга, между ними явно наметилась симпатия, он ласково смотрел на Дафну, почти забыв, что рядом стоит Хелен Куртис. Двумя днями раньше он видел Дафну в «Шоу Конроя», и это ему многое в ней объяснило, о чем он догадывался, но чего не знал. Знания, полученные через шоу, казались в некотором роде насилием, и он не хотел признаваться ей, что смотрел его. Но она и так поняла это по его глазам и его нерешительности. – Вы видели меня на днях в «Шоу Конроя», мистер Дэйн? – Ее голос был мягким и грустным, а глаза широко раскрыты. Он кивнул: – Да, видел. Мне кажется, вы с этим справились очень хорошо. Она вздохнула и покачала головой: – Это был кошмар. – Им не должны разрешать делать это. – Но они делают. Поэтому я не хочу в этом больше участвовать, так я сказала и миссис Куртис вчера вечером. – Они что, все такие? – Большинство. Им неинтересно, что вы пишете. Им хочется залезть в вашу личную жизнь, к вам в сердце, в нутро, в душу. И если им удается там наскрести хоть немного грязи, они в восторге. – Это была не грязь. Это была боль, и жизнь, и печаль. – Его голос был почти как теплые объятия на холодном воздухе. – Знаете, читая ваши книги, можно узнать гораздо больше всего того, что они могут вытянуть из вас. Именно это я хотел вам сказать. Я кое-что узнал о вас из ваших книг, но благодаря им я гораздо больше узнал о себе. Меня не постигло столько утрат, сколько вас, – он втайне восхищался, как она пережила их и сохранила здоровье, – но все мы страдаем от потери самого себя, потери, которая касается нас самих, это представляется нам самой тяжелой трагедией. Я прочел вашу первую книгу, когда развелся несколько лет назад, и на меня она повлияла совершенно особым образом. Она помогла мне пережить это. – Он смутился. – Я прочел ее дважды, а потом послал экземпляр своей жене. Его слова глубоко тронули Дафну. Необычно было сознавать, что ее книги имели для кого-то такое большое значение. В эту минуту к ним подбежал Эндрю, и она счастливыми глазами посмотрела на него, а потом на Мэтью Дэйна, переходя с речи на язык жестов: – Мистер Дэйн, я хотела бы познакомить вас с моим сыном. Эндрю, это мистер Дэйн. Мэтью Дэйн жестикулировал и в то же время говорил нормальным голосом, очень отчетливо двигая губами: – Рад с тобой познакомиться, Эндрю. Мне нравится ваша школа. – Вы друг моей мамы? – спросил у него Эндрю с выражением откровенного любопытства, и Мэтью улыбнулся, быстро взглянув на нее. – Я надеюсь им стать. Я приехал сюда, чтобы повидаться с миссис Куртис. – Он продолжал жестикулировать и говорить одновременно. – Я собираюсь сюда приезжать каждый уик-энд. Эндрю весело посмотрел на него. – Вы слишком старый, чтобы ходить в школу. – Я знаю. – Вы учитель? – Я директор, как миссис Куртис, школы в Нью-Йорке. Эндрю кивнул. Этого ему пока было достаточно, и он переключил свое внимание на маму. Он обнял ее, его светлые волосы развевались на ветру: – Ты будешь с нами обедать, мама? – Охотно. Дафна попрощалась с Мэтью и миссис Куртис и пошла за Эндрю в здание. Он бежал вприскочку, махал и жестикулировал, общаясь со своими друзьями. Но мысли Дафны были заняты новым директором. Это был интересный человек. Она повстречала его потом еще раз, он шел по вестибюлю с кипой бумаг в руках. По словам миссис Куртис, он читал все, что ему попадалось под руку, все письма, все документы, все отчеты и классные журналы и при этом наблюдал за детьми. К работе он относился очень добросовестно. – Как вы провели время с Эндрю? – Темно-карие глаза были добрыми и участливыми. – Замечательно. Похоже, что у вас огромное домашнее задание. – Она ему улыбнулась, и он кивнул. – Мне нужно многое узнать об этой школе. Они стояли в холле. Его голос был очень мягким. – Я думаю, что нам надо у вас многому учиться. – Дафну заинтересовало его внимание к чтению по губам, она заметила, что новый директор, жестикулируя, в то же время говорил с детьми и обращался с ними так, будто они могут слышать. – Как вы стали этим заниматься, мистер Дэйн? – Моя сестра не слышала от рождения. Мы были близнецами, и я всегда был к ней очень привязан. Интересно, что мы для себя изобрели собственный язык. Это был странный язык жестов, который работал. Но потом мои родители отдали ее в интернат, – он говорил это с очень серьезным лицом, – не такой, как этот. А такой, какие были тридцать лет назад, в каких люди проводили всю свою жизнь. И она там не приобрела нужных ей навыков, они не научили ее ничему, что бы помогло ей вернуться в нормальный мир. Когда он сделал паузу, Дафна боялась спрашивать его, что с ней случилось, но Мэтью Дэйн посмотрел на нее со своей мальчишеской улыбкой: – Ну вот, так я и стал этим заниматься. Благодаря сестре. Я подговорил ее сбежать из интерната, когда сам окончил колледж, и мы год жили в Мексике на деньги, которые я скопил, работая летом на стройках. Я научил ее говорить, читать по губам, и мы вернулись к родителям. Сестра уже стала к тому времени совершеннолетней и имела право делать что хотела. Они пытались объявить ее невменяемой, однажды даже хотели меня арестовать... жуткое было время, но она выстояла. Наконец Дафна решилась спросить: – А где она сейчас? Он широко улыбнулся: – Она преподает в Нью-Йоркской школе и будет меня замещать в течение этого года. Моя сестра замужем, и у нее двое детей, оба слышащие. Ее муж врач, и, конечно, теперь наши родители говорят, что они всегда знали, что она выстоит. Она замечательная девчонка, вам бы она понравилась. – Я в этом не сомневаюсь. – Она обожает ваши книги. Погодите, я вот ей расскажу, что с вами познакомился. Дафна покраснела. Это казалось так несерьезно: женщину, которая столько преодолела, заинтересовали ее скромные повести. В сравнении с ней Дафна почувствовала себя очень маленькой. – И я тоже хотела бы познакомиться с ней. – Познакомитесь. Она будет сюда приезжать, а миссис Куртис говорила мне, что вы приезжаете сюда достаточно часто. Дафна вдруг стала озабоченной и отвела глаза. – Да, приезжаю... Приезжала... – Она тихо вздохнула, и он жестом руки предложил ей кресло в углу. – Может, присядем, мисс Филдс? Они стояли в коридоре уже почти полчаса, и Дафна кивнула. – Пожалуйста, зовите меня Дафна. – Хорошо, если вы меня будете звать Мэтт. Она улыбнулась, и они сели. – Что-то подсказывает мне, что у тебя проблемы. Чем я могу помочь? – Не знаю. Мы с миссис Куртис говорили об этом вчера вечером. – Это имеет отношение к Эндрю? Дафна кивнула. – Да. Мне предложили сделать фильм в Голливуде. Это означало бы переезд туда на год. – И ты его берешь с собой? – Он, казалось, огорчился, но Дафна покачала головой: – Нет, я думаю, что мне следует оставить его здесь. Но проблема вот в чем. Мы с ним вряд ли сможем видеться... Я не знаю, сможет ли он это выдержать, или, вернее, смогу ли я... – Дафна посмотрела на него, ее огромные голубые глаза встретились с его карими. – Я просто не знаю, что мне делать. – Трудная проблема. Не столько для него, сколько для тебя. Он-то привыкнет. – И потом мягко: – Я ему помогу. Мы все поможем. Какое-то время он, возможно, будет сердиться, но потом поймет. А я собираюсь не давать им скучать в этом году. Хочу много ходить с ними в походы, как можно больше показывать им мир. Здесь они несколько изолированы. Она кивнула. Мэтт был прав. – А что, если ему прилететь к тебе на каникулы? – Ты думаешь, это возможно? – После соответствующей подготовки. Знаешь, ведь в конце концов это именно та жизнь, к которой ты его готовишь. Ты же хочешь, чтобы он мог летать на самолетах, всюду ездить, быть самостоятельным, видеть мир, а не только эту местность. Дафна медленно кивнула. – Но он такой маленький. – Дафна, ему семь лет. Если бы он слышал, ты бы не сомневалась, можно ли отправить его самолетом, не так ли? Почему ты должна относиться к нему иначе? Он очень смышленый мальчик. Слушая его, она почувствовала значительное облегчение, и стены, которые она воздвигла в своем сознании вокруг Эндрю, постепенно рушились. – Но дело не только в этом. Для него тоже важно, чтобы ты была счастлива, чтобы он видел, что ты живешь полноценной жизнью. Ты не можешь вечно цепляться за него. – В его голосе не было упрека, только доброта и понимание. – Из Лос-Анджелеса сюда всего семь-восемь часов пути. Если у нас возникнут проблемы, мы тебе позвоним, и ты тут же прилетишь в Бостон. Я даже встречу тебя в аэропорту, и через два часа ты будешь здесь. Если так это рассматривать, вряд ли из Нью-Йорка ты добралась бы быстрее. У него было необыкновенное умение решать проблемы, находить решения и представлять все таким простым. Дафна теперь легко могла представить, как он выкрал сестру из интерната и бежал с ней в Мексику. Она улыбнулась, думая об этом. – Тебя послушать, все так просто. – Это может быть просто. Для тебя и Эндрю, если вы захотите. Ты должна исходить из того, как ты хочешь поступить. Когда-нибудь и ему придется принимать решения. Самостоятельные решения свободного и сильного человека. Учи его этому заранее. Ты хочешь сделать фильм? Ты хочешь поехать в Голливуд на год? Вот в чем дело. А не в Эндрю. Не надо ради него отказываться от важной части собственной жизни. Такие возможности представляются не часто. И если для тебя это важно, если это то, чего ты хочешь, тогда соглашайся. Скажи ему, дай ему привыкнуть. А я тебе помогу. И Дафна знала, что он действительно поможет. – Мне надо это обдумать. – Обдумай, и завтра мы можем опять поговорить об этом. Тебе следует подготовиться к тому, что Эндрю немного будет сердиться. Но такой была бы реакция любого ребенка его возраста на известие об отъезде мамы. Знай, что такая реакция нормальна. Быть родителями не всегда легко. – Он снова ей улыбнулся. – Я вижу по своей сестре. У нее тоже война. Ее девочкам сейчас четырнадцать. И если тебе кажется, что семилетний мальчик груб, посмотри на вдвое старших, и к тому же еще девочек! – Он закатил глаза. – Я бы такого никогда не вынес! – У тебя своих детей нет? – Нет, – сказал он с сожалением. – Кроме ста сорока шести, с которыми живу в Нью-Йоркской школе с Мартой, моей сестрой. Моя жена не хотела детей. Она глухая и очень отличается от моей сестры. Она боялась, что ее собственные дети тоже будут глухими. У нее множество комплексов в связи с ее глухотой. И в конце концов, – он сказал это с сожалением, – это привело к разводу. Она очень красивая, была фотомоделью в Нью-Йорке. Я какое-то время занимался с ней, и так мы познакомились. Но ее родители всегда обращались с ней как с фарфоровой статуэткой, и у нее не было сумасшедшего брата вроде меня, когда она росла. Она зациклилась на своей глухоте. Это идеальный пример, почему тебе не следует относиться к Эндрю по-другому, чем ты бы относилась к любому другому ребенку. Не поступай так с ним, Дафна. Если ты так поступишь, ты лишишь его всего, что потом может стать для него важным. Они немного помолчали, каждый думал о своем. За этот час он дал ей богатую пищу для размышлений. Он поделился с ней важной частью своей жизни, и Дафна знала, что приобрела в нем друга. – Я думаю, ты прав, Мэтт. Но я ужасно боюсь покидать его. – Очень многое в жизни нас пугает. В том числе хорошие дела. Подумай обо всех хороших делах, которые ты совершила в жизни. Какие из них дались тебе легко? Скорее всего ни одно, но борьба за них всегда стоила того, ручаюсь. И по-моему, работа над кинофильмом – это важный шаг в твоей карьере. Кстати, по какой книге? – «Апачи». – Она с гордостью улыбнулась ему и почему-то нисколько не смутилась показать это. – Мне она больше всего нравится. – Мне тоже. А потом, взяв свою кипу бумаг, он встал. – Ты остаешься на ужин? Она кивнула. – Потом вместе попьем кофе. Я перекушу наверху, чтобы успеть поработать. Она опять подумала о том, что он сказал. Хорошее в жизни дается нелегко. Они оба имели возможность в этом убедиться. – Тогда до встречи, Мэтт. Они расстались у лестницы, и Дафна посмотрела ему вслед. Почувствовав ее взгляд, он, поднимаясь, оглянулся. – И спасибо тебе. – Не стоит. Ты, Дафна, всегда услышишь от меня правду о том, что я думаю и что чувствую. Помни об этом, когда будешь в Калифорнии. Я сообщу тебе, как у него дела, и если он в тебе будет нуждаться, я об этом скажу. Ты можешь прилететь, или я посажу его на ближайший самолет. Дафна кивнула, а он помахал ей и исчез на верхней площадке лестницы. Ей показалось странным, что он говорил о ее отъезде как о решенном деле. Неужто он прочел ее мысли? Как он мог знать о ее решении еще до того, как она его приняла? Или она это уже втайне для себя решила и очень этого хотела? Эти вопросы мучили ее, когда она входила в большую игровую комнату, чтобы найти Эндрю. И когда она его увидела, то почувствовала, что сердце у нее опустилось. Как можно покинуть его? Он такой маленький и такой дорогой. Но в тот вечер, лежа в постели в гостинице, она заново все это обдумывала. В ней побеждало то чувство долга, ответственности, любви, то восторженность, любопытство, честолюбие. Нелегко было сделать выбор, а потом вдруг зазвонил телефон – звонил Мэтью. Она была весьма удивлена его звонку и моментально подумала, не случилось ли чего. – Конечно же, нет. Если бы что-то случилось, позвонила бы миссис Куртис. Я здесь пока неофициально, и так будет по крайней мере еще пару недель. Я просто подумал о твоем решении, и мне пришла в голову шальная мысль. Если ты будешь слишком занята в Лос-Анджелесе и не сможешь заняться им там, я мог бы забрать его к себе, чтобы он побыл с моей сестрой и ее детьми. Для этого, конечно, требовалось бы твое разрешение, но вообще ему это может понравиться. Моя сестра на самом деле необыкновенный человек, и у нее замечательные дочки. Ну, как тебе мое предложение? – Я не знаю, что тебе сказать, Мэтью. Я потрясена. – Ерунда. В прошлом году я пригласил к себе на рождественский ужин сорок три наших воспитанника. Марта готовила, а ее муж провел с ними в парке матч по регби. Было классно. Дафна хотела сказать ему, какой он молодец, но не решилась. – Я не знаю, как тебя благодарить. – Не стоит. Просто доверь мне Эндрю. Дафна мгновение помолчала, было поздно, и он был с ней очень откровенен. Она хотела отблагодарить его тем же. – Мэтт, мне тяжело его покидать... он – это все, что у меня есть. – Я это знаю. По крайней мере догадываюсь. – Его голос был очень мягким. – У него будет все в порядке. И у тебя тоже. Его слова не вызывали сомнений, и решение наконец было принято. – Я думаю, что скорее всего решусь: – Я думаю, ты должна. Дафне стало легче, когда он это произнес, и вдруг ей показалось удивительным, что она познакомилась с ним только нынче утром, а уже полагается на его совет и доверяет ему своего сына. – Когда ты вернешься в Нью-Йорк, я познакомлю тебя с моей сестрой. Может, ты захочешь на следующей неделе прийти в школу, чтобы с ней познакомиться, если найдешь время? – Я выкрою время. – Отлично. До встречи утром. И прими поздравления. – С чем? – С принятием трудного решения. А у меня, кроме того, в этом есть свой интерес. Я хочу, чтобы по моей любимой книге был снят фильм. Она рассмеялась, и в эту ночь наконец спала спокойно. (обратно)Глава 18
– Я знаю, тебе кажется, что это очень долго, мой золотой, но ты можешь прилететь ко мне на каникулы, и мы отлично проведем время в Калифорнии, я обещаю, что вернусь... – Она в отчаянии пыталась объяснить ему жестами, но Эндрю не хотел смотреть на нее. Его глаза были полны слез. – Эндрю... миленький... пожалуйста... К ее глазам тоже подступили слезы. Она сидела с ним в парке, сдерживаясь, чтобы не прижать его к себе и не разрыдаться. Эндрю стоял, повернувшись к ней спиной, его плечи сгорбились и вздрагивали, голова была наклонена, и, когда она легонько потянула его к себе, у него из горла вырвались ужасные душераздирающие всхлипывания. – Ну Эндрю... сладенький мой... Прости. О Господи, она не могла так поступить! Только не с ним. «Он привыкнет», – говорят они. Боже, ну почему он должен привыкать? Просто потому, что ей захотелось сделать фильм. Сидя рядом с ним, Дафна чувствовала себя мерзкой эгоисткой. Она ненавидела себя за принятое решение и за то, что оно ему причинило. Она не могла так поступить со своим ребенком. Он все-таки слишком был к ней привязан... Дафна пыталась его обнять, но он ей не позволял, и так она стояла, в отчаянии глядя на него, когда из школы вышел Мэтью Дэйн. Он молча взглянул на них и по выражению лица Эндрю моментально догадался, что Дафна ему обо всем сказала. Мэтью медленно подошел к ним и с ласковой улыбкой посмотрел на Дафну. – Он сейчас успокоится, Дафна. Помни, что я тебе сказал. Так бы реагировал любой ребенок, даже слышащий. – Но он неслышащий. – Глаза Дафны сверкали, а голос был резким. – Он особенный. Она хотела добавить «черт возьми», но сдержалась. Дафна была убеждена, что Мэтью неверно оценил ситуацию, дал ей плохой совет насчет ее сына, а она его послушала. Она не должна была даже думать о поездке на год в Калифорнию. Но Мэтт, казалось, нисколько не изменил своего прежнего мнения даже теперь. – Конечно, он особенный, все дети особенные. Особенный – это нормально, а особый нет. Ты же хочешь сказать, что он особый. Ты не должна потворствовать его капризам, Дафна. Это ему не поможет. Любой семилетний ребенок будет расстроен, что его мама уезжает. Это нормально. У других родителей тоже есть обстоятельства, к которым детям приходится привыкать: ревность, разводы, смерть, переезды, финансовые трудности. Невозможно все время создавать ему идеальные условия. Ты сама не сможешь их создать, и в конце концов ему это только причинит вред. Кстати, разве ты сама живешь в идеальных условиях и хочешь ли в них жить? Ей хотелось накричать на него, что он ничего не понимает, не понимает ее ответственности перед ребенком. Он посмотрел в ее глаза, понял, о чем она думает, и улыбнулся. – Все правильно, так и есть. Ты меня ненавидишь. Но я прав. Если ты не сдашь позиций еще чуть-чуть, он успокоится. Они оба увидели, что Эндрю наблюдал за ними, читая по губам, и Дафна повернулась к сыну с сожалением в глазах. На этот раз она, жестикулируя, в то же время говорила: – Я тоже не испытываю радости, что еду туда, сладенький мой. Но я думаю, что для меня это важно. Я хочу поехать в Голливуд, чтобы сделать фильм по одной из моих книг. – Почему? – Он показал ей только это слово. – Потому что это будет интересно, и это поможет мне в работе. – Как можно объяснить семилетнему ребенку, что такое карьера? – Я тебе обещаю, что ты сможешь меня навещать, а я буду приезжать к тебе. Мы не будем видеться каждую неделю, но ведь это не навсегда... Она сделала паузу, а в его глазах появилось некоторое любопытство. – А я смогу прилетать к тебе на самолете? Она кивнула: – Да. На большом и красивом. Это пробудило в Эндрю еще больший интерес, он потупился и ковырнул носком ботинка землю. Когда он снова поднял глаза, Дафна не поняла, о чем он думает, но вид у него был уже не такой несчастный, как прежде. – А в Диснейленд мы сходим? – Да. – Дафна улыбнулась. – И не только туда. Когда приедешь, ты сможешь посмотреть, как снимают кино. – И вдруг она встала возле него на колени и обняла его, а потом опять отстранила, чтобы он мог видеть ее губы. – Ах, Эндрю, я буду так по тебе скучать. Я люблю тебя всем сердцем, и, как только закончу работу в Калифорнии, я вернусь и поживу здесь, я тебе обещаю. А мистер Дэйн говорит, что он возьмет тебя в Нью-Йорк, чтобы ты познакомился с его сестрой и ее детьми... может, если мы оба будем очень-очень заняты, время пройдет быстро... Дафна желала этого, она хотела, чтобы время прошло уже сейчас. В глубине души ей не хотелось покидать его, но она знала, что так нужно. Для нее самой. Первый раз за многие годы она делала то, что ей очень хотелось, хотя это было нелегко, и вдруг она подумала обо всем том, что Мэтт сказал накануне вечером. Хорошее в жизни не дается легко ни ей, ни Эндрю. Что-то в лице Эндрю говорило ей, что, хотя ему и не нравится, что она уезжает, за него можно не беспокоиться. – Эндрю... ты знаешь, как сильно я тебя люблю? Она смотрела на него, не зная, помнит ли он игру, в которую они так часто играли, когда он был меньше. – Как? – спросил он, и ее глаза заблестели от невыплаканных слез. Он все-таки помнил. – Вот так! Она раскинула руки и обняла его, а потом прошептала ему на ухо: – Сильнее моей жизни. Мэтью оставил их наедине, и они провели вместе целый час, беседуя о том, что интересовало Эндрю, – о ее жизни там и возвращении. Дафна сказала ему, что уедет только через месяц, а до того будет навещать его почаще. Потом они говорили о его поездке в Калифорнию, что они там будут делать и как это все будет происходить. – Ты мне будешь писать? – Эндрю грустно посмотрел на нее, и у Дафны снова заболело сердце. Он был еще таким маленьким, и Калифорния, казалось, находилась на другой планете. – Да. Обещаю, что буду писать каждый день. А ты мне будешь писать? На этот раз он улыбнулся ей. – Я постараюсь не забыть. – Он шутил, и ей стало легче на сердце. Когда вечером Дафна вернулась в Нью-Йорк, она чувствовала себя так, словно одолела высокую гору. Она распаковала чемодан и бродила по квартире, и наконец, когда она смотрела в окошко на яркие огни Манхэттена, ее мысли оторвались от Эндрю. Она внезапно почувствовала волнение от того, что ей предстояло, и впервые за три дня осознала реальность этого. Она поедет в Калифорнию работать над фильмом по своей повести «Апачи». И вдруг она сама себе Улыбнулась и засмеялась... это ей не мерещилось! Она в самом деле «осилила»! – Слава Богу! – прошептала она тихо, а потом пошла в спальню, забралась в постель и погасила свет. (обратно)Глава 19
– Ну, малышка. – Дафна улыбнулась Барбаре, когда та на следующее утро переступила порог. – Приготовься. – Что случилось? – Мы едем. Барбара казалась ошарашенной. – Куда? – В Калифорнию, голубушка. – Ты все-таки решилась, Дафф? – Барбара была явно поражена. – Да. – А как же Эндрю? – Ей не хотелось спрашивать, но пришлось. – В этот уик-энд я ему сказала, он поначалу не особенно обрадовался, но я думаю, что мы оба это выдержим. И Дафна ей пересказала все, что говорила миссис Кур-тис, и рассказала о новом директоре школы. – Я хочу, чтобы Эндрю прилетал ко мне, и я буду его навещать как только смогу. А Мэтью говорит, что привезет его в Нью-Йорк, чтобы он познакомился с его сестрой... – Ее голос оборвался хохотом при виде замешательства на лице Барбары. – Это новый директор школы. – Мэтью? Как фамильярно! – Барбара явно подтрунивала. – Тут пахнет интересным мужчиной! – Он очень привлекателен как друг, мисс Джарвис, не более, уверяю вас. – Интересно. Ты только что цитировала его как Библию, а он еще и собирается знакомить Эндрю со своей сестрой? Черт возьми, меня ты ни разу даже не познакомила с малышом и доверяешь его незнакомому мужчине? Этот парень, должно быть, чертовски классный, Дафф, иначе ты бы не разрешила ему это делать. – Ты права, он классный, и он лучше всех, кого я знаю, разбирается в проблемах глухоты, но, ей-богу, это не значит, что он меня интересует как мужчина. – Она все еще смеялась. – Почему? Он что, уродлив? – Нет. – Дафна продолжала хохотать. – Вообще-то он очень привлекательный. Но не в этом дело. Давай поговорим о нас самих. – О нас? – Барбара опять выглядела сбитой с толку. В это утро все было шиворот-навыворот. – Я хочу, чтобы ты поехала со мной. – Ты шутишь? – Она села с кипой читательских писем в руках. – Что мне там делать? – Направлять мою жизнь, как ты это делаешь здесь. – Дафна улыбнулась. – Разве я это делаю? – Барбара ответила ей улыбкой. – А я считала, что гожусь только на то, чтобы отвечать на письма читателей. – Ты прекрасно знаешь, что это не так. Барбара знала, что для Дафны она была неоценима, и это для нее много значило. И она никогда не забывала, что именно Дафна помогла ей покончить с прежней жизнью. – Ну что, поедешь со мной? – Когда быть готовой? Завтра не поздно? – Барбара сияла, и Дафна засмеялась, глядя на нее. – Я думаю, что ты сможешь потерпеть пару недель. Во-первых, надо все организовать здесь, и я хочу, чтобы сегодня во второй половине дня ты пошла со мной к Айрис Маккарти, тебе тоже надо быть в курсе всего. Я думаю, мы отправимся в Калифорнию в следующем месяце. Тогда нам хватит времени, чтобы все здесь закончить. – А что ты собираешься сделать с квартирой? – Пусть так остается. Я воспользуюсь, когда буду прилетать к Эндрю, а «Комсток» оплатит мне жилье там, так что у меня не будет двойных затрат. Кроме того, я не хочу, чтобы кто-то чужой спал в моей постели. Дафна скорчила гримасу, и Барбара сочувственно засмеялась: – Послушай, когда-нибудь, я думаю, с этим не будет так плохо... – Обе они обменялись улыбками. В тот же день после обеда в «Плаза», где был поднят тост за Западное побережье и за «Комсток», они отправились к Айрис. Все это выглядело очень заманчиво, и, когда они выходили в половине пятого из офиса Айрис, Дафне уже не терпелось начать. В такси по пути домой она нервно обратилась к Барбаре, озабоченно нахмурив брови: – Барби, ты на самом деле думаешь, что я справлюсь с этим? Я не шучу, черт возьми, я понятия не имею, как пишется сценарий. – Сообразишь. Это не может быть труднее книги. Начни, а они тебе подскажут, что им надо. – Я надеюсь. – У нее от волнения сосало под ложечкой. Барбара похлопала ее по руке: – Ты справишься. Увидишь, как это будет здорово. – Я надеюсь. Но так или иначе, она знала, что попробовать надо. В следующий уик-энд она опять поехала навестить Эндрю, и похоже было, что он уже совсем привык к мысли о ее отъезде. Он только однажды посетовал на это, и то лишь слегка, остальное время они говорили о Диснейленде и о ее фильме, и он производил впечатление радостного и беззаботного, а она удивлялась, как быстро он со всем этим свыкся. Дети – в самом деле непонятные существа, решила Дафна и поделилась этим с Мэтью, когда снова с ним повстречалась в субботу вечером за ужином в главной столовой Говардской школы. – Дафна, а ты не дашь мне пинка, если я тебе скажу, что говорил тебе то же самое? Он улыбнулся ей, и она ответила улыбкой. В этот раз она выглядела счастливой, непринужденной и более молодой – со светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам, в джинсах и в ковбойской рубашке оранжевого цвета. – Могу и дать, так что остерегайся. – Ты напугала меня до смерти. Но это была, конечно, шутка. Мэтью рассказал ей о том, что произошло за минувшую неделю в Нью-Йоркской школе, а она рассказала ему о предварительных планах создания картины. За разговором ужин промелькнул незаметно, и Хелен Куртис оставила их после ужина одних, сказав, что ее ждет работа, а у Мэтью как раз ее не было. – Дафна, не знаю, как тебе удается писать такие книги. – Он протянул свои длинные ноги к камину. Дети уже улеглись, а они сидели в уютной школьной гостиной. Ей пока не хотелось возвращаться в гостиницу, да и было еще не поздно. К тому же быть в его компании ей нравилось. С ним было интересно разговаривать, и Дафна чувствовала, что у них много общего. Их объединяла забота об Эндрю и интерес к ее книге. – Я в самом деле не знаю, как тебе это удается. Он имел в виду повесть «Апачи». Дафна посмотрела на него с улыбкой: – Зачем ты так говоришь? Ты же сам написал три книги. – Все они не художественные; они о том, чем я живу, дышу. Ничего особенного. – Он улыбнулся ей. – Это гораздо труднее, чем то, что я делаю. Ты должен быть точен, и ты помогаешь очень многим людям этими книгами, Мэтью. Мои же истории все вымышлены, от них никому никакой пользы, кроме развлечения. Дафна всегда скромно относилась к своему труду, и это ему в ней нравилось. Из разговора с ней ни за что нельзя было бы догадаться, что имеешь дело с одной из самых популярных в стране писательниц. Она была умной, интеллигентной и интересной, но не щеголяла этим. – Ты ошибаешься насчет своих книг, Дафна, они не просто развлекают. Я уже говорил тебе, что одна из твоих книг очень помогла мне, и в каждой я открывал для себя то-то новое, – он на мгновение задумался, – о людях... их взаимоотношениях... о женщинах. – Он посмотрел на нее с интересом. – Откуда ты столько знаешь обо все этом, если ведешь такую уединенную жизнь? – Почему ты думаешь, что я так живу... то есть уединенно? – Вопрос ее рассмешил. – Ты мне сама об этом сказала на прошлой неделе. – Разве? – Она пожала плечами и улыбнулась. – Я слишком много болтаю. У меня просто ни на что не остается времени. Я работаю как проклятая всю неделю, а ведь еще есть и Эндрю... Мэтт взглянул на нее неодобрительно, а выражение его лица, освещаемого огнем камина, смягчилось: – Не надо сваливать на него. Она пристально и откровенно посмотрела на Мэтта. – Обычно я этого не делаю, – а затем улыбнулась, – только когда кто-то ставит меня в затруднительное положение, как ты. – Извини, я не хотел. – Хотел, хотел. А как насчет тебя? Разве твоя жизнь полнокровна? – Иногда, – ответил он уклончиво. – Долгое время после развода я боялся новых знакомств. – А теперь? Странно было расспрашивать его, словно они были старыми друзьями, но Мэтт умел располагать к себе, был таким душевным, откровенным и легким в общении. Дафне казалось, что они на необитаемом острове – остальной мир не имел значения. Они просто сидели, уединившись, у камина, и им друг с другом было хорошо, каждый желал знать, чем живет другой. – Не знаю... Сейчас у меня нет времени на серьезные отношения. Слишком много всего происходит в моих профессиональных делах, – он опять ей улыбнулся, – и я не думаю, что в течение ближайшего года, находясь здесь, найду женщину моей жизни. – Кто знает? Миссис Обермайер может решиться бросить своего мужа. – Они оба рассмеялись, а Мэтью взглянул на нее серьезнее. От Хелен Куртис он слышал историю с Джоном Фоулером, но не знал, можно ли с ней об этом говорить. – А у тебя, Дафна, не возникает желания повторить попытку? Он предполагал, что ей было очень одиноко, но все же это не значит, что обязательно надо искать спасения в мужчине, а тем более в нем. У Дафны были легкий, располагающий стиль поведения и отзывчивость, которые напомнили ему сестру. Но, казалось, Дафна забыла, что она женщина, и больше никогда не хочет об этом вспоминать. Несомненно, ее постигла серьезная душевная травма. Но когда в отсветах тлеющих углей она смотрела на него, он видел в ее глазах безмерную печаль. – Нет, я не хочу пробовать снова, Мэтт. У меня было все, чего я могла желать. И даже дважды. – Дафна сама удивилась, как легко она выдала свой секрет. – С моей стороны было бы нехорошо просить большего... алчно... и очень глупо. Я думала, что никогда не найду того, что у меня было однажды с моиммужем, и все же нашла. Это было нечто совсем другое, особенное. У меня в жизни было два необыкновенных мужчины, Мэтт. Могу ли я желать еще чего-то? Стало быть, между ними тема Фоулера не являлась табу. – То есть ты сдалась? А как насчет следующих пятидесяти или шестидесяти лет? Перспектива ее одиночества удручала Мэтта. Дафна заслуживала лучшей участи... гораздо лучшей... Она заслуживала кого-то необыкновенного, кто бы любил ее. Она была слишком доброй, сильной, молодой и мудрой, чтобы остаток жизни провести в одиночестве. Но Дафна философски ему улыбнулась. – У меня есть интересное занятие. А когда-нибудь и Эндрю вернется домой... – Ты опять его используешь как оправдание. – На этот Раз Мэтт говорил мягче, не так неодобрительно. – Когда Эндрю подрастет, он станет великолепным и совершенно самостоятельным парнем. Так что не рассчитывай на него как на свою опору в жизни. – Я особенно не рассчитываю, но должна признать, я много думаю о его возвращении домой. Мэтью улыбнулся ей. – Это будет радостный день для вас обоих, но он не будет долго продолжаться. Дафна тихо вздохнула: – Уж скорее бы он наступил. Иногда кажется, что этому не будет конца. Мэтью вспомнил свои юношеские годы, прожитые без сестры. – Я так же думал в свое время о Марте. Она провела вне дома пятнадцать лет, и не в такой школе, как Говардская. Она себя там чувствовала ужасно. Слава Богу, теперь таких интернатов уже нет. Дафна молча кивнула, затем решила, что пора ехать домой, и встала. – Знаешь, Дафна, мне нравится говорить с тобой. Он проводил ее до двери, а затем сказал нечто неожиданное для них обоих. Он вообще-то не собирался ей это говорить, но не смог сдержаться: – Эндрю не единственный, кто будет по тебе здесь скучать в течение ближайшего года. Если бы вестибюль был поярче освещен, Мэтью бы увидел, как она зарделась, но там было темновато. Дафна протянула ему маленькую, хрупкую руку. Он взял ее в свою и на мгновение придержал. – Спасибо, Мэтью. Я просто рада, зная, что ты будешь здесь с Эндрю. Я буду тебе часто звонить, узнавать, как у него дела. Мэтт кивнул, чувствуя лишь легкое разочарование. Но он не имел права рассчитывать на большее. Он был всего лишь директором интерната, где жил ее сын. И не более. Он знал, какую уединенную жизнь она вела, и что-то подсказывало ему, что она не собиралась ее менять. Дафна была волевой женщиной и пряталась за прочными стенами. – Конечно, звони так часто, как захочешь. Я буду здесь. Она улыбнулась ему и на прощание лишь шепнула: «Спокойной ночи». Когда Дафна медленно ехала обратно в гостиницу, то обнаружила, что думает о нем. Он был замечательным человеком, и то, что именно он устроился в Говард, было большой удачей. Но Дафна не могла не признать, пусть только самой себе, что чувствовала к нему нечто большее. Какой-то смутный, беспокоящий, глубокий интерес, словно хотела знать о нем все и говорить с ним бесконечно долго. Она не испытывала такого с тех пор, как повстречала Джона Фоулера, но Дафна также знала, что не должна позволять себе чувствовать такое снова. Ни к какому мужчине. Двух утрат было достаточно. Мэтью Дэйн мог бы быть важен для нее из-за Эндрю и из-за всего, чему он мог научить ее в плане помощи сыну. Но его роль в ее жизни состояла только в этом, и она это знала независимо от того, что он ей нравился. Все прошлое для нее уже просто не существовало. Она не допустила бы этого. Невозможно было снова любить и терять, она больше этого не хотела. Никогда. Легко было представить себе любовь к Мэтью Дэйну. Такого мужчину можно было полюбить, он мог нравиться. Но именно поэтому ей следовало быть бдительной. Просто чтобы не подвергать себя опасности. В данный момент она изливала всю свою любовь на Эндрю, на него ежеминутно были направлены все ее желания, все помыслы. Она жила исключительно ради него и лишь чуть-чуть для себя. Поездка в Калифорнию была первым проявлением этого. (обратно)Глава 20
Дафне оставалось только закрыть квартиру в ее последнюю пятницу в Нью-Йорке. Она уже упаковала вещи. Ее чемоданы стояли в прихожей, все было готово, и предстояло только провести последний уик-энд с Эндрю. Она вернется в воскресенье вечером, поставит машину в гараж и полетит в понедельник утром с Барбарой в Лос-Анджелес. Они остановятся в коттедже в отеле «Беверли-Хиллз», пока не найдут подходящий дом, и в течение недели после прибытия в Лос-Анджелес ей надо будет приняться за работу над сценарием. В соответствии с контрактом у Дафны было только два месяца на его написание, а это означало для нее бессонные ночи. Дафна думала об этом всю дорогу до Нью-Гемпшира и до поздней ночи в гостинице делала записи. Следующее утро она провела с Эндрю: как обычно, пообедала с ним, пополдничала, поужинала и лишь вечером увидела Мэтью. Вид у него был усталый, как, впрочем, и у нее. – Ты выглядишь так, как будто у тебя была тяжелая неделя. Она улыбнулась ему, а он провел рукой по жестким каштановым волосам и улыбнулся в ответ. – Да, в самом деле. За неделю четыре крупных конфликта в Нью-Йоркской школе, и это мой последний уик-энд здесь в качестве наблюдателя. Официально я здесь со следующей пятницы. Миссис Куртис уедет насовсем в понедельник утром, и, если у меня к тому времени не случится нервный срыв, все будет нормально. – Я тебя понимаю, мне отвели два месяца на сценарий, и я начинаю паниковать. Я не имею понятия, как это делается, и каждый раз, когда сажусь перед чистым листом бумаги, у меня в голове сплошная пустота. Он с пониманием улыбнулся ее словам: – Это случалось и со мной, когда мне назначали срок сдачи книги. Но в конце концов, преодолев полное отчаяние, я все-таки заставлял себя взяться за проблему. Так же будет и с тобой. Вероятно, когда ты прибудешь туда, все встанет на место. – Прежде всего мне надо искать себе дом. – А где вы остановитесь в первые дни? – Я оставила миссис Куртис все мои телефоны. Я буду в отеле «Беверли-Хиллз», пока не найду дом. Он закатил глаза и безуспешно попытался изобразить на своем лице сочувствие: – Тяжелая у вас жизнь, сударыня. – А вы думали! – Она улыбнулась. Дафна поговорила с ним всего несколько минут в вестибюле, перед тем как уехать обратно в гостиницу. Ему еще надо было побеседовать с миссис Куртис, а Дафна была утомлена напряженной работой в последнюю неделю. На следующее утро, как обычно, она отправилась с Эндрю в церковь и вернулась обратно в школу, чтобы провести день с ним. Теперь каждая минута с Эндрю была драгоценна. Он льнул к ней в этот уик-энд больше, чем обычно, и это было понятно. А она чувствовала потребность быть к нему как можно ближе, касаться его, обнимать, гладить его по волосам, чтобы запомнить их шелковистость, чувствовать губами его шею при поцелуе, вдыхать запах мыла на его детском теле, когда они обнимались. Все связанное с ним казалось ей теперь особенным и еще более дорогим. Для нее этот уик-энд был самым трудным из всех, и, чувствуя это, Мэтью держался в стороне. Только когда она собралась уезжать, он снова к ней подошел, наблюдая с молчаливым пониманием, как она обнимала Эндрю, желая помочь им обоим, увидев, что у нее из глаз брызнули первые слезы. Он знал, что расставание не будет для них легким. Но Эндрю оправится быстрее. Дафна же будет страдать, беспокоиться за ребенка, думать о нем каждую свободную минуту, волнуясь за него, и стремиться к нему, несмотря на такое большое расстояние. – Ну, как ваши дела? – Он сказал это над головой Эндрю, делая вид, что не замечает ее слез. – Знаешь, Дафна, с ним через пару часов все будет прекрасно, как бы он горько ни плакал, прощаясь. Дафна кивнула, комок подступил к горлу, но она все же сумела выговорить: – Я знаю. С ним все будет о'кей. Но выдержу ли я? – Да, я тебе обещаю. – Он мягко коснулся ее плеча. – А ты звони в любое время. Я буду сообщать тебе все последние новости. – Спасибо тебе. – Она улыбнулась сквозь слезы, ласково коснулась головки сына и наклонилась, чтобы сказать Эндрю, что ему пора ложиться спать. В этот вечер она долго с ним сидела и говорила о Калифорнии, о ее достопримечательностях и о том, как грустно ей там будет без него. Эндрю не выдержал и, издав тихий тоскливый звук, который всегда был у него признаком печали, стал плакать, протянул ручки и крепко обнял ее, а потом жестами сообщил: – Я без тебя буду скучать. – Я тоже. – Слезы текли по ее щекам. Может, и хорошо, что Мэтт все-таки увидел их вместе. Так он поймет, как она будет скучать и по нему тоже. – Но скоро мы снова увидимся. Дафна улыбнулась ему сквозь слезы, и он наконец тоже улыбнулся. Она подождала, пока он заснет, а потом медленно спустилась по лестнице, словно потеряла своего лучшего друга, и увидела Мэтью, ожидавшего ее в кресле внизу лестницы. – Уснул? – Да. – Ее глаза были огромными, грустными, и она даже не попыталась улыбнуться. А Мэтью вообще ничего не сказал, только проводил ее до дверей. Дафна попрощалась с миссис Куртис, прежде чем уложила Эндрю спать, рассчиталась с гостиницей, ее чемодан был в машине, ничего не оставалось, кроме как ехать. Как бы угадывая ее настроение, Мэтью проводил ее до машины и наблюдал, как она открывала дверцу. Затем она повернулась и посмотрела на него своими громадными голубыми глазами, а он протянул руки и взял ее за плечи. – Мы его тоже любим и будем о нем хорошо заботиться, обещаю тебе. О нем всегда и так хорошо заботились, но в этот раз все было иначе, ей предстояло уехать очень далеко. Расставаться было больнее, чем в прежние годы, и поэтому она чувствовала себя так, словно ей было десять тысяч лет, когда подняла глаза и посмотрела в темно-карие глаза Мэтью. – Я знаю. Дафна за свою жизнь потеряла стольку любимых людей, и теперь все, что у нее осталось, – это ее единственный мальчик. – Я до сих пор к этому не привыкла. Хотя должна была бы. Вся моя жизнь состояла из прощаний. Он кивнул, все это было написано в ее глазах. – Это не одно и то же, Дафна. Сейчас происходит самое трудное. Но это не продлится долго. Год сейчас кажется тебе вечностью, но на самом деле это не так. Она улыбнулась. Жизнь была такой странной. – Когда я вернусь, закончится и твой год здесь, и придет время возвращаться. – И все мы многому научимся. Подумай об этом. Слезы снова пролились, когда она покачала головой: – Я не могу... все, о чем я могу сейчас думать, это каким он был, когда я его сюда впервые привезла. – Это было давно, Дафна. Она кивнула. Это было началом ее года с Джоном. Почему все всегда должно кончаться прощанием? Мэтью наклонился и поцеловал ее в щеку. – Счастливого пути. Звони. – Обязательно буду. – Дафна опять посмотрела на него, и на мгновение у нее возникло безумное желание кинуться к нему в объятия, испытать чувство защищенности, которое некогда было ей знакомо. Она страстно захотела, чтобы опять наступило время, когда ей не приходилось бы бороться в одиночку, не приходилось бы все время быть храброй. – Береги себя... и Эндрю тоже. А потом она села в машину и посмотрела на него через открытое окно. – Спасибо за все, Мэтт. Удачи тебе. – Она мне понадобится. – Его лицо осветилось мальчишеской улыбкой. – Смотри, чтобы фильм получился отличный. Я знаю, что ты можешь. Она улыбнулась, тронулась с места и, удаляясь, махала ему рукой, а он махал ей. И после того как огни ее машины скрылись в ночи, он еще долго, долго стоял. (обратно)Глава 21
Самолет легко коснулся взлетно-посадочной полосы аэропорта Лос-Анджелеса и, казалось, еще некоторое время парил над ней, прежде чем остановился и подрулил к месту высадки пассажиров. Барбара с волнением смотрела в окошко, и Дафна улыбалась, глядя на нее. Путешествовать с ней было все равно что с маленькой девочкой. От всего она приходила в восторг и всю дорогу от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса была радостно возбуждена. Дафна была спокойнее обычного и уже написала три открытки Эндрю. Но теперь она думала не о нем. Она осознала, что с этого момента для нее наступает новая жизнь. У выхода их встретил шофер, заказанный «Комстоком» высокий, болезненного вида мужчина неопределенного возраста в черном костюме и фуражке, с длинными, повисшими вниз усами. Он стоял, держа в руках большую табличку с ее фамилией, написанной красными чернилами: «Дафна Филдс». – Здорово придумали. – Она весело посмотрела на Барбару, и та улыбнулась. – Это Голливуд, Дафф. Тут не церемонятся. Это мнение оказалось пророческим, как они выяснили, прибыв в отель «Беверли-Хиллз». Он сиял свежей Розовой штукатуркой, был окружен пальмами, а поперек фасада сверкало ярко-зеленым неоновым светом его название. В вестибюле царил полный хаос, пробегали какие-то блондинки в плотно облегающих джинсах, с золотыми цепочками на шее, в шелковых блузках и босоножках на каблуках; на проходивших мужчинах были дорогие итальянские костюмы или облегающие джинсы и рубашки, расстегнутые на груди. Стоявший в гостинице аромат был настоящей симфонией из дорогих духов; посыльные пошатывались под тяжестью огромных букетов цветов или гор чемоданов, список гостей напоминал список лауреатов «Оскара». – Мисс Филдс? Конечно. Коттедж для вас готов. Посыльный торжественно отвез ее тележку с багажом мимо восходящих звездочек кинематографа и их будущих продюсеров, теснившихся вокруг бассейна, и Дафну восхитило множество тел и золотых цепочек. Все попивали средь бела дня белое вино или мартини. В «коттедже» оказалось четыре кровати, три ванных комнаты, холодильный шкаф, заполненный икрой и шампанским, из окон виднелись пальмы; еще там был огромный букет роз и коробка шоколадных конфет от «Комстока» с запиской «До встречи завтра». И вдруг Дафна повернулась к Барбаре с испуганным видом. – Я не могу. – Ее голос был напряжен. Носильщик только что ушел от них, и обе стояли в роскошно украшенной цветами гостиной. Глаза Дафны были расширены. Такой Барбара ее никогда не видела. – Барб, я не могу. – Что? Есть шоколад? – Оставалось только шутить, было очевидно, что Дафна в панике. – Нет. Смотреть на все это. Это Голливуд. Какого черта я здесь делаю? Я писательница. Я ничего об этом не знаю. – Ну и не надо. Все, что от тебя требуется, это сесть за машинку и делать то же самое, что ты делала дома. Не обращай внимания на все это дерьмо. Это всего лишь декорация. – Нет, не декорация. Ты видела тех людей? Они все Думают, что это реальность. – Это же гостиница, черт побери. Расслабься. – Она налила ей бокал шампанского, и Дафна с видом сироты села на диван в Розовых и зеленых цветочках. – Что ты хочешь от них? – Я хочу домой. – Не вздумай, я тебя не пущу. Так что заткнись и радуйся. Черт побери, я же еще не видела Родео-драйв. Дафна ей улыбнулась, вспомнив, какую жизнь вела Барбара со своей матерью. Это было несравнимо со всем, что происходило здесь. – Ты не проголодалась? – Меня вырвет. – Господи, Дафф. Почему бы тебе не расслабиться и не порадоваться этому? – Чему порадоваться? Тому, что я обязалась сделать то, о чем не имею понятия, в месте, которое похоже на другую планету, за три тысячи миль от моего единственного ребенка... Ей-богу, Барбара, что я здесь делаю? – Ты делаешь деньги для своего малыша. – Это был аргумент, который, Барбара это знала, убедит Дафну, если ничто больше не подействует. – Понимаешь? – Да. – Но это было слабым утешением. – Я чувствую себя так, словно записалась в иностранный легион. – Так оно и есть. И чем скорее ты примешься за работу, тем скорее мы отсюда уедем. Однако самой Барбаре этого отнюдь не хотелось. Ей здесь уже очень понравилось. – Вот это хорошая мысль. Дафна распаковала вещи и через полчаса выглядела лучше. Барбара позвонила в «Комсток» и сообщила об их благополучном прибытии, а потом обе пошли поплавать в бассейне. В тот вечер они поужинали в спокойной обстановке, сходили поглядеть на внутренний дворик, заполненный актерами, фотомоделями, бизнесменами и темными личностями, возможно, торговцами наркотиками, и в десять часов легли спать – Барбара с чувством возбуждения и радости, а Дафна с чувством страха перед тем, что ее ждало впереди. На следующее утро они отправились на встречу в «Ком-сток» и к моменту возвращения в полдень в экзотическое великолепие гостиницы Дафна знала почти уже наверняка, что здесь жить можно. Она лучше представляла себе, чего от нее хотят, многое записала и намеревалась приступить к работе в тот же день. Работа Барбары тоже определилась. У нее был список полудюжины агентов по недвижимости. Она собиралась отправиться на поиски подходящего дома. Барбара также позвонила Айрис и узнала, какие у нее есть сообщения для Дафны. И со второй половины дня дела пошли гладко. Свою машинку Дафна привезла с собой из Нью-Йорка, теперь она передвинула в угол стол и стул и принялась за работу, Барбара же отправилась в бассейн. Когда через час она вернулась, Дафна все еще работала, и Барбара зажгла ей свет. Дафна была так поглощена работой, что даже не заметила наступления сумерек. – А? Что? Дафна подняла глаза с отсутствующим видом, характерным для нее во время работы; из волос, собранных в пучок, торчала ручка; на Дафне были футболка и джинсы. – А, привет. Хорошо поплавала? – Очень. Хочешь поесть? – Гм... не-а... Может быть, попозже. Барбаре нравилось наблюдать за Дафной, когда та была полностью поглощена работой: так сказать, творческий процесс в действии. В восемь часов она заказала ужин, и, когда его принесли, Барбара похлопала Дафну по плечу. Работая, она всегда забывала поесть, и в Нью-Йорке Барбара просто ставила поднос с едой ей на письменный стол. – Пора есть. – О'кей. Сейчас. Что обычно означало «через час», и в этот раз было так же. – Ну же, малышка. Иди поешь. – Иду. Наконец она перестала стучать на машинке, распрямилась, потянулась и потерла себе плечи. А потом улыбнулась Барбаре: – Хорошее чувство! – Как движется работа? – Неплохо. Я словно опять молода. После ужина она опять засела за машинку и просидела за ней до двух часов ночи. А на следующее утро поднялась в семь и уже опять стучала, когда Барбара встала. – Ты что, не ложилась? – Она знала, что временами Дафна действительно не спала, но в этот раз было не так. – Ложилась. Где-то около двух. – Слушай, от тебя дым идет! – Я хочу побольше написать, пока вчерашняя беседа еще свежа в памяти. И Дафна в самом деле писала весь день. Барбара ездила смотреть три дома, пообедала и сходила в бассейн. Потом она принялась работать в своей комнате – отвечала на письма читателей, а вечерам опять заказала ужин в коттедж. Так уж забавно сложилось, что Барбара была для Дафны как мать, но ее это не обременяло. У нее был многолетний опыт ухода за собственной матерью, а заботиться о Дафне ей нравилось. Было интересно общаться, работать, да и просто находиться рядом с таким одаренным человеком, хотя Дафна никогда таковым себя не считала. На четвертый день Дафна позвонила миссис Куртис, чтобы спросить ее о сыне; она держала свое слово и каждый день посылала ему письма. Миссис Куртис сказала, что Эндрю здоров и весел, привык к новой ситуации. Она также напомнила Дафне, что теперь им удастся поговорить только тогда, когда Дафна приедет в Нью-Гемпшир и навестит ее в новом доме. Следующий день был последним днем миссис Куртис в Говардской школе. Дафна снова пожелала ей удачи и положила трубку, подумав вдруг о Мэтью: как-то у него дела? Она знала, что Мэтт, видимо, был безумно занят, заканчивая дела в Нью-Йоркской школе перед отъездом. – Как Эндрю? – Барбара вошла с подносом для Дафны, и та с улыбкой подняла на нее глаза. – Миссис Куртис говорит, что все очень хорошо. А как, кстати, наши дела с домом? Барбара улыбнулась: – Все хорошо. Кроме того, что все они тут жулики. Впрочем, что-нибудь все же должно подвернуться вскоре. Ты хочешь бассейн в форме пишущей машинки или сойдет и в форме книги? – Забавно. – Не то слово. Сегодня я видела один в форме сердца, один овальный, один в форме ключа и один в форме короны. – Звучит очень экзотически. – Конечно, И к тому же чертовски заманчиво, а самое плохое то, что мне это ужасно нравится. Дафна весело улыбнулась. – Знаешь, если расстегнешь блузку до пупа и обвесишься золотыми цепочками, по-моему, это будет полный финиш. И на следующий день просто для смеха Барбара так и нарядилась. Дафна хохотала. – Мы здесь всего пять дней, а тебя уже это увлекло. – Ничего не могу поделать. Это атмосфера. Она сильнее меня. – Сильнее вас ничего нет, Барбара Джарвис. Это был комплимент, причем сказанный серьезно, но Барбара покачала головой: – Это неправда, Дафф. Сильная ты. Ты самая сильная из женщин, которых я знаю, и вдобавок в хорошем смысле сильная. – Хорошо. Если бы только это было правдой. – А это правда. – Ты говоришь как Мэтью Дэйн. – Опять как он. – Барбара внимательно на нее посмотрела. – Я все же думаю, что ты упустила свой шанс в жизни. Я видела фотографию на обложке его книги, он прелесть. – И что? Что я упустила? Шанс одной ночи перед отъездом из Нью-Йорка на год? Подумай, Барбара, какой в этом смысл? И потом он не предлагал. – Может, он бы и предложил, если бы ты дала ему хоть полшанса. Да и потом, ты же вернешься. – Он директор школы, где обучается мой сын. Это неприлично. – Считай, что он просто писатель. Но Дафна старалась вообще о нем не думать. Он был замечательным человеком и хорошим другом. И не более. Как обычно, Дафна после ужина снова принялась за работу, а Барбара в своей комнате читала. А на следующий день она наконец не вытерпела и поехала на Родео-драйв, чтобы просто поглазеть. Барбара сделала все дела, дома смотреть в тот день больше не надо было, и она решила побездельничать. Водитель высадил ее у отеля «Беверли-Уилшир», и она стояла, с восхищением глядя по сторонам. Длинная красивая улица простиралась перед ней на несколько кварталов, где на каждом шагу были дорогие магазины, предлагавшие одежду, ювелирные изделия, кожу и картины. Зрелище было впечатляющее. Барбара с улыбкой подумала, как далека от этого обшарпанная квартира в Вест-Сайде, где она жила с матерью. Сначала Барбара зашла в магазин «Джорджио». Там от нее не отходила продавщица в бледно-лиловых туфлях на высоком каблуке, с жемчугом в ушах и розово-лиловом костюме фирмы «Норелл» стоимостью в две тысячи долларов. Ценники на вещах, висевших на вешалках, были примерно такого же уровня. Барбара сказала, что «просто хотела посмотреть», и действительно посмотрела, с трудом сдерживаясь, чтобы не хихикать. В магазине был и мужской отдел, где предлагались норковые шубы, фуфайки из чернобурки, прекрасные изделия из кожи и замши, и шелковые рубашки, и горы разнообразных шарфов. Она примерила шляпу, посмотрела на туфли и наконец купила себе зонтик с надписью «Джорджио». Барбара знала, что Дафна будет над ней за это безжалостно издеваться, но она не захватила с собой зонт из Нью-Йорка, и ей хотелось что-нибудь купить. Потом она зашла в «Гермес», «Селайну» и, наконец, в «Гуччи» – это был огромный магазин с благородным запахом кожи и бесконечными полками, заставленными изысканными итальянскими кожаными изделиями всевозможного вида. Она стояла в благоговении перед витриной черных сумочек из кожи ящерицы. Там была одна сумочка, от которой она особенно не могла оторвать глаз – простой, прямоугольной формы, со скромной золотой застежкой и наплечным ремешком. Она была из дорогой кожи, красиво сделана, без всякой вычурности. Именно такие сумки нравились Барбаре, но она не решилась спросить о цене. Она знала, что сумочка наверняка ужасно дорогая. – Вы хотели бы посмотреть сумочку, сударыня? Продавщица в простом черном шерстяном платье, как и все продавщицы этого магазина, открыла витрину и подала сумочку Барбаре. Она хотела отказаться, но, раз уж сумочка мелькала у нее перед глазами, она не устояла перед соблазном и взяла ее. Она была такая приятная, что Барбара, глядясь в зеркало, надела ее на плечо. Это было что-то потрясающее. – К вашему росту как раз подходит, – прощебетала продавщица с мягким итальянским акцентом, и Барбара почти истекла слюной, а потом просто так открыла сумочку и увидела цену на ярлыке. Она стоила семьсот долларов. – Очень красивая. – Барбара с сожалением сняла ее с плеча и отдала продавщице. – Я еще здесь кое-что посмотрю. – Конечно, сударыня. – Симпатичная светловолосая продавщица улыбнулась. Отходя от прилавка, Барбара заметила, что высокий привлекательный мужчина пристально за ней наблюдает. Она взглянула на него, смущенная тем, что он видел, как она возвращает сумочку, и в тот момент пожалела, что не может вернуться и купить ее. Как-то неловко было разглядывать все это великолепие, не имея возможности что-нибудь купить. Но он не спускал с нее глаз, пока она шла к выходу и рассматривала шарфы. Она хотела купить один Дафне. Дафна столько для нее сделала, хорошо было бы привезти ей подарок, пока она трудится в коттедже над своим сценарием. Но, когда Барбара отдавала одной из продавщиц красно-черный шарф, то заметила, что мужчина, смотревший на нее, идет за ней. Она повернулась спиной и сделала вид, что не замечает, но в одном из длинных, элегантных зеркал увидела, что он медленно приблизился и встал за ней. На нем были серые слаксы из шерстяной фланели и хорошего фасона голубая рубашка с расстегнутым воротом, темно-синий свитер просто наброшен на плечи, и если бы она посмотрела вниз, то увидела бы, что на ногах у него коричневые туфли фирмы «Гуччи». Но на самом деле он не походил на лосанджелесца, скорее на ньюйоркца, или филадельфийца, или бостонца. У него были песочные волосы и голубые глаза, выглядел он лет на сорок. И когда Барбара посмотрела на его отражение снова, ей показалось, что она его уже где-то видела, но вспомнить, кто он такой и откуда, не могла. Он поймал в зеркале ее взгляд и со смущенной улыбкой наконец подошел к ней. – Извините, пожалуйста... Я смотрел на вас, но я думал... «Знаем, знаем, – усмехнулась она про себя, – старый прием». – Не встречал ли я вас раньше? Известный прием: теперь он сунет в руку свою визитную карточку. Ему показалось, что глаза Барбары не были такими же добрыми, как до того, как он к ней подошел. Но теперь он уже не сомневался. Она сильно изменилась: фигура у нее, правда, осталась та же, но выражение лица стало каким-то холодным, почти недоверчивым. Как видно, жизнь не баловала Барбару Джарвис. – Барбара? – Да. – Ни в ее голосе, ни в глазах не было приветливости, но он улыбнулся, уверенный, что это она. – Меня зовут Том Харрингтон. Вряд ли вы меня помните. Мы встречались только однажды, на моей свадьбе... Я женился на Сэнди Макензи. И вдруг она вспомнила, ее глаза широко раскрылись, и она с изумлением посмотрела на него. – О Господи... как ты меня запомнил? Это же было... Ей страшно сделалось, когда она посчитала. Барбара не виделась с ним с тех пор, как ей было двадцать, то есть почти ровно двадцать лет. Он тогда женился на ее подруге по колледжу, с которой Барбара жила в одной комнате. Сэнди бросила учебу, потому что была беременна, и они поженились в Филадельфии. Барбара ездила на свадьбу и там с ним познакомилась. Но с тех пор они не виделись. Он тогда учился на юрфаке, и после рождения ребенка они переехали в Калифорнию. – Как вы? Как Сэнди? Они много лет присылали ей поздравления с Рождеством, а потом перестали. Барбара была слишком занята с матерью, чтобы отвечать, но хорошо помнила Сэнди и Тома. На этот раз она ему улыбнулась уже приветливо: – Она здесь? Здорово было бы с ней повидаться, особенно теперь, когда она работает у Дафны. В те годы Барбара не хотела им писать. О чем было ей рассказывать? О том, что она живет в ужасно тесной квартирке вместе с матерью, ходит в магазин и работает секретаршей в юридической фирме? Чем можно было тогда гордиться? Но теперь все изменилось. – Как дети? – Она помнила, что спустя четыре года у них родился еще один. – Дети уже большие. Роберт учится в Калифорнийском университете на театральном отделении, мы, конечно, не в восторге, но у него есть способности, и если это то, чего он хочет... – Том с улыбкой вздохнул. – Ты знаешь, что такое дети? А Алекс все еще дома с мамой, в апреле ей будет пятнадцать. – Боже мой! – Барбара казалась по-настоящему потрясенной. Университет и пятнадцать лет? Как это могло случиться? Неужели это было так давно? Но все было верно. Она была так ошеломлена, что даже не обратила внимания на смысл его вопроса: – Ну а как ты? Ты здесь живешь? Она заметила, что он смотрит на ее левую руку, но там ничего не было. – Нет, я здесь по работе. Женщина, у которой я работаю, пишет сценарий, и мы сюда приехали на год. – Вот это да. Кто-нибудь известный? Барбара улыбнулась с нескрываемой гордостью: – Дафна Филдс. – Это, должно быть, интересная работа. И вы здесь давно? Барбара снова улыбнулась: – Неделю. Мы живем в отеле «Беверли-Хиллз», там крутая жизнь. Они оба рассмеялись, и тогда к ним подошла рыжеволосая красавица в белых джинсах и белой шелковой блузке. Она устремила на Барбару свои пронзительные зеленые глаза. Ей не могло быть больше двадцати пяти лет. У нее была необыкновенная внешность: матово-белая кожа и рыжие волосы, которые доходили ей почти до талии. – Ничего не подходит. – Она сделала недовольную гримасу, обращаясь к Тому, и решила, что Барбары не стоит опасаться. – Все велико. Барбара улыбнулась, откровенно любуясь этой парой и задаваясь вопросом, кто она. «Мне бы ее проблемы», – подумала она. Но в глазах Тома, когда он смотрел на Барбару, была доброта и понимание. – Ты замечательно выглядишь, ты почти не изменилась за все эти годы. Это была дружеская ложь, но Барбара подумала, что с его стороны очень мило, что он это сказал, и он не выглядел особенно смущенным рядом с этой молодой красоткой. Тогда Барбара заметила, что у него в руках уже есть сумка с дорогими покупками. Она не могла сообразить, какую роль в жизни его и Сэнди играет эта девушка, но он ее представил, и все сразу же стало ясно. – Элоиза, разреши познакомить тебя с Барбарой. – Он улыбнулся Барбаре, а потом Элоизе. – Барбара – подруга моей бывшей жены. Теперь она поняла. Они были в разводе. Стало быть, это была его подруга. – Барбара Джарвис, – добавила она за Тома и протянула руку, а затем снова повернулась к нему, желая расспросить о Сэнди, но момент был неподходящий. – Очень рада с вами познакомиться. – Молодая рыжая красотка сказала только это и отошла посмотреть большую бежевую сумку из ящерицы. Том проводил ее взглядом, а затем опять весело взглянул на Барбару. – Одно могу сказать: у нее чертовски хороший вкус. Как видно, это его не слишком волновало, да и сама Элоиза, впрочем, тоже. – Жаль, что у вас с Сэнди не сложилось. – Барбара искренне сочувствовала. Рождественские поздравления от них перестали приходить восемь или девять лет назад. – Когда это произошло? – Пять лет назад. Она снова вышла замуж. – И после небольшого колебания: – За Остина Уикса. Но уж эта новость Барбару поразила. – Актера? – Это был глупый вопрос, сколько, в конце концов, может быть Остинов Уиксов? Он очень известный английский актер, но по крайней мере в два раза старше Сэнди и был в свое время настоящим донжуаном, но по последнему его фильму Барбара знала, что Уикс по-прежнему потрясающе привлекателен. – Как это случилось? – Я помог ему в одном сложном правовом вопросе, и мы подружились... – Том пожал плечами, но в его глазах все еще была некоторая горечь, когда он это говорил, и потому он обратился к Барбаре с натянутой улыбкой: – Знаешь, это ведь Голливуд. Это все как бы игра. Сэнди здесь нравится. Ей это как раз подходит. – А тебе? Даже двадцать лет назад Барбара плохо его знала, но он ей понравился тогда, на свадьбе. Она была свидетельницей, и Том показался ей умным и порядочным, и она сказала Сэнди, что той повезло. Сэнди согласилась, но она всегда была какая-то... какая-то неудовлетворенная, неугомонная, ненасытная. В колледже у нее дела шли неважно, и Барбара всегда подозревала, что Сэнди забеременела просто для того, чтобы выйти замуж. Том был из благополучной филадельфийской семьи, но этим далеко не исчерпывался список его достоинств. И когда Барбара возвращалась со свадьбы, она думала о них обоих с завистью. – А тебе здесь нравится, Том? – Весьма, но должен признать, что последние пять лет я здесь живу ради детей. Да и практикую так давно, что возвращаться в Филадельфию было бы сложно. Барбара вспомнила, что он специалист по законам в области кино и, конечно, здесь был на своем месте, но ей показалось, что Тому не особенно нравится Лос-Анджелес. – Спустя какое-то время это все начинает казаться искусственным. Он предостерегающе улыбнулся и в эту минуту выглядел не старше, чем на свадьбе. – Но берегись, как бы тебя не затянуло. Тут соблазнов много. – Я знаю. – Она ответила ему улыбкой. – Мне уже начинает здесь нравиться. – О, это плохой признак. Тут подошла продавщица с нарядно упакованным шарфом, и вернулась Элоиза, которая решила, что сумка из ящерицы за три тысячи долларов ей не подходит. – Рада была тебя встретить, Том. – Барбара протянула руку на прощание. – И передай от меня привет Сэнди, если ее увидишь. – Конечно. Я пару раз в неделю вижусь с Алекс, а заодно и с ней. – В его взгляде опять промелькнула боль: от него ушла жена к тому, кто был его другом. Такой шрам остается на всю жизнь. – Я передам ей от тебя привет. Но ты ей сама позвони, если будет время. Однако Барбара колебалась. Сэнди замужем за Остином Уиксом – может, она и не захочет с ней видеться? – Скажи ей, что я в отеле «Беверли-Хиллз», если захочет, пусть мне позвонит. Я не хочу навязываться. – Он кивнул, и через мгновение Барбара вышла, размышляя, как интересна и удивительна жизнь. – Ну как, ты покорила Родео-драйв? – Когда Барбара вошла, Дафна, развалясь на диване, читала написанное за день. Судя по ее виду, она весь день напряженно трудилась. – Ну, как было? – Классно. – Барбара провела на Родео-драйв еще два с половиной часа, заходила в «Журдан», «Ван Клеф и Арпельс», «Бижан» и множество других магазинов, а потом перекусила в одном из ресторанов. Посмотреть действительно было на что, и Барбара была очень довольна экскурсией. Она даже купила себе купальник, шляпу и два свитера. – Мне там ужасно понравилось, Дафф. Дафна улыбнулась: – Я всегда считала, что ты сумасшедшая. Что ты купила? Барбара показала Дафне свои покупки, а потом поставила ей на колени небольшую фирменную коробку с надписью «Гуччи»: – А это вам, мадам босс. Я бы купила вам купальный халат из белой норки, который видела у «Джорджио», но не было вашего размера. – Она радостно улыбнулась. – Ах, черт возьми! Но ты хоть заказана его? Они обе рассмеялись. Дафна открыла коробку и была тронута и обрадована. Красный и черный – это были ее любимые цвета. – Не надо было делать это, глупышка. – Она тепло посмотрела на свою подругу. – Ты меня и так достаточно балуешь, Барбара. Без тебя я не могла бы ничего сделать. – Чепуха, ты бы прекрасно справлялась и без меня. – Но я рада, что мне этого не приходится делать. – Кстати, как движется работа? – Неплохо. Но это совсем новое дело, которому надо научиться. Я все время чувствую себя такой неуклюжей. – Ничего, скоро научишься, и могу спорить, это наверняка так же хорошо читается, как и остальные твои вещи. – Надеюсь, что в «Комстоке» будут того же мнения. – Будут, будут. Зазвонил телефон, и Барбара пошла в свою комнату, чтобы ответить. Когда Барбары не было, на звонки отвечала гостиничная телефонистка, а когда Барбара была на месте, она вела бесконечные переговоры с агентами по недвижимости из своей комнаты, чтобы не беспокоить Дафну. Барбара сняла трубку и села на кровать. Она решила один день отдохнуть от поисков дома, но вообще-то хотела побыстрее что-нибудь найти. Она знала, что Дафне будет легче работать в домашней обстановке. – Алло? – Попросите, пожалуйста, Барбару Джарвис. – Это я. – По привычке она схватила блокнот и взяла карандаш. – Это я, Том Харрингтон. Барбара удивилась, сердце у нее слегка ёкнуло. Зачем ему понадобилось ей звонить? Но глупо было волноваться. Он был просто бывшим мужем старой подруги и звонил из дружеских побуждений. – Рада слышать тебя, Том. – Затем она хотела спросить, чем может быть ему полезна. Возможно, как большинство звонивших, он хотел познакомиться лично с Дафной. – Ты хорошо провела сегодня время? – Очень. Я исходила вдоль и поперек всю Родео-драйв. – Это дорогое удовольствие. – Он взглянул на свою чековую книжку, лежавшую рядом на кровати. Элоиза нанесла ей значительный урон, но это было типично для таких, как она. В его жизни за последние пять лет были дюжины таких Элоиз, а такой, как Барбара, не было никогда. – Что ты купила? Барбара смутилась и пыталась догадаться, к чему он клонит. Почему он ей звонил? – Да всякую ерунду. Не то, что вы. – Ты в «Гуччи» смотрела отличную сумку. Значит, он заметил. Его глаза, казалось, все видели; он долго наблюдал за ней, прежде чем наконец подошел заговорить. – Мне кажется, она не по мне. Немного дороговата. Да и, кроме того, что бы она делала с такой сумочкой? Носила в ней карандаш и блокнот? – Скажи своей работодательнице, чтобы она тебе повысила зарплату. Барбара промолчала. Она не собиралась говорить Дафне ничего подобного. Дафна и так ее избаловала. – Или найди какого-нибудь классного мужика, который бы ее тебе купил. – Боюсь, что это не в моем стиле. – Ее тон сразу стал холодным. – Я так и думал. – Голос Тома был задушевным и добрым. Конечно, в противном случае он бы не позвонил. Он понимал, что Элоиза и Барбара – это не одно и то же. – Сегодня нам не удалось как следует поговорить. Ты вообще была замужем? – Нет. Никогда. Моя мама заболела, когда я окончила колледж, и я долгое время ее выхаживала. – Барбара сказала это обычным тоном, без сожаления. Как было, так было. – Нелегко, наверное, тебе пришлось? – В его голосе было восхищение. Сэнди никогда не была бы способна на такое, да и сам он тоже. – А когда ты начала работать у Дафны Филдс? – Около четырех лет назад временно, а потом это стало моей постоянной работой. – Тебе это нравится? – Очень. Лучше ее у меня друзей не было, да и работать с ней одно удовольствие. – Это нетипично для женщины, которая сделала карьеру. – Он ее сравнивал со знакомыми женщинами-адвокатами. Общаться с ними было тяжело. – Дафна не такая. Она самая скромная из женщин, которых я встречала. Она просто делает свое дело и спокойно идет по жизни. Это в самом деле необыкновенный человек. – Что ж, рад за тебя. – Видимо, его не особенно интересовала Дафна. – Послушай, нам не удалось поговорить как следует. Как насчет того, чтобы нам посидеть где-нибудь позднее сегодня? Мне надо сначала поужинать с одним из моих партнеров и обсудить с ним дела. Но к девяти я освобожусь. Мы можем встретиться у входа в отель, если это тебе удобно... Наступило несколько нервозное молчание. Он правильно предположил, что Барбара достаточно осторожна. – Как тебе мое предложение? Барбара долго не отвечала. Ей на самом деле не особенно хотелось куда-то идти, и она подозревала, что его деловой партнер – это, наверное, рыжая красотка. Но, с другой стороны, делать ей было нечего – Дафна будет работать, Барбара ей не потребуется, а Том был симпатичным мужчиной. Не позволив себе более размышлять над этим, она вдруг согласилась: – О'кей. Почему бы нет? – Жду тебя в вестибюле в девять. Если буду опаздывать, я тебе позвоню. Ты никуда не уйдешь? Барбара почему-то не сомневалась, что будет на месте. – Да, я хочу заказать Дафне ужин. – Она никуда не уходит? – Он представлял себе, что писатели только и делают, что кутят, пьют и ходят по вечеринкам. – Очень редко, и никогда в процессе работы. Она сейчас работает над сценарием и не выходила из комнаты с самого нашего приезда. – Это звучит не особенно весело. – Так оно и есть. Это тяжелая работа. Она и вправду работает больше других. – С твоих слов можно подумать, что она готовая кандидатура в святые, – сказал Том с улыбкой. – В моем списке да. – Это было предостережение ему не злословить в адрес Дафны ни сегодня, ни когда-либо в другой раз. Барбара защищала ее, как жрица у алтаря своего божества, и, разумно это было или нет, таким было ее отношение к Дафне. – До встречи, Том. – Жду с нетерпением. И пока он в своем доме в Бель-Эр[5] принимал душ и брился перед встречей с партнером, не переставал удивляться, как просто все получилось. Барбара была привлекательна, но не щеголяла своей красотой. Она скорее была интересной, чем сексапильной, скорее умной, чем хорошенькой, и все же в ней было что-то очень привлекательное, что-то надежное, что-то неподдельное. Барбара производила впечатление женщины, с которой можно говорить, от которой можно ожидать поддержки, которая ценит юмор. Том Харрингтон никогда не был знаком с подобной женщиной, но эти качества удивили его в Барбаре еще двадцать лет назад по резкому контрасту с Сэнди. Сэнди была миленькой маленькой блондинкой с ослепительно голубыми глазами и покоряющей улыбкой. Но ее ужасно избаловали родители, а потом и он сам, и она всегда подводила его, как в тот последний раз, когда сбежала с Остином. Она забрала обоих детей и позвонила ему через две недели. Он какое-то время после развода подумывал, не отсудить ли дочь, но это разделило бы детей, и он не решался на это. И с тех пор в его жизни не было серьезных увлечений. Он не знал почему, но почувствовал вдруг неодолимую тягу к Барбаре. Как только он увидел ее в магазине, он знал, что ему захочется встретиться с ней еще, просто поговорить. – Дафф, ты ела? Барбара вошла в ее комнату, взглянула на поднос и сразу поняла, что нет. Но Дафна нахмурилась за машинкой и едва слышала ее слова. – Дафф... эй, детка, поешь. Дафна подняла глаза с отсутствующей улыбкой: – А? Что? Ага, о'кей. Сейчас. Я хочу закончить эту сцену. – И потом, взглянув через плечо: – Ты уходишь? – Совсем на чуть-чуть. Может, что-то нужно, пока я не ушла? – Нет, все в порядке. Извини, что не могу составить тебе компанию. – Да ничего, я как-нибудь сама. Она было начала рассказывать Дафне про Тома, но та ужеснова стучала на машинке. – Пока. И не забудь поесть. Но Дафна не ответила. Она была уже далеко, со своими героями, и Барбара тихо прикрыла за собой дверь. (обратно)Глава 22
Том сообщил Барбаре фамилию его собственного агента по торговле недвижимостью, и в первый же день, когда она поехала с ним посмотреть дома в Бель-Эйр и Беверли-Хиллз, они в Бель-Эйр нашли именно то, что ей было нужно. Это был красивый небольшой дом на Сиело-драйв с тремя спальнями, выходившими на большой, хорошо ухоженный сад. Участок окружала высокая кирпичная стена, заросшая кустами и виноградом, что не угнетало, а создавало ощущение полной уединенности. Был весь необходимый набор: большая лужайка, простой прямоугольный бассейн, сауна, ванная комната. И интерьеры дома были просто замечательны: полы из светло-бежевого мрамора, повсюду большие белые диваны, собрание ценных образцов современного искусства и кухня прямо как из журнала «Дом и сад». Вокруг дома царили солнце и тишина. Была и библиотека, отделанная панелями из сосны, выходящая окнами на бассейн, для Дафны это было идеальное место работы. Одним словом, было все, чего они желали. И хотя цена была высокая, но не такая, -чтобы испугать «Комсток». Дом принадлежал одному очень известному актеру и его жене, которые уехали на натурные съемки в Италию. Барбара смотрела по сторонам с восторженной улыбкой, а агент наблюдал. Она заглядывала во все кладовки, во все шкафы и проверяла все комнаты с учетом вкусов своей работодательницы. – Ну, что вы думаете, мисс Джарвис? – Я думаю, мы вселимся завтра, если вы не возражаете. Они обменялись улыбками. – Мои клиенты будут только рады. Они уехали на год. Это было чудо, что дом до сих пор никто не снял, но хозяева выдвинули достаточно жесткие требования к контингенту арендаторов. А ваша работодательница не захочет сама его сначала посмотреть? – Не думаю. К тому же Дафна была так поглощена работой, что не обратила бы внимания, если бы Барбара сняла шалаш из травы. – Она очень занята. – Тогда давайте вернемся в мой офис и подпишем бумаги. Через час Барбара подписала договор на аренду на год, и они с Дафной на следующий же день переехали. В тот вечер Дафна бродила по дому, привыкая к новой обстановке. Иногда было трудно сразу включиться в работу на новом месте, и она старалась привыкнуть. Она распаковала все вещи, и ее пишущая машинка была установлена в симпатичном маленьком кабинете. Все было готово, но не было Барбары, и вдруг Дафна уяснила, что не знает, куда она ушла. В последнее время Барбара совершенно освоилась в Лос-Анджелесе. С их приезда она словно расцвела, и Дафна этому радовалась. Жизнь Барбары никогда не была особенно интересной, и если здесь, в Лос-Анджелесе, она радовалась жизни, Дафна радовалась за нее. Но, сидя на кухне за тарелкой яичницы и думая о сценарии, она вдруг почувствовала себя более одиноко, чем за все последнее время. Все ее мысли в тот момент сосредоточились на Эндрю, она вспоминала их жизнь вместе до того, как отдала его в интернат. А потом подумала, как там ему живется, в Говарде, и ей страстно захотелось просто обнять его, прикоснуться к нему, повидать его. Когда Дафна об этом думала, у нее прорвались рыдания, и она оттолкнула от себя тарелку. И сама, чувствуя себя ребенком, положила голову на стойку и плакала от тоски по маленькому сыну. Она обещала себе в качестве утешения, когда наплакалась, что вызовет его в ближайший подходящий момент, пока же приходилось просто стойко терпеть. Еще хуже было думать о его переживаниях, и мысль, что он, может, сейчас сидит один в своей комнате и плачет, опять повергла ее в слезы. Ее охватили чуть ли не паника, отчаяние, ужас оттого, что она его предала, что, поехав в Калифорнию, поступила неправильно. И вдруг Дафна поняла, что ей нужен кто-то, кто бы ее ободрил, кто бы сказал, что ее ребенок в порядке, и единственный, кто мог это сделать, был Мэтью. И даже не взглянув на часы, чтобы проверить, который час на востоке, она кинулась к висевшему на кухонной стене телефону. Дрожащими пальцами Дафна набрала знакомый номер, моля Бога, чтобы Мэтт не спал. Ей надо было с кем-то поговорить. Немедленно. Она набрала бывший номер миссис Куртис, и через мгновение низкий, хрипловатый голос ответил, и от одного его звука ей стало уже не так одиноко. – Мэтт? Говорит Дафна Филдс. – Когда она услышала его голос, у нее пересохло в горле, а на глазах снова выступили слезы, хотя она пыталась их сдержать. – Я не слишком поздно? Он тихо засмеялся в трубку: – Ты шутишь? На моем письменном столе работы еще часа на два или три. Как тебе Калифорния? – Не знаю. Я ее еще не видела. Все, что я видела, это комнату в гостинице, а теперь мой дом. Мы переехали только сегодня. Я хочу сообщить тебе мой новый номер. Она сообщила, он записал, тем временем она пыталась вновь обрести спокойствие и не казаться такой расстроенной. Дафна спросила его, как дела у Эндрю. – Все прекрасно. Сегодня он научился ездить на двухколесном велосипеде. Ему не терпится сообщить тебе об этом. Он сегодня вечером собирался написать письмо. Все это звучало так нормально и естественно, и вдруг чувство вины, которое она ощутила, стало ослабевать. Но ее голос был все еще печален: – Жаль, что я не могу там быть. Мэтью молча слушал Дафну, сопереживая ее чувствам. – Ничего, приедешь. – Они помолчали. – Дафф, ты-то сама о'кей? – Вроде бы... вроде да. – И она вздохнула. – Просто ужасно одиноко. – Писателю приходится работать в одиночестве. – И бросать единственного сына. – Она снова глубоко вздохнула, но слез больше не было. – Как дела в Говарде? – У меня напряженно, но я начинаю привыкать. До приезда сюда я думал, что неплохо справлюсь, но так уж получается, что всегда есть еще масса непрочитанных личных дел или ребенок, с которым надо поговорить. Мы вносим некоторые изменения, но ничего разрушительного не предпринимаем. Я буду тебя держать в курсе дела. – Обязательно, Мэтт. Он слышал, какой у Дафны усталый голос. Она казалась ему маленькой девочкой, которая, находясь далеко от дома, ужасно по нему тоскует. Наступила короткая пауза, он попытался представить ее в далекой Калифорнии. – Опиши мне свой дом. Дафна рассказала ему, и, судя по всему, на Мэтта это произвело впечатление, особенно когда он услышал, кому Дом принадлежит. Беседа с ним отвлекла ее от горьких раздумий. У него и это хорошо получилось. Он был эмоциональным, мудрым и сильным. Но Дафна все еще испытывала знакомую тоску по Эндрю. – Я на самом деле по вам всем скучаю. Его тронуло, что она включила и его. – Мы тоже по тебе скучаем, Дафна. Ей было приятно слышать его голос, она почувствовала в душе волнение, и, сидя в пустой кухне в восемь вечера, она обратилась к этому мужчине, которого знала так недолго, но с которым тем не менее подружилась перед отъездом: – Мне здесь не хватает бесед с тобой, Мэтт. – Я знаю... я ждал, что ты приедешь в минувший уик-энд. – К сожалению, я не могла. Здесь чувствуешь себя словно за миллион миль от дома, и не имеет значения, что здесь так красиво. – Ничего, время пройдет быстро. Но вдруг предстоящий год показался ей всей жизнью. Дафне пришлось подавить слезы, в то время как он продолжал: – И подумай, какой это шанс для тебя. Нам обоим предстоит много важных новых испытаний. – Да, я понимаю... как тебе работается в Говарде? – Мало-помалу к ним вновь возвратилась та легкость общения, которая отличала их беседы в школе, и Дафна почувствовала себя не так одиноко. – Твои ожидания оправдались? – Пока да. Но должен признать... Я чувствую себя здесь таким же оторванным от Нью-Йорка, как ты в Калифорнии. – Он улыбнулся и потянулся в кресле. – Нью-Гемпшир – это ужасная глушь. Она тихо засмеялась: – Уж я-то это хорошо знаю! Когда я впервые туда приехала отдавать Эндрю в интернат, эта тишина меня просто раздражала. – А что ты делала, чтобы к ней привыкнуть? – Он улыбался, вспоминая ее глаза, и разделяющие их тысячи миль словно бы испарялись. – Я вела дневник. Он стал моим закадычным другом. Именно благодаря ему я стала писать. Дневник превратился в очерки, потом я стала писать рассказы, а потом написала первую книгу, а теперь, – она оглядела сверхсовременную белую кухню, – а теперь смотри, что происходит, я на Западном побережье пишу сценарий, которых никогда не писала. Так вот, я думаю, может, тебе просто свыкнуться с тишиной и выкинуть это из головы? Они оба рассмеялись. – Мисс Филдс, вы недовольны? – Нет. – Она задумалась и с мягкой улыбкой добавила: – По-моему, я сейчас просто скулю. Мне было ужасно одиноко, когда я тебе позвонила. – В этом нет ничего зазорного. На днях вечером я звонил сестре и чуть ли не плакал. Я попросил одну из моих племянниц передать ей мои жалобы, надеясь найти у Марты хоть каплю сочувствия. – И что она сказала? – Что я неблагодарный паршивец, что мне платят в два раза больше, чем я получал в Нью-Йоркской школе, и что мне следует заткнуться и радоваться этому. – Он рассмеялся, вспоминая слова, переданные по телефону племянницей. – Вот такая у меня сестра. Она, конечно, права, но я все равно был ужасно зол. Я хотел сочувствия, а получил пинок под зад. И я думаю, что заслужил его. Подобные вещи я говорил ей, перед тем как мы сбежали в Мексику. – А как это было? Дафне больше не хотелось работать. Ей просто хотелось слышать голос Мэтта. – О Боже мой, Дафна, Мексика – это был самый безумный из моих поступков, но я о нем нисколько не жалею. Какое-то время мы жили в Мехико. Три месяца провели в Пуэрто-Валларта, который тогда был маленьким сонным городком с булыжными мостовыми, в котором никто не говорил по-английски. Марта не только научилась там читать по губам, она научилась читать по губам по-испански. – В его голосе при этом воспоминании снова прозвучали восхищение и любовь. – Она, наверное, изумительная женщина. – Да, – его голос был тихим, – так и есть. Она во многом напоминает тебя, знаешь? У нее есть одновременно воля и доброта, а это редкое сочетание. Большинство людей, переживших в жизни суровые испытания, сами ожесточаются. А она нет, и ты тоже. Его слова заставили ее опять подумать, как же много он знает, гораздо больше, чем она ему рассказывала. Но он уже решился признаться ей: – Миссис Обермайер рассказала мне о друге, который у тебя был здесь. Ты о нем упомянула в нашем последнем разговоре. – Мэтт боялся произнести его имя, словно не имел на это права. – Должно быть, это был замечательный человек. – Да, таким он и был. – Она тихо вздохнула и постаралась не бередить старую рану, но это было трудно. – Сегодня вечером я думала, насколько иной была бы моя жизнь, если бы был жив он или Джефф. Я думаю, что не оказалась бы здесь и не тратила всех умственных сил за машинкой. – Ты и наполовину не была бы тем, чем стала сейчас, Дафна. Все это сейчас часть тебя. Это часть того, что делает тебя такой особенной. Она задалась вопросом, прав ли он. – Я не знаю, можно ли считать, что тебе повезло, но, возможно, в некотором роде да. Тебе пришлось пережить ужасные вещи, но ты перековала их в орудия, которыми можешь пользоваться, превратила в замечательные стороны своей личности. Это настоящая победа. Дафна на самом деле никогда не думала о себе как о победителе, скорее как о пострадавшем, но она также знала, что в глазах других это выглядело именно так. Она победила: к ней пришел успех. Но жизнь этим не исчерпывалась. Дафна это слишком хорошо знала. Далеко не исчерпывалась. Просто для нее самой другие стороны жизни перестали существовать. Но, как бы то ни было, Мэтью Дэйн улучшал ее восприятие жизни и самочувствие каждый раз, когда она с ним говорила. – Ты чертовски хороший друг, Мэтью Дзйн. После разговоров с тобой мне хочется жить и снова тягаться со всем миром. – Окружающий нас мир, с которым мы тягаемся, так прекрасен. – А кто научил Эндрю ездить на велосипеде? Но она уже и так знала. – Я. У меня сегодня после обеда было немного свободного времени, и он как раз не был занят. Я на днях видел, какими глазами он наблюдает за старшими детьми, ну вот мы и пошли с ним попробовать, и у него отлично получилось. Дафна улыбнулась, представив то, о чем он рассказал. – Спасибо, Мэтт. – Он тоже мой друг, знаешь. – Ему повезло. – Нет, Дафф. – Глаза Мэтта лучились добротой. – Это не ему повезло, а мне. Благодаря таким детям, как Эндрю, моя жизнь обретает смысл. Разговор подходил к концу. – Наверное, я тебя задерживаю, нам обоим надо работать. Как-то приятно было сознавать, что, когда она вернется к своему письменному столу, он сядет за свой, и они оба в этот вечер будут работать еще на протяжении нескольких часов. – Передай завтра Эндрю от меня большущий привет и поцелуй. – Обязательно. Знаешь, Дафна, – он на мгновение запнулся, как всегда, не зная, что можно сказать, а чего нельзя, – я рад, что ты позвонила. – Я тоже. – Благодаря ему она почувствовала тепло и радость общения с другом. – Я скоро опять позвоню. Они попрощались, и даже потом она чувствовала его присутствие рядом с ней на кухне. Дафна пошла к письменному столу и взглянула на свою работу, а потом пошла в спальню, переоделась в черный купальник и вышла к бассейну. Теплая вода ласкала кожу, она проплыла несколько раз туда и обратно, думая о Мэтью. Когда Дафна вышла, она почувствовала себя свежее и, переодевшись, вернулась за письменный стол. И через полчаса снова была за тысячи миль, погруженная в свой сценарий. Но в Нью-Гемпшире Мэтью Дэйн отложил в сторону свои папки и выключил свет. Он сидел, глядя в огонь, и думал о Дафне. (обратно)Глава 23
– Какая она, Барб? – Барбара и Том лежали рядом на краю его бассейна. Со времени их переезда прошло две недели, но Барбара редко виделась с Дафной. Та была с головой погружена в работу и едва замечала, что происходило вокруг. Днем Барбара делала, что ей полагалось, а все вечера проводила с Томом. И его, и ее жизнь в корне изменилась за эти две недели, с тех пор как они стали любовниками. Они лежали и любовались закатом, Том слегка касался ее руки. Ему всегда нравилось слушать ее рассказы про Дафну. – Она настоящая трудяга, а еще эта женщина полна любви, сострадания, печали. – Неудивительно. На ее долю выпало столько несчастий, что их хватило бы на добрый десяток человек. – А она пережила. Это в ней и удивительно. Она мягче, добрее и душевнее, чем кто-либо, кого я знаю. – Не может быть. – Он покачал головой и посмотрел Барбаре в глаза. – Почему? Это правда. – Потому что нет человека душевнее и добрее тебя. Когда он это сказал, Барбара снова осознала, как ей повезло. По правде говоря, больше, чем Дафне. Она немного помолчала, Том тем временем смотрел на нее, а потом наклонился и нежно поцеловал. Он никогда прежде не был так счастлив и наблюдал, как Барбара раскрывалась перед ним, словно летний цветок. Она смеялась, радовалась, и ее глаза были жизнерадостнее, чем тогда, в студенческие годы, когда он с ней познакомился. – Взгляни на себя, дорогая. Ты тоже страдала. Такой одинокий человек не может быть счастлив. Я не был так одинок, и все же был несчастен. – В тот день в «Гуччи» ты мне вовсе не показался несчастным. – Ей нравилось подтрунивать над ним по этому поводу. Элоиза исчезла две недели назад и якобы уже жила с молодым актером. Но Барбара также теперь знала, что, когда он был женат, ему все равно было ужасно одиноко. Именно когда она узнала об этом, она раскрыла ему свое сердце и позволила себе поверить ему. Ему была нанесена жестокая обида, гораздо более жестокая, чем та, которую ей нанес юрист много лет назад. Она об этом тоже рассказала Тому, а он держал ее в объятиях, пока она плакала, изливая комплекс вины и печаль, которые чувствовала и копила в себе. А потом она призналась, что больше всего ее огорчает то, что она уже слишком стара, чтобы иметь детей. – Да что ты выдумала, сколько тебе лет? – Сорок. Ему было сорок два, и он посмотрел на нее с ласковой решимостью. – В наше время женщины рожают и в сорок пять, и в сорок семь, и в пятьдесят, черт побери. Сорок – это вообще ничего особенного. Может, у тебя какие-то медицинские противопоказания? – Да вроде нет. – Кроме того, что она всегда задавалась вопросом, не повредил ли ей аборт так, что она не сможет иметь детей. В последние годы она и думать об этом перестала, считая, что об этом вообще не может идти речи. Но Том не соглашался. – Но это правда слишком поздно. Смешно иметь детей в моем возрасте. – Если ты их хочешь, смешно их не иметь. Мои дети – самая большая радость в моей жизни. Не лишай себя этого, Барбара. Он познакомил ее с Александрой, и Барбара могла увидеть, почему дети доставляли ему такую радость. Алекс была прелестной, веселой, непосредственной девочкой, внешне похожей на Сэнди, но с добрым характером отца. Барбара еще не видела его сына, Боба, но, по рассказам, он был вылитый отец, и она не сомневалась, что он ей тоже понравится. На протяжении шести недель Барбара скрывала от Дафны свою жизнь. Но однажды утром она пришла домой и застала Дафну сидящей в гостиной с почти пьяной улыбкой. – Что с тобой? – Я это совершила! – Что совершила? – Я закончила сценарий! – Она была преисполнена энергии и гордости, ее глаза возбужденно горели. Завершить работу было ее главной задачей, а еще она знала, что чем скорее закончит работу, тем скорее увидится с сыном. – У-р-р-а-а! Барбара заключила ее в объятия, а потом откупорила бутылку шампанского. После третьего бокала Дафна шаловливо посмотрела на нее: – Так ты вообще не собираешься ничего рассказывать? – Что рассказывать? – Барбара сразу перестала соображать. – О том, куда ты каждый вечер уходишь, пока я просиживаю тут штаны. – Дафна улыбнулась, а Барбара вся вспыхнула. – Только не говори мне, что ходишь в кино. – Я правда хотела тебе рассказать, но... – Барбара закатила глаза с мечтательным видом, и Дафна застонала. – О Господи, я так и знала. Ты влюбилась. – Она погрозила ей пальцем. – Только не говори мне, что выходишь замуж. Об этом нет и речи, по крайней мере пока я не закончу картину. У Барбары упало сердце. Том минувшей ночью впервые заговорил о браке, но ее ответ во многом напоминал предостережение Дафны. Его обидела такая преданность работодательнице, но он согласился подождать до подходящего момента. – Я не выхожу замуж, Дафф. Но я должна признать, ...я от него без ума. – Она широко улыбнулась и выглядела так, словно ей четырнадцать лет, а не сорок. – А ты меня с ним познакомишь? Он порядочный? Мне понравится? – Да – это ответ на все три твои вопроса. Он необыкновенный, я его безумно люблю, и... он женился на моей сокурснице, и я его случайно встретила в «Гуччи» с невероятно красивой глупой рыжей девицей, и... – Все это она выпалила на одном дыхании, и Дафна рассмеялась. – Да, я, кажется, много потеряла, а? А что он делает? Только, пожалуйста, не говори мне, что он актер. – Она желала Барбаре добра и не хотела, чтобы ее снова постигло разочарование. Она вдруг нахмурилась, обеспокоенная тем, что Барбара сказала о его браке с ее сокурсницей. – Он все еще женат? – Конечно, нет. Он разведен, и он юрист. В фирме «Бекстер, Шелли, Харрингтон и Роу». Услышав это, Дафна вдруг улыбнулась. – Ты о них знаешь? – Как и ты, милая, по крайней мере тебе следует знать. Мы с ними еще не имели дела, но Айрис упоминала о них перед нашим отъездом из Нью-Йорка. Это юристы «Комстока» по нашему фильму. Он что, не в курсе? – Он был очень занят налоговой тяжбой одного из клиентов. – А что случилось с его женой? – Она сбежала к Остину Уиксу. – Актеру? – Дафна на мгновение опешила, а потом поняла, что глупо спрашивать об этом, раз роман Барбары продолжается уже два месяца. – Ну, это я так. Слушай, но для твоего друга это, наверное, был тяжелый удар. Остину Уиксу ведь лет двести? – Не меньше, но он чертовски богат и все еще очень хорош собой. Дафна кивком подтвердила. – А как, кстати, зовут твоего друга? – Том Харрингтон. Они обменялись улыбками. Дафна выглядела обрадованной. – Я рада за тебя, Барб. – Она подняла свой бокал с шампанским и пожелала подруге счастья с Томом: – Чтобы вы оба всегда были счастливы. – Потом улыбнулась. – Но только после того, как мы закончим фильм. В ее глазах был тот же лихорадочный огонь, который Барбара замечала все время с момента приезда в Калифорнию. Она задалась целью работать в сумасшедшем темпе, выполнить намеченное и вернуться домой. Но теперь это почти пугало Барбару. Она не торопилась покидать Калифорнию. Барбара представила Тома Дафне на следующий же день. Они посидели за рюмочкой у бассейна, и, когда пришло время прощаться, Барбара не сомневалась, что Дафне он понравился. Разговор был свободным, она на прощание поцеловала его в щеку и велела хорошо заботиться о Барбаре. Дафна помахала им, когда они садились в его машину, а потом медленно вернулась к бассейну и собрала посуду. Она была рада за Барбару. И еще у нее было странное чувство, словно дорогие ей люди отправлялись в дальнее плавание. Она почувствовала себя брошенной на пустынном берегу. В тот вечер, приготовив себе на ужин бутерброд, Дафна решила позвонить Мэтью. Из-за беспрерывной двухмесячной работы она все еще никого не знала в Лос-Анджелесе и время от времени звонила Мэтту. Он становился еще более дорогим для нее другом и единственным связным с Эндрю. Но в тот вечер она его не застала дома. Дафна задавалась вопросом, где он мог быть. До этого он никуда не уходил, и она вдруг подумала, не нашел ли он себе там женщину. Чувство было такое, словно у всех кто-то был, только не у нее, а все, что имела она, – это был ее маленький мальчик, и он находился за три тысячи миль, в интернате для глухих. Дафне стало от этого ужасно одиноко, и даже победа – окончание сценария – не смягчала боли. Сразу после ужина она пошла спать и долго лежала, борясь с подступавшими слезами, всей душой стремясь к сыну. (обратно)Глава 24
На студии «Комсток» все пришли в восторг от сценария. По их словам, он получился выразительнее книги, и всем не терпелось начать съемки. Актеры были уже давно подобраны, декорации готовы. Через три недели они должны были начать, и, приняв поздравления, Дафна вернулась домой, очень собой довольная и взволнованная. На главную роль они взяли Джастина Уэйкфилда, и, хотя Дафна считала, что он чересчур хорош собой, она была очень высокого мнения о его таланте. – Ну, мадам, как ваше самочувствие? – улыбнулась ей Барбара, когда они входили в дом. – Не знаю. По-моему, я в шоке. Я вообще-то ожидала, что они его раскритикуют. – Дафна села на белый диван и посмотрела по сторонам, чувствуя некоторую растерянность. Но Барбара улыбнулась подруге: – Ты ненормальная, Дафф. Ты вечно думаешь, что и «Харбору» не понравятся твои книги, а они всегда от них в восторге. – Ну, значит, я ненормальная. – Она с улыбкой пожала плечами. – А что, не имею права? – Чем ты собираешься заниматься все эти три недели? Они раньше не начали бы съемки. Дафна не могла отойти от своего письменного стола на три дня, не говоря уже о трех неделях, но Барбара поняла, что у той на уме, когда Дафна ей улыбнулась: – Неужели не понятно? Я собираюсь вечером позвонить Мэтту, чтобы он посадил Эндрю на самолет. – А ты сама не хочешь слетать в Нью-Йорк? Дафна покачала головой и взглянула на бассейн. – Я думаю, ему здесь очень понравится, да и пора ему повидать что-то, кроме Говардской школы. Барбара согласно кивнула, думая, какой Эндрю из себя, она все еще не была с ним знакома. И тогда Дафна посмотрела на нее с теплой улыбкой: – Поедешь с нами в Диснейленд? – С удовольствием. Тому в ближайшее время предстояла деловая поездка в Нью-Йорк, и Барбара уже скучала только при мысли об этом. Она со страхом думала о своих переживаниях, когда в конце концов придется возвращаться в Нью-Йорк. Барбара до сих пор не приняла его предложение под тем предлогом, что не может оставить Дафну. Покане может. Через полчаса Дафна встала, направилась к телефону и позвонила Мэтью Дэйну в Говардскую школу. – Здравствуй, Мэтт. Как дела? – У меня прекрасно. А как движется сценарий? – Великолепно. Я все закончила и сегодня узнала, что он им понравился. Мы начнем съемки через три недели. Они ждали, когда я закончу. – Ты, должно быть, чертовски взволнованна. – Слышно было, что он по-настоящему рад за нее. – Да, конечно. И я хочу провести оставшиеся две или три недели с Эндрю. Когда бы ты мог посадить его на самолет? На том конце провода Мэтт озабочено посмотрел на свой еженедельник. – Я могу отвезти его в Бостон в субботу, если тебе это подходит. Или ты хочешь раньше? Она улыбнулась: – Конечно, хочу, но ничего. Я просто не могу его дождаться. – Я понимаю. Мэтт прекрасно понимал, как ей одиноко. Он судил об этом по частоте ее звонков, и его всегда изумляло, что женщина с такой внешностью, умом и успехами одинока. В ее двери должны были бы ломиться толпы людей, особенно мужчин, но он также знал, что она этого не хотела. – А как вообще жизнь, Дафф? – Что значит вообще? С момента приезда сюда я только работала. Теперь я вдруг закончила и отсыпаюсь. Сегодня я впервые вышла на люди, поехала в «Комсток», и это было как экспедиция на другую планету. – Добро пожаловать на Землю, мисс Филдс. А что ты и Эндрю собираетесь делать, пока он будет у тебя? – Для начала поедем в Диснейленд. – Везет парню. – Мэтью улыбнулся, зная, что Эндрю будет гордиться этим в школе, но без зазнайства, это было не в его характере. – А потом посмотрим. Может, мы будем просто проводить время здесь, у бассейна, хотя, честно говоря, меня это удручает. У меня такое чувство, что я должна работать каждую минуту, чтобы быстрее отсюда уехать. – И ты никогда не делаешь перерывов, чтобы просто порадоваться жизни? – Нет, если нет необходимости. Я же сюда приехала не развлекаться. Я здесь работаю. Иногда она говорила словно по подсказке демонов, но он знал причину этого. Она все подчиняла тому, чтобы увидеться с Эндрю. – Мэтт... – Ее голос прозвучал озабоченно и задумчиво. – Ты на самом деле думаешь, что он хорошо перенесет полет? Я могла бы обратно полететь с ним, если будет нужно. Она чувствовала, что ужасно устала за два месяца непрерывной работы. Но, как бы то ни было, она трудилась ради Эндрю. – Все будет нормально. Не беспокойся, Дафна. Дай ему испытать собственные крылья. Для него это важный шаг. – А если что-то случится? – Верь в него. И поверь мне. Все будет хорошо. Он сам был так спокоен, что Дафна верила ему. На следующий день Мэтт позвонил ей, чтобы сообщить, когда прилетает Эндрю. Он должен был на следующий день лететь прямым рейсом из Бостона в Лос-Анджелес и прибыть в три часа дня. Дафна подумала, как пережить еще двадцать четыре часа. Ей так захотелось его снова обнять, что каждое мгновение казалось вечностью. Мэтью улыбнулся: – Ты, кажется, как и он, сгораешь от нетерпения. – Так оно и есть. – Ее лицо опять посерьезнело. – А он не боится лететь один? – Ни капельки. Он считает, что это очень здорово. Дафна вздохнула. – Мне кажется, я не готова к этому, даже если он готов. Многие годы его так берегли, а теперь, по выражению Мэтью, он опробует собственные крылья, пусть даже в таком простом деле, как полет самолетом в Калифорнию; это ее пугало. – Чего ты боишься, Дафф? Того, что он станет самостоятельным? – Его голос был добрым, но он применил запрещенный удар, и внезапно в ее васильково-голубых глазах появилась злость: – Да как ты можешь такое говорить?! Ты же знаешь, что именно таким я хочу его видеть! – Тогда не препятствуй ему в этом. Не вынуждай его всю жизнь чувствовать себя другим. Он может таким не быть, если ты не будешь на этом настаивать. – О'кей, о'кей, я уже слышала это. Я все поняла. – В результате их долгих бесед по телефону между ними установились особые дружеские отношения, которые позволяли ей сердиться. Она сердилась и раньше, но это всегда было очень кратковременно. И чаще всего Мэтью был прав. – Дафна, он будет горд собой, а ты тоже будешь гордиться. Она знала, что это правда. – Но я понимаю, что сейчас, перед полетом, тебе нелегко. Завтра в это время вы оба будете сиять. Не забудь мне позвонить, когда он прилетит. – На этот раз Мэтью говорил тоном заботливой мамаши. – Я не забуду. Мы позвоним тебе из аэропорта. – Я завтра тоже позвоню из Бостона. И после его звонка для Дафны началось шестичасовое бдение: она поминутно смотрела на часы, садилась у телефона, боясь, что что-нибудь будет не так, что сломается самолет, или, еще хуже, что во время полета Эндрю не сможет объясниться с окружающими, или что какой-нибудь ребенок обидит его, как это было много лет назад на игровой площадке. Это казалось ужасно неправильным, что ему теперь предстояло снова столкнуться с миром совершенно одному, и все же, вероятно, так было надо. Видимо, Мэтью действительно был прав, и это была битва Эндрю, которую он должен был выиграть в одиночку, у него было право торжествовать победу самому и ни с кем ею не делиться. – Все о'кей? – Барбара просунула голову в дверь кабинета Дафны и увидела, какое напряжение написано на ее лице. – Какие новости? – Только та, что он в самолете. Больше ничего. Барбара кивнула: – Пообедаешь? Но Дафна покачала головой. Она не могла есть. Все, о чем она могла думать, это был Эндрю, летящий к ней из Бостона. Она собиралась ехать встречать его в аэропорт одна, а Барбара должна была их ждать дома. Они организовали для него небольшое торжество, с бумажными шляпами, пирогом, шариками и транспарантом: «Мы любим тебя, Эндрю. Добро пожаловать в Калифорнию». Когда подошло время ехать в аэропорт, Дафна приняла душ, надела бежевые льняные слаксы и белую шелковую блузку, сандалии и белый шелковый блайзер, который Барбара купила ей на Родео-драйв. Размер был как раз ее, и сидел он прекрасно. Дафна взяла сумочку и вышла на улицу, а Барбара смотрела ей вслед. Дафна еще раз обернулась, их взгляды встретились и словно обнялись, и, улыбнувшись, Дафна ушла, а Барбара восхищалась увиденным. В глазах этой женщины была любовь, которой Барбара завидовала, любовь к ребенку, который был частью ее души. Какие бы у него ни были проблемы со слухом, он был маленьким мальчиком, и Дафна любила его всем сердцем, готова была всем пожертвовать ради него. В аэропорту Дафна посмотрела на большое табло прибытия и облегченно вздохнула. Самолет не опаздывал, и она поспешила к месту выхода пассажиров. Ей оставалось ждать еще полчаса, она приехала раньше «просто на всякий случай» и стояла, наблюдая в окно, как садились и взлетали самолеты, и воспринимала каждую минуту как вечность. И наконец за десять минут до прилета она пошла в телефонную будку и позвонила Мэтью. – Долетел благополучно? – В его голосе была улыбка, но Дафна все еще говорила нервозно: – Самолет прилетит через десять минут. Но я не могу выдержать. Я должна была позвонить тебе. – Последнее усилие, да? Все будет хорошо, Дафна. Я обещаю. – Я знаю. Но я вдруг поняла, что не видела его два с половиной месяца. А что, если он изменился? Что, если он меня ненавидит за то, что я здесь? – Она боялась встречи с собственным сыном, но Мэтью знал, что это нормально. – Он не ненавидит тебя, Дафф. Он тебя любит. Он не мог дождаться встречи с тобой. Последние два дня он только об этом и говорил. – Ты уверен? – Она чувствовала, что нервы у нее сдают. – Абсолютно. Ну, малышка, потерпи еще чуть-чуть. Он почти на месте. – Мэтт посмотрел на часы, а она увидела, что люди собираются у выхода. – Еще пять минут. И вдруг она улыбнулась, почувствовав себя глупо: – Извини, что я тебе позвонила, я просто так нервничаю... – Послушай, я бы на твоем месте испытывал то же. Просто расслабься. Знаешь что, можешь не звонить мне, пока не приедете домой. Если не будет звонка, я пойму, что он прибыл благополучно. И не порть себе первые минуты встречи с ним телефонными звонками. – О'кей. И вдруг она увидела самолет, медленно выруливающий с полосы. Ее глаза наполнились слезами, и она не могла больше говорить: – О Мэтт... я вижу самолет... он уже здесь... до свидания. Она повесила трубку и улыбнулась, чувствуя, что и его переполняют эмоции. Дафна не отрываясь смотрела, как самолет приблизился к зоне высадки, и схватилась рукой за перила, когда он остановился. И через минуту из него стали выходить люди: усталого вида бизнесмены с кейсами, пожилые женщины с палочками, фотомодели с папками своих снимков, и ни следа Эндрю. Дафна молча стояла, напряженно вглядываясь в толпу, и вдруг увидела его. Он улыбался и смеялся, держась за руку стюардессы, и вдруг показал на Дафну и сказал почти отчетливо: – Вот моя мама! Обливаясь слезами, Дафна кинулась к нему, подхватила его и, зажмурившись, обнимала, а потом отстранила, чтобы он мог прочесть по ее губам. – Я тебя так сильно люблю! Он засмеялся от радости и снова обнял ее, а когда отстранился, шевельнул губами и сказал: – Я тоже тебя люблю, мама. Эндрю привел в восторг ожидавший их лимузин, и транспарант, и бассейн, и пирог. Он рассказал Барбаре все о полете, старательно двигая губами и произнося слова хоть и не совсем четко, но все же вполне понятно для нее. После ужина они все отправились плавать, и наконец он лег спать. Дафна его укрывала, гладила его светлые волосы и нежно поцеловала в лоб, когда он засыпал, и в этот вечер она долго смотрела на него, снова спящего поблизости. Эндрю был дома. Только об этом были все ее мысли, и она долго не выходила из комнаты, а когда вышла, Барбара убирала на кухне остатки пирога. – У тебя классный малыш, Дафф. – Я знаю. Ей трудно было говорить, она улыбнулась Барбаре, но от пережитого волнения на глаза снова навернулись слезы. А потом она пошла в кабинет позвонить Мэтту и, когда он ответил, стала говорить дрожащим голосом: – Он одолел это, Мэтт... он одолел это! Дафна пыталась рассказать ему о перелете, но в середине расплакалась и громко, с облегчением всхлипывала, а он, понимая ее, терпеливо ждал. – Все хорошо, Дафф... Все о'кей... все о'кей. – Его голос был добрым и успокаивал на расстоянии в три тысячи миль, и словно от его объятий ее рыдания утихли. – Теперь он и дальше будет одерживать свои маленькие победы. Будут, конечно, в его жизни и неудачи, но похоже, что все будет хорошо. Ты дала ему то, что ему было нужно, и это самое лучшее, что ты могла ему дать. Но она знала, что Мэтью и другие тоже многое ему дали, Дали то, чего она никогда не могла бы дать. А она только лишь проявила мудрость, доверив им малыша. – Спасибо тебе. Он знал, что она подразумевает, и впервые за многие годы и у него на глаза навернулись слезы, и ему стоило большого усилия, чтобы сдержаться и не сказать, что любит ее. (обратно)Глава 25
Поездка в Диснейленд была очень успешной, и Барбаре и Дафне она понравилась не меньше, чем Эндрю. Они осмотрели и другие достопримечательности, побывали и на студии «Комсток», а во второй половине дня всегда плавали в бассейне. Две недели его пребывания пролетели быстро, и не успели они оглянуться, как наступил последний день. Мать и сын сидели рядом у бассейна и вели неторопливую беседу. В глазах Эндрю была грусть, когда он рассказывал Дафне о своих впечатлениях и говорил, что ему нравится Барбара. Дафна улыбалась, говорила, что он Барбаре тоже очень понравился, а потом Эндрю озадачил ее вопросом: – Мама, а ты когда-нибудь будешь такая, как она? – Что ты имеешь в виду? – Она даже не сразу нашлась, что ответить. Ей как-то не приходило в голову быть «как Барбара». – Ну, у тебя будет кто-то, кто бы тебя любил? Он познакомился с Томом и тоже полюбил его, «почти как Мэтью» – что было у Эндрю высшей оценкой. Но вопрос он задал очень трудный. Дафна подумала, что еще недавно они не могли бы говорить об этом. Теперь при помощи жестов он мог гораздо лучше выражать свои мысли и мог прочесть по губам почти все. Теперь между ней и ее ребенком больше не было закрытых дверей – все они были открыты в Говарде людьми, которые его любили. Но, пока она на минутку задумалась о них, Эндрю повторил вопрос. – Я не знаю, Эндрю. Найти такого человека непросто. Это редкость. – Но прежде ведь ты находила. – Да. – Глаза Дафны были задумчивы. – Твоего папу. – И Джона. Эндрю все еще был верен памяти своего друга, и Дафна кивнула: – Да. – Я хотел бы иметь такого папу, как Мэтью. – Правда? Дафна ласково улыбнулась, ей было и грустно, и смешно. Какие бы она усилия ни прилагала, всегда было что-то, чего она ему не давала, что-то, чего она не могла выполнить. Теперь ему нужен был папа. – А ты не думаешь, что мог бы быть счастлив только со мной? – Это был серьезный вопрос, и она внимательно наблюдала за его глазами и руками, когда он отвечал. – Да. Но посмотри, как счастлива Барбара с Томом. Дафна рассмеялась, он не отставал, но ведь у него было свое мнение, причем твердое. – Это непростое дело, Эндрю. Люди не влюбляются каждый день. Иногда это бывает только раз в жизни. – Ты слишком много работаешь. – Он явно был раздосадован. – Никогда никуда не выходишь. Как он, такой маленький, мог столько знать? – Это потому, что я хочу закончить мою работу, чтобы поскорее вернуться к тебе. – Этот аргумент его вроде бы успокоил, но, когда они пошли в дом обедать, Дафна все еще не переставала удивляться тому, что он сказал. Он начинал видеть ее такой, какой она на самом деле была, с ее опасениями, недостатками и достоинствами. Эндрю подрастал и мог не только самостоятельно летать на самолете. Он самостоятельно мыслил. И это наполняло ее, пожалуй, еще большей гордостью за него. – А может, мне не нужен мужчина, какой есть у Барбары? – После обеда Дафна снова вернулась к теме, как бы пытаясь его убедить. – Почему? – У меня есть ты. – Она улыбнулась ему. – Это глупо. Я же просто твой ребенок. – Он посмотрел на нее так, будто она и вправду ничего не понимала, и Дафна рассмеялась: – Ты что такой упрямый? Его явно смутили эти слова, и она сказала: – Ничего. Давай-ка лучше собираться, а то опоздаем на самолет. На этот раз прощание было нелегким. Они не знали, когда увидятся снова. Эндрю прижался к ней, слезы текли по его лицу, а Дафна пыталась его успокоить: – Я обещаю, ты скоро опять прилетишь, мой золотой. А если я смогу, то сама прилечу на несколько дней к тебе. – Но ты будешь очень занята на съемках. – Эта фраза прозвучала как стон. – Я все-таки постараюсь, я правда постараюсь. И ты тоже постарайся... не грустить и хорошо проводи время со своими школьными друзьями. Подумай, сколько интересного ты им можешь рассказать. Но ни Дафна, ни Эндрю не думали об этом, когда стюардесса Вела его к самолету. Он вдруг снова стал мальчиком семи с половиной лет, которому плохо без мамы, а она чувствовала, что самую важную часть ее сущности опять отрывают у нее от сердца. Как часто она испытывала эту боль, и все же каждый раз переживала ее словно впервые. Дафна смотрела невидящими глазами на самолет и плакала, и Барбара молча крепко обняла ее за плечи. Они неистово махали, когда самолет стал выруливать на полосу, но не знали, видел ли их Эндрю. На обратном пути обе были молчаливы и печальны. Когда они приехали домой, Дафна ушла к себе в комнату, и на этот раз не она звонила Мэтью, а он позвонил ей. По ее голосу он моментально понял, в каком она настроении, он это предвидел и поэтому позвонил. – Дафф, у тебя сейчас наверняка отвратительное настроение, а? Она улыбнулась сквозь слезы и кивнула: – Да, в этот раз было тяжелее, чем когда-либо. Совсем иначе, чем когда я прощалась с ним в школе. – А ты не забывай, что ведь и школа не навсегда. Наступит день, когда он вернется к тебе насовсем. Она вытерла нос и глубоко вздохнула: – Трудно себе представить, что этот день когда-нибудь наступит. – Наверняка наступит. И довольно скоро. А в ближайшие месяцы ты будешь страшно занята на съемках. – Уж лучше бы я не подписывала этот чертов контракт. Я была бы в Нью-Йорке, ближе к Эндрю. Но они оба знали, что ее слова не вполне серьезны. Это отчасти была реакция на его отъезд. – Тогда поторопись, черт подери, чтобы поскорее закончить и вернуться домой. Я бы тоже против этого не возражал. Знаешь, ты единственный родитель, которому я могу пожаловаться. Она засмеялась в трубку и легла на спину на кровать. – Ей-богу, Мэтт, иногда жизнь кажется такой тяжелой. – Ты видала и похуже. – Спасибо, что напомнил. – Но она по-прежнему улыбалась. – Не за что. Всегда рад. Они привычно шутили друг с другом. Дафна делилась с ним всеми своими проблемами, которые концентрировались на работе и на сыне, больше ей не о чем было ему рассказывать. – Когда ты приступаешь к съемкам? – Послезавтра. У актеров в прошедшие две недели была примерка костюмов. Но в ближайшие два дня они еще не начнут. А до тех пор, мне не надо появляться на площадке. Мне, возможно, придется переписывать часть сцен и вообще следить, как все получается. Теперь я в принципе просто консультант. Все дело за режиссерами и актерами. – А ты уже познакомилась с актерами? – Да, со всеми, кроме Джастина Уэйкфилда. Он был на натуре в Латинской Америке и, думаю, вернулся всего пару дней назад. – Обязательно расскажи мне, что он собой представляет. – В голосе Мэтта прозвучали какие-то новые нотки, но она этого не заметила. – Наверное, прохвост – я так думаю. Любой такой красавчик непременно должен быть избалован. – Не обязательно. Он может оказаться отличным парнем. – Меня по-настоящему волнует только то, чтобы он не халтурил на съемках. Это была история о современном мужчине, в жилах которого течет индейская кровь, о том, как он решил пренебречь этим обстоятельством, но в конце концов именно в этом обрел себя. Это был рассказ о мужестве, о самоутверждении – сильная антирасистская вещь, и всех удивляло, что автором была женщина. Если бы Джастин Уэйкфилд хорошо сыграл эту роль, он мог бы получить «Оскара», и Дафна полагала, что он понимал это. Он был эффектным белокурым киногероем, которого боготворили чуть ли не все женщины в стране, и, конечно, мог бы способствовать тому, чтобы «Апачи» стал настоящим событием. – По крайней мере мы знаем, что онможет играть. – Если у тебя найдется минутка, позвони мне и расскажи, как идут съемки. – Обязательно, а мне хочется знать, как дела у Эндрю, независимо от моей занятости. У меня на студии будет телефон, по которому ты сможешь меня найти. Я позвоню тебе сразу, как только разберусь, что это такое. Возможно, придется поехать на натурные съемки в Вайоминг, но ненадолго. Сначала будут сниматься сцены в павильоне. – Я тебе еще попозже позвоню, когда Эндрю прилетит. – Спасибо, Мэтт. Как обычно, разговор с ним принес ей утешение, и она уже не чувствовала такого отчаяния от прощания с сыном. – Мэтт? – Да? – А кто тебе доставляет это благо? – Какое? – Он не понял. – Утешает тебя. Ты всегда утешаешь меня, а это не совсем справедливо. Он был единственным за многие годы человеком, в котором Дафна находила поддержку, и иногда она чувствовала себя виноватой. – Дафф, все, что делается ради близких людей, делается бескорыстно. Не мне тебе это объяснять. Она молча кивнула. Он был прав. И она тоже. – Я позвоню тебе позже. – Спасибо. Они положили трубки, и Дафна задала себе вопрос, что бы она делала, если бы там не было Мэтью. (обратно)Глава 26
Съемки фильма «Апачи» начались в павильоне «А» студии «Комсток» в пять часов пятнадцать минут утра во вторник. Они должны были начаться в понедельник, но не начались, потому что исполнительница главной женской роли, Морин Адамс, заболела гриппом. По подсчетам продюсера, задержка стоила студии нескольких тысяч долларов, но это было учтено в бюджете, а Джастину Уэйкфилду дало дополнительный день на знакомство со сценарием и обсуждение роли с режиссером Говардом Стерном, старым голливудским профессионалом. Стерн был предан сигарам и ковбойским сапогам, любил кричать на своих актеров, но в то же время, бесспорно, был наделен талантом и прославился блестящими фильмами. Дафна была очень рада, что режиссуру доверили ему. В то утро Дафна встала в три тридцать утра, приняла душ, оделась, приготовила яичницу себе и Барбаре и без четверти пять была готова к выходу. Лимузин ждал. Они прибыли к павильону точно в назначенное время. Там уже собралась большая часть группы, режиссер курил сигары и ел с оператором пончики. Морин Адамс уже была в гриме. Джастина Уэйкфилда нигде не было видно. Дафна поздоровалась с персоналом, и ей представили режиссера, который сунул пончик в карман рубашки и мгновение пронзительно смотрел на нее, прежде чем с широкой улыбкой протянул ей руку. – Какая вы маленькая, а? Но хорошенькая, чертовски хорошенькая. – Потом он наклонился и шепнул ей на ухо: – Вы обязаны сняться в картине. – Нет, только не это! – Она со смехом замахала рукой. Это был мужчина с удивительной внешностью: ему было далеко за шестьдесят, лицо, испещренное морщинами – следами трудных побед, все же вызывало симпатию. Он не был красавцем не только теперь, но и в молодости, но Дафне он сразу понравился. Она почувствовала, что тоже ему нравится. – Волнуетесь за свой первый фильм, мисс Филдс? Он указал на два кресла, и они сели: его огромное тело заполняло все кресло, и Дафна выглядела ребенком рядом с ним. Она посмотрела на него и снова улыбнулась: – Да, очень волнуюсь, мистер Стерн. – И я тоже. Мне понравилась ваша книга. Правда, она мне очень понравилась. Может получиться чертовски хорошая картина. И сценарий ваш мне понравился. – И потом с уклончивым видом добавил: – Джастину Уэйкфилду тоже. Вы с ним раньше были знакомы? – Он смотрел на Дафну, думая о чем-то своем. – Нет, я с ним раньше не встречалась. Он медленно кивнул: – Интересный мужчина. И умный для актера. Но не забывайте, не более того, – он окинул ее оценивающим взглядом, – они все одинаковы. Я убедился в этом за годы работы с ними. Им всем чего-то не хватает, но в то же время что-то в них есть, нечто детское, непосредственное и замечательное. Перед ними трудно устоять. Но они избалованы и эгоистичны. Им до других нет дела, большинству из них; они думают только о себе. Когда впервые с ними знакомишься, это шокирует, но, если внимательно приглядеться, видишь сходство характеров. И вскоре все становится ясно. Конечно, есть исключения, – он назвал несколько фамилий, знакомых ей по экрану, – но это редкость. Остальные же... – Он запнулся и улыбнулся, словно знал секрет, которого она не знала, но скоро узнает. – В общем, они актеры. Помните об этом, мисс Филдс, это поможет вам сохранить здравый ум в течение ближайших месяцев. Они будут вас сводить с ума и меня тоже. Но в конце концов у Нас получится отличная картина. Мы все будем, прощаясь, жать друг другу руки, плакать и целоваться. И будут забыты ссоры, обиды, вражда. Мы начнем вспоминать шутки, смех, необычные моменты. Это своего рода магия... Он махнул рукой, словно подчинял своим магическим жестом весь павильон. А потом встал, поклонился, весело взглянул ей в глаза и отошел поговорить с оператором. Дафна довольно сильно робела перед ним и всей обстановкой и сидела, молча наблюдая, как монтировщики, статисты, костюмеры, звукооператоры, осветители ходили взад и вперед, выполняя какие-то таинственные задания, пока наконец в семь тридцать не наступила внезапная суматоха, высшая степень напряжения, и она правильно поняла, что они сейчас начнут. Почти в тот самый момент, когда суматоха была наибольшей, она заметила мужчину, выходящего из костюмерной в футболке, «аляске» и теннисных туфлях на босу ногу. Жесткие светлые волосы по-мальчишески падали ему на лоб. Он медленно шел к ней с неуверенным и застенчивым видом, а потом сел в кресло, на котором до него сидел Говард Стерн. Он взглянул на Дафну, на съемочную площадку и опять на Дафну, с напряженным и нервным видом, а она ему улыбнулась, понимая его состояние и задаваясь вопросом, кто он такой. – Волнующий момент, да? – Это было единственное, что ей пришло в голову сказать, а ему, похоже, стало веселее. Дафна смотрела в его зелено-голубые глаза; в его внешности было что-то знакомое, но она не могла сообразить что. – Да, конечно. У меня всегда вначале сосет под ложечкой. Наверное, это профессиональная болезнь. – Он пожал плечами и достал из кармана конфету, сунул ее в рот, а потом, смутившись своей невоспитанности, опять порылся в кармане и протянул вторую для нее. – Спасибо. – Их глаза снова встретились, и Дафна почувствовала, как ее щеки заливает румянец под его оценивающим взглядом. – Вы статистка? – Нет. – Дафна покачала головой, не зная что сказать. Она не хотела говорить, что она сценарист, это звучало бы слишком напыщенно, к тому же он и не проявлял особого любопытства. Он, казалось, был слишком поглощен наблюдением за подготовкой площадки, а потом нервозно встал и отошел. Когда он снова появился, то взглянул на нее сверху вниз с юношеской улыбкой: – Может, принести вам что-нибудь попить? Дафна была тронута. Барбара исчезла двадцать минут назад в поисках двух чашек кофе и до сих пор не вернулась. – Конечно. Спасибо. Я отдам полцарства за чашку кофе. В павильоне было прохладно, сквозило, и Дафна устала. – Я вам принесу. Сливки, сахар? Дафна кивнула, и через мгновение он снова появился с двумя дымящимися кружками. Это была просто мечта. Она взяла свою и медленно отхлебнула, задаваясь вопросом, скоро ли они начнут, и когда взглянула на своего доброжелателя, тот снова смотрел на нее своими удивительными зелеными глазами. – Вы красивы, вам это известно? Дафна снова покраснела, и он улыбнулся: – И застенчивы. Мне нравятся такие женщины. Потом он закатил глаза и засмеялся сам над собой: – Глупо так говорить, можно подумать, что каждый день я имею дело с сотней женщин. – А разве это не так? На этот раз они оба рассмеялись, и казалось, что Дафна его заинтересовала. По ее взгляду он мог определить, что она была умной и сообразительной, не такой, каких можно дурачить. Дафна ему нравилась, и он опять задался вопросом, кто она. – Нет, не все здесь так поступают. В этом городе все еще есть порядочные люди. И даже в этом бизнесе... может быть. – Он улыбнулся, отхлебнул кофе и поставил чашку. – Можно задать вам вопрос, мисс? Что вы делаете в этом павильоне? Пора было сказать ему правду. – Я автор сценария, но это моя первая такая работа. Поэтому здесь все для меня ново. Это его еще больше заинтересовало. – Стало быть, вы Дафна Филдс? – На него это, судя по всему, произвело впечатление. – Я прочел все ваши книги, и эта мне нравится больше всех. – Спасибо. – Дафна казалась обрадованной. – А теперь я задам тот же вопрос: а что вы здесь делаете? Тут он закинул голову и рассмеялся удивительно звонко, а потом опять на нее посмотрел и рукой сгреб свою светлую шевелюру с лица назад, и вдруг она узнала и была ошеломлена. Он был точно так же красив, как и во всех своих фильмах, но здесь он выглядел совершенно по-другому, так не к месту, так непритязательно в своей старой «аляске» и потертых джинсах. – Ах, Боже мой... – Ну, что вы, зовите меня проще. Они оба рассмеялись. Он понял, что Дафна его узнала. Это был Джастин Уэйкфилд. Он протянул ей руку, и когда их руки встретились, встретились и их глаза – в этом мужчине была какая-то магия, детская веселость, чарующий магнетизм. – Я играю в вашем фильме, сударыня. И очень надеюсь, что вам понравится моя игра. – Не сомневаюсь. – Дафна улыбнулась ему. – Я так обрадовалась, когда узнала о вашем участии. – Я тоже, – честно признался он. – Это лучшая из ролей, предложенных мне за последние годы. Дафна сияла. – Вы пишете как демон. – По-моему, и вам есть чем гордиться. Ее взгляд был озорным, а тихий голосок внутри нее шептал, что она заигрывает с американским киноидолом. Необычно было ощущать, что сидишь здесь рядом с ним. И по какой-то непонятной причине впервые за долгое время Дафна почувствовала себя женщиной, а не рабочей лошадью, или просто писательницей, или даже матерью Эндрю. Женщиной. Она привлекла его внимание, она поняла это по тому, как он с ней говорил. Но Дафна так давно не общалась с мужчинами, кроме разговоров о сыне с Мэтью, что не знала, что сказать. Чувствуя нервозность, Дафна снова вернулась к теме своей работы. Тут она «была на коне». С этим же мужчиной Дафна не чувствовала себя вполне безопасно. Он слишком пристально смотрел на нее. И она боялась, что скажет слишком много. Как бы он не заметил ее одиночества, которое она всегда так тщательно скрывала, или болезненную пустоту, оставшуюся в ее душе после смерти Джона. – Что вы думаете о сценарии? – Он мне очень нравится, правда. Мы с Говардом вчера его обсуждали. Там есть только одна, по-моему, не совсем удачная сцена. – Какая же? – Дафна сразу стала озабоченной, но его глаза были добрыми. Он протянул руку и взял копию сценария, оставленную Барбарой. – Не беспокойтесь. Это маленькая сцена. Он перелистал страницы, явно с хорошим знанием сценария, и указал на часть, которая ему не нравилась. Дафна взглянула на нее, кивнула и, нахмурившись, снова посмотрела на него. – Вы, наверное, правы. Я сама не была до конца в этом уверена. – Знаете, давайте подождем и посмотрим, что скажет Говард. Мы будем еще по ходу многое менять. Вы когда-нибудь видели, как он работает? Дафна покачала головой, и он засмеялся: – Вы получите удовольствие. И не позволяйте, чтобы этот старый хрыч вас пугал. У него золотое сердце, – он ей ехидно улыбнулся, – а на языке сплошные колючки. Вы к этому скоро привыкнете. Как и мы все. Но оно того стоит, этот тип абсолютно гениален. Вы у него многому научитесь. Я с ним до этого дважды работал, и каждый раз он потчевал меня чем-то другим. Вам повезло, что он ставит «Апачи». Всем нам повезло. – А потом, словно лаская глазами ее лицо, он прошептал ей: – Но пожалуй, еще больше нам повезло с вами. – И с пленительной, как поцелуй, улыбкой он удалился, чтобы переодеться, и в эту минуту снова появилась Барбара. – Я не могу найти ни чашки этого чертова кофе. – Ничего. Мне уже принесли. Но у Дафны все еще был отсутствующий вид. Джастин Уэйкфилд был самым необыкновенным мужчиной, и она не могла понять, понравился он ей или нет. Он, несомненно, был остроумным, веселым, чертовски красивым, иногда занимательным, но она не в состоянии была определить, играл он или нет? Разве такой красивый мужчина может вести себя естественно? – У тебя такой вид, как будто тебя только что посетило видение. – По-моему, так и случилось. Я говорила с Джастином Уэйкфилдом. – А какой он? – Барбара села в свободное кресло, пытаясь не показывать, что ее это впечатлило. Ей ужасно хотелось его увидеть, но в павильоне она его пока не заметила. – Он такой же прелестный, как на экране? Дафна засмеялась: – Не знаю. Он очень хорош собой, но я его даже не узнала, когда он сел рядом. – Как это? – Он выглядел как какой-то сопляк. Просто я ожидала чего-то другого. – Дафна улыбнулась своей секретарше и подруге. – Ты хочешь сказать, что я буду разочарована? – Барбара была расстроена. – Нет, я бы этого не сказала. Особенно удивительны были его глаза. И пока Дафна размышляла о нем, она увидела его, выходящего из гардеробной в коричневых облегающих замшевых брюках, как полагалось по первым сценам фильма, и в белом свитере с высоким воротом. Он был похож на молодого, светловолосого Марлона Брандо. Дафна услышала, как Барбара шумно вздохнула. – О Господи, он просто чудо! – прошептала Барбара, а Дафна, глядя на него, улыбнулась. В этом костюме он действительно был неподражаем. От взгляда на него захватывало дух. Играя мускулатурой, он шел к ним. Теперь его волосы были зачесаны назад, как в других фильмах, которые Дафна видела, и он стал похож на Джастина Уэйкфилда, актера, а не озорного мальчишку, предложившего ей чашку кофе. Он шел прямо к Дафне и с ласковой улыбкой остановился рядом с ней. – Здравствуй, Дафна. – Его губы словно бы ласкали ее имя. – Здравствуй. – Дафна улыбнулась, стараясь выглядеть спокойнее, чем была на самом деле. – Я хотела бы познакомить тебя с моей помощницей, Барбарой Джарвис. Барбара, это Джастин Уэйкфилд. Он пожал Барбаре руку, а потом повернулся и помахал Дафне, перед тем как отойти к Говарду Стерну и приступить к съемкам. Барбара сидела, глазея на него, и Дафна с улыбкой к ней наклонилась: – Закрой рот, Барб, у тебя слюнки текут. – Боже мой! Это что-то невероятное. Она не могла оторвать от него глаз, и Дафна сперва посмотрела на него, а потом на реакцию Барбары. Он и в самом деле неотразимо действовал на женщин. В этом она не сомневалась и должна была признать, что сама это ощутила. Да и трудно было не ощутить. – Да. Но, кроме красивой внешности, должно быть еще кое-что. Она говорила как мудрая старушка, и Барбара рассмеялась: – Ну да, конечно. О ком это ты? – О Томе Харрингтоне, или мне нужно тебе напоминать? Барбара покраснела от улыбки Дафны. – Ну ладно, ладно. – Как у вас с ним, кстати? Барбара вздохнула и на мгновение стала мечтательной. – Он самый необыкновенный мужчина, Дафф. Я люблю его и люблю его детей. Но казалось, что она чего-то недоговаривает. – Ну так? Какие проблемы? – Их нет, – улыбнулась ей Барбара. – Я никогда в жизни не была такой счастливой, и омрачает только мысль, что наступит день, когда мы вернемся в Нью-Йорк. – Это будет не так скоро, поэтому радуйся имеющейся возможности. Ей-богу, не порть себе настроение мыслями о том, что будет через шесть месяцев! Дафна ласково улыбнулась ей. С Барбарой этого раньше никогда не случалось. В свои сорок лет она по-настоящему полюбила достойного человека, впервые в своей жизни. – Том с самого начала говорит то же самое: такое случается только раз в жизни, так давай пользоваться тем, что сейчас имеем. Дафна на миг погрустнела. – Джефф однажды мне это сказал, вскоре после того как мы познакомились... Ее мысли были далеко, когда она думала о муже, а потом она снова посмотрела на Барбару. – Он был прав. В жизни много всякого, и каждый момент, каждый опыт не похож на другой. Каждый случается только раз. И, если упустишь момент, он уже никогда не вернется. Дафна чуть было не упустила свой шанс с Джоном и всегда радовалась, что все-таки воспользовалась им. Затем она снова переключилась с прошлого на настоящее: – Даже это, Барб. Даже этот дурацкий фильм, который мы снимаем. Для меня больше никогда не повторится первый фильм, для тебя больше не будет первой встречи с Калифорнией... надо это ценить, потому что все это уникально. И никогда не знаешь, что или кто поджидает тебя за поворотом. Почему-то, говоря это, она смотрела на Джастина Уэйкфилда, и он обернулся, как бы почувствовав на себе ее взгляд. Он оторвался от того, чем был занят, и посмотрел прямо на Дафну, а у той по спине пробежали мурашки. Она ощутила себя во власти его завораживающего взгляда. Съемки фильма начались в девять пятнадцать, и к полудню первая сцена была отснята дважды. Говард Стерн кричал на техников, обзывал Джастина отъявленным ослом, Морин Адамс расплакалась и говорила, что она еще нездорова, куда-то запропастились ассистенты. Дафна и Барбара наблюдали за всем этим в полном изумлении. Парикмахер заверил их, что все идет нормально, и, когда был объявлен обеденный перерыв, казалось, что все снова стали друзьями. Говард Стерн положил руку на плечо Джастину, сказал ему, что доволен, и ущипнул Морин Адамс пониже спины, когда она проходила мимо. Она звонко чмокнула Говарда и дала Джастину сигарету с марихуаной, а потом пошла в свою гримерную прилечь. Дафна осталась одна. Барбара пошла звонить Тому. – Ну, что ты думаешь о своем первом утре? – Джастин стоял прямо перед ней во всей своей экстравагантной красе. Дафна старалась не поддаваться влечению, которое испытывала к нему. – Я начинаю серьезно подозревать, что все вы здесь сумасшедшие. – Она улыбнулась ему, стараясь сохранять маску равнодушия, но это ей не удалось. В нем была какая-то дьявольская привлекательность. – Я мог бы тебе это сказать и раньше. Как тебе понравилась сцена? – Первый дубль мне показался хорошим. Дафна говорила это откровенно. Ей в самом деле показалось, что все в порядке. – Нет. Говард был прав. Мне, надо было разозлиться, а я не смог. Мы переснимем это в конце дня, а после обеда начнем со сцены с Морин в ее квартире. Это была откровенная постельная сцена, и Дафна сконфузилась, хотя сама же написала ее. По сценарию она шла гораздо позже, и казалось, что трудно будет ее снимать сразу после первой, совершенно непоследовательно. – Не бойся, детка. Ты же сама это написала. Ее реакция его рассмешила. – Я знаю. Но как это может быть вне контекста? – Все снимается вне контекста. Мы просто снимаем сцену за сценой, по какому-то гениальному и непостижимому плану, составленному в голове у Говарда, а потом они режут все это, как спагетти, и соединяют заново, и что-то получается. Это трудно понять. Но казалось, что его это особенно не волнует, что его больше интересует Дафна, чем работа. – Знаешь, Дафф, ты здорово поработала. Его глаза снова ласкали ее. – Спасибо. – Можно пригласить тебя на отвратительный столовский обед? Она хотела сказать ему, что собиралась обедать со своей ассистенткой, а потом поняла, что Барбара бы, наверное, умерла от счастья весь обед просидеть рядом с Джастином Уэйкфилдом. – Да, если я могу взять мою ассистентку. – Конечно. Я пойду переоденусь. Через минуту вернусь. Он исчез в своей гримерной, все еще держа в руке сигарету, которую Морин ему дала. Дафна задавалась вопросом, будет ли он курить ее сейчас или потом, а тем временем, позвонив Тому, вернулась Барбара. – Я только что договорилась насчет обеда. У Дафны был такой вид, словно она замышляла озорство. – С кем? – С Джастином. Ты не против? Барбара открыла рот, и Дафна громко расхохоталась. – Ты шутишь? – Нисколько. И едва она это произнесла, Джастин появился из своей гримерной, одетый в джинсы и теннисные туфли. Он все еще был в гриме и с зачесанными назад волосами. На этот раз Дафна узнала бы его, не то, что при первой встрече утром, и выглядел он почти так же привлекательно, как и в белом свитере и замшевых брюках. – Дамы готовы? Дафна кивнула, а Барбара просто смотрела как завороженная. Они пошли в огромное здание столовой, где оказались в окружении ковбоев и индейцев, двух красоток южанок и целой армии немецких солдат, а также двух карликов и толпы мальчиков. Барбара посмотрела вокруг и засмеялась: – Знаешь что? Это похоже на цирк! И Джастин с Дафной тоже рассмеялись. Они ели гамбургеры, черствые как камень, с кетчупом, напоминавшим красную краску, а потом Джастин принес им яблочный пирог и кофе. Затем они вернулись в павильон, и Джастин исчез в гримерной. Барбара подвинула кресло поближе к Дафне и, пока они ждали начала съемок, стала раздумывать о Джастине. Легко было заметить, что он проявлял к Дафне интерес, но Барбара решила, что, кроме глаз, он ей не особенно понравился. В нем было что-то инфантильное и эгоистичное, и она заметила, что каждый раз, когда они проходили мимо зеркала, он приглаживал волосы или смотрелся. Это ее раздражало, но вместе с тем она безошибочно определила, что Дафне он нравился. Прежде чем она успела что-либо сказать Дафне, Джастин появился из своей гримерной в длинном белом халате с капюшоном и в сабо. В нем было что-то красивое и таинственное, почти монашеское. Он снял капюшон, тряхнув копной светлых волос, и улыбнулся. А через мгновение совсем сбросил халат и шагнул на площадку во всей красе своего стройного, мускулистого тела. Чуть позже на площадке появилась Морин Адамс в розовом атласном халате, сняла его и прохаживалась обнаженная, в одной руке держа сценарий, а другой поправляя волосы. Но не Морин привлекала всеобщее внимание, а Джастин. Помимо его несомненной физической красоты, в нем была невероятная притягательная, волнующая сила. Дафна старалась сохранять внешнее спокойствие, но она так давно не видела обнаженного мужчину, что была очарована его атлетической красотой. – Я вынуждена признать, – сказала наконец Барбара, – что он выглядит в самом деле совершенно изумительно. Барбара взглянула на свою работодательницу, но та не слышала ее. Она так уставилась на Джастина, что Барбара забеспокоилась. Но кто бы стал упрекать Дафну? Он просто был таким, каким был. Джастином Уэйкфилдом, королем экрана. Сцена, в которой он играл, была захватывающая, и через некоторое время Барбара и Дафна забыли, что он обнажен. Дафна сидела как вкопанная, наблюдая, как оживала написанная ею сцена. Он демонстрировал ее во всем блеске, как дорогую парчовую ткань, и несколько раз у Дафны на глазах выступали слезы. Сцена очаровала всех зрителей. Актер был не только красив, он был мастером своего дела. А потом, так же ловко, как сбросил, он накинул свой белый купальный халат, покрыв голову капюшоном, и медленно повернулся к Дафне. Он выглядел старше, чем за обедом, и очень усталым, и очень искренним. Его большие зеленые глаза нашли ее, словно его интересовало прежде всего ее мнение об этом. – Мне очень понравилось. Это было именно то, что я имела в виду, когда писала, а может, даже больше. Словно ты постиг то, о чем я думала, но пошел глубже и дальше. Казалось, он очень обрадовался ее высокой оценке. – Так я и должен играть, Дафна. – Он говорил добрым и мудрым тоном, и ей нравилось выражение его глаз в тот момент. – В этом и состоит актерское искусство. Дафна кивнула, все еще будучи под впечатлением от его игры. Он в самом деле перенес ее книгу в жизнь. – Спасибо тебе. Картина намечалась сногсшибательная. И он был сногсшибательным мужчиной. И, всего лишь глядя на него, она уже чувствовала какой-то глубокий внутренний трепет. (обратно)Глава 27
В течение следующей недели Дафна с полным восторгом наблюдала за Джастином Уэйкфилдом, который плел вокруг нее свою магическую паутину. Они с Барбарой каждый день обедали с ним в столовой, и раз или два к ним присоединялся еще кто-то, но было совершенно очевидно, что Джастин Уэйкфилд желает общения именно с Дафной. Они говорили о своей работе, ее замыслах по отдельным персонажам, осмыслении сюжета. Много говорили об «Апачи», и Джастин подчеркивал, что ее советы ежедневно помогали ему на съемках, что это именно она внесла нечто новое, открыла в нем то, чего он сам раньше в себе не подозревал. – Это в самом деле твоя заслуга, Дафф. Они сидели на площадке и пили из одной банки клубничную газировку, жуткую гадость, как оказалось, но в автомате осталось только это, а оба умирали от жажды. День был жаркий, и они уже много часов находились на площадке. – Я не справился бы без тебя. Это моя лучшая работа. Спроси Говарда, он подтвердит. Я раньше не мог так работать над ролью, углублять ее день ото дня, как сейчас. – И он посмотрел на нее своими огромными зелеными глазами. – Серьезно. Ты со мной творишь чудеса, Дафна. Она не знала, что ему ответить. – А ты творишь чудеса с моей книгой. – Только и всего? Он казался разочарованным, словно ждал, что она скажет больше. Но он не знал Дафну, того, какая она была осторожная, какими высокими стенами она себя огородила, И тут он ее огорошил: – Расскажи мне что-нибудь о своем малыше. Словно чувствовал, что, может, она, говоря о сыне, несколько ослабит свою охрану. И он не ошибся. Дафна улыбнулась и подумала об Эндрю, который был так ужасно далеко. – Он удивительный, смышленый и очень своеобразный. Он примерно вот такого роста, – она вытянула вперед руку, чтобы показать рост сына, и Джастин улыбнулся, – и я возила его в Диснейленд несколько недель назад, когда он был здесь. – А где он сейчас? С папой? Ему показалось необычным для такой женщины, как Дафна, оставлять сына без присмотра, и в его голосе прозвучало удивление. – Нет. Его папа умер до того, как он родился. – Теперь об этом уже легче было говорить. – Он в Нью-Гемпшире, в интернате. Джастин с пониманием кивнул, а потом снова посмотрел Дафне в глаза: – Ты была одна, когда он родился? – Да. При этом внутри у нее что-то заныло – воспоминание, от которого она много лет старалась убежать. – Тяжело тебе, наверное, было? – Да, и... – Ей не хотелось говорить ему о том, как она обнаружила глухоту Эндрю, и о тех ужасных одиноких годах. – Это было довольно трудное время. – А ты тогда писала? Джастин впервые стал расспрашивать ее о себе. До сих пор всю неделю они говорили об «Апачи» и других ее книгах и его фильмах. – Нет, писать я начала позже. Только когда отдала Эндрю в интернат. – Да. Наверное, тяжело заниматься творчеством, когда рядом носятся дети. Ты очень правильно сделала, что отдала его в интернат. Его слова задели ее за живое. Он, конечно, не мог знать ее чувств к ребенку или что это было такое – отрывать от себя Эндрю. И его комментарий нес печать эгоизма, который она ненавидела. – Я отдала его в интернат, потому что иначе было нельзя. – Потому что ты была одна? – Нет, по другой причине. Что-то подсказывало ей не делиться с ним причинами. У нее все еще была сильная потребность защищать Эндрю. И она вдруг почувствовала, что Джастин не понял бы. Может, он бы даже и не пытался понять, и она не захотела открываться перед ним. – У меня не было выбора. – Она вдруг почувствовала себя очень старой и усталой. Что он знает о таком горе? – Джастин, а у тебя нет детей? – Нет. Я никогда не испытывал необходимости в такого рода продолжении себя. Я думаю, что у большинства людей это эгоистический поступок. – Дети? – Она была ошарашена. – Да. Не смотри так возмущенно. Большинство людей хотят себя воспроизводить и продолжать. У меня для этого есть фильмы. Мне не надо делать детей. «Это извращенный взгляд на проблему, – подумала Дафна, – но для него, может, и подходящий». Она постаралась понять его точку зрения. Все же Джастин не был бесчувственным человеком. Иначе он не смог бы вдохнуть жизнь в «Апачи» на минувшей неделе. А если у него иные взгляды, чем у нее, почему бы их не выслушать. В конце концов, это ее долг. – А ты когда-нибудь был женат? Теперь уже Дафна задавала ему вопросы. Каким он был? Как научился толкованию чьих-то чужих чувств, например, ее чувств, изложенных в книге? Джастин покачал головой: – Нет, ни разу, по крайней мере официально. Я жил с двумя женщинами. С одной семь лет, с другой пять. В общем-то это было то же самое, что быть женатым. Просто мы не расписывались. Разница не так уж велика. Когда кто-то хочет уйти, он и так уходит, расписаны вы или нет, а я еще и содержал их после того, как они уходили. Дафна кивнула. Она сама так жила с Джоном. Но она полагала, что со временем они поженятся. Они могли бы даже иметь детей, хотя Джон их также не особенно хотел. Ему было достаточно только ее и, конечно, Эндрю. – А сейчас ты с кем-нибудь живешь? Она чувствовала, что ее расспросы несколько прямолинейны, но они уже так много знали друг о друге. Они даже сдружились, проводя на площадке всю неделю по пятнадцать часов в сутки. Это начинало восприниматься как пребывание на необитаемом острове или на корабле, где люди обречены на близкие отношения. Но Джастин опять покачал головой: – Сейчас я ни с кем не живу. В прошлом году у меня был роман с одной особой, но она не понимает жестких требований моей профессии, и неизвестно, поймет ли. Она актриса, но это двадцатидвухлетнее дитя из Огайо просто не понимает, где я нахожусь. – Ну и где же? Или я надоедаю? Голос Дафны был осторожным, но он улыбнулся. Джастин не возражал против ее вопросов, они ему нравились. Она сама ему нравилась, и он хотел, чтобы она знала, что он собой представляет. – Ты не надоедаешь, Дафф. К концу съемок мы будем знать друг друга как облупленные. – Он мгновение колебался, думая над ее вопросом. – Не знаю, как тебе это объяснить, но я просто не хочу больше связывать себя с кем-то, кто не понимает этой работы. Это утомляет, когда все время приходится оправдываться. Она болезненно ревнива, а я не могу отчитываться за каждый день и каждую ночь. Мне нужна свобода. Мне нужно время, чтобы обдумать то, что я делаю, куда иду, что собой представляю – продумать и прочувствовать. Я себя лучше чувствую один, чем с кем-то, кто это подавляет. С его словами нельзя было не согласиться, и Дафна кивнула, а он засмеялся и покачал головой: – В народе об этом, кажется, говорят так: «Она меня не понимает». Ты уже такое раньше слышала? – Ага. – Она отхлебнула из их общей банки с газировкой и засмеялась. – Слышала. Я думаю, что, может быть, поэтому я тоже живу одна. Чертовски трудно было бы кому-то объяснить, почему я работаю по восемнадцать часов в сутки и в шесть утра еле доползаю до постели, словно меня били. Это мой хлеб, и вряд ли на него согласился бы еще кто-то. Меня это устраивает. Но нормальному человеку это бы не подошло. – Скорее всего. – Джастин улыбнулся, ощущая с ней определенное родство. – Разве что тому, у кого такие же привычки. Иногда я читаю всю ночь, до восхода солнца. Великолепное чувство. – Да. – Дафна тоже улыбнулась. – Я это обожаю. Знаешь, наверное, в жизни есть этап, когда лучше быть одному. Раньше я так не думала, но теперь твердо это знаю. У меня, по-моему, как раз такой случай. Она отдала ему банку, – он ее допил и поставил. – Я с этим не согласен. Я не хочу всю жизнь быть один, но в то же время не хочу связывать свою жизнь с той, которая мне не подходит. Наверное, сейчас я достиг этапа, когда предпочитаю быть один, чем с неподходящей женщиной. Но я все еще верю, не могу не верить, что где-то есть именно та, которая мне нужна и которая сделает меня счастливым. Я просто ее еще не нашел. Дафна подняла пустую банку: – Желаю удачи! – Ты думаешь, такую найти невозможно? Он был удивлен. Ее книги убеждали в чем-то противоположном. Казалось, что она верит в любовь и счастливые союзы, хотя хорошо понимает, что такое несчастье и утраты. – Я не считаю, что это невозможно, Джастин. Я находила дважды. – Ну? И что? – Они оба погибли. – Вот гадство. – Он сочувствовал. – Да. И я не думаю, что такой шанс возможен еще раз. – То есть ты сдалась? Они настроились на честный разговор, и Дафна была откровенна. – Почти. У меня было все, чего я желала, теперь у меня есть моя работа и мой сын. Этого достаточно. – В самом деле? – Для меня да. Сейчас. Так продолжается уже долгое время, и у меня нет желания это менять. Дафна слегка кривила душой. Были моменты, когда ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь ее обнял, но она слишком боялась возможной новой потери. – Я не верю. – Джастин изучал ее глаза, но не находил в них желаемых ответов. – Чему не веришь? – Что ты счастлива. – Я счастлива. Большую часть времени. Никто не может быть счастлив всегда, даже если он безумно влюблен. – Нельзя быть всегда счастливой, если ты одинока, Дафф, ненормально. Теряется контакт с жизнью. – А разве я его потеряла? Из моих книг это видно? – В твоих книгах много печали, грусти, одиночества. Ты проявляешь себя в этом. Она тихо засмеялась: – Ты, Джастин, рассуждаешь как мужчина, который не в состоянии поверить, что женщина может выжить в одиночку. Ты говорил мне, что счастлив один, почему же я не могу быть счастлива? – Для меня это временно. – Он был честен. – А для меня нет. – Ты сумасшедшая. Его раздражала сама эта идея. Дафна была красивой, трепетной, умной женщиной. Какого черта она вздумала быть одна всю оставшуюся жизнь? – Все это сумасбродство. Но в то же время это было вызовом. Он не мог перестать думать о том, во что она превратила свою жизнь. – Не расстраивайся из-за этого. Я совершенно счастлива. – Меня просто зло берет, как подумаю, что ты губишь свою жизнь. Дафна, ты же, черт подери, красивая, добрая, сердечная и очень умная женщина. К чему же эта изоляция? – Теперь я жалею, что сказала тебе. Но видно было, что она не особенно огорчена. Дафна выбрала себе такую жизнь и была относительно счастлива. В этот момент Говард Стерн опять позвал их всех на площадку на следующие шесть часов работы, а когда они расходились, Джастину надо было встретиться с другом, Дафна же уходила с Барбарой и больше с ним не виделась. Они вернулись домой, Дафна приняла душ и пошла поплавать в бассейне, наслаждаясь ароматным вечерним воздухом. Барбара пришла сказать ей, что она идет повидаться с Томом. – Я могу вернуться поздно, а может, останусь у него. – Счастливо. – Дафна улыбнулась ей из бассейна. – Передай Тому от меня привет. – Непременно. И не забудь поужинать, у тебя усталый вид. – Я в самом деле устала. Но я чего-нибудь поем перед сном. И еще она хотела в этот вечер позвонить Мэтью, пока не стало слишком поздно. Из-за их странного графика работы на съемках и разницы во времени между Калифорнией и Нью-Гемпширом звонить становилось все труднее и труднее. – До свидания, Барб! – Пока! – бросила, уходя, Барбара. Дафна еще немного поплавала, завернулась в полотенце и пошла на кухню, чтобы достать что-нибудь из холодильника, а потом уже звонить. Она кинула полотенце на табурет и осталась в красном миниатюрном бикини, вода с которого капала на кухонный пол. В тот момент, когда Дафна сняла трубку, раздался звонок в дверь, и она застыла в недоумении, кто бы это мог быть? Она подумала, что, может, это Барбара за чем-то вернулась и забыла ключи. Дафна вышла в прихожую и через боковое окно попыталась разглядеть, кто пожаловал. Но гость стоял спиной и слишком близко к двери, чтобы она могла его видеть. Она смогла разглядеть только часть плеча, поэтому подошла к двери и спросила, кто там. – Это я, Джастин. Можно войти? Дафна, удивленная, открыла дверь и окинула его взглядом. На нем были белые джинсы «левис», белая рубашка и сандалии, и его золотистый загар казался ночью темнее. Джастина можно было принять за юношу. Он стоял и улыбался. – Привет. Как ты нашел меня? – Мне на студии дали твой адрес, это ничего? – Что случилось? После работы он ей никогда не звонил, поэтому Дафна удивилась. К тому же она была усталой, мокрой и голодной, и это было время ее отдыха, когда ей хотелось немного побыть одной. – Можно войти? – Конечно. Выпьешь чего-нибудь? Подожди секундочку, я пойду что-нибудь надену. – Дафна вдруг сообразила, что стоит перед ним в одном красном бикини, и ей стало неудобно. – Это не обязательно. Ты меня видела вообще без ничего. Джастин улыбнулся ей по-мальчишески, и она засмеялась. – То было другое. Там была работа. А тут нет. – Да, у нас такая работа, на которую идешь голым. – Зато другим это нравится. Ему нравилось ее чувство юмора. – Ты что, намекаешь, что актерская игра – это разновидность проституции? – Иногда. – Она сказала это через плечо, исчезая в спальне, а он подавил в себе сильное желание последовать за ней. – Наверное, ты права. Когда Дафна вернулась, на ней был светло-голубой халат под цвет ее глаз, еще она успела расчесать волосы и надеть сандалии. Джастин посмотрел на нее одобрительно и кивнул: – Ты выглядишь прелестно, Дафф. – Спасибо. А теперь говори, что тебе нужно. Я едва держусь на ногах. Я собиралась ужинать и ложиться спать. – Это ужасно, я это подозревал. Я ехал на вечеринку и подумал, что, может быть, ты захочешь составить мне компанию. К Тони Три. Тебе должно понравиться. Тони Три завоевал за пять последних лет пять наград «Грэмми» и считался одним из лучших певцов в стране. В любое другое время она, вероятно, захотела бы познакомиться с ним, но не в этот вечер. – Заманчивое предложение, но я, честно, не могу. – Почему? – Потому что валюсь с ног. Господи, ты же вкалывал сегодня весь день. Неужели не устал? – Нет. Я люблю свою работу и поэтому не устаю. – Я тоже люблю свою работу, но она меня все время нокаутирует. – Она улыбнулась, не желая его обидеть. – Я бы там стоя уснула. – Это ничего. Они бы просто подумали, что ты окаменела. А статуя бы хорошая получилась. Она рассмеялась его находчивости и поборола в себе желание взъерошить ему идеально причесанные светлые волосы. – Не надо настаивать. Я очень устала. Хочешь сандвич перед уходом? Клубничной газировки у меня нет, но пиво, может, найдется. – Не возражаю. А где Барбара? – Ушла в гости. Дафна подала ему пиво из холодильника и принялась готовить сандвич. Джастин взобрался на табурет в кухне и наблюдал за ней. Сквозь халат проступал ее обнаженный силуэт, и ему нравилось то, что он видел. Бикини ему понравилось больше, но и это было неплохо. – То есть Барбары сейчас нет? – Да. Можешь этому верить или нет, но она ведь тоже человек. Эти двое несколько дней назад решили, что друг другу не нравятся: Барбара считала, что под внешним шармом в нем скрывается бессердечный негодяй, а Джастин решил, что секретарша Дафны – закоренелая старая дева. – Ты прямо как старая школьная учительница, – однажды сказал он Барбаре, разозлившись на то, что она слишком часто встревает в его с Дафной беседы. Она чувствовала, как податлива Дафна на его чары, хотя та и отрицала это. Барбара замечала в нем что-то неприятное, чего не видела Дафна. – У Барбары что, друг есть? – Джастин изобразил удивление, говоря в том же шутливом тоне, в котором последнее время всегда говорил с Дафной. – Да, замечательный человек. – Дафна уселась на табурет по другую сторону стойки. Может, и неплохо в конце концов, что он зашел? Приятно было есть сандвич в компании, хотя это и означало, что после его ухода будет уже слишком поздно звонить Мэтью. – Ее друг адвокат. – Это солидно. По налоговым делам? – По кинематографу, кажется. – Господи! Он, наверное, ходит в деловом костюме с золотой цепочкой? – Перестань, Джастин. Не язви. – Почему? По-моему, она закомплексованная стерва. Она мне не нравится. – Она замечательная женщина, ты ее просто не знаешь. – И не хочу знать. – Это у вас взаимно, тут нет секрета. Мне кажется, вы оба ведете себя как дети. – Она меня ненавидит. Он сказал это жалостливым тоном, и Дафна улыбнулась. – Она тебя не ненавидит. Она тебя не одобряет и по-настоящему тебя не знает. Много лет назад у нее была серьезная душевная травма, из-за которой она стала недоверчивой с мужчинами. – Можешь повторять это сколько хочешь. – Он чувствовал, что Дафна в нем сомневается, и это его раздражало. – Я не могу предложить ей чашку кофе, чтобы она меня не вывела из себя. Дафна все знала об этом и уже говорила Барбаре, что не надо обострять отношений. На съемочной площадке вражда была ни к чему. – Во всяком случае, я рад, что ты одна. Когда я поблизости, она стережет тебя, как ватиканская гвардия. – Она просто заботлива, вот и все. Мы вместе многое пережили. – Она ведет себя так, как будто она твоя мать. Дафна улыбнулась: – Иногда мать бы мне не помешала. Она так долго и так много в одиночку несла на своих плечах, и Барбара была единственным человеком, который хоть как-то облегчил ее бремя. Пока Дафна говорила, Джастин слез с табурета и обошел стойку. Он встал рядом с ней и взял в свои ладони ее лицо. – Дафна, ты красивая, привлекательная женщина, и я хочу тебя. Она задохнулась от возмущения и в то же время почувствовала давно забытую истому. – Джастин, не надо глупостей. – Ее голос был тихим и испуганным. – Это не глупости. – Он, казалось, обиделся. – Я со страшной силой влюбился в тебя, а ты играешь в эту дурацкую игру, прячась за свои стены. Почему? Почему ты не позволяешь мне тебя любить, Дафф? Его глаза затуманились, а ее страшно расширились. – Джастин, пожалуйста... нам надо вместе работать... это было бы ужасной ошибкой... – Что? Полюбить? Ты этого боишься? Почему? Мы оба сильны, умны, талантливы. Я не могу представить себе лучшего сочетания, я никогда не встречал никого подобного тебе, и ты, думаю, первый раз встретила такого, как я. Почему ты это отвергаешь? Кого волнует то, насколько ты сурова к себе? В конце концов ты однажды проснешься старухой, и все будет кончено, и ты сможешь только сказать себе, что была верна памяти двух погибших мужчин. Почему, Дафна... почему? И зачем он наклонился к ней и поцеловал ее в губы, своим языком заставив ее разжать их, и проник им внутрь, и, когда он обнял ее, Дафна почувствовала, как у нее учащается дыхание. Но тут она из последних сил отстранила его и встала. Рядом с ним она казалась миниатюрной и смотрела на него с мольбой вглазах. – Джастин, пожалуйста... не надо... – Я хочу тебя, Дафф. И я не собираюсь позволять тебе улизнуть. Я не могу поверить, что ты безразлична ко мне. Мы слишком хорошо друг друга понимаем. Мне понятно каждое слово, когда-либо написанное тобой, и по тому, как ты наблюдаешь за моей работой, я вижу, что ты тоже хорошо ее понимаешь. – Ну и что из того? – Дафна все еще была полурассержена, полуиспугана. Джастин заявился к ней, поцеловал и теперь пытался поставить ее жизнь с ног на голову. Она не тела этого ему позволить. Это было опасно. Они вместе снимали кино, вот и все. Дафна не хотела покидать своего панциря. – Чего ты от меня хочешь, ей-богу? Отдаться тебе? Роман завести на шесть месяцев? Джастин, в этом городе десять миллионов актерок. Спи с любой. – Ее глаза наполнились слезами, и она отвернулась. – А меня оставь в покое. – Это то, чего ты желаешь? Она кивнула, все еще стоя к нему спиной. – Хорошо, но подумай над тем, что я сказал. Мне не нужно просто поскорее «переспать», Я могу это иметь когда захочу и где захочу. Но я не смогу найти такую женщину, как ты. Такой, как ты, больше нет. Я знаю. Я уже искал. Тогда она повернулась к нему. – Ну и продолжай искать. Наверняка найдешь. – Нет, не найду. Его глаза омрачились. Джастин наконец нашел то, что хотел, но Дафна не хотела его. Это было несправедливо, и он хотел овладеть ею прямо здесь, на кухне, но принуждать ее он бы не стал. Он знал, что тогда потерял бы ее навсегда. Может, если подождать, шанс бы появился? – Я тебя прошу, Дафна, подумай над тем, что я тебе сейчас сказал. Мы еще поговорим об этом. – Нет, мы не будем говорить. – Дафна решительно подошла к входной двери и открыла ее ему: – Спокойно ночи, Джастин. Увидимся завтра на съемках, но я не желаю это обсуждать. Никогда. Ясно? – Не надо диктовать условия. Тем более мне. Он сверкнул на нее глазами, но в его взгляде сквозило мальчишеское озорство. Дафна была непоколебима: – У меня свои правила. И ты либо изволь уважать их, либо ступай прочь. Потому что я вообще не буду иметь с тобой дела, если ты не будешь уважать моих чувств. – Все твои чувства неправильные. – Не тебе об этом судить. Я сделала свой жизненный выбор и живу в соответствии с ним. Я приняла решение давно. – И ошиблась. Джастин снова коснулся ее губ своими и ушел, Дафна захлопнула за ним дверь и прислонилась к ней, дрожа всем телом. Самое ужасное во всем этом было то, что она верила во все, что говорила ему, верила на протяжении многих лет, и тем не менее ее тело жаждало Джастина при каждом его поцелуе. Но она не хотела снова страдать, снова любить и снова терять. Она бы не стала это делать, что бы он ей ни говорил. Однако, вернувшись на кухню, она посмотрела туда, где они сидели, и почувствовала, что при воспоминании о его поцелуе все ее тело снова стало дрожать, и со страдальческим стоном Дафна схватила его пустую пивную бутылку и швырнула ее в стену. (обратно)Глава 28
– Ну, как было на вчерашней вечеринке? Дафна старалась казаться невозмутимой, когда они сидели за пустым столиком в столовой: Все уже поели раньше и вернулись в павильон, и Дафна с Джастином внезапно остались одни. Но глаза Джастина, когда он взглянул на нее, были озабоченными. – Я туда не поехал. – А-а. Это плохо. Она попыталась поменять тему: – По-моему, сцена сегодня удалась? – По-моему, нет. Он оттолкнул от себя тарелку и посмотрел на Дафну. – Я ничего не соображаю. Вчера вечером ты лишила меня рассудка. Она не сказала ему, что тоже полночи не могла уснуть, борясь с собой и ожидая, что он позвонит. Ее переполняла сила нахлынувших на нее чувств. Ничего подобного она давно не испытывала и уже решила, что такого с ней больше не случится. – Как тебе удается вытворять с нами такое? Он был похож на мальчика, лишенного рождественского праздника, но Дафна отложила свой сандвич и сердито посмотрела на него. – Я ничего не вытворяю с «нами» Джастин. Никаких «нас» ведь нет. Не выдумывай чего-то, что в конце концов только осложнит жизнь нам обоим. – О чем, черт побери, ты говоришь? Что тут сложного? Ты здесь. Я ищу. Так в чем проблема, сударыня? И я тебе скажу в чем. Он говорил с Дафной хрипловатым шепотом, и она надеялась, что никто их не подслушивает, кругом ходило много народу, но, к ее радости, никто не обращал на них внимания. – Твоя проблема в том, что ты чертовски боишься снова дать свободу своим чувствам. У тебя больше нет смелости. Она у тебя, вероятно, когда-то была, это видно по твоим книгам. Но теперь вдруг у тебя не стало отваги, чтобы выйти из-за твоих стен и быть женщиной. И знаешь, что? Раньше или позже это проявится в твоих книгах. Нельзя вести такую жизнь, какую ведешь ты, и оставаться человеком. Это невозможно. Может, ты уже перестала им быть. Может, я полюбил иллюзию... фикцию... мечту... – Ты же даже меня не знаешь. Как ты можешь меня любить? – Ты думаешь, я тебя не вижу? Ты думаешь, я не слышу тебя в твоих книгах? Ты думаешь, я не понимаю «Апачи»? Ты думаешь, чем я тут занимаюсь изо дня в день? Я оживляю шепоты твоей души. Детка, я знаю тебя. Да, да, знаю. Это ты себя не знаешь. И не хочешь знать. Ты не хочешь напоминать себе, кто ты, какая ты, что ты женщина, замечательная женщина, с реальными потребностями, с сердцем и душой и даже с телом, которое так же жаждет моего, как мое твоего. Но я по крайней мере честен. Я знаю, чего хочу и кто я, и, слава Богу, не боюсь следовать своему внутреннему голосу. И, сказав это, он пошел к выходу, хлопнул дверью столовой и направился обратно в павильон. Дафна же, выйдя из столовой вскоре после него, улыбалась про себя. Немногие женщины в стране решились бы отказать Джастину Уэйкфилду. Все было и смешно, и в то же время грустно. Дафна наблюдала, как Джастин снова и снова мучился над одной и той же сценой всю вторую половину дня и весь вечер допоздна. Говард Стерн на всех кричал; он даже заставил Дафну поменять кое-что в сцене, чтобы посмотреть, что получится. Но дело было не в ее сценарии, а в настроении Джастина. Она видела, что он ужасно несчастен, и, казалось, что он хочет продемонстрировать это всему миру. Наконец в десять вечера, после семнадцати часов работы, Говард Стерн в сердцах бросил на пол свою шляпу. – Я не знаю, ребята, что с вами сегодня случилось, но весь день пошел насмарку, коту под хвост. Уэйкфилд, брось хныкать и дуться. Я хочу, чтобы завтра все были здесь в пять утра, а если у вас есть проблемы, лучше «вытрахайте» их за ночь. Больше он ничего на прощание им не сказал, и Джастин скрылся в своей гримерной, даже не удостоив Дафну взглядом. Однако он прошел совсем рядом с Дафной, чтобы она видела, какое отвратительное у него настроение. Она молча села с Барбарой в лимузин и с усталым вздохом откинулась на спинку сиденья. – Хорошенький денек, а? – улыбнулась Барбара по дороге домой, но Дафна не была настроена разговаривать. Она думала о Джастине и о том, правильно ли она поступила. Следующий день был немного лучше, но только на этот раз они с Джастином вообще не разговаривали. В этот вечер Говард отпустил их в семь тридцать. Он сказал, что они все ему так надоели, что на год бы хватило. Но на следующий день словно произошло чудо. Когда Джастин появился на площадке, в его глазах горели эмоции, страсть и злость, и он ошеломил всех своей игрой. После четырехчасовых съемок, почти без дублей, Говард подбежал к нему и поцеловал в обе щеки, а вся группа радостно закричала. Как бы то ни было, Джастин ожил, и Дафна, направляясь в столовую обедать, уже не чувствовала себя такой виноватой. Она удивилась, когда Джастин сел за ее столик, и осмотрела на него с застенчивой улыбкой. – Ты сегодня чудесно работал, Джастин. Она не спросила, из-за чего переменилось его настроение, но, что бы там ни было, она была рада, что это произошло. – Пришлось. Я чувствовал, что виноват перед Говардом. Я заставил всех расплачиваться за свои эмоции. Дафна кивнула, взглянув сперва в свою тарелку, а потом на него. – Извини, что я тебя расстроила. – Ты тоже извини. Но иногда я думаю, что ты это заслужила. Ей хотелось плакать от его слов. Она надеялась, что он сдался. – Но раз тебе так хочется, Дафф, мне, видимо, придется с этим смириться. Можно мне быть твоим другом? Он сказал это с такой покорностью и нежностью, что слезы наполнили ее глаза, она взяла его руку и подержала в своей. – Ты уже мой друг, Джастин. Я знаю, что понять меня нелегко, но в моей жизни произошло так много несчастий. Я ничего не могу с этим поделать. Просто принимай меня такой, как есть. Так будет легче нам обоим. – Мне это будет нелегко, но я постараюсь. – Спасибо тебе. – И все же я не могу приказать своим чувствам исчезнуть. Дафна все еще чувствовала, что Джастин ее не знает, и ее приводила в отчаяние его настойчивость, но, может быть, таким он просто был, и если им на самом деле предстояло быть друзьями, значит, ей надо было тоже принять его. – Я постараюсь это уважать. – А я буду уважать тебя. И затем он усмехнулся и шепнул ей: – Но я все же считаю тебя сумасшедшей. Дафна засмеялась выражению его лица и не могла удержаться, чтобы не рассказать ему, что она подумала на днях. – Ты понимаешь, что я, наверное, единственная в Америке женщина, которая способна не пустить тебя к себе в постель? – Ты хочешь президентскую награду за это? – пошутил он, и Дафна рассмеялась. – А ты готов вручить? – Почему бы нет, черт подери, если ты от этого будешь счастлива. И потом они вернулись в павильон, разговаривая о фильме, а вечером Джастин появился на пороге ее дома с почетным знаком, который изготовили ребята-бутафоры. Это была бронзовая пластинка, очень красивая, с тонкой гравировкой. Текст гласил, что президентская награда вручается госпоже Дафне Филдс за сверхсмелость и сверхдоблесть, проявленные при недопущении Джастина Уэйкфилда в свою постель. Она расхохоталась, когда это увидела, поцеловала его в щеку и пригласила выпить. – Ты хотела награду, вот я и поймал тебя на слове. Она установила награду на стойке в кухне и вручила ему стакан пива. – Ты ел? – Я съел гамбургер после работы. Может, поплаваем в твоем бассейне? Было уже восемь часов, но вечер был чудесный, и Дафна поддалась искушению. – А я могу быть уверена? – В чем? Что я не написаю в твой бассейн? – Для его возраста в нем было больше мальчишества, чем взрослости, но это ей в нем нравилось. Порой это ее смешило, а порой сводило с ума. – Ты знаешь, что я имею в виду, Уэйкфилд. – Она строго посмотрела на него. – Да, знаю, Филдс. – Он ответил ей взглядом и состроил гримасу. А потом рассмеялся. – Да, ты можешь мне верить. Господи, Дафф, какая ты смешная. Ты столько сил тратишь на сдерживание своих чувств. Неужто стоит так беспокоиться? – Да. – Она улыбнулась ему. – Я так считаю. – Ну, я думаю, никто не скажет, что ты легкая добыча. По крайней мере я не могу этого сказать. – И потом с печальным выражением лица проговорил. – Или причина во мне? – Ох, Джастин. – Она не хотела, чтобы он так думал. – Конечно, нет, глупыш. Просто я долгое время вела такой образ жизни и была вполне счастлива этим. Я не хочу его менять. – Благодарю за разъяснение. – Благодарю за награду. – Она ласково ему улыбнулась и махнула в направлении спальни: – Пойду надену купальник. Дафна надела скромный темно-синий бикини, и, когда вышла, Джастин был уже в бассейне. – Вода классная. Он отплыл дальше, и она только заметила, что на нем были белые плавки. Она осторожно спустилась в воду и встретилась с ним на середине бассейна. Тогда только она поняла, что белые плавки – это был небольшой участок незагорелой кожи на его ягодицах, и, когда они вынырнули, она посмотрела на него неодобрительно. – Джастин, а твои плавки... – Я их не люблю надевать. Ты против? – Разве у меня есть выбор? – Нет. Он радостно улыбнулся и снова нырнул, попутно пощекотав Дафну за ноги, а потом вынырнул и, как дельфин, схватил ее в охапку и увлек за собой. Она сопротивлялась, отталкивая его. Он шутя отпрянул назад. Минут десять они развлекались, пока Джастин наконец не сбавил темп. – У тебя что, всегда столько энергии после работы? – Только когда я счастлив. – Знаешь, ты ведешь себя как маленький ребенок. – Спасибо. Никто бы не подумал, что ему за тридцать, но Дафне приходилось признать, что в его обществе она тоже чувствовала себя моложе. – Знаешь, Дафф, бикини тебе очень идет. Но без него ты была бы еще лучше. – Не приставай. Дафна проплыла еще несколько раз туда и обратно, а потом медленно поднялась по лестнице и вышла из бассейна. И, заворачиваясь в полотенце, повернулась спиной, видя, что и Джастин выходит из воды. – Полотенце на стуле. – Спасибо. Но когда она обернулась, то увидела, что полотенцем он не воспользовался. Напротив, он стоял перед ней во всей красе своего обнаженного мокрого тела. Над ними была луна и небо, полное звезд. Они долго стояли молча, а потом он сделал шаг вперед и обнял ее. Он целовал Дафну со всей нежностью своей мальчишеской души, обнимал ее, и она чувствовала, что он дрожит, как и она, но не знала, происходит ли это от страсти или от ночной прохлады. И по непонятным для себя причинам она позволяла ему обнимать себя и чувствовала, что ее губы отзываются на его поцелуи. Казалось, что это длилось целую вечность. А потом он отвернулся от нее и плотно завернулся в приготовленное ею полотенце, надеясь успокоить кипевшую в нем страсть. – Извини, Дафф. Он сказал это голосом маленького мальчика, стоя спиной к ней. Дафна не знала, что сказать. Был момент, когда она невероятно захотела его; она ласково коснулась рукой его спины. – Джастин... все хорошо... я... Тогда он повернул к ней лицо, и их глаза встретились. – Я хочу тебя, Дафна. Я знаю, что ты не хочешь об этом слышать. Но я люблю тебя. – Ты сошел с ума. Ты дикий, сумасшедший мальчишка в облике мужчины. И еще раз она вспомнила предупреждение Говарда... помни, что актеры – это дети. И Джастин был ребенком. Или, может, нет? Он уже им не казался, когда шагнул к Дафне и взял в ладони ее лицо. – Я люблю тебя. Как ты можешь в это не верить? – Я не хочу в это верить. – Почему? – Потому что, если я в это поверю, – она запнулась, все ее тело трепетало на теплом ветру, – и позволю и себе любить тебя... нам когда-нибудь придется испытать боль, а я этого не хочу. – Я не причиню тебе боли. Никогда. Клянусь тебе, Она вздохнула и прильнула головой к его обнаженной груди, а он обнял ее. – Этого никто не может обещать. – Я не собираюсь погибать, как другие, Дафф. Нельзя же этого бояться всю жизнь. – Я не этого боюсь. Я просто боюсь потерять любовь... причинить боль и самой испытать боль... Тогда он отстранил Дафну и взглянул ей в глаза так, чтобы она могла увидеть его, точно так же как она поступала с Эндрю, когда хотела, чтобы он читал по ее губам. – Тебе не будет причинена боль, Дафф. Поверь мне. Дафна хотела спросить его, почему должна этому верить, но она больше не в силах была – слова потеряли свое значение. Даже для нее. Она позволила Джастину целовать себя и обнимать, а потом он унес ее в спальню, они легли в ее постель и предавались любви до самого рассвета. Утром они вместе встали, он приготовил ей кофе и тост, потом они стояли под душем, целовались и смеялись, и Дафна уже больше не помнила, почему она так долго и упорно отстаивала свое одиночество. А когда в пять утра Барбара вернулась от Тома, чтобы ехать с Дафной на студию, она была потрясена, видя Джастина на кухне, в белых джинсах и босого. – Хорошо ли провела ночь, Барб? Их глаза встретились. У Барбары тут же возник инстинкт защитить от него Дафну, но она знала, что теперь уже было поздно. – Да, очень, спасибо. Но ее глаза сказали все, что она о нем думает, и он ее понял. В пять пятнадцать они все втроем уселись в лимузин Дафны и поехали на студию. Джастин играл великолепно, а потом, когда все пошли обедать, они с Дафной закрылись в его гримерной и занимались любовью до двух часов дня, пока все не вернулись на площадку продолжать работу над фильмом. (обратно)Глава 29
Работа на съемочной площадке – это все равно что застрять в лифте на все лето – ни от кого нет секретов. Через неделю вся группа знала, что Дафна и Джастин – любовники, но один Говард осмелился однажды утром за кофе с пончиками прокомментировать это: – Не говори, что я тебя не предупреждал. Все они дети. Избалованные дети. Но Дафна уже была околдована Джастином. Он слал ей в павильон цветы, пек ей печенье в полночь у нее на кухне, покупал бесчисленные и милые подарки и занимался с ней любовью когда только и где только это было возможно. Ночью они лежали рядом с ее бассейном, и он читал Дафне стихи, которые выучил в детстве, и рассказывал забавные истории о съемках других фильмов, которые ее смешили до слез. Их же фильм продвигался очень хорошо, с опережением графика, к большому удовольствию Говарда, и проблем на площадке было мало. Дафна за последние три недели узнала о киносъемках больше, чем рассчитывала узнать за весь год. – И когда мы закончим этот фильм, любовь моя, мы снимем еще один, и еще... и еще... Мы непобедимая команда, детка. И Дафна была склонна согласиться. Единственной проблемой в их романе было то, что она знала, что Барбаре он не нравится, и это вызывало постоянную напряженность между ними. Барбара старалась ничего об этом не говорить, но и по ее молчанию все было ясно. Вечером она поделилась с Томом, и он пытался ее успокоить, но бесполезно. – Она взрослая женщина. И способна отвечать за свои поступки. Ты же сама это говорила. Будь просто в стороне от этого. У нас своя жизнь, пусть у нее будет своя. – Ее оценка в данном случае никуда не годится. Том, этот парень ее просто использует, я это знаю. – Нет, ты ошибаешься, это твои подозрения. У тебя нет никаких доказательств. – Оставь ты свой адвокатский тон. – А ты оставь свой материнский тон. Том пытался поцелуями заставить Барбару молчать, но не мог подавить ее опасений. Она боялась, что Джастин использует Дафну. Почему-то она не верила ему, но не могла до конца понять, в чем тут дело. Он только лишь не переселился к Дафне, а так постоянно был с ней: на съемках, дома, на вечеринках, в ресторанах. Для Дафны это была новая жизнь, и казалось, что она ей нравится, но в ее глазах все еще не было полного счастья. Прежние годы оставили свой след. Дафне не хватало общения с Эндрю. Она по-прежнему каждый день ему писала, но в графике съемок не было перерывов, когда Дафна могла бы слетать к нему или он к ней. Ее звонки Мэтью в школу тоже были нечастыми. В последнее время ей совершенно некогда было звонить. Казалось, что каждый раз, когда она говорила Джастину, что идет звонить, он отвлекал ее то поцелуем, то лаской, то какой-то проблемой. Наконец однажды вечером Мэтью застал ее дома. – Ваше сердце покорил Голливуд, мисс Филдс, или вы просто слишком заняты, чтобы звонить? Она почувствовала себя виноватой, и на мгновение ее охватил страх, что с ее сыном что-то случилось. – Эндрю здоров? Ее сердце стучало, но Мэтью быстро ее успокоил: – Все в порядке. Но я должен признать, что соскучился. Как продвигается фильм? – Отлично, точнее, великолепно. Мэтью услышал в ее голосе еще что-то, но не был уверен, что именно. Между ними появилась какая-то отчужденность, которой раньше не было, и он хотел узнать ее причину. Может, просто из-за фильма, но это было маловероятно. А когда Мэтью позвонил еще раз, к телефону подошел Джастин. – Какая школа? – Джастин не сразу понял. Он читал текст для следующего съемочного дня, а Дафна была в ванной. – Го... – что? – Говард. Она знает. Мэтью уже пожалел, что позвонил ей. – А-а. – Джастин вспомнил. – Ее сын. Она не может сейчас подойти. Она в ванной. Мэтью внутренне съежился. Так вот в чем была причина ее молчания. В ее жизни был мужчина. Это его огорчило, но Мэтью надеялся, что это по крайней мере достойный человек. Она заслужила кого-то необыкновенного, потому что сама была необыкновенной. – Ей что-нибудь передать? – Пожалуйста, скажите ей, что у ее сына все в порядке. – Непременно. Джастин повесил трубку и посмотрел на часы. В Нью-Гемпшире было одиннадцать тридцать. Очень странно, что они звонили в это время. Он зашел в ванную и сказал Дафне, что кто-то ей звонил из школы ее ребенка. – Он просил сказать тебе, что у твоего сына все благополучно. – И вдруг Джастин на нее странно посмотрел: – Что-то поздновато он тебе позвонил. Кто это? – Мэтью Дэйн. Директор. Дафна виновато посмотрела, как будто сожалела, что Джастин ответил на звонок. Но он рассмеялся и сел на край ванны. – Неужто у моей маленькой старой девы был роман с руководителем школы ее сына? Идея его развеселила, Дафна же была раздосадована: – Нет, Джастин, это неправда. Мы просто друзья. – Какие такие друзья? – Друзья-собеседники. Какими могли бы быть мы с тобой, если бы ты хоть что-то соображал. – Ее голос смягчился. – Он прекрасный человек и очень помог Эндрю. – О Господи, все эти парни из школ-интернатов гомики, Дафф. Ты что, не знала этого? Он скорее всего влюблен в попку твоего малыша. В глазах Дафны, когда она взглянула на Джастина, внезапно сверкнуло бешенство: – Ты говоришь мерзости, сам ничего об этом не зная. Это специальная школа, и те, кто там работает, настоящие подвижники. – Ну, может быть. – Она его не убедила, и Джастин посмотрел на нее вопросительно: – Что ты имеешь в виду под «специальной» школой? У него что, какие-то проблемы? – Он вдруг вспомнил слова Дафны о том, что ей пришлось оставить там Эндрю, что у нее не было выбора. Он содрогнулся от мысли, что ее сын может быть умственно отсталым, а Дафна вглядывалась в его глаза, словно оценивая, насколько она может ему довериться. Наступила длительная пауза, и затем Дафна кивнула: – Да. Эндрю от рождения глухой. Он находится в школе для глухих в Нью-Гемпшире. – Боже мой! Ты мне никогда об этом не говорила. – Я обычно об этом не говорю, – произнесла Дафна печально. – Почему, Дафф? – Потому что это касается только меня и больше никого. – Она взглянула на него почти дерзко. – Это, должно быть, паршиво – иметь глухого ребенка. – Нет. Глядя Джастину в глаза, Дафна видела, что он не понимает, но, если он ее любил, он должен был это знать. – Он замечательный ребенок и осваивает все, что нужно знать для жизни в нормальном обществе. – Это здорово. Но видно было, что Джастин не хотел знать об этом больше. Он наклонился, чтобы поцеловать ее, и потом вернулся в спальню дальше читать свою роль. Дафна вышла из ванны, вытерлась и пошла позвонить Мэтью из кабинета. Он ответил и стал извиняться, что позвонил. – Не говори глупостей, Мэтт. Я бы сама позвонила, но была ужасно занята. Она не стала говорить о Джастине, да и не знала, что сказать, но была смущена оттого, что Мэтт обнаружил его в ее доме. Джастин сказал ей, что сообщил, что она была в ванной; Дафна не считала это подобающим ответом на телефонные звонки к ней. А если бы это звонили журналисты? Но Джастина это, по-видимому, не особенно волновало. Он был гораздо более привычен к их настырности, чем Дафна, и несколько меньше заботился о своей репутации. Он уже раньше ее запятнал. – Как Эндрю? – Хорошо. Мэтью сообщил Дафне все последние новости, но между ними была какая-то странная неловкость, и разговор ни ему, ни ей не принес прежнего удовлетворения. Дафна пыталась уяснить, говорила ли она с ним так помногу потому, что была одинока, и внезапно почувствовала себя виноватой за то, что использовала его, чтобы заполнить свои пустые вечера здесь, на Западном побережье. А теперь был Джастин, и все было по-другому, но, вешая трубку, она ощутила потерю. – Ты звонила своему другу? – съязвил Джастин, когда Дафна вернулась в спальню. – Да. У Эндрю все в порядке. Ее глаза просили Джастина не развивать дальше эту тему, и он благоразумно не стал. Вместо этого Джастин мягким движением отодвинул полотенце, которым Дафна себя обернула, и медленно провел рукой снизу вверх по внутренней стороне ее бедра. Потом ласково притянул Дафну к себе, медленно усадил на свою голодную плоть, и они слились в порыве страсти, забыв о ее телефонном разговоре. Но после любовного акта, когда Джастин уснул и тихо сопел рядом, Дафна лежала и думала о Мэтью. (обратно)Глава 30
Съемки «Апачи» продолжались без перерыва еще два месяца и наконец Говард дал всем четыре дня отдыха. – Слава Богу, детка! – Джастин был в восторге. – Давай съездим в Мексику на несколько дней. Но у Дафны были другие планы. – Я не могу. Мне надо увидеться с Эндрю. Я не видела его почти три месяца. – Эндрю? О Господи. Малыш может подождать. Разве нет? Дафна возмутилась: – Нет, не может. Я хочу, чтобы он сюда приехал. – В ее голосе звучали и обида и твердость. Ничто не могло встать между ней и Эндрю. Даже Джастин. Она думала, что он все-таки проявит интерес к ее сыну, но этого не произошло. Были вещи, которые его вообще не интересовали, к ним относились и дети. Его не интересовали вообще ничьи дети, даже ее. И все же их роман был бурным, и временами они могли говорить до самого утра, и она была уверена, что он ее любит. Но иногда ей казалось, что он любит только часть ее, некоторых же ее сторон он не знает вообще. И прежде всего Эндрю, который был главной частью в ее жизни. – Джастин, как ты думаешь? Ты хотел бы с ним познакомиться? – Может, если привлечь его к своим планам, он бы и отозвался. – Может быть. Но, честно говоря, киска, мне нужно отдохнуть, а насколько я знаю, дети не особенно способствуют отдыху. Судя по всему, он не извинялся, не был в особом восторге. А Дафна не знала, будет ли разумно вызывать к себе Эндрю. Слишком уж дальний путь ради четырех дней. В конце концов, она позвонила Мэтту и спросила, что он думает. – Вообще-то, честно говоря, Дафф, мне кажется, что для Эндрю это будет слишком утомительно. Да и для любого ребенка его возраста. Дафна думала то же самое. Она просто хотела, чтобы Эндрю познакомился с Джастином, но, видимо, для этого еще не пришло время, и ни он, ни Джастин не были к этому готовы. Вероятно, лучше всего было бы предоставить Джастина самому себе на эти четыре дня. Они прожили бы друг без друга, зато она вдоволь пообщалась бы с сыном. Такая перспектива Дафне вполне подходила, но она все же досадовала на Джастина. – Ты, наверное, прав, Мэтт. Я прилечу в Нью-Йорк, а оттуда доберусь на машине. – Это глупо. Дафна была ошарашена. Она не виделась с сыном почти три месяца. Но Мэтт моментально понял причину ее замешательства и рассмеялся. – Я имел в виду не полет на восток вообще, а идею лететь в Нью-Йорк, а потом ехать на машине. Лети в Бостон, и я тебя встречу. – Мне неудобно. У тебя там и так много забот, чтобы еще раскатывать за мной. – А ты почти беспрерывно работала на протяжении последних пяти месяцев. Неужели я не могу сделать любезность другу? Надо было признать, что для Дафны это было бы, конечно, удобнее, но она испытывала неловкость. Мэтью всегда о ней заботился. – Я серьезно. Для меня это не сложно. Дафна знала, что это не так, и предложение Мэтта ее тронуло. – Раз так, я согласна. Она взглянула на расписание, которое раньше взяла в авиакассе, сказала, каким самолетом прилетит на следующий день, и пошла в спальню собирать вещи. Дафну внезапно взволновало, что она увидит их обоих; ей ужасно не терпелось снова обнять Эндрю. Она вошла в спальню, сияя от радости, и Джастин посмотрел на нее со своей неотразимой мальчишеской усмешкой. – Ты, наверное, балдеешь от своего малыша, а, Дафф? – Ну, конечно. Она села на кровать рядом с ним, нежно коснулась губами его руки и сказала: – Я хотела бы, чтобы и ты с ним познакомился. – Да, как-нибудь. – И потом, после паузы: – А он умеет говорить? Дафна кивнула. – Да. Хотя и не всегда отчетливо. В глазах Джастина появилось выражение, которое ее обеспокоило, и она спросила: – Ты этого боишься? Я имею в виду – общения с глухим ребенком? – Не боюсь. Просто меня не очень интересуют дети, нормальные или ненормальные, все равно. – Он не ненормальный. Он глухой. – Это одно и то же. Дафне очень захотелось наброситься на него с кулаками, но она сдержалась. – Я хочу, чтобы он приехал сюда осенью, когда мы закончим фильм. Тогда ты с ним познакомишься. – Прекрасная идея. Почему он так сказал? Потому что это будет только через три месяца? Ей не нравилось его отношение к ее ребенку, но в Джастине было так много того, что ей нравилось... И она надеялась, что после знакомства с Эндрю его отношение изменится. Эндрю нельзя было не любить, хоть и глухого. – А что ты собираешься делать, пока меня не будет? Всем им надо было отдохнуть, особенно Джастину, и она посмотрела на него с ласковой улыбкой. – Не знаю. Я хотел съездить с тобой в Мексику. – Он коснулся ее бедра. – Тебя никак нельзя переубедить? Дафна улыбнулась. Джастин в самом деле не понимал, и она покачала головой. – Нет. И не пытайся. – Он, наверное, классный малыш? – Да. – Ладно, скажи ему, что я балдею от его мамули. – Скажу. Но она знала, что пока не будет говорить ему о Джастине. Эндрю бы этого не понял. Да и в глазах Эндрю она принадлежала только ему, всегда принадлежала и будет принадлежать. – Ты намерен остаться здесь, милый? – Не знаю. Может, смотаюсь на пару дней в Сан-Франциско повидаться с друзьями. – Тогда сообщи, где ты, чтобы я могла позвонить. В течение последних трех месяцев они не расставались ни на день, ни на час, и вдруг мысль, что она будет так далеко от Джастина, опечалила ее. – Я буду по вам скучать, сэр. – Я тоже по тебе буду скучать, Дафф. А потом он обнял ее, и они занимались любовью почти до рассвета. Перед отъездом в аэропорт ей удалось поспать всего несколько часов. Дафна поехала в аэропорт одна. Барбара была у Тома, и ей не имело смысла ехать, а Джастин сказал, что у него дела. И актеры, и персонал съемочной группы старались использовать каждый драгоценный час этих четырех дней. Она вылетела в десять и рассчитывала быть в Бостоне в семь часов вечера по местному времени. Самолет сел по расписанию, и Дафна вышла одной из первых, высматривая Мэтью. Сперва она его не заметила, но потом увидела, как он стоял в двадцати футах поодаль и сверлил своими темными глазами толпу. Их взгляды встретились, и Дафна ощутила, что сердце у нее почему-то слегка сжалось. За шесть коротких месяцев они подружились, преимущественно благодаря телефонным разговорам, но радость от встречи с Мэттом явилась для нее неожиданностью. Его глаза светились теплой улыбкой, он медленно подошел к ней. – Привет, Дафф. Как летелось? – Слишком долго. И, сама не зная почему, она вдруг обняла его. – Спасибо, что приехал, Мэтт. На мгновение оба смутились. – Ты классно выглядишь. Еще он заметил, что Дафна сильно похудела. Она тяжело работала, и это было видно, но в то же время она выглядела очень счастливой. В ее глазах была улыбка и еще что-то, что обеспокоило. Дафна как-то изменилась, она стала, пожалуй, еще более женственной, более сексапильной. И мысли Мэтта моментально вернулись к мужскому голосу, ответившему, когда он звонил. Идя за ее багажом, он пытался выбросить это из головы, но не мог. – А что ты там делала, помимо работы? Она похорошела, и ему почему-то очень хотелось знать причину этого. Глядя на Мэтта, Дафна улыбалась, понимая, как уединен он в своем Нью-Гемпшире и как всецело погружен в работу. О ней и Джастине было несколько заметок в газетах, но он, вероятно, не видел ни одной. Насколько она знала Мэтью, он не читал светских сплетен. Дафна снова улыбнулась, когда Мэтт появился с ее сумкой. – Ты что такой серьезный, Мэтт? – шутливо спросила она. Она не хотела говорить ему о Джастине. – Я просто рад тебя видеть, Дафф... Даже не знаю, что сказать... Взгляд Дафны мягко скользнул по его лицу, и она кивнула. – Расскажи мне об Эндрю. В его взгляде она почувствовала вопросы, но не хотела на них отвечать. Ее жизнь в Калифорнии и жизнь здесь, целиком подчиненная сыну, отличались в корне. Мир Джастина Уэйкфилда, казалось, был за десять тысяч миль отсюда, и до известной степени этот приезд воспринимался как возвращение домой. Она приехала домой одна и была рада этому. Когда они сели в машину и направились из аэропорта на север, Мэтью стал рассказывать ей о переменах в школе, двух новых сотрудниках, экскурсиях на природу и палаточном походе, который намечалось провести в июле. Дафна ужасно сожалела, что не сможет в нем участвовать. Сидя рядом с ним в машине, она вздохнула: – Знаешь, Мэтт, у меня такое ощущение, что я не была здесь целую вечность. Он хотел ей сказать, что воспринимает ее отсутствие так же, но посчитал это не совсем уместным. – Как ты думаешь, сколько еще продлится работа над фильмом? – Я бы сама хотела знать. Может, еще три месяца, а может, шесть. Пока все шло достаточно гладко. Но все мне говорят, что надо быть готовой к затяжкам. Говарду не нравится, когда они происходят, да и никому не нравится, но ничего не поделаешь, и мне кажется, что раньше или позже какие-то проблемы должны появиться. Во всяком случае, к Рождеству я наверняка вернусь. Мэтью кивнул, а в его глазах было разочарование. – Я к тому времени уже буду сидеть на чемоданах. Новый директор из Лондона должен заступить с первого января. – А ты не думаешь остаться, Мэтт? – спросила она грустно. – Нет. Говардская школа – это замечательное место, но я хочу вернуться в Нью-Йорк. – Он улыбнулся ей. – Думаю, я не создан для сельской жизни. Иногда мне кажется, что я здесь глупею. Дафна рассмеялась и посмотрела на лицо Мэтта. Это было такое сильное, красивое лицо, совсем не похожее на классическую красоту Джастина. У Мэтта была своя красота, в нем чувствовалось солидное, добротное качество – черта настоящего мужчины, а не идола. – Я тебя понимаю. Когда я жила здесь на протяжении года, мне даже не хватало нью-йоркской грязи и шума. Она подумала о Джоне, и ее взгляд затуманился. – Ладно, я скажу тебе честно. Мне недостает того, что можно предложить детям в Нью-Йорке. Музеев, балета... – Он понизил голос: – Моей сумасшедшей сестры. – Как она? – Марта? Прекрасно. Близняшкам на прошлой неделе исполнилось пятнадцать, и они обе получили в подарок по стереомагнитоле. Марта говорит, что теперь наконец по-настоящему благодарит судьбу, что глуха. Она только чувствует, как от музыки дрожит мебель, а Джек, ее муж, говорит, что дуреет. Дафна улыбнулась, сожалея, что с Эндрю у нее никогда не будет таких проблем. – Я все еще хочу тебя с ней познакомить, когда у тебя будет время. Они оба молча размышляли, когда такое знакомство могло бы произойти, и обоим в тот момент это показалось нереальным. Потом он рассказал Дафне, что миссис Куртис иногда навещает школу, на здоровье не жалуется и всегда спрашивает о Дафне. – Я хотела бы с ней повидаться, но у меня только четыре дня. Мэтт почувствовал, что его сердце снова упало. За разговором дорога показалась не такой длинной, и в начале девятого они приехали в школу. Дафна знала, что Эндрю уже спит, но ей хотелось увидеть его, просто чтобы взглянуть на его лицо, поцеловать в щеку, потрогать волосы. Она бросилась внутрь и взбежала по лестнице. Эндрю посапывал в своей кровати, и Дафна долго стояла в его комнате и смотрела на него. Только спустя некоторое время она заметила, что в дверях стоит Мэтт. Она улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать Эндрю в щеку. Эндрю пошевелился, но не проснулся. Дафна стала спускаться на первый этаж, а Мэтт шел сзади. – Он замечательно выглядит. Мне кажется, он вырос. – Так оно и есть. И ты должна посмотреть, как он катается на велосипеде, который ты ему прислала. Она улыбнулась и взглянула на Мэтта. – Я чувствую, что так много упускаю. – Это же ненадолго, Дафф... Их глаза встретились. Вдруг Джастин Уэйкфилд перестал быть реальностью. Он казался частью далекой мечты. Реальным был Мэтью, стоявший перед ней. Он пристально на нее посмотрел и, несмотря на все обещания, которые он себе давал, спросил: – Дафна, у тебя там кто-то есть, не так ли? Пока она думала, как ответить, он чувствовал, как бьется у него сердце. Дафна медленно кивнула. – Да. Есть. Ребенок в душе Мэтта хотел расплакаться, но его глаза ничего не выдали, кроме беспокойства за нее. – Я рад за тебя. Тебе это было нужно. – Да, наверное. Но ей хотелось сказать ему о своих опасениях насчет Джастина и Эндрю. Что, если Джастин не сможет принять глухого ребенка? Однако Дафна побоялась спрашивать. Ей это показалось неуместным. Затем она снова посмотрела в глаза Мэтью: – Это ни на чем здесь не отразится, Мэтт. Он размышлял, что бы это значило, но только кивнул и открыл дверь в маленькую гостиную, доставшуюся ему после отъезда миссис Куртис. – У тебя есть время выпить чашку кофе, или ты хочешь, чтобы я сейчас отвез тебя в гостиницу? – Нет. Мне не хочется спать. – Она с улыбкой взглянула на часы. – Для меня еще только семь. В Нью-Гемпшире было, правда, уже десять вечера, школа погрузилась в тишину и сон. – Я с удовольствием выпью с тобой кофе. Это здорово, что можно с тобой поговорить не по телефону. Мэтью улыбнулся Дафне, наливая кофе из постоянно кипевшей кофеварки и задаваясь вопросом, насколько серьезен ее калифорнийский роман и хороший ли ей попался человек. Во всяком случае, он на это очень надеялся. Он подал Дафне чашку кофе, и они сели. Мэтью продолжал искать в ее лице ответы на свои невысказанные вопросы. Дафна рассказала ему о съемках, об уже отснятых сценах и фрагментах, которые еще предстояло снять. – Я думаю, в следующем месяце мы поедем в Вайоминг. Для натурных съемок они выбрали Джексон-Хоул, место, которое Мэтью всегда мечтал увидеть. – Я тебе завидую, – произнес он с легкой улыбкой, протянув к огню свои длинные ноги. – Я слышал, что это очень красивое место. – Да, мне тоже говорили. – Но во время этого разговора она думала не о фильме и даже не о Джастине. Дафна подумала, что это, наверное, результат пребывания здесь. Рядом с Эндрю. Она чувствовала большое облегчение от мысли, что находится не за три тысячи миль, а прямо тут, под его спальней. А может, причина была вовсе не в Эндрю. Было странно и непонятно, как Мэтью занял место Джастина в её помыслах, но от общения с этим человеком к ней приходило чувство безопасности, благополучия, спокойствия и еще какая-то убаюкивающая теплота. Когда они так сидели у камина, Дафна забывала о напряжении, об усталости, она просто чувствовала себя спокойной и счастливой. – А как насчет тебя, Мэтт? Ты куда-нибудь вырвешься отсюда этим летом? – Может, с Мартой, Джеком и девочками съезжу на пару дней на озеро Джордж. Но я сомневаюсь, что смогу отсюда вырваться. – Он грустно улыбнулся ей, поправляя прядь черных волос. – Я даже не уверен, что мне этого хочется. Я всегда беспокоюсь, когда оставляю детей. Миссис Куртис говорит, что подменила бы меня на несколько дней, если я захочу уехать, но я не хочу ее обременять. – Но это же необходимо. Тебе тоже надо отдохнуть. Только теперь Дафна заметила, что глаза Мэтта были более усталыми, чем когда она уезжала, и появились свежие морщины, которых раньше не было. Он выглядел молодо, но в то же время производил впечатление ответственного и зрелого человека. Именно это ей в нем нравилось. Он не обладал безукоризненной, совершенной красотой Джастина, но иногда постоянное созерцание того утонченного лица становилось утомительным. Удивительно, как Джастину удавалось изо дня в день все время быть таким великолепным. Его внешность была словно пейзаж без дождя или снега, с непрерывно сияющим солнцем. – Трудно поверить, что ты здесь уже шесть месяцев, Мэтт. Но еще труднее было поверить во все то, что произошло в ее жизни за этот срок. Мэтью ласково улыбнулся: – Иногда мне кажется, что прошло целых шесть лет. Дафна тоже засмеялась: – У меня такое же чувство после четырнадцати часов съемок. – Как дела у Барбары? Они не были знакомы, но благодаря рассказам Дафны ему казалось, что знакомство состоялось. И Дафна рассказала ему о романе Барбары с Томом. – Она намерена выйти замуж и остаться там? Для тебя это было бы плохо. Он знал, как сильно Дафна зависела от Барбары в течение многих лет. – Я еще не знаю, насколько это серьезно. Но такую вероятность она тоже учитывала. И вдруг Мэтью спросил: – А как ты? Дафна не сразу поняла вопрос, а потом поняла, но не знала, что ответить. Она задумчиво посмотрела на него: – Не знаю, Мэтт. Сердце у него затрепетало, когда она это произнесла. – Я... это сложно объяснить. – Дафна не была до конца уверена в своих чувствах к Джастину. Конечно, она его любила, но все еще довольно плохо его знала. Даже при том, что они не расставались ни на час, она чувствовала, что он не раскрыл перед ней все свои двери, и, кроме того, существовал вопрос об его отношении к Эндрю. Дафна решилась рассказать Мэтту, надеясь, что он поможет разобраться в этой проблеме. – Я не уверена в нем, Мэтт. Он не особенно стремится к знакомству с Эндрю. – Дай ему время. Он знает, что Эндрю глухой? Дафна кивнула, все еще с задумчивым видом. – Как он к этому относится? – Плохо, но я думаю, что глухота Эндрю его пугает, и в итоге он просто делает вид, что Эндрю не существует, он забывает, как его зовут, где он живет... – Она замолчала, и Мэтью покачал головой. – Так не годится, Дафф. Эндрю слишком важен для тебя, чтобы мужчина твоей жизни мог не проявлять о нем заботы. Он хотел быть с ней честным и дать ей самый лучший совет. – Ты из-за этого решила, чтобы на сей раз Эндрю не прилетал, и прилетела сама? Отчасти. Еще я подумала, что для Эндрю это слишком дальнее путешествие ради трех или четырех дней. – Мэтт то же самое говорил ей по телефону. – Но, конечно, это и из-за Джастина. Мэтью опешил. Не может быть. Ну, конечно, все так и есть. Он почувствовал, что сердце у него упало, и переспросил ее: – Джастин? Дафна покраснела, неловко было признаться, что у нее роман с актером, исполняющим главную роль в ее фильме. Это звучало так по-голливудски, так банально и вместе с тем так нереально. Но тут все былоиначе, она это знала. Просто так случилось, что они встретились именно там и смогли ближе познакомиться благодаря фильму, а роман уже развился как результат... – Джастин Уэйкфилд. Ее голос был тихим, а в глазах отражалось пламя камина. – Понятно. Так вот в чем дело, Дафф. Мэтью протяжно, медленно, глубоко вздохнул. Ему это даже не приходило в голову. Он полагал, что речь идет о каком-то простом смертном, а не о кумире всех женщин. – Какой он? Дафна посмотрела на огонь и представила себе лицо Джастина, словно он был с ними в комнате. – Красивый, конечно. Очень красивый, умный, веселый и иногда очень добрый. – Она снова посмотрела на Мэтью, надо было говорить ему правду. – Еще он ужасно самолюбив, часто бывает эгоистичен и не думает о тех, кто его окружает. Ему сорок два года, но иногда он ведет себя как пятнадцатилетний. Не знаю, Мэтт, он прелестный человек, и временами я себя чувствую с ним очень счастливой... а порой это напоминает разговор с кем-то, кто тебя не слышит. Например, когда я заговариваю с ним об Эндрю, он словно отсутствует. Дафна время от времени искала утешения в разговорах о сыне. Это было то, о чем она часто думала, это была часть ее жизни, к которой Джастин не проявлял никакого интереса. – Он очень интересуется моей работой, которая для меня важна, беспокоится за нее, но в других случаях, – она покачала головой, – он как будто отсутствует. Иногда я задаю себе вопрос, может ли из этого быть толк. – Она тихо вздохнула. – И должна признаться, порой у меня такой уверенности нет. Интересно, что он и Барбара на дух не переносят друг друга. Она в нем видит черты, которых я не вижу: холодность, пустоту, расчет, но, по-моему, она его не понимает. Она его не знает так хорошо, как я. Он не расчетлив, хотя временами не слишком внимателен. Но человека за это нельзя ненавидеть. – Нет, но жить с таким может быть очень тяжело. – Да, это верно. Дафна была с этим согласна. Потом она мечтательно улыбнулась, глядя в огонь: – Но иногда я с ним счастлива. Он избавляет меня от всех этих ужасных воспоминаний, от боли и одиночества, с которыми я так долго жила. – Ну тогда, может, игра стоит свеч? – На данный момент, мне кажется, да. Он кивнул и снова вздохнул: – Я так и подумал, что у тебя кто-то есть, когда он снял трубку. Это случилось всего раз, но у Мэтью было предчувствие, да и она не была женщиной, которая искала бы приключения на одну ночь. Раз он взял трубку, значит, он там жил, и она не боялась, что об этом все узнают. – Я не думал, что это он. – Джастин? Мэтью кивнул, и Дафна улыбнулась: – К счастью, журналисты не стали тратить на нас много времени, поскольку это рядовой случай, не более. Но мы никуда и не ходим, потому что много работаем, однако когда-нибудь они заметят, что мы живем вместе, и это будет во всех газетах. Видно было, что такая перспектива ее не радовала. – И что ты думаешь об этом? – Я не особенно рада, и мои читатели будут шокированы, но я думаю, что мне раньше или позже придется это испытать. Они оба подумали о «Шоу Конроя», в котором Дафна принимала участие несколько месяцев назад, и их взгляды встретились. – Мне вообще-то не хочется об этом говорить, пока я не уверена. Не уверена в чем? Мэтью боялся ответа на этот вопрос. Может, она выйдет за Джастина и решит остаться в Калифорнии. Но он был обязан сказать ей, что об этом думает – ради Эндрю, в конце концов, такова была его роль в ее жизни, несмотря на дружбу, которая установилась между ними за прошедшие шесть месяцев. – Если ты решишь там остаться, в Лос-Анджелесе есть для Эндрю замечательная школа. Мэтью стал рассказывать ей об этом, и она слушала, но скоро ее стало клонить в сон. Она встала. – Об этом пока речь не идет, но если зайдет, ты мне расскажешь о школе. Он подумал, что все-таки огорчил ее. Дафна не была готова думать о замужестве с Джастином, да и он тоже не обмолвился об этом, но раньше или позже вопрос бы встал. В конце концов ей бы пришлось решить, возвращаться ли в Нью-Йорк или остаться в Лос-Анджелесе. – Сейчас мне надо закончить фильм. Потом я буду думать о своей личной жизни. – Поступай так, как будет лучше для тебя, Дафф. И для Эндрю. У Мэтью был грустный и очень добрый голос, и Дафна вдруг задумалась. Раз или два она звонила и не застала его. Она гадала, не появилась ли в его жизни женщина, но спрашивать об этом ей показалось неуместным. Мэтью отвез ее на машине в гостиницу, где ей были оставлены ключи с приветственной запиской. – Я рад, что ты прилетела повидаться с Эндрю, – сказал он на прощание с задумчивой улыбкой в глазах. – Я тоже, Мэтт. Они пожелали друг другу спокойной ночи и расстались, и, поднимаясь по лестнице в свою комнату, Дафна думала об их разговоре и задавалась вопросом, почему вдруг ее мысли о Джастине стали такими безрадостными. Почему бы ему не стать похожим на Мэтта? Почему бы не говорить с ней об Эндрю? Но, может, со временем он изменится. В конце концов, для Мэтта это была работа – заботиться о таких детях, как Эндрю. Но Дафна, конечно, знала, что для него это было больше, чем только работа. Гораздо, гораздо больше. (обратно)Глава 31
Время свидания с Эндрю пролетело слишком быстро, он был вне себя от восторга, что она приехала, демонстрировал ей, как катается на велосипеде, показывал свой огород, познакомил со своими новыми друзьями и хвастался перед ними ее фильмом. Стояли чудесные июньские дни, и Дафна чувствовала, что жила только потому, что была рядом с сыном. Казалось, что за прошедшие три месяца то, что раньше наполняло ее душу, куда-то исчезло, и она этого не заметила. В Калифорнии она была так увлечена Джастином и работой над фильмом. Но теперь она еще раз убедилась, как необходим ей сын и как она важна для него. Эндрю снова и снова спрашивал ее, когда сможет приехать в Калифорнию, когда она вернется домой, когда они смогут быть вместе. Он только что пошел умыться перед сном, а Дафна наблюдала закат солнца, сидя в старомодном, удобном кресле-качалке. Мэтью подошел к ней. – Может, побыть с тобой, Дафф? Она выглядела такой спокойной и задумчивой, что ему не хотелось мешать ее размышлениям. Но, увидев ее, Мэтью не смог удержаться, чтобы не подойти. – Конечно, Мэтт. – Она с улыбкой указала на место Рядом с собой. – Эндрю только что ушел мыться. – Я знаю. Я встретил его на лестнице, и он мне сказал, что ты здесь. Они обменялись улыбками. Солнце, объятое пламенем, садилось за гору. – Для Эндрю очень хорошо было тебя повидать. Он в тебе опять очень нуждается. Он начинает уделять все больше внимания внешнему миру, а ты для него – важная часть этого мира. – Мне пребывание здесь тоже пошло на пользу. Теперь она это сознавала. Из ее глаз исчезла тревога, а лицо было спокойным и счастливым. В кресле-качалке Дафна выглядела как девочка – в джинсах и старой спортивной блузе; ее длинные светлые волосы веером спадали на спину и были схвачены на голове светло-голубой лентой под цвет глаз. Но все же Мэтью разглядел в ее глазах и беспокойство, беспокойство за Эндрю. – Мне кажется, что я должна быть здесь, с ним, Мэтт. – Сейчас ты не можешь. Он это понимает. – Разве? Я не уверена, что сама все понимаю. Она замолчала, Мэтт наблюдал за ней. – Ты сегодня выглядишь совсем по-детски, – ласково сказал он. – Никому и в голову бы не пришло, что ты популярная писательница. Или возлюбленная киногероя – объекта воздыханий всех женщин. Она радостно посмотрела на Мэтью. – Здесь я могу быть сама собой. И мамой Эндрю. Это была важная грань ее жизни, и они оба это знали. – Я постараюсь скоро снова прилететь. – Когда? – Либо непосредственно до, или сразу после Вайоминга, смотря что скажет Говард. – Надеюсь, что это будет до. И тут ему пришлось быть с ней откровенным, каким он, впрочем, почти всегда и был: – Не столько из-за Эндрю, сколько из-за себя самого. Дафна посмотрела ему в глаза и почувствовала, как глубоко в ней что-то шевельнулось. Она никогда не была вполне уверена в своих чувствах к Мэтту да по-настоящему и не думала над этим. Так было очень удобно. Но странно было, как важен он стал для нее, как необходимо ей было знать, что он здесь, что она может с ним поговорить, если нужно. Она теперь не могла представить себе жизни без него, особенно имея в виду Эндрю. Но и себя тоже. – Ты для меня много значишь, Дафна. – Его голос был хрипловат, Дафна кивнула, глядя в его добрые карие глаза. – Ты для меня тоже много значишь. – Это довольно нелепо, не так ли? Мы на самом деле были друг с другом очень мало. Несколько разговоров у камина здесь, и в школе, и много часов по телефону... – Его голос стих. – Может, этого достаточно... Мне кажется, что я тебя знаю лучше, чем кто-либо. Это и было удивительно. Она в самом деле знала его. И он сознавал, что так же знает и ее, такой, какой она была на самом деле, с ее опасениями и страхами, а также с ее победами и силой характера. Она открылась перед ним больше, чем перед кем-либо другим, даже Джастином. Джастин видел ее веселую, броскую сторону, надежную, сильную часть ее бытия, но он не знал того, что было известно Мэтью, и она не была уверена, стоит ли его в это посвящать. Но она знала, что Мэтью она может доверить все свои секреты и всю свою душу. И тем не менее она жила именно с Джастином, именно с Джастином делила гигантское ложе в Бель-Эйр. – Может, когда-нибудь, Дафф... – Мэтью хотел что-то сказать, и Дафна посмотрела на него с крайним удивлением, почти с испугом. Тогда он передумал, решил, что еще не время. – Мы сможем больше времени проводить вместе. Это прозвучало нейтрально, хотя в тот момент все имело свой смысл. Они оба ступили на зыбкую почву, и Дафна это почувствовала. Она смотрела на него, а он наклонился и поцеловал ее в щеку. – Думай о себе в Калифорнии, Дафна. Будь счастлива. Надеюсь, что у тебя с твоим другом все будет хорошо. А если я тебе понадоблюсь, я всегда здесь. – Ты себе не представляешь, как это меня успокаивает, – она говорила это вполне серьезно. – Я всегда знаю, что, если ты мне понадобишься, я могу позвонить. – И затем она улыбнулась: – И если я тебе буду нужна, ты тоже звони. – А что твой друг об этом думает? – Его глаза были лишь слегка обеспокоены. – Он один раз съехидничал по этому поводу. – Дафна рассмеялась, теперь это казалось нелепым. – Он обвинил нас в том, что мы любовники, но это его вроде бы не слишком огорчило. Он вел, как бы это сказать... – Дафна подыскивала подходящие слова, ей не хотелось быть злой к Джастину, – свободный образ жизни, пока не познакомился со мной. Я думаю, что прошлое его не особенно беспокоит. Мэтью почувствовал нечто похожее на досаду. – Так что звони мне, Мэтт, без стеснения. – Ладно. Он улыбнулся, чувствуя, что его сердце разрывается. Потом они зашли внутрь, и Дафна поднялась наверх, к Эндрю. И когда она через час снова спустилась, Мэтью увидел у нее на глазах слезы. – Знаешь, как тяжело снова расставаться. – Она храбро улыбнулась ему, а он обнял ее за плечи. – Я скоро опять приеду. – Мы на это надеемся. И знай, что с Эндрю все будет в порядке. Она кивнула, а чуть позже он отвез ее в гостиницу переодеться и собрать вещи. Она настаивала, что возьмет такси до Бостона, но Мэтью и слышать об этом не хотел. Он отвез ее в аэропорт, где они долго стояли, глядя друг другу в глаза. – Мэтт, позаботься о моем малыше, пока меня нет. Дафна прошептала это, стараясь не расплакаться, и тогда он отбросил предосторожности и привлек ее к себе, и долго не выпускал из объятий, как бы стараясь поделиться с ней силой и дружескими чувствами. Она ничего не сказала Мэтту на прощание и, только когда поднялась по трапу, обернулась и жестами сказала ему: «Я тебя люблю». Мэтью широко улыбнулся и ответил ей жестами то же, а потом она зашла в самолет и полетела обратно в Лос-Анджелес к Джастину. И, возвращаясь к машине, Мэтью сказал себе, что определенно сошел с ума. Ее жизнь слишком отличалась от его жизни, и так будет всегда. Он был обычным учителем глухих детей, а она Дафной Филдс. Он подумал о Джастине Уэйкфилде, ненавидя его за то, каким он был, и за то, каким не был, а потом со вздохом сел в машину, поехал обратно и всю дорогу думал о Дафне. (обратно)Глава 32
Самолет совершил посадку в Лос-Анджелесе в час тридцать ночи местного времени, и Дафна, вздрогнув, проснулась. Для нее было уже четыре тридцать. На душе у нее было одиноко, ей снились Мэтт и Эндрю, будто она с ними играла в саду Говардской школы. Теперь же Дафна осознала, как опять далеко она от них. На мгновение она почувствовала ту же невыносимую тоску, памятную по первому расставанию с Эндрю в Говарде. Но затем Дафна заставила себя сосредоточиться на Джастине. Необходимо было вернуться к действительности и подумать о будущем, иначе нельзя. Но воспоминания об Эндрю и Мэтью, казалось, не хотели ее покидать. Они были все еще слишком свежими для Дафны, и она не была готова с ними расстаться. Дафна в самом деле возвращалась в Лос-Анджелес без всякого желания. И все же она напомнила себе, что вернулась к Джастину и всему тому, что ощущала в его объятиях. Как ни странно, Дафне казалось, что она отсутствовала не три дня, а три месяца. Две ее жизни были настолько диаметрально противоположны, что трудно было себе представить возможность в течение недели вести обе. И вдруг она подумала о Джастине как о чужом. Она не заказывала лимузин к самолету и сказала Барбаре, чтобы та не беспокоилась, что она доберется домой сама. Она в течение трех дней не могла связаться с Джастином, потому что не знала, у кого он гостил в Сан-Франциско. Но пока Дафна ехала на такси домой, она подумала, что через несколько часов они все снова соберутся вместе. Было два часа ночи, а на студии надо было появиться в пять тридцать Входя в дверь, она решила, что не имеет смысла даже пытаться уснуть на два часа. Придется довольствоваться тем, что удалось подремать в самолете. Дом был темным, за исключением дежурного освещения, которое автоматически включалось каждую ночь, чтобы дом казался жилым, даже если в нем никого не было, и Дафна вошла внутрь, думая, как странно все это выглядит. Казалось, что это чей-то чужой дом, не ее, и она опять осознала, как успела отвыкнуть от этого. Она вошла в гостиную и села, глядя на бассейн, поблескивавший в темноте, и прикидывала, когда придет Джастин. А потом она медленно вышла наружу, собираясь поплавать. На краю бассейна она увидела хорошего фасона бело-голубой верх от бикини, два пустых стакана и бутылку от шампанского. Она задавала себе вопрос, кто мог оставить их там, пользовались ли бассейном в ее отсутствие Барбара и Том, но у Тома был свой бассейн, а подняв лифчик, она увидела, что он был бы явно велик Барбаре. Она подержала его в руке, а тем временем сердце у нее стало гулко колотиться. Но Дафна покачала головой. Этого не могло быть. Он не стал бы это делать прямо здесь. Она положила лифчик на стул, стараясь ни о чем не думать, а стаканы и бутылку понесла в кухню и там нашла белую кружевную блузку, брошенную на спинку одного из кухонных стульев. Она иронически улыбнулась про себя, вспомнив сказку о трех медведях: «Кто купался в моем бассейне?.. Кто спал в моей постели?..» Дафна задумчиво вошла в спальню и нашла его там, это золотое божество, развалившееся на их кровати, обнаженное и прекрасное. Ему нельзя было дать и половины его возраста, и она опять с восхищением смотрела на него, а он даже не пошевелился. Может, накануне у него была вечеринка, и он слишком устал, чтобы убирать ее последствия. Дафна внезапно почувствовала себя виноватой за то, что подумала о нем, и задала себе вопрос, не явились ли ее смешанные чувства к Мэтью причиной плохих мыслей о Джастине. Но это было не так. Она любила Джастина, золотого бога. Снимая со вздохом дорожную одежду, она ощутила непреодолимое влечение к нему. Она прилегла на кровать рядом с ним, но не могла уснуть и не хотела его будить. Наконец в четыре она встала и поставила кофе, а еще через полчаса приехала Барбара. – Добро пожаловать. – Она обняла Дафну с сердечной улыбкой. – Как наш малыш? – Совершенно великолепно. Видела бы ты, как он ездит на велосипеде, вырос и шлет тебе привет. – Дафна на мгновение погрустнела, садясь на стул, на котором все еще висела кружевная блузка. – Так тяжело было с ним расставаться, Барб. Если бы мы не работали так напряженно, он мог бы прилететь сюда погостить. И в то же время я знаю, что, если буду работать как проклятая, я смогу скорее вернуться в Нью-Йорк. Это какой-то заколдованный круг, правда? Барбара кивнула, она понимала чувства Дафны. – Может, до или после Вайоминга, Дафф? – Я то же самое сказала Мэтту. – Как он? Барбара посмотрела ей в глаза, но ничего нового там не было: доброта, привязанность, интерес. Она все еще была влюблена в своего античного бога, к большому сожалению Барбары. – У него все хорошо. Как всегда. Она больше ничего не сказала, и Барбара налила им обеим кофе, а когда Дафна поднялась, она взглянула на стул. – Это твоя? – Глаза Барбары вдруг стали зловещими. – Нет, видно, к Джастину приходили друзья поплавать. – Они молчали, и на кухне воцарилась тишина. – Вы с Томом заглядывали сюда? Барбара покачала головой: – Я заходила каждый день за почтой. Вчера пришли два чека от Айрис, а остальное были счета и всякая ерунда. – Новый контракт еще не прислали? – Дафна взялась писать для «Харбора» новую книгу. – Нет. Они сказали, что пришлют не раньше следующей недели. – Торопиться некуда, я все равно не могу за это приняться, пока мы не закончим фильм. Барбара снова кивнула и в сотый раз сдержалась. Том велел ей держать язык за зубами, когда Дафна вернется, но всякий раз, когда Барбара думала о Джастине, в ней все переворачивалось, и она сказала Тому, что ничем не обязана этому сукину сыну. – А почему ты спросила, бывали ли мы здесь? Барбара отвела глаза и снова наполнила Дафне чашку. – Просто из любопытства. Кто-то пользовался бассейном. Я нашла бокалы и пустую бутылку от шампанского. Она не сказала о лифчике. – Может, тебе следует спросить об этом Джастина? Голос Барбары был мягок сверх обыкновенного, и Дафна взглянула на нее. Она была слишком усталой, чтобы отгадывать загадки. – Скажи, мне следует о чем-то знать? Ее сердце снова стало гулко биться. Речь шла явно не о Принцессе Златовласке. Но Барбара вообще ничего не говорила и не сводила глаз с подруги. – Я не знаю. – Он был здесь? Я думала, что он уехал. – Мне кажется, что он оставался. Но она говорила слишком неопределенно. Уж Барбара-то наверняка знала бы, оставался ли он в Лос-Анджелесе, тем более что она каждый день забирала почту. – Барб... Она жестом остановила ее, снова борясь с напором искавшей выход ярости. – Не спрашивай меня, Дафф. – А потом процедила сквозь зубы: – Спроси его. – Но о чем именно я должна спросить? Барбара больше не могла это выносить. Она подняла блузку. – Об этом... и про лифчик у бассейна... – значит, Барбара его тоже видела, – и про трусы в прихожей... Она собиралась продолжать, но Дафна поднялась, чувствуя дрожь в коленях. – Хватит! – Разве? Дафна, ну сколько ты собираешься мириться со всеми его гадостями? Я не хотела тебе ничего говорить. Том сказал, что это не мое дело, но я не согласна, – ее глаза наполнились слезами, – потому что я тебя люблю, черт возьми. Ты моя лучшая в жизни подруга. Она на мгновение отвернулась от Дафны, а когда опять на нее посмотрела, ее глаза были мрачными: – Дафна, с ним здесь была женщина. В кухне воцарилась тишина, которая казалась бесконечной, Дафна слушала, как гулко бьется ее сердце, как тикают часы, а потом ее взгляд встретился со взглядом Барбары, в нем было выражение, которого Барбара никогда раньше не видела. – Я займусь этим, но я хочу, чтобы ясно было одно. Ты хорошо сделала, что сказала мне, Барб. И я понимаю твои чувства. Но это вопрос наших с Джастином отношений. Я разберусь с этим сама. И что бы ни случилось, я не хочу больше это с тобой обсуждать. Ты поняла? – Да. Извини, Дафф... Слезы скатились у Барбары по щекам, и Дафна подошла к ней и обняла. – Ничего, Барб. Почему бы тебе не поехать на студию на своей машине? Было почти пять часов, а Том разрешил ей пользоваться одной из своих машин. – Я скоро тоже туда приеду. И если я опоздаю, скажи им, что я только что прилетела с Восточного побережья. – Мне за тебя не беспокоиться? – Барбара вытерла глаза, напуганная внезапным спокойствием Дафны. – Не беспокойся. Она многозначительно посмотрела на Барбару, а затем вышла из кухни и, войдя в спальню, закрыла за собой дверь. Она подошла к Джастину и дрожащей рукой тронула его за плечо. Он шевельнулся, приоткрыл глаза, посмотрел на часы и наконец понял, где находится. – Привет, киска. Ты приехала? – Да. Дафна посмотрела на него, и в ее голосе и лице не было ничего дружелюбного. Она села на стул напротив кровати, потому что больше не могла стоять, и пристально посмотрела на него. – Что здесь происходило, пока меня не было? Она задала вопрос без обиняков, и Джастин сел, немного взъерошенный после сна, с невинными и удивленными глазами. – Что ты имеешь в виду? Как, кстати, твой малыш? – Прекрасно. Но в данный момент меня больше интересуешь ты. Чем ты тут занимался? – Ничем. А что? Он потянулся, зевнул и призывно улыбнулся, нагнувшись и касаясь ее голой ноги. – Я скучал по тебе, киска. – Неужели? А как насчет женщины, которая здесь жила, пока меня не было? Могу сказать, только одно: у нее большие титьки. Ее лифчик налез бы мне на голову. Но хотя слова Дафны и звучали забавно, ей отнюдь не было весело, ее взгляд был тяжелым как камень, и она оттолкнула его руки со своей ноги. – Ко мне приезжали друзья, вот и все. Что тут такого? Она вдруг подумала, не ошиблась ли Барбара. Ей было бы ужасно стыдно, если бы оказалось, что он говорит правду и обвинения незаслуженны. В ее глазах на мгновение появилась нерешительность, а потом она увидела под кроватью использованный презерватив. Она наклонилась, взяла его и подняла высоко вверх, словно ценный трофей. – А что это? – Понятия не имею. Может, кто-нибудь здесь спал? – Ты хочешь сказать, что это не твой? Она не отрываясь смотрела ему в глаза. – О Господи! Джастин встал во всем своем великолепии и провел рукой по своей золотистой шевелюре. – Что с тобой? Я был здесь четыре дня один, ко мне только приходили друзья. Что тут такого, Дафф? – Его глаза своенравно сверкнули. – Мне что, без тебя и бассейном пользоваться нельзя? Другого способа все выяснить не оставалось. – Барбара сказала мне, что с тобой кто-то жил. При этих ее словах он вздрогнул, он не знал, что Барбара здесь появлялась. – Вот сучка! Откуда она все знает? Ее же здесь не было. – Она ежедневно забирала почту. – Да? – Он побледнел. – О Господи! Он снова сел на кровать и закрыл лицо руками. Сначала он молчал, а потом посмотрел Дафне в глаза: – Ну, ладно, ладно. Я немного побезобразничал. Со мной это иногда бывает после трудной работы. Это для меня не имеет значения, Дафф... ради Бога... ты ведь знаешь, что у меня за работа. От нее дуреешь. Но эти слова были неубедительны, и Джастин это знал. Что он мог ей сказать? – Да, конечно. Дуреешь так, что спишь с кем-то в моем доме, в моей постели. – На ее глазах выступили слезы. – И ты считаешь, что это нормально? Она чувствовала себя обманутой и оскорбленной. Прежде ей приходилось испытывать горечь утрат, но это – никогда... бюстгальтеры рядом с бассейном... пятна на диване... презервативы под кроватью и все за каких-то три несчастных дня. – Что с тобой, черт подери? Она встала и зашагала по комнате. – Ты что, не можешь три дня потерпеть? Я тебе только для этого нужна, что ли? Очень удобно, всегда под рукой, а если меня нет, так можно и с другой переспать? Она стояла перед ним, ее глаза гневно сверкали. – Извини, Дафф... Я не хотел... – Как ты мог? – Она стала всхлипывать. – Как ты мог?.. Дафна не находила слов, она кинулась на кровать, уткнулась лицом в подушку и зарыдала, а он ласково гладил ее по спине и по голове. Она хотела послать его к черту, но на это не хватало сил. Дафна не могла поверить, что он сделал такое, и вдобавок у нее в доме, позволив ей все это обнаружить. Это не было мимолетное приключение где-нибудь в баре, эту девицу он привел прямо к ней в дом, к ней в постель. Такого оскорбления она не могла вынести. И очень горько было узнать его с этой стороны. – Ох, Дафна, кисочка... пожалуйста... Я был пьян, нанюхался кокаина. Я просто забылся. Я же говорил тебе, чтобы ты не уезжала. Я хотел поехать с тобой в Мексику, но ты настаивала, что полетишь на восток повидать своего ребенка. Мне это было непонятно, я... Он тоже стал плакать и осторожно перевернул ее лицом к себе. Дафна чувствовала себя так, словно все ее тело растворилось в постели. У нее не было сил сопротивляться, ей казалось, что она почти умерла. – Я так сильно люблю тебя. Это все не важно. – Джастин вытер слезы. – Я забылся. Этого больше не случится. Клянусь тебе. Но ее глаза говорили, что она не верит ни одному его слову, слезы лились по ее лицу, и она молчала. – Дафна... – Он положил голову на ее стройные бедра. – О Господи, деточка... пожалуйста... Я не хочу потерять тебя... – Надо было об этом думать, до того как твоя подружка оставила свой лифчик у моего бассейна. Ее голос был каким-то отрешенным, она медленно села, чувствуя себя тысячелетней старухой, но все же не испытывая к нему ненависти. Дафна была слишком уязвлена, чтобы чувствовать злобу. Только боль. – Ты так себя всегда ведешь во время съемок? Или он так себя вел и в обычной жизни? Она задавала себе этот приводивший ее в отчаяние вопрос. – Съемки были очень напряженные. Ты не знаешь, Дафф, чего это мне стоило... как безумно я хотел, чтобы тебе понравилось... чтобы твой фильм стал лучшим из лучших... Ах, Дафна... Его глаза были такими грустными, словно умер его лучший друг. Факт, что он собственноручно убил ее, казалось, не доходил до него. – Деточка, а что если мы начнем все сначала? – Я не знаю. Ее взгляд наткнулся на презерватив, который она швырнула на кровать. Джастин взял его и вынес в туалет... Вернувшись, он посмотрел на Дафну. – Может, ты никогда мне не простишь. Но клянусь, я больше никогда так не поступлю. – Как мне в это поверить? Я не могу не слезать с тебя до конца твоей жизни. Она это произнесла таким усталым и печальным голосом, а он улыбнулся впервые с тех пор, как увидел ее в комнате. – Очень жаль, я бы именно этого хотел. – Я хочу ездить навещать своего сына. А что тогда будет? Я должна три дня беспокоиться, что, пока меня нет, ты опять что-то вытворяешь? Внезапно ею овладело неосознанное, невыразимое чувство беспредельного одиночества. Кем, в конце концов, он был? И что она для него значила? Любил ли он ее вообще? Теперь в это трудно было поверить. – Если хочешь, я поеду с тобой. Но она внезапно усомнилась, что хотела бы этого. Она хотела бы познакомить его с Эндрю, но в Нью-Гемпшире был не только он. Там был еще Мэтт. И внезапно ей не захотелось, чтобы Джастин был частью этой жизни, особенно теперь. Она вдруг перестала ему доверять. А без этого нельзя было знакомить с ним Эндрю. – Не знаю. Я не знаю, чего хочу именно сейчас. Я думаю, что тебе следовало бы покинуть этот дом. – Но она знала, что в этом случае это будет уже необратимо. – Давай пока не будем. Пожалуйста, Дафна. Предоставь мне шанс. Он напоминал маленького мальчика, который клянчит, чтобы ему вернули его привилегии, но тут дело было гораздо серьезнее. – Ты мне нужна. – Почему? Странно было слышать это от него, она думала, что это ей нужен он. – Почему я, а не еще кто-нибудь, вроде твоей подруги с большими титьками? – Ты знаешь, кто она? Двадцатидвухлетняя официантка из Огайо. Вот и все. Она не ты. Ты единственная. Но Дафна прищурила глаза. – А это не та девушка, с которой ты раньше встречался? Джастин застыл в нерешительности, а потом кивнул и опять уронил голову на руки. – Да. Она слышала, что у нас перерыв в съемках, и позвонила. – Сюда? А откуда она знала, где ты? Вопрос посеял в его сердце страх, его поймали. Он ей сообщал раньше, где живет, и сам ей звонил. – Ну, ладно, раз ты такая сообразительная, я ей звонил. – Когда? После того как я уехала или до того? – Дафна встала с кровати и смотрела на него в упор. – Скажи прямо, что с тобой происходило? – Да ничего, черт подери! Я последние три месяца был с тобой день и ночь. Ты знаешь, что я ни с кем не виделся. Как бы я мог? Когда? Это была правда. – Ты говорил мне, что она актриса. Это было не самое главное, но теперь все стало важным. – Ну да. Она сейчас без работы, поэтому и подрабатывает официанткой. Дафна, ей-богу, она ничего собой не представляет, просто ребенок. Ты стоишь пятидесяти тысяч таких, как она, или подобных ей. Я это знаю. Но я же человек. Я иногда делаю глупости. Да, было, признаюсь, я ужасно сожалею, больше такого не повторится. Что мне еще сказать? Как, по-твоему, я еще должен искупить свой грех? Кастрироваться? – Это идея. Дафна снова села в кресло и огляделась. Ей вдруг стала ненавистна эта комната, весь этот дом. Он его осквернил, пока ее не было. Она снова перевела взгляд на него: – Не знаю, смогу ли я тебе после этого вообще верить. Он сел на кровать, стараясь говорить спокойно: – Дафна, любая пара проходит это. На том или ином этапе все свихиваются. Может, и с тобой это однажды произойдет. Все мы люди, и есть моменты, когда мы слабеем. Может, лучше пережить это сейчас, когда мы можем зашить раны в нашем сердце и сделать его только крепче. Пережитое пойдет нам на пользу, если ты это позволишь. Дай мне шанс. Обещаю тебе, больше этого не случится. – Как же мне в это поверить? – Я докажу тебе. И со временем ты опять будешь доверять мне. Я знаю, что ты чувствуешь. Но это не должно означать конец. Он протянул руку и ласково коснулся пальцами ее щеки. Она заколебалась всего на долю секунды, но он это почувствовал, вскочил и обнял ее. – Я люблю тебя, Дафф, сильнее, чем ты думаешь. Я хочу на тебе когда-нибудь жениться. Для него это был последний аргумент, но Дафна по-прежнему была мрачной. – Начинать сначала – это ужасно долгий путь. У нее этого никогда не было ни с Джеффом, ни с Джоном. Может, она была права, что пряталась за свои стены. Джастин угадал ее мысли. – Ты не должна вести какую-то полужизнь. Нельзя всю жизнь просто существовать, Дафф. Ты должна жить со всеми нами, огорчаться, ошибаться, исправлять ошибки и снова их совершать. А так ты только получеловек. Ты недостойна этого, сожалею. Я сожалею больше, чем ты можешь себе представить. – Я тоже. Но она уже не проявляла того неистовства, что прежде. – Клянусь тебе, ты не пожалеешь. Дафна не ответила. – Я тебя люблю. Что я могу еще сказать? Сказано было не так уж много. За минувшие полтора часа знал, что любит ее, что был дураком, что когда-нибудь женится на ней. Об этом она услышала впервые и теперь посмотрела на него все еще с тысячей вопросов в глазах. – Ты серьезно говорил насчет женитьбы? – Да. Я никому этого раньше не говорил. Но я не встречал никого, похожего на тебя. Его глаза были так добры, а ее сердце все еще словно было разорвано. – Ты не знаком с моим сыном. Это было вне контекста, но не совсем. – Познакомлюсь. Может, в следующий раз я полечу с тобой на восток. Дафна не ответила, и Джастин смотрел на нее. Ему не хотелось ей напоминать, что они больше чем на час опаздывают на работу. Джастин знал, каким он был полоумным негодяем, и он также знал, что прежде всего надо уладить отношения с ней. Он не хотел давать ей время на раздумья. – У нас еще вся жизнь впереди, моя любимая. Ты предоставишь мне еще один шанс? Ее глаза изучали его, но она молчала, а он наклонился и нежно поцеловал ее в губы, как раньше. – Я тебя люблю, Дафф. Всем сердцем. И тогда у Дафны снова появились слезы, она крепко обняла его, стараясь не думать о том, что он сделал, пока ее не было. Джастин обнимал ее, рыдающую, утешал, успокаивал и гладил по волосам. Когда она наконец перестала плакать, он знал, что сумел отвоевать ее. Дафна не могла выразить своих чувств, но он знал, что через некоторое время она простит его за содеянное, и тихо, облегченно про себя вздохнул, а потом встал и мягко произнес: – Мне очень жаль, киска, но нам надо на работу. Дафна издала глухой стон, она совсем об этом забыла. Но знала, что он был прав. – Который час? – Шесть пятнадцать. Дафна поморщилась. – Говарда кондрашка хватит. – Ага. – Джастин наконец улыбнулся. – Но поскольку он его уже хватил, пусть хоть повод будет стоящий. – И затем, не говоря больше ни слова, он снова уложил ее на кровать... Дафна думала протестовать, ей этого не хотелось после того, что он сделал... не сейчас... не сразу... Джастин, его мастерство были сильнее ее намерений, и через мгновение он погрузился в нее, она издала стон желания и радости и поняла, что снова принадлежит ему. «Возможно, он был прав, – говорила она себе потом, – видимо, всем приходится это испытать. Может, это нас и закалит». (обратно)Глава 33
Когда в восемь пятнадцать Джастин и Дафна появились в павильоне, Говард был близок к апоплексическому удару. Он повернулся и уставился на них, не веря своим глазам. – Не может быть, не может быть! – Его голос поднялся до крещендо, и Дафна съежилась. Джастин же был невозмутим. – Что с вами обоими случилось? Вы что, свои проклятые задницы никак не могли оторвать от постели, чтобы прийти на работу? А все остальные что, не люди? На три часа опоздали в павильон и вышагивают так, как будто они пришли чайку попить! Идите вы ко всем чертям! Он схватил экземпляр сценария и швырнул его. Между тем Джастин ушел переодеться, а Дафна лихорадочно искала глазами Барбару. – Ты в порядке? Барбара села рядом с ней, глядя на ее осунувшееся лицо опустошенные глаза, но Дафна отвернулась от ее пристально взгляда и кивнула. Даже теперь ей приходилось сдерживать слезы. То ли от бессонной ночи, то ли от переживаний она была измученной. – Я в порядке. – Она посмотрела на свою подругу с усталой улыбкой. – Все в порядке. Или по крайней мере к тому шло. Барбара поняла, что Джастин выкрутился. – Хочешь чашку кофе? – Да, если ты уверена, что Говард не подсыплет в мою чашку мышьяку. Барбара улыбнулась, все еще глядя на нее. Она ненавидела печаль на лице Дафны и ненавидела Джастина за то, что он был причиной этой печали. – Не расстраивайся, Дафна. Половина группы сегодня опоздала, поэтому он так бесится. Очевидно, это всегда занимает пару дней, пока все наладится после перерыва. – Если не больше. – Впервые после своего прилета Дафна улыбнулась. И это было единственным намеком на беспорядок, обнаруженный ею в доме. Барбара принесла кофе, и Дафна стала постепенно оживать, но из-за ночного перелета, недосыпания и травмы, нанесенной Джастином, она весь день чувствовала себя не в своей тарелке. В тот день они закончили в шесть часов, Джастин отвез ее домой и уложил в постель. Он сразу принес ей чашку чая и ужин на подносе. Это напоминало обслуживание инвалида, и Дафна знала, почему он так делал, но она вынуждена была признать, что возражать ей вовсе не хотелось. Потом он был на кухне и убирал все, когда позвонил Мэтью, и Дафна со вздохом погрузилась в подушки. Так приятно было слышать его голос. – Привет, Мэтт. – Она говорила тихо и была рада, что дверь спальни закрыта. – День у тебя, похоже, был не из легких. У тебя усталый голос. – Я правда устала. Но он сразу понял, что дело не только в этом. – У тебя все о'кей? – Более или менее. Дафна старалась сдержаться и не говорить ему, что произошло. Она этого не хотела. Это не имело к нему никакого отношения. И все-таки ей нужна была его поддержка, необходимо знать, что у нее еще есть на кого положиться. Пусть этот человек далеко, пусть за три тысячи миль отсюда. Дафна все еще не верила Джастину, как бы он ни каялся. Но она не сомневалась в том, что Мэтью ее друг. – Как сегодня вел себя Эндрю? – Неплохо, с учетом того, что ты уехала только вчера. Как перелет? – Нормально. Я спала. Ей на мгновение вспомнились звонки Джеффа, когда он ездил в командировки. Эти звонки служили утешением среди повседневных забот. Все это было в гораздо меньшем масштабе, чем то, что сейчас происходило с ней, к тому же было в чем найти облегчение. То, что происходило в Калифорнии, просто было чересчур. Дафна замолчала, а Мэтью на своем конце провода нахмурился, он моментально понял, услышав ее голос, что что-то не в порядке. – Дафф? В чем дело, крошка? После Джона никто ее так не называл, и она почувствовала, что сейчас заплачет. – Я чем-то могу помочь? – К сожалению, нет. – Теперь Мэтью мог слышать, как она плачет. – Дело в том, что тут произошло... пока меня не было... – Твой друг? Дафна кивнула и всхлипнула. Сейчас глупо плакать, говорила она себе. Они помирились. Но обида, глубокая обида все равно не проходила. И она захотела поделиться случившимся с Мэтью, словно объятия его добрых рук могли сейчас что-то изменить. – Когда я вернулась, я нашла полный кавардак. Мэтью ждал, и она продолжала: – Пока я отсутствовала, у него жила женщина. – Рассказывать ему об этом было неприятно, но говорила она уже спокойно. Просто ей было очень грустно. – Это долгая история, и он теперь об этом сожалеет. Но возвращение мое было отвратительным. Она высморкалась, а в Мэтте все начинало кипеть. – Ты выкинула этого ублюдка вон? – Нет, я собиралась, но... я не знаю, Мэтт. Мне кажется, он сожалеет. Мне кажется, он просто немного свихнулся от избытка работы в последние три месяца. – А как же ты? Ты работала тяжелее, чем он, ты сначала писала сценарий. И считаешь, что, по-твоему, это его оправдывает? Мэтью был взбешен. И еще больше оттого, что Дафна была спокойна, что она хотела дать парню еще один шанс. – Нет, его ничто не оправдывает, но что случилось, то случилось. Я хочу подождать и посмотреть, что будет дальше. Мэтту хотелось вытряхнуть ее из кровати, но он знал, что не имел на это права. Он не хотел причинять ей боль. Дафна была беспомощной. Она любила другого, а он был только ее другом. – Дафф, ты считаешь, что он этого стоит? – Не знаю. Сегодня утром я не была в этом уверена. Мэтью пожалел, что не позвонил раньше, хотя знал, что это бы и так ничего не изменило. Она не была готова бросить Джастина Уэйкфилда, а Уэйкфилд был грозным соперником. Любой здравомыслящий человек сказал бы ему, что глупо даже надеяться, что она его бросит. – Я просто не знаю... – Она говорила так неуверенно и грустно, что сердце у него разрывалось. – Я... я так много теряла в прошлом, Мэтт... Он услышал, что Дафна снова плачет. – Так не надо обеднять того, что у тебя было, и мириться с этим. Его реакция ее возмутила: – Ты не понимаешь. Может, он прав, может, люди совершают ошибки. Может, актеры не похожи на нас. – Она еще сильнее расплакалась. – Черт возьми, сколько раз, по-твоему, я должна начинать сначала? – Столько, сколько нужно, на то вам и дана сила воли, сударыня. Не забывайте об этом. – А если я устала от силы воли? Если она вся кончилась? – Этого не может быть. – И кроме того, у нас обязательства друг перед другом. Он так мне сказал. – Обязательства? А он думал об этих обязательствах, когда ты была здесь? – Я знаю, Мэтт, я знаю. Нельзя давать ему поблажку. – Дафна вдруг пожалела, что вообще ему рассказала. Она не хотела защищать Джастина и в то же время чувствовала, что должна это делать. – Я знаю, что это глупо, но я собираюсь пока с этим смириться. Она вздохнула и вытерла глаза. – Конечно, Дафф, я понимаю. Ты должна делать так, как считаешь нужным. Только, пожалуйста, не давай себя в обиду. Но это уже случилось, и, положив трубку, Дафна снова расплакалась. Джастин нашел ее лежащей в кровати, рыдающей в подушки, не совсем понятно почему. Дафна все еще расстраивалась по поводу той девицы, но причина была не только в этом. Она вдруг почувствовала ужасную тоску по Эндрю и по Мэтту и захотела домой. – Ну, киска, не надо... все хорошо... Но это была неправда, и незачем было ее дурачить. Она лежала в его объятиях и рыдала, пока наконец не заснула у него на груди, и тогда он выключил свет. Он лежал, глядя на спящую Дафну, и задавался вопросом, правильно ли поступил. Он любил эту женщину сильнее, чем кого-либо прежде, но не был уверен, сможет ли оправдать ее ожидания. Он был полон добрых намерений, но, заглянув в свое прошлое, чувствовал, как его одолевают опасения. Дафна была такой серьезной, такой искренней и так много пережила. А его жизнь строилась на другом: на страстях, на новых людях, игре и развлечениях. Он также знал, что не способен на ту преданность, которая была характерна для нее. А в Нью-Гемпшире Мэтью сидел в темноте, глядя на огонь, ругал себя дураком, проклинал Джастина Уэйкфилда. Размышлял, есть ли у него вообще хоть какая-то надежда. (обратно)Глава 34
В течение следующего месяца работа над «Апачи» шла как по маслу, и они рассчитывали уехать в Вайоминг четырнадцатого июля. Говард решил, что времени на отдых не будет по возвращении в Лос-Анджелес для съемок последних сцен в голливудском павильоне. Для Дафны это означало, что она не сможет слетать повидаться с Эндрю, но Мэтт уверял ее, чтобы она за него не беспокоилась, он готовился к походу, а по возвращении из Джексон-Хоула она бы выбрала время и прилетела повидать его. Она, впрочем, была слишком занята, чтобы постоянно испытывать угрызения совести по этому поводу. Для съемок сцен в Джексон-Хоуле пришлось переписывать много сцен, и кроме того, что все дни напролет она проводила в павильоне, еще дома до позднего вечера печатала на машинке. Джастин же оказался замечательным помощником: он читал все написанное, говорил Дафне, хорошо это или плохо, а если плохо, то почему. Он научил ее таким тонкостям сценарного ремесла, которые она прежде и не надеялась узнать. Он просиживал с ней каждый вечер, приносил ей сандвичи и кофе, массировал ей шею, а потом они ложились в постель и занимались любовью. Они жили почти без сна, но Дафна никогда в жизни не испытывала такого счастья. На почве совместной работы у нихсложились такие отношения, о которых она и не мечтала, и она поняла, что была права, простив ему июньскую историю. Даже Барбаре приходилось признать, что Джастин ведет себя как ангел, но она все-таки не доверяла ему и часто говорила это Тому. – Он тебе не понравился с самого начала, Барб. Но если он к ней хорошо относится, что тут плохого? – Если он отколол такой номер один раз, он это обязательно повторит. – А может, и нет. Может, это просто были последствия его прежней жизни, это для него послужило уроком. Том не нашел в Джастине ничего плохого, когда с ним познакомился, Барбара же была так яростно настроена против Джастина, что Том часто подозревал, что она просто ревнует к тому, кто возымел такое влияние на Дафну. Обе женщины в свое время, в период их одинокой жизни, так сблизились, что Барбаре, возможно, было тяжело отпускать от себя Дафну, хотя у нее самой теперь был Том. Тому это было не совсем понятно, но он всегда настаивал, чтобы Барбара держала язык за зубами, если дорожит своей работой. – Если она думает о нем серьезно, Барб, лучше тебе устраниться. Он, как и голливудская пресса, подозревал, что Джастин и Дафна поженятся. – Если она вправду так поступит, я... на свадьбе буду обсыпать их не рисом, а камнями, – проворчала Барбара. – Он причинит ей боль. Я это знаю. – Ну ладно, старушка, не будь такой строгой, я очень надеюсь на то, что он на ней женится, тогда ей придется тут остаться. Последнее время это была частая тема их разговоров. Он хотел, чтобы Барбара осталась в Лос-Анджелесе и вышла за него замуж, но она отказалась принимать решение, пока не закончатся съемки «Апачи». – Но потом, моя дорогая, чтоб уж никаких отговорок. Я не молодею, да и ты тоже, и если ты думаешь, что я намерен ждать еще двадцать лет, чтобы с тобой повстречаться, ты глубоко ошибаешься. Я хочу жениться на тебе, обрюхатить тебя и на протяжении последующих пятидесяти лет любоваться, как ты сидишь у моего бассейна и тратишь мои денежки. Как вам нравится такая перспектива, мисс Джарвис? – Она слишком хороша, чтобы стать реальностью. Однако с тех пор, как Барбара повстречала его в магазине «Гуччи», все исполнялось. С самого начала ее роман был похож на сказку. Том уже давно подарил ей красивую сумочку из ящерицы, какую она разглядывала у него на глазах в тот первый день. А потом были и другие подарки: золотые часы «Пиаже», чудный бежевый замшевый блайзер, два жадеитовых браслета и бесконечное количество других безделушек, которые изумляли ее. Барбара все еще не могла поверить, что ей так повезло с Томом, и постоянно удивлялась, обнаруживая, как сильно он ее любил. И она любила его не меньше. Поэтому в Джексон-Хоул Барбара уезжала со слезами на глазах, но Том собирался прилетать каждый уикэнд, пока она будет на натурных съемках. Дафна и Джастин улетели чартерным рейсом, остальная часть группы поехала на автобусах, арендованных студией, и как только они прибыли на место, любовная лихорадка охватила всех. В романтической обстановке образовывались лары, люди просиживали ночи напролет на улице, глядя на горы и распевая песни, которые запомнили по детским летним лагерям. Даже Говард смягчился. Любовь Джастина и Дафны цвела. В перерывах между съемками они совершали длительные прогулки, собирали полевые цветы и занимались любовью в высокой траве. Все это было как прекрасный сон, и всем стало грустно, когда он кончился и пришлось возвращаться в Лос-Анджелес. Только Дафна сожалела меньше других, потому что знала, что увидится с Эндрю: она через несколько дней опять собиралась в Бостон. Джастин еще не решил, лететь с ней или нет. Лишь накануне отлета он наконец встал в дверях их спальни, потом сел на край кровати. Его лицо было нервозным. – Я не могу, Дафф. – Что не можешь? – Не могу лететь с тобой в Бостон. У Джастина был несчастный вид, и она моментально стала подозревать неладное. – Почему? Что, звонила мисс Огайо? – Первый раз за все лето она напомнила Джастину об этом, и он обиделся. – Зачем ты так? Я же сказал тебе. Это никогда больше не повторится. – Тогда почему бы тебе не поехать? Он удрученно вздохнул и выглядел очень несчастным. – Я не знаю, как тебе это объяснить так, чтобы не казаться свиньей. А может, мне лучше просто смириться с этим, понимаешь... Дафф... вся эта школа для глухих детей... Я... я... все эти физические недостатки, слепота, глухота, уродство... Я не выношу этого. У меня это вызывает физическое отвращение. Когда он это произнес, Дафна почувствовала, что сердце у нее упало. Если это была правда, речь шла о серьезной проблеме. Эндрю был глух. С этим приходилось считаться. – Джастин, Эндрю не урод. – Я знаю. И может, с ним одним я бы чувствовал себя нормально... но все они... – Джастин по-настоящему побледнел, и Дафна увидела, что он дрожит. – Я понимаю, что глупо взрослому мужику чувствовать такое, но у меня это всегда. Извини, Дафна. На глазах у него появились слезы, и он понурился. Дафна была в растерянности, но тут ей пришла в голову идея. Их надо познакомить. Это очень важно. Роман с Джастином, похоже, имел тенденцию к продолжению, и его обязательно надо было познакомить с Эндрю. – Ну хорошо, дорогой, а что, если... он прилетит сюда? – А это возможно? Бледность стала отступать с его щек, и на лице появилось выражение облегчения. Он на протяжении нескольких дней боялся ей сказать, но только что окончательно понял, что не может лететь с ней. – Конечно. Я позвоню Мэтью и попрошу посадить его в самолет. Он так уже делал весной, и Эндрю это очень понравилось. – Великолепно. Но когда Дафна позвонила Мэтту, он сказал, что на прошлой неделе у Эндрю слегка болели уши и он не сможет прилететь к ней. Таким образом, у нее не оставалось выбора. Надо было лететь на восток самой и оставить Джастина одного в Калифорнии. Когда она сообщала ему об этом, он, казалось, расстроился, а в ее глазах была легкая тень подозрения. Она внезапно подумала, что Джастин мог выдумать историю со страхами для того, чтобы остаться в Лос-Анджелесе и удариться в загул, как в прошлый раз, и одна лить мысль об этом злила ее. – Дафф, не смотри так. На этот раз ничего не случится. – Но она не отвечала. – Клянусь тебе. Я буду тебе звонить пять раз в день. – Ну и что это докажет? Что мисс Огайо здесь нет? – Дафна была резка, и Джастин, по-видимому, на самом деле обиделся. – Это нечестно. – А разве честно было заниматься любовью с ней в моей кровати? – Послушай, неужели нельзя об этом забыть? – Не знаю, Джастин. А ты забыл? – Да, честно говоря, забыл. С тех пор мы провели вместе три чудесных месяца. Не знаю, как вы, сударыня, но я никогда в жизни не испытывал такого счастья. Почему же ты продолжаешь швырять этим дерьмом мне в лицо? Но они оба знали ответ. Дафна все еще не доверяла ему, и поездка на восток была болезненным напоминанием о том, что произошло, когда ее не было в июне. Дафна вздохнула и погрузилась в кресло, печально глядя на него. – Извини, Джастин. Я на самом деле хочу, чтобы ты полетел со мной. Это бы решило проблему. Или нет? Все это означало лишь то, что она могла бы следить за ним, но не означало, что она может доверять ему. – Я не могу лететь с тобой, Дафф. Я просто не могу. – То есть, как я понимаю, у меня нет выбора, кроме как только доверять тебе, правильно? Но теперь все счастье последних трех месяцев вдруг как бы потускнело. – У тебя не будет поводов огорчаться, Дафф. Вот увидишь. Но сомнения не покидали ее ни пока она собирала вещи, ни по дороге в аэропорт. В Нью-Гемпшире листья рано желтели, стояла прохладная погода, и за городом было красиво как никогда. Дафна и Мэтью какое-то время ехали молча, ее мысли вернулись к Джастину, она задавалась вопросом, что он делает и сдержит ли слово. Мэтт заметил, что она держится спокойнее, чем обычно, и раз или два взглянул на нее, прежде чем она с улыбкой обернулась. Однако усталость была по-прежнему заметна. Даже в Вайоминге съемки были изнурительными. Говард Стерн работал напряженнее любого другого голливудского режиссера. – Как мой любимый фильм? Мэтью боялся спрашивать ее о Джастине. В последнее время она редко о нем говорила, и он не совсем понимал, что бы это значило. Мэтью знал, что если бы она хотела, то рассказала бы ему. И он ждал. Но он думал еще и о других вещах. – С фильмом все в порядке. Мы почти закончили, Говард считает, что потребуется еще шесть или восемь недель павильонных съемок, и все. За минувшие шесть месяцев она усвоила даже кинематографический жаргон. Мэтью пытался убедить себя, что она не изменилась с тех пор, как они познакомились. Но в то же время он чувствовал, что Дафна стала другой. У нее появилась нервозность, напряженность, которой раньше не было, словно она постоянно была начеку, чего-то ожидала, а чего, Мэтью не мог понять. Он задавался вопросом, была ли причиной этого ее жизнь с Джастином, или просто работ» над фильмом, или, быть может, постоянное беспокойство за Эндрю, невозможность с ним видеться. Но она, безусловно, переменилась. Даже здесь ей, видимо, нелегко было переключиться, но Мэтью напомнил себе, что Дафна ведь только что сошла с самолета. – Я хочу, чтобы Эндрю прилетел ко мне на День благодарения. Она это уже запланировала: Она собиралась приготовить традиционный для этого дня ужин и пригласить Барбару и Тома с его детьми. Она такого не устраивала уже десять лет, с тех пор как была замужем за Джеффом. Но теперь она почему-то решила, что пора возобновить традицию. Ее годы одиночества так или иначе закончились, и она хотела создать с Джастином нормальную семейную жизнь. Ему же определенно пора было познакомиться с Эндрю. Дафну огорчало, что в этот раз знакомство не состоялось. Но, взглянув на Мэтью, она поняла, что и у него теперь все обстоит иначе. – А что будет после Дня благодарения, Дафф? Он посмотрел на нее, и Дафна задумалась. – Точно не знаю. Она и в самом деле еще не знала, но ожидала, что они с Джастином поженятся, если не случится ничего ужасного. В какой-то степени эта поездка была испытанием. – Ты там останешься? Глаза Мэтта изучали ее лицо. Ему необходим был ответ. И ему самому пора было определиться. – Возможно. Через пару месяцев я смогу сказать точнее. Дафна ласково посмотрела на него, она обязана была дать ему какое-то объяснение. Самое плохое она ему уже сказала три месяца назад, теперь надо было сказать остальное. Их дружба была странной. Она была платонической, и все же в ней всегда присутствовал легкий намек на нечто большее. – За лето наши отношения с Джастином значительно наладились. Теперь я думаю, что, может, зря рассказала тебе о том, что случилось в мое отсутствие в тот раз. Во всяком случае, это казалось ей не совсем честным. Джастин больше так не поступал, но это исказило мнение Мэтью о нем, Дафна это знала. – Ничего, не беспокойся. – Он улыбнулся, не отрывая взгляда от шоссе. – Я не скажу газетчикам. Дафна в ответ улыбнулась. – По-моему, у меня тогда помутилось в голове. – Она прикрыла глаза и вздохнула. – Но, Боже мой, это было так ужасно. Когда я с тобой в тот день говорила, я думала, что умру. Он вспомнил тот разговор, помолчал, а потом произнес: – Да... я знаю. Ты подыскала школу для Эндрю? – Еще нет. Я думаю сделать это, когда мы закончим фильм. У меня в самом деле ни на что не хватало времени. У меня ощущение, что на эти месяцы жизнь остановилась. – Да. – Мэтью снова улыбнулся. – Мне это знакомо. Я ощущаю то же. Ему странно было сознавать, что через три месяца он покинет Говард и вернется в Нью-Йоркскую школу. Трудно было вспомнить времена, когда он был не в Говарде, времена, когда она ему не звонила, когда он не был ее другом. В этот приезд между ней и Мэтью что-то не ладилось, но причину Дафна точно определить не могла. Она видела, как Мэтью смотрит на нее из окна своего кабинета, а потом быстро отворачивается. И только на обратном пути в аэропорт она наконец спросила его: – Мэтью, что-нибудь не так? – Да нет, малышка, ничего. Просто у меня был день рождения. Я подумал, не старею ли. – Тебе надо вернуться в Нью-Йорк. Его сестра говорила то же самое, но она была осведомлена лучше Дафны, поскольку знала, что ее брат влюблен. – Возможно. Он был странно уклончив. – Тебе тоскливо в Говарде. С Хелен Куртис было иначе. Она пожилая женщина, ей не претило сидеть одной взаперти. – Тебе раньше это тоже не претило, хотя ты была вдвое моложе ее. – Когда я здесь жила, я не все время была одна. Как всегда, когда она вспоминала Джона, ее голос дрогнул. – Ну и я не все время один. Мэтью сказал такое впервые. Дафна удивленно посмотрела на него. Он столько знал о ее жизни, что она без смущения спросила его: – Ты здесь с кем-то встречаешься, Мэтт? Почему-то она всегда полагала, что он один. И ее вдруг поразила мысль, что она ничего не знала. Почему он ей ничего не сказал? – Да так. Время от времени. – Ничего серьезного? Она не знала почему, но ее это обеспокоило, хотя она понимала, что это смешно. Она намеревалась выйти замуж за Джастина. Почему в жизни Мэтта не могло быть женщины? В конце концов, он был всего-навсего ее другом. Мэтью задумался: – Это могло бы быть серьезно, если бы я хотел. Но я этого не хочу. – Почему? Голубые глаза Дафны были воплощением невинности, и он повернулся к ней, удивляясь ее слепоте. – По множеству глупых причин, Дафна. Очень глупых. – Не надо бояться, Мэтт. Я боялась. И была не права. – Разве? А теперь ты что, настолько счастлива? – спросил он мрачно. – Не всегда, но иногда. Может, этого и достаточно? По крайней мере я ожила. – Как ты можешь знать наверняка, что это лучше? Разве этого достаточно – просто жить? – Совершенства достичь нельзя, Мэтт. После смерти Джона я с этим смирилась, потому что знала, что больше такого человека не найду, но кто может поручиться, что мы всегда были бы так счастливы? Может, и у нас с Джоном со временем появились бы проблемы? Любому мужчине нелегко было бы свыкнуться с моей карьерой. Возьми этот год, например. Как бы я это потянула, если была бы замужем в обычном понимании? – Дафна часто задумывалась над этим вопросом. – Ты могла бы успешно с этим справиться, если бы сама этого хотела и муж бы не возражал. Да и сценарий, в конце концов, тебя писать никто не заставлял. – В его голосе не было упрека, он как бы думал вслух. – И все-таки я довольна, что написала его. – Почему? Из-за Джастина? – Отчасти. Но в основном потому, что это меня многому научило. Я не думаю, что взялась бы писать сценарий еще раз. Это слишком отвлекает меня от работы над книгами, но, в общем, опыт был замечательный, ты был прав, что убедил меня отправиться в Голливуд. – Разве это я тебя убедил? – Он весьма удивился. – Ты, – улыбнулась Дафна, – В первый вечер нашего знакомства, ты и миссис Куртис. Мэтт странно посмотрел на нее: – Наверное, мы оба сглупили. – Почему ты так говоришь? – Она не поняла его высказывания. Может, потому, что не хотела понять. – Да так. Марта говорит, что я начинаю плохо соображать. Она, наверное, права. Они обменялись улыбками. – Тогда расскажи мне о своей новой знакомой. Кто она? Пусть бы и он рассказал. Ничего зазорного в этом не было. – Учительница из городка. Она из Техаса, очень симпатичная и молодая. Мэтью застенчиво улыбнулся Дафне. Странная у них получилась дружба. – Ей двадцать пять лет, и, честно говоря, я себя чувствую похотливым стариком. – Чушь. Тебе это только на пользу. Господи, тут же больше нечего делать, кроме как читать. Неудивительно, что все здесь обожают мои книги. – Она тоже. Она их все читала. Дафне, видно, стало интересно. – А как ее зовут? – Гарриет. Гарриет Бато. – Звучит экзотически. – Особой экзотики в ней я не вижу, но она замечательная девушка, с хорошим характером и массой достоинств. Дафна посмотрела на него с любопытством: – Ты намерен на ней жениться, Мэтт? Трудно было представить, что их телефонные беседы могут прекратиться, но ведь ничто не вечно. Прежде их связывало родство душ и то, что оба были одиноки. Первое не денется никуда, что же касается второго – ее жизнь уже изменилась, а его начала меняться. Телефонные звонки не могут продолжаться без конца. Они оба это знали. И теперь этот вопрос встал перед ними. Но Мэтт покачал головой. Он не был готов думать о браке. – Я об этом еще даже и не думал. Мы просто несколько раз гуляли вместе. Дело обстояло серьезнее, но он не хотел себе в этом признаваться, хотя и знал, как влюблена в него Гарриет. Он не хотел делать из ее сердца игрушку и подозревал, что она догадывается о причине его сдержанности. Иногда он задавал себе вопрос: может ли кто-нибудь, кроме Дафны, знать эту причину? Дафна улыбнулась ему: – Ну, тогда сообщи мне. – Хорошо. И ты тоже. – Насчет Джастина? Он кивнул. – Обязательно. Перед самой посадкой в самолет он сказал, глядя на нее: – Береги себя, малышка. На этот раз сильнее, чем прежде, в его словах прозвучали прощальные нотки. Дафна обняла его, и он ответил ей объятием, стараясь сильно не прижиматься к ней и про себя желая ей удачи. – Я отправлю к тебе Эндрю на День благодарения. – Мы не раз еще созвонимся. Но он в этом не был так уверен, и, когда махал ей в последний раз, ему пришлось отвернуться, чтобы Дафна не увидела слез у него на глазах. (обратно)Глава 35
Когда Дафна вышла из самолета в Лос-Анджелесе, Джастин ждал ее у выхода и заключил в объятия с истосковавшимся и радостным видом. Четыре человека узнали его, пока они дошли до лимузина, но, как обычно, он не признавался, кто он, и Дафна, смеясь, села с ним на заднее сиденье. Казалось, он был в восторге, что снова видел ее, и, приехав домой, она нашла все чистым и прибранным, а Джастин был очень горд собой. – Смотри! Я же сказал тебе, что стал другим. – Извини меня за все мои дурные мысли. Дафна сияла. Может, он наконец не играл? Она почувствовала облегчение, словно ее омыла волна прохладной, свежей воды. Теперь она могла бы снова уехать, доверяя ему. Она обожала его, и все было в порядке, но Джастин посмотрел на нее серьезным взглядом. – Нет, Дафна, это я прошу у тебя прощения за мое нехорошее прошлое. – Ну что ты, милый... не стоит. Она нежно поцеловала его в губы, он взял ее на руки, отнес на кровать, и они до утра занимались любовью, забыв даже взять из машины ее багаж и погасить свет в гостиной, который, как и их страсть, горел до самого рассвета. На другой день съемки пошли в обычном ритме, и следующие девять недель пролетели незаметно. У Дафны едва хватало времени звонить Мэтью, да ей и не хотелось последнее время это делать. Откровенные разговоры с Мэттом стали ей казаться изменой Джастину. Он никогда не возражал и вроде никогда не замечал, что она звонит, но все же теперь это было не совсем хорошо, и, кроме того, несколько раз, позвонив, она не заставала Мэтта. Она полагала, и правильно, что Мэтт с Гарриет Бато. Они отсняли финальную сцену «Апачи» в первых числах ноября, и, когда Джастин покидал съемочную площадку, у всех в глазах стояли слезы. Были поцелуи, объятия. Шампанское лилось рекой, и все они с сожалением расставались друг с другом, словно теряли родных. Они не могли представить себе жизни без съемок «Апачи». На него ушло семь месяцев, за которые они стали братьями, сестрами и любовниками. И теперь съемки кончились, и ощущение потери охватило всех. Говарду и техническому персоналу предстояло еще множество длительной работы: редактирование, монтаж, озвучивание. Но для Дафны и актеров все закончилось, сон прошел, временами он, правда, больше был похож на кошмар, но теперь все обиды были забыты. Как при рождении ребенка, все теперь ушло, кроме приятного возбуждения в конце съемок, и на состоявшейся на следующий день прощальной вечеринке все были ужасно пьяны и совершенно неуправляемы. Не надо было больше беспокоиться о том, чтобы на следующее утро явиться в пять часов на работу, а не то Говард будет кричать. Все закончилось. Наступил КОНЕЦ. Дафна стояла с бокалом шампанского в руке и не сводила сияющих глаз с Джастина, а когда Говард произносил прощальную речь, почувствовала, что и сама растрогалась до слез. – Это прекрасный фильм, Дафф. Он тебе очень понравится. Дафна регулярно просматривала отснятый материал, но не могла не признать, что просмотр готового фильма будет событием в ее жизни, теперь же она была просто счастлива с Джастином. – Ты замечательно поработала. Везде, в каждом углу, люди поздравляли друг друга и целовались. По домам стали расходиться только в три часа ночи. А на следующее утро Дафна сидела в своем кабинете с Барбарой, чувствуя какую-то растерянность и легкую грусть. Она улыбнулась: – Господи, я поняла, мне так же плохо, как Джастину. Я не знаю, чем теперь заняться. – Что-нибудь придумаешь. – Барбара улыбнулась. – Не говоря уже о новой книге. У Дафны оставалось на это три месяца, и после Дня благодарения надо было браться за работу. – Когда прилетит Эндрю? – Вечером накануне Дня благодарения. Да, кстати, – она вручила Барбаре список приглашенных, – ты с Томом и дети не забыли, что я вас жду? Она внезапно встревожилась. Она знала, что Барбара так еще и не помирилась с Джастином, и боялась, что в последнюю минуту они откажутся. – Мы обязательно придем. – Отлично. Они с Джастином следующую неделю занимались тем, чем занимаются киношники, когда не работают. Раз или два сыграли в теннис, сходили на пару вечеринок, поужинали в нескольких ресторанах. Газеты пару раз о них написали, их роман уже перестал быть секретом, и Дафна чувствовала себя счастливой и раскованной. Джастин с каждым часом молодел, за четыре дня до того, как должен был прилететь Эндрю, он, читая утреннюю газету, улыбнулся Дафне: – Ты знаешь? В Сьерре выпал снег. – Я должна этому радоваться? Ей это показалось забавным. Временами он все еще напоминал ей мальчишку. – Ну конечно, киска. Это же первый снег в этом году. Может, поедем на этой неделе покататься на лыжах? – Джастин, – иногда она говорила так, словно была его ужасно терпеливой мамой, – дорогой мой, мне очень жаль напоминать тебе, но в следующий четверг будет День благодарения и к нам на праздничный обед придут Барбара и Том с детьми, и будет Эндрю. – Скажи им, что мы не можем его организовать. – Я этого не могу. – Почему? – Потому что, во-первых, в среду прилетает Эндрю, и это будет специально в его честь. Ну пожалуйста, милый, Для меня это важно. Я десять лет не праздновала дома День благодарения. – Отпразднуешь в следующем году. Он был явно раздражен. – Джастин, пожалуйста... В ее глазах была мольба, и он швырнул газету на пол и встал. – Черт подери! Какое нам дело до этого Дня благодарения? Это праздник для священников и их жен. Такого снега в Тахо не было тридцать лет, а ты хочешь сидеть здесь с кучей детей и лопать индейку. О Господи! – Это что, действительно так ужасно? Его слова ее обидели. Джастин посмотрел на нее с высоты своего внушительного роста: – Это жуткое мещанство. Дафна рассмеялась над тем, как он это сказал, и взяла его руку в свои ладони. – Извини, что я такая зануда. Но для нас всех это в самом деле важно. Особенно для Эндрю и для меня. – Ну ладно, ладно. Я сдаюсь, вы тут в явном большинстве, такая правильная публика. Он поцеловал ее и больше об этом не вспоминал. Дафна пообещала ему, что, как только Эндрю вернется в школу, они поедут в горы, даже если ей придется отложить работу над книгой. Джастин не планировал съемок в ближайшие месяцы, поэтому времени для катания на лыжах хватит. А Эндрю должен был прилететь всего на неделю. Но во вторник вечером, когда они лежали в постели, Дафна заметила, что Джастин ворочается, покашливает, бормочет что-то про себя. Было очевидно, что он хотел что-то ей сказать. – В чем дело, дорогой? Дафна подозревала, что он хочет спросить ее про Эндрю. Она знала, что Джастина все еще беспокоит его глухота. И она пыталась убедить его, что с Эндрю теперь легко общаться, да и она всегда поможет. – О чем ты раздумываешь? Он сел в кровати и посмотрел на нее с сонной улыбкой. – Ты меня слишком хорошо знаешь, Дафф. – Я только пытаюсь. – Но она его еще хорошо не знала. Ей готовился большой сюрприз. – Так что? – Я утром уезжаю в Тахо. Я не могу устоять, Дафф. И, честно говоря, мне правда лучше куда-нибудь уехать. – Теперь? Дафна лежа смотрела на него, а лотом села. Он не шутил. Она не могла этому поверить. – Ты серьезно? – Да. Я решил, что ты поймешь. – Почему ты так решил? – Ну, послушай... Скажу тебе честно. Семейные обеды с индейками – это не мой стиль. Я в них не участвовал с тех пор, как окончил школу, а теперь уже поздно начинать снова. – А как же Эндрю? Я просто не могу поверить, что ты можешь так поступить. Она встала с кровати и стала ходить по спальне, испытывая то сомнение, то бешенство. – Ну и что такого? Познакомлюсь с ним на Рождество. – Вот как? А может, ты опять поедешь кататься на лыжах? – Смотря какой будет снег. Она уставилась на него в полном изумлении. Мужчина, который на протяжении последних восьми месяцев говорил, что любит ее, и наконец ее убедил, несмотря на один загул, теперь собирался кататься на лыжах вместо того, чтобы остаться дома в День благодарения и познакомиться с ее сыном. Что у него, в конце концов, была за голова и что за сердце! Она опять вернулась к тому же вопросу: что он за человек? – Ты знаешь, как это для меня важно? – Я думаю, что это глупо. У Джастина не было заметно даже сожаления. Он совершенно спокойно относился к своим намерениям, и ей опять вспомнилось предупреждение Говарда о том, что все актеры – это эгоистичные дети. Он был прав во всем, даже относительно слез в конце фильма. Может, и в этом вопросе он тоже был прав. – Это не глупо, черт побери. Ты намерен на мне жениться, но не можешь заставить себя даже познакомиться с моим единственным сыном. Ты не пожелал лететь со мной на восток в сентябре, и теперь такое. Дафна смотрела на него с яростным изумлением, но за яростью скрывалась безмерная обида. Он не хотел того, чего хотела в жизни она, но что было гораздо важнее – он не хотел Эндрю. Теперь она в этом не сомневалась, и это все меняло в их отношениях. – Мне надо подумать, Дафф. Он стал вдруг очень тихим. – О чем? – Дафна удивилась. Такое она слышала от него впервые. – О нас с тобой. – Может, что-то не так? – Да нет. Но это громадная ответственность. Я никогда не был женат, и, прежде чем связать себя навсегда, мне нужно побыть одному. Это звучало почти убедительно, но не до конца, и на нее не подействовало. – Знаешь, это не отговорка. Ты что, не можешь подождать до следующей недели? – Думаю, что нет. – Почему? – Потому что я сомневаюсь в том, что готов познакомиться с твоим сыном. Это было больно, но честно. – Я не знаю, что сказать глухому ребенку. – Для начала скажи «привет». Взгляд Дафны был холодным, оскорбленным и пустым. Ей надоели его неврастенические выходки по поводу Эндрю. А может, Эндрю был только предлогом? Может, на самом деле она ему была не нужна? Может, ему никто не был нужен, кроме официанток и начинающих актрис? Может, только им он и годился? В ее глазах он вдруг стал уменьшаться до пугающих размеров, как шарик, в котором проделали дырку. – Я даже не знаю, как с ним говорить, киска. Я видел таких людей, они меня раздражали. – Он читает по губам и умеет говорить. – Но не как нормальный человек. Она вдруг возненавидела его за то, что он говорил, повернулась к нему спиной и стала смотреть в окно. Теперь она могла думать только об Эндрю. Этот же человек ее совершенно не интересовал. Ей нужен был только ее сын и больше никто. Она повернулась к Джастину: – Ладно, не беспокойся, поезжай. – Я знал, что ты поймешь. Он очень обрадовался, и Дафна удивленно покачала головой. Он вообще не понял ее чувств. Ни разочарования, ни ненависти, ни обиды, которые сам только что в ней вызвал. И вдруг ей пришел в голову один вопрос: – А когда у тебя возник этот план? Он наконец несколько смутился, но не очень сильно. – Пару дней назад. Она смерила его долгим пристальным взглядом: – И ты мне не сказал? Он покачал головой. – Ты мерзавец. – Дафна хлопнула дверью спальни и ночь провела в комнате Барбары, которой та больше не пользовалась. Барбара переехала к Тому и каждый день приходила, как бывало в Нью-Йорке. На следующее утро Дафна встала, когда услышала, что Джастин готовит завтрак, пришла на кухню и нашла его уже одетым. Она села и пристально посмотрела на него, в то время как он наливал ей и себе кофе. Он держался непринужденно, и Дафна смотрела на него и не верила своим глазам. – Знаешь, я просто не могу поверить, что ты так поступишь. – Не надо делать из этого целую историю, Дафф. Не так уж это важно. – Для меня важно. И она знала, что для других это тоже покажется важным. Как она должна была объяснять его исчезновение? День благодарения – это для него скучно и он поехал кататься на лыжах? Дафна вдруг подумала, что правильно поступила, не сказав ничего Эндрю. Она собиралась побеседовать с ним по пути домой из аэропорта. Но теперь этого не надо будет делать. Их знакомство откладывалось до Рождества, если Джастин опять куда-нибудь не исчезнет. Дафна начинала сомневаться насчет него, и, когда она смотрела, как он ест яичницу с тостом, ей пришли в голову нехорошие мысли. – Ты едешь один? – Странный вопрос. – Он не поднимал глаз от тарелки. – Как раз подходящий, Джастин. Ты ведь странный человек. Он посмотрел на Дафну и увидел в ее глазах что-то нехорошее. Она не просто сердилась на него, она была злой. И искала, в чем бы его еще обвинить. Его это очень удивило. Он не понимал, как глубоко он ее обидел. Отвергая Эндрю, он отверг ее. Это было хуже, но он этого не понимал. – Да, я еду один. Я же сказал тебе, мне требуется время, чтобы в горах все обдумать. – Мне тоже требуется время, чтобы подумать. – О чем? – Он был в самом деле удивлен. – О тебе. – Дафна вздохнула. – Если ты не намерен сделать усилие, чтобы познакомиться с Эндрю, толку из этого не получится. Не говоря уже о том, что, если он будет убегать и делать то, что ему нравится всегда, когда ему этого захочется, ей это тоже совершенно не подходило. Во время съемок они были слишком заняты работой, но теперь стали выступать наружу новые черты его характера. Черты, с которыми она вряд ли могла бы смириться. Временами он подолгу где-то пропадал, но там, куда он якобы шел, его никогда не оказывалось, и проявлял небрежность и бесшабашность во всем, а Дафне говорил, что только этим он может уравновесить дисциплинированность и напряжение, которые требовались во время работы. Она придумывала для него оправдания, но теперь ей это надоело. Он пытался поцеловать ее на прощание, но Дафна отвернулась. И когда приехала Барбара, то нашла Дафну в кабинете, погруженную в раздумья. Казалось, что Дафна мыслями далеко-далеко, и Барбаре пришлось к ней обращаться дважды, прежде чем та ее услышала. – Я только что купила индейку. Ты такую огромную и не видела. Она улыбнулась. Но ответа поначалу не последовало, и лишь потом Дафна, казалось, заставила себя вернуться к действительности. – Привет, Барб. – Ты где-то витаешь. Уже обдумываешь новую книгу? – Что-то в этом роде. Но Барбара давно не видела ее такой отсутствующей и отрешенной. – А где Джастин? – Его нет. Дафна не решилась ей сказать сразу, но перед отъездом в аэропорт за Эндрю подумала, что сделать это необходимо. Невозможно было это вечно скрывать, да и зачем? Она не обязана была заботиться о его репутации. – Барб, Джастина не будет на праздничном обеде, – сказала Дафна с мрачным видом. – Не будет? – Барбара словно бы не поняла. – Вы что, поссорились? – Вроде бы. После того как он сказал мне, что едет на неделю кататься на лыжах, вместо того чтобы праздновать дома День благодарения. – Ты шутишь? – Нет. И не хочу это обсуждать. И, посмотрев на ее лицо, Барбара поняла, что Дафна говорит серьезно. А потом Дафна закрылась в своем кабинете и не выходила из него до самого отъезда в аэропорт. Дафна ехала в аэропорт одна, с угрюмым выражением лица. Она поставила машину на стоянку и направилась к выходу для прилетающих пассажиров, а мысли ее все время вертелись вокруг Джастина. Он преспокойно отправился заниматься своими делами, тем, что ему хотелось, нисколько не беспокоясь о том, что было важно для нее. И уже объявили о посадке самолета, на котором летел Эндрю, и самолет подруливал к месту высадки пассажиров, а Дафна снова и снова проигрывала в памяти разговор с Джастином. Но затем все мысли о Джастине исчезли, словно он больше не был важен, и вся эта история отодвинулась на задний план. Теперь важен был только Эндрю. Дафна почувствовала, что сердце ее учащенно забилось, когда пассажиры стали выходить из самолета, и наконец в центре толпы она увидела его. Эндрю держался за руку стюардессы, его глаза озабоченно искали маму, и какое-то мгновение Дафна от волнения не могла ступить шага. И этого ребенка Джастин отверг! На этом ребенке строилась вся ее жизнь. Она бросилась к нему, и никакие препятствия не могли бы остановить ее. Эндрю увидел, что она приближается, вырвался из рук стюардессы и кинулся ей в объятия с негромким возгласом, который всегда издавал, когда испытывал наибольшее удовольствие. Слезы хлынули у нее из глаз. Он был тем единственным, что у нее осталось в жизни, состоявшей из одних потерь, единственным человеческим существом, по-настоящему любившим ее. Дафна приникла к сыну, словно к спасательному кругу в людской толпе, и когда он посмотрел на ее лицо, оно было мокрым от слез, хотя она ему и улыбалась. – Как хорошо, что ты прилетел. Она произнесла это, старательно двигая губами, и он улыбнулся в ответ: – Будет еще лучше, если ты вернешься домой. – Конечно, – согласилась Дафна. Теперь она подозревала, что это произойдет быстрее, чем первоначально планировалось. Они пошли забрать его багаж, держась за руки, Дафна не хотела отпускать его даже на секунду. По дороге домой он рассказал ей множество новостей, даже невзначай упомянул о новой знакомой Мэтью, что почему-то задело Дафну за живое. Она не хотела теперь слышать об этом. – Она приезжает в школу повидаться с ним каждое воскресенье. Она красивая и много смеется. У нее рыжие волосы, и всем нам она раздает конфеты. Дафна хотела бы радоваться за Мэтью, но почему-то не была рада. Она ничего не ответила, и разговор перешел на другие темы. По приезде домой их ждало множество дел: они плавали, разговаривали, играли в карты, и Дафна стала чувствовать, что приходит в себя. Во дворе они поджарили на вертеле цыпленка, и наконец Дафна уложила Эндрю спать. Он зевал, и глаза у него слипались, но перед тем как Дафна погасила свет, он вопросительно посмотрел на нее. – Мама, а здесь еще кто-нибудь живет? – Нет. А что? Тетя Барбара раньше жила. – Я имею в виду мужчину. – А почему ты об этом спрашиваешь? Сердце у нее екнуло. – Я нашел у тебя в кладовке мужские вещи. – Они принадлежат хозяевам дома. Эндрю кивнул, по-видимому, удовлетворенный ответом, а потом вдруг спросил: – Ты влюблена в Мэтта? – Конечно, нет, – удивилась Дафна. – Почему ты вообще так решил? Он пытливо вглядывался в ее лицо. Эндрю был очень чутким ребенком. Ему было уже восемь лет, он не был несмышленышем. – Когда я рассказывал о его подружке, то подумал, что ты в него влюблена. – Не выдумывай. Он замечательный человек, ему нужна хорошая жена. – Мне кажется, ты ему нравишься. – Мы очень дружны. Но Дафне вдруг ужасно захотелось спросить его, почему он так думает. Словно прочитав ее мысли, Эндрю, полусонный, сообщил ей: – Он много о тебе говорит и всегда радуется, когда ты звонишь. Сильнее, чем когда по воскресеньям к нему приезжает Гарриет. – Ерунда какая. – Дафна улыбнулась, отмахнувшись от его слов, но в глубине души ей было приятно. – Ну а теперь засыпай, мой сладкий. Завтра предстоит интересный день. Эндрю кивнул и уснул прежде, чем она успела выключить свет. Дафна пошла к себе в комнату, думая о Мэтью. Она вдруг вспомнила, что надо позвонить ему и сказать, что с Эндрю все в порядке. Как обычно, он сразу снял трубку. – Как наш друг? Жив-здоров? – Вполне. И ужасный озорник. – Ничего удивительного. – Мэтью улыбнулся. – Весь в мамочку. А как у тебя дела? – О'кей. Готовлюсь к Дню благодарения. – В разговорах они теперь избегали личных тем. Появление Джастина и Гарриет Бато многое изменило. Особенно в последнее время. – Ты устраиваешь торжественный домашний ужин с индейкой? – Да. В ее голосе на мгновение прозвучала неуверенность, но она все же решила не говорить Мэтту. Его не касалось то, что Джастин удрал, и, вероятно, больше не имело значения, что он отказался знакомиться с Эндрю. Дафна не хотела делиться с Мэтью своими планами, она начинала подумывать о возвращении в Нью-Йорк. – А как ты, Мэтт? – Я буду здесь. – К сестре не поедешь? – Не хочу оставлять детей. А Гарриет? Но она не решилась спросить его об этом. Если бы он хотел ей сообщить больше, он бы сказал. Но он этого не сделал. – Ты в ближайшее время не собираешься в Нью-Йорк, Дафф? Он произнес это, как в прежние времена, в его голосе были одиночество и доброта, но Дафна только вздохнула. – Не знаю. Я об этом много думала. Пора было что-то решать, и она это понимала. – На следующей неделе я поеду с Эндрю посмотреть лос-анджелесскую школу. По крайней мере так она планировала раньше. Но это было до того, как Джастин показал свой характер и уехал в Тахо. – Она тебе понравится. Это отличная школа. – Но голос у Мэтта был грустный: – Все здесь будут по нему скучать. – Ты ведь тоже уезжаешь, Мэтт? Вдруг в его голосе прозвучало сомнение: – Не знаю. Значит, он останется в Нью-Гемпшире? Значит, все-таки отношения с Гарриет Бато принимали серьезный оборот? У Дафны появилось предчувствие, что причина была именно в этом. Что мог знать об этом Эндрю, восьмилетний ребенок? Может, Мэтью был намерен жениться? – Сообщи мне о своих планах. – И ты тоже. Она поздравила его с праздником и, заставляя себя не думать о Джастине, легла спать. В полночь ее разбудил телефонный звонок. Звонил Джастин, он сообщил, что благополучно устроился в Скво-Вэлли, но там, где остановился, не было телефона. Потом стал рассказывать ей о снеге, о том, как по ней скучает, и вдруг посреди разговора сказал ей, что замерз в открытой телефонной будке и будет заканчивать. Дафна села в кровати и уставилась на телефон, сбитая с толку его звонком. Почему он так странно позвонил? Если он мерз, то почему вначале был так болтлив? Она решила, что не в состоянии его понять, и, еще раз прогнав мысли о нем, уснула, и, как ни странно, в ту ночь ей снился Мэтью. (обратно)Глава 36
Совместными усилиями Барбары и дочери Тома, Алекс, День благодарения прошел лучше, чем Дафна могла мечтать. Три женщины работали вместе на кухне, разговаривали и смеялись, а Том с обоими мальчиками играл на лужайке в гольф. Том изумлялся сообразительности Эндрю и представлял, какой из него получится замечательный парень, даже несмотря на неестественную речь. Также отметил у Эндрю тонкое чувство юмора. В общем, когда Дафна перед ужином произносила молитву, она испытывала большую благодарность, чем за многие годы. Все наелись до отвала, а потом сидели у камина. Когда же стало поздно, Харрингтонам ужасно не хотелось уходить. Ребята целовали Дафну, обняли Эндрю, а он пообещал на следующий день прийти к ним в гости поплавать в бассейне, что и сделал. Это был спокойный, беззаботный уик-энд, и, если бы не отсутствие Джастина, Дафна была бы совершенно счастлива. Вечером накануне отлета Эндрю Джастин позвонил ей, но опять внезапно прервал разговор, и это вызвало у Дафны раздражение. Она не понимала, зачем он звонит, если через пару минут бросает трубку. Это не имело смысла, по крайней мере для нее. Дафна размышляла об этом вечером, после того как уложила Эндрю, и вдруг ее осенило. Получалось так, словно кто-то приближался к нему, и он бросал трубку, прежде чем его заметили. Вдруг Дафна поняла и села в кровати, бледная от злости. Лишь через несколько часов она смогла уснуть. Утром она была занята Эндрю. Она посадила его в самолет, позвонила Мэтту и вернулась домой. На протяжении следующих трех дней она пыталась работать над новой книгой, но ничего не получалось. Все ее мысли были о Джастине. Он приехал около двух часов ночи. Открыл своим ключом входную дверь, поставил в прихожей лыжи и зашел в спальню. Он думал, что Дафна спит, и удивился, увидев ее сидящей в кровати с книгой. Дафна подняла глаза и, не говоря ни слова, посмотрела на него. – Привет, киска, чем ты занята? – Я ждала тебя. Но в ее голосе не было тепла. – Замечательно. Твой ребенок благополучно улетел? – Да, спасибо. Его зовут Эндрю. – О Господи! Джастин подумал, что она ему припасла еще одну речь о Дне благодарения. Но он ошибся. Она думала о другом. – С кем ты был в Скво-Вэлли? – В горах столько людей, и все незнакомые. – Он сел и стал разуваться. После двенадцати часов за рулем ему было не до допросов. – Давай оставим это до утра? – Нет, до утра нельзя. – Ладно, я ложусь спать. – Вот как? Где? – Здесь. Я вроде последнее время жил здесь. – Он озадаченно посмотрел на нее. – Или у меня поменялся адрес? – Пока нет, но думаю, что может, если ты не ответишь некоторые вопросы. Честно на этот раз. – Послушай, Дафф, я тебе сказал... Мне надо было подумать. Но тут зазвонил телефон, и Дафна сняла трубку. В первый момент она испугалась, что что-то случилось с Эндрю. Кто бы еще мог и зачем звонить в два часа ночи? Однако это был не Мэтт, в трубке раздался женский голос, который попросил Джастина. Не говоря ни слова, она передала ему трубку. – Это тебя. Хлопнув дверью, она вышла из комнаты, и через несколько минут Джастин нашел ее в кабинете. – Послушай, Дафна, пожалуйста, я знаю, что ты могла подумать, но... И затем внезапно, стоя там, усталый с дороги, он понял, что притворяться слишком хлопотно. Он устал и не способен выдумать новую ложь. Джастин сел и тихопроизнес: – Ладно, Дафна. Ты права. Я ездил в горы с Элис. – Кто это, черт побери? – Девушка из Огайо. – У него был очень усталый голос. – Это ничего не значит, ей нравится кататься на лыжах, мне тоже, мне не хотелось участвовать в твоем семейном празднике, поэтому я взял ее на неделю с собой. Вот и все. – Он считал это нормальным. Бороться больше не имело смысла. Это больше не могло так продолжаться. Все было кончено. Она посмотрела на него со слезами на глазах – это была такая жестокая потеря иллюзий, словно ей ампутировали ту часть души, которая его любила. – Джастин, я так больше не могу. – Я знаю. А я не могу ничего поделать. Я не создан для таких вещей, Дафф. – Я поняла. Она расплакалась, и Джастин подошел к ней: – Дело не в том, что я тебя не люблю. Я люблю, но по-своему, и моя любовь отличается от твоей. Слишком сильно отличается. Я не думаю, что когда-нибудь смогу быть таким, как бы тебе хотелось. Ты хотела бы иметь богобоязненного, порядочного мужа. Но я не такой. Она кивнула и отвернулась. – Не стоит. Я понимаю. Не нужно объяснять. – Все будет о'кей? Она кивнула и сквозь слезы посмотрела на Джастина. Он стал еще красивее от горного загара. Но, кроме красивой внешности, в нем ничего не было. Говард Стерн прав – это красивый, избалованный ребенок, который всю жизнь делает только то, что ему хочется, не обращая внимания, что это может кого-то обидеть или слишком дорого стоить. Когда Дафна увидела, что Джастин уходит, то в первую безумную минуту хотела уговорить его остаться, попробовать разрешить эту проблему, но она знала, что это невозможно. – Джастин? – Весь вопрос был заключен в одном слове. Он кивнул: – Да, я думаю, мне надо уйти. – Сейчас? Ее голос дрожал. Она чувствовала себя одинокой и испуганной. Она ускорила такую развязку, но другого пути не было, и она это знала. – Так будет лучше. Я заберу свои вещи завтра. Когда-нибудь это должно было кончиться, и теперь это когда-нибудь наступило. Он посмотрел на нее с грустной улыбкой: – Я люблю тебя, Дафна. – Спасибо. Он произносил пустые слова. Он был пустым человеком. А потом дверь закрылась, и он ушел, а она сидела одна в своем кабинете и плакала. В третий раз в жизни ее постигла утрата, но на этот раз по совершенно иным причинам. И она потеряла того, кто на самом деле ее не любил. Он был способен любить только себя. Он никогда не любил Дафну. И во время своих горестных ночных раздумий она задавала себе вопрос: а может, это и к лучшему? На следующий день, когда приехала Барбара, у Дафны был подавленный вид, под глазами круги. Она работала в своем кабинете. – Ты себя нормально чувствуешь? – Более или менее. Наступила длительная пауза, в течение которой Барбара всматривалась в ее глаза. – Сегодня ночью мы с Джастином расстались. Барбара не знала, что сказать в ответ. – Я могу спросить почему или мне заниматься своими делами? Дафна улыбнулась усталой улыбкой: – Это не важно. Так было нужно. Но убежденности в ее голосе не было. Она знала, что будет скучать по нему. Он немало для нее значил на протяжении девяти месяцев, а теперь все кончилось. Какое-то время это обязательно будет причинять боль. Дафна это знала. Она и раньше испытывала боль. Придется испытать ее снова. Барбара кивнула и села: – Мне тебя жаль, Дафна. Но я не могу сказать, что сожалею. Он бы дурачил тебя еще сотню лет. Он такой, какой есть. Дафна кивнула. Теперь она не могла бы не согласиться. – Я думаю, что он даже не сознает того, что делает. – Не знаю, лучше это или хуже, – для мужчины такая черта просто позорна. – В любом случае это больно. – Я знаю. Барбара подошла к ней и похлопала по плечу. – Что ты теперь собираешься делать? – Ехать домой. Эндрю все равно здешняя школа не понравилась, да и я здесь чужая. Мое место в Нью-Йорке, в моей квартире, там я пишу книги, там я близко к Эндрю. Но теперь все было бы иначе. Со времени своего отъезда она открыла в себе многие двери. Двери, которые будет трудно снова закрыть, да она и не была уверена, что вспомнит, как это делается. В Нью-Йорке она вела замкнутую жизнь, а в Калифорнии с Джастином проводила время порой очень весело. – Как скоро ты собираешься возвращаться? – Мне потребуется пара недель, чтобы закончить дела. У меня намечены переговоры в «Комстоке». Дафна грустно улыбнулась: – Они хотят снять фильм еще по одной моей книге. Барбара затаила дыхание: – Ты будешь писать сценарий? – Нет, больше никогда. Хватит с меня одного раза. Я научилась тому, чему хотела научиться. Но отныне – я пишу книги, они пишут сценарии. Барбара, казалось, была удручена. Она это предвидела. Даже если бы Дафна осталась с Джастином на Западном побережье, маловероятно, что она бы снова взялась за это. Дафна целый год не писала книг и очень об этом сожалела. – Итак, мы поедем домой. Это было решение, которому Барбара не решилась прекословить. В тот вечер она бросилась в объятия Тому и, рыдая, рассказала ему. – Господи Боже мой, Барб. Ты же не обязана ехать с ней. У него был такой вид, словно он сам тоже вот-вот расплачется. Но Барбара покачала головой: – Я должна. Я не могу ее сейчас бросить. Она совершенно расклеилась из-за Джастина. – Ничего, переживет. Я в тебе больше нуждаюсь. – У нее нет никого, кроме меня и Эндрю. – А кто в этом виноват? Она сама. Ты что, хочешь пожертвовать нашей жизнью ради нее? – Нет. От его объятий она только сильнее расплакалась и успокоилась лишь через некоторое время. – Я просто не могу ее сейчас оставить. Это в какой-то степени напоминало то, что она пережила в свое время со своей матерью, но теперь некому было помочь ей добиться свободы, как это сделала тогда Дафна. Мать Барбары умерла год назад в доме престарелых, и теперь Барбара была привязана к Дафне. Том удрученно посмотрел на любимую: – Ну а когда ты сможешь ее оставить? – Не знаю. – Это скверно, Барб. Я не могу так. – В полном отчаянии он налил себе виски. – Я не могу поверить, что ты способна на это. После того, что у нас было весь этот год, ты возвращаешься с ней в Нью-Йорк. Черт побери, это глупо! Он кричал на нее, и она опять начала плакать. – Я это понимаю. Но она так много для меня сделала, и наступает Рождество, и... Барбара знала, как тяжело всегда было Дафне в Рождество. Том этого не понимал, да ему и не обязательно было знать, но она не хотела терять его. Это была бы непомерная плата за ее преданность Дафне. – Послушай, я обещаю, что вернусь. Дай мне только время снова устроить ее в Нью-Йорке, и потом я ей скажу. – Когда? – Том словно выстрелил этим вопросом. – Назови мне день, и тогда я заставлю тебя сдержать слово. – Я скажу ей через неделю после Рождества. Обещаю. – Сколько после этого ты намерена еще у нее проработать? – Он не отступал ни на дюйм. Барбара хотела сказать месяц, но струсила, когда увидела выражение его глаз. Том был похож на раненого зверя, и она предпочла бы расстаться с Дафной, а не с ним. – Две недели. – Ладно. То есть ты пробудешь там полтора месяца и вернешься. – Да. – А ты за меня тогда выйдешь? У него был все такой же свирепый вид. – Да. Том наконец улыбнулся: – Ладно, черт побери. Тогда я разрешаю тебе погостить у нее в Нью-Йорке, но больше мне такого не устраивай. Я этого не потерплю. – Я тоже. – Барбара прильнула к нему. – Я буду приезжать в Нью-Йорк на уик-энды. – Правда? – Она посмотрела на него широко раскрытыми счастливыми глазами, и в этот момент ей можно было дать не больше двадцати лет. – Обязательно. И если не случится ничего непредвиденного, я сделаю тебя беременной еще до того, как ты вернешься, и тогда я буду точно знать, что ты сдержишь слово. Барбара засмеялась такому радикальному предложению, но идея ей понравилась. Он уже давно убедил ее, что она вполне еще может иметь одного или двух детей. – Это вовсе не обязательно, Том. – Почему? Мне это только приятно. Спустя две недели Том приехал в аэропорт проводить их. Дафна выглядела очень по нью-йоркски в черном костюме, норковой шубе и шапке, а на Барбаре был новый норковый полушубок, который Том купил ей. – Вы обе действительно выглядите шикарно. В них не было ничего лос-анджелесского. Когда же он целовал Барбару, то шепнул ей: – Увидимся в пятницу. Барбара улыбнулась и крепко обняла его, а потом они зашли в самолет, заняли места, и Дафна посмотрела на Барбару. – Ты, кажется, не особенно расстроена. Я чувствую, что вы что-то затеваете. Дафна рассмеялась, а Барбара зарделась. – Когда он прилетит в Нью-Йорк? Следующим рейсом? – В пятницу. – Тоже неплохо. Будь я немного порядочнее, мне следовало бы уволить тебя прямо сейчас и сбросить с самолета. Барбара наблюдала за выражением ее лица, но было очевидно, что Дафна шутит. Дафна казалась очень бледной в своей темной меховой шапке, а Барбара знала, что накануне вечером она встречалась с Джастином и догадывалась, что это было нелегкое свидание. В конце концов, после обеда Дафна рассказала ей об этом. – Он уже живет с этой девушкой. – Из Огайо? Дафна кивнула. – Может, он на ней женится? – Барбара сразу пожалела, что сказала это. – Извини, Дафф. – Ничего. Может, ты и права, но я в этом сомневаюсь. Мне кажется, мужчины вроде Джастина вообще не женятся. Я давно должна была это понять. Потом они говорили об Эндрю, и Дафна сказала, что поедет повидать его в ближайший уик-энд. – Я хотела и тебе предложить, но теперь, раз у тебя более интересные планы... Они обменялись улыбками, и тогда Барбара решила затронуть тему, о которой давно думала. – А как насчет Мэтью? – Что ты имеешь в виду? – Во взгляде Дафны мгновенно появилась настороженность. – Ты знаешь, что я имею в виду. – Они слишком долго были вместе, чтобы играть в загадки. – Да, знаю. Но он просто друг, Барб. Так оно лучше, – улыбнулась Дафна. – Кроме того, Эндрю говорит, что у него есть девушка. И я знаю, что это правда. Мэтт рассказал мне о ней в сентябре. – У меня такое ощущение, что, знай он, что ты свободна, он бросил бы ее через десять минут. – Я в этом сомневаюсь, да это и не важно. Я должна наверстывать год разлуки с Эндрю, к тому же собираюсь до Рождества начать новую книгу. Барбара хотела сказать, что этого недостаточно, но знала, что Дафна не захочет это обсуждать. Они обе погрузились в свои мысли. Барбара была рада молчанию. Ей было неловко темнить насчет Тома, и в то же время она не могла сказать Дафне, что они решили пожениться. Они прибыли в Нью-Йорк, и Дафна радостно улыбнулась, когда они въехали в город: – Добро пожаловать домой! Но Барбара не разделяла ее радости. Она уже скучала по Тому. У Дафны же все мысли сосредоточились на Эндрю. Она постоянно о нем говорила на протяжении следующих нескольких дней и в конце недели забрала свою машину из гаража и поехала к нему. В дороге она сгорала от нетерпения и то пела, то улыбалась самой себе. По пути почти везде уже лежал снег, дорога была долгой и утомительной, но Дафне все было нипочем. Ей пришлось остановиться и надеть цепи на колеса, но она ни секунды не тосковала по ласковому калифорнийскому солнцу. Все, чего ей хотелось, – это быть с Эндрю. Она прибыла в городок в десятом часу, направилась прямо в гостиницу и оттуда позвонила Мэтту, чтобы сообщить ему, что приехала и в школе будет утром. Но к телефону подошел один из учителей и сказал, что его нет. «Ну и ладно», – прошептала она про себя, глядя в окно. Нечего больше о нем думать, у него теперь своя жизнь, а у нее есть Эндрю. А на следующее утро, когда Дафна приехала в школу, радости мамы и сына не было предела. – И теперь мы больше никогда не будем разлучаться. – Как ни странно, прошел целый год. – Через две недели я приеду и заберу тебя, и все рождественские каникулы мы проведем вместе у нас дома. Приезды Эндрю в Калифорнию, несомненно, доказали, что он готов на длительное время уезжать из школы, но он посмотрел на нее и покачал головой. – Я не могу, мама. – Не можешь? – Она опешила. – Почему? – Я уезжаю с ребятами. Барбара права: у него уже есть своя жизнь. – Куда? Дафна почувствовала, что у нее упало сердце. Значит, на Рождество она останется одна. – Я поеду кататься на лыжах, – улыбнулся Эндрю. – Но перед Новым годом вернусь. Можно мне тогда будет приехать? – Конечно, можно. Она ласково засмеялась. Как много изменилось в жизни за год. – А на Новый год мы будем дудеть в дудки? – Да. Дафну удивил этот вопрос, ведь он не мог бы их слышать. – Мне нравится, что они щекочут губы, когда в них дудишь, а другие будут слышать звук. Это, конечно же, был восьмилетний ребенок, несмотря на его самостоятельность. И когда к ним подошел Мэтью, Дафна улыбнулась: – Привет, Мэтт. Говорят, ты берешь Эндрю кататься на лыжах? – Это не я. Я остаюсь здесь, чтобы закончить дела. Но их целая группа едет в Вермонт с другими учителями. – Это, наверное, будет здорово. Но в ее глазах он увидал печаль. – Ты хотела, чтобы на Рождество он прилетел в Калифорнию? Дафна еще не сказала ему, что вернулась насовсем. Барбара звонила в школу и сообщила, что в данный момент Дафна находится в Нью-Йорке. – Нет. Я думаю, что останусь в Нью-Йорке. Она всматривалась в его глаза, но ничего там не видела. – Эндрю сказал, что вернется к Новому году. – Вот и отлично. Их взгляды встретились над головкой мальчика и обменялись тысячей невысказанных мыслей. – Когда ты уезжаешь, Мэтт? – Двадцать девятого. Я думал, что еще задержусь здесь, но я очень нужен в Нью-Йоркской школе. – Он улыбнулся: – Может, это звучит не очень скромно, но Марта говорит, что уволится, если я не вернусь, а они не могут позволить себе потерять нас обоих. Они ее действительно очень ценят. – Не скромничай. Здесь тоже без тебя будет плохо. – Да нет. На следующей неделе из Лондона приезжает новая директриса, и, судя по ее письмам, это отличная кандидатура. А я буду приезжать достаточно часто, на уик-энды, чтобы повидать ребят. Из этого Дафна сделала вывод, что Гарриет Бато не исчезла с горизонта. Она это учла и в дальнейшем разговоре была с Мэттом осторожна. Сначала она было подумала, что Барбара права и надо сказать ему о разрыве с Джастином, но теперь это казалось ей неуместным, да и не было никаких оснований считать, что для Мэтта это имело бы какое-то значение. – Почему ты не едешь кататься на лыжах с детьми? – спросила она, заранее зная ответ. – Я хочу остаться здесь с детьми, которые не могут поехать. Дафна кивнула, но догадалась об истинной причине. А потом Мэтью занялся делами, и за два дня она виделась с ним мимолетно всего несколько раз. Он был чрезвычайно занят подготовкой к приезду новой директрисы. И, как бывало прежде, только в последний вечер, после того как Эндрю лег спать, они нашли время сесть и поговорить. Она решила, несмотря на плохую дорогу, ехать домой ночью с воскресенья на понедельник. Впервые за долгое время пребывание в Нью-Гемпшире было ей в тягость. – Ну, как там в Калифорнии, Дафф? Он подал ей чашку кофе и сел в свое старинное уютное кресло. – Когда я улетала, все было в порядке. Я в Нью-Йорке с понедельника. – Для Эндрю очень хорошо, что ты остаешься на Рождество. Как я понимаю, твой друг все еще не горит желанием с ним знакомиться. Или он прилетел с тобой? Это был прекрасный повод, чтобы сказать ему, но Дафна им не воспользовалась. – Нет, мне надо начинать новую книгу. – Ты что, вообще никогда не отдыхаешь? Улыбка Мэтта была доброй, но он был каким-то отстраненным. – Как и ты. Как я заметила в последние два дня, ты на рани нервного расстройства. – Да. С трудом держусь. – Я тебя понимаю. Последние две недели съемок «Апачи» были совершенно сумасшедшие, но финиш был великолепным. Она рассказала ему о последнем дне и прощальной вечеринке, а он слушал и улыбался. Дафна была хорошей рассказчицей и старалась, чтобы разговор не перешел на личные темы. Она все еще не оправилась от обид и не хотела открываться даже перед Мэттом. Не столько из-за того, что сожалела о потере Джастина, сколько из-за того, что потерпела Поражение. От Джастина и двадцатидвухлетней девицы из Огайо. Никогда раньше такого с ней не случалось. И не служится, она ежедневно себе в том клялась. – Что ты будешь делать на Рождество без Эндрю? В глазах Мэтта было беспокойство: может, Джастин к ней прилетит? В прошлый раз в беседе она упомянула, что, возможно, они поженятся. – Мне будет чем заняться. Ответ казался вполне подходящим, и Мэтью кивнул. Они помолчали – каждый погрузился в свои мысли, и он подумал о Гарриет. Она была замечательной девушкой, но не для него, и оба это знали. Несколько недель назад она стала встречаться с другим, и Мэтт полагал, что помолвка не за горами. Гарриет созрела для брака, и многие захотели бы воспользоваться этой возможностью, но он к таким не относился. Он не любил ее. А она была достойна лучшего, он сказал ей это при последнем свидании. Дафна пристально посмотрела на него и сказала: – Ты что-то ужасно серьезен, Мэтт. Он посмотрел на огонь, а потом на нее. – Я думал, как все стремительно меняется. Дафна задавалась вопросом, насколько сильно он увлечен той девушкой. Может, он собирается жениться? Но в тот момент она решила его об этом не спрашивать. Ей хватало и своих забот, а он, когда захочет, сам ей скажет. – Да, ты прав. Я не могу поверить, что год уже кончается. – Я же говорил тебе, что это не навсегда. Мэтью был спокоен и рассудителен. Дафна заметила, что у него в волосах по сравнению с прошлым годом прибавилось седины. – И у Эндрю все в порядке. – Он улыбнулся ей. – Да и твои дела не так уж плохи. – Да, Эндрю молодец благодаря тебе, Мэтт. – Это не так. Эндрю молодец, потому что он Эндрю. Она кивнула и затем поднялась. – Я лучше поеду, а то и до завтра не доберусь. – Ты уверена, что это необходимо? Мэтью огорчился, и она улыбнулась. За прошедший год он так часто ее успокаивал, что трудно было удержаться, чтобы не обнять его в этот раз, но она знала, что это будет нехорошо по отношению к нему. Он казался довольным и сам сказал, что все меняется. Лучше оставить все как есть. – Не беспокойся за меня. Меня ничто не берет, ты же знаешь. – Возможно, но на дорогах чертовски много снега, Дафф. – И, проводив ее до двери, он спросил: – Ты мне не позвонишь, когда доберешься домой? – Не выдумывай, Мэтт. Я приеду в три или четыре утра. Это только для меня нормальное время, а не для остальных людей. – Это ничего, просто позвони. Я потом сразу опять засну. Я хочу знать, что с тобой все о'кей. Если ты мне не позвонишь, я не лягу, пока сам тебе не дозвонюсь. В данном случае речь не шла о звонке вежливости, то было напоминание об их старой дружбе. – Хорошо, я позвоню. Но мне очень не хочется тебя будить. Дафна вспомнила об этом, когда медленно ехала в южном направлении по обледеневшему шоссе. Дорога заняла у нее больше времени, чем она рассчитывала, и домой она добралась только в пять утра. Звонить в такое время казалось преступлением, однако она вынуждена была признаться себе, что ей этого хотелось. Она набрала его номер из своего кабинета, Мэтт сразу же сонным голосом ответил. – Мэтт? Я дома. – Она говорила шепотом. – Ты цела и невредима? – Он взглянул на часы. Было четверть шестого. – Все в порядке. Спи дальше. – Ну, хорошо. – Он с сонной улыбкой повернулся в кровати. – Это мне напомнило твои звонки из Калифорнии. Она тоже улыбнулась, такое необычное время способствовало откровенности. – Знаешь, я по тебе скучал. Твои наезды сюда какие-то странные. Я занят, да и люди кругом толкутся. – Я знаю. Мне тоже неудобно. Они немного помолчали, и Дафна подумала, что надо дать ему выспаться. – Ты сейчас счастлив, Мэтт? Она хотела спросить его о Гарриет, но не решилась. – Вполне. Я слишком занят, чтобы задавать себе этот вопрос. А как насчет тебя? Дафна на мгновение растерялась, но тут же овладела собой. – У меня все нормально. – Замуж выходишь? – Ему пришлось спросить. – Нет. – Но больше Дафна ничего не сообщила. – А вот Барбара, по-моему, да. – За парня из Лос-Анджелеса? – Да. Он просто замечательный. Она это заслужила. – Ты тоже... – Слова выскользнули сами собой, и он сразу же пожалел о них. – Извини, Дафф. Это меня не касается. – Ничего. Я столько слез пролила тебе в жилетку в этом году. – Но ты ведь уже больше не плачешь, Дафф, не так ли? Мэтт говорил грустным тоном, и Дафна знала, что он спрашивает о Джастине. – Последнее время нет. – Я рад. Ты заслужила, чтобы у тебя в жизни было все хорошо. – И ты тоже. У Дафны на глазах выступили слезы, и она подумала, что оказалась в странной ситуации. Он имел право быть счастливым с той девушкой, но Дафна знала, что без него ей будет плохо. Когда он уедет из Говарда, больше не будет повода звонить ему. Они разве что могут время от времени пообедать вместе, но это все, а может, и это будет невозможно, если он женится. – Спи, Мэтт, уже так поздно. Он зевнул и снова посмотрел на часы. Было почти шесть, и пора было вставать. – Тебе тоже надо немного поспать. Ты, наверное, устала с дороги. – Немного. – Спокойной ночи, Дафф, я тебе скоро позвоню.Дафна звонила, чтобы передать кое-что Эндрю перед его отъездом в Вермонт, но Мэтта не было на месте; она собиралась позвонить ему на Рождество, но так и не позвонила. Машина сбила ее на Мэдисон-авеню в рождественский сочельник, и, вместо того чтобы звонить Мэтту, она лежала в больнице Ленокс-Хилл, а Барбара смотрела на нее, и слезы медленно стекали по ее лицу. Барбара не могла поверить, что это случилось с Дафной. И что она теперь скажет Эндрю? Дафна взяла с нее слово не звонить, но раньше или позже это сделать придется, она это знала. Тем более если... Она гнала от себя эту мысль. В этот момент Лиз Ваткинс подала ей знак, что пора покинуть палату, и, проверив у Дафны пульс, она поняла, что у той жар. – Как она? Лиз Ваткинс посмотрела Барбаре в глаза, пытаясь угадать, как она воспримет правду, и вышла с ней в коридор. – Неважно, честно говоря. Причины жара могут быть разные. Барбара кивнула, у нее снова выступили на глазах слезы. Она пошла позвонить Тому, который весь день ждал у нее в квартире. Скверно было праздновать Рождество таким образом, но она обязана была находиться здесь с Дафной. – Ох, детка... Он подумал, что случилось самое страшное, но Барбара поспешила его успокоить. Она звонила уже десятый раз, и Том огорчился, слыша, что она плачет. – У нее жар, и сестра, по-моему, обеспокоена. Том долго молчал: – Тебе надо кому-то сообщать, Барб? Ей на плечи теперь легла громадная ответственность. – У нее нет родных, кроме Эндрю. Барбара стала тихо всхлипывать, думая о нем, сообщение о потери матери убило бы его. Она знала, что в этом случае забрала бы его с собой в Калифорнию к Тому, но это было бы не то. Ему нужна была Дафна. Да и всем им. – И я не могу ему позвонить. Он уехал кататься на лыжах. К тому же ему всего восемь лет. Ему не следует на это смотреть. – Она что, так плоха? – Нет, но... – Барбара еле выдавливала из себя слова. – Она может не вытянуть. Тогда Тому пришла в голову мысль: – А как насчет того парня, директора интерната, он же ее друг? – Что ты имеешь в виду? – Не знаю, Барб, но для него это может что-то значить. Судя по твоим рассказам, там дело обстоит серьезнее, чем она сама говорила. Одно было ясно – Джастину она звонить не будет. – Не думаю. – Барбара задумалась. – Но может, я ему и позвоню. Даже Барбара не знала, как они стали близки, но она подумала, что с ним можно посоветоваться, как быть с Эндрю. – Я тебе еще позвоню. – Хочешь, я приеду? Она хотела сказать «нет», но тут снова расклеилась. Она больше не могла это выносить. Он здесь был ей необходим. – Никаких проблем. Я буду через десять минут. Барбара назвала ему этаж, а он пообещал привезти ей чего-нибудь поесть. Есть ей не хотелось, но она знала: чтобы продержаться ночь, надо есть и пить много кофе. У Барбары было предчувствие, что дела у Дафны плохи, и она готовилась к самому худшему варианту. Барбара долго сидела в телефонной будке, пытаясь решить, правильно ли будет, если она позвонит Мэтью. В один из немногих проблесков сознания Дафна велела ей не звонить. Но что-то подсказывало ей, что это нужно сделать. У Барбары была сумочка Дафны, и она заглянула в ее маленькую записную книжку. Рядом с фамилией и именем Мэтью Дэйна был записан номер его домашнего телефона. Он ответил несколько рассеянно, словно был занят работой. – Мистер Дэйн, говорит Барбара Джарвис, из Нью-Йорка. Она почувствовала, что сердце у нее стучит и ладони взмокли. Предстоял трудный разговор. – Да? – Он, судя по голосу, удивился. Официальные звонки от Дафны обычно не раздавались в вечернее время, тем более на Рождество. Он сразу вспомнил имя секретарши. Может, она звонила, чтобы что-то передать Эндрю? – Я... Мистер Дэйн, мне пришлось вам позвонить. С мисс Филдс произошел несчастный случай. Я сейчас с ней в больнице... – Это она просила вас позвонить? Он, казалось, был потрясен, и Барбара с трудом сдержала слезы, покачав головой. -Нет. Он услышал, что она плачет. – Прошлой ночью ее сбила машина, и... мистер Дэйн, она в реанимации и... – В этот момент рыдания прорвались наружу. – Господи! Она в очень тяжелом состоянии? Барбара рассказала ему все, что знала, и слышала, что голос у него дрожал, когда он отвечал. – Она не хотела, чтобы я звонила вам или Эндрю, но я подумала... – Она в сознании? – спросил он с облегчением. – Она приходила ненадолго в сознание, но сейчас снова впала в забытье. – Барбара глубоко вздохнула и сказала ему то, что говорила Тому: – У нее появился жар. Она также сказала ему, что это может означать, и ему пришлось контролировать свой голос, когда он задавал следующий вопрос. Мэтт внезапно понял то, что не доходило до него прежде, – каково ей было терять Джеффри, а потом Джона. Он не мог этого вынести. – Барбара, а с ней есть еще кто-нибудь, кроме вас? Он не знал, как еще спросить. – Нет, но сейчас должен прийти мой... жених. Он из Лос-Анджелеса... И тут она поняла, что говорит ему не то, что он хотел бы знать. Она решила взять быка за рога. – Мистер Дэйн, она порвала с Джастином месяц назад. – Почему же она мне ничего не сказала? Казалось, он был еще более поражен, чем прежде. – Она думала, что вы влюблены в местную девушку, и считала, что нехорошо будет говорить вам о Джастине. – О Господи! А он сидел с ней у камина, рассуждая, как меняются времена. Он чуть не застонал, слово в слово вспомнив их разговор. Он предполагал, что Дафна с Джастином вот-вот поженятся. – Как вы считаете, следует ли нам сообщить Эндрю? – Нет. Он ничем не сможет помочь. И слишком мал, чтобы без необходимости иметь с этим дело. – Мэтт посмотрел на часы, поднялся и стал расхаживать по комнате, держа в руке телефон. – Я через шесть часов буду на месте. – Вы приедете? – Барбара опешила. Этого она не ожидала. – А вас это удивляет? – Он, очевидно, обиделся. – Не знаю. Я просто решила, что обязана вам позвонить. – И правильно сделали. И я не знаю, имеет ли это теперь значение, но просто ради информации: я полюбил ее с первого взгляда. Но я был слишком глуп и не решился ей об этом сказать. – Он почувствовал, что комок подступает к горлу, и услышал, что Барбара тихо плачет в трубку. – Я не намерен теперь ее терять, Барбара. Она кивнула: – Надеюсь, что этого не случится. (обратно)
Глава 37
Мэтью гнал в Нью-Йорк так быстро, как только мог, не переставая думать о Дафне. Каждый телефонный разговор, каждая встреча, казалось, неизгладимо запечатлелись в его памяти, и теперь все это мелькало в его голове, как кадры кинофильма. Пару раз он улыбнулся, вспомнив какие-то ее высказывания, но большую часть времени его лицо было мрачным. Он не мог поверить в происшедшее. Это не могло случиться. Не с ней. Не с Дафной. В ее жизни уже было столько всего, столько печали и боли, столько событий, требовавших бесконечного мужества. Невероятно, чтобы этому суждено было так закончиться, но он понимал, что это возможно, и мысль о том, что она может умереть до его приезда, заставляла его ехать еще быстрее. В больницу Ленокс-Хилл Мэтью прибыл в два тридцать утра. В вестибюле почти весь свет был погашен, холлы на всех этажах были пустынны. Поднявшись, он пошел прямо к пульту отделения интенсивной терапии, и тогда его увидела Барбара. Она давно отправила Тома домой и настояла, что сама останется. До того сестра сказала им, что эта ночь будет критической. Дафна больше не могла находиться в том же состоянии, предстояло либо улучшение, либо потеря шансов на поправку. – Мэтт? Он обернулся на голос Барбары, сожалея, что то была не Дафна. Барбара не могла поверить, что он так быстро приехал. Должно быть, он летел по обледенелым дорогам. Ему повезло, что он не оказался в таком же состоянии, что и Дафна. – Как она? – Все так же. Она ведет тяжелую борьбу. Мэтт печально кивнул. У него под глазами были мешки: он работал как проклятый, а тут еще такое. На нем были те же вельветовые брюки и толстый свитер, что и в момент, когда позвонила Барбара. Мэтт тогда наскоро написал записку ночному персоналу и выбежал за дверь, схватив пальто, ключи и бумажник. – Я могу ее увидеть? Барбара посмотрела на сестру, а та на часы. – А чуть позже не можете? – Сестра, – он повернулся к ней и схватился своими крепкими руками за ее стол, – я семь часов ехал из Нью-Гемпшира, чтобы ее увидеть. – Ну ладно. Теперь это было не важно. А через час могло быть слишком поздно. Лиз Ваткинс проводила его до открытой двери ярко освещенной палаты, и там лежала Дафна, неподвижная, вся в бинтах и пластырях, окруженная аппаратурой. Мэтью ощутил чуть ли не физический шок, когда ее увидел. Прошло всего две недели с тех пор, как она последний раз была в Говарде, и теперь такая перемена. Он медленно вошел в палату, сел на пустой стул у изголовья и стал ласково гладить светлые волосы. Барбара наблюдала эту сцену, а потом отвернулась и вышла следом за Лиз. Она не хотела мешать, да и присутствие мужчины ее ободрило. Для такой женщины, как Дафна, одиночество вредно. А этот мужчина с добрыми карими глазами, казалось, очень Дафне подходил. – Привет, крошка. Он рукой коснулся нежной щеки, а потом сел и долго смотрел на нее, снова задаваясь вопросом, почему она не сказала ему о Джастине. Может, зря в нем проснулись надежды, может, она никогда не любила его и никогда не полюбит. Но, если она еще придет в себя, он ей обязательно скажет о своей любви к ней. Так он просидел около часа, глядя на ее лицо, и наконец Лиз пришла в палату проведать ее. – Есть перемены? Она покачала головой. Жар немного усилился. Лиз не уходила из палаты, но и его не прогоняла. Он сидел там до семичасового пересменка, и Лиз сообщила сестре утренней смены, в чем дело. – Разреши ему там сидеть, Анна. Вреда он не причинит, да и кто знает, вдруг это ей поможет? Она ведь борется за жизнь. Сменщица кивнула. Они обе знали, что иногда выживали люди, находившиеся, казалось, в безнадежном состоянии, и если присутствие кого-то из близких могло помочь, сестры не возражали. Лиз зашла в палату, чтобы попрощаться и еще взглянуть на Дафну. Ей показалось, что Дафна стала чуть менее бледной, но определенно сказать было трудно. Он же выглядел просто ужасно: на лице появилась щетина, а круги под глазами стали еще темнее. – Может, вам что-нибудь принести? – шепнула она ему. Это не полагалось, но она могла принести ему чашку кофе. Но Мэтт только покачал головой. А когда Лиз уходила, она заметила, что Барбара спит на диване. Она шла домой, думая, будет ли еще Дафна в палате, когда снова наступит ее дежурство. Лиз на это надеялась. Она думала о ней весь день и потом стала перечитывать фрагменты из «Апачи», ее любимого романа. А когда снова пришла в отделение в одиннадцать часов вечера, то боялась спросить. Но сестра сказала ей, что он все еще в палате и Дафна тоже. Барбара после полудня наконец пошла домой немного отдохнуть. Дафна же все еще держалась, но с трудом. Лиз молча прошла к двери палаты и заглянула внутрь. Она увидела, что он стоял рядом с Дафной, смотрел ей в лицо, почти умоляя ее глазами не уходить. – Чашку кофе не желаете, мистер Дэйн? – Она прошептала его фамилию, которую ей сказали. Он, судя по всему, целый день ничего не ел, только без конца пил кофе. – Нет, спасибо. – Он улыбнулся ей, его щетина стала заметнее, но глаза были сильными и живыми, а улыбка доброй. – По-моему, ей лучше. Жар прекратился, но за весь день она ни разу не шевельнулась. Он видел, как сестры подключали к ней разные трубки, а Дафна даже не вздрогнула. Он стоял и гладил ее волосы, а Лиз за ним наблюдала. Она медленно подошла к кровати. – Это удивительно, знаете. Иногда такие люди, как вы, помогают больному преодолеть кризис. – Будем надеяться. Они улыбнулись друг другу, и Лиз вышла, а Мэтью опять сел и продолжал вглядываться в лицо Дафны, и только на рассвете она наконец пошевелилась. Он в напряжении сидел на стуле и не сводил с нее глаз. Мэтью не был уверен, что могло означать ее движение, но потом она открыла глаза и обвела ими палату. Она была явно озадачена, видя его, и потом снова забылась, но всего на несколько минут. Мэтью хотел вызвать сестру, но боялся пошевелиться и еще подумал, что, может, сам отключился и все это ему приснилось. Но она снова открыла глаза и посмотрела долгим, тяжелым взглядом. – Мэтт? – Ее голос был только чуть громче шепота. – Доброе утро. – Ты здесь? Она говорила очень тихо и скорее всего не поняла, как |он тут оказался, но улыбнулась, а он взял ее руку. – Да. Ты долго спала. – Как Эндрю? – Прекрасно. – Мэтт говорил с ней тоже шепотом. – И с тобой все будет хорошо. Ты это знаешь? Она слабо улыбнулась ему: – Я себя пока неважно чувствую. Мэтт оценил ее юмор. Он дежурил двадцать восемь часов в страхе за ее жизнь. – Дафна... – Он ждал, когда она снова откроет глаза. – Я хочу тебе кое-что сказать. Он почувствовал в горле комок и только гладил ее руку, а она посмотрела на него и слегка кивнула. – Я уже знаю. – Как? – Он был разочарован. Она уже все знала и не хотела его выслушать? – Ты... собираешься... жениться... Она смотрела на него своими большими голубыми печальными глазами, а он с изумлением взглянул на нее: – Неужели ты действительно думаешь, что я сидел здесь и ждал, пока ты проснешься, для того чтобы сказать, что собираюсь жениться? Легкая улыбка скользнула по ее лицу. – Ты всегда был таким благовоспитанным... – Не благовоспитанным, глупышка. Улыбка стала шире, она прикрыла глаза и с минуту не открывала их. А когда снова открыла, он пристально смотрел на нее. – Я люблю тебя, Дафф. Я всегда тебя любил и буду любить. Вот что я хотел тебе сказать. – Нет, нет. – Она попыталась покачать головой, но вместо этого только поморщилась. – Ты любишь Гарриет... Бато... или как там ее зовут... – Гарриет Боут, как бы ты ее ни назвала, для меня ничего не значит. Я перестал с ней встречаться после того, как сказал, что не люблю ее. Она знала правду. Единственная, кто ничего не знал, – это ты. Она долго смотрела на него, пытаясь все это уяснить. – Я винила себя за чувства, которые испытывала к тебе, Мэтт. – Почему? – Не знаю... Я думала, что это непорядочно по отношению... к тебе... или к Джастину. – Она снова посмотрела на него долгим взглядом. – Я рассталась с ним. – Почему же ты мне не сказала? – Я думала, что ты любишь другую. – Они оба продолжали говорить шепотом. – И ты сказал... – Я знаю, что сказал. Я думал, что вы с этим твоим Аполлоном Бельведерским собираетесь пожениться. Она улыбнулась ему, и в этом взгляде была вся ее жизнь. – Он сопляк. – Ну и мы такими были. Я люблю тебя, Дафф. Ты выйдешь за меня замуж? Две больших слезы сползли из ее глаз, она стала плакать и закашлялась. Он поцеловал ее глаза и приник своим лицом к ее лицу. – Не плачь, Дафф... пожалуйста... все хорошо... Я не хотел тебя расстроить... Значит, она его вообще не любила. Ему тоже хотелось расплакаться, но он только гладил ее волосы, пока она пыталась успокоиться. – Извини... – Но тут он снова услышал ее голос и застыл на месте. – Я тебя тоже люблю... Я думаю, что полюбила тебя в первый же день нашего знакомства... – Она заглянула ему в глаза, а слезы продолжали медленно стекать по ее щекам. – Я не могу выразить, как люблю тебя. Лиз Ваткинс зашла в палату попрощаться с ним перед уходом и как вкопанная встала в дверях. Она услышала голос Дафны и увидела их головы рядом. Тогда она тихо постучала и вошла в палату. Она собиралась спросить, как Дафна, но увидела сама, подойдя к кровати. Они оба плакали, а Дафна еще и улыбалась. – Вы похожи на счастливую пару. – Так оно и есть, – ответил Мэтт за свою будущую жену. – Мы только что решили пожениться. – А перстенек покажете? – Глаза Лиз тоже сияли. Ей было достаточно взглянуть на Дафну, чтобы сказать, что она поправится. Кризис прошел, и худшее было позади. – Где перстенек-то? – пошутила она ласково. – Она его съела. Поэтому и попала сюда. Лиз снова оставила их одних, и Мэтью с улыбкой посмотрел на Дафну: – Не рано будет через неделю? – А у меня тогда еще будет так болеть голова? – Она выглядела очень усталой, но необыкновенно счастливой. – Надеюсь, что нет. – Тогда следующая неделя годится. А Эндрю приедет? – Да, и об этом я тоже хотел с тобой поговорить. Что, если он будет учиться в Нью-Йоркской школе? – И жить дома? – По-моему, он готов. Дафна все еще улыбалась, когда сестра утренней смены вкатила в палату раскладушку, разложила ее рядом с кроватью Дафны и, улыбнувшись, сказала: – Это приказ врача. Он сказал, что, если вы не поспите хоть немного, мистер Дэйн, он вам даст общий наркоз. Когда сестра вышла из палаты, Мэтт вытянулся на раскладушке и взял руку Дафны в свою. Она опять уснула, но теперь ее сон не внушал опасений. Мэтью знал, что Дафна поправится, и, засыпая, улыбался про себя. Какими же дураками они были! Надо было сказать ей еще год назад, но теперь это уже не важно... все не важно... кроме Дафны. (обратно) (обратно)Жаклин Сьюзанн Девственница (Одного раза недостаточно)
Пролог
ОН
Он ворвался в театральный мир Нью-Йорка в 1945 году. Его звали Майк Уэйн; он был рожден для побед. Он заслужил славу лучшего картежника ВВС, и тринадцать тысяч долларов, вывезенные под мундиром, подтверждали эту репутацию. В юности он понял, что биржа и шоу-бизнес — две самые азартные игры на свете. В двадцать семь уволился из ВВС. Большой поклонник женского пола, он выбрал шоу-бизнес. Вложив свои тринадцать тысяч, за пять дней аншлага в «Акведуке» превратил их в шестьдесят. Инвестировав заработанное в бродвейскую постановку, он стал сопродюсером. Спектакль имел успех, и он женился на Викки Хилл — самой красивой статистке. Викки мечтала стать звездой, и он предоставил ей шанс. В 1948 году создал свой первый большой мюзикл с Викки в главной роли. Шоу стало хитом, несмотря на плохую игру его жены. Критики хвалили Уэйна за то, что он окружил Викки талантливыми исполнителями, удачно выбрал пьесу и обеспечил высокую прибыль. Но все сошлись в том, что Викки — весьма посредственная актриса. Когда спектакль прекратил свое существование, Майк забрал жену со сцены. («Детка, надо уметь вовремя отойти от стола. Я дал тебе возможность испытать себя. Теперь роди мне сына».) В первый день 1950 года она подарила ему девочку. Он назвал ее Дженюари, что означает «январь». Когда медсестра протянула ему сверток с дочерью, он поклялся, что преподнесет Дженюари весь мир. Когда Дженюари было два года, он здоровался прежде с ней, а потом с женой. Когда ей исполнилось четыре, он отправился в Каллифорнию и стал продюсером своего первого фильма. Когда ей было пять, он выпустил за год два боевика и был выдвинут на присуждение «Оскара». Когда ей исполнилось шесть, он получил «Оскара», и его имя связывали с именами нескольких кинозвезд. (Именно тогда его жена стала пить и завела любовника.) Когда Дженюари исполнилось семь лет, он назвал ее именем свой личный самолет, а Викки убила себя, пытаясь сделать себе аборт. Так они остались вдвоем. Майк пытался объяснить дочери ситуацию по дороге в престижную школу, расположенную в Коннектикуте. — Теперь, когда мамы нет, воспитатели сделают из тебя настоящую леди. — А почему мне нельзя остаться с тобой, папа? — Потому что я часто уезжаю. И вообще, воспитанием маленьких девочек обычно занимаются женщины. — Почему мама умерла? — Не знаю, милая… Возможно, потому, что она хотела быть кем-то. — Это плохо? — Да, если тебе не дано стать кем-то. Тогда что-то гложет тебя изнутри. — А ты сам — кто-то? — Я? Я — суперкто-то, — рассмеялся он. — Тогда я тоже буду кем-то, — заявила она. — О'кей. Но прежде ты должна стать леди. Так она попала в школу мисс Хэддон. Когда Майк прилетел в Нью-Йорк, они проводили уик-энды вдвоем. Его известность росла и, как все хорошие игроки, он знал, когда можно испытывать судьбу, а когда не стоит рисковать. Он мог одной ставкой изменить весь расклад на ипподроме. Однажды он проиграл свой самолет, но встал из-за стола с улыбкой на лице, потому что знал — завтра удача вернется к нему. Если бы Майка спросили, когда фортуна оставила его, он смог бы назвать точную дату. Рим, 20 июня 1967 года. В этот день он узнал о том, что случилось с дочерью. (обратно)ОНА
Если бы ее спросили, когда удача изменила ей, она не смогла бы ответить на вопрос. Она всегда думала о себе как о его дочери. А быть его дочерью — это уже самое большое везение на свете. Она с самого начала приняла школу мисс Хэддон как нечто временное. Девушки держались дружелюбно. Они все относились к одной из двух категорий. Ученицы постарше поклонялись Элвису Пресли, а младшие входили в свиту Линды. Линде Риггз было шестнадцать. Она умела петь и танцевать; еежизнелюбие было заразительным. (Спустя годы, наткнувшись на школьную фотографию Линды, Дженюари поразилась ее сходству с Ринго Старром.) Но когда Линда была признанной звездой школы, никто не замечал, что, у нее жесткие, недостаточно густые волосы, слишком широкий нос и толстая серебряная шина на зубах. Все знали, что по окончании учебы Линда станет звездой бродвейских музыкальных комедий. За год до выпуска Линда сыграла главную роль в школьной постановке отредактированной версии пьесы «Энни, возьми свой револьвер». Когда начались репетиции, Линда сделала восьмилетнюю Дженюари «своей самой близкой подругой». Она выполняла мелкие поручения Линды, подсказывала слова и текст песен. Дженюари никогда не входила в свиту Линды, но их близость доставляла ей радость, потому что Линда постоянно говорила о Майке Уэйне. Она была его поклонницей. Пригласила ли Дженюари папу на школьный спектакль? Приедет ли он? Он обязательно должен приехать! Разве не Линда добилась участия Дженюари в шоу? Майк действительно прибыл в школу, и после спектакля на глазах у Дженюари звезда «Энни, возьми свой револьвер» превратилась в заикающуюся, пунцовую от волнения старшеклассницу — Майк Уэйн пожал ей руку. — Правда, она великолепна? — сказала отцу Дженюари, когда они остались вдвоем. — Она бездарность. Ты в хоре более эффектна, чем Линда в главной роли. — Но она такая талантливая. — Линда — толстая уродина. — Правда? — Конечно. Но когда Линда покинула школу, там вдруг стало пусто и скучно. Главная роль в спектакле на следующий сезон досталась красавице Анджеле, но все сошлись во мнении, что ей далеко до Линды. Спустя два года ученицы снова заговорили о Линде. Одна из девушек прибежала в класс с номером журнала «Блеск». На первой странице, рядом с выходными данными, стояли имя и фамилия Линды Риггз, младшего редактора. Новость произвела впечатление на всю школу, но Дженюари втайне испытала разочарование. А как же Бродвей? Когда она рассказала отцу о Линде, Майк, похоже, не удивился. — Странно даже, что ее взяли в журнал мод. — Но Линда так талантлива, — не сдавалась Дженюари. — Для школы — да. Но сейчас конец шестидесятых, и девушки с внешностью Лиз Тейлор и Мэрилин Монро обивают пороги театров в поисках работы. Я не утверждаю, что красота — это все… но она очень помогает. — А я буду красивой? Он усмехнулся, коснувшись ее густых каштановых волос. — Ты будешь не просто красива. Тебе достались бархатные карие глаза твоей мамы. На них-то я и обратил внимание в первую очередь. Она не сказала отцу, что предпочла бы иметь его глаза — ярко-голубые, резко контрастировавшие с постоянным загаром и черными волосами. Она никогда не могла привыкнуть к его необыкновенной красоте. Ее одноклассницы также восхищенно поглядывали на Майка Уэйна — они часто видели своих отцов небритыми, усталыми, боящимися потерять волосы или работу, постоянно ругавшимися с женами и сыновьями. Но Дженюари проводила уик-энды в Нью-Йорке с привлекательным мужчиной, который жил для того, чтобы сделать дочь счастливой. Из-за этих уик-эндов Дженюари не сближалась с другими ученицами. Дружба с ними означала бы праздничные обеды в их семьях, иногда — визиты на пару дней на взаимной основе. Дженюари не хотела делить с кем-то свои уик-энды с отцом. Конечно, иногда он улетал в Европу или на Западное побережье, но их встречи компенсировали временное одиночество. Субботним утром лимузин увозил ее в Нью-Йорк… в большой угловой «люкс» «Плазы», который Майк арендовал круглый год. В момент появления дочери он обычно завтракал. Секретарша иногда делала какие-то записи под его диктовку; помощник информировал о недельных доходах; пресс-агент показывал рекламный анонс; постоянно звонили телефоны, иногда три сразу. Но когда Дженюари входила в «люкс», вся деятельность останавливалась, и девочка попадала в объятия отца. От него пахло хвоей… В сильных руках Майка она чувствовала себя защищенной. Она что-нибудь ела, а он быстро расправлялся с делами. Эта картина всегда очаровывала Дженюари. Его хитроумные комбинации, отрывистые распоряжения, которые он бросал в телефонную трубку. Она наблюдала за отцом, прижимавшим плечом телефонную трубку и что-то писавшим… Она испытывала удивительно приятное чувство, когда он вдруг подмигивал ей — это означало: «Чем бы я ни занимался, я всегда помню о тебе». После ленча не было посетителей и звонков. Остаток дня принадлежал ей. Иногда он вел ее в «Сакс» и опустошал прилавки. Иногда — на каток в Рокфеллеровский центр. Там он сидел в баре и потягивал спиртное, пока тренер занимался с Дженюари. Если Майк работал над новой постановкой, она посещала репетицию. Они пересмотрели все спектакли на Бродвее; порой за один день успевали посетить и утреннее и вечернее шоу. А заканчивался день неизменно в «Сарди», за престижным столом перед сценой. Но она ненавидела воскресенья. Как бы весело ни проходил их совместный обед, после него всегда появлялся большой черный лимузин, который увозил ее обратно к мисс Хэддон. Дженюари понимала необходимость отъезда — отца ждали телефонные звонки, очередная постановка. Но его коронным шоу бывали ее дни рождения. Когда ей исполнилось пять лет, он нанял небольшой цирк и пригласил туда весь детский сад. Еще была жива ее мама — кареглазая женщина с отсутствующим взглядом наблюдала за представлением без интереса. Шестилетняя Дженюари отправилась на санях в Сентрал-парк, где ее ждал Санта-Клаус с подарками в мешке. Другой раз она попала на кукольный спектакль и познакомилась с настоящим волшебником. Но ее восьмой день рождения они отмечали вдвоем. Это был первый день рождения Дженюари после смерти матери. Он пришелся на середину недели. Лимузин доставил девочку из школы в «Плазу». Дженюари смотрела, как отец откупорил бутылку шампанского и налил дочери четверть бокала. — Это — лучшее шампанское на свете, детка. Он поднял бокал. — За мою даму… единственную, которую я люблю и буду любить. Так он приобщил ее к «Дому Периньону» и икре. Потом он подвел дочь к окну и указал пальцем на воздушный шар, проплывавший мимо «Плазы». Обычно на нем была реклама «Гудьир». Но сейчас они увидели огромную красную надпись: «С днем рождения, Дженю-ари!» С тех пор «Дом Периньон» и икра стали неизменными атрибутами всех важных событий. В день тринадцатилетия он повел ее в «Мэдисон-сквер-гарден». В вестибюле было темно, и она решила, что они опоздали. Отец взял Дженюари за руку и повел в зал. К ее удивлению, никто не подошел к ним, чтобы провести на места. Она не увидела ни зрителей, ни служащих, ни огней. Майк зашагал вдоль прохода в пугающий мрак. Рука об руку они спускались все ниже и ниже, в самое чрево пустого зала. Наконец Майк остановился и негромко произнес: — Загадай желание, детка, большое желание — сейчас ты находишься на том самом месте, где стояли знаменитые победители — Джо Луис, Шуга Рей, Марсиано. Он поднял вверх ее руку, точно рефери, и, пародируя звучный голос судьи, произнес: — Леди и джентльмены, позвольте представить вам самого величайшего победителя, мисс Дженюари Уэйн, которая сегодня прощается с детством. После паузы Майк добавил: — Это означает, что теперь ты выступаешь в тяжелой весовой категории. Она обняла его. Он склонился, чтобы поцеловать ее в щеку, но в темноте их губы встретились и на несколько мгновений слились… Перед рампой вспыхнула надпись: «С днем рождения, Дженюари!» На столе стояло шампанское и икра, возле него вытянулся в струнку официант. Заиграл оркестр, хор запел «С днем рождения». Потом музыканты стали исполнять любимые мелодии Дженюари. Отец и дочь потягивали шампанское. Майк пригласил Дженюари на танец. Сначала она немного нервничала, но после первых робких шагов прильнула к отцу, и внезапно ей показалось, что она танцевала с ним всю жизнь. Двигаясь под музыку, он прошептал: — Скоро ты станешь совсем взрослой леди. В твоей жизни появится молодой человек, который будет значить для тебя больше, чем что-либо на свете… он возьмет тебя в свои объятия… вот так… и ты узнаешь, что такое любовь. Дженюари ничего не произнесла, потому что она уже находилась в объятиях единственного мужчины, которого любила. Когда она закончила школу мисс Хэддон, Майк делал кинокартину в Риме. Его отсутствие на выпускной церемонии не огорчало Дженюари. Она сама охотно избежала бы ее, но девушке предложили выступить с прощальной речью. Лето ей предстояло провести в Риме с отцом. Она одержала верх в споре о колледже. — Папа, я столько лет провела в школе. — Детка, колледж — это важно. — Почему? — Ты там многое узнаешь, познакомишься с интересными людьми, подготовишься к — черт возьми, я не знаю, к чему. Так надо. Не зря твои одноклассницы отправляются в колледж. — Но у них нет такого отца. — Хорошо, что ты хочешь делать? — Наверное, стать актрисой. — Но для этого тоже надо учиться! Так все и решилось. После съемок в Риме его ждала картина в Лондоне. Ему удалось устроить Дженюари на осенний семестр в Королевскую академию драматического искусства. Дженюари не рвалась туда… Она даже не была уверена в том, что действительно хочет стать актрисой… Но она поедет в Рим! Осталось только сдать два последних экзамена. Под мантией выпускницы на ней было голубое платье из льна. Билет на самолет и паспорт лежали в сумочке, а багаж — в лимузине, ждавшем ее возле школы. Она произнесет речь, получит диплом и умчится! Когда все кончилось, она заспешила вдоль прохода, выслушивая поздравления родителей ее одноклассниц, прощаясь с подругами и обещая писать. Сняла с себя мантию, бросила шапочку мисс Хикс из драмкружка. Прощайте все! Скорее в лимузин, в аэропорт «Кеннеди»! «Боинг-704»… полупустой первый класс… Волнение мешало ей сосредоточиться на еде или фильме. Многочасовое перелистывание журналов, грезы, кока-кола… и наконец приземление, семь часов утра по римскому времени. Вот он… стоит с каким-то важным чиновником… прямо на летном поле… возле личного автомобиля. Вниз по трапу… в объятия самого потрясающего мужчины на свете… принадлежащего ей! Длинный черный лимузин подвез их к таможне… в ее паспорте поставили штамп… два красивых молодых итальянца в облегающих костюмах ждали прибытия ее багажа. — Они не говорят по-английски, но они отличные ребята, — сказал Майк, вручая им хрустящие купюры. — Они получат твои вещи и доставят их в отель. Он подвел ее к приземистому красному «ягуару». Крыша машины была опущена. Майк улыбнулся, заметив восторг дочери, — Я решил, что мы получим большее удовольствие, если поедем одни. Садись, Клеопатра. Рим ждет тебя. В это ослепительное июньское утро состоялось ее знакомство с Римом. Ветер был теплым, раннее солнце грело лицо Дженюари. Лавочники неторопливо поднимали жалюзи. Молодые парни в фартуках подметали тротуар между столиками уличного кафе. Порой вдали раздавался сигнал автомобиля — в час «пик» он бы слился с хором подобных гудков. Майк остановил машину возле небольшого ресторана. Выбежавший хозяин заведения обнял продюсера и заявил, что лично подаст им яйца, сосиски и булочки, только что испеченные его женой. К тому времени, когда они добрались до квартала на Виа Венето, где находился отель «Эксельсиор», уровень городского шума заметно возрос. Дженюари разглядывала многочисленные кафе со столиками под открытым небом, туристов, читавших «Нью-Йорк тайме» и парижское издание «Трибьюн». — Это и есть Виа Венето? — спросила Дженюари. Майк усмехнулся: — Да, она самая. Извини, я не смог устроить так, чтобы ты увидела идущую по ней Софи Лорен. На самом деле ты можешь простоять тут целый год и не встретить Софи Лорен. Зато за один час здесь можно увидеть всех американцев, находящихся в городе. «Люкс» в «Эксельсиоре» потряс Дженюари своими размерами. Красивые мраморные камины, столовая, две большие спальни — настоящий дворец. — Я оставил для тебя комнату, выходящую окнами на здание американского посольства, — сказал Майк. — По-моему, там тише. Он указал на ее принесенные в номер чемоданы. — Разложи вещи, прими душ и поспи. Часа в четыре пришлю за тобой автомобиль. Ты сможешь посмотреть студию, а назад поедем вместе. — А не могу я отправиться на студию сейчас, с тобой? Он улыбнулся: — Послушай, я не хочу, чтобы тебя клонило в сон в твой первый римский вечер. Кстати, мы здесь обедаем не раньше девяти-десяти часов. Он направился к двери, затем остановился. Пристально посмотрев на дочь, покачал головой: — Знаешь что? А ты чертовски красива! Когда она прибыла на студию, съемки еще не закончились, Дженюари встала поодаль от темной площадки. Она узнала Митча Нелсона, американского актера, которого рекламировали как нового Гэри Купера. С гранитной челюстью и почти неподвижными губами, он играл любовную сцену с Мельбой Делитто. Дженюари видела Мельбу лишь в зарубежных фильмах. Она была очень красива, но говорила с сильным акцентом и иногда сбивалась. При каждой ее ошибке Майк улыбался, подходил к Мельбе, успокаивал актрису, и съемки возобновлялись. После пятнадцатого дубля Майк закричал: «Годится!», и в павильоне зажегся свет. Увидев дочь, он улыбнулся так, как улыбался только ей, и подошел к Дженюари. Взял ее под руку. — Давно здесь стоишь? — В течение последних двенадцати дублей. Я не знала, что ты еще и режиссер. — Понимаешь, это у Мельбы первая роль на английском языке, и начало съемок было кошмарным. Она делала ошибки… режиссер кричал на нее по-итальянски… она отвечала ему… он еще больше повышал голос… она убегала с площадки вся в слезах. Час уходил на то, чтобы наложить новый грим, и полчаса — на примирение с режиссером. Я понял, что, если я подойду к актрисе и успокою ее, похвалю за хорошую игру, мы сэкономим массу времени и получим приличный дубль. К ним подошел радостно улыбающийся молодой человек. — Мистер Майк, я освободился два часа тому назад, но я ждал, потому что очень хотел познакомиться с вашей дочерью. — Дженюари, это Франко Меллини, — сказал Майк. Франко, похоже, было чуть больше двадцати лет. В его голосе присутствовал акцент, но юноша был рослым и весьма красивым. — О'кей, Франко, я тебя представил. А теперь исчезни, — довольно резко произнес Майк, но когда парень, поклонившись, ушел, продюсер улыбнулся. — У этого малыша пока что маленькая роль, но он может стать известным актером. Я нашел его в Милане, когда подбирал натуру. Он — поющий официант в одном погребке. У него артистический талант. Он уже очаровал всех женщин на съемочной площадке. Даже Мельбу. Майк покачал головой: — Итальянец, да еще с шармом, — это нечто. Они шли, держась за руки. Студия опустела; Дженюари казалось, что господь внял ее мольбам. Она мечтала об этом моменте, ждала его. Идти рядом с ним… быть частью его жизни… работы… делить трудности. Внезапно он произнес: — Да, кстати, для тебя тоже есть маленькая роль. Всего несколько слов. Майк попытался освободиться из ее объятий. — Ты меня задушишь!Позже, пробиваясь сквозь дорожные заторы, он заговорил о своих проблемах, связанных со съемками. О плохом английском Мельбы… о ее антипатии к Митчелу Нелсону… о языковом барьере, отделявшем его от некоторых членов съемочной группы. Но больше всего его возмущало уличное движение. Дженюари сидела, слушая отца и говоря себе, что все это не сон… она действительно здесь… это не суббота… завтра лимузин не увезет ее от него… она будет рядом с ним каждый день… пусть автомобиль движется медленно… она с ним в Риме… они вдвоем! Когда они наконец добрались до отеля, в вестибюле их встретил другой стройный молодой красавец, который ждал их с несколькими большими коробками. «Как итальянским мужчинам удается не полнеть? — подумала Дженюари. — Или они ничего не едят?» — Это Бруно, — сказал Майк, когда улыбающийся итальянец пошел вслед за ними к их номеру. — Я подумал, что ты, наверно, не запаслась одеждой, и послал его в магазины. Он делает покупки для многих важных персон. Возьми, что понравится, или все. Я приму душ, сделаю несколько звонков в Штаты — если мне удастся объясниться с телефонисткой. Иногда мы застреваем на «Алло». Он чмокнул ее в щеку. — До встречи в девять. Когда в девять часов она вошла в гостиную, Майк ждал ее там. Он негромко свистнул: — Детка, вот это фигура… Майк улыбнулся: — Да ты сложена лучше, чем самые знаменитые манекенщицы. — Ты хочешь сказать, что у меня недостаточно развит бюст — засмеялась она. — Поэтому я выбрала «Пуччи». Оно обтягивает фигуру, в нем я выгляжу… — Потрясающе. — продолжил он. — Я взяла это платье, юбку, несколько блузок и брючный костюм. — И все? Он пожал плечами. — Может быть, ты получишь больше удовольствия, самостоятельно отыскивая все эти маленькие магазинчики, о которых говорят женщины. Я попрошу Мельбу объяснить тебе, где их искать. — Папочка, я приехала сюда не за нарядами. Я хочу смотреть, как ты снимаешь фильм. — Ты шутишь? Господи, детка… тебе семнадцать лет. Ты в Риме! Ты не захочешь находиться на раскаленной съемочной площадке. — Именно это я и хочу. А также сыграть ту маленькую роль, которую ты мне обещал. Он рассмеялся: — Может быть, ты и правда станешь актрисой. Во всяком случае, ты уже говоришь, как актриса. Идем. Я проголодался. Они отправились в ресторан, расположенный в старой части Рима. Дженюари восхищалась древними зданиями… тихими улочками. Заведение называлось «У Анджелино». Обед подавали при свечах на веранде; бродячие музыканты услаждали слух посетителей. Вечер казался сказочным. Дженюари откинулась на спинку кресла, наблюдая за тем, как Майк наливает ей вина. Она поняла, что еще одна ее мечта осуществилась… она была наедине с Майком среди фантастических декораций… он наливал ей вино… женщины восхищенно поглядывали на него, но он принадлежал только ей. Его не отвлекали телефоны, ее не ждал черный лимузин. Она смотрела, как он зажигает сигарету. Когда официант принес кофе, в ресторан вошли Мельба и Франко. Майк, махнув рукой, пригласил их к столику и заказал еще одну бутылку вина. Мельба заговорила об одном эпизоде фильма. Когда ей не хватало запаса английских слов, она помогала себе жестами. Франко, смеясь, повернулся к Дженюари: — Я плохо владею английским? Ты мне поможешь? — Ну, я… — Твой папа постоянно говорил о тебе. Он считал часы, оставшиеся до твоего приезда. — Правда? — Конечно. Точно как я считал часы, оставшиеся до знакомства с тобой. Он коснулся ее руки. Дженюари отодвинула свою руку и повернулась к отцу, который что-то шептал на ухо Мельбе. Актриса захихикала и потерлась своей щекой о щеку Майка. Дженюари отвела взгляд в сторону, но Франко улыбнулся: — Похоже, любовь не нуждается в словах, верно? — По-моему, ты прекрасно владеешь английским, — сухо заявила девушка. Она старалась не смотреть на руку Мельбы, лежавшую на бедре Майка. — О, я изучал его с помощью моих дядюшек, американских солдат, — засмеялся Франко. — Мой отец погиб на войне, мама овдовела очень рано… она была красавицей… сначала она не говорила на английском, но потом овладела им и выучила меня. Американские дядюшки помогали маме. Но потом она располнела; я посылаю ей деньги, потому что теперь у нее нет никого, кроме Франко. Дженюари испытала облегчение, когда Майк попросил счет. Он оставил на столе несколько купюр, и все поднялись. Майк с улыбкой повернулся к дочери. — Думаю, я тебе уже порядком надоел, детка. И вообще, красивая молодая девушка должна провести свой первый вечер в Риме с красивым молодым итальянцем. Во всяком случае, это происходит во всех моих фильмах. Он подмигнул Франко и, обняв Мельбу, направился к выходу. Они остановились на узкой улице, вымощенной булыжником. Майк произнес: — О'кей, Франко. Можешь показать моей дочери ночную жизнь Рима. Но не переусердствуй. Мы пробудем здесь еще два месяца. Он взял Мельбу под руку и зашагал к машине. Дженюари проводила взглядом отъехавший автомобиль. Все случилось так быстро, что Дженюари не успела поверить в реальность происходящего. Ее отец исчез, а она стояла на незнакомой римской улице с красивым молодым итальянцем, любезно предоставленным ей Майком Уэйном. Франко взял ее за руку и повел по улице к микролитражке. Они втиснулись в нее; он принялся ловко лавировать в плотном потоке машин. Дженюари молчала. Сначала она хотела попросить его отвезти ее в гостиницу. Но что потом? Сидеть там и ждать… думая о том, чем они сейчас занимаются? Нет! Пусть Майк ждет и гадает, что сейчас делает она. Он бросил ее… оставил с этим парнем. О'кей. Пусть он узнает, что она чувствует. — В Риме можно ездить только на маленьких машинах, — сказал Франко. Они остановились на извилистой улочке возле кафе-мороженого под открытым небом. — Спустимся вниз, — предложил Франко. Они выбрались из автомобиля, и он повел ее по темной узкой лестнице. — Тебе тут понравится… это лучшая дискотека в Риме. Здание выглядело так, словно его собирались снести; в подвале находился просторный зал, заполненный парами, танцевавшими под грохот музыки и яркие вспышки стробоскопа. Франко, похоже, знал здесь всех, включая официанта, который провел их к удобному столику в нише. Итальянец заказал вина и потащил сопротивляющуюся Дженюари танцевать. Она испытывала смущение, так как не знала новых танцев. Дженюари осмотрелась по сторонам. Все девушки покачивали бедрами, не обращая внимания на партнеров. Площадка для танцев напоминала скопище извивающихся червей. Она никогда так не танцевала. Последний год у мисс Хэддон Дженюари не ходила на свидания — Майк был в Нью-Йорке, и она все уик-энды проводила с ним. Но Франко смехом развеял ее неуверенность. Музыка была ритмичной, и Дженюари, ведомая итальянцем, стала двигаться медленно, как бы примериваясь. Франко одобрительно кивнул головой. Его улыбка выражала восхищение и вселяла в девушку уверенность. Дженюари обнаружила, что она начинает сдержанно подражать другим девушкам. Франко снова кивнул… его руки двигались в воздухе… бедра покачивались… она следила за партнером… музыка зазвучала еще громче… Вскоре Дженюари танцевала совершенно раскованно. Когда песня кончилась, они упали в объятия друг друга. Франко отвел ее к столу, и она залпом выпила бокал вина. Франко заказал бутылку и наполнил бокал Дженюари. Несколько его друзей подошли к столику, и вскоре образовалась большая компания. Большинство молодых людей не говорили по-английски, но все танцевали с Дженюари, непринужденно улыбаясь, и даже девушки держались с ней приветливо и дружелюбно. Она чувствовала бы себя превосходно, если бы ее не мучили мысли о Мельбе и отце. Она заметила, как Майк смотрел на Мельбу… как встречались их глаза. Она выпила еще один бокал вина. Мельба ничего не значит для отца. Она просто исполняет главную роль в его картине. Он хочет, чтобы она была счастливой. Для этого он подходил к актрисе и шептал что-то на ухо в промежутках между дублями. Но что он шептал ей? Дженюари отхлебнула вино и кивком головы приняла приглашение на танец. Красивый юноша повел ее на площадку. Музыка гремела. Дженюари двигалась так же уверенно и изящно, как другие посетители. (Наверно, Мельба и отец сидят сейчас где-нибудь в спокойном уютном месте и слушают скрипичную музыку для влюбленных.) Внезапно она перестала танцевать и покинула площадку. Юноша поспешил за ней, заговорив по-итальянски и недоуменно разведя руки в стороны. — Скажи ему, что я устала, — обратилась она к Франко. Дженюари села, слушая итальянскую речь. Юноша вдруг перестал хмуриться, улыбнулся, пожал плечами и пригласил танцевать другую девушку. В час ночи компания начала расходиться. «Дома ли Майк? — подумала Дженюари. — Не беспокоится ли о ней? Возможно, он еще не вернулся в отель». Она допила содержимое бокала и потянулась к бутылке. Она была пуста. Франко тотчас заказал новую, но официант покачал головой. Разгорелся жаркий спор. Наконец Франко встал и бросил на стол деньги. — Они закрываются. Пойдем в другое место. Она зашагала за ним по ступеням лестницы. — Куда теперь все пойдут? — спросила девушка. — Я имею в виду тех, кто еще хочет погулять? Есть тут такое место… ну, вроде «Пи Джи» у нас в Нью-Йорке… — Нет, допоздна здесь веселятся только американцы. Итальянцы не ходят в ночные клубы. Их светская жизнь больше протекает дома. — Но… Оказавшись на улице, она остановилась. Значит, Майк сейчас возвращается в гостиницу. — Вот что, — сказал Франко. — Мы отправимся ко мне. Он повернулся к паре, стоявшей возле них. — Вы тоже поедете с нами, Винченте и Мария. Винченте, подмигнув, покачал головой и удалился, обнимая девушку. Франко повел Дженюари к машине. Внезапно она заявила: — Мне, наверно, тоже пора ехать домой. Я получила большое удовольствие, Франко… честное слово. Все было замечательно. — Нет. Мы выпьем перед сном. Если я доставлю тебя в отель так рано, твой папа решит, что я оказался плохим эскортом. Она засмеялась: — Вот ты кто, оказывается? Эскорт? Любезно нанятый моим отцом? Франко помрачнел. Он нажал педаль газа маленькой машины, и она помчалась по улицам, поворачивая на бешеной скорости. — Франко, мы разобьемся. Пожалуйста. Я обидела тебя? — Да. Ты назвала меня жиголо. — Нет… я пошутила… правда… Он затормозил на узкой улочке. — Давай внесем ясность в ситуацию. Твой папа — влиятельный человек. Но я — хороший актер. Прекрасно выгляжу на экране. Я видел проявленные куски. Я это знаю. Дзефирелли просит меня пройти пробу на роль в его новом фильме. Я получу ее. Почти все эпизоды с моим участием уже сняты, так что мне от него ничего не нужно. Я езжу с тобой, потому что ты прекрасна. Я хочу находиться возле тебя. Твой папа много рассказывал о тебе, но я ему не верил. Увидев тебя сегодня днем… я понял, что он говорил правду. — О'кей, Франко. Она засмеялась: — Кстати, жиголо больше нет. Нельзя быть таким обидчивым. — Как бы ты назвала мужчину, которого можно купить? — спросил он. Она пожала плечами: — Мужчин не покупают… и не содержат. А те, кто… по-моему, их называют эскортом, или проститутками мужского пола. — Я не проститутка. — Никто тебя так и не называл. Он завел мотор и поехал медленно. — Я родом из Неаполя. Там мужчин учат драться за то, что им дорого. За женщин, за право жить. Но мы не продаем себя женщинам. У нас развита мужская гордость. Он улыбнулся: — О'кей… я тебя прощу… если ты зайдешь ко мне выпить вина. — Хорошо. Один бокал вина. Франко повел машину по петляющим улицам… по каменным мостовым… мимо массивных темных зданий с двориками. Наконец он остановил автомобиль перед большим старым домом. — Когда-то этот особняк принадлежал одной богатой даме. Здесь останавливался Муссолини со своей любовницей. Теперь здесь сдают квартиры. Она прошла вслед за ним в темный двор с потрескавшимися мраморными скамейками и неработающим фонтаном. Франко вставил ключ в массивную дубовую дверь. — Заходи. Это моя квартира. Тут не прибрано, зато уютно… правда? Гостиная поражала резким контрастом между современным беспорядком и античным интерьером. Высокие потолки… мраморный пол… диван, заваленный газетами… пепельницы, полные окурков… крохотная кухня с грязной посудой… приоткрытая дверь спальни… незастеленная постель. Типичный холостяцкий хаос. Его, похоже, не смущал вид квартиры. Он включил стереопроигрыватель. Внезапно музыка полилась буквально отовсюду. Нехватка мебели компенсировалась избытком динамиков. Пока Франко возился с пробкой от бутылки, Дженюари разглядывала лепнину и мраморные украшения. — Это то же самое вино, которое мы пили, — сказал он, подойдя к девушке с бокалами. Он подвел ее к дивану, смахнул газеты на пол и жестом предложил сесть. Некоторые пружины и набивка вываливались снизу, но Франко с гордостью заявил: — Вся мебель подарена мне друзьями. — Это отличный диван, — сказала Дженюари. — Если бы ты починил его… Он пожал плечами: — Когда я стану звездой, я, возможно, заново обставлю квартиру. — Возможно? — Если я стану очень известной звездой, меня пригласят в Америку. Там делают большие деньги, верно? — Мельба Делитто — известная звезда, но она остается здесь. Он засмеялся: — Мельба уже очень богата. К тому же ей тридцать один год… это много для Голливуда. — Но она заработала все эти деньги здесь. — Нет. Она получила их от любовников. У нее их было много… Фильмы принесли ей немало денег, но любовники — больше. Понимаешь, для женщины все обстоит иначе. Твой папа уже подарил ей брошь с крупными бриллиантами. Дженюари встала: — Пожалуй, мне пора в отель. — Ты только переступила порог. Еще не выпила вина. Я открыл бутылку. — Франко, уже поздно, и… Он заставил ее сесть на диван. — Сначала допей вино. Итальянец протянул ей бокал. Она принялась потягивать вино. Рука Франко упала со спинки дивана на плечи девушки. Она сделала вид, будто не заметила этого, хотя рука была тяжелой. Пальцы Франко заиграли на шее Дженюари. Девушка заставила себя сделать глоток и поднялась. — Франко, я хочу поехать домой. Он встал и протянул к ней руки: — Давай потанцуем. По-старому. — Я не хочу… Но его руки обхватили ее; Франко привлек девушку к себе и начал медленно танцевать. Она ощущала мускулистость его тела… нечто твердое в брюках… он прижимался к ней, двигаясь под музыку. Ее тонкое платье «Пуччи» казалось бумажным. Внезапно он поцеловал Дженюари. Его язык раздвинул ей губы. Она попыталась отстраниться, но одной рукой он держал голову девушки, а другой начал ласкать ее груди. Он засмеялся над попыткой Дженюари освободиться. Одним быстрым движением поднял ее на руки, отнес в спальню и опустил на незастеленную кровать. Не успела она прийти в себя, как он задрал ей платье и принялся стягивать с нее трусики. Почувствовав его руки на своих ягодицах, она закричала. Он удивленно уставился на нее. — В чем дело? Что-то не так? Она вскочила с кровати, одернула платье. Дженюари была слишком рассержена, чтобы заплакать. — Как ты смеешь! Как ты смеешь! Она бросилась в гостиную, схватила сумочку и побежала к двери. Он преградил ей путь. — Дженюари, я что-то сделал не так? — Что-то не так! — гневно повторила она. — Ты пригласил меня выпить, а сам попытался изнасиловать меня. — Изнасиловать? Он изумленно посмотрел на девушку. — Я хочу любить тебя. — По-твоему, это одно и то же. — Вовсе нет. Насилие — это преступление. Любовь — это когда тела двух людей жаждут друг друга. Ты же согласилась прийти сюда, верно? — Чтобы выпить… я боялась, что ты обидишься. — Может быть, я поспешил, — сказал он. — Но ты ведешь себя, как капризная американка. — Да, я действительно американка. — О да. Но еще ты — дочь настоящего мужчины. Это очень важно. Понимаешь, считается, что американские девушки придерживаются определенных правил. Первое свидание… возможно, поцелуй на прощание. Второе — немного ласк. Третье — более смелые ласки. Но никакого секса до четвертой или пятой встречи. И американские мужчины следуют этим правилам. Но Майк Уэйн живет по своим собственным законам. Я подумал, что его дочь похожа на него. — Ты хочешь сказать… ты думал, что я тотчас лягу с тобой в постель! Он засмеялся: — Ну… ты пошла ко мне выпить. Танцевала со мной. Все естественно и прекрасно. За этим следует любовь. Франко погладил ее груди. — Видишь, соски отвердели. Это чувствуется даже через платье. Твои прелестные маленькие груди хотят Франко… даже если ты его не хочешь. Почему бы тебе не позволить мне любить их? Она оттолкнула его руки. — Франко, отвези меня домой. Он наклонился и поцеловал девушку, прижав ее к двери. Она стала отчаянно сопротивляться… ударила его… вцепилась ему в волосы, но он лишь смеялся, словно это было частью игры. Одной рукой он обхватил запястья Дженюари сзади над ее головой. Другой попытался расстегнуть «молнию» на платье. Охваченная страхом, она успела подумать о том, что длина «молнии», слава богу, всего пятнадцать сантиметров. Франко безуспешно дергал «флажок». Внезапно он опустил руку и задрал подол платья, собираясь снять его через голову девушки. Ткань заглушала ее крики и сковывала руки. На Дженюари не было лифчика. Его губы касались сосков. Несмотря на охвативший ее гнев, девушка испытала странное ощущение в паху. Он сунул руку ей под трусы. — Видишь, моя маленькая Дженюари, ты уже влажная от желания… ты ждешь меня. Собрав все свои силы, она вырвалась. Опуская платье, выдохнула сквозь слезы: — Пожалуйста… пожалуйста, отпусти меня. — Почему ты плачешь? — искренне удивился Франко. Он попытался обнять девушку, но она закричала. — Дженюари, в чем дело? Я — хороший любовник. Пожалуйста, сними платье и ложись в постель. Он расстегнул свой ремень, снял брюки. Его усмешка была мальчишеской, он словно уговаривал упрямого ребенка. — Посмотри, как сильно я хочу тебя. Пожалуйста, посмотри. Он стоял перед ней в трусах. Дженюари старалась не опускать глаз… но она была словно под гипнозом. Он застенчиво улыбнулся. — Франко — настоящий жеребец. Ты останешься довольна. Идем… Он протянул руку. — Давай займемся любовью. Твое тело ждет меня. Почему ты отказываешь в радости нам обоим? — Нет, — жалобно простонала она. — О господи, нет… не так. Он, похоже, растерялся. Бросил взгляд на спальню. — Это из-за кровати? Слушай, я не занимался любовью на этих простынях. Я только спал на них. — Пожалуйста, отпусти меня. Слезы застилали ей глаза. Она инстинктивно сжалась, обхватив себя руками и стараясь не смотреть на Франко. Внезапно он пристально поглядел на девушку, протянул руку, коснулся ее щеки, словно не веря в реальность слез. На его лице появилось удивленное выражение. — Дженюари... ты уже занималась любовью? — тихо спросил он. Она покачала головой. Он помолчал несколько мгновений. Потом шагнул к ней, поправил ее платье, стер слезы с лица девушки. — Извини, — прошептал Франко, — мне это и в голову не приходило. Сколько тебе… двадцать один… двадцать два? — Семнадцать с половиной. — Mama mia! Он ударил себя ладонью по лбу. — Ты выглядишь так… словно имеешь большой опыт. Дочь Майка Уэйна — девственница! Он снова шлепнул себя по лбу. — Пожалуйста, отвези меня домой. — Обязательно. Франко надел штаны, схватил куртку и открыл дверь. Взяв девушку под руку, провел ее через двор к машине. Они молча поехали по пустынным улицам. Он не раскрывал рта, пока они не добрались до Виа Венето. — Ты кого-то любишь в Штатах, — произнес итальянец. — Нет. Он повернулся к ней. — Тогда позволь мне… нет, не сегодня… не завтра… когда ты захочешь меня. Я не коснусь тебя, пока ты сама не попросишь меня. Обещаю тебе это. Она ничего не ответила, и он сказал: — Ты мне не веришь? — Нет. Он рассмеялся: — Слушай, прелестная американская девственница. В Риме полно красивых молодых итальянок. Актрис, фотомоделей, замужних женщин. Все хотят Франко. Они даже убирают мою постель, готовят мне, приносят вино. Знаешь почему? Потому что Франко — превосходный любовник. Так что если Франко приглашает тебя на свидание и обещает, что ничего не произойдет, ты должна ему верить. Ха! Мне не приходится силой добиваться любви. Ее полно вокруг. Но я хочу извиниться. Мы начнем все сначала. Словно ничего не было. Она молчала, не желая обижать его. Они уже подъезжали к отелю. Дженюари хотелось поскорее выйти из машины и остаться одной. — Очень печально, что ты не хочешь меня, — тихо произнес он. — Тем более что ты — девственница. Понимаешь, моя маленькая Дженюари, когда девушка отдается впервые, это не всегда доставляет радость… ей и мужчине. Если только он не проявит большое умение и нежность. Я бы овладел тобой очень бережно. Сделал бы тебя счастливой. Даже сам дал бы тебе пилюли. Он говорил таким серьезным тоном, что ее испуг стал рассеиваться. Он действительно был убежден в том, что не совершил ничего плохого. — Я сегодня зря проявил настойчивость, — продолжил он. — Я думал, что это часть игры. Одна американка заставила меня гоняться за ней по ее номеру в «Хасслере», а затем заперлась в спальне. Я собрался уходить, а она закричала: «Нет, Франко, ты должен выбить дверь и сорвать с меня одежду». Он снова хлопнул себя по лбу, уже усмехаясь. — Ты когда-нибудь пыталась высадить дверь в итальянском отеле? Она словно сделана из железа. Наконец американка открыла дверь, я снова бегал за ней и наконец сорвал с нее одежду. Господи… пуговицы отлетели… кружева… трусики… все было в клочьях… мы занимались любовью всю ночь. Она замужем за известным американским актером, поэтому я не стану называть ее имя. Он тоже так с ней забавлялся. Понимаешь… я джентльмен… я никогда не называю имен женщин, с которыми спал. Это непорядочно. Да? Дженюари поняла, что улыбается. Взяв себя в руки, посмотрела вперед. Это безумие — парень только что срывал с нее платье, пытался изнасиловать ее, а теперь он ждет, чтобы она одобрила его прежние выходки. Очевидно, Франко прочитал мысли Дженюари, — он улыбнулся и почти снисходительно похлопал ее по руке. — Ты еще попросишь меня любить тебя. Я знаю. Даже сейчас я вижу, как твердеют твои соски под платьем. Ты очень сексуальна. Она обхватила свой бюст руками. Ей следовало надеть лифчик. Она не замечала, что платье такое тонкое. — У тебя не очень большие груди, — сказал он. — Мне это нравится. — Франко… прекрати! Снова удар ладонью по лбу. — Господи… как может дочь Майка Уэйна быть такой скромницей? — Я не скромница. Наконец она почувствовала себя в безопасности — автомобиль подъехал к «Эксельсиору». — Завтра я свободен, — сказал он, выскочив из машины, чтобы открыть дверцу. Франко помог Дженюари выйти из микролитражки. — Мы увидимся… да? — Нет. — Почему? Ты ведь не сердишься? — Не сержусь? Франко, ты обращаешься со мной, как… — Как с красивой девушкой, — улыбаясь, произнес он. — Выспись хорошенько. Завтра я позвоню тебе, и мы проведем день вместе. Он развел руки в стороны. — Клянусь, я до тебя не дотронусь. Мы покатаемся на моем мотоцикле. Я покажу тебе Рим. — Нет. — Я позвоню завтра. Чао. Повернувшись, она направилась в опустевший вестибюль. Было почти три часа ночи. Майк рассердится… сейчас, вероятно, он ждет ее и волнуется. Она скроет от него правду. Скажет только, что Франко немного приставал к ней и что она не хочет больше с ним встречаться. Дженюари думала об этом, поднимаясь в скрипучем лифте вместе с сонным лифтером. Она воткнула большой ключ в замок. Майк, похоже, не спал. Она увидела под дверью полоску света. Вошла в номер. — Майк… Дженюари осмотрелась. Дверь спальни была закрыта. На столике под лампой лежали купюры и записка. «Принцесса, я ждал тебя до двух. Надеюсь, ты хорошо провела время. Спи подольше. Помни, что с часу до четырех магазины закрыты. Так что днем займись осмотром достопримечательностей. Посети испанские Ступени. В маленьком домике неподалеку от них человек, которого звали Аксель Мунт, устроил когда-то приют для бездомных животных. Ты можешь увидеть его квартиру. После четырех сходи на Виа Систина. Мельба утверждает, что там есть отличные магазины. Если кончатся наличные, оформи доставку в гостиницу наложенным платежом. Спокойной ночи, ангел. С любовью, папа». Она уставилась на письмо отца… затем на закрытую дверь. Он спит! Он даже не беспокоился о ней! Но он и не подозревал, что Франко позволит себе такое. Дженюари прошла в свою спальню. Ее обида немного улеглась. Если Майк ждал до двух… значит, он вернулся в отель около часа… или раньше. Возможно, он правда только выпил с Мельбой перед сном. Ничего больше. Их роман — фантазия Франко. Мельба уже немолода… во всяком случае, для актрисы… ей за тридцать лет… она нуждается в сне. Она не может позволить себе лечь слишком поздно. Карьера для нее важнее всего. Дженюари зашла в ванную и пустила воду. Но чем объяснить брошь с бриллиантами? Хотя Майк всегда делал дорогие подарки исполнительницам главных ролей в его фильмах. Ну конечно… это все домыслы Франко. Весь вечер показался ей сном. Она сняла платье и посмотрела на груди. Нет, этот вечер действительно был. Франко касался ее грудей… целовал их. Его пальцы находились меж ее ног. Она легла в ванную и принялась тщательно мыться. Позже, лежа на кровати в новой обстановке, она почувствовала, что ей совсем не хочется спать. Она поглядела на темные очертания двери. За ней находилась гостиная… а дальше — его дверь. Он лежал в своей спальне. О господи, если бы она могла зайти туда и прильнуть к нему — она всегда поступала так в детстве, когда ей снился страшный сон. Почему она не может устроиться в его объятиях и рассказать ему о гадких вещах, которые случились с ней сегодня? Он бы успокоил ее, сказал, что все будет хорошо. Он по-прежнему был ее отцом. Что здесь плохого? И все же… она чувствовала, что не может это сделать. Не в том ли причина, что она хочет почувствовать тело Майка рядом с собой? Да. Но в самом целомудренном смысле. Она нуждалась в силе его рук, дарующих покой. Хотела поцеловать его в ямочку на щеке. Услышать, как он скажет: «Все в порядке, детка». В этом нет ничего дурного. Она тихо встала с кровати и открыла дверь. Пересекла большую гостиную и осторожно повернула ручку двери. Она легко открылась. Сначала девушка увидела одну темноту. Потом появились неясные контуры кровати. Она подошла к ней на цыпочках, касаясь рукой стены. Откинула простыню и легла в постель. Простыни на ее половине кровати были прохладными, хрустящими. Дженюари потянулась к отцу. Но ее рука коснулась подушки. Постель была пуста! Она села и включила ночник. Кровать была нетронутой… простыни — свежими. Его тут не было! Она встала и прошла в гостиную. Посмотрела на деньги и записку. Все сказанное Франко — правда… он был с Мельбой. Но почему он не сказал ей… почему солгал, написав, что ждал ее? Она приблизилась к столу и перечитала записку. Он не сказал, что ждал ее один. Ну конечно… он ждал ее до двух с Мельбой… затем они ушли. Сейчас, вероятно,они занимаются любовью. Она вернулась в свою спальню. Он имел полное право быть с Мельбой. Почему она так расстроилась? У него всегда были женщины. Но по-настоящему любил он только ее одну. Их любовь выше секса… люди занимаются сексом без любви. Как животные… не знающие любви. Они просто совокупляются. Когда Дженюари было пять лет, у них жил пудель, девочка. К ней привели кобеля. После акта она даже не посмотрела на партнера. А когда появились щенки… собака заботилась о них… пока им не исполнилось три месяца. Дженюари удивилась, когда мама сказала ей, что она отдала щенка-кобеля, потому что для сучки он теперь был уже не сыном, а обыкновенным кобелем. Точно так же Мельба для отца — всего лишь партнер по сексу. Дженюари забралась в постель и попробовала уснуть. Она обняла подушку руками, как делала в школе, когда ей было одиноко. Но потом вдруг оттолкнула ее от себя. Подушка всегда символизировала собой Майка, служила источником покоя. А сейчас в его объятиях лежит Мельба… Надо выбросить из головы эти мысли. В конце концов, чем он занимался все эти годы после смерти матери? Но она, Дженюари, находилась далеко. Теперь это происходило рядом. Она должна приучить его к мысли, что она уже взрослая, что она может быть ему отличным товарищем и помощницей. Он так долго был один. Когда она наконец заснула, ей стали сниться странные, обрывочные сны. Она находилась в комнате смеха на Кони-Айленде, куда отец водил ее в детстве. Только теперь там гремела музыка из дискотеки. Она посмотрела на себя в зеркало и засмеялась… сначала она стала длинной и тонкой… затем короткой и толстой… увидела у себя за спиной Мельбу… однако лицо Мельбы не было искажено… оно было красивым… Мельба смеялась… ее лицо увеличивалось в размерах, пока не заняло все зеркало. Мельба продолжала смеяться… Дженюари услышала смех Франко… его лицо появилось в зеркале рядом с лицом Мельбы, они оба показывали пальцами на гротескное отражение Дженюари и смеялись. Почему она выглядела в зеркале так комично, а они оставались красивыми? Она поискала глазами Майка. Он находился в тире. Мельба подошла к нему и положила руку Майку на бедро. «Папочка, — закричала Дженюари, — уведи меня от зеркала». Но он засмеялся и сказал: «Пусть тебе поможет Франко. Я стреляю по глиняным утятам. Я делаю это ради тебя, детка. Хочу положить все призы к твоим ногам». Он продолжил стрельбу. При каждом попадании раздавался звонок. Она открыла глаза. Кони-Айленд и комната смеха исчезли. Солнечный луч, пройдя сквозь щель в шторах, упал на ковер. Окончательно проснувшись, она услышала знаменитую какофонию римских улиц. Сигналы всевозможных тональностей требовательно пронзали воздух. Сопрано., бас… На их фоне по-прежнему звенел звонок. Он доносился от телефона, стоявшего в гостиной. Дженюари неуверенной походкой отправилась туда. Часы в мраморном корпусе тихо отбивали одиннадцать утра. Она подняла трубку. — Это Франко, — прозвучал бодрый голос. Она положила трубку. Позвонив дежурному, Дженюари заказала кофе. Дверь отцовской спальни была приоткрыта. Зажженный ею ночник по-прежнему горел. Она выключила его и, поддавшись внезапному порыву, смяла постель. Она не захотела, чтобы горничная знала, что отец не ночевал в отеле. Однако это смешно! Вероятно, он часто проводит ночи в других местах. Или Мельба спала здесь. Телефон зазвонил снова. «Пусть это будет Майк», — подумала Дженюари. Она не должна выдать голосом свое настроение. Он должен звучать радостно, словно ничего не случилось. Или сонно. Да, сонно. Она прекрасно провела вечер. Дженюари сняла трубку. — Это Франко. Нас разъединили. — А… Она даже не попыталась скрыть свое разочарование. — Бестолковая телефонистка. Она нас разъединила. — Нет, это я положила трубку. — Почему? — Потому что я еще не выпила кофе и… Она замолчала. — И вообще, почему я должна с тобой говорить? — Потому что сегодня чудесный день. Я за тобой заеду. Мы отправимся в уютное маленькое кафе… — Послушай, Франко… вчера ты вел себя отвратительно, — рассерженно произнесла Дженюари, — и я не желаю тебя видеть. — Но вчера вечером я не знал, что ты еще ребенок. Сегодня я буду обращаться с тобой, как с маленькой девочкой. Согласна? — Нет. — Но ты сердишься, когда я обращаюсь с тобой, как с красивой женщиной. Слушай, я уже два часа навожу блеск на мою «хонду». Она великолепна… Вот что… Мы не поедем в уютное маленькое кафе… Отправимся в «Дони». Как туристы. Будем сидеть под открытым небом. Ты выпьешь кофе, и мы поедем кататься. Чао. Он опустил трубку, прежде чем она успела возразить. Когда Франко позвонил из вестибюля, ей еще не принесли кофе, и она решила, что вполне может съездить с ним в «Дони». В конце концов, она нуждается в чашке кофе. Дженюари взяла деньги, оставленные Майком. Потом вдруг положила их обратно… возле записки. Позвонила горничной и попросила ее срочно убраться в номере. Пусть Майк, вернувшись в отель, поломает голову над тем, спала ли она здесь ночью. Долго сердиться на Франко было невозможно. Он заказал для нее кофе и рогалики. Он был предупредителен и забавен. Казалось, каждый второй житель Рима останавливался у их столика, чтобы поговорить с молодым итальянцем. Его неиссякаемое жизнелюбие сломило ее холодность. Она обнаружила, что смеется и получает удовольствие от завтрака. Этот смеющийся, общительный паренек почти заставил ее забыть о вчерашнем Франко. Она поняла, что он пытается заслужить прощение, хочет порадовать ее. Будет любопытно посмотреть с ним Рим. Она была в брюках из дангери — значит, надевая их, она подсознательно решила поехать с Франко на мотоцикле. «Хонда» была ярко-красной. Франко дал девушке огромные очки и предложил сесть позади него. — Теперь ты должна обнять меня, — засмеялся он. Франко лавировал в автомобильном потоке, указывая на церкви и интересные здания. — На следующей неделе мы осмотрим Ватикан, — сказал итальянец. — И я свожу тебя в некоторые церкви. Ты должна увидеть мраморные скульптуры Микеланджело. Вскоре они покинули город и направились к Аппиевой дороге. Франко не увеличивал скорость. Он давал Дженюари освоиться на сиденье, привыкнуть к ветру, развевающему волосы и холодящему лицо. Он обращал ее внимание на роскошные виллы… античные развалины… дома кинозвезд. Затем он свернул на извилистую сельскую дорогу. Они остановились у маленького семейного ресторана. Все, включая залаявшего пса, радостно приветствовали Франко, обращались к нему по имени… восхищенно смотрели на Дженюари. Перед молодыми людьми поставили хлеб, сыр и красное вино. — Аппиева дорога ведет к Неаполю, — сказал он. — Мы должны как-нибудь туда съездить. И на Капри. Он поцеловал свои пальцы и поднял их к небу. — Завтра у меня съемки, но в воскресенье я отвезу тебя на Капри. Ты увидишь Лазурный грот… О, здесь столько потрясающих мест. Позже, возвращаясь к «хонде», он обнял Дженюари за плечи, точно брат. Когда они собирались сесть на мотоцикл, девушка внезапно повернулась к парню. — Франко, я хочу, чтобы ты знал — это был замечательный день. Просто чудесный. Огромное спасибо. — Вечером я поведу тебя обедать в отличное место. Ты когда-нибудь пробовала моллюсков Поссилипо? — Нет… но я не смогу пообедать с тобой. — Почему? Я обещаю, что не прикоснусь к тебе. — Дело не в этом. Я… хочу побыть с папой. — Что? — Я не видела папу со вчерашнего вечера. — О'кей, ты встретишься с ним сейчас, когда вернешься в отель. А в девять поедешь обедать со мной. — Я хочу пообедать с папой. — Возможно, у твоего отца другие планы. Он забрался на мотоцикл. — Нет. Я уверена, что он собирается обедать со мной. — До твоего приезда… он каждый вечер обедал с Мельбой. — Но теперь я здесь. — И ты собираешься ежедневно обедать с отцом? Франко перестал улыбаться. — Возможно. Он начал заводить мотор. — Садись. Мне все ясно. — Что тебе ясно? — Ни одна девушка не обедает с отцом. У тебя есть другой парень. — Франко, у меня никого нет. Он сжал ее запястье. — Тогда пообедай сегодня со мной. — Нет. Он отпустил руку Дженюари. — Едем, — выпалил парень. — Я отвезу тебя домой. Ха! Я еще поверил, что ты девушка. Теперь я знаю: просто тебе не нравится Франко. Они помчались по загородной дороге. Франко ехал быстро, «хонда» подпрыгивала на ухабах. Несколько раз Дженюари едва не вылетела с сиденья. Франко свернул на Аппиеву дорогу; Дженюари крепче прижалась к нему. Навстречу «хонде» ехал автобус с туристами из Японии. Франко проскочил перед ним, едва не задев его. Водитель разразился бранью… Франко погрозил ему кулаком и прибавил газу. Дженюари закричала, прося итальянца ехать осторожнее. Но рев мотора и свист ветра заглушили ее голос. Девушка испугалась. Его езда была опасной. Она умоляла Франко сбавить скорость, пока не охрипла. В конце концов, ей осталось только прильнуть к нему и начать молиться. Оказавшись перед поворотом, она увидела автомобиль, пытавшийся обогнать другую машину. Франко решил уйти на обочину. «Хонда» поднялась на дыбы, словно конь… Дженюари поняла, что летит по воздуху… и за мгновение до того, как она потеряла сознание, девушка успела удивиться тому, что, врезаясь в каменную стену, она не испытывает боли. Открыв глаза, Дженюари увидела отца. Двух Майков… трех. Она сомкнула веки — изображение расплывалось. Она попыталась коснуться отца, но рука была свинцовой. Она снова открыла глаза. Сквозь пелену увидела неясные очертания своей подвешенной ноги. Вспомнила аварию. Бешеную гонку… белую каменную стену… она в больнице со сломанной ногой. Лето испорчено, но, слава богу, она осталась жива. Теперь, кажется, научились делать так, что человек может передвигаться с гипсом на ноге. Она попробовала пошевелиться, но ее тело было точно бетонным. Она заставила себя снова открыть глаза, но от яркого света они заслезились. Почему ее тело такое скованное? Почему она не чувствует своей правой руки? О господи, возможно, она не только сломала ногу. Майк стоял в дальнем углу палаты, разговаривая с врачами. Возле них находилась медсестра. Люди что-то обсуждали шепотом. Дженюари хотела сообщить отцу, что она жива. — Папа, — позвала девушка, — папа… Ей казалось, что она кричит. Но Майк не сдвинулся с места. Никто не шагнул к ней. Она кричала беззвучно. Ее губы оставались неподвижными. Никто не слышал Дженюари. Она попыталась пошевелить левой рукой… пальцами. Все исчезло в мягкой серой пелене. Когда она снова открыла глаза, в углу палаты светился огонек. Сиделка читала журнал. Была ночь. Дверь отворилась. Ее отец и сиделка зашептались. Он отпустил женщину и придвинул стул к кровати. Погладил руку дочери. — Не волнуйся, детка. Все будет хорошо. Она попробовала пошевелить губами. Напрягла мышцы, но из ее рта не вырвалось ни единого звука. — Мне говорят, что даже с открытыми глазами ты меня не видишь, — продолжил Майк. — Но они ничего не знают. Ты выживешь… сделаешь это ради меня! «Выживешь!» Что он говорит? Она хотела сказать ему, что обязательно поправится. Сломанная кость срастется. Дженюари сильно переживала — она причинила ему столько хлопот. Он потерял, вероятно, целый рабочий день из-за того, что Франко разозлился. Странно, что Майк так встревожен. Но почему она не говорит? Ей удалось пошевелить пальцами левой руки. Она попробовала поднять ее. Получилось! Она протянула руку и коснулась отцовского плеча. Он едва не свалился со стула. — Дженюари! Сестра! О, детка… ты двигаешься! Шевелишь рукой! Сестра! Дженюари попыталась сказать ему, что она чувствует себя неплохо, но внезапно провалилась куда-то вниз… сквозь пространство… ее хотел захватить в плен густой серый сон. Она не хочет спать! Дженюари боролась с забытьем. В палате вдруг стало многолюдно. Девушка увидела двух склонившихся над ней мужчин в белых халатах. Один из них поднял руку Дженюари, потом опустил ее. Другой уколол предплечье Дженюари иглой. Она ничего не почувствовала. Третий человек воткнул иглу в ее левую щиколотку. Ой! Она ощутила боль. И тотчас погрузилась в сон. Открыв в очередной раз глаза, она увидела висевший над кроватью сосуд с жидкостью. Доктора ушли, но над ней склонился отец. — Кивни, если ты меня слышишь, детка. Она попыталась кивнуть. О, господи, они что, привязали ее голову к постели? Она была чугунной. — Моргни, Дженюари, если понимаешь меня. Она моргнула. — О, детка… Он уткнулся головой в ее плечо. — Обещаю тебе, все будет хорошо. Дженюари почувствовала влагу на своей шее. Слезы. Его слезы. Она никогда еще не видела Майка Уэйна плачущим. Никто не видел его плачущим. А сейчас он плакал из-за нее. Внезапно она испытала небывалое счастье. Забыла о ноге и руке. Он любит ее… очень сильно… она поправится… скоро… они проведут лето вместе… на костылях… с гипсом… это неважно. Она протянула руку, чтобы дотронуться до отца… погладить его… неверно оценила расстояние и коснулась собственной головы. Она показалась ей каменной. Майк поднялся. Его лицо было спокойным. Ее голова! Что с ней? Возможно, лицо тоже повреждено. Дженюари охватила паника. К горлу подкатил комок. Но она заставила себя коснуться рукой лица. Майк мгновенно понял ее испуганный жест. — С лицом все в порядке, детка. Тебе обрили голову, но волосы отрастут. Ей обрили голову! Он увидел ужас в глазах дочери, сжал ее руку. — Слушай, я скажу тебе все, потому что тебе предстоит борьба. Нам обоим предстоит борьба. Последствия аварии таковы: у тебя трещина в черепе и сотрясение мозга. Они сделали операцию, чтобы выпустить кровь. Боялись, что образуется сгусток. Теперь с этим все в порядке. Операция прошла успешно. Сломан позвоночник. Повреждены два позвонка, но это дело поправимое. Еще — множественный перелом ноги. Ты вся в гипсе… поэтому не можешь двигаться. Правая рука парализована из-за травмы головы. Но это, по словам врачей, временное явление. Он попытался улыбнуться. — Все остальное, детка, в полном порядке. Склонившись над Дженюари, он поцеловал ее. — Ты не представляешь, как это здорово, когда ты глядишь на меня. Сегодня ты посмотрела на меня впервые за десять дней… Десять дней! Столько прошло с тех пор, как она вылетела с мотоцикла! Что с Франко? Как долго она будет находиться здесь? Она попробовала снова заговорить, но из горла не вырвалось ни единого слова. Держа дочь за руку, Майк произнес: — Это последствия сотрясения мозга, детка. При ударе задет головной центр, отвечающий за речь. Не пугайся. Все восстановится. Клянусь тебе… Она хотела сказать, что ей нестрашно. Пока он рядом, все хорошо. Дженюари хотела отправить его на киностудию… Майка ждет картина… Он должен знать… для нее нет ничего невозможного, пока они вместе… пока она знает, что сможет увидеть его в конце каждого дня, что он любит ее и думает о ней. Она пошевелила левой рукой. Ей нужен карандаш. Она должна сообщить ему все это. Слезы отчаяния потекли по ее лицу. Ей нужен карандаш. Но Майк не понимал Дженюари. — Сестра! — закричал он. — Скорее сюда… может быть, ей больно! (Папочка, мне не больно… я хочу получить карандаш.) Медсестра была воплощением компетентности. Дженюари почувствовала, как игла входит в ее руку… она начала погружаться в сон… откуда-то издалека донесся голос отца… «Отдохни, детка… все будет хорошо…» (обратно) (обратно)
Глава первая
Сентябрь, 1970 Когда Майк Уэйн вошел в зал, отведенный в аэропорте «Кеннеди» для особо важных лиц, дежурная решила, что он — какой-то известный киноактер. Ей показалось, что она не раз видела его лицо, но она не могла вспомнить, кто он. — Самолет авиакомпании «Свиссэйр», следующий рейсом номер семь, прибывает в пять? — спросил он, расписываясь в книге посетителей. — Я проверю, — отозвалась женщина, одаривая его приветливой улыбкой. Он улыбнулся ей в ответ, но опыт подсказал дежурной, что это была улыбка мужчины, у которого уже есть девушка. Девушка, прилетающая рейсом номер семь. Возможно, она из тех швейцарских красоток, что заполонили Штаты в последнее время. Они отнимали все шансы у стюардессы со скромной внешностью. — Опаздывает на полчаса. Прибытие ожидается в пять тридцать, — виновато улыбнулась она. Кивнув, он прошел к одному из кожаных кресел, стоявших у окна. Женщина посмотрела на его роспись в книге. Майк Уэйн. Она слышала эту фамилию и видела его, но не могла вспомнить где. Может быть, в одном из телесериалов, который она смотрела в субботний вечер, не занятый свиданием. Мистер Майк был старше мужчин, с которыми она встречалась, возможно, ему перевалило за сорок. Но ради этого человека с голубыми глазами Пола Ньюмена она охотно забыла бы о разнице в возрасте. Предприняв последнюю попытку обратить на себя его внимание, она подошла к нему с несколькими журналами, но он покачал головой и снова уставился на самолеты, стоявшие на летном поле. Вернувшись к своему столу, женщина вздохнула. Никаких шансов! Этот человек был погружен в свои мысли. Майку Уэйну было о чем подумать. Она возвращается! После трех лет и трех месяцев, проведенных в клиниках… наконец-то! После аварии, в которую попала Дженюари, началось и его падение. Картина с участием Мельбы принесла убытки. Он обвинял в этом только себя. Нельзя думать о вестерне, когда твой ребенок лежит разорванный на части. Врачи не обещали ничего утешительного. Сначала никто из хирургов не надеялся, что она сможет ходить. Паралич был связан с сотрясением мозга и требовал немедленной физиотерапии. Неделями он изучал непонятные ему рентгенограммы… электроэнцефалограммы. Снимки позвоночника. Он доставил на самолете двух хирургов из Лондона и знаменитого невропатолога из Германии. Они согласились с римскими специалистами — промедление с началом курса физиотерапии снизит шансы устранения паралича, однако до сращения костей ничего нельзя предпринимать. Майк проводил большую часть времени в больнице, появляясь на киностудии, лишь чтобы убедиться в том, что почти все эпизоды с участием Франко вырезаны из ленты. Он не поверил Франко, заявившему, что Дженюари сама просила его увеличить скорость. Когда Майк рассказал об этом дочери, она отказалась подтвердить или опровергнуть слова итальянца. Майк прогнал Франко со съемочной площадки и предоставил режиссеру заканчивать картину. Он хотел уехать с Дженюари из Рима. Но через три месяца она еще была в гипсе и не могла говорить. После римской премьеры фильма в газетах появились убийственные рецензии. Финансовые дела обстояли не лучше. В Нью-Йорке престижные кинотеатры сняли картину с проката через неделю, и она попала на Сорок вторую улицу. Европейская пресса назвала Майка Уэйна первым режиссером, сумевшим лишить Мельбу Делитто сексапильности. Он пытался отнестись к неудаче по-философски. Каждый может потерпеть однажды крах. Ему долгое время везло. Он находился на гребне удачи с 1947 года. Он говорил это себе. А также репортерам. Однако когда Майк сидел возле кровати дочери, его преследовали грустные мысли. Что это — случайный прокол или удача изменила ему? Он должен был сделать еще две картины для «Сенчери». Прибыль от них может покрыть убытки от вестерна. Следующий фильм казался ему застрахованным от провала. Это была шпионская лента, основанная на бестселлере. Он начал снимать в Лондоне, в октябре. Каждый уик-энд он летал в Рим, заставляя себя входить в палату с такой же улыбкой, какой его встречала дочь. Он пытался сохранять присутствие духа, несмотря на то что прогресса в излечении не было. Она поправится! Обязательно поправиться! В день рождения, когда Дженюари исполнилось восемнадцать лет, она удивила его, сделав через силу несколько шагов с помощью врача и костылей. С правой рукой дела обстояли неплохо, но правая нога еще волочилась. Девушка начала говорить. Правда, иногда она еще запиналась, произнося какое-то слово. Но он знал, что это дело времени. Черт возьми, если она может говорить и пользоваться правой рукой, что задерживает исцеление ее правой ноги? Несомненно, сотрясение мозга тут ни при чем. Но ее улыбка была радостной, торжествующей. Ее волосы немного отросли — она напоминала худенького мальчика. У Майка пересохло в глотке. Он заставил себя улыбнуться. Горло сдавил спазм. Ей восемнадцать лет, а уже столько месяцев потеряно. После дня рождения Дженюари ему предстояло отправиться в Штаты и снять там в Нью-Йорке и Сан-Франциско сцены погони. Затем — монтаж и озвучивание в Лос-Анджелесе. Майк возлагал большие надежды на эту картину — она обещала быть прибыльной. И почему-то он связывал ее судьбу с выздоровлением Дженюари. Он как бы загадал: будет фильм иметь успех — Дженюари скоро встанет на ноги. Благотворительная премьера состоялась в Нью-Йорке. Вспышки блицев, знаменитости, интервью. Аудитория аплодировала и смеялась вовремя. Когда в зале зажегся свет, боссы «Сенчери» стали подниматься по проходу, похлопывая Майка по спине… улыбаясь. Затем — обед в «Американе», где они услышали о том, что первая телевизионная рецензия оказалась плохой. Но все сказали, что это не имеет значения. Важна реакция «Нью-Йорк Таймс». В полночь стало известно, что отклик «Нью-Йорк Таймс» будет убийственным. (К этому моменту боссы «Сенчери» уже покинули прием.) Глава рекламного отдела «Сенчери», оптимист Сид Гофф, невозмутимо пожал плечами. Кто читает «Таймс»? Когда речь идет о фильме, важно мнение «Дейли ньюс». Еще через двадцать минут они узнали о том, что «Дейли ньюс» отметила картину всего двумя звездочками, но Сид Гофф не терял оптимизма. «Я слышал, парню из „Пост“ она понравилась. И вообще, главное — это мнение публики». Но рецензия «Пост» и реакция публики оказались неважными. Картина продавалась плохо, но Сид Гофф не расстраивался. «Подождите, когда она пройдет по стране. Людям она понравится. Только это имеет значение». Фильм был прохладно принят в лос-анджелесском «Чайниз». Вяло прошел в Детройте. В Чикаго потерпел полное фиаско. А в Филадельфии и других ключевых городах его не пустили в кинотеатрах первого показа. Майк отказывался верить в происходящее. Он был уверен в успехе фильма. Два провала подряд. Его охватило суеверие, распространенное в шоу-бизнесе. Все плохое случается трижды. Смерти… авиакатастрофы… землетрясения — и убыточные фильмы. Несомненно, руководство «Сенчери» разделяло его страх. Когда он звонил в кинокомпанию, все «оказывались» на совещании или только что вышедшими из кабинета. Последним ударом стало известие из Нью-Йорка — на третью картину ему выделили только два миллиона долларов, включая расходы на рекламу. Он мог уложиться в такой бюджет, лишь пригласив малоизвестных актеров и начинающего режиссера либо опытного, но потерпевшего ряд неудач. Но у Майка не было иного выхода. Контракт обязывал его сделать третью картину. Ладно, если ему достаются такие карты, он сделает третий фильм, вернется в Нью-Йорк и поставит сногсшибательный спектакль на Бродвее. Чем больше он думал об этом, тем сильнее росла его уверенность. Возвращение Майка Уэйна на Бродвей станет событием. Деньги — не проблема. Черт возьми, он вложит свои средства. У него есть несколько миллионов. Что такое несколько сотен долларов? Нужна только превосходная пьеса. С такими мыслями летом 1968 года он приступил к съемкам третьего фильма. Он летел в Рим повидать Дженюари с прекрасным настроением, но когда она заковыляла навстречу ему, волоча ногу, Майк впервые испугался, что она никогда не сможет нормально ходить. Дженюари хотела знать о его новой картине все. Почему он пригласил неизвестных людей? Кто занят в главной роли? Когда она сможет прочитать сценарий? Он заставлял себя фантазировать с воодушевлением, которое давалось ему нелегко. Он сдерживал панику до встречи с врачами. Тут его страх и ярость выходили наружу. О каком медленном улучшении они говорят? Чего стоят обнадеживающие сообщения, которые он получал последние месяцы? Он не видел никакого прогресса. Доктора соглашались, что двигательные функции восстанавливаются медленнее, чем они полагали вначале. Но он должен понять… Они не могли начать физиотерапию достаточно рано. Врачи не стали скрывать от Майка свой прогноз: Дженюари всегда будет прихрамывать и, возможно, пользоваться тросточкой. В эту ночь он крепко напился с Мельбой Делитто. Когда они наконец оказались в ее квартире, Майк, расхаживая по комнате, проклинал больничных врачей, безнадежность ситуации. Мельба пыталась его успокоить: — Майк, я тебя обожаю. Я даже не держу на тебя зла за мою единственную неудачную картину. Но сейчас ты еще раз принес компании убытки. Ты не должен позволить несчастью, случившемуся с дочерью, погубить твою жизнь. Следующая картина должна иметь успех. — Что ты мне советуешь? Работать, забыв о Дженюари? — Нет, не забыв. Но у тебя есть собственная жизнь. Перестань мечтать о несбыточном. Злость внезапно отрезвила Майка. Он всегда добивался невозможного. Его мать бросила сына, когда ему было три года. Отец, боксер-ирландец, погиб на ринге, пропустив удар третьеразрядного спортсмена. Майк взрослел один на южной окраине Филадельфии. В семнадцать лет пошел служить в ВВС — лучше армия, чем тот мир, который его окружал. Затем война… самое пекло… гибли под пулями парни, рядом с которыми он спал… Почему кто-то погиб сегодня, а он остался жив? Их возвращения ждали родные и возлюбленные, присылавшие продукты и длинные письма. Постепенно рождалась мысль — ты остался живым, потому что тебя ждет какое-то дело. Твой долг — вернуться на родину и выполнить его. Он чувствовал, что фортуна покровительствует ему — он должен осуществить нечто невозможное. Заслужить прощение погибших. Он не был религиозен, но верил в предназначение. В оплату долга. Такова была его философия. — Моя девочка будет ходить, — тихо произнес он. Мельба пожала плечами. — Тогда свози ее в Лурд. А если хочешь истратить много денег, отправь Дженюари в «Клинику чудес». — Что это? — Швейцарская больница, расположенная в Альпах. Она очень дорогая, но врачи там добиваются великолепных результатов. Я знаю одного автогонщика, разбившегося в Монте-Карло. Говорили, что он останется парализованным на всю жизнь. В «Клинике чудес» его поставили на ноги. На следующий день Майк полетел в Цюрих, затем добрался до роскошного дворца, спрятавшегося в горах. Он встретился с доктором Петерсоном, хрупким человечком, не похожим на чудотворца. Это была еще одна отчаянная попытка. Майк осмотрел клинику с доктором Петерсоном. Он увидел стариков, переживших инсульт и ковыляющих на костылях, — они радостно приветствовали врача. Майк проследовал за доктором в комнату, где пели маленькие дети. Сначала он не увидел в этом зрелище ничего удивительного… но потом понял, что каждый ребенок здесь бросает вызов судьбе. У одного была «волчья пасть»… у другого слуховой аппарат на ухе… у третьего — лицевой парализ. Но все они улыбались и заставляли себя петь. В другом крыле находились малолетние жертвы талидомида с искусственными конечностями. Они осваивали хитроумные протезы, радуясь малейшему прогрессу. Майк почувствовал, что его настроение меняется. Сначала он не понял причину. Потом его осенило. Здесь не было места пессимизму. Пациенты боролись изо всех сил. Стремились к недостижимому. — Видите, — пояснил доктор Петерсон, — каждая минута тратится на лечение. На борьбу за здоровье. У нас здесь находится один мальчик, попавший на ферме под трактор. Потеряв обе руки, он научился играть на гитаре с помощью протезов. Каждый вечер у нас концерт. Иногда мы ставим спектакли и балеты. Все это — часть терании. Но у нас нет телевизоров и радио. — Почему вы отрезаны от внешнего мира? — спросил Майк. — Кажется, пациенты и так выпали из обычной жизни вследствие своих недугов. Доктор Петерсон улыбнулся: — Клиника — это целый мир. Мир, где пациенты помогают друг другу. Новости из внешнего мира напоминают о войнах, забастовках, загрязнении окружающей среды, переворотах… Если все это приносит несчастья здоровым людям, зачем нашим пациентам бороться изо всех сил за возвращение в такой мир? Ребенок, родившийся без ног и научившийся за шесть месяцев делать два шага, может упасть духом, столкнувшись с жестокостью и равнодушием людей, которым больше повезло в жизни. «Клиника чудес» — это мир надежды и желания выздороветь. Майк, похоже, о чем-то задумался. — Но здесь нет никого, с кем моя дочь могла бы подружиться. Тут одни старики… и младенцы. — С кем она общается в палате римской больницы? — Ни с кем. Но она не окружена больными и калеками. Теперь задумчивым стало лицо доктора Петерсона. — Иногда присутствие более несчастных помогает человеку встать на ноги. Однорукий мальчик, попавший сюда, видит безрукого сверстника и внезапно понимает, что потеря одной руки — это еще не конец жизни. А безрукий вырастает в собственных глазах, помогая лишившемуся ног. Вот что здесь происходит. — Один вопрос, доктор Петерсон… Вы действительно считаете, что можете помочь моей дочери? — Сначала я должен изучить историю ее болезни и заключение лечащего врача. Мы берем только тех пациентов, которым в состоянии помочь. И даже тогда не гарантируем полное излечение. Спустя три недели Майк зафрахтовал самолет и доставил Дженюари в «Клинику чудес». Он решил не щадить дочь. Рассказал ей заранее о том, каких пациентов она увидит. Но зато здесь у нее появлялся шанс окончательно поправиться. Майк скрыл от дочери, что у доктора Петерсона были некоторые сомнения насчет возможности ее полного выздоровления. Ближайшая деревня находилась в пяти милях от больницы. Майк остановился в гостинице и провел там неделю, наблюдая за дочерью. Если Дженюари и испытывала отвращение, она его не демонстрировала. Ее улыбка всегда была приветливой, радостной; девушка с восхищением говорила о своих новых знакомых. Майк вернулся на Западное побережье и занялся третьей картиной. Она была обречена на провал, ничто не могло ее спасти. Но он уже начал рекламировать свое возвращение на Бродвей. Агенты, актеры и режиссеры звонили ему. Каждый вечер он запирался в своем коттедже «Беверли Хиллз» и читал сценарии известных драматургов, начинающих авторов и любителей. Он читал все подряд, включая дайджесты новых романов. В Швейцарию Майк полетел с портфелем, набитым рукописями. Дженюари провела в клинике уже два месяца. Ее речь стала идеальной, правая рука — сильной, как прежде. Но нога по-прежнему представляла проблему. Девушка ходила лучше, но все же заметно прихрамывала. Съемки закончились в декабре. Майк предоставил режиссеру монтировать и озвучивать ленту. Он провел длительное совещание со своим консультантом по бизнесу. Продал личный самолет и часть ценных бумаг. Но отказался сдать «люкс» в «Плазе». В канун рождества он полетел в Швейцарию, доплатив за избыток багажа пятьсот долларов. Три чемодана были набиты игрушками для детей. Он подарил Дженюари стереопроигрыватель и комплект пластинок с мелодиями из кинофильмов последнего десятилетия. Они отпраздновали ее девятнадцатилетие в маленьком ресторане при гостинице. Она говорила о грамзаписях, о том, как они понравились ей, сожалела о пропущенных ею за последний год спектаклях. Потом ее лицо стало серьезным; она взяла отца за руку. — Вот что, папа. В твой следующий приезд я смогу танцевать с тобой. Это обещание. — Не спеши. Он засмеялся: — Я уже давно не танцевал. — Тогда восстанови форму. Я буду ждать. Она улыбнулась. — Я не имею в виду то, что танцуют в дискотеках. Возможно, медленный вальс. Кивнув, он заставил себя улыбнуться. Как раз в этот день он беседовал с доктором Петерсоном, которого беспокоило отсутствие прогресса с ногой. Врач предложил пригласить из Лондона ведущего ортопеда для консультации. Через несколько дней Майк встретился с доктором Петерсоном и Артуром Райлендером, английским хирургом. Изучив рентгеновские снимки, Райлендер заявил, что кость срослась неправильно. Ее следовало сломать и установить заново. Когда Майк сообщил новость Дженюари, девушка решительно сказала: — Мы это сделаем. Я всегда считала, что гипс в Альпах — это модно. В одной твоей картине героиня сидит с гипсом на фоне гор и выглядит прекрасно. — Это было даже в трех моих картинах, — засмеялся Майк. — И все мои героини поправлялись. Помни это. Операцию сделали в Цюрихе. Через две недели девушка вернулась в «Клинику чудес». Воодушевленный мужеством дочери, Майк вернулся в Штаты. Она заслуживала, чтобы по возвращении ее ждало царство. Теперь ничто не могло остановить Майка Уэйна. Прибыв на Западное побережье, он очистил свой кабинет в «Сенчери пикчерс» и отправился на скачки в Санта-Аниту. Сделал ставку наугад. Лошадь пришла первой. Он выиграл пять тысяч и не удивился этому — он знал, что фортуна снова повернулась к нему лицом. Вечером он прочитал сценарий неизвестного автора и понял, что нашел свою пьесу. Он решил вложить в постановку собственные средства. Отправился в Нью-Йорк, установил дополнительные телефоны в своем «люксе», арендовал роскошный офис в здании Гетти и провел пресс-конференцию. Майк Уэйн возвращается на Бродвей! В течение нескольких следующих месяцев он был сгустком неиссякаемой энергии. Обсуждения с театральными художниками, режиссерами, актерами, интервью в «Сарди», выступления на телевидении, обеды в «Пристанище Дэнни», знакомства с комедиантами, полночи, проведенных с Джоном Нибелом на радио у микрофона. Его возвращение будоражило всех. Пресса любила Майка… его энтузиазм и грубоватое обаяние заражали окружающих. Когда начались репетиции, он стал посылать Дженюари ежедневные отчеты. Он отправил ей сценарий, газетные статьи, описывал репетиции. Информировал о том, как осуществляется «их» проект. Он скрыл от дочери лишь то, что после первой недели репетиций одна молоденькая инженю перебралась в его «люкс». Премьера состоялась в октябре в Филадельфии. Спектакль получил различные оценки. Его доработали, инженю лишилась двух своих лучших сцен и перестала разговаривать с Майком. В Бостоне рецензии были великолепными. Спустя две недели спектакль показали в Нью-Йорке. Зрители неистово аплодировали, но отклики в прессе оказались убийственными. Мнение газет было единодушным: «Старомодно… громоздко… неудачный актерский состав». Драматург заявил в телевизионном ток-шоу, что Майк изменил его исходный замысел, убрал всю мистику. Инженю сказала телерепортеру, что сценарист — гений, а Майк загубил его творение. (К этому времени она уже покинула «Плазу» и перебралась к драматургу.) Майк отказывался снять спектакль. Труппа получала мизерные гонорары. Он потратил двести тысяч долларов из своих сбережений на рекламу, размещенную на автобусах, вагонах метро, полосах «Нью-Йорк тайме», радио и телевидении, в журнале «Эстрада». Переиздал бостонские рецензии в ряде других газет. Заполнял театр контрамарочниками и создавал вокруг спектакля шумиху, всегда сопровождавшую его прежние «хиты». Полетел в Швейцарию и сказал Дженюари, что спектакль пользуется небывалым успехом, будет идти всегда и он уже готовит к отправке на гастроли три труппы. Спустя два месяца, после долгого совещания с бухгалтером, ему пришлось снять спектакль. На бирже был спад, но он продал еще некоторое количество ценных бумаг и прибыл в Швейцарию на двадцатилетие дочери с улыбкой победителя и обычным превышением нормы багажа — его чемоданы были забиты подарками. И когда Дженюари вышла в комнату для посетителей без костылей и следов хромоты, он действительно почувствовал себя настоящим победителем. Он стиснул челюсти, кадык перекатился на его шее. Она была так прекрасна. Эти большие карие глаза, волосы, падающие на плечи… Когда она оказалась в его объятиях, они оба заговорили и засмеялись одновременно. Позже, обедая в гостинице, она спросила: — Почему ты сказал, что спектакль имел успех? — Он действительно имел успех… у меня. Он оказался слишком хорош для публики. — Но ты вложил в него свои деньги… — Ну и что? — Ну, у тебя уже было три убыточных фильма… — Кто тебе это сказал? — Я читала «Эстраду». — Где, черт возьми, ты нашла «Эстраду»? — Ты сам оставил прошлый раз номер. Доктор Петерсон отдал его мне, думая, что он тебе нужен. Я прочитала там все статьи. Но почему ты сказал мне, что спектакль стал «хитом»? — Он стал им… в Бостоне. Слушай, забудь о нем. Поговорим о более важных делах. Доктор обещает, что ты сможешь уехать отсюда через шесть месяцев. — Папочка… Подавшись вперед, она заглянула ему в глаза. — Помнишь, когда мне исполнилось тринадцать, ты сказал, что это особенный вечер. Так вот, сегодня я уже не тинэйджер. Мне двадцать лет. Я — взрослая девушка. Я знаю, что больница обходится тебе ежемесячно в три тысячи долларов. Эрик, маленький мальчик, который учил меня играть на гитаре, уехал отсюда из-за дороговизны… Я подумала… — Единственное, о чем ты должна думать — это о выздоровлении. — Как у тебя с деньгами? — Черт возьми, я заработал на убыточных картинах. Я получал процент от общих расходов и неплохо обогатился. — Честно? — Честно.Он сел на самолет, горя желанием добиться невозможного. Беседа с доктором Петерсоном встревожила его. («Мистер Уэйн, вы должны подумать о будущем Дженюари. Тут требуется большая осторожность. Она очень красива, но совершенно лишена жизненного опыта. Она говорит, что хочет стать актрисой, — это естественно при вашей работе. Но вы должны понимать, что клиника оберегала ее от внешнего мира. Дженюари следует постепенно впускать в ваш мир, девушку нельзя сразу бросать туда».) Майк размышлял об этом в самолете. Ей предстояло войти в его мир в неудачный момент. Когда за бортом лайнера разразилась гроза, Майк подумал, что авиакатастрофа могла бы избавить его от всех проблем, но тут же вспомнил, что уже обратил страховку в наличные. Единственным решением могла стать прибыльная картина. Возможно, после трех неудач в кино его полоса невезения закончилась. Он вернулся в Лос-Анджелес и снова уединился в отеле «Беверли Хиллз», погрузившись в чтение сценариев. К удивлению Майка, он почти сразу нашел то, что искал. Вещь была написана автором, произведения которого не имели успеха в последние десять лет. Но в пятидесятых годах по его старым книгам был снят ряд нашумевших фильмов. Тогда он получил несколько «Оскаров». И этот сценарий принесет ему премию. В нем было все: большая любовь, действие, отчаянная погоня. Майк встретился с автором и заплатил ему тысячу долларов за месячный опцион. Уэйн отправился к руководителям известных студий Его удивило то, что никто не брался финансировать съемки и не проявлял интереса к сценарию. Везде он слышал одно и то же. Киноиндустрия переживает кризис. Сценарий — это ерунда. Вот если бы у него был бестселлер… тогда, возможно… Киностудии завалены сценариями. Все пребывали в состоянии тихой паники. Везде происходили перемены. Менялись боссы кинокомпаний. В некоторых студиях он даже не знал новых руководителей. Ведущие независимые продюсеры также отказывались поддержать его. Они считали, что автор потерял конъюнктурное чутье, находили риск неоправданно большим. По истечении месяца Майку пришлось отказаться от прав на сценарий, который через три дня был куплен двумя совсем еще молодыми людьми, год назад сделавшими посредственный фильм. Они немедленно получили необходимые средства от одной крупной студии. Майк вернулся в Нью-Йорк, отчаянно пытаясь найти для себя какое-то дело. Он вложил сотню тысяч долларов в спектакль, создаваемый одним из ведущих продюсеров. Неприятности начались на второй неделе репетиций, когда исполнитель главной роли покинул труппу. Обкатка пьесы за пределами Нью-Йорка обернулась кошмаром — после восьми недель истерик, споров, замен Майк принял решение снять спектакль до бродвейской премьеры. Он потратил две недели, вкладывая деньги в разработку идеи телесериала. Сам оплатил съемки пилота — пробной постановки, израсходовав триста тысяч долларов. Шефы телекомпаний смотрели пилот, но не брались финансировать сериал. Майк мог вернуть часть средств, сняв короткий телефильм, предназначенный для эфирного «окна» в летнем межсезонье. Спустя несколько недель он отправился на закрытый просмотр картины, снятой по упущенному им сценарию. Зал был заполнен длинноволосыми бородатыми молодыми людьми в футболках. Девушки были в коротких майках, без лифчиков, с прическами в стиле «афро» или с длинными нерасчесанными волосами. Глядя на экран, Майк испытывал тошноту. Они загубили великолепный сценарий. Поменяли местами начало и конец, дали массу ретроспекций и нерезких кадров. Превратили любовную сцену в психоделический бред, снятый в стиле «синема верите» удерживаемой в руках камерой. Конечно, им пришлось пойти на это, располагая теми уродливыми бездарностями, которые сегодня назывались актерами и актрисами. Куда-то исчезли люди с такими лицами, как у Гарбо и Кроуфорда, актеры вроде Гейбла и Кэри… Мир захватили уроды. Майк не понимал, что происходит вокруг него. Неделей позже он отправился на другой предварительный показ, состоявшийся на Восемьдесят шестой улице. Увидел тех же зрителей, а также студентов из колледжей и молодых семейных служащих. Аудитория принимала фильм на «ура». Премьера состоялась через три недели. Фильм ставил рекорды кассовых сборов по всей стране. Майк испытал серьезное потрясение. Значит, он не понимает, что требуется сегодняшнему кинорынку. Три года назад его суждения были безошибочными. Студии верили ему… а главное, он сам верил в себя. Пришло время отойти от стола. Майк Уэйн оказался вне игры. Как быстро изменились правила! Он выглядел неизменно, думал по-прежнему. Возможно, в этом все дело. Он не пошел на поводу у моды, не принял наготу, спектакли и фильмы без сюжета, новомодную бесполость. Что ж, ему уже пятьдесят два. Он знал неплохие времена. Мог идти по Бродвею, не опасаясь грабителей. Помнил Нью-Йорк ночных клубов и красивых девушек, вместо которых появились порнофильмы и массажные салоны. Но сильнее всего Майка печалило то, что Дженюари возвращалась в этот мир. Он сидел в зале для особо важных лиц и смотрел на серое небо. Она летит домой сквозь эту свинцовую мерзость. Он всегда обещал ей яркий сверкающий мир. Черт возьми, он сдержит свои обещания. Улыбающаяся дежурнаявернулась. Она объявила о прибытии самолета. Майк организовал торжественную встречу для дочери. Официальный представитель аэропорта проведет ее через таможню. Что может включить в декларацию ребенок, который три года провел в больнице? Майк вышел из зала ожидания, не заметив, как дежурная вскочила со своего стула, чтобы попрощаться с ним. Прежде он обязательно очаровал бы ее своей улыбкой, потому что женщина была симпатичной. Впервые в жизни Майк Уэйн испытывал страх. Он заметил дочь в тот момент, когда она входила в здание аэропорта. Да, он не мог пропустить ее. Загорелое лицо, развевающиеся волосы — он обратил бы на нее внимание, даже если бы она не была его дочерью. Дженюари, казалось, не замечала, что мужчины оборачиваются, глядя на нее. Маленький человек едва поспевал за мчавшейся вперед девушкой. Она всматривалась в толпу встречающих. Наконец она увидела Майка. Объятия, поцелуи, смех, слезы на глазах. — О, папочка, ты великолепно выглядишь! Мы не виделись с июня! Как замечательно снова оказаться дома… рядом с тобой. — Ты тоже выглядишь отлично, детка. — Это мистер Хиггинс. Она повернулась, представляя маленького человека. — Он очень любезен. Мне даже пришлось открыть сумку… Майк пожал руку таможеннику, который нес сумку девушки. — Я вам очень признателен, мистер Хиггинс. Он взял сумку. — Теперь, если вы скажете мне, где находится остальной багаж моей дочери, я договорюсь, чтобы его доставили к машине. — Это все, мистер Уэйн. Рад был помочь вам. И познакомиться с мисс Уэйн. Он пожал им обоим руки и исчез в толпе. Майк поднял сумку. — Это все? — Да! Я надела свой лучший костюм… он тебе нравится? Она отступила на шаг назад и повернулась на триста шестьдесят градусов. — Я купила его в Цюрихе. Услышала, что тут все носят брючные костюмы. Он обошелся мне в триста долларов. — Он превосходен. Но… Майк посмотрел на небольшую сумку, которую держал в руке. — Других нарядов нет? Она засмеялась. — О, там полно одежды. Три пары джинсов, пара блузок, свитера, кроссовки… потрясающая ночная рубашка, которую я приобрела в Цюрихе. У меня кончились деньги, не то я бы еще купила платье. А вообще я полностью экипирована для любых мероприятий. — Завтра мы займемся твоим гардеробом. Она взяла Майка под руку, и они направились к выходу. — В самолете я увидела на женщинах юбки различной длины. Майк, что теперь носят? — Майк? Он удивленно посмотрел на дочь. — А почему не «папа»? — О, ты слишком великолепен, чтобы называть тебя папой. Тебе известно, что ты — красавец. Мне нравятся твои баки… с проседью. — Они уже белые, а я — солидный стареющий джентльмен. — До этого еще далеко. Смотри, на той девушке индейский наряд. Она участвует в каком-то шоу? Лента на голове, косички… — Знаешь, сейчас все сошли с ума, — сказал он. — Откуда я могла об этом узнать? Все мои подруги ходили в халатах. Он внезапно остановился и посмотрел на дочь. — Господи, верно. У вас же не было ТВ? — Нет. Он подвел ее к машине. — Сегодня все одеваются, точно они идут на маскарад. Ну, я имею в виду молодежь. Но Дженюари не слушала его. Она уставилась на автомобиль. Тихо свистнула. — Вот это да! — Ты уже ездила на лимузинах. — Я провела в них всю жизнь. Но это не просто лимузин — это нечто. Она восторженно улыбнулась. — Серебристый «роллс-ройс» — только в таком автомобиле и подобает ездить девушке, — сказал Майк. Дженюари села в машину и кивнула. — Красота… форма водителя под цвет салона… телефон… бар… все для удобства пассажира, если он — Майк Уэйн. Она обняла отца. — Папочка… я так за тебя рада. Девушка откинулась на спинку сиденья, — автомобиль устремился вперед. Она вздохнула. — Как здорово вернуться домой. Если бы ты только знал, как часто я мечтала об этом моменте. Даже когда он казался мне несбыточным. Хотела снова оказаться в твоих объятиях, вернуться к тебе в Нью-Йорк. Мои мечты осуществились. Тут все по-прежнему. — Ты ошибаешься. Многое изменилось. Особенно — Нью-Йорк. Она указала на поток машин. Автомобиль выехал на скоростную полосу. — Это не изменилось. Я люблю нью-йоркское движение, шум, толпу, даже смог. Здесь так здорово после стерильного швейцарского снега. Я не могу дождаться того момента, когда мы пойдем в театр. Хочу погулять по переулку Шуберта… увидеть грузовики, выезжающие из Таймс-билдинг… хочу набрать грязного городского воздуха в мои чистые легкие. — Это сделать ты успеешь. Нам предстоит многое наверстать. Она прильнула к нему. — Конечно. Я хочу посидеть за нашим столом в «Сарди»… мне не терпится увидеть «Волосы»… пройтись по Пятой авеню… посмотреть новые наряды. Но сегодня я хочу остаться дома и исполнить наш ритуал с шампанским и икрой. Я знаю, сегодня — не день рождения. Но, согласись, повод для торжества немалый. А больше всего не свете я хочу услышать о твоей потрясающей картине. — О моей потрясающей картине? Откуда у тебя такая информация? — Ниоткуда. Но я тебя знаю. Когда я получила прошлым летом из Испании твои открытки с таинственными намеками на большой новый замысел… я поняла, что речь идет о фильме и что ты боишься сглазить проект рассказом о нем. Но сейчас… когда я увидела все это. Она махнула рукой. — Расскажи мне о нем. Он посмотрел на дочь. На сей раз без улыбки. — Лучше ты расскажи мне что-нибудь. Надеюсь, ты осталась самой стойкой и жизнерадостной девушкой на свете. Тебе предстоит увидеть, что здесь многое изменилось, и… — Мы вместе, — сказала она. — Все прочее не имеет значения. Скажи мне — это фильм или спектакль? Я смогу работать с тобой? Я согласна играть роль без слов, печатать, выполнять мелкие поручения… — Дженюари, тебе не приходило в голову, что в жизни есть вещи поважнее театра и общения с отцом? — Назови. — Ну, ты можешь встретить приличного молодого человека… выйти замуж… сделать меня счастливым дедушкой… Она рассмеялась. — Это произойдет нескоро. Слушай, возле тебя сидит девушка, которая целых три года заново училась ходить и говорить. Она подняла руку и нежно коснулась его лица. — О, Майк… Дженюари счастливо вздохнула. — Я хочу вместе с тобой заниматься тем, о чем мы всегда мечтали. — Иногда наши мечты меняются. Или мы меняем их. — Что ты хочешь этим сказать? — Тебе известно, что я был в Испании, — медленно произнес он. — Но моя поездка не связана с кино. — Телесериал, — сказала она. — Я угадала? Он посмотрел в окно, взвешивая слова. — Я совершил несколько правильных шагов в моей жизни. Мой последний поступок — самый верный из всех. У меня есть для тебя сюрприз. Сегодня вечером ты… Она перебила отца. — О, Майк, пожалуйста, обойдемся сегодня без сюрпризов. Мы двое и шампанское. Если бы ты знал, сколько месяцев я мечтала оказаться в нашем «люксе» в «Плазе» с видом на парк, где находится моя горка желаний… — Тебя устроит «Пьер»? — Что случилось с «Плазой»? — Мэр Линдси отдал ее бездомным. Она улыбнулась, но он заметил разочарование в глазах Дженюари. — Вид почти тот же, — быстро добавил Майк. — Но боюсь, тебе придется забыть о горке желаний. Ее захватили пьяницы и наркоманы. Вместе с собаками, устроившими там туалет. Теперь у всех тут большие псы. Их держат для безопасности. Он почувствовал, что разболтался. Умолкнув, посмотрел на темнеющий горизонт, на городской пейзаж, затянутый смогом и привлекательный своей хаотичностью. В маленьких прямоугольных окнах появлялся свет… нью-йоркский вечер. Вскоре линия горизонта скрылась. На Шестидесятой улице Майк обратился к водителю: — Остановитесь у табачного магазина напротив «Блумингдейл». «Роллс-ройс» затормозил; прежде чем шофер успел выйти из машины, Майк уже выскочил на улицу. — У меня кончились сигареты, — пояснил он и повернулся к водителю. — Здесь нельзя стоять во втором ряду. Прокатите мисс Уэйн вокруг квартала. Я к тому времени выйду. Когда лимузин обогнул квартал, Майк уже стоял на углу. Сев в машину, он закурил. Внезапно протянул пачку дочери. — Куришь? — Нет. Ты успел? — Что? — Позвонить. — Куда? Она засмеялась. — О, Майк… тут в баре целый блок. Его лицо окаменело. — О'кей… и куда же я звонил? Она взяла его под руку. — Ты заказал шампанское и икру. Я прочитала на твоем лице, что ты забыл это сделать заранее. Он вздохнул. — Возможно, я многое забыл. Она закрыла пальцами его рот. — Скажи мне только одно. Я правильно угадала насчет звонка? — Да. — Майк, ты ничего не забыл, — нежно произнесла она.
Открыв глаза, она решила, что находится в больнице. Но комната была непривычно темной, мебель выглядела иначе. Окончательно проснувшись, она поняла, что лежит в новой спальне, в отеле «Пьер». Девушка включила ночник, стоящий на тумбочке. Полночь. Значит, она спала только два часа. Потянувшись, Дженюари обвела взглядом комнату. Она была очень красивой. Вовсе не походила на гостиничную спальню. «Люкс» был огромным, роскошным. Более просторным, чем любой гостиничный номер Майка. Он объяснил, что отель состоял из квартир, сдаваемых в поднайм постоянными съемщиками. Похоже, эти апартаменты арендовались людьми, обладавшими вкусом. Гостиная сразу произвела впечатление на Дженюари. Свечи, икра, шампанское в ведерке со льдом, бархатная темнота парка далеко внизу. Они произносили тосты друг за друга, ели икру… После первого бокала Дженюари охватила сонливость. Майк тотчас это заметил. — Слушай, детка, здесь только девять часов, но по швейцарскому времени уже два или три часа ночи. Ложись в постель. Я немного пройдусь… куплю газеты… посмотрю ТВ и тоже лягу. — Но мы еще не поговорили о тебе… о твоих делах… — Завтра, — решительно сказал он. — Встретимся в девять утра в гостиной и побеседуем за завтраком. — Но, Майк… — Завтра. Снова его голос прозвучал как-то странно. С непривычной твердостью. Так Майк говорил с фотографом, снявшим их в вестибюле — симпатичным молодым человеком, проследовавшим за ними к лифту и сказавшему: «Мистер Уэйн, как ваша дочь чувствует себя в…» Но он не закончил фразу. Майк Уэйн подтолкнул дочь в лифт и выпалил: «Довольно. У нас нет времени на интервью». Сейчас она вспомнила этот инцидент. Это было так непохоже на отца. «Паблисити» всегда было неотъемлемой частью жизни Майка Уэйна. В возрасте девяти лет она попала с отцом на обложку известного журнала. Дженюари пожалела молодого репортера. Когда она спросила отца, почему он так поступил, Майк пожал плечами. — Возможно, на меня подействовал Рим. Не люблю этих парней. Фотографии могут появиться в любом дешевом журнале. Предпочитаю давать авторизованные интервью и позировать, зная, что снимок будет сопровождать текст. Терпеть не могу, когда щелкают камерой из-за угла. — Но он ждал тебя в вестибюле. У него очень приличный вид. — Забудь об этом. (Снова этот сухой решительный тон.) Он открыл шампанское. Дженюари, подняв бокал, сказала: — За нас… Майк покачал головой: — Нет… за тебя. Пришло твое время, и я прослежу за тем, чтобы ты получила все. Она лежала в темной спальне. Впереди была целая ночь. Она постарается снова заснуть. Но сон улетучился. Ей хотелось пить. После икры ее всегда мучила жажда. Вода из крана была почти теплой. Она не стала пить ее и забралась в постель. Настроила приемник на волну музыкальной станции. Погружаясь в дремоту, услышала рекламное объявление. Восторженный голос взахлеб расхваливал новую диет-колу. Дженюари нестерпимо захотелось холодной воды. Она встала. В «люксе» была большая кухня. Она найдет там лед… Дженюари шагнула к двери и остановилась. Она была в короткой прозрачной ночной рубашке. Осторожно открыв дверь спальни, Дженюари произнесла: — Папа? Гостиная была пуста. Девушка на цыпочках вышла из своей комнаты. Уставилась в темноту столовой… заглянула в просторный кабинет… пошла по длинному коридору в комнату для прислуги. Потом Дженюари приблизилась к спальне отца и постучала. Открыла дверь. Пусто. На мгновение она вспомнила Рим… Мельбу. Нет, он не поступил бы так в первую ночь после ее возвращения. Наверно, он отправился погулять и встретил друзей. Она прошла на кухню. Холодильник был забит кока-колой, «Семеркой», имбирным элем и диет-колой с содовой. Девушка налила в бокал кока-колу и вернулась в гостиную. Уставилась на парк. Маленькие мерцающие огоньки придавали ему рождественский вид. Не верилось, что эта бархатная чернота может таить в себе опасность. И вдруг она услышала звук. Ее отец вставил ключ в замок. Сначала Дженюари испытала желание броситься к нему. Затем она посмотрела на свою короткую прозрачную ночную рубашку. После трех лет, проведенных во фланелевых пижамах, эта рубашка была символом. Она ознаменовала собой выздоровление… и отъезд. Ладно, она попросит отца закрыть глаза и дать ей свой халат. Дверь открылась, и Дженюари услышала женский голос. О господи… он не один. Дженюари бросила испуганный взгляд через всю гостиную. Чтобы попасть в свою спальню, ей придется пройти через холл мимо них. Ближайшая дверь вела в его спальню. Она прошмыгнула туда в тот момент, когда они вошли в гостиную. В спальне Майка было темно. Господи, где же выключатель? Она провела рукой по стене. — Майк, это смешно — я пробираюсь сюда тайком, — недовольным тоном заявила женщина. — В конце концов она — не ребенок. — Ди, — твердым, но просящим тоном сказал Майк. — Ты должна понять. Она три года мечтала о том, как проведет первый вечер дома. Женщина вздохнула. — Что, по-твоему, я испытала, когда ты позвонил и предложил мне покинуть квартиру после всех моих поисков нужного шампанского и икры? В этот вечер должно было состояться мое знакомство с Дженюари? Вместо этого меня удалили со сцены, точно какую-то статистку. Слава богу, я застала Дэвида дома. Мы просидели несколько часов в «Шерри». Уверена, я утащила его из объятий какой-нибудь юной красотки… — Иди сюда, — тихо произнес Майк. В квартире стало тихо. Дженюари догадалась, что отец целует женщину. Девушка не знала, что ей делать. Стоять в темноте и подслушивать — это неприлично. Если бы на ней был халат… Ее отец негромко произнес: — Утром я позавтракаю с Дженюари. Я хочу до вашего знакомства погулять с ней. Поверь мне… я поступил сегодня правильно. — Но, Майк… — Никаких «но». Слушай, мы теряем время. Женщина засмеялась. — Майк, ты испортил мне прическу. Будь добр, принеси мою сумочку… Я оставила ее на столике в холле. Дженюари замерла. Сейчас они войдут в спальню! Дверь открылась, и в комнате вспыхнул свет — женщина щелкнула выключателем. Долю секунды они рассматривали друг друга. Лицо женщины почему-то показалось Дженюари знакомым. Она была высокой, стройной, с волосами, окрашенными «под седину», и невероятно красивой кожей. Спутница отца первой пришла в себя. — Майк… иди сюда. У нас гостья. Дженюари замерла. Ей не понравилась любопытная улыбка на сдержанном лице женщины, которая, похоже, чувствовала себя хозяйкой ситуации и обдумывала свой следующий ход. Первой реакцией Майка было удивление. Затем в его глазах появилось выражение, которое Дженюари видела впервые. Досада, раздражение. — Дженюари, что ты здесь делаешь? — Я… я пила кока-колу. Она указала на гостиную, где остался ее бокал. — Но что ты делаешь здесь… в темноте… без напитка? — спросила женщина. Дженюари посмотрела на отца, надеясь, что он положит конец этой тягостной сцене. Но он стоял возле женщины, ожидая ответа дочери. У нее пересохло в горле. — Я услышала, как открывается дверь… голоса… Она с трудом произносила слова. — Я была без халата, поэтому спряталась здесь. Только сейчас они оба посмотрели на ее прозрачную ночную рубашку. Отец быстро прошел в ванную и вернулся оттуда с одним из своих халатов. Он бросил его дочери, не глядя на нее. Надев халат, Дженюари шагнула к двери. Женщина негромко обратилась к девушке: — Подожди, Дженюари. Майк, ты не должен отпускать дочь, не познакомив нас. Девушка замерла спиной к ним, ожидая, когда ее отпустят. — Дженюари, — устало промолвил Майк. — Это Ди. Дженюари заставила себя слегка кивнуть женщине. — О, Майк, — Ди взяла его под руку. — Ты плохо меня представил. Посмотрев на дочь, он тихо произнес: — Дженюари… Ди — моя жена. Мы поженились на прошлой неделе. Девушка услышала, как она поздравляет их. Ее ноги налились свинцом, но ей все же удалось выйти из комнаты… скрыться в своем убежище-спальне. Только там ее колени задрожали… она бросилась в ванную. Дженюари вырвало. (обратно)
Глава вторая
Остаток ночи она просидела у окна. Не удивительно, что лицо женщины показалось знакомым. Ди была не просто Ди. Она была Дидрой Милфорд Грейнджер, занимавшей, если верить прессе, шестое место в списке самых богатых женщин мира! На самом деле никто не знал, шестой она была или шестидесятой. Этот титул родился под пером какого-то репортера и пристал к ней. Ученицы мисс Хэддон частенько подшучивали над ним, когда фото появлялось в газетах или журналах. В ту пору частые замужества Дидры делали женщину постоянной героиней светской хроники. Первый ее муж был оперным певцом. Второй — писателем. Затем она вышла замуж за модного дизайнера. Этот брак освещался в «Моде», когда Дженюари была подростком. Дизайнер погиб четыре года назад при автокатастрофе в Монте-Карло. Безутешная, плачущая Дидра в черном платье на похоронах, показанных по ТВ, заявила, что этот человек был единственным мужчиной, которого она любила, и поклялась, что больше не выйдет замуж. К несчастью, она передумала. Возможно, изменить свое решение ее заставил Майк! Ну конечно! Она была его новой большой задумкой. Открытки из Испании. У Ди был дом в Марбелле — Дженюари видела его в «Моде». А еще Ди владела поместьем в Палм-Бич с прислугой из сорока человек. Дженюари читала об этом в «Женском журнале». Ее яхта швартовалась в Канне — пресса вспомнила о ней, когда Карла гостила у Ди на море. Карла перестала сниматься в 1960 году. Она любила уединение больше, чем Гарбо или Говард Хьюз. Любила настолько сильно, что ее появление в качестве гостьи на яхте Ди тотчас стало сенсацией. Все девушки, учившиеся в школе мисс Хэддон, были поклонницами польской актрисы. В 1963 году Дженюари стала школьной знаменитостью, когда ее отец предложил Карле миллион за возвращение на съемочную площадку. Карла не приняла приглашения и не отклонила его, но известность Майка возросла еще больше. Позже отец признался Дженюари, что безумно хотел познакомиться с актрисой. Что ж, теперь он встретится с ней. Возможно, это уже произошло. Значит, его большим новым проектом была Дидра Грейнджер, фарфоровая красавица. Она казалась бескровной и хрупкой. Мог ли Майк действительно любить ее? Ди производила впечатление человека холодного, не способного испытывать чувства. Возможно, этим она и привлекла Майка, всегда обожавшего вызов. Дженюари сидела у окна до тех пор, пока первые лучи света не начали пробиваться сквозь темноту. Черное небо серело на ее глазах. Она знала, что солнце уже золотит верхние этажи высотных домов на Пятой авеню. Город безмолвствовал в короткий промежуток между ночью и утром. Она надела джинсы, свитер, кроссовки и выскользнула из квартиры. Лифтер зевнул, здороваясь с девушкой кивком головы. Консьерж поглядел на нее устало, без интереса. Человек в комбинезоне мыл щеткой пол в подъезде. Он остановился, пропуская Дженюари. Перед девушкой лежал полутемный город — пустой, безлюдный. Ранним утром улицы казались на удивление чистыми. Она направилась к «Плазе». Замерла на мгновение перед окнами углового «люкса». Перейдя улицу, оказалась в парке. Женщина в драном мужском пальто рылась в мусорном контейнере. Ее распухшие ноги были обмотаны грязным тряпьем. На скамейках возле валявшихся на земле бутылочных осколков спали пьяницы. Бродяги, свернувшись клубочком, лежали на газоне. Дженюари заспешила к зоопарку, в сторону карусели. Солнечные лучи пробивались через смог, пытаясь расчистить небо. По дорожке бежали два молодых человека в майках. Голуби в поисках завтрака ворковали на траве. Белка приблизилась к Дженюари, сложила передние лапки. Ее блестящие глаза просили орех. Дженюари, пожав плечами, протянула пустые ладони. Белка убежала. Три молодых негритянки на велосипедах показали знак «победа». Дженюари шла, не останавливаясь. Пьяницы начали шевелиться, просыпаясь. Женщина принесла в парк старую таксу. Она бережно опустила ее на землю и сказала: «Детка, сделай ка-ка». Ни женщина, ни собака не поглядели на Дженюари. Такса сделала свое дело, хозяйка похвалила ее, взяла на руки и ушла. Пьяницы уже заставляли себя встать на ноги. Тем, кому это не удавалось, помогали приятели. Внезапно парк заполонили собаки: Дженюари увидела человека, выгуливавшего за плату сразу шестерку чужих псов разных пород, мужчину с ризеншнауцером, женщину с бигуди на голове и коккер-спаниелем на поводке. Парк, казавшийся ночью бархатным, становился неприветливым, грязным. Солнечные лучи высвечивали банки из-под пива, разбитые бутылки и обертку от бутербродов. Ветер раскачивал деревья, и мягкий шелест опадающих листьев казался предсмертным стоном на фоне рева автобусных моторов. Чудовище просыпалось, сигналя клаксонами, скрипя тормозами, визжа резиной. Теперь в парке стали появляться дети. Бледные, усталые матери толкали прогулочные коляски с малышами. Иногда рядом трусила собака с привязанным к коляске поводком — ревнуя, она вспоминала дни, когда безраздельно находилась в центре семейного внимания. В других колясках младенец спал, а двухлетний ребенок сидел на откидном сиденье, пока мать везла детей к детской площадке. Затем с Пятой авеню хлынул поток широких английских колясок с крошками, завернутыми в пеленки из чистого шелка с вышитыми на них инициалами. Няньки в накрахмаленных форменных платьях катили их к ближайшей скамейке, чтобы собраться там и поболтать, пока подопечные спят. Дженюари смотрела на детей с завистью. Эти маленькие живые комочки чувствовали себя в парке, как дома. Каждый имел имя, семью. Она вдруг поняла, что идет к горке желаний. Это был невысокий холмик. Но в детстве он казался Дженюари большой горой. В пять лет она, торжествуя, сама забралась на вершину. Отец поднял ее руку и сказал: «Отныне это твоя гора. Закрой глаза и загадай желание… Оно обязательно сбудется». Дженюари молча помечтала о кукле. Потом отец повел ее в «Румпелмайер» пить горячий шоколад, а перед уходом купил дочери самую большую куклу, какая там продавалась. С того дня холмик стал для Дженюари горой желаний. Но сейчас горка была голой и неприглядной. Вороша ногами мертвые листья, девушка забралась на вершину. Присела на корточки, подтянув колени к подбородку, обхватила их руками и закрыла глаза. К удивлению Дженюари, звуки, доносившиеся до нее, усилились — грохотали машины, лаяли собаки. Она услышала хруст листьев и поняла, что кто-то приближается к ней. Возможно, человек с ножом. Она не пошевелилась. Наверно, если она не станет открывать глаза, все произойдет быстро и безболезненно. — Дженюари… Возле нее стоял отец. Он протянул руку, и девушка поднялась на ноги. — За последние полчаса я уже третий раз подхожу к горке, — сказал он. — Я догадался, что ты придешь сюда. Он взял ее за руку и повел из парка. Они пересекли улицу. Майк остановился перед зданием «Эссекс-Хаус». — Здесь варят отличный кофе. Давай позавтракаем. Они молча сели за столик. Перед ними поставили яйца, но они не притронулись к ним. Внезапно Майк произнес: — О'кей. Можешь злиться… но скажи что-нибудь. Она собралась заговорить, но тут появился официант. Он спросил, все ли в порядке с яйцами. — Да. Просто мы не голодны, — ответил Майк. — Унесите их. Мы только выпьем кофе. Когда официант отошел, Майк повернулся к дочери: — Почему ты отправилась в парк? Почему? Тебя могли убить. — Я не могла уснуть. — А кто мог! Даже я приняла лишнюю таблетку снотворного. По Нью-Йорку не гуляют до рассвета. Я просидел всю ночь в ожидании утра. Выкурил две пачки сигарет… — Тебе не следовало этого делать, — упавшим голосом произнесла она. — Сигареты тебе вредны. — Слушай, оставим сейчас в покое мое здоровье. Я чуть не сошел с ума, обнаружив, что твоя комната пуста… Ди проснулась, когда я звонил в полицию. Она успокоила меня, сказав, что ты, вероятно, вышла погулять и обдумать ситуацию. Тогда я вспомнил про горку желаний. Она молчала. Он сжал ее руку. — Дженюари, давай все обсудим. Она ничего не сказала, и он добавил: — Пожалуйста, не заставляй меня упрашивать тебя. — Вчера ночью я не следила за вами и не подслушивала нарочно. — Знаю. Я растерялся. Рассердился на себя, а не на тебя. Я… Поколебавшись, он взял новую сигарету. — Я хотел написать тебе о Ди. — О, Майк, почему ты этого не сделал? — Потому что до самого последнего момента не был уверен, что женюсь на ней. А когда о наших встречах стали писать в газетах, я испугался, что слух дойдет до тебя. Спасибо доктору Петерсону, изолировавшему вас от внешнего мира. Эту новость я хотел сообщить тебе лично. Собирался сделать это по дороге из аэропорта. Но когда ты сказала, что так долго ждала меня и хочешь побыть со мной наедине, боже, я почувствовал — ты заслужила, чтобы первый вечер прошел, как ты хотела. Я позвонил Ди и попросил ее уйти. Я решил все рассказать тебе за завтраком. — Когда ты влюбился в нее? — Кто говорит о любви? Он в упор посмотрел на дочь. — Запомни — единственная девушка, которую я любил и буду любить — это ты! — Тогда почему? Почему? — Потому что я сел на мель. Крепко! — Что ты имеешь в виду? — Кончился как продюсер. После трех неудачных лет не мог раздобыть и цента на новую пластинку. На Западном побережье от меня шарахались как от прокаженного. И тут новость из клиники. В сентябре ты выходишь оттуда. Господи, мы жили ради этого дня… а я уничтожен. Знаешь, где меня застало радостное известие? Я гостил в доме Тины Септ-Клер на Западном побережье. — Ты однажды снимал ее. — Да, когда ей было семнадцать. Красивая бездарность. Таланта у нее сейчас не прибавилось, но она снимается в сериале, который попал в первую десятку и будет идти на ТВ еще долго. У Тины большой дом, полный слуг и прихлебателей. Вот кем я стал — почетным прихлебателем. Почему бы и нет? Все, что от меня требовалось — это ублажать Тину. Он помолчал. — Отец не должен так разговаривать с дочерью, но у меня нет времени на генеральную репетицию. Я выдал тебе неотредактированный сценарий. Без купюр. Майк потушил сигарету. — О'кей. Вот так, я загорал у Тины возле бассейна, впитывая в себя солнечные лучи, точно пляжный мальчик. Слуга-китаец подавал мне напитки, я расслаблялся в сауне. Я получал там все — кроме наличных. Это было в июле. Я узнал, что ты выходишь в сентябре. Как я уже сказал, я загорал и думал, что мне делать. В тот же вечер Тина навела меня на мысль. Прожектора давно не производят на меня впечатление, но тут организаторы постарались. Я шел по ковру, чувствуя себя отвратительно в роли эскорта Тины. Она села в кресло рядом со мной и принялась говорить о том, что ей без меня не обойтись. Жаловалась, что мужчину найти очень трудно, что у нее месяц до моего приезда никого не было. И вдруг заявила: "Мы прекрасно смотримся вдвоем, и у меня денег хватит на нас обоих. Как насчет женитьбы? Тогда я хотя бы буду знать, что кто-то будет сопровождать меня в следующем году на церемонию вручения «Эми». Он посмотрел мимо дочери. — В этот момент я осознал, как низко я скатился. Ей еще не было тридцати, и она хотела содержать меня. Я вспомнил «Бульвар Заходящего Солнца». На следующий день я занял мое кресло у бассейна и попытался найти ответ. Если уж идти на содержание, то не за еду и бассейн. Если я прибыл на конечную станцию, то пусть она будет высшего класса. Я задумался. Барбара Хаттон замужем. Про Дорис Дьюк я ничего не знал. Баронесса де Фаллон — стерва… И тут я вспомнил о Дидре Милфорд Грейнджер. Нас познакомили, когда я находился на гребне успеха; она была красивой, хотя и не молодой, женщиной. Майк замолчал. — Славная история, да? Обойдемся без вранья типа «Я встретил ее, безумно влюбился и решил оставить карьеру, чтобы сделать эту женщину счастливой». О, нет… я действовал обдуманно. Узнал, что она находится в Марбелле. Продал всю свою собственность. Автомобиль… часы «Патек Филипп»… остатки акций «Ай-Би-Эм». Всего набралось сорок три тысячи долларов. Я сделал свою ставку и положил деньги на кон. Я отправился в Марбеллу ухаживать за леди… Он нахмурился, вспоминая. — Я не знал, что после моего появления она справилась о моем финансовом положении у «Дана и Брэдстрита». Она невозмутимо смотрела, как я давал по двадцать долларов официантам на чай… оплачивал восьмисотдолларовые счета в ночном клубе за компанию ее друзей. За три недели мне не удалось ни поцеловать ее вечером на прощанье, ни пообедать с ней вдвоем при свечах. Нет, мы везде ходили с сопровождающими. Днем я готовил напитки для гостей и смотрел, как она играет в триктрак. И вот, когда меня уже начал преследовать страх перед неудачей, я прибыл на ее виллу в час коктейля, ожидая увидеть обычную толпу, но Ди была одна. Протянув мне бокал, она сказала: «Майк, по-моему, тебе уже пора сделать мне предложение, потому что у тебя осталось на счету всего две тысячи шестьсот долларов». Он улыбнулся, увидев изумленное лицо Дженюари. — Да, она знала мой банковский остаток с точностью почти до пенни. Затем она сказала: «Но я хочу, чтобы ты знал — я никогда не стану финансировать твои проекты — ни фильмы, ни спектакли. Ну, ты еще хочешь жениться на мне?» Он закурил новую сигарету. — О, я даже испытал облегчение, — сказал Майк, пытаясь улыбнуться. — Когда леди дала мне понять, что презирает шоу-бизнес и все связанное с ним, я без труда произнес свои строчки: «Слушай, Ди, возможно, это было у меня на уме в самом начале, но сейчас я действительно влюбился в тебя. Я бы хотел, чтобы у меня сегодня шли три хита на Бродвее — тогда я бы мог сделать тебе предложение». Майк замолчал. — Тебя тошнит от этого? Меня тошнит даже сейчас, когда я рассказываю. — Продолжай, — попросила Дженюари. — Она поверила тебе? — Во всяком случае, она не стала ухмыляться и кокетничать. Она — весьма своеобразная особа. Улыбнувшись, Ди сказала: «Мистер Майк Уэйн, если бы у вас шли эти хиты, я бы, вероятно, даже не назначила бы вам свидания». Он умолк в задумчивости. — Я не знаю причину, но у нее предвзятое отношение к шоу-бизнесу. Может быть, когда-то ее бросил актер или дело в снобизме. Мне пришлось дать ей обещание после женитьбы не возвращаться на Бродвей и в Голливуд. Я сидел, а она ставила условия. Прежде чем я принял их, я сказал ей о тебе. Она, конечно, многое уже знала. Я объяснил, что твое будущее для меня важнее всего. — Где была свадьба? — В Лондоне. Мы поженились в конце августа, тихо и тайно. Но новость попала в прессу, и в нашу честь начали устраивать вечеринки. Внезапно «Бульвар Заходящего Солнца» превратился в фильм Феллини. Нас приглашали княгини, члены королевской семьи, знаменитые фотомодели, несколько настоящих принцесс. Мы вращались среди худых элегантных женщин и подтянутых мужчин без животов. В Нью-Йорке Ди общается с такой же компанией. Никто не играет в гольф, в моде теннис; джин «рами» — забава для крестьян. Главное развлечение — триктрак. Он вздохнул. — Так мы и живем. Есть еще вопросы? — Только один. Мы оба будем становиться по пятницам в очередь за пособием? Их глаза встретились, и он сказал: — Где ты научилась бить так жестоко? Она сдержала слезы и не отвела взгляда от его глаз. — Это правда, верно? Ди содержит тебя, как ты сам говоришь, по высшему разряду. — По высшему, дорогая, — жестким тоном произнес он. — Но она делает это элегантно. Назначила меня директором одной из ее компаний. Конечно, это только титул. Что я смыслю в недвижимости или танкерах? Но раз в неделю я подписываю бумаги; все в конторе делают вид, будто я им необходим. Он улыбнулся. — Каждому мужчине нужен офис, чтобы ходить туда. Ты не представляешь, как это помогает скоротать время. Я прихожу в кабинет и закрываю за собой дверь, чтобы секретарша думала, что я занят. Затем читаю театральные газеты. В пятницу выходит «Эстрада», это мой любимый день. Чтение занимает целое утро. Потом я захожу в брокерскую контору, расположенную в том же здании, чищу туфли и отправляюсь в клуб «Монах», где ем ленч и играю в джин. Я получаю зарплату — тысячу долларов в неделю. Раньше у меня больше уходило на чаевые, ^ но это прекрасная жизнь. У меня квартира в Нью-Йорке, дома, шофер… все, что нужно мужчине. — Прекрати, — взмолилась она. — Ради бога, прекрати! Я жалею о своих словах. Я знаю, что ты сделал это ради меня. Она почувствовала, как к горлу подкатил комок, но заставила себя продолжить: — Разве мы не могли снять небольшую квартиру? Я бы нашла себе работу. — Какую? — Ну, играла бы где-нибудь… помогала бы продюсеру… читала сценарии. Он покачал головой: — Весь этот бизнес изменился. Известные авторы отказываются писать для театра. Ради чего корпеть два года? Чтобы какой-нибудь рецензент из «Таймс» убил постановку в день премьеры? Конечно, есть Нил Саймон, который не знает провалов. Но даже звезды становятся в очередь, чтобы попасть в его пьесу. Да, есть еще экспериментальные внебродвейские театры… и даже авангардистские… но это другая цивилизация. Я ничего о ней не знаю. Это не то, о чем я мечтаю для тебя. — О чем ты мечтаешь? — Хочу подарить тебе весь мир. — Женитьба на Дидре Грейнджер поможет тебе в этом? — Во всяком случае, я предлагаю тебе прекрасную жизнь среди людей, которые не говорят постоянно о доходах от фильмов и спектаклей. Для тебя шоу-бизнес может быть прекрасным десертом. Приносить удовольствие несколько раз в неделю. Но он не должен стать всей твоей жизнью. К тому же ты смотрела на него глазами дочери Майка Уэйна. Видела за кулисами лишь гримерные звезд. Не бывала в продуваемых сквозняками уборных Балтимора и Филадельфии. Ты видела успех, детка. Светлую сторону луны. Для тебя естественно считать этот мир своим. Что еще я тебе показал: — Но зачем мне другой мир? Ты любил шоу-бизнес. Я это знаю. — Я любил лошадей не меньше. Любил элемент азартной игры в работе продюсера. Любил деньги, славу, женщин. Не думай, что я водил тебя в театр по субботам, потому что был без ума от него. Просто я не знал, что еще с тобой делать. Не сердись, — сказал он, заметив вспыхнувшее лицо Дженюари. — Но как может мужчина занять маленькую девочку каждый уик-энд? У меня не было настоящей светской жизни. Только девушки, с которыми я спал. Среди них были разведенные с детьми твоего возраста, называвшими меня дядей Папой. Тебе бы это понравилось, а? Я даже удивлен, что у меня выросла такая чудесная дочь. Потому что я не дал тебе ничего. Теперь все изменилось. Я хотя бы могу дать тебе другую жизнь. Я прошу тебя об одном — попробуй. — Что именно? — Посмотри, как живут другие люди. Познакомься с друзьями Ди. Сделай попытку. Если ты не согласишься, значит, я во всем потерпел фиаско. Она заставила себя улыбнуться. — Конечно, я попробую. — И дай Ди шанс. Она славная женщина. Не знаю, зачем я понадобился ей. — Затем же, что и Тине Сент-Клер, — отозвалась Дженюари. — И Мельбе Делитто… и, вероятно, любой женщине, с которой ты встречался. Он покачал головой. — Секс не столь важен для Ди. Майк задумался. — Мне кажется, она хочет получить от меня нечто большее. Близость… общность… партнерство. Я плохо знаком с такой жизнью. Но, пожалуйста, дай Ди шанс. Если бы ты знала, сколько сил она потратила, готовясь к сегодняшнему обеду. Ди пригласила в качестве твоего кавалера своего двоюродного брата, Дэвида Милфорда. — Дэвид Милфорд тоже входит в шестерку самых богатых людей? — Нет. Деньги были у отца Ди. И… — И он умер, когда Ди исполнилось десять лет, — продолжила Дженюари. — А еще через шесть месяцев мать Ди, молодая красавица, от горя покончила с собой. О, папочка, мы у мисс Хэддон перечитывали биографию Ди каждый раз, когда она выходила замуж. Журналы называли ее «одинокой маленькой принцессой, вечно ищущей счастья». Она замолчала. — Я не хочу злословить. Но в школе мисс Хэддон девочки много говорили о Дидре Милфорд Грейнджер. Матери некоторых учениц имели с ней общих знакомых. Я росла, зная об этой женщине все — кроме того, что однажды мой отец женится на ней. Майк, ничего не говоря, жестом попросил у официанта счет. Дженюари попыталась улыбнуться. — Папа, извини, — ласково произнесла она, коснувшись пальцами отцовской руки. — Расскажи мне о Дэвиде. Ты его уже видел? — Несколько раз, — медленно произнес он. — Красивый молодой человек. Ему еще нет тридцати. Ди бездетна. Ее мать была родной сестрой отца Дэвида. У Милфордов нет большого состояния. Нет, они живут неплохо. Даже очень неплохо. Он расплатился с официантом. — Дэвид работает в брокерской конторе. Занимается делами Ди. У его отца своя юридическая фирма. Дэвид — главный наследник Ди и… — О, — тихо протянула Дженюари, — ты заключил комплексную сделку. Дама для тебя… молодой человек для меня. Его глаза вспыхнули. — Черт возьми, ты в самом деле моя дочь. Всегда бьешь в лоб. Но только Дэвид мне не подчиняется. Думаю, он сам решит, на ком ему жениться. Но было бы нечестно с моей стороны отрицать, что я надеюсь, что с помощью Ди ты познакомишься с каким-нибудь стоящим молодым человеком. У Дэвида, наверно, немало друзей. Он представит тебя им. Возможно, так ты встретишь парня, который тебе понравится, и выйдешь за него. Я бы хотел иметь внука… возможно, двух, трех. Да, я был бы рад этому. Но я не хочу, чтобы ты стала женской версией меня самого. — Очень жаль, — тихо сказала она. — Именно этим я и являюсь. Более того, сама стремилась к этому. — Почему? Что я за образец? За всю жизнь я не принес счастья ни одной женщине. Но я не намерен обманывать Ди. Пора возвращать старые долги. Между нами говоря, их накопилось немало. Дженюари помолчала. Потом заговорила, не глядя на отца: — Но я-то никому ничего не должна, кроме тебя. Возможно, я принесла бы нам удачу. Мы могли бы побороться вдвоем. Девушка улыбнулась: — Но уже поздно. Я уверена, что мне понравится Дэвид Милфорд, я постараюсь очаровать его, чтобы он познакомил меня со своими друзьями. Значит, прежде всего мне надо купить к вечеру нечто сногсшибательное. Она вдруг замолчала. — Не беспокойся. Все подготовлено. Нет, ты не то подумала. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда карточку. — Вот, сходи в этот банк и обратись к мисс Анне Коул. Ты должна подписать бумаги. Там есть для тебя деньги. Ты можешь в любое время открыть счет. — Майк, я не… — Это не деньги Ди, — выпалил он. — Когда твоя мать умерла, она оставила небольшую страховку — пятнадцать тысяч долларов. Я положил их в банк на твое имя. Слава богу, что я так поступил… иначе я бы истратил и их тоже. Сейчас, вместе с процентами, тебя ждет около двадцати двух или двадцати трех тысяч долларов. А теперь отправляйся в «Бонвит» или «Сакс» и опустоши там прилавки. Они вышли на улицу и вскоре остановились перед «Пьером». Невольно подняли головы, подсознательно ожидая увидеть в окне Ди. Майк засмеялся. — Когда я уходил, она приняла еще одну таблетку снотворного. К тому же она редко встает раньше полудня. Вот ключ от номера. Ты здесь зарегистрирована, так что спрашивай у администратора, нет ли для тебя сообщений. Она засмеялась. — Майк, ты единственный человек в Нью-Йорке, которого я знаю. Так что, возможно, тебе следует оставить мне сообщение. — В этом нет нужды. Ты его уже получила. Повернувшись, он направился к двери отеля. (обратно)Глава третья
В «Пьер» она вернулась обессилевшей около четырех часов с одной большой коробкой. И эту одежду выбрать было непросто! Она не знала, что надеть к обеду Ди. В «Бергдорфе» продавщица сказала ей, что в моде миди-юбки, а мини уже устарело. Но в полдень, когда девушки хлынули из контор на ленч, Пятая авеню изобиловала мини и микромини. На Лексингтон-авеню Дженюари увидела индейскую бахрому, джинсы, спортивные костюмы и длинные юбки в стиле ретро. Это был парад мод. Она остановила свой выбор на длинной юбке, сшитой из кусочков материи, и красной блузке из джерси, которую видела на манекене, выставленном в витрине «Блуминг-дейла». Продавщица заверила девушку, что этот костюм подойдет для любого случая. Вернувшись в отель, Дженюари подошла к стойке и спросила, нет ли сообщений. К ее удивлению, клерк протянул два листочка. Придерживая коробку одной рукой, она принялась читать по дороге к лифту. Одно послание поступило в три, другое — в половине четвертого. В обоих содержалась просьба позвонить в «Плазу»… номер 36. Внезапно она улыбнулась. Ну конечно… это, вероятно, офис Майка. Когда Дженюари открыла дверь «люкса», горничная вытирала пыль с нефритовых слоников, стоявших на камине. При дневном освещении апартаменты выглядели еще красивее. Солнце отражалось в серебряных рамках с фотографиями, расставленных на пианино. Их было много. Дженюари узнала сенатора, Нуреева, посла и восхитительную Карлу. Подойдя ближе, разглядела выцветшую чернильную надпись. «Дидре от Карлы». Дженюари посмотрела на высокие скулы, потрясающие глаза. Горничная подошла к девушке. — Слева — три принца. И раджа. Дженюари кивнула. — Я смотрела на Карлу. — Да, она очень красива, — сказала женщина. — Меня зовут Сэди. Рада с вами познакомиться, мисс Дженюари. Девушка улыбнулась. Женщина лет шестидесяти пяти напоминала уроженку Скандинавии. Ее светлые блеклые волосы были стянуты на затылке в маленький тугой узел. Чистое лицо немного блестело. Крупная, ширококостная, сильная горничная сказала: — Мисс Дидра велела мне развесить ваши вещи. Я взяла на себя смелость переставить полки в вашем шкафу. Когда привезут чемоданы? — Их нет, — ответила Дженюари. — Вы видели все вещи. И вот кое-что из «Блумингдейла». — Я поглажу. Мисс Дидра сейчас ушла, но если вам что-то понадобится, возле кровати есть кнопка. Она соединена с кухней и моей комнатой. Я услышу звонок. Не знаю, курите ли вы, но яположила сигареты в вашу спальню. Если вы предпочитаете какую-то определенную марку, сообщите мне. — Нет, спасибо. Я, пожалуй, приму ванну и отдохну. — Звоните, если вам что-то понадобится. Я также оставила в вашей комнате свежие журналы мод. Мисс Дидра подумала, что они вам пригодятся. Она сказала, что вам предстоит многое наверстать. Сэди покинула комнату с коробкой из «Блумингдейла». Через секунду она вернулась назад. — Да, в шесть часов придет Эрнест. — Эрнест? — Это парикмахер мисс Дидры… Он появляется ежедневно в шесть вечера. Дженюари вспомнила о сообщениях, которые она держала в руке. Пройдя в свою комнату, села на кровать и назвала телефонистке номер. После трех гудков на коммутаторе сняли трубку. Дженюари попросила соединить ее с абонентом 36. Пауза… щелчок… другой голос: — Офис мисс Риггз. — Что? Дженюари встала. — Кто вы? — прозвучал раздраженный голос. — Я — Дженюари Уэйн. Кто такая мисс Риггз? — О, я — секретарь мисс Риггз. Один момент, мисс Уэйн. Соединяю вас. Снова щелчки. Затем кто-то удивленно протянул: — Дженюари, это действительно ты? Голос был вкрадчивый, аристократический, сдержанный. Дженюари попыталась вспомнить, кому он принадлежал. — Кто это? — спросила она. — Господи, Дженюари. Это я… Линда. Линда Риггз! — Линда… из школы мисс Хэддон? — Ну конечно. Что, есть еще одна? — О, сколько лет прошло! Как твои дела, Линда? Как ты нашла меня? Чем занимаешься? Линда засмеялась. — Это я должна задать тебе эти вопросы. Но сначала о работе. Почему твой отец так обошелся с Китом Уинтерсом? — С Китом? — С Китом Уинтерсом… фотографом… — О, вчера вечером? (Боже, неужели это было всего лишь вчера?) — Да, я послала его сфотографировать тебя для нашего журнала. — Какого журнала? Линда, помолчав мгновение, произнесла с недовольным оттенком в голосе: — Я — главный редактор «Блеска», и… — Главный редактор! — Дженюари, ты что, с луны свалилась? Я была звездой шоу Майка Дугласа в прошлом месяце. И меня пригласили выступить в шоу Мерва Гриффина, когда я следующий раз приеду на Запад. — Понимаешь, я была в Европе и… — Но все знают, что я сделала для «Блеска». Я — самый молодой и самый известный главный редактор в мире. Конечно, я не Хелен Герли Браун. Но и «Блеск» — это не «Космополитен». Дай мне время. Я собираюсь сделать этот журнал самым популярным. — Чудесно, Линда. Помню, мне было тогда лет десять; после твоего ухода из школы мисс Хэддон мы все обезумели, узнав, что ты… — Младший редактор, — закончила фразу Линда. — Возможно, эта должность производила впечатление на учениц мисс Хэддон, но за звучным титулом скрывалась рабская работа. Боже, я носилась по городу шестнадцать часов в день. Выискивала бриллианты для демонстрации мод… варила кофе фотографам… выполняла поручения сотрудников художественного отдела… привозила серьги, забытые редактором отдела моды, — и все за какие-то семьдесят пять долларов в неделю. Но в восемнадцать лет это захватывало. Я спала четыре часа в сутки и еще успевала ходить каждый вечер на танцы в клуб. Господи, я уже устала от одного рассказа об этом. Кстати… сколько тебе лет? — В январе исполнится двадцать один. — Отлично. Мне двадцать восемь. Забавно, как исчезает разница. Я о возрасте. Когда мне было шестнадцать, а тебе восемь, я едва замечала твое существование. Вспоминаю, ты была одной из малышек, что ходили за мной в школе мисс Хэддон, да? — Вероятно. Дженюари не сочла нужным объяснять, что никогда не принадлежала к толпе поклонниц Линды. — Поэтому я и отправила Кита Уинтерса в «Пьер». Отдел светской хроники узнал, что ты прибываешь из Европы, и я решила напечатать в «Блеске» фотографии Дженюари и Майка Уэйнов, сопроводив снимки статьей о твоей встрече с новой женой отца. Твой папа обошелся с Китом сурово, но снимок удался. То ли ты исключительно фотогенична, то ли и правда превратилась в настоящую красавицу. Слушай, почему бы тебе не заглянуть к нам завтра… часа в три? Я сочиню сопроводительный текст, и мы сделаем хорошие фотографии. — Буду рада увидеть тебя, Линда, но насчет статьи не знаю. — Поговорим об этом завтра. Знаешь, где находится здание «Мослера»? Это на Пятьдесят второй, возле «Мэдисон». Мы занимаем три верхних этажа. Поднимайся в пентхаус. До встречи. Чао. Дженюари наполнила водой ванну, легла в нее и закрыла глаза. Только сейчас она поняла, как сильно устала. Подумала о Линде — некрасивой, живой, энергичной… Теперь она была… судя по ее тону, важной особой. Дженюари почувствовала, что засыпает. Ей показалось, что голос Сэди прозвучал всего через несколько секунд. — Мисс Дженюари, проснитесь. Она подняла голову, села. Вода была чуть теплой. Боже, уже шесть! — Мисс Дидра говорит, что вам пора одеваться к обеду, — объяснила Сэди. — Я выгладила ваше платье. Оно висит в шкафу в спальне. Дженюари уже оделась, когда Дидра, постучав, вошла в ее комнату. Мгновение они смотрели друг на друга. Дженюари смущенно протянула руку. — Поздравляю вас. Боюсь, я забыла сделать это ночью. Ди коснулась своей щекой щеки Дженюари. — По-моему, мы обе многого не сказали вчера. Мы познакомились не в самых удачных обстоятельствах. — О, боже… — Что случилось? — спросила Ди. — Я забыла купить халат. Ди рассмеялась: — Оставь себе халат Майка. Ты выглядишь в нем превосходно. Некоторые женщины неотразимы в мужской одежде. Я не отношусь к их числу. Дженюари решила, что Ди более красива, чем ей показалось сначала. Сегодня она уложила свои пепельные волосы в стиле Гибсон. Дженюари поняла, что в ушах Ди — настоящие бриллианты. Она была очень женственна в черных шелковых шароварах, и Дженюари вдруг засомневалась в уместности своей юбки, сшитой из кусков материи. Ди отступила на шаг назад, оценивающе разглядывая девушку. — Мне нравится… только тут нужны драгоценности. Она позвонила Сэди, и горничная тотчас появилась в комнате. — Принеси мою шкатулку с украшениями, Сэди. Сэди вернулась с большим кожаным футляром, и Ди стала примерять на Дженюари золотые цепочки. Она настояла на том, чтобы девушка повесила в уши серьги в виде золотых обручей. («Дорогая, они великолепно подходят к твоему загару… ты похожа на цыганку».) Дженюари едва не сгибалась под тяжестью четырех цепочек, нефритового кулона и львиного клыка в золотой оправе. (Ди пояснила, что сама застрелила этого льва во время сафари.) — Мне нравится твой макияж, — сказала Ди, приблизившись к девушке. — У тебя фантастические собственные ресницы. Отсутствие помады на губах подчеркивает твою молодость. Твои волосы просто восхитительны. Сегодня вы, молодежь, не обременяете себя укладкой. Длинные распущенные волосы в моде. В твоем возрасте я стриглась и делала перманент. В начале пятидесятых все сходили с ума от итальянского стиля. Я всегда говорила Джине, что готова убить ее за то, что она ввела его. У меня от природы прямые волосы, и, кажется, я полжизни провела под феном с бигуди на голове. А теперь в моде длинные прямые волосы… хотя, бог видит, Карла не меняла свой стиль с восемнадцати лет. — Какая она? Ди пожала плечами. — Карла — одна из моих самых старых и близких подруг… один господь ведает, как я терплю ее эксцентричные выходки. — У мисс Хэддон, — сказала Дженюари, — мы все смотрели по ТВ ее фильмы. Для меня она — более великая актриса, чем Гарбо или Дитрих, потому что обладает грацией балерины. Сколько требует мужества, чтобы уйти из кино в сорок два и больше туда не возвращаться! Ди закурила сигарету. — Она никогда не любила сниматься. Всегда обещала уйти, как только заработает достаточно денег. Постоянно копила их. — Где она сейчас? — спросила Дженюари. — Кажется, вернулась в Нью-Йорк. Она скоро позвонит. У нее квартира на Ист-Ривер. Великолепные апартаменты, но, кроме нескольких подаренных ей картин и неплохих ковров, в доме ничего нет. Карла панически боится тратить деньги. Я ждала ее в Марбелле. Твой отец испытал разочарование… я знаю, что он хочет познакомиться с ней. Боже, до этого лета она всегда бывала у меня. Прошлой весной Дэвид устал постоянно выводить нас куда-то. Она обожает балет. До сих пор придерживается своего прежнего артистического режима — подъем в семь, четыре часа у станка, в десять — сон. Но она может отправиться на обед с близким человеком и обожает смотреть ТВ. На самом деле стоит только узнать ее получше, как она начинает казаться весьма скучной. Ее коронный номер — исчезновения. Например, прошлым июнем она пропала, просто сказав мне «До свидания» и ничего не объяснив. Лично я, — Ди понизила голос, — думаю, что она уезжала сделать подтяжку. Кожа Карлы стала чуть провисать… хотя господь не допускает, чтобы черты ее лица, ставшие бессмертными, как-то менялись. Дженюари засмеялась: — Теперь я боюсь знакомиться с Дэвидом. — Почему? — Ну, если Дэвид устал выводить ее в свет по вашей просьбе, то мое общество покажется ему еще более тягостным. Ди улыбнулась: — Милая детка, посмотри на себя в зеркало. Карла разменяла шестой десяток, а Дэвиду — двадцать восемь. Она потушила сигарету. — А сейчас мне пора заглянуть к твоему отцу. Насколько я знаю его, он сейчас смотрит новости и еще не побрился. Почему мужчины не любят бриться два раза в день? Женщины накладывают макияж гораздо чаще. Да, кстати, я сказала всем, включая Дэвида, что в Швейцарии ты училась в «Международном институте». Это отличный колледж. — Но зачем? — Ты говоришь по-французски? — Да, но… — Дорогая, доверься мне. Ни к чему упоминать тот несчастный случай. Люди подумают, что ты могла повредить голову. Кое-кто насторожится, узнав, что ты лечилась в клинике. Ты должна познакомиться с лучшими людьми и жить в свое удовольствие… не стоит оповещать всех о твоих прошлых болезнях. — Но сотрясение мозга и переломы костей — это не болезни… — Дорогая, все связанное с мозгом отталкивает людей. Я помню Курта… я собиралась выйти за него замуж, пока он не сказал мне, что у него в черепе после горнолыжной травмы стальная пластина. Она передернула плечами. — Я не смогла бы прикоснуться к голове, внутри которой металл. В этом есть что-то от Франкенштейна. К тому же, если металл соприкасается с мозгом, он, очевидно, влияет на них каким-то образом. Послушайся меня, дорогая. И еще… я попросила Дэвида прийти на двадцать минут раньше остальных гостей. Оставайся до его прибытия в своей комнате. Я дам тебе сигнал, когда выходить. Появление всегда должно быть обставлено подобающе. Шагнув к двери, она повернулась. — Ты влюбишься в Дэвида. Как и все женщины. Даже Карла нашла его не просто интересным. А Карла не способна влюбляться. Не потеряй голову от его красоты. Будь сдержанна и излучай обаяние. Я уверена, тебе его не занимать. В конце концов, твой отец обладает им в избытке. Открыв дверь, Ди замерла в тот момент, когда Дженюари собиралась сесть на кровать. — Нет… нет. Ты не должна садиться. На юбке появятся складки. При первом появлении человек должен выглядеть безукоризненно. Теперь я должна спешить. Эрнест ждет меня, чтобы зафиксировать мою прическу лаком. Оставайся здесь… пока не придет время познакомиться с Дэвидом. (обратно)Глава четвертая
В половине седьмого Дэвид поспешил домой, чтобы переодеться. Он воткнул бритву в розетку. Будь проклята Ди! Но кузина Дидра получала все, что хотела. Он полностью осознал ее могущество, став вице-президентом фирмы «Герберт, Чейзен и Артур». При спаде на фондовой бирже, когда брокерские конторы сокращали штаты, он был повышен в должности. Пока Дэвид занимался ценными бумагами Ди, он мог не беспокоиться о будущем. Будь прокляты Ди и его отец, не имевший собственного состояния. Нет, он так не думает. Старик трудится, не щадя своих сил, и зарабатывает в год почти сто пятьдесят тысяч. Но пока матери требуется десятикомнатная квартира на Пятой авеню, штат прислуги из трех человек и дом в Саутгемптоне… ему не приходится рассчитывать на наследство. Они и пытались сколотить капитал — у кузины Дидры хватит средств на всех. Ее брак с Майком Уэйном поверг родственников в смятение. Мать три дня плакала и глотала «либриум». Прежние мужья Ди не представляли угрозы. Все они принадлежали к одной категории очаровательных воспитанных легковесов. Но Майк Уэйн — отнюдь не легковес. Его прежние пассии были вдвое моложе Ди. Но самое серьезное беспокойство вызвало то, что Ди не совершила своей обычной процедуры, связанной с завещанием. Ею прежде занимался отец. Ди составляла документ, который семья называла «открытым завещанием». Перед очередным браком она приезжала в офис отца вместе с женихом и диктовала новое завещание, весьма выгодное для ее избранника. В день свадьбы он получал копию. На следующий день Ди возвращалась в юридическую фирму одна и оформляла другое завещание, по которому новому мужу выделялась символическая сумма, если к моменту смерти Ди их брак не будет расторгнут. Она была замужем за Майком уже почти месяц. И фамилия Майка не была упомянута в «открытом завещании». Дэвид, его отец и Клифф (младший брат матери, также служивший в юридической фирме) были ее душеприказчиками. Каждому из них предстояло получить несколько миллионов. Львиная доля капитала должна была составить «Грейнджеровский фонд»; Дэвида ждала должность президента с годовым окладом в сто тысяч долларов. Конечно, Ди еще не собирается умирать. Пятьдесят лет — это не старость. Но вряд ли она сумеет стать долгожительницей. В последние годы пресса уделяла много внимания ее болезням. Ди преследовали обмороки. Врачи находили у нее врожденный шум в сердце и гипертонию. (Но она продолжала принимать таблетки, убивающие аппетит, и радовалась своей модной худобе.) Ей сделали несколько операций… женские дела. Однажды она чуть не умерла от «гриппа». (На самом деле она наглоталась снотворного из-за какого-то таинственного любовного романа.) Странно. Дэвид считал Ди неспособной на сильные чувства. А почему бы и нет? Он тоже раньше думал, что не способен испытывать подлинные эмоции. Он вытащил бритву из розетки и освежил лицо туалетной водой. Надо уметь видеть во всем положительные стороны. Что касается завещания — возможно, Майк действительно влюблен в Ди и не строит корыстных планов. Возможно, он не стремится завладеть ее деньгами. Если Майк не проявит чрезмерной жадности, их хватит на всех. Однако наличие у него дочери усложняет ситуацию. Никто не знал о ее существовании до звонка Ди. «Дэвид, дорогой. Ты должен выручить меня и вывести ее в свет. Я буду счастлива, зная, что о ней заботится близкий мне человек. Ты окажешь мне этим большое одолжение». Одолжение? Это был приказ! Он снова ругнулся себе под нос. Будь проклята Ди! Черт возьми, последние дни он ненавидел всех и вся. Его отрывали от Карлы! Карла! На мгновение он замер перед зеркалом, разглядывая себя. Невероятно! Он, Дэвид Милфорд, — любовник Карлы! Он хотел поведать об этом всему миру, кричать на улице о своем счастье. Но он знал, что сохранение тайны — непреложный закон в его отношениях с Карлой. Карла! В четырнадцать лет он мастурбировал перед ее фотографией. В шкафчиках его одноклассников висели портреты Дорис Дэй, Мэрилин, Авы Гарднер и других красавиц пятидесятых годов. Но он восхищался одной лишь Карлой. У первой девушки, с которой он переспал в семнадцать лет, было лошадиное лицо, но ее волосы напоминали волосы Карлы. В последующие годы он находил партнерш, имевших какое-то сходство с Карлой. Повзрослев, он стал воспринимать собственную индивидуальную привлекательность каждой девушки, а образ Карлы обрел характер мистической мечты. И вот, спустя восемь лет, он наткнулся на газетную фотографию — Карла стояла на борту яхты Ди. Дэвид немедленно отправил своей кузине страстное письмо. Он умолял ее познакомить его с Карлой. Ди оставила просьбу без внимания. Но Дэвид стал напоминать о ней Ди при каждой очередной встрече. И вот прошлой весной, когда он уже потерял надежду, Ди как бы между прочим сказала: «Кстати, Дэвид, Карла сейчас в городе. Ты не хочешь сводить нас на балет?» В тот вечер он совершенно потерял голову. За весь день ничего не сделал в офисе. Примчавшись домой, трижды поменял костюм, не зная, на каком остановить свой выбор. А потом… небрежное представление Ди… сильная рука Карлы… он стоял, уставившись на это поразительное лицо… слушая низкий голос, так хорошо знакомый ему по фильмам. Находясь в состоянии ступора, не в силах поверить, что сидит рядом с Карлой, и сконцентрировать внимание на балете, он изумился той непринужденности, с которой Ди держалась в обществе этой потрясающей женщины. Вероятно, человек, обладающий таким богатством, какое было у Ди, не способен испытывать трепет. Очевидно, Ди воспринимала Карлу как еще одну забавную личность, чьим портретом в серебряной рамке можно пополнить уникальную коллекцию, стоявшую на пианино. На следующий день после балета он послал Карле три дюжины роз. На визитной карточке был его служебный телефон, но он дописал номер домашнего, не значащийся в справочнике. Она позвонила, когда он собирался покинуть офис. Поблагодарила его сдержанным низким голосом и твердо попросила никогда не присылать ей цветы — они вызывают у нее аллергию. Она уже отправила их назад с горничной. Когда он начал, заикаясь, что-то говорить, она сказала: «Однако я угощу вас бокалом виски. Приходите ко мне домой в пять часов». Нажимая кнопку ее звонка, он дрожал, как школьник. Она сама открыла дверь и встретила его, разведя руки в стороны. — Мой такой молодой поклонник. Входите же, не стойте. И, пожалуйста, не нервничайте так, потому что я хочу, чтобы вы любили меня". Она провела его в квартиру. Он не отводил взгляда от ее лица. Но все же заметил пустоту комнаты. Несколько картин, телевизор, большой диван, камин, которым, похоже, никогда не пользовались, лестница, ведущая на второй этаж. Ничто в квартире не отражало личность Карлы, словно она сняла ее на время. Они посмотрели друг на друга. Карла протянула к нему руки, и школьник исчез. Когда их тела слились, Дэвид вдруг понял разницу между любовью и сексом. В этот вечер его единственным желанием было доставить удовольствие Карле… сделав это, он, к своему изумлению, сам испытал неведомую ему прежде радость. Позже, когда они лежали рядом, она изложила ему правила. «Ди не должна знать. Если ты хочешь встречаться со мной, никто не должен знать». Он принял условие. Прижав ее к себе, заверял в преданности, давал обещания. «Все будет, как ты пожелаешь, Карла, — услышал он свой голос. — Видишь, я влюблен в тебя». Она вздохнула. — Мне пятьдесят два года. Слишком много для любви… и для тебя. — Мне двадцать восемь. Я тоже уже не мальчик. Карла рассмеялась: — Двадцать восемь! И ты такой красивый. Она погладила его щеку. — Двадцать восемь — это очень мало. Но… вероятно, мы сможем быть счастливы какое-то время. Если ты будешь хорошо вести себя. — Как я должен вести себя? — Я уже сказала. Также ты должен обещать, что никогда не будешь преследовать меня. Я не дам тебе номер моего телефона, и ты не должен приходить сюда без приглашения. — Как тогда мы будем встречаться? — улыбнулся он. — Я буду звонить тебе, когда захочу тебя увидеть. И ты не должен говорить о любви. Не должен внушать себе, что любишь меня, в противном случае ты будешь очень несчастлив. Дэвид снова улыбнулся: — Боюсь, это случилось, когда мне было четырнадцать… Он замолчал. Черт возьми, ему не следовало напоминать о разнице в возрасте. Но она улыбнулась. — Ты любил Карлу, которую видел в кино. Ты не знал настоящую Карлу. Он прижал ее к себе и ощутил странное волнение. Небольшие груди Карлы касались его тела. Ему всегда нравились крупные женские груди, но сейчас его не огорчало то, что у Карлы их почти не было. Ее тело было упругим, сильным. Он читал, что в юности она готовилась стать балериной, затем ей пришлось бежать во время войны из Польши в Англию, где Карла быстро сделала карьеру в кино. Писали, что она до сих пор ежедневно проводит четыре часа у станка. Она часто меняла квартиры, потому что фотографы, узнав адрес, начинали караулить ее возле подъезда. Дэвид также слышал, что в молодости она была лесбиянкой. Все это он вспомнил, держа ее в своих объятиях. Но то было частью легенды о загадочной женщине, которую до сих пор преследовали фоторепортеры. Сейчас она, казалось, полностью принадлежащей ему… Занимаясь любовью, она льнула к Дэвиду с жаром и страстью молодой девушки. Однако когда все было кончено, занавес падал, и возвращалась Карла-легенда. Той весной они провели вместе потрясающий месяц. Все, кроме свиданий с Карлой, казалось Дэвиду нереальным. Каждый день он просыпался, не веря, что это чудо происходит с ним. Но всегда оставалась неудовлетворенность — он не мог ей позвонить, боялся отойти от телефона и пропустить ее звонок. С нетерпением ждал его во время работы и деловых разговоров. И наступил день, когда она не позвонила. Он старался не поддаваться панике. Возможно, ей нездоровится. Или начались месячные. Черт возьми, бывают ли еще месячные у пятидесятидвухлетней женщины? На следующий день он увидел знакомые фотографии в газетах. Карла отворачивается от репортеров в аэропорте «Кеннеди». Она улетела куда-то в Европу. Дэвид пытался узнать пункт назначения, но она, очевидно, взяла билет на чужую фамилию. Один предприимчивый газетчик, ссылаясь на служащего трансагентства, утверждал, что она улетела в Южную Америку. Но это были только домыслы. Она исчезла — вот все, что он знал. Он попытался не выдать голосом своего волнения, разговаривая вечером по телефону с Ди. Говорил о ценных бумагах, погоде, о предстоящей Ди поездке в Марбеллу… Когда наконец он заставил себя упомянуть исчезновение Карлы, Дидра засмеялась. — Дорогой мой, она всегда так поступает. Карла не хочет пускать корни. Поэтому в ее квартире минимум мебели. При наличии комфорта ей бы казалось, что она действительно живет там. — Она всегда была такой? — Всегда, — скучающим тоном ответила Ди. — Я познакомилась с Карлой в Калифорнии, когда она находилась в зените своей славы. Я была тогда замужем за Эмери, киностудия Карлы купила его книгу. Разумеется, Эмери, как и многие, мечтал познакомиться с ней. Тебе это должно быть понятно. Эмери знал одного режиссера, который, в свою очередь, знал Карлу. В один незабываемый для Эмери день Карла появилась у нас на ленче. Это было, кажется, в 1954 году. Известность и красота Карлы достигли своего расцвета. Я должна признать, что она действительно обладает каким-то магнетизмом. Я почувствовала это, когда она вошла в комнату. Она отличалась патологической застенчивостью… Ди засмеялась, и Дэвид почувствовал, что тема оживила кузину. — Но она тянулась ко мне в тот день. У нее развита интуиция; Карла видела, что лишь я одна не теряю головы от восторга в ее присутствии. Это Карлу забавляло. Я любезничала с ней ради Эмери. И на следующей неделе она действительно пригласила нас к себе выпить. Ди вздохнула. — Ты знаешь «Соколиное гнездо»? Там она жила. Не в престижной части «Беверли Хиллз», а среди забытых богом гор, в доме, обнесенном трехметровым забором, почти без мебели. Ее жилище выглядело так, точно она только что в него въехала. Клянусь, в холлах лежали коробки, хотя она прожила там пять лет. Никто не видел все комнаты. Я догадывалась, что обставлены были лишь гостиная и спальня. Она не стала сниматься в картине, основанной на романе Эмери; через несколько лет мы развелись, Карла ушла из кино. Мы встретились с ней и подружились. Но ее надо принимать такой, какая она есть. Три "С" — скрытность, скупость и слабоумие — ключ к ее личности. Поняв это, ты можешь считать, что знаешь Карлу. Ди отбыла в Марбеллу, а Дэвид попытался выбросить Карлу из своей головы. Он снова начал встречаться с фотомоделями. Завел роман с Ким Ворен, эффектной голландской фотомоделью, которая обожала Дэвида, однако считала его плохим, эгоистичным любовником. Это заявление девушки потрясло Дэвида. Он всегда был отличным любовником. Но теперь, когда его преследовали воспоминания о Карле… возможно, он потерял какие-то прежние достоинства. Вдобавок на него свалилась весть о замужестве Ди. Всю семью охватила паника. Дэвид отчасти вернулся на землю от потрясения. Ди была гарантом их будущего. Карла отсутствовала, и он должен был думать о бизнесе. Он погрузился в работу. Обворожил Ким. Через несколько дней она переменила мнение о его мужских достоинствах. Вернувшись к прежней размеренной жизни, он почти радовался тому, что всегда знает, что принесет день. Начал ценить покой. Теперь у него не было безумных взлетов… и мучительных падений. Он мог не ждать часами, когда зазвонит личный телефон, стоящий в офисе. И вот, восемь дней назад, он зазвонил вновь. Во время важных переговоров. Низкий голос с сильным акцентом. Она вернулась! Через десять минут Дэвид уже звонил в дверь ее квартиры. Когда она здоровалась с ним, ему не удалось скрыть свое изумление. Она словно только что сошла с экрана, на котором демонстрировался ее старый фильм. Она выглядела максимум лет на тридцать. Великолепное лицо без морщин… гладкая кожа на скулах. Она засмеялась, стиснув его руки. — Я не стану врать, что долго отдыхала, — произнесла она. — Скажу тебе правду. Меня так раздражало, что лицо не соответствует еще крепкому телу. Я кое-что сделала. Один бразильский волшебник… Карла не позвонила Ди и велела Дэвиду не говорить кузине о ее приезде. — Я не готова отвечать Ди на вопросы насчет моего лица. Не хочу, чтобы она сплетничала с подругами. Потом все было так, словно она и не уезжала. Они виделись ежедневно. Он либо приходил к ней домой в пять часов, либо они встречались в городе и шли смотреть балет или зарубежный фильм. Вернувшись в квартиру, занимались любовью. Потом смотрели телевизор и ели бифштексы, которые вместе жарили на кухне. У Карлы не было прислуги — она не терпела возле себя чужих. Лишь раз в несколько дней домработница с девяти часов до полудня убирала квартиру. Карла обожала ТВ. В каждой комнате у нее стояло по телевизору. Она не интересовалась новостями… ненавидела войны… сцены насилия заставляли ее содрогаться. Дэвид вспомнил, что во время второй мировой войны она находилась в оккупированной стране. Карла отказывалась говорить об этом, и Дэвид никогда не настаивал. Ему не хотелось лишний раз напоминать ей о том, что в 1939 году его еще не было на свете. Одевшись, Дэвид посмотрел на часы. Без четверти семь. Он прошел в гостиную и смешал себе мартини. Меньше чем через час ему следовало прибыть к Ди, чтобы познакомиться с доставшейся ей падчерицей. Ди пригласила его на обед только вчера. Вечером он сказал об этом Карле. Она понимающе улыбнулась. «Не беспокойся. Я съем твой завтрашний бифштекс со старой подругой». Сегодня она не позвонила. Для звонка не было повода. Она велела ему прийти завтра в обычное время. Если бы он мог ей позвонить! Это в их отношениях огорчало его сильнее всего. Мог ли он чувствовать себя мужчиной, будучи вынужденным сидеть у аппарата, точно влюбленная девушка? Он откинулся на спинку кресла и отпил мартини. Дэвида что-то тревожило. Он не мог понять, что именно — то ли отмена их сегодняшнего свидания, то ли безразличие, с которым она восприняла его слова. Если бы он мог позвонить Карле и сказать, что он скучает без нее, что, возможно, обед завершится рано и они еще смогут встретиться! Он допил спиртное. Ужасное положение. Она даже на всякий случай убрала из аппарата картонку с номером. Лишила их связь элемента человечности, теплоты. Какая теплота? Он ублажал ее, она получала удовольствие. Он один испытывал эмоциональную вовлеченность. Она ничего не брала в голову. Ладно, это неважно. Он жил ради свиданий с ней, а сегодня их встречу пришлось отменить из-за Ди, которая вряд ли поняла бы его чувства. Будь она проклята! Он по-прежнему пребывал в плохом настроении, когда зазвонил в дверь Ди. Марио, совмещавший обязанности шофера и дворецкого, когда Ди находилась в Нью-Йорке, открыл дверь. Майк поздоровался с Дэвидом, и Марио отправился готовить гостю мартини. — Ди укладывает волосы, — сказал Майк. — К ней ежедневно приходит один из этих молодых людей в брюках в обтяжку. Затем дверь открылась, и Ди стремительно вошла в комнату. Она подставила щеку Майку, послушно поцеловавшему жену, подплыла к Дэвиду и сказала ему, что он прекрасно выглядит. Дэвид тоже чмокнул кузину в щеку, сделал ей комплимент и сел на край дивана. Поддерживая светскую беседу с Майком, он думал: «Черт возьми, где же его дочь?» Дэвид почти допил мартини, когда Дженюари появилась в комнате. Он услышал, как их представляют друг другу, а также свой вопрос о перелете. Как она перенесла разницу во времени? Но он знал, что пялится на нее, как болван. Боже! Она была потрясающе красива. Дэвид услышал произнесенное им обещание сводить ее в «Клуб», «Максвелл», «Одуванчик Дели» — во все места, где она еще не была. Боже, он сказал, что достанет билеты на «Волосы». Закурил сигарету и внезапно спросил себя, как ему теперь освободиться от всех этих приглашений, которые он вдруг сделал. Он разболтался от волнения. Да, совсем потерял контроль над собой. Откинувшись на спинку дивана, попытался обрести трезвость мыслей. Да, Дженюари — исключительно красивая девушка. Но она — не Карла. Однако однажды Карла снова исчезнет. Он должен понимать это. Роман с Карлой был удивительным безумием, ставшим частью его жизни. Внезапно он заметил, что просто молча разглядывает девушку. Ему следовало что-то сказать. — Ты играешь в триктрак? — спросил он. — Нет, но хочу научиться, — ответила Дженюари. — Отлично. Я с радостью помогу тебе в этом. Дэвид допил мартини. (Великолепно! Теперь ему придется еще и обучать ее триктраку!) Лучше не раскрывать рта и не налегать на мартини. Он решил придать беседе безличный характер и заговорил о турнирах по триктраку, проходивших в Лас-Вегасе, Лондоне и Лос-Анджелесе. Ди была семейным чемпионом. Всегда выходила победителем. Дэвид услышал свой рассказ о правилах соревнований, о ставках… Внезапно Дэвид замолчал. Ему показалось, что тема не интересует девушку, что она слушает из вежливости. Невероятно. Он любит Карлу. И все же Дженюари взволновала его. Наверно, своей исключительной сдержанностью. Эта легкая полуулыбка заставляла его болтать всякую ерунду. Раздался звонок. Марио впустил две пары, прибывшие вместе. Дэвид обнаружил, что берет еще один протянутый ему бокал. Он знал, что ему не стоит пить; девушка смущала его своим присутствием. Он отметил, как непринужденно она знакомится с гостями. На ее губах постоянно играла улыбка… Он также увидел, что в фокусе ее внимания находится отец. Девушка провожала его взглядом, когда он двигался, время от времени они подмигивали друг другу, словно обмениваясь только им понятными шутками. Гости Ди источали Дженюари экстравагантные комплименты. Она выслушивала их невозмутимо. Дэвид чувствовал, что они не трогают ее. И тут ему пришло в голову, что и он, возможно, не произвел на Дженюари большого впечатления. Это было новое ощущение. Сходное с тем, которое он испытал, когда голландка сказала ему, что он — неважный любовник. Неужели он позволил Карле поглотить его целиком? Убить в нем индивидуальность? Остаток вечера он умышленно старался не думать о Карле и сконцентрироваться на Дженюари. Время шло, а он чувствовал, что его обаяние не действует на падчерицу Ди. На самом деле при Дэвиде девушка испытывала сильное смущение. Своей сделанной Дэвиду «рекламой» Ди заранее вызвала у Дженюари антипатию к молодому человеку. Однако познакомившись с ним, нашла его очень красивым и вовсе не поглощенным исключительно самим собой. Он был весьма высок. Обычно ей не нравились блондины, но Дэвид был от природы шатеном, его волосы выгорели на солнце. У него была смуглая кожа и карие глаза. Он нравился ей. Очень. Она пыталась скрыть это с помощью маски, роль которой играла смущавшая Дэвида полуулыбка. Мышцы ее лица болели от этой полуулыбки, когда она наблюдала за тем, как Майк играет роль мужа Ди. Для друзей Ди, даже для официантов и метрдотелей, судя по их отношению, она по-прежнему оставалась Дидрой Милфорд Грейнджер… а Майк был просто ее последним мужем. Они отправились обедать в «Лотерею» — ресторан с дискотекой, находящийся рядом с «Пьером». Ди разместила гостей за большим круглым столом по своему усмотрению. Майк оказался между Розой Контальба, испанкой средних лет, содержавшей своего спутника, художника-югослава, и еще одной женщиной, полной и неинтересной, зато с крупными бриллиантами. Ее муж отличался огромными габаритами. Он сидел по левую руку от Дженюари и считал себя обязанным развлекать девушку светской беседой. Его рассказ об их ранчо в Монтане казался ей бесконечным. Сначала она пыталась изобразить интерес, но вскоре поняла, что соседу вполне хватает ее замечаний типа «О, правда?» и «Как интересно». Общий разговор касался летнего отдыха и планов на зиму. Роза отправлялась на фотосафари в Африку. Полная женщина слишком устала от летнего сезона, проведенного в Истгемптоне, чтобы думать о зиме. Все спрашивали Ди, когда она откроет свой Зимний дворец в Палм-Бич. — В ноябре. Но гостям придется учесть, что мы будем уезжать на все турниры по триктраку. Конечно, праздники мы собираемся проводить дома. Вероятно, Дженюари приедет на рождество и Новый год, но, думаю, она найдет себе работу-развлечение в Нью-Йорке на большую часть времени. Работу-развлечение? Прежде чем Дженюари раскрыла рот, крупный мужчина сказал: — Ну, Ди, только не говори мне, что это очаровательное создание будет работать. Ди улыбнулась: — Стэнфорд, ты не понимаешь. Сейчас молодежь хочет что-то делать… — О, нет, — простонал Стэнфорд. — Не уверяй меня, что она из числа тех, кто хочет переделать мир, участвует в демонстрациях и маршах протеста, требует вернуть индейцам их земли, уравнять в правах всех, включая женщин и цветных. — А как вам нравятся религиозные фанатики с раскрашенными физиономиями и обритыми головами? — спросила полная женщина. — Я видела их поющими под бой барабанов. Прямо на Пятой авеню, перед «Даблдэй». — Самое противное — это занудные типы в университетских городках, которых нам показывают в новостях, — вмешалась Роза. — Они тоже маршируют, обняв друг друга… парней можно отличить от девушек только по бородам. — О, это кое-что мне напомнило, — полная женщина подалась вперед, и все поняли, что их ждет пикантная сплетня. — Пресси Мэтьюз вовсе не пьет на курорте минеральные воды. Она угодила в какую-то коннектикутскую лечебницу с полным истощением нервной системы. Похоже, этим летом ее дочь сбежала из дому с каким-то молодым евреем. Они купили подержанный грузовик, взяли с собой продукты и отправились в путешествие по стране, собираясь останавливаться в молодежных общинах. Психиатр Пресси посоветовал ей смотреть сквозь пальцы на выходку дочери, которая, по его словам, подобным образом протестует против системы. Но осенью Пресси-младшая не вернется домой. Она собирается родить от этого еврея. Они не намерены жениться до появления ребенка — Пресси-младшая хочет, чтобы малыш присутствовал на свадьбе. Вы представляете! Пресси-старшую едва не хватил удар… Они решили держать эту историю в тайне… так что пусть она останется между нами. Крупный мужчина сказал: — Ладно, тут обошлось хотя бы без гитар и тяжелого рока. Посмотрите лучше на Дженюари. Все согласились, что Дженюари — настоящая красавица, но Ди подчеркнула то обстоятельство, что девушка получила образование за границей. Роза спросила Дженюари о ее специализации, и Ди поспешила ответить: «Языки. Дженюари свободно говорит по-французски». Потом принялась рассказывать о какой-то школе-яслях, где малышей обучают иностранным языкам чуть ли не с пеленок. Дженюари заметила, что отец щелкал своей золотой данхилловской зажигалкой каждый раз, когда одна из его соседок вытаскивала сигарету. Он даже кивал и улыбался, повернувшись лицом к художнику-югославу, который рассказывал какую-то историю. Майк добросовестно платил по счетам. Дженюари смотрела на отца, склонившего в позе слушателя свою красивую голову — полная женщина болтала без остановки. Один раз Майк перехватил обращенный на него взгляд дочери, и их глаза встретились. Он подмигнул ей, и Дженюари заставила себя улыбнуться. Затем Майк вернулся к своим обязанностям. Внезапно девушка услышала голос Ди: — Дженюари охотно возьмется за это. За что она возьмется? (Тут нельзя отвлекаться ни на секунду.) Ди, улыбаясь, разъясняла подробности, связанные со школой-яслями. — Основная идея — обучение надо начинать в раннем возрасте. Дети вырастают двуязычными. Вот почему «Маленький лицей» Мэри Энн Стоке пользуется таким успехом. Мы с Мэри Энн вместе учились в «Смите». Бедняжка заболела полиомиелитом на первом курсе. Ее семья потеряла все… безденежье и высохшая рука… Естественно, у Мэри Энн не было шанса на приличное замужество. Несколько лет тому назад она задумала открыть школу, и я согласилась финансировать ее. Сейчас «Маленький лицей» практически окупает себя. — О, Ди, дорогая, — взревела полная женщина, — ты так скромна. Я и не знала, что ты помогла Мэри Энн встать на ноги. Это чудесная школа. Там учится мой внучатый племянник. Ди кивнула. — И, естественно, как только я сказала ей о том, что французский — второй язык Дженюари, она подпрыгнула от радости. В конце концов, это часть замысла — красивые светские девушки обучают малышей. Они полюбят Дженюари. — Вы хотите, чтобы я преподавала? Дженюари заметила, что ее голос дрогнул. Дэвид внимательно наблюдал за девушкой. — Когда она начнет? — спросил он. Ди улыбнулась. — Я сказала Мэри Энн, что нам потребуется пара недель, чтобы привести в порядок гардероб Дженюари. Она сможет приступить к занятиям в октябре. Завтра Мэри Энн приедет к нам на чай. Тогда все и обсудим. Рок сменился медленной музыкой. Дженюари посмотрела на Майка. Их глаза встретились. Он еле заметно кивнул ей и встал. Но в тот же момент поднялась Ди. — О, Майк… а я испугалась, что ты не вспомнишь. Это наша песня. Майк немного смутился, но потом заставил себя улыбнуться. Направляясь с мужем к площадке, Ди повернулась к столу. — «Три монеты в фонтане». Эту вещь исполняли в ресторане Марбеллы, когда мы встретились. Все проводили их взглядами. Внезапно Дэвид встал. Он коснулся плеча Дженюари. — Эй, я — твой кавалер. Он повел ее к площадке. Теснота практически не позволяла танцевать. Они двигались среди других пар. Прижав Дженюари к себе, он прошептал: — Скоро все кончится, и мы куда-нибудь сбежим. — Наверно, я не смогу. Она посмотрела на отца, что-то шептавшего Ди на ухо. — А ты постарайся, — невозмутимо сказал Дэвид. Когда мелодия смолкла, он отвел девушку к столу. Гости выпили кофе, затем спиртное, еще поболтали, и обед подошел к концу. Люди, вставая, говорили Ди, что все было великолепно. — Я угощу Дженюари перед сном, — сказал Дэвид. Быстро поблагодарив Ди и Майка за вечер, он усадил Дженюари в такси, прежде чем она успела возразить. Они поехали в «Клуб». Там было многолюдно. Гремела музыка. Дэвид знал почти всех посетителей. У бара стояли его друзья с девушками. Дэвид предложил Дженюари присоединиться к ним. — Мы ненадолго, поэтому нам не нужен столик. Дженюари знакомилась с людьми, танцевала с приятелями Дэвида. Цепочки Ди болтались на шее, но у многих девушек здесь их было даже вдвое больше, и им, они, похоже, не мешали. Длинные волосы танцующих хлестали из стороны в сторону, украшения звенели в ритме музыки. Дженюари оказалась на площадке в тесных объятиях парня с женственной внешностью, который пытался назначить ей свидание на завтрашний вечер. Она отвечала уклончиво, но тут вмешался Дэвид. — Мне пришлось спасти тебя от Неда, — заявил Дэвид. — Он — гомик, но считает необходимым встречаться с красивыми девушками для отвода глаз. Внезапно зазвучала музыка Бакара. Они приблизились друг к другу. Дэвид почувствовал, что Дженюари расслабилась. Он прошептал: — Мне тоже нравится эта мелодия. У меня дома много пластинок с песнями Бакара. Она кивнула. Дэвид гладил ее спину. — Я бы хотел лечь с тобой в постель, — сказал он. Они продолжали танцевать. Ее поразил его будничный тон. В нем не было страстной мольбы и обещаний Франко. Просто утверждение. Кажется, девушка должна оскорбиться, услышав такое от мужчины в первый день знакомства. Это было бы естественно у мисс Хэддон. Но сейчас она находилась не у мисс Хэддон, а в «Клубе». Дэвид был искушенным парнем, несомненно, имевшим успех у девушек. К тому же фраза прозвучала не как предложение, а как комплимент. Она решила, что ей следует промолчать. Подведя Дженюари к бару, он принял участие в общей беседе. Заговорили о предстоящих спортивных турнирах. Девушки обменивались впечатлениями от летнего отдыха, обсуждали начало сезона и стоимость переделки соболиной шубы — «Женская одежда» утверждала, что эпоха «мини» окончательно ушла в прошлое. Дженюари улыбалась, пытаясь демонстрировать интерес, но ее вдруг охватила усталость. Она испытала облегчение, когда Дэвид допил коктейль и предложил уйти. В такси она воздвигла между ними барьер из потока слов: «Как весело было в „Клубе“… У тебя очень милые друзья… Почему музыка звучала так громко?» Дженюари смолкла, лишь увидев козырек «Пьера». Дэвид попросил водителя подождать и проводил ее до двери. — Я прекрасно провела время, — сказала Дженюари. — У нас еще многое впереди, — отозвался он, неожиданно привлек ее к себе и крепко поцеловал. Она почувствовала, что он языком раздвигает ее губы. Заметила, что консьерж тактично отвернулся в сторону. Дженюари, как и всегда, когда мужчина пробовал целоваться с ней, испытала отвращение, которое испугало девушку. Отпустив Дженюари, Дэвид улыбнулся. — У нас все будет отлично. Я в этом уверен. Повернувшись, он зашагал к такси. Войдя в квартиру, она застала Майка и Ди склонившимися над столиком для триктрака. — Я у нее выиграл! — закричал он. — Первый раз! — Он опроверг все законы вероятности, — пожаловалась Ди. — Ему поразительно везло. — Я всегда нарушаю законы, — усмехнулся Майк. Ди полностью переключила свое внимание на Дженюари. — Правда, Дэвид, — просто прелесть? Майк встал. — Пока вы,дамы, обсуждаете вечер, я выпью пива. Хотите что-нибудь? Кока-колу, Дженюари? — Нет, спасибо. Она начала снимать с себя украшения. Когда Майк вышел из комнаты, Ди произнесла: — Я оказалась права насчет Дэвида? Он очень красив, правда? Когда ты с ним встречаешься снова? Дженюари вдруг поняла, что он не назначил ей следующего свидания. Она протянула Ди серьги и принялась снимать цепочки. — Большое спасибо за драгоценности… — Они всегда в твоем распоряжении. А теперь расскажи мне, какое впечатление произвел на тебя Дэвид. Где вы были? — В «Клубе». — О, это забавное место. О чем вы, молодежь, говорили? Дженюари засмеялась: — Ди, в «Клубе» почти не разговаривают. Разве что с помощью жестов. Мы танцевали. Я познакомилась со многими его друзьями. — Я рада. Дэвид знает всех стоящих молодых людей и… — Ди, я хочу поговорить с вами насчет малышей. Майк вернулся в комнату. — Каких малышей? Ди отошла к столику для триктрака. — У нас с Дженюари есть один замысел. Майк, наведи порядок на столе, я должна перед сном обыграть тебя, чтобы ты понял, что ничего не смыслишь в триктраке. Спокойной ночи, Дженюари. Завтра мы сможем вдоволь поболтать. Дженюари послала воздушный поцелуй отцу и ушла в спальню. Посмотрела на закрытую дверь. Майк Уэйн… играет в триктрак. Она вспомнила о Дэвиде. Возможно, он просто хотел сделать ей комплимент, сказав «Я бы хотел лечь с тобой в постель». А она смутилась. Он даже не лапал ее. И все же это неприлично! Или она не права? Многое изменилось со времени учебы у мисс Хэддон. Майк стал другим, и весь мир — тоже. А Дэвид такой милый. И красивый. Может быть, она оттолкнула его. Вероятно, он почувствовал, как она внутренне напряглась, услышав его признание. Но он же поцеловал ее на прощание. Однако она почти не ответила ему. Возможно, он этого не заметил. Или заметил? Он не пригласил ее на следующее свидание. Возможно, просто забыл. Она сама заметила это, лишь услышав вопрос Ди. Зазвонил телефон. Она поспешила снять трубку и едва не опрокинула лампу. — Привет, детка, — раздался приглушенный голос Майка. — Привет, папа. — Ди в ванной. Я решил, что нам есть о чем потолковать. Выпьем кофе в гостиной в девять утра? — О'кей. — И не грусти. Обещаю тебе — ты не будешь учить сосунков. — О… Она заставила себя рассмеяться. — Я всегда рядом с тобой, ясно? — Да. — Спокойной ночи, детка. — Спокойной ночи, папа. Утром, когда она вошла в гостиную, Майк сидел на диване, пил кофе и читал «Тайме». Он молча налил кофе в чашку и протянул ее дочери. — Сэди оставляет термос перед сном, — пояснил он. — Ди обычно спит до полудня, так что завтрак здесь не подают. — Ты всегда встаешь так рано? — спросила она. — Только со дня твоего возвращения. Она села и отпила кофе. — Майк, нам надо поговорить. Он улыбнулся: — А зачем, по-твоему, я здесь сижу? Дженюари безотрывно смотрела на чашку. — Майк, я… — Ты не хочешь преподавать в «Маленьком лицее». Она поглядела на отца. — Ты знал об этом? — Только со вчерашнего вечера. Я все уладил с Ди. Никакого «Маленького лицея». Что еще? — Я не могу здесь жить. Его глаза сузились. — Почему? Она встала и подошла к окну. — Смотри, отсюда видна моя горка. Большой пудель сидит на ней и… Он приблизился к дочери: — Почему ты не можешь жить здесь? Она попыталась улыбнуться. — Возможно, потому, что не способна делить тебя с кем-то. — Слушай, ты прекрасно знаешь, что мы полностью принадлежим друг другу. — Нет. Она покачала головой: — Из этого ничего не получится. Я не могу видеть, как… Дженюари замолчала. — Что ты не можешь видеть? — тихо спросил он. — Как ты играешь в триктрак. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Майк посмотрел на дочь и заставил себя улыбнуться. — Это неплохая игра… правда. Он взял ее за руки. — Слушай, Ди заново отделала для тебя спальню — новые обои, специальные вешалки в шкафу, все прочее. Думаю, она обидится, если ты даже не предпримешь попытку. В начале ноября мы улетаем в Палм-Бич. Шесть недель вся квартира будет в твоем распоряжении. Хотя бы попытайся. Если потом захочешь уехать — о'кей. Договорились? Она улыбнулась через силу: — Хорошо, Майк. Он налил себе еще одну чашку кофе. — Как тебе Дэвид? — Он — очень красивый молодой человек. Она заметила растерянность на его лице. — Ты же хотел, чтобы он мне понравился, верно? — Конечно. Наверно, я такой же, как все отцы. Знаю, что однажды ты влюбишься — я хочу, чтобы это произошло, — но, услышав об этом, наверно, ужасно расстроюсь. Он засмеялся: — Не обращай на меня внимания. Я всегда по утрам болтаю глупости. Какие у тебя планы? Хочешь встретиться со мной за ленчем? — С удовольствием… только не сегодня. Мне надо кое-что купить из одежды. Дэвид порекомендовал мне магазины на Третьей авеню. Я иду туда. А в три часа у меня свидание с Линдой Риггз. — Кто такая Линда Риггз? — Она училась в школе мисс Хэддон — мы все считали ее будущей звездой. Все, кроме тебя. Сейчас она — главный редактор журнала «Блеск». — О'кей. Значит, тебе есть чем занять день. Ди пригласила гостей на коктейль к семи часам, потом мы идем в «21». Хочешь составить нам компанию? Или у тебя свидание с Дэвидом? Она засмеялась: — Вчера мы ходили в «Клуб». Там было многолюдно… музыка гремела… Дэвид знал всех посетителей. Беседовать в зале невозможно. И мы… забыли договориться о свидании. Представляешь? Он закурил сигарету. — Это бывает. Помолчав, Майк продолжил: — Слушай, детка, не увлекись им чересчур сильно. Не теряй головы. — Майк, ты хотел, чтобы Дэвид мне понравился. Тебя что-то беспокоит. Что именно? — Ну, сейчас, по-моему, ты недостаточно защищена. Ты вернулась в незнакомый тебе Нью-Йорк… у меня новая жена… ты предоставлена самой себе… словом, ты можешь стать легкой добычей первого смазливого парня, который тебе подвернется. Я рад, что он тебе понравился, но в этом городе масса красивых девушек, а Дэвид для многих желанный жених. — И? — Возможно, он не забыл назначить тебе свидание. Он может быть сейчас занят. — Майк, тебе что-то известно? Он встал и подошел к окну. — Я ничего не знаю. На прошлой неделе я видел, как он выходил из кинотеатра с Карлой. Должен признаться, она произвела на меня впечатление. С этой женщиной я бы хотел познакомиться. Я не придал сначала этому значения. Но два дня тому назад я заметил его стоящим на Пятьдесят седьмой улице возле «Карнеги-холл». Ди говорила мне, что Карла арендует там зал. И точно — она вышла из подъезда, и они уехали вместе. Он меня не видел. А я ничего не сообщил Ди. — Ты хочешь сказать мне, что он встречается с Карлой? — А еще есть эффектная фотомодель из Голландии — Ким Ворен. Ее портрет украшает обложку последнего номера «Моды». Ты могла решить, что мы подносим тебе Дэвида на блюдце с голубой каемочкой. Это — желание Ди. Но Дэвид сам себе хозяин. И я не хочу, чтобы ты испытала боль. Я бы хотел положить весь мир к твоим ногам. Ночью я много думал — наверно, потому, что впервые увидел в тебе красивую девушку, у которой свидание с молодым человеком. Красивую и уязвимую. Я не хочу, чтобы ты сидела у телефона и ждала звонка. — Я не собираюсь это делать. Я собираюсь работать. Он налил себе еще одну чашку кофе и закурил сигарету. — Чем ты намерена заняться? Дженюари пожала плечами. — Раньше я всегда думала, что буду работать в шоу-бизнесе — как ты. В каком-то смысле мне казалось, что вся моя жизнь проходит в нем. Думаю, я могу играть. Но у меня нет опыта. И сейчас мало вакансий. Но существуют экспериментальные театры-студии. Возможно, мне удастся получить должность помощника продюсера… или дублерши… роль без слов… что угодно. Ди права в одном — я хочу что-то делать. Он, похоже, задумался. — Большинство продюсеров и режиссеров, которых я знаю, сейчас на Западном побережье. В экспериментальных театрах царит новое поколение. Я позвоню в агентство «Джонсон — Харрис». Это солидная фирма. Ее вице-президент по кинобизнесу — Сэмми Тибет. Я попрошу его представить тебя шефу театрального отдела. Майк посмотрел на часы: — Позвоню туда через час. — Это было бы замечательно. Может быть, они встретятся со мной сегодня. Она встала. — А сейчас я намерена опустошить прилавки нью-йоркских магазинов — ты еще вчера велел мне сделать это. Майк улыбнулся: — Однако у тебя самой такое желание появилось только сегодня. Она кивнула: — Это свидетельствует лишь о том, как много значит хорошо выспаться. (обратно)Глава пятая
Третья авеню оказалась целым миром. Дженюари забросила в «Пьер» коробки с брюками, длинными рубашками, юбками — ей едва хватило массивных латунных вешалок, чтобы разместить одежду в шкафах. Теперь ее гардероб был не хуже, чем у любой другой нью-йоркской модницы. «Блеск» был центром моды; там постоянно кипела бурная жизнь. Секретарша отправила Дженюари в конец коридора. Сотрудники разглядывали макет журнала, куда-то спешили молодые люди с папками для рисунков. Девушки бегали с эскизами в руках. Яркий «дневной» свет заливал помещения, почти не имевшие окон. У худых девушек с длинными волосами и чуть затемненными стеклами очков и молодых людей с ухоженными бородами был очень современный вид. Дженюари обрадовалась тому, что она надела один из своих новых костюмов. Она остановилась в конце коридора перед большой блестящей белой дверью с впечатляющими деревянными буквами: «Линда Риггз». Секретарша, сидевшая в тесной конторке, провела Дженюари в шикарный угловой кабинет с окнами от пола до потолка. За столом сидела красивая молодая женщина. Прижав плечом телефонную трубку к уху, она слушала и писала. Интерьер кабинета был ультрасовременным. Белые стены… оранжевый ковер на черном паркетном полу… картины, напоминавшие цветные тесты Роршаха… кресла, обтянутые белой кожей… черный бархатный диван… стеклянные столики… и везде — экземпляры «Блеска». Несмотря на роскошь обстановки, атмосфера здесь была вполне рабочая. Дженюари села и стала ждать, когда женщина закончит разговор. Трудно было представить Линду с ее комичным лицом среди этого великолепия. Женщина улыбнулась и дала Дженюари понять, что пытается освободиться. Дженюари ответила ей понимающей улыбкой и посмотрела на рукописи, лежавшие на подоконнике. Стол был завален изданиями конкурентов — экземплярами «Женского журнала», «Космополитен», «Моды». Женщина положила трубку. — Извини. Этот разговор мог длиться бесконечно. Взглянув на Дженюари, она улыбнулась. — О, ты стала настоящей красавицей. Хотя иначе и быть не могло — при таком отце, как Майк Уэйн. Дженюари вежливо улыбнулась и подумала: «Где же Линда?» Эта приветливая красивая дама разглядывала ее с явным любопытством. — Мисс Риггз назначила мне свидание на три часа, — встав, сказала Дженюари. Женщина рассмеялась: — Дженюари! А кто, по-твоему, я? Девушка испытала смущение. Но Линда снова засмеялась: — Я забыла, сколько прошло лет. — Около десяти, — удалось наконец произнести Дженюари. Линда кивнула: — Верно! Не думала же ты, что я останусь с таким лицом на всю жизнь? Шину убрали, поставили несколько коронок, подправили нос — это был подарок к окончанию школы, — к тому же я сбросила восемь лишних килограммов. — Невероятно, — сказала Дженюари. — Линда, ты чудесно выглядишь. Я хочу сказать… ты всегда обладала такой яркой индивидуальностью, что все находили тебя красивой, но теперь… — Моя внешность тогда отличалась своеобразием — это было еще до того, как нестандартность вошла в моду. Теперь, когда я проделала все это, люди стали находить в уродстве особый шик. Клянусь, порой мне хочется вернуть себе прежний нос. Кстати, Кит не знает о пластической операции, зубах и прочем. Она нажала кнопку, и из динамика донесся голос секретарши. — Норма, когда придет Кит Уинтерс, отправь его ко мне. Линда повернулась к Дженюари. — Я бы предпочла, чтобы ты была одета поярче. Мне нравятся твои брюки, и замшевая куртка великолепна… но этот бежевый цвет… Кит снимает на цветную пленку. — Линда, я пришла сюда не для того, чтобы фотографироваться. Я хотела увидеть тебя. Узнать побольше о твоей жизни и о журнале. По-моему, это просто чудо. Линда вышла из-за стола и села на диван. Взяла пачку сигарет из большой стеклянной вазы. — У нас тут есть сигареты всех сортов… кроме тех, с травкой… так что угощайся. — Я не курю. — Завидую тебе. Как ты умудряешься оставаться такой изящной без сигарет? Иногда меня беспокоит опасность заболеть раком, но, говорят, до климакса риск невелик — какие-то гормоны защищают женщин от этой болезни. Кстати, о климаксе — расскажи мне о Дидре Милфорд Грейнджер. — Теперь она — миссис Майк Уэйн. — Конечно, — улыбнулась Линда. — Я бы хотела дать материал о ней и твоем отце. Нашим читателям — от двадцати до тридцати лет, но очень богатые люди интересуют всех. Мы неоднократно пытались подобраться к ней, но она всегда нам отказывала. Я удивлена, что Хелен Герли Браун и Ленора Хершли еще не обращались к тебе. Хотя подобная статья больше подошла бы «Космо», чем «Женскому журналу». Боюсь, Хелен Герли Браун заставит меня вновь обратиться к психоаналитику. — Почему? — Она добилась большого успеха. А все началось со статьи о том, как одинокая девушка подцепила потрясающего мужа. Самое странное, никто больше не вступает в брак… разве что пожилые люди. С этого наблюдения я и начну. Сейчас материал не приходит в руки сам. Его надо найти… раньше других. Поэтому я торчу в офисе с восьми утра до восьми вечера. Это нелегко. Но другого пути нет. Я хочу, чтобы «Блеск» заткнул за пояс «Космо» и все прочие журналы. — Ты не веришь в брак? — спросила Дженюари. — Конечно, не верю. Я живу с Китом, мы очень счастливы. Нас интересует только сегодняшний день. Потому что на свете нет ничего вечного… даже сама жизнь — временное явление. — Он — фотограф? Линда улыбнулась: — На самом деле он — актер. Подрабатывает в качестве фотографа. Я даю ему все заказы, какие могу. Он очень талантлив. Конечно, он не Хальцман и не Скавалло. Кит мог бы добиться большого успеха как фотограф, но он мечтает стать Марлоном Брандо семидесятых. Он по-настоящему одарен. Я видела его в «Трамвае», поставленном "Библиотекой «Эквити». Но сейчас нет вакансий. Ему до сих пор не удалось попасть на Бродвей. — Я думала, что ты будешь знаменитой актрисой, — сказала Дженюари. — Вся школа так считала. Линда покачала головой: — Я пыталась. Но даже после пластической операции… ничего не вышло. Девушки работают официантками по вечерам, чтобы иметь возможность днем учиться и искать себе место в театре. Я некоторое время жила так. Устроилась официанткой в кафе. Потом однажды встретила тридцатилетнюю актрису, которая искала работу. Тогда я и ушла… Меня взяли в «Блеск» Журнал находился на грани закрытия, у меня появилась масса идей, как его спасти. Но никто не желал меня слушать. Я выполняла мелкие поручения целых два года. Кто-то из рекламного отдела сказал мне, что Джон Хамер собирается ликвидировать «Блеск». Он — председатель совета директоров компании «Дженроуз», которой, наряду с другими изданиями, принадлежит «Блеск». Все сотрудники уже подыскивали себе новую работу. Я решила использовать свой шанс — пошла к Хамеру и выложила ему свои идеи. Заявила, что «Блеск» не должен конкурировать с «Модой» в области «от кутюр»… ему следует переориентироваться на более молодых женщин… работающих и домохозяек… больше рекламировать новые бюстгальтеры… покупать статьи не только со счастливым концом. Публиковать материалы о браках, которые не могут быть спасены пастором или психологом… истории о «другой женщине», которая страдает, пока законная жена живет в свое удовольствие и плюет на все. Хамер решил рискнуть и назначил меня редактором по спецтематике. За год мы увеличили тираж вдвое. Потом я стала главным редактором. Мы первыми опубликовали фотоочерк о нудистском пляже на Ривьере. Я писала статьи в поддержку сторонников естественных родов и кесарева сечения, приводила аргументы в пользу деторождения и против него… Мы выбрались из ямы, теперь наш тираж постоянно растет. Но чтобы побить «Женский журнал» и «Космо», мы должны во всем опережать соперников. Если мне не удается взять интервью у Дидры Милфорд Грейнджер, я должна представить читателям Дженюари Уэйн. Я хочу дать в январском номере фотоочерк о тебе под заголовком: «Дженюари — не название месяца, а девушка, у которой есть все». — Линда, я не хочу, чтобы ты публиковала материал обо мне. Линда изумленно уставилась на собеседницу: — Тогда зачем ты пришла ко мне? — Я… я надеялась, что мы станем подругами. Я… я никого не знаю в Нью-Йорке. — Одинокая маленькая принцесса? Слушай, это амплуа твоей мачехи. Во всяком случае, до ее вступления в брак с Майком Уэйном. Он, должно быть, потрясающий мужчина. Знаешь что? Я всегда была к нему неравнодушна. Дженюари встала, но Линда схватила ее за руку: — О, ради бога. Не обижайся. Слушай… о'кей, значит, ты одинока. Все одиноки. Единственный рецепт от одиночества — это лечь в постель с любимым мужчиной, а утром проснуться в его объятиях. Кит дает мне такую возможность, и поэтому я хочу сделать фотоочерк о тебе. Тогда я смогу хорошо заплатить ему. Понимаешь, я чувствую, что если его работа получит признание, он будет относиться к ней более серьезно. Тогда я смогу не опасаться того, что он отправится на полугодовые гастроли с какой-нибудь труппой. Чувства Линды меняли ее лицо, и внезапно Дженюари увидела перед собой старшеклассницу из школы мисс Хэддон. Неистовую Линду. Линду из спектакля «Энни, возьми свой револьвер». Они обе помолчали. Затем Дженюари сказала: Линда, если ты так сильно любишь Кита, почему вы не женитесь? — Я тебе объяснила — мы не верим в брак. Эти слова произнесла Линда Риггз — главный редактор «Блеска». — Он — мой товарищ, мы живем вместе, все чудесно, и… Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Кит Уинтерс. Дженюари тотчас узнала фотографа с длинными жесткими волосами, караулившего их в вестибюле «Пьера». Сейчас он был в футболке, армейской куртке, брюках из дангери, кроссовках, голландской шапочке. — Извини, Кит, — сказала Линда. — К сожалению, задание отменяется. Леди возражает. Он пожал плечами и передвинул назад камеру, которая болталась у него на плече. Другой аппарат висел на шее Кита. Дженюари испытала легкое чувство вины. Кит взял из вазы пачку сигарет и повернулся к Линде: — Слушай, не жди меня к обеду. — Но сегодня к нам приходит убираться Эви. Я попросила ее приготовить бифштекс — такой, какой ты любишь. Он покачал головой: — Я в половине шестого встречаюсь с Милошем Докловым. — Кто это? — спросила Линда. — Один из лучших режиссеров-авангардистов. Его дважды выдвигали на «Оби». Он посмотрел на Дженюари. — Это авангардистский аналог «Тони». Дженюари улыбнулась: — О, я не знала. — Пустяки. Линда — тоже. — Кит, я ничего не имею против авангардистского театра. — Еще бы. Ты никогда там не была. — Я пойду на премьеру этой постановки. — Для тебя она чересчур авангардистская. Но пьеса достаточно хорошая для того, чтобы Милош за нее взялся, а я — сыграл в ней. — Замечательно, — с напускным энтузиазмом в голосе произнесла Линда. — Расскажи мне о ней. Какая у тебя роль? Когда состоится премьера? — Спектакль уже идет и имеет успех — по меркам авангардистского театра. Исполнитель главной роли приглашен в другое место. Я могу заменить его. — Что ж… великолепно. Я положу бифштекс в холодильник и буду ждать тебя. У меня есть паштет из гусиной печенки и вино, мы отметим это событие. — Я не люблю паштет из гусиной печенки. Кит взглянул на Дженюари: — Жаль, что ты нас подводишь. Я теряю заказ, а моей подружке нужен материал. Она не спит ночами, ломая голову над тем, как поднять тираж. Линда почувствовала, что они на грани размолвки. Улыбка Линды была натянутой; она дрожащей рукой поднесла огонь к кончику сигареты. Внезапно Дженюари поняла, что Линде позарез нужен этот материал — и не только для журнала. — Линда, возможно, если я позвоню папе и спрошу его… — О чем? Линда смотрела на Кита. — Насчет статьи… ну, которую ты собиралась написать обо мне… Линда оживилась: — О, Дженюари, сделай это. Позвони ему сейчас. Воспользуйся телефоном, который стоит на столе. Дженюари вспомнила, что она не знает рабочий телефон отца. Вероятно, он известен Сэди. Она позвонила в «Пьер». Сэди сообщила номер и сказала, что кто-то прислал Дженюари две дюжины роз. Сэди прочитала фамилию на визитной карточке. — Это от мистера Милфорда. Деловая карточка. На обороте написано: «Спасибо за чудесный вечер. Позвоню тебе через несколько дней. Д.». Поблагодарив Сэди, она позвонила отцу. Секретарша посоветовала поискать его в клубе «Монах». Дженюари думала о цветах, пока Майка подзывали к аппарату. «Позвоню тебе через несколько дней». Значит, Майк прав. Дэвид не скучал в ожидании ее приезда. Он с кем-то встречается. С помощью цветов он давал Дженюари понять, что помнит о ней. Майк взял трубку и, не успев перевести дыхание, спросил: — Что случилось, детка? — Я оторвала тебя от чего-то важного? — Да. От азартной партии и бокала двойного бербона. — О, извини. — Слушай, дорогая, стоя у телефона, я вижу, как мой противник пытается заглянуть в мои карты. У тебя что-то важное? Или это звонок вежливости? — Я нахожусь в редакции журнала «Блеск». Линда хочет публиковать материал обо мне. — И что? — Ты разрешаешь? — Пожалуйста… Он замолчал. — Если статья будет посвящена тебе. Я не хочу, чтобы там фигурировало имя Ди. Пусть тебе дадут расписку в том, что материал не пойдет в номер без твоего одобрения. — О'кей. — Да… слушай… завтра в десять утра ты встречаешься с Сэмми Тибетом в офисе «Джонсон — Харрис». — Спасибо, Майк. — До встречи, детка. Она положила трубку и передала им требование Майка. Линда кивнула. — Разумное условие. Я сейчас подготовлю письмо. Статью напишет Сара Куртц. Кит, можешь начинать. Она нажала кнопку переговорного устройства. — Пришли мне Рут, нужно кое-что записать. Линда нажала другую кнопку. — Джени, не соединяй меня ни с кем, кроме Вильгельмины, если она отзвонит. Я хочу разыскать для февральской обложки новую фотомодель-немку, которую она знает… ее зовут Шотци какая-то… тебе известно, что у меня плохая память на фамилии. Как? Нет. И скажи Леону, чтобы он оставил иллюстрации для отрывка из нового романа. Я должна посмотреть их до ухода. Да, кажется, все. Линда подняла голову — в кабинет застенчиво вошла с блокнотом в руке некрасивая девушка, похожая на птичку. Линда кивнула ей и положила трубку. — Садись, Рут. Это Дженюари Уэйн. Рут — превосходная стенографистка. Я буду задавать вопросы, поскольку я знаю, что должна представлять из себя статья. Через несколько дней Дженюари встретится с Сарой… Кит уже зарядил фотокамеры. Он вытащил экспонометр, поменял лампу, сделал снимок «Поляроидом», чтобы проверить композицию. Изучив фотографию, удовлетворенно кивнул и стал работать другим аппаратом. На лице у Линды была улыбка деловой женщины. — О'кей, Дженюари. Где ты училась после школы мисс Хэддон? — В Швейцарии. — Как называется колледж? Дженюари увидела, как Рут выводит забавные крючки на листе блокнота. Она заколебалась. Девушка не могла вспомнить, какой колледж назвала ей Ди. Одно дело — то, что Ди говорила своим друзьям. Но Дженюари не желала публиковать ложь. К тому же это может навредить Линде. Ее растерянность усилилась, когда Кит принялся ходить по комнате, фотографируя Дженюари со всевозможных ракурсов. Она повернулась к Линде. — Слушай, давай сосредоточимся на настоящем. Я не хочу, чтобы в статье упоминалась школа мисс Хэддон, Ди и Швейцария. Завтра я займусь поисками работы… пусть это будет отправной точкой. — Поисками работы? — засмеялась Линда. — Ты? Кит приблизился к Дженюари и снял крупным планом ее лицо. Дженюари вздрогнула. — Не обращай на меня внимание, — попросил он. — Продолжайте беседовать. Мне так легче снимать. — Если ты хочешь работать, — сказала Линда, — иди ко мне. — Сюда? Дженюари охватило беспокойство. Щелканье камеры действовало ей на нервы. — Конечно, твоя фамилия украсила бы список моих сотрудников. Ты могла бы стать младшим редактором. Но ты бы не была «шестеркой». Я бы платила тебе сто двадцать долларов в неделю за подготовку заметок. — Но я не умею писать! — Я тоже не умела, — отозвалась Линда. — Но научилась. А теперь мне не приходится этим заниматься. У меня есть много сотрудников с хорошим слогом. Ты будешь только организовывать интервью, встречаться с людьми, записывать беседы на магнитофон. Затем я поручу кому-то правку текста. — Но зачем тебе я? — Мне нужны твои возможности, Дженюари. Например, в прошлом году Сэмми Дэвис-младший был в городе, но мне не удалось выйти на него. Если бы ты работала у нас, звонок твоего отца снял бы проблему. Майк Уэйн хоть и отошел от дел, но у него остались связи с нужными нам людьми, до которых мы не в состоянии добраться сами. Сейчас мы хотим сделать журнал популярным среди светской молодежи. Ты бы могла вести ежемесячную колонку — рассказывать о людях из мира шоу-бизнеса. Твоя мачеха знакома с великой Карлой. Если бы нам удалось сделать статью о ней! — Карла не дает интервью, — напомнил Кит. — Верно, — согласилась Линда. — Но кто говорит об интервью? Если Дженюари встретит ее на одном из обедов, которые устраивает Ди, и запомнит какие-нибудь перлы, сорвавшиеся с красивых польских губ… — Дженюари, ты получишься хмурой на шести последних снимках, — сказал Кит. — Дай мне другое настроение. Дженюари встала и отошла от камеры. — Это невероятно… как вы оба действуете. Я пришла повидать старую подругу, а встреча закончилась интервью. Я говорю, что хочу работать, а мне предлагают стать Матой Хари. Никаких шансов, Линда! — Чем бы ты хотела заниматься? — спросила Линда. — Играть. — О, боже, — простонала Линда. — Есть опыт? — спросил Кит. — Честно говоря, нет. Но я всю жизнь смотрела и слушала, как это делают другие. А в Швейцарии много читала вслух. По два часа ежедневно. Шекспира… Марлоу… Шоу… Ибсена. Пока Дженюари говорила, Кит щелкал затвором камеры. — Пойдем сегодня со мной. Я познакомлю тебя с Милошем Докловым — у него всегда есть свежие замыслы. Он, возможно, знает кого-то, кто готовится к новой постановке и будет рад взглянуть на тебя. Ты поешь, танцуешь? — Нет, я… — Это отличная идея, — сказала Линда. — Кит, постарайся сделать несколько снимков Дженюари с этим Милошем. И несколько портретов на фоне Виллиджа. Кит начал закрывать фотокамеры, и Линда добавила: — Я свяжусь с тобой, Дженюари, через день или два. Отпечатаю письмо, которое просил твой отец, и сообщу тебе время вашей встречи с Сарой Куртц. Она посмотрела на Кита: — Я буду держать бифштекс на плите до восьми часов. Постарайся успеть. — Хорошо. Но я не обещаю, — сказал он. — Идем, актриса. Кит взял Дженюари за руку. — У тебя все впереди. Когда они вышли из здания, Кит сказал: — Ну, богачка, тебе предстоит передвигаться по городу, как это делают безработные актеры. — То есть? — На метро. Каждый платит за себя. Есть тридцать центов? — Да, конечно. Знаешь, я еще никогда не была в «подземке». Он засмеялся, ведя ее вниз по ступеням. — Ври больше, детка. Так я тебе и поверил. Она сидела возле Кита, борясь с подступающей тошнотой. Поезд, громыхая, мчался в центр города. Дженюари решила, что в бедности нет ничего романтичного и колоритного. От ее соседа, пожилого мужчины, дурно пахло. Женщина, сидевшая напротив Дженюари, держала между ног большую хозяйственную сумку и сосредоточенно ковыряла пальцем в носу. В вагоне было грязно, масса надписей и рисунков украшали его стены. Дженюари старалась не демонстрировать свое отвращение Киту, болтавшему под шум «подземки». Он чуть не сломал себе шею, встав на противоположное сиденье, чтобы сфотографировать Дженюари. Поезд дернулся, и Кит упал на пол. Камера улетела в дальний конец вагона. Дженюари вскочила, чтобы помочь Киту. К ее удивлению, никому не пришло в голову сделать это. Она испытала облегчение, когда они вышли из метро. Они миновали два квартала и оказались возле неказистого здания. Одолели пять пролетов лестницы. — Милош устроил себе офис на чердаке, — пояснил Кит. Они несколько раз останавливались, чтобы перевести дыхание, прежде чем оказались перед стальной дверью. Кит нажал кнопку звонка. — Входите, открыто, — прогремел чей-то мощный бас. Облик Милоша Доклова отнюдь не гармонировал с его голосом. Это был худой, неопрятный маленький человечек с длинными редкими волосами, прикрывавшими лишь часть блестящего черепа. Под ногтями у Милоша Доклова чернела грязь. Улыбнувшись, он обнажил гнилые зубы. — Привет, дружище. Кто эта крошка? — Дженюари Уэйн. Дженюари, это Милош Доклов. — Значит, ты все же вернулся к папочке, — сказал Милош Киту, не обращая внимания на Дженюари. Кит вытащил камеру и сфотографировал девушку, которая с нескрываемым изумлением рассматривала комнату. — Я не получил роль у Хола Принца, если ты имеешь в виду это, — отозвался Кит, разрывая зубами обертку новой фотопленки. — Детка… детка… Милош с кошачьим проворством вскочил на ноги. — Эта бродвейская клоака загубила бы твой потенциал. Освоившись здесь и поняв, что такое авангард, ты сможешь сезон поработать в традиционном театре и подкопить деньжат. Но всегда помни: настоящее искусство создается здесь. — Не набивай себе цену, Милош… я принимаю предложение. Милош грустно улыбнулся. — Ты мог исполнять эту роль с самого начала… получить блестящие отзывы прессы. Смотри, что произошло с Бакстером — его пригласили в «Пепел и джаз». Кит снова щелкнул камерой. — Это все равно не Бродвей. — Да, но ему светит «Оби». — Слушай, я же сказал, что беру эту роль. — Расстался с модной дамой? — Нет. — Тогда почему ты передумал? Мне казалось, что она была единственной причиной твоего отказа. Кит начал перезаряжать вторую камеру. Посмотрел на экспонометр. — Я надеялся на контракт с Холом Принцем. Хватит об этом. Когда состоится репетиция? — У нас будет всего два дня. Вероятно, понедельник и четверг на следующей неделе. Смотри спектакль каждый вечер — учи слова, движения. Не волнуйся! — О'кей, Милош. Кит сделал последний снимок. — Зачем ты фотографируешь ее? — Готовим очерк о леди. — Ты — фотомодель? — спросил Милош. — Нет, — сказал Кит, убирая камеру в сумку. — Она — актриса. Не знаешь, кому нужна девушка с такой внешностью? — Ты можешь играть? — спросил Милош. — Думаю, да. Я это чувствую, — ответила Дженюари. Милош потер подбородок. — Слушай, одна из Муз уходит вместе с Бакстером. Я собирался пригласить Лайзу Киландос. Там всего десяток фраз, а гонорар… ты — член «Эквити»? — Еще нет. — Отлично. Посмотри сегодня спектакль с Китом. Эту роль сейчас исполняет Ирма Дэвидсон. Он протянул Киту сценарий. — Учи слова, дружище. А ты, Дженюари, приходи завтра к четырем на пробу. Когда они вышли на улицу, она схватила Кита за плечо. — Он не пошутил? Возможно, я получу работу? Правда, это было бы чудом? Погода изменилась. Внезапно загремел гром. Кит посмотрел на небо. — Дождь будет сильным, но недолгим. Пойдем выпьем кофе. Он повел ее в маленький подвальчик. — Мы можем съесть здесь по бутерброду и убить время до начала спектакля. Нет смысла уезжать из центра. Тебе надо предупредить кого-то, что ты задержишься? Она позвонила в «Пьер». Отца не было дома, а Ди отдыхала. — Скажите им, что я не буду с ними обедать, — попросила девушка Сэди. — У меня свидание. Это было не совсем верно. Но Дженюари не хотелось пускаться в длинные объяснения. Она вернулась к столу. Дождь хлестал по тротуару. Они сидели в маленькой кабине и смотрели на мокрую серую улицу. Заказав гамбургеры, Кит еще несколько раз сфотографировал Дженюари. — Линда говорит, что ты — хороший фотограф, — сказала Дженюари. — Сносный. — Она утверждает, что ты мог бы стать одним из лучших. — Слушай, я бы охотнее согласился быть последним актером, чем первым фотографом в мире. Дженюари помолчала. Кит произнес: — Леди зарабатывает тридцать тысяч в год. Больше я не стану брать эти благотворительные задания! — Но она сказала, что ты очень хорош. — Да, но не с камерой. Дженюари поняла, что краснеет, и стала сосредоточенно поливать гамбургер соусом и сыпать приправу. Кит принялся рассказывать о своей карьере — о нескольких приличных ролях, сыгранных им в летних театрах… о роли в экспериментальном театре… о рекламных клипах… один ролик на ТВ дал ему средства к существованию на целый год. — Но эти деньги кончились… пособие по безработице — тоже… и у меня нет желания заткнуть за пояс Аведона и других. — Но ты бы мог учиться, — сказала Дженюари. Он посмотрел на нее. — Зачем? — Зачем? — Да. Зачем? Зачем гробить себя, пытаясь овладеть профессией, которая не приносит радости? Конечно, театр многих отвергает. Это все равно что получить отказ у девчонки, которая тебе нравится. Но ты продолжаешь добиваться своего — есть шанс, что, в конце концов, она скажет «да». Это лучше, чем ухаживать за девчонкой, которая тебя не заводит. Поняла? — Но тогда ты бы находился рядом с Линдой. Он посмотрел на чашку кофе. — Нет закона, по которому я не смогу быть с ней, став актером. — Но… я хочу сказать… актеры часто уезжают на гастроли. — Слышала о такой штуке — самоуважение? Мне нужно, чтобы человек, с которым я сплю, меня уважал. А чтобы он уважал меня, я должен сам себя уважать. Я знаю многих актеров, которые продаются… спят с мужчинами, чтобы получить роль… позволяют себя содержать… И знаешь что? Такие люди никогда не поднимаются высоко — в их душе что-то умирает. Дженюари помолчала. Внезапно Кит произнес: — А как насчет тебя? Что скажешь о себе? — Ты о чем? — Ты кого-то любишь? — Да. То есть нет. — Как это так — и да, и нет? — Ну, я люблю моего папу. Я это знаю. Но это же не роман, верно? — Надеюсь, что да. — Я встретила одного человека. Но когда я думаю о любви… Она покачала головой. — Я не знаю точно, что испытывает влюбленная девушка. Он мне нравится, но… — Ты не влюблена. Это мой случай. Я никогда не влюблялся. — Никогда? Он покачал головой. — Любовь для меня — это стоять на сцене и знать, что вся эта чертова аудитория пришла сюда лишь для того, чтобы увидеть мою персону. Это настоящий оргазм. А чувства к девушке… Он пожал плечами. — Это как хороший обед. Я люблю вкусную пищу… жизнь… новые ощущения. Кит замолчал. — Слушай… не делай круглые глаза. Линда свободна от иллюзий. Мы с ней вместе уже довольно давно, но она знает, что я могу уйти в любой момент. Если я так поступлю, то не ради любви к другой девушке. Ради нового опыта. Ради новой жизни, ясно? — Нет. — Ты меня обманываешь, да? Что тут неясного? Я влюблен в жизнь. Хочу взять от нее все. Линда же только делает вид, будто обожает жизнь. На самом деле это не так. Она живет ради своего журнала. Да, я ей нравлюсь. Но я не первый мужчина в ее жизни. Думаю, для Линды страшнее потерять отличный материал, чем парня. Понимаешь? — Дождь кончился, — сказала она. Он встал. — С тебя девяносто центов. Это значит, что мы оставляем тридцать центов чаевых — по пятнадцать с человека. О'кей? — О'кей. Улица была мокрой, с деревьев капало. Они молча прошли несколько кварталов. Дженюари ломала голову в поисках слов, способных настроить Кита более романтично в отношении Линды. Он казался таким холодным… Может быть, это только поза. Вероятно, Кит просто немного волнуется. Люди часто говорят не то, что думают, когда нервничают. Он весьма привлекателен; Линда, вероятно, действительно любит его. Возможно, получив роль, он изменится. Майк всегда говорил, что он становится гораздо спокойнее, когда дела идут хорошо. Внезапно снова пошел дождь. Кит схватил Дженюари за руку, и они побежали, прячась от капель под навесами и деревьями. Когда Кит остановился возле какого-то дома, они оба задыхались. — Это здесь. — Но… где же театр? — Иди за мной. Он повел ее через зал, где стояли дощатые столы с лимонадом и сухим арахисовым печеньем, заготовленными для антракта. За маленькой конторкой находилась девушка-билетерша. Она помахала рукой Киту. Они прошли мимо нее в длинную узкую комнату с рядами жестких кресел. Впереди была сцена без занавеса. Кит усадил Дженюари в третьем ряду. — Места для своих, — с усмешкой сказал он. — Это театр? — спросила она. — Раньше здесь был магазин. Но его превратили в театр. Уборные наверху. Милош устроил на третьем этаже ночлежку для бедствующих актеров. Они живут там бесплатно, когда у них нет работы. К восьми часам зал заполнился, и, на удивление Дженюари, все свободное пространство была заставлено дополнительными стульями. — Настоящий аншлаг, да? — спросила она. — Шоу имеет успех… о нем говорят. Я вижу много людей с Бродвея. Возможно, им заинтересуются продюсеры. Зал погрузился в полумрак. Все актеры вышли на сцену. Представляясь, они кланялись и уходили. Остались только три девушки. — Ты заменишь ту, что слева. Это греческий хор. Девушки были в серых комбинезонах. Они пропели несколько строк. Появился молодой человек, похожий на Кита. Он разразился гневной обличительной речью, смысл которой Дженюари едва поняла. Изредка вмешивался греческий хор: «Аминь, брат». На сцену вышла девушка. Разгорелся жаркий спор. Актеры сели и принялись сосредоточенно курить. Над площадкой повис искусственный дым. — Это эпизод с галлюцинациями, — пояснил Кит. — Они используют дымовую завесу. В этой сцене герои переносятся в мир грез. Когда дым рассеялся, исполнители двух главных ролей оказались обнаженными, греческий хор — тоже. Молодой актер стал по-настоящему заниматься любовью с девушкой. Сначала медленно… они точно танцевали… пение греческого хора сменилось музыкой, доносившейся из динамиков… актеры двигались быстрее… медленный танец сменился неистовой пляской, молодой человек запел, лаская груди актрисы и девушек из хора. Его партнерша тоже ласкала всех. Девушки начали поглаживать друг друга. Все запели: «Двигайся, трогай, чувствуй… Это любовь». Сцена погрузилась в темноту, в зале зажегся свет — действие завершилось. Дженюари поднялась с кресла: — Я ухожу. — Но после антракта начнется второе действие. Там будет большая сцена с твоим участием. Он засмеялся. — Ты должна произнести десять фраз. — В одежде или без? — спросила она. — Ты застенчива? Дженюари двинулась вдоль ряда кресел. Кит схватил ее за руку. — Нагота — это же естественно. Нас приучают прятать тело после рождения. Эта идея привнесена в наше сознание. Думаю, все началось с того момента, когда Ева вкусила яблоко. У ребенка есть половые органы… однако все обожают малышей с голыми попками. Наше тело есть выражение любви. Разве мы скрываем лица из-за того, что наши глаза излучают сигналы любви, а рот говорит о ней? Наши языки ласкают чьи-то губы… ты стесняешься своего языка? — Мы видим глазами и говорим посредством языка, — отозвалась она. — Да… писаем нашими членами и пиписками. Но еще занимаемся с их помощью любовью. Она вырвалась и побежала из театра. В холле толпились люди, они стояли в очереди за лимонадом. У входа были запаркованы лимузины. На улице Кит сжал плечо Дженюари. — О'кей, я тоже не горю желанием трахаться на сцене. Почему, думаешь, я не взялся сразу за эту роль? Я знал, что Линда взбесится. Но сегодня это нормально. Если меня не смущает нагота, то и акт не должен смущать. Это — обыкновенная функция организма. — Как и рвота, однако никто не станет платить деньги за то, чтобы посмотреть, как люди блюют! — Слушай, Дженюари, спектакль имеет успех. Это мой шанс. К тому же этим занимаются все. Знаменитые актеры снимаются обнаженными. Они неизбежно будут делать перед зрителями все — это вопрос времени. Если Кит не согласится, найдется другой человек. На сцене появляется Кит-актер. Я скорее соглашусь жить в ночлежке Милоша и играть в жестком порно, нежели сидеть в пентхаусе на Парк-авеню и щелкать фотоаппаратом. Они прошли половину квартала. Моросил мелкий дождь. Деревья отчасти защищали их от капель. Кит попытался улыбнуться. — Пойдем. Сейчас начнется второе действие. Давай вернемся. Она продолжала удаляться от театра. Кит на мгновение заколебался. Потом закричал: — Ну и иди. Беги домой. Возвращайся в свой «Пьер», к своему папе, которого содержит женщина. Я хотя бы пытаюсь что-то сделать! Если бы такие люди, как твой отец, не выбросили на ринг полотенце, нам бы не пришлось пачкаться в дерьме. Но парни вроде него отказываются экспериментировать и рисковать. Ну и черт с ними! И с тобой тоже! И с Линдой! Повернувшись, он побежал назад к театру. Дженюари замерла на мгновение. Сквозь его злость проступали слезы. Ей хотелось сказать Киту, что она понимает его… и не сердится. Но он уже исчез. Люди возвращались в театр. Начиналось второе действие. Внезапно Дженюари осталась одна на улице. Нигде не было видно такси. Она подошла к театру и посмотрела на номера лимузинов. Кое-где стояла буква "X", указывавшая на то, что машины взяты напрокат. Дженюари приблизилась к одному водителю. — Спектакль закончится только через час. Вы бы не могли… — Отвяжись, хиппи! Он включил радио. Лицо Дженюари вспыхнуло. Она порылась в сумочке, вытащила десятидолларовую купюру и подошла к другой машине. — Сэр… Дженюари показала деньги. — Вы не отвезете меня домой? Вы успеете вернуться до окончания спектакля. — Где ты живешь? Шофер уставился на банкноту. — В отеле «Пьер». Кивнув, он взял десять долларов и отпер дверь. — Садись. Выезжая из центра города, он спросил: — Что случилось? Поссорилась с приятелем илиспектакль не понравился? — И то, и другое. — Сюда идут посмотреть на голые груди. Там ведь это показывают? — Кое-что похлеще, — тихо сказала Дженюари. — Правда? Знаешь что? Я женат, у меня трое детей. Но когда-то я хотел стать артистом. До сих пор пою иногда на свадьбах друзей в Бронксе. Ирландские баллады. У меня отлично получаются песни Роджера и Хаммерстайна. Но больше такие вещи не сочиняют. Сейчас нет нового Синатры, Перри Комоса. Это были певцы… а моя дочь крутит какую-то ерунду Наконец они остановились возле «Пьера». Водитель подождал, пока Дженюари не скрылась в здании, затем автомобиль поехал назад. Девушка испытала облегчение, обнаружив, что квартира пуста. Она прошла в свою комнату и остановилась в темноте, делавшей обстановку менее реальной. Вспомнила о Линде, для которой журнал был символом ее личного успеха, олицетворял жизнь. Подумала о Ките, вернувшемся на этот ужасный спектакль… о водителе, когда-то мечтавшем стать артистом… об отце, сидящем, вероятно, в ресторане с Ди и ее друзьями. Дженюари стояла, не двигаясь. Куда все исчезло? Веселье и счастье, на которые она надеялась? Ради чего она упорно трудилась длинными снежными днями? Девушка включила свет. Спальня показалась ей такой пустой. Вся квартира была пустой. Она увидела розы на туалетном столике. Она вспомнила о Дэвиде — и внезапно грязный театр, весь вечер забылись. Есть еще мир чистых красивых людей. Бродвейские театры с изумительными декорациями и талантливыми актерами. Она попадет туда и заставит Майка гордиться ею… Дэвид станет гордиться знакомством с ней, как он гордится Ди и голландской фотомоделью. Потому что отныне она будет не новой падчерицей Ди и не просто дочерью Майка Уэйна. С этого момента она будет Дженюари Уэйн. Самостоятельной девушкой. (обратно)Глава шестая
Сэмми Тибет встретил ее тепло, радушно. Он спросил о Майке. Назвал его счастливчиком, которому удалось оставить крысиные гонки. Сказал, что такой красивой девушке, как Дженюари, следует найти приличного парня, выйти замуж и забыть о шоу-бизнесе. Но если она настаивает, он сделает все, что в его силах. Он повел Дженюари по коридору и представил ее энергичному молодому человеку, который сидел в своем кабинете за большим столом. У него был телефон с пятью кнопками. Каждый раз, когда одна из кнопок загоралась, замотанная секретарша, по возрасту годившаяся ему в бабушки, выглядывала из-за двери и произносила умоляющим тоном: «Мистер Коупленд, пожалуйста, снимите трубку. Это Западное побережье». Он с улыбкой бросал: «Не волнуйтесь, Рода», смотрел на Дженюари, нажимал кнопку и, источая голосом напор и силу, погружался в деловое обсуждение, насыщенное многозначными цифрами. Между этими звонками он организовал несколько встреч для Дженюари. Он сказал, что сейчас набираются актеры для двух спектаклей. Она слишком высока для роли инженю, но ей все же следует сходить на пробную читку. Может быть, вакансия дублерши свободна. Вторая постановка — мюзикл. Она поет? Нет… Все равно туда стоит заглянуть. Иногда режиссеры берут красивую девушку без голоса, и ее дублирует талантливая, но некрасивая певица. Если там не получится, расстраиваться не надо. Она познакомится с Мерриком. Он может вспомнить о ней, готовя следующую постановку. Мистер Коупленд дал Дженюари список продюсеров, которых ей следовало посетить, — «просто для знакомства». Он также договорился о том, что Дженюари примут в рекламном агентстве. Вообще-то реклама — не его профиль, но вчера он случайно встретил в «Пи Джи» режиссера, который ищет девушек с красивыми волосами. Когда Дженюари поблагодарила молодого человека, он величественно поднял руку. «Пустяки, милая. Меня попросил об этом Сэмми Тибет. Сэм — отличный парень. Поблагодари его. Он сказал, что твой отец и Дэвид Меррик когда-то нам здорово помогли. Надеюсь, ты сумеешь сделать так, чтобы старик мог тобой гордиться. В этом — одна из радостей успеха. Дать родителям смысл жизни. Заходи ко мне раз в неделю и оставь Роде свой телефон». Он снова взялся за свой аппарат с лампочками, а Дженюари продиктовала номер истеричной Роде. Она посетила всех людей, перечисленных энергичным молодым человеком. Прочитала вслух отрывок из роли. Поняла, что сделала это неважно. Ее отпустили со словами: «Большое спасибо». Добравшись на такси до рекламного агентства, прождала час в приемной вместе с тридцатью другими девушками. У всех претенденток волосы доходили до талии. Встретившись наконец с режиссером, она узнала, что речь идет о рекламе сигарет. Хорошие волосы должны были помочь в создании образа молодого, здорового курильщика. Ее волосы понравились; Дженюари предложили научиться курить в затяжку и прийти через два дня. Она купила пачку сигарет, вернулась в «Пьер» и, запершись в своей комнате, стала упражняться. После нескольких затяжек спальня поплыла. Лежа неподвижно на кровати, Дженюари чувствовала, что ее сейчас вытошнит. Но через некоторое время ей стало лучше, и она снова попыталась курить. На сей раз она едва успела добежать до ванны. Потом она вытянулась на кровати и подумала: «Почему людям нравится курить?» Ди и Майк пригласили ее на обед. Дженюари отказалась, сославшись на то, что утром у нее пробная читка и ей надо подучить текст. Она провела вечер, пытаясь затягиваться дымом и борясь с приступами тошноты. В одиннадцать вечера она уже стояла перед зеркалом, делая затяжку и умудряясь не испытывать головокружения. И тут, точно подводя черту под ее достижением, зазвонил телефон. Это был Дэвид. — Я уже собрался оставить сообщение. Не надеялся застать тебя дома. — Я училась затягиваться. — Что? — Курить сигареты взатяжку. — Какие сигареты? Она посмотрела на пачку. — «Истина». — О… почему? — Почему «Истина»? Просто мне понравилось название. — Нет, почему ты учишься затягиваться? Дженюари рассказала о предстоящих съемках рекламного ролика. Дэвид внимательно ее выслушал. — Постарайся не втягивать дым дальше горла. Внешний эффект будет тот же. Не стоит загрязнять легкие. После съемок выбрось сигареты. Она засмеялась: — Наверно, ты считаешь меня сумасшедшей, которая борется с тошнотой ради какой-то рекламы. — Нет, по-моему, ты — девушка с характером. Мне это в тебе нравится. — О… наверно, да. Она почувствовала, что ее голос прозвучал нетвердо. — Ты занята завтра вечером? — спросил Дэвид — Нет. — Пообедаешь со мной? Я поучу тебя курить. Может быть, даже пускать кольца. — Отлично. В какое время? — Я оставлю тебе сообщение днем. — Хорошо… до вечера, Дэвид. Утром она встала рано. Рода позвонила ей и сказала, что она должна прибыть на прослушивание к продюсеру в одиннадцать часов. Дженюари не на шутку разволновалась. Рода сообщила, что, по мнению мистера Коупленда, Дженюари создана для этой роли. Возможно, сегодня действительно ее день. Она запасется оптимизмом. Она получит роль. В конце концов, кому-то же она достанется. Почему бы не ей? И сегодня ее ждет встреча с Дэвидом. Одеваясь, Дженюари думала о вечере. Дэвид уже видел ее в цыганском наряде. Что надеть сегодня? Длинную замшевую юбку с сапогами? Или черные брюки и пиджак, которые она видела в «Моде»? Продавец на Третьей авеню назвал этот костюм сногсшибательным. Что ж, у нее еще целый день впереди на обдумывание этого вопроса. Хорошее настроение не покидало Дженюари, когда она ждала продюсера в многолюдной приемной. Но Кит был прав. Вакансий мало, а актеров — много. Актеров с опытом. Сидя, она слушала их беседы. Они говорили о пособиях, о страховке по безработице. Некоторые веселили соседей рассказами о том, как они работали натурщиками в студиях, где расписывают человеческие тела. Никакое занятие не унизительно, если оно позволяет актеру платить за квартиру, искать работу и учиться. Их мужество восхищало Дженюари. Никто не впадал в отчаяние из-за отказов. Все неудачи и разочарования воспринимались ими как естественная часть актерской профессии. Они могли порой голодать, но ходили на занятия. Все имели при себе фотографии с перечнем сыгранных ролей на обороте, а также еженедельники с датами и временами встреч, прослушиваний и уроков. Спустя два часа Дженюари наконец впустили к утомленному человеку, который посмотрел на нее и вздохнул: — Кто направил вас сюда? — Мистер Коупленд. Снова вздох. — Зачем Шелдон это делает? Я сказал ему вчера — мне нужна блондинка лет тридцати с усталым лицом. Он только отнял время у вас и у меня. О'кей, милая, желаю удачи в следующем месте. Он повернулся к секретарше. — Сколько еще ожидающих? Выходя из кабинета, Дженюари столкнулась в дверях с высокой рыжей девушкой. «Наверно, ее тоже послал сюда Шелдон», — подумала Дженюари. Он, вероятно, думал, что знакомство с продюсером пригодится в будущем. Она вышла на улицу. Порыв ветра занес соринку ей в глаз. Она стала тереть его и размазала тушь. Дженюари подняла руку, пытаясь остановить такси, но машина проехала мимо. Похоже, на всех такси висела табличка «Работа окончена». Она пошла пешком в сторону «Пьера». Майк был прав. Этот мир непохож на тот, сверкающий, который она видела во время уик-эндов, учась в школе мисс Хэддон. Она шагала по Бродвею. Приближался вечер. Проститутки в пышных париках занимали позиции на панели. Собака-поводырь вела слепого. Молодые японцы фотографировали улицу. Дженюари хотелось закричать: «Так было не всегда». Но, возможно, просто мир казался ей иным, когда она сидела в лимузине рядом с Майком. Сейчас, после двухдневных поисков работы, она вдруг осознала, что ей безразличен театр, если рядом нет Майка. В половине пятого Дженюари добралась до «Пьера». Она ляжет в ванну, смоет с себя все дневные разочарования и грязь. Она обретет свежесть и хорошее настроение для обеда с Дэвидом. Дженюари почувствовала себя лучше, вспомнив о предстоящей встрече. Она хотела побеседовать с Дэвидом в каком-нибудь тихом уютном месте, при свечах. Узнать побольше о Дэвиде. Ей казалось, что он способен понять ее смятение. Майк бы лишь сказал: «Я тебя предупреждал». Он оказался прав. Ее ждало сообщение. Она удивленно уставилась на него. Оно было от Дэвида. Он заедет за ней в пять тридцать. Почему в пять тридцать? Возможно, он собрался на коктейль. Да, скорее всего. Она поспешила в квартиру, быстро приняла душ и надела длинную юбку. Дэвид позвонил снизу, когда девушка красила губы. — Поднимайся, — сказала она. — Я не умею готовить мартини. Но здесь есть Марио. И Майк вернется с минуты на минуту. — Нет. Нам надо торопиться. Спускайся. Она схватила платок и спустилась к Дэвиду. Посмотрев на нее, он нахмурился. — Я дурак. Я должен был сказать тебе, чтобы ты надела джинсы. Она заметила, что на Дэвиде были старые вельветовые брюки, куртка и спортивная рубашка. Он взял ее за руку. — В «Баронете» идет отличный боевик. Мне редко удается посмотреть то, что я хочу. За билетами на эту картину всегда очередь. Я подумал, что мы попадем на шестичасовой сеанс. Перекусим позже. Вечер прошел неудачно. Она думала об этом, лежа в ванне. Дэвид был в восторге от фильма. Когда картина закончилась, они отправились в «Максвелл». Там было многолюдно, но Дэвид знал метрдотеля, и их тотчас усадили за маленький столик у стены. Дэвид также знал посетителей, сидевших за соседним столом. Он представил Дженюари, заказал гамбургеры и весь вечер проболтал со своими друзьями. В десять Дэвид и Дженюари покинули ресторан. — Ты поедешь ко мне домой? — спросил он. — Что? — Поехали ко мне. Он взял девушку за руку и проголосовал. — Почему тебе не зайти в «Пьер»? — сказала она. — Там могут быть Майк и Ди. Я бы чувствовал себя неловко, занимаясь с тобой любовью и зная, что они находятся в квартире. Такси остановилось, прежде чем она успела открыть рот, и Дэвид помог ей сесть. Подавшись вперед, он сообщил водителю свой адрес — Дэвид жил в районе Восточных Семидесятых улиц. — Дэвид, я не буду спать с тобой! — возмущенно сказала Дженюари и тихо добавила: — Пожалуйста, отвези меня домой. — Наши планы меняются, — обратился Дэвид к таксисту. — Едем в отель «Пьер». Он повернулся к Дженюари с натянутой улыбкой: — О'кей. Поговорим о более важных вещах. Как обстоят дела с рекламой? Ты получила эту работу? — Это станет известно завтра. Дэвид, не сердись. Но я… я не могу лечь в постель с человеком, которого почти не знаю. — Забудь, — тихо сказал он. — Я просто предложил тебе это, и все. — Ты мне нравишься. (Почему она извиняется? В конце концов, речь идет не о приглашении на танец.) — Хорошо, Дженюари. Я понимаю, — сухо произнес он. — Ты приехала. Когда он, проводив Дженюари до двери, поцеловал девушку в лоб, ей показалось, что ее ударили по лицу. Она легла в постель, включила приемник и настроила его на волну музыкальной станции. Дэвид ей нравился. То есть мог бы понравиться, если бы дал Дженюари шанс узнать его. Она хотела испытывать к нему симпатию, потому что вдруг испытала чувство одиночества. Когда зазвонил телефон, Дженюари показалось, что она только что заснула. — Я тебя разбудила? — бодро произнесла Линда. — Который час? — Половина восьмого… на улице двадцать градусов… уровень загазованности в пределах нормы… Я уже позанималась йогой в течение часа и сижу за столом. Дженюари включила лампу. — У меня зашторены окна. Здесь темно, как в полночь. — Дженюари, мне надо тебя увидеть. Это важно. Голос Линды по-прежнему звучал бодро, но в нем появились тревожные ноты. — Можешь надеть слаксы и прийти на завтрак ко мне? Я пошлю за едой. — Нет. У меня в девять встреча в агентстве Лэндиса. Поздравь меня. Я научилась курить. — Бросай, пока не втянулась. — О, я это делаю только для рекламного клипа. Хотя, должна признать, сигареты помогли мне скоротать вчерашний вечер. Когда ты смотришь в пространство перед собой, а твой спутник болтает с людьми, сидящими за соседним столиком… сигарета — лучший друг девушки. — Дженюари, я должна тебя увидеть. — По поводу статьи? Помолчав секунду, Линда сказала: — Конечно! Слушай, а обеденное время у тебя занято? — Нет. — Отлично… тогда приходи в редакцию к половине шестого. Мы посидим с Сарой Куртц и обсудим будущую статью. Затем отправимся к Луизе. Это неплохой итальянский ресторан, куда две дамы могут пойти, не опасаясь, что их примут за проституток. До встречи… Когда Дженюари вошла в кабинет, Линда заканчивала редакционное совещание. Она жестом предложила девушке сесть на диван. Линда сидела за столом. Редакторы и помощники располагались перед ней полукругом. — Вот, кажется, и все, что я могу сказать о наших планах в отношении февральского номера, — подвела черту Линда. Задвигав стульями, люди стали подниматься. Внезапно Линда сказала: — Кэрол, свяжись с Джоном Уэйтцем. Он обещал заказать зал в «Колони» и организовать вечеринку в день святого Валентина. Проверь, выполнил ли он мое поручение. Возможно, мы сделаем там заранее несколько снимков для февральского номера. Узнай, составил ли он список приглашенных… Понимаю, до двенадцатого февраля еще много времени, но ему уже пора определиться с именами десяти-двенадцати гостей. Она встала, давая понять, что совещание официально закончено. Тень усталой полуулыбки должна была намекать на то, что на настоящую улыбку у нее не осталось сил. Обведя глазами группу сотрудников, спешивших на свои рабочие места, Линда спросила: — Где Сара Куртц? — Говорит по телефону с Лондоном, — ответил молодой человек. — Она пытается найти доказательства того, что группа «Боу Белл Бойз» — не английского происхождения. — Это нелепо, — выпалила Линда. — Они — самая большая сенсация в Штатах со времен «Роллинг Стоунз». Молодой человек кивнул почти виновато. — Да, но Сара клянется, что видела их вокалиста в 1965 году в Кливленде — он якобы работал там диск-жокеем. Она уверяет, что он родом из Шейкер Хейтса. У Сары поразительная память на лица. — Ладно, пришли ее сюда. Она мне нужна. Сотрудники редакции покинули кабинет. Линда подошла к Дженюари и села на диван. — Это еще легкий день, — вздохнула она и посмотрела на Дженюари, которая закурила сигарету. — О, я вижу, тебя взяли сниматься в рекламном клипе. — Нет. Меня отвергли на самом последнем этапе отбора. Кажется, я отлично затягиваюсь… но над выдохом еще надо поработать. Линда, засмеявшись, вернулась к столу. Нажала кнопку переговорного устройства. — Скажи Саре Куртц — пусть она немедленно идет сюда. Я не могу ждать до вечера, пока она будет разыскивать корни своих комплексов. — Ты думаешь, парень действительно из Кливленда? Линда пожала плечами. — Сара питает слабость к диск-жокеям. Вероятно, этот тип когда-то послал ее к черту. И она не может успокоиться, не расквитавшись с ним. Да поможет ему господь, если он действительно из группы «Боу Белл Бойз». — Похоже, она — страшный человек. — Верно. В этом я с тобой согласна. Спустя несколько секунд невероятно высокая девушка, удивительно похожая на Крошку Тим, ворвалась в комнату. Линда представила Сару Куртц, которая чуть ссутулилась, пожимая руку Дженюари. Сара извлекла помятый блокнот из потертой джинсовой сумки и начала что-то писать. Она проявила особый интерес к тому, как пишется имя Дженюари. Удивилась, узнав, что имя совпадает с названием месяца. Задав еще несколько вопросов, поднялась и вышла из кабинета. — Она — настоящая стерва, — сказала Линда. — Кит говорит, что с ее ростом она могла бы играть за «Нью-Йорк Нике»; ее отец был хорошим журналистом, и она унаследовала его слог. Мы бережем Сару для наших «раздевающих» статей — она испытывает оргазм от такой работы. Я сказала ей, что эта публикация должна носить позитивный характер, поэтому у Сары такой печальный вид. — Почему она любит «раздевать» людей? — спросила Дженюари. — Как она может потом смотреть им в глаза? — Возможно, будь у тебя внешность Сары, ты бы тоже всех ненавидела. — Кажется, ты сказала, что быть некрасивым модно. — Да. Но не всякое уродство в моде. Сарино — определенно нет. Не беспокойся. Без твоего одобрения статья не пойдет в номер. Вот гарантийное письмо. Она протянула Дженюари конверт. — Скажи папе, пусть он не волнуется. Дженюари убрала письмо в сумочку. Линда пристально посмотрела на девушку. — Эй, ты что, расстроилась, упустив этот рекламный клип? — Конечно, нет. С чего ради? — В какой-то момент ты выглядела так, словно это для тебя конец жизни. Дженюари заставила себя улыбнуться. — Ерунда. У меня есть все основания быть счастливой. Я снова в Нью-Йорке… у моего папы замечательная жена… Я живу в красивой комнате, заново отделанной для меня. — Вранье! — Что? — Я говорю, вранье! Дженюари, кого ты пытаешься обмануть? Тебе неприятно жить там и видеть отца с Дидрой Милфорд Грейнджер. Дженюари пожала плечами. — Неправда. К тому же я редко их вижу. Но я действительно испытываю странное чувство, живя в «Пьере». Это ее квартира, я кажусь себе там посторонней. — Так уйди оттуда. — Отец возражает. — Слушай, если ты будешь пытаться угодить всем, то в конце концов разочаруешь всех. Дженюари погасила сигарету. — Проблема заключается в том, что я сама не знаю, чего я хочу. Наверно, это потому, что всю жизнь мечтала лишь об одном — всегда быть рядом с папой. И теперь, отправляясь на свидание, не знаю, что делать, как себя вести. Линда свистнула. — О, тебе срочно требуется психоаналитик. — Я устала от них в клинике. — Где? — О, Линда… это долгая история. Понимаешь, если ребенок растет без матери, отец становится для него самым главным человеком. Тем более, когда это такой человек, как Майк. — Я с тобой согласна, — сказала Линда. — Твой отец очень красив. Но Дэвид Милфорд тоже весьма привлекателен. Ронни Вулф сообщил в своей колонке, что ты была с Дэвидом в «Лотерее». Я не люблю эту среду. Но если ты принадлежишь к ней, Дэвид Милфорд — неплохой вариант. — Ди познакомила нас на обеде. Вчера мы еще раз встретились. Он пригласил меня к себе, но я отказалась. Расставаясь со мной у отеля, он даже не попытался поцеловать меня в губы на прощание. Линда встала. — Идем в «Луизу». Нам обеим не помешает выпить. Ресторан понравился Дженюари. Луиза оказалась приветливой, «домашней» женщиной, которая принесла им блюдо с куриной печенкой. Она поздравила Дженюари с возвращением в Нью-Йорк и сказала девушке, что она похожа на кинозвезду. Здесь царила семейная атмосфера, и Дженюари расслабилась. Она заказала себе бокал белого вина, а Линда попросила подать ей двойной мартини со льдом. Несколько секунд они посидели молча. Отпив мартини, Линда спросила: — Какое впечатление произвел на тебя Кит? — Он очень славный. — Ты видела его с тех пор? — Я? С чего ради? — Я — тоже, — выпалила Линда и сделала еще один глоток. — Пожалуйста, скажи мне правду. Он к тебе приставал? — Что? — Ну, предлагал тебе переспать с ним? — Конечно, нет! Мы смотрели спектакль и… — И что? — Мы расстались после первого действия. Они помолчали. — Слушай, Линда, может быть, я отстала от жизни. Но я была шокирована и… — Я ничего не имею против наготы, — заявила Линда. — Но… Она сделала паузу. — Что за чушь я несу? Похоже, мне уже успели промыть мозги, как Киту. Конечно, мы — раскрепощенное поколение. Тело прекрасно — так покажи его. Я была там вчера вечером. Кит сидел в зрительном зале. Он меня не видел. Но скажи мне — что красивого в том, что несколько безобразных людей трутся друг о друга на давно не мытой сцене? У актеров ноги черные от грязи. Отвратительное зрелище. И не думай, что господа в лимузинах приезжают туда ради встречи с искусством! Они хотят видеть голодных, унижающих себя актеров. Господи, актер за свою жизнь получает достаточно пинков… оставьте ему хоть что-то личное. Нет же, человеческое достоинство больше не существует. Разве что для провинциалов и мещан. Мы — новое поколение. Мы свободны… Семья — отживший институт, внебрачные дети в моде… — Но вчера ты сказала, что не веришь в брак. Линда покачала головой. — Я не знаю, во что я теперь верю. Слушай, у моей матери было четыре мужа, сейчас она пытается подцепить пятого. Отец имел трех жен. У меня семь сводных братьев и сестер, с которыми я едва знакома. Они все находятся в школах, подобных заведению мисс Хэддон. Но они рождены в законном браке, так что приличия соблюдены. По крайней мере, так полагает моя мать — это ей внушали с детства. Но наше поколение против брака — нас так воспитали. — Кто? — Люди, с которыми мы общаемся. Наши близкие. — Линда, ты же хочешь выйти замуж за Кита, да? — Вероятно. Но если бы он об этом узнал, я бы его потеряла. Боюсь, это уже произошло. — Но что случилось? — Он не вернулся домой в тот вечер. Позвонил и сказал, что хочет какое-то время пожить в этой грязной ночлежке и все обдумать. Ему известно, что я против его участия в этом спектакле. Находясь здесь, он не сказал мне, что это за пьеса. Если нагота важна для сюжета, если она дает ощущение реальности происходящего — черт с ней. Но то, что происходит в этом спектакле… Она покачала головой. — Я знаю, что действительно мучает Кита. То, что я зарабатываю тридцать пять тысяч в год, не считая рождественской премии, а он получает три с половиной тысячи, включая пособие по безработице. Для него я — олицетворение истеблишмента. Я запуталась. Я пыталась подлаживаться под него. Сидела с друзьями Кита. Пила пиво вместо мартини. Носила вместо слаксов брюки из дангери. Но нет закона, обязывающего меня жить, как свинья. Я плачу четыре сотни в месяц за мою квартиру. Она находится в приличном доме со швейцаром и лифтерами, который расположен в хорошем районе. Я прихожу каждое утро в мой офис до восьми часов и покидаю его иногда не раньше полуночи. Я заслужила право жить в комфортабельной квартире. Почему я должна все бросить и работать в какой-то андеграундной газете, где платят пятьдесят долларов за статью? — Он этого от тебя хочет? — Скажу одно — он постоянно высмеивает меня, «Блеск» и все статьи, темы которых я придумываю. Но восхищается своим знакомым, продающим порнографические стихи газетам с изображением члена на первой полосе. Кит утверждает, что его приятелю есть что сказать и он не ищет дешевой славы. Я устала от всех этих споров. Но я люблю его, он мне нужен. Я вовсе не заставляю Кита делать все по-моему… если бы мы могли найти компромисс! Я знаю, мы бы были счастливы. Я хочу этого. Боже, как я этого хочу! — Это, наверно, здорово — знать, чего ты хочешь, — сказала Дженюари. — А ты этого не знаешь? Разве тебе не дали четких ориентиров в этом швейцарском институте? Кстати, как он точно называется? Сара захочет хотя бы увидеть твой диплом. — Линда, я расскажу об этом… после обеда. Они пили кофе. Линда молча слушала рассказ Дженюари о клинике и о себе. Когда Дженюари закончила, Линда отхлебнула виски, на глазах у нее появились слезы. — Господи, — тихо произнесла она. — Ну и досталось же тебе. Три года жизни… три года ожидания того момента, когда ты вернешься к своему папе — мужчине из мечты. И узнать, что он женился… Дженюари удалось улыбнуться. — Ну, он ведь не бросил меня. Он мне не любовник. — Да? — Линда! — Послушай, Дженюари. Ты отказала тому очаровательному итальянцу, который помог тебе разбиться. Отвергла Дэвида Милфорда. Любой психиатр скажет, что во время второго свидания с Дэвидом ты пыталась охладить ваши отношения, потому что он понравился тебе слишком сильно. У тебя возникло чувство вины. Ты словно изменила отцу. — Это неверно. Посмотри, как он организовал свидание. Нашу первую встречу наедине. Без свечей и вина… без спокойной беседы… он появляется в половине шестого… звонит из вестибюля… не поднимается выпить. Мы мчимся за пять кварталов в кино. Он тащит меня в «Максвелл». Там все ходит ходуном… это не то место, куда следует пойти с девушкой, с которой хочешь поговорить и познакомиться получше. Затем он вдруг приглашает меня к себе домой. Линда задумалась. — Я с тобой согласна. Перед тем как лечь в постель, надо побеседовать. И если мужчина приглашает тебя к себе, то обычно он делает это с определенной целью. Другое дело, когда ты приглашаешь его в свою квартиру выпить перед сном. Ты остаешься хозяйкой положения, и если что-то происходит, то это выглядит незапланированным. Но ты не можешь пригласить Дэвида в «Пьер». Прежде всего, Дженюари, тебе следует подыскать себе собственную квартиру. — Я бы охотно это сделала, но… — Что «но»? Понимаешь ты это или нет, но ты испытываешь страдания каждый раз, видя отца с Ди. Это жестоко по отношению к тебе… и им. Поверь мне — у тебя не будет романа, пока ты не уедешь от отца. Что касается твоей карьеры в театре… тут не мне давать тебе советы… — Я — не Кит. Я поняла, что не достаточно серьезно отношусь к театру, — сказала Дженюари. — Но я хочу что-то делать. Участвовать в чем-то. Не желаю походить на мою мать. — Почему? В чем она провинилась, кроме того, что умерла, когда ты была маленькой? — Она… она сидела за кулисами… наблюдая своими большими карими глазами за проходящей мимо нее жизнью. Наблюдала… а Майк действовал! Я тоже хочу действовать! — Я же сказала — для тебя есть вакансия в «Блеске». — Я не хочу, чтобы меня брали на работу только из-за моей фамилии. — Дело не в ней. Я действительно загружу тебя. — Ты говоришь серьезно? Линда кивнула. — И что ужасного в том, что я попросила бы тебя связаться с нужными людьми или собрать материал? Я сама этим занимаюсь. Сестра моей матери замужем за профессиональным гольфистом. Я обратилась к ней, чтобы получить аккредитацию на серию турниров. Написала статью о том, как живут жены игроков. Сначала твой оклад будет не слишком велик. — У меня есть больше пятнадцати тысяч, — сказала Дженюари. — И ты права — я уеду из «Пьера». — Слушай, — Линда щелкнула пальцами, — в моем доме живет холостяк. Эдгар Бейли. По-моему, он гомик. Он преподает в Колумбийском университете. Собирается в академические каникулы на год в Европу. Он недавно спрашивал меня, не нужна ли квартира кому-нибудь из моих знакомых. Там одна комната типа студии. Хочешь, я узнаю цену? Дженюари посмотрела на часы. — Сейчас еще только девять. Позвони ему. Может быть, мы заглянем туда. Эдгар Бейли был очарован Дженюари. Его привело в восторг ее имя. Он показал ей большой встроенный шкаф, кладовку, огромный диван-кровать и кухню с окном. Он сказал, что платит сто семьдесят пять долларов в месяц, но со своей мебелью просит двести семьдесят пять. — Послушайте, мистер Бейли, — вмешалась Линда. — Вы платите сто тридцать девять долларов в месяц. Я узнала это у домовладельца. Дженюари будет платить вам двести двадцать пять — большего квартира не стоит. Из мебели тут нет ничего приличного. Этому дивану уже больше десяти лет. Он на мгновение поджал губы, потом вытащил бутылку шерри и три рюмки. — За мою новую жиличку. Я знаю, что мог бы получить больше, но мне приятно сознавать, что за моим домом будет присматривать такая прелестная девушка. Линда подняла рюмку. — А я знаю, что вам надо уезжать через десять дней и вы уже занервничали. Дженюари подняла рюмку и улыбнулась. — За ваше путешествие, мистер Бейли. И за тебя, Линда. Линда покачала головой. — Нет, эту рюмку пьем за тебя. За мисс Дженюари. (обратно)Глава седьмая
Дженюари, опираясь на подушки, сидела на кровати, заваленной старыми выпусками «Блеска». Она работала над своим первым заданием — статьей под названием «Завтрак КТЖ». Аббревиатура КТЖ означала — Красивые Тонкие Женщины. Ей не удалось связаться с Бейби Пейли и Ли Радзивилл. Но Ди позволила процитировать ее слова: «Кто встает с постели до ленча! Завтракают только дети». Дженюари также записала сентенции на эту тему, высказанные тощей поэтессой, худой начинающей актрисой и писательницей — воинствующей феминисткой. Девушка пыталась выйти на Бесс Мейерсон и Барбару Уолтермс. Когда завтракает Барбара Уолтермс — до или после передачи «Сегодня»? Поймать таких людей было нелегким делом, требовавшим времени. Дженюари тщательно изучила массу статей из ведущих журналов и заметила, что публикации, привлекшие ее внимание, уже первой фразой интриговали читателя. Она сочинила с десяток завязок, но ни одна из них ей не нравилась. Конечно, Линда собиралась отдать материал одной из «переписчиц», но Дженюари хотела удивить ее, написав статью самостоятельно. Работа в редакции позволила Дженюари осознать себя независимой личностью. Маленькая кабинка без окон была кабинетом девушки. Квартира мистера Бейли — ее домом. Она платила за жилье деньгами, которые сама зарабатывала. Первые три недели дались Дженюари нелегко. Но это были первые три недели самостоятельной жизни. Она сама принимала решения. Особенно тяжелой была первая неделя. Дженюари едва заставила себя сообщить новость Майку и Ди. Глаза Ди сердито сузились, но не успела она возразить девушке, как вмешался Майк. — Я подозревал, что ты захочешь снять себе квартиру. Многие девушки так поступают. Если ты действительно этого хочешь… ты имеешь на это право. Ди настояла на том, что они осмотрят квартиру, прежде чем Дженюари подпишет договор. Эдгар Бейли остолбенел, когда Дидра переступила порог его жилища. — О, мисс Грейнджер… то есть миссис Уэйн… я понятия не имел, что Дженюари — ваша дочь. Дженюари поняла, что он едва не упал в обморок из-за того, что согласился на двадцать пять долларов в месяц. — Здесь что, только одна комната? — спросила Ди. — Но она такая просторная, — сказал Эдгар Бейли. — Я рад, что среди моих вещей, у меня дома, будет жить такая девушка, как Дженюари. Ди прошла мимо него, раздвинула шторы и застонала. — Боже, Дженюари, окно выходит во двор. — Точнее, в сад, — робко уточнил Эдгар Бейли. — Только одна комната и мало солнечного света. Наверно, таковы вкусы нынешнего поколения, — вздохнула Ди. — Эти апартаменты — для бродяг. Эдгар Бейли оживился. — Миссис Уэйн, это очень хороший дом. Ди только отмахнулась. — Ну, мы можем сделать интерьер более радостным. Убрать эти ужасные шторы… сменить ковер… купить новые подушки на диван… — Миссис Уэйн… Судя по дрожащему голосу, Эдгар Бейли был близок к истерике. — Тут нельзя ничего менять. Эти шторы были сделаны специально для меня… Но Ди уже удалилась на кухню. Дженюари проследовала за ней, поспешив успокоить мистера Бейли обещанием оставить все в нынешнем виде и сказав, что ей очень нравятся его расшитые цветами занавески. Она подписала договор поднайма и переехала первого октября. Дэвид прислал ей драцену в горшочке. Мистер Бейли оставил букет так и не распустившихся роз и короткую записку с пожеланием удачи. Линда подарила ей блокнот из «Бергдорфа» с выгравированным именем и адресом Дженюари. В пять часов Майк принес бутылку шампанского. Они охладили его и выпили, потом Майк, улыбаясь, осмотрел квартиру. — Знаешь что? По-моему, это отлично. Ты всю жизнь жила с людьми. В школе, в больнице. Пора побыть наедине с собой. Ди заехала за ним в семь. Они отправились на вернисаж. Ди прихватила с собой корзинку с деликатесами. — Это тебе пригодится… тут несколько банок копченых устриц… не хмурься. Дэвид их обожает. Просто положишь устрицы на эти маленькие импортные крекеры. Еще Дэвид любит то, что я называю крысиным сыром. Порежешь его кубиками и воткнешь в них зубочистки — Дэвид будет счастлив. Кстати, как дела у вас двоих? — Он прислал этот цветок, — ответила Дженюари. Ди улыбнулась. — Мы с Майком слетаем ненадолго в Европу. Я приму участие в лондонском турнире по триктраку. Мы скоро вернемся. Нам очень жаль, что ты останешься в этой мрачной маленькой квартире и будешь работать. Я могу до отъезда сделать для тебя что-нибудь, кроме признания в том, что я не завтракаю? Дженюари заколебалась. — Карла… сейчас в городе? — Почему ты спрашиваешь? — Я бы хотела взять у нее интервью. Ди сухо засмеялась. — Она никогда не дает интервью. Не потому, что подражает Гарбо либо Говарду Хьюзу. Просто она — глупая полька. О, Дженюари, только не говори мне, что все нации равны по уму. Я знаю Карлу, она действительно глупа. Она не читает книг. Никогда не голосует. Ее не интересует ничто, кроме личного комфорта. Да, она в городе. Звонила мне вчера. Честно говоря, я была слишком занята, чтобы встретиться с ней. У Карлы есть некоторые странности. Она не ест ленч на людях. Собираясь на обед, требует представить ей заранее список гостей. Это смешно. Можно подумать, что она — Нуреев или принцесса Грейс. Карла — всего лишь бывшая актриса, которая по каким-то необъяснимым причинам до сих пор пользуется вниманием прессы. Прощай интервью с Карлой. Дженюари поблагодарила в записке Дэвида за цветок. Позвонив, он сообщил, что уезжает из Нью-Йорка по делам на несколько дней. Обещал по возвращении тотчас связаться с ней по телефону. С тех пор прошло десять дней. Она обедала с Линдой или с кем-нибудь из девушек в редакции. С удовольствием возвращалась домой, чтобы поработать над статьей и почитать. Купила портативную пишущую машинку и научилась печатать двумя пальцами. Линда периодически виделась с Китом, но он не вернулся к ней по-настоящему. Он проводил большую часть времени в ее квартире, но держал свои вещи в «коммуне». — Мне кажется, что он приходит ко мне, потому что ему нравится мой душ, — призналась Линда. — Мы снова вместе… но все не так, как прежде. Она отказывалась смотреть спектакли авангардистского театра, но вместе с Китом стала уделять большое внимание своему физическому состоянию. Натуральная пища, двадцать разных витаминов, принимаемых ежедневно, плюс витаминные уколы, которые дважды в неделю делал доктор, — Кит называл его гением. Похоже, инъекции действовали неплохо: Линда, всегда излучавшая энтузиазм и энергию, сейчас казалась просто сгустком электричества. Она, похоже, вовсе обходилась без сна. Могла, позвонив Дженюари в три часа утра, закричать в трубку: «Эй, только не говори мне, что ты спишь! По девятому каналу идет потрясающий фильм с Богартом». Майк сообщил открыткой, что Ди вышла в финал. Было нечто противоестественное в том, что Майк, величайший игрок, стоит возле жены и смотрит, как она бросает кость. Сейчас, сидя в своей кровати и сочиняя первый абзац, Дженюари задумалась. Можно ли написать интересную статью без сарказма и яда? Дженюари смотрела на высказывание фотомодели с простоватым лицом, которая только что снялась в своем первом (и последнем) фильме. Ее роль была урезана до минимума из-за плохой игры, но девушка не жаловалась. «О, ко мне относились просто чудесно. Давали на завтрак бычью печень — я никогда не была такой тонкой». Боже, как обыграла бы подобные слова Сара Куртц! Вздохнув, она подошла к пишущей машинке. Даже заявление Ди казалось фальшивым. Однако когда она произносила эти слова небрежным, ленивым тоном, они звучали забавно. Дженюари заправила в машинку чистый лист бумаги и попыталась придумать новое начало. Возможно, если она напишет, что фотомодель страдает анемией и вынуждена есть печенку… или так: «Сохранять свою красоту Дидре Уэйн помогает…» Нет. Она вырвала лист из машинки. Можно придумать гораздо лучшее начало. Она вставляла новый лист, когда зазвонил телефон. Все в комнате задрожало. Она забыла убавить громкость. Возможно, Линда хочет излить восторг от картины Богарта. Дженюари не поверила своим ушам, услышав знакомый голос: — Привет, детка! — Папа! Ты где? — В «Пи Джи Кларк». — Что? — Мы недавно спустились с самолета, и мне ужасно захотелось мяса с перцем. Прямо из аэропорта приехали сюда. Присоединишься к нам? Я пришлю за тобой машину. — О, я бы сделала это с радостью. Но я не одета и работаю над статьей, которую надо сделать до конца недели. — Ты сама ее пишешь? — Да. По-моему, получается. — Это отлично. Мне пора возвращаться к Ди. Она заняла третье место и получила пятнадцать тысяч долларов. Как насчет ленча завтра утром? Только ты и я. Он пытался перекричать шум ресторана. — С удовольствием, Майк. — Подумай, куда ты хочешь пойти. Позвоню тебе в редакцию в полдень. О, одну секунду. Сюда идет Ди. Наверно, она хочет поздороваться с тобой. — Дженюари… — в трубку прозвучал бодрый голос Ди. — Поздравляю! Я восхищена, — сказала Дженюари. — О, мы чудно провели время. Ты приедешь сюда? — Нет. Я сказала Майку… Я завалена работой. Ди засмеялась: — Деловая девушка. Майк… Ди заговорила в сторону: — Тебе лучше вернуться к нашему столику, не то его могут занять. Закажи себе мясо с перцем, а мне — салат из шпината. Дженюари, ты еще здесь? — Да, и у меня разыгрался аппетит. — Тут сегодня столпотворение. Все почему-то уставились на дверь. Наверно, кто-то пришел. Возможно, Онассис и Джеки. Скажи мне, Дженюари. Тебе нравится твоя жизнь деловой девушки? — Я наслаждаюсь ею, Ди. Мне кажется, я могу писать… немного. — Это чудесно, и… Внезапно голос Ди пропал. Одновременно Дженюари услышала в трубке шум, доносившийся из зала «Пи Джи» — Ди… вы еще здесь? — Да… — В голосе Ди звучало напряжение. — С вами все в порядке? — Да… Скажи мне, Дженюари, когда ты последний раз виделась с Дэвидом? — Ну, я… — Тут массовые волнения — он только что вошел в ресторан с моей старой подругой Карлой. — Карла в «Пи Джи»? — Да, она иногда выкидывает такое — появляется там, где ее не ждут, — небрежным тоном произнесла Ди. — Но ты не бойся, дорогая. Карла для тебя не соперница. — Я и не боюсь. Дэвид произвел на Меня впечатление. — Ладно, возвращайся к своим делам, ангел. Я обо всем позабочусь. Теперь, когда я вернулась, мне понадобится всего несколько дней, чтобы навести тут порядок. Почему бы нам не устроить ленч… в воскресенье… около часа дня? Дженюари положила трубку. Ее не задело то, что Дэвид был с Карлой. Но почему он не позвонил, вернувшись в город? Она снова села за машинку, но не смогла сосредоточиться на статье. Встала и пошла на кухню за кока-колой. Увидела лейку, которую она купила, чтобы поливать драцену, подаренную Дэвидом. Она уже поливала растение утром. Цветочник сказал ей, что драцену следует поливать два раза в неделю. Дженюари наполнила лейку. Возвратившись в гостиную, вылила воду в горшок с цветком. — Захлебнись, негодяй, — сказала Дженюари. — Захлебнись! Захлебнись! Выйдя из телефонной будки, Ди сумела как бы случайно столкнуться с Дэвидом и Карлой, шедших к маленькому столику, расположенному в глубине зала. — Карла, это невероятно. Ты решилась прийти в «Пи Джи», — легкомысленным тоном произнесла Ди. Карла улыбнулась. — В кинотеатре, что находится неподалеку отсюда, идет «Красная туфелька». Я видела эту картину много раз, и она всегда меня завораживает. Сегодня прекрасный вечер, мне захотелось прогуляться. Потом я почувствовала, что голодна. Карла, повернувшись, посмотрела на Майка, который отошел от столика и приблизился к Ди. — А это — твой новый красавец муж? — Да, а вы — та леди, с которой я давно хотел познакомиться, — сказал Майк. Карла протянула ему руку. — Видите, как легко это сделать. — Как долго ты пробудешь в городе? — спросила Ди. Карла пожала своими широкими плечами. — В этом прелесть отсутствия работы. Я нахожусь там, где хочу, и столько, сколько хочу. — Дней через десять мы открываем дом в Палм-Бич. Если ты захочешь приехать в гости, я отдам тебе, как прежде, восточное крыло. Карла улыбнулась. — Прекрасно. Возможно, я и правда… если не поеду кататься на лыжах в Гстаад. Кто знает? Десять дней — большой срок. Сейчас я способна думать только о своем желудке и еде. Она повернулась к Майку. — Рада была с вами познакомиться. Улыбнувшись, она в сопровождении Дэвида направилась к столу. Ди села рядом с Майком и поискала в сумочке сигареты. — Майк, я не хочу влезать в чужие дела, но тебе не кажется, что Дженюари оттолкнула Дэвида? Он улыбнулся: — С Карлой трудно конкурировать. — Ерунда. Она по возрасту годится ему в матери. Ди вздохнула. — А я думала, что Дэвид потеряет голову из-за Дженюари. Они прекрасно смотрятся вдвоем. — Ди, я давно понял, что если по внешним даннымактер подходит для какой-то роли, это вовсе не означает, что он сумеет ее сыграть. — Но Дженюари должна дать ему надежду. В конце концов, она не ребенок. Через несколько месяцев ей исполнится двадцать один год. Майк рассмеялся: — Это еще не зрелость. К тому же современные девушки не спешат с замужеством. Половина из них не верит в брак. — Дженюари не относится к числу современных девушек. Она застряла на полпути между двумя мирами. Изолированным, который она покинула… и новым, куда не может войти. Если она по-настоящему влюбится, а потом отношения сложатся неудачно, она может сойти с ума. — Она не сойдет с ума. Мне кажется, она прекрасно адаптируется. Дженюари нашла работу, квартиру. Чего еще желать? Она здесь чуть больше месяца. Слушай, нельзя преподносить людей, точно рождественский подарок. Это справедливо в отношении их обоих. Он посмотрел в конец зала. — Карла — восхитительная женщина. — Она — глупая неотесанная крестьянка. Майк покачал головой. — Вы, дамы, меня поражаете. Она гостила у тебя в Марбелле, была на твоей яхте, ты только что позвала ее в Палм-Бич… — Дорогой, у меня всегда кто-то гостит. Приятно иметь в доме знаменитость. К тому же мне ее жалко. Она действительно одинокая заблудшая душа. Майк засмеялся. — Что показалось тебе забавным? — спросила Ди. — Вы, женщины, интересно расходуете свою жалость. Ты беспокоишься о Дженюари, об одинокой заблудшей Карле. Слушай, моя дочь найдет себя. Что касается Карлы, она вовсе не одинока. Нетрудно понять, что находит Дэвид в ее обществе. — Правда? — сухо произнесла Ди. — Тогда объясни, что ты нашел во мне, пожилой некрасивой женщине. Он похлопал ее по руке. — Дорогая, я перепробовал самых знаменитых красоток Голливуда. Ты — нечто особенное. Вопрос в другом… почему ты выбрала меня? — Потому что… — Ее глаза смотрели куда-то вдаль. — Почему? — Потому что я полюбила тебя, — серьезно произнесла она. — О, я знаю, мы могли быть вместе без брака. Но это дурной тон. Я вовсе не консервативна. Сегодня человека называют архаичным, если он придерживается хоть каких-то норм. Если у тебя есть деньги, ты должен это скрывать. Если ты живешь в роскошном доме — ты совершаешь преступление. Но что плохого в том, что человек обладает просторной недвижимостью? Я круглый год содержу большой штат прислуги. Даю людям работу. Пилоты моих самолетов имеют семьи. Я должна предоставить их детям возможность пойти в колледж. Капитан моей яхты и все члены команды получают зарплату пятьдесят две недели в году. Устраивая большие приемы в Палм-Бич, я обеспечиваю работой поставщиков провизии, музыкантов, дизайнеров… Я обожаю элегантные туалеты… люблю смотреть на хорошо одетых людей. Мне нравится сидеть за изящно сервированным столом с красивыми людьми. Я ненавижу это заведение и подобные ему, хотя оно считается модным. И когда я вижу входящую сюда Карлу, я понимаю, что это для нее не обычный вечер с Дэвидом. Даже такая женщина, как Карла, может быть одинока. Жить одной — небольшая радость. Дэвид может дать Карле развлечения, секс, приятное общество — все то, что я желаю твоей дочери. Майк бросил взгляд на Карлу. Дэвид что-то шептал ей на ухо. — Похоже, Дэвид сам знает, что ему нужно. Ди посмотрела прямо перед собой — Все зависит от Дженюари. — Правда? — О, Майк, неужели ты не знаешь, что женщина способна заставить мужчину разделить ее взгляды, считать их своими? — Действительно? — Я уверена, ты полагаешь, что завоевал меня, — сказал Ди. — Если это не так, значит, я напрасно истратил массу денег в Марбелле. — Раскрою тебе один секрет. Я решила выйти за тебя замуж во время второго вечера, который мы провели вместе. Но я хотела, чтобы ты проделал все, как полагается. Майк засмеялся и жестом попросил счет. — Я до сих пор не понимаю, почему мне так повезло. Перегнувшись через стол, он взял ее руки. — Почему, Ди? Почему ты выбрала меня? Их глаза встретились. — Потому что я хотела тебя. Я всегда стараюсь получить то, что хочу.В час дня Дэвид прибыл в «Берег басков». Ди позвонила ему в десять утра. — Дэвид, дорогой, я хочу увидеть тебя. Как насчет ленча сегодня? Остаток утра он испытывал симптомы язвенной болезни. Они сидели за банкетным столом. Дэвид вежливо расспрашивал Ди о турнире по триктраку, о Лондоне, о новых спектаклях, которые она посмотрела в Уэстэнде. На лице Дэвида была натянутая улыбка, он словно ждал порки. Но когда они съели ленч и Ди заговорила о нынешнем состоянии биржи, он закурил сигарету и успокоился. Может быть, ей просто было не с кем пойти в ресторан. Может быть, его страх был вызван чувством собственной вины. Он просил счет. Еще несколько минут, и все будет кончено. Он выйдет через эту дверь на солнечную улицу. Она нанесла удар, когда он подписывал счет. — Дэвид… что у тебя с Карлой? Его рука не дрогнула. (Два доллара метрдотелю… четыре — официанту.) Дэвид почувствовал, как пульсирует жилка на шее. Интересно, заметила ли это Ди? Он затратил больше времени, чем это было необходимо, на то, чтобы убрать ручку. Дэвид заговорил нарочито легкомысленным, небрежным тоном. — С ней забавно общаться… Мы много смеемся. — О, не сочиняй, мой дорогой мальчик. Карла — ужасная зануда. Ди покачала головой. — Я понимаю тебя, когда ты встречаешься с этой прелестной голландкой — кажется, ее зовут Ким, — несмотря на то что она ходит в «Лотерею» в прозрачной блузке. Ей хотя бы есть что демонстрировать. Но когда молодого человека видят с пожилой женщиной… люди начинают сплетничать. — О…. что они говорят? — Что она содержит его, что он импотент и играет роль ее эскорта — или что он гомосексуалист. Ди улыбалась почти печально. — Думаю, я могла бы и не перечислять все то, что мы говорим о других людях. — Это чушь, — сказал он. — Ты знаешь, что это чушь, и я это знаю. Но люди… — Мы развлекаемся вдвоем, и все. Ей нравится общаться со мной, — упрямо заявил Дэвид. Ди весело засмеялась, но ее глаза были холодны. — Не смеши меня. Она не способна наслаждаться общением. Но может проявлять интерес к молодому человеку, которого, по ее мнению, ждет большое наследство. Ди раскрыла портсигар и подождала, пока Дэвид торопливо зажигал спичку. Она медленно затянулась и посмотрела на сигарету. — Мне действительно следует бросить курить… Я слышала, у Нины Креополис эмфизема… да, кстати, какого ты мнения о фирме «Беккер, Нейман и Бойд»? — Это солидная юридическая контора. Почему ты спрашиваешь? — Я собираюсь воспользоваться ее услугами. Хочу оформить новое завещание. — Почему? Мне казалось, папа неплохо обслуживает тебя. Я говорю так не потому, что он мой отец… но фирма «Беккер, Нейман и Бойд» не идет ни в какое сравнение с папиной. — Ты предубежден, дорогой. Она похлопала его по руке. — Но мне это нравится. Господь ведает, как я предана семье. Но мне нужно мнение специалистов со стороны. Это изменение моего завещания — не такое, как прежние. Мне требуется совет по очень сложному вопросу. В конце концов, у меня есть муж и падчерица. Я люблю их, Дэвид. По-настоящему. Я должна позаботиться об их интересах. — Конечно. — (О боже, его голос дрогнул. Теперь она знает, что он испугался.) Дэвид повернулся к Ди, придав лицу самое очаровательное, молодое и серьезное выражение, на какое он был способен. — Ди, тебе известно, что ты разобьешь папе сердце, обратившись в другую фирму. — А твое сердце будет разбито, если я воспользуюсь услугами другой брокерской конторы? Он даже не попытался ответить. Дрожащей рукой зажег сигарету. Игра в кошки-мышки закончилась. Мышка попалась в лапы кошки, которая принялась мучить ее. Ди подалась вперед и поцеловала его в щеку. — Пока что я ничего не предпринимаю. Только думаю. Он проводил Ди до машины, и она сделала вид, будто не заметила, как ее сфотографировал репортер из «Женской одежды». Она подставила Дэвиду щеку для поцелуя и сказала: — Я получила удовольствие от ленча, Дэвид. Хорошо, что мы вот так поддерживаем связь. Я хочу, чтобы мои родные были счастливы… чтобы семья не распадалась. Он проводил ее взглядом. Автомобиль исчез в транспортном потоке. Дэвид направился к ближайшей телефонной будке и позвонил Дженюари. (обратно)
Глава восьмая
Когда Дженюари пришла в «Пьер» на воскресный ленч, Майк готовил «Кровавую Мэри». Она уже видела отца, но это была ее первая встреча с Ди после их возвращения из Лондона. Ди отложила номер «Тайме» с кроссвордом и подставила щеку Дженюари. — Сама не знаю, почему я ломаю голову над этой ерундой, — сказала Дидра. — Начала вчера вечером и заснула. И разгадав полностью кроссворд, нечем гордиться. Я знала скучнейших людей, которые делали это мгновенно. Конечно, большинство пользовалось словарем. Но это обман. Ну… садись и расскажи нам о своей работе. Ты получаешь от нее удовольствие? — Да. Мою статью взяли. Я ужасно рада. Конечно, ее отредактируют — я слаба в пунктуации, — но Линда и другие редакторы одобрили мой материал. Думаю, он и вам понравится. Ди улыбнулась: — Надеюсь, ты не настолько серьезно относишься к своей работе, чтобы пренебрегать из-за нее светской жизнью. — Да, я встаю каждое утро в семь. И редко ухожу из редакции раньше семи вечера. — Это рабский труд, — сказала Ди. — Ты похудела, — заметил Майк, протягивая бокал дочери. — Наверняка забываешь поесть. — О, я не голодаю. Вчера вечером я съела грандиозный обед… с вишневым пирогом. Я была с Дэвидом. На лице Ди появился лишь вежливый интерес. — И как поживает мой красивый молодой кузен? — Хорошо. Мы ходили в «Сент-Реджис» смотреть Веронику. — Веронику? Она еще выступает со своей жалкой имитацией Эдит Пиаф? — спросила Ди. Дженюари пожала плечами. — Я никогда прежде ее не видела. У Вероники превосходный номер. С нею выступают три русских танцовщика. Молодые люди. И одному из них сделали операцию по изменению пола. Он был девушкой, а стал мужчиной. — Послушай, Дженюари… В голосе Ди прозвучал мягкий укор. — Не стоит пересказывать грязные сплетни подобного рода. Я знаю, твой журнал обожает их смаковать, но… — Вы правы. Я бы хотела написать о превращении Нины в Никласа. Вчера я сделала для этого все! — Не говори мне, что ты беседовала с этим существом! — Конечно. Наверху, в «люксе» у Вероники. Ди поставила свой бокал. — Но как ты туда попала? Дэвид знаком с Вероникой? — Нет… она — подруга Карлы. — Карлы! — повысила тон Ди. — Да. Понимаете, Дэвид заказал столик на двоих, и он оказался расположенным за колонной. К нам подошел молодой грек. Представившись, он сказал, что сидит со своим другом и Карлой. Она предложила нам присоединиться к их компании. У нее был чудесный стол в нише, откуда прекрасно видна сцена. Карла так красива. Я засмотрелась на нее и едва не пропустила Нину-Никласа. После шоу Карла повела нас к Веронике. Там был Нина-Никлас. Она… он… говорит об этом без стеснения. Линда обещала повысить мой оклад, если я возьму у него интервью для «Блеска». Но Нина-Никлас сказал, что многие журналисты просили об интервью… даже предлагали заплатить. — Я думаю, тут надо сыграть на тщеславии. Пообещай ему или ей, что ведущий фотограф сделает цветной фотоочерк и отдаст снимки и негативы. Предложи Нине-Никласу костюм от Кардена… существует много способов соблазнить человека. Дженюари вздохнула: — Наш бюджет это не позволяет. — Дженюари, — вмешалась Ди, — скажи мне, что было после шоу? — Мы выпили в «люксе» у Вероники и… Сэди, войдя в комнату, сообщила, что ленч готов. Они прошли в столовую. Подавал еду Марио. Майк настоял на том, чтобы Дженюари взяла себе сосиски. — Они пойдут тебе на пользу. Ты слишком худая. Ди добродушно улыбнулась и произнесла: — Ты рассказывала нам о Веронике. — А… да… Дженюари проглотила кусочек сосиски. — Мы словно перенеслись в другую страну. Все говорили с разными акцентами. Вероника — с французским, Карла — с каким-то восточноевропейским, Нина-Никлас — с русским, двое молодых людей — с греческим. Поэтому мы пользовались французским. Меня это устраивало. Только бедный Дэвид не понимал ни слова. — Куда вы отправились потом? — спросила Ди. — Никуда. Карла ушла с греками, а Дэвид отвез меня домой, потому что в девять утра он играет в сквош. Ди мгновение помолчала. Воткнула вилку в яйцо, потом отложила ее в сторону. — Я так возмущена, что не могу есть. — Что случилось? Майк продолжал намазывать масло на тост. — Дэвид избавился от твоей дочери до полуночи, чтобы поехать с Карлой в Уэстпорт. — Почему ты так считаешь? — спросил Майк. — Я вчера говорила с Карлой. Она сказала мне, что уезжает вечером в Уэстпорт на последний уик-энд перед наступлением холодов. Неужели тебе не ясно… все было запланировано заранее. Карла никогда не ужинает в клубе. Она вообще никуда не ходит. Конечно, она знает Веронику… но однажды отказалась пойти даже на прием в честь Нуреева, которым действительно восхищается, из-за нелюбви к скоплению людей. Но поскольку Дэвид чувствовал, что он должен встретиться с Дженюари, они обо всем договорились между собой. Нашли способ одним выстрелом убить двух зайцев. Карла встретилась со своей старой приятельницей Вероникой, а Дэвид вывел в свет Дженюари. Затем девушку бросили, а эта парочка укатила в Уэстпорт. Мышцы на лице Майка напряглись, но он продолжал есть. — Если Дэвид решил куда-то уехать на уик-энд, это его личное дело. — Он сделал дуру из твоей дочери ради женщины, вдвое превосходящей ее по возрасту. Майк оттолкнул от себя тарелку. Его голос прозвучал тихо и ровно. — Ди, я полагаю, ты должна предоставить людям право самим решать за себя и жить, как они хотят. Дженюари захотелось куда-нибудь исчезнуть. Ди рассердилась не на шутку; челюсть Майка окаменела. Пытаясь разрядить атмосферу, девушка сказала: — Слушайте меня оба… я чудесно провела время. У нас с Дэвидом прекрасные отношения, и… — Тогда почему ты позволила этой польке увести его у тебя из-под носа? — спросила Ди. Дженюари сжала пальцами стол так сильно, что костяшки побелели. Она получила удовольствие, проведя вечер с Дэвидом… он был ласков и внимателен. А теперь Ди все портила. Ей, Дженюари, и в голову бы не пришло, что Карла и Дэвид провернули этот трюк намеренно. Дэвид искренне удивился, увидев Карлу, и актриса была предельно внимательна к девушке. Она поинтересовалась работой Дженюари и разрешила ей написать в статье, что каждое утро на завтрак ест овсяную кашу. Теперь в голове Дженюари зародились сомнения. Не влюблен ли он на самом деле в Карлу? Эта мысль посетила Дженюари, когда она заметила напряженность, возникшую между Ди и Майком. Внезапно девушка поняла, что хочет уйти отсюда. Ей и так было крайне неприятно узнать, что Дэвид встретился с ней из вежливости. Но стать причиной ссоры между Майком и Ди! Они говорили о ней, как об отсутствующем человеке. Кем она стала в глазах Майка? Полным ничтожеством! Гнев ее отца заставил Ди отступить. Губы миссис Уэйн дрожали, но она попыталась улыбнуться. В голосе Ди зазвучала мольба. — Майк… я все делаю ради нее. Разве не о ней ты думал в первую очередь, когда женился на мне? Разве ты не говорил мне, что Дженюари должна иметь все, потому что она прошла через тяжкие испытания? Потеряла много времени? — Это не значит, что ты имеешь право распоряжаться ее жизнью, заставлять встречаться с парнем, у которого другие планы. — О, боже. Дэвид сказал мне, что Дженюари — одна из самых красивых девушек, каких он видел. Она вздохнула. — Может быть, я перестаралась. Пока что все мои усилия ни к чему хорошему не приводят. Я подготовила для Дженюари прекрасную спальню, а она убежала из нее. Я запланировала для нас всех отдых в Палм-Бич. Решила послать самолет за Дженюари и Дэвидом. Встретить рождество в семейном кругу. Хотела, как много лет назад, устроить на Новый год большой бал. Пригласить Питера Дучина, мэра Линдси, Ленни, Рекса… всех интересных людей. Я надеялась, что к тому времени Дженюари и Дэвид объявят о помолвке… — Все чудесно, — сказал Майк. — Но, может быть, Дженюари хочет чего-то другого. — Откуда ей знать, чего она хочет? — холодным тоном произнесла Ди. — Ей еще следует объяснять, что она должна желать себе. — Три года ее учили ходить и разговаривать, — повысил голос Майк. — Отныне она сама себе хозяйка. Ди прищурилась. — Отлично! Путь она работает в этом жалком журнале. Пусть живет в дрянном доме. Я больше ничего не делаю. Почему я должна разбиваться в лепешку, коль вы оба такие неблагодарные? Вы даже не умеете наслаждаться комфортом. Пусть она замерзает этой зимой в Нью-Йорке. Я не собираюсь умолять ее, чтобы она приехала в Палм-Бич. — Может быть, я тоже не поеду в Палм-Бич, — заявил Майк. — Правда? — вкрадчиво произнесла Ди. — Скажи мне, Майк, как же ты поступишь? Съедешь отсюда? Найдешь большую квартиру для себя и дочери? Поставишь на Бродвее хит? Сколотишь для Дженюари состояние с помощью блестящих спектаклей? Желаю удачи. Зачем мне утруждать себя попытками выдать ее замуж? Ты можешь преподнести ей мир. Действуй! Поставь шоу… сделай фильм… воплоти в жизнь ее мечты. Дженюари увидела, что лицо отца побелело. Она встала из-за стола. — Майк… ты уже превратил мои мечты в реальность. Ты можешь больше ничего не делать. Я — взрослая девушка. Мне нравится моя работа в редакции. Отныне я буду сама реализовывать мои мечты. Я с радостью приеду на рождество в Палм-Бич. С нетерпением жду этого времени. Ди… честное слово… я ценю все, что вы сделали. Мне понравилась комната, которую вы мне предложили. Просто я… хочу обрести самостоятельность. Дэвид — славный молодой человек. Один из самых приятных людей, с кем я встречалась… и вы не должны ссориться из-за меня. Она замолчала. Они сидели, не двигаясь, и смотрели друг на друга. Дженюари отошла от стола. — Мне пора идти. Я обещала Линде помочь в составлении списка новых статей для журнала. Она поцеловала отца. Ей показалось, что щека Майка стала каменной. Дженюари выбежала из квартиры. Майк не проводил ее взглядом. Застыв от ярости, он смотрел на Ди. Когда Майк заговорил, его голос был тихим и сдержанным. — Ты только что унизила меня в присутствии моей дочери. Ди нервно засмеялась. — О, прекрати, Майк… не будем ссориться. Мы никогда этим не занимались. — И никогда не будем впредь! Она подошла к нему, обняла. Ее голос был шелковым, но в глазах затаился страх. — Майк, ты знаешь, что я люблю тебя… Он оттолкнул ее, встал из-за стола и направился в спальню. Ди побежала за ним. — Я собираю вещи. Через час меня здесь не будет. — Майк! Она схватила его руку — он вытаскивал чемодан из шкафа. Майк освободился, тряхнув рукой. — Майк, — взмолилась она. — Прости меня… пожалуйста… не уходи! Пожалуйста, не уходи! Он замер, с любопытством посмотрел на нее. — Скажи мне кое-что, Ди… почему ты вышла за меня? — Потому что я люблю тебя. Она обхватила его руками за шею. — О, Майк… это наша первая ссора, и виновата в ней я. Прости меня. Пожалуйста, ангел. Мы не должны ругаться. Это произошло из-за твоей дочери. Он оттолкнул ее, но она снова бросилась к нему. — Майк, у меня никогда не было ребенка… я, вероятно, иногда теряю чувство меры из-за моего стремления относиться к Дженюари так, словно она — моя дочь. Я, наверно, поступаю неправильно… говорю не то, что следует… утомляю ее своей чрезмерной опекой… так же я вела себя с Дэвидом. У меня нет родных братьев и сестер… он мне вроде сына. И теперь с Дженюари… я перегнула палку. Только из-за того, что хочу видеть ее счастливой. Нелепо ссориться из-за этого. Мы оба говорим не то, что думаем. Я рассердилась на Карлу и Дэвида… не на тебя. Ее паника усилилась — он продолжал бросать вещи в чемодан. — Майк… не надо… пожалуйста! Я люблю тебя. Чем я могу доказать это? Я позвоню Дженюари и извинюсь перед ней. Сделаю все! Он замер. Посмотрел на нее. — Все? — Да. — О'кей. Я никогда у тебя ничего не просил. Даже подписал добрачное соглашение. В случае развода я не получу и цента. Верно? — Я порву эту бумагу, — сказала она. — Нет, сохрани ее. Мне не нужно ни гроша. Прекрати говорить о своей любви к Дженюари. О том, как ты озабочена ее будущим. Пусть место слов займут деньги! — Что ты имеешь в виду? — Я хочу знать, что если однажды я умру, наблюдая за тем, как ты играешь в триктрак, мою дочь будет ждать состояние. — Обещаю. Я сделаю это завтра. Выделю ей миллион долларов в виде доверительной собственности. Он уставился на нее жесткими глазами. — Это мелочь. — Сколько ты хочешь? — Десять миллионов. Поколебавшись мгновение, она медленно кивнула. — Хорошо… обещаю. Десять миллионов. Он слегка улыбнулся. — И оставь в покое Дэвида. Это приказ. Если у него есть чувства к Карле, пусть их роман закончится сам по себе, без твоего вмешательства. Но в любом случае я не позволю подсовывать ему Дженюари. Запомни это! — Обещаю. — И больше не подыскивай ей нелепую работу. Черт возьми, она старается изо всех сил. У нее есть честолюбие. Потеряв его, человек уже ни на что не способен. — Я обещаю, Майк. Она обняла его и поцеловала в шею. — Прошу тебя… улыбнись. Не сердись на меня. — Ты перестанешь вмешиваться в ее жизнь? — Я никогда не упомяну имя твоей дочери при Дэвиде. — И ты дала слово положить на ее счет десять миллионов. Она кивнула. Он посмотрел на Ди, потом поднял жену на руки и бросил на кровать. — О'кей. Теперь загладим нашу первую ссору в постели.Дэвид прибыл в клуб «Ракета» за пять минут до назначенного часа. В голосе отца, звучала тревога, сулившая неприятности. Именно сейчас, когда все шло так хорошо. Он обычно не любил понедельники, но сегодня проснулся с таким чувством, будто ему принадлежит весь мир. Его свидание с Дженюари в «Сент-Реджисе» прошло гладко. Она поверила в случайность их встречи с Карлой. Даже обрадовалась, увидев Карлу. Девушка не заподозрила, что в полночь он отправился с Карлой в Уэстпорт. Даже сейчас он ликовал, вспоминая свою проделку. Дэвид впервые провел с Карлой целую ночь. Он испытал потрясение, увидев ее утром на кухне готовящей ему завтрак с ветчиной и яйцами. Это были лучшие двадцать четыре часа в его жизни. Она сняла у подруги загородный домик; их уединение было полным. Коттедж окружали угодья площадью в два с половиной гектара. Даже погода стала их союзником. Это был один из тех осенних дней, которые обычно воспеваются поэтами. Для Дэвида осень всегда означала приближение зимы. Ранние сумерки; мокрая от дождя Уолл-стрит; ветер с пылью и отсутствие такси на улице. Но осень в Уэстпорте радовала багрянцем листьев, хрустевших под ногами, чистым воздухом и полной изоляцией от внешнего мира. Понедельник выдался хорошим. Город также встретил их отличной погодой. Даже нью-йоркский воздух казался менее загрязненным, чем обычно. Усредненная котировка акций на бирже поднялась на три пункта. В три часа Карла сообщила Дэвиду по телефону, что он может пойти с ней к Борису Гростоффу. Это означало, что Дэвид допущен в узкий круг ее друзей. Борис был любимым режиссером Карлы, его маленькие интимные обеды были в числе немногих светских мероприятий, в которых участвовала Карла. Он увидел вошедшего отца и встал, чтобы поздороваться с ним. Джордж Милфорд подождал, когда подадут напитки. Затем заговорил, не тратя времени на пустую болтовню. — Как выглядит Дженюари Уэйн? Вопрос удивил Дэвида. — Дженюари? Почему ты… Она очень красива. — Правда? Отец, похоже, изумился. В задумчивости отпил виски. — Тогда почему Ди так волнуется о ней? — Не понимаю, сэр. — Она приехала утром в мой офис, чтобы переписать завещание. Похоже, теперь ее главная забота — это выдать падчерицу замуж. Я решил, что дочь Майка Уэйна, вероятно, дурнушка. Дэвид покачал головой. — Она — одна из самых красивых девушек, каких я видел. Его отец сунул руку в карман и вытащил оттуда тонкий кожаный блокнот. — Я выписал некоторые изменения, которые она намерена внести в завещание. Сейчас готовится новый текст. — Они затрагивают меня? — Еще как. Ты больше не являешься ее душеприказчиком. Кровь прилила к лицу Дэвида. — Она меня выбросила! — Я тоже пострадал. Наша контора назначается теперь исполнителем завещания совместно с Нейлом Беккером из фирмы «Беккер, Нейман и Бойд». Но у тебя остался шанс, мой мальчик, — там есть оговорка: если Дэвид Милфорд до смерти Дидры Уэйн женится на девушке, чья личность получит одобрение завещателя, то он станет единоличным душеприказчиком и председателем фонда. — Стерва, — тихо промолвил Дэвид. — Это еще не все, — продолжил отец. — Дженюари получит миллион долларов, когда выйдет замуж, и еще десять миллионов будут положены на ее имя в форме доверительной собственности; они перейдут к ней в случае смерти отца или Ди. — Я не могу в это поверить, — сказал Дэвид. — Я — тоже, — произнес его отец. — Конечно, это распоряжение может быть отозвано. Ди всегда может изменить его. Странно, что это не пришло в голову Майку Уэйну. Очевидно, он не имеет опыта по части завещаний. Его доверчивость вызывает у меня улыбку — я-то знаю Ди. Но пока что, по-моему, она оправдана — Ди, похоже, действительно любит этого человека. Поразительная щедрость Ди послужит надежным залогом того, что Майк не уйдет от нее. Ясно одно — в этом браке командует Майк Уйэн. Странно, что он ничего не просит для себя. Только это невероятное наследство для дочери. Поэтому-то я и подумал, что у девушки нет шансов выйти замуж без денег. Дэвид нахмурился. — Она с самого начала стала подсовывать мне Дженюари. Ди хочет, чтобы девушка вышла замуж и скрылась из виду. Думаю, Ди впервые в жизни по-настоящему влюбилась. Она любит быть хозяйкой положения, чувствовать свою силу. Но у нее нет власти над Майком — разве что через его дочь. — И она решила, что, выдав ее за тебя, она заслужит благодарность Майка? — Нет. Думаю, она хочет выдать Дженюари замуж, чтобы не делить с нею любовь Майка. — Дэвид, господь с тобой, о чем ты говоришь? — Я не берусь утверждать с определенностью, — медленно произнес Дэвид. — Но еще в первый вечер я несколько раз заметил, как они смотрят друг на друга — Дженюари и ее отец. В их взглядах была какая-то интимность… это не близость отца и дочери. Я был кавалером Дженюари и чувствовал, что он — мой соперник. Ди, очевидно, ощущает то же самое. — Но почему она отказалась от твоих услуг в качестве своего душеприказчика? Дэвид улыбнулся: — Она хочет, чтобы я устранил ее соперницу. Она ставит мне условие… — Господи. У тебя есть шанс? Ты понравился девушке? — Не знаю. Я встречался с нею. Но… — Ты не хочешь пригласить ее к нам на обед? — Позволь мне действовать моими методами. Он вздохнул: — Наверно, ради десяти миллионов долларов мужчины жертвовали и большим. — Чем жертвуешь ты? — спросил его отец. — Карлой. Отец Дэвида изумленно уставился на сына. — Господи! Я восхищался ею, находясь в твоем возрасте. Не пропускал ни одного ее фильма. Мечтал о ней двадцать пять лет назад… Но сейчас… боже мой… она — ровесница твоей матери. — Карле только пятьдесят два. — Твоей маме пятьдесят исполнится лишь в феврале. — Находясь с Карлой, я забываю о ее возрасте. И я не собираюсь жениться на ней. Послушай, папа… Я знаю, что когда-то это должно кончиться. Я проснусь и внезапно почувствую, что мне надоело есть бифштекс у нее на кухне. Ходить с Карлой на фильмы, которые ненавижу. И тогда я брошусь к Дженюари Уэйн с такой скоростью, что установлю рекорд в беге на пятьдесят метров. — Ты полагаешь, она будет тебя дожидаться? Дэвид вздохнул: — Я стараюсь поддерживать контакт с ней. Но сейчас я не в силах порвать с Карлой. — Как много людей знают о твоем романе с ней? — Никто. Она почти не выходит в свет. Сегодняшний вечер — редкое исключение. Я сопровождаю ее на обед к одному режиссеру. — Именно такую репутацию ты приобретешь, если эта связь продлится. Эскорт бывшей кинозвезды. Отец Дэвида подался вперед: — Дженюари не удовлетворит то, что ты всего лишь поддерживаешь контакт с ней. Пока ты занят с Карлой, она встретит другого парня, который устроит Ди. Допустим, брокера из конкурирующей конторы. Скажи — эта женщина, Карла, доверит тебе свои деньги? Позволит распоряжаться ее состоянием? Дэвид покачал головой: — Она имеет репутацию исключительно скупого и осторожного человека. Его отец кивнул: — Значит, она не представляет интереса для твоей брокерской фирмы. Дэвид кивнул: — Я тебя понял. Я предвижу, что, если я не начну всерьез ухаживать за крошкой Дженюари, следующим шагом кузины Ди будет смена брокерской конторы. Отец поднял бокал: — Поторопись, сын. Поторопись. (обратно)
Глава девятая
На площадке для танцев в «Клубе» было тесно. Дэвид, прижимая Дженюари к себе, медленно двигался с девушкой по залу. Он только что пообедал с ней в «Мистрале». Несколько раз брал ее руку и с радостью отмечал, что она реагирует на его пожатие. Меньше чем через неделю Ди и Майк отправятся в Палм-Бич. Дэвид решил добиться того, чтобы Дженюари сообщила Ди об удивительном повороте в их отношениях. После отъезда будет гораздо труднее держать Ди в курсе того, сколько замечательных вечеров молодые люди провели вместе. Она должна знать, что он делает все от него зависящее. Конечно, многое зависело от реакции Дженюари. Он должен по-настоящему влюбить ее в себя. Она — не Ким Ворен. Для Ким он был не только хорошим партнером по сексу. Он мог обеспечить ее будущее и дать положение в обществе. Дженюари не нуждалась ни в том, ни в другом. Он должен здорово ублажить ее в постели. Если в этой области полный порядок, остальное — не проблема. Он забывал о Ким на десять дней, и она все равно была рада его звонку. Время — вот все, что ему требуется. Он сказал Карле, что Ди заставляет его периодически выводить Дженюари в свет. Карла отнеслась к этому с пониманием. Он пережил неприятный момент, намекнув ей, что ему, возможно, придется поехать на рождество в Палм-Бич. Карла сказала: — Да, Ди пригласила и меня. На мгновение он запаниковал. С этой ситуацией ему не справиться. В присутствии Карлы он терял голову. Ди и Дженюари это тотчас бы заметили. — Ты поедешь? — Нет. Рождество — не мой праздник. Я так и не привыкла к нему, хоть и стала американской гражданкой. Это очень американский праздник — как Четвертое июля. Но позже он отметил в ее поведении легкое беспокойство. Когда она заговаривала о Европе, а последнее время Карла делала это довольно часто, его охватывали недобрые предчувствия. В глубине души он понимал, что его может спасти лишь внезапное исчезновение Карлы с лица земли. Он осознал, что его чувство к ней не иссякнет само собой. Иногда он даже мечтал о ее смерти. Если бы она пропала безвозвратно, он смог бы начать жить собственной жизнью. Даже сейчас, держа в своих объятиях эту красивую девушку, он думал о Карле. Это было… болезнью. Прежде он всегда управлял своими чувствами. Ни одна женщина не имела над ним власти. Его самые бурные увлечения длились не больше нескольких недель… в этом и заключалась прелесть нового романа, но, в конце концов, он всегда одерживал верх, женщина хотела его больше, чем он ее, и он остывал к ней. Но с Карлой этого не происходило. И не произойдет, знал Дэвид. Он должен стать для Дженюари всем. Заставить ее хотеть его, нуждаться в нем, ждать встреч. Ему потребуется еще некоторое время. Он посмотрел на нее и улыбнулся. Она была по-настоящему красива, возможно, даже более красива, чем Ким. Если он сегодня совершит попытку… не спугнет ли он ее? Не спугнет ли? Уже ноябрь. Они знакомы почти два месяца. Ким легла с ним в постель в первый вечер. Карла — на следующий день. Он запланировал событие на сегодняшний вечер. Даже купил пластинки с ее любимой музыкой. Внезапно он слегка занервничал. Он давно не добивался близости с девушкой. Они всегда бегали за ним! Он почувствовал, что не знает, как ему следует себя вести. Возможно, он потерял практику. Или дело в том, что Дженюари была повыше классом обычных светских девушек. Она не клала ему руку на бедро под столом и не говорила: «Давай поедем домой и займемся любовью». Он вздрогнул, сосредоточиваясь. Она задала ему какой-то вопрос. — Я слышала, в кассе их не достать, но если тебе это сложно, Кит Уинтерс — это друг Линды — знает актера из «Волос», который может дать нам контрамарки. «Волосы»! Господи, он еще в первый день их знакомства обещал сводить ее на спектакль. Дэвид улыбнулся. — Я куплю билеты на следующей неделе. Нашу контору обслуживает хороший агент. Не беспокойся. Он должен поставить с ней точку над i… сегодня вечером. К моменту отъезда в Палм-Бич их отношения должны обрести определенность. Отец сказал, что новое завещание Ди оформлено и подписано в присутствии свидетелей. Конечно, если он женится на Дженюари или они хотя бы обручатся, все, вероятно, изменится. Он с тревогой осознал опасность промедления. Взяв девушку за руку, увел ее с площадки для танцев. — Здесь невозможно говорить, — сказал Дэвид. — Нам почему-то никогда не удается побеседовать. Мы всегда на людях. Он помог ей сесть. Она сказала: — Мы можем пойти к Луизе. Дэвид засмеялся: — Нет. Мы с барменом — футбольные фанаты. Все кончится обсуждением последнего матча. Слушай, почему бы нам не отправиться ко мне домой? У меня есть пластинки с твоими любимыми записями. Много Синатры и Элла. Мы будем пить шампанское и вдоволь наговоримся. К его удивлению, она легко согласилась. Он подписал счет и повел девушку из зала. Несколько знакомых Дэвида посмотрели на нее, выражая взглядами одобрение. Еще бы! Она была очень красива. Высокая, стройная, молодая — да, молодая! Он должен перестать думать о Карле. Иначе сегодня окажется не на высоте. Ему, конечно, придется заочно выдержать серьезную конкуренцию. За годы учебы в Швейцарии у нее, разумеется, было немало опытных любовников-европейцев. И до колледжа, вероятно, тоже. Девушка, которая росла возле Майка Уэйна, должна быть искушенной в любви. Она без промедления обзавелась своей квартирой. И эта претенциозная компания из редакции, в которой она вращается… подобное общество напоминало ему клубок червей, — в конце концов, выходило так, что каждый переспал со всеми остальными. Да, он трахнет ее сегодня. Затем, наверное, сумеет устроить так, чтобы они встречались два-три раза в неделю. И, возможно, к весне они неофициально обручатся. Но он будет тянуть с бракосочетанием как можно дольше… Хотя почему, черт возьми? Карле наплевать на его будущее. Дженюари — вот его будущее! Решено. Но прежде всего… Сегодня он должен показать класс. Он сохранит Карлу. Главное — не терять рассудка. Дженюари сидела возле него в такси, ехавшем по Парк-авеню. Она знала, что Дэвид попытается овладеть ею. Она позволит ему сделать это. Она испытывала любопытство. Была уверена в том, что, когда окажется в его объятиях, произойдет чудо. Между ними проскочит искра… и, может быть, она по-настоящему влюбится. Он нравится ей, и Линда уверяла, что, когда они станут любовниками, все изменится. Линда изумилась, узнав, что Дженюари — девушка. Судя по взглядам других сотрудниц редакции, девственностью не стоило гордиться. Это было все равно, как если бы тебя никто не приглашал танцевать. Дженюари провела свое тайное исследование: в «Блеске» все, кроме нее, имели сексуальный опыт. Исключение, возможно, составлял тридцатилетний театральный критик: он говорил с немецким акцентом, всегда появлялся на людях с восемнадцатилетней спутницей, но Линда намекнула, что он — онанист. Сама Линда спала теперь с художественным редактором. Кит уже неделю не звонил ей. Как выразилась Линда, она испытывала потребность ощущать присутствие возле себя человеческого тела. Такси остановилось на Семьдесят третьей улице. Когда они оказались возле квартиры, Дэвид, немного нервничая, принялся вставлять ключи в скважины замков. Наконец он впустил девушку в прихожую и зажег свет. Она сняла пальто и огляделась. Гостиная была красивой; там стояли камин и множество динамиков. Дверь спальни была приоткрыта… о, господи! Круглая кровать и красные обои на стенах. Пародия на бордель. Он включил стереопроигрыватель, и комната наполнилась бархатным голосом Нэта Кинга Коула. Дэвид подошел к бару и торжествующе поднял над головой бутылку «Дома Периньона». — Узнав, что это твое любимое шампанское, я на следующий же день купил бутылку. Она ждала тебя с тех пор. Он занялся пробкой. — Я не был уверен, что сегодня ты окажешься у меня, поэтому не охладил его — мы добавим лед. Он поднес ей бокал. — Ну, как тебе моя квартира? Нет, не отвечай. Я знаю. Гостиная — в стиле Парк-авеню, а спальня — декорации к фантазиям молодого человека. Он замолчал, вспомнив, что Карла никогда не была у него дома и что самые чудесные его грезы воплощались в пустой спальне актрисы на простой узкой кровати из клена. Он прогнал из головы мысли о Карле и заставил себя улыбнуться. — Знаешь, я рос в типичной мальчишеской спальне, обставленной моей матерью. Вымпелы на стенах, двухъярусная кровать до двенадцати лет, хотя я был единственным ребенком, и вторую койку использовали, лишь когда у нас гостил мой кузен. Он подвел ее к дивану, и они сели. Сейчас Нэт Кинг Коул пел нежно и вкрадчиво: «Дорогая, я без ума от тебя». Дженюари посмотрела на бутылку. «Дом Периньон» — шампанское для самых важных событий. Она сделала глоток. Черт возьми, это особый случай, не так ли? Она станет женщиной! Она снова отхлебнула шампанское из широкого старомодного бокала, который наполнил Дэвид. Он сам пил из небольшого бокала. Она испытала чувство разочарования. Он не скрывал своего намерения напоить ее. Нет, ей не следует так думать. Она не хотела убивать свою симпатию к Дэвиду. Но Майк никогда бы не повел себя с женщиной столь прямолинейно. О боже! Подходящее время думать о нем. Она все испортит. Девушка увидела перед глазами хмурящегося отца: «Дженюари, я бы хотел видеть тебя с мужчиной, а не с этим…» Она испытала желание убежать. Франко был красивее Дэвида, однако, когда он прикоснулся к ней, она испугалась. Боже! Что она здесь делает? Еще можно уйти… Но что потом? Остаться девственницей на всю жизнь? Признаться Линде в том, что она убежала от Дэвида, Нэта Кинга Коула, «Дома Периньона», круглой кровати и красных стен? Она допила содержимое бокала. Дэвид вскочил, чтобы вновь наполнить его. Это нелепость. Неужели она ляжет в постель с Дэвидом только потому, что Линда считает это правильным? Или чтобы доказать Майку, что она способна конкурировать с Карлой. Почему она это делает? Очевидно, не потому, что влюблена в Дэвида. Линда сказала, что такая любовь, какую ищет она, Дженюари, случается только в кино между Ингрид Бергман и Боги. В современной жизни ей нет места. Даже отец сказал, что он никогда не любил женщину — только секс. А она — его дочь. Дженюари взяла бокал из рук Дэвида и стала медленно потягивать шампанское. Дэвид красив. И когда она совершит это… она получит удовольствие… полюбит его… и… Улыбнувшись, она протянула Дэвиду пустой бокал. Он хочет, чтобы она опьянела, верно? Дэвид радостно налил ей шампанского. Но он, похоже, немного нервничал. Допив содержимое своего бокала, он взял другой, большего размера, и наполнил его до краев. Когда песня Бакара в исполнении Дионн Уорвик сменила Нэта, бутылка была пуста. Дженюари откинула голову на спинку дивана и закрыла глаза. Она почувствовала, что Дэвид целует ее в шею. Дионн пела: «Помолись за меня». Да, Дионн. Пой это для меня… для Дженюари… девочки, с которой в 1965 году познакомил тебя Майк Уэйн. Мне было тогда всего пятнадцать. Ты сказала отцу, что я очень хорошенькая. Скажи мне, Дионн, ты была влюблена в своего первого мужчину? Наверно, да, если ты можешь так петь… Дэвид склонился над ней. Он оставил в покое ее шею. Принялся за ухо. О боже… он засовывал в него язык. Ей это должно нравиться? Язык был холодный и влажный. Затем Дэвид переключился на ее рот, попытался раздвинуть языком губы. Дженюари испугалась, поняв, что его поцелуи ей неприятны. Его язык был твердым, жестким. Руки Дэвида сжимали ее груди, он нащупывал пальцами пуговицы блузки. Как бы он не оторвал их… это ее новая рубашка от Валентине. Может ли девушка сказать мужчине, что она сама расстегнет пуговицы? Она ведь должна в порыве страсти забыть обо всем и не замечать, что он делает. Когда же она что-то почувствует? Она попыталась ответить на его ласки… погладила волосы Дэвида… они оказались жесткими. Он пользовался лаком! Она не должна сейчас думать о таких вещах. Она открыла глаза и посмотрела на Дэвида. Он был красив. Но выглядел комично с закрытыми глазами, растянувшись на диване. Почему они не могут действовать разумно… пойти в эту ужасную спальню, раздеться и… что дальше? Он должен страстно обнимать ее, говорить о своей любви, а не кусать ее губы и рвать лучшую блузку. Она заметила, что золотой пряжкой на туфлях «Гуччи» он порвал шелковую обивку. Это почему-то ее обрадовало. О чем она думает… Дженюари сомкнула веки., ей хотелось испытывать романтические чувства… слава богу, он наконец расстегнул ей блузку, не оторвав ни одной пуговицы. Теперь он занялся застежкой ее лифчика. Чувствовалось, что у него есть опыт… только теперь бюстгальтер оказался где-то возле шеи. Следует ли ей как-то выразить протест? Или сдаться и помочь ему? Она решила освободиться от объятий Дэвида. — Расслабься, детка, — прошептал Дэвид, опустив голову к ее бюсту. Он начал целовать соски. Дженюари почувствовала, что они твердеют… в нижней части живота возникло странное ощущение. Он поднял ее с дивана, одной рукой снял с девушки блузку, а другой взялся за «молнию» на юбке. Тут он тоже проявил ловкость… юбка упала на пол. Он снял с Дженюари лифчик. Она стояла в туфлях и трусиках. Он поднял ее на руки и понес в спальню. Она бы предпочла пройти туда самостоятельно. При росте сто семьдесят сантиметров она весила пятьдесят килограммов. Модная худоба. Но пятьдесят килограммов плюс туфли могут показаться тонной для парня, играющего роль Ромео. Она старалась не думать о своей длинной шелковой юбке, лежащей на полу гостиной. Что она сделает, когда все закончится? Выйдет голой из спальни и подберет вещи? Онположил ее на кровать. Снял с девушки туфли и трусы. Она лежала на кровати нагишом, а он вслух восхищался ее красотой. Потом начал раздеваться. Она смотрела, как он снимает брюки… увидела выпуклость под трусами. Он едва не задушил себя, срывая галстук с шеи. Скинул рубашку и трусы. Самодовольно улыбнулся и шагнул к кровати. Дженюари уставилась на его большой член, возбужденно прижатый к животу. — Красавец, правда? — спросил он. Она не смогла ему ответить. Такой мерзкой штуки она еще не видела в жизни. Красная… вся в венах… казалось, она вот-вот лопнет. — Поцелуй его… Он поднес член к ее лицу. Она отвернулась. Дэвид засмеялся: — О'кей… Ты еще захочешь его поцеловать, прежде чем мы кончим… Она справилась с охватившим ее страхом. Где то романтическое чувство, которое она якобы должна испытывать? Почему в ее душе лишь отвращение и паника? Он лег на Дженюари, опираясь на локти и колени, стал целовать ее груди. Рука Дэвида скользнула к бедрам девушки. Дженюари непроизвольно сжала их. Он удивленно посмотрел на нее. — Что-то не так? — Здесь очень светло и… Он засмеялся: — Ты не любишь заниматься любовью при свете? — Нет. — Желание леди — закон для меня. Подойдя к выключателю, он погасил свет. Она посмотрела на приближающегося Дэвида. Неужели все это происходит на самом деле? Она действительно лежит на кровати и ждет, когда этот незнакомец овладеет ее телом. Внезапно она вспомнила, что так и не сходила к доктору, которого ей рекомендовала Линда, не приняла пилюли и не поставила спираль. — Дэвид, — произнесла Дженюари, но он уже уткнулся в ее промежность своим пульсирующим членом. Надавил… еще сильнее… она ощущала его пальцы везде… на груди… меж бедер… он раздвигал ее ноги… входил в нее… — Дэвид, я не принимаю пилюли, — выдавила из себя она, когда он попытался поцеловать ее. — О'кей. Я вытащу, — пробормотал Дэвид, тяжело дыша. Его грудь была влажной от пота. Он все еще старался ввести свой огромный член в Дженюари. Она ощущала периодические толчки. Каждый раз пенис упирался в прочную стену из ее мышц. Неужели ему не ясно, что у них ничего не получится? Но его орган становился все более требовательным и настойчивым… Он разрывал ее внутренности. Боже, она сейчас умрет. Стиснув зубы, чтобы не закричать, она вцепилась ногтями в его спину. Услышала бормотание Дэвида: — Отлично, детка. Трахни меня… ну же… трахни меня! Нестерпимая боль пронзила Дженюари — Дэвид проник-таки в ее тело. Девушке казалось, что он ломает ей кости, рвет ткани. Внезапно он вытащил член, и она почувствовала, как струя горячей жидкости ударила ей в живот. Дэвид, задыхаясь, перевалился на спину. Сморщенный член висел между ног неподвижно и бездыханно, точно мертвая птица. Наконец его дыхание стало ровным. Он повернулся к Дженюари и взъерошил ее волосы. — Ну… тебе понравилось, детка? Он взял с тумбочки салфетку «Клинекс» и положил ее девушке на живот. Она боялась пошевелиться. Боль была такой сильной, что Дженюари испугалась. Возможно, он повредил ей что-то. Линда говорила, что вначале будет небольшая боль. Но не такая же агония! Она машинально вытерла живот. Он был липким. Ей хотелось броситься под горячий душ. Но больше всего — поскорей уйти отсюда. Дэвид погладил ее волосы. — Как насчет минета, детка? Тогда мы сможем продолжить. — Минета? — Ну, возьми в рот. Он притянул ее голову к своему опавшему члену, безвольно покоившемуся меж ее бедер. Она вскочила с кровати: — Я еду домой! Заметив кровь, Дженюари остановилась. На простыне были алые пятна. Кровь текла по ногам девушки. Дэвид сел. — Господи, Дженюари, что же ты не сказала, что у тебя месячные! Дэвид вскочил с кровати и сорвал с нее простыню. — Боже мой… протекло до матраса. Она стояла неподвижно, зажав руки между ног. Ей казалось, что стоит убрать руки, как ее внутренности вывалятся наружу. Он повернулся и посмотрел на нее. — Ради бога, не испачкай ковер. В медицинском шкафчике есть тампоны. Она бросилась в ванную, заперла за собой дверь. Отняла руку. Ничего не произошло. Кровь остановилась. Девушка взяла полотенце и стерла кровь с ног. Ей казалось, что внутри у нее все разорвано. Яркий свет лампы, висевший над медицинским шкафчиком, придавал желтый оттенок лицу Дженюари. Она уставилась на свое отражение в зеркале. Тушь на глазах расплылась, волосы спутались. Надо одеться и уйти отсюда. Она смыла тушь с век. Завернувшись в другое полотенце, открыла дверь ванной и бросилась в гостиную. Дэвид даже не посмотрел на Дженюари. Он все еще был голым и сосредоточенно тер матрас тряпочкой, смоченной в пятновыводителе. Она схватила свою одежду в гостиной, взяла из спальни туфли и трусы, вернулась в ванную. Когда она вышла оттуда, кровать еще была не застелена, но Дэвид уже оделся. — Придется подождать — до полного высыхания не поймешь, удалось вывести пятна или нет, — сказал он. — Возможно, придется вызвать человека из химчистки. Я отвезу тебя домой. Он молчал, пока они не сели в такси. Устроившись на сиденье, Дэвид обнял Дженюари. Она невольно отодвинулась в сторону. Он взял ее за руку. — Слушай, извини, что я заговорил о простыне. Но это настоящий «Портхолт», и тебе следовало сказать насчет месячных. Я знаю, ты жила в Европе. Там некоторым мужчинам это даже нравится. Но я не люблю кровь. Ты нашла «Тампакс»? — У меня сейчас нет месячных, — сказала Дженюари. В первый момент он не понял. Потом Дэвид откинулся на спинку сиденья. — О, боже! Дженюари, неужели ты… господи! Но кто слышал о двадцатилетней девственнице? Особенно с твоей внешностью. У тебя там очень тесно, но я решил, что дело в твоей конституции… Ты такая худенькая… Он буквально застонал. Они проехали несколько кварталов. Дэвид молча смотрел в пространство перед собой. — Почему ты разволновался? — спросила она. — Потому что, черт возьми, я не лишаю девушек невинности. — Кто-то же должен это делать, — заметила она. — Помню, один итальянец сказал мне то же самое. Когда они доехали до угла, он попросил водителя остановить машину. — Давай зайдем в бар и выпьем перед сном по бокалу. Я хочу с тобой поговорить. Они оба заказали виски. Она не любила его, но оно поможет ей уснуть. Боже, как ей хотелось погрузиться в сон! Дэвид подвигал бокал по салфетке. — Я все еще в шоке. Но… слушай… я горжусь тем, что ты выбрала меня в качестве первого мужчины. Ты не пожалеешь. Следующий раз я сделаю тебя по-настоящему счастливой. Дженюари… ты мне очень нравишься. — Правда? — Да. — Это хорошо. Я польщена. Он взял ее за руку. — Это все, что ты чувствуешь? — Дэвид, я… Дженюари замолчала. Она собиралась сказать: «Я мало тебя знаю». Это бы прозвучало нелепо. Она только что была с ним в постели. — Дженюари… я хочу жениться на тебе. Ты это знаешь, да? — Нет. — Что «нет»? — Нет, я не знала, что ты хочешь жениться на мне. Я знаю, что это — желание Ди. Но что ты сам хочешь на мне жениться — этого я не знала. Все немного странно, правда, Дэвид? Мы — чужие друг другу. Мы переспали, но остались незнакомцами. Мы сидим здесь и пытаемся поговорить, но все должно быть иначе. Я полагаю, девушка должна испытывать желание кричать… петь… впервые познав любовь. Когда она влюблена, с ней происходит что-то восхитительное. Глядя куда-то мимо нее, он произнес: — Скажи мне, какие чувства ты ждала? — Не знаю. Но… ну… — Вроде желания, чтобы ночь длилась вечно? — спросил он. — Да, наверное, это. — А расставаясь с человеком, испытывать страх… стремиться сделать его своей собственностью… желать его общества каждую секунду. Она улыбнулась: — Похоже, мы смотрим одни и те же фильмы по ТВ. — Дженюари, ты выйдешь за меня замуж? Она посмотрела на бокал. Сделала большой глоток. Растерянно покачала головой: — Не знаю, Дэвид. У меня нет чувств к тебе и… — Слушай, — перебил ее он. — Того, о чем мы сейчас говорили, нет в реальной жизни. Испытать это могут подростки, накурившиеся марихуаны, и то один раз… или люди, переживающие тайный внебрачный роман… или… — Или? — спросила Дженюари. — Или… ну… если совсем юная девушка знакомится со своим любимым артистом… человеком, которого всегда обожала. Думаю, у каждой девушки есть мужчина ее мечты… то же самое бывает и у мужчин. Большинство людей так и проходит по жизни, не отыскав свой идеал. — А мы должны найти его? Он вздохнул: — Вероятно, так даже лучше. Потому что, найдя свой идеал, ты не сможешь существовать без него. А удержать мечту навсегда невозможно. Брак — нечто иное. Два человека имеют общие устремления, симпатизируют друг другу. Дженюари помолчала, и он добавил: — Я… я люблю тебя, Дженюари. Вот… я все сказал. Она улыбнулась: — Сказать и действительно чувствовать — не одно и то же. — Ты не веришь мне? — По-моему, ты пытаешься убедить в этом себя самого еще в большей степени, чем меня. — Ты меня любишь? — Нет. — Нет? Тогда почему ты пошла ко мне сегодня? — Я хотела полюбить тебя, Дэвид. Думала, секс мне в этом поможет. Но у меня не вышло… — Слушай… я сам виноват. Я не знал, что ты девушка. Следующий раз все будет иначе. Клянусь тебе. — Следующего раза не будет, Дэвид. На его лице появилось растерянное выражение. — Ты не хочешь меня больше видеть? — Мы можем встречаться… но я не лягу с тобой в постель. Он подозвал официанта и оплатил счет. — Послушай, это нормальная реакция на событие. Она встала; он подал ей пальто. Они пошли по улице. Дэвид держал девушку за руку. — Дженюари, я не собираюсь навязываться тебе. Не стану добиваться близости с тобой. Я готов ждать месяцы. Может быть, ты права… давай узнаем друг друга лучше. Но я обещаю тебе — ты выйдешь за меня. Будешь любить и хотеть меня… Нам некуда спешить. Мы будем сближаться постепенно. Проведем вместе рождественские каникулы в Палм-Бич. Эти четыре дня и четыре ночи станут хорошим началом. Обещаю не просить тебя спать со мной. Это случится только тогда, когда у тебя возникнет такое желание. Засыпая сегодня, думай о том, что я люблю тебя.Войдя в свою квартиру, она пустила воду и сбросила с себя одежду. Легла в теплую ванну… попыталась обдумать слова Дэвида. И лишь позже, пытаясь заснуть, она осознала, что он даже не поцеловал ее на прощание. Проснувшись утром, она обнаружила, что ночью у нее шла кровь. В первый миг у Дженюари возникло желание позвонить Линде. Но она почувствовала, что не может сейчас говорить с ней. Девушка представила себе, какое выражение появится на лице Линды, когда она услышит рассказ о происшедшем. Едва не разорвав справочник, Дженюари нашла телефон доктора Дэвиса — гинеколога, о котором говорила Линда. Когда девушка объяснила врачу, что у нее кровотечение, он велел ей немедленно приехать к нему. К удивлению Дженюари, подвергнуться осмотру оказалось для нее делом более легким, чем сидеть перед столом в одежде и объяснять врачу причину ее беспокойства. Она испытала облегчение, когда доктор сказал, что, хотя такая кровопотеря случается довольно редко, она не представляет опасности для здоровья. Он выписал Дженюари противозачаточные пилюли, а также успокоительное. Рекомендовал провести остаток дня в постели. Вскоре после ее возвращения домой в дверь квартиры позвонили. Посыльный принес маленькую коробочку от Картье. Расписавшись в получении, она вернулась в комнату. В посылке лежала роза ручной работы, вырезанная из слоновой кости и инкрустированная золотом. Она висела на массивной золотой цепи. К подарку прилагалась записка: «Настоящие умирают. Эта сохранится дольше и будет напоминать о неизменности моих чувств. Дэвид». Она убрала розу в шкаф. Украшение было чудесным, но сейчас Дженюари не хотелось думать о Дэвиде. Она выполнила указания врача. Однако настроение не располагало к принятию пилюль. Она положила их рядом с розой от Картье, но приняла успокоительное. Затем позвонила Линде и сказала, что не приедет в редакцию, сославшись на необходимость визита к стоматологу. Она легла в постель и попыталась читать… вскоре таблетки подействовали. В пять часов телефонный звонок вывел ее из состояния глубокого сна. Это был Дэвид. Она поблагодарила его за розу. — Мы можем выпить где-нибудь сегодня? — спросил он. — Боюсь, что нет. Я… я завалена работой, — ответила Дженюари. Дэвид помолчал. — Через несколько недель на Западном побережье состоится совещание брокеров, сейчас в Нью-Йорк приехали руководители ряда фирм. Боюсь, следующие несколько вечеров мне придется потратить на деловые встречи. — Не беспокойся, Дэвид. — Но я буду звонить тебе каждый день. И в первый свободный вечер мы пообедаем вдвоем. Я возьму билеты на «Волосы» на следующую неделю. — Хорошо, Дэвид. Она опустила трубку и полежала в полумраке, находясь в состоянии сладостной полудремы. К девяти часам действие успокоительного закончилось. Дженюари села и зажгла свет. Впереди была целая ночь. Девушка вспомнила о еде, хотя она и не испытывала сильного голода. У нее был готов список тем для будущих статей. Дженюари собиралась передать его Линде сегодня. Заглянула в бумагу снова. Возможно, ей следует начать работу над какой-то статьей. Одна тема казалась ей особенно интересной: «Есть ли жизнь после тридцати?» Эта идея посетила Дженюари, когда Линда отказалась от услуг секретарши с блестящими рекомендациями и взяла на работу девятнадцатилетнюю девушку, едва владевшую стенографией. «Дженюари, „Блеску“, не нужна сорокатрехлетняя секретарша. Мне плевать, что она проработала двадцать лет у президента нефтяной компании. „Блеск“ — экстравагантный молодежный журнал. Я хочу, чтобы мой офис украшали привлекательные молодые сотрудники». Когда Дженюари искала работу в рекламных агентствах, она заметила, что возраст секретарш и девушек, принимавших посетителей в этих фирмах, находился в пределах от девятнадцати до двадцати пяти лет. Конечно, это не касалось специалистов. Линда приближалась к тридцатилетию, но для своей должности она была молода. Линда нравилась Дженюари. Но, несмотря на объединявшее их восторженное и преданное отношение к журналу, они принадлежали к разным мирам. В редакции Линда олицетворяла власть. Когда она шла по коридору, все вытягивались перед ней в струнку. Линда, которая вела еженедельное совещание, была сдержанной и красивой. Ей подчинялись беспрекословно. Все старшие и младшие редакторы восхищались почти классической элегантностью одежды и безупречным внешним видом их шефа. Однако вне стен офиса, в общении с мужчинами — любыми мужчинами — она теряла свой апломб и уверенность. Дженюари не могла принять ее потребности в «чьем-то лежащем рядом теле». Как можно получать удовольствие, занимаясь сексом с нелюбимым человеком? Прошлая ночь была ужасной… даже до боли. Дженюари не испытывала физического влечения к Дэвиду. Может быть, с ней не все в порядке? Она должна обсудить это с кем-то. Только не с Линдой! Линда тотчас порекомендует обратиться к психоаналитику или начать принимать витамины. Внезапно Дженюари почувствовала, что ей необходимо увидеть Майка. Может быть, они встретятся завтра за ленчем. Она не могла рассказать ему, что произошло. Но беседа с ним поможет ей. Сейчас еще только половина десятого. Его, наверное, еще нет дома, но она оставит сообщение. Дженюари удивилась, когда он снял трубку. (О боже, может быть, она помешала им с Ди…) Она попыталась придать своему голосу легкомысленное звучание: — Я перезвоню позже, если вы с Ди играете в триктрак. — Нет. На самом деле ты меня разбудила. — О… прости. Извинись перед Ди. — Нет, погоди. Который сейчас час? — Половина десятого. — Я уже окончательно проснулся и хочу есть, — сказал Майк. — Как ты смотришь, если я поймаю такси и заеду за тобой? Съедим по гамбургеру? — Где Ди? — Я застрелил ее. Она повесилась в шкафу. — Майк! Он засмеялся: — Через пятнадцать минут спускайся и жди меня у подъезда. Я расскажу тебе все в деталях. Они отправились в ближайший бар. Дженюари преднамеренно обошла стороной столик, за которым они сидели вчера вечером с Дэвидом. — Твой отец стареет, — сказал Майк. — Я прошел восемнадцать лунок, вернулся с поля для гольфа в пять часов и заснул, как убитый. Ди хотела пойти в ресторан и кино, но я не мог пошевелиться. Наверно, она пыталась меня разбудить… но безуспешно. Она оставила записку: «Ушла к подруге играть в триктрак». Она, очевидно, решила, что я не проснусь до утра. — Я разбудила тебя. Извини. — Нет, я рад. Официант принес гамбургеры. Майк с жадностью откусил кусок. — Я зверски проголодался… теперь ты видишь. Мой желудок разбудил бы меня в полночь, и я не встретился бы с тобой. Внезапно его глаза сузились: — Почему ты сидела дома вечером? — О… вчера у меня было свидание с Дэвидом. Сегодня у него какая-то деловая встреча. Майк кивнул. — Перевожу: у вас есть проблемы. — Он подарил мне цепочку от Картье, — внезапно сообщила Дженюари. Майк отодвинул от себя бокал с пивом. Закурил сигарету и небрежно произнес: — Рановато для рождества, верно? — Он хочет жениться на мне. Лицо Майка расслабилось. Внезапно он улыбнулся: — Это совсем другое дело. Почему ты не сказала мне сразу самое главное? — Я не люблю его. — Ты в этом уверена? Вы ведь познакомились совсем недавно. Ты твердо знаешь, что у вас ничего не получится? — Да. Она протянула руку и взяла сигарету из его пачки. Брови Майка удивленно взлетели вверх. — С каких это пор? — Я научилась курить, готовясь к съемкам рекламного ролика. Помолчав, она добавила: — Мне жаль насчет Дэвида. Майк засмеялся: — Скажи это ему… не мне. Черт возьми, еще не произошло ничего непоправимого. Значит, ты встречалась с ним и он сделал тебе предложение. Верни ему подарок и поставь на этом точку. Она посмотрела на недоеденный гамбургер. Внезапно поняла — он отказывается поверить в то, что она была близка с Дэвидом. Предпочитает видеть в цепочке обычный презент, преподнесенный во время ухаживания. Многоопытный, искушенный Майк оказался совсем наивным в отношении своей дочери. — Майк… я сексапильна? — Что за странный вопрос? — И все же? — Откуда мне знать? Я могу сказать, что ты красива… у тебя великолепная фигура… но сексапильность всегда избирательна, индивидуальна. Она связана с сугубо личным восприятием. Девушка, которая кажется сексапильной мне, может не быть таковой для другого мужчины. — Я нахожу тебя очень привлекательным, — заявила Дженюари. Он посмотрел на нее и покачал головой: — А Дэвида — нет? — Да, Дэвида — нет. — О, господи… Майк тихо свистнул. — Этот парень способен понравиться любой нью-йоркской красотке, включая знаменитую кинозвезду. А тебе он не кажется привлекательным… зато я — кажусь. Она постаралась заговорить легкомысленным тоном: — Что ж, возможно, мне следует найти мужчину, похожего на тебя. — Не говори так, — резко произнес он. — Ты вела себя так, будто Дэвид тебе нравится. — Он мне нравился, — сказала Дженюари. — И сейчас нравится. Но что касается романтических отношений… меня не тянет к нему. Она засмеялась: — Может быть, все дело в том, что у него светлые волосы. Он снова отодвинул от себя пиво. — Чудесно! Любой парень в последний момент получит отказ из-за меня… да? — Послушай, почему тебя волнует то, что я изменила свое отношение к Дэвиду? — Если мы не разберемся с этим, ты всегда будешь менять свое отношение подобным образом. Даже подойдя к алтарю. Это может случиться… уже случилось. А кончится все несчастьем. Он понизил тон: — Не придумывай меня. Не создавай образ, которому не могут соответствовать другие мужчины. Я не представляю из себя ничего особенного. Ты знаешь меня как своего отца… видишь перед собой воображаемый идеальный образ. Пора тебе узнать, что папа Майк далек от Майка — мужчины. — Я вижу в тебе мужчину и люблю его. — Ты видишь только то, что я позволяю тебе видеть. Но теперь откроюсь тебе полностью. Я был плохим отцом и еще худшим мужем. Ни одну женщину не сделал счастливой. Я любил секс… но не женщин. И сейчас никого не люблю. — Ты любил меня… всегда. — Верно. Но я не сидел дома по вечерам и не качал твою колыбель. Я жил своей жизнью. И сейчас — тоже. — Поэтому умерла мама. — Умерла? Черт возьми, она убила себя! Дженюари покачала головой… и все же она почему-то знала, что он сказал правду. Майк отхлебнул пиво и уставился на бокал. — Да… она была беременна, а я погуливал. Однажды вечером она напилась и написала на листке, что хочет отплатить мне. Вернувшись домой, я нашел ее на полу в ванной. Она воткнула в себя кухонный нож, пытаясь избавиться от ребенка. Он тоже лежал там… в крови. Он еще не сформировался полностью… это был пятимесячный мальчик. Мне с трудом удалось избежать шума, представить дело так, будто случился самопроизвольный выкидыш… но… Замолчав, он поглядел на дочь. — Теперь ты знаешь… — Зачем ты сказал мне это? — спросила она. — Я хочу, чтобы ты стала сильней и жестче. Научилась владеть собой, быть моей дочерью. Если ты так любишь отца, принимай меня таким, каков я есть. Не таким, каким я тебе казался. Тогда ты сможешь найти своего мужчину и полюбить его. Черт возьми, ты будешь влюбляться много раз. Если только научишься смотреть в глаза реальности. Добиваться того, чего ты хочешь. Жить не в придуманном мире. Не быть слабой, как твоя мать. Она бродила по дому, смотря на меня своими большими карими глазами, никогда ни в чем открыто не обвиняя и в то же время распиная мужа молчаливыми взглядами. Господи, я даже зауважал ее, узнав, что она завела любовника. Слегка заревновал, попытался ухаживать за ней, как когда-то, — и тут мне стало известно, что она не смогла удержать его. Встречаясь с ним, она напивалась и плакала ему в жилетку, жалуясь на меня. Каждый раз, когда я глядел на нее, она жалобно вздыхала. Майк посмотрел на дочь. — Никогда не вздыхай. Это — последнее дело. Видит бог, сейчас иногда я готов вздохнуть… но я тотчас напоминаю себе о том, что ввязался в эту историю ради нас. — Ради нас? — сказала Дженюари. — Сначала это было только ради меня. — О'кей… о'кей. Возможно, это и для меня было единственным выходом. Но я попытался дать тебе все. Отличные апартаменты, прислугу, машину… ты от этого ушла. Но ты знаешь, что можешь вернуться в любой момент. Делать ставки, не испытывая страха. Ди познакомила тебя с парнем, но тебе не понравился цвет его волос. Он сделал тебе предложение. Но нам обоим известно — это еще не означает, что он безумно влюблен в тебя. По-моему, он не умирает сейчас от тоски по тебе. Я не очень-то верю в деловое свидание вечером. Я сам не раз пользовался такой отговоркой. — Думаешь, он с Карлой? Майк пожал плечами: — Если ему повезло… то да. Мне кажется, парень, хоть раз побывавший с Карлой, должен крепко ею увлечься. Я знаю, что со мной бы это случилось. Замолчав, он поглядел на дочь. — Возможно, ты не влюблена в Дэвида, потому что он сам этого не хочет… сейчас. Скажем прямо — зачем ему прочно привязывать тебя к себе в тот момент, когда их с Карлой роман в самом расцвете? Он усмехнулся: — Ты об этом думала? Может быть, он сознательно сохраняет дистанцию между вами. Если парень не питает к девушке романтических чувств, как она может в него влюбиться? Майк, похоже, испытал облегчение, проанализировав подобным образом ситуацию. — Подожди, пока он обрушит на тебя все свое обаяние. Ручаюсь, тогда все изменится. — Ты бы мог увлечься Карлой? — спросила Дженюари. — Что? — Ты сказал, что увлекся бы ею. — Ты не слышала все, что я сказал после этого? Она кивнула. — Слышала. Но я задала тебе вопрос. — Конечно, мог бы. Он допил пиво. — Ты действительно считаешь, что я не могу соперничать с ней? Улыбнувшись, Майк похлопал дочь по руке. — Ты — девушка, а она — женщина. Не беспокойся. Дэвид сделал предложение тебе. Это значит, что на самом деле нужна ему ты. Только позже. Он усмехнулся: — Когда он сочтет, что время пришло. Она засмеялась: — О, Майк, ты правда считаешь, что Дэвид еще не старался всерьез покорить меня, и… Он ударил кулаком по столу: — Этот негодяй что-то пытался сделать? Его лицо окаменело. — Я убью его. Не говори мне, что он добивался… близости с тобой. Дженюари не поверила своим ушам. Майк, имевший столько женщин… рассказывавший ей о Тине Сент-Клер и Мельбе… этот самый Майк вдруг превратился в разгневанного отца, разговаривающего со своей невинной дочерью. Это казалось нелепостью… безумием… и все же что-то заставило Дженюари скрыть правду. — Дэвид вел себя как настоящий джентльмен, — сказала она. — Но я знаю, что все зависело от меня. — Любая женщина может получить любого мужчину, для этого ей достаточно раздвинуть ноги, — сухо заявил он. — Но ты не такая. Дэвид это тоже понимает. — Дэвид! — Она словно выплюнула это имя. — Ди знакомит меня со своим кузеном, симпатичным и перспективным молодым человеком, а я должна сыграть роль куклы Барби. Полюбить его и счастливо жить с ним до старости. И знаешь что? Я попыталась поступить так. Почти внушила себе, что это произойдет. Скажи — этого ты желал мне? Хотел, чтобы я влюбилась в заурядного пластилинового человека, надела подвенечное платье, возможно, вырастила бы дочь, потом подыскала ей какого-нибудь Дэвида? Помнишь, как поется в песне — «Неужели это все, мой друг… неужели это все?» Он попросил официанта дать счет. Потом встал, оставив на столе несколько купюр. Они вышли на вечернюю улицу. Их обогнали двое длинноволосых парней с красными бабочками, вышитыми на брюках из дангери. Возле фонаря молодые люди остановились и начали целоваться. — Похоже, сейчас всюду любовь. — Это Красные Бабочки, — пояснила Дженюари. — Кто они? — Это канадская прокоммунистическая ассоциация гомосексуалистов. Они борются за права сексуальных меньшинств. Несколько парней из этой организации вербуют сейчас в Нью-Йорке новых членов в свои ряды. Линда собиралась написать о них. Но не для «Блеска». Майк покачал головой: — Знаешь что? Ты сказала: «Неужели это все?» Я не могу ответить на этот вопрос. Потому что не знаю, есть ли что-то другое… Не знаю, что происходит сейчас… в жизни, в шоу-бизнесе — везде. Весь мир переменился. В моих фильмах, в кинокартинах моей молодости… злодей должен был умереть. Герой выигрывал схватку, и если бы десять лет тому назад у меня была двадцатилетняя дочь, встречающаяся с каким-то Дэвидом, я бы сказал ей: «Куда спешить? Я подарю тебе весь мир. Он будет принадлежать тебе». Но я уже не тот, что прежде, и сам мир изменился. Возможно, я тороплюсь найти для тебя уютную надежную колыбель. Потому что, когда я смотрю на сегодняшний мир вседозволенности, меня начинает тошнить. Но я могу позволить себе отвернуться от него, поскольку мне уже пятьдесят два года. Я прожил большую часть моей жизни. Но ты не можешь так поступить — у тебя все впереди. И я не в силах возвратиться в прошлое. Угловой «люкс» в «Плазе» занят кем-то. В помещении театра «Капитолий» находится какая-то контора. На месте клуба «Аист» — «Пэли-парк». Прежний мир ушел. Ты можешь увидеть его лишь в «Передаче для полуночников». К сожалению, тебе придется принимать сегодняшний мир таким, каков он есть. Постарайся получать от этого радость. Потому что в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что игра подошла к концу. Это произойдет очень скоро. Так что бери от жизни все — когда ты оглянешься назад, она покажется тебе очень короткой. Майк обнял дочь. — Смотри, упала звезда. Загадай желание, детка. Они стояли перед ее домом. Она сомкнула веки, но не решила, чего же она по-настоящему хочет. Открыв глаза, Дженюари не увидела рядом с собой отца — Майк шел по улице. Она посмотрела ему вслед. У него по-прежнему была походка победителя. Позже, лежа в темноте, она вспомнила слова отца. Он боялся современной жизни — боялся за дочь… и за себя. Что ж, теперь это был ее мир — единственный, которым она располагала, — и от нее зависело, найдет ли она в нем свое месте. Она станет победителем… докажет ему. что успех достижим. Она улыбнулась, лежа в темноте. — Папа, — прошептала Дженюари, — когда Ди вернется после триктрака, вы оба не беспокойтесь обо мне и моем будущем. Потому что, папа… я улыбаюсь… я не вздыхаю. (обратно)
Глава десятая
Но Майку было не с кем обсуждать дома проблемы Дженюари. Увидев, что муж заснул, Ди прошла в кабинет и сделала короткий телефонный звонок. Затем написала записку, в которой сообщала Майку, что она пыталась разбудить его, но он спал так крепко, что, в конце концов, она решила оставить его в покое и ушла играть в триктрак. Сев в машину, она велела Марио отвезти ее в «Уолдорф». — Я побуду в гостях у подруги несколько часов. Подъезжай в одиннадцать к тому подъезду, что выходит на Парк-авеню. Она скрылась в здании «Уолдорфа», пересекла вестибюль и вышла через другое парадное на Лексингтон-авеню. Остановила такси. Ей предстояло проехать всего несколько кварталов; она могла пройти пешком, но Ди не терпелось поскорей оказаться там, где ее ждали. Было только шесть часов вечера. Она сказала, что приедет к половине седьмого. Они проведут вместе лишние полчаса. Когда Ди прибыла к большому зданию, швейцар укладывал вещи какого-то жильца в багажник машины. Она прошла в подъезд и шагнула в кабину лифта. Ди увидела нового лифтера; он лишь кивнул ей, когда она назвала номер этажа. Никаких мер безопасности в этих роскошных современных домах! Выйдя из лифта, она прошла в сторону лестничной площадки и нажала кнопку звонка. Лифтер даже не потрудился проследить, к какой квартире она направилась. Ди позвонила еще раз. Потом посмотрела на часы. Четверть седьмого. Куда можно уйти в такое время? Она вытащила из сумочки ключ. Зашла в квартиру, включила свет в гостиной. Закурив, налила себе спиртное. Подойдя к зеркалу, она причесалась, включила свет в гостиной. Закурив, налила себе спиртное. Подойдя к зеркалу, она причесалась. Слава богу, сегодня Эрнест постриг ее под «пажа», — прическа в стиле Гибсон теряла вид в постели. Как она завидовала современным девушкам с их прямыми, развевающимися волосами! Ди посмотрела на свои новые накладные ресницы, изготовленные на заказ Элизабет Арден. Да, они были великолепными. Ди погасила одну из ламп, вернулась к зеркалу и посмотрела на себя снова. Так лучше… Усевшись в глубокое кресло, она принялась потягивать напиток. Сердце ее билось учащенно. Сколько бы раз ни приходила сюда Ди, она всегда испытывала трепет предвкушения, точно школьница. Часы показывали пять минут восьмого, когда она наконец услышала, как отпирают ключом дверь. Ди смяла недавно зажженную сигарету и поднялась с кресла. — Господи, где же ты пропадала? — спросила Ди. Карла сбросила сумку с плеча на кресло и сняла плащ. — Я опоздала? — невозмутимо произнесла она. — Да, и отлично это знаешь. Где ты была? Карла улыбнулась: — Просто гуляла. Люблю бродить по вечернему городу. К тому же я сегодня только два часа работала у станка. Мне было необходимо подвигаться. — Ты не нуждалась в движении. Ты сделала это нарочно. Чтобы заставить меня сидеть здесь и ждать! Ди замолчала, почувствовав, что тон ее голоса повысился: — О, Карла! Почему ты делаешь все, чтобы пробудить во мне мои худшие черты! Медленно улыбнувшись, Карла распростерла объятия. Поколебавшись мгновение, Ди бросилась к ней. Возмущение Ди растаяло в поцелуе Карлы. Позже, прижимаясь в прохладной полутемной спальне к Карле, Ди сказала: — Господи, если бы только мы могли всегда быть вместе. — Вечной бывает только смерть, — отозвалась Карла. Освободившись из объятий Ди, она потянулась к сигаретам своей подруги. Открыла портсигар и восхищенно уставилась на него. — Какая прелесть! — Это презент Майка… иначе я бы отдала его тебе. Но я уже подарила тебе три портсигара. Ты вечно теряешь их. Выдохнув дым, Карла пожала плечами. — Наверно, какой-то инстинкт велит мне бросить курить. Я уже обхожусь десятью сигаретами в день… — Ты так заботишься о своем физическом состоянии. Эти прогулки, балетные упражнения… Ди замолчала, прикуривая сигарету. — Да, кстати, — я написала новое завещание. Карла засмеялась: — Ди, ты никогда не умрешь. Ты слишком скупа. — А еще я положила сегодня на твой счет десять тысяч долларов. Карла снова засмеялась: — Общий счет Конни и Ронни Смит. Конни кладет деньги… Ронни снимает. Я уверена, все служащие банка в курсе дела. — Они меня не узнают, — быстро произнесла Ди. Карла вскочила с кровати и сделала «ласточку». — Но что делать мне — я так эффектна, что меня все узнают! — с иронией в голосе заметила Карла. — Сумасшедшая, — засмеялась Ди. — Иди сюда.Карла надела халат и включила телевизор. Снова забралась на кровать, села по-турецки и с помощью пульта нашла канал, по которому показывали художественный фильм. Это был «Гранд-отель» с Гарбо, Бэрримором и Джоан Кроуфорд. — К какому часу ты должна вернуться домой, Ди? — спросила Карла. Ди прильнула к ней. — Когда захочу. Майк наигрался в гольф и заснул — наверно, до утра. На всякий случай я написала ему, что иду играть в триктрак с Джойс. — Кто такая Джойс? — Я ее придумала, чтобы он не мог проверить. — Майк Уэйн очень красив, — медленно произнесла Карла. — Я вышла за него из-за тебя. Карла откинулась назад и засмеялась: — О, Ди, я знаю, что газетчики считают меня не очень умной, потому что я не даю интервью. Но неужели ты думаешь, что я способна поверить твоим словам? — Это правда! Я говорила тебе еще до моей свадьбы, что намерена выйти замуж. Что должна выйти замуж. Все прошлую весну, когда Дэвид сопровождал нас повсюду… я знала, что люди начинают удивляться, почему я постоянно хожу с тобой. Всем известна твоя необщительность. Тяга к одиночеству. Но пресса часто упоминает мое имя в связи с открытием сезона в опере, премьерами бродвейских шоу, благотворительными акциями… балами… я — член трех благотворительных комитетов… к тому же мне принадлежит ряд компаний. Я — председатель правления двух корпораций. Я вынуждена посещать торжественные обеды. Мне нужен представительный спутник. Я должна появляться в обществе с мужчиной. В Испании я построила больницу, которая носит мое имя. Следующей весной, когда я приеду туда, ее посвятит Монсеньор. Неужели ты не понимаешь — я не могу допустить скандала. — Почему тебе не жертвовать деньги, оставаясь в тени? — спросила Карла. — Отвернуться от мира? Как пытаешься делать ты? Ди посмотрела на Карлу. — Если бы я пошла на это, ты бы переехала ко мне навсегда? Карла тихо засмеялась: — К сожалению, единственный человек, с которым мне придется жить всегда, — это я сама. — Но тебе нравится твое одиночество. Я его боюсь, ненавижу. Когда ты исчезла в первый раз, я проглотила целую упаковку секонала. До сих пор страдаю, когда ты пропадаешь… сейчас я хотя бы не одна. — Этот страх мне непонятен, — сказала Карла, глядя на телеэкран. — Наверно, дело в том, что я росла с подобным чувством. Мои родители умерли рано, меня окружали адвокаты и поверенные. Я знала, что с годами не превращусь в красавицу, но это не будет иметь значение благодаря моему богатству. Ты понимаешь, что это такое — чувствовать, что каждый мужчина, с которым ты встречаешься, делает комплименты и изображает любовь из-за твоих денег? — Ди, это ерунда. Ты очень красива. Ди улыбнулась: — Моя красота обретается с помощью денег, ухода и диеты. Я не родилась красавицей, как Джеки Онассис или Бейб Пейли. — Я с тобой не согласна. Карла взглянула на снятое крупным планом лицо Джоан Кроуфорд. Ди посмотрела на телеэкран и сказала: — Она прекрасна. Красота принесла ей деньги и любовь мужчин. А мне деньги дали красоту и мужчин, которые уверяли, что любят меня. В глубине души я ненавижу мужчин. Женщины разительно отличаются от них. Я всегда выбирала состоятельных женщин. Хотела быть уверенной в том, что нужна им сама по себе. Так оно и было. Но я никого из них не любила. До встречи с тобой считала себя неспособной любить. Карла… ты понимаешь, что я никого в жизни не любила, кроме тебя? — Знаешь, эта картина не устарела до сих пор, — заявила Карла. — Господи, да выключи ты этот ящик! Карла убрала звук и улыбнулась Ди: — Ну, теперь ты счастлива? Ди посмотрела на подругу: — Знаешь что? Кажется, встретив тебя, я ни дня не была счастливой. — Но, кажется, ты говорила, что любишь меня. Карла смотрела фильм без звука. — Именно поэтому я и несчастлива! О, Карла, как же ты не понимаешь? Мы хоть и близки… как сейчас… Ее рука скользнула под халат Карлы. Ди погладила тело подруги. — Касаясь тебя, я не чувствую, что ты принадлежишь мне… что мои слова и поступки доходят до твоей души. — Сейчас ты заставляешь меня испытывать возбуждение… мне хочется снять халат и заняться любовью. И снова Ди пережила неописуемый восторг от их физической близости, гармоничной и совершенной. Когда все кончилось, она прильнула к Карле и сказала: — Карла, я боготворю тебя. Пожалуйста… пожалуйста… не заставляй меня страдать. — А я-то думала, что только что сделала тебя счастливой. Ди отвернулась от Карлы. — Я говорю не о сексе. Неужели ты не понимаешь, что ты делаешь со мной? Твои исчезновения… — Но теперь ты знаешь, что я всегда возвращаюсь, — сказала Карла. — Как я могу быть в этом уверена? И мне никогда заранее не известно, в какой момент ты пропадешь. Карла, тебе приходило в голову, что за девять лет моей любви к тебе мы провели вместе не более нескольких месяцев? Карла включила звук. Любовная сцена между Гарбо и Бэрримором достигла кульминации. — Ты бы устала от меня, если бы я не уезжала, — заметила Карла. — Никогда. Карла не отводила глаз от экрана. — Моя милая маленькая Ди. Ты не любишь оставаться одна. А Карла нуждается в одиночестве. Ди, потянувшись, схватила пульт и выключила телевизор. — Карла… тебе известно, что после твоего первого исчезновения я наглоталась таблеток. Я поклялась себе никогда больше так не поступать. Я страдала после каждого твоего отъезда… но говорила себе, что я становлюсь сильнее… что ты вернешься… Но прошлой весной, когда ты снова пропала, я… я вскрыла себе вены. Это удалось сохранить в тайне от прессы. Я была тогда в Марбелле, у меня там есть друзья-врачи. После этого я поняла, что… должна выйти замуж… чтобы сохранить психическое здоровье. Большие серые глаза Карлы смотрели на Ди с сочувствием. — Ты рассказываешь страшные вещи. Мне становится грустно. Возможно, мне следует раз и навсегда уйти из твоей жизни. — О, боже! Как же ты не понимаешь? Я не могу жить без тебя. И я знаю, что если я буду часто заводить подобные разговоры, ты оставишь меня. Это — еще одна причина, подтолкнувшая меня к браку с Майком Уэйном. Он не похож на других мужчин. Я не могу топтать его, командовать им, как мне вздумается. Я должна исправно играть роль жены, уступая ему. Эта дисциплина не позволяет мне сойти с ума из-за тебя. Я знаю, что он не уйдет от меня, пока я буду вести себя так, как подобает жене, потому что у него нет денег… а я только что отписала дочери Майка десять миллионов в форме доверительной собственности. — Правда, это совсем непохоже на тебя? — сказала Карла. — Обычно ты не выпускаешь из рук ниточек, с помощью которых можно управлять человеком. Ди улыбнулась: — Это распоряжение может быть аннулировано. Я всегда могу его изменить. Она умоляюще посмотрела на Карлу. — Ты должна приехать в Палм-Бич. Майк будет целыми днями играть в гольф… мы сможем быть вместе… даже проводить вместе вечера… как сейчас. Там много комнат… он нас не найдет. Карла засмеялась: — Что ты говорила о внешней благопристойности? Мое проживание с четой молодоженов породит всевозможные разговоры. — Этого не произойдет, если ты приедешь на рождественские каникулы. В эти дни все принимают гостей… а если ты потом останешься, это будет выглядеть естественно. — Посмотрим. Карла забрала у Ди пульт и включила телевизор. Нашла на одном из каналов фильм Кэри Гранта. Обрадованно откинулась назад. — Удивительный человек… однажды я едва не снялась у него. Мы не сошлись в условиях. Ди легла на спину и залюбовалась безукоризненным профилем Карлы. Увидела свежие рубцы за ушами подруги и внезапно поняла причину ее недавнего отсутствия. Почему Карла сделала это? Ди подверглась косметической подтяжке семь лет назад. Она пошла на это, чтобы оставаться красивой для Карлы. Год тому назад повторила операцию, чтобы удержать Карлу. Последней весной заметила маленькие морщинки под глазами Карлы… легкое провисание кожи на подбородке. Ди захотелось, чтобы Карла скорей постарела… чтобы, утратив свою красоту, стала никому не нужной. И вот за время своей последней отлучки Карла сделала подтяжку. Зачем? Она не собиралась возвращаться в кино. Отвечала отказом на все периодически поступавшие предложения. Тогда почему она сделала операцию? Внезапно у Ди сжалось сердце. Неужели Карла серьезно относится к Дэвиду? До этого момента Ди считала, что постоянное присутствие возле Карлы двадцативосьмилетнего молодого человека льстит ее самолюбию. Но сейчас в душу Ди закрался страх. Да, это вполне возможно, поняла она. Карла говорила Ди, что считает себя лесбиянкой. Однажды призналась, что поняла это еще в юности. Она никогда не делилась подробностями, но Ди полагала, что первый подобный опыт подруга приобрела в какой-нибудь балетной труппе. Но у Карлы было также несколько гетеросексуальных романов, освещавшихся прессой. И Карла признавалась в том, что ей нравятся мужчины. Ди закрыла глаза — ее охватило отчаяние. Двадцать лет тому назад Карла едва не убежала в Голливуде с актером Кристофером Келли, который был очень похож на Дэвида. Может быть, ее привлекали мужчины с определенным типом внешности. Она посмотрела на подругу. Карла ослепительно улыбнулась ей и снова сосредоточила внимание на телеэкране. Ди хотелось кричать. Они лежали рядом… и все же она не осмеливалась спросить Карлу о ее чувствах. Она знала, что физическая близость не дает ей права вторгаться в личный мир Карлы. В душеКарлы существовала область, куда нельзя было проникнуть с помощью слез, угроз и денег. Много лет назад Ди заметила патологическую жадность Карлы. Эта женщина владела миллионами… однако Карла проявляла какое-то подобие эмоций, лишь получая крупные суммы денег. Однако сегодня десять тысяч долларов, поступившие на счет Карлы, заставили ее лишь вежливо улыбнуться. Она казалась поглощенной чем-то. Может быть, Карла действительно влюблена в Дэвида. Испуг, охвативший Ди, заставил ее забыть обо всех правилах; она постаралась придать голосу спокойный тон: — Карла, ты часто видишься с Дэвидом? — Да, — не отводя взгляда от телевизора, сказала Карла. — По-моему, он симпатизирует моей падчерице. Карла улыбнулась: — Кажется, ты хотела, чтобы она ему понравилась. — Он ничего не значит для тебя, да? — Конечно, значит. Иначе почему бы я стала с ним встречаться? Ди вскочила с постели: — Ты стерва! Откинувшись на спину, Карла засмеялась: — Ты простудишься, если будешь стоять голой, Ди; тебе следует заняться гимнастикой. Твои бедра располнели. Ди бросилась в ванную, а Карла прибавила громкость ТВ. Она казалась полностью сосредоточенной на фильме, когда Ди вышла из ванной. Молча одевшись, Ди приблизилась к кровати. — Карла, зачем ты мучаешь меня? — Чем я тебя мучаю? — сухо спросила Карла. — Ты имеешь мужа… и большое состояние. Тебе нравится распоряжаться жизнью, других людей, манипулировать ими, нагонять на них страх с помощью твоих денег. Но ты не в состоянии управлять мною или испугать меня. Ди села на край кровати. — Ты знаешь, как тяжело жить, обладая моими деньгами? Карла вздохнула: — О, моя бедная Ди. Ты страдаешь, сомневаясь в бескорыстности твоих близких. Говоришь, что подобные подозрения глубоко ранят твою душу. Но у каждого из нас есть шрамы. Карла выключила телевизор. — К несчастью — или к счастью, — ты никогда не знала боли, которую испытывает актриса, прежде чем она становится звездой… и адского труда, который позволяет ей оставаться наверху… постоянно помня о том, что такое безденежье… — Но в этом есть вызов и радость. — Радость? — улыбнулась Карла. — Ты никогда не говорила о днях своей молодости. Но я читала все написанное о тебе. Да, ты росла в Европе, охваченной войной. Это, конечно, было тяжким испытанием. Мне исполнилось двадцать, когда японцы напали на Пирл-Харбор. Я работала в различных комитетах, вязала для англичан и русских — да, тогда они были нашими союзниками, — но мы лишь читали о сражениях. Тогда ТВ не вносило войну в наши гостиные, как сейчас. Это ужасно. Она вздрогнула. Взгляд Карлы стал отсутствующим. — Ты вздрагиваешь из-за того, что ТВ вносит войну в твою гостиную. Но в Польше война сама входила в наши дома. — И в твой дом тоже? Карла улыбнулась: — Мне было двадцать, когда Германия стала союзницей России. В тысяча девятьсот тридцать девятом году Гитлер частично оккупировал Польшу. Ее территория была разделена между Германией и Россией. — Тогда ты и отправилась в Лондон? — Нет… сначала в Швецию… потом в Лондон… но это не постельный разговор. Я сейчас вдруг почувствовала, что очень устала. Ди поняла, что ей следует уйти. Карла прогоняла ее. Ди заколебалась. Она могла хлопнуть дверью, пообещав Карле, что больше не придет сюда. Но Ди знала, что обязательно приползет к Карле. Они обе это знали. — Карла, на следующей неделе мы отправляемся в Палм-Бич. Пожалуйста, приезжай. — Возможно. — Прислать за тобой самолет? Карла потянулась. — Я с тобой свяжусь. Ди поняла, что Карла уже засыпает. — Я позвоню тебе завтра. Карла… я люблю тебя. Подъехав к «Пьеру», Ди увидела возвращающегося в отель Майка. Он обнял ее за плечи. — Я выходил съесть гамбургер. Хорошо поиграла? Он открыл дверь квартиры. Ди бросила плащ на диван. Майк подошел к ней и снова обнял. — Извини, что я заснул. Он усмехнулся: — Но сейчас я полон сил… Она отстранилась. — Нет… не сегодня, Майк… пожалуйста! Он на мгновение замер. Потом заставил себя улыбнуться. — Что случилось? Ты проиграла? — Да. Немного. Но я еще отыграюсь. Я должна это сделать… Ди повернулась к мужу с натянутой улыбкой на лице. — Понимаешь, это вопрос гордости. (обратно)
Глава одиннадцатая
В полночь, во вторник, перед Днем благодарения, Линда сидела на своей кровати, рассуждая вслух о лицемерной сущности этого праздника перед внимательно слушавшей ее Дженюари. — Что мы отмечаем? — спрашивала Линда. — Тот факт, что несколько психически неуравновешенных людей, называвших себя поселенцами, прибыли сюда, встретили здесь дружелюбных индейцев и постепенно отняли у них всю страну. — О, Линда, они действительно дружили с индейцами. Сражения начались позже. На самом деле День благодарения — это праздник сбора урожая и дружбы с индейцами. — Чушь. К тому же каким, верно, кретином был тот поселенец, которому пришло в голову устроить праздник в четверг, посреди рабочей недели. Ладно бы это было лето, когда можно поехать в Гемптон. Но что мне делать с длинным уик-эндом в ноябре? — У тебя есть семья? — спросила Дженюари. — Семья? Новой жене моего отца двадцать пять лет, она только что родила еще одного ребенка. Меньше всего ему сейчас нужна в доме дочь, которая старше его жены. Я бы напоминала ему своим присутствием о том, сколько ему лет. А моя мать на грани очередного развода. Она застала во время вечеринки своего супруга, лапающего в ванной ее лучшую подругу. Так что ей не до индейки. Тебе повезло… четыре великолепных дня в Палм-Бич… ты полетишь туда на личном самолете Ди… двое мужчин будут развлекать тебя на солнечном берегу… папа и Дэвид. Или тебе по-прежнему нужен только папа, а Дэвид станет помехой? Дженюари подошла к окну. Она уже собиралась лечь в постель, когда Линда, позвонив, стала настойчиво приглашать подругу к себе; она сослалась на какое-то важное и срочное дело. Однако Линда уже двадцать минут разглагольствовала о Дне благодарения. Дженюари с нетерпением предвкушала радость от путешествия. Майк покинул Нью-Йорк десятью днями ранее. После того ужасного вечера Дэвид дважды выводил Дженюари в свет. Они сходили на «Волосы» (ему спектакль не понравился, а она пришла в восторг). Второй вечер они провели в кино и «Максвелле». Оба раза он отвозил ее домой на такси и, не отпуская машину, провожал до двери с улыбкой на лице, которая означала: «Я буду ждать, когда ты сама меня попросишь». Она поняла, что замечание Линды насчет отца и Дэвида было порождено одиночеством подруги. Линда сидела сейчас в некогда принадлежавшей Киту старой пижаме. Внезапно она поняла, что Дженюари смотрит на нее. Линда улыбнулась. — У каждой девушки хранится пижама бывшего любовника, которую она надевает в особых случаях… чтобы помнить о том, что в глубине души мужчина — подлец и предатель. — Послушай, — Дженюари хотелось поднять Линде настроение, — для Кита важна карьера. Тут дело в этом. — Я говорю не о Ките, — отозвалась Линда. — Я имею в виду Леона… вот ведь мерзавец. Сегодня ровно в пять часов дня он заявил, что возвращается к своей жене. Он любит меня, но психоаналитик утверждает, что я его кастрирую. Также ему не по карману платить алименты и водить меня в рестораны. И, конечно, трижды в неделю отстегивать деньги своему психоаналитику. Она пожала плечами. — Ну и черт с ним — он мне никогда по-настоящему не нравился. — Тогда зачем ты спала с ним? — Дорогая моя, Леон — талантливый художественный редактор. Он мог бы зарабатывать гораздо больше в другом журнале. — Ты хочешь сказать, что он остается в «Блеске»? — Конечно. Мы будем друзьями. Возможно, даже будем иногда спать с ним. Понимаешь, отчасти я завела этот роман, чтобы удержать Леона в редакции. Сейчас он бросил меня ради своей жены. И я достаточно общалась с психоаналитиками, чтобы правильно разыграть сцену расставания. Я плакала… говорила ему, что люблю его… пожелала Леону счастливого праздника… сказала, что все понимаю… помню о том, что у него есть ребенок… Короче, внушила ему комплекс вины — он никогда не уйдет из «Блеска». — Журнал — это все, что имеет для тебя значение? Линда закурила сигарету. — Когда я училась в школе мисс Хэддон, девчонки обожали меня, потому что я всегда была в форме, никогда не вешала носа. А парни встречались со мной, потому что я шла на все до конца. Но даже при этом никогда не была уверена в том, позвонит ли мой кавалер снова. Не знала, как долго я смогу удерживать его. Я боялась, что всегда найдется другая девушка, которая тоже пойдет на все, но сделает это лучше, чем я. Уйдя от мисс Хэддон, сделав пластическую операцию и попытавшись стать актрисой, я увидела, как унижают себя девушки, проходя многочисленные прослушивания. И я была в их числе — пела, стараясь изо всех сил, на пустой темной сцене и слышала равнодушный голос «Спасибо, достаточно». И если тебе удалось получить работу… в следующем сезоне ты снова ползаешь по полу, умоляешь, обиваешь пороги, молишь бога… чтобы тебе позволили встать на пустой сцене и услышать «Спасибо, достаточно». Но когда меня взяли в «Блеск», я поняла, что мне придется бегать, выполнять мелкие поручения, приносить, покупать что-то — до тех пор, пока я не поднимусь наверх. И если я буду исправно выполнять мои обязанности «Блеск» никуда не уплывет от меня. В отличие от шоу, которое когда-то заканчивается… или мужчины, который поднимается с твой кровати и уходит. Будет еще много Леонов… может быть, даже Китов. — Кит… я думала, он — твоя большая любовь. Линда улыбнулась. — О, Дженюари, неужели ты решила, что он — первый мужчина, из-за которого я страдаю? Я относилась к нему иначе, нежели к Леону. — Но ты говорила, что хочешь выйти за него. Что Кит… — Тогда он играл важную роль в моей жизни, — перебила подругу Линда. — На следующей неделе мне исполнится двадцать девять. Дерьмовый возраст. Когда ты называешь эту цифру, никто тебе не верит. В двадцать семь — верят. Но двадцать восемь и двадцать девять звучит подозрительно. В двадцать девять следует иметь за плечами хотя бы неудачный брак. Но для главного редактора «Блеска» я вполне молода. Я — самый молодой главный редактор в Нью-Йорке. Так что могу не плакать все ночи напролет из-за того, что Кит навсегда оставил меня. — Почему ты так считаешь? — Он живет с женщиной, которая старше его. Намного старше. Представляешь, это Кристина Спенсер. Не увидев на лице Дженюари никакой реакции, Линда пояснила: — Она весьма богата… нет, ей далеко до Ди, «Мода» не тратит на нее целых разворотов. Но иногда фотографии Кристины мелькают в «Женской одежде». У этой женщины есть несколько миллионов. Линда вытащила изо рта сигарету. — Господи, эти богачки покупают себе молодые лица, молодых мужчин… Несколько дней тому назад я увидела фотографию Кита в новом костюме от Кардена. Он сопровождал Кристину на благотворительный бал в «Плазе». Снимок занял всю полосу в «Женской одежде», только половина Кита осталась за кадром; репортер назвал его неустановленным спутником Кристины. — Но зачем она ему нужна? — спросила Дженюари. — Кристина Спенсер последние десять лет финансирует бродвейские постановки. Сегодня утром я прочитала в «Таймс», что она — основной спонсор нового рок-мюзикла «Гусеница» с Китом Уинтерсом в главной роли. — Тебе это неприятно? — тихо спросила Дженюари. Линда покачала головой. — Мне не было по-настоящему больно после Тони. — Тони? — Да, это был мужчина. Когда он бросил меня, я приняла пять красных капсул и две желтые. Мне было тогда двадцать, я верила, что наша любовь будет вечной. Ладно, я все это пережила. И уход Тони, и отравление «куколками». Затем последовала череда непродолжительных связей. Я цеплялась за кого-то, оказавшегося под рукой, желая доказать Тони, что жива, несмотря ни на что, самоутверждаясь в этом. Но эти романы были быстротечными. Никто не мог заменить Тони. Несколько месяцев, максимум год. Внезапно, почувствовав твое негативное отношение, человек перестает звонить. Он даже забывает про оставленные им у тебя дома три рубашки, выстиранные и отглаженные в прачечной за твои деньги. Наверно, тогда я стала искать мужчин, нужных журналу. Часто у нас даже не было секса. Например, недавно я вышла на крупное рекламное агентство, закупающее журнальную площадь для своих клиентов. Президент этой фирмы, Джерри Мосс, живет в Дерине, у него очаровательная жена и двое детей. Всю жизнь он был тайным гомосексуалистом. Год назад он влюбился в Теда Гранта — мужчину, которого я знала. Тед — профессиональный манекенщик. Я — их ширма. Иногда мы появляемся на людях втроем. Естественно, жена Джерри думает, что нас связывают дела. Я даже была на рождество у них дома в Дерине как девушка Теда. Я сидела с женой Джерри в гостиной и сорок минут болтала с ней о пустяках, пока мужчины занимались любовью в туалете на втором этаже. Затем появился художник. Он — голубой, а его жена — лесбиянка. У нее есть девушка, у него — парень. Мы иногда проводим время впятером, что вызывает недоумение окружающих. Художник очень помог мне с журналом. Его жена устраивает чудесные обеды, где я знакомлюсь с интересными людьми. Да… я люблю «Блеск». Он принес мне удачу. Его тираж растет в моих руках лучше, чем какой-нибудь вялый мужской член. О, такое тоже случалось. У парня не встает, он лежит со своей поникшей пипиской и смотрит на тебя так, словно это ты сделала его импотентом. «У меня на тебя не стоит», — говорит его взгляд. Таких полно. Затем появляется какой-нибудь Кит, и ты начинаешь думать… а вдруг… внушаешь себе, что все будет прекрасно. Обманываешь себя, зная в глубине души, что ничего не выйдет. Когда он отваливает, ты даже не плачешь. — Извини меня, — Дженюари направилась к двери. — Садись, дурочка. Я пригласила тебя сюда не для того, чтобы обсуждать с тобой мою половую жизнь. Или оплакивать уход Кита. Я — сильная. Вчера я занялась астрологией. Если верить звездам, в 1971 году со мной произойдет нечто значительное. Поэтому сегодня, когда Леон сообщил мне новость, я вернулась домой, вытащила из морозилки мясо молодого барашка и, пока оно оттаивало, начала читать верстку нового романа Тома Кольта. — Он так же хорош, как его предыдущие вещи? — Лучше. Более коммерческий. Прежние вещи Кольта были слишком изысканными по стилю. Он увлекался техникой письма. Им восхищались только критики. Романы продавались неважно. Но этот станет настоящим бестселлером. Вот почему я — фаталистка. Если бы Леон остался у меня, мы бы легли с ним в постель, и я бы не добралась бы до верстки. — Что ты хочешь сделать? — спросила Дженюари. — Купить права на публикацию? — Ты шутишь? Я слышала, «Женский журнал» заплатил двадцать пять тысяч за два отрывка из книги. Роман нам не по карману, но сам Том Кольт представляет для нас интерес. Ты меня понимаешь? — Линда, я устала. К тому же мне еще надо собрать вещи. Не загадывай мне загадки. Я ничего не понимаю. Глаза Линды сузились. — Слушай, в последнее время ты стала медленней соображать. Советую тебе с кем-нибудь потрахаться… еще немного, и у тебя испортится кожа. — Это ошибочное мнение, и… Дженюари замолчала. — И что? Линда посмотрела на девушку. — А ты покраснела. Да ты уже сделала это с Дэвидом! Ну, слава богу! Ты принимаешь пилюли? Все чудесно? Недаром ты с таким нетерпением ждешь поездки в Палм-Бич — четверо долгих суток любви на берегу океана… — Линда! Мы занимались этим только один раз, и все было ужасно. Линда помолчала. — Ты хочешь сказать, у него не стоял член? — Нет… с ним все было в порядке. Просто мне не понравилось. Линда с облегчением рассмеялась. — Так всегда бывает в первый раз. У женщины… не у мужчины. Насколько мне известно, эти мерзавцы первый раз кончают, как сумасшедшие, даже если это происходит в тринадцать лет в темном подъезде с местной шлюхой. Она может и не кончить, но они кончают, еще не успев полностью засунуть член во влагалище. И никакая организация феминисток ничего тут не изменит. У девственницы влагалище всегда сжато, даже если ее трахают мизинцем. Молодая девушка, будь она мисс или миссис, редко кончает, если ее не ублажить по-настоящему. Рада за тебя. Жаль только, что это был Дэвид. Дженюари кивнула. — Мне тоже так кажется… наверно, мне следовало подождать. — Конечно. Я бы нашла тебе кого-нибудь. Может быть, даже Леона. — Ты с ума сошла! — Никогда не следует делать это первый раз с человеком, который тебе дорог. Первый опыт всегда неприятен, так можно потерять парня. Ты оттолкнула от себя Дэвида окончательно? — Наверно, нет… Он говорит, что любит меня. Хочет на мне жениться. Линда уставилась на Дженюари. — Тогда почему мы сидим здесь и оплакиваем твою девственную плеву? Фортуна всегда улыбается вам, неотразимым красавицам. Прими мои поздравления. Но вернемся к Тому Кольту. Насколько мне известно, он нуждается в деньгах и намерен отправиться в большое рекламное турне. — Но он очень богат, — возразила Дженюари. — Я видела его в детстве. У Тома была квартира в Нью-Йорке, где жила одна из его жен. Мой отец купил права на экранизацию его романа. Кольт — автор примерно пятнадцати произведений… у него куча денег. — У твоего отца тоже была когда-то куча денег. Может быть, удача отвернулась от Тома Кольта. Он сейчас женат… выплачивает алименты трем женам… отдал немалую сумму четвертой. Его последняя жена недавно родила мальчика. Представляешь, в его-то возрасте… у него до сих пор не было детей. Но, как я уже сказала, последние книги Кольта расходились плохо. Трудно долго оставаться платежеспособным после трех неудачных в коммерческом отношении книг, если содержишь просторный дом в «Беверли Хиллз» с большим штатом прислуги.и «роллс-ройс». При таком-то количестве женщин, сидящих у него на шее. К тому же последняя экранизация его романа состоялась в 1964 году — именно кино, а также издания в мягкой обложке приносят большие деньги. Но в этой новой вещи он вернулся к своему старому жесткому стилю. Он заявил, что хочет писать для читателей, а не для критиков. Несколько месяцев тому назад в интервью «Парис ревью» Том сказал, что ему наплевать на снобов, которые сочтут его продавшимся публике — он хочет занять первое место и заключить контракт с Голливудом, поэтому… — Что поэтому? — Ему нужна реклама. Он может запросить большую сумму за право публикации куска из романа. Но он бесплатно окажет нам помощь в подготовке статьи, посвященной ему лично. — А почему бы этой идее не прийти в голову Хелен Герли Браун, если это уже не случилось? — спросила Дженюари. — Это вполне возможно… но у нас есть ты! — Я? — Ты знаешь Тома Кольта. — О, Линда… Я встречалась с ним, когда мне было пять лет. Как я поступлю? Пошлю ему мою детскую фотографию с надписью: «Угадайте, кто это? Давайте встретимся в память о прошлом». К тому же ты сказала, что он живет в «Беверли Хиллз». — Если понадобится, я отправлю тебя туда. Первым классом. Слушай, книга выйдет только в феврале или марте. Ты лишь попросишь его дать нам интервью… ради папы. Дженюари поднялась на ноги. — Линда, я устала. Я должна собрать вещи… — О'кей. Желаю хорошо провести время. В промежутке между солнечными ваннами и любовью обдумай письмо Тому Кольту. Может быть, твой папа согласится добавить несколько строк… (обратно)Глава двенадцатая
Майк ждал в аэропорте посадки реактивного самолета. Он увидел Дженюари, идущую по ступеням трапа. Дэвид держал ее под руку. Девушка еще не заметила отца, и в течение короткого момента он тайком залюбовался ею. При каждой следующей встрече ее облик едва уловимо менялся. Красота Дженюари приобретала новые грани. Он одобрил современный стиль, которого она придерживалась. Широкие слаксы, шляпа с мягкими полями, прямые длинные волосы. Она походила на фотомодель последнего поколения. Увидев Майка, девушка бросилась к отцу и закричала: — Папа… о, папа… я так рада видеть тебя. Он улыбнулся, отметив, что в самые эмоциональные моменты она называла его не Майком, а папой. — Я оставил Марио дома готовить напитки. Я — ваш шофер, — объяснил Майк, когда Дэвид уселся на заднем сиденье, зажатый чемоданами. — Сколько гостей на сей раз? — спросил молодой человек. — Кажется, восемь или десять. Я сбиваюсь со счета — Ди каждый день устраивает ленчи на тридцать-сорок персон. Я ухожу играть в гольф в девять утра и, возвращаясь к четырем, застаю дома половину приглашенных. А затем к семи часам люди прибывают на коктейль. Но Ди решила, что рождественский обед пройдет в узком кругу. Только два столика, двенадцать гостей. Попросим господа, чтобы солнце не скрылось. Вам обоим не мешает немного загореть. Хорошая погода продержалась весь уик-энд. Возле бассейна за двумя или тремя столиками постоянно играли в триктрак. Бесчисленное количество слуг выкатывало горячие и холодные закуски. Майк и Дженюари загорали рядом, гуляли по пляжу, плавали вместе. Когда девушка играла в теннис с Дэвидом, Майк наблюдал за ней с изумлением: она легко обводила соперника при розыгрыше каждого мяча. Где она научилась так хорошо играть? В его голове мелькнули воспоминания о тех теннисных турнирах, на которых он так ни разу и не побывал. Он получал короткие послания в Лос-Анджелесе, Мадриде, Лондоне: «Участвую в розыгрыше Кубка юниоров. Хотела бы видеть тебя здесь». «Выступаю за школу мисс Хэддон в турнире Восточного побережья. Если бы ты мог приехать!» «Я победила». "Отправила кубок в «Плазу». «Заняла второе место». «Я победила». «Ты получил мой приз? Это настоящее серебро». «Я победила». Господи, как мало своего времени он отдавал ей. Внезапно Майк задумался — что же сталось со всеми этими кубками и призами? Она никогда о них не спрашивала. Наверно, хранятся в каком-то чулане вместе с пишущей машинкой, пианино, резными шкафчиками и офисной мебелью, которую он покупал, возвращаясь в Нью-Йорк. Майк даже не помнил, где хранятся квитанции от камеры хранения. Он пропустил большую часть ее детства. И теперь она потеряла несколько лет юности. Сейчас входит в лучшие года. Их он тоже пропускает. Он женат… брак — это не неудача в работе, о которой можно забыть, захлопнув за собой дверь кабинета. Глядя, как дочь играет в теннис, он вдруг испугался посетившей его мысли. Он подумал о своем браке как о постигшей его неудаче. Однако на самом деле ничего не произошло. Ди каждый вечер улыбалась ему через стол. Встречала гостей, держа его под руку. Он по-прежнему спал с ней пару раз в неделю… Вот! Именно это! Он коснулся обнаженного нерва. Он спал с ней. Последнее время ему казалось, что она лишь терпит его. Она больше не играла. Когда Ди в последний раз стонала, прижималась к нему, говорила, как ей хорошо с ним? Возможно, тут есть его вина. Может быть, она чувствовала, что он только исполняет супружеский долг. Такие вещи не скроешь. Да, он сам виноват. Бедная Ди, вероятно, огорчалась, что он столько времени проводит в клубе. Он уделяет ей мало внимания. Все утро играет в гольф, затем — в джин (он нашел неплохих партнеров)… Он возвращался к ней лишь в час коктейля. А вечера всегда заполнены приемами. Ладно, отныне все будет иначе. Как только Дженюари улетит, он окружит Ди прежним вниманием. Будет меньше играть в джин. Не мешает несколько часов днем проводить с Ди. Но он будет не с ней. Ему придется присутствовать на ленчах с ее друзьями, смотреть, как они играют в триктрак. Нет, уж лучше находиться в гольф-клубе. К тому же благодаря джину он выиграл пять тысяч долларов. Открыл свой счет в банке. Пять тысяч, конечно, ерунда. Но это были его собственные деньги. Заработанные, или выигранные, им. Они давали ему такую же радость, как и деньги, заработанные любым другим способом. Но он должен чаще заниматься с ней любовью. Возможно, он был невнимателен к Ди в постели. Ладно, в воскресенье, после отлета Дженюари, он займется созданием новой романтической атмосферы. Внезапно его настроение поднялось. Время от времени необходимо производить оценку ситуации. Ему казалось, что их отношениям недостает чего-то важного, а ведь он сам в этом виноват. В Марбелле, в Греции, куда они отправятся в следующем августе, в любом другом месте их будет окружать одна и та же толпа. В лондонском «Дорчестере» они пили коктейли в обществе не менее двадцати человек. Это был ее образ жизни. Он понял это, соприкоснувшись с ним. Ему отводилась роль кавалера, любовника. Он играл ее, когда они встретились, и снова вернется к ней, начиная с воскресенья. Но последующие несколько дней он наслаждался общением с дочерью. Видел, как становится золотисто-коричневой ее кожа (Ди оставалась белой), любовался чудесной фигурой Дженюари, ее свободно развевающимися волосами (волосы Ди всегда были тщательно уложены). Девушка носила голубые джинсы — на Ди были ослепительно белые брюки из акульей кожи. Тонкие серебряные колечки на пальцах Дженюари — и бриллиантовые перстни от Дэвида Уэбба, украшавшие руки Ди. Эти две женщины во всем казались антиподами. Ди была красива. И все же Майка радовало, что Дженюари непохожа на нее. В облике Дженюари была чистота, девушка точно светилась. Майку нравилось, что она проявляет ко всему интерес. Живой — к «Блеску». Небрежный — к Дэвиду. Вежливый — к рассказам Ди о последних любовных романах представителей местного света. Эти имена ничего не говорили девушке, но она слушала внимательно. Ему не удавалось понять, что представляет из себя Дэвид. Молодой человек постоянно улыбался, был идеальным кавалером для Дженюари. Он и Ди действительно походили на двоюродных брата и сестру. Они были сделаны из одного материала. Их аристократизм чувствовался во всем. Дэвид обладал безупречными манерами. Он без устали играл в триктрак с гостями Ди, его одежда всегда соответствовала ситуации. Теннисные шорты были модного покроя, свитер — элегантным; даже маленькие капельки пота на лбу придавали его облику особый шик — солнце, поблескивая в них, подчеркивало загар. Но был ли он тем человеком, о котором Майк мечтал для Дженюари? Задолго до встречи с Ди Майк понял, что желает дочери чего-то лучшего, нежели жизнь в мире шоу-бизнеса. Поэтому он отправил ее в эту престижную школу, расположенную в Коннектикуте. Он прислушался к совету своего брокера: «Она должна познакомиться с девушками из лучших семей, с их братьями — так это происходит. Для этого и существуют такие школы». Единственное, что она получила благодаря мисс Хэддон, — это множество кубков и работу в журнале. Из всех девушек, учившихся там, Дженюари сошлась с Линдой, настоящей акулой, каждую следующую ночь проводившей в новой постели. Но разве это не является частью нынешней вседозволенности? Он поглядел на дочь, бегавшую по корту. Переступила ли она уже эту черту? Нет! Он не рассчитывал на то, что она вечно будет хранить невинность. Похоже, Дженюари принадлежит к тому типу девушек, что совершают это после помолвки. Или перед ней… чтобы проверить свои чувства. Сейчас она вся в своей работе. Но, как сказала Ди, вероятно, Дженюари поиграет недолго в деловую девушку и затем благополучно выйдет за Дэвида. Почему его охватила грусть? Он же сам желал ей этого, не так ли? Но хотел ли он, чтобы Дженюари превратилась в молодую Ди? Почему нет? Такая судьба была бы гораздо лучше той, что выпала на долю многих девушек. Статус замужней женщины, дом в Иствиллидж. А что, если она похожа на него и мечтает стать суперзвездой? Что тогда? Допустим, она добьется своего. Несколько горячих лет на седьмом небе и неизбежный для всех, включая его, финал — одиночество и поражение. Если у мужчины есть деньги, он может протянуть немного дольше. Но к женщине, даже богатой, одиночество приходит быстрей. Возраст — главный враг женщины, приносящий ей поражение. Даже такая живая легенда, как Карла, — что за жизнь она ведет? До сих пор занимается у станка! Но без этих упражнений чем бы могла она заполнить свой день? Далеко не всем суперзвездам повезло, как Карле, родиться глупыми. Они не способны довольствоваться прогулками и упражнениями. Наиболее чувствительные истекают кровью в своих калифорнийских особняках, держась лишь на успокоительных пилюлях или снотворном, стараясь выбросить из жизни ночи, за которыми начинается новый бесконечный день с ленчами и обедами, подаваемыми прислугой, с долгими, одинокими, многочасовыми просмотрами по ТВ мыльных опер. Нет, Дженюари избежит этой участи. Мисс Хэддон заложила в ней некий фундамент, а теперь он, Майк, обеспечил остальное. Такое вот место для отдыха — солнце летом, снег зимой. Все, что ей будет угодно. Он получил это для нее. Майк посмотрел на Дженюари, покидающую корт с Дэвидом. Она снова выиграла у него. Это была его дочь — победительница. Но Дэвид тоже рожден для побед. Умение проиграть с достоинством и изяществом — нелегкое искусство. И Дэвид владел им. Он бросился к сетке, чтобы поздравить Дженюари, положил ей руку на плечо, пока другие гости аплодировали девушке. Но особенно Майка восхищало обаяние и жизнерадостность, которые Дэвид излучал на бесконечных ежедневных вечеринках. Дженюари, похоже, тоже получала удовольствие от уик-энда. Вероятно, он поступил правильно. Возможно, все сложится именно так, как он хотел. Их отношения станут серьезными, чувства окрепнут. Ди это обрадует. Но, черт возьми… не сейчас. Ей только в январе исполнится двадцать один год. Она еще имеет право быть свободной. Свободной для чего? Она — девушка… он судил по себе. Многие девушки не испытывают потребности погулять. Они готовы довольствоваться всю жизнь одним мужчиной. Дженюари была не из тех жалких девиц, что становились феминистками. Он не верил в искренность их заявлений. Иногда, видя их на экране ТВ, он мысленно произносил: «Да, детка… достанься тебе один классный самец, и ты запоешь по-другому». Это были одинокие девушки. А его дочери подобная участь не грозит. В воскресенье он встал рано. Он обещал дочери позавтракать с ней возле бассейна. Она уезжала в четыре часа. Он останется вдвоем с Ди. Майк был полон решимости сдержать данное себе самому слово. Он уже неделю не спал с Ди. Интересно, заметила ли она это? У них здесь были отдельные комнаты. Комнаты! Его спальня с видом на океан имела площадь более ста квадратных метров. Еще у Майка была сауна и ванная, отделанная черным мрамором. Ее спальня находилась неподалеку от его, но добраться туда можно было, лишь пройдя через гардеробную и ванную Ди, обшитую белым и позолоченным мрамором, с вечнозеленым деревом и аквариумом во всю стену, которая служила также стеной ее спальни; эта комната была чуть меньше той, где спал он, но примыкавшая к ней терраса размерами напоминала танцплощадку. Иногда они завтракали там под тентом. Сегодня он занялся своей физической формой — никаких «Кровавых Мэри» за ленчем, никаких мартини в час коктейля. Этой ночью он будет любить ее со своим давнишним жаром. Он провел утро с Дженюари. Она полистала страницы «Таймс», посвященные журналам, а он заглянул в спортивный раздел. Они могли общаться без слов, и это было замечательно. Просмотрев спортивный и театральный разделы, он заметил, что Дженюари читает какую-то верстку. — Интересная книга? — спросил он. — Очень. Подняв голову, она сдвинула солнцезащитные очки на лоб. — Помнишь Тома Кольта? — Как я могу забыть его? Я заработал три миллиона с помощью картины, снятой по роману Кольта. — Я имею в виду, ты помнишь, как водил меня к нему в гости? — К нему в гости? А, конечно. Он жил в особняке из песчаника где-то в районе Восточных Семидесятых. — «Блеск» хочет опубликовать статью о нем. Что он за человек? — В те дни он переживал роман с самим собой. Первая книга принесла ему Пулитцеровскую премию. Это не произвело на Тома впечатления. Он говорил мне, что мечтает о Нобелевской. К тому моменту он написал шесть романов и планировал за десять плодотворных лет добиться поставленной цели. Но, думаю, его браки и схватки в барах убили мечту. Вид у Майка стал задумчивым. — Насколько мне известно, его последняя книга расходилась неважно. Но, полагаю, он не настолько напуган этим обстоятельством, чтобы дать интервью «Блеску». — Майк! Ты когда-нибудь читал «Блеск»? — От корки до корки, когда ты сказала, что будешь работать там. Этот журнал — не для Тома Кольта. Слушай, детка, ты помнишь, как шесть лет тому назад все газеты рассказывали о его схватке с акулой? Лодка, с которой Том ловил рыбу, перевернулась, и он кулаками отбивался от акулы, пока не подоспела помощь. — Серьезно? — Еще он сражался с быком в Испании. Нокаутировал в баре профессионального боксера. Когда его самолет упал на землю, Том со сломанной ногой проделал путь длиной в милю до города. Он может перепить любого и одолеть Мохамеда Али одной рукой. — Это правда? Майк засмеялся. — Нет… но это — часть имиджа, создать который он стремится. Он на самом деле побил многих парней в барах, но никто не знает, действительно ли Том нокаутировал профессионального боксера. История с акулой — подлинная… с быком — тоже. Говорили, что бык был уставшим, но Том действительно вышел на арену и схватился с ним. Я хочу сказать следующее — он ищет подобной рекламы. И я не могу представить себе Тома дающим интервью «Блеску». — И все же мы надеемся взять его. — То есть пока что у вас нет материала? Дженюари посмотрела на свои загорелые ноги. — Я должна написать ему письмо. — И между прочим упомянуть, что я — твой отец? — Да… между прочим. Ты мог бы черкнуть постскриптум. — Не получится, — сказал он. — Дело не в моем нежелании помочь тебе. Ради тебя я согласен ползать на брюхе. Но упоминание обо мне только снизит твои шансы получить интервью. — Почему? — Как я уже сказал, в те годы, когда мы общались, он мечтал о Нобелевской премии. Чтобы сделать коммерческий фильм по его роману, я выбросил ряд важных эпизодов и персонажей. В противном случае у нас вышла бы шестичасовая лента. Он не простил мне этого. — Но если фильм принес прибыль… — Да — мне и киностудии. Он получил только гонорар — около двухсот тысяч — и никаких процентов. Поэтому его интересовала только художественная сторона. Скажем так… мы не враги, но и друзьями нас не назовешь. — Сколько ему лет? Майк наморщил лоб. — Он на пять-шесть лет старше меня… вероятно, ему сейчас пятьдесят семь или пятьдесят восемь. Но, насколько мне известно, он по-прежнему много пьет и встречается с молодыми девушками. Майк вздохнул. — Знаешь что? Нет ничего хуже старого бабника. Такой тип — все равно что сорокалетняя женщина, пытающаяся выглядеть, как девушка-подросток. — Что, по-твоему, я должна сделать, чтобы получить у него интервью? — Забудь об этом… Дворецкий позвал всех на ленч, гости направились к бассейну; Ди появилась в развевающемся платье и широкополой шляпе; изысканная трапеза началась. После нее Майку больше не удалось поговорить с дочерью. Количество гостей перевалило за полсотню. Некоторые молодые люди соперничали с Дэвидом за внимание Дженюари. Майк заметил это. И еще — спокойную уверенность Дэвида. Ну конечно. Весь обратный путь она проведет в его обществе. Но у Майка появилась симпатия к парню. Они несколько раз беседовали за эту неделю, и Майк почувствовал теплоту, которой он прежде не замечал в Дэвиде. Возможно, длительное общение с Дженюари помогло ему раскрыться. А может быть, дело было в том, что Майк подсознательно хотел симпатизировать Дэвиду, который мог стать постоянным кавалером дочери. Сейчас Майку не хотелось анализировать свои чувства. Она скоро улетит, вся толпа рассосется — вечером он останется наедине с Ди. А с завтрашнего дня — снова ленчи… До Нового года потянется череда вечеринок. Ди что-то сказала насчет поездки в январе в Палм-Спрингс — там состоится турнир по триктраку, и они погостят у ее друзей. Потом, возможно, вернутся в Нью-Йорк. Он любил солнце и гольф. Но всего должно быть в меру. Хотя в Нью-Йорке Майк лишь играл в джин и бездельничал, все равно там он чувствовал себя иначе, нежели в Палм-Бич. Атмосфера Нью-Йорка тонизировала Майка. Это был его город. Он мог, идя по Пятой авеню, встретить знакомого… поболтать о шоу-бизнесе в клубе «Монах»… посмотреть бродвейскую постановку… пообедать с Дженюари в «Пристанище Дэнни», пока Ди играет в триктрак. Он вспомнил прежние дни, когда «Дэнни» был его вторым домом. Он сидел за столом у сцены с очередной девушкой, зная в зале почти всех. Но последнее время… он нигде не видел знакомых лиц. Куда они исчезли? В «21» и у «Дэнни» новые люди сидели за престижными столами… телезвезды, певцы, светские знаменитости. Но Майка все равно тянуло в Нью-Йорк. Вечером он будет ухаживать за Ди, сделает ее счастливой, зависимой от него — и затем предложит после Палм-Спрингс на несколько недель задержаться в Нью-Йорке. Он отвез Дженюари и Дэвида в аэропорт, посмотрел, как они поднимаются в самолет. Вернулся назад к машине. Они были такими молодыми и красивыми. Когда он успел постареть? На обратном пути Майк поглядывал на свое отражение в зеркале заднего вида. Скоро ему исполнится пятьдесят три. Черт возьми, это еще не старость. Он в расцвете сил. И хорошо выглядит. У него не было ни одного лишнего килограмма. Женщины по-прежнему посматривали на Майка. Конечно, это были гости Ди, всем им перевалило за сорок, — но в клубе на Майка поглядывали и более молодые дамы, игравшие в гольф. Но он всегда улыбался открыто и дружелюбно, ничего более, несмотря на то что некоторые женщины ему нравились… например, дочь банкира Ди… Моника. Да, разведенной Монике около тридцати двух лет. Она вдруг начала ежедневно брать уроки гольфа. Один из его друзей по джину сказал, что она делает это из-за Майка. Моника… да… Это было бы здорово. Но он бы не пошел на такое. Он дал себе слово — если он женится на Ди и она положит приличную сумму на счет Дженюари, он не станет обманывать ее. К тому же Ди выглядела прекрасно. Она сохранила стройность. Кое-где ее тело стало мягким… но оно еще было красивым. Черт возьми, многие мужчины отдали бы все, чтобы обладать ею… а он «хотел» ее лишь дважды в неделю. Это плохо. Она не могла предлагать ему себя. Ди — не Тина Сент-Клер, которая способна заявить: «Эй, дорогой, давай-ка потрахаемся». Нет, такие, как Ди, ждут. И они не трахаются… они предаются любви. За ними надо ухаживать. Он пренебрегал Ди. Пора менять свое поведение. Если это его жизнь, ему следует хотя бы сделать ее интересной. Он вернулся в дом около шести часов. Все ушли. Один из дворецких заново наполнял спиртным бар на террасе. — А где миссис Уэйн? — спросил Майк. Дворецкий недоумевающе посмотрел на него. Майк мысленно выругался — для этого кретина она оставалась «мисс Грейнджер». Нет, он ни за что не скажет: «Где мисс Грейнджер?», даже если они будут так глядеть друг на друга весь день. Старый дворецкий моргнул, на его лице появилась радостная улыбка, словно он что-то вспомнил. — Мадам наверху. Кажется, она отдыхает. Кивнув, Майк направился к широкой лестнице. Посмотрев на ступени, повернулся и спустился на лифте в винный погреб. Выбрал бутылку шампанского, отнес ее на кухню, подождал, пока прислуга даст ему бокалы и положит икру на охлажденное блюдо. Когда Майк вошел в комнату с подносом в руках, Ди лежала в шезлонге. На коленях у Ди была телефонная книга. Он понял, что жена назначает время приемов на следующую неделю. Он приблизился к ней с подносом и поставил его на столик. — У нас какое-то событие? — спросила Ди. — Да… мы остались одни… и я люблю тебя. Он убрал справочник с ее коленей. Сел на край кресла. — Сегодня мы никуда не идем, да? — Если хочешь, мы можем пойти на одну из нескольких вечеринок. Вера сейчас в городе, и Арденсы устраивают прием в ее честь. Еще… Наклонившись, он поцеловал Ди. — Предлагаю послать всех к черту… Он запустил руку под платье жены. Она убрала ее. — Майк, еще только шесть часов. Он засмеялся: — Разве есть закон, разрешающий заниматься сексом только в определенные часы? Давай немного выпьем… и предадимся любви на этой большой кровати, откуда виден океан. Если нам повезет, мы увидим луну. Трахаться в сумерках — это восхитительно, Ди. — Майк! Она вскочила с кресла и зашагала по комнате. — С кем, по-твоему, ты разговариваешь… с одной из статисток, с которыми ты встречался? — О, Ди… это часть любовной прелюдии. Я не хотел тебя обидеть. — Это вульгарно. Он усмехнулся. — Послушай. Я же произносил это слово, когда мы были в постели. — Это другое дело. Я хочу сказать, когда мы этим занимаемся, я не могу запретить тебе выражаться подобным образом… но мне это не нравится. О, я знаю, что некоторые мужчины получают удовольствие от использования такого лексикона… но почему? Он возбуждает их, позволяет им почувствовать себя более мужественными? У одного из моих мужей эрекция происходила лишь после того, как он заставлял меня произнести это слово, сказать, что я хочу, чтобы он меня… ты понимаешь. Майк заставил себя улыбнуться. — Хорошо. Я постараюсь следить за своим языком в постели… Он подошел к ней, но она отвернулась. — Теперь, может быть, мы… — О, Майк, ты меня удивляешь. Сейчас не время для… Он взял шампанское и направился к двери. — Майк… не сердись. Просто я не в настроении. — О'кей. Я понимаю. Он поднял бутылку. — Я выпью шампанское один. Потому что это действительно особый случай. Впервые я получил отказ. Все когда-то происходит в первый раз… Он закрыл за собой дверь. Когда Майк покинул комнату, Ди замерла. Она совершила ошибку. Ей следовало уступить ему… но она не смогла. Она обессилела. Устала от необходимости улыбаться, спешить с одной вечеринки на другую, играть роль невозмутимой красавицы Ди Милфорд Грейнджер Уэйн. Везучей Ди Милфорд Грейнджер Уэйн, жены такого привлекательного мужчины. Несчастной Ди Милфорд Грейнджер Уэйн, страдающей из-за того, что эта необязательная полька так и не прилетела в Палм-Бич. Карла почти обещала погостить тут. О боже, как она мечтала о том, чтобы Карла появилась здесь! Особенно Ди хотела, чтобы Карла увидела Дженюари и Дэвида вместе. Танцующими вдвоем, плавающими, играющими в теннис… увидела и поняла, что они, молодые, принадлежат и подходят друг другу. Разговаривая с Ди во вторник, Карла сказала: «Возможно». Она даже обещала, что если решит полететь, то прибудет в аэропорт к четырем. Ди велела пилоту ждать до половины пятого. Ди скрыла свое разочарование, когда Дженюари и Дэвидпоявились одни. Она была довольна, что они прекрасно ладят. Лишь это обстоятельство порадовало ее за уик-энд. Дэвиду, похоже, Дженюари действительно нравилась. Если бы только это увидела Карла! Почему она не прилетела? Верно, из упрямства. В конце концов, все покинули на эти дни Нью-Йорк. Что она делает в этот длинный уик-энд? Дэвид тоже думал о Карле. Весь уик-энд. И сейчас, сидя в самолете, приближающемся к «Батлеру», частному летному полю аэропорта «Ла Гуардия». Внезапно он понял, что в течение всего полета почти не говорил с Дженюари. Но она читала какую-то верстку. Потом смотрела в окно. О чем она думала? Но Дэвида на самом деле это не очень-то интересовало. А Дженюари думала о Дэвиде. Она дочитала роман и решила послать Тому Кольту письмо. Представиться помощницей главного редактора «Блеска». Она не станет объяснять Линде, что Майк не способен помочь им. Дженюари увидела загорелое лицо Дэвида. Он смотрел в окно на яркие огни города. Он был так мил и внимателен весь уик-энд. Всегда проявлял готовность поплавать с ней или сыграть в теннис. Та ужасная ночь убила зародыш ее чувства к нему. Возможно, оно еще возродится. Вероятно, после принятия спиртного и неторопливой беседы они смогли бы снова заняться любовью. И на этот раз все, возможно, все было бы хорошо. Но она не сможет переступить порог его кошмарной красной спальни… никогда. Дэвид заказал автомобиль. Машина уже ждала их в аэропорту. Они уложили чемоданы в багажник и поехали к дому, где жила Дженюари. Дэвид помог шоферу передать ее вещи консьержу. Девушка улыбнулась. — Я получила удовольствие от наших четырех дней, — сказала она. — Я тоже… Дженюари посмотрела на часы. — Еще только девять. Хочешь подняться ко мне и выпить? Ты еще не видел мои роскошные апартаменты. Он улыбнулся: — Обещаешь пригласить меня в следующий раз, когда будешь свободна? Я должен сделать ряд деловых звонков из дома… я знаю, что меня ждет куча сообщений. Позвоню тебе завтра. Как только проснусь. Она проводила его взглядом. Он сел в машину. Да! Теперь она знала, какие чувства испытывала Линда… вот что такое отказ. Дэвид и не подозревал, что только что отказал Дженюари. Он счел ее приглашение проявлением вежливости. И не хотел тратить час на пустую болтовню за бокалом спиртного. Возле своего дома он отпустил машину и немедленно справился насчет сообщений. Их оказалось несколько. Ким отправилась на вечеринку к Монике — пожалуйста, приезжай. Звонила принцесса Дельманио — у нее собирались любители триктрака. Горничная предупредила, что вместо понедельника придет во вторник… она оставила номер своего телефона. Еще несколько сообщений показались ему не стоящими внимания. Ни слова от Карлы. Почему она должна была позвонить? Она знала, что он возвратится лишь сегодня вечером. Она позвонит ему завтра на работу. Почему-то он ударил ногой корзину для мусора. Какая нелепость. Часы показывали лишь половину десятого. Карла — та женщина, которую он любит. Он располагает целым свободным вечером. Они могли провести его вдвоем. Однако он не может связаться с ней. Он больше не в силах терпеть это. Сидеть, точно девушка, в ожидании звонка. Он схватил пальто, выбежал из дома и остановил такси. Он отправится к ней… будет колотить кулаками в ее дверь. Потребует, чтобы она дала ему номер своего телефона. Плевать, если она сейчас спит. Он должен проявить характер. Если он хочет, чтобы она относилась к нему, как к мужчине, то ему следует вести себя соответствующим образом. Сегодня он добьется своего. Пусть даже ценой их первой ссоры. Но больше всего на свете ему хотелось обнять Карлу… посмотреть ей в глаза… почувствовать прикосновение ее сильных рук… услышать хрипловатый смех. Такси остановилось. Расплатившись с водителем, Дэвид выскочил из машины. Эрнест, приветливый и вежливый консьерж, стоял на своем посту. Он, как всегда, по-дружески кивнул Дэвиду, но вместо обычного «Добрый вечер, мистер Милфорд» спросил его: «Куда вы идете, мистер Милфорд?» — К мисс Карле. — Но она уехала в пятницу утром. — Уехала. — Да… с двумя чемоданами. — Куда? В другой дом? Или… Консьерж заметил испуг на лице Дэвида. — Послушайте… не волнуйтесь. Нет, не в другой дом. Вы знаете мисс Карлу. Она иногда внезапно исчезает. Никто из нас до последнего момента не знал, что она куда-то собирается. В пятницу в девять утра она спустилась вниз. На ней была меховая шуба и темные очки. Но только вместо обычной прогулки до балетной студии она попросила найти такси. Как я уже сказал, при ней были чемоданы. Она сказала мне, что просит забирать ее почту и приостановить доставку «Уолл-стрит джорнэл». Это единственная газета, которую она читает… Затем попросила водителя отвезти ее в аэропорт «Кеннеди». Вот все, что мне известно. — Я… я сам отсутствовал, — сказал Дэвид, пытаясь прийти в себя. Он не мог видеть сочувственное лицо консьержа. — Я был в Палм-Бич… смотрите, как я загорел… и не прочитал все полученные мной сообщения. К сожалению, я улетел, не предупредив об этом мисс Карлу. Позвонил ей из аэропорта. Мне никто не ответил… вы знаете, как плохо работает сейчас телефон… никогда нельзя быть уверенным… и я решил приехать сюда. Теперь я, вероятно, найду у себя ее сообщение. — Конечно, найдете. Дэвид повернулся и ушел. Она уехала. Консьерж не будет встречать его словами: «Добрый вечер, молодой человек». Боже, какие у них были вечера! Он приходил, уверенный в себе и счастливый, кивал лифтеру, который знал, что Дэвида ждут. И теперь она снова пропала. На какой срок? И почему? На улице уже зажглись фонари… Дэвид побежал. Она исчезла… даже не попрощавшись с ним. Он продолжал бежать… только бег спасал его от истерики. Он остановился лишь возле своего дома. Войдя в квартиру, закричал, оборачиваясь к стенам: «О боже… Карла… почему?» Он стоял и рыдал… громко, надрывно… впервые с того дня, когда его вывели из состава футбольной команды в Эндовере. (обратно)Глава тринадцатая
Карла сидела в одном из передних кресел самолета. Обзвонив все авиакомпании и заручившись обещанием, что соседние места в салоне будут пустовать, она забронировала билет до Лондона на одиннадцатичасовой рейс «Транс Уолд Эйрлайнс». Огромные солнцезащитные очки закрывали ее глаза. Пока что молодая стюардесса не узнала Карлу. Она, конечно, была еще ребенком, когда актриса ушла из кино. Но некоторые сверстницы бортпроводницы возродили культ Карлы, увидев ее в «Передаче для полуночников». Она наблюдала за тем, как они смеются, готовя блюда и напитки, улыбаются, обслуживая авиапассажиров. Они были так молоды. И счастливы. Была ли она когда-то такой молодой? Смеялась ли так? Нет… это невозможно. Она росла в деревне под Вильно. Вильно. Отец совершил роковую ошибку, перебравшись сюда… как и многие другие поляки. В 1920 году Польша, воюя с Россией, захватила Вильно, столицу Литвы. Крестьяне, мечтавшие о новых землях, хлынули сюда. В 1921 году под Вильно прибыл Анджей Карловски с женой, грудной дочерью и двумя маленькими сыновьями. Он покинул деревню, расположенную возле Белостока, в надежде разбогатеть под Вильно и отправить сыновей, когда они подрастут, в университет. Но новая земля оказалась проклятой. Его соседями стали украинцы, которые сохранили свои национальные черты. В ближайшей деревне была католическая церковь и государственная школа, где учились монахини. Анджею и его жене не оставалось ничего другого, как работать на голой земле по пятнадцать часов в сутки. Им некогда было тосковать по прежней жизни и старым друзьям. Ферма отнимала у них все силы — они мечтали отправить сыновей в университет. В этой безрадостной атмосфере росла Наталья Мария Карловски. Ее детство было спокойным и скучным. Она взрослела без смеха и фантазий, с убогой мечтой выйти замуж за парня, у которого будет большой надел. Карловски были истовыми католиками. Единственный день, когда мать Натальи не чистила картошку, было воскресенье — семья ходила к мессе. Тогда жена Анджея Карловски надевала на голову вместо платка черную шляпку, меняла привычный фартук на блестящее черное платье, и в ее грубых натруженных руках вместо картофелечистки появлялись четки. Отец надевал свой единственный черный костюм, в котором он ходил в церковь, на свадьбы и похороны. Наталья посещала государственную школу. Года текли для нее размеренно и однообразно. Ей было девять лет, когда сестра Тереза своим появлением внесла красоту и радость в скучную жизнь учениц. Сестра Тереза была родом из Варшавы. Она видела Москву и Париж. Она училась балетному искусству и вдруг услышала «зов». Все бросила и ушла в монастырь. Маленькая школа стала ее первым заданием. Она рассказала об этом своим притихшим подопечным как о чем-то заурядном и естественном. Они смотрели на нее, оцепенев от изумления, впервые видя перед собой красивую женщину, кожа которой не огрубела от ветра, а руки не были красными от ежедневной стирки. Суровые польские зимы отнимали у молодых девушек их привлекательность прежде, чем она успела расцвести. Все ученицы почитали сестру Терезу. Но маленькая Наталья боготворила ее. Когда сестра Тереза предложила девочкам заниматься с ними балетом в школьном спортзале, Наталья стала работать там с демонической энергией. В своей тесной комнатке она часами делала упражнения, зная, что сестра Тереза радуется, когда кто-нибудь из девочек демонстрирует изящество пластики. Заслужив похвалу сестры Терезы, Наталья возвращалась домой взволнованной и задумчивой. Однажды сестра Тереза попросила ее задержаться после занятий. Ладони у Натальи увлажнились, а сердце выпрыгивало из груди. Сестра Тереза подошла к ней с улыбкой. — Наталья, у тебя есть задатки настоящей балерины, я говорила с матерью-наставницей. Если твои родители дадут свое согласие, я постараюсь выхлопотать для тебя место в Празинской балетной школе. Тебе придется жить и учиться там, но ты сможешь заниматься балетом по пять часов в день. Ее мать и отец тотчас дали свое согласие: предложенное монахиней не может быть дурным. Наталья разрывалась на части. Она понимала, что это — ее великий шанс, но тогда она расстанется с сестрой Терезой. Монахиня пообещала раз в неделю навещать Наталью и следить за ее успехами; девочка немного успокоилась. Все воспитанницы школы выбирали себе сценические псевдонимы. У Натальи не было воображения. Она осталась Натальей Карловски. Следующие семь лет центральные места в ее жизни занимали балет и сестра Тереза. По субботам учащиеся танцевали днем в маленьком театре. Выручка от продажи билетов окупала затраты на постановку. Первые несколько лет Наталья занималась декорациями, гримом, шитьем костюмов для балерин. Когда ей исполнилось двенадцать, она вошла в кордебалет. Каждую неделю сестра Тереза сидела в зрительном зале, и Наталья танцевала, изо всех сил стараясь заслужить ее похвалу. Родители пришли на первую репетицию в своих «церковных» костюмах. Они испытывали смущение, им было жарко в зале. Отец заснул во время второго действия, и матери пришлось ущипнуть его, чтобы он перестал храпеть. Больше они здесь не появлялись — слишком долгим был путь из дома, где их ждала масса дел… Когда Наталья получила свою первую сольную партию, девушки настояли на том, чтобы она взяла себе псевдоним. Сестра Тереза предложила ей назвать себя Карлой. После выступления она бросилась в объятия монахини, и сестра Тереза прошептала: «Поздравляю тебя… Карла». С тех пор Наталья забыла о своем первом имени. Она словно родилась и была окрещена заново. Однажды после репетиции сестра Тереза попросила у Карлы разрешение нанести визит ее родителям. — Тебе уже девятнадцать. Пора подумать о будущем. Могу я прийти в следующее воскресенье… после мессы? Карла навсегда запомнила этот день. Она покинула школу и села на первый утренний поезд. Когда она добралась до дома, родители еще были в церкви, но до нее донеслись запахи жареного гуся и яблочного пирога. Она замерла посреди маленькой гостиной. Внезапно комната показалась ей жалкой. Она была безупречно прибранной, но… очень бедной. За окном стоял июнь, и Карла бросилась во двор. Нарвала весенних цветов. Расставила их по комнате. Попыталась прикрыть салфетками потертую обивку стульев. Но когда сестра Тереза прибыла в дом, она, казалось, не заметила его бедности. Монахиня восхищалась литой подставкой для дров… оловянными кружками… она двигалась, точно прекрасная фарфоровая богиня. Сестра Тереза похвалила приготовленного гуся, цветную капусту и кнедлики. Круглое лицо матери засветилось от радости, и впервые Карла заметила ямочки на ее щеках… а также то, какими красивыми становились глаза у отца, когда он улыбался. Девушка сидела молча, а сестра Тереза объясняла родителям Карлы, что она хотела бы отправить ее в Варшаву. — Моя семья очень богата, — тихо сказала Тереза. — Брат матери, дядя Отто, живет в Лондоне. Он — крупный коммерсант. Мои родные сделают для Натальи то, о чем мечтали для меня. Она поживет у них, пока будут идти просмотры. Позже сможет остановиться у дяди Отто, если захочет попытать счастья в лондонском «Сэдлерс Уэллс»… Могу я рассчитывать на ваше согласие? Отец и мать дружно кивнули. О таком они и мечтать не смели. Варшава… Лондон… Они были согласны с любым предложением сестры Терезы — но чем они отблагодарят ее? Потом Наталья и сестра Тереза отправились на прогулку. Выйдя во двор, девушка сказала: — Я не поеду в Варшаву. Не хочу расставаться с вами. Сестра Тереза засмеялась: — Ты будешь счастлива там. Скоро наш маленький Празинский балет не сможет больше ничему научить тебя. Ты почти созрела. Внезапно монахиня указала на дерево: — Что это? Карла покраснела. Вокруг ствола были прибиты доски, они образовывали сиденье. Дерево было обнесено штакетником. Карла смущенно засмеялась: — Вы внесли в мою жизнь не только балет, но и поэзию. Однажды в школе вы рассказывали о живописной беседке… я почти видела вас сидящей в ней. Придя домой, я построила ее. Я мечтала когда-нибудь показать ее вам — а теперь я вижу, какая она уродливая. Сестра Тереза вошла за ограду и села на сиденье. — Она прелестна, моя маленькая Карла. Посиди со мной. От монахини пахло душистым мылом и фиалками. Внезапно Карла обняла сестру Терезу и сказала: — Я люблю вас. Я полюбила вас с первого взгляда. Сестра Тереза осторожно освободилась из объятий девушки. — Я тоже тебя люблю. — Правда? О, тогда позвольте мне поцеловать вас… Она коснулась кончиками пальцев щеки монахини, взяла ее за руку. Но сестра Тереза снова отстранилась. — Ты не должна дотрагиваться до меня. Это дурно. — Что плохого в любви? — Любовь не бывает плохой, — сказала сестра Тереза. — Но физическая любовь между нами порочна. Тебе не следует целовать и касаться меня. — Но я хочу это делать. Как вы не понимаете? О, сестра, я ничего не знаю о том, как люди занимаются любовью. Я мало разговариваю с девушками в школе. Но иногда, ночью, лежа в своей комнате, я слышу, как они забираются тайком в постели друг к другу и предаются ласкам. Ко мне тоже подходили… но я всех отвергала. Для меня существуете только вы. Я лежу одна, во сне вы приходите ко мне в ночной рубашке, обнимаете меня, и… — И что? — спросила сестра Тереза. — Я прижимаюсь к вам, целую вас… ласкаю… Девушка замолчала. — О, сестра, я хочу прильнуть к вам. Это правда дурно? Сестра Тереза коснулась пальцами четок, висевших у нее на шее. — Да, Карла, это дурно. Знаешь, в варшавской школе я тоже по ночам уединялась с девушками. Иногда подобное случается… девочки созревают… их окружают только подруги… встречаться с молодыми людьми нет времени. Поэтому они влюбляются друг в друга. Со мной это тоже было, но я сознавала греховность такой любви… мучилась. Также я знала, что я не самая лучшая балерина, что меня приняли в школу из-за богатства и положения моей семьи. Однажды, когда мне досталась партия, которую сначала собирались дать другой девушке, я услышала чей-то шепот: «Она получила эту роль благодаря своему лицу, а не ногам». Девушка, которой не дали эту партию, убежала вся в слезах — она сказала, что моя красота недобрая, с ее помощью я получаю то, чего не заслуживаю. Печать страдания появилась на лице сестры Терезы, когда тягостные воспоминания обрели форму слов. — В ту ночь я упала на колени и стала молить Бога помочь мне. И внезапно я словно вырвалась из темноты. Я поняла, что не хочу стать знаменитой балериной. Осознала, что мое главное желание — служить Господу и любить его… моего дорогого Иисуса. Я проводила дни, постоянно думая о нем. Читала жития святых, узнавала, как открывалось их признание, и вдруг, изучая жизнеописание «Маленького цветка» — святой Терезы, — я поняла, что должна стать монахиней. Я знала, что не совершу никакого чуда… но я могла радовать людей своими добрыми делами. Впервые это произошло, когда я оставила балет. Девушка, которая плакала, получила мою роль. Поверь мне, Карла, — тогда я впервые испытала подлинное счастье. Приехав сюда и увидев серьезные детские лица, я поняла, что годы учебы прошли не зря… что теперь благодаря им я смогу помочь детям Вильно… тебе, моя маленькая Карла. Ты должна упорно овладевать балетным искусством… и всегда помнить, что Он смотрит на тебя. Заниматься любовью с женщиной — тяжкий грех. Однажды ты встретишь мужчину… и испытаешь истинную любовь. — Тогда почему вы не встретили такого мужчину? — Я встретила его. Это Иисус Христос. Они покинули беседку и больше никогда не говорили о любви. Когда лето подошло к концу, сестра Тереза изменила свои планы насчет поездки Карлы в Варшаву. — Мы должны отправить тебя в Англию… — Когда? — Немедленно. Я написала дяде Отто о тебе. Сегодня получила ответ. Он и тетя Боша будут рады, если ты поживешь у них, пока тебя будут смотреть в «Сэдлерс Уэллс». Карла попыталась возразить. — Не сейчас. Может быть, на следующий год. Но сестра Тереза проявила настойчивость. — Ты должна уехать не позже, чем через десять дней. Вот твой авиабилет до Лондона. Карла уставилась на билет, который протянула ей сестра Тереза, и покачала головой. — Нет… нет… я не хочу лететь. — Карла, послушай меня. Война начнется со дня на день. Германия заключила пакт о ненападении с Россией. На прошлой неделе фон Риббентроп был в Москве. Почему, по-твоему, я раздумала посылать тебя в Варшаву? Только в Лондоне ты будешь вне опасности. — А как же вы? Если оставаться здесь опасно… почему вы не уезжаете? — Я нахожусь под защитой церкви. Даже во время войны церковь — надежное убежище. Господь защитит меня. Он всех нас видит. — Тогда пусть он присмотрит и за мной. — Нет. У тебя есть свое собственное предназначение. На следующий день занятий не было — все учащиеся и преподаватели, сгрудившись возле радиоприемника, слушали сводки новостей. Гитлер уведомил Францию и Англию о своих претензиях на Данциг и «польский коридор». Девушки шептались — как война отразится на балете? Прошел день, и воспитанницы вернулись к станку; репетиции возобновились. Но реальная жизнь и страх обрушились на Празинский балет тридцать первого августа, когда Гитлер выдвинул Польше ультиматум из шестнадцати пунктов, который она отказалась принять. Внезапно вся Празинская школа пришла в движение. Занятия прервались. Люди вытаскивали из шкафов чемоданы. Преподаватели пытались заказать железнодорожные билеты, чтобы попасть домой. Вечером все шептались, сбившись в небольшие группы. Девушки, которым предстояла разлука со своими любовницами, не таясь, держались за руки. Карла сидела одна, думая о сестре Терезе. Что она сейчас делает? Молится вместе с другими монахинями? Думает ли о своей воспитаннице? На рассвете без всякого объявления войны Германия вторглась на территорию Польши. Ученицы решили не ждать своих поездов и отправились пешком на вокзал, чтобы сесть на любой попутный состав. Карле улыбнулась удача — ее согласился подвезти фермер, живший по соседству с родителями девушки. Войдя в свой дом, она застала отца и мать сидящими перед радиоприемником в состоянии ступора. Их сыновья покинули университет и вступили в армию… все мечты, ради осуществления которых работали старики, рухнули в один день. Карла никогда не читала газет, но тут она отправилась в деревню, чтобы купить дневной выпуск. Она прочитала его и ничего не поняла. Внезапно она отдала себе отчет в том, как скудны ее познания во всем, что не связано с балетом. Она знала все о Нижинском — о его жене, менеджере, педагогах — и ничего о жизни, окружавшей ее. Она слышала об опасности, исходившей от Гитлера… но по-настоящему война до последнего момента не воспринималась как реальность в стенах Празинской школы. Теперь самыми важными моментами дня стали сводки варшавского радио — их трансляция начиналась несколькими первыми аккордами шопеновского «Полонеза до-мажор». Когда Карла узнала о том, что механизированные немецкие части достигли окраин Варшавы и открыли огонь по столице, она поняла, что пора уезжать. Она должна попасть в Лондон к дяде Отто. Девушка собрала свой чемодан, поцеловала на прощанье родителей и прошла пешком три километра до монастыря, где находилась сестра Тереза. Она застала монахиню сидящей возле радиоприемника и теребящей пальцами четки. Глаза женщины смотрели в пространство. Всю ночь она пыталась дозвониться до своих родителей в Варшаву, но линия, очевидно, была повреждена. Увидев чемодан Натальи и услышав о намерении девушки отправиться в Лондон, монахиня покачала головой с печальной улыбкой на лице. — Слишком поздно. Самолеты не летают… поезда тоже не ходят… больше не будет балета… прекрасный сон кончился. Карла втайне обрадовалась, что ей не придется покинуть Вильно и расстаться с сестрой Терезой. В течение следующей недели она то сидела у радиоприемника с родителями, то навещала сестру Терезу. Радио стало центром, вокруг которого вращалась жизнь. Отец и мать не могли связаться с родственниками, оставшимися в Белостоке… очевидно, они уже покинули свой дом. Теперь путь к спасению лежал только через Румынию. Из деревни началось массовое бегство. Люди несли на себе узлы с вещами, ценную мебель, даже домашнюю птицу, надеясь прорваться в Румынию. Польская армия мужественно сражалась с врагом, но семнадцатого сентября с востока началось вторжение русских. Анджей велел жене и дочери спрятаться в монастыре. Мария, голубые глаза которой остекленели от страха, отказалась покинуть мужа и свою землю. Но она настаивала на уходе Карлы. Смотрела на дочь так, словно видела ее впервые. — Ты высокая… ты будешь сильной красивой женщиной. Иди в монастырь. Даже русские не трогают церковь. Карла поняла, что прежней жизни настал конец. Эти два человека были ее родителями… она совсем не знала их. Она прижалась к ним, но они едва ответили на ее объятия. Они стояли, точно высохшие мумии. Они не умели выражать свои эмоции… и отвечать на проявления чувств. Они растили детей, потому что жили с ними. Обрабатывали землю, потому что она была у них. Теперь сыновья ушли из университета… а вместе с их уходом погибли надежды на лучшее будущее. Ничего не осталось, кроме земли. Сестра Тереза охотно приютила Карлу в обители. Люди, убегая, бросали на улицах своих собак, кошек и даже ягнят. Каждый день Карла подбирала бездомных животных и приводила их в монастырь. Проходили дни, русские приближались, и однажды мать-наставница велела удалить живность из обители. Запасы продовольствия иссякали… Старшая монахиня сказала, что Господь позаботится о животных, которые были его созданиями. Карла умоляла ее… в ней с детства воспитали любовь к собакам и кошкам. Карла просила разрешить ей оставить в монастыре самых маленьких тварей, но мать-наставница проявила непреклонность. Одна из монахинь выбросила животных за ворота обители. Войдя в комнату Карлы, сестра Тереза застала девушку плачущей. Подняв голову, Карла сказала сквозь слезы: — Я никого не буду любить… даже зверей. Слишком больно, когда их у тебя отнимают. Сестра Тереза погладила ее по голове. Люби Господа. Он не оставит тебя, и никто не отнимет его у нас. Он пребудет с тобой вечно. — Он никогда не покинет меня? — Никогда. Эта жизнь — то, через что нам всем надо пройти как можно достойнее. Она — всего лишь приготовление к истинному миру — к жизни после смерти рядом с Ним. — Возможно, я могла бы стать монахиней, — заявила Карла. Сестра Тереза серьезно посмотрела на девушку. — Это слишком ответственное решение, чтобы принимать его второпях. Мне не кажется, что служение Богу — твое призвание. Тебя толкает к этому решению страх. Молись… проси его указать тебе твой путь. Карла проводила долгие дни с сестрами, ела с ними, ходила к утренней мессе, пока польская армия продолжала бороться с противником. После отчаянного девятнадцатидневного сопротивления, оказанного превосходящим силам врага, измученные защитники Варшавы сдали город немцам. До последнего часа радио Варшавы напоминало о себе тремя первыми нотами «Полонеза». Спустя несколько дней прибывшие в обитель русские офицеры заявили монахиням, что теперь они находятся на оккупированной территории. Школы были закрыты, и оставшиеся жители уведомлены о немедленном начале советизации этого края. В монастырь стали просачиваться слухи о ночных расстрелах, производимых русскими. Сначала предлогом для них служило обвинение в неподчиненности советским властям. К тридцатому сентября президент Мокшицкий бежал в Румынию со всем кабинетом; в Париже появилось польское правительство в изгнании. Эмигрировавший генерал Сикорски действовал через высших польских офицеров, оставшихся в стране, и постепенно сформировалось польское сопротивление. Это было мощное подполье, которое росло и ширилось, несмотря на жестокие, варварские репрессии. Оно приобрело известность под именем Армии Крайовой. Поляки упоминали А. К. шепотом. Никто не трогал монахинь, но поскольку люди рассказывали об изнасилованиях, совершаемых пьяными солдатами, ради безопасности мать-наставница разрешила Карле надеть рясу. Каждый уик-энд Карла ездила на видавшей виды монастырской машине к родителям на ферму и возвращалась к сестрам с услышанными ею новостями. А еще она привозила монахиням свежие яйца. Русские вновь открыли начальную и среднюю школы. Монахиням было запрещено преподавать, а польские университеты во Львове и Вильно превратились в центры по обращению граждан в коммунистическую веру. Хотя церкви и монастыри продолжали функционировать, новые власти смотрели на них косо. В один из уик-эндов перед Новым годом Карла, отправившись на ферму, увидела, как два русских офицера сажают ее родителей в джип. На девушке была ряса; она собралась броситься к родителям, но мать только кивнула ей и равнодушно произнесла: «Здравствуй, сестра. Забери яйца для обители. Они на кухне». Карла проводила их взглядом, страх в глазах отца послужил для нее предупреждением не раскрывать рта. Русские солдаты не обратили на нее внимания, обменялись шутками насчет уродливого черного балахона Карлы и уехали на джипе с родителями девушки. Она испытывала чувство бессилия. Но если бы она бросилась вслед за ними, призналась бы в том, что это ее родители… что тогда? Она попала бы вместе с ними в трудовой лагерь. Карла поехала обратно в обитель. Выходя из автомобиля, заметила, что красивый русский офицер разглядывает ее. Она скрылась в монастыре, заперла за собой дверь. Вечером, смотря на себя в зеркало, она поняла, что хотя клобук скрывал ее волосы, он подчеркивал красоту высоких скул и больших глаз. Она изучила свое лицо со всех сторон. Да… она была красивой… не просто хорошенькой, как сестра Тереза… русский офицер пожирал ее взглядом… она знала, что желанна для любого мужчины. Но теперь она всерьез хотела постричься в монахини; в своих ежедневных молитвах Карла просила Господа направить ее, молила о том, чтобы он помог ей любить его сильнее, а сестру Терезу — слабее. Но по мере того как аресты учащались, у Карлы оставалось все меньше свободного времени мечтать о сестре Терезе. Половина монастыря была превращена в приют для детей, бродивших по улицам… их родителей арестовали и увели ночью из дома. В библиотеке, служившей кабинетом для матери-наставницы, разместили пять колыбелей для малюток. Матери, знавшие о предстоящем аресте, прятали детей в шкафах, запретив им подавать голос. Иногда они укрывали малышей в саду, надеясь, что за ними присмотрят более удачливые соседи. Но люди приносили детей в монастырь. Поток их рос с каждым днем. Если сначала арестовывали «политических врагов», то позже репрессии обрушивались на обитателей Вильно только за то, что они были поляками. Их использовали в качестве рабов. Слухи об изнасилованиях все чаще проникали в обитель, и женщины стали носить очки с толстыми линзами, чтобы казаться русским солдатам непривлекательными. Некоторые постоянно имели при себе носовой платок и перочинный нож. Увидев приближающегося оккупанта, они резали себе палец, и капли свежей крови окрашивали платок. Если солдат собирался напасть на женщину, она подносила платок ко рту, делала вид, будто кашляет, показывала алые пятна и произносила: «Туберкулез». Это была эффективная уловка, она заставляла многих солдат тотчас отказаться от своих намерений. Сестра Тереза и Карла обзавелись очками с толстыми линзами, которые им дали дети. Малыши являлись в монастырь с дорогими им вещами. Локон материнских волос… отцовские очки… семейная Библия. В 1939 году зима началась рано. В октябре земля уже покрылась снегом. Вечерами монахини слышали, как русские солдаты поют песни своей родины. Но, напившись, они часто горланили хриплыми голосами, разгуливали возле обители. Многие монахини дрожали от страха, но сестра Тереза постоянно напоминала им: «Они тоже дети Господа. Не забывайте — они на чужой земле… вдали от своих близких. Победители могут быть самыми одинокими людьми». Прошло несколько недель. Как-то вечером Карла сидела в детской спальне, слушая, как молятся малыши. Она уже собиралась выключить свет, как вдруг до нее донесся снизу грохот — кто-то ломился в дверь обители. Дети заплакали, услышав голоса русских и шум. Карла быстро надела толстые очки и велела детям не шуметь. Потом выскользнула из спальни и на цыпочках спустилась по лестнице. То, что она увидела в приемной монастыря, заставило девушку оцепенеть от ужаса. К горлу подкатилась тошнота; Карла зажала рукой рот, чтобы из него не вырвался вопль. Ей хотелось убежать, но испуг парализовал ее. Она прильнула к стене, скрывшись в спасительной темноте. Карла испытывала желание закрыть глаза, но потрясение сковало девушку, точно паралич. Мать-наставница была голой. Прежде, расхаживая по монастырю в толстой черной рясе, с массивным серебряным распятием на полной груди, она всегда казалась крупной, сильной и властной женщиной. Оставшись без рясы, она превратилась в костлявую старуху с висящими высохшими грудями и венозными ногами. Сейчас она была дрожащим объектом насмешек пьяных солдат, которые гоготали, поглядывая на нее. Она молилась, сжавшись в углу комнаты, а русские шумно и методично насиловали остальных монахинь, которые лежали на полу без одежды, беспомощно раскинув в стороны руки и ноги под грузом безжалостных захватчиков. И тут Карла увидела сестру Терезу. Один из русских слез с нее; бедра женщины были измазаны кровью. Другой солдат поднял ее за шею и принялся неистово целовать. Затем он стал поочередно сосать груди монахини, засунул свой грязный палец меж бедер женщины. Он обслюнявил бюст монахини; тем временем его товарищ зашел сзади, раздвинул ягодицы сестры Терезы и вставил свой член между ними. Солдат, стоявший спереди, расстегнул брюки и тоже овладел женщиной. Карла не верила своим глазам — монахиню насиловали сразу двое мужчин… один спереди, другой сзади! Слава богу, сестра Тереза потеряла сознание. Карла простояла так в темноте с полчаса. Она насчитала десять солдат, надругавшихся над сестрой Терезой. Внезапно она услышала за своей спиной шаги. Это была Ева — тринадцатилетняя девочка, помогавшая ей укладывать малышей. Карла попыталась жестом остановить ее, но опоздала. Увидев на полу обнаженные тела, девочка закричала. Солдаты посмотрели в сторону темного коридора. — Беги, Ева, — приказала Карла. — Беги и ложись в постель. Но Ева окаменела от страха. К ним приближался солдат. Он схватил Карлу и девочку за руки и потащил их в комнату. Другой солдат посмотрел на Карлу, увидел толстые линзы очков и с отвращением пожал плечами. Однако все же сдернул с нее накрахмаленный белый фартук и разорвал рясу. Поглядев на плоскую грудь девушки, оттолкнул ее в сторону. Схватил кричащую Еву. Карла бросилась к ней, желая защитить девочку, но отлетела через всю комнату к голой дрожащей матери-наставнице и упала на пол. Карла укрылась остатками своей рясы, встала перед пожилой женщиной и стиснула зубы — вопли Евы заполнили комнату. Господь пощадил сестру Терезу — она лежала без сознания. Спустя полчаса кошмар начал утихать. Солдаты удовлетворили свою похоть. Заправив гимнастерки в брюки и подтянув ремни, они смотрели на голые тела, точно люди, досыта наевшиеся на банкете, но все же неохотно оставляющие пищу на столах. Один из них, очевидно старший по званию, указав на сестру Терезу, Еву и трех монахинь, отдал какую-то команду. Женщин завернули в простыни; солдаты закинули их на плечи, точно мешки с картошкой, и понесли на улицу. Карла вырвалась из ледяных рук матери-наставницы. — Куда вы их тащите? Один солдат, говоривший по-польски, произнес: — В наш лагерь. Вы, уродки, можете не волноваться. Нам нужны только хорошенькие. Мы оставляем вас заботиться о детях. Карла беспомощно застыла в дверях. Джип уехал в холодную ночь. Когда затихли отголоски хриплого смеха, мать-наставница начала двигаться, точно лунатичка. Она подняла с пола части своей рясы. Другие монахини подбирали разлетевшиеся по всей комнате четки. Молитвенники, вырванные из рук сестер, валялись на полу. Карла увидела молитвенник и четки сестры Терезы возле того места, где недавно лежала монахиня. Опустившись на колени, она прикоснулась к кровавому пятну. Поднесла пальцы к губам. Прижала молитвенник к щеке. Затем принялась помогать изнасилованным монахиням. Мыла их, прикладывала лед к опухшим губам, молилась. К рассвету им удалось навести подобие порядка. Облачившаяся в новую рясу, мать-наставница, казалось, вновь обрела некую тень былой силы. Через неделю те же самые солдаты вернулись в монастырь. Они держались еще более шумно и нагло, чем в прежний раз. И тут уже Карле не удалось спастись. С нее сорвали очки и одежду. Бросили на пол. При этом она ударилась головой о стул. Острая боль пронзила тело девушки, когда солдат раздвинул ей ноги и вонзил в нее свой член. Ритмично, безжалостно Карлой овладели по очереди восемь солдат… кровь смешалась со спермой… они искусали ее губы и груди. Наконец она увидела, как к ней приближается самый крупный солдат. Гигант навалился на Карлу… его дыхание было зловонным… он обслюнявил ее губы… она молила Господа даровать ей смерть… Вдруг Карла услышала скрип двери и новые голоса. О Боже, еще кто-то… Внезапно насильника стащили с нее. Чей-то голос прозвучал возмущенно… солдаты вскакивали с женщин. Офицер помог ей подняться. Это был тот самый молодой русский капитан, которого она видела на улице. Светловолосый, с карими глазами… Ей показалось, что в них была грусть. Он подал Карле разорванную рясу, чтобы она могла прикрыться ею. Потом что-то приказал солдатам… Другой офицер увел их из монастыря. Капитан обратился к Карле на польском языке. — Извините меня за то, что сделали солдаты. Они будут наказаны. Мы — воины, а не скоты. Я вернусь сюда завтра и постараюсь возместить вам ущерб. Когда русские ушли, монахини поднялись с пола. Их движения были медленными… осторожными… бесшумными. Некоторые сестры отправились молиться в маленькую часовню, занимавшую одну из комнат. Карла легла в постель и замерла. Ей хотелось лишить себя жизни… но тогда она навеки попадет в ад. Она подумала о сестре Терезе. Охваченная страхом и чувством одиночества, вспомнила о матери. Услышала сквозь темноту ночи плач, доносившийся из соседних келий… Монахини взывали к Господу… И внезапно Карла поняла, что не верит в Бога. На следующее утро молодой светловолосый капитан опять прибыл в обитель. Извинившись еще раз, он гарантировал монахиням полную безопасность. Его звали Григорий Сокоин. Он был сыном генерала Алексея Сокоина… и недавно женился на красивой девушке, отец которой занимал важный пост в правительстве. Григорий тосковал по молодой жене. Он стал несколько раз в неделю навещать вечерами Карлу. Сидя в гостиной монастыря возле занятой шитьем Карлы, он рассказывал истории из своего детства, говорил об их с женой планах завести детей. Она вежливо слушала. Он нравился ей и был первым молодым человеком, с которым она познакомилась. Он не приставал к ней и всегда приносил монахиням продукты, а также печенье для детей. В конце ноября Карла заметила, что ее талия увеличивается. Месячные у девушки всегда отличались нерегулярностью, но внезапно она поняла, что у нее задержка. Она испугалась, но продолжала работать, как обычно. Дети гуляли за пределами монастыря. Когда Карла заметила, что солдаты с интересом поглядывают на девочек десяти-одиннадцати лет, она немедленно отрезала им волосы, стянула тканью груди и одела их, как мальчиков. Каждый вечер, уединившись в келье, Карла выполняла самые трудные балетные упражнения, чтобы у нее произошел выкидыш. Спустя некоторое время Карла потеряла надежду. Ее живот рос, талия становилась все толще. Однажды утром капитан неожиданно принес в монастырь теплые одеяла и несколько килограммов муки. Карла помогла ему освободить сумку, когда девушку вдруг затошнило. Она бросилась к раковине. Капитан стоял возле Карлы, поддерживая ее. — Ты больна. Тебе следует лечь в постель, — сказал он. Сев, она заставила себя улыбнуться. — Все прошло. Мне уже лучше. — В чем причина болезни? — В русских солдатах, — бесстрастным тоном пояснила она. Он посмотрел на ее живот, прикрытый просторной рясой. — Ребенок? Капитан помолчал. — Ты хочешь его? — Хочу ли я его? Как я могу его хотеть… зная, что он — от одного из этих зверей? — Но ведь он и твой тоже. Он растет в твоем теле… в нем течет твоя кровь… это может быть девочка, похожая на тебя. Она стиснула руки. — Что я смогу дать ей? Как буду воспитывать? И вдруг это будет мальчик, похожий на Рудольфа, или Леопольда, или Игоря, или Свирского… — Ты знаешь их имена? — Когда ты лежишь на полу, а они обращаются друг к другу по именам… их нетрудно запомнить. Как и дурной запах изо рта, волосы, торчащие из ноздрей, гнилые зубы. О Боже — если он только существует, — как мне избавиться от ребенка? Он слегка покраснел. — Я знаю способ, который может помочь. Я… я видел, как это произошло однажды вечером на прошлой неделе. Солдаты обыскивали дом… пытаясь найти беглецов из трудового лагеря. Внезапно я услышал крик… бросился наверх… солдат насиловал женщину. Он вздохнул. — Ты должна понять. Среди этих людей есть грубые неотесанные крестьяне… они страдают от одиночества… они никогда прежде не покидали своих деревень… никогда не пили так много… внезапно дорвались до польской водки… тут много хорошеньких женщин. И… Капитан пожал плечами. — Они стали насильниками. Этот человек… он изнасиловал женщину, которая была в том же положении, что и ты. Только она ждала желанного ребенка… от мужа. Она умоляла солдата… говорила, что находится на третьем месяце… что может потерять ребенка. Он вздрогнул. — Я услышал ее мольбы… но когда поднялся на второй этаж, было уже поздно… с ней случился выкидыш. Я застрелил солдата. Капитан встал. — Подумай об этом… я приду вечером к одиннадцати часам. Ты сообщишь мне свое решение. Когда Григорий вернулся, обитель уже погрузилась в темноту, но Карла ждала его у двери. Она тихо провела капитана в свою маленькую спальню. Деловито, без смущения сняла платье. Он быстро разделся. В полумраке она увидела его молодое тело. Капитан сказал: — Сестра Карла, ты твердо решила? Это может быть мальчик с серыми глазами, как у тебя. — Давай покончим с этим, — отозвалась она. Он лег рядом с ней на кровать и погладил ее бюст. Карла замерла. Когда губы Григория коснулись груди девушки, она оттолкнула его. — Пожалуйста… сделай свое дело и уходи. — Нет… сначала я поласкаю тебя. Он снова нежно прикоснулся к ней… поцеловал в губы… шею… грудь. И внезапно Карла почувствовала, что она расслабилась. Когда он лег на девушку и с нежной страстью овладел ею, она вдруг испытала незнакомое прежде ощущение. Карла прижалась к Григорию, и в ее теле словно что-то взорвалось. Она испустила крик радости, решив, что избавилась от ребенка. Когда Григорий поднялся с Карлы, она встала с кровати и отошла в угол комнаты, закрыв лицо руками. — Не говори мне, что это было… убери все, чтобы я ничего не видела, — попросила она. — Посмотри… тут ничего нет. — Нет… убери… если я увижу некое подобие человека, я буду чувствовать, что совершила убийство. — Послушай, сестра… Очевидно, Господь хочет, чтобы ты родила. Тут ничего нет. Ребенок по-прежнему в тебе. — Но мне показалось… что меня точно вывернуло наизнанку. Он улыбнулся: — Ты испытывала оргазм, моя милая Карла. Потом, лежа возле нее, он сказал: — Теперь ты должна думать о будущем… своем и ребенка. — Наверно, такое случилось не только со мной. Что делают другие? — Беременных отправляют в русские трудовые лагеря. Доктора принимают у них роды. Дети попадают в приюты. Их будет растить государство. Сибири нужны рабочие руки… когда дети вырастут, их пошлют туда. — А что будет с детьми, живущими в обители? Капитан вздохнул. — Пока я здесь, им ничего не угрожает. Но в любой момент меня могут откомандировать в другое место. Как долго продлится наш мир с Германией? Уже сейчас появляются взаимные претензии… — Значит, мне следует поискать А. К. Он закрыл ей рот рукой. — Я не хочу ничего слышать. Но я дам тебе немного денег. Я не должен знать о твоих планах. — Мне следует прежде всего вывести из страны детей. — Пожалуйста, Карла, ни о чем мне не рассказывай. Каждый день он приносил деньги. Онаникогда не спрашивала, где он доставал их, а он не интересовался, что она с ними делала. Если капитан и замечал, что количество детей в обители уменьшалось, то он не говорил об этом. Однажды вечером он застал Карлу одну. Она сама приготовила еду и поставила на стол свечи. Сменила рясу на платье. Он изумленно уставился на девушку, протянувшую ему бокал вина. — Тебе разрешают ходить без рясы? — спросил он. — Я — не монахиня, — ответила она. — Садись, Григорий. Я хочу многое рассказать тебе. Во время обеда она поведала ему о событиях, предшествовавших ее приходу в обитель. При пересказе биография Карлы казалась такой короткой и бедной событиями… И вот она сидит в монастыре с красивым молодым русским и ребенком, зреющим в ее чреве. — Как ты решила поступить с ребенком? — спросил он. — А. К. позаботится о нем. Я постараюсь пробраться в Швецию… рожу там… оставлю малыша в какой-нибудь семье. — И что дальше? — Поеду в Лондон. У сестры Терезы там есть брат. Дядя Отто. Я знаю его адрес. — А ребенок? Она пожала плечами. — Он поживет в Швеции. Я буду посылать деньги на его содержание. — Но к чему тебе лишние хлопоты, если ты не хочешь этого ребенка? Родив малыша здесь, ты сможешь сдать его в приют. Глаза Карлы сверкнули. — Наполовину он мой. Мир так жесток. Я должна дать ребенку какой-то шанс. Он не будет знать, что я — его мать. Я буду лишь посылать деньги. — А потом когда-нибудь заберешь ребенка к себе? Она покачала головой. — Я стану балериной. Это тяжелая работа. Буду давать ему деньги… а не любовь. Тогда он не будет тосковать по тому, чего никогда не имел. Она с печальным видом коснулась своего живота. — Ребенок не должен расти, зная, что он был нежеланным. Пусть считает, что его родители умерли. Этой ночью он постоянно обнимал ее. И она внимательно смотрела на Григория, словно стараясь запечатлеть в памяти его образ. — Я никогда не забуду тебя, Карла, — сказал он, когда они занимались любовью. Она прижалась к нему. Карла уже знала, что никогда не сможет полюбить мужчину, но она испытывала к Григорию чувство благодарности… и у него было такое молодое, сильное тело.Карла закрыла глаза; самолет начал снижаться перед лондонским аэропортом «Хитроу». Она направила Джереми телеграмму. Но приедет ли он? Он так постарел. При каждой очередной встрече ей казалось, что он еще немного усох. Что она будет делать, когда Джереми не станет? Самолет приземлялся… На летном поле толпились фоторепортеры. Карла закрыла лицо и вслед за сотрудником аэропорта направилась к лимузину. Джереми Хаскинс ждал ее в машине. Сев рядом с ним, она сжала его руку. — Как любезно с твоей стороны встретить меня. Старик заставил себя улыбнуться. — В следующем месяце мне исполнится восемьдесят, Карла. Пока я еще дышу, я буду считать за честь встречать любой самолет, корабль или поезд, который доставит тебя сюда. Она откинулась на спинку сиденья и сомкнула веки. — Мы проделали вместе большой путь, Джереми. Он кивнул. — Я понял, что нас ждет, когда впервые встретил тебя… Они познакомились в бомбоубежище. Карла дрожала от страха. Это был ее первый день в Лондоне. Улыбчивый дядя Отто привез девушку к себе домой. Она расположилась в уютной комнате. Тетя Боша оказалась ласковой и приветливой женщиной. Они все утро говорили о Польше, об опасностях, которым подвергалась Карла во время бегства. Она старалась уменьшить их, хотя дядя Отто и тетя Боша интересовались подробностями. Карла опустила наиболее страшные эпизоды — изнасилование русскими солдатами, ее беременность. Она охотно описывала подвиги А. К. Дядя Отто не слышал о сестре Терезе и ее семье. Ничего не сказав конкретно, Карла дала понять, что сестра Тереза, другие монахини и дети находятся в безопасном месте. Вечером она отправилась на прогулку. Дядя Отто посоветовал ей не уходить далеко от дома. В любую минуту мог начаться налет. Германия безжалостно бомбила Лондон, и англичане привыкли проводить ночи в бомбоубежище. После октября нацисты отказались от дневных рейдов — королевские ВВС заставили люфтваффе дорого заплатить за свою наглость. Но ночные бомбежки Лондона продолжались. Они порождали панику и приносили заметные разрушения, не имевшие большого военного значения. Пройдя с десяток кварталов, она услышала вой сирены. Карлу точно парализовало. Люди бежали мимо нее из домов к ближайшей станции метро. Она поспешила назад к дому, но потом остановилась, поняв, что не успеет добраться туда до начала налета. Дядя Отто и тетя Боша, вероятно, прячутся в бомбоубежище. Повернувшись, Карла последовала за людьми. Выбрав себе укромный уголок и закрыв уши руками, чтобы не слышать грохот, она села. — Детка, похоже, это твой первый воздушный налет. Она посмотрела на улыбающегося человека. Поняла, что сама улыбается ему в ответ. — В каком-то смысле — да. — Откуда ты? — Из Вильно… это в Польше. Мой английский так плох? — Он ужасен. Но я ни слова не знаю по-польски. Так что у тебя есть преимущество. Как тебя зовут? Я — Джереми Хаскинс. Ему удалось разговорить ее под грохот взрывов. Она поведала Джереми о дяде Отто и тете Боше… о своем намерении поступить в балетную труппу «Сэдлерс Уэллс». Конечно, ей потребуется время… она давно не упражнялась… сначала ей придется найти работу на фабрике или где-нибудь еще… заниматься каждый день балетом, чтобы восстановить форму. — Я плохо вижу тебя в темноте, — сказал он. — Ты красива? — Я хорошая балерина, — ответила Карла. После сигнала отбоя все вышли на улицу. Джереми Хаскинс проводил девушку и рассказал о себе. Он работал в рекламном отделе киностудии «Джей Артур Рэнк». Его жена была инвалидом, а дочь погибла во время бомбежки. Когда они подошли к дому дяди Отто, Карле показалось, что она ошиблась адресом. Улица, на которой час тому назад стоял ряд особняков, превратилась в скопище дымящихся руин. Пожарники заливали водой обугленные скелеты зданий. Машины «скорой помощи» возили стонущих раненых… кричали дети… женщины, рыдая, разыскивали среди развалин дорогие им вещи. Внезапно она увидела дядю Отто; он держал тетю Бошу за руку. Карла бросилась к ним. Слезы текли по лицу дяди Отто. — Наши деньги… все осталось там. Сгорело… пропало. Драгоценности Боши… Убитый горем, дядя Отто посмотрел на Джереми. — Мы привезли с родины такие красивые вещи… я собирался продать их, чтобы помочь родственникам, когда все закончится. Гобелены… кружева… картины… все погибло. Полотно Гойи! Никакими деньгами это не возместить. Он поднял глаза к небу. — Зачем? Здесь нет военных объектов… это вандализм… бессмысленное разрушение. Внезапно он словно вспомнил о Карле. — Твои наряды… тоже погибли. Завтра я возьму деньги в банке… сегодня переночуем у знакомых в соседнем квартале… у них нет свободной комнаты для тебя, но я спрошу людей — возможно, кто-то приютит тебя. — Она может пойти к нам… комната нашей дочери свободна, — произнес Джереми Хаскинс. Дядя Отто нахмурился. Посмотрел на Джереми Хаскинса так, словно видел его впервые. Затем поглядел на обгоревшие руины своего дома, испустил печальный вздох, давая понять, что кажется себе слишком старым и уставшим, чтобы брать на себя ответственность за поведение и мораль незнакомой польской девушки. Он кивнул головой, и Карла покорно направилась вслед за Джереми Хаскинсом к станции метро. Они сели в переполненный вагон и молча поехали. Спустя некоторое время Карла почувствовала, что Джереми разглядывает ее. Покраснев, она посмотрела на свои огрубевшие руки. Он похлопал по ним своей ладонью. — Им не повредит маникюр. Знаешь, а ты по-настоящему красива. Она продолжала смотреть на свои руки. Этот симпатичный человек, успокаивавший ее во время налета, убедивший дядю Отто в искренности своих намерений, — кто он на самом деле, куда они едут? Возможно, у него и не было умершей дочери… больной жены. Вероятно, он везет ее в какую-то ужасную тесную комнату и… она поглядела на свои забрызганные грязью туфли. Какое это имеет значение? Куда ей еще пойти? И после русских… что мог сделать с ней этот несчастный маленький англичанин? Заставить ее раздвинуть ноги… ну и что с того? Внезапно он заговорил: — Слушай, моя девочка, в фильме моего друга-продюсера есть роль. Она маленькая, но подойдет тебе. Это немецкая шпионка, и я подумал, что твой акцент придется весьма кстати. Ты умеешь играть? — Не знаю… я плохо говорю по-английски. — Конечно. Но для роли это и требуется. Завтра я познакомлю тебя с ним. Это не «Сэдлерс Уэллс», но гораздо лучше, чем фабрика. Он жил в славном маленьком доме с женой-инвалидом, красивой женщиной по имени Хелен. У нее была прозрачная кожа, и когда она смотрела на мужа, заваривающего чай, ее глаза переполнялись благодарностью и ощущением скорой смерти. Она обрадовалась появлению Карлы. К ее гордости примешивалась печаль, когда она предложила Карле спальню своей дочери. У Карлы еще никогда не было такой красивой комнаты, и она заснула, чувствуя себя в безопасности… она знала, что снова нашла людей, которые будут думать за нее. Она получила роль… И внезапно темп ее жизни резко увеличился, точно в кинокартине, запущенной с удвоенной скоростью. Подбор грима, примерки костюмов, работа по ночам над языком… спор из-за ее имени. Она хотела остаться просто Карлой… без фамилии. Карла. Арнольд Малколм, продюсер, в конце концов, согласился. Он тоже чувствовал, что в упрямой польке есть нечто способное засверкать на экране. Предсказания Арнольда Малколма сбылись. Газеты назвали Карлу открытием. После выхода фильма она стала маленькой сенсацией, и лишь смерть Хелен, происшедшая через неделю после премьеры, огорчала девушку. Карла снова осознала, как опасно привязываться к кому-то. Она полюбила хрупкую женщину, которая молчаливо несла свои страдания, помогала Карле в английском и постоянно воодушевляла ее. Они похоронили Хелен тихо и без слез. В тот же день Карла поехала на метро в киностудию. Она стоически сидела на сиденье, а поднявшись с него, сказала Джереми: — Ненавижу съемки. Ненавижу английский. Никогда не сумею освоить его. Ненавижу ожидания, яркий свет прожекторов, но больше всего — этот поезд. Джереми вымученно улыбнулся. — Когда-нибудь ты будешь свободно говорить по-английски и ездить в лимузине. Он продал дом и снял для себя и Карлы квартиру в Кенсингтоне. Ушел из кинокомпании «Джей Артур Рэнк» и стал личным менеджером девушки. Газеты намекали, что он был ее любовником, но на самом деле они переспали лишь однажды. Джереми понимал, что она сделала это из чувства благодарности. — С моей стороны было глупостью надеяться… я для тебя слишком стар. Он вздохнул. — Нет, — возразила она. — Дело не в тебе. Знаешь, я — лесбиянка. Она сообщила это таким будничным тоном, что Джереми воспринял услышанное как еще один факт из ее биографии. Лежа в темноте и держа его за руку, точно хорошего друга, она рассказала Джереми все о себе. О солдатах, изнасиловавших ее… О Григории… о ребенке, жившем у шведской четы. Теперь она ежемесячно посылала им деньги. И когда Джереми спросил, почему она не хочет, чтобы ребенок знал, кто его мать, Карла ответила: — Нельзя потерять то, чего у тебя нет. Ребенок был совсем маленьким, когда мы расстались. Он не помнит меня, а я — его. Никто из нас двоих не испытает боли от разочарования друг в друге. Зачем ему, повзрослев, ломать голову над тем, кто его отец, или страдать из-за разлуки со мной? Когда Джереми попытался расспросить ее о Григории и заставить Карлу признаться в том, что она действительно любила его, девушка пожала плечами. — Возможно, любила. Теперь уже я этого никогда не узнаю. Я была полна ненависти к русским за то, что они сделали с матерью Терезой… я не позволяла себе любить. Карла рассказала англичанину о коротком, но прекрасном романе, который был у нее с женщиной из польского сопротивления, сражавшейся в Армии Крайовой. Красивая, отважная и добрая, она помогла Карле бежать с ребенком в Швецию. Карла любила женщин за их нежность. Нет, она никогда не сможет увлечься мужчиной. Они с Джереми стали друзьями. Вместе работали над ее английским и ролями, которые она исполняла. В своей четвертой картине Карла получила главную роль. Каждый вечер она сидела в темном зале с Джереми, просматривая отснятые днем эпизоды. Ей с трудом верилось, что эта восхитительная, волнующая женщина на экране — она, Карла. Решение отказаться от любых интервью родилось у Джереми. — Твой английский еще далек от совершенства, ты можешь не понять какой-то вопрос, тебя неправильно процитируют, и… — И еще я глупая и неразвитая. — Неправда. Ты очень молода. Тебя видит весь мир… ты — женщина-загадка. Но ты еще ребенок. — Нет, Джереми. Я глупа. Я знаю это. Тебе нет нужды притворяться. Я слышала, как говорят другие актрисы. Они цитируют Шекспира… Рассуждают о книгах Моэма, Колетт, Хэмингуэя. Меня спрашивали о польских писателях. Я никого из них не знаю… а другие — знают. Разбираются в искусстве… Я ничего не знаю. — Ты недостаточно образованна, — согласился Джереми. — Но ты не глупа. То, что ты отдаешь себе отчет в ограниченности своих познаний, только доказывает наличие у тебя ума. Если хочешь, я помогу тебе расширить твой кругозор. — Это поможет мне зарабатывать больше денег? — Нет… но… — Тогда забудь об этом. Карла боялась ехать в Калифорнию, но Джереми подписал контракт с «Сенчери». В тот день, когда ей предстояло отправиться в Голливуд, шведская чета сообщила телеграммой о том, что она больше не хочет держать ребенка у себя. Джереми отправил Карлу в Калифорнию одну, вопреки ее протестам, а сам остался, чтобы организовать переезд ребенка в Лондон. Ему не хотелось оставлять Карлу на шесть недель — столько времени ушло на то, чтобы уладить все проблемы и перевезти ребенка в Англию. Прибыв в Калифорнию, он обнаружил, что его дурные предчувствия были небеспочвенными. Карла жила в огромном частично меблированном особняке, который ей подыскала киностудия. У нее был бурный роман с Хейди Ланц. — Карла, нельзя допускать, чтобы о тебе ходили подобные слухи. Они погубят твою карьеру. Хейди — знаменитость, у нее есть муж и трое детей. Публика во всем обвинит тебя. — Расскажи мне о моем ребенке. — Все в порядке. Я нашел замечательную пару — Джона и Мэри. Они думают, что ребенок — мой дальний родственник, а твой интерес к нему объясняют нашей дружбой. Ребенок немного отстает в развитии — доктора говорят, что это связано с кислородным голоданием при родах, но я полагаю, причина этого — в шведской чете. Они почти не разговаривали. Джон и Мэри — чудесные люди. Все будет хорошо. Конечно, они считают нас любовниками. — Подожди, скоро ты увидишь Хейди… — Карла, ты должна быть более осторожной. — Я стану звездой после этой американской картины. Всемирной звездой. Меня уже сравнивают с Гарбо и Дитрих… говорят, что я возрождаю утраченные блеск и красоту. Посмотри на мои снимки — в «Фотографии», «Современном экране», «Зеркале кино». Вспомни статьи о великолепной Карле. Не волнуйся — у меня безукоризненный имидж. Я следовала твоим указаниям с точностью до буквы. Никаких интервью, закрытая съемочная площадка, ленч в одиночестве гримерной. Я ни с кем не встречаюсь, кроме Хейди. Он вздохнул. — Карла, в Лондоне уже публиковали фотографии, где вы с Хейди прячетесь от репортеров, будучи в одних трусиках. Карла пожала плечами. — Здесь все носят трусики, и многие скрываются от фотографов. — Ты копишь деньги для ребенка? Хочешь послать его в лучшую школу… дать ему все, чего не имела сама… — Коплю ли я? Карла откинула назад голову, и ее грудной смех заполнил комнату. — За семь недель, проведенных мною здесь, я оплатила лишь один счет. За все платит Хейди! Роман Карлы с немецкой кинозвездой длился недолго. Но Джереми изумился, увидев, каким успехом пользовалась Карла среди знаменитых лесбиянок киногородка. Ему казалось, что их связывают невидимые лучи радаров, что на лбах этих женщин светятся неоновые знаки, воспринимаемые лишь посвященными. Но Карла никого не подпускала к себе. В своей третьей американской картине она играла с Байроном Мастерсом. Обворожительный красавец сам, без дублера, выполнял все трюки, трижды женился и был бисексуалом. Карла находила в нем удивительное внешнее сходство с Григорием. Она вдруг стала смущаться, общаясь с Байроном. Узнав, что он живет с другим известным актером, увидела в этом вызов для себя. Внезапно испытала желание обнять сильное тело молодого человека. Начались съемки, и через неделю Байрон съехал от своего друга… безумно влюбился в Карлу… позволил ее героине стать главным персонажем фильма. Карла стала настоящей звездой, и все журналы, посвященные кино, описывали перипетии их романа. Несколько месяцев она предавалась любви с Байроном. Они обедали в ее скудно обставленном доме. Готовили бифштексы и ели их на кухне. Джемери деликатно перебрался в меблированную квартиру и стал проявлять интерес к разведенной женщине — брокеру по недвижимости. Но Байрон обожал голливудские развлечения — вечеринки, премьеры. Карла отказывалась посещать их. Когда она брала у себя дома бифштексы руками, он смеялся — они были детьми на пикнике. Но она знала, что ее манеры оставляют желать лучшего (Джереми уже перестал умолять ее чавкать за столом); Карла боялась общества, остроумных злых разговоров. Она также испытывала страх, что люди будут смеяться над ее акцентом. Постепенно роман с Байроном закончился, и актер увлекся своей новой партнершей. Актриса отнеслась к этому по-философски. Под рукой у нее всегда была какая-нибудь инженю, мечтавшая попасть в дом великой Карлы. На съемочной площадке актриса словно не замечала девушку… так что, если бы ее очередной пассии вздумалось поведать кому-то об их романе, ей бы просто не поверили. Иногда Карле попадался какой-нибудь молодой человек, чем-то напоминавший Григория, и она позволяла ему приходить в ее дом, заниматься с ней любовью и есть бифштексы на кухне. Пресса всегда уделяла много внимания этим связям. Журналы для любителей кино мечтали взять интервью у Карлы… Но ее романы обычно заканчивались прежде, чем посвященные им статьи выходили в свет. В 1952 году партнером Карлы по очередному фильму стал Кристофер Келли. В его жилах текла голландская и французская кровь. У него были светлые волосы и карие глаза — подобное сочетание всегда привлекало Карлу. Слава Кристофера находилась в зените. Он начал есть бифштексы в ее кухне с первой недели их совместных съемок. В течение трех месяцев работы над фильмом их роман набирал силу. Она узнала о том, что беременна, за неделю до окончания съемок. Восприняла новость сухо, равнодушно. Самым разумным было избавиться от ребенка и Кристофера. Но Карла впервые обнаружила, что не может оставить любовника. Она растерялась. Она никогда не увлекалась мужчиной так сильно, чтобы дорожить им. Как ни странно, она с большей легкостью контролировала свои романы с женщинами. Сама диктовала правила игры. Не боялась испытать боль. Ее любили. Легко расставаясь с женщинами, Карла старалась сделать так, чтобы они при этом страдали как можно меньше. И большинство мужчин также падали к ногам Карлы, охваченные почти женским желанием угодить ей… во всем соглашаться с нею… лишь бы она осталась с ними. Но Кристофер был другим. Он почти насильно привел ее в свой дом-дворец с многочисленной прислугой и стал учить плавать. Он давал ей уроки тенниса, но самое большое, что ей удавалось — это отбить мяч через сетку. И теперь фильм был почти готов. Через шесть недель Карла должна была приступить к съемкам следующей картины. Она могла сделать Кристофера своим партнером. «Сенчери» уже подписала контракт с другим актером. Хозяева киностудии считали излишним платить гонорары сразу двум звездам. Карла и одна могла вытянуть фильм. Но если бы она потребовала, они бы взяли Кристофера. Его устраивал любой вариант. Он принадлежал к новому поколению звезд, работавших без контракта с киностудией. Его гонорар за участие в фильме составлял двести тысяч, и он работал с «Двадцатым веком», «Метро», «Сенчери» — любой компанией, готовой заплатить ему такую сумму, дать главную роль и право выбора партнерши. Она дождалась окончания съемок. Однажды вечером во время автомобильной прогулки Карла сказала Кристоферу о своей беременности. — У меня семинедельная задержка. Он едва на загнал машину в кювет. — Карла… это великолепно! Мы немедленно отправимся в Тихуану… поженимся там… будем держать это в тайне… затем примерно через неделю сообщим всем, что мы вступили в брак еще до съемок. Твой друг Джереми все организует. Она согласилась. Кристофер развернул автомобиль, и они помчались в горы. — Все будет отлично. Мы оставим наши дома… снимем огромную виллу… может быть, построим дом. На улице Полумесяца продается великолепный особняк. Я плачу алименты на двух детей. Ну и что… мне платят двести тысяч за картину… плюс твои гонорары… мы заживем как короли. Назовем наш дом Карл-Кел… будем принимать гостей. Карл-Кел станет вторым Пикфейром, а мы — новой королевской четой. Заживем на широкую ногу! На широкую ногу! — Едем назад, — резко потребовала она. — В чем дело? — Разверни машину. Я не поеду в Мексику. Если ты увезешь меня туда насильно, я заявлю, что была похищена тобой. Они молча вернулись к ее дому. Жить на широкую ногу! Родить еще одного ребенка! Как она могла позволить себе такое? Она уже содержала одного ребенка… несла перед ним ответственность. Карла никогда не смогла бы жить так, как хотелось Кристоферу — сидеть и смотреть, как гости пьют ее спиртное… едят ее пищу. Ей бы казалось, что они забирают у нее деньги, заработанные нелегким трудом. На следующий день Джереми договорился насчет аборта, и Карла сменила телефонный номер. Спустя неделю Кристофер попытался совершить самоубийство. Он уцелел, но даже это драматическое событие не заставило Карлу ответить на его телеграммы. Она потратила много денег, пытаясь разыскать сестру Терезу, но не обнаружила следов монахини и ее семьи. Сдавшись в конце концов, сосредоточилась на работе. В середине пятидесятых годов она окончательно утвердилась в качестве «живой легенды». Но доходы актрисы не соответствовали ее славе. Изначально она подписала контракт с «Сенчери» на пятьсот долларов в неделю. С прибавками и вычетами последние два года получала по три тысячи в неделю. Она знала, что ей недоплачивают, но срок действия контракта должен был истечь в 1960 году. Джереми сказал, что тогда уж она будет получать настоящие деньги. Джереми был богат. Он вкладывал деньги в ценные бумаги и за эти годы увеличил свое состояние в несколько раз. Он умолял Карлу позволить ему вложить ее деньги во что-нибудь или поручить это специалисту по инвестициям. Но она клала их на разные счета, следя за тем, чтобы сумма, лежащая в одном банке, не превышала десяти тысяч долларов. В 1957 и 1958 годах она снялась в ряде неудачных картин. Но известность Карлы помогла ей пережить этот период. Избегая общения с руководством киностудий, она понятия не имела о том, насколько прибыльны или убыточны фильмы с ее участием. Джереми умел делать так, чтобы публика не подозревала о падении истинной популярности Карлы. Заявление об ее уходе из кино, сделанное в 1960 году, замелькало в газетах и вызвало потрясение в мировой киноиндустрии. Карла не собиралась навсегда покидать кинематограф. Ее отказ сниматься был связан с заключением Джереми нового контракта. — Я слышала, Элизабет Тейлор получает за «Клеопатру» миллион, — заявила Карла. — Я хочу миллион и сто тысяч. Скажи боссу «Сенчери», что я подпишу контракт на три фильма; общая сумма должна составить три миллиона триста тысяч. Пока Джереми вел переговоры, занявшие несколько недель, Карла установила в одной из пустых комнат своего дома балетный станок и стала делать упражнения по четыре часа в день, а также совершать длительные прогулки. Однажды вечером Джереми пришел на обед к Карле. Он сказал ей, что контракт подписан, но они обсудят его только после обеда. Она кивнула с обычным равнодушием. Они сидели на кухне; он смотрел, как Карла поглощает бифштекс. Подливка текла по ее прекрасному лицу, восхищавшему так много людей. — Карла, ты слышала о романе, который называется «Император»? Задав вопрос, Джереми вздохнул. Откуда ей знать о нем? Им обоим было известно, что она не читает книг. — Он занимает первое место в списке бестселлеров, — продолжил он. — Глава «Сенчери» пытается заполучить Марлона Брандо или Тони Куина на роль Императора. — И что?.. Она сосредоточенно ела бифштекс. — Тебе собираются предложить роль Императрицы. — Эта роль подходит для Карлы? — Она великолепна. — А деньги? — Гонорар будет маленьким. Карла перестала жевать. — Я думала, мы получим миллион. И тут в ярко освещенной кухне он объяснил ей, что последние фильмы с ее участием принесли убытки. Но легенда, созданная вокруг Карлы, обладала такой силой, что никто, кроме боссов киноиндустрии, не догадывался об этом. Карла могла получить за фильм сто тысяч долларов и два с половиной процента от чистой прибыли… что могло составить заметную сумму лишь при общем доходе от проката, превышающем десять миллионов долларов. Она молчала. Джереми произнес: — У нас нет выбора. Карла отодвинула от себя тарелку. — Если я соглашусь, все поймут, что я потерпела крах. Но если я уйду сейчас из кино, это останется тайной. Джереми удивленно посмотрел на нее. — Тебе сорок два года… ты в расцвете сил. — О, я уйду… лишь на год. Меня позовут назад. Вот увидишь. И каждое следующее предложение будет более выгодным, чем предыдущее. Он уставился на Карлу. Это был блестящий ход… но хватит ли ей денег, чтобы осуществить его? — У тебя всего лишь двести пятьдесят тысяч долларов, — напомнил Джереми. — Вложи их в шестипроцентные облигации. Я не трону эти деньги. — Но на что ты собираешься жить? Карла пересекла комнату и поглядела через окно на высокую каменную ограду, которую она возвела вокруг дома. — Сегодня сыро. Но я все же прогуляюсь. Надев пальто, она вышла. Когда Карла вернулась домой, Джереми смотрел выпуск новостей. Он выключил телевизор. — Ты приняла решение? Она кивнула. — Ты слышал о женщине, которую зовут Блинки Джайлс? — Да… она — миллионерша из Техаса или откуда-то еще. — Блинки Джайлс — известная лесбиянка. Год тому назад она пустила слух, что готова бросить к моим ногам сто тысяч долларов за одну ночь, проведенную со мной. Я скажу Соне Кинелле… по субботам у нее собираются на ленч лесбиянки… что согласна принять Блинки в ближайший уик-энд. Блинки Джайлс… толстая, задыхающаяся корова. Она пришла к Карле и положила к ее ногам сто тысяч долларов, сидя возле Джереми. Вслед за Блинки у нее появилась Княгиня… После ухода из кино Карла стала еще более легендарной личностью. Посыпались предложения — одно выгодней другого. Наконец через три года Джереми принес актрисе контракт на миллион долларов плюс десять процентов от прибыли. К его удивлению, она отказалась. Карла не скрывала своего страха. Она только что познакомилась с Ди Милфорд Грейнджер, занимавшей в списке самых богатых женщин мира шестое место. Ди была влюблена в Карлу-легенду. Вдруг фильм окажется неудачным? Легенда рухнет! Зачем рисковать? Пока она остается легендой, всегда найдутся женщины вроде Ди, которые дадут Карле все, лишь бы находиться рядом с ней. За последние три года Карле удалось скопить почти полмиллиона, не работая. Ди имела личный самолет, яхту и мужа — гомика, которого не интересовало, чем занимается жена. Ди была скупее других. «Докажи, что ты любишь меня, а не мои деньги» — эта позиция Ди была типичной для определенной категории богатых людей. Но Ди обладала привлекательностью и содержала Карлу. Актриса не подписала контракт на миллион долларов. И все последовавшие за ним — тоже. Она чувствовала себя защищенной, зная, что Ди привязана к ней… что она сможет удерживать Ди на любых условиях сколь угодно долго. И все шло в соответствии с ее планами… пока этот гомик, муж Ди, не разбился на автогонках. Это событие заставило Ди сделать Дэвида их постоянным спутником. Дэвид… Она уже считала, что стара для всего этого. У Дэвида были светлые волосы и карие глаза. Дэвид, молодой, как Григорий… а она такая старая. Но душа женщины никогда не стареет. Лишь набегают года. Душа Карлы оставалась восемнадцатилетней… В обществе Дэвида Карла чувствовала себя молодой, легкомысленной и счастливой.
Автомобиль приближался к Парк-лейн. Джереми говорил о последнем предложении. (Они поступали до сих пор, уже не на миллион долларов, но все же ей давали большие деньги и выигрышные главные роли.) Сейчас речь шла о половине миллиона за двухнедельную работу и тысяче долларов в день на расходы. Улыбнувшись, она покачала головой. Зачем утруждать себя? Что она этим докажет? Она никогда не считала себя талантливой актрисой… и балериной тоже. Она училась танцевать, чтобы заслужить похвалу и расположение сестры Терезы. Возможно, поэтому продолжала работать у станка, подсознательно пытаясь вернуть долг монахине. Карла не была религиозна, никогда не ходила к мессе, однако каждый вечер, опустившись на колени, произносила молитву на польском языке, которую помнила с детства. Часто ощущала в темноте, что Бог где-то рядом… прятала голову под подушку и мысленно оправдывалась перед ним. Карла вошла в отель «Дорчестер» и закрыла свое лицо воротом соболиной шубы, подаренной ей Ди. Она знала, что Ди — ее будущее… что роман с Дэвидом зашел слишком далеко. Пора оборвать его и решить некоторые финансовые вопросы… Спасибо Господу, что у нее есть Джереми. Но ночью, когда Джереми ушел, она долго смотрела на Гайд-парк. Карла поняла, что Джереми заметил исчезновение морщин с ее лица. Покинув Дэвида, чтобы сделать операцию, она молилась о том, чтобы он дождался ее. Потому что впервые осознавала, что она на самом деле — не лесбиянка. В его объятиях она испытывала счастье и покой. После каждого свидания с Дэвидом ей становилось все трудней встречаться с Ди. После стройного и сильного мужского тела мягкая женская плоть вызывала у Карлы отвращение. Преклонив колена для своей обычной молитвы, Карла поняла, что она просит Господа сделать так, чтобы Дэвид снова дождался ее… (обратно)
Глава четырнадцатая
Дженюари, сидя в кабинете Линды, пила теплый кофе из пластикового пакета. Линда пребывала в подавленном настроении. Она всегда грустила по понедельникам, а уж дождливый февральский понедельник был для нее сущим бедствием. Дженюари чувствовала себя прекрасно вопреки погоде. В конце концов, в феврале только двадцать восемь дней. А двадцать первое марта — официальное начало весны. Так что достаточно пережить февраль, и с зимой почти покончено. Дженюари всегда ненавидела зимы. Зима — это учеба в школе, лето — отдых с Майком. Но сейчас каникулы — это поездка в Палм-Бич. Она прожила там с рождества по Новый год. Но до Палм-Бич… О, эта неделя перед рождеством в Нью-Йорке! Сотрудники редакции работали над апрельским номером среди множества настоящих и искусственных елочек. Весь обслуживающий персонал особняка, где жила Дженюари, казалось, точно подменили. Консьерж вскакивал со своего стула, чтобы открыть дверь подъезда. Лифтер умудрялся останавливать лифт вровень с полом лестничной клетки. Под дверь квартиры сунули листок с полным списком всех работавших в доме людей — уборщиц, горничных, сантехников; многих Дженюари никогда не видела. Люди под дождем с огромными пакетами в руках тщетно пытаются поймать такси, проносящиеся мимо с табличками «Работа закончена». Мрачные мужчины в костюмах Деда Мороза судорожно подергивают руками, заставляя звенеть свои маленькие колокольчики. «Счастливого Нового года. Помогите нуждающимся». Давка в «Саксе» — посеребренном «дождем» сумасшедшем доме. Кашемировый шарф для Дэвида; подъем на эскалаторе на третий этаж за сумкой «Пуччи» для Линды, которую она немедленно вернула Дженюари, — "Я же объясняла тебе миллион раз — сейчас в моде «Гуччи», а не «Пуччи». Проще всего оказалось выбрать подарок Майку. Две дюжины шаров для гольфа с выгравированным на них его именем. Но Ди! Что можно преподнести такой женщине, как Ди? (Дженюари еще не знала, что хрустальные сосульки, висевшие на елке Ди, были от «Стьюбена».) Ей бессмысленно покупать духи — ими у нее заставлены два шкафчика. Один в Палм-Бич, другой в «Пьере». И, вероятно, в Марбелле тоже. Продавщица в «Бонвите» порекомендовала выбрать что-нибудь забавное, например, красные вязаные башмачки. В конце концов, Дженюари купила в магазине на Мэдисон-авеню носовые платки из хлопка — их Ди всегда сможет кому-нибудь передарить. Новый год в Палм-Бич! Четырехметровая новогодняя елка. Пышная, сверкающая серебристыми шарами и хрустальными сосульками. Гигантское дерево, точно сердитый страж, стояло в застекленной комнате, выходящей к бассейну. Заблудшее, лишенное корней, всем своим серебристо-холодным видом оно протестовало против тропической атмосферы. Майк… загорелый, красивый. Белокожая эффектная Ди. Вечеринки… триктрак… сплетни. Полуторанедельное продолжение Дня благодарения. Поход с Майком на ипподром. Дженюари едва не заплакала, когда отец с наигранно-равнодушным видом направился к окошечку, где принимались десятидолларовые ставки. Она помнила прежние дни, когда Майк снимал трубку и велел поставить за него пять тысяч на один заезд. Да, она это помнила. И он — тоже. После первой вечеринки все последующие казались ей повторением. Затем — неожиданный прием, который Ди устроила в честь совершеннолетия Дженюари — девушке исполнился двадцать один год. Пять тысяч долларов на цветы; танцплощадка, закрывавшая пятидесятиметровый бассейн. Два оркестра: один — в доме, другой — под открытым небом. Дэвид прилетел поздравить ее. Они танцевали вдвоем, изображая для Ди влюбленную парочку. В гостях были те же самые люди, которых Дженюари видела в течение недели. Их было только больше. Все они принесли «маленькие сувениры» из новогодних запасов. (Теперь она была обеспечена на всю жизнь шелковыми шарфами.) Кто-то привел худосочную дочь или замкнутого сына. Вездесущие репортеры фотографировали людей, которых они снимали на предыдущей вечеринке и будут снимать на следующей… После Нового года — обратно в Нью-Йорк! Она обнаружила в ванной первого таракана. Он был мертв, но его братья и сестры наверняка бродили где-то рядом. Не мог же он быть совсем одиноким. Испуганный звонок Линде. — Успокойся, Дженюари. В Нью-Йорке они везде. Вызови управляющего. Ты сделала ему на рождество шикарный подарок. Он договорится насчет дезинсекции. Управляющий поблагодарил ее за врученные ему двадцать долларов, но сказал, что человек, проводящий дезинсекцию, отправился на праздники в Пуэрто-Рико и вернется лишь через десять дней. Дэвид несколько раз выводил ее в свет. Каждый раз они вместе с другой парой или целой компанией отправлялись в «Лотерею» или в «Клуб», где оглушительная музыка не позволяла беседовать, поэтому все танцевали, обменивались улыбками и махали руками знакомым через зал. Однажды вечером он проводил Дженюари домой и отпустил такси. Мгновение они постояли перед ее подъездом. После неловкого молчания он произнес: — Ты не хочешь хотя бы пригласить меня к себе посмотреть на тот цветок, что я подарил тебе? — О, с ним все в порядке. Мне сказали, что весной его следует подрезать. Ее дыхание на холоде превращалось в белый пар. Снова возникла неловкая тишина. — Слушай, Дэвид, ты мне нравишься, — сказала Дженюари. — Честное слово. Но то, что произошло в тот вечер между нами, было ошибкой. Как говорят в кино — «Давай останемся друзьями». Он улыбнулся. — Я не собираюсь тебя насиловать. Ты тоже мне нравишься. Даже больше, чем нравишься. Я… я… в данный момент я замерзаю… нам за весь вечер не удалось поговорить. Дженюари не понимала, почему этот вечер должен отличаться от всех остальных. — О'кей, но моя квартира — это всего лишь одна большая комната. В молчаливом смущении они поднялись на лифте. Она внезапно поняла, что им нечего сказать друг другу. Совершенно нечего. И по какой-то странной причине она волновалась. Открывая дверь, Дженюари принялась нервно болтать. — У меня беспорядок. У нас с Линдой общая горничная. У нее бурная личная жизнь. Она часто приходит с синяком под глазом. Это — в тех случаях, когда все хорошо. Когда все плохо, она вообще не показывается. Линда говорит — это означает, что он ушёл и она сидит дома, пьет и ждет его. Дженюари знала, что Дэвиду нет дела до ее горничной. — Ну… вот. Взгляни на драцену. Она подросла на пять сантиметров, у нее появились три новые веточки. — Почему ты не избавишься от нее? — спросил Дэвид, остановившись в центре комнаты. — От чего? — От горничной. Он расстегнул пальто и снял шарф, подаренный ему Дженюари. — Понимаешь, Линда сочувствует всем, кому не везет в любви. А я жалею тех, кто ходит с синяком под глазом. Она села на диван; Дэвид расположился возле нее в кресле, глядя на пол и зажав руки между коленей. — Дженюари… я хочу поговорить с тобой о… Дэвид поднял голову. — Эта штука обязательно должна гореть? — Тебе не нравится люстра мистера Эдгара Бейли? — Тут так светло, что мне кажется, будто я в кегельбане. Она щелкнула выключателем. — Налить тебе вина… или кока-колы? Это все, что у меня есть. — Дженюари… сядь. Я не хочу ничего пить. Поговорим о нас с тобой. — Хорошо, Дэвид. — Наверно, кое-что вызвало у тебя недоумение, — начал он. — Так вот, у меня были некоторые личные проблемы… Она улыбнулась. — Дэвид, я сказала тебе: мы — друзья. Ты не обязан мне ничего объяснять. Он встал и поискал в кармане сигареты. Потом внезапно повернулся к Дженюари и посмотрел на нее. — Мы — не друзья. Я… я люблю тебя. Все, что я сказал в тот вечер — правда. Мы обязательно поженимся. Но… чуть позже. Я должен уладить кое-какие дела… это касается работы. Я был бы признателен тебе, если бы ты не говорила об этом Ди. Он попытался улыбнуться, потом пожал плечами. — Она старается опекать меня, как мать. Я ценю ее заботу, но хочу, чтобы она сама наслаждалась своей жизнью с твоим отцом. Он — великолепный мужчина, а я способен самостоятельно справиться со своими проблемами. Верь мне, Дженюари… и наберись терпения. Мы в конце концов поженимся. Ты обещаешь всегда помнить это… даже если я не звоню? Она посмотрела на него и медленно покачала головой. — Я сойду с тобой с ума! Я не шучу! Что еще я должна сказать, чтобы ты понял — я не собираюсь выходить за тебя замуж? Но если ты хочешь, я постараюсь сделать так, чтобы Ди и отец думали, что мы с тобой часто встречаемся Он рассерженно посмотрел на нее. — С чего ты взяла, будто для меня важно, что они думают? — Потому что это правда. И мне будет легче. Поскольку мы действительно периодически встречаемся… они считают, что у нас роман… Зачем их разубеждать? Дэвид поглядел в пространство перед собой. Он напоминал сейчас огромную резиновую игрушку, из которой выходит воздух. Дженюари буквально видела, как его тело сдувается. — Сейчас неудачный момент, — вздохнул он. — Если бы мы встретились в другое время, все было бы чудесно. Он посмотрел на пол, потом поднял голову и улыбнулся через силу. — Знаешь что? Ты отличная девущ.ка, Дженюари. О'кей. Позволим им считать, что мы с тобой часто встречаемся, если это тебе удобно. А когда ты немного повзрослеешь, мы прекрасно подойдем друг другу. Дэвид позвонил Дженюари в конце недели и сообщил, что уезжает в Калифорнию на совещание, о котором он уже говорил ей. Она не была уверена в том, что это правда… Дженюари знала, что Карла прилетела в Лос-Анджелес из Европы. В газетах публиковались фотографии, на которых Карла прикрывала лицо журналом, прячась от объективов. Один из репортеров упомянул, что Карла прибыла в гости к Соне Кинелле, богатой светской даме итальянского происхождения, писавшей стихи. Они дружили еще с той поры, когда Карла начала сниматься в кино. Но у Дженюари не было времени размышлять о Дэвиде или Карле. Тома Кольта ждали пятого февраля на большом приеме, который устраивал в честь писателя его издатель. До этой даты оставалась неделя; в понедельник Дженюари, потягивая теплый кофе, слушала, как Линда возмущается высокомерием некоей мисс Риты Льюис, не отвечавшей на ее звонки. — За последние три дня я звонила ей пять раз, — сказала Линда, бросив трубку. — Я даже говорила с секретаршей мистера Лоуренса. — Кто это? — Издатель. Я сказала ей, что «Блеск» не получил приглашения на прием в «Сент-Реджис», и спросила, не произошло ли это по случайной оплошности. Она ответила мне таким тоном, будто ее босс — президент страны: «Знаете, мисс Риггз, это мероприятие проводится не для прессы. Конечно, там будут репортеры, но на самом деле это торжественная встреча мистера Кольта в Нью-Йорке. Придет мэр… многие знаменитости». У меня сложилось впечатление, что для нее «Блеск» — недостаточно престижный журнал. В конце концов, она обещала сообщить мисс Рите о моем звонке. — У нас еще четыре дня в запасе, — оптимистично заметила Дженюари. — Может, она позвонит. Прошло четыре дня, но Рита Льюис молчала. Дженюари, сидя в кабинете Линды, пыталась приободрить подругу. — Послушай, Линда. Он проведет в Нью-Йорке какое-то время. Наверняка есть какой-то другой способ добраться до Кольта. Линда вздохнула. Посмотрела на серую мглу за окном. — Там что, все еще идет дождь? — Нет, это снег, — сказала Дженюари. — Хорошо! — бодро произнесла Линда. — Я надеюсь, что поднимется буран. Тогда, возможно, половина гостей не придет… а вторая половина промокнет и будет в плохом настроении. Все мои знакомые, встречавшие твоего отца, говорят, что с ним было исключительно приятно работать… называют его яркой личностью… отзываются о нем с любовью… все, кроме Тома Кольта! — Вероятно, они оба — слишком сильные личности, чтобы сработаться. Или дело в том, что Том Кольт — это Том Кольт. Слушай, я сделала все от меня зависящее. Отправила ему письмо в ноябре. Не упомянула о моем родстве с Майком, потому что знала — это убьет все нашишансы. Подписалась просто Дж. Уэйн. Через две недели послала второе письмо. Не получив ответа, позвонила Джею Аллену, его лос-анджелесскому пресс-агенту. Джей когда-то работал на моего отца; он любезно дал мне адрес пляжного домика, принадлежащего Тому Кольту. Я отправила письмо туда. Безрезультатно! Затем — новогодняя открытка с такой фразой: «Надеюсь увидеть Вас, когда Вы прилетите в Нью-Йорк». Еще через три недели я послала письмо, в котором написала, что его новый роман, прочитанный мною в верстке, ожидает большой успех. Дженюари подалась вперед. — Линда… оцени ситуацию трезво. Том Кольт не пожелал присутствовать на награждении отца «Оскаром» за фильм, снятый по его книге. Картина получила премии по пяти категориям. Конечно, сценарий писал не Том… он счел ниже своего достоинства делать это. Можешь сама судить о том, какой он сноб. Разумеется, ему не понравился сценарий. Майк рассказывал мне о том, как все упрашивали Кольта прийти на церемонию. Но он отказался. Знаешь почему? Он заявил, что считает себя серьезным писателем и не хочет участвовать в цирковом представлении, а также иметь что-то общее с коммерческой картиной, которую Голливуд сделал из его романа. Как мы можем надеяться, что он даст нам интервью? Линда медленно кивнула. — Ты абсолютно права. Но кто бы поверил, что он отправится в рекламное турне? Это — натуральный цирк. Возможно, он не понимает, во что ввязался. Наверно, ему никогда не попадалась журнальная рецензия на серьезный роман. Конечно, он ждет, что «Лайф» посвятит ему статью. «Тайм» и «Ньюсуик» — тоже. Но «Блеск»? Он скорее всего не слышал о нем. Или думает, что это — название новой зубной пасты. Но я не собираюсь сдаваться. Пусть даже для победы мне понадобится танковая дивизия. Так было с доктором Бловачеком из Югославии. Я напала на его след раньше других. Та статья помогла мне занять пост главного редактора. Дженюари, «Блеск» — это моя жизнь. Я расту вместе с ним. Я должна взять у Тома Кольта интервью для «Блеска»". Должна! На ее лице появилось выражение мрачной решимости. Кровь отхлынула от щек. Линда вздохнула. — Материал о докторе Бловачеке возвысил меня в глазах издателя. С тех пор я подготовила много статей, способствовавших росту журнального тиража и популярности «Блеска» среди рекламодателей. Теперь пора поискать материалы, которые поднимут авторитет журнала в издательском мире. Если я опубликую интервью с Томом Кольтом или напишу о нем статью, это повысит престиж «Блеска». Поэтому я не могу смириться с его молчанием. Он проведет в Нью-Йорке какое-то время, и «Блеск» должен добраться до него раньше конкурентов. Очень важно попасть на этот прием. Кольт обожает молодых красоток. Именно поэтому Рита Льюис не прислала мне приглашение. Она не хочет, чтобы он дал интервью «Блеску». Ее больше всего интересует литературная сторона дела… она предпочла бы посвященный Тому абзац в «Нью-Йорк бук ревью» большой статье о нем, напечатанной в «Блеске». Вот почему я хочу пойти на этот прием. Я считаю, что при личной встрече мы сможем убедить его. — Тогда идем, — сказала Дженюари. — Ты хочешь сказать, мы прорвемся туда? — Почему бы нет? Линда покачала головой. — Это слишком серьезное мероприятие. Охрана у дверей будет сверяться со списком приглашенных. — Давай попытаемся, — не сдавалась Дженюари. — Наденем наши лучшие платья, закажем лимузин, и… — Лимузин? Дженюари, это идея! — Другого способа нет. В такую погоду такси не поймать. Все приедут такими, как ты сказала — мокрыми и слегка растрепанными. Если мы хотим прорваться туда, нам следует сделать это эффектно. Линда нервно засмеялась. — Ты действительно думаешь, что лимузин обеспечит должный эффект? — По определению Хэмингуэя, стиль — это аристократизм, навязанный обстоятельствами. Наше прибытие в лимузине — шаг в нужном направлении. Прием проходил в небольшом зале для балов. Судя по уровню шума, ненастная погода никого не испугала. Людской поток не иссякал. Гости образовывали маленькие группы. На столике перед входом одиноко лежал список приглашенных. Фамилии стояли в алфавитном порядке. Линда оказалась права — они поступили разумно, прибыв с опозданием. После появления самых важных персон дежурившие у дверей люди вошли в зал, чтобы покрутиться среди знаменитостей и выпить на халяву. Линда и Дженюари протиснулись в зал. Дженюари узнала нескольких писателей, журналистов, бродвейских звезд и других завсегдатаев подобных приемов. У дальней стены находился бар. Девушки тотчас заметили Тома Кольта. В жизни он выглядел гораздо лучше, чем на книжной обложке. У него было сильное лицо боксера и темные волосы. Казалось, он сам прошел через испытания, о которых писал. — Он внушает мне страх, — прошептала Дженюари. — Подойди к нему сама, если хочешь… я постою здесь, в сторонке. — Он великолепен, — прошептала Линда. — Конечно. Как гремучая змея, пока она сидит в стеклянной клетке. Линда… такому человеку нельзя говорить о «Блеске». — Однако я собираюсь это сделать… и ты пойдешь со мной. Вперед! Она схватила Дженюари за руку и потащила ее сквозь толпу к бару. Том Кольт был окружен почитателями, которые, казалось, хотели разорвать его. Но он стоял очень прямо с бокалом «Джека Дэниэлса». Сделав большой глоток, он посмотрел на маленького пухлого человечка, написавшего пять лет тому назад бестселлер. С тех пор он не создал ничего нового и сделал своим ремеслом участие в телепередачах и посещение подобных приемов. Также он стал алкоголиком. Внезапно писатель хлопнул Тома своей толстой рукой по плечу. — Я прочитал все написанное вами, — пропищал он, восторженно причмокнул и закатил глаза. — Я восхищен вашими книгами. Но не увлекайтесь телевидением. Это — крысиные гонки. Он захихикал. — Смотрите, в какую шлюху ТВ превратило меня. Кольт убрал с плеча руку писателя и обвел взглядом людей, собравшихся вокруг него. Темные глаза Тома казались сердитыми. Внезапно он увидел Дженюари и Линду. — Извините меня, — сказал Том пухлому писателю, — но сюда только что вошли две мои кузины из Айовы. Они проделали весь путь на автобусе. Он взял изумленных девушек за руки и повел их через зал. — Спасибо Господу, что он послал мне вас, кем бы вы ни были. Я скучаю с этим занудой уже двадцать минут, и никто не приходит мне на помощь — видно, все считают, что он меня развлекает. Линда смотрела на него остекленевшими глазами. Дженюари нашла, что Том подавляет своей силой. Освободив руку, она сказала: — Я рада, если мы смогли помочь вам, и… Линда наконец пришла в себя. — А теперь вы можете помочь нам. Его глаза сузились. — Кажется, мне следовало остаться у бара. — Я — Линда Риггз, главный редактор журнала «Блеск», а это моя помощница, Дженюари Уэйн. Она несколько раз писала вам насчет интервью. Том повернулся к Дженюари. — Господи! Вы — та самая Дж. Уэйн, которая прислала мне несколько писем и новогоднюю открытку? Кивнув, Дженюари почувствовала, что почему-то краснеет. Он засмеялся. — Значит, вы — Дж. Уэйн. А я думал, что эти письма приходят от какого-нибудь тощего гомика. Рад с вами познакомиться, Дж. Уэйн. Это чудесно, что вы не гомик… но я не дам вам интервью. Мой издатель и так уже организовал слишком много интервью. Повернувшись, он снова посмотрел на Дженюари. — Но почему вы подписывались «Дж. Уэйн»? Возможно, я бы ответил вам, если бы знал, что вы — девушка. — Имя Дженюари ничего не сказало бы вам о моем поле. — Да, верно. Странное имя… Он замолчал. Затем обвиняюще выставил вперед палец. — Нет, вы не можете быть дочерью этого негодяя Майка Уэйна! Дженюари собралась отойти в сторону, но он удержал ее, схватив за руку. — Слушайте, он изуродовал одну из моих лучших книг. — — Не смейте так говорить о моем отце! Он получил за этот фильм премию Академии. — Дженюари… — умоляюще прошептала Линда. — Не останавливайте ее, — засмеялся Том Кольт. — У меня шестимесячный сын. Когда-нибудь, услышав, как кто-то критикует мою книгу, он врежет обидчику. Том, улыбнувшись, протянул руку. — Мир? Посмотрев на него, Дженюари тоже протянула руку. Потом он взял девушек под руки. — Теперь, раз мы — друзья, давайте сбежим отсюда. Где тут можно выпить? — «Элейн» находится неподалеку, — сказала Линда. — Туда ходят многие писатели, и… — Да, я слышал об этом заведении. Не сегодня. Толстячок возле бара сказал мне, что позже отправится туда. Пойдемте в «Туте»! — Куда? — спросила Линда. — «Туте Шор» — единственное место, где можно по-настоящему напиться. Держа девушек под руки, он двинулся к двери. Встревоженная молодая женщина с длинными волосами подскочила к нему. — Мистер Кольт, вы куда? — На улицу. — Но вы не можете уйти. Еще не пришел Ронни Вулф, и… Он потрепал ее по голове. — Успокойтесь, леди. Вы славно потрудились. Спиртное течет рекой. Я провел здесь два часа и поговорил со всеми нужными вам людьми. Я обещал прийти на этот прием. Но как долго я должен тут находиться — это мое дело. Да, кстати… вы знакомы с моими кузинами из Айовы? — Я знаю Риту Льюис, — сказала Линда, не скрывая своего торжества. — Правда, нас не представляли друг другу. Но она, несомненно, получала на этой неделе мои сообщения. — Я велела секретарше послать вам приглашение, — официальным тоном заявила Рита. — Вижу, вы его получили. — Нет, мы прорвались сюда просто так, — радостно сообщила Дженюари. — Но вы можете возместить нам моральный ущерб, — добавила Линда. — Мы хотим взять интервью у мистера Кольта. За это мы предоставим вам нашу обложку. — Нет, — возразила Рита Льюис. — У мистера Кольта вся неделя расписана по часам. Он дает интервью ведущим журналам, «Ассошиэйтед Пресс», «Юнайтед Пресс Интернейшнл»… — Но наш материал будет отличаться от всех прочих, — взмолилась Линда. — Да, — подтвердила Дженюари. — Мы сделаем нечто вроде ток-шоу, поедем с. ним в другие города. — Забудьте об этом, — сказала Рита. — Я не хочу, чтобы он попал в «Блеск». Посмотрев на Линду, Рита добавила: — И не беспокойте его телефонными звонками. Том Кольт, наблюдавший за их спором, словно это был теннисный матч, вмешался в него: — Одну минуту! Рита, вы кто — нацистский генерал? Почему вы запрещаете им звонить мне? — Что вы, мистер Кольт! Я не хотела этого сказать. Но я знаю, какой настойчивой может быть Линда. И я уверена, Дженюари прошла ее школу. Просто ваш график интервью уже составлен… «Блеска» там нет. Меня не касается ваша личная жизнь… но вы не должны давать им интервью. Я заключила соглашения, которые могут быть расторгнуты в том случае, если «Блеск» опубликует материал о вас. Он жестко посмотрел на пресс-агента: — Слушайте, детка. Давайте сразу внесем ясность в ситуацию. Вы договариваетесь о моих встречах… и я, как дрессированная собачка, проделываю все трюки. Я всегда держу мое слово. Но не говорите мне, чего я не могу делать. Он покровительственно обнял Дженюари. — Я знаю эту девушку еще с той поры, когда она была ребенком. Ее отец — мой лучший друг. Он сделал потрясающий фильм по одной из моих книг. А вы стоите тут и заявляете, что я не могу дать интервью для ее журнала! Рита Льюис умоляюще посмотрела на Линду. — Ну… пусть оно будет небольшим, Линда… пожалуйста. Иначе я потеряю «Мак-Колл» и «Эсквайр». Не ходите за ним по пятам… — Они могут отправиться со мной хоть в туалет, если пожелают, — взорвался Том. — А сейчас мы собираемся напиться. Он взял обеих девушек за руки и вывел их на улицу. Дженюари медленно открыла глаза. Она заснула в кресле. Почему она не расстелила постель? Почему не сняла с себя одежду? Девушка встала, но пол начал уходить из-под ее ног. Она упала обратно в кресло. Семь часов утра! Она проспала лишь два часа. Поднявшись снова, Дженюари попыталась раздеться. Несколько раз схватилась за кресло, чтобы не потерять равновесие. Раскрыв постель, побежала в ванную. Девушку вырвало. Вернувшись в комнату, она рухнула на кровать. События вчерашнего вечера стали медленно всплывать в памяти Дженюари. Том Кольт внезапно изменил свое отношение к ее отцу… Они отправились втроем в «Сент-Реджис» на глазах у взбешенной Риты Льюис. Он удивился, узнав, что их ждет лимузин. Ему это понравилось… Он сказал, что впервые видит незваных гостей, прибывших в лимузине. Затем — его появление в «Туте Шор»… Туте, похлопывающий Тома по плечу… сидящий с ними за столиком у сцены. Никто не вспоминал о еде. Они постоянно пили «Джек Дэниэлс». Когда Том заявил, что его друзьями могут быть только люди, пьющие «Джек Дэниэлс», девушки, поколебавшись долю секунды, заявили, что обожают бербон. Дженюари справилась с первым бокалом не без усилий, но второй прошел гораздо легче. После третьего в ее голове появилась странная легкость. Она испытала расположение ко всему миру. А когда, наклонившись, Том поцеловал своих спутниц в щеки и назвал их еще шоколадной и ванильной девушками (у Дженюари еще сохранился загар, приобретенный в Палм-Бич, а Линда в этом месяце высветлила на голове отдельные пряди), Дженюари почувствовала, что они — великолепная троица. Люди подходили к их столу. Тома похлопывали по плечу — «Сиди, бродяга» (это был Туте); к ним подсаживались спортивные репортеры, знавшие ее отца; Том то и дело наполнял бокалы. В полночь Кольт настоял на том, чтобы они выпили перед сном в «21». После закрытия ресторана они отправились в «Пи Джи Кларк». В четыре утра вывалились оттуда — это она еще помнила. Но все, о чем они говорили и что делали после «Пи Джи», было сделано в тумане. Она, спотыкаясь, добралась до ванной и приняла аспирин. Вернувшись в кровать и закрыв глаза, почувствовала, что комната вращается. Она открыла глаза и попыталась сконцентрировать внимание на каком-то неподвижном предмете. Выбрала лампу мистера Бейли. В конце концов, она, очевидно, заснула, потому что вдруг увидела сон. Дженюари понимала, что это сон. Над ней склонился человек. Он собрался овладеть ею. В любой момент он мог войти в нее, но она не испытывала страха. Она хотела его, хотя лицо мужчины было размытым… Она присмотрелась… это был Майк. Когда его губы коснулись ее рта, она поняла, что это Том Кольт. Только его глаза были не темными, как у Тома, а голубыми. Но не такого оттенка, как у Майка. Они были цвета морской волны. Она протянула руку, чтобы коснуться его… и проснулась. Полежала, откинувшись на подушки и пытаясь решить, чье лицо она видела — Майка или Тома. Она помнила лишь необычный цвет глаз. Она заставила себя снова заснуть, надеясь увидеть эти глаза. Но ей больше ничего не приснилось. Телефонный звонок разбудил Дженюари. Это была Линда. — Дженюари, ты уже встала? В затылке пульсировала жилка, но желудок не беспокоил девушку. — Который сейчас час? — медленно спросила Дженюари, боясь сделать резкое движение. — Одиннадцать. У меня ужасное похмелье. — Это так называется? — спросила Дженюари. — Мне казалось, будто я умираю. — Выпей немного молока. — О господи… Дженюари вдруг испытала приступ тошноты. — Слушай, съешь кусочек хлеба и запей его молоком. Прямо сейчас! Хлеб поглотит оставшееся спиртное. Сделай это и позвони мне. Мы обсудим наши планы. — Какие еще планы? — Насчет Тома Кольта. — О господи… это необходимо? — Вчера вечером ты сказала мне, что обожаешь Тома. — Это было, наверно, после того, как я познакомилась с его другом Джеком Дэниэлсом. — Сегодня мы не будем этого делать, — заявила Линда. — Что именно? — Напиваться с ним. Проявим твердость. Будем потягивать виски. Он может пить сколько ему угодно. Но если мы хотим подготовить наш материал, нам следует оставаться трезвыми. Мы не скажем ему этого. Просто не будем пить наравне с ним. — Мы это делали? — Пытались. — Линда… меня сейчас вытошнит. — Съешь хлеб. Я надену слаксы, приду к тебе, и мы обсудим нашу стратегию. Ей удалось выпить полстакана молока. Дженюари смотрела, как Линда готовит кофе. Наконец Линда устроилась в кресле и улыбнулась. — Теперь сядь… вернись к реальной жизни… позвони Тому Кольту. — Почему я? — Потому что, хотя я собиралась вчера переспать с ним, я чувствую, что утром он не вспомнит мое имя. Но твое ему не забыть. Особенно после большой любви, которой он вдруг воспылал к твоему папе. — Мне кажется, он не очень-то жалует моего отца. Просто Том бы ч взбешен тем, что какая-то Рита Льюис пытается им командовать. Линда зажгла сигарету и отхлебнула кофе. — Дженюари, этот быстрорастворимый порошок ужасен. Ты должна научиться варить настоящий кофе. Дженюари пожала плечами. — Меня он устраивает. Линда покачала головой. — Но он не понравится твоему мужчине. — Какому мужчине? — Любому, который останется у тебя на ночь. Единственное, что они требуют утром, — это приличный кофе, — Ты считаешь себя обязанной варить его? — Иногда еще и яйца. А если твой друг помешан на здоровой пище, как Кит, тебе придется готовить ему «Гранолу» — подслащенную овсянку с орехами, изюмом и витамином Е… О господи, слава богу, я избавлена от этого. — Ты думаешь о Ките… скучаешь по нем? Линда покачала головой. — После премьеры «Гусеницы» я едва не послала ему телеграмму. Но потом передумала. Все кончено. Я рада за Кита — спектакль стал хитом. Он дорого заплатил за успех, согласившись спать с Кристиной. К тому же, пообщавшись с таким человеком, как Том Кольт, начинаешь понимать, что Кит — просто мальчишка. — Но, Линда… он женат, у него шестимесячный сын. — Жена и ребенок Тома на Западном побережье… а я здесь. Я не собираюсь уводить его от семьи. — Тогда зачем он тебе? — Он меня заводит… он красив… я хочу с ним переспать. И ты — тоже. Во всяком случае, вчера ночью ты вела себя так, словно хочешь этого. — Неужели? — Дженюари, тебе следовало родиться под знаком Близнецов, а не Козерога — ты настоящий Близнец. Выпив, ты превращаешься в совсем в другого человека. Вчера он целовал нас в «Пи Джи»… по-настоящему… взасос… поочередно… называл меня ванильной девушкой, а тебя — шоколадной. — Он целовал нас в «Пи Джи»? — Ну да. — По-настоящему? — Я чувствовала его язык в своей глотке. Насчет тебя не знаю. — О, боже. — А как тебе понравилось возвращение домой в машине? — спросила Линда. — О чем ты? — выпрямилась Дженюари. — Он засунул руку тебе под блузку и сказал: «Малышки. Но они мне нравятся». Дженюари зарылась головой в подушку. — Линда… я этому не верю: — Не сомневайся… Он целовал мои груди и уверял, что они просто потрясающие. — А как реагировал на это водитель? — Наверно, не отводил взгляда от зеркала заднего вида. Но эти шоферы, я слышала, всякого насмотрелись, включая изнасилования. — Линда, — тихо промолвила Дженюари. — Теперь я все постепенно вспоминаю. Когда он засунул руку под мою кофточку, мне это показалось самым естественным поступком на свете. О боже… как я могла? — Ты наконец становишься нормальной девушкой. — Это нормально? Чтобы мужчина, с которым ты только что познакомилась, трогал тебя в присутствии другой девушки? — Послушай, я никогда не занималась любовью втроем. Не смогла бы трахаться при свидетелях. Вчерашняя ночь прошла очень весело. Тебе нечего стыдиться. Выбравшись из кровати, Дженюари побрела по комнате в поисках сигарет. Закурив, сделала глубоко затяжку, потом повернулась к Линде. — Я знаю, что долгое время жила в изоляции от внешнего мира. Тут многое изменилось. Например, можно жить с любимым человеком, не регистрируя брак… спать с ним. Теперь все так считают. Но никто не может заставить меня принять все это. Моя девственность породила во мне комплекс. Я буквально уговорила себя отдаться Дэвиду. И это было ужасно. Она передернула плечами, гася недавно зажженную сигарету. — Линда, я хочу влюбиться. Господи, как я хочу влюбиться. Я даже готова согласиться с тем, что регистрация — необязательная формальность. Но если я влюблена и мужчина, которого я люблю, касается меня… я хочу, чтобы у нас происходило нечто удивительное, а не просто было забавно. — Дженюари, когда люди пьянеют… от бербона, вина или наркотиков… все, что они делают, кажется им естественным, правильным. Спиртное снимает запреты. Если ты позволила Тому Кольту ласкать себя и это в тот момент показалось тебе нормальным, значит, в глубине души ты желала этого. Дженюари закурила новую сигарету. — Неверно. Я восхищаюсь его произведениями… силой характера… Господи, что он подумает о нас? Две девушки ворвались на прием без приглашения, приехали на лимузине… позволили ему… Замолчав, она погасила сигарету. — Линда, что он мог подумать о нас? — Дженюари, перестань изводить себя подобными мыслями. Ты отдаешь себе отчет в том, сколько бокалов бербона он выпил и скольким женщинам ласкал груди? Он, вероятно, успел забыть твои прелести. Боже, уже полдень. Звони ему. — Нет. — Пожалуйста… ради меня. Пусть он сводит нас куда-нибудь, а в середине вечера ты скажешь, что тебе стало плохо… и уйдешь. Но, пожалуйста, позвони. Я действительно хочу его. Я не вижу вокруг себя никого, способного сравниться с ним. Порой его лицо становится злым. Однако от его улыбки или ласкового взгляда у меня подгибаются колени. — Ты готова переспать с Томом Кольтом, зная, что у вас нет будущего, что у него хорошая, прочная семья? — Что ты хочешь вбить в мою голову? Чувство вины? Если Том Кольт нравится мне, а я — ему, что плохого в том, что мы проведем вместе несколько восхитительных ночей? Кто от этого пострадает? Тут нет соседей, которые будут смеяться над его женой, когда она выйдет во двор развешивать белье. У Тома молодая красивая жена, которая развлекается в Малибу среди голливудских знаменитостей, отдав ребенка на попечение няни. Что я у нее краду? Она находится далеко отсюда, верно? Ну… ты позвонишь ему? — Нет. Даже если бы он не был женат, я бы не позвонила ему. — Почему? Дженюари подошла к окну и раздвинула шторы. — Похоже, настоящий снег. Слава богу, вчерашняя слякоть кончилась. — Почему ты не позвонила бы ему, даже если бы он не был женат? — Потому что… девушки не звонят мужчинам. Они сами должны звонить нам. — О, боже… я не верю своим ушам. Ты говоришь, как героини фильма с Присциллой Лейн в главной роли. Субботнее свидание, букетик гардений, приколотый к корсажу. Сегодня женщины не ждут, когда им позвонят. К тому же Том не просто мужчина. Он — суперзвезда, и мы готовим статью о нем. Линда сняла трубку и позвонила в «Плазу». — В конце концов, нам придется отправить к нему эту уродину Сару Куртц, чтобы она почувствовала его стиль… Алло… мне нужен мистер Кольт. — Почему Сару Куртц? — спросила Дженюари. — Потому что эта публикация будет иметь первостепенное значение для «Блеска». Сара — лучшая журналистка, какой я располагаю. Алло… что? Это звонит мисс Дженюари Уэйн. Да… Дженюари… как месяц. — Линда! — Здравствуйте, мистер Кольт… Нет, это не Дженюари. С вами говорит Линда Риггз. Но Дженюари сидит возле меня. Да, мы чувствуем себя хорошо. Да, немного… Мы обе хотим увидеть вас. Кто? Хью Робертсон? Правда?… Великолепно. Это было бы здорово. Отлично. У вас в семь часов. Десятый этаж. Она записала на листке номер «люкса». — Договорились. Линда со счастливой улыбкой опустила трубку. — Днем к нему зайдет выпить Хью Робертсон. Мы пообедаем вчетвером. Том пришлет за нами свой лимузин. — Почему ты назвала его мистером Кольтом? — спросила Дженюари. — Это звучало странно? Но я вдруг испугалась. Сначала у него был такой сухой тон. Но сегодня вечером, после двух бокалов, он снова станет Томми. Представляешь, Хью Робертсон составит нам компанию. Вот было бы любопытно позаниматься любовью с космонавтом. — Похоже, ты намерена воспользоваться таким шансом, — сказала Дженюари. — Он хотя бы разведен. — Ты берешь себе Хью… а я хочу Тома. — Почему ты отказываешься от Хью? — спросила Дженюари. — Он тоже суперзвезда в своей области. Его фото появлялось на обложках «Тайм» и «Ньюсуик». — Слушай, Дженюари, я не из тех, кто охотится за знаменитостями… Если хочешь знать, я никогда еще не спала со звездой, тем более с суперзвездой. Кита взяли в «Гусеницу» после того, как мы расстались, и он еще не стал звездой. Его имя почти не упоминается в прессе. Если я хочу Тома Кольта… то лишь потому, что в нем есть нечто особенное… он волновал бы меня, даже если бы был безработным бухгалтером. Он такой сильный, независимый… А иногда в нем проявляется мягкость и меланхолия. Разве ты этого не заметила? — Нет. К сожалению, я увлеклась «Джеком Дэниэлсом» и после этого уже не могла видеть ничьи глаза. Но я загляну в них сегодня. — Нет, ты сегодня будешь смотреть в глаза Хью Робертсона. Оставь Тома мне. Подумать только… завтра в это время я, возможно, буду завтракать в его постели в «Плазе». (обратно)Глава пятнадцатая
Они прибыли в «Плазу» в пять минут восьмого, напоминая радостных школьниц, отправившихся на пикник. Когда они вошли в вестибюль, Дженюари внезапно замерла. С этим местом было связано столько воспоминаний. Линда потащила ее к лифту. — Идем. Мы опаздываем. — Линда, я не была здесь с… — Дженюари, это не вечер воспоминаний. Живи сегодняшним днем! Том Кольт… Хью Робертсон… Не забыла? Она втянула Дженюари в кабинет. Хью Робертсон открыл дверь. Дженюари узнала его по фотографиям. Представившись, он пригласил девушек в «люкс». — Том разговаривает из спальни со своим мюнхенским агентом насчет уступки авторских прав. Я приготовлю напитки. Не спрашиваю вас, что вы предпочитаете — тут есть только «Джек Дэниэлс». Линда взяла бокал, но Дженюари отказалась от спиртного. Она подошла к окну. Невероятно… Том Кольт в том самом номере, который Майк арендовал круглый год. У окна стоял тот же столик. Она прикоснулась к нему, словно проверяя, не видение ли это. Сколько раз она сидела здесь, наблюдая за работающим отцом! Иногда все телефоны звонили одновременно. Дженюари отвернулась. Это было ужасно — сейчас все телефоны снова звонили разом. Том Кольт вошел в комнату и сказал: — А пошли все… пусть звонят… я не обязан работать в субботу. Он шагнул к Дженюари и взял девушку за руки. — Привет, принцесса. Как чувствуешь себя после вчерашней ночи? — Хорошо. Она внезапно смутилась, занервничала, увидев, как Том идет через комнату к Линде, чтобы поздороваться с ней. Они отправились в «21». Том оставался относительно трезвым. Заметив, что Дженюари не пьет бербон, который он заказал для нее, Том спросил у официанта список имеющихся в наличии вин. — Белое вино? Я угадал? — Но вчера вечером вы сказали… — начала Линда. — Сегодня новый день, — сказал Том. — Я каждый день говорю разные вещи. Это был спокойный вечер, но Дженюари внезапно поняла, что не может направлять беседу с Томом. Она взвешивала каждое слово, прежде чем произнести его, затем тщательно шлифовала фразу и наконец обнаружила, что момент упущен, а она так ничего и не сказала. Она чувствовала себя идиоткой. Линда непринужденно болтала, рассказывала о том, как началась ее карьера в «Блеске», какое чудо ей удалось совершить. Дженюари пыталась придумать, что она может сказать. Почему ее охватывает смущение и она отводит взгляд в сторону всякий раз, когда Том смотрит на нее? Наверно, следует сказать ему, что ей понравилась его книга. Но какими словами? «Мистер Кольт, я думаю…» Нет. «Том, я в восторге от вашего романа». Нет, это звучит глупо. «Том, ваша книга займет первое место в списке бестселлеров» — слишком самоуверенно. Откуда ей знать, как примет роман публика? Может быть… — О, Том, — сказала Линда. — Вы должны надписать мне вашу книгу. Она просто потрясающая. Теперь Дженюари уже не могла использовать книгу как завязку беседы. Том пообещал достать им обеим по экземпляру в «Даблдей». — Они работают допоздна. Я рад, что она вам понравилась. Лоуренс сообщил мне, что на следующей неделе роман займет шестое место в списке «Нью-Йорк Тайме». На самом деле эта книга — далеко не лучшая из написанных мною. Но она коммерческая… сегодня это — главное. Желая сменить тему, он повернулся к Хью и потребовал, чтобы космонавт объяснил, почему он скрывается в Уэстгемптоие. — Наверно, тут замешана дама, — сказал Том. — И очень большая, — отозвался Хью. — Мать-природа. — Вы занимаетесь экологией? — Нет, меня беспокоит тело нашей доброй старой Земли. Оно вполне может развалиться в любой миг от сотрясений. Я изучаю подземные пустоты. Наиболее известная называется Сан-Андреас. Астрологи предсказывают, что в этом году Калифорния может стать дном океана. Я считаю, в Лос-Аджелесе уже давно должно было произойти землетрясение, но вряд ли приливная волна превратит его во вторую Атлантиду. Я исследую другие пустоты — их очень много. Особенно меня интересует вопрос, образуются ли они в последнее время. Я получил субсидию от правительства и теперь пытаюсь найти подтверждение нескольким моим теориям, которые, в конце концов, могут помочь нашему шарику просуществовать на несколько лет дольше. — А я считала, что, если мы не воспользуемся атомной бомбой и прекратим загрязнять атмосферу, мир будет существовать вечно. Хью улыбнулся. — Линда, вчера ночью, когда я лежал среди дюн в спальном мешке и… — Вы лежали среди дюн в феврале? — удивилась Линда. — У меня есть домик на побережье с одной спальней, — пояснил Хью. — Но за день я провожу в нем не более нескольких часов. Надеваю белью с подогревом, залезаю в спальный мешок. Я устраиваюсь в ложбинке между двумя дюнами, и они защищают меня от ветра. Конечно, летом там гораздо приятнее, но небо завораживает в любое время года… оно как бы ставит тебя на место. Особенно если ты понимаешь, что наша Земля — песчинка в масштабах Вселенной. Вы только представьте себе — там есть миллионы солнц, под которыми развиваются какие-то формы жизни. Глядя на небо, понимаешь, что вполне могут существовать цивилизации, опережающие нас на миллионы лет. — Во втором классе я узнала, что звезды весьма велики и могут быть другими мирами, — сказала Дженюари. — До этого я считала их крошечными теплыми точками… божьими фонариками. Она замолчала. — Не помню, кто сказал мне об этом, но я испытала тогда ужасный шок, узнав правду. Я жила в постоянном страхе, боялась, что они упадут и раздавят нас. Потом отец объяснил мне, что каждое небесное тело занимает свое определенное место, что после смерти люди отправляются на другие звезды. — Чудесная теория, — сказал Хью. — Похоже, ваш отец — прекрасный человек. Отличное объяснение для маленькой девочки. Оно вселяет веру в вечную жизнь и избавляет от страха перед неизвестным. Он заговорил о Солнечной системе и своей твердой убежденности в том, что когда-нибудь между планетами будет установлена связь. Том, казалось, был заворожен рассуждениями Хью и забрасывал его вопросами. Дженюари слушала космонавта с интересом, но Линда скучала. После нескольких попыток придать беседе более личный характер она, сдавшись, откинулась на спинку кресла. Когда Дженюари задала Хью вопрос, за которым последовало длинное объяснение, Линда бросила на девушку негодующий взгляд. Но Дженюари действительно было интересно. Она обнаружила, что ей легко разговаривать с Хью. Беседуя с ним, она также общалась с Томом. Обращаясь к Хью, она иногда заставляла смеяться обоих мужчин. Однако когда Том говорил что-то непосредственно ей, она испытывала скованность, с трудом подбирала слова, смущалась. Она украдкой следила за Томом, пока Хью объяснял что-то про Луну и приливы. Сосредоточенный Том казался высеченным из гранита. Однако Дженюари ощущала его уязвимость — качество, отсутствовавшее в Майке. Отец был прирожденным победителем. Одного взгляда, брошенного на Майка, было достаточно, чтобы понять — этому человеку невозможно причинить боль. При всей мужественности Тома он знал страдания. Том не был таким сильным, как Майк. Хотя в чем-то он превосходил по стойкости Майка. Он признался, что его лучшие книги, последние четыре романа, не имели успеха у публики. Однако он взялся за следующее произведение и создал его. Майк вышел из игры, убедив себя в том, что фортуна ему изменила. Том Кольт явно не верил в удачу. — Вы игрок? — внезапно спросила Дженюари. Мужчины замолчав, посмотрели на девушку. Ей захотелось спрятаться под столом. Вопрос невольно сорвался с ее уст. Спустя секунду Том ответил: — Если мои шансы достаточно велики. Почему ты спросила об этом? — Просто так. Я… вы напомнили мне одного человека. — Старую любовь? — сказал Том. — Да… ее отца! — вставила Линда. Том засмеялся: — Прекрасный способ отрезвить любого мужчину. Человека, приближающемуся к своему шестидесятилетию и развлекающему двух красивых молодых девушек, следует вернуть на землю. — Вам не может быть столько лет, — сказала Линда. — Не утешайте меня, — с улыбкой сказал Том. — Да, мне пятьдесят семь, я на несколько лет старше Майка Уэйна. Верно, Дженюари? А ты, Хью, достаточно молод, чтобы понять, что дамам надоел наш разговор о звездах. Единственные звезды, которые их интересуют, это Пол Ньюмен и Стив Мак-Куин. — Мне вовсе не было скучно, — возразила Линда. — Это захватывающая тема. Они покинули «21» в одиннадцать часов. Погода стояла отличная, почти безветренная. — Проводим девушек пешком, — сказал Том. — Они живут вместе. — Мы живем в одном доме, но у каждой своя квартира, — уточнила Линда. Том отпустил автомобиль, и они направились в «Даб-лдэй». Продавцы приветствовали писателя; он купил книги для Дженюари и Линды, надписал их, потом неохотно оставил автографы еще на нескольких экземплярах для магазина и поспешил на улицу. Они зашагали на восток. Держа Тома под руку, Линда пыталась вытолкнуть Дженюари и Хью вперед, но Кольт говорил с космонавтом, и там, где это было возможно, они шли рядом. Оказавшись на узком тротуаре, они разбились на пары. Том и Линда двигались впереди. Дженюари увидела, что писатель держит Линду за руку. Внезапно она поняла, что Хью о чем-то спросил ее. — Извините… я не расслышала, — сказала Дженюари. — От этого такси столько шума… Он улыбнулся. — Не завидуйте подруге. Том женат… а вы не производите впечатление любительницы скоротечных романов. — Я ей вовсе не завидую. С чего вы взяли? — Вы смотрели, как они идут, взявшись за руки, пока я говорил. Такси ехало тихо. — Правда? Наверно, я о чем-то задумалась. У меня есть такая дурная привычка. На самом деле, Хью, я счастлива, что иду с вами. — Мы оба… устали от романов… Том и я. У меня есть теперь звезды и океан… а Том завел себе новую жену и малыша. У него до сих пор не было ребенка… вы это знали? Четыре брака и первый ребенок в пятьдесят семь лет. Так что если у вашей подруги серьезные намерения в отношении Тома… — Нет, Линда знает правила игры. — Такие слова вам не подходят, — заметил Хью. — Откуда вам известно, что мне подходит, а что — нет? — Я знаю, кто вы и что из себя представляете. И прекрасно вижу Линду. Тому всегда достаются Линды. Он даже был женат на паре таких Линд. Почему, думаете? Потому что он никогда не добивается девушек сам — он берет тех, кто охотится за ним. Так проще. К тому же, по-моему, он не способен влюбиться… разве что в героев собственных книг. Он довольствуется женщинами, которые выбирают его. Но теперь у Тома есть сын… поэтому он никогда не разведется со своей молодой женой. — Какая она? — спросила Дженюари. — Красивая… с рыжими волосами… последние годы снималась в кино. Правда, в небольших ролях. Но она очень хорошенькая. Познакомившись с Томом, всерьез взялась за него… бросила кино и родила ему сына. — Как ее зовут… под каким именем она снималась? Хью, остановившись, посмотрел на девушку. — Дженюари, — ласково произнес он. — Вы позволите дать вам совет? Оставьте Тома Линдам. Вам будет больно. Не успела она что-либо ответить Хью, как вдруг Том закричал: — Эй, Хью, ты еще не хочешь, чтобы я завтра приехал к тебе и провел день на побережье? — Конечно. У меня холодильник забит бифштексами. — Не хочешь пригласить туда девушек? Мы попросим их заняться бифштексами. — Это было бы чудесно, — произнесла Линда. — Я никогда не была на побережье в феврале. Они подошли к дому. Линда посмотрела на Тома. — Я могу пригласить вас выпить перед сном? Правда, у меня нет бербона, но есть ржаное виски… — Нет, мы хотим выехать рано утром, — сказал Том. — Я обожаю берег океана в пасмурную погоду… даже в холод. Тогда он целиком принадлежит тебе. В Малибу мне пишется лучше всего, когда за окном прохладно, а над землей стелется туман. Воскресенье выдалось прохладным, обещали дождь. Они выехали в половине одиннадцатого. Все были в зимних слаксах, свитерах и куртках. Том Кольт, похоже, впервые за эти дни полностью расслабился. Дождь действительно пошел, но в доме было тепло. Они весь день поддерживали огонь в камине. Когда Дженюари сидела, глядя на пламя, ей казалось, что они — единственные люди на земле. Маленький, но крепкий коттедж Хью состоял из гостиной, кухни, спальни, расположенной на втором этаже, и солярия. — Идеальный дом холостяка, — сказал Хью. — Гнездышко для влюбленной парочки, — произнесла Линда, глядя на Тома. — Надеюсь, наше нью-йоркское побережье нравится вам не меньше, чем Западное, Томми? Улыбнувшись, писатель слегка дернул ее за волосы. — Линда, можешь называть меня как угодно… негодяем… сукиным сыном… только не Томми. В десять вечера лимузин прибыл за ними, чтобы доставить их в город. Хью оставался на побережье. Уходя, Том прихватил с собой бутылку бербона. — Это для дороги. Линда взяла Тома под руку, и они направились к машине. За ними шли Хью и Дженюари. Мелкие капли дождя падали на их лица. — Похоже, у них все на мази, — заметил Хью. — Так что тебе придется присматривать за ними во время турне. — Какого турне? — Линда сказала, что вы поедете с Томом и напишете о нем статью. Это турне… совсем не для Тома. Он будет пить слишком много. На самом деле он застенчив. Я знаком с ним только последние шесть лет, и мне известно, что за демон сидит в нем. Видит бог, женщины и мужчины одинаково любят Тома и тянутся к нему. Но кажется, что Тому ежесекундно приходится что-то доказывать самому себе. Возможно, в этом причина его пристрастия к алкоголю. Может быть, после каждой книги он чувствует, что полностью выговорился, а нужно писать дальше. Это турне может нанести вред его психике. Поэтому я сказал, что ты должна приглядывать за ним. Он нуждается в человеке, который следил бы за тем, чтобы Тома не заносило по части выпивки. Дженюари улыбнулась. Линда и Том уже сели в машину. — Вы мне нравитесь, мистер Робертсон, — сказала она. — Ты мне — тоже, Дженюари Уэйн. По-моему, ты — нечто особенное. — Спасибо. Он пожал ей руку. — Я вкладываю в эти слова наилучший смысл. Я — твой друг. Она кивнула. — Да, друг. Они обменялись улыбками, и она забралась в автомобиль. Том открыл бутылку и сделал большой глоток. Протянул ее Линде, которая отхлебнула бербон. Том предложил спиртное Дженюари. Их глаза встретились… и задержались друг на друге… на мгновение все остановилось как в кино, когда рвется пленка. Дженюари медленно протянула руку к бутылке… они по-прежнему смотрели друг на друга. Внезапно Том резким движением убрал бутылку. — Нет. Я передумал. Больше пить не будем. Завтра рабочий день. Момент прошел. Они обсуждали интервью, которые ему предстояло дать, выступления в телепередаче «Сегодня» и в шоу Джонни Карсона, короткие поездки в Бостон, Филадельфию и Вашингтон, ждавшие Тома перед большим турне по стране. — Наверно, нам лучше не присутствовать на ваших интервью, — сказала Линда. — Рита что-нибудь выкинет, если мы там появимся. Но если вы позволите, мы будем освещать ваши выступления на ТВ и пресс-конференции. — Согласен. Но я не уверен, что вы соберете интересный материал. — Вы прежде участвовали в подобных турне? — Конечно, нет. Линда улыбнулась. — Обещаю вам, оно будет очень интересным. Когда автомобиль остановился перед их домом, Том проводил девушек до двери подъезда. Наклонившись, поцеловал Дженюари и Линду в щеки и зашагал к машине. Линда на секунду онемела… затем прошипела сквозь зубы: — Заходи же, Дженюари… скорей. Она втолкнула подругу в парадное и бросилась назад к лимузину. Том уже садился в него. — Том… я знаю, что завтра вы даете интервью для «Лайфа»… но в какое время… Остальное Дженюари не услышала. Она, не задерживаясь, прошла к лифту и поднялась к себе. Она запуталась в своих чувствах. Раздевшись, девушка легла в постель. Вернулась ли Линда в «Плазу»… в спальню, некогда принадлежавшую Майку? Она старалась не думать об этом. Если Линда хочет завести роман с Томом Кольтом, что в этом дурного? Дженюари взбила подушку и попыталась усилием воли заставить себя уснуть. Она слышала тиканье часов… звук телевизора, работающего в соседней квартире… крики ругающейся во дворе семейной пары. Вдруг зазвонил телефон. От неожиданности она подскочила. После второго звонка сняла трубку. — Я не разбудил тебя? Она уставилась на телефон, потеряв от изумления дар речи. Это был Том Кольт. — Дженюари… ты меня слышишь? — Нет… то есть да, слышу… нет, вы не разбудили меня. — Слава богу. Я уже собирался отдать указание портье разбудить меня утром и вдруг понял, что мой завтрашний вечер не занят. Ты видела «Позолоченную леди»? — Нет. — Я — большой поклонник Морин Степлтон. Достану на завтра три билета. Предупреди Линду. — Возможно, она уже видела этот спектакль. — Ну и что? А мы — нет. Два голоса обеспечивают большинство. Мы будем решать все споры подобным образом. Заеду за вами в семь. Спокойной ночи. Услышав щелчок, она посмотрела на телефон и медленно опустила трубку. Значит, он не с Линдой. Лежа в темноте, Дженюари думала об этом. Он не с Линдой! Но почему она так обрадовалась этому? Она сама хочет Тома Кольта! Она замерла, потрясенная сделанным открытием. Но это правда… Она влюбилась в человека, который старше ее отца. В мужчину, имевшего жену и ребенка! И он неравнодушен к ней, Дженюари! Ведь он позвонил ей, а не Линде, насчет «Позолоченной леди». Неужелион действительно испытывает к ней какие-то чувства? Но Хью сказал, что он ленив… и позволяет девушкам ухаживать за ним… не прилагает усилий, чтобы завоевать кого-то! А разве Линда не сделала шаг навстречу Тому? Однако он позвонил ей, Дженюари. Потянувшись, она разрешила себе помечтать. Вдруг его жена внезапно попросит развод или… неожиданно умрет и… это плохо… она не должна желать ей гибели. Допустим, он действительно влюбится и сам подаст на развод… нет… он не бросит сына. Том Кольт-младший значит для него очень много. Предположим, красивая молодая жена заявит Тому, что это не его ребенок… что она родила его от какого-то парня с пляжа… что она хочет развода. Тогда он будет избавлен от чувства вины… Конечно, Том будет давать ей деньги на содержание ребенка, носящего его фамилию, но он сможет жениться на Дженюари… они заживут вдвоем в доме на побережье… она займется перепечаткой его рукописей… все будет чудесно. Безумие! Да… это безумие… но она сжала подушку и начала погружаться в сон, вспоминая, как Том смотрел на нее в машине. (обратно)Глава шестнадцатая
Она спала плохо, но, услышав звонок будильника, бодро вскочила с постели, приветствуя новый день. Стоя под душем, запела: «Я влюблена, я влюблена в чудесного парня!» Потом вспомнила другую песню Роджера и Хаммерстайна: «Этот человек совсем мне не подходит, но почему я плачу оттого, что он принадлежит другой?» Однако она не плачет, а поет, как идиотка, стоя под душем, и чувствует себя лучше, чем когда-либо. Но он женат. Она думала об этом одеваясь. Где ее совесть? Посмотри, как страдала мать, когда у отца были романы. Но она не собиралась спать с Томом Кольтом. Так приятно испытывать нежные чувства к мужчине… жаждать его общества и восхищения. Неужели это дурно — просто находиться рядом с ним? Тем более что никто не знает о том, что происходит в ее душе. Ей трудно удавалось сохранять спокойствие, говоря с Линдой. — Что значит мы идем на «Позолоченную леди»? — закричала Линда. Я бы охотнее посмотрела «Нет, нет, Нанетт». И вообще, почему он позвонил тебе? — Не знаю… может быть, потому, что мы все время были втроем. Возможно, он не хотел, чтобы приглашение выглядело как имеющее личный характер. — Что ж, скоро от троицы останется только пара… наверно, это произойдет сегодня вечером! — Разве мы не собирались работать над статьей втроем? — Все изменилось. Я освобождаю тебя от этого задания. — Но почему? — Слушай, Дженюари, все равно Сара Куртц будет переписывать текст. А когда придет время ехать в турне, мы отправимся в поездку вдвоем с Томом. Я скажу ему об этом позже… объясню, что мне пришлось поручить тебе новую работу. Я даже познакомлю Тома с Сарой и скажу ему, что буду отсылать пленки ей. После одного взгляда, брошенного на нее, он не захочет взять Сару в турне. Дженюари заколебалась. — Линда, позволь мне самой писать статью. Я чувствую, что у меня получится. Разреши поехать с вами. Обещаю, я не буду тебе мешать. — Дорогая, ты уже мне мешаешь. К сожалению, сегодня вечером я буду вынуждена с этим мириться… так что наслаждайся минутой. Скоро третий будет лишним. Они сидели в затемненном зале. Том признался, что Морин Степлтон — его идеал актрисы. Дженюари видела Морин в нескольких постановках и соглашалась с ним. Но впервые ей не удавалось сконцентрироваться на пьесе. Она слишком остро чувствовала присутствие Тома. Хотя все его внимание было сосредоточено на спектакле, Дженюари испытывала ощущение близости с человеком, сидевшим возле нее в полумраке театра. Несколько раз, когда их локти соприкасались, Дженюари с трудом преодолевала желание снова коснуться его. У Тома были такие сильные, чистые руки… ей нравилась форма его ногтей. От Тома исходил какой-то знакомый запах. Она принюхалась, пытаясь определить название туалетной воды. Том повернулся к девушке. — Это «Шанель номер пять». Я всегда пользуюсь этим одеколоном после бритья. Кое-кто понимает это превратно. — Нет, мне нравится. — Отлично. Я достану тебе флакон. Он снова стал следить за ходом спектакля. По окончании его они прошли за кулисы к мисс Степлтон, которая присоединилась к их компании в «Сарди». Том сказал, что если бы ему взбрело в голову написать пьесу, он обязательно сочинил бы что-нибудь для Морин. Они заговорили о спектаклях… старых и современных… принялись сравнивать постановки. Дженюари, удивив Тома, вспомнила несколько названий. — Но ты не могла видеть их, — заметил он. — Они шли, наверно, еще до твоего рождения. Девушка кивнула. — Да… но с восьми лет я не только смотрела все бродвейские спектакли, но и слушала, сидя в ресторане, как обсуждали пьесы, шедшие в сороковых и пятидесятых. Она поняла, что они вели беседу, в которой Линда не могла участвовать. Дженюари попыталась втянуть подругу в общий разговор. — Мы с Линдой учились в одной школе. Она была нашей звездой. Вы бы видели ее в «Энни, возьми свой револьвер». Линда оживилась, а позже заговорила с мисс Степлтон об интервью для «Блеска». Когда Том привез девушек к их дому, Линда не попыталась пригласить его к себе. — Я решила подождать до турне. По-моему, он тоже так настроен. Там все произойдет совершенно естественно. Утром дверной звонок зазвонил одновременно с будильником. Накинув халат, Дженюари посмотрела в «глазок». Это был посыльный с пакетом. Она приоткрыла дверь, не снимая цепочки. Расписавшись в журнале, попросила мужчину положить посылку на пол. Дженюари сняла цепочку, лишь когда мужчина зашел в лифт. Этому правилу Дженюари научил Майк — оно входило в тот минимум знаний, который необходим девушке для выживания в Нью-Йорке. Когда кабина поехала вниз, Дженюари открыла дверь и схватила посылку. Внеся ее в квартиру, осторожно открыла. Там находился самый большой флакон «Шанель номер пять», какой она когда-либо видела. Записки не было. Девушка прижала подарок к щеке — значит, Том действительно думал о ней. Где ему удалось в восемь тридцать утра раздобыть такой огромный флакон? Он послал один флакон или два? Не понесет ли сейчас посыльный аналогичный подарок Линде? Благоухая, Дженюари прибыла в редакцию. Линда тотчас уловила запах. — Что это? — «Шанель номер пять». Дженюари ждала реакции Линды. Та едва пожала плечами. — Я положила тебе на стол один рассказ. Прочитай его… Мне он понравился. Скажешь свое мнение. Тема слишком близка мне. Девушка меняет форму носа, чтобы удержать парня… выходит из клиники красавицей… а он бросает ее ради другой, похожей на нее до операции. Забавная вещица… из самотека. — Из самотека? — Без рекомендации агента… я ее не заказывала… никогда не слышала об этом авторе… рукопись поступила с вложенным конвертом, на котором был написан адрес отправителя… где-то в Бронксе. Страницы весьма потрепанные, видно, мисс Дэбби Меллон получила немало отказов… думаю, она послала нам рассказ уже после того, как его отвергли в «Женском журнале», «Космо» и «Красной книге». Посмотрим, что скажешь ты. Придя в свой кабинет, Дженюари закурила сигарету и начала читать рукопись. Он не послал «Шанель» Линде… Она перечитала первый абзац рассказа. Ей не удавалось сосредоточиться. Дженюари снова вернулась к началу. Но, возможно, он тоже считает, что третий будет лишним… и это прощальный подарок. Дженюари в очередной раз прочитала первую фразу. Посмотрела на часы. Вчера Том позвонил ей домой… утром. Сейчас почти десять… может быть, он снова звонил. Ей следует пользоваться службой передачи сообщений. До сих пор в этом не было необходимости. Майк всегда знал, где найти ее. Он обычно звонил ей в редакцию ежедневно после гольфа. Даже Дэвид мог отыскать Дженюари. Если бы Том захотел поговорить с ней, он догадался бы позвонить в «Блеск». Он ведь нашел ее домашний телефон, не значащийся в телефонной книге. Очевидно, ему пришлось обратиться в справочное бюро. Возможно, он позвонил Линде, и она сказала ему, что Дженюари занимается другой статьей и у нее нет времени ехать с нами в турне. Она уставилась на рукопись. «Пластическая операция». Дэбби Меллон. Похоже, история, пережитая автором лично. Скорее всего, так… рассказ бедной Дэбби Меллон, отданный Дженюари для оценки. Она испытала укор совести. Она должна прочитать про нос Дэбби Меллон, иначе Бог от нее отвернется и не заставит Тома позвонить. Ерунда! Конечно, Господь не на ее стороне. Почему он должен сочувствовать ей? Способствовать звонку женатого мужчины? «Но я хочу просто побыть рядом с ним, — прошептала девушка, глядя в потолок. — Может быть, подержать его за руку. Это уже плохо?» Она заставила себя уткнуться в рукопись. «Я была похожа на попугая, но Чарли любил меня. Чарли выглядел, как Уоррен Битти. В подобной ситуации у любой девушки появился бы комплекс…» Она велела себе читать дальше. Дэбби описывала операцию в технических подробностях. Рассказывала о каждой игле, воткнутой в нос. Дженюари поежилась. И подбородок… с ним тоже что-то сделали. Столько мучений, чтобы потерять Чарли на десятой странице. Дженюари остановилась на середине операции. Четверть одиннадцатого. Может быть, он звонил Линде. Она не может вернуться в кабинет Линды, не дочитав рассказ. К половине одиннадцатого она добралась до последней строки. Дженюари колебалась. Почему не дать Дэбби шанс? Она положила рукопись обратно в большой конверт и направилась по коридору к Линде. — Мне понравилось, — сказала Дженюари, протягивая Линде. Молодая женщина кивнула. — У Сары самый большой нос в Нью-Йорке. Если она даст «добро», мы поставим «Пластическую операцию» в августовский номер. Нам пригодится рассказ начинающего автора — в этом месяце пойдет статья о Томе Кольте. Я хочу сделать во время турне много снимков Тома… черт возьми, если бы Кит не играл в «Гусенице»… — Ты бы взяла его в турне! — Да… только потому, что он мне не по карману. Любой другой фотограф заломит такой гонорар… О, придумала. Позвоню Джерри Коулсону. Он весьма талантлив, но еще не знает себе цену. Возможно, я с ним договорюсь. — Том согласен фотографироваться? — Я его не спрашивала. И не собираюсь это делать. Слушай, к тому времени у нас будет бурный роман. Вчера вечером в театре он постоянно прижимал свою ногу к моей. И то же самое он делал в «Сарди», когда вы говорили о театре. — О… ну, я, пожалуй, пойду к себе. — Садись. Сейчас принесут кофе. — Нет. Я должна заняться статьей о кошках знаменитостей. Тебе известно, что знаменитостей, имеющих кошек, весьма немного? Они предпочитают собак. — Ерунда. У одной только Памелы Мейсон тысяча кошек. — Но она живет в Калифорнии! Как ты думаешь — у Морин Степлтон есть кошка? (Дженюари чувствовала, что говорит слишком быстро.) — Не знаю… Зазвонил телефон. «Вдруг это Том? Я спрошу у него телефон Морин». Линда нажала кнопку. — Алло… что? Конечно, Шерри… Ты шутишь! Я хочу услышать подробности. Зайди ко мне в кабинет и все расскажи. Она опустила трубку. — Не уходи, Дженюари. Тут пахнет жареным. Шерри сообщила, что Рита из-за чего-то в ярости. Я уже дважды звонила Тому, но там никто не отвечает. Шерри Марголис, красивая девушка, возглавлявшая отдел по связям с общественностью, вошла в кабинет. Линда жестом предложила ей сесть. — Говоришь, Рита Льюис разозлилась на меня? Линда приторно улыбнулась. Шерри кивнула. — Она спросила, не знаешь ли ты, где Том. Она в полной растерянности. Рита приехала в «Плазу» к семи часам, чтобы отвезти его на телевидение — он должен был выступить в передаче «Сегодня». Ей пришлось разбудить его — он спал. Тома ждали в студии к восьми. По его словам, он не знал, что речь шла об этом вторнике. Она едва не упала в обморок от волнения, ожидая Тома в вестибюле, — он спустился с невозмутимым видом за десять минут до восьми. У нее был автомобиль; они чудом не опоздали. После передачи Том задержался, чтобы поговорить с Барбарой Уолтере. Рита воспользовалась этим, чтобы сходить в туалет. Вернувшись, она обнаружила, что Том исчез. Кто-то сказал, что он в редакции новостей. Она увидела его возле телефона. Рита решила, что он звонит тебе. Вскоре Том выбежал из комнаты. Она окликнула его… бросилась догонять, но двери лифта захлопнулись перед ее носом. Она не стала паниковать, подумав, что он отправился в отель. Он знал, что в десять у него интервью за завтраком. Но в «Плазе» Тома не оказалось. Ей пришлось полчаса успокаивать репортера из «Плей-боя», выпившего за это время три «Кровавых Мэри». Еще один коктейль, и журналист не смог бы взять интервью, даже если бы Том появился. Его «люкс» не отвечал; Рита поднялась наверх и постучала в дверь. Горничная сказала, что она только что прибиралась в пустом номере. Рита намекнула, что у тебя с ним роман, она думает, что ты можешь знать, где он… Линда снова улыбнулась: — Она совершенно права. Скажи Рите, что вчера вечером я оставила его в номере «Плазы» целым и невредимым. Шерри с нескрываемым волнением восхищенно уставилась на Линду. — Да, теперь Рите не поможет и групповая терапия… она занимается ею четыре раза в неделю. Я охотно передам ей твое сообщение. Когда Шерри вышла из кабинета, Линда, посмотрев на Дженюари, подмигнула ей. — Это прикончит Риту. Она с самого начала положила глаз на Тома. Подожди еще, сегодня вечером она попадет на свою групповую терапию и услышит там, что ее никто не отвергает… что они любят ее… что она должна быть счастлива их любовью. — Откуда это тебе известно? — Сама играла в эти игры. Слава богу, теперь я могу позволить себе три визита в неделю к личному психоаналитику. Дженюари покачала головой. — Честно говоря, Линда, я кое-что не понимаю. Зачем ты даешь Шерри понять, что спишь с человеком, если на самом деле это не так? По-твоему, иметь много любовников престижно? Это как число поверженных в бою врагов? Линда зевнула. — Когда я сплю с каким-нибудь Леоном, я это не афиширую. Но роман с Томом Кольтом выносится на первую полосу. Внезапно Шерри стремительно ворвалась в кабинет: — Линда, включи телевизор. В Калифорнии землетрясение. Серьезное! — Ты позвонила Рите и передала ей то, что я тебе сказала? — спросила Линда. — Да. Ее реакция была великолепной — она ахнула, потом трижды всхлипнула. Шерри включила телевизор. В кабинет стали заходить сотрудники редакции. Через несколько секунд все столпились у экрана. Потрясенные люди слушали диктора, сообщившего, что первый подземный толчок с эпицентром, находящимся в семидесяти километрах от Лос-Анджелеса, произошел в пять часов пятьдесят девять минут по местному времени… или в восемь пятьдесят девять по нью-йоркскому. Его сила — шесть с половиной баллов по шкале Рихтера. Землетрясение захватило территорию с радиусом в пятьсот километров, расположенную по широте от Фресно до мексиканской границы и протянувшуюся на восток до Лас-Вегаса. Толчок эквивалентен взрыву миллиона тонн тринитротолуола. Они пробежались по всем каналам. Передачи прерывались экстренными сообщениями о новых сотрясениях… пожарах. Нью-йоркский аэропорт «Кеннеди» напоминал сумасшедший дом. Репортер носился по залу… задавал вопросы… какой-то человек сказал, что его дом полностью разрушен, но, слава богу, жена и дети уцелели. Внезапно Шерри закричала: — Это Том Кольт! Репортер тоже заметил писателя. Протиснувшись через толпу, он поднес микрофон к лицу Тома Кольта. — Почему вы спешите в Лос-Анджелес, мистер Кольт? — Там моя жена и ребенок. Том отвернулся. — Они не пострадали? — спросил репортер. Писатель покачал головой. — Нет, я позвонил жене сразу после выступления в передаче «Сегодня». Это было уже после основного толчка. Пока мы говорили, произошел еще один. — Вы прибыли на восток рекламировать свою книгу? — Книгу? — с недоумением в голосе повторил Том. — Слушайте, сейчас происходит землетрясение. У меня есть жена и сын. Я должен убедиться, что они живы и невредимы, — это все, о чем я сейчас думаю. Внезапно встав, Линда выключила телевизор. — Ладно… нас ждет работа. Худшее позади. В Лос-Анджелесе, возможно, пострадала недвижимость, но город не оказался на дне океана. Сотрудники редакции быстро покинули кабинет Линды. До Дженюари донесся шепот: «Приходите в мою комнату… у меня есть радио. Узнаем подробности во время ленча в баре». Оставшись наедине с Дженюари, Линда произнесла: — Я отказываюсь поверить в это! Повернувшись вместе с креслом, она добавила: — Я действительно не могу в это поверить! На моей личной жизни лежит проклятье. Даже природа против меня. И обычной конкуренции достаточно, когда речь идет о мужчине. Так надо же было еще случиться землетрясению! Она вздохнула: — Ну, поскольку я сегодня вечером явно свободна, как насчет обеда у Луизы? — Нет, я задержусь в редакции. Хочу поработать над статьей о кошках. Дженюари поспешила в свой кабинет. Том улетел. Пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Четыре вечера в ее жизни… четыре вечера с Томом Кольтом. И хотя у них ничего не было, это время показалось ей чудесным. И сейчас она испытывала радость оттого, что ей было о ком думать. Даже если он не вернется назад… На следующий день она попросила подключить ее к службе передачи сообщений. Прошла неделя; от Тома не было вестей; даже Линда утратила надежду. — Кажется, все потеряно. Его книга на четвертом месте. Наверно, его выступления по ТВ пойдут из Калифорнии. Почему бы и нет? Джонни Карсон привозит туда свое шоу достаточно часто. Мерв Гриффин — тоже. Стив Аллен… У Тома там дел минимум на месяц. Но он мог хотя бы позвонить мне оттуда и сказать это. Дженюари решила выбросить Тома из головы. Она сказала себе, что случившееся — знак свыше. Возможно, Господь говорил ей: «Остановись, пока ничего не произошло.» Вероятно, таким образом он выражал неодобрение. Дженюари не отличалась религиозностью. Но иногда она мысленно обращалась к Богу из своего детства, доброму старику с длинной белой бородой, восседавшему на небесах с большой книгой наподобие гроссбуха, — он вел счет хорошим и греховным поступкам, фиксируя их на разных страницах. Каждый день она звонила в службу передачи сообщений и уклонялась под разными предлогами от обедов с Линдой. Дженюари провела еще один скучный вечер с Дэвидом в «Клубе». Все говорили о турнире по триктраку, который должен был состояться в Гстааде. Ди собиралась туда… на три дня… Дэвида держала в Нью-Йорке работа… но он завидовал Майку… Гстаад прекрасен в это время года… все соберутся в «Палас-отеле»… затем в клубе «Орел». Дэвид отвез Дженюари домой в половине двенадцатого и даже не предложил выпить у нее напоследок. Но у девушки было прекрасное настроение. Если Ди и Майк отправляются в Гстаад, сначала они прилетят в Нью-Йорк. Она увидит Майка. Она нуждалась в долгом ленче с отцом, в неторопливой, спокойной беседе. Она расскажет ему о своих запутанных чувствах к Тому Кольту. Он поможет ей разобраться в них, все поймет. В конце концов, он сам столько раз попадал в подобные ситуации. На следующее утро она позвонила в Палм-Бич. Когда дворецкий сказал, что мистер и миссис Грейнджер три дня тому назад улетели в Гстаад, Дженюари положила трубку и уставилась на аппарат. Значит, Майк был в Нью-Йорке и не позвонил. Очевидно, для этого существовали причины. Она говорила с Майком всего несколько дней назад… Внезапно ее охватила паника. Возможно, что-то случилось. Ерунда. Ничего не могло случиться. Она узнала бы об этом из газет. А что, если он заболел… Вдруг он лежит сейчас в больнице с сердечным приступом? А Ди играет в триктрак. Дженюари заказала разговор с «Палас-отелем». Потом оделась и стала ждать, когда ее соединят с Гстаадом. Через несколько минут в трубке зазвучал голос Майка. Казалось, он говорил из соседней комнаты. — Как ты себя чувствуешь? — прокричала она. — Прекрасно. У тебя все в порядке? — Да… Она вздохнула. — Майк, я испугалась. — Чего? — Дэвид сказал мне вчера вечером, где ты. Я знала, что ты летишь через Нью-Йорк. Позвонила в Палм-Бич. Мне сказали, что ты уже уехал… я решила, что… — Погоди, — перебил ее Майк. — Мы прибыли в аэропорт в пять часов утра. Сделали посадку только для заправки самолета. Я не хотел будить тебя. Решил, что на обратном пути все равно остановлюсь в Нью-Йорке на несколько дней. Слушай, у меня потрясающая новость — я наконец освоил все премудрости этой игры. За последние недели выиграл в Палм-Бич несколько тысяч. В этом турнире я еще не участвую. Но в Калькутте найму себе профессионального игрока. Это увлекательная игра, детка… погоди, ты еще заболеешь ею. — Да, Майк… — Слушай, мы тратим твои деньги. Скажи телефонистке, чтобы счет прислали сюда. — Нет, Майк. Я хочу так. — О'кей. Слушай, мне пора бежать. Я нашел себе партнера для джина. Пока заправляли самолет, я трижды выиграл у Фредди. Он полетел на этот турнир с нами, и я заставляю его играть со мной каждый день. — Кто этот Фредди? — Молодой человек, женатый на богатой женщине. Ты, несомненно, видела его в Палм-Бич… ну конечно. — О'кей, Майк. Желаю тебе обставить Фредди. — Пока, детка. До скорой встречи. В этот вечер она приняла приглашение Линды пообедать с ней, ее другом и еще одним молодым человеком. Они отправились в маленький ресторан на Пятьдесят шестой улице, и Линда предупредила Дженюари, что из меню следует выбирать самые дешевые блюда. — Мой платит алименты двум женам, а твой — одной, зато его сын посещает дорогого психоаналитика. Дженюари решила, что ее кавалер похож на длинную тощую свинью. Он был высоким и худым; в его внешности отсутствовало что-либо мужское. Лицо имело розовый оттенок, а нос напоминал пятачок поросенка. Редкие белесые пряди едва прикрывали череп, а бачки отказывались расти. Он говорил о своем увлечении сквошем, бегом трусцой и выматывающей работе на Мэдисон-авеню. Мужчины служили в одном рекламном агентстве, большую часть вечера они обсуждали свои профессиональные дела и обменивались сплетнями о сотрудниках фирмы. По разговору было ясно, что они ежедневно вместе ходят на ленч. Зачем тогда касаться этих тем сейчас? Дженюари поняла, что они нервничают… Майк назвал бы их прирожденными неудачниками. Они хотели произвести впечатление на девушек с помощью беседы о «большом бизнесе». Все происходящее казалось Дженюари нереальным. Смотрят ли они на себя в зеркало, когда бреются? Даже если бы «поросенок», отзывавшийся на имя Уолли, владел рекламным агентством, он все равно не пробудил бы в Дженюари интереса к собственной персоне. Она жалела о том, что приняла приглашение. Сейчас она с большим удовольствием обедала бы дома перед телевизором или читала хорошую книгу. К половине одиннадцатого обед наконец подошел к концу. На улице было холодно, но «поросенок» сказал, что сегодня еще не бегал, и они пошли пешком. Линда пригласила всех к себе на последний бокал, но Дженюари отказалась, сославшись на усталость. «Поросенок» пожелал зайти в дом и проводить Дженюари до двери квартиры. Когда она вставила ключ в замок и повернулась, чтобы попрощаться, молодой человек изумленно уставился на девушку. — Ты, верно, шутишь? — Нет. Спокойной ночи и спасибо за прекрасный обед. — Но как насчет нас? — Что насчет нас? — спросила она. — Ты что, фригидная? — Нет… просто сейчас я устала. — Ну, это поправимо. Наклонившись, он тотчас засунул свой язык едва ли не в горло Дженюари… его руки ласкали ее тело… он запустил их под пальто девушки… попытался задрать ей блузку. Разозлившись, Дженюари резко подняла колено. Это подействовало на парня. Он отпрянул, испустив стон. На долю секунды в его поросячьих глазках от боли появились слезы. Затем он грязно выругался. Дженюари, испугавшись, попыталась быстро отпереть дверь и спрятаться в квартире, но он оттащил ее от двери и ударил ладонью по лицу. — Подлая сука! Меня тошнит от «девственниц» вроде тебя. Ладно, я тебе сейчас покажу. Он схватил ее. Злость помогла Дженюари победить страх. Собрав все свои силы, она оттолкнула парня от себя, открыла дверь, бросилась внутрь и тотчас захлопнула ее перед его носом. С мгновение постояла, дрожа от гнева и потрясения. Он полагал, что она ляжет с ним в постель за четырехдолларовый обед! Медленно раздевшись, Дженюари пустила в ванной воду. Она испытывала желание смыть с себя этот вечер. Девушка собиралась забраться в ванну, когда раздался телефонный звонок. Она услышала приглушенный голос Линды. — Дженюари… Уолли у тебя? — Нет, конечно! — Слушай меня. Стив в ванной. Я только что говорила со службой передачи сообщений. Представляешь, звонил Том Кольт! — Правда? — Да. Он сейчас в Нью-Йорке. Мне сказали, он звонил в половине одиннадцатого. Позвони ему сейчас. Он в «Плазе». — Я? Но ведь он звонил тебе. — Дженюари… я не могу. Я сплю со Стивом — то есть буду спать, когда он выйдет из ванной. Скажи Тому, что ты звонишь по моей просьбе… что у меня позднее совещание… выясни, собирается ли он встретиться со мной завтра. — Не могу. Честное слово, Линда. — Сделай это. Сейчас. Слушай, ладно, ты тоже сможешь пойти на наше свидание. — Нет. — Пожалуйста! О… Стив… я говорю со службой передачи сообщений. Помолчав, Линда добавила равнодушным тоном: — Хорошо, мисс Грин. Спасибо. Пожалуйста, позвоните туда за меня. Дженюари сидела на кровати. Вода в ванной остывала. Прошло двадцать минут; она все еще не позвонила. Не могла сделать это. Как она может звонить Тому? Но это ее долг перед Линдой. Она решила задавить свои чувства. Сняла трубку. Ночной портье «Плазы» сказал, что мистер Кольт просил его не беспокоить. — Передайте ему, что звонила Линда Риггз, — сказала Дженюари. Положив трубку, она попыталась понять, испытала ли она разочарование из-за несостоявшегося разговора… или радость от того, что Том не узнает, кто на самом деле звонил ему. Линда позвонила прежде, чем сработал будильник. — Дженюари… проснись. У меня есть одна секунда. Стив в туалете. Потом он будет трахать меня. Скажи… ты говорила с Томом? — О боже… который час? — Семь. Ты говорила с ним? — Нет, он отключил телефон, но я попросила портье передать Тому, что ты звонила ему. — Славная девочка! Поговорим позже. В половине двенадцатого Линда вызвала Дженюари к себе в кабинет. — Я только что говорила с ним, — сказала она. — И я держу свое слово. Вечером мы втроем идем смотреть «Нет, нет, Нанетт». — О… — Ты не хочешь поблагодарить меня? — Линда, я не могу пойти. На самом деле мне не хочется этого делать. — Нет. Не беспокойся. Он сказал: «Прошлый раз я выбирал спектакль… Что ты хочешь посмотреть теперь?» Когда я назвала «Нет, нет, Нанетт», он произнес: «Отлично, я обожаю Пэтси Келли». Потом он спросил: «Ты хочешь, чтобы Дженюари пошла с нами?» Я ответила: «Да, по-моему, это будет выглядеть лучше. В конце концов, вы женаты. В турне это не будет иметь значения, поскольку все узнают, что я пишу о вас статью». Так мы и договорились. Только сегодня вечером я форсирую события. Поэтому мы не пойдем в «Сарди». Отправимся куда-нибудь, где он сможет по-настоящему напиться. Когда придет время, ты оставишь нас. Или если я уговорю его подняться ко мне выпить по последнему бокалу, ты откажешься… — Линда, а если он пригласит Пэтси в «Сарди»… — Черт возьми! Тогда мы будем трепаться о театре, и все будет пристойно, как в прошлый раз. — Он, видно, большой театрал. — Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Мы должны встретиться в шесть в его «люксе». Он сказал, что угостит нас перед спектаклем спиртным и какими-то деликатесами. Если мне удастся заставить его пить на пустой желудок, я точно добьюсь своего. Они прибыли в «Плазу» к шести часам. Там уже находились Рита Льюис и сдержанный молодой человек из «Лайфа». Том, держа в руке бокал бербона, представил гостей друг другу. Рита испытала потрясение, увидев Линду и Дженюари. Том налил девушкам спиртное, и они сели. Интервью продолжилось. Дженюари заметила, что Том несколько раз поглядел на часы, стоявшие на камине. За пятнадцать минут до семи часов писатель сказал: — Сколько еще времени это займет? У нас билеты на спектакль. — Мистер Кольт, — в голосе Риты звучала едва сдерживаемая истерика. — Это интервью для «Лайфа». Мистеру Харви требуется время. А в половине девятого придет фотограф. — Похоже, нам придется прервать эту встречу, — сказал Том. Он повернулся к репортеру. — Извините, молодой человек, но… Рита вскочила на ноги. — Мистер Кольт… вы не можете так поступать. Вы уже отстали от нашего графика на две недели. Мне пришлось обо всем договариваться заново — шоу Майка Дугласа, Кап в Чикаго… — Следующий раз, запланировав интервью на пять вечера, предупреждайте меня заранее. — Но я вчера вечером оставила вам конверт с расписанием мероприятий. Там ясно написано: «Репортер и фотограф из „Лайфа“… пять часов… первая беседа». Любому человеку ясно, что беседа — это несколько часов. И фотографа нельзя торопить. Мы пригласили Рок-ко Джараццо. Он — один из лучших. — Извините, дорогая, — сказал Том. — В другой раз. Напитки уже налиты. Угощайтесь. — Мистер Кольт… — Голос Риты дрогнул, в ее глазах заблестели слезы. — Из-за вас я потеряю работу. Издатель скажет, что я проявила беспомощность. И я не смогу найти другое место — обо мне пойдет слух, что я не справилась с известным автором. Также оборвутся мой личные контакты… например, с журналом «Лайф»… потому что ваше поведение оскорбляет репортера. Он тоже пишущий человек… как и вы… — Ладно, — тихо сказал Кольт. — Я вас понял. Он повернулся к Линде: — Билеты оставлены на мое имя. Вы, молодежь, идите в театр. А потом возвращайтесь сюда. Воспользуйтесь моим автомобилем. Он стоит перед отелем. Сняв пиджак, Том налил себе неразбавленного бербона и обратился к репортеру: — О'кей, мистер Харви. Извините меня. Сделаем несколько глотков, и я буду в вашем полном распоряжении. По дороге в театр Линда не скрывала своей радости по поводу такого поворота событий. — Он пьет. И теперь нам не грозит поход в «Сарди». Но я вернусь в «Плазу» одна. Я чувствую, что момент благоприятный. После спектакля смелость Линды поубавилась. — Может быть, Рита и люди из «Лайфа» до сих пор у Тома. Пойдем вместе. Если он там один, после первого бокала ты оставишь нас. Я подам тебе сигнал. Когда я произнесу: «Дженюари, по-моему, твоя статья о кошках получится превосходной», ты сможешь сказать: «Да, теперь я вспомнила — мне необходимо вечером поработать над ней. Я, пожалуй, пойду». Договорились? — О'кей. Но, Линда, ты… Она замолчала. — Мне кажется, ты добиваешься мужчины, а все должно быть наоборот… Линда рассмеялась: — Дженюари, готова поспорить: ты полагаешь, что парень, переспав с тобой, обязан утром прислать тебе цветы. — Ну… именно так поступил Дэвид. — Возможно, поэтому он и появляется раз в десять дней. Но мне известно, что фотомодель, с которой он трахается, не только не получает от него цветов, но и готовит ему завтрак и подает его в постель. А сама Ким, чтобы оставаться стройной и сексапильной, ест, вероятно, только салат из сельдерея, и то через день… не так-то легко, голодая, смотреть на парня, поглощающего ветчину с яйцами. — Что ты хочешь этим сказать? — Только то, что все стереотипы мужского и женского поведения рухнули. Девушка может проявлять любую степень активности. Может позвонить парню. Предложить ему переспать с ней. Сегодня, в семидесятые годы, это нормально. Пятидесятые ушли в прошлое. — Меня вот что интересует — если тебе так нравится Том Кольт, почему ты переспала со Стивом? — Вчера вечером я узнала о возвращении Тома уже после того, как сказала Стиву, что хочу его. Не могла же я потом прогнать парня. И вообще, он хорош в постели, а я давно не занималась сексом. — Но разве ты не должна испытывать какие-то чувства, ложась в постель с мужчиной? — Да… желание. — Линда! Линда посмотрела на подругу в полумраке лимузина. — Знаешь что, Дженюари? Тому Кольту пятьдесят семь, но он вполне современный человек. Это ты отстала от своего поколения. Когда Линда и Дженюари вернулись к Тому, Рита и репортер уже покидали номер писателя. Том радостно встретил девушек, спросил, понравился ли им спектакль, и заставил всех, включая заволновавшуюся Риту Льюис, выпить по бокалу. Рита заявила, что ей необходимо идти, и покинула «люкс». Журналист из «Лайфа», осушив бокал, сказал: — Теперь и мне пора. Я обещал жене быть дома к десяти. Она приготовила обед. Том огорченно покачал головой: — Что же вы молчали? Я забываю о еде, когда пью. Господи, я морил голодом вас… и эту даму из издательства. Где же вы живете? — Возле Грамерси-парк. — Машина стоит внизу. Возьмите ее. Потом отправьте автомобиль сюда. Девушки уедут на нем домой. — Дженюари, я в восторге от вашей статьи о кошках, — произнесла Линда. Дженюари шагнула к двери. — Она еще требует правки. Я собиралась поработать… Я поеду с мистером Харви… Он может высадить меня по дороге. — Бедняга умирает от голода, — сказал Том. — И он живет в противоположной стороне. Из-за какой-то статьи о кошках ему придется сначала ехать от центра города, а потом возвращаться обратно. Неужели это так срочно? — Я действительно должна… — Дженюари лучше всего работается по ночам, — быстро вставила Линда. — Как и всем нам. Но сегодня статья подождет. Поезжайте, Боб. Молодой человек заколебался. — Пустяки, я охотно… — Довольно, — добродушно возразил Том. — Отправляйтесь к вашей жене и обеду. Повернувшись к Линде, он протянул ей свой бокал. — Не наполнишь его, детка? И налей имбирного эля нашей кошатнице. Сделав два глотка, Том заметил на столе конверт. Взял его. — Инструкции на завтра от Риты. — Прочитайте, — сказала Дженюари. — Вдруг у вас ранняя встреча. — О, я знаю. Это Филадельфия… шоу Майка Дугласа. Затем Вашингтон. — Вы уезжаете? — спросила Линда. — Всего на два дня. Вернусь сюда на неделю. Потом Чикаго, Кливленд, Детройт… Снова несколько дней в Нью-Йорке, после чего улечу в Лос-Анджелес. — В какое время вы завтра уезжаете? — поинтересовалась Линда. Он кивнул в сторону конверта. — Открой, посмотрим. Линда разорвала конверт. — В полдень. Лимузин заберет вас отсюда. Но в девять утра вы завтракаете с Дональдом Зиком. — Да. Он из Лондона… пишет обо мне статью для «Дейли миррор». Том встал. — Мне пора ложиться. Не хочу клевать носом, беседуя с Дональдом. Он мой старый приятель. Он направился в спальню. — Дженюари, мне кажется, твоя статья о кошках… — Я ухожу. Возьму такси, — сказала Дженюари. Том повернулся к девушкам: — Вы обе уедете на лимузине. Я сейчас разденусь, а потом позову вас. Вы сможете подоткнуть мне одеяло, и мы выпьем напоследок. Он скрылся в спальне. Дженюари посмотрела на Линду и беспомощно пожала плечами. Линда была в ярости. — Я должна узнать, когда он едет в Чикаго, Кливленд и Детройт. Потому что я собираюсь сопровождать его в этом турне. Я не могу ехать в Филадельфию и Вашингтон… поздно бронировать гостиничный номер. К тому же, думаю, с ним будут люди из «Лайфа». Внезапно она бросила взгляд на Дженюари. — Слушай… уходи… прямо сейчас. — Прямо сейчас? — Да. Я объясню ему, что тебе действительно надо было уйти. — Но, Линда, это так грубо… — Ты на самом деле не нужна ему здесь. Он проявил вежливость. И ты не продемонстрировала твердости. Боб Харви согласился сделать крюк, но ты не настояла на своем. — Линда, я не хочу, чтобы Том решил, что он мне неприятен. Если я приняла его приглашение в театр, я не могу поступить так, словно внезапно узнала о том, что он болен заразной болезнью. Он решит, что я дурно воспитана. — Какое тебе дело до того, что он подумает? Оказавшись в постели со мной, он не будет ни о чем думать. Ну же, Дженюари, надень пальто и уходи. Внезапно из спальни донесся голос Тома: — Эй, девушки, несите сюда бутылку и три бокала. — Уходи, — прошипела Линда. — Линда, ты скажешь ему, что мне действительно надо поработать? Пожалуйста. — Да… иди, ради бога! Вдруг Том вошел в комнату. Он был в халате, явно надетом на голое тело. — Ну что вы стоите, как статуи? Берите выпивку и заходите. Линда с ненавистью посмотрела на Дженюари и взяла бутылку. Все прошли в спальню. Том устроился на кровати, не сняв с нее покрывала. — Ну, выпьем перед сном. После этого вы сможете тихонько выйти отсюда и погасить свет. Увидев у Линды только два бокала, он указал на ванную. — Там есть стакан. Я хочу, чтобы на этот раз Дженюари выпила. За успех моего турне. Она отправилась в ванную и послушно принесла стакан. Том налил девушкам щедрые порции, затем плеснул себе полбокала неразбавленного бербона. — Ну… сядьте по обеим сторонам от меня. Он похлопал рукой по кровати. Девушки сели. Том шутливо взъерошил Линде волосы. — Ну, выпьем за великого писателя, который собирается пойти по свету и продавать себя, как ветчину к завтраку. Люди, приходите поглазеть на живого автора… смейтесь над ним… освистайте его… делайте все что угодно… только купите написанную им книгу. Он отхлебнул одним залпом половину бокала. Налив себе еще, посмотрел на Дженюари. Она пригубила напиток… потом внезапно осушила бокал. Усмехнувшись, Том снова наполнил его. Горло у Дженюари горело. «Вот что испытывают люди, глотая яд», — подумала девушка. Жжение в глотке прошло. По телу разлилось тепло. Она снова пригубила бербон… теперь оно пошло, легче. Она стала потягивать его мелкими глотками. Интересно, знает ли Том, что они обе еще не обедали? У нее закружилась голова. Дженюари казалось, что она видит себя как бы со стороны. Она передвинулась на край кровати. Линда положила голову на грудь Тома. Он почти рассеянно погладил ее волосы. Поднял подбородок Линды. Глаза у обоих были закрыты. Дженюари спросила себя, может ли она сейчас уйти. Том, склонившись над Линдой, поцеловал ее в лоб. — Ты — красивая девушка, — медленно произнес писатель. Дженюари чувствовала, что ей следует покинуть «люкс»… но ее словно парализовало. Линда смотрела Тому в глаза. Она выглядела так, словно вот-вот растает. — Линда, — проговорил Том. — Ты должна мне помочь. Линда покорно кивнула. Он снова погладил ее по голове. — Линда… я, похоже, увлекся Дженюари. Что мне делать? На мгновение в комнате воцарилась тишина. Все застыли, точно восковые фигуры. Время, казалось, остановило свой бег. Линда, изогнувшись, по-прежнему глядела в глаза Тому. Дженюари сидела у изножья кровати с бокалом в руке. Секунды бежали. Вдруг Дженюари ожила. Она вскочила с кровати. — Мне надо в ванную, — внезапно пробормотала девушка. Бросившись туда, она опустилась на пол, склонила голову над ванной. Картина, только что стоявшая перед ее глазами, казалась ей нереальной. Возможно, Линда все еще безотрывно смотрит на Тома. Как он мог произнести такое? Или это шутка?.. Ну конечно. Все ясно! Сейчас они, обнявшись, смеются над тем, что она не поняла розыгрыша, приняла все за чистую монету. Нет… она не поверила Тому. Она сделает вид, будто сразу поняла, что он шутит. Пусть они подумают, что ей действительно понадобилось выйти в ванную. Она несколько раз спустила воду в унитазе. Открутила кран и вымыла руки, шумно плеская воду. Потом открыла дверь и решительными шагами направилась в спальню. Том сидел, опираясь на подушки. Он посмотрел на Дженюари. Линды нигде не было видно. Мгновение они глядели друг на друга. Затем Том с почти печальной улыбкой жестом предложил ей сесть. Она медленно опустилась на край кровати. — А где Линда? — спросила Дженюари. — Я отправил ее домой. Она начала подниматься, но он мягко потянул ее за руку, и она снова села. — Расслабься. Я не собираюсь насиловать тебя. Я не каждый день увлекаюсь девушками, отцы которых моложе меня. Я могу иметь столько девушек, сколько захочу… раскованных, без комплексов. Иногда я даже женюсь на них. Слишком часто… В этом моя беда. Думаю, современная молодежь поступает правильно, отвергая брак. Люди должны быть вместе, пока они любят друг друга; их не следует удерживать с помощью закона. Брак — это не тюрьма. Объясню тебе кое-что. Я вовсе не влюблен без памяти в мою жену. Этого у нас никогда не было. Она дала мне ребенка, которого я хотел. Если я уйду от нее, она заберет с собой малыша. Этого я никогда не допущу. То, что я увлекся тобой — безумие. С Линдой все было бы проще. Никаких вопросов… побаловались, и все. Я старался захотеть Линду… но ты помешала. Я обнаружил, что постоянно думаю о тебе. На самом деле я мог и не возвращаться сюда ради одной только восточной части турне. Книга расходится отлично — уже продано более пятидесяти тысяч экземпляров. Печатается новый двадцатипятитысячный тираж. Но я вернулся в Нью-Йорк и согласился продолжить турне из-за тебя. Он привлек Дженюари к себе и нежно поцеловал девушку в губы. — Сегодня ничего не произойдет, Дженюари. Ничего вообще не произойдет, пока ты не почувствуешь то же, что и я… — Том, я… О, Том, ты мне действительно дорог… я пришла в ужас, поняв это… ведь у тебя жена и ребенок. — Чувства, которые связывают нас, не имеют никакого отношения к моему сыну. Насчет жены я уже объяснил тебе. — Том, мне будет мало одной недели… или сегодняшнего дня… понимаешь? — Дженюари… любовь не бывает вечной. Лови момент и благодари судьбу. Она посмотрела на него в упор. — Ты любишь меня, Том? Его лицо стало задумчивым. — Это слишком тяжелое слово. Признаюсь, я часто произносил его без должных оснований. Но признаться тебе в любви, не испытывая ее, я бы не смог. — Да… я тоже… Она отчаянно пыталась отыскать нужные слова. — Понимаешь, меня преследует чувство вины… оно мучает меня и сейчас, когда я сижу вот так, говорю с тобой, зная, что ты женат, что у тебя ребенок. Мы поступаем плохо… очень плохо… Но если бы я знала, что ты действительно любишь меня… что никто не может пострадать… кроме нас… тогда у нас появился бы шанс. Мне кажется, Господь не рассердится на истинно любящих. Она поняла, что краснеет, и поглядела на свои руки. — Знаю, что я кажусь тебе идиоткой… и… Он поднял голову Дженюари. Его глаза были ласковыми. — Дженюари, ты еще прекрасней, чем я думал. Обняв девушку, он погладил ее по голове, точно ребенка. Через несколько мгновений медленно разомкнул объятия, встал скровати и повел Дженюари в гостиную. Взял ее пальто. Внезапно она бросилась ему на шею. Уронив пальто, он крепко прижал ее к себе и поцеловал. Она впервые поняла, какое ощущение близости может дать настоящий поцелуй. Их тела касались друг друга. Она прильнула к Тому, желая стать его частью. Внезапно зазвонил телефон. Водитель доложил, что он уже вернулся. — Тебе пора, — сказал Том, поднимая пальто. — О, Том, я не хочу тебя отпускать. — Это всего несколько дней. Может быть, это даже к лучшему… мы оба сможем подумать. Он поцеловал Дженюари и проводил ее взглядом. Девушка, пройдя по коридору, исчезла в кабине лифта. Она испытывала большой душевный подъем… страх и волнение. Все будет хорошо. Верно, сама судьба распорядилась так, поселив Тома в прежний номер Майка. Она впервые узнает настоящую любовь в кровати Майка. Дженюари думала об этом, откинувшись на спинку сиденья. Она заново переживала каждое мгновение вечера… восстанавливала в памяти каждое слово Тома. Что тревожило ее? Сначала назойливая мысль разрушила ощущение счастья. К дому Дженюари подъехала почти в панике. Что он имел в виду, сказав, что они смогут подумать в течение двух дней? О господи, означает ли это, что его отношение может измениться? Не отпугнула ли она Тома, заговорив о любви и чувстве вины? Не скажет ли он, вернувшись: «Я все обдумал, Дженюари… Будет лучше, если ничего не произойдет». Нет, он так не поступит. Он любит ее. И вдруг в темноте лимузина она отдала себе отчет в том, что, когда она прижималась к Тому, у него не было и намека на эрекцию. О господи, возможно, она не возбуждала его… наверно, она на самом деле отпугнула Тома! (обратно)Глава семнадцатая
Она не спала всю ночь. В каком-то отношении эта ночь была еще мучительней той, когда она узнала о женитьбе Майка. Тогда она просто сидела у окна в оцепенении, не испытывая ничего, кроме чувства утраты. Эта бессонная ночь была другой. Дженюари выкурила целую пачку сигарет. «Это всего несколько дней. Может быть, это даже к лучшему… мы оба сможем подумать». Его слова неотвязно преследовали девушку. Подумать о чем? О том, не стоит ли все кончить, прежде чем что-либо началось. Как она могла поступить так глупо? Потребовать любви… Что он сказал? Он много раз лгал, объясняясь в любви, но не смог бы обмануть ее. Ну конечно, она отпугнула Тома. Нельзя сразу спрашивать мужчину, любит ли он тебя, если ты сама испытываешь к нему чувства. Но она действительно неравнодушна к Тому. Она не хочет играть с ним. Если между ними и правда что-то есть, достаточно и того, что он женат… тут уж не до игры. Она хотела честности в их отношениях, испытывала желание поведать ему о своих чувствах, сказать, как сильно любит его… В девять часов она заставила себя пойти в редакцию. Дженюари поигралась с мыслью, не сослаться ли на болезнь, чтобы избежать встречи с Линдой. Но рано или поздно ей все равно придется увидеть Линду… Она решила сразу покончить с этой проблемой и отправилась в кабинет Линды. К удивлению девушки, Линда встретила ее улыбкой. — Садись. Выпей кофе и расскажи восхитительные подробности. — Линда… вчера вечером… я… — Дженюари, я не в обиде, — добродушно сказала Линда. — Во всяком случае, сейчас. Ночью я размышляла о различных способах самоубийства. Но утром пошла к психоаналитику. В половине восьмого уже ждала его в приемной. Я заставила врача уделить мне двадцать минут, несмотря на то что к нему явилась истеричная дама климактерического возраста. К тому моменту, когда я выложила ему все, я всхлипывала громче, чем эта женщина. Он сказал мне: «Линда, обычно я жду, когда вы найдете решение. Но сейчас я скажу вам — Том Кольт не влюблен ни в вас, ни в Дженюари. Когда человек его возраста имеет много женщин, это означает, что он постоянно доказывает себе что-то. Он выбрал Дженюари из-за ее отца». Психоаналитик объяснил, что Том хочет, переспав с тобой, отомстить твоему отцу. — Господи, — тихо произнесла Дженюари. — Чтобы я когда-нибудь обратилась к психоаналитику… — Ты же общалась с таким врачом в Швейцарии, верно? — Да, но мы никогда не говорили о чем-то личном. Он лишь вселял в меня уверенность в том, что я смогу ходить, вернусь к нормальной жизни и снова буду с отцом. Вот и все. Как ты можешь делиться своими самыми сокровенными чувствами с посторонним человеком, пусть даже психиатром? — Доктор Галенс — не посторонний. Он — фрейдист и верит в терапию ситуационных проблем. Например, порожденной тем, что меня выкинули из кровати ради тебя. Позже он все разъяснит в свете фрейдизма, докажет, что происшедшее обусловлено моим прошлым. Понимаешь, даже после пластической операции я осталась в душе некрасивой маленькой девочкой, которая постоянно рвется наружу. Поэтому мне необходим секс — чтобы доказать мою привлекательность. А у тебя… все связано с отцом. Даже тот несчастный случай с мотоциклом. Ты села на него, чтобы наказать отца за роман с Мельбой. — Ты рассказывала ему обо мне! — Да. Он утверждает, что у тебя комплекс Электры. Поэтому ты не можешь влюбиться в Дэвида. Он слишком молод и красив. — Линда, неужели ты поведала доктору и об этом? — Ну конечно. Он — мой психоаналитик и должен знать все не только обо мне, но и о людях, с которыми я связана. Как видишь, он — просто гений. Вообще-то я весьма скрытна… Да, не удивляйся. Я это знаю. У меня комплекс суперзвезды. К сожалению, я не умею петь, как Барбара Стрейзанд. Из меня не вышла бы вторая Гленда Джексон. И я не составлю конкуренции Энн-Маргарет в качестве секс-символа. Но я могу стать суперзвездой с помощью «Блеска». Доктор Галенс заставил меня признать, что моя преданность журналу вызвана отнюдь не любовью к нему… а тем, что «Блеск» — это я. Если «Блеск» имеет успех, я разделяю его. Я не отношу себя ни к демократам, ни к республиканцам. Но в семьдесят втором году, что бы ни говорил издатель, «Блеск» выступит в поддержку кандидата от партии демократов, потому что я хочу участвовать в политическом процессе. Не знаю, кто им станет — Маски, Линдси, Хэмфри или Тед Кеннеди. Но меня ничто не остановит. Она улыбнулась: — К черту все это. Я плачу доктору Галенсу за то, что он наводит порядок в моей голове: Расскажи мне о вчерашней ночи. Все прошло прекрасно? — Ничего не было. Мы только говорили. — Что? — Линда, я не хочу обсуждать это. Линда понимающе улыбнулась: — Не расстраивайся. Он, вероятно, слишком много выпил. Ее тон изменился, стал деловым. — Слушай, ты умеешь обращаться с магнитофоном? — Да. — О'кей. Забирай. Она протянула Дженюари портативный аппарат. — По-моему, очевидно, кто поедет в турне с Томом. Каждый вечер, или каждое утро, или… фиксируй на пленке свои наблюдения. Говори о том, что видишь. По твоим записям Сара сделает статью. Относись к магнитофону, как к дневнику. Ничего не упускай… — Линда, я не могу… — Я не имею в виду твою сексуальную жизнь. Об этом расскажешь мне. Хотя, учитывая твой прежний опыт, ты можешь потерпеть полный крах. — Что ты хочешь этим сказать? — Вспомни историю с Дэвидом. — Но я его не любила. Я… влюблена в Тома Кольта. Линда вздохнула. — Если ты любишь мужчину, это еще не гарантия того, что вам будет хорошо в постели. Некоторые великие куртизанки были лесбиянками, однако они умели делать так, чтобы мужчины сходили с ума от наслаждения. Для этого требуется умение, а не просто любовь. А ты имеешь дело не с обыкновенным человеком. Этот Том Кольт — живая легенда. — Я жила с легендой. Таким людям не чуждо все человеческое. — А, вот оно что. Ты влюбилась в Тома, потому что твой папа потерял свой блеск, и ты ищешь кого-то, кто сильнее его. Тебе нужен свой личный супермен. Верно? — Линда… знаешь что? По-моему, ты слишком часто ходишь к психоаналитику. — Ладно. Но все же возьми магнитофон. Может быть, прослушивая потом записи, мы не только поймем, кто такой Том Кольт… но и отыщем настоящую Дженюари Уэйн. Она пыталась говорить в микрофон — о Томе… о первом впечатлении, которое он произвел на нее… о том приеме… о его силе характера… мягкости. Но когда Дженюари прослушала запись, она показалась ей похожей на дневник старшеклассницы. Она провела мучительный день. Что, если Том никогда больше не позвонит? Вдруг он решил не встречаться с ней? Наверно, она сама все испортила. Вероятно, усевшись перед чистым листом бумаги или пишущей машинкой, она смогла бы бесстрастно описать свою встречу с Томом… а потом наговорить текст на магнитофонную пленку. Она решила дойти до дома пешком, чтобы ее голова прояснилась. Дженюари пыталась убедить себя в том, что все будет хорошо. Но она постоянно слышала его слова: «Может быть, это даже к лучшему… Мы оба сможем подумать». Подумать. Что это означало? То, что он хочет уйти? О господи, если бы Майк был здесь, если бы она могла с кем-то поговорить… Придя домой, она связалась со службой передачи сообщений. Никто ей не звонил. Внезапно комната показалась Дженюари тесной. Пустые бутылки из-под кока-колы, пепельницы, полные окурков… Везде были следы тяжелой ночи. Она начала прибирать квартиру. Вдруг почувствовала, что хочет уйти отсюда. Ей надо с кем-то поговорить. Бросившись к телефону, она позвонила Дэвиду. Он снял трубку после второго гудка. — Дженюари, какой приятный сюрприз. Важное событие в моей жизни. Ты впервые звонишь мне. — Я… я писала рассказ и, боюсь, зашла в тупик. Мне нужен мужской взгляд. Дэвид… ты не пригласишь меня сегодня пообедать? Я должна с кем-то побеседовать. — О, мой бедный ангел… какая накладка. Сегодня в семь тридцать я обедаю с клиентом. Слушай… до этого часа я свободен. Хочешь, выпьем у тебя дома? Сейчас лишь половина шестого. — Нет, давай встретимся где-нибудь. Я хочу вырваться из этих стен. — Дженюари… что-то стряслось? Нет, просто я так долго писала в этой квартире, что устала от нее. Дэвид рассмеялся. — Я заинтригован. Слушай, в половине восьмого я должен быть в Истсайде. Встретимся в «Единороге»? Тогда в нашем распоряжении будет больше времени. — Хорошо, Дэвид. Через десять минут. — Лучше через пятнадцать, — усмехнулся он. — Я только что пришел домой и хочу побриться. Они сидели за маленьким столом в «Единороге». Дэвид изумленно посмотрел на Дженюари, заказавшую себе «Джек Дэниэлс». Она не любила бербон, но он странным образом сближал ее с Томом. — Ну, — Дэвид улыбнулся, — скажи мне, какие проблемы появились у новой и красивейшей американской писательницы. — Я пытаюсь сочинить небольшой рассказ. Я поняла, что смотрю на ситуацию глазами женщины. Хочу услышать мнение мужчины. Он серьезно кивнул. — Разумная мысль. Дэвид бросил взгляд на часы. — Рассказывай. — Моя героиня влюблена в женатого человека, который ее значительно старше… — У него уже есть внуки? — Нет… маленький ребенок и жена. Внуков нет. — Сколько ему лет? — Больше пятидесяти. — Тогда ты допустила ошибку. В таком возрасте он должен иметь внуков, а не ребенка. Замени ребенка внуком. Это сделает историю более трогательной. — Это несущественно. Главное в рассказе — отношения мужчины и девушки. — Сколько ей лет? Она отхлебнула бербон. — Ей… я еще не решила. — Пусть ей будет около двадцати двух лет. Если мужчина, разменявший шестой десяток, женится на еще более молодой девушке, такой брак редко оказывается удачным. А если у него ребенок от другой женщины… пусть лучше твоей героине будет за тридцать. — Почему ей не может быть двадцать с чем-то? — Это правдоподобно, если мужчина — законченный подлец. Тогда ты можешь сделать ее и четырнадцатилетней. Но если у него есть жена и ребенок, твоя героиня должна быть женщиной, а не юной девушкой. — Хорошо, пусть ей за тридцать, они влюбляются друг в друга, она испытывает чувство вины перед его женой и малышом… отказывается от романа на одну ночь. Но она потеряла голову от любви. Говорит ему, что не хочет разрушать его брак… что их отношения имеют смысл, только если они основаны на взаимной любви. — Так в чем загвоздка? — Ты считаешь, ей не следовало говорить ему все это? Он посмотрел на свой бокал. — Почему? Любая девушка говорит это, даже если это роман на одну ночь. — Я не имела в виду это, Дэвид. Представь себе — они провели вместе несколько дней… без секса… просто вместе… затем расстались. А когда он вернулся и сказал девушке, что хочет ее, она ответила: «Ты должен сказать, что любишь меня, и…» — О, нет, — простонал Дэвид. — Дженюари, для кого ты пишешь? Для «Мелодрамы в кино»? Ни одна разумная девушка не потребует от мужчины признания в любви. — Серьезно? — Ну конечно. Это самый верный способ отпугнуть его. — Ладно. Моя героиня — одна из таких идиоток. Более того, она заявляет это перед его деловой поездкой. Говорит ему, что не согласна довольствоваться ничем, кроме любви, и признается, что будет тосковать по нем. Он же отвечает ей: «Это всего несколько дней. Может быть, это даже к лучшему… мы оба сможем подумать». Помолчав, Дэвид улыбнулся: — Превосходно! Дженюари, похоже, ты действительно можешь писать. Какой финал! Я уже вижу его. За твоей последней фразой следует многоточие. Предоставь читателю гадать… вернется он к ней или нет! Она отхлебнула бербон. — А что думаешь ты? Он засмеялся, жестом попросив счет. — Она все испортила. Она его больше не увидит. — Все читатели так решат? Подписав счет, он покачал головой. — Нет, в этом-то и прелесть рассказа. Женщины, вероятно, решат, что он вернется, но мужчины поймут героя. Эта фраза — «Мы оба сможем подумать» — великолепный финал. — Ты отнимаешь надежду, — сказала Дженюари. Встав, он подал ей пальто. — Дорогая, ты сама так написала. (обратно)Глава восемнадцатая
Следующим вечером она приняла приглашение Неда Крейна, скучного, но красивого молодого человека, с которым ее познакомил Дэвид. Нед несколько раз звонил Дженюари, и она всегда отказывала ему. Но внезапно любое свидание показалось ей предпочтительней длинного бессонного вечера. Они отправились в «Клуб», встретили там его друзей; на короткое время Дженюари почти обрадовалась шуму и бурной активности. Она потягивала белое вино, позволяла водить себя в танце по площадке и даже пыталась участвовать в общей беседе. К одиннадцати часам она вдруг обессилела. Стараясь скрыть зевоту, задумалась о бегстве. К счастью, в половине двенадцатого кто-то предложил отправиться к Вере и сыграть в триктрак. Дженюари сказала, что она не знакома с Верой и не умеет играть в триктрак. В конце концов, она убедила Неда в том, что может самостоятельно добраться домой на такси. В полночь она легла в постель. Дженюари так устала, что тотчас заснула. В половине девятого ее разбудил телефонный звонок. — Мисс Уэйн, — сказала девушка из службы передачи сообщений, — я только что заступила на дежурство и обнаружила, что вчера вечером вы нам не позвонили. Вы не прослушали оставленные вам сообщения. — О господи. Я так устала… даже забыла завести будильник. Спасибо за звонок. Мне уже пора вставать. — Вас интересуют сообщения? — Да… конечно… — Звонила Сара Куртц. Она ждет от вас днем какие-то записи. Она сказала, вы поймете. — Да, спасибо. — Мистер Кольт звонил из Вашингтона. — Что? — Мистер Кольт звонил из Вашингтона дважды, в половине девятого и в десять вечера. Он просил вас отзвонить ему в отель «Шорхэм». — Спасибо. Огромное спасибо! — Извините, если я разбудила вас. — Нет… это отлично. Я должна вставать. Большое спасибо! Она застала Тома, когда он уже собирался уходить. — О, Том… я вернулась домой в двенадцать и забыла справиться о звонках. Извини. — Одну минуту. Он засмеялся. — Прежде всего… как ты там? — Все чудесно… нет… я соскучилась по тебе. А как ты? Скучаешь по мне? — Да… еще как. — Когда ты вернешься? — Вечером в пятницу. Пообедаешь со мной? — Да, конечно… с удовольствием. — О'кей. Я позвоню тебе, когда приеду. — Хорошо. Слушай, Том, может быть, мне стоит позвонить тебе в «Плазу»… Ты можешь приехать в тот момент, когда я буду добираться из редакции домой. — Я найду тебя, Дженюари. Не беспокойся. Он опустил трубку. Все утро она пыталась записать на магнитофон бесстрастный отчет о приеме, устроенном в честь Тома Кольта. Писатель в роли почетного гостя, ощущающий себя зверем в капкане. Его отношение к происходящему, к собравшимся людям. Прослушав запись, Линда кивнула. — Похоже, годиться. Я передам это Саре. Она посмотрела на Дженюари. — Что с тобой? Ты выглядишь ужасно. Помолчав, Дженюари сказала: — Линда… я не знаю, что мне делать… я боюсь. — Чего? — Завтра приезжает Том… — Не говори мне, что ты снова собираешься разыгрывать из себя девственницу. — Нет… я… я хочу лечь с ним в постель. Но вдруг он не возбудится со мной… — Такой мужчина, как Том Кольт, обязательно возбудится. Не беспокойся. Дженюари посмотрела на свои руки, лежавшие на ее коленях. — Линда, когда в тот вечер он прижал меня к себе в «Плазе»… под халатом у него ничего не было… и… — И? — Я не почувствовала эрекции, — закончила Дженюари. Линда свистнула. — Я забыла. Ну конечно. Ему под шестьдесят, он пьет. Смертельное сочетание. Тебе придется вначале сделать минет. — Я, наверно, не сумею. Я… я даже не знаю, как это… — Представь себе, что ты сосешь фруктовое мороженое на палочке… вообще-то тут нужна практика. Внушив себе, что это мороженое, я делаю лучший минет в Нью-Йорке. Все мужчины так считают. Но тебе следует это освоить. Тут многое подсказывает инстинкт. Такой мужчина, как Том, сам научит тебя… — Но… а вдруг он кончит? — Тогда глотай сперму. — Что? Линда простонала. — Дженюари, если ты по-настоящему любишь человека, подобный акт приносит огромное удовлетворение и становится наиболее полным выражением твоих чувств. Мужчина извергает семя… ты принимаешь его… и проглатываешь. Проглатываешь его часть. — Линда, меня может вытошнить! Я никогда не слышала ничего более отвратительного! Линда рассмеялась. — Слушай, леди из каменного века. Сперма полезна для тебя. Она насыщена гормонами и улучшает кожу. Я при малейшей возможности делаю из нее «маску». — Что? — Использую ее в качестве «маски». Когда Кит жил со мной и мы занимались сексом каждый вечер, я трижды в неделю дрочила ему член рукой и перед оргазмом подставляла стакан. Затем переливала сперму в бутылочку и ставила в холодильник. Из спермы получается прекрасная «маска». Вроде яичного белка… только лучше. Оставляешь ее на лице минут на десять, до подсыхания, потом смываешь холодной водой. Почему, думаешь, я оставила у себя того типа из рекламного агентства… я получила от него полстакана. — Линда, это ужасно. Я не смогу, меня вытошнит. Это… — Ладно, если не сможешь проглотить, тогда подставь лицо… размажь сперму по коже и… Дженюари вскочила. — Линда, я не могу это слушать! Я… — Сядь! Господи, я помню, что ты провела три года в полной изоляции от внешнего мира. И школа мисс Хэддон — не то место, где Мастере и Джонсон стали бы проводить свои исследования. Никто не говорит, что ты обязана делать эти вещи. Но тебе пора узнать, что люди, занимающиеся этим, вовсе не дегенераты или извращенцы… Тебе следует хотя бы выслушать меня! — Хорошо. Но я не хочу сосать член и глотать эту гадость. — О'кей. Но ты не можешь лежать, как бревно, просто позволяя мужчине трахать тебя. Тут важна активность обоих партнеров. — Но что я должна делать? — Реагировать и отвечать! — Как? — Господи! Линда, поднявшись, заходила по комнате. Склонившись над столом, посмотрела Дженюари в глаза. — Ты отвечала на его поцелуй, верно? — Да. — Умница! Так вот, когда он станет, лежа в постели, целовать твои соски, начни ласкать его. — Какие места? — Господи, Дженюари… любые. Погладь сзади шею. Поцелуй ее… его уши… щеки… дай ему почувствовать, что ты живая. Что тебе нравится то, что он делает. Постанывай от удовольствия, кусай его… — Кусать? — О, не до крови… как бы играя… точно котенок… царапай ему спину… ласкай его тело руками… языком… Дженюари откинулась на спинку кресла. — Линда, а что, если я не смогу?.. Вдруг почувствую себя в постели скованно? Линда посмотрела на подругу. — Придумала! Она щелкнула пальцами. — В какое время вы встречаетесь завтра? — Когда он вернется из Вашингтона. Перед обедом. — В четыре часа тебе сделают витаминный укол. — Витаминный укол? Линда заглянула в календарь. Найдя нужную страницу, списала с нее имя и адрес. — Вот. Доктор Саймон Альперт. Он и его брат Престон — настоящие волшебники. Кит водил меня к Саймону несколько раз, когда был помешан на своем физическом состоянии. Наверно, он и сейчас пользуется его услугами, чтобы лучше ублажать Кристину Спенсер. — Но каким образом витаминные уколы повысят мою сексуальность? — Слушай, я знаю одно — когда Кит заставлял меня сделать укол, весь мир точно расцветал… становился ярче. Я работала по двадцать часов в сутки. Оргазм, казалось, длился целый час. Я была потрясающим партнером по сексу, не проявляя агрессивности. Кит всегда утверждал, что я слишком агрессивна и командую в постели. Тут проявлялся его мужской шовинизм. Что плохого в том, что я говорила ему: «Передвинься левее… быстрей… медленней»? Некоторые мужчины считают, что если они полижут клитор, то мы должны испытывать к ним вечную благодарность. Такие типы меня убивают. Представь себе… коснувшись на мгновение языком твоей пипки, они смотрят на тебя так, словно ты получила в подарок бриллиант «Кохинор». И за это ты должна делать минет в течение часа… даже если член напоминает спагетти. Однако после витаминного укола мне нравилось все, что делал Кит, и я не вела себя, как режиссер. Это чудодейственное средство — комплекс витаминов В и Е. Доктор Альперт смешивает их в твоем присутствии. Постарайся попасть к доктору Саймону Альперту — у него легкая рука. Это средство — настоящий динамит. За двадцать пять долларов оно не может быть плохим. И если Кит тратил такие деньги… ну, понимаешь. Я сделала себе три укола. По-моему, в этом составе есть какое-то средство, подавляющее аппетит, — после укола я не притрагивалась к еде. Все женщины с лишним весом ходят туда. На самом деле многие доктора делают подобные инъекции. Я знаю, что есть один врач, который обслуживает известных звезд, больших шишек из Вашингтона, знаменитого композитора и нескольких голливудских продюсеров. — Почему ты перестала делать уколы? — Они недешевы. Инъекции хватает на три дня. Одна женщина, с которой я познакомилась в приемной, сказала мне, что ей делают четыре укола в неделю. Но теперь, когда я рассталась с Китом, мне не нужно столько энергии. Во всяком случае, для Леона. — Но это не опасно? — Слушай, Дженюари, тебе двадцать один год, у тебя был один неприятный контакт с мужчиной. С великолепным парнем… которого ты не любила. Ты от него отказалась. Теперь у тебя появился шанс с Томом Кольтом… а ты сидишь здесь и говоришь мне, что боишься оказаться не на высоте. Боже, если бы мне предстояло свидание с Томом, я бы бегала по Мэдисон-авеню в поисках какого-нибудь потрясающего платья, а не сидела, думая о том, удастся ли мне вызвать у него эрекцию и как это сделать. Уж в этом-то я бы не сомневалась. Дженюари улыбнулась: — Рядом с тобой я чувствую себя отсталой… в смысле секса. — Твои проблемы можно снять хорошим сексом, — засмеялась Линда, — а теперь позвони доктору Альперту и попроси его принять тебя сегодня днем. Ты не захочешь вылезать из кровати. Да, еще… зайди в офис к Леону и попроси у него «бомбу». — Что это? — Барбитурат. Вставишь капсулу в ингалятор и положишь его на тумбочку возле кровати. Перед оргазмом вы оба вдохнете препарат. Эффект потрясающий! — Линда, можно у тебя кое-что спросить? Скажи мне, разве люди, любящие друг друга, ложась в постель, не получают удовольствия без всех этих ухищрений? — Конечно, дорогая, — ты его уже получила с Дэвидом! Уйдя из редакции в пять часов, Дженюари помчалась домой. Полежала в ванне. Надушилась. Выложила два костюма. Один состоял из слаксов и рубашки. Другой — из длинной юбки и шелковой блузки. Она наденет один из них в зависимости от планов Тома. Дженюари надела новый бюстгальтер фирмы «Пуччи»; Линда, конечно, сказала бы, что лифчики «Пуччи» вышли из моды. Линда вообще считала эту часть туалета излишней. В семь часов Дженюари еще сидела в лифчике перед телефоном. Она выкурила полпачки сигарет и отхлебнула немного «Джека Дэниэлса». Девушка купила бербон на тот случай, если Том поднимется к ней. Она также взяла в магазине натуральный кофе и яйца.. Она не знала, чего следует ожидать, но хотела быть готовой ко всему. К восьми часам она уже трижды звонила в «Плазу». Каждый раз ей отвечали: «Да, для мистера Кольта забронирован номер, но он еще не приехал». Он позвонил в девять. — Дженюари… извини меня. Самолеты не летают из-за плохой погоды. Мне пришлось сесть на поезд. Он должен был прибыть в Нью-Йорк к шести. Поэтому я не стал звонить. Но мы простояли час в Балтиморе. И, представляешь, на полчаса задержались в Трентоне — одна женщина вздумала рожать. — О, Том… неужели! Она испытала такое облегчение, услышав его голос, что даже засмеялась, — Слушай, я буквально валюсь с ног. (У нее екнуло сердце.) Ты не возражаешь, если я попрошу подать обед в номер? — Том, если ты слишком устал, чтобы встретиться со мной, я не обижусь. (Что она говорит!) — Нет, я должен поесть. Умираю от голода… а для тебя это не поздно? — Я сейчас приеду. — Отлично. Моя машина стоит возле твоего подъезда. — Значит, ты знал, что я захочу приехать. — Конечно. Ты же сказала, что не хочешь играть. Он ждал ее у двери номера. Она бросилась в его объятия. Том поцеловал девушку. — Боже, ты выглядишь потрясающе… — произнес Том. — Заходи же… сейчас принесут бифштексы. Я решил, что влюбленная девушка не будет слишком привередливой в еде. Мысленно он еще был в своем турне. Каждая минута поездки раздражала Тома. Он казался себе дрессированной обезьянкой, особенно на ТВ. Ведущие называли себя почитателями его таланта; Тома восхищала непринужденность, с которой они вели передачу под слепящим светом прожекторов. Находясь перед камерой, он ощущал себя динозавром, громадным, не вписывающимся в окружение и эпоху. Хозяева шоу помогали ему, и, в конце концов, он освоился. — Каждая проданная книга — это тяжкий труд, — заметил Том и добавил, что его роман уже на третьем месте в списке бестселлеров «Нью-Йорк Тайме». Они пообедали и сели на диван перед телевизором. Том пил бербон и смотрел вечерний выпуск новостей. Дженюари медленно потягивала спиртное. Том удивился, когда она попросила налить и ей. Но она хотела чувствовать себя раскованно, когда они отправятся в спальню. Внезапно он повернулся к ней и сказал: — Слушай… не хочешь поехать на побережье? — В Уэстгемптон? — Да. Хью приглашает нас к себе. Мы можем остаться там. Он все равно полночи проводит на берегу. Он сказал, что будет спать на диване, если вернется в дом. — Когда? — спросила Дженюари. — Завтра. Мы выедем в три. Утром у меня два интервью. — С удовольствием, — сказала Дженюари. Он встал, обнял девушку и нежно поцеловал ее. Его руки скользнули под рубашку Дженюари, затем под лифчик. Она вспомнила слова Линды — «Делай что-нибудь! Покажи ему, что любишь его». Осторожно провела рукой по спине Тома… коснулась его брюк спереди. Вдруг он отстранился. — Слушай, уже поздно. Я смертельно устал. Мы проведем вместе уик-энд. Он подал ей пальто и проводил до двери. — Дженюари, ты за весь вечер не сказала… — Что? Он улыбнулся: — Любишь ли ты еще меня. — О, Том… ты знаешь, что люблю. Снова улыбнувшись, он быстро поцеловал ее в губы. Слова Тома удивили девушку. Она посмотрела на него. — Том… а ты любишь меня? Он медленно кивнул: — Думаю, да… правда, люблю. Утром, в девять часов, сидя в приемной доктора Альперта, заполняя карточку, которую ей дала медсестра, Дженюари испытывала смущение. Но она понимала, что нуждается в помощи. Вечером Том освободился из ее объятий… потому что у него не было эрекции. Он не хотел, чтобы она это узнала. Она не возбуждала его. Духи «Фракас», бюстгальтер «Пуччи» — все старания оказались тщетными. В полдень она позвонила Линде. Когда Линда закричала: «Ну, что?», Дженюари ответила: «Ничего не было». Линда посоветовала ей сходить к доктору Альперту, если она не хочет испортить весь уик-энд. — Может ли мужчина любить девушку и не хотеть ее? — Господи, Дженюари, если бы ты знала, как часто парни добиваются меня, стремятся к близости, а в постели их член становится похожим на вареную макаронину, и мне приходится буквально запихивать его в себя. — Линда! — Перестань кричать «Линда» и смирись с этим. Том Кольт спал с самыми разными женщинами. Ему пятьдесят семь лет, он слегка истаскался. Ты должна завести его. Ему мало просто видеть твое тело нимфетки. Ты должна что-то сделать. Она наконец заполнила все графы карточки. Медсестра отвела девушку в маленькую кабинку со столом для обследования пациентов. Таких кабинок в офисе врача было семь. Они все были постоянно заняты. Когда Дженюари покидала приемную, комната уже была заполнена людьми. Медсестра протянула ей бумажный халат и сказала: — Снимите все и пройдите в конец коридора. Облачившись в шуршащий халат, Дженюари отправилась в комнату, расположенную в конце коридора. Там ее ждала девушка с кардиографом. Медсестра попросила Дженюари лечь на кушетку и приложила электроды к ее груди. Закончив обследование, медсестра повела Дженюари в другую комнату. — А теперь, мисс Уэйн, мы возьмем у вас кровь для анализа. — Но я пришла сюда только, чтобы мне сделали витаминный укол. Я сказала об этом утром доктору Альперту по телефону. — При первом визите к доктору Альперту пациент всегда проходит полное обследование. Дженюари протянула руку. Она поморщилась, когда медсестра ввела иглу в вену. Потом девушка уколола ей палец. Дженюари немного успокоилась. Похоже, этому доктору можно доверять. Он весьма педантичен. Неудивительно, что его уколы дают эффект. Наконец она снова оказалась в кабинке. Села на край стола и стала ждать. У врача было много пациентов. Дженюари специально пришла пораньше, объяснив, как ее научила Линда, что она спешит на самолет и должна освободиться к полудню. Минут через пятнадцать в кабинку вошел человек средних лет со стетоскопом на шее. Он приветливо улыбнулся. — Я — доктор Саймон Альперт. Какие проблемы? Нервы шалят? Я посмотрел анализ крови — у тебя десять единиц. Это легкая анемия. Для серьезного беспокойства нет оснований. Но должно быть двенадцать. Она заметила, что у него застиранный воротничок и не совсем чистые ногти. Казалось невероятным, что этот человек имеет роскошный офис на Парк-авеню с умелыми, антисептическими медсестрами. Он напоминал Эйнштейна, который никогда не причесывался и ходил в кроссовках. Его зубы пожелтели от никотина. Дженюари заметила, что десны у врача тоже неважные. Похоже, он сам нуждался в витаминах. — А теперь расскажи — что привело тебя сюда? Ты, кажется, пришла ко мне по рекомендации мисс Риггз, моей бывшей пациентки. Она посмотрела в сторону, потом на свои ухоженные ногти. — Я… я познакомилась с одним человеком… — Мы здесь не делаем аборты… и не даем пилюли. — Нет, совсем другое. Понимаете, это необыкновенный человек, он нравится всем женщинам, и я… — Достаточно. Можете больше ничего не говорить. Он сочувственно улыбнулся. — Все ясно. Он тебя оставил. Ты в депрессии. Подавлена. Посиди здесь. Врач вразвалку вышел из комнаты. Меньше чем через пять минут вернулся назад со шприцем. — Это поможет тебе почувствовать себя новой женщиной. Ты вернешь его. Я знаю. Доктор закрепил иглу. «Надеюсь, он вымыл руки», — подумала Дженюари. — Такие юные создания, как ты, влюбляясь, целиком отдаются своему чувству. Мужчину это утомляет… и тогда вы начинаете звонить ему… верно? Не дав Дженюари раскрыть рта, он продолжил: — Ну конечно, обычная история… названивая, умоляя, ты отталкиваешь его от себя еще больше. Вечно одно и то же. Доктор развязал пояс ее халата, и он соскользнул на бедра девушки. Врач почти не замечал наготы девушки. Он приложил стетоскоп к ее груди и, похоже, остался доволен тем, что услышал. Протер ватой, смоченной в спирте, ее предплечье возле локтя. — Послушайся меня, не звони ему. Обещай дядюшке Саймону… не звони подлецу. Она почувствовала, как игла входит в вену. Дженюари отвела взгляд. У него действительно была легкая рука… девушка почтя не ощутила боли. Повернув голову, Дженюари увидела, как кровь заполняет шприц… затем она стала постепенно уходить из него в руку вместе с витаминным раствором. Врач улыбнулся и прижал ватку к месту укола. — Согни руку в локте и подержи так минуту. У тебя отличные вены. Она не могла поверить в происходящее. Инъекция подействовала мгновенно. Дженюари точно поплыла… у нее закружилась голова… но это было приятное ощущение. Внезапно внутри девушки разлилась теплота… как в Риме, когда ей давали центотал натрия… тело обрело удивительную невесомость. Только вместо чувства пустоты и сонливости, которые вызывал центотал натрия, сейчас ее переполняла энергия. Ей захотелось потрогать себя между ног — в ее паху что-то пульсировало. Доктор Альперт улыбнулся: — Тебе уже лучше? Он покрутил ее сосок, и она засмеялась, потому что это не было жестом старого развратника. Это был жест дружбы, сделанный добрым дядей Саймоном. — Все будет отлично, — заверил он. — Мы быстро поднимем твой гемоглобин до двенадцати-тринадцати единиц. Вероятно, тебе потребуется один укол в неделю… или целый курс. Сообщи это мисс Саттон, моей помощнице. Некоторые люди делают два укола в неделю… или семь, но с меньшими дозами. У меня есть пациент с уровнем гемоглобина пятнадцать единиц, он приходит ко мне ежедневно. Он — знаменитый композитор, работает по восемнадцать часов в сутки. Отдает творчеству все свои силы и нуждается в частых инъекциях. Как и вы, худенькие девчушки, работающие днем и занимающиеся любовью по ночам. Он снова покрутил ее сосок и заковылял из кабинки. Дженюари соскочила со стола для обследований, и белый халат упал на пол. Она провела рукой по своим грудям. Потом еще раз. Соски отвердели. Она испытала божественное ощущение внизу живота. Коснулась половых губ, клитора. Восхитительно! Доктор Альперт с грязными ногтями и удивительными витаминами — настоящий волшебник. Она с ясностью осознала, что до сих пор функционировала только наполовину. Возможно, всегда страдала анемией. То есть после несчастного случая. Ну конечно… до этого, общаясь с Майком, она чувствовала, что живет полной жизнью. И теперь снова ожила… проснулась. Ее ждал весь мир! Она быстро оделась, подписала счет на сто двадцать долларов за кардиограмму, анализ крови и инъекцию. Помощница врача объяснила девушке, что в дальнейшем каждый укол будет стоить двадцать пять долларов — это в том случае, если она не решит пройти курс из двадцати инъекций. Тогда ей придется заплатить сразу четыреста долларов. Дженюари улыбнулась. Она будет делать уколы по мере необходимости за двадцать пять долларов. Заглянув в «Сакс», Дженюари купила Тому галстук. Потом зашла в «Гуччи» и попросила отослать Линде пояс, которым восхищалась ее подруга. Девушка написала на открытке: «Спасибо за доктора Альперта». Бросилась домой собирать вещи. В три часа раздался звонок. Шофер сообщил, что автомобиль ждет ее. Дженюари ехала в лифте, предвкушая удовольствие от уик-энда. Ей не терпелось поскорей увидеть Тома. И Хью… он тоже был замечательным человеком. Весь мир был прекрасен! (обратно)Глава девятнадцатая
Тому галстук понравился. — Я буду надевать его, отправляясь на телевидение, — сказал писатель. В машине была бутылка. Том предложил Дженюари выпить. Она покачала головой. — Я пьянею от тебя, — заявила девушка. Когда они прибыли в Уэстгемптон, Дженюари бросилась в объятия Хью Робертсона. Если он и удивился раскованности ее приветствия и избытку чувств, переполнявших Дженюари, то ничем не выдал этого. Она так часто вспоминала день, который они провели в Уэстгемптоне, что ей казалось, будто она вернулась к себе домой. Огромная кровать и камин были именно такими, какими они сохранились в ее памяти. Шум прибоя, казалось, доносился издалека, хотя Дженюари видела берег через окно гостиной. Они сидели на диване возле камина. Том потягивал спиртное, а Хью жарил мясо. Она прижималась к Тому, время от времени помогая Хью готовить. В десять часов Хью сказал: — Мне пора отправляться в дюны. — Вы замерзнете, — произнесла Дженюари. — Сегодня я побуду там недолго. У меня за кухней есть уютный кабинет. Иногда мне лень подниматься по лестнице, и я сплю там. Так что пользуйтесь верхней комнатой со спокойной совестью. После ухода Хью Дженюари и Том остались сидеть возле камина, глядя на огонь и слушая треск поленьев и шорох волн, набегающих на берег. Дженюари никогда не надоедало наблюдать за волнами — они упрямо поднимались из океана, разбивались о сушу и, собравшись с новыми силами, снова накатывались на нее. Они напоминали ей шаловливых детей, подбегающих к воде и оттаскиваемых от нее матерью. Она теснее прильнула к Тому и провела кончиком пальца по его профилю. Склонившись, он поцеловал девушку. Потом, прихватив бутылку бербона, взял Дженюари за руку и повел ее наверх. Комната представляла из себя реконструированный чердак. Прежний владелец дома был, очевидно, ярым патриотом. Он выкрасил стены в белый цвет, а мебель покрыл голубой и красной эмалью. В центре мансарды стояла гигантская кровать с периной. Дженюари, скинув туфли, бросилась на нее. — Том… иди сюда… тут нет пружин. Я просто утопаю здесь. Соскочив с кровати, она подошла к Тому. — Я люблю тебя, — сказала Дженюари, расстегивая блузку. Их глаза встретились. Джинсы девушки соскользнули на пол. Она медленно расстегнула лифчик и сняла трусики. — Вот я, — нежно произнесла Дженюари. С мгновение он рассматривал ее, улыбаясь. Она обвила рукой его шею. — Ну же, ленивец, — прошептала Дженюари, расстегивая рубашку Тома. — Давай ляжем в постель. Он повернулся к комоду и налил себе бербона. Быстро выпил его, протянул руку и погасил свет. Дженюари с кровати наблюдала за тем, как он раздевается в полумраке. Увидела белые ягодицы, резко выделявшиеся по сравнению с загорелой кожей спины и плеч. У Тома были мускулистые бедра… повернувшись, он прыгнул в кровать, и она заскрипела. Засмеявшись, они обнялись. Том опирался на локти, находясь над Дженюари. Погладив ее волосы, он прошептал в темноту: — Детка, я хочу сделать тебя счастливой. — Я счастлива, Том. Она обвила руками его шею и притянула Тома к себе, чтобы поцеловать. Он перекатился на бок, не выпуская девушку во время поцелуя из своих объятий. Она провела рукой вдоль его спины. Дженюари чувствовала себя легко и раскованно, словно их тела всегда были рядом. Ей хотелось касаться Тома… принадлежать ему. Вдруг она почувствовала его язык на своем теле… грудях… животе… сжала руками голову Тома… ощущения, которые она испытывала, были восхитительными. Но ей хотелось делать приятное ему… исполнять все его желания… язык Тома ласкал ее бедра… его палец проник внутрь Дженюари… каждый нерв ее тела отзывался на ласку… казалось, язык Тома был повсюду… и вдруг она испытала потрясающее ощущение… она не верила, что это происходит с ней… такого еще не было в ее жизни. Дженюари застонала. Тело растворялось, охваченное экстазом… она затрепетала, стиснув голову Тома… и наконец, обессилев, распласталась на кровати. Том лег рядом с ней, коснулся ее грудей. — Я сделал тебя счастливой? — Господи, Том… я никогда не испытывала ничего подобного… но… мы же не сделали этого… я имею в виду, ты… — Я хотел сделать тебя счастливой, — сказал он. — Силы возвращались к Дженюари. Сейчас он войдет в нее. — А теперь мы просто полежим рядом, обнявшись. Она замерла. Что-то было не так. Он прижал ее к себе… но Дженюари охватил испуг. Она не возбуждала его. Девушка принялась целовать шею Тома… гладить его тело. Она не была уверена в том, что делает это правильно, но старалась подражать ему. Легла на Тома сверху и стала целовать его грудь. Затем спустилась ниже. Но не обнаружила большого пульсирующего члена, который вонзил в нее Дэвид… меж ног Тома покоилось нечто вялое, безжизненное, размером с большой палец. Она не верила своим глазам. Возможно ли, чтобы у такого крупного и мужественного человека, как Том Кольт, был столь маленький пенис? Она начала ласкать его, но реакции не последовало. Дженюари поднесла к нему свои губы. Ее охватила нежность к Тому, желание заботиться о нем, защищать. У Тома Кольта, чьи романы насыщены сексом… у этого любимца женщин… живого символа мужественности… был член, как у мальчика! Господи, как это, наверно, всегда омрачало его жизнь! Она сама волновалась в школе оттого, что ее груди росли недостаточно быстро… но все же что-то у нее была. Но для мужчины не иметь ничего… пенис — его единственный половой орган. Боже, вот в чем причина всех драк, в которые ввязывался Том… увлечения подводным плаванием со скубой… участия в теннисных турнирах и соревнованиях по гольфу. Она стала ласкать его с еще большей нежностью. Бедный, несчастный Том… вынужденный изливать свои сексуальные фантазии на бумагу, не имея возможности реализовать их в жизни. Он внезапно притянул ее к себе. — Дженюари… не думай, что ты разочаровала меня. Я получаю удовольствие, делая тебя счастливой. Она лежала, не двигаясь. Скольким женщинам он говорил то же самое? И вдруг она решила сделать так, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Принялась ласкать его. Провела языком по руке… бедрам Тома… Дразня его, приблизилась к члену… коснувшись пениса, тотчас отстранилась… увидела, как его маленький орган начинает твердеть… продолжила игру… снова задела член губами… переключилась на другую часть тела… ее пальцы трогали его мошонку… внезапно он навалился наДженюари… начал двигаться… увеличивая темп… она услышала его стон… тело Тома обмякло. Он несколько секунд полежал на девушке. Посмотрев ей в глаза, сказал: — Спасибо, Дженюари. — Спасибо, Том. Он вытащил из девушки свой член и обнял ее. — Я люблю тебя, Дженюари. — И я люблю тебя, — прошептала она. Он погладил ее волосы. — Знаешь, что ты для меня сделала? У меня это получилось впервые за десять лет. — Я рада, Том. Она поцеловала его в щеку, которая оказалась мокрой. Заметила слезы в глазах Тома. — Что-то не так? Он уткнулся лицом ей в шею; она прижала его к себе, успокаивая, как маленького ребенка. Через несколько минут Том встал с кровати и подошел к комоду. Отхлебнул бербон и, стоя спиной к Дженюари, произнес: — Дженюари, извини, я… Вскочив с кровати, она подбежала к нему. — Том… я люблю тебя. Повернувшись, он поглядел на нее: — Мне неловко, что я расслабился. Это первые слезы за последние двадцать лет. — Я вызвала их? Он погладил ее по голове. — Нет, детка… Том отвел девушку обратно к кровати, и они легли рядом. Обняв Дженюари, он сказал: — Ты сделала меня очень счастливым. Наверно, эти слезы — по нам обоим. Я нашел чудесную девушку… а тебе достались руины Тома Кольта. Нет, мой аппарат всегда был такого размера… тут уж что бог дал… но раньше он функционировал. Последние десять лет я спал с проститутками, принимал возбуждающие средства — ничто не помогало. Только сегодня, с тобой… — Но, Том… у тебя же есть ребенок. — Я хочу, чтобы ты знала правду. Понимаешь, женщины всегда прощали мне мой недостаток… мирились с тем, что я отнюдь не половой гигант. Им нравилось появляться со мной в свете. И я, черт возьми, мог удовлетворить их другими способами. Но несколько лет назад я задумался… после стольких лет труда, кому я все оставлю? У меня никого не было. Два моих брата погибли на войне. У старшей сестры нет детей. Внезапно я понял, что хочу ребенка. И я решил усыновить какого-нибудь малыша. Но для этого нужно быть женатым человеком. Я стал присматриваться к знакомым женщинам, пытаясь определить, из кого получится наилучшая мать. Никто не подходил на эту роль. У одних уже были собственные дети, другие признавались, что ненавидят их. Я не видел приемлемой кандидатуры, пока полтора года тому назад не познакомился на вечеринке в Малибу со «звездочкой», которую звали Нина Лу Браун. Для начинающей актрисы она была старовата… ей тогда уже исполнилось двадцать семь… она почти потеряла надежду на настоящий успех. Снималась в рекламных клипах для ТВ. Я понравился ей, и мы разговорились. Нина Лу сказала мне, что она родом из Джорджии. У нее десять братьев и сестер. До двенадцати лет она бегала босиком. Нина Лу любила детей и подумывала о браке с одним оператором, потому что хотела родить — годы уходили. Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой… но я понимал, что она не притворяется, — Нина Лу не знала о моем желании иметь ребенка. У хозяина дома, где мы встретились, было двое маленьких сыновей. Днем младшему в ногу попала заноза. Пятилетний мальчик не подпускал к себе мать, которая хотела вытащить занозу. За дело взялась Нина Лу. Она затеяла игру. Сказала мальчику, что он в силах помочь ей извлечь занозу. Попросила бокал виски. Дала ребенку самому окунуть иглу в спиртное. Сказала, что собирается напоить виски его ногу, чтобы она опьянела. И он, хочешь верь, хочешь нет, позволил ей вытащить занозу, сидевшую очень глубоко. Когда все было закончено, малыш поцеловал Нину Лу. И я тогда же решил, что она станет матерью моего ребенка. Мы встречались в течение месяца. Я ни разу не переспал с ней. Я сделал Нине Лу предложение и объяснил, в чем состоит моя проблема. Она сама нашла решение. Искусственное осеменение. Мне это и в голову не приходило. Поженившись, мы отправились к врачу… она забеременела не сразу, лишь через шесть месяцев. И полгода тому назад родила мне сына. Дженюари лежала, не шевелясь. Том прикурил сигарету и передал ее девушке. — Теперь ты знаешь историю моей жизни. — Да, — тихо промолвила Дженюари. — Ты, наверное, должен по-настоящему любить Нину Лу. — Я ей благодарен. Я никогда не был влюблен в нее. Но я люблю Нину Лу за то, что она дала мне. В обмен я предоставил ей сексуальную свободу… она должна лишь соблюдать приличия. Иногда к ней приходит молодой актер и удовлетворяет ее потребность в сексе. Она — прекрасная мать для Тома-младшего. Ей нравится быть миссис Том Кольт — она ценит престиж, дом в Малибу, любит приемы. Так что наш брак функционирует, если его можно назвать таким словом. Я не вправе требовать от двадцатидевятилетней женщины, чтобы она до конца жизни отказалась от нормального секса. Она любит малыша и… — Том… сегодня у нас все получилось. Ты когда-нибудь пытался с ней? Мне показалось, что ты даже не собирался предпринять попытку… Он покачал головой. — Конечно, я пробовал. Она была уверена, что способна сотворить чудо. Я испытывал унижение, разрешая ей… ночь за ночью… пока мы не 'сошлись на том, что шансов нет. Я не предполагал, что у нас что-то получится сегодня… ты мне дорога, и я не счел возможным скрывать от тебя правду… Он еще сильнее прижал ее к себе. — Дженюари, ты видишь, что ты для меня сделала. Даже если это не повторится… я буду испытывать к тебе благодарность до конца жизни. — Это повторится. — Дженюари, я не могу получить развод. Нина Лу никогда не оставит мне сына. Я боюсь потерять его. Хочу дать ему все. Поэтому-то и согласился на это турне. Мне хватило бы денег, чтобы прекрасно провести остаток жизни. Но я хочу оставить приличную сумму ей и сыну. Поднявшись с постели, он принес бутылку. — Выпьем перед сном? Она покачала головой. — Я и так счастлива, — прошептала Дженюари. Он сделал большой глоток. — Я не могу выразить это словами… я люблю тебя… никого так не любил. Я никогда не открывался перед женщинами, кроме Нины Лу и тебя. С ней я был вынужден это сделать, а с тобой мне этого хочется. Я вел себя, как негодяй, с большинством женщин. Говорил им, что у меня на них не стоит. Держался так, словно с кем-то, кто подходит мне, мой член становится двухметровым. Слушай, я не знаю, когда ты потеряешь ко мне интерес, но пока это не произошло, все будет по-твоему… никаких игр. Я буду любить тебя… если тебе нужне то, что осталось от меня, я — твой. Она прильнула к нему. — О, Том… я люблю тебя. И хочу тебя… буду с тобой, пока нужна тебе… мы всегда будем вместе. Клянусь. Они полежали рядом некоторое время, и вскоре по ровному дыханию Тома она поняла, что он заснул. У нее ни в одном глазу не было сна; ей захотелось покурить и все обдумать. Она любила его — сила чувства не зависит от размера члена. Она должна убедить его в этом. Осторожно выскользнув из кровати, чтобы не разбудить Тома, она надела халат и на цыпочках спустилась по лестнице вниз. В гостиной было пусто, огонь догорал. Она бросила в камин газеты и полено. Вскоре дрова снова затрещали, стало теплее. Она села на диван, подобрала под себя ноги и, глядя на пламя, стала думать о Томе. Она всегда считала, что у всех мужчин члены примерно одного размера. Конечно, у кого-то он больше, у кого-то меньше… но она не представляла, что мужской орган может быть таким маленьким, как у Тома. Внезапно она подумала об отце. Был ли его пенис так же велик, как у Дэвида? Несомненно. Бедный Том. Она сочувствовала ему и в то же время испытывала нежность и желание. В ее душе царило смятение. Дженюари хотелось оказаться в его объятиях, прикоснуться своим бюстом к груди Тома, почувствовать близость возлюбленного… вкус его губ. Она услышала скрип двери. Поняла, что Хью стоит у нее за спиной. Он обошел диван и посмотрел на Дженюари. Затем бросил взгляд на лестницу. — Том спит, — сказала девушка. — Он прикончил бутылку бербона. Хью шагнул к деревянному столику, служившему баром, и налил себе виски. — Будешь? Она покачала головой. — Я выпью кока-колу. Он протянул ей бокал. — Хочешь холодного мяса? Ты, наверно, проголодалась. Ничего не съела за обедом. Дженюари потянулась. — Я чувствую себя прекрасно. Просто прекрасно. Мне не нужна еда. На его лице появилось озабоченное выражение. — Дженюари, не знаю, насколько удачен его брак, но он любит ребенка, и… — Хью, я понимаю, что он никогда на мне не женится. Не беспокойтесь. — Ты влюблена в него? — Да. Он сел рядом с Дженюари. — Мне уже доводилось видеть, как девушки влюблялись в Тома. Все они говорили, что добьются своего. Но когда он принимал решение уйти… кое-кто травился пилюлями. — Хью… насколько хорошо вы знаете Тома? — Разве кто-то может знать его до конца? Мы познакомились с ним шесть лет тому назад, когда в одной из своих книг он писал что-то о космосе. Том приехал в Хьюстон за нужной ему информацией. Мы подружились. Потом я оказался в Лос-Анджелесе в тот момент, когда Том разводился. Он предложил мне остановиться у него. Познакомил меня с одной из брошенных им девушек, и мы славно провели время. Мой брак развалился, но у меня было отрицательное отношение к разводу… знаешь, «подождем, пока подрастут дети». Черта с два, они никогда не понимают… даже став взрослыми и заведя собственных детей. У моей дочери, да благословит ее Господь, трехлетний ребенок, и она мне заявила: «Папа, почему вы с мамой расходитесь… после стольких лет!» Да, да, — он вдруг умолк. — Что-то я разболтался. Ты задала мне один вопрос, а я вываливаю на тебя историю моей жизни… когда тебя на самом деле интересует жизнь Тома. О'кей. Насколько хорошо я знаю Тома? Его узнать нелегко. Мы друзья, хорошие друзья — я всегда могу рассчитывать на его помощь, а он — на мою. Мы во многом похожи. Такой человек, как Том, растворяется в своих произведениях, он прочно связан с героями его книг: он создает их, а они, в свою очередь, влияют на Тома. Моя работа тоже поглощает меня целиком… я даже не знаю толком моих детей… Он заговорил о детях, о том, как начал летать. Дженюари слушала внимательно, понимая, что он освобождается от груза вины, обусловленной крушением брака, потерей контакта с детьми. Она сказала Хью, что он не должен упрекать себя — он следовал своему предназначению. — Ты действительно считаешь, что самое главное для человека — делать свое дело? — спросил он. Дженюари кивнула; ей не показалось странным и нелепым, что она дает совет Хью Робертсону, — сейчас ей казалось, что она способна решить любую проблему. Они беседовали о происхождении жизни… Солнечной системе… бесконечности. Хью сказал, что существование разумных существ за пределами нашей Солнечной системы уже является научным фактом. Он был убежден в том, что в ближайшие столетия между галактиками будет установлена связь. Цепь искусственных спутников гигантским мостом соединит планеты. — Но как мы будем общаться с маленькими зелеными человечками? — Почему ты полагаешь, что они окажутся зелеными? Если планета занимает такое же положение относительно центра своей Солнечной системы, что и наша Земля, то ее обитатели должны быть такими же, как мы. — Вы хотите сказать, что может существовать другая планета, подобная Земле? С развитой цивилизацией? — Не одна, а множество. С цивилизациями, опережающими нашу на биллион лет… и, конечно, отстающими от нее. Они помолчали. Дженюари грустно улыбнулась. — Тогда все, что мы делаем и о чем думаем, начинает казаться незначительным. Стоит только представить себе, что в других мирах есть люди, подобные нам, молящиеся Богу… как я, просившая его помочь мне заново научиться ходить… — Ходить? Они обернулись — по лестнице спускался Том. На нем был халат; писатель держал в руке пустую бутылку. — Проснувшись, я обнаружил, что моя девушка исчезла, а спиртное кончилось. Он сел возле Дженюари. — Я не ослышался — вы говорили о ходьбе? Сейчас почти два часа ночи. — Нет, — отозвался Хью. — Дженюари рассказывала, как она когда-то молилась о том, чтобы Господь помог ей научиться ходить. — Я не могла заснуть, — сказала Дженюари, прижавшись к Тому. — Мы с Хью беседуем о звездах. — Почему ты заново училась ходить? — спросил Хью. — Это длинная история. — Кажется, я сегодня рассказал тебе несколько Довольно длинных историй. Теперь твой черед, — заявил Том. Она начала говорить, сначала неуверенно. И вдруг обнаружила, что заново переживает те долгие печальные месяцы. Огонь догорел, но мужчины, казалось, этого не замечали. Темные глаза Тома излучали сочувствие и восхищение. Она поняла, что никому еще не говорила о том, как много ей довелось страдать. С Линдой она лишь делилась фактами. Даже Майк не знал о том отчаянии, которое она испытывала. При нем она всегда сохраняла бодрый вид. Но сейчас, когда она сидела в темноте рядом с обнимавшим ее Томом, все пережитые Дженюари мучения и боль одиночества выплеснулись из души девушки. Когда она закончила, мужчины долго не могли нарушить тишину. Наконец Том встал. — По-моему, нам всем не помешает выпить. Хью налил себе виски. — — Это вас устроит? Бербон кончился. — Я основательно подготовился, — сказал Том. — Водитель отнес на кухню коробку. Я сейчас вернусь. Том вышел из комнаты; Хью проводил его взглядом. Подняв бокал, он посмотрел на Дженюари, свернувшуюся калачиком на диване. — Я увидел в тебе нового человека. Знаешь, мне начинает казаться, что у вас с Томом все будет хорошо. Похоже, он обрел наконец в лице худенькой девчонки настоящую женщину. Входная дверь открылась так бесшумно, что они не заметили, как в дом проникли двое мужчин. Дженюари обернулась в тот момент, когда чья-то рука зажала ей рот. Она увидела, как блеснул нож у ее горла. Второй незнакомец направил луч фонаря в лицо Хью. — О'кей, мистер… если не хочешь, чтобы мы убили твою девушку, выкладывай деньги и драгоценности. Закричишь — мы перережем твоей подружке горло. — У нас нет денег и драгоценностей, — глухо произнес Хью. — Послушай, мистер… Двухметровый гигант застыл над Хью. — На прошлой неделе мы бомбили тут неподалеку одну парочку. Чтобы заставить даму снять кольца, нам едва не пришлось отрезать ее мужу яйца. У вас, приезжающих сюда отдохнуть на уик-энд, всегда есть при себе деньги и цацки. — На ней ничего нет, — произнес бандит, державший нож у горла Дженюари. Хью вывернул свои карманы. Оттуда выпали две пятерки… несколько долларовых бумажек… монеты и ключи. — Это мелочь, — сказал великан и посмотрел на лестницу. — Держи девку, — приказал он своему напарнику. — Я отведу его наверх. Может быть, сумею убедить этого типа показать мне, где он хранит ценности. Дженюари осталась наедине с мужчиной, у которого был нож. «Где же Том? Я должна закричать», — подумала Дженюари. Она посмотрела на мужчину. Он тяжело дышал, на лице его блуждала самодовольная ухмылка. Он был коротышкой и едва доставал Дженюари до плеча. Но он держал у горла девушки нож. Одной рукой он развязал пояс ее халата. Уставился на полоску кожи. Ухмылка превратилась в злобную усмешку. — Кажется, я помешал тебе побаловаться с твоим дружком. Она закрыла глаза и постаралась сдержать крик, когда его рука грубо коснулась ее груди. Коротышка расстегнул «молнию» на своих брюках и вытащил из ширинки член. — Неплохой агрегат для такого маленького парня, как я. Каждый человек должен быть хоть в чем-то силен. Мой друг, — он кивнул в сторону лестницы, — думает только о деле. Но я совмещаю работу с удовольствием. Так что мы с тобой немного потрахаемся. Он сорвал халат с Дженюари: — А ну, повернись! — Пожалуйста… — взмолилась она. — Вероятно, ты предпочитаешь более романтичный вариант — на мягкой кровати и чтобы я лежал сверху. Тогда ты попытаешься вырвать у меня нож. Нет уж, сестренка. Займемся любовью по-собачьи. Стоя в такой позе, ты не бросишься на меня. Ну-ка, повернись! — рявкнул он. — Пожалуйста… я не стану отнимать у вас нож. Пожалуйста… — Конечно, не станешь. А ты, однако, разболталась. Я найду другое применение твоему ротику. А ну, живо встань на колени. Заставив девушку опуститься на колени, он поднес свой член к ее лицу. Отвращение оказалось сильнее страха, и Дженюари, внезапно вскочив, побежала по комнате. Коротышка тотчас догнал ее, ударил по щеке, повалил на пол. — Быстро на колени, сука. Только попробуй что-нибудь выкинуть. Сейчас я засажу мой член тебе в задницу так глубоко, что он выйдет через твое горло. Он склонился над ней, и она закричала. Коротышка невольно отпрянул. Она почувствовала холодное лезвие ножа у своей шеи. — Надеешься разбудить соседей? Никого нет… с обеих сторон. Мы забрали там радиоприемники. Ничего ценного не нашли. Если ты будешь сопротивляться, я не получу никакого удовольствия и порежу тебя. Она увидела в дверном проеме очертания Тома. Он услышал ее голос! Собрав все свои силы, она вырвалась из лап бандита. Но коротышка снова схватил ее. Тяжело дыша, он попытался овладеть девушкой. Она знала, что Том приближается к ним. Еще одно усилие, и Дженюари снова освободилась. Коротышка в ярости схватил ее за грудь, пытаясь притянуть к себе. Том находился за его спиной. Девушка услышала, как Том ударил коротышку бутылкой по голове. Грабитель ахнул, выпустил Дженюари и упал на пол. Том заключил Дженюари в свои объятия. — О, Том! Он пытался меня… О, боже! Если бы ты опоздал… Он поднял ее халат и помог ей надеть его. У Дженюари стучали зубы, но она указала на мансарду. — Там второй. Он с Хью… Том посмотрел на человека, лежавшего без сознания на полу. Протянул Дженюари бутылку. — Слушай, если этот подонок шевельнется, ударь его. Не жалей эту сволочь. Помни, что он хотел сделать с тобой. Он отправился по лестнице вверх. Со второго этажа доносился шум. Очевидно, гигант избивал Хью. Том двигался медленно, перешагивая через ступени. Одна из них скрипнула. Дженюари затаила дыхание. Коротышка чуть пошевелился. Дженюари, держа бутылку в руке заколебалась. Но грабитель, простонав, снова впал в забытье. Дженюари испытала облегчение. Она чувствовала, что не смогла бы ударить беспомощно лежащего на человека. Если бы он нападал на нее, тогда другое дело. Она посмотрела на него. Перед ней был безобразный коротышка с двухдневной щетиной на физиономии. От него дурно пахло. Сейчас, с закрытыми глазами и чуть отвисшей нижней челюстью, он казался жалким и безобидным. Повернувшись, она увидела, как Том медленно продвигается по лестнице. Со второго этажа донесся грохот. Там падала мебель. Дженюари показалось, что сейчас на нее обрушится потолок. Том перешагнул сразу через две ступеньки. Он уже оказался в самом конце лестницы, когда дверь открылась и в проеме появился великан. Он замер на мгновение, растерявшись при виде Тома. Перевел взгляд с Тома на своего лежащего без сознания сообщника. Выругавшись, бросился на Тома; мужчины покатились вниз. Том первым вскочил на ноги, но гигант тотчас бросился к нему. — Я оставил твоего друга полумертвым в спальне, — проревел бандит. — Но с тобой я разберусь до конца. Его кулак врезался Тому в живот. Том согнулся пополам, но не упал. Следующий удар великан собрался нанести в челюсть, но Том увернулся. Он хотел выиграть время, чтобы восстановить дыхание. Но гигант не дал ему шанса. Сокрушительный удар в живот свалил писателя. Оцепенев от ужаса, Дженюари наблюдала за тем, как великан приближается к ней. Она увидела валявшийся на полу нож. Схватив его, побежала по комнате. Гигант засмеялся. — Собралась поиграть? Хочешь, чтобы Большой Генри отнял ножичек у девочки? Он шагнул к ней. Она метнулась за диван. Великан попытался догнать ее, но она обогнула диван. — Том.. Хью… помогите! — Кроме нас двоих, тут все спят, цыпленок. Человек раскатисто засмеялся над своей шуткой, приближаясь к Дженюари. Она заколебалась. Если она ударит его ножом и промахнется, все будет кончено. Она снова обогнула диван. Великан смеялся. — Слушай, а ты хорошенькая. Жаль, что у меня нет времени заняться тобой. Он приблизился к ней. Она отпрыгнула от него, едва не споткнувшись о тело коротышки. Дженюари услышала, что Том пошевелился. Гигант тоже заметил это. Улыбка исчезла с его лица. — Хорошо, сучка. Мне надоело играть в кошки-мышки. Перепрыгнув через диван, он схватил Дженюари. Она попыталась ударить его ножом наотмашь, но он вывернул ей руку, Дженюари закричала от боли. Нож упал на пол. Бандит подобрал его, отшвырнул девушку' в дальний угол комнаты и направился к Тому, который уже стоял на ногах. — О'кей, мистер. Ты пожалеешь, что пришел в себя. Он попытался пырнуть Тома ножом в шею, но писатель увернулся и заехал великану кулаком в челюсть. Но грабитель едва почувствовал это. С ухмылкой на лице он шагнул к Тому. Писатель отступил назад. Потом пригнулся, выжидая. Великан приближался к нему, поигрывая ножом. Том не двигался. Бандит подошел совсем близко. Внезапно Том бросился вперед, точно пантера, и нанес ребром ладони удар по горлу противника, после чего заехал великану кулаком в челюсть. Все произошло, так быстро, что Дженюари не поверила своим глазам. Гигант рухнул на пол. Том бросился по лестнице к Хью. Дженюари последовала за ним. Хью лежал на полу. Он уже приходил в сознание. Его челюсть начала опухать. Один глаз Хью не открывался, но космонавт заставил себя улыбнуться. — Я выживу… похоже, от меня было мало проку, я потерял форму. Они спустились вниз. Коротышка уже приходил в себя. Хью направился к телефону. Том останови друга. — Что ты собираешься сделать? — Вызвать полицию. Это наркоманы. Посмотри на его руку — она вся в следах уколов. — Положи трубку, — приказал Том. — Мы найдем веревку и свяжем их. Я отвезу этих подонков на расстояние мили от дома и брошу их там. Обратившись в полицию, мы впутаем в это дело Дженюари. Ты знаешь, обыграют ситуацию газетчики. Хью отправился за веревкой, а Том стал приводить гиганта в чувство, шлепая его ладонью по] щекам. Когда Хью вернулся, Том энергично массировал; бандиту заднюю часть шеи. Но тот лежал, как тряпичная кукла. — Мы не можем бросить их в таком состоянии, — сказал Том. — Они не выживут. Замерзнут. — Выживут, — возразил Хью, связывая грабителей. — Это же наркоманы… они не боятся холода. — Хью, мне кажется, он мертв. Поднявшись, Том посмотрел на обмякшее тело гиганта. Хью склонился над грабителем, прикоснулся к его запястью, шее. — Есть слабый пульс. — Тогда мы должны доставить его в больницу. Хью, ты отвезешь Дженюари в Нью-Йорк. Дженюари, быстро оденься. Это был приказ. Девушка побежала вверх по лестнице. — Но что будешь делать ты? — спросил Хью. — Когда вы уедете, я позвоню в полицию и попрошу их прислать «скорую помощь». Скажу, что собирался тут поработать над книгой, а ты предоставил мне дом. Объясню, что вышел на кухню, а вернувшись, застал их врасплох… — Почему тебе самому не поехать с Дженюари в город? Я вызову «скорую» и расскажу ту же историю. Думаю, Дженюари предпочла бы этот вариант. — Я тоже, — произнес Том. — Но, дружище, в тебе нет и ста восьмидесяти сантиметров. Ты смог бы ударить его в горло или челюсть, лишь если бы он для этого нагнулся. Том посмотрел на свой разбитый кулак. — И эти костяшки послужат подтверждением того, что я говорю правду. Дженюари спустилась с сумкой. Ее лицо было белым, она прижалась к Тому. Хью вышел из дома, чтобы завести машину. — Я слышала ваш разговор. Что, если грабители заговорят? Скажут, что видели здесь троих людей? — Эти наркоманы могут говорить все что угодно — поверят мне, а не им. Не беспокойся. Они услышали, как Хью посигналил. Том повел Дженюари к двери. — О, Том… Она прильнула к нему. — Я надеялась, что мы весь уик-энд будем вместе. Не только одну ночь. Он посмотрел на нее и заставил себя лукаво улыбнуться. — Знаю. Но согласись, это была необычная ночь. (обратно)Глава двадцатая
Погруженные в свои мысли, Дженюари и Хью всю дорогу молчали. Когда они подъехали к Нью-Йорку, уже начало светать. В машине работал обогреватель, но Дженюари внезапно поежилась. Город казался угрюмым и серым. Уэстгемптон и случившееся там перестали быть реальностью. Хью остановил автомобиль перед домом Дженюари. Улицы были пусты. Холодный ветер гонял по тротуару обрывки газет. Настроение у Дженюари было таким же мрачным и тяжелым, как испачканные копотью уличные диванчики, стоявшие перед зданиями. — Дома без швейцаров выглядят мертвыми, — сказала девушка. Улыбнувшись, Хью похлопал ее по руке. — Отдыхай, Дженюари. Он помог ей выйти из машины; они остановились перед подъездом. У Дженюари зуб на зуб не попадал от утреннего холода. — Вы устали. У вас, вероятно, затекли ноги, — сказала она. — Я умею готовить только растворимый кофе… но если вы хотите… — Нет. Полиция в Уэстгемптоне вежливая, но весьма! дотошная. Том способен выпутаться из любой ситуации, но будет чувствовать себя лучше, если я вернусь туда. Наклонившись, он поцеловал ее в щеку. — Слушай, я хочу взять назад все мои советы-предостережения, которые я так охотно давал вначале. Между тобой и Томом произошло нечто такое, чего у него не было с другими девушками. Я говорю это не потому, что ты — влюбленная женщина. Я наблюдал за Томом и видел, как он смотрит на тебя, чувствовал его отношение, — тут все другое. А теперь отдыхай. Уладив наши проблемы, мы немедленно позвоним тебе. Когда Дженюари вошла в квартиру, ей показалось, что время остановилось. В комнате валялись вещи, оставшиеся при сборах. На кресле лежали слаксы, на кровати — рубашка. Неподвижные следы далекого прошлого. Эти двадцать четыре часа были целой жизнью. Подойдя к холодильнику, она налила себе кока-колу. Внезапно Дженюари вспомнила, что она ничего не ела Хью шутливо заметил, что ей, видно, не нравится его стряпня. Наверно, ей следует сварить яйца. Но почему-то мысль о еде вызывала у нее отвращение. Голова была совершенно ясной… ей не хотелось спать… энергия переполняла Дженюари. Девушке хотелось выйти на улицу и погулять. Она высунулась из окна. В воздухе стоял густой туман. Ей казалось, что она идет… она могла рассеять дымку… точно волшебница… взмахнуть руками и залить округу солнечным светом. Она сильнее тумана… сильнее природы… потому что она, как сказал Хью, — влюбленная женщина. Но Дженюари боялась покинуть квартиру, она ждала звонка Тома. Она курила одну сигарету за другой, пила кока-колу… Звонить Линде было еще слишком рано, и она не хотела занимать телефон. Дженюари включила телевизор. По одному каналу выступал проповедник, по другому показывали мультфильм. Затем начался утренний фильм — старая картина Вана Джонсона с таким плохим звуком, что Дженюари не могла слушать — сейчас она не могла слушать ничего. Она выключила телевизор. Внезапно вспомнила о службе передачи сообщений. Она забыла справиться о звонках, не ожидая ничего важного. Сотрудница службы заговорила сердитым тоном. — Мисс Уэйн, не забывайте про нас. Или хотя бы оставляйте нам ваш телефон, если уезжаете надолго. Ваш папа очень недоволен. Он говорил так, словно мы виноваты в том, что не можем найти вас. Мы, в конце концов, всего лишь служба передачи сообщений, а не… — Когда он звонил? — перебила ее Дженюари. — В пятницу в десять вечера. Он остановился в «Плазе» и хотел, чтобы вы ему позвонили. (В это время она была в «Плазе»… и, конечно, забыла справиться насчет звонков.) Потом еще раз в субботу утром, в половине десятого, — продолжила женщина, — он хотел пригласить вас на ленч. (В это время она была у доктора Альперта.) Затем в полдень (Она бегала по «Саксу», покупая подарки)… в пять… семь… и последний раз вчера в десять вечера. Он улетел в Палм-Бич. Позвоните ему туда. Она посмотрела на часы. Десять минут девятого. Дождавшись девяти, Дженюари позвонила в Палм-Бич. — Где ты пропадала? — спросил Майк. Она заставила себя засмеяться. — Майк, ты не поверишь, я забыла позвонить в службу передачи сообщений. Утром ходила по магазинам. Совсем вылетело из головы. Днем снова вышла из дома и, вероятно, пропустила твой звонок. А вечером отправилась обедать. Ужасно обидно… извини. Как Гстаад? — Отлично. Ди заняла второе место. Она сразу полетела в Палм-Бич, а я остановился в Нью-Йорке, чтобы повидаться с тобой. И вместо того чтобы пойти к нам в «Пьер», снял номер в «Плазе». Подумал, что ты этому обрадуешься. Я не смог получить мой прежний «люкс»… угадай, кто в нем живет…. Том Кольт! Но мне дали точно такой этажом ниже. Я сидел там, как жених у алтаря, брошенный невестой, и ждал мою девочку. — О, Майк… Он засмеялся: — Все в порядке. Слушай, я не сказал Ди, что мы разминулись. Не хотел выглядеть дураком. — Конечно, Майк. — Мы пробудем здесь до пасхи. На праздничный уик-энд ждем вас с Дэвидом в гости. Ди устроит напоследок роскошный прием. А потом… у меня есть для тебя настоящий сюрприз. — Какой? — Каннский кинофестиваль. — Что? — Помнишь, мы говорили о нем в Швейцарии, ты еще мечтала туда попасть? Так вот, примерно в одно время с фестивалем состоится турнир по триктраку в Монте-Карло, и я уговорил Ди поехать. Мы остановимся в каннском отеле «Карлтон» — тебе уже есть двадцать один год, так что я смогу повести тебя в казино, обучить «железке», «баккаре»… Мы посмотрим картины… увидим моих старых друзей… Возможно, я преподнесу тебе и другие сюрпризы… — Майк, когда это произойдет? — Начало в мае. Если мы прилетим числу к пятнадцатому, то нам хватит времени на все. Ди успеет вернуться в Нью-Йорк из Палм-Бич, навести порядок в «Пьере» — сейчас там все в чехлах и пыли. А я смогу посмотреть новые постановки. Может быть, ты походишь со мной, если Дэвид согласится провести несколько вечеров без тебя. Но я должен научить тебя играть в триктрак. Я делаю большие успехи и, в конце концов, буду играть по-крупному. Сейчас играю по пять долларов за очко. Но это дело времени… — Ты счастлив, Майк? — Я играю, и мне везет — из этого состоит жизнь, во всяком случае, для меня. — Я рада. — Как у тебя с Дэвидом? — Он очень славный молодой человек. — Это верно. — Боюсь, что… — Появился кто-то еще? — Да… Майк… Внезапно она поняла, что готова рассказать ему все. Он поймет. — Майк… я познакомилась с одним человеком… кажется… нет, я знаю… — Кто он? — Майк, у него семья. — Продолжай. Его голос вдруг стал жестким. — Не говори мне, что это шокирует тебя. — Это вызывает у меня отвращение. Я развлекался с девками. Считал их шлюхами, даже если они были звездами, потому что они шли на это, зная, что у меня есть жена и ребенок. Поэтому когда ты… в двадцать один год… имея все… и даже такого влюбленного в тебя поклонника, как Дэвид… — Любовь должна быть взаимной, Майк. — Из всех мужчин, с которыми ты могла бы встречаться, ты выбрала женатого. И, конечно, у него есть дети. — Один ребенок. — Он может развестись? — Не знаю. Он… — Не говори. Мне все ясно. Он из рекламного агентства… разменял четвертый десяток… ему надоела девушка, на которой он женился в начале карьеры… он упрятал ее в Уэстчестер… — Майк… все не так. — Дженюари, скажи мне одну вещь. Ты… ты была близка с этим человеком? Она уставилась на телефон, не веря своим ушам. Ее поразила эта фраза: «ты была близка…» и его смущенный голос. Он напоминал проповедника… это был не Майк. Она не могла сказать ему. Потрясенная необходимостью что-то скрывать от Майка, она услышала, как произносит: — Ну, Майк, все не так серьезно. Я просто сказала, что познакомилась с одним человеком. И… — Дженюари, я когда-либо дал тебе дурной совет? Выслушай меня сейчас… пожалуйста. Не встречайся с ним больше. Он не может уважать тебя… ведь ты знаешь, что он женат. — Майк, ты говоришь, как человек, отставший от жизни на три поколения. — Я говорю со своей дочерью. И мне плевать, что все изменилось. Конечно, сейчас больше сексуальной свободы. Я не был бы шокирован, узнав, что ты переспала с Дэвидом… скажем… за несколько месяцев до вашей свадьбы. Или что ты уже переспала с ним и он не подошел тебе. Это сегодняшний день. Новая свобода. Все стало иным. Но чувства мужчин не меняются. Позволь заметить — они не уважают девушек, которые спят с ними, зная, что у них есть жены. Потому что какую бы историю он тебе ни рассказал… о том, что они спят в разных спальнях… что между ними существует соглашение — в любом случае в те вечера, когда мужчина не встречается с любовницей и остается дома, он ложится в постель с женой. Даже если он трахает ее из жалости. Я это знаю… по собственному опыту. И они относятся к своим женам с уважением, потому что чувствуют себя виноватыми перед ними. И чем лучше девушка в постели, тем сильнее чувство вины. Когда оно становится очень сильным, а девушка не желает довольствоваться несколькими вечерами в неделю… редкими тайными путешествиями… начинает предъявлять большие претензии — ее бросают, чтобы на несколько недель, пока не найдется замена, вернуться к жене. Избавь меня от этой чепухи о свободе отношений. Женатый мужчина всегда остается женатым мужчиной — в пятьдесят девять, шестьдесят или семьдесят. Меняются закон и мораль, но не отношения между людьми. — О'кей, Майк. Успокойся. Со мной все в порядке… — Хорошо. Возвращайся к Дэвиду или найди кого-нибудь вроде него. Порадуй отца. Я поговорю с тобой позже на неделе. Пора идти в гольф-клуб. Я играю по-крупному — когда везет, надо рисковать. Дженюари услышала щелчок. Положив трубку, она бесцельно уставилась на пустой двор. Она, верно, потеряла разум, если решила, что Майк поймет ее. Даже если бы он не остановил Дженюари своими словами, она не смогла бы рассказать ему все. А не объяснив отцу ситуацию, она не сумела бы убедить Майка в том, что Кольт по-настоящему любит ее, что их отношения отличаются от его прежних романов. Она подумала о Томе… От любви и нежности у нее защемило в груди. Большой, сильный, удивительный человек… она способна сделать его счастливым. Зазвонил телефон. Она едва не подвернула ногу, бросившись к нему. — Алло… Дженюари замолчала. Она собиралась произнести: «Алло, Том». Но это был Майк. — Слушай, я не могу идти играть в гольф, закончив так разговор с тобой. Если этот тип, который нравится тебе, на самом деле порядочный малый, хочет развестись с женой и ты действительно его любишь, тогда… — О, Майк… все обстоит иначе. — Я старался говорить легкомысленно, чтобы скрыть свое волнение. Извини. — Все в порядке, Майк. — Я люблю тебя, детка. И помни — ты можешь рассказать своему отцу все. Ты это знаешь, да? — Да, Майк. — Ты любишь меня? — Конечно. — О'кей. Позвоню тебе на днях. Остаток дня она провела у телефона. Том позвонил в пять. — Я послал за тобой автомобиль. Ты приедешь в «Плазу»? — Конечно, Том. Как ты себя чувствуешь? — Я почувствую себя хорошо, увидев тебя. Поток машин в городе был плотным. Дженюари нервничала, метр за метром продвигаясь к «Плазе». Добравшись до отеля, она побежала по коридору к номеру Тома. Он выглядел усталым, осунувшимся, но когда Дженюари оказалась в объятиях Тома, его улыбка посветлела. Сев на диван и отпив бербон, он обрисовал ей ситуацию. Грабитель находится в коме, но против Тома не выдвинуто обвинение. У преступника длинный послужной список. Полиция разбирается сейчас с его сообщником. — Не представляю, как тебе удалось справиться с ним, — сказала девушка. — Ты много пил. Он печально улыбнулся. — Когда я ввязываюсь в драку, я бьюсь не на жизнь, а на смерть. — Ты когда-нибудь терпел поражение? — Я потерял несколько зубов. Но у меня инстинкт убийцы, который помогает мне побеждать. Иногда я чувствую, что способен убить, и мне становится страшно. Я свалил верзилу ударом карате. Старался не попасть в дыхательное горло. Слава богу, удалось. Иначе он был бы мертв. Однажды я дал себе слово использовать этот прием только в тех случаях, когда моя жизнь в опасности. — Она действительно была в опасности. — Нет, я мог одержать верх с помощью кулаков. Человек, владеющий карате, — он показал ей, как наносится удар ребром кисти, — способен убить противника одним точным движением. Она провела с Томом весь вечер и сумела возбудить его настолько, что они совершили полноценный акт любви. Благодарность Тома не имела границ, и когда он, обняв Дженюари, сказал, что любит ее, она поняла, что он говорит правду. На следующий день Тома осадили репортеры. Все газеты рассказывали о происшествии в Уэстгемптоне. Эта история относилась к разряду тех, что пресса связывала с Томом Кольтом. К полудню полиция установила личность коротышки. Чикагские власти разыскивали его по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин. Событие обрело общенациональную огласку. В Нью-Йорк прибыли полицейские из Чикаго. Телефоны в «люксе» не умолкали. Номер Тома был полон детективов и газетчиков. Рита Льюис радостно регулировала поток репортеров. Дженюари выскользнула от Тома утром, в половине девятого, как раз перед первым запланированным интервью… пока новость еще не просочилась в прессу. Днем Том позвонил девушке в редакцию и сказал: — Тут сумасшедший дом. Вмешалось ФБР. Возможно, завтра мне придется отправиться в Вашингтон и дать там показания насчет коротышки и его сообщника, которого зовут Генри Морс. Представляешь, у Генри есть гражданская жена и двое детей; она наняла адвоката, который вчинил мне иск на миллион долларов. — Она ничего не добьется? — спросила Дженюари. — Нет. Только отнимет время. В конце концов, согласится на несколько сотен долларов. — Но почему ты должен ей что-то платить? Этот человек собирался убить нас. — Легче откупиться, чем пройти досудебное разбирательство. Ее адвокату это известно. К сожалению, так устроена правоохранительная система. Тот, кто располагает избытком свободного времени и кому нечего терять, знает, что ты заплатишь, чтобы избавиться от лишних неудобств… и ты идешь на это. — О, Том… какая несправедливость. — И вообще, в любом случае ближайшие несколько дней нас не должны видеть рядом. Коротышка — его зовут Бак Браун — уже заявил, что видел в доме темноволосую девушку. Никто ему не верит. И не поверит, если мы не будем появляться на людях вдвоем до тех пор, пока шум не затихнет. — Когда это произойдет? — Через несколько дней. Мой издатель на седьмом небе от счастья. Он, кажется, уверен, что я сам организовал этот инцидент ради успеха книги. За последние двадцать четыре часа заказано более восьми тысяч экземпляров. Они делают допечатку. Все убеждены, что книга займет первое место. — О, Том, это замечательно! — Она и так заняла бы его. В голосе Тома прозвучали злые ноты. — На этой неделе она уже третья. Мне бы не хотелось думать, что я поднялся наверх с помощью кулаков. — Если бы книга не была превосходной, никакая драка не помогла бы ее продаже. Тебе это известно. — Дженюари, скажи мне — как я жил без тебя? — А я думаю о том, как мне прожить сегодняшний день без тебя. — Мы будем держать связь по телефону. При первой возможности встретимся. Днем он отправился в Вашингтон и позвонил ей в полночь. — Я проведу здесь несколько дней. Попутно собираю материал для книги, так что оборачивается к лучшему. Этот коротышка, Бак Браун, — тот, что держал нож У твоего горла, — он бы тебя убил. Это его стереотип поведения — изнасиловав женщину, прикончить ее. Он сошелся с великаном несколько недель назад на почве наркотиков. Они оба продавали зелье и сами кололись. Но коротышка к тому же параноик. Говорят, он зарезал шестерых женщин, список его жертв постоянно пополнялся. Он признался, что после изнасилования всегда убивал свою жертву. Том понизил голос. — Знаешь, детка, наверно, мне следует прекратить пить. Если бы я накачался сильнее… и все проспал… Ты бы… Он замолчал. — Слушай, я вернусь в конце недели. Мы проведем уик-энд вдвоем. — Только не в Уэстгемптоне, — сказала она. — Да. В «Плазе». В надежном и безопасном Городе Развлечений. Дженюари, ради бога, не признавайся Линде, что ты там была во время происшествия. В конце концов… я поклялся на Библии. Выполнить просьбу Тома оказалось нелегко. Когда газеты сообщили о нападении грабителей, Линда превратилась в Торквемаду. — Где ты была, когда все это случилось? Я думала, что проводишь с ним уик-энд в Уэстгемптоне. — Нет, я была там только днем. Потом он отправил меня в Нью-Йорк; он хотел поработать. — Так ничего и не случилось? — Без меня тут произошло многое. — Я имею в виду… постель. — Линда, все чудесно. — Дженюари, ты говоришь правду? — Да. — Когда вы это сделали? — Линда, ради бога! Я находилась там до десяти вечера. — Он оказался хорошим любовником? — Да… — В твоем голосе не слышно восторга. — Просто я устала… мало спала. — Ты выглядишь неважно. Слишком похудела, Дженюари. — Знаю. Сегодня я основательно пообедаю и рано лягу спать. Но она не стала обедать. После разговора с Томом Дженюари долго не могла заснуть. Целая неделя без него… Радостное настроение пропало. На следующее утро, проснувшись, она почувствовала боль в спине и шее при движении. Дженюари пошла в редакцию и к трем часам решила, что у нее грипп. Линда отправила подругу домой. — Дженюари, большинство девушек, влюбляясь, расцветают… а ты чахнешь! Она легла в постель. Дженюари знобило, она начала дрожать. Но девушка не знала ни одного терапевта и не хотела беспокоить Линду. Она вспомнила о докторе Альперте. Ну конечно. Он, несомненно, хороший врач. Как тщательно обследовали ее перед уколом! Она позвонила ему, но помощница врача сказала, что он не ходит к пациентам, и посоветовала ей немедленно приехать в офис. В приемной было многолюдно, но медсестра сразу же провела Дженюари в маленькую комнату для обследований. — Я сейчас приведу его к вам, — пообещала она. Через пять минут в кабинет ввалился доктор Альперт, Посмотрев на Дженюари, он кивнул, вышел из комнаты и тут же вернулся назад со шприцем. — Вы не хотите измерить мне температуру? — спросила Дженюари. — Я… я знаю, что витамины помогают всем. Но я плохо себя чувствую. Похоже, подцепила вирус. Он приложил руку к ее лбу. — Не спала… не ела… потратила много сил. Когда ты последний раз принимала пищу? — Я… Она задумалась. Позавчера вечером Том поругал ее за недоеденный бифштекс, а сегодня утром она проглотила маленький кусочек тоста. — Наверно, в пятницу. С тех пор лишь слегка перекусывала. Но я не голодна. Он кивнул. — Это тебе поможет, обещаю. Дженюари сидела в брюках из дангери и рубашке. Она закатала рукав и протянула врачу предплечье, но он покачал головой. — Сними штаны… это внутримышечная инъекция. Она спустила брюки и легла на бок. Игла легко вошла в ягодицу. Но Дженюари не испытала немедленного прилива сил. Она села и натянула на себя брюки. — Я ничего не чувствую, — сказала девушка. — Ты пришла сюда не для того, чтобы что-то почувствовать. Ты пришла потому, что заболела, — проворчал доктор. — Да, но прошлый раз после укола я сразу почувствовала себя великолепно. — Когда ты здорова, после укола ты испытываешь душевный подъем. При недомогании инъекция просто улучшает твое состояние. Она посмотрела на врача, сидя на краю стола. Дженюари была вынуждена признать, что боль в спине и шее исчезла. Но на прежнюю эйфорию не было и намека. Она прошла в приемную и заплатила помощнице врача двадцать пять долларов. Идя домой, Дженюари заметила, что озноб прекратился. К ней вернулись силы, болезненные ощущения в спине и шее больше не появлялись. Но сейчас Дженюари не казалось, что она способна завоевать весь мир. Том вернулся в пятницу днем; она помчалась к нему в «Плазу». Вид у него был уверенный, почти спокойный. Открыв бутылку «Джека Дэниэлса», он настоял на том, чтобы Дженюари выпила с ним. — Помню, я сказал, что мне следует с этим завязывать, и я действительно стал пить меньше… но сегодня мы должны кое-что отпраздновать. На этой неделе мой роман занял первое место. И, похоже, я неплохо продам права на экранизацию. Уже сейчас есть предложения от «Коламбии», «Метро», «Сенчери», «XX века» и нескольких независимых продюсеров. А самая приятная весть — верзила вышел из комы и будет жить, так что мне не придется нести груз этой вины. Сунув руку в карман, он вытащил оттуда сверток, перевязанный лентой. — Это не подарок. Просто вещь, которую я увидел в витрине и захотел купить тебе. Она вскрыла сверток. Там лежал изумительный шелковый шарф с вышитым словом «Козерог». — О, Том... какая прелесть… но самое ценное — это то, что тебе пришла в голову такая мысль. Ночью, когда они легли в постель, Дженюари не удалось возбудить Тома. Прижав девушку к себе, он скрыл свое огорчение. — Я слишком устал, — произнес Том. — И, возможно, я недостаточно уменьшил суточную дозу спиртного. Давай хорошенько выспимся. Завтра все будет в порядке. Утром она сказала, что ее ждет стоматолог. Том попросил отменить визит к врачу, но Дженюари пообещала вернуться к середине дня. Она побежала к доктору Альперту без предварительного звонка. К счастью, в приемной было малолюдно; врач, улыбнувшись, заявил девушке, что она стала выглядеть лучше. Дженюари сказала, что теперь регулярно питается и соблюдает режим. Она словно отчитывалась перед учителем за выполненное домашнее задание. (Посмотрите, какая я умница. Теперь вы сделаете мне настоящую витаминную инъекцию?) Она ждала с надеждой, когда он вернется в кабинет. Сердце Дженюари забилось чаще — врач вошел в комнату с большим шприцем. Она не сменила свою одежду на халат для обследования. Мгновенно сняв блузку, Дженюари протянула врачу руку. — Ты обещаешь мне есть… даже если у тебя не будет аппетита? Она радостно кивнула; он стянул ей плечо резиновым жгутом. Дженюари увидела, как игла вошла в вену. Снова кровь заполнила шприц… затем вернулась в руку. И опять Дженюари точно получила заряд энергии. Ей показалось, будто она родилась заново. Дженюари еще не испытывала такой бодрости… ее чувства обострились… краски стали ярче… запахи — сильнее. Но над всем превалировало ощущение силы… для нее не было невозможного… тело Дженюари трепетало… внезапно девушке показалось, что она испытала оргазм. Ей безумно захотелось вернуться к Тому. Она быстро надела блузку… обняла доктора, подписала счет и выбежала на улицу. Там было холодно, но она знала, что весна приближается. Чувствовала это. Впереди много хорошего… «Плаза» находилась всего в нескольких кварталах, но Дженюари остановила такси. Она не могла дождаться того момента, когда снова окажется в объятиях Тома. Она вошла в номер; Том говорил по телефону. Это было интервью; Дженюари терпеливо сидела, пока писатель отвечал на обычные вопросы. Периодически он поглядывал на девушку и улыбался ей. Репортер поинтересовался мнением Тома о литературном уровне современных романов. Том старался отвечать вежливо. «Знаете, мне бы не хотелось влезать в эту область. Я никогда не критикую других писателей. Написать даже плохой роман — это большой труд». Но журналист проявлял настойчивость. Дженюари встала и обняла Тома за шею. Он был в халате. Она начала целовать его в шею. Устроилась у него на коленях. Ее руки скользнули под халат Тома. Он улыбнулся, обнял ее одной рукой и попытался продолжить интервью. Дженюари принялась целовать Кольта в щеку. Наконец он произнес: «По-моему, мы охватили все; у меня сейчас весьма срочная встреча, так что, если вы не возражаете, поставим здесь точку». Положив трубку, он заключил Дженюари в свои объятия. — Ты только что погубила интервью. — Ты сам пытался его закончить. — Я пытался… но положила ему конец ты. Она обхватила руками его обнаженную талию… расстегнула блузку и лифчик… прижалась бюстом к Тому. — Я люблю тебя, Том. Действительно люблю. Она встала и повела его в спальню. Позже, когда они лежали рядом, он сказал: — Как я отблагодарю тебя? — За что? — За то, что теперь могу не беспокоиться из-за вчерашней ночи. За то, что завела меня сегодня… сейчас… так хорошо нам еще не было. Она страстно поцеловала его. — Боже мой! Это было чудесно! — И для тебя тоже? Для меня — потому что я функционировал нормально… но с тобой ничего не произошло. — Ты ошибаешься, Том. — Дженюари… Он склонился над девушкой и пристально посмотрел на нее. — Разве мы не договаривались о том, что будем честны друг с другом? Никогда не лги мне… Она прижалась к нему. — Том, женщина отличается от мужчины. Мне не нужно всякий раз испытывать оргазм. Держа тебя в моих объятиях и зная, что я делаю счастливым любимого человека, я чувствую себя женщиной больше, чем когда-либо. Его темные глаза блеснули в полумраке спальни. — Дженюари, я не смогу теперь обойтись без тебя… никогда. — Тебе не придется, Том. Я всегда буду ждать… приду к тебе в любой момент. Он шлепнул ее по ягодице. — О'кей. Примем душ вместе. Скажи, ты умеешь ездить на велосипеде? — Не знаю… никогда не пробовала. — Сегодня научишься. Они взяли напрокат велосипеды и провели день в Сентрал-парке. Она мгновенно научилась не падать. У нее было хорошее чувство равновесия, и вскоре она уже носилась мимо Тома по дорожкам. Они посмотрели кинофильм на Третьей авеню… поели пиццу… вернулись в «Плазу». И когда снова легли в постель, все было чудесно; Том любил Дженюари до тех пор, пока из ее горла не вырвался крик счастья. На следующий день они поехали на велосипедах в сторону центра. Том показал ей Ирвингплейс, дом Марка Твена и особняк из песчаника, в котором останавливался Оскар Уайльд во время своего турне по Америке. Сидя с Дженюари в маленьком французском ресторане, писатель развлекал ее историями про Синклера Льюиса — «Красный» Льюис проявлял бурную активность в те годы, когда Том был молодым. Том делился своими впечатлениями от встреч с Хэмингуэем и Вулфом — с последним он познакомился, когда преподавал в нью-йоркском университете. Писатель также рассказывал о начале своей литературной карьеры. Он родился в Сент-Луисе. Приехав в Нью-Йорк, нашел себе работу в редакции газеты «Сан». Затем провел короткий отрезок времени в Голливуде. Познакомился там со многими коллегами. В те годы магнаты кинобизнеса смотрели на писателей свысока. — Поэтому я никогда не пишу сам сценарии по моим книгам, какие бы гонорары мне ни предлагали. В сороковых годах я сочинил столько барахла, подгоняя его под определенных звезд, что дал себе обещание — если стану романистом, никогда не буду работать для кино. Две последующие недели слились для Дженюари в один чудесный сон. Она пыталась сосредоточиться в редакции. Но ее жизнь обретала полноту только с Томом. Утренние пробуждения в его объятиях, быстрый завтрак вдвоем, бегство из «люкса» до появления Риты Льюис, переодевание у себя дома, каждый третий день — визит к доктору Альперту, работа в редакции. Она выполняла дневное задание за два часа. После витаминного укола за один день пять записей, которыми оставалась довольна даже Сара Куртц. Дженюари рассказывала об одиночестве такого писателя, как Том Кольт… о посягательствах на его время… об отношении автора к рекламной кампании, своей атмосферой напоминавшей ему цирковое представление, к изменениям в области средств массовой информации — когда-то в Нью-Йорке выходили всего три газеты. Она нарисовала точный портрет Тома Кольта без упоминания его фамилии. Набросок назывался «Эхо львиного рычания». Она сравнивала писателя со львом, выходящим из джунглей в цивилизованный мир. По прошествии двух недель Сара сказала, что материала хватит на хорошую статью. Но настоящая жизнь Дженюари начиналась вечером. Полная новой невероятной энергии, она мчалась в свою квартиру, принимала душ, переодевалась и спешила в «Плазу». Иногда они отправлялись смотреть спектакль, после которого заглядывали в «Сарди». Однажды Том повел девушку пообедать в «Пристанище Дэнни». Их посадили за столик, стоявший перед сценой., где когда-то сидел Майк. Иногда, в особенно тяжелый для Тома день, они заказывали обед в номер, и она выслушивала его жалобы по поводу интервью… телепередач… требований агентов. Все заканчивалось взаимными ласками и объятиями в постели. Иногда он говорил вечером: «Детка, мне пятьдесят семь. Я сегодня устал. Но я хочу, чтобы ты осталась со мной». Такие ночи были ничуть не хуже других. А когда у нее начались месячные и она спросила Тома, не лучше ли ей спать дома, он с удивлением посмотрел на девушку. — Я хочу обнимать тебя ночью… пусть даже не занимаясь сексом… потому что люблю тебя. Хочу, проснувшись, увидеть, что ты здесь… иметь возможность посреди ночи коснуться тебя рукой — разве не это самое чудесное? И бывали ночи, когда он хотел удовлетворить ее… он любил Дженюари, пока она не засыпала, обессилев от блаженства. Линда постоянно задавала ей вопросы. Наблюдала за Дженюари. Девушка искусно уходила от прямых ответов, вызывая у главного редактора «Блеска» легкое раздражение. В конце марта Тому предстояло совершить еще одну короткую рекламную поездку. Детройт, Чикаго, Кливленд. — Мне кажется, тебе не стоит ехать со мной, — сказал он. — Зачем порождать ненужные разговоры? Я забочусь не о себе, а о тебе. Это займет всего пять дней. Увидев слезы в глазах Дженюари, он заключил ее в свои объятия. — Дженюари, господи, конечно, ты можешь поехать. Пожалуйста, не плачь, детка. Она покачала головой. — Дело не в этом. Конечно, ты прав. Это только пять дней. И ты вернешься назад. Но я внезапно осознала, что когда-нибудь тебе придется покинуть меня на большой срок и ты не вернешься ко мне… — Я тоже об этом не раз думал, — медленно произнес Том. — Чаще, чем ты полагаешь. Я должен решить этот вопрос за время моего отсутствия. Я однажды сказал, что не могу обойтись без тебя. Это правда. Также я думаю о новой книге, которую собираюсь написать. Ее замысел наконец выкристаллизовался в моем сознании. А когда это происходит, мне не терпится приняться за работу. Но сейчас все происходит несколько иначе. Я думаю о книге… а перед моими глазами стоишь ты. Прежде работа вытесняла все прочее. Я забывал про окружающий меня мир, книга становилась моей новой любовницей. Сейчас все по-другому. — Том, ты должен начать писать. — Знаю… мне надо многое обдумать. Слушай, мы поговорим об этом, когда я вернусь. Он уехал, и Дженюари показалось, что из воздуха исчез кислород. Она перестала ходить к доктору Альперту. Через два дня ее охватила нервозность, но она заставляла себя обедать с Линдой, у которой был теперь роман с Дональдом Оуклендом, обозревателем нью-йоркской телекомпании. Они ходили в «Луизу», и Дженюари слушала подругу, делившуюся подробностями своей сексуальной жизни. — Он не умеет лизать… потому что он — еврей. У них это считается неприличным. Но он учится. Я поручила Саре подготовить материал о нем, — сказала Линда, пожевывая сельдерей. — Сейчас он ведет выпуск местных новостей, но после нашей статьи Дональд войдет во вкус настоящей известности и поймет, что я могу для него сделать. Тогда уж он точно бросит жену и переберется в мою квартиру. Мне уже надоел такой режим — три вечерних и одно дневное свидание в неделю. — Ты хочешь выйти замуж? Линда пожала плечами. Мне скоро перевалит за тридцать — почему бы и нет? Во всяком случае, я бы хотела, чтобы он жил со мной. И я многое узнаю от него. Интеллектуальный коэффициент Дональда равен ста пятидесяти пяти — это близко к гениальности. Только благодаря ему я поняла, как мало смыслю в политике. Я не смею признаться Дональду, что никогда не голосовала. Он дает мне массу книг для чтения. Дональд — страстный сторонник демократической партии. Я хочу чувствовать себя уверенно, общаясь с ним и его друзьями, поэтому читаю «Нью рипаблик» и «Нейшн» так, словно это «Космо» или «Мода». Прежде я лишь постоянно следила за конкурентами и пыталась помочь «Блеску» обойти их. Но внезапно поняла: «Блеск» растет, а я сама — нет. Я не разбираюсь в вещах, не связанных с журналом. Дональд высокого мнения о «Женском освобождении», так что я, возможно, вступлю в эту организацию…. Она засмеялась: — Правда, оставаясь у меня, он забывает об эмансипации и даже ждет, что я выстираю его белье. — И ты делаешь это? — спросила Дженюари. — Конечно. Я даже купила Дональду новую зубную щетку и любимую зубную пасту, чтобы они лежали у меня дома. Готовлю ему завтрак… хороший завтрак, лучше того, что он получает дома. Его жена мечтает стать профессиональной поэтессой, так что половину ночи она пишет стихи и еще спит, когда он уезжает из Ривердейла. Иногда я готовлю вечером обед по высшему разряду — он не может каждый раз водить меня в ресторан. Он еще выплачивает за дом в Ривердейле… его жена затеяла строительство бассейна… он помогает брату закончить колледж и… — Линда, ты можешь найти себе приличного свободного человека? — Нет. А ты можешь? (обратно)Глава двадцать первая
Том звонил каждый вечер. Они обсуждали его выступления по телевидению, спор, в который он ввязался с критиком во время шоу Капа, бесконечные интервью, рецензии на книгу. Она по-прежнему занимала первое место, но Тома беспокоили романы, которые должны были выйти весной. Он не касался своих планов на будущее. К середине недели Дженюари охватило беспокойство. Том должен был вернуться вечером в пятницу. Он как-то сказал, что не может обойтись без нее. Но сейчас он был без Дженюари. И он признавал, что работа для него всегда важнее всего остального. Не изменилось ли его отношение к ней, Дженюари, за время этой недолгой разлуки? Утром она примчалась в офис доктора Альперта раньше самого врача. Снова медсестра без предварительной записи отвела девушку в кабинку. Вскоре туда, ковыляя, зашел доктор. Когда игла вошла в вену девушки, Дженюари тотчас перестала сомневаться в их с Томом будущем; она выплыла из офиса, переполненная чувством радостной уверенности в себе. Том приехал вечером в пятницу. Он поднялся к Дженюари домой без телефонного звонка. Она испустила счастливый крик восторга и бросилась в его объятия. Они постояли, прижавшись друг к другу, говоря одновременно, споря, кто из них соскучился больше. Сейчас, когда он обнимал Дженюари, все опасения казались ей беспочвенными. Он никогда не оставит ее. Выпустив Дженюари из своих объятий, он повернулся и обвел взглядом комнату. Том был таким большим, что она казалась слишком тесной для него. — Ты надолго сняла эту квартиру? — До августа она моя. Мистер Бейли сообщил, что остается в Европе еще на год, и я могу продлить договор поднайма. — Отдай ее. Я куплю для нас квартиру. Ты сама выберешь ее. Я хочу что-нибудь на берегу реки, с камином, гостиной и кабинетом для работы — я собираюсь писать там мою новую книгу. — А как же Калифорния? — Ты о чем? — Разве ты не должен вернуться туда? — Да. Мы летим на следующей неделе. — Мы? Он серьезно посмотрел на Дженюари. — Не знаю, как для тебя… но мне эти пять дней показались пятью годами. Я много думал. Через пару лет мне будет шестьдесят. А ты… ты еще останешься ребенком. Поэтому у нас есть только настоящее. Не знаю, как долго оно продлится. Но давай не будем упускать его. Я люблю тебя. Хочу, чтобы ты была со мной. Я еще должен потратить две недели на рекламную кампанию в Калифорнии. Пробыть так долго без тебя для меня непозволительная роскошь. Я позвонил Нине Лу и рассказал ей о тебе. Не назвал твоего имени, но честно объяснил, какие у нас отношения. Сообщил ей, что привезу тебя… что не расстанусь с тобой, пока ты сама этого не захочешь. Я сказал, что остановлюсь в отеле «Беверли Хиллз» — коттедж оплачивает издатель. И чтобы соблюсти приличия, возьму для тебя номер, которым ты не будешь пользоваться. Для посторонних ты едешь в Калифорнию, чтобы написать обо мне статью для твоего журнала. Я буду ездить на побережье к моему малышу. Но не более того. Нина Л у согласна. У нее роман с актером, и если она не будет выглядеть смешно в глазах знакомых, ей нет дела до моей личной жизни. Все происходило слишком стремительно для Дженюари. Но у нее голова кружилась от счастья — она не расстается с ним. — Мы проведем в Нью-Йорке еще одну неделю, — продолжил он. — Ты подыщешь квартиру с обстановкой, чтобы по возвращении мы смогли сразу туда въехать. Понимаю, что срок невелик, но хорошему квартирному маклеру его хватит. Посмотри все варианты. Когда остановишь свой выбор на двух-трех квартирах, я сам погляжу их. И мы вместе примем решение. — Но, Том, если ты будешь жить со мной в Нью-Йорке, как ты сможешь видеть своего сына? — Я буду летать на побережье два раза в месяц. Не беспокойся. Все образуется. Я знаю, что не могу жить без тебя. Она занималась поисками квартиры по восемь часов в день. Линда загорелась этой идеей. Велела Дженюари считать поездку в Калифорнию оплачиваемым отпуском. — Это премия. Ты ее заслужила. И помни… ни о чем не волнуйся, только делай гения счастливым. И мы найдем тебе самую лучшую квартиру в Нью-Йорке. Дженюари, ты только представь себе — в качестве возлюбленной Тома Кольта ты сможешь стать хозяйкой салона. К такому писателю, как он, будут приходить знаменитости. Мы организуем нечто новое. Возможно, воскресные ленчи. Я буду писать о них для «Блеска». Потрясающе! Мы создадим модное общество. Обретем известность… будем задавать тон. Мои шансы на успех с мистером Дональдом Оуклендом подскочат! На него и так произвело впечатление то, что я знаю Тома Кольта. Но когда он придет в наш салон и увидит там важных людей, с которыми я смогу познакомиться… Дженюари, момент самый подходящий. Нью-Йорк ждет нечто подобное. Твоя квартира должна иметь просторную гостиную, желательно соединяющуюся со столовой, и… Энтузиазм Линды забавлял Дженюари, девушка решила, что ей не следует прерывать болтовню подруги. Квартира будет для Тома крепостью. Никаких гостей, вечеринок — только они двое. Но она позволила Линде посмотреть с ней несколько квартир — Дженюари слегка побаивалась женщины-маклера, водившей их по городу. Через четыре дня Дженюари показалось, что она побывала во всех больших домах Нью-Йорка; по сути, оставалось сделать выбор между квартирой на площади Объединенных Наций и апартаментами с верандой над рекой на первом этаже особняка в Саттон-плейс. Линде понравилось здание на площади, но Том пришел в восторг от квартиры в Саттон-плейс. Стоимость апартаментов, составлявшая сто десять тысяч долларов, похоже, не смущала Тома. Он остался доволен сравнительно невысокой месячной платой за содержание дома, девяностолетним сроком аренды; Том постоянно кивал, слушая, как маклер перечисляет достоинства квартиры. Наконец он произнес: — Я беру. Составьте контракт и пошлите его моему юристу на Западное побережье. Он отправит вам чек. Том продиктовал довольной женщине все необходимые адреса и телефоны. Затем повел Дженюари в ближайший бар. С печальной улыбкой он поднял бокал, предлагая выпить за их новую квартиру. — Мне понравились ее слова насчет девяностолетнего срока аренды. Дженюари, в моем возрасте ожидать, что роман с таким ребенком, как ты, продлится… Он покачал головой. — Я знаю, что сошел с ума… но давай действительно попытаемся. Сколько бы ни продлилось наше время, пусть оно будет счастливым. — Том, мы никогда не расстанемся. Он поднял бокал. — За вечность. Я согласен на пять хороших лет. За оставшиеся дни она купила одежду для Калифорнии, завершила срочные дела в редакции… И каждый вечер, переполненная радостным возбуждением, Дженюари спешила в «Плазу». Ее энергия казалась неиссякаемой. Они должны были вылететь на Запад в пятницу днем. Утром Дженюари нанесла визит доктору Альперту. Увидев ее, он, похоже, удивился: — Ты была у меня два дня назад… я ждал тебя только завтра. — Я сегодня отправляюсь в Лос-Анджелес, — пояснила девушка, глядя на врача, готовящего шприц для инъекции. — Доктор Альперт, я буду отсутствовать не меньше недели. Вы можете сделать мне укол с длительным сроком действия? — Где именно ты остановишься? — В отеле «Беверли Хиллз». Он улыбнулся. — Тебе повезло. Мой брат, доктор Престон Альперт, неделю назад вылетел туда. Там находится известный певец, он выступает в престижном клубе и нуждается в ежедневных витаминных инъекциях, поэтому брат до конца гастролей пробудет в Л.-А. Позвони ему, он живет в «Беверли Хиллз». — Доктор Альперт… Внезапно Дженюари охватил страх: — Эти уколы вызывают привыкание? — С чего ты взяла? — Ну, если певец каждый день испытывает в них потребность… — Он выпивает в сутки два литра бренди… почти не ест… все ночи проводит с женщинами — конечно, ему необходимы витаминные инъекции. Тебе они тоже нужны. Скажи мне, до твоего прихода ко мне… у тебя были травмы? Она улыбнулась: — Я провела три года в больнице… а потом испытала потрясение. Но это было в сентябре. С тех пор все уладилось. Он покачал головой: — Запоздалая реакция. Послушай, моя малышка. Происшедшее двадцать лет тому назад может сегодня вызывать душевную боль. Так почему пациенты считают, что события полугодовой давности не способны стать причиной физического недомогания? Если ты истощена, что плохого в том, что ты получаешь в неделю три витаминные инъекции, которые позволяют тебе нормально функционировать и прекрасно себя чувствовать? Ты ведь снимаешь камень с зубов раз в несколько месяцев? Чистишь их щеткой три раза в день? Протираешь лицо перед сном кремом? Почему не помочь уставшей крови? Сегодня вы, девушки, так питаетесь… или, точнее, не питаетесь… Он был прав. Славный добрый человек, он потратил время, чтобы объяснить ей это, пока в его приемной толпились пациенты. Врач добродушно улыбнулся. — Желаю хорошо провести время. Позвони моему брату. Когда вернешься, запишись заранее по телефону. Дженюари дошла до дома пешком. Она знала, что сумеет собраться мгновенно. Это был один из редких апрельских дней — ясный, прохладный, с небом цвета веджвудского фарфора. Почему Новый год начинается в середине зимы, когда все мертво? Новый год должен начинаться в апреле, в день, подобный сегодняшнему, когда жизнь пробуждается. Она видела ее везде — дама вела на поводке крошечного щенка, переваливающегося на своих лапках из стороны в сторону; маленькие почки пробивались из голых веток молодых деревьев, подвязанных к вбитым в землю палкам, — обернутая вокруг тонких стволов мешковина помогала побегам выжить на кусочке нью-йоркской земли. Дженюари заметила старушку со спущенными чулками, она выгуливала собачку с подгибающимися ногами; они вдвоем ковыляли по тротуару. На глазах у Дженюари появились слезы. Она жалела всех, кто не был молод, кто не летел в Калифорнию и не знал такого человека, как Том Кольт. За день ее эйфория только усилилась. Она никогда не испытывала такого ощущения полноты жизни и не воспринимала все окружавшее ее так остро. Дженюари сидела в «Боинге-747» рядом с Томом. Самолет летел плавно, сервис был безукоризненным. Все шло идеально, пока стюардесса не принесла глазированные пасхальные яйца на десертной тарелочке. Пасхальные яйца! Сегодня пятница. В воскресенье начинается пасха! Завтра самолет Ди будет ждать Дженюари в аэропорту, чтобы доставить ее на пасхальный уик-энд в Палм-Бич. Прибыв в гостиницу, Дженюари тотчас отправила отцу телеграмму. «Я в Лос-Анджелесе, в отеле „Беверли Хиллз“. Пишу статью о Томе Кольте. Не смогу прилететь на пасху. С любовью, твоя деловая девушка». «Он решит, что это — внезапно свалившаяся на нее командировка, и не упрекнет дочь в забывчивости», — подумала Дженюари. Она зарегистрировалась в «собственном» номере главного корпуса, но ее багаж доставили в коттедж Тома. — Я буду каждый день ходить к себе и мять постель, — сказала девушка. Том засмеялся и покачал головой. — Тут все спят с кем попало, звезды, не таясь, заводят внебрачных детей… Неужели ты полагаешь, что кому-то есть дело до того, где ты проводишь ночи? — Мне — есть, — ответила она. Издатель предложил Тому плотное расписание на ближайшие два дня. Интервью за завтраком и ленчем, шоу Мерва Гриффина, обзор новостей на ТВ, семичасовая утренняя передача. Дженюари сопровождала Тома, повсюду, с блокнотом в руке играя роль репортера из «Блеска». В субботу Том отправился в Малибу к своему сыну, а Дженюари послал загорать у бассейна. Красивый молодой человек, присматривавший за кабинками, поставил для нее на солнце удобное кресло. Он принес девушке лосьон для предотвращения ожогов и журналы. Но она не могла расслабиться. Через час ее охватило беспокойство. Она заставляла себя сидеть у бассейна; ей не помешает немного загореть. Том восхищался цветом ее кожи, когда они познакомились. Она сжала пальцами подлокотники. Дженюари испытывала потребность ухватиться за что-то прочное. У нее разгулялись нервы. Девушка сказала себе, что причина этого — в отъезде Тома. Но скоро она ощутила боль в позвоночнике и голове. Знакомые симптомы… пора звонить брату доктора Альперта. Она направилась в свой личный номер. Он был красивым, но человеку, вошедшему в него, сразу становилось ясно, что тут никто не живет, хотя в ванной и висели халат и платье. Интересно, что думает горничная. Дженюари закурила сигарету, сняла трубку и попросила соединить ее с доктором Альпертом. Телефонистка сказала, что врач должен вернуться к шести часам из Малибу. Господи, все уехали в Малибу! Было только три часа. Как дотянуть до конца дня? Она легла на кровать в надежде, что молоточки, стучащие в голове, затихнут. В четыре часа склонилась над ванной, подставив затылок под струю холодной воды. Ждать осталось два часа. Она отправилась в коттедж. Переоделась в слаксы и рубашку. Дрожащими руками плеснула в бокал бербон. Заставила себя отпить спиртное; ее едва не вытошнило. Бербон всегда так помогал Тому; может быть, он избавит ее от головной боли. Она сделала еще один глоток. Горло у Дженюари горело, но боль в голове немного ослабла. Девушка положила бутылку в сумку-мешок и возвратилась в свой номер. Вытянувшись на кровати, стала потягивать бербон. В комнате было тихо, спокойно. Обидно иметь такой номер и не использовать его. — Извини, комната, — произнесла она вслух. — Не обижайся… мой возлюбленный живет в коттедже. Она продолжала пить бербон. Он притуплял боль, но девушка чувствовала, что пьянеет. Она не хотела, чтобы Том застал ее в таком состоянии. Может быть, ей поможет теплая ванна. В любом случае она убьет время. Дженюари заставляла себя лежать в воде до тех пор, пока кожа ее пальцев не начала морщиться. Выйдя из ванны, освежила макияж и посмотрела на часы. Четверть шестого. Она подняла трубку и снова услышала, что доктор Альперт вернется к шести часам. Ее голова разболелась еще сильнее, чем прежде. Дженюари казалось, что у нее распухли миндалины. Господи! Теперь она, вероятно, действительно нажила себе анемию. Она сегодня за весь день ничего не съела, только утром выпила с Томом кофе. Доктор Альперт предупредил ее, что она должна есть. Она похудела. Слаксы сваливались с бедер. Следующие полчаса показались ей вечностью. Дженюари бросило в жар, и она включила кондиционер. Потом ее охватил озноб, и она выключила аппарат. В пять часов сорок пять минут оставила врачу еще одно сообщение с просьбой срочно отзвонить. В четверть седьмого его снова не оказалось в номере. О боже, что, если он вовсе не вернется? Вдруг он решил провести весь уик-энд в Малибу? У нее кончились сигареты, и она принялась за окурки. Том должен был возвратиться к семи. Она хотела к его приезду чувствовать себя превосходно. Жена Тома, вероятно, очень красива. Она ведь была актрисой. Дженюари налила себе еще спиртного. Какой там актрисой! Нина Лу играла в эпизодах! Только и всего! Немолодая женщина, исполнявшая второстепенные роли. У нее, Дженюари, нет оснований для беспокойства. Но даже женщина, снимавшаяся в маленьких ролях, может быть весьма привлекательной. Посмотри, сколько таких актрис стали телезвездами. Но это глупо… Том поехал посмотреть на ребенка. Но что можно делать целый день с восьмимесячным малышом? Он ведь много спит, разве не так? К половине седьмого она докурила последний приличный бычок. Аптека находилась внизу, но Дженюари боялась покинуть номер и пропустить звонок. Она попросила посыльного принести ей пачку и дала ему доллар на чай. В шесть сорок пять снова попыталась связаться с доктором Альпертом. Занято! Она сидела у телефона, барабаня пальцами по столику. Почему у него занято? Разве она не просила врача срочно отзвонить ей? Через пять минут повторила попытку. — Да? — прозвучал в трубке спокойный, сонный голос. — Это доктор Престон Альперт? — Кто звонит? — негромко и тягуче спросил он. — Дженюари Уэйн. — По какому вопросу? — Господи! Вы — доктор Альперт? — Я спрашиваю, по какому вопросу вы звоните? — Я — пациентка доктора Саймона Альперта. Он сказал мне, что вы находитесь здесь, помогаете… — Это вас не касается. Голос внезапно стал твердым, жестким. — Что вам угодно? — Мне нужен витаминный укол. — Когда вам делали его последний раз? — В пятницу утром. — И вам так скоро требуется новая инъекция? — Да, доктор… очень… честное слово… Он помолчал. — Сегодня я буду говорить с моим братом. Позвоните мне завтра в девять утра. — Нет! Пожалуйста… мне сейчас требуется укол. Понимаете, я работаю в редакции журнала «Блеск». Пишу здесь статью о Томе Кольте, и… — О Томе Кольте? Похоже, имя писателя произвело на врача впечатление. — Да. Я должна постоянно иметь свежую голову, все подмечать и запоминать… я не владею стенографией. — О… понимаю… хорошо… я узнаю у брата, какие витамины вы получаете. Мистер Кольт остановился в пятом коттедже, да? — Да… но я в другом месте… в номере 123. — Так вы не та девушка, которая живет с ним? — Никто с ним не живет! — Дорогая моя, если вы действительно интервьюируете его, вы должны знать, что он здесь с юной красоткой… она годится ему в дочери. Весь отель это знает. Она замолчала. Потом произнесла: — Спасибо. Но я перестану быть красивой, если, вы сейчас не придете сюда. Ради бога… уже без пяти семь. — Я иду к вам. Спустя десять минут он постучал в ее дверь. Врач с первого взгляда не понравился Дженюари. У высокого, с густыми русыми волосами и носом, напоминавшим клюв ястреба, Престона Альперта была плохая кожа и длинные, бескровные, костлявые пальцы с чистыми ногтями. Она бы предпочла иметь дело с его братом. В докторе Саймоне хотя бы чувствовалась какая-то теплота. Он, возможно, не имел такого стерильного вида, как Престон, но был приветливым, ласковым. Брат Саймона напоминал холодную продизенфицированную рыбу. Пока он готовил шприц, Дженюари закатала рукав. Не глядя на нее, врач сказал: — Ложитесь на бок и спустите брюки. — Мне делают внутривенную инъекцию. Он, похоже, удивился. Стянул ей руку резиновым жгутом, начал готовить раствор. Дженюари поморщилась, когда игла вошла в вену. Откинулась на подушку. Такого укола ей еще не делали. У нее кружилась голова; Дженюари точно парила в небе. Сердце билось отчаянно… ей будто сдавили горло… она поднималась все выше и выше. Потом ей почудилось, что она попала в воздушную яму… бездонную… ее охватила паника. Спустя мгновение падение прекратилось; живительный солнечный поток пронизывал все тело Дженюари. Врач прилепил к руке кусочек пластыря, и девушка опустила рукав рубашки. — Сколько я вам должна? — Это подарок. — Что? — Избранница Тома Кольта заслуживает бесплатного витаминного укола. — Спасибо… большое спасибо. — Как долго вы оба здесь пробудете? — спросил врач. — Еще неделю. Он очень много работает. Ему предстоит дать несколько интервью, затем два дня в Сан-Франциско, возвращение в Нью-Йорк, и он… Дженюари замолчала. — Вернется к своей жене? Она собиралась сказать этому неприятному человеку, что они покупают квартиру. В этом заключалась опасность укола — человек испытывал эйфорию, становился болтливым, излишне доверчивым и расположенным к людям. — Я, пожалуй, пойду обратно в коттедж, — сказала девушка. Врач кивнул. — Такому человеку, как мистер Кольт… много работающему… необходим курс инъекций. Дженюари улыбнулась. — Он не нуждается в них. У него есть «Джек Дэниэлс». — Ты знаешь, что я помогаю певцу? Она подошла к зеркалу и сделала вид, будто причесывается. Его вкрадчивые манеры раздражали ее. Но она боялась настроить его враждебно… он мог понадобиться ей снова. — Я также обслуживаю одного знаменитого композитора; он получает инъекции ежедневно. Ко мне ходят люди с телевидения. У Тома Кольта весьма мужественная внешность, но любой человек его возраста нуждается в витаминах, если он живет в таком ритме — пишет книгу, рекламирует ее, занимается любовью с молодой девушкой. В его серых остекленевших глазах мелькнула похоть. Дженюари захотелось вышвырнуть его из номера, но она повернулась и заставила себя улыбнуться. — Я предложу ему, — сказала она. — А теперь… мне надо одеваться. Он уложил шприц в чемоданчик и покинул комнату. Подождав, когда он исчезнет из виду, Дженюари бросилась в коттедж. Том еще не вернулся. Она чувствовала себя восхитительно. Укол доктора Престона Альперта оказался более сильным, чем инъекция его брата. Она налила себе бокал бербона. Том обрадовался бы, увидев ее пьющей бербон. Господи, бутылка почти опустела. Когда Дженюари взяла ее в свой номер, она была заполнена на три четверти. Подойдя к бару, девушка открыла новую бутылку. С мыслью о Томе поднесла ее ко рту и сделала большой глоток. Дженюари подташнивало, но жидкость прошла в желудок. Девушка отхлебнула еще спиртного. Внезапно вся комната поплыла. Дженюари поняла, что сильно опьянела. Это показалось ей забавным. Она начала смеяться. Девушка смеялась до тех пор, пока слезы не покатились по ее щекам. До коликов в животе. Она хотела остановиться… но не могла. Дженюари казалось, что ее тело стало легче воздуха. Когда зазвонил телефон, она еще смеялась. Дженюари посмотрела на часы. Почти восемь. Это, должно быть, Том… Сейчас он станет объяснять, почему так задержался. Она протянула руку, но тут же передумала. Нет. Она прождала весь день. Пусть Том и телефонистка приложат некоторые усилия, чтобы отыскать ее. Она знала, что они будут делать. Позвонят в бар «Поло», потом обратятся к портье… Ладно. Она позволит им найти ее. Дженюари сняла трубку. — Алло… оператор, это мисс Уэйн. Мне звонили? Она снова стала смеяться. Ситуация забавляла ее. Возникла пауза — оператор осуществлял соединение. Наконец девушка услышала голос Майка. — Дженюари… — Майк! Ее смех усилился. Это был Майк… а не Том. Она продолжала смеяться. Не могла остановиться. Хотела, но не могла. — Дженюари, в чем дело? Что тебя рассмешило? — Ничего. Она перегнулась пополам. — Ничего. Просто мне только что сделали укол, я выпила бербона и чувствую себя восхитительно… Она снова захохотала. — Какой укол? — Витаминный. Это просто чудо. Смех отпустил ее. Дженюари казалось, что она летит на облаке. Витамины одолели бербон. Постель была облаком, летевшим по небу… — Дженюари, ты здорова? — Да, мой ненаглядный папочка… я никогда не чувствовала себя лучше. Никогда… никогда… никогда… — С кем ты сейчас? — Я одна. Жду Тома. — Скажи мне, — произнес он. — Почему брать это интервью послали именно тебя? С каких пор ты стала ведущим репортером «Блеска»? Она снова засмеялась. Майк говорил таким серьезным и строгим голосом. Знал бы он, как она счастлива. Как счастливы должны быть все. Она желала ему счастья. Хотела, чтобы он тоже испытал ощущение полета. — Майк… ты счастлив? — О чем ты говоришь? — О счастье. Это единственное, что имеет значение. Ты счастлив с Ди? — Не беспокойся обо мне. Что ты там делаешь? О каких уколах говоришь? — О витаминных. Божественные, волшебные витамины. О, Майк, здесь такие пальмы, они красивее, чем во Флориде. Коттедж номер пять — мой дом. Ты когда-нибудь жил в пятом коттедже «Беверли Хиллз»? Уверена, что жил… вы очень похожи. Он ведь жил в нашем «люксе» в «Плазе». — Я хочу, чтобы ты немедленно покинула Лос-Анджелес, — сурово произнес Майк. — Это исключено. А после Лос-Анджелеса я отправлюсь в мою большую новую квартиру с садом на террасе, выходящей на реку, и… Внезапно она забыла, что хотела сказать. — Что я сейчас говорила? — спросила она" — До свидания, Дженюари. — До свидания, мой великолепный папа… мой бог… мой красавец… мой… Но он уже положил трубку. Когда Том в девять часов вошел в коттедж, Дженюари лежала на кровати без одежды. Посмотрев на девушку, он улыбнулся. — Вот это я называю достойной встречей. Она протянула к нему руки, но он покачал головой, сев на край кровати. — Я ужасно устал. Поездка оказалась нелегкой. Я попал в настоящий бедлам. — Ты хочешь сказать, что устал играть с ребенком? Он засмеялся. — Я подержал его на руках ровно двадцать минут. Потом малыш срыгнул, няня бросила на меня сердитый взгляд и унесла ребенка. Я видел сына еще только раз, когда его выкупали. — Тогда что ты делал все это время? Он, встав, снял пиджак. — Ты говоришь, как ревнивая жена, хотя у тебя нет оснований для этого. Я сказал тебе, что должен поддерживать видимость брака — это часть нашего соглашения. Поэтому сегодня мне пришлось быть любезным со многими людьми, которые приходили к Нине Лу на ленч, на коктейль… Весь день гости шли поприветствовать известного писателя. — Я чувствовала себя брошенной, — внезапно произнесла Дженюари. — Мне показалось, что у тебя есть другая жизнь. А ты для меня — все. Он снова опустился на край кровати. — Слушай, детка, писательский труд — моя жизнь. Ты в значительной степени вошла в нее и сможешь оставаться со мной так долго, как пожелаешь. Я люблю тебя. Но ни одна женщина не способна заполнить мою жизнь целиком. Разве что сейчас, когда я участвую в этом рекламном цирке. Все это время ты была для меня единственной реальностью. Но когда я начну писать, тебе придется смириться с тем, что книга будет для меня на первом месте. — Но не другая женщина. — Это я обещаю. Она радостно усмехнулась и вскочила с кровати. — Я принимаю твои условия… а теперь выслушай мои… на сегодняшний вечер. Она заставила Тома подняться и начала расстегивать его рубашку. — Теперь, когда ты исполнил свой супружеский долг, тебя ждет твоя любимая гейша. Она погладила его грудь, пробежала пальцами по спине Тома. Он взял ее за руки. — Детка… сейчас я не в форме. Слишком устал. Но если хочешь, я буду любить тебя. — Нет… Давай просто проведем ночь вместе, будем разговаривать, лежа в объятиях друг друга. — Отлично. Но позволь мне прежде заказать для тебя обед. — Мне не нужна еда… у меня есть ты. Он улыбнулся. — Интересно, чем ты подкрепилась. Я бы охотно перекусил. — Витаминами, — сказала она. — Ты должен их попробовать. Том засмеялся. — Господи, как замечательно быть молодым. Можно подзарядить себя. Я тоже мог это делать, когда был в твоем возрасте. Он тяжело вздохнул. — Обидно стареть. Я никогда не думал, что такое случится со мной. Мне казалось, что я всегда буду сильным… молодым… способным много пить и мало спать. Принимал здоровье и выносливость как нечто само собой разумеющееся. Но старость подкрадывается незаметно… Он снова вздохнул. — Чертовски неприятно сознавать, что ты вот-вот разменяешь седьмой десяток. — Ты вовсе не стар, — сказала Дженюари. — И я действительно принимаю витамины. Мне делают инъекции… сюда… в вену. Она протянула руку и сорвала пластырь. Он увидел следы уколов. — Что ты делаешь, черт возьми? — спросил Том. — Это витаминные инъекции. — Витамины вводят в ягодицы. — Один раз меня укололи в ягодицу… но такого результата, как при внутривенном вливании, не было. — О'кей, доктор. Теперь скажи мне кое-что. Кто делает тебе эти инъекции? — Доктор Престон Альперт. Он сейчас здесь. В Нью-Йорке мною занимается его брат. — И что дают тебе эти уколы? — После них я чувствую себя так, словно мне принадлежит весь мир. Они разыскали доктора Альперта в баре «Поло». Через четверть часа он прибыл в коттедж. Знакомство с Томом явно взволновало его — у врача дрожала рука, когда он насаживал иглу на кончик шприца. Дженюари сидела на кровати в одном из халатов Тома. Писатель был в одних белых трусах. Он загорел на побережье. Склонившийся над шприцем врач напоминал тощего зеленого кузнечика. Том внимательно следил за доктором Альпертом. Дженюари отвела глаза в сторону, когда Престон Альперт воткнул иглу в руку писателя. Но если Том и испытывал боль, он ничем это не выдал. Он молча ждал, когдаинъекция закончится. Взглянув на кусочек пластыря, Том сунул руку в карман. — Сколько я вам должен? — Сто долларов. — Сто долларов! — закричала Дженюари. — Это безумие. Ваш брат берет с меня двадцать пять. Доктор Альперт неприязненно посмотрел на девушку. — Вы сами ходите к нему. Это вызов на дом. К тому же в нерабочие часы. Том протянул ему купюру. — Забирайте ваши деньги. И если я еще раз увижу вас около нее, я перебью все склянки, что лежат в вашем чемодане. Доктор Альперт, похоже, изумился. — Вы не удовлетворены инъекцией? Ничего не почувствовали? — Даже очень многое. Слишком многое для простого витаминного укола. В вашем растворе присутствует какой-то амфетамин. Доктор Альперт шагнул к двери. Том, догнав врача, схватил его за грудки. — Помните, вы не должны приближаться к ней, иначе я вышвырну вас из этого города. Доктор Альперт изобразил на лице возмущение. — Мистер Кольт, если бы вам сейчас сделали анализ крови, там обнаружили бы лишь большие дозы витаминов А, Е, С и В. — И я уверен, метамфетамина. Не сомневаюсь, что вы добавляете к нему витамины. Но пациент чувствует себя превосходно благодаря амфетамину. Доктор Альперт, споткнувшись о порог, покинул коттедж. Том повернулся к Дженюари. — Давно ты сидишь на этом зелье? — Я ни на чем не сижу, Том. Я получила всего несколько инъекций… мне рассказала о них Линда… Дженюари поведала Тому о Ките и многих известных людях, которые пользовались услугами братьев Альпертов. Том обнял ее, прижал к себе. — Слушай, детка, сейчас мне кажется, будто я способен любить тебя всю ночь. Что могу сесть за новую книгу и закончить ее, не вставая из-за стола… нырнуть в океан с высочайшей скалы Акапулько… поймать течение, как профессиональный мексиканский ныряльщик. Это потрясающее ощущение. И оно мне знакомо. В годы второй мировой войны я был военным корреспондентом. Принимал для бодрости бензедрин. Пилоты бомбардировщиков, совершавшие ранние утренние рейды, глотали эти капсулы, как леденцы. Возможно, они мало спали в ночь перед полетом, боясь, что он может оказаться последним. Но они принимали бензедрин в четыре утра и через час, садясь за штурвал, пребывали в полной уверенности, что ни один снаряд не попадет в них. Каждому второму казалось, что ему уже не нужен самолет. То же самое я чувствую сейчас. Я мог бы… черт возьми, не будем упускать время действия инъекции. Он повалил ее на кровать. К утру эффект от укола у Тома, кажется, прошел. Но в Дженюари энергия по-прежнему била ключом; радость переполняла девушку. Том попытался объяснить Дженюари грозящую ей опасность. — Слушай, мой рост — сто восемьдесят восемь сантиметров, а вес — восемьдесят шесть килограммов. Мой организм полностью поглотил препарат. Но ты весишь не больше сорока пяти килограммов. Ты, несомненно, получила изрядную дозу метамфетамина. Это вещество не вызывает привыкания… в отличие от других наркотиков… но когда его действие заканчивается, человек испытывает нечто похожее на тяжелое похмелье. — Но это не опасно для здоровья? — В случае постоянного применения амфетамин способен убить тебя. Возникает тахикардия… сердце бьется с утроенной частотой… Слушай, если хочешь взбодриться, ограничься спиртным. Сейчас ты не сможешь выпить дозу, способную причинить тебе вред. Я — могу, и делаю это, но моя жизнь уже прожита. Больше не колись… обещаешь? — Обещаю. Вечером они заказали обед в номер. Едва расправившись с едой, Том вскочил и потянул Дженюари в спальню. — Том… Она засмеялась, следуя за ним. — Сюда придет официант… — Ну и пусть. Мы закроем дверь спальни. Возможно, это бербон активизирует остатки инъекции. Но в чем бы ни была причина, я не хочу упускать это состояние. Они не услышали ни звонка, ни звука открываемой двери. Дженюари не сразу поняла, что происходит. Вспыхнул свет. Кто-то стащил с нее Тома. Чей-то кулак врезался ему в челюсть. Том покачнулся и плюнул кровью. Дженюари обомлела. Это был Майк! Он стоял здесь со стиснутыми кулаками… уставясь на дочь и писателя. — Майк! Крик застрял в ее горле. Том пришел в себя и бросился на противника, но Майк встретил его ударом в лицо. Том ответил прямым в голову, но Майк пригнулся, как опытный уличный боец. Тому не удалось попасть в него, и Майк кинулся на писателя с маниакальной яростью. Его кулак несколько раз угодил в лицо Тома. Дженюари попыталась закричать, но из ее рта не вырвалось и звука. Том встал на ноги, но Майк продолжал усиленно молотить его. Писатель попробовал отразить атаку, но время было упущено. Лицо Тома превратилось в кровавое месиво. Кулак Майка снова врезался в челюсть Тома… в живот… снова в лицо… еще раз в челюсть — Дженюари и не подозревала в отце такого неистовства. Она следила за происходящим в состоянии оцепенения, словно не веря в реальность этой сцены. Все случилось так быстро. Том закачался… начал оседать под градом безжалостных ударов… Майк поднял его… Кулак Уэйна снова и снова достигал цели. Изо рта Тома текла кровь. Его бровь была рассечена. Дженюари увидела, как он, пошатываясь, прислонился к стене и выплюнул зуб. Она метнулась к отцу. — Оставь его в покое… прекрати! Прекрати! — закричала девушка. Майк отпустил Тома, и писатель сполз по стене на пол. Дженюари присела возле него на колени. Посмотрела на отца. — Сделай же что-нибудь… помоги ему… боже, ты выбил ему все передние зубы. Майк шагнул к дочери и поднял ее с пола. — Это коронки. Зубы ему выбили раньше. Он словно только что заметил ее наготу. Его лицо помрачнело от смущения. Он отвернулся. — Оденься. Я подожду в соседней комнате. — По-твоему, все просто! — закричала она. — Ты врываешься сюда, избиваешь до полусмерти человека, которого я люблю… и затем отдаешь приказы. Почему? Ты ревнуешь? Дженюари подскочила к отцу. — Верно? Я же никогда не врываюсь в твою спальню, чтобы избить Ди. Я прилетела в Палм-Бич и улыбалась, как паинька. — Он — старый развратник! Слезы текли по ее лицу. — Я люблю его. Неужели ты не понимаешь? Люблю его… и он любит меня. Майк посмотрел на часы. — Одевайся. Меня ждет самолет. — Почему ты прилетел сюда? — всхлипнула она. — Потому что во время нашего телефонного разговора ты показалась мне невменяемой. Я испугался, что ты принимаешь наркотики. Помчался сюда сломя голову. Теперь я об этом жалею. Но я здесь. Давай забудем случившееся. Вернемся в Палм-Бич вместе. — Нет, — сказала она. Он взглянул на часы. — Я посижу в «Поло» полчаса. Если к этому времени ты не придешь, я улечу один. Но если ты не потеряла разум, ты сложишь свои вещи и скажешь ему, чтобы он вызвал сюда свою жену. Она заберет его домой. Я буду ждать в баре «Поло» ровно полчаса. Майк хлопнул дверью коттеджа. Она посмотрела вслед отцу. Том уже добрался до ванной. Дженюари бросилась к нему, намочила полотенце и приложила его к лицу Тома. Он надел халат и с помощью девушки вернулся в спальню. — Том… твои зубы… Он попытался улыбнуться, подмигнул ей. — Как сказал твой отец… это коронки. Я могу поставить их заново. Кажется, у меня сломана челюсть… — О, Том! — Не беспокойся… мне ее уже ломали. У твоего отца хороший удар. — Извини. — Я его ненавижу, — сказал Том. — Но, наверно, будь ты моей дочерью, я поступил бы так же. — Ты не злишься? Он покачал головой. — Нет. Он просто потерял контроль над собой. Я всегда подозревал, что заменяю тебе его. Теперь я это знаю точно. Так что одевайся и иди к нему. — Том… я люблю тебя. Я сказала ему, что люблю тебя. — Этой фразой насчет его жены ты себя выдала. — Какой фразой? — Проехали. Он отвернулся. Она надела слаксы и рубашку. Посмотрев на Дженюари, Том кивнул. — Прощай. — Я вернусь, — сказала она. — Вернешься? — Да. Я только хочу увидеть его… сказать ему, что остаюсь с тобой. — Если ты не появишься в течение получаса, он сам это поймет. — Но я должна сказать ему. Он схватил ее за руку. — Слушай, детка, сейчас тебе предстоит сделать выбор. Или я, или папочка… кто-то один. Если ты пойдешь к нему, считай, ты приняла решение. — Я только скажу ему… я не могу отпустить его так. Не могу, чтобы он сидел и ждал. — Если ты пойдешь, назад пути не будет, — медленно произнес он. — Том, я должна поговорить с ним. Как ты не понимаешь? — Ты любишь меня, да? Она энергично закивала. — О'кей, — продолжил Том. — Человек вошел сюда и избил меня за то, что ты любишь меня. Если ты теперь бросишь меня — даже на десять минут, — чтобы помириться с ним, — я попаду в идиотское положение. — Но это не просто человек… он — мой отец. — Сейчас он просто человек, который избил меня… а ты — моя девушка. Майк знает правила игры. По какой бы причине ты ни оставила меня здесь, это — еще один удар по моей челюсти. Он посмотрел на часы. — У тебя осталось двадцать минут. Она заколебалась. Представила себе Майка, ждущего ее в баре. Посмотрела на избитого мужчину, сидевшего на кровати. Кивнув, медленно подошла к нему. Он обнял ее; лежа неподвижно, они слушали, как тикают часы. Покинув пятый коттедж, Майк отправился в туалет и подставил руку под струю холодной воды. Кисть уже опухала… кожа на костяшках, рассеченная в нескольких местах, горела. Майку не хотелось думать о том, в каком состоянии находится челюсть Кольта. Он зашел в бар «Поло» и заказал виски. Посмотрел на часы. Прошло десять минут. Она придет. Она, вероятно, организует медицинскую помощь. Он не хотел изувечить Тома. Но он видел его в драках прежде. Никому еще не удавалось победить Тома. Поэтому Майк знал, что останавливаться даже на мгновение нельзя. Он все время ждал от Тома сокрушительного удара, который свалит его, Майка, и это придавало ему энергии. Если бы он сразу оценил опасность, то не стал бы связываться с Томом. Но когда он увидел его лежащим на дочери… в голове что-то щелкнуло, и он уже не мог остановиться. Майк удивился, что вышел из этого инцидента всего лишь с разбитой рукой. Но человек, принявший изрядную дозу спиртного, теряет бойцовскую форму. У Майка защемило сердце, когда он представил себе Тома с Дженюари. Ее стройное, прекрасное тело… слишком чистое и красивое для такого типа, как Кольт. Он взглянул на часы. Пятнадцать минут. Она, вероятно, собирает вещи. Он заказал еще один бокал виски. Официант смотрел на него с сочувствием. Нет… это игра воображения. Никто, вероятно, не знает, что она — его дочь. Мужчина, одиноко сидящий в баре «Поло», всегда кажется брошенным. Но его не бросят. Она вбежит сюда с минуты на минуту… он улыбнется и не станет обсуждать происшествие. Черт возьми, в свое время он совершил немало ошибок. Он не будет читать ей нотацию. Двадцать минут. Почему она медлит? Главное — чтобы она пришла. Отныне все будет иначе. В мае он повезет ее в Канн. Они обсудят это, летя в Палм-Бич. Он расскажет ей о своем везении, о том, что удача возвращается к нему. Двадцать пять минут! Господи, неужели она может не появиться? Нет… Она придет. Она — его дочь… и принадлежит ему. Но что она сказала про Ди? Неужели ревнует к ней? У Дженюари нет для этого оснований… Она отлично знает, что он не любит Ди. Он же не ревновал ее к Тому Кольту… его просто едва не вытошнило оттого, что он увидел ее с таким типом, как Кольт. Старым… женатым… выпившим… переспавшим бог знает с какими девками. Он был недостоин прикасаться к Дженюари. Истекла половина часа. Майк посмотрел на часы, не веря своим глазам. Бросил взгляд на дверь. Он даст Дженюари еще пять минут. Майк заказал третью порцию спиртного. Господи, он никогда не выпивал три бокала за полчаса. В его разбитой руке пульсировала кровь, но душа болела еще сильнее. Теперь он знал, что она не придет. Но он должен допить виски… это был предлог для того, чтобы задержаться на десять лишних минут. Он растянул бокал на четверть часа и заказал следующий. Решил дать ей час. Черт возьми… он не мог двинуться от потрясения. Он должен все обдумать. Его маленькая Дженюари предала отца ради Тома Кольта. Он всегда считал, что ради него, Майка, она откажется от целого мира. И он ради нее сделал бы то же самое. Так было всегда… было! Но сейчас угловой «люкс» в «Плазе» принадлежал Тому Кольту. И пятый коттедж «Беверли Хиллз». Книга Тома Кольта заняла первое место. Том Кольт был победителем… а Майк Уэйн — всего лишь мужем Ди Милфорд Грейнджер. О'кей. Она не придет. Сейчас она принадлежит Тому Кольту. Но когда их роман исчерпает себя — это происходит всегда, — как он сможет восстановить прежние отношения с дочерью? Простит ли она его за то, что он ворвался к ним? Будет ли уважать отца так, как этого пьяного бродягу? Чтобы остаться с человеком, которому выбили зубы… надо любить его. Или испытывать к нему жалость. Нет. Дженюари не осталась бы из жалости. Она — его дочь, а он никогда не оставался с женщиной из жалости. Она была с Томом Кольтом, потому что уважала его. А почему бы и нет? Он — первый номер. И, вероятно, превосходный любовник. Майк поморщился, подумав об этом применительно к своей дочери. Но заставил себя посмотреть правде в глаза. Том Кольт всегда пользовался успехом у женщин. Несомненно… по этой части он был мастер. А Дженюари... она ведь его дочь. Вероятно, тоже обожает секс. Он стиснул пальцами бокал так сильно, что раздавил его. Теперь и ладонь Майка была в порезах. Он обернул кисть носовым платком, бросил на столик двадцатидолларовую бумажку и покинул здание отеля. Он прождал в баре час с четвертью. По дороге в аэропорт Майк думал. Как вернуть ее? Его еще никогда не бросала женщина. И ему не забыть, как дочь смотрела на него. Как на чужого человека. Он закурил сигарету, пытаясь найти решение. Прежде всего ему следует снова завоевать ее уважение. Он сможет это сделать. Удача вернулась к нему. Пока что он выиграл в гольф, джин и даже триктрак более ста тридцати пяти тысяч долларов. Если это везение продолжится… Он потушил сигарету. Так он ничего не добьется! Если фортуна улыбается тебе, надо испытывать ее. В прежние дни на этой волне везения он сделал бы пару миллионов. Почему он сидит, как женщина, на своем выигрыше… положив деньги в банк на имя дочери? Какая от них польза, если Дженюари презирает его? Если он будет хранить эту мелочь без употребления, он никогда не вернет уважение дочери. Приехав в аэропорт, он направился по летному полю к своему самолету. — Назад в Палм-Бич? — спросил пилот. — Нет, — выпалил Майк. — Получите разрешение на вылет в Лас-Вегас. Мы проведем там несколько дней. Полет проходил неспокойно, машину болтало. Майк вспомнил время, когда он каждую неделю летал с Западного побережья в Лас-Вегас. Одно хорошо — маркеры будут внимательны к мужу Дидры Грейнджер. Он устроит нечто сенсационное. Сорвет банк на поездку в Канн. Он снова играет по-крупному… возможно, он еще не ставил на кон так много. Выигрышем будет Дженюари. (обратно)Глава двадцать вторая
Дженюари проснулась от шума дождя. О боже… снова. Нет ничего хуже, чем Калифорния в дождь. Часы, встроенные в радиоприемник, показывали тринадцать минут восьмого. Она закрыла глаза и попыталась снова уснуть. Дождь шел третий день. Монотонно барабанящие по крыше коттеджа капли стали для Дженюари такой же неотъемлемой частью дня, как и треск пишущей машинки Тома. Месяц, проведенный в Калифорнии, показался ей вечностью. Когда светило солнце… его сияние казалось вечным. И дождь тоже казался нескончаемым. Но в дождливую погоду она становилась узницей пятого коттеджа. Сейчас Том еще спал. Она посмотрела на него сквозь утренний полумрак. У Тома осталась только ссадина под глазом. Ее поразило, как быстро он поправился. Лицо зажило меньше чем за две недели. Через три дня у него уже стояли новые зубы. Том объяснил, что его стоматолог всегда держал наготове комплект коронок. Как ни странно, больше всего Тома беспокоили сломанные ребра… но он стоически терпел боль и относился ко всему по-философски. Он участвовал в слишком многих ресторанных драках, чтобы падать духом из-за нескольких сломанных ребер. — Когда у тебя перебит нос и на челюсти стоит шина, тогда есть на что жаловаться. Он засмеялся. — В тех схватках я одержал победу. К тому же он заявил, что нуждается в отдыхе и теперь пробудет в Калифорнии до подписания контракта на экранизацию. Когда эта сделка будет оформлена, они отправятся в Нью-Йорк и отпразднуют ее. Он заключил договор, и они отметили это событие, но именно из-за Дженюари до сих пор оставались в пятом коттедже. В день подписания контракта Том ликовал. Он носил ее на руках по комнате. — Пятьсот тысяч плюс двадцать пять процентов от чистой прибыли. Ты понимаешь, что это значит? Они собираются потратить на съемку два миллиона. Если картина принесет пять миллионов дохода, все будет чудесно. В случае успеха фильма я смогу получить миллион. — Он будет иметь успех, если его поставят точно по роману, — сказала Дженюари. — Но я столько раз видела, как кинематографисты отходят от бестселлера… и губят его. — Будем надеяться, что они найдут хорошего сценариста и опытного режиссера. Сегодня мы пойдем в «Маттео» и отпразднуем. Завтра я навещу сына. А послезавтра полетим в Нью-Йорк, где я подпишу договор об аренде квартиры. — Том, почему ты не хочешь заняться сценарием? — Я уже говорил тебе — я не пишу сценарии. — Почему? Он пожал плечами. — Непрестижное занятие. — Это предрассудок, оставшийся у тебя с молодости. Многие романисты пишут сценарии по своим книгам. Посмотри на Нила Саймона… Он всегда сам адаптирует свои книги для кино. К тому же, если бы мне пообещали двадцать пять процентов от прибыли, я бы хотела иметь уверенность в том, что мои деньги защищены качественным сценарием. Он посмотрел на Дженюари. — Знаешь что? Ты заставила меня задуматься. Я никогда еще не получал процент от прибыли. Том позвонил агенту. Следующие несколько дней телефон не умолкал. В конце недели они уже сидели в «Поло» с агентом Тома, Максом Чейзом, и отмечали подписание договора. Том должен был получить пятьдесят тысяч за разработку сюжета. И по его одобрении — еще сто пятьдесят за окончательный вариант сценария. — Эти деньги пойдут на оплату квартиры в Нью-Йорке, — сказал он. — За вас, Макс… контракт великолепен. И за Дженюари, заставившую меня взяться за эту работу. — Какой квартиры в Нью-Йорке? — спросил Макс Чейз. — Я приобретаю квартиру. Мой юрист уточняет детали в присланном нам договоре. Закладные и прочее. Но вопрос практически решен. Насколько мне известно, мы получим ее в июне, Дженюари купит мебель, и я быстро напишу первый вариант. Затем, наверно, мне придется вернуться сюда для обсуждения окончательного сценария. Макс Чейз улыбнулся: — Я все предусмотрел. Мне удалось включить в контракт некоторые дополнительные пункты. Я заставил «Сенчери» оплачивать этот коттедж, а также предоставить вам машину на время работы над сюжетом и сценарием. Так что забудьте о Нью-Йорке на время. Вам удобнее писать на Западе. Вы сможете поддерживать контракт с киностудией. Будете знать, кого из режиссеров они пригласят, кто сыграет в фильме… Находясь здесь, сможете высказать свое мнение по этому поводу… не окажетесь перед свершившимся фактом. Том с усмешкой на лице повернулся к Дженюари. — Ты вытерпишь еще несколько месяцев в пятом коттедже? Она кивнула. — Я скажу Линде, что ухожу из редакции. — Зачем? — возразил он. — Она может дать тебе задание, чтобы ты не скучала без дела. Линда обрадовалась новости. — Конечно. Напиши о Дорис Дэй… о Джордже С. Скотте… Дине Мартине… возьми интервью у Барбары Стенвик, узнай, как она относится к ТВ, к сегодняшнему Голливуду… Я слышала, Мелина Меркури сейчас там… найди ее. И собери материал о светском обществе Малибу, где у Тома дом… Но все оказалось весьма непросто. Связавшись с агентами звезд, она узнала, что многие из них сейчас отдыхают в других местах. После нескольких звонков Дженюари оставила попытки. Ее охватила странная летаргия. Когда действие последнего укола закончилось, она два дня страдала от головной боли и приступов тошноты. Но Том, всегда находившийся рядом, заставил ее перетерпеть это состояние. Сейчас она чувствовала себя хорошо, хотя и испытывала странную растерянность. Дженюари казалось, что ей ампутировали руку или ногу. Она знала, что это ощущение, как и потеря интереса к «Блеску», каким-то образом связаны с Майком. Дженюари поняла, что ее работа была лишь средством привлечения его внимания к дочери… она искала похвалы Майка. А теперь она никогда не услышит ее. Она не могла забыть, как он посмотрел на нее, уходя. Теперь она могла жить только ради Тома… Майк бросил ее… А Том по-прежнему любил. Первые дни она сидела у бассейна и читала новые романы. Книга Тома по-прежнему занимала первую строку в списке бестселлеров. Сейчас Том был поглощен работой. Дженюари заставляла себя до вечера не заходить в коттедж и не придавать значения тому, что ночью у них ничего не происходило. Конечно, первые две недели он чувствовал себя слишком избитым для секса, и ребра, по его словам, срастались медленно. Но Дженюари ощущала, что между ними стоит его работа. Когда девушка входила к нему, он часто отправлял ее жестом в соседнюю комнату. Он не хотел нарушать свой трудовой ритм даже словом приветствия. Иногда Том жаловался, что телевизор работает слишком громко. Вечером они обедали в номере, и он читал написанное за день. Сейчас, лежа в постели и прислушиваясь к дождю, Дженюари задумалась о причине своего уныния. Все было так, как и должно было быть. В определенном смысле она работала вместе с Томом, находясь рядом с ним, слушая его. Но что-то отсутствовало. Протянув Руку, она коснулась его плеча. Он что-то пробормотал во сне и отвернулся. Дженюари почувствовала, что к глазам подкатились слезы. Даже во сне он отвергал ее. Почему она внушила себе, что помогает ему? Все это происходило в ее воображении. Она вовсе не помогает ему! Она не нужна Тому! Девушка выбралась из кровати и стала бесшумно одеваться. Сев за стойку бара, она взяла себе кофе и горячую булочку. Все места за столиками были заняты. Похоже, в восемь утра весь Лос-Анджелес уже бодрствовал. Некоторые посетители читали газеты. До Дженюари доносились обрывки разговоров… стоимость проката… зарубежный показ… план Иди… В теннис не поиграешь из-за дождя. Она оплатила счет, поднялась в вестибюль и вызвала машину Тома. Дождь не прекращался. Автомобили подруливали по одной дороге, а уезжали по другой; Люди шутили о знаменитом калифорнийском солнце. Кто-то произнес: «Это просто густой туман». Дженюари увидела доктора Престона Альперта, садившегося в машину со знаменитым певцом, только что прибывшим из Лондона для записи нового альбома. Боже мой! Он тоже колется? Наконец прибыл ее автомобиль, и она поехала по бульвару Заходящего Солнца в сторону Санта-Моники. Выйдя к безлюдному пляжу, села на скамейку и стала смотреть на дождь. Вероятно, Том почувствовал ее настроение, — когда она вернулась, он перестал писать и предложил ей выпить с ним. Начав работу, он воздерживался от принятия спиртного, но теперь налил себе двойную порцию, настоял на том, чтобы Дженюари тоже выпила, и повел ее обедать в «Бистро». Его появление вызвало в зале оживление. Похоже, Тома знали в ресторане все. К их столу постоянно подсаживались актеры и режиссеры — они рассказывали истории, советовали, кому следует отдать ту или иную роль. Дженюари чувствовала себя еще более одиноко, чем прежде. Том вернулся в коттедж воодушевленным. Когда они легли в постель, он совершил попытку… но ничего не произошло. В конце концов он полюбил ее пальцем. Удовлетворив девушку таким способом и решив, что она заснула, он встал с кровати и отправился в гостиную. Выждав несколько минут, Дженюари заглянула в комнату. Том перечитывал страницы, написанные днем. Она вернулась в постель. Разве он не обещал вначале, что будет работать четыре часа в день, а остальное время проводить с ней? Первые дни он часто подходил к бассейну, чтобы немного поплавать. Но быстро возвращался к пишущей машинке. В чем ее, Дженюари, вина? Куда исчезла радость их общения? В понедельник снова шел дождь. Дженюари попыталась смотреть мыльные оперы. Во вторник дождь не прекратился. Девушка попробовала читать. В среду начала писать очерк под названием «Густой туман», но из этого ничего не вышло. В четверг наконец выглянуло солнце; Дженюари обняла сидящего у пишущей машинки Тома за плечи. — Сходим вместе к бассейну… погуляем… сделаем что-нибудь. — Почему бы тебе не брать уроки тенниса? Том не отводил взгляда от листа бумаги, заправленного в пишущую машинку. — Том, я хорошо играю в теннис. Мне не нужны уроки. — Тогда я попрошу Макса Чейза подыскать тебе партнеров. — Том, я осталась в Калифорнии, чтобы быть с тобой… не ради тенниса. — Ты и так со мной. — Да, но ты не со мной. — Я писатель. Он по-прежнему смотрел на страницу. — Господи, это только заготовка для сценария. Не «Война и мир». — Это моя работа. Ты должна это понимать. — Мой отец снимал фильмы, но он находил время для близких. — Дженюари, ради бога, пойди куда-нибудь и развлекись. Купи что-нибудь из одежды в магазине при отеле. Попроси прислать счет в коттедж. — Мне не нужны новые наряды. Том, еще только одиннадцать часов… Мне одиноко… я чувствую себя брошенной… скажи, что мне делать. — Я разрешаю тебе делать все что угодно, только оставь меня в покое. — Я возвращаюсь в Нью-Йорк, — тихо промолвила она. Том повернулся, его лицо стало жестким. — Зачем? Чтобы упасть перед ним на колени? — Нет… чтобы спасти то, что есть у нас. Я вернусь в редакцию. Смогу хотя бы гулять по Нью-Йорку… говорить со слепым стариком, торгующим карандашами… ходить в парк, рискуя стать жертвой грабителя, — все что угодно. Но тогда я оставлю тебя в покое! Он схватил ее за плечи. — Я не хотел так сказать. Пожалуйста, детка. Ты мне нужна. Я хочу, чтобы ты оставалась здесь. Слушай, ты раньше не жила с писателем. У нас прекрасные отношения. Я никогда не был так счастлив. Никогда мне не писалось так хорошо. Если ты бросишь меня, я буду чувствовать, что не оправдал твоих надежд. Не поступай так со мной сейчас… когда конец близок. Слушай, скоро я завершу эту работу. И мы извлекли урок. Мы не сможем жить в Лос-Анджелесе, когда я сяду за новую книгу. Теперь мы знаем, что нам подходит, а что нет. Но главный вывод заключается в том, что мы должны быть вместе. Верно? — Не знаю, Том. Правда, не знаю. Мне одиноко. Он отвернулся от девушки. — Понимаю. Это Майк, верно? — Том, я бы обманула тебя, сказав, что не думаю о нем… хотя бы подсознательно. Я… любила его… и люблю сейчас. Любила всю жизнь. Я бы хотела, чтобы того вечера не было. Но я приняла решение. Осталась с тобой… и потеряла его. — Почему ты считаешь, что потеряла его? — Том, если бы я завтра улетела в Нью-Йорк, я бы потеряла тебя? — Да, — тихо произнес он. — Потому что я бы знал, почему ты покидаешь меня. — Ты не думаешь, что Майк тоже понял, почему я осталась? Он медленно кивнул. — Наверно, я эгоист. Слушай, дай мне закончить этот набросок. Я отдам его на студию, мы сядем в машину и на десять дней уедем в Сан-Франциско. У меня там масса друзей. Они тебе понравятся. Мы устроим себе праздник. И я обещаю — отныне я буду работать только четыре часа в день. — Тогда я подожду, и в два часа мы сможем пойти поплавать. Сейчас только одиннадцать. — Мне не хочется плавать. Но ты иди. Возможно, я присоединюсь к тебе позже. Он пришел к бассейну. И весь следующий день до восьми вечера провел за пишущей машинкой. В субботу снова пошел дождь. Утром Том уехал в Малибу к сыну. Он обещал вернуться к пяти и повести Дженюари куда-нибудь обедать. Может быть, они сходят в кино. Том позвонил в девять вечера. Дженюари услышала музыку, смех, голоса людей. У Тома слегка заплетался язык, и она поняла, что он выпил. — Слушай, детка, тут настоящий ливень. Пожалуй, мне лучше заночевать здесь. Закажи обед в номер. Увидимся завтра. Дженюари замерла. Он отлично проводит время в доме своей жены. И не торопится к ней, Дженюари. Зачем ему спешить? Она только жалуется. Куда пропало счастье, ее жизнелюбие, хорошее настроение? Она была девушкой, которая когда-то помогла ему вновь стать мужчиной. Теперь он даже не пытался заниматься с ней любовью по-настоящему. Только удовлетворял ее рукой, когда чувствовал, что она нуждается в этом. Линда назвала бы это благотворительностью. А теперь он остался на ночь в Малибу. Вернется сюда завтра. Но если она стерпит это, однажды он вовсе не придет назад. Внезапно девушку охватило отчаяние… Она не может потерять Тома… не может! Он — все, что у нее есть. Она должна сделать так, чтобы они вновь обрели былое счастье, чтобы их жизнь вновь засверкала яркими красками. Она просидела без движения еще несколько минут. Затем подняла трубку и позвонила доктору Престону Альперту. (обратно)Глава двадцать третья
Дэвид стоял у бара в «21», ожидая отца, опаздывавшего на десять минут. Это было на него непохоже. Молодой человек взглянул на пустой столик у стены, который держали для них. Зал постепенно наполнялся посетителями. Питер сверялся со своим списком; какие-то важные персоны явились без предварительного заказа. Уолтер тотчас поставил дополнительный столик в проходе, разделявшем два зала. Марио преподнес белые гвоздики трем красивым женщинам. Дэвид допил спиртное и решил сесть за стол. Слишком много людей, стоявших У двери, алчно поглядывало на незанятые места. Дэвид потягивал второй мартини, когда появился отец. Заказав напиток, он принялся многословно извиняться. — Боже мой, эти женщины просто невыносимы, — вздохнул он. Дэвид засмеялся: — Не говори мне, что у тебя снова роман. Отец слегка покраснел. — Дэвид, я всегда очень уважал твою мать. Но ее не назовешь страстной женщиной. Однако я никогда не заводил, как ты говоришь, романов. Конечно, иногда вступал в мимолетные связи. Но никогда не увлекался всерьез. — Так с кем же у тебя теперь мимолетная связь? — спросил Дэвид. — Я опоздал из-за твоей матери. Через три недели мы отправляемся в Европу. Впервые за последние шесть лет. Поэтому нам нужно обновить паспорта. Ты не поверишь — мы проторчали в паспортном отделе с одиннадцати утра, и мать до сих пор там. — Большая очередь? Отец пожал плечами. — Не очень. Туристский сезон кончился. Но она забраковала две фотографии и снимается в третий раз. Отказалась клеить плохой снимок на паспорт. Кто будет рассматривать его, кроме таможенников и гостиничных клерков? Дэвид засмеялся: — Если это имеет для нее такое значение, ей следует сделать подтяжку. Тогда она будет выглядеть великолепно. — Господи, зачем? — Ради собственного тщеславия. Многие это делают, ты знаешь. — Эта процедура не для нас. Она впадает в панику, отправляясь к стоматологу. К тому же… Он замолчал — по залу прокатилась волна шепота. Все уставились на вошедшую женщину. — Это Хейди Ланц! — воскликнул Джордж Милфорд. — К вопросу о подтяжке — она, верно, делала ее раз десять. Боже мой, ей под шестьдесят, а выглядит она на тридцать. Дэвид посмотрел на актрису, которую обнимал владелец ресторана. Метрдотель пожимал ее руки. Женщину сопровождали двое мужчин; она здоровалась с людьми, идя к своему столику. Актриса выглядела великолепно и, в отличие от Карлы, никогда не бросала работу. Когда ее акции в Голливуде упали, она появилась в мюзикле на Бродвее. Хейди Ланц делала ежегодную сольную передачу на ТВ. — Не представляю, как ей удается сохранять такую фигуру, — сказал Джордж Милфорд. — Ты не видел ее по ТВ месяц тому назад в облегающем платье? У нее тело двадцатилетней девушки. Дэвид кивнул. — Я смотрел эту передачу с Карлой. Она сказала, что Хейди, несомненно, надела корсаж. — Ну, Карле видней, — сказал Джордж Милфорд. — Почему? — обиженно произнес Дэвид. — У Карлы потрясающая фигура. Но она работает над ней, она… — Успокойся, сынок. Я имел в виду лишь то, что Карле известно, какая на самом деле фигура у Хейди. Ты ведь знаешь, они были любовницами. Дэвид, покраснев, отхлебнул мартини. — Это голливудские сплетни. — Возможно. Но я помню посвященные им строки светской хроники. В сороковых годах газеты публиковали фотоснимки, на которых они были изображены бегущими вдвоем в лифчиках и трусиках — по тем временам это было смело. Тогда твоя Карла не пряталась от фотографов, как сейчас. Она только поднималась наверх, а Хейди уже была звездой. — Карла также едва на убежала с одним исполнителем главной роли в ее фильме, — напомнил Дэвид. — Верно. Джордж Милфорд не отводил взгляда от Хейди. — Не будем забывать, что Хейди замужем, у нее внуки. Говорят, она и сейчас встречается с юными девушками. — Карла любит только мужчин, — сказал Дэвид. — Ваш роман продолжается? — спросил Джордж Милфорд. Дэвид кивнул. — Я вижусь с ней почти каждый вечер. — Дженюари все еще на Западном побережье? — Да. Не беспокойся. Я держу руку на пульсе. Мы переписываемся. — Не пора ли тебе прийти к какому-то решению? Дэвид, поглядев на бокал, кивнул. — Боюсь, что да. Особенно теперь, когда Ди вернулась. По возвращении Дженюари в Нью-Йорк мы объявим о нашей помолвке. Не беспокойся. Я приложу все усилия, чтобы влюбить ее в себя. Дальше откладывать нельзя. Ее поездка в Калифорнию была для меня подарком. Кажется, развязка близка. Поэтому я не могу насытиться напоследок Карлой. — Брак — это еще не конец всего, — заметил отец. — Только не для нас с Карлой. Чтобы уговорить Дженюари выйти за меня замуж, мне придется всерьез поухаживать за ней. А Карла не такая женщина, которой можно сказать: «Мы будем встречаться каждый второй четверг». — Вступая в брак, всегда чем-то жертвуешь, — сказал его отец. — Ладно, давай выпьем еще по бокалу. Я всегда замечал, что спиртное проясняет горизонт. Расставшись с отцом, Дэвид заглянул в магазин мужской одежды «Бонвит» и купил себе спортивную рубашку, на которую положил глаз еще неделю назад. Шестьдесят долларов. Но она отлично подходила к серым слаксам. Он наденет ее вечером. Карла подчеркнула в программе ТВ передачу «Фильмы недели». Она приготовит бифштексы. Это был один из немногих случаев, когда она обещала ему, что он сможет остаться у нее на ночь. «Фильм длинный. Мы посмотрим его, лежа в кровати. Потом позанимаемся любовью. Поскольку будет уже поздно, я разрешу тебе заночевать у меня». Придя домой, он заново побрился, хотя в этом не было необходимости. Десять минут посидел перед кварцевой лампой. Она помогала сохранять загар, приобретенный в Палм-Бич. Примерил новую рубашку с серыми слаксами. Повязал под воротник шейный платок. Смешал мартини. Карла пила только вино. А он все еще нуждался в мартини, придававшем ему смелость в общении с ней. Он думал об этом, потягивая спиртное. Удивительное дело! Через несколько дней исполнится год с начала их романа. Однако перед каждым свиданием с ней он волновался, как старшеклассник. Черт возьми! Он — ее любовник! Сейчас она готовит салат… для него. Своими собственными руками! Для него! И позже, оказавшись в его объятиях, будет стонать и прижиматься… к нему! Настанет ли такое время, когда он будет воспринимать их связь спокойно, относиться к ней как к чему-то само собой разумеющемуся? Боже, если он сохранил остроту ощущений спустя год, как он сможет оборвать этот роман и начать ухаживать за Дженюари? Он не сумеет сделать это! Но он выбросит из головы подобные мысли. К тому же в письме Дженюари даже не намекала на скорый приезд. Она может задержаться там ради еще одной статьи. Он взглянул на часы. У него есть минут тридцать. Он успеет пропустить еще один бокал. На сей раз — неразбавленной водки. Сегодня у него расшалились нервы. Он терял рассудок, думая о том, что ему предстоит расстаться с Карлой. Дэвид не спеша потягивал спиртное. Водка согревала его. Он знал, что пьянеет. Но это не пугало Дэвида..Он любил встречаться с Карлой в легком подпитии — тогда он чувствовал себя спокойнее. Опустошив бокал, Дэвид немного расслабился. Возможно, отец прав. Брак с Дженюари не обязательно означает конец всего. Может быть, ему удастся объяснить ситуацию Карле, даже рассказать о десяти миллионах. Нет, она будет презирать его. Дэвида охватила депрессия. Но это смешно! Дженюари находится в пяти с половиной тысячах километров отсюда. Она может пробыть там еще месяц или больше. Это время принадлежит им с Карлой. Он не станет думать о следующем месяце… даже неделе. Будет наслаждаться каждым днем. И сегодня он встретится с Карлой. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Вскочив, он поднял трубку. — Дэвид, как хорошо, что я застала тебя, — еле слышно, чуть задыхаясь, произнесла Карла. — Я уже собирался уходить, — радостно сказал он. — Сегодня свидание отменяется. — Почему? — Неожиданно прилетел один мой друг. — Не понимаю. Впервые он не сумел проявить выдержку в подобной ситуации. — Карла, мы же договорились. — Дэвид… Ее голос звучал ласково, почти умоляюще. — Я тоже огорчена. Но это очень старый друг, из Европы… мой менеджер… он прилетел внезапно… Это связано с делами. Я должна встретиться с ним. — О, так это Джереми Хаскинс, о котором ты рассказывала? — Да, он — мой старый друг. — Это, конечно, не займет всего вечера, верно? Я могу прийти позже. — Нет. Я устану. — А если нет? Разреши мне позвонить. Продиктуй твой телефон, Карла. — Дэвид, я должна положить трубку. — Черт возьми, Карла! Дай мне твой номер. Он услышал щелчок. На мгновение запаниковал. Он перегнул палку. Она рассердилась. Может не позвонить завтра. Может вообще больше не позвонить! Он попытался взять себя в руки. Для паники нет оснований. Она позвонит завтра, и они посмеются вместе. Он плеснул себе щедрую порцию водки и добавил в бокал каплю вермута. Еще немного, и он напьется. Почему бы и нет? Почему не надраться всерьез? Он почувствовал, что слегка обжег кожу лица кварцем. Посмотрелся в зеркало. Рубашка выглядела отлично, к загару добавился красноватый оттенок. Дэвид никогда не выглядел лучше, чем сейчас. Спасибо родителям! Он допил коктейль и приготовил себе следующий. Может быть, позвонить Ким? Он был пьян и знал это. Дэвид налил себе неразбавленной водки. Сидя в темноте, он пил медленно и методично. Он был в новой рубашке, его лицо горело, и ему не хотелось никуда идти. Кроме дома Карлы… Что ж, настанет завтра… Может быть, ему следует снять рубашку и приберечь ее к следующему дню. Но он почему-то знал, что больше не наденет ее. Она приносила ему неудачу. Закурив сигарету, он попытался разобраться в ситуации. Ничего страшного не случилось. Он спросил у Карлы номер телефона, даже потребовал его. И она положила трубку. Большое дело. Они даже не ссорились. Завтра все будет чудесно. В конце концов, этот Джереми — старик. Она рассказывала, как он стал ее агентом. Как нашел Карлу в бомбоубежище во время налета. Эта история была одним из немногих фактов ее биографии; которыми она поделилась с Дэвидом. Джереми тогда уже был в возрасте. Ее старый друг. Дэвид вспомнил слова Карлы: «Джереми — чудесный, добрейший человек. Вы должны когда-нибудь познакомиться». Он медленно опустил бокал. «Вы должны когда-нибудь познакомиться». Тогда почему она не предложила пообедать втроем у нее на кухне? Она могла не отменять свидания. Деловой разговор с Джереми мог состояться утром… А что, если она не с Джереми? У Дэвида сжалось сердце. Но у нее нет другого мужчины! Они встречаются почти ежедневно, за исключением тех вечеров, когда Карла была уставшей. Тогда она звонила ему и говорила, какую телепередачу смотрит. Нет. У нее нет другого мужчины. Внезапно перед его глазами появилась Хейди Ланц, входящая в «21». Красавица Хейди! Лесбиянка Хейди! Она только что прибыла в город! Невероятно! Он налил себе еще спиртного. Поднял бокал, мысленно произнес тост. За Дэвида Милфорда! За круглого идиота! Влюбленного в пятидесятидвухлетнюю женщину, сделавшую себе подтяжку лица… которая скрывает от него свой телефон. Но она была не просто женщиной. Она была Карлой! И сейчас она проводит (Время с Джереми Хаскинсом, а он, Дэвид, напившись, сочиняет бог знает что… Проклятье! И надо же было ему увидеть сегодня Хейди Ланц в «21». Зачем только отец подбросил ему эту идею? Конечно, до него и прежде доходили слухи о Карле. Но тогда он считал, что многие европейские женщины имеют подобный опыт. Нет, Карла не способна по-настоящему любить женщину. Она так страстно отвечала на его ласки, льнула к нему… нет. Она сейчас с Джереми. Дэвид почувствовал, что не может больше оставаться в квартире. Выскочив на улицу, зашагал по Парк-авеню. На воздухе голова прояснилась. Он свернул на Лексингтон-авеню. Дэвид знал, что идет к дому Карлы. Черт возьми, а почему бы и нет… почему бы и нет! Он может просто прийти к ней. Консьерж и лифтер решат, что его ждут. Он позвонит в дверь. Если там окажется Джереми и она рассердится, он, Дэвид, извинится и скажет, что у него день рождения. Да, это хорошее оправдание. Он объяснит, что должен был обязательно увидеть ее, хотя бы на мгновение. И затем, если она пригласит его, выпьет бокал в честь дня рождения и сразу же уйдет. Тогда, вернувшись домой, он сможет заснуть. Дойдя до ее квартала, Дэвид потерял смелость. Он свернул на Первую авеню и зашел в бар. Выпил двойную порцию водки. Почувствовал себя лучше. Ему нечего бояться. Он представил себе, как все произойдет. Она, вероятно, посмеется, подумает, что он молод, очарователен и горяч. Дэвид зашагал по улице. Консьерж кивнул молодому человеку, и он взбодрился. Дэвид успокоился еще больше, когда лифтер, поднимая его на пятнадцатый этаж, заговорил с ним об очередной победе «Янки». Дэвид пошел по коридору. Подождал, когда закроется дверь лифта. Остановился перед квартирой Карлы. Из нее не доносилось ни звука. Даже телевизор молчал. Дэвид заколебался. Еще не поздно повернуться и уйти; тогда она ничего не узнает. Он направился к лифту. Но что подумает лифтер? И консьерж? Им известно, что она дома. Дэвид вернулся к ее двери и нажал кнопку. Он чувствовал, как сердце выпрыгивает из груди. Снова позвонил. Услышал шаги. Карла осторожно приоткрыла дверь, не снимая цепочки. Когда она увидела Дэвида, ее большие серые глаза потемнели от гнева. — Что тебе надо? — сухопроизнесла она. Он не поверил в реальность происходящего. Карла, всегда распахивавшая перед ним дверь, смотрела на него через щель, точно на незнакомца. — Сегодня мой день рождения. Его голос прозвучал глухо, а не легкомысленно, раскованно, как он хотел. — Уходи, — сказала она. Он просунул ногу в щель. — Сегодня мой день рождения. Я хотел только выпить один бокал с тобой… и Джереми. — Я сказала тебе — уходи! — Не уйду. Дэвид попытался улыбнуться, но его охватил страх. Он растерялся. Она действительно сердится. Он не знал, как отступить, сохранив лицо. Он должен попасть в квартиру, объяснить Карле, что безумно любит ее… что не может жить так, не имея возможности позвонить ей. — Если ты не уйдешь, я позову кого-нибудь на помощь, — сказала она. Боже, он все испортил! — Карла, прости меня. Я виноват… Он отступил на шаг назад, и она тотчас захлопнула дверь перед его лицом. Он стоял, не веря своим глазам. Карла так обошлась с ним! Стерва! Конечно, там не Джереми. Она, вероятно, с Хейди Ланц. Он снова позвонил. Ударил в дверь кулаком. — Открой! — закричал Дэвид. — Открой и докажи, что у тебя твой старый менеджер. Открой, и я уйду. Докажи мне, что говоришь правду! Он подождал несколько секунд. Услышал, как кто-то из соседей выглянул в коридор. Его лицо горело. Соседняя дверь наконец закрылась. Он снова нажал кнопку. — Впусти меня, черт возьми… впусти меня. Он пнул дверь ногой. Вытащив спичку, воткнул ее в кнопку. — Я буду стоять и ждать, — прокричал Дэвид. — Хоть всю ночь. Хочу увидеть, кто выйдет из квартиры. Он еще раз сильно заехал в дверь ногой. Дэвид знал, что полностью потерял контроль над собой, но не мог остановиться. В коридоре открылось несколько дверей. И тут он услышал, как открывается дверь лифта. Две пары крепких рук схватили Дэвида. Его старые улыбчивые друзья — консьерж, всегда охотно бравший чаевые, и лифтер, обсуждавший с ним победы «Янки», — принялись оттаскивать вырывающегося Дэвида от двери. — Уберите руки, — закричал он. — Мисс Карла не слышит звонка. Она ждет меня! — Успокойся, сынок, — сказал консьерж. — Она позвонила вниз и попросила нас увести тебя. Пожаловалась, что ты причиняешь беспокойство. Дэвид был потрясен. Карла велела выгнать его прочь! Он посмотрел на мужчин, потом на дверь. В последний раз ударил ее ногой. — Лесбиянка, — крикнул Дэвид. — Подлая лесбиянка. Я знаю, кто у тебя там — Хейди. Хейди Ланц! Хейди. Не Джереми. Хейди Ланц! В коридоре стали открываться двери. Из них выглядывали удивленные люди. Жильцы, завидовавшие прежде молодому человеку, которого принимала их знаменитая соседка, теперь видели, как консьерж и лифтер волокут его по коридору к лифту. Он вырывался и кричал. Раздался треск — Дэвид понял, что это порвалась новая рубашка. Карла вышвырнула его вон! Это не может происходить на самом деле. Это кошмар. В кабине лифта консьерж разжал пальцы, отпуская Дэвида. — Послушай, сынок. Похоже, ты сегодня перебрал. Разреши мне посадить тебя в такси и отправить домой. Завтра будет новый день. Ты пришлешь ей цветы, и все забудется. Дэвид вышел на улицу и остановился, стараясь не качаться. — Не будет никакого завтра. И я не пришлю цветы этой стерве — лесбиянке. Не беспокойтесь насчет такси. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Ноги моей здесь больше не будет. Подняв голову, он посмотрел на окна пятнадцатого этажа. — Ненавижу тебя, сука… — пробормотал Дэвид и, шатаясь из стороны в сторону, побрел по улице. Карла, стоя у окна, провожала Дэвида взглядом, пока он не скрылся из виду. Потом она подошла к ванной и постучала в дверь. Ее лицо было бледным. — Все в порядке, Ди. Можешь выходить. Дэвид больше не будет нас беспокоить. (обратно)Глава двадцать четвертая
Ди вытянулась в ванне, заполненной пеной. Из приемника доносились прекрасные песни Синатры. Весь мир был прекрасен. Май — прекрасный месяц в Нью-Йорке. Апрель тоже был прекрасным. Любой месяц прекрасен, когда Карла рядом. Их зимняя разлука была самой длинной. Пять долгих месяцев, проведенных Ди в Палм-Бич. Она едва пережила их. Иногда ей приходилось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не поднять трубку и не позвонить Карле. Она была готова умолять Карлу, чтобы та приехала в Палм-Бич. Возможно, ее выдержка принесла пользу — когда Ди вернулась в Нью-Йорк, Карла по-настоящему обрадовалась их встрече. Конечно, они пережили тот ужасный вечер, когда Дэвид ломился в дверь, точно разъяренный бык. Она бы никогда не поверила, если бы ей сказали, что Дэвид способен до такой степени потерять самообладание. Но он здорово напился. Она многого не расслышала — когда инцидент начался, она, испугавшись, бросилась в ванную. Но теперь, несомненно, Дэвид потерял Карлу. Он перестал быть одним из ее «симпатичных молодых людей», водивших бывшую актрису на балет или в кино. Как ни странно, Дэвид не слишком сильно страдал из-за своей потери. В колонках светской хроники писали, что он периодически встречается с голландской фотомоделью. В разговорах с Ди он постоянно упоминал Дженюари. Дэвид расстроился, когда девушка не смогла прилететь в Палм-Бич на пасху. Конечно, подготовка статьи о таком человеке, как Том Кольт, — весьма важное задание. Дженюари уже довольно долго находится в Калифорнии. «Любопытно, происходит ли между ними что-то», — подумала Ди. Нет, ерунда! Том Кольт женат и слишком консервативен для Дженюари. Майк проявлял странное равнодушие к работе дочери. Он пожелал слетать к ней, отсутствовал неделю и вернулся в хорошем настроении. Да, она может изменить завещание. Теперь, когда Дэвид не представлял угрозы в отношении Карлы, ей, Ди, все равно, женится он на Дженюари или нет. Выйдя из ванной, она позвонила Джорджу Милфорду. Он тотчас подошел к телефону. — Ди… я уже собрался уходить. Рад слышать тебя. — Джордж, я хочу переписать завещание. — Хорошо. Это срочное дело? — Нет, но давай встретимся завтра днем. — Хм, именно поэтому я и спросил о срочности. Завтра мы с Маргарет отправляемся в Париж. Ее племянница выходит замуж, и мы уже давно не отдыхали за границей. Мы плывем на корабле… будем отсутствовать целый месяц. — О… — Ди в задумчивости прикусила губу. — Если это не терпит отлагательства, я могу подождать тебя сейчас в моем офисе. Мы сформулируем новые пункты. Я готов задержаться тут на несколько часов… если ты свободна. Мы все обсудим, и я сделаю нужные записи. Завтра утром отдам машинистке новый текст, и если ты придешь, скажем, часам к десяти, мы нотариально засвидетельствуем документ. Карла ждала ее к половине седьмого. Доработка завещания займет много времени. — Нет, Джордж, это не настолько срочно. Я дождусь твоего возвращения. Желаю вам приятного путешествия. Передай привет Маргарет. Она положила трубку и начала одеваться. Майк был в клубе «Монах». Она сказала ему, что идет на встречу бывших одноклассниц; Ди настояла на том, чтобы он остался в клубе пообедать и сыграть в карты. — Я должна пойти. Я посещаю это собрание каждый год. Нас осталось только двадцать человек; мы сидим и часами вспоминаем нашу жизнь в школе мисс Брайерли. Если вернешься домой раньше меня, не жди моего возвращения, ложись спать. Брак мешал ей. Теперь, когда Карла была рядом, Ди страдала, проводя время с Майком. После возвращения Ди из Палм-Бич Карла охотно проводила с подругой все часы, когда та была свободна. Не уклонялась от встреч под разными предлогами. («О, Ди, маэстро пригласил меня на обед. Он давно не работает и скоро отправится в дом ветеранов кино».) Аргументы Карлы всегда были вескими. Но она приводила их слишком часто, и Ди теряла душевное равновесие. Однако после Палм-Бич Карла ни разу не отказала Ди в свидании. Когда Ди, позвонив ей, говорила: «Я сегодня вечером свободна», Карла искренне радовалась. «Жду тебя, дорогая». Или: «Меня пригласили пообедать у Бориса, но я отменю встречу». Конечно, Ди могла видеться с Карлой и днем, если бы была согласна подстраиваться под режим подруги и во всем уступать ей. Но Ди считала, что ходить повсюду с Карлой, сидеть в студии и смотреть, как бывшая актриса работает у станка, унизительно для нее. Ди шла на это в первые несколько лет их знакомства, когда просто видеть Карлу, иметь возможность появляться с ней в обществе было привилегией. Как ни странно, спустя годы, каждый раз при виде Карлы у Ди от волнения слегка кружилась голова. Но после того как их отношения приобрели стабильный характер, Ди стала считать неприемлемой для себя роль поклонницы, завороженно смотрящей на своего кумира. Она не соглашалась гулять в дождь и снег. Если Карла выглядела великолепно со снежинками на волосах или капельками влаги на лице, то у Ди в холодную погоду слезились глаза и текло из носа. Карла могла постоять под душем, потом вытереть полотенцем волосы и выглядеть превосходно. Ди требовалась ежедневная укладка. Нет, Ди могла видеться с Карлой и поддерживать, равенство в их отношениях, лишь когда полька была гостьей в одном из ее домов… или когда они встречались в Нью-Йорке по вечерам. Женщина после сорока лет не в силах выглядеть великолепно при дневном освещении. Ди испробовала все. Пудра, которую она применяла, казалась либо слишком розовой, либо слишком желтой, либо бледнила ее. Но вечером она смотрелась восхитительно. Особенно перед камином или обедая с Карлой при свечах. Ди решительно отказывалась есть на кухне. В этом не было романтики. К тому же при таком свете она выглядела неважно. Карла не нуждалась в тональной пудре, ее кожа всегда была немного загоревшей. Карла была Карлой — никто не мог сравниться с ней. Даже спустя восемь лет Ди казалось невероятным, что Карла принадлежит ей. Нет… не принадлежит. Карла никогда никому не принадлежала. Даже Джереми Хаскинсу, которого она называла своим менеджером и близким другом. Она призналась Ди, что они однажды предприняли попытку стать любовниками, но из этого ничего не вышло. Ди познакомилась с Джереми в 1966 году, когда он приехал в Штаты; увидев сутулого старика с седыми волосами, она испытала такое облегчение, что устроила обед в его честь. И каждый год на рождество отправляла ему подарок. Поддавшись внезапному порыву, она взяла чековую книжку и выписала чек на десять тысяч долларов. Она давно перестала делать Карле презенты. Карла никогда не носила драгоценности. А соболиную шубу, подаренную Ди, носила как обычное утепленное пальто. Ходила в ней во время снегопада до студии и обратно. Карла оживала, лишь получая деньги. Этот феномен был непонятен Ди. В конце концов, у Карлы приличное состояние. Господи… она столько лет снималась в кино. А теперь если и тратит средства, то лишь на содержание квартиры. Это были великолепные апартаменты в смысле планировки и размеров. Хороший дизайнер мог бы превратить их в настоящий дворец. Но Ди была уверена в том, что общая стоимость мебели не превышала пяти тысяч долларов. Разумеется, там поддерживались идеальная чистота и порядок. Карла могла своими собственными руками мыть полы и окна. На стенах висели картины — один Моне, два Рауля Дюфиса, Вламинк, этюды Домье. Это были подарки. На вопрос Ди: «Зачем тебе нужна двухэтажная десятикомнатная квартира, если ты пользуешься только тремя комнатами?» Карла, пожав плечами, ответила: «Мне ее подарили… с тех пор цена удвоилась». Ди перестала искать рациональное объяснение странностям Карлы. Полька отличалась удивительной скупостью. На рождество она дарила Ди кружку для пива с надписью «Сувенир из Нью-Йорка»… красную фланелевую ночную рубашку… польскую елочную игрушку. Ди объясняла это потрясением, связанным с войной. У всех беженцев есть какие-то странности. В шесть с четвертью Ди вышла из дома. Сегодня она отпустила шофера. Она села в такси; машина пробиралась по городу рывками, но ничто не могло омрачить настроение женщины. Это был прекрасный весенний вечер; через несколько минут она увидит Карлу. О боже, если бы можно было остановить время. Сделать так, чтобы сегодняшний вечер длился вечно. Она затеяла игру со светофором. Когда автомобиль останавливался на красный свет, Ди начинала считать. Один… затем по буквам… О — Д — И — Н. Два… Д — В — А. Сколько цифр она успеет произнести до зеленого света, столько месяцев они с Карлой будут вместе. На первом светофоре она добралась до шестнадцати… но ко Второй авеню Ди уже наловчилась и досчитала до тридцати пяти. Она нахмурилась. Только три года. Нет, это ее не устраивает. Они будут вместе всегда. О боже, если бы она была уверена в том, что Карла никогда ее не оставит, то не вышла бы замуж за Майка. Но даже в моменты их близости Ди сознавала, что Карла не способна по-настоящему кем-то увлечься. Если бы Карла догадалась о том, что была для Ди всем, она бы могла исчезнуть… вероятно, навсегда. Нет, Майк — ее страховочная сетка, залог психического здоровья. Но он сам порождал сложности… ей приходилось постоянно лгать, чтобы иметь свободные вечера. В июле она настоит на приезде Карлы в Марбеллу. Но сейчас только начало мая. Значит, впереди шесть недель в Нью-Йорке. Ди подумала, что поступила умно, — проявив энтузиазм в отношении их с Майком поездки в Канн. В Монте-Карло не было никакого турнира по триктраку, и она с самого начала не имела ни малейшего намерения отправляться туда. Но ей следует тщательно подготовиться. Пока что все шло по плану. «Люкс» в «Карлтоне» был забронирован с четырнадцатого мая. Тринадцатого мая она сообщит ему, что турнир отменен. Уговорит его поехать без нее — «люкс» забронирован; он, Майк, заслуживает двух великолепных недель в обществе старых друзей по кино. Она просто отдохнет в Нью-Йорке и обновит свой гардероб к лету. Она заранее подготовила свою речь. Он должен поехать один. Она получит две потрясающие недели с Карлой… они будут вместе каждую ночь! Когда Ди прибыла к Карле, полька ждала ее, сняв косметику с лица и закрепив убранные назад волосы заколкой. Обняв Ди, Карла повела ее к столу, стоящему у окна. Он был накрыт для обеда; Карла указала на свечи. — Смотри, я купила их сегодня. Они не нуждаются в подсвечниках… не дают потеков. О, это было чудесно! Коротышка продавец в славном маленьком магазине не узнал меня. Я понравилась ему сама по себе. Он принялся с энтузиазмом демонстрировать мне свечи с разными запахами. Сегодняшние источают аромат гардений. Ди, ты любишь гардении? Я их обожаю… надеюсь, ты тоже. — Конечно. При свечах, когда на Ист-Ривер опускались сумерки, Карла выглядела, как на одной из своих лучших фотографий. На ее лицо падали тени, подчеркивая ямочки под скулами. Внезапно Ди поняла, что любуется Карлой. Она раскрыла свою сумочку. — Карла, я принесла тебе маленький подарок. Карла даже не взглянула на чек. Улыбнувшись, она убрала его в ящик стола. — Спасибо, Ди. А теперь садись. Я приготовила салат из креветок и омаров. Смотри… графин сангрии. Мы устроим настоящий пир. Ночью, когда они предавались любви, Карла бурно проявляла испытываемую ею радость. Она находилась в более приподнятом настроении, чем обычно. Позже, лежа в постели с Ди, она запела знакомую ей с детства польскую песню. Потом, словно смутившись оттого, что открыла свою новую грань, вскочила с кровати и включила телевизор. — Сегодня идет хороший фильм, но я знаю, что ты предпочитаешь обзор новостей. Я приму душ. Если в нашем грустном мире произошли какие-то важные события, ты расскажешь мне о них. Ди стала смотреть новости. Из ванной доносилось пение Карлы. Полька была счастлива. И она, Ди, тоже была счастлива. И все же к ощущению счастья примешивалось отчаяние. Скоро ей придется вернуться к Майку. Она протянула руку к тумбочке, решив попробовать крепкие английские сигареты, которые курила Карла. Когда она взяла пачку, на пол упал конверт. Это был счет за телефонные разговоры. Внезапно Ди охватило любопытство. Сумма должна быть минимальной. Карла редко звонила кому-либо, а если и делала это, то лишь лаконично излагала свой вопрос или просьбу. Долгие телефонные беседы были не в стиле Карлы. Ди вынула счет из конверта. Увидев сумму, Ди изумленно подняла брови. Четыреста тридцать один доллар! Она снова поглядела на цифру. Как могла Карла проявить такую расточительность? Ди внимательно изучила счет. Местных звонков было немного. Гораздо чаще Карла звонила в Англию. Шестнадцать звонков в Боствик по номеру 3322! И каждый разговор длился более трех минут. Еще три звонка в Ловик и два — в Белгравию. Шестнадцать разговоров с Боствиком! Она записала номера на клочке бумаги, спрятала его в сумочку и положила конверт со счетом под пачку сигарет. Карла вернулась из ванной; они снова стали заниматься любовью, и этот маленький инцидент совершенно вылетел из головы Ди. Она не вспоминала о нем до тех пор, пока, вернувшись домой, не обнаружила у себя в сумке кусочек бумаги. Убрала его в шкатулку с драгоценностями. Вероятно, у Карлы какие-то дела в Лондоне. Возможно, она постоянно поддерживает связь с Джереми. Ее счет за телефон мог быть столь солидным ежемесячно. Люди, известные своей скупостью, часто в чем-то одном проявляют экстравагантность. Наверно, такой странностью Карлы были звонки за океан. На следующий день, к удивлению Ди, она не смогла связаться с Карлой. Звонить утром не имело смысла; Карла в это время гуляла. В час дня, когда Карла обычно возвращалась домой, Ди была занята — в «Плазе» проходил благотворительный ленч, на котором собирались средства на строительство лечебницы для беременных наркоманок. Этот проект не слишком интересовал Ди, но он гарантировал частое упоминание ее имени в прессе и способствовал созданию хорошего имиджа. Оргкомитет состоял из известных людей. Она позвонила Карле в пять, но снова не застала ее. Позже собралась еще раз набрать номер подруги, но тут пришел Эрнест укладывать Ди волосы. Она пыталась сочинить объяснение для Майка, чтобы освободиться на вечер. Другие дни были расписаны, но сегодняшний вечер оставался свободным. Майк что-то сказал насчет двух фильмов, которые можно посмотреть один за другим. Ему, похоже, нравилось сидеть в грязных кинотеатрах и поглощать кукурузные хлопья. Он уговаривал ее устроить в одной из комнат Зимнего дворца кинозал. Кинокартины нагоняли на Ди скуку. Она обожала старые ленты Карлы, но современные фильмы не трогали ее. Она ненавидела картины о рокерах и наркоманах в голубых джинсах. Она еще помнила то время, когда на экране можно было увидеть последнюю моду. Но теперь фильмы стали отвратительными, вульгарными. Ее жизнь была гораздо более красивой и увлекательной. Ди пролистала газеты. Ее снимок, сделанный на вчерашнем ленче, попал в «Женскую одежду». Удачная фотография — она покажет ее Карле. Но сейчас надо изобрести способ отделаться от Майка на вечер. Триктрак больше не годился для этого. Он полюбил эту игру. Господи, зачем она обучила его? Ди посмотрела на часы. Может быть, посоветовать ему сходить в клуб и поиграть в гольф, сказать, что она хочет… что хочет? Ее бесила необходимость лгать, придумывать оправдания. Она — Ди Милфорд Грейнджер. Она его содержит. Почему она не может просто сказать: «Сегодня мне надо уйти»? Особенно теперь, когда он перестал волноваться о своей дочери. Последнее время Майк не вспоминал о ней. Возможно, десять миллионов, отписанных Дженюари, успокоили его. Что ж, вернувшись домой, он узнает, что это завещание обратимо. Она перепишет его заново. Опять назначит Дэвида своим душеприказчиком. Эти десять миллионов перейдут к Дженюари… если Майк останется мужем Ди Милфорд Грейнджер до ее смерти. Она улыбнулась. Ну конечно… тогда она сможет уходить из дома в любой вечер. Но сегодня надо что-то придумать. Несуществующие подруги, партнерши по триктраку, уже не годились. Он знал всех ее знакомых. Невероятно! Всю свою жизнь она делала то, что хотела, а теперь вынуждена хитрить ради свиданий с самым дорогим ей человеком. Может быть, Карла подкинет идею. Хотя она не отличается изобретательностью. Ди безумно любила Карлу, но считала ее туповатой полькой. Часы показывали еще только десять минут двенадцатого; она позвонила Карле. Иногда Карла возвращалась домой рано. Никто не снимал трубку. Ну да… сегодня четверг. У прислуги выходной. Как можно при такой квартире обходиться горничной, которая приходит трижды в неделю! Она взяла номер «Дейли Ньюс» и полистала его. Княгине была посвящена половина колонки. Упоминались имена Ди и Майка. Но максимум внимания уделялось сенатору. Ди бросила газету на пол. Она упала центральным разворотом вверх. Ди уставилась на полосы издания. Вскочила с кровати, схватила газету. Там была фотография Карлы… она прятала лицо от камеры в аэропорте «Хитроу». Карла в Лондоне! Ди смяла газету в комок и запустила им через всю комнату. Все это время, пока она строила планы, придумывала, как провести время с Карлой, эта стерва находилась в Лондоне. Лондон! Она вскочила с кровати, бросилась к шкатулке с драгоценностями и нашла бумажку с тремя телефонами. Подошла к аппарату. Полдень. Значит, в Лондоне пять часов дня. Заказала разговор с Энтони Пирсоном. Фирма «Пирсон и Метленд» вела дела Ди в Лондоне. Меньше чем через пять минут раздался звонок, и ее соединили с, Энтони Пирсоном. Он обрадовался звонку Ди. Они поговорили о том, какая чудесная погода сейчас в Лондоне, о ее инвестициях. Потом она произнесла небрежным тоном: — Я знаю, что это не входит в ваши прямые обязанности… но я хочу узнать, кому принадлежат три лондонских телефона. Нет, это касается не меня, а моей падчерицы. Она живет с нами. Я наткнулась на телефонный счет и поняла, что она звонила по трем лондонским номерам. Ей только двадцать один год. Естественно, я беспокоюсь. Знаете, как это бывает… ваши рок-звезды прилетают сюда, и девушки ее возраста придумывают себе любовь… Она засмеялась: — Да… именно так… я не хотела бы, чтобы она выставляла себя на посмешище или связалась с дурными людьми. Так что если бы вы установили, чьи это телефоны… Тони, я бы была вам очень признательна. Продиктовав номера, она спросила: — Сколько времени это займет? Только час? О, Тони, вы просто чудо. Ди легла в ванну; она не спускала глаз с зеленой лампочки телефона, стоявшего на туалетном столике. Она посматривала на нее, накладывая макияж. Ровно в час огонек вспыхнул, и она услышала голос Энтони Пирсона. — Я получил нужную вам информацию. Но она меня немного озадачила. Боствикский телефон установлен в частном доме в Эскоте. Номер в Ловике принадлежит Джереми Хаскинсу, пожилому джентльмену, другу Карлы… его часто видят с ней, когда она приезжает сюда. Вы, кажется, ее знаете. Кстати, сейчас она здесь и остановилась в отеле «Дорчестер». Телефон в Белгравии принадлежит известному психиатру. Это показалось мне странным — что общего у девушки, которой двадцать один год, с этими людьми? — Кто живет в том доме в Эскоте? — Семейная чета Харрингтонов. У них есть дочь. Я представился почтовым клерком и сказал, что должен доставить им неточно адресованную корреспонденцию. По-моему, я проявил большую находчивость… вы согласны? — Сколько лет дочери? — Я не спросил, но, судя по голосам, Харрингтонам около шестидесяти. — Тони, я хочу узнать о них всех как можно больше. Особенно о психиатре. — Это не совсем по моей части… но я знаю одного человека… Дональда Уайта… он — частный детектив… ему можно доверять. — Да… пожалуйста… разузнайте все. Не беспокойтесь о Джереми Хаскинсе. Мой муж был продюсером, так что падчерица может знать его. Но наведите справки о Харрингтонах и их дочери. Опустив трубку, она попыталась совладать с охватившей ее паникой. Может быть, Харрингтоны были старыми друзьями Карлы… ее мог познакомить с ними Джереми… Шестнадцать звонков за один месяц! Шестнадцать раз за месяц Карла могла звонить только своей новой возлюбленной. Возможно, девушка богата и тоже звонит Карле шестнадцать раз в месяц. Может быть, они разговаривают ежедневно… или дважды в день. Карла, похоже, ведет двойную жизнь. Эскот — прекрасное место. Подруга Карлы, очевидно, весьма состоятельна. Вероятно, именно к ней тайно летает Карла. Возможно, девушка решила оборвать их связь… Это объясняет шестнадцать звонков в месяц. Карла умоляла ее вернуться к ней. Тогда становились понятными теплота и нежность Карлы, проявляемые в последнее время к ней, Ди. Нет, она не могла представить себе Карлу умоляющей кого-то. Но эти шестнадцать звонков в месяц! Когда Майк вернулся вечером домой, Ди уже приняла решение. Она узнает, чем занимается Карла в Лондоне, и представит ей доказательства! Но она должна быть осторожной с Майком. Она сходила с ним на два фильма… позже, сидя в «Сарди», сделала первый ход. Глядя в пространство, тяжело вздохнула. Они ели бифштексы. Майк почти расправился с мясом. Он посмотрел на тарелку Ди, к содержимому которой она едва прикоснулась. — У тебя нет аппетита? — Нет… я… о, Майк… я чувствую себя идиоткой. — Из-за чего? Он переложил себе часть ее бифштекса. — Я сделала дурацкую ошибку. — Какую? Это не может быть концом света. — Майк, турнир по триктраку состоится в Лондоне. — Когда? — О… кажется, пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого. — Что за проблема! Мы отправимся в Канн несколькими днями позже. Ты будешь есть остаток? Она подвинула ему тарелку. — Майк, я подумала… Слушай, я вовсе не рвусь в Канн… это твой город. Ты знаешь там всех… захочешь побыть с друзьями… заглянуть в казино. Я не играю в эти игры, и… Он пристально посмотрел на Ди. — Перестань ходить вокруг да около. Что ты хочешь мне сказать? — Майк… я бы хотела полететь в Лондон и… — Я же сказал, что согласен. — Но я буду каждый день испытывать чувство вины, зная, что отрываю тебя от кинофестиваля. У меня есть друзья в Лондоне. Я бы провела там неделю. Затем купила бы в Париже кое-что из одежды. А остаток нашего путешествия провела бы с тобой в Канне. — Отлично. — Что ты сказал? — Я говорю — отлично. Мы вылетим четырнадцатого, я оставлю тебя в Лондоне и отправлюсь дальше в Ниццу. Потом самолет вернется за тобой в Лондон, и ты присоединишься ко мне, когда пожелаешь. — О, Майк… ты — ангел. — Слушай, детка, мы же должны идти друг другу навстречу. Ты не обязана интересоваться кинофестивалем. Думаю, ты прекрасно проведешь время в Лондоне. — Вряд ли прекрасно, — сказала она. — Но, во всяком случае, интересно. (обратно)Глава двадцать пятая
Ди сидела в кабинете Энтони Пирсона и разглядывала фотографии. Она еще чувствовала себя дискомфортно из-за разницы во времени. Она прибыла в Лондон в десять часов вечера днем ранее; по нью-йоркскому времени это было только пять дня. Ди позвонила Тони Пирсону домой. Он сообщил, что полный отчет готов, но выразил сомнение в том, что полученные данные имеют отношение к падчерице Ди. Она сказала, что придет в его офис в одиннадцать утра. Затем заснула с помощью трех таблеток секонала. Она не вынесла бы одинокую бессонную ночь в Лондоне. Здесь не было ночной телепрограммы, и она не могла сосредоточиться на чтении. Ди остановилась в «Гровенор-Хаус», потому что Карла жила в «Дорчестере». Ди не хотела столкнуться с подругой раньше времени. Сидя в тихом консервативно обставленном кабинете Энтони Пирсона, она почувствовала приближение мигрени. Ди удавалось сохранять внешнее спокойствие. Она просмотрела все снимки, врученные ей Энтони. — Они великолепны, — равнодушным тоном заметила Ди. Энтони Пирсон кивнул. — Мой знакомый, Дональд Уайт, проводивший это, скажем, расследование, в течение нескольких дней наблюдал за домом в подзорную трубу. Бедняга сидел на дереве. Психиатр в отпуске… уехал отдыхать два дня назад… так что о нем мы ничего не узнали. Но фотографии Карлы и этой девушки просто потрясающие, верно? Конечно, я забрал негативы… это было оговорено заранее. Уайт — ведущий специалист в своей области и абсолютно надежен, но поскольку Карла — весьма известная личность, я счел эту меру предосторожности необходимой. — Помилуйте, — раздраженно произнесла Ди, — он не застал их вдвоем в постели! Энтони Пирсон кивнул. — Совершенно справедливо. Но эта фотография… девушка обнимает Карлу за шею… здесь они целуются… посмотрите на этот снимок… они идут, взявшись за руки. Нет, он не застал их в постели… но эта информация достаточна для какого-нибудь журнала, публикующего сплетни. Ди уставилась на снимки. Ее голова начала раскалываться. Могла ли она, Ди, соперничать с такой молодой и прелестной девушкой? — Она очень красива, — медленно промолвила Ди. — Восхитительна, правда? Уайт установил, что Харрингтоны не являются ее родителями. Они обслуживают девушку. Ее зовут Зинаида Джонс. Дом арендован; он красив, невелик, стоит в пустынном месте и окружен участком земли. Карла ездит туда ежедневно. Трижды ночевала там. Ди дрожащей рукой вытащила сигарету из пачки. Снова поглядела на девушку. Сильно увеличенный снимок был не очень резким. Она сделала глубокую затяжку. — У вас найдется аспирин, Тони? Я не могу адаптироваться к временному сдвигу. — Конечно. Он направился к медицинскому шкафчику, висящему в ванной. Когда Энтони Пирсон вернулся, Ди все еще изучала фотографии. — Все выглядит немного странно, да? — сказал он. — Похоже, великая Карла нашла себе новую молодую любовь. Но ведь о ней всегда ходили подобные слухи, верно? — Да, — согласилась Ди. — Но я знаю Карлу. Она бывает у меня дома, и я никогда не замечала за ней ничего такого, что могло бы их подтвердить. — За исключением этих фотографий, — сказал Энтони Пирсон. — Они весьма убедительны. Почему люди не могут выражать свои чувства в уединении спальни? Зачем ей понадобилось гулять в обнимку с этой девушкой? — Она ведь не знала, что мистер Дональд Уайт сидит на дереве с фотокамерой. Вы говорите, это безлюдное место? — Дом окружен участком площадью в сорок соток. Моя дорогая миссис Уэйн, при чем тут ваша падчерица? Ди покачала головой. — Ну… возможно, она знакома с Зинаидой. — О… На мгновение Энтони Пирсон слегка покраснел. — Понимаю. Все эти звонки… вы полагаете, что ваша падчерица… дружит с этой Зинаидой Джонс? Ди пожала плечами. — Почему бы и нет? Она училась в Швейцарии. В женском колледже. Она встала. — У вас есть точный адрес? — Да. Вот он. Это в часе езды от города. — Спасибо. Вы пришлете мне завтра в «Гровенор» счет от мистера Уайта? По понятным вам причинам я не хочу, чтобы он пришел в Нью-Йорк. По дороге в пригород она обдумывала план своих действий. Шофер знал, как проехать к поместью; они покинули Лондон и оказались среди роскошных зеленых пейзажей. Автомобиль приближался к Эскоту… Но что дальше? Она не может нажать кнопку звонка и сказать Зинаиде Джонс: «Слушайте, она моя!» Она попытается увидеть их обеих со стороны. Ситуация казалась Ди такой отвратительной, что она, втянув голову в плечи, удрученно откинулась на спинку сиденья. Но она была полна решимости покончить с этим делом. Сколько лет беззаветной любви она отдала Карле… сколько сделала подарков. Не на эти ли последние десять тысяч помчалась Карла к своей молодой любовнице? Впервые Ди поняла, что испытывает мужчина, становясь рогоносцем. Рогоносец! Как она смогла даже мысленно произнести это слово? Но оно точно отражало ее положение. Она не могла сказать, что Карла ей изменила… несомненно, полька делала это и прежде. Ди никогда не задавала Карле вопросов, а полька не расспрашивала ее об ее жизни с Майком. Однажды она попыталась поделиться с Карлой… объяснить, что их брак — видимость… что она испытывает облегчение, переспав с ним… потому что это означало, что на двое или трое последующих суток она избавлена от близости с мужем. Теперь Ди вспомнила об этом. Любопытно… в течение последних месяцев Майк неделями не дотрагивался до нее. Она только сейчас заметила это, и сделанное наблюдение встревожило Ди. Она сама не хотела, чтобы он касался ее… но неужели она так непривлекательна? Она знала, что ее тело теряло упругость… на бедрах, животе. Ди обращала на это внимание, лежа рядом с Карлой. У польки не было ни единого лишнего грамма. Ди не переживала из-за того, что ее тело стало немного мягким… находясь с Карлой, она казалась себе более женственной. Но почему Майк избегал ее? Может быть, причина в чрезмерном у влечении гольфом? Последнее время он много времени уделял азартным играм. Много ли он выигрывает? Но ей нет до этого дела. Сейчас Ди интересовалась Карлой… и ее новой девушкой. Но, может быть, она вовсе не новая. Они, вероятно, вместе уже какое-то время. Возможно, Карлу потянуло к молодым. Сначала Дэвид… теперь эта девушка… Водитель подъехал к густой живой изгороди. — Вот этот дом, мадам. Вход чуть дальше. Но вы просили остановиться здесь. — Да. Я хочу сделать сюрприз старым друзьям. Если автомобиль подъедет к дому, сюрприза не получится, верно? — Да, мадам. Поверил ли он ей? Англичане, когда хотят, могут быть непроницаемыми. Он, вероятно, подумал, что она хочет застать врасплох любовника. Он прав. На маленьких железных воротах не было замка. Она открыла их и пошла по дороге. Начал накрапывать дождь. На Ди был плащ, она обвязала голову платком. Территория имела ухоженный вид. Перед домом в стиле Тюдоров стояла английская малолитражка. Ди медленно приближалась к зданию. Есть ли у Зинаиды пес? Будет ужасно, если какой-нибудь английский мастифф вцепится ей в глотку. Ди представила себе заголовки: «Собака бросается на Ди Милфорд Грейнджер, вторгшуюся в чужие владения». Боже, как она объяснит это? В доме горел свет. Вероятно, Зинаида находится там… или она гуляет на природе, обняв Карлу за талию, как на фотографии? Карла любит гулять в любую погоду. Ди была готова поспорить, что Зинаида притворяется, будто тоже обожает это. Она на цыпочках приблизилась к окну. Увидела уютную гостиную без претензий; в комнате никого не было. Возможно, если она обойдет дом… Карла всегда любила кухни… — Почему ты не заходишь… на улице дождь. Ди вздрогнула, услышав голос. Обернулась… увидела Карлу. Полька была в платке и пальто, на ее лице блестели капли дождя. — Карла… я… — Зайдем в дом. Здесь холодно и сыро. Карла открыла дверь. Ди заметила, что у нее есть ключ. Это конец… Ей не следовало приезжать. Лицо Карлы напоминало маску. Она, вероятно, едва сдерживает ярость и сейчас скажет, что все кончено. О боже, зачем она это сделала? Однажды Ди видела пьесу, в которой любовница прилагала максимум усилий к тому, чтобы жена все узнала… потому что после предъявления доказательств мужу не останется ничего иного, как признаться в адюльтере. Если Карла признается в измене, Ди придется уйти. Даже если частица ее души умрет при этом… Она уйдет, чтобы сохранить свою гордость. Потому что без гордости… нет отношений. Однако ей хотелось броситься на колени перед Карлой… попросить ее забыть о том, что она приехала сюда… забыть весь нелепый инцидент. Карла повесила пальто на вешалку, стоявшую у двери, и осталась в габардиновых слаксах и мужской рубашке. Ее волосы были прямыми, незавитыми. Она выглядела великолепно, несмотря на усталый вид. Ди стояла не двигаясь. Карла, повернувшись, указала на вешалку. — Снимай пальто. Оно мокрое. Ди сняла пальто; она знала, что испортила прическу, задев ее шарфом. Она, вероятно, никогда еще не выглядела так плохо. И где-то в доме Карлу ждало эффектное молодое создание. — Сядь, — сказала Карла. — Я принесу бренди. Она исчезла в другой комнате. Ди осмотрелась. На стене висел портрет Карлы. Возле него — снимок немецкой овчарки, очевидно, давно умершей, потому что рядом с псом стояла маленькая девочка. Видно, овчарка была любимицей Зинаиды. Где сейчас девушка? Вероятно, наверху; похоже, она, как и все, уступала переменчивым настроениям Карлы, считалась с ее потребностью в одиночестве. Карла вернулась с бутылкой бренди и наполнила спиртным два бокала. Ди с изумлением увидела, что полька опустошила свой бокал одним залпом. Карла села. — Хорошо, Ди… не стану спрашивать, как ты разыскала меня. Избавлю тебя от этого унижения. На глазах Ди выступили слезы. Она поднялась и подошла к камину, в котором тлели головешки. — Я бы отдала десять лет моей жизни, чтобы вернуть назад сегодняшний день. — Я так много значу для тебя? — почти ласково спросила Карла. Ди повернулась к ней, с трудом сдерживая слезы. — Много ли ты для меня значишь? О, господи… Она прошла по комнате к своей сумке и взяла сигарету. Закурив, повернулась к Карле. — Нет… не много. Но достаточно, чтобы сходить с ума при каждом твоем исчезновении… чтобы врать мужу… отправить его одного в Канн… а самой тем временем позвонить в Лондон другу… установить твое местонахождение… узнать о Зинаиде. Я, должно быть, мазохистка. Вместо того чтобы выбросить тебя из моего сердца, я приезжаю сюда… чтобы увидеть ее своими глазами… чтобы… Почему я терзаю себя подобным образом? Я знаю, что она гораздо моложе меня… очень красива… я так жалею о своем поступке… мы бы были вместе, если бы я не совершила его. — Где ты ее видела? — спросила Карла. Ди открыла сумочку и бросила фотографии Карле на колени. Карла рассмотрела их. Бросила на Ди изумленный взгляд. — Это работа наемного соглядатая. Ди беспомощно покачала головой. — Его зовут Дональд Уайт. Он — англичанин. Не беспокойся… негативы у меня. Послушай, Карла… меня ждет автомобиль… Я, пожалуй, пойду. Она направилась к двери. Протянув руку к пальто, повернулась к Карле. — Скажи мне одну вещь… как долго длится эта связь? Карла перевела взгляд с фотографий на Ди. С печальной улыбкой покачала головой. — Да… понимаю… фотографии… Что еще тебе известно? — Я знаю, что ты провела здесь несколько ночей. — Да, твой человек весьма дотошен. Но все же недостаточно дотошен… верно? — Тебе нравится эта игра? Ди сорвала пальто с деревянной вешалки. — Нет… ты не поверишь, как болит моя душа. Но раз ты проделала столь длинный путь… обременила себя такими хлопотами… думаю, перед уходом ты должна познакомиться с Зинаидой. — Нет. Ди стала надевать пальто. Внезапно подбежав к подруге и толкнув ее, Карла заставила Ди сесть в кресло. — Ты шпионила за мной… а теперь хочешь поскорей уйти отсюда. Соглядатай заслуживает того, чтобы узнать развязку. Возможно, она послужит тебе уроком на будущее. Подойдя к лестнице, Карла крикнула: — Миссис Харрингтон! Невысокая седая женщина выглянула из-за балюстрады. — Скажите Зинаиде, чтобы она оторвалась от телевизора и спустилась вниз. Я хочу познакомить ее с моей подругой. Карла налила себе бренди. Указала на полный бокал Ди. — Выпей. Тебе это не помешает. Ди не отводила глаз от лестницы. Наконец она увидела девушку. В жизни она была еще лучше, чем на фотографиях. Высокая Зинаида только немного уступала в росте Карле. Светлые волосы девушки падали на плечи. На снимках она выглядела старше. Ди решила, что Зинаида — ровесница Дженюари. Карла ласково улыбнулась. — Иди сюда, Зинаида. У нас гостья. Это миссис Уэйн. Девушка улыбнулась Ди и посмотрела на Карлу. — Можно мне попробовать шоколадное печенье, которое миссис Харрингтон приготовила сегодня днем? Она не разрешает мне брать его до обеда. — Мы слушаемся миссис Харрингтон, — медленно произнесла Карла. — Вероятно, она хотела сделать нам сюрприз. — Но теперь, когда ты знаешь, сюрприза не получится. Можно мне взять одну штуку? Пожалуйста. Мне так надоели овсяные пряники, которые она вечно печет. — Ступай обратно к телевизору, — сказала Карла. Девушка огорченно вздохнула. Затем указала на Ди: — Она останется обедать? — Мы пригласим ее? Зинаида улыбнулась: — Обязательно, если ты расскажешь мне перед сном сказку про Красную туфельку. Она выбежала из комнаты. Ди проводила ее взглядом. Потом посмотрела на Карлу. — Она очень красива… но в чем дело? Это какая-то игра? Мне показалось, что она ведет себя, как двенадцатилетняя девочка. — На самом деле как десятилетняя. — Что ты имеешь в виду? — Ее интеллект соответствует десятилетнему возрасту. — И она — твоя большая любовь? — Она — моя дочь. Ди на мгновение потеряла дар речи. — Выпей бренди, — сказала Карла. Ди осушила бокал одним залпом. Карла снова налила спиртное им обеим. — Сними пальто и останься пообедать. Если любишь шоколадное печенье. — Карла, когда ты родила ее? — Тридцать один год тому назад. — Но она выглядит так молодо. Карла пожала плечами. — Они всегда выглядят молодо. Возможно, потому, что не ведают «взрослых» проблем. — Ты… хочешь рассказать мне о ней? — После обеда. Но сначала я предлагаю тебе отпустить машину. Я сама отвезу тебя назад в город. Это был непринужденный обед. От такого поворота событий Ди испытала облегчение, ее душу переполняла любовь к очаровательной девочке-женщине, которая с аппетитом поглощала еду и болтала, не умолкая ни на минуту. Мистер и миссис Харрингтон были, очевидно, семейной парой, ухаживавшей за Зинаидой. Ди заметила, что Зинаида называет Карлу «крестной». По завершении обеда девушка, вскочив из-за стола, сказала: — А теперь крестная расскажет мне про Красную туфельку. Ди сидела, затаив дыхание, пока Карла разыгрывала сказку — она говорила, танцевала. Ди никогда не видела, чтобы Карла так отдавала себя. Но ее любовь к Зинаиде была заразительной. В девять часов появилась миссис Харрингтон. — Идем, Зинаида… у крестной гостья, пора принимать ванну и ложиться в постель. — Ты придешь потом послушать молитву? — Конечно, — обещала Карла, целуя дочь. Карла подбросила дров в камин. Печально уставилась на огонь. — Она очаровательна, правда? — Она выглядит потрясающе, — согласилась Ди. — У нее твои черты лица… а глаза темные. Наверное, отец Зинаиды был очень красив. — Я не знаю, кто он. Ди молчала. Она не двигалась, боясь разрушить настроение. Карла неуверенно заговорила. — Понимаешь, меня в один вечер изнасиловала почти дюжина русских солдат. Кто-то из них стал ее отцом. Сев, Карла снова уставилась на пламя. Медленно заговорила, не отводя глаз от огня. Тихим бесстрастным голосом принялась рассказывать о своем детстве в Вильно… о сестре Терезе… о занятиях балетом… войне… русской оккупации… изнасиловании. Она объяснила, что не могла покинуть Вильно до рождения ребенка. Поведала о Григории Сокоине, принявшем у нее роды… она не могла кричать вту ночь, потому что в обители спали дети… терпела невыносимую боль в течение девятнадцати часов… Григорий не отходил от нее… В последний момент, когда они поняли, что с нею что-то не так… ребенок выходил попкой вперед… Григорий преодолел страх и помог Зинаиде родиться, буквально вытянув ее из Карлы. Она до сих пор видела Григория, склонившегося под тусклым верхним светом… шлепающего залитую кровью малышку по ягодицам до первого жалобного крика. Карла посмотрела на Ди. — В фильмах и больницах мы всегда видим мать, получающую душистый белоснежный сверток. Но моя крохотная спальня напоминала в ту ночь бойню. Ребенок был залит моей кровью… свисала длинная пуповина… Григорий сделал все необходимое, пока из меня выходил послед. Она слегка вздрогнула. — Я никогда не забуду ту ночь… мы обмыли малышку… уничтожили окровавленные простыни… в первый раз приложили ребенка к моей груди. Мне не приходило в голову, что у меня может родиться девочка с золотыми волосами. Я всегда думала, что ребенок будет уменьшенной копией русского солдата с носом картошкой и запахом перегара изо рта. Взяв девочку на руки, я поняла, что никогда не смогу бросить ее. Она тихим голосом рассказала об опасном путешествии, проделанном с двадцатью воинами Армии Крайовой… Днем они прятались в сараях… ночью перебирались по крышам и подземным туннелям… Ребенок был привязан платком к ее животу… Когда рядом находились русские, она заглушала крики девочки с помощью водки. — Так все и произошло. Здоровой красивой малышке было около трех месяцев… мы приближались к «коридору»… нас окружали фашисты… и тут девочка заплакала. Что мы только ни делали — не помогала ни водка, ни шоколадное печенье — наш НЗ. Ее крики звучали все громче. Я приложила девочку к груди… но у меня было мало молока. Нам не удавалось успокоить ее. Вдруг один из мужчин вырвал Зинаиду из моих рук и прижал подушку к лицу девочки, другой в это время зажал мне рот, чтобы я не закричала. И когда немцы ушли… Зинаида была мертва. Боже! Я никогда не забуду этот момент… Мы все смотрели на безжизненное крохотное тельце. Я всхлипывала. У мужчины, державшего подушку, по лицу текли слезы. Внезапно он начал делать Зинаиде искусственное дыхание. Мы все стояли, не шевелясь. Двадцать грязных замерзших людей, путешествовавших вместе, спавших, прижавшись друг к другу, снимавших вшей со своих товарищей, в течение трех долгих недель жили двумя мыслями — как сохранить жизнь и вырваться из ада. У всех в глазах стояли слезы, пока мужчина занимался Зинаидой. Даже маленькие дети с осунувшимися лицами — некоторым исполнилось всего пять или шесть лет — понимали, что происходит. И когда Зинаида издала первый писк, отдаленно напоминавший крик ребенка, все упали на колени и стали благодарить Господа. Зинаида ожила. Она была мертвой в течение пяти или десяти минут — этого времени хватило, чтобы отсутствие кислорода причинило вред ее голове. Но тогда я не знала об этом. Мы добрались до Швеции; Зинаида казалась нормальным ребенком, только более красивым, чем другие. Я оставила ее в семье Ольсонов. Они думали, что Зинаида была подкинута в обитель и взята мною. Отправляясь в Лондон, я обещала присылать им деньги на содержание девочки… и забрать ее сразу по окончании войны. Понимаешь, я собиралась пожить у дяди Отто. Я не могла обременять его ребенком и надеялась поступить в балетную труппу. Тогда бы я смогла содержать дочь. Остальное тебе известно. Джереми нашел меня в бомбоубежище, и я стала сниматься. Это звучит легко и просто, но я попала в чужой мир с незнакомым языком, которым должна была овладеть… Я смущалась и думала, что все смеются над моим английским. Не верила в свои актерские способности. Умела только танцевать. Но я получила возможность отправлять миссис Ольсон приличные деньги каждую неделю; она была очень добра и постоянно присылала мне фотографии Зинаиды. Девочке исполнилось три года, когда появились первые симптомы беды. Письма миссис Ольсон становились все менее радостными. Зинаида плохо ходила… почти не говорила… отставала в развитии от сверстников. Сначала я успокаивала себя тем, что многие дети сначала отстают в развитии — ты знаешь, как это бывает. Все твердят тебе, что Эйнштейн не говорил до пяти лет… и ты выбрасываешь тревожные мысли из головы. Ребенок догонит своих ровесников. И наконец миссис Ольсон присылает письмо с просьбой разрешить ей отдать ребенка на гособеспечение. «В конце концов Зинаида — не ваша дочь, она — сирота. Зачем вам тратить на нее деньги?» Карла зашагала по комнате. — Представляешь мои чувства? Я настояла на том, чтобы девочку привезли в Лондон… Хотела растить ее как свою дочь. Но Джереми оказался весьма практичен. К этому времени я уже обрела известность в Лондоне. Джереми объяснил, что незаконнорожденный умственно отсталый ребенок погубит мою карьеру. Ты должна учесть, это был не 1971 год, — сейчас общественность посмотрела бы на это обстоятельство сквозь пальцы. В 1946 году актрису с бастардом выкинули бы из бизнеса. Джереми сам отправился в Швецию и доставил девочку в Лондон. Он также раздобыл английское свидетельство о рождении и придумал фамилию Джонс. Мы поместили Зинаиду в психиатрическую больницу, где девочку подвергли всевозможным обследованиям. Все заключения были одинаковыми. Повреждение мозга. Она способна к обучению… Но никто не мог сказать с определенностью, что будет с ее интеллектом. Карла налила себе еще бренди. — В одном, пожалуй, нам повезло — ее умственное развитие соответствует десятилетнему возрасту, а эмоциональное — шести годам. — Но десятилетний ребенок способен натворить многое, — заметила Ди. Карла кивнула. — К сожалению, ты права. Она беременна. Полька подошла к лестнице. — А сейчас я должна подняться наверх и послушать, как она читает молитву. Когда Карла вернулась вниз, Ди ждала ее, стоя у лестницы. — Карла… что мы предпримем? — Мы? В глазах Ди стояли слезы. — Да… мы. Боже мой, Карла… теперь я все поняла… почему ты исчезала… почему была такой… — Скупой? — Не скупой… но… — Скупой, — с печальной улыбкой произнесла Карла. — Ди, у меня нет состояния, которое мне приписывают. Я ушла из кино, имея четверть миллиона. Эти деньги вложены. Я живу на проценты и подарки, которые получаю. Она посмотрела на Ди со слабой улыбкой. — Джереми стареет. Он не всегда может вовремя позвонить мне, когда случаются неприятности. Я приехала сюда и нашла для Зинаиды компаньонку. Профессиональную медсестру. Но она не станет надевать белый халат. Будет жить с Зинаидой и держать связь со мной. Харрингтоны — замечательные люди… они ведут хозяйство… делают все, что в их силах. Но они не могут неотлучно находиться при ней. Мисс Роберте после своего прибытия сюда будет постоянно приглядывать за Зинаидой — ездить с ней верхом, играть в шашки, читать ей… Медсестра обойдется мне в триста долларов в неделю, но я обрету покой. Я не могу надолго оставаться здесь и ухаживать за Зинаидой… она боготворит меня. Если я задерживаюсь здесь, она привязывается ко мне. Однажды ночью она… попыталась заняться со мной любовью. Встав, Карла воздела руки к потолку. — Почему бы и нет? Господи, у нее тело женщины. Оно требует секса… жаждет его. Сейчас мы держим ее на транквилизаторах. Но мне не следует жить тут долго. Психиатр, следящий за ней, договаривается насчет легального аборта. — Кто сделал ее беременной? — Мы думаем, посыльный из магазина. Кто знает? Харрингтоны вдруг заметили тошноту по утрам, утолщение талии… они стали расспрашивать Зинаиду. Она ничего не скрывала. Негодяй сказал Зине, что, если он засунет свой член в ее пиписку, она получит удовольствие. Но ей это занятие не понравилось, она испытала боль. Мы велели Зине никогда больше этого не делать, и она дала нам обещание… но мне будет спокойнее, когда на следующей неделе приедет мисс Роберте. — Карла, я хочу тебе помочь. Карла, улыбнувшись, взяла Ди за руку. — Ты уже помогла. Твои чеки были мне очень кстати. — Нет… я хочу сделать больше. Многие люди с моими средствами создают фонды и благотворительные организации. У меня есть такие фонды. Но я хочу приносить добро сейчас, пока я жива. Вернувшись в Нью-Йорк, я немедленно перепишу завещание. Положу десять миллионов в необратимый фонд, предназначенный для тебя и Зинаиды. При желании вы сможете получить эти деньги сейчас. Одни только проценты будут ежегодно составлять более полумиллиона долларов. Мы создадим в Штатах фонд Зинаиды… построим школу и назовем ее именем твоей дочери… Вместе все обдумаем… Возможно, перевезем Зинаиду в Америку. Она сможет жить с медсестрой в домике для гостей, стоящем в моем имении недалеко от Зимнего дворца. Я оборудую проекционный зал, чтобы она могла смотреть фильмы… Все равно Майк мечтает о нем… возможно, мы добьемся прогресса… разучим с Зинаидой небольшую речь. Пусть люди увидят, сколь прекрасным может быть умственно отсталый ребенок. А ты сможешь вернуться в кино и сказать всем, что удочерила Зинаиду… наше время не будет уходить без пользы. Я перестану посещать бессмысленные ленчи, а ты — работать у этого чертова станка. Наши дни заполнит настоящее дело. Карла… мы будем работать вместе. Увидев, что Карла плачет, она заключила ее в свои объятия. Ночью, лежа с Ди в постели, Карла зашептала: — Я люблю тебя, Ди. Никогда тебя не покину. Не буду больше внезапно уезжать. Теперь мне дышится легче. У Зинаиды нет никого, кроме меня. Я всегда беспокоилась — что, если я заболею? Вероятно, поэтому уделяла столько внимания своему здоровью. Мои деньги позволяют мне неплохо жить. Но их не хватит на старость или продолжительную болезнь; что тогда ждет Зинаиду? Я не могу даже подумать о государственной больнице. Я умру раньше Зинаиды — тех средств, которые останутся после меня, ей не хватит до конца жизни. Но теперь, благодаря тебе, я смогу жить без страха перед будущим. Ди ездила в Эскот из «Гровенор-Хаус» до аборта Зинаиды, потом отправилась в Канн. Карла собиралась задержаться еще на неделю, по истечении которой подруги договорились встретиться в Нью-Йорке. Сидя в своем самолете, Ди думала о том, испытывал ли кто-нибудь такое счастье, какое охватило ее сейчас. Она даже сделает вид, что ей нравится Канн. Она может проявить душевную щедрость. Потому что по возвращении в Нью-Йорк начнется ее настоящая жизнь… (обратно)Глава двадцать шестая
Майк сделал три семерки подряд. Он попал в такую же полосу везенья, как и на той неделе в Лас-Вегасе. За его спиной в казино Монте-Карло собралась толпа. Оставив выигрыш, Майк снова бросил кости. Сделал четверку, пятерку, девятку и десятку. Снова метнул кости. Четверка. Сохранил ставку и с криком «числа» кинул кости. Сделал девятку. Потом две шестерки, четверку, три девятки, десятку и еще раз четверку. Еще один бросок — одиннадцать! Фортуна улыбалась ему. Следующая цифра — шесть. Он продолжал играть, называя числа. Выкинул восьмерку, четверку, десятку… Сделав восемь «порядков», получил свой выигрыш франками. В долларах он составил почти двадцать пять тысяч. Майк обменял десять тысяч франков на фишки и отправился дальше по казино. Это был хороший вечер. Но Майк чувствовал, что он еще не кончился. Подойдя к столу с «железкой», закричал «банк» и проиграл. Дождавшись следующей игры, снова закричал «банк» и выиграл. Дождавшись своей очереди, забрал весь банк. Через час он отошел от «железки» с сотней тысяч франков. Приблизился к столу с рулеткой, где играла Ди. Она поставила на тридцать шесть, Майк протянул руку и окружил ее фишку с обеих сторон своими. Выигрыш выпал на тридцать пять. Ди в изумлении увидела, как крупье пододвигает все фишки к Майку. Он забрал их со стола и отошел от него. Направился к кассиру. Сегодня пора уходить. Пора уходить. Точка. Он провел в казино целую неделю, ни разу не оставшись в проигрыше. Он нашел картину, которую искал. Правдивую историю женщины, готовящейся разменять четвертый десяток и зарабатываюшей на жизнь участием в конкурсах красоты. Она никогда не занимает первое место, но всегда выходит в финал и получает призовые. Потом — переезд на автобусе в другой город… очередной конкурс. Посмотрев фильм трижды, он принял решение. Картина была снята на техасской натуре двумя молодыми независимыми продюсерами. У них кончились деньги, и они взяли в банке кредит размером в триста тысяч долларов, чтобы завершить работу над лентой. Потом в поисках прокатчиков приехали в Канн. Майк обеспечил себе шестьдесят процентов прибыли от картины, погасив задолженность банку и взяв на себя рекламные расходы. Встретив Сирила Бина из «Сенчери Пикчерс», уговорил его посмотреть фильм. Не успела картина закончиться, как они пожали друг другу руки. «Сенчери» должна была получить тридцать пять процентов от проката; кинокомпания брала на себя частичное финансирование рекламы. Майк Уэйн возвращался в кинобизнес. Он собирался устроить премьеру в престижном кинотеатре и поддержать ее мощной рекламной кампанией. Исполнительница роли усталой конкурсантки была актрисой экспериментальной внебродвейской студии; ее имя ничего не говорило публике. Некоторые критики, посмотревшие ленту в Канне, отзывались о ней восторженно. Он не может проиграть. Даже если фильм не побьет рекорды по кассовым сборам, его, Майка, затраты обязательно окупятся. Но самое главное — он снова действует. Актриса имела все шансы получить премию Академии. Все было решено. У Майка в гостиничном номере лежал подписанный контракт. После того как Майк расплатился с банком, у него осталось полмиллиона долларов наличными… и несколько вечеров в казино. Затем обратно в Нью-Йорк… И тогда он позвонит Дженюари. Он готовился ночами к предстоящему разговору. Он знал, как ему следует повести его. Он даже не упомянет имя Тома Кольта. Сообщит дочери, что снова занят бизнесом и предложит ей работать у него. Он откроет свой офис. Она может помочь ему в проведении рекламной кампании, ездить вместе с ним в разные города на местные премьеры картины. Если она откажется… он предпримет другую попытку. Проявит выдержку… спокойно отнесется к ее решению. Спустя несколько дней позвонит снова и попросит дочь об одолжении. Скажет ей, что ему нужно, чтобы в прессе появились отклики на фильм. Не согласится ли она подготовить статью для «Блеска»? Осветить премьеру… сфотографировать его в офисе, во время поездок. (Меньше всего он нуждался в статье «Блеска». Он нанял ведущее пресс-агентство и дал ему большое задание, но он скроет это от дочери. Сделает вид, что ему необходимо ее содействие.) Майк был уверен в том, что, встретившись и проведя вместе некоторое время, они восстановят старые отношения. Все будет, как раньше. Их охватит прежнее радостное волнение. Потому что отныне он снова будет излучать энергию. Он провернул несколько ловких махинаций в вестибюле каннского отеля «Карлтон». Практически украл права на прокат в Штатах превосходной итальянской картины, снятой молодым режиссером. Также приобрел половину американских прав на чешскую ленту, которая не принесет прибыли, но будет завоевывать призы на всех фестивалях. И в ее титрах будет стоять его имя. В 1972 году Майк восстановит свои позиции. Он собирался расстаться с Ди. Он даст ей развод. Поблагодарит за попытку создать семью и объяснит, что она потерпела крах. Конечно, это будет означать, что она перепишет завещание и Дженюари не получит десяти миллионов. Но он многое понял, прожив год с Ди. Он женился на Ди, чтобы обеспечить будущее Дженюари. И что с ней теперь? Она живет с немолодым прожженным бабником в коттедже «Беверли Хиллз». Какое будущее ожидает ее с Томом Кольтом? Она, несомненно, знает, что самое важное для Тома — работа… а любовница, в конце концов, займет третье по значению место, после семьи. Она пошла на эту связь, понимая, что ей отведено лишь третье место. Она приняла правила игры. Не пожелала брать у жизни подарки. Как и он, Майк. Он не вынесет еще одну такую зиму в Палм-Бич… лето в Мар-белле… светскую болтовню за званым обедом… невозмутимую вежливость Ди… Не удивительно, что у нее нет морщин на лице — она не ведала никаких чувств. Жила в мире пустых бесед, триктрака, хождения по магазинам… Жизнь одноклеточных. Она, вероятно, даже не устроит сцены из-за их развода. Возможно, он нарушит частично ее планы в отношении Марбеллы — особенно в части размещения гостей за столом, — но она не испытает ощущения большой утраты. И Дженюари ничего не потеряет из-за того, что не станет наследницей. По возвращении в Нью-Йорк он застрахует свое здоровье, и ни при каких обстоятельствах не станет аннулировать полис. Арендует свой прежний «люкс» в «Плазе»… с двумя спальнями. Предложит Дженюари перебраться к нему. Нет, он скажет ей, что комната свободна, и она может занять ее в любой момент. Несколько раз он едва не позвонил ей в «Беверли Хиллз», но вовремя одергивал себя. Майк принял меры к тому, чтобы его сделки по приобретению прав на картины были подробно освещены в «Эстраде». Он отправил журнальные вырезки Дженюари без комментариев. Они собирались вылететь в Нью-Йорк в пятницу. В среду Майк совершил короткое путешествие в Швейцарию и положил полмиллиона наличными на анонимный кодовый банковский счет. Отбил телеграмму в «Плазу» с просьбой забронировать для него старый «люкс» с субботы, двадцать восьмого мая. Он дождется их возвращения в «Пьер»… там сообщит новость Ди и отправится в «Плазу».Днем в четверг Ди бегала по Рю Антиб, покупая духи и подарки для друзей. Майк встретил продюсера, которого всегда недолюбливал. Знакомый пригласил Уэйна в свой «люкс» сыграть в джин. Майк заколебался. Продюсер славился своим везеньем. Майк кивнул. Почему бы и нет? Он окончательно испытает судьбу. Он покинул «люкс», став богаче на тридцать тысяч долларов, и тут же купил в магазине «Картье» изящный портсигар из платины. Ему удалось сделать срочную гравировку. На следующий день по дороге в аэропорт он бросил вещицу на колени Ди. На портсигаре было выведено: «Дорогой Ди, вернувшей мне удачу, с благодарностью от Майка». Она поцеловала его в щеку. Может быть, ему следует сейчас сказать ей о разводе и покончить с этим делом… Но он решил подождать. Шестичасовой перелет обернется пыткой — им не останется ничего другого, как обсуждать неудачный брак. К тому же тут нет ее вины. Она купила себе законного спутника. Эскорт. А теперь пришло время подыскать ему замену. Этот мужчина возвращался к нормальной человеческой жизни. Они покинули Канн и в Ницце сели в свой самолет. Майк занял кресло, отделенное от Ди проходом. Он принес на борт шампанское и икру, оплаченные им самим. Сначала он колебался — этот ритуал был привилегией Дженюари. Но сейчас он действовал ради дочери. Он возвращается к ней и свободе. Поднявшись в воздух, они открыли шампанское и икру. Их обслуживал новый стюард — молодой француз, исполнявший обязанности их водителя в Канне. Он мечтал увидеть Америку. Майк предложил ему лететь с ними, а Ди сказала, что в Зимнем дворце найдется комната для садовника или шофера. Его звали Жан-Поль Валлон, и все свои девятнадцать лет он провел в Канне. Никогда не был даже в Париже. Его провожали мать, тетя, три кузена, сестра и шурин. Никто из них не летал на самолете — роскошный салон личного лайнера Ди ошеломил родственников Жан-Поля. Подняв бокал, Ди улыбнулась Майку. — За Канн… и твоих друзей. Он поднял бокал. — За Марбеллу… за твою жизнь и твоих друзей. Улыбнувшись, она отпила шампанское. Майк поднес бокал к губам… но не смог заставить себя выпить. Внезапно ему показалось кощунством пить «Дом Периньон» с кем-то, кроме Дженюари. Держа бокал в руке, он посмотрел в окно. Нелегко будет объявить о своем решении Ди. В конце концов, она не совершила ничего плохого… всего лишь была сама собой. Просто она создана не для него. Открыв портсигар, Ди взяла сигарету. Поглядела на плывущие внизу облака. Надпись на портсигаре прелестна. Майк так добр… обходителен… он действительно любит ее. Но она не может больше жить так. Не намерена и впредь лежать ночами без сна, изобретая предлоги, чтобы побыть с Карлой. Нет, переписав завещание, она поговорит с ним. Объявит о решении жить своей жизнью. И он сможет делать то же самое, если пообещает избегать скандалов и быть при ней в случае необходимости. Приняв эти условия, он сохранит наследство для Дженюари. Ди посмотрела на его мужественный профиль. Она унизит Майка своим предложением. Но другого выхода нет. Она уставилась на портсигар. Впервые мужчина сделал ей дорогой подарок. Она прикоснулась к нему пальцем. Майк потратил на портсигар большую сумму. Вероятно, все выигранные им деньги. Пелена слез заволокла глаза Ди. Господи, почему всегда кто-то должен страдать? Она сделала глубокую затяжку. Потушила сигарету о маленькую пепельницу. Она подарила ему хороший год… сделала все для его дочери… Дженюари станет богатой женщиной, если Майк согласится с ее предложением. Но все же совесть мучила Ди. Она снова поглядела на портсигар. Только любящий мужчина способен сделать такую надпись: «Дорогой Ди, вернувшей мне удачу, с благодарностью от Майка». Но у нее нет оснований чувствовать себя виноватой. Проявил бы мужчина, оказавшись на ее месте, подобную щедрость? Конечно, нет! И он бы не испытывал чувства вины. Карла три дня тому назад вылетела из Лондона в Нью-Йорк… они разговаривали по телефону почти час. Зинаида привыкла к мисс Робертмс, и Карла поспешила в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Ди. Голос Карлы звучал тихо: — Ди… пожалуйста, возвращайся скорей. Вспоминая это, Ди таяла от счастья. Закрыв глаза и откинувшись на спинку сиденья, она пыталась удержать в голове визуальный образ Карлы. Теперь Карла будет принадлежать ей. По-настоящему принадлежать! Самолет тряхнуло, но Ди не открыла глаз. Шампанское пролилось из бокала Майка, и Жан-Поль поспешил промокнуть лужицу. Майк смахнул спиртное с поверхности кейса, который держал на коленях. В «дипломате» лежал контракт на фильм. И сто пятьдесят американских долларов наличными. Их хватит, чтобы открыть офис и начать рекламную кампанию. Жан-Поль долил шампанское в бокал Майка, хотя тот жестом показал, что в этом нет необходимости. Взяв бутылку из рук парня, он наполнил бокал Ди. — А это тебе, Жан-Поль. Сегодня — особый день… твое первое путешествие в Америку. Отныне, при всех важных событиях, покупай себе шампанское. Сделай это традицией. Ритуалом удачи. Парень внимательно следил за Майком, наполнявшим для него бокал. Самолет снова тряхнуло, и шампанское пролилось на новые темные брюки француза. Майк засмеялся. — Это к удаче, Жан-Поль. Лайнер снова вздрогнул и провалился в воздушную яму… затем закачался. Глаза парня остекленели от страха. Майк улыбнулся: — Пристегни ремень, малыш. Похоже, мы попали в грозу. Откинувшись назад, Майк закрыл глаза. Самолет снова тряхнуло… Думая о Дженюари, Майк услышал перебои в работе двигателя. Подавшись вперед, Майк замер. Ди вопросительно поглядела на мужа. Отстегнув ремень, Майк отправился в кабину к пилотам. Оба летчика отчаянно манипулировали органами управления. Из одного двигателя валил дым. Лайнер стал сильно крениться. — Отсоедините двигатель. Пусть падает, — глухо произнес Майк. — Не могу, — закричал пилот. — Замок заклинило. Радируй сигнал бедствия, — обратился он к своему напарнику. — Мистер Уэйн, вам лучше сесть в кресло. Похоже, нас ждет вынужденная посадка. Майк вернулся в салон. Ди изучающе посмотрела на него. Молодой француз вытащил четки. Лицо парня было пепельным. Он поглядел на Майка, вымаливая глазами ободрение. Майк заставил себя улыбнуться. — Все будет в порядке… У нас небольшие неполадки с двигателем. Придется сесть и починить его. Успокойтесь. Один из пилотов вышел в салон. — Мистер и миссис Уэйн, нам предстоит вынужденная посадка. Пожалуйста, отстегните ремни. Снимите обувь и опуститесь на колени в проходе. Обхватите голову руками. Жан-Поль заплакал. — Я никогда не увижу Америку. Мы все умрем… Ди молчала. Ее лицо окаменело, стало белым. Господи! Такое случается с другими людьми, а ты сам лишь читаешь об этом. Не может быть, чтобы это произошло с ней… нет, только не сейчас… когда ее жизнь обрела смысл… пожалуйста, не сейчас. Майк опустился на колени, крепко держа в руках кейс. Наклонившись, подобрал с пола бутылку. Приложил ее горлышко ко рту и сделал долгий глоток. Сейчас был особый случай… еще какой особый. В тот миг, когда самолет взорвался в воздухе, Майк думал о Дженюари. Он уже никогда не сможет извиниться перед ней и сказать дочери, как сильно любит ее. Еще он успел вспомнить номер своего счета в Швейцарии и пожалеть о том, что фортуна изменила ему именно сейчас… (обратно)
Глава двадцать седьмая
«Боинг-747» начал снижаться над аэропортом «Кеннеди»; Дженюари закрыла глаза. Она не могла смотреть на Нью-Йорк, зная, что Майк не встречает ее. И никогда не будет встречать. Меньше чем через час после падения обломков самолета в Атлантический океан новость появилась на экранах нью-йоркских телевизоров, прервав программу. К счастью, Джордж Милфорд связался с Дженюари, находившейся в «Беверли Хиллз», прежде чем она узнала о несчастье из экстренного выпуска. Происшедшее казалось нереальным. Когда Дженюари положила трубку, солнечные лучи по-прежнему проникали в номер. В соседней комнате стучала пишущая машинка Тома. Майк мертв… а мир живет своей жизнью. Она спокойно выслушала рассказ Джорджа Милфорда об обстоятельствах трагедии. Молчанием отреагировала на соболезнования Дэвида. Должны ли они приехать за Дженюари и забрать ее? Заказать церковную службу? Должны ли?.. Где-то посреди этих вопросов она опустила трубку. Замерла, удивляясь тому, что птицы поют по-прежнему… и она еще дышит. Дженюари не помнила, в какой момент она закричала. Девушка лишь знала, что она кричит и не может остановиться… Том держал ее в своих объятиях и умолял объяснить, в чем дело. Внезапно телефоны зазвонили во всех комнатах сразу; Том велел оператору никого с ним не соединять. Она поняла по его лицу, что он все знает… Солнце продолжало сиять, птицы заливались, человек обслуживал отдыхающих у бассейна. Она помнила, что приехал добрый доктор Катлер; он сделал ей укол. Не такой, какой Дженюари делал доктор Альперт. После инъекции девушка перестала кричать. Все стихло… даже солнце светило менее ярко… Дженюари казалось, что она плывет…пение птиц доносилось как бы издалека. Дженюари заснула. Проснувшись, она подумала, что ей все приснилось, что это был безумный кошмар. Но Том не печатал на пишущей машинке. Он сидел у кровати; когда она спросила его, сон ли это, он отвернулся. Он весь вечер не выпускал ее из своих объятий. Она не плакала. Она боялась заплакать, чувствуя, что если это произойдет, она не сможет остановиться. Сдерживая проявление эмоций, она как бы отказывалась признать реальность происшедшего. Том, в конце концов, отключил все телефоны. Линда успела прорваться к ним. Она предложила приехать и забрать Дженюари в Нью-Йорк. Но такое же предложение сделали Джордж и Дэвид Милфорды. Дженюари не хотела, чтобы за ней приезжали. Том, взяв дело в свои руки, заказал билет на самолет авиакомпании «ТВА», вылетавший на следующий день в полдень. Телеграфировал Милфордам номер рейса и время прибытия. Отвез девушку в аэропорт и получил разрешение посадить ее в авиалайнер до появления других пассажиров. Оказавшись в переднем кресле огромного пустого самолета, Дженюари запаниковала. — Полетим вместе, Том. Я не переживу этого одна. — Ты не одна, — тихо сказал он. — Я всегда с тобой. Думай об этом постоянно. Джордж и Дэвид Милфорды встретят тебя в аэропорту. — О, Том, я не хочу, чтобы все было так. Он заставил себя улыбнуться: — Дело не только в наших желаниях… существует еще и необходимость. Назовем вещи своими именами, моя милая… я — женатый человек. Дэвид и его отец считают, что ты на самом деле пишешь обо мне статью. Мне неважно, что они думают — я забочусь о тебе. В «Кеннеди» тебя будут ждать репортеры. — Репортеры? — удивилась девушка. — Да… твой отец был в свое время весьма яркой фигурой, а Ди Милфорд Грейнджер относилась к числу богатейших женщин мира. Это новость, и публика безжалостна… — Том… Она сжала его руки. — Пожалуйста, полетим вместе. — Я бы этого хотел, детка. Но ничем не могу помочь. Мне бы пришлось прятаться в отеле, пока ты договаривалась бы обо всем. Мы не можем преподнести такой подарок прессе — дочь Майка Уэйна прилетает с любовником, чтобы заказать церковную службу. К тому же я выбился из своего графика. Киностудия торопит меня. Последнее время я был любовником в большей степени, чем писателем. Она прижалась к нему. Том заверил девушку, что будет ждать ее. — Звони мне… в любое время… когда захочешь… я здесь. Самолет делал круг над «Кеннеди» в ожидании разрешения на посадку. Дженюари раскрыла сумочку, взяла вырезку из «Эстрады» и перечитала ее. Снова спросила себя — почему он послал заметку без сопроводительного текста? Потому что еще сердился? Но тогда он вовсе не стал бы отправлять ее. Таким способом он хотел сообщить, что у него все о'кей. Конечно! Господи, несомненно. Самолет коснулся колесами посадочной полосы. Приземление было мягким. Пассажиры отстегнули ремни… поднялись с кресел, несмотря на просьбу стюардессы оставаться на своих местах до полной остановки самолета. Люди потянулись к ручной клади… в заднем салоне плакал ребенок… к авиалайнеру подъехал трап… стюардесса уже стояла у открытой двери… она с приветливой улыбкой на лице прощалась с пассажирами… благодарила их за то, что они пользуются услугами «ТВА». Дженюари вместе со всеми направилась к выходу. Невероятно — мир может гибнуть, а она функционирует как ни в чем ни бывало, делает обычные вещи. Четыре с половиной часа высидела в самолете… даже ела… теперь сходит по трапу с другими пассажирами. Она увидела фотографов, но Дженюари не приходило в голову, что они ждут именно ее, до тех пор пока вспышки не замелькали ей в лицо. Девушку окружили газетчики, но Дэвид и его отец прорвались через толпу и повели ее в отдельную комнату аэропорта; тем временем шофер занялся багажом девушки. Потом она ехала по Нью-Йорку, как когда-то с Майком. Той же дорогой, мимо тех же павильонов, оставшихся от Всемирной ярмарки. Все было по-прежнему… только без Майка. — …и поэтому мы считаем, что лучше всего… — говорил Джордж Милфорд. — — Лучше всего. Что лучше всего? Дженюари посмотрела на мужчин. — Тебе лучше всего остановиться в «Пьере», — ласковым голосом произнес Дэвид. — Утверждение завещания займет какое-то время. В конце концов, Зимний дворец, вилла в Марбелле и апартаменты в «Пьере» будут проданы, но сейчас ты можешь жить где угодно. Лучше всего тебе будет в «Пьере». — Нет… у меня есть своя квартира. — Но в «Пьере» тебе гарантировано уединение. — Уединение? — Боюсь, газетчики уймутся лишь через несколько дней, — пояснил Джордж Милфорд. — Понимаешь, когда новость долетела до Нью-Йорка, пресса стала пытать меня насчет наследства Ди. К сожалению, я, кажется, невольно проболтался о том, что ты получишь десять миллионов. — Десять миллионов? Дженюари поглядела на Милфордов. — Ди оставила мне десять миллионов долларов? Почему? Мы с ней были едва знакомы. Джордж Милфорд улыбнулся: — Она любила твоего отца. Я уверен, что Ди сделала это, чтобы порадовать Майка. Она говорила мне о том, как он тебя любит… поэтому тебе следует пожить в «Пьере». Твой отец хотел этого. — Откуда вам известно, чего хотел мой отец? — спросила она. — Вы плохо знали его. — Дженюари, я узнал Майка достаточно хорошо… под конец, — тихо произнес Дэвид. — Мы много беседовали в Палм-Бич во время того пасхального уик-энда, когда ты не прилетела к нам. Он выразил надежду, что мы, в конце концов, поженимся… я рассказал ему о своих чувствах к тебе. Он посоветовал мне набраться терпения и не форсировать события. Это его слова. Он ни в чем не хотел давить на тебя. Он страдал оттого, что ты жила в этой скромной квартире. Но не подавал виду. Скрыл от тебя разочарование, когда ты покинула «Пьер». Она почувствовала, что по ее щекам текут слезы. Кивнула в полумраке. — Хорошо, Дэвид… Я поживу в «Пьере». В течение следующих четырех дней с помощью «либриума» и снотворного Дженюари функционировала, как заведенный механизм. За день до авиакатастрофы Альперт сделал ей укол. Его действие закончилось в Нью-Йорке. Душевная боль заглушала любые физические ощущения. Дженюари даже радовалась тому, что у нее раскалывается голова, саднит горло, ломит в костях, — такую боль она принимала, зная, что это временное явление. Но она не могла смириться с невероятной пустотой окружающего мира, в котором не было Майка. Сэди преданно заботилась о девушке. Она тоже осиротела без Ди. Она, казалось, постоянно прислушивалась, не раздастся ли четкий приказ Ди. Сэди прожила с ней тридцать лет. Она испытывала потребность «присматривать» за кем-то и перенесла ее на Дженюари — подавала девушке пищу, которой та едва касалась, отвечала на звонки, отгоняя от Дженюари всех, кроме Милфордов, охраняя ее покой, точно великан-часовой… молчаливый, печальный, ждущий. Дэвид сидел возле Дженюари во время церковной службы. Лицо девушки оставалось бесстрастным, она точно спала с открытыми глазами. Отец Дэвида сидел с другой стороны от Дженюари. А его мать занимала кресло рядом с мужем, сжимая пальцами платок. Она выглядела подобающе подавленной. Церковь была переполнена, присутствие верхушки света и знаменитостей привлекло сюда всю прессу. Международная элита была представлена членами королевских семей. Европейские друзья Ди наняли самолет, чтобы прилететь в Нью-Йорк. Многие известные деятели шоу-бизнеса, предвидя наплыв телеоператоров, внезапно сочли нужным отдать последний долг Майку. Но самую большую сенсацию произвело появление Карлы. Толпа любопытных зевак едва не прорвала полицейское оцепление, когда бывшая кинозвезда прибыла в церковь. Дэвид не видел ее. Но он слышал доносящиеся с улицы крики поклонников — они произносили имя актрисы. Он знал, что она сидит где-то сзади, и не хотел сталкиваться с ней. После того мучительного вечера он заставил себя выбросить Карлу из головы. Он даже прибег для этого к самогипнозу. Вспоминая о ней, тотчас мысленно произносил: «Ненавижу». Затем думал о том, что вызывает отвращение у всех людей — о Гитлере, изнасиловании детей, нищете. И постепенно его мозг переключался на другие объекты. Он взял себе новых клиентов и дополнительную работу. Следил за тем, чтобы никогда не оставаться вечерами в одиночестве. Встречался поочередно с Ким и Валери, эффектной евразийкой. Узнав об авиакатастрофе, тотчас бросил всех и принялся «заботиться» о Дженюари и оказывать ей «моральную поддержку». Отныне для него существует только одна девушка — Дженюари. Стройная, бледная, красивая наследница. Телеоператоры замучили ее, когда она подъехала к церкви. Растерявшись, девушка бросилась к нему. Она действительно была очаровательна. Прекрасная одинокая обладательница десяти миллионов. Он протянул руку и коснулся ее перчатки. Она подняла голову, и Дэвид изобразил на лице сочувствие и ободрение. Церковная служба шла своим ходом. Дэвид знал, что церковь переполнена. Сзади люди стояли в три ряда. Кто-то сказал, что там находится губернатор. Где сидит Карла? Он удивился, осознав, что сегодня впервые позволил себе думать о ней. Попытался прогнать из головы мысли о Карле, но ему не удалось это сделать. Он ощущал ее присутствие в многолюдной церкви. Это было удивительно. Но он действительно чувствовал, что она здесь. Внезапно даже самовнушение не сработало. Дэвид сидел и безвольно думал о Карле. Она приехала одна? В сопровождении Бориса? Кого-то из ее старых надежных спутников? Или с новым человеком? Он должен положить этому конец! «Думай о Дженюари», — приказал себе Дэвид. Думай о семье. Он находился здесь в качестве ближайшего родственника Ди. Ближайший родственник, выброшенный из завещания. Боже, почему этот самолет упал? Почему он не мог разбиться после составления нового завещания? Ди хотела изменить текст. Почему она позвонила отцу всего лишь за день до его отплытия в Европу? Ди телеграфировала с юга Франции о своем намерении внести в документ значительные изменения. Почему? Восстановлены ли были бы его права? Выкинула ли бы она из завещания имя Дженюари? Но теперь гадать было бессмысленно. Завещание способно выдержать любую проверку. Дженюари станет новой нью-йоркской миллионершей. Он услышал звуки органа и шепот — люди произносили слова молитвы. Он машинально встал вместе со всеми и склонил голову. Мать и отец Дэвида тоже поднялись; молодой человек взял Дженюари за руку. Склонив голову, повел девушку вслед за родителями из мрачной полутьмы храма к светлеющему выходу, за которым стояли зеваки и телевизионщики с камерами. Проходя мимо предпоследнего ряда, он увидел Карлу. Ее голова была обвязана черным шифоновым платком. Карла собиралась направиться к двери. И в этот момент, пока она еще не успела надеть свои вечные черные очки, их глаза встретились. Затем Карла пошла вдоль ряда кресел, надеясь ускользнуть от прессы через боковую дверь. Держа Дженюари за руку, Дэвид неторопливо зашагал к лимузину. Ему удалось придать лицу печальное выражение, когда телеоператоры снимали их для шестичасового выпуска новостей. Он отвез Дженюари обратно в «Пьер». В течение следующих трех часов в гостиную прибывали знаменитости. Звенели бокалы. У дверей стояли охранники. Отдание последнего долга превратилось в прием с коктейлями. Дэвид стоял возле Дженюари, пока ее усталость не стала заметной. Тогда Сэди увела девушку в спальню, но прием продолжался. Приходили новые люди. Дэвид наблюдал за матерью, игравшей роль хозяйки. Даже отец, похоже, отлично проводил время. Во всем ритуале было нечто варварское. Дэвид посмотрел на блестящие серебряные рамки, которые стояли на пианино. Большинство изображенных там знаменитостей находилось сейчас в просторной гостиной «Пьера». Недоставало одного человека. Взгляд Дэвида замер на снимке Карлы. Подойдя ближе, он принялся рассматривать фотографию. Ее глаза глядели куда-то вдаль, в них чувствовалось одиночество — как сегодня в церкви. Он увидел Сэди, на цыпочках выходящую из спальни. Женщина подошла к Дэвиду и сказала, что Дженюари заснула, приняв снотворное. Поняв, что никто не заметит его ухода, он выскользнул из квартиры. Дэвид знал, куда он отправится. Прежде он думал, что никогда больше не пойдет туда, не сможет посмотреть на консьержа или лифтера. Но внезапно все это потеряло значение. Увидев ее глаза, он понял, что сможет встретиться с ними. И с армией подобных им. Он должен увидеть Карлу! Однако Дэвид испытал огромное облегчение, заметив возле дома нового консьержа. Ну конечно, он же никогда не приходил к ней в полдень. Мужчина остановил его, произнеся: «Обо всех посетителях сообщают по телефону». На мгновение Дэвид заколебался. Если Карла откажется принять его, он вторично испытает унижение, свидетелем которого станет новый консьерж. Но сейчас это казалось маловажным. Он назвал свое имя; человек направился к внутреннему телефону. Этот неуклюжий чужак обладал привилегией говорить с ней… а он, Дэвид, — возможно, нет. Ожидая консьержа, Дэвид закурил. Время тянулось медленно. Вероятно, она еще не вернулась домой. Если консьерж скажет, что ее нет, это может быть правдой. Но он, Дэвид, никогда не узнает истину. Консьерж вышел из дома осторожной походкой человека, страдающего радикулитом. Дэвид раздавил ногой сигарету. — Квартира пятнадцать А, — сказал мужчина. — Передний лифт. Дэвид мгновение постоял неподвижно. Затем быстро вошел в подъезд, ничем не выдав своих чувств. Сейчас нельзя позволить нервам разгуляться. Он обрадовался, увидев, что лифт ждет его. Когда Дэвид вышел из кабины, Карла встретила его, стоя у открытой двери своей квартиры. — Входи, — тихо произнесла она. Он проследовал за ней. Солнечный свет окрашивал сейчас воды мрачной Ист-Ривер в желто-серый цвет. Дэвид увидел плывущую баржу, от которой расходились волны. — Я не замечал, что из твоего окна открывается такой вид, — сказал молодой человек. — Возможно, потому, что ты бывал здесь только вечером, — тихо произнесла она. — Или никогда не смотрел внимательно. Мгновение они помолчали. Потом Дэвид произнес: — Карла… я не могу жить без тебя. Она села. Закурила английскую сигарету. Протянула ему пачку. Он покачал головой. Сел рядом с Карлой. — Ты веришь мне? Она медленно кивнула. — Я верю, что тебе действительно так кажется… сейчас. — Карла, прости меня за тот вечер, — смущенно произнес он. Внезапно его точно прорвало. — Боже, я, верно, лишился тогда рассудка. Я даже не могу объяснить свой поступок опьянением — я нарочно напился. Чтобы обрести смелость, прийти сюда и устроить сцену. Он посмотрел на свои руки. — Меня многое угнетало. Постоянные мысли о времени, о том, как долго мы будем вместе, боязнь, что ты вдруг снова исчезнешь. Но сегодня, когда я увидел тебя, у меня словно наступило просветление в голове. Я понял, что все это значит. Я люблю тебя. Хочу быть с тобой… не таясь, открыто. Хочу жениться на тебе — если ты согласишься. Однако готов и просто сопровождать тебя повсюду, если ты предпочтешь это. Я всю жизнь мечтал унаследовать деньги Ди, волновался из-за них; теперь, похоже, меня ожидала охота за деньгами Дженюари. Я был готов пойти на это, пока не увидел в церкви тебя. До этого момента v меня не было надежды на нечто лучшее. Увидев тебя, я… Она поднесла руку к его губам. — Дэвид, я рада нашей встрече. Прости меня за тот вечер. Он взял ее за руки и поцеловал их. — Нет. Во всем виноват я один. Забудь те мои слова. На самом деле я так не думал. Я… Он почувствовал, что его лицо горит. — Я не думал то, что говорил о Хейди Ланц. Не верил, что она у тебя. — Все это неважно, — сказала Карла. — Хейди… Она улыбнулась: — Я знала ее очень давно, когда впервые приехала в Америку. Не видела Хейди много лет, разве что на телеэкране, в старых фильмах. — Конечно. А я заметил ее в тот день в «21», и мне пришло в голову… Она приложила пальцы к его губам и улыбнулась. — Пожалуйста, Дэвид. Все это не имеет значения. Хейди или… — Ты права, — согласился Дэвид. — Все неважно. Кроме нас. Она встала и прошла покомнате. Улыбнулась с оттенком печали в глазах. — Нет, Дэвид, мы — это не самое важное на свете. Я жила очень эгоистично. Всегда собиралась многое сделать, но мне казалось, что впереди еще масса времени. Когда Ди умерла, я поняла, что ошибалась. Мы не знаем, сколько нам осталось прожить. Джереми Хаскинсу, моему старому другу, скоро стукнет восемьдесят. Каждый раз, когда телефонистка сообщает мне о звонке из Лондона, мое сердце замирает. Кому бы пришло в голову, что Джереми переживет Ди? Он подошел к ней, попытался обнять, но она отвела его руки. Взяв Карлу за плечи, заглянул в ее глаза. — Карла, именно поэтому я здесь. Мы говорили о нашей разнице в возрасте. Сейчас все это кажется пустяком. Важно одно — мы вместе и принадлежим друг другу. — Нет, Дэвид, это не самое важное. Она отвернулась от него. Указала Дэвиду на диван. — Сядь. Я хочу, чтобы ты меня выслушал. Да, мы замечательно проводили время вдвоем. Но это — прошлое. Теперь я тебе расскажу о том, что для меня важнее всего. Расскажу тебе о девушке по имени Зинаида… Дэвид смял пустую сигаретную пачку. Он смотрел на Карлу, стоящую у камина. Несколько раз во время ее рассказа о том, ценой каких тягот и усилий она растила дочь, Дэвид чувствовал, что к его глазам подкатываются слезы. Сдержанность, с которой она поведала об изнасиловании монахинь в обители, только усилила впечатление от услышанного. Под конец она произнесла: — Теперь ты видишь, как незначительно то, что связывает нас. Много лет я не слишком обременяла себя заботой о Зинаиде, перекладывая этот труд на других. Но теперь все изменится. — Ди знала, что у тебя есть ребенок? — спросил Дэвид. Карла заколебалась. Потом заставила себя улыбнуться. — Конечно, нет. Почему она должна была знать о ней? Мы были не настолько близки. Я была для нее лишь портретом в серебряной рамке. — Если бы она знала, она могла бы оставить кое-что Зинаиде. Карла пожала плечами, — Нам хватит моих денег. Но я должна изменить образ жизни. Я продаю эту квартиру. Она принесет мне много денег. Есть такой восхитительный греческий остров — Патмос. Немногие туристы добираются до него. Там спокойно. Я куплю на Патмосе дом и буду жить в нем с Зинаидой и Харрингтонами. — Привези ее сюда, — взмолился Дэвид. — Мы сможем жить все вместе. — О, Дэвид, ты не понимаешь. Зинаида очень красива. Но она — ребенок. Она будет носиться по проезжей части. Или расплачется в «Шварце», если ты не купишь ей какую-то игрушку. Она — ребенок, которому исполнился тридцать один год! Я люблю уединение. Ты знаешь, как мне приходится бороться за него. Фотографы устроят охоту на Зинаиду. Ее жизнь превратится в ад. Но на Патмосе… мы сможем плавать вдвоем с ней, гулять вместе, играть. Никто там не будет знать, кто я. Мы обретем полное уединение. Джереми послал туда человека, поручив ему обо всем договориться. Завтра я уеду на Патмос выбирать дом. — Карла… выходи за меня! У тебя достаточно денег, чтобы содержать Зинаиду. Нам хватит на жизнь того, что зарабатываю я… Она ласково потрепала его по щеке: — Мы бы прожили замечательный год. — Годы, — поправил ее он. — Нет, Дэвид. Максимум год. Затем ты бы узнал о замужестве твоей прелестной крошки Дженюари, Стал бы думать о десяти миллионах, о том образе жизни, который ты мог бы вести… Нет, Дэвид, наш брак продлился бы недолго. Мое место — возле Зинаиды. Я должна многому научить дочь. А прежде всего объяснить, что я — ее мать. Она так одинока. А твое место — рядом с Дженюари. Я видела ее сегодня. Она тоже одинока и очень нуждается в тебе. — Мне нужна ты, — сказал Дэвид. Она раскрыла свои объятия, и на мгновение он крепко прижал к себе Карлу. Покрыл ее лицо поцелуями. Затем она освободилась. — Нет, Дэвид… — Карла… — взмолился он. — Если ты расстаешься со мной, побудем вместе в последний раз… Она покачала головой: — Тогда нам обоим будет только тяжелей. Прощай, Дэвид. — Ты снова гонишь меня прочь? Она кивнула: — Но теперь я делаю это любя. Он направился к двери. Внезапно она бросилась к Дэвиду, прильнула к нему. — О, Дэвид. Будь счастлив. Пожалуйста… Ради меня… будь счастлив. Он понял, что она плачет, но не повернулся и вышел из квартиры, не оглядываясь, потому что знал, что его глаза тоже полны слез… (обратно)Глава двадцать восьмая
Принявшая большое количество успокоительного, Дженюари не помнила церковную службу. В памяти девушки сохранилось лишь то, что рядом с ней сидел Дэвид. Но все остальное запечатлелось как немой киножурнал. Доктор Клиффорд, личный врач миссис Милфорд, дал девушке транквилизаторы, и она проглотила тройную дозу. Она знала, что церковь переполнена, и ей пришла в голову мысль: «Майк обрадовался бы аншлагу». Но ее почему-то увели от фотокамер, мелькавших возле церкви, а также от любопытных зевак, выкрикивавших ее имя. Дженюари поразило количество людей, набившихся в квартиру; она не понимала, почему должна принимать их как желанных гостей. Устав от толпы, она скрылась в спальне и проглотила еще пару таблеток успокоительного. Следующие несколько дней прошли точно во сне. Во время важных встреч и подписания документов в офисе Джорджа Милфорда Дэвид постоянно находился возле Дженюари. Ди оставила ей десять миллионов. Но эта огромная сумма не вызывала у девушки никаких эмоций. Она не поможет вернуть Майка или тот вечер в пятом коттедже. Дни сменяли друг друга. Дэвид каждый вечер забирал ее на обед в дом родителей. Ей удавалось поддерживать беседу с Маргарет Милфорд, нервно пытавшейся предугадать любое желание Дженюари. Она испытывала смутное чувство благодарности к Дэвиду. Дженюари терялась в окружении незнакомых лиц и вездесущей прессы и охотно льнула к Дэвиду… успокаивалась в обществе близкого человека. Сэди постоянно ждала ее в «Пьере». Девушка спала теперь в основной спальне, на той половине кровати, которую, по словам Сэди, занимал Майк. Сэди знала это точно — по утрам она подавала Ди кофе в постель. Сэди выдавала девушке каждый вечер снотворное доктора Клиффорда и стакан теплого молока. К концу недели Дженюари обнаружила, что смесь из молока и «Джека Дэниэлса» мгновенно усыпляет ее. Она постоянно звонила Тому… в разное время, не помня, в какой уже раз. Звонила ему сразу после пробуждения… утром… посреди ночи. Почувствовав себя одиноко, хватаясь за трубку. Том всегда успокаивал ее, хотя иногда его голос звучал слегка раздраженно или сонно. Несколько раз он мягко упрекнул ее в том, что она выпила. Но больше всего она любила спать. Из-за сновидений. Дженюари видела их каждую ночь. Расплывчатое лицо красивого мужчины с глазами цвета морской волны. Он уже снился ей однажды, когда она впервые встретила Тома. Тот сон смутил ее, потому что мужчина чем-то напоминал Майка. Она забыла этот образ, когда они с Томом стали любовниками. Начав получать инъекции доктора Альперта, Дженюари перестала видеть сны, потому что сон ее был неглубоким. Но выпив молоко с «Джеком Дэниэлсом» и проглотив секонал, она снова увидела сон. Он был странным. Она находилась в объятиях Майка, он говорил ей, что жив… что произошла ошибка… взорвался другой самолет… а с ним, Майком, все в порядке. И внезапно он куда-то проваливался…. падал в океан… вниз… вниз… она собиралась броситься вслед за ним, но тут ее подхватила пара сильных рук. Это был Том. Он держал Дженюари и говорил ей, что никогда не оставит ее. Прижавшись к Тому, она сказала ему, что нуждается в нем… но вдруг увидела, что это вовсе не он. Человек походил на Тома… и Майка… только глаза были другие. Она еще не видела таких красивых глаз. Когда Дженюари проснулась, эти глаза все еще были перед ней. Она попросила у доктора Клиффорда новую упаковку снотворного, и он посоветовал ей обойтись без лекарства. — Если бы вы были вдовой или пожилой женщиной, оставшейся без близких, я бы прописал снотворное на более длительный срок, чтобы помочь справиться с одиночеством. Но вы — молодая красивая девушка, у вас есть любящий жених, вы должны вернуться к полноценной жизни. Она провела бессонную ночь; охваченная отчаянием, с болью в голове и горле, Дженюари в поисках аспирина подошла к медицинскому шкафчику Ди и обнаружила там множество склянок снотворного. На ярлыках не было фамилии доктора Клиффорда. Очевидно, снотворное Ди выписывал другой врач. Там находились пилюли, отбивающие аппетит (Дженюари сразу узнала их, потому что ими иногда пользовалась Линда), две баночки с желтым снотворным, три — с секоналом, одна — с тиуналом и несколько коробочек с французскими свечами. Дженюари быстро вытащила все лекарства из шкафчика и спрятала их в другом месте. Теперь она видела сны каждую ночь. Иногда это были одни глаза. Они, похоже, пытались успокоить ее, сказать, что перед ней — весь замечательный мир. Но после пробуждения Дженюари ждало одиночество в темной комнате и пустая кровать. Она звонила Тому… говорила с ним, пока у нее не начинал заплетаться язык… снова проваливалась в сон. В середине третьей недели снотворное перестало действовать. Она засыпала мгновенно… но через несколько часов пробуждалась. Однажды она проснулась и поняла, что ей ничего не снилось. Она просто несколько часов пребывала в темной пустоте. Подойдя к шкафу, где она хранила лекарства, Дженюари взяла секонал и одну желтую капсулу. В голове Дженюари был туман, но она не могла заснуть. Она позвонила Тому. Он снял трубку после нескольких гудков. Том еле ворочал языком. — Дженюари, помилуй… сейчас два часа ночи. — Значит, я хотя бы не оторвала тебя от работы. — Нет, но ты разбудила меня. Милая, я отстаю от своего графика. Киностудия торопит меня. Я должен закончить работу. — Том… я освобожусь через несколько дней и вернусь к тебе. Промолчав, он произнес: — Слушай, я думаю, будет лучше, если ты немного подождешь. — Чего? — Завершения моей работы над сценарием. Если ты прилетишь сейчас, ты не сможешь жить со мной… — Почему? — Господи, ты что, не читаешь газеты? — Нет. — Твоя фотография — в каждом издании. Эти десять миллионов мгновенно сделали тебя знаменитостью. — Ты говоришь, как Линда. Она… она… постоянно твердит… что я… Дженюари замолчала. У нее заплетался язык, она не могла вспомнить, что хотела сказать. — Дженюари, ты что-то приняла? — Снотворное. — Сколько? — Только две капсулы. — Тогда спи. Слушай, я скоро разделаюсь со сценарием. Тогда мы все обсудим. Она заснула с трубкой в руке. Когда на следующий день в двенадцать часов Сэди разбудила Дженюари, девушке не удалось вспомнить, о чем она говорила с Томом. Но у нее осталось чувство, будто что-то было не так. Через несколько дней она пригласила Линду пообедать. В апартаменты «Пьера» подавали превосходную пищу. Сэди охладила бутылку лучшего вина из запасов Ди. Но что-то изменилось в отношениях подруг. Линда отрастила волосы ниже плеч; она ела без аппетита: платье в обтяжку делало ее еще более худой, чем обычно. — Я хочу быть тонкой, как спичка, — сказала она. — Это мой новый имидж. Как тебе нравятся мои очки? — Они отличные. Но я не знала, что ты нуждаешься в них. — Я всегда носила контактные линзы. Но такой образ мне нравится больше. Сейчас я встречаюсь с Бенджаменом Джеймсом. Она замолчала в ожидании реакции Дженюари. Не увидев ее, сказала: — Слушай, дорогая. Он, конечно, не Том Кольт. Но он получил много премий. Критики считают его книги слишком сложными для большого успеха. Последний томик стихов Бенджамена разошелся в количестве девятисот экземпляров. Но в кругу модной богемы он слывет гением. К тому же он прекрасно подходит мне в настоящий момент. — Линда, тебе не хочется завести постоянного мужчину? — Уже нет. Увидев твои фотографии в газетах… Она обвела взглядом комнату. — Когда я вижу эту обстановку, я только укрепляюсь в своем мнении. Есть только два средства — деньги, и слава. Обладая одним или другим, можно иметь любого мужчину, которого ты пожелаешь. А когда я обрету известность, мне не нужен будет постоянный спутник. — Почему? — Когда я заберусь на вершину, рядом со мной не будет места для второй звезды. А пока что я нуждаюсь в Бенджаменах, они мне помогают. Но, добившись успеха, я не стану церемониться с мужиками. Я хочу быть Линдой Риггз, а не частью чьей-то жизни. Поэтому сейчас стираю Бенджамену носки и готовлю ему еду — он талантлив и знаком со многими известными людьми. В настоящее время он нужен мне. До партийного съезда. В сентябре я начну работать на моего кандидата. Расшибусь в лепешку. — На кого? — Маски. Бенджамен утверждает, что Маски не может проиграть. Да, — вдруг вспомнила Линда, — как у тебя с Томом? — Он заканчивает работу над сценарием. — Ты возвращаешься к нему? — Нет. — Не говори мне, что у вас все кончено. Правда, теперь он тебе, по сути, и не нужен. — Нет, не кончено. И он нужен мне больше, чем прежде, — сказала Дженюари. — Пресса уделяет мне много внимания, и он считает, что при моей теперешней известности… я не могу приехать в Калифорнию и жить с ним под одной крышей. — Тогда арендуй там дом. Особняк. Господи, для тебя нет ничего невозможного. Найми пресс-агента, и ты будешь получать приглашения на самые престижные вечеринки. Устрой сама несколько приемов. Теперь, когда у тебя есть десять миллионов, он охотнее пойдет на развод. — Развод? — Слушай, Дженюари, посмотрим правде в глаза. Ты по натуре домашняя кошечка. Тебе нужен постоянный мужчина, и в глубине души ты хочешь, чтобы все было законно. Ты пытаешься примириться с простым сожительством. Но это тебе не по душе. Ты сказала мне, что он взялся за сценарий ради процентов с прибыли, чтобы оплатить стоимость квартиры. Другими словами, из-за денег. Теперь он может не беспокоиться об этом. Ты способна сама купить ему квартиру. И если ты хочешь прославиться своей щедростью, отвали его жене такую сумму, чтобы она поднесла тебе Тома и ребенка на блюдечке с голубой каемочкой. Коли он так жаждет сыграть роль папочки, роди ему ребенка. Ты ведь об этом мечтаешь, верно? — Я хочу выйти замуж. Да, действительно хочу. И могу дать Тому ребенка. Почему бы и нет? Линда, ты права. Я поговорю с ним об этом вечером. Линда взяла сумочку и поглядела на фотографии, стоящие на пианино. — Ди действительно знала всех этих людей? — Да. — Похоже, я права. Богачи и знаменитости владеют миром. — Мне не нужен весь мир. Я просто хочу иметь что-то, ради чего есть смысл каждое утро вставать с постели. Когда Линда ушла, Дженюари задумалась. Ночью она плохо спала. Девушка ждала сновидений, но ничего не увидела. Проснулась с таким чувством отчаяния, словно ее бросили. Последнее время сны были более реальными, чем мысли, посещавшие Дженюари наяву. Прекрасный незнакомец с глазами аквамаринового цвета был нежен и сочувствовал ей. Она не помнила, разговаривали ли они… касались ли друг друга… она лишь знала, что, заснув, увидит его. Последнее время Дженюари ловила себя на том, что, лежа днем на кровати, она пытается погрузиться в грезы. Доктор Клиффорд прав. Она должна посмотреть в глаза реальности. Том жил в реальном мире. Он трудился в пятом коттедже над сценарием, чтобы заработать на квартиру. Она могла бы уже подбирать мебель, делать что-то! Иметь цель, ради которой стоит подниматься утром с постели! Сняв трубку с телефона, она начала набирать номер. Вспомнила о разнице во времени. Одиннадцать часов в Нью-Йорке — это восемь в Лос-Анджелесе. Том приступает сейчас к вечерней работе. Он всегда писал с восьми до одиннадцати. Три часа ожидания… Она попробовала смотреть телевизор. С Джонни переключилась на Мерва, потом на Дика. Нашла фильм. Ничто не могло удержать ее внимания. Раздевшись, она приняла ванну. Это заняло время. Потом Дженюари вытянулась на кровати. Она понимала, что заснула и видит сон. Но это был кошмар. Вода и лунный свет. Падающий самолет Майка. Лайнер кувыркался в воздухе, пока не исчез в серебристой дорожке, образовавшейся на поверхности океана. Ей стало страшно, словно она тоже падала вместе с отцом. Затем какая-то сила подхватила Дженюари и спасла ее. Она увидела синие глаза. К ней издалека приближался мужчина. Черты его лица были размыты, но она знала, что он прекрасен… — Ты действительно хочешь приехать ко мне? — прошептал человек и исчез прежде, чем Дженюари успела ответить; она проснулась. Сон был слишком жизненным. Она обвела взглядом спальню, словно ожидая увидеть здесь этого человека — самого красивого на свете. Однако она ни разу не видела его лица. Она чувствовала, что оно прекрасно. Но это смешно. Он же не существует в реальности. Он живет только в ее снах. Возможно, так это и происходит. Человека начинают преследовать видения, звуки. Она не на шутку испугалась. Она до сих пор слышала его голос… резкий звон, доносившийся из темноты. Спустя мгновение она поняла, что это звонит телефон. Вполне земной звук. Он разбудил ее. Светящиеся стрелки часов-приемника показывали без пяти два. Кто мог звонить ей в такое время? Только Том! Она схватила трубку и, услышав его голос, не испытала удивления. Только душевный подъем. Сейчас она нуждалась в нем больше, чем когда-либо. Ей требовалась поддержка реального человека, а не воображаемого. — О, Том, я так рада твоему звонку. Я сама собиралась позвонить… когда ты закончишь вчерашнюю работу. Он засмеялся: — Чем объясняется такая деликатность? Она нащупала в темноте сигареты. — Не понимаю тебя. — Дженюари, последние три недели ты звонила мне по двадцать раз в сутки с девяти утра по местному времени до пяти утра, и вдруг такой комендантский час. — О, Том, извини, я не подумала. Я звоню тебе всегда, когда мне грустно или одиноко. Том, я больше этого не вынесу. Я вылетаю. Завтра. — Не утруждай себя, Дженюари. Тебе надо только перейти улицу. — Не понимаю. — Я в «Плазе». Только что вошел в номер. — Том! Она села на кровати и зажгла свет. — О, Том, я надеваю слаксы и мчусь к тебе. — Погоди, детка! Я валюсь с ног. К тому же в девять утра у меня встреча в издательстве. — Когда же мы увидимся? Я не в силах ждать! — За ленчем. — За ленчем? О, Том! Зачем нам ленч? Я хочу побыть с тобой наедине, Том. Хочу… — Детка, в издательстве меня будет ждать юрист. Мы обсудим условия договора на следующую книгу. После этого мне потребуется отдых и несколько бокалов спиртного. Так что давай встретимся в «Туте Шор». Скажем, в половине первого. — Том, — упавшим голосом произнесла Дженюари. — Я хочу видеть тебя сейчас. Не могу смириться с тем, что нас разделяет улица. Пожалуйста, разреши мне прийти. Он вздохнул. — Детка, ты сознаешь, что ты разговариваешь с пятидесятивосьмилетним человеком, еще не адаптировавшимся к смене часовых поясов и нуждающимся в сне? — С пятидесятисемилетним, — возразила она. — Нет. Мне уже пятьдесят восемь. Пока ты находилась в Нью-Йорке, у меня был день рождения. — О, Том… тебе следовало сказать мне об этом. Он засмеялся: — Я не афиширую мой возраст. До завтра, детка. До половины первого. И, Дженюари… не вздумай принести пирог со свечами… Он стоял у бара, окруженный людьми, когда Дженюари вошла в «Туте Шор». Том уже успел встретить нескольких старых приятелей и угощал их спиртным. Увидев девушку, он распростер объятия, и она бросилась в них. Он нашел для нее место у стойки, потеснив соседей. Познакомив Дженюари со своими друзьями, посмотрел на нее и усмехнулся: — Теперь я занят, парни. Том ласково поцеловал Дженюари в щеку. — Тебе белого вина? — Нет. Я буду пить то же, что и ты. — «Джек Дэниэлс» для дамы. И добавьте содовой. — Том, ты выглядишь великолепной. Загорел и… — Я закончил сценарий. То есть первый вариант. И провел последние несколько дней возле бассейна продюсера, который убеждал меня в том, что финал должен быть иным. — Том! Ты не должен менять конец. — Тогда они наймут другого человека, который сделает это. — Ты хочешь сказать, что твое слово не имеет значения? — Никакого. Раз я продал права на экранизацию, книга принадлежит им. Если я получаю гонорар за сценарий, я должен написать то, что удовлетворит их. — А что произойдет в случае твоего отказа? — Ну, во-первых, они откажутся мне платить. А во-вторых, поручат работу человеку, который сделает в точности то, что они хотят. Допив бербон, он сказал: — Не печалься. Таковы правила игры. Я знал, на что иду, подписывая договор. Я только не предполагал, что это будет столь мучительным. Он жестом дал понять официанту, что готов сесть за столик. Когда они сели за стол и Том заказал спиртное, девушка произнесла: — Откажись, Том. Пусть работу закончит кто-то другой. Она не стоит твоих переживаний. Он покачал головой: — Сейчас не могу. Так я хотя бы смогу на что-то повлиять. Отдельные куски вышли отлично. Если компромисс неизбежен, я хочу хотя бы отчасти спасти конечный результат. — Но ведь ты взялся за сценарий только для того, чтобы заработать на квартиру в Нью-Йорке. — Я пошел на это, потому что мне принадлежит доля прибыли. Помнишь? Я должен защитить книгу. — Но ты также сказал, что гонорар покроет затраты на квартиру. Теперь ты можешь об этом не беспокоиться… Я хочу сказать… ну… Он коснулся ее руки. — Дженюари, я отказался от квартиры. — Что? — Я много думал, оставшись один. Выполнил без тебя большую работу. Понял, что не смогу по-настоящему писать, живя с тобой. — Том… не говори этого! Официант положил перед ними меню. Том принялся изучать его. Дженюари хотелось закричать. Как он может думать о еде? Или о чем-то еще, когда речь идет об их жизни? — Попробуй устриц, — сказал он. — Они здесь очень маленькие — ты такие любишь. — Я ничего не хочу. — Два гамбургера, — обратился Том к официанту. — И принесите горячую подливку. Мне не очень острую. А тебе, Дженюари? — Мне все равно. — Даме тоже не очень острую. Как только официант ушел, Дженюари повернулась к Тому: — Что ты хочешь сказать? Конечно, ты сможешь писать, живя со мной. Возможно, тебе было трудно работать при мне в коттедже. Но в просторной нью-йоркской квартире я не помешаю твоей работе. Буду держаться тихо, как мышка. Даю слово. Он вздохнул. — К сожалению, твое присутствие меня отвлекает, детка. У меня в свое время было много женщин. Я думал, что всегда смогу заниматься любовью и пить спиртное. Но с каждым годом работа отнимает все больше сил, а любовь становится менее важной. Мне стукнуло пятьдесят восемь лет, а я еще не написал и половины того, что обещал себе написать. Отныне любовь для меня — непозволительная роскошь. Она старалась сдержать слезы. Но они сделали ее голос более низким. — Том… ты не любишь меня? — Господи, Дженюари… я так благодарен тебе. Ты подарила мне нечто замечательное. Я никогда это не забуду. То, что было у нас — прекрасно. Но оно все равно бы когда-то кончилось. Может быть, на несколько месяцев позже. Вероятно, лучше поставить точку сейчас. — Том, однажды ты сказал, что ты не сможешь жить без меня. Это были только слова? — Ты же отлично знаешь, что в тот момент мне действительно так казалось. — В тот момент? Официант подошел к ним, чтобы наполнить их бокалы водой. Они помолчали, пока он не удалился. Том взял Дженюари за руки. — Теперь слушай меня… Я действительно верил в то, что говорил. В то время. Мои слова были не из разряда тех, что произносят, лежа в постели. Я действительно так считал. Но многое изменилось. — Ничего не изменилось, — подавленно произнесла она. — О'кей. Значит, изменился я. Постарел на год. Милая, у тебя вся жизнь впереди. Ты располагаешь временем. Боже, какая великая вещь время. Оно у тебя есть. Время для любви, грез, безумств… И наш роман был одним из этих безумств. — Нет! — Может быть, он покажется тебе важным безумством, когда тебе будет достаточно лет, чтобы оглянуться. Может быть, самым важным. Но, детка… ты только представь себе — тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, лишь в 2008 году. Замолчав, он улыбнулся. — Тебе это кажется невероятным, да? Я приведу тебе еще несколько невообразимых фактов. В 2008 году, если я еще буду жив, мне исполнится девяносто пять! Официант принес два гамбургера и положил их перед ними. Дженюари заставила себя улыбнуться. Как только официант отошел от стола, Том принялся за гамбургер. Дженюари коснулась его руки. Ее голос прозвучал глухо, тревожно: — Том, ты сказал, что если нам отпущен год или два… мы должны воспользоваться ими. Он кивнул. — Да, я так говорил. — Тогда давай сделаем это. Не отталкивай меня, пока наше время не истекло. — Черт возьми, Дженюари, оно уже истекло. Больше у нас ничего не получится. Как ты не понимаешь? Я должен вернуться в коттедж и сесть за работу. Написать несколько книг. Я должен… — Том, — она старалась не повышать голоса, потому что ей казалось, что люди, сидящие за соседним столом, прислушиваются к их беседе, — пожалуйста, я сделаю все, что ты захочешь — только не ставь на этом точку. Я не могу жить без тебя. Ты — все, что у меня есть. Все, чем я дорожу. Он посмотрел на нее и грустно улыбнулся: — Тебе двадцать один год, ты обладаешь состоянием, красотой, здоровьем — и я — это все, что у тебя есть? — Все, что мне нужно. Слезы заполнили ее глаза. Он помолчал. Потом кивнул: — О'кей. Мы совершим попытку. Но она будет нелегкой. Однажды я обещал тебе, что мы не расстанемся, пока ты сама этого не захочешь. И я сдержу свое слово. — О, Том… — А теперь ешь гамбургер. Потому что тебе придётся отправиться сейчас домой и собрать свои вещи. Завтра я должен быть в Лос-Анджелесе. Она стала рассеянно есть гамбургер. Ресторан постепенно заполнялся посетителями. Знакомые Тома останавливались у их стола, поздравляли с успехом книги, по-прежнему занимавшей первое место в списке бестселлеров. Кто-то интересовался экранизацией, актерским составом… Все это время она заставляла себя улыбаться, знакомясь с людьми. Некоторые мужчины шутливо задевали Тома, спрашивая ее, что она нашла в таком уродливом старике. Но Дженюари знала, что их шутки порождены симпатией к Тому. Когда им принесли кофе, они остались одни. Первым заговорил Том: — Ну, если ты готова, мы вернемся в пятый коттедж. Она положила свою кисть ему в руку. — Там по-прежнему дождливо? — Нет. Во всяком случае, когда я улетал, было сухо. Он снова вздохнул. — На самом деле ты не хочешь, чтобы я полетела с тобой. — Не в этом дело. Проклятый сценарий. — Брось его, Том. — Возможно, ты не слушала меня, когда я объяснял почему… — Я помню каждое твое слово. Ты сказал что тебе уже пятьдесят восемь лет, что ты хочешь написать все задуманное тобой. Так зачем тратить еще шесть месяцев на кромсание собственного произведения? Возьмись за то, что считаешь важным. — Есть еще такой пустячок, как семьдесят пять тысяч долларов. — Том, я многое обдумала за время нашей разлуки. Послушай, у меня есть десять миллионов долларов. Я дам твоей жене миллион, и она согласится на развод. Еще один миллион отпишу твоему ребенку. Это избавит тебя от чувства вины. Мы сможем быть вместе, завести своего ребенка… или даже нескольких — как ты захочешь… И ты сможешь писать. Он с любопытством поглядел на нее. — Ты впервые заговорила, как миллионерша. — Что ты имеешь в виду? — Все продается. Все имеет свою цену. Один миллион, два миллиона. Желания человека, которого ты покупаешь, не имеют значения. Если ты заплатишь нужную сумму, он — твой. — Том, все не так! Я хочу, чтобы ты стал моим мужем. Хочу постоянно быть с тобой. У меня достаточно денег, чтобы избавить тебя от необходимости запираться с пишущей машинкой и выполнять указания продюсера или режиссера. Я хочу дать тебе возможность писать то, что ты хочешь. А в первую очередь — быть с тобой. Хочу, чтобы мы любили друг друга и были счастливы. Он печально покачал головой. — Дженюари, как ты не понимаешь! У нас ничего не получится. Прошлое не вернуть. Ты появилась, когда я бездельничал. Я нуждался в тебе. И очень сильно. Ты дала пожилому человеку последний шанс снова почувствовать себя мужчиной. За это я всегда буду испытывать к тебе чувство благодарности. Мы оба обрели в подходящий момент нечто очень ценное. Ты дарила мне теплоту, спасала мою гордость, пока я продавал себя во время турне. А я, в свою очередь, заменял тебе отца. Так что мы квиты. Я возвращаюсь к своей работе, а ты — к деньгам, добытым для тебя твоим папой. Тебя ждет жизнь молодой девушки… Возьми же ее. — Нет! Том, ты не можешь на самом деле так думать. Просто у тебя депрессия. Мне не нужна никакая другая жизнь. Я только хочу быть с тобой и… — Но моя жизнь — это писательский труд. Неужели тебе это не ясно? Работа для меня — на первом месте. И всегда будет занимать его. — Отлично. О'кей. Ты сможешь писать. Я хочу, чтобы ты писал. Я куплю для нас дом на юге Франции, вдали от всех. Тебе не придется заниматься сценариями, Не придется делать то, к чему у тебя не лежит душа. Я не буду шуметь. Прислуга обеспечит тебя всем необходимым. Если ты пожелаешь работать в Нью-Йорке, я куплю тебе самую большую квартиру из всех, какие тебе доводилось видеть. Я… — Довольно, Дженюари! Ты говоришь с Томом Кольтом. Не с Майком Уэйном. Она смолкла на мгновение. Потом, уставясь на стол, глухо произнесла: — Что ты хочешь этим сказать? — Только то, что сказал. Я — не твой отец. Не пойду на содержание к богатой женщине. Она вскочила, оттолкнув от себя стол. Дженюари знала, что она пролила кофе, но, не оглянувшись, направилась к выходу из ресторана. (обратно)Глава двадцать девятая
Дженюари спала почти непрерывно в течение трех дней. Сэди прилежно привозила ей пищу на сервировочном столике и пыталась уговорить девушку поесть. Дженюари отказывалась жестом или невнятным бормотанием. Ссылалась на плохое самочувствие. Когда Сэди пообещала вызвать доктора Клиффорда, Дженюари немного поела, объяснив, что у нее тяжело проходят месячные. Это успокоило Сэди, и она в свою очередь сказала Дэвиду: «У мисс Дженюари больные дни». Она достигла той точки, когда снотворное уже перестало погружать ее в мягкий глубокий сон. На четвертый день она лежала в полудреме, будучи не в силах читать; отравленная чрезмерной дозой успокоительного, девушка не могла заснуть. Она помнила, что завтра вечером ей предстоит пообедать у Милфордов с Дэвидом. Ни у кого не бывает больше пяти «больных дней» подряд. Протягивая в очередной раз руку к пилюлям в надежде обрести забытье, она говорила себе, что это временная мера, которая должна помочь ей пережить боль, причиненную Томом. Она не хочет умереть. Дженюари просто не могла преодолеть депрессию, охватившую ее, когда она поняла, что произошло и в каком положении она оказалась. Майк и Том оставили ее… теперь она даже не видела свой сон. Она прокручивала в памяти последние недели, проведенные с Томом. В чем ее ошибка? Что она сделала? Она помнила, как искренне звучал голос Тома, какая нежность была в его глазах, когда он сказал: «Я не могу жить без тебя». Как он мог сказать такое в феврале, а в июне заявить, что у них все кончено? Дженюари мысленно обратилась к тем дням, когда с таким трудом училась ходить — а сейчас она лежит в постели, пытаясь каждый день умереть на какое-то время с помощью снотворного. Она сказала себе, что Господь накажет ее за это. Потом уткнулась лицом в подушку; Господь уже достаточно наказал ее за двадцать один год… У нее есть здоровье… и деньги. Но сейчас это были просто слова. Она услышала звонок и подождала, когда Сэди снимет трубку со второго телефона, но аппарат не умолкал. Она подняла трубку одновременно с Сэди. Дженюари услышала, как Сэди говорит кому-то, что мисс Уэйн не подходит к телефону. Внезапно девушка узнала голос звонившего. — Сэди, я буду говорить. Хью! Где вы? — Лежу в дюнах. Мой телефон подключен к звезде. Ей удалось засмеяться. Его голос был полон жизни… — Вы шутите… Где вы? — В вестибюле «Пьера». Проходил мимо и подумал, что ты, возможно, согласишься выйти и перекусить со мной. — Нет… я лежу в постели… поднимайтесь ко мне. Вскоре Хью уже сидел на стуле возле ее кровати. Его бодрость подчеркивала мрачную атмосферу уныния, царившую в комнате. — Хотите что-нибудь? — спросила девушка. — Я могу попросить Сэди, она нальет вам спиртное или быстро приготовит мясо. У нее всегда полный холодильник. — Нет. Но почему бы тебе не одеться и не съесть где-нибудь гамбургер? Она покачала головой и потянулась к сигаретам. — Я неважно себя чувствую. Ничего серьезного. Просто такие дни месяца. — Неправда. — Честное слово, Хью. — Последние месяцы, пока ты была с Томом, ты ложилась в постель только для того, чтобы позаниматься с ним любовью. Он заметил, что Дженюари поморщилась, точно от боли, но продолжил: — Я выпил с ним перед его отлетом на Западное побережье. Он рассказал мне о вашей встрече в «Туте Шор». Дженюари молча разглядывала пепел на сигарете. — Это должно было закончиться, Дженюари, — тихо добавил Хью. — У вас ничего бы не вышло. Ты должна понять, что для Тома его работа всегда на первом месте. Лично я думаю, что он не способен по-настоящему любить. — Он любил меня, — упрямо заявила Дженюари. — Он… он даже заставил меня поссориться с моим отцом. Хью кивнул. — Он говорил мне. Назвал это своим худшим поступком. Жалел о нем впоследствии, когда все обдумал. Понял, что в тот момент взял на себя обязательства в отношении тебя. А он не терпит никаких обязательств — за исключением тех, что касаются его работы. Он сказал, что ты сама все оборвала, ушла от него. — У меня не было выбора. — О'кей. Но он почувствовал себя свободным, когда ты покинула ресторан. — Хью… Том любит меня! Я это знаю. Он говорил мне, что не может жить без меня. — Охотно верю. И в тот момент он, вероятно, действительно так считал. Я сам не раз говорил это женщинам. И всегда искренне. Мужчины всегда верят в то, что произносят в данный момент. Если бы женщины понимали это, они не считали бы многие слова пожизненным обязательством. Том — писатель… к тому же пьющий. Ты сделала его всей своей жизнью. Он не способен вынести это. — Почему вы говорите мне все это? — Потому что ты мне небезразлична. Я подумал, что ты, возможно, тяжело переживаешь разрыв. Он обвел взглядом комнату. — Но я не предполагал, что ты лежишь тут как труп. Господи, при всех этих цветах недостает только тихой органной музыки. — Том вернется, — упрямо заявила Дженюари. — Все кончено, Дженюари. Кончено! Разумеется, Том может вернуться, если ты встанешь на колени и пробудишь в нем чувство вины. Если ты согласна получить его назад такой ценой… тогда действуй. Но в таком случае я скажу, что здорово ошибся в тебе. Забудь о нем. У тебя есть все, о чем может мечтать девушка. — У меня есть десять миллионов долларов, — сказала она. — Я живу в этих роскошных апартаментах, мой шкаф набит нарядами. По ее лицу потекли слезы. — Но я не могу спать с десятью миллионами. Не могу обнять эту квартиру. — Верно. Но ты можешь доказать, что действительно любила своего отца. — Доказать, что действительно любила своего отца? — Именно. Он наклонился к ней. — Слушай, эта Ди Милфорд Грейнджер была привлекательной женщиной. Но, насколько мне известно, Майк Уэйн всегда жил с самыми эффектными красавицами. Рядом с ним Том Кольт выглядит любителем. Внезапно Майк Уэйн женится на этой богачке, и теперь ты унаследуешь десять миллионов долларов. Скажи мне… ты полагаешь, она ставила тебе эти деньги, потому что ей нравились твои большие карие глаза? Она покачала головой. — Нет… я до сих пор не знаю, почему она это сделала. — Господи! Ты так поглощена жалостью к самой себе, что не потрудилась все обдумать. Послушай, милая леди. Твой отец заработал для тебя эти десять миллионов. Возможно, это заняло у него только год, но я ручаюсь, что никакие деньги не доставались ему так тяжело, как эти. Он посмотрел на слезы, катившиеся по щекам Дженюари. — А теперь перестань плакать, — приказал он. — Ты не вернешь этим отца. Встань с кровати, пойди куда-нибудь, найди себе какое-то развлечение. Если ты не сделаешь это, окажется, что Майк Уэйн потратил последний год своей жизни напрасно. Ему сейчас еще хуже, чем тебе — он видит, что ты лежишь тут и оплакиваешь потерю человека, которому ты не нужна. Она обняла Хью. — Хью, сегодня уже поздно… перед вашим приходом я проглотила две таблетки снотворного. Но как насчет завтра… вы сводите меня куда-нибудь пообедать? — Нет. Она удивленно посмотрела на него. — Я сегодня предложил тебе сходить куда-нибудь, потому что хотел поговорить с тобой, — объяснил он. — Я уже все сказал. — Но ведь мы остаемся друзьями… — Друзьями… да. Я — твой друг. Но не пытайся заменить мною своего отца и Тома. Она улыбнулась и произнесла кокетливым тоном: — Почему бы и нет? Вы — весьма привлекательный мужчина. — Я здоров и полон сил. Я встретил очень славную и симпатичную сорокалетнюю вдову, которая готовит для меня обед три раза в неделю. Я вожу ее в Нью-Йорк на спектакли и считаю, что мне повезло. — Почему вы сообщаете мне это? — Я вижу, что ты все еще тонешь и цепляешься за проплывающее мимо тебя бревно… Из этого ничего не выйдет. Если ты когда-либо попытаешься стать для меня кем-то иным, нежели другом, я могу не устоять, и это еще раз убьет твоего отца. В конце концов, он пошел на этот брак не для того, чтобы его дочь оказалась со стареющим экс-космонавтом. — Мне кажется, он хотел, чтобы я вышла за Дэвида. — За Дэвида? — Эти цветы, — она обвела взглядом комнату, — от него. — Он тебе симпатичен? — Не знаю… я не давала себе шанса сблизиться с ним. Сначала мне казалось, что да. Потом, после встречи с Томом… — Дай себе этот шанс. Дай себе много шансов. С Дэвидом… Питером… Джо… С кем угодно… встречайся с парнями… ходи на свидания… весь мир принадлежит тебе. Твой отец позаботился об этом. Возьми то, что даровано тебе, тогда душа Майка Уэйна обретет покой. Она стала каждый вечер выходить в свет с Дэвидом. Его мать уверяла, что ни Ди, ни Майк не захотели бы, чтобы Дженюари долго пребывала в трауре. Девушка заставляла себя сидеть под грохот музыки в «Клубе»… улыбаться сквозь шум «Максвелла» и «Единорога»… пару раз ходила в «Джино»… знакомилась с новыми людьми — девушками, приглашавшими ее на ленчи, и молодыми людьми, друзьями Дэвида, слишком крепко прижимавшимися к ней во время танца. Она постоянно улыбалась, поддерживала беседу, принимала приглашения… и все время ждала момента, когда вечер кончится и она сможет проглотить две красные пилюли и заснуть. Один день сменялся другим. Ей звонили красивые девушки; они приглашали ее на ленчи; она заставляла себя соглашаться. Дженюари сидела в «21», «Орсини», «Лягушке»… слушала сплетни… рассказы о модных магазинах… престижных курортах Ее звали в Саутгемптон, в круиз к греческим островам (три пары собирались зафрахтовать яхту; Дэвид сказал, что может взять четырехнедельный отпуск). И конечно, девушку всегда ждал дом в Марбелле с огромным штатом прислуги. Да, ее ждали целый мир и лето, сверкающее яркими красками. Пришла середина июня, и Дженюари следовало определиться в отношении своих планов. Все твердили ей, что она не может сидеть все лето в городе. Ни один цивилизованный человек так не поступает. Она слушала знакомых, не спорила с ними и знала, что Дэвид терпеливо и заботливо ждет ее решения… любого решения — и не жалуется. Он звонил ей ежедневно. Они встречались каждый вечер. Другие молодые люди тоже звонили Дженюари каждый день. Князь, красавец киноактер, молодой итальянец из очень хорошей семьи, брокер, работавший в фирме, которая конкурировала с конторой Дэвида. Все они звонили… присылали цветы. Она благодарила их в открытках за букеты, но поклонники вызывали у нее глубокую апатию. Она прочитала, что Том завершил работу над сценарием и отправился на десять дней заниматься серфингом. Интересно, взял он с собой жену или кого-то еще? Даже Линда уезжала. Она арендовала на июль домик в Куоге. Она собиралась проводить там длинные уик-энды с Бенджаменом; он будет жить там весь месяц… писать. Все куда-то отправлялись. Она прочитала, что Карла купила дом на греческом острове Патмосе. Да, все пережили случившееся, мир продолжал существовать без Майка и Ди. Все так же светило солнце. Люди, изображенные на фотографиях в серебряных рамках, по-прежнему улыбались, действовали, испытывали чувства.. Дженюари хотела что-то чувствовать. Мечтала про снуться утром с желанием начать новый день. Иногда, открыв глаза… первые секунды перед окончательным пробуждением чувствовала себя хорошо. Затем на девушку наваливались воспоминания, и ее охватывала депрессия. Майка не было… Тома — тоже… даже сон больше не снился. Мужчина с красивыми глазами исчез вместе с отцом и Томом… Несколько раз звонил Хью. Он пытался ободрить ее. Говорил Дженюари, что сегодня прекрасный день, что она должна выйти из дому, быть счастливой. Но одно дело — предпринять попытку, а другое — добиться желаемого результата. Ее шкаф был забит нарядами для Марбеллы и Сен-Тропе. Каждый день она ходила с подругами по магазинам и покупала то же, что и они. Носила кулон на шее… туфли от «Гуччи»… золотые серьги от Картье в виде обручей… сумочку фирмы «Луи Вуиттон». Она понимала, что начинает выглядеть и одеваться в точности как Вера, Пэтти и Дэбби, — однажды Вера показала Дженюари фотографию в «Женской одежде», и ей пришлось отыскать свое имя под групповым снимком, чтобы найти себя на нем. Она вытянулась на кровати. Сказала Сэди, что отдохнет полчаса. Но Дженюари не удавалось заснуть. Куда поведет ее Дэвид обедать? У нее есть наряды, которые она еще не носила. Возможно, сегодня она наденет нечто особенное. Девушка увидела вспыхнувшую на телефоне лампочку. Она всегда забывала включить звонок. Сняв трубку, услышала" как Дэвид просит Сэди не беспокоить ее, если она отдыхает. — Передайте ей, что наша сегодняшняя встреча отменяется. У нас в конторе запарка. Скажите, что я позвоню завтра. Она прошла в ванную. Было пять часов. Можно полежать в воде и перекусить. Она пустила воду, насыпала в ванну немного пенного порошка. Действительно ли у Дэвида запарка… или он просто решил избежать очередного скучного вечера с ней? Оназамерла. Очередного скучного вечера с ней… Это мысленно произнесла она! До настоящего времени Дженюари всегда называла это очередным скучным вечером с Дэвидом… но сейчас она как бы прочитала его мысли. Конечно, с ней было скучно. Она лишь пыталась дотянуть до конца вечера, не зевая. Зачем ему проводить все вечера с ней? Дженюари вспомнила, что Пэтти не звонила уже два дня, и Вера сегодня сказала, что у нее нет больше времени на ленчи — она занята подготовкой к путешествию. С ней, Дженюари, скучно. Она — зануда. И скоро все ее покинут. Она вернулась в спальню и посмотрела на парк. Весь мир лежал перед ней. Мир, который Майк принес на блюдечке. Она не могла заставить себя взять его. Куда делась та неиссякаемая энергия, что заставляла ее работать в редакции… общаться с Линдой… Томом? Она снова замерла. Ну конечно! Почему ей не пришло это в голову раньше? Вместо снотворного ей требовался укол! Том сказал, что инъекции таят в себе опасность. Что ж, не большую, чем снотворное и состояние глубокой апатии. Она взглянула на часы… пять тридцать. Доктор Альперт еще у себя в офисе. Она спустила воду из ванны, нашла в шкафу джинсы, которые Сэди пыталась выбросить. Надела их, майку, темные очки, схватила сумку и выбежала из дома. Она решила не звонить доктору Альперту — вдруг он предложит ей прийти завтра. Он должен принять ее сегодня. В первый момент Дженюари показалось, что она ошиблась адресом. Офис напоминал клуб рокеров. В приемной сидели парни и девушки в джинсах и майках без рукавов. В комнате стоял запах марихуаны. Помощница врача удивленно посмотрела на Дженюари, затем радостно улыбнулась и протянула девушке руку. — Поздравляю. То есть… сожалею о гибели вашего отца… но поздравляю с состоянием. Я читала о вас. — Обо мне? — Ну конечно. О вас пишут ежедневно. Вы едете в Марбеллу или Сен-Тропе? Я слышала, что вы фактически обручены с Дэвидом Милфордом. Дженюари не знала, что сказать. Она не заглядывала в газеты после возвращения из Калифорнии. Она знала, что похороны подробно освещались прессой. Но почему репортеры уделяют внимание ей? Неужели десять миллионов пробуждают в людях интерес к тому, где она обедает и куда собирается поехать? Она обвела взглядом многолюдную приемную. — Я не назначена, — сказала девушка. — О, конечно, мы вас примем, — отозвалась помощница врача. — Этот час всегда напряженный. Видите, это актеры, занятые в бродвейском спектакле. Они приходят каждый вечер. Она кивнула в сторону молодежи, сидевшей в приемной. — Но мы найдем для вас время. Доктор Престон вернулся с Западного побережья. Так что оба врача сейчас здесь. — А как же его важные калифорнийские пациенты? — У него нет там офиса. Он отправился на Запад потому, что Фредди Диллсон не может петь, если за кулисами нет доктора Престона. — Но на прошлой неделе… я видела по телевизору, как Фредди несли на носилках к машине «скорой помощи». Девушка печально кивнула. — Он упал в обморок… нервное истощение… во время выступления… Доктор Престон уделял Фредди много внимания — провел там семь недель, помогая ему сохранять форму, но певец сорвал голос. — Он так замечательно пел, — сказала Дженюари. — Я постоянно слушала его записи в Швейцарии. — Видели бы вы Фредди, когда он пришел сюда два года назад. Его бросила жена — вы знаете, что он игрок. Он находился в глубокой депрессии. Доктор Престон взялся за Фредди, и скоро он вернулся на сцену. Устроил замечательную премьеру в «Уолдорфе». Потом отправился петь в Лас-Вегас и снова сломался. Доктор Престон вылетел туда и поставил его на ноги перед лос-анджелесской премьерой… Но он не мог постоянно сопровождать Фредди. Доктор Престон — не нянька. — Но если Фредди постоянно нуждается в уколах? Помощница врача пожала плечами. — Моя дорогая, доктор Престон научил двух важных сенаторов делать себе внутривенные инъекции, но Фредди не может сам пользоваться шприцем. В конце концов, люди, больные диабетом, обходятся без посторонней помощи. Не надо бояться иглы. — Я бы хотела увидеть доктора Саймона, если это возможно, — сказала Дженюари. — Он принимает артистов… посмотрим, что можно сделать. Следуйте за мной, я отведу вас во внутреннюю комнату. Мы всегда приглашаем туда наших самых важных посетителей. Она прошла по коридору за девушкой. Из кабинета появился молодой человек, опускавший рукав. Увидев Дженюари, он замер. Они уставились друг на друга. Парень обнял Дженюари. — Привет, наследница. Что ты здесь делаешь? — Кит! Она обхватила его за плечи. Он похудел и отпустил волосы. Дженюари обрадовалась встрече. — Кит, а ты что здесь делаешь? — Я прихожу сюда каждый вечер. Я играю в «Гусенице». Ты, конечно, видела наш спектакль. — Нет… я была в отъезде. — Я читал о тебе. Ты, похоже, счастливица! Зачем тебе поднимать настроение уколами? Она пожала плечами. — Кажется, у меня малокровие. — Ну, если захочешь посмотреть мюзикл… Замолчав, Кит покачал головой. — Нет… забудь об этом. — О чем? — Сегодня у нас грандиозная вечеринка. В городском доме Кристины Спенсер. Она будет счастлива, если ты придешь… Но у тебя, наверно, расписан каждый вечер — Нет… я буду свободна — Весь вечер? — Как только сделаю укол. — Хочешь пойти на спектакль? — С удовольствием. — Отлично! Я подожду. Посажу тебя впереди, только не смогу сидеть с тобой рядом. — Сегодня я не сбегу, — сказала она. — Там есть сцены с обнаженными актерами, — предупредил он. — Я уже взрослая девушка, Кит. — О'кей. Делай свой укол. Я постою на улице. (обратно)Глава тридцатая
Она сидела, загипнотизированная фантастическим действом. У Кита была одна песня, он исполнял ее речитативом. К удивлению Дженюари, не очень хорошо. Почему-то она ожидала от него большего блеска. Но витальность его личности не раскрывалась в шоу. В спектакле была одна сцена с фронтальным «ню». Кит участвовал в ней вместе с большей частью труппы. Дженюари вдруг заметила, что у всех актеров были примерно одинаковые члены — такие же, как у Дэвида. Возможно, это норма. Точно все мужчины сошли с одного конвейера. Все, кроме Тома. Бедный Том! Она была способна сочувствовать ему. Под влиянием укола? Или она наконец посмотрела на ситуацию трезво? Дженюари засмеялась. Множество пенисов, плавающих над сценой, навело ее на философские размышления. Она подумала о Майке. Она знала, что он ушел из жизни… но вдруг отказалась поверить в это. Впервые Дженюари обрела способность думать о Майке без горечи в душе. Майк жил полной жизнью. И погиб стильно — так он сам бы сказал. Майк жил на широкую ногу и наслаждался каждой минутой… за исключением, возможно, последнего года. Как сказал Хью, этот год он прожил ради нее… чтобы она имела в будущем много счастливых лет. Спасибо Господу за Хью. И за доктора Альперта. Вероятно, инъекции действительно вредны для здоровья — это утверждал Том. Но вряд ли они опаснее «Джека Дэииэлса», который пил он. Ему исполнилось пятьдесят восемь лет, но даже несмотря на большое количество поглощаемого им бербона, он писал и оставался, как говорит Линда, суперзвездой. Несмотря на свой маленький член, мог позволить себе роскошь расстаться с ней. Внезапно это показалось ей забавным. Как она могла испытывать отчаяние из-за их разрыва? Она сидела в зале, полная жизни. Отбивала ритм пальцами. У нее была ясная голова. Она смотрела с третьего ряда «Гусеницу» и испытывала удовольствие. Не лежала больше в своей постели, наглотавшись снотворного. Перед ней простирался весь мир, мир, в котором люди порхали над сценой, девушки с обнаженными бюстами исполняли неистовый танец в стиле рок… все казалось прекрасным. Они решили пройти пешком до дома Кристины Спенсер. Он находился в районе Восточных Шестидесятых; вечер был теплым, ясным, Дженюари держала Кита под руку. Ей хотелось прыгать, бегать… Она поглядела на темное небо. — О, Кит, как замечательно иметь хорошее настроение. Он кивнул. — Похоже, доктор Альперт вкатил тебе щедрую дозу. Он сам был сегодня навеселе и, вероятно, принял тебя за актрису. Она засмеялась. — Поэтому он даже не поговорил со мной? Я огорчилась — он не счел нужным сказать мне, что рад моему возвращению, не произнес: «Добро пожаловать, блудная дочь». Кит, улыбнувшись, посмотрел на Дженюари. — Тебе хорошо, да? — Мне кажется, что я слышу, как растут деревья, ощущаю запах приближающегося лета… я действительно вижу, как увеличиваются в размере листья. Кит, посмотри на это дерево — ты видишь, тот лист растет на глазах. Он улыбнулся. — Ну конечно. Очень важно видеть и слышать все это. Сегодняшний июньский четверг больше не повторится. Завтра наступит пятница. Этот четверг — единственный и неповторимый. — Почему ты ушел от Линды? — внезапно спросила она. — Линда требовала от меня слишком многого. Она кивнула. Нельзя никем владеть полностью. Поэтому Том позволил ей уйти из его жизни. Остановившись, она посмотрела на небо. Почувствовала, что в эту минуту находится на грани чего-то… она словно заглядывала в будущее… все понимала… Дженюари повернулась к Киту. — Кит, к этим уколам можно привыкнуть? — Нет, но человеку становится плохо, когда их действие заканчивается. Ты падаешь на самое дно… краски пропадают. Ты видишь пятна на солнце, пожелтевшие листья, дерьмо на улице. Если ты согласна постоянно жить в усталом грязном мире, перестань колоться. Каждый имеет право жить так, как хочет. У христиан есть Иисус… у пантеистов — свой бог… я держусь за зелье: оно делает мир зеленым, оранжевым… ярким. Когда-нибудь я устану от этих красок и завяжу. Но не сейчас. Они остановились перед особняком из плитняка. Возле дома были запаркованы лимузины. Кит провел Дженюари внутрь. Она увидела в холле известного рок-певца. Они оказались в гостиной, заполненной людьми со знакомыми лицами. Поп-артистами, звездами альтернативного кино, певцами, молодыми киноактрисами. Все были в голубых джинсах, бархатных костюмах, прозрачных блузках, полосатых пиджаках, причудливых индейских нарядах. Дженюари увидела Кристину Спенсер. Она подплыла к ним; в жизни ее лицо казалось более хищным, чем на многочисленных фотографиях, а фигура — более эффектной. Ей было под шестьдесят. Она явно сделала не одну подтяжку. На Кристине был облегающий костюм из пестрого шелка с глубоким декольте, из которого выглядывали большие груди. Она обладала телом двадцатилетней девушки. Кристина радушно поздоровалась с Дженюари. — Я знала твоего отца, моя милочка. Мы провели с ним несколько потрясающих ночей в Акапулько. Это было незадолго до встречи с моим дорогим Джеффри. Кит повел Дженюари дальше. — Лично я считаю, что она убила Джеффри, — прошептал он. — Она трижды выходила замуж, все мужья умирали, оставляя ей деньги. Теперь она финансирует «Гусеницу». Спектакль пользуется большим успехом. — Я считала, что ты — ее любовник, — сказала Дженюари. — О, я действительно трахал Кристину. Но она — любвеобильная натура. Она нуждается в новом любовнике каждую неделю, чтобы всякий раз убеждаться в том, что бразильский хирург, подтягивавший ей кожу лица, неплохо поработал. Но она — славная женщина. Не мешает никому жить своей жизнью. Возможно, я для нее — первый номер, но сегодня она решила, что ты — моя девушка… и не рассердилась… К Киту подошла молодая женщина. — Милый… сангрия наверху, в кабинете. Кит повел Дженюари по лестнице в затемненную комнату. Там все сидели на диванных подушках. Потянув Дженюари вниз, он вытащил из кармана тонкую сигарету. Зажег ее и передал девушке. Дженюари глубоко затянулась и выпустила из себя дым. — Господи, детка, это же не «честерфилд». — Я сделала затяжку, — отозвалась Дженюари. — Когда куришь «травку», не надо выдыхать дым. Задержи его в легких. Он зажал сигарету между большим и указательным пальцами и показал, как надо делать. Дженюари попыталась повторить… но все же выпустила дым. Внезапно Кит произнес: — Погоди. Я тебе помогу. Он наклонился, словно решил поцеловать Дженюари, и выдохнул дым ей в рот, зажав девушке нос. — Теперь сделай вдох. Она закашляла, но большая часть дыма попала внутрь. Кит повторил процедуру еще пару раз, и у Дженюари слегка закружилась голова. Кит зажег новую сигарету, и теперь Дженюари все сделала правильно. Красивая девушка поднесла им графин сангрии. — Вот бумажные стаканчики. Хотите выпить классного зелья? Кит кивнул и взял протянутые ему стаканчики. — Дженюари, это Арлен. — Пейте вино… оно прочистит вам головы… Анита уже лежит в соседней комнате. Дженюари отпила вино. — Отличное, — сказала она. — Потягивай не спеша, — посоветовал Кит. — Забористая штука. — Что? Она опустила стаканчик. — Успокойся. Кислоты там ровно на хорошее путешествие. Доверься мне. Нам всем завтра предстоит играть в спектакле. Я же пью… Только не торопись. Она огляделась. Сладковатый аромат марихуаны стоял в воздухе. Музыка разносилась по всему дому. Все потягивали сангрию. Дженюари пожала плечами… почему бы и нет? Гости делали это раньше… и охотно пили зелье сейчас. Видно, оно давало приятные ощущения. К тому же, как сказал Кит, этот июньский четверг — единственный и неповторимый. Она допила вино. Отдала Киту пустой стаканчик. Прильнула к его плечу. Она не чувствовала никакой реакции… только полную расслабленность. После укола она испытывала возбуждение… прилив бодрости… Теперь ее охватил покой. Забавное слово… покой… весь мир казался неподвижным… по телу Дженюари разливалось тепло… она увидела солнце… яркую радугу, повисшую над водой. Перед девушкой появились волны, океан… нежный, голубой… и внезапно с поразительной ясностью она поняла, что Майк не испытывал страха, когда самолет падал… отец почти радостно погружался в ласковую бирюзовую воду… чтобы обрести там покой… как она сейчас, положив голову на плечо Кита… и Майк не умер… ничто не умирает… жизнь вечна… люди добры… у Кита теплые губы… он целует ее… расстегивает ей рубашку, под которой нет лифчика… но это не имеет значения… все медленно движется… может быть, она поступает неправильно, целуя Кита… ведь его когда-то любила Линда… когда-то… это было так давно… все когда-то кончается. Она откинулась на подушку. Губы Кита касались ее груди. Она увидела обнаженную девушку, которая танцевала одна… два голых молодых человека тоже танцевали, обняв друг друга. Арлен прошла по комнате и повернула выключатель… по стенам поплыли яркие огни. Дженюари положила голову на колени Кита. Он смотрел в пространство, лаская ее груди. Она поглядела на его лицо и поняла, что он не видет ее… он прислушивался к звукам, рождавшимся в его голове. Ей казалось, что волосы Кита темнеют на глазах… все замерло, и сквозь музыку она услышала биение своего сердца, внезапно почувствовала, что может заглянуть в прошлое и будущее. Будущее без Майка. Господь словно на мгновение открыл перед ней занавес. И она увидела Майка… его голубые глаза. Он вернулся. Она протянула к нему руки. Он так долго отсутствовал… а теперь возвратился, и это не сон. Его глаза были ярко-голубыми… возможно, это все же Бог. Какие глаза у Бога? Она слышала голоса… они доносились издалека. Один из голосов принадлежал молодому человеку, стоявшему над Китом. Это Нортон… у него большой номер в мюзикле. Нортон улыбался ей… но она смотрела мимо него… Куда исчез Бог? У Нортона были карие глаза… янтарно-карие… золотистые… — У нее груди маленькие, но очень красивые… с крошечными розовыми сосками… обожаю розовые соски. Я могу их коснуться? Нортон принялся ласкать один ее сосок, Кит гладил второй. Они поцеловали их… все было мило, по-дружески, она обнимала их головы. Все любили друг друга… везде царил покой… к ним подошла Кристина… она сняла с себя верхнюю часть костюма… ее груди висели. Почему они висят? Они были такими красивыми, округлыми, когда выглядывали из разреза. Кристина нагнулась и потянула Нортона за руку. — Нортон, пойдем-ка со мной и Арлен… Она подняла Нортона. К ним приблизился другой молодой человек. Он улыбнулся Киту. — Привет, дружище. Она великолепна… Опустившись на колени, он заглянул Дженюари в глаза. — Меня зовут Рикки… Улыбнувшись, она коснулась его ног. — Ты исполнял танец… Рикки был без одежды… в шоу он выступал почти обнаженным… но сейчас снял с себя все… его тело пришло в движение… он начал исполнять танец из мюзикла… протянул руки к Дженюари… он хотел танцевать с ней. Она медленно поднялась… она чувствовала, что для нее нет невозможного… она способна даже полететь по комнате… над головами людей. — Нельзя танцевать в одежде, — сказал Рикки. Улыбнувшись, она сняла джинсы и бросила их на пол. Потом избавилась от трусиков. Он провел руками вдоль ее тела, и она снова улыбнулась. Она ощущала себя свободной… стала делать чувственные движения… в одном ритме с ним… Их разделяла треть метра. Глаза Рикки и Дженюари встретились. Он приблизился к ней. Все начали хлопать ладонями. Она подняла руки над головой и тоже стала хлопать. Хлоп… хлоп… хлоп… Рикки щелкал пальцами в том же ритме. Кит, подойдя сзади, поднял ее… она была легче воздуха. Кто-то раздвинул ей ноги… Все хлопали… медленно… ритмично… Хлоп… хлоп… хлоп… Она тоже хлопала. Дженюари увидела приближающийся к ней молодой сильный член. Хлоп… хлоп… хлоп… Это был пенис Рикки… хлоп… хлоп… хлоп… зазвучал хор… член Рикки проник в нее… все пели… фак… фак… фак… Кит двигал ее тело взад — вперед… Рикки тоже держали в воздухе. Фак… фак… фак… В этом нет ничего дурного… Молодой пенис входил в Дженюари и выходил из нее… входил и выходил… Хлоп… хлоп… хлоп… фак… фак… фак… все — друзья… фак… фак… фак… Огни плыли по комнате… Кристина целовала ее груди… ласково… по-дружески… бедная Кристина с длинными висящими грудями… Дженюари увидела в дальнем углу комнаты раздевающихся девушек… все двигались в едином медленном ритме. К Дженюари подошел молодой парень… он поцеловал ее грудь… Все любили друг друга… это было чудесно… Хлоп… хлоп… хлоп… ритуальные хлопки… фак… фак… фак… все целовали ее. О господи, как здорово… Она плыла… никогда не испытывала ничего подобного… пенис Рикки… чьи-то губы одновременно касаются ее бедер и члена Рикки… Кристина сосет грудь… Дженюари почувствовала приближение оргазма… Кит поднес что-то к ее носу… фак… фак… фак… — Втягивай сильней, Дженюари… это «бомба». Она потянула носом воздух… ей показалось, что голова ее сейчас взорвется… оргазм длился целую вечность. Она хотела, чтобы он никогда не кончался. — О, Майк, я люблю тебя, — закричала Дженюари и потеряла сознание. Открыв глаза, Дженюари увидела, что лежит на пушистом ковре, свернувшись в клубочек и прильнув к Киту. Ее рубашка и джинсы лежали на полу. Она села. Голова у нее была ясная; Дженюари вспомнила увиденный ею странный сон. Она посмотрела на свое тело. Она была голой! Обнаженный Рикки тоже спал на полу. Поднявшись, она натянула на себя джинсы. Так это был не сон! Она принимала участие в безумном ритуале. Взяв свою рубашку, она пошла по комнате среди спящих людей. Она должна найти туфли. В холле пробили часы… она направилась туда… там обнимались две голые девушки. Увидев ее, они замерли и улыбнулись. Дженюари ответила им улыбкой. Они подошли к ней и поцеловали ее в щеки. Она улыбнулась… это был жест любви и дружбы… перед ее глазами струился свет… она увидела яркие пятна… по телу Дженюари разлилось тепло… но она чувствовала, что должна вернуться домой. Везде валялись сандали… надо найти пару подходящего размера. Отыскав свою сумочку, девушка перекинула ее через плечо. К Дженюари подошел Кит. — Куда ты? Она улыбнулась, надевая рубашку. — Домой… Он протянул ей кусочек сахара. — Съешь… отличная штука. Кит сунул конверт в сумочку, висевшую на плече Дженюари. Она пососала сахар. — Что ты мне положил? — Подарок, — сказал он и начал расстегивать ее рубашку. Дженюари снова почудилось, что она плывет… в голове что-то зажужжало. Она с улыбкой отстранилась. — Нет… ты принадлежишь Линде. Она вернулась в холл. Девушки, все еще обнимавшие друг друга, посмотрели на нее. Протянули к Дженюари руки, обняли ее. Поцеловали Дженюари. Расстегнули ей рубашку. Губы одной из них скользнули вниз к груди Дженюари. Они начали вдвоем ласкать девушку. Это было чудесно… она никогда прежде их не видела… они хотели доставить ей удовольствие… она почувствовала, что ей расстегивают «молнию» на джинсах… нежная рука коснулась ее… нет… это дурно… это должен делать только мужчина… Она отодвинулась… улыбнувшись, покачала головой. Девушки тоже улыбнулись. Одна из них застегнула ее рубашку, другая помогла справиться с «молнией» на джинсах. Помахав Дженюари рукой, они снова стали вдвоем предаваться любви. Она понаблюдала за ними… Это было прекрасно, как балет… потом Дженюари направилась к двери. Она вышла на улицу, в прохладную ясную летнюю ночь. Сейчас голова у нее кружилась еще сильнее, чем прежде. Она могла видеть сквозь время и пространство… сквозь здания… сквозь этот особняк из плитняка, который она только что покинула, где счастливые красивые люди занимались любовью. Это был удивительный, чудесный мир, и завтра она расскажет о нем Майку. Нет, Майк исчез. Ну, значит, когда увидит его в следующий раз… она обязательно увидит его опять… люди вечны… он узнает о том, что она любит его. Потому что все должны любить всех и все… даже дерево способно отвечать на любовь. Остановившись возле дерева, она обхватила ствол руками. — Ты — молодое, тоненькое дерево… но не бойся… когда-нибудь ты станешь большим. И я люблю тебя! Она прильнула к дереву. — Такое слабенькое деревце… на всей улице слабенькие молодые деревца… Но знаете что, маленькие деревья? Вы будете стоять здесь, когда мы умрем. И, возможно, кто-то другой скажет вам, что любит вас. Вы ведь надеетесь на это? Признайся, дерево, если бы соседнее дерево сказало тебе, что хочет принадлежать тебе вечно… обвить твои ветви своими… слиться с тобой в единое целое… ты бы этому, верно, обрадовалось? Вы бы стали одним сильным, могучим, счастливым деревом. Она вздохнула. — Но нет, ты обречено стоять в одиночестве… и, возможно, ветер пригонит твои листья к ветвям соседа… с помощью ветра вы можете шептаться и разговаривать… быть вместе… и все же порознь. Так и задумано в природе? Тогда, возможно, это и наш удел. Но, дерево… все же как приятно принадлежать кому-то… Отойдя от дерева, она пошла по тротуару зигзагом. Она отдавала себе отчет в том, как идет: сейчас она напоминала ребенка, который старается не наступать на промежутки между плитами. Дженюари посмотрела на небо. Звезды тоже существовали каждая сама по себе. Испытывают ли они чувство одиночества? Внезапно она увидела падающую звезду. Сомкнув веки, загадала желание. Может быть, в эту минуту ее отец смотрит на звезду из океана. Или сам находится на одной из звезд, начинает там новую жизнь. — Свети, свети, маленькая звездочка. Она засмеялась. Какая глупость, звезда вовсе не маленькая. Звезда — это большое солнце. Дженюари сконцентрировала внимание на той, что, похоже, подмигивала ей. Она горела ярко, но девушка заметила, что бархатное небо светлеет… скоро утро… единственный и неповторимый июньский четверг закончился. Его уже никогда не вернуть. Сегодня — единственная и неповторимая пятница. Дженюари зашагала дальше… иногда она шла зигзагом… иногда скакала. Красный свет на Мэдисон-авеню был таким красным… а зеленый — таким зеленым. Эти огни говорят людям и машинам, что им делать… когда идти… когда стоять. Это был мир огней, говоривших «иди» и «стой». Но кому они нужны? Люди не станут причинять никому вред. От чего все стараются защитить ее? Почему хотят вселить в душу страх? Бойся незнакомых… бойся машин… слушайся светофоров! Кому нужны светофоры? Мир был бы гораздо лучше без запрещающих огней. Люди сами бы останавливались, когда нужно, потому что они любят и берегут друг друга. На середине улицы она подняла голову и посмотрела на небо. Там не было сигналов «стой»… такое огромное небо… оттуда упал самолет Майка… с нежного неба в нежную воду… и сейчас Майк тоже смотрит на небо… ничто больше не причинит вреда ему… и ей тоже… никто не ударит ее… потому что она — частица мироздания. Плохое не может случиться… даже смерть — не конец… это просто часть другой жизни. Теперь она в этом уверена. Дженюари глядела на небо и ждала, когда оно ответит ей… услышала скрип тормозов… в нескольких десятках сантиметров от нее остановилось такси. Из него выскочил водитель. — Пьянь безмозглая! — Не говорите так, — улыбнулась Дженюари и обвила руками его шею. — Не сердитесь, ведь я люблю вас. Он отстранился от Дженюари и посмотрел на нее. — Ты могла погибнуть. Боже… одна из этих. Совсем обалдела от наркотиков. — Я люблю вас, — она прижалась головой к его щеке. — Все должны любить всех. Он вздохнул. — У меня две дочери твоего возраста. Я работаю ночами, чтобы дать им образование. Одна ходит в педагогический колледж… вторая учится на медсестру. А ты, дитя-цветок… чему, черт возьми, учишься ты? — Любить… чувствовать… — Садись в машину. Я отвезу тебя домой. — Нет… я хочу ходить пешком… плыть… чувствовать. — Садись… я не возьму с тебя денег. Она улыбнулась. — Видите, вы все же любите меня. Он потянул ее за руку и усадил на сиденье рядом с собой. — Сзади ты еще что-нибудь выкинешь… Ну, где твой дом? — Там, где мое сердце. — Слушай, я закончил работу в четыре, но у меня еще вызов в аэропорт. Сейчас без четверти пять. Я живу в Бронксе. В эту самую минуту моя жена сидит без сна перед чашкой кофе, ждет меня и рисует себе страшные картины: ей кажется, что грабитель приставил нож к моему горлу. Так что поторопимся. Куда тебе? — В «Плазу». Там живет мой отец. Они поехали в сторону «Плазы». Через несколько кварталов она коснулась его руки. — Нет… не в «Плазу»… теперь он в другом месте. Там жил человек, которого я любила… сейчас он в отеле «Беверли Хиллз». — Слушай… куда тебе надо? — В «Пьер». — Ты что, перепутала отели? Ну… куда тебя отвезти? Она посмотрела на его регистрационную карточку. — Мистер Айседор Кохен, вы — очень красивый человек. Отвезите меня в «Пьер». Он поехал по Пятой авеню. — Как тебя зовут, дитя-цветок? — Дженюари. — Ну конечно. Айседор Кохен проводил ее до двери «Пьера». Начинался дождь. Дженюари посмотрела на хмурое, затянутое облаками небо. — Где звезды? Куда делась моя прекрасная ночь? — спросила девушка. — Она превратилась в утро, — проворчал водитель. — Противное, дождливое утро. А теперь ступай к себе. Она махнула рукой вслед идущему к машине шоферу. Он отказался взять у нее деньги, но она оставила на сиденье двадцатидолларовую бумажку. На цыпочках прошла в спальню и сдвинула шторы. Сэди еще спала. Весь мир спал, кроме доброго мистера Кохена, ехавшего сейчас домой в Бронкс. Он был замечательным человеком. Любой человек — замечательный, если ты найдешь время понять его. Например, Кит, — узнав его, она поняла, что он тоже чудесный парень. Девушка медленно разделась и бросила сумку на стул. Она соскользнула на пол. Нагнувшись, Дженюари бережно подняла ее. — Слушай, миссис Сумка «Луи Вуиттон», по-моему, ты безобразна. Но люди говорят, что ты очень модная. Она принялась разглядывать сумку. Купить ее в «Саксе» Дженюари уговорила Вера. («Но я редко ношу коричневые вещи», — сказала тогда Дженюари. «Сумка „Луи Вуиттон“, — заявила Вера, — подходит ко всему».) Да, стотридцатидолларовую сумку она будет носить с чем угодно. Дженюари засмеялась. Что такое сто тридцать долларов, если у нее есть десять миллионов? Но она не могла представить себе, что владеет десятью миллионами. Так же, как и этой квартирой. Все это в сознании Дженюари по-прежнему принадлежало Ди. Интересно, ощущал ли Майк, что эта собственность — его? Но сумка «Луи Вуиттон», стоившая сто тридцать долларов, несомненно, принадлежала ей, Дженюари. Такая сумма была для нее осязаемой. Сев на край кровати, она погладила сумку. Положила ее на подушку и забралась в постель. Ей не хотелось спать. Не принять ли снотворное? Дженюари взяла склянку из тумбочки… убрала ее назад. Зачем глотать пилюли? Ей очень хорошо… Кит сказал: «Этот четверг — единственный и неповторимый». Сегодня пятница — второй такой не будет. Лежа без движения, Дженюари ощущала приятную невесомость своего тела. Она знала, что не заснет… не могла сделать это… однако она должна увидеть сон. Прежде всего — ясные синие глаза. Лицо оставалось расплывчатым… оно всегда было нечетким, однако она знала, что оно красиво. Человек был незнакомцем, однако Дженюари инстинктивно ощущала, что это кто-то, с кем ей хочется находиться рядом. Он протягивал к ней свои руки… и она знала, что должна пойти к нему. Она чувствовала, что встает с кровати, чтобы оказаться в его объятиях… одновременно сознавая, что ей следует остаться в постели и пережить сцену во сне. Да… это сцена… потому что она видит себя встающей с кровати… идущей навстречу протянутым к ней рукам. Каждый раз, приблизившись к незнакомцу, она ощущала, что их снова разделяет расстояние. Он ждал ее. Она прошла за ним в гостиную… к окну. Он уже за окном! Она раскрыла его… на темном небе мерцали звезды. Она решила, что это сон, потому что несколько минут тому назад, когда она засыпала, уже был рассвет… пасмурный сырой рассвет… значит, она еще в постели и не стоит у окна, глядя на звезды и таинственного незнакомца. Но на сей раз она обязательно рассмотрит его лицо. Она высунулась из окна. — Я нужна тебе? — закричала Дженюари. Он протянул к ней руки. — Если я приду к тебе, ты должен будешь любить меня по-настоящему, — произнесла Дженюари. — Пусть ты всего лишь видение, но я не переживу, если влюблюсь в тебя, а ты исчезнешь. Он молчал. Но его глаза говорили Дженюари, что он никогда не причинит ей боли. Внезапно она поняла: все, что ей надо сделать, это выпрыгнуть из окна и прилететь в его объятия. Она перекинула ногу через раму. Почувствовала, что кто-то тянет ее назад. Не пускает к нему… Она стала вырываться. И тут проснулась — Сэди с криком оттаскивала ее от окна. Дженюари посмотрела на улицу… она едва не выпала из окна! — Мисс Дженюари! О, мисс Дженюари! Почему? Почему? — всхлипывала испуганная Сэди. Девушка на мгновение прижалась к Сэди, заставила себя улыбнуться. — Все в порядке, Сэди. Это сон. — Сон! Вы собирались броситься из окна. Слава богу, я была на кухне и услышала, как вы его открывали. Дженюари посмотрела в окно. Увидела темное небо и звезды. — Который час? — Десять. Я наливала себе чай и собиралась посмотреть вечерние новости по ТВ. В полдень пыталась разбудить вас, но вы пробормотали что-то насчет бессонной ночи. В семь позвонил мистер Милфорд, и я сказала ему, что вы еще спите. Он очень беспокоится. Звонит каждый час. — Не волнуйтесь, Сэди. Я… я приняла утром снотворное. Мне не удалось поспать прошлой ночью. Похоже, я проспала весь день. — Так вы позвоните мистеру Милфорду? Он очень тревожится. Кивнув, она отправилась в свою комнату. — Принести вам что-нибудь, мисс Дженюари? — Нет… я не голодна. Сняв трубку, она набрала номер Дэвида. Внезапно в комнате стало темно. Перед глазами Дженюари замелькали яркие огни… она снова увидела его… только на мгновение… синие глаза… они почти смеялись над ней… словно стыдя ее за трусость. — Ты хотел убить меня! — закричала она. — Убить меня! Ты этого желал? В спальню вбежала Сэди. Дженюари смотрела на телефон, из которого доносились сигналы, напоминающие о том, что трубка снята с рычагов слишком долго. — Мисс Дженюари, вы кричали! — Нет… я просто повысила голос… телефонистка дважды соединила меня неправильно. Не беспокойтесь, Сэди… пожалуйста. Я звоню мистеру Милфорду. Идите спать. Она набрала номер. Когда Дженюари произнесла: «Привет, Дэвид!», женщина бесшумно покинула комнату. В голосе Дэвида звучала искренняя тревога. Дженюари попыталась говорить легкомысленным тоном. Но комната снова погрузилась в темноту, потом вспыхнула яркими красками. — Я была на вечеринке, — сказала она и поморгала, стараясь избавиться от цветных пятен. — Она, похоже, затянулась до утра, — заметил он. — Ты спала весь день. Она закрыла глаза, чтобы не видеть радужных вспышек. — Да… там были друзья отца… актеры… режиссеры. Видение исчезло, Дженюари почувствовала себя лучше, ее голос окреп. — Вечеринка началась поздно… в полночь. Когда я пришла домой, мне почему-то не хотелось спать. Я читала до утра. Потом приняла две таблетки снотворного… остальное тебе известно. — Как ты сможешь теперь уснуть? — Почитаю скучную книгу и приму снотворное. К завтрашнему дню мой обычный режим восстановится. — Дженюари, мне не нравится твое увлечение снотворным. Я против всяких таблеток. Обхожусь даже без аспирина. — С завтрашнего дня я перестану принимать их. — Это моя вина. Я оставил тебя одну. Тебе нельзя быть одной сейчас… и никогда. Дженюари, давай не будем ждать лета. Сделаем это сейчас. — Что? — Поженимся. Она помолчала. После того первого раза он никогда не предлагал ей переспать с ним. Но после авиакатастрофы Дэвид изменился. Стал более мягким, внимательным… заботливым. — Дженюари, ты меня слышишь? — Да… — Ну… ты выйдешь за меня замуж? — Дэвид, я… Она заколебалась. Но почему? Чего она ждет? Второго Тома, который окончательно уничтожит ее? Романа с Китом… с кем-то из его друзей? Только сейчас она испытала потрясение от происшедшего у Кристины Спенсер. Даже сон представлял опасность. Она едва не выпрыгнула из окна. Внезапно ее охватил страх. Что с ней происходит? Где та девушка, которой она когда-то была… и остается сейчас? Она позволила незнакомому парню любить ее в комнате, заполненной чужими людьми. Однако в тот момент все казалось абсолютно естественным. Она задрожала… показалась себе грязной… изнасилованной. — Дженюари, ты где? — Да, Дэвид. Я… я думаю… — Пожалуйста, Дженюари. Я люблю тебя… хочу о тебе заботиться. — Дэвид… Она стиснула трубку. — Я действительно нуждаюсь в тебе. Да… да. Нуждаюсь! — О, Дженюари! Обещаю, ты никогда не пожалеешь об этом. Послушай, мы сегодня отметим событие обедом. Я приглашу друзей. Веру и Теда… Харриет и Пола… Мэриэл и Берта… Бонни и… Он замолчал. — Куда мы отправимся? В «Лафайет»? В «Голубь»? — Нет. Пойдем в «Лотерею». Там прошло наше первое свидание, верно? — Дженюари, я и не подозревал, что ты сентиментальна! — Нам еще много предстоит узнать друг о друге, — сказала она. — Дэвид, ты понимаешь, что, по сути, мы едва знакомы. — Это не моя вина, — сказал он. — Я… ну… я не приглашал тебя снова к себе и не просил разрешения остаться в твоей квартире, потому что мне казалось, что ты не расположена к… — Дэвид, я имела в виду другое. Люди могут спать вместе и оставаться чужими. — Наверно, я слишком сдержанный человек, — сказал Дэвид. — Испытывая чувства, не умею их демонстрировать. Но и ты, Дженюари, похожа в этом на меня. Знаешь, как называют тебя мои друзья? «Ее ледяное высочество». Даже газеты это подхватили… вчера один репортер назвал тебя так. — Я кажусь холодной? — Иногда как бы отсутствующей, — сказал он. — Но ты имеешь на это право. После всего, что случилось с тобой за год… — Да, ты прав. Произошло многое. Она вдруг вспомнила тот первый вечер в «Лотерее». Все показалось ей нереальным. Неужели она действительно сможет провести всю оставшуюся жизнь с Дэвидом… спать с ним в одной постели? Ее охватила паника. — Дэвид, я не могу! Это нечестно по отношению к тебе. — Что нечестно? — Выйти за тебя. Я… я на самом деле не влюблена в тебя. Помолчав мгновение, он спросил: — Дженюари, ты когда-нибудь любила кого-то по-настоящему? — Да. — Кроме отца? — Да… Он помолчал. — Это кончилось? — Да, — тихо промолвила она. — Тогда не рассказывай мне об этом. — Но, Дэвид… если я знаю, как сильно могу любить и не испытываю подобного чувства к тебе, будет ли честным?.. Не знаю, как это выразить… — Я понимаю. Потому что тоже любил кого-то. Не так, как люблю тебя. Но нельзя любить одинаково дважды. Ни одна любовь не похожа на другую. Если ты будешь искать всякий раз прежнюю любовь, ты никогда не сможешь полюбить снова по-настоящему, потому что новый роман станет продолжением первого. — Откуда тебе это известно? — спросила она. — На вечеринке у моей матери я беседовал с крупным психоаналитиком, доктором Артуром Эддисоном. Моя мать стала ходить к нему, когда с наступлением климакса ее стала мучить депрессия. Я не верю в психиатрию — если речь не идет о законченных психах, — но должен признать, что он помог матери и с тех пор стал другом семьи. Дженюари, та любовь, о которой мы говорим, бывает у человека лишь однажды. И поскольку мы оба пережили ее… то, что связывает нас, представляет из себя нечто новое. Мы можем создать новую жизнь и забыть о прошлом. — Думаешь, нам удастся сделать это? — Конечно. Только неврастеники цепляются за ушедшее. Ты производишь впечатление уравновешенного человека. А теперь усни и постарайся увидеть меня во сне. Опустив трубку, она принялась обдумывать их разговор. Дэвид прав. Ей не воскресить Майка и не вернуть того, что было у нее с Томом. Эта часть жизни закончилась. Но как она сможет прогнать из головы все воспоминания? Наверно, мужчине легче это сделать. Господи, если бы она могла забыть хотя бы последнюю ночь! Чувство любви ко всем исчезло. Она испытывала лишь ненависть и отвращение. К Киту, к его друзьям… но в первую очередь к себе самой. Она пыталась выпрыгнуть из окна. Не появись вовремя Сэди, она бы уже была мертва. Или нет? А вдруг ее действительно кто-то звал? Она посмотрела в окно… на звезды… подбежала к шкафу и нашла новые джинсы. Надела рубашку, взяла свитер, схватила сумочку. Сейчас только половина одиннадцатого… она поедет на побережье и все обсудит с Хью. Расскажет ему обо всем. Об уколах, дарующих хорошее настроение… о вечеринке… оргии… о человеке с синими глазами. О том, как едва не выбросилась из окна. Она тихо покинула квартиру, не разбудив Сэди. Она знала, что Ди держала свои машины в гараже на Пятьдесят шестой Западной улице. Отправилась туда пешком. На Пятьдесят шестой было несколько гаражей. Она нашла нужный с первой попытки и сочла это добрым предзнаменованием. Ночной сторож узнал девушку и дал ей «ягуар». Дженюари поехала в сторону центра. Она помнила, что водитель Тома выбирался на скоростную магистраль, ведущую на Лонг-Айленд, через Центральный городской туннель. Автомобиль подчинялся ей великолепно. Машин на дороге было мало. Она попадет в Уэстгемптон к часу. Вероятно, ей следовало позвонить Хью… Но он мог попросить ее подождать до завтра, а Дженюари хотелось поговорить обо всем сейчас. Она съехала с шоссе и подрулила к бензоколонке. Служащий заправил машину и объяснил, как добраться до Уэстгемптона. Все ее деньги ушли на бензин, она отдала свою последнюю четверть доллара в качестве чаевых. Но бак полон топлива, дорога отличная, и скоро она увидит Хью. Она почему-то чувствовала, что их разговор разрешит все проблемы. В час пятнадцать она подъехала к дому. Нажала кнопку звонка… звук показался ей гулким, раскатистым. О господи, неужели эту ночь он проводит с вдовой? Она снова села в автомобиль. Она дождется Хью. Дженюари посмотрела на дюны. Они казались далекими, высокими и неприветливыми. Ерунда… это всего лишь песчаные холмы. Хью часто спит среди них. Ну конечно! Вероятно, он там. Выйдя из машины, она направилась к берегу. Идти было тяжело. Побережье заросло осокой. Несколько раз она споткнулась о выброшенные из воды бревна. Песок набился в ее сандали, но она продолжала шагать. До дюн она добралась обессиленной. Дженюари встала на вершине самого высокого холма и обвела взглядом пляж. Не увидела признаков жизни. Даже океан казался необычно спокойным. Волны с шелестом накатывались на песок. Возможно, Хью находится на другой дюне… Она стояла и выкрикивала его имя. Ответа не было… над побережьем звучал лишь ее голос. Даже чаек не было слышно. Куда они прячутся на ночь? Днем птицы разгуливают по пляжу, покрикивая друг на друга. Дженюари села на землю, зачерпнула рукой песок, и он потек меж ее пальцев. Действительно, где ночуют чайки? Она бросила взгляд на темный одинокий дом. Тихая ночь, яркие звезды, вздохи волн — все казалось более приветливым, доброжелательным, чем пустой коттедж. Она скатала свой свитер и положила его под голову вместо подушки. Лежа на спине, уставилась на небо. Оно приблизилось к девушке, накрыло ее, точно одеяло. Ей показалось, что земля является всего лишь полом раскинувшегося перед ней мира. Что там, наверху? Другие планеты? Она снова посмотрела на дом. Похоже, Хью остался у своей женщины. Она может вернуться к машине и поспать в ней до его возвращения. Но Дженюари не хотелось спать, и в дюнах под звездами было так спокойно. В ночь, когда родился Иисус, волхвы глядели на эти же звезды. Галилей смотрел на них… Колумб, ища новый путь в Индию, ориентировался по ним. Сколько людей занимались под ними любовью? Сколько детей загадывали желание, когда они падали и молились сидящими над ними Богу, как делала она сама, когда была маленькой? Божьи огоньки — так называла их мать. Ее мать! До этого мгновения она была лишь смутным воспоминанием. Тихая, спокойная, постоянно «отдыхающая» женщина. Всегда красивая… с большими карими глазами, восхищенно глядящими на отца… но не на дочь. Дженюари не могла вспомнить себя смотрящей в эти глаза… Нет! Однажды… теперь она вспомнила. Прильнув к матери, она увидела большие карие глаза; мать глядела на нее с нежностью. Маленькой Дженюари приснился страшный сон, и она заплакала. Тотчас прибежала няня. Но на сей раз мать тоже подошла к дочери. Это был один из тех редких случаев, когда именно она, а не няня успокоила Дженюари. Девочка объяснила, что боится снова остаться в темноте и увидеть продолжение страшного сна… Мать обняла ее и сказала, что ночью с ней не может произойти ничего плохого, что иногда свет таит в себе опасность, а ночь всегда нежная и ласковая. Они сидели у окна, смотрели на звезды, и мать произнесла: «Это маленькие божьиогоньки… они напоминают нам о том, что Господь всегда глядит на нас… готов в любую минуту прийти на помощь… он любит тебя». Сейчас, смотря на звезды, она вспомнила ту ночь. Прекрасная сказка для маленькой испуганной девочки. Какой была мать? Внезапно Дженюари пожалела о том, что была тогда ребенком и не могла утешить ее. Мать любила Майка… но у него были другие девушки. Боже, как она, вероятно, страдала! Дженюари вспомнила свое состояние в тот день, когда Том отправился на побережье к жене. В ее глазах появились слезы. Бедная, бедная мама. Влюбленная в Майка… остававшаяся одна с дочерью во время его поездок в Калифорнию. Вероятно, он занимал со своей девушкой пятый коттедж. Внезапно, лежа здесь, она увидела себя как бы в двух лицах. Она была девушкой Майка и жила в пятом коттедже… и одновременно — своей беспомощной матерью… слишком часто остававшейся без мужа… слишком часто плакавшей. Дженюари закричала: — Мама, тебе не следовало этого делать. Его девушка тоже страдала. Ты хотя бы знала, что он вернется к тебе. И у тебя была я. Почему ты покинула меня? Разве ты не любила меня? Ее голос тонул в ночи… звезды смотрели на Дженюари. Но они уже казались не теплыми и ласковыми, а твердыми, холодными… они словно сердились на Дженюари за то, что она нарушила их уединение. Надменные, высокомерные… они знали о том, что они вечны и посмеивались над крохотным кусочком живой плоти, лежащим на берегу. Никакие они не божьи огоньки… они — миры, солнца, метеориты. Космическая пыль плыла сквозь бархатную темноту. Дженюари увидела падающую звезду… затем вторую… луна висела так низко. Она напоминала мать, приглядывающую за небом, по которому гуляют ее дети — звезды. Грустно знать, что она вовсе не серебристая и яркая. Что ее поверхность — пустыня, изуродованная кратерами… Что она — всего лишь пылинка мироздания. Человек, высадившись на нее, лишил луну всякой загадочности, уничтожил романтику. Чувства Дженюари были обострены, краски казались яркими. Она различала синие и пурпурные оттенки в черноте неба. Девушка поглядела в сторону коттеджа Хью. Над ним висела луна, ее блестящий диск освещал темные окна дома. Может быть, он повез вдову в Нью-Йорк. Она раскрыла сумочку и поискала рукой сигареты. Нащупала конверт. Вытащила его. Это был обыкновенный пухлый конверт. Кит сунул его в сумочку, когда Дженюари собралась уходить. Она разорвала бумагу. Там лежали маленькая пластмассовая бутылочка с двумя кусочками сахара и записка. Дженюари щелкнула зажигалкой. Огонь осветил текст: «Я люблю тебя. Я не могу повезти тебя в Марбеллу или на юг Франции. Но если ты станешь моей девушкой, я смогу брать тебя с собой в путешествия по всей галактике. Для начала прими от меня эти два кубика. С любовью, Кит». Она открыла бутылочку и положила кусочки сахара на ладонь. Собралась выбросить их, но что-то остановило ее. Почему не попробовать? Тогда, возможно, депрессия пройдет. Она сможет дотянуться рукой до звезд. Она убрала сахар в бутылочку и бросила ее в сумку. Нет, ЛСД не решит всех проблем. Они останутся с ней, когда «путешествие» закончится. Но в чем решение? Попытаться приспособиться? Заставить себя полюбить Дэвида? Освоить триктрак? Каждый день отправляться на ленчи? Покупать наряды? Нет! Ей не нужна жизнь без взлетов, мгновений подлинного счастья. Ради них можно терпеть депрессию. Только если это настоящее счастье. Она испытала его, когда Майк бежал к ней по летному полю римского аэропорта, когда Том сказал, что не сможет жить без нее… Но они оба ушли. Том и Майк… Она снова вытащила бутылочку. Что произойдет, если она воспользуется обоими кубиками сразу? Возможно, тогда «путешествие» будет бесконечным. Она не вернется из него. Дженюари вздрогнула. Откуда-то подул ветер. Девушку охватил озноб. Песок летел ей в лицо. Она встала и стряхнула его с одежды. Ветер усилился. Она надела свитер. И тут ветер стих так же внезапно, как появился. Воцарилась поразительная тишина — как однажды в Калифорнии перед незначительным землетрясением. Тогда смолкли кузнечики, и даже листья перестали шелестеть. Она посмотрела на океан. Он был как стекло; луна висела над ним, отражаясь серебристой дорожкой в темной воде. Невероятно! Она только что находилась за спиной у Дженюари, над домом Хью, Повернувшись, девушка поглядела назад. Ну конечно. Она по-прежнему там… Бледный ласковый свет струился на прибрежные коттеджи. Она снова посмотрела на океан… там тоже была луна! Четкая, ясная… вторая! У нее галлюцинации! Это действие кусочка сахара, который Кит дал ей на вечеринке. Вскочив, она повернулась спиной к новой луне. Побежала, но, точно в кошмаре, осталась на месте. Сейчас это происходило с ней в жизни. Ее ноги двигались, она тяжело дышала, но оставалась на вершине дюны… меж двух лун. Она оглянулась. Новая луна исчезла. Океан был черным и пустынным. Звезды куда-то отодвинулись. Она испугалась. Опять побежала. Сейчас ее ноги двигались. Она споткнулась и упала в темноте. Господи, ЛСД действительно опасен. Он едва не заставил ее прыгнуть из окна. Из-за него она увидела вторую луну. Это, видно, то, что называют вторичными галлюцинациями. Или она съела второй кусок сахара? Оба куска? Господи… Она оглянулась. Сумочка лежала на дюне там, где она ее оставила. На нее падал свет луны. Свет второй луны! Она снова появилась! Вероятно, она действительно съела сахар. Но ей казалось, что она клала его обратно в сумочку. Или нет? Это уже неважно. У нее галлюцинации, она видит две луны… С ней может случиться все что угодно. Видения способны затащить ее в океан. Если она решила, что может полететь, выпрыгнув из окна… Боже, она никогда больше не станет ничего принимать. Она выйдет замуж за Дэвида и родит ребенка, которого будет любить. Вероятно, она никогда не испытает к Дэвиду такое чувство, какое внушал ей Майк. Нет… Том. Но она хотя бы выйдет замуж за человека, которого Майк хотел видеть ее мужем. Она родит сына, похожего на Майка. И еще девочку. Будет любить их, станет хорошей матерью. Обязательно! Боже, только помоги мне добраться до этого дома. Почему он кажется таким далеким? Она спустилась с дюны и уже поднималась на следующую… Луна висела на своем прежнем месте. Повернувшись, Дженюари увидела ее двойника — светлый диск парил над океаном. Внезапно он взмыл по небу вверх, вернулся вниз, описал круг; он словно исполнял для Дженюари какой-то причудливый танец. Уносился вдаль, превращаясь в точку, которую Дженюари принимала за звезду. Потом снова обретал свои обычные размеры, отбрасывал на воду ровную серебристую дорожку. Она уставилась на нее. Это не галлюцинация! Это реальность. Когда у человека галлюцинации, он не догадывается об этом. Собираясь прыгнуть из окна, она думала, что видит сон. Но, может быть, сейчас она тоже видит сон. Может быть, она вовсе не на берегу океана, а дома, в постели. Не в «Пьере» — это тоже было сном, — а по-прежнему с Томом, и Майк не погиб. Может быть, инъекции вызвали у нее один долгий страшный кошмар. Она проснется в пятом коттедже, возле Тома, оставит его, помчится к Майку, помирится с ним. Или, возможно, они вовсе не ссорились — тогда ей не придется покидать Тома. Но, может быть, она вовсе не знакома с ним. Все еще находится в Швейцарии, поправляется, скоро приедет к Майку, который не встретил Ди, и ничего на самом деле не произошло… Может быть, не было и Франко, и несчастного случая. Она не родилась. Дженюари не знала, когда именно начался кошмар. Но это не всегда был кошмар. Она пережила чудесные минуты. Во время учебы в школе мисс Хэддон ее ждали замечательные уик-энды; по субботам она бросалась в объятия Майка. Даже в клинике было нечто приятное — его визиты, надежда на выздоровление, особенно последний месяц, перед возвращением к Майку… У нее был хотя бы этот месяц грез. Нельзя назвать кошмаром месяц замечательных грез. Месяц, закончившийся мгновением счастья — она встретилась с отцом, ждавшим ее в аэропорту. Она еще не знала о Ди. Несколько часов он принадлежал ей, как в Риме до появления Мельбы. На ее долю выпали счастливые минуты. Мама тоже, вероятно, испытала однажды счастье, пока не столкнулась с реальностью, не смирилась с тем, что подлинное, самое острое счастье приходит лишь один раз… — Нет! — закричала Дженюари. — Одного раза недостаточно! О, мама, как ты могла так долго мириться с этим! Она замерла. Она кричала, обращаясь к призрачному свету. Смотрела на серебристый диск, висевший над океаном. Этот диск походил на вторую луну, только на нем не темнели пятна. И тут ей пришла в голову новая мысль. Возможно, все происходящее имеет разумное объяснение. Может быть, она видит один из тех НЛО, сообщения о которых мелькают в прессе. Если это правда, она не может быть единственным человеком в Уэстгемптоне, видящим летающий объект. Она посмотрела на темные дома. Кто-нибудь там бодрствует? Где бы ни находился Хью, он ведь видит НЛО? За все ночи, проведенные им в дюнах, он не наблюдал подобного явления. Она же в первую ночь стала свидетельницей таких чудес! Дженюари стояла одна на берегу, купаясь в странном свете. Ей казалось, что если она не будет двигаться, ее не заметят. Какая глупость! НЛО находится в тысячах миль отсюда. Наверно, ей следует все запомнить. Размеры, удаленность, направление движения. Может быть, надо сообщить куда-то об увиденном. Ну конечно! НЛО висело перед Дженюари. Она закричала: — Люди, проснитесь! Вам известно, что над Уэстгемптоном появилась вторая луна? В ответ — тишина. Бесполезно бежать — она прикована к этому месту. Она упала на мягкий прохладный песок. Она ощущала падающий на нее серебристый свет новой луны. Теплый, ласковый, он почти напоминал солнечный. И вдруг она увидела Его. Он шел навстречу ей от кромки берега. Он закрыл собой лунную дорожку, и его лицо оказалось в тени. Но она совсем не удивилась, успев разглядеть поразительные синие глаза, которые уже не раз видела прежде. Она не испытывала страха, наблюдая за его приближением. Внезапно вспомнила строчки из стихотворения Джона Берроуза, которое называлось «Ожидание». Она учила его в Швейцарии… Сплетя свои руки, в спокойствии жду яНью-Йорк, Ассошиэйтед Пресс, 29 июня, 1972.
Сегодня истек год с момента исчезновения Дженюари Уэйн, унаследовавшей миллионы Дидры Милфорд Грейнджер. Нам не удалось взять интервью у бывшего жениха девушки, Дэвида Милфорда, ввиду того, что в настоящее время он проводит отпуск на греческом острове Патмос. По свидетельству его друзей, он не теряет надежду увидеть живую Дженюари. Доктор Джерсон Клиффорд, личный врач мисс Уэйн, сообщил, что его пациентка находилась в состоянии депрессии, вызванной гибелью отца и мачехи. По мнению доктора Клиффорда, мисс Уэйн могла зайти в океан и утонуть, поскольку на следующее утро после исчезновения девушки ее машину нашли возле входа на пляж. Тем же утром, чуть позже, два мальчика — девятилетний Эдвард Стивенс и восьмилетний Томми Кэрол — нашли на берегу сумочку, принадлежавшую мисс Уэйн. В ней лежали бумажник с кредитными карточками и пластмассовая бутылочка с двумя кусочками сахара… (обратно) (обратно)Жаклин Сьюзен Долорес
Часть I
Глава 1. ВО ИМЯ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ…
В салоне президентского лайнера, медленно приближавшегося к Вашингтону, было зябко. Долорес вздрогнула и сжалась в комочек. Не отрываясь, она смотрела вниз на бесконечные огни, на тысячи машин, которые мчались по городу, как стада диких животных. Они везли людей в гости, в кино или куда-нибудь еще… Долорес опять вздрогнула и, надеясь согреться, забилась поглубже в кресло. Легкий бежевый костюм, который она надела еще утром, совсем не грел. В Новом Орлеане сейчас тепло и солнечно, а в Вашингтоне – зима. У трапа самолета, конечно же, соберется толпа репортеров. Они всегда ждут… Только теперь Долорес выйдет из президентского лайнера в последний раз. Джеймс Райан, которого вся Америка называла просто Джимми, во время полета обычно отдыхал на своем диванчике (у него сильно болела шея после перелома позвоночника)… Но ему уже не больно… На его месте сидит Элвуд Джейсон Лайонз. А Джимми лежит в багажном отделении, забытый и холодный, в гробу… с пулей, которая убила его наповал, прямым попаданием в сердце. Мужчину, который стрелял, поймали сразу и при попытке к бегству насквозь прошили автоматной очередью. Рональд Престон – землистое лицо, высокий и тощий, с орлиным носом. Зачем он это сделал? Этот ничтожный тип думал, наверное, что роковой выстрел обеспечит ему «достойное» место в мировой истории. Стоило ли умирать ради того, чтобы тебя помнили только как убийцу Джеймса Райана? Возможно, такие, как Рональд Престон, не знают, во имя чего жить, а значит, смерть на публике – предел их мечтаний. Но Джимми было ради чего жить… Боже, никто не любил жизнь так, как он. Какая гордость была написана на его лице сегодня утром, когда толпа скандировала: – Долорес!.. Долорес!.. Очаровательная маленькая итальянка протянула ей цветок и громко крикнула: – Красавица! Сейчас о ней этого не скажешь. Одна из перчаток где-то потеряна, весь костюм в крови. А Джимми он так нравился… Господи, зачем только она спорила с мужем в субботу из-за багажа и нарядов, которые собиралась взять с собой! Ей так хотелось выглядеть как можно лучше. А Бетси Минтон много раз уточняла прогноз погоды… Всегда ведь может произойти что-либо непредвиденное. Сейчас Бетси с детьми, и нужно благодарить бога за то, что она есть. Бетси служила у Джимми экономкой еще в его бытность сенатором. А когда его избрали президентом, она получила должность личного секретаря Долорес. Эта женщина все умеет делать. Хорошо, что она увезла детей к сестре Джимми. Дети… Что им сказать? Что их отца застрелили во время публичного выступления, когда восторженная толпа ему аплодировала? Что им придется покинуть Белый дом… что их мир рухнул? Мэри Лу уже шесть. Она видела, как умерла ее собачка, и знает, что такое рай. А близнецы, малыши Джимми и Майк… Им только по три. Они пока не способны отличить Санта-Клауса от Иисуса Христа. Еще вчера в Новом Орлеане они с Джимми весь вечер проговорили о религии. Неужели это было только вчера?.. Он хотел, было заняться любовью, но Долорес вспомнила, что в восемь утра придет парикмахер, а после завтрака предстоит длинный путь по городу. Ее волосы из-за здешней жары все время были в беспорядке. Джимми, конечно, все понял и в ответ просто улыбнулся. Что ж, первая леди обязана выглядеть безукоризненно. Посмотреть бы сейчас на себя со стороны. Мятый костюм… Спутанные пряди волос спадают на лицо… И уже никогда она не сможет заняться любовью с Джимми! Нет… Нельзя позволять себе заплакать. Первой леди не пристало проявлять свои чувства на людях. (обратно)Глава 2. ПЕРВАЯ ЛЕДИ
Кто-то коснулся ее руки. Долорес вскинула голову. Кто посмел это сделать? Ведь она – Долорес Райан, первая леди… О господи, уже нет. Просто Долорес Райан. А человек, слегка склонившийся к ней, следуя мимо нее по проходу, – это Элвуд Джейсон Лайонз, новый президент Соединенных Штатов. Он изобразил сочувственную улыбку. Не спуская глаз с худой спины нового президента, Долорес увидела, как он уселся рядом с полногрудой женой – новой первой леди. Теперь эта пара будет жить в любимом Белом доме, который она, Долорес, сделала таким уютным. Она мечтала, что Майк, Джимми и Мэри Лу проведут в нем восемь счастливых лет. Теперь же там будут жить отпрыски Элвуда и Лилиан. Элли, Эдди, Элвуд-младший и Эдвард – хорошие дети, но они никогда не оценят той красоты, которую она придала Белому дому. Долорес не могла представить Лилиан Лайонз в своей бело-желтой спальне… Или одну из ее дочерей в спальне Мэри Лу, тоже бело-желтой, «мамочкиной комнате в миниатюре». Нет, Лайонзы все изменят. Элвуд переделает и кабинет Джимми, он кичится своим происхождением и постоянно, к месту и не к месту, напоминает, что его дед был простым шахтером. Они, наверное, будут жарить бифштексы и сосиски прямо на лужайке у Белого дома… Боже, почему ей лезут в голову такие пустяки? Джимми явно не понравилось бы ее отношение к Лайонзам. Кстати, ничего дурного в жареных сосисках нет. Джимми тоже их обожал. Когда семья собиралась на пляже в Ньюпорт-Бич, весь клан Райанов ел жареные сосиски и кукурузу, а брат Джимми, Майкл, даже надевал поварской колпак. Джимми злился, когда она припрятывала для себя бутерброды с паштетом и огурцами. А тонюсенькие сандвичи, которые подавались в их доме к чаю, вызывали у мужа недовольную гримасу. А как Джимми презирал ее за страсть к икре… Икра! Она всегда будет напоминать Долорес о Париже. В этом городе они, пусть ненадолго, были близки как никогда. Странно, но их сближала беда. И сейчас Долорес казалось, что Джимми не умер и не лежит в накрытом национальном флагом гробу, а безраздельно принадлежит ей. Нет, не ей… Его тела будут касаться бесчувственные руки врачей, они исполосуют его, делая вскрытие… Господи, ведь Джимми так ненавидел болезни и слабость… Через год после свадьбы он упал с лошади и сломал позвоночник. Неделя шла за неделей, а заметных сдвигов в его состоянии не наступало. Не было даже и речи о полном выздоровлении. Но Джимми держался… Только однажды Долорес увидела, как по его щеке скатилась слеза. Она поцеловала мужа, взяла за руку. И он улыбнулся. Почему она тогда не скрывала своих чувств? Наверное, из-за его беззащитности. Здоровый Джимми всегда держался настороже. А вот тогда в госпитале, всего один раз, он заставил ее расчувствоваться. Раньше ничего подобного не было, даже во время медового месяца. Да, он хотел ее, спал с ней, но не принадлежал никому. В Джеймсе Райане всегда было что-то скрытное – какой-то странный холодок, какой-то особый взгляд, который говорил: «Вход воспрещен!» Странно, но Долорес везло именно на таких людей. Так было с тренером по теннису, в которого она в пятнадцать лет страстно влюбилась, не подозревая, что Билли гомосексуалист. Она млела, когда он обнимал ее за талию по пути с корта. Ее мечты развеяла мать. Заметив, с какой любовью дочь смотрит на Билли, она с улыбкой рассказала ей о его близком дружке по имени Боб. Долорес не забросила занятия теннисом, но научилась сдерживать свои чувства, ибо поняла, что Билли жил в своем мире, куда ей доступа не было. То же произошло и с Джимми. Болезнь отступила, намека на слезы больше не было. Он стал прежним – бесстрастным, сдержанно-гордым, суперменом. Но однажды Долорес случайно обнаружила в аптечке мужа массу бутылочек и коробочек с пометкой «болеутоляющее». Она стала внимательно наблюдать за Джимми и поняла, каково ему приходится, когда он сжимает зубы от боли и тайком глотает таблетки, думая, что она не видит. Вот почему нужны были эти ежедневные массажи, ванны, визиты врача и специальные упражнения. Но Джимми так никогда и не признался, что испытывает невыносимую боль, не пытался искать у нее сочувствия. Нет, не совсем так. Было еще сообщение о гибели многих американских солдат в Юго-Восточной Азии. В ту ночь Джимми пришел к ней в спальню. Таким растерянным она его не видела. Заметив слезы на глазах мужа, Долорес бросилась к нему в объятия. Впервые они были так близки, всецело принадлежали друг другу. Именно тогда, как считала Долорес, она зачала первых близнецов и с гордостью носила свой огромный живот. Они родились мертвыми, малыши Тимоти и Уильям, и она не могла пережить этого, захлебывалась рыданиями. Джимми тоже был готов заплакать, но сдержался и тихо сказал: – Доло… Я всегда чувствовал, что бог создал меня для величия… А величие и трагедия рядом, понимаешь? Запомни: тебе придется делить со мной и то, и другое. Постарайся понять, что Райаны никогда не показывают свою слабость на людях. Если мы проигрываем в теннис, то легко перепрыгиваем через сетку, будто стали чемпионами, и поздравляем противника. Она же прокричала сквозь слезы: – Но я не Райан… Мы – Кортезы! Мы из Испании… И еще ей хотелось добавить: – Испанцы всегда открыто выражают свои чувства, хотят делить их с другими… иметь близких… И не только в экстремальных ситуациях. Да, по-настоящему ее сближало с мужем только общее горе. (обратно)Глава 3. НИТА
Но теперь рушился весь ее мир. – Джимми, – шептала Долорес про себя. – Я не могу тебя обнять, потому что ты уже не здесь, не со мной… И с каждой минутой отдаляешься, становишься все холоднее. Поэтому я отдаю тебе образок святой Терезы. Его подарил отец, когда мне исполнилось семь лет. С тех пор я не снимала свой талисман. Этот образок часть меня, а значит, мы навсегда вместе. Хочу надеяться, что есть загробная жизнь, ведь в этом мире мы часто бывали далеки друг от друга. Я не умела объяснить своих чувств, но сегодня буду поступать так, как ты хотел, – не заплачу. Я не плакала, когда Элвуд принимал присягу. Я притворилась настоящей Райан. О Джимми, обещаю! Люди будут помнить, что я – Долорес Райан. И тебя они никогда не забудут, об этом уж я позабочусь. Джимми, если там действительно что-то есть… и ты можешь читать мои мысли… и ты уже наверху… скажи, встретил ли ты моего отца? Его называли очаровашкой Дэном, потому что он был красавцем и обожал женщин. Из-за этого мама с ним развелась. И зря – без папы она просто зачахла. Ни один мужчина не смог заменить его. Ей оставалось лишь следить за его романами с актрисами и манекенщицами. Я не ушла от тебя, Джимми… а сколько раз ты… Нет, не буду думать об этом сейчас. Теперь ты принадлежишь мне навсегда. И я постараюсь, чтобы ты гордился мной, как тогда, в Париже, где ты наконец-то признал, что икра все-таки вкусная. Икра… Франция… Именно в Париже Долорес обрела себя. Раньше ее считали, синим чулком, хорошенькой женщиной, которая вышла замуж за обаятельного парня с внешностью киноактера. Но в Париже, куда они с Джимми прибыли на второй год его президентства, французы просто влюбились в нее. Они восхищались тем, как прекрасно говорила Долорес на их языке и с каким шиком одевалась. Бедняга Джимми! Он произнес хорошо заученную приветственную речь, а завоевала Париж она, его жена. Именно тогда Долорес поняла, что Джимми по-новому взглянул на нее. Хотя, скорее, не по-новому, а по-старому – так, как на первых свиданиях… и еще во время медового месяца. После рождения Мэри Лу муж перестал замечать ее. Почему? О, это Долорес хорошо знала. Не зря в последние месяцы ее беременности «лучшие друзья» слишком уж прозрачно намекали на Таню, элегантную женщину, говорившую с легким иностранным акцентом, жену престарелого сенатора. Джимми часто исчезал. Он всегда находил оправдания, виновато отводя глаза. Работа… встречи с братом… «деловые» поездки в Джорджтаун, причем тогда, когда сенатор отбывал в свое имение, в Мэриленд. Муж очаровательной Тани был старше жены на двадцать лет, и все знал о ее романе. Но мог ли он соперничать с молодым обаятельным красавцем, который, ко всему прочему, был не кем-нибудь, а президентом Соединенных Штатов Америки. Все изменил Париж. И они пережили свой второй медовый месяц. Даже отношение Долорес к сексу стало иным. Раньше она никогда не могла расслабиться полностью, сжимая зубы каждый раз, когда отдавалась Джимми. Но когда муж перестал спрашивать, что она испытывает в минуты близости, Долорес по-настоящему ощутила желание. Хотя, может быть, и не желание… скорее, ей просто хотелось поверить в то, что она любима. Пресса называла Долорес красавицей. Она тайно вырезала свои фотографии из журналов. Однако всерьез она этому не верила. Красавицей в их семье считалась Нита. Сестры Хуанита и Долорес Кортез были почти ровесницами. Можно ли назвать серьезной разницу в одиннадцать месяцев? Долорес была значительно выше своей маленькой хрупкой сестрички. Она прекрасно смотрелась рядом с Джимми, ей очень шла современная одежда. Но в шестнадцать лет рядом с Нитой она казалась себе неуклюжей и громоздкой. А сколько тайных слез пролила Долорес после помолвки Ниты и лорда Нельсона Брэмли! Она влюбилась в него на своем первом балу. Сестрам тогда было по девятнадцать. У матери не было возможности дать два приема – в честь каждой из дочерей. После смерти отца их дела шли неважно. Социальный статус семьи был высок, а денег – ни гроша. Несмотря на это, дебют Долорес и Хуаниты стал важным событием. С помощью старого друга, который освещал в газетах светские сплетни, миссис Кортез удалось заманить на прием несколько титулованных знаменитостей – и среди них лорда Нельсона Брэмли. Он обладал не только прекрасной родословной, но и миллионами. Долорес он показался настоящим красавцем. Лорд Брэмли почти весь вечер протанцевал с Долорес, хотя несколько раз приглашал и Ниту. После этого он стал бывать у них в доме, сопровождал сестер в театр. Но однажды лорд попросил у миссис Кортез аудиенции наедине. С трудом, скрывая волнение, Долорес ждала в спальне, а Нита спокойно раскладывала на своей кровати пасьянс. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем миссис Кортез послала за девушками. Мать счастливо улыбалась. Лорд Брэмли попросил руки Ниты. Долорес удалось заставить себя улыбнуться, когда Нита, скромно потупив глаза, приняла предложение. Да, поначалу все получила Нита – маленькая, хрупкая, изящная, с копной черных кудрей. (У Долорес волосы были каштановыми, и она стала красить их перекисью еще в школе, но это не помогало – Нита затмевала ее.) Свадьба сестры превзошла все ожидания. Газеты неделями печатали фотографии Ниты и лорда Брэмли. Какая прекрасная пара! Вот они ужинают в «Колони», обедают в знаменитом ресторане под названием «21». Долорес их часто сопровождала, понимая, что ей необходимо появляться на людях. Плакать она не позволяла себе даже ночью, долго лежа без сна… Она заставила себя ходить с Нитой на примерки, когда шили приданое и свадебное платье. (Чтобы оплатить счета, было продано последнее, что еще было с доме, – грузинское серебро и китайский фарфор.) – Доло, – говорила тогда мать, – еще одну такую свадьбу я оплатить не смогу. Тебе придется сбежать, когда решишь выйти замуж. Вскоре Нита уехала с мужем в Лондон, а Долорес устроилась переводчицей в ООН. Она свободно владела французским и испанским, а здесь стала изучать русский. Она ушла в работу с головой, лишь бы забыть о свадьбе Ниты и о Нельсоне Брэмли. (обратно)Глава 4. БАРОН
Через год после замужества сестры Долорес познакомилась с молодым сенатором Джеймсом Райаном. Она не могла забыть лорда Брэмли – слишком мало еще прошло времени, но Джимми ей понравился. Он считался подающим большие надежды политиком, был хорош собой и слыл отнюдь не бедняком, принимая во внимание миллионы его отца. Когда в газетах появились первые фотографии Джимми и Долорес, она тут же послала их сестре. Нита за три года родила двух очаровательных мальчишек. Благодаря состоянию и титулу мужа она вращалась в высшем свете, прекрасно одевалась, имела много драгоценностей. Ее прелестное личико украшало обложки всех сколько-нибудь влиятельных европейских журналов. Да, у сестры полно денег, все у нее есть, но живет она в Лондоне, а не в Нью-Йорке, в гуще событий. И Джимми внешне ничуть не хуже, а намного красивее Нельсона, хотя во всем остальном ее поклонник был полной противоположностью лорду Брэмли. Отец Джимми, Тимоти Райан, никогда не скрывал, что работал каменщиком в Шамокине. Он приехал из Пенсильвании в Филадельфию с восьмьюстами долларами в кармане, а через несколько лет стал главой крупнейшей строительной компании на востоке страны. Райаны имели собственность в Филадельфии, Нью-Йорке, Бостоне, Детройте и Чикаго. Во Флориде Тимоти тоже купил крупный земельный участок. Он стал мультимиллионером еще до того, как подросли пятеро его детей. Когда Нита с детьми и лордом Брэмли прилетела на Рождество в Нью-Йорк, Долорес уже встречалась с Джимми около года. Нельсон привез семью на частном самолете друга. Мальчиков сопровождали две няни, а Нита появилась перед матерью и сестрой в соболиной шубе. Долорес рядом с ней снова ощутила себя слишком высокой и непривлекательной. На следующий день сестры обедали в «Орсини». Долорес не могла не заметить, как смотрели все женщины на норковое манто Ниты и бриллиант в двадцать каратов на ее руке, но постаралась скрыть жгучую зависть. Поддерживая ничего не значащий разговор с Нитой, она машинально отметила, что та много курит – одну сигарету за другой. Когда подали кофе, Нита, наклонившись, шепнула: – Доло, я опять беременна. – Как здорово! На этот раз будет девочка. – Нельсону я не говорила. – Почему? – Потому что хочу избавиться от ребенка. Подскажи, к какому из врачей здесь можно обратиться. Ты, конечно, знаешь таких, верно? Долорес недоуменно взглянула на сестру. – Откуда? – Ну, Доло… Тебе уже почти двадцать два… Не говори, что ты не попадала в подобные ситуации. Долорес не отрывала глаз от салфетки. Ей стыдно было признаться Ните в том, что она просто встречается с Джимми, а не спит с ним. Все ее время занимала работа, изучение языков. Овладев русским, Долорес теперь принялась за греческий. Она с минуту помолчала, потом тихо сказала: – Я не знаю никаких врачей… Да и зачем тебе аборт? Это грех. – Боже, только не говори мне, что ты до сих пор следуешь всем библейским заповедям. – Может быть, не всем… Я давно не была на исповеди, но каждое воскресенье хожу к мессе и сознательно совершить грех не смогла бы. – Черт побери, я больше не хочу детей. Мне нужна свобода. – А как же Нельсон? Нита откровенно рассмеялась. – О, Доло… Когда мы поженились, у него была любовница. Все об этом знали, кроме меня. Но ему еще была нужна и подходящая жена. Он изучал родословную нашей семьи, словно я породистая лошадь. Обожаемый супруг выложил мне все это, едва закончился медовый месяц, и даже назвал имя своей любовницы. Анджелина… Она наполовину итальянка, наполовину швейцарка. Журналистка. Нельсон устроил ее в Париже и все уик-энды проводит с ней. Долорес сочувственно сжала руку сестры. – Мне очень жаль, Нита. – Ты, наверное, не так поняла меня, Доло. Я – леди Брэмли… Взгляни, какой завистью горят глаза у половины присутствующих здесь женщин, когда они смотрят на мои драгоценности. Конечно, эти побрякушки принадлежат семье. Но у меня есть все. Прекрасная квартира в Лондоне, огромный замок в предместье. Нельсон – не самый богатый человек в Европе. Яхт и лошадей у нас нет, но денег хватает. Он католик, а поэтому о разводе не может быть и речи. Но я не собираюсь идти по стопам матери. С мужем мы договорились играть роль счастливой пары. Но свою личную жизнь я устрою сама. Поэтому мне нужно избавиться от ребенка. Нита нашла «подходящего» врача и сделала аборт. Когда она вернулась в Лондон, на обложках журналов рядом с ней опять стоял улыбающийся Нельсон. Но в коротеньких письмах к Долорес Нита намекала то на роман с известным итальянским киноактером, то на бурную связь с крупье из лондонского казино… А в последнее время она увлеклась бароном Эриком де Савонном, чье состояние считалось одним из самых крупных в мире. Нита познакомила ее с бароном в один из приездов Долорес в Лондон. Он «случайно» встретился с сестрами в ресторане и подсел к ним выпить кофе. (обратно)Глава 5. САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ
Эрик де Савонн был сложен как атлет. Бровь над правым глазом рассекал шрам, по его словам, от сабельного удара, хотя причина его происхождения была более прозаическая: барон был ранен в порту в драке с докерами. О его сказочном состоянии ходили легенды. Эрик де Савонн имел огромные капиталы на Ближнем и Среднем Востоке, владел десятками фешенебельных отелей в разных странах. Его флоту завидовал сам Онассис, а коллекция произведений искусства оценивалась астрономической суммой. Он жил на широкую ногу и содержал балерину, которая давно рассталась с ролью примадонны, но все еще оставалась поразительно красивой женщиной. Ниту это не беспокоило. – Мне приходится какое-то время проводить с Нельсоном, – говорила она, – заниматься общественными делами, и я предпочитаю, чтобы Эрик проводил время с той, которую знает многие годы, а не флиртовал с кем попало. Когда придет время, я выйду за него замуж. Долорес поначалу шокировали разговоры сестры о разводе. Но Ниту, похоже, ничуть не волновал предстоящий разрыв с церковью. И постепенно Долорес стала ее понимать. У Ниты была своя жизнь, свои собственные радости, свои проблемы. Их роли переменились: с обложек самых читаемых в мире журналов – «Лайф», «Лук», «Тайм», «Нью-суик» – теперь смотрело улыбающееся лицо Долорес, а Нита если и появлялась там, то уже в качестве сестры первой леди, самой красивой женщины в мире. Долорес упивалась своим торжеством. Она не была тоненькой, как манекенщица, и весила вполне прилично. Но знаменитый Дональд Брукс придумывал для нее такие наряды, в которых она всегда выглядела по-королевски. Несколько удачно подобранных шиньонов сделали ее прическу похожей на львиную гриву. Она умела себя подать, двигаясь с кошачьей грацией пантеры. И теперь рядом с ней, загорелой, сияющей, царственной, Нита казалась слишком маленькой и незначительной. В эти годы сестры стали гораздо ближе друг другу, хотя Нита редко приезжала в Штаты. Только Ните Долорес могла доверить все, что волновало ее в отношениях с Джимми. Конечно, их свадьба стала событием, все газеты подчеркивали, что этот брак соединил благородное имя Кортезов с миллионами Райанов. Но не все было так просто. Глава семьи, Тимоти Райан, не упускал ни единого случая, чтобы не упомянуть о своем происхождении. Только в Америке, говорил он, простой каменщик может добиться такого высокого положения и, не смущаясь, добавлял, что сыну его суждено стать президентом Соединенных Штатов. К последнему никто серьезно не относился, и Джимми особенно. Благодаря деньгам, которые отец вложил в избирательную кампанию, он и его брат Майкл получили места в сенате, что их вполне устраивало. Долорес больше симпатизировала жене Тимоти – Бриджит, чья семья в Кливленде пользовалась заслуженным уважением благодаря отцу, известному юристу. Вот такова была семья, в которую после замужества вошла Долорес. Огромное состояние Райанов, конечно, сыграло роль в ее выборе, и Джимми очень нравился ей. Но социальный статус семейства Кортезов был намного выше, и в этом плане ее брак можно было считать неравным. На приданое и свадьбу деньги сестре прислала Нита. Когда Долорес попыталась отказаться, она отмахнулась: – Дорогая, у меня полно денег – и от мужа, и от барона. Для меня десять тысяч – это мелочь, на булавки. Свадьба прошла великолепно, и медовый месяц молодожены решили провести в Европе. Долорес отлично чувствовала себя в новых нарядах, которые они с матерью так удачно купили в Нью-Йорке. Еще приятнее было сознавать, что у нее теперь будет достаточно средств, чтобы расплатиться с Нитой. Неприятности ожидали Долорес, когда супруги вернулись домой. Она с ужасом смотрела на маленький дом в Джорджтауне, который Джимми купил, не посоветовавшись с ней. Но когда он с гордостью внес жену в этот дом на руках, когда все Райаны – Бриджит, Тимоти, Майкл с женой, сестры Джимми – тепло поздравили их, она постаралась скрыть свое разочарование. Конечно же, она сразу обратила внимание на простую мебель, на поделки в стиле королевы Анны. Кроме того, Долорес пришлось смириться с присутствием Бетси Минтон, экономки Джимми. Как же так? Ведь состояние Тимоти Райана оценивалось в сорок миллионов… Единственными его наследниками были Джимми, его брат и сестры. Долорес предполагала, что муж предоставит ей полную свободу в выборе дома, возможность обставить его по своему вкусу. Она так надеялась, что на ее приемах будет собираться самое блестящее общество. А вместо этого Джимми сидел, что называется, без гроша в кармане. – Доло, – успокаивал он ее, – у нас огромное имение в Вирджинии, где мы все вместе проводили уик-энды. Есть еще дом в Ньюпорте, в нем всем хватает места. Так что если захочешь позагорать, пожалуйста. Если тебя потянет в провинцию, то проблем тоже нет. – Но все это не мое, понимаешь?.. То есть не принадлежит нам. – Принадлежит, – твердо сказал он. – Это собственность семьи. Летом мы там загораем, купаемся, катаемся на водных лыжах. Тебе там все придется по душе. Увидишь, тебе понравится. А дом в Джорджтауне я выбрал потому, что в нем четыре спальни – вполне достаточно для нас и троих-четверых детей, даже пяти, если поместить их парами. Хочется всерьез заняться юриспруденцией. Работа в сенате не слишком меня устраивает. Я не политик. – Тогда зачем ты баллотировался в сенат? Джимми несколько смутился. – У отца навязчивая идея сделать меня президентом. – Но почему тебя, а не Майкла? Он ведь тоже сенатор. И на три года старше. – Майкл с трудом сдал выпускные экзамены на юридическом факультете, и политика его интересует еще меньше, чем меня. Они с Джойс вместе только шесть лет, а у них уже пятеро детей, вот-вот появится шестой. К тому же Майкл – домосед… Поэтому отцовский выбор пал на меня. Впервые супруги повздорили, когда Долорес купила сразу десять пар туфель. Джимми недоуменно смотрел на чек: – Зачем тебе столько обуви? – Но они подходят к разным платьям и костюмам, которые я собираюсь купить. – Доло, мы ведь женаты два месяца. – Что ты имеешь в виду? – Твоего приданого должно хватить хотя бы на год. Мама хвасталась, что растянула свое на пять. Конечно, она в основном носила специальные платья для беременных… Так может быть и с тобой. Остановись, дорогая, не будь транжирой. С этим Долорес трудно было смириться. Не иначе как у отца научился муж ценить каждый заработанный доллар. Его мать вообще не заботилась о нарядах. Бриджит каждый день играла в теннис, не вылезала из брюк и сохранила стройную, девичью фигуру. Даже в семьдесят два она была необычайно активной и постоянно заседала в каких-то благотворительных комитетах, собирала и распределяла пожертвования, занималась то Клубом матерей, то Лигой девушек. А Долорес, как говорил ей в детстве отец, родилась сибариткой. Если он предлагал купить ей мороженое, она требовала шарики всех цветов. Даже если она не могла их съесть, ей все равно нравилось получать все. Отца Долорес просто обожала. Для нее было страшным ударом то, что он оставил мать. Нита отнеслась к этому философски: – Мы все равно расстались бы с ним когда-нибудь, верно? Например, когда выйдем замуж. Отец всегда баловал Долорес при встречах: чай в «Плаза», красивые платья из дорогого магазина на Мэдисон-авеню… И он ни разу не позволил себе даже намека на то, что продавщицы с большим удовольствием обслуживали Ниту, чем старшую, его любимицу. (обратно)Глава 6. ОХРАНА
Даже после того как родились Мэри Лу и близнецы, после президентской кампании и выборов муж все еще выговаривал Долорес, что она тратит слишком много денег. Через Бетси Минтон, которая теперь была ее личным секретарем, он постоянно напоминал о необходимости урезать расходы. Однажды после жестокой ссоры Джимми выпалил: – Доло, у нас нет таких денег. Отец преувеличивает размеры состояния семьи. Наличными есть всего три-четыре миллиона, не считая, конечно, недвижимости. Не забывай: только одни мои выборы стоили бог знает сколько. Безусловно, деньги на детей отложены. Когда мне стукнет шестьдесят, я получу миллион. Тогда мы сможем расслабиться и наслаждаться жизнью. А сейчас нужно экономить. Когда приезжала Нита и покупала сразу две дюжины туфель или три шубы у «Максимилиана», Долорес улыбалась и небрежно замечала, что первая леди страны не имеет права на безумное расточительство. Но как она мечтала о роскошных мехах и платьях! Утешала лишь одна мысль: Ниту теперь считали просто ее сестрой – сестрой Долорес Райан, жены президента США. Нита сказала об этом прямо, когда однажды вечером они собрались на открытие благотворительной художественной выставки: – Несмотря на мои сногсшибательные драгоценности, Доло, все внимание прессы достанется именно тебе. Долорес разрешала Ните платить за обеды в «Орсини»: сестра ведь была замужем за настоящим миллионером и, кроме того, получала сумасшедшие подарки от барона, в которого все больше и больше влюблялась. Сам же барон, несмотря на все ухищрения Ниты, о женитьбе даже не заговаривал. Находясь в тени Долорес, она, казалось, утратила блеск своей красоты. Ее лицо, напоминающее камею, день ото дня становилось все более скучным. Именно Долорес появлялась теперь на страницах самых престижных журналов, именно она могла сделать имя любому модельеру, если носила его платья, – Долорес Райан, первая леди могущественной державы. Все это осталось в прошлом. Теперь она просто вдова. А первой леди стала Лилиан Лайонз в потрепанной шубе из ламы. Долорес подняла глаза на новую «первую пару»: каким маленьким и худым кажется Элвуд рядом с высокой, крупнойЛилиан. Тот блеск, который они с Джимми придали Белому дому, исчезнет, а вместе с ним – и она сама. Внезапно Долорес выпрямилась. Нет, она не исчезнет. Удалось же ей – той, которая поначалу была лишь тенью Джимми, стать личностью. Сплетни о его связях с голливудскими звездами она старалась пропускать мимо ушей, потому что в глубине души не имела права винить его. Муж не нашел в ней ответной страсти. Может, всему виной была бедность, которая наступила после смерти отца, когда приходилось притворяться, что дела обстоят хорошо. А мать постоянно твердила: – Если бы я по-сумасшедшему не влюбилась в вашего отца, то могла бы выйти замуж за очень богатого человека. Но, умирая, она шептала: – Я иду к тебе, Дэнни! Даже в смерти мать протягивала руки к отцу. И тогда Долорес вспомнила, как она рыдала, когда отец уходил на ночь «играть в покер» или когда не хотел брать ее с собой в «деловые поездки». Тогда мать в слезах говорила десятилетней дочери: – Доло, никогда не влюбляйся. Иначе станешь его рабой… его тенью… и никогда не сможешь принадлежать себе. Долорес никогда не «принадлежала» Джимми. Долорес флиртовала с ним, когда они встречались, потому что Джимми был красив. Мать считала его самым заурядным человеком, но ей нравились миллионы Райанов. Слава богу, что они действительно были. Через два месяца после свадьбы Долорес у матери обнаружился рак, и деньги Райанов помогли сделать ее уход из жизни безболезненным. До замужества Долорес не спала с Джимми. Он, возможно, и был удивлен тем, что она оказалась девственницей, но никогда не вспоминал об этом даже намеком. Супружеские обязанности Долорес исполняла безропотно. Ей нравилось быть женой Джимми, быть первый леди. Она быстро привыкла к слугам, охране, лимузинам, международной популярности и открытой зависти Ниты. Но пуля, выпущенная Рональдом Престоном, оборвала все. И очень может быть, что сестра снова затмит ее. Нет! Она этого не допустит и сделает все возможное, чтобы сохранить память о муже и остаться на той высоте, на которую вознесла ее судьба. Да, она – вдова, но вдова самого популярного в Штатах президента, самая любимая публикой из всех президентских жен. (обратно)Глава 7. КОРОЛЕВА НА ТРОНЕ
Лайнер шел на посадку. Пора, наверное, привести в порядок свои мысли. Бетси Минтон стоит, пожалуй, оставить на службе. Нужно как-то решить и денежные проблемы. Джимми недавно исполнилось только сорок два. Они были молоды и здоровы, поэтому вопрос о завещании никогда не возникал. Но деньги она, пожалуй, получит приличные… Долорес очнулась, пытаясь сообразить, что же говорит ей один из помощников. – Миссис Райан, я приготовил вам синий костюм и белые перчатки. Переодеться можно здесь, в самолете. Беатрис, одна из наших девушек, приведет в порядок ваши волосы. – Нет, – тихо ответила Долорес. – Я хочу, чтобы все увидели кровь моего мужа… кровь, которую он пролил за свою страну. – Но, миссис Райан, это невозможно, – настаивал помощник. – Возможно. Вы свободны. Так она и появилась на трапе самолета – поверженная царица с широко раскрытыми скорбными глазами. Застрекотали камеры. Долорес стояла без единой слезинки – не прежняя, сдержанно-элегантная первая леди страны, а разъяренная пантера, охраняющая сраженного в схватке самца. Брат Джимми Майкл двинулся ей навстречу, чтобы помочь пробраться через замершую в ожидании толпу. Элвуд Джейсон Лайонз и его жена шли за ней на почтительном расстоянии. Лилиан негодовала. Ведь Элвуд уже президент, он принял присягу еще в самолете. Почему же они плетутся позади этой Райан, будто она все еще что-то значит. А газетчики… Они крутятся возле Долорес и Майкла, не обращая внимания на новую первую леди нового президента. Ловкий парень этот Майкл. Он никогда не был близок Долорес, но сейчас ведет себя как очевидный наследник брата. Жена даже не приехала с ним. Господи, неужели еще один Райан собирается стать следующим президентом, несмотря на то, что его частое отсутствие в сенате давно стало предметом для шуток. Но в наше время все возможно. Внешне он гораздо интереснее Джимми. Все мужчины в этой семье – настоящие красавцы. Наконец-то камеры повернулись к ней. Как это будет выглядеть, ведь она на десять сантиметров выше мужа! Ничего, можно купить туфли на низком каблуке и заставить Элвуда носить специальную обувь. Опять репортеры столпилось возле усаживающихся в лимузин Долорес и Майкла. Он повезет их в Белый дом. Лилиан повернулась к мужу. – Сколько она там пробудет? – Дорогая, – ласково ответил Элвуд, – Джимми Райан еще не в земле. А потом будут похороны… Надо же дать вдове время найти квартиру. – Теперь газеты будут писать обо мне и о моих детях, – торжествующе сказала Лилиан. – Осточертело читать о Доло, маленьких Джимми, Майке и Мэри Лу. – Зря ты так, они, в общем-то, славные дети, – продолжал Элвуд. – Кстати, если помнишь, Долорес, будучи женой президента, не любила, когда ее называли Доло. – Жена президента теперь я, – гневно шикнула Лилиан. – Ты и теперь считаешь эту заносчивую куклу первой леди? Замолчав, она спешно изобразила на пухлом лице широкую улыбку, потому что какой-то репортер выбрался из толпы, окружившей Долорес, и навел камеру на Лайонзов. В это время Долорес стояла рядом с Майклом и больше всего на свете боялась разрыдаться. Его рука, лежащая у нее на плече, заставила Долорес впервые ощутить всю глубину своего одиночества. Майклу плевать на нее… Он всегда считал ее снобкой. Но сегодня брат Джимми нужен ей, и он рядом. Таковы все Райаны: семья для них – прежде всего. – Я говорил с кардиналом. Похороны организуем завтра, – прошептал Майкл. – А ты отправляйся домой и выспись. О детях – не беспокойся. Джойс устроила их и Бетси у нас. Они еще не понимают, что случилось. На траурной мессе, я думаю, должны присутствовать только члены семьи, да и на похоронах тоже. Хотя Джимми и служил в армии, мы сможем договориться с адмиралтейством и похоронить его не на военном кладбище в Вашингтоне, а в Виржинии – на семейном. Это избавит тебя от многих забот. Всем займется Бриджит… – Ты очень добр, – мягко перебила Майкла Долорес. – И, поверь, я глубоко благодарна всем Райанам за помощь. Но Джимми был моим мужем. – Да, ты права… Мы сделаем, как ты хочешь. – Я хочу знать, как хоронили президента Кеннеди! (обратно) (обратно)Часть II
Глава 8. ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ
Долорес, стоя у окна, долго смотрела на серую гладь реки, а потом из кабинета перешла в огромную гостиную. Чем занять еще один день? Прошел почти год с тех пор, как не стало Джимми, – год, который вдова должна была прожить затворницей. Конечно, изредка ее навещали «подходящие» посетители, но об этом сразу узнавали газеты, и многие дни не смолкали разговоры. Господи, как ей одиноко, страшно одиноко. Похороны прошли впечатляюще. Накануне Долорес с Майклом провели целую ночь за изучением репортажей о похоронах Джона Кеннеди и даже Авраама Линкольна. Близнецов на траурную церемонию не взяли. Зато Мэри Лу перенесла ее спокойно и серьезно, хотя самой Долорес это стоило больших трудов. Сразу же после похорон она с детьми и Бетси Минтон отправилась к сестре в Лондон. Нита злословила по поводу затянувшегося траура Долорес: – Как глупо играть роль скорбящей вдовы! Он же постоянно обманывал тебя, и все это знали. Вот брат твоего Джимми совсем другой, он, пожалуй, самый примерный семьянин в мире. – Но, Нита, я все-таки любила Джимми. Нита с иронической усмешкой взглянула на сестру. – Доло, если говорить откровенно, то ты любишь единственного человека в мире – себя. И продолжай в том же духе. А я, например, сгораю от любви к Эрику… – Эрику? – Ну да, к барону. Долорес расхохоталась. – Ты, дорогая, сгораешь от любви к его деньгам. – У меня достаточно и своих, – отпарировала Нита. – Тогда зачем он тебе? – искренне недоумевала Долорес. – Он грубый и уродливый тип. – Понимаешь, для Эрика нет ничего невозможного. Поэтому, наверное, меня и тянет к нему. Не случайно же многие женщины увлекались Гитлером и Муссолини: их привлекали власть, могущество этих людей. – Выбрось лучше Эрика из головы и перестань все время думать о ваших отношениях. – А ты сама вчера неужели не почувствовала всей силы его обаяния? – Ничего я не почувствовала. И уверена, что свой титул он просто купил. Поэтому в высшем свете его не принимают. – Очнись, Доло! Где ты этот свет видела? Его давно не существует, если не считать нескольких семидесятилетних старух. Посмотри вокруг: сегодняшние принцы и лорды стали гомосексуалистами, их место заняли рок-звезды и выскочки с многомиллионным состоянием. Плевать обществу на твоих предков, ты сама – знаменитость. О тебе кричат все газеты, историю твоей любви к Джимми так трогательно расписывают. – Именно поэтому я должна строго соблюдать траур. – Хорошо. Тогда потихоньку заведи любовника. Только не забывай главного: люби телом, а не сердцем. – Нита, неужели ты всерьез влюблена в барона? Нита отвернулась. – Скажу честно, поначалу меня заинтриговали разговоры о его баснословном состоянии и яркой индивидуальности. К тому же, ты знаешь, как липнут ко мне мужчины. А он – нет. Когда нас представили, я не произвела на него никакого впечатления. Ничего, думаю, я все равно своего добьюсь, но не заметила, как желание увлечь Эрика переросло в любовь к нему. Клянусь, даже если он останется без гроша в кармане, я все равно захочу спать с ним. – Но ему почти шестьдесят, тебе – всего тридцать пять. – Да, – улыбнулась Нита. – В этом месяце нам обеим еще по тридцать пять. Но через три недели ты станешь на год старше. Долорес задумалась. – Я помню, как ужасно чувствовала себя, когда мне исполнилось тридцать. Годы шли один за одним, не за горами и сорок. И вдруг неожиданная остановка. Я уже вдова… А ведь мне только тридцать шесть. (обратно)Глава 9. ЗАВЕЩАНИЕ
Свой день рождения Долорес отпраздновала с близнецами и Мэри Лу. Бетси Минтон не поехала с ними в Нью-Йорк. В Вашингтоне она завела приятеля, с которым проводила все уик-энды. Не правда ли, смешно, что сорокавосьмилетней старой деве каждые субботу и воскресенье нужен мужчина? Десятикомнатную квартиру в одном из самых фешенебельных районов Нью-Йорка Долорес купила за двести пятьдесят тысяч долларов. Дешевка. Эти апартаменты, даже без учета комнат для прислуги, стоили гораздо больше, но их владельцы разводились и стремились побыстрее избавиться от общей собственности. Вместе с квартирой Долорес получила два телевизора, шторы и приличную мебель, обивку которой она сразу же заменила. Почти полгода ушло на работу с декораторами. Благодаря ее безупречному вкусу новое жилье выглядело даже лучше, чем она ожидала. Долорес повернулась и обвела взглядом свою великолепную гостиную. Настоящий зал. Но зачем он нужен, если ей до сих пор нельзя приглашать гостей? Годовщина гибели Джимми на следующей неделе. К поминальной мессе ее, как всегда, будет сопровождать Майкл. На глупые сплетни о том, что их отношения вышли за рамки дозволенного, Долорес давно перестала обращать внимание. Чаще, чем прежде, ее стала навещать свекровь, они вместе обедали, а иногда бывали в театре или на концертах. Тимоти Райана болезнь окончательно приковала к постели, в его комнате круглосуточно дежурили сиделки. Зато Бриджит обрела, наконец, долгожданную свободу и старалась все уикенды проводить в Нью-Йорке с невесткой и ее детьми. Когда Долорес, одетая в скромное черное или синее платье, как обязывал траур, в сопровождении Бриджит появлялась на людях, за ней неотступно следовала охрана. К ее удовлетворению, эти редкие выходы в свет вызывали в прессе настоящий ажиотаж – она становилась одной из самых знаменитых женщин в мире. Даже интересно… В дни ее молодости публика обожала кинозвезд – Дорис Дей, Риту Хэйворт, Лану Тернер, незабвенную Мерилин. Сегодня их место заняли рок-группы и… Долорес Райан. Десять журналов Америки объявили ее женщиной месяца. Долорес вернулась в кабинет, подошла к окну, пытаясь отогнать невеселые мысли о деньгах, вернее, об их нехватке. Только что от нее ушел адвокат. С детьми в завещании все было в порядке. Их будущее обеспечено. Ей же полагалось в год тридцать тысяч, не облагаемых налогом, – и так до тех пор, пока миллионное состояние Джимми не перейдет в ее распоряжение. Будь муж жив, ему бы сейчас исполнилось сорок три. Значит, она получит миллион только через семнадцать лет. А до этого как прожить на тридцать тысяч в год? Хорошо еще, что деньги на покупку квартиры дала Бриджит. – Дорогая, – заявила она тоном, не допускающим возражений, – я считаю, что в завещании тебе оставлено недостаточно. Но Джимми был слишком молод… Поэтому мой долг – создать тебе и детям нормальные условия. Перебраться в Нью-Йорк – это мудрое решение, в Вашингтоне тебя одолевали бы воспоминания. Я буду платить за содержание квартиры и обучение детей в школе. А на тридцать тысяч вполне можно прожить. Это был щедрый жест, и Долорес была благодарна свекрови. Но что такое тридцать тысяч, если одной только секретарше, ведающей перепиской, нужно было платить сто пятьдесят долларов в неделю? Такую же плату получали няня и кухарка. Восемьдесят пять долларов уходило на уборщицу, приходившую ежедневно, еще сорок – на мистера Эванса, который дважды в неделю делал генеральную уборку. Еда, даже при жесточайшей экономии, стоила больше двух сотен. И так набиралось за сорок тысяч. А рождественские подарки, стоившие целое состояние, наемные лимузины по шестнадцать долларов в час, дорогой детский сад, который посещали близнецы… Всего этого Бриджит не знала. Нет, Долорес не могла прожить на тридцать тысяч в год. В Нью-Йорке она возобновила отношения со школьной подругой Дженни Берч. Родители Дженни были очень богаты, но тогда, в детстве, это не имело никакого значения. Дженни удачно вышла замуж за шведского посла Свена Йенсена и стала еще богаче благодаря состоянию мужа. От нечего делать Долорес иногда позволяла себе съездить с приятельницей к Хэлстону или Валентино, у которых та постоянно заказывала наряды. Она с тайной завистью смотрела, как Дженни натягивает на свои пышные телеса очередное новое платье, и представляла в нем себя. Каждый визит Долорес в модное ателье был для его владельца событием. Ей сразу же предлагались самые лучшие модели. – О, миссис Райан, это так пойдет вам! В ответ она сдержанно произносила: – Мне сейчас не до этого… Я еще… – И далее следовала многозначительная пауза. (обратно)Глава 10. ЭДДИ
Как ни парадоксально, но окружающие считали ее миллионершей. Поэтому Долорес не смела даже подумать о том, что одежду детям можно купить в дешевом магазине, где продают товары со скидкой. Газеты немедленно обвинят ее в скупости. И она продолжала водить Мэри Лу и близнецов в лучший детский магазин на Мэдисон-авеню. Вернувшись, домой с официальной церемонии по поводу годовщины смерти Джимми, она основательно перетряхнула свой гардероб. – Жаль, что платья-миди вышли из моды – ими набиты целых два шкафа. Нет, даже если укоротить юбки, ничего не получится. Но выход был найден. Совсем рядом с их домом есть чудесный парк, где можно подолгу гулять, кататься на велосипеде в брюках, как Бриджит. На снимках, которые немедленно появились в газетах, Долорес выглядела тоненькой, как юная девушка. Вскоре случай свел ее с известным молодым киносценаристом – Эдди Хэррисом. Он оказался в парке, когда Мэри Лу упала с велосипеда. Охранник бросился, чтобы подхватить девочку, но проходивший мимо Эдди сделал это гораздо быстрее. Долорес узнала его сразу (она видела почти все его фильмы, тайком пробираясь днем в кинотеатр, закутанная в шарф и в темных очках). Спаситель Мэри Лу представился и попросил разрешения погулять с ними. Долорес царственным кивком выразила свое согласие. К концу дня они подружились. Сначала ей показалось, что Эдди – гомосексуалист, несмотря на упорные слухи о его интрижках со многими женщинами. Но Эдди ей понравился, талантливых людей она уважала. – Миссис Райан, – неожиданно предложил он, – а не сходить ли нам вместе на концерт Леонарда Бернстайна? – Боюсь, что не смогу, – быстро ответила она. – Почему? Боитесь показаться на людях с евреем? – ухмыльнулся Эдди. – Не говорите глупостей. Вы для меня прежде всего талантливый человек. Но на днях приезжает моя свекровь, и ближайшую неделю мы проведем за городом. Зато я могу пригласить вас к себе поужинать… Не в этот вторник, а в следующий. Придете? Предложение явно заинтриговало Эдди, и он проводил Долорес до самого дома. – Я живу на десятом, – сказала она. – А номер квартиры? – Я занимаю весь этаж. Долорес произнесла эти слова с невинной миной, чтобы Эдди не счел ее хвастуньей. Немного помолчав, она добавила: – У меня прекрасная кухарка, которой надоело жарить только одни телячьи отбивные детям. Что вы любите? – Спагетти… рыбу… грибы… и салат. – Отлично. Жду вас в восемь. Дети к этому времени уже пойдут спать. Весь остаток дня Долорес думала об Эдди. Замечание о том, что она боится впервые появиться в обществе с евреем, попало, пожалуй, в точку. Но не в национальности было дело, это для нее не имело значения. Будь Эдди губернатором или сенатором, она не сомневалась бы, но прийти на прием с человеком из шоу-бизнеса… Нет! Пострадает ее репутация. За обедом с Бриджит они обсудили эту проблему. – Ты права, девочка, – сказала свекровь. – Я поговорю с Майклом. Он найдет подходящего сопровождающего. Брат Джимми вскоре представил ей такого человека: должность – верховный судья, возраст – пятьдесят девять лет, не женат. С этим кавалером Долорес появилась на открытии музея. Боже, ей никогда в жизни не было так скучно. А ведь пришлось потратить целых пять сотен на платье от Ставропулоса, кстати, проданное ей с огромной скидкой. Обо всем позаботилась ее новая секретарша Нэнси Кинд. В постели с Эдди Хэррисом Долорес оказалась в первый же вечер и впервые в жизни испытала оргазм. Сначала она попыталась притвориться, как обычно делала с Джимми (немного постонешь, и все закончится). Но Эдди рассмеялся: – Карьеры в театре ты не сделаешь. Расслабься, дай себе волю и получишь настоящее удовольствие. Любовью они занимались весь вечер, пока Долорес не упала без сил. С тех пор любовники стали встречаться регулярно, сначала раз, а потом два раза в неделю. И вдруг Эдди пропал. Она выдержала какое-то время и позвонила ему сама. Эдди болтал с ней как ни в чем не бывало. Но когда Долорес опять заговорила об ужине у нее, он сказал: – Отлично, но теперь моя очередь. – Что ты имеешь в виду? – Сводить тебя куда-нибудь. – Я… я не смогу, Эдди. – Конечно! Ты можешь ходить в «21» с верховным судьей Длингером и в «Элани» с поэтом, который годится тебе в дедушки. – На этих приемах я присутствовала по обязанности и умирала от скуки. – А мне, думаешь, не надоело приходить в твой дом, пить пиво, наедаться и потом обслуживать тебя в постели? Долорес швырнула трубку. На следующий день она получила от Эдди цветы, а потом объявился и он сам. – Послушай, – предложил он, услышав в трубке ее голос, – мэр дает шикарный прием в честь нью-йоркских джазистов. Там будет много интересных людей. Пойдешь со мной? – Я уже приглашена туда, – промямлила Долорес. – Но… – Что? Знаешь, дорогая, или ты идешь со мной, или я приду с другой. И конец всему. – Я не люблю приемы, – объясняла она. – Особенно большие. (Господи! Зачем она оправдывается перед этим человеком? Да потому, что он – ее единственная связь с миром.) – Ничего, можешь попробовать еще раз. Это, правда, не Белый дом, а только дворец Греси… Но в Нью-Йорке его называют домом. – Хорошо. Я согласна. (обратно)Глава 11. БЭРРИ
Долорес пришлось опять купить новое платье и пригласить на дом парикмахера. Единственная пара бриллиантовых сережек – все, чем она могла оживить свой наряд. Джимми никогда не дарил ей драгоценностей и не позволял носить дорогие меха, считая, что первую леди это не украшает. Какое счастье, что платье продавалось вместе с пальто. Долорес думала, что необходимо как-то раздобыть соболиную шубу. Норковая шуба, которую Бриджит подарила невестке после смерти Джимми, давно вышла из моды. Долорес искренне удивлялась, что люди считают ее элегантной женщиной. Она появилась, когда вечер был в разгаре. Но по залу моментально пробежал шумок. Мэр приветствовал ее так, словно она принадлежала к королевской семье. Он долго тряс руку Эдди, повторяя: – Как тебе удалось привести в мой дом самую красивую в мире женщину? Целых полчаса ее представляли гостям. У Долорес заныла спина, но она держалась прямо, все время чувствуя на себе чей-то внимательный взгляд. Он принадлежал высокому мужчине, который стоял неподалеку, лениво опираясь на стену. «Как он хорош собой, – мысленно отметила Долорес. – Где я его видела? Наверное, какой-нибудь актер…» Красавец подошел к ней последним, когда процедура представления уже закончилась. – Привет, – сказал он фамильярно, даже не протянув ей руки. – Нам давно пора познакомиться. У нас много общего. – Вот как? – спросила она, придавая голосу чуть хрипловатый оттенок. Ей безусловно хотелось понравиться незнакомцу. Он подал Долорес стул с легкостью, свойственной людям, получившим хорошее воспитание, чего явно не хватало Эдди Хэррису. – Вы поднялись на вершину власти, выйдя замуж за президента, – улыбнулся он. – А я ничего не достиг, потому что был всего лишь сыном вице-президента. Долорес мгновенно вспомнила все. Конечно же, это Бэрри, сын Беннингтона Хейнза, который, будучи вице-президентом, умер от сердечного приступа во время избирательной кампании, иначе он непременно стал бы президентом – в старике была бездна обаяния. Три его прехорошеньких дочери удачно вышли замуж. О Бэрри говорили, что он был самым интересным в семье, но именно внешность повредила его политической карьере. Когда он баллотировался в мэры Нью-Йорка, то проиграл весьма заурядной личности. Избиратели посчитали, что такой красавчик не способен стать серьезным политиком. Затем Бэрри баллотировался в палату представителей, но снова проиграл и кончил тем, что женился на Констанс Маккой, обладательнице многомиллионного состояния. Он числился юрисконсультом в известной фирме, но больше был известен как муж богатой женщины. Констанс уже было за сорок, она дважды побывала замужем, но еще неплохо выглядела и шикарно одевалась. Все знали, что на брак с Бэрри она решилась только из-за его имени. Серые глаза Бэрри так откровенно разглядывали Долорес, что она смутилась и покраснела, скороговоркой представляя ему подошедшего Эдди Хэрриса. Но выяснилось, что они уже знакомы. Из соседнего помещения лилась сентиментальная мелодия. Там расположился маленький оркестр. – Хотите потанцевать? – неожиданно предложил Бэрри. – Я… – Долорес слегка запнулась (она уже так давно не танцевала). – Извините нас, Эд. – Бэрри взял Долорес за руку и повел на середину комнаты. Несколько минут они танцевали молча, потом он заговорил: – Расслабьтесь, не старайтесь руководить мной. За девиц, которых я научил двигаться по паркету (а их было бог знает сколько), меня давно следовало бы наградить. – Вы и меня собираетесь учить? Бэрри рассмеялся. – Что вы, не смею. Больше того, я подозреваю, что ваш достопочтенный муж никогда не осмеливался учить вас чему бы то ни было. Долорес предпочла не отвечать и попыталась отдаться танцу, подчиняясь партнеру. Танцевать она действительно не умела. Когда девушки ее возраста каждый вечер бегали на вечеринки, она уже работала. – Сердитесь? – спросил он после недолгого молчания. – Почему вы так решили? – Впервые вижу женщину, которая даже не пытается понравиться мужчине. – А зачем? Вы ведь женаты. – Вот оно что! Значит, очаровывать следует только холостяков. Не знал, что вы вышли на охоту за очередным мужем. – Отведите меня, пожалуйста, к Эдди, иначе придется оставить вас одного посреди зала, – очень тихо, но резко сказала Долорес. – С удовольствием. – Бэрри молча провел ее через толпу, поблагодарил и ушел. Долорес размышляла о случившемся несколько дней, не отвечая на настойчивые звонки Эдди Хэрриса. Представить себя в постели с ним она больше не могла. Ей хотелось переспать с Бэрри Хейнзом! (обратно)Глава 12. АМЕРИКАНСКАЯ КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ
Сидя дома в одиночестве, Долорес вспоминала серые нагловатые глаза Бэрри. Он женат. Ну и что! Такие «мелочи» никогда не останавливали Джимми. Смешно, но ведь никто не поверит, что она, дожив до тридцати шести лет, познала только двух мужчин – покойного мужа и Эдди Хэрриса. Может, стоит устроить небольшой прием, пригласив к себе только очень узкий круг знакомых – верховного судью, Леонарда Бернстайна, мэра, Эдди… и чету Хейнзов. Нет, это уж слишком. Все сразу поймут, в чем дело. Несколько недель подряд Долорес в сопровождении верховного судьи появлялась в театре, на концертах, посещала художественные выставки, рассчитывая хоть где-нибудь натолкнуться на Бэрри Хейнза. Каждый ее выход в свет вызывал невероятную шумиху в прессе. Но Бэрри она так и не встретила. Однажды, обедая с Дженни Йенсен, Долорес как бы невзначай упомянула его имя, рассчитывая хоть что-нибудь узнать о нем. Но ничего нового приятельница ей не сообщила. – Дорогая, – щебетала она. – Бэрри Хейнз – обыкновенный неудачник. Отец его был действительно великим человеком и мог стать президентом. А сын не оправдал возлагаемых на него надежд. Сам Бэрри если чего и ждал, то отцовского наследства. Деньги, конечно, у старика водились. Но после уплаты налогов и раздела его состояния между четырьмя детьми доля Бэрри составила всего четверть миллиона. Этот кретин жил на широкую ногу и, конечно, спустил все за два года. Зарабатывает он мало, ведь фирма держит его только из-за фамилии. Вот почему Бэрри женился на Констанс Маккой. Уважающий себя человек из такой семьи, как Хейнзы, никогда бы этого не сделал. Ее отец начинал упаковщиком на крупяной фабрике, что-то там придумал и в конце концов сколотил приличное состояние. Так что Констанс, как бы она ни швырялась деньгами, была и навсегда останется дочерью невежественного ирландца… – Как, скажем, мой муж… и мои дети. – Ну, не передергивай, дорогая. Джимми – исключение. Как, впрочем, и все остальные Райаны. А в жилах твоих детей течет благородная кровь Кортезов. А Бэрри… – вздохнула она. – У них с Констанс наследников пока нет и, будем надеяться, не появится. Порода есть порода, надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Родословная ценится даже у животных. Помнишь, как моя принцесса Шаша удрала и пообщалась с пуделем? Боже, какое у нее было потомство! Помесь пекинеса и пуделя… Я немедленно приказала усыпить этих уродов. – Но ведь дворняжки считаются самыми умными среди собак. – Чепуха! Возьми хотя бы скачки. Какие в них участвуют лошади? Чистокровные, чья родословная насчитывает несколько поколений. Знаешь, я ведь когда-то была по-сумасшедшему влюблена в одного киноактера. Кстати, он был богат, но в мужья я выбрала Свена, потому что в его жилах течет королевская кровь. А что там у тебя с Эдди Хэррисом? Он, конечно, талантлив и все такое. Но я слышала, с каким акцентом говорит его мать. – Я принимаю людей такими, какие они есть. Меня их предки не интересуют. Моя прабабушка, наверное, тоже говорила по-английски с невозможным акцентом. – Но, дорогая… Акцент-то был испанский! А это огромная разница. – Эдди я давненько не встречала. – И забудь о нем. Тебе пора подумать о своем будущем и будущем детей. – Не понимаю. – Ох, друзья из богемы – это занятно. Но, общаясь с людьми, подобными Эдди, ты никогда не выйдешь замуж. – Я об этом как-то не думала. А что, если попадется кто-нибудь стоящий? – О, при одном условии – если он будет принцем или неженатым президентом. Такое замужество публика тебе, может быть, и простит. Ты же для нее королева Виктория, только не английская, а американская. Я раньше часто и с тайной завистью наблюдала за тобой и Джимми. Твой муж казался таким представительным, а ты была всегда такой красивой… Была?! Долорес еле сдержалась, чтобы не наговорить подруге резкостей, но вечером надолго застыла у зеркала. Скоро ей исполнится тридцать семь. За одинокую девушку на выданье уже не сойдешь. Но не старуха же она, в конце концов… Стоит ли жить во имя выдуманного идеала? Да, вся Америка знала о романе Джимми и знаменитой кинозвезды, которая не скрывала связи с президентом, а, наоборот, афишировала ее. А Таня? Она теперь живет с известным режиссером. Ей нет нужды заботиться о своем имидже. (обратно)Глава 13. ГОРАЦИО
Чем больше Долорес думала о Бэрри Хейнзе, тем сильнее желала встречи с ним. Но, как и где она снова может с ним встретиться? Ей и выйти нельзя, чтобы не наткнуться на газетчиков. Что же остается? Таскаться на премьеры с верховным судьей или сэром Уорреном Стэнфордом, которого представил ей Майкл? Сэр Уоррен – вдовец, у него дом в пригороде Лондона и четверо маленьких детей. Он вовсе не прочь был жениться на Долорес, но она не могла представить себя похороненной в английской провинции и занятой воспитанием своих и его детей. К тому же у Стэнфорда тоже нет денег. Ночами ее мучила бессонница. Долорес включала телевизор и чуть ли не до утра смотрела все ночные программы, перечитала все бестселлеры. Целые дни она проводила в парке, а на праздники уезжала с детьми к Бриджит в Вирджинию. Там же собирались Семьи Майкла и сестер Джимми. Но Долорес всегда и везде остро ощущала свое одиночество. Она удивлялась мудрому спокойствию и энергии свекрови и пыталась понять, что помогло и помогает Бриджит сохранять душевное равновесие. Ведь жилось ей очень нелегко. Тимоти неизлечимо болен уже пятнадцать лет. А сейчас он предпочитает оставаться в своей комнате даже тогда, когда приезжают родные, стыдясь распухшего от лекарств лица и изуродованного артритом тела. Он давно превратился в бесполое существо, а когда был здоров, изменял жене. Бриджит все это вынесла. Что ее спасло? Неужели глубокая вера? Она ежедневно ходит к мессе, подолгу гуляет одна. Свой первый после длительного траура прием Долорес решила устроить весной. Неделями она обдумывала список приглашенных. Дженни Йенсен вызвалась помочь ей. Как бы между прочим, Долорес включила в число гостей Хейнзов и с облегчением вздохнула, когда подруга не стала возражать. Приглашения были заказаны у «Тиффани» – на тридцать пять персон, в них был указан день – первое июня. Их рассылала секретарша, но когда дело дошло до мистера и миссис Бэрри Хейнз, Долорес сделала приписку от руки: «Надеюсь увидеть вас обоих» – и подписалась только именем. Дня за два до приема позвонила Констанс Хейнз и сообщила, что будет рада прийти, но с кузеном, так как Бэрри заболел гриппом и лежит с высокой температурой. Долорес не подала виду, но была страшно огорчена. У входа в дом гостей ожидала армия репортеров. Прием стал сенсацией сезона, а к концу его хозяйка почувствовала себя по-настоящему счастливой, потому что Констанс, уходя, предложила: – Давайте, когда Бэрри поправится, поужинаем вместе. Три дня газеты печатали репортажи об этом приеме и помещали фотографии именитых гостей Долорес. Она же занималась тем, что писала и переписывала записки Бэрри с пожеланиями скорейшего выздоровления… и рвала их. Долорес приводила в порядок одежду Мэри Лу, готовясь отправить дочь в летний лагерь, когда пришла телеграмма от Ниты. Она гласила: «Найди для меня в Нью-Йорке квартиру из десяти – двенадцати комнат. Буду через две недели. Все объясню при встрече. Если позвонит Горацио Капон, скажи, что он может встретить меня в аэропорту. Тебе приезжать не стоит – будет много шума. Мне понадобятся хороший дворецкий, секретарша и несколько слуг. С любовью Нита». Едва Долорес успела дочитать послание сестры, как зазвонил телефон. Елейный голос на другом конце провода сообщил, что миссис Райан беспокоит Горацио Капон. В свое время она видела несколько отличных морских пейзажей этого художника, но уже много лет Горацио не выставлялся. Он подвизался на телевидении, вел какое-то скандальное шоу. – О, миссис Райан, – заливался он. – Мне очень приятно. Вашу сестру я знаю с давних пор. Мы встречались в Англии на моей последней выставке. Но я мечтал познакомиться с вами. Кстати, вы видели мои работы? – В последнее время нет, – сказала Долорес. – Честно признаться, я давно не выставлялся. Работаю над огромным полотном. Массу времени отнимают светские обязанности. Одиноких состоятельных мужчин всюду приглашают, особенно если они, как я, имеют имя. – Я только что получила телеграмму от Ниты. И… – Давайте поищем квартиру для нее вместе. Обещаю, что не дам вам скучать. – Я подумаю о вашем предложении, – ответила Долорес. – Но прежде хочу посоветоваться с агентом по продаже и найму недвижимости. – Тогда давайте вместе пообедаем. Вам, наверное, трудно дается одиночество. – Это не совсем так, – разозлилась Долорес на бесцеремонность незнакомого собеседника, – просто у меня масса неотложных дел. Троих отпрысков я отправляю в летний лагерь, нужно их собрать. – Но, дорогая… Я – спец по найму квартир и отлично знаю подходящие дома. Ну, еще можно и развлечься. – Если агент ничего не предложит, где вас искать? – Кто знает, – съехидничал Горацио. – Могу быть в своей квартире на Пятой авеню, в Гааге, Лондоне, где имею прелестное гнездышко. А вообще – везде. Боюсь, что придется еще раз побеспокоить вас самому. – А когда же вы рисуете? – поинтересовалась Долорес. – Уместный вопрос, – хмыкнул друг Ниты. – В конце концов, я брошу все и вернусь к живописи, закончу свой шедевр. – Мне не хотелось бы отрывать вас от работы… – Ну что вы, – прерывисто задышал он в трубку. – Разве я смогу творить, когда приезжает малышка Нита. Она не отходила от меня в Лондоне. Знаете, – голос Горацио сделался вкрадчивым, – ваша сестра вынуждена переехать в Нью-Йорк. Лорд Брэмли сменил журналистку на юную итальянскую принцессу. Ее зовут Елена… Она потрясающе красива, а Нита, естественно, выглядит по сравнению с итальянкой несколько увядшей. Лорд Нельсон совсем забросил бедняжку жену и, приехав сюда, открыто появляется в свете с любовницей. Между нами, говоря, мы с вами должны заставить Ниту опять блистать в обществе. Долорес медленно положила трубку. Бедная Нита… (обратно)Глава 14. СОБСТВЕННОСТЬ
Горацио не давал Долорес покоя до самого приезда Ниты, но она не приняла ни одного его приглашения. Квартира была найдена – великолепные апартаменты на Пятой авеню, пятнадцать комнат. Поскольку Ните не нужно было экономить, Долорес наняла и прекрасную прислугу. Сестру она ждала с нетерпением. Наконец-то рядом будет родной человек, которому можно доверять. Ежедневно они будут встречаться, вместе обедать, заниматься квартирой. Долорес отправилась в аэропорт с одним из охранников. Ей разрешили выехать прямо на летное поле. По дороге домой она с оживлением рассказывала Ните о новой квартире, но сестра ее почти не слушала. – Конечно, в ней еще многого не хватает, но вместе мы быстро приведем ее в порядок. Нита рассеянно кивнула. – Нужно успеть сделать все к осени, когда я пошлю за детьми. Нельсон отвез их во Францию, в летний лагерь. – Она достала плоский флакончик с таблетками, проглотила две и пояснила с вымученной улыбкой: – Это «фено». Врач считает, что мне это помогает. – Не огорчайся, Нельсон бросит и эту девушку, – попыталась утешить сестру Долорес. – У Джимми был не один роман. Но только Таня что-то значила для него. Когда мужчина остывает после серьезной любви, не стоит обращать внимание на все остальные его увлечения, они умирают сами по себе. Ни одна молодая красивая женщина не свяжет надолго свою судьбу с Нельсоном, зная, что шансов на развод нет. То же было и с Джимми. Сестра продолжала отреченно смотреть в пустоту, и Долорес порывисто обняла ее. – О, Нита, жизнь не кончается. – Кончается, – тихо ответила Нита. – Мне плевать на Нельсона и его девицу… Дело в Эрике. – В бароне? Он еще существует? Нита протянула руку, и Долорес не могла оторвать взгляд от огромного бриллианта. – Тридцать каратов. Прощальный подарок. – Он бросил тебя? Она обреченно кивнула. – Неделю назад. Он сказал, что любит только Людмилу Розенко. А она, видишь ли, меня не выносит и больше не хочет мириться с нашей связью. Представь себе, что, значит, проиграть пятидесятилетней женщине! – Но она очень красива. – После многих операций она практически не может улыбнуться. Но Эрик помнит ее звездой и боготворит за талант. Это единственное, что его волнует. Вечер за вечером он сидел в театре и смотрел на Людмилу, мечтая когда-нибудь обладать ею. В те годы все мужчины в Париже думали о том же самом. Когда же, наконец, он получил эту женщину, то отдал ей все, сделал независимой и богатой. Эрик уверен, что Людмила любит его… – Ты тоже независима и богата. – Но у меня нет ни имени, ни таланта. И еще одно… Попробую тебе объяснить. Обладание собственностью для Эрика главное. Недавно он купил океанский лайнер и хочет переделать его в частную яхту. Она будет вдвое больше, чем яхта Онассиса. Вот это приобретение! Людмила – тоже своего рода приобретение… собственность. Когда она поставила ультиматум, предложив выбрать между ею и мной, – это решило все. – Очень жаль, сестричка. Но, может, оно и к лучшему. – Может быть… Но мне пришлось уехать. – Она опять достала флакон и положила в рот еще одну таблетку. – Нита… Не стоит принимать лекарство так часто. – Это лучше, чем рыдать с утра до вечера. Долорес поднялась. – Ты остановишься у меня, пока все не будет отделано. И давай встряхнемся. Я устрою в твою честь прием, приглашу интересных людей. А когда поселишься в собственной квартире, сама станешь устраивать балы. – Горацио тебе звонил? – спросила Нита, словно не воспринимая того, что говорила сестра. – Да. – А почему его не было в аэропорту? – Я – жена президента, пусть бывшего, и не имею права общаться лишь бы с кем. – Горацио – не лишь бы кто, – отрезала Нита. – Мне с ним интересно. Он знает все светские сплетни. – Противный тип, – не уступала Долорес. – Можно ли судить о человеке, которого не знаешь? – Я видела его в одной из телепередач. Твой Горацио болтает о чем попало, только не об искусстве, о котором должен иметь представление в силу своей профессии. – Он умеет поднять настроение, – упиралась Нита. – С ним приятнее обедать, чем с любой задушевной подругой. Долорес с удивлением смотрела на сестру. Она, говоря о Горацио, даже повеселела. – Хорошо, как-нибудь я приглашу его на ужин. Всеми силами Долорес старалась хоть как-то растормошить сестру – привозила ей каталоги, образцы обивочных тканей и обоев, делала вид, что не замечает ее состояния. Она даже согласилась пообедать с Нитой и Горацио в «Орсини». Нита говорила правду: ее друг действительно оказался очень занятным, и обед прошел на редкость весело. Только при Горацио Нита оживала и как бы пробуждалась от сна. К сентябрю апартаменты еще не были полностью готовы, но в них вполне можно было жить. Нита послала за детьми и няней. Остальных слуг наняла для нее Долорес. Третьего сентября она устроила обещанный Ните прием. Среди гостей были два сенатора, известная оперная певица, английский кинорежиссер. Пришел и Эдди Хэррис, который очень понравился Ните. К удивлению Долорес, приглашенный по просьбе сестры Горацио Капон очаровал, чуть ли не всех женщин, развлекая их сплетнями обо всем и обо всех. А главное – появились Бэрри Хейнз и Констанс. В ту же ночь, уже оказавшись дома, Нита позвонила сестре. – Доло… Ты так добра ко мне… А ведь мы никогда не были близки. Но ты спасла мне жизнь… Я люблю тебя. – Голос ее звучал как-то странно, и Долорес заволновалась. – Нита, у тебя все в порядке? – Да… Я приняла таблетку. Доло… ты счастлива? – Сегодня впервые за многие годы. Нита, ты говорила с Бэрри Хейнзом? – Да, очень интересный мужчина. Долорес помолчала, а потом тихо сказала: – Я по нему с ума схожу. На этот раз голос Ниты зазвучал отчетливо. – Неужели… О, Доло… Как здорово! И давно это длится? – Ничего еще между нами нет… То есть не было до сегодняшнего вечера. Бэрри сказал, что все время думал обо мне. Завтра он заглянет на чашку чая. Завтра! – О, Доло, я так рада за тебя. (обратно)Глава 15. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЧАЙ
Теперь Долорес сама жила как во сне. Чаепитие с Бэрри Хейнзом прошло довольно официально. Но однажды он зашел к ней, вечером поужинать. И они очутились в постели. Долорес об этом и мечтать не смела. Прижимаясь к Бэрри, она, как в трансе, повторяла единственное слово: люблю… люблю… люблю. Позднее, когда они сидели перед камином в ее спальне, Бэрри сказал: – Долорес, если я разведусь с Констанс, то останусь без гроша. Все принадлежит ей. – А для меня невозможен брак с разведенным мужчиной. Я католичка. Кстати, денег, чтобы содержать нас обоих, тоже нет. – Вот тебе и миллионерша! А все считают, что у тебя приличное состояние. – Я живу на тридцать тысяч в год. Конечно, дети получат несколько миллионов, когда вырастут… – Мне платят меньше – двадцать тысяч, и то не за работу, а за имя на фирменном бланке. – И это все?! – Долорес, я никудышный юрист. В моей семье все рождались политиками. Дедушка был мэром этого города. Прадедушка заседал в сенате. У мамы было состояние, но ушло на избирательную кампанию отца. Потом он умер. И… – Ты женился на Констанс. Бэрри кивнул головой. – А за кого ты выйдешь замуж? Долорес передернула плечами. – Ни за кого, я – королеваВиктория. С ней чаще всего сравнивает меня пресса. Кое-кто из английской аристократии тоже считал мои доллары. А, узнав, что я бедна, сразу исчезал. Деньги, похоже, все могут поставить на свое место. – Но мы всегда будем вместе, – торжественно заявил Бэрри. – Всегда. – И Долорес крепко обняла его. – Милый, когда я сказала тебе «люблю» – это было не в порыве страсти. Ну и пусть мы будем встречаться тайно. Я останусь легендой, а на людях буду появляться либо с судьей, либо с Майклом. Бэрри, почти два года я жила как затворница, в год траура вообще никуда не выходила и даже обедала только с детьми или со свекровью. Потом я возвращалась сюда, делала уроки с детьми, смотрела телепередачи. Мне только тридцать семь. Именно поэтому я и выхожу в свет с Майклом или с судьей. – Что ж, постарайся сохранить свое реноме, – сказал Бэрри, поглаживая ее волосы (она сняла шиньон, но, к счастью, Бэрри этого не заметил). И они снова занялись любовью, на этот раз на медвежьей шкуре перед камином. (обратно)Глава 16. ТАБЛЕТКИ
На следующее утро Долорес позвонила Ните и предложила вместе пообедать. – Только без Горацио! Посидим вдвоем, – предупредила она. Они выбрали тихий ресторанчик, и Долорес рассказала сестре о Бэрри. Нита сначала невнимательно слушала ее, а потом съехидничала: – Доло, ты как школьница. – Но, Нита, Бэрри – единственный человек, которого я когда-либо любила и люблю. – А Джимми? Долорес задумалась. – Поначалу меня очень тянуло к нему. Но вспомни, с каким пренебрежением относилась мама к ирландцам… Это, конечно, сыграло свою роль. Ведь Джимми тогда еще не был президентом. А Нельсона увела ты… – Увела Нельсона?! Долорес поспешно затянулась сигаретой, чтобы сестра не заметила, как краска залила ее лицо. – Теперь об этом можно говорить, но в девятнадцать я была безумно в него влюблена. – О боже… – Нита вздрогнула. – Да он в постели – полное ничтожество. Я знала об этом еще до замужества. Но в главном ты права – мы всегда прислушивались к мнению матери, да и не были богаты. – Выходит, ты спала с ним еще до свадьбы? – Сестричка, я впервые отдалась мужчине, а вернее, одному знакомому мальчику в пятнадцать лет. Только не рассказывай, что ты выходила за Джимми девственницей. Долорес принужденно улыбнулась. – Не так уж много у меня было любовников. (Ей не хотелось признаваться, что Бэрри – всего-навсего третий мужчина в ее жизни.) – Ты собираешься за него замуж? – спросила Нита. Долорес грустно покачала головой. – Все деньги у Констанс. Нита неожиданно разозлилась. – Ну и что? Заполучила хорошего любовника – и держись за него обеими руками. У меня и этого нет. Я недавно переспала с твоим сценаристом. Ноль – это все, что можно сказать. Болтун. Побыстрее сделал свое дело, а потом полночи читал сцены из новой пьесы. – Она зевнула. – Знаешь что, пойдем ко мне. Посмотришь, какой ковер я купила для спальни. И еще кое-что увидишь… Нита подписала счет и, поднимаясь из-за стола, привычным движением закинула в рот таблетку. Роскошь новой квартиры сестры каждый раз приводила Долорес в восторг. – О, Нита… Какие зеркала… Где ты их купила? – Их доставили из Англии. Послушай, Доло, тебе нужен муж с большими деньгами. Меха, наряды, драгоценности – вот твоя стихия. А мне плевать, где я живу, здесь или в отеле, и на наряды – тоже плевать. В этот момент зазвонил телефон. Нита схватила трубку. – Это Горацио… Доло, иди в спальню, там найдешь два костюма от Валентино, они мне немного великоваты. Примерь. Если подойдут, возьми себе. Долорес, как девочка, впорхнула в спальню, подскочила к огромному, во всю стену, платяному шкафу. Какие у Ниты шубы! Костюмы от Валентино висели отдельно. Она достала их и по очереди натянула на себя. Прелесть! Подошли, будто на нее сшиты. Навертевшись вдоволь перед зеркалом, она нехотя переоделась в собственный костюм и присела на краешек кровати. Огонек на табло внутреннего телефона еще горел, значит, Нита разговаривает… Вспомнилось, как она заново обставляла резиденцию Джимми в Белом доме. Затраты тогда ее не волновали. Деньги… деньги… деньги… Никуда от этого не денешься. Будь она богата, брак с Бэрри стал бы возможным. У нее вдруг разболелась голова. Надо, наверное, принять аспирин… Открыв в ванной шкафчик с медикаментами, Долорес застыла в изумлении. Он был буквально забит коробочками, пакетиками со снотворным. Красивые таблетки: желтые, двухцветные (такие принимал Джимми, когда нужно было хорошенько отоспаться). Потом она увидела флакон с белыми пилюлями «фено», которые постоянно принимала Нита, потянулась, чтобы взять одну… Как сказал врач, с которым Долорес консультировалась после приезда Ниты, обеспокоенная состоянием сестры, одна-две таблетки «фено» в день не могут причинить вреда. Но на этикетке стояло другое название – «демерол». Долорес прекрасно знала действие демерола. Ей давали этот наркотик после смерти первых близнецов. И тогда она будто парила в сумерках, не ощущая ни боли, ни сожаления, ничего… Боже, неужели Нита все время это принимает? Вот откуда ее сомнамбулическое, отсутствующее состояние. Долорес побежала в гостиную, где Нита, свернувшись в клубочек на диване, хихикала над остротами Горацио. Долорес достала у нее из сумочки флакон с таблетками, вытряхнула одну, делая вид, что собирается принять. Нита, как пантера, бросилась к сестре. – Что ты делаешь? – У меня болит голова. Нита стремительно выхватила флакон. – Это не от головной боли. – Дрожащей рукой она позвонила в колокольчик, вызывая горничную. – Принесите аспирин миссис Райан. (обратно)Глава 17. СПЛЕТНИ
Прошло два дня после визита Долорес и сестре. Она сидела после обеда у телевизора, когда появился взволнованный Бэрри с газетой в руках. – Ты это видела? Долорес покачала головой. – Я никогда не читаю сплетен, – сказала она. (Это была явная ложь, но в сегодняшние газеты Долорес действительно не заглядывала.) – Послушай: «Догадайтесь, какая известная своей неприступностью дама вступила в связь с красивым мужем очень богатой женщины? Поскольку любовники принадлежат к правительственным кругам, они, встречаясь поздними вечерами, наверное, говорят лишь о политике». – Ну, догадываться можно сколько угодно, – заметила Долорес. – Речь идет о нас. – Знаю, но Констанс никогда этому не поверит. – Меня волнует не Констанс. Откуда о нашей связи узнали газетчики? На людях мы никогда вместе не появлялись. Твоя прислуга обычно спит, когда я прихожу… Долорес источник сплетен был известен: она говорила о своих отношениях с Бэрри только сестре. Неужели Нита стала такое рассказывать репортерам? А если Горацио? О боже… только не это! Но придется все проверить. – Я сама докопаюсь до сути, – успокаивала она Бэрри. – Похоже, я знаю, откуда это вышло… И постараюсь немедленно заткнуть им рот. Отправляйся домой. Увидимся завтра вечером. На следующий день, обедая с Нитой, она как бы невзначай обронила: – Я порвала с Бэрри. – Три дня назад ты по нему сходила с ума! – Вчера меня навестил Эдди Хэррис. Мы переспали. Нита, ты не права – он очарователен. – В искусстве любви он смыслит мало и слишком много говорит. Но он не женат… – О, я не могу выйти замуж за Эдди Хэрриса! – А почему бы и нет? Если заскучаешь, он прочтет тебе свой очередной сценарий… Долорес улыбнулась. – Вчера он читал стихи, написанные для меня и посвященные мне. Жаль, что брак с ним невозможен. Он разведен – церковь этого не одобрит. Через два дня в колонке сплетен был опубликован еще один намек: «Наша знаменитая недотрога, похоже, вполне доступна. Теперь она бросила чужого мужа и заменила его разведенным сценаристом». Долорес немедленно набрала номер сестры. – Зачем ты это сделала? Объяснение сестры прозвучало весьма туманно. – Ты имеешь в виду те костюмы, которые я послала? Они велики и… – Я их получила и благодарю. У бедных родственников не может быть гордости. Но я говорю о колонке сплетен. Там намек и на меня, и на Эдди. – Ну… тебе это не повредит. – Ты проболталась? – Нет! – Неправда! – Доло, клянусь, я рассказала только Горацио… – Ты рассказала ему и о Бэрри… – Может быть… не помню… Свои таблетки я запиваю во время обеда вином. А потом плаваю… и не знаю, что говорю. – Ты принимаешь не «фено», а демерол. Зачем? – Я… повредила спину, катаясь на лыжах, и не могу без этих таблеток обойтись. – Что ты с собой делаешь? – Стараюсь жить, как ты, но ежедневно любовников не меняю, – отпарировала сестра и бросила трубку. Ее состояние встревожило Долорес больше, чем сплетни. Она так ждала приезда сестры, радовалась возникшей между ними близости. Теперь же она поняла, что сама придумала эту близость. Сестра одурманивала себя наркотиками, и доверять ей нельзя было ни на йоту. Только Бэрри Хейнз – вот кто был по-настоящему близок ей. Долорес по-прежнему старалась соблюдать приличия, прилежно посещая рауты, концерты, спектакли в сопровождении Эдди Хэрриса, судьи или Майкла. Сплетни о ее якобы слишком близких отношениях с братом покойного мужа давно перестали волновать не только саму Долорес, но и всех остальных. Зато когда она оставалась наедине с Бэрри, для них переставал существовать весь мир. (обратно)Глава 18. ЛЮБОВЬ
Прошел год, а Долорес пылала к Бэрри такой же страстью, как и в первые дни. Подобных чувств она не испытывала ни к Джимми, ни к Эдди Хэррису; первому она была женой, матерью его детей, вторым просто командовала. Эдди обожал ее и согласен был оставаться для нее просто другом. С удовольствием появлялся на людях с красавицей невесткой и Майкл. Его жена Джойс считала Долорес занудой и снобкой, но семья, по ее мнению, обязана была оказывать невестке надлежащее внимание. Нита за это время дважды побывала в Лондоне. Нужно было соблюсти хотя бы внешние приличия в отношениях с мужем, но помириться с бароном, на что она втайне рассчитывала, ей не удалось. – Эрик не хочет иметь со мной ничего общего. – Она, рыдая, уткнулась Долорес в плечо. – Я на коленях умоляла его. Но ему никто не нужен, кроме старухи балерины. – Нита, – пыталась успокоить сестру Долорес, – ты, наверное, забыла, что Эрику уже шестьдесят один. Он стареет и понимает, что не способен удовлетворить тебя, молодую красивую женщину. А Людмиле больше пятидесяти, и она принимает его на любых условиях. – Я тоже приняла бы его на любых условиях. Все же через какое-то время Нита стала спокойнее, нашла новых друзей, завела сразу нескольких любовников. Обедала она обычно с Горацио, но изредка, вся в слезах, появлялась у Долорес, тоскуя о бароне… У Долорес все шло своим чередом. Она по-прежнему жила довольно уединенно, и любое ее появление на людях считалось в обществе событием. Даже если она обедала где-нибудь с Бриджит, у ресторана обязательно оказывались репортеры. С Бэрри Хейнзом она встречалась теперь почти ежедневно. Иногда он просто забегал выпить или пообедать. Но главное – три ночи в неделю они были вместе. Констанс верила, что муж посещает еженедельные собрания юристов, а по ночам играет с друзьями в сквош и покер. Честно говоря, не очень-то все это ее волновало. Констанс сама проводила целые ночи за картами, имела массу друзей, занималась благотворительностью, зиму она всегда проводила в Палм-Бич. Любовникам зима доставляла и радости, и огорчения. Да, они часто бывали вместе, но на уик-энды и праздники Бэрри был вынужден улетать в Палм-Бич. Особенно остро Долорес ощущала свое одиночество, когда наступали Рождество и Новый год. Бэрри искренне привязался к близнецам и особенно к Мэри Лу. Он учил их жарить кукурузу на огне, успевал до отъезда нарядить елку. К дочери Долорес с некоторых пор стала испытывать странное чувство. Девятилетняя Мэри Лу выглядела гораздо старше своих лет. У нее под халатиком уже видны были поднимающиеся холмики грудей. Когда она забиралась на колени к Бэрри, Долорес с трудом скрывала раздражение. Через несколько лет она станет красавицей. Свои отношения с Бэрри Долорес удавалось умело скрывать от детей и слуг. В десять вчера она делала вид, что провожает его, но через пятнадцать минут опять подходила к двери, якобы посмотреть, не принесли ли газеты, и Бэрри тихо проскальзывал обратно. Поднимался он в шесть утра, чтобы исчезнуть, пока дом еще спит, и ехал к себе, а оттуда – на службу. В девять утра он звонил Долорес, будил ее словами любви. «А почему бы нам не пожениться?»– этот вопрос все чаще не давал ей покоя. При должной бережливости они вполне смогут прожить на его двадцать и ее тридцать тысяч. Ох, если бы Бэрри удалось получить развод. (обратно)Глава 19. СЕСТРЫ
Весной Нита снова решила ненадолго съездить в Лондон. На этом настаивал Нельсон, который хотел повидаться с детьми. Перед отъездом она снялась у известного фотографа, и этот снимок вот-вот должен был появиться на обложке журнала «Мода», выходившего в Нью-Йорке и Париже. – Представляешь, какая реклама для меня! – радостно рассказывала она Долорес. – Это так важно? – Раньше бы нет. Когда-то я была одной из признанных красавиц. Теперь – всего-навсего твоя сестра. Если смотреть правде в глаза, то именно поэтому я пользуюсь успехом. Везде только о тебе и говорят и просят привести с собой тебя. Одна мадам (она занимается моделированием одежды для светских бездельниц) предложила мне целый ворох нарядов бесплатно, если я уговорю тебя принять приглашение на ужин. Сегодня у нас встреча, и я нисколько не сомневаюсь, что она опять начнет приставать. – Не ходи, зачем тебе это? Нита пожала плечами. – Понимаешь, как бы я ее ни презирала, в ее доме собираются интересные люди. Она коллекционирует знаменитостей. Все они говорят о хозяйке гадости, не уважают ее, но тем не менее приходят. Смешно, правда? А еще там очень легко закрутить очередной роман. – Нита, меня всерьез пугает твоя неразборчивость. – Раньше я такой не была, хотя потеряла девственность уже в пятнадцать лет. Из любопытства. В Лондоне я была личностью, несмотря на всех любовниц Нельсона. Мне нужны романы, чтобы вернуть уверенность в себе. Здесь, в Нью-Йорке, я – ничто, звезда – ты. – Нита, ты же умница и понимаешь, что так получилось из-за Джимми. – Поначалу – да. Но твой муж-президент уже четыре года в земле. А твоя популярность растет. Ты стала национальным символом, богиней, если хочешь. Очень одинокой богиней, которая все время отдает своим детям. Для всей Америки ты – красавица, королева – таинственная, гордая, недосягаемая… А я с моими фантастическими драгоценностями и тряпками остаюсь лишь твоей сестрой. Тобой очарована и вся Европа. Думаешь, Нельсон так уж по мне истосковался? Он хочет, чтобы ты приехала! – А что, наверное, смогу. – Эти слова Долорес произнесла почти отчаянно. (Скоро Пасха, и Бэрри отправится в Палм-Бич. Снова долгие дни одиночества.) – Нет, я поеду одна, – резко запротестовала Нита. – Ты знаешь, почему я терплю возле себя этого подонка Горацио? – Полагаю, он развлекает тебя. – Нет, он такое же ничтожество, как и все остальные. Но с ним можно пойти в «Перл», «Элани» и в другие места, где всегда весело. – Нита нервно затянулась сигаретой. – Осточертели одни и те же лица, да и на меня перестали обращать внимание. А Горацио, с его глупыми смешками, потными руками, пьяной физиономией, относится ко мне как к знаменитости. Кстати, он не выносит тебя. Говорит, что ты зазнайка. – Слава богу, что мне не нужно нравиться Горацио Капону. – Ох, да плевать мне на него! – В глазах Ниты появились слезы. – Доло, моя жизнь разбита. У меня ничего и никого нет. Она внезапно обняла сестру и разрыдалась. Долорес гладила ее волосы, успокаивала, как ребенка. – Все у тебя есть, Нита. Во всяком случае, многое, за что нужно быть благодарной судьбе. Есть муж – разве этого мало? Допустим, твой брак нельзя назвать идеальным, но, случись что-нибудь или заболей дети, он немедленно будет рядом. А положение в обществе, деньги, возможность уезжать и приезжать куда и когда захочешь? – Да, но я всего лишь сестра Долорес Райан! – Нет же, нет! Ты леди Брэмли и очень красива. Намного красивее меня. Ты просто слишком долго пробыла с Горацио. Нита попыталась улыбнуться сквозь слезы, а Долорес торопливо говорила: – Дорогая сестричка, я никогда не просила тебя об одолжении. Но, пожалуйста… пожалуйста… возьми меня в Лондон. Я не буду нигде появляться, кстати, и не в чем. Но хочется устроить детям настоящие пасхальные каникулы. Им так одиноко без отца. Мы проведем время в твоем загородном доме. – Представляю, – усмехнулась Нита, – как уже в аэропорту на нас набросятся репортеры. Потом придется дать в твою честь прием, где соберется вся лондонская знать. А я еду с одной целью – повидаться с Эриком. Прошло столько времени, и он, может быть, захочет встретиться. – Но ему уже шестьдесят два, и… – Ну и что? Такие мужчины, как Эрик, способны наслаждаться сексом и в восемьдесят. Доло, неужели ты не понимаешь, что мое возвращение даст нам возможность начать все сначала? Как раз близится его день рождения. Я пошлю ему подарок. Найду его где угодно – не в Лондоне, так в Париже или в Риме. Говорят, что его новый лайнер «Эрика» уже спущен на воду. – Да, я читала об этом. «Таймс» пишет, что он заменил все палубы. На лайнере семь люксов, десять спален, три салона, танцевальный зал, бассейны на палубе и внутри, есть даже каток. Невероятно, но твой Эрик – единственный человек в мире, который имеет в своем распоряжении такое чудо. – Это правда, Доло, но в Лондон я взять тебя не могу. Нам придется везде появляться вместе. Это, конечно, привлечет ко мне внимание. Отбоя не будет от приглашений. Но – из-за тебя. Понимаешь? Моя фотография появится в «Моде» как раз вовремя. А если приедешь ты, то просто украдешь у меня мой звездный час. Долорес сидела рядом с сестрой и держала ее за руку. – Послушай, Нита, если ты действительно любишь Эрика, может, лучше не навязываться ему? Сестра рассмеялась. – Ты, похоже, наловчилась давать советы в любви… – Нет, наверное. Но даже я знаю, что любой мужчина сразу старается сбежать, если женщина начинает его преследовать. Европейские женщины потому и считаются прекрасными любовницами, что знают, когда нужно отпустить поводья. – Легко тебе рассуждать, – тихо сказала Нита, и на ее глазах опять появились слезы. – А знаешь ли ты, что такое бессонница и неотступные мысли об одном-единственном? По-твоему, Эрик, конечно, урод. Но, Доло, когда он входит в комнату, я слабею. Не могу думать ни о ком другом. – Когда ты едешь? – спросила Долорес. – На следующей неделе. Скажи, что можно подарить человеку, у которого есть все? – Эрику? – задумалась Долорес – Не знаю. – И не можешь знать. Ты ведь ледышка, Доло. Мы всерьез никогда не были близки и совсем не знаем друг друга. – Почему ты решила, что я ледышка? – А что у тебя вообще было – и с Джимми, и после его смерти? Вспомни! Муж твоим до конца никогда не был, менял любовниц одну за другой. Потом у тебя появился шанс завести роман с одним из самых привлекательных мужчин. Я имею в виду Эдди Хэрриса. Ты прошла мимо. Он теперь с голливудской кинозвездой. Ты оттолкнула Бэрри Хейнза… Скажи, чем ты вообще занята? – Обедаю раз в неделю с Бриджит. Тимоти совсем плох. Для нее было бы лучше, если бы он умер. Тяжело смотреть, как старика поднимают и опускают в инвалидную коляску, слышать его стоны. И, представляешь, к ним мне придется отвезти на Пасху детей. – Долорес помолчала. – Нита, скажи, ты все еще принимаешь демерол? – Да, когда чувствую себя совсем несчастной. Но вот уже третий день не пью. Хочу встретить Эрика с ясной головой. – Я верю, что вы будете вместе, если ты, конечно, хочешь этого. – Значит, ты так ничего и не поняла. – Да нет же. По-моему, он, несмотря на все титулы, понятия не имеет о настоящих чувствах, о любви. Нита резко поднялась. – Ну что ты вообще об этом знаешь? Попробуй хоть переспать с кем-нибудь там, в Вирджинии. И, пожалуйста, Доло… Пожелай мне удачи. (обратно)Глава 20. НАЖИВКА
После отъезда Ниты Долорес впала в настоящую депрессию. Зимой пусть не часто, но сестры встречались – обедали вместе, вели долгие беседы. Между ними даже возникла какая-то близость. Но теперь все стало на свои места. Долорес поняла, что Нита никогда ее не любила. Как это тяжело – быть одной. И ни одного близкого человека рядом. Хотя, может быть, это и неправда. Ее любят дети. И Бэрри. Сегодня он придет в последний раз и уедет с Констанс на три недели в Палм-Бич. Долорес пробыла в Вирджинии только два дня, когда пришла телеграмма от Ниты: «Приезжай ко мне скорее. С детьми или без них. Захвати все вечерние туалеты. Об остальном я позабочусь. Ты мне нужна. Пожалуйста, поторопись». Бриджит, прочитав телеграмму, озабоченно посмотрела на Долорес. – Ходят слухи, что муж изменяет твоей сестре. Но я считала, что между ними существует определенная договоренность. Бедная девочка, похоже, попала в беду. Поезжай немедленно. – Ох, боюсь, будут проблемы с паспортами детей. – Оставь их здесь, – спокойно предложила Бриджит. – Ты хорошая мать и четыре года провела в одиночестве. Я знаю, что это такое… Подумай теперь немного о себе, отдохни как следует. Детям здесь нравится. Джойс, как наседка, квохчет над своими и над твоими. На следующей неделе появится Бонни со своим выводком, а чуть позже Анна и Беатрис. Нянек будет более чем достаточно. Не думай. Собирайся в Лондон. Перед отъездом Бриджит сунула невестке конверт. – Купи себе духи и красивое платье. В конверте Долорес обнаружила две пятисотдолларовые бумажки. Она купила два вечерних туалета, уложила в чемодан все свои лучшие платья, не забыв о брюках и теплых свитерах. Что там, у Ниты случилось? Эта мысль не давала ей покоя. Неужели Нельсон узнал об Эрике? Может быть, она опять наглоталась таблеток и проговорилась? Боже… Муж может выгнать ее. Ведь ясно, что с Эриком у сестры ничего не вышло. Иначе не было бы телеграммы. Охранники проводили Долорес к самолету еще до того, как была объявлена посадка. Стюардесса никому не позволила сесть рядом и даже оставила пустыми кресла напротив. Никто не смел тревожить покой миссис Райан. Долорес включила телевизор, смотрела какой-то фильм, много ела. Но все ее мысли занимала Нита. Неужели сестра рассказала об Эрике этому сплетнику Горацио? Нет, скорее всего, нелады с мужем, которого Нита всегда считала обузой, несмотря на то, что носила имя леди Брэмли и пользовалась его огромным состоянием. Увидев Нельсона рядом с Нитой на летном поле, Долорес облегченно вздохнула. Значит, между ними все в порядке. В ее паспорт чиновник глянул прямо у трапа. – Теперь мы сможем улизнуть от репортеров, – объяснил Нельсон. Через несколько минут они уже мчались в Лондон в его лимузине. Слуга лорда Брэмли остался, чтобы позаботиться о багаже гостьи. – Как давно я здесь не была, – вздохнула Долорес, глядя на мелькавшие в окне дома, площади, мосты. – Молодец, что приехала. – Лорд Брэмли не скрывал удовлетворения. – У вас в Штатах еще день, а у нас – уже девять вечера. Завтра поспишь дольше, чтобы не ощущать разницу во времени. Визиты и приемы начнутся послезавтра. А потом будет бал в нашем загородном имении. – Мы остановились в городской квартире, – добавила Нита. – Я решила, что ты захочешь немного побыть в Лондоне. Посетишь наши модные ателье, слетаем в Париж. Барон Эрик де Савонн обещал дать свой самолет. Он будет присутствовать на балу. – Ните нравится барон, – сказал Нельсон, прикуривая сигарету. – Я же нахожу его чертовски скучным. Впрочем, как и его приятельницу. Моя женушка обожает окружать себя исключительными личностями. А как вы думаете, дорогая свояченица, двадцать миллиардов могут сделать необыкновенной личностью любую посредственность? – Не говори глупостей, – засмеялась Нита. – Знаешь, наш бал будет настоящим парадом графов, принцев, герцогов для всяких знаменитостей. Мы пригласили Ротшильдов. Обещали приехать Мария Каллас и Мелина Меркури. Прилетит Регина… И, конечно же, – она лукаво прищурилась, – не забыты и богатые холостяки… Долорес откинулась на спинку сиденья. Она поняла все. Нита снова заполучила Эрика и решила отметить это событие. А ее, Долорес, она использует в качестве приманки. Дом лорда Брэмли уже осаждали репортеры, полиция изо всех сил старалась удержать их на расстоянии. Это напоминало разгон демонстрации. Но когда Долорес вышла из машины, газетчики, прорывая заслон, ринулись к ней. Когда на ее лицо нацелились телекамеры, она улыбнулась, легонько кивнула и тихо сказала: – Я приехала к сестре… Ее голос вдруг сорвался, и она сама удивилась неожиданно появившимся слезам. Здесь они были вместе с Джимми… Тогда он был живой, смеющийся, молодой. И вот уже четыре года, как он в земле. Уже нет его глаз, его улыбки. Без него растут и взрослеют дети. Продолжается жизнь… Она опустила голову и быстро пошла за Нельсоном и Нитой. (обратно)Глава 21. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Городской дом Ниты оказался настоящим дворцом со множеством огромных комнат. Повсюду сновали слуги. Они выстроились в две шеренги, приветствуя гостью. Нельсон предложил сестрам по рюмочке «шерри», потом поднялся и сказал: – Надеюсь, меня не сочтут невежливым. Но уже почти одиннадцать, а завтра – масса дел. Я оставлю вас. Он чмокнул Долорес в щеку, потом так же небрежно попрощался с Нитой и ушел. Некоторое время они молчали. Долорес разглядывала высокие потолки, гобелены, картины английских пейзажистов. Наконец Нита сказала: – Моя телеграмма тебя удивила, верно? – Это был приятный сюрприз, – ответила Долорес. – Но вначале я испугалась, не случилось ли что-нибудь страшное. – Она сладко потянулась. – Нита, как здесь хорошо. Я так хочу встряхнуться – побывать в театрах, потихоньку пробежаться по магазинам. Я слышала, что у вас появился великолепный модельер – Tea Портер. – Дорогая, у королевы Англии больше шансов остаться незамеченной, чем у тебя. Завтра твои фотографии появятся на первых страницах всех лондонских газет и журналов. Но к Tea мы съездим вместе. Нита поднялась. – Думаю, что твоя горничная Агнес уже распаковала вещи. Пойдем в твою спальню и вдоволь наговоримся. – Скажи, у тебя все нормально? – спросила Долорес. – Дети здоровы. Нельсон переживает переходный период – от одной любовной связи к другой. Демерол больше не пью. Сумела справиться. Со мной все в порядке. Как любят говорить в Штатах, я собралась… Войдя в спальню, Долорес замерла от восхищения. Роскошная мебель, камин, серебряный прибор для чая, блюдо с бутербродами на маленьком столике. И здесь же готовая услужить Агнес. – Я все распаковала, мадам. На тумбочке – колокольчик. Звоните, если что-нибудь понадобится. Я позволила себе забрать ваши платья в утюжку. Они будут готовы к утру. – Агнес это делает мастерски, – сообщила Нита. – Извините, а когда прибудет багаж? Здесь только два чемодана и сумка. – Миссис Райан специально приехала налегке, – перебила служанку Нита, – чтобы сделать покупки в Лондоне, Париже и Риме. Ты свободна, Агнес… Я разолью чай сама. – Мадам, Миртл хотела бы знать, понадобится ли она вам. – Нет, пусть ложится спать. Агнес сделала глубокий реверанс и удалилась. – Миртл – моя горничная, – пояснила Нита. – Выпьешь чаю? – С удовольствием, – сказала Долорес, подсаживаясь к столику. – Какая прелесть эти бутерброды с огурцами! Я чертовски голодна. – Разве ты не обедала в самолете? – Да, но несколько часов назад. Не забывай, у нас еще только восемь вечера. – Доло, тебе следует похудеть. Долорес откусила чуть ли не половину бутерброда и откинулась в кресле. – А тебе поправиться. В дверь легонько постучали. Появился дворецкий с телеграммой на подносе и с поклоном подал ее Долорес. – Совсем как в Белом доме, – заметила Долорес. – Мне поначалу казалось, что нужно давать чаевые. – Кто это так быстро соскучился? – Наверное, Бриджит сообщает, что с детьми все в порядке. Пробежав глазами текст, Долорес опустила голову, чтобы скрыть охватившее ее волнение. Телеграмма была от Бэрри: «Приезжал на два дня. Узнал, что ты уехала. Возвращаюсь в Палм-Бич. Скучаю. Люблю. Б.» Долорес хотелось прижать этот листок к сердцу. Внезапно она пожалела, что уехала. Целых два дня они могли провести вдвоем. Предлог удрать из Вирджинии, конечно, нашелся бы – заболел зуб, выпала пломба. Бриджит легко обмануть. Долорес понимала, что сестра наблюдает за ней, и поспешила улыбнуться. – Заскучал Бэркли Хаузмен… Это один новоиспеченный сенатор, который пытается ухаживать за мной. Бедняга приехал из Вашингтона, а меня нет. Но едва Долорес смяла телеграмму и бросила на столик, как Нита тут же схватила ее. – Очень он нежен, твой новый поклонник… А почему он подписался буквой Б.? А не фамилией? – Хотел, наверное, оградить меня от сплетен, если кто-то из слуг прочтет. Ему тридцать два. Не представляешь, какой зануда! За мной ухаживают только такие. Ни Роберта Редфорда, ни Джорджа Скотта среди моих обожателей нет. – Тебе нравится Джордж Скотт? – спросила Нита. – Ах, никто мне не нравится. Просто я восхищаюсь его талантом, – с досадой ответила Долорес. – Ну, красавцем Скотта не назовешь. – Сестра упорно продолжала неприятный для Долорес разговор. – Конечно, нет. Можно ли быть красавцем, если тебе несколько раз ломали нос. – Откуда ты знаешь? – Где-то прочитала. Я вообще много читаю, сестричка. – Не думаю, что Эрик выглядит более грубым, чем Джордж Скотт. – Да оставь, ради бога, бедного мистера Скотта в покое. Скорее всего, он сейчас лежит в объятиях своей прелестной жены. Нашла о чем говорить! – Потому что я хочу говорить об Эрике. Долорес зажгла сигарету. – Не возражаю… Давай. – По-твоему, Эрик – мужлан. – При чем тут мое мнение об Эрике? – Он хочет жениться на тебе. (обратно)Глава 22. ОТВЕТ
От неожиданности Долорес выронила сигарету, но мгновенно подхватила ее и сдула пепел с ковра. – Ужасно, что нельзя курить на людях, – лепетала она, понимая, что несет чушь, не смея встретиться с ледяным взглядом сестры. – Мне Джимми запретил курить в общественных местах… – Не ломай комедию, – процедила Нита. – Повторяю: Эрик хочет на тебе жениться. – Но я вовсе не собираюсь выходить замуж за твоего Эрика. Мне он неприятен. – Ты же его совсем не знаешь! – Почему? Мы встречались раза три, если не ошибаюсь. Этого вполне достаточно. – Я хочу, чтобы вы поженились. – Зачем? Ты ведь любишь его! – Да, но мне его никогда не заполучить. Он действительно не знает, что такое любовь. Какие-то чувства к Людмиле у него, может быть, и есть, они вместе уже очень давно… Но, по-моему, и к ней Эрик относится как к старой любимой туфле.— Помолчав, она продолжала:– Недавно я провела целый вечер с этим подлецом. Он разрешил мне признаться, что жить без него не могу. Принял подарок – портсигар из платины. А потом… Потом он погладил меня по голове и сказал: «Малышка, я не люблю тебя. Но в твоих силах дать мне то, о чем давно мечтаю». Доло… Я наклонилась вперед, готовая сдаться на любых условиях. А он заявил: «Хочу жениться на твоей сестре». Я, конечно, разрыдалась… А знаешь, что еще сказал этот мерзавец, утешая меня? «В деньгах, моя прелесть, ты не нуждаешься. У лорда Брэмли их предостаточно. Но своего состояния у тебя нет. Поэтому ты вынуждена закрывать глаза на любовные интрижки супруга и играть роль верной жены, хотя и не любишь его. Если уговоришь сестру выйти за меня замуж, получишь пять миллионов долларов». – Зачем я ему нужна? Нита грустно покачала головой. – Не знаю. Но подумай над этим, Доло. Какую жизнь ты ведешь! Сидишь одна вечерами, ходишь на прогулки с детьми, обедаешь с Бриджит и благодаря моим подаркам считаешься элегантной женщиной. Каникулы – на ферме, лето – в Нью-Йорке плюс пять-шесть вылазок на люди с Майклом или судьей. – Прости, но я не могу даже представить, что он когда-нибудь дотронется до меня. – Долорес вздрогнула от отвращения. – Доло, он отличный любовник – ласковый, внимательный, страстный. Подумай. У тебя будут деньги. Свой океанский лайнер, собственный самолет… Такая жизнь тебе и в Белом доме не снилась. Эрик сказал, что положит к твоим ногам весь мир. Плюс огромную сумму по брачному контракту. – Брачному контракту? – У него четверо сыновей. Завещание они способны опротестовать в судебном порядке. На это уйдут годы. А так ты сразу, когда вы поженитесь, получишь пять миллионов, которые даже налогом не облагаются. Если в будущем дело дойдет до развода, ты их оставишь себе и получишь еще столько же в качестве компенсации за моральный ущерб. Понимаешь, что это значит? Десять миллионов плюс драгоценности. Если вы останетесь вместе, ты получишь все, чего бы ни пожелала. – Кроме любви. – А была ли она у тебя? Сама знаешь, как вел себя Джимми. Все знали. Охрана отворачивалась, когда приятели таскали к нему в отель девок во время служебных поездок. В дом № 1600 на Пенсильвания-авеню, как к себе домой, заявлялись шлюхи. Ты его никогда не любила, Доло. А я… Я тоже получу пять миллионов и смогу бросить сукиного сына Нельсона. Возможно, потом я встречу кого-нибудь и полюблю. Женщина с пятью миллионами может менять мужчин, как перчатки. Долорес покачала головой и еле сдержалась, чтобы не схватить скомканную телеграмму. – Нет, Нита, нет! Прости… Не могу. (обратно)Глава 23. ШУБЫ
Нита не оставляла сестру в покое, уговаривая ее, умоляя, а то и просто шантажируя. – Я не пришлю тебе больше ни одного платья и никогда не одолжу денег. Долорес стоически молчала. На бал к супругам Брэмли Эрик де Савонн приехал без Людмилы и несколько раз танцевал с Долорес. Высокий, хорошо сложенный, барон тем не менее выглядел на свои шестьдесят два, хотя она не могла не признать, что в нем чувствовалась животная мужская сила, которая так влечет к себе женщин. Эрик очень неплохо смотрелся бы в качестве сопровождающего, когда приходится бывать, скажем, на приемах, но как муж… Долорес посмотрела на его огромные руки и задрожала, представив себе, что они будут прикасаться к ее телу. Она была безумно влюблена в Бэрри, и только в Бэрри. После третьего танца барон с улыбкой сказал: – Говорят, на мое предложение вы ответили отказом? – Не в моих правилах принимать такие предложения без любви… И через вторые руки. – Вы – не деловая женщина. А я-то всегда считал, что американцы умеют делать деньги. – Да, но бизнес у нас не имеет отношения к браку. Во всяком случае, мы предпочитаем думать, что любовь и семья – часть американской мечты, – она кокетливо рассмеялась. – Конечно, иметь деньги тоже неплохо. – А у вас они есть? – Хватает. – У меня другая информация. Не только от вашей сестры, но и от моих юристов. Как может красивая женщина с тремя детьми прожить на тридцать тысяч в год? Я могу дать вам на меха гораздо больше в течение одного дня. – Неужели вы влюбились в меня? – А кто говорит о любви? Ошарашенная этим признанием, Долорес даже сбилась с такта. – Зачем же вы добиваетесь этого брака? – Есть свои причины… Думается, у вас они тоже должны быть. – Для меня деньги, которые вы готовы дать, конечно же, целое состояние. Барон понимающе кивнул, а Долорес продолжала: – Но почему выбор пал на меня? – Я надеюсь стать президентом Франции. Она не могла сдержать изумленного возгласа. Как он это произнес – холодно и по-деловому, даже не пытаясь солгать, что она ему не безразлична. Зная, что присутствующие наблюдают за ними, Долорес постаралась улыбнуться. – И, женившись на мне, вы этого добьетесь? – Я был однажды женат. Потом развелся. Снова женился. Жена умерла. Много лет я живу с любовницей. Об этом знают все, она хороша собой и талантлива. Но брак с вами в корне изменит мое общественное положение. Обожаемая всеми вдова самого популярного президента Соединенных Штатов выходит замуж за барона Эрика де Савонна. Это потрясет мир! Долорес принужденно рассмеялась. – Значит, ваша конечная цель – стать президентом Франции? Но женой президента я уже была. – И вы имели деньги? Собственный океанский лайнер… Имения в любом уголке мира… Драгоценности, о которых можно только мечтать… Да, вы были первой леди могущественной державы. Но это в прошлом. Последние несколько лет, и смею заметить – лучшие в вашей жизни, вы просто прозябали. Долорес попыталась придать своему лицу бесстрастное выражение. – Вы забываете о вещах, не менее важных. – Надеюсь, не любовь имеется в виду? – Нет. Моя вера. Я – католичка, может быть, не самая ревностная, но это помогает мне жить и воспитывать детей. Брак с вами для меня невозможен. Даже если бы я и хотела выйти за вас замуж, ничего не получится. Моя религия не признает расторжение брака, а вы были разведены. – Скажите «да», и мой прежний брак будет признан недействительным. Я могу сделать все. (обратно)Глава 24. САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ
Прилетев в Нью-Йорк, Долорес опять окунулась в свое одиночество. Констанс уговорила Бэрри совершить морскую прогулку на яхте ее подруги, и он появился лишь через неделю, дочерна загорелый и еще более красивый. Долорес едва сдержалась, чтобы не кинуться ему на шею, когда Мэри Лу и близнецы прыгали от радости, снова увидев дядю Бэрри. Ужин, казалось, тянулся бесконечно. Долорес сидела и смотрела, как ел ее проголодавшийся возлюбленный. Сама она даже не притронулась ни к чему. Наконец они остались одни. Какое это было счастье! Устав от любви, они курили, и Долорес не отрывала глаз от лица Бэрри, содрогаясь при одном воспоминании об Эрике. Это и есть любовь – всю себя отдать другому человеку, раствориться в нем, подчинить ему волю, чувства, желания. Все остальное не имело значения. И вдруг Бэрри вскочил и начал быстро натягивать на себя одежду. – Куда ты идешь? Уже почти полночь. – Домой. Долорес смотрела, ничего не понимая. – Бэрри, любимый, я сделала что-то не так? Мы не были вместе четыре недели и… Он нежно привлек ее к себе. – Не волнуйся. Я люблю тебя. Дни разлуки были для меня пыткой. Вокруг были одни и те же лица, но я видел только тебя… и твоих детей. У меня своих уже не будет – у Констанс начинается климакс. То ее в жар кидает, то беспокоит сильное сердцебиение. Она не хочет в это верить и приехала со мной, чтобы показаться специалистам. Мне сегодня нужно вернуться. На покер целую ночь не спишешь. – Я так надеялась, что она проведет в Палм-Бич весь апрель. Бэрри продолжал одеваться. – Так всегда и было, но Констанс пожелала лечь в клинику на обследование. Ей нравится играть роль дамы с камелиями. – Значит, я тебя не увижу до… – Я загляну завтра, а в среду сошлюсь на совещание и поздний ужин с коллегами. – Любимый мой! – Долорес накинула халат и проводила Бэрри в переднюю. На пороге она внезапно прижалась к нему. – Без тебя мне так одиноко. – Долорес, не придумывай. – Это правда. Я ни с кем не была по-настоящему близка. С матерью доверительные отношения не сложились, с сестрой мы не ладили. Казалось, зимой мы даже подружились. Но это не так. Вокруг Ниты всегда вертелись неприятные мне люди. Детям я нужна тогда, когда им хочется сходить в зоопарк, погулять в парке, заняться французским. Мэри-Лу больше интересуется подружками, любит у них ночевать, а близнецы заняты друг другом. Получается, – она улыбнулась, – что ты единственный близкий мне человек. – Нет, моя прелесть, нельзя так относиться к своему окружению. Присмотрись и увидишь, что немало людей искренне любят тебя и хотят узнать поближе. Долорес расхохоталась. – И что остается делать? Выйти с табличкой: «Добрая, искренняя, но слегка подержанная вдова президента ищет дружбы»? Бэрри тоже залился веселым смехом. – Ты мне очень напоминаешь Грету Гарбо. Отгораживаешься стеной от мира, а он тебя боготворит. Такой же мне двадцать лет назад казалась Грета. А когда мы познакомились, выяснилось, что у нее великолепное чувство юмора и она легко идет на общение. Вот и представь себе, сколько она потеряла в жизни. – А может быть, и нет. Наверное, в жизни великой Гарбо тоже был свой Бэрри Хейнз. В твоих объятиях я чувствую себя самой счастливой женщиной в мире. И мне никто не нужен. (обратно)Глава 25. ЯХТА
Назавтра она напрасно ждала Бэрри целый день. Он не зашел, а толькопозвонил всемь вечера. – Дорогая, извини, не получилось. Я звоню из клиники. – Что произошло? – Собственно, ничего такого. Конни не поверила диагнозу здешнего эскулапа и потребовала тщательного обследования. Три специалиста проделывают всякие анализы. Я могу прийти в десять. К этому времени посетителей выгоняют. – Ужин будет ждать тебя. – Не надо, здесь еду можно заказать в палату. Встретимся попозже. Пять счастливых ночей подарила им судьба, но однажды Бэрри появился сам не свой. – Констанс… – произнес он и замолчал. – Узнала о нас? – Нет, с ней что-то не то. Анализы показали высокое давление и диабет. Долорес облегченно вздохнула. – О, это, конечно, плохо. Но такие болезни вполне излечимы. – Конни боится уколов. А врачи считают, что инсулин в таблетках ей не поможет, содержание сахара в крови слишком высокое. И, конечно, давление. Она всегда играла в гольф, вела активный образ жизни и боится стать полуинвалидом. – Чепуха! Несколько месяцев – и здоровье вернется. Констанс еще нас переживет. – Ты все сказала сама. – Не понимаю… – Она действительно проживет очень долго, но в постоянном страхе и без движения. Завтра Конни выписывают. Она хочет месяц провести на мореи уже одолжила яхту у Дебби Морроу. – Вот и прекрасно. – Вовсе нет. Похоже, придется ехать и мне. Долорес изо всех сил старалась не разрыдаться. А Бэрри нервно ходил по комнате. – Она уже договорилась с моим шефом. Они отпускают. Выхода нет. – На целый месяц, – тихо сказала Долорес. – Это целая вечность, – как эхо, повторил он. Прижимаясь к Бэрри, она шептала: – Когда ты вернешься, деревья зазеленеют… Наступит май… И мы проведем его вместе. Бэрри направился к двери. Пряча слезы, она бросилась за ним. – Останься, ведь Констанс еще в клинике. – Нет, мне нужно уложить вещи. Она хочет уехать завтра. – Уже завтра?! – Да, врачи настоятельно рекомендуют забрать Констанс как можно скорее, не хотят, чтобы она впала в депрессию. У нее на самом деле климакс. – Пиши мне. – Постараюсь придумать что-нибудь получше. Я буду звонить тебе из каждого порта. Надеюсь, Дебби поедет с нами. Мне будет легче справляться с настроением Констанс. – Дебби? – Да, Дебби Морроу, ей принадлежит яхта. Долорес уже почти овладела собой. – Я знаю Дебби. Ей уже, должно быть, пятьдесят пять. Смешно, когда женщину в таком возрасте называют, как ребенка. – У Дебби более пятидесяти миллионов. Думаю, что с такими деньгами ее и до девяноста лет будут называть так, как она пожелает. – Откуда у Дебби столько денег? – Во-первых, наследство. Да и замуж она вышла за денежный мешок. Когда муж умер, ей досталось все его состояние. – Бэрри внезапно крепко обнял Долорес. – Почему мы с тобой не имеем ничего? – Потому, что Дебби и Констанс нужны только деньги. А мы необходимы друг другу. (обратно)Глава 26. НЕЧТО ТАКОЕ…
Бэрри хоть раз в неделю, но звонил. А Долорес не знала, куда деваться от гнетущего одиночества. Она по-прежнему гуляла с детьми и охраной, делая вид, что ей наплевать на постоянно околачивающихся у дома репортеров. На самом деле ей было приятно. Хотя в последнее время интерес к знаменитой вдове-затворнице стал потихоньку угасать… За месяц лишь в одном журнале появилась одна-единственная ее фотография. Ее сняли на открытии центра Линкольна, где они с Майклом присутствовали. Шурин признавался, что Джойс уже стала ворчать из-за его поездок в Нью-Йорк. – Хочу сводить тебя завтра на премьеру нового мюзикла – «Хэтти», – сказал он, наливая себе бренди. Долорес стояла у окна, глядя на реку. – Об этом начнут кричать все газеты, а Джойс, как ты говоришь, недовольна твоими частыми отлучками. – Нет, в тебе соперницу она не видит. Но в проницательности моей энергичной маленькой женушке не откажешь. Джойс нюхом что-то чует. Долорес отвернулась и принялась возиться с кондиционером. – Здесь очень жарко. – А эту штуку почему-то не включают до середины мая. Она тянула время. Майкл в сексуальном плане ее никогда не интересовал. Но с ним хоть изредка можно было появиться где-нибудь. От верховного судьи толку мало, газетчики его не замечают. А брат Джимми хорош собой, и они отлично смотрятся вместе. А главное, пока люди болтают о ней и Майкле, никто не заподозрит ее в недозволенных отношениях с Бэрри. Бэрри! Даже при мысли о нем закружилась голова. Осталось уже меньше десяти дней… Она снова очутится в его объятиях, ощутит вкус его поцелуев… Ни одного мужчину она так не целовала. Интересно, многие ли знают, что поцелуй дает такое же наслаждение, как и физическая близость? – Долорес, оставь в покое кондиционер. Если хочешь, я открою окна. Она окинула Майкла, удобно расположившегося в любимом кресле Бэрри, долгим, внимательным взглядом. А что, если придется изредка спать с ним, чтобы удержать возле себя?.. Нет! Это невозможно. – Долорес, успокойся и сядь. Я хочу поговорить с тобой. – Мне нужно посмотреть, все ли в порядке у детей. – Ради бога, они не младенцы, и не нужно качать их колыбельки. Мэри Лу вон какая вымахала, близнецы тоже тянутся вверх. Долорес присела на краешек тахты. – Думаю, нам не стоит появляться на премьере. Будет слишком много шума. У Джун Эймз потрясающая популярность. Она всегда играет против правил. А пресса это смакует. Известные кинозвезды редко соглашаются выступать в мюзиклах на Бродвее. Вчера один из телекомментаторов довольно пространно распространялся об этом. Джун, болтал он, потеряет все, если ей не удастся убедить критиков, что кроме красивой мордашки у нее есть и талант. – Дай мне хоть слово вставить. Я хочу поговорить, – Майкл явно злился, – о серьезных вещах. Ты так хорошо знаешь Джун? Откуда? – Смотрю телевизор, читаю газеты, просматриваю все журналы. Нужно же иметь представление, что пишут о моей персоне, – без стеснения заявила она. – Да и чем еще заполнить свое время?! – А куда ты подевала подруг? У Джойс их невообразимое количество. Займись, в конце концов, благотворительностью. – Джойс – жена сенатора и живет в Вашингтоне. Я же… – Да, да… королева Виктория. Только очень красивая. – Надеюсь, ты не будешь отрицать, что пресса называет меня таинственной, недосягаемой. Майкл уставился на невестку. – Неужели ты действительно веришь той чепухе, которую о тебе пишут?! – Хотелось бы, но нет, – осторожно ответила она. – Правда, ты очень красивая. – Но Нита лучше. – Да, а я симпатичнее Джимми. Но он был необыкновенной личностью. Когда брат произносил в сенате речь, никто не оставался равнодушным. В тебе это тоже есть. А в Ните – нет. – Майкл! – Долорес была уверена, что сейчас он признается ей в любви, и хотела не допустить этого. – Нам нельзя идти на премьеру вместе. И так вокруг нас бог знает что болтают. Конечно, ничего подобного нет, но… – Вот именно! Пусть болтают. Пусть Джойс думает, что… – Ты сошел с ума! – Нет… У меня есть на это свои причины. – Может быть, объяснишь? Майкл уставился в пол. – Ладно, – тихо сказал он. – Я встречаюсь с Джун Эймз уже два года. На какое-то мгновение Долорес потеряла дар речи. – А почему я появляюсь с тобой регулярно два раза в месяц? Ты – мой громоотвод. Мой старший сын сейчас в военной школе в Коннектикуте. У меня, таким образом, появился еще один повод чаще приезжать в Нью-Йорк. Один из продюсеров «Хэтти» – мой школьный друг. Его зовут Колин Райт. Он неоднократно бывал у нас в доме, когда приезжал в Вашингтон. В постановку мюзикла я вложил двадцать пять тысяч долларов. Колин всегда прикрывает меня, если мы с Джун появляемся на людях. Кроме того, раз в месяц со мной выходишь ты… Если я приезжаю сюда и меня видят с Колином, Джойс не возражает, но если мы отправимся на премьеру «Хэтти» с тобой, шум, конечно, будет. – Я не собираюсь идти, – елейным голоском произнесла Долорес. Майкл вскочил, тряхнул ее за плечи. – Ах ты, бездушная стерва! Ты никого не любишь, кроме себя. Брата тоже никогда не любила. Я действительно ненормальный, если все тебе рассказал. Да еще ждал понимания! Я всегда упрекал Джимми за его похождения, не понимал, как он может, имея такую красавицу жену. А он обычно отвечал: «Но, Майкл, она едва выносит меня в постели!» Теперь я верю ему. Ты и понятия о любви не имеешь. Сколько я мотался на побережье… Слава богу, там живет моя сестра, а в семье у нее нелады. Я использовал это как предлог, чтобы удрать из дому. Ты чертовски права, когда говоришь, что Джун поставила на карту свою карьеру. А знаешь почему? Она любит меня. Настолько любит, что рискует своей карьерой, зная, что шансов на развод нет. Но ей достаточно того, что представление продержится неделю, месяц, полгода и что между нами не будет расстояния в три тысячи миль. Я смогу приезжать каждую неделю, даже прилетать на один день, а к ужину возвращаться домой. Я способен на все… Господи, зачем я это говорю? Без обручального кольца чувств для тебя не существует. – Майкл! – Долорес наконец вырвалась из его рук. – Ты не прав, я прекрасно понимаю твои чувства. Если вы с Джун так счастливы, помоги вам бог! Но ты отдаешь на съедение меня ради своей любви. Не только Джойс возненавидит меня… Газеты разнесут сплетни на всю страну. Мои дети ходят в школу. Это может дойти до них. – Долорес, если пойдешь со мной завтра, клянусь, никогда больше тебя не подставлю. – А Джойс? Ей не хочется побывать на премьере? – Она видела спектакль в Вашингтоне, даже ходила со мной за кулисы и познакомилась с Джун. Мы вчетвером – Колин, Джун, Джойс и я – поужинали. Все вашингтонские газеты писали об этом. Люди думают, что Колин и Джун влюблены друг в друга. И Джойс тоже на это клюнула. – А Колин не против служить тебе прикрытием? – Наоборот, страшно рад. Он ведь гомосексуалист… Живет с одним дизайнером. Но ему нравится, что королева секса Джун якобы влюблена в него. Они добрые друзья. – А что, если Джойс захочет навестить сына? – Это исключено. Она беременна, на четвертом месяце, а в последний раз был выкидыш. Врач предписал ей постельный режим. – О, ты все предусмотрел. – Почти все. Не знаю одного – какими будут отзывы критики. Если плохими, это убьет Джун… Ей придется вернуться в Голливуд. – А мюзикл, по-твоему, хорош? Майкл передернул плечами. – Откуда я знаю! Мне одно только появление Джун на сцене доставляет удовольствие. В Вашингтоне спектакль оценили по-разному. Но труппа много работала, а потом три недели гастролировала в Филадельфии, где отзывы были значительно лучше. Бедная Джун! Она каждое утро репетировала новые сцены и песни, чтобы вечером использовать их в спектакле. А ей ведь не восемнадцать! – А сколько? – Для прессы – двадцать семь, а на самом деле – тридцать. Но ей не дать больше двадцати четырех. Долорес не отрывала глаз от пола. – Ты любишь ее по-настоящему? – Да. – И мог бы ради нее развестись? – Ради нее я бросил бы все. Но Джойс никогда не даст мне развода… Никогда. Она похожа на Бриджит. Они ходят к мессе ежедневно. Я хочу сказать, что обе действительно верят в бога. – А ты? – Верю… Но не думаю, что из-за развода господь отвернется от меня. Он может забыть обо мне только в одном случае: если я разобью сердце Джойс и нанесу ущерб детям. Понимаешь, как все складывается?! Долорес слабо улыбнулась. – Хорошо, Майкл. Решено. Идем на «Хэтти». (обратно)Глава 27. ОТЗЫВЫ КРИТИКИ
Наряд по такому случаю за один день придумал для Долорес Дональд Брукс. Он предложил ей великолепное готовое платье. Но это была одна из его новейших моделей, еще не участвовавших в показе. Единственное, что сделал Брукс, это чуть приподнял воротник, подогнал рукава, подложил плечики, а внизу добавил меховую опушку. – Если бы вы, миссис Райан, похудели фунтов на десять, то смогли бы носить все новые модели, – сказал он. – Я разве толстая? – спросила Долорес. – Нет… Но в манекенщицы не годитесь. Вечером она взвесилась. Сто двадцать восемь фунтов! На целых три фунта больше, чем в Лондоне. Но фигура смотрелась пропорционально. Упругая грудь, плоский живот, точеные бедра… И ни единой морщинки на лице. Никогда раньше Долорес не была так красива. Даже Майкл не смог скрыть своего восхищения, когда заехал за ней. Парикмахер три часа провозился с новым шиньоном, но никто его не заметил. Да и раньше не замечали. Газеты всегда писали о ее львиной гриве. Ее сегодня действительно можно было сравнить с львицей: персиковая кожа, золотистая помада, платье в золотых тонах, отороченное соболем. У театра уже собралась толпа. Понадобилась даже помощь полиции, чтобы оградить миссис Райан от неиствующих поклонников. Репортеры сопровождали ее до самой ложи. Цвет Нью-Йорка собрался в зале, но все внимание было обращено на Долорес. В антракте охрана провела ее и Майкла в кабинет менеджера. Там они чуть-чуть выпили. Заглянул Колин, чтобы поинтересоваться их мнением. Все искренне старались подбодрить его. Еще до того, как опустился занавес, у ложи снова появилась полиция. Пока актеры, которых публика вызывала много раз, выходили кланяться, Майкла и Долорес провели за кулисы, поближе к сцене. Загримированные актеры вблизи выглядели усталыми. Они словно остолбенели, увидев здесь улыбающуюся Долорес. Появилась Джун, и Колин представил дам друг другу. Потом Колин отвел их в уборную Джун. Актриса уже сняла грим, и Долорес поразилась красоте молодой возлюбленной Майкла. Колин включил маленький телевизор и открыл самодельный бар. – Мы с Майклом пьем мартини, Джун нравится водка с водой. А что предпочитаете вы, миссис Райан? – Виски со льдом. – Мы сняли номер в отеле «Сарди», – сообщил Колин. – Там будет вечеринка для актеров. – Он то и дело поглядывал на телеэкран. – Скоро начнутся выступления критиков. – Я думала, что для вас имеют значение только рецензии в «Тайме», – сказала Долорес. – Да, журнал – наш добрый папочка, но и телевидение нельзя сбрасывать со счетов. Я, конечно, имею в виду солидных рецензентов, а не всякую шушеру, которая подвизается на пятом канале. Вы не представляете, как на них реагирует публика. Она говорит: «Эти люди ругают все, поэтому нужно посмотреть собственными глазами». А если выступит «Тайм», значит, мы состоялись. – Я отвезу Долорес домой. Как думаешь, Колин, толпа уже разбежалась? – спросил Майкл. Долорес чуть не уронила стакан. Ей так хотелось побывать на вечеринке в «Сарди». – Добрая половина охотников за автографами уже дежурит у «Сарди». Но газетчики, конечно, будут следить за вами. – Давайте все же попытаемся, – сказал Майкл, осушив стакан. – От Долорес я поеду прямо к себе в отель и таким образом избавлюсь от прессы. Потом я выскользну из номера и пешком доберусь до «Сарди». – Репортеры достанут тебя, – предупредил Колин. – Долорес следовало бы зайти к нам ненадолго, если она не против. – Я не хочу подвергать ее такому риску, – запротестовал Майкл. – А мне легко будет сослаться на желание пообщаться с другом по колледжу Колином Райтом. Мы их проведем. – Он поднялся и подошел к Джун. – Встретимся попозже, дорогая. Уверен, что отзывы будут самые восторженные. И помни – ты играла великолепно. Долорес перехватила взгляд Джун, брошенный на Майкла. И ее собственное сердце мгновенно откликнулось на этот взгляд. Джун Эймз по-настоящему любит Майкла, но будущего у их любви нет… Как и у них с Бэрри. По дороге домой Долорес все время молчала. – Ты не одобряешь моего поведения? – решился наконец заговорить Майкл. – Только из-за Джун. Какие ее ожидают страдания! – Я люблю ее. – Не сомневаюсь. Но что будет с ней? Ты говорил, что ей уже тридцать… Она когда-нибудь была замужем? – В семнадцать лет – за барабанщиком из маленького оркестра, с которым она пела в Техасе. – Понятно. Но Джун далеко до таких актрис, как Джоан Кроуфорд или Барбара Стэнвик. Эти женщины обладали не только красотой, но и огромным талантом. Джун – тоже красавица, но пока она молода. Когда она поблекнет, лет эдак в сорок, ее карьера будет окончена. Да и тебе все это надоест. – Не знаю, мы вместе уже два года! И с каждым днем все больше любим друг друга. Зачем загадывать на десять лет вперед? Я не ты, моя милая. Это у тебя все разложено по полочкам. Восемь лет с Джимми в Белом доме… потом он возглавит юридическую фирму… Не так ли? Я ведь прав. Но все пошло наперекосяк. Джимми убили. А ты, который год живешь затворницей. Хочешь стать легендой? Это тебе удалось, если, конечно, приносит удовлетворение… Неужели ты счастлива, когда забираешься одна в холодную постель? Неужели шумиха в прессе способна компенсировать отсутствие любви? – Ты меня совсем не знаешь, – тихо возразила Долорес. – Знаю. Как свои пять пальцев. Машина остановилась у подъезда. Майкл вышел и проводил Долорес до лифта. – Не поднимайся со мной, – попросила она. – Это займет минуту, – сказал он, нажимая кнопку лифта. – Послушай, Долорес, выходи замуж за верховного судью. Он стар и не будет требовать от тебя секса. У него хороший дом в Джорджтауне, приличное имение, квартира в Нью-Йорке и… – Майкл чертыхнулся. – Куда подевался этот лифтер? – Наверное, развозит газеты по этажам. – Долорес подняла глаза. – Лифт уже опускается. Майкл, постарайся не обижать Джун. – Я люблю ее. Прощаясь, она грустно улыбнулась. – Надеюсь, что спектакль продержится долго. Желаю приятного вечера. Беги, ты нужен ей. Утешь ее, если отзывы будут плохими, раздели с ней радость, если критика расхвалит мюзикл. Майкл посмотрел на невестку, словно увидел ее впервые. – Долорес, недаром тебя считают очень скрытной. Похоже, что я вообще не знаю тебя… Он повернулся и торопливо зашагал к машине. (обратно)Глава 28. МЫЛО И ВОДА
Успех мюзикла превзошел все ожидания. Майкл был счастлив и пригласил Долорес в оперу, когда Джун была занята в спектакле. В другой раз они захватили Колина и все вместе сходили в ресторан «Сарди». Пятнадцатого мая вернулся Бэрри. Он ворвался в квартиру Долорес, как вихрь, загорелый и очень красивый. Впервые он, не стесняясь детей, крепко обнял ее и стал целовать, приговаривая: – Боже, как я соскучился! Потом он тискал близнецов и целовал смутившуюся Мэри Лу. – Как ты выросла, – сказал он девочке. – Скоро станешь такой же высокой, как мама. – И такой же красивой, да? – Даже красивее, – серьезно ответил Бэрри. Ночью они лежали в объятиях друг друга, словно и не расставались. – Останешься на ночь? – тихо спросила она. – Нет… Сегодня у меня просто «позднее совещание». – Констанс уедет пятнадцатого июня? – Да. И тогда целых три месяца пять дней и пять ночей в неделю будут нашими. – Хорошо. Тогда я отправлю и близнецов… – Что ты имеешь в виду? – Мэри Лу едет в один из лагерей в штате Мэн. Близнецов я хотела оставить дома, а уик-энды проводить с ними в Вирджинии. Но раз мы все лето сможем быть вместе, малышей можно пристроить в лагерь. А субботы и воскресенья я буду проводить с Бриджит. Бэрри ласково поцеловал ее. – Я так люблю тебя, Долорес. – Но гораздо меньше, чем я, – чуть капризно сказала она. Он перевернулся и щелкнул зажигалкой. – Любовь, я это чувствую, дарована нам с тобой свыше. За пять кошмарных недель с Констанс и Дебби я чуть не ошалел. Они все время дулись в карты. Слава богу, Констанс боялась, что у нее поднимется давление, и не требовала от меня исполнения супружеских обязанностей. Время мы коротали с похожим на гомика атлетом, которого пригласила Дебби. Уже с утра, глядя, как он возится со штангой, я чувствовал себя смертельно усталым. Парню недавно исполнилось двадцать восемь, и он признался, что хотел бы жениться на старушенции. – Думаешь, Дебби согласится? Бэрри затянулся сигаретой. – Она слишком хитра и слишком богата. У нее хватит денег, чтобы покупать себе гомиков и не гомиков до тех пор, пока не стукнет сотня. – Ну, для своих пятидесяти шести она прекрасно выглядит. – А почему бы и нет? Пластических операций Дебби сделала не меньше, чем ей лет. Долорес потянулась всем телом. – Как ты думаешь, а мне это нужно? Он рассмеялся. – Ты дитя. – Мне тридцать девять лет. – Ну, Констанс скоро пятьдесят, и то ей достаточно массажа лица и хорошего макияжа. Хотя загаром тебе злоупотреблять не следует. – Почему? – У Констанс прекрасная кожа, потому что она старается прятаться от солнца. Как, впрочем, и Дебби. Она говорит, что большинство женщин, которые отдыхают в Палм-Бич, похожи на сморщенный чернослив. И это правда. Если женщине за сорок, ее кожа портится от загара. – Значит, я напоминаю тебе чернослив? – Нет, ты моя золотая тигрица. Но береги свою красоту. Для меня. – Завтра пойду и сделаю на лице подтяжки. Бэрри начал одеваться. – Загорелая кожа операциям не поддается. – С каких пор ты стал таким экспертом? – спросила она. – Теперь я могу написать книгу об уходе за кожей и телом после сорока. Дамы на яхте в течение пяти недель только об этом и говорили. Даже гомик смазывал себя каким-то маслом, прежде чем загорать, и не просто валялся на солнце… Совсем нет. Двадцать минут на одном боку, двадцать – на другом. Потом выпивал стакан молока… – Молока? – По его мнению, солнце окисляет тело, а молоко вызывает щелочную реакцию. Хочешь еще послушать? Знаешь, какие упражнения сейчас самые модные? Приглашаешь тренера, он хватает тебя за ноги, а ты от него отбиваешься. Теперь и Долорес громко смеялась. – Боже, а я пользуюсь только мылом и водой, катаюсь на велосипеде и хожу на прогулки. – Умница! Бэрри уже оделся и включил свет, а она впервые не решилась голой выбраться из постели. Едва за ним закрылась дверь, Долорес побежала в ванную, встала перед огромным трюмо и пристально стала изучать себя. Грудь хороша… бедра по-прежнему упругие… на животе есть небольшие растяжки от родов, но их можно рассмотреть с трудом. Она повернулась спиной – нет ли складок? Или это только игра ее воображения? (обратно)Глава 29. СВОБОДЕН!
На следующий день Долорес посетила салон Элизабет Аден, сделала массаж лица и накупила всяких кремов и масок на сотню долларов. Потом позвонила в гимнастическую школу и пригласила тренера для ежедневных занятий. Выдержала она это десять дней. Чего только не пришлось вынести! Лицо и тело нужно было покрывать специальным кремом, надевать теплый шерстяной костюм, до изнеможения повторять специальные упражнения. За две недели ей удалось сбросить полфунта – таков был итог. Долорес рассчиталась с тренером и забыла о кремах. С Бэрри они встречались каждый вечер. Но однажды он не появился и не позвонил. Телефон отозвался только в полночь. – Долорес, извини… Раньше не мог. У Констанс инсульт. Я в клинике, в телефонной будке. – Боже, как это произошло? – В одно мгновение. Задета правая половина. Констанс не может говорить, ее парализовало. Врачи считают, что есть надежда на полное выздоровление, но это долгий процесс. Одна надежда на возраст, ведь инсульты случаются обычно после шестидесяти или семидесяти. Остаюсь в клинике, позвоню завтра. Но звонок раздался гораздо раньше, когда Долорес начала засыпать. – Констанс умерла, – тихо сказал он. – О, Бэрри! Как… Когда? – Десять минут назад… Второе кровоизлияние. Послушай, я позвоню, когда появится возможность. – Бэрри… Обо мне не беспокойся. Я буду ждать… – Боже, появилась Дебби Морроу со своим новым молодым человеком. Мне нужно идти. – В трубке послышались короткие гудки. Трое суток от Бэрри не было никаких вестей. О смерти Констанс много писали газеты. Похороны показывали в программе новостей по телевидению, правительство выразило мужу покойной соболезнование. Долорес послала цветы, но посчитала лицемерием явиться лично. Она сидела дома у телефона и ждала. Через два дня после похорон он без звонка появился в ее квартире. – Бэрри. – Долорес обняла его. – Досталось тебе, бедному. Может, хочешь выпить? – Налей водки… Чистой. – Он устало присел, провел рукой по волосам. – Похороны – это варварство. А визиты, соболезнования тем более. Пришли все друзья моего отца и все ее друзья, чтобы выпить. Дебби сидела во главе стола, будто это не похороны, а веселая вечеринка. Я получил телеграмму даже от президента. (Теперь, подумала Долорес, они свободны и могут пожениться, когда окончится траур. Но не время пока говорить об этом.) Он залпом осушил стакан. – Сука… Подлая сука! – Бэрри! – Я только что от адвоката, – сказал он. – Знаешь, она все время тайком раздавала сотни тысяч сестрам, другим родственникам, благотворительным организациям. Наверное, она боялась, что умрет первой, а я обязательно женюсь на какой-нибудь потаскухе. Даже драгоценности по завещанию должны перейти к ее внучатым племянницам. – А как же ты? – У меня все в ажуре! – Его голос был полон сарказма. Он закурил сигарету и протянул Долорес пустой стакан, чтобы она налила еще. – Ну, по закону Констанс не могла лишить тебя наследства. – О нет. У нее были прекрасные советчики. Мне перепадает двадцать пять тысяч, со всеми налогами, разумеется. Я имею право жить где хочу. Расходы на жизнь будут оплачены. А если я к шестидесяти пяти годам не женюсь, то получу в наследство пять миллионов долларов. В противном случае – ни цента. – А это завещание правомочно? Бэрри утвердительно кивнул. – Я подписал какую-то бумагу, когда мы поженились. Богачи, и особенно сверхбогачи, всегда заставляют подписывать бумаги. Там все это и было оговорено. Мне тогда было тридцать пять, а ей – сорок один. Слава отцовского имени уже начинала тускнеть. Стоящего образования я не получил. Карманы пустые. Кто мог предположить, что я полюблю тебя? Долорес сидела у его ног и маленькими глотками пила виски. Надо что-то придумать. – Послушай, Бэрри, мне не нужна эта огромная квартира. Если все рассказать Бриджит, она разрешит продать ее и оставить деньги. За нее можно выручить, по крайней мере, четыреста тысяч долларов. Уверена, что работу ты не потеряешь, особенно если женишься на мне. Наши имена придадут друг другу особый блеск. Купим квартиру поменьше, где-нибудь на Парк-авеню, а, сложив вместе тридцать моих и двадцать твоих тысяч, как-нибудь справимся. Попивая из своего стакана, он, казалось, обдумывал слова Долорес. – Все не так просто. Не забывай, что нам придется принимать гостей. Те великолепные ужины, которые устраивала Констанс для нужных людей, будущих клиентов, были частью моего взноса в фирму. – Он покачал головой. – На пятьдесят тысяч в год нам не прожить. – А четыреста тысяч за мою квартиру? – Ну, на них долго не протянешь. Нельзя же разбить на Парк-авеню палатку. Придется искать приличную квартиру, пусть даже поскромнее этой, но в подходящем месте, которая будет стоить не меньше ста тысяч. Кроме того, надо нанять кухарку, шофера, горничную, няню для детей… Нет, ничего не получится. – А ты не считаешь, что мое имя даст фирме новых клиентов? – Поначалу – да. Но как только ты станешь везде появляться со мной, твоя популярность сразу упадет. – Почему? – Сейчас все говорят о тебе, потому что редко видят. Никто не знает, какая ты на самом деле. Для снобов высшая честь – уговорить Долорес Райан принять приглашение на ужин. А как только ты примелькаешься, ничего уже через год не останется ни от загадочности, ни от славы. Ты станешь просто Долорес Хейнз. Уж я-то знаю. Когда умер отец, одного из моих братьев выбрали в губернаторы только из-за имени. Но вторично его не избрали, оставалось одно – жениться на богатой женщине. Со мной было точно так же. Работу в престижной фирме дали потому, что я Хейнз. Конечно, в жены я мог выбрать молоденькую девушку. Но у красавиц, которые мне нравились, обычно не было ни гроша. Потом я встретил Констанс. На ее деньги можно было жить, ни о чем не думая. Если фирма и выставит меня на улицу, то остаются двадцать Пять тысяч, которые я буду получать, если женюсь. Долорес с трудом заставила себя оставаться спокойной. – Ну, не конец же света. Мы любим друг друга и можем теперь встречаться открыто. – Только через год. – Год?! – Таков ведь, кажется, срок траура? – Хорошо. Сегодня двадцатое августа. Через год в этот же день мы пойдем в «Маргелан». К этому времени я найду подругу с яхтой. Мы съездим к Ните и прекрасно проведем лето. Придется ждать, когда тебе исполнится шестьдесят пять. Тогда мы и узаконим наш союз. (обратно)Глава 30. ЕМУ НРАВЯТСЯ ХУДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Никогда еще Долорес не была так счастлива. Ей удалось уговорить Бриджит пригласить Бэрри погостить, объяснив это тем, что он одинок. – Мои мальчишки его боготворят. Им трудно расти без отца, без мужчины в доме. Я иногда приглашала Бэрри к себе на коктейли… Бриджит понимающе улыбнулась. – Не имеет значения. Я буду рада ему. Всю рождественскую неделю они с Бэрри провели вдвоем. Дети были в Вирджинии. Он подарил Долорес маленькую бриллиантовую булавку от Картье, недорогую, за триста долларов. Она же потратила тысячу четыреста на золотые часы от Тиффани. Бэрри, как ребенок, радовался подарку, а потом сказал: – Жаль, что я не мог потратить на тебя больше: сижу на нуле. Когда приходится принимать приглашения на ужин, нужно посылать цветы… Да еще я плачу за ложу в опере, которую, кстати, терпеть не могу. Но друзья Констанс настояли. Теперь мне приходится сопровождать Дебби и ее сестру Элеонору в театр. Она почти такая же богачка, как Дебби, и удачно вышла замуж. Представляешь, как нам весело втроем. В марте умер Тимоти Райан, и Долорес была вынуждена провести целую неделю в Вирджинии. Это случилось перед Пасхой, поэтому она забрала детей из школы, и они отправились к Бриджит. Здесь уже была Джойс с новорожденным и остальными членами семейства. Конечно, Майкл довольно часто бывал в Нью-Йорке, но Джойс была слишком занята малышом, чтобы волноваться из-за этого. Долорес не поддалась на уговоры свекрови пожить здесь подольше, ссылаясь на то, что близнецам и Мэри Лу нужно в школу. Бриджит огорчилась, но заставила невестку дать обещание приезжать каждое воскресенье. На прощание она обняла Долорес. – Я думаю, что люблю тебя больше, чем своих детей, и лучше понимаю. Мы были молоды, когда я родила пятерых детей подряд, а мой муж завел роман с известной скульпторшей. Он оплачивал выставочные залы, заставлял своих друзей покупать ее работы, содержал ее. Их связь длилась десять лет. Конечно, уик-энды и праздники он проводил дома, но воспитывать детей пришлось мне одной. Были у Тимоти и другие женщины. Джимми тоже пошел по стопам отца… И частые отлучки Майкла тоже связаны с женщиной. Но Джойс настолько поглощена детьми, что ей и в голову не приходит ревновать мужа. Кроме того, у нее, как и у меня, есть вера. Тебе я глубоко сочувствую, хотя очень жаль, что религия – не главное в твоей жизни. Когда от дифтерита умирала одна из моих дочерей, я дала обет ходить к мессе каждый день, если девочка выздоровеет. Врачи отказались от нее, но на следующий день ей стало лучше. Вера дала мне силу… Вернись к ней, Долорес! Дочь и мальчики вырастут и оставят тебя. Только во Христе ты найдешь истинное утешение, обретешь внутреннюю силу Это непросто… Но помни, я всегда приду на помощь. Долорес вернулась в Нью-Йорк, позвонила Бэрри на работу и узнала, что он уехал на Бермуды. Сердце тревожно заныло, но она приказала себе не беспокоиться. Бэрри ведь не мог знать, что она так скоро вернется. Долорес сама говорила, что ей придется остаться с Бриджит на пасхальные праздники. Она пошла к священнику, человеку доброму и все понимающему, с которым была давно знакома. Они долго беседовали об истинной вере и причинах неверия. Через несколько дней Долорес исповедалась, прочла все нужные молитвы, но так и не ощутила внутренней силы. В Бриджит она, наверное, была изначально. Если бы Джимми не стал президентом, Долорес бросила бы его после первой измены. Тимоти Райан не был президентом, но Бриджит осталась с ним, воспитала детей и в вере обрела силу. Внешне Долорес жила своей обычной жизнью: занималась французским с Мэри Лу, смотрела телепередачи, в девять часов укладывала детей в постель. Но, оставаясь одна, она не находила себе места. Через пару дней в одиннадцать вечера раздался слабый звонок в дверь. Значит, принесли газеты. Она забралась в постель, глянула на первую полосу «Ньюз» и почувствовала, как останавливается сердце. На нее смотрел улыбающийся Бэрри. На Бермудах он женился на Дебби Морроу! В три часа ночи (в Лондоне было уже восемь утра) Долорес заказала разговор с сестрой. Их соединили немедленно. – Доло? – Нита злилась, что ее разбудили.— Что случилось? Извини, что не смогла приехать на похороны, но мы послали цветы и все, что нужно. – Забудь о похоронах. Хочу кое-что срочно у тебя узнать. – А попозже ты не могла позвонить? – Не могла. Узнай, хочет ли еще барон Эрик де Савонн жениться на мне. Нита мгновенно проснулась. – Ты не шутишь?! – Нет. – Хорошо. Думаю, он в Париже. Погоди… Нет. Он был там, на прошлой неделе и собирался в Швейцарию. Я немедленно его разыщу. Сестра позвонила через час. – Он сказал «да». И порекомендовал тебе сбросить фунтов двадцать. Эрику нравятся худые женщины… – Когда он свяжется со мной? – Похудеешь – пошли ему телеграмму. – И Нита повесила трубку. (обратно)Глава 31. СЧАСТЛИВЫЙ СОЮЗ
Долорес пошла к врачу, которого порекомендовала Нита, и стала принимать зеленые пилюли, начисто лишившие ее аппетита. Она жила на черном кофе, минеральной воде и раз в день ела рыбу. По утрам с ней занимался тренер, дважды в неделю она бывала в сауне. Двадцать два фунта за пять недель – таков был итог изнурительной голодовки. Долорес позвонила Ните: – Я вешу сто семь фунтов… – Не может быть! Ты же намного выше меня, а я вешу сто один. – Передай барону, пусть приезжает и взвесит меня, если хочет. Днем она получила дюжину роз. А на следующий день явился сам Эрик. В черном свитере и брюках Долорес выглядела тоненькой, как карандаш. Эрик внимательно оглядел ее и одобрительно кивнул. – Вы прекрасно над собой поработали. А теперь о свадьбе… Думаю, мы устроим ее во Франции, в моем загородном особняке. Это настоящий дворец, он находится в восемнадцати милях от Парижа. Ваша сестра уже составляет список гостей. Может быть, дадим сообщение в газеты уже сегодня. Мой пресс-секретарь ждет. – Подождите, прежде нам предстоит один визит. – К кому? – К моей свекрови в Вирджинию. Барон расплылся в улыбке. – Разрешите, я ей позвоню. – Долорес вышла из гостиной и направилась в спальню. Бриджит взяла трубку немедленно. – Я как раз собиралась обедать. Хорошо себя чувствуешь? – Прекрасно. – Долорес, я не хочу показаться ворчливой свекровью, но мы не виделись уже почти месяц. – У меня очень важные дела. – Это связано с церковью, да? – Нет, Бриджит… Другое. Срочно нужно поговорить. Можно мне приехать? Я прилечу сегодня. Хорошо? – Конечно. Долорес вернулась в гостиную, где Эрик разговаривал по телефону. Он жестом попросил ее помолчать и продолжал: – Скупайте все. Я свяжусь с вами чуть позднее. – Повесив трубку, он повернулся к Долорес. – Извините, дела. – Я договорилась, – сообщила она. – Свекровь примет нас сегодня днем. – Отлично. Летим немедленно. Я предупрежу пилота. Он снова подошел к телефону, и Долорес молча наблюдала за тем, как его неуклюжие толстые пальцы набирают номер. Скоро они будут трогать ее тело… Ей придется целовать эти некрасивые мясистые губы… Она метнулась в спальню и быстро переоделась в костюм. Но юбка слетела, как с палки. Все велико, кроме брюк. Она надела самые приличные и схватила жакет. – Мне нечего надеть, – заявила она, входя в гостиную. – Я слишком похудела. – Завтра купим вам все необходимое. В аэропорт они ехали молча. Личный самолет Эрика уже был готов к полету. Стюард помог им подняться на борт. В салоне Эрик подал ей коробку. – Снимите это пальто, я купил вам другое. Перед ошеломленным взором Долорес мягким блеском мерцали драгоценные соболя. – Эрик, какая прелесть! Но я не могу носить такие меха с джинсами. – Вы можете позволить себе все. Запомните это. А джинсы и свитер, кстати, вам очень идут. Долорес набросила манто и принялась кружиться по салону, как ребенок. Стюард принес огромную банку иранской икры и шампанское. – Сегодня разрешается нарушить диету, – заявил Эрик. Бриджит не высказала удивления при виде барона Эрика де Савонна. Она сердечно поздоровалась с ним и припомнила, что они встречались во время похорон ее сына. – Но сегодня случай счастливый. Я прилетел просить руки вашей невестки. Бриджит с недоумением уставилась на него, потом перевела взгляд на Долорес. – Вы позволите мне поговорить с невесткой наедине? Эрик галантно поклонился и ушел в гостиную, а Долорес последовала за Бриджит в маленький кабинет. – Сейчас же сними эти меха, – приказала Бриджит. – Как это тебе пришло в голову в апреле вырядиться в соболье манто?! – Он только что подарил мне его. В самолете. – Рассказывай. – Барон сделал мне предложение год назад в Лондоне. Я категорически сказала «нет». – А почему изменила решение? – Бриджит, мне скоро сорок. У меня никого нет. Я не укладываюсь в тридцать тысяч и уже залезла в долги… – Если бы ты попросила, я могла бы давать больше. – Не в этом дело. Мои расходы увеличатся. Мальчикам нужно учиться в колледже. Мэри Лу через год-два станет невестой. Кроме того, детям давно нужен отец. – Но он дедушка! – Бриджит. – Долорес опустилась на пол и уткнулась головой в колени свекрови. – Вы единственный близкий мне человек… Я устала быть легендой и буквально на всем экономить. Устала эксплуатировать Майкла. – А верховный судья? – Что судья? – вспыхнула Долорес. – Ему тоже за шестьдесят, но у него и приличных денег-то нет. – Деньги, – ворчала Бриджит. – Значит, это для тебя главное?! – Бриджит, вы никогда не испытывали недостатка в них, никогда не были одиноки. – Но этот человек… Может быть, стоило выбрать кого-то другого? Почему ты не занялась Бэрри Хейнзом, когда его жена умерла? Вот за кого надо было выходить замуж. – Я любила его, – тихо сказала Долорес, – но ему пришлось жениться на другой, тоже из-за денег. Это чуть не убило меня. Глаза Бриджит затуманились от слез. – Я не знала… – прошептала она, глубоко вздохнув. – Но как к твоему браку отнесется церковь? – Детей я воспитаю в католической вере, ну а венчаться мне, конечно, не придется. – Ты смирилась? – Это лучше, чем одиночество и разбитое сердце. Бриджит поднялась и быстро направилась в гостиную. Она протянула руку Эрику. – Поздравляю! Надеюсь, моя невестка будет с вами счастлива. Он поцеловал ей руку. – Вы окажете мне честь своим присутствием на свадьбе? – Когда и где она состоится? – На моей вилле в пригороде Парижа. Через десять дней. Я пришлю за вами самолет. – Обязательно приеду… Будут также мои дочери и сын. – Мадам, я вам глубоко благодарен, – хрипловато пробасил барон. – Извините, теперь я должна пойти отдохнуть. Возраст… И сюрпризы выбивают меня из привычной колеи. Я буду молиться, чтобы ваш союз оказался счастливым. (обратно)Глава 32. СПАЛЬНЯ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ
Десять дней прошли для Долорес в лихорадочной беготне и суматохе. Она потеряла еще два фунта. Трудно было с детьми, которые крайне неприязненно отнеслись к барону. До того как был подписан брачный контракт, состоялось несколько встреч с адвокатами, представлявшими обе стороны. Потом Эрик тайком увез ее и детей в Париж, чтобы Долорес не видела, как бушевала Америка, свергая недавнего кумира с пьедестала. Газеты, радио, телевидение клеймили ее. Самые злобные письма шли от женщин. Долорес получала чуть ли не ежедневно тысячи осуждающих посланий и даже поплакала над несколькими из них. Они поселились в отеле «Риц» в Париже, где Эрик снял целый этаж для нее, детей и прислуги. Несколько сот тысяч долларов было истрачено на платья, туфли, белье и меха для Долорес. За день до свадьбы все отправились на виллу. Прилетели Бриджит, Майкл, Джойс и сестры Джимми с мужьями. Эрик снял для них великолепные апартаменты. Роскошь виллы – она оказалась настоящим замком – потрясла Долорес. К услугам новобрачных были огромные спальни, гардеробные (отдельно для платьев, обуви и шляп), ванны, которые могли вместить шестерых человек. Внутри располагались также бассейн и каток. Еще один бассейн был в саду. Накануне свадьбы Эрик всем сделал подарки. Ните он вручил часы, усыпанные бриллиантами, Бриджит – античный крест, выложенный алмазами. Дети получили множество игр и игрушек, по велосипеду и по верховой лошади. Эрик надел на шею Долорес ожерелье из огромных рубинов и бриллиантов и вручил коробочку с серьгами. – Примерь сама. Но настоящий шок вызвало у собравшихся обручальное кольцо с бриллиантом. Когда оно засверкало на изящном пальчике невесты, все ахнули. – Сколько в нем каратов? – дрожащим голосом спросила Нита. – Шестьдесят, – ответил барон. Ночь перед свадьбой Долорес провела в комнате для гостей, но была слишком возбуждена, чтобы уснуть. Она не могла дождаться того часа, когда увидит лайнер. После обеда был подписан брачный контракт. Все в нем было так, как Эрик и обещал. Интересно, где они проведут медовый месяц? Может быть, на лайнере? Медовый месяц… Она погладила свое стройное тело. Боже! Завтра оно будет принадлежать мужу. Он сможет трогать ее… И использовать, как захочет. Долорес почти физически ощутила прикосновение его мокрых губ, вздрогнула и выбралась из постели. Где-то здесь ее таблетки. Она проглотила две и запила виски. На следующее утро горничная не могла ее добудиться. Ванну Долорес принимала в каком-то полулетаргическом состоянии. Потом пришел парикмахер. Она должна была оставаться в своей комнате до начала свадебной церемонии. Надев свадебный наряд, она долго стояла у зеркала. Если бы Бэрри мог ее увидеть… Он обязательно увидит. Прессе будет разрешено сфотографировать новобрачных и взять у них десятиминутное интервью. Вот бы знать, что думает о ее замужестве Бэрри. Он, наверное, думал, что Долорес согласится делить возлюбленного с этой старой лошадью Дебби. Ну нет, она доказала ему. Она доказала всему миру! Во время церемонии Долорес боялась встретиться взглядом с Бриджит и детьми. Но когда все свершилось, они первыми ее поздравили и обняли. В свадебном ужине приняли участие сто приглашенных. Каждого гостя обслуживал свой официант. Все женщины получили подарки. В одиннадцать гости стали разъезжаться. Долорес никак не могла расстаться с Бриджит. Ночь ее родные проведут в «Рице», а завтра самолет барона доставит Райанов в Штаты. Вилла опустела. Долорес осталась одна в спальне для новобрачных. Когда они с Эриком, проводив гостей, поднялись сюда, она несказанно удивилась тому, что муж не раздевается, а переодевается в серый костюм. – Ты уходишь? – Да… к Людмиле… Так он и оставил ее на широком брачном ложе – не притронувшись к ней, даже неснизойдя до того, чтобы обмануть. Долорес поднесла руку к глазам. В сумерках бриллиант сверкал, как огонь. Она потерла камень о шелк ночной сорочки, еще раз взглянула на кольцо. И слезы побежали у нее по щекам… (обратно) (обратно) (обратно)Жаклин Сьюзанн Жозефина
Глава 1. ЗНАКОМСТВО
В то утро я поднялась ни свет ни заря и поспешила включить телевизор. Это было 20 февраля 1962 года. Все радиостанции и телевизионные каналы передавали сообщение о том, как полковник Джон Гленн, оставив за собой огненный смерч, ворвался в космическое пространство. Страна затаила дыхание и приготовилась к длительному бодрствованию, дабы не пропустить ни единой подробности этой захватывающей одиссеи. Что же касается Жозефины, то она только мельком взглянула на экран и опять погрузилась в сон. Дело в том, что Жозефине доподлинно известно: это пустая трата времени, сил и денег. Нам не угрожает никакая другая держава. Нас не спасет никакой космос. Потому что мы уже частично порабощены, а в скором времени полностью попадем в плен к новой Расе Господ. И Жозефина по праву принадлежит к этой привилегированной расе, которая исподволь прибирает нас к рукам, а в недалеком будущем завоюет всю планету. Так что нет ничего удивительного в том, что на первых порах Жозефина и ее соплеменники могут благодушествовать, созерцая нашу нелепую возню с ракетами и атомными бомбами. Жозефина точно знает: для того чтобы одержать убедительную победу, недостаточно бомб и ракет. Раса Господ наделена высшим разумом. Нежная любовь и беззаветная преданность – ее главное оружие. Каждую минуту члены этой могущественной организации проникают во все крупные города Соединенных Штатов и Европы. Некоторые просочились даже за «железный занавес». Они запросто появляются в дипломатических гостиных, присутствуют – ушки на макушке – на сверхсекретных конференциях. А в Вашингтоне распространился слух о том, что одна из них, красавица с черной, как вороново крыло, шевелюрой – частая гостья в будуаре известного и весьма влиятельного сенатора. Так что наплюйте на бомбы, забудьте о космической гонке. Слишком поздно. Все уже схвачено, я чувствую это по себе. И что самое смешное – меня это ни капельки не волнует. Я палец о палец не ударила, чтобы оказать сопротивление. Напротив, подобно другим, брожу с глуповатой улыбкой на устах, счастливая пленница крошечного представителя Расы Господ – французского пуделя. Не исключено, что вы надеетесь устоять. В таком случае вы – убежденный собаконенавистник. Вы неуязвимы для их чар. Вас не умиляет их преданность. Хотите пари? Возьмите хотя бы моего мужа, Ирвинга Мэнсфилда. Он уроженец Бруклина, имеет ученую степень и творческую профессию (Ирвинг – телепродюсер), удачлив в делах и горазд на всевозможные выдумки. Во время второй мировой он служил в военно-воздушных силах, а в мирное время сражался врукопашную с рекламным агентством на Мэдисон-авеню, спонсорами парфюмерных фирм и даже однажды принял вызов союза музыкантов. У него за спиной две язвы и пять лет близкого знакомства с Артуром Годфри. Так что можете сами убедиться: он принадлежит к ярко выраженному типу прирожденных лидеров и меньше всего склонен к зависимости от какой-то козявки. Если покопаться в его детских и юношеских годах, вы не обнаружите там ни малейшего намека на склонность к подчинению. Он абсолютно чист и ни разу не запятнал себя дружескими отношениями с какой-нибудь псиной. В его прошлом невозможно отыскать упоминание о шумной возне с кем-либо по кличке Пират либо Пятнистый. Никто из его соседей не замечен в регулярном посещении Вестминстерской собачьей выставки. Хотя Ирвинг не отрицает, что время от времени в их квартал забредало какое-нибудь четвероногое. Только не пудель. Окажись поблизости что-либо отдаленно напоминающее пуделя, мать Ирвинга не преминула бы приготовить из него жаркое. Вот как обстояли дела с Ирвингом в юном возрасте. Потом он вырос, переехал в Манхэттен, поступил в колледж и стал тем мужчиной, каким вы его знаете. Это был долгий, суровый период его жизни, не согретой привязанностью какой-нибудь собаки. Впрочем, случалось, что, заходя в рестораны «Двадцать одно» либо к «Сарди», он натыкался на маленькое мохнатое существо с ошейником, украшенным самоцветами. Но ему никогда не приходило в голову назвать «это» собакой. Мой собственный опыт по части общения с собаками столь же скуден. Я выросла в предместье Филадельфии, и, к сожалению, мне выпало на долю водить дружбу с девочками, чьи отцы владели нефтяными скважинами либо принадлежали к клану Капоне, а посему эти несчастные создания были обречены кататься верхом на пони с Шетлендских островов. Так что, сами понимаете, мне приходилось имитировать чреватые травмами приступы эпилепсии. Кончилось тем, что мои родители и я поладили на коте персидской породы. Я привязалась к этому красавцу и посвятила ему две недели своей молодой, цветущей жизни. Однако вскоре неблагодарное животное, даже не попрощавшись, слиняло вслед за какой-то облезлой кошкой. Надеюсь, они жили долго и счастливо, потому что больше ни разу не попались мне на глаза. Эта измена явилась для меня таким ударом, что я исключила мир животных из сферы своих жизненных интересов и перенесла все свое внимание на толстого мальчика по имени Герман, который видел во мне чуть ли не Мисс Америку. Вот так и прошло мое детство. Никакой четвероногий друг не провожал меня из школы домой. Это была прерогатива Германа или его очередного заместителя. Наконец я явилась в Нью-Йорк – молодая, подающая надежды актриса, полная честолюбивых замыслов. А, как известно, молодые талантливые актрисы в первые годы больше топают пешком, чем играют на сцене. С девяти утра до пяти вечера они ухитряются обегать весь Бродвей в поисках продюсера или агента, который мог бы заинтересоваться ими. Так что, сами понимаете, меня отнюдь не прельщала перспектива дополнительной нагрузки по выгуливанию какого-нибудь четвероногого. А когда я наконец кое-чего достигла и могла выкроить время для собаки, подвернулся Ирвинг. Теперь вас ждет краткая, но исчерпывающая справка о нас с Ирвингом. Никаких разоблачений, связанных с тайной рождения. Никаких скрытых пороков. Просто два зрелых человека с сильными характерами, спаянные общей судьбой и общей профессией, заядлые обитатели гостиничных номеров, вечно курсирующие между Нью-Йорком и Калифорнией. Мы ни в чем не нуждались – ну разве что в более просторной кухне и дополнительном сне. Но уж в чем мы точно не нуждались, так это в пуделе. (обратно)Глава 2. КАК Я ПОПАЛАСЬ НА КРЮЧОК
Хотела бы я иметь право сказать, что это была чистая случайность или неисповедимая превратность судьбы. Что-нибудь вроде того, что я, мол, шла себе мирно по улице и за мной ни с того ни с сего увязалась бездомная собачонка. Но, во-первых, брошенные собаки не имеют обыкновения разгуливать по аллеям Центрального парка. А во-вторых, если бы за мной и впрямь увязался чей-либо заплутавший любимец, очень скоро за моей спиной раздались бы истошные вопли его хозяйки (или хозяина) и полицейские свистки. Так что если вашему взору представится такая картина: пудель тащится по пятам за каким-нибудь бедолагой, знайте – бедолага сам, по доброй воле, сунул голову в петлю. Потому что пудель не станет шнырять в поисках жертвы. Жертва сама гоняется за пуделем. А самовлюбленной личности, которая до сих пор не разделила все доступные ей мирские радости общения с пуделем и убеждена, что этого не случится впредь, я скажу лишь два слова в качестве дружеского напутствия: – Будьте бдительны! Иначе это свалится на вас как снег на голову. Достаточно одной-единственной встречи, и – хоп! – вы уже ощутили в себе «призвание», иначе говоря, горячее стремление бросить весь мир к четырем собачьим ногам и посвятить свою дальнейшую жизнь заботам о пуделе. То был обычный, ничем не примечательный день, такой же, как все остальные. Я пообедала со своей приятельницей Дороти Стрелсин, а после этого мы поехали к ней. Дороти хотела продемонстрировать мне свои новые приобретения из области живописи. Не успела она открыть дверь, как прямо ей под ноги бросилось крохотное мохнатое существо и принялось выражать свою радость, становясь на задние лапки. – Это Шалун, – нежно проворковала Дороти, беря на руки восторженное создание весом не более трех фунтов, которое в тот же миг начало покрывать ее лицо пылкими поцелуями. Я совершенно обалдела и добрых пять минут молча пережидала столь бурное изъявление любви. Наконец Дороти опустила собачку на пол, и мы прошли в гостиную, где Шалун снова принялся гарцевать перед нами на задних лапках, повизгивая от удовольствия. Муж моей приятельницы Альфред на мгновение оторвался от своего чтива, чтобы буркнуть: «Привет, дорогая! Привет, Джеки», – и снова уткнулся в газету, что абсолютно естественно и свойственно всем без исключения мужчинам. К примеру, если я поздно возвращаюсь домой и Ирвинг смотрит теленовости, он никогда не выдавит из себя: «Привет, дорогая!» – даже не заметит моего присутствия до тех пор, пока там, в ящике, Чет не пожелает доброй ночи Дэвиду, а Дэвид не произнесет в ответ: «Спокойной ночи, Чет!» Только тогда мой супруг повернется ко мне с дежурной улыбкой и откроет рот для вышеозначенного приветствия. Не то чтобы я что-то имела против слов: «Привет, дорогая!» Наоборот, их приятно слышать. А муж и вообще незаменимая вещь в доме. Но после того как я своими глазами видела встречу Дороти с Шалуном, мне захотелось чего-то не менее фанфароподобного. Чтобы и мне кто-либо со всех ног бросался навстречу с восторженными поцелуями, а потом неотвязно следовал за мной по квартире. Ирвинг при всей своей любви, органически не способен выделывать вокруг меня подобные па. Просто он не так устроен. И я стала задумываться. Предметом моих размышлений стали пудели. Дошло до того, что при виде пуделя я всякий раз останавливалась и провожала его взглядом. Чем дальше, тем больше я убеждалась в непреложной истине: каждый без исключения пудель боготворит своего хозяина. Вам наверняка приходилось наблюдать этот взгляд, полный слепого, нерассуждающего поклонения. Так начинающий художник взирает на полотно Рембрандта или Тициана. Так Лиз Тейлор смотрит на Ричарда Бартона, а Заза – на норковое манто. Я повадилась заглядывать в витрины зоомагазинов – отнюдь не как праздный зевака. Я ощутила себя потенциальным покупателем. Будем смотреть правде в глаза: я попалась на крючок! Мне по сей день трудно объяснить, как они этого добиваются. Возможно, это явление из области массового гипноза. Пудели ни на грош не верят в реальность атомной угрозы. Их кредо: «Умные и обаятельные завоюют весь мир!» Я начала всерьез охотиться за пуделем. Это было непросто. Собака не какой-нибудь «роллс-ройс» или соболья шуба, а нечто, вернее, некто, с кем вам придется долгие годы жить бок о бок. Заметьте, я сказала «вам придется», потому что сами они определенно не собираются приспосабливаться к нашему образу жизни. Я сразу же столкнулась с двумя серьезными трудностями. Трудность первая. Покупка пуделя, скажем, в магазине Вулворта, сильно отличается от приобретения канарейки. Пудели стоят от ста до шестисот долларов. Выход. Нужно отказаться от привычки раз в неделю принимать массаж. Каждый сеанс обходится в десять «баксов». За год я сэкономлю пятьсот долларов. Это не только даст мне возможность приобрести пуделя, но и обеспечит маленький годовой доход для его безбедного существования. Моей фигуре ничего не сделается – пудель сам позаботится об этом. Известно, что собаку необходимо регулярно выгуливать. Мы будем вместе совершать замечательные пешие прогулки по свежему морозцу в Центральном парке, карабкаться на холмы, собака станет гоняться за голубями, я – за собакой. Так что все будет в полном порядке! Трудность вторая. Ирвинг. Ирвинга трудно причислить к любителям животных. И если на свете есть порода собак, к которой Ирвинг относится с наименьшей симпатией, так это именно пудель. Он не забывал упоминать об этом всякий раз, когда соответствующая особь попадалась нам на глаза. Там, где мы живем, пуделей больше, чем людей. Выход. Его нет. Прожужжать все уши? Обратиться к молитве? Закатить истерику?.. Итак, в марте 1954 года я пустилась на поиски ничего не подозревающего представителя Расы Господ, который согласился бы владеть мною. (обратно)Глава 3. ПОИСКИ
Первые шаги. Узнать все о данной породе. Процедура. Сойтись с несколькими владельцами собак. Они охотно беседуют на эту тему. По правде говоря, других тем для них просто не существует. Предостережение. Избегать владельцев других собак. Иллюстрация. Одна моя приятельница, хозяйка йоркширского терьера, способна часами объяснять, почему пудель «не котируется». Хозяин таксы станет расписывать достоинства именно этой породы. И в довершение ко всему, всегда найдется паршивый тип, который примется на коленях умолять вас купить единственно заслуживающую внимания собаку – боксера. Вам только и останется, что беспомощно глазеть на отчаянно пускающий слюни предмет его гордости и выслушивать чепуху вроде того, что «боксер – это собака для настоящих мужчин». И не стоит недооценивать сообразительности этого монстра. Потому что в разгар беседы он вдруг пожелает скрепить сделку тем, что неожиданно прыгнет вам на колени и запечатлеет на вашем лице противный мокрый поцелуй. Единственное, что вы можете сделать, это кротко высвободить свои нос и рот из его мягких челюстей и чистосердечно засвидетельствовать неотразимое обаяние этого чудовища. Вряд ли у вас есть выбор: ведь он вдвое крупнее вас! Итак, все, что вам остается, это ловчить. Пообещайте хорошенько обдумать это предложение и незаметно отступайте к ближайшему выходу. Погладьте громадину по голове, выскользните за дверь – и спасайтесь бегством! Но даже если вы осторожны и держитесь поближе к владельцам пуделей, обстоятельства могут сложиться самым неблагоприятным для вас образом. Вас буквально забросают советами. Каждый считает себя крупным специалистом. Каждый доподлинно знает адрес единственного подходящего питомника в Уэстчестере, Дарьене или штате Нью-Йорк. У каждого – чистопородный пудель, настоящее чудо с документами, удостоверяющими, что он происходит от знаменитого Петит-Шери, чемпиона Англии, Франции и Западного Берлина. Если бы эти метрики не были фальшивыми, получалось бы, что вышеупомянутый чемпион не только заткнет за пояс короля Фарука по части плодовитости, но также может похвастать отвагой и неотразимостью покойного Эррола Флинна и гормонами Чарли Чаплина. Конечно, если у вас все в порядке с головой, вы не станете никого слушать. Просто создадите в уме желаемый образ пуделя и отправитесь на поиски. Что же касается меня, то я слушала всех и добросовестно вникала во все премудрости насчет размеров, конституции, окраса… Я пришла к окончательному решению методом исключения. Королевский пудель достигает слишком больших размеров. Вряд ли он поместится на нашей двуспальной кровати. Карликовые собачки бывают совершенно очаровательны. Вспомните Уилбура, выигравшего первый приз на выставке в Мэдисон-сквер-гарден. К сожалению, не все они похожи на Уилбура. Во всяком случае, те, что попадались мне на улице, имели такой вид, будто у них не в порядке щитовидная железа. К тому же я была не в восторге от их окраса. Озарение снизошло на меня в вестибюле нашего отеля, когда я увидела Талулу. Она сидела на коленях у коридорного и лизала его руку, а он ласково почесывал у нее за ушком. Это была белоснежная особь с черной бородкой и черным ухом. Как раз то, что мне нужно! Ярко, но не кричаще. Я спросила коридорного, где он ее купил. Юноша с явным неодобрением посмотрел на меня. – Миссис Мэнсфилд, Талула – неплохая собака и все такое. Но вряд ли она вам подойдет. Она же бракованная. Я не поняла, что значит «бракованная», и решила, что речь идет о какой-нибудь болезни. Так и вышло. Только болезнь оказалась социальной и носит название «снобизм». Известно ли вам, что и среди собак существует сегрегация? Я лично считаю это возмутительным, но кто я такая, чтобы идти против Американского клуба собаководов (сокращенно АКС), который ни за что не позволит разношерстному пуделю попасть на выставку? Пудель обязан быть полностью черным или полностью белым, коричневым, серым, шоколадным, абрикосовым – лишь бы какого-нибудь одного цвета. Наверное, первоначально все пудели были белыми, черными, ну, может быть, еще коричневыми. Вот три основных цвета. (Могла ли норка думать, что в процессе селекции она станет цвета лаванды?) То же самое с пуделями. Они жили себе – белые, черные, коричневые, – пока какому-то селекционеру с пылким воображением не пришло в голову вмешаться в естественный ход вещей. И он скрестил черного с белым. Вуаля! Родились серые дети. Тогда он скрестил серых с белыми. Угадайте, что получилось? Серебристо-серые! Белый с коричневым дали потомство цвета какао. Естественно, на каком-то этапе должен был появиться брак: белый экземпляр с коричневым ухом. Зато его братик и сестричка вышли априкотами – натурального абрикосового цвета. Приходилось идти на издержки. Разумеется, это не значит, что бело-коричневый симпатяга непременно подлежал утоплению или его бросали одного в сердце пустыни. Не стоит понимать так буквально. В конце концов, его тоже можно держать как домашнего любимца, но до конца своих дней он останется не признанным Американским клубом собаководов. А это знаете, какая моральная травма для бедной псины? Даже если хозяин скрывает от нее такое пятно в ее биографии, первый попавшийся горластый пудель на улице не задумается выложить ей правду-матку! Находятся подвижники, которые уходит в глубокое подполье, дабы избежать нежелательных встреч. Иногда они забрасывают петициями своего сенатора, требуя равноправия для разношерстных пуделей. Однако на данный момент о каком-либо прогрессе в умонастроениях АКС говорить не приходится. Остается добавить, что пятнистые экземпляры встречаются чрезвычайно редко; их не очень-то любят выставлять в зоомагазинах. Пришлось исключить их из списка. Черного пуделя я не хотела, а белого трудно содержать в идеальной чистоте. Коричневые не вызывали в моей душе ни малейшего трепета. Оставались еще абрикосовые, серебристые, бежевые и даже цвета фуксии. Я приняла окончательное решение, когда познакомилась с Растяпой. Это был очаровательный, ухоженный экземпляр с серебристой шубкой. Его хозяйка, Эдит Катлоу, заверила меня, что мать Растяпы примерно через семь месяцев принесет новых щенков, а пока я могу записаться на очередь. К несчастью, я не отличаюсь особым терпением и не умею довольствоваться своей фамилией в списке. Меня не устраивает сидеть сложа руки и ждать, когда родится мой пудель. Я просто нутром чуяла: в этот самый момент он уже где-то существует и ждет, чтобы я нашла его. Что я и собиралась сделать. Естественно, мне хотелось, чтобы это был «он» – парень-холостяк, способный заменить Ирвингу сына и товарища. А не какая-нибудь барышня, которая того и гляди превратит его в дедушку – и не один раз. (обратно)Глава 4. ПУДЕЛЬ И Я
После того как я познакомилась с Растяпой и окончательно определилась относительно размеров и окраса, я была уверена, что дальше все пойдет как по маслу. В один прекрасный день я, пританцовывая, выйду из дома с чеком в одной руке, а вернусь с пуделем в другой. Однако все оказалось гораздо сложнее. Я узнала, что собаки, выставляемые в витринах зоомагазина, предназначаются в основном для туристов, а «свои» наведываются в специальные питомники. Поэтому я взяла список и, сев за телефон, стала методично названивать в алфавитном порядке. Моей первой собеседницей оказалась миссис Аддисон из Уэстчестера. Я сообщила, что хотела бы подъехать вечерком и выбрать очаровательного серебристого пуделя. – Минуточку, – остановила меня миссис Аддисон. Как выяснилось, прежде чем разрешить мне бросить взгляд на вожделенного пуделя, она намерена задать мне несколько вопросов из числа рядовых. Например: кто может меня рекомендовать? Каково мое вероисповедание? Как я отношусь к сенатору Барри Голдуотеру? Я уже решила, что справилась с экзаменом, как последовал новый вопрос: собираюсь ли я демонстрировать пуделя? Я заверила миссис Аддисон, что, конечно, буду показывать его всем знакомым. Не для того же я его покупаю, чтобы прятать в кладовке. Это привело миссис Аддисон в состояние некоторого раздражения, и она покровительственным тоном уточнила: – Я хочу знать, будет ли собака участвовать в шоу? Мне польстило, что, по-видимому, миссис Аддисон видела меня в телепередаче и даже принадлежала к числу моих поклонников. Но почему люди вечно лезут не в свое дело? Наверное, мне самой решать, есть у моего пуделя актерские способности или нет. Поэтому я осторожно ответила, что, возможно, он и будет изредка появляться вместе со мной на телеэкране, однако в настоящий момент я не готова дать ему на подпись составленный по всем правилам контракт. Миссис Аддисон проворчала, что вовсе не имела в виду телевизионные шоу. Далее следовала бессмертная фраза: – Мы с мистером Аддисоном ни за что не потерпим телевизор в доме. Даже наши дети считают это бессмысленной тратой времени. Потом эта милая женщина популярно объяснила, что под шоу она подразумевала собачьи выставки. И состязания на ринге. Пришлось признаться, что мои представления об этом виде спорта не идут дальше телефильмов о Лэсси и я предпочла бы этим ограничиться. Даже по телефону чувствовалось, что миссис Аддисон пришла в сильное возбуждение. По-видимому, ее душил гнев, потому что когда она заговорила, я услышала какое-то бульканье. – Если вы не собираетесь его выставлять, зачем вам нужен пудель из питомника Аддисонов? Когда я ответила, что для своего удовольствия, она повесила трубку. Что ж, пришлось вернуться к моему алфавитному списку. Когда я дошла до буквы «В», мисс Восгоув попыталась мне втолковать, что если я мечтаю о домашнем любимце, мне лучше всего завести канарейку. Я чувствовала себя совершенно измочаленной, когда наконец, добралась до мистера Зюссмана. Он также настаивал на выставках, но, будучи от природы добрым человеком, к тому же ничего не имевшим против телевидения, попытался объяснить мне, какое это удовольствие – принимать участие в собачьих выставках. Здесь нет ничего сложного. Мне ничего не оставалось, как слушать. Он шел последним в моем списке. Насколько я поняла, порядок такой. Первым делом вы регистрируете животное в АКС (как ни сокращай это название, а без него никуда). Необходимо предложить на выбор несколько имен. Потому что если так уже назвали какую-нибудь собаку, ваш номер не пройдет. Имена не должны повторяться. (С этим-то я как раз согласна. У Гильдии актеров и Ассоциации театральных деятелей те же правила.) Далее следует школа, сообщил мистер Зюссман. Собака должна научиться правильно двигаться. (Все те псы, что попадаются вам на улице, только думают, что умеют двигаться. На самом деле они жалкие дилетанты в сравнении со щенками, окончившими школу.) Необходимо держать хвост под определенным углом. И голову – соответствующим образом. Есть несколько видов походки: прогулочная, рысь… На их освоение уходит около шести месяцев. Я слушала и со всем соглашалась, время от времени подбадривая мистера Зюссмана восклицаниями типа: «Да что вы говорите!» или «Как интересно!». В конце концов, это не слишком отличалось от школ красоты. У меня будет прекрасно воспитанный пудель с изысканными манерами. Следующая реплика мистера Зюссмана произвела на меня впечатление разорвавшейся бомбы: – Естественно, вы должны посещать занятия вместе с пуделем. С одной стороны, я и не ожидала, что собака будет сама ходить в школу и носить ранец с учебниками, а с другой – никак не думала, что мне придется высиживать на занятиях. Неужели нельзя развозить собак по домам на автобусе, как это практикуется с детишками? Мистер Зюссман рассеял мрак моего невежества: – Но ведь и вы должны научиться правильно двигаться! Не больше и не меньше! Я довела до его сведения, что хотя моя походка вряд ли может составить конкуренцию легкой поступи Брижитт Бардо, однако мне доводилось появляться в нескольких спектаклях на Бродвее и я еще ни разу не наткнулась на мебель. И хотя перед телекамерой я обычно сижу, все же мне случалось и пройти несколько шагов в том или ином направлении. Как я уже сказала, мистер Зюссман оказался исключительно терпеливым и доброжелательным человеком. Он растолковал, что мне следует освоить особый вид походки – на выставочном ринге. Другими словами, собака существует не сама по себе. Звезда-то, конечно, она, но и ее, как всякую королеву, «делает свита». Мистер Зюссман постарался довести до моего сознания, как бы это выглядело, если бы собака шествовала с достоинством герцогини, однако не получила приз из-за промахов второго участника. Конечно, если я окажусь неспособной, всегда можно кого-нибудь нанять. Ну уж кет! Я сама прошла весь путь от ранних шоу Милтона Берля до финишной черты, и уж чем-чем, а собачьим рингом меня не испугаешь! Буду решать проблемы по мере их поступления. Сначала – о главном. Я спросила мистера Зюссмана, можно ли приехать завтра. При этом добавила: – И проследите, пожалуйста, за тем, чтобы у щенка были усики и бородка. Терпеть не могу гладко выбритые морды. На этот раз замялся мистер Зюссман. – Усы и борода? Вы имеете в виду голландскую стрижку? – Ну да, конечно, с густой шерстью в передней части туловища и сзади. – Забудьте об этом, – печально вымолвил мистер Зюссман. – О чем забыть? – О голландской стрижке. Собака, которая выставляется на ринге, может иметь только «шоу-клип» – специальную выставочную прическу. Я спросила, как она выглядит. Мистер Зюссман объяснил. Лучше бы я не спрашивала. Мне приходилось видеть «шоу-клип» на нескольких нервных, замордованных пуделях. Тех самых, при виде которых вас бросает в дрожь и из глубины вашей души рвутся слова: «Господи! За что?» Голова такого пуделя покрыта густой шапкой, похожей на львиную гриву, из которой торчит жалкая голая мордочка. Корпус от талии и ниже начисто оголен, за исключением смехотворных манжет на ногах и помпончика на хвосте. Поэтому, когда солнце скрылось за знаменитыми нью-йоркскими небоскребами, я распрощалась с мистером Зюссманом и положила трубку. Сказать, что я была обескуражена, значило бы ничего не сказать. Меня била истерика. Немного придя в себя, я обзвонила всех своих так называемых друзей, от которых я получила все эти телефоны, и потребовала объяснить, как это они ухитряются разгуливать с собаками, подстриженными на голландский манер, если приобрели этих собак в вышеозначенных питомниках. Естественно, у всех нашлось алиби. Одни заверяли меня, что не обращались непосредственно в питомник, а обзавелись детьми собак, в свое время взятых в питомнике их знакомыми. Другие клялись, что прошли курс обучения и даже получили свидетельства о победах их пуделей на различных выставках. Нигде же не написано, что после участия в соревнованиях собака не имеет права выйти в отставку. Тогда ей не возбраняется иметь вполне цивильный вид: отрастить шерсть и разгуливать где вздумается в качестве почетного ветерана. Казалось, у меня не было другого выхода, как сидеть сложа руки и ждать, пока мать щенка Эдит Катлоу заведет новый роман. Но тут как раз Джойс Мэтьюз, по мужу миссис Билли Роуз, подгадала вернуться из Европы. А у Джойс был пудель, которого Билли подарил ей в прошлом году. Тогда я еще не была помешана на пуделях и ограничилась тем, что погладила его по голове и проследила взглядом, как этот маленький пушистый комочек выкатился из комнаты. Это был настоящий подарок судьбы! По моим расчетам пудель Джойс уже стал взрослым, а его хозяйка успела получить ответы на все вопросы. Причем я что-то не припомню, чтобы она или Билли утруждали себя посещением каких-то занятий. И уж если у Джойс есть пудель, то, конечно, не лишь бы что. Всем известно, что Билли окружает себя только превосходными вещами. У него самый большой дом в Нью-Йорке. Если зимой на него находит блажь погреться на солнышке, он не валяет дурака и не едет во Флориду, а покупает солидный участок земли в Британской Вест-Индии. Если же речь идет о летнем отдыхе, он приобретает не просто поместье, а целый остров. У Билли безупречный вкус. Если у него дома висит Ван Гог, можете быть уверены: это не какая-то грошовая копия. А если на доставшемся ему столовом серебре Генриха VIII обнаружится трещинка, знайте: это дело рук Генриха, а не Билли. Ездит он исключительно на «роллс-ройсе». А когда задумал жениться, то его выбор пал на Джойс Мэтьюз, одну из красивейших девушек в мире. Причем даже здесь он всех переплюнул, женившись на ней дважды (во всяком случае, новых сведений на этот счет пока не поступало). То-то и оно! Кто, как не Билли, даст мне исчерпывающую информацию о пуделе? Наверняка пуделю передались многие из его достоинств. Причем Билли не такой человек, чтобы перед покупкой пуделя брать на себя какие-либо обязательства. Он поможет мне обезвредить миссис Аддисон и всю ее клику. Я не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу же позвонила Джойс. Она спокойно выслушала мой отчет о телефонном разговоре с дамой из Уэстчестера. Как ни странно, оказалось, что Джойс знает эту женщину и считает ее бездушной куклой. Однако настоящая злодейка – заводчица из Уилтона. И уж, во всяком случае, мне никак нельзя было обращаться к миссис Додж-Хиггингс. Джойс сама через все это прошла, почему в конце концов и поручила это дело Билли. В молодости, когда он содержал несколько ночных клубов, ему частенько приходилось иметь дело с разными знаменитостями из числа «неприкасаемых». При необходимости он расправлялся с ними в два счета. А чтобы вы не подумали, что Билли зверь, а не человек и состоит из одних мускулов, напомню, что он в равной степени чувствует себя своим в лучших картинных галереях мира. История с покупкой пуделя также свидетельствует в его пользу. Билли не выбросил белый флаг. Не позднее чем через час после «заключения контракта» он явился домой с пуделем. Как это ему удалось? Да очень просто: он отправился в зоомагазин и купил собаку. Он обошелся без нотаций миссис Аддисон и подробнейших рекомендаций АКС. Продюсер, который возрождал театры и приспосабливал для жизни дома и острова; человек, наделенный недюжинным художественным чутьем, он был способен по достоинству оценить пуделя, когда тот попадет в поле его зрения. Я спросила, не будет ли Билли так добр пойти вместе со мной в магазин и помочь мне выбрать собаку. – Конечно, если хочешь… – однако голос Джойс звучал не слишком уверенно. Я изъявила желание взглянуть на результат его трудов – теперь уже взрослую собаку. Джойс пригласила меня к себе – прямо сейчас. Они с пуделем как раз собирались провести этот день дома. Когда я приехала, Джойс была в спальне – распаковывала чемоданы. Пуделя нигде не было видно. Джойс попросила горничную привести его. Та обомлела: – Вы поручаете это мне?! Джойс кивнула. Служанка бросила на нее тревожный взгляд и удалилась. Я поинтересовалась, как Джойс назвала пуделя. Оказалось, что до этого у нее еще не дошли руки. – Но он уже целый год живет у вас! Джойс объяснила: – Видишь ли, имя должно подходить собаке, соответствовать ее внешности и душевным качествам. Может быть, ты что-нибудь придумаешь? Я, честно говоря, не в состоянии. Наконец вернулась горничная, волоча по полу нечто напоминающее крокодила. «Нечто» шустро вспрыгнуло на кровать, опрокинув при этом всего лишь торшер и ночную тумбочку. – Он очень вырос, – вежливо заметила я. Джойс кивнула. Если верить документам, пес был карликом чистейших кровей. Однако у него было свое мнение на этот счет, и он вознамерился подрасти. Причем рост шел неравномерно. У него оказались стандартная голова, почти стандартный корпус и ноги таксы. К тому же он уделял столько внимания росту, что совсем позабыл о шубке. Поэтому его туловище было местами покрыто островками траченной молью шерсти, которая сошла бы для эрдельтерьера, но на пуделе смотрелась довольно-таки экстравагантно. – Билли отказывается признавать свою ошибку, – констатировала Джойс. – Он утверждает, что это просто такой период, а потом гадкий утенок превратится в прекрасного лебедя. Ее голосу явно недоставало убежденности. Я почувствовала себя обязанной что-нибудь сказать. – У него красивые глаза. Псина так и вылупилась на меня. – Как бы его назвать? – озабоченно пробормотала Джойс – Может, Пушок? Или Шарик? Псина изобразила отвращение и сиганула под кровать. Я предложила избрать какое-нибудь французское имя, возможно, литературного героя. Естественно, Квазимодо было первым, что пришло Джойс в голову. Я возразила, что ему больше подходит Тулуз-Лотрек. По выражению лица Джойс я поняла, что попала не в бровь, а в глаз. – Тулуз, – она задумчиво попробовала слово на вкус. Потом поскребла по полу. – Тулуз, ты где? Отныне у тебя есть имя! Только что подвергшийся крещению пес отлично прижился под кроватью, где он с большим удовольствием грыз одну из моих лайковых перчаток. Я попыталась отобрать ее, но услышала грозное рычание. – Не волнуйся, – успокоила меня Джойс. – Ему не повредит. У него луженый желудок. Мне показалось, что она произнесла это с материнской гордостью. – У него не было ни одной из обычных детских болезней, – продолжала Джойс – Даже когда он сломал ногу, гипс не помешал ему перепортить всю мебель в доме. Мне стало ясно: каким бы он ни был уродом, это все-таки был ее пес, и Джойс привязалась к нему. Шуточки по поводу его внешности были всего лишь ширмой. На самом деле ей хотелось верить, что рано или поздно Тулуз станет походить на других собак. Будучи хорошей подругой, я без зазрения совести врала и докатилась до заявления о том, что при более близком знакомстве пудель существенно выигрывает. Ах, он очаровашка! Кажется, это было уж слишком, но Джойс ничего не заметила. С минуту она задумчиво смотрела на меня, а затем выплеснула на меня долго сдерживаемые чувства, поведала обо всех унижениях, которые ей пришлось вынести, несмотря на любовь. Всякий раз, когда она выводила пуделя на прогулку, повторялась одна и та же история. Люди таращили глаза сначала на пуделя, потом на его хозяйку и спрашивали: «Что это?» Особенной жестокостью отличались официанты и гардеробщики в ресторанах. Взять хотя бы «Двадцать одно». В роскошной комнате ожидания нередко можно встретить пуделя в бантиках и драгоценных камнях, привязанного к стулу в ожидании хозяев, пока они обедают в зале. Естественно, Джойс тоже однажды явилась туда со своим питомцем. Ее встретили привычные возгласы отвращения, сакраментальное «Что это?» и изумленные взгляды. Только в «Двадцать одном» это приняло характер гротеска. Джойс выказала вообще-то несвойственную ей браваду, и гардеробщику ничего не оставалось, как безропотно принять нового гостя и привязать к стулу, как нормального пуделя. Но Джойс не проведешь. Она прекрасно знает правила, согласно которым общество делится на касты. Это все равно что знать, кому и по какой стороне улицы положено ходить в «Эль-Марокко». Но что она могла поделать, кроме как беспомощно следить за тем, как наглый служитель привязывает ее любимца к стулу в глубине комнаты, тогда как более элегантные особи расположились в передних рядах, где еще оставались незанятые стулья. Мне стало жалко Джойс и Тулуза, и я поступила так, как поступают настоящие друзья: погладила его по голове и скормила на десерт вторую перчатку. Однако это не решило мою проблему: я по-прежнему оставалась без пуделя. Джойс внесла предложение, чтобы я сходила в магазин и купила годовалого щенка. Хоть какая-то гарантия! Однако я воспротивилась. Известно, что при усыновлении рекомендуется брать младенца в возрасте пяти или шести дней. Тогда он действительно ваш и иногда даже вырастает похожим на вас, вашего мужа или тетушку Эмму. Конечно, существует определенный риск. У всякого новорожденного нос пуговкой и нет ни одного зуба. Что если у него нос, как у Сирано? Достаточно обратиться к хирургу, чтобы тот сделал ему пластическую операцию. А коли зубы похожи на молоточки пианино, можно поставить пластинку или, на худой случай, мост. В наши дни красота продается и покупается. И потом, всегда может случиться, что ваша собственная плоть и кровь уродится в какого-нибудь страшненького кузена со стороны мужа. Дети – это сплошной риск. Не станешь ведь двадцать или более лет сидеть и ждать, что вырастет из милого проказника, прежде чем оформить усыновление. То же и с пуделями. Так что я решила рискнуть. Я не лелеяла в душе честолюбивые мечты, что он будет походить на меня или на Ирвинга. Для начала меня устроило бы, если он вырастет похожим на пуделя. Я сказала себе, что ничего не случится, если я загляну в зоомагазин. Конечно, знакомство с Тулузом несколько отбило у меня охоту к скоропалительным решениям. Вероятно, в конце концов придется смириться со школой и дамой из Уэстчестера. Мне нужен пудель, которого в «Двадцать одном» станут привязывать к стулу в партере, а не на галерке. Я заняла в первый попавшийся зоомагазин, тот, что какое-то время был закрыт, но как раз в этот день его витрины ломились от щенков пуделя. Ни один трехмесячный щенок не выглядит как настоящий пудель. Это просто забавные комочки шерсти. И все обещают стать красавцами. Но меня постоянно преследовал светлый образ Тулуза. Я решила не поддаваться гипнозу и не позволять этим пушистым комочкам сбить меня с толку. Я сразу же поставила владельца магазина в известность о том, что «просто зашла посмотреть» и что меня интересует серебристый малыш мужского пола. Он выпустил передо мной на пол несколько черных мохнатых шариков. Я напомнила, что ищу пуделя серебристого цвета. В ответ торговец раздвинул на одном щенке шерсть, и я убедилась, что у него серебристые корни. Все равно что отросшие волосы крашеной блондинки, только наоборот. Оказалось, что серебристые пудели рождаются черными. Все они были очень милы, но внутри у меня как-то ничего не дрогнуло. Я ожидала некоего таинственного зова – как только подвернется тот самый пудель. Ну, вроде того, что как только наши взгляды встретятся, между нами возникнет нерасторжимая связь. Я так и выложила торговцу, а он буркнул в ответ, что имел дело с сотнями пуделей, по многу раз на дню смотрел им в глаза – и ни разу не почувствовал никакого такого «зова». Так не бывает. Просто вам нравится собака, вас устраивают ее внешний вид и родословная, а уж потом, прожив какое-то время вместе, вы начинаете что-то чувствовать. Он показал мне документы. Все это выглядело в высшей степени правдоподобно, но я напомнила себе, что документы Тулуза тоже были в полном порядке, и уже начала подыскивать подходящий предлог, чтобы улизнуть. С этой целью я немного попятилась назад, туда, где у стены стояло несколько боксов со щенками, и пробормотала, что все они просто прелесть, но мне нужна ночь на размышление. Владелец магазина упорно продолжал демонстрировать мне одного, на его взгляд, совершенно замечательного щенка. Он заставил меня пробежаться пальцами по его шерстке. Я подтвердила, что собака – высший класс, но мне нужно хорошенько все взвесить. Он предупредил, что до завтра щенок может быть продан. Как вдруг что-то высунулось из клетки и легонько коснулось моего плеча. Я обернулась и увидела крохотную лапку, которая нежно, как бы играя, дотронулась до меня. Я спросила торговца, что это такое. Он объяснил, что это пудель, олицетворяющий собой все то, что меня никоим образом не устраивает. Начать с того, что щенок был абсолютно черным. Его мать была из породы средних, зато отец был карликом, поэтому их отпрыск скорее всего достигнет чуть меньше среднего роста, но и не будет совсем карликом. К тому же это была девочка. Смешно обращать на нее внимание. Торговец с удвоенной энергией продолжал расхваливать щенка, которого показывал мне перед этим, на все лады превознося его достоинства. Я попросила показать того, который меня «никоим образом не устраивал». Он пропустил мою просьбу мимо ушей и немного сбавил цену за того щенка, которого пытался мне навязать. Я настаивала. Торговец презрительно пожал плечами и достал пуделя из бокса, пробормотав, что это пустая трата времени: это по всем параметрам «не мой» щенок. Я ни за что не остановлю на нем свой выбор. Я возразила, что пудель сам выбрал меня. Владелец зоомагазина опустил его на пол, где уже копошились другие щенки, чуть ли не вдвое превосходившие его размерами. «Оно» немедленно подскочило и завладело мячиком, которым они играли. Трое «серебристых» ринулись в контрнаступление. «Оно» замерло с мячиком во рту и угрожающе выставило лапку. Собаки отпрянули. Тогда «оно» повернулось ко мне, как бы ожидая моего одобрения. Более того, щенок положил мячик у моих ног. Я взяла его на руки, и он начал лизать мне щеку маленьким шершавым язычком. Владелец магазина сказал, что собака слишком молода и неизвестно, что из нее вырастет. Ей только восемь недель от роду. Вполне возможно, это будет бесформенная туша. Перед моим мысленным взором промелькнуло цветное видение Тулуза. Этот человек, напомнила я себе, совершенно объективен. Пушистые комочки неизбежно вырастают. Нельзя позволить сбить себя с толку несколькими умильными поцелуями. Я же не собиралась покупать черного пуделя, к тому же женского пола. – Я все хорошо обдумала и беру эту собаку. Владелец магазина почему-то засуетился; выражение его лица и повадка претерпели странные изменения. Он сообщил, что к концу недели ожидает пополнения. Это будут изумительные серебристые щенки. Почему бы мне не подойти к концу недели? И он протянул руку за крохотным черным комочком. Я отпрянула. Щенок вознаградил меня нежным поцелуем. Я осведомилась, сколько он стоит. Цена оказалась равной годовой ренте. Я заявила, что это немыслимая сумма. Торговец согласился и вновь потянулся за щенком. Я неотдавала. Пудель лизнул мне щеку. Мы явно оказались в тупике. – Слушайте, леди, – проревел торговец, – у собаки на шее нет ценника. Я вам ее не навязываю. Либо вы платите, либо до свидания. – Но это неслыханная цена за маленькую девочку. Он выразил согласие. Тогда-то правда и выплыла наружу. Оказалось, что он действительно не собирался продавать этот экземпляр. Пуделюшка происходит из семьи, которая славится замечательным мехом. Он хотел подержать ее у себя и получить потомство. Щенки должны были принести ему солидный доход. Особенно если скрестить ее с той-пуделем. Родятся крохотные, поистине игрушечные пудельки с густой шерстью. Я посмотрела на бедную крошку, уже приговоренную к участи королевы борделя, обреченную стать живым конвейером по производству детей для этого ужасного человека. Я вырву невинного ангела из рук злодея! И я подняла шум не хуже базарной торговки на французском блошином рынке. Торговец домашними животными не отставал от меня. Собаки принялись гавкать, а люди – собираться в толпу. Но у меня не было выбора. Денег катастрофически не хватало, но я твердо решила не допустить, чтобы мой ангел угодил в рабство. Торговец сбавил цену на пятьдесят долларов. К этому времени голосили не только собаки, но и канарейки. Мне все еще недоставало двадцати пяти долларов. Но я стояла насмерть. Мой враг заявил, что имеет право заломить любую цену за такую чудесную шубку. С этими словами он попытался отобрать у меня пуделя. «Чудесная шубка» вонзила ему в руку два острых маленьких зубика. Он скостил двадцать пять долларов и выразил надежду никогда больше с нами не встречаться. Я передала ему чек, спрятала собачку под пальто и ринулась ловить такси, чтобы отвезти ее домой. Наконец-то я нашла своего пуделя! Разумеется, в душе я знала, что это не так. Милая крошка с неделю или больше отсиживалась в боксе, выбирая себе родителей. И выбрала! (обратно)Глава 5. СВЯТАЯ ТРОИЦА
Страха не было до тех пор, пока я не добралась до своей квартиры и не водрузила свое сокровище посреди гостиной. Тут-то тихий внутренний голос и забил тревогу: «Что же дальше?» В самом деле – что дальше? Я только что разорвала отношения с банком «Чейз Манхэттен», закрыв счет, чтобы заплатить за чудесные три фунта мяса и шерсти, и не собиралась об этом жалеть, потому что прониклась страстной любовью к своему пуделю. А пудель – ко мне. Это все, что мне было известно. И вдруг меня словно толкнуло. Поскольку о нас с владельцем зоомагазина вряд ли можно сказать, что мы расстались как лучшие друзья, я не успела выяснить кое-какие жизненно важные вещи. Например, чем кормить мою любимицу и как часто это следует делать. И потом… Ирвинг! Он все еще не подозревал, какое счастье его ожидает. Как он к этому отнесется? На свою беду, я обладаю слишком живым воображением, так что явственно представила себе его реакцию. Я решила, несмотря ни на что, позвонить владельцу зоомагазина. Пускай себе орет, я тоже не лыком шита. Этот скандал будет генеральной репетицией перед решающей схваткой с Ирвингом. Однако начало разговора оказалось куда приятнее, чем я могла ожидать. Торговец выразил удовлетворение моим звонком и спросил мой адрес. Я поинтересовалась, зачем он ему нужен. Все-таки это Нью-Йорк, осторожность не помешает. Он ответил: – Разве вам не нужны ее документы? И бланк Американского клуба собаководов? Вы что же, не собираетесь ее регистрировать? Я пробормотала что-то в том роде, что мне все равно. – Но без регистрации в АКС вы не сможете подобрать ей достойного партнера, от которого она принесет потомство. Потомство! А у нее еще не все зубы выросли! Какое счастье, что я вырвала мою крошку из рук сексуального маньяка! В его голосе послышались умоляющие нотки: – Леди, когда вы все же решите выдать ее замуж, не могли бы вы предоставить нашему магазину преимущество в приобретении щенков из помета? И очень вас прошу, не забудьте проконсультироваться с нами при выборе партнера. Я сказала, что все это – отдаленное будущее, а сейчас меня больше всего волнует настоящее. Например, что приготовить этой сирене на завтрак? Мне ответили: – Сильно измельченное мясо с молочной смесью. – На завтрак?! – И на ленч, и на обед, и на ужин. Ее следует кормить четыре раза в день. Значит, придется крутиться. И все-таки не стоит забывать о главной трудности. Папочка скоро придет домой. Она должна произвести на него благоприятное впечатление. Очень важно правильно выбрать тон. К примеру, в ювелирном магазине Тиффани помещают в витрину всего один бриллиант на черном бархате – и все. Я положила свою жемчужину на диван в гостиной и поняла, что выбор неудачен: черное на черном. Пожалуй, здесь больше подойдет белое муаровое покрывало на нашей двуспальной кровати. Я отнесла пуделюшку в спальню и поместила в центре нашего ложа. Она вытянулась и перевернулась на спину, как маленькая принцесса. Она и есть принцесса! Маленькая француженка! Я моментально придумала для нее имя: Жозефина! В следующую секунду она облегчилась прямо на муаровое покрывало. Я приказала себе не паниковать. У нас есть чудодейственный пятновыводитель. Покрывало снова станет как новенькое. Я сорвала его с кровати и сунула в кладовку. Мы вернулись в гостиную. Я села на стул и положила ее себе на колени. Не столь эффектно, как белый муар, но тоже недурной фон. Через десять минут мне пришлось переодеться и всерьез озаботиться состоянием ее почек. Спустя какой-нибудь час наш интерьер претерпел значительные изменения. Ковры были устланы газетами. Я убрала с пола тапочки, телефонный шнур и вообще все, что можно жевать. Мы с Жозефиной устроились в центре гостиной в ожидании Ирвинга, который должен был вот-вот вернуться домой и узреть все это великолепие. Однако из всех дней он выбрал именно сегодняшний, чтобы задержаться на работе. События же развивались таким образом, что я уже начала опасаться, что Жозефина не доживет до радостной встречи. Выяснилось, что компания для нее важнее всего на свете. Стоило мне опуститься на стул в гостиной, как она немедленно устраивалась у меня на ноге и впадала в спячку. Не проходило и двух минут, как звонил телефон и я бросалась к нему. Жозефина вскакивала и следовала за мной, время от времени делая остановки, чтобы облегчиться на случайно выглянувший из-под газет уголок ковра. Потом она снова торжественно забиралась на мою ногу и в тот же миг засыпала. Я бормотала извинения и вскакивала, чтобы замыть ковер. Жози бросалась помогать: утаскивала губку, опрокидывала кувшин с водой, играла моей юбкой. Как-то я побежала на кухню за тряпкой и в первый раз обнаружила, что ее нет рядом. Побивая все рекорды, я ринулась в спальню и успела разглядеть, как Жозефина догрызает кусочек мыла. Губки нигде не было видно, но по следам на ее мордочке я догадалась, что Жозефина воспользовалась ею для возбуждения аппетита. Наконец мы вернулись на стул в гостиной, и она вновь продемонстрировала вторую свою потрясающую способность: мгновенно засыпать. Заверещал телефон, однако на сей раз я не стала снимать трубку, и примерно десять минут мы наслаждались относительным покоем. Потом Жозефину вырвало мылом. Она также изрыгнула из себя клочки губки. Снова очутившись в гостиной, мы как бы устроили соревнование: кто первым отключится. И вдруг я услышала звук ключа, поворачиваемого в замке. Ирвинг! У него был явно удачный день: я сразу поняла это по тому, как он весело насвистывал. Я сидела как вкопанная. Жози слезла с моей туфли и проковыляла в прихожую: посмотреть, что там такое. Свист резко прекратился. Ирвинг медленно вошел в гостиную. Я произнесла фальцетом: – Жози, а вот и папочка! Она сразу сообразила, что к чему, и с такой скоростью устремилась к нему, что не удержалась на ногах и перекувырнулась. Ирвинг застыл как изваяние. Жози пустила в ход все свои чары и обрушила на него целый каскад трюков. Она жевала шнурки от его ботинок. Переворачивалась на спину. Играла с его брюками в «полицейские-воры». И под занавес напустила лужу на газету. Наконец к Ирвингу вернулся дар речи, и он выдавил из себя: – Что это такое? И чье? (Интересно, как он себе это представляет? Станет чужой пудель бросаться к нему по слову «папочка»?) Я похлопала ресницами и, оставив позади Арлин Френсис по части очарования, проворковала: – Наше, родной. В ответ я услышала: – Чтобы я этого больше не видел! – И он протопал в спальню. Что ж, я знала, на что иду. Я приготовила отличный скотч – как раз по его вкусу – и отнесла в спальню. После чего разыграла целую мелодраму, стараясь довести до его сведения, сколько радости пудель может привнести в нашу суровую жизнь. Ирвинг сказал, что он боится задеть мои чувства, но меньше всего ему хочется купаться в лучах преданности пуделя. Я подарила ему жизнерадостную улыбку (теперь вы убедились, что я внимательнейшим образом изучила книгу Арлин Френсис. Ее советы по части обаяния помогают растопить ледяные глыбы. Только не сердце Ирвинга). Потратив десять минут на бесплодные уговоры, я плюнула на обаяние и повела себя естественным образом, то есть закатила истерику. Нельзя сказать, что я добилась успеха, но по крайней мере мне удалось завладеть его вниманием. Следующие десять минут Ирвинг утешал меня заверениями в своей неизменной любви. Конечно, он не выбросит беспомощного щенка на улицу – во всяком случае, сегодня вечером. Но завтра он отдаст его Флоренс Ластинг – для ее дорогого мальчика. Собака обретет настоящий дом, а я смогу навещать ее, когда захочу. Ирвинг зажег для меня сигарету и счел инцидент исчерпанным. Решение было найдено, и он мог благодушно вернуться к своим газетам и напитку. Но я по-прежнему омрачала его радость тем, что стояла рядом и с немым укором смотрела на него. Он отложил газету и не допускающим возражений тоном произнес: – Послушай, Джеки, он не останется в этом доме. И никакие слезы не заставят меня изменить решение. Я твердо встретила его вызывающий взгляд. В глубине души я понимала: Ирвинг прав. Время слез прошло. На этот раз я хлопнулась в обморок. (обратно)Глава 6. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Кончилось тем, что я получила отсрочку в исполнении приговора. Ирвингу только что удалось продать сценарий нового телевизионного шоу, которое должно было ставиться на Западном побережье. Так что нам предстояла поездка в Калифорнию, а до тех пор мне разрешили держать Жозефину в доме. Перед самой поездкой ее надлежало отдать Флоренс Ластинг для ее сына Крейга. Мне пришлось дать Ирвингу письменное обязательство в том, что разлука не повлечет за собой какой-нибудь несчастный случай, моральную или физическую травму. Я с легким сердцем согласилась. Это давало мне целых три месяца. Мало что может случиться за такой срок. Например, отменят телешоу. Конечно, я держала эти мысли при себе. На Мэдисон-авеню отмена телешоу приравнивается к известию о том, что русские танки движутся по мосту Джорджа Вашингтона. Наш договор включал в себя следующие пункты: 1. Ирвинг ни под каким видом не станет гулять с собакой или сопровождать меня при ее выгуливании. Если мне нравится выставлять себя на посмешище, это мое личное дело. 2. Он не будет убирать за ней. 3. Все расходы по содержанию пуделя относятся на мой счет – за исключением его скоропостижной кончины. В этом случае Ирвинг обещал расщедриться на пышные похороны. 4. И чтобы Жози не путалась у него под ногами. Мы скрепили договор рукопожатием, и на этой оптимистической ноте началась счастливая жизнь Жозефины в семье Мэнсфилдов. Недостаток у Ирвинга родительской любви не отразился на ее самочувствии. День ото дня Жозефина становилась все обворожительнее. Она делала немалые успехи. В первый день, например, научилась лаять при любом звуке в прихожей. Ночью она также без передышки лаяла. На второй день она освоила прыжки на кровать и на утренней зорьке разбудила папочку умильными мокрыми поцелуями. На третий день принялась грызть штукатурку на стенах. Четвертый ознаменовался жуткими предсмертными судорогами. Ирвинг предположил, что Жозефина съела что-нибудь не то: например, клейкую ленту, его носки для гольфа, пластмассовую пробку или привезенные мной из Франции блестки для вечернего туалета, которые я как будто надежно спрятала. Оперативная консультация с владельцем зоомагазина укрепила меня в уверенности, что небольшие дозы слабительного в двадцать четыре часа поставят ее на ноги. Естественно, новый поворот событий обусловил временное ограничение жизненного пространства. В качестве слабительного я выбрала касторку Флетчера. Реклама утверждала, что дети сходят по ней с ума, просто хлебом не корми – дай флетчеровской касторки. Кухня превратилась в будуар Жозефины. Это была типичная гостиничная кухня – тесный чуланчик с холодильником и раковиной. Я предусмотрительно выстелила пол газетами и создала для Жозефины настоящее гнездышко. Здесь были ее постелька, поилка с водой, игрушки и лакомства. Я влила ей в глотку немного касторки и объяснила, что как только дела пойдут на лад, ей снова будет позволено бегать по всей квартире. Я пожелала Жозефине спокойной ночи и затворила за собой дверь кухни. Жози не преминула явить миру еще один скрытый талант. У нашей девочки оказались превосходные легкие – рядом с ней Марию Каллас просто не выпустили бы на сцену. Я открыла дверь, и ария прекратилась. Меня встретили блаженная улыбка и восторженное виляние хвостом. Я сделала вывод, что касторка подействовала. Жозефина прошествовала в гостиную, а я тем временем обследовала кухню. Ничего подобного. «Нью-Йорк таймс» осталась в отличном состоянии. Я тупо следила за тем, как Жозефина гоняет мяч в гостиной. Казалось, она прекрасно себя чувствует. Пятью минутами позже ей стало еще лучше после того, как ее вырвало флетчеровской касторкой. Я дала Жозефине новую порцию и водворила ее обратно в кухню, объяснив, что это только на время. Она как будто поняла и охотно свернулась калачиком в своей плетеной корзинке, лишний раз продемонстрировав, какое это благоразумное и послушное дитя. Так оно и было – пока я не закрыла дверь. Вслед тотчас понеслись душераздирающие рулады. Жозефина запросто брала верхнее «си» и даже более высокие ноты, каких, по моим представлениям, не существовало в природе. Я бросилась листать недавно купленный справочник, автор которого, если верить аннотации, имел огромный опыт по уходу за собаками. Я прочитала его от корки до корки, а Жозефина тем временем исполнила весь репертуар из Пуччини. Автор утверждал следующее: «Будьте непреклонны. Если понадобится, покажите, что у вас тяжелая рука. Не бойтесь наказывать животное: убедившись в вашем превосходстве, оно только проникнется к вам уважением. Помните: вы – хозяин. Если животное съело что-нибудь не то, дайте ему по морде. Если оно отказывается подчиниться, наподдайте по мягкому месту». И так далее. Я несколько раз взглядывала на обложку, чтобы убедиться, что это действительно книга о любви к животным и заботе о них, а не мемуары Адольфа Эйхмана. Владелец зоомагазина, который к тому времени стал мне почти родственником, предложил поставить неподалеку от Жозефины будильник. Щенки не выносят одиночества. Тиканье будильника создает у них иллюзию чьего-то присутствия. Я не пожалела для Жози сразу трех будильников, однако она оказалась смышленее торговца домашними животными и моментально поняла разницу между людьми и часовыми механизмами. В два часа ночи она еще голосила. Ирвинг полюбопытствовал, не собираюсь ли я что-нибудь предпринять. Естественно, я проигнорировала эту реплику. В три позвонил управляющий и попросил меня принять меры. Тут уж я не могла отмахнуться. Передо мной встала дилемма. Я предложила Ирвингу на выбор: либо пусть Жозефина спит с нами (чего она и добивалась), либо мне придется пойти спать на кухню. Мой муж блестяще справился с проблемой, исключив одну из альтернатив. И я разбила бивуак на кухне. С моим появлением Жози прекратила свои вокализы и благополучно проспала всю ночь, а я сидела, оберегая ее покой. Утром коридорный подсказал мне адрес ветеринарной лечебницы (коридорным известно все на свете). Буду называть это учреждение клиникой доктора Уайта для кошек и собак, а если существует другой врач с такой фамилией, это не более чем случайное совпадение. Самого доктора Уайта я не увидела: он находился в операционной. Нас принял один из его помощников, доктор Блэк. Он осмотрел горло Жозефины и слегка помрачнел. Потом заглянул ей в уши и еще больше нахмурился. Я поинтересовалась, в чем дело. Он ответил: – Не мешайте производить осмотр. По окончании обследования он задал мне прямой вопрос: – Сколько времени у вас эта собака? Я чистосердечно призналась, что мы только что отметили шестые сутки. Он принял сердитый вид. – Где вы ее взяли? Я назвала зоомагазин. – Немедленно отнесите ее обратно! – потребовал он. Отнести ее обратно?! Доктор снова нахмурился: – Этого щенка слишком рано отлучили от материнской груди. У него ослаблен иммунитет, а в крови гуляет вирус – не менее двух недель. Болезнь зашла слишком далеко. Верните собаку и потребуйте назад свои деньги или другого щенка. Если откажутся, позвоните мне, я сообщу о них в АКС. Вам всучили смертельно больное животное. В следующее мгновение ему пришлось звать на помощь ассистента, который принес мне немного нюхательной соли. Я разрыдалась. Мне не нужны были мои деньги, так же как и другая собака. Для меня существовала одна-единственная. Это моя плоть и кровь. Они обязаны спасти ее! Жози моментально сориентировалась и выступила в мою поддержку. Ее начало рвать и слабить одновременно. Во всех частях клиники в знак солидарности залаяли собаки. Несколько клиентов, дожидавшихся приема, схватили своих питомцев в охапку и были таковы. Наконец доктор Блэк согласился рассматривать Жози в качестве своей пациентки. Теперь-то мне ясно, что у него практически не было надежды. Если он на что-то и надеялся, так только на то, чтобы выставить меня из помещения клиники. Меня предупредили, что потребуется дорогое лечение. Думать о деньгах в такое время? Видели бы вы, каким уничтожающим презрением я окатила его с головы до ног! Но были и другие факторы, кроме денег. Мне выставили следующие условия: 1. Жозефина проведет неделю в стационаре. 2. В течение этой недели я ни под каким предлогом не должна появляться на территории клиники. 3. Мне разрешается звонить не более одного раза в день, и, каковы бы ни были новости, я обязана воздерживаться от угроз, истерик и тому подобных выходок. После этого он нажал на кнопку. Вошедший ассистент увез Жозефину на рентген, а мне любезно указали на выход. Это была самая долгая неделя в моей жизни. Зато для Ирвинга время неслось как на крыльях. Он объяснил, что ничего не имеет против Жозефины лично; само собой, он желает ей скорейшего выздоровления и все такое, но разве не восхитительно ступать по коврам, а не по газетам? Каждый день я звонила в клинику. Хотела бы я видеть того садиста, который изобрел сакраментальную фразу: «Состояние больного без изменений». Или: «Больной провел ночь относительно спокойно». Нет ничего хуже этих обтекаемых фраз, не несущих ровным счетом никакой информации. Или той, которой меня встретили на седьмой день: – Доктор хочет с вами встретиться. И все. Ни малейших подробностей. Все равно что бездушный автоответчик, когда вы набираете номер, чтобы справиться о погоде. Ирвинг перехватил меня у выхода и попросил присесть для небольшого задушевного разговора. Очевидно, он тоже получил сигнал: «Доктор хочет с вами встретиться». – Видишь ли, Джеки… На самом деле это означало: «Я рассчитываю на твое благоразумие». – Видишь ли, Джеки… Ты должна мне кое-что обещать. Я кивнула. Мне было страшно идти в лечебницу. Ирвинг сказал самым утешительным тоном, что если доктор решит ее усыпить, я не должна заниматься членовредительством, покушаться на жизнь врача или доводить себя до буйного помешательства. Следует помнить, что врач ни сном ни духом не виноват в ее болезни и это не заговор против меня лично. Нужно иметь в виду, что он окончил соответствующий колледж и получил степень потому, что любил животных и хотел приносить им пользу. Что бы он мне ни посоветовал, я обязана прислушаться и, более того, помнить: это всего лишь собака. В качестве таковой она провела в нашей семье пять незабываемых дней, насыщенных всевозможными событиями. Большинство собак так и проходят по жизни, не изведав подобной любви и заботы. В заключение он протянул мне чек. Я остолбенела. Милый Ирвинг! Он предлагает мне бежать в зоомагазин и немедленно купить другую собаку! Не стоит недооценивать телепатию. Он как-то странно посмотрел на меня и добавил: – Это плата за лечение. Наверное, там набежало будь здоров. Если ее решат усыпить, это тоже влетит в приличную сумму. Я говорил, что все расходы – за твой счет, но если ей суждено перейти в лучший мир, я оплачу похороны по высшему разряду. (обратно)Глава 7. САНАТОРИЙ НА ДОМУ
Поприбытии в клинику мне не пришлось ждать. Меня тотчас отвели в кабинет доктора Уайта. Естественно, самого Уайта не было: он находился в операционной. Зато мой лучший друг доктор Блэк был здесь. Все осталось по-прежнему, даже его неподражаемые манеры. Он сразу взял быка за рога. – Миссис Мэнсфилд, вы помните, в каком тяжелом состоянии собака поступила в клинику? Ситуация была из ряда вон выходящая. Она три дня не притрагивалась к пище. Пришлось прибегнуть к принудительному кормлению. (Я должна сохранять спокойствие. Возможно, она еще жива.) – На ночь мы приставили к ней дежурного врача. Мы подавили вирус пенициллином. Но собака не может жить без воды и пищи. (Кажется, она умерла.) – Мы пробовали внутривенные вливания, но от них оказалось мало проку. Мы перепробовали решительно все. (Ее нет в живых!) – Вот почему я пригласил вас сюда, миссис Мэнсфилд. (Только бы не упасть в обморок! Нужно с достоинством встретить ту страшную минуту, когда мне предъявят ее хладный труп.) – Мы сделали все, что в наших силах. Как я уже сказал, нам удалось справиться с вирусом. Но собака еще очень слаба. Она должна начать есть и пить. Если кто-то может ее заставить, так это вы. Вот почему мы предлагаем вам взять ее домой. Домой! Доктору Блэку, как и в прошлый раз, пришлось звать на помощь, потому что я набросилась на него с поцелуями. Когда он освободился из моих объятий, я продолжала с обожанием пялиться на него, пока он выписывал рецепты и диету. Он также предупредил, чтобы я не дала пушистой шубке Жозефины ввести себя в заблуждение: на самом деле от собаки остались только кожа да кости. Мне предстоит заставить ее поправиться. Наконец санитар принес мою любимицу. Жозефина чуть не лопнула от восторга, она визжала, целовала меня и так усердно виляла всем туловищем, что я почти слышала скрип ее ребер. Само собой, я тоже визжала и всхлипывала. На этот раз доктор Блэк проявил терпение и дал мне в полной мере насладиться воссоединением с Жозефиной. Когда мы перестали визжать и целоваться, я заполнила чек и внимательно выслушала рекомендации врача. Через десять дней нам надлежало снова привезти Жозефину в клинику на прививку против чумки. Ее нельзя выводить на улицу вплоть до мая (если она доживет до этого времени). Если мне не удастся затолкать в нее немного пищи, через сорок восемь часов она погибнет. Это меня абсолютно не пугало. Ради меня моя девочка съест все, что угодно. Кстати, пока я держала ее на руках, она слизала всю мою косметику. Когда в этот вечер Ирвинг пришел домой и увидел на полу «Ньюс» и «Миррор», он пришел в шоковое состояние и даже не смог разделить мой энтузиазм по поводу того, что Жози одолела баранью котлетку и целое блюдце рисового пудинга. Но его удивило, что я вдруг обнаружила такие кулинарные способности. До сих пор моим высшим достижением был растворимый кофе. Я удивленно воззрилась на Ирвинга. Он что, никогда не слышал о том, что можно заказывать еду в номер? По какой-то странной ассоциации это напомнило ему о переданном мне чеке. Он попросил вернуть его! Видите ли, он не отказывается платить за похороны, но не давал никаких обещаний на случай ее выздоровления. И вообще не собирается поощрять в ней гурмана. Тем временем Жози подкралась к нему поближе и нежно лизнула его руку. А когда я призналась, что использовала чек, она удвоила свои ласки. Эта собака знала, откуда в нашем доме берется еда! Пока Ирвинг бранился, я время от времени позволяла себе ответные выпады типа: «У тебя нет сердца!» или «Ты только посмотри, какая это умница!». Ирвинг согласился: собака умна, но какой ему от нее прок? Что она может значить в нашей жизни? Это же бесполезное существо, специально созданное для того, чтобы лаять по ночам, лишать Ирвинга компаньона, с которым он делит постель, превращать черт знает во что наше жилье, одежду и душевный покой. И вообще, если так пойдет дальше, содержание этой псины обойдется нам дороже, чем содержание «кадиллака». На протяжении всей этой тирады Ирвинг непроизвольно гладил Жозефину по голове, а она терлась о его ногу. Когда я обратила на это его внимание, мой муж вышел из себя: – А чего ты, собственно, ожидала? Что я стукну ее по голове бейсбольной битой? Выходя из комнаты, он поставил последнюю точку над «i» : – Мне сейчас отнести твои подушку и одеяло на кухню или подождать, пока не послышится волшебное пение? Однако у Жози были другие планы на этот вечер. Фальшивая улыбка Ирвинга отнюдь не ввела ее в заблуждение. Она откуда-то знала о Флоренс Ластинг и ее сыне Крейге и сделала вывод, что ее пребывание в клинике – дело рук Ирвинга. Однако это ее ничуть не смутило. Итак, за то, что она громко выражала недовольство своим спальным местом, Ирвинг отправил ее туда, где бедняжку держали в клетке, кололи иголками и подвергали всевозможным унижениям и оскорблениям. Она дала себе слово не повторить эту ошибку. Жози разложила все по полочкам: «Она меня любит. Он – нет, и с этим ничего не поделаешь. Стало быть, если она отсылает меня спать на кухню, с этим необходимо смириться. Это все-таки лучше, чем спать в клетке. Во всяком случае, никто ночью не ворвется и не всадит тебе в попу иголку». Примерно таков был, по-моему, ход ее мыслей. Поэтому, когда я отвела Жозефину на кухню, она ограничилась тем, что лизнула мне руку, понимающе кивнула, забралась в свою двадцатидолларовую плетеную корзинку и, когда я закрыла за собой дверь, не издала ни единого звука. Я улеглась рядом с Ирвингом, выключила свет и так же, как он, приготовилась к худшему. Однако сольная ария так и не прозвучала. Минут через пять Ирвинг зевнул. – Слава тебе, Господи, кажется, она решила дать нам поспать. Прошло десять минут напряженного молчания. Потом я прошептала: – Ирвинг, ты спишь? И: – Нет. Я: – Как ты думаешь, что она делает? И: – Вероятно, готовит омлет по-испански. Кому какое дело, если она молчит? Я: – Но там что-то уж слишком тихо. Как ты считаешь, может, мне пойти посмотреть? И: – Послушай, я вообще-то не на ее стороне, но надо отдать ей должное: сейчас она ведет себя как разумное существо. Бедная псина пытается следовать твоим же рекомендациям и уснуть, а ты хочешь нарушить ее покой. Она подумает, что у тебя с головой не все в порядке. Я: – Отлично. Спокойной ночи. И: – Я могу на тебя положиться? Я: – О да. Спокойной ночи. Я люблю тебя. И: – Я тебя тоже. Спокойной ночи. Через десять минут. Я: – Ирвинг? И: – Я начинаю жалеть, что не спровадил тебя на кухню. Я: – Но, Ирвинг, опасность еще не миновала. Доктор сказал, все еще висит на волоске. И: – Спокойной ночи. Еще через две минуты. И: – Как это понимать – «все висит на волоске»? Я: – Они уничтожили вирус, но возможны осложнения. Жозефина еще совсем дитя и прилагает отчаянные усилия, чтобы не рассердить тебя. Мне кажется, она ведет себя уж слишком тихо. Вдруг ей, бедняжке, плохо, но она не решается позвать на помощь? И (вставая): – Ладно. Лежи, лежи. Я сам послушаю у двери. Я: – Ирвинг, тебе не все равно?! И: – Нет, мне не все равно, смогу я этой ночью немного поспать или нет. Через пару минут Ирвинг возвращается. Я: – Ну, что ты слышал? И (ложась): – Ничего. А чего ты ожидала? Лихой пляски? Она просто спит. Ей можно позавидовать. Я: – Щенкам не свойственно спать всю ночь подряд. И: – Утром, когда я ее увижу, я сделаю ей замечание. Я: – Ирвинг, что нам делать? И: – Это может показаться тебе странным, но я лично собираюсь уснуть. Причем безотлагательно. Доброй ночи. Я: – Ну, не сердись. И: – Может, мне поменяться с ней местами? Я: – Доброй ночи. Часом позже (около двух ночи). Я тихонько выбираюсь из-под одеяла. И (сна ни в одном глазу, ледяным голосом): – Куда это ты намылилась? Я (вызывающим тоном): – Куда обычно люди ходят по ночам? И: – Я знаю, куда люди ходят. Но меня интересуют твои намерения. Я (направляясь в ванную): – Мне хочется пить! (Потом, вернувшись в спальню.) Доволен? Спокойной ночи! Два часа тридцать минут. Я: – Ирвинг, это ты? И: – Нет, Россано Браззи. Я: – Куда ты? И: – А тебе не приходит в голову? В каком-то смысле я тоже человек и направляюсь в ванную. Три часа ночи. Я: – Ирвинг, ты не спишь? И: – Конечно, нет. Просто лежу в свое удовольствие. Я: – Вдруг она умерла? И: – Не могу поверить в такое счастье! Я: – Спокойной ночи. Через пять минут. И: – Почему ты не спросила врача, нормально ли, что она спит как убитая? Я: – Кто же мог себе такое представить? Проходит еще несколько минут. И (встает): – Я больше не вынесу. Этому пора положить конец. Я: – Я не произнесла ни слова! И: – Но ты лежишь и думаешь. Это мешает мне уснуть. Я: – О чем это я думаю? И: – О всякой ерунде. О том, что твой муж – негодяй, бросивший бедную крошку умирать в одиночестве. Я (садясь на кровати): – Ты тоже считаешь, что она умерла? И: – Нет, я считаю, что женился на круглой идиотке. Но мы могли бы пойти и убедиться. А потом, жива она или нет, я намерен спать. Мы на цыпочках подбираемся к двери кухни. Ирвинг молча открывает дверь. Жозефина выскакивает из своей постельки, зевает, машет хвостом и выжидательно смотрит на нас, словно хочет спросить: «В чем дело?» И: – Ладно, тащи ее в спальню. Я: —?! И: – Это ее первая ночь дома. Может, ей вредно спать одной. Все-таки в клинике она постоянно находилась в окружении других живых существ. Мы все трое переходим в спальню. Жозефина вне себя от счастья. Она покрывает наши лица поцелуями и наконец устраивается у Ирвинга в сгибе локтя и засыпает. Проходит час. Я осторожно сползаю с кровати. На этот раз мне действительно хочется пить. Ирвинг взбешен. – Ради всего святого! У тебя что, совсем нет совести? Ты ее разбудила! (обратно)Глава 8. РАЗГРОМ
За этой незабываемой ночью последовали четыре в высшей степени насыщенные событиями недели. Я отменила все светские договоренности, предупредила своего агента, что меня ни для кого нет, и сосредоточилась на том, чтобы играть роль Флоренс Найтингейл при больной Жозефине. Вряд ли доктор Дефо тратил столько физической энергии на уход за пятеркой дионнских близнецов, сколько я – на выхаживание трехфунтового пуделя. С новорожденным проще: вы суете ему бутылочку с соской, и он знай себе сосет молоко. А вы когда-нибудь пробовали заставить пуделя проглотить микстуру пепто-бисмола? Вкратце процедура сводится к следующему. Вы помещаете пуделя в кухонную раковину. Одной рукой придерживаете пасть, а при помощи другой вливаете в эту пасть замечательную жидкость розового цвета. Потом все бросаете (разумеется, кроме пуделя) и обеими руками зажимаете собаке рот. Следующие несколько секунд вы стоите и беспомощно наблюдаете, как из этого рта с обеих сторон вытекает вышеупомянутая жидкость. Рот пуделя устроен фантастическим образом. Если туда попадает то, чего хочет сам пудель, он приобретает герметичные свойства. Зато если это нечто такое, что вы хотите ему навязать, это настоящее решето. Вы решаете повторить попытку и на этот раз атакуете морду пуделя с флангов (бывалый владелец собаки чертыхнется, читая эти строки). Наклоняете его голову набок (если потребуется, прижимаете к своему колену) так, чтобы рот был закрыт, и вливаете микстуру в щель между клыками. Затем крепко зажимаете и держите не менее трех минут в таком положении. Возможно, при этом вы свернете пуделю шею. Еще через пять минут, в течение которых вы массируете ему шею и пытаетесь объяснить, что все это делается для его же блага, пудель благополучно изрыгает пепто-бисмол вам на блузку. Во всяком случае, Жози именно так и поступала. Тем не менее, если проявить настойчивость, какая-то жалкая часть пепто-бисмола достанется пуделю. Мне пришлось смириться с розовой раковиной и тремя парами покрытых розовыми пятнами брюк, зато к концу четвертой недели Жозефина начала нормально функционировать – как спереди, так и сзади. Счастлива сообщить, что на протяжении всех четырех недель рацион нашей крошки был никак не меньше лошадиного. Конечно, ей еще нельзя было давать обычную пищу, приходилось придерживаться диеты, рекомендованной врачом. Но мне бы ни за что не пережить этих четырех недель, если бы не две благословенные газеты: «Нью-Йорк таймс» и «Геральд трибюн». Вообще говоря, я предпочитаю «Ньюс», «Миррор», «Джор-нэл» и «Пост». Будем смотреть правде в глаза: там работают профессионалы, которые в немалой степени скрашивают наш досуг. Только представьте, что было бы, если бы мы лишились общения с ними и были вынуждены довольствоваться Артуром Кроком и Дэвидом Лоренсом. Но у меня не было выхода. «Таймс» и «Трибюн» идеально соответствовали площади коридора и кухни, тогда как газеты меньшего формата, постеленные на пол вместо ковров, не доставали от стены до стены и оставляли зазоры. Весна в том году наступила довольно рано – уже в апреле. Я подолгу выстаивала у окна, любуясь свежей травкой в Центральном парке. Большего я не могла себе позволить: нашей крошке еще примерно с месяц запрещено было выходить на улицу. Сырой воздух мог нанести непоправимый ущерб ее здоровью. Мне вспомнились собственные мечты о том, как, движимые заботой о моей фигуре, мы станем вместе карабкаться на холмы. Однако нельзя сказать, что я растолстела от недостатка физических упражнений. Имея дело с пуделем, даже в помещении получаешь изрядную долю спорта. Чего стоят одни только постоянные усилия по подъему тяжестей. Моя талия стала на два дюйма тоньше. И еще у меня появился третий глаз – на затылке. Конечно, если в ближайшем будущем вам предстоит ремонт квартиры, эти предосторожности становятся излишними и вы можете смело отправляться на прогулку, оставив пуделя одного дома. Но мы как раз недавно отремонтировали свое жилье, и я не могла позволить себе даже почистить зубы, если Жозефина не терлась возле ног. Возможно, кто-либо спросит: – Неужели в это время у тебя не было никаких социальных контактов, а все развлечения свелись к игре в мяч и непрерывным сражениям с пуделем? Вот именно. Если не считать тех случаев, когда мы приглашали друзей взглянуть на наше сокровище (заведите собаку, и вы очень скоро узнаете, кто вам настоящий друг). Когда приходят гости, необходимо соблюдать следующие правила (конечно, если вы еще сохранили тех немногих друзей, что у вас остались): 1. Как бы вы ни были увлечены разговором, ни на секунду не выпускайте пуделя из поля зрения. 2. Будьте все время начеку и не пропустите сигнал тревоги. Это может быть внезапный нырок под диван, подозрительная тишина или зловещее поскрипывание. «Внезапный нырок под диван» может означать, что пудель оттяпал кусок сделанной из крокодиловой кожи сумочки вашей приятельницы и хочет без помех насладиться им. «Зловещее поскрипывание» не имеет никакого отношения к брошенным пуделю игрушкам или косточкам. Обычно это железные бигуди, упаковка бритвенных лезвий или флакон с перекисью. А в «подозрительной тишине» пудель замышляет коварный налет на норковую шапку вашей гостьи или ее мужа, которую вы предусмотрительно повесили под самым потолком. Это просто поразительно, какие рекорды по прыжкам в длину и высоту вы способны ставить ради спасения от собачьих зубов шифонового шарфа какого-нибудь знакомого. И с каким пафосом убеждаете его, что дырку легко зашить (ни на минуту не забывая, что гость – не кто иной, как знаменитый голливудский репортер. Впрочем, вы не снимаетесь в кино…). При этом неоднократно повторяется, что этот шарф – подарок покойной Гертруды Лоуренс, а магазин, в котором его приобрели, пострадал при бомбежке. Единственные доступные для Жози прогулки сводились к поездкам – при этом ее закутывали в одеяло – в клинику доктора Уайта, где она со спартанским мужеством переносила прививки. Во время этих визитов Жози познакомилась с разными врачами. Это были доктор Грей, доктор Грин и доктор Браун – не считая ее закадычного друга доктора Блэка. Но нам ни разу не посчастливилось увидеться лицом к лицу с доктором Уайтом, чья фамилия красовалась на табличке у входа. По-моему, он жил в операционной. Однажды в конце апреля, когда столбик уличного термометра поднялся до 700 по Фаренгейту, я позвонила одному из врачей (уж не помню, на которого я напала) и поинтересовалась, нельзя ли вывести Жози в парк на кратковременную прогулку. Ответ гласил: – Ни в коем случае! Я безутешно застыла у окна. Парк прямо-таки кишел пуделями. Тогда я решила посоветоваться с Ирвингом. Он велел слушаться врача: ведь его (Ирвинга) конечной целью было вручить Флоренс Ластинг здоровую собаку. Как видите, Ирвинг всегда держит слово, особенно данное самому себе. В своем календаре он обвел красным кружочком первое июля и надписал сверху: «Калифорния» и «ДПС». Когда я спросила, что значит «ДПС», он не без удовольствия объяснил, что это «День Прощания с Собакой». Наверное, это и подтолкнуло меня тем погожим днем взять ситуацию в свои руки. Нельзя было терять время; каждая минута становилась на вес золота. Почему все радости должны достаться сыну Флоренс? Я тоже хочу жить! И я незамедлительно приступила к претворению мечты в действительность, торжественно объявив Жози: – Мы идем на прогулку! Конечно, она не могла знать, что такое «прогулка», так как ни разу не слышала этого слова. Но она сразу поняла, что затевается нечто грандиозное, а посему бросила терзать сатиновую думку и вся обратилась во внимание. Я показала ей недавно купленный поводок (к сожалению, никто не надоумил меня приобрести инвалидную коляску). Жози подозрительно уставилась на него. Она еще не видела ничего подобного, но сразу заподозрила неладное. Она обнюхала незнакомый предмет, но прозрение так и не наступило. Однако ради меня эта собака была готова на все, поэтому предприняла добросовестную попытку пожевать его. Я быстро надела на нее ошейник. И вдруг это кроткое существо превратилось в разъяренную фурию. Жози каталась по полу, прыгала и пускала в ход все четыре лапы, чтобы стащить с себя ужасную петлю. Впервые за время нашего знакомства мы «разошлись во мнениях». Я взяла ее на руки и понесла в парк, надеясь, что при виде других собак с ошейниками она сообразит, что к чему. Она и сообразила – после того как трижды едва не задохнулась. Наконец до Жозефины дошло, что ошейник и поводок со мной на другом конце как бы являются ее продолжением. Тогда Жози утихомирилась и приняла существующий порядок вещей. Она принялась обнюхивать все подряд: скамейки, траву и даже стволы деревьев. Потом я усадила ее и попыталась объяснить, что свежая зелень имеет не только декоративное значение. Я раскошелилась на два доллара за лицензию, и это сделало Жози акционером. Парк стал ее собственностью. Она могла пользоваться травкой и прошлогодней листвой по своему желанию, при необходимости рассматривая их как заменитель «Нью-Йорк таймс». До нее не дошло. Я поняла, что нужен добрый пример, и поднесла ее к боксеру, который как раз изготовился возле мусорной урны. Это оказалось тактической ошибкой. Я рассчитывала на небольшое представление, но вместо этого была сметена ураганом. Мы с Жози в мгновение ока вознеслись на вершину холма. Потом я дала ей посмотреть на колли, деликатно задравшего ножку возле дерева. Жози не испугалась, но сочла это зрелище отвратительной демонстрацией дурных манер. Чуточку позже она наблюдала то же самое в исполнении коккер-спаниеля и мальтийского терьера. По сравнению с боксером это были детские игрушки. Я продержала ее на улице двадцать минут. Жози отлично провела время – и только. Едва очутившись в уединении нашей квартиры, она ринулась в кухню, к родной «Нью-Йорк таймс». Но я ни чуточки не рассердилась. Жози – редкая умница. Я была уверена, что после нескольких прогулок «Таймс» и «Трибюн» утратят свое значение. Она бы ни за что не дала маху в парке, если бы не вопиющая агрессия со стороны боксера. (обратно)Глава 9. ГУРМАН
Когдав тот вечер Ирвинг пришел домой, я представила полный отчет о нашем походе в парк. Жози вертелась тут же и, как бы в подтверждение моих слов, виляла хвостом. Мы обе выглядели такими счастливыми, что Ирвингу пришлось признать: интуиция врача не идет ни в какое сравнение с интуицией матери. Если отвлечься от того, что на следующий день у Жозефины началась дизентерия. Само собой, мы тотчас бросились к врачу. Он прочитал мне лекцию, а Жозефине достался новый укол в мягкое место. После чего нам снова пришлось прибегнуть к пепто-бисмолу. Его воздействие на Жозефину было поистине чудотворным: она целые сутки страдала от дизентерии, а когда после всего я ее взвесила, оказалось, что она прибавила целый фунт. Я снова начала поглядывать в сторону парка. Даже врач преисполнился оптимизма и сказал: если в ближайшие сутки не произойдет ничего из ряда вон выходящего, можно будет высунуть нос на улицу. Я была счастлива и уверена в успехе. Ничто не предвещало подвоха. И вдруг Жозефина отказалась принимать пищу. День был как день, такой же, как все предыдущие. Я поставила перед ней миску с обычной собачьей едой и произнесла: – Твой завтрак, душенька. «Душенька» подошла, понюхала и с отвращением отвернулась. То же повторилось во время второго завтрака,обеда и ужина. Но я не стала звонить врачу, а попробовала взять ситуацию в свои руки. Мне претила мысль о подобной жестокости по отношению ко мне, но она тотчас предприняла попытку подавиться ненавистной пищей. Посрамленная, я обратилась к врачу и услышала следующее: – Вероятно, нужна перемена. Она достаточно окрепла и больше не нуждается в диете. Попробуйте давать ей объедки со стола. Я честно призналась, что не имею обыкновения отбивать мясо для ростбифа или жарить на электрической плите индейку. Мало того, что в моем распоряжении была всего лишь крохотная гостиничная кухня, так она еще и служила Жозефине спальней, туалетом и ванной. Доктор пробурчал, что это мои трудности. Он врач, а не шеф-повар. Пришлось посвятить в наши проблемы Ирвинга. Сначала он не врубился и буркнул: – Ну и чего же ты от меня хочешь? Чтобы я напялил поварской колпак и порхал по кухне, жаря оладушки? Однако Ирвинг все-таки не из тех, кто может стоять сложа руки и хладнокровно наблюдать, как рядом умирают от голода. Когда хочет, Ирвинг может являть чудеса изобретательности. Он спустился в ресторан и провел короткую разъяснительную работу с разносчиками. Несколько четких фраз, скрепленных рукопожатием, – и через час нам уже доставили огромную корзину с ростбифом и нежнейшим филе. Жозефина пришла от всего этого в восторг и не только вылизала миску, но и попросила добавки. Благодаря новой диете она буквально расцвела, и первого мая персонал клиники доктора Уайта сбежался, чтобы воздать нам по заслугам. Мы получили разрешение гулять в Центральном парке. И как же она полюбила эти прогулки! Она также ничего не имела против Пятой авеню. В то же время Жози продолжала хранить верность «Таймс» и «Трибюн». Она выросла на этих газетах, и ей было трудно оторвать их от сердца. Через несколько дней к нам пришли гости: Мэдж Ивенс и ее муж, драматург Сидней Кингсли. Мэдж с Сиднеем обожают животных; за ними вечно увязываются две или три собаки одновременно. Жозефина привела их в восторг. Ирвинг поделился с ними нашими планами относительно первого июля. Мэдж бросила на него колючий взгляд и принялась перечислять достоинства нашей любимицы. У нее продолговатые, а не навыкате глаза. Шубка обещает стать просто великолепной. Длина хвоста как раз такая, как нужно. Уши, скорее всего, достигнут фантастической длины. По правде говоря, тут просто не к чему придраться, Жозефина – настоящий подарок судьбы. «Подарок судьбы» вдруг кашлянул. Мэдж первая обратила на это внимание: – Собака кашляет. – Собаки не кашляют, – возразил Сидней. Я заявила, что от этой собаки можно ждать чего угодно. Сидней уточнил, что он имел в виду: собаки не должны кашлять. А если они это делают, значит, за этим что-то кроется. – Что, например? – Собачья чума. (А ведь не кто иной, как Сидней, написал «Люди в белом»!) На какие-то пять минут все лишились дара речи, слышалось только хрипловатое дыхание Жозефины, которая, несмотря на это, пребывала в отличном расположении духа. В промежутках между покашливаниями она приносила кому-нибудь из нас мячик, чтобы мы снова бросали его ей. Все молча смотрели на Сиднея. Наконец он не выдержал и открыл рот: – Вы можете прямо сейчас посоветоваться с врачом? Я позвонила в клинику, и дежурная ответила, что все медики разошлись по домам и придут только завтра к девяти часам. Сейчас в клинике только она да больные собаки. Мэдж с Сиднеем не стали затягивать визит. На прощание они заверили нас, что собачья чума совсем не обязательно чревата летальным исходом. Они знали нескольких собак, которые излечились. Конечно, у них повыпадали зубы и появился тик, но, если не считать этого, они стали такими, как прежде. После их ухода Ирвинг взял инициативу в свои руки. Он апеллировал к моему разуму и выразил уверенность, что все будет в порядке. К утру кашель пройдет. Сделав это заявление, он с головой ушел в какой-то захватывающий вестерн, шедший по телевизору. К ночи кашель усилился. Даже Ирвинг не мог остаться равнодушным. Он выключил программу для полуночников и внимательно посмотрел на Жозефину. Потом обратился ко мне: – Кажется, Мэдж сказала, что у нее должны выпасть зубы? Я скорбно кивнула. Ирвинг испустил тяжелый вздох. – Может быть, Флоренс Ластинг решит, что у пуделей вообще не бывает зубов? Я промолчала, мучительно решая в уме вопрос: если я убью его, присяжные сочтут это убийством в состоянии аффекта? Потом я вскочила на ноги, схватила Жозефину и постелила себе в кладовке. Всякий женатый мужчина сообразит, что это значит: «Завтра я свяжусь со своим адвокатом. А ты можешь обратиться к своему». Но поскольку в планы Ирвинга входило избавиться от Жозефины, а не от меня, он сделал шаг к примирению. И: – Ну не глупи, ты же знаешь, как я тебя люблю. Я: – У меня нет собачьей чумы, и я не нуждаюсь в твоем сочувствии. Ты бессердечен по отношению к Жозефине. Жози дважды хрипло кашляет. Я (бросаясь с ней на кухню): – Сейчас мамочка даст тебе меду, чтобы прочистить горлышко. (Даю ей мед. Жозефина находит его довольно вкусным.) И (наблюдая за этой процедурой): – У меня тоже однажды был кашель. Ты посоветовала мне бросить курить. Я: – У тебя не было собачьей чумы. И: – Откуда ты знаешь? Сейчас я задним числом припоминаю, что той весной у меня выпал коренной зуб. И я часто хлюпал носом. Я: – Ты хлюпал носом, еще когда мы только познакомились. И: – Слушай, положи ее спать. Нам всем необходимо отдохнуть. Я: – Я не могу оставить ее одну – теперь, когда ее жизнь под угрозой. И: – Это еще неизвестно. Я: – Так сказал Сидней. И: – Если он сочинил «Люди в белом», это еще не значит, что он толковый ветеринар и может поставить правильный диагноз. Я: – Он всесторонне изучил вопрос. И: – В свое время он написал политический детектив, но я сомневаюсь, что Эдгар Гувер время от времени обращается к нему за консультацией. С этими словами Ирвинг берет Жозефину и перекладывает в плетеную корзинку. Она лижет ему руку и блаженно засыпает. На следующий день, с утра пораньше, мы с Жозефиной снова наведались в клинику доктора Уайта. Нас принял доктор Силвер. Сам доктор Уайт был в операционной. Доктор Силвер изучил десятистраничную историю болезни и пригласил доктора Блэка. После тщательного осмотра доктор Блэк заверил меня, что о чуме не может быть и речи. Это небольшое осложнение после болезни. Жозефина будет кашлять до тех пор, пока не достигнет шестимесячного возраста. Потом кто-то одержит верх: Жози или кашель. Очевидно, в моих глазах мелькнули безумные огоньки, потому что доктор Блэк предостерегающе поднял руку. – Миссис Мэнсфилд, я никогда не давал гарантии, что ваша малышка доживет до глубокой старости. Чудо уже и то, что она пережила первую атаку болезни. Теперь главное – полноценное питание. Она все еще слишком слаба. Если Жозефина достигнет нормального веса, можно будет надеяться на полное выздоровление. Так что отправляйтесь домой и приготовьте какое-нибудь мясное блюдо. И добавил, когда мы с Жозефиной были уже на пороге: – Вам самой тоже не мешает немного поправиться. Я слегка растерялась. – Я работаю на телевидении и должна следить за фигурой. – Ну что ж, – сказал доктор Блэк, – если вам нравится морить себя голодом, это меня не касается. Но не делайте из Жозефины вторую Лэсси. Помогите ей окрепнуть! Я чуть не убила его взглядом. Правильно Ирвинг говорит: – Каждый считает себя вправе судить о шоу-бизнесе! (обратно)Глава 10. ВОЙНА С «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»
Пришлось смириться с кашлем так же, как мы притерпелись к «Нью-Йорк таймс». Уж не знаю, говорило ли в Жозефине обыкновенное упрямство или застенчивость, но она упорно продолжала видеть в Центральном парке место отдыха и развлечений, а не общественную уборную. При всем том май оказался богатым на события и впечатления. Жозефине сделали первую настоящую стрижку, а ресторан нашего отеля закрылся на ремонт и модернизацию. Трудно сказать, кто перенес это тяжелее: официанты или я. Однако Ирвинг не поддался отчаянию и решил проблему в ходе кратковременного визита к Дэнни, который почел за честь стать новым шеф-поваром для Жозефины. А вот со стрижкой, которую он воспринял как катастрофу, Ирвингу ничего не удалось поделать. Он заявил, что я превратила невинное создание в кокотку. Верхом его красноречия стала фраза: – Не мудрено, что она не может оторваться от «Нью-Йорк таймс». С такой прической ей стыдно высунуть нос на улицу. Я возразила, что до этого она целый месяц гуляла в парке – и ничего. Ирвингу не пришлось лезть за словом в карман: – Все потому, что ты сделала из этого проблему. По твоей милости она не может уразуметь, что от нее требуется. У тебя развился комплекс, и Жозефине передалась твоя неуверенность. – Конечно, ты бы справился! – Всегда готов! – отрапортовал он. – Ну если ты так хорошо во всем разбираешься, – процедила я сквозь зубы, – попробуй втолковать Жози, зачем Господь сотворил дерево. Клянусь Богом, это подействовало! Движимый слепым идиотским мужским самолюбием, Ирвинг воскликнул: «Смотри!», – подхватил Жози вместе с розовым поводком, украшенным поддельными самоцветами, и пулей вылетел из нашего номера. Это произошло так быстро, что скорее было мгновенным импульсом, нежели осознанным решением с его стороны. Мой гаев улетучился, и я долго сидела со злорадной ухмылкой на лице, предвкушая весь ужас, который придется пережить Ирвингу, когда он столкнется с грубой действительностью и увидит себя со стороны – выгуливающим голенького пуделя с розовыми бантиками за ушами. Когда он не вернулся через пять минут, я ощутила прилив радости: вероятно, он добился успеха и полон гордости за нашу милую крошку. Через десять минут мое ликование перешло в экстаз. По прошествии часа я готова была звонить в полицию. Однако прежде чем предпринять столь радикальный шаг, я позвонила друзьям, которые принялись меня успокаивать. Ирвинг всегда внимателен на улице и соблюдает правила дорожного движения. По дороге на работу он ни разу не провалился в люк и не угодил под автобус. Эти слова были не лишены смысла, и я согласилась подождать еще час. После того как я приняла третью таблетку успокоительного, послышался звук ключа, поворачиваемого в замочной скважине. Они отсутствовали три часа двадцать минут. Едва очутившись в номере, Жози молнией метнулась на кухню – к излюбленной газете! Ирвинг с глуповатой улыбкой следил за ее действиями. Я спросила, где они пропадали. Получилось ли что-нибудь с деревьями? (Впрочем, и без того было ясно, что нет: мне пришлось подтирать углы в запруженной кухне.) Неужели он не понимал, как я волновалась? И где же они все-таки были? Но все, на что оказался способен мой муж, это стоять с глуповатой ухмылкой на лице. Наконец к нему вернулся дар речи. – Ну не болтушка ли она? Я не успела спросить, что он имеет в виду, потому что «болтушка» внезапно рухнула как подкошенная на пол и захрапела. Щенки в шестимесячном возрасте обычно не храпят. Ирвинг предположил, что все дело в усталости. Они протопали пешком не менее шестидесяти кварталов! Я смазала ей лапки кремом и слегка помассировала. Потом спросила: он что, поставил перед собой цель ее угробить? Ирвинг пустился в объяснения. По его словам, через каждые несколько шагов их останавливали красивые молодые девушки и восклицали: – Какая прелестная собачка! Конечно, ему приходилось быть вежливым и тоже останавливаться, чтобы дать им возможность ее погладить. Потом они спрашивали, как ее зовут, а услышав в ответ: «Жозефина Мэнсфилд», – некоторые приходили в неописуемое волнение: – Так вы – Ирвинг Мэнсфилд, знаменитый телепродюсер? У большинства девушек были с собой большие пластиковые сумки и альбомы с фотографиями: они оказались фотомоделями и жаждали попасть на телевидение. Следовал обмен телефонами, и, разумеется, на все это требовалось время. – Что-то я не припомню, чтобы Центральный парк кишел фотомоделями! – заявила я и услышала в ответ, что, оказывается, в парке им показалось сыро; к тому же Ирвинг в первый раз надел свои новые итальянские мокасины, вот они и пошли на Парк-авеню, где тоже хватает деревьев. Дальше в лес – больше дров, то бишь приятных встреч. Несколько раз Ирвингу пришлось сделать остановку, чтобы поболтать с приятелями, например Рудольфом Бингом. – Но ты не знаком с Рудольфом Бингом! – уверенно заявила я. – Уже познакомился. Его собака проявила неподдельный интерес к Жози, и они долго обнюхивали друг друга. Он растянулся на диване, очевидно, не без тайной надежды, что я и ему помассирую подошвы. Но я продолжала дуться. Подумать только, я тут схожу с ума, а он отлично проводит время с моей собакой! Ирвинг снова открыл рот: – В следующий раз, когда будешь делать Жози прическу, попробуй желтые ленточки. Джейн Мэнсфилд говорит, что это должно ей пойти. – Джейн Мэнсфилд?! – Она тоже остановилась, чтобы выразить свое восхищение. Я надулась и несколько минут хранила молчание. Ирвинг тоже обиделся. – А что я должен был делать? Забросать ее камнями? Кроме того, у Джейн премиленький розовый пудель. Его зовут Бобо. – Что-что? – У нее розовый пудель по кличке Бобо. Она красит его органической краской. (И как только я до сих пор жила на свете без столь ценной информации?) – Что плохого, – защищался Ирвинг, – если человек время от времени останавливается для дружеской беседы с владельцами пуделей или их поклонниками? Это принято в обществе. Все равно что поддерживать беседу с незнакомыми людьми на борту океанского лайнера. Он еще долго продолжал в том же духе; из бедного Ирвинга так и лезли всякие сантименты. Только мне показалось, что мы исчерпали эту тему, как он сказал: – В следующий раз, когда поведешь Жози в салон красоты, попроси покрыть ей ногти серебряным лаком. Заза считает… – При чем тут Заза? – У Заза мальтийский терьер, и она… В ту ночь мне впервые за долгое время пришлось прибегнуть к секоналу. Но и во сне меня преследовал голос Ирвинга. Последнее, что я запомнила, это что Жози обожает общество других собак и особенно выделяет умницу чихуахуа, принадлежащую Эбби Лэйн! (обратно)Глава 11. ДЕНЬ ПС
Назавтра я сама отправилась на Парк-авеню. В конце концов, я тоже хочу наслаждаться жизнью. Тем более что, если верить газетам, в городе сейчас Гэри Грант и Тони Кертис. Ирвинг нисколько не преувеличивал: Жози пользовалась необыкновенным успехом. Нас то и дело останавливали длинноногие манекенщицы. Всем хотелось ее погладить. А поскольку у меня были несколько иные планы, то я свернула за угол и пошла по направлению к Мэдисон-авеню, где должно было быть гораздо интереснее. Я провела десять минут в увлекательной беседе с Артуром Мурреем, а примерно через квартал наткнулась на Чарльза Кобурна. Такое мое везение! Так что в дальнейшем я ограничила наши прогулки Центральным парком. Здесь, по крайней мере, мы встречались с другими собаками, от которых Жози могла почерпнуть полезные сведения о предназначении деревьев. Однако она не воспринимала данную тему. Напрасно я то и дело старалась привлечь ее внимание к собакам, которые осчастливливали поднятием ножки какое-нибудь дерево. Жози покорно смотрела в нужную сторону, иногда даже проявляла вежливый интерес, но и не думала выходить из роли благодарного зрителя. Я умоляла. Подлизывалась. И, наконец, прибегла к маленькому насилию. Я подвела Жози к дереву, подняла ее ножку и продержала так добрый десяток минут. Единственным результатом стало то, что вокруг нас собралась любопытствующая толпа. Однако я продолжала делать свое черное дело. Мой девиз: «Исполняй свой долг, и пусть они все провалятся!» Вскоре меня привыкли видеть в Центральном парке в таком положении. Через несколько дней никто уже не обращал на нас внимания. В один прекрасный день, когда я предавалась этому новому хобби, мимо шествовала полная дама с двумя беременными эрдельтерьерами. Она не без интереса посмотрела на меня и остановилась. Не раньше чем через десять минут она открыла рот и спросила: – Чего вы от нее добиваетесь? (Кого только не встретишь в Центральном парке! А чего, по ее мнению, я могла добиваться?) Но я не стала грубить, а кратко объяснила свой случай. Дама изрекла: – Но ведь это же девочка! Я согласилась с данным утверждением и вновь перенесла свое внимание на Жози и дерево. Моя красавица с ангельским терпением задрала ножку, но, конечно, из этого ничего не вышло (я уже говорила, что ради меня эта собака готова пожертвовать чем угодно, только не «Нью-Йорк таймс»). Толстуха снова открыла рот: – Девочки не задирают ножку возле дерева. Это становилось интересно. Что же делают девочки? – Они садятся на корточки. И тотчас, словно по команде, обе ее собаки присели, чтобы продемонстрировать, как это делается. Даже Жози проявила некоторый интерес, хотя ее и смутило подобное бесстыдство. После чего толстуха и обе ее псины удалились с чувством исполненного долга. Едва они скрылись из виду, я предприняла попытку усадить Жозефину на корточки. Она ощетинилась и посмотрела на меня так, словно я окончательно выжила из ума. Чем больше я настаивала, тем упорнее становилось ее сопротивление. Вечером я посвятила Ирвинга в недавно сделанное открытие. Он сказал, что, по его мнению, в этом что-то есть, и согласился попробовать. Утром мы все трое отправились в Центральный парк. После трех или четырех безуспешных попыток с моей стороны Ирвинг вырвал Жози у меня из рук и поинтересовался, что я собираюсь делать с беззащитным животным. Сначала чуть не вывихнула ему ногу, а теперь нас ждет искривление позвоночника. Он решил сам взяться за дело и отослал меня домой, пообещав, что не вернется до тех пор, пока не сможет доложить, что задание выполнено. Но он предоставит ей возможность самой справиться с этим делом. Пусть задирает ногу, приседает или стоит на ушах – все должно произойти по ее доброй воле, без применения насилия с его стороны и без советов дурных баб. Когда он водит Жози гулять, то не дает всяким шизофреничкам втянуть себя в дурацкие разговоры, а ведет исключительно интеллектуальные беседы с красивыми и приятными личностями, которые не позволяют себе вмешиваться в чужие дела. Примерно через час они с Жози были уже дома. Оба сияли. Я бросилась к Ирвингу. – Она задрала ножку? Он покачал головой. – Присела? Он как-то странно посмотрел на меня. – Что, твои интересы не простираются дальше клозета? – Но что же она сделала? На устах моего мужа появилась горделивая улыбка. – Жози обручилась. – С кем? – Бобо Эйхенбаумом. – Это еще кто такой? – Пудель. – Пудель?! – я как вкопанная застыла на месте. Ирвинг пожал плечами. – Возможно, ты предпочла бы Грегори Пека. Но она согласна на пуделя. Я попыталась объяснить, что наш кроткий ангел еще ничего не знает о птичках и деревьях, а он уже торопит ее с замужеством! Ирвинг попросил меня умерить пыл: они вовсе не планируют сыграть свадьбу в ближайшее воскресенье. Должен пройти период ухаживания, во время которого жених и невеста лучше узнают друг друга. А уж потом Жози назначит день свадьбы. Это поистине судьба: Бобо живет в нашем отеле, на четвертом этаже! На другой день я втайне от Ирвинга навела справки относительно моего будущего зятя. Разносчики и горничные снабдили меня исчерпывающей информацией. Бобо – прекрасно воспитанный пудель. Его семье принадлежат кредитные компании, площадки для игры в гольф и несколько отелей во Флориде. В общем, Бобо – тот самый мужчина, о котором может мечтать любая незамужняя девушка. Если не считать того, что он – пудель. Я решила позвонить миссис Эйхенбаум и довести до ее сведения, что Жози не может принять их предложение. Я по-простонародному, без затей, растолковала ей, что никогда не видела Бобо и, стало быть, ничего не имею против него лично. Но помолвка должна быть расторгнута. Дело в том, что Жози не собирается выходить замуж – никогда! Прежде всего, у нее хрупкое телосложение. Я не утаила от моей собеседницы ее ужасное прошлое, по сравнению с которым пневмония Лиз Тейлор казалась пустяковой простудой. В ходе этого монолога я трижды намеренно коверкала фамилию Эйхенбаум, но дама на другом конце провода ни разу не перебила. Если бы не ее ровное дыхание, я вообще усомнилась бы, что меня слушают. Когда я закончила, она прочистила горло и сказала: – Сначала – о главном. Наша фамилия – Эйхенбаум, и, поскольку в один прекрасный день это станет фамилией вашей дочери, хорошо бы вам научиться ее правильно выговаривать. Я поклялась, что, пока живу, не забуду ее фамилию, но Жози все-таки не собирается выходить замуж. После непродолжительной паузы мне был задан вопрос: – Вы что, принципиальная противница брака? Я заверила ее, что, наоборот, я целиком за. Особенно если это такой брак, как у нас с Ирвингом. – Тогда почему Бобо не может жениться на Жозефине? Я сочла миссис Эйхенбаум достойной подробного объяснения и рассказала о Флоренс Ластинг и ее сыне. Мать Бобо сочувственно поцокала языком. Я объяснила, что если даже произойдет чудо и Ирвинг разрешит мне оставить Жози, я не могу искушать судьбу, навязав ему еще и ее потомство. – Но он был не против ее замужества, – возразила миссис Эйхенбаум. – Естественно. Он решил, что она переедет к вам. Миссис Эйхенбаум обдумала такую возможность. – Я согласна. – А я нет! – воскликнула я. – Мне самой нужна Жози! А если она принесет щенков, я не смогу избавиться от них: ведь это будут ее дети! Кажется, миссис Эйхенбаум проняло. – О, понимаю. Значит, поскольку вы не собираетесь оставлять щенков, то и не видите смысла в том, чтобы подвергать ее процедуре деторождения? – Вот именно. – Щенков можно продать. – Миссис Эйхенбаум нельзя было отказать в практичности. – Вы бы продали детей вашей дочери? – Нет. Я подарила бы их племянникам. Все племянники бредят пуделями. Как мать жениха, я имею право на вознаграждение либо часть помета. – А что получу я, как мать невесты? – Беременную сучку. – И кто же установил такие правила? – взорвалась я. Миссис Эйхенбаум заверила меня, что не кто иной, как АКС. Само собой, ее не интересовало вознаграждение, она претендовала на часть помета. Ну, в крайнем случае, на одного щенка для начала. – А если Жозефина принесет только одного? – полюбопытствовала я. – Он достанется моему любимому племяннику. Мне стало тошно. Этот мир определенно создан для мужчин. Наша крошка должна будет проделать всю черную работу, а Бобо станет одаривать приятелей сигарами и щенками. Я решила закругляться. – Приятно было с вами побеседовать… На этот раз миссис Эйхенбаум не дала мне закончить фразу. – Куда вы спешите? Ведь мы еще не решили вашу главную проблему. Между нами, девочками: неужели мы не придумаем, как вам оставить Жозефину у себя? У меня резко поднялось настроение. Кажется, я потеряла зятя, зато приобрела друга. Я сказала миссис Эйхенбаум, что готова выслушать ее предложения. Таковых пока не оказалось. Единственное, на что она намекнула, это что если бы ей пришлось выбирать между Бобо и мистером Эйхенбаумом, она, не задумываясь, рассталась бы с мужем. Но главное, она напомнила мне, что впереди еще целый месяц. Мало ли что может случиться! На этой жизнеутверждающей ноте мы и закончили беседу. Однако июнь промелькнул со скоростью молнии. Не успела я оглянуться, как до «Дня Прощания с Собакой» осталось всего двое суток. Я начала нервничать. Жози чувствовала неладное и лезла из кожи вон, чтобы мне угодить, даже перестала кашлять. Вот уже три дня я не слышала, чтобы она хоть раз кашлянула. Я обратила на это внимание Ирвинга. Похоже, черная полоса в ее жизни кончилась, впереди была долгая, счастливая жизнь. Вот только с кем? Я не могла понять, на каком я свете. В светлые минуты мне казалось, что все не так уж плохо. До нашей разлуки с Жози оставалось всего сорок восемь часов, а Ирвинг вот уже целую неделю не заводил разговора о Флоренс Ластинг и ее маленьком сынишке. Потом с моих глаз спадала розовая пелена, и я начинала видеть вещи в истинном свете. Ирвинг купил билеты на самолет до Калифорнии, однако и не подумал получить разрешение на провоз собаки (я справлялась – необходимо особое разрешение). Тем не менее я не собиралась сама поднимать эту тему. Пусть поступает, как решил. Он знает, я всегда держу слово, а ведь я пообещала не устраивать сцен. О да, я постараюсь быть на высоте! Конечно, потом я месяц или два не буду с ним разговаривать, но в день ПС он не дождется от меня ни слова упрека, а тем более истерики. Пусть сам поднимет этот вопрос. Он так и поступил. Вечером у «Сарди». Ирвинг заказал свое любимое лакомство: шоколадный пломбир. Я отказалась от чего бы то ни было. Ирвинг сказал: – Ты же не можешь просто так сидеть. Я не удостоила его ответом. Ирвингу принесли пломбир. Он поглядел на меня. – Смотри, какая красота. Ты уверена, что не передумаешь? Я помотала головой. Наступила ужасная пауза, которая длилась добрых десять минут. Наконец Ирвинг не выдержал: – Флоренс Ластинг сняла на лето шикарную дачу на Лонг-Бич. Я сказала, что рада за нее. – Возьми же хоть ложечку пломбира. Я снова помотала головой. – Нигде так хорошо не делают пломбир, как у «Сарди». Я бросила взгляд на мороженое. Ирвинг так и не притронулся к нему. – В таком случае почему же ты не ешь? – Не хочется. – Он кликнул официанта и попросил унести подтаявший пломбир. Снова воцарилось молчание. Ирвинг заговорил первым: – Послушай, даже если бы мы хотели взять ее с собой, в отеле «Беверли-Хиллз» не разрешают держать собак. Я не поверила своим ушам. – Ирвинг! Тебе не хочется отдавать ее? Мой муж кивнул: – Конечно, не хочется. Но куда ее девать на лето? Я не могу навязать ее Флоренс Ластинг как временную гостью. Это будет жестоко по отношению к Крейгу: вдруг он привяжется к ней и не захочет отдавать? – Можно поместить Жозефину в пансионат для собак, – быстро произнесла я. – В Уэстчестере есть несколько подходящих. Особенно хвалят пансионат мистера Ингрэма. Ирвинг уставился на меня. – Для человека, который собирался безропотно расстаться с любимой собакой, ты проявляешь подозрительную осведомленность. Или тебя только что осенило? Я прильнула к его груди. Ирвинг спросил: – Кто такой мистер Ингрэм? – Смотритель. Он берет к себе собак на время отъезда их хозяев. Причем его услугами пользуются только избранные. Ему оставляют питомцев Мирна Лой, Полли Берген, Мерв Гриффин. Он ухаживает за их собаками, как за своими собственными. Но он дорого берет. – Что значит дорого? – Пять долларов в сутки. Ирвинг обдал меня холодом. – Если мы можем позволить себе остановиться в «Беверли-Хиллз», Жози может позволить себе пансионат мистера Ингрэма. Меня душили слезы. Я только и смогла пролепетать: – Ох, Ирвинг, как я тебя люблю! – Завтра же позвонишь мистеру Ингрэму, – распорядился он. – Я хочу с ним встретиться. Если моей собаке суждено провести лето в доме этого человека, я хотел бы взглянуть на его рекомендации. Мы счастливо улыбнулись друг другу, и Ирвинг заказал две порции шоколадного пломбира. (обратно)Глава 12. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
Тем летом мы очень скучали по Жози, хотя мистер Ингрэм постоянно держал нас в курсе ее успехов. Если верить его письмам, она чувствовала себя прекрасно во всех отношениях. В конце лета я сообщила ему дату нашего возвращения. Самолет прибывал в полночь, и я написала, что он может подержать ее у себя до утра. Полет прошел без сучка без задоринки. Правда, самолет слегка качало и подбрасывало, но я не обращала на это внимания. Страх перед полетом – отнюдь не фатальное явление, от него нетрудно избавиться. Стоит только время от времени напоминать себе, что летчик знает свое дело, машина проверена и снабжена устройством против дураков. Повторите это мысленно несколько раз, прихватите с собой успокоительное и бутылку пива – и это будет не полет, а одно удовольствие. После посадки я отыскала в аэропорту удобную скамейку и приготовилась ждать, пока Ирвинг разберется с багажом. К моему удивлению, он направился в другую сторону, а затем вошел в будку телефона-автомата. Крайне заинтригованная, я подкралась поближе. Он звонил мистеру Ингрэму! Ирвинг собирался немедленно ехать за нашей крошкой! Очевидно, у мистера Ингрэма были свои планы на это время суток, потому что в голосе Ирвинга послышалось раздражение. – Что значит «все уже спят»? Сейчас только десять минут первого. Жози никогда не ложится раньше двух или трех часов ночи. Последовала небольшая пауза, в течение которой мистер Ингрэм, должно быть, пытался втолковать Ирвингу, почему он считает, что сейчас неподходящее время. Ирвинг был непреклонен: – Мистер Ингрэм, мне нет дела до того, что вам написала миссис Мэнсфилд. Мы сейчас же приедем за собакой. Он вышел из будки и смерил меня таким взглядом, будто хотел сказать: – Ну ты и мамаша! Я опустила глаза. По правде говоря, это неожиданное проявление отцовских чувств произвело на меня сильнейшее впечатление. Должно быть, на мистера Ингрэма тоже. Когда такси остановилось у ворот его резиденции, он уже стоял на крыльце в надетом поверх пижамы пальто и держал на руках Жози. При нашем появлении она пришла в неописуемый восторг. Потом небрежно вильнула хвостом, словно отпуская мистера Ингрэма, и бросилась страстно целовать нас с Ирвингом. Мистер Ингрэм проводил ее взглядом, полным обожания. – Вот это собака так собака! У меня еще никогда не было столь яркой индивидуальности. Итак, Жози покорила и старого смотрителя! Однако она не удосужилась помахать ему на прощание, когда такси тронулось с места, а без конца целовала нас с Ирвингом и прекратила только тогда, когда впереди показались контуры нашего отеля. Тут Жози встрепенулась и радостно взвизгнула. Ирвинг был вне себя от изумления. – Она узнает родные места! А когда мы остановились, Жози шустро выскочила из машины, подтащила нас к кустам и присела! Мы чуть не потеряли сознание от гордости. Ирвинг заставил швейцара с коридорным ненадолго оставить багаж и вместе с нами насладиться этим зрелищем. Надо же, всего восемь месяцев, а такая умница! В вестибюле мы неожиданно столкнулись с Бобо Эйхенбаумом и его семейством. Ирвинг поделился с ними нашей радостью насчет кустов. Мистер Эйхенбаум согласился с тем, что это выдающееся достижение. Его немного беспокоил Бобо: он вроде бы тоже начал садиться на корточки, что не очень-то свойственно его полу. Миссис Эйхенбаум ринулась защищать своего любимца. Все дело в том, заявила она, что Бобо еще слишком юн и неопытен. Других причин нет и быть не может. Ирвинг, который умеет иногда быть откровенным до бессердечия, ляпнул: – Лично мне он всегда казался бабой! Миссис Эйхенбаум была потрясена, зато ее муж подошел к делу с реалистических позиций: – Говорил я миссис Эйхенбаум, чтобы не завязывала ему эти ужасные желтые бантики! – Они ему очень к лицу, – упорствовала жена. – Кроме того, если не считать приседания, у него нормальные мужские инстинкты. Посмотрите, как он ухлестывает за Жози. Мы посмотрели. Бобо стоял перед нашей красавицей на задних лапках, добиваясь того, чтобы она обратила на него внимание. В следующее мгновение вмешалась злокозненная судьба, и вихрем последовавшие друг за другом события не оставили ни у кого ни малейших сомнений в мужественности Бобо. На сцене появился еще один пудель, пятнистый (черный с белым) красавец по кличке Бренди, только что прибывший из Техаса. Стоило ему взглянуть на Жози, как он тотчас сделал на нее стойку. Жози ответила ему безразличным взглядом. Бобо продолжал служить. Бренди становился все агрессивнее. Он подбежал к предмету своей страсти и обнюхал его. Бобо перестал служить и воинственно, как петух, выпятил грудь. Бренди нюхнул еще разок. Бобо не мог поверить своим глазам: красавец арлекин у всех на глазах крутил амуры с его девушкой! И Бобо вынес ему смертный приговор. Все случилось в считанные доли секунды. Бобо молнией налетел на Бренди и вцепился ему в глотку. По полу покатился клубок из двух пуделей, это сопровождалось пронзительным визгом и злобным рычанием. Все вокруг пришло в движение. Двое коридорных, мистер Эйхенбаум, Ирвинг и хозяин Бренди бросились разнимать драчунов. Миссис Эйхенбаум вопила во всю мочь. Я схватила Жози в охапку и так же громко призывала на помощь, уверенная в том, что ни одному из соперников не выйти из этой потасовки живым. Жози с умеренным интересом наблюдала за развитием событий. Наконец собак удалось оттащить друг от друга. У Бобо кровоточила губа, а у Бренди был вырван клок шерсти у самого горла. Других повреждений не оказалось. Бренди вынесли на свежий воздух, а миссис Эйхенбаум без сил опустилась на диван, в то время как ее муж утешал отважного воина. Что же касается Жозефины, то она свернулась калачиком на диване и отключилась. Миссис Эйхенбаум бросила на нее презрительный взгляд. – Вы только посмотрите, эти двое чуть не поубивали друг друга, а ей хоть бы что. Я схватила Жози на руки и быстро отступила к лифту. Жозефина обернулась и благосклонно кивнула Бобо, как бы желая ему спокойной ночи. Это побудило миссис Эйхенбаум сделать следующее гнусное заявление: – Еще берется изображать из себя роковую женщину – с такой фигурой! Я застыла как вкопанная. – Чем вам не нравится ее фигура? – Какая там фигура? Вы только посмотрите на ее пузо! За все время, пока мы с Ирвингом поднимались в лифте, мы не проронили ни слова. И только очутившись в своих апартаментах, мы тщательно осмотрели предмет нашей любви и гордости и убедились, что утверждение миссис Эйхенбаум имело под собой почву. Жози несколько утратила свою прежнюю воздушность. Ирвинг решительно встал на ее защиту: – Она ничуть не толстая. Просто ее пора подстричь. У нее слишком густая шерсть. – На животе? Пришлось Ирвингу признать, что от грудной клетки и дальше у Жози не шло вверх, как у Бобо и Бренди, а переходило в прямую линию. Я же в своем критицизме пошла еще дальше, назвав ее живот обвислым. Ирвинг предположил, что это характерно для пуделей женского пола. Сколько там у них бывает грудей: десять или одиннадцать? И вообще, что хорошего, если женщина похожа на скелет? Все прославленные красавицы отличаются приятной полнотой. Например, Софи Лорен и Анита Экберг. Я возразила, что Грейс Келли худенькая, однако смогла пробиться. – Грейс Келли – совсем другое дело, – авторитетно заявил Ирвинг. – В отличие от нее Жози – жгучая брюнетка. Ярко выраженный чувственный тип – как Лиз Тейлор. Такое мог сказать только круглый идиот. Но я выдохлась. К тому же я сама брюнетка. И если Ирвингу доставляет удовольствие сравнивать Жози с Софи Лорен и Лиз Тейлор, с какой стати мне акцентировать внимание на ее недостатках? В конце концов, ведь это он оплачивает ее счета, а не миссис Эйхенбаум. (обратно)Глава 13. СЧИТАЕМ КАЛОРИИ
Изящество, с каким Ирвинг объяснил пышность форм нашей принцессы, убаюкало меня и усыпило мою бдительность. Всю осень и всю зиму полнота прогрессировала, и я начала воспринимать ее как неотъемлемую часть ее обаяния. Дошло до того, что я и глазом не моргнула, когда коридорный впервые воскликнул при встрече: «Привет, Пышка!» А если прохожие на улице бросали на ходу: «Что за миленькая толстушка!»– я относила это на свой счет. Конечно, никто из близких друзей прямо не называл Жози толстой. То ли они ослепли, то ли слишком дорожили нашей дружбой. Во всяком случае, когда Беа Коул позволила себе подобное замечание, у меня не возникло и тени сомнения, что она сделала это не нарочно. У нее просто вырвалось. Все-таки лучшая подруга! Однажды вечером мы с ней вели дружескую беседу и одновременно бросали Жозефине мяч. Я сказала, что, вероятно, в скором времени нам с Ирвингом предстоит поездка в Калифорнию и я еще не решила, взять Жозефину с собой или оставить у мистера Ингрэма. – Оставь ее у нас, – предложила Беа. – В прошлом году она была слишком маленькая и болезненная, зато теперь, когда ей уже больше года, это будет одно удовольствие. Я задержалась с ответом, и Беа спросила: – Ты что, мне не доверяешь? – Конечно, доверяю. Но меня беспокоит Карен. (Карен – ее пятилетняя дочь.) – Она обожает собачек! – Без сомнения. Но, Беа, дети смотрят на собак как на игрушки. Она может, совсем того не желая, причинить Жози боль: случайно наступить на нее или уронить на пол. Откуда ей знать, какое это хрупкое существо – пудель? Вот тут-то она и нанесла мне удар: – Хрупкое? Да если на то пошло, Жозефина сама кого угодно раздавит. – Ты намекаешь на то, что она толстая? – ледяным голосом осведомилась я. Беа и глазом не моргнула. – Я намекаю на то, что Лэйн Брайант следовало бы перенять у нее фасон зимней шубки! Примерно с десяток минут наша многолетняя дружба висела на волоске. Наконец разум одержал верх над эмоциями, и я поняла, что у Беа были самые лучшие намерения. Может, и правда, переменить Жози прическу? Беа внесла новое предложение: – Попробуй корсет и диету Вик Танни. Но я предпочла начать с прически и на следующий день отвела Жози в специальную парикмахерскую. Там я объяснила Мелу Дэвису, который обычно ее причесывал, что следует отказаться от привычной голландской стрижки. Слишком густой шерстяной покров в передней и задней части ее полнит. Мел внимательно осмотрел ее фигуру. – Конечно, я бы мог сделать спортивную прическу. Поменьше растительности на туловище и побольше на ногах. Но это вряд ли поможет. Все-таки шерсть скрадывает чересчур полную талию. И Мел туда же! Я прямо спросила, уж не считает ли он Жози толстой. Поскольку Жози для него не просто хорошая клиентка, но и солидные чаевые, Мел призвал на помощь дипломатию: – У нее действительно многовато в средней части. Но, может быть, она так сложена от природы и это часть ее индивидуальности? Я попросила сделать ей спортивную стрижку. Когда в пять часов я заехала за Жози, у Мела был какой-то смущенный вид, и у всех остальных тоже. Кроме Жози, которая выглядела как настоящее пугало. С минуту никто не решался произнести ни слова. Потом Мел честно признал свою ошибку: – По-моему, ей больше шла голландская стрижка. Я молчала, думая о том, сможет ли Айра Сенц изобразить какое-нибудь подобие тупея для пуделя, чтобы замаскировать живот. Жози – жгучая брюнетка, но ее кожа отличается молочной белизной. Без шерстного покрова ее брюшко прямо-таки ослепляло. Мел снова открыл рот: – А что если у нее опухоль? Да, с ней действительно что-то не так! Я тотчас бросилась к доктору Уайту. Он был в операционной, и мы попали к доктору Блю. Тот осмотрел Жози и пригласил доктора Блэка и доктора Грина на небольшой консилиум. Кто-то предположил больные почки. Все согласились, что необходим срочный рентген. Через пять минут я получила диагноз. Никакой опухоли. Никаких больных почек. Элементарное ожирение. Отныне запрещается давать Жози сладости, сдобу, сахарные косточки. Ее следует кормить только один раз в день. – Один раз в день? – эхом откликнулась я. – Да, – твердо ответил доктор Блэк. – Будете давать ей восемь унций собачьих консервов. Я возразила, что это Жози на один зуб. Когда мне популярно объяснили, что лишний жир является дополнительной нагрузкой на сердце, вызывает приступы астмы и ведет к пневмонии, я прекратила сопротивление. Они меня убедили. Оставалось убедить Ирвинга. И, конечно, Жози. Ирвинг оказался твердым орешком. Новая прическа сама по себе повергла его в шок. А когда я дошла до собачьих консервов, его буквально взорвало. Он обвинил меня в том, что я нарочно создаю себе проблемы. Ему плевать, что думает Беа Коул. Она красивая женщина и талантливая актриса, но это еще не дает ей права предписывать нашему пуделю ту или иную диету. А что касается врачей, то им выгодно, чтобы Жози оставалась заморышем: можно без конца экспериментировать с уколами, от которых у бедняжки развивается анемия. Один прием пищи? А как насчет завтрака? Они что, не знают, что мы работаем в шоу-бизнесе и Жози вынуждена приспосабливаться к нашему режиму? Она привыкла вставать не раньше полудня и не может начать день без двух чашек кофе. Я сослалась на высказывание доктора Блю о том, что поджарые люди дольше живут. Ирвинг отнес это к предрассудкам. Вон Софи Таккер скоро семьдесят, а она работает все пятьдесят две недели в год, выступает в двух шоу за один вечер, а в перерывах продает свои пластинки, чтобы заработать побольше денег и построить центр для беззащитных сирот. Доктор Блю на такое способен? Пришлось рассказать про астму и нагрузку на сердце. Даже если у Жозефины конституция Софи, может, у собак все несколько по-другому? Это немного подействовало на Ирвинга. А после того как мы сели и выпили по скотчу, он не предложил ей, как обычно, соленых земляных орешков. Отныне – никакого кофе, никакого арахиса, крекеров или икры. Никаких блюд от Дэнни или от Сарди. Долгое время все это было ее жизнью. Но теперь с этим покончено! (обратно)Глава 14. СЕМЕЙНЫЙ КРУГ
Так продолжалось двое суток. Потом, в пятницу вечером, Ирвинг принес горячего, только что поджаренного цыпленка. Цыплята были любимым блюдом Жозефины, и она пустилась отплясывать вокруг корзины чарльстон, а Ирвинг суетился рядом, соблазняя: – Смотри, Жози, что принес папочка! Мама поставила перед собой цель уморить тебя голодом – только потому, что она работает на телевидении и считает хорошим тоном, если девушка выглядит как чахоточная. Но этот номер не пройдет! Я была возмущена до глубины души. Жози все понимает, каждое слово! Этот монолог настроит ее против меня. Я попыталась втолковать им обоим, что обжорство вредно для ее здоровья. Не зря же врач упирал на опасность, которую представляет избыток холестерина. Жози смерила меня ледяным взглядом и перенесла все свое внимание на Ирвинга. Корзина источала необыкновенный аромат, и Жози прямо подвывала от восторга. Наконец Ирвинг развернул цыпленка иаккуратно разделал его, чтобы ей не попалась косточка. Разумеется, он позаботился и о теоретическом обосновании своих действий: – Завтра она снова сядет на диету. Но ведь сегодня пятница. – Ну и что? – Когда я был маленьким мальчиком и жил в Бруклине, в пятницу вечером мы всегда ели жареного цыпленка. – Жози не маленький мальчик и живет не в Бруклине. Она – перекормленный пудель из Южного района Нью-Йорка. Однако все мои доводы были как об стенку горох. Нельзя, конечно, исключить то, что Жози могла быть от природы предрасположена к полноте. Ирвинг инстинктивно угадывал в ней свой любимый тип женской красоты, воплощенный в его матери. Мелкая кость и отложения жира в области талии. Я поделилась этой догадкой со свекровью, милейшей женщиной, которая проглотила сей комплимент, почти не изменившись в лице. О моей свекрови можно говорить бесконечно. Я ограничусь утверждением, что она была не свекровью в привычном понимании этого слова, а одной из самых самоотверженных женщин, каких я когда-либо встречала, и моим искренним другом. Но животные для нее были только животными, а не членами семьи. По ее мнению, место животных – в джунглях либо зоопарке. Лошади годятся, чтобы на них ездили полицейские и для показа по телевидению. Кошки созданы ловить мышей, ну а собаки… может быть, затем, чтобы ловить кошек. Но уж во всяком случае не для того, чтобы лакомиться цыплятами и слоняться по роскошным апартаментам. Это уже что-то новое! В день нашей свадьбы она крепко обняла меня и сказала, что скорее приобрела дочь, чем потеряла сына. Она всю жизнь мечтала о дочери. Зато она не выказала никакого энтузиазма по поводу своего нового приобретения – пузатенькой четвероногой внучки. Вместо этого она проявила озабоченность по поводу умственных способностей своего сына. В тридцатые годы они с мужем пережили депрессию и многим пожертвовали ради того, чтобы дать ему высшее образование. Мать гордилась его достижениями, но не хвасталась ими в кругу знакомых, полагая, что результат должен сам говорить за себя. В ее глазах он был красив, как Рональд Колмэн. (При чем тут Гэри Грант, Роберт Тейлор и все остальные? Для нее эталоном был Рональд Колмэн.) Когда Ирвинг впервые помог ей свести семейный бюджет, она выразила уверенность в том, что Эйнштейну неслыханно повезло, что ее мальчик занялся шоу-бизнесом, а не физикой. И после всех этих успехов видеть, как столь выдающийся сын превратился в отца какого-то пуделя и сюсюкает с вышеупомянутым животным, было просто невыносимо. До боли в сердце. Но, как я уже сказала, это была необыкновенная женщина. Она не стала сваливать на меня вину за столь ужасную метаморфозу, а ограничилась парой безобидных реплик типа: «Каждый человек – кузнец своего счастья» или «Если взрослому мужчине с высшим образованием нравится строить из себя няньку при пуделе, это его личное дело». Она также высказалась в том смысле, что нам хорошо считать себя мамой и папой пуделя, но считает ли нас таковыми сам пудель, или мы для него – всего лишь пара рабов, готовых выполнить любое его желание? А впрочем, если нас это устраивает, то и ладушки. Единственный намек, который она себе позволила, относился к дяде Луису – родственнику со стороны отца Ирвинга: тот никогда не отличался большим умом, а к старости и совсем свихнулся. Не то чтобы слабоумие передавалось по наследству, но никогда не мешает провериться. Чтобы внести полную ясность, свекровь заявила, что ничего не имеет против Жозефины лично, даже взяла сторону Ирвинга в вопросе о ее конституции. Лишний жирок не повредит. И уж, конечно, что за ужин в пятницу без жареного цыпленка? Она никогда не лезла с советами и не задавала нескромных вопросов. Единственный раз, когда эта достойная женщина выразила некоторое неудовольствие, случился во время одного из ее еженедельных визитов, когда я попыталась установить более близкие отношения между бабушкой и внучкой. Я поднесла к ней Жози и нежно проворковала: – Жози, это бабушка. Поцелуй бабушку. Естественно, Жози не пришлось дважды просить. Она вложила в этот поцелуй всю свою душу и буквально умыла «бабушку». Та отшатнулась и мягко произнесла: – Пожалуй, будет лучше, если она станет называть меня Энни. Я поняла намек и прекратила игру в бабушку и внучку. (обратно)Глава 15. НЕЛЕГКО БЫТЬ ЖГУЧЕЙ БРЮНЕТКОЙ
Весной мы с гордостью осознали, что Жозефина стала настоящей красавицей. Этого никто не мог отрицать. Ее красота буквально била в глаза, заставляя забыть о чуточку полноватой талии. Уши свисали до самых плеч. Зубы сверкали не хуже слоновой кости; глаза можно было смело назвать бархатными, а шерсть (обычно называемая шубкой) была иссиня-черного цвета, очень густая и вьющаяся от природы. Если бы я сама не была влюблена в Жози, я могла бы приревновать, особенно когда Ирвинг переводил взгляд с нее на меня и делал такое, например, заявление: – А знаешь, до Жози я считал тебя жгучей брюнеткой. – И продолжал с меланхолией в голосе: – Нам бы следовало ее сфотографировать. Я не возражала. Однако после этих слов мы оба погружались в долгое скорбное молчание. Однажды я предложила: – Может, пригласить Бруно из Голливуда? Я убеждена, что он справится. Ирвинг подумал. – Бруно нет равных, когда речь идет о твоих портретах. Но, может быть, существуют фотографы, которые специализируются на собаках? – Я наведу справки. – Да, сделай это, пожалуйста. И мы оставили эту скользкую тему. Мы всегда избегаем касаться наших недостатков. Дело в том, что Ирвинг ни капельки не смыслит в фотографии. Обо мне и говорить не приходится. У нас с Ирвингом очень много общего. Любовь к гольфу, общие друзья, общая работа. К несчастью, недостатки тоже общие. Наши мозги моментально выходят из строя, когда мы сталкиваемся с техническими приспособлениями и электронными устройствами. Вы можете смело доверить Ирвингу любую телевизионную постановку, и он с честью выйдет из испытания. Но поручите ему заправить бензиновую зажигалку – и вы убедитесь, что это связано с немалым риском. Я не могу забыть роскошную зажигалку в кожаном футляре, подаренную нам на Рождество Джорджем С. Кауфманом. Она три недели надежно функционировала, пока в ней, как это свойственно зажигалкам, не кончился бензин. Ирвинг торжественно пообещал лично заправить ее. Если бы это заявление сделал любой другой мужчина, его жена просто кивнула бы и перенесла свое внимание на что-нибудь другое. Но это же Ирвинг! И совершенно изумительная зажигалка! Я подбежала и выхватила ее. – Прошу тебя, Ирвинг, не прикасайся к ней! Я вызову мастера. Он оттолкнул меня и отнял зажигалку. – На этот раз все будет в полном порядке. Я заходил в «Данхилл», мне подробнейшим образом все растолковали. Это совсем просто. Он говорил с необычной уверенностью; даже его подход к делу показался мне профессиональным и вполне обнадеживающим. Прежде всего он снял пиджак. Потом засучил рукава. Расстелил на столе полотенце. Попросил меня отойти и не загораживать свет. С точностью хирурга, раскладывающего инструменты перед операцией, поместил на полотенце десятицентовик, пинцет и флакон с горючей смесью. Это против воли произвело на меня сильное впечатление. Пользуясь монетой как отверткой, Ирвинг открутил крышку и, прежде чем я успела воскликнуть: «Может, не надо?»– разобрал зажигалку. Да не просто разобрал – он распотрошил ее всю! На полотенце посыпались пружинки и прочие финтифлюшки. Ирвинга это не обескуражило. Он хладнокровно взял пинцет и потянул фитиль. При этом изрек, подражая хирургу, объясняющему галерке ход операции: – Это чтобы ярче горело. Затем он положил пинцет и открыл флакон с бензином, перевернул зажигалку вверх дном и открутил пробку, чтобы залить бензин. И вдруг замер. – Там какая-то нитка. Я посмотрела и убедилась, что так оно и есть. – Мне ничего не говорили про нитку. – Не обращай внимания, – взмолилась я. – У тебя так хорошо получалось. – При этом я старалась не смотреть на разбросанные по полотенцу детальки. Ирвинг вставил новый кремень, но в его движениях явно поубавилось уверенности. Эта нитка его доконала. Когда он собирал зажигалку, я заметила, что у него дрожат руки. Но он продолжал делать свое дело и, на мой взгляд, прекрасно справился. Он вставил все обратно, за исключением одной или двух деталек. Зажигалка приобрела прежний вид, и все было хорошо – если не считать того, что она не работала. С минуту Ирвинг тупо смотрел на нее, потом открыл окно, глубоко вдохнул в себя воздух и с размаху запустил туда зажигалкой. А я? Я сделала то, что сделала бы любая хорошая жена на моем месте. Выбросила оставшиеся детали и закрыла окно. Вот и вся история с зажигалкой. Теперь можете вы представить себе Ирвинга с фотоаппаратом? О, я могла бы продолжать и поведать, как нас едва не убило током во время схватки с электрической кофеваркой и как мы вырубили во всем отеле электричество, в первый раз пытаясь включить новый кондиционер. Но зачем утомлять вас нашими мелкими промахами? Скажу лишь, что Ирвинг смотрит не только на Джона Гленна как на высшее существо, которое запросто управляется со всеми кнопками и рубильниками внутри космического корабля, но также полон уважения к обезьяне, выполнившей пробный полет. И я вполне разделяю его восхищение. Потому что, какие бы бананы ни скармливали нам с Ирвингом, мы бы ни за что не нажали на нужные кнопки. Поэтому когда возникла необходимость сфотографировать Жозефину, мы не стали играть в «я сделаю это сам». После всестороннего рассмотрения и консультаций со знакомыми мне удалось выйти на выдающегося собачьего фотографа. Его рекомендации ошеломили нас. Казалось, он не пропустил ни одной знаменитой голливудской собаки. К тому времени этот человек только что открыл студию в Нью-Йорке. Он заверил нас, что у всех голливудских собак была уйма недостатков. С помощью ретуши ему удавалось устранять двойные подбородки, увеличивать куцые хвосты и удлинять уши. Это был мастер своего дела. Познакомившись с Жози, он заявил, что уберет какой-нибудь дюйм с ее живота, но что касается остального, то она не нуждается в приукрашивании. Жози посетила салон красоты и вернулась оттуда вся в бантиках. Мне не пришлось долго учить ее позировать: я просто показала ей конфету и дала понять, что она получит ее после щелчка фотокамеры. После третьей конфеты Жози так и рвалась сниматься. Подозреваю, что ею втайне завладела мысль стать профессиональной фотомоделью. Она садилась, поворачивалась, вставала и даже чавкала. Говорю вам: эта собака способна на все ради меня и конфет. Знаменитый фотограф не остался равнодушным к ее чарам. – Необыкновенный шарм! Это будет великолепный снимок! А что касается животика, то у меня есть замечательная подсветка. Но что за мордочка – просто конец света! А уши! Ей нужно сниматься в кино. У меня еще не было клиентки с такими глазами. Я должен снять ее крупным планом. Это человеческие глаза, в них светится мысль. Дитя мое, перестань жевать эту гадость. А теперь открой свои дивные глазки. Открой их, моя прелесть. «Прелесть» послушно захлопала ресницами. Она также сочла фотографа необыкновенным человеком. Фотограф продолжал суетиться: – Нужно будет послать снимки в «Вог». Там их с руками оторвут. В свое время они уговаривали меня идти к ним работать. Но я отказался. Терпеть не могу снимать этих пошлых красоток. То ли дело работать с Жози: это просто конец света! Убирая фотопринадлежности, он продолжал расхваливать Жози – как она поразительно фотогенична. Я уже представляла себе, как покажу матери Бобо Эйхенбаума портрет Жозефины в «Воге» – на всю страницу! Жози в окружении стройных манекенщиц! Естественно, когда он запросил сто долларов, я не стала торговаться. Он собирался сделать несколько фотографий восемь на десять, чтобы предложить на обложку в «Лайф». Этот журнал уже много лет умоляет его о сотрудничестве. На прощание он расцеловал нас обеих. – Тяжело расставаться с вами, мои дорогие, но я должен спешить. Через неделю получите пробные отпечатки. Мы долго смотрели вслед. Казалось, Жозефину также огорчила разлука с этим человеком. Он сделал не менее семидесяти пяти кадров и навсегда стал для нее олицетворением семидесяти пяти конфет. Фотограф сдержал слово и прислал пробные отпечатки: всего через пять дней. Я вскрыла конверт и не поверила своим глазам. Если бы я лично не присутствовала при съемке, то решила бы, что это дело рук Ирвинга. Семьдесят пять кадров! Семьдесят пять чернильных клякс – вот что это было такое! Ни глаз, ни мордочки, ни зубов, ни ушей – одно сплошное чернильное пятно. Рисунок из серии тестов Роршаха. Я набрала номер фотографа и заговорила на повышенных тонах. Фотограф ответил тем же. Он заявил, что с ее окрасом нельзя сниматься. Черный цвет огрубляет, а Жозефина – просто вопиющая брюнетка. Черные глаза, черный нос… Я ехидно осведомилась, что он предлагает: покрасить ее в белый цвет? Вставить голубые контактные линзы? Это навело фотографа на мысль. – Слушайте, дорогая, что вы делаете с вашими волосами, чтобы они хорошо прорабатывались на экране? – Посыпаю золотой пудрой. – Вот именно! Я сейчас же буду у вас! Мы повторим съемку. А вы пока слетайте за золотой пудрой! Так я и сделала. Пришлось также позаботиться о новой коробке конфет. Жози ликовала. Она даже не возражала против превращения в блондинку. Мы снова прошли через всю процедуру съемки. Мне были обещаны семьдесят пять изумительных пробных отпечатков. Через неделю я их получила. Семьдесят пять обсыпанных золотой пудрой пуделей – без глаз и без выражения лица. Ирвинг не только фотографу сказал все, что он о нем думает, но также приберег пару ласковых слов для меня. Особенно когда выяснилось, что золотая пудра намертво пристала к меху нашей красавицы. По прошествии нескольких дней золото начало тускнеть, и прохожие на улице останавливали нас возгласами: «Эй, мистер, у вас зеленый пудель!» Или: «Смотри, мам, какая странная собака!» Я так и не поняла, почему это никак не удавалось смыть. Мыло оказалось совершенно бессильным. Я тщетно пыталась втолковать Ирвингу, что когда я сама пользуюсь золотой пудрой, потом ее достаточно смахнуть щеткой для волос. Он так и не дал себя уговорить. – Тебе не приходит в голову, что между вашими волосами существует разница? И вообще – что она существует сама по себе? Это ее волосы, ее личико и ее индивидуальность! Я пришла в негодование. – А я, по-твоему, кем ее считаю? – Своим продолжением. Частью тебя самой. Твоей копией. Ты любишь недожаренное мясо, значит, она тоже должна его любить. А я, например, предпочитаю пережаренное, но это не дает мне права навязывать ей свой вкус. – Чего ты от меня хочешь? – Дай ей возможность стать собой. Может, она выберет что-то среднее. Я допустила, чтобы последнее слово осталось за Ирвингом, потому что в глубине души признавала: его рассуждения имеют под собой почву. Жози действительно переняла чуть ли не все мои вкусы и привычки. Она не только отдавала предпочтение тем же блюдам, людям и телепередачам, но и разделяла мои «фобии». Например, страх перед насекомыми. Я не из тех женщин, которые падают в обморок при виде мыши. Я даже считаю мышь умной зверюшкой. А вот от насекомых прихожу в настоящий ужас. Время от времени к нам из парка залетают разные безобидные мошки. Завидев мошку, нормальная собака радостно кидается на нее: «Сыграем в салки?» Я же в истерике устремляюсь в ванную, а Жози прячется под кроватью, в то время как Ирвинг совершает чудеса храбрости. Ирвинга это бесит. С него довольно одной такой сумасшедшей, как я. Но собаки – прирожденные охотники. Инстинкт должен вести собаку в бой, а не побуждать спасаться бегством от какой-то там жалкой мошки! Да, Ирвинг прав. Мне вдруг стало ясно: Жози во всем подражает мне. Я люблю завтракать в постели, и она немедленно усвоила эту привычку. Где бы она ни находилась, получив печенье, она бежала с ним в спальню, вскакивала на кровать и уже там съедала его. Поэтому я развернула кампанию за то, чтобы Жози стала самой собой. Раньше, выходя с ней на прогулку, я автоматически устремлялась в сторону Пятой авеню, где можно вдоволь поглазеть на витрины. Однако теперь я решила дать ей принять самостоятельное решение. Выйдя из отеля, я остановилась и спросила: – Куда ты хочешь пойти, дорогая? Она несколько секунд пялилась на меня, а потом жизнерадостно потрусила к Пятой авеню. Я бы продолжила этот эксперимент, но тут как раз то ли в «Харпер Базар», то ли в «Воге» (обычно я просматриваю разные журналы в приемной дантиста) вышла статья, которая называлась «Могут ли пудели считаться людьми?». Основная идея такова. Существуют пудели, которые и являются пуделями. Но среди представителей этой породы встречаются ниспровергатели устоев, в которых явно есть что-то человеческое; во всяком случае, они сами так считают. Это пудели с развитым воображением и способностью к логическому мышлению. В статье утверждалось, к примеру, что у всех собак есть шерстный покров. К пуделю это не относится: у него не шерсть и не мех, а волосы. Пудели пользуются своими лапками как руками, например когда берут игрушку. Пудели носят зимой пальто, а осенью плащ и ленточки в волосах. Так почему пудель не может отождествлять себя с человеком? Я немедленно приобрела несколько книг по собачьей психологии. Изучив горы материалов и понаблюдав за окружающей действительностью, я поняла, что автор статьи прав. Существуют пудели, которые отождествляют себя с людьми. Определять их помогают тесты. Как ваша собака реагирует на других пуделей? Бурно радуется при встрече или предпочитает общество людей? Понимает ли тявканье так же хорошо, как обращенную к ней человеческую речь? Если да, то перед вами стопроцентный пудель. А вот некоторые черты пуделей, воображающих себя людьми. Они определенно предпочитают общество человека. Даже Лэсси для них – всего лишь симпатичная собака. К собственной породе они относятся с большим уважением, выделяя ее изо всех других. Остальные собаки кажутся им чем-то вроде забавы. Они как будто думают: «Надо же, какая славная собачонка! Если бы я решил завести домашнего любимца, непременно выбрал бы точно такую же». Главный и непогрешимый тест – проверка на зеркало. Ибо пудель, который отождествляет себя с человеком, твердо уверен, что выглядит точь-в-точь как его хозяин. Посадите пуделя перед трюмо. Если он таращит глаза и охорашивается, это «нормальный» пудель. Если бросает быстрый взгляд и тут же норовит улизнуть, это все еще пудель, только нуждающийся в помощи психоаналитика. Обычно пудели тщеславны, и если собака не испытывает нужды повертеться перед зеркалом, значит, она не в восторге от собственной внешности. У нее даже может развиться синдром ухода в себя. Вы должны помочь ей избавиться от комплекса неполноценности, при каждом удобном случае заверяя ее в том, что она безумно красива. Иногда собаке придает уверенности посещение салона красоты и новая прическа. Я подвергла Жози этому испытанию. Она выдала «человеческую» реакцию. Сначала посмотрела на себя в зеркале. Потом повернулась ко мне, словно спрашивая: «Чья это там такая славная собачонка?» Вслед за тем она точно так же, как это свойственно людям, бросилась ласкать «славную собачонку». И, конечно же, ударилась о зеркало. Это решило дело. До сих пор Жози считала пуделей умной породой, но, по-видимому, эта собака была отщепенкой. Жози зарычала на свое отражение. Я схватила ее как раз вовремя, иначе она разбилась бы в новой попытке атаковать захватчика, вторгшегося на ее территорию. В книге сказано: «Постарайтесь внушить пуделю, что он – пудель. Тогда с ним будет гораздо легче». Через несколько дней я повторила тест с зеркалом. Взяв Жози на руки, я встала вместе с ней перед трюмо. Чтобы успокоить ее, я крепко прижала ее к себе и ласково произнесла: – Жози, это зеркало. Она уставилась на трогательную картинку в зеркале и, скорее всего, осталась довольна увиденным, потому что слегка приосанилась. Я уже было решила, что на этот раз достаточно, как вдруг обратила внимание, что Жозефина прихорашивается, глядя на мое отражение в зеркале. Тогда я решила обрушить на нее неприкрашенную истину. Я показала пальцем на наше отражение и сказала: – Мне жаль тебя разочаровывать, дорогая, но эта маленькая толстушка с итальянской прической – ты, Жози. А вот эта высокая, стройная – я. Она зевнула, слегка порычала на незнакомую собаку в зеркале и вновь переключилась на мое отражение. Тогда я сдалась и никогда больше не пыталась ее переубедить. В какой-то мере мне даже польстило, что она выбрала в качестве образца для подражания меня, а не Ирвинга. (обратно)Глава 16. УЛЫБНИТЕСЬ! КАМЕРА!
Конечно, однажды это должно было случиться. Коль скоро все в доме имели отношение к шоу-бизнесу, не мудрено, что и Жози пошла по нашим стопам. Специалисты утверждают, что средняя собака понимает пять-шесть слов или команд. Умная собака понимает от двадцати до тридцати: пирожное, прогулка, ужин, папа, мама, холодильник, прическа, сладкое, нет, молодец и еще несколько слов. Что касается Жози, то она не только усвоила все перечисленные слова и выражения, но в ее лексиконе также значились: спонсор, Нильсоны, долевое участие, лучшее эфирное время, пленка, летняя замена и прогон. Она знала, что выражение «отмена передачи» связано с материальными затруднениями, «13» не просто число, а цикл телевизионных передач, «26» означало первоклассный цикл передач, а «39» говорило сердцу зрителя: «Бросьте все, мы в эфире!» И кто только не почесывал ей животик! Милтон Берль, Джек Леонард, Клифтон Фейдимен, Эрл Уилсон, Киф Брассел и ее крестный отец, всемирно известный трезвенник Джо Льюис. В сущности, к пузику Жози прикасалось такое количество прославленных рук, что его можно было бы сравнить с цементной стеной перед китайским театром Траумена, где голливудские знаменитости оставляют отпечатки своих пальцев. Скоро дойдет до того, думала я, что люди станут указывать на животик Жози и благоговейно шептать: «Здесь была Люсиль Болл». Конечно, идя к нам в гости, мало кто заранее дрожал от нетерпения: «Где тут животик Жози? Я жажду почесать его!» Это получалось само собой, иногда даже против их воли. Они даже не отдавали себе отчета в собственных действиях. Жозефина взяла управление этим процессом в свои руки. Едва появлялся гость, она устраивала ему сногсшибательный прием: ворковала, прыгала, выделывая вокруг гостя немыслимые па, как настоящая Катрин Мюррей. Лично мне казалось, что она переигрывает, но результат был всегда один и тот же: гость чувствовал себя польщенным. Откуда ему было знать, что она точно с таким же восторгом приветствует мойщика стекол и разносчика бакалеи. Как только гость садился, Жозефина моментально была на своем рабочем месте, сворачиваясь клубком возле его ног. Если гость был нормальным экстравертом со здоровыми инстинктами, он начинал машинально поглаживать ей макушку. Если ему недоставало сообразительности, Жозефина пускала в ход подсказку, слегка тормоша его лапкой. Если же он по-прежнему не догадывался, удары этой крохотной лапки становились ощутимее. В конце концов, гость понимал, что лучше уступить. Большинство ухитрялось совмещать почесывание и поскребывание с приятной беседой. Самый большой урожай почесываний выпадал на ее долю, когда Ирвинг устраивал прослушивание прямо в апартаментах. Обычно он делал это в студии или у себя в офисе, но иногда требовались вечерние прослушивания. Тогда возле нашей двери толпились честолюбивые молодые актеры и актрисы. А если вы честолюбивый молодой артист, мечтающий попасть в телешоу «Юные дарования», а у продюсера имеется пухленький пуделек, упорно настаивающий на том, чтобы ему почесали животик, – что вы предпримете? Да то же, что и остальные: станете тереть вышеупомянутый животик с таким рвением, будто это – ваше любимое занятие. Как видите, Жозефина с детства купалась в лучах славы родителей, а потому неудивительно, что в ней рано проснулись актерские наклонности. Сам Бог велел ей попытать счастья на телевидении. Сначала я не собиралась предпринимать какие бы то ни было шаги, связанные с ее карьерой, справедливо уповая на естественный ход вещей. Разве можно забыть трогательную историю о том, как Мервин Ле Рой случайно наткнулся на Лану Тернер, потягивающую кока-колу в аптеке? Или как Норма Ширер увидела детские фотографии Дженет Ли в охотничьей сторожке. Такое случалось сплошь и рядом. Только не с Жозефиной. Она постоянно путалась под ногами у видных деятелей шоу-бизнеса, но как раз в те минуты, когда их творческое воображение отдыхало. Билли Роуз ни разу не подмигнул ей с многозначительным видом. И в этом не было ничего удивительного, потому что Билли до сих пор охотно рассказывал историю о том, как к нему явилась на прослушивание юная Мэри Мартин и он посоветовал ей вернуться в Техас, выйти замуж и нарожать кучу детишек. Билли сейчас больше всего интересовался театрами, особняками и собственными миллионами. Эйб Берроуз охотно почесывал Жозефине брюшко, но ему не приходило в голову занять ее в каком-нибудь мюзикле. Мой добрый друг Эрл Уилсон, посвящавший целые развороты хорошеньким толстушкам типа Джейн Рассел, Моники Ван Вурен или Джейн Мэнсфилд, ни разу не выкроил места в журнале для Жози. А ведь она стоит десятка таких, как они! Даже ее старый приятель Сидней Кингсли – и тот не подумал ввести ее в свое шоу! И тогда Бог послал нам Анну Сосенко. Анна – женщина со множеством разнообразных талантов. Это она сочинила «Дорогой, я так люблю тебя!». В числе ее открытий – Хильдегард и другие. Она считается крупным знатоком живописи. Но Жози полюбила Анну бескорыстной любовью. Анна – неутомимый чесальщик собачьих брюшек. К тому же у нее дома есть электрический гриль, с помощью которого она готовит отменные сосиски, запеченные в тесте. И вообще у нее всегда найдется что-нибудь вкусненькое типа икры или бутербродов с печеночным паштетом. В один прекрасный день Анна, Жози и я сидели у нее на террасе и ничего не делали. То есть это мы с Жози ничего не делали, а Анна одной рукой смешивала мартини, а другой почесывала Жозефине брюшко. Как вдруг эту идиллию нарушил приход знакомого репортера. Само собой, Анна обрадовалась. Я тоже, потому что с удовольствием читала его статьи. Что же касается Жозефины, то она немедленно зачислила его в соискатели. Ведь если он заменит Анну, та пойдет и приготовит свои волшебные бутербродики. Вот почему Жози встретила газетчика как родного. И этот человек, видевший нас впервые, был необыкновенно польщен. И, разумеется, я тут же выступила с заявлением, которое пользовалось неизменным успехом: – Господи, я еще не видела, чтобы она так себя вела! Она полюбила вас с первого взгляда! Он не замедлил выдать стандартный ответ: – Не знаю, в чем тут дело, но меня почему-то любят собаки. Я устремила на него благоговейный взор. – Нисколько в этом не сомневаюсь. Обычно Жози не очень-то жалует незнакомых. (Да она охотно увязалась бы за Хрущевым, угости он ее ливерной колбасой и почеши животик!) А уж когда Жозефина приспособила нового гостя к процедуре чесания, даже Анна смекнула, что к чему, и подыграла: – Надо же – она позволила вам чесать себе брюшко! Обычно этой привилегии удостаиваются только избранные! Когда репортер ненадолго прервал это приятное занятие, чтобы опрокинуть стаканчик, Жози легким ударом лапки напомнила ему о том, что на самом деле составляло смысл ее жизни. Вместо того чтобы рассердиться, он был тронут: – Какая она коммуникабельная! Это был свежий комплимент, и даже я прониклась нежными чувствами к этому человеку. Вскоре мы уже обсуждали подробности будущей телевизионной карьеры Жози. Репортер настаивал на том, чтобы ему позволили взять это дело в свои руки. На прощание он произнес: – У меня есть свой человек в высших сферах шоу-бизнеса! Я не слишком серьезно отнеслась к этим словам, но на всякий случай дала ему наш телефон и заверила, что с благодарностью рассмотрю любое приемлемое предложение. Сначала Ирвинг был против. С какой стати ей связываться с телевидением? Если мне нравится получать пинки в «Первой студии», это мое личное дело. Жози не нуждается в подобных способах самоутверждения. Но я была настроена решительно. Мне захотелось внушить Жозефине, что существует еще что-то, кроме сладостей и почесывания животика. И потом, она сослужит добрую службу своей породе. Многие смотрят на пуделя как на балованную комнатную собачку – и только. Мне надоели привычные клише: «Если вам нужно глупенькое, тщеславное существо, чтобы наряжать и хвастаться им перед знакомыми, тогда пудель – именно то, что вам нужно». Или: «Дворняжки – самое то. У всех этих чистопородных – низкий умственный коэффициент». Согласно «закону Джеки Куген», в случае чего я не имела права тратить гонорары Жози на собственные нужды. Все ее деньги должны были зачисляться на особый счет. На дивиденды я могла покупать ей сладости и игрушки. А если ей посчастливится стать звездой, я смогу нанять для нее специального чесальщика брюшка с почасовой оплатой. Все друзья одобрили мое намерение добиться для Жози телевизионной карьеры. Особенно когда узнавали насчет дивидендов. И мы стали ждать звонка того репортера. Звонка так и не последовало. Зато наш благодетель прислал письмо. К несчастью, редактор послал его освещать какие-то там волнения то ли в Индии, то ли в Африке, а может, в Китае – в общем, в одной из тех «точек», где постоянно имеет место какая-либо заварушка. Но он не забыл о Жози. Сразу по возвращении он позаботится о ее карьере. Я преисполнилась пессимизма: ведь эти локальные войны никогда не кончаются. По мне, если без войн не обойтись, так уж лучше пусть раз в какое-то время грянет настоящая война. Тогда, по крайней мере, ясно, что к чему, и все стремятся положить конец этому безумию. Но эти постоянно тлеющие очаги напряженности совершенно выматывают. Читая на второй странице какой-нибудь газеты о том, что горстка террористов взорвала административное здание, в результате чего пострадали четверо прохожих, я никогда не могу понять, кому мы сочувствуем: террористам или случайным жертвам. И с этим невозможно бороться, разве что в ООН произносятся какие-то речи, да еще время от времени то или иное государство жертвует пострадавшей стороне энную сумму денег плюс несколько устаревших истребителей. Только на этот раз они принесли в жертву Жозефину. Я несколько дней дулась, пока наконец, Анна Сосенко не привела меня в чувство. – Если хочешь, чтобы она сделала карьеру, не сиди сложа руки! – То есть? – Ну, например, распусти слух о том, что Жози очень талантлива. Люди встречают вас на прогулке, им и в голову не приходит, что у нее есть способности. – Анна немного помолчала. – А кстати, что она умеет делать? – Ничего особенного. Она очень непосредственна. Анна перевела взгляд на Жозефину, уплетавшую кусок осетрины. – А, по-моему, она просто бездельница. Не больше и не меньше! Ну, погоди, Анна, я тебе докажу! Я обзвонила весь город, и уже через неделю Жози получила приглашение участвовать в шоу Херба Шелдона. Нам позвонил один из его помощников. – Что ей придется делать? – спросила я (ни малейшего волнения в голосе!). – Ну… Мистер Шелдон хочет включить в передачу сюжет о домашних любимцах. Сначала он сам скажет несколько слов, потом представит вас, а вы представите Жозефину и чуть-чуть расскажете о том, как четвероногий друг согревает вашу жизнь. Само собой разумеется, камера будет работать на Жозефину. Значит, все крупные планы будут у нее? Ну и плевать! Это же ее дебют, а не мой. Я постаралась вложить в свой голос побольше энтузиазма. – И сколько вы ей заплатите? – Мы не платим денег за один показ. Я заколебалась. Итак, меня лишают крупных планов, а Жозефину – заработка. Ассистент режиссера продолжал: – Значит, мы ждем вас в следующий четверг в 8.30. Восемь тридцать утра?! Я тотчас пустилась в пространные объяснения относительно режима семьи Мэнсфилдов, включая Жозефину. В сущности, весь этот монолог можно было свести к одной фразе: «Поищите другую собаку!» Он понял и повесил трубку. Через десять минут позвонил Ирвинг. Ассистент из шоу Херба Шелдона успел связаться с ним и убедить в важности появления Жозефины на телеэкране. – Все-таки для нее это хороший шанс, – заключил Ирвинг. – Вот сам с ней и выступай! – вспылила я и тут же представила его ехидную усмешку. – Кажется, я не трезвонил повсюду, какая она великая актриса! Я разошлась. Ему что, не жалко бедную собаку? Она же не привыкла вставать раньше полудня. А если даже Жози удастся сделать над собой усилие, я лично за себя не ручаюсь! Или моя карьера не в счет? Торчать на экране в это время суток! Следующая реплика Ирвинга положила конец этой плодотворной дискуссии: – Да кто на тебя станет смотреть, если она будет рядом? Пришлось вести Жози в салон красоты, где ее за десять долларов привели в порядок. Потом я занялась собственной прической. Накануне передачи я уже в десять часов потушила повсюду свет и попросила по телефону дежурную разбудить меня завтра в семь утра. В полночь мне все еще не удавалось сомкнуть глаз, а Жози как ни в чем не бывало играла с резиновой игрушкой в гостиной. Я встала, схватила ее и уложила рядом с собой в постель, объяснив, что необходимо спать – сию же минуту! Что касается Ирвинга, то он заперся в кабинете с книгой. Жози с удовольствием прижалась ко мне и стала легонько похлопывать меня лапкой. Она решила, что наконец-то поняла, что от нее требуется. По какой-то неведомой причине она должна была находиться в моей постели. Жози не стала спорить, но побежала в гостиную и одну за другой перетащила в спальню все свои игрушки. В довершение ко всему она сунула мне в лицо мокрый мячик. Ее трудно было винить: для нее вечер был в самом разгаре. В два я приняла снотворное, а Жозефине дала полтаблетки аспирина и несколько капель виски. Только после этого нам удалось уснуть. На следующее утро Жозефина прекрасно выглядела и была полна энергии. Я же чувствовала себя совсем разбитой. Однако мы кое-как добрались до студии. Ирвинг заранее обзвонил всех своих друзей. Его мать оповестила о предстоящей передаче добрую половину Бруклина. Анна Сосенко, которая вообще никогда не спит, собиралась записать передачу на видеомагнитофон. Наши друзья в Северном Бергене, судья Розенблюм и его жена Фрэн, позаботились о рекламе в Нью-Джерси. Беа Коул подняла с постелей Парк-авеню, а ее дочь Карен – весь свой первый класс. Джойс Мэтьюз поставила будильник на 8.30, чтобы вместе с Вики и Тулузом посмотреть передачу. В студии все были с нами очень милы. Не потребовалось никаких особых репетиций. Началась обычная суета с установкой камер так, чтобы все внимание было сосредоточено на Жозефине. Пока осветители возились с софитами, я держала Жози на руках. Внезапно студию залили яркие потоки света. Со всех сторон слышались реплики: «Наводи на глаза!», «Дай нижний свет, чтобы выделить нос!». Жози только зевала в ответ. Она вдруг впала в такую апатию, что я запаниковала. В эти ранние утренние часы Жозефина привыкла спать. Она была типичной «совой». Чтобы немного расшевелить ее, я опустила Жози на пол. Вместо того чтобы немного подвигаться, она свернулась клубочком и моментально уснула. Я была на грани нервного срыва. Режиссер изумленно воззрился на Жозефину. – Она хоть очухается, когда начнется передача? Я кивнула, изображая уверенность, которой вовсе не чувствовала. Стрелка часов остановилась на девяти. Все напряглись. Передача вышла в эфир. Через каких-нибудь пять минут наш с Жозефиной выход! Бывают артисты, которые потрясают на генеральной репетиции, но почему-то скованно держатся перед объективом телекамеры или большой аудиторией. Другие, наоборот, без аудитории выглядят вялыми и безжизненными. И только очутившись лицом к лицу со зрителями или, на худой конец, операторами в студии, как по волшебству, обретают вдохновение, становятся другими людьми – нет, богами! Жозефина принадлежала к их числу! Как только ее представили и камера поехала на нее, она пришла в чувство, открыла свои прекрасные глаза и вся засветилась, излучая необыкновенное обаяние. Она вздернула головку как раз под нужным углом. Когда камера приблизилась, чтобы дать крупный план, во мне тоже проснулась актриса. До сих пор это был ее бенефис. Но если я немного подыграю, это не повредит. Я прижала ее мордочку к своему лицу. Так мы обе окажемся в кадре! Могла ли я думать, что Жозефина в мгновение ока обернется настоящей Этель Берримор, не желающей ни с кем делить свою славу? Едва «мама с дочкой» очутились в кадре, «дочь» встрепенулась и начала покрывать лицо «мамочки» нежными поцелуями. Это была чрезвычайно трогательная сценка – если не считать того, что лицо «матери» на глазах начало терять краски, превращаясь в размытое пятно. Заметив это, режиссер сделал знак второй камере, чтобы снимали сзади. В кадре оказались сияющая мордашка Жози во всей красе и мой затылок. После того как загорелось табло, нас сразу же обступили и забросали вопросами. Как ее правильно зовут: Жозефина или Жози? Что является сценическим псевдонимом, а что – ее настоящим именем? Сколько ей лет? Сколько у нее детей? Ну, в общем, все, что люди обычно хотят знать о звездах. И никому не было дела до моей скромной особы. Когда мы приехали домой, телефон звонил не переставая. Джойс сказала, что Лэсси ей и в подметки не годится. Миссис Эйхенбаум заверила меня, что животика почти не было видно. Ирвинг же заявил, что Жозефина убедительно доказала: жгучим брюнеткам тоже есть место на телевидении! Жаль только, что в том единственном кадре, когда меня показали, я выглядела очень плохо. Остаток дня я провела, принимая поздравления для Жози. – Как именно? – поинтересовалась я. – Да ничего особенного. Как будто тебя умыли. Поздно ночью, когда Ирвинг уже почти заснул, я не выдержала: – Ирвинг, объясни, пожалуйста, что означают слова «как будто меня умыли»? Умыли – в каком смысле? Он широко зевнул. – В буквальном. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Мое сердце пронзила тревога. – Ирвинг! А вдруг это отразится на моей карьере? – Ну что ты говоришь, это просто смешно. – Почему смешно? Он еще раз зевнул. – Ты выглядела таким страшилищем, что тебя никто не узнал. Так что кончай болтать и давай спи. (обратно)Глава 17. НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На следующий день позвонили со студии и предложили, чтобы Жозефина приняла участие еще в одной передаче. Как правило, они не приглашают дважды одного и того же гостя, но она имела такой успех, что они решили сделать для нее исключение. Я не возражала. В конечном счете материнская гордость одержала верх над личным тщеславием. Ирвинг проявил озабоченность: – Что ты собираешься предпринять, чтобы не потеряться на ее фоне? – Попрошу их распределить тональность таким образом, чтобы Жозефина смотрелась чуточку бледнее, а я – чуточку ярче. Ирвинг предложил другой выход: – Купи рефлектор и каждый день по часу высиживай в парке. За неделю ты с ней сравняешься. И я стала «высиживать», подставив лицо солнечным лучам и обдумывая предстоящую передачу. Как-то Жози справится? Нельзя же, как в прошлый раз, просто прийти в студию, сесть перед камерой и ослепительно улыбнуться. Для настоящей звезды каждое появление перед публикой – сражение со стереотипом. Эд Салливан, к примеру, еженедельно меняет имидж, а Джек Паар – объект критики, будь то новая страна или новая газетная статья. Жози обязана продемонстрировать что-нибудь новенькое! К несчастью, на прошлой неделе она выложилась и показала все, на что была способна. Значит, я сама должна что-нибудь придумать. Нужна какая-то броская деталь. Новый забавный трюк. Или новый партнер… Новый партнер! Бобо Эйхенбаум! Я спросила миссис Эйхенбаум, не хочет ли она, чтобы Бобо принял участие в телешоу. Она чуть с ума не сошла от радости. Да он будет просто счастлив выступить по телевидению – пусть даже в малюсенькой роли! Никто из Эйхенбаумов еще ни разу в жизни не выходил на сцену, и вдруг такая честь! Я уточнила, что вообще-то гвоздем номера будет Жози. Бобо придется лишь оттенять ее. По-прежнему захлебываясь от счастья, миссис Эйхенбаум заявила, что это не имеет значения. Пусть только ей объяснят, что нужно делать. Я попросила ее перед самой передачей совершить с ним продолжительную прогулку в парке. И все. Еще неизвестно, сколько времени нам отведут. В прошлый раз нас попросили уложиться в две минуты. Но если только у меня будет возможность, я обязательно упомяну его имя. Миссис Эйхенбаум закатила глаза. Все услышат, как я произнесу с экрана имя ее любимца! Этот разговор состоялся в среду. В четверг миссис Эйхенбаум уже нормально дышала и вообще проявила практичный подход к делу. Что Бобо надеть? Черный ошейник с блестками или из красной лайки, с его инициалами, выполненными из поддельных бриллиантов? Я попросила надеть на него самый обыкновенный ошейник – и ничего блестящего, иначе появятся блики. Потом мне пришлось добрых десять минут объяснять, что такое блики. Она до конца отказывалась верить, что Перри Комо и Гарри Мур на самом деле появляются на экранах в голубых рубашках: ведь по телевизору они кажутся белыми. В пятницу у миссис Эйхенбаум возникли дополнительные вопросы. Будет ли шоу транслироваться в Майами? У нее там родственники. Следует ли перед выступлением повести Бобо в салон красоты или в студии есть специальный парикмахер? Я не могла ручаться за трансляцию: все, что мне было известно, это что передача пойдет в эфир из маленькой студии на Шестьдесят седьмой улице. А что касается прически, то пусть будет его обычная. Миссис Эйхенбаум не отставала. Как насчет Чикаго? У мистера Эйхенбаума много знакомых в этом городе. Нет, я не могла гарантировать Чикаго: похоже, это вообще местная программа. Так что можете вообразить мое облегчение, когда речь зашла о соседнем городке Патерсоне. Уж это-то я могла обещать! Суббота и воскресенье не принесли новых осложнений (я уезжала к матери в Филадельфию). Зато в понедельник жизнь била ключом! До выхода в эфир оставались сутки. МиссисЭйхенбаум подала первые признаки жизни в полдень. Это было как гром среди ясного неба. Что ей надеть? Я изо всех сил старалась сдерживаться, хотя ощущение надвигающейся катастрофы с каждым часом становилось все сильнее. – Что вы имеете в виду? – Я не хочу, чтобы были блики. Как насчет хлопка? – Хетти, – ласково произнесла я (близкие друзья звали ее Хетти), – можете надеть все, что душе угодно. В кадр попадет только Бобо, а не вы. Последовала убийственная пауза. Затем: – Как это он, интересно, попадет в кадр? – Вы опустите его на пол и слегка подтолкнете по направлению к Жози. Новая продолжительная пауза. После чего: – С какой стати я буду толкать, если можно с достоинством доставить его туда, куда нужно? – Потому что все продумано. Камера сама спланирует на пол. Меня тоже не покажут. Только обоих пуделей. При этом они постараются выделить светом Жози. Хетти, душенька, у вас изумительные рыжие волосы, но на экране они будут казаться бесцветными. Вон я, брюнетка, и то поблекла в потоках света. – Ах вот почему у вас был такой жалкий вид! – Она немного поразмыслила. – Но все равно. Я готова пожертвовать собой. Лишь бы все в Патерсоне убедились: это действительно Бобо. – Я же обещала назвать его по имени. – Это не убедит Патерсон. Бобо – довольно распространенное имя. В Эссекском питомнике живут два пуделя с такой кличкой. Еще один – в Хэмпшире. И целых три Бобо на Пятьдесят седьмой улице. Моя сестра утверждает, что в Патерсоне ей попадался еще один Бобо, причем даже не пудель. Мне стало ясно, что именно ее беспокоит. – О'кей, Хетти. Я назову его Бобо Эйхенбаум. Только не говорите мне, что существует еще один пудель с подобной комбинацией. Двумя часами позже миссис Эйхенбаум снова была на проводе. – Бобо сейчас в салоне красоты. У вас будут какие-нибудь пожелания относительно его внешнего вида? – Не трогайте ни единого волоска на его голове! Пусть он будет в своем натуральном виде, и, уверяю вас, его природное обаяние не замедлит сказаться. – Но я не хочу, чтобы он был похож на любого другого пуделя. Я поняла, что пора проявить твердость. – Миссис Эйхенбаум, я всегда могу раздобыть для Жози другого партнера. А вот представится ли Бобо другая возможность выступить по телевидению? Это возымело действие. – Хорошо, – и она повесила трубку. Однако когда назавтра в восемь часов утра мы сошлись в вестибюле, стало ясно, что миссис Эйхенбаум и не думала держать слово. Бобо был вычесан и вылизан до последнего дюйма. И украшен яркими сатиновыми ленточками. Я перевела свирепый взгляд на его хозяйку. – Немедленно уберите украшения! Она окрысилась: – Это еще почему? Вон сколько на Жози желтых бантиков – и желтый маникюр! – Когда у Бобо будет собственный бенефис, – возразила я, – он сможет надеть все, что заблагорассудится. Миссис Эйхенбаум стояла на своем. Разве Жози не заинтересована в том, чтобы ее партнер хорошо смотрелся? Королеву играет свита – разве не так? Я подозрительно уставилась на миссис Эйхенбаум. Для человека, бесконечно далекого от индустрии развлечений, она проявляла слишком большую осведомленность. Пришлось повторить: – Никаких украшений! Миссис Эйхенбаум надула губы. Только этого мне и не хватало в четверть девятого утра – стоять в вестибюле отеля и ссориться из-за ленточек в собачьей прическе! Я твердым шагом направилась к выходу, бросив через плечо: – Так вы идете? Бобо потрусил было за мной, но его хозяйка уперлась и не сдвинулась с места. – А если я откажусь? – прошипела она. – Что тогда? – Тогда все население Патерсона будет крайне разочаровано. Эти слова оказали поистине магическое действие. Во всяком случае, они вернули миссис Эйхенбаум к суровой действительности. Она нагнулась и сняла бантики. В глубине души я чувствовала себя порядочной стервой: без бантиков у Бобо был куда менее презентабельный вид. Но в шоу-бизнесе царит закон джунглей. Главное – защитить интересы звезды! В сущности, миссис Эйхенбаум – добрая женщина. Когда мы добрались до телестудии, эпизод с бантиками отошел в далекое прошлое, и она сгорала от нетерпения. При виде телекамер и съемочной группы она онемела. Режиссер с операторами онемели при виде двух пуделей. Наконец кто-то подал голос: – Прошу прощения, мисс Сьюзен, но мы не пускаем сюда зрителей. Ваша знакомая с собакой должна покинуть помещение. Миссис Эйхенбаум встрепенулась: – Кто сказал, что это собака? Это артист! Я поспешила с объяснениями. После этого персонал удалился на краткосрочное совещание. По возвращении режиссер потребовал небольшого прогона. Я отказалась: это скажется на их непосредственности. У Жози замечательная интуиция, она прирожденная актриса. Он снова отошел посоветоваться с группой, а, вернувшись, выдвинул встречное предложение. Не могла бы я хоть на словах познакомить его со сценарием? Не то чтобы он сомневался в моем артистическом чутье, но мистер Шелдон обычно нервничает при виде двух собак вместе. Я ответила: все, что требуется от мистера Шелдона, это представить нас с Жози. После этого пусть ее снимают крупным планом, а я немного расскажу о ней и ее близком друге Бобо, поведаю о его любви и преданности. Потом я опущу Жози на пол, а миссис Эйхенбаум слегка подтолкнет к ней Бобо. Как только она его отпустит, он устремится к Жози и встанет на задние лапки. Режиссер похвалил сюжет и поинтересовался, нельзя ли увидеть эту замечательную пантомиму до выхода в эфир. Он хочет прохронометрировать весь эпизод, чтобы планировать дальнейший ход передачи. Он боится показаться занудой, но нам отвели всего две минуты. Возможно, придется сократить монолог мистера Шелдона. Я пообещала сократить свой собственный монолог и выразила твердую уверенность в том, что мы уложимся в четыре минуты. Режиссер проявил незаурядное мужество и готовность к риску: он кисло ухмыльнулся и пошел сообщить мистеру Шелдону сногсшибательную новость. Началась передача. Как только на экране появилось ее изображение, Жози моментально обрела все свое искрометное очарование. Когда я начала свою маленькую речь, она повернулась ко мне и нежно поцеловала в носик, а, поняв, что я собираюсь опустить ее на пол, проявила неожиданный интерес к моему жемчужному ожерелью, которое до сих пор видела тысячу раз и на которое никогда не обращала внимания. В этот момент маленькая плутовка чувствовала себя центром вселенной и не хотела опускаться на пол, чтобы разделить экран с Бобо. Я поняла и подыграла. Жози продолжала пристально, как ювелир, изучать ожерелье. Потом она потрогала его лапкой. Я сняла его и повесила ей на шею. Жози в тот же миг начала прихорашиваться. Это было умопомрачительное зрелище: белый жемчуг на черном фоне! Блеск, да и только! Наконец мне удалось опустить Жози на пол. Ассистент режиссера похлопал по плечу слегка обалдевшую миссис Эйхенбаум. Она тоже опустила Бобо и показала на Жози. Он ринулся было к ней, но вдруг заметил камеру и застыл на месте, а потом подался назад, под крылышко миссис Эйхенбаум. (Полагаю, нет нужды объяснять, что этот эпизод не появился на экране.) Все внимание было отдано Жози, которая с видимым удовольствием наблюдала за действиями своего партнера. На этот раз миссис Эйхенбаум не подвела. Она мягко, но решительно подтолкнула Бобо к его маленькой подружке. Он посмотрел на Жози, потом на камеру, снова на Жози – и любовь одержала убедительную победу! Его преданность этой сирене оказалась сильнее страха перед неведомым. Он бросился к Жози, забыв о слепящих огнях и чужих людях, не видя перед собой никого и ничего, кроме Элизабет Тейлор из мира пуделей. Его глаза лучились любовью. Поняв его чувства, Жози превзошла самое себя: встала на задние лапки и так, стоя, приветствовала Бобо. Ему ничего не оставалось, как заключить ее в объятия. Жози позволила обнимать себя чуточку дольше, чем обычно, и даже не поморщилась, когда он осмелился запечатлеть на ее носике нежный поцелуй. (Теперь вы убедились, что она настоящая актриса?!) Наконец она мягко высвободилась из его объятий и повернулась к нему спиной. Бобо продолжал служить и отчаянно махать передними лапами, чтобы привлечь ее внимание. Как говорится, это было что-то! После передачи режиссер признался, что сроду не поверил бы, если бы ему сказали, что два пуделя способны целых десять минут удерживать всеобщее внимание. Все поздравляли Жозефину. Бобо скромно ждал своей порции аплодисментов. Для дебютанта он отлично справился! А впрочем, Бобо не прельщали ничьи похвалы. Жози поцеловала его! Он не отрывал полных обожания глаз от ее маленькой фигурки. Когда мы вышли в холл, он попытался снова обнять ее. Она зарычала. А когда Бобо предпринял попытку сорвать с ее уст еще один поцелуй, ударила его лапкой. – Бедный Бобо, – с грустью произнесла миссис Эйхенбаум. – Ему невдомек, что она всего-навсего играла. Откуда ему знать, что такое телевидение? Он-то решил, что это была встреча двух любящих сердец! В глубине души я порадовалась тому, что миссис Эйхенбаум так правильно все понимает. Ведь это сущая правда. Бобо понятия не имел ни о каких съемках. Воодушевленный теплым приемом со стороны Жози, он был готов к любым подвигам, таким как поцелуй или совместная прогулка в парке. Это была бесхитростная, добрая натура. Но у Жози, как у настоящей звезды, наступила реакция. Ей только что пришлось вытерпеть любовную сцену с Бобо, и ее нервы были на пределе. Поэтому не успели мы выйти из холла, как она вдруг присела и пустила лужу прямо на покрытый лаком пол! Миссис Эйхенбаум потащила Бобо прочь, делая вид, будто не знакома с нами. Я повела себя с холодным достоинством, всем своим видом говоря: «Разве не все пользуются холлом телестудии как общественной уборной?» Миссис Эйхенбаум не была бы собой, если бы обратила наше внимание на то, как Бобо задрал ножку у первой попавшейся водоразборной колонки. И потом она всю дорогу выстреливала в нас вопросами: кто на телестудии занимается отбором собак? Какая программа пользуется большей популярностью: шоу Херба Шелдона или Уильяма Морриса? Ей уже мерещилась блестящая карьера Бобо на телевидении. Ведь на его биографии не было такого позорного пятна, как эпизод в холле! Однако вскоре ей пришлось отказаться от честолюбивых мечтаний, потому что едва мы вошли в отель, как у Бобо наступило то, что называют запоздалой реакцией. Его вырвало двухсуточным рационом – прямо в вестибюле! (обратно)Глава 18. БАБУЛЯ
После дебюта Жози в телешоу Херба Шелдона последовал целый ряд других предложений. Но Ирвинг категорически воспротивился тому, чтобы она работала летом. Жариться в это время года в ярких лучах юпитеров – непосильная нагрузка для полуторагодовалого пуделя. Поэтому я отвечала соискателям, что у Жози каникулы. Лето пришлось провести в Нью-Йорке. Ирвинг ставил новое шоу, а мы с Жози, попросту говоря, били баклуши. Ближе к осени Ирвинг планировал вырваться на пару недель в Конкорд, поиграть в гольф. Мы связались с устроителями турнира, Лорен Трайдел и Рэем Паркером, и поинтересовались, разрешается ли привозить собак. Мисс Трайдел, или, как ее все называют, «француженка», ответила, что вообще-то это не принято, но возможны исключения. И вот мы трое – Ирвинг, я и «исключение» – отправились в Конкорд. Там превосходные площадки для игры в гольф, отличное питание и роскошные спальни. У нас был люкс с двумя ванными комнатами и телевизором. Горы и комфорт «Уолдорфа» – великолепное сочетание! На каждого новичка Конкорд производит незабываемое впечатление. Только не на Жозефину. Сначала она лишь смутно представляла себе, что именно затевается, и без особого любопытства следила за тем, как вахтер помогал нам грузить в автомобиль чемоданы со всяким скарбом и сумки с принадлежностями для гольфа. При виде ящиков с игрушками и сластями Жози пришла в некоторое замешательство и уж совсем разволновалась, когда поняла, что мы берем ее с собой. Я вела машину, а Ирвинг сидел рядом, держа Жозефину на коленях. Она никак не могла успокоиться: лаяла на каждый полицейский пост, отказывалась спать и даже не реагировала на почесывание животика, считая своим долгом оставаться начеку. Все это мероприятие казалось ей крайне подозрительным, и она чувствовала себя обязанной докопаться, что за ним кроется. Даже просторная спальня с двумя примыкающими ванными не произвела на нее особого впечатления. Жози ясно дала понять, что не собирается здесь задерживаться. Обнюхав углы, она решительным шагом направилась к выходу и нетерпеливо вильнула хвостом, что должно было означать: «Ну, а теперь давайте сматывать удочки – и поживее!» Потом она в знак протеста отказалась от пищи. А если такое происходит в Конкорде, это что-нибудь да значит! Мне никак не удавалось втолковать ей, что это временное явление – всего лишь каникулы. Жози решила, что мы решили сменить постоянное место жительства, и тосковала без всего, с чем успела сродниться ее душа: без Центрального парка, Пятой авеню, походов в магазин «Блумингдейл»… Приходится признать, что Жози – горожанка до мозга костей. Горный воздух действовал ей на нервы. Кроме того, она не умела играть в гольф и плавать в бассейне, а когда я выводила ее на прогулку, не находила, что бы понюхать. Всюду была только свежая зеленая травка. Мы чудесно провели время, и в конце второй недели нам ужасно не хотелось уезжать. Зато едва Жозефина увидела, как грузят багаж, она моментально ожила. При выезде на Уэстсайдское шоссе это была другая собака. А когда на горизонте замаячили очертания Центрального парка, она чуть не захлебнулась от восторга. Она возвращается домой! Влетев в вестибюль отеля, Жози подарила нежный поцелуй швейцару, перецеловала всех коридорных – даже одного, которого раньше недолюбливала, – и покаталась по полу. Кому нужна горная травка? Куда приятнее поваляться на ковровой дорожке! Мы с Ирвингом с грустью отметили, что Жозефина стала типичной городской собакой и могла быть счастлива только в Нью-Йорке. Осень в Нью-Йорке не поддается описанию! Зима же – совсем другое дело. Каждый день Жозефина выбегала на улицу, ожидая встретить такую же температуру, как у нас в номере. Морозный воздух заставал ее врасплох, и она замирала на месте. Будучи чрезвычайно практичным существом, Жози немедленно давала понять, что дома ее ждут неотложные дела. Некогда ей разгуливать! Можно заняться физкультурой и в душных апартаментах. В январе Жози исполнилось два года, а через месяц она дебютировала в телешоу Роберта Льюиса. Поздравления сыпались со всех сторон. Слава Жози докатилась до Лос-Анджелеса. Ее успехам радовались наши друзья в Детройте. И, что важнее всего, ее видела моя мать в Филадельфии. Сдержанная от природы, она тем не менее с удовольствием принимала поздравления целого города. Она без единого звука приняла гордое звание бабушки. Потому что, хотя мама не держала ни кошки, ни собаки, вообще-то она была большой любительницей животных. У мамы есть шикарная, золотистого цвета ковровая дорожка. И если бы сам доктор Бен Кейси (о котором она отзывается с неизменным восхищением) однажды заглянул к ней на чашку чаю, она не постеснялась бы предложить ему разуться. До сих пор ей отчаянно не везло с домашними любимцами. Взять хотя бы аквариум с тропическими рыбками. Другие покупают несколько рыбок, и вскоре в аквариуме плавает не менее миллиона особей. А мама купила миллион, но они оказались каннибалами. Чем бы она их ни потчевала, они предпочитали лопать друг друга. Так шло до тех пор, пока на весь огромный аквариум не остался один чудовищно раскормленный победитель. Конечно, мамино сердце было закрыто для трехдюймового монстра, сожравшего всех соседей и даже родственников, но врожденное гуманное чувство не позволяло уморить его голодом. Она испробовала все виды рыбьего корма – он гордо отвергал их, предпочитая таять на глазах, но не глотать такую гадость. Однако мама не уступала ему упрямством и не собиралась скармливать каннибалу живых рыбок – это было бы преступлением. И кто же одержал победу в этом поединке двух характеров? Каннибал. Он сдох, но так и не сдался. Может, оно и к лучшему, а то еще немного – и мама могла дрогнуть. Она уже начала интересоваться, почем золотые рыбки. Потом у нее была канарейка, которая не желала петь. И парочка волнистых попугайчиков, вечно сидевших в разных углах клетки и дувшихся друг на друга. Вскоре один попугайчик умер. Общеизвестно, что когда один из пары гибнет, другой незамедлительно – в течение суток – следует за ним. Так поступают решительно все попугайчики – только не тот, что остался у моей матери. Для него как будто началась вторая молодость. Он отрастил новые перышки и без умолку щебетал, вследствие чего через три недели умер от горлового кровоизлияния. Его бедное горло не выдержало столь интенсивного пения, а сердце – такого огромного счастья. С матерью Ирвинга все обстояло совершенно иначе. Она также была вдовой и жила одна. У нее не было золотистых ковровых дорожек, и она терпеть не могла животных. Тем не менее, это была очень умная женщина, и раз уж мы с Ирвингом помешались на Жозефине, она решилась на компромисс. Ей все еще трудно было признать Жози кровной родственницей, но она согласилась считать ее другом дома. Однако шоу-бизнес делает всех равными. Помните, как подружились принцесса Маргарет и Дэнни Кэй? А если бы Грейс Келли не получила «Оскара» и не сыграла главные роли в нескольких фильмах, откуда бы принц Рэйниэр узнал о ее существовании? И уж, конечно, моя свекровь была ничуть не менее впечатлительна. После того как Жози стала появляться на телеэкране, отношение к ней матери Ирвинга стало меняться к лучшему. Я замечала это во время наших визитов в Бруклин. Начать с того, как она знакомила нас со своими друзьями: – Джеки, ты, кажется, знакома с миссис Брэфф? Миссис Брэфф, это Жозефина, наш пудель из шоу Херба Шелдона и Роберта Льюиса. Той весной свекровь уже не поражала бьющей через край энергией. Сама она была уверена, что абсолютно здорова, но в ходе осторожных расспросов выяснилось, что после рождения Ирвинга она ни разу не обращалась к врачу. Согласно ее теории, это следует делать в одном-единственном случае: если вам настолько плохо, что вы не держитесь на ногах. Поступая иначе, вы лишь нарываетесь на неприятности. Я настояла на том, чтобы она пожила у нас и прошла всестороннее обследование. Разумеется, свекровь отказалась. Тогда мы решили сыграть на чувствах и предупредили, что иначе ноги нашей не будет у нее в доме и некому будет есть обеды из двенадцати блюд, которые она для нас готовила. Пришлось ей уступить. Мало кто радовался ее приезду так, как Жозефина. Ведь это значило, что у нее целый день будет компаньонка. Как я уже отметила, Жози знает множество слов и выражений. Я добросовестно перечислила их свекрови: «Лежать!», «Идем на прогулку»… И самое главное: «Я занята!» Заслышав эти два слова, Жози испускала тяжкий вздох, но покорно переключалась на другого человека или игрушку. Я попросила свекровь не стесняться пускать их в ход, как только общество Жози покажется ей обременительным. Тем не менее, возвращаясь домой, я всякий раз заставала одну и ту же картину. Жози блаженствовала на диване, положив голову на колени моей свекрови, а эта добрая женщина с таким усердием чесала ей животик, словно получала почасовую оплату. Я обычно говорила: – Мама, разве вам не пора смотреть очередную серию «Тайны урагана» или «Молодого доктора Мэлоуна»? (Моя свекровь обожает мыльную оперу.) Она согласно кивала головой и отвечала: – Я боялась побеспокоить ее, если вдруг встану и включу телевизор. Я пыталась ее урезонить: – Мама, вы находитесь в Нью-Йорке, здесь столько интересного! Не для того же вы сюда приехали, чтобы чесать Жози брюшко. Свекровь меланхолично улыбалась и продолжала свое занятие. – Но ей нравится мое общество. В это время Жози бросала на меня раздраженный взгляд, словно говоря: «Мы что, тебе мешаем? Закрой свой большой рот!» – Но если вы включите телевизор, – не унималась я, – ее ничуть не меньше будет радовать ваше общество. Вы можете читать книги или гулять с Жозефиной в парке. Потом я начинала расхваливать достоинства мюзик-холла, сезонные распродажи и прочие прелести огромного мира, который только и мечтал заключить ее в объятия. Уж как-нибудь Жозефина обойдется пять-шесть часов без почесывания животика. Свекровь была полностью согласна со мной, но продолжала все так же прилежно трудиться на поприще брюшка Жози. – Это доставляет ей такое удовольствие! После одной из таких бесед мне вдруг показалось, что вышеупомянутый животик увеличился в объеме. Может быть, он растягивается, когда его слишком усердно чешут? Чуть позже я понаблюдала за тем, как Жози ковыляет по комнате. Нет, мне не почудилось. Она растолстела! Я спросила свекровь, не дает ли она Жозефине слишком много сладостей. Она обиделась. Какие еще сладости? Да она сроду не признавала всех этих перекусончиков между регулярными приемами пищи! Больше того, она как-то попробовала одну конфету (просто чтобы посмотреть, что там внутри) – это нельзя давать собакам! Тот, кто назвал это конфетами, был отъявленным собаконенавистником! Он использовал в качестве начинки спрессованные опилки! Я возразила, что собакам нравится. Жози считает их нормальными конфетами. Свекровь покачала головой. – Она просто не хочет тебя огорчать. У нее доброе сердце. Я воззрилась на Жози. Возможно, это одно мое воображение, но животик рос буквально на глазах. Я положила ее на весы. У нее оказалось два фунта лишнего веса. Конечно, я сразу же позвонила в ветлечебницу и записалась на прием. Свекровь заявила, что имеет дело с двумя психами. Она жила себе тихо в Бруклине, никого не трогала, и вдруг ее хватают и тащат в центр Нью-Йорка только потому, что она похудела. А теперь я собираюсь тащить Жози к врачу лишь по той причине, что она поправилась. Где логика? Бедняжке станут колоть лапку, брать кровь – много, много крови – и заставят глотать мел. Если нам доставляет удовольствие швырять деньги на ветер, это наше дело, но при чем тут невинная крошка, которую ни за что ни про что поволокут к врачу? Сей монолог венчала многозначительная фраза: – Таков шоу-бизнес! Все-таки на следующее утро мы наведались в клинику доктора Уайта и угодили на прием к доктору Грину. При виде Жози он ахнул от изумления. Что мы делаем с собакой? Надуваем, как воздушный шарик? Когда я заверила его, что Жози не беременна, он прописал срочный рентген, который должен был показать, в чем дело. И показал! У Жозефины не было ничего серьезного: всего-навсего жировые отложения! Доктор Грин послал за доктором Блэком. Тот сказал, что необходимо обследование. Может быть, даже подержать Жозефину в стационаре, чтобы ее посмотрел сам доктор Уайт. Вдруг это связано с деятельностью желез? Я не дала поместить Жози в стационар. Ее и так начинало трясти за квартал от клиники, и дрожь не проходила до тех пор, пока мы снова не оказывались на улице. Зачем подвергать ее ненужным страданиям? Тогда от меня потребовали подробнейший отчет о режиме ее питания. Я сказала, что она по-настоящему ест только раз в сутки: в два часа ночи. Обычно это остатки бифштекса после ужина Ирвинга. В полдень она вместе со мной пьет кофе и съедает немного печенья. Ну и, может быть, перехватывает несколько конфет в день. Вот и все. Жозефине немедленно прописали строжайшую диету. Забыть о сладостях! Забыть о печенье! Кормить раз в сутки – и не бифштексом от Дэнни, а собачьими консервами – полбанки за один раз. Вот так! Если через месяц не будет изменений к лучшему, придется провести фронтальное обследование. Возможно, у нее заболевание щитовидной железы. Я ринулась домой и повыбрасывала все лакомства. Жози смотрела на меня так, словно я выжила из ума. По утрам я стала пить свой кофе за закрытой дверью, чтобы не дразнить Жози. Через две недели я снова взвесила ее. Она набрала полтора фунта! Я была на грани истерики. Мне очень не хотелось подвергать ее всем ужасам полного обследования. Может, ей нужно больше двигаться? Да! Вся ее тучность – оттого что она целыми днями валяется на диване. Так чья угодно щитовидная железа выйдет из строя. Конечно, я не стала делиться этими мыслями со свекровью. Она свалит всю вину на врачей. Ложась спать, я поставила будильник на девять часов утра. Отныне мы с Жози будем не менее часа гулять в парке. Вдруг это поможет спасти ее? Когда заверещал будильник, я чуть не проявила малодушие, но потом сказала себе: надо! Свекровь обычно поднималась чуть свет; я слышала, как она возится на кухне. Я тихонечко вылезла из-под одеяла, чтобы не потревожить Ирвинга. Жози нигде не было видно: наверное, она еще спала под кроватью. Ну, пусть еще немного поспит, а я пока выпью кофе. Я направилась в кухню. То-то свекровь удивится, что я в такую рань на ногах! По мере приближения к кухне до меня все явственнее доносились звуки оживленной беседы. Говорила в основном свекровь, а Жози время от времени отвечала ей радостным повизгиванием. – Доедай овсянку, Жози, и я дам тебе яйца всмятку. Нет-нет, ты не получишь их, пока не скушаешь овсянку. Дай-ка я плесну тебе еще немного сливок. Ну, разве не объедение? Я пошатнулась и, чтобы не упасть, прислонилась к двери. Потом слабым голосом поздоровалась: – Доброе утро, девочки! Свекровь очень обрадовалась. – Как это ты так рано встала? Садись, здесь осталось немного овсянки. Она поставила передо мной тарелку. – Мама, – я прилагала бешеные усилия, чтобы не выдать своих истинных чувств, – вы, кажется, говорили, что не кормите Жози? Она с искренним недоумением уставилась на меня. – А что, я должна была морить ее голодом? Да, я сказала, что не даю ей перехватывать между основными приемами пищи. Это ты вечно лезешь со своим кофе и конфетами из опилок. Ситуация понемногу прояснялась. – А вы что делаете? – Кормлю ее в строго установленные часы. Забочусь о том, чтобы у нее были полноценные завтрак, обед и ужин. Большего я не могу для нее сделать, пока я здесь. – Что вы даете ей на завтрак? (Это было настоящей пыткой, но я должна была знать!) – Как когда. Иной раз цыпленка и гороховое пюре с морковкой. Иной раз рыбу. Проверяю, чтобы не попались косточки. Иногда мы кушаем молочные блюда. Ну, еще сливки, сыр, овощи… Она обожает мой грибной супчик. Ячменный тоже, но от него пучит. – А на обед? – я как завороженная внимала этим подробностям из жизни новоявленного мохнатого Генриха VIII. – Вот вы с Ирвингом вечно ворчите, что я не умею готовить, и заказываете еду в номер. Но разве кто-нибудь может совладать с этими огромными порциями? Поэтому Жози обычно делится со мной. Не беспокойся, я забочусь о сбалансированной диете. Не забудь, я вырастила Ирвинга, и он всегда получал достаточно фруктов и овощей. Это было давно, но я все помню. Она нагнулась, и я с благоговейным ужасом увидела, как эта достойная женщина налила в пустую тарелку смесь молока, сливок, сахара и кофе. – Я добавляю чуточку кофе, – извиняющимся тоном произнесла свекровь, – иначе она не может одолеть положенную кварту молока. В обед я даю ей на десерт несколько капель сиропа. Ирвинг тоже не любил молоко, когда был маленьким. Но кварта молока в сутки обязательна для каждого. Вам с Ирвингом тоже не мешало бы об этом помнить. – В это время Жози отвернулась от тарелки, и свекровь поспешила с уговорами: – Допей молоко, деточка. Ради бабули. «Деточка», которая уже усекла, кто тут настоящий кормилец, послушно вылакала содержимое тарелки. «Бабуля» просияла и, сюсюкая, взяла ее на руки. – Вот умничка! Теперь поцелуй бабулю и иди поиграй. Жози чмокнула своего персонального шеф-повара в щеку. На морщинистом лице «бубули» появилось выражение материнской гордости. – И давно вы стали «бабулей»? – поинтересовалась я. Свекровь улыбнулась. – Когда ее узнаешь поближе, убеждаешься, что, помимо красоты, у Жози еще и очень доброе сердце. Ей доставляет удовольствие называть меня бабулей. Конечно, мне пришлось усадить «бабулю» и довести до ее сведения мое особое мнение. Я объяснила, что, как бы собака ни походила на человека, она все же должна следовать правилам, установленным для собак. Особенно по части питания. «Бабуля» выразила свое несогласие. – Сначала ты кутаешь ее в пальто, как ребенка. Разрешаешь спать в твоей постели. Обращаешься с ней как с разумным существом. А потом вдруг решаешь кормить ее, как собаку. С какой стати? Я объяснила, что собаке положено есть один раз в день. «Бабуля» пришла в ужас. – Кто тебе сказал? – Ветеринар. «Бабуля» фыркнула. Много он знает! То-то он и стал ветеринаром, а не нормальным врачом! Лучше она проконсультируется с дамами, которые гуляют с собаками в Центральном парке. А мне известно, что у собак два желудка? Рано обрадовалась! – Конечно, известно. Это потому, что собаки фактически не прожевывают пищу. Просто проглатывают и перемалывают в «лишнем» желудке. Однако «бабулю» было не так-то легко сбить с толку. Она торжествующе улыбнулась. – У нас всего один желудок, а мы принимаем пищу три раза в день. Как же бедной собаке за один раз заполнить сразу два желудка? Попробуйте спорить с подобной логикой. Однако к тому времени «бабуля» сдала почти все необходимые анализы и в конце недели должна была вернуться домой в Бруклин, поэтому я не стала понапрасну трепать нервы и ей, и себе. В день ее отъезда я не без грусти следила за тем, как Ирвинг сносит вниз ее чемоданы. Он собирался проводить ее до Бруклина, а я оставалась с Жози. Разлука с «бабулей» причинила ей немалые страдания. Зато я с легким сердцем позвонила в клинику и предложила доктору Блэку забыть о щитовидной железе. Какая там щитовидка? Элементарное обжорство! (обратно)Глава 19. СЕКС
Когда весна перешла в лето и на улицах начал плавиться асфальт, Жози дала понять, что не считает это время года подходящим для долгих прогулок. Собственно говоря, она ничего не имела против прогулок, но у нее были серьезные претензии к климату. Зима исключалась, так как она терпеть не могла снег. Впрочем, дождь тоже. А с июня по сентябрь стояла невыносимая жара. Я подсчитала, что за целый год набиралось от силы три дня в октябре, которые полностью соответствовали ее требованиям. Для собаки со склонностью к полноте это вряд ли можно считать нормальным. Однако в июне Жози познакомилась с Моппет – королевским пуделем шоколадного цвета. Моппет была двумя годами старше Жози и в шесть раз крупнее. Но у них оказалось много общего. В частности, обе имели отношение к телевидению. Хотя Жозефина видела в Бобо лишь собаку, ее снобизм не распространялся на всех пуделей. В общем-то она ничего против них не имела, у нее даже были друзья-пудели. Просто она не хотела выходить за них замуж, а посему сочла более безопасным дружить с пуделями своего пола, среди которых слыла добрым и общительным созданием. Она сразу же выделила Моппет. Хотя та не была актрисой, она быстро впитала в себя дух шоу-бизнеса. Хозяйкой Моппет была Ли Рейнольдс, которая в то время работала ассистентом режиссера в шоу знаменитого Джекки Глисона. А Джекки снимал под офис (совмещенный с квартирой) огромный номер в отеле «Парк-Шератон»; туда Ли с Моппет каждое утро отправлялись на работу. Конечно, зачисляя в штат Ли, мистер Глисон не помышлял о нагрузке в виде Моппет. Ли тоже ни о чем таком не думала, но вскоре убедилась в том, что, оставаясь одна дома, Моппет ударялась в страшную тоску. А в таком состоянии она принималась грызть мебель. Жози тоже за свою жизнь расправилась с несколькими думками, но не следует забывать, что Моппет принадлежала к рослой породе; диванная подушечка была ей на один зуб. Ей ничего не стоило сжевать деревянный стул или основательно поточить зубы о ножку нового кофейного столика. Вот и пришлось Ли брать ее с собой на работу. В мире шоу-бизнеса Моппет сразу почувствовала себя в своей стихии и перестала портить мебель. Она свела короткое знакомство со всеми на студии и преклонялась перед «великим Глисоном». В свою очередь он считал ее «собакой что надо», и все были счастливы. Во время обеденного перерыва Ли выводила Моппет в парк, а так как мы с Ли давние приятельницы, Жози прониклась родственными чувствами к Моппет, которые затем перешли в настоящее обожание. Летом, когда группа выехала на натурные съемки, Джекки Глисон удалился в свою летнюю резиденцию в Пикскилле, штат Нью-Йорк. Спустя неделю он позвонил Ли и признался, что скучает по Моппет. И вообще собаке положено жить за городом. Ничего, если он пришлет за ней своего помощника? Ли отклонила столь великодушное предложение – особенно после того, как я рассказала ей о пребывании Жозефины в Конкорде, где она «наслаждалась» свежим горным воздухом. Но Глисон не отставал. Моппет просто обязана хотя бы раз в жизни испытать, что такое свобода и возможность резвиться на просторе. Почему бы Ли не отпустить ее – хотя бы на недельку? Он обещал заботиться о ней. Ли упорно стояла на своем. Моппет не нуждается ни в какой свободе, ей и так хорошо. Она обожает разгуливать на поводке в Центральном парке. Может быть, ей противопоказан простор? И вообще, у нее сейчас такой период, что если дать ей волю и она встретит какого-нибудь пуделя противоположного пола, недалеко до греха. На что Глисон ответил, что на десятки миль вокруг нет ни одной собаки. В конце концов, Ли согласилась отдать Моппет на какую-нибудь неделю. Может, и правда, привольная жизнь на свежем воздухе пойдет ей на пользу? Мало ли что Жози – убежденная городская жительница. Возможно, с Моппет дела обстоят иначе. В общем, Ли заглушила в себе недобрые, но безосновательные предчувствия и отдала Моппет. Та провела у Глисона две незабываемые недели. Если верить Глисону, все было просто великолепно. Сначала Моппет сидела и тупо смотрела на расстилавшийся перед ней простор. Она просто не знала, что с ним делать. Потом на них свалилась неожиданная удача: приехала соседка Глисона, миссис Орбах, и привезла с собой замечательную собаку – пожилую суку колли, которая знала здесь каждый кустик. Она быстро взяла Моппет под свое крылышко и научила всем премудростям сельской жизни: гоняться за кроликами, плескаться в ручьях и разрывать землю в поисках костей доисторических животных. По возвращении Моппет Ли обрушила на нее шквал нежных чувств. Но та явно охладела к Центральному парку. Она стала смотреть на него как на суррогат, а Жози казалась соплячкой по сравнению с колли. Однако с течением времени Моппет адаптировалась, и только полный тоски взгляд, бросаемый ею на случайно подвернувшуюся белку, свидетельствовал о том, что она не забыла каникулы в Пикскилле. Прошло еще немного времени, и Моппет вернула Жозефине былую дружбу. Ее влияние на Жози было поистине огромно. Моппет, как крупная собака, нуждалась в движении. Для Жози парк был всего лишь продолжением дома – в других декорациях. Исполнив свой долг, она торопилась обратно. Будучи большой любительницей физических упражнений, Моппет всегда отличалась хорошей фигурой: сразу за грудной клеткой начиналась вогнутая линия впалого живота. Под влиянием старшей подруги Жози тоже приобрела более подтянутый вид. Спустя три недели после возвращения Моппет из Пикскилла я обратила внимание на то, что фигура Моппет несколько утратила былое изящество. Я тут же поделилась своим наблюдением с Ли. Может быть, Моппет стала больше есть? Ли покачала головой: ничего подобного. Просто ее пора подстричь. Однако стрижка не помогла. Моппет явно поправилась. Ли увеличила время прогулок, сама сбросила шесть фунтов, но что касается Моппет, то она пухла, как на дрожжах. И, наконец Ли заставила себя выговорить то, что уже давно не давало нам покоя: – Колли миссис Орбах – была ли она действительно сукой? Ли позвонила Глисону, который все еще наслаждался отдыхом в Пикскилле. Тот поднял ее на смех. Разумеется, это сука! Ли несколько успокоилась, но спросила: – Это миссис Орбах тебе сказала? – Можно подумать, что мне нужно говорить такие вещи! – оскорбился Глисон. – Что, у меня собственных глаз нет? Ли снова насторожилась. – Джекки, милый, объясни, почему ты так решил? По какому признаку? Тот огрызнулся: – Когда я вижу даму, меня не нужно учить, как-нибудь сам разберусь, что это дама. И уж поверь, колли была настоящей дамой. Длинные волосы и… ну, в общем, она соответственно выглядела. Ли повела Моппет к ветеринару, и мы убедились, что, возможно, Глисон знает толк в женщинах, но что касается собак, то он абсолютный нуль. Моппет была в положении. Ли чуть не лишилась чувств. Колли и пудель! Что может родиться от такого союза? Копудель? Несколько очаровательных копуделей? Что она будет с ними делать? Это наверняка будут маленькие монстры. У нее не хватит духу избавиться от них, а также снять с себя бремя ответственности. Ведь они будут плоть и кровь от Моппет. Она снова позвонила мистеру Глисону. Мистер Глисон позвонил миссис Орбах. Потом мистер Глисон набрал номер мисс Рейнольдс. Он был страшно смущен. Выдавив из себя необходимые извинения, он попытался отыскать в случившемся светлые стороны. В конце концов, Моппет не спуталась с каким-то приблудным псом. Этот колли – чистейших кровей, все его предки были призерами выставок. Может быть, все еще обойдется. Смешанные браки бывают исключительно удачными. Знакомые лезли с советами. Касторка в больших количествах не подействовала. Может, попробовать специальные уколы? Свозить Моппет в Данию (или это делают в Швеции)? Ли решила положиться на естественный ход событий. Пусть Моппет пройдет через все испытания и подарит жизнь… Бог знает кому. Но мистер Глисон должен поклясться, что каждое из этих чудовищ будет неплохо пристроено. Сгорающему от стыда Глисону ничего не оставалось, как согласиться. В положенный срок копудели появились на свет. Что тут можно сказать? Колли – красивая порода, а о пуделях и говорить нечего. Но что касается их гибрида!.. Копудели оказались грязного красно-коричневого цвета, с белыми пятнами. Мордочки у них были от пуделя, а уши и ноги – от колли. Даже Моппет отказывалась верить своим глазам! Она испытывала к ним материнские чувства, но вряд ли можно сказать, что они радовали ее взор. Впрочем, как любящая мать она надеялась, что они перерастут и будут выглядеть чуточку симпатичнее. Каждое утро Ли звонила Глисону и спрашивала: – Ну, что? И Глисон каждый раз отвечал: – Я серьезнейшим образом занимаюсь данной проблемой. По прошествии трех месяцев Ли все еще не избавилась от копуделей, а Глисон по-прежнему «занимался проблемой». Поэтому в один прекрасный день Ли схватила щенков в охапку и привезла к Глисону на работу. Он с ужасом воззрился на них. – Боже правый, какие они страшные! Что мы будем делать? – Мы – ничего. Ты позаботишься о том, чтобы каждый из них обрел надежное пристанище. – Но кто же знал, что родятся подобные уроды? Что я скажу людям? – Скажешь, что у них доброе сердце – стоит только поближе познакомиться. – Подержи их еще несколько месяцев у себя! – взмолился Глисон. – Может, они немного выправятся? Ли была непреклонна. – Дальше будет еще хуже. Спроси любого, и тебе скажут: все щенки очаровательны. И если уж они сейчас такие… И Джекки Глисон доказал, что он – человек слова. Вечером он вместе с шофером погрузил щенков в машину, которая двинулась на север штата. Они остановились у первых понравившихся ворот и позвонили. Вышла хозяйка. Перед ее изумленным взором предстал унылый Джекки Глисон с копуделем в руках. – Мадам, – промямлил он, – пудель одной моей приятельницы провел бурный уик-энд в обществе колли. Потом этот подлец бросил бедняжку беременной. Не согласитесь ли вы взять одного из ее несчастных отпрысков? Я не могу назвать вам имя его отца, но, поверьте на слово, он из очень хорошей семьи. И так несколько раз подряд. Теперь вообразите, что вы живете за городом и вдруг у ваших ворот останавливается сам Джекки Глисон и предлагает щенка. Неужели вы откажетесь? Копудели шли нарасхват – как сувениры. Слава о счастливых хозяевах разошлась по всей округе. В конце концов, любой может купить себе пуделя. Или колли. Но многие ли могут похвастаться копуделем, полученным в дар от знаменитого Джекки Глисона? Только семеро счастливчиков в горах Катскилла. (обратно)Глава 20. КУЗЕН ТОНИ
После того как дети Моппет были пристроены, она начала снова появляться в Центральном парке, беспечная, как и прежде. Ее фигура обрела былое изящество, и к середине зимы она и думать забыла о колли и тех ни на что не похожих созданиях, которым подарила жизнь. Она вновь с нетерпением ждала встречи с Жози. Однако та резко охладела к Моппет, причем это объяснялось не какими-то скрытыми недостатками последней, а имело прямое отношение к погодным условиям. Жозефине исполнилось три года, и она уже знала, что существует такое явление, как времена года. По ее мнению, зима годилась лишь для голубей, а Моппет вела себя так, словно для нее не существовало ни холода, ни снега. Она звала Жози побегать вверх и вниз по холму – просто так, ради зарядки. Однако Жозефина, этот тепличный цветок, стояла в своем коротеньком красном пальтишке и тряслась от холода. Время от времени она бросала на Моппет укоризненный взгляд и натягивала поводок, норовя поскорее попасть домой. Дошло до того, что она стала избегать Моппет. Завидев бывшую подругу, бегущую к ней с вершины холма, Жози симулировала близорукость и тянула меня в другую сторону. Мне было жаль, что Жози лишилась подруги, но обычно в трудные для нее моменты вмешивалась судьба и что-нибудь подворачивалось. Так случилось и на этот раз. В восемь утра меня разбудил телефонный звонок. Звонила Джойс Мэтьюз Роуз. – У меня новая собака! Было еще темно. Я нашарила сигарету и попыталась придать своему голосу оттенок бодрости. – Вот здорово! А как к этому отнесся Тулуз? – Тулуза больше нет. С меня разом слетели остатки сна. В голову лезли страшные мысли. Ведь Тулуз – не такая собака, которую можно было бы запросто кому-нибудь подарить. Неужели… Джойс поспешила меня успокоить: – Билли просто не мог больше видеть его. Поэтому, когда мама сказала, что знает в Хантингтоне, Лонг-Айленд, одну семью, котораямечтает завести собаку, я отправила его туда. – А вдруг они вернут его? – Нет, – убежденно заявила Джойс. – Внешность не имеет для них значения. Им была нужна хоть какая-нибудь собака, а в Тулузе, при всех его недостатках, все-таки есть что-то собачье. Я говорила с ними: они от него в восторге. Тулузу будет хорошо. Теперь у меня замечательная такса. – Желаю удачи. Я собиралась закончить разговор и спать дальше. Рядом заворочался Ирвинг. Кроме того, я никогда не питала особой симпатии к таксам. Но Джойс была расположена поболтать. – Ты не представляешь себе, какая это прелесть! – Не забывай, Джойс: все маленькие дети очаровательны! Ирвинг сел на кровати. – У кого маленькие дети? – У Джойс. Новая такса. Ирвинг зевнул. – Который час? – Десять минут девятого. – Утра?! Вы не можете себе представить, каким тоном это было сказано. – Джойс, я тебе попозже перезвоню. – Не клади трубку, а то снова позвоню, – пригрозила она. Из-под кровати показалась Жози. Она немного постояла, потом, ничего не соображая спросонок, прыгнула на кровать и принялась целовать Ирвинга. – Иди спать, Жози, – простонал он. – Еще ночь. – Джойс, – прошептала я. – Не могу сейчас разговаривать. Ирвинг с Жози еще спят. – А мы давно встали, – радостно сообщила Джойс. – Билли уже успел позавтракать. – Ну дай хоть таксе поспать. Маленькие нуждаются в продолжительном сне. – Да она не маленькая. Ей два года. На этот раз Билли решил не искушать судьбу. Ее зовут Тони. У нее, то есть у него, во-от такая родословная. Ему сделаны все прививки. На этот раз мы гарантированы от неожиданностей. – Всего хорошего, – я снова собралась положить трубку. – Мы через час приедем в гости. – А мы будем спать. – Да ну, брось, – взмолилась Джойс. Разве я не помогала тебе пичкать Жози пепто-бисмолом? – Ты же сказала, что Тони здоров. – Но он жаждет с ней познакомиться. – А он не может потерпеть до вечера? – Через час мы будем у вас. Джойс дала отбой, прежде чем я успела возразить. Но это уже не имело значения. Ирвинг окончательно проснулся, а Жозефина притащила к нему на постель уже третью резиновую игрушку. Должна признаться, это была потрясающая встреча! Тони влюбился с первого взгляда. Он никогда не видел пуделя и замер от восхищения. До сих пор контакты Жози с таксами сводились к нескольким случайным встречам в Центральном парке. Всякий раз она изумленно пялилась вслед. Наверное, Жозефина понимала: все мы – твари Божий, природа не всегда бывает щедра, поэтому ее сердце открылось ему навстречу. Она видела множество собак, но не было похожей на эту. Тони отдавал себе отчет в том, что он далеко не так красив, как Жозефина. Но он также знал, что он – собака. Полноправный представитель той же расы. Тони вырос в питомнике вместе с другими таксами. Он все еще оставался девственником-холостяком, но вполне созрел. Ведь Тони рос на природе. Он видел, как занимались любовью птицы, белки и даже насекомые. «Будем любить!»– как говаривал Коул Портер. Конечно, Тони знал, что жук влюбляется в жука, а белка в белку. Но он любил Жозефину! Он понимал, что ему, в его теперешнем виде, не на что рассчитывать, но это его не смущало. Ведь Тони рос на природе, а у природы бывают циклы. Все течет, все меняется. Он наблюдал за превращением гусениц в прекрасных бабочек и, обожая Жозефину, терпеливо ждал своего превращения в пуделя. Он не сомневался в том, что однажды случится чудо, и этой уверенности в грядущем блаженстве было достаточно, чтобы он мирился с настоящим. Он не сводил с Жозефины глаз и перенимал все ее несомненные достоинства. К примеру, отверг свою плетеную корзинку и перешел спать к Джойс. И даже перещеголял Жози по части аппетита. Это было что-то ужасное. Сначала он съедал все, что давала Джойс. Потом вкатывался в кабинет Билли и клянчил остатки с его стола. Его дальнейший маршрут пролегал через кладовку. Джойс с Билли тщательно следили за своим весом, так что настоящие трапезы Тони имели место в обществе кухарки и лакея. Блины, например. Или колбаса. Тони пользовался всеобщей любовью. И раздулся, как бочка. Когда для Жози подошла пора профилактического осмотра, я предложила Джойс составить нам компанию. При виде Тони весь персонал клиники доктора Уайта просто остолбенел. Они даже не обратили внимания на продолжавшее пухнуть брюшко Жози (теперь она весила семнадцать фунтов). Один доктор Блэк беспомощно развел руками (самого доктора Уайта мы не видели: он был в операционной). Но когда доктор Блэк увидел Тони, его глаза стали огромными и круглыми, как колеса. Он опустил его на пол, чтобы посмотреть, как он ходит. Тони не ходил – он ковылял! Его ног почти не было видно. Доктор Блэк познакомил Джойс с некоторыми особенностями анатомического строения такс. У этих собак удлиненный корпус и четыре коротенькие, слабенькие ножки, так что основная нагрузка приходится на позвоночник. Если вес превышает норму, может произойти смещение диска, а неосторожный прыжок способен повлечь за собой переломы и даже паралич. Мы заплатили по пять долларов каждая и ушли. Потом, в тишине нашей квартиры, мы обсудили ситуацию за бокалом скотча, а Жози с Тони радостно урчали возле тарелки со сладостями. – Ты только посмотри, как они довольны жизнью, – просияла Джойс. – По-моему, это одни теории. – Она бросила Тони земляной орешек. – В наши дни считается, что быть худым полезно для здоровья. А всего поколение назад думали, что чем человек упитаннее, тем здоровее. Кто знает, какая будет мода еще через десять лет, на новом витке общественной мысли. Я поинтересовалась, к чему она клонит. – А вот к чему. Чего ради Тони с Жози должны отказывать себе в удовольствии вкусно поесть, если в современной ветеринарной науке сейчас господствует именно это течение? – она бросила своему любимцу еще один орешек. Жози завистливо покосилась на меня. Я продолжала стоять на своем. – Но страховые компании утверждают, что худощавые люди живут дольше. Это уже не ветеринары. Обычные врачи также придерживаются этой теории. Почитай об ожирении и холестерине. – Я встречала уйму толстых врачей и страховых агентов, – не уступала Джойс. Этот довод был не лишен оснований. И вообще, возьмите Эдит Пиаф. Она весила девяносто фунтов, а не вылезала из больниц. Зато Софи Таккер, отнюдь не худышка, до сих пор цветет. Я начала сдавать позиции. Наверное, Жози прочла мои мысли, потому что принялась жалобно скулить и пускать слюнки. Я еще несколько секунд поколебалась, а затем снова наполнила наши бокалы, поставила на пол тарелку с арахисом – под экстатический визг обеих собак – и бодро воскликнула: – За счастливую, сытую жизнь! И пошло-поехало. Я выбросила собачьи консервы, а Жози вернулась к восхитительным бифштексам от Дэнни. Леденцы и прочие сладости сыпались полными пригоршнями. Следующие полгода ознаменовались бесчисленными эпикурейскими радостями. О Тони говорили, что он – вызов Девяносто третьей улицы королю Фаруку! Еще через полгода, в свой четвертый день рождения, Жози весила восемнадцать фунтов. А на следующий день Тони не стало. Вскрытие показало, что он скончался от кровоизлияния в мозг. Зато его позвоночник оказался в идеальном состоянии – хоть помещай под стекло. Пришлось Джойс утешаться этим. Известно, что кровоизлияние в мозг никак не связано с калориями. Во всяком случае, Тони успел кое-что повидать в жизни, познал вкус тушеной утки, суфле и копченого лосося. Тем не менее, его скоропостижная кончина заставила меня задуматься. Я выбросила сладости и вновь стала давать Жози нормальную собачью пищу. А вместо того чтобы цитировать Уинстона Черчилля, обратилась к Бернарду Шоу, который употреблял одну растительную пищу и дожил почти до ста лет. Джойс была безутешна. Поэтому предприимчивый Билли преподнес ей новый сюрприз: молоденькую желтовато-коричневую таксу, которую звали Куколкой. Меньше чем через неделю Куколке удалось заполнить пустоту в сердце Джойс. Конечно, никто не мог полностью заменить Тони, но по-своему она прониклась к Куколке столь же нежной любовью. Мне тоже нравилась Куколка. Но нас беспокоила Жози. Как сообщить ей страшную новость? Она так мало знает о жизни – вернее, о смерти. Как бы ее не хватил удар: ведь Тони был ее закадычным другом. Ирвинг внес предложение – настолько дикое, что мне подумалось: в этом что-то есть. Жози так мало знала о таксах, что вполне могла считать их не самостоятельной породой (Бог не мог сотворить такого!), а как бы ошибкой природы. Может быть, Куколка сойдет в ее глазах за Тони? Мы устроили им встречу у нас в отеле. Куколка вкатилась в комнату и приветствовала Жози с таким видом, словно они сто лет были друзьями. (Хвала тебе, Куколка, за твой молодой задор и сообразительность!) Наступила решающая минута. Жози стояла и безмолвно пялилась на Куколку. Мы с Джойс заворковали: – Жози, это твой маленький дружок Тони. Только теперь его… ее… зовут Куколка. Это такое ласкательное имя. Жози продолжала пялиться. Потом осторожно приблизилась к Куколке и начала ее обнюхивать. Кое-какие особенности строения Куколки ее удивили. Но, как я уже сказала, Жози – на редкость покладистая собака, поэтому уже в следующую минуту она повела себя так, словно знала: черным таксам свойственно становиться светло-коричневыми. А если кое-какие причиндалы Тони отсутствовали, то – все течет, все меняется. И вообще, это его личное дело! (обратно)Глава 21. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДРУЖБА!
Всю весну Жозефина встречалась с Куколкой. На этот раз Джойс старалась соблюдать для своей новой любимицы диету, а я в свою очередь проводила строгую политику по отношению к Жози. Конечно, иногда ей удавалось сжульничать. Не станешь ведь, к примеру, в гостях отказываться от умопомрачительных блюд, предлагаемых хозяйкой, и требовать собачьи консервы! Для этого она была слишком хорошо воспитана. И надо сказать, ее довольно часто приглашали в гости. Особенно Последняя Гершкович. Наверное, прежде чем продолжать, я должна дать необходимые пояснения относительно ее имени. Последняя происходит из большой семьи. У ее матери был то ли удивительно покладистый характер, то ли редкое чувство юмора, но она разрешила своему мужу выбрать имена для всех своих детей. Первенец оказался девочкой. Ее назвали Ливан (они тогда жили в Ливане). Ее братишка получил имя Гарлем (семья как раз переехала). В следующий раз родилась девочка, которую назвали Портленд (они часто переезжали с места на место). Впоследствии Портленд вышла замуж за Фреда Аллена и сделала карьеру на радио как Портленд Хоффа. Джеймс Мейсон назвал в ее честь дочь. Будучи англичанином, он решил, что это распространенное американское имя. Во всяком случае, ему нравилось, как оно звучит. Как видите, повадки мистера Хоффа пустили корни в поколениях. Довольный своей маленькой семьей, в которой уже было трое детей (Ливан, Гарлем и Портленд), мистер Хоффа решил на этом и остановиться. Но у миссис Хоффа были свои далеко идущие планы, и она родила еще одну девочку. Мистер Хоффа топнул ногой и дал этому ребенку многозначительное имя Последняя. Однако не надо недооценивать стремление миссис Хоффа к независимости. Пусть мистер Хоффа дает им имена, но на свет-то они появляются благодаря ей! И она выстрелила в его душевный покой еще одним ребенком, в расчете на то, что фантазия ее мужа истощилась и уж на этот раз он удовольствуется чем-нибудь вроде Дженни или Мэри. Во всяком случае, ему трудно будет превзойти вершину его творчества – Последнюю. Однако он превзошел: новорожденной дали гордое имя Период. Миссис Хоффа признала свое поражение и перестала искушать судьбу. Вероятно, она испугалась, что следующее дитя получит еще более неудобоваримое имя типа «Восклицательный знак» или «Ты что, издеваешься?». Так что Период стала ее последним произведением. Как ни странно, впоследствии ни один из их детей не испытывал никаких неудобств из-за своего имени. По признанию Последней, это даже имело свои преимущества: их невозможно было забыть. Когда ее впервые с кем-нибудь знакомили, реакция всякий раз была одна и та же – безумный взгляд и вопрос: «Как, вы сказали, вас зовут?» А после ее ответа неуверенное: «Да-да, именно так я и думал!» Как я уже сказала, их невозможно было забыть или с кем-то спутать. И если кто-нибудь говорил: «Сегодня я видел Последнюю», его собеседник не задавал глупых вопросов типа: «Последнюю что?» или «Последнюю кого?». Последняя стала женой адвоката по имени Артур Гершкович. Они с Арти поселились недалеко от нас, и мы частенько вместе коротали вечера за игрой в джин-рамми или унылым созерцанием того, что происходит на телеэкране. Последняя – изумительная кулинарка! Время от времени она звонила и говорила: – Если у вас нет других планов на сегодняшний вечер, приходите к нам. Я приготовлю бифштекс. И обязательно приводите Жозефину. (Обратите внимание, это были ее собственные слова, я и не думала навязываться.) Последнюю вряд ли можно было заподозрить в особой любви к животным, но и она пала жертвой очарования Жози. По правде говоря, в семье Хоффа вообще установилось прохладное отношение к собакам, а Портленд – та их попросту боялась и всегда готова была вознестись на вершину какой-нибудь горы при их приближении. Жози полюбила вечера у Гершковичей, даже стала узнавать дом, в котором они жили, и, проходя мимо, натягивала поводок, а если я отказывалась зайти к Последней, устраивала на асфальте сидячую забастовку. Так что, хотелось мне того или нет, а приходилось отдать краткий визит вежливости. У Последней Жози нравилось многое. Прежде всего кухня. Жозефина еще не видела такой просторной – не меньше, чем гостиная, – кухни, которая кружила ей голову экзотическими ароматами, способными привлечь и самого пресыщенного пуделя, не говоря уже о такой лакомке, как Жози. Неудивительно, что из всех знакомых Последняя была у нее на первом месте. Мало того что, когда мы садились за стол, Жози давали отдельную тарелку с ростбифом или индейкой с гарниром. У Последней всегда были заготовлены какие-нибудь сюрпризы, и пока мы отдавали дань напиткам, Жози не скучала. Последняя с заговорщицким видом наклонялась к ней и весело говорила: – Смотри, Жози, что тебе приготовила тетя Последняя. Это закуска, – и она клала на тарелку необыкновенно вкусную куриную печенку. Но Последняя завоевала сердце Жози не только благодаря кухне и куриной печенке. Что вы скажете о блюде с конфетами в три ряда, обычно стоявшем на столе в гостиной, – ну прямо Эйфелева башня в миниатюре. Первый слой состоял из бобов в шоколаде, дальше шли тянучки и, наконец, леденцы. Еще там был кофейный столик, уставленный тарелками с галетами, грецкими орехами и прочей вкуснятиной. Поэтому каждый визит к Последней становился для Жози настоящим праздником. Я высоко ценила то, что Последняя никогда не забывала позаботиться о Жозефине, и начала считать ее своей подругой номер один. Однажды вечером, когда мы небольшой компанией играли в джин-рамми после особенно плотного ужина, к Последней неожиданно заглянула Портленд (она жила в том же доме). Жози в это время блаженно дремала на полу, делая небольшой перерыв перед очередным налетом на трехъярусное чудо и, по своему обыкновению, держа один глаз полуоткрытым – на всякий случай. Естественно, она не могла улежать. Последняя метнула на меня предостерегающий взгляд: «Порти боится собак!» Вошедшая Портленд приветливо поздоровалась со всеми и вдруг замерла на месте. – О, да здесь собака! С этим трудно было не согласиться. Мы с Ирвингом радостно закивали головами и стали наперебой заверять гостью, что собака не кусается и вообще к ней не подойдет. Тогда Портленд успокоилась и села на диван. – Играйте, играйте. Я захватила с собой вязанье. Вы уверены, что собака меня не тронет? – Разумеется, Портленд, – ответила я. – Она боится незнакомых. Последняя открыла рот, чтобы опровергнуть столь явную ложь, но я незаметно толкнула ее под столом и сказала: – Сдавай карты. Портленд не унималась. – Тогда почему она взобралась на диван и улеглась рядом со мной? Я изобразила крайнее удивление. Но это же великая честь! Обычно Жози не доверяет чужим людям. Все смотрели, как Последняя сдает карты. Ее сестра вновь подала голос: – А почему она тронула меня лапкой? Я постаралась, чтобы мой голос звучал как обычно: – Наверное, хочет, чтобы ты почесала ей животик. Портленд уставилась на Жози. – Но я не умею. Мне никогда не приходилось этого делать. Я предложила ей попробовать, и мы продолжили игру. – Странно, – проговорила Портленд, – когда я останавливаюсь, она легонько ударяет меня лапкой. Что это значит? Я посоветовала ей продолжать свое полезное занятие. – Я так и делаю. Но одной рукой трудно вязать. Как быть? Все молчали в ожидании той страшной минуты, когда Портленд стряхнет с себя наваждение и вспомнит, что боится собак. Примерно пять минут не было слышно ничего, кроме шелеста карт. Потом снова раздался голос с дивана: – Я еще не встречала такой умной собаки. Вы знаете, я никогда их не любила, но эта собака особенная. Все испытали облегчение. Кончилось тем, что Портленд отложила вязанье и полностью отдалась делу почесывания собачьего животика. – Слушай, Джеки, – вдруг сказала она. – Я знаю, что вам с Ирвингом время от времени приходится уезжать в Калифорнию. Если нельзя будет взять с собой собаку, можете оставить ее у меня. С ней очень интересно. Последняя оскорбилась. – Знаешь что, Портленд? Второй дом Жози здесь, а не в каком-либо другом месте. Если Джеки отдаст ее кому-то другому, я сочту это кровной обидой. Кроме того, Жозефина обожает мою стряпню. Френсис в восторге от Жози, а Арти так просто жить без нее не может. Мистер Гершкович немедленно подтвердил: – Последняя права. Это необыкновенная собака. Я очень привязан к ней и совсем не прочь, чтобы она немного пожила у нас. Когда Френсис уходит в школу или уезжает в лагерь, здесь становится одиноко. Естественно, миссис Гершкович не могла не отреагировать. – То есть как это одиноко? А я кто же, по-твоему, невидимка? Мистер Гершкович поспешил с уточнениями. Он высоко ценит общество Последней, но в отсутствие Френсис ему не хватает ребенка в доме. А Жозефина – очень ласковое дитя. Последняя согласилась, добавив, что Жозефина будет утешать ее в те вечера, когда кое-кто станет клевать носом перед телевизором. Короче, она настаивает на том, чтобы в следующий раз, когда мы соберемся на Западное побережье, Жозефина погостила у них. Я поблагодарила, но сказала, что Жози прекрасно освоилась в пансионате мистера Ингрэма, сделавшего заботу о собаках своей профессией. По-видимому, там ей будет удобнее. В ответ последовало: – Ты что, мне не доверяешь? После того как я вырастила Френсис? Для каждого, кто воспитал ребенка, уход за собакой – сущая безделица! Оспаривать подобное утверждение – все равно что сражаться с ветряными мельницами. Поэтому, не желая омрачать нашу идеальную дружбу, через несколько месяцев я рискнула оставить Жози на попечение Гершковичей – на восемь дней. Я уложила в сумку все ее имущество: поводок, мячик, сладости и тому подобное, а также листок бумаги с телефонными номерами нашего отеля «Беверли Хиллз» и ветлечебницы. На прощание я поцеловала Жози и попросила ее быть хорошей девочкой. После чего медленной, осторожной походкой направилась к двери, страшась услышать за спиной жуткие вопли. Но душераздирающей сцены не последовало. Когда я обернулась, чтобы помахать Жози рукой, она даже не смотрела в мою сторону. Она была занята, пытаясь расправиться с пятью или шестью шоколадными бобами одновременно. (обратно)Глава 22. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ДРУЖБА?
Тем не менее все время нашего пребывания на Западном побережье меня не покидала тревога. То, что Последняя мастерски отбивала мясо для ростбифа, еще не значило, что она догадается: теплый сухой нос свидетельствует о повышенной температуре. Не забыла ли я предупредить ее насчет куриных косточек? Маленькие дети знают, что нужно вынимать косточки, а ни о чем не подозревающая собака может подавиться. А вот в ростбифе косточки допускаются. Господи, я совсем выпустила из виду пепто-бисмол!.. Как только мы вернулись в Нью-Йорк, сразу же поспешили к нашему ангелу. Арти, Последняя и Жози уже ждали. Все трое выглядели как после жуткого запоя. Даже у Жозефины обозначились круги под глазами. Ирвинг спросил, что случилось. Последняя, заикаясь, выдавила из себя: – Жозефина… всю ночь… каждую ночь… – Наконец она собралась с силами и ринулась в бой. – Мне бы хотелось кое-что уточнить. Когда, черт побери, эта собака привыкла ложиться спать? Я приняла вызов. – Вместе со мной, разумеется. Последняя вздохнула. – А конкретнее? Наверное, она думала, что ухаживать за Жози – все равно что ухаживать за маленьким ребенком. И она поднималась в свое обычное время – в семь часов, намереваясь перед тем, как приготовить для Арти завтрак, вывести Жози на прогулку. Это же общеизвестный факт, что собаки просыпаются рано утром, брызжущие энергией и готовые немедленно бежать на улицу. Едва завидев поводок, они начинают пританцовывать, предвкушая короткую, но приятную прогулку. Так поступают все собаки. Только не Жозефина. Все началось с того, что в семь часов, когда все повскакивали с постелей, ее не оказалось на месте. Все трое громко выкрикивали ее имя, но она и не думала отзываться. После тщательных поисков Жозефину удалось обнаружить сладко дрыхнущей под кроватью. Последняя нагнулась и постучала по полу. – Проснись, дорогая, уже утро. Жозефина зевнула и отползла подальше. Последняя просунула руку под кровать и проворковала: – Выходи, Жози, тетя Последняя ждет. Жози уползла в самый дальний угол. Завязалась настоящая битва. Кончилось тем, что Последняя ухватила Жози за ногу и вытащила из-под кровати. К сожалению, ей пришлось ненадолго выпустить Жози, чтобы сбегать за поводком. И та в мгновение ока сиганула обратно. Последовала новая схватка. Наконец Жозефину удалось вывести на улицу и подвести к тумбе. Она еще не окончательно проснулась, но, будучи добродушным существом, выполнила все, что от нее требовалось. Она сделала это не потому, что ей хотелось, а чтобы доставить удовольствие Последней. И сразу потащила ее обратно. Последняя приготовила завтрак для мужа и дочери. Потом, движимая стремлением похоронить прошлое, весело прокричала: – Жози, твое печенье! Завтрак ждет, дорогая! Но почему же не слышно топота милых ножек? Спящая Красавица вернулась в свою келейку и задала храпака! Подобно всем хозяйкам, Последняя привыкла к определенному распорядку. Проводив Арчи и Френсис, она вернулась к своим повседневным обязанностям. Обычно к полудню постели были застланы и весь дом блестел как стеклышко. Хозяйка дома могла прикорнуть на диване в гостиной. К часу Последняя чувствовала себя отдохнувшей и отправлялась за покупками. Однако на этот раз не успела она прилечь, как в комнату заявилась Жози в одном из лучших своих настроений. Это было ее обычное время завтрака. Последняя поставила перед собой цель перевоспитать несносную собаку и приучить ее к нормальному режиму дня. Она решила начать с продолжительных прогулок три или четыре раза в день. Каждый вечер после ужина она тащила Жози аж за десять кварталов. Ведь всем известно, что собаки обожают гулять. Если бы ей раньше сказали, что Жози будет порываться поймать такси, она бы ни за что не поверила! Ночи превратились в сплошной кошмар. Обычно Последняя с Арчи рано ложились спать: в десять часов. А для Жози вечер был в самом разгаре. Она с удовольствием предвкушала несколько часов игры в мяч и почесывания животика. А также не могла жить без телевизора. Едва Гершковичи выключали свет, как Жозефина бросалась из спальни в детскую с таким видом, словно хотела сказать: «В чем дело? С ума они, что ли, сошли? Еще совсем рано!» Она принималась слоняться по квартире. Выложенный венецианским кафелем пол в прихожей многократно усиливал звуки ее шагов. Жозефина часами вышагивала взад и вперед. Арчи с Последней лежали, не смыкая глаз, и слушали. В конце своего рассказа Последняя испустила глубокий вздох. – Не было ни одной ночи, когда бы Жози легла спать раньше трех утра. Я принесла Последней свои извинения. Ей, бедненькой, пришлось несладко, но ведь и Жози тоже. Она – ярко выраженная «сова». Это лженаучно установленный факт, что некоторые достигают пика активности глубокой ночью. Последняя возразила, что, если я сама ненормальная, незачем было делать ненормальную из Жози. Дети как обезьянки: вечно копируют тех, кого любят. Видя, как я бодрствую в ночные часы, Жозефина стала делать то же самое. Или привычка есть в постели. Последняя потребовала, чтобы я ответила, как на духу: я ем в постели? А где же еще, спрашивается, человеку пить свой утренний кофе? Последняя не отставала: – А где Жози съедает свое печенье? Что за вопрос! Мы живем в четырехкомнатном гостиничном номере. Не отсылать же мне ее для этого в гостиную! Как выяснилось, их семья обычно собирается для завтрака в столовой. Все чинно сидят за столом и едят. А Жози, к ужасу хозяйки, хватала свое печенье, прыгала на только что убранную кровать Последней и там, на белоснежной накидке из органди, начинала его мусолить. Но откуда Жози было знать? Наша горничная никогда не застилает кровати раньше трех часов дня. И у нас нет накидок из органди – обыкновенное белое муаровое покрывало, на которое Жози не возбраняется прыгать, когда захочется. Всю жизнь она на него вспрыгивает, и оно все еще в отличном состоянии. Я могла бы еще много чего сказать, но придержала язык и поинтересовалась, как же Последняя вышла из положения. Оказалось, что она не то чтобы вышла, но они с Жози достигли взаимоприемлемого соглашения. Последняя не начинала убирать постель, пока Жози не позавтракает. Я извинилась за причиненное беспокойство и пообещала, что следующие каникулы Жози проведет у мистера Ингрэма. К моему удивлению, Последняя обиделась. – Нет, пусть поживет у нас. Для ее же блага. Я не хотела навязывать ей свои правила, потому что это было в первый раз. Но она умная собака и быстро усвоит новые правила. С тобой она ведет беспорядочный образ жизни. Может, тебя это устраивает. Ты актриса, а статистика утверждает, что они все немного чокнутые. Иначе им не вынести всех унижений и разочарований. – Последняя, – перебила я. – Мы собрались, чтобы обсуждать особенности моей профессии или манеры Жози? – Твоя профессия пагубно сказывается на ее манерах. Нормальный пудель не должен вести себя как актриса. А Жози – нормальная, смышленая, покладистая собака. Дай мне ее на месяц, и я перевоспитаю ее. Я притворилась, будто не замечаю ужаса в глазах Жози, и согласилась предоставлять ее в распоряжение Последней всякий раз, когда мы будем вынуждены уехать. У меня не было оснований для тревоги. Из них двоих у Жозефины гораздо более сильный характер. Если им доведется провести длительное время вместе, Жозефина выйдет победительницей. Как ни странно, Арти был того же мнения. – Последняя ее не переделает. Ставлю на Жозефину. Эта собака знает, чего хочет. Она уже всех нас рассортировала и навесила ярлычки. Последняя – ее личная кухарка. Френсис – партнер по игре в мяч. А я – персональный чесальщик брюшка. Естественно, по возвращении домой Жози отправила Последней вместительную корзину с подарками в знак благодарности за радушный прием. Там были духи, бутылка скотча для Арти и прочие мелочи. Пусть не говорят, что Жози не знает правил поведения в обществе. Последняя одобрила подарки, но сказала, что напрасно Жозефина беспокоилась. Общение с ней было сущим удовольствием. Она еще раз напомнила, чтобы в следующий раз я не стеснялась и снова подкинула им Жози, если возникнет необходимость. Тем не менее, когда через полгода нам пришлось снова отбыть на Западное побережье, Ирвинг выразил сомнение в целесообразности такого поступка. Конечно, Жози будет рада провести каникулы у старых друзей, таких как Последняя и Арти, а не за плату в казенном доме. Зато, получая за это деньги, мистер Ингрэм не станет переделывать ее на свой лад. Она хочет завтрак в постель – хорошо! Мы ему платим за индивидуальные услуги. Хочет смотреть передачу для полуночников – ради Бога! Возвращая нам Жози, мистер Ингрэм неизменно рассыпается в похвалах, а не читает нам нотации. Я сказала Последней, что, пожалуй, будет лучше, если мы поместим Жози в пансионат мистера Ингрэма. Я не хочу причинять ей лишние неудобства: ведь Жози по-прежнему живет в режиме звезды экрана. Последняя ужасно огорчилась. И Арти тоже. Неужели мы им не доверяем? Подумаешь, если даже им и придется провести несколько бессонных ночей. Потом Жозефина обязательно привыкнет к новому распорядку. Страх потерять испытанных друзей не оставил нам выбора. И мы отвезли Жозефину к Гершковичам. Жози быстро врубилась в ситуацию. Она обожала Последнюю, но, видимо, в душе предпочитала мистера Ингрэма. От меня не укрылось, что на этот раз она водворялась в дом Гершковичей без прежнего энтузиазма. Но она отнеслась к этому как к чему-то неизбежному – вроде военных сборов. Когда через десять дней я приехала за Жозефиной, Последняя торжественно объявила, что она уже не бродит почти всю ночь по квартире, потому что Последняя стала укладывать ее с собой спать. – Ты хочешь сказать, что в прошлый раз отказывала ей в этом? – возмутилась я. – Она прибегала к тебе, а ты вышвыривала крошку прочь? Последняя воззрилась на меня. – Кажется, это не входило в условия договора? Приглашая гостей, никто не обещает, что они будут спать с хозяйкой дома. Неудивительно, что бедняжке пришлось вышагивать по коридору! У нее не было чувства защищенности. Вообще-то она ничего не имеет против того, чтобы спать на полу под кроватью, но при этом должна быть уверена, что это ее кровать и она может в любую минуту прыгнуть туда и всем телом прижаться к тому, кто там спит. Нельзя же провести всю ночь на полу! Последняя возразила, что никто и не заставлял ее спать под кроватью. В квартире хватает укромных местечек, например под диваном в гостиной. Или под одним из стульев, на которых Жози охотно спит днем. Так или иначе, Последняя скоро сдалась и разрешила Жозефине спать в своей постели. Это все-таки лучше, чем полночи вслушиваться в топот в прихожей. Но если Жозефине так уж необходимо спать с кем-нибудь в обнимку, почему она не выбрала Арти? Или Френсис? Я спросила, чем ей не нравятся объятия Жози. Последовал ответ: не нравятся, вот и все. Когда она ложится спать, то хочет спать, а не обниматься. Я воздержалась от комментариев. В конце концов, у них с Арти вполне благополучный брак, с какой стати я буду объяснять ей, как много она теряет. Я отвезла Жози домой и позволила обниматься со мной сколько ее душе угодно. На этот раз Жозефина подарила Последней золотые часики итальянской работы. А еще через несколько месяцев Жози вновь суждено было обниматься с Последней, и та получила в придачу к часикам прелестные золотые сережки. Летом, перед очередной поездкой на Западное побережье, я с легким сердцем отвезла Жози к озолоченной Последней. Той не хватало для комплекта золотой итальянской булавки. На следующий год, если все будет хорошо, я подарю ей что-нибудь из жемчуга. Когда мы вернулись, Последняя взяла булавку и со словами: «Ну зачем ты беспокоилась?»– приколола к вороту платья. Потом полюбовалась собой в зеркале и сказала: – Кроме того, больше ноги этой неряхи не будет у меня в доме! Если бы не Ирвинг, я вцепилась бы ей в горло. Он удержал меня и с героическим самообладанием спросил, что натворила Жози. Продолжая любоваться булавкой, Последняя ответила вопросом на вопрос: – Когда эта собака мылась в последний раз? Я ахнула и сгребла Жозефину в охапку. Мы не потерпим дальнейших издевательств! Каждые несколько недель Жози купали и стригли; от нее всегда пахло геранью. Последняя объяснила, что сейчас, к сожалению, лето, и очень жаркое. А Жозефина чем дальше, тем больше привязывалась к ней. Поэтому она не только ночью сворачивалась клубком рядом с ней на постели, но и целые дни напролет просиживала у нее на коленях. И вот в этом душном августе Последняя учуяла исходящий от нее душок… Ирвингу пришлось напомнить мне, что Жозефина не выносит скандалов. Откуда ей знать, что моя цель – убить Последнюю? Она может отнести мои вопли на свой счет. Я приласкала Жози и заверила ее, что «мама шутит». При этом выстрелила свирепым взглядом в Последнюю. Она преспокойно уселась на диван и, протирая мой подарок носовым платком, констатировала: – Джеки может орать сколько угодно. Меня это абсолютно не волнует. Факты – упрямая вещь. От собаки дурно пахнет. Не подозревая о том, что разгоревшийся сыр-бор имеет отношение к ее личной гигиене, Жозефина прыгнула на диван и принялась целовать хозяйку дома. – Это еще раз напоминает мне, – все тем же ровным голосом проговорила Последняя, – что собаке следовало бы пользоваться «сен-сеном». Ну, это уж слишком! Я схватила свое сокровище и заявила, что, может быть, Жозефине тоже кажется, что Последняя источает запах, отличный от «Шанели», но она хорошо воспитана и не позволяет подобным мелочам влиять на ее отношения с друзьями. Даже Ирвинг поспешил заверить, что Жозефина пахнет, как роза. Я же добавила, что вот уж поистине как следует узнаешь человека, только пожив с ним под одной крышей. Последняя и бровью не повела, но выразила надежду, что этот маленький инцидент не отразится на нашей дружбе. Во всяком случае, она продолжает считать Жози своим другом. Просто впредь эти отношения не должны становиться слишком тесными. Тут в разговор вмешался Арти и сказал, что он не чувствует никакого запаха, но у него заложен нос и он вообще не различает запахов, зато у Последней всегда было необыкновенно тонкое обоняние. Такой нюх, как у нее, нечасто встретишь. Разумеется, Последняя повернулась к мужу и заявила, что у нее самый обыкновенный нюх, а если у него вообще никакого нет, пусть не делает из нее чокнутую. Арти ответил, что она в самом деле помешалась на запахах. Взять хотя бы его сигары – она назвала их вонючими! Под сладкие звуки семейной ссоры мы взяли Жози и вышли в ночь. Конечно, мы по-прежнему встречаемся с Последней. Я не из тех, кто долго помнит зло. Мы вместе гуляем и играем в бридж. И только изредка, когда она сдает карты и в поле моего зрения оказываются золотые итальянские часики у нее на запястье, в моей душе поднимается дикое желание заколоть ее! (обратно)Глава 23. ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ В СОРОК ЛЕТ?
Помнится, я где-то читала о престарелой даме на смертном одре, которая в минуту просветления вдруг воскликнула: – Боже мой, мне девяносто три года – и я должна умереть! Но как же это можно, ведь в душе мне по-прежнему восемнадцать! Как ни странно, я могу то же самое сказать о себе. Я всегда чувствовала, что мне восемнадцать, даже в пятилетнем возрасте. И если мне суждено дожить до устрашающей цифры «93», я наверняка буду чувствовать то же, что эта старуха. Не думаю, что я позволю нарядить себя в пурпурные одежды и стану спокойно позировать для портрета наподобие «Матушки Уистлера». Конечно, все это чушь. Я не доживу до девяноста трех. Где-нибудь в восемьдесят с небольшим я либо растаю от питательных масок, либо задохнусь при очередной подтяжке кожи на подбородке. Короче говоря, я не собираюсь спокойно стариться. Я буду вопить, драться и всеми доступными способами цепляться за вечную молодость! Неудивительно, что и Жозефина чувствовала нечто подобное. Предполагается, что к двум годам пудель становится взрослым и перестает играть в мяч и жевать резиновые игрушки. Он большую часть суток дремлет и выполняет чисто декоративные функции. А Жозефина и в шестилетнем возрасте наслаждалась игрой в мяч и сохраняла легкую щенячью походку. Для меня она была и навсегда осталась бы щенком, если бы я не имела глупость прислушиваться к мнениям разных любителей потрепаться в Центральном парке. Эта конкретная болтунья выгуливала сразу трех пуделей йоркширской породы. Она поглядела на Жози и сказала: – Какой миленький щенок! Сколько ему? – Шесть. – Месяцев? Когда я ответила, что лет, ее чуть не хватила кондрашка. – Так это карликовый пудель? Он больше не вырастет? Она-то считала, что видит перед собой пухленького щенка, который со временем выровняется и превратится в пропорционально развитого королевского пуделя. Но как же я допустила, чтобы он так разжирел? (И таких идиоток встречаешь не менее трех раз в день. Вот один из недостатков прогулок с собакой!) Тем не менее я вежливо пояснила: – У нас всегда были проблемы с весом. Но, несмотря на это, она превосходно себя чувствует и вот уже два года не была у врача. – Как? Вы не водите ее раз в полгода на профилактический осмотр? Я гордо вскинула голову: нет! И не собираюсь подвергать Жози ненужным мучениям. В свое время бедное дитя с лихвой хлебнуло этих прелестей: уколов и проверок хватит на всю оставшуюся жизнь. Она до сих пор не может без дрожи проходить мимо клиники. – Но ей сорок два года, – настаивала моя собеседница. Кому сорок два года? Жози – и та навострила ушки. Дама уточнила: Жозефине сорок два года. Собачий век соотносится с человеческим семь к одному. Так что в свои шесть лет Жози – сорокадвухлетняя женщина. Я увлекла сорокадвухлетнюю женщину домой и позвонила в клинику. Там подтвердили: да, ей сорок два года. Можете представить себе мое состояние! Я уставилась на это шестилетнее дитя, безмятежно жующее одну из моих папильоток, и постаралась увидеть Жозефину в истинном свете – пожилой матроной. Но это же курам на смех! Она все еще производила впечатление игривой молоденькой девушки. Ирвинг тоже навел справки. Все подтвердили: семь к одному. Как ни крути, ей определенно сорок два. И я впервые осознала страшную истину: Жози не вечно будет с нами. Потрясение сменилось депрессией. Но почему, почему у собак такой короткий век? Однажды в зоомагазине я увидела плакат: «Единственная любовь, которую можно купить за деньги, это любовь собаки». И это правда. С тех пор, как вы приносите щенка к себе домой, радовать вас становится единственным смыслом его жизни. Его преданность не идет ни в какое сравнение с человеческой. Потому что, не считая тех минут, когда собака ест и спит, она посвящает всю жизнь своему владельцу. Нет, я не принадлежу к чудакам, которые намекают, будто собаки лучше людей. Я из тех чудаков, которые смело делают шаг вперед и гордо заявляют: так оно и есть! Собаки лучше! Заметьте, я сказала «лучше». Не «умнее» и не «полезнее». Если вы заболели, собака не в состоянии набрать номер и вызвать врача или кормить вас с ложечки бульоном. Она не построит дом, не воспитает детей, не изобретет вакцину, не станет юристом, хирургом или президентом. Ее не интересуют судьбы цивилизации. Единственное, что ее интересует, это вы. Вот почему я говорю, что собаки лучше людей. Их никто и ничто не отвлекает. Возьмите хотя бы Ирвинга. Он любит меня больше, чем Жозефина, – во многих отношениях. Его любовь разумна и практична. Подобно большинству людей, состоящих в счастливом браке, мы с ним – одно целое. Я не могу представить себе будущего без него, как не в силах и вспомнить ничего путного в своей жизни до встречи с ним. Мне нравится его общество, его чувство юмора, его… ну, вы понимаете. Я считаю его лучшим человеком в мире! И он доказал, что так же относится ко мне. Но когда я просыпаюсь утром, разве Ирвинг прыгает на кровать и покрывает мое лицо поцелуями, дрожа от счастья и восхищения? Считает восьмым чудом света тот факт, что судьба расщедрилась и подарила нам еще один день вдвоем? Нет, он этого не делает. А Жозефина – делает. Постоянно. По утрам Ирвинг ведет себя по-разному: это зависит от того, хорошо ли он спал, и от многого другого. Если он семь часов подряд наслаждался полноценным отдыхом, а на горизонте нет никаких особенных катастроф, он приветствует меня приблизительно так: – Ты уже поставила воду для кофе или мне сделать это самому? Если же он провел беспокойную ночь, а новый день готовит какие-либо потрясения, он цедит сквозь зубы: – Сколько раз ты вставала ночью? Не давала мне глаз сомкнуть. – После того, как я заботливой рукой поставлю перед ним чашку растворимого кофе, он продолжает брюзжать: – Это что, другой сорт или ты разучилась его варить? Душ возвращает ему хорошее расположение духа, а к тому времени, когда Ирвинг закончит переодеваться, он полностью становится самим собой – бодрым и даже склонным к романтике. Выходя из квартиры, он роняет через плечо: – Не принимай близко к сердцу. Погуляй с Жози. Я могу задержаться. Пока! Я люблю тебя. Кажется, я достаточно четко изложила свою точку зрения на собак. Они как люди, только лучше. И вот я снова спрашиваю вас: почему им дан такой короткий век? Другим животным повезло гораздо больше. Слон, например, живет сто лет, а какой от него прок, кроме безделушек из слоновой кости? Или взять черепаху. Она живет несколько столетий. Конечно, черепаховый суп очень вкусен, но попробуйте припомнить: был вам в последнее время еще какой-нибудь толк от черепахи? Ирвинг тоже принял близко к сердцу отношение «семь к одному». Он отчитал меня за то, что я просрочила профилактический осмотр, и потребовал, чтобы впредь я делала это каждые полгода. Я отказалась. Зачем подвергать Жози этой пытке, если она хорошо себя чувствует? Может быть, нам и не придется жить без Жози, пусть даже через четыре года ей станет семьдесят. В любое время может упасть атомная бомба. Мы просто раскисли. Нужно выбросить из головы все расчеты и жить сегодняшним днем, наслаждаясь общением с Жози. Ирвинг согласился со мной. Но подсознательно его отношение к Жозефине стало другим. На грани истерики. К примеру, он читает «Таймс». И вдруг, отложив газету, вперяет в Жозефину тревожный взгляд. – Почему она тяжело дышит? – Потому что битый час играла в мяч. – А почему свесила язык? – Она всю жизнь так делает. Как и все собаки. В другой раз он начинает вопить, что у нее какая-то опухоль на груди. Я щупаю ей грудь. Некоторая припухлость действительно имеет место. Но это нечто иное, как солидная складка жира. Однако настоящий кризис случился несколькими неделями позже, когда мы лежали в постели и занимались тем, чем обычно занимается в этот ночной час любая счастливая супружеская пара: смотрели телевизор. Жози энергично лизала Ирвингу лицо. И вдруг он ахнул. – Джеки, я должен сделать важное заявление. Я вся напряглась: ведь он выступил с этой инициативой прямо в разгар одной из увлекательнейших историй Алекса Кинга. – Мне не хочется тебя огорчать, – начал он. – Это не имеет отношения к тебе лично. Чисто медицинское наблюдение. У меня бешено заколотилось сердце. – Ты знаешь, как я отношусь к Жози, – продолжал мучить меня Ирвинг, а Жози тем временем пристроилась так, чтобы лизать ему лицо с другой стороны. Я хриплым голосом произнесла: – Так что ты хотел сказать? – Ну… Мне тяжело обрушивать на тебя эту новость, но у нашей девочки действительно пахнет изо рта. Теперь я понимаю, что Последняя имела в виду. Я подставила Жози щеку. Должна признать, Ирвинг имел основания так говорить. Конечно, мне все равно были приятны ее поцелуи, но человек с развитым обонянием явно имел причины жаловаться. После тщательного осмотра рта Жози Ирвинг решил, что окончательную ясность должна внести консультация у дантиста. Кажется, у нее образовался зубной камень. Мне-то ее зубы продолжали казаться чистым жемчугом, но этот новоявленный член общества защиты зубных врачей продолжал гнуть свое. – Завтра же своди ее к дантисту, и пусть ей хорошенько почистят зубы. Я объяснила, что собачьих дантистов не бывает, придется вести ее в клинику доктора Уайта. – Значит, ты поведешь ее туда. – Мы поведем, – огрызнулась я. Ирвинг сказал, что ему предстоит ужасно загруженная неделя. Ни одного свободного часа. Я согласилась подождать до следующей недели, когда у него будет более гибкое расписание и он сможет сопровождать меня на эту пытку. Ирвинг ответил, что, возможно, будет дико занят в течение нескольких недель, но если я из-за своего малодушия буду сидеть и ждать, пока у ребенка не сгниют все зубы, значит, так тому и быть. А в чем, собственно, дело? В нее же не будут вгонять шприцы и тому подобное. Просто соскребут нарост с зубов. Закончил он следующей фразой: – Даже я, наихудший в мире трус, когда речь идет о посещении зубного врача, не боюсь, когда мне удаляют зубной камень. Этой репликой он меня «достал». Я тоже трясусь в кабинете дантиста, но чистку переношу без маски и новокаина. Наверное, Ирвинг прав. Небольшая чистка не помешает. Так что на следующее утро мы с Жози отправились к врачу. Был погожий весенний день, но едва мы свернули на знакомую улицу, ее начало трясти. Бедняжка целых два года не была в клинике, но узнала улицу! Этот уникальный маленький пуделек наделен чревом и памятью слона! Мы вошли в клинику доктора Уайта. Нас приветствовал незнакомый врач. – Я не была здесь два года, – объяснила я. – Вы, наверное, новенький? – Позвольте представиться, – сказал он. – Я доктор Уайт. Я чуть не хлопнулась в обморок. Доктор Уайт принялся изучать ее досье, время от времени издавая странные звуки, похожие на кудахтанье. – Я вижу, это наш старый кадр – с раннего детства. К сожалению, я ни разу не имел с нею дела, но у нас превосходные врачи. Я подтвердила, что так оно и есть, и выразила удовлетворение тем обстоятельством, что наконец-то мы попали к нему лично. Потом я рассказала, что Жозефина прекрасно себя чувствует, но мы хотели бы, чтобы ей удалили зубной камень. Доктор Уайт взял стетоскоп и послушал ее сердце. – Тут полный порядок, – жизнерадостно заверила я. – Меня беспокоят ее зубы. Доктор Уайт проигнорировал мое заявление: он в это время проверял суставы. Потом начал выстукивать кости. Пробежался пальцами по позвоночнику. Спустя десять минут я легонько коснулась его руки и сказала, что не хотела бы его учить, но он не оттуда начал. Нас беспокоят зубы. Он проворчал: – В свое время мы до них доберемся. А пока я хочу произвести полный осмотр. Судя по истории болезни, вы два года не проходили обследование. – И добродушно добавил:– У нее засорены протоки анальных желез. Но по-настоящему он оживился тогда, когда добрался до ее живота. Он просто не верил своим глазам и решил положить Жозефину на весы. Она весила двадцать фунтов. Врач сказал: – Собака слишком толста. Я молча кивнула. – Ей необходимо похудеть. Я еще не видел пуделя, у которого весь жир сосредоточился бы в одном месте. Ей нужно срочно сбросить шесть фунтов. Я пообещала избавиться от этих чертовых шести фунтов. Но не будет ли он так добр наконец заняться ее зубами? Да-да, конечно, согласился мистер Уайт. Но не раньше, чем прочистит анальные протоки. Во мне начал подниматься гнев. Он столько возится – и до сих пор не добрался до ее зубов! В следующее мгновение этот сатрап вонзил в Жози шприц. Она взвыла, и я чуть не потеряла сознание. Доктор Уайт попросил ассистента помочь ему, так как от меня в этих владениях Флоренс Найтингейл не было никакого проку. Потом он полез ей в уши. Ну, это уже кое-что – шаг в правильном направлении. Доктор Уайт прорычал: – Вы когда-нибудь удаляете лишние волоски? – и вытащил у нее из ушей комочки свалявшейся шерсти. – Мне никто об этом не говорил, – рявкнула я в ответ. – Эти комочки у нее в ушах уже шесть лет, и она ни разу не пожаловалась. И анальные железы ее совсем не беспокоили. Похоже, он даже не расслышал моих слов, потому что в это самое время светил ей в глаза фонариком. Чем-чем, а глазами Жози смело могла гордиться! Я немного расслабилась и хвастливо произнесла: – Согласитесь, у нее самые красивые глаза в мире. (Надо же мне было вернуть Жози хоть чуточку уверенности в себе! Ведь если послушать доктора Уайта, она состоит из одних недостатков.) – Они бывают бархатно-карими, – увлеченно продолжала я, – а при другом освещении – темно-синими, цвета полночного неба. – Это потому, что у нее начинается катаракта. Я задрожала сильнее, чем Жози. Мной овладело дикое желание добраться до горла Ирвинга. Только из-за того, что ему не понравилось ее дыхание, бедняжку подвергают неслыханным унижениям. Мне следовало плюнуть на все и попрыскать ей рот «сен-сеном». Кому какое дело до ее дыхания? Она же не собирается петь в опере! И не создает неудобств для работающих рядом. А что касается Последней, то запах изо рта Жози ни в коей мере не отразился на ее успехах в обществе. После того как доктор Уайт проявил неподдельный интерес к ушам, глазам и заду Жози, он чуть не отдал концы, заглянув ей в рот. Таких отложений зубного камня он еще не встречал! Но его волновало даже не это. – Смотрите, – воскликнул он, расшатывая один из самых крепких коренных зубов. – Такого запущенного случая пиорреи я еще не видел. – Вы только почистите их! – взмолилась я. – Да почищу, почищу, – он с прежней тщательностью обследовал ее рот. – Однако боюсь, несколько зубов придется удалить. – Они же не гнилые. – Да, но единственный способ что-то спасти – это вырвать несколько зубов и поставить пломбы на оставшиеся. Это укрепит их. – Но если вы удалите один зуб, разве соседние не будут шататься из-за прорехи и изменений в прикусе? Я нахваталась этих терминов от своего зубного врача, когда выписывала чек на сто долларов за одну-единственную коронку. У меня было такое чувство, что я запросто проживу без коренного зуба и его смело можно удалить за двадцать долларов, но он отказался лишать меня хотя бы одного зуба. Я начала объяснять это доктору Уайту, но этому человеку палец в рот не клади. – У собак все по-другому. Они в основном пользуются клыками и почти не пускают в ход коренные зубы. – И сколько вы намерены удалить? – Точно не знаю, пока не осмотрю весь рот. – Ну хотя бы приблизительно. – Три или четыре. Я схватила Жози в охапку и двинулась к двери. Однако следующая фраза заставила меня остановиться: – Если не вылечить зубы, она ослепнет раньше, чем могла бы. Когда я открыла глаза, то обнаружила себя лежащей на диване в кабинете доктора Уайта. Ассистент принес мне воды. Придя в чувство, я заявила, что мы немедленно уходим. Разумеется, Жозефина могла только приветствовать такое решение. Доктор Уайт сел и стал терпеливо излагать факты. – Миссис Мэнсфилд, никто до сих пор не установил причину зарождения катаракты. Это пленка на глазном яблоке. Людей обычно оперируют, и пленка исчезает. Правда, зрение немного ухудшается, но в очках человек вполне прилично видит. К сожалению, собаки не носят очков, поэтому им бесполезно удалять катаракту. Однако ее рост удается приостановить. У вашей собаки самая ранняя стадия. Нам предстоит купировать ее развитие. Необходимо давать витамин А. Содержание зубов в порядке – необходимое условие. Согласно моей собственной теории, между испорченными зубами и катарактой существует тесная связь. – Сколько зубов, вы сказали, необходимо удалить? – я понимала, что сейчас не время думать о красоте ее улыбки, но мне нужно было чувствовать уверенность. – Я уже сказал, что не могу точно сказать, пока не произведу чистку. Чтобы как следует почистить ей зубы, необходим общий наркоз. Предлагаю оставить ее у нас, и мы немедленно приступим к делу. – Можно, я подожду? Он покачал головой. – Чистка займет не меньше часа. Потом – удаление больных зубов. После этого она еще некоторое время будет находиться под наркозом. Оставьте ее до утра. Я позвонила Ирвингу, но его не оказалось на месте. Мне предстояло самой принимать решение. Я посмотрела на Жози. Ее взгляд кричал: «Не оставляй меня на произвол этого живодера! Давай скорее сматываться отсюда!» Но я понимала: врач прав. В конце концов, человека, который каждый день на протяжении шести лет пропадал в операционной, вряд ли надо было учить выдергивать у собаки зубы. И я уступила. Не смея взглянуть на Жози, я вышла из кабинета. Должно быть, она смотрела мне вслед так, словно я была Ильзой Кох. И все же она приняла это легче, чем Ирвинг. – Ах вот как! – распалялся он. – Ты, значит, бросила ее на произвол судьбы? Доверила врачу, которого до сих пор ни разу не видела? – Но это же сам доктор Уайт! – Есть другие врачи. И другие теории. – Но с какой стати подвергать Жози новым проверкам? Таскать по другим клиникам? Эта лечебница прошла через всю ее жизнь. Ее лечили разные врачи. А теперь я напала на самого доктора Уайта, руководителя клиники. Ирвинг сказал, что ему все равно, пусть бы это был сам доктор Швейцер. Он не позволил бы ни одному врачу на свете вырвать три или четыре здоровых зуба, прежде чем не услышал бы другие мнения. Пришлось рассказать обо всех остальных болезнях. Для Ирвинга это был настоящий шок! С таким диагнозом надо было менять – либо врача, либо собаку. Весь вечер он время от времени ронял едкие замечания насчет истеричек, которые легко поддаются панике и подвергают несчастных животных бессмысленным мучениям. Например, разрешают всяким садистам удалять у собаки здоровые зубы. Я напомнила ему о том, как однажды он перепробовал в течение суток шестерых врачей, хотя речь шла всего лишь о небольшом покраснении горла. – Зато я выслушал разных врачей, – прорычал Ирвинг. – И все они пришли к одному мнению, – парировала я. Так продолжалось весь вечер. Мы высказали друг другу много горьких истин, но поскольку все они были в одном ключе, мне незачем приводить их здесь. В общем, провели незабываемый вечер. (обратно)Глава 24. ВОЛШЕБНАЯ УЛЫБКА
На следующее утро я прибежала прямо к открытию клиники. Дежурная медсестра заверила меня, что Жозефина отлично себя чувствует и я могу тотчас забрать ее, вот только выпишут счет. На двадцать пять долларов. Сама я за удаление зубного камня обычно платила десять долларов, а ведь у меня зубы покрупнее, чем у Жози. Но я безропотно выписала чек. В следующий раз установлю предельную ставку, особенно если эта процедура войдет в обычай. Привели Жозефину. Она ничем не отличалась от себя прежней и изо всех сил натягивала поводок, порываясь очутиться в моих объятиях, а главное – скорее рвануть отсюда! Но прежде доктор Уайт настоял на небольшом собеседовании. Я посадила сильно нервничающую Жозефину к себе на колени и терпеливо выслушала привычную лекцию о вреде обжорства. Он попросил привести ее через три недели. Я пообещала и напоследок одарила доктора Уайта одной из своих самых обворожительных улыбок. Убедившись, что Жозефина жива-здорова, а изо рта у нее пахнет листерином (пусть только Последняя что-нибудь вякнет), я могла обещать все, что угодно. Я поцеловала свою благоухающую красавицу, а доктор Уайт продолжал разглагольствовать о холестерине и избыточном весе. Убедившись, что ей больше ничего не угрожает, Жози уютно устроилась у меня на коленях и в знак полного доверия от души улыбнулась. Но где же ее зубы? Так и есть, подтвердил доктор Уайт. Больных зубов оказалось больше, чем он предполагал. Он удалил их все. – Сколько же? – Шестнадцать. – Шестнадцать?! И сколько же их осталось? Последовала новая лекция. Возможно, я была не в лучшей форме, чтобы все правильно воспринимать. Во всяком случае, у меня сложилось мнение, что он оставил жевательные и глазные зубы, ну и еще несколько штук. Поскольку Жозефина носит усы и бородку, никто ничего не заметит. Будучи трусихой, я позволила ему ускользнуть от заслуженного возмездия. Приехав домой, я в течение часа не могла набраться смелости и лично все проверить. Потом положила Жозефину на кровать и раскрыла ей рот. Все передние зубы исчезли! Осталась только розовая десна с парочкой клыков. Сверху было еще хуже. Спереди, прямо в центре, торчал один зуб. Зачем его оставили – понятия не имею! Сами понимаете, что он не добавил красоты ее улыбке. Я обнаружила глазные зубы и что-то белевшее позади них. Это, конечно, курам на смех! Будем смотреть правде в глаза: наша девочка стала беззубой, как старушка. Но мне некогда было закатывать истерику. Надо мной нависла более серьезная угроза. Ирвинг! Как преподнести ему суровую истину? Я должна немедленно найти выход! Или другого пуделя. Может быть, взять инициативу в свои руки и все-таки закатить истерику? Он станет утешать меня, и, может быть, мне удастся избежать неминуемого: «Как ты могла?!» Или сыграть в героиню? Сказать, что они требовали удалить все зубы, но я грудью встала на ее защиту и, вступив в рукопашный бой со всей клиникой, отстояла несколько зубов? Нет, этот номер не пройдет. Что, если сделать вид, будто все в порядке, уповая на то, что он ничего не заметит? Ирвинг никогда не пересчитывал зубов Жозефины. Чем дальше, тем больше я убеждалась в преимуществах последнего варианта. Да, это лучше всего. Скажу, что все нормально, и заострю внимание на необходимости Жози сбросить несколько фунтов. Это отвлечет внимание Ирвинга от ее рта. Почти так и случилось. Ирвинг вернулся домой, и Жози бросилась ему навстречу. Он был так счастлив видеть ее оживленной, что и не подумал что-то проверять. От нее великолепно пахло, и она была такой же игривой, как прежде, так что Ирвинг растаял и разразился панегириком в адрес доктора Уайта. Похоже, этот парень знает свое дело! Он под общим наркозом выдернул у собаки несколько больных зубов и в течение суток поставил ее на ноги – причем без последствий. Когда ему (Ирвингу) удаляли зуб мудрости, он три недели после операции терпел немыслимые страдания. Может быть, в будущем стоит обратиться к доктору Уайту? И он продолжал молоть языком, не обращая внимания на мою неестественную молчаливость. А после вечерней прогулки Ирвинг сел на край кровати и позволил Жози снять с него носки. Это был их ежевечерний ритуал. Ирвинг делал вид, будто начинает стаскивать носок, а Жози моментально вскакивала и, ухватившись за мысок, теребила его, как заклятого врага. После непродолжительной возни Ирвинг оказывался разутым. Жози была очень аккуратна и ни разу не порвала носок. Зато всякий раз получала огромное удовольствие. В тот вечер Жози, как обычно, взяла носок в рот, но он немедленно выскользнул. С минуту она обдумывала ситуацию. Ирвинг тоже. У Жози всегда был высокий умственный коэффициент, и она сразу смекнула, что к чему. Вспомнив, что сбоку у нее еще осталось несколько зубов, она изловчилась и ухватила носок глазными зубами и клыками – и, конечно же, порвала его. – В чем дело? – поразился Ирвинг. – Они что, наточили ей зубы? Потом немного помолчал и сказал: – Иди к папе, сладкая моя. Папа хочет взглянуть на твои жемчужные зубки. Естественно, «сладкая» послушалась. Ирвинг попросил: – Открой ротик, чтобы папе было видно. «Сладкая» открыла. «Папе» оказалось недостаточно. – Извини, мне придется оттянуть тебе нижнюю губу. Потом на его лице появилось выражение крайней растерянности. – Наверное, я что-нибудь делаю не так. Я не вижу ее передних зубов. Я ровным голосом пояснила: – У нее нет передних зубов. Тогда он обнаружил тот единственный зуб сверху. Водрузив на нос очки, Ирвинг произвел тщательную инспекцию. Под конец он ледяным тоном спросил меня, сколько же зубов удалили. Я ответила, что вообще-то не проверяла, но доктор Уайт признался, что оставил себе на память шестнадцать штук. Потом мне пришлось попросить его не орать, чтобы не испугать Жози. Ирвинг принял таблетку секонала и предложил поговорить об этом завтра. Благодаря секоналу он проспал девять часов и проснулся в прекрасном расположении духа. Поставил воду для кофе. Затем увидел, как Жози блаженно жует кусок пирога от Сары Ли, и не без гордости заявил: – Эту собаку ничто не может выбить из седла! Зачем ей зубы? Она и без них прекрасно управляется. Я не стала портить ему настроение напоминанием о том, что с Сарой Ли должно быть покончено: нам предстоял новый возврат к диете. Я из тех, кто уходит непобежденным! (обратно)Глава 25. ТО, ЧТО СПЕРЕДИ, НЕ СЧИТАЕТСЯ
За зубной эпопеей последовали шесть безоблачных месяцев. Каждый вечер я запихивала Жозефине в рот витамин А, как предписал доктор Уайт. Но мы не пошли на повторный осмотр. Я побоялась: ведь Жозефина не потеряла ни единой унции веса. Когда я поставила ее на весы, стрелка остановилась на делении «22». Но каждый из этих двадцати двух фунтов излучал благополучие и несокрушимое здоровье. Правда, поиграв какой-нибудь час в догонялки, Жози начинала слегка задыхаться, но вот я – худенькая, а одышка у меня появляется уже после пяти минут игры в гольф. Так что Жозефина продолжала наслаждаться жизнью в своей обычной беззаботной манере. Так оно и шло – до одного случая в июне. Ирвинг повел Жозефину на утреннюю прогулку. По возвращении она была в прекрасном расположении духа, зато на лице Ирвинга я подметила некоторую озабоченность. Он начал типичной фразой, какой мужья обычно «успокаивают» жен в минуты крайней опасности: – Ты только не волнуйся, но случилось нечто ужасное. – Прежде чем он продолжил, меня уже била истерика. – Мы гуляли в парке, и она вдруг тявкнула. – Как тявкнула? – Обыкновенно. Просто тявкнула, вот и все. А потом все опять стало нормально. – Вероятно, ее что-нибудь испугало? – Нет. Это было не такое тявканье. – А какое? В голосе Ирвинга тревога смешалась с изрядной долей сарказма: – Не могу объяснить. Если хочешь, вместо того, чтобы пойти на работу, я отправлюсь в студию звукозаписи и буду торчать там до тех пор, пока не услышу подобную запись. Тогда я позвоню тебе и сообщу точное определение. Я возразила, что теперь не время для шуток. Ирвинг вновь подчеркнул, что он не специалист по собачьему лаю. А поскольку Жози выглядела и вела себя как обычно, мы решили подождать повторного случая. – Только уж в следующий раз постарайся все хорошенько запомнить и воспроизвести, – попросила я. – Буду брать с собой магнитофон, – огрызнулся Ирвинг. И мы стали ждать. После трех не отмеченных подозрительным лаем дней я уже начала склоняться к той мысли, что Ирвингу померещилось. Сколько мы ни гуляли с Жози в парке, я не замечала никаких отклонений. На четвертый день мы как раз возвращались домой, и вдруг Жозефине приспичило прямо у парадного входа в отель «Хэмпшир-хауз»! Я попыталась уговорить ее вернуться в парк, но она, не слушая меня, ринулась прямиком к афишной тумбе и приняла торжественную позу, свидетельствующую о том, что она занята важным делом. Швейцар метнул на меня испепеляющий взгляд. Такая акция у входа в фешенебельный отель граничила с катастрофой – в финансовом отношении. Когда швейцар бросается открывать для клиента дверцу такси, он делает это не ради своего удовольствия. Главное в этой истории – серебряная монета, которая после этой величайшей услуги оказывается у него на ладони. Теперь представьте, что из авто выходит дама: нарядная, в открытых туфлях – и вдруг попадает ногой в… сами знаете, во что. Естественно, она начинает нервничать – настолько, что забывает положить швейцару на ладонь вожделенную монету. А я всегда проявляю солидарность с теми, кто честно зарабатывает себе на хлеб. Но Жози видит вещи в ином свете. Она знает: существуют определенные правила и ограничения – и старается следовать им, поскольку они касаются ее лично. Швейцар же, по ее мнению, должен сам заботиться о себе. У него, как у всех людей, своя квартира и свой туалет. А тумба – это ее туалет. Причем любая тумба. Где написано, что нельзя высаживать собаку перед парадным подъездом какого-нибудь отеля? В качестве добропорядочного налогоплательщика (она каждый год платит три доллара за лицензию), Жози вольна выбирать для себя подходящую тумбу. И хотя обычно она довольствуется Центральным парком, однажды ей начинают надоедать трава и деревья и хочется новизны. Все мы на несколько минут замерли на месте: Жозефина в соответствующей позе возле тумбы, сверкающий галунами швейцар, я и еще примерно десять человек из тех, что охотятся за автографами и слетелись к отелю ради прекрасных глаз Люсиль Болл. И вдруг Жозефина тявкнула. Вернее, издала короткий жалобный лай. Я могла быть уверена, что мне не показалось, потому что швейцар и любители автографов подошли поближе – посмотреть, что случилось. Но Жозефина еще не закончила работу. И тут, в разгар своих почетных трудов, она еще раз тявкнула на очень высокой ноте – чистое сопрано! И потом, вплоть до завершения процедуры, время от времени горестно повизгивала. Я не знала, что делать. Нельзя было прервать важное мероприятие и оттащить Жози подальше от отеля. Я испытывала смесь страха со стыдом. Ситуация и без того была достаточно щекотливой, а тут еще арии из «Травиаты»! Можете говорить что угодно о естественности физиологических отправлений, но вряд ли кто способен в таком положении сохранить достоинство. Если не верите, понаблюдайте за человеком, чья собака справляет естественную нужду. Ее владелец в это время стоит рядом с выражением гордой уверенности, которой вовсе не ощущает. Он постоянно твердит себе, что не совершает ничего предосудительного – всего лишь держит поводок. И тем не менее чувствует себя участником постыдного действа. Кажется, это одна из нерешенных проблем собачьей этики. В книгах пишут о чем угодно, только не об этом. Конечно, зеваки имели полное право наслаждаться бесплатным зрелищем. Я уже собиралась попросить швейцара вызвать «скорую», как Жози закончила свою работу и, беспечная, как жаворонок, подбежала ко мне. Она и понятия не имела о том, что вызвала такой переполох. Потому что, когда она начала тявкать, сбежалась целая толпа. И, разумеется, эти любители сенсаций не ограничились ролью зрителей, а активно реагировали на происходящее. Со всех сторон неслись оживленные возгласы: «Эй, что там такое?», «Леди, вы слышите, ваша собака зовет на помощь!» и т. п. Одна женщина выразила уверенность, что нас снимают скрытой камерой. Очутившись наконец под защитой родных стен, я плеснула себе в бокал горячительного и позвонила Ирвингу. Обычно в кризисные для Жози моменты я никогда не могу застать его на месте. И этот раз не стал исключением. Секретарша сказала, что не представляет, когда он вернется. Я позвонила Беа Коул, отдав ей предпочтение перед Джойс, потому что та кудахтала уже над третьей собакой – против моей одной. Я начала подозревать, что Джойс неправильно с ними обращается. Беа же успешно справилась с болезнью своего афгана, а ее мать вынянчила двух коккер-спаниелей. Что касается доктора Уайта, то я не стала звонить ему, потому что не вынесла бы еще одной лекции о вреде ожирения. Беа предложила теплые сидячие ванны и чудодейственные свечи, к которым люди обычно прибегают, прежде чем решиться на операцию. Я последовала ее совету. Жози стоически перенесла все процедуры. Весь ее вид говорил: не знаю, в чем тут дело, но если тебе так уж нужно… Несмотря на все мои старания, она продолжала жалобно тявкать – не реже одного раза в день. Наконец после особо унизительного эпизода перед входом в «Сакс» я объявила Ирвингу, что нам пора наведаться к доктору Уайту. Причем, говоря «нам», я подразумеваю всех членов семьи без исключения. А посему утром следующего дня Жозефина, Ирвинг и я прибыли в клинику. И снова случилось чудо: нас принял сам доктор Уайт. Выслушав сагу о тявканье, он водрузил Жозефину на стол и приступил к осмотру. Вскоре он радостно возвестил: – У собаки закупорены протоки анальных желез. – Это вы говорили полгода назад, мистер Уайт. Он рассеянно взглянул на меня и извлек откуда-то огромный шприц. – Попробую прочистить. Я не могла сдержать раздражение. – Доктор Уайт, это вы уже делали полгода назад. У меня возникло подозрение, что он не узнал Жози. Словно успокаивая, Ирвинг прошептал мне на ухо: – Джеки, через его руки ежедневно проходит множество собак! (До Ирвинга тоже дошло!) – На свете нет другой такой собаки, как Жози, – прошептала я в ответ. – Как он мог забыть ее? Ирвинг оказался большим реалистом. – Она отличается от других главным образом выражением лица и яркой индивидуальностью. Согласись, сейчас он смотрит совсем в другое место. Я чуточку успокоилась. Наверное, Ирвинг прав. Наконец врач заглянул ей в глаза и добродушно произнес: – У собаки начинается катаракта. Это был пожилой человек, поэтому я не посмела поднять на него руку (к тому же Ирвинг держал меня за руки). Затем он заставил Жозефину открыть рот. – О, да я вижу, ей удалили несколько зубов! Вот так! На этот раз даже Ирвинг не выдержал. Ну ладно, мы еще могли примириться с мыслью, что он мог не узнать ее зад. Но собственноручно удалить ей шестнадцать зубов и не вспомнить об этом?! Нам стало ясно, что с доктором Уайтом пора кончать. Дело не в предубеждении. Все как один твердили, что у Жози незабываемая мордашка. И если доктор Уайт не в силах ее запомнить, значит, нужно искать другого врача. И я принялась за поиски. (обратно)Глава 26. КРУГ СУЖАЕТСЯ
Найти нового врача – не такое уж простое дело. Есть только один способ: расспрашивать всех подряд. А так как все мои друзья водили своих собак к доктору Уайту, приходилось ждать подсказки от незнакомых. Конечно, этот метод сопряжен с некоторыми неудобствами. Не будешь ведь бросаться на первого встречного владельца собаки с вопросом: «Кто вас лечит?» Уж не знаю почему, но это не принято. Здесь нужна предварительная подготовка, небольшая светская беседа. Сначала вы восхищаетесь собакой и спрашиваете, сколько ей лет. Если пять или меньше, это пустая трата времени. Ограничьтесь кивком и следуйте дальше. Зато если ей десять или двенадцать, а она все еще в строю, это именно то, что вам нужно. Однако необходимо соблюдать приличия. Вы же не можете прямо спросить: «Кто лечит вашу собаку?»– и, записав адрес, смыться. Ни в коем случае. Даже после небольшой светской беседы вам предстоит как следует потрудиться. Придется выслушать целую историю болезни, изображая при этом живой интерес. Время от времени прерывайте владельца собаки междометиями: «Надо же!» и «Что вы говорите!» Однажды в Центральном парке я чуть не обратилась в ледяную статую, внимая интимным подробностям из жизни четырнадцатилетней суки королевского пуделя. Речь шла об удалении матки. Я сочувственно поцокала языком и, чувствуя, что рассказ подходит к концу, приготовила карандаш, чтобы записать координаты кудесника-хирурга. Узнав о моем намерении, дама пришла в волнение: – Ни в коем случае не обращайтесь к этому живодеру! По его вине у бедной Минни начался перитонит, и пришлось среди ночи везти ее к доктору Карру в Бруклин – на срочную операцию. Она две недели пролежала под капельницей, и доктору Карру пришлось удалить ей одну почку. Она перенесла это с подлинным героизмом. Правда, Минни? Бруклин далековато, но разве это имеет значение, если речь идет о враче подобной квалификации? Я попросила дать мне адрес непревзойденного доктора Карра. И услышала в ответ: – Он умер три месяца назад. А кстати, у кого лечится ваша собака? Я как раз ищу опытного специалиста. Несмотря на многочисленные неудачи, мне удалось составить список замечательных врачей. Но среди них не было ни одного, кому бы я могла без колебаний доверить Жозефину. Дело в том, что за каждой историей о чудесном исцелении следовал рассказ о сопутствующей катастрофе. Возьмите доктора Икс, который спас крошку Джеронимо от воспалительного процесса 3 Кишечнике. Хозяин Джеронимо уже собирался воздвигнуть алтарь в его честь. Красиво звучит, правда? Записываю адрес и телефон доктора Икс. А всего через один квартал натыкаюсь на даму, которая утверждает, что этот доктор Икс безо всякой нужды усыпил ее бедного Коко. Вот доктор Игрек – врач с большой буквы! Я верила в это до тех пор, пока мне не сказали, что это мясник да и только. Наконец одна моя знакомая, большая поклонница этой породы и владелица великолепного серого пуделя по кличке Сэм, навела меня на доктора Рафаэля. Иветта Шаммер – хозяйка Сэма – утверждала, что это лучший врач в мире. На следующий день это подтвердила Ли Рейнольдс. Доктор Рафаэль лечил Моппет, а та на два года старше Жозефины. И чем шире становился круг лиц, к которым я обращалась, тем волшебнее звучало имя доктора Рафаэля. Его клиника расположена в сером каменном здании в западной части Нью-Йорка. Он работает на пару с помощником, доктором Бернардом. Я немедленно повезла туда Жози. По-видимому, будет излишним упоминать, что, как всегда в экстренных случаях, я прихватила с собой Ирвинга. В самом начале осмотра, как обычно, всплыл вопрос об избыточном весе. Они также подтвердили диагноз рассеянного доктора Уайта относительно анальных желез. И снова вернулись к проблеме веса. Жози должна срочно похудеть! Незамедлительно! Мне дали резиновую грушу с длинным носиком. Мы с Ирвингом недоуменно уставились на нее. Доктор Рафаэль объяснил, что ежедневные впрыскивания на протяжении месяца снимут тявканье с повестки дня. И они с доктором Бернардом разразились новой тирадой насчет веса. Они потребовали принести ее через месяц сбросившей пять фунтов! Ирвинг, который в исключительных случаях умеет быть двуличным, сидел и поддакивал врачам. Но как только мы очутились за дверью клиники, он повернулся ко мне и сказал: – Ты, конечно, понимаешь, что эта штука с носиком – по твоей части? – По моей? Ты хочешь, чтобы она меня возненавидела? Давай уж по очереди! Он наотрез отказался. Но Жозефина не возненавидела меня, а лишь сочла неимоверной чудачкой. Всякий раз, приближаясь к ней, я либо запихивала ей в пасть витамин, либо вставляла ей в зад что-то странное. Мало того, я стала страшной скупердяйкой и не давала ей больше сладостей. Ну, разве что пару конфет в награду за глотание витаминов. Жози придерживалась того мнения, что процедура с ее тылом стоит по меньшей мере вдвое больше, но вместо этого ее гладили по головке и давали крохотное печеньице. Прошло десять дней, прежде чем Ирвинг неожиданно выступил с контрпредложением: – Послушай. Доктор Рафаэль сказал, что эти впрыскивания нужно делать в течение месяца. За это время собака может не выдержать и полностью от тебя отвернуться. Мало того, что ты, как последний дегенерат, стала интересоваться ее задом, в довершение ко всему ты еще и моришь ее голодом. У нее целых семь лет был избыточный вес. Еще один месяц ничего не значит. Давай уж делать что-либо одно. Мне показалось, что в его словах есть резон. Жозефине тоже. А посему мы вернулись к Саре Ли и сытой жизни, и Жози перестала смотреть на меня как на маразматика. Правда, кое-какие странности за мной еще водились, но она рассчитывала на полное выздоровление в будущем. В конце месяца клизма и жалобное тявканье отошли в область преданий. Диета, к сожалению, тоже. (обратно)Глава 27. БОГАТАЯ НАСЛЕДНИЦА
По-видимому, нет нужды говорить, что через месяц мы не поехали к доктору Рафаэлю. Жозефина больше не взвизгивала, но ее белый животик все еще бросался в глаза. Я рассчитала, что мне потребуется не меньше месяца, чтобы хоть чуточку выправить положение. Мне стоило таких трудов найти наконец толкового врача, и я не хотела портить с ним отношения. А он почему-то придавал большее значение диете Жози, чем ее заду. Прошел еще месяц. Жозефина оставалась все таким же жизнерадостным существом, и я решила, что доктор Рафаэль может подождать. А заодно и диета. Летом нам снова предстояла поездка в Калифорнию. Драматический эпизод, увенчавший собой пребывание Жози у Последней, стал для меня хорошим уроком. Я признала преимущество платных услуг перед дружеской любезностью. Как ни жаль, но уважение и готовность прийти на помощь, которые так трудно заслужить, бывает гораздо легче купить за деньги. Если вы щедро сорите чаевыми в отеле, можете быть уверены: вас примут и проводят по первому классу. Коридорный сочтет величайшей честью поднести ваш багаж и напоследок прочувствованно пролепечет: «Не забывайте нас! В скором времени ждем вас обратно!» И вот я спрашиваю: станет ли ваша тетушка Эмма вести себя подобным образом после того, как вы с недельку погостите у нее за городом? Конечно, нет – если только вы не техасский нефтяной король, а она – не ваша единственная наследница. Не считайте меня циником. Я просто трезво смотрю на жизнь. Если его величество доллар действует эффективнее, чем душевные качества, кто я такая, чтобы идти против установившегося порядка вещей? Жози полностью согласна со мной. Для нее важнее всего результат. То есть, если ей дают сладости и чешут брюшко, ей наплевать, делают ли это от души или из корыстных побуждений. Главное – чтобы ее ублажали. Поэтому она с легким сердцем предпочла Последней мистера Ингрэма и его купленное за деньги любезное обхождение: ведь он неизменно встречал ее с распростертыми объятиями и бурно восхищался ее красотой и прочими достоинствами. Так что можете представить себе мой ужас, когда я набрала его номер, чтобы осчастливить известием о скором приезде Жози, но телефон не ответил. Я звонила три дня подряд, чуть ли не через каждый час, пока наконец не уверилась, что он сам отправился к кому-нибудь в гости. Джойс незамедлительно предложила свои услуги, ссылаясь на свой богатый опыт. У нее уже перебывало несколько собак: Тулуз, Тони, Куколка… Нет, я не оговорилась, упомянув о Куколке в прошедшем времени, потому что и она успела отдать Богу душу, причем без предупреждения. Если собака подает хоть какой-то знак: например, у нее вдруг по телу пробежит судорога, – хозяин бросается к врачу. Потом он бьет себя кулаком в грудь и принимает соболезнования от родных и знакомых. Да, я придерживаюсь того мнения, что собака должна загодя поставить владельца в известность о своих намерениях. Это дает ему возможность в полной мере испытать тревогу, с достоинством пережить траур и всеобщее сочувствие. В противном случае у него такое чувство, будто его вымазали дегтем. Вместо сочувственных он слышит злорадные возгласы типа: «Что ты с ним сделал? Еще вчера он был как огурчик!» Это способно надолго привить человеку комплекс вины. Вот и Джойс начала задумываться о том, что ей катастрофически не везет с собаками. А ведь она была к ним так добра! Пусть Куколка недолго радовала нас своим присутствием, зато она действительно пожила! Она наслаждалась комфортом роскошного особняка Билли на Девяносто третьей улице, проводила каникулы в Дарьене. А когда Джойс и Билли в очередной раз решили развестись, была заинтересованным зрителем этого в высшей степени увлекательного спектакля. И когда Джойс устремилась затем в Швейцарию, чтобы, согласно официальной версии, устроить Вики в привилегированную школу, а на самом деле оправиться после развода и хорошенько все обдумать на фоне Альп, – кто мелькал рядом с ней на этом живописном фоне? Разумеется, Куколка! Когда Джойс наскучили Альпы, они с Куколкой побывали в Париже и Риме. А потом вдруг ни с того ни с сего Куколка возьми да и умри! Другая принялась бы посыпать голову пеплом, но Джойс сделана из более прочного материала, поэтому она решила повторить попытку и купила себе пуделька прямо в Швейцарии. Это был крохотный комочек легчайшего пуха с впечатляющей родословной. Джойс писала мне восторженные письма. У Жози появился новый кузен по имени Микки. Прошло несколько месяцев – восторгов не поубавилось. В отличие от Тулуза, Микки рос вполне равномерно. У него было идеальное телосложение. Еще через несколько месяцев энтузиазм Джойс пошел на убыль. Микки по-прежнему оставался красавцем. Но он неудержимо рос! Наконец судьба-злодейка нанесла Джойс очередной удар: Микки оказался не малым, а королевским пуделем. Джойс отдала его в одну швейцарскую семью и вернулась домой без собаки. Она снова вышла замуж за Билли и получила в качестве свадебного подарка обворожительного карликового пуделя йоркширской породы. Он весил два фунта. Звали пуделя Эстер. Эстер прожила у Джойс десять исключительно ярких дней. Вскрытие не смогло пролить свет на причину смерти. И так как Джойс в очередной раз осталась без собаки, она предложила оставить у нее Жози. Как вы понимаете, мне пришлось нелегко. Джойс пережила пятерых собак. Доверить ей Жози значило подписать последней смертный приговор, в то время как отказ был чреват утратой многолетней дружбы. Ирвинг решил проблему просто: он «признался» Джойс, что уже подписал контракт с Беа Коул. Джойс была шокирована: – Какой еще контракт? – Помнишь, Беа работала в одном из моих шоу – ассистентом по работе с соискателями, фактически компаньонкой? Джойс помнила. – Ну вот, а теперь я нанял ее компаньонкой для Жози с жалованьем пятьдесят долларов в неделю. При этом у Ирвинга слегка задергался нос, как бывало всегда, когда ему приходилось беспардонно лгать. Но Джойс не знала об этой особенности и приняла его слова за чистую монету. Оставалось сообщить сногсшибательную новость самой Беа. Конечно, Беа жаждала заполучить Жози. Но она категорически отказалась от денег. Когда мы объяснили, в чем дело, она засмеялась, но продолжала стоять на своем. Она согласна взять к себе Жози, но только в качестве желанной гостьи. Тогда я поведала ей сагу о Последней. Это решило дело. Мы с Беа любили друг друга, как сестры, и у нее не было ни малейшего желания портить отношения. Правда, она высказалась в том смысле, что я преувеличиваю. Помимо дружеских чувств ко мне лично, она питает искреннюю симпатию к Жози, и если единственный способ залучить ее к себе связан с подписанием контракта, что ж, она будет рассматривать Жози в качестве богатой квартирантки. Ирвинг действительно сочинил договор и передал Беа – вместе с самой Жози, ее игрушками, сладостями и витамином А. Беа обещала писать подробные письма. Поскольку на этот раз мы не знали, сколько продлится наша поездка, Ирвинг предложил каждую неделю посылать чек. Не прошло и недели, как мы получили первое письмо.«10 июня. Дорогая Джеки. Я не сказала ни Роби (это муж Беа), ни Карен, что Жози – богатая наследница и платит за постой. Это могло бы повлиять на их отношение. Ты же знаешь, как люди меняются рядом с миллионерами. Оки становятся преувеличенно вежливыми, даже подобострастными. А так Роби и Карен обращаются с ней как с равной, и, пожалуй, это лучше для самой Жози. Не следует чрезмерно баловать девочку только потому, что у нее завелись деньжата. Все идет прекрасно. На днях у нас был небольшой инцидент. Мы с Жози прогуливались по Пятой авеню, и вдруг мимо проехала поливальная машина. Мы не успели отскочить, и она обдала нас брызгами. Я только слегка замочила платье, зато Жози досталось на полную катушку. Что меня особенно возмутило – это отношение прохожих: они начали смеяться. На Жози так подействовал неожиданный душ, что она стояла столбом, боясь пошевелиться, только мертвенно побледнела; с нее на асфальт ручьями текла вода. Что мне было делать? Допустить, чтобы она схватила пневмонию? Само собой, ни одно такси не соглашалось нас подвезти. Она, видишь ли, могла испортить им обивку! Уж не знаю почему, но при виде человека с мокрой собакой таксисты начинают вести себя так, будто у них на сиденьях не чехлы из синтетики, а ковры ручной работы. Так мы и стояли, промокшие, на Пятой авеню, причем одна из нас была богачкой, швыряющей по пятьдесят долларов в неделю за подобающее содержание. Поэтому я решила пожертвовать своим новым голубым платьем: схватила Жози в охапку и понеслась домой. Там я насухо вытерла ее турецким махровым полотенцем, и она совершенно успокоилась. Желаю приятного отдыха. Целую, Беа. Постскриптум. Ты не могла бы подсказать мне адрес той химчистки на Мэдисон-авеню, где берут по двадцать долларов за платье? Ближайшая химчистка не принимает черные вещи».
«17 июня. Дорогая Джеки! Забудь о платье. Я нашла ту химчистку на Мэдисон-авеню, они тоже не берутся его чистить. Но это сущие пустяки. Роби утверждает, что оно мне никогда не шло. Не беспокойся о диете Жози. Само собой, мы ее соблюдаем. Чтобы ты потом не обвиняла меня в лишних фунтах, мы взвесили Жози в день прибытия. Не знаю, каким методом ты пользуешься, а я взвешиваюсь без Жози, а потом беру ее на руки и снова смотрю, что получится. Когда я встала на весы, на мне были только бигуди да легкое платье, а на Жози – совсем ничего. Мой вес оказался сто двадцать фунтов, а ее – двадцать три. Получила чек. Большое спасибо. Я все еще ничего не сказала Роби и Карен. Целую, Беа».
22 июня. Дорогая Джеки! Роби нечаянно вскрыл надписанный Ирвингом конверт, полагая, что там содержатся дополнительные инструкции по содержанию Жози. Естественно, оттуда выпал чек. Сначала он преисполнился негодования: как я смею брать за Жози деньги? Но я достала контракт и все объяснила. Все, что я могу сказать, это что теперь Роби смотрит на Жози совершенно иначе. Как-то отрешенно. Время от времени можно услышать, как он бурчит: «Чего ради я надрываюсь в должности инженера? Мотаюсь из Нью-Йорка в Бирмингем и обратно, растрачивая жизнь в самолетах, в то время как стоит только взять на содержание трех таких пуделей, как Жози, – и можно выходить в отставку». Как я и предсказывала, его отношение стало другим. Теперь он считает Жози богатой родственницей. Когда во время обеда я даю ей немного паштета, он восклицает: «Не смей! Ты хочешь, чтобы у нее был избыток холестерина? Мы должны сделать все, чтобы девочка жила долго и счастливо. Джеки с Ирвингом много путешествуют. Это не просто собака, а источник солидного дохода». Стоит Карен бросить Жози мяч, как Роби хватает дочь и орет: «Ты с ума сошла? Хочешь, чтобы у нее был сердечный приступ?» Даже моя мать не осталась в стороне. Она лезет из кожи вон, почесывая Жози животик, и приговаривает: «Слушай, Жози, я живу в Кармеле, это за городом. Бьюсь об заклад, тебе там понравится больше, чем в этой душной городской квартире. Скажи маме и папе, чтобы в следующий раз они позволили тебе погостить у тети Эли». Наконец великая новость дошла до Карен. На днях мы с Жози целых два часа провели на улице, а когда вернулись домой, она была вне себя от злости: «Где она пропадала?» Представляешь? Не «Где ты пропадала?»! Обо мне она и не вспомнила! Я сказала, что мы ходили в магазин «Блумингдейл» купить ей что-нибудь для лагеря. Карен аж побелела. «Ты водила Жози в „Блумингдейл“?! Там же нечем дышать! И такая давка! Она могла подцепить какой-нибудь вирус!» Все кончено. Жози больше не член семьи. Все смотрят на нее как на акцию процветающей компании, приносящую немалые дивиденды. Целую, Беа.
«2 июля. Дорогая Джеки. Мы разорились на кондиционер для спальни. В гостиной уже есть один, но по ночам Жози предпочитает спать вместе с нами, и ей жарко. Примерно около двух часов она начинает задыхаться. А в гостиной ей одиноко. Так что пришлось купить кондиционер. Жози очень довольна. Конечно, нам теперь приходится укрываться, а Роби слегка простудился, но мы же не можем не считаться с Жози. Она платит за содержание и должна получать все самое лучшее. Целую, Беа».
«11 июля. Дорогая Джеки. В следующий раз пиши на адрес отеля. У нас дома ремонт, а Жози не переносит запаха краски. Она чуть не потеряла сознание. Поэтому мы с Роби переехали в отель. Само собой, у нас номер с кондиционером, и Жози чувствует себя как дома. Простуда у Роби почти прошла. Целую, Беа. Постскриптум. На следующей неделе мы собираемся навестить Карен в лагере и взять с собой Жози. Я позвонила в лагерь, они сказали, что будут очень рады. Правда, они не пускают ночевать с собаками, но в каких-нибудь шестидесяти милях от лагеря есть чудесный мотель. Ты только не волнуйся. Что значат шестьдесят миль туда и обратно? Роби обожает водить машину. Целую, Беа».
«20 июля. Дорогая Джеки. В лагере все нормально. Жози от него в восторге. Но ты забыла предупредить меня, что в дальних поездках Жози укачивает. Не принимай близко к сердцу. Машина у нас уже два года, и так или иначе пора менять чехлы. Целую, Беа».
«2 августа. Дорогая Джеки. На днях во время прогулки по Парк-авеню Жози остановилась подле тумбы – сама знаешь зачем. И вдруг тявкнула. Я чуть не лишилась чувств: отчасти от страха, а отчасти потому, что нас сразу же обступили прохожие. Я побежала с ней к доктору Рафаэлю. Милочка, что ж ты не сказала, что такое уже случалось? Доктор Рафаэль отнесся к этому довольно спокойно. Его гораздо больше беспокоит ее вес. Он отругал меня, – как будто Жози поступила ко мне с осиной талией, а я ее раскормила, – и предписал строжайшую диету. И дал такую миленькую штучку с длинным носиком. Я спросила, что с ней делать, и он объяснил. Три раза в день, в течение недели. Целую, Беа. Постскриптум. Когда же вы наконец приедете?»(обратно)
Глава 28. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЖОЗИ
Ктобы ни брался судить о характере и душевных качествах Жози, комплиментам не было числа. Она добра, привязчива, неизменно жизнерадостна и так и брызжет энергией. Но, будучи почти человеком, Жозефина не избежала одного маленького недостатка. Она не умеет делиться. Все, что ее, то ее. Мое – тоже ее. Например, между нами существовало негласное соглашение о том, что если я что-нибудь ем, половина должна достаться ей. Или вот у меня две руки. Одной я могу распоряжаться по своему усмотрению. Зато другая в это время обязана бросать Жозефине мяч или почесывать брюшко. Возможно, в младенческом возрасте она перенесла какую-нибудь травму. Кто знает? Например, когда мать кормила новорожденных щенков, она неудачно повернулась, и Жозефине не досталось молока. Или попался пустой сосок. Или ей не хватало материнской любви. Судя по документам, мать Жози была призером многочисленных выставок. Вечно гарцевала в ринге и приносила домой кубки и голубые ленты. Любой психолог скажет вам, что если мать постоянно на виду, из детей получаются неврастеники. Возможно, братья и сестры Жози стали безнадежными ипохондриками, а она чудом – благодаря яркой индивидуальности – избежала подобной судьбы. Остался лишь мелкий недостаток – гипертрофированное чувство собственности. Это такой пустяк, что я и не упомянула бы о нем и спокойно прожила всю жизнь без того, чтобы Жози угощала меня своими лакомствами или делилась сахарной косточкой. Но она также не желает делиться светскими связями. Как вы успели убедиться, все мои друзья автоматически становились ее друзьями. Зато знакомые Жози не обязательно становились моими знакомыми. А среди знакомых Жозефины числились, Грета Гарбо, Лоуренс Харви, Маргарет Лейтон, Майкл Ренни, Нат Кинг Коул, Рудольф Бинг и Ричард Бартон. Да если бы не я, она и не подумала бы обратить внимание на Гарбо! Мы шли вдоль Пятой авеню, и я вдруг заметила знакомые солнечные очки и шляпу с низко опущенными полями. Я тут же шепнула: – Смотри, Жози, это Грета Гарбо! (Теперь вам понятно, что я имею в виду? Я всегда делюсь с Жозефиной всем, что имею!) Когда Гарбо поравнялась с нами, Жози остановилась и слегка обнюхала ее в знак приветствия. Мисс Гарбо нагнулась и проворковала: – Ну что ж, привет! Жози улыбнулась Гарбо. Гарбо улыбнулась Жози. Я вся подобралась, ожидая, что Жози пригласит меня принять участие в столь трогательной сцене. Ничего подобного! Я так и проторчала неодушевленным предметом на другом конце поводка, пока Гарбо с Жози обменивались любезностями. Наконец Гарбо, даже не взглянув в мою сторону, продолжила свой путь, а Жози, с не меньшим достоинством, потянула меня в противоположном направлении. Случай с Лоуренсом Харви и Маргарет Лейтон оказался еще более вопиющим. В то время Маргарет Лейтон блистала в пьесе под названием «Отдельные столики». Она была замужем за Лоуренсом Харви, и они занимали апартаменты как раз напротив наших. Весь наш этаж обслуживала симпатичная горничная-ирландка, с которой мы скоро подружились. У нас с ней оказалось много общего: любовь к Жози и антипатия к владельцу отеля. Она рассказывала мне старинные предания своей родины и сбывала карточки тотализатора и лотерейные билеты. Эта маленькая фея (больше похожая на гнома) умела делать все на свете, кроме уборки, но ее добродушие вкупе с преданностью Жози не позволяли мне требовать замены. Я вышла из положения, наняв свою собственную горничную, что ни в какой мере не должно было задеть чувства этого дикого цветка из Килларни. Она поняла это так, что я специально взяла для нее компаньонку, и не только привыкла гонять вместе с Эви чаи, но вовлекла и ее в лотерейные манипуляции. К несчастью, в один прекрасный день у нашей дорогой ирландки вышел бурный разговор с владельцем отеля, и мы ее больше не видели. Тем не менее в то время, когда она скрашивала природной живостью наше существование, она была одной из самых близких подруг Жози. Иногда Жозефина сопровождала ее во время обхода. (Разумеется, это делалось только в мое отсутствие: наверное, в глубине души наша фея-гном подозревала, что мне это может не понравиться, но ведь меня не бывало дома по меньшей мере три или четыре вечера в неделю. Жозефина имела в своем распоряжении достаточно времени, чтобы насладиться светской жизнью.) Одна нечаянная встреча открыла мне глаза. Как-то мы с Жозефиной ждали лифта, и вдруг распахнулась дверь напротив; оттуда появилась супружеская чета Харви. Они не обратили на меня внимания. Мой рост – пять футов шесть дюймов без каблуков, а рост Жози – один фут три дюйма, когда она становится на задние лапки. Однако ее они заметили. Два приятных голоса с одинаковым английским акцентом пропели: – Жозефина, лапочка! Как дела? «Лапочка» энергично заработала хвостом, как обычно делала при встрече с закадычными друзьями. – Что же ты не пришла к завтраку? «К завтраку»?! Жозефина тем временем перевернулась на спину, чтобы мистер Харви мог почесать ей пузик. Мисс Лейтон удовлетворенно хмыкнула. Я же на протяжении всего эпизода стояла столбом на другом конце поводка, ощущая себя невидимкой. На следующее утро я учинила допрос с пристрастием. Что еще за завтраки у Харви? О, это просто так, изредка. Просто иногда случалось так, что когда они с Жози приходили заправлять постель, супруги Харви как раз завтракали. Конечно, они предлагали Жози составить им компанию. Жози обожает, когда ее угощают вот таку-у-усеньким кусочком бекона или таку-у-усеньким бисквитом! Я минут пять размышляла над «таку-у-усеньким кусочком бекона или бисквитом». Предполагается, что пудели не едят бекон. Я объяснила, что у нас неприятности с фигурой Жози. Я не возражаю против того, чтобы она знакомилась с новыми людьми, но мне бы не хотелось, чтобы она жирела. Меня торжественно заверили, что впредь ни один кусочек пищи не попадет ей в рот без моего согласия. И фея сдержала слово. Назавтра, вернувшись с работы, я обнаружила записку: «Я заглянула в холодильник Харви и увидела огромный батон канадского бекона. Можно ли маленькой есть канадский бекон?» После неприятного инцидента с владельцем отеля место феи заняла неразговорчивая, зато старательная уборщица с Ямайки, так что светская жизнь Жози неожиданно подошла к концу. Не представляю, как ей удалось познакомиться с Майклом Ренни. Но после четы Харви он въехал в их номер и в один прекрасный день, встретившись в лифте, приветствовал Жози как старую знакомую. И полностью проигнорировал меня. Майкла Ренни сменил Ричард Бартон. Он пробыл недолгои все время был очень занят. Однако нашел время познакомиться с Жозефиной. Однажды, когда мы все трое ждали лифта, он почесал у нее за ушками. Лифт все не приходил, и, могу поклясться, еще немного – и он обратил бы на меня внимание. Сделай Жозефина хоть малейшее движение в мою сторону, все было бы о'кей. Вместо этого она легонько пнула его лапкой, как бы говоря: «Не отвлекайся, пожалуйста!» А когда мужчина находится в согнутом состоянии, ему нелегко начать светскую беседу с дамой. На прощание она от души помахала ему хвостом. Однажды я таки свела знакомство с очередной обитательницей номера напротив, симпатичной дамой по имени Мэри Мейер. Естественно, Жозефина познакомилась с ней еще раньше, но Мэри стала одной из моих близких приятельниц. Без помощи Жози. У Мэри была такса по кличке Беби. Она-то и представила нас друг другу. (обратно)Глава 29. ТРАГЕДИЯ
Это был самый обыкновенный день. Мы с Жозефиной погуляли в парке, а когда вернулись домой, она сразу же потащила меня на кухню – за вознаграждением. Все-таки это была долгая прогулка, и она сделала все, что полагается. Обычно я доставала сладости, и Жозефина танцующей походкой направлялась в спальню, чтобы расправиться с ними на кровати. Я еще раньше обратила внимание, что в последнее время ей требовался больший разбег, чтобы прыгнуть на кровать. Раньше она могла делать это прямо с места, словно оттолкнувшись от трамплина. Когда я поделилась своей тревогой с Ирвингом, он пожал плечами и высказался в том духе, что если ей высоко, можно подпилить ножки у кровати. Однако на этот раз у нее вообще ничего не вышло. Она недопрыгнула несколько дюймов, неуклюже плюхнулась на пол и взвизгнула. Я тотчас подбежала к ней. Жози плакала, как испуганное дитя. В кризисные моменты я вдруг становлюсь холодной как лед. А это была настоящая трагедия! Особенно когда она отказалась от конфеты. Я постаралась заглушить в себе тревогу, но Жози продолжала повизгивать. Я села на пол рядом с ней и почесала Жози животик. Это просто поразительно, как порой в трудные минуты в памяти всплывают обрывки самой разной информации. Я смутно припомнила, что если кого-нибудь сбил автомобиль, его нельзя трогать до приезда «скорой помощи». Поэтому, одной рукой продолжая гладить Жози, я подползла к телефону, чтобы позвонить доктору Рафаэлю. Однако не дотянулась до трубки. Неожиданно Жози перестала визжать, встряхнулась и встала с пола, всем своим видом говоря: «А в чем, собственно, дело, док?» Я с облегчением вздохнула. А когда она схрупала конфету, мое сердце вернулось к прежнему ритму. Жозефина медленно пошла по комнате. Только почему-то на трех ногах. Четвертую – правую заднюю ногу – она поджала. Как ни странно, это меня успокоило: я знала, что в случае перелома собака волочит ногу. А если поджимает, это скорее всего значит, что она растянула сухожилие. Я позвонила Ирвингу, и этот высший авторитет согласился с моим диагнозом. Он был против того, чтобы я звонила врачу. Жозефина всегда так нервничает! Ей на ее веку хватило докторов, нечего обращаться к ним с разными пустяками. В детстве Ирвингу нередко приходилось видеть собак, ковыляющих на трех ногах. Ко времени его возвращения с работы у Жози все пройдет. В чем-то он оказался прав. Вечером Жози была такой же веселой, как всегда, хотя и пользовалась при ходьбе только тремя ногами. Ее аппетит и настроение нисколько не пострадали. По-видимому, она не ощущала боли. И я перестала тревожиться. Однако по прошествии четырех дней Жози по-прежнему довольствовалась «трехногой» жизнью, и мне стало ясно: нужно что-то делать! Кроме того, по ночам она не давала нам спать. Обычно это происходило так. Когда я выключала повсюду свет и мы с Ирвингом ложились в постель, Жози с чистой совестью забиралась под кровать и мгновенно засыпала. Примерно через час холодный воздух из открытого окна опускался к полу и побуждал ее искать другое спальное место. Это было нетрудно: она залезала ко мне в постель и уютно устраивалась рядышком. Но не на трех же ногах это делать! Жози была умница и быстро научилась спрыгивать с кровати. Но чтобы прыгнуть вверх, требовались все четыре ноги. Поэтому, когда ей становилось холодно, ей очень не хотелось нас будить, но она не могла обойтись без посторонней помощи. Будучи очень деликатной, Жози изобрела гениальный способ это делать. Главное – никакого шума. Начни она лаять, это испугало бы нас с Ирвингом. Так что она тихонько вылезала из-под кровати и минут пять стояла рядом, устремив на меня пристальный взгляд. Вы не можете себе представить, как это действует на человека, когда на него, спящего, смотрит маленький трехногий пудель. Но если я все-таки не просыпалась, Жози переходила на сторону Ирвинга и начинала все сначала. Если же и тут случалась осечка, она легонько царапала одному из нас руку. А если и это не помогало, принималась тихонько ворчать. Кто-нибудь обязательно свешивался с кровати и брал ее к себе. Она вознаграждала его нежным поцелуем и засыпала. Раньше я смутно чувствовала, что время от времени, несколько раз в течение ночи, Жози оказывалась рядом. Потом она возвращалась под кровать. А утром я снова находила ее в своих объятиях. Однако до сих пор я не отдавала себе ясного отчета в ее действиях. И только теперь начала обращать на них внимание. И вот что выяснилось. Спустя полчаса после того, как наша маленькая принцесса запрыгивала ко мне, ей становилось жарко, и она искала спасения в изножии кровати. Еще примерно через десять минут ее неудержимо влекло обратно под кровать. Она спрыгивала вниз на своих трех ногах и спешила в желанное укрытие. Вскоре у нее по коже начинали бегать мурашки, и все начиналось сначала. И так несколько раз за ночь. Мы пробовали закрывать окна. Жози переставала мерзнуть, зато мы начинали задыхаться. Я позвонила доктору Рафаэлю. К телефону подошел доктор Бернард. Я объяснила, что у Жози растяжение сухожилий. Может быть, ей пропишут снотворное, пока она не поправится? Доктор Бернард поинтересовался, кто поставил такой диагноз. Я ответила. Тогда он сказал мне кое-какие вещи, в том числе чтобы я немедленно привезла Жози. Оба врача уже ждали нас. Я начала объяснять, что у нас нет ничего страшного и если бы не ночная гимнастика, я бы ни за что не стала их беспокоить. Они не обращали на меня никакого внимания, а занимались ногой Жози. – Она прекрасно себя чувствует, – упорствовала я. Они и не думали слушать. – Пожалуй, отложим на недельку рентген, – предложил доктор Рафаэль. Его коллега кивнул. Они вернули мне Жози. – Если бы собака не была перекормлена, – с горечью сказал доктор Бернард, – она не соскользнула бы с кровати. – Если через недельку нога не пройдет, – продолжил второй врач, – принесете ее сюда. И непременно, сегодня же, посадите ее на диету. Доктор Бернард бросил на меня испепеляющий взгляд. – Какая там диета! Я их тысячу раз предупреждал. Это совершенно безнадежно. – Поймите, – мягко сказал доктор Рафаэль, – на этот раз дело нешуточное. В моем сердце шевельнулась тревога. – Неужели с ней что-нибудь серьезное? – Без просвечивания трудно сказать наверняка. Но если наши опасения подтвердятся, то чем меньше она будет весить, тем больше шансов на благополучный исход. Она гораздо легче перенесет общий наркоз. – Зачем общий наркоз? – тупо спросила я. – Давайте поговорим об этом позже. Возможно, через неделю все пройдет. Главное – немедленно посадите ее на диету. И время от времени массируйте больную ногу, чтобы мышцы не атрофировались от недостатка движения. Для нас начался период ожидания. Не могу сказать, чтобы время тянулось слишком медленно: я была постоянно занята. Прежде всего я позаботилась о витаминах. Трижды в день делала Жозефине массаж. Между процедурами старалась урвать немного сна в предвкушении кошмарной ночи. Ирвинг обрел временное пристанище у себя в кабинете. Мы с Жозефиной проводили бурные ночи. Вверх – вниз, вниз – вверх! И все это мне приходилось терпеть в одиночку. Не то чтобы Ирвинг не рвался помочь, но утром ему всякий раз нужно было идти на работу. Кто-то из нас троих должен был спать нормально. Так прошла неделя, по истечении которой мы все трое предстали перед доктором Рафаэлем. Он положил Жозефину на весы. Двадцать пять фунтов! Я начала оправдываться: – Ну что вы хотите от инвалида? Она же перестала гонять мяч. Врач тревожным кивком головы заставил меня замолчать. Его очень беспокоила ее нога. Мне было велено отнести Жози домой и после шести часов вечера не давать ни воды, ни пищи. А завтра в девять снова принести ее в клинику. Жозефине сделают рентген под общим наркозом. Мы с Ирвингом переглянулись. Первым заговорил Ирвинг: – Доктор, не слишком ли это круто – при обыкновенном растяжении? – Я бы многое отдал за то, чтобы это было растяжение, – ответил тот. Я запаниковала. – А что же это может быть? – Не хочу гадать до рентгена. Мы выполнили все его требования. После получения результатов доктор Рафаэль позвал нас к себе в кабинет. Это оказалось не растяжение, а разрыв связок под коленной чашечкой, тех самых, которые обеспечивают гибкость и подвижность колена. При разрыве они повисают, словно оборванные провода, и их невозможно соединить – разве что в ходе сложной операции. Придется разрезать ткань бедра, найти разорванные связки и сшить. Такую операцию только год как начали делать. Успех обычно составляет пятьдесят процентов. В нашем случае шансов еще меньше: собака не молода и страдает ожирением. Ирвинг спросил, что будет, если отказаться от операции. Она так и будет ходить на трех ногах. Может быть, даже припадать на больную ногу, так как в том месте нет нервных окончаний и она не почувствует боли. Но со временем хрящ сотрется и начнет разрушаться кость. В крайнем случае придется ампутировать ногу. Мы помолчали. Потом Ирвинг сказал: – Доктор, Жози для нас – больше чем собака. – Я и предполагал что-то в этом роде. – Мы хотим, чтобы для нее было сделано все, что только возможно. Нам страшно подумать, что ей придется понапрасну мучиться, если операция окажется безуспешной. Но в то же время мы не можем сидеть сложа руки и допустить, чтобы она потеряла ногу. Что бы вы сделали, если бы это была ваша собака? – Согласился бы на операцию, – твердо ответил доктор Рафаэль. – Потому что после операции, даже если она будет хромать, это уже не приведет к потере ноги. Но вы можете подумать. Или обратиться к другому врачу, узнать другое мнение. – Нет, – решительно произнес Ирвинг. – Мы вам верим. Если вы советуете оперировать, значит, так тому и быть. Сделайте это завтра, прошу вас. Доктор Рафаэль покачал головой. – Это не так просто. Нельзя делать операцию, пока она не вернется к нормальному весу. Дело не только в нагрузке на сердце. Если после операции собака начнет ходить, неокрепшие связки могут не выдержать. – Сколько ей нужно сбросить? – это был первый раз, когда я серьезно Отнеслась к данной проблеме. – До операции – самое меньшее пять фунтов. Надеюсь, во время восстановительного периода она сбросит еще немного. Пять фунтов! От доктора Рафаэля не укрылся ужас у меня в глазах. Да ведь на это может уйти не менее года! – Фактор времени исключительно важен, – продолжал настаивать врач. – Я помогу вам: пропишу специальное низкокалорийное питание. Давайте полбанки в день и одно печенье утром. И все! Если будете строго придерживаться диеты, Жози сбросит сколько нужно в течение недели. Мы унесли домой наше трехногое сокровище и контейнер с собачьей пищей. На этот раз все было без дураков. Чтобы Жози было легче, голодали всей семьей. Сара Ли отошла в область преданий. Мы с Ирвингом пили утренний кофе в ближайшей аптеке. В квартире не осталось ни одного лакомства. Пришлось предупредить всех горничных, лакеев, а также гостей. Мы не позволяли себе съесть в присутствии Жози хотя бы крекер: зачем мучить малышку? Сначала она решила, что мы спятили. Через несколько дней начала сочувственно поглядывать на нас. Будучи исключительно умным зверьком, Жози пришла к выводу, что мы испытываем временные финансовые трудности. Она же видела, что не только ей приходится голодать, но в апартаменты вообще не доставляется пища. Жози начала беспокоиться, едим ли мы вообще. Вскоре она прониклась любовью к собачьей пище: ведь это были единственные просветы во мраке наступивших дней. Она набрасывалась на нее, как на икру. Но эта мизерная порция была в ее глазах не более чем закуской. Жози всегда любила поесть. Теперь, когда мы отправлялись на прогулку, она искала что-нибудь съедобное. Случалось, ей перепадал кусочек жевательной резинки. Или полчервячка. Или обсосанный леденец. В общем, Жози перешла на подножный корм. Центральный парк стал представлять для нас угрозу. Жози дошла до того, что не только норовила отобрать корм у голубей, но и поглядывала на этих птиц с каким-то новым интересом. В ее глазах мелькало что-то вроде: «Наверное, под этим жестким оперением они такие же нежные, как цыплята!» В конце недели я поставила Жози на весы. Она потеряла всего два фунта! Я позвонила доктору Рафаэлю. Он был непреклонен: она должна весить не более двадцати фунтов. Мы прожили еще две недели по законам концентрационного лагеря, постоянно ощущая на себе пытливые взгляды Жози. Наконец стрелка весов остановилась на желанной отметке. Я торжественно сообщила об этом доктору Рафаэлю. Он назначил операцию на следующий понедельник. В воскресенье вечером я устроила для Жози небольшую вечеринку. Собрались только ее близкие друзья: Беа Коул, Анна Сосенко, Джойс и Последняя (которая по-прежнему любила нашу милую крошку). Это была голодная вечеринка. Поскольку назавтра Жози предстояло делать общий наркоз, ей нельзя было давать даже воду. Каждая гостья принесла ей игрушку и пыталась веселиться, но все было напрасно. Я вдруг услышала, как Джойс шепчет Ирвингу: «Смотри, сразу же купи Джеки новую собаку!» Мой муж тупо кивнул. Я заорала, что не хочу другую собаку! Во всем мире нет другой такой, как Жози! Все начали уверять меня, что все будет хорошо, но им недоставало убежденности. Это был страшный вечер. Все держались как на похоронах – за исключением героини, которая отлично себя чувствовала и ковыляла на трех ногах, радостно приветствуя каждую гостью. Потом я вдруг спохватилась: Жози исчезла! Я нашла ее в ванной, где она пыталась сжевать зубную пасту. От тюбика пахло мятой, а это в ее теперешнем положении казалось Жози редким деликатесом. На другое утро мы с Ирвингом отвезли ее в клинику. Оба врача провели с нами откровенную беседу. Прежде чем сделать операцию, они в течение суток понаблюдают за собакой. Я могу зайти завтра в три часа дня. К этому времени операция уже будет закончена. Стоимость операции – двести долларов. А потом – дополнительная плата за десять дней госпитализации. Мы внимательно слушали. В такое время деньги ничего не значат. Нам ни разу не пришло в голову, что за двести долларов можно купить нового, четырехногого пуделя. Единственное, что имело значение, – это жизнь и здоровье Жозефины. Я поинтересовалась условиями содержания животных после операции. – Мы держим их в боксах. В боксах!.. Ирвинг пытался успокоить меня. – Джеки предпочла бы отдельную палату с видом на реку. Что до меня, то я больший реалист. Но бывают боксы – и боксы. Нам бы хотелось, чтобы Жози проживала в боксе-люксе. Оба врача вытаращились на него. – Я вот что имею в виду, – продолжал Ирвинг. – Может, у вас найдется свободный бокс для крупной собаки – например, боксера. Мы бы удовлетворились этим. Доктор Рафаэль объяснил, что все боксы имеют одинаковые размеры, а Жозефина после операции не очень-то разбежится: ей почти все время будут давать снотворное. – Как насчет ночной сиделки? (Это, конечно, я!) Должно быть, доктор Рафаэль привык к ненормальным клиентам. Он абсолютно спокойно ответил: – Нет. В течение дня мы с доктором Бернардом постоянно находимся здесь. А ночью санитары. И еще один старик, который слишком стар для какой-либо работы, но очень любит собак. Мы его держим специально для того, чтобы он время от времени приласкал больную собаку. Особенно после операции. И он перешел непосредственно к операции, знакомя нас с разными мелкими подробностями. Конечно, больную ногу придется побрить. Иногда после этого вырастают волосы другого цвета. – Например? – Например, белые. Я попыталась представить угольно-черную Жозефину с белоснежной лапкой. Ну что ж – лишь бы она могла ходить. В крайнем случае покрасим. В общем, займемся этой проблемой как-нибудь попозже. Доктор Бернард вспомнил о манеже. Да-да, необходимо купить манеж. Какой? Обыкновенный, детский. Когда Жози окажется дома, ей нельзя будет скакать по меньшей мере полгода. В наше отсутствие или ночью манеж – незаменимое средство. Выйдя из клиники, я ринулась домой и позвонила Шиле Бонд: у нее двое маленьких детей. – Шила, у тебя после Брэда сохранился манеж? Он мне очень нужен. После непродолжительной паузы Шила произнесла: – Хи-хи. Поздравляю! Я была слишком взволнована, чтобы вести светскую беседу. – Так у тебя есть манеж? – Нет, – ответила Шила. – Я его уже отдала. Хочешь, пришлю стерилизатор бутылочек, коляску и детские весы? Я так за тебя рада! И когда?.. – Завтра. Но еще десять дней можно обойтись без манежа. Снова молчание. Потом Шила сказала: – Давай сначала. Зачем тебе понадобился манеж? Я объяснила. Конечно, она была разочарована, но обещала поспрашивать соседей. Беа тоже. Но первой на выручку пришла Джойс. У нее где-то остался манеж, которым она пользовалась, когда одна из собак повредила позвоночник. Когда шофер Джойс привез манеж, у меня была Беа. Такого огромного манежа я еще не видела. Мы торжественно водворили его в центр гостиной. Беа сияла. – Значит, когда ты в следующий раз оставишь у нас Жози, ты дашь ей с собой витамины, клизмоч-ку и манеж? (Мысленно она уже начала делать перестановки в своей гостиной.) Я ответила, что клизма – атрибут прошлого и что Жози не собирается ездить в гости, пока не будет совершенно здорова. Беа оставалась со мной весь день, чтобы помешать мне предаваться отчаянию. Время от времени она подбадривала меня утешениями типа: «Да брось беспокоиться! Помнишь, как Питер Стайвесант прекрасно управлялся с одной ногой?» К вечеру она настолько разошлась, что вспомнила знаменитых сиамских близнецов, которые прожили долгую и счастливую жизнь. Тут как раз вернулся с работы Ирвинг и взял на себя заботу обо мне. Мы пошли в кино и посмотрели три фильма подряд. Потом вернулись домой, и каждый принял по две красные пилюли. Но ни одному из нас не удалось уснуть. В девять часов утра снова приехала Беа. Не то чтобы она волновалась. Она же знает, что Жози – крепкого сложения, а доктор Рафаэль и доктор Бернард – знающие свое дело хирурги. Мы пили кофе и ждали, чем все это кончится. Ирвинг упрямо пытался отыскать в случившемся светлые стороны. – Подумать только – мы можем позволить себе заказать на завтрак пирожные от Сары Ли, и никто не станет укоризненно похлопывать лапкой! Мы послали горничную к Саре Ли. Однако когда пирожные были доставлены, к ним никто не притронулся. Мы просто сидели и ждали трех часов, когда можно будет позвонить в клинику. (обратно)Глава 30. ДЕНЬ, КОГДА ОСТАНОВИЛАСЬ ЗЕМЛЯ
В три часа я набрала номер клиники, а Беа сняла отводную трубку и приготовилась стенографировать, чтобы, придя с работы, Ирвинг получил точный отчет, слово в слово. Голос доктора Рафаэля звучал не особенно бодро: – Трудно пока сказать, миссис Мэнсфилд, насколько успешно прошла операция. Картина не слишком обнадеживающая. Прежде всего, оказалось нелегким делом найти обрывки связок. Наконец мы нашли и соединили их, но пока нет гарантии, что они будут держаться. На этот вопрос может ответить только время. Беда в том, что поскольку с момента повреждения прошло много времени, мышцы успели атрофироваться. Далее, обнаружился перелом кости. Но пациентка превосходно перенесла операцию и сейчас отдыхает. Позвоните завтра в это же время, и вы узнаете больше. Я позвонила Ирвингу и передала ему все, что записала Беа. Ирвинг немного помолчал, а затем набросился на меня: – Я ни черта не понимаю. Все какие-то двусмысленности. Наверное, Беа напортачила. Я предложила ему самому позвонить доктору Рафаэлю и записать разговор на магнитофон. Ирвинг заявил, что как раз это он и собирался сделать. Через десять минут он дал мне прослушать запись. Все то же самое. – Ну, гений, и как ты все это понимаешь? – потребовала я. – Кажется, дела у нашей девочки обстоят не лучшим образом, – слабым голосом ответил он. На следующий день никаких новостей не поступило. Мы спросили, нельзя ли навестить больную. Доктор Рафаэль объяснил, что это может разволновать ее. Пока лучше звонить. Мы звонили по пять раз в день. И еще один раз – Беа. Ответ каждый день был один и тот же: у Жозефины ничего не болит, она понемногу начала принимать пищу – разумеется, соблюдая строжайшую диету. Когда на четвертый день доктор Рафаэль снял трубку, это был другой человек. – Миссис Мэнсфилд, у вас замечательная собака! Даже совсем молоденькие после успешной операции несколько недель не решаются встать на больную ногу. Сегодня мы вынули Жози из бокса и разрешили немного походить – и она сразу же опустила больную ножку. Конечно, у нее не получилось – и, может быть, никогда не получится, – зато какое мужество! Я убежденно заявила: – Доктор Рафаэль, Жозефина выздоровеет и будет нормально ходить, потому что она хочет этого! Он не стал спорить. – Я тоже в это верю. У нее невероятная воля к жизни. Я всегда придерживался того мнения, что все зависит от того, что и сколько вложено в животное его хозяевами. Вы с мистером Мэнсфилдом вложили в это маленькое существо восемь лет любви и заботы. Результат налицо. Прошло еще шесть дней. Каждый день доктор Рафаэль по телефону на все лады расхваливал Жози. Именно Жози, а не ее физическое состояние. По-видимому, она очаровала весь персонал клиники. Одновременно он пытался довести до нашего сведения, что ей никогда не стать олимпийской чемпионкой или хотя бы загнать немолодую белку. На десятый день мы приехали, чтобы забрать Жози. У нас с Ирвингом было такое чувство, словно мы впервые вносим в дом новорожденного. В центре гостиной ждал манеж-громадина, куда мы побросали ее игрушки. Даже купили цветы по такому случаю. Но прежде чем отдать Жози, доктор Рафаэль пригласил нас в свой кабинет. – Мистер Мэнсфилд, какая у вас собака! Какая собака! – не находя слов, он энергично потряс головой. Мы скромно потупились. Оба врача сияли и многозначительно переглядывались, словно им был известен какой-то секрет. Доктор Рафаэль первым облек тайну в слова: – Сегодня утром мы позволили ей немного походить, и она встала на больную ногу. Мы удивленно вытаращили глаза. – Как я уже говорил, – продолжал врач, – даже молодые собаки обычно не рискуют, но Жози как будто сообразила, что чем скорее она начнет ходить, тем скорее выберется отсюда. Просто невероятно! Настала звездная минута доктора Бернарда! – Она сбросила целых четыре фунта. Теперь Жози весит шестнадцать фунтов. Все стали поздравлять друг друга. – Все дело в низкокалорийной пище, – пояснил доктор Бернард. – Советую вам и впредь держать Жози на диете. – Как долго? – До конца ее жизни. Было бы совсем хорошо, если бы в итоге она дошла до двенадцати фунтов. – Придется вам заказывать для нее спецпитание, – поддержал его доктор Рафаэль. – Оно продается не во всех магазинах. Мы заказали для вас целый ящик, можете взять его с собой. А когда запас иссякнет, снова обращайтесь к нам. Я была согласна на все. Ирвинг поспешил выписать чек. Нам не терпелось увидеть свою любимицу. – Думаю, что сейчас она будет поджимать ножку, – предупредил доктор Рафаэль. – Но постепенно вы убедите ее попробовать пользоваться ею. Не знаю, каким образом вам это удастся, но я уверен: вы сможете подобрать к ней ключи лучше, чем кто-либо другой. Выводите ее гулять на коротком поводке – и ненадолго. Берите ее на руки, когда будете подниматься и спускаться по лестнице. Стоит ей раз поскользнуться – и все пропало. Ни за что не давайте ей запрыгивать на разные предметы и спрыгивать с них – в течение трех месяцев. А вот при ходьбе она может пользоваться больной ногой. – Если спустя три недели не наступит улучшение, – добавил доктор Бернард, – приносите ее сюда, я навешу грузики. – Какие еще грузики? – хором вскричали мы. – Мышцы больной ноги в значительной степени атрофированы. Если она не будет развивать их при ходьбе, процесс пойдет дальше. А грузики будут тянуть ногу книзу: волей-неволей ей придется ступать на нее. Обидно же, если нога все-таки погибнет – после такой успешной операции! Наконец санитар принес удивительную больную. При виде нас с Ирвингом Жозефина взвизгнула и принялась покрывать наши лица поцелуями. Для постороннего глаза у нее был странноватый вид (излишне говорить, что для нас она осталась красавицей). Правая задняя нога была гладко выбрита и поэтому казалась раз в шесть тоньше левой. На ней выделялся безобразный шрам длиной в десять дюймов. Но происшедшее ни в малейшей степени не отразилось на ее самой красивой в мире мордочке. Я понесла Жози, а Ирвинг – контейнер с собачьим питанием. Все коридорные и прочий персонал отеля встретили Жози на ура. Я целый день продержала ее на коленях, и постоянно кто-нибудь заходил, чтобы поздравить ее с возвращением домой. Время от времени я ненадолго выводила Жози пройтись и всякий раз умоляла: – Опусти ножку, дорогая! Наконец, к моей несказанной радости, Жози послушалась и даже сделала два или три шажка. Я окончательно убедилась, что, может быть, не скоро, но она будет нормально ходить. Ночью я устроила Жози постельку в манеже и дала необходимые указания. Она уютно свернулась клубочком; мы с Ирвингом выключили свет и легли. Через пять минут я почувствовала знакомое царапанье. – Ирвинг, – тихо сказала я, – это ты встал на четвереньки и скребешься о мою руку? Он пробурчал что-то в том роде, что я героически перенесла все испытания и теперь, когда самое страшное позади, было бы глупо тронуться умом. – Ирвинг, вот опять кто-то скребется. Если это не так, можешь надеть на меня смирительную рубашку. – Как именно скребется? – Очень похоже на Жози. – Ага, – издевательским тоном промолвил он. – Она перескочила через барьер! Тем не менее Ирвинг включил свет. Жозефина ковыляла по спальне и радостно виляла хвостом. С минуту мы молча таращились на нее. Потом Ирвинг схватил Жози и поместил обратно в манеж. На этот раз мы не стали ложиться, а сели и приготовились ждать. Нас интересовало, каким это образом она перенесется через барьер. Но Жозефина и не думала совершать прыжки. Вместо этого она запросто прошмыгнула между прутьями манежа, хотя зазоры составляли не более восьми дюймов. Мы кинулись осматривать Жози. Доктор Бернард и низкокалорийная пища поистине сотворили чудо! Если не считать меха, там почти ничего не осталось. Конечно, ее ослепительно белый животик не очень смотрелся бы в бикини, но и он значительно уменьшился в объеме. Наша девочка избавилась от лишнего веса. А заодно и от манежа. Пришлось Ирвингу снова перекочевать в кабинет, а мне – заступить на ночную вахту. Однако теперь Жози нуждалась в моей помощи не только при прыжках в высоту, но и при обратном движении. Но я была так рада ее возвращению, что с легким сердцем махнула рукой на сон, собственный внешний вид и так же легко перенесла разлуку с мужем. Тем более что он каждое утро оставлял мне записку и дважды в день звонил из офиса, так что мы продолжали поддерживать связь – хотя бы заочно. (обратно)Глава 31. КОНЦЛАГЕРЬ
Как-то, примерно через три недели после возвращения Жозефины из клиники, я вернулась домой и нашла ее уютно свернувшейся клубком на диване. Это было такое очаровательное зрелище, что прошло не менее пяти минут, прежде чем я спохватилась: она сама запрыгнула на диван! Не успела я это переварить, как зазвонил дверной звонок. Жози спрыгнула с дивана и с радостным лаем бросилась в прихожую. Позже я позвонила доктору Рафаэлю. Он не мог поверить своим ушам и велел немедленно доставить ее в клинику. На протяжении всего осмотра с его лица не сходило благоговейное выражение. В его практике еще не было столь скорого выздоровления. И все-таки он посоветовал мне ограничивать Жозефину в движениях. Не стоит искушать судьбу, по меньшей мере, в ближайшие пару месяцев. Ирвинг смог вернуться в спальню, а мы с Жозефиной пошли на компромисс. Ладно уж, пусть она спрыгивает с кровати (насколько я могла заметить, она приземлялась на три ноги), но ей не разрешается прыгать вверх. Я сама буду поднимать ее. Жози превосходно усвоила правила игры и позволяла нам с Ирвингом поднимать себя так часто, как ей хотелось. Случались и трудные моменты, например во время игры в мяч. Мы заставляли Жози гонять мячик по полу. И никаких больше прыжков – как в восточных единоборствах! Через месяц на больной ноге отросли волосы. Черные. Шрама больше не было видно. В январе Жозефине исполнилось восемь лет. Нога все еще имела не совсем здоровый вид, но Жози использовала ее вовсю, как в старые добрые времена. А когда думала, что мы не видим, прыгала на кровати, стулья и прочие высокие предметы. Но Жози знала: ее жизнь круто изменилась. Отныне – никаких желе. Никаких пирожков. Вечером – никакого пива. Однако она не жаловалась. Потому что, как я уже не раз говорила, Жозефина – очень умная собака. Она объясняла это биржевым спадом (ей частенько приходилось слышать, как мы говорили о кризисе). Вероятно, у Ирвинга «зарезали» передачу. Поэтому Жози затянула поясок потуже. Хорошо хоть ей дают полбанки собачьих консервов и одно жалкое печеньице утром. Зато мы с Ирвингом вообще перестали есть, в этом она была абсолютно уверена. Если мы приближались к кухне, Жозефина бросалась проверять: не собираемся ли мы умыкнуть какое-нибудь завалявшееся лакомство. Но она не перестала любить нас, и в трудные времена ее преданность не уступала той, какую она выказывала в блаженные дни куриной печенки и яиц, сваренных вкрутую. Она не теряла надежды на то, что фортуна снова повернется к нам лицом и мы опять заживем сытой, обеспеченной жизнью. Проходя с Ирвингом мимо кондитерской или бакалеи, она тянула его внутрь. Жози знала, что ливерка – дешевый продукт. Но поскольку Ирвинг не уступал, она проглатывала слюну и продолжала с достоинством переносить лишения. Вскоре прошлое начало казаться волшебным сном. Ах, эти счастливые деньки, когда ей дозволялось вылизать сковородку! Теперь сковородка много месяцев не попадалась ей на глаза. А вечера, когда папочка приносил жареного цыпленка! Может быть, все это только примечталось? Может быть, вся ее жизнь сводилась к низкокалорийной пище и пошлой печенюшке на завтрак? Но, будучи собакой-философом, Жози просто пожимала плечами, словно хотела сказать: – Таков шоу-бизнес! Спустя несколько месяцев доктор Бернардизъявил желание встретиться с нами. Он нашел Жозефину абсолютно здоровой, но, чтобы проверить почки, предложил принести кое-что на анализ. Когда на следующее утро Ирвинг собрался выводить Жози на прогулку, я дала ему соответствующее поручение. Ирвинг заявил, что эта процедура требует участия двух человек. Он будет держать поводок, а я тем временем нырну под Жозефину с суповой тарелкой. Потом он немного подумал и сделал следующие три заявления. 1. Его мало волнует, если к нему прицепится полисмен: ради Жози он готов на любые жертвы. 2. Несмотря на потерю веса, белый животик по-прежнему провисает слишком низко для того, чтобы можно было подставить суповую тарелку. Мелкая тарелка – совсем другое дело. Но в этом случае вряд ли удастся собрать достаточное количество. 3. Если даже я и подставлю тарелку, что дальше? Втиснуться между двумя почтенными джентльменами на скамейке со всей этой посудой и на глазах у всех переливать содержимое в бутылочку? Ирвинг сам позвонил врачу и заверил, что почки Жози функционируют абсолютно нормально и вряд ли нужен какой-то анализ. Доктор Бернард обиделся. Они любят доводить дело до конца, особенно после такой тяжелой операции. Но если Ирвингу нет дела… Ирвинг поспешил с заверениями, что ему, конечно же, есть дело. В конце концов, доктор Бернард и доктор Рафаэль спасли девочке жизнь. Это два лучших врача в городе. Мы не можем ссориться с ними. Они хотят анализ – они его получат! По-видимому, это больше нужно врачам, чем самой Жозефине. Поэтому на следующее утро Ирвинг отнес им вожделенную бутылочку. И мы убедились, что у Ирвинга здоровые почки! (обратно)ПОСТСКРИПТУМ
Со времени операции прошло полтора года. Жозефине уже девять с половиной лет, но она бегает, прыгает и ведет себя как щенок. Она по-прежнему сидит на диете, но, как все женщины, ухитряется иногда сжульничать, например в гостях у Последней или оставаясь на несколько дней в семье Беа Коул. Ее вес колеблется между шестнадцатью и восемнадцатью фунтами. Ее приятельница Моппет превратилась в степенную старушку, которая время от времени прогуливается в Центральном парке. Ее закат исполнен тихой печали. Она давно забыла каникулы с Джекки Глисоном и романтически настроенным колли. Билли и Джойс по-прежнему обожают друг друга, хотя в настоящее время находятся в разводе. Билли взял на свое попечение их седьмую собаку, мальтийского терьера по кличке Зоя. Джойс получила от него в подарок серого пуделя и взяла его с собой в Швейцарию. Серый пудель очарователен и совершенно здоров – во всяком случае, сейчас, когда пишутся эти строки. Бобо Эйхенбаум переехал в Нью-Джерси. Местные собаки считают его чуточку эксцентричным, но приятным холостяком, который сочиняет замысловатые истории о своих приключениях на телевидении и безответной любви к блистательной кинозвезде из породы пуделей. Беби Мейер, такса из квартиры напротив, стала ближайшей подругой Жозефины. Она обожает Жози и признает ее превосходство, однако Жози не злоупотребляет им. В душе она все та же маленькая девочка и убеждена, что впереди – яркая, полная приключений жизнь. Особенно теперь, когда установилось правило: куда бы мы ни ехали, берем с собой Жозефину. Это новшество было введено несколько месяцев назад. Нам предстояла очередная поездка на Западное побережье. Беа Коул исходила нетерпением. Стояла чудесная погода, и мы решили отправиться к ней пешком. Жози гарцевала впереди, во всем великолепии новой прически. За ушами у нее красовались бантики, на ногах – пышные манжеты. Ирвинг с гордостью произнес: – Прямо не отличить больную ногу от здоровой! – Может, пометить ленточкой? – встревожилась я. – Зачем? – Чтобы Беа и Карен не забывали обращаться с ней как можно осторожнее. – На Беа можно положиться. – Речь не о Беа. Меня беспокоит ее новая мебель. – Какое она имеет отношение к ножке Жози? – Новые кресла обиты сатином, а он довольно скользкий. Диван же слишком высок, ей будет нелегко на него запрыгнуть. – Не смеши, – буркнул Ирвинг. Мы шли примерно квартал молча. Потом он спросил: – И что, этот сатин очень скользкий? – Как тебе сказать. Точно не знаю. Еще один квартал напряженного молчания. Затем: – Насколько высок этот новый диван? – Довольно высок. Ирвинг покачал головой. – Как могла Беа сделать такую глупость? Она же знает, что сатин скользкий! – Зато красивый, – возразила я. – И вообще все будет хорошо. Ирвинг кивнул. Мы прошли еще с полквартала, и вдруг он остановился. – Ты прекрасно знаешь, что я не смогу быть спокойным. Только и буду думать об этом диване и сатиновых креслах. Я высказала предположение, что декоратор Беа меньше всего думал о Жози. – Я не позволю какому-то декоратору увечить мою собаку! – Ирвинг махнул рукой проезжавшему такси, и мы немедленно вернулись домой. Ирвинг принялся обзванивать все авиалинии. – Что значит «в клетке»? – донеслось до меня. – Она будет сидеть вместе с нами. После угроз, просьб и улещивания собаколюбивого летчика Жози разрешили лететь в Калифорнию. Путешествие произвело на нее хорошее впечатление. Она спала у меня на коленях, на всякий случай держа один глаз открытым. Разумеется, она не пропустила ни одной закуски, ни одного пирожного, даже аспирин. У нее сохранилось воспоминание о самолете как о летающем ресторане. Через несколько месяцев Ирвингу предстоит ставить новое телешоу в Европе. Когда он узнал, что в Англию не пускают собак – только после шестимесячного карантина, – он просто пожал плечами и философски изрек: – Значит, Лондон исключается. Может быть, такой подход покажется вам недостойным взрослого мужчины. Значит, у вас никогда не было пуделя. Как только вы разделите с пуделем один поводок, вы сразу окажетесь на крючке. Как будто невидимый ток бежит от пуделя к хозяину и обратно. Со временем вы начинаете сомневаться: вы ли выгуливаете пуделя, или он вас? Во всяком случае, с Жозефиной дела обстоят именно так. Мне часто приходит на память плакат в зоомагазине: «Единственная любовь, которую можно купить за деньги, это любовь собаки!» Это абсолютная правда. С того самого момента, как Жози вошла в нашу семью, у нее не было другой цели, кроме как радовать нас. Тут требуется одно дополнение. Хотя сердце пуделя изначально принадлежит вам, он считает своим долгом всю жизнь заслуживать вашу любовь. Собачья преданность открывает вам новые стороны любви. Во всяком случае, нам с Ирвингом открыла. К сожалению, мы люди, а люди не так постоянны, как Жозефина. Мы умеем говорить, но никакие слова не выразят то счастье, которое этот крохотный комочек привнес в нашу жизнь. И все-таки я попытаюсь сказать: – Мы любим тебя. Каждое утро. Каждый день. Каждый вечер. И каждую ночь, Жозефина! (обратно)ЭПИЛОГ
Незадолго до того, как стать президентом Соединенных Штатов, Ричард Никсон посмотрел мне в глаза и произнес: – Вот в чем разница между коккер-спаниелем и пуделем. У коккера большое сердце и совсем нет мозгов. А у пуделя – сплошные мозги и никакого сердца. За исключением Жозефины, у которой есть и то, и другое. Повесть «Каждую ночь, Жозефина!» впервые увидела свет 14 ноября 1963 года. И тотчас родилась новая звезда! Часто, когда я приходила с ней гулять в парк, кто-нибудь подходил и спрашивал: – Это та самая Жозефина? Я кивала, а звезда добродушно виляла хвостом (она с поразительной грацией несла бремя славы, распространяя свое обаяние на незнакомых людей и собак). Поклонники замирали от восхищения. Иногда кто-нибудь просил разрешения погладить ее по голове. (Для Жозефины это было все равно что дать автограф. Вообще-то она не любит, когда ее гладят по голове, но звезде несолидно опрокидываться на спину прямо в Центральном парке.) Потом счастливчик говорил: – Друзья не поверят, что я гладил ту самую собаку. О, Жози, как мне понравилась твоя книга! И удалялся, даже не попрощавшись со мной. Жозефина твердо убеждена, что всякий раз, когда я сажусь за пишущую машинку, это так или иначе связано с ее особой. Она считает своим долгом лежать возле моих ног и таким образом оказывать мне содействие. Я не осмелилась признаться ей, что «Долина кукол» не является продолжением «ее» – книги. Узнав правду, Жозефина перенесла это с большим достоинством, но выразила надежду, что следующий роман, «Машина любви», будет из «ее» серии. И она имеет право рассчитывать на продолжение, потому что с момента опубликования повести «Каждую ночь, Жозефина!» в ее жизни произошло немало событий. Она пользовалась услугами того же парикмахера, что и маленький черный пудель Виктория Никсон (не кто иной, как Жозефина, преодолев известный недостаток, представила нас чете Никсонов). Побывала на коктейле у герцога и герцогини Виндзорских (любезно прихватив с собой и нас с Ирвингом). Ее обласкала леди Марго Фонтейн. Один из «Роллинг Стоунз» почесал ей брюшко (Жозефина сочла, что у него неплохие пальцы). Так что, конечно же, она заслуживает продолжения, и я когда-нибудь напишу его. Но главная цель этого эпилога – довести до вашего сведения, что скоро Жозефине исполнится шестнадцать лет. И я счастлива сообщить, что она жива и по-прежнему процветает в окрестностях Центрального парка, в Южном районе Нью-Йорка. (обратно) (обратно)Жаклин Сьюзан Машина любви
Аманда
Глава 1
В девять часов утра Аманда дрожала в полотняном платьице на ступеньках отеля «Плаза». Одна из булавок, которой было застегнуто платье на спине, упала на землю. Костюмерша бросилась заменять ее, и фотограф воспользовался моментом, чтобы перезарядить аппарат. Парикмахерша быстро опрыскала лаком выбившиеся пряди Аманды, и съемки возобновились. Собравшиеся прохожие с восторгом смотрели на одну из модных красавиц — знаменитую манекенщицу, стоявшую в легком летнем платье под порывами ледяного мартовского ветра. Фотограф закончил съемку, и ассистент бросился к Аманде с теплым пальто и термосом. Она вернулась в холл отеля и без сил опустилась в большое кресло, чтобы выпить кофе. Ничего, она выдержит. К счастью, следующие съемки в помещении. Допив кофе, Аманда с помощью костюмерши сменила полотняное платье на удобные летние брюки. Затем поправила искусственную грудь в бюстгальтере, проверила макияж. Расческа затрещала в ее густых, отливающих золотом волосах. Слава Богу, природа наделила ее высоким ростом, красивыми зубами, волосами, лицом. У нее стройные ноги и узкие бедра. Господь милостив к ней. Он упустил только одно: грудь Аманды была плоской, как у мальчика. Удивительно, но в ее профессии это был скорее козырь, а вот в личной жизни… Аманда вспомнила стыд, который испытывала в двенадцать лет, когда грудь ее школьных подружек начала набухать. Она бросилась тогда к тетушке Розе, которая лишь рассмеялась: «Это придет, мое солнышко. Надеюсь только, что они не будут у тебя такими большими, как у твоей старой тетки». Все это было прекрасно, пока Аманда сидела на кухне у тети Розы, и они еще не подозревали, что однажды она поедет в Нью-Йорк и встретит там таких людей, с которыми общалась теперь. Или как, например, певца Билли… Аманде было восемнадцать лет, и она только начинала карьеру манекенщицы, когда произошла их встреча. Как сообщил Билли в печати, это была любовь с первого взгляда. С того момента Аманда стала частью его свиты. Она открывала для себя незнакомый мир: премьеры в ночных клубах, личный шофер, компания, которую он повсюду таскал за собою — авторы, импресарио, представители прессы. На пятый день знакомства они неожиданно оказались наедине в гостиничном номере Билли. Стоя посреди комнаты, она смотрела на цветы и ряды бутылок. Билли поцеловал ее, развязал галстук и пошел в спальню. Она послушно последовала за ним. Он снял рубашку и небрежным жестом расстегнул молнию брюк. — О'кей, лапочка, снимай свои наряды. Аманда была в панике, пока медленно стаскивала с себя одежду. Оставив плавки и бюстгальтер, она замерла. Он подошел и стал целовать ее в губы, шею, плечи, неловко расстегивая застежки лифчика, который соскользнул на пол. Явно разочарованный ее маленькой грудью, Билли отступил назад. — Черт побери! Быстро надень свой лифчик, куколка! — Его взгляд скользнул по собственному телу, и он рассмеялся: — Птичка улетела от изумления. Аманда надела бюстгальтер, одежду и бросилась из отеля. На следующий день он прислал ей цветы, без конца звонил, донимал, и она в конце концов уступила. Они провели вдвоем три чудесных недели. Спали вместе, но лифчика Аманда больше не снимала. Через три недели певец уехал на юг. Больше она о нем никогда не слышала. В качестве прощального подарка Билли подарил ей норковое манто. Аманда до сих пор помнила его изумление, когда он обнаружил, что она девственница. Шум, который их идиллия наделала в прессе, стал Аманде своеобразным приглашением в агентство Ника Лонгуорта. Она успешно стала делать карьеру, начав с двадцати долларов в час. А сегодня, пять лет спустя, Аманда была одной из десяти ведущих манекенщиц страны и зарабатывала в час шестьдесят долларов. Ник Лонгуорт заставил ее изучать журналы мод, научил одеваться и ходить. Аманда уехала из Бар-бизона и поселилась в милой квартирке в Ист-Сайде, где в одиночестве проводила все вечера. Купив телевизор и сиамского кота, она погрузилась в работу и изучение иллюстрированных журналов для женщин.Робин Стоун ворвался в жизнь Аманды во время благотворительного бала. Ее выбрали с пятью ведущими манекенщицами для демонстрации моды в «Уолдорфе». После обеда Аманда с другими девушками пошла в раздевалку. Камеры компании Ай-Би-Си были уже установлены. Парад мод должен был напрямую транслироваться в двадцать три часа. Аманда ждала в раздевалке с остальными манекенщицами, когда раздался тихий стук в дверь и вошел Робин Стоун. Девушки представились ему. «Аманда, — сказала она, когда очередь дошла до нее, и так как он ждал продолжения, добавила: — Просто Аманда». Их взгляды встретились, и он улыбнулся. Он ходил по комнате, записывая их имена, а Аманда смотрела на него. Робин был очень высок, и ей нравились его непринужденные жесты. Она несколько раз видела его на экране и смутно помнила, что когда-то он получил Пулитцеровскую премию по журналистике. У него были черные жесткие волосы, слегка седеющие на висках. Аманду поразили его глаза, когда он настойчиво, словно оценивая, внезапно посмотрел на нее. Затем улыбнулся и вышел из комнаты. В конце вечера, когда Аманда уже переоделась, в дверь тихонько постучали. — Хэлло, мисс Аманда! — сказал, улыбаясь, Робин. — У вас есть муж, который ждет дома, или я могу пригласить вас выпить? Они спустились в бар, и Аманда, сидя со стаканом кока-колы, изумилась, увидев, как Робин, не поморщившись, заглотнул одним махом пять рюмок водки. Она пошла к нему, хотя он не сказал ни слова. Простого пожатия руки оказалось достаточно, чтобы она поняла его желание. Аманда была словно загипнотизированная. Она вошла к Робину без малейшего опасения и, стоя перед ним, начала раздеваться, не думая о своей груди. Заметив, что она медлит снимать бюстгальтер, он подошел и снял его сам. — Вы не слишком разочарованы? — спросила она, — Только коровам нужно вымя, — ответил Робин. Он притянул ее к себе и нежно поцеловал обе груди. Ничего подобного с Амандой еще не случалось. Она обхватила его голову руками и задрожала… В эту первую ночь Робин взял ее молча и нежно. Потом, когда они отдыхали, он спросил: — Хочешь быть моей подружкой? Вместо ответа Аманда еще сильнее прижалась к нему. Он отодвинулся, и его ярко-голубые глаза испытующе посмотрели на нее. Губы Робина улыбались, но взгляд оставался серьезным. — Никаких связей, обещаний, вопросов ни с одной, ни с другой стороны. Согласна? Она молча кивнула, и он снова овладел ею со странной смесью страсти и нежности. Когда они лежали, удовлетворенные и измученные, Аманда бросила взгляд на часы. Три часа утра! Она выскользнула из постели. Робин приподнялся и схватил ее за запястье. — Куда ты? — Домой. Он сжал ей запястье так грубо, что она вскрикнула. — Когда ты спишь со мной, то остаешься здесь на всю ночь. Поняла? — Но мне нужно возвратиться. Я в вечернем платье! Он молча отпустил ее, встал, начал одеваться. Они пошли к Аманде, и он снова любил ее. И когда она засыпала в его объятиях, то чувствовала себя настолько счастливой, что жалела всех женщин мира, потому что они не знали Робина Стоуна. С тех пор прошло три месяца, и даже Слаггер, ее сиамский кот, так привык к Робину, что спал, свернувшись клубочком у его ног. Робин зарабатывал немного, и чтобы было на что жить в конце месяца, часто ездил по выходным читать лекции. Аманда обожала слушать его рассуждения и, безуспешно пытаясь понять разницу между республиканцами и демократами, могла часами сидеть в «Лансере», пока Робин говорил о политике с Джерри Моссом. Джерри жил в Гринвиче и работал в агентстве, занимающемся рекламой продукции фирмы «Алвэйзо». Благодаря дружбе Робина и Джерри Аманда стала рекламировать товары фирмы. Аманда надела трикотажное платье перед зеркалом ванной комнаты в отеле «Плаза» и снова вышла в маленькую гостиную. Поднос с едой уже унесли. Фотограф разбирал свой аппарат. Его звали Айвэн Гринберг, и он был хорошим приятелем Аманды. Дружески улыбнувшись ему и помахав рукой костюмершам, которые укладывали платья, она вышла из комнаты — стройная, высокая, с рассыпанными по плечам золотистыми волосами. Аманда остановилась у стойки администратора, чтобы позвонить. Никаких известий от Робина. Набрала его номер: на другом конце провода, в пустой квартире, долго звучали гудки. Аманда повесила трубку. Где же он мог быть? (обратно)
Глава 2
В это время Робин Стоун был в «Бельвю Статфорд Отеле» в Филадельфии. Он медленно просыпался, чувствуя, что утро уже почти кончилось. Сквозь дрему услышал воркование голубей на подоконнике. Открыл глаза и сразу же вспомнил, где он. Иногда, просыпаясь по утрам, Робин с большим трудом вспоминал город, в котором находился, мотель, где ночевал. Приходилось даже делать усилие, чтобы вспомнить имя девушки, которая ночью спала рядом с ним. Но этим утром Робин был один. Он поискал сигареты на столике у кровати. Пачка была пуста. И ни одного более-менее приличного окурка. С другой стороны кровати Робин заметил пепельницу, переполненную длинными окурками в пятнах оранжевой губной помады. Но к ним он не прикоснулся. По телефону заказал себе кофе, большой стакан апельсинового сока и две пачки сигарет. Ожидая заказ, он все же расправил один из окурков, вытряс из него пепел, закурил. Окурки в другой пепельнице были получше, но Робин встал и выбросил их в туалет. Он смотрел, как их смывает водой, с ощущением, будто избавляется от девицы, курившей эти сигареты. Черт побери! Робин был абсолютно уверен, что она незамужняя. Обычно он нюхом чувствовал замужних женщин, этих искательниц приключений. Но вчера он ошибся. Может, потому, что эта девушка была не похожа на остальных? Ну да черт с ней! Это приключение, как и многие в его жизни, не будет иметь продолжения. Робин улыбнулся, посмотрел на часы. Почти полдень. Он еще может успеть на двухчасовой поезд, уходящий в Нью-Йорк. Сегодня вечером они с Амандой отпразднуют новость и выпьют за здоровье Грегори Остина, человека, который вытащит Робина из этой рутины. Он все еще не мог поверить в такую удачу, как не сразу поверил и в то, что это действительно Остин звонит ему в субботу в девять часов утра. Президент, генеральный директор Ай-Би-Си вызывает скромного провинциального журналиста! Робин думал, что это розыгрыш. Смеясь, Грегори посоветовал ему перезвонить в Ай-Би-Си и проверить. Робин перезвонил, и Остин снял трубку после первого звонка. Может ли Робин Стоун прийти к нему в кабинет сейчас же? Через десять минут Робин был у Грегори. Остин был один в своем шикарном кабинете и сразу же перешел к делу. Что скажет Робин, если ему предложат место директора отдела информации? Остину также хотелось бы, чтобы Робин занялся реорганизацией службы и набрал команду, способную лучше всех осветить предвыборную кампанию этим летом. Идея, очень понравилась Робину, но сама должность наводила на размышления. Морган Уайт был директором отдела новостей, Рэндольф Лестер — его заместителем. Что в таком случае означает должность «директор отдела информации»? Ну да Бог с ним, с названием. Главное — это пятьдесят тысяч в год, вдвое больше его нынешней зарплаты. А что касается остального, то, как сказал Остин: «Для начала пока воздержимся». В следующий понедельник Робин должен был приступить к своим обязанностям. Грегори взялся сам сообщить эту новость в Ай-Би-Си.Робин налил кофе и закурил. В окна отеля проникали лучи зимнего солнца. Через восемь дней он займет свое место на Ай-Би-Си. Робин глубоко затянулся. Хорошее настроение словно улетучилось вместе с дымом. Он раздавил сигарету на полу, как бы окончательно изгоняя из своих мыслей образ девушки с оранжевой помадой на губах. Однажды в Нью-Йорке, когда Робин был еще студентом Гарварда, он видел пьесу «Дама в тени», в которой девушка без конца напевала запавшие ей в память первые такты какой-то мелодии. Вот и с ним иногда происходило то же самое. Только речь шла не о мелодии, а о воспоминании или образе… Это было нечто неопределенное, словно он вот-вот вспомнит что-то важное, что оставило в его памяти ощущение тепла, нежности и любви. А потом его охватила ужасная паника. Такие моменты случались редко, но именно это произошло прошлой ночью. Словно короткая вспышка. И даже не одна, а две. Вначале это случилось, когда девушка скользнула к нему в постель и Робин прикоснулся к ее нежному, дрожащему, горячему телу. У нее была великолепная грудь. Обычно Робин не придавал большого значения груди. Для него целовать полную женскую грудь означало как бы возвращение в детство. Какое сексуальное удовольствие могли получать от этого мужчины? Только слабаки, считал Робин, испытывали необходимость зарыться в лоно женщины с пышным бюстом. Сам он питал слабость к ухоженным и свежим блондинкам, худеньким и достаточно крепким. Однако накануне Робин провел ночь с брюнеткой, у которой была великолепная грудь. Удивительно, но он был очень возбужден. Сейчас он даже вспоминал, что закричал в момент экстаза. Но что? Обычно он не кричал никогда: ни с Амандой, ни с какой-либо другой женщиной. И однако он знал, что это с ним уже было, хотя впоследствии он никогда не мог вспомнить слов, которые произносил. Робин зажег новую сигарету и усилием воли заставил себя переключиться на будущее, которое открывалось перед ним.
Отец оставил матери Робина — Китти — большое наследство: что-то около четырех миллионов долларов. Впоследствии деньги должны были перейти Робину и его сестре Лизе. А пока он довольствовался своими двадцатью тысячами в год. Прекрасная Китти весело проводила время. Она была восхитительна: маленькая, светловолосая. Хотя, кто знает, какого цвета она теперь. Последний раз Робин видел ее два года назад в Риме, и тогда она была, что называется, «тигровой блондинкой». Вспомнив мать, Робин с умилением улыбнулся. Для своих пятидесяти девяти она была еще чертовски хороша. У Робина было счастливое детство и счастливая пора учебы в колледже. Отец прожил достаточно долго, чтобы оплатить Лизе самую шикарную свадьбу, которую когда-либо видели в Бостоне. Теперь она жила в Сан-Франциско со своим мужем-кретином, который стриг волосы бобриком и был самым крупным агентом по продаже недвижимости на всем побережье. У них было два прекрасных сына. Боже! Он не видел их уже пять лет. Когда родилась Лиза, Робину было семь. Значит, теперь ей должно быть тридцать. Мать семейства и все такое. А он так и не определился. Возможно, из-за того замечания, которое двенадцатилетнему Робину сделал отец, когда впервые повел его на гольф. — Отнесись к гольфу, как к школьному предмету. Как к алгебре, например. Ты должен научиться защищать себя, сынок. Ведь большинство дел вершится на площадке для гольфа. — Разве все, чему учишься, должно приносить деньги? — спросил Робин. — Разумеется, если ты хочешь иметь жену и детей. Когда я был таким, как ты, то мечтал стать новым Кларенсом Дэрроу. А потом влюбился в твою мать и принялся зубрить гражданское право. Мне нечего жаловаться, я нажил состояние. Робин научился играть в гольф. По окончании Гарварда он хотел поступить на филологический факультет, а затем специализироваться в журналистике, но этому воспротивился отец. Когда в 1944 году Робин получил диплом, у него была возможность поступить на юридический, но в это время шла война, а ему уже исполнился двадцать один год, и он пошел добровольцем в военно-воздушные силы, пообещав сразу же по возвращении заняться правом. Все обернулось иначе. Робин сражался на фронте получил звание капитана, был ранен, о чем написали в заметке на второй странице газеты в Бостоне. Да, теперь отцу было чем гордиться! Ранение Робина не было серьезным, но неожиданно открылась старая рана, которую он получил, играя в футбол. Его госпитализировали. Чтобы как-то убить время, Робин начал писать рассказ о своей жизни в госпитале и о товарищах по оружию. Потом послал рукопись приятелю, который работал в Эн-Пи-Эй. Рассказ опубликовали. Так началась его журналистская деятельность. Война окончилась, и Робин стал работать в Эн-Пи-Эй постоянным корреспондентом. Естественно, что родители снова завели старую песню: его долг — заняться юриспруденцией. Но как раз в это время Лиза встретила своего стриженного бобриком, и весь дом занялся приготовлениями к свадьбе. Спустя пять дней отец умер во время партии в скетч. Это была та смерть, о которой он мечтал: уйти из жизни с твердыми мускулами и в полной уверенности, что его долг выполнен. Робин встал и оттолкнул столик на колесиках. Теперь он свободен и никому ничего не должен. И он был полон решимости преуспеть на выбранном пути. (обратно)
Глава 3
Для всех в Ай-Би-Си этот понедельник начался как обычно. Цифры, как фамильярно называли ежедневный рейтинг популярности передач, лежали на каждом столе. Первый признак грозы появился в десять часов утра в виде простой служебной записки: «Грегори Остин ожидает Дантона Миллера в своем кабинете в десять тридцать». Записка была передана секретаршей Остина секретарше Дантона Миллера — Сьюзи Морган. Сьюзи прикрепила ее к стопке бумаг, которую положила на стол Миллера, после чего направилась в туалет. Проходя мимо «клетки» секретариата, она заметила, что там уже царила активность: пишущие машинки трещали с половины десятого. Секретарши более высокого уровня — личные секретари важных шишек — приходили к десяти часам в черных очках и без макияжа. Они отмечались, докладывали своим уважаемым шефам, что явились, и исчезали в туалете. Через двадцать минут они выходили оттуда, похожие на манекенщиц. Все уже были в сборе, когда вошла Сьюзи. Намочив слюной тушь для ресниц, она непринужденно вклинилась в общий разговор. Грегори Остин вызвал Дантона Миллера! Первая же девушка, вышедшая из туалета, передала информацию подруге, которая работала в юридической службе. Через пять минут новость распространилась по всем этажам. Этель Эванс сидела за машинкой, когда известие достигло отдела рекламы. Этель так хотела расспросить Сьюзи поподробнее, что она, не дожидаясь лифта, перескакивая через ступеньки, помчалась в туалет на шестнадцатый этаж. Задыхаясь, ворвалась в него. Сьюзи была одна. — Кажется, твой шеф скоро собирается поменять работу, — бросила Этель. Сьюзи закончила красить губы, вытащила расческу и поправила несколько завитков, прекрасно понимая, что Этель с нетерпением ждет ответа. Она бросила с наигранным безразличием: — Как всегда, утренние сплетни по понедельникам. У Этель сузились зрачки. — Мне кажется, на сей раз это не пустые слова. Грегори проводит еженедельные совещания с директорами отделов по четвергам. Всем хорошо известно, что пригласить Дантона Миллера в понедельник — значит выставить его за дверь. Внезапно Сьюзи охватило беспокойство. — Так говорят наверху? Этель почувствовала облегчение: наконец-то хоть какая-то реакция. Она прислонилась к стене и с удовольствием закурила. — Все это прекрасно понимают. Ты ведь видела «цифры»? Сьюзи принялась взбивать волосы. В этом не было необходимости, просто она ненавидела Этель Эванс. Но если Дантон Миллер вылетит, вылетит и она. Нужно выведать, что за всем этим кроется. Сьюзи не могла не знать, что положение Дантона напрямую зависит от рейтинга передач. И однако нужно взять себя в руки. Этель Эванс всего лишь мелкая сошка в отделе рекламы. Сьюзи ответила как можно более непринужденно: — Конечно, я видела «цифры», но они в основном касаются отдела новостей. Вот пусть Морган Уайт и беспокоится. Этель довольно громко рассмеялась: — Морган Уайт — родственник Остинов. Он неуязвим. А вот твой дружок попал в переплет. Сьюзи слегка покраснела. Они с Даном иногда встречались, но их отношения ограничивались или обедом в «21» или премьерой на Бродвее. Сьюзи знала, что ее считали подружкой Дана, и гордилась этим. Это возвышало ее над другими секретаршами. Она улыбнулась Этель. — Не беспокойся за Дана. Я уверена, что если он и потеряет место, у него будет достаточно других предложений. Этель лишь усмехнулась. — Моя дорогая, не надо обольщаться. В жизни человеку дается не так много шансов выкарабкаться наверх. Дан свой шанс упустил.Дан, увидев записку, сразу почувствовал опасность. Он обожал свою работу и страшно боялся ее потерять. А работая на такого сумасшедшего, как Грегори Остин, можно было вылететь с работы в два счета. Дан знал об этом и поэтому никогда не рисковал, в отличие от других директоров программ. И вот теперь над ним нависла смертельная опасность. В десять двадцать семь Дан вышел из своего кабинета и направился к лифту. Он весело поздоровался с лифтером, быстро доставившим его на последний этаж, спокойно поприветствовал секретаршу Остина, которая тут же доложила о его приходе шефу. Дантон вошел в большую комнату, где Грегори обычно принимал гостей. Это была шикарная гостиная с роскошной мебелью. Самого Остина в ней не было. «Странно, — подумал Дантон, — если Грегори действительно хочет меня выставить, то должен быть уже здесь, чтобы покончить с этим делом как можно быстрее. Может, еще не все потеряно?» Дантон уселся на один из кожаных диванов и с хмурым видом вытащил портсигар: прелестную вещицу из крокодиловой кожи в золотой оправе. Дантон — был щеголем. Он мог бы купить себе портсигар из чистого золота, но это не соответствовало бы его стилю: скромность и утонченная элегантность. Внезапно Дан понял, что чувствует приговоренный k смерти, идущий к электрическому стулу, и хотя был не очень набожным, начал молиться молча и горячо. Если его не выставят, он изменится. Днем будет работать, как зверь, и во что бы то ни стало повысит рейтинг своих программ. Вечером будет смотреть телевизор и — никаких девочек, никаких выпивок. Тяжелая дверь внезапно открылась, и вошел Грегори Остин, при виде которого Дан вскочил. Грегори Остин был невысок, но, несмотря на это, в нем чувствовалась настоящая мужская сила. У него были рыжие волосы, сильные загорелые руки с пятнами веснушек, плоский живот и обезоруживающая улыбка. Весь его облик излучал оптимизм и жизненную силу. Рассказывали, что Грегори производил настоящий фурор среди голливудских красавиц, но с тех пор, как встретил свою будущую жену Юдифь, совершенно перестал интересоваться другими женщинами. Грегори дал знак Дантону сесть и молча протянул листок с результатами опроса телезрителей, который Дан сразу же начал просматривать, делая вид, что видит его впервые. — Ну, что скажете? Дан поморщился и для того, чтобы выиграть время, вытащил портсигар. Он закурил, медленно выпустил дым и пообещал Богу, что если не потеряет работу, больше никогда не прикоснется к сигаретам. Грегори ткнул пальцем, покрытым рыжими волосками, в показатели отдела новостей. — Да, не блестяще, — произнес Дан, словно только что об этом узнал. Он не мог оторвать глаз от двух развлекательных программ, которые фигурировали в последней десятке. Это он их рекомендовал. И, однако, Дан все-таки заставил себя непринужденно взглянуть на Грегори. Остин нетерпеливо постукивал пальцем по листку. — Обратите внимание на местные новости, мистер Миллер. Они не только сохраняют позиции, но временами даже берут верх над Си-Би-Си, Эй-Би-Си и Эн-Би-Си. И знаете, благодаря кому? Благодаря некоему Робину Стоуну! — О, это прекрасный парень, я его видел несколько раз, — солгал Дан. На самом деле он ни разу в жизни не видал этого типа и никогда не смотрел новости в двадцать три часа. В это время он уже обычно бывал пьян. — Я смотрю его вечерами в течение месяца, — заявил Грегори. — Миссис Остин находит этого Стоуна потрясающим, а у нас женщины выбирают, по какому каналу смотреть информационную программу. Новости везде одинаковы. Все зависит от ведущего. И поэтому я предложил Робину Стоуну вести новости в семь часов вечера вместе с Джимом Боултом. — Почему с Джимом? — У нас с ним контракт. Кроме того, я не хочу, чтобы Стоун ограничивался только этой программой. У меня насчет него другие планы. У этого парня чертовски привлекательная внешность. Мы сделаем из него звезду. Он будет нашим постоянным корреспондентом в сенате. Его лицо будет знать вся страна. Нам нужны звезды, и такой звездой станет Робин Стоун. — Да, возможно, — задумчиво произнес Дан. Он ждал продолжения. Грегори вторгался во владения Моргана Уайта. Словно читая его мысли, Грегори спокойно добавил: — Морган Уайт должен уйти. Дан промолчал. Дело принимало совершенно неожиданный оборот. Но почему Грегори решил довериться ему, Дантону? — Робин Стоун станет во главе службы информации. — По-моему, прекрасная мысль, — поддакнул Дан. — Но я не могу уволить Моргана. Необходимо, чтобы он ушел сам. У Моргана совершенно нет таланта, но зато огромное самомнение. Это фамильная черта. Вот на нее я и рассчитываю. Возвратившись к себе, вы пошлете Моргану служебную записку, в которой сообщите, что назначаете Робина Стоуна директором отдела информации. — Директором отдела информации? — Такого поста нет. Я учреждаю его временно. Вы скажете Моргану, что придумали этот пост специально для Стоуна, чтобы поднять рейтинг передач. Дан задумчиво покачал головой. — Морган скажет, что я вторгаюсь в его владения. — Вы ни во что не вторгаетесь. Будучи директором канала, вы имеете полное право производить любые необходимые изменения. После этого Морган прибежит ко мне. Я разыграю удивление, но скажу, что вы действуете в полном соответствии со своими функциями. — А если Морган не уйдет? — Он уйдет. Я гарантирую это.
Рука Дантона дрожала, пока он писал и переписывал служебную записку Моргану. Испортив несколько черновиков, он продиктовал ее Сьюзи. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы на всех этажах узнали сногсшибательную новость? Стоя у окна, Дантон медленно обернулся, когда Морган Уайт ворвался в его кабинет, — Что происходит? — Садитесь, Морган. Дан вытащил портсигар, поколебался, затем одним щелчком открыл его. Если есть Бог, он поймет, что в такую минуту человек не может без сигарет. (обратно)
Глава 4
На следующий День о назначении Робина было объявлено официально, и жизнь в Ай-Би-Си пошла своим чередом. В службе новостей его прихода ожидали с некоторым опасением. Робин всегда держался особняком, и поэтому каждый задавался вопросом: что это за человек? Было известно, что он мог осушить три рюмки мартини с водкой так, словно это апельсиновый сок. Несколько женщин встречали его в сопровождении красивой девушки, иногда с ними был и Джерри Мосс, по-видимому, его единственный друг. Попробовали подкараулить его в ресторане «Лансер», но напрасно: Робин не появлялся. Наконец в пятницу, в конце рабочего дня, все, кто работал в службе информации, нашли на своих столах записку:В ПОНЕДЕЛЬНИК В ДЕСЯТЬ ТРИДЦАТЬ СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ НА ВОСЕМНАДЦАТОМ ЭТАЖЕ. РОБИН СТОУН.В десять двадцать первые участники собрания начали собираться в конференц-зале. Пришла даже Этель Эванс. Джимми Боулт бросил на нее удивленный взгляд. Ей здесь нечего было делать. В десять тридцать в зал вошел Рэндольф Лестер — заместитель директора службы информации во времена Моргана. Он отечески улыбнулся и сказал: — Здравствуйте, друзья. Я знаю, что вы с радостью восприняли назначение мистера Стоуна директором службы информации. У нас будут изменения и, конечно же, большие перестановки. Но я уверен, вы поймете, что никто не ставит под сомнение талант каждого из вас. В это время открылась дверь, и в зал вошел Робин. Несколько человек зааплодировали, но что-то во взгляде Робина мгновенно остановило их. Тогда он улыбнулся, и все в зале почувствовали себя провинившимися, но быстро прощенными детьми. Этель заметила, что его улыбка действует на присутствующих, словно электрический разряд. Для Этель он стал внезапно более желанным, чем любой киноактер. Господи! Разбить бы этот стальной панцирь, заставить такого мужчину дрожать в своих руках… Внезапно она обнаружила, что он улыбается одними губами, в то время как его глаза остаются холодными. — Я ознакомился с деятельностью службы, — спокойно начал Робин. — Каждый из вас в отдельности прекрасный работник. А баллы плохие. Пока он говорил, Этель не спускала с него глаз. Красив, но холоден. Рост где-то под метр девяносто и ни капельки жира. Ей нужно срочно подумать о диете. Он снова улыбнулся. Только одной своей улыбкой он выиграет любую битву. — Я не собираюсь работать по-старому. Этим летом я намерен создать сплоченную команду, которая будет освещать предвыборную борьбу в сенате. А теперь, — Робин повернулся к Рэндольфу Лестеру, — не представишь ли ты мне присутствующих? Они встали и, обходя зал, Робин каждому пожимал руку. Он по-прежнему дружески улыбался, но его взгляд оставался холодным, а слова бесстрастными. Когда Лестер заметил Этель, он вначале удивился, на мгновение заколебался и пошел дальше. Все произошло так быстро, что Этель даже не сообразила, что ее умышленно проигнорировали. Она увидела, как они дошли до конца стола, но Робин не сел. Он обвел глазами всех собравшихся, и его, взгляд остановился на Этель. — Нас, кажется, не представили. Она встала. — Я — Этель Эванс. — Чем вы занимаетесь? Она почувствовала, что краснеет. — Я из службы рекламы. — В таком случае, что вы здесь делаете? Он все еще улыбался, говорил спокойно, но от его взгляда Этель пробрал холод. — Я… я думала… Я хочу сказать, что кто-то должен заниматься рекламой ваших новых программ. И решила, что могу вам понадобиться. Она быстро села. — Когда мне кто-нибудь понадобится, я дам знать службе рекламы, — сказал Робин, не меняя тона. — А теперь прошу вас вернуться к себе. Все следили за Этель, когда она выходила из зала. Очутившись в коридоре, она прислонилась к двери. Этель казалось, что ее сейчас вытошнит, так ей было плохо. Она услышала, как Лестер спросил у Робина, будут ли по-прежнему еженедельные собрания проводиться по понедельникам. — Нет, еженедельных собраний больше не будет, — ответил Робин. — Я буду приглашать вас к себе, когда сочту нужным. И еще одну вещь следует изменить… Избавьте меня от этого стола и поставьте круглый. — Круглый? — переспросил Лестер. — Ну да! Большой, красивый круглый стол. Если мы должны работать вместе, то и сидеть должны рядом друг с другом. Ты не возражаешь? Наступила тишина, потом все заговорили одновременно, и Этель поняла, что Робин покинул зал. Через минуту все начнут выходить! Не дожидаясь лифта, она выскочила на лестницу и, желая спрятаться, побежала в туалет этажом ниже. Слезы, вызванные унижением, струились по ее щекам. «Негодяй! Негодяй, я его ненавижу!» Она разрыдалась. «Я его ненавижу, ненавижу!» Она вытерла глаза, посмотрелась в зеркало и тут же разрыдалась снова. «О Господи! Ну, почему я некрасивая?!» (обратно)
Глава 5
Выставленная с позором из конференц-зала, Этель до вечера просидела в своем кабинете, не имея ни малейшего желания столкнуться с кем-нибудь нос к носу в коридоре. Она была уверена, что после всего случившегося стала объектом насмешек. Этель принялась печатать все оперативные сводки, скопившиеся на ее столе. В восемнадцать тридцать этаж опустел. Исступленно работая, она на время забыла о своем унижении, но сейчас почувствовала себя измученной и опустошенной. Она вынула зеркальце и попыталась привести в порядок макияж, с тоской глядя на свое отражение. Потом закрыла пишущую машинку и встала из-за стола. Слишком тесная юбка морщила со всех сторон. Этель вздохнула. Все, что она съедала, откладывалось на бедрах. Нужно всерьез сесть на диету. Этель вошла в лифт и спустилась на первый этаж. В холле никого не было, но кафетерий еще работал. Она заказала черный кофе. Вынув пудреницу, подкрасила губы. Конечно, она некрасива, но защитить себя сумеет. Если бы только у нее не было этой щели между зубами! Но кретин дантист потребовал триста долларов за фарфоровую коронку! Она предложила ему переспать с ней, если он согласится лечить ее бесплатно, а он решил, что она шутит. Когда же она дала ему понять, что говорит серьезно, он сделал вид, что не верит ей. И тогда она поняла, что он не хотел ее! Ничтожный дантист Ирвинг Штейн не хотел ее, Этель Эванс, — девушку, которая имела дело только с кинозвездами и которую прозвали на Ай-Би-Си «трахальщицей знаменитостей»! Выйдя из кафетерия, Этель направилась в бар. Там она принялась болтать с несколькими агентами по рекламе и более часа обменивалась с ними салонными шутками, попивая пиво. Краешкомглаза Этель следила за входной дверью на тот случай, если появится кто-нибудь, кто мог бы сегодня пригласить ее поужинать. Прошел час. Вдруг, как по сигналу, рекламные агенты быстро допили свои рюмки и устремились к выходу, торопясь на последний пригородный поезд. И ни один из этих мерзавцев не предложил расплатиться за нее! Этель села за столик и заказала гамбургер. Чувствуя волчий аппетит, она все же заставила себя отказаться от половины хлеба. Она весила уже семьдесят килограммов. К счастью, у нее была тонкая талия и сногсшибательная грудь! Настоящей проблемой были ягодицы и бедра. Если она сейчас не похудеет, потом будет поздно. В следующем месяце ей исполнится тридцать, а она все еще не замужем. Этель могла бы выйти замуж, пожелай она довольствоваться каким-нибудь ничтожеством. Например, оператором Ай-Би-Си или барменом из ресторана «Виллидж». Но ее мечтой было более шикарное замужество. Лучше одна ночь со знаменитым человеком, чем серые будни с посредственностью. Прекрасно зная, что ее репутация известна всем, Этель гордилась ею, как гордилась и своим прозвищем. Широко известной стала переписка Этель с одной из ее подруг, работавшей в Голливуде. В письмах к ней Этель детально описывала каждое из своих приключений, проставляя оценку партнеру и уточняя даже размер его инструмента. У нее был забавный стиль, и Ивонна, ее корреспондентка, перепечатывала эти письма, которые затем свободно передавались из кабинета в кабинет. Узнав об этом, Этель еще тщательнее стала следить за своими описаниями. Это послужило ей неплохой рекламой. Теперь многие знаменитости, приезжая в Нью-Йорк, звонили ей. Внезапно она подняла голову. Перед ней стоял Дантон Миллер. Он был уже заметно пьян. — Привет, куколка! — игриво произнес он. Она рассеянно улыбнулась. — А, вот и «Огни большого города». — Что это значит? — спросил он. — Как в одноименном фильме. Вы меня узнаете только тогда, когда пьяны. Дан, посмеиваясь, сел на стул. — А ты, однако, смешная девчонка. — Он сделал знак бармену, чтобы ему наполнили бокал, потом с любопытством посмотрел на Этель: — Я слышал, ты великолепна в своем деле. Как ты считаешь, мне стоит переспать с тобой? — Я сама выбираю себе партнеров, господин директор. Но не волнуйтесь, вы внесены в мой список. Как только у меня будет свободный вечерок… — А сегодня он свободен? — Пока да. Он обнял ее за плечи. — Ты действительно некрасива. В сущности, ты просто шлюха. Но я слышал, что с тобой это потрясающе! — А с вами это так романтично! Дан внимательно посмотрел на нее. — Кажется, ты за словом в карман не лезешь. Говорят, что ты слишком много болтаешь и ставишь оценки типам, с которыми спишь. Этель пожала плечами. — Почему бы и нет? Это иногда помогает моим приятельницам избегать ничтожеств. — Наверное, я возьму тебя с собой. — Вы забываете, господин директор, что это решаю я. Дан заискивающе посмотрел на нее. — Ты не хочешь пойти со мной? Этель охватило чувство победы. Он уже умолял ее. — Я соглашусь при одном условии: ваш шофер отвезет меня домой в любое время ночи. — Ты вернешься к себе на «роллс-ройсе», если только будешь действительно так хороша, как говорят. Дан с трудом встал и подозвал официанта. Этель с облегчением вздохнула, увидев, что он взял и ее счет. На улице она внимательно взглянула на Дана: — Забудьте про все. Я вовсе не собираюсь возиться с пьяным. Он схватил ее за руку. — Боишься?! Может, твоя репутация преувеличена? Вполне вероятно. Не понимаю, чем ты можешь быть лучше других, если только не исполняешь в конце государственный гимн своим задом! — Погоди, я тебе покажу, на что способна! Этель остановила такси и впихнула в него Дана. У Дана была симпатичная квартирка в Восточном квартале. Он сразу же потащил ее в спальню и неловко стал снимать с себя одежду. Этель увидела на его лице изумление, когда разделась. — Ах ты, моя курочка! Да ты хорошо сложена! Он бросил ее на кровать и попытался овладеть ею, но для этого оказался слишком пьян. Этель высвободилась и перевернула его на спину. — Не перенапрягайся, дружок, — сказала она. — Может, ты и директор канала, но для меня ты всего лишь мальчик из хора. А теперь расслабься. Крошка Этель покажет тебе, что такое любовь! Она начала ласкать его, и по мере того, как его возбуждение нарастало, он, дрожа, застонал: — О, малышка! Ну ты и сильна! Этель забыла, что назавтра он встретит ее в коридоре и сделает вид, что не узнает. В этот момент она любила директора первого канала Ай-Би-Си и чувствовала себя красивой… (обратно)Глава 6
Дантон Миллер отодвинул в сторону стопку бумаг. Ему никак не удавалось собраться с мыслями. Через час ему предстояло завтракать с Грегори Остином, и он не мог представить, о чем пойдет речь. До сих пор рейтинг программ все еще был низким. Новости по-прежнему плелись в хвосте, правда, Энди Парино приступил к работе всего неделю назад, и следовало признать, что его приход существенно изменил передачу. Но, в конце концов, это их проблемы. У Дана хватало своих: сняли его развлекательную передачу, заменив ее вестерном, который выбрал сам Грегори. Дан решил спасти сезон какой-нибудь сенсационной программой. Ради этого он провел все вечера на прошлой неделе с пижонистым певцом, которого звали Кристи Лэйн. Неделю назад Дан специально пошел в «Копа», чтобы посмотреть выступление комика Кристи, игравшего там выходные роли. Вначале он не обратил внимание на этого бесцветного сорокалетнего актера, напоминавшего мальчиков из кафе, которые когда-то пели песенки в Кони-Айленд. Но когда Дан наблюдал за ним, его внезапно осенила идея. Он резко повернулся к Сигу Хайману и Харви Хэррису, сопровождавшим его авторам, и сказал: — Вот тот, кто мне нужен! Дан знал: оба автора решили, что он сказал это, находясь под воздействием виски, но на следующий день, вызвав их, он официально сообщил, что намерен сделать пробы с Лэйном. — Кристи Лэйн! Да это же чокнутый! Он не стоит и ломаного гроша, — сказал Сиг. — В Нью-Йорке им затыкают дыры, когда в афише стоит суперзвезда. И к тому же его ирландские баллады… — Харви закатил глаза. — Кроме всего прочего, он похож на моего дядюшку Чарли, который живет в «Астории», — добавил Сиг. — Именно это мне и нужно, — продолжал настаивать Дан. — У каждого человека есть обожаемый дядюшка Чарли. — Но я ненавижу своего дядюшку, — возразил Сиг. Сиг был абсолютно прав, говоря о внешнем виде Кристи. Он действительно выглядел слишком обычно. Но постепенно Сиг и Харви поняли, что задумал Дан. — Возьмем Кристи руководителем, — объяснил Дан. — Соберем труппу из певицы и ведущего, вы напишете скетчи. Кристи Лэйн, конечно, второразрядный актер, но на телевидении его не знают. Это будет новое лицо. И каждую неделю мы будем приглашать какую-нибудь звезду, чтобы привлечь публику. Уверяю вас, что это пойдет. Как и многие артисты, Кристи Лэйн начал с ревю. Он умел танцевать, петь, рассказывать смешные истории, произносить текст. Это был довольно полный блондин среднего роста с редкими волосами и широким добродушным лицом. Он носил кричащие галстуки, широкий пиджак, запонки на его рубашке были величиной с полдоллара, а на мизинце сиял слишком большой бриллиант. И тем не менее Дан чувствовал, что может сделать симпатичный персонаж из этого любопытного сочетания предельно вульгарного и истинно талантливого. К концу первой недели идея Дана начала развиваться. Даже авторы поняли суть замысла и больше не настаивали, чтобы Лэйн сменил свои ужасные галстуки и слишком широкий пиджак. Сам Кристи был убежден, что одет прекрасно. На прошлой неделе Дан вкратце обрисовал литературный сценарий своей новой передачи Грегори Остину. Возможно, это и было причиной приглашения на завтрак, хотя Грегори был не тот человек, который тратит два часа на обсуждение замысла. В двенадцать двадцать пять Дан вошел в лифт и поднялся на последний этаж. Он прямиком направился в личную столовую Грегори. Войдя туда, увидел стол, накрытый на три персоны. Дан вытаскивал сигарету, когда вошел Робин Стоун. Сразу же за ним появился Грегори Остин и дал им знак сесть. Вначале они поговорили о том о сем. Обсудили шансы янки по сравнению с другими командами, порассуждали о влиянии погоды на счет во время игры в гольф. Дан молча проглотил свой грейпфрутовый сок, съел две телячьи котлеты с зеленой фасолью и тремя кружочками помидора. Потом набросился на фруктовое желе. Когда Грегори зажал в зубах незажженную сигарету, Дан понял, что сейчас тот перейдет к настоящей цели завтрака. — У Робина много увлекательных планов, — сказал Грегори с теплотой в голосе. — Они касаются организации наших программ. Именно поэтому я и пригласил вас сегодня сюда, Дан. Потом он повернулся к Робину и бросил на него отеческий взгляд. Робин, наклонившись через стол, посмотрел Дану прямо в глаза. — Я хочу сделать передачу, которая будет называться «Мысли вслух», — решительно произнес он. Дан вытащил портсигар. Тон Робина не оставлял никаких сомнений. Он не советовался, а информировал. Дан стряхнул пепел с сигареты. Вот, оказывается, в чем дело! Грегори уже дал зеленый свет Робину. Оставался только чисто формальный вопрос, и сейчас оба притворялись, что решают его. А он должен склонить голову и зааплодировать. Ну уж нет! Он не позволит так легко обвести себя. Дан глубоко затянулся, а когда выдохнул дым, на его губах была неизменная улыбка. — Хорошее название, — спокойно сказал он. — И что это будет? Информационная передача на четверть часа? — На полчаса, — ответил Робин. — По понедельникам в одиннадцать вечера. «Мерзавцы! Они уже и время выбрали!» — подумал Дан и повернулся к Грегори. — Мне кажется, на это время у нас запланирован вестерн. — Мистер Остин считает, — резко возразил Робин, — что «Мысли вслух» должны идти в это время. Совершенно новая информационная программа должна транслироваться тогда, когда ее сможет посмотреть наибольшее число зрителей. И потом, всегда можно найти способ снять вестерн. — Вы представляете, во сколько нам это обойдется? После такой передачи, как ваша, мы будем вынуждены за бесценок уступить последующее эфирное время. Дан обращался к Робину, но на самом деле он говорил все это только для Грегори. — Если «Мысли вслух» пойдут, цена не упадет, — возразил Робин. — Вот тут-то вы и ошибаетесь, — холодно сказал Дан. — Я уж не говорю о том, что мы никогда не найдем покупателя, заинтересованного в получасовых новостях. Робин вышел из себя. — Я ничего не понимаю в рыночной стоимости передачи! Этот вопрос вы можете обсуждать с коммерческой службой. Я здесь, чтобы сделать информационную программу более интересной, более познавательной, и думаю, что «Мысли вслух» будут очень увлекательной передачей. Дан не верил своим ушам. Он надеялся, что его поддержит Грегори, но тот лишь уклончиво улыбался. — Когда же вы собираетесь выйти в эфир? — спросил Дан. — В октябре. — И до этого ничего не планируете? — Этим летом я буду освещать работу сената. — Дан, я за то, чтобы дать Робину свободу действий, — вступил в разговор Грегори. — Рейтинг — это, конечно, хорошо, но нам нужна престижная передача. И если Робин сделает себе имя, отражая избирательную кампанию, передача «Мысли вслух» может иметь огромный коммерческий успех. — Он похлопал Робина по плечу: — Идите вперед, Робин, дерзайте. А я замолвлю словечко перед бухгалтерской службой, чтобы вам открыли необходимые кредиты. Робин улыбнулся и направился к выходу. — Я тотчас же принимаюсь за работу. Буду постоянно держать вас в курсе событий, мистер Остин. Дан неловко встал. Грегори продолжал с нескрываемым восхищением смотреть на закрывшуюся за Робином дверь. — Вот это личность! — сказал он. — Если ему удастся осуществить то, что он задумал, — возразил Дан. — Ему удастся. И даже если он потерпит поражение, не беда. По крайней мере, он действует. Знаете, Дан, я думаю, что взял на работу самого энергичного человека в нашей профессии.Дан вернулся к себе в кабинет. Проект передачи с Кристи Лэйном лежал на столе. Внезапно он показался Дану совершенно бессмысленным. Высокомерие Робина Стоуна окончательно выбило его из колеи, однако он снял трубку и позвонил Сигу и Харви, назначив им на четыре часа встречу. Грегори хочет динамичной работы? Отлично. Дан начнет действовать. Он продержал Сига и Харви в своем кабинете до семи вечера и на прощание попросил их принести через два дня не проект, а уже готовый набросок сценария. После ухода авторов у Дана внезапно появилось желание напиться. В конце концов, он это заслужил. Дан направился в «21» и устроился в баре, где уже было полно завсегдатаев. Он заказал двойной скотч. Что-то беспокоило его после стычки с Робином. Что-то нехорошее произошло в столовой. Но что? Дан чувствовал, что если вспомнит все, о чем шла речь, то будет знать, с какой стороны ожидать опасности и против чего бороться. Он подумал об Этель. Может быть, стоило развлечься с ней? Пригласить к себе, чтобы она снова сыграла с ним в свою игру? С Этель не нужно было тратить сил, чтобы удовлетворить ее. Ему даже показалось, что она предпочитала такой секс, при котором не нужно раздеваться. Дан почувствовал себя лучше. Только в глубине сознания оставалось беспокойство, имеющее отношение к Робину Стоуну. Он еще и еще раз перебирал все моменты завтрака вплоть до ухода Робина из кабинета. «Я тотчас же принимаюсь за работу…» Дан с такой силой опустил стакан на стойку бара, что он разбился. Услужливый официант сразу же бросился убирать осколки, а бармен протянул другой двойной скотч. Боже мой! Он вспомнил! Это же последняя фраза Робина: «Я буду держать вас в курсе дела, мистер Остин». Это перед ним, Дантоном Миллером, должен отчитываться Робин Стоун! Но этот сукин сын собирался перескочить через его голову, и Грегори был не против. Ну что ж, он знает, как решить эту проблему. Нужно, чтобы передача с Кристи Лэйном заставила их заткнуться! Нужно, чтобы он вышел победителем! Так будет лучше для многих. Дан позвонил Этель из телефонной кабины. — Придешь ко мне? — спросил он. — Я вам не проститутка, которую вызывают по телефону. — Это значит? — Это значит, что я еще не обедала. — Ладно, приезжай в «Эль Марокко». — А другого ресторана нет? — Послушай, милочка, — он смягчил тон, — сейчас половина девятого. Я не могу позволить себе засиживаться допоздна. На следующей неделе я поведу тебя туда, куда ты захочешь. — Это обещание? — Клянусь своими баллами. Итак, встречаемся через полчаса. Он вернулся в бар, допил свой скотч, посмотрел на часы. В такое время было уже неловко показываться в компании Этель. Он подписал счет и вдруг почувствовал, что слишком много выпил. Вызвал такси и вернулся к себе. Этель, должно быть, теперь ждет его. Ну и пусть ждет! Он не должен отчитываться перед этой шлюхой. Он, Дантон, важная персона, а она всего лишь пешка! (обратно)
Глава 7
Этель ждала. В половине одиннадцатого она все же позвонила Дану. После долгих гудков он снял трубку. — Что такое? — Это я, мерзкий пьяница! Я уже целую вечность торчу в «Эль Марокко». В ответ раздались короткие гудки. Секунду Этель смотрела на аппарат, потом с яростью швырнула трубку. И зачем ей нужно было связываться с ним? Дан не был проезжим киноактером на одну ночь, но даже киноактеру она не позволяла садиться себе на голову. Этель вернулась к столу, оплатила счет и последний раз посмотрела вокруг. Она заметила, что внимание всех приковано к очень красивой девушке, только что вошедшей в зал. Боже, до чего она была хороша! Ее сопровождали двое мужчин, и вся компания уселась за первый столик около двери. Лицо девушки показалось Этель немного знакомым. Ну конечно! Она видела ее на обложке журнала «Вог» в этом месяце. Этель посмотрела на мужчин. Один из них был Робин Стоун, второй — Джерри Мосс. Она встречала Джерри на нескольких вечерах в агентстве. Этель направилась прямо к их столику. — Привет, Джерри, — с улыбкой сказала она. Он поднял глаза. — А, добрый вечер, — небрежно бросил он, не вставая с места. Этель улыбнулась Робину. — Я — Этель Эванс… Мы уже встречались. Я работаю в рекламной службе Ай-Би-Си. Робин посмотрел на нее и медленно улыбнулся. — Присоединяйтесь к нам, Этель. Это — Аманда. Этель слегка улыбнулась, но ее улыбка осталась без ответа. Лицо девушки было застывшим, как маска, но Этель заметила, что она приревновала Робина к ней. «Как она может ревновать ко мне? — подумала Этель. — Если бы я была так хороша, весь мир принадлежал бы мне». Этель взяла сигарету. Робин протянул ей зажигалку, и она пристально посмотрела на него, но он уже перевел взгляд на стакан. Тишина, установившаяся за столиком, начинала тяготить Этель. Джерри был смущен, Аманда недовольна, а Робин поглощал свой напиток. — Я только что закончила одну работу, — сообщила Этель, — и зашла сюда перекусить. — Не извиняйтесь, — сказал Робин и подозвал официанта. — Что будете пить? — Пиво, — ответила она. — Одно пиво для мисс, — заказал Робин, — а для меня стакан воды со льдом. Официант принес напитки. Робин сделал большой глоток, и Аманда склонилась, чтобы попробовать из его стакана. Поморщившись, она резко выпрямилась. — Робин! — ее взгляд был рассерженным. — Тебе не нравится моя вода со льдом, дорогая? — Но это же чистая водка! Этель смотрела на них, сгорая от любопытства. Робин сделал еще глоток. — Должно быть, Майк ошибся, — сказал он. — Нет, он с тобой заодно, — холодно возразила Аманда. — Робин! — Она наклонилась к нему: — Ты же обещал, что мы проведем этот вечер вместе. — Но мы и так вместе, дорогая! — Я хочу сказать — вдвоем, — тихим, умоляющим голосом произнесла Аманда, — а не с Джерри и с другой девушкой. Я не могу назвать это «вдвоем». Робин взъерошил ей волосы. — Я попросил Этель остаться ради Джерри. Получилось две пары. — Робин, у меня завтра утром цветные съемки. Очень рано. Я должна была остаться дома, вымыть голову и лечь спать. А я пошла, чтобы быть с тобой. — Тебе плохо здесь? — спросил он. — Мне будет лучше дома. Я нужна тебе только для того, чтобы сидеть и смотреть, как ты пьешь. Какое-то мгновение Робин смотрел на Аманду. Потом медленно улыбнулся и повернулся к Этель. — Во сколько вы должны встать утром? — О, для моей красоты не нужен сон. От этого я не стану краше. Робин улыбнулся. — Джерри, считай, что мы поменялись дамами. Аманда взяла сумку и встала из-за стола. — Робин, я хочу вернуться домой. — Как хочешь, дорогая. — Что?! — глаза Аманды заволокли слезы. — Сядь, — мягко приказал Робин. — Мне нравится это местечко, и я хочу побыть тут немного. Аманда нехотя села. Она ждала продолжения. Джерри со смущенным видом заерзал на стуле. — Этель, нам, наверное, лучше уйти. У меня есть приятель, который живет в двух шагах отсюда. Он сегодня устраивает вечеринку. — Вы оба останетесь здесь, — спокойно сказал Робин, но в его голосе явственно слышался приказ. Он повернулся и с нежной улыбкой посмотрел на Аманду. — Она прекрасна, не правда ли? И ей нужен отдых. А я веду себя, как негодяй. Ты действительно хочешь уйти, дорогая? Аманда молча кивнула. Робин наклонился к ней и поцеловал в лоб. — Посади Аманду в такси, Джерри, и возвращайся. В конце концов, мы не можем лишать сна ведущую манекенщицу страны под предлогом, что просто хотим выпить. Аманда встала и направилась к выходу. За ней беспомощно шагал Джерри. Очутившись на улице, она разрыдалась. — Джерри, что я сделала плохого? Я так люблю его! Что я сделала? — Ничего, дорогая. Сегодня вечером ему все безразлично. Ничего не поделаешь, раз уж он в таком настроении. Завтра он обо всем забудет. Джерри свистнул и подозвал такси. — Передай ему, что я люблю его, Джерри! И не давай этой жирной нахалке увести его. Она этого хочет. — Дорогая, Этель всего лишь шлюха. И Робин это прекрасно понимает. А ты постарайся хорошенько выспаться. Он открыл дверцу такси. — Джерри, я возвращусь… Я не могу его оставить. Джерри силой втолкнул Аманду в такси. — Аманда, ты знаешь Робина всего лишь несколько недель, а я его знаю несколько лет. Никто не может диктовать ему, как себя вести. Не пытайся душить его, Аманда. Это парень, которому нужен воздух. Он всегда был таким. Даже в университете. А теперь поезжай и хорошо отдохни. — Джерри, позвони мне, когда расстанешься с ним. Иначе я не смогу спокойно уснуть. Джерри захлопнул дверцу, но Аманда опустила стекло и схватила его за руку. — Позвони мне, Джерри, умоляю тебя! Он пообещал и взглядом проводил такси, испытывая острую жалость к Аманде. Робин вел себя сегодня вечером, как садист. Зачем он пригласил Этель Эванс присоединиться к ним? Что хотел доказать? Джерри вернулся в ресторан. — Вы ничего не имеете против гамбургера? — спросил он у Робина и Этель. — Ты мог бы и отказаться от какого-нибудь блюда, — ответил Робин. — На прошлой неделе ты пропустил два занятия по гимнастике. — Я живу в двух шагах отсюда, — вмешалась в разговор Этель. — Почему бы нам не пойти ко мне? Я прекрасно готовлю омлет. Робин встал. — Спасибо, но я не голоден. Мы с Джерри проводим вас, а потом Джерри немного проводит меня. Этель жила между 57-й и 1-й авеню. Она шла довольно быстро, чтобы не отставать от Робина. — Вы живете недалеко отсюда? — спросила она. — На берегу. — Мы, наверное, соседи? — Река большая. Они продолжали идти молча. На этот раз Этель ничего не достигла. Робин умел своими ответами резко обрывать разговор. Они остановились перед ее домом. — Вы уверены, что не хотите подняться и выпить по стаканчику? — Нет, я возвращаюсь к себе. — Ну что же, я думаю, мы еще увидимся. Уверена, что вам понравится на Ай-Би-Си, и если я могу для вас что-то сделать… Робин медленно улыбнулся. — Мне везде нравится, милочка. До свидания. И он ушел, сопровождаемый Джерри. Джерри проводил Робина до самого дома. Внезапно его поразила мысль, что он никогда не был в квартире Робина. Либо он провожал его до двери, либо они встречались в баре. Словно читая его мысли, Робин предложил зайти к нему выпить. Квартира была довольно приятной, на удивление чистой и хорошо обставленной. — Работа девушки, которая была у меня до Аманды, — пояснил Робин, обводя рукой комнату. — Почему ты был так груб с ней сегодня? — спросил Джерри. — Она ведь тебя любит. Неужели ты ничего не испытываешь к ней? Она тебе не нравится? — Нет. Джерри бросил на Робина внимательный взгляд. — Скажи, Робин, а ты вообще когда-нибудь что-нибудь испытываешь? Чувства, волнение? — Может быть. Но я не способен это выражать. — Робин улыбнулся. — Я, как индейцы: когда заболеваю, то поворачиваюсь лицом к стене и жду, пока болезнь не пройдет. Джерри встал. — Вероятно, тебе никто не нужен, Робин. Но я твой друг и хочу дать тебе совет: не веди себя с Амандой так, как с другими девушками. Я ее не очень хорошо знаю, но в ней что-то есть… Это хорошая девушка, Робин. Робин осторожно поставил стакан и пошел в другой конец комнаты. — Господи! Я же совсем забыл о птичке! Он вошел в кухню и зажег свет. Джерри последовал за ним. На полу стояла большая красивая клетка, в глубине которой, не двигаясь, сидела маленькая птичка и смотрела на них. — Я забыл покормить Сэма, — объяснил Робин, доставая кусок хлеба. — Это воробей? — спросил Джерри. Робин подошел с корочкой хлеба, чашкой воды и пипеткой. Наклонившись, он взял птичку, которая доверчиво спряталась у него в ладони. — Этот маленький разбойник хотел взлететь слишком рано, — сказал Робин. — Он выпал из гнезда и сломал себе крыло или что-то еще, приземляясь на мою террасу. Аманда была тут и, естественно, сразу же бросилась покупать клетку. Робин накрошил немного хлеба и дал воробью. Удивлению Джерри не было предела, когда Робин при помощи пипетки накапал немного воды в маленький клювик. Робин смущенно улыбнулся. — У него не получается пить иначе. Он положил птичку в клетку и закрыл дверцу. Воробей с благодарностью смотрел на него. — Ну, Сэм, пора спать! Робин выключил свет, и они с Джерри вернулись в комнату. — Я не думаю, что эта маленькая бестия страдает. Он сжирает все подчистую. Вряд ли бы больной так ел, как по-твоему, Джерри? — Я не разбираюсь в птицах. Но я знаю, что дикая птица не может жить в заточении. — Послушай, как только эта каналья выздоровеет, я ее выпущу на волю. Это хитрец. Ты заметил, как он закрывает клюв, чтобы потребовать воды? Джерри чувствовал себя уставшим. Это было похоже на абсурд, чтобы человек, такой нежный с птичкой, был так груб с женщиной. — Почему ты не позвонишь Аманде и не скажешь, что у воробья все в порядке? — спросил Джерри. — Да она уже давно спит! Карьера для Аманды превыше всего! Послушай, Джерри, не ломай себе голову. Аманда многое знает, что ей нужно. Джерри ушел от Робина, когда тот наливал себе очередной стакан. Было поздно, но все же Джерри зашел в аптеку, чтобы позвонить Аманде. — Джерри! Я так рада, что ты позвонил. Он ушел с этой толстухой, да? — К твоему сведению, мы оставили толстуху у двери ее дома через двадцать минут после твоего ухода. Аманда с облегчением рассмеялась. — О Джерри! А если я ему сейчас позвоню? — Нет, Аманда. Будь хладнокровной. Дай ему время увлечься. — Боже, как глупо! Любить человека и быть вынужденной это скрывать! Джерри, ты мужчина, скажи мне: твоя жена показывает тебе свою холодность? Неужели она прибегает к такому способу, чтобы соблазнять тебя? Джерри рассмеялся. — Мэри не ведущая манекенщица, а я не Робин Стоун. И если я не вернусь домой вовремя, то рискую потерять жену. Доброй ночи, дорогая! (обратно)Глава 8
Робин проснулся в семь часов утра. Чувствовал он себя хорошо. Он мог выпить любое количество водки, но у него никогда не раскалывалась голова. Робин подошел к холодильнику и налил стакан апельсинового сока, затем взял корочку хлеба и приподнял крышку клетки Воробей с широко открытыми глазами лежал на боку. Тело его уже успело остыть. Робин поднял его и подержал на ладони. Видимо, при падении бедняга что-то повредил себе внутри. — Ты никогда не жаловался, маленький прохвост, — прошептал он. — Это мне нравится. Натянув брюки и спортивную рубашку, он положил маленькое тельце в целлофановый мешок и вышел из квартиры, чтобы бросить пакет в реку. «Похороны в море, Сэм. Я не могу предложить тебе ничего лучшего», — подумал Робин, бросая пакет в черную воду. Старая серая баржа плыла по реке, и пакет с несчастным Сэмом сразу же закружило в струе за кормой. «Мне жаль, что ты не сумел выпутаться, дружок, но, по крайней мере, в последний путь тебя проводило искреннее сердце. А на это могут рассчитывать далеко не все люди.» Робин подождал, пока пакет не исчезнет, и только после этого вернулся домой. Он принял холодный душ и уже закрывал кран, когда зазвонил телефон. Наскоро обмотавшись полотенцем, он бросился в комнату, оставляя за собой следы мокрых ног. — Я разбудила тебя, Робин? — Это была Аманда. — У меня очень ранний сеанс, и я хотела застать тебя перед уходом. Робин пошарил рядом с собой в поисках сигарет. — Робин, ты меня слышишь? — Конечно. — Он перевернул все в тумбочке, разыскивая спички, пока не заметил их на полу. — Я очень сожалею о вчерашнем. — О вчерашнем? — О моем внезапном уходе. Но я больше не могла выносить эту девицу. Наверное, я была уставшей и… — Не думай больше об этом. Это же было вчера вечером. — А сегодня вечером? — Ты приглашаешь меня поужинать? — С удовольствием. — Договорились. Ты приготовишь бифштексы и свой знаменитый салат. — Робин, как поживает птичка? — Она умерла. — Как?! Но еще вчера она была жива! — Она умерла сегодня утром между четырьмя и пятью часами. Когда я ее нашел, она была уже застывшей. — Что же ты с ней сделал? — Бросил в реку. — Но это же так бесчеловечно! Неужели ты никогда ничего не чувствуешь, Робин? — Напротив. Сейчас, например, я чувствую себя очень мокрым. — Нет, ты невозможен. — Аманда рассмеялась, чтобы разрядить атмосферу. — Хорошо, жду тебя в семь часов. Бифштекс и салат. Больше ничего не хочешь? — Конечно, хочу. Тебя. Она снова рассмеялась, немного успокоившись. — Да, Робин, забыла тебе сказать. На следующей неделе я приглашена на бал «Апрель в Париже». Ты пойдешь со мной? — Ни за что в жизни. — Но я должна туда пойти! — Дорогая, меня, может, даже не будет здесь на следующей неделе. — Ты куда-то уезжаешь? — Да, возможно. В Майами. Мне нужно начинать формировать команду для сената с Энди Парино. Он работает там на одной из наших студий. Ты бы хотела поехать со мной? — Но у меня же нет отпуска, Робин. Я работаю все лето и всю зиму. — Ты напомнила мне, что я тоже должен поработать. До вечера, дорогая. И ради Бога, закрой своего чертова кота в ванной. В последний раз он целый вечер не слезал с моих колен. Аманда рассмеялась. — Он тебя обожает… А я… Я люблю тебя, Робин! Но он уже повесил трубку.Аманда быстро села в такси и назвала шоферу адрес ресторана «Лансер». Робин вернулся из Майами, и сегодня был их последний вечер перед его поездкой в Лос-Анджелес. Проклятый Ник Лонгуорт! Она хотела взять десять дней отпуска и поехать вместе с Робином в Лос-Анджелес, но Ник не внял ее просьбам. Аманда становилась одной из самых престижных манекенщиц в стране, и Ник договорился для нее об очень важных встречах в июле. Аманда глянула на часы. Она опаздывала на десять минут, а такси еле тащилось. Она уселась поудобнее и закурила. Бесполезно нервничать. Вероятнее всего, Робин сейчас с Энди Парино. Аманде нравился Энди. Он обладал очень привлекательной внешностью, может быть, даже более привлекательной, чем Робин. Но Энди волновал ее не больше, чем все мужчины, которые иногда снимались с ней. Когда же она думала о Робине, у нее кружилась голова. Аманде захотелось выскочить из этого проклятого такси и бегом помчаться к Робину. Но на улице было противно и влажно, и от ее прически ничего не останется. Аманда в нерешительности остановилась в полутемном баре. — Сюда, дорогая! Она узнала голос Робина и направилась к столику, который стоял в нише в глубине зала. При ее приближении мужчины встали, а Энди искренне и дружески улыбнулся. Но когда Аманда увидела легкую улыбку Робина и когда они, как заговорщики, переглянулись, все перестало существовать для нее. Она уже ничего не замечала: ни Энди, ни бара, ни шума. В этот момент ей показалось, что у нее останавливается сердце — так быстротечно и прекрасно было ощущение интимности, возникшей между ними. Официант поставил перед ней мартини. — Это я тебе заказал, — заявил Робин. — Уверен, что это восстановит твои силы. Наверное, адски трудно — стоять под лучами юпитеров в такую погоду. Аманда не любила вкус алкоголя. Обычно она заказывала кока-колу и смущенно говорила: «Я не пью». Но теперь инстинкт ей подсказывал, что Робин никогда не будет с девушкой, которая совсем не пьет. Однако сегодня мартини показался ей свежим и приятным. Может быть, она просто начинала привыкать? Робин и Энди рассуждали о назначении кандидатов, а Аманда тянула свой мартини и рассматривала профиль Робина. В девять вечера они пошли ужинать в итальянский ресторан. К большой радости Аманды, Робин отрицательно покачал головой, когда после ужина Энди предложил пойти выпить по последнему стаканчику в «Эль Марокко». — Я с тобой буду целых десять дней, старина, а сегодня у меня последний вечер с моей подружкой. В эту ночь он был необычайно нежен. Приподняв ее золотистые волосы, он растроганно смотрел на нее. — Моя маленькая Аманда, ты такая красивая, стройная, нежная. Он прижал ее к себе и погладил по голове. А затем они занимались любовью до тех пор, пока, уставшие и удовлетворенные, не откинулись в изнеможении на подушки. Неожиданно Робин вскочил и потянул за собой Аманду. — Пошли вместе под душ! Они стояли под горячими струями воды, и Аманда изо всех сил прижималась к его мокрому телу. Потом они завернулись в одно полотенце, и Аманда, глядя Робину прямо в глаза, сказала: — Я люблю тебя, Робин. Он наклонился и, обняв ее, поцеловал маленькие плоские груди. — Я люблю твое тело, Аманда. Оно стройное, крепкое, прекрасное. Он понес ее в комнату, и они снова занялись любовью, а затем, обнявшись, уснули. Аманда проснулась оттого, что затекла рука, на которой лежал Робин. В комнате было темно. Она осторожно высвободила руку. Робин слегка пошевелился, но не проснулся. Она заметила, как в темноте сверкнули глаза сиамского кота. Он проскользнул в комнату и теперь разлегся на постели. Аманда осторожно взяла кота на руки и погладила по голове. — Я должна отнести тебя в гостиную, Слаггер, — прошептала она и выскользнула из кровати, держа кота в руках. Робин пошевелился, и его рука зашарила по пустой подушке. — Не оставляй меня! — закричал он. — Прошу тебя, не оставляй меня! Удивленная, Аманда выпустила кота и быстро легла рядом с Робином. Она прижала его к себе. — Я здесь, Робин. Он дрожал всем телом. Глаза его были широко открыты и устремлены в темноту. — Робин, — Аманда прикоснулась губами к его влажному лбу. — Я здесь. Я тебя люблю. Он резко дернулся, потом посмотрел на Аманду, быстро мигая, словно только что проснулся. Наконец улыбнулся и привлек ее к себе. — В чем дело, дорогая? Аманда не знала, что и думать. — Интересно, что это мы делаем, сидя на кровати в темноте? — Я прогоняла кота и заодно хотела попить, а ты стал кричать. — Я кричал? — Да. Ты говорил: «Не оставляй меня». В глазах Робина промелькнуло что-то похожее на испуг. Аманда прижалась к нему. Она впервые видела его таким слабым и уязвимым. — Робин, я никогда не оставлю тебя. Я люблю тебя. Он оттолкнул ее и рассмеялся. — Оставь меня, когда захочешь, дорогая, но только не посреди ночи. Она изумленно взглянула на него. — Но почему? — Не знаю, — задумчиво проговорил он, — честное слово, не знаю. — Потом снова улыбнулся: — Но ты подала мне идею: я тоже хочу пить. — Он легонько шлепнул ее по заду. — Пойдем на кухню выпьем пива. Они выпили пива и снова занялись любовью.
Весна подарила Аманде встречу с Робином, летом их отношения переросли в страсть. Робин уезжал в Лос-Анджелес и Чикаго заниматься предвыборной кампанией, и каждый раз после его возвращения Аманда чувствовала, что любит и желает его все сильнее. Она жила встречами с Робином, и однажды в ее уме родился необычный план. Если бы ей удалось сняться в рекламной передаче, Робин наверняка проникся бы к ней уважением. Она сказала об этом Нику Лонгуорту, который только расхохотался. — Малышка, это, конечно, потрясающая идея, но, во-первых, ты не умеешь говорить, а это целое искусство, и, во-вторых, ты не захочешь сниматься в групповых сценах. Но именно с этого начинают дебютантки. Единственное, что ты могла бы попробовать, это рекламировать какой-нибудь дорогой товар, но этого не так легко добиться. Обычно на такую роль берут какую-нибудь голливудскую знаменитость, способную поднять престиж продукции и помочь продать ее. В рождественский вечер Аманда с Робином украсили елку в ее квартире. Робин подарил ей часы с браслетом. Это была изысканная, очень красивая вещица, но без бриллиантов. Аманда подарила Робину золотой портсигар в виде маленького конверта. Джерри забежал к ним на минутку перед тем, как отправиться в Гринвич. Он принес шампанское и резиновую игрушку для Слаггера. Они выпили по стаканчику, и он сразу же ушел. Аманда с Робином уже собирались ложиться, когда Слаггер вскочил к ним на кровать со своей новой игрушкой. Аманда хотела закрыть его в столовой. — Оставь его здесь, — попросил Робин, — все-таки сегодня Рождество. Да, я же совсем забыл! Он потянулся к куртке, лежащей на стуле, и вытащил из кармана маленький плоский сверток. — С Рождеством, Слаггер! Робин бросил сверток на кровать. Развернув его, Аманда увидела маленький ошейник из черной кожи, украшенный колокольчиками и крошечной серебряной пластинкой с выгравированным именем Слаггера. У Аманды навернулись на глаза слезы. Она бросилась к Робину и обняла его. — Робин, ты действительно любишь Слаггера? Он засмеялся. — Ну конечно, я его люблю. Только ненавижу, когда он незаметно прыгает на меня. А эти чертовы колокольчики будут, по крайней мере, хоть сообщать о его приближении. Потом он привлек Аманду к себе, поцеловал, и они даже не услышали, как зазвенели серебряные колокольчики, когда Слаггер гордо спрыгнул с кровати и вышел из комнаты. (обратно)
Глава 9
В январе «Нью-Йорк Тайме» опубликовала изменения в телевизионной программе на февраль. Дан, все лето корпевший над заключительной пробой с Кристи, блаженно улыбнулся, увидев «Кристи Лэйн Шоу» во главе программ. С того дня, как Грегори посмотрел пробу и дал передаче зеленый свет, Дан прекратил принимать транквилизаторы. Сегодня вечером он собирался отпраздновать победу. Дан вспомнил об Этель. Может, ему не стоило привлекать ее к передаче с Кристи Лэйном? Но, черт возьми, надо же было ее как-то вознаградить! Ни одна женщина не могла сравниться с ней в постели. Этель прямо-таки набросилась на эту работу. Дан догадывался, что повышение зарплаты на двадцать пять долларов интересовало ее меньше, чем еженедельные встречи с новыми голливудскими звездами. Этель была настоящей нимфоманкой, а Дан мог предложить себя не более двух раз в неделю и не имел ничего против, чтобы она ловила знаменитых актеров. Удивляло только то, что Этель не испытывала никакого сексуального влечения к Лэйну. «Он вызывает у меня отвращение, — говорила она. — А его бледная кожа напоминает мне брюшко ощипанной курицы». Дан откинулся на спинку кресла и радостно улыбнулся: только бы дождаться февраля, и можно считать, что дело в шляпе. «Алвэйзо» уже дало согласие на финансирование и обещало взять на себя рекламную часть. Оставалось только найти красивую девушку для рекламных вставок. Она будет неплохо контрастировать с семейной атмосферой «Кристи Лэйн Шоу». В этот момент кабинет Джерри Мосса, вероятно, осаждали толпы красивейших манекенщиц.Перед Джерри встала проблема: Аманда. Ее скандинавские черты лица, высокие скулы, тяжелые светлые волосы идеально подходили для рекламы любой продукции «Алвэйзо». Джерри хотел, чтобы она участвовала и в передаче. Но как отнесется к этому Робин? Черт возьми! Джерри ненавидел сам себя. В конце концов, речь идет о том, кто лучше подходит для передачи, а не о том, что подумает Робин Стоун! Джерри бросил взгляд на фотографию Мэри и детей, лежащую на его столе. Может, он испытывает неестественные чувства к Робину? Смешно! Он очень любил Робина, ему нравилось бывать с ним, но не больше. Иногда Робин относился к нему с самой искренней сердечностью, иногда не разговаривал. Потом снова становился общительным и даже, казалось, был счастлив его видеть. Однако Джерри чувствовал, что если однажды он не позвонит Робину или не придет как обычно в пять часов в «Лансер», то Робин этого даже не заметит. Джерри нажал кнопку переговорного устройства и попросил секретаршу пригласить Аманду. Через несколько секунд она перешагнула порог его кабинета и села в кресло напротив. — Аманда, тебе действительно нужна эта работа? — Да, очень. Джерри с любопытством посмотрел на нее. Кажется, она начинала говорить языком Робина: четко и ясно. Вдруг Джерри заметил, что она украдкой посматривает на часы. Ничего удивительного, что она дорожит своим временем. Затем его взгляд остановился на самих часах. Боже! Он был поражен. Мэри любовалась такими в витрине «Картье», но они стоили больше двух тысяч долларов. — Какие красивые у тебя часы, — сказал он. — Спасибо. — Она улыбнулась. — Это подарок Робина к Рождеству. На праздники Джерри послал Робину ящик русской водки, а Робин не прислал ему даже поздравительной открытки. Внезапно Аманда наклонилась к Джерри. Взгляд у нее был умоляющим. — Я очень хочу сделать эту передачу, Джерри! Я хочу, чтобы Робин гордился мною. Джерри, я его люблю. Я не могу жить без него. Ты — его лучший друг. Как ты считаешь, у нас с ним что-нибудь получится? Мы уже почти год вместе, а мне иногда кажется, что я его знаю не лучше, чем в первый день знакомства. Он такой своенравный. Что ты думаешь об этом, Джерри? Мужчины ведь многое доверяют друг другу. Слушая Аманду, Джерри испытывал к ней странную симпатию. Любить Робина — это, должно быть, испытывать адские муки. — Джерри, я хочу выйти за него замуж, иметь от него детей. — Ее лицо стало очень серьезным. — Знаешь, как я провожу вечера в те дни, когда он уезжает? Я слушаю лекции по литературе в Новой Школе. Когда я рассказала об этом Робину, он рассмеялся и назвал меня синим чулком. Иногда мне хотелось бы любить его меньше. Я чувствую себя потерянной даже тогда, когда он уходит утром после проведенной вместе ночи. Знаешь, что я потом делаю, Джерри? Я прижимаю к лицу полотенце, которым он вытирался. Иногда я даже кладу это полотенце в сумку и беру с собой, чтобы прикоснуться к нему днем и почувствовать запах Робина… Меня пробирает дрожь в такие минуты. Это глупо, Джерри, но я иногда это делаю даже перед тем, как мы должны встретиться в «Лансере». Все это очень страшит меня. Я до смерти боюсь его потерять. Аманда прижала руки к глазам, словно отгоняя черные мысли. Джерри был потрясен. Внезапно Аманда схватила ручку, поспешно подписала контракт и встала. Протянув на прощание ему руку, она уже полностью владела собой. Джерри посмотрел ей вслед. Кто бы мог предположить, что это божественное создание будет переживать такую сумасшедшую любовь? Любить такого человека, как Робин Стоун, означало обрекать себя на вечныемуки. Без сомнения, любая женщина знала, что рано или поздно потеряет его. Ну что ж, Аманды приходят и уходят, а он, Джерри, всегда сможет найти Робина в «Лансере».
Через две недели Джерри впервые в жизни обратился к психиатру. Он так редко занимался любовью с Мэри, что это не могло не привести к конфликту. Сначала она говорила с ним об этом намеками. — Послушай, ты, кажется, за своей работой и за игрой в гольф по выходным забыл о женщине своей жизни. Джерри сделал непонимающий вид и сослался на забывчивость. — Ни разу за все лето, — мило уточнила Мэри. — А сейчас, между прочим, середина сентября. Может быть, мне нужно подождать, когда в гольф станет играть слишком холодно? Джерри рассыпался в извинениях. Летом нужно было готовиться к новому сезону, и теперь, в сентябре, он чувствовал себя чертовски уставшим. Во время рождественских праздников Джерри нашел себе новые извинения. В январе ему нужно было обсудить дела с «Алвэйзо», написать текст к передачам. Но если Мэри до поры до времени и довольствовалась такими объяснениями, сам Джерри не был удовлетворен ими, и его постоянно грыз червь сомнения. Иногда он винил во всем Мэри. Как может мужчина желать женщину, которая ложится в постель с густым слоем крема на лице и огромными розовыми бигуди в волосах? Атмосфера в доме была наэлектризована, и однажды разразилась гроза. Это случилось во вторник, через неделю после подписания контракта с Амандой. Весь день Джерри проработал над текстом рекламы, все шло хорошо. Это был один из тех редких дней, когда не случилось ни одного досадного инцидента, и Джерри был в прекрасном настроении. Даже погода была подстать. Он сел на поезд в семнадцать десять и, вернувшись домой, с удовольствием поиграл с детьми. А когда няня увела их спать, приготовил два коктейля, ожидая Мэри. Она вошла в комнату, молча взяла стакан и даже не улыбнулась. Джерри похвалил ее прическу. — Я причесываюсь так уже целый год, — ответила Мэри. Он решил не поддаваться плохому настроению жены и, подняв свой стакан, непринужденно сказал: — А сегодня вечером эта прическа особенно тебе идет. Мэри подозрительно взглянула на него. — Ты сегодня вернулся вовремя. Что случилось? Может, тебя бросил Робин? От ярости Джерри даже пролил свой мартини. Обвинение Мэри возмутило его, и он ушел, громко хлопнув дверью. Однако он чувствовал себя виноватым, так как Робин действительно не смог встретиться с ним. Разумеется, он довольно быстро помирился с Мэри. А поздно вечером она пришла к нему в спальню без крема на лице и без своих розовых бигуди. Однако в постели он оказался совершенно беспомощным. Такого с ним еще не случалось. Мэри повернулась к нему спиной и заплакала. Забыв о себе самом, Джерри стал извиняться, объясняя случившееся аперитивами и крайней усталостью в связи с будущей передачей «Кристи Лэйн Шоу». На следующий день он пошел к своему врачу и попросил прописать ему инъекции витамина В-12. Доктор Андерсон ответил, что в этом нет никакой необходимости. Джерри, смущаясь, был вынужден рассказать о своих затруднениях в семейной жизни. Андерсон посоветовал ему срочно обратиться к психиатру Арчи Гоулду. В первый свой визит Джерри ожидал увидеть старую очкастую зебру с бородкой и немецким акцентом, но доктор Арчи Гоулд оказался на удивление симпатичным, тщательно выбритым молодым человеком. Без обиняков Джерри перешел к пели визита. — Мне ничего не удается в постели с женой. И однако я ее люблю, и никакая другая женщина меня не привлекает. Что, по-вашему, можно сделать? Джерри не заметил, как пробежали пятьдесят минут. Он был поражен, когда доктор предложил ему три сеанса в неделю. Джерри считал, что какой бы ни была причина его беспомощности, вполне достаточно и часа, чтобы вылечиться. Три сеанса в неделю! Смешно! Но тут он вспомнил о Мэри, о ее сдавленных рыданиях в ванной и согласился. Третий сеанс был полностью посвящен Робину Стоуну. Затем постепенно в их беседах всплыло имя Аманды. В конце второй недели Джерри почувствовал себя лучше. Психоанализ по Фрейду и экскурс в детство избавили его от гнетущего сомнения: он не был извращенцем. Потом перешли к разговору о его отце — огромном жизнелюбивом весельчаке, который совсем не интересовался своим маленьким сыном. Зато позже начал брать его с собой на футбольные матчи, где, не переставая, пел дифирамбы Робину Стоуну. «Вот это парень! Вот это мужчина! — восклицал он. — Бери с него пример, сынок!» Отвечая на вопросы доктора Гоулда, Джерри вспомнил те моменты своей жизни, когда ущемлялось его «эго». Вспомнил, как обидно насмехался над ним отец, когда понял, что Джерри не будет выше метра семидесяти двух сантиметров ростом. «Как я, у которого рост метр девяносто два, мог произвести на свет такого шпингалета? Ты, должно быть, пошел по матери. Все Болдвины — недоноски». Постепенно Джерри приоткрывались многие ранее непонятные ему вещи. Стараясь завоевать дружбу с Робином, он подсознательно хотел понравиться отцу. Это открытие пришлось Джерри по вкусу. — Что вы скажете по поводу моего диагноза? — спросил он у врача. Доктор Гоулд холодно взглянул на него. — Постарайтесь сами ответить на ваши вопросы. — За что же я вам плачу, если вы мне ничего не говорите? — спросил Джерри. — Я здесь не для того, чтобы давать вам готовые ответы на все вопросы, а для того, чтобы подталкивать вас к поиску этих ответов. Джерри стал агрессивным по отношению к доктору, требовал, чтобы Гоулд объяснил, почему он так дорожит встречами с Робином в «Лансере», зная, что потом будет испытывать угрызения совести по отношению к Мэри. — Это не может так продолжаться, — повторял он. — Я хочу доставить удовольствие жене и в то же время хочу делать то, что мне нравится. Почему я не такой, как Робин? Его не мучает совесть, он свободен. — Не думаю, что он так уж свободен, как вам кажется, — сказал Гоулд. — Нет, он хозяин самому себе. Даже Аманда чувствует, что не имеет никакой власти над ним. И Джерри рассказал доктору историю с полотенцем, которое Аманда целый день таскает в сумочке. Доктор Гоулд покачал головой. — Еще одна, нуждающаяся в лечении. — Нет, она просто сентиментальна и любит его! — возразил Джерри. Арчи Гоулд нахмурился. — Это уже не любовь, а рабство. Представьте, что будет с ней, если он ее оставит? Когда возвращается из Нью-Йорка ваш друг Стоун? — Завтра. А зачем это вам? — Если я найду вас в баре, вы сможете представить меня Робину и Аманде? Джерри задумался. — А как я им вас представлю? Не могу же я сказать: «Да, Робин, мой психиатр хочет некоторое время понаблюдать за тобой!» Доктор Гоулд рассмеялся. — Я легко могу сойти за одного из ваших друзей. Мы с вами почти ровесники.
Джерри сильно разнервничался, когда вечером увидел доктора Гоулда в дверях бара. Робин уже пил третий стакан, а Аманда в этот день поздно работала. Она должна была встретиться с Робином в итальянском ресторане. — Да, Робин, — воскликнул Джерри, когда доктор Гоулд подошел к ним, — я же совсем забыл тебе сказать! Недавно я встретил одного из своих школьных друзей. — Джерри положил руку на плечо доктора. — Арчи, — он еле смог выговорить это короткое имя, — это мой друг Робин Стоун. Робин, позволь представить тебе доктора Арчи Гоулда. Робин рассеянно глянул на доктора. Сегодня вечером он не был расположен к разговорам. Доктор был тоже немногословен. Его холодные серые глаза изучающе смотрели на Робина. Один Джерри трещал без умолку: нужно же было хоть кому-то поддержать разговор! Вдруг Робин повернулся к доктору и спросил: — Вы хирург, Арчи? — В некоторой степени. — Он копается в подсознании, — вступил в разговор Джерри, стараясь казаться непринужденным. — Фрейдист? — спросил Робин, оборвав Джерри. Доктор Гоулд покачал головой. — Психиатр или психоаналитик? — И тот, и другой. — Черт возьми, — проговорил Робин, — слишком долго нужно учиться. А потом еще, наверное, года два анализировать самого себя? Арчи согласился. — У вас всегда была склонность к тому, чем вы сейчас занимаетесь? — спросил Робин. — Более-менее. Вначале я хотел стать нейрохирургом, но в этой области часто встречаются неизлечимые больные, и единственное, что можно для них сделать, это прописать наркотики. Тогда как с помощью психоанализа… — взгляд доктора оживился, — можно вылечить. Ничто не приносит мне большей радости, чем когда я вижу, как пациент приходит в душевное равновесие, начинает нормально работать, используя все свои способности, находит свое место в обществе… Психоанализ позволяет мне все-таки надеяться на лучшее будущее. Я верю в это. Робин улыбнулся. — Я нашел ваше слабое место, доктор. — Мое слабое место? — Вы любите людей. — Он бросил на стойку банковский билет: — Эй, бармен! (Бармен не заставил себя ждать.) Возьмите за все, обслужите моих друзей, остальное оставьте себе. — Он протянул руку доктору Гоулду: — Сожалею, что вынужден вас покинуть. У меня свидание с моей подружкой. И он вышел из зала. Джерри пристально смотрел на дверь. Бармен поставил на стойку два стакана. — За счет мистера Стоуна, — сказал он. — Какой хороший парень, да? Джерри повернулся к доктору. — Ну что? — спросил он. — Как сказал бармен, — улыбаясь ответил Арчи, — хороший парень. Джерри не смог скрыть своей гордости. — А что я вам говорил! Вы ему понравились. — Конечно, именно этого я и добивался. Я все сделал для этого. — Вы считаете, что у него есть проблемы или комплексы? — Пока не могу ничего сказать. Внешне он уверен в себе. И, кажется, искренне любит Аманду. — Почему вы так думаете? Он ведь не говорил о ней. — Нет. Уходя, он сказал: «У меня свидание с моей подружкой». — А как по-вашему, он меня любит? — Нет. — Нет? — растерянно воскликнул Джерри. — Значит, я ему не нравлюсь? — Он даже не замечает вашего присутствия.
В режиссерской было полно народу. Через четверть часа начиналась трансляция «Кристи Лэйн Шоу» в прямом эфире. День был сумасшедшим, и всеобщий ажиотаж сказался даже на Аманде: на последней репетиции она довольно неуверенно держала балл он с лаком, закрыв марку «Алвэйзо». Однако всеобщее возбуждение, казалось, не коснулось Кристи Лэйна и его «клана». Кристи паясничал, кто-то пошел за сэндвичами, и можно было подумать, что лихорадочные приготовления лишь забавляли их. Публика уже собралась. Джерри устроился в углу. Он не переставал удивляться Робину, который собирался смотреть передачу дома и в общем-то никак не отреагировал на ангажемент Аманды. Появился Дантон Миллер, как всегда безукоризненный в своем черном костюме. Как 'ураган, влетел Харви Филипс, директор агентства. Оставалось чуть больше минуты. Вдруг в студии воцарилась абсолютная тишина. Заиграл оркестр. Диктор выкрикнул: «Кристи Лэйн Шоу», и передача началась. Джерри решил покинуть режиссерскую и пойти за кулисы, чтобы быть рядом с Амандой, если вдруг в последнюю минуту ее охватит страх. Она сидела перед зеркалом в гримерной и поправляла прическу. Ее спокойная улыбка вселила в Джерри уверенность. — Не волнуйся, Джерри. Я сумею держать баллон так, чтобы была видна этикетка. Сядь и расслабься. Ты похож на встревоженную мать. Дверь распахнулась, и вошла Этель. Она осмотрела комнату и, видимо, очень удивилась, не найдя в ней никого, кроме Аманды и Джерри. Она улыбнулась и протянула руку Аманде. — Успеха вам, Аманда. Аманда, удивившись, вежливо пожала протянутую руку и попыталась вспомнить, где она уже видела эту девушку. — Я — Этель Эванс. Мы встречались на телестудии в прошлом году. Вы были с Джерри и Робином Стоуном. — Ах да, припоминаю, — сказала Аманда и, отвернувшись, стала покрывать волосы лаком. Этель уселась перед зеркалом рядом с Амандой, почти вытеснив ее. — Вы произведете фурор, Аманда. Они отобьют ладони, аплодируя вам. Да, чуть не забыла! Я пришла сюда для того, чтобы, во-первых, пожелать вам успеха, а во-вторых, попросить вас сфотографироваться с Кристи Лэйном после передачи. Аманда вопросительно взглянула на Джерри, но тот утвердительно кивнул. — Хорошо, надеюсь только, что это будет не долго. — О, всего три-четыре снимка. — Этель направилась к двери. — Спущусь, посмотрю шоу. Успокойтесь, Аманда. Я уверена, что вы произведете сенсацию. Ах, если бы я была такой же красивой, весь мир был бы у моих ног! Неожиданно Аманда почувствовала симпатию к этой некрасивой девушке, в чьем голосе звучала искренность, а в глазах светилась печаль. Как только Этель вышла, Аманда схватила Джерри за руку. — Я хотела бы позвонить Робину, чтобы напомнить ему о передаче. Ты же знаешь его: он способен выпить несколько стаканов, лечь и уснуть. Единственный телефон в студии находился около двери, ведущей на сцену. Гремела музыка, раздавались аплодисменты. Видимо, передача шла хорошо. Пока Аманда звонила, Джерри ждал в коридоре, где вовсю гуляли сквозняки. Он увидел, как она повесила трубку, и из автомата выпала монетка. — Занято, — сказала Аманда. — А мой выход через несколько минут. — Нужно идти, — произнес Джерри. — Не забудь обойти занавес. — Одну минутку, я попытаюсь еще раз. — Брось! — почти грубо приказал Джерри. — Ты должна быть на месте, когда камера повернется к тебе. Иди! Я сам позвоню ему от тебя. Джерри подождал, пока Аманда не исчезла за занавесом и не появилась на фоне декораций, потом набрал номер Робина. Занято. Набрал еще раз. «Негодяй! — выругался про себя Джерри. — Ведь он же знает, что она должна сейчас испытывать. Как он может так поступать?» Джерри проскользнул за кулисы как раз вовремя, чтобы подбодрить улыбкой Аманду. Ее лицо осветилось. Уверенная в том, что Джерри поговорил с Робином, она вела себя совершенно раскованно в те моменты, когда камера поворачивалась к ней. Джерри наблюдал за ней на мониторе. Фотогенична, как ангел. Удивительно, что ее до сих пор не замечали. Когда закончилась реклама, Аманда присоединилась к Джерри. Ноги у нее дрожали. — Ну как я? — задыхаясь, спросила она. — Лучше, чем хорошо. Ты была великолепна! А теперь отдохни пять минут и переоденься для рекламы губной помады. Потом будешь свободна. — Что сказал Робин? — Я не дозвонился. Все время занято. В глазах Аманды появилось беспокойство, но Джерри взял ее за плечи и быстро толкнул к лестнице. — Поднимайся и переоденься. Но не плачь, а то испортишь грим. На сцене в это время пел попурри Боб Диксон. К Джерри с Амандой вразвалку подошел Кристи Лэйн. — Слышали? Все аплодисменты для меня. Я — чемпион! — Он положил ладонь на руку Аманды: — А ты, ты — самая красивая. Если сумеешь хорошо завершить передачу, дядюшка Кристи, возможно, и пригласит тебя на сэндвич. — Полегче, — сказал Джерри, отталкивая руку Кристи. — Пока вы еще не Берл и не Глизон. И потом, почему дядюшка Кристи? — А разве вы не слышали, что Дан на разные лады повторяет уже несколько месяцев? Я — символ семьи! Я всем напоминаю чьего-то старого дядюшку или мужа. — Кристи посмотрел на Аманду голубыми слезящимися глазами: — А тебе, дорогуша, кого из твоей семьи я напоминаю? Надеюсь, что никого. Потому что в таком случае то, что я задумал, будет кровосмешением. — Кристи глянул на сцену. — Кажется, наша кинозвезда закончила свой номер. А теперь смотрите, как работает настоящий профессионал! Он побежал к сцене. Аманда, словно не веря своим глазам, осталась стоять, потом повернулась и направилась к телефону. Джерри удержал ее. — Э, нет! У тебя осталось всего шесть минут, чтобы переодеться и поправить грим. После передачи можешь звонить сколько угодно. Если будешь умницей, я вас обоих приглашу отметить твой успех. — Нет, Джерри. Сегодня вечером я хочу быть только с ним. Аманда провела рекламный эпизод с той же уверенностью, что и первый. «Кристи Лэйн Шоу» закончилось. Охваченные эйфорией успеха, все поздравляли друг друга. Заказчики, Дантон Миллер и авторы окружили Кристи и пожимали ему руки. Сверкали лучи прожекторов. Этель схватила Аманду за руку. — Я хотела бы сфотографировать вас с Кристи. Аманда побежала к телефону. Этель за ней. — Ваш разговор не может подождать? Это очень важно. Не отвечая, Аманда набрала номер. Она чувствовала, что Этель не сводит с нее глаз. Подошел Джерри. На этот раз сигнала «занято» не было. В квартире Робина раздавались длинные гудки: один, два, три… На десятом Аманда повесила трубку, снова набрала номер и услышала все те же гудки. Джерри и Этель наблюдали за ней. Она заметила, как губы Этель скривились в презрительную усмешку. Аманда выпрямилась. Она не позволит насмехаться над собой. Повесив трубку, забрала монетку и, улыбаясь, повернулась к Этель и Джерри. — Какая я глупая! Совсем одурела от передачи и забыла… Она сделала паузу, чтобы что-нибудь придумать. — Все еще занято? — участливо спросил Джерри. — Да. И знаешь, почему? Он сказал, что снимет трубку, чтобы никто не мешал ему смотреть передачу. А у меня это вылетело из головы. — Она повернулась к Этель. — Ну, пойдемте. Сфотографируемся, а потом я помчусь к нему, как договорились. Джерри, будь другом, вызови мне автомобиль с шофером. Она подошла к Кристи Лэйну, встала между ним и Бобом Диксоном и, глядя в камеру, изобразила на лице свою самую красивую улыбку, потом сразу же убежала. Джерри заказал автомобиль. Он все думал, что же произошло у телефона. Вряд ли Аманда могла забыть о предупреждении Робина. Но она так искренне улыбалась, просто сияла. Едва Аманда очутилась в темноте автомобиля, защищавшей ее от чужих глаз, она сразу же перестала улыбаться и попросила шофера отвезти ее домой. Она была довольна, что уехала в этом шикарном автомобиле, не став дожидаться такси. Любовница Робина Стоуна ушла с гордо поднятой головой. Он бы это одобрил.
На следующее утро телефонный звонок Робина разбудил ее. Голос у него был веселый. — Привет, звезда! Она полночи провела без сна, не зная, оправдывать его или ненавидеть. В конце концов решила быть с ним холодной, но его ранний звонок сбил ее с толку. — Где ты был вчера вечером? — спросила она совсем не тем тоном, которым решила говорить с ним. — Смотрел на тебя, — беспечно ответил Робин. — Неправда. — Аманда не смогла сдержаться. — Я звонила тебе сразу же после окончания передачи. Твой телефон не отвечал. — Совершенно верно. В тот момент, когда началась передача, позвонил Энди, потом кто-то еще. И чтобы меня не беспокоили во время твоего выступления, я отключил его. — А тебе не пришло в голову, что я могу позвонить? — Я действительно ждал твоего звонка, но, к несчастью, забыл включить аппарат. — Но почему ты сам не позвонил мне? — воскликнула Аманда. — Ты не подумал о том, что мне захочется побыть с тобой после передачи? — Я был уверен, что ты поехала куда-нибудь со всей компанией обмывать успех. — Робин! — Аманда была в отчаянии. — Я хотела быть с тобой! Ты — мой мужчина. Разве не так? — Конечно, — голос Робина был по-прежнему веселым. — Но это еще не значит, что мы прикованы друг к другу. Ты мне не принадлежишь — ни ты, ни твое время. — Но Робин! Я хочу принадлежать тебе… полностью, хочу отдавать тебе свое время. Только ты один что-то для меня значишь. Я люблю тебя. Я знаю, ты не хочешь жениться, но это не мешает мне быть твоей. — Мне достаточно, чтобы ты была моей подружкой. — Но если я твоя подружка, то я хочу все делить с тобой. Робин, я хочу принадлежать тебе! — А я не хотел бы причинить тебе боль. — Не бойся, Робин, я никогда ни в чем не буду упрекать тебя. — Тогда скажем так: я сам не хочу страдать. Некоторое время они молчали. — Кто заставлял тебя страдать, Робин? — Не понимаю. — Тот, кто никогда не страдал, не может бояться боли. Из-за того, что кто-то когда-то причинил тебе боль, ты время от времени воздвигаешь стальную дверь между нами. — Нет, Аманда. Никто никогда не причинял мне боль. Я мог бы придумать тебе целую историю о том, как некая сирена разбила мое сердце, когда я служил в армии, но ничего этого не было. У меня было много любовниц. Я люблю женщин, но мне кажется, что я никем не дорожил так, как тобой. — Почему же тогда ты отдаешь себя только наполовину? И почему вынуждаешь меня делать то же самое? — Не знаю. Правда, не знаю. Наверное, мой инстинкт подсказывает, что без стальной двери, как ты это называешь, я буду в опасности. — Он засмеялся. — Но, может быть, если приоткрыть ее, то за ней ничего не окажется. — А ты пытался когда-нибудь ее открыть? — Именно это я сейчас и делаю, — спокойно сказал он. — Я приоткрыл ее, потому что достаточно дорожу тобой и хочу, чтобы ты меня понимала. Но я сейчас же ее закрываю. Аманда молчала. Робин никогда не говорил ей так много, и она догадывалась, что он пытается объяснить что-то еще. — Аманда, — продолжил он, — я действительно дорожу и восхищаюсь тобой, потому что мне кажется, что у тебя тоже есть стальная дверь. Ты красива, честолюбива, независима. Я никогда бы не смог любить и уважать девушку, для которой был бы единственным смыслом жизни. Нужно, чтобы люди немного подходили друг другу. Ну, теперь все в порядке? Аманда заставила себя засмеяться. — Все. Я сделаю сегодня твои любимые салат и бифштексы. Согласен? — Согласен. А я принесу вино. До вечера. Аманда повесила трубку. Какой чудесный день! Ей казалось, что она нашла ключ к Робину. Нужно не показывать ему своей привязанности, ничего не требовать. Чем меньше она будет просить, тем больше он ей даст. А потом и сам поймет, что они созданы друг для друга. Впервые с тех пор, как познакомилась с Робином, Аманда почувствовала, что полна уверенности. Все будет хорошо. Она была убеждена в этом. (обратно)
Глава 10
Весь день Аманда пребывала в прекрасном настроении. Позирую перед фотокамерами, она вновь и вновь мысленно возвращалась к разговору с Робином, и эти мысли заставляли ее забывать об ослепляющих лучах юпитеров, о ревматических болях в шее и болезненных ощущениях в спине. Последний сеанс закончился в четыре часа, и Аманда зашла в кабинет к Нику Лонгуорту. — Завтрашняя программа должна тебе понравиться, — сказал он. — Сеанс начнется в одиннадцать утра. Кстати, снимать будет твой старый приятель Айвэн Гринберг. Аманда обрадовалась. Если первый сеанс в одиннадцать часов, она сможет поваляться в постели до девяти и приготовить завтрак Робину… Придя домой, она включила телевизор и настроилась на Ай-Би-Си. Робин любил смотреть Энди в вечернем информационном выпуске. Обычно, когда Аманда с Робином были вместе и он смотрел передачу, она прижималась к нему или садилась в другом конце комнаты, чтобы полюбоваться его профилем. Но в этот вечер Аманда включила телевизор потому, что решила интересоваться всем, что интересовало Робина.Еще одним человеком, который с нетерпением ожидал вечернего выпуска новостей, был Грегори Остин. В который раз он вынужден был признать правоту Робина: Энди Парино работал великолепно. Передача «Мысли вслух» вызвала положительные отклики в прессе, и ее рейтинг рос с каждым днем. По идее, Робину следовало время от времени показываться своему шефу хотя бы для того, чтобы выслушать поздравления, но он не появлялся. В отличие от него, Дантон Миллер никогда не упускал случая покрасоваться и сорвать комплименты в свой адрес. Но как бы там ни было, шоу с Лэйном показало, что не стоит переоценивать интеллектуальный уровень публики. Сборище дураков! «Кристи Лэйн Шоу» не имело никакой ценности. Юдифь вообще не смогла досмотреть его до конца. Шоу нещадно критиковали в утренних газетах, но баллы популярности оказались сенсационными. Без двух минут семь Грегори подошел к бару, налил немного шотландского виски с содовой водой и приготовил вермут со льдом для Юдифь. Он никак не мог понять, как она пьет эту смесь, напоминающую по вкусу лак. Но Юдифь утверждала, что все европейские знаменитости предпочитают вино или вермут. Она вошла, легонько постучав в дверь, и села в кресло напротив Грегори. В который раз он подумал: «Боже, до чего она хороша!» В сорок шесть лет Юдифь выглядела не больше, чем на тридцать пять. Передача началась. — Добрый вечер. В эфире вечерняя информационная программа, — объявил диктор. — В конце передачи вы встретитесь с Робином Стоуном, директором службы новостей Ай-Би-Си, автором и ведущим популярной передачи «Мысли вслух». — Что это значит? — воскликнул Грегори, наклоняясь к экрану. — С каких пор Робин Стоун выступает в вечерних новостях? — спросила Юдифь. — Ничего не понимаю. — Он очень красивый мужчина, — заметила Юдифь. — Но когда я смотрю на него, у меня создается впечатление, будто он боится раскрыть себя перед камерой. Интересно, какой он в жизни? — Точно такой же, как на экране. Ты очень точно его описала. Это человек-загадка. На первый взгляд он привлекателен, но это привлекательность машины. Юдифь явно заинтересовалась Робином. — Давай пригласим его пообедать в один из вечеров. Я хотела бы с ним познакомиться. — Ты это серьезно? — смеясь спросил Грегори. — Почему бы и нет?! Многие из моих подруг умирают от желания познакомиться с ним. Его никогда не видно в обществе, а он становится знаменитым. — Юдифь, ты же знаешь мой принцип: никогда не приглашать к себе тех, с кем работаешь. — Но почему? — Потому что если я приглашу его, то буду вынужден принимать директоров всех других служб. Подумай сама! Дантон Миллер пришел к нам впервые только в этом году. Грегори наклонился к телевизору и прибавил звук. Юдифь протянула ему стакан и слегка оперлась на его плечо. — Но, Грег, Дантон Миллер не интересует моих приятельниц, они хотят познакомиться с Робином Стоуном. Грегори похлопал жену по руке. — Посмотрим, у нас еще целый год впереди, многое может измениться. На экране крупным планом появился Робин. — Добрый вечер, — его суховатый голос разнесся по всей комнате. — Среди новостей последних дней нас всех взволновало пиратское нападение на прогулочный корабль «Санта-Мария». Эта преступная акция была совершена двадцатью четырьмя политическими изгнанниками из Португалии и Испании и шестью членами экипажа. Нападение возглавил Энрике Гальвао, бывший капитан португальской армии. Как нам только что сообщили, сегодня Гальвао разрешил пассажирам покинуть корабль. На борту «Санта-Марии» находились также и американские туристы. Репортер, сообщивший нам об этом, намеревается взять интервью у Гальвао и заснять его на пленку. Сегодня вечером я тоже выезжаю на встречу с ним. Надеюсь, мне удастся привезти это интервью и показать его в передаче «Мысли вслух». Раздраженный Грегори выключил телевизор. — Каков наглец! Кто ему позволил разъезжать, не получив на это разрешения? Почему мне об этом не сообщили? Несколько недель назад он торчал в Лондоне! Мне же нужны прямые репортажи, а не в записи! Это наш главный козырь при продаже! — Робин не может делать все время прямые репортажи, Грег, Его передача пользуется таким успехом благодаря встречам со знаменитыми людьми всего мира. И лично я считаю очень интересной мысль Робина снять Гальвао для передачи «Мысли вслух». Очень интересно посмотреть на человека, который в шестьдесят шесть лет осмелился захватить шикарный корабль с шестьюстами пассажирами на борту. Грегори снял трубку и попросил телефонистку Ай-Би-Си разыскать Дантона Миллера. Она перезвонила через пять минут. — Дан! — рявкнул гневно Грегори. — Держу пари, что вы кайфуете в «21» и, конечно, не знаете, что происходит. — Вы правы, — спокойно заявил Дан. — Я как раз отдыхал на красивом диване в вестибюле и смотрел вечерние новости. — Так вы знали об отъезде Робина в Бразилию? — Нет, конечно. Он ведь отчитывается только перед вами. Грегори еще больше разозлился. — Черт возьми! Почему же тогда он мне ничего не сообщил? — Может, он пытался сделать это, но вас сегодня не было в кабинете. Грегори скривился от ярости. — Да, меня не было после обеда. Ну так что же? Стоит мне отлучиться на один день, и рушится вся программа! Все летит кувырком! — Не думаю, что Ай-Би-Си пропадет, если один ловкач укатит в Бразилию. Но мне очень не нравится, что Робин Стоун использует вечерний выпуск для саморекламы. Ни одному из директоров служб не позволительна подобная вольность. К сожалению, Робин мне не подчиняется. Но, может, он воспользовался таким способом, чтобы предупредить вас. Это все же быстрее, чем посылать телеграмму. Грегори разъяренно бросил трубку. Дантон явно злорадствовал, и это окончательно взбесило Грегори. Он сидел со сжатыми кулаками и неподвижным взглядом. Юдифь, улыбаясь, протянула ему третий стакан скотча. — Ты ведешь себя, как ребенок. По существу, то, что замыслил Робин Стоун, отвечает общим интересам. Все, кто смотрел сегодняшний выпуск, с нетерпением будут ждать интервью с Гальвао. Постарайся успокоиться. Грегори улыбнулся, и морщины на его лице разгладились. — Кажется, ты права. Это сообщение — прекрасная реклама. Но речь идет о моей компании. Я ее создал, расширил. И теперь не хочу, чтобы кто-то принимал решения, не проконсультировавшись со мной.
Узнав из вечерних новостей, что Робин улетает в Бразилию, Аманда застыла перед телевизором. Нет, этого не может быть! С минуту на минуту раздастся звонок, и Робин появится в дверях. Прождав десять минут и выкурив шесть сигарет, она сняла трубку и позвонила ему домой. Телефон не отвечал. Она позвонила на Ай-Би-Си. Никто не знал, каким рейсом улетал мистер Стоун. В восемь тридцать телефон зазвонил. Она так быстро бросилась к трубке, что ударилась щиколоткой о край стола. — Иван Грозный у телефона. Аманда совсем расстроилась. Она очень любила Айвэна Гринберга, но от разочарования слезы потекли у нее по лицу. — Ты меня слышишь, Манди? — Да, — тихо ответила она. — Извини, я тебя, наверное, побеспокоил? — Да нет. Я просто смотрела телевизор. Он рассмеялся. — Понимаю. Теперь, когда ты стала телезвездой, должна следить за конкурентками. — Айвэн, я тебя обожаю, но мне должны позвонить. Я жду важного звонка. Она повесила трубку и неподвижно уселась перед телевизором. В девять пятнадцать она позвонила в аэропорт. Да, Робин Стоун был на борту самолета, который улетел в двадцать один ноль-ноль. Аманда упала в кресло, черные от туши слезы покатились по ее щекам. Наконец она медленно встала. Ей нужно с кем-то поговорить. Вот уже долгое время она доверяла все свои секреты Айвэну. Аманда набрала его номер и облегченно вздохнула, когда после второго гудка он снял трубку. — Айвэн, я хочу гамбургер. — Прекрасно! Я как раз собирался уходить. Приходи в «Тигр». Это новое бистро на углу 5-й авеню. Совсем рядом с твоим домом.
Бистро «Тигр» пользовалось большой популярностью. Почти все столики в нем были заняты. Аманда узнала нескольких манекенщиц и рекламных агентов. Отщипывая маленькие кусочки от своего гамбургера, она смотрела на Айвэна, ожидая ответа. Он почесал голову и сказал: — Ничего не понимаю. Утром он тебя любит, вечером исчезает. И надо же было тебе среди всех знаменитостей, которые шатаются по Нью-Йорку, выбрать именно его. Этот парень недостоин тебя. Кто он такой, в конце концов? Заурядный телевизионный журналист. — Не только. Он директор службы информации в Ай-Би-Си. И я его люблю. — За что? Аманда начертила инициалы Робина на влажной салфетке. — Я сама хотела бы это знать. — Он лучше других в постели? Знает какие-то особые приемы? Она отвернулась, и из-под черных очков потекли слезы. — Ну-ну, Манди, на тебя же смотрят. — Мне все равно. Я их не знаю. — Зато они тебя знают. В этом месяце твоя фотография на обложках двух журналов. Радуйся и извлекай пользу! — Мне наплевать. — Ты не права. Ведь твой Робин Стоун не будет оплачивать тебе квартиру и дарить меховые манто. Разве деньги ничего не значат для тебя? Может, у тебя есть богатые родственники? — Нет, мой единственный источник существования — это работа. Моя мать умерла, а меня воспитала тетя. Теперь я помогаю ей. — Тогда думай о серьезных вещах, Манди. Заработай в этом году как можно больше денег, так как в будущем может прийти очередь другой. Слезы продолжали течь по щекам Аманды. — Это не даст мне Робина. — Может, и так. Но сидеть и ждать его — глупо. Сделай так, чтобы он думал, будто ты развлекаешься. — Тогда у него будет предлог бросить меня. — Как я понял из твоих рассказов, он не нуждается ни в каких предлогах. Он делает то, что ему нравится. Постарайся казаться равнодушной. Встречайся с другими мужчинами, когда его нет. — С кем? — Я не поставляю услужливых кавалеров, голубка, но ты, конечно же, знаешь немало мужчин. Она покачала головой. — Вот уже год я встречаюсь только с Робином. — И никто не ухаживает за тобой? — Никто, на кого бы я обратила внимание, — со слабой улыбкой проговорила Аманда. — Этот ужасный Кристи Лэйн, например. Он приглашал меня провести с ним вечер. — Ты могла нарваться и на худшего. Аманда внимательно посмотрела на Айвэна. Увидев, что он говорит серьезно, она поморщилась. — Я его не выношу. — А я и не предлагаю тебе спать с ним. Используй его известность. — Это нечестно по отношению к нему. Айвэн взял Аманду за подбородок. — Послушай, ты хорошая девушка, я знаю. Иначе я не стал бы терять с тобой время, тогда как у самого куча дел и три мышки, которые только и ждут моего знака. Посмотри на вещи трезво. Робин не такой, как другие. Это нечто вроде совершенной машины. Так защищайся же, крошка. Это единственный шанс. Аманда рассеянно кивнула, продолжая рисовать на салфетке инициалы Робина. (обратно)
Глава 11
Узнав об отъезде Робина, Джерри тоже сильно огорчился. Они виделись за завтраком, договорились встретиться в пять часов в «Лансере». Джерри напрасно прождал Робина до семи вечера и о том, что произошло, узнал только потому, что Мэри случайно слышала выступление Робина в вечерних новостях. На следующее утро он имел долгую беседу с доктором Гоулдом. Доктор не считал, что Робин испытывает удовольствие, поступая жестоко. По мнению Гоулда, большинство поступков Робина объяснялось подсознательным желанием избежать зависимости от кого бы то ни было. Робин ничего не требовал от друзей и хотел, чтобы и они ничего не требовали от него.Разговор с Айвэном придал Аманде силы. Она вышла из оцепенения и, идя на вторую передачу «Кристи Лэйн Шоу», чувствовала лишь законную злобу. В этот раз, когда Кристи пригласил ее перекусить после представления, Аманда не стала отказываться. Они пошли в «Дэнни Хайдэуэй» в сопровождении его «клана» и Агнессы, танцовщицы из «Латинского квартала». Аманда сидела рядом с Кристи и после первых же его слов: «Что будешь заказывать, куколка?» — она расхотела вести с ним какие бы то ни было разговоры. До конца обеда Кристи и его «клан» обсуждали свои дела и строили планы на будущее, танцовщица поглощала все, что попадалось ей под руку, а Аманда чувствовала себя как никогда лишней, но была рада, что ее оставили в покое. Когда они подвезли ее к дому, Кристи остался сидеть в машине и отправил Эдди проводить ее до дверей. — Увидимся завтра, куколка? — крикнул он. — В «Копа» премьера. — Позвоните мне, — сказала она перед тем, как войти в здание. Он позвонил утром, и она согласилась провести с ним вечер. Все-таки это было лучше, чем оставаться дома и портить себе кровь из-за Робина. На следующий день Аманде позвонил Айвэн и поздравил с шумной оглаской, которую получили их отношения с Кристи в прессе. — Наконец-то ты поумнела, — сказал он. Поначалу эта газетная шумиха напугала Аманду, но прошло три дня, от Робина не было никаких известий, и она снова решила встретиться с Кристи. Они пошли в ночной ресторан, и она снова сидела между «кланом» и пресс-атташе, да еще парой каких-то второстепенных танцоров, надеявшихся попасть в передачу Кристи. Через несколько дней в вечерней газете появилась заметка о Кристи под названием «Типичный мужчина». Три колонки занимала фотография Аманды, сопровождаемая комментарием: «Типичный мужчина Кристи Лэйн никогда не появляется с любой женщиной. Он бывает в обществе с самой знаменитой манекенщицей Нью-Йорка». Как следовало из статьи, Кристи якобы сказал: «Мы знакомы недавно, всего несколько недель, но я и вправду влюбился». Аманда с отвращением отшвырнула газету. Потом еще раз перечитала статью. Это было ужасно! Она смотрела на пустое и невыразительное лицо Кристи и чувствовала, как к горлу подступает тошнота. Что будет, если они когда-нибудь останутся наедине? Зазвонил телефон и, сняв трубку, Аманда услышала ликующий голос Кристи. — Ну что, лапочка, ты уже знаешь о газетной шумихе? И это только начало. Кристи Лэйн — восходящая звезда, у которой все впереди! Сегодня вечером мы отметим успех. Только ты и я. Я попросил Дантона заказать нам хороший столик в «21». Выпьем по стаканчику, а потом пойдем в «Эль Марокко». — Сожалею, Кристи, — ответила Аманда, — но у меня вечером съемки, а завтра рано утром очень важная встреча. — Пошли ты всех к черту! Ты проведешь вечер с новым королем. — Я не могу отменять свои встречи, Кристи. Мне нужно зарабатывать на жизнь. — Жаль, конечно, что ты не придешь. — И мне жаль, Кристи. Аманда повесила трубку, решив больше никогда не встречаться с Кристи. В этот момент позвонил Айвэн. — Надеюсь, ты прочла всю газету. Во всяком случае, эта история с Кристи Лэйном позволит тебе не уронить достоинства, — Что ты имеешь в виду? — Я думал, что манекенщица номер один интересуется страничкой светской жизни. Ты что, действительно ничего не видела? — Нет. — Двадцать седьмая страница, — сказал Айвэн. — Я не вешаю трубку, пока ты будешь вскрывать себе вены. Аманда стала лихорадочно перелистывать страницы. Знакомая улыбка Робина заставила ее остановиться. Он обнимал за плечи некую баронессу Эрику фон Грац. — Ты жива еще, голубка? — Айвэн, ты — садист. — Нет, Аманда, я просто стараюсь повернуть тебя лицом к реальности. — Голос Айвэна был серьезным. — Если я тебе понадоблюсь, я дома. Аманда медленно повесила трубку, не отрывая глаз от газеты. Робин казался непринужденным, а баронесса довольно соблазнительной. Аманда просмотрела еще одну газету и снова увидела фотографию Робина вместе с баронессой. Рыдая, она бросилась на кровать и стала избивать кулаками подушку, словно это было улыбающееся лицо Робина Стоуна. Внезапно ее настроение изменилось, и она набрала номер Кристи. Он сразу же снял трубку. — Я как раз выходил. Ты поймала меня на ходу. — Я перенесла встречу. Голос Кристи моментально изменился. — Превосходно! Значит, идем! Встречаемся в «21» в половине седьмого. Как раз в это время должна прийти девица из «Лайфа». Вечер прошел лучше, чем она ожидала. Дантон Миллер явно подкупил персонал ресторана, и им выделили самый удобный столик в центре зала. Аманда заставила себя выпить скотч, чтобы вечер казался не таким тягостным. Журналистка из «Лайфа» оказалась очаровательной. Она объяснила Кристи, что ее прислали в разведку относительно возможного интервью с ним. Она доложит начальству о своих впечатлениях, и если редакция сочтет это интересным, то пришлет корреспондента, который потом напишет статью. Кристи натянуто улыбнулся. — Ну, это уж слишком! Экзамен перед интервью! Ну и снобы же работают в вашей лавочке. Такое унижение привело его в растерянность. Теперь Аманда поняла, что в большинстве случаев за его кривлянием скрывалась неуверенная натура. Сжалившись над ним, она взяла его за руку. Журналистка из «Лайфа» тоже была тронута растерянным видом Кристи. Она попыталась как можно непринужденнее засмеяться. — У нас так принято, мистер Лэйн. На прошлой неделе, например, я встречалась с одним важным сенатором, но редакция не дала согласия на статью. Кристи немного взбодрился и стал настаивать на том, чтобы журналистка пошла с ними в «Эль Марокко». Он рассказал ей о своем скромном дебюте, о своей нужде, вспомнил те кабачки, в которых начинал выступать. К удивлению Аманды, журналистка заинтересовалась его рассказами. Она стала что-то помечать у себя, в блокноте, и это удвоило пыл Кристи. Он обнял Аманду за талию и, подмигнув журналистке, заявил: — И представьте себе, что такой мужлан, как я, сумел подцепить девушку с обложки журнала мод! Аманда вернулась домой измученная и, с трудом раздевшись, как обычно стала расчесывать на ночь свои густые золотистые волосы. Взглянув случайно на расческу, она пришла в ужас: между зубьями застряли целые пучки волос. Нужно срочно прекращать пользоваться лаком «Алвэйзо». Напрасно Джерри расхваливал его, для ее волос это настоящий яд. Она легла в постель, поблагодарив Бога за то, что, по крайней мере, у нее не осталось сил, чтобы думать о Робине и его баронессе. Четыре следующих вечера она провела вместе с Кристи, корреспондентом из «Лайфа» и фотографом. К концу недели статья для «Лайфа» была готова, и все шло к тому, что ее опубликуют, хотя, как сказала журналистка, в этом можно было быть уверенным только тогда, когда статья будет отдана в набор. Во время передачи Кристи с Амандой в последний раз сфотографировали. — Дело сделано, — сказал Кристи, обнимая Аманду за талию. — Сегодня вечером мы это отметим. Кстати, только что опубликовали результаты опроса. Я в первой десятке! Слышишь, куколка? Две недели назад я был девятнадцатым, а сегодня уже восьмой. Обскакал целых десять конкурентов! Это нужно обмыть. И вообще, мы еще никогда не были вдвоем. Они пошли в «Дэнни Хайдэуэй», и их провели к самому престижному столику. Кристи радовался, как ребенок. Все останавливались у их столика, чтобы поздравить его, и он буквально купался в лучах собственной славы. Потом заказал бифштексы. Держась очень прямо, Аманда почти не притрагивалась к еде, тогда как Кристи пожирал свою порцию, положив локти на стол и чуть не влезая носом в тарелку. Закончив есть, он засунул два пальца в рот, чтобы вынуть из зубов застрявшие кусочки мяса. Внезапноего взгляд остановился на почти не тронутом бифштексе Аманды. — Тебе не нравится мясо? — Нет, просто я уже наелась. Хочу попросить полиэтиленовый мешок. — У тебя есть собака? — Кот. — Ужасно боюсь кошек. — Кристи заулыбался. — Скажи, он прыгает к тебе ночью на кровать? — Да, а потом сворачивается возле меня клубочком. — В таком случае мы сегодня вечером пойдем ко мне. Но вначале заедем к тебе. Ты покормишь кота и переоденешься. — Переоденусь? Зачем? Он смущенно улыбнулся. — Но ты же не можешь в таком виде появиться в холле «Астории». — А я не собираюсь там появляться. Эту ночь я проведу у себя в постели. — Но когда же мы, наконец, будем трахаться? Аманда вспыхнула. — Крис, если вы намерены так выражаться, то я сейчас же уйду. — Ну-ну, куколка, ты же знаешь, эти слова сами вылетают у меня. Но я постараюсь следить за собой. — Крис, я хочу вернуться домой. Одна. Я очень устала, и у меня начинается мигрень. — Ладно, займемся любовью завтра. Нет, завтра гала-концерт, тогда — послезавтра. — Проводите меня домой, — сухо сказала Аманда. — Черт возьми, куколка, прошу прощения. — Он взял ее руку и приложил к своей груди. — Я и вправду влюбился в тебя, Манди. И, может, это на всю жизнь. Аманда смотрела в его большие голубые глаза и видела в них искреннюю мольбу. Она вспомнила, как во время сегодняшней передачи, исполняя песенку «Манди», Крис неожиданно повернулся к кулисам, где стояла Аманда, и посмотрел ей в глаза. Техническая бригада чуть не сошла с ума, пришлось сменить запланированные кадры. Аманда погладила его по руке. — Послушайте, Крис, вы станете большой знаменитостью, перед вами открывается прекрасное будущее. У вас будут все девушки, которых вы только пожелаете: хорошие, красивые. — Мне никто не нужен. Я хочу тебя. — Крис, мы очень мало знакомы. Вы не можете меня любить, потому что вы меня не знаете. И я не влюблена в вас. — Ничего. Я терпеливый. Прошу тебя только об одном: позволь мне попытать счастья. Давай будем встречаться и, может, однажды ты захочешь переспать со мной. И если у нас получится, мы будем с тобой очень долго. Возможно, даже поженимся. Аманда пыталась возразить, но он не стал слушать. — Подожди. Я ни о чем другом тебя не прошу. Она знала, что он испытывает. И если надежда могла сделать его счастливым, зачем отказывать? Сегодня, по крайней мере, он ляжет спать со своей мечтой. Он может стать большой знаменитостью, и чем выше он взлетит, тем быстрее ее забудет. Расставаясь перед домом Аманды, они поцеловались. Войдя в квартиру, она увидела телеграмму, просунутую под дверь. Подняв ее, машинально распечатала. «Прилетаю в два часа ночи. Рейс T.B.A.N3. Если ты по-прежнему моя подружка, закажи машину и встречай. Робин». Она посмотрела на часы: без четверти полночь. Слава Богу, у нее еще было время. Бросившись к телефону, она заказала машину. Нет, никогда ей не понять Робина! Он не потратил и цента, чтобы попрощаться с ней, но прислал телеграмму, чтобы сообщить о своем возвращении. Она напевала, подкрашивая лицо, и впервые за четыре недели не чувствовала ни малейшей усталости.
Самолет только что приземлился. Пассажиры начали спускаться по трапу. Аманда сразу же заметила Робина. Он не был похож на других людей. Другие шли, а он, казалось, парил над толпой. Он опустил на землю свой дипломат и обнял ее. — Как поживает новая звезда экрана? — спросил он. — Взволнована встречей с самым великим репортером мира. Она решила принять шутливый тон и ни в коем случае не вспоминать о баронессе. Обнявшись, они пошли к машине. — Я ничего не понимаю, — сказала Аманда. — Я думала, ты в Лондоне, а телеграмма пришла из Лос-Анджелеса. — Да, я заехал на несколько дней в Лос-Анджелес. Он порылся в кармане и протянул Аманде небольшой пакет. — Подарок для тебя. Забыл указать его в декларации. Теперь я контрабандист. Это была красивая старинная коробочка для сигарет, которая, вероятно, очень дорого стоила, но, откровенно говоря, Аманда предпочла бы что-нибудь менее дорогое, но более интимное. — Надеюсь, ты по-прежнему куришь? Он вытащил из кармана пачку, туго набитую английскими сигаретами, и предложил ей одну, но табак был такой крепкий, что она едва не задохнулась. Робин забрал у нее сигарету и нежно поцеловал в губы. — Тебе меня не хватало? — Дело в том, что ты уехал, оставив меня с двумя бифштексами. И я не знала, что делать: сожалеть о тебе или убить. Робин рассеянно смотрел на Аманду, пытаясь вспомнить, о чем она говорит. — Ты мог хотя бы позвонить и сказать: «Дорогая, сними бифштексы с огня, я не смогу прийти». — А разве я этого не сделал? — Робин был искренне удивлен. — Ладно, забудем об этом. Кот в тот вечер поел от души. Он обнял ее за плечи и притянул к себе. — Устала? Она прижалась к нему. — Для тебя — никогда. Он поцеловал ее долгим и глубоким поцелуем. — Робин, пока тебя не было, я встречалась с Кристи Лэйном. Ты ведь его помнишь? Казалось, он с трудом вспоминает, кто такой Кристи. — Ах, да! Говорят, что его передача идет хорошо. Я видел результаты опроса. — Некоторые считают, что я его любовница. Но это только сплетни. Мне бы не хотелось, чтобы ты так думал. — Думал? О чем? — Я боялась… но теперь вижу, что беспокоилась напрасно. Робин рассмеялся. — Ты стала знаменитостью, а про известных людей часто пишут в газетах. — Но разве тебя это не трогает? — А почему это должно меня трогать? Я ведь тоже не жил в Лондоне монахом. Аманда отстранилась и стала смотреть в окно. Робин попытался взять ее за руку, но она вырвала ее. — Значит, тебе безразлично, что я встречаюсь с ним? — Конечно. — А если бы я спала с ним? — Это твое дело. — Робин, скажи шоферу, чтобы ехал к моему дому. — Почему? — Я хочу вернуться… одна. Он обнял ее. — Дорогая, ты проделала такой путь, чтобы встретить меня. Что же случилось теперь? — Робин, неужели ты не понимаешь, что… Договорить она не успела. Робин глубоким поцелуем положил конец всем объяснениям.
Ночь они провели в объятиях друг друга, и разговор о Кристи больше не возникал. Все было так, словно Робин никуда не уезжал. Позже, когда, успокоенные близостью, они отдыхали и курили, Аманда спросила: — Что это за баронесса? Вопрос вырвался сам собой, и она тут же пожалела об этом. — Шлюха, — ничуть не смутившись, ответил Робин. — Но я читала в газетах, что она баронесса. — О, титул не мешает ей быть шлюхой. Одна из тех крошек, которые выросли во время войны. В двенадцать лет она уже спала с американскими солдатами за плитку шоколада. А потом вышла замуж за барона — импотента и, кроме того, любителя эротических сцен. Эрика знала, что делает. Она унаследовала почетный титул, деньги и теперь на седьмом небе от счастья. Мы познакомились с ней во время одной из оргий с групповым сексом. Аманда привстала. — С групповым сексом? — Да. Он очень популярен в Лондоне. И, кажется, уже появляется в Лос-Анджелесе. — И тебе это нравится? Ее вопрос рассмешил его. — В этом нет ничего неприятного. Это все же лучше, чем телевидение: у них там всего два канала. — Робин, говори серьезно! — Я и говорю серьезно. Ты знаешь Айка Райана? Это имя было ей знакомо. Она вспомнила, что Айк Райан был продюсером американских фильмов, живущим то в Италии, то во Франции. О нем ходило много слухов. — Он наверняка тебе понравится, — продолжал Робин. — Мы встретились в Лондоне. У меня было паршивое настроение из-за погоды, и он пригласил меня на одну такую вечеринку. Там были три итальянские актрисы, баронесса, Айк и я. Вечеринка называлась «Дамы в турецкой бане». — И ты в этом участвовал? — Конечно, а почему нет? Вначале я смотрел, как девицы резвились между собой, а потом мы с Айком легли, и весь этот гарем занялся нами. Эрика была самая опытная, поэтому я положил ее рядом с собой. Но Айк действительно потрясающий тип. Скоро он приедет в Лос-Анджелес, чтобы организовать свою собственную киностудию. Это внесет оживление в жизнь города. — Что внесет оживление? Оргии? — Да нет же! Фильмы. Это классный игрок в покер, к тому же красивый парень. Женщины от него без ума. — Мне он противен. — Почему? — Потому что… делать подобные вещи! Робин рассмеялся. — И я тоже вызываю у тебя отвращение? — Нет, потому что ты ведешь себя, как маленький, гадкий мальчишка, который считает себя свободным от предрассудков. Но этот Айк со своими трюками… — Дорогая, это делалось еще во времена греков. — И ты хочешь познакомить меня с этим типом? Чтобы я появилась в его компании? Если меня увидят с вами, все подумают, что я девица такого же сорта. Ты этого хочешь? Он серьезно посмотрел на нее. — Нет, Аманда, и обещаю, что не буду заставлять тебя появляться в компании с Айком Райаном. Робин встал и выпил таблетку снотворного, запив ее пивом. — Я все еще живу по европейскому времени и чувствую себя совершенно разбитым. А ты не хочешь? — Нет, мне завтра вставать в десять утра. Робин снова лег в постель и обнял ее. — Аманда, милая, так хорошо с тобой. Не буди меня, когда встанешь. После обеда у меня много работы, и я хочу немного поспать. Утром Аманда оделась и, не задерживаясь, ушла. Она чувствовала себя уставшей, и это отражалось на работе. Волосы у нее продолжали выпадать. Позвонив Нику, Аманда попросила у него адрес дерматолога. Он засмеялся. — Ты теряешь перышки, малышка! Это — нервы. — Возможно, — сказала она. — Робин вернулся. — Позвони своему врачу, попроси выписать тебе уколы витамина В-12 и, ради Бога, не посвящай все ночи любви. — У меня нет врача, — она рассмеялась. — Я никогда не болела. Может быть, ты знаешь хорошего врача? — Аманда, сокровище, ты так молода и хорошо выглядишь, что тебе можно только позавидовать. У меня, например, шесть врачей. Хочешь совет? Держись подальше от них от всех. Выспись этой ночью, а когда выйдет статья в «Лайфе», все твои хвори пройдут. Наверное, Ник был прав. Закончив в три часа работу, Аманда возвратилась домой, чтобы немного поспать. Слаггер прыгнул на кровать и прижался к ней. Она поцеловала его в голову. — Еще не ночь, мое солнышко. Мы просто немного вздремнем. Ей казалось, что она спит целую вечность. Внезапно она села. Было темно. Она попыталась сориентироваться. Какой сегодня день? Вдруг все вспомнила. Зажгла свет: девять часов. Слаггер соскочил с кровати и стал мяукать, требуя, чтобы его накормили. Девять часов! А Робина нет. Она набрала его номер и, сосчитав десять гудков, повесила трубку. До самого утра она не смогла сомкнуть глаз. Слаггер, чувствуя, что что-то случилось, лежал, прижавшись к ней. На следующий день она прождала до шести вечера и позвонила снова. Может, он заболел? Робин снял трубку. Нет, он чувствовал себя хорошо. Просто ему нужно было решить все проблемы, накопившиеся в его отсутствие. Он позвонит ей завтра. На следующее утро, просматривая газеты, она увидела его имя. «Айк Райан и Робин Стоун были вчера в „Эль Марокко“ в сопровождении двух восхитительных итальянских актрис с такими сложными именами, что наш репортер не смог их запомнить. Зато он никогда не забудет ни их лиц, ни их… заигрываний». Аманда швырнула газету. Значит, он бросил ее, потому что знал о приезде Айка Райана. И зачем только она сказала, что не хочет появляться в компании с Айком? В тот же вечер она пошла с Кристи к «Дэнни». Она была совершенно спокойна, а Кристи ворчал, так как их посадили за маленький столик возле стены. Один из двух самых престижных столиков был занят голливудскими знаменитостями, на другом стояла табличка «занято». — Это, наверное, для одного из этих голливудских шутов, — проворчал Кристи, с завистью глядя на столик. — И почему только все пресмыкаются перед этими типами? Я гораздо более известен, чем большинство голливудских звезд. Аманда попыталась успокоить его. — Кристи, этот столик очень удобный, и мне здесь нравится больше, чем в середине. Отсюда лучше видно. — Где бы я ни был, я имею право на лучший столик! — Любой столик становится лучшим, как только вы за него садитесь. Он посмотрел на нее с удивлением. — Ты действительно так думаешь? — Главное, чтобы вы так думали. Он улыбнулся и заказал ужин. Настроение его улучшилось. — Скоро появится статья в «Лайфе», — сообщил он. — Но, Манди, есть вещь, которую я желаю больше, чем эту статью: тебя. Я много думал. Как ты можешь полюбить меня, если мы не спим вместе? — Крис, я должна вам сказать… Она остановилась, глядя на четырех человек, которых сам Дэнни усаживал за первый столик. Две восхитительные девушки и двое мужчин. Один из них — Робин. — Что ты хотела сказать, куколка? Кристи в упор смотрел на нее, но она не могла отвести глаз от Робина. Аманда видела, как Робин наклонился, поцеловал одну из девушек в кончик носа и весело рассмеялся. — Ты только посмотри, кому отдали мой столик! — воскликнул Крис. — Однажды я мельком посмотрел его передачу: очень хотелось узнать, что из себя представляет конкурент. Скажу тебе прямо: я выдержал не больше десяти минут. Знаешь, какой у него рейтинг? — Его передача в первой двадцатипятке, что очень хорошо для новостей. Она подумала, зачем его защищает. — Скоро я буду на первом месте. Вот увидишь. Все обращаются со мной так, словно это уже произошло… Кроме тебя! — Я… я вас очень люблю. — Тогда докажи это или заткнись. — Я хочу вернуться домой. Она действительно чувствовала себя очень плохо. Склонившись к девушке, Робин просто упивался тем, что она говорила ему. — Слушай, куколка, хватит спорить. Я тебя люблю, но нам нужно переспать. — Отвезите меня домой, Крис! Он угрюмо посмотрел на нее. — Если я тебя отвезу, это будет в последний раз! Он подписал счет, и они пошли к выходу. Крис останавливался почти у каждого столика, громко приветствуя сидящих. Она знала, что Робин ее заметил, и когда они поравнялись с его столиком, он встал. Казалось, он ничуть не смущен и даже рад ее видеть. Поздравив Криса с успехом передачи, Робин представил своих спутников. Мужчина, конечно, оказался Айком Райаном. Это был крепкий брюнет с голубыми глазами, под метр восемьдесят ростом. У него было приятное загорелое лицо, мужественный вид, и он совсем не соответствовал тому, каким она его всегда себе представляла. — Так вот вы какая, знаменитая Аманда! — Айк повернулся к девушкам, что-то сказал им по-итальянски, и они заулыбались. — Я объяснил им, какая вы знаменитость. Прошла целая вечность, прежде чем они распрощались. Аманда в последний раз взглянула на Робина в надежде хоть что-то прочесть в его глазах, но он уже снова разговаривал с итальянкой. На улице Кристи с хмурым видом поймал такси. — Поедем к вам, Крис, — сказала Аманда. Он едва не задохнулся от радости. — О, дорогая! Но как же твое вечернее платье? Хочешь, мы заедем к тебе и ты переоденешься? — Нет, я возвращусь… потом. — Нет вопросов. Но, может быть, мы все-таки поедем к тебе? Мне завтра никуда не нужно, а ты сможешь встать, когда захочешь. Аманду передернуло. — Нет, завтра утром я жду фотографа. Сейчас только половина одиннадцатого. Я останусь на несколько часов. — Но я хочу провести с тобой всю ночь! Хочу обнимать тебя! — Нет, только так, как я сказала, — спокойно произнесла Аманда. Аманде казалось, что все присутствующие в холле «Астории» знали, зачем она идет в номер к Кристи. Даже шофер такси презрительно посмотрел ей вслед, когда она вышла из машины. А ведь сколько раз она совершенно непринужденно пересекала холл в доме Робина и даже весело бросала портье: «Привет!» И все это казалось естественным и прекрасным. Нет, не следует думать о Робине. Особенно сейчас. Она вошла в ванную и полностью разделась. Посмотрела на свою плоскую грудь и храбро направилась в спальню. Кристи уже лежал в трусах на кровати с газетой. От разочарования у него отвисла челюсть. — Нет груди?! Аманда хладнокровно выдержала его взгляд, но он тут же рассмеялся и протянул к ней руки. — Это еще раз доказывает, что самые шикарные женщины плоские, как доски. Хорошо еще, что у тебя не лошадиные зубы. Иди же ко мне. Ты не будешь разочарована размером инструмента. Посмотри, какой он хороший, старина Крис… Он взял ее в темноте. Лежа на спине, она чувствовала, как он сходит на ней с ума, пытаясь доставить ей удовольствие. Увы! Сколько бы он ни старался, ничего не получится. Она никогда не испытает удовлетворения от близости с ним. Внезапно он резко отстранился и со стоном повалился на бок. Прошло несколько минут, наконец он сказал: — Не волнуйся, куколка. Я успел вовремя. Тебе нечего опасаться. Он обнял ее. Его тело было мокрым от пота. Она не шелохнулась. — Мне не удалось расшевелить тебя, да? — Крис, я… — она замолчала. — Не волнуйся. Дай мне передохнуть, а потом можно повторить. — Нет, Крис. Все было великолепно. Просто я была немного скована. В следующий раз я приму меры предосторожности, и все будет в порядке. — Слушай, я решил. Мы поженимся в конце сезона. Этим летом у меня шестинедельный контракт в Лас-Вегасе, очень хорошо оплачиваемый. Поженимся там. Ты развлечешься, и это будет нашим медовым месяцем. Не пользуйся никакими средствами. Если забеременеешь, тем лучше. Поженимся раньше. — Нет, Крис, я не хочу детей до свадьбы. Я не хочу, чтобы люди думали, будто мы поженились из-за этого. — Послушай, малышка, мне сорок семь. Двадцать лет назад я познакомился в Чикаго с одним типом, налоговым инспектором. Мне удалось вытащить его сына из одной грязной истории. Так, ничего серьезного — небольшое дорожное происшествие. Отец парня, Лу Гольдберг, был мне так признателен, что стал для меня и мамой, и папой, и адвокатом, налоговым инспектором, — словом, всем. Он мне прямо сказал, что я посредственный артист, но если буду его слушаться, то стану одним из первых людей в стране. Он стал забирать половину моего заработка и вкладывать эти деньги в акции. Теперь у меня солидный капитал и шеститысячный доход в месяц. И все это будет принадлежать нашему малышу. Я хочу, чтобы ты родила мне ребенка как можно скорее, чтобы в шестьдесят лет я мог водить его на футбол, провожать в колледж. Ты только никому не говори, но сам я не закончил ничего, кроме начальной школы. В двенадцать лет я продавал эскимо в антрактах. Но наш малыш не будет нуждаться ни в чем! Аманда лежала, не реагируя. Зачем она здесь? И этот бедный идиот… Вскочив с кровати, она прошла в ванную и оделась. Когда она вышла, Кристи натягивал одежду. — Не беспокойтесь, — сказала она, — я найду такси. Ей хотелось побыстрее уйти. Она не могла больше видеть его томные глаза. — Еще не поздно. Я провожу тебя и заодно прогуляюсь в «Стэйдж Дэли». Эдди и Кении должны быть там. Я так счастлив, что все равно не смогу уснуть. В такси он все время держал ее руку, а возле лифта поцеловал. Войдя в квартиру, она побежала в ванную, и ее вырвало. Робин позвонил на следующее утро и ни словом не обмолвился об итальянках. После обеда он уезжал с Айком в Лос-Анджелес, чтобы сделать о нем передачу для «Мыслей вслух», потом собирался полететь в Лондон и не знал, когда вернется. Аманда не стала спрашивать ни о баронессе, ни об итальянских актрисах. Робин тоже не произнес имени Кристи. (обратно)
Глава 12
Утром первого мая Аманда проснулась на пятнадцать минут раньше, чем зазвонил будильник. Завтра «Лайф» будет продаваться во всех киосках, но сегодня его можно было купить в отеле «Плаза». Она быстро оделась. Вот уже шесть недель ее мучили любопытство и страх. Все ждали выхода статьи, а Кристи даже считал, что она принесет ему всемирную известность. Аманда поймала такси и поехала в «Плазу». В глаза сразу бросилась ярко-красная глянцевая об ложка «Лайфа», который лежал на прилавке. Бросив на блюдечко несколько монет, она взяла журнал и устроилась в удобном кресле. Статья занимала десять страниц и называлась «Феномен Кристи Лэйна». Аманда фигурировала на четырех фотографиях рядом с Кристи. Статья в «Лайфе» получила огласку. Аманда сразу стала знаменитостью, и в конце передач любители автографов поджидали ее у служебного входа, выкрикивая ее имя. Робин не давал о себе знать до Дня памяти павших. Аманда только повесила трубку после разговора с Кристи. Он должен был за огромную плату участвовать в гала-концерте и хотел, чтобы она пошла с ним, но Аманда отказалась. Поговорив с Кристи, она еще раз обдумала ситуацию. Почему она не сказала прямо: «Я никогда не буду вашей женой»? Потому что боялась. Боялась, что когда-нибудь Робин исчезнет насовсем. А Кристи не давал ей, по крайней мере, совершенно сойти с ума. Зазвонил телефон. Аманда не торопясь сняла трубку, ожидая снова услышать голос Кристи. — Привет, звезда! — Робин! О Робин! Где ты? — Я только что прилетел. Прочел в самолете статью о тебе. Представляешь, просматриваю последние номера «Лайфа» и вдруг… ба! Ты! — Что ты думаешь обо всем этом? — Превосходно! — с воодушевлением сказал он. — Сейчас ты соблазнительнее, чем когда-либо. От волнения у нее перехватило дыхание, но она все же непринужденно сказала: — Можно подумать, что тебе меня не хватало. — Так оно и было. Она уже почти не слушала его, а думала о том, как подготовиться к их встрече. Она надеялась, что они останутся дома. В холодильнике у нее есть бифштексы, но почти нет водки. Робин спросил: — Ты все такая же красивая? — Приходи и увидишь сам. — Хорошая мысль. Встретимся завтра в семь часов в «Лансере». Аманда была настолько разочарована, что на время лишилась дара речи. Он принял ее молчание за колебание и игриво спросил: — Может, меня вытеснил Кристи Лэйн? — Нет, но он сделал мне предложение. — Неплохая партия. Его передача продержится годы. — И ты ни капельки не расстроишься, если я выйду замуж за Лэйна? — Конечно, расстроюсь. Я не хочу тебя терять. Но по части женитьбы мне с ним не тягаться. — Почему, Робин? — Послушай, милая, единственное оправдание брака — это дети. А я их не хочу. — Робин, никто не заставляет нас иметь детей сразу. — Но тогда зачем жениться? — Чтобы быть вместе. — Мы и так вместе, кроме тех случаев, когда мне нужно побыть одному, как, например, сегодня. Так как насчет завтра? Ты свободна? — Постараюсь освободиться, — хмуро проговорила она. — Малышка, я очень устал от путешествий и до осени не двинусь с места. Да, я вспомнил, Джерри пригласил меня на выходные в Гринвич. У них дом с бассейном. Ты не хотела бы поехать? — С удовольствием! — Прекрасно! Тогда до завтра. На следующее утро в девять часов Аманда позвонила Джерри. — Джерри, мне нужно срочно поговорить с тобой. Могу я прийти к тебе в кабинет в десять часов? — Хорошо. Я приготовлю чашечку кофе. Сидя напротив Джерри по другую сторону стола и отпивая маленькими глотками кофе, Аманда рассказывала о своих отношениях с Кристи, представляя дело так, будто между ними ничего не было. — Джерри, ты единственный человек, который может мне помочь, — сказала она. — Я? — удивился Джерри. — Если я поеду в Лас-Вегас с Кристи, то должна буду выйти за него замуж. Если откажусь от поездки, то потеряю его. Джерри покачал головой. — По-моему, лучше синица в руках, чем журавль в небе. — Я хочу еще раз попытаться, Джерри. Робин будет здесь все лето, он пригласил меня провести у тебя выходные. Джерри помолчал. — Поезжай в Лас-Вегас, милая, — наконец сказал он. — Выходи замуж за Кристи. Ты и так потеряла слишком много времени с Робином. — Почему? Ты что-нибудь знаешь? Он тебе что-то говорил? Джерри улыбнулся. — У меня есть друг — психиатр. Так вот, он считает, что Робин ненавидит женщин. — Ну, это смешно! — воскликнула Аманда. — Твой друг даже не знает Робина. Как он может утверждать подобное? — Он встречал его. — А ты сам согласен с этим? — Да. Но я думаю, что Робина влечет к тебе в той степени, в какой его вообще могут привлекать женщины. — Джерри, — она умоляюще посмотрела на него, — помоги мне. Джерри взглянул ей прямо в глаза. — Поезжай в Лас-Вегас, Аманда. Кристи предлагает тебе будущее, обеспеченную жизнь, детей — все, о чем только может мечтать женщина. Она сжала пальцы рук. — Ты когда-нибудь был бедным, Джерри? По-настоящему бедным? Я — да. Я познала нищету. Я родилась в Майами, в приюте. Моя мать была финкой и работала горничной в одном шикарном отеле. Видимо, она была красивая, потому что пришлась по вкусу одному богатому клиенту. После моего рождения мы жили в негритянском гетто, так как единственным человеком, который участливо отнесся к моей матери, была негритянка, работавшая в том же отеле. Мне было шесть лет, когда умерла моя мать, и тетя Роза — так звали эту женщину — воспитала меня как собственную дочь. Она работала, чтобы одеть меня, накормить, оплатить учебу в школе. А потом посадила на автобус до Нью-Йорка и дала с собой пятьдесят долларов. Все свои сбережения. — Я уверен, что ты вернула ей эти деньги. — Вначале я посылала ей по пятьдесят долларов в неделю. Но всей моей жизни не хватит, чтобы вознаградить ее за любовь ко мне. Полтора года назад у тети Розы случился инсульт. Я поехала во Флориду и положила ее в больницу. Это было нелегко, но мне попался симпатичный врач, который помог добиться для нее отдельной палаты. — И ты по-прежнему регулярно навещаешь ее каждую неделю? Аманда покачала головой. — Это слишком мучительно. Она даже не узнает меня. Я навещаю ее раз в месяц и в первый день Нового года. Джерри, я с детства слишком хорошо знаю, что такое деньги. Деньги позволили моему отцу возвратиться к себе и жить, не зная обо мне. Их нехватка помешала моей матери бороться и защищать себя. И единственное, что может продлить жизнь тете Розе, это деньги. Я не могу рисковать, Джерри. Мне нужно обеспечить себе тылы. Но я имею право попытаться добиться единственного мужчины в мире, которого люблю. Пока у меня остается хоть один шанс с Робином, я не могу выйти замуж за Кристи. Джерри приготовил два скотча и протянул стакан Аманде. — Аманда, этим летом мы хотим снять рекламные ролики с твоим участием, и я приказываю тебе остаться в городе. — Он легонько стукнул своим стаканом о ее. — Можешь рассчитывать на меня. Выпьем за долгое прекрасное лето. Мы хорошо проведем время! Аманда неуверенно улыбнулась. — Надеюсь… потому что осенью мне придется принять решение.Лето подходило к концу. Все дни и ночи Аманда проводила с Робином. Они ездили на выходные к Хэмптонам, гуляли по маленьким улочкам в Гринвиче, часами сидели в кафе на Корнелиа-стрит. Наступил октябрь, и начался новый рабочий сезон. Кристи торопил Аманду назначить день свадьбы, а Робин снова улетел в одно из своих путешествий. Все было так, словно лета и не было. Аманда потеряла несколько килограммов, которые набрала летом. Когда Робин был с ней, она чувствовала себя лучше. Аманда не могла ни на что решиться. Она ждала. Как ни странно, дело ускорили заказчики. С пятнадцатого января и до конца сезона «Алвэйзо» решило снимать передачу в Калифорнии. Накануне Рождества Аманда с Джерри сидели в «Лансере». Джерри был не очень рад поездке в Калифорнию: слишком долго нужно было отсутствовать. Оба печально смотрели вокруг, на новогоднюю елку, искусственный снег и ветки остролиста, приклеенные к зеркалу. Их взгляды встретились, и Аманда подняла свой бокал. Чуть помедлив, она произнесла: — С Новым годом, Джерри! — У тебя усталый вид, Аманда. — Да, усталый и измученный. Он взял ее за руку. — Послушай, милая, ты не можешь и дальше продолжать свою игру. Поставь в Новый год перед Робином вопрос ребром. — Почему в Новый год? Да и увижу ли я его? — Крис приглашен на прием к Остинам? — Да, он только об этом и говорит. Можно подумать, что его пригласили на официальную презентацию в Бэкингемский дворец. — В некотором смысле так оно и есть: Юдифь Остин редко приглашает сотрудников Ай-Би-Си к себе. В этом году она, кажется, делает исключение. Дантон Миллер очень удивился, узнав, что Робин в числе приглашенных. Я слышал, Робин вернется тридцать первого декабря. Не волнуйся, он будет у Остинов. Он не посмеет пренебречь приглашением Юдифь. — Но что я должна буду сделать? — спросила Аманда. — Подойти к нему и сказать: «Сейчас или никогда, Робин!» — Приблизительно так. — Я не могу, Джерри. Я не пойду на этот прием. — Почему? Разве Крис тебя не пригласил? — Конечно, пригласил. Но первое января я всегда посвящаю тете Розе. Я ничего не говорила о ней Крису. Скажу ему, что у меня мигрень. — Послушай, Аманда, пойди на этот прием. Поставь вопрос перед Робином, и пусть он тебе прямо ответит: да или нет. Если нет, ты вычеркиваешь его из своей жизни. Два года ожидания — этого вполне достаточно даже для Робина. А на следующий день ты навестишь тетю. Аманда подумала и кивнула. — Хорошо, я сделаю так, как ты говоришь. — Она скрестила пальцы. — Выпьем за Новый год, Джерри! Или я проиграю, или вырву у него признание. (обратно)
Глава 13
В приглашении на прием к Остинам по случаю Нового года было написано: «Коктейль с четырех до семи». Крис хотел заехать за Амандой в половине четвертого, но она решила, что не поздно будет приехать и к половине пятого. Когда Аманда с Кристи прибыли к Остинам, там собралось пока всего человек двадцать. Строгая, но уютная роскошь особняка произвела на Аманду впечатление. Швейцар взял их пальто и проводил в просторную гостиную. Аманда узнала сенатора, нескольких известных людей, киноактеров и одну звезду из Си-Би-Эс. Она также заметила Дантона Миллера, который стоял в углу комнаты и беседовал с Айком Райаном и миссис Остин. Аманда сразу же его узнала. Уже несколько месяцев Айк блистал в Голливуде, и журналы в подробностях описывали его подвиги. Скоро должен был выйти на экраны его первый дорогостоящий фильм. Об Айке стали говорить с того момента, когда он пригласил на главную роль одну из красивейших голливудских звезд. Красавица тут же оставила своего мужа и очертя голову бросилась в объятия Айка. Но к концу съемок он бросил ее ради начинающей актрисы, которой пообещал роль в своем будущем фильме. Брошенная звезда приняла снотворное, и спас ее только своевременный телефонный звонок покинутому мужу. Через несколько дней начинающая актриса тоже прибегла к снотворному. Однако в последний момент она позвонила Айку, и тот вытащил ее. Благодаря этим историям имя Айка не сходило со страниц газет. Ему пришлось заявить, что он приехал в Голливуд в качестве продюсера, а не соблазнителя, и что он сыт по горло любовными приключениями. Когда-то в Ньюарке Айк женился на однокласснице. Они были в разводе уже пять лет, и в настоящее время у Айка была только одна страсть — работа. Конечно, он влюблялся, причем каждый день, но ненадолго. Айк был красивым мужчиной атлетического сложения. Его мать — еврейка, а отец был скромным ирландским боксером. В своих интервью Айк уверял, что взял от каждого все самое лучшее. На вид ему можно было дать лет сорок. Он был смугл, а его черные волосы начинали седеть на висках. Короткий приплюснутый нос придавал его лицу с квадратной челюстью детское выражение. Юдифь Остин, казалось, внимала каждому его слову. Стройная и элегантная, с длинными волосами, собранными в пучок на затылке, Юдифь Остин представляла собой то, чем хотела быть Аманда. Аманда обвела взглядом гостиную. Да, дом был великолепен. Как бы тетя Роза порадовалась за нее, если бы узнала, что она находится в таком месте! При этой мысли Аманда внезапно вспомнила о клинике и спросила у швейцара, откуда можно позвонить. Он проводил ее в библиотеку и ушел, закрыв дверь. Аманда огляделась и почувствовала себя оробевшей в этой впечатляющей комнате. Она подошла к письменному столу и слегка провела пальцем по поверхности: вероятно, французский. На столе в серебряной рамочке стоял портрет Юдифь. Аманда взяла его, чтобы рассмотреть поближе. На нем была надпись «Консуэло», сделанная почерком с наклоном влево, присущим женщинам из высшего общества. Это, конечно же, была сестра-двойняшка Юдифь — принцесса. Аманда набрала номер клиники. Занято. Она села, открыла серебряный ларчик, стоящий на столе, и закурила. Снова позвонила в клинику. По-прежнему занято. Дверь открылась, и в комнату вошел улыбающийся Айк Райан. — Я видел, что вы сбежали, и как только смог улизнуть, пошел вас искать. Меня зовут Айк Райан. Мы встречались в «Дэнни Хайдэуэй» в прошлом году Аманда сделала вид, будто не помнит этого, и равнодушно сказала: — Я зашла позвонить, но мой номер занят. Он махнул рукой. — Совсем как у меня. Вы разрешите? Не дожидаясь ответа, он стал набирать номер, но вдруг остановился и повернулся к ней. — А потом вы свободны? Она отрицательно покачала головой. Он снова стал крутить диск. — Тогда я все-таки позвоню. У вас что-то серьезное с тем чудаком, с которым вы пришли? Я видел вас вместе у «Дэнни». — Я рекламирую продукцию в «Кристи Лэйн Шоу». Аманда подумала, говорил ли о ней Робин Айку. Айк дозвонился и заговорил: — Джой? Привет, голубка! Поужинаем вместе? В девять часов? Я пришлю за тобой машину. — Он положил трубку и повернулся к Аманде: — Вы видите, что теряете? Она заставила себя улыбнуться. Он посмотрел ей прямо в глаза. — Вы мне нравитесь, Аманда. Обычно девушки сами бросаются мне на шею. — Я не такая. У меня контракт на съемки в Калифорнии, и «чудак», с которым я пришла, в меня крепко влюблен. Он улыбнулся. — Где же вы намерены остановиться, когда будете в Калифорнии? — В Беверли Хилл, если я туда поеду. — Если вы поедете? Но вы же сказали, что у вас контракт. — Да, но я его еще не подписала. — Понимаю, efsher. — Efsher? Он улыбнулся. — Это еврейское слово. Моя мать его часто употребляла. Это трудно перевести, но я попробую привести вам пример. Моя сестра была похожа на монстра до того, как я заставил ее изменить форму носа, что, впрочем, позволило ей найти себе мужа. Так вот, однажды она собирается на уик-энд с ватагой таких же невзрачных подружек, и я вижу, как она запихивает в чемодан старые джинсы, теннисную ракетку, купальник. «Как! Ты не берешь с собой красивое платье?» — спрашивает мама. А моя сестра отвечает: «Это бесполезно, мама. Все равно на этом сборище не будет ни одного холостяка. Так вот, я хочу расслабиться, поиграть в теннис. Я еду отдыхать, а не охотиться за кавалерами.» И тогда моя мама снимает с вешалки самое красивое платье сестры и кладет его в чемодан: «Пусть оно всегда будет с тобой, efsher.» Аманда рассмеялась. Айк начинал казаться ей симпатичным. — Смекнули? — продолжил он. — Efsher — это что-то вроде «на всякий случай». Так какой же у вас efsher, мой ангел? — И вдруг, почувствовав, что у нее изменилось настроение, сказал: — Послушайте, может, подумаете о сегодняшнем вечере? Я всегда могу отменить свидание, которое назначил. — А я никогда не отменяю своих свиданий. — Я тоже… когда в них очень заинтересован. — Айк внимательно посмотрел на Аманду и улыбнулся. — Приезжай на юг, мой ангел. Я думаю, что у нас общее будущее. Он вышел, и комната внезапно показалась ей очень пустой. Она посмотрела на часы: седьмой час. Робин, наверное, уже пришел. Быстро набрала номер клиники. Занято. Решив, что попытается дозвониться позднее, Аманда вышла из библиотеки. Большая гостиная была уже полна народу. Она отыскала Криса, словно приросшего к одному месту и все еще разговаривавшего с Дантоном Миллером. Дан очень обрадовался, увидев Аманду, и сразу же улизнул от Криса. — Черт возьми! Где ты пропадала? — спросил Крис, как только они остались одни. — Я поправляла прическу, — холодно ответила она. — Тебя не было целых двадцать минут. Дан Миллер пожертвовал своим временем, чтобы занять меня разговором. — А где же ваши многочисленные поклонники? — съязвила Аманда. Крис огляделся. — Это, лапочка, не мой круг. Пойдем отсюда. — О Крис, делайте хотя бы вид, что вам весело. — А зачем? Разве есть такой закон, который обязал бы меня веселиться? Лучше поедем-ка к Эдди Флинну на вечеринку. Он нас тоже приглашал. В четверть девятого Аманда, потеряв всякую надежду увидеть Робина, позволила Крису увезти себя к Эдди. Там она уселась на диван и стала пить скотч. Крис притащил ей бутерброды с пастромой. — Держи, киска. Это вкуснее, чем закуска Остинов. Она отказалась и вновь наполнила свой стакан. — Ты бы лучше поела, — сказал Крис с полным ртом. — Я ем уже третий. — Я не голодна. В одиннадцать вечера Аманда была уже пьяна, и Крис, который хотел где-нибудь выпить кофе, согласился отвезти ее домой. Она споткнулась, заходя в квартиру. Ее тошнило, голова раскалывалась. Пора смириться. Она поедет в Калифорнию! Она выйдет замуж за Криса! Вдруг она замерла, пораженная новой мыслью. Калифорния! А кто будет ходить к тете Розе? Секунду подумав, она, повинуясь какому-то порыву, позвонила Джерри. — Джерри, я не могу ехать в Калифорнию. Он чуть не задохнулся от радости. — Ну что, получилось? Я же говорил, что с ним нужно действовать решительно. — Он не пришел, — проговорила Аманда. — Но тогда почему ты не можешь ехать в Калифорнию? — Из-за тети Розы. Кто будет навещать ее, если я уеду? — Наверное, на побережье есть хорошие клиники. — Да, но как я ее увезу? — Попроси Криса нанять самолет-такси. Возьми с собой медсестру. — О Джерри! Если Крис это сделает, я заставлю себя полюбить его. Я сделаю его счастливым! Сейчас же позвоню ему. После довольно продолжительных поисков Аманда отыскала Криса в «Туте Шоре». — Крис, вы не можете ко мне приехать? Мне нужно с вами поговорить. — Котик, я в «Туте», и Ронни Вульф только что сел за наш столик. Я хочу, чтобы он написал обо мне в своей газете. — Но мне нужно вас увидеть. — Тогда хватай такси и приезжай. — Крис, я не могу говорить при посторонних. Речь идет о нашем будущем. — Господи! Мы целый вечер провели вместе. Ты могла бы поговорить со мной у Остинов, гости находились за три километра от нас. — Так вы едете, Крис? — Через полчаса буду у тебя, куколка. Аманда повесила трубку и разделась. Он, конечно же, захочет переспать с ней. Ладно, если Крис перевезет тетю Розу в хорошую клинику в Лос-Анджелесе, она позволит ему проводить с ней все ночи и попытается быть не такой холодной. Наконец Крис приехал. Он снял пиджак, обнял Аманду и стал осыпать ее поцелуями. — Потом, Крис, я хочу поговорить с вами. Мне многое нужно вам рассказать. Она рассказала ему все, ничего не утаивая. От удивления у Криса чуть не вылезли на лоб глаза, но под конец он сочувственно покачал головой. — Бедная девочка! Тебе тоже пришлось хлебнуть горя. Глаза Аманды наполнились слезами. — Значит, вы поможете мне, Крис? — Не совсем представляю, чем я могу помочь тебе, крошка. — Перевезти тетю Розу в Калифорнию. — Ты что, смеешься надо мной? Знаешь, сколько это будет стоить? Не нанимать же самолет ради одной старой развалины! — Не называйте тетю Розу старой развалиной! — Ладно, ладно. Даже если бы она была белоснежкой, нам не разрешили бы везти в самолете человека, у которого был инсульт. — Но вы могли бы нанять отдельный самолет. — Ага! И выложить несколько тысяч долларов! — Но ведь… У вас же есть средства. Крис пристально посмотрел на Аманду, встал и заметался по комнате. Он носился взад-вперед, резко разворачиваясь и тыча в нее указательным пальцем. — Ты совсем спятила! Я не дал взаймы даже двоюродному брату, когда тот попросил у меня две тысячи, чтобы купить товары для небольшого дельца. Я просто послал его ко всем чертям! И знаешь, почему? Потому что мне, как и тебе, никто никогда не помогал. У моих родителей не было ни гроша. Мой старик был актером и изменял матери. И она ему изменяла. В конце концов они развелись, создали себе новые семьи, но я был никому не нужен, и с двенадцати лет мне пришлось карабкаться самому. У меня есть сводный брат, но я и ему не даю ни гроша и знаю, что на моем месте он делал бы то же самое. — Значит, вы отказываетесь? — Конечно! Если я соглашусь, то в следующий раз, когда мы поженимся, ты попросишь принести ее к нам на носилках. — Ладно, Крис. Уходите, пожалуйста. Крис пересек комнату и взял Аманду за плечи. — Аманда, лапочка, я люблю тебя, и я не жмот. Если бы у нашего малыша что-то не ладилось, я бы в одну секунду выложил десять тысяч врачу. Все, что у меня есть, будет принадлежать тебе и нашему малышу, но только не родственникам. Тем более, что кое-кто даже и не родственник. — Я считаю тетю Розу своей матерью. — Черт знает что! — взорвался Крис. — И надо же, чтобы это случилось именно со мной! Я думал, что подцепил самую изящную девушку в мире, и — нате вам! С самым невинным видом ты на меня вешаешь какую-то негритоску, да к тому же больную! — Убирайтесь, Крис. — Ухожу. А тебе советую не расстраиваться из-за таких пустяков. И не вздумай вбивать себе в голову, что я тебя больше не люблю. Когда мы поженимся, то будем тратить только на нашего малыша. Крис захлопнул за собой дверь. Посидев неподвижно несколько минут, Аманда встала и налила виски. Нет, она не могла бросить камень в Криса. Все это еще раз подтверждало: любовь слишком большая роскошь для нее. По большому счету никому не было до нее дела. Люди преследуют только одну цель — собственный успех. Выпив снотворное, Аманда завела будильник и легла спать. Будильник зазвонил в девять часов. С головной болью Аманда сняла телефонную трубку, чтобы узнать, не звонил ли ей кто-нибудь, но, поколебавшись, опустила ее. Если и было какое-нибудь сообщение, то оно наверняка доставило бы ей одни неприятности. Сев в такси, Аманда поехала в Куинз. Маленький холл в клинике был почти пуст, только несколько старушек в креслах-каталках смотрели телевизор. Сев в лифт, Аманда нажала кнопку четвертого этажа. Открыла дверь палаты. Матрац на кровати тети Розы был свернут. Неожиданно появилась сиделка мисс Стивенсон. Она казалась недовольной. — Мыпытались вам дозвониться вчера вечером. — Я тоже звонила, но все время было занято. Почему вы перевели тетю Розу? Ей что, хуже? — Она умерла. Аманда вскрикнула: — Но что случилось? Как это произошло? — В шесть часов, когда ей принесли ужин, она вдруг приподнялась и села. У нее блестели глаза, когда она спрашивала: «А где моя маленькая Рози?» Мы сказали, что вы сейчас придете, и она снова легла. Потом улыбнулась и сказала: «Я поем с моей маленькой Рози. Не люблю есть одна. Когда она вернется из школы, мы поужинаем вместе.» Аманда заплакала. — Она видела себя прежней. Но она непременно узнала бы меня. Мисс Стивенсон пожала плечами. — Когда мы поняли, что вы не придете, то попытались ее накормить, но она все время твердила: «Я жду свою девочку». А в восемь часов, когда мы зашли в палату, она сидела в том же положении, в котором мы ее оставили, и была уже мертва. Мы позвонили вам… — Где она? — В морге. Ее нельзя было оставлять здесь. Аманда побежала к лифту, мисс Стивенсон за ней. — Я дам вам адрес. Вы сможете сделать там распоряжения относительно похорон. Аманда поехала в морг, распорядилась о панихиде и кремации, потом вернулась к себе, отключила телефон и легла спать. Когда на следующее утро Джерри позвонил ей, Аманда рассказала ему о случившемся. Джерри постарался скрыть облегчение, сквозившее в его голосе, и попытался убедить ее, что все, что ни делается, к лучшему. — Теперь ты можешь ехать со спокойной совестью. — Да, Джерри. Теперь я могу ехать в Калифорнию. В этот вечер она опустошила целую бутылку виски, потом посмотрела на себя в зеркало и сказала: — Вот так. Теперь у тебя никого нет! И больше никто не побеспокоится о тебе. Будь проклят этот мир! Он развращен. С этими словами Аманда бросилась на кровать и разрыдалась. «О Робин, Робин, где же ты? Что ты за человек? На этом приеме я ждала тебя, а в это время меня ждала тетя Роза. Мое место было возле нее! Она бы узнала меня, она бы умерла у меня на руках, зная, что хоть кто-то ее любил!» Аманда зарылась головой в подушку. «Я ненавижу тебя, Робин Стоун! Я ждала тебя в то время, когда умерла тетя Роза. Где же ты был? О Господи… где же ты был?»Робин был на матче. Вернувшись домой в семь часов утра, он лег спать и проспал до полудня. Проснувшись, он достал из холодильника бутылку пива, сварил два яйца и устроился на диване в гостиной смотреть телевизор. Транслировали представление, обычно предваряющее футбольный матч. Звенели привычные фанфары, шли колесницы, кто-то брал интервью у мисс «Цветок абрикоса», так, кажется, звали эту мисс. Робин слушал девушку без особого интереса. Она говорила о том, что мечтает иметь кучу ребятишек. Господи! Хоть бы одна из них сказала: «О, я хочу заниматься только любовью!» Он пожалел девушку, бравшую интервью у мисс «Цветок абрикоса». Ее было видно только со спины, но у нее был приятный голос, и Робин на секунду различил ее лицо, когда она, повернувшись в профиль, сказала: — Только что Мэгги Стюарт представила вам Доди Кастл, мисс «Цветок абрикоса». А теперь ваша очередь, господин Энди Парино. Энди сообщил, что собирается взять интервью у знаменитого футболиста прошлых лет. Робин, немного нервничая, переключил телевизор на Си-Би-Эс, потом на Эн-Би-Си, наконец включил одиннадцатый канал, посмотрел какой-то старый фильм и уснул. Проснувшись, он выключил телевизор и стал набирать номер Аманды. Набрал две цифры и остановился. Скорее всего, ее не было дома, к тому же он хотел немного охладить их отношения. Он чувствовал, что устал… Погода в Лондоне была ужасная, у англичанки оказался потрясающий темперамент, и когда Робин представил ее баронессе, она сразу же вписалась в компанию. Это Айк Райан привил ей вкус к оргиям. У него была даже своя теория о том, как привести девушку и втянуть в это дело. Вначале ее нужно уложить в постель с собой, потом с кем-нибудь из приятелей, но в своем присутствии. Потом — с какой-нибудь девицей. И все — она приручена. Приняв хоть раз участие в большой игре, она уже не будет ломаться, устраивая комедии: «Пришлите мне цветы!» С этим покончено. Раз и навсегда вы превратили ее в женщину, лишенную достоинства, проще говоря, в шлюху. Может быть, стоило применить этот прием к Аманде? Это навсегда отбило бы у нее охоту к замужеству. Нет, что-то восставало в нем против этого. Он знал, что Аманда согласится на все, лишь бы удержать его, но в противоположность баронессе или англичанке это не пройдет для нее бесследно. А Робин не хотел причинять ей боль. В самом начале ему так хорошо было с ней, но в последнее время она явно перегибала палку. Лучше было бы порвать. Он дал ей для этого уже тысячу поводов, так как предпочитал, чтобы партнерша сама бросала его. Так, по крайней мере, не ущемлялась ее гордость. Может, ее отношения с Кристи в конце концов приведут к разрыву? Робин снял трубку и попросил соединить его с филиалом Ай-Би-Си. Ему ответил Энди. — Слушай, Энди, эта мисс «Цветок абрикоса», какая она? — спросил Робин. — Грудь, как у цыпленка, острые коленки. — А на экране она выглядела хорошо. — Благодаря Мэгги. — Мэгги? — Мэгги Стюарт. Ты, видимо, разглядел только часть ее затылка. Она великолепна! Робин улыбнулся. — А что, между вами уже что-то было? — Естественно. Кстати, я хотел бы вас познакомить. Почему бы тебе не заехать на несколько дней? Отпуск тебе не повредит. Здесь есть прекрасная площадка для гольфа. — Мне никогда не нужен отпуск. Слушай, старик, не женись на этой девочке, пока я с ней не пересплю. — Я женюсь на ней завтра, если она согласится. — Ладно. С Новым годом, олух несчастный, — сказал Робин и повесил трубку. Он закурил сигарету, вспоминая о тех ночах, когда они с Энди бродили по тротуарам 79-й улицы, заходили в каждый бар и не пропускали ни одной юбки, передавая этих девочек друг другу прямо в середине вечера. (обратно)
Глава 14
Посетители «Поло Лаундж» в Беверли Хилл начинали понемногу расходиться. Но все равно в баре было еще слишком шумно, чтобы свободно позвонить в другой город. Джерри поднялся в свой номер, снял трубку и попросил телефонистку соединить его с Гринвичем, однако гринвичская линия была перегружена, и заказ пришлось отменить. У него была назначена встреча с Амандой и Кристи в ресторане «Чейзн». Сегодня вечером Аманда согласилась выйти. В последнее время она очень уставала. Ее номер был в конце коридора, и каждый вечер ровно в половине девятого на ее двери появлялась табличка: «Просьба не беспокоить». Поведение Аманды интриговало Джерри. Она проводила с Кристи лишь несколько вечеров в неделю и категорически отказывалась показываться с ним вместе в Голливуде. Кристи был вынужден развлекаться в компании Кении, Эдди и своей танцовщицы. Он утверждал, что в первый и последний раз приехал в Голливуд и больше здесь его ноги не будет! Джерри поддерживал его: ему было так же одиноко в Голливуде, как и Крису. Зато Аманда, казалось, совсем не сожалела о Нью-Йорке. Еще никогда она не была так соблазнительна, и кинопродюсеры начинали виться вокруг нее. Она по-прежнему приветливо улыбалась Джерри, но в их отношениях произошли какие-то изменения, сделавшие их чужими людьми. Может, Аманда выбросила его из своего сердца так же, как и Робина? Она никогда больше не произносила его имени и ничего не спрашивала о нем. Джерри глянул на часы: без четверти девять. Кристи и Аманда наверняка злятся, что его еще нет. Он позвонил в «Чейзн» и позвал к телефону Кристи. — Черт побери! Где ты отираешься? — Я пока жду звонка из Нью-Йорка и немного опаздываю. — Тогда встреча отменяется. Я лучше прогуляюсь в «Шваб». — Но ведь вы, кажется, не один, а с Амандой? — Она меня бросила. Час назад предупредила, что у нее ангина. И я здесь торчу один. Боже, ну и дыра! — Не падайте духом! — сказал Джерри. — Не успеете оглянуться, как наступит июнь. — Мне все здесь осточертело! — сказал Кристи. Джерри повесил трубку, сел на кровать и закурил еще одну сигарету. Если он закажет еду в номер, может, Аманда согласится поужинать с ним? Джерри позвонил ей. Аманда вежливо отклонила его приглашение. — Я ничего не могу проглотить, Джерри. У меня болит горло, а на шее вспух лимфатический узел. Джерри повесил трубку в некотором замешательстве. У него вдруг появилось ощущение, будто он находится в полнейшей изоляции и ему не хватает воздуха. Он открыл балконную дверь, выходящую прямо в сад, который обожала Аманда, и вышел на террасу. Одиночество вдруг показалось ему невыносимым. Нужно было хоть с кем-то поговорить. Может, Аманда еще не спит. Он спустился в сад, чтобы посмотреть, горит ли у нее свет. Неожиданно он услышал скрип открывающейся двери и одним прыжком отскочил за огромную пальму. Это была Аманда. Она переступила порог, с опаской оглянулась по сторонам и направилась в сторону коттеджей. Из любопытства Джерри пошел за ней. Дойдя до одного из коттеджей, она остановилась и постучала в дверь. Ей открыл Айк Райан. — Боже милостивый! Сокровище мое, почему ты так долго? — Я ждала из предосторожности. Вдруг Крис позвонит снова. Я только что отключила телефон. — Когда ты, наконец, решишься отшить этого кретина? — Как только закончатся съемки. Нужно завершить сезон без неприятностей. Дверь закрылась. Через окно Джерри увидел, как они поцеловались в темноте. Он вернулся к себе, заказал ужин в номер и попытался смотреть телевизор, но его мысли были далеко: в коттедже по другую сторону дороги. В два часа ночи Джерри услышал, как скрипнула дверь в садике Аманды. Не удивительно, что она все время была уставшей. Лимфатический узел! Ха! Тем не менее узел был настоящим. Айк его тоже заметил. Вернувшись в номер, Аманда посмотрела на себя в зеркало: краска размазана по лицу. Да, Айк не был самым предупредительным любовником, но зато он заботился о ней. Айк настаивал, чтобы она порвала с Кристи. Когда Аманда ему объяснила, что передача — основной источник ее доходов, он ответил: — Послушай, мой ангел, ты не останешься без гроша, пока будешь со мной. Но все-таки эти слова не были предложением выйти замуж. Вдруг Аманда почувствовала сильнейшую усталость. Ощущение было таким, будто из нее выпустили всю кровь. Она приняла амфетамин, который немного поддерживал ее силы. Конечно, амфетамин уменьшал аппетит, но она все же старалась есть. Однако сегодня она едва притронулась к своему ужину. На деснах и небе появились маленькие трещинки. Ей, видимо, нужно сделать укол пенициллина или хотя бы хорошо выспаться. Она легла в постель и уснула. Утром ей стало хуже. Когда она почистила зубы, трещинки начали кровоточить. Аманда испугалась. Это, наверное, была какая-то инфекция. Она позвонила Джерри. По его мнению, эти симптомы указывали на общее переутомление. Уходя на работу, Аманда приняла две таблетки амфетамина, который ее сильно возбудил. Фотограф отвез ее в машине на пляж Малибу. Аманда сидела в купальнике и ждала, когда все будет готово. Солнце жгло нещадно, но она встала на водные лыжи и сумела хорошо сняться с первой попытки. Из предосторожности фотограф решил сделать еще один дубль. Надевая лыжи, Аманда почувствовала, что ноги стали ватными. Она ухватилась за веревку и, когда моторка стала набирать скорость, выпрямилась. Фотограф находился сзади. Вдруг все поплыло у нее перед глазами, солнце упало в море, и она почувствовала, как ее обволакивает нежная прохлада океана. Когда Аманда снова открыла глаза, она уже лежала на пляже и была завернута в одеяло. Все с ужасом смотрели на нее. — У меня закружилась голова, — сказала она. Остаток дня и ночь она провела в постели, а проснувшись на следующее утро, выглядела вполне здоровой. Трещинки во рту стали заживать, но ноги были все в синяках. Видимо, она сильно ушиблась при падении. К счастью, Аманда могла надеть на передачу длинное платье. На следующий день ей стало хуже. Трещинки во рту появились снова, а синяки на ногах превратились в целые сплетения фиолетовых пятен. Она сказала об этом Кристи, когда тот позвонил ей. — Старуха, ты сама выбрала это дурацкое ремесло! По всем законам ты должна была умереть от воспаления легких еще два года назад. Позировать на морозе в легком платье! Да ты надорвалась. А после падения с водных лыж у кого угодно появятся синяки. — Крис, найди мне врача. — Послушай, крошка, через десять минут я встречаюсь со своими авторами, а потом у меня пресс-конференция. Попытайся найти лекаря, который должен быть при этом чертовски шикарном отеле. Как назло, врач отеля уехал по вызову. Аманда отменила все встречи во второй половине дня. Она дремала, когда позвонил Айк. Немного поколебавшись, Аманда все рассказала ему. — Не двигайся, солнышко, — сказал Айк. — Я сейчас приведу лучшего врача Лос-Анджелеса. Не прошло и двадцати минут, как вошел Айк в сопровождении человека средних лет с обычным медицинским чемоданчиком. — Аманда, это доктор Аронсон. Я вас сейчас оставлю, но буду тут, в коридоре. Если он позволит себе вольности, кричи, — Айк подмигнул врачу как старому знакомому. Доктор Аронсон осмотрел Аманду с ничего не выражающим лицом. Послушал ее сердце, сосчитал пульс и кивнул в знак одобрения. Аманда почувствовала себя успокоенной. Невозмутимость врача убеждала, что ее самочувствие не должно вызывать особой тревоги. Он внимательно осмотрел с помощью лампы ее рот. — Как давно у вас эти трещинки? — Несколько дней. Но меня больше беспокоят ноги. Он пощупал ее шею и покачал головой. Выражение его лица не изменилось, когда он увидел ее ноги, покрытые лиловыми пятнами. Аманда рассказала ему о падении с водных лыж. — Вы думаете, из-за этого? — спросила она. — Пока затрудняюсь ответить. Скорее всего, все эти нарушения не одного и того же происхождения, но я хотел бы положить вас на несколько дней в больницу, чтобы обследовать. Когда вы последний раз сдавали анализ крови? — Мне никогда его не делали. — Аманда вдруг испугалась. — Доктор, у меня действительно что-нибудь серьезное? Он улыбнулся. — Не думаю, скорее всего, это анемия, которая когда-то была в моде. Но я хочу исключить некоторые сомнения, возникшие при таких симптомах. — Что, например? — Мононуклеоз. Здесь это распространенная болезнь. У вас тоже есть некоторые симптомы: усталость, кровоподтеки, головная боль. — А нельзя ли мне пройти обследование в вашем кабинете? — Как хотите. Я дам адрес Айку, и мы договоримся обо всем назавтра. Когда Айк вошел к ней в комнату, он прямо расплылся в улыбке. — Собирай чемодан, бросай в него самые красивые ночные рубашки и будь готова к моему возвращению. Я спущусь в книжный магазин и куплю тебе все последние бестселлеры. — Куда ты меня везешь? — В больницу. И без разговоров! Послушай, солнышко, врач думает, что у тебя мононуклеоз. Если это так, ты рискуешь заразить весь отель. Тебе даже поесть не принесут в номер. Кроме того, он предписал тебе полный покой, и, может быть, тебе сделают несколько переливаний крови, чтобы поставить на ноги. — Но ехать в больницу… Айк… я никогда не болела. — Ты и не больна, солнышко. Но таковы законы Голливуда. Если ты подружка Айка Райана, то ты не можешь таскаться по врачам, делая анализы. Ты будешь жить, как принцесса. Я заказал самую большую угловую палату, и за несколько дней тебе все сделают. Я заплачу. Готов поспорить, что у тебя, конечно, нет страховки. — Нет, я всегда хорошо себя чувствовала. — Прекрасно! Будь готова к моему возвращению. Оставь записку, что уехала в Сан-Франциско по поводу одной работенки и что вернешься к началу передачи.Джерри сидел в «Лансере». В этот момент он должен был быть в Лос-Анджелесе и присутствовать на репетиции Кристи Лэйна, но он решил задержаться в Нью-Йорке на десять дней, а не на неделю. Он отхлебнул глоток мартини и помахал рукой вошедшему в бар Робину. Приступив ко второму мартини, Джерри понял, что опоздает на поезд. Робин рассказывал ему о новом информационном журнале, когда к ним подошел бармен и сказал, что Джерри просят подойти к телефону. — Меня? — удивился Джерри. — Я никому не говорил, что буду здесь. Звонил Кристи Лэйн. — Джерри, я звонил тебе на работу, но ты уже ушел. Потом позвонил домой, и твоя жена подсказала, где тебя можно найти. Боже, как " рад тебя слышать! Сегодня вечером Аманда не выступает, ее в срочном порядке заменили другой манекенщицей. — Где же она? — Ничего не понимаю. Накануне исчезла, оставив записку, что уезжает в Сан-Франциско из-за какой-то работы. И вдруг сегодня утром звонит и преспокойно сообщает, что не будет участвовать в передаче. И знаешь, где она? В больнице! — В больнице? — Не волнуйся, ничего серьезного. Я был у нее. Она лежит в огромной солнечной палате, уставленной цветами. Подкрашена, прекрасно выглядит. Утверждает, что у нее малокровие и что не выйдет из больницы, пока совершенно не выздоровеет. — Ну раз она там, значит, это ей необходимо, Кристи. Людей просто так не кладут в больницу. — В Голливуде? Ты смеешься! Половина молодых баб в этом городе торчит в больнице из-за так называемого нервного расстройства. Послушай, я видел Манди… Она никогда так хорошо не выглядела. — Я приеду в конце недели, Кристи. И не волнуйся за Аманду. Уверен, что с ней ничего серьезного. Джерри повесил трубку и, вернувшись в бар, рассказал всю историю Робину, который внимательно выслушал его. — Не в ее стиле ложиться в больницу из-за ерунды, — заметил Робин. — Тут не обошлось без Айка Райана, — буркнул Джерри. — Айка? При чем тут он? Недолго думая, Джерри рассказал о тайных вылазках Аманды в коттедж Айка. — Если хочешь знать мое мнение, горло — только предлог, — сказал Джерри. — Спорю на что хочешь, что она забеременела и легла на аборт. Как ты думаешь? Робин нахмурил брови. — Я думаю, что ты отвратительный доносчик. Он бросил деньги на стойку бара и ушел.
Когда Джерри вернулся на побережье, Аманда все еще была в больнице. Подкрашенная, в красивой ночной сорочке, она выглядела великолепно. Но Джерри подскочил при виде капельницы с кровью и иголкой, воткнутой в ее руку. Заметив его испуг, Аманда улыбнулась. — Не бойся! Я получаю здесь свою порцию томатного сока. — Зачем тебе переливание крови? — спросил Джерри, устроившись на краешке стула. — Чтобы быть в форме к началу представления. Дверь внезапно открылась, и в палату вошел Айк. — Привет, солнышко, я принес тебе твои заказы и новую книжку. — Он с любопытством посмотрел на Джерри и протянул ему руку: — Я много слышал о вас. Аманда всегда говорила, что вы к ней великолепно относитесь. — Мы с Амандой давно знакомы, — пробормотал Джерри и, стараясь говорить уверенно, продолжил: — Все это прекрасно, и я знаю, что Аманда ценит, когда о ней заботятся, но у нее есть обязательства по отношению ко мне. Она обязана участвовать в представлении. — Он повернулся к Аманде: — Когда ты рассчитываешь выйти отсюда? — Доктор думает, что в конце недели… — робко начала она. — Она выйдет тогда, когда окончательно выздоровеет, — оборвал ее Айк. Джерри встал. — В таком случае мы, видимо, будем вынуждены заменить ее до конца сезона. — Нет, — взмолилась Аманда. — Джерри, пожалуйста. Я вернусь на следующей неделе… может быть, даже на этой… Она с мольбой посмотрела на Айка. — Как хочешь, солнышко, — произнес Айк. — Послушай, мне нужно позвонить. Я спущусь в холл. Как только они остались одни, поведение Джерри сразу же изменилось. Его голос стал искренним, дружелюбным. — Послушай, Аманда, тебе следует, наверное, бросить передачу. Похоже, этот тип от тебя без ума. — Но он не делает мне предложения… — Ты опять за свои фокусы, — буркнул Джерри. Аманда нахмурила брови. — Послушай, Джерри, в данный момент Айк интересуется мною только потому, что мною интересуется Крис. Если я останусь без работы и без Криса, то сразу же потеряю всякую привлекательность в его глазах. Джерри, я вернусь. Джерри потрепал Аманду по волосам. — Не волнуйся, крошка. Ты не потеряешь работу. Я позвоню тебе завтра. Он вышел из палаты. В холле его ждал Айк. — Зайдем сюда, — сказал Айк и показал на маленькую приемную. — Я должен вернуться в свою контору. — Но не раньше, чем я скажу вам несколько слов. Вы — замечательный друг! Вы что, считаете, у нее мало неприятностей, чтобы являться сюда со своими угрозами?! — Малокровие — это не трагедия. — Это она думает, что у нее малокровие. — Айк посмотрел Джерри прямо в глаза. — Я буду с вами откровенен. Никто не знает этого, кроме доктора Аронсона и меня. И никто не должен знать этого. Особенно Аманда. У нее — лейкемия. Джерри опустился на диван. Хотел вытащить сигарету, но руки дрожали. Он поднял голову, пытаясь сказать что-нибудь обнадеживающее. — Говорят, что некоторые больные могут жить долго. — Но не на такой стадии, как у нее. — Сколько ей осталось? — Может быть, несколько минут, а может, полгода. Джерри отвернулся, но не смог сдержаться и разрыдался. Айк сел рядом и положил руку ему на плечо. — Послушайте, сейчас ее лечат новым препаратом, который специально доставили по моему заказу самолетом. Один укол стоит тысячу долларов. Лечение начали всего два дня назад, но количество эритроцитов уже увеличилось. Еще слишком рано надеяться, но если и дальше так пойдет… — Вы хотите сказать, у нее есть шанс? — Шанс выйти отсюда на своих ногах, а не ногами вперед. Кто знает, может, через шесть месяцев придумают какое-то новое чудодейственное средство. — Что я могу сделать? — спросил Джерри. — Прежде всего, держать язык за зубами. Во-вторых, помешать Кристи Лэйну без конца твердить ей, что передача прежде всего! Наконец, сказать, что ее место всегда за ней. — Я уже сделал это. Айк тряхнул головой. — Почему, черт возьми, она так хочет работать? Ее дни сочтены. — Потому что думает, что вы, возможно, рискнете на ней жениться, но только в том случае, если она будет работать и будет независима. — Черт возьми! — Айк встал и подошел к окну. Джерри направился к двери. — Но если, как вы говорите, ей осталось не больше шести месяцев, то не беспокойтесь за нее. Пусть работает. Тогда история с анемией будет казаться ей более правдоподобной. Айк обернулся, и они с Джерри торжественно пожали друг другу руки. — Если вы хоть кому-нибудь об этом расскажете, я вам набью физиономию, — угрожающе произнес Айк. Джерри пообещал, зная наперед, что нарушит слово. Он должен предупредить Робина. Аманде так мало осталось, а Робин был единственным человеком, который что-то значил для нее. Она прекрасно относилась к Айку, — это было очевидно, — но никогда не смотрела на него так, как на Робина. Айк Райан медленно поднимался к Аманде. Подойдя к палате, он собрался, сделал улыбающееся лицо, толкнул дверь и вошел. Медсестра не спеша убирала капельницу. — Сегодня вечером я принесу шампанское и новые книжки. Но сейчас мне нужно вернуться на работу. — Он обернулся, стоя в дверях. — Кстати, голубка, все забываю спросить у тебя одну вещь. Ты согласна выйти за меня замуж? Можешь ответить через десять минут. Я позвоню из студии.
Новое лекарство продолжало действовать. Меньше чем за неделю количество эритроцитов в крови Аманды достигло нормы. Айк ликовал, хотя доктор сразу предупредил, что если состояние Аманды и улучшится, это еще не значит, что она выздоровеет. — Но ведь пока она может вести нормальный образ жизни, да? — спросил Айк. — Пусть делает все, что хочет. Одному Богу известно, как долго продлится это улучшение, — ответил врач. Айк приехал за Амандой в больницу. — Я снял дворец в Каньон Драйв. Посмотришь сама. Вчера я в него переселился. Там есть все, даже повар и метрдотель. Когда ты хочешь, чтобы мы поженились? — После того, как закончу передачу. — Ты шутишь! Это же больше шести недель! — Но если Кристи узнает об этом, наши отношения станут невыносимыми. — А кто тебя заставляет работать с ним? Брось ты эту чертову передачу! — Это было бы нетактично по отношению к Джерри. Он дал мне эту работу, когда я в ней сильно нуждалась. — Мне кажется, тебе все же нужно подождать хотя бы неделю. — Айк, я и так потеряла почти три недели. Я чувствую себя в прекрасной форме, хотя… — в глазах Аманды появилось беспокойство, — доктор Аронсон хочет брать у меня анализ крови каждую неделю. Зачем? Айк пожал плечами. — Наверное, он хочет быть уверенным, что ты окончательно поправилась. Айк отвез Аманду в отель. Вернувшись в свой кабинет, он позвонил Джерри. — Устройте как-нибудь так, чтобы вынудить ее бросить передачу. Она вообразила, что обязана закончить сезон. Ей осталось слишком мало времени, и я не хочу, чтобы она напрасно теряла даже час своей жизни, а не то что шесть недель. Но если на этом буду настаивать я, она может о чем-то догадаться. Придумайте что-нибудь, Джерри. Джерри посмотрел на пелену тумана, застилавшую небо, на бледное солнце, пытавшееся пробиться сквозь него. Оно не было похоже ни на то солнце, которое светило в Гринвиче летом, ни на огненный оранжевый осенний шар. Скоро Аманда никогда больше не увидит ни этого солнца, ни холодной прозрачности зимнего неба. Его глаза наполнились слезами. Он снял трубку. Секретарша Робина просила передать, что мистер Стоун на совещании. — Скажите его секретарше, чтобы она немедленно вызвала его! — закричал Джерри телефонистке. — Это срочно! Через несколько минут Робин подошел к телефону. — В чем дело, Джерри? — Сядь, Робин. — Ближе к делу. Меня ждут десять человек. — У Аманды лейкемия. Наступило зловещее молчание. Наконец Робин сказал: — Она знает? — Знают только трое: доктор, Айк Райан и я. Ты — четвертый. Она собирается даже участвовать в завтрашнем представлении. Но ей осталось жить не больше шести месяцев. Я подумал, что ты должен знать. — Спасибо, Джерри, — Робин повесил трубку.
Аманда приятно провела первый день после возвращения из больницы. Ее номер в отеле был весь уставлен цветами. В четыре часа посыльный принес ей картофель, фаршированный икрой и смазанный сметаной. К нему была приложена записка: «Чтобы продержаться, пока я не вернусь к ужину. Целую. Айк». Такая роскошь привела Аманду в восторг. Она съела весь картофель, но решила, что ей нужно следить за фигурой, тем более, что в больнице она набрала три килограмма. В шесть часов зазвонил телефон, и Аманда без особой радости сняла трубку, ожидая услышать голос Кристи. — Привет, звезда! Как дела? — голос на другом конце провода был веселым. На какое-то время у Аманды перехватило дыхание. Это был Робин. Вот так, запросто, без каких-либо извинений за долгое молчание. Наконец она обрела способность говорить. — Я только что вышла из больницы. — Что с тобой было? — Анемия. Но теперь все в порядке. — Послушай, милая, у меня дела в Лос-Анджелесе. Я прилечу в воскресенье. К пяти часам буду у тебя. Ты сможешь посвятить один вечер старому другу? — С удовольствием, Робин. — Прекрасно. Поужинаем вместе. До воскресенья. Аманда повесила трубку и откинулась на подушку. Бесполезно возмущаться. Он, конечно же, прилетает всего на несколько дней и воображает, что добрая старая Аманда будет сидеть и ждать его. Ну что же, она с ним встретится и покажет, что чувствует человек, когда другой ставит точки над "i". (обратно)
Глава 15
Робин появился в отеле в Беверли Хилл в пять часов вечера. Служащий протянул ему конверт. В нем лежала записка, наспех нацарапанная Амандой: «Дорогой Робин! У меня день рождения, и Айк Райан пригласил несколько друзей. Я должна быть там, так как я — почетная гостья. Не могу тебя ждать.» Робин пошел в свой номер и еще раз перечитал записку Аманды. Он ненавидел всякие приемы, но, начиная с этого момента, он будет делать все, что захочет она. Он порылся в кармане и нащупал маленькое золотое колечко. Если бы они могли уйти с этого приема пораньше, то еще успели бы улететь в Тихуану и пожениться там. Робин вызвал портье и попросил заказать такси. Аллея, ведущая в Каньон Норд, была уставлена машинами, буквально превратившими ее в лабиринт. Робин вошел в вестибюль, отделанный мрамором, и заметил, что он уже полон гостей. В великолепной гостиной вокруг огромного бара гости расположились в три ряда. Робин не был готов к такой массовости дня рождения и почувствовал легкую растерянность. Вдруг в другом конце зала появилась Аманда и поспешила к нему навстречу. Он уже забыл, насколько она очаровательна. Смерть не имела права вселиться в это хрупкое прекрасное тело! — Робин! — Аманда повисла у него на шее, сильно удивив этим открытым проявлением любви. — Робин, ты здесь! Я так счастлива тебя видеть! Она увела его в бар, чтобы выпить по стаканчику. Айк Райан тепло поздоровался с ним, но сразу же отошел, чтобы встретить только что вошедшего в зал режиссера. Аманда протянула Робину стакан. — Твоя любимая водка со льдом. Импортная. Отличного качества. Вдруг стало тихо. Люди зашептались при появлении красивого молодого человека, и, наконец, все заговорили разом. — Смотри! — воскликнула Аманда. — Айку удалось затащить к себе Великого Диппера. — Ее глаза заблестели при виде Айка, сопровождавшего обворожительного смуглого юношу в бар. — Аманда, ты знаешь этого красивого парня? — иронически улыбаясь, спросил Айк. Аманда робко улыбнулась. — О Айк, все знают Дипа Нельсона! Для меня большая честь видеть вас здесь, мистер Нельсон. Айк показывал мне ваш последний фильм, когда я лежала в больнице. Дип, познакомьтесь. Это Робин Стоун, старый друг. Он мне почти как родственник, правда, Робин? Дип пожал руку Робину, потом этого красавца окружили женщины и буквально отнесли в другой конец зала. Аманда толкнула Айка локтем. — Дорогой, посмотри, кто вошел! Робин проследил взглядом за Амандой и Айком, которые пошли навстречу худощавому, привлекательному молодому мужчине. Это был Альфред Найт, английский актер, прибравший к рукам весь Голливуд. Допив водку, Робин заказал еще и решил остаться в баре. Судя по всему, вечер обещал быть забавным. Официанты начали расставлять столы вокруг бассейна. Внезапно Робину стукнуло в голову, что день рождения Аманды должен быть в феврале. Или в январе? Во всяком случае, он точно помнил, что в прошлый раз его отмечали в пургу. Робин уже приступал к четвертому стакану водки, как неожиданно послышался грохот барабана и на середину зала вышла Аманда. — Слушайте все! Я… Мы… хотим сообщить вам новость. — Она вытянула руку. На ее пальце сверкал огромный бриллиант. — Айк подарил мне его сегодня, но не по случаю дня рождения. На самом деле мой день рождения не сегодня! Просто мы решили таким образом объявить о нашей помолвке! Все в зале заговорили одновременно, кто-то из гостей подбежал к пианино и сыграл свадебный марш из оперы «Лоэнгрин». Кристи Лэйн был похож на зверя, посаженного на кол. Он стоял, не говоря ни слова, уставившись в одну точку. В какой-то момент глаза Аманды и Робина встретились, и они долго смотрели друг на друга. Мрачный блеск торжества светился в глазах Аманды. Робин поднял свой стакан и жестом показал, что поднимает тост за нее. Аманда отвернулась и отошла с Альфредом Найтом в другой конец зала. Заметив, что Айк направился в курилку, Робин поставил свой стакан и поспешил за ним. Айк, увидев Робина, улыбнулся. — Ну, придется тебе признать, что я неистощим на сюрпризы. — Старик, мне нужно сказать тебе два слова. Айк, сделав знак официанту принести им выпить, подвел Робина к бассейну, возле которого никого не было. — Давай, выкладывай. Что там у тебя не в порядке? — Аманда! — Значит, это правда, что между вами что-то было. — Я в курсе дела насчет Аманды, — спокойно проговорил Робин. — В курсе чего? — нахмурился Айк. — Джерри Мосс — мой друг. — Я убью эту сволочь! Я же сказал ему заткнуть глотку. — Не будь жестоким. Джерри поступил правильно. И я приехал, чтобы сделать Аманде предложение. — Она не нуждается в твоей жалости! — воскликнул Айк. — Айк, мы вместе занимались теми глупостями. Я помню об этом. Мне это тоже нравится. Но Аманда не будет в этом участвовать. Она не может, особенно сейчас. У Айка на лице появилась ледяная улыбка. — Если бы я тебя не любил, то сейчас набил бы морду. Ты что, принимаешь меня за подонка? — Мне плевать, подонок ты или нет, но я не хочу, чтобы Аманда страдала. Айк с любопытством взглянул на него. — Так ты ее любишь? — Я ею дорожу и очень хочу сделать ее счастливой на то время, которое ей осталось. Айк склонился над столом. — Послушай, теперь не время для шуток. Мы должны выяснить правду. Если ты скажешь, что действительно ее любишь, я пошлю за ней и дам тебе шанс. Пусть выиграет сильнейший. Но если ты приехал сюда, чтобы разыгрывать благодетеля, то лучше оставь это. Я думаю, что мое финансовое положение лучше твоего, и я могу дать ей все, в чем она нуждается. — Прекрасно, старик, но если уж мы играем в правду, то ответь мне: а ты ее любишь? Айк встал и пристально уставился на темную воду. — Конечно, я ее не люблю, — сказал он вполголоса, — но ведь и ты тоже. — Тогда почему ты на ней женишься? Айк улыбнулся. — Она может поднять мою популярность. — Не улавливаю. — Ты, наверное, не читаешь газет. В прошлом месяце моя жена, — моя бывшая жена, — с которой мы уже около пяти лет в разводе, покончила жизнь самоубийством. Приняла снотворное, целый флакон, и оставила записку, в которой написала, что больше не может без меня жить. Хорошо, что Джо — мой сын — спрятал записку и вызвал меня. С помощью денег я сделал так, что ее смерть считается несчастным случаем. — Айк вздохнул. — Подумать только, что мы с этой идиоткой не виделись пять лет! Я никогда ее не любил. Мы с ней учились вместе в школе, и она отдалась мне в последнем классе. Если бы ты видел это письмо! Она из меня сделала самого гнусного негодяя, который когда-либо существовал на свете. Мы с Джо сожгли его, но все-таки поползли слухи, что это не несчастный случай. А вскоре появились две истерички, которые попытались сделать то же самое. Не понимаю, зачем они носятся с этим снотворным? Не такой уж я сногсшибательный любовник. Во всяком случае, моя репутация сильно пошатнулась, и теперь мне могут помочь доброжелательные отзывы прессы. Когда Аманды не станет, люди увидят меня в другом свете. Они увидят, что я сделал счастливыми последние месяцы обреченной девушки, что она жила у меня на широкую ногу. Я устрою для нее самые шикарные праздники, о которых может мечтать любая женщина. И когда крышка гроба опустится на ее прекрасное тело, она, по крайней мере, уйдет в мир иной с блеском. Робин молчал, совершенно пораженный. В конце концов он взорвался. — Ты хочешь воспользоваться ею, негодяй! Ты хочешь воспользоваться ею! — Скажем так: я нуждаюсь в ней, но она в два раза больше нуждается во мне. Послушай, я же прекрасно знаю тебя. В твоих венах вместо крови ледяная вода. Так не суди меня! Она мне нравится, и я сделаю ее счастливой. Я найму самолет и повезу ее вокруг света. Я осыплю ее бриллиантами. А что ты можешь сделать для нее? Спать с ней? Так это я тоже могу, хотя одному Богу известно, как долго у нее будут для этого силы. Я знаю ее прошлое и думаю, что она заслужила шикарную жизнь. Ты, журналист, можешь ей предложить что-то лучшее? Робин встал. Его глаза были такими же злыми, как у Айка. Они стояли друг против друга. — Нет, у меня на это нет средств. Но только придерживайся своей программы. И смотри, чтобы это не оказалось пустыми словами, потому что в противном случае я найду тебя, где бы ты ни был, и тогда мы посчитаемся. Айк протянул Робину руку. — Сделка состоялась. Он повернулся и пошел в дом. Робин отказался пожать ему руку. Он опустился в шезлонг и стал пить небольшими глотками, чувствуя себя измученным и опустошенным. Вдруг у него над ухом раздался голос. — Не поздновато для солнечной ванны? Робин поднял глаза. Перед ним стоял Дип Нельсон. — Вы прилетели из Нью-Йорка? Робин кивнул. — Я так и думал. Родственник невесты? — Дальний, — ответил Робин и добавил: — Кстати, вы можете считать меня своим поклонником. Я видел несколько фильмов с вашим участием. Вы отличный наездник! Дип искоса взглянул на него. — Вы издеваетесь? — Вовсе нет. — Тогда к чему это замечание? А моя игра? — Довольно невыразительна, — сказал с улыбкой Робин. Какое-то мгновение Дип колебался — разозлиться или дать в морду? В конце концов расхохотался и протянул Робину руку. — По крайней мере, вы говорите то, что думаете. У вас нет желания смотаться с этого вечера? — Честное слово, вы читаете мои мысли! — Тогда за мной! Они подошли к «кадиллаку», длиннее которого Робин никогда не видел. — Нравится? — спросил Дип, которого распирала гордость. — Впечатляет. Машина медленно двинулась по бульвару Сан-сет. — Заедем к моей подружке, — предложил Дип. — Она поет в одном кабаке на Стрипе. Посмотрите: девятнадцать лет, но уже женщина с головы до ног. Они остановились у маленького ресторанчика. Хозяин тепло встретил Дипа и проводил их к столику возле диванчика у стены. — У вас, полагаю, уже есть жена и ребятишки? — спросил Дип. — Нет. — Значит, девушка, с которой вы живете? — Тоже нет. Дип внимательно посмотрел на Робина. — Вы случайно не гомик? Робин расхохотался. — Я обожаю женщин. Вдруг Дип толкнул Робина локтем. — А вот и она. Сейчас увидите, что это за талант: настоящий фейерверк! Худенькая девушка с рыжими вьющимися волосами вышла на сцену и встала в освещенный круг. У нее был короткий, смешно вздернутый нос, большой рот, огромные глаза, простодушный взгляд. Но когда она запела, Робин почувствовал себя разочарованным. Голос был правильным, но совершенно обыкновенным. Жалкая попытка подражания Джуди Гарланд. Выступление закончилось под вялые аплодисменты публики и восторженный свист Дипа. Он хлопнул Робина по спине. — Ну что я вам говорил? Разве она не прелесть? Какой класс! Она будет иметь бешеный успех в «Уолдорфе». В этот момент к ним подошла Поли, и Дип с Робином встали. — Это моя невеста Поли. Поли, познакомься, это Робин. Она слегка улыбнулась и села, с любопытством рассматривая Робина. — Робин только недавно приехал из Нью-Йорка, — тут же поспешил объяснить Дип. — Слушай, Дип, твой пресс-атташе просил позвонить ему, как только ты придешь, — сказала Поли, не слушая его. Дип встал. — Поговорите немножко без меня. Кстати, Робин работает на Ай-Би-Си. Дип ушел. Поли, проследив за ним взглядом, повернулась к Робину. — Что вы делаете с Дипом? — Мы с ним встретились на одном приеме. Она нахмурила брови. — А что может тип, связанный с механикой, иметь общего с Дипом? — С механикой? — Разве он не сказал, что вы работаете на Ай-Би-Эм? — Ай-Би-Си. Международной телерадиокомпании. — Да? В таком случае не могли бы вы устроить так, чтобы я участвовала в «Кристи Лэйн Шоу»? Она все больше не нравилась Робину, однако ему хотелось помочь Дипу. — Да, я мог бы это сделать. Ее глаза загорелись. — А каким образом вы устроите меня в это шоу? — Попрошу об этом Кристи. Она недоверчиво стала рассматривать его. Затем, решив, что, видимо, он говорит правду, смягчилась. — Если вы об этом попросите, в общем, если вы сможете это устроить, я… я сделаю все, что угодно, чтобы участвовать в этой передаче. — Все, что угодно? — Робин улыбался, глядя ей прямо в глаза. Она не смутилась. — Да, если именно этого вы хотите. — А вы чего хотите? — Выбраться из этой вонючей конуры. — Дип мог бы это устроить. Она пожала плечами. — Послушайте, я была влюблена в него. Это правда. Честное слово, я была девственницей, когда мы с ним встретились. Но я знаю Дипа. Он спит и видит только свою карьеру. Он и двух минут не останется с девушкой, которая хочет сама добиться успеха. С ним я делаю вид, будто я ничто. Чаще всего сижу и слушаю его россказни о том, как у него все чудесно складывается. Но внутри у меня все кипит, потому что талантлива-то я, а он карабкается наверх только благодаря своей внешности. Это все, что у него есть. И ничего в башке! Если вы поможете мне с этим шоу, вам стоит только щелкнуть пальцами, — и я прибегу к вам. Не волнуйтесь, я умею держать слово. Он улыбнулся. — Знаешь ли ты, маленькая шлюха, что я сделаю, чтобы оказать услугу Дипу? — сказал он, не повышая голоса. — Я вас не понимаю. Спокойно улыбаясь, Робин тем же тоном продолжил: — В одном ты права: у Дипа нет ничего в башке, иначе он раскусил бы тебя в два счета. Он считает тебя ангелом, а ты — самая обыкновенная шлюха. Даже не шлюха… а безмозглая и бездарная дура! Он встал все с той же улыбкой на губах и бросил на стол десятидолларовую бумажку. — Что это? — спросила она. — Кажется, такса проститутки, вызываемой по телефону, — сто долларов. Возьми это в счет небольшого аванса. Думаю, что ты уже встала на этот путь. И Робин вышел из ресторана. (обратно)Глава 16
Кристи закончил работу над своей передачей в первую неделю июня и на следующий день улетел в Нью-Йорк. Четвертого июля Аманда с Айком поженились в Лас-Вегасе. Все театральные журналы опубликовали на своих обложках их свадебные фотографии: улыбающиеся Аманда и Айк в компании нескольких звезд из Лас-Вегаса. Они полетели в Европу, где намеревались вдали от знакомых провести медовый месяц.Крис в мрачнейшем состоянии духа пребывал у себя в номере в «Астории» в компании Эдди, Кении и Агнессы. Он метался по комнате и вопил: — Боже праведный! Если бы я мог напиться, но я не люблю пить! — Пойдем погуляем по городу, — предложил Эд. — Я был с ней так обходителен, — без конца повторял Крис. — Я даже помог ей пристроить ее проклятую кошку. — Я думаю, что будет с этой кошкой? — спросила Агнесса. — Надеюсь, что она сдохнет! — Готова поспорить, что, вернувшись из Европы, она заберет ее, — возразила Агнесса. — Я был порядочен по отношению к ней, — повторял Крис. — Почему она этосделала? Посмотрите на меня! Я все-таки лучше Айка Райана! — Что? — воскликнула Агнесса. Кристи, как ураган, подскочил к ней. — Ты что, считаешь его красивым? — Он сексуален! — мрачно заявила она. Эдди смерил ее убийственным взглядом. — Эгги, ты решила стать безработной? — И все равно, он очень сексуален, — упорствовала Агнесса. — Послушай, Крис, — вмешался Кении. — Хочешь, закажем столик в «Копа»? Я знаком кое с кем из дирекции. Они недавно взяли трех танцовщиц, и одна из них просто потрясающая! Ей не больше девятнадцати лет. Я уверен, что ты ей понравишься. Это действительно премилая девочка. Крис так сильно пнул ногой столик, что он упал. — Премилая девочка, премилая девочка! У меня уже была премилая девочка, просто потрясающая девочка! Черт возьми, как она сверлила меня взглядом каждый раз, когда я употреблял неприличное слово! И нате вам! Поступила со мной, как последняя сволочь! Самая грязная шлюха из кабака так не сделала бы. Нет уж, увольте! Мне осточертело изображать из себя славного парня, и я больше слышать не хочу о премилых девочках! Я хочу потаскуху. Я буду обращаться с ней, как с потаскухой, и все будут довольны. Найдите мне самую страшную шлюху в городе, настоящую потаскуху! — Требуется мисс Этель Эванс, — дурашливо произнес Эдди. Крис щелкнул пальцами. — Вот именно! Эдди рассмеялся. — Перестань, я пошутил. Послушай, Крис, если ты действительно хочешь проститутку, то пусть она будет хотя бы красивой. Здесь есть одна девочка из Сан-Франциско… — Я не хочу ни красивой проститутки, ни девочки из Сан-Франциско. Я хочу Этель Эванс! — Но это же настоящее чудище, — запротестовал Кении. — А я не ищу королеву красоты! Мне нужна девица, с которой можно трахаться. Найдите мне Этель! — Кристи нахмурился. — Все эти сплетники заткнутся, когда увидят меня с такой потаскухой. Они решат, что я не настолько дорожил Амандой, раз могу удовольствоваться такой шлюхой, как Этель. Найдите мне ее! Эдди позвонил Джерри Моссу в Гринвич. Джерри вздохнул и обещал помочь. Он с трудом разыскал Этель в Фэа Айленд. — Это шутка? — спросила она. — Нет. Кристи Лэйн сам попросил устроить встречу с вами. — Однако у него оригинальный способ передавать свои предложения. — Этель, вы, кажется, уже перебрали всех почетных гостей шоу? — Да нет, некоторых упустила. Вы забываете, что во второй половине сезона передача снималась на побережье. — Они не поедут на побережье в будущем году. — Потрясающе! Я куплю себе новую диафрагму. — Этель, наш великий человек несчастен. Он хочет только вас. — Но я не хочу его. — Этель, я требую, чтобы вы вернулись в Нью-Йорк. — Это что, приказ? — Скажем, просьба. — Я отказываюсь. — Тогда я буду вынужден позвонить Дантону Миллеру и сказать, чтобы он снял вас с передачи. — Джерри был противен сам себе, но ему нужно было сделать последнюю попытку. Этель деланно рассмеялась. — Даном я могу вертеть, как хочу. — Но вы не можете вертеть пайщиком передачи. И нравится вам это или нет, но им являюсь я! — Неужели? А я ведь до этого принимала вас за мальчика на побегушках у Робина Стоуна. Джерри сохранил спокойствие. — Не нужно переходить на личности. — Кончайте трепаться, Джерри! Я говорю вам ясно: я не проститутка, которую заказывают по телефону, и если я сплю с каким-нибудь типом, значит, он мне нравится. Ваш Кристи Лэйн за полтора года не взглянул на меня и двух раз. И вдруг неожиданно я превращаюсь в Элизабет Тэйлор, Что происходит, в конце концов? — Сегодня Аманда вышла замуж за Айка Райана. Наступила тишина. Потом Этель рассмеялась. — Послушайте, а ваш друг Робин Стоун, наверное, тоже потрясен? Почему бы мне его не утешить? К нему бы я пустилась вплавь. — Так вы едете, Этель? Она вздохнула. — Ладно. Где я найду вашего воздыхателя? — В «Астории». Этель прыснула. — Вот потеха! Всю жизнь я надеялась встретить кого-нибудь, кто действительно живет в «Астории».
Кристи был в номере один, когда вошла Этель. — Нет, ты совсем свихнулась! — воскликнул он. — Прийти в брюках? — А вы ждали, что я прибегу к вам нагишом? Кристи даже не улыбнулся. — Нет, но вся компания сейчас в «Копа», и я ждал тебя, чтобы поехать к ним. Она вытаращила глаза. — В «Копа»?! — Поехали! — приказал он. — Возьмем такси и заедем к тебе. Я хочу, чтобы ты переоделась в платье. В такси Кристи, отодвинувшись от Этель, прижался к дверце и угрюмо молчал, но как только они вошли в ресторан, он преобразился. Широко улыбаясь, он взял ее под руку и с видом собственника представил всем знакомым. Во время представления держал ее за руку и даже дал прикурить. Этель было все безразлично. Она уже видела этот спектакль, чувствовала себя уставшей и желала только одного — чтобы поскорее закончился этот вечер. Было около трех часов ночи, когда они вернулись в «Асторию» и остались в номере одни. Этель молча разделась. Кристи, голый, ждал ее в постели. Она посмотрела не него и почувствовала приступ тошноты. В его нагом теле было что-то отталкивающее. Как Аманда могла спать с ним? Поменять такого мужчину, как Робин Стоун, на эту рохлю! Этель, совершенно голая, подошла к кровати. Кристи не смог скрыть удивления, увидев ее огромную великолепную грудь. — Ого, куколка! Для такого пугала ты неплохо сложена. — Он схватил ее за ягодицы. — У тебя была бы идеальная фигура, если бы не слишком большой зад. Этель отошла от кровати. У него были потные руки. Она не хотела, чтобы он дотрагивался до нее. — У вас есть крем для бритья? — спросила она. — Конечно. А зачем? Она пошла в ванную и, вернувшись с тюбиком, намазала кремом руки. — А теперь ложись, слабак! Менее чем через пять минут он уже дрожал и стонал от удовольствия. Этель бесшумно пошла в ванную и быстро оделась. Когда она возвратилась в комнату, Кристи неподвижно лежал на кровати с закрытыми глазами. — Пока, Крис! Он протянул руку и задержал ее. — Крошка, со мной никогда еще такого не проделывали. Но это нечестно, потому что ты ничего не почувствовала. Я даже не прикоснулся к тебе. — Все в порядке, — тихо сказала она. — Я знаю, сегодня вечером у тебя плохое настроение, и хотела помочь тебе забыться, почувствовать себя счастливым. Он нежно притянул ее к себе и в упор посмотрел ей в глаза. — Знаешь, это самые приятные слова, которые мне когда-либо говорили. Правда, меня это очень тронуло. Я знаю, что тебе пришлось приехать сегодня из Фэа Айленд. Могу я что-нибудь сделать для тебя? Этель сгорала от желания сказать: «Забудьте меня и оставьте в покое!», но она только улыбнулась. Кристи сильнее привлек ее к себе. — Давай поцелуемся! У него были мягкие, обвислые губы. Этель удалось отстраниться, не показав своего отвращения. Она нагнулась, чмокнула его во влажный лоб и бросилась из номера, не попросив денег на такси. Он позвонил ей на следующее утро и пригласил поужинать. Так как никаких планов на вечер у нее не было, она решила принять приглашение. В течение двух недель он каждый вечер появлялся с ней в обществе. Их имена стали упоминаться в газетах. Этель начинала нравиться неожиданная шумиха, поднятая вокруг ее особы. Она никогда еще не была ничьей подружкой и продолжала встречаться с Кристи. Одна из утренних газет поместила фотографию, на которой они были вместе за кулисами, и намекнула на возможную помолвку. Джерри Мосс почувствовал легкую тревогу. Он позвонил Крису в Атлантик-сити. — Кристи, у вас что-то серьезное с этой девицей? — Конечно, нет. Послушай, Джерри, Дан уже подготовил сценарии двух первых шоу для будущего сезона. Кого вы возьмете, чтобы заменить… — он замолчал. — Мы будем" приглашать каждую неделю новую девушку, — ответил Джерри. — Но я хотел бы поговорить с вами насчет Этель. — Слушаю. — Вам известна ее репутация? — Ну и что? — Вы считаете, что это умно — привезти ее в Атлантик-сити? Газеты уже начали публиковать о вас всякие сплетни. Этель не подходит для вашего персонажа. Публика хочет видеть вас с приличной, красивой девушкой. — Слушай, зануда! У меня уже была приличная и красивая девушка. Публика, возможно, была довольна, но я сыт по уши! Публики не было, чтобы поддержать меня в тот вечер, когда Аманда вышла замуж. А Этель была! — Все члены корпорации в курсе ваших отношений с Этель, — сказал Джерри, подыскивая новые аргументы. — До сих пор публика ни о чем не знает. Но после подобных намеков о помолвке в газетах она захочет узнать подробности. И на что это будет похоже, когда все узнают, что их кумир семьи проводит время с проституткой? — Не говори так! — зло сказал Кристи. — Этель никогда не брала у мужчин ни цента! — Крис, но не относитесь же вы к этому серьезно? Через несколько дней у вас поездка в Лас-Вегас. Надеюсь, вы не потащите ее за собой? — Самолет стоит слишком дорого. Это все же не Атлантик-сити. — Значит, у вас с ней не серьезно? — Конечно, нет. Хотя она очень мила со мной, никогда не лжет. С тех пор, как я начал встречаться с ней, у нее никого не было. Она одобряет все, что я делаю. С Этель я расслабляюсь. — Он замолчал, словно ему в голову пришла какая-то мысль: — Повезти Этель в Лас-Вегас! Да это то же самое, что пойти в «Дэнни Хайдэуэй» со своим бутербродом!
Этель провела мрачное лето, работая в выпуске варьете, открывающем публике молодые таланты. Она не любила группы гитаристов, а все приглашенные звезды увивались только за молодыми. Она даже обрадовалась, когда Кристи Лэйн вернулся в Нью-Йорк, и все сентябрьские вечера провела с ним. Ей по-прежнему претил физический контакт с Кристи, но, к своему большому облегчению, она быстро поняла, что у него нет темперамента. Его вполне устраивало два раза в неделю. Остальное время он лежал на кровати и изучал результаты скачек. За неделю до выхода первой передачи «Кристи Лэйн Шоу» в новом сезоне два журнала, посвященных телевидению, опубликовали заметки, в которых говорилось о Кристи и Этель. Джерри, сидя в своем кабинете, рассматривал фотографии с изображением улыбающейся парочки. Боже, они действительно уже были неразлучны. Нужно действовать. Дело заходило слишком далеко. Джерри позвонил Дантону Миллеру и пригласил его пообедать вместе. Дан начал с того, что высмеял Джерри. — Джерри, ты вообразил себе невесть что! Да настоящая публика никогда не слышала об Этель! Джерри постучал пальцами по столу. — Дан, это серьезно. Том Каррузер — анабаптист и один из наших вкладчиков. До сих пор он считая Этель вполне приличной девушкой и даже пригласил ее пообедать с миссис Каррузер. Если какой-нибудь их этих скандальных журналов начни рыться в прошлом Этель, нам крышка! У нее на побережье есть подружка, сохранившая все письма Этель, в которых та описывала сексуальные достоинства всех, с кем спала. Девица размножила их на ксероксе и дает читать каждому встречному. А если эти письма опубликуют? Кстати, ты в них тоже упомянут, Дан. (С лица Дана сошла улыбка.) Дан, я не целомудренный юноша, но эта передача — золотое дно, и мы не можем позволить Этель встать нам поперек дороги. Это слишком большой риск! Дан налил себе вторую чашку кофе. Джерри был прав. Стоит только появиться скандальной статье, и пайщики передачи откажутся финансировать ее. Дан расстался с Джерри, пообещав вмешаться и положить конец отношениям Этель Эванс — Кристи Лэйн. Несколько дней он размышлял над сложившейся ситуацией. Он знал, что ему нужно убрать Этель из этой затянувшейся передачи. Дан позвонил в службу рекламы. Ему ответили, что он может найти Этель Эванс в салоне красоты. Салон красоты! Ей бы нужен был хирург-косметолог! Дан записал номер телефона и позвонил. — Привет! — весело сказала она. — У тебя случайно сегодня не праздник? Почему ты без разрешения ушла на полдня? Она рассмеялась. — Я привожу себя в порядок, мне нужно быть красивой. Сегодня вечером большое торжество. — Сегодня вечером? Дан вдруг вспомнил, что вечером состоится вручение Золотого приза телевидения. Ай-Би-Си заказало столики. Это было одно из самых больших событий на телевидении. — Вы идете туда? — спросил он. (Глупый вопрос, конечно же, она туда шла). — А вы? — в свою очередь спросила она. — Придется. Крис и Робин Стоун, наверное, завоюют призы, а Грегори Остин будет в президиуме. — Тогда увидимся. И даже, возможно, будем сидеть за одним столиком. Дан, а зачем вы звоните? — Я скажу вам об этом завтра. — Завтра передача, и я буду занята. А после шоу Каррузер устраивает небольшой вечер. — Вам лучше туда не ходить, — сказал Дан. Он знал, что сказал это не совсем кстати, но Этель у Каррузера — это уж слишком! — Повторите-ка еще раз! — Сегодняшний вечер будет вашей последней встречей с Кристи на людях или наедине. Некоторое время она молчала, потом спросила: — Вы ревнуете? — Это официальный приказ. — Чей? — Мой. «Кристи Лэйн Шоу» принадлежит Ай-Би-Си, и мой долг его защищать. Скажем так: ваша личность не подходит для семейной передачи. Поэтому я требую, чтобы с сегодняшнего вечера вы оставили Криса. — А если я этого не сделаю? — Тогда вас вышвырнут из Ай-Би-Си. Этель молчала. — Вы меня слышите, Этель? Она ответила твердым голосом. — Ладно, красавчик. Конечно, вы меня можете выгнать, но если мне наплевать? Ай-Би-Си не единственная телекомпания в мире. — А если я разглашу причину, из-за которой вас выгоняют? Этель попыталась похорохориться. — Прекрасно. Если я не буду работать, у меня будет больше времени уделять Кристи. Дан расхохотался. — Насколько я знаю, щедрость не основная добродетель Лэйна. Впрочем, возможно, вы знаете его с другой стороны. Может, он поселит вас у себя и назначит оклад. — Дерьмо! — прошипела сквозь зубы Этель. — Послушайте, если вы оставите Кристи, то сохраните работу, и я позабочусь о том, чтобы вас заняли в другой передаче. — Я хочу сделать вам предложение, — сказала она. — Если вы дадите мне работу в передаче Робина Стоуна, Кристи Лэйн не поймает меня даже по телефону. Дан был озадачен. — Я очень боюсь, что вам еще рано отдавать приказы. Я попытаюсь навязать вас Робину, но не забудьте, что это ваш последний вечер с Кристи. Если завтра вы будете торчать на передаче, вам придется уволиться. В этот вечер Этель оделась очень тщательно. Теперь она носила длинные волосы, покрасив их в каштановый цвет. Красивое зеленое платье с довольно низким декольте выгодно подчеркивало ее грудь, а широкая юбка скрывала довольно массивные бедра. Этель посмотрелась в зеркало и осталась довольна. Конечно, она не Аманда, но если не улыбаться, чтобы скрыть проклятую щель между передними зубами, то она очень даже ничего…
Большой танцевальный зал в «Уолдорфе» был переполнен. Президиум выглядел внушительно: целое созвездие директоров всех телекомпаний, несколько кинозвезд с Бродвея, мэр города и прокатчик фильмов. Этель узнала Грегори Остина и его очаровательную супругу, которые сидели в центре президиума. Этель прошла вслед за Кристи к столику Ай-Би-Си как раз напротив эстрады. Дан Миллер уже сидел за ним в компании брюнетки лет тридцати. Дан отличался тем, что умел откапывать себе соответствующих девушек на один вечер. Словно он звонил агенту и говорил: «Пришлите мне кого-нибудь типа светской дамы в черном платье с жемчугом, но только не слишком броскую». Возле Этель оставались еще два свободных места. Может, они предназначались для Робина Стоуна? Скорее всего, так как остальные были уже заняты. Значит, он сядет рядом с ней? Этель не ожидала такой удачи. Робин пришел с опозданием в сопровождении изысканной девушки по имени Ингер Гюстар, начинающей немецкой актрисы. Этель взяла сигарету. Кристи не пошевелился, но, к ее огромному удивлению, Робин поднес свою зажигалку. — Я восхищена вашим вкусом, мистер Стоун, — сказала вполголоса Этель. — На прошлой неделе я видела фильм с ее участием. Конечно, играть она не умеет, но это не имеет значения. Так как Робин не отвечал, Этель все продолжала настаивать. — У вас с ней серьезно или еще одна интрижка? Он улыбнулся. — Ешьте свой грейпфрут. — Я не люблю грейпфруты. — Вам это полезно, — сказал он, не глядя на нее. — Не все, что полезно, нравится. Заиграл оркестр. Неожиданно Робин встал. — Ну что ж, Этель, попробуем! Она покраснела от счастья. Неужели он ее заметил? Несколько минут они танцевали молча. Этель прижалась к Робину. Он отстранился и посмотрел ей в глаза. Его лицо ничего не выражало, а губы еле шевелились. Но слова звучали ясно и холодно. — Послушайте, глупое создание, вы что же, не понимаете, что у вас впервые в жизни появился шанс выйти из этого положения с кольцом на пальце? Я верю в ваши мозги. Воспользуйтесь ими и выиграйте партию. — А если обручальное кольцо — это не то, что меня интересует? — То есть? — То есть Кристи Лэйн как мужчина не волнует меня. Робин запрокинул голову и рассмеялся. — Вы предпочитаете выбирать. Ну что ж, ваша смелость мне нравится. — А в вас мне нравится все, — тихо и проникновенно произнесла она. — Сожалею, но в эту игру я не играю. — Почему? Он отстранился и взглянул на нее. — Потому что я тоже люблю выбирать сам. Этель пристально смотрела на него. — За что вы меня ненавидите? — Я вас не ненавижу. Скажем так: до сих пор единственное, что я в вас заметил, — это живой ум и стальные нервы. Но теперь я начинаю сомневаться. У вас есть Кристи, не бросайтесь им. Конечно, он не Синатра, но его передача имеет успех и продержится еще долго. — Робин, скажите мне одну вещь. Зачем вы меня пригласили танцевать? — Потому что вечер будет долгим, и у меня нет желания отражать ваши скрытые атаки на всем его протяжении. Я решил, что лучше сразу выяснить отношения. Мой ответ: «нет». Этель посмотрела на молодую немку, танцевавшую неподалеку от них. — «Нет» на сегодняшний вечер? — спросила она с улыбкой. — «Нет» на все вечера. — Почему? — Я должен ответить на этот вопрос откровенно? — Да, — она улыбалась, стараясь не показывать свои зубы. — Я совершенно не способен возбудиться с вами, крошка. Это так просто. На лице Этель появилась натянутая улыбка. — Не знала, что у вас с этим проблемы. Вот, оказывается, где ваше слабое место. Робин улыбнулся. — С вами — да. — Наверное, потому Аманда и бросила вас ради Айка Райана. Великий Робин Стоун, само обаяние и красноречие, ни к чему не способен в постели! Она обманывала вас даже с Крисом. Он перестал танцевать и взял ее за руку. — Нам лучше вернуться за столик. Этель криво улыбнулась и не двинулась с места. — Я, кажется, попала в ваше больное место, мистер Стоун? — Нет, крошка, меня вы не задели. Я просто считаю, что вы выбрали неподходящий момент, чтобы сплетничать об Аманде. Он еще раз попытался уйти, но она снова заставила его танцевать. — Робин, дайте мне шанс! Испытайте меня хоть один раз! Без обязательств! Я примчусь, как только вы щелкнете пальцами. И потом, я надежный человек. Вы будете удовлетворены и никогда не потеряете голову из-за такой девушки, как Аманда. Он посмотрел на нее со странной улыбкой. — Держу пари, что у вас лошадиное здоровье. — Да, я никогда в жизни не болела. Робин покачал головой. — Оно и видно. Этель спокойно взглянула ему в глаза. — Ну так как? Робин вздохнул. — Этель, возвращайтесь в свой тандем с Крисом. — Я не могу, — она тряхнула головой, — это не зависит от меня. Я получила приказ порвать с Крисом. Робин, казалось, искренне заинтересовался. — От кого? — От Дантона Миллера. Сегодня после обеда он заявил, что я должна отказаться от Криса, иначе меня вышвырнут с работы. Похоже, вокруг нас слишком много шумихи, а я не подхожу для кумира всех семей, каким его представляют. — И что вы намерены делать? — А что я могу сделать? — спросила она, глядя на Робина глазами побитой собаки. — Этель, вы меня не разжалобите, играя в Ширли Тэмпл. Если вы шлюха, то и ведите себя как шлюха. Не разыгрывайте из себя бедную девочку, выклянчивающую симпатию. — Он иронически взглянул на нее. — Вы играете в мужские игры, как настоящий мужчина. Я поддержу вас против Дантона Миллера в любой момент. Она с любопытством посмотрела на него. — Вы считаете, что я должна сражаться с Даном? У меня же нет ни малейшего шанса, если только вы не дадите мне какую-нибудь работу в вашей передаче. Я буду печатать на машинке, я буду делать все, что захотите. — Нет. — Но почему? — спросила она умоляющим тоном. — Потому что я не подаю милостыню ни из жалости, ни из симпатии. — А по-дружески? — Мы не друзья. — Я стану вам другом. Я сделаю ради вас все что угодно. Скажите только, что? — Так вот, в данный момент я больше всего на свете желаю покончить с этим танцем. Этель отстранилась и с ненавистью посмотрела на него. — Робин Стоун, надеюсь, что вы сгниете в аду! Он от души расхохотался и, взяв ее под руку, увел с танцевальной площадки. — Браво, малышка! Такой вы мне больше всего нравитесь. Они вернулись к столику, и он с любезной улыбкой поблагодарил ее за танец. Вечер был длинным и скучным. Робин получил приз за лучшую информационную программу. Когда речи закончились и началось представление, Робин взял за руку молодую немку и улизнул. Этель уставилась на два пустых стула. Кто он такой, в конце концов, чтобы позволить себе вот так уйти?! Даже Дантон Миллер остался смотреть этот скучный спектакль. И Крис не отважился уйти, хотя был поважнее Робина Стоуна. А если подумать, так и поважнее Дана Миллера. И как она позволила Дану угрожать ей? Пока Крис будет с ней, она будет сильнее и Дана и Робина. Вдруг Этель поняла, что Крис — ее единственный козырь. Ей тридцать один год, и не может же она вечно путаться с заезжими знаменитостями. Через несколько лет она никому не будет нужна. Сидя в темноте зрительного зала и не обращая внимания на вежливый смех публики, Этель обдумывала новую идею. Зачем бросать Криса? Спать с ним — это одно, но стать миссис Кристи Лэйн — совсем другое! От дерзости задуманного ей стало немного не по себе. Борьба будет долгой и трудной. Ей придется постепенно подвести Криса к этой мысли. А затем она всех их пошлет подальше: Дана, Робина, всех! Было три часа ночи, когда они возвращались в «Асторию», и Крис предложил отвезти ее домой. — Я должен быть завтра в одиннадцать на репетиции, куколка. — Разреши мне переночевать у тебя. Нам не обязательно спать вместе. Я хочу остаться с тобой, Крис. Его открытое лицо расползлось в улыбке. — Ну конечно, киска. Я думал, что тебе будет удобнее у себя, чтобы переодеться и все такое, потому что завтра утром тебе тоже нужно быть на репетиции. — В том-то и дело, что меня там не будет. Он резко повернулся к ней. — Что ты болтаешь? — Я скажу об этом попозже. Она молча разделась и скользнула к нему в постель. Он читал газету, лежа на кровати в трусах, из которых выпирал огромный живот. В зубах у него торчала сигарета. Жестом он показал ей на соседнюю кровать. — Ложись туда, цыпочка. Сегодня никакого концерта не будет. — Я только хочу прижаться к тебе, Крис. Она обвила руками его дряблое тело. Крис внимательно посмотрел на нее. — В чем дело? Ты так странно себя ведешь. Этель расплакалась, сама удивляясь тому, как легко ей дались эти слезы, которые было не остановить. — Боже! Цыпочка, что происходит? Я сделал что-нибудь не так? — О нет, Крис! Просто это последняя ночь для нас с тобой! Этель уже рыдала по-настоящему, вспоминая все случаи, когда ее отталкивали, всех мужчин, с которыми она спала всего одну ночь, думая о любви, которой у нее никогда не было. — Боже! Что ты говоришь? Крис обхватил Этель руками и неловко попытался погладить ей щеку. Господи, ей был противен даже запах его дешевого одеколона, смешанного с потом. Но она подумала о Робине на танцевальной площадке, о молодой немке, которую, возможно, в эти минуты он сжимал в объятиях, и разрыдалась еще сильнее. — Куколка, скажи что-нибудь. Я не могу выносить этого. Что это за чепуха насчет последней ночи? Этель подняла к Крису лицо, залитое слезами. — Крис, я что-нибудь значу для тебя? Глядя задумчиво в потолок, он погладил ее по волосам. — Не знаю, голубка. Я никогда об этом не думал. Ты хорошая подружка. Мы прекрасно проводим с тобой время… Она снова разрыдалась. Этот боров тоже от нее отказывался! — Пойми, крошка, я ни за что на свете не хотел бы влюбиться снова. Одного раза с меня достаточно. Но у меня нет другой девушки, кроме тебя. Ты останешься со мной столько, сколько захочешь. Как Кенни и Эдди. Так что ты там несла такое насчет нашей последней ночи? Этель отвернулась и стала смотреть прямо перед собой. — Крис… до нашей встречи я спала с Дантоном Миллером. Он даже подскочил. — Черт! И он тоже! Ты что, не пропустила ни одного? — Крис, Дан действительно был неравнодушен ко мне. Он ревновал меня абсолютно ко всем и даже устроил в твою передачу, чтобы следить за каждым моим шагом. Он был вне себя, когда Джерри устроил нашу встречу. Он думал, что это на одну ночь и не верил, что я действительно могу влюбиться в тебя. А теперь он ревнует. — Пошел он к черту! — Нет, к черту посылают меня. Именно это он задумал. — Ты смеешься? — Нет. Сегодня он позвонил мне и велел, чтобы я с тобой больше не встречалась. Он хочет, чтобы я была только с ним. Я послала его подальше, но он сказал порвать с тобой сегодня вечером, иначе он меня вышвырнет из Ай-Би-Си. А если я тебя брошу, то смогу остаться на прежней работе. Но, Крис, я не могу жить без тебя! — Завтра я поговорю с Даном. — Он скажет, что это неправда, и ты наживешь себе врага. Он говорит, что сделал тебя и в любую минуту может с тобой покончить. Крис сжал зубы. Этель поняла, что пошла неправильным путем. Крис еще не был достаточно уверен в себе. Черт побери, он боялся Дантона Миллера! — Он ничего не может против тебя, Крис. Ты — самый сильный. Но он может избавиться от меня. — Ладно, значит, тебе придется уйти с передачи. — А потом? — Ты можешь найти работу на Си-Би-Эс, Эн-Би-Си или в любой другой компании. — Нет, Дан не даст мне работать нигде. Мне приходит крышка. — Тогда я найду тебе работу. И сейчас же! — Крис, полчетвертого утра! — Плевать. — Он схватил телефон и набрал номер. — Эрби? Говорит Кристи Лэйн. Я знаю, что поздно, но послушай, старик, я — человек настроения. Кажется, ты недавно говорил, что готов на все, лишь бы твое агентство занималось моей рекламой. Так вот, дело решено. Начинаем завтра. В трубке послышался захлебывающийся голос Эрби, который был вне себя от радости. Завтра в одиннадцать он будет в приемной. — Подожди, Эрби. В контракте есть несколько оговорок. Я буду платить тебе триста долларов в неделю, но при одном условии: ты берешь к себе Этель Эванс. Конечно, она работает на Ай-Би-Си. Но я хочу, чтобы она ушла оттуда и полностью занялась моей рекламой. Только платить ей будешь ты. Сколько?.. Сто в неделю. Этель отрицательно затрясла головой. — Нет, Эрби, сто двадцать пять. Она снова покачала головой. — Подожди минутку, Эрби. — Он повернулся к Этель. — Что тебе нужно? Нобелевская премия? — У меня основная зарплата на Ай-Би-Си — сто пятьдесят долларов плюс двадцать пять премиальных за твою передачу. Итого, сто семьдесят пять. — Эрби, сто семьдесят пять, и дело в шляпе. У тебя остается сто двадцать пять, но подумай о престиже, малыш! Что? Да, я ставлю себя на твое место. Ладно, сто пятьдесят. Этель толкнула его в бок, но он на это не обратил внимания. — Хорошо, она будет в твоем кабинете завтра в десять утра. — Это означает, что, несмотря на твой блат, я теперь буду получать меньше, — сказала Этель. — Парень прав. Ты не можешь получать больше него. Но успокойся. На Ай-Би-Си ты должна была работать над несколькими передачами, а с Эрби — только на меня. Со ста пятьюдесятью долларами можно жить. Этель была вне себя от ярости. Она знала Эрби. Он, конечно, не даст ей спокойной жизни, и расписание будет убийственным. Ее работа на Ай-Би-Си считалась престижной, а Эрби руководил лавочкой неудачников. Все было устроено, но теперь у Этель не было другого выхода, как идти до конца. — Крис, я только что подписала свой смертный приговор. Ты знаешь это? — Почему? Я нашел тебе новую работу. — На Ай-Би-Си у меня были дополнительные преимущества: страховка на случай болезни, красивый кабинет с кондиционером. — Зато у тебя остался я. Разве ты не этого хотела? Она прижалась к нему. — Я ухожу из Ай-Би-Си из-за тебя. Я могла бы остаться, делать другие передачи, но я от всего отказываюсь, чтобы работать у Эрби Шайна. А что ты сделал для меня? — Как что? Нашел тебе работу. — Крис, я хочу быть твоей подружкой. — Господи! Это и так ни для кого не секрет. — Я имею в виду… официально… не могли бы мы хотя бы объявить о нашей помолвке? Крис отложил газету. — Об этом не может быть и речи! Я никогда на тебе не женюсь, Этель. Моя жена должна быть приличной девушкой. Я хочу иметь детей. А ты, как пропускной пункт на границе: через тебя прошли все. — А ты не думаешь, что девушка все же может измениться? — Поживем — увидим. — Он снова взял газету. — Крис, дай мне шанс! Умоляю тебя! — Разве я гоню тебя из своей постели? Я везде вожу тебя с собой. Разве не так? Она обвила его шею руками. — О, Крис, я не просто тебя люблю. Я тебя обожаю! Ты — мой бог, господин, мой король. Ты — моя жизнь! Она села у кровати и принялась целовать пальцы его ног. Это вызвало у нее тошноту, но она старалась представить, что целует одного из знаменитых актеров, которых так обожала. Он довольно засмеялся. — Вот это да! Мне никогда так не делали. — Ляг, я хочу любить каждый миллиметр твоего тела. Я хочу показать тебе, как боготворю тебя и обожаю. Лаская его, она стонала, словно это доставляло ей огромное удовольствие. Чуть позже, вспотевший и довольный, Крис сказал: — Куколка моя, это несправедливо. Ты доводишь меня до экстаза и ничего не получаешь взамен. — Ты с ума сошел! Я кончила дважды, когда ласкала тебя. — Ты шутишь? — Крис, неужели ты не понимаешь? Я тебя люблю. Ты меня возбуждаешь. И я кончаю, как только прикасаюсь к тебе. Он обнял ее за плечи и погладил по голове. — Ты меня ошарашила. Ты точно чокнутая, но мне это нравится. Спи, моя лапочка. Этель перешла на другую кровать и, повернувшись к нему спиной, сквозь зубы сказала: — Я люблю тебя, Крис. Он направился в ванную и, проходя мимо, похлопал ее по заду. Боров! И она должна пресмыкаться перед ним! Ну, ничего. Она отыграется. Она выйдет за него замуж! Пусть на это потребуется время, но затем она всех пошлет к чертям. И его первого!
Замысел Этель, кажется, понемногу начинал осуществляться. Конечно, она еще не владела ситуацией, но некоторые газеты уже намекали на их помолвку, хотя Крис по-прежнему отказывался думать о браке. Она хотела забеременеть, но он не желал попадаться на эту удочку и всегда ждал, когда она поставит диафрагму. Но чаще всего он ложился на спину и наслаждался ее опытными ласками. Он действительно считал, что Этель кончала, едва прикоснувшись к нему. Этот ужин в «Уолдорфе» ничем не отличался от всех остальных вечеров в Уолдорфе. Дан Миллер появился с совершенно такой же девицей, как и на предыдущем вечере, только у этой волосы были платинового оттенка. За их столиком были два свободных места, но Робин Стоун не пришел. Единственным стоящим событием в этот вечер стало для Этель ее знакомство с миссис Остин. Это произошло в вестибюле, где они ожидали пальто. Этель была само почтение, а миссис Остин сама любезность, когда поздравляла Криса с успехом передачи. В эту ночь, раздеваясь, Крис всё еще был под впечатлением. — Слышала, как Грегори Остин сказал, что я самый великий? А ведь его никто не заставлял. Он специально подошел поговорить со мной, хотя обычно держится на расстоянии от всех знаменитостей. Это все знают. Крис, совершенно голый, плюхнулся на кровать. — Ну, дорогуша, ублажай своего повелителя. В конце концов, для тебя большая честь — доставить удовольствие королю. Не отвечая, она медленно раздевалась. Крис рассеянно смотрел в потолок. — Знаешь? Король — это недостаточно. Слишком много королей: король Англии, Греции, Швеции… в общем, хватает. А Кристи Лэйн — один. Нужно найти какой-нибудь более подходящий титул. Слышала, как миссис Остин сказала, что обожает мои передачи? Потому что я — самый лучший. — Она бы подумала, что ты самый жадный, если бы знала, как я работаю на Эрби. — Она была бы еще больше шокирована, если бы ты была содержанкой, — пробурчал он. — В том, что человек работает, нет ничего унизительного. — Ха! Все знают, что ты спишь со мной, и считают, что ты слишком жадный, чтобы содержать кого бы то ни было. — Никто не говорит, что я скряга. — Я тому живое доказательство! Вот уже пять месяцев, как я твоя подружка. Когда люди смеются над моей одеждой, то они смеются не надо мной, а над тобой. — Увидев, что Кристи побагровел, Этель решила, что хватила через край, и сказала более мягко: — Пойми, мне все равно, даешь ты мне что-нибудь или нет, но Эрби Шайн постоянно отпускает шпильки по твоему адресу. Говорит, что ты скупердяй, иначе не заставил бы меня работать в такой конторе, как его. Это жалкая контора, Крис. Не ему следовало бы заниматься тобой. Тебе нужно нанять Калли и Хэя! — За тысячу долларов в неделю?! — Ты можешь себе это позволить! — Это значит — бросать деньги на ветер. Эрби, по крайней мере, добивается того, что обо мне пишут в газетной хронике. — И ты платишь ему за это целых триста долларов! — Точнее, сто пятьдесят. Остальные идут на твою зарплату. — Крис, возьми меня на работу и пробрось Эрби. Он криво улыбнулся. — Ты хочешь сказать, что я должен платить тебе триста долларов в неделю? Это мне не подходит. Сейчас вы занимаетесь моей рекламой вдвоем с Эрби… — Эрби и пальцем не пошевелил из-за тебя. Послушай, Крис, плати мне двести долларов, и я буду делать всю работу. Я знаю всех хроникеров, могу заказывать те статьи, которые тебе нужны. И я смогу быть с тобой, когда ты захочешь. На прошлой неделе мне пришлось уйти от тебя в два часа ночи, потому что Эрби посылал меня на следующее утро к одному из твоих клиентов. А так я могла бы оставаться с тобой, сколько угодно, и Эрби не отнимал бы у тебя деньги и не смеялся бы над тобой за твоей спиной. Крис нахмурился. — Негодяй. — Он помолчал, потом вдруг улыбнулся. — Ладно, куколка, ты добилась своего. Я заплатил Эрби до конца недели. В пятницу получи по чеку и пошли его ко всем чертям. Скажи, что так решил Крис. Этель бросилась к нему и осыпала его лицо страстными поцелуями. — О, Крис, я тебя люблю! — Тогда — вперед, киска! Доставь удовольствие фантастическому Кристи Лэйну. Удовлетворенный Крис устроился со своей газетой, а Этель принялась просматривать утреннюю прессу. Листая «Дейли ньюс», она задержалась на третьей странице, на которой была помещена большая фотография Аманды, которую на носилках увозили в больницу. Айк держал ее за руку. Даже на носилках Аманда выглядела красивой. Этель внимательно прочла статью. Аманда упала в обморок на одном из приемов. Врачи поставили ей диагноз: язвенное кровотечение. Ее состояние считалось «удовлетворительным». Этель спрятала газету подальше от Кристи и подумала о том, что должен был испытать Робин, когда Аманда вышла замуж за Айка. Затем она вспомнила о двух пустых стульях за их столом на сегодняшнем вечере. Дерзостью Робина можно было восхищаться. Как у него хватило нахальства взять и не прийти? (обратно)
Глава 17
Робин собирался быть на этом вечере и даже предупредил Тину — новую звезду «Филмз Сенчури» — быть готовой к восьми вечера. Ему совсем не хотелось идти в «Уолдорф», но этот благотворительный вечер устраивала миссис Остин, и Робин был обязан хотя бы ненадолго появиться там. Они с Тиной ускользнут оттуда после вступительной части и пойдут в «Эль Марокко», где очень уютно. Он включил бритву и, решив послушать вечерний информационный выпуск, нажал кнопку телевизора. На экране появился Энди Парино. Он с воодушевлением рассказывал о летающей тарелке, которую кто-то якобы недавно видел. Робин слушал без интереса до того момента, пока не пошли кадры с изображением летающей тарелки. Он подошел поближе к телевизору — можно было поклясться, что на этом чертовом аппарате виднелись даже иллюминаторы. — В Пентагоне утверждают, — голос Энди приобрел иронический оттенок, — что это шар-зонд. Но если это так, то зачем тогда на место происшествия была послана группа военных ученых? Робина эта информация по-настоящему заинтересовала, и он решил тут же позвонить Энди. Было уже поздно, но ничего, они с Тиной еще успеют в «Уолдорф» к половине девятого. Он застал Энди в студии и сделал ему комплимент по поводу сюжета с летающими тарелками. — Твой текст был отличным, дружище. Кто его написал? — Мэгги Стюарт, — ответил Энди. — Помнишь, я тебе о ней говорил. — Похоже, что это неглупая девушка. — Никак не могу уговорить ее выйти за меня замуж. — Вот я и говорю, что она неглупая. Какая у вас погода? — Двадцать один градус тепла и ни облачка! — А здесь минус один и, кажется, собирается дождь. — Робин, если бы я был, как ты, директором службы информации, то зимой ездил бы в теплые края, а летом — в холодные. — Если бы я мог! Сейчас мне нужно нацепить на шею черный галстук и отправляться в «Уолдорф». — Ты с ума сошел! В конце концов, живем только раз. Почему бы тебе не приехать сюда на несколько дней и немного не развлечься? — Я бы с удовольствием. — Ладно, Робин, мне пора. Парень, который видел тарелку, ужинает сегодня с нами. Он преподает математику в колледже и даже назвал приблизительную скорость аппарата. Из этого материала, похоже, могла бы получиться неплохая передача. — Подожди, — сказал Робин. — Это здорово подошло бы для «Мыслей вслух». — Ты хочешь, чтобы я прислал тебе все документы? — Нет, я приеду сам. Хочу поговорить с вашим математиком. — И когда ты приедешь? — Сегодня вечером. После короткого молчания Энди воскликнул: — Сегодня вечером? Робин рассмеялся. — Следую твоему совету. Хочу провести на солнце несколько дней. — Отлично! Я закажу тебе номер в «Дипломате».В аэропорту Робина ожидала машина. Номер в отеле был в полном порядке. Робин даже нашел в холодильнике лед и бутылку водки, а на столе записку: «Позвони мне завтра утром. Спокойной ночи. Энди». Попросив принести местные газеты, Робин разделся, налил себе немного водки со льдом и удобно устроился на кровати. Листая газету, он увидел на второй странице фотографию улыбающейся девушки. Аманда! Это была одна из фотографий для журнала мод, на которой Аманда стояла с запрокинутой головой и развевающимися волосами. Статья называлась: «Наша королева красоты больна». Робин быстро прочел ее и сразу же позвонил Айку в Лос-Анджелес. — Айк, это серьезно? — У нее теперь все серьезно. С мая она живет как бы в рассрочку. — Я имел в виду… — Робин замолчал. — Нет, это не конец. Видишь ли, я уже привык жить рядом со смертью и понемногу умираю каждый день. Робин, ты не представляешь, что это такое, когда на твоих глазах умирает великолепная девушка. А эта проклятая болезнь делает ее еще красивее. У нее кожа стала прозрачной, как фарфор. Я наблюдаю за ней, вижу, как она устает и притворяется, что не чувствует усталости. Она знает, что так уставать ненормально. Я все время что-то придумываю, притворяюсь, что тоже устаю, объясняю это переменой климата, туманами, в общем, — всем. Это ад! Слава Богу, сейчас она немного восстанавливает силы. Ей перелили литр крови, а завтра попробуют дать новый препарат. Доктор считает, что он подействует, и если повезет, то она продержится еще несколько месяцев. — Айк, она ведь не догадывается, правда? — И да, и нет. Конечно, у нее есть кое-какие подозрения. Нужно быть полной идиоткой, чтобы их не иметь, когда у тебя каждую неделю берут анализ крови и делают пункцию костного мозга раз в месяц. Ей однажды делали ее в моем присутствии. Я думал, что упаду в обморок, когда они начали втыкать иглу в кость. А она даже не поморщилась. Я потом спросил, было ли ей больно? Так представь, она только улыбнулась и кивнула головой. Робин, эта девушка меня многому научила. Она умирает от страха, но никогда этого не показывает. Знаешь, что она мне сегодня сказала? «Бедный мой Айк! Какое я для тебя тяжкое бремя». Голос Айка задрожал: — Робин, я люблю ее. Когда я ввязывался в эту историю, я ее не любил, а действовал из личных интересов, совершенно эгоистических. Я думал устроить для нее шикарную жизнь, по-королевски похоронить, а потом собирать комплименты. И вот, впервые в моей собачьей жизни, я действительно влюбился и готов отдать все до последнего цента, лишь бы ее вылечить. Айк разрыдался. — Айк, я могу что-нибудь сделать? Робин почувствовал растерянность, услышав, что такой мужчина, как Айк, плачет. Он не находил, что сказать. — Боже мой, — сказал Айк, — я не плакал со дня смерти моей матери. Извини, что не смог сдержаться. Это впервые, когда я могу об этом с кем-нибудь поговорить. Никто не в курсе, кроме тебя, меня, Джерри и доктора. И я должен ломать комедию перед Амандой! У меня уже нервы не выдерживают. Извини меня. — Айк, я в отеле «Дипломат», в Майами Бич. Если хочешь, можешь звонить мне каждый вечер. — Нет, хватит. Сегодня вечером я отвел душу. Я могу все вынести, только не то, когда она просит сделать ей ребенка. Ей так хотелось бы иметь малыша. Видел бы ты, как она нянчится со своим котом! — Это очень хороший кот, — сказал Робин. Немного помолчав, Айк заговорил низким голосом. — Ей всего двадцать пять, Робин! Двадцать пять! Я старше ее на двадцать лет. Что я сделал в жизни, чтобы иметь право прожить вдвое больше, чем она? Почему она должна умереть, когда в ней столько красоты, столько жизни, нерастраченной любви? — Может, того, как она повлияла на тебя за эти последниемесяцы, уже достаточно, чтобы оправдать ее существование? Есть много людей, которые проходят по жизни и не оставляют никаких следов. — Во всяком случае, я твердо решил устроить ей самое пышное Рождество, какое только может быть. Робин, я хочу, чтобы ты приехал. Это нужно! Я хочу устроить ей сногсшибательное Рождество! Робин молчал. Он испытывал ужас перед болезнью и боялся увидеть Аманду, зная, что она… Айк почувствовал, что он колеблется. — Я, наверное, эгоист, — сказал он. — Возможно, ты собираешься провести Рождество с семьей. Но я просто хочу доставить ей побольше радости, сделать так, чтобы каждая секунда что-то значила для нее. — Я приеду, — пообещал Робин. (обратно) (обратно)
Мэгги
Глава 18
В два часа ночи Мэгги Стюарт еще не спала. Она выкурила пачку сигарет за три часа, без конца слоняясь из гостиной на маленькую террасу, выходившую прямо в бухту. Мэгги любила смотреть на бухту — в отличие от огромного пустого океана в ней кипела жизнь. Она так сильно вцепилась в поручни террасы, что косточки пальцев побелели. Робин Стоун здесь! В этом городе! Завтра они встретятся лицом к лицу. Что она скажет? А он? Странно, но она вдруг вспомнила Хадсона. Впервые за последние полтора года Мэгги позволила себе пуститься в воспоминания. Впервые в эту ночь представила его лицо — вначале улыбающееся, потом все более злое и, наконец, отвратительную ухмылку в самом конце. Именно эту ужасную ухмылку она увидела в последний момент, прежде чем погрузиться в небытие. Каким далеким казалось теперь то время, когда она жила в том огромном доме и звалась Хадсон Стюарт. Она вышла замуж за Хадсона в двадцать один год. Официально их брак продлился три года. С самого детства Мэгги хотела стать актрисой. В двенадцать лет она заявила о своем решении родителям за ужином, но те только посмеялись и решили, что это очередная детская прихоть. Но Мэгги, продолжая учиться в лицее, записалась в труппу любительского театра и вместо того, чтобы бегать на танцы, посвящала все свободное время изучению Чехова. Трагедия разыгралась в тот момент, когда Мэгги объявила, что не собирается поступать в университет, а намерена поехать в Нью-Йорк и попытать счастья в театре. Мать забилась в истерике. — Мэгги, тебя приняли в Вэссар, — стенала она. — Ты знаешь, чего мне стоило отправить тебя учиться в этот университет. — Я не хочу туда ехать, я хочу стать актрисой! — А на что ты собираешься жить в Нью-Йорке? Жизнь там очень дорогая, а пока ты найдешь какой-нибудь контракт, пройдет не меньше года. — Дай мне половину тех денег, которые ты отложила на мою учебу в Вэссаре. — Никогда! Я не дам тебе ни цента, чтобы ты ехала в Нью-Йорк и спала там со всякими актерами и старыми отвратительными продюсерами. Приличные девушки не ездят в Нью-Йорк, Мэгги. Твой отец работал, чтобы выбиться в люди. Мы мечтали послать нашу дочь в лучший университет. Умоляю тебя, поезжай в Вэссар, а когда получишь диплом, отправляйся в Нью-Йорк. Тебе будет всего двадцать один год. Так она поступила в Вэссар, а на последнем курсе встретила Хадсона. Он показался ей довольно приятным. Мать же просто млела от счастья. — О Мэгги, это как раз то, о чем я мечтала! Одна из лучших семей в Филадельфии, огромное состояние… Если, конечно, Стюарты захотят с нами знаться. Но, в конце концов, мы — уважаемые люди, а твой отец — врач. — Я виделась с ним всего два раза, мама. И потом я по-прежнему хочу ехать в Нью-Йорк. — Нью-Йорк! — мать перешла на крик. — Я поеду в Нью-Йорк. — На что ты там будешь жить? — Найду работу, а потом попробую свои силы в каком-нибудь театре. — И какую же работу ты надеешься найти себе, дурочка? Ты не умеешь печатать на машинке, у тебя нет никакой специальности. Нет, я не должна была разрешать тебе играть в той театральной труппе, но я думала, что у тебя это пройдет. И не думай, что я не замечала, с каким блаженным видом ты взирала на того юношу. — Адам родился в Филадельфии! — Значит, ему нужна была прохладная ванна и хорошая стрижка! Мэгги удивилась, что мать вдруг вспомнила об Адаме, хотя она о нем никогда не рассказывала. Адам тоже входил в любительскую труппу и в том сезоне как раз вернулся из Нью-Йорка со спектаклем, поставленным на Бродвее. Он начинал с помощника режиссера в бродячей труппе, но ему удалось стать настоящим профессионалом. Пьеса не сходила с афиш три месяца, и даже Люси — подруге Мэгги — Адам казался замечательным. Перед закрытием сезона Адам предложил Мэгги зайти к нему в отель. После небольшого колебания она взяла его под руку. — Я проведу с тобой эту ночь, потому что хочу быть рядом всю жизнь. Но мы не сможем пожениться, пока я не закончу учебу. Я должна получить диплом, иначе моя мать сойдет с ума. Он взял в ладони ее лицо. — Мэгги, я в тебя серьезно влюбился. Но послушай, дорогая, в Нью-Йорке я живу в отеле «Виллидж» в номере с двумя парнями. Я не умираю с голоду только благодаря пособию по безработице. Я не могу позволить себе даже отдельную квартиру, не то что жену. — Значит, ты решил переспать со мной и сбежать? Он расхохотался. — Я сбегу в Детройт, потом в Кливленд, потом в Сент-Луи, а затем вернусь в Нью-Йорк. Надеюсь, что за это время мой агент подыщет для меня работу в театре на летнее время. Я хочу стать знаменитым режиссером, но для этого нужно начинать с маленьких трупп. А денег нет. Да, Мэгги, это правда-я сбегаю. Актер вынужден делать это всю жизнь. Но я убегаю не от тебя. Ты всегда можешь узнать, где я, через «Эквайати». — Я хочу переспать с тобой, Адам. Он замер. — Мэгги… а ты уже спала с кем-нибудь? Она вызывающе посмотрела на него. — Пока я еще не принадлежу к тем актрисам, которые отдаются направо и налево. У меня милая, уютная комната для меня одной. — Тогда оставим все как есть. Если ты когда-нибудь приедешь в Нью-Йорк, зайди ко мне.Вторжение Хадсона в ее жизнь произошло одновременно с получением диплома. Пытаясь вырваться из-под неумеренной опеки матери, она дала захватить себя целому вихрю удовольствий, которые привнес в ее жизнь Хадсон. В сентябре была объявлена их помолвка, и Хадсон подарил ей бриллиант в семь каратов в изумрудной оправе. Ее фотография появилась в «Инквайари» и «Бюллетене». У Мэгги было ощущение, будто она играет какую-то роль в пьесе, где Хадсон — ее партнер, подающий реплики. Однажды они с Люси сидели в ресторане «Уорвик» и говорили о подготовке к свадьбе. Вдруг Люси как бы между прочим спросила: — Ты ничего больше не слышала об этом актере, Адаме? Я на днях видела его в рекламном ролике по телевизору. У него не было никакого текста, он просто брился, но я никогда не забуду его глаза… В них было что-то трогательное. Говорят, что евреи — страстные натуры. — А он еврей? — Мэгги об этом никогда не думала. — Его же фамилия Бергман, — напомнила Люси. — Я думаю, ты еще хорошо отделалась. Мы все влюбляемся не в тех, в кого следует. И очень хорошо, что в конце концов выходим замуж за приличных мужчин, остепеняемся и заводим детей. Ты будешь получать по миллиону за каждого ребенка. Твой будущий свекор уже дал два миллиона сестре Хадсона. Ради этих миллионов она ходила беременной два года подряд. А нам с Бадом придется ждать, пока не умрет мой отец. — Но ты же любишь Бада? — Он славный парень. — Славный? — Мэгги не скрыла удивления. Люси улыбнулась. — У меня нет твоего блеска, Мэгги. Только фамилия и много денег. — Но, Люси, у тебя есть… — Мэгги замолчала. — Ты не решаешься сказать, — с улыбкой продолжала Люси, — что у меня есть шарм и что я умная? Да, это так, но я ничего не могу сделать, чтобы улучшить свою внешность, потому что довольно некрасива. Поэтому я и выбрала тебя в соседки по комнате. Я подумала, что если буду жить с самой красивой девушкой, то что-нибудь перепадет и мне. А этим летом я познакомилась с Гарри. Он служил администратором в гостинице Ньюпорта. Но ты можешь представить, чтобы моя мать разрешила мне выйти замуж за человека, который живет в Бронксе и ездит на метро? Впрочем, он мне этого и не предлагал. А осенью я встретила Бада, и теперь моя мать вне себя от счастья. С Бадом у нас будет вполне приличная жизнь. Но я всегда буду вспоминать о двух чудесных месяцах с Гарри. — Ты хочешь сказать, что… — Мэгги запнулась. — Конечно, мы с Гарри все испытали. А разве вы с Адамом нет? Мэгги отрицательно покачала головой. — Послушай, Мэгги, ты что, ненормальная? Девушка должна хотя бы раз переспать с мужчиной, которого любит. — А как ты объяснишь Баду, что ты уже не… — Это старомодно! Ты хочешь сказать о кровотечении и тому подобном? Я скажу Баду, что врач лишил меня девственности хирургическим путем. — И он ничего не поймет? — Я могу поиграть. Вспомню первую ночь с Гарри, буду лежать на спине, немножко похныкаю, сожму мышцы, и все сойдет. Если хочешь знать, у меня с Гарри даже крови не было. Да, ему пришлось потрудиться! Бедный, у него даже два презерватива лопнули, пока он добился своего. Я уж постараюсь, чтобы Бад столкнулся с такими же трудностями — в первую ночь, по крайней мере. Мэгги не нужно было ничего разыгрывать с Хадсоном. Он не церемонился, попытавшись сразу войти в нее, и причинил ей такую боль, что она всей душой возненавидела это дело. Так было на вторую и на третью ночь. Они плыли на «Либерти» в Париж, где собирались провести медовый месяц. У них была роскошная каюта, но Мэгги все время принимала бонамин и чувствовала себя совершенно одуревшей. Казалось, дело должно было пойти лучше в Париже, но там стало еще хуже. Хадсон пил, как сапожник, и лез к ней каждую ночь, не проявляя при этом ни нежности, ни любви. Удовлетворившись, он сразу же отворачивался и погружался в тяжелый, беспробудный сон. Вернувшись в Филадельфию, они обосновались в очень красивом доме возле Паоли. Хадсон приступил к своей работе, а она, наняв прислугу, стала устраивать обеды, записалась в клуб, чтобы научиться играть в гольф, и начала посещать различные благотворительные организации. Ее фотографии появились на страницах светской хроники во всех центральных газетах: молодая леди, оживившая общественную жизнь в Филадельфии. Хадсон вел себя, как жеребец, и методично насиловал ее каждую ночь. Казалось, ему и в голову не приходило поцеловать жену или дотронуться до ее груди. Вначале Мэгги считала, что сама виновата в том, что не испытывает наслаждения, но проходили месяцы, и она потеряла всякую надежду. К концу первого года совместной жизни Мэгги узнала о существовании Шерри. В тот вечер она была у себя в комнате, одеваясь к ужину. Хадсон ждал ее внизу, когда зазвонил телефон. По какому-то странному совпадению она взяла трубку в тот момент, когда внизу ее поднял Хадсон. Женский голос с тревогой прошептал: — Хадди? Мне необходимо было тебе позвонить. У Хадсона тоже был заговорщический голос. — Черт возьми, Шерри! Я же просил тебя никогда не звонить мне домой. — Хадсон, это срочно. Я получила результаты анализов. Так и есть: я беременна. — Боже! Опять! — Я не виновата, если диафрагма соскальзывает, а ты никогда не хочешь ничего надевать. — В Джерси все тот же врач? — Да, но он поднял цену. Теперь это стоит уже тысячу. — Ну что ж, делай! — Хадди, он хочет, чтобы ему платили наличными. Я записалась на прием на следующий понедельник. — Хорошо, я прилечу в Нью-Йорк в воскресенье и дам тебе деньги. Нет, лучше я прилечу посреди недели. Если я уеду в воскресенье, Мэгги может что-нибудь заподозрить. Скажем, в четверг. Буду у тебя в восемь часов. Господи, как бы я хотел, чтобы моя жена была так же плодовита, как и ты! Твой ребенок стоит мне тысячу, чтобы от него избавиться, а ее принес бы миллион. Хадсон с силой бросил трубку. Мэгги услышала гудки на другом конце провода и медленно опустила свою. Она была ошарашена. Никогда ничего подобного не приходило ей в голову. Нет, конечно, из книг она знала, что такое случается, но чтобы это произошло с ней?! Обвинять Хадсона было бы глупо. Ей всего двадцать два года, у нее нет никакой специальности, а разведенная в Филадельфии, даже имея алименты, окажется в изоляции. Мэгги была загнана в угол и не знала, что предпринять. Решив промолчать и ничего не говорить о Шерри, она поступила в небольшую театральную труппу. Хадсон не возражал, так как был счастлив, что у него появилась масса свободных вечеров. Однажды после второго спектакля, поставленного труппой, к ней подошел директор программ местного отделения Ай-Би-Си и предложил поработать на телевидении в качестве ведущей в метеослужбе. Вначале она решила отказаться, но потом поняла, что это могло бы стать ее постоянным занятием. Работа ей понравилась. Мэгги стала смотреть телевизор, каждый день брать уроки у преподавателя дикции и очень быстро добилась успеха. Через шесть месяцев она получила повышение и стала работать в службе новостей, делая собственную получасовую программу. Ее передача называлась «Мэгги Стюарт бегает по городу». Она интервьюировала местных и государственных деятелей по всем вопросам, начиная от моды и кончая политикой. За короткое время Мэгги стала видным лицом в Филадельфии. Люди оборачивались, когда они с Хадсоном входили в ресторан или театр. Хадсон пренебрежительно относился к работе жены, а ее успех его только забавлял. Сменив Шерри на девушку по имени Ирма, работавшую в его конторе, он больше не удосуживался искать какие-то благовидные предлоги, чтобы объяснять свое отсутствие по вечерам. Однако регулярно три раза в неделю он продолжал заниматься с Мэгги любовью. Она терпела это молча, не выражая никаких чувств, и более чем когда-либо хотела ребенка. Такое мрачное и безрадостное существование продолжалось в течение почти трех лет. Мэгги все никак не могла забеременеть, хотя обследование показало, что она совершенно здорова. Иногда Мэгги думала: неужели они так и будут плыть по волнам? Что-то должно было в конце концов положить конец их бессмысленному браку.
Все произошло совершенно неожиданно. Несколько месяцев в Филадельфии шла подготовка к торжеству в честь «Человека года». Оно было назначено на первое воскресенье марта. Мэгги, входившая в комитет, была приглашена в качестве местной знаменитости и должна была сидеть в президиуме в компании мэра и судьи. Был приглашен и Робин Стоун, чтобы выступить с речью. Мэгги читала статьи Робина. По своему репортерскому опыту она знала, что люди редко похожи на тот образ, который складывается о них на основании написанного у читателей. Но внешность Робина на фотографиях как нельзя более соответствовала стилю его статей — независимому, решительному, жесткому. Она думала, каким же он окажется на самом деле. В шесть часов вечера Мэгги была уже готова и ждала только Хадсона. Он, как обычно, проводил выходные в Загородном клубе и пока еще не вернулся. Она позвонила в клуб и узнала, что его никто не видел. Вероятно, он где-то был с очередной любовницей. Ну уж нет! Она не откажется из-за него от этого вечера! Может, это единственная возможность познакомиться с Робином Стоуном. Мэгги глянула на часы. Если выехать сейчас же, она еще успеет, а Хадсон всегда сможет добраться сам. Приехав в отель, Мэгги сразу же направилась в салон. Робин стоял в окружении людей, держа в руке стакан с мартини и вежливо улыбаясь. К Мэгги подошел судья Оукс. — Пойдемте со мной. Я представлю вас нашему великому оратору. Мы доверили ему всех наших жен. Когда судья познакомил их, Робин улыбнулся. — Журналистка? Помилуйте, но вы слишком красивы для синего чулка! — Он без церемоний отошел от окружающих и взял ее под руку. — В вашем напитке нет льда? — Да, он очень противный, — ответила Мэгги. Робин допил свой мартини. — Мой тоже. — Он сунул свой стакан судье. — Вы не подержите? А мы с вами, журналистка, пойдем и поищем немного льда. — Он повел ее в другой конец салона. — Не оглядывайтесь. Вдруг они идут за нами? — Не думаю, они обалдели, — рассмеялась Мэгги. Он уверенно зашел за стойку бара и сказал удивленному бармену: — Ничего, если я обслужу себя сам? Не дожидаясь ответа, он налил себе изрядное количество водки в стакан и посмотрел на Мэгги. — Вам добавить градусов в ваш скотч или вы попробуете «Фирменный Стоун»? — «Фирменный Стоун», — сказала она. Она сама себе казалась глупой и сознавала, что, как идиотка, не может оторвать от него глаз. "Пользуйся моментом, — думала она про себя. — Завтра ты снова окажешься с Хадсоном в том мрачном мире, в котором живешь постоянно, а Робин Стоун будет в другом городе, в другом отеле готовить себе другой мартини. Робин протянул ей стакан. — Ваше здоровье, журналистка! Он взял ее под руку, и они прошли через весь салон и сели на диван. — Я читала, что вы отказались от вашей работы в журнале и разъезжаете по стране с лекциями. Но мне лично не хватает ваших статей. — Мэгги чувствовала, что ее слова прозвучали несколько натянуто и неестественно. Он пожал плечами. — Мои статьи всегда сильно резали в газетах. — Нет, я читала и очень большие. Но мне кажется, вы предпочитаете то, чем занимаетесь теперь. Он опустошил свой стакан и, протянув руку, забрал ее мартини, к которому она даже не притронулась. — Нет, журналистка, я не предпочитаю. Я делаю это ради денег. — Он предложил ей сигарету, которую зажег сам. — А что вы делаете на телевидении? — Новости. С точки зрения женщины, естественно. — Держу пари, что вас все смотрят и слушают. — А что в этом удивительного? — Ничего. Скажите, журналистка, кого вы предпочитаете видеть на телеэкране? — Я бы хотела видеть вас… — она замолчала, ужаснувшись своим словам. Он иронически улыбнулся. — Вы самая умная девушка, которую я когда-либо видел. Вы сразу же берете быка за рога. — Я имела в виду, что мне нравится ваш образ мыслей, ваша точка зрения. Он допил свой стакан. — Не объясняйте, а то все испортите. В мире так много маскирующихся шлюх. Ваш стиль мне нравится. Давайте отнесем стаканы. Держа пустой стакан, Мэгги пошла за ним к бару, удивляясь той легкости, с какой он выпил их коктейли. Он приготовил еще два и протянул один ей. Сделав небольшой глоток, она скривилась — это была чистая водка. Их снова стали окружать люди, и Робин очутился в плотном кольце женщин. Он вежливо отвечал на вопросы, но не выпускал руки Мэгги. Неожиданно ей захотелось, чтобы Хадсон не пришел. Послышался мелодичный бой часов, и президент комитета захлопал в ладоши. — Где вы собираетесь сесть, журналистка? — спросил Робин. — Я думаю, в другом конце. — Она услышала, как произнесли ее имя. — Это меня. Робин похлопал по руке мэра, стоявшего рядом с ним. — Вы не согласитесь поменяться местами с моей журналисткой? Вы с судьей Оуксом, конечно, очаровательные люди, но я не для того проделал двести километров, чтобы сидеть между вами, когда у меня есть возможность сесть с восхитительной женщиной. Мэгги заметила, что в зал вошел Хадсон и занял место в другом конце президиума. Пока он садился, его сосед объяснял ему причину неожиданной перемены мест. Мэгги порадовалась тому изумлению, которое появилось на лице Хадсона. Мэр представил Робина. Прежде чем подняться, Робин наклонился к ней и тихо сказал: — Послушайте, журналистка, я в два счета с этим разделаюсь. В моем распоряжении «люкс» — ваша организация все устраивает на широкую ногу. Если хотите сбежать отсюда и прийти ко мне, я останусь, если нет — я помчусь на поезд, который отправляется сразу после ужина. — Он встал, подождал, когда утихнут аплодисменты, и снова наклонился к ней: — Итак, журналистка, ваше последнее слово? — Я приду. — Браво! Номер 17В. Выждите некоторое время после моего ухода и приходите. Он произнес речь. Затем судье Оуксу вручили награду, и приглашенные стали поздравлять его. Журналисты попросили судью сфотографироваться с Робином, которого снова окружили женщины. Робин подписал какие-то бумаги, посмотрел на часы и, сославшись на то, что ждет телефонного звонка из-за границы, ушел. Было одиннадцать часов. Хадсон встал из-за стола президиума и сел на место, которое недавно занимал Робин. — Ну что, коктейль был замечательным? — Да, я прекрасно развлеклась. — Пошли отсюда. Внезапно Мэгги охватила паника. Как она могла пообещать Робину Стоуну прийти к нему? Что на нее нашло? Она ведь даже не пила! Она двинулась по направлению к выходу. Хадсон с угрюмым видом пошел за ней. В гардеробе они наткнулись на Бада и Люси. Люси уже в который раз была беременна. — Мы идем в «Эмбасси». Пошли с нами! Хадсон с завистью взглянул на ее живот. — Прекрасная мысль! Он схватил Мэгги за руку, и они пошли к лифту. «Эмбасси» был полон. Они устроились в накуренном зале за крошечным столиком. За соседним столом сидели члены Загородного клуба. Мужчины решили сдвинуть столики и стали обмениваться какими-то шутками. Когда официант принес бутылку скотча, Мэгги поняла, что очутилась в безвыходном положении. Ее не покидала мысль о номере 17В. Она должна позвонить Робину! Она скажет правду, объяснит, что замужем, и, наверное, сошла с ума, согласившись прийти. Мэгги встала. — Мне нужно припудриться. Она подумала, что в туалетной комнате наверняка есть телефон. — Я с тобой, — с трудом вставая, сказала Люси. — Умираю от нетерпения узнать, о чем с тобой говорил Робин Стоун. Я видела, как он несколько раз наклонялся к тебе и что-то шептал на ухо. Пойдем, Эдна! — крикнула она другой девушке. Они направились в туалетную комнату. Телефон был, но не в кабине. Его сторожил служащий, и поговорить без свидетелей не было никакой возможности. Мэгги принялась поправлять макияж, неохотно объясняя, что они с Робином говорили о телевидении. Она хотела задержаться, но Люси и Эдна остались ждать ее. Когда они вернулись к столу, Хадсона и след простыл. Наконец Мэгги заметила его в другом конце зала. Он сидел за столиком с незнакомыми людьми, обнимая за плечи какую-то девушку. Мэгги ее узнала. Это была новенькая из его клуба, недавно вышедшая замуж. Рука Хадсона нежно поглаживала ее голую спину, но муж, сидящий напротив, ничего не замечал. Неожиданно Мэгги встала. — Сядь, — чуть слышно проговорила Люси. — Ты же знаешь, это ничего не означает. Хадсон всегда испытывает свое обаяние на новеньких. — Я ухожу. Бад потянул ее за руку. — Мэгги, у тебя нет никаких оснований для беспокойства. Это Джун Толланд. Она без ума от своего любимого мужа, которого не отпускает ни на шаг. Мэгги вырвала руку и побежала. Остановилась она только на улице и, дойдя до первого перекрестка, помахала рукой таксисту, попросив отвезти ее в «Бельвю Статфорд Отель». Никто не отозвался, когда она позвонила в дверь номера 17В. Мэгги посмотрела на часы: четверть первого. Или он уехал, или лег спать. Она позвонила еще раз, потом повернулась и пошла обратно. Неожиданно дверь широко распахнулась. На пороге стоял Робин и держал в руке стакан. — Входите, журналистка, я разговариваю по телефону. Она вошла в салон. Он пальцем показал ей на бутылку водки и вернулся к телефону. По всей вероятности, он говорил о делах — речь шла об условиях какого-то контракта. Он налил себе выпить. Робин был без пиджака, рубашка с маленькими инициалами Р.С. на груди плотно облегала его тело. Бутылка водки была наполовину пуста, и Мэгги снова удивилась его способности поглощать спиртное. — Извините, что заставил вас ждать, но и вы не побили рекорда скорости. — Куда вы едете завтра? — Она вдруг почувствовала, что начинает волноваться. — В Нью-Йорк. Я больше не буду читать лекции. — А почему вы называете это лекциями? Сегодня вечером вы были великолепны. Вы говорили обо всем: о людях, о ваших заокеанских приключениях. — Пошло все к черту! — Он поставил стакан и протянул к ней руку. — Итак, журналистка, ты меня поцелуешь? Она почувствовала себя, как школьница. — Меня зовут Мэгги Стюарт, — сказала она и упала в его объятия. В ту ночь они трижды занимались любовью. Он шептал ей нежные слова, прижимал к себе, ласкал и обращался так, словно она была девственницей. Впервые в жизни Мэгги поняла, что испытывает женщина, когда мужчина занимается любовью с единственной целью — сделать ее счастливой. Она кончила сразу же, потом еще раз и еще. Робин нежно прижимал ее к себе и целовал. Затем, когда он снова начал ласкать ее, она отстранилась. Он спрятал лицо у нее на груди. — Сегодня я обнаружил нечто особенное. Я очень пьян и, может, завтра ни о чем не вспомню. Но я хочу, чтобы ты знала, такого у меня не было ни с одной женщиной. Она лежала спокойная и расслабленная. Знала, что он говорит правду, и боялась пошевелиться, нарушить это очарование. Холодный, резкий Робин Стоун вдруг оказался таким уязвимым! В темноте она смотрела на его лицо, прижатое к ее груди, и хотела запомнить каждое мгновение, каждое слово, которое он кричал в пароксизме страсти. Внезапно он приподнялся, поцеловал ее, протянул руку к сигаретам, зажег сразу две и дал одну ей. — Половина третьего, — он кивнул в сторону телефона. — Если тебе нужно завтра рано встать, попроси, чтобы тебя разбудили. В котором часу ты должна быть на работе? — В одиннадцать. — Как ты смотришь на то, если мы встанем в половине десятого? Позавтракаем вместе. — Нет… я должна уйти сейчас. — Нет! — Он приказывал, но его глаза смотрели умоляюще. — Не покидай меня. — Мне нужно, Робин. Мэгги соскочила с кровати, побежала в ванную и быстро оделась. Когда она вернулась в комнату, Робин сидел, прислонившись спиной к подушкам и, казалось, прекрасно владел собой. Он закурил сигарету и странно взглянул на нее. — К кому ты сбегаешь? К мужу или любовнику? — К мужу, — сказала она, стараясь смотреть ему прямо в глаза. Они у него были удивительно голубыми и холодными. Он глубоко затянулся и, выпустив дым, спросил: — Вы многим рисковали, когда шли сюда вечером? — Только семьей. — Идите сюда, журналистка! Она подошла к нему, и он посмотрел на нее так, словно хотел прочесть ее мысли. — Я хочу, чтобы вы знали: мне было неизвестно, что вы замужем. Я говорю об этом честно. — Не мучайтесь угрызениями совести, — тихо сказала она. Он рассмеялся странным смехом. — Угрызениями совести? Бог ты мой, я нахожу это скорее забавным. Пока, журналистка! — Меня зовут Мэгги Стюарт. — Малышка, для женщин такого сорта, как ты, есть другое название! Он наклонился, чтобы погасить сигарету. Она продолжала стоять возле кровати. — Робин, сегодняшний вечер был чем-то новым и для меня. Я хочу, чтобы вы знали об этом. Вдруг он схватил ее за талию и зарылся головой в платье. Низким взволнованным голосом он умолял: — Тогда не уходи! Ты говоришь, что любишь меня, а сама оставляешь! Она никогда не говорила о любви! Мэгги удивленно взглянула на него. Он был словно в трансе. — Робин, я должна уйти, но я вас никогда не забуду. Он прищурил глаза и посмотрел на нее так, словно видел впервые. — Я хочу спать. Спокойной ночи, журналистка! Погасив свет, он повернулся на бок и сразу же уснул. Мэгги стояла, не веря своим глазам. Он не ломал комедию. Он действительно спал. Она вернулась домой со смешанным чувством. Во всем этом было что-то ненормальное. Словно в нем было два человека, которые сливались в одного только тогда, когда он занимался любовью. Было четыре часа утра. Мэгги проскользнула в спальню, погруженную в темноту. Кровать Хадсона была пуста. Она быстро разделась и едва успела выключить свет, как услышала скрип гравия на дороге, ведущей к гаражу. Мэгги притворилась спящей, когда Хадсон прокрался в спальню. Вскоре она услышала его пьяный храп. В течение двух последних недель она с головой ушла в работу и выбросила Робина из головы. Вспомнила о нем только в тот день, когда, открыв записную книжку, внезапно обратила внимание на дату: четыре дня задержки! А Хадсон не прикасался к ней уже три недели. Робин Стоун! Она не приняла с ним никаких мер предосторожности! Мэгги закрыла лицо руками. Нет, она не станет избавляться от ребенка. Ребенок Робина был зачат в любви. А Хадсон давно хотел малыша. О нет! Это отвратительно! Но что она выиграет, сказав правду Хадсону? Он будет страдать, да и ребенок тоже. Мэгги встала, полная решимости оставить этого малыша. Прошла еще одна неделя, и Мэгги решила, что необходимо заставить Хадсона заняться с ней любовью. В ту ночь она прижалась к нему в постели, но он оттолкнул ее. В темноте она закусила губу. — Я хочу ребенка, Хадсон. Она обвила его руками и попыталась поцеловать. Он повернулся к ней. — Ладно, но без всяких прелюдий. Мы хотим ребенка, так будем блудить. Через несколько недель Мэгги пошла к врачу. Он позвонил ей на следующий день и поздравил. У нее было уже шесть недель. Она решила выждать еще какое-то время, а потом сообщить новость Хадсону. Несколько дней спустя они проводили один из редких вечеров дома. Хадсон за ужином вел себя миролюбиво. Спокойный, задумчивый, почти любезный, он предложил Мэгги подняться в маленькую гостиную и выпить по рюмочке. Сев на диван, он смотрел, как она наливает коньяк, потом взял свою рюмку и стал пить маленькими глотками. — Ты можешь оставить свое кривляние по телевидению приблизительно через три месяца? — спросил он. — Я могу попросить отпуск, но зачем? — Я сказал отцу, что ты беременна. Мэгги с изумлением уставилась на него. Потом решила, что доктор Блейзер, наверное, его предупредил. Вот почему у Хадсона такое необычное настроение. Она облегченно улыбнулась. Инстинкт не обманул ее. Этот ребенок все изменит. — Хадсон, мне не нужно уезжать. Я могу работать до последней минуты, если только камера не будет снимать меня крупным планом. Он удивленно вскинул на нее глаза. — А как мы объясним отцу и всем остальным, что у тебя нет живота? — Но я… — Это нельзя симулировать. Все должны в это поверить. Один неверный шаг — и отец обнаружит обман. Я все подготовил. Скажем, что хотим совершить кругосветное путешествие. Это будет моим подарком по случаю твоей беременности. Затем объясним, что роды начались преждевременно, и ребенок родился в Париже. — Но я хочу, чтобы мой ребенок родился здесь. — Не увлекайся. Ты ведь не беременна. — Он встал и налил себе вторую рюмку коньяку. — Я все предусмотрел. Мы можем взять ребенка в Париже. У доктора, с которым я говорил, есть там каналы. Они даже гарантируют сходство с родителями. Я попросил мальчика. Нам выдадут свидетельство о рождении, и ребенок будет считаться нашим. Мэгги, успокоившись, встала с дивана и медленно пошла к нему. — Хадсон, теперь я должна тебя удивить. Нам не нужно ничего придумывать. — Что ты хочешь этим сказать? — Я на самом деле беременна. Он прорычал: — Повтори! — Я беременна. Его рука хлестнула ее по лицу. — Дрянь! От кого? — Но… это мой… наш! Хадсон схватил ее за плечи и принялся трясти. — Говори, шлюха, от кого этот ублюдок, которого ты хочешь приписать мне! — Он снова ударил ее по лицу. — Говори, иначе я буду бить тебя до тех пор, пока ты не скажешь! Она вырвалась и выбежала из комнаты. Он бросился за ней и догнал ее в вестибюле. — Отвечай, чей это ублюдок? — Какая разница, чей? Ты собирался взять в Париже чужого ребенка, а этот, по крайней мере, — мой! Вдруг Хадсон успокоился, и его губы медленно расползлись в улыбке. Он заставил ее вернуться в уютную гостиную. — Ты права… Ты его родишь. И будешь рожать каждый год ближайшие десять лет. А потом, если будешь хорошо себя вести, я дам тебе развод и хорошие алименты. — Нет! — Она села на диван и со спокойствием, которого совсем не испытывала, посмотрела на него. — Это невозможно. Я не буду воспитывать своего ребенка в атмосфере ненависти, которая царит в этом доме. Я хочу развестись сейчас. — Ты не получишь ни цента. — И не надо, — устало проговорила Мэгги. — Я уеду к своим, буду достаточно зарабатывать денег и воспитаю его сама. — Но не раньше, чем я разделаюсь с тобой. — Что ты имеешь в виду? — Этот ребенок стоит миллион долларов. Или ты его родишь и отдашь мне, или ты больше никогда не найдешь работу. Я сделаю так, что тебя вышвырнут из всех газет, с телевидения, а твои родственники не смогут никому в городе смотреть в глаза. Она сжала голову руками. — Но почему, Хадсон? Почему ты ко мне так относишься? Я совершила ошибку — однажды ночью, с мужчиной. Может, я и плохо поступила, но я же никому не говорю о том, что знаю о тебе. Я верила, что у нас есть еще шанс. Может, я сумасшедшая, но мне казалось, что ты будешь счастлив иметь ребенка, что это сблизит нас. А когда мы пройдем через это испытание, у нас будут другие дети, наши дети! — Идиотка! Неужели ты не понимаешь? Я бесплоден! — Он заорал. — На прошлой неделе я прошел обследование… я бесплоден и никогда не смогу иметь детей! — Но как же те аборты, которые ты оплачивал? — Откуда ты знаешь? — Знаю. Хадсон заставил ее подняться с дивана. — Ты приставила ко мне ищеек! — Он изо всей силы ударил ее по лицу. — Так вот, меня накалывали! Все эти шлюхи, которым я платил и которые уверяли, что я их обрюхатил, — все меня надували, как сегодня пыталась это сделать ты! Но теперь я знаю, что бесплоден! Слезы катились по ее лицу, разбитая губа кровоточила, и все же ей было жаль его. Она хотела выйти из комнаты, но он грубо схватил ее. — Куда ты? — Собирать вещи, — вполголоса ответила Мэгги. — Я не могу больше оставаться в доме с тобой. — Вот как! — зло проговорил он. — Однако ты жила здесь, зная, что я делаю! Теперь мы с тобой квиты. Так вот, каждый из нас будет ходить, куда захочет, но так, чтобы об этом не знал отец. — Я не могу так жить. — А как ты объясняешь в таком случае появление своего ублюдка? — Я знала о всех твоих похождениях. А потом встретила его. Не знаю, как это случилось. Наверное, мне было необходимо, чтобы меня любили хоть одну ночь. Он снова дал ей пощечину. — А может, тебе это было необходимо? Он принялся хлестать ее по лицу с такой силой, что голова у нее моталась из стороны в сторону. Вырвавшись, Мэгги выбежала из комнаты. — Я буду бить тебя до тех пор, пока не вышибу из тебя дьявола! Может, ты этого хотела? Шерри обожала, когда я стегал ее ремнем. — Он принялся расстегивать пояс. Мэгги пронзительно закричала в надежде, что услышат слуги, и бросилась в вестибюль. У Хадсона в руке был ремень: ремень из крокодиловой кожи, который она подарила ему на Рождество. Он хлестнул ее и попал в шею. Его лицо было искажено от злобы. Мэгги охватил настоящий ужас. Он сошел с ума. Ремень ударил ее по лицу, едва не попав в глаз. В страхе она отступила назад и, упав навзничь, съехала вниз по лестнице. В эту минуту она хотела сломать себе шею, умереть и больше никогда не видеть его лица. Хадсон не сводил взгляд с ее ног. Мэгги почувствовала первую схватку и схватилась за живот обеими руками. Потом почувствовала, как по ногам хлынула кровь. И последнее, что она еще чувствовала, — как он продолжает бить ее. «Сволочь! Ты теряешь миллион долларов!» — подумала Мэгги, теряя сознание.
Ей стало холодно на террасе. Она вернулась в гостиную и налила себе скотч. Все это, казалось, происходило в другом мире. Однако с тех пор прошло только два года. Мэгги смутно помнила сирену скорой помощи, неделю, проведенную в больнице, и то, как все избегали спрашивать ее о происхождении страшных шрамов на лице и шее, а врач из вежливости делал вид, будто верит, что несчастный случай произошел из-за злополучного падения с лестницы. Родители Мэгги упорно сопротивлялись ее разводу, но она настояла на своем и выбрала для развода Флориду. Процедура должна была занять три месяца, а ей нужно было время и солнце, чтобы прийти в себя. Через два месяца от всего пережитого осталась только душевная пустота. Хадсон больше не существовал для нее. Она была молода, снова полна сил, и бездеятельность стала угнетать ее. Мэгги послала запрос в местное отделение Ай-Би-Си, и Энди Парино немедленно взял ее на работу. Энди ей нравился. Она нуждалась в любви, внимании, и между ними возникла любовная связь — легкая и ни к чему не обязывающая. С Энди она чувствовала себя женщиной. Но Хадсон убил или разрушил в ней способность любить по-настоящему. И когда Энди сделал ей предложение, она отказалась. И вот впервые в этот вечер Мэгги почувствовала, что в ней пробуждается вкус к жизни. Она вновь встретится с Робином Стоуном! Ей так не терпелось увидеть выражение его глаз, когда они окажутся лицом к лицу. (обратно)
Глава 19
Мэгги сидела в «Гоулд Коуст» и думала, заметно ли по ее лицу, что она нервничает. Энди с Робином целый день играли в гольф. Посмотрела на часы: они вот-вот будут здесь. Закурив, она обнаружила, что почти нетронутый бычок уже дымился в пепельнице, и быстро раздавила его. Она чувствовала себя школьницей, которой предстояло встретиться лицом к лицу со своей первой любовью. Мэгги допивала свой стакан, когда увидела, как в дверь вошел Энди. — Извини за опоздание, Мэгги, — сказал он. — Ничего. А где твой друг? — Звезда телевидения? — Он не придет? — Она охотно убила бы Энди за то, что ей приходилось вытаскивать из него каждое слово. — Может, и придет. Если бы ты видела, какой восторг вызвал его приезд в «Дипломат»! Можно подумать, что все смотрят его передачу, во всяком случае, все, кто сегодня играл в гольф. Мэгги закурила новую сигарету. Она никогда не позволяла себе смотреть передачи Робина. Это было одним из условий ее курса лечения. — В каждой дыре он был вынужден остановиться, чтобы раздать автографы, — продолжил Энди. — Это было невыносимо. В семнадцатой по счету к нему прицепилась какая-то блондиночка. Мэгги подскочила, как ужаленная. — Кто это? Энди пожал плечами. — Клиентка отеля. Лет девятнадцати-двадцати, не больше. Она оставила трех игроков своей команды, чтобы попросить автограф у Робина, и больше к ним не вернулась. Ее зовут Бэтти Лу. — Энди поднял свой стакан и смеясь сказал: — За Бэтти Лу! Благодаря ей я заработал двадцать долларов. Представляешь, она так охмурила Робина, что он забыл об игре. Слушай, я умираю с голоду. Они собирались уже сделать заказ, когда Энди позвали к телефону. Он вернулся с улыбкой на лице. — Великий влюбленный уже в пути! Около девяти часов вечера Робин и Бэтти вошли в ресторан. Робин казался свежим и бодрым. Но, посмотрев на блондинку, Мэгги поняла, что та только что переспала с ним. Ее прическа потеряла форму, а лицо было недавно накрашено. — Привет, Бэтти. Познакомьтесь, это Мэгги Стюарт. Мэгги, это Робин Стоун. Он посмотрел на нее с непринужденной улыбкой. — Энди говорил, что вы тоже играете в гольф. Приходите, поиграем как-нибудь после обеда. — Боюсь, что окажусь не на высоте. — Как и я! — воскликнула Бэтти. — Мы могли бы сыграть вчетвером. Робин заказал две порции водки с мартини. Бэтти вела себя так, будто знала его с самого рождения. Робин лишь время от времени обращал на нее внимание. Он зажигал ей сигарету, но не слышал ни слова из того, что она говорила. Он беседовал с Энди. Чтобы не отстать от Робина, Бэтти, как и он, выпила второй мартини. Она опьянела уже от первого, а второй доконал ее совсем. К концу ужина она уронила голову на руку, и ее волосы оказались в спагетти. Внезапно Робин заметил ее состояние. — Солнце и гольф плохо уживаются со спиртным, — сказал он. Мэгги оценила то, как он попытался защитить девушку, которую только что встретил. Они отвезли Бэтти домой, и Робин настоял зайти напоследок в «Дипломат». Они сели за маленький столик, и Робин сразу поднял тост. — За твое здоровье, братишка. Спасибо тебе за отпуск, который у меня появился впервые за несколько лет. И за здоровье твоей подруги! Он повернулся к Мэгги, и их глаза встретились. Она вызывающе взглянула на него, но его голубые глаза были совершенно безмятежными. — Я слышал о вас только хорошее, — продолжил он. — Вы действительно восхитительны, как и говорил Энди. А ваш доклад об НЛО меня поразил. Где вы брали информацию и как вам удалось так хорошо вникнуть в эту проблему? — Эта тема всегда меня интересовала, — ответила она задумчиво. — Встретимся завтра утром в твоем кабинете в одиннадцать, Энди. С тобой и с мисс… — Он замолчал, глядя на Мэгги. Казалось, в его памяти образовался какой-то провал. — Мэгги, — спокойно сказал Энди. — Мэгги Стюарт. Робин улыбнулся. — У меня очень плохая память на имена. Итак, встретимся и посмотрим, получится ли из этого материала передача. Они допили свои напитки и распрощались в вестибюле. Мэгги смотрела, как Робин широкими шагами направился к лифту. В машине Энди доверительно сказал: — Слушай, не обижайся на Робина за то, что он забыл твое имя. Он такой. Пока не переспит с девушкой, в упор ее не замечает. — Отвези меня домой, Энди. — Снова голова болит? — тон у него был холодный. — Я устала. Энди с угрюмым видом остановил машину возле ее дома. Она даже не стала его успокаивать, а выпрыгнула из машины и скрылась в подъезде. Захлопнув за собой дверь, она прислонилась к косяку и расплакалась. Робин не только не помнил ее имени, но даже не помнил, что они уже встречались. Мэгги сделала над собой усилие и начала учить свою роль в пьесе. Она не открывала текста с того дня, как приехал Робин. Что же, начиная с сегодняшнего вечера она посвятит все свое время и силы О'Нилу. Смотреть ее в этой роли приедет один из лучших агентов Голливуда — Хью Мендел, и она хотела быть на высоте.Робин проводил в Филадельфии последний вечер. Он больше ни разу не увиделся с Бэтти Лу. Во второй вечер он появился с преподавательницей плавания по имени Анна, затем с какой-то разведенной Беатрис. Наконец взял напрокат катер и уехал один на три дня ловить рыбу, а вернулся только сегодня во второй половине дня. Когда Энди сказал, что они будут ужинать вместе с Робином, Мэгги подумала, кого же он приведет: Бэтти, Анну или Беатрис. Энди позвонил ей, когда она уже заканчивала краситься. Он был на седьмом небе от счастья. — Я только что говорил с Робином. Угадай, о чем? Он не хочет делать передачу о летающих тарелках для «Мыслей вслух». Он решил, что это должна бытьспециальная передача, и хотел бы, чтобы мы работали над ней вместе. Мы с тобой бесплатно поживем в Нью-Йорке. — Надеюсь, что в этот момент я не буду играть в пьесе О'Нила. — Мэгги! В двадцать шесть лет девушка немного старовата для Голливуда. Твое место здесь, со мной. — Энди, я… — она собиралась сказать, что между ними все кончено, но он не дал ей договорить. — Послушай, Мэгги, не говори ничего Робину об Аманде. — Аманде? — Ну, о той девушке, портрет которой я тебе показывал позавчера в газете. — А, которая умерла от лейкемии? — Да, она была подругой Робина. Он был на катере, когда это случилось, и, вероятно, ничего не знает. Все равно он ничего уже не сможет сделать: сегодня ее похоронили. Так зачем ему портить отдых? — Но ведь она была замужем за Айком Райа-ном… — Да, но у нее с Робином была долгая связь. Они были вместе почти два года. Заканчивая макияж, Мэгги думала об этой девушке. Два года! Это значило, что она была его подругой в ту ночь, которую он провел с Мэгги. Она нахмурила брови, рассматривая себя в зеркале. «Видишь, глупышка, а ты-то думала, что оставила особый след в его жизни!» Мэгги припарковала машину возле «Дипломата». Входя в бар, она почувствовала, что волнуется. Робин встал и обворожительно улыбнулся ей. — Энди сейчас придет, он в туристическом агентстве. У меня был заказан билет на завтрашнее утро, но Энди хочет поменять его на более позднее время, чтобы еще поиграть в гольф. — Он сделал знак бармену. — Что будете пить? Как обычно, скотч? Она кивнула. — А с кем вы будете сегодня вечером? С вашей разведенной? Он улыбнулся. — Сегодня у меня свидание с вами. С вами и Энди. И у меня нет другого желания, кроме как выпить и расслабиться с хорошими друзьями. Наверное, я сегодня напьюсь. Энди возвратился, победоносно улыбаясь. — Уладил. Самолет в шесть часов вечера, хотя лично я считаю, что лететь в Нью-Йорк — это безумие. Там сейчас минус семь. И Рождество не за горами. Робин посмотрел на свой пустой стакан и сделал знак бармену, чтобы тот принес еще. — Я бы с удовольствием остался, Энди, но мне нужно быть в Лос-Анджелесе на Рождество. Робин выпил уже четыре мартини. Мэгги все еще тянула второй скотч, в который раз удивляясь его способности поглощать спиртное. Потом они пошли в «Фонтенбло» и заказали по бифштексу. Робин ничего не ел и продолжал накачиваться водкой. Энди старался от него не отстать. В час ночи Энди свалился. Мэгги с Робином с трудом запихнули его в машину. — Отвезем его домой, а потом я отвезу вас, — сказал Робин. Они подъехали к дому Энди и, поддерживая его с двух сторон, потащили к дверям. — Такой тяжелый, как дохлый осел, — пробормотал Робин. Потом он положил Энди на кровать и развязал ему галстук. Мэгги никогда еще не видела никого настолько пьяным. Улыбка Робина ее успокоила. — Даже одна из ваших летающих тарелок не смогла бы разбудить его сейчас. Ему будет очень плохо завтра утром, но он выживет. Они вернулись к машине. — Я живу в нескольких домах отсюда, вон в том длинном, невысоком здании, — сказала Мэгги. — А у вас нет желания пропустить по последнему стаканчику? Они поехали в маленький бар. Хозяин узнал Робина и поставил на стойку бутылку водки. Затем они сразу же принялись спорить о профессиональном футболе. В конце концов бар закрылся, и Робин проводил ее до подъезда. Некоторое время они молча сидели в темной машине. — У вас есть наверху водка? — спросил Робин. — Нет, только скотч. — Жаль. Спокойной ночи, Мэгги. Я провел потрясающий вечер. — Спокойной ночи, Робин. Она наклонилась к дверце, и вдруг, повинуясь какому-то порыву, обернулась и поцеловала его. Затем выскочила из машины и побежала к себе. Раздевшись, она скользнула в постель и выключила свет. Спать не хотелось. Кто-то скребся в дверь. Мэгги зажгла свет и посмотрела на часы. Половина пятого. Стук становился настойчивее. Она накинула халат и приоткрыла дверь. Перед ней стоял Робин и размахивал бутылкой водки. — Я принес свой напиток, — сказал он. Мэгги впустила его. — Он был у меня в номере. Подарок дирекции. Но я не люблю пить в одиночку. — Хотите льда? — Нет, я пью неразбавленную. Она дала ему стакан и села на диван, глядя, как он пьет. Внезапно он повернулся к ней. — Я уже напился. Она едва улыбнулась. У нее стучало в висках, а внутри все сжималось. — Хочешь меня, милая? — спросил он. Она встала с дивана и прошла в другой конец комнаты. — Да, я хочу вас, — медленно произнесла она, — но не сегодня ночью, а несколько позже. — Придется сделать это сегодня ночью, завтра я уже уезжаю. — Отложите свой отъезд на день. — А почему завтра, а не сегодня? — Я хочу, чтобы вы обо мне помнили. — Если ты будешь на высоте, милая, я тебя никогда не забуду. Она посмотрела на него в упор. — Простите, но я это уже слышала. Мэгги увидела, как в его глазах вспыхнуло дружеское любопытство. Вдруг он подошел и быстрым движением распахнул на ней пеньюар. Она попыталась его запахнуть, но он сбросил его и, отступив на шаг, внимательно стал рассматривать ее. Преодолев стыд, она с вызовом посмотрела ему в глаза. — Большая, красивая грудь, — сказал он. — Ненавижу большую грудь. Вдруг он поднял Мэгги на руки, понес в спальню и бросил на кровать. — Я также ненавижу брюнеток. Он снял пиджак, развязал галстук. Внезапно она испугалась. В его глазах появилось странное выражение, будто от смотрел на нее, но не видел. Она резко встала, но он снова толкнул ее на кровать. — Ты не уйдешь от меня, я уже не мальчик. Удивительно, но это прозвучало так, словно он разговаривал сам с собой, и взгляд у него был, как у настоящего слепца. Она наблюдала, как он раздевается, и думала, что так, наверное, чувствует себя жертва со своим убийцей: парализованной, неспособной к сопротивлению. Раздевшись, он сел на кровать и посмотрел на нее странным, ничего не выражающим взглядом. Но когда он нагнулся к ней и нежно поцеловал, все ее сомнения развеялись. Он лег рядом с ней, прижавшись к ее телу. Она почувствовала, как он вздыхает и расслабляется, пытаясь ртом найти ее грудь. Она сильнее прижалась к нему, забыв про все, охваченная нарастающим возбуждением. И когда он взял ее, она кончила вместе с ним. Вцепившись в нее, он снова выкрикнул три слова, которые кричал в Филадельфии: «Mutter! Мама! Мама!» Затем отстранился и откинулся на подушку. В полумраке она видела его застывшие глаза. Он погладил ее по щеке и еле заметно улыбнулся. — Я совершенно пьян, милая. Но с тобой это было по-другому, не так, как с другими. — Вы это мне уже говорили в Филадельфии. — Да? — он даже не удивился. Она прижалась к нему. — Робин, это было по-другому со многими девушками? — Нет… да… я не знаю, — он говорил сонным голосом. — Не покидай меня. — Он прижал ее к себе. — Обещай… Обещай, что никогда не покинешь. — Я никогда тебя не покину, Робин. Клянусь тебе. Он почти спал. — Все так говорят. — Нет, я никогда в жизни никому этого не говорила. Обещаю тебе. Я люблю тебя. — Нет, ты меня бросишь… и поедешь… — Поеду? Куда? Ей нужно было это узнать, но он уже уснул. Небо стало светлеть. Мэгги продолжала лежать с открытыми глазами и смотреть на его лицо. Неужели это возможно? Робин с ней, в ее объятиях! Он принадлежал ей! Мэгги переполнило счастье. Она увидела, как занимается заря, и восхитилась, с какой быстротой солнце овладевает небом. Скоро его лучи проникнут в комнату и разбудят Робина. Мэгги выскользнула из кровати и задернула шторы. В комнате стало прохладнее. Она глянула на себя в зеркало. О господи! Вчера она не смыла краску с лица. К счастью, она проснулась первой. Мэгги приняла душ, немного подкрасилась и пошла на кухню. Интересно, любит ли он яйца? А бекон? А может, после водки его будет тошнить от всех запахов? Был уже полдень, когда она услышала, как Робин ворочается в постели. Налив в стакан томатного сока, она прошла в комнату. Он наощупь взял стакан у нее из рук, так как в комнате было темно. Она подождала, когда он выпьет, потом отдернула шторы. Солнце залило комнату. Робин два раза моргнул глазами, оглядываясь вокруг себя. — Боже! Мэгги! — Он взглянул на кровать, потом на нее. — Как я здесь очутился? — По собственному желанию, в половине пятого утра. Словно лунатик, он протянул ей пустой стакан. — Разве… да, я думаю, мы это сделали. — Не сводя глаз с кровати, он тряхнул головой. — Иногда, когда я очень пьян, у меня бывают провалы в памяти… Извините меня, Мэгги. — Вдруг он зло взглянул на нее. — Зачем вы меня впустили? Господи, я ничего не могу вспомнить! Я не могу вспомнить! Мэгги почувствовала, как по ее лицу потекли слезы, но злость, которую она испытывала в этот момент, придала ей силы. — Это затасканный метод, Робин! Но можете им воспользоваться, если вам будет легче! Душ — там! С гордым видом она пошла в гостиную и налила себе немного кофе. Ее злость постепенно улеглась. Изумление, читавшееся в его взгляде, было искренним. Внезапно она поняла, что он говорил правду. Он ничего не помнил. Робин вошел в гостиную, завязывая на ходу галстук. На руке у него висел пиджак. Он бросил его на диван и взял у нее из рук чашку кофе. — Если вы желаете яйца или бутерброд… Он покачал головой. — Мэгги, я потрясен тем, что произошло. Сожалею, что устроил это Энди. Но еще больше мне неудобно перед вами. Вы видите — я ухожу. Вы не обязаны рассказывать об этом Энди. Теперь я у него в долгу, но я найду способ, как все исправить. — А как же я? — Но вы ведь знали, что делаете. А Энди ни в чем не виноват. Это ваш друг. — Я его не люблю. Робин иронически улыбнулся. — Предполагаю, что вы без ума от меня. — Это правда. Он рассмеялся, словно это была удачная шутка. — Наверное, я становлюсь одержимым, когда пьян. — Такое часто с вами случается? — Нет, но это было со мной два или три раза. И каждый раз я прихожу в ужас. Но это впервые, когда у меня есть доказательства и когда я сталкиваюсь с очевидностью. Прошлой ночью я считал себя в безопасности с вами и Энди. Но что с ним случилось? — Он рухнул, как мешок. — Да, вспоминаю. Кажется, это последнее, что я запомнил. — И вы ничего не помните из того, что говорили мне? — Я говорил вам что-нибудь ужасное? На глазах у Мэгги выступили слезы. — Нет, мне никогда не говорили ничего более приятного. Он поставил свой кофе и встал. — Мэгги, я очень сожалею. Действительно сожалею. Она посмотрела на него. — Робин, я что-нибудь для вас значу? — Вы мне очень нравитесь, но я скажу вам прямо: вы великолепны, красивы, но вы не мой тип. Мэгги, я не знаю, что меня толкнуло прийти сюда. Я не знаю, ни что я делал, ни что говорил. О Боже! Извините меня, если я вас обидел. — Уходите, прошу вас! Он посмотрел ей в глаза. — Но, Мэгги! Я хотел бы реабилитироваться в ваших глазах. Такого со мной давно не случалось. Последний раз это было в Филадельфии. Она пристально посмотрела на него. — Вы что-нибудь помните об этом? Он тряхнул головой. — Она ушла до того, как я проснулся. Я помню только одну деталь: ее оранжевую помаду. — Я пользуюсь оранжевой помадой. Его глаза широко открылись. Он не верил. Мэгги грустно кивнула головой. — Да, это правда. Я работала там репортером. — Господи! Значит, вы преследуете меня! Она закатила ему звонкую пощечину, и он грустно улыбнулся. — Думаю, что вы действительно должны меня ненавидеть, Мэгги. Я заслужил это. Мы несколько раз были вместе, и я об этом ничего не помню. — Я ненавижу не вас, а себя, — холодно произнесла она, — Я ненавижу всех женщин, которые ведут себя, как сентиментальные идиотки и теряют над собой контроль. Я сожалею, что ударила вас. Вы даже этого недостойны. — Не будьте жестоки, Мэгги. Это совсем не в вашем характере. — Откуда вы знаете, какой у меня характер? И вообще, что вы можете обо мне знать? Вы дважды спали со мной и даже не помните этого! Да кто вы такой, чтобы объяснять, какая я? Кто вы такой? — Я не знаю. Я действительно не знаю. Он повернулся и вышел из квартиры. (обратно)
Глава 20
Выйдя из квартиры Мэгги, Робин на минуту заскочил к себе в отель и сразу помчался в аэропорт. В Нью-Йорке было довольно тепло и ясно: четыре-пять градусов выше нуля. Робин взял такси и добрался домой до того, как на улицах начались пробки. Он решил не откладывая ехать в Лос-Анджелес и остаться там до Рождества. Квартира была в порядке, важных писем не было, но Робин чувствовал себя совершенно подавленным. Он открыл банку томатного сока и заказал разговор с Айком Райаном. Аманда должна была уже выйти из больницы. — Где тебя носило? Ты только теперь нашел время позвонить? — Айк говорил вялым, равнодушным голосом. — Как идут дела? — спросил Робин. — «Айк, тебе стоит только позвонить, если я тебе понадоблюсь», — насмешливо передразнил Айк. — Черт! Я только этим и занимался, что звонил тебе! Я звонил тебе два дня подряд! И все напрасно. — Я был на море, Айк. Почему ты не оставил для меня сообщения? Айк вздохнул. — Что бы это изменило? Ты все равно проворонил бы похороны. Робин подумал, что ослышался. — Какие похороны? — Об этом писали во всех газетах! Не говори только, что не в курсе. — Айк, ради Бога… Я только что с самолета. Что случилось? В голосе Айка послышался металл. — Позавчера похоронили Аманду. — Да, но неделю назад ты говорил, что ей лучше? — Мы так думали. В тот день… еще утром она прекрасно выглядела. Я приехал в больницу около одиннадцати. Она сидела на кровати — накрашенная, в великолепной ночной сорочке — и писала поздравительные открытки. Вдруг она выронила ручку, а ее глаза закатились. Я бросился за дверь, позвал медсестер, врачей. Доктор сделал ей укол, и она уснула. Я сидел возле нее около трех часов, ожидая, когда она откроет глаза. Увидев меня, она слабо улыбнулась. Я взял ее на руки и сказал, что все будет хорошо. Тогда она посмотрела на меня, ее глаза снова закатились, и она сказала: «Айк, я знаю, знаю». — Айк замолчал. — «Я знаю» что, Айк? — спросил Робин. — О Господи, откуда мне знать? Мне кажется, она хотела сказать, что знает, что умирает. Я позвонил медсестре. Она пришла со шприцем, но Аманда оттолкнула ее и прижалась ко мне, словно понимая, что ей осталось совсем немного. Потом посмотрела на меня и сказала: «Робин, позаботься о Слаггере. Я прошу тебя, Робин». Затем снова потеряла сознание. Через час она очнулась. На ее лице снова была прелестная улыбка. Она взяла меня за руку. О, Робин! Я и сейчас вижу эти огромные, испуганные глаза. Она сказала: «Айк, я люблю тебя, тебя». Потом закрыла глаза и больше уже не приходила в сознание. Через час она умерла. — Айк, но ее последние слова были обращены к тебе. Это должно облегчить твою боль! — Если бы она просто сказала: «Я люблю тебя, Айк». Точка. Тогда все было бы в порядке. Но она ведь сказала: «Я люблю тебя, тебя», словно хотела убедить, что это меня она любит, а не тебя. Это еще раз подтверждает ее великодушие. — Айк, не мучайся из-за этого. Она не понимала, что говорит. — Да… Робин, ты не будешь иметь ничего против, если я оставлю кота у себя? — О, ради Бога, Айк! Он твой. — Это единственное, что у меня осталось от Аманды. Я сплю с ним каждую ночь. — Айк, дай ты лучше коту молока, а сам спи с блондинкой. — С моим везением на женщин я теперь снимаю военный фильм! Ни одной красотки в ролях, только двадцать мужиков. Надеюсь, что он удастся. С Рождеством, Робин! — Спасибо, и тебя также, Айк! Робин повесил трубку и откинулся в кресле. Аманда умерла… Он не мог в это поверить. Нет, она не должна была любить его. От горя Айк просто свихнулся. Вдруг у него появилось острое желание провести Рождество с кем-нибудь, кто его любил. Но с кем? С матерью? С сестрой? Китти была в Риме, а Лиза… Он не видел ее целую вечность. Робин заказал разговор с Сан-Франциско. Лиза была поражена. — Робин! Не могу в это поверить. Если ты мне звонишь, значит, собрался жениться! — Лиза, милая, через неделю Рождество и, как бы странно это ни казалось, но я иногда думаю о нашей семье. Особенно в это время года. Как поживают твои дети? И как поживает твой бравый старик, стриженный бобриком? — По-прежнему стрижется бобриком и при этом лучший супруг в мире. Робин, я на тебя сердита. Ты столько раз был в Лос-Анджелесе и ни разу не позвонил. Кейт и Дикки были бы очень рады тебя видеть. — Как-нибудь обязательно приеду. Обещаю. Клянусь. — Робин на мгновение замолчал. — А как поживает великолепная Китти? Чем она занимается? Лиза ответила не сразу. — Робин, почему ты всегда ее так называешь? — Не знаю. Может, это с тех пор, как умер старик. — Ты хочешь сказать — мой отец? — Ну ладно, Лиза, как Китти? — Но почему ты упорно называешь ее Китти? Робин засмеялся. — Уговорила. Что поделывает мама в последнее время? Так тебе больше нравится? — Она была для тебя хорошей матерью, Робин. — А я и не отрицаю и даже счастлив, что она развлекается. Так как у нее дела? — Не очень. У нее плохо с коронарными сосудами, было несколько сердечных приступов. Она месяц пролежала в больнице, но теперь ей, кажется, лучше. Недавно она переехала в большой особняк в Риме. Естественно, у нее новый воздыхатель. Она говорит, что он ее обожает. Конечно, она ему платит. Как тебе это нравится? — Потрясающе! А ты что хотела? Чтобы она жила с каким-нибудь старым артритиком? Я, как Китти, люблю молодость и красоту. — И тебе никогда не хотелось иметь детей и собственный дом? — Нет! И не думаю, что Китти тоже этого хотела. Она родила нас потому, что так получилось. — Не смей говорить так о ней! — Ладно, Лиза! У нас всегда была няня, у тебя, по крайней мере. Я до сих пор помню, как дрожала Китти, когда была вынуждена брать тебя на руки. И я не помню, чтобы она держала меня на руках, когда я был маленьким. — Она обожала детей! — закричала Лиза. — И мечтала иметь их полный дом! Она чуть не умерла, когда рожала меня, а потом у нее было три выкидыша. — Почему я не знал этого? — Я тоже ничего не знала. Я узнала об этом только после смерти папы, когда она несколько дней гостила у нас. Я была тогда на третьем месяце. «Не останавливайся на одном, Лиза, и даже на двоих. Нарожай целый дом детей. Я оставлю вам столько денег, что вы с Робином сможете себе позволить иметь много ребятишек. Без них жизнь не имеет никакого смысла». Она много чего мне тогда рассказала. — Наверное, дочери ближе к матери, — вполголоса произнес Робин. — Не уверена. Но я знаю, что дети — это очень важно. И мама это знает. Я бы хотела, чтобы ты тоже это понял. — Постараюсь. Желаю вам хорошо повеселиться на Рождество! — Тебе тоже. Представляю, как ты чудесно проведешь время с целым роем блондинок. Счастливого праздника, Робин! Лиза повесила трубку. Робин в задумчивости провел рукой по волосам. Впереди у него были рождественские каникулы, и их нужно было как-то провести. Он проснулся в четыре часа утра весь в поту с ощущением, что видел во сне какой-то кошмар. Но какой, он не мог вспомнить. Четыре часа по местному времени, значит, в Риме — десять. Он набрал номер. Ему ответил приятный мужской голос на безупречном английском языке. — Пожалуйста, пригласите миссис Стоун, — попросил Робин. — Мне очень жаль, но она спит. Что ей передать? — А с кем я говорю? — Могу ли я задать вам тот же вопрос? — Я ее сын, Робин Стоун. — О! — Голос в трубке сразу потеплел. — Я так много слышал о вас. Я — Серджио, лучший друг миссис Стоун. — Послушайте, лучший друг, я собираюсь сесть в первый же самолет на Рим и провести Рождество со своей матерью. Как она себя чувствует? — Очень хорошо. Но думаю, что почувствует себя еще лучше, когда узнает эту новость. — Да, лучший друг, вы поможете мне сэкономить на одном телефонном звонке, если закажете для меня номер в отеле «Эксельсиор». — Я вас не понимаю. — «Эксельсиор», большой отель на Виа Венето. — Я хорошо знаю этот отель. Но зачем вам там останавливаться? У вашей матери огромный палаццо из десяти комнат. Она здорово оскорбится, если узнает, что вы поселились не у нее. — Десять комнат! — Это очень красивая вилла, где она может прекрасно отдохнуть. «И где Серджио имеет возможность принимать своих дружков», — подумал Робин. Серджио продолжил: — Если вы сообщите о времени приезда, я вас встречу. — О, нет, в этом нет необходимости! — Но я сделаю это с удовольствием. — Ладно, приятель. Ей-богу, вы не зря получаете свои денежки. — Буду ждать вас с нетерпением.Самолет приземлился в одиннадцать часов вечера по римскому времени. Спускаясь по трапу, Робин заметил красивого молодого человека в замшевых брюках. Он бросился к Робину, как только тот зашел в дверь аэровокзала, и хотел забрать у него «дипломат», но Робин удержал его. — Молодой человек, я еще не инвалид. — Меня зовут Серджио. Вы разрешите называть вас Робином? — Почему бы и нет? Они направились в зал выдачи багажа. Молодой человек был действительно очень красив. Он держался лучше, чем большинство кинозвезд. Его походка была мягкой и легкой, и он не вилял бедрами при ходьбе. У него были приятные манеры — живые и восторженные, но без угодливости. Этот молодой мерзавец вел себя так, будто действительно был рад познакомиться с Робином. С багажом он управился, как бог. Пока все пассажиры толпились в очереди за чемоданами, Серджио развернул несколько лир, и меньше чем через минуту носильщик принес сумки Робина и сложил их в длинный красный «ягуар». Робин молча уселся в машину, и они поехали по новой дороге, ведущей в оживленный город. — Красивая тачка! — наконец заговорил Робин. — Она принадлежит вашей матери. — Уверен, что мама на бешеной скорости каждый день гоняет машину, — иронически произнес Робин. — Нет, машину вожу я. У нее был шофер, который водил большой «ролле», но он сговорился со служащими со станции техобслуживания и выманил у вашей матери много денег. Теперь последнее время машиной занимаюсь я. — И вы нашли дешевую станцию техобслуживания? — То есть? — Ладно, забудем об этом, Серджио. Как моя мама? — Мне кажется, лучше, чем когда-либо. А ваш приезд ее просто осчастливил. Мы собираемся устроить праздник на Рождество в вашу честь. Автомобиль въехал в величественную аллею, обсаженную деревьями. Робин присвистнул. — Да это настоящий дворец! Интересно, сколько стоит снять такой дом? — Он не снимается, — ответил Серджио. — Китти его купила. Правда, красивый? Китти ждала в большом мраморном вестибюле. Робин нежно обнял ее. Она показалась ему еще ниже ростом, чем раньше, но лицо ее было гладким, без морщин. Она проводила его в огромную гостиную, пол в которой был из розового мрамора, а фрески подчеркивали внушительную высоту стен. Серджио незаметно исчез, и Китти подвела Робина к дивану. — О, Робин, как я счастлива тебя видеть! Робин с нежностью посмотрел на нее и вдруг почувствовал себя счастливым лишь оттого, что эта женщина — его мать. Он заметил, что на ее руках выступила пигментация — признак старости, и теперь эти руки нелепо контрастировали с молодым, без единой морщинки лицом. Внезапно мать показалась ему совсем старушкой. Вошел Серджио, и Робин стал свидетелем удивительного превращения. Китти выпрямилась, ее тело словно завибрировало, и она стала выше на несколько сантиметров. Она была молодой, когда принимала бокал с шампанским из рук Серджио. — Я приготовил вам водку с мартини, — сказал Серджио. — Только не знаю, правильно ли я смешал? Робин сделал большой глоток. Невероятно! Этот маленький негодяй готовил мартини лучше бармена из «Лансера». — Я немножко устала, Робин, но завтра мы обо всем поговорим. О Серджио, ты прелесть! Молодой человек вернулся с подносом холодной лангусты. Робин взял кусок и обмакнул его в соус. Внезапно он почувствовал, что проголодался. Китти поставила свой стакан. — Мне пора спать. Серджио подошел и взял ее под руку. Китти с нежностью взглянула на него. — Какой это очаровательный юноша, Робин! Я так счастлива с ним. Он мог бы быть моим сыном. — Вдруг она повернулась к Робину. — Сколько тебе лет, Робин? — В августе стукнуло два раза по двадцать. Китти улыбнулась. — Сорок лет! Как будто и немного, но только не для мужчины, который еще не женат. — Все дело в том, что я не могу найти девушку, которая была бы так же соблазнительна, как ты. Она покачала головой. — Не жди слишком долго. Дети — это очень важно. — Конечно, — с улыбкой поддакнул Робин, — поэтому тебе и нужен Серджио. — Робин, мать действительно любит детей только в том случае, если любит их настолько сильно, что дает им возможность уйти. Вы с Лизой были частью моей молодости, настоящим сокровищем, которое было у нас с отцом. Теперь вам нужно иметь свою жизнь и своих детей. Китти вышла из гостиной вместе с Серджио. Робин налил себе еще немного водки. Неужели Китти и Серджио занимаются любовью? От этой мысли его пробрала дрожь. — Я затопил камин в вашей комнате. Робин обернулся. Внизу у лестницы стоял Серджио. — Я не слышал, как вы подошли, — сказал Робин. — Это потому, что я надеваю обувь на резиновой подошве. Китти плохо спит, и я не хочу, чтобы шум моих шагов ей мешал. Робин вернулся к дивану. Серджио сел рядом с ним. Робин отодвинулся и посмотрел на него. — Послушайте, Серджио, давайте договоримся с самого начала. Развлекайтесь с моей матерью или с юнцами, но не стройте планов на мой счет. — Сорок лет — это довольно много. Робин невесело засмеялся. — Вы ошибаетесь, Серджио. Я люблю девочек. И я люблю их до такой степени, что не могу остановиться ни на одной. — Внимательный взгляд темно-карих глаз Серджио начинал выводить его из себя. — И вообще, почему вы не в постели с великолепной Китти? Вам ведь за это платят! — Я с ней, потому что люблю ее. — О да! Я тоже ее люблю. Но я оставил ее, когда был в вашем возрасте, а тогда она была намного моложе и красивее. — Да, но она мне не мать. Мы любим друг друга, но не так, как вы думаете. Вашей матери не нужна физическая любовь, ей нужно внимание, чтобы кто-то был рядом с ней. Она мне очень дорога, и я всегда буду хорошо относиться к ней. — Договорились, Серджио, — более приветливо сказал Робин. Он решил, что составил неправильное мнение об этом юнце, и больше на него не сердился. Как бы странно это ни казалось, но Робин решил, что Китти повезло. — Расскажите мне о своей работе в Соединенных Штатах, — попросил Серджио. — Нечего особо рассказывать. Работаю в телевизионных новостях. — Вы не любите свою работу? Робин пожал плечами. — Да нет, работа как работа. — Но ваша мать оставит вам приличное состояние. Зачем же вам нужно так много работать, если это не представляет для вас особого интереса? — Ну, не так уж я много работаю, хотя, конечно, бывает. И потом, такие, как я, не живут на содержании у своих любовниц или матерей. Робин следил за реакцией Серджио, но его намек не достиг цели. Выражение лица Серджио даже не изменилось. — Вы собираетесь работать в этих новостях всю жизнь? — он задал этот вопрос с неподдельным интересом. — Конечно, нет. Когда-нибудь я уйду, чтобы писать свою книгу. Серджио просиял. — Я читаю целыми днями. Китти помогает мне завершить мое образование. Сейчас я читаю «Профиль истории» Уэллса. Вы пишете в таком же стиле? — Я пишу в своем стиле, что является единственно возможным, плох он или хорош. — Мне кажется, вы должны оставить работу и поселиться с нами. Вы могли бы писать здесь, и мы все были бы совершенно счастливы. Робин улыбнулся. — Мой друг, я вышел из того возраста, чтобы спать в вашей комнате. — О, но у вас была бы отдельная комната. Умоляю вас, Робин! — Серджио, в последний раз, когда на меня так смотрели, мы ложились в постель на трое суток. Только тогда это была женщина. Так что прекратите! — Вам это неприятно? — Если вы хотите, чтобы я остался, прекратите! Серджио вздохнул. — Я понимаю. Но вы мужчина, о котором можно только мечтать. Я ничего не могу с собой поделать. Но вы не беспокойтесь, — он протянул ему руку, — пожмем друг другу руки и будем друзьями. «Сделка состоялась», — подумал Робин. Он поставил свой стакан и направился к лестнице. — Кстати, друг, где вы спите? — В конце коридора, рядом с комнатой вашей матери. У нее слабое сердце, и я должен находиться поблизости, чтобы она могла позвать меня. — Спокойной ночи, Серджио. Вы победили. — Робин засмеялся и стал подниматься по лестнице. — К счастью, вы единственный в своем роде, Серджио. Если бы таких, как вы, было много, все девицы остались бы без работы.
В последующие дни Китти с головой окунулась в подготовку к Рождеству. Каждый день она давала Робину и Серджио список поручений и посылала их, как детей, за покупками. Серджио водил машину и знал все недорогие лавки. Довольно часто они оставались обедать в городе, ожидая, когда откроются магазины. Серджио засыпал Робина вопросами о Соединенных Штатах, но больше всего его завораживал Голливуд. — В Риме так шикарно живут всего лишь три-четыре человека, — говорил он, — а в Голливуде у каждого свой бассейн. Здесь у меня нет никакого шанса сняться в кино, а в Голливуде, может, все было бы и по-другому. — А вы умеете играть? — спросил Робин. — Разве это обязательно, чтобы сниматься в кино? — Ну, это не так просто, как вам кажется. Вы могли бы заняться изучением драматургии. Китти не стала бы возражать. Серджио пожал плечами. — Это всего лишь мечта.
Накануне Рождества Серджио потащил Робина к ювелиру на Виа Систина. Хозяин лавки — лысый толстяк — прямо-таки задрожал от возбуждения при виде Серджио. — Я хочу посмотреть зеркало, — холодно произнес Серджио. — Ну, конечно, вредный мальчишка. Я же вам сказал: оно ваше, если хотите. Ювелир достал футляр и вынул оттуда очаровательное зеркальце флорентийской работы, которое Серджио принялся с восхищением рассматривать. — Что это? — спросил Робин. Ему было не по себе. Хозяин лавки с вожделением пожирал глазами Серджио, но тот оставался бесстрастным и неприступным. — Оно очень понравилось Китти, — объяснил Серджио. — Это зеркальце как раз для ее сумочки. Я пытался экономить, но сумел собрать только половину нужной суммы. — Серджио, — вкрадчивым голосом вмешался продавец, — я же вам сказал: заплатите сколько можете, остальное — мой подарок. Серджио пропустил его слова мимо ушей и вытащил из кармана несколько смятых банкнот. — Робин, мне нужно… в общем… двадцать американских долларов. Мы могли бы вместе сделать этот подарок Китти. Робин кивнул в знак согласия и протянул деньги продавцу, потом прошелся по лавке, рассматривая выставленные драгоценности. Серджио все время держался рядом. — У него очень красивые вещи. Это — настоящий коллекционер. — Похоже, он коллекционирует не только драгоценности. Глаза Серджио стали грустными. — Он известен еще и тем, что любит делать подарки молодым парням. Робин залился смехом. — Серджио, судя по тому, как он на вас смотрел, он в ваших руках. Потребуйте, чтобы он женился. — Я его не знал до тех пор, пока не пришел сюда и не спросил о цене зеркала. Он сказал, что подарит его мне, если я… — А почему бы и нет, Серджио? Он ненамного старше Китти. — Но мне бы пришлось с ним спать. — Ну и что? — Я сплю только с человеком, который мне симпатичен. Робин отошел на несколько шагов. Этот парень делал из гомосексуализма нечто заслуживающее уважения. Серджио пошел за ним. — Это правда, Робин. У меня было мало друзей и никого с тех пор, как заболел мой последний друг. — И когда же вы оставите Китти ради очередного друга? — Я никогда ее не оставлю. Мужчины, которых я мог бы полюбить, любят женщин. Я не хочу связываться с мужчиной только потому, что он гомосексуалист, и предпочитаю оставаться с Китти. — Оставайтесь с ней, Серджио. Я обещаю вам, что если Китти не станет, то позабочусь о том, чтобы вам платили пожизненную пенсию. Серджио пожал плечами. — Деньги для меня еще не все, — он помолчал. — Робин, сделайте мне рождественский подарок, чтобы у меня осталась память о вас. Они стояли у витрины, где были выставлены мужские часы с браслетами, украшенные бриллиантами. В глазах Робина появился отблеск недоверия. — Ладно, приятель. Что привлекает эти большие черные глаза? — Вон там, — Серджио подвел Робина к витрине, в которой были выставлены золотые браслеты. — Мне всегда хотелось иметь такой. Робин сдержал улыбку. Эти браслеты стоили самое большое восемнадцать долларов. Он сделал жест рукой. — Выбирайте. Молодой человек обрадовался, как ребенок, и выбрал самый дешевый браслет. — Можно мне выгравировать на нем свое имя? За это, правда, придется заплатить дополнительно. Робин улыбнулся. — Ну, что ж, назвался груздем — полезай в кузов. Пишите все, что хотите. Серджио захлопал в ладоши. Пока он шумно объяснялся по-итальянски с хозяином лавки, Робин ходил от одной витрины к другой. Внезапно его внимание привлекла пантера из черной эмали с зелеными глазами. Он сделал знак продавцу. — Сколько? — Четыре тысячи. — Лир? — Долларов. — За это? Продавец положил брошь на кусок белого бархата. — Это самая красивая брошь, которую можно найти в Риме. Ей триста лет, а этим изумрудам в глазах нет цены. Вам придется платить за нее пошлину — это антикварная вещь. Робин стал внимательно рассматривать пантеру. Камешки в глазах были точно такого же цвета, как у… Он отвернулся, но, быстро спохватившись, попросил продавца завернуть ее. Он должен был сделать что-нибудь для Мэгги после той ночи. Робин заполнил чек и положил коробочку в карман.
Робин еще никогда так приятно не проводил Рождество. В очаге потрескивал огонь, елка, украшенная разноцветными лампочками, доставала до самого потолка. В полночь все достали свои подарки. Китти подарила Робину и Серджио бриллиантовые запонки, а Серджио преподнес Робину золотой медальончик с изображением святого Христофора. Робин был тронут и смущен. — Это талисман, — объяснил Серджио. — Вы ведь столько путешествуете. Китти тоже очень обрадовалась подарку. На следующий день вилла заполнилась многочисленными гостями. Робин много выпил и остаток ночи провел в квартире красивой югославки, муж которой был в Испании в командировке. Половину следующего дня они провели в постели, занимаясь любовью. Он возвратился в палаццо без сил, но довольный. Неделя пролетела быстро. Серджио отвез его в аэропорт. — Позвоните мне, если Китти будет плохо себя чувствовать, — настоятельно попросил Робин. — Заставьте ее обследоваться. Она не признается вам, что плохо себя чувствует, чтобы не показаться старухой, но если у вас возникнут малейшие опасения — вызывайте врача. — Можете на меня положиться, Робин. Они подходили к залу для вылетающих пассажиров. Багаж Робина был уже зарегистрирован. — Робин, вам, наверное, тоже нужно показаться врачу. — Но я чувствую себя здоровым, как бык. — Нет, тут другое. Робин внезапно остановился. — Что вы имеете в виду? — Вас что-то сильно беспокоит. Вы кричали во сне две ночи подряд. Прошлой ночью я даже прибежал в вашу комнату… — И что же я кричал? — Вы метались в кровати, цеплялись за подушку и кричали: «Умоляю! Не оставляй меня!» — Слишком много водки, — сказал Робин. Он пожал Серджио руку и пошел к самолету. Но он думал о его словах во время всего путешествия и даже тогда, когда показывал брошь на таможне, где он вынужден был заплатить астрономическую пошлину. И он думал об этом, возвращаясь домой в такси. Что-то странное было во всем этом. Даже в лучший период своих отношений с Амандой никогда он не дарил ей таких дорогих вещей. Может, его угнетало чувство вины? Но четыре тысячи долларов плюс пошлина — слишком дорогая цена за одну проведенную ночь. Ночь, которую он даже не мог вспомнить. (обратно)
Глава 21
Робин приступил к работе сразу же, как вернулся в Нью-Йорк. Он попросил юридическую службу подготовить контракт для Энди Парино и, как только тот был готов, отослал его, сопроводив небольшой запиской, в которой подтвердил свое предложение. Пантеру с изумрудными глазами он послал Мэгги, сделав приписку: «С прошедшим Рождеством! Робин». Через три дня позвонил Энди и сказал, что с удовольствием принимает предложение. — Ты уверен, что потом не пожалеешь? — спросил Робин. — Уверен. Между Мэгги и мной все кончено. — Жаль. — Да нет, это было предначертано в наших гороскопах. Она слишком сложна для меня. — Не волнуйся, все наладится. — Спасибо за доверие. Буду стараться. К концу недели Робин подогнал всю работу и, закончив монтаж очередной передачи «Мысли вслух», заглянул в блокнот, где помечал деловые встречи: вторая половина дня оказалась свободной. Он открыл ящик стола, запертый на ключ, и вынул свою рукопись. Как давно он к ней не прикасался! Так вот, сегодня вечером он заберет ее домой, обойдется без водки и начнет работать. Секретарша вошла с пакетом в руках и дала ему расписаться в квитанции. Развернув пакет, Робин увидел черную эмалевую пантеру в кожаном итальянском футляре. «Я принимаю подарки только от своих друзей», — было написано в записке, напечатанной на машинке. Робин порвал записку и положил футляр в небольшой сейф в стене, в котором хранил контракты и личные бумаги. Потом спрятал рукопись в ящик стола и, выйдя из кабинета, направился в «Лансер». Увидев его, барменша Кармен всплеснула руками. — О, мистер Стоун! Как давно вас не было видно! Как обычно? — Давай выпьем двойную порцию в честь моего возвращения. Он быстро выпил водку с мартини и заказал еще. Вечер начинался хорошо. В последнее время он с ужасом ждал наступления ночи. Ему снились какие-то сны. Он знал это, но никогда не помнил их содержания. Иногда он просыпался весь в поту. Особенно раздражало то, что он не помнил, что ему снилось в Риме. И однако Серджио говорил, что он кричал. Робин выпил второй стакан и заказал третий. То, что Мэгги вернула брошь, не давало ему покоя. Но почему это так его беспокоило? Мэгги ничего не значила для него. Он не понимал, что с ним происходит. Робин слез со своего табурета, пересек бар и открыл телефонный справочник. Почему бы и нет? Он ведь мог проконсультироваться со специалистом, чтобы положить конец этим снам. Наконец нашел фамилию Арчибальда Гоулда и, секунду поколебавшись, набрал номер. Арчи Гоулд снял трубку со второго звонка. — Говорит Робин Стоун. — Слушаю вас. — Я хотел бы встретиться с вами. — По личному или профессиональному вопросу? — Профессиональному, естественно. Робин услышал шорох переворачиваемых страниц и понял, что врач просматривает свои записи. — Следующий понедельник вас устроит? Мы могли бы начать с трех сеансов в неделю. Робин приглушенно рассмеялся. — Мне достаточно одной консультации. Приходите в «Лансер». Я оплачиваю напитки и визит, как если бы пришел к вам в консультацию. — Я не работаю в барах. — А мне легче говорить, когда я пью. — Сожалею. Если вы передумаете, можете позвонить. Телефон вам известен. — В котором часу у вас последняя консультация? — Мой последний клиент должен прийти с минуты на минуту. — Арчи… я приду к вам, если вы примете меня сегодня вечером. Непринужденный тон не обманул доктора Гоулда. Звонок от такого человека, как Робин, был равнозначен сигналу SOS. — Хорошо, Робин, в семь часов. И вот Робин сидел напротив доктора Гоулда. Абсурдность ситуации его поражала. Он, который никогда никому не раскрывался, как мог он рассказывать этому постороннему человеку с бесстрастным лицом о том, что его донимало?! — Дело вот в чем, — сказал Робин и замолчал. — Все очень просто. Речь идет об одной красотке. Я не могу избавиться от мыслей о ней. И однако я в нее не влюблен. Вот это и странно. — Когда вы говорите, что не влюблены в нее, то подразумеваете, что она вам неприятна? — Нет. Она мне нравится. Даже очень. Но в постели у меня с ней ничего не получается. — Значит, вы пытались? Робин пожал плечами. — Я был настолько пьян, что ни в чем не уверен. Однако, как мне кажется, я дважды в разное время переспал с ней и, если судить по ее реакции, справился прекрасно. — Почему же вы тогда говорите, что у вас с ней ничего не получается? Робин закурил и медленно выпустил дым. — В общем, так. В первый раз, когда это произошло, я проснулся на следующее утро поздно, и она уже ушла. Я ничего не помнил: ни ее лица, ни ее имени. Только знал, что это была брюнетка с пышной грудью. У меня было такое ощущение, будто я сделал или сказал что-то такое, чего не должен был делать или говорить. И вот два года спустя я встречаю ее снова. Она оказалась подружкой моего приятеля. Я нашел ее красивой, приятной, но она была с ним. Это вполне меня устраивало, так как — я уже говорил — она совсем не в моем стиле. Мы втроем провели вечер. Выпили. Много. Я был пьян, как сапожник. Друг напился до бесчувственного состояния. Мы с красавицей остались наедине. На следующее утро я проснулся в ее постели. Больше об этой ночи я ничего не помню. Видимо, я оказался на высоте, так как когда она готовила завтрак, то лепетала всякие нежные слова. — Какие чувства вы испытывали к ней? — спросил доктор Гоулд. Робин вздрогнул. — Такие, словно я очутился в постели с парнем или с кем-то еще, с кем не должен был спать. Я сказал ей напрямик, что нахожу ее очаровательной, но что сама мысль заниматься с ней любовью вызывает у меня отвращение, и мне кажется, что у меня ничего не получится с ней. И тем не менее она мне нравится. Может, даже больше, чем все женщины, которых я знал. Но физически она меня не привлекает. Почему она оказывает на меня такое воздействие? — Может, в тот вечер вы что-то особое выпили? Например, напиток, к которому не привыкли? — Нет, водку. Я всегда пью только водку. — Вы были влюбленыкогда-нибудь? Робин пожал плечами. — Я привязывался к некоторым девушкам, но мне всегда было легко расставаться с ними. Возьмем, к примеру, Аманду. Это была потрясающая девушка, и наши отношения мне казались великолепными. Однако, по словам Джерри, я принес ей много зла. Но я никогда не отдавал себе в этом отчет. Я бросил ее лишь потому, что она пыталась привязать меня. Впрочем, я не порвал с ней по-настоящему. Мы стали реже встречаться, но я никогда не осознавал, что с самого начала заставлял ее страдать. — Действительно никогда? — Никогда. — И однако вы осознали, что заставили страдать Мэгги? — Да, — согласился Робин. — И именно это меня тревожит. Поэтому я и пришел к вам. Теперь ваша очередь, Арчи. — Расскажите о вашей матери, Робин. Какая она? — Ради Бога, избавьте меня от этих фрейдистских теорий. У меня было счастливое детство. Китти в молодости была блондинкой — свежей и красивой. — А отец? — Потрясающий мужик! Коренастый и мускулистый. У меня есть еще милая младшая сестра. В моем детстве все было просто и ясно. Мы только теряем время. — Хорошо. Отец, мать, сестра, нормальные отношения. Тогда давайте поищем таинственную брюнетку. Няня? Школьная учительница? — Моя первая учительница была горбатой, няню я не помню. Еще в доме были какие-то слуги… — Между вами и сестрой не было соперничества? — Нет. Я был старшим братом, защитником, а она — уменьшенной копией моей матери: светловолосая, белокожая и румяная. — Вы похожи на Китти? — У меня такие же голубые глаза. Волосы темные, как у отца, хотя теперь они чертовски быстро седеют. — Давайте вернемся к периоду до рождения Лизы. Какие у вас самые ранние воспоминания? — Материнская школа. — А раньше? — Ничего. — И однако вы должны хоть что-то помнить. Может, какой-то разговор или просьбу? Робин щелкнул пальцами. — Да, я вспоминаю один разговор, точнее, одну фразу, но я не знаю, кто ее говорил: «Мужчины не плачут. Если ты плачешь, значит, ты не мужчина, а ребенок». Эта фраза меня очень впечатлила, потому что с тех пор я никогда не плакал. — Никогда не плакали? — Во всяком случае, я не помню. Разве что в кино у меня, бывает, защиплет в горле. Но в личной жизни — никогда. — Робин, это ненормально — ничего не помнить из раннего детства. Это намеренная забывчивость. — Арчи, клянусь Богом, я ничего не скрываю. Может, у меня плохая память? — Робин, я хотел бы попробовать на вас гипноз. — Вы с ума сошли! Послушайте, доктор, я прошел войну, в меня стреляли. Я побывал в таких переделках, что впору было свихнуться. Но я остался цел и невредим. Я пришел к вам, чтобы получить конкретный ответ на конкретный вопрос. Вы мне его не дали. Прекрасно. Признайте свое поражение и не пытайтесь отыграться, задавая вопросы типа: шлепала ли меня няня в детстве за то, что я сломал игрушку? Может, такое и случалось, и, может быть, даже у нее были черные волосы, зеленые глаза и пышная грудь. Ну и что? — Робин, вы знаете, где меня найти, если решите последовать моему совету. Робин улыбнулся. — Спасибо. Но мне кажется, что будет проще и дешевле удрать, если я снова встречу брюнетку с зелеными глазами. Робин закрыл дверь и исчез в ночи. Доктор Гоулд просмотрел сделанные записи и положил их в папку. Он не будет их выбрасывать. Робин Стоун еще придет.Робин взглянул на результаты февральского опроса. Наконец-то служба информации превратилась в серьезного конкурента для других программ. Он изучил отзыв на свой проект о летающих тарелках. Архивная служба дала некоторые дополнительные материалы, которые привели его в восторг. Теперь он сможет сделать потрясающую передачу! На следующий день Робин пошел к Дантону Миллеру, чтобы сказать о своем намерении отдать «Мысли вслух» Энди, который займется этой передачей в следующем сезоне. Как ни странно, Дан не стал ему возражать. — Значит, вы больше не будете появляться на экране? — улыбаясь спросил он. — Вашим поклонникам это не понравится. — Я собираюсь сделать новую информационную программу, которая будет выходить раз в месяц, — объяснил Робин. — Я буду выбирать сюжеты, за которые никто другой не имеет желания браться. Вот мой первый проект. Робин вручил Дану папку с материалами о летающих тарелках. Дан внимательно прочел их. — Это подойдет для воскресенья. Детям будет очень интересно, но такое зрелище не для вечера. — А я думаю, что именно для вечера. Вы же прекрасно понимаете, что если мы поставим передачу во время бейсбольного матча по другим каналам, то это будет полный провал. — Если вы хотите записывать весь этот фантастический бред — это ваше дело, — с улыбкой произнес Дан. — Но ему не место в рамках моих программ. Робин протянул руку, снял телефонную трубку и спросил у секретарши: — Не могли бы вы позвать Грегори Остина? Скажите ему, что Робин Стоун и Дантон Миллер хотели бы его видеть, как только у него появится свободная минутка. Дан побледнел. Но тут же взял себя в руки и попытался улыбнуться. — Вы действуете через мою голову, — спокойно произнес он, давая понять, что разговор закончен. — Но не за вашей спиной. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, как вдруг зазвонил телефон. Дан снял трубку, и секретарша Грегори сказала, что мистер Остин примет их немедленно. Робин поднялся. — Вы идете? Дан нахмурился. — Кажется, у меня нет выбора. Но если вы желаете вырыть себе могилу, то я не буду возражать. Дан удобно устроился в кресле, слушая, как Робин излагает свой план о летающих тарелках Грегори. Когда он закончил, Грегори повернулся к Дану. — Если я правильно понимаю, вы — против? Дан улыбнулся и, скрестив руки, заговорил: — Робин хочет в следующем сезоне постоянно делать передачу такого рода и ежемесячно выпускать ее в эфир. Грегори вопросительно взглянул на Робина. — Летающие тарелки каждый месяц? Робин рассмеялся. — Да нет же, черт побери! Я думал о передаче в стиле анкет журнала «Лайф». Каждая будет посвящена конкретной проблеме: тарелкам, политике, — неважно чему, лишь бы это вызывало интерес и было кстати. Мы можем даже покопаться в личной жизни какого-нибудь теледеятеля. Например, Кристи Лэйна. Публика постоянно требует сведений о нем. Имя Кристи Лэйна пробудило беспокойство в глазах Грегори. Он повернулся к Дану. — Кстати, подумал ли кто-нибудь о том, чтобы заключить с ним долгосрочный контракт? — Мы уже начали переговоры, — ответил Дан. — Клиф Дорн говорит, что они никак не могут договориться по вопросу оплаты. Кристи просит гораздо больше, чем мы можем ему предложить. Секретарша Грегори неслышно вошла в кабинет и сообщила, что звонит миссис Остин. Грегори встал. — Я поговорю с ней в соседней комнате. Дан и Робин остались одни. Дан первым нарушил молчание. Он похлопал Робина по колену. — Надеюсь, что это послужит вам уроком. Вы — директор службы информации, а я — директор телевещания. Я работаю один и не ищу себе компаньонов. Не вмешивайтесь в составление программ, Робин. — У меня и в мыслях этого не было, но как директор службы информации я готовлю информационную передачу, которая, по моему мнению, должна пойти. И вы обязаны выделить мне эфирное время. Если вы откажетесь, я буду вынужден… — Вы будете вынуждены замолчать! И в следующий раз, когда я не приму какую-то передачу, вы просто заткнетесь вместо того, чтобы апеллировать к Грегори Остину! Робин непринужденно улыбнулся. — Не опережайте события, господин директор. Грегори вернулся в кабинет. — Извините меня, господа, — сказал он. — Личные вопросы должны решаться после деловых, но миссис Остин — важное дело в моей жизни. Я рассказал о вашем проекте по поводу летающих тарелок миссис Остин, и это ее заинтересовало. Так что вперед, за летающими тарелками! Дан, поставьте это на май вместо повторной передачи с Кристи. Если публика заинтересуется, мы будем делать такие передачи ежемесячно. Что касается контракта с Лэйном, я поговорю об этом с Клифом Дорном. Больше ничего на повестке дня, господа? Дан встал. — Нет, это все. — Робин, задержитесь на минутку, я должен вам что-то сказать, — попросил Грегори. Он подождал, пока за Даном не закроется дверь. — Дан — хороший работник, но слишком честолюбив. В следующий раз, когда вам захочется предложить что-то новое, обращайтесь прямо ко мне. Я представлю ваши идеи Дану как свои, и таким образом наша семейка будет жить в согласии. — Я еще новичок, — улыбаясь, признался Робин, — и не знаком с тонкостями протокола. У Грегори на лице появилось смущенное выражение. — Робин, я прошу вас, признайтесь, что вы делали первого января? Робин нахмурил брови. Первого января… Он помнил только то, что Серджио отвез его в машине в аэропорт. Грегори закурил сигарету. — Каждый год первого января мы с женой устраиваем коктейль. Вас мы приглашали уже два года подряд. А вы не только не пришли, но даже не прислали записку с извинениями. — Боже праведный! Какой же я хам! В этом году я был в Риме, а в прошлом, кажется, — в Европе. Да, совершенно точно. Я вернулся первого января и, стыдно признаться, выбросил кучу нераспечатанных писем в урну. Я всегда считал, что никто не ждет ответов на новогодние поздравления. Приглашение миссис Остин, скорее всего, оказалось там же, где и все остальное. Я немедленно ей позвоню, если позволите. — Конечно же, — сказал Грегори и дал ему номер телефона. Вернувшись в свой кабинет, Робин тут же позвонил миссис Остин. Она рассмеялась, когда он объяснил, что делает со своей корреспонденцией. — Великолепная идея! — воскликнула она. — Я бы хотела набраться смелости, чтобы сделать то же самое. Это освободило бы меня от многих скучных вечеров. — Миссис Остин, я обещаю, что в конце года прочту все новогодние поздравления, чтобы не пропустить ваше. — Послушайте, Робин, я пригласила нескольких друзей на ужин первого марта. Не хотите ли прийти? — Буду очень рад, миссис Остин. — Моя сестра будет в Нью-Йорке. Это в ее честь я устраиваю ужин. Принц не сумел освободиться. Не согласились бы вы быть ее кавалером? Или вы придете не один? — Да, я хотел бы привести с собой одну молодую особу, — поспешно ответил Робин. — Прекрасно, — сразу же сказала она. — Итак, первого марта, в двадцать тридцать, черный галстук. Робин повесил трубку и задумчиво посмотрел на аппарат. Значит, принцесса одна в Нью-Йорке. У него не было ни малейшего желания играть роль сверхлюбезного кавалера. Но ему нужно найти подходящую девушку. Ладно, впереди еще десять дней. Он обязательно кого-нибудь найдет. В течение всей недели Робин больше не думал о миссис Остин. Он провел два дня в Вашингтоне, занимаясь летающими тарелками, нашел продюсера и режиссера и назначил съемку на пятнадцатое марта. Все шло хорошо, если бы еще не нужно было звонить Мэгги Стюарт. Но он обещал, что она будет участвовать в передаче. Робин заказал разговор. Когда она взяла трубку, он, не теряя времени на извинения, сразу изложил свой план и спросил, интересует ли это ее. Мэгги ответила совершенно нейтральным тоном: — Естественно, что эта передача меня интересует. Когда мне приехать? — Как можно раньше, — ответил Робин. — Сегодня двадцать пятое февраля. Что вы скажете насчет первого марта? — Прекрасно, — он полистал свою записную книжку и увидел пометку: «Ужин у Остинов». — Мэгги, я знаю, что вы мне ничем не обязаны, но не могли бы вы оказать мне огромную услугу — приехать двадцать восьмого февраля и "захватить вечернее платье? — Для передачи? — Нет, для ужина первого марта. Мне бы хотелось, чтобы вы пошли со мной. — Сожалею, но я приеду только для работы. — Это ваше законное право. Но речь идет об ужине у Остинов. Она поколебалась, потом спросила: — Вы действительно этого хотите? — Да. Она засмеялась, и ее голос потеплел. — У меня есть премилое вечернее платье, и я умираю от желания куда-нибудь его надеть. — Спасибо, Мэгги. Телеграфируйте мне. Я пришлю машину и закажу номер в «Плазе». Робин позвонил в отель и уже собирался заказать одноместный номер, но вдруг передумал и заказал «люкс». Это поднимет шум в бухгалтерии, но Мэгги этого заслуживала.
Ее телеграмма пришла двадцать восьмого числа утром: «Прилетаю семнадцать часов, рейс 24. Мэгги Стюарт». Робин заказал машину, потом, повинуясь внезапному порыву, позвонил Джерри Моссу. — Джерри, ты можешь освободиться в четыре часа? Я должен встретить одну девушку в аэропорту. Я на своей машине. — А я там зачем? — Я не хочу оставаться с ней наедине. — С каких это пор тебе требуются компаньоны? — Джерри… У меня есть причина. — Ладно, встретимся перед Ай-Би-Си в четыре часа дня. Джерри показалось, что он никогда еще не встречал такой красивой девушки, как Мэгги Стюарт. От такой красоты просто дух захватывало. Она поздоровалась с Робином так, словно была с ним едва знакома. Когда Джерри предложил им пойти в «Лансер», они дружно отказались. Высадив Мэгги у отеля, Робин потащил Джерри в ресторан «У Луизы». Они сидели в полупустом зале, когда мимо них прошел Длинный Джон Нейбл. Он спешил на свою передачу, которая шла всю ночь. — Я его слушаю, когда не могу уснуть, — сказал Робин. Джерри догадывался, что Робина что-то мучит, но остерегался расспрашивать. Робин страдает бессонницей? Это что-то новое. Вдруг Джерри решился первым заговорить. — Я не знаю, что тебя беспокоит, но эта Мэгги Стюарт — лакомый кусочек. Если ты ее упустишь, значит, с тобой что-то не в порядке. — Я в порядке, — ответил Робин. — И не воображай черт знает что. Между Мэгги и мной абсолютно ничего нет. Я пригласил ее поработать. И все. Джерри встал. — Если ты собираешься пить всю ночь, не рассчитывай на меня. Я остался на какое-то время с тобой, потому что мне показалось, что я тебе нужен. — Мне никто не нужен, — ответил Робин. — Можешь возвращаться к жене. Джерри сделал два шага по направлению к выходу, но потом обернулся. — Послушай, Робин, я не сержусь на тебя, потому что чувствую, что тебя что-то мучит. Ты стал другим с тех пор, как вернулся из Флориды. И это связано с этой девушкой. Он ушел. Робин пил до закрытия ресторана. Потом вернулся домой, лег в постель и стал слушать по радио Длинного Джона. Он уже засыпал, когда Длинный Джон заговорил о том, что нужно пить воду. Вода… Да, это хорошая" мысль… Вода… Корабль… Койка… Спать… Спать… Он был на корабле, Мэгги лежала с ним на койке и сжимала его в объятиях. Она ласкала его, говоря, что все будет хорошо. Робин поверил ей и почувствовал себя счастливым. Потом она выскользнула из кровати. Джерри ждал ее в соседней комнате. И вот уже Джерри лег на нее. Робин вихрем ворвался в комнату… Она отвела его в постель, прижалась к нему и сказала, что ему приснился страшный сон. Она продолжала гладить его по голове… Он расслабился… Потом услышал, как Мэгги снова встала с кровати и захихикала в соседней комнате. Робин пошел туда. Мэгги сидела на кровати с Дантоном Миллером, который сосал ей грудь. Дантон поднял голову и с улыбкой сказал: «Он ревнует». Мэгги строго проговорила: «Иди в постель и лежи там». Это был приказ, и по непонятной причине Робин знал, что должен ему подчиниться. Он проснулся. Боже! Четыре часа утра. Снова один из этих проклятых снов! Джон Нейбл продолжал разглагольствовать. Робин переключил приемник на музыку и снова уснул. Вечером первого марта Робин заехал за Мэгги. Платье на ней было действительно сногсшибательным! Он почувствовал себя виноватым, так как ужин у Остинов среди чопорной публики должен был быть ужасным. Все приглашенные были очень приветливы, но пустые разговоры Робина просто убивали. Он сидел слева от Юдифь Остин и с трудом пытался не упустить нить разговора. Время от времени он бросал взгляды в сторону Мэгги, сидевшей между каким-то нейрохирургом и биржевиком на другом конце стола, и завидовал той непринужденности, с которой она вела этот разговор. Потом он проводил Мэгги до отеля и, остановившись в холле, поблагодарил за то, что она его «выручила». Робин заметил, что все проходившие мимо мужчины оборачивались на нее. Впрочем, в этом не было ничего странного. Мэгги выглядела более привлекательной, чем любая кинозвезда. — А не выпить ли нам по стаканчику? — неожиданно спросил он. — Я решила, что вы больше не пьете. У Остинов вы едва притрагивались к своему стакану. — Зеленые глаза Мэгги смотрели на него с издевкой. Он молча взял ее за руку и повел в бар. — Скотч для мисс, — сказал Робин бармену, — и двойную порцию водки для меня. — Бесполезно демонстрировать ваш талант, — сказала Мэгги. — Я знаю ваши слабости. — Выпивка не слабость. — Ну, если это сила, то я начинаю думать, что вы ее потеряли. Робин подождал, когда им принесут напитки, и взял Мэгги за руку. — Я хочу, чтобы мы были друзьями. Она не отняла руки, и их глаза встретились. — Мы никогда не сможем быть друзьями, Робин, — сказала она. — Вы меня все еще ненавидите? — Как бы мне хотелось, чтобы это было так. Он быстро отнял свою руку, залпом осушил стакан и подал знак официанту принести счет. — У меня дома накопилось много работы, — сказал он, подписывая счет. — Бесполезно врать. До сих пор вы были искренним. Почему же теперь изменились? Робин вдруг почувствовал, что очень устал. — Мэгги, я сам не знаю, чего хочу. Выражение лица Мэгги смягчилось. — Вы несчастны, Робин? — С чего вы взяли? — Если человек не знает, чего хочет, значит, он боится это узнать. Это же так просто. Или он боится своих тайных желаний. — Спасибо, доктор. Я дам вам знать, когда мне снова понадобится ваш диван. Он встал и помог ей надеть пальто.
Войдя в свой номер, Мэгги зло швырнула сумочку на кровать. И надо же было, чтобы это случилось в тот момент, когда все шло хорошо! Слезы показались у нее в глазах. Она выбросит Робина из головы! Приглашение к Остинам пробудило в ней ложные надежды. Ему, как оказалось, была нужна всего лишь приличная спутница на вечер. Мэгги выпила снотворное, вывесила на двери табличку «Просьба не беспокоить» и позвонила администратору, чтобы ее разбудили в десять утра. Ей показалось, что она проспала всего несколько минут, когда зазвонил телефон. Все еще находясь под воздействием снотворного, Мэгги с трудом взяла трубку. Бесстрастный голос телефонистки сообщил, что на ее имя получена телеграмма с пометкой «вручить немедленно». Распечатав телеграмму, она быстро прочитала ее и не поверила своим глазам: СТЭЛЛА ЛЭЙ БЕРЕМЕННА. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА. УБЕДИЛ СЕНЧУРИ ПИКЧЕЗ ВЫЗВАТЬ ВАС. ПОЗВОНИТЕ, КАК ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЕ СООБЩЕНИЕ. ХЬЮ МЕНДЕЛ. Мэгги тут же набрала номер продюсера. — Мэгги! — закричал он в трубку. — Когда ты сможешь прилететь? — Спокойно, — сказала Мэгги. — Расскажите, пожалуйста, вначале, что это за роль? — Роль Стэллы Лэй в паре с Альфи Найтом. Он неделю снимался с ней, но дело не клеилось. Ее все время рвало, а эта идиотка не знала, что беременна. Ты как раз то, что им нужно: новая звезда. Я по всему Голливуду распространил твои фотографии… — Душечка Хью! Я постараюсь быть на высоте. — Будешь. В тебе что-то есть. Ты мне напоминаешь Эву Гарднер. Я так и сказал режиссеру. — Господи! — она рассмеялась. — Бедняга! Он будет разочарован. — Еще никто не разочаровывался, когда тебя видел. Кстати, об этом режиссере только сейчас и говорят. Это — Адам Бергман. — Адам? — Ты его знаешь? — Когда-то давно я играла с ним вместе в одной маленькой театральной труппе. Хью, я вне себя от радости! — Ты можешь приехать к вечеру? У тебя тогда будет целое воскресенье, чтобы прочесть сценарий и подготовиться. — Да-да, я вылечу сегодня же. Мэгги повесила трубку и попыталась сосредоточиться. Снова увидеть Адама! Эта перспектива приводила ее в восторг. Но еще больше она была счастлива оттого, что могла распрощаться с Робином Стоуном.
Робин вернулся в свой кабинет после прогона ролика о летающих тарелках. Это будет феноменальная передача! Феномен… Вот название, которое он даст этой передаче, если ему удастся убедить Грегори. Но ему еще нужны идеи из серии «феноменальных». Робин подумал о Кристи Лэйне. В результате какого таинственного превращения Кристи стал национальным кумиром? Почему пять лет его не замечали, когда он пел те же самые песни в пивных? Вот сюжет, которого хватит на добрый час: «Феномен Кристи Лэйна». Завтра утром он поднимется на последний этаж, чтобы посмотреть, как воспримет его идею Грегори Остин. — Робин, вы, сами того не понимая, нашли именно ту приманку, которая нам нужна! — воскликнул Грегори голосом, дрожащим от радости. — Этот чертов Кристи без конца ломается и не подписывает новый контракт. Но если мы предложим посвятить ему целый час, то это… — Грегори умолк, не находя нужных слов. — Но никому ни слова, Робин. Особенно Дану, Я преподнесу эту идею как свою. Через три дня газеты сообщили, что Кристи Лэйн подписал новый контракт на пять лет с Ай-Би-Си. На следующее утро Грегори пригласил Робина и Дана, чтобы изложить им свой план. — Я считаю, что это блестящая идея, Грегори, — сказал Дан и повернулся к Робину. — Только не слишком увлекайтесь его похождениями. — Но публике нравятся любовные похождения, — возразил Робин. — Об этом не может быть и речи, — сухо произнес Дан. — Впрочем, публика не интересуется любовными приключениями Кристи Лэйна. В разговор вмешался Грегори. — Дан, вы опять не правы. Кристи нужна подружка. Лично у меня сорокалетний человек, который никогда не был женат, вызывает подозрения. Нам просто необходим женский персонаж. — Этель Эванс, — сказал Робин. — Она работала у нас в отделе рекламы. Если она сейчас не спит со всеми подряд, то очень подходит. — А нельзя найти другую? — спросил Грегори. — Кстати, чем она занимается еще, когда не спит с ним? Дан расхохотался. — Но она работает у него в качестве пресс-атташе. — Прекрасно! — вмешался Робин. — Пусть она и играет эту роль в передаче. У каждой звезды есть женщина, которая занимается всем. Дан медленно покачал головой. — Это как сказать… Но все равно мы не можем держать ее в стороне. Слишком на многих снимках в журналах их показывали вместе. Робин улыбнулся. — Отлично. Осталось только, чтобы со всем этим согласился Кристи. — Он-то согласится. А вот Этель… (обратно)
Глава 22
Присутствие Дантона Миллера в отеле «Астор» подчеркивало жалкую претенциозность комнаты. Уставившись на пятно на ковре, Этель думала, почему Кристи селился обычно в самых посредственных гостиницах. Может быть, потому, что он искал всегда подешевле? Дан казался до нелепости элегантным в потертом кожаном кресле. Не обращая внимания на выражение, промелькнувшее на лице Дана, когда тот обвел комнату взглядом, Кристи спокойно продолжал курить сигару. Этель была напряжена, как пружина. Как только Дан позвонил и предложил «заскочить», чтобы обсудить сценарий передачи, она заподозрила, что дело нечисто. Дан был не из тех людей, которые «заскакивают». И что ему нужно было обсуждать? Речь шла о том, чтобы рассказать о жизни Кристи, о его близких и о людях, с которыми он сталкивался в течение своей карьеры. Это должна быть передача о нем, его портрет. Когда Дан подошел к сценарию передачи, Этель нахмурила брови. То, что она услышала, подтвердило ее опасения. Вся предыдущая лесть нужна была только для того, чтобы завоевать доверие Кристи. Основной целью Дана было свести до минимума значение Этель, окутать туманом роль, которую играла она на самом деле в жизни звезды. Она не могла поверить собственным ушам! А Дан уже мимоходом объяснил, что Ай-Би-Си наймет манекенщиц, которые будут изображать поклонниц Кристи. Впервые в жизни она испытала ощущение поражения и даже потеряла всякую волю к сражению. Но она не повела даже бровью, потому что все, что говорил Дан, было справедливо. Манекенщицы, дебютантки, поэтессы произведут наилучшее впечатление в передаче. — Ну как, Кристи, что об этом думаешь? Кристи оторвал зубами конец сигареты и сплюнул его на пол. — Я думаю, что это отвратительно! — сказал он. Этель вздрогнула. Дан остолбенел. — Что за дурость! — продолжил Кристи. — Какого черта я буду делать с дебютантками или поэтессой? Все знают, что моя подружка — Этель. Она сидела, раскрыв рот. Ее любовник защищал ее! Дан пожал плечами. — Конечно, тебе лучше с Этель. Но мы много думали над этой передачей и пришли к единому мнению. Мы решили, что будет гораздо увлекательнее, если тебя увидят с несколькими красотками, а не с одной. — Это что за передача? Представление барышень, чтобы поразить простаков, или «Феномен Кристи Лэйна»?! — Мы добьемся большого успеха, если будем сочетать и то, и другое. — А что будет делать Этель во всем этом? — спросил Кристи задиристым тоном. — Этель очаровательна, — поспешил ответить Дан. — Но мы опасаемся скандальной прессы. До сих пор нам везло. Если хоть один бульварный листок начнет освещать любовную жизнь Этель, то все другие постараются от него не отстать. — Прекрасно. Тогда это будет не моя сожительница, а моя жена. Дан потерял свою невозмутимость. Он пошевелил губами, но не издал ни одного звука. Этель нагнулась вперед, убежденная, что в словах Кристи кроется ловушка. Но Кристи торжественно покачал головой. — Да, вы меня хорошо слышали, я женюсь на Этель. — Странно, — сказал Дан, оправившись от шока, — я принимал тебя за романтика, за человека, который любил только одну женщину в своей жизни — Аманду. В тот вечер, когда она умерла, я боялся, что ты отменишь спектакль. Но ты профессионал. Ты понял, что жизнь должна продолжаться. Когда человек теряет единственную женщину, которая имела для него значение, он удовлетворяется любой… Он как бы находит замену. Кристи внезапно вскочил: — Ты что, принимаешь меня за мудака, который будет бесконечно оплакивать свою милашку, которая его пробросила? Так нет, приятель! Я собственным горбом пробил себе дорогу и долго гнул спину. И какая-то блондинистая шлюха не потрясет моего существования. — Он подошел к Этель и взял ее за руку: — Смотрите хорошо, мистер Миллер. Вот настоящая подружка. Первоклассная подружка! Я и забыл, что был знаком с Амандой. Дан встал и направился к дверям. — Извините. Я, наверное, слишком всерьез воспринял статью в «Лайфе». Все, что ты говорил по поводу ребенка, которого хотел иметь с Амандой, чтобы он был похож на нее… — Ерунда! — заорал Кристи. — Уверяю тебя, что я хочу малыша! Хочу сына! Я хочу дать ему все, что у меня когда-нибудь будет. И поэтому у нас с Этель родится маленький прелестный сын! — Позвольте мне пожелать вам большого счастья, — слегка поклонился Дан. — Этель и ты… Честное слово, можно, наверное, сказать, что это брак, продиктованный самим небом. И он вышел. Кристи некоторое время созерцал дверь, потом обернулся и сказал Этель, не глядя на нее: — Займись рестораном и всем остальным. Этель вскочила с кресла и, вся дрожа, бросилась к нему в объятия. — О! Кристи! — она искренне плакала. — Ты действительно этого хочешь? Он казался растроганным и легонечко отстранил ее. — Ну конечно. Делай, что я сказал, крошка. Он направился к двери. — Куда ты? Кристи остановился, затем с застенчивой улыбкой прошептал: — Я иду за обручальными кольцами.Пресса и телевидение подняли большую шумиху вокруг брака. Даже небольшие события, предшествующие церемонии, были освещены в статьях. Лу Голдберг снял весь первый этаж «У Дэнни», чтобы с большим шумом похоронить холостяцкую жизнь Кристи. Комики на телевидении обменялись несколькими невинными шуточками, но ни один из них не рискнул сделать хоть один намек по поводу Этель. Все чувствовали, что малейшая колкость взорвет котел, в котором было похоронено прошлое молодой женщины. Они поженились в первую неделю мая в соборе Святого Патрика, в присутствии родителей Этель, Лу Голдберга, нескольких «звездочек» и Эгги. Так решил Кристи, и до последнего «да» она ни разу не возразила. Кристи пригласил всех на обед, а затем они пошли на вокзал проводить родителей Этель. В эту ночь, возвращаясь с Кристи в «Астор», она впервые записалась в регистрационном журнале отеля. Этель совершенно не жаловалась, что проводит медовый месяц в «Асторе». Подготовка к передаче не оставляла Кристи ни одной свободной минуты. Но когда все закончится, они проведут шесть недель в Лас-Вегасе. И вот тогда она займется их будущим. Вначале она потребует, чтобы он переводил на ее счет пять тысяч долларов в месяц… а может, и десять. Затем, не мешкая, она свяжется с агентом по продаже недвижимости, чтобы он нашел им двухэтажный особняк на Парк-авеню. Этот уголок ей особенно нравился. Первую неделю совместной жизни Этель провела в темном зале студии, где Кристи записывал свою передачу. Она должна была фигурировать в эпизодах, показывающих его светскую жизнь: выходы в свет, рестораны, театры. Однажды во время репетиции явился агент по продаже недвижимости, оказавшийся элегантной миссис Рюден. Она разложила планы некоторых пышных апартаментов. Во время перерыва к ним присоединился Кристи. Этель представила его миссис Рюден. Он спокойно выслушал ее объяснение, зажав сигарету в зубах, и заявил: — Послушайте, милочка, сверните свои планы и забудьте про нас. Мне и Этель очень хорошо и в «Асторе». Этель проглотила свою ярость, стала пунцовой, но сдержалась. Когда миссис Рюден ушла, она зажала мужа между кулисами. — Как ты посмел так поступить со мной? — Как поступить? — Ты опозорил меня в присутствии этого агента. — В таком случае не приводи его, и тебе не будет стыдно. Она поняла, что это было не место и не время выяснять отношения. Как-то вечером после спектакля она снова возвратилась к этому вопросу. — Чем тебе не нравится «Астор»? — спросил Кристи. — Я не хочу здесь больше жить. — А где ты хочешь жить? — В красивом доме с гостиной, террасой и двумя ванными комнатами. — Столько комнат для нас двоих?! Когда-то в Голливуде я снимал дом, но Эдди, Кении и Эгги жили со мной. И все равно у нас было слишком много свободного места. Послушай, когда у нас будет малыш, мы поговорим о доме. Конечно, для моего малыша нужна гостиная. Я хочу, чтобы он учился всему с самого начала. Но пока мы вдвоем, нам достаточно и номера в отеле. В этот вечер она не поставила предохранительный колпачок. (обратно)
Глава 23
Робин увидел фотографию Мэгги в утренней газете, когда пил кофе. Он прочитал под ней: МЭГГИ СТЮАРТ, НОВАЯ МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА, СНЯВШАЯСЯ В ФИЛЬМАХ «СЕНЧУРИ», СЕГОДНЯ ПРИБЫЛА В НЬЮ-ЙОРК ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАТУРНЫХ СЪЕМКАХ В «МИШЕНИ». Ему вдруг нестерпимо захотелось ее увидеть, и он заказал «Плазу» по телефону. Мэгги остановилась там, но ее телефон не отвечал. Он попросил сообщить ей о своем звонке. Робин был на совещании, когда в зал тихо вошла его секретарша и положила перед ним записку: «Мисс Стюарт на проводе». Он сделал ей знак удалиться и продолжил разговор. Только в пять часов он смог перезвонить Мэгги. — Привет! — сказала она радостным, но несколько отчужденным тоном. — Как поживает наша звезда кино? — На последнем издыхании. — Сколько времени вы пробудете в городе? — Только три дня. — А не съесть ли нам вместе по гамбургеру в «Эль Марокко»? — Почему бы и нет! — ответила она. — Семь часов, годится? — Хорошо. Встретимся прямо там. Она повесила трубку. Робин задумчиво смотрел на телефон, потом поспешно позвонил Джерри Моссу. В половине восьмого Робин все еще ждал ее в «Эль Марокко». — Может быть, она меня пробросит, — улыбаясь, произнес он. Джерри заинтригованно взглянул на него. — В каких отношениях ты с этой девушкой? — Ни в каких. Просто знакомая, и ничего больше. Можно даже сказать, что мы старые друзья. — Тогда почему ты боишься остаться с ней наедине? — Боюсь? — В последний раз, когда она приезжала в Нью-Йорк, ты настоял, чтобы я был с тобой, когда ты поедешь встречать ее в аэропорт. Робин сделал несколько глотков пива. — Послушай, старик, она была подружкой Энди Парино. В тот раз, когда она приезжала, они только что порвали. Он мог подумать, что я тороплюсь стать его преемником. Может быть, этого я хотел избежать. Но я не очень хорошо помню, что тогда было. — Понятно. А этим вечером я здесь, чтобы ты избежал неприятностей с Адамом Бергманом? — Адамом Бергманом? — удивился Робин. — Молодым режиссером, произведшим фурор, — объяснил Джерри. — Он поставил пьесу, которая собрала все призы на Бродвее в прошлом году. Сейчас я не вспомню названия. Какая-то история между лесбиянкой и педерастом. Джерри замолчал, так как в зале поднялся какой-то шум. Все взгляды устремились на Мэгги, направлявшуюся к их столику. Робин встал. Мэгги сделала вид, что помнит Джерри, но было очевидно, что это не так. Она не извинилась за опоздание, заказала мартини и стала рыться в сумочке в поисках сигарет. — Я бы вам предложил сигарету, но я бросил курить, — сказал Робин. — Тогда купите мне пачку, я забыла свои. Джерри испытал явное удовольствие при виде того, как Робин поспешил к автомату. — Когда вы бросили курить? — спросила она. — Два дня назад. — Почему? — Чтобы доказать: я могу без этого обойтись. Она кивнула, будто понимала, что он этим хотел сказать. — Я с удовольствием выпила бы пива, — сказала Мэгги, закончив ужинать. — После чего, к сожалению, я вынуждена уйти. Робин заказал пиво. Перед дверями собралась очередь. Вдруг Робин встал. — Извините, — сказал он, — я заметил друзей. Он подошел к дверям и через минуту вернулся с мужчиной и молодой женщиной. — Мэгги Стюарт, Джерри Мосс, позвольте представить вам Дипа Нельсона и Поли, — он повернулся к ней. — Извини, Поли, но я не помню твою фамилию. — Отныне Нельсон. — Мои поздравления! — Робин сделал знак бармену принести стулья. — Немного потеснившись, мы все уместимся за столом. — Я хочу побыстрее поесть и удрать, — сказала, усаживаясь, Поли. — У меня больше нет сил. Весь день репетировали. — Мы готовим скетч, который будем играть в ночных кабаре, — объяснил Дип. — Наш звездный час будет четвертого июля в «Конкорде». Мы заработаем пять тысяч за вечер. — Приличный кусок! — заметил Робин. — Да, но скетч стоит нам больше двадцати пяти тысяч. — Двадцать пять тысяч! — воскликнул Робин. — Понимаешь, у нас куча расходов на сценический материал, — объяснил Дип. — Хореография, музыка и все остальное. — Почему такие расходы на какой-то скетч в ночном кабаре? — Ты видел мои последние фильмы? — спросил Дип. — Конечно. — Тогда ты в курсе, что они провалились. А скетч поможет нам поправить дела, да еще как! После этого большие шишки Голливуда будут валяться у моих ног, и Великий Диппер снова займет свое место звезды. — Со своей маленькой Поли рядом, — подчеркнула Поли. — Да, это правда. Когда мы поженились, я сказал: наша пара на всю оставшуюся жизнь. — Браво! — сказала Мэгги, до сих пор не произнесшая ни слова. Поли с удивлением уставилась на нее. — Ты тоже из наших? — Она играет главную роль в новом фильме Альфреда Найта, — объяснил Робин. — Невероятно! — воскликнула Поли, внимательно присматриваясь к Мэгги. — Ну, конечно, теперь я тебя узнаю. Ты новая краля Адама Бергмана! Мэгги осталась невозмутимой. Зато Дип был шокирован. Какое-то время за столом царила неловкая тишина. Поли занимал только сэндвич с сыром. Она проглотила последний кусок и повернулась к Дипу: — Попроси счет, и мотаем отсюда. Я хочу спать. Робин улыбнулся. — Это же я вас пригласил. Доставьте мне такое удовольствие. Не забудьте, что позднее я смогу сказать, что знал Поли Нельсон до того, как она стала знаменитостью. Поли посмотрела в упор. — Мне плевать на твои издевки. И потом, кто ты такой? Дип как-то заставил меня посмотреть твои «Мысли вслух». Нечем хвастаться. С тех пор, я заметила, тебя выставили за дверь. — Поли! — Дип схватил ее руку. — Робин, извини ее. Ты знаешь, я по-настоящему расстроился, что ты потерял «Мысли вслух». У тебя ничего в перспективе? — Почему же, — улыбаясь, ответил Робин. — Осенью выйдет новая передача «Феномен». Дипа это, казалось, успокоило. — Это здорово, приятель! Ты, как великий Диппер. Им не удается нас раздавить. Он встал. — Я свяжусь с тобой, как только вернусь в Нью-Йорк. Когда они вышли из ресторана, Робин взял Мэгги за руку. — Пойдемте, — сказал он. — Мы с Джерри проводим вас пешком. — У меня нет желания идти пешком. — Джерри, поймай такси для дамы, — приказал Робин. — Джерри, не нужно ловить такси для дамы, — произнесла Мэгги таким же тоном. — У дамы есть машина. Только теперь они заметили огромную шикарную машину, стоящую перед рестораном. — Спасибо за этот торжественный банкет и столь увлекательный разговор, — сказала она. — Если вы когда-нибудь будете в Калифорнии, я сделаю все возможное, чтобы принять вас так же хорошо. Джерри смотрел, как машина удаляется по 3-й авеню. — Она по-настоящему уязвлена, — спокойно сказал он. — Она на меня злится, — сухо возразил Робин. — Как раз нет. Она влюблена в тебя, я в этом уверен. Но это актриса. И, вероятно, очень способная, так как сегодня она чертовски здорово сыграла свою роль. — Что ты имеешь в виду? — Это не та девушка, которую я встретил в аэропорту в феврале. Но никто не может измениться до такой степени за три месяца. — Может быть, Адам ее переделал. — Возможно. — Пойдем пропустим по стаканчику в «Лансер», — предложил Робин, меняя тему разговора. — Нет, побегу прямо на вокзал. Я еще успею на последний поезд. На твоем месте я позвонил бы Мэгги Стюарт и предложил бы ей выпить последний стаканчик в «Плазе» тет-а-тет. — Нет, спасибо. — Скажи, Робин, эта девушка, как сигареты? — Не понимаю. — Что ты хочешь доказать, отказываясь от Мэгги Стюарт?Мэгги уехала из Нью-Йорка, и Робин с головой погрузился в работу. Каждый вечер он писал по четыре страницы своей книги. Он так много работал над своими передачами, что потерял понятие о времени. Календарь на письменном столе напомнил ему, что приближается 4 июля. В этом году оно выпало на четверг: праздник плюс выходные. Он не находил никого, с кем провести эти несколько дней. Джерри Мосс был на седьмом небе, когда Робин без энтузиазма согласился приехать в Гринвич. Робин предвидел бесконечную череду обедов, но там был бассейн и, вероятно, можно было поиграть в гольф. Второго июля он получил телеграмму от Мэгги.
ПРИЕЗЖАЮ 3 ИЮЛЯ НА ЗАПУСК ФИЛЬМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. БУДУ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ПОМОЧЬ МНЕ С ПЕРЕДАЧАМИ? МЭГГИ.Робин позвонил Джерри, чтобы отказаться от уик-энда в Гринвиче. В среду он покинул кабинет в пять часов. Придя домой, он позвонил в «Плазу». Мэгги уже два часа как приехала, но ушла на запись «Джонни Карсон Шоу». Он позвонил ей в четверг. Она вышла. Он попросил оставить ей записку и пошел играть в гольф. В пятницу он два раза просил передать о своих звонках. В субботу он больше не стал звонить. В воскресенье в девять часов утра раздался телефонный звонок. Пусть катится ко всем чертям и проведет этот день одна! На третьем звонке телефонистка взяла трубку. Робин не спеша привел себя в порядок, затем позвонил дежурной. Ему звонил некий Джерри Мосс из Гринвича. Робин даже не думал, что это его настолько разочарует. Он набрал его номер. — Ну как, хорошо развлекаешься под жарким солнцем Нью-Йорка? — спросил Джерри. — Я провернул немало работы. — Ты пропустил несколько милых вечеров. Рик Рассел задал вчера настоящий пир. Знаешь, кто это? Большой финансист. У него даже своя собственная авиакомпания. — Я даже отсюда вижу, как это было. Свежий воздух, столы на траве, палатки, венецианские фонари, пьяные люди, комары. Джерри разразился хохотом. — Все именно так и, кроме того, одна из твоих подруг, которую пригласили в качестве почетного гостя: Мэгги Стюарт. — Что она там делала? — Пила, танцевала, убивала комаров, как и все. Рик Рассел праздновал свой пятый развод. Он неплохо выглядит, особенно когда думаешь о всех его миллионах. Очевидно, они познакомились в самолете, когда летели из Лос-Анджелеса. С тех пор он на ней помешан. Сегодня он отправляет ее в Чикаго на одном из своих личных самолетов. — Люблю, когда дамы путешествуют с большой помпезностью. Но какого черта ты мне звонишь? После паузы Джерри ответил: — Но… честное слово… я думал, что новости о Мэгги тебя интересуют. — Если ты действительно думаешь, что я влюблен в нее, то в таком случае твой телефонный звонок не слишком удачен. Ты хотел меня огорчить? — Нет, конечно. Впрочем, я знаю, что ты ее не любишь. — Тогда почему ты заставляешь меня терять время? И он повесил трубку. После обеда Робин пошел в кино. Когда он вышел, уже стемнело. Дойдя до 5-й авеню, он оказался перед «Плазой». — Не хотите ли развлечься, сэр? Маленькая толстушка, сделавшая это предложение, держала за руку рыжую девушку, которой было не больше девятнадцати лет. Новенькая, без сомнения. Старшая подтолкнула ее к Робину: — Пятьдесят долларов, у нее есть комната. Идите. У вас вид человека, которому нужно расслабиться. — Я и так слишком расслаблен, — сказал Робин, удаляясь. На полпути до перекрестка к нему пристала другая девица. — Ты не хочешь хорошо провести ночь, приятель? Перед ним стояла амазонка. Это была девица под метр восемьдесят с неприветливым лицом. У нее были выпуклые черные глаза, длинный и тонкий нос. Крупная женщина… большие груди… Робина охватила дрожь. Улыбка его угасла. — Пятьдесят долларов, у меня есть комната, — настаивала девица. — А может, это ты должна мне заплатить. Меня считают хорошим мужчиной. — Нет, это женщины для удовольствия, а мужчины — для работы. — Ладно, к черту торговаться! Во всяком случае, ты не делаешь секрета изсвоих взглядов. — А ты довольно красивый парень. Сорок долларов, устроит? — Нет, никаких скидок. Где твоя комната? — Иди за мной, сокровище. Она взяла Робина под руку, и они направились к 7-й авеню. Ее комната находилась в плохо освещенном здании на 58-й улице, но было совершенно ясно, что она там не жила. Вестибюль был пуст. Массивный лифт поднял их на третий этаж. — Это, конечно, не дворец… Я называю это своим ателье. Он вошел в небольшую спальню. Черная ширма заслоняла окно без занавесок. Кровать, раковина, небольшой туалет с душем. Девушка улыбнулась и стала методично раздеваться. — В черных чулках или без? — спросила она. — Без ничего. Робин с трудом узнал свой голос. Он тоже быстро разделся. Она вытерла рот грязной салфеткой, чтобы стереть толстый слой губной помады. Ее массивное тело было удивительно пропорциональным. — Мои пятьдесят долларов, сокровище. Это правило в профессии. Он вытащил из кармана две купюры по двадцать и одну в десять. — Прекрасно, милок. Теперь ты можешь делать все, что захочешь. Старайся только не слишком меня лохматить. Он схватил ее, бросил на кровать и жадно накинулся на нее. Она застонала. — Э, потише, красавчик! Что ты хочешь доказать? Он вышел из нее как раз вовремя. — А это зря. Я принимаю свои меры предосторожности. — Ни за что на свете я не хотел бы сделать внебрачного ребенка, — пробормотал он. Она посмотрела на часы. — Ты потратил три минуты, не больше, и имеешь право на дополнительную порцию. Она нагнулась над ним и провела языком по всему телу. Он оттолкнул ее, перевернул на живот и вошел в нее. В порыве какой-то ярости, происхождения которой он и сам не понимал, он остервенело терзал ее мощными толчками. Когда он оторвался от нее, чтобы лечь на спину, она вскочила и поспешила к раковине. Моясь, она причитала: — Боже мой, однако ты видал виды, хотя кажешься благовоспитанным. Лежа неподвижно на кровати и пристально глядя в потолок, он не ответил. Вымыв над умывальником свое огромное тело, она накрасила губы и повернулась к кровати. — Давай-ка, милок, пора уже сматывать удочки. Жена заждалась. Держу пари, что с ней ты не выделываешь таких трюков, а? Только траханье в приличной позе. Только такое она тебе позволяет. — Я не женат, — вяло возразил он. — Тогда побыстрей возвращайся к мамочке… Держу пари, что ты спишь вместе с ней, как это делают похожие на тебя субчики. Одним прыжком он вскочил с кровати и схватил ее за волосы. — Э, легче, сокровище! Не испорти мне прическу! Робин с яростью двинул кулаком в лицо девицы. Еще не успев почувствовать боль, она какое-то мгновение смотрела на него с наивным изумлением. Затем ей стало больно, губы ее приоткрылись, и она, завизжав, бросилась к душу. Он схватил ее за руку. — Не надо, умоляю тебя, — захныкала она. — Ты же знаешь, что я не могу кричать, это привлечет легавых. Он схватил ее грудь и присосался к ней. — Но ты же меня кусаешь! — закричала она. Изловчившись, она изо всех сил ударила его коленом в пах и отстранилась. Он приблизился с угрожающим видом. Отблеск страха промелькнул в глазах девицы. — Послушай, парень, — закричала она. — Я отдам тебе деньги. Иди к своей мамочке и соси ей грудь! — Что ты сказала? И снова кулак Робина обрушился на ее челюсть, но на этот раз он продолжал ее бить. Из носа и губ девицы показалась кровь. Он услышал, как захрустела челюсть, но бил до тех пор, пока не заболел кулак. Удивившись, он уставился на него. Девица упала на пол. Робин продолжал смотреть на свой окровавленный кулак, словно он был не его. Он бросил взгляд на большую белую женщину на полу, сделал два шага к кровати и рухнул, потеряв сознание. Открыв глаза, он вначале увидел лампочку под потолком, затем увидел кровь на простыне, посмотрел на свои оцарапанные пальцы. Наконец заметил неподвижно лежащую женщину на полу. Боже мой… Теперь это был не просто кошмар. Это действительно произошло. Он спустился с постели и приблизился к огромному голому телу. Губы у женщины были раздуты, как у клоуна, и из них тек ручеек крови. Он нагнулся и обнаружил, что она все еще была жива. Боже, что же он сделал? Он быстро поднялся, обшарил свои карманы и нашел только тридцать долларов. Этого было мало. Необходимо, чтобы эта несчастная попала в больницу. Он не мог оставить ее тут. Робин бегло осмотрел комнату. Телефона нет. Приоткрыл дверь, выглянул в коридор: никого. Ему нужно было найти врача. Надеясь, что где-то поблизости есть автомат, он вышел за дверь. Вестибюль был по-прежнему ПУСТ. Он нырнул в темноту улицы и направился к бакалейной лавке, расположенной на перекрестке. — Эй, приятель! Ты что тут делаешь? Это был Дип Нельсон, сидящий в открытом автомобиле. Робин подошел к машине. — Я влип в передрягу, — сказал он угрюмо. — А кто в нее не влипал? — улыбнулся Дип. — Вчера мы играли в «Конкорде». Полный провал! — Дип, у тебя есть с собой деньги? — Конечно. Десять по сто и чек. А зачем? — Дай мне тысячу банкнотами, а я тебе выпишу чек. — Влезай и расскажи. Они поехали в парк. Дип слушал, не перебивая. Когда Робин кончил, Дип сказал: — Начнем сначала. Во-первых, как ты считаешь, она может тебя узнать? Предположим, она тебя видела по телевизору. Возможно, где-то еще. — Тогда мне крышка, — сказал Робин и пожал плечами. Дип задумчиво покачал головой. — Мой дорогой, я думаю, как тебе разрешают одному переходить улицу? Если ты хочешь выпутаться, нельзя дать загнать себя в угол. Послушай меня, ее слова будут против твоих. Кто поверит проститутке, когда она обвиняет честного гражданина? — он посмотрел на часы на приборной доске. — Десять тридцать. В котором часу это случилось? Робин снова пожал плечами. — У меня нет с собой часов. Я был в кино. Когда я вышел, было уже совсем темно. — Значит, это было около половины девятого или девяти. Алиби должно начинаться раньше восьми часов для большей безопасности. — Алиби? — Алиби — это я, старина. Великий Диппер прикроет тебя при необходимости. Мы расскажем, что я приехал к тебе около половины восьмого. Мы поболтали, поговорили о работе, затем поехали прогуляться. Когда я буду возвращаться в гараж, то устрою так, чтобы нас кто-нибудь заметил. — А девица? — спросил Робин. — Она при смерти. — Проститутки никогда не умирают. Завтра она снова выйдет на панель, как новенькая. Робин покачал головой. — Я ее измордовал и не могу оставить в таком состоянии. — Но что на тебя нашло, чтобы снять проститутку? Я тебя видел в «Эль Марокко» с самой красивой крошкой в мире. — Не знаю. Помню только, как она пристала ко мне на улице. Затем в моей башке словно что-то взорвалось, и все остальное теперь мне кажется сном. Дип выехал на 56-ю улицу и остановился перед ярко освещенным гаражом. Служащий подскочил к нему: — Ну, как она ехала, мистер Нельсон? — Божественно. Я не мог с ней расстаться. Мы с другом катались с половины восьмого. Вы его знаете. Это Робин Стоун, тот, который ведет «Мысли вслух» на телевидении. Служащий утвердительно кивнул, но без особой уверенности. — Мистер Нельсон, — сказал он, — вы не забыли привезти фотографию, подписанную вами для моей дочери Бетти? — Как я мог забыть подобную вещь? — Дип открыл багажничек и достал конверт из плотной бумаги. — Вот. С моей подписью и поцелуями. Они вышли из гаража, и Робин направился в сторону 58-й улицы. Дип схватил его и попытался переубедить: — Послушай! Она уже могла подцепить другого клиента! — Господи, если бы только это было правдой! — прошептал Робин. Они остановились перед зданием, погруженным во тьму. Дип осторожно посмотрел по сторонам. — Вероятно, я такой же мудак, как и ты, но тем хуже. Я поднимусь с тобой. Пошли. Скрипучий лифт поднял их на третий этаж. Дверь в комнату была немного приоткрыта, именно так, как Робин ее оставил. Они вошли и уставились на женщину, лежащую без сознания на полу. Дип легонечко свистнул: — Да, мастерски ты ее отделал! — Дай мне тысячу долларов, — сказал Робин. — Я положу их ей в сумочку, и мы вызовем врача. — Как бы не так! Мой дорогой, проститутке, у которой находят тысячу долларов, задают много вопросов. Она опишет тебя, и Бог знает, к чему это может привести. — Так что же делать? — Не трепыхайся, дорогой. У великого Диппера есть идея. Закройся на замок. Когда я возвращусь, то постучу два раза. Робин не успел ответить, как Дип уже исчез. Он сел на кровать, уставившись на большое тело, распластанное на полу. Бедная женщина! Что стукнуло ему в голову? Это в первый раз он трезвым переспал с брюнеткой. И в последний! Господи… А если бы это случилось с Мэгги? Девица пошевелилась и застонала. Он встал, подложил ей под голову подушку, намочил платок в холодной воде и постарался стереть запекшуюся кровь с губ. — Прости меня, бедная дурочка, — прошептал он, — Прости меня, я не знаю, что на меня нашло. Он открыл дверь, как только услышал условленный сигнал. Дип потряхивал маленьким флакончиком, в котором были ярко-красные таблетки. — Не правда ли, прекрасная идея? — Транквилизаторы? — Да. Теперь нужно заставить ее их проглотить. — Это ее убьет. — Мне дали всего лишь восемь. Этим, конечно, можно убить человека, но для такой колоннады нужен динамит. — Зачем ее усыплять? — Мы положим ее на кровать рядом с пустым флаконом. Никакой этикетки, никакого способа узнать, откуда он. Мы выйдем, я вызову полицию, изменив голос, и расскажу им, что у меня было назначено свидание, чтобы потрахаться, и что я нашел ее в этом состоянии. Я скажу, что она все время говорила, что хочет умереть. Впрочем, так кончают почти все проститутки, если только какой-нибудь тип вроде тебя не пристукнет ее. Затем приедет скорая помощь, отвезет ее в больницу в Бельвю. Ей промоют желудок, а когда она придет в себя, никто не поверит в то, что она начнет рассказывать, впрочем, всем на это будет наплевать. В больнице ей исправят те повреждения, которые ты сделал. Остается только перенести этого мастодонта в постель. Она была ужасно тяжелой. Они почти выбились из сил, пока им удалось приподнять ее и положить. Дип вложил таблетки ей в рот, налил в него воды, которая потекла ей в горло. Она начала захлебываться. Вода и таблетки показались на губах и покатились по лицу. Дип снова вложил их ей в рот и повторил операцию. На этот раз Робин приподнял ей голову, чтобы она не задохнулась. В мокрой от пота рубашке он смотрел, как старается Дип, чтобы таблетки исчезли в горле. — Порядок, смываемся, — сказал Дип. — Подожди… Он вынул платок из кармана и начал протирать те места, к которым они прикасались руками, чтобы стереть отпечатки пальцев. Он подмигнул Робину: — Полицейские фильмы, в которых я снимался, все-таки научили меня кое-чему. Я знаю все их штучки. — Он обежал взглядом комнату. — Думаю, все в порядке. Затем взял сумочку пальцами через платок и просмотрел содержимое. — Вот документ. Ее зовут Анна-Мария Вуд, живет на Блэкер-стрит. — Дай мне адрес. Робин взял права, записал имя и адрес. Они осторожно вышли из комнаты. Удача продолжала им улыбаться. На улице не было ни одной живой души. Дип позвонил, но Робин отказался уйти, пока не удостоверится, что скорая помощь прибыла. Они остались ждать, спрятавшись в арке на другой стороне улицы. Через десять минут раздались сирены, и три полицейские машины остановились перед зданием. Через две минуты приехала скорая помощь. Сразу же собралась большая толпа. — Пойду взгляну, жива ли она еще, — прошептал Робин. Он пересек улицу и протиснулся в толпу зевак. Через некоторое время два санитара вышли из здания с носилками. Голова девушки не была накрыта: значит, она была еще жива. Скорая помощь поехала на красный свет, включив сирену. Толпа рассосалась. Робин вернулся к Дипу. — После такого бурного вечера иди спать… Один. — Дип, что я могу сделать для тебя? Проси меня о чем угодно. — Только о самой малости. Мы с Поли выкрутимся. Но если бы ты мог представить нас в сентябре в «Мыслях вслух» перед нашей премьерой в Персидском зале, это было бы шикарно! А теперь сматываемся отсюда, и каждый садится в отдельное такси. Приехав к себе, Робин выпил снотворное и лег спать. Через час он принял еще одну таблетку и запил ее водкой. Спустя некоторое время он провалился в глубокий сон. Проснувшись на следующее утро, он позвонил доктору Арчибальду Гоулду: — Робин Стоун у телефона. Я готов рискнуть. (обратно)
Глава 24
Сидя перед доктором Гоулдом, Робин казался расслабленным и прекрасно владеющим собой. Выслушав своего пациента, доктор спросил: — Вам уже доводилось дать подцепить себя проститутке? — Никогда. — А вам этого хотелось? — Никогда. — Вы мне сказали, что отказали более привлекательной. Почему вы пошли за этой? Робин раздавил сигарету в пепельнице. — Именно поэтому я и здесь. Она была брюнеткой. Отблеск интереса промелькнул в глазах Арчи. — Вы решили подвергнуться испытанию из-за Мэгги? — Я не понимаю, что вы хотите сказать. — Вы потеряли бы всего пятьдесят долларов, если бы у вас не было эрекции с проституткой. Робин покачал головой. — Нет, я не думаю, чтобы речь шла об этом. Когда она ко мне прицепилась, в моей голове произошел какой-то странный взрыв. Как только я пошел за ней, мне показалось, что я нахожусь в полубессознательном состоянии, что мне все мерещится. Арчи просматривал свои записи: — Я говорил, что хотел бы привести вас в гипнотическое состояние. Это наилучшее решение. — Но это же смешно! Достаточно просто поговорить. — Я не хочу терять ни свое время, ни ваши деньги. Самое лучшее — усыпить вас и записать вашу речь на магнитофон. Затем вы прослушаете свои ответы и, может, они дадут нам какой-то ключ. — Он заметил, что Робин помрачнел. — Когда вы приходили в январе, мы столкнулись с блокировкой. Вы неспособны вспомнить ваше раннее детство. По моему мнению, это не потому, что вы отказываетесь вспоминать, а потому, что не можете. С другой стороны, до сих пор вы отделяли сексуальность от любви. Вы неспособны их примирить. То, что вы испытываете к Мэгги, это желание любить. Но плотская любовь кажется вам кровосмешением. Нужно узнать, почему. Все, что вы рассказали до сих пор, не дало мне никакой ниточки, и я верю, что вы ничего от меня не скрываете. Сколько вам лет, Робин? — В следующем месяце будет сорок один. — Вы никогда не думали жениться? — Нет. Почему у меня должны быть подобные мысли? — Каждый мужчина естественным путем приходит к тому, что когда-нибудь женится. Когда вы впервые осознали, что хотите прожить жизнь один? — Не знаю. Мне кажется, я всегда так думал. — Вот мы и снова застряли, — победоносно произнес Арчи, — Вы не знаете, вы так думали. С каких пор? Почему? Вы прекрасно видите, что мы должны возвратиться в прошлое, — Арчи встал. — Робин, мы ходим кругами. На сегодня, думаю, этого достаточно. Возвращайтесь завтра. Как вы думаете, сможете ли уделить мне завтра три часа? — Три часа? — Да. Я хочу вас усыпить и записать на магнитофон. Затем мы вместе прослушаем пленку, и я думаю, подойдем к корню проблемы. — Тогда скорее вечером. Где-то после шести, идет? — Я жду вас завтра в шесть часов.На следующее утро Робин пробежал газеты, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь по поводу Анны-Марии. Наконец он нашел заметку на пятой странице «Ньюс». «Вызванная анонимным звонком полиция обнаружила в меблированной комнате на 58-й улице женщину, которая подверглась гнуснейшему избиению. Она не проживает в этой комнате и не смогла дать никакого объяснения, каким образом очутилась там. Следствие установило, что это проститутка. Женщину отвезли в больницу в Бельвю. Она утверждает, что не знает личности агрессора. Ее состояние не вызывает беспокойства. Она покинет больницу завтра.» Робин пошел в банк, выписал чек на две тысячи долларов, который обменял на мелкие купюры, и отправил их в коммерческом конверте на адрес Анны-Марии. Хотя у него и были сомнения по поводу гипноза, он явился к доктору Гоулду в шесть часов вечера, как было договорено. Увидев магнитофон, он беспокойно вздрогнул. — Вы действительно думаете, что это получится? — Надеюсь, — ответил Арчи. — Снимите пиджак и развяжите галстук. Робин взял сигарету. — Чтобы лучше себя чувствовать, — с иронией произнес он, — мне нужно лечь на диван? Я соглашусь даже на это для пользы дела. — Нет. Садитесь на этот прямой стул и курите. Робин, вы не будете сопротивляться? — Ну, конечно. Ни мне, ни вам не имеет смысла терять время. — Прекрасно. Теперь постарайтесь ни о чем не думать. Сосредоточьте ваше внимание на этом морском пейзаже на стене. Вы видите только воду… Ваши ноги расслаблены… Вы их не чувствуете… Ваши ноги совсем невесомые… Ваше тело тяжелеет… Вы чувствуете себя, как в невесомости… Ваши руки опустились… Голова и виски легкие, ясные… Сейчас вы закроете глаза… Закройте глаза, Робин. Теперь… Вы не видите ничего, кроме черного цвета… бархатистого черного цвета… Вы спите… спите… Робин почувствовал, что доктор Гоулд убавил свет. Он был уверен, что ничего не получится, но послушался. Он уставился на этот чертов морской пейзаж и повторял, что теряет всякую чувствительность. Он слышал голос Арчи. Ничего не получится. Темнота в глазах все сгущалась, веки тяжелели… ничего не получится… Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на диване. Сел, рассеянно обвел глазами комнату, вытащил сигарету из кармана и попытался закурить. — Как я здесь очутился? Десять секунд назад я сидел на стуле. — Нет, два с половиной часа. Робин вскочил. — Который час? — Без пятнадцати девять. Вы пришли в шесть. Робин с недоверчивым видом повернулся к врачу. Арчи улыбался. — Ради всего святого! — воскликнул Робин. — Дайте мне это послушать. — Нет, — Арчи покачал головой. — На сегодняшний вечер достаточно, я хочу вначале сам прослушать пленку на свежую голову. Я передам ее вам завтра. — Я сказал что-нибудь важное? — Вы были немыслимо откровенны. — Тогда отдайте мне пленку. Как вы хотите, чтобы я спал в эту ночь? Доктор Гоулд положил две таблетки в конверт. — Выпейте это дома, и вы уснете. Можете прийти завтра в шесть вечера? — Конечно. Таблетки оказали свое действие. Он провел спокойную ночь, но весь следующий день без конца курил и не был способен сосредоточиться на работе. Придя к доктору Гоулду, он почувствовал, что его нервы на пределе. — Робин, — сказал Арчи, — перед тем, как начать, я хочу, чтобы вы вбили себе в голову: в состоянии гипноза все люди говорят правду. Голос, который вы услышите на этой пленке, будет вашим. Местами он может показаться вам немного странным, так как я отошлю вас в детство, и вы будете говорить как ребенок. Но я хочу, чтобы вы слушали беспристрастно и не оспаривали то, что услышите. — Доктор Гоулд подошел к магнитофону. — Готовы? Робин кивнул и сел. Магнитофон начал гудеть, затем послышался голос психиатра.
Доктор Гоулд: Робин, вы спите… вы слышите мой голос и сделаете то, что я вам скажу. Встаньте со стула, Робин, идите к дивану… Хорошо. Теперь лягте… Мы возвратимся в прошлое… Очень далекое прошлое… Робин, ты маленький мальчик… Тебе пять лет… Ты в своей кровати… Робин: Да, я в кровати. Сидя на краю стула, Робин раздавил сигарету. Боже мой, голос был более молодой, более звонкий, но это был его голос! Доктор Гоулд: Ты в кровати. Как выглядит эта кровать? Робин: Это красивая маленькая кроватка. Китти целует меня и говорит: «Спокойной ночи». Доктор Гоулд: Робин, тебе четыре года. Ты в кровати… (молчание)… Робин, тебе четыре года… Тебе четыре года… Робин: Почему вы зовете меня Робин? Я Конрад. Доктор Гоулд: Очень хорошо, Конрад. Тебе четыре года, ты в кровати… Что ты видишь? Робин: Мама в кровати вместе со мной, но… Доктор Гоулд: Но что? Робин: Она говорит, что останется со мной, но как только я засыпаю, она уходит. Она покидает меня каждый вечер. Доктор Гоулд: Откуда ты знаешь, что она тебя покидает? Робин: Потому что я всегда просыпаюсь и слышу, что она в другой комнате вместе с ними. Доктор Гоулд: С кем — с «ними»? Робин: Я не знаю. Доктор Гоулд: Где твой папа? Робин: У нас нет папы. Доктор Гоулд: У нас? Робин: У мамы и у меня… У нас никого нет. Только мы вдвоем… И они. Доктор Гоулд: Кто это — «они»? Робин: Чаще всего это Чарли. Иногда другие. Доктор Гоулд: Они приходят повидать твою маму? Робин: Да, но … Они ждут, когда я засну. Доктор Гоулд: Что ты делаешь, когда слышишь, что они в другой комнате? Робин: Теперь ничего, с тех пор, как Чарли ударил меня по лицу. Доктор Гоулд: Когда Чарли тебя ударил? Робин: Недавно… Я вошел в комнату и увидел его на диване, он лежал сверху на маме. Доктор Гоулд: С тех пор, как Чарли тебя ударил, твоя мама все еще ходит в салон, когда ты спишь? Робин: Да, но не с Чарли. Она не разрешает ему приходить, так как он дал мне пощечину. Я единственный мужчина, которого она любит… Мы с ней вдвоем в целом мире… Никто нас не любит… Доктор Гоулд: Сколько тебе лет? Робин: Мне будет четыре года завтра, двадцатого августа. Мама повезет меня в Бостон посмотреть на голубей в парке. Доктор Гоулд: Где ты живешь? Робин: В Провайденсе. Доктор Гоулд: Ты будешь праздновать свой день рождения со своими друзьями? Робин: У нас нет друзей. Только мы вдвоем. Доктор Гоулд: Роб… Конрад, прошла неделя после твоего дня рождения. Что ты делаешь? Робин: Я все еще злюсь на маму. Доктор Гоулд: Почему? Робин: Какой-то дядя пришел в день моего рождения. Он постучал как раз в тот момент, когда мы собирались ехать в Бостон. Мама сказала ему, что мы уходим… Чтобы он пришел вечером. Он дал ей денег и сказал, что его кто-то послал. Мама дала мне полдоллара и сказала купить мороженое на углу улицы и посидеть на ступеньках. Она запретила мне входить в дом, пока меня не позовет. Я послушался. Я только начал есть мороженое, как большой мальчик, который шел мимо, украл его у меня. Я бегом возвратился… Мама была в нашей кровати… Этот дядя лежал рядом с ней. Я рассердился на нее. Днем ведь не спят. Это был мой день рождения. Она закричала… Она сказала мне уйти… (длительное молчание). Доктор Гоулд: Конрад, тебе все еще четыре года. Сегодня День Благодарения. Что ты делаешь? Робин: Мама приготовила утку. В семьях, где много народу, едят индейку. Но у нас совсем маленькая семья, только мы вдвоем, поэтому мы едим утку. Зато у нас соус из брусники, из настоящей брусники… И мама готовит утку точно так же, как делала ее мама, когда была маленькой девочкой и жила в Гамбурге. Доктор Гоулд: Конрад, ты был в Гамбурге? Робин: Нет. Там родилась моя мама. В Гамбурге много моряков. Там она встретила его. Он привез ее в Америку и женился на ней. Доктор Гоулд: И тогда ты родился? Это твой папа? Робин: Нет. Его убили. Это не был мой папа. Это был дядя, который просто женился на маме. Он был ни на что не годным. Она так мне сказала. Он водил грузовик и продавал виски. Это было запрещено. Однажды ночью всех, кто был в грузовике, убили. Мама осталась одна. Вы понимаете, у нее не было маленького Конрада… Никого. Но мистер, который владел всеми грузовиками, сказал маме не беспокоиться, потому что он будет присылать к ней дядей, которые ее успокоят и дадут денег. Через год появился я. Меня послал Бог. Доктор Гоулд: Твоя мама сказала, кем был твой папа? Робин: Я вам уже сказал, у нас нет папы. Только мама и я. Мы часто переезжаем, потому что люди из полиции не любят, когда маленький мальчик живет один с мамой, без папы. Если они нас схватят, то отдадут меня в приют далеко от мамы, а ее отправят в Гамбург. Но она копит деньги, и когда-нибудь мы поедем в Гамбург вдвоем. Мы будем жить вместе с моей бабушкой… Я буду играть с другими детьми и больше не буду один. Доктор Гоулд: Конрад, прошла неделя после Дня Благодарения. Сейчас вечер. Что ты делаешь? Робин: Я в кровати, но мама в другой комнате с Жоржем. Он приходит к нам каждый вечер. Он говорит, что сделает нам паспорта, и каждый раз дает маме деньги. Доктор Гоулд: Кто этот Жорж? Робин: Один из дядей… Доктор Гоулд: Конрад, прошло две недели после Дня Благодарения. Сейчас вечер. Твоя мама с Жоржем? Робин: Нет… Теперь пришел он. Доктор Гоулд: Кто — он? Робин: Другой дядя. Я его не знаю. Я проснулся, так как почувствовал, что кровать пуста и понял, что мама в соседней комнате. Я был голоден, мне хотелось маленьких пирожных с кокосовыми орехами, которые мама хранит в холодильнике. Чтобы добраться до кухни, нужно было пройти через салон. Я вошел на цыпочках, потому что вспомнил, как Чарли дал мне пощечину… И мама рассердилась, что я не в постели… Доктор Гоулд: Кто был с твоей мамой? Робин: Я его раньше никогда не видел. Он стоял на коленях на диване… Склонившись над мамой. Доктор Гоулд: Что он делал? Робин: Он держал руки на маминой шее. Я смотрел, стараясь не шуметь. Он встал и ушел. И даже не сказал маме до свидания. Я подошел к дивану, она спала… Но она спала не как всегда, у нее были открыты глаза. Она делала вид, что спит. Когда я ее потряс, она упала с дивана и осталась лежать на полу. Ее язык странно высунулся изо рта и висел, а черные волосы были растрепаны. Я люблю спать на ее груди. Она мягкая и теплая под ночной рубашкой. Я не знал раньше, какая она. Ее грудь некрасивая без ночной рубашки. Я ее боюсь. Ее волосы слишком черные по сравнению с белым лицом. У нее странные глаза, которые смотрят на меня и как будто не видят. Мне страшно. Муттер! Мама… мама! (Молчание). Доктор Гоулд: Это следующий день. Где ты? Робин: В большой комнате… Все задают мне вопросы. Я хочу к маме. Они меня спрашивают, на кого похож дядя. Я хочу к маме. Я хочу к мамочке. Затем приходит большая тетя в белом и ведет меня в комнату, в которой много детей. Она говорит, что я буду жить здесь, и все остальные мальчики тут такие же, как и я… У них нет мам. Я спрашиваю, не поехала ли моя мама в Гамбург? Она отвечает, что нет. Какой-то мальчик говорит: «Твоя мама умерла». Я спрашиваю: «Моя мама на небе?» Большая дама в белом улыбается: «Нет. Только не твоя мама. Плохие женщины не попадают на небо, малыш. Она получила то, что заслуживала. Родить такого ребенка, когда ведешь подобную жизнь!..» Тогда я бросаюсь на большую даму… и бью ее… и бью ее. (Голос звучит пронзительно, затем, после короткого молчания, снова становится прежним). Все вокруг черное… Меня окружают люди. Я не плачу… Мама сказала, что я мужчина, а мужчины не плачут. Я не заплачу… Я ничего не скажу… Я не буду есть… Я не буду… Тогда им придется отправить меня к маме. Она так говорила… Они узнали, что у нас нет папы… и поэтому привезли меня в этот большой дом… вдали от нее. Но я не должен об этом думать и не буду их слушать… (Молчание). Доктор Гоулд: Конрад, это Новый год. Где ты? Робин (слабым голосом): Темно… я сплю… темно… темно… В моей руке трубочка, похожая на маленькую соломинку… но она не делает мне больно… ничто не делает мне больно… Я сплю… сплю… С тех пор, как злая дама с темными волосами бросила меня, чтобы уехать в Гамбург, я сплю… Она меня никогда не любила… Я буду спать. Я не буду думать о ней… это была плохая женщина. Доктор Гоулд: Конрад, прошло две недели. Где ты? Робин: Я сижу на большой кровати с бортом. Рядом со мной две тети в белом, и одна очень рада, что я сижу. Она спрашивает, как меня зовут… У меня нет имени. Я не знаю, кто я. Приходит дядя в белом халате и смотрит с улыбкой на меня. Он хороший… Они приносят мне мороженое… Доктор Гоулд: Сегодня день твоего рождения, тебе пять лет, Конрад. Где ты? Робин: Конрад? Кто такой Конрад? Меня зовут Робин Стоун, и я праздную свой день рождения. Мама, папа и все мои друзья смотрят, как я потушу свечи на торте. Доктор Гоулд: Ты любишь свою маму? Робин: Конечно. Я был болен… Вы знаете. Когда мама и папа пришли за мной в больницу, я их даже не узнал, так я был болен. Но теперь все позади. Доктор Гоулд: Как выглядит твоя мама? Робин: Она красивая и очень добрая. У нее белые волосы, и ее зовут Китти.Врач выключил магнитофон. — Остальное соответствует тому, что вы мне уже рассказали. Рождение Лизы и так далее. Робин сидел на стуле совершенно бледный, а его рубашка стала мокрой от пота и прилипла к спине. — Что это означает? Арчи посмотрел ему прямо в глаза: — Это довольно ясно, разве не так? Робин встал. — Сплошное вранье! — закричал он. Лицо врача выражало симпатию. — Я предвидел вашу реакцию. Сегодня утром, в девять часов, я позвонил в агентство в Провайденсе. Они просмотрели подшивки за 1928 год после Дня Благодарения и нашли эту заметку:
«Предупрежденная анонимным телефонным звонком полиция проникла в квартиру, где находился четырехлетний мальчик, спавший на груди задушенной женщины. Эта женщина была мертва уже около семи часов. Она несколько раз обвинялась в проституции, но не была осуждена. Полиция подозревает, что анонимный звонок был сделан убийцей, но не имеет никаких сведений о его личности. Ребенок — единственный свидетель, который видел убийцу, — не способен дать его приметы».— И все? — спросил Робин. — Нет. Вот еще одна заметка, датированная тремя днями позднее.
«Полиция хотела показать ребенку фотографии нескольких сексуальных маньяков, но он находится в шоковом состоянии, приведшем к потере памяти. Этот ребенок передан в муниципальную больницу в Провайденсе».Робин подошел к окну. — Итак, я больше не я. Я всего лишь незаконнорожденный, названный Конрадом. — Он обернулся и блуждающим взглядом посмотрел на Арчи: — Зачем вы все это сделали? Зачем? Я был более спокоен, когда ничего не знал. — Спокоен? Человек, который идет за проституткой и избивает ее до полусмерти? Спокоен тот, кто не способен иметь удовлетворительных отношений с женщиной? — Я бы всегда смог сдержаться и больше не ходить к проституткам. Я был счастлив. — Да неужели? Во-первых, я не уверен, что это снова не повторилось бы с другой проституткой или даже с несколькими. Отвергнув вас, Мэгги спровоцировала серию реакций. Когда эта женщина пристала к вам на улице, вы испытали старое чувство бессознательной ненависти к вашей матери, потому что она вас бросила, потому что она была «плохой женщиной», как вам сказали. В вашем мозгу произошел как бы взрыв, и вы действовали полубессознательно, подчиняясь обманному чувству любви и ненависти. — Почему ненависти? Этот малыш на магнитофоне любил свою мать. — Конечно, он ее любил. Он даже слишком сильно ее любил. У него в жизни больше не было никого. Но в момент шока, несмотря на свой возраст, он неосознанно догадался, что для того, чтобы выжить, ему необходимо ее возненавидеть. Однако ненависть была настолько болезненной, что он предпочел все забыть, впав в полную амнезию. Когда вы увидели эту проститутку, ваша бессознательная ненависть вышла наружу, точно так же, как когда вы встретили Мэгги, то испытали бессознательную любовь: любовь, которую испытывали к вашей матери. Кроме того, вы увидели в Мэгги очень красивую женщину, которую вы хотели. Но ваше подсознание от нее отказывалось. Вот почему вам нужно было напиться, чтобы переспать с ней. Когда ваше подсознание не обесчувствлено алкоголем, оно ассоциирует эту женщину с воспоминанием о матери. — А теперь, после вашего рассказа, если я выйду отсюда и встречу Мэгги, то у меня все пойдет как по маслу? — Все не так просто и особенно не так быстро. Позднее — да. Когда вы научитесь понимать свои инстинкты, желания, мотивы, вы выздоровеете. Тогда вам не нужны будут блондинки с безупречными манерами, чтобы возбуждать вас, с одной стороны, и красивые девушки типа Мэгги, чтобы любить их на расстоянии. Вы сможете давать и принимать любовь, как нормальный человек. — Арчи, мне скоро стукнет сорок один. Немного поздно изменять себя. Я лучше буду иметь дело с блондинками, когда у меня возникнет такое желание. — Робин согнулся на стуле: — Боже мой, я не я, и Китти не моя мать. Я не знаю, кто мой отец. Я даже не знаю, кто была моя мать. — Он попытался улыбнуться: — И я еще жалел Аманду! Я! Незаконнорожденный! Конрад кто? Я? — Вы — Робин Стоун. Имя не имеет большого значения. Сохраните то, что есть в вас хорошего и избавьтесь от плохого. — Плохое это что? — Ненависть к вашей настоящей матери. — О, это было бы прекрасно, — сказал Робин. — По крайней мере, мать Аманды сделала ее с одним типом. Моя же была шлюхой. — Бедная немка, брошенная одна в чужой стране. Ясно одно: мужчина, за которого она вышла замуж, был контрабандистом во времена сухого закона. Он был убит людьми из конкурирующей банды. Его патрон пришел на помощь вдове, бросив ее в проституцию. Эта женщина вас любила, Робин. Робин сжал кулаки: — Почему Китти не сказала мне правду? Почему она заставила поверить, что я ее ребенок? — Но это же понятно! Вы находились в шоковом состоянии. Почувствовав себя лучше, вы больше ни о чем не вспоминали. Сказать вам, что вы усыновленный ребенок, означало снова окунуть вас в прошлое, которое вы хотели стереть из своей памяти, несмотря на юный возраст. Наверное, Китти посоветовали ничего не говорить. — Арчи заметил отблеск гнева в глазах Робина. — Послушайте-ка, Робин, не делайте трагедии из своей судьбы. Вам очень повезло. Ваша мать вас любила. Китти вас любит. Она вас усыновила. Защитила, скрыв секрет вашего рождения. Человек, который был окружен такой любовью, не имеет права привередничать и ничего не давать другим. Робин встал. — Итак, если я правильно понял, я не имею права привередничать и распоряжаться своей жизнью? — Что вы хотите этим сказать? — Лиза знает правду… Она сказала мне одну вещь, которую я понимаю только теперь. Китти, естественно, тоже знает. Вероятно, она беспокоится по моему поводу: боится, как бы мои гены не проявили себя, и я не опустился бы. Понятно? С этого момента я ни в ком не нуждаюсь и ничего ни от кого не принимаю! Я найду выход сам! Он схватил свой пиджак и выбежал, хлопнув дверью. (обратно)
Глава 25
Мэгги потянулась, лежа в широкой кровати. Она улыбнулась, услышав баритон Адама, который пел в ванной комнате. Ей хотелось хорошо выспаться. Завтра воскресенье, и Адам обещал поработать с ней над новой ролью. Эта мысль пробудила в ней страх, который она испытывала с тех пор, как Карл Гейнц Брандт предоставил ей главную роль в своем будущем фильме. Адаму хорошо было говорить, что ей нечего опасаться, но мысль, что она будет работать под руководством Карла Гейнца, приводила ее в ужас. Все знали, что он обращался с актерами, как садист, и мог, не колеблясь, унизить самую знаменитую звезду, навязывая ей свою волю. Мэгги прогнала эту мысль и взяла с тумбочки последний номер «Вэрайати». По той или другой причине, но ей никогда не хватало времени на чтение ничего другого, кроме ежедневных рубрик, касающихся ее работы. Журналисты атаковали ее, так как она открыто жила с Адамом Бергманом на его вилле на пляже Малибу. Они прознали, что когда-то она была миссис Хадсон Стюарт, и теперь возмущались, что молодая приличная женщина пренебрегла брачными узами. Странно, но эта клевета поднимала ее престиж и придавала ей индивидуальность в глазах публики. А когда Карл Гейнц выбрал ее звездой будущего фильма, новая рекламная кампания, последовавшая за этим, сделала ее центром внимания. Один многотиражный журнал назвал ее «Дамой дюн» и поместил фотографию, на которой она с Адамом шла босиком по пляжу при свете луны. Ее окружал ореол тайны, так как она систематически отказывалась присутствовать на светских приемах. На самом деле, если она туда не ходила, то только потому, что страшно боялась их. Она была счастлива, что живет с Адамом, работает с ним и делит постель. Но ни он, ни она никогда не думали о браке и даже не касались этой темы. Вот о чем думала Мэгги, листая «Вэрайати». Дойдя до телевизионных новостей, она зажгла сигарету и внимательно изучила все статьи и особенно результаты опросов. На первом месте был Кристи Лэйн, передача Робина фигурировала в первой двадцатке. Последний раз она получила от него известие в феврале. В то время он готовил передачу о мире мод. Из письма, отпечатанного на машинке, она узнала, что ей предлагают гонорар в пять тысяч долларов и оплату всех расходов, если она согласится принять участие в демонстрации мод. Она напечатала письмо на бланке «Фильмы Сенчури», объясняя, что гонорары мисс Стюарт на телевидении составляют двадцать пять тысяч долларов, и что ее договор с кинофирмой запрещает ей в настоящий момент участвовать в любой передаче. Она подписалась: Джейн Бландо, секретарь мисс Стюарт. Адам вышел из ванной с завязанным на талии полотенцем. Она наблюдала, как он причесывается, и подумала, что ей очень повезло. Она обожала Адама. Но тогда почему ее неотступно преследовало воспоминание о Робине? Увы, да. Возможно, только Альфи Найт мог разобраться в ее чувствах. Альфред был влюблен в художника Гэвина Мура. Однако во время съемок фильма воспылал к ней страстью и стал звонить ей по любому поводу. Кончилось тем, что он однажды заявил: — Милочка, ты могла бы по крайней мере переспать со мной хоть один раз, чтобы я избавился от наваждения и снова стал счастливым гомосексуалистом, великолепно адаптировавшимся к своему состоянию. — Но, Альфи, ты ведь не влюблен в меня, — ответила она. — Конечно, нет. Я обожаю Гэвина. Это человек моей жизни… в настоящий момент. Но что ты хочешь, милочка, каждый раз, когда я снимаюсь, то должен сам себя гипнотизировать, чтобы влюбиться в свою партнершу и не вести себя с ней как педераст. К сожалению, иногда это получается слишком хорошо, и я вынужден нестись на Пальм Стринг, чтобы больше не думать о женщине. Но ты так хорошо удерживала меня на расстоянии, что теперь я не могу избавиться от мыслей о тебе. Она рассказала об этом разговоре Адаму. Он рассмеялся. — Ты должна пойти с ним на это, — сказал он. — Тем более, что он сумел подчеркнуть в фильме твои достоинства. Одержимость — одно из худших заболеваний. Или ей поддаются, или позволяют развиться так, что теряют рассудок. — Значит, ты мне разрешаешь переспать с Альфи? — шутя спросила она. Он серьезно ответил: — Только в моем присутствии. Она сама удивилась своей реакции: позвонила Альфи и повторила ему условие Адама. Альфи с энтузиазмом согласился. Он пришел на виллу на пляже, лег с ней и занимался любовью в то время, пока Адам лежал возле них. Самое странное, что она не испытывала никакого стыда. После нее он занялся любовью с Адамом, и теперь уже она наблюдала за ними. Все это происходило самым естественным образом в непринужденной обстановке. Затем все трое пошли на кухню, чтобы приготовить себе омлет. С тех пор Альфи превратился в лучшего друга. В конце концов, Адам, вероятно, был прав, так как отныне Альфи и Гэвин нежно любили друг друга. Что касается ее, то воспоминание о Робине Стоуне мучило ее постоянно. Впрочем, она была уверена, что когда-либо они возобновят отношения. Он, как обычно, накачается водкой, так как по-другому не сможет, а когда закричит: «Mutter, мама, мама…», она вскочит с постели и выплеснет кувшин холодной воды ему в лицо. Пусть потом попробует ей сказать, что ничего не помнит! Адам сбросил полотенце и подошел к ней, что тут же изменило ход ее мыслей. Когда они кончили заниматься любовью, то, держась за руки, побежали к океану. Возвратившись, они снова легли, и она, прижавшись к Адаму и мечтая о Робине, уснула. Они вылетели самолетом в Сан-Франциско, чтобы присутствовать на презентации фильма в частном прокате. В темноте она сжимала руку Адама, который ел воздушную кукурузу. Карл Гейнц сидел рядом с ними с молоденькой инженю. Несколько других актеров занимали соседние кресла. Мэгги смотрела на экран с неослабевающим вниманием, стараясь беспристрастно оценить свою игру. Она знала, что никогда в жизни не была такой соблазнительной, как на экране. Туалеты были фантастические. Адам укорял ее за то, что она была слишком худой, но на экране это производило впечатление. Мэгги беспокойно задвигалась в кресле при приближении большой финальной сцены и украдкой оглянулась. Невероятно! Все находились под впечатлением ее великолепной игры. Музыка заиграла громче и на экране появилось слово «конец». Адам схватил ее за руку и потащил в узкий проход. — Дорогая, — шептал он, — ты стала замечательной актрисой. Эта последняя сцена… действительно великолепна! Они вышли из зала в тот момент, когда публика уже рассосалась. Перейдя на другую сторону улицы, они остановились и стали ждать Карла Гейнца и остальных актеров. Мэгги была все еще очень взволнована, когда Карл Гейнц очень быстро устремился прямо к ним с сияющим лицом. Он протянул к ней руки и прижал к сердцу. Через неделю после частного проката ее агент Хью Мендел назначил ей свидание в «Поло Лаундже», отеле в Беверли Хилл. Он подождал, когда им принесут выпить, затем широким жестом бросил на стол проект контракта. — Нам повезло, мой ангел. Когда патроны «Сенчури» увидели твой последний фильм, они поняли, что не смогут тебя удержать с оплатой в семьдесят пять тысяч долларов. И вот дело сделано. Посмотри на это: двести тысяч долларов за каждый из двух следующих фильмов и триста тысяч за третий, более двадцати процентов прибыли. А теперь слушай, — продолжал Хью. — Ты начнешь сниматься в следующем фильме только в феврале. Тебе нужно вернуться на пробы пятнадцатого января. — Пятнадцатого января! А сегодня только десятое декабря! — Совершенно точно. Но мы приготовили тебе маленькие славные каникулы. Она подозрительно на него взглянула. Хью расхохотался. — Может, это и не совсем каникулы. Но иногда следует уступить в малом, чтобы выиграть в большом. Они собираются поднять шумиху вокруг твоего фильма в Нью-Йорке. — И что я должна буду делать? — Ничего страшного. Ты поедешь в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на премьере. Это все-таки не работа на заводе. Мэгги покачала головой. — Нет, я предпочитаю остаться и отдохнуть на пляже. — Мэгги. — Какое-томгновение Хью колебался. — Я не хочу, чтобы ты оставалась … с Адамом. Она заинтригованно вскинула голову. — И почему? Все знают, что я живу с ним. — Тогда поженитесь. — Но я не хочу выходить замуж. — Почему же ты живешь с ним? — Чтобы не быть одной. Я останусь с ним до тех пор, пока… — Пока ты не встретишь человека, который тебе нужен? Подумай, Мэгги. Ты можешь и не найти другого, пока будешь жить с Адамом. — Но я его нашла. Взгляд Хью выдал его удивление. — Я нашла его четыре года назад, — продолжила она, — но… — Но он женат? Она покачала головой. — Поговорим о другом, Хью. Я довольна своей работой и счастлива с Адамом. — Послушай, малышка, — тихо произнес Хью. — Мне шестьдесят лет. Я женат на Роде уже тридцать три года. Ей пятьдесят девять. Когда мы поженились, у меня была только маленькая контора. Рода была учительницей. Ей было двадцать семь лет, и она была девственницей, когда выходила замуж. Это меня не удивило. В то время девушки выходили замуж девственницами. Нынче ведь девственница в двадцать семь лет — это монстр, которого можно показывать на ярмарке. То же самое касается и верного супруга. Так вот, я один из этих монстров. У Родь десять килограммов лишнего веса, я, возможно, стал менее пылок, и вот уже два или три года мы не занимаемся любовью. Но мы живем хорошо. Наши дети выросли и принесли нам внуков. Мы по-прежнему спим в той же кровати и чувствуем себя счастливыми, лежа друг с другом. Иногда мы смотрим телевизор и держимся за руки. У тебя нет детей, Мэгги. Но у тебя есть зрители. Многие люди похожи на меня и думают, как и я. Они не заплатят и трех долларов, чтобы посмотреть на красивую девушку, которая плачет, потому что умирает и оставляет мужа и детей, если будут знать, что она живет с человеком, не имея кольца на пальце. — Я долгие годы соблюдала приличия, — хмуро возразила Мэгги. Хью глубоко вздохнул. — Мэгги, что с вами, со всеми молодыми, происходит? Я просто прошу тебя выйти замуж за Адама или жить отдельно. Спи с ним, бегай по пляжу, но, прошу тебя, не со-жи-тель-ствуй! Мэгги разразилась хохотом. — Согласна, Хью. По возвращении из Нью-Йорка я устроюсь здесь. А пока постарайся подыскать мне квартиру. — Это уже сделано. Совершенно случайно я нашел то, что тебе нужно: меблированную квартиру в Мелтон Тауэз. Четыреста долларов в месяц, телефон, в центре Беверли Хилл. Пойдем, я тебя туда провожу. Квартира понравилась Мэгги. Это действительно было то, что ей нужно: большой зал, полностью благоустроенная кухня, большая спальня, уголок с баром. У управляющего, который ее посетил, уже был составлен договор на ее имя. Мэгги не смогла удержаться от смеха, узнав, что Хью нашел квартиру до того, как сказал ей об этом. На следующий день Адам помог ей перевезти вещи и возвратился к себе на пляж. Он работал над сценарием нового фильма. Проведя два дня в одиночестве в своей квартире, Мэгги больше не могла усидеть на месте. Она позвонила Хью и сказала, что если в «Сенчури» все еще согласны платить, то она поедет в Нью-Йорк заниматься рекламой. Адам проводил ее в аэропорт. Она снялась для пресс-атташе авиакомпании. Затем Адам предложил ей выпить в баре. — Я должен много работать над фильмом и возвращусь не раньше, чем через три месяца, — сказал он. — По возвращении перееду к тебе. Твоя квартира мне нравится. Впрочем, на пляже в марте холодно. Мэгги рассматривала самолеты, которые медленно кружились над аэродромом. — Ты в курсе того, что мне сказал Хью? Он улыбнулся. — Передай ему, что я добропорядочный еврей. А может, поженимся, Мэгги? Почему бы и нет? У нас может получиться. Но если я буду время от времени срываться, ты не будешь злиться? — Я не так представляю себе брак, — медленно произнесла она, пытаясь не сорваться на грубость. — Ты хочешь образцовый незапятнанный союз, такой, как был когда-то у тебя с мужем в Филадельфии? — Нет, но я не хочу, чтобы ко мне относились так же, как к мебели или квартире. Я хочу, чтобы ты ревновал меня, Адам. — Ты не закрыла глаза, когда Альфи был с нами в постели? — Неужели ты ничего не понимаешь? Это была не совсем я. Он посмотрел ей прямо в глаза. — Хватит дурить, Мэгги. Никто не может изменить прошлое. Девица, которая спала с Альфи, это ты. Даже если сейчас будешь делать наивные глаза и объяснять, чего ждешь от брака. То, что мы пережили на пляже, это и есть супружеская жизнь таких людей, как мы. Он принял ее молчание за согласие и погладил ее. — Мы поженимся, когда я вернусь из Аризоны. Сразу же после отъезда я дам сообщение в прессу. — Только не делай этого! — возмущенно воскликнула она, отдернув руку. — Я не собираюсь искалечить свою жизнь с тобой под предлогом, что моя работа — искусство. Это способ зарабатывать на хлеб. Я жду другого от жизни и не соглашусь с тем, что можно предаваться различным сексуальным отклонениям только потому, что мы артисты. Я хочу мужа, а не молодого известного режиссера, который курит гашиш и спит время от времени с мужчиной из-за снобизма. Выражение лица Адама стало жестким. — Ну, что ж, ты не подсластила мне пилюлю. Спасибо. — Он вздохнул. — Между нами все кончено. — Возможно, мы никогда и не начинали, Адам. — Удачи, Мэгги. Дом на пляже всегда открыт для тебя. Сид Гофф, пресс-атташе «Сенчури», встретил Мэгги в аэропорту Кеннеди. Фотографы ослепили ее вспышками. Сид взял в руки ее багаж и проводил к длинному черному лимузину, взятому напрокат компанией. Журналисты толпой следовали за ними, выкрикивая вопросы и продолжая осаждать ее, пока чемоданы укладывали в багажник. Машина выехала из аэропорта, сопровождаемая последней вспышкой. Мэгги откинулась на спинку сиденья и расслабилась. — Не слишком обнадеживаетесь, — вздохнул Сид Гофф. — Может, в газетах ничего и не будет. — Что вы хотите сказать? — Следующим рейсом прибывает Диана Вильяме. Возможно, ей отведут все места в завтрашних газетах. — Я думала, что она снимается в каком-то тележурнале. — Передача провалилась. Теперь ее охватило желание сыграть в театре на Бродвее. Ее пригласил Айк Райан. Репетиции начинаются в феврале. — Не волнуйтесь. «Сенчури» нужно, чтобы в прессе были отклики с премьеры. — Это вы так думаете! — возразил Сил с мрачным видом. — Если в завтрашних газетах не будет ваших снимков, мне не нужен будет телефон, чтобы услышать, как орут патроны в Калифорнии. — Он порылся в карманах и вытащил отпечатанную на машинке программу. — У нас предусмотрено много встреч и интервью с журналистами. Если я правильно понял, вы можете остаться до четырнадцатого января. «Сенчури» оплачивает расходы. Номер в «Плазе» зарезервирован до двадцать шестого декабря. Если вы захотите остаться, сразу же предупредите администрацию отеля. Мэгги принялась изучать программу. — Но это невероятно! Даже на Рождество я не свободна! Здесь два приема, на которых я должна присутствовать. — Джон Максвел — один из самых крупных акционеров «Сенчури». Безусловно, что среди гостей будут богачи, но он любит знаменитостей и настоял на том, чтобы вы были. Второй прием в «Форуме». Там будет вся пресса. Айк Райан приглашает ее в честь Дианы Вильяме. — Я никогда не хожу на приемы, — заявила Мэгги. Сид Гофф ошеломленно посмотрел на нее. Он не верил своим ушам. — Мисс Стюарт, мне сказали, что ваш агент отдал вас в распоряжение «Сенчури», чтобы участвовать в запуске фильма и приобрести как можно больше известности. «Сенчури» оплачивает ваше путешествие и пребывание. — Я это прекрасно понимаю и согласна на интервью и телевыступления. Но ничто не обязывает меня присутствовать на вечерах акционеров. Если мистер Максвел очень хочет выставить меня напоказ, то мой гонорар будет двадцать пять тысяч долларов за вечер. Сид Гофф наклонился вперед, словно любуясь носками своих туфель. — Согласен, мисс Стюарт. Относительно Джона Максвела вы, возможно, правы. Никто не может заставить вас идти к нему. Но что касается раута Дианы Вильяме, то это совсем другое дело. Там будет очень много прессы. Я прошу вас, пойдите туда, хотя бы только для того, чтобы засвидетельствовать свое присутствие. Она смягчилась, заметив, как он встревожился. В конце концов, это было его работой. Поскольку у нее было четыре свободных дня до первых интервью, она пригласила своих родителей в Нью-Йорк, завалила их билетами в театр и пригласила на обед. Ее родители вернулись в Филадельфию накануне Рождества в восторге от необычной популярности их дочери. На Рождество одиночество показалось ей невыносимым. Внезапно перспектива пойти в «Форум» чествовать Диану Вильяме ее почти обрадовала. По крайней мере, она хоть вырвется из этого отеля. Сид Гофф пришел в пять часов. — Мы пробудем там не больше часа, — пообещал он. — Потом вы сможете удрать к друзьям и делать все, что захотите. — А вы, Сид, что вы собираетесь потом делать? — Я, как и вы… исчезну по-английски, чтобы присоединиться к своим. Они будут ждать меня, чтобы вместе сесть за стол. Толпа заполнила «Форум». Когда она выходила, ее ослепило несколько фотовспышек. Пресс-атташе Айка Райана удалось снять ее с Айком и Дианой Вильяме, вид которой ошеломил Мэгги. Диане должно было быть не больше сорока, но она казалась преждевременно постаревшей. Она выглядела тонкой, даже хрупкой. Ее чрезмерное возбуждение граничило с истерией. Она казалась слишком сердечной, слишком восторженной, а в ее апельсиновом соке была хорошая доза джина. Мэгги шла от бара по направлению к двери, как вдруг столкнулась лицом к лицу с загорелым высоким мужчиной. Вначале он недоверчиво взглянул на нее, потом его глаза улыбнулись. Она тоже не ожидала встретить его. Робин Стоун, чествующий Диану Вильяме в день Рождества! Он схватил ее за руки с радостным видом. — Привет, звезда! — Привет, Робин. — Она взяла себя в руки и холодно посмотрела на него. — Великолепно! Мэгги, вы великолепны. Сид Гофф незаметно отошел в сторону, но Мэгги вспомнила, что он мечтал об индюшке, которая ждала его на семейном столе. — Я убегаю, — сказала она. — У меня еще другие встречи. Он улыбнулся с понимающим видом. — Я тоже пришел по делам. Пытаюсь завербовать Диану Вильяме для своей передачи. Это не так-то просто будет осуществить, даже если она согласится. К счастью, Айк Райан один из моих друзей… — Он замолчал и вдруг сказал: — Извините, Мэгги. Мне нужно было бы сказать, как я счастлив вас видеть. Она засмеялась, повернула голову и посмотрела на Диану. — Неужели она еще чего-нибудь стоит? — спросила Мэгги. Робин странно взглянул на нее. — Вы уже судите о людях по критериям Голливуда. Я думал лучше о вас. Диана Вильяме не относится к обычным людям. Даже не в слишком хорошей форме она стоит больше, чем большинство голливудских звезд в их апогее. Вот уже двадцать лет прошло с тех пор, как она дебютировала на Бродвее. Ей было тогда семнадцать. Чтобы сделать карьеру, она не пользовалась услугами опытных операторов и пресс-атташе, — Мне уже пора уходить, — холодно произнесла Мэгги. Он схватил ее за руку. — Что за тема для разговора! Как мы до этого докатились? — Он улыбнулся. — Поговорим о главном. Когда мы встретимся? — Не знаю. — Внезапно в ней проснулось чувство противоречия. — Завтра вечером премьера моего нового фильма. Хотите посмотреть, что делают прожекторы и пресс-атташе? Мне нужен услужливый кавалер. — Я ненавижу ходить в кино в черном галстуке. Я хожу туда, чтобы расслабиться и поесть воздушной кукурузы. Вы свободны послезавтра? — Речь идет о завтрашнем вечере, — холодно ответила она. — Я не строю далеко идущих планов. С минуту они молча смотрели друг на друга, затем Робин улыбнулся. — Ладно, мой ангел. Ради вас я обойдусь без кукурузы. В котором часу и где? — В восемь вечера в «Плазе». Фильм начинается в половине девятого, но вначале будет телевидение. К сожалению, я должна пройти через это. — Не волнуйтесь. Я буду в восемь часов.Без пяти восемь она начала нервничать, но тут же успокоила себя тем, что ей нечего волноваться. Робин был слишком воспитанным, чтобы ее подвести. Ровно в восемь часов зазвонил телефон. Робин ждал ее в холле. Она последний раз посмотрелась в зеркало. Без сомнения, он найдет ее ужасной в этом белом платье, украшенном жемчужинами (взятыми взаймы на киностудии), с этой белой норкой (взятой напрокат киностудией у меховщика в Голливуде), черными волосами, удлиненными с помощью накладок (одолженными парикмахером киностудии, который приехал вечером в отель, чтобы сделать прическу, которая была у нее в фильме). «Кошмар!» — сказала она себе в лифте. Ее волосы были слишком пышными. А серьги с изумрудами и бриллиантами (тоже взятыми напрокат и застрахованными на огромную сумму) создавали у нее впечатление, что ее голова непомерно тяжела для тела. Робин улыбнулся, увидев ее, когда она выходила из лифта. Он даже слегка покачал головой с одобрительным видом. Они не обменялись ни единым словом, пока шли через кордон поклонников, которые, не обращая внимания на холод, делали моментальные снимки и клянчили автографы. Когда они, наконец, сели в машину, Мэгги откинулась назад, но тут же выпрямилась. — Кошмар, я потеряю свои накладные волосы! Робин тоже засмеялся. — Мне показалось, что со вчерашнего дня они выросли. — Это не слишком? — неуверенно спросила она. — Вы великолепны! Считайте, что все это костюмированный бал. Впрочем, оно так и есть. Вы играете роль звезды. Шумная толпа перед кинотеатром достигла ужасающего размера. Деревянные заграждения и кордон полицейских оттесняли толпу. Прожектор, смонтированный на грузовике, который стоял на другой стороне улицы, был направлен на красный ковер, устилающий путь от шоссе до входа в кинотеатр. Когда машина Мэгги подкатила к ковру, корреспонденты бросились вперед, толпа заорала от радости и прорвала кордон полицейских. Несколько нетерпеливых рук протянулись вперед, чтобы дотронуться до белой норки, а в это время голоса скандировали: «Мэгги! Мэгги!» Сид Гофф и еще один пресс-атташе стали по обе стороны от нее, чтобы защитить от толпы. Мэгги поискала взглядом Робина. Он исчез. Ее охватил ужас, как вдруг она почувствовала, что ее тащат к высокому человеку, размахивающему микрофоном. Она не могла больше прятаться. Вспышки сверкали со всех сторон. Ее окружили телевизионные прожекторы, камеры приближались. Боже, но где же Робин? Затем Сид Гофф потащил ее, совершенно растерянную, в вестибюль, где их ожидал Робин. Он взял ее под руку, не обращая внимания на элегантно одетую публику, которая смотрела на них. Едва Мэгги добралась до своего кресла, как толпа хлынула в зал, словно только и ждала этого сигнала. В начале последней сцены Сид Гофф появился в узком проходе и сделал им знак. Они добрались до него, наступая на ноги и чуть не падая на колени своим соседям. Затем помчались к машине и добежали до нее как раз в тот момент, когда двери открылись и выпустили толпу приглашенных. Робин взял ее за руку. — Вы блестяще справились, и в этом фильме вы великолепны. А теперь скажите: голгофа продолжается или вы свободны? — Еще ужин с шампанским в отеле «Америкэн». — Понятно. Они рассмеялись. Внезапно ее ужаснула перспектива сидеть за столиком в ярко освещенном праздничном зале с Карлом Гейнцем и его женой. — Я не пойду туда, — заявила она. — Очень мило. Поужинаем в нашем отеле? — Нет. У меня идея получше. Сначала нужно как можно скорее спрятать эти серьги в шкатулку, и если я не избавлюсь от этих волос, у меня будет мигрень. А если я натяну брюки, и мы пойдем в «Эль Марокко»? — Еще никого не осеняла такая великолепная мысль. У меня тоже есть желание переодеться. Вот что я предлагаю: я оставлю машину вам, заскочу к себе, а когда вы будете готовы, то заедете за мной. Через двадцать минут она сидела в машине в полотняных брюках и в белом пальто из каракуля. На ней были черные очки. Она нервно курила, пока ехала к Робину по набережной. Робин ждал у двери дома. Увидев ее, он подошел к машине. На нем был белый свитер и серые брюки. — В «Эль Марокко» очень много людей, — сказал Робин, усаживаясь рядом с ней. — А если мы поедем в «Лансер»? Она согласилась, и на такси они направились к 54-й улице. В зале никого не было, кроме молодого парня и девушки, которые, держась за руки, пили пиво в кабине в глубине зала. Проходя мимо стойки, Робин заказал скотч для Мэгги, мартини для себя и две большие отбивные. Затем он проводил ее к отдельному столику и поднял свой бокал. — Этот фильм принесет вам славу, Мэгги. — По вашему мнению, я играю хорошо? — Во всяком случае, критики в этом будут абсолютно убеждены. — Это значит, что вы так не думаете? — Не все ли равно. — Я любопытна, — сказала она, смеясь. Он минуту размышлял. — Милая, как актриса вы не хватаете звезд с неба. Но это ничего не значит. Вы фотогеничны, как богиня. Вас ждет прекрасное будущее, — он взял ее за руку. — Слава Богу, что вы всего лишь очаровательная женщина, которой необычайно посчастливилось найти неожиданный трамплин. В вас нет ничего неуравновешенного. Вы абсолютно идеальная женщина, которую мечтает встретить каждый мужчина. Был уже час ночи, когда они покинули «Лансер». — Вы завтра заняты? — спросил он. Она покачала головой. — Я свободна с этого вечера. Он искренне обрадовался. — До какого числа вы пробудете в Нью-Йорке? — До четырнадцатого января, если захочу. — Что касается меня, то я этого хочу. Машина остановилась перед «Плазой». Робин с серьезным видом спросил ее: — Мы смогли бы завтра вместе пообедать? — Я была бы рада, Робин. Он ласково ее поцеловал и проводил до лифта. — Я позвоню до двенадцати. Спокойной ночи. Телефон зазвонил в одиннадцать часов. Это, конечно же, был Робин. Пусть немного потерпит, она хотела быть совершенно проснувшейся, когда будет разговаривать с ним. Но когда Мэгги сняла трубку, то услышала голос администратора, который самым естественным тоном спросил у нее, когда она собирается освободить номер.. — Но я не уезжаю, — недовольно ответила она. — Я остаюсь еще на две недели. Она повесила трубку, взбила подушку и легла, чтобы еще поспать. Ей не хотелось просыпаться до тех пор, пока не позвонит Робин. Телефон зазвонил снова. На этот раз это был заместитель директора, который заговорил с ней любезным тоном. — Мисс Стюарт, ваш номер снят только до сегодняшнего дня. Было оговорено, что вы должны нас предупредить, если захотите остаться. К сожалению, с сегодняшнего дня у нас все занято. Если бы вы нам сказали… Это окончательно разбудило ее. Боже! Она забыла. Ну и пусть! Она найдет другой отель. Замдиректора намеревался ей помочь. Он лично попытается найти ей что-нибудь. Через пятнадцать минут он позвонил снова. — Сожалею, мисс Стюарт, но везде занято. Я не решился звонить в отели второго разряда, не посоветовавшись с вами. — Не надо, большое спасибо. Может быть, «Сенчури» мне поможет. Она позвонила Сиду Гоффу и изложила ситуацию. Он казался озадаченным. — Мэгги, я же просил вас предупредить их. Хорошо, я сейчас позвоню в несколько мест. Мэгги укладывала чемоданы, когда позвонил Робин. Она объяснила, что ее выселяют. — Вероятно, я остановлюсь в Бруклине. Сид Гофф мне еще не перезвонил, но если он ничего не найдет, то больше никто не сможет меня выручить. — Передайте ему, чтобы он ничего не искал. Я сам займусь вами. Через двадцать минут он позвонил из холла и сказал ей спускаться с вещами. Перед отелем стояла машина. Когда они сели, Робин назвал адрес шоферу. Мэгги вопросительно на него посмотрела. — Это не «Редженс», — сказал он, — но у меня есть домработница, которая приходит ежедневно, и моя квартира достаточно комфортабельна даже для такой звезды, как вы. Я же буду ночевать в своем клубе. — Робин, я не могу на это пойти. — Это я иду на это, а не вы. Квартира Мэгги понравилась. Ее глаза непроизвольно остановились на широкой двуспальной кровати, и она подумала про себя, сколько женщин спало на ней. Робин вручил ей ключ. — Вы можете приходить и уходить, когда пожелаете. Я зайду за вами, чтобы пойти пообедать. — Он указал пальцем на бар. — Вместо квартирной платы я прошу только одну вещь: если вы хотите мне понравиться, научитесь готовить мартини с водкой. Один децилитр водки, одна капля вермута и никакого лимона. Я люблю маслины. Она послушно сделала шаг к бару. — Мэгги, — он рассмеялся. — Сейчас только полдень. Аперитив, это на вечер. В семь часов бокалы с мартини были готовы. Мэгги купила две отбивные и замороженную спаржу. После ужина они посмотрели телевизор, устроившись на диване и держась за руки. В одиннадцать часов, когда началась информационная программа, он пошел на кухню за двумя банками пива. — Вы здесь, как дома. Когда вам захочется остаться одной, скажите мне. — Вы можете уйти, когда захотите. Он прижал ее к себе. — Я не хочу уходить. Он крепко обнял ее и поцеловал в губы. «Теперь, — подумала она, — я скажу ему, что у меня нет желания, что он меня не волнует.» Но она только крепче прижалась к нему и поцеловала. Очутившись в широкой постели, они, как сумасшедшие, набросились друг на друга. На этот раз водка была ни при чем. В кульминационный момент он не закричал: «Мама!», и ей не пришлось выливать ему на голову кувшин воды. Последние пять дней с Робином Мэгги чувствовала себя невероятно счастливой. Все вечера они ужинали вне дома. Иногда, выйдя из ресторана, они проделывали большую часть пути пешком. Один раз даже сходили в кино, но вечер, как и всегда, закончился в постели страстной любовью, после чего они заснули в обнимку. Проснувшись, Мэгги вспомнила об этом. Робин спал. Она выскользнула из постели и приготовила себе кофе, глядя на туман над рекой. Никогда еще она не была так счастлива, и впереди у нее было четырнадцать дней свободы. Но почему четырнадцать дней? Почему не вся жизнь? Робин ее любил. Это было очевидно. Они никогда не вспоминали ту ужасную сцену пробуждения в Майами. Мэгги догадывалась, что это была запрещенная тема. Но речь больше не шла о мимолетной любви. Робин был счастлив с ней, рядом с ней. Может быть, она должна сделать первый шаг? Ну, конечно, это нужно будет сделать. Он не мог потребовать, чтобы она бросила свою карьеру. Ей нужно дать понять ему, что она счастлива впервые в жизни. — Эта река ужасна пасмурным утром. Бесшумно войдя в кухню, он встал позади нее, наклонился и поцеловал в шею. Она повернулась и обняла его. — Прекрасная река! — сказала она. — Робин, я хочу выйти за тебя замуж. Он обнимал ее, улыбаясь. — Вот начало, предвещающее хороший Новый год. — У нас получится, Робин, я в этом уверена. — Возможно, но не сразу… — Если ты беспокоишься о моей карьере, знай, что я уже об этом подумала. Он улыбнулся и взялся за кофейник. — Я сейчас сварю яйца всмятку, — поспешно сказала она. — Апельсиновый сок готов. — Перестань разыгрывать супругу. Он пошел с чашкой кофе в спальню. Мэгги не пошла за ним. Сев за маленький столик, она завтракала и смотрела на реку. Он не сказал «нет»… но энтузиазма у него тоже не было. Через десять минут Робин вернулся на кухню. Она удивленно подняла голову. На нем был серый свитер, в руках он держал пальто. — Я вернусь через час, — сказал он. — У меня дело. Он наклонился, чтобы ее поцеловать. — Ты работаешь в Новый год? — Да. Послушай, Мэгги, я ни за что на свете не хотел бы что-нибудь тебе навязывать, но, как ты думаешь, сможешь ли выдержать коктейль в пять часов? — Коктейль? — Это новогодний коктейль миссис Остин. Я пробрасываю ее уже три года подряд. В прошлом году я хоть додумался послать ей телеграмму, но сейчас не могу открутиться. — Робин, но я отослала все нарядные платья. У меня ничего нет, кроме полотняных брюк и двух черных расхожих платьев. — Обожаю женщин, которые не обременяют себя багажом во время путешествий. Черное платье прекрасно подойдет. — Но оно шерстяное. Робин подошел, чтобы погладить ее по щеке. — Мэгги, ты великолепна в любом наряде. Он ушел. Было холодно, но Робин отправился пешком в консультацию Арчи Гоулда. Врач вначале отказался туда идти, но Робин настоял. Он был уверен, что Мэгги совсем не слышала, как он говорил по телефону. Врач и пациент пришли одновременно. — Робин, я никогда не утруждаю себя подобным образом ради моих обычных клиентов. Прошло восемнадцать месяцев как вы ушли, хлопнув дверью. А теперь я должен бежать к вам только потому, что вы утверждаете, что это срочно. Робин спокойно сел. — Мне нужен совет. Мэгги Стюарт в Нью-Йорке. Все идет великолепно. Она живет у меня. — Тогда нет проблем, — сказал Арчи, закуривая трубку. — Как бы не так! Она хочет выйти за меня замуж. — Почти все женщины хотят выйти замуж. — Это долго не продлится. Для таких девушек, как Мэгги, брак — это не только занятие любовью. За пять дней, что мы живем вместе, она рассказала мне всю свою жизнь. — А что сделали вы? — Я слушал, старина. И у меня не было желания открыться в свою очередь. Как бы я начал: «Кстати, моя милочка, меня зовут не Робин Стоун». — Это ваше законное имя. — Конечно, но во мне живет маленький незаконнорожденный, которого зовут Конрад. И это тоже я. Мэгги хочет не только замуж, но и иметь детей. — Вдруг Робин стукнул кулаком по столу. — Боже правый, Арчи, все было хорошо до того, как я пришел сюда. Я трахался, как все, мне все удавалось, и я был счастлив. — Вы были, как машина, вы занимались любовью, как робот. А теперь Конрад хочет слиться с Робином. Впервые в жизни вы в конфликте с самим собой. Это хороший признак. — Мне не нужен Конрад. Мне нужно о нем забыть! — Почему вы не поедете в Гамбург, Робин? — Зачем? — Вы знаете имя вашей матери. Найдите ее семью… ваше происхождение, возможно, вас удивит. — Мать Конрада была шлюхой! — резко выкрикнул Робин. — Вначале она продавалась, потому что у нее не было другого способа заработать деньги, потом она продавалась, чтобы вырастить Конрада. Может, вам следует гордиться, что вы не Конрад? Робин встал. — Черт возьми, неужели вы не понимаете, что я не хочу ничего знать о Конраде! Я не хочу жить в страхе, что могу заставить страдать Мэгги Стюарт! Я не хочу, чтобы мне ее недоставало, когда она вернется на побережье. Я не хочу ни в ком нуждаться и ни к кому привязываться! Раньше со мной такого никогда не случалось, и я не хочу, чтобы это продолжалось. Доктор Гоулд тоже встал. — Робин, прекратите обманывать себя. Вы начали давать, соединять любовь и сексуальное удовольствие. Это вас испугало. Но это нормально. Не отказывайтесь от достигнутого. Конечно, у вас будут проблемы, но в тот день, когда вы сможете сказать кому-нибудь: «Я нуждаюсь в тебе», — вы станете человеком. И это вы скажете Мэгги. Не изгоняйте ее из вашей жизни, Робин. Но Робин уже хлопнул дверью.
Несмотря на холод, он вернулся домой пешком. Он больше ни о чем не думал и испытывал странное ощущение душевного покоя. Мэгги ждала его в салоне, одетая в черное платье. Он заинтригованно взглянул на нее. — Который час? — спросил он. — Половина пятого. Он улыбнулся, но взгляд его остался холодным. — Давай, снимай это платье. У нас еще почти час до ухода. Он повел ее в спальню, и они занялись любовью. После этого он, улыбаясь, посмотрел на нее с непринужденным видом. Он казался удивительно удовлетворенным собой. — Ты ничего не знаешь, малышка, — сказал он, — но сейчас Робин Стоун занимался с тобой любовью, и все хорошо получилось. — Это всегда получалось хорошо, — нежно ответила она. — Сейчас это было по-другому. — Он легонько шлепнул ее по ягодицам. — Поторапливайся, нам нужно идти на коктейль. (обратно) (обратно)
Юдифь
Глава 26
Юдифь Остин вылезла из ванной. Ее голое тело отражалось в зеркальных стенах. Она внимательно начала рассматривать себя в зеркале. Благодаря строгой диете она была тонкой, как лиана. В пятьдесят лет уже непозволительно толстеть. Юдифь нагнулась к зеркалу. Всего лишь крошечные гусиные лапки на веках. Под соответствующим освещением ей можно дать не больше тридцати шести лет. Она возглавляла список элегантнейших женщин и считалась одной из самых больших красавиц Нью-Йорка. Юдифь села на табурет и начала вытираться. И в этот момент ее вдруг пронзила мысль: вот уже три года, как она не пережила ни малейшей идиллии. Да, прошло три года, как она порвала с Чаком, и в ее жизни не было ничего захватывающего. Только Грегори. Конечно, она искренне любила мужа, но не была влюблена в него. Если бы не Конни, она никогда бы не вышла тогда замуж за Грегори. Красавицы-близнецы Логан: Юдифь и Конни, дочери Элизабет и Корнелиуса Логанов. Сказочное наследство в перспективе. Семья Логанов обладала всем, кроме денег. Но все также знали, что у бабушки Логанов было огромное состояние. Именно она дала первый бал, чтобы вывести в свет своих внучек. Она также оплатила их первое путешествие в Европу по случаю достижения ими совершеннолетия. Там Конни познакомилась с Витторио. Юдифь возвратилась домой с пустыми руками. Ей было двадцать шесть лет, когда она встретила Грегори Остина. В тридцать шесть лет он был холостяком и владел телевизионным каналом. Он хвастался: «Я не окончил даже средней школы, но умею читать страницы биржи лучше, чем Бернард Барух». Он любил женщин, но никогда не думал о женитьбе, пока не встретил Юдифь Логан. Он так настаивал, что Юдифь согласилась выйти с ним в свет несколько раз. О ней начали писать в газетах, и это ее изумило. Еще больше она удивилась; когда ее лучшие друзья стали организовывать вечера в честь этого «бойкого и обаятельного рыжего». Затем Консуэло написала ей, что встретила Грегори в Лондоне и пришла от него в восторг. С этого момента Юдифь стала видеть своего воздыхателя в лучшем свете. Она поняла, что он предлагал ей королевство. Без герба, конечно, но в некоторых кругах Ай-Би-Си котировалась очень высоко. Вокруг их брака была поднята шумиха как в светской рубрике, так и на театральных страницах. Обнаружив, что женился на девственнице, Грегори был ошеломлен В первую годовщину их брака он купил ей поместье в Палм Бич. На второй год супружества он подарил ей бриллиантовый браслет, но не нашел ничего, что подарить на третью годовщину. В то время она мечтала только об идиллии. В сексуальном плане Грегори ее полностью разочаровал, хотя ей и не с кем было его сравнить. Она неосознанно предполагала, что когда-нибудь встретит большую Любовь. Эта милость была ей дарована в тридцать два года, когда она поехала в Париж навестить Конни. Только что закончилась война, у всех было радостно на сердце, и Юдифь не терпелось покрасоваться в своих драгоценностях и мехах перед сестрой. Грегори не мог покинуть Нью-Йорка. Он отпустил ее с наилучшими пожеланиями и доверенностью на кредит на огромную сумму. Во время путешествия она связалась с известным оперным певцом, осталась в Лондоне и забыла заехать в Париж. Она даже не встретилась с сестрой. Грегори никогда не спрашивал у нее, почему на всех ее письмах стоял штамп Лондона. После этого приключения у нее были и другие. Итальянский киноактер, английский драматург, связь с которым длилась два года, потом французский дипломат… Довольно долго дорогая Конни была очень полезной. В любой момент Юдифь могла поехать в Европу, чтобы навестить сестру. Разве всем не известно, что близнецы очень привязаны друг к другу? Но вот уже три года, как Юдифь больше не навещала сестру, и об этом она думала теперь в ванной комнате. Только в тот момент, когда она начала одеваться, Юдифь призналась себе, что наряжается ради Робина Стоуна. Только теперь она поняла, что хотела его с первой встречи. Да, ей был нужен этот мужчина. Это будет ее последним приключением и самым захватывающим. Но ей придется сделать первый шаг и очень осторожно дать понять ему, что он ее интересует. В половине пятого она спустилась, чтобы взглянуть на бар и буфет. Через пятнадцать минут появился Грегори в смокинге. Он казался уставшим… В Палм Бич он восстановит свои силы. Первые приглашенные явились ровно в пять часов. Это, конечно же, был сенатор с женой. Ну почему самые противные приходят всегда первыми? Но когда метрдотель провел стариков в салон, Юдифь встретила их сияющей улыбкой. Через десять минут пришел Дан Миллер. Впервые в жизни Юдифь обрадовалась при его виде. Он послужил ей предлогом, чтобы ускользнуть от сенатора. Вскоре дверной звонок почти не умолкал. Робин Стоун появился в шесть часов. Юдифь с распростертыми объятиями устремилась к нему. — Вы сдержали свое обещание! Радостно улыбаясь, она попросила представить ей Мэгги, словно никогда в жизни ее не видела. Затем удалилась встречать других приглашенных. Стерва! Мэгги была такая высокая и красивая, что Юдифь почувствовала себя маленькой и ничтожной по сравнению с ней. Она сразу же стала держаться очень прямо, что не мешало ей все так же грациозно переходить от одного гостя к другому и с каждым обмениваться любезностями. Но все это время она не упускала из виду Робина Стоуна и Мэгги. О Господи! А вот и Кристи Лэйн, явившийся со своей кошмарной супругой. Грегори настоял, чтобы она пригласила их. Эта девка… Этель — да, так ее звали — разговаривала с Мэгги Стюарт. Крис держался натянуто, словно струна. О чудо! Робин отошел от них, чтобы поговорить с сенатором. Юдифь, сразу же воспользовавшись случаем, подошла к Робину и небрежно взяла его под руку. — Вы у нас впервые. Вам, конечно же, хотелось бы осмотреть дом? — Осмотреть дом? Она потянула его в вестибюль. — Да, большинство гостей обожают осматривать дома, хотя им обычно показывают только салон, библиотеку и гостиную. — Она остановилась перед дубовой дверью. — Сюда гостям вход воспрещен, но только не вам: здесь логово Грегори, его гордость и радость. Робин одобрительным взглядом осмотрел комнату. — Очень хороша для работы. Она ответила с огорченным видом: — К несчастью, он проводит здесь слишком много времени. — Но у него действительно слишком много дел. — А вы тоже так запираетесь? — У меня меньше забот и меньше усидчивости, — улыбаясь, заметил Робин. — На моих руках только одна редакция. Грегори руководит всей организацией. Юдифь вскинула руки с подчеркнутым отчаянием. — Значит, у вас, мужчин, нет других проблем, кроме работы? Как я вам завидую! Он не ответил. — Мы, женщины, не можем отделаться от своих переживаний за стаканом вина или обхватывая голову руками в кабинете. — Нужно попробовать, — ответил Робин. — Как избавиться от чувства одиночества? Он заинтригованно посмотрел на нее. Их взгляды встретились. В глазах Юдифь была смесь вызова и сообщничества. Она сказала низким голосом: — Робин, я люблю Грегори. В начале нашего брака мы познали прекрасную любовь. Но теперь он женат на Ай-Би-Си. Грегори намного старше меня… Ему хватает увлечения работой. Он приносит свои заботы домой, и иногда у меня создается впечатление, что я больше для него не существую. Но женщина не может жить так. Ей нужно восхищение. — Она посмотрела на свои руки и поиграла кольцом: — Восхищение, я испытывала его один или два раза. — Она подняла голову и взглянула на Робина. — Я думаю, почему вам все это рассказываю? Мы с вами едва знакомы. — Ее улыбка стала робкой. — Но дружба не измеряется временем. Это вопрос взаимного понимания. Он взял ее за плечи и отеческим тоном сказал: — Юдифь, вы прекрасная женщина. Но будьте осторожны. Не доверяйтесь лишь бы кому. Она взглянула на него с кокетливым видом: — Я никому еще не доверялась. Это впервые в моей жизни… Не знаю, что на меня нашло… Робин повернул ее и подтолкнул к дверям. — Слишком много коктейлей, — сказал он. — А теперь давайте-ка возвратимся в салон. Вы почувствуете себя менее одинокой. — Он взял ее под руку и отвел в салон. — Я пришел с молодой особой, которая может почувствовать себя очень неловко в этой толпе. Он покинул ее и направился прямо к Мэгги. Юдифь была на грани слез, но она переходила от одной группы гостей к другой с вежливой улыбкой. Мэгги тоже сохраняла вежливую улыбку. Она видела, как Робин покинул комнату с Юдифь Остин, и отметила длительность их отсутствия. Эта Юдифь Остин была красивой женщиной… Но Мэгги достаточно было увидеть красивого мужчину, пересекавшего салон и направлявшегося к ней, как ее тревога сразу же улетучилась. Он властным жестом взял ее под руку, пытаясь отделаться от Этель и Кристи Лэйна. Вдруг внимание Робина обратилось на дверь. Ьсе взгляды устремились в этом направлении. Только что вошла маленькая, хрупкая женщина. Среди утонченной публики поднялся шум. Каким бы скромным ни было появление Дианы Вильяме, оно всегда было появлением. Она нерешительно, словно ребенок, остановилась на пороге. Грегори Остин поспешил к ней и обнял за плечи покровительственным жестом. Меньше чем через секунду все присутствующие быстро окружили их. Диана скромно приветствовала всех, кого ей представляли. В конце концов она пробралась через толпу и подошла к Робину. Грегори Остин все еще держал ее под своим крылом. — Почему вы не сказали, что пригласили мисс Вильяме на наш небольшой праздник? — упрекнул он Робина. — Мы даже не знали, что она в городе, иначе послали бы ей приглашение. — Вы пригласили меня на Рождество, — напомнила Диана обвиняющим тоном. — Но так как вы за мной не заехали, я подумала, что это недоразумение, и решила, что вы ждете меня здесь. — Позвольте мне исправить эту бестактность и принести вам выпить. Робин направился к бару. Грегори и Диана последовали за ним. Мэгги осталась с Этель и Кристи. Этель рассказывала о своей новой квартире. — Мы переехали вчера, — призналась она Мэгги. — Роскошно! — сказал Кристи. — Салон, две спальни, и в три раза дороже, чем в «Асторе». — Честное слово, я не могла представить себя с коляской на тротуарах Бродвея, — засмеялась Этель. — По крайней мере, «Эксес Хаус» находится напротив парка. Это будет полезно для малыша. — О! Я не знала. Мои поздравления! — сказала Мэгги, стараясь проявить интерес, которого не испытывала. — Вы правильно сделали, что выбрали отель возле парка. Для малыша это будет прекрасно. — Для Кристи малыш — волшебное слово. Позднее я скажу ему, что парк не годится для крошки. Слишком много нападений, бродяг и так далее… Когда мы обоснуемся на побережье, то начнем вести совсем другую жизнь. Большой дом, связи в высшем обществе. Мы будем общаться только с самыми известными людьми, чтобы малыш воспитывался среди маленьких богачей. Поверьте, моя дорогая, Голливуд ждет Этель Эванс Лэйн. — Голливуд вас, наверное, разочарует, — сказала Мэгги. Она обвела взглядом толпу в поисках Робина. — Он в библиотеке с Дианой, — сказала Этель. — Что? — Ваш дружок… Диана наложила на него лапу. Мэгги была слишком удивлена, чтобы что-то ответить. В течение какого-то момента они не находили, что сказать друг другу. Затем к ним снова присоединились Дан и Кристи. — Не хотите ли еще стакан этой вязкой гадости? — спросил Дан, улыбаясь Мэгги. Взрыв хохота донесся до них из библиотеки. — Я заметил, что вы пришли с Робином Стоуном, — продолжил он заговорщическим тоном. — Вы собираетесь уйти тоже с ним? — Это то, что обычно бывает. — Жаль. Я хотел пригласить вас поужинать. Она отошла от Дана и направилась в библиотеку. Диана завладела вниманием всех присутствующих, рассказывая анекдот о своих сыновьях-близнецах. Что касается Робина, то он следил за ней. Мэгги встала возле него и взяла под руку. — Уже семь часов, — прошептала она, — и я умираю от голода. — В буфете полно всякой закуски, — ответил он, не сводя глаз с Дианы. — Я хотела бы уйти. — Я на работе, прелесть. — Он похлопал себя по карману. — У меня готовый контракт на имя Дианы. Я таскаю его повсюду уже две недели. Нужно, чтобы она его подписала. Будь умницей и потерпи. — Сколько времени? — Я думаю, она подпишет его сегодня за ужином. — Она ужинает с нами? — Она ужинает со мной. Если у тебя есть желание, ты можешь присоединиться. Она повернулась и вышла из библиотеки, зная, что он продолжает наблюдать за Дианой и, естественно, не будет следить за ней. Она заметила Дана Миллера, который пожимал руку миссис Остин. Он держал плащ. Она направилась прямо к нему и спросила: — Приглашение на ужин все еще в силе? — Конечно. «Павильон» вам подойдет? — Это один из моих любимых ресторанов. — Я рад, что между вами и Робином нет ничего серьезного, — вдруг сказал Дан. Она удивленно взглянула на него. — Почему вы это говорите? — Потому что он мне не нравится. — Это один из моих лучших друзей. — И все-таки он мне не нравится… Но это не по личным причинам, — улыбнулся Дан. — Если он не нравится вам не по личным причинам, то я думаю, что это связано с работой. Наверно, между вами существует соперничество. Дан откинул голову назад и рассмеялся. — Я не боюсь великого Стоуна. И знаете почему? Он слишком горд. Его честолюбие его и погубит. — А мне кажется, что гордость — это положительное качество. — Только не в нашей области. Я скажу вам одну вещь, Мэгги. Когда речь идет о внутренних интригах, у меня нет честолюбия. И поэтому я выживу. Рано или поздно наступает момент, когда нужно забыть про свое достоинство, каким бы сильным ты ни был и какое бы высокое положение ни занимал. Но Робин Стоун никогда не станет раболепствовать, и поэтому он проиграет. Мэгги взяла сумочку, надеясь, что он поймет. Дан сделал знак гарсону принести счет. — Я надоедаю вам разговорами о работе. Мы могли бы пропустить по последнему стаканчику где-нибудь в другом месте. — Я очень устала, Дан, и должна встать завтра очень рано. Он поймал такси. Она сказала, что якобы остановилась в «Плазе». Он высадил ее там и подождал, пока она не зайдет в вестибюль. Она прошла из одного конца отеля в другой, вышла на 58-й улице и поехала в такси к Робину. Свет из-под двери не просачивался, когда она вставляла ключ в замок. Может, он лег спать? Боясь разбудить его, она прошлана цыпочках через салон и бесшумно открыла дверь спальни. Комната была погружена во тьму, но она различила совершенно смятую постель — результат их бурной любви после обеда. Робина не было. Она возвратилась в салон и уже собиралась зажечь электричество, как вдруг увидела полосу света под дверью СТУДИИ. Она улыбнулась. «Наверное, он сейчас работает над книгой», — растроганно подумала она и тихо направилась к дверям. Она взялась за ручку, когда услышала голос: это был голос Дианы, которая, по-видимому, была пьяна: — На твоем ковре не слишком-то мягко… Взрыв смеха Робина. Затем: — Я же предлагал тебе лечь в постель. — Я не трахаюсь на белье, на котором спала другая женщина. Молчание. Мэгги бесшумно приоткрыла дверь и не поверила своим глазам. Оба были совершенно голые. Робин сидел в кресле в углу комнаты, закинув руки за голову, а перед ним на коленях стояла Диана, делая ему любовь. Ни он, ни она не заметили присутствия Мэгги. Она так же тихо, как и открыла, закрыла дверь, пошла в спальню и включила свет. Вытащила из шкафа свой чемодан. Затем, передумав, оставила его на полу. Ради чего беспокоиться из-за двух полотняных брюк и дурацкого дешевого платья? Она никогда больше не наденет того, что носила у этого мужчины. Мэгги сгребла с буфета только свои украшения и туалетные принадлежности. Уже собираясь покинуть комнату, она обернулась и бросила взгляд на кровать, в которой провела с Робином несколько счастливых ночей и на которой они еще совсем недавно любили друг друга. Мэгги подскочила к кровати, сорвала простыню, но ей не удалось разорвать ее на кусочки, как того требовала ее ярость. И все-таки ни одна женщина больше не будет спать ни на этой простыне, ни в этой постели. Она вспомнила, что в ванной есть флакон со спиртом, ринулась туда, вылила спирт на простыню и подушку, чиркнула спичкой и подожгла платочек, который бросила на кровать. Жаркое оранжевое пламя с шипением распространилось по всей поверхности простыни. Мэгги вышла из квартиры, пересекла вестибюль и позвала портье: — Я звонила к мистеру Стоуну, — спокойно сказала она, — но у него никто не отвечает, и мне показалось, что пахнет дымом. Портье ринулся к лифту. Мэгги перешла улицу и остановилась под портиком стоящего напротив здания. Она улыбнулась, увидев отблески огня в окне спальни. Через несколько минут загудели сирены. Языки пламени взметнулись и погасли, но клубы дыма продолжали валить из открытых окон. Она увидела, как Робин выскочил на улицу вместе с другими жильцами. Он только успел надеть брюки и плащ. Диана набросила на плечи пальто Робина, но она была босиком и подпрыгивала на холодном асфальте. Мэгги отбросила голову назад и засмеялась, потом громко сказала: — Надеюсь, что она околеет! Она пошла вперед и, только пройдя несколько улиц, задрожала и почувствовала, что ее лоб покрылся испариной. Господи! Она же могла его убить. Она могла убить всех жителей дома. Только сейчас до нее начало доходить, что она сотворила, и от ужаса Мэгги была готова лишиться сознания. Но слава Богу, что все хорошо закончилось. Она заметила свободное такси, сделала знак остановиться и пробормотала: «Аэропорт Кеннеди».А в этот момент Юдифь Остин смотрелась в зеркало. Она улыбнулась и обнаружила, что в ее улыбке была какая-то натянутость. У нее болела голова, и она мечтала только об одном: закрыться в комнате, но ей еще предстоял легкий ужин с мужем в его спальне. Когда она наконец покинула Грегори, чтобы укрыться в тишине своей комнаты, то оросилась в одежде на кровать и попыталась восстановить все детали этого вечера. Ей нужно было признать очевидное: Робин Стоун не попался на крючок. Неожиданно гордость ее проснулась, и слезы потекли по лицу. Господи! Как она его хотела! Ей нужен был мужчина, который сжимал бы ее в объятиях, говорил, какая она красивая. Ей нужна была любовь! Она хотела Робина. Она хотела предаваться любви с тем, кто дал бы ей ощущение того, что она молода и желанна. Вот уже месяцы, как Грегори к ней не приближался. Господи! Если бы можно было быть все еще молодой, и чтобы такой мужчина, как Робин, желал ее. Как мужчина Грегори никогда не возбуждал ее. С самого начала чувственные удовольствия ничего для него не значили. Он совершенно не смыслил в любовных фантазиях физической любви, никогда не говорил нужных слов в подходящий момент. За тридцать лет супружества он не поцеловал ее ниже пояса. Однако она восхищалась многими чертами в Грегори, испытывая к нему такое же почитание, как к матери и отцу. Их совместная жизнь восхищала ее. Ей никогда не было скучно в компании своего мужа. В этой общей жизни не хватало только одного: страсти. Она повернулась к зеркалу и внимательно осмотрела свое лицо. Боже мой! Да у нее по меньшей мере два сантиметра лишней кожи! Завтра же она свяжется с хирургом и, кроме того, начнет принимать таблетки. Вот уже пять месяцев над ней тяготело проклятие, и по вечерам она страдала оттого, что ее бросало в жар. С таким мужчиной, как Робин, нельзя ложиться в постель и просыпаться посреди ночи мокрой от пота. Странно, что Грегори не пришел поцеловать ее перед сном. Она накинула халат. Что ж, она сама пойдет его поцеловать и пожелать счастливого Нового года, если он еще не спит. С той минуты, как она решила подвергнуться пластической операции и завоевать Робина, к ней вновь возвратилась уверенность. Ее улыбка исчезла, как только она вошла в комнату к мужу. Он лежал в одежде на кровати. Тревога и угрызения совести сжали ей горло. — Грег, — тихо позвала она. — Чертовы коктейли превратились в бетон в моих кишках, — застонал он. — Я не могу пошевелиться, Юдифь. — Грегори, ты не можешь лежать так. Ну, давай, сделаем усилие. Он попытался сесть, но сразу же согнулся пополам. В его лице не было ни кровинки. Он посмотрел на нее блуждающим взглядом. — Юдифь, Юдифь, в этот раз это не так, как было раньше. — Что у тебя болит? — Живот. Он снова попытался пошевелиться, но сразу же издал раздирающий крик. Юдифь бросилась к телефону и вызвала врача.
Доктор Спинек прибыл через двадцать минут. — Нужно сделать некоторые анализы. Они немедленно отправились в больницу в машине доктора. Через полчаса доктор Спинек вышел к ней и в раздумье произнес: — Камень в мочеточнике. Нужна немедленная операция. Я вызвал доктора Лесгарна. В час ночи Грегори увезли на тележке из палаты. Юдифь осталась ждать в палате мужа и, конечно, заснула. Когда доктор Спинек ласково дотронулся до ее щеки, она подскочила. — Грегори чувствует себя хорошо, — сказал врач. — Он сейчас в послеоперационной палате и пробудет там несколько часов. Операция оказалась более трудной, чем мы предполагали. Через две недели он не выйдет из больницы и не возвратится к работе. — Когда его привезут в палату? — Не раньше десяти-одиннадцати утра. Уже начинало светать, когда Юдифь легла в постель. Бедный Грегори! Отдых будет невыносимым. Ей придется быть возле него всю зиму… Внезапно ей стало стыдно, и ее охватил ужас. Как могла она думать о Робине? Она разразилась рыданиями. Она презирала себя, потому что осознала, что думает о том, кто был сейчас в постели с Робином Стоуном.
Робин лежал один в маленькой узкой кровати в своем клубе. Он улыбался. По крайней мере, Мэгги хватило ума предупредить портье после того, как она подожгла квартиру. Он понял, кто виноват, когда увидел на полу ее чемодан. Эта история начинала его забавлять. Он громко рассмеялся, подумав, что Мэгги застала его с Дианой в полном действии. И самое худшее, что в этот момент он был почти бесчувственен! В некотором смысле пожар ему даже помог, так как он никогда бы не кончил с этой чокнутой. Она ничего не соображала в этом, и зубы у нее были острые, как лезвие. Да, огонь вспыхнул в нужный момент. Но какого черта он привел эту женщину к себе? Она подписала контракт в ресторане. Если он хотел за ней поухаживать, то мог бы проводить ее в отель. Арчи объяснил бы, что Робин умышленно стремился быть застигнутым Мэгги, чтобы освободиться от нее. Ладно, все к лучшему. Эта история стоила ему всего лишь спальни. Правда, он также потерял Мэгги Стюарт. Робин нахмурил брови, затем попытался улыбнуться: «Нет, это Конрад потерял Мэгги. Не я. Ты мертв, маленький байструк. Мертв!» Неосознанным движением он снял телефонную трубку и попросил Вестон Юнион. Где она живет? Он пошлет телеграмму на «Сенчури». Она получит ее. Я ОТСТУПАЮСЬ. ТЫ СТАНЕШЬ ВЕЛИКОЙ АКТРИСОЙ. ТЫ ЧОКНУТАЯ. РОБИН.
Юдифь проводила все дни подле Грегори. Она впервые заметила, что он красит волосы. Так как он не брился, серая щетина на лице придавала ему вид уставшего старика. Как только он стал интересоваться, что происходит за пределами комнаты, она поняла, что он чувствует себя лучше. В конце второй недели Грегори попросил принести результаты опросов. Он вызвал своего парикмахера и посоветовал Юдифь побегать по магазинам. Когда она возвратилась, то обнаружила, что его шевелюра приобрела обычный цвет. На нем была шелковая пижама вместо больничной рубашки, и он читал «Тайме». Грегори положил газету, снял телефонную трубку и попросил соединить его с Ай-Би-Си. — Я прошу тебя, дорогой, — сказала Юдифь, — и хирург, и врач запрещают тебе приступать к работе. Впрочем, ты сам знаешь, что они настаивают, чтобы ты отдохнул несколько месяцев. — Именно это я и собираюсь сделать. Юдифь, если бы ты знала, как я успокоился. Я очень сильно страдал долгое время. Теперь я могу тебе признаться, что боялся обследоваться. Я был убежден, что у меня рак. Этой зимой я буду счастлив поиграть в гольф и провести время с тобой. Именно поэтому я и хочу позвонить. Мне нужно все организовать. Вначале он попросил Клифа, директора юридической службы: — Клиф, я хочу, чтобы вы были здесь через полчаса. А теперь дайте мне Робина Стоуна. В половине шестого появились Клиф Дорн и Робин Стоун. Юдифь отдыхала в шезлонге. — Хочешь, я уйду в салон, пока ты принимаешь этих людей? — спросила она у мужа. — Нет, останься. Речь идет о капитальном решении. Я хочу, чтобы ты была в курсе… Робин, вам бы понравилось, если бы вы стали генеральным директором Ай-Би-Си? Робин не ответил. — Директором Ай-Би-Си? — повторил Клиф. — А что станет с Дантоном Миллером? Грегори пожал плечами. — Дан — директор канала. — Что такое генеральный директор Ай-Би-Си? — спросил Клиф. — Новая должность, о которой я подумал. Это означает разделение власти в мое отсутствие. — Вы считаете, что Дан согласится занять равное с Робином место? — Да, потому что это ничего не меняет в его должностных обязанностях. Клиф молча кивнул. Затем оба обернулись к Робину. Он встал. — Я был бы сумасшедшим, если бы согласился на это предложение. По моему мнению, это будет два месяца постоянных стычек с Даном, и я в действительности буду выполнять роль сторожевой собаки или мальчика на побегушках. Затем вы возвратитесь из Палм Бич, поздоровевший и загоревший, и я снова стану шефом службы новостей, но уже с дюжиной врагов за спиной и язвой Дана на совести. — Кто вам сказал, что вы возвратитесь в отдел информации? — спросил Грегори. — Но речь же идет о временной ситуации? Грегори задумался, потирая подбородок. — Вначале я тоже так думал. Но чем больше я размышляю, тем больше мне кажется правильным сделать такую систему организации постоянной. — Но прежде всего я журналист, — возразил Робин. — Мне плевать на это! — воскликнул Грегори. — Я нелегко принимаю решения и поинтересовался на ваш счет. — Он взял стопку листков с ночного столика. — Вот, послушайте: вы родились в Бостоне. Раньше или позже получите большое наследство. Ваш отец был одним из известнейших адвокатов в Массачусетсе. Такой человек, как вы, работает ради удовольствия. С другой стороны, я никогда не доверил бы вам пост финансового директора программы. «Мысли вслух» всегда выходили за рамки бюджета. Но я вас вызвал сюда не для того, чтобы устраивать конференцию по вопросу о бюджете телевидения. Дан в этом деле достаточно разбирается, а Клиф еще больше. Сочетая ваш вкус и меркантилизм Дана, мы создадим непобедимую команду. Робин размышлял, затем поднял голову: — А что вы скажете насчет контракта? — На какой срок? — На год, — Робин заметил отблеск облегчения, промелькнувший в глазах Грегори. — Послушайте, дело может пойти или не пойти. Но я хочу вас предупредить, что не ограничусь представлением отчетов или выслушиванием инструкций по телефону. Поскольку речь идет о директорстве, я буду генеральным директором. Я найду новые идеи. Я предложу вам их и буду дико защищать, если буду считать, что они хорошие. Мне нужна страховка на год. Грегори некоторое время молчал, потом с улыбкой сказал: — Вы упрямы, это мне нравится. И я доволен, что вы намереваетесь лично взять дело в руки. Хорошо, я согласен. Клиф, подготовь контракт. — Он протянул руку Робину. — Удачи, генеральный директор Ай-Би-Си. Новость обрушилась на Мэдисон-авеню, как ураган. Дан Миллер внутренне кипел, но нисколько не сомневался, что новое назначение Робина было не его идеей. Он принял представителей прессы со своей обычной улыбкой и заявил: «Это способный парень, и мне нужен кто-то, чтобы помогать в отсутствие Грегори.» Газеты продолжали шуметь по поводу назначения Робина. Вначале он отказался от всяких комментариев, затем дал большую пресс-конференцию. Стоя за своим большим рабочим столом, он вежливо, но уклончиво отвечал на вопросы. Чувствуя, что ему противно отвечать и что тема заинтересует читателей, журналисты не переставали донимать его. — Поговорим лучше о телевидении, чем обо мне, — улыбаясь, предложил он. — В таком случае, что вы думаете о телевидении? — спросил молодой репортер. — Это спрут. Это не просто кинофабрика, а машина любви. — Почему машина любви? — Потому что она продает любовь, выделяет любовь. Она выбирает президентом кандидата, который лучше смотрится на экране. Она преобразует политиков в звезд и звезд в политиков. Она обещает вам девушку вашей мечты, если вы будете чистить зубы такой-то пастой, и карьеру Дон Жуана, если вы будете употреблять такой-то лосьон для волос. Как и все великие соблазнители, машина любви по натуре немного проститутка. Ее магнетизм мощный, но он идет не от сердца. Она не знает ничего, кроме рейтинга популярности, и когда он падает, программы умирают. Машина любви — это пульс и сердце двадцатого века. Все газеты подхватили эти слова. Читая их, Дан пришел в ярость. Особенно возмутила его статья, где самого Робина Стоуна сравнивали с машиной любви. Дан запустил газетой в другой конец комнаты. Господи! От этих нелепостей престиж Робина только возрастает. Дан вынул из кармана успокоительное, проглотил его, думая о том, чем занимается эта сволочь в своем шикарном кабинете? Репетиции с Дианой Вильяме были отложены на две недели. Если верить газетам, то Байрон Визерс, мужская звезда, отказался от съемок, заявляя, что его роль урезали в пользу Дианы. Хотя Дан и желал самых худших несчастий Робину, он все же восхищался талантом Дианы. Он положил газету на стол, надеясь, что корреспондент ошибся. Без сомнения, это выкаблучивалась сама Диана. Робин тоже задался вопросом, не выламывалась ли Диана. Может, она снова пристрастилась к наркотикам или спиртному? Но Айк Райан клялся, что она жаждет начать репетиции. «Найдите ей партнера, — говорил он, — и она немедленно приступит к работе.» На следующее утро Робин звонил Грегори, который все еще находился в Палм Бич, когда секретарша сообщила по телефону: «Мистер Дантон Миллер в приемной. Он хотел бы с вами поговорить.» — Попросите его подождать, — ответил Робин. Злость Дана увеличивалась по мере того, как он ждал. Когда Робин принял его, он заорал, не успев переступить порог. — Ты не только дезорганизуешь мои передачи, но еще заставляешь и ждать! — Что привело тебя ко мне лично? — с сердечной улыбкой спросил Робин. — Это должно быть важно. Дан со сжатыми кулаками встал перед столом. — Ты начал вмешиваться в то, каких занимать артистов. Я жду, чтобы ты принес мне извинения. — Я перестал приносить извинения, когда мне было пять лет, — ледяным тоном ответил Робин. — Но почему эти два ничтожества в моей передаче? — спросил Дан, сжав губы от ярости. — Потому что они мне нравятся. Поли и Дип никогда не выступали на телевидении. Это будет чем-то новым. — Послушай, скотина… Раздался телефонный звонок. Робин нажал на кнопку. Голос секретарши объявил: «Ваш заказ на Рим подтвержден, мистер Стоун.» — Рим! — воскликнул Дан. Казалось, его сейчас хватит удар. — Что тебе нужно в Риме? Робин встал: — Повидать умирающую мать. Когда Робин вышел из кабинета, Дан все так же неподвижно продолжал стоять посреди комнаты. (обратно)
Глава 27
Серджио ждал Робина в аэропорту. — Я не телеграфировал вам раньше, — объяснил молодой человек, — так как мы считали, что это такой же приступ, как и предыдущие. Но вчера ее врач сказал мне предупредить родных. Робин заметил покрасневшие от слез глаза своего спутника. Но только когда они сели в машину, он спросил: — Как она чувствует себя сегодня? Серджио больше не мог сдерживать слезы. Он плакал, отвечая: — Она в коме. — Ты предупредил сестру? — Лиза и Ричард уже выехали. Было десять часов утра, когда они приехали в клинику. Робину разрешили на несколько минут зайти в палату к Китти. Он издали увидел обескровленное лицо матери под кислородной палаткой. Она тихо угасла посреди ночи, так и не придя в сознание. Лиза и Ричард приехали в больницу слишком поздно: Китти уже час как умерла. У Лизы началась истерика, ей нужно было дать успокоительное. Ричард остался с ней, неловко пытаясь сохранить хладнокровие. На следующее утро Робин, Серджио и Ричард встретились с адвокатом Китти, чтобы урегулировать вопрос похорон. Завещание Китти должно было быть оглашено в Соединенных Штатах, а ее состояние разделено между Робином и Лизой, но она завещала виллу, машину и все драгоценности Серджио. Лиза весь день пролежала в постели. На следующее утро она встала к завтраку. Бледная, одетая во все черное, она вошла в столовую, когда Серджио и Робин наливали себе по второй чашке кофе. Робин заговорил первым: — Китти пожелала быть кремированной. Все было оговорено вчера, Ричард подписался вместо тебя. Лиза не ответила и вдруг повернулась к Серджио. — Извольте пойти пить кофе в маленький салон. Мне нужно поговорить с братом. Робин нахмурил брови: — Эта вилла теперь принадлежит ему, — сухо заметил он. Но Серджио уже вышел с чашкой кофе в руке. — Ты была невероятно груба, — пробормотал Робин. Лиза, сделав вид, что не расслышала его, обратилась к Ричарду: — Ты, наконец, решишься ему сказать? Ричард, казалось, смутился. В конце концов он попытался взять себя в руки. — Робин, мы с Лизой решили оспорить завещание. — Что именно вы хотите оспорить? — спросил Робин. — Дар в пользу Серджио. Мы уверены, что выиграем спор. — Откуда у вас эта уверенность? Ричард откашлялся: — Как только мы возбудим дело, на средства матери будет наложен секвестр. Серджио будут нужны деньги, чтобы жить. У него их нет, мы знаем. Через несколько месяцев он будет рад подписать соглашение на несколько тысяч долларов. Кроме того, мы попытаемся доказать, что у Китти помутился рассудок, когда она подписывала завещание, и в результате этот мальчик оказал на нее влияние, чтобы она сформулировала его таким образом. — А я оспорю все это, — спокойно сказал Робин. — Ты берешь сторону этого негодяя? — закричал Ричард. — Я решил защищать всех, кто был предан Китти. — А я намереваюсь провести расследование по поводу Серджио, чтобы получше узнать его прошлое, — возразил Ричард. — Я мог бы доказать, что он воспользовался чувствами старой больной женщины. — Кто, черт побери, вы такие, чтобы доказать что-либо? Вы жили здесь во время болезни матери? Вы ничего не знаете, а я знаю! И по этой причине мои показания будут иметь больше веса, чем ваши. — Ты глубоко ошибаешься, — вмешалась Лиза странным голосом. — Мы с Ричардом знаем достаточно, чтобы свести на нет твои показания. И весь шум, который поднимется вокруг этого дела, может очень помешать твоей работе. Не говоря уже о личной жизни… Ричард разгневанно взглянул на жену. — Лиза, мы защищаем свои права, и не нужно вмешивать сюда нашу личную жизнь. — Я должна была ожидать этого от тебя, — зло сказала Лиза, поворачиваясь к Робину. — В конце концов ты всего лишь незаконнорожденный, которому повезло. — Лиза! — голос Ричарда стал металлическим. — Оставь меня! Почему я должна его щадить? А если мне доставит удовольствие посмотреть, как мой старший брат хоть раз в жизни потеряет хладнокровие! Это только докажет, что мы не принадлежим к одному кругу! Он такой же мой брат, как этот педераст в соседней комнате! — Она подошла к Робину и пронзительно крикнула: — Тебя усыновили, когда тебе было пять лет! Она сделала паузу, следя за реакцией Робина. Но только Ричард, казалось, был растерян. Он подошел к окну и стал пристально рассматривать патио, чтобы скрыть свою неловкость и раздражение. Робин, в свою очередь, не опустил глаз. — Лиза, после этой выходки ничто не доставит мне большего удовольствия, чем подтверждение, что мы с тобой не одной крови. — Твоя мать была проституткой! — Лиза! — попытался вмешаться Ричард. — Дай ей выговориться, — спокойно сказал Робин. — Да, я молчала все последние годы. Вначале я ничего не знала. Но Китти мне рассказала, когда заболела. Она сказала, что если у меня когда-нибудь будут неприятности, то я должна обратиться к тебе, потому что ты сильный мужчина. Она любила тебя так, словно ты был ее ребенок. Она усыновила тебя, когда потеряла всякую надежду родить. У отца был друг — адвокат, который рассказал о случае, которым он должен был заниматься: маленький сирота, госпитализированный в бесплатную больницу в Провайденсе. Мама вбила себе в голову усыновить только этого сироту и никакого другого. Твоя мать умерла! Ее задушили, если тебе интересно узнать! У тебя не было отца. И мама — моя мама — начала тебя обожать. А через два года, против всяких ожиданий, она родила собственного ребенка — меня. У меня нет никакой возможности помешать тебе завладеть твоей долей наследства — все это законно. И это мой отец, который подписал такое нелепое завещание. Но я могу помешать тебе поддержать этого педераста, который имеет наглость завладеть частью того, что принадлежит мне. — Ты можешь попытаться, Лиза. Я обожаю драться. Она вскочила и выплеснула кофе в лицо Робину. — Ты всегда знал, что тебя усыновили, ублюдок! Я ненавижу тебя! Она выбежала из комнаты. Ричард, совершенно пораженный, продолжал сидеть на своем стуле. Робин стал вытирать лицо носовым платком. — Мне повезло. Кофе успел остыть, — улыбаясь, сказал он. Ричард встал и подошел к Робину, пытаясь извиниться за жену. — Мне очень неприятно, Робин. Она сама не верит ни одному своему слову. Лиза сейчас очень нервная, это пройдет. — Он направился к двери, но перед тем, как выйти, обернулся. — Робин, не беспокойся. Я помешаю ей опротестовать завещание. — Старина, я ошибался на твой счет, — с улыбкой ответил Робин.Китти кремировали на следующий день. Лиза, ни слова не говоря, забрала урну с пеплом матери, В этот же день они с Ричардом улетели. Без сомнения, Ричард поговорил с Лизой, так как она даже словом не обмолвилась о своем намерении опротестовать долю Серджио в завещании. После их отъезда Робин налил себе большой стакан водки. Серджио, наблюдавший за его действиями, наконец решился заговорить: — Робин, как вас отблагодарить? Я был в соседней комнате, когда ваша сестра так грубо стала говорить с вами. Я не мог не слышать — и очень об этом сожалею. Эта история с усыновлением правда? Вы не сын Китти? Робин на миг отвел взгляд, затем с улыбкой сказал: — Да, это правда, но это тоже правда, что ты стал богат. Парень сделал рассеянный жест. — Да, Китти завещала мне кучу драгоценностей. И теперь я смогу отправиться в Америку. Робин присвистнул. — Серджио, ты провернул прекрасное дельце, прими мои поздравления! — Робин, вы, конечно же, хотели бы оставить себе на память кольцо или жемчужное ожерелье, чтобы подарить… женщине, которую полюбите. — Нет, я хочу, чтобы ты оставил себе все. Ты был здесь, когда она нуждалась в тебе. Твое присутствие принесло ей много радости. — А вы, Робин, что собираетесь делать? — Так вот, для начала мы устроим настоящую попойку. Да, Серджио, у меня идея! Мы пойдем кутить вместе, найдем красивых девушек… — Он внезапно остановился, заметив, как покраснел Серджио. — Это правда, что женщины для тебя ничего не представляют? Совсем ничего? Серджио покачал головой. — Даже Китти. Я был ее другом, доверенным, никем больше. — Неважно. Сегодня вечером ты будешь моим другом, моим доверенным. Пошли, напьемся вместе. — Я с удовольствием буду вас сопровождать, но я не пью. В два часа ночи Робин разгуливал по улицам Рима, распевая во все горло. Впервые в жизни он напился до такой степени. Поднявшись в свою комнату, Робин рухнул на кровать и потерял сознание. На следующий день он проснулся с невыносимой головной болью. Лежа под одеялом, обнаружил, что был совершенно голый, не считая плавок. Серджио подошел к кровати и протянул ему чашку черного, как смола, кофе. Робин с жадностью глотнул дымящийся напиток, наблюдая за Серджио. — Объясни мне, как я сумел раздеться, будучи в стельку пьян? — Это я раздел вас… — Что ты говоришь! И тебе это доставило удовольствие, малыш? Серджио принял оскорбленный вид. — Робин, люди ошибаются, когда думают, что гомосексуалисты всегда готовы наброситься на любого представителя мужского пола. Если вы очутитесь рядом с упавшей в обморок женщиной, разве у вас появится желание изнасиловать ее только потому, что она женщина? — Я так и думал, что ты мне так ответишь, Серджио. Он маленькими глотками выпил кофе. Вкус у него был ужасный, но мало-помалу в голове начало проясняться. — Вы презираете, что я такой, да, Робин? — Да нет. Ты, по крайней мере, знаешь, кто ты есть и чего ждешь от жизни. — Вас очень огорчает, что вы не знаете свою Настоящую мать? — Да, это создает у меня впечатление, что я еще зародыш, — задумчиво произнес Робин. — В таком случае, вам нужно узнать, кем была ваша мать. — Ты слышал, что сказала Лиза. И, к несчастью, это правда. У меня в портмоне старая вырезка из газеты, которая подтверждает это. — Германия близко. — Ну и что? — Вы знаете имя вашей матери, вы знаете, где она родилась. А может, у нее остались родители, друзья… Они могли бы дать вам сведения. — Об этом не может быть и речи. — Если я правильно понимаю, вы предпочитаете верить сплетням Лизы и тому, что написано в старой газетной вырезке? По мнению Лизы, я голубой. Это правда, но кроме того, я — человеческое существо. Может быть, ваша мать была очень хорошей. Попробуйте, по крайней мере, узнать правду. — Вот смешной человек, да я не знаю ни слова по-немецки и ни разу не был в Гамбурге. — Я говорю по-немецки и когда-то жил в Гамбурге. Я очень хорошо знаю этот город. Робин улыбнулся. — Да, Серджио, твои таланты безграничны. — Мы можем быть в Гамбурге уже через несколько часов. Робин, разрешите мне вас сопровождать. Робин сбросил одеяло и спрыгнул с постели. — Договорились, Серджио. Я никогда не был в Германии и хотел бы посмотреть ее. Особенно Гамбург. В молодости я сбросил немало бомб на этот город. И у меня слабость к немцам. Ты можешь заказать нам билеты на самолет. Может, мы ничего не узнаем о моей матери, но кто знает?
Они остановились в отеле «Времена года». Номер, который они занимали, выглядел немного старомодным, что придавало ему особую прелесть. Серджио устроился у телефона, чтобы обзвонить всех Бош, фигурирующих в телефонном справочнике. Робин заказал себе бутылку водки. Он сел возле окна, наблюдая за наступлением ночи и попивая свой напиток. Прошел почти час, и Серджио обнаружил пять Грет Бош, эмигрировавших в Северную Америку. Одна из них все еще жила в Милуоки. Поэтому Серджио вычеркнул ее из списка. Другие не подавали признаков жизни. Серджио был обескуражен: — Извините, Робин. Я ничего не добился и однако считал, что у меня хороший план. Я очень огорчен. — Нечего огорчаться. Надеюсь, ты не станешь лить слезы в свой стакан с пивом? Ты должен показать мне Гамбург. Есть ли какая-нибудь возможность повеселиться здесь ночью? Серджио расхохотался: — Робин, нигде ночная жизнь так не насыщена, как здесь. — Ты шутишь?! Неужели больше, чем в Париже? — Париж! Французы стали пуританами. Их кабаре хороши только для туристов. Пойдемте со мной, и я вам покажу настоящий ночной город. Они поймали такси. Серджио сказал шоферу, куда ехать. Очутившись в квартале, который Серджио, казалось, хорошо знал, он сделал знак остановиться. Они высадились на ярко освещенной улице. — Вот знаменитая Рипербан. По одну и по другую сторону шоссе разноцветных огней было больше, чем на Бродвее. На одной из аллей несколько игроков играли в шары. Но что особенно потрясло Робина, это бесчисленная толпа гуляющих. Робин и Серджио молча шагали, рассеянно обозревая всевозможные витрины, ярко освещенные неоновым светом. Продавцы предлагали товары покупателям, и вся улица была пропитана сильным запахом горячих сосисок. Робин остановился перед одним из лотков и попросил: — Две сосиски, пожалуйста. Серджио ошеломленно смотрел на него. — Вы собираетесь это есть? Можно сказать, что это хот-дог белого цвета! Робин впился зубами в сосиску, не притрагиваясь к кислой капусте, положенной в качестве гарнира. — Сосиски. Я их не ел с тех пор. — Он внезапно замолк, словно впал в забытье. — Серджио! Я ее вспомнил! Я вспомнил маленький колченогий стол и красивую женщину с черными волосами, которая приносила такие же сосиски своему мальчику. Они были теплые и вкусные. — Он выкинул тарелку, которую держал в руке: — Это блюдо несъедобно по сравнению с тем, что готовила она… Они снова молча зашагали. — Я вспомнил ее лицо, — прошептал Робин. — Странно, сейчас я все вспоминаю. Она была красива: брюнетка, большие темные глаза, глаза цыганки. — Я так рад за вас, — сказал Серджио. — И однако она была проституткой. Но сейчас я, по крайней мере, вспоминаю. Боже, до чего она была красива! Это надо отметить, малыш! Серджио взял Робина под руку, чтобы перейти улицу. Они свернули направо и прошли еще сотню метров. — Мы пришли. Это Зильберзакштрассе. Робин выпятил глаза. Они словно внезапно очутились в другом мире. Девицы цеплялись к ним без всякого стыда. Одна из них, более наглая, чем другие, бросилась за ними: «Не хотите ли развлечься втроем?» Они свернули на другую улицу. Серджио остановился перед порталом, выкрашенным в темный цвет, на котором большими буквами было написано: «ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Серджио толкнул створку двери, и Робин, заметно заинтригованный, последовал за ним. — Герберштрассе, — прошептал Серджио. Робин не верил собственным глазам. Улица была очень узкой, длинной, плохо вымощенной. По обе стороны стояли маленькие двухэтажные домики. Окна первых этажей были расположены очень высоко, и за каждым из них находилась девушка, освещенная ярким светом. На втором этаже некоторые окна были погашены. Серджио показал на них Робину: — Это означает, что они за работой. Мужчины прогуливались взад-вперед, рассматривая девиц. Робин с удивлением заметил среди гуляющих несколько женщин. Разместившись в витринах, девицы, казалось, игнорировали любопытных. На них не было ничего, кроме бюстгальтеров и крошечных трусиков, они пили вино. Время от времени одна из этих девиц поворачивалась к другой, занимающей соседнюю витрину, и что-то говорила ей. Затем обе разражались хохотом. Смеяться? Как можно смеяться в подобном мире? Какие у них были чувства, мысли? — Здесь новогодняя ночь самая грустная в году, — прошептал Серджио. — И однако они ставят маленькую зажженную елочку перед своим окном и делают себе небольшие подарки. А когда бьет полночь, они плачут. — Ты хорошо осведомлен! — Моя сестра работала здесь, — спокойно ответил Серджио. — Твоя сестра? — Я родился во время последней войны. Моего отца убили в Тунисе, мать надрывалась на работе, чтобы прокормить трех моих братьев и меня. Нам всем было меньше десяти, а сестре — четырнадцать. Она стала работать на улице, чтобы прокормить нас тем, что давали ей американские солдаты, а немного позднее обосновалась здесь, за одним из этих окон. Она умерла в прошлом году в тридцать пять лет. Это уже много для квартальной девушки. Пойдемте, я покажу вам, где они кончают, когда им переваливает за тридцать. Серджио увлек Робина в конец Герберштрассе. Здесь окна домов выходили на большую голую стену. Дома сдавались старым оплывшим женщинам — тем, кому перевалило за тридцать. Робин уставился на крупную девицу с крашеными волосами, золотым зубом, который блестел у нее во рту, и мрачным взглядом. Какой-то красномордый мужчина с большим красным носом постучал ей в форточку. Женщина сразу же ее открыла. Мужчину сопровождали еще три типа. Они стали что-то бурно обсуждать. Вдруг женщина закрыла окно. Мужчины пожали плечами и пошли дальше, затем постучали в другое окно. За ним притаилась женщина в кимоно, которое скрывало ее дряблую грудь. Они снова начали о чем-то договариваться. Наконец женщина открыла дверь, и четверо мужчин скрылись в небольшой коморке. Свет сразу погас, как только они поднялись на второй этаж. — Почему первая их не впустила? — спросил Робин у Серджио. — Вопрос бабок. Они сошлись только на цене, которую должен был заплатить тот, кто имел бы с ней дело. А трое других хотели смотреть спектакль за небольшую доплату. Робин не мог сдержать улыбку. — В общем, что-то вроде сотрудничества. — Вторая согласилась на их предложение после того, как вынудила их пообещать, что они заплатят за чистку ковра, если испачкают его при мастурбации во время сеанса. Они повернули обратно и очутились в ярко освещенном квартале Герберштрассе. Затем пошли в сторону Рипербан и вошли в дискотеку, но их выставили за дверь без всяких церемоний. Робин успел заметить: женщины танцевали друг с другом, некоторые нежно обнимались за стойкой бара. Здесь присутствие мужчин было запрещено. Серджио, который относился к своей роли гида очень серьезно, привел Робина к одному из кафе. Перед входом стоял мужчина и громовым голосом зазывал посмотреть великолепный спектакль с голыми женщинами. Робин пожал плечами, но все-таки пошел за Серджио вглубь заведения. Зал был переполнен, в основном здесь были матросы. Робин и Серджио пристроились за столиком в одном из углов. На эстраде танцовщица заканчивала обнажаться под одобряющими взглядами мужчин. Она разделась догола, не оставив ни плавок, ничего. Раздались довольно бурные аплодисменты. Когда она ушла, ее заменила другая. Ей было не больше девятнадцати лет: блондинка со светлыми глазами, улыбающимся лицом, одетая в розовый шелк. В ее улыбке сохранилось простодушие девушки, идущей на первое свидание. Она обошла зал, посылая поцелуи и адресуя улыбки и небольшие дружеские знаки всем матросам, которые кричали и аплодировали. Без сомнения, это была их любимая актриса. Зазвучала музыка, и блондинка начала раздеваться. Робин был поражен. Свежая и красивая, она бы больше была на своем месте в бюро Ай-Би-Си, чем на этой жуткой сцене перед этими пьяными скотами. Внезапно, совершенно раздевшись, она выпрямилась и стала совершать пируэты все с той же радостной улыбкой на губах. Было ясно, что маленькая шлюха любила свою профессию. Затем она поставила стул в центр эстрады, села и, не переставая улыбаться, раздвинула ноги. Наконец сошла с площадки и снова сделала круг по залу. Подойдя к столу Робина, она засмеялась, подмигнула Серджио и пошла дальше. Робин бросил несколько монет на стол и покинул заведение. — Эта девушка, — прошептал он, — ей не больше двадцати лет. Боже мой, почему? — Робин, все эти девушки отмечены войной. Они выросли совершенно в другом мире, не похожем на ваш. Для них секс не имеет ничего общего с любовью, даже с удовольствием. Это позволило им выжить. На каждом шагу к ним приставали девицы. — Надоело, давай возвратимся, — сказал Робин. — Я хотел показать вам последнее кабаре. Они вошли в заведение на Гросс Фрейхетштрассе. Приличное заведение, оформленное с большим вкусом. За столиками сидели элегантные посетители, разговаривающие вполголоса. Инструментальное трио негромко наигрывало меланхоличные арии. Зал был длинным, плохо освещенным, стены покрыты австрийскими картинами, клиентура в основном мужская, что сильно встревожило Робина, так как он заметил лишь несколько гетеросексуальных пар, нежно обнимающихся и слушающих музыку. — Здесь великолепная кухня, — шепнул ему Серджио. — «Голубой дом» хорошо известен гурманам. — Ешь, если хочешь, мне достаточно выпить. Серджио заказал бифштекс, на который так яростно набросился, что Робин почувствовал себя виноватым. Он забыл, что они еще не ужинали. Он заказал себе бутылку водки и сразу же начал пить. Инструментальное трио отложило свои инструменты, и гортанный голос объявил начало спектакля. Робин рассеянно наблюдал за тем, что происходило вокруг. «Голубой дом» был сверхшикарным заведением, и ужинали здесь поздно. На сцену вышла французская певица Вероника. Она пела хорошо, красивым контральто. Ей вежливо поаплодировали. Распорядитель заорал: «Бразилия!», и в свете рампы появилась высокая брюнетка. Робин выпрямился. Она заслуживала того, чтобы о ней возвещали под фанфары. На ней была мужская одежда и черные колготки. Черные волосы, зачесанные назад, были прикрыты мягкой шляпой, сдвинутой на одно ухо. Очень медленно она начала танец-апаш. Брюнетка танцевала великолепно. Было очевидно, что ее учили классическим танцам. Она закончила свой номер в сумасшедшем ритме и скинула шляпу. Длинные волосы разметались по ее плечам. Ей очень бурно зааплодировали, но она не ушла со сцены, а подождала, когда установится тишина. Наконец снова зазвучала музыка, и молодая женщина, сладострастно и возбуждающе покачивая бедрами, сняла свою одежду, медленно встала на колени и, извиваясь, как змея, сбрасывающая кожу, начала стаскивать колготки, обнажая очень белое, очень гибкое тело, едва прикрытое малюсенькими трусиками и бюстгальтером из золотистой парчи. Музыканты ускорили темп, замигали огни, и она, словно невесомая, закружилась на эстраде и села на пол, широко раздвинув ноги. Зал погрузился в полумрак, и тогда танцовщица сорвала то немногое, что еще на ней оставалось, обнажив очень плоский живот и маленькие хрупкие груди, внезапно высвеченные прожекторами. Затем огни погасли, и танцовщица убежала под гром аплодисментов. К концу спектакля Робин был совершенно пьян. — Я хочу, чтобы ты представил меня Бразилии, — заявил он. — Нет ничего проще. Я отведу вас в «Лизель» в двух шагах отсюда. Все артисты приходят туда перекусить. Без сомнения, там будет и Бразилия. Хозяйка «Лизель» была крупной матроной, встречающей гостей у входа в подвал, в котором стояло несколько столиков, покрытых скатертями в квадратики. Серджио заказал пиво, Робин остался верен водке. В зал вошел очень высокий и очень красивый мужчина и сел один за столик в другом конце. Несколько молодых женственных парней сразу же присоединились к нему, но мужчина смотрел только на Серджио. Хотя и изрядно захмелевший, Робин сохранял достаточную ясность ума, чтобы заметить невидимую нить, протянувшуюся между Серджио и незнакомцем. — Ты уверен, что Бразилия придет, и что эта помойка не только для педерастов? — Сюда приходят все, — возразил Серджио, немного обидевшись. — Впрочем, это единственное место, где можно перекусить. Отвечая Робину, Серджио не переставал смотреть на мужчину. Робин дружески похлопал Серджио по плечу. — Ладно, Серджио, иди и присоединись к этим парням. — Нет, я останусь с вами. Если Бразилия не придет, я не хочу оставлять вас здесь одного. Какое-то мгновение Серджио колебался. — Я беспокоюсь. Мне нужно было бы вас предупредить… Вы знаете, что это за тип женщин, к которому принадлежит Бразилия? — Ладно, оставь меня. Твой Тарзан кончит тем, что начнет нервничать. Он думает, что я твой дружок. В это мгновение дверь открылась: это была Бразилия. Она немного заколебалась на пороге. Робин встал и сделал ей знак подойти. Она сразу же направилась к нему. — Оставь нас, — прошептал Робин Серджио. Молодой человек пожал плечами и направился к столику красивого незнакомца, тогда как Бразилия села возле Робина. Хозяйка поставила перед ней коньяк. — Я говорю по-английски, — сказала Бразилия серьезным, немного глуховатым голосом. — Тебе не нужно говорить, крошка. Робин поднял глаза и увидел Серджио, уходящего в компании нового друга. Молодая девушка молча пила свой коньяк. Робин заказал еще один за свой счет. Он протянул руку и положил ее на ладонь Бразилии. Она не дрогнула. В зал вошел молодой человек со светлыми волосами и женственными манерами и сразу направился к Бразилии. Он сказал ей несколько слов по-французски. Она пригласила его сесть, затем повернулась к Робину. — Я хочу представить вам Вернона. Он не умеет говорить по-английски. Он ждет своего друга и предпочитает не сидеть один в баре. Робин сделал знак, чтобы его гостю принесли выпить. Каким же было его удивление, когда хозяйка поставила перед ним большой стакан молока. — Верной не переносит спиртного, — объяснила Бразилия. Вдруг дверь открылась, и вошел высокий парень с решительными манерами. Верной одним глотком выпил свое молоко и поспешил навстречу вошедшему. — Бедный Верной, он никак не поймет, кем хочет быть, — объяснила Бразилия. — Однако это бросается в глаза. Бразилия вздохнула: — Днем он пытается жить как мужчина. Ночью превращается в женщину. Очень грустно. — Она повернулась к Робину. — Выпришли сюда в поисках острых ощущений? — Я люблю разные. — Если вы ищете сильные ощущения, небывалые трюки, вам лучше возвратиться домой. — Она казалась очень уставшей, словно впавшей в уныние. — Вы очень красивы. Я с удовольствием переспала бы с вами. Но мне хотелось бы провести настоящую ночь любви, красивую ночь — ничего необычного, ничего противоестественного. Вы меня понимаете? — Согласен. Не возражаю. — Тогда договорились? — она почти умоляла его. — Моя милочка, этим вечером командуешь ты. — Извините, я сейчас. — Она подошла к бару и шепнула несколько слов на ухо Вернону, который одобрительно кивнул, слегка улыбаясь. Затем вернулась к Робину. — Пошли. Оплачивая счет, он думал, что такое она могла шепнуть на ухо парню. Впрочем, девицам часто нравилось иметь педераста в качестве поверенного. Перед дверью заведения стояло такси, но Бразилия покачала головой: — Не нужно, я живу в двух шагах отсюда. Она взяла его за руку и повела по темным улицам с плохо вымощенными мостовыми. Наконец они остановились перед ветхим зданием и поднялись на третий этаж. Комната была маленькой, но очень женской. Она была необыкновенно чистой, а плед из белого пике и куклы, сидящие на постели, делали ее похожей на комнату молодой девушки. На трюмо стоял портрет Бразилии, на камине — фотография молодой певицы, которую он недавно видел и которую звали Вероника. Робин взял Бразилию за талию и привлек к себе. — Ты слишком хорошо танцуешь, чтобы заниматься стриптизом. У тебя талант, честное слово. Она пожала плечами. — Я занимаюсь стриптизом, потому что это приносит немного больше денег и дает преимущество считаться звездой. В конце концов, какая разница? Ни одной из нас никогда не удастся сделать карьеру. Но я была в Америке, танцевала в Лас-Вегасе. — Правда? — Робин чистосердечно удивился. — Да, и я не выступала в стриптизе, а была в труппе. Мы танцевали вшестером на сцене вокруг старого американского певца, звездный час которого давно прошел. Он уже еле мог издавать звуки, и мы служили соусом, позволяющим съесть рыбку. Это было десять лет назад. Мне было восемнадцать, и я еще надеялась серьезно изучить классический танец. Но когда мой контракт закончился, у меня был только обратный билет. И я возвратилась к себе. — Куда? — В Милан. Я там жила некоторое время. — Она взяла бутылку коньяка и налила стакан Робину. — А затем поняла, что служить за столом и вести глупую буржуазную жизнь, которую мне хотели навязать, так же отвратительно, как и то, что я делаю. — Она пожала плечами. — Значит, ты такой же, как и другие? Откровения входят в часть программы? — Нет. Тебе не нужно ничего мне рассказывать. Ты молода, способна, восхитительна. Ты не права, что отказалась от юношеской мечты. Бразилия подтолкнула его к дивану и уселась к нему на колени. Она долго, словно в каком-то экстазе, смотрела на него. — В эту ночь одна моя мечта исполнится. — Она погладила лицо и руки Робина. — Подумать, что такой красивый мужчина хочет переспать со мной… — Да, у меня сумасшедшее желание заняться с тобой любовью, — сказал он, нежно целуя ее. Она встала и повела его в спальню. Едва они легли в постель, как она взяла инициативу на себя. Она была, как ненормальная. Ее язык ласкал ему веки, словно нежная бабочка, темная длинная шевелюра разметалась по лицу и плечам Робина. Это она стала делать ему любовь, пока он лежал в истоме, совершенно обессиленный и пассивный. Когда все было закончено, он, задыхающийся, продолжал молча лежать, нежно гладя ее по волосам. — Бразилия, я никогда не забуду эту ночь. Это впервые в жизни, когда меня любила женщина. — Робин, это было чудесно. — А теперь моя очередь проявить себя. — Нет, это не обязательно… — Маленькая дуреха, я так хочу… Он долго ласкал ее, затем овладел ею, делая любовь ритмичными движениями и стараясь как можно дольше сдержать себя. Он хотел сделать ее счастливой. Он обладал ею все быстрее и быстрее, словно в каком-то полузабытьи. Она цеплялась за него, стонала, но он чувствовал, что она еще не готова. Он продолжал любить ее еще какое-то время, показавшееся ему бесконечностью. Он чувствовал, как кровь стучит у него в висках, и собрал все силы, чтобы не кончить. Но у нее по-прежнему ничего не получалось. Такого с ним еще не случалось. Никогда еще он не прикладывал столько усилий, чтобы удовлетворить женщину. Он сжал зубы и продолжал. У него должно было получиться, нужно было, чтобы она кончила. Вдруг он ощутил, как почти болезненная волна пробежала по его телу в тот момент, когда он достиг вершины блаженства. Он отстранился от нее совершенно истерзанный, зная, что она не достигла оргазма. Бразилия выпрямилась и стала гладить его по лицу. Она прижалась к нему и нежно поцеловала в лоб, нос, шею. — Робин, ты великолепный любовник. — Бесполезно врать, девочка. Он встал и пошел в ванную. Ванная комната с развешанными повсюду рюшечками и кружевными воланчиками, впрочем, была красиво оформлена. Робин быстро принял душ и возвратился в комнату в плавках. Бразилия прикурила ему сигарету и сделала знак присоединиться к ней в постели. Он долго смотрел на ее грациозное очаровательное тело, маленькие груди, выпирающие из-под шелковой розовой рубашки, которую она успела надеть. — Покури, — улыбаясь, сказала она. Он устало ответил: — Бразилия, в моей стране женщины всегда говорили мне, что я хороший мужчина. Но я не чувствую себя в форме, чтобы начать дополнительный сеанс. Он взял сигарету, но лечь отказался и начал одеваться. Она вскочила с постели и, подойдя к Робину, обняла его. — Останься со мной в эту ночь, я тебя умоляю. Я так хочу уснуть в твоих объятиях. Завтра утром я приготовлю тебе завтрак, а если будет хорошая погода, мы пойдем прогуляться. Я покажу тебе Сент Паули днем, а затем, если ты захочешь, мы снова займемся любовью… Робин, это было так прекрасно, будь добр, останься. Он уже завязывал галстук. — Я тебе не нравлюсь? — спросила она. — Да нет, крошка, ты мне очень нравишься. — Он взял свой бумажник. — Сколько? Она упала на кровать и опустила голову. Робин тронул ее за плечо и спросил: — Так сколько, Бразилия? Скажи свою цену. Она опустила голову. — Ты мне ничего не должен. Он сел на кровать, поднял ей подбородок и удивился, что по ее щекам катятся слезы. — В чем дело, малышка? Бразилия разразилась рыданиями. — Я тебе не нравлюсь. — Что? — Робин был ошеломлен. — Послушай, я не собираюсь бросаться перед тобой на колени, но знай, что я получил огромное удовольствие. И сожалею, что ты не получила того же. Она бросилась ему на шею. — Робин, это была самая лучшая ночь в моей жизни. Ты мужчина, настоящий! — Что ты хочешь этим сказать? — Когда я увидела тебя с этим мальчиком, то подумала… что ты голубой. Но ты настоящий мужчина, и я тебя обожаю! — Серджио — мой друг, превосходный друг и ничего больше. Она покачала головой. — Я понимаю. И он притащил тебя сюда, чтобы немного развлечься. — Прекрати сейчас же придумывать черт знает что! Серджио хотел показать мне Гамбург ночью. Вот и все. — А как тебе было спать со мной? — спросила она. — Это было потрясающе! Я сожалею только о том, что у тебя ничего не получилось. Она подняла на него глаза, грустно улыбаясь. — Робин, у меня все происходит здесь, — она показала на лоб. — Быть в твоих объятиях и любить тебя — больше мне ничего не надо. Он нежно провел рукой по ее волосам. — Бразилия, ты никогда не кончаешь? — Я на это не способна. — Но почему? — Есть вещи, которые нельзя заменить, если их никогда не было. Он холодно посмотрел ей в глаза. Вдруг ее охватил страх. — Робин, значит, ты не знал? Твой друг не предупредил тебя? О Господи! Она вскочила и кинулась в соседнюю комнату. Робин последовал за ней. Она прислонилась к стене и уставилась на него. Казалось, что она умирает от страха. — Бразилия… Она быстро отстранилась от него и сжалась, словно боясь, что он ее изобьет. — Бразилия, что означает вся эта комедия? — Робин, умоляю, оставь меня! Она кинулась в комнату и протянула ему плащ. Он бросил его на кровать и взял ее двумя руками. Она дрожала от страха. — Давай, расскажи мне, что происходит. У меня нет желания причинить тебе хоть малейшее зло. Но я хочу знать! Она повернулась к нему и долго его рассматривала. — Я думала, что ты знал… что твой друг предупредил тебя, какого сорта люди посещают «Голубой дом». — Нет, я ничего не знаю… Но у него уже зародилось ужаснейшее подозрение. — Верной… тот, который выступает первым и который тебе понравился. Когда он поет, то надевает парик и называет себя Вероникой. Это друг, он живет со мной. Робин отпустил руки молодой женщины. — А ты? Как тебя зовут на самом деле? — Меня звали Энтони Браннарт… до моей операции. — Ты — он? Бразилия отстранилась от него. — Я — женщина, я превратилась в настоящую женщину! — закричала она. — Но ты не всегда ею была, — медленно произнес он. Она кивнула, лицо ее было в слезах. — Я теперь женщина. Не делай мне больно, не сердись на меня. Ах! Если бы ты знал, что мне пришлось выстрадать, чтобы стать женщиной. Ты не можешь представить себе пытку быть женщиной и видеть себя пленницей мужского пола… Иметь чувства женщины, думать и любить как женщина… В душе я всегда была женщиной, Робин. — Но твоя грудь? — Силикон. И я пила гормоны! На, потрогай мои щеки — я больше никогда не бреюсь. Мои руки и ноги гладкие. Поверь мне, я стала настоящей женщиной. Робин тяжело упал на диван. Травести! Он делал любовь со сволочной травести! Ничего удивительного, что эта сволочь не могла кончить. Он посмотрел на нее, и внезапно ему стало ее жаль. — Иди ко мне. Бразилия. Ты права, ты — женщина. Я не хотел тебя обидеть, не плачь больше. Это правда, ты женщина, очень красивая женщина. Она бросилась к нему и хотела спрятаться в его объятиях. Но Робин отстранил ее. — Теперь, после того, как ты мне доверилась, попробуем серьезно поговорить с тобой как мужчина с мужчиной. Она с гордым видом отошла от него, тогда как он продолжал: — И все эти лапочки, которые болтали ногами на сцене, это мужчины? Она кивнула. — И они все подверглись такой же операции, как и ты? — Все, кроме Вернона. Он отказался, потому что боится, что если поменяет пол, то не сможет воспользоваться своим паспортом и вернуться во Францию. Он так несчастен, бедный Верной. И до сумасшествия влюблен в Рика, того типа, которого ты видел с ним сегодня вечером. Три месяца назад Верной хотел покончить с собой, проглотив флакон йода. Вот почему он больше не может пить спиртное. Рик… Как это сказать… И с теми, и с другими. То он гоняется за женщинами, то предпочитает парней. А этот бедный Верной ни то, ни другое. — А в Лас-Вегасе ты тоже всем морочила голову? — Нет. В то время я была танцором-мужчиной. Робин встал и порылся в карманах. У него не было марок, но в бумажнике еще оставалось больше сотни долларов. Он протянул ей их. — На, Бразилия, купишь себе новое платье. — Я не хочу! Робин бросил деньги на диван и вышел из квартиры. Перед тем как закрыть дверь, он услышал, как она разразилась рыданиями. У него тоже стоял комок в горле. Перепрыгивая через две ступеньки, он спустился с третьего этажа и очутился на улице. Небо стало светлеть на горизонте, полуночники возвращались домой. Парочки прогуливались, держа друг друга за руки. Матросы с танцовщицами, мужчины с мужчинами, мужчины с женщинами, которые внезапно стали казаться ему несколько мужеподобными. Все мечты этих людей, все их надежды были всего лишь пеплом. Мир был создан не для проигравших. Бразилия сыграла и проиграла. Внезапно его собственные проблемы показались ему ничтожными, смешными, и он почувствовал, как его охватывает глухая злость. Грегори Остин боялся Дана, но не боялся Робина Стоуна, потому что принимал его за проигравшего. Так вот, теперь он, Робин, поведет игру. У него внезапно появилось желание возвратиться в Нью-Йорк. И кроме того, ему захотелось вновь увидеть эту чокнутую Мэгги Стюарт в Калифорнии. Но Мэгги могла подождать — подождать того часа, когда Робин станет самым могущественным, самым сильным… (обратно)
Глава 28
Робин вернулся в Нью-Йорк как раз вовремя, чтобы посмотреть Дипа и Поли в «Кристи Лэйн Шоу». Дип был красив, как бог, но пел фальшиво, а его жесты были невероятно неловкими. Поли была уродлива, как блоха, но пела великолепно и передвигалась по сцене с грациозностью балерины. Робин не верил своим ушам. Поли перестала подражать Лене Хорн, Гарланд и Стрейзанд — она нашла свой собственный голос. Ее стиль был безупречен, она фразировала с утонченным вкусом. Робин подумал, когда же с ней произошла такая метаморфоза. Может, таскаясь за Дипом по ночным кабаре, Поли отказалась от мысли добиться успеха. И в результате этого стало достаточно, чтобы избавиться от неестественности, от нелепых подергиваний. На следующее утро в одиннадцать часов Дип ворвался в кабинет к Робину с перекошенным лицом, глазами, налитыми кровью. — Я ее убью! — заявил он. Робин вздрогнул. — Что такое? Что случилось? — Час назад позвонил мой агент. Представь себе, что эта сволочь Айк Райан со своим дерьмовым вкусом не хочет иметь со мной дела. — Но ты сказал, что собираешься ее убить. О ком идет речь? — О Поли, естественно. — Глаза Дипа метали молнии. — Айк Райан предложил ей дублировать Диану Вильяме, и эта идиотка Поли согласилась! — Но, может, все не так плохо, — возразил Робин. — Во всяком случае, это принесет деньги вашей семье. — А как же! Она будет зарабатывать три сотни в месяц. Я больше потратил на чаевые в Беверли Хилл! И потом, какого черта я делаю во всем этом? Грязная стерва! Она сматывается и оставляет меня с носом! — Гнев удесятерял его энергию. Он резко вскочил и начал ходить взад-вперед по кабинету: — Знаешь что, Робин? Я сматываю удочки и возвращаюсь к себе. Я не хочу быть здесь, когда Звезда возвратится с этим чертовым контрактом в кармане. Посмотрим, сколько времени она продержится без Великого Диппера. А затем я вышвырну ее за дверь, пусть катится к своей мамочке. С этими словами он, как смерч, вылетел из кабинета. Робин еще думал об истории Дипа и Поли, когда телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Это был Клиф Дорн. В этот же момент секретарша Робина объявила, что Дантон Миллер ждет в приемной. Но он не успел открыть рот, как Дан ворвался в кабинет. — Ты не собираешься заставлять меня торчать здесь все утро? Ты читал сегодняшние отзывы? Девица сногсшибательная, ничего не скажешь. Но Дип Нельсон превзошел все ожидания. Он полностью сорвал передачу! И я прошу тебя впредь никогда не вмешиваться в мои дела! Робин ничего не ответил и взял трубку. — Алло, Клиф, извини, что заставил тебя ждать. Дан увидел, что выражение лица Робина сильно изменилось. — Когда это случилось? В Маунт Синай? Я немедленно приеду. Он повесил трубку. Дан, все еще разъяренный, не сдвинулся с места. Робин удивленно на него взглянул, словно только что вспомнил о его присутствии. — С Грегори совсем плохо, — бросил он. — Что-нибудь серьезное? От плохой новости гнев Дана улетучился. — Они ничего не знают. — Ты хочешь, чтобы я поехал с тобой? Робин бросил на него удивленный взгляд. — Конечно же нет! И он снова вышел, оставив Дана стоять посреди комнаты.Когда Робин приехал к Грегори, тот сидел в кресле. На нем был халат, наброшенный поверх шелковой пижамы. Несмотря на загар, его лицо было осунувшимся. — Вы мне не кажетесь таким уж больным, — весело сказал Робин, пожимая руку Грегори. — У меня рак с большой Р, — пробормотал Грегори потухшим голосом. — Я это знаю. — Грег, не говори, пожалуйста, глупостей, — умоляюще произнесла Юдифь. — У меня все болит. Я не могу даже мочиться без боли. И естественно, мне не хотят ничего говорить. Юдифь повернулась к Робину и бросила на него умоляющий взгляд. — Я говорила ему, что речь идет о простате. — А как же! — произнес Грегори голосом, полным горечи. — Меня подвергнут новым обследованиям, после чего покажут снимки, в которых я ничего не понимаю, утверждая, что они отрицательные. И все мне будут улыбаться, глядя, как я постепенно умираю. — Это вы меня доведете до гроба и быстрее, чем думаете, если будете продолжать эту комедию. Доктор Лесгарн вошел в палату. — Послушайте меня, Грегори, я проверил результаты ваших анализов. Нет сомнения, что вас беспокоит предстательная железа. Операция неизбежна. — Что я вам говорил! — триумфально заявил Грегори. — Человеку с воспаленной предстательной железой не делают операцию, если речь не идет о злокачественной опухоли. — Хватит! — сказал врач тоном, не терпящим возражений. — Я попрошу всех покинуть палату. Грегори, я дам вам болеутоляющее. Это путешествие было для вас слишком изматывающим, и я хочу, чтобы вы были в форме завтра перед операцией. Юдифь подошла к Грегори и обняла его. — Дорогой, вспомни, что ты всегда был счастливым игроком. И теперь у тебя в руках все козыри. Почему ты так расстраиваешься? Он попытался улыбнуться. Юдифь поцеловала его в лоб. — Я приду завтра утром до того, как те5я отвезут в операционную. Слушайся доктора и хорошо отдыхай. Я люблю тебя, Грег. Юдифь, не оборачиваясь, вышла из палаты. Длинный «линкольн» Грегори ждал их возле клиники. Шофер открыл дверцу Юдифь. — Если хотите, я вас провожу, — сказал Клиф. — Думаю, нам всем не мешало бы пропустить один-два стаканчика, — вмешался Робин. — В таком случае, я вас оставлю, — вздохнул Клиф. — Не беспокойся, я позабочусь о миссис Остин, — пообещал Робин. Он сел в машину рядом с Юдифь. — Я знаю один небольшой бар… если только вы не предпочитаете «Сент-Режи» или «Оук Рум». — Нет, мне подойдет любое спокойное место. Приехав в «Лансер», Юдифь с любопытством огляделась. Вот, значит, как выглядит любимое бистро Робина. Зал был слабо освещен, что как раз устраивало Юдифь. Робин выбрал столик немного в стороне от других и заказал скотч для нее и мартини для себя. Когда их обслужили, она спросила: — Как вы думаете, что будет? — Я искренне считаю, что Грегори поправится. Ваш муж слишком боится умереть. — Не понимаю. — Во время войны я несколько недель лежал раненый в общей палате, где было очень много больных. Моему соседу справа сделали пять операций. И каждый раз он прощался со мной так, будто больше меня не увидит. В конце концов он прекрасно выкарабкался. А молодой военный, который лежал слева от меня, мирно читал газеты с постоянной улыбкой на губах и однако все больше и больше терял крови. С тех пор я знаю, что люди удивительно спокойны, когда смерть подстерегает их. — Вы меня подбодрили, спасибо. — Во всяком случае, ближайшее будущее избавляет вас от тревог. Трудности начнутся после операции. — Вы намекаете на нашу сексуальную жизнь? — Она пожала плечами. — Робин, между Грегори и мной никогда не было сумасшедшей любви. Его настоящая страсть — это Ай-Би-Си. Я страдала от этого в течение многих лет. — Речь идет не о вас, — задумчиво сказал Робин. — Он не захочет признать, что у него нет злокачественной опухоли. — А что делать мне? Грегори — борец, который никогда не признавал поражений. Болезнь ему чужда. Вы не можете вообразить, что я претерпела за эти несколько месяцев. Я жила с инвалидом, который без конца стенал. У него это стало идеей фикс. Он отказывался выходить играть в гольф, встречаться с людьми. Каждую минуту он щупал себе пульс. Робин холодно взглянул на нее. — В принципе, когда люди женятся, они должны рассчитывать на лучшее и на худшее. Разве вы этого не знали? — Это вы так считаете? — Это так я считал бы, если бы был женат. — Вполне возможно, — ответила она, взвешивая свои слова. — Но наш союз никогда не был настоящим браком. — Мне кажется, вы выбрали неподходящий момент, чтобы наконец заметить это. — Робин, не смотрите на меня так, словно вы меня ненавидите. Если этот брак не удался — я здесь ни при чем. — Этот брак? Разве женщина так говорит о своем союзе? Наш брак, вот что вы должны были сказать. Юдифь подняла на Робина умоляющий взгляд. — Робин, помогите мне! — Вы можете рассчитывать на меня. Она взял его руки и вцепилась в них. — Робин, я решила сражаться, но я не чувствую себя достаточно сильной. Я слишком долго была заточенной в своей башне из слоновой кости. У меня нет близких подруг. Я никогда не рассказывала о своих заботах кому бы то ни было, и теперь неожиданно обнаружила, что мне некому довериться. Я не хочу говорить об операции Грега с посторонними. Робин, вы позволите обратиться к вам, всплакнуть на вашем плече? Он загадочно улыбнулся. — У меня широкие плечи. — Договорились. У вас есть персональный телефон в Ай-Би-Си? Он вытащил записную книжку и написал номер. — Напишите также свой домашний телефон. Он записал свой домашний телефон, который не фигурировал в телефонном справочнике, вырвал листок и протянул ей.
Грегори шесть часов оставался на операционном столе. За этот тягостный период Юдифь два раза звонила Робину. В конце концов они договорились, что он зайдет в клинику в конце дня. Доктор Лесгарн появился в три часа после обеда. Он принес прекрасные новости. Грегори был в реанимационной. У него не было злокачественной опухоли. В пять часов Грегори привезли в палату. Когда через час доктор Лесгарн пришел к нему и принес результат анализов, Грегори, ухмыляясь, отвернулся. Юдифь бросилась к мужу и взяла его за руку. — Это правда, Грег, клянусь тебе. Он оттолкнул ее: — Вранье! Вы принимаете меня за идиота? А ты, моя бедная Юдифь, весьма плохая актриса. Юдифь, охваченная нервной дрожью, вышла в коридор. Через несколько минут появился Робин. Его улыбка, решительная походка и бронзовое лицо контрастировали с жалким подобием человека, в которого превратился Грегори. — Я недавно звонил сюда и узнал хорошую новость, — объявил он. Юдифь грустно пожала плечами: — Грег не хочет нам верить. Врач повернулся к Юдифь и посоветовал ей вернуться домой после трудного дня. Она грустно улыбнулась. — Я бы с удовольствием что-нибудь съела и выпила. Со вчерашнего дня у меня ничего не было во рту. Робин повел ее в «Лансер». Она не без умысла отпустила своего шофера. В таком случае Робин будет вынужден проводить ее домой. Они сели за тот же столик, что и накануне, И' она подумала, как часто он бывает здесь. Он, видимо, заметил выражение ее лица. — Я бы с удовольствием пошел с вами куда-нибудь еще, — объяснил он, — но, к несчастью, у меня здесь назначено свидание. Юдифь осторожно смаковала напиток. На голодный желудок алкоголь ударит ей в голову, а она стремилась сохранить ясность ума. — Я не хотела бы путать вам планы, Робин. — Да нет. Внезапно он встал, увидев высокую молодую блондинку, направляющуюся в их сторону. — Извини, Робин, за опоздание. — Не имеет значения. — Он сделал знак девушке сесть рядом с ним. — Миссис Остин, позвольте представить вам Ингрид, стюардессу Трансатлантической авиакомпании. Мы не раз летали вместе. Робин сделал знак бармену обслужить девушку. Юдифь заметила, что тот автоматически принес водку с тоником. Это подтверждало, что она приходила сюда с Робином. У нее был едва заметный скандинавский акцент. Она была высокой, очень стройной, несколько худощавой. Длинные волосы падали ей на плечи и закрывали часть лба. У нее были сильно накрашенные глаза, но помады на губах не было. И когда она положила свою длинную тонкую руку на руку Робина, Юдифь с удовольствием проткнула бы ее кинжалом. О, блеск молодости! По сравнению с этой девушкой, одетой в скромную белую рубашку и совершенно простую юбку, Юдифь чувствовала себя неповоротливой в облегающем костюме фирмы «Шанель». Робин заказал по второй. Юдифь была голодна — она с удовольствием что-нибудь съела бы. Первый бокал скотча начинал ударять ей в голову. Робин поднял свой бокал и выпил за здоровье Грегори. Он повернулся к девушке и объяснил, кто такой Грегори Остин. — Мне очень жаль, — сказала Ингрид, обращаясь к Юдифь. — Я от всего сердца желаю ему выздоровления. А что у него? — Простое контрольное обследование, милочка, — объяснил Робин. — Мистер Остин возвратился самолетом из Палм Бич, так как предпочитает здешних врачей. — Вы летаете на самолетах нашей компании? — спросила Ингрид. — У нас собственный самолет, — сказала Юдифь. — Это должно быть удобно, — довольно равнодушно одобрила Ингрид. — Юдифь, я рассчитываю на вас: Грегори должен интересоваться работой даже во время обследования, — сказал Робин. Ингрид посмотрела на них обоих: — Как, этот бедный мистер Аллен… — Остин, милочка, — поправил Робин. — Хорошо, Остин. Так вот, мой отец однажды лежал на обследовании. Он рассказывал, как это ужасно. Дайте мистеру Остину выздороветь и немного забыть про дела. Робин снисходительно улыбнулся. — Милочка, разве ты даешь советы пилоту, когда погода портится? — Нет, конечно. Для этого есть служба управления и штурман. — Так вот, служба управления — это я, а Юдифь — штурман. — И все-таки я считаю, что вы не должны беспокоить этого беднягу, пока он в больнице. Юдифь не могла не восхищаться этим ребенком. Ингрид даже не опустила глаза, когда Робин ее одернул. Но это еще раз подтверждало, что она спала с ним и имела на него определенное влияние. Но по какому праву? Только потому, что была молода? — Я хочу есть, — внезапно объявила Ингрид. Робин сделал знак бармену. — Бифштекс для мисс и водку для меня. — Он повернулся к Юдифь: — А что вы желаете? — А вы, Робин? Он показал на стакан. — Мне еще скотч, — решительно сказала она. — Без бифштекса? — Без. Улыбка осветила лицо Робина. — Честное слово, Юдифь! Я восхищаюсь вами. Вы не даете себя победить и всегда готовы продолжить сражение. Наверняка по этой причине вы никогда не будете проигравшей. — Вы так считаете? — с вызовом спросила она. Он поднял свой бокал. — Я в это железно верю. Ингрид с видимым замешательством наблюдала за этой сценой. Внезапно она встала. — Робин, я думаю, что ты должен отменить мой бифштекс. У меня впечатление, что я здесь не нужна. Робин пристально разглядывал дно бокала. — На твое усмотрение, милочка. Она взяла пальто, накинула его и очень гордо направилась к выходу. Юдифь попыталась показаться раздосадованной. — Робин, это, наверное, я должна уйти. Эта девушка и вы… — Не надо со мной играть, Юдифь. Это не в вашем стиле. Впрочем, вы же хотели, чтобы она нас оставила, разве не так? Робин отменил бифштекс и попросил счет. Они в молчании допили свои бокалы и покинули бар. — Я живу в конце улицы, — совершенно естественно произнес Робин. Юдифь взяла его под руку. Совсем не так она представляла их идиллию. Все это казалось слишком грубым, прямолинейным, ни капельки не романтичным. Ей нужно было признаться Робину, что для нее это не такое же приключение, как другие. — Робин… я много думала о вас и уже давно… Он не ответил, но высвободил свою руку и взял ее ладонь. — Юдифь, вы всегда выигрываете. Не старайтесь давать мне объяснения. Все очень хорошо и так. Когда она зашла к нему в квартиру, то внезапно испугалась. И вдруг почувствовала, как по ее груди, лбу, вдоль спины струится пот. Ах, эти проклятые приступы жара! Словно ей нужно напоминание, что она не молоденькая стюардесса. Робин, стоя в гостиной, приготовил скотч с водой. Юдифь села на диван. Она обратила внимание, какой он огромный и, вся дрожа, стала ждать, когда Робин присоединится к ней. Внезапно он подошел, забрал у нее наполовину полный стакан и потянул за собой в спальню. Она почувствовала страх при мысли, что ей придется раздеваться перед ним. Развязывая галстук, Робин подбородком указал на ванную комнату: — У меня нет для вас будуара, но это лучше, чем ничего. Она нерешительно направилась к ванной комнате и не спеша начала раздеваться. Заметив шелковый коричневый пеньюар на вешалке, она надела его и завязала пояс. Открывая дверь, Юдифь увидела Робина в плавках, стоящего перед окном. Комната была погружена в темноту, но свет из ванной комнаты осветил его широкие плечи. Она даже не представляла, насколько хорошо он был сложен. Юдифь подошла к нему. Он обернулся, взял ее за руку и с большой нежностью потянул к кровати. — Мне говорили, что опытные женщины самые лучшие в постели. Дорогая мадам, нужно это доказать — располагайтесь и сделайте мне любовь. Эти слова ее потрясли, но она так сильно желала его в этот момент, что подчинилась. После некоторой прелюдии он перевернул ее на спину и набросился, как зверь на добычу. Все закончилось довольно быстро. Он растянулся рядом с ней и зажег сигарету. — Сожалею, мне нужно было немного продлить сеанс, — сказал он со сдержанной улыбкой, — но когда я слишком выпью, то бываю не в форме. — Робин, я считаю, что все прошло восхитительно. — Действительно? — Он посмотрел на нее рассеянным взглядом. — Но почему? — Потому что это были вы. В этом вся разница. Он зевнул: — Если я проснусь посреди ночи, то постараюсь быть получше. Он рассеянно поцеловал ее и повернулся спиной. Через несколько минут по его ровному дыханию Юдифь поняла, что он спит. Она посмотрела на него. Значит, это и есть мужчина, которого прозвали Машиной Любви. И что теперь? Вдруг Юдифь осознала, что на ней все еще коричневый пеньюар. Робин даже не соизволил снять его. Он не смотрел на нее и не дотрагивался. Удовлетворился тем, что обладал ею, не заботясь о ней. Юдифь соскользнула с кровати, пошла в ванную и бесшумно оделась. Когда она возвратилась в комнату, Робин сидел на кровати. — Юдифь, вы уже уходите? — Я думаю, мне лучше возвратиться, если вдруг позвонят из клиники. Он вскочил с кровати и натянул плавки. — Я думаю, что вы правы. Сейчас оденусь и провожу вас. — Нет, Робин. Я поймаю такси. Отдыхайте. Он обнял ее за талию и проводил до двери. Она робко спросила: — Я увижу вас завтра? — Нет, я уезжаю в Филадельфию снимать Диану Вильяме. — Когда вы возвратитесь? — Через два или три дня. Юдифь направилась к лифту, думая о том, что ее расстроило. Она имела Робина и будет иметь еще. Только в другой раз она не даст ему столько пить. Однако в течение двух последующих недель состояние Грегори так сильно ухудшилось, что у Юдифь не было времени подумать о новом свидании. Грегори чувствовал себя намного лучше физически, но душевное состояние больного ухудшалось с каждым днем. И однажды утром он проснулся парализованным от талии. Он не мог пошевелить ногами и был неспособен сесть в постели. Юдифь немедленно позвонила доктору Лесгарну. Он вставил иголку в икру больного, убедился, что у того нет никакой реакции, и вызвал скорую помощь. Грегори полностью обследовали. Все анализы были отрицательные. На консультацию вызвали невропатолога. Доктор Чейз, известный психиатр, долго беседовал с Грегори. Затем был вызван еще один специалист. Оба пришли к одному мнению. Паралич, которым страдал Грегори, не был соматическим. Они встретились с Юдифь и сообщили свой диагноз. Она была потрясена. — Я настаиваю на его госпитализации, — с важным видом заявил психиатр. Юдифь закрыла лицо руками. — Нет, нет, только не Грег! Он не сможет жить среди сумасшедших! Доктор Лесгарн задумался, потом повернулся к доктору Чейзу: — А что вы скажете о заведении в Швеции, о котором столько говорят? Грегори мог бы лечь туда под псевдонимом. Кроме того, там есть коттеджи, где больной может жить со своей женой, пока длится лечение. Грегори будет обеспечен прекрасный уход, и никто ни о чем не догадается. Юдифь могла бы сказать журналистам, что они намереваются совершить длительное путешествие в Европу, так как лечение там может занять полгода — год и даже больше. — Я рискну, — твердо сказала Юдифь. Она попросила доктора Лесгарна сделать немедленно все необходимое. Возвратившись домой, она позвонила вначале Клифу Дорну, затем Робину Стоуну и попросила их немедленно прийти к ней. Было шесть часов, когда они явились к Остинам. Юдифь встретила их в кабинете мужа и поставила в известность о сложившейся ситуации. — Если только хоть одно слово просочится об этом деле, я сделаю официальное заявление, обвинив вас в клевете, и без колебаний вышвырну вон. Поскольку Грег не в состоянии принимать решения, я буду действовать от его имени. — Кто с вами спорит? — спокойно заметил Клиф. — В таком случае, мы договорились. Я хочу, чтобы Робин Стоун взял управление в свои руки. Клиф, нужно прямо завтра предупредить об этом Дана. Вы скажете ему, что Грег решил отдохнуть за границей довольно длительное время и что Робин будет заменять его во время отсутствия. Указания Робина не должны обсуждаться. Полная достоинства, Юдифь поднялась, показывая, что переговоры окончились. — Робин, вы не останетесь на несколько минут? Мне нужно с вами переговорить. Клиф задержался на пороге. — Я подожду в коридоре. У меня много вопросов, которые нужно урегулировать с вами, миссис Остин. Робин направился к дверям. — Я встречусь с вами завтра, миссис Остин. Когда дверь за ним закрылась, Юдифь повернулась к Клифу, не стараясь скрыть своего плохого настроения. — Что за срочные вопросы вы хотели обсудить? — Миссис Остин, вы отдаете себе отчет? — Я делаю то, что сделал бы Грег. — Я так не думаю. Грег нанял Робина, чтобы ограничить власть Дана. А вы не только отдаете бразды правления одному человеку, но и оставляете ему полную самостоятельность. — Если бы я распределяла обязанности, вся сеть рухнула бы. — Вы ставите Дана в невозможное положение. Он будет вынужден уволиться. — Вы считаете, что Дан предпочтет остаться без работы? — Под влиянием эмоций люди делают что угодно. — Так вот, пусть решает сам. Я вас больше не задерживаю.
На следующее утро Клиф Дорн сообщил новость всему собравшемуся персоналу. Через полчаса Дантон Миллер передал ему заявление о своей отставке. Клиф попытался урезонить его. — Дан, не сдавайся. Такое положение не навечно. Дан слабо улыбнулся. — Иногда наступает момент, когда для того, чтобы выжить, приходится устраниться. Не беспокойся обо мне, Клиф. — Я тоже должен выжить. А для меня выжить — означает остаться на месте и охранять контору. В настоящий момент я не в состоянии противостоять Робину, я только могу следить за ним. Робин чувствовал враждебность Клифа по отношению к себе, но он не нуждался в популярности. Через несколько недель большинство служащих Ай-Би-Си забыло, что Дантон Миллер когда-то был частью коллектива. Что касается Робина, то он работал без устали. По вечерам смотрел телевизор и очень редко появлялся в «Лансере». Постепенно он начал терять всякий контакт с внешним миром Его поездка в Калифорнию была одной из самых скучных. Едва устроившись в своем номере в Беверли Хилл, он позвонил Мэгги. Она, казалось, была очень удивлена, услышав его голос, и согласилась встретиться с ним в шесть часов в «Поло Лаундже». Когда она появилась, Робин подумал, что уже забыл, насколько она красива. Улыбаясь, она присела рядом с ним. — А я думала, ты больше не захочешь разговаривать со мной после этого пожара. — Шутишь! Я нашел это очень забавным. — Как идет пьеса с Дианой? — спросила она. — Не знаю. Я больше не встречался с этой дамой. А как идет твой новый фильм? — Очень плохо. Полный провал. — Любой человек может сняться в плохом фильме. Мэгги согласно кивнула. — Может, мне повезет, и я смогу проявить себя в следующем. Его должен снимать Адам Бергман. — Прекрасный режиссер. — Конечно. Ему даже удалось заставить меня играть, как настоящая актриса. — Но тогда в чем дело? — Он даст мне роль, если… я соглашусь выйти за него замуж. Робин промолчал. — Я решила отказаться. О! Прошу тебя, не принимай этот виноватый вид! Я уже сказала об этом ему перед Новым годом. — Внезапно в ее глазах появились молнии. — Но, в конце концов, ты должен чувствовать себя виноватым, подлец! Тебе удалось сделать меня фригидной! Это заявление развеселило Робина. — Перестань, я не до такой степени неподражаем. — Ладно, это моя вина. Ты был прав, я — чокнутая. Мне пришлось обратиться к психиатру, и он мне открыл, насколько высоко я ценю себя. — Психиатр, Боже мой! Но какая связь между этим открытием и браком с Адамом? — Я отказываюсь выходить замуж в голливудском стиле, во всяком случае так, как этого хочет Адам. Когда я жила с ним на побережье, то делала вещи, на которые считала себя неспособной. Странно, да? Когда я лежала на диване у моего психиатра, то подумала: «Где прежняя Мэгги, та, которая жила в Филадельфии, полная надежды и любви? Та особа, которая совершала идиотские выходки, это не я…» — Но что тебя толкнуло пойти к психиатру? — Этот пожар… Когда я осознала, что люди могли умереть в огне, я была в ужасе. — Не будем говорить об этом. У меня теперь новая кровать с асбестовым одеялом. Они поужинали у Доминика, после чего пропустили несколько стаканчиков в Мелтон Тауэз. Робин провел три дня за просмотром пленок и три ночи вместе с Мэгги. В день отъезда они встретились в «Поло Лаундже», чтобы выпить по последнему стаканчику. Мэгги протянула ему маленький пакет. — Открой, — сказала она, — это подарок. Он стал разглядывать тоненькое золотое кольцо в велюровой коробочке. — Что это? Похоже на маленькую теннисную ракетку. — Это египетский символ — Клеопатра всегда носила такой. Он означает сохранение жизни и рода. Как раз для тебя! Для меня это сексуальный символ, то есть символ сексуальности, которая господствует над всем. — Она надела ему кольцо на мизинец. — Тонкое, блестящее и красивое. Совсем как вы, мистер Стоун! И я настаиваю, чтобы ты его сохранил. В некотором смысле ты теперь меченый. — Мэгги, я ненавижу драгоценности, — сказал он, взвешивая свои слова. — Иногда меня раздражают даже обыкновенные часы. Но твое кольцо я буду носить всегда, обещаю. — Знаешь, я слышала о людях, которые испытывают одновременно любовь и ненависть к какому-то человеку. Я не знала, что это такое, пока не встретила тебя. — Мэгги, ты не любишь меня и не ненавидишь. — Неправда, я люблю тебя, — очень спокойно возразила она, — и ненавижу за то, что вынуждена тебя любить. — Поехали в Нью-Йорк вместе со мной. В какой-то момент ее глаза загорелись. — Робин, я бросила бы свою карьеру, если бы была уверена, что нужна тебе. Он странно взглянул на нее. — Кто говорил, что я нуждаюсь в тебе? Я предложил поехать со мной в Нью-Йорк. Мне показалось, что перемена обстановки будет для тебя благоприятна. Она так резко вскочила, что опрокинула еще полные стаканы на скатерть. — Знай, что я сыта по горло! О, я не говорю, что не кинусь к тебе, когда ты позвонишь. Есть надежда, что я пересплю с тобой. Потому что я — больная. Но я доверяю своему психиатру, он возвратит мне уверенность, и придет день, когда ты будешь нуждаться во мне, но меня это уже не будет касаться! Не оборачиваясь, она вышла из бара. Робин медленно допил свой стакан, после чего поехал в аэропорт. Он хотел выкинуть кольцо Мэгги в урну, но оно было очень тесным, и он не смог его снять. Робин улыбнулся. Наверное, он теперь действительно меченый. Возвратившись в Нью-Йорк, он узнал, что Диана Вильяме была выведена из спектакля. Вместо нее теперь играла Поли. Эта роль принесла ей настоящий триумф, и Айк Райан хотел рискнуть поставить на Бродвее пьесу с Поли в главной роли. Для Робина лето начиналось хорошо. Новые программы шли все успешнее. Он быстро понял, что энергичное «нет», сопровождаемое уверенной улыбкой, — лучший способ оборвать все дискуссии, если он решил не принимать передачу. Он поклялся себе никогда не злиться и не терять самообладания. Он никогда не говорил: «Я подумаю». Это были всегда категоричные «да» или нет". Благодаря этой системе он незамедлительно приобрел репутацию безжалостной сволочи, во власти которой было создать или разрушить карьеру. Два раза в неделю он получал открытку от Юдифь. Со своей стороны Клифф Дорн следил за тем, чтобы в прессе регулярно появлялись заметки, касающиеся различных этапов путешествия в Европу Грегори Остина. (обратно)
Глава 29
В конце сентября Остины без предупреждения возвратились в Нью-Йорк. Это было желанием Юдифь. Она решила, что, обустроившись, отметит «официальное» возвращение с большой помпезностью. Грегори совершенно выздоровел и был убежден, что у него никогда не было рака. Он даже сделал с ней несколько попыток в постели. Юдифь заслуживала «Оскара» — она разыграла комедию, как большая актриса, заявив ему, что он снова стал великолепным любовником. Впрочем, Юдифь воспользовалась этим долгим отсутствием. В течение трех первых месяцев их пребывания в Лозанне Грегори было так плохо, что жене не разрешали навещать его. Он перенес сорок электрошоков, тяжелейший период восстановления, во время которого стал почти невменяемым, и только после этого встал на путь выздоровления. Юдифь сняла небольшую квартиру рядом с клиникой. В течение трех месяцев, когда визиты были запрещены, она доверялась заботам великолепного специалиста по косметической хирургии. Этот хирург был гением. Конечно, у нее еще осталось несколько крошечных морщинок на висках и довольно глубокие шрамы за ушами. Но она изменила прическу и носила теперь более длинные пышные волосы, закрывающие ее уши. Результат был сенсационным. Грегори тоже хорошо выглядел. Его волосы снова стали рыжими, он похудел и загорел, но не имел ни малейшего желания приступать к работе. Вот уже неделя, как они возвратились в Нью-Йорк, а Грег ни разу не появился в своем кабинете. Он все время находил новый предлог, чтобы увернуться. В конце концов Юдифь буквально выставила его за дверь, заставив пообещать, что он зайдет в Ай-Би-Си. Как только Грегори ушел, Юдифь взяла телефон и позвонила Робину. Егоперсональный телефон не ответил. Юдифь была разочарована, но не решалась попросить, чтобы ему передали о ее звонке. Наверное, он был на конференции. В три часа дня ей удалось наконец застать его. Он, казалось, обрадовался, что она позвонила. Все утро он провел, беседуя с Грегори, и нашел его в прекрасной форме. — Когда я вас снова увижу? — спросила Юдифь. — Когда захотите, — ответил он нейтральным тоном. — Как только Грегори пожелает, я приглашу вас на обед в городе. — Робин, я не об этом прошу вас, — спокойно произнесла она. — Я хотела бы с вами встретиться одна. Он не ответил. — Когда и где я смету вас увидеть? — Завтра вечером, в шесть часов. У меня. — Хорошо, я приеду. Нервы ее были на пределе, когда она решилась позвонить в квартиру Робина. Он открыл дверь, сделал знак войти, после чего вернулся к телефону. Конечно, она ждала совсем другого приема. Робин разговаривал с корреспондентом из Калифорнии и напомнил ей мужа и его чертовы опросы. Несмотря на то, что только раз была в этой квартире, Юдифь помнила абсолютно все, что пережила здесь. Мебель, самые мельчайшие детали интерьера запечатлелись в ее памяти. Нижнее белье было немного тесновато, лифчик натирал плечи, а крошечные кружевные трусики раздражали кожу на бедрах. Но все это не имело значения. Юдифь успокаивала себя тем, что представляла, как удивится и восхитится Робин, когда она снимет платье. Робин повесил трубку, подошел к ней и сжал ее руки, поздравляя со счастливым возвращением. Он улыбался, но Юдифь заметила глубокие морщины между его бровями. — У вас неприятности? — спросила она. — Да, с Родди Коллинзом. — Кто это? Он весело улыбнулся. — Вы не только отсутствовали, но, наверное, с тех пор, как вернулись, не смотрели телевизор? — Да, это правда. И Грегори делает так, как я. Робин сел на диван и протянул портсигар Юдифь. — Родди Коллинз — наша новая звезда, — объяснил он озабоченным тоном. — Его последний вестерн имел огромный успех. Этот парень управляется с кольтом лучше всякого ковбоя. Великолепный парень, метр девяносто два ростом, громовой голос, и только что я узнаю, что Родди — голубой. Юдифь пожала плечами. В этот момент она хотела одного, — чтобы Робин ее поцеловал, но он ходил по комнате, не обращая на нее внимания. — Вы считаете, что актер не имеет права жить так, как хочет? — спросила она. — Конечно, его личная жизнь меня не касается, пока остается личной. Но он не ограничивается приемом своих гомиков у себя. Мистер переодевается в женщину и идет клеить типов в ночные кабаки. Юдифь, вы представляете? Метр девяносто два, самый популярный актер на телевидении, рекламирующий стиральный порошок, которым пользуются все американские семьи, приходит переодетым в бар и строит глазки мужчинам! Она расхохоталась. — Ничего смешного, уверяю вас. — Робин, я была так далека от всего этого… Мне нужно время, чтобы снова привыкнуть. Сегодня вечером мы наконец снова вместе. Не думайте больше об этих людях с телевидения. Он посмотрел на нее так, словно впервые увидел ее. — Вы совершенно правы. Хотите выпить. Юдифь? Она согласилась, как согласилась бы на что угодно, лишь бы разбить лед между ними. Он подошел к маленькому бару и налил два больших бокала виски. — Грегори очень хорошо выглядит, — сказал он, протягивая ей бокал. — Я, конечно, рад, что он оставляет управление всеми операциями мне. Однако вы должны заставить его снова интересоваться… — Считаете, что он больше не интересуется делами? — Юдифь, я думал, что Грегори после выздоровления возьмет дела в свои руки. Я даже решил сражаться, если в этом будет необходимость, защищать свои интересы. Некоторые злые языки рассказывают, что я теперь патрон Ай-Би-Си. Меня это раздражает, особенно когда я думаю о Грегори. Эти россказни могут причинить ему боль, а я хочу сохранить его дружбу. Юдифь поставила свой стакан на журнальный столик и, устремив взгляд на Робина, сказала: — Предоставьте это мне. Разве вы не знаете, что это немного и моя сеть? Однако вы прекрасно выглядите, Робин. Он подошел к ней и заставил подняться. Она обняла его, будучи на вершине блаженства, как вдруг телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Она попросила его почти умоляющим тоном: — Робин, не отвечайте. — Невозможно. Это прямая линия с кабинетом. Он высвободился из ее объятий и снял трубку: — Алло! Да? Без шуток, Дип! А Дан его видел, да или нет? Сколько времени ты можешь располагать проекционным залом? Хорошо, буду через двадцать минут. И он повесил трубку. — Вас ждут? Вы назначили кому-то свидание? Она не могла в это поверить. — Это Дип Нельсон. Кажется, он раскопал потрясающий сюжет для фильма. Юдифь казалась удивленной. — А кто это Дип Нельсон? — Дорогая, это долгая история. Когда-то он был модной кинозвездой, про которую теперь забыли. Он решил снова вернуться в дело, стать продюсером. Мы купили у него серию шоу, которую он написал вместе с Даном Миллером. Пойдемте… — Он протянул ей руку и помог встать. — Юдифь, я предпочитаю, чтобы вы уехали без меня. Я спущусь через несколько минут. — И когда я вас снова увижу? — Я позвоню вам завтра около одиннадцати. Он рассеянно приложился губами к ее щеке и проводил до двери. Но она чувствовала, что он уже далеко. Юдифь села в лифт, вышла на улицу, поймала такси, которое отвезло ее домой. Когда она вошла в салон, Грегори наливал себе мартини. Он воскликнул: — Уже возвратилась, дорогая! Какой приятный сюрприз. Я нашел твою записку и уже приготовился ужинать в одиночестве. Боже, какая ты сегодня красивая! Хочешь выпить? Юдифь взяла бокал, который протянул ей Грегори, и смочила губы. В это мгновение она с горечью осознала, что Робин даже не заметил, насколько она помолодела и стала красивее.На следующий день, прождав обещанного звонка до часу дня, Юдифь начала злиться. Она успокоилась, решив, что у Робина, наверное, встреча, что он обедает в городе и позвонит около трех. Она ходила взад-вперед по комнате, не зная, чем заняться. В пять часов, совершенно отчаявшись, она позвонила сама. Никто не ответил. Она решила, что Робина нет в кабинете. Грегори возвратился к шести часам, а она все еще была в халате. Однако он заметил, что она причесана и накрашена. — Мы сегодня куда-то идем, дорогая? — Мне бы хотелось. Он очень любезно улыбнулся. — Я догадываюсь о твоих мыслях. Ты чувствуешь себя покинутой нашими знакомыми. Но мы так долго отсутствовали — большинство людей даже не знает о нашем возвращении. — Это правда. В общем-то мне нужно решиться позвонить друзьям и сообщить, что мы уже здесь. Грег вздохнул. — Если сказать тебе честно, то такая спокойная жизнь мне по нраву. А сегодня вечером мы могли бы мило поужинать вдвоем и затем посмотреть хорошую программу по телевизору. — А чем, по-твоему, я занималась все последние восемнадцать месяцев? Замечание Юдифь взволновало его, и он огорченно сказал: — Ты права, иди одевайся, я поведу тебя ужинать в «Коломни». Согласна? — Вдвоем? — Да, только ты и я, — улыбаясь, ответил он. Она с горечью спросила: — И на что это будет похоже? — Это будет похоже на ужин в «Коломни». — Словно мы одни во всем мире, без единого друга. — Может быть, у нас ни одного и нет, Юдифь. — Ты говоришь глупости, Грег. Раньше люди дрались, чтобы пригласить нас. — Приглашения, — сказал он, заметно раздраженный. — Приглашения на премьеры, обеды в городе, коктейли, вернисажи. Так вот, предположим, что про нас забыли. — Я сделаю так, что о нас вспомнят. Юдифь размышляла над этим разговором половину ночи, напрасно стараясь заснуть. Что сделать, чтобы влиться в светскую жизнь? На следующий день Юдифь позвонила Долорес, и та, казалось, была очень рада ее услышать. — О, моя дорогая, вы, наконец, возвратились! Вы, конечно же, будете в следующую пятницу на балу в честь Джона Сазерлэнда? — Честное слово, Долорес, у меня не было времени просмотреть приглашения на следующую неделю. — Вы, наверное, шикарно развлекались в Европе! Да, Грегори посчастливилось, что у него есть такой ас, как Робин Стоун, которому можно доверять управление. Скажите, дорогая, строго между нами, это все правда, что говорят о Стоуне? — А что о нем говорят? — О! Тысячу вещей… Оргии, которые он организует, и даже делают намеки, что он не брезгует хорошенькими мальчиками! Его повсюду видят с очень красивым мужчиной, бывшей кинозвездой, вы должны его знать, это муж Поли Нельсон. — А кто такая Поли Нельсон? — Милая, вы слишком долго отсутствовали! Что касается Робина Стоуна, то я была бы счастлива с ним познакомиться. Вы не могли бы меня представить? — Нет ничего проще. Я собираюсь организовать небольшой ужин для близких, он тоже будет. Какой день недели вас лучше устроит? — Милая, у нас заняты все вечера в течение ближайших двух недель. Постарайтесь тогда пригласить вашего Робина Стоуна через две недели в четверг. Милочка, позвоните мне утром и уточните дату. Юдифь попыталась созвониться еще с несколькими подругами. Все говорили, что счастливы узнать о ее возвращении, но все были очень заняты, ожидалось много обедов, крупных премьер в начале сезона. Юдифь просмотрела свою почту, которая лежала на подносе для завтраков. Несколько счетов, письмо от сестры — и ни одного приглашения. Это было невероятно! Они больше не были в моде! Раньше Юдифь было достаточно выбрать день и передать своей секретарше список гостей — она была уверена, что они прибегут все без исключения. Теперь же ей надо было выкручиваться, чтобы удовлетворить желания этих дам! Неужели восемнадцатимесячного отсутствия было достаточно, чтобы похоронить ее светскую жизнь? Была половина первого, и ей нечего было делать. Она набрала номер Робина пальцем, дрожащим от нахлынувшей на нее ярости. На третьем гудке Робин снял трубку. Она различила шум голосов. — Да? — Голос был нейтральным и не выдавал ни малейшего волнения. — Огорчен, я не смог позвонить. Много работы, да. Могу ли я перезвонить вам вечером или завтра утром? Юдифь повесила трубку. И что теперь делать? Она накрашена — необходимо, чтобы он ее увидел. Она была уверена, что если бы была рядом с ним, он изменил бы свое отношение к ней. Ее решение было принято. Она подстережет его, устроив так, чтобы это выглядело случайностью. Да, нужно было это сделать, у нее не было больше сил безучастно ждать. Итак… около часа он, наверное, пойдет обедать. Она же будет возле здания Ай-Би-Си около двух и поговорит с ним. Без десяти два она была возле здания Ай-Би-Си. Вошла в телефонную кабину на углу улицы и позвонила в кабинет Робина. Секретарша поинтересовалась, кто его спрашивает. — Мисс Вестон из фирмы Нильсон. — Хотите, чтобы мистер Стоун вам перезвонил? Он скоро вернется. — Нет, спасибо. Я сама ему позвоню. Итак, теперь она знала, что он пошел в ресторан, и ей не придется долго ждать. Юдифь вспомнила о книжной лавке, примыкавшей к зданию Ай-Би-Си. Подойдя к ней, она сделала вид, что рассматривает книги на витрине. Юдифь прождала здесь десять минут, которые показались ей бесконечными. Сколько времени можно так стоять и рассматривать книги? Да и ветер поднялся. К счастью, она приняла меры предосторожности и сильно покрыла волосы лаком. Ей стало холодно, а глаза начали слезиться. Может, ее ресницы потекли? В левой части лавки висело огромное зеркало. Она подошла к нему, посмотрелась и действительно заметила следы туши на веках. Юдифь вытащила крохотный платочек из сумки и попыталась вытереть краску. — Что, пылинка попала в глаз? Она обернулась. Это был Робин. Увидев его перед собой посреди бела дня, на улице, Юдифь вдруг поняла, что вся ее махинация привела к нелепой сцене. Она подняла на него глаза и попыталась улыбнуться. — Нет, ничего, просто краска и этот ветер… — Она решила, что должна дать ему объяснения: — Я обедала в городе с подругой. Была такая хорошая погода, что я решила немного воспользоваться солнцем и прогуляться. Вот почему я отпустила шофера. И вдруг похолодало. — Хотите, чтобы я остановил такси? — Да, прошу вас, — сказала она, пытаясь скрыть свое разочарование. Робин проводил ее до угла улицы и сделал знак такси. — Юдифь, я хотел позвонить, но был очень занят. — Конечно. Я понимаю. Но… Такси остановилось возле нее, и ее снова охватила ярость. Когда тебе нужно, то не найдешь ни одного такси, а этот болван принесся как смерч. — Юдифь, я позвоню вам. Возвратившись домой, Юдифь поспешила в свою комнату и бросилась на кровать. Не обращая внимания на свой макияж, она плакала горькими слезами. В пять часов Юдифь выпила снотворное и написала Грегори, что у нее мигрень. Перед тем, как заснуть, она спросила себя, догадался ли Робин, что она подстроила эту «случайную» встречу.
Эта встреча взволновала Робина. Он думал о ней все послеобеденное время и с удивлением обнаружил, что накричал на секретаршу, был не очень вежлив с Энди Парино и жутко груб, когда Джерри позвонил ему и предложил сегодня пропустить по стаканчику в «Лансере». Возвратившись домой, Робин налил большой стакан и попытался смотреть телевизор. Но мысль о Юдифь не давала ему покоя. Она казалась такой растерянной, когда стояла, как истукан, возле этой книжной лавки… Ее жалкое объяснение тронуло его: бедняжка действительно несчастна, если выслеживает его на улице. Он. ничего не сказал, но был поражен, увидев ее гладкую кожу, четкие линии лица, прекрасную округлую грудь. И снова ему вспомнилась Китти. Да пошли они все к чертовой матери! У него было множество знакомых богатых женщин, которым было за пятьдесят и которые избавлялись от морщин. Почему в таком случае он должен чувствовать свою вину по отношению к Юдифь? Робин просматривал газету, стараясь сосредоточиться, когда его взгляд зацепился за фотографию Дипа Нельсона, смеющегося во весь рот. Фотоснимок сопровождался интервью в неповторимом стиле самого Дипа. «Телевидение нуждается в приливе свежей крови. Это причина, по которой Робин Стоун поспешил купить у нас с Дантоном Миллером проект передачи. Телевидение страдает, так как многие люди, которые там работают, ничего не смыслят в настоящем бизнесе, тогда как я…» Робин швырнул газету в другой конец комнаты, взял телефон и набрал номер Дипа. — С меня достаточно! Я запрещаю тебе в будущем давать дурацкие интервью, — заорал он в трубку. — Ты слишком много болтаешь. Но отныне ты заткнешься. Это приказ! — Решено и подписано, приятель. Я считаю, что несмотря на все, ты не прав, отказываясь от второго проекта, который я тебе представил. Лично я нахожу его великолепным! — Дерьмо! — У тебя сегодня плохое настроение. Робин даже на соизволил ответить и зло бросил трубку. Он налил себе еще один стакан, потом еще. И к одиннадцати часам был в стельку пьян. На следующее утро Юдифь проснулась с назойливым ощущением, что совершила большую глупость. А когда вспомнила в деталях все события минувшего дня, то на ее глаза навернулись слезы. Было девять часов. Накануне Грегори сообщил, что собирается поехать в Вестбери посмотреть лошадей на продажу. У нее был совершенно свободный день. Воздействие таблетки не заставило себя долго ждать. Накануне Юдифь не стала ужинать. Она подумала, не позвать ли ей горничную, чтобы та принесла чашку чая, но ничего не успела сделать. Снотворное начало действовать. Она услышала телефонный звонок, словно он шел откуда-то издалека. Сделала усилие, чтобы проснуться. Звонок становился все ближе, настойчивее. Она сняла трубку… Боже, уже половина пятого. Она спала с самого утра. — Алло? Юдифь? Это был он. Наконец он ей позвонил, а она никак не могла проснуться. — Я вам не помешал? — спросил Робин. — Нет, конечно. У меня было очень загруженное утро. Я только что вернулась и хотела немного вздремнуть. — В таком случае я предпочитаю вас не беспокоить. — Да нет, я не сплю, — она надеялась, что голос ее не выдаст. — Юдифь, мне удалось на сегодня покончить с делами. Есть ли у вас желание выпить со мной? — Конечно, с большим удовольствием. — Прекрасно. Тогда встречаемся у меня через полчаса. Договорились? — Давайте через час, — сказала она. — Я жду звонка по поводу благотворительной продажи. Юдифь, качаясь, встала, позвонила горничной и попросила приготовить ей черный кофе. И зачем только она проглотила эту ужасную таблетку? Робин позвонил ей, он хотел ее видеть! Юдифь села перед трюмо и выпила маленькими глотками кофе. Она выпила три чашки, и неожиданно ей стало лучше. Но голова была еще не совсем ясной. Правда, руки уже не дрожали, и она почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы сделать макияж. Она написала записку Грегори, что будет на благотворительном коктейле и может вернуться поздно к ужину. У Юдифь еще немного кружилась голова, когда она звонила к Робину. Он открыл дверь в рубашке с развязанным галстуком, взял гостью за руку и провел в салон. Не говоря ни слова, наклонился к ней и нежно поцеловал. Неожиданно, в каком-то порыве, на который она считала себя неспособной, Юдифь бросилась ему на шею и страстно поцеловала. Все так же молча он обнял ее за талию и повел в спальню. Для Юдифь все было, как во сне. Звуки казались приглушенными, ее жесты замедленными. Странно, но она не испытывала никакого стыда, медленно раздеваясь перед ним. Он протянул к ней руки, подтолкнул к кровати, и внезапно заниматься любовью с Робином показалось ей самой естественной в мире вещью. Она принимала его ласки так, будто ничего другого не делала в жизни. Была половина девятого, когда Юдифь возвратилась к себе. Грегори сидел в кровати и смотрел телевизор. Она нежно поцеловала его и ласково сказала, как огорчена, что не смогла прийти вовремя, чтобы поужинать вместе с ним. Он улыбнулся, погладил ей волосы и спросил: — Так ты довольна? Ты снова в движении? — О, вряд ли. Я присутствовала на собрании комитета, которое, казалось, никогда не кончится. А затем мы с несколькими дамами пошли в «21» пропустить по стаканчику. — Я рад за тебя, дорогая. Хочешь, я позвоню, чтобы тебе что-нибудь принесли? Она покачала головой. — Нет, спасибо. Я выпила два бокала «Кровавой Мэри» и предпочитаю сразу же лечь спать. Ей очень хотелось есть, но еще больше — остаться одной со своими мыслями. Кроме того, хотелось спать и больше ни о чем не беспокоиться. В течение нескольких недель, последовавших за этим памятным днем, Юдифь все время думала о Робине. Он звонил обычно около одиннадцати, чтобы назначить свидание. Во избежание встреч с Джерри и Дипом, Робин отказался от обедов в «Лансере». Он водил Юдифь в «Марш», тихий ресторан, в котором стал завсегдатаем. Иногда после завтрака она шла к нему. Однажды она проводила его в аэропорт. Он срочно должен был вылететь в Лос-Анджелес по делам. Каким счастьем было для Юдифь сидеть за рулем и провожать своего любимого! Она очень радовалась, что привезла восхитительные туалеты из Парижа, и уже думала о зимнем гардеробе. Юдифь ничего не предприняла, чтобы снова вернуться в свет. Зачем? Для нее ничего больше не имело значения, кроме встреч с Робином. Иногда всепоглощающая страсть, которую она испытывала к нему, приводила ее в ужас. Она действительно любила. Но особенно пугала постоянная необходимость видеть его, ощущать его присутствие. По ночам она лежала без сна, рисуя в своем воображении внезапную смерть Грегори: тихую смерть, без страданий. Робин ее успокоит, а через некоторое время — нужно соблюдать условности — она выйдет за него замуж. Выйти замуж за Робина! Она выпрямилась в постели, охваченная сильнейшим возбуждением. Боже, представить смерть Грегори — как гнусно с ее стороны! Но она любила Робина, любила любовь. А если ей развестись? Нет… Такое решение нужно исключить. В этом случае Робин будет вынужден уйти из Ай-Би-Си. А почему бы ему этого и не сделать? Он говорил о книге, к которой уже сделал наброски. В конце концов, почему она должна беспокоиться? У нее большое состояние. Даже если она ничего не примет от Грегори, у нее остается больше миллиона в долларах и ценных бумагах. Грегори проявил осторожность, собрав сведения о Робине перед тем, как нанять его. Юдифь знала, что у Робина одно из самых кругленьких состояний. Ничто не мешает им слетать на Майорку и купить там дом. Она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы удержать его. У них будет идеальная жизнь: долгие прогулки по пляжу, круизы, а по вечерам, сидя возле камина, Робин будет вслух читать ей свою книгу, читать только для нее одной…
Юдифь посмотрела на часы: уже полдень! Разница с Чикаго в один час, значит, там сейчас одиннадцать. Накануне вечером Юдифь звонила Робину в Лос-Анджелес. Сегодня он должен был приехать. В четыре часа самолет сядет в Чикаго, чтобы заправиться… Юдифь вскочила с кровати. Она должна быть в аэропорту Чикаго, когда туда прилетит Робин. Она написала небольшую записку Грегори, сообщая, что хочет провести день в Дарьене. К счастью, Грег все время чувствовал себя уставшим после игры в гольф и сразу же после обеда засыпал. Юдифь прилетела в Чикаго ровно в четыре часа и направилась в службу информации, где попросила служащего предупредить мистера Робина Стоуна о том, что его ждут. Через несколько минут она увидела немного запыхавшегося Робина, который совершенно остолбенел при виде ее. Она бросилась ему на шею. Неважно, что ее могут заметить и узнать — ее решение было принято. Они с Робином больше никогда не будут расставаться. Пока самолет заправлялся, они успели выпить в баре. Впервые Юдифь порадовалась, что Грег разрешил Робину пользоваться своим личным самолетом. Робин, казалось, был в замешательстве, сидя рядом с Юдифь, но она говорила себе, что в глубине души он очень рад ее видеть. Пока они не сели в самолет, Юдифь не сделала ни малейшего намека на свое решение. Самолет летел по направлению к Нью-Йорку, когда Робин сам дал прекрасный повод Юдифь затронуть эту тему. Он взял Юдифь за руку и очень сильно сжал ее перед тем, как заговорить. — Все это прекрасно, совершенно романтично, но вы должны пообещать мне больше такого не делать. Пилот, без сомнения, вас узнал. А нам нужно прежде всего не давать ни малейшего повода для волнения Грегори. — Именно поэтому я и хочу, чтобы между Грегом и мной все было честно. Я попрошу у него развод. Робин не ответил. Он отвернулся к окну и стал наблюдать за облаками, плывущими под самолетом. — Робин, вы меня любите, не так ли? — Нам хорошо вдвоем, но почему нужно ранить Грегори? — Я хочу быть вашей женой, Робин! Он взял ее за руки и твердым голосом произнес: — Юдифь, я не хочу жениться. — Он увидел, что ее глаза наполнились слезами. — Я никогда не хотел жениться, — мягко добавил он, — ни на вас, ни на какой другой женщине. Поймите меня… — Робин, не говорите этого! Вы можете уйти из Ай-Би-Си, писать, я буду рядом с вами… У нас будет великолепная жизнь! Не говорите мне сразу «нет». Подумайте! Я не прошу вас ни о чем другом. Просто пообещайте мне над этим подумать! Он улыбнулся и погладил руку Юдифь. — Обещаю, мы оба подумаем об этом: и вы, и я. А сейчас хватит об этом говорить. Он встал, подошел к маленькому бару и налил два больших бокала. Она подняла свой бокал и сказала: — За наше счастье! — За ваше счастье, Юдифь. Я хотел бы никогда не причинять вам огорчений. Не забудьте об этом. Она прислонилась к его плечу. — Дорогой, мне хотелось бы, чтобы это путешествие никогда не кончалось. Это было бы чудесно. На следующее утро Юдифь напрасно ждала телефонного звонка Робина. Вначале она не беспокоилась и в ожидании заперлась в своей комнате. В три часа дня она позвонила сама. На втором гудке он снял трубку. — Сожалею, но у меня несколько совещаний, и я не смогу освободиться. Скопилось много проблем, которые нужно урегулировать. Она не без лукавства засмеялась: — А если я к вам приеду около шести? — Невозможно. У меня множество встреч до семи вечера, после чего я должен посмотреть новую передачу. Она выходит сегодня в первый раз. — Я была бы счастлива посмотреть ее вместе с вами. — Я буду не у себя, а дома у заказчика, который должен отвезти меня затем на прием. Я могу вам перезвонить? — В его голосе появилось раздражение. Юдифь повесила трубку. Робин не перезвонил. На следующий день Юдифь попросила принести ей газеты. Она обнаружила, что Ай-Би-Си пользуется большой популярностью. «Тайме» посвятила очень хвалебную статью новой передаче, делая намек на возрастающее влияние Робина Стоуна на программы. Но ее потрясла рубрика вечерних новостей, из которых она узнала, что Робин действительно был на приеме… Только речь шла не о простом банальном вечере. Студия сняла по этому случаю «Рэнбоу Рум» и пригласила всех знаменитостей кино и театра. Разворот газеты занимали фотографии, среди которых был большой снимок Робина, сидящего между театральной звездой и манекенщицей. Он смеялся, наклонившись к звезде. Но Юдифь словно вонзили нож в сердце, когда она заметила, что Робин держит руку манекенщицы… Этот жест был красноречивее самых длинных фраз. Робин не звонил ей всю неделю. Наверное, был где-то занят, если совсем ее забросил. В порыве отчаяния она решилась позвонить ему по личному телефону. Нейтральный голос телефонистки ответил, что номер поменялся. Дикий страх охватил Юдифь. Это невозможно! Он не мог ее вот так бросить! Она позвонила ему домой. Тот же бесстрастный голос произнес: — Номер поменялся. Мы не можем дать вам новый номер абонента — его нет в справочнике. Он сделал все это только для того, чтобы избежать ее! Это было уже слишком. Юдифь зарылась головой в подушку, чтобы ее никто не услышал, и разразилась рыданиями. Она заснула только на рассвете. Теперь ее любовь к Робину превратилась в ненависть. Она хотела его уничтожить, заставить Грегори уволить его с работы! На следующее утро Юдифь ринулась в атаку. — Грег, тебе не кажется, что Стоун захватил твое дело, оттеснил тебя? Нас низвели до парий. Ты отдаешь себе в этом отчет? Все приглашения теперь только Робину Стоуну, и никто не думает о нас! Грегори терпеливо ее выслушал и сказал: — Юдифь, мне шестьдесят два года. Акции компании никогда так высоко не котировались на бирже, как сейчас, дело никогда не шло так прекрасно. Я бы поостерегся ставить палки в колеса человеку, который добился такого успеха. Если хочешь знать, что я действительно об этом думаю, то меня вполне устраивает, что я могу время от времени зайти на студию, убедиться, что все идет хорошо, и пойти играть в гольф. — А что я должна делать тем временем? Сидеть одна дома с утра до вечера? — Мне казалось, что ты очень поглощена своей благотворительной деятельностью. Она отвела взгляд. — В скольких благотворительных распродажах я могу принимать участие, по-твоему? Я пыталась восстановить наши старые связи, но меня избегают с тех пор, как ты перестал быть великим Грегори Остином. — Неужели ты еще не сыта по горло этими глупостями? Видеть одни и те же физиономии, выслушивать злые сплетни, встречать на каждом приеме одних и тех же женщин, старающихся изо всех сил перещеголять друг друга… — Это твое мнение. А я люблю выходить в свет. — Пожалуйста, но мне эти выходы отравляют жизнь. Я считал, что с некоторых пор ты стала рассудительнее, и был так счастлив. И вот ты просишь убрать Робина Стоуна только потому, что его приглашают вместо нас. Юдифь, ты ведешь себя, как ребенок. — Мне не шестьдесят два года, и я не импотент! — заорала она в настоящем приступе ярости. Грегори встал и вышел из комнаты. Юдифь продолжала сидеть, пораженная, а затем крупные слезы покатились по ее красивому, снова ставшему молодым лицу. Она жестоко упрекала себя, что ранила мужа. Но почему? Из-за этого отвратительного Робина? Она кинулась в свою комнату, бросилась на кровать, ломая себе руки. Ах, как это ужасно! Все кончено между нею и Робином… Он специально сфотографировался с этой девицей… Бросил ее… Ее и все ее мечты. Она никогда больше не будет сжимать его в своих объятиях, никогда не почувствует, как он проникает в нее. Ее рыдания сменились икотой, у нее больше не было слез. Она хотела умереть. Вдруг Юдифь почувствовала, как чья-то рука нежно гладит ей волосы. Грегори присел на кровать. — Не плачь, дорогая. Я не сержусь на тебя. Я знаю, что это была вспышка гнева. Она обернулась и бросилась ему на шею. — Грегори, я люблю тебя! — Я знаю… Потерпи еще немного, подожди, чтобы я совсем выздоровел. Пока я не чувствую себя в форме, чтобы заниматься делами. Но тебе не придется долго ждать. Мы проведем зиму в Палм Бич. Там ты поразвлекаешься, я тебе обещаю. Она пристыжено опустила голову и прошептала: — Грег, это неправда, ты не импотент. Юдифь предприняла неимоверные усилия, чтобы влиться в светскую жизнь, но результат был нулевой. Чувство отверженности, которое она испытывала, немного смягчило тоску по поводу того, что она навсегда потеряла Робина. Однако по ночам она упрямо смотрела на свой телефон и вспоминала счастливые времена, когда могла нежно поболтать с ним. Юдифь решила поехать в Палм Бич перед Новым годом. Она даже не решилась послать приглашения на свой обычный коктейль. Она часто думала о Робине со смесью ненависти и желания. Воспоминания о нем не оставляли ее даже в Палм Бич. Она сидела в патио отеля, раскладывая пасьянс и терзая себя тем, что представляла Робина, занимающегося любовью с молодой девушкой.
Но в жизни Робина не было красивых молодых девушек. Он работал по десять часов в сутки, чтобы сохранить главенствующее место Ай-Би-Си. Передача Дипа планировалась на февраль. Каждый день актер связывался с Робином. — У тебя нет желания покутить, приятель? Иногда Робин соглашался сходить с ним в «Лансер». Иногда в десять часов вечера, устав от одиночества в своем кабинете, он звонил Дипу. — Жди меня возле выхода. Я хочу пройтись. Когда Дип не был занят с Робином, он тащился к Дэнни, где его усердно обхаживали импресарио. Он с готовностью обещал им свою помощь и заявлял, что Робин Стоун никогда не купит передачи, не проконсультировавшись с ним. Дип чувствовал себя очень хорошо в новой роли. Он сводил счеты со всеми, кто когда-то пренебрегал им. Самое интересное, что все верили, будто он действительно пользуется влиянием на Стоуна. Один из них даже сказал: «Тот, кто влюблен в женщину, способен ради нее на все, но тот, кто влюблен в мужчину…» Странная вещь, но Дан старался опровергнуть эти слухи. Когда ему говорили о связи между Дипом и Робином, он разражался хохотом: — Речь идет не о любви, а о деньгах. Дип обильно его подкармливает. Эти слухи дошли до ушей Грегори в Палм Бич. Когда он увидел в титрах имя Нельсона как продюсера новой передачи Дантона Миллера, то сразу позвонил Клифу Дорну. — Прекрасная передача! — сказал он. — Но чтобы этот актеришка, который не в состоянии помочиться, не обделав себе штаны, был продюсером, — мне это кажется подозрительным. Может быть, в сплетнях и есть доля правды. Я не думаю, что они педерасты, но здесь какая-то история со взятками. — Я очень тщательно изучил контракты, — устало ответил Клиф. — Если они ловчат, то очень умело. Меня это тоже интригует. Я даже прямо спросил у Робина, почему он купил передачу у Дипа Нельсона, и он мне ответил: «Клиф, если у тебя есть хорошая передача для продажи, я куплю ее у тебя!» Грегори повесил трубку. Юдифь сидела рядом с ним в патио во время этого разговора. — Что ты собираешься делать? — спросила она. — В настоящий момент идти играть в гольф, — ответил он, вставая. Казалось, ничто не должно было остановить Робина Стоуна. Журнал «Лайф» опубликовал о нем статью, но без его участия. В ней были собраны мнения, высказанные людьми, которые работали с ним, и женщинами, которых он посещал. По словам одной стюардессы, он действительно был машиной любви. По мнению манекенщицы, это был самый романтичный человек, которого она встречала. Молодая особа, собирающаяся стать актрисой, квалифицировала его как абсолютный ноль. Статья приписывала Мэгги Стюарт следующий ответ: «Без комментариев». Его популярность росла, как снежный ком, но Робин об этом ничего не знал. Иногда он ходил вместе с Дипбм в кино. Время от времени встречался с Джерри в «Лансере». Но больше всего он работал. В конце концов Джерри коснулся в двух словах недовольства, которое стал проявлять Грегори в отношении Робина. Они стояли за стойкой бара в «Лансере», когда Джерри спросил: — Ты хоть когда-нибудь консультируешься с Грегори перед тем, как купить передачу? — Никогда. Не вижу в этом необходимости. В настоящий момент я рассматриваю проекты, способные заменить передачи, которые могут лопнуть в следующем сезоне. Я приглашу Грегори посмотреть. — Какое великодушие! Робин не ответил. Он пристально разглядывал льдинку, плавающую в его стакане. — Он дал тебе шанс, — настаивал Джерри. — Если ты хочешь сохранить свое положение, то я советую тебе время от времени спрашивать его мнение или, по крайней мере, хоть делать вид. — Но ведь все знают, что хозяин — я, — медленно произнес Робин. — Да, это правда. Робин улыбнулся: — Пусть тогда Грегори заберет у меня мое место, если ему так хочется. — Что это значит? — Что мне на это глубоко плевать. Я у него не просил его сеть. Но теперь когда она у меня есть, я не отдам ему ее на серебряном блюдечке. Пусть выкручивается, защищается, если хочет снова завладеть ею. Джерри с любопытством взглянул на него: — Послушай, Робин, кто-то говорил мне, что у тебя есть склонность к самоубийству. Я начинаю в это верить. Робин расхохотался. — Занимайся своими комплексами и оставь мои в покое.
В апреле были запущены все осенние программы. Однажды вечером, когда Робин собирался уходить, к нему в кабинет влетел Дип. — Поли закончила свое турне, — сообщил он. — Завтра она приезжает в Нью-Йорк. У меня появилась гениальная идея. Я никому о ней еще не говорил, даже Дану. Вместо того, чтобы каждую неделю менять девушек в передаче, почему бы не использовать постоянно Поли? Что ты на это скажешь? — Нет. — Робин сел и заговорил самым сердечным тоном. — Послушай, Дип, не стоит слишком мудрить. Поли может выбрать любую роль по своему вкусу в любой музыкальной комедии на Бродвее. Аик Райан сгорает от желания пригласить ее в свой спектакль в следующем сезоне. — Но Поли создана для телевидения. — Дип, занимайся собственной карьерой. Ни одна из передач на телевидении не идет вечно. Найди что-нибудь новое и постарайся обеспечить свои права. Дан Миллер сейчас вынашивает идею новой передачи, которая, кажется, обещает быть сенсационной. Взгляд Дипа помрачнел. — Смеешься. Эта сволочь ставит мне палки в колеса. Но у нас есть соглашение: половина на половину. — Это письменное соглашение? — Нет, дружеская договоренность. Робин расхохотался. — С такими субчиками, как вы, это ненадежно. Дип нахмурил брови. «Я припомню тебе это», — подумал он. Но его настроение быстро изменилось, и он снова заулыбался своей мальчишеской улыбкой. — Не хочешь заскочить со мной к Дэнни? Робин покачал головой. — Нет, я сегодня вечером уезжаю на побережье. Мне нужно достать заголовок для передачи Дана. И, может, куплю сериал у Айка, если раздобуду подходящего актера. — Чем он тебя держит, Айк? — Что ты хочешь этим сказать? Сидя на краю стола, Дип улыбнулся. — Послушай, приятель, Великий Диппер много о тебе знает. Ты ничего не дашь просто так, даже снега зимой, если он только тебе не мешает. Не измордовал ли ты еще одну проститутку в другом месте? Робин схватил его за галстук. — Послушай, ублюдок, никто не держит меня, даже ты. Если бы Дан Миллер не предложил хороший спектакль, я никогда бы его не запустил. Я был очень рад, узнав, что ты работаешь с ним, и думал, что это даст тебе возможность снова сделать карьеру. Если передача Айка хороша, я ее куплю. Но если передача моего лучшего друга провалится, я ее незамедлительно аннулирую. Постарайся об этом не забывать. Он отпустил его. Дип, улыбаясь, поправил галстук. — Не из-за чего белениться, приятель. Великий Диппер — твой друг. И даст даже убить себя ради тебя. Постарайся об этом тоже не забывать.
Едва устроившись в отеле в Беверли Хилл, Робин позвонил Мэгги. — Одиннадцать часов вечера, — простонала она. — Что ты хочешь сказать? Я слишком устала, чтобы тебя слушать. — Я приехал из Нью-Йорка, где сейчас два часа ночи. Поскольку я не очень устал, чтобы говорить, то можешь уделить мне несколько минут. Впрочем, речь идет о делах. Я приглашаю тебя позавтракать завтра в «Лоджиа» в девять часов. — Если бы ты сказал в одиннадцать, я бы подумала. — Мне нужно просмотреть две передачи между десятью и одиннадцатью. — Сожалею, но я не люблю, когда расстраивают мои планы. — Мэгги, речь идет о работе. Она зевнула: — Тогда обратись к моему импресарио. Может, он и позавтракает с тобой. Его зовут Хью Мендел. Ты найдешь его номер в телефонном справочнике. Послышались короткие гудки: Мэгги повесила трубку. Десять последующих дней он провел за просмотром передач и больше не давал о себе знать Мэгги. Однако ему хотелось ее увидеть. Несколько раз он с удивлением обнаруживал, что его рука тянется к телефону, но сопротивлялся этому искушению. Робин чувствовал, что они не могли больше просто встречаться, заниматься любовью и расставаться. А он отказывался дать накинуть себе веревку на шею. Как-то вечером его охватила страшная тоска от одиночества. Робин подумал, что нигде не чувствуешь себя таким покинутым, как в Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке можно выйти и прогуляться пешком. Но в Беверли Хилл к тому, кто разгуливает по тротуарам, обсаженным деревьями, сразу же подъезжает патрульная машина. Никто не гуляет пешком в Лос-Анджелесе. Вдруг он почувствовал себя уставшим… Все надоело. Какого черта он не отдаст сеть Грегори? Но что он будет делать дальше? Телефонный звонок прервал его размышления. Он посмотрел на часы. Половина десятого. Слишком поздно для делового звонка. — Мистер Милано, — сообщила телефонистка. В первый момент это имя ничего ему не сказало, но вдруг его лицо осветилось. — Соедините меня, — радостно воскликнул он. — Робин, я так рад, что застал тебя! — Серджио! Какая приятная неожиданность! — Я только сегодня возвратился в Лос-Анджелес и увидел в корпоративной газете, что ты тоже здесь. — Боже мой, ты говоришь, как настоящий актер. Я читал, что ты снимался в фильме в Риме? А что делал потом? — Мне дали шанс испытать судьбу, Я начинаю сниматься здесь в новом фильме на следующей неделе. У меня главная роль. Я стал актером, Робин! Правда, это замечательно? — Что ты сейчас делаешь? — Я буду сниматься на следующей неделе. — Нет. Прямо сейчас, что ты делаешь? После короткого молчания Серджио ответил: — Робин, я познакомился с человеком, которым очень дорожу … — Тогда прими мои поздравления. Я рад за тебя, честно. — Сегодня вечером я ужинаю с ним. Его зовут Альфи Найт. — Думаю, что вы идеально подходите друг другу, — смеясь, одобрил Робин. — Но мы могли бы еще пропустить по стаканчику завтра. — С удовольствием. Ровно в пять часов в «Поло Лаундж». — Хорошо, я буду. Робин заказал ужин в номер и включил телевизор. Это было время передачи Дипа. Робин приступил к первому куску, когда на экране крупным планом появилось лицо Поли. Он чуть не подавился. Вот сволочь Дип! Он же запретил ему включать Поли в передачу! Но почему Дан дал свое согласие? Робин оттолкнул столик, чтобы сосредоточить все свое внимание на передаче. Провал! В центре сюжета была одна Поли, что должно было обеспечить ей постоянное участие и что полностью разрушило передачу. Робин немедленно набрал номер Дана. Тот, казалось, был удовлетворен. — Дип заверил, что это ты отдал приказ. Передачи на следующую неделю уже записаны. Я подписал контракт с этой выскочкой до конца сезона. Робин резко швырнул трубку, затем набрал номер Дипа. Занято. Этот дурак, без сомнения, болтал со всеми, кто его поздравлял. Робин зарезервировал себе место в самолете, вылетавшем в полночь в Нью-Йорк, и вдруг вспомнил про свою встречу с Серджио. Он даже не знал его номера телефона. Черт с ним! Он оставит записку у метрдотеля в «Поло Лаундж». Робин прибыл в аэропорт Кеннеди в восемь часов утра и поехал прямо на работу. Он сразу же вызвал Дипа и Дана Миллера. Тоном, не терпящим возражений, Робин потребовал, чтобы Поли немедленно была выведена из передачи. — Я не могу этого сделать, — стал хныкать Дип. — Сегодня она дала пресс-конференцию и сообщила, что отныне будет постоянно участвовать в передаче. Если ее теперь убрать, это плохо скажется на ее репутации. — Это приказ! — У меня есть права на передачу, — упрямо возразил Дип. Робин повернулся к Дану. — У тебя столько же прав, сколько у него. Дан казался удивленным. — У меня только треть, и я готов присоединиться к твоему мнению. — Кто владеет третьей частью? — спросил Робин. После короткого молчания Дан ответил: — Я думал, это ты. В какое-то мгновение Дип, казалось, испугался, но вдруг выражение его лица стало твердым, и он напрягся, словно готовясь к бою. — Нет, приятель, это я владею двумя третями. Я владею большинством один, если можно так выразиться. — Он улыбнулся. — Значит, все решено. Поли остается. Робин встал и посмотрел ему прямо в глаза. — Дип, ты когда-то оказал мне большую услугу. Теперь я тебя прошу еще об одной: никогда ко мне не приближайся. Дип сделал торжественный реверанс и ушел. Дан нервно постукивал ногой, ожидая реакции Робина. Она его удивила. — Итак, он навязал тебе Поли. Ну что ж, успеха, — холодно произнес Робин. — Ты не можешь злиться за это на меня. — Нет, могу. Ты ни на мгновение не должен был поверить, что я соглашусь на подобную махинацию. — А что теперь будет с моей следующей передачей? — Дип в курсе? — Нет. — Тогда все остается в силе. Рейтинг передачи резко покатился вниз, как только Поли стала принимать в ней участие. В июне Робин отменил передачу. Дип остался ни с чем. Но странная вещь: это фиаско нателевидении сослужило службу Поли. Ей предложили сниматься в фильме. Дип уехал с ней на побережье, а Робин всю активность направил на подготовку осеннего сезона.
Грегори Остин решил, что генеральная ассамблея акционеров, намеченная на ноябрь, будет проходить на побережье. Обычно он ездил туда и обратно на три дня в компании Клифа Дорна. На этот раз он решил провести в Лос-Анджелесе целую неделю. Это развлечет Юдифь. Рассматривая портрет Робина на обложке «Ньюсуик», Грегори осознал, что для акционеров этот дьявольский человек был богом и что они считали Грегори Остина стариком, собирающимся на пенсию. Однако он никогда еще не чувствовал себя в такой форме и жаждал взять вожжи в свои руки. Он уже предпринял несколько скромных попыток в этом направлении, но до сих пор они все провалились. Робин выслушивал его советы… после чего продолжал действовать по своему усмотрению. И все, что он делал, шло хорошо. Акции никогда не были такими высокими. Без сомнения, Ай-Би-Си превратилась в сеть Робина Стоуна. Но Грегори не собирался капитулировать. Он хорошо провел лето в Квоге, однако Юдифь там было скучно. В конце концов, черт побери, отдать тридцать лет на создание сети, обеспечить себе существование по своему вкусу и… крах! Стоит только раз заболеть, отстраниться от дел на полтора года, как вдруг попадаешь в новую цивилизацию! Грегори очень сильно расстраивался по поводу Юдифь. Шрамы за ее ушами не ускользнули от него. Господи, неужели она считала его до такой степени идиотом, что он будто бы не заметит, какая у нее снова стала упругая грудь?! Грегори догадывался, что она перенесла операцию, пока он в течение долгих недель подвергался психиатрическому лечению. Она была так добра к нему во время болезни, совсем не думала о развлечениях. Но теперь, когда все снова стало хорошо, она хотела выходить в свет, развлекаться. Он же ее разочаровывал. Юдифь проводила все дни в постели. Иногда она принимала снотворное каждые четыре часа. Грегори вынужден был нанять сиделку, чтобы та следила за ней, а по ночам стал спать в комнате жены. Снотворное приводило Юдифь в такое состояние, что она качалась, и Грегори опасался, как бы она не подожгла свои вещи, когда закуривала сигарету. Если Юдифь не оставалась в постели, то слонялась по дому в старом домашнем платье, не удосуживаясь причесаться или накраситься. Она отказывалась выходить. Грегори предложил ей поехать в Марокко. Нет, только не вдвоем. Она хотела компанию. Хорошо. Он предложил снять у Мориса Юшителя банкетный зал, чтобы дать большой обед. Юдифь разразилась слезами. «Никто не придет», — стенала она. В отчаянии Грегори позвонил в Швецию доктору Брюгалову и объяснил ему, что у Юдифь реакция на то нервное напряжение, в котором она пребывала во время его болезни. Он попросил врача посоветовать ему психиатра в Соединенных Штатах. Доктор Брюгалов назвал какого-то доктора Галенса. Когда Грегори изложил ему ситуацию, то, странная вещь, доктор Галенс не попросил устроить встречу с Юдифь. Он предложил проводить с Грегори ежедневные беседы. В тот момент Грегори был в таком отчаянии, что согласился. Во время этих разговоров они возвратились к параличу Грегори, затем стали обсуждать сексуальные отношения пары. Грегори признался врачу, что заметил небольшие шрамы на теле жены и за ушами. Нет, она не сделала этого, чтобы соблазнять других мужчин, в этом он был уверен. Это не в ее стиле. Впрочем, сексуальность ничего не значила для нее. Грегори был убежден, что она подверглась этим операциям только для того, чтобы сохранить свой престиж и красоту. Но доктор Галенс постоянно возвращался к их сексуальной жизни. Отчаявшись, Грегори в конце концов сказал: — Послушайте, когда мы поженились, моей жене было двадцать семь лет, и она была девственницей. Она никогда не проявляла ни малейшего любопытства, не искала разнообразия. Мы занимались любовью самым примитивным способом. Конечно, она когда-то читала книгу с известными советами, потому что в последние годы сделала несколько неуклюжих попыток применить рот. Раньше я никогда не осмеливался попробовать с ней такую штуку. Это не ее стиль, короче говоря. Мне не нужны фантазии. Поскольку Юдифь, казалось, удовлетворяла обычная поза, мне этого было достаточно. Впрочем, в нашей совместной жизни она любила движение, развлечения… Он замолчал, пораженный внезапной мыслью. Да, это был страх! Его собственный страх, в котором смешалось все: и Ай-Би-Си, и Юдифь. Она безумно любила существование, которое он обеспечивал ей раньше. Он ее любил. Нет… больше, он ее обожал. Несмотря на свое ворчание по поводу новогодних коктейлей, он тем не менее восхищался, что она была его женой, его завораживала элегантность, которую она внесла в их жизнь. Когда они устраивали приемы, он понимал, что это она переделала его мир и зажгла его. И тогда ему становилось страшно, что в один прекрасный день что-нибудь разрушит это колдовство. Другой мужчина? Нет. У Юдифь для этого не хватало темперамента. Деньги? У него их было достаточно. Болезнь? Да, болезнь могла уничтожить все. И вот это произошло. Он потерял Юдифь. Она искала покоя. Но разве он не сделал то же самое, позволив себе роскошь оставить сеть в руках Робина после своего выздоровления? И тут ему открылась истина. Он сможет поставить Юдифь на ноги. Это будет нелегко. Но к нему уже вернулась страсть к сражению. Во-первых, нужно взять управление Ай-Би-Си в свои руки. Грегори сразу же приступил к делу. Придя к Робину, он без предисловий заявил: — Не принимайте никаких решений на следующий год, не проконсультировавшись со мной. — И почему это? — спросил Робин. Грегори был смущен. Прямой и холодный взгляд Робина вызывал у него чувство неловкости. Он попытался говорить сердечно, без обиняков. — Послушайте, Робин. Вы были журналистом, и я вас сделал генеральным директором сети. Я горд вами и хочу с вами работать. Вы — мой протеже. — Я ничей не протеже. Я все решаю сам и не собираюсь теперь испрашивать разрешения. Если вы этого ждете от меня, найдите себе другого протеже. Конечно, Грегори нетрудно было это сделать, но он не мог допустить, чтобы какая-то другая компания наложила лапу на Робина Стоуна. Ему самому нужно было снова стать полновластным хозяином. Грегори надеялся, что путешествие в Лос-Анджелес поможет ему в этом. Он не рассчитывал на генеральную ассамблею акционеров, чтобы изменить положение. Нужно было потерпеть. Доктор Галенс надеялся, что Лос-Анджелес окажет терапевтическое воздействие на Юдифь, если та не будет сидеть все время в отеле. Грегори позвонил в фирму «Галли и Хейз» и попросил их оповестить через прессу о прибытии четы Остинов на побережье, а также проследить, чтобы они были приглашены на все большие приемы. Обращаться в это агентство было ему неприятно, но отныне для него ничего не имело значения, кроме счастья Юдифь. «Галли и Хейз» выполнили свою задачу прекрасно. Уже перед отъездом Остины получили несколько приглашений. Юдифь перестала принимать снотворное, сделала прическу и купила полный гардероб для Калифорнии. Неделя оживленной жизни, может, избавила бы ее от неврастении. Грегори попросил секретаршу позвонить пилоту, чтобы тот был наготове. Секретарша, казалось, удивилась: — Но Стоун улетел на самолете два часа назад. — Действительно, я забыл, — поспешил ответить Грегори. Как Робин посмел взять его самолет! Он немедленно вызвал Клифа Дорна. Клиф вздохнул. — Что вы хотите, Грегори? Это совершенно нормально. Самолет принадлежит компании. Стоун управляет компанией и пользуется самолетом. На Мэдисон-авеню его даже прозвали Летающим диваном. Он переоборудовал внутренний салон, сделав из него спальню с кроватью, такой же широкой, как кабина пилота. Робин редко летает один. Обычно он прихватывает с собой первую попавшуюся девицу, которая составляет ему компанию на этой кровати. У меня нет возможности следить за ним. Половину времени я даже не знаю, где он. — Это нужно прекратить. — К несчастью, во время вашей болезни ваше жена отдала ему все права. Если бы вы знали, сколько раз у меня было желание уйти, хлопнув дверью! Но это означало бы предоставить ему полную свободу действий. Он бы поставил своего человека во главе юридической службы, и мы бы все проиграли. — Мы уже проиграли. — Нет. Он сам свернет себе шею. — Что позволяет вам так говорить? — спросил его Грегори. — Рано или поздно, но это случится. Стоит только посмотреть, как он ведет себя последние шесть месяцев: принимает нелепые решения, идет на неслыханный риск. Запустил две передачи, которые по всем законам должны были провалиться. И обе имели бешеный успех. — Он, как все люди. Власть его развращает, и у него начинается мания величия. — Нет, я не думаю, чтобы это было так. Признаюсь вам честно, я не понимаю этого типа. Ходит слух, что он педераст, и однако все время окружен девицами. Рассказывают, что он берет взятки. Я провел недели, изучая вопрос. И ничего не нашел. В то же время я узнал о странной вещи. До последнего времени Робин посылал по триста долларов в неделю какому-то итальянскому актеру, недавно приехавшему в Голливуд, — Серджио Милане. Я узнал об этом, так как налоговый инспектор Робина и мой — двоюродные братья. Милано уже связался с Альфредом Найтом. — Значит Робин и с теми, и с другими? — Похоже. — А нельзя ли кому-то поручить собрать сведения? — Я уже этим занялся. Частный детектив будет следить за Робином, как только тот ступит на побережье. Мы несем ответственность за наших акционеров. Представляете, какой будет резонанс, если публика узнает, что наш генеральный директор замешан в деле о нравах. — Только не надо скандала, Клиф! Я хочу избавиться от Робина, но не сломать ему шею. На это я не пойду. Клиф улыбнулся. — Грегори, я хочу получить всего лишь письменный отчет. Я уверен, что мы узнаем интересные вещи. Тогда мы представим отчет Робину. Он тоже не захочет скандала, так как достаточно умен, чтобы понять, что подобный скандал положит конец его карьере. А затем мы разделим власть. Пусть Робин остается генеральным директором Ай-Би-Си, это не мешает, но мы возьмем обратно Дана Миллера. А вы будете играть роль арбитра между двумя генеральными директорами, и именно вам будет принадлежать последнее решение. — Значит, раньше мы ничего не сможем сделать? — вздохнул Грегори. — На это, по-видимому, потребуется время. Если это случится не в этот раз, то в другой. Если не в Голливуде, то в Нью-Йорке. Подождем… — Подождем, — повторил Грегори. Теперь он думал о том, как сообщить Юдифь, что они полетят в Лос-Анджелес рейсовым самолетом. Но она нормально восприняла это сообщение. — Я ненавижу твой грязный самолет. Продай его! (обратно)
Глава 30
Робин прибыл в Лос-Анджелес в воскресенье после обеда. Целая стопка записок ожидала его в отеле. Агенты, импресарио, звезды, директора студий, принадлежащих Ай-Би-Си, — все уже звонили ему. И все прислали бутылки. Его номер был похож на хорошо оснащенный бар. Робин просмотрел записки. Одна из них была от Серджио. Он налил рюмку водки и позвонил ему. — Робин, я вышлю в следующем месяце чек, чтобы вернуть тебе все «авансы». Я подписал сногсшибательный контракт с «Сенчури». — Ради Бога, не делай этого! Ты только усложнишь мое положение с налогами. Когда-то ты был самым лучшим другом Китти, и то, что она тебе оставила, должно было вскоре кончиться. Я это знал. — После уплаты налогов у меня мало что осталось, — вздохнул Серджио. Его настроение изменилось. — Робин, Альфи устраивает сегодня вечер в восемь часов. Я бы хотел, чтобы ты пришел. — Нет, это не для меня. — Но это совсем не то, что ты думаешь, Робин. Он приглашает весь Голливуд. — Серджио расхохотался: — Какой же я несчастный! Только сейчас начинаю понимать, что не могу позволить себе рискованных поступков. В контракте есть пункт о соблюдении моральных норм. У Альфи тоже. — Я не на это намекал. Впрочем, мне это даже не пришло в голову. Нет, меня воротит от светских развлечений Голливуда. Вот что я хотел сказать. Огорчен, старина, веселитесь без меня. Да, но в действительности вы живете вместе с Альфи? — Нет. У него небольшой дом, а я живу в Мелтон Тауэз. Позднее мы, может, и купим большой дом на двоих. Это моя мечта. — В Мелтон Тауэз? Я знаю одну особу, которая там живет… Мэгги Стюарт. — Да, мы время от времени встречаемся в лифте. Она очень красива. Закончив разговор, Робин позвонил в Мелтон Тауэз. Мэгги ответила на первый звонок. — Ха, а вот и Супермен на своем Летающем диване! Я читала в корпоративной газете, что ты должен сегодня приехать. — Мэгги, мне нужно увидеться с тобой. — Я заканчиваю сниматься в телевизионной игре. Три сеанса сегодня и два завтра. Я должна принести весь гардероб со всеми аксессуарами в студию и переодеваться перед каждым сеансом. Нужно быть нарядной, игривой и изображать из себя персонаж, полный радости и энтузиазма. Нет ничего более выматывающего. — Нам нужно увидеться, — повторил Робин. — Я расслышала в первый раз. — Тогда почему ты несешь всякую чушь по поводу твоих съемок и прочей дребедени? — Потому что я — душевнобольная. Хочешь знать, почему? Потому что я хочу тебя видеть. Нужно искать себе погибель, чтобы интересоваться таким типом, как ты. — Хочешь, приезжай ко мне. Если ты только не предпочитаешь поужинать в «Маттео». — Нет, приходи ко мне, — медленно сказала она. — Я уже сняла грим и расчесала волосы. У меня в холодильнике есть франкфуртские сосиски, и я разогрею банку прекрасной фасоли. — Еду. — Не спеши. Дай мне час. Я приму душ, и у меня будет более или менее приличный вид. Робин налил себе еще одну рюмку водки, включил телевизор и подумал, приехал ли уже Грегори Остин. Может быть, нужно ему позвонить? Он пожал плечами. Ничего не поделаешь! Он увидит его во вторник на административном совете.Грегори сидел в просторном салоне коттеджа номер восемь в отеле в Беверли Хилл. Он посмотрел на часы. Девять вечера. Но это нью-йоркское время, а на побережье сейчас шесть часов. Только что звонил Клинт Мердок — генерал в отставке, один из главных акционеров административного совета. Миссис Мердок видела, что приехала чета Остинов, и приглашала их поужинать сегодня вечером в отеле. Грегори не мог отказаться. Генерал был слишком важной персоной. Нужно предупредить Юдифь. Жена Мердока, конечно, зануда, но у Юдифь появится возможность показаться в одном из своих новых платьев. Может, им вначале следует сходить в «Поло Лаундж» выпить аперитив? Зато, начиная с завтрашнего дня, они приглашены каждый вечер. «Галли и Хей» заработали свою тысячу долларов в неделю. Грегори надеялся, что Юдифь будет рада. Она вышла к нему в салон. — Не знаю, что делать. В воскресенье вечером бельевая закрыта. — Наверное, она рано откроется завтра. Юдифь улыбнулась. — Ладно, придется надеть ансамбль из золотистой парчи. Все остальное слишком мятое. — Сегодня вечером?! Она помахала приглашением. — Я нашла его, когда мы приехали. Альфи Найт устраивает прием. Там будет весь Голливуд. — Юдифь, с завтрашнего дня мы приглашены каждый вечер, но сегодня я пообещал поужинать с генералом Мердоком и его женой. — С Мер доками?! Я бы не ужинала с ними, даже если бы мне нечего было делать! Пропустить вечер у Альфи Найта ради них? Ни за что! Грегори встал с кресла и обнял ее за талию. — Юдифь, мне нужен Мердок. Он может быть полезным в административном совете. Юдифь презрительно скривилась. — Еще чего! Чтобы я, как последняя идиотка, трепалась несколько часов с миссис Мердок в то время, как ты будешь выслушивать его рыбацкие истории?! Ты считаешь, что Робин Стоун стал бы так унижаться? Он в этот вечер будет у Альфи Найта! Весь Голливуд там будет! Она оттолкнула мужа и бросилась в свою комнату. Увидев, что из комнаты она кинулась в ванную, он испугался. — Юдифь, что ты делаешь? Она показала ему маленький флакончик со снотворным. — Я приму две таблетки, но ни за что на свете не буду терять времени с этими ужасными людьми. Засыпая, я не буду сожалеть, что пропустила лучший вечер сезона. Он выхватил флакон. — Послушай, я не могу отказать генералу. Но если ты так хочешь идти на этот вечер, то иди. Я придумаю предлог, чтобы объяснить твое отсутствие. — Я не могу идти одна на такой прием. — Она протянула руку к флакону. — Дай мне таблетки. Я умоляю тебя, Грег. — Нет, — сказал он, — я найду кого-нибудь, чтобы сопровождать тебя. — Вдруг он наклонился к ней. — Может быть, Робин Стоун? Она осталась невозмутимой. — Он, конечно же, не один. — Если он не один, то может тебя сопровождать. Грегори направился к телефону. Ему было неприятно просить Робина об услуге, но ради Юдифь он был готов на все. Господи! Он не позволит ей пичкать себя лекарствами и спать с первого дня. Как только Робин снял трубку, Грегори сразу же изложил суть дела. — Робин, сегодня одна звезда кино устраивает прием. Кажется, это Альфи Найт. Миссис Остин получила приглашение и думает, что там будет интересно. Она уже очень давно не была ни на одном из голливудских вечеров. К несчастью, сегодня вечером я ужинаю с одним из членов административного совета. Поэтому вы могли бы оказать мне огромную услугу, если бы согласились сопровождать миссис Остин. Юдифь наблюдала за лицом Грегори, пытаясь уловить малейшие изменения в его выражении. Молчание показалось ей плохим предзнаменованием. Она догадалась, что Робин отказывался. — Я думаю точно так же, — сказал Грегори. — Но вы мне окажете персональную услугу. Да, я понимаю… Послушайте, Робин, вы могли бы сдержать слово по поводу вашей встречи, а затем сопроводить миссис Остин. Приглашение на восемь часов, но разгар на такого рода приемах начинается не раньше девяти — десяти часов. Я буду вам чрезвычайно обязан… — Ради всего святого! — закричала Юдифь. — Прекрати упрашивать. — Она подскочила к телефону и вырвала трубку. — Робин, не обращайте внимания на то, что сказал мой муж. Это его идея. Вы действительно хотите туда пойти, Юдифь? — спросил он. — Я думала, что это могло быть интересно, а мне нужно немного развеяться. Но ни за что на свете я не хотела бы заставлять вас сопровождать меня. — Я ненавижу светские развлечения Голливуда. Но послушайте, Юдифь, вас устроит, если мы придем туда довольно поздно? Например, около десяти часов? — Это будет прекрасно. И я смогу вздремнуть. — Хорошо. Тогда я позвоню вам из холла. Юдифь повесила трубку, стараясь не показать своей радости. У Робина не было желания туда идти, однако он жертвовал целым вечером. Значит, он испытывал еще какие-то чувства к ней. Наверное, у него было назначено свидание с женщиной, но ради Юдифь он теперь ее пробросит. Юдифь поцеловала мужа. — Мне жаль твоих подчиненных, — улыбаясь, сказала она. — Они слушаются беспрекословно. Хорошее настроение жены успокоило Грегори. — Не очень-то он был расположен уступить… мне, по крайней мере. Это ты заставила его решиться. Но что поделаешь, Юдифь, ты всегда делала все, что хотела, с мужчинами. Она поцеловала его в лоб. — Пойду намажусь кремом, приму горячую ванну, а затем немного вздремну. Когда будешь уходить, разбуди меня. Ожидая, когда наполнится ванна, Юдифь напевала. Она снова увидит Робина. Она была уверена, что он тоже хочет ее видеть. Это было очевидно. Он дорожил ею, но она его испугала, заговорив о браке. Сегодня вечером она скажет, что в будущем согласна на его условия. Никаких ультиматумов. Она будет видеться с ним каждый вечер. А когда они возвратятся в Нью-Йорк, то снова станут встречаться в Стик Плейс. А потом… Боже, до чего хороша жизнь!
Робин взял напрокат машину и поехал к Мэгги. Было около семи часов. Какой кошмар, этот телефонный звонок Грегори! Но Юдифь показалась ему в таком отчаянии! Он сразу же прекратил встречи с ней, как только она заговорила о браке, и надеялся, что с тех пор у нее появился кто-нибудь другой. Но когда она с достоинством заявила, что не хотела бы ему навязываться, то этот всплеск гордости его не обманул. В действительности это был призыв к спасению, и у него не хватило решимости отказаться. Проезжая по бульвару Сансет, он подумал, почему судьба Юдифь вызывала в нем такую жалость? На самом деле он ничего не испытывал ни к кому, кроме Мэгги. С каким неистовством он ее хотел! Это было физической необходимостью. Импульсивной силой. Ему нравилось упрямство, с которым она возвращала ему удар за ударом. Она бросала вызов. Это была не мягкая Аманда с грустными глазами. Мэгги была борцом: девушкой в его стиле. Но Юдифь? Он ничего не был должен ей. Какого черта он пообещал тогда укоротить свой вечер с Мэгги? Ее неожиданная реакция по телефону его обеспокоила. Робин попытался выбросить все из головы, припарковывая машину на маленькой стоянке возле Мелтон Тауэз. Мэгги показалась ему уставшей, но безумно красивой. Он заметил темные круги под ее глазами. Она была очень худая, но казалась не менее желанной. Они поужинали в салоне за журнальным столиком. Он помог ей вымыть посуду. Затем с какой-то робкой улыбкой она повела его в спальню. Он изумился тому, как она на него действовала. Присутствия Мэгги было достаточно, чтобы в нем пробудилась вся нежность сердца… Позднее, сжимая ее в объятиях, он почувствовал себя совершенно счастливым, чего с ним давно не случалось. Господи! Если бы только они могли прийти к согласию по поводу образа жизни! Он хотел бы жить вместе с ней, но не мог просить ее просто разделить с ним существование. Нежно гладя ее волосы, он подумал о браке. У них могло бы получиться… при условии, что она позволит ему пользоваться свободой, когда у него появится такое желание. Странная вещь, но он не видел никого, с кем мог попытаться изменить Мэгги. Господи! Еще немного, и он будет вынужден ее покинуть, чтобы сопровождать Юдифь на этот проклятый прием. Робин бросил взгляд на часы. Без пятнадцати девять… У него оставалось совсем немного времени. — Мэгги? Она пошевелилась и прижалась лицом к его плечу и подбородку. — Какие у тебя планы, кроме телевизионных игр? — Альфи Найт будет снимать фильм, в котором я хотела бы участвовать. — Мое предложение сделать тебя звездой в новом телесериале еще в силе. — Я предпочитаю фильм. — Ты уже договорилась? — Я закинула удочку, да и Хью не упускает Альфи из виду. Но я слышала, что он хотел бы снимать Элизабет Тэйлор. Так что мои шансы ограничены. — Может, мне удастся помочь. Но почему бы тебе не согласиться на мой телесериал? Публика лучше тебя узнает, и Ай-Би-Си платит хорошо. До будущего года Альфи не начнет снимать фильм. Она медленно подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. — А потом ты будешь появляться каждые три-четыре месяца. Мы будем встречаться, трахаться и говорить о моей карьере. — Я буду там очень часто… — Значит, мы будем больше трахаться и больше говорить. Она встала. — В конце концов, Мэгги, чего ты хочешь? Она стояла посреди комнаты, и свет из ванной освещал ее тело. Робин заметил гнев в ее глазах. — Я тебя хочу! Сегодня вечером снова все было прекрасно, но, как обычно, завтра утром я буду на себя злиться. Я всего лишь удобная женщина для тебя… Девица, которую ты трахаешь на побережье! Он вскочил с кровати и обнял ее. — Боже, но это же неправда, и ты сама это знаешь. Да и в городе полно женщин, и стоит мне только поманить их перспективой контракта… — А что ты только что делал здесь? Ты предложил мне неслыханную возможность, золотую роль в серии передач. А в обмен, конечно, надеешься, что я открою свои объятия при малейшем твоем знаке. Господи, можно подумать, что все это плохой фильм! Скажи, как зовут твою крошку, которую ты держишь про запас в Нью-Йорке и которая готова нестись в «Лансер», как только ты ее возжелаешь? Может, есть еще одна и в Чикаго? Мне это кажется необходимым. Нужно, чтобы Летающий диван не пустовал при посадке. Он наконец ее выпустил и натянул плавки. Она накинула халат, зажгла сигарету и стала смотреть, как он одевается. Вдруг Робин усмехнулся. — Летающий диван? Так называется мой самолет? — Ты не читал «Андеркавер» за прошлый месяц? — Я даже не знаю, что это. — Скандальный листок. Твой портрет красовался на обложке. О тебе не говорят только в «Ньюсуик» и в «Тайме». Все периодические издания интересуются Робином Стоуном. По мнению «Андеркавера», для тебя не имеет значения, кто лежит с тобой на диване: мужчина или женщина, лишь бы было куда трахать. Он ударил ее по лицу. Мэгги обмякла, разрыдалась и упала ему на руки. — Господи! Робин, ну почему надо так изводить себя? — рыдала она. — Мэгги, я дорожу тобой и хочу, чтобы ты согласилась на эту работу. — Я не продаюсь! — Слезы текли по ее щекам. — Неужели ты не понимаешь? Мне не нужен никто, кроме тебя! — Так вот, я здесь, я дорожу тобой больше, чем любой другой женщиной. Я даже ношу твое кольцо, которое делает меня похожим на педераста. Она не ответила. Он продолжал. — Кстати, обручальное кольцо может все уладить? — Да. — Хорошо. — Что хорошо? — Мы поженимся. Он посмотрел на свои часы. Пятнадцать минут десятого. Нужно ехать за Юдифь, но он хотел до конца выяснить отношения с Мэгги. — Ты будешь миссис Робин Стоун. Но я сохраню свободу передвижения. Сейчас я должен уйти. Она недоверчиво на него посмотрела. — Что ты должен сделать? — Мне нужно сопровождать одну даму на прием. Несколько мгновений она не находила слов. Потом отступила, словно ее ударили. — Ты пришел сегодня вечером сюда, зная, что позднее у тебя свидание с другой? Ты знал, что вскочишь с постели и побежишь к ней? — Речь идет не об этом, моя девочка. Эта женщина — миссис Остин. — Все правильно, ее нельзя назвать девушкой. — Будь добра, не вмешивай ее в наши отношения. — А как же, она выше этого! — Мэгги расхохоталась. — Со мной ты хочешь сохранить свободу, а сам бежишь, как собачонка, стоит только миссис Остин тебе свистнуть. Может быть, поэтому ты и стал директором Ай-Би-Си? — Мне нужно уйти, Мэгги. Я не хочу, чтобы ты говорила мне гадости, которым не веришь сама. Я позвоню тебе завтра. — Завтра не будет! — Ты говоришь серьезно, Мэгги? Она отвернулась. Плечи ее сотрясались от рыданий. Он подошел и взял ее за руку. — Мэгги, я дорожу тобой. Черт побери! Как ты хочешь, чтобы я это доказал? Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если ты согласна принять меня таким, как есть, браво! Но я тебя хочу. — Нужно, чтобы ты нуждался во мне! Нуждался, — задыхаясь, сказала она. — Поверь, я делала все, чтобы тебя забыть: с Энди, Адамом, со всеми своими партнерами по кино. Я не хочу, чтобы ты женился только для того, чтобы сделать приятное. Я хочу, чтобы ты женился на мне потому, что хочешь меня, хочешь, чтобы я все делила с тобой: твои мысли, надежды, любовь, заботы, а не только твое тело. Ты не понимаешь, Робин? Я хочу, чтобы ты нуждался во мне. — Тогда я не вижу выхода, — наконец ответил он со странной улыбкой. — Видишь ли, милая, я не нуждаюсь ни в ком. Мэгги, побежденная, покачала головой. — Дан Миллер мне это говорил. — Значит, он умнее, чем я думал, — Робин направился к дверям. — Ты будешь сниматься в передаче? — Нет. — Ты хочешь выйти за меня замуж? Она покачала головой. — Не на твоих условиях. Он открыл дверь. — Я пробуду здесь четыре-пять дней. Если ты передумаешь насчет работы или замужества, позвони. Она пристально смотрела на него опухшими от слез глазами. — Не возвращайся никогда! Не звони никогда, Робин! Никогда, прошу тебя. — Ты говоришь серьезно? — Да! — закричала она. — Я не хочу больше слышать о тебе, пока ты не скажешь, что я нужна тебе! Он ушел. Она неподвижно стояла до тех пор, пока не услышала, как закрылась дверь лифта, а затем бросилась на кровать и зарыдала.
Робин приехал в отель в Беверли Хилл без одной минуты десять. Через мгновение появилась сияющая Юдифь в своем парчовом ансамбле. Она еще никогда не была так красива и никогда еще не вызывала такой жалости у Робина. Он подумал о Мэгги с ее конским хвостом и кругами под глазами и понял, что никогда больше не сможет заниматься любовью с Юдифь, каких бы усилий ни прикладывал. Однако, идя ей навстречу, он радостно улыбнулся. — Все звезды кино будут вам завидовать. — Не смейтесь надо мной. Одному Богу известно, сколько раз я надевала этот ансамбль в Нью-Йорке. К несчастью, у меня нет ничего другого, чтобы надеть сегодня вечером. — Я взял напрокат «рамблер». Он недостаточно шикарен для вас, — сказал Робин, провожая ее к машине. Она села на сиденье и прижалась к нему. — Я предпочитаю его лимузину. — Она отклонилась, чтобы взглянуть на профиль Робина, пока машина катилась по холмам. — Мне не хватало вас, Робин, — тихо сказала она. — Такая красивая женщина, как вы, никогда не должна ни в ком нуждаться, — сказал Робин непринужденным тоном. — Будьте так любезны следить за табличками с названиями улиц на этой стороне. Альфи живет в Свэлоу Драйв. В этом квартале все улицы носят только названия птиц. Юдифь сосредоточила внимание на табличках. — Я повела себя, как девчонка, — медленно произнесла она. — Когда? — Когда прилетела встречать вас в Чикаго. — Это немного неосторожно, но очаровательно. — Я много передумала с тех пор, Робин. Я не могу бросить Грегори. Он нуждается во мне. — Браво! Вы тоже в нем нуждаетесь. — Нет, это в вас я нуждаюсь. — А вот и Свэлоу Драйв. Думаю, что узнал дом. Перед ним стоят «роллсы» и «бентли». В тот момент, когда Робин припарковывал машину, возле него остановилась патрульная машина. — Вы едете туда? — спросил полицейский. — Да, там сегодня вечер. Полицейский расхохотался. — Меня уже в третий раз присылают сюда. Будьте так любезны передать Альфи Найту, что я один из его почитателей и что он имеет право развлекаться. К несчастью, у его соседки ребенок, у которого режутся зубки. — Обязательно передам, — пообещал Робин. Он помог Юдифь выйти из машины. Полицейский посмотрел на нее и отвернулся, убедившись, что она не принадлежит к театральному миру. Его взгляд остановился на Робине. — Мне кажется, я вас знаю… Вы, ну да, когда-то вели «Мысли вслух», я никогда не пропускал вашу передачу. Вы Робин Стоун, не правда ли? — Совершенно точно. — Почти все знаменитости собрались сегодня здесь. Вы должны снова вести эту передачу. Она мне очень нравилась в свое время. — Теперь мистер Стоун делает другую передачу, которая называется «Феномен», — объявила Юдифь с гордостью хозяйки. — Без шуток? К сожалению, я теперь дежурю по ночам и не имею возможности смотреть телевизор. Он подождал, когда Робин углубится в аллею, потом окликнул его, не повышая голоса. — Мистер Стоун, вы не могли бы уделить мне минутку… Один? Робин заколебался. Юдифь улыбнулась и покачала головой. Он подошел к патрульной машине. — Послушайте, мистер Стоун, — начал полицейский, — дамочка, которая с вами, не ваша жена. Она слишком старовата. Робин холодно смотрел на него, не отвечая. — Я говорю вам это не потому, — продолжил полицейский, — что вмешиваюсь в ваши дела, а чтобы предостеречь вас… на случай, если это жена кого-то другого. — Не понимаю. — Видите ли, от меня ничего не ускользает. Пока мы говорили, я заметил, что за вами следят. — За мной? — Я в этом уверен. У вас какие-то неприятности? — Не больше, чем обычно. — Так вот. Пока мы разговаривали, какой-то парень въехал на эту улицу. Он развернулся, уехал, снова возвратился и снова отъехал. Сейчас его машина припаркована недалеко от перекрестка. Второй раз я его узнал: это частный детектив. — Может, он следит за кем-то другим. Я сопровождаю даму, потому что об этом попросил ее муж. Полицейский пожал плечами. — Может, он следит за другим домом или ждет, когда от кого-то выйдет муж. Но я уверен, что он на стреме. — Это меня не касается, — заверил его Робин. — Но все же спасибо. Он подошел к Юдифь. Удивление и радость Серджио при виде Робина успокоили его и отвлекли от мысли, что он испортил себе вечер. Робин узнал нескольких модных режиссеров, знаменитых актеров и обычный набор «звездочек». Кто-то схватил его за рукав и влажными губами поцеловал в шею. Это была Тина Клер. Он представил Юдифь Альфи, Серджио и Тине. Затем наполнил два бокала и проводил Юдифь к дивану. Большой сиамский кот в несколько прыжков пересек салон, посмотрел на него, мяукнул и прыгнул ему на колени. Альфи чуть не выронил бокал. — Подумать только! — воскликнул он. — Можно сказать, что в тебе есть секс-эпил. Слаггер ненавидит всех людей. — Слаггер, — повторил Робин. Услышав его голос, кот замурлыкал. — Где ты его откопал? — Мне его отдал Айк Райан. Он принадлежал его жене. Но Айк столько путешествует, что этот несчастный котенок побирался большую часть своей жизни. А я обожаю котов. Обычно Слаггер ненавидит чужих, но ты, видимо, исключение. — Мы старые друзья со Слаггером. Робин почесал шею кота и заметил, что серебряная медаль все еще висит на ошейнике. — Попроси ее не слишком скандалить, — порекомендовал Робин Альфи. — Там, снаружи, патрульная машина. — А, этот неотразимый полицейский! Ребенок соседки всего лишь повод, чтобы торчать здесь. Между нами, я думаю, что он стукач. Юдифь улыбнулась Робину. — Нам совсем не обязательно оставаться здесь, — прошептала она. — Вам уже наскучило? — удивился он. — Или для вас здесь слишком много народу? — Когда мы вместе, всегда много народу. Я бы хотела поехать выпить к вам. — Мне казалось, вы очень жаждали сюда попасть? — Я уже попала. Теперь я хочу уйти с вами. — Это будет невежливо по отношению к Альфи и Серджио, моим старым друзьям. Она пожала плечами и удалилась, показывая всем своим видом, что еще немного потерпит. Робин пил и болтал с Альфи и Серджио. Юдифь влилась в группу актеров. Робин решил остаться у Альфи как можно позже, чтобы сразу же отвезти Юдифь домой. Около полуночи публика начала расходиться. Юдифь освободилась от своих собеседников и подошла к Робину, который сидел возле бара. Она попыталась улыбнуться. — Я вас достаточно надолго оставила с этими мальчиками. Теперь моя очередь. Дайте мне выпить. — Что вы хотите? — Все равно. — У Альфи в баре есть все, что угодно. Выбирайте. — Я не тут хочу пить, — зло сказала она. Подошел Альфи. — Что случилось, милашка? Робин сдержал улыбку. Альфи был из тех редких звезд, которые и слышать не хотели про телевидение. Миссис Грегори Остин совершенно его не впечатляла. — Все хорошо, — улыбаясь, сказала она. — Я просто говорила Робину, что уже пора возвращаться. — Если вы устали, крошка, я найду вам кого-нибудь, кто отвезет вас в вашу берлогу. Не удостоив его ответом, Юдифь повернулась к Робину и сказала решительным тоном. — Робин, я хочу возвратиться. — Альфи, — с улыбкой произнес Робин, — ты слышал? Кто проводит ее в Беверли Хилл? — Джонни живет в Норс Каньоне… Эй, Джон! Когда ты сматываешься? Молодой человек в другом конце комнаты показал двумя руками, что уже улетает. — Так вот, милашка, у вас есть шофер, — сообщил Альфи. — Кто вам позволил?! — Она повернулась спиной к Альфи и еще более твердым голосом приказала: — Робин, отвезите меня в отель. — Конечно, но не сейчас. Дайте мне допить. Альфи прошел за бар и протянул ему бутылку водки. — Мне кажется, у тебя больше нет. Юдифь увидела, что Робин наливает себе стакан, и снова начала настаивать: — Робин, я хочу уехать. С вами. — Послушайте, милашка, — вмешался Альфи. — Человек не может получать всегда, что хочет. В настоящий момент я хотел бы жениться на Серджио и иметь с ним детей. К несчастью, это невозможно. Глаза Юдифь вспыхнули от ярости, она пристально посмотрела на Робина: — Вам нравится быть с этими дегенератами? — Мне нравится быть с моими друзьями. Он отошел от нее и сел на диван. Альфи и Серджио присоединились к нему. Юдифь осталась у стойки одна. Ничего подобного с ней еще не случалось. Наглость этого Альфи!.. Они обращались с ней, как с уличной девкой. С ней! Миссис Грегори Остин! Они над ней издевались, поворачивались спиной, пренебрегали ею. Она налила себе большой бокал скотча. В тишине комнаты раздался стук настенных часов за баром. Юдифь вдруг заметила, что все уже уехали. Остались только Робин и эти два педераста, прижавшиеся друг к другу на диване. Они специально вели себя так, чтобы унизить ее. Она слезла с табурета. В это мгновение что-то блестящее на ковре притянуло ее внимание. Это был золотой браслет для часов. Юдифь подняла его, прочитала надпись, выгравированную внутри, и медленно улыбнулась. Держа драгоценность кончиками большого и указательного пальцев, словно боясь испачкаться, она подошла к дивану. — Теперь я понимаю, почему вы хотите избавиться от меня. Вам нужно остаться втроем? Эта выходка вначале удивила мужчин. Но когда Альфи увидел браслет, он вскочил, машинально протягивая руку к ее запястью. — Где ты это подобрала, стерва? Сегодня он был у меня на руке. — Я нашла его на полу, перед баром, — отступая, сказала Юдифь. Она покрутила браслетом перед его носом. — Застежка, наверное, сломалась. Но вот интересная надпись. Серджио встал в свою очередь и приблизился к ней. — Отдайте мне этот браслет, — сказал он. Быстрым жестом Юдифь опустила браслет в бюстгальтер и вытерла руки. — Вот место, куда такие педерасты, как вы, не посмеют залезть! Робин встал. — Меня женская грудь не пугает. — Вы такой же, как и они, — бросила она, отступая. — Машина любви. Женщины — для рекламы, мужчины — для удовольствия. Этот браслет все подтверждает. — Что вы несете? Он принадлежит Альфи. — Расскажите это кому-нибудь другому, — презрительно возразила Юдифь. — На нем имя Серджио и внутри надпись: Серджио от Робина Стоуна, Рождество, 1962 г. Но этот браслет был на руке у Альфи. И именно поэтому вы хотели остаться здесь, Робин, чтобы свести счеты с Альфи, который отбил у вас вашу большую любовь. Серджио повернулся к Робину. — Это тот браслет, который ты подарил мне в Риме. Ты разрешил выгравировать на нем, что я захочу. Вспомни. Я поставил твое имя. С тех пор я всегда носил его. Он был и есть мой самый дорогой подарок. — Серджио протянул руку, чтобы показать похожий браслет. — Но Альфи отдал мне свой. Он достался ему от матери. Для него это тоже было самым ценным подарком. Мы ими обменялись. Альфи согласно кивнул. — Да, Робин, — сказал он, — для нас это больше, чем украшение. Юдифь откинула голову назад и расхохоталась. — Я никогда не была свидетелем такой душещипательной сцены. Теперь я думаю, что мне больше нечего делать здесь. Я ухожу. Грегори будет счастлив увидеть браслет. И скандальные листки на нем прекрасно заработают. Бомба может разразиться перед административным советом. Надеюсь, вы понимаете, Робин? Речь идет о том, как бы это сказать? Чтобы сделать вас персоной нон грата. — Юдифь, мне глубоко наплевать на сеть. Если вы имеете зуб против меня, не стесняйтесь. Но не вмешивайте Серджио и Альфи в эту историю, вы можете погубить их карьеру. Юдифь, смеясь, выдержала его взгляд. — Все лучше и лучше. — Она повернулась к Альфи. — Скандальная пресса будет на седьмом небе от счастья, милок! Ее глаза горели от гнева. Она направилась к двери. Серджио кинулся за ней. Более ловкий Альфи первым схватил ее за руку и в две секунды вернул к бару. Робин сделал шаг вперед. Впрочем, Альфи уже отпустил ее, но к ней приближался Серджио. Юдифь отступила назад и оказалась прижатой к бару. Тогда она бросила вокруг себя испуганный взгляд затравленного зверя, увидела на полке блестящий Оскар, схватила его и, когда Серджио приблизился к ней, опустила его ему на голову. Серджио упал, потеряв сознание. — Шлюха! — завопил Альфи. — Ты его убила! О Господи, Серджио… Он упал на колени и разрыдался, склонившись над своим неподвижным другом. Юдифь подбежала к дверям, но Альфи вскочил и схватил ее. — Нет, ты не смоешься просто так! Он смазал ей по лицу тыльной стороной ладони. Робин приподнял Серджио и уложил его на диван. Он слышал вопли Юдифь, но решил, что ее достоинство перенесет пощечины Альфи. Его больше беспокоило состояние Серджио. Он взял в баре лед и положил ему на голову. — Осторожнее! — крикнул Альфи. — У него может быть перелом черепа. Робин обернулся, увидел Юдифь и в два прыжка пересек комнату. У нее была разбита губа и кровоточил нос. Перевернутый шиньон придавал ее перекошенному лицу гротескный вид. Робин хотел вмешаться, но Альфи схватил ее за волосы и потянул за собой. Каким-то чудом прическа не распалась. Юдифь изо всех сил закричала. Робин схватил руку Альфи и заставил его выпустить свою добычу. Парчовый ансамбль Юдифь, разорванный на горловине, открывал бюстгальтер на косточках. Браслет с глухим стуком упал на пол. Альфи схватил его. Затем для ровного счета залепил еще одну сильную пощечину Юдифь. Робин прижал ее к себе. Она, рыдая, обхватила его. — Я сожалею, Юдифь, — прошептал он, — но тот, кто ведет себя, как уличная девка, должен ожидать, что и с ним будут так обращаться. Вдруг все трое застыли, встревоженные дверным звонком и громким голосом: «Откройте, откройте, полиция!» — О Боже мой! — запричитала Юдифь. — Грегори умрет. Посмотрите, что он со мной сделал! — А я! — заорал Альфи. — А Серджио! Такой скандал, как этот, уничтожит нас всех… и все из-за тебя, старая шлюха! Юдифь вцепилась в Робина. — Спасите меня. О Господи! Спасите меня, Робин! Я никогда не сделаю ничего плохого! — Ты никогда не сделаешь ничего плохого. Ты всегда можешь спрятаться за своими миллионами, — плюнул Альфи. — А у меня в контракте пункт о соблюдении моральных норм. Прижимая Юдифь к себе, Робин схватил Альфи свободной рукой. — Я вытащу тебя из этой передряги с одним условием, — сказал он. — Мэгги Стюарт будет звездой в твоем новом фильме. — Каком фильме? Завтра нас всех вышвырнут из Голливуда! — Послушайте меня, — сказал Робин. Он легонько отстранил Юдифь и посмотрел на ееперекошенное от страха лицо. — Вот что вы скажете: я напился, потом бросился на вас и разодрал блузку. Серджио вмешался, чтобы я отпустил вас. Я хотел его ударить, но он увернулся, и вы получили удар кулаком. А потом я оглушил Серджио. — А я, что я делал во всем этом? — спросил Альфи. — Ты понесся на помощь Юдифь и… — Робин сильно ударил его кулаком в подбородок. Альфи взвизгнул. — Извини, старик, но когда защищаешь даму, то всегда идешь на риск, — иронически заключил он. Звонок прекратился, и в дверь больше не стучали. Робин понял, что полиция пыталась проникнуть через запасную дверь. — Ладно, надеюсь, вы усвоили свои роли, — сказал Робин, — так как легавые уже тут. Он повернул голову как раз в тот момент, когда полицейские ворвались внутрь через балкон в спальне. Обезумев, Юдифь бросилась к двери, открыла ее и была ослеплена вспышками фоторепортеров, которые заполнили салон. Она бегом возвратилась к Робину и прижалась к нему, чтобы спрятать лицо. Она слышала, как Альфи смущенно объяснял: — Ужасное недоразумение, господа. Очень печальная история. Мистер Стоун остался у меня, чтобы поговорить о мисс Мэгги Стюарт, которую я собираюсь пригласить на главную роль в своем будущем фильме. За разговором мы выпили несколько бокалов. Робин слишком перебрал. Он не соображал, что делает, так как в противном случае никогда бы не попытался изнасиловать миссис Остин. Эта бедная старушка могла бы быть его матерью. Юдифь приподняла голову, и ее раздутые губы презрительно скривились. — Нет, но эта скотина… — Тише, — вмешался Робин. — Я был не в себе. Приехала скорая помощь. Все окружили врача, склонившегося над Серджио. — Небольшое сотрясение, но ничего нельзя утверждать, пока не будет сделан рентген, — врач покачал головой. — Однако вы переходите границу. Полицейский, который разговаривал с Робином в начале вечера, взял под руку и укоризненно взглянул на него, словно говоря: «Я так вам доверял». Альфи попросили сопровождать Робина в качестве свидетеля. Юдифь заявила, что отказывается подавать жалобу, но ее однако увезли тоже, несмотря на ее протесты. В полицейском участке все прошло довольно банально. Робину казалось, что все репортеры Лос-Анджелеса собрались здесь. Был даже оператор с местного телевидения. Робин не делал ничего, чтобы увернуться от фотографов, но он старался прикрыть лицо Юдифь. Когда слишком бойкий репортер встрял между ними, Робин выхватил у него аппарат и раздавил ногой. Другие фотографы сняли эту сцену. Полиция сразу восстановила порядок. Альфи тоже отказался подавать жалобу. — Я первый дал ему по морде, — уверял Альфи. — Он ударил меня в ответ. И потом, он напился. Врач сообщил по телефону, что Серджио пришел в себя. У него оказалось легкое сотрясение. Робин сразу же заплатил штраф за ночной скандал и выписал чек журналисту, у которого разбил аппарат. В конце концов всех отпустили. Робин отвез Юдифь в отель и остановил машину возле перекрестка. — Мы можем пройти здесь, чтобы не идти в ваш коттедж через холл отеля. Я проведу вас. — Робин… Он повернулся к ней. Синяк у нее под глазом начал желтеть. Губы были разбиты. — Положите холодный компресс на лицо. Завтра у вас будет фиолетовый глаз. — Что я скажу Грегори? — спросила она, осторожно ощупывая лицо кончиками пальцев. — То же самое, что и в полиции. Она взяла его за руки. — Робин, я знаю, вам это покажется абсурдным, но я вас действительно любила, — слезы показались у нее на глазах. — А теперь я вас погубила. — Да нет, милая, вы совершенно ничего не сделали. Я стал свободным. Как раз вовремя. Он проводил ее до коттеджа. Света не было. — Я не стану будить Грегори. У меня будет время рассказать ему обо всем завтра. — Спокойной ночи, Юдифь. Спите хорошо. Она на мгновение задержала его. — Боже мой, почему это с нами случилось? — Возвращайтесь в свой коттедж, — прошептал он, — Оставайтесь там. И держитесь своего круга. Он ушел. Добравшись до своего номера, он отключил телефон и, бросившись на кровать, уснул, не раздеваясь.
Клиф Дорн разбудил Грегори Остина, позвонив ему в семь часов утра. — Дева Мария! — воскликнул он. — Мне чуть не стало плохо, когда я услышал новости по радио. Как она себя чувствует? — Кто? — спросил еще заспанный Грегори. — Юдифь. Грегори взглянул на будильник на столике. — О чем вы говорите? — Грегори, холл наводнен репортерами. Телефонистка отеля отказалась вас беспокоить. Я взял на себя ответственность. Вы видели газеты? — Ради Бога! Объясните, что происходит? Вы меня только что разбудили. И что делает Юдифь во всей этой истории? — Робин Стоун избил ее. — Что?! — Грегори выпустил трубку и побежал в спальню Юдифь. Она спала, положив лицо на подушку. Он тихо потянул ее за руку. Она застонала и медленно приоткрыла глаза. — Юдифь, у тебя подбитый глаз. Что случилось? — воскликнул он в ужасе. — Ничего, — сказала она и хотела спрятать лицо в подушку, но он заставил ее сесть. — Клиф звонит. В холле журналисты. Похоже, что все газеты говорят о твоем приключении. Что случилось? — Я хочу кофе, — медленно произнесла она. — Все не так страшно, как ты думаешь. Грегори вернулся в комнату и взял трубку. — Юдифь чувствует себя нормально. Быстро приезжайте сюда и привезите все газеты, — приказал он Клифу. Потом заказал кофе. Юдифь в конце концов встала и пришла в салон. — Я чувствую себя гораздо лучше, чем выгляжу, — с трудом улыбаясь, сказала она. — Расскажи, что произошло. — Нечего особо рассказывать. Робин много выпил. Вдруг он набросился на меня. Серджио вмешался. Робин хотел его ударить, но Серджио увернулся. И этот удар получила я. Затем Робин оглушил Серджио. Приехала полиция. Вот и все. — Все?! — заорал Грегори. — Но посмотри на себя в зеркало, несчастная! Почему ты не послала за мной? За мной или за Клифом? Юдифь маленькими глотками пила кофе. — Ты слишком беспокоишься из-за пустяков, Грег. Все не так страшно, потому что полицейские нас отпустили. Это Робин привез меня сюда. — Он привез тебя после всего? — Да, он успокоился. Юдифь услышала звонок в дверь и встала. — Это, конечно, Клиф, — сказала она. — Я не хочу, чтобы он видел меня в таком состоянии. Она скрылась в спальне. Клиф принес все утренние газеты. Грегори застонал, увидев приблизительно одинаковые кричащие заголовки:
РОБИН БРОСАЕТСЯ НА ЖЕНУ ПАТРОНА СТОУН ЗАМЕШАН В ДРАКЕ НОЧЬЮ МАШИНА ЛЮБВИ СВИХНУЛАСЬВсе статьи были более или менее похожи. Грегори рассматривал фотографии: все участники, казалось, были готовы лишиться чувств, кроме Робина. Спокойный, он даже сохранял легкую улыбку. Клиф сидел возле Грегори с таким зловещим видом, словно держал бикфордов шнур. Каждую минуту раздавался звонок в дверь, и посыльные приносили телеграммы Юдифь от друзей из Нью-Йорка. Там уже было около полудня, и газеты рассказывали ту же историю, с теми же фотографиями. Грегори взад-вперед ходил по салону. — Почему журналисты так быстро прибыли туда? — Их предупредил детектив, которого я нанял следить за Робином, — смущенно объяснил Клиф. — Он не знал, что Юдифь замешана в этой драке. Юдифь вышла из спальни. Она наложила на глаз черную повязку. Несмотря на распухшие губы, она казалась вполне презентабельной. — Да, из этой истории я многое вынесла. И все друзья, которые про нас забыли, вдруг вспомнили о нашем существовании. Грег, ты не поверишь, но во всех своих телеграммах они говорят о моем неотразимом очаровании. Я тебе зачитаю. Пегги Астон хочет устроить прием в мою честь. По его словам, я — женщина века, так как один мужчина дрался против двоих, чтобы обладать мною. Она ликовала, как ребенок. — Нужно дать объяснение прессе, — сказал Клиф. — Конечно, о том, чтобы Робин оставался в Ай-Би-Си, не может быть и речи. Жаль, что это закончилось так, — он взглянул на Юдифь, которая продолжала распечатывать телеграммы. — Но у нас есть предлог для административного совета. — Нет, — сказал Грегори. — Робин остается. Ни Юдифь, ни Клиф не поверили своим ушам. — Нужно найти приемлемое объяснение. Мы скажем, что произошло ужасное недоразумение, и "будем утверждать, что Робин не хотел причинить зла Юдифь, что она оступилась и упала с лестницы. — Я не согласна! — вставая, закричала Юдифь. — Такое объяснение сделает из меня идиотку, а из Робина — героя. Он набросился на меня, вот и все. Разъярившись, она вышла из комнаты. — Юдифь права, — сказал Клиф. — Отрицать — значит вызвать скандал. Если вы уволите Робина, то через пару дней об этом никто и не вспомнит. — Он останется! Позвоните Дантону Миллеру и предложите ему занять прежнее место. Скажите, что он будет работать с Робином, что у них будут одинаковые права, но ни один из них не будет принимать решения без моего согласия. Начиная с этого момента, хозяин — я! — Вы теряете голову, Грегори. Вы искали возможность избавиться от Робина. Она у вас есть. — Я хотел снова взять сеть в свои руки. Это сделано. И кроме того, это я попросил Робина сопровождать Юдифь на эту попойку, потому что ей так захотелось. Теперь, я надеюсь, она будет придерживаться людей своего круга. Но я не хочу бросать Робина на съедение волкам. — Я считаю, что вы совершите большую ошибку. Впрочем, никакая компания не захочет иметь с ним дело. С этой стороны нечего опасаться. — Держите свое мнение при себе, — возразил Грегори. — Я плачу вам за юридические советы. Робин Стоун слишком много сделал для Ай-Би-Си, чтобы его вышвырнуть за дверь под предлогом, что в один прекрасный вечер он потерял над собой контроль.
Сильный стук в дверь разбудил. Робина. Он все еще лежал в одежде на кровати. Быстрым шагом Робин подошел к двери и открыл ее. Клиф Дорн вошел в номер и бросил стопку газет на столик. Робин просмотрел их. Хуже, чем он предполагал. — Я пришел от Остинов, — сказал Клиф. — Понятно, Грегори хочет моей отставки. — А как же! Но он очень сокрушается по поводу тебя… Грегори берет Дана на твое место, однако ты можешь оставаться до тех пор, пока не подыщешь работу. Это позволит тебе спасти репутацию. Робин подошел к письменному столу и написал несколько строк на листке бумаги. — Вот, я думаю, что это хороший выход. В любом случае мой контракт подошел к концу. Это мое заявление об увольнении. Ты можешь подписать его как свидетель. Робин протянул листок и ручку Клифу. — Я улетаю первым же самолетом. Да, подожди, Клиф… Программы передач на весну здесь. Здесь все: проекты, рентабельность передач и отчет, который я должен был представить на совете. — Я отошлю эти бумаги тебе в Нью-Йорк. — Не надо. Впрочем, это ты подарил мне их на прошлый Новый год. Робин подошел к двери и широко открыл ее.
Грегори Остин смотрел телевизор. — Вы действительно ему сказали, что я хочу, чтобы он остался? — Его заявление об отставке было уже написано. Грегори пожал плечами. — Он сам себя лишил возможности хоть когда-нибудь вернуться на телевидение. Проклятое самолюбие! Если бы он остался работать с Даном, это дело затихло бы. Я должен с ним поговорить. — Если ты это сделаешь, я уйду от тебя! — воскликнула Юдифь. Оба удивленно на нее взглянули. — Я хочу вычеркнуть его из нашей жизни, — сказала она. — Я говорю серьезно, Грегори. Грегори покачал головой. — Хорошо. Клиф, передайте в таком случае Дану, что все урегулировано. Но я хочу назначить Сэмми Табета на место Робина. Мне нужны два человека, пусть противостоят друг другу. Клиф согласно кивнул и ушел.
Уложив чемодан, Робин уже собирался выходить, как вдруг опомнился и набрал номер. — А, мистер Стоун! — сказала телефонистка. — Вы уже включили аппарат. Вам неоднократно звонили. Все газеты хотят поговорить с вами. Репортер из «Тайме» ждет внизу с фотоаппаратом. Если вы хотите удрать от него, то есть запасной выход. — Спасибо, милая. Можете соединить меня с Мэлтон Тауэз? Это дом, но там есть коммутатор. — Да, у нас есть номер. Позвольте вам сказать, мистер Стоун, что я восхищаюсь вами, несмотря на все, что говорится в газетах. В наши дни не так-то много мужчин, готовых драться с двумя типами, чтобы завоевать милости Дульсинеи. Наконец она вызвала Мэлтон Тауэз. Мэгги ответила заспанным голосом на второй звонок. Он понял, что она не в курсе. — Просыпайся, лентяйка. Тебя ждут в студии, чтобы записывать игры. — Только через час… Робин! — воскликнула она, наконец проснувшись. — Ты звонишь мне! — Да, я улетаю в Нью-Йорк в одиннадцать часов. — Это все, что ты хотел мне сказать? — Да, я хотел сказать, что я не… — он замолчал. — Видишь ли, Мэгги… Он говорил в пустоту. Мэгги повесила трубку. (обратно)
Глава 31
Декабрь, год спустя.
Дип Нельсон шел обедать к «Сарди», держа под мышкой последний номер «Вэрайати». Войдя внутрь, он снова испытал ощущение всесильности. Дип Нельсон стал продюсером на Бродвее. Робин Стоун был уже почти забыт. Со времени скандала минул год, и с тех пор никто не слышал, что стало с Робином. Он просто исчез. Но Великий Диппер не капитулировал. Он продолжал свое восхождение то как актер, то как продюсер. У Джо Катца не было выбора. Чтобы заручиться согласием Поли на главную роль, он был вынужден взять Дипа сопродюсером. Их спектакль произвел триумф. Дип останавливался у каждого столика, чтобы показать отклики прессы в «Вэрайати». У «Сарди» Дипа выслушивали с вниманием, потому что уже все прочли статью и знали, что в настоящий момент Поли была большой звездой. Ни для кого также не было секретом, что она спала со своим партнером.Сидя в самолете, Кристи Лэйн пробежал глазами «Вэрайати». Широкая улыбка осветила его лицо. Он оторвал кусок рубрики «Передвижения». — Что это? — спросила Этель. Он протянул ей кусок бумаги. «ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА В НЬЮ-ЙОРК: Кристи Лэйн, Этель Лэйн, Кристи Лэйн младший». Кристи сложил его и положил в портмоне. — Это первое упоминание о малыше в прессе. Я положу его вместе с сообщением о рождении. Этель улыбнулась. — Твоя премьера наделает шуму. Альфи и Серджио уже заказали места в самолете, чтобы присутствовать на ней. У тебя будет половина Голливуда. Кристи кивнул, поудобнее устроился в кресле и попытался задремать. Этель прижала малыша и поцеловала его в голову. Странно, вначале она родила его, чтобы навязывать свои капризы Кристи. Но с тех пор только ребенок стал иметь для нее значение. Всю бессознательную любовь, которую раньше отдавала мужчинам, с которыми сталкивалась в своей жизни, она перенесла теперь на ребенка. Это был ее сын, и она обеспечит ему самую прекрасную жизнь в мире.
Дантон Миллер пробежал критические отзывы о своей последней передаче в «Вэрайати». Катастрофа! Можно лопнуть со злости: единственные передачи, сохранявшие высокий рейтинг, были выбраны еще Робином Стоуном. Чертов Робин! Он со скоростью реактивного снаряда достиг высот в своем деле, но, как и все снаряды, взорвался и исчез где-то в небытии. Старый Грегори отменит новый спектакль, который Дан запустил в сентябре. Он это уже предчувствовал. Это произойдет завтра на собрании. Дан зажег сигарету. Его язва снова давала знать о себе. Он посмотрел в потолок и мысленно пообещал себе бросить курить, если сохранит место после завтрашнего совета. Он подумал, читал ли уже Грегори «Вэрайати»?
Грегори прочел «Вэрайати», но он смотрел на обложку «Вуман Вэа», на которой был помещен портрет Юдифь. Каждый раз, когда он вспоминал фотографии, появившиеся на первых страницах газет в Лос-Анджелесе, его начинала бить дрожь. Странная вещь, но после возвращения Юдифь стала знаменитостью. То, что Робин Стоун не смог совладать со своей страстью к ней, повысило ее авторитет в глазах подруг. Вдруг Грегори вспомнил, что в пять часов ему нужно к портному, чтобы примерить новый костюм. Естественно, что Юдифь потребовала, чтобы он также заказал новый велюровый смокинг для их новогоднего коктейля, который в этом году обещал быть еще более популярным, чем раньше. Старый супруг улыбнулся, рассматривая портрет своей жены. Она еще никогда не выглядела такой красивой.
Все читали «Вэрайати», но никто не заинтересовался рубрикой «литература». Никто не заметил маленькой заметки: «Робин Стоун, бывший генеральный директор Ай-Би-Си, только что закончил книгу, которая выйдет в издательстве „Эссан-десс“ в конце весны». Мэгги Стюарт села в самолет, вылетающий в Лондон. Она тоже держала под мышкой «Вэрайати». Большой заголовок на первой странице сообщал, что она бросила съемки в новом фильме Альфи Найта. Когда самолет взлетел, она не стала читать «Вэрайати». Она читала и перечитывала телеграмму:
Мисс Мэгги Стюарт, Мелтон Тауэз Беверли Хилл, Калифорния ТЫ НУЖНА МНЕ. РОБИН(обратно) (обратно) (обратно)Отель «Дорчестер»Лондон.
Жаклин Сьюзан. Суперплоть (Долина кукол)
Анна
сентябрь 1945
 В день ее приезда столбик термометра поднялся до девяноста градусов [1]. Нью-Йорк буквально дымился, словно разъяренный бетонный зверь, застигнутый врасплох не по сезону сильной жарой. Но ни на жару, ни на замусоренную площадь, именуемую Таймс-сквер, Анна просто не обратила внимания. Она все равно считала Нью-Йорк самым восхитительным городом в мире.
Девушка в бюро по найму с улыбкой сказала ей:
– Ну, у тебя-то все будет о’кей, пусть ты и без стажа. Все хорошие секретарши сейчас работают по линии военных поставок. Платят там что надо. Только скажу тебе, подруга, что с такими внешними данными, как у тебя, я бы прямиком направилась к Джону Пауэрсу или Коноверу.
– А кто это? – спросила Анна.
– У них самые известные дома моделей в Нью-Йорке. Вот где я с радостью бы поработала, да только ростом не вышла и недостаточно худа. А ты – как раз то, что нужно.
– Думаю, мне лучше работать в какой-нибудь конторе, – сказала Анна.
– О’кей, но, по-моему, ты не в своем уме. – Она протянула Анне несколько листков. – Вот, это все хорошие направления, но сначала обратись к Генри Бэллами. Это крупный театральный адвокат. Его секретарша только что вышла замуж за Джона Уэлша. – Видя, что Анна никак не реагирует, девушка продолжила:
– Только не говори мне, будто никогда не слышала о Джоне Уэлше! Он уже получил трех «Оскаров» [2], и я сейчас прочитала, что он собирается вновь пригласить Гарбо на главную роль в своем фильме.
Анна с улыбкой заверила девушку, что никогда не забудет, кто такой Джон Уэлш.
– Теперь у тебя есть представление о положении дел и о том, с какими людьми тебе предстоит познакомиться, – продолжала девушка, – «Бэллами и Бэллоуз» – контора что надо. Ведут дела с самыми крупными клиентами. А Мирне, девице, что выскочила за Джона Уэлша, до тебя ой как далеко. Так что ты моментально отхватишь себе то, что требуется.
– А что требуется?
– Парня… или даже мужа. – Девушка опять взглянула на заявление Анны. – Слушай, откуда, ты пишешь, приехала? Это ведь в Америке, да?
Анна улыбнулась.
– Из Лоренсвилла. Это у самого мыса [3], примерно в часе езды на электричке от Бостона. И если бы мне нужно было замуж, то я могла бы и там остаться. В Лоренсвилле все выходят замуж сразу же после школы. Но мне хотелось бы сначала поработать немного.
– И ты уехала из такого города? А вот здесь каждая ищет себе мужа. И я в том числе! Может, ты направила бы меня в этот Лоренсвилл с рекомендательным письмом?
– Ты хочешь сказать, что пошла бы замуж за любого? – удивилась Анна.
– Нет, не за любого. Только за того, кто смог бы купить мне роскошное бобровое манто, нанять приходящую уборщицу по дому и разрешил бы мне спать до двенадцати часов каждый день. А мои знакомые парни хотят, чтобы я не только продолжала работать здесь, но еще и выглядела бы в неглиже, как Кэрол Лэндис, и в придачу готовила бы им изысканные блюда.
Анна рассмеялась, а девушка добавила:
– Ладно, сама все увидишь. Вот подожди, втрескаешься в какого-нибудь здешнего Ромео. Могу поспорить, что сразу же рванешь изо всех сил на самый скорый поезд до своего Лоренсвилла. А по пути туда не забудь заскочить сюда и прихватить с собой меня.
В день ее приезда столбик термометра поднялся до девяноста градусов [1]. Нью-Йорк буквально дымился, словно разъяренный бетонный зверь, застигнутый врасплох не по сезону сильной жарой. Но ни на жару, ни на замусоренную площадь, именуемую Таймс-сквер, Анна просто не обратила внимания. Она все равно считала Нью-Йорк самым восхитительным городом в мире.
Девушка в бюро по найму с улыбкой сказала ей:
– Ну, у тебя-то все будет о’кей, пусть ты и без стажа. Все хорошие секретарши сейчас работают по линии военных поставок. Платят там что надо. Только скажу тебе, подруга, что с такими внешними данными, как у тебя, я бы прямиком направилась к Джону Пауэрсу или Коноверу.
– А кто это? – спросила Анна.
– У них самые известные дома моделей в Нью-Йорке. Вот где я с радостью бы поработала, да только ростом не вышла и недостаточно худа. А ты – как раз то, что нужно.
– Думаю, мне лучше работать в какой-нибудь конторе, – сказала Анна.
– О’кей, но, по-моему, ты не в своем уме. – Она протянула Анне несколько листков. – Вот, это все хорошие направления, но сначала обратись к Генри Бэллами. Это крупный театральный адвокат. Его секретарша только что вышла замуж за Джона Уэлша. – Видя, что Анна никак не реагирует, девушка продолжила:
– Только не говори мне, будто никогда не слышала о Джоне Уэлше! Он уже получил трех «Оскаров» [2], и я сейчас прочитала, что он собирается вновь пригласить Гарбо на главную роль в своем фильме.
Анна с улыбкой заверила девушку, что никогда не забудет, кто такой Джон Уэлш.
– Теперь у тебя есть представление о положении дел и о том, с какими людьми тебе предстоит познакомиться, – продолжала девушка, – «Бэллами и Бэллоуз» – контора что надо. Ведут дела с самыми крупными клиентами. А Мирне, девице, что выскочила за Джона Уэлша, до тебя ой как далеко. Так что ты моментально отхватишь себе то, что требуется.
– А что требуется?
– Парня… или даже мужа. – Девушка опять взглянула на заявление Анны. – Слушай, откуда, ты пишешь, приехала? Это ведь в Америке, да?
Анна улыбнулась.
– Из Лоренсвилла. Это у самого мыса [3], примерно в часе езды на электричке от Бостона. И если бы мне нужно было замуж, то я могла бы и там остаться. В Лоренсвилле все выходят замуж сразу же после школы. Но мне хотелось бы сначала поработать немного.
– И ты уехала из такого города? А вот здесь каждая ищет себе мужа. И я в том числе! Может, ты направила бы меня в этот Лоренсвилл с рекомендательным письмом?
– Ты хочешь сказать, что пошла бы замуж за любого? – удивилась Анна.
– Нет, не за любого. Только за того, кто смог бы купить мне роскошное бобровое манто, нанять приходящую уборщицу по дому и разрешил бы мне спать до двенадцати часов каждый день. А мои знакомые парни хотят, чтобы я не только продолжала работать здесь, но еще и выглядела бы в неглиже, как Кэрол Лэндис, и в придачу готовила бы им изысканные блюда.
Анна рассмеялась, а девушка добавила:
– Ладно, сама все увидишь. Вот подожди, втрескаешься в какого-нибудь здешнего Ромео. Могу поспорить, что сразу же рванешь изо всех сил на самый скорый поезд до своего Лоренсвилла. А по пути туда не забудь заскочить сюда и прихватить с собой меня.
* * *
Нет уж, в Лоренсвилл она не вернется никогда! Из Лоренсвилла она не просто уехала, она сбежала оттуда, чтобы не выходить замуж за какого-нибудь типично лоренсвиллского правильного молодого человека, сбежала от правильной и упорядоченной лоренсвиллской жизни. Той самой упорядоченной жизни, какую прожила ее мать. И мать ее матери. В одном и том же чопорном доме, в котором добропорядочные семейства Новой Англии жили из поколения в поколение и где обитателей душила гнетущая упорядоченная атмосфера загоняемых вглубь эмоций, подавляемых душевных порывов, всегда надежно скрываемых и упрятанных за бронированной плитой на скрипучих петлях под названием «Благопристойное поведение». «Анна, настоящая леди никогда не смеется громко». «Анна, леди никогда не плачет при всех». – «Но я же не при всех. А плачусь тебе, мама, здесь, на кухне». – «Но леди льет слезы только наедине сама с собой. Ты уже не ребенок, Анна, тебе двенадцать лет, и с нами в кухне сидит тетя Эми. А теперь ступай к себе в комнату». И каким-то образом жизнь в Лоренсвилле заставила ее поступить в Рэдклифф [4]. А ведь там были девушки, которые и смеялись, и лили слезы, и сплетничали, и напропалую вкушали все, как «возвышенное», так и «низменное», что, собственно, и составляет нашу жизнь. Однако они никогда не приглашали ее в свой круг, словно на ней висел огромный плакат: «Не приближаться! Холодная и замкнутая представительница Новой Англии». Анна все больше и больше уходила в мир книг, обнаруживая, однако, что окружающая ее действительность отражается в них: фактически автор каждой книги, которую она брала в руки, покидал свой родной город. Хэмингуэй жил то в Европе, то на Кубе, то на Бимини. Бедный потерянный талантливый Фитцджеральд тоже жил за границей. И даже «красный» грузноватый Синклер Льюис испытал не одно восхитительное увлечение и встретил свою любовь в Европе. Бежать из Лоренсвилла! Просто-напросто бежать, и все. Это решение она приняла на последнем курсе колледжа и объявила о нем матери и тете Эми на пасхальных каникулах: – Мама… тетя Эми… после окончания колледжа я еду в Нью-Йорк. – Для каникул это ужасное место. – Я намерена там жить. – Ты обговорила это с Вилли Хендерсоном? – Нету а зачем? – Но вы же дружили с шестнадцати лет, и все, естественно, полагают, что вы… – Вот именно. В Лоренсвилле все и обо всех всегда что-то полагают. – Анна; ты говоришь на повышенных тонах, – спокойно заметила мать. – Вилли Хендерсон – славный молодой человек. Я училась в школе с его родителями. – Но я не люблю его, мама. – А мужчин и нечего любить, – это подала голос тетя Эми. – Но разве ты не любила папу, мама? – В ее устах это прозвучало не как вопрос, а как обвинение. – Ну конечно же; я любила его, – в голосе матери послышались возвышенные ноты. – Но тетя Эми имеет в виду, что… ну… мужчины устроены иначе. И поведение, и ход мыслей у них иные, чем у женщин. Взять, к примеру, твоего отца. Понять его было крайне трудно. Это был импульсивный, порывистый человек, он был не прочь выпить. Женись он не на мне, а на другой, он мог бы плохо кончить. – Я ни разу не видела, как он пьет, – встала Анна на защиту отца. – Разумеется, не видела. Ведь был сухой закон, я не держала в доме ни капли спиртного. Я отучила его от этой привычки, прежде чем он успел стать ее рабом. А вначале у него была масса дурных манер. Ты же знаешь – его бабушка была француженкой. – У кого в жилах латинская кровь, те всегда немного сумасшедшие, – поддакнула тетя Эми, – Папа вовсе не был сумасшедшим! – Анна вдруг пожалела, что не знала своего отца лучше. Казалось, что это произошло так давно… тот день, когда он вдруг пошатнулся прямо здесь, на кухне; Ей тогда было двенадцать лет. Не сказав ни слова, он тихо осел на пол и так же тихо умер, прежде чем успел приехать врач. – Ты права, Анна. Твой отец отнюдь не был сумасшедшим. Для мужчины он был вполне приличным человеком. Не забывай, Эми, девичья фамилия его матери была Бэннистер. Элли Бэннистер в свое время училась в школе с моей мамой. – Но, мама, разве ты никогда по-настоящему не любила папу? Я хочу. сказать, что, когда мужчина, которого любишь, обнимает и целует тебя, это должно быть восхитительно, разве нет? Разве с папой тебе никогда не было восхитительно? – Анна! Да как ты смеешь задавать такие вопросы своей матери? – воскликнула тетя Эми. – К сожалению, мужчина после женитьбы не ограничивается поцелуями, – сухо проговорила мать. И осторожно поинтересовалась: – А ты уже целовалась с Вилли Хендерсоном? Анна поморщилась. – Да… несколько раз. – И тебе нравилось? – спросила мать. – Ни капельки. Губы у. него какие-то дряблые, липкие, и запах изо рта противный. – А больше ни с кем не целовалась? Анна пожала плечами. – Ну, несколько лет назад, когда; мы с Вилли только начали встречаться, на вечеринках мы играли в бутылочку. Я перецеловалась, наверное, с большинством парней нашего города, и, насколько помню, каждый последующий! поцелуй был еще отвратительнее предыдущего – Она улыбнулась. – Я думаю, на весь наш Лоренсвилл не найдется ни одного парня, который умел бы классно целоваться. К матери вернулось хорошее «настроение. – Ты – настоящая леди, Анна. Вот почему тебе не нравится целоваться. Настоящей леди это не может нравиться. – Ах, мама. Я еще сама не, знаю, что мне нравится и что я собой представляю. Потому-то мне и хочется поехать в Нью-Йорк. – Анна, у тебя есть пять тысяч долларов. Отец оставил их специально для тебя, чтобы ты израсходовала их по своему усмотрению. После моей смерти тебе останется намного больше. Мы не богаты, по крайней мере, не настолько богаты, как Хендерсоны, но мы достаточно обеспечены, и наша семья занимает заметное положение в здешнем обществе. Мне бы хотелось, чтобы ты вернулась сюда и жила в этом доме. Здесь родилась моя мать. Конечно, вполне возможно, что Вилли Хендерсон захочет пристроить к дому еще одно крыло – земли у нас вполне достаточно, – но, по крайней мере, это все равно будет наш дом. – Но я же не люблю Вилли Хендерсона, мама! – Любви вообще не существует в том смысле, какой ты вкладываешь в это понятие. Такую любовь можно встретить лишь в дешевых кинофильмах да в книжках. Любовь – это товарищеские отношения, общие интересы, друзья. Говоря «любовь», люди часто имеют в виду прежде всего секс, но позволь заметить тебе, моя юная леди, такая любовь, если даже она и существует, очень быстро затухает после свадьбы или когда девушка узнает, что это такое на самом деле. Однако в Нью-Йорк ты съезди. Я не хочу тебе мешать. Я уверена, что Вилли будет ждать тебя. Но попомни мои слова, Анна: через неделю-другую ты примчишься оттуда домой и будешь только рада, что сбежала из этого грязного города.* * *
Он действительно оказался грязным, а к тому же – раскаленным от жары и наводненным людскими толпами. Солдаты и моряки фланировали по Бродвею, и в их жадных горячечных взглядах сквозила праздничная беззаботность и лихорадочно-радостное возбуждение: ведь война только что окончилась. И, несмотря на грязь, влажную липкую жару и незнакомый город, Анне передалось это возбуждение, и она ощутила полноту и биение жизни. По сравнению с замусоренными и растрескавшимися тротуарами Нью-Йорка, деревья и чистый воздух Новой Англии казались холодными и безжизненными. Небритый хозяин снял с окна табличку «Комната сдается внаем» и взял с Анны плату за неделю вперед. Он был похож на мистера Кингстона, лоренсвиллского почтальона, только улыбка у него была теплее. «Комнатенка так себе, – признал он, – зато потолки высокие и много воздуха. И я всегда рядом, на тот случай, если понадобится что-то починить или наладить». Она почувствовала, что нравится ему, а он, в свою очередь, понравился ей. В Нью-Йорке о человеке судят по его внешности, словно все вокруг родились только вчера, а прошлые заслуги в счет не идут, и их не нужно ни признавать, ни утаивать. И вот теперь, стоя перед толстыми стеклянными дверьми с внушительной крупной надписью «Бэллами и Бэллоуз», она лелеяла надежду, что точно так же о ней станет судить и Генри Бэллами.* * *
Генри Бэллами не верил своим глазам. Невероятно, что такая девушка действительно стоит перед ним – одна из самых красивых девушек, которых он когда-либо встречал, а уж красавиц в своей жизни он повидал немало. Вместо типичной модной девицы с вызывающе взбитой прической «помпадур» и в туфлях на платформе перед ним стояла девушка с длинными, свободно ниспадающими на плечи волосами того ненавязчиво светлого оттенка, который делал ее естественной блондинкой. Но по-настоящему его выводили из равновесия ее глаза. Они были действительно голубыми, небесно-голубыми, но холодными. – Зачем вам нужна эта работа, мисс Уэллс? – Он почему-то нервничал. Черт возьми, это любопытно. И хотя одета она была в простое темное платье без намека на украшения, если не считать изящных часиков на руке, ее облик явственно говорил, что ни в какой работе она не нуждается. – Я хочу жить в Нью-Йорке, мистер Бэллами. Вот так. Что ж, ответ прямой. Но почему у него такое чувство, будто он сует нос не в свои дела? Ведь задавать вопросы – его обязанность. И если он будет вести себя слишком просто, она еще, может, и не пойдет к нему работать. Но это уже тоже идиотизм. Ведь это она сидит перед ним, так или нет? Она же не просто забежала сюда на чашку чая. Тогда почему он чувствует себя так, словно это он пришел наниматься и пытается произвести на нее благоприятное впечатление? Он взглянул на заполненный бланк, выданный ей в бюро по найму. – Ого, двадцать лет, и уже степень бакалавра по английскому языку и литературе! Рэдклифф! Но без стажа канцелярской работы. Ну, скажите на милость, что вам тут делать с таким мудреным образованием? Оно что, поможет мне держать в руках какую-нибудь стервозу, вроде Элен Лоусон, или заставить такого запойного пьяницу, как Боб Вульф, представлять еженедельный сценарий на радио вовремя? Или убедить какого-то гомика-певца распрощаться с услугами фирмы Джонсона-Гарриса и предоставить вести его дела мне? – Я должна буду делать все это? – спросила Анна. – Нет, это я должен делать. А вы должны будете мне помогать. – Но я думала, вы – адвокат. Увидев, что она берет с колен свои перчатки, он обнажил зубы в одной из своих заученных, чуть усталых улыбок. – Я – театральный адвокат. В этом вся разница. Составляю для своих клиентов контракты, в которых нет ни единой лазейки, а если и есть, то только такие, которые выгодны им. Занимаюсь также их налогами, помогаю выгодно вкладывать деньги, вытаскиваю их из всяческих неприятностей, посредничаю в их брачных делах, слежу, чтобы не пересекались пути их жен и любовниц, бываю крестным отцом их детей и нянькой для них самих, особенно когда они готовят новое шоу. – Но я считала, что у артистов и писателей есть свои менеджеры и администраторы. – Есть. – От него не укрылось, что она опять положила перчатки на колени. – Но «крупняки», с которыми я имею дело, нуждаются и в моих советах. Администратор, например, естественно подталкивает их к той работе, которая оплачивается лучше всего. Он заинтересован в своих десяти процентах. Но я вычисляю, какая работа для них наиболее выгодна. Короче говоря, театральный адвокат должен одновременно быть и администратором, и родной матерью, и господом богом. А вам, если будете приняты на это место, придется стать их святой покровительницей. Анна улыбнулась. – Почему бы театральным адвокатам не заменить всех администраторов? – Они так бы и сделали, если бы были достаточно преданными своему ремеслу «шмаками», вроде меня. – Он тут же поправился. – Извините за такие выражения. Когда увлекаешься, не замечаешь, что с языка срывается. – Какие выражения? «Шмак»? – Она с любопытством повторила это слово. В ее устах оно прозвучало настолько вульгарно, что он расхохотался. – Это еврейское словечко, и если бы его перевести буквально, вы залились бы краской смущения. Но на современном жаргоне оно означает просто «дурак»… Пусть только вас не вводит в заблуждение эта яркая наклейка с броской надписью «Бэллами» или моя постная физиономия святоша. Настоящая моя фамилия Бирнбаум. В молодости во время летних курортных сезонов я заведовал развлекательной частью на круизах, а в газете у меня была постоянная рубрика об отдыхе на теплоходах. Редактору же не нравилось, что рубрика эта называлась «На теплоходе с Бирнбаумом», ну и кто-то предложил мне псевдоним Бэллами. В этих круизах я встречался со многими важными персонами. Первым моим клиентом стал один певец, обслуживавший туристический рейс. Множеству людей я стал известен под фамилией Бэллами, вот я и оставил ее. Но я не допускаю, чтобы люди забывали, что за Бэллами всегда стоит Бирнбаум. – Он улыбнулся. – Вот теперь перед вами полная картина. Ну, как думаете – справитесь? На сей раз ее улыбка была искренней. – Хотелось бы попробовать. Я вполне прилично печатаю, а вот в стенографии не сильна. Он отмахнулся. – У меня есть две девицы, которые могли бы выиграть соревнование по стенографии. Мне нужна девушка, которая могла бы стать больше, чем просто секретаршей. Улыбка сошла с ее лица. – Боюсь, что не вполне понимаю, о чем речь. Черт побери! Он вовсе не имел в виду ничего такого. Погасив сигарету в пепельнице, он тут же закурил еще одну. Боже, до чего же прямо она сидит. Бессознательно он тоже выпрямился в своем кресле. – Послушайте, мисс Уэллс, быть больше, чем секретаршей, означает, что работать придется не как обычно, с девяти до пяти. Могут быть дни, когда можно являться в контору часам к двенадцати. Если придется работать поздно вечером, то на следующий день можно и вообще не приходить. Но, с другой стороны, в критических ситуациях я хотел бы, чтобы вы сидели на своем рабочем месте еще до открытия нашей конторы, даже если перед этим вы работали до четырех часов утра. Кстати, вы и сами захотите быть здесь. Другими словами, график свой вы составляете сами. Но иногда по вечерам вы тоже должны будете выходить. Он выдержал небольшую паузу, но Анна никак не прореагировала на сказанное. – Скажем, я обедаю в клубе «21» со своим предполагаемым клиентом. Если обед я организовал что надо и провел беседу на должном уровне, то можно смело биться об заклад, что он подпишет соглашение со мной. Но мне придется прилично накачаться вместе с ним, выслушивая при этом жалобы на его нынешнего менеджера. Естественно, я буду клясться и божиться, что ничего подобного ни за что не допущу. Чего только я ни наобещаю ему… луну с неба, на которой будет выгравировано его имя. Ну и, разумеется, я не смогу выполнить все, что наобещал. Этого не сможет никто. Но я непременно приложу все усилия, чтобы избежать ошибок его предыдущего менеджера или администратора и выполнить те обещания, которые выполнимы. Вот только наутро я не вспомню ни единого словечка. И вот тут-то в игру вступаешь ты. Похмелья у тебя не будет, поскольку весь этот восхитительный вечер ты просидишь, потягивая одну-единственную рюмочку хереса, и запомнишь все, что я наговорил. На следующий день ты приносишь мне список всех моих обещаний, и, когда моя голова прояснится, я стану детально изучать их. Анна улыбнулась. – Значит, я буду вроде одушевленного диктофона? – Именно. Справишься, как ты думаешь? – Ну, память у меня отличная, а херес я терпеть не могу. На этот раз расхохотались они оба. – О’кей, Анна. Хочешь приступить с завтрашнего дня? Она кивнула. – Я должна буду работать еще и с мистером Бэллоузом? Он уставился в пустоту и тихо ответил: – Никакого мистера Бэллоуза нет. Вернее, есть Джордж, его племянник, но Джордж – не тот Бэллоуз, который упоминается в названии фирмы «Бэллами и Бэллоуз». Это был дядя Джорджа, Джим Бэллоуз. Я выплатил Джиму его долю в нашей фирме перед тем, как он ушел на фронт. Я пытался было его отговорить, но куда там – он поехал в Вашингтон, там ему повесили офицерские погоны и отправили во флот. – Генри вздохнул. – Война – занятие для молодых. А Джиму Бэллоузу было пятьдесят три. Слишком много для того, чтобы воевать, и слишком мало, чтобы умирать. – Он погиб в Европе или на Тихом океане? – Умер от инфаркта в подводной лодке, дурак чертов! – Грубость, прозвучавшая у него в голосе, лишь подчеркнула привязанность, которую он испытывал к покойному. Затем настроение у Генри резко изменилось, и он тепло улыбнулся. – О’кей, Анна, пожалуй, мы с тобой достаточно порассказали друг другу о себе. Для начала а буду платить тебе семьдесят пять долларов в неделю. Как, устроит это тебя? Это было больше, чем она ожидала. За комнату она платила восемнадцать долларов, за питание – около пятнадцати. Она ответила, что сумма ее вполне устраивает. (обратно)октябрь 1945
Сентябрь оказался удачным. У нее появилась работа, которая ей нравилась, подруга по имени Нили и хорошо воспитанный, но пламенный поклонник по имени Аллен Купер. А в октябре появился Лайон Берк. Ее быстро и радушно приняли в свою компанию обе секретарши и секретарь по работе с посетителями. Каждый день она обедала с ними в аптеке на углу. Излюбленной темой их нескончаемых разговоров был Лайон Берк, а тон задавала мисс Стейнберг, старшая секретарша. Она десять лет проработала с Генри Бэллами. И уж кто-кто, а она-то знала Лайона Берка. Лайон уже проработал в фирме два года, когда началась война, и пошел на призывной пункт на следующий же день после Пирл-Харбора [5]. Джим Бэллоуз и раньше неоднократно предлагал Генри принять своего племянника в штат их фирмы. Однако, хотя Генри и не имел ничего против Джорджа Бэллоуза, он неизменно отказывал Джиму: «Бизнес и родственные связи смешивать нельзя», – стоял он на своем. Но когда Лайон ушел на фронт, особенно выбирать стало не из кого. Ничего плохого в Джордже, собственно говоря, не было. Адвокат он был способный, но ему не хватало того, чем был так щедро наделен от природы Лайон Берк – по крайней мере, по мнению мисс Стейнберг. Все сотрудники фирмы с жадным интересом следили за тем, как воевал Лайон, а когда ему присвоили звание капитана, Генри распорядился, чтобы все работали лишь половину дня, а остальное время – отмечали это знаменательное событие. Последнее письмо от него пришло из Лондона в августе. Лайон был жив, Лайон слал привет, но Лайон ничего не сообщал о возвращении. Поначалу Генри самолично следил за почтой каждый день. Когда же минул сентябрь, а ни единой весточки так и не пришло, Генри примирился с невеселой мыслью о том, что Лайон распрощался с фирмой навсегда. Но мисс Стейнберг не хотела сдаваться. И она оказалась права. В октябре пришла телеграмма. Она была конкретной и лаконичной:Дорогой Генри! Все позади, я остался цел. Навестил родственников Лондоне, был Брайтоне, купался море и отдыхал. Нахожусь Вашингтоне, жду официальной отставки. Возвращаюсь сразу, как только разрешат сменить форму старый синий костюм. Всего наилучшего. Лайон.Лицо Генри Бэллами озарилось, когда он прочел телеграмму. Подпрыгнув, он вскочил с кресла. – Лайон возвращается! Черт побери, я знал, что он вернется! Следующие десять дней в конторе царил беспорядок – маляры делали декоративный ремонт – и всеобщее возбуждение: распускались всевозможные слухи и выдвигались самые невероятные предположения. – Не могу дождаться, – вздыхала секретарь по приему посетителей. – Он абсолютно мой тип мужчины. На губах мисс Стейнберг блуждала загадочная улыбка, словно она знала нечто, известное ей одной. – Не только твой, а каждой женщины. Если даже сумеешь устоять перед очарованием его внешности, то все довершит его неподражаемый британский акцент. – Он англичанин? – удивилась Анна. – Родился в Англии, – пояснила мисс Стейнберг. – Его мать – Нэлл Лайон. Это было еще до тебя. И до меня тоже. А она уже была звездой английской оперетты. Приехала сюда на гастроли и вышла замуж за американского адвоката Тома Берка. Из труппы ушла, а Лайон родился здесь, поэтому у него американское гражданство. Но мать оставалась гражданкой Великобритании, и, когда отец Лайона умер, – кажется, Лайону было тогда пять лет, – она увезла его с собой в Лондон. Сама она вернулась на сцену, а он пошел в школу. Когда она умерла, Лайон вернулся в Штаты и начал изучать юриспруденцию. – Я уверена, что влюблюсь в него до потери пульса, – заявила секретарша помоложе. Мисс Стейнберг пожала плечами. – Все девицы в нашей конторе были помешаны на нем. Но мне страшно хочется увидеть его реакцию, когда он познакомится с тобой, Анна. – Со мной? – удивилась та. – Да, с тобой. Вы оба обладаете одним качеством – высокомерием. Только Лайон постоянно ослепляет людей своей улыбкой, и она поначалу вводит их в заблуждение. Ты думаешь, что он относится к тебе по-дружески. Но никому никогда не удается стать с ним по-настоящему близким. Ни у кого не получалось. Даже у мистера Бэллами. В глубине души мистер Б. даже немного благоговеет перед Лайоном, и не только из-за его внешности и изысканных манер. Лайон обладает даром покорять окружающих. Вот увидишь: когда-нибудь, в один прекрасный день, Лайон завоюет этот город. Мне доводилось наблюдать, как мистер Б. заключал поистине блестящие соглашения, но ему приходится с боем завоевывать буквально каждый дюйм на этом долгом пути, потому что все знают: он – человек себе на уме, и заранее готовятся к беседе с ним. А Лайон просто войдет, полный британского обаяния, со своей внешностью кинозвезды, и – бац! – выйдет, получив все, что хотел. Но проходит некоторое время, и ты начинаешь отдавать себе отчет, что не знаешь, что же он представляет собой на самом деле и что он думает о тебе или о ком-то еще. Вобщем, я хочу сказать, что ему, похоже, одинаково нравятся все. И создается впечатление, что, может быть, в глубине души ему глубоко безразличны все и вся, кроме его работы. Вот ради нее он сделает что угодно. Но что бы ты о нем ни думал, в конечном счете начинаешь его обожать. Вторая телеграмма пришла спустя десять дней, в пятницу.
Дорогой Генри! Я уже синем костюме. Прибываю Нью-Йорк завтра вечером. Явлюсь прямо тебе домой. Если сможешь, закажи номер гостинице. Планирую приступить понедельник. Всего наилучшего. Лайон.Из конторы Генри Бэллами ушел в двенадцать часов – отмечать возвращение Лайона. Анна заканчивала обрабатывать корреспонденцию, когда к ее столу подошел Джордж Бэллоуз. – Почему бы нам тоже не пойти куда-нибудь и не отметить его прибытие? – небрежно спросил он. Она не смогла скрыть своего удивления. Ее отношения с Джорджем Бэллоузом ограничивались официальным «здравствуйте», иногда – кивком. – Приглашаю вас пообедать со мною, – пояснил он. – Извините, но я пообещала девушкам пообедать с ними в аптеке. Он подал ей пальто и помог одеться. – Как жаль, – сказал он. – Возможно, сегодня наш последний день на этом свете. – И, скорбно улыбнувшись, он ушел к себе в кабинет. За обедом, слушая вполуха нескончаемую болтовню о Лайоне Берке, Анна рассеянно думала, почему она отклонила приглашение Джорджа. Из боязни осложнений? Глупости! Какие могут быть осложнения от одного обеда? Из верности Аллену Куперу? Что ж… Аллен – единственный мужчина, которого она знает в Нью-Йорке, и он очень хорошо относится к ней. Возможно, этим и объясняется то, что можно назвать верностью. Она вспомнила тот день, когда он влетел к ним в контору, полный решимости заключить какую-то сделку. По страхованию, как потом узнала Анна. Генри, против обыкновения, держался холодно и быстро спровадил его. Настолько быстро, что Анна прониклась сочувствием к этому посетителю. Провожая его из кабинета Генри, она прошептала: «Желаю удачи в другом месте». Теплота и мягкость ее тона, казалось, поразили его. Спустя два часа зазвонил телефон. – Это Аллен Купер. Вы помните меня? Тот самый энергичный страховой агент. В общем, хочу, чтобы вы знали: мои переговоры с Генри оказались невероятно успешными по сравнению с другими местами. Ведь в фирме Бэллами я встретил вас. – Хотите сказать, что вообще не заключили ни одного договора? – Ей стало по-настоящему жаль его. – Нет. Выставили отовсюду. Наверное, сегодня у меня просто невезучий день… если только вы не захотите, чтобы он завершился счастливо, и не согласитесь выпить со мной. – Я не… – Не пьете? Я тоже. Тогда пусть это будет просто ужин. Вот так у них и началось. А потом продолжилось. Он оказался приятным молодым человеком с развитым чувством юмора. Для нее он был скорее другом, чем парнем, которому назначаешь свидания. Очень часто она не удосуживалась даже переодеться после работы. А он, казалось, и не замечал, во что она одета. И всегда был страшно признателен ей за то, что она пришла. Они ходили в небольшие тихие ресторанчики, и она всегда выбирала в меню блюда подешевле. Она вообще хотела предложить ему платить за себя по счету сама, но боялась, что тогда он почувствует себя еще большим неудачником. Страховой агент из Аллена был абсолютно никудышный. Для этой профессии он был чересчур мягок и обладал слишком хорошими манерами. Он расспрашивал ее о Лоренсвилле, о ее школьных днях и даже о нынешней работе в фирме. Вел он себя с нею так, что она чувствовала себя самой интересной, самой очаровательной девушкой на свете. Она продолжала встречаться с ним потому, что никаких дальнейших шагов к сближению он не предпринимал. Иногда в полутемном зрительном зале он брал ее за руку. Но ни разу даже не попытался поцеловать при расставании. Чувство, которое она испытывала к нему, походило на жалость и как-то не соответствовало сложившейся ситуации. В некотором смысле ее смущало то, что она не способна вызвать у Аллена хоть какую-то страсть к себе, но, с другой стороны, такое положение дел ее вполне устраивало. Одна только мысль о поцелуе с ним вызывала в ней такое же отвращение, которое она испытала, целуясь с Вилли Хендерсоном у себя в Лоренсвилле, и это опять заставляло ее сомневаться в том, способна ли она любить вообще. Возможно, она не вполне нормальная, а может, права ее мать, утверждающая, что страсть и романтическая любовь существуют только в книгах. В тот день Джордж Бэллоуз подошел к ее столу еще раз. – Может быть, у меня выйдет со второй попытки, – сказал он. – Как насчет шестнадцатого января? На такой отдаленный срок у тебя явно не назначено никакого свидания. – Но ведь до этого почти три месяца. – О, я буду только рад, если у нас что-то получится до этого срока. Но только что звонила Элен Лоусон – визжала и требовала к телефону Генри, и я вспомнил, что шестнадцатого января премьера ее шоу. – Совершенно верно. Репетиции «Небесного Хита» начинаются уже со следующей недели. – Итак, пойдешь на премьеру со мной? – С удовольствием, Джордж. По-моему, Элен Лоусон великолепна. Все ее шоу шли в Бостоне. Маленькой девочкой отец водил меня на ее «Мадам Помпадур». – О’кей, договорились. Да, и еще одно, Анни. Раз начинаются репетиции этого шоу, Элен наверняка частенько будет врываться сюда. Если между вами завяжется случайная беседа, не вздумай вылезти с чем-нибудь наподобие: «Я так любила вас, когда была совсем маленькой». Она может растерзать тебя за это. – Но я действительно была тогда маленькой. Как ни смешно это звучит, но все происходило лишь десять лет назад. И уже тогда Элен Лоусон была взрослой женщиной. Ей было не меньше тридцати пяти. – Здесь мы все обращаемся с нею так, словно ей двадцать восемь. – Джордж, ты серьезно? Да ведь Элен Лоусон не подвержена ни возрасту, ни времени. Она – великая актриса, звезда. Такой красивой Элен делают обаяние ее личности и талант. И уж конечно, она достаточно умна и не считает, что выглядит молоденькой девушкой. Джордж пожал плечами. – Скажу тебе вот что. Позвоню-ка я тебе лет через двадцать и спрошу, на сколько лет ты себя чувствуешь. Сдается мне, что большинство женщин, едва им стукнет сорок, заболевают инфекционной болезнью, именуемой «Я выгляжу на двадцать восемь». Короче, чтобы все было тихо, не затрагивай с Элен вопроса о возрасте. И пожалуйста, пометь в своем календаре шестнадцатое января. А пока, счастливо тебе отдохнуть в выходные и не волноваться. В понедельник здесь поднимется шум: наш герой-победитель будет торжественно вступать в родные пенаты.
* * *
Секретарь по приему посетителей надела новое облегающее клетчатое платье. Прическа младшей секретарши была взбита на два дюйма выше. И даже мисс Стейнберг облачилась в матросский костюм, сшитый на заказ весной. Анна сидела на своем рабочем месте в приемной у двери в кабинет Генри, тщетно пытаясь сосредоточиться на корреспонденции. Однако ее внимание, как и у всех остальных, было приковано к двери. Он прибыл ровно в одиннадцать. Несмотря на все слухи и пересуды, она все-таки оказалась совершенно неподготовленной к встрече со столь яркой личностью, как Лайон Берк. Уж на что Генри Бэллами был высоким мужчиной, но Лайон Берк возвышался над ним на добрых три дюйма. Волосы у него были черные, словно у индейца, а с кожи, казалось, никогда не сходил загар. Генри прямо-таки весь сиял от нескрываемой гордости, проводя Лайона по помещениям и представляя его сотрудникам. Секретарь по приему посетителей заметно покраснела, пожимая ему руку, младшая секретарша жеманно улыбнулась, а мисс Стейнберг пришла в состояние игривого возбуждения. Впервые в жизни Анна испытала чувство признательности за то, что ей привили чисто новоанглийскую сдержанность и самообладание. Она отдавала себе отчет в том, что, когда Лайон Берк пожимал ее руку, у нее на лице было написано хладнокровие, которого на самом деле в помине не было. – Генри говорил мне о вас, не переставая. И вот сейчас, когда мы с вами познакомились, я его прекрасно понимаю. – Британский акцент определенно шел ему. Анна выдавила какую-то любезность в ответ и с благодарностью посмотрела на Генри Бэллами, который увлек Лайона в его только что отремонтированный кабинет. – Анна, ты тоже зайди, – попросил Генри. – Потрясающе, – сказал Лайон, оглядываясь вокруг. – Чувствуешь себя так, словно от тебя ожидают чего-то взамен. – Он опустился в кресло и улыбнулся. Анна вдруг поняла, что имела в виду мисс Стейнберг. Лайон улыбался всем, и его легкая улыбка была таинственной и непостижимой, будто защитная маска. Генри расплылся в отеческой усмешке. – Просто оставайся тем же самым ленивым типом, каким ты был перед отъездом, и я буду ремонтировать твой кабинет каждый год. Ну а теперь к делу. Анна, Лайону нужна квартира. Пока он поживет у меня, – пояснил он. – Хочешь верь, хочешь нет, но мы не смогли снять ему номер в гостинице. Она поверила. Однако спросила, какое это имеет отношение к ней. – Хочу, чтобы ты нашла ему жилье, – ответил Генри. – Хотите, чтобы я нашла мистеру Берку квартиру? – Конечно. И ты справишься с этим, – ответил Генри. – Вот это и есть часть того, что ты – больше, чем просто секретарша. На этот раз Лайон рассмеялся от души. – Она – воплощение красоты, Генри. Все, что ты говорил о ней, верно. Но она не господь бог. – Он подмигнул Анне. – Генри ведет жизнь без тревог и забот и уже давно не занимался поисками квартиры в Нью-Йорке. Генри ожесточенно затряс головой. – Послушай, эта девушка приехала сюда два месяца назад, не умея отличить Седьмой авеню от Бродвея. И в первый же день не только нашла себе квартиру, но и получила эту работу, а сейчас и я уже пляшу под ее дудку. – Ну, вряд ли мою комнату можно назвать квартирой. Она просто крошечная… Он смотрел на нее в упор, и ей стало не по себе. – Моя дорогая Анна, после войны, где мне доводилось спать в разбомбленных до основания домах, любое пристанище с крышей над головой покажется мне «Ритцем» [6]… – Анна непременно что-нибудь найдет, – стоял на своем Генри. – Посмотри в Ист-Сайде. Гостиная, спальня, ванная с кухней – долларов за сто пятьдесят в месяц. Максимум сто семьдесят пять. Начни сегодня же днем. Завтра на работу не выходи… Выйдешь, когда подыщешь квартиру. – Генри, но в таком случае мы рискуем никогда больше не увидеть эту девушку, – высказал опасение Лайон. – Я полагаюсь на Анну. Она непременно что-нибудь найдет.* * *
Ее комната была на третьем этаже каменного дома. Преодолевать эти два лестничных пролета показалось ей сегодня особенно трудным делом. Анна остановилась на лестничной площадке, держа в руке потрепанную «Нью-Йорк Тайме». Она потратила всю вторую половину дня, заходя в каждую квартиру, указанную в рекламном объявлении, но все они были уже сданы. Ноги у нее ныли от усталости. Утром она надела туфли для работы, а не для поисков квартиры. Завтра она начнет с утра и без всяких каблуков. Прежде чем подняться к себе, Анна постучала в дверь к Нили. Ответа не последовало. Поднявшись по шаткой лестнице, она вошла в свою комнату. Было приятно слышать, как в старых батареях отопления шумит пар. Хотя, по словам Лайона Берка, он и был заранее согласен на любое жилье, она не могла представить его в комнате, подобной этой. Не то чтобы комната была плохая. Нет, чистая и удобно расположена. Разумеется, по сравнению с ее просторной спальней в Лоренсвилле эта комната ужасна! Громоздкий диван-кровать выглядит так, будто вот-вот развалится. Интересно, сколько человек спало на нем до нее – вероятно, не одна сотня. Но она не знает их, и, возможно, именно эта анонимность делает этот диван-кровать только ее собственностью. Небольшой обшарпанный ночной столик с изрезанной ножом столешницей и застаревшими следами тушившихся о него сигарет; письменный стол с тремя выдвижными ящиками, которые всегда нужно оставлять немного выдвинутыми, потому что если их задвинуть до конца, они. застревают, а если дергать за ручки с силой, те отлетают; беременное кресло, чей округлившийся животик натягивают пружины, вот-вот готовые вырваться наружу. Комнате можно было бы придать более обжитой и уютный вид, но к концу недели у нее никогда не оставалось денег, а к тем пяти тысячам, что были положены на ее имя в банк, она твердо решила не прикасаться. Она все еще продолжает выплачивать кредит за хорошее черное платье и черный вечерний костюм. Услышав знакомый стук в дверь, она отозвалась: «Я здесь», но даже не подняла головы. Вошла Нили и с разбегу бросилась в кресло, которое жалобно скрипнуло и протяжно заныло, грозя тут же лишиться всех своих внутренностей. – Что это у тебя за рекламное приложение к «Таймс»? Переезжать надумала? Когда Анна объяснила ей, в чем заключается ее новое поручение, Нили громко рассмеялась. – Хочешь сказать, он не желает тесную комнатушку с четырьмя большими стенными шкафами? – Затем, оставив эту тему как несущественную и потому исчерпанную, она перешла к важному делу. – Анна, у тебя была возможность поговорить об этом сегодня? «Это» было услугой, о которой Нили постоянно просила ее вот уже две недели. – Нили, ну как же я могла именно сегодня… когда вернулся Лайон Берк? – Но нам очень нужно попасть в «Небесный Хит». По какой-то странной причуде Элен Лоусон понравился наш номер. Нас приглашали на просмотр три раза, и она присутствовала на всех. Сейчас нужно одно только слово Генри Бэллами, и все в полном ажуре. «Мы» означало Нили и ее двух партнеров» Настоящее имя Нили было Этель Агнесса О’Нил. «Здоровски звучит, а?» – восклицала она. Но прозвище «Нили» пристало к ней еще в детстве, и, поскольку она была всего-навсего одним из членов танцевального трио «Гаучерос», то как-то менять его на труднопроизносимое имя не было никакой необходимости. Начавшись с обыкновенного приветствия кивком головы на лестнице, знакомство Анны с Нили быстро переросло в тесную дружбу. Нили походила на жизнерадостного подростка, в котором энергия бьет ключом. У нее был вздернутый носик, большие карие глаза, веснушчатое лицо и вьющиеся каштановые волосы. Нили и в самом деле была подростком, но с семи лет она уже ездила по всей стране с эстрадной труппой. Трудно было представить Нили как исполнительницу на сцене. Но как-то вечером она пригласила Анну в один клуб, расположенный в гостинице неподалеку от центра. Веснушки исчезли под толстым слоем грима, а детская фигурка обрела округлые зрелые очертания с помощью платья из тонкой материи и в блестках. Это был заурядный проходной номер. Двое парней в поношенных сомбреро и обтягивающих брюках двигались по кругу с неизбежной чечеткой и прищелкиванием пальцами, что должно было означать испанский танец. Такие представления Анна видела и у себя дома, в Лоренсвилле. Однако она не видела никого, даже отдаленно напоминающего Нили. Она не могла определить наверняка, была Нили необычайно хороша или же у нее все выходило из рук вон плохо. Нили так и не стала частью «Гаучерос». Она танцевала синхронно с ними, отбивала чечетку и изгибалась в такт, и все же это не было единым трио. Глаза зрителей неотступно следовали за одной Нили, Но без костюма и без грима, сидя в продавленном кресле, Нили была всего-навсего порывистой семнадцатилетней девчушкой и первой настоящей подругой Анны Уэллс. – Я очень бы хотела помочь тебе, Нили, но я не могу обращаться к мистеру Бэллами по личному вопросу. Отношения у нас сугубо деловые. – Ну так что же? Всем известно, что еще давным-давно он был любовником Элен Лоусон и что она слушается его во всем по-прежнему. – Кем он был? – Ее любовником. Ее мужиком. Только не говори мне, что ты не знала об этом. – Нили, откуда ты услышала такую глупость? – Глупость? Ну ты даешь! Значит, тебе никто не рассказывал об этом? Это было давно, и потом она три раза выходила замуж, но тогда несколько лет они не сходили у всех с языка. А ты думаешь, чего я тебе всю плешь проела, чтобы ты замолвила за меня словечко перед Бэллами? Можешь ты сказать ему завтра? – Завтра я буду искать квартиру. И потом, Нили, я же сказала тебе… нехорошо нести свое личное на работу. Нили вздохнула. – Ох, уж эти мне благородные манеры… ты еще наплачешься от них, Анна. Если хочешь чего-то добиться, нужно двигаться к этому кратчайшим путем. Просто подойди к нему и спроси. – А что будет, если тебе откажут? Нили пожала плечами. – Ну и что? Хуже-то все равно не будет, даже если бы ты и не спросила. А тут, по крайней мере, появится шанс… пятьдесят на пятьдесят. В ответ на такую логику Анна улыбнулась. Нили не получила образования, но обладала врожденным умом щенка неопределенной породы, который, в сочетании с искрометным остроумием, позволил выжить именно этому щенку из всего помета. Щенок этот был неуклюжим, искренним и нетерпеливым, однако, несмотря на непосредственность, в нем временами отчетливо просматривались практицизм и житейская приземленность. Первые семь лет своей жизни Нили провела в детских приютах. Потом сестра, которая была старше ее на десять лет, познакомилась с Чарли, одним из «Гаучерос» и вышла за него замуж. Образовалось трио, и она тут же спасла Нили от монотонно-унылой атмосферы приюта и скучной школьной зубрежки, окунув ее в жизнь гастролирующей по разным городам третьеразрядной эстрадной труппы. Со школой было покончено, но на подмостках всегда оказывался человек, который помогал Нили учиться чтению и арифметике. Географию она изучала через окно железнодорожного вагона, а историю по пьесам европейских драматургов, которые ставились на сцене. И всегда находился дружески относящийся к ней швейцар, который вовремя давал знать, когда являлся с проверкой инспектор из департамента образования. Когда Нили было четырнадцать лет, сестра перестала выступать, решив родить ребенка, и Нили, знавшая всю программу до тонкостей, заменила ее. И вот сейчас, после стольких лет выступлений в дешевых балаганчиках, у «Гаучерос» появилась возможность выступить в бродвейском шоу. – Возможно, я поговорю об этом с Джорджем Бэллоузом, – задумчиво сказала Анна, подправляя косметику перед зеркалом. – Он пригласил меня на премьеру «Небесного Хита». – До нее еще далеко, – сказала Нили, – но это лучше, чем ничего, – Она смотрела, как Анна переодевается в твидовый костюм. – Сегодня у тебя свидание с Алленом? Анна кивнула. – Так я и думала. А для мистера Бэллами – всегда черное платье. Слушай-ка, у него глаза не устают от черного цвета? – Мистер Бэллами никогда не замечает в чем я, когда мы с ним выходим куда-нибудь вечером. Это работа. – Ха-ха! – воскликнула Нили. – Здорово! В твоей конторе не работенка, а лафа. С шоу-бизнесом не сравнить, там вообще дерьмо собачье. С Джорджем ты идешь на премьеру, с мистером Бэллами не вылезаешь из роскошных ресторанов, ешь там за ужинами всякую вкуснятину, даже Аллена в своей конторе подцепила. А теперь еще и Лайон Берк! Ух ты! Целых четыре ухажера, а у меня и одного-то нет! Анна рассмеялась. – Мистер Бэллами никакой не ухажер, премьера состоится только в январе, а для Лайона Берка я всего-навсего помощник, ищу ему жилье. Вот Аллен… ну… мы с Алленом просто встречаемся. – И все равно ты имеешь в четыре раза больше, чем я. Я вообще никогда ни с одним парнем не встречалась. Единственные мужчины, которых я знаю, это муж моей сестры и его партнер Дикки. А этот Дикки – гомик. Все мое общение – пообедать в аптеке Уолгрина да потрепаться с такими же безработными артистами. – А разве среди артистов у тебя нет знакомых, которые могли бы пригласить тебя куда-нибудь? – Ха-ха! Плохо ты знаешь эту актерскую братию, раз задаешь такие вопросы. «Пригласить куда-нибудь!» Да они удавятся за пять центов на стаканчик кока-колы. И дело не в том, что все артисты прирожденные жмоты и дешевки, но все они не у дел – тут поневоле будешь жаться. А большинство подрабатывают по ночам – помогают официантам, убирают грязную посуду со столиков, устраиваются лифтерами, ночными продавцами – короче, берутся за что угодно, лишь бы днем быть свободными, чтобы бегать, высунув язык, в поисках работы и встречаться с менеджерами. – Значит, ты скоро уедешь на гастроли? – Анна вдруг почувствовала, как сильно ей будет не хватать Нили. – Надеюсь, что нет. Сестра говорит, что малышка только-только начала привыкать к отцу. Вот почему Чарли с ног сбился, договариваясь о всевозможных выступлениях в разных ночных клубах. Но Дикки начинает орать. Ведь если мы будем ездить, мы заработаем куда больше. Нам предлагают турне по ночным клубам в Буффало, Торонто и Монреале. Вот почему нам нужно получить этот кусок в «Небесном Хите». Все шоу Элен Лоусон всегда становятся хитами. Мы бы смогли оставаться в Нью-Йорке весь сезон, а то и больше. А потом я, может, познакомилась бы с нормальным парнем и вышла бы за него замуж. – Так ты поэтому хочешь быть в этом шоу? Чтобы познакомиться с кем-нибудь и выйти замуж? – Ясное дело, потому что тогда я стану кем-то. Стану миссис Такой-то. Буду жить на одном месте. Заведу друзей. Соседи по улице будут знать меня. – Но как же любовь? Ведь не так-то легко найти человека, которого действительно полюбишь. Нили сморщила носик. – Знаешь, если меня кто-нибудь полюбит, то и я его полюблю. Послушай-ка, Анна, если бы ты только поговорила с мистером Бэллами… Анна улыбнулась. – Хорошо, Нили, я поговорю с Генри, как только представится случай. Кто знает, может быть, ты станешь второй Павловой. – Это кто такая? – Она была великой балериной. Нили рассмеялась. – Ну, это все ерунда. Насчет звезды. Хотя, знаешь, я иногда думаю, что вполне могла бы стать звездой. Но только не с этим номером. Что-то странное творится со мной, когда я оказываюсь на сцене перед зрительным залом. Танцую я довольно хорошо, но чувствую, что если бы аплодисменты не смолкали достаточно долго, я вообще взлетела бы, как на крыльях. По-настоящему хорошего голоса у меня нет, но я чувствую, что если бы понравилась зрителям, то смогла бы петь в опере. Когда я там, у меня такое чувство… ну, будто бы меня все обнимают или что-то в этом роде. Я говорила об этом с Диком и Чарли, но они считают меня чокнутой. Сами-то они ничегошеньки не чувствуют. – Нили, а может быть, тебе нужно учиться, брать уроки актерского мастерства? Может быть, ты и достигнешь самой вершины популярности? Нили отрицательно покачала головой. – Слишком мало шансов. Очень многие из наших, кого я хорошо знаю, рассказывали мне, будто почти достигли этого и пробились на вершину. – Но ты говоришь о тех, кто недостаточно одарен, – возразила Анна. – Слушай, в шоу-бизнесе никто не задерживается из-за хорошего графика работы и твердого заработка. Каждая, кто начинает заниматься этим, считает себя одаренной и думает, что потянет. Но на одну Мэри Мартин, Этель Мэрмен или Элен Лоусон приходится несколько тысяч рядовых исполнительниц, которые почти пробились, ведя полуголодную жизнь в третьеразрядных труппах. Анна молчала. Противопоставить логике Нили она не могла ничего. Заканчивая подкрашиваться, она сказала: – Хорошо, Нили. Я сделаю все, что в моих силах, и поговорю с мистером Бэллами. Но кто знает, возможно, ты и так получишь это место. Должно быть, им понравилось твое выступление, если тебя приглашали на просмотр целых три раза. Нили громко рассмеялась. – Вот чего я никак и не могу взять в толк. Почему они вызывали нас целых три раза? Как Элен Лоусон могло понравиться именно наше дурацкое выступление? Разве что все остальные танцевальные труппы в этом городе заражены оспой или еще чем похуже. Слушай, если бы я считала наш номер хорошим, то не стала бы приставать к тебе. Не могу понять, почему Элен Лоусон проявляет к нам такой интерес, разве что ей Чарли приглянулся. Она, похоже, кладет глаз на любого, кто носит брюки. А Чарли, хоть и не хватает звезд с неба, парень привлекательный… – Но как Чарли поступит, если выяснится, что она действительно питает к нему симпатию? Как-никак, он ведь муж твоей сестры. – Да просто переспит с Элен Лоусон, если понадобится, – равнодушно ответила Нили. – Будет думать, что в известном смысле делает это и для моей сестры. В конце-то концов особого удовольствия от того, что трахнет Элен, он не получит. Она не ахти какая красавица. – Нили, ты хочешь сказать, что будешь сидеть сложа руки и спокойно созерцать это? Сестра никогда не простит тебе. – Анна, ты не только говоришь как непорочная девственница, но и мыслишь, как святоша. Послушай, я ведь тоже девственница, но я все-таки знаю, что секс и любовь для мужчины две вещи разные. На гастролях Чарли снимал в гостиницах самые дешевые номера и отсылал моей сестре три четверти своего заработка, чтобы она с ребенком могла прилично жить. Но это вовсе не мешало ему поволочиться иногда за симпатичной девчонкой из другой труппы. Ему просто был нужен секс,.. И никакого отношения ни к Китти, ни к ребенку это не имело. Я храню свою девственность только потому, что знаю, мужчины придают ей огромное значение, и хочу, чтобы кто-нибудь полюбил меня так же, как Чарли любит Китти. Но у мужчин все по-другому. Не ждать же в самом деле, что и он окажется девственником. В комнате Анны зазвенел звонок. Это означало, что к входной двери подошел Аллен, Она нажала кнопку, дав сигнал, что спускается, и взяла пальто с сумочкой. – Ну ладно, Нили. Мне пора. Может быть, Аллен приехал на такси. – Постой-ка, у тебя еще осталось то потрясное шоколадное печенье? – Нили заглянула в приоткрытый крохотный стенной шкаф. – Бери всю коробку, – сказала Анна, широко открыв дверцу. – О-о, шикарно! – взяв коробку, Нили бережно держала ее в руках. – У меня есть книга из библиотеки «Унесенные ветром», литровая бутылка молока и все это печенье. Ух ты! Ну и вечеринку я себе закачу!* * *
Они пошли в небольшой французский ресторанчик. Аллен внимательно выслушал рассказ о ее новом поручении. Когда она закончила, он залпом допил кофе и попросил счет. – Анна, думаю, что время пришло. – Время для чего? – Время для момента истины. Время для твоего ухода от Генри Бэллами в зените твоей славы. – Но я не хочу уходить от мистера Бэллами. – Уйдешь. – Он странно улыбнулся. Доверительно. Изменилась вся его манера держаться. – Полагаю, что квартира для Лайона Берка станет твоим огромным достижением. – Хочешь сказать, что у тебя есть квартира на примете? Он кивнул, загадочно улыбаясь, словно шутил. На улице он остановил такси и назвал адрес на Саттон-Плейс. – Аллен, куда мы едем? – Смотреть новую квартиру Лайона Берка. – Так поздно? И потом, чья это квартира? – Увидишь, – ответил он. – Немного терпения. – Весь остальной путь они молчали. Такси остановилось у респектабельного здания неподалеку от Ист-Ривер. Стоящий у дверей швейцар вытянулся в струнку. – Добрый вечер, мистер Купер. Лифтер кивнул и привычно остановил лифт на десятом этаже. Аллен небрежно вставил ключ во входную дверь. Он включил свет, и перед ними предстала искусно отделанная гостиная. Нажал другую кнопку, и, заполняя комнату, полилась тихая мелодичная музыка. Это была во всех отношениях отличная квартира. Квартира, словно сделанная на заказ специально для Лайона Берка. – Аллен, чья это квартира? – Моя. Проходи, смотри другие комнаты. Довольно большая спальня… вместительные стенные шкафы. – Он раздвинул обе створки раздвижной дверцы. – Здесь ванная, там кухня. Небольшая, но с окном. Она следовала за ним, не говоря ни слова. Это было непостижимо. Тихий, мягкий крошка Аллен – и вдруг живет здесь? – А сейчас покажу тебе один минус. – Он прошел в гостиную и раздвинул спускавшиеся до пола шторы, открывая ей вид на соседнюю квартиру и окно, находящееся почти на расстоянии вытянутой руки. – Вот этот неприятный момент, – сказал он. – В этом сказочном доме есть все, кроме вида из окна. Хотя должен признать, в той квартире напротив живет толстяк, которому я поражаюсь. Живет один, и за эти два года я ни разу не видел, чтобы он прикоснулся к пище. Живет на одном пиве – завтрак, обед и ужин. Смотри! – И словно по сигналу в кухню напротив, тяжело переваливаясь, вошел толстяк в одной майке и открыл бутылку пива. Аллен задернул шторы. – Поначалу я было волновался за него. Думал, что он наверняка загнется от витаминной недостаточности или чего-то в этом роде. Но он, похоже, прекрасно чувствует себя, живя на одном пиве. – Аллен подвел ее к кушетке. – Ну как, подходит это для мистера Берка? – По-моему, квартира великолепна, даже с этим толстяком. Но, Аллен, зачем тебе оставлять такую прекрасную квартиру? – Я нашел себе получше. Можно переезжать хоть завтра. Но я хочу, чтобы сначала ее посмотрела ты. Важно, чтобы тебе она тоже понравилась. Боже мой! Он собирается просить ее руки! Милый, добрый крошка Аллен? Ей не хотелось обидеть его. Может быть, она сумеет притвориться, что не поняла его. Она попыталась придать своему голосу безразличную интонацию: – Аллен, то, что мне поручено подыскать квартиру Лайону Берку, еще не означает, что я разбираюсь в этом. Мне дали это поручение, чтобы лучше распределить обязанности у нас на работе, потому что у Лайона Берка нет сейчас свободного времени. Если ты уже нашел ту квартиру сам, то никаких моих советов тебе, конечно же, не требуется… – Она отдавала себе отчет, что слишком частит. – Говоришь, он может платить сто пятьдесят, – сказал Аллен. – Но может торговаться и до ста семидесяти пяти. Вот что я тебе скажу: отдадим ее ему за сто пятьдесят. Тогда ты станешь настоящим героем. Пускай мой договор о найме переходит прямо к нему. Я как раз столько за нее и плачу, правда, без мебели, но пусть мебель останется ему как премия. Анна вдруг почувствовала озабоченность. – Но ведь эта мебель понадобится тебе на новой квартире, – запротестовала она. – И потом, она, должно быть, немало стоит… – Не имеет значения, – весело ответил он. – Сможет ли Лайон Берк переехать сюда сразу же? – Ну, я думаю, что… – Конечно, сможет, – ответил за нее Аллен. – Пошли, покажу тебе свое новое жилье. – Он вывел ее из квартиры, и они спустились на лифте, несмотря на ее возражения, что уже слишком поздно. Когда они вышли из дверей на улицу, к ним опять подскочил услужливый швейцар. – Такси, мистер Купер? – Нет, Джо, нам тут рядом. Он провел ее по кварталу, и они вошли в другое здание, которое словно нависало над рекой. Новая квартира была как в кино. Пол в гостиной был выстлан огромным толстым белым ковром. Уголок с баром был выложен итальянским мрамором. Длинная лестница вела, очевидно, в комнаты наверху. Но от чего действительно захватывало дух, так это от вида, открывающегося из окон. За стеклянными дверьми находилась огромная терраса, выходящая на реку. Он вывел ее. Холодный влажный ветер бил ей в лицо, но открывшаяся перед нею красота буквально завораживала. Яркое кружево огней на мосту словно петлей перехватывало реку и крохотными изумрудами струилось по пролетам. Застыв на месте, она неотрывно смотрела на это чудо, позабыв об Аллене. – Выпьем за новую квартиру? – спросил он. Она вышла из состояния задумчивости и взяла протянутый ей бокал кока-колы. – Аллен, чья это квартира? – спокойно спросила она. – Будет моя, если захочу. – Но кому она принадлежит сейчас? – Одному человеку по имени Джино. Но он говорит, что она для него велика. Он живет в «Уолдорфе» [7], там ему больше нравится. – Но, Аллен, ты же не можешь позволить себе что-либо подобное! – Ты бы удивилась, если бы узнала, что я могу себе позволить. – На его лице опять заиграла та же самая странная улыбка. Она пошла назад, в комнату. – Аллен, я думаю, мне лучше идти. Я очень устала… и у меня в голове все смешалось. – Анна… – Он взял ее за руку. – Я богат, Анна. Очень, очень богат. Не говоря ни слова, она пристально вглядывалась в него. И внезапно поняла, что он говорит правду. – Я люблю тебя, Анна. Вначале я просто не мог поверить, что все это время ты встречаешься со мной и не знаешь. – Чего не знаю? – Кто я такой. – А кто ты такой? – О-о, я все тот же Аллен Купер. Это единственное, что ты знаешь обо мне. Мое имя. Только оно ни о чем тебе не говорит. Ты принимала меня всего-навсего за невезучего мелкого страхового агента. – Он улыбнулся. – Ты не представляешь, каково мне было эти последние недели, прячась с тобой в дешевых ресторанчиках, видя, как ты заказываешь самые дешевые блюда в меню, зная, что ты беспокоишься за мои финансовые дела в страховом агентстве. Анна, раньше никто никогда не интересовался мною как личностью. Сначала я думал, что это розыгрыш, что ты прекрасно все знаешь и просто дурачишь меня. Такое уже бывало раньше. Вот почему я задавал столько вопросов о Лоренсвилле, откуда ты родом. Потом я нанял частного детектива, чтобы он все проверил. Увидев, как сузились ее глаза, он схватил ее за руки. – Анна, не сердись на меня. Ты была слишком прекрасна, чтобы я мог поверить в это. Джино не поверил. Но когда стала поступать информация и все оказалось верно: фамильный дом, овдовевшая мать, тетка и вся твоя жизнь в Новой Англии… Ты просто класс, Анна, высший класс. Бог ты мой, когда я удостоверился, то готов был устроить фейерверк. Я всегда был настолько уверен, что со мной никогда не случится ничего подобного! Чтобы кому-то, кого я обожаю, я был небезразличен сам по себе! Неужели ты не понимаешь, что для меня это означает? – Он закружил ее по комнате. – Я тебе небезразличен? Действительно небезразличен! Не ради моих денег, а ради меня самого! Она вырвалась из его объятий и перевела дыхание. – Аллен, ну как я могла узнать, кто ты или обо всем этом, если ты не говорил мне? – А я не понимаю, как ты могла не узнать. Обо мне всегда пишут в газетах. Я был уверен, что какая-нибудь подруга скажет тебе. А Генри Бэллами – наверняка. – Газет я не читаю, а подруг, кроме Нили, у меня нет. А она читает только «Варьете». И я никогда не обсуждаю свои личные дела с мистером Бэллами или еще с кем-либо на работе. – Ну, значит, теперь можешь огорошить их сногсшибательной новостью. О нас с тобой! – Он обнял ее, привлек к себе и поцеловал. Сначала она безвольно стояла, затем резко разомкнула его объятия. Боже, с ней опять то же самое! Во время поцелуя ее захлестнула волна отвращения. Он смотрел на нее с нежностью и обожанием. – Моя милая крошка Анна. Я понимаю, что ты стесняешься. Подойдя к зеркалу, она подвела помадой губы. Рука ее дрожала. С нею творится что-то неладное. Почему она испытывает это холодное отвращение, когда ее целует мужчина? Многим девушкам очень нравится, когда их целуют мужчины, которых они не любят. Это считается нормальным. И Аллен нравится ей, он для нее не чужой. Он не то, что какой-то Вилли Хендерсон или другие парни в Лоренсвилле. Что-то неладно в ней самой. Он подошел к ней сзади. – Я люблю тебя, Анна. Понимаю, что это настало слишком быстро. Любой на твоем месте стало бы не по себе. Но я хочу на тебе жениться. И хочу познакомить тебя с Джино, моим отцом. Он протянул ей ключ. – Отдай его завтра Лайону Берку. Скажи, чтобы он позвонил мне в мой кабинет. Я сразу же перепишу договор о найме квартиры на его имя. И, Анна, если эта квартира кажется тебе чересчур заставленной, ты можешь все отсюда выкинуть. Обставь ее по-своему. Джино потратил на нее кучу денег, но я вижу, что тебе это все не подходит. Или, если хочешь, мы купим дом в городе – все, что захочешь. – Аллен… я… – Для одного вечера мы наговорились достаточно. Я люблю тебя. И ты выходишь за меня замуж. Знай и помни об этом всегда. Когда они ехали в такси, Анна была глубоко погружена в свои мысли. Теперь она знала правду. Она – фригидна. В школе девчонки шепотом произносили это ужасное слово. Некоторые бывают такими с рождения, они никогда не достигают оргазма и не испытывают настоящего страстного влечения. И она – одна из них. Боже, она не получает удовольствия даже от поцелуя! А может, ей повезло, что она нашла такого, как Аллен? Он добрый, он мог бы помочь ей. И она могла бы выйти за него замуж. Мать была права. Это огромное чувство, его не дано пережить «настоящей леди», которая испытывает отвращение от поцелуя. Что ж, по крайней мере, ей удалось сбежать от Вилли Хендерсона и из Лоренсвилла. У некоторых мечта не сбывается даже наполовину. Когда они остановились у ее дома, Аллен не отпустил такси. – Желаю тебе увидеть меня во сне, Анна. – Он наклонился и легко поцеловал ее в щеку. – Спокойной ночи. Проводив глазами машину, Анна взбежала по лестнице и заколотила в дверь Нили. Появилась Нили, не поднимая головы от «Унесенных ветром». Так и не отложив книгу, она впустила Анну и продолжала читать. – Нили, оставь-ка на минуту книгу. Это очень важно. – Никакая сила в мире не оторвет меня от Рэтта Батлера! – Нили, ты слышала когда-нибудь об Аллене Купере? – Это что, розыгрыш? – Я совершенно серьезно. Кто такой Аллен Купер? Говорит тебе что-нибудь это имя? Нили зевнула и закрыла книгу, осторожно загнув уголок страницы, чтобы не потерять Рэтта. – Ну ладно, раз тебе вздумалось поиграть в эти игры. Аллен Купер очень милый парень, который назначает тебе свидания три-четыре раза в неделю. Пару раз я видела его из окна, и, насколько могу судить, он далеко не Кэри Грант, но на него вполне можно положиться. Ну что? Могу я вернуться к Рэтту? Он куда интереснее, а Скарлетт, похоже, совсем не ценит этого. – Так значит, ты никогда не слышала об Аллене Купере? – Нет. А почему, собственно, я должна была о нем слышать? Он снимается в кино или что-то в этом роде? Я знаю о Гари Купере [8] и о Джекки Купере, но Аллен Купер… – она пожала плечами. – Ладно, возвращайся к своему Рэтту Батлеру. – Анна направилась к двери. – Смешная ты сегодня, – пробормотала Нили. – Слушай-ка, ты часом не выпила или еще что, а? – Нет. До завтра. Нили рассеянно кивнула. Она опять была вместе с Рэттом и Скарлетт. В комнате было темно. Анна не спала, она лежала в постели и перебирала факты. Аллен – не бедный мелкий страховой агент. Аллен – богат. Но почему она должна была слышать о нем? Было ли еще что-то такое, что ей нужно узнать? Каким образом она может выяснить о нем что-то еще? Джордж Бэллоуз! Ну конечно. Если об Аллене или о ком-то другом нужно что-то узнать, то Джордж Бэллоуз в курсе всего.* * *
Джордж Бэллоуз удивленно посмотрел на нее, когда она вошла к нему в кабинет. – Разве ты не должна сейчас искать квартиру? – Можно поговорить с тобой, Джордж? По личному делу… Он встал, вышел из-за стола и, подойдя к двери, прикрыл ее. – В любое время. Садись. И можешь говорить со мною о самом что ни на есть личном. Да, кофе выпьешь? – Он налил ей чашечку из термоса. – Ну, а теперь, выкладывай. Тебя что-то волнует? Она задумчиво смотрела в чашку. – Джордж, ты знаешь Аллена Купера? – Кто же его не знает? – Он изучающе посмотрел на нее. – Постой, постой… только не рассказывай мне, что связалась с ним! – Я знакома с ним. Насколько я понимаю, он довольно богат. – «Богат»! – Джордж неприязненно хохотнул. – Крошка, для таких денег следовало бы специально придумать новое слово. Да, конечно, империю основал его отец, Джино. Им принадлежит половина всей недвижимости в городе. По слухам, они – партнеры этих греческих мультимиллионеров, магнатов-судовладельцев. Несколько лет назад в «Тайме» появилась статья о Джино. Может быть, сумею достать для тебя в библиотеке этот номер. Там говорилось, что его состояние даже не поддается точной оценке. Там же была опубликована и фотография Аллена. Единственный наследник всей империи. Можешь себе представить, каковы были последствия этой статьи для них обоих. С тех пор им стало невозможно никуда выйти без ружья для охоты на слонов, чтобы держать девиц на расстоянии от себя. Так что, если твои пути пересеклись с Алленом, даю тебе совет: не относись к нему серьезно. Это – сволочь. – Но он очень мил, – возразила Анна. Джордж рассмеялся. – Ну, с виду-то он чист как стеклышко, но вот изнутри ни в чем не уступит своему отцу по жестокости и предприимчивости. Уже провернул несколько чертовски удачных сделок самостоятельно. Сумел отвертеться от службы в армии, кажется, ему за это пришлось купить какой-то завод по производству парашютов, если не ошибаюсь. Она встала. – Спасибо, Джордж. – Заходи в любое время, дорогая. Могу выдать тебе досье на любого хищника в этом городе – с твоей внешностью ты наверняка перезнакомишься со всеми. При виде Анны лицо у Генри Бэллами разочарованно вытянулось. – Только не говори мне, что уже капитулировала! Послушай, Анна, я знаю, что дело это нелегкое. Сегодня я уже сам звонил нескольким посредникам по найму квартир. Но ты должна продолжить поиски. – У меня есть квартира для мистера Берка. – Не может быть! Пресвятой боже, это потрясающе! Соединившись с кабинетом Лайона, он вызвал его к себе. – У меня есть ключ, – продолжала она. – Мистер Берк может посмотреть квартиру сегодня днем. – А почему не утром? – раздался голос Лайона, входящего в кабинет. – Чтобы не дать им возможности передумать. Анна, ты – чудо! Какой адрес? Он записал его. – Шикарное местечко. А мне это будет по карману? – Сто пятьдесят в месяц. Он покачал головой. – Ты волшебница. Но откуда ключ? Жилец уже уехал? – Нет. Он, наверное, у себя в кабинете. – Как его имя? – Аллен Купер, – спокойно ответила она. Лайон просто записал имя, но Генри с любопытством воззрился на нее. – Как ты нашла эту квартиру, Анна? По объявлению в газете? – Нет. Аллен Купер – мой друг. – Раз это твой друг, тогда это не тот Аллен Купер, которого я знаю. – Я познакомилась с ним здесь, у нас, мистер Бэллами. – У нас? – озадаченно переспросил Генри. – Господи, а ведь верно! – Он встал так резко, что кресло отлетело и ударилось о стену. – Анна! Ты и Аллен Купер! Нет… – Он затряс головой, не в силах поверить своим ушам. – Когда я познакомилась с ним, то думала, что он простой страховой агент, – сказала она. – Этот сукин сын явился сюда, чтобы отвязаться от одной хористки. Одной из наших мелких клиенток. Хотел, чтобы я рассчитал ее и хорошенько припугнул. Я быстро вышвырнул его вон. – Онсердито оскалился на Анну. – Да видно недостаточно быстро. – Генри, – голос у Лайона звучал резко. – Анна наверняка сама в состоянии выбирать себе друзей. – И тут же улыбнувшись ему, добавил: – Ты не вполне справедлив. Дал Анне почти невыполнимое задание, а когда она блестяще выполнила его, ты, вместо того чтобы во всеуслышание расхваливать ее, бросаешь ей в лицо обвинения и вмешиваешься в ее личную жизнь. – Аллен Купер… – все еще не веря, повторял Генри. – Лайон, если бы ты только знал этого Аллена Купера. Лайон улыбнулся. – Я не хочу его знать. Хочу только его квартиру. – Ты когда-нибудь слышал о нем? – спросил Генри. Лайон задумался. – Кажется, да. Баснословно богат, по-моему. Но нельзя же ставить это ему в вину. – Но Анна – не ровня такому человеку, как он. Она играет не в их лиге. Она непременно погибнет, – стоял на своем Генри. Анна молча стояла, слегка раздраженная тем, что они говорят о ней так, словно ее здесь нет. – О’кей! – Генри обернулся и придвинул кресло к столу. – Это не мое дело. Пусть поступает, как знает. С этого момента это твоя собственная игра. – И я уверен, она знает правила, – сказал Лайон. Он повернулся к ней, улыбаясь. – Очень хотелось бы взглянуть на квартиру. Не возражаешь, если Анна пойдет со мной. Генри? Тот махнул рукой, отпуская их, и принялся за прерванную работу. Анна услышала, как он вздохнул, когда они выходили из кабинета.* * *
Сидя в такси, она неотрывно смотрела в окошко. Был один из тех замечательных октябрьских дней, когда воздух напоен ароматом, а поблекшее солнце тщится походить на весеннее. – Не сердись, – тихо сказал Лайон. – Генри разошелся так только потому, что дорожит тобой и очень любит тебя по-своему. Не хочет, чтобы тебе было больно. – Я не сержусь, просто мне неудобно. – Раз уж все вокруг лезут с непрошеными советами, позволь дать тебе несколько своих. Никогда не суди о человеке по чужому мнению о нем. У каждого из нас есть разные грани, и каждый из окружающих видит нас под своим углом. – Хотите сказать, что даже Гитлер мог быть мягким и игривым с Евой Браун? – Да, что-то в этом роде. А король Генрих VIII отнюдь не убивал всех своих жен. Если не ошибаюсь, последняя из них фактически держала его под каблуком. – Но Аллен действительно очень мил, – стояла она на своем. – Наверняка так оно и есть. Если это тот самый дом, то здание весьма внушительное. Такси остановилось. У дверей дежурил уже другой швейцар. – Мы приехали посмотреть квартиру мистера Купера, – сказала Анна. Тот кивнул. – Мистер Купер предупредил. Одиннадцатый этаж. Она протянула Лайону ключ. – Я подожду в коридоре. – Что? Осмотр без экскурсовода? Пошли, моя девочка, я жду, что ты продемонстрируешь мне все достоинства этой квартиры. Где хранить белье, как включать отопление, где счетчик с пробками… Анна почувствовала, что лицо ее залилось краской. – Я была здесь только раз, когда осматривала квартиру. – Тогда все равно тебе известно о ней больше, чем мне, – легко сказал он. В квартире ему понравилось все. Он даже настойчиво убеждал ее, что ему приятно видеть толстяка в окне напротив. – Чувствуешь, что у тебя есть соседи. Сегодня же днем позвоню Аллену Куперу и поблагодарю его. Но сначала я должен выразить благодарность тебе. Предлагаю пойти и шикарно пообедать за счет Генри. Они направились в ресторан «Барберри Рум». Анне понравилась царившая в зале мягкая синеватая полутьма, крошечные искусственные звездочки, мерцавшие на потолке, и уютные кресла. Она даже согласилась выпить хереса. За истекшие сутки с нею произошло слишком многое и слишком быстро; она чувствовала себя совершенно обессиленной, выбитой из колеи. Лайон и не пытался ее разговорить. Он непринужденно говорил о прелестях новой квартиры, об изысканном вкусе блюд, о своем новом восприятии ценностей мирной жизни. Она чувствовала, что ее скованность сходит на нет. Ей нравился его четкий британский акцент, убаюкивающая атмосфера, царящая в зале. Нравилось смотреть ему в лицо… наблюдать, как меняется его выражение… его скользящая улыбка. – Тебе придется примириться с тем, что Генри вмешивается в твою жизнь, – говорил он, наклоняясь к ней через столик и поднося спичку к ее сигарете. – Но делает он это лишь потому, что желает тебе самого доброго. Он возвел тебя на своего рода пьедестал. – Это вас он возвел на пьедестал, – возразила она. – Высотой футов в семьдесят. Вы – будущее фирмы «Бэллами и Бэллоуз». – Он считал так четыре года назад, – ответил Лайон. – За четыре года человек может измениться. – Мистер Бэллами не изменил своего мнения о вас. Он взял ее руку в свою. – Анна, не могли бы мы покончить со всеми этими «мистерами»? Я – Лайон. А «мистер» Бэллами – Генри. Она улыбнулась. – Хорошо… Лайон. Ты должен знать, с каким нетерпением Генри ждал твоего возвращения. Она вдруг осеклась. Ведь это ее решительно не касается. Раньше она никогда не вмешивалась в личную жизнь кого бы то ни было. Но сейчас она ощущала в себе настоятельную потребность вступиться за Генри. Внезапно она поняла, почему Генри настроен против Аллена, – это было частью его дружеского отношения к ней. Она также по-новому отчетливо осознала логику аргументов Нили. Нельзя быть настоящим другом, оставаясь при этом вежливо-холодной и официальной. Она непременно поговорит с Генри о Нили и «Небесном Хите». Она почувствовала себя по-новому свободной, словно только что избавилась еще от одной цепи, приковывавшей ее к Лоренсвиллу. – Я отдаю себе отчет в том, каковы надежды и планы Генри, – ответил Лайон. – И вероятно, я не оставлю его одного. Но боже мой! Это же поганое занятие – то ли адвокат, то ли администратор. – Но все в один голос утверждают, что ты настоящий генератор идей. Нужно по-настоящему любить свое дело, чтобы привносить в него столько энергии. – Я любил хорошую борьбу… трудности, для преодоления которых требовалось напряжение всех сил… даже не совсем честные операции. Она почувствовала себя неловко. Все, что он сейчас говорил, противоречило славе, что неслась впереди него. Он понял ее молчание как обиду за Генри. – Ну ладно, не расстраивайся. Я, вероятно, просто немного устал от войны. – Но ты рад, что снова вернулся к Генри? – Я ведь вернулся, разве нет? На ее лице появилось озадаченное выражение. – Ты говоришь так, словно на самом деле охотнее занялся бы чем-то другим. – А разве хоть кто-нибудь может позволить себе роскошь заниматься только тем, чем ему хочется? – Я, например, занимаюсь сейчас тем, чем мне хочется. Его лицо озарилось улыбкой. – Я польщен. – Я имею в виду, что работаю у Генри. Живу в Нью-Йорке. А чем бы хотел заниматься ты, Лайон? Он распрямил под столом свои длинные ноги. – Стать чертовски богатым, это во-первых. Засесть в каком-нибудь прелестном райском уголке на Ямайке, чтобы меня опекали несколько красивых девушек, в точности похожих на тебя, и написать роман-бестселлер о войне. – Ты хочешь писать? – Разумеется, – он пожал плечами. – А разве каждый вернувшийся с фронта не чувствует в себе уверенности, что именно он вынашивает в себе единственно правдивый роман о войне? – Тогда почему бы тебе не сесть и не написать его? – Ну, во-первых, работа у Генри целиком поглощает все мое время. И эта очаровательная квартирка, которую я наследую, отнюдь не бесплатная. Боюсь, что в моем лице потеря для литературы станет приобретением для Генри Бэллами. Она поняла, что Лайон Берк не поддается схематизации и четкой классификации. Он не бесчувственный сухарь, но свои эмоции и порывы всегда будет скрывать либо за улыбкой, либо за остроумными пассажами. – Странно, а ведь ты не производишь впечатления человека, пасующего перед трудностями, – набравшись смелости, заявила она. Его глаза сузились. – Извини, как ты сказала? – Человека, сдающегося без единой попытки к сопротивлению. Я хочу сказать, что если ты хочешь писать, если ты честно считаешь и чувствуешь, что тебе есть что сказать, то тогда непременно делай это. Каждый человек должен хотя бы попытаться сделать то, что ему хочется. Это уж потом жизненные обстоятельства и обязанности вынуждают человека к компромиссам. Но идти на компромисс сейчас… это все равно, что спасовать, еще не начав. Перегнувшись через столик, он взял ее за подбородок. Глаза их встретились, и он долго пристально вглядывался в нее. – Генри определенно не знает тебя. Ты не та девушка, о которой он говорит. Единственное, в чем он оказался прав относительно тебя, это твоя невероятная красота. Ей-богу, ты способна сражаться, да еще как. – Сегодня я не похожа на самое себя. – Она чувствовала себя опустошенной. – Что-то вышла из равновесия. Столько всего произошло и за такой короткий срок. А когда с тобой ничего не происходило целых двадцать лет, то в такой ситуации наверняка поведешь себя странно. Я имею в виду… все это с Алленом Купером. Я только вчера вечером узнала, кто он такой на самом деле. – Пусть мнение Генри не особенно тебя тревожит. Он не слишком-то горит желанием, чтобы рядом с тобой оказался кто-то другой. Если понадобится, он станет отгонять от тебя поклонников гранатами. – Аллен мне просто друг. – А вот это отличное известие. – На сей раз он смотрел на нее без улыбки. Она испытывала волнение от его пристального взгляда. Чтобы скрыть свое замешательство, она сказала: – Все, что я говорила сейчас о том, что человек должен попытаться сделать то, чего ему действительно хочется… так вот я говорила совершенно серьезно. Именно это я сделала, приехав в Нью-Йорк. Человек не должен расставаться со своей мечтой, не дав ей шанса сбыться. – Никакой мечты у меня нет, Анна. И никогда не было. Эта мысль о писательстве появилась у меня только после войны. А до войны я был нацелен на успех, на то, чтобы делать большие деньги. Но сейчас я даже не знаю точно, хочу ли я этого по-прежнему. Фактически у меня вообще нет уверенности, что на свете существует нечто такое, чего я очень сильно хочу. – У него опять быстро, в присущей ему манере, изменилось настроение, и он улыбнулся. – И все же то, чего я хочу, существует. Хочу жить каждой проходящей минутой и секундой, жить ими и делать так, чтобы каждая из них была потрачена с пользой. – Понимаю тебя, – ответила она. – Это естественное чувство всякого, кто побывал на войне. – Вот как? А я уж было стал сомневаться, помнят ли здесь женщины о том, что война была. – Уверена, что в душе каждый человек пережил войну. – Не могу согласиться. Когда ты там, в ее пекле, ты думаешь, что в жизни ничего, кроме нее, не существует. Невозможно поверить, что где-то люди спят в мягких и чистых постелях или сидят в ресторанах, подобных вот этому. В Европе все по-другому. Куда ни пойдешь, везде разбомбленные здания… живешь с постоянным напоминанием о смерти. Но стоило мне вернуться сюда, как и кровь и смерть, окружавшие меня там, стали казаться чем-то бесконечно далеким. Словно все это было не на самом деле… а в каком-то дьявольском наваждении, в кошмаре. И вот я в Нью-Йорке. Парамаунт-билдинг по-прежнему стоит на своем месте, и часы на нем идут, как и прежде. На тротуарах все те же трещины, на Плазе [9] все те же голуби или их потомство. У «Копы» все те же очереди жаждущих увидеть все тех же звезд. Вчерашний вечер я провел с одним очаровательным существом, и несколько часов она рассказывала мне о трудностях, перенесенных ею во время войны. Ни тебе капроновых чулок, ни помады в пластмассовых тюбиках, ни заколок для волос… в общем все было «ужасно»! Кажется, больше всего она страдала от отсутствия капроновых чулок. Она была фотомоделью, и ноги имели для нее большое значение. Сказала, что страшно рада, что мы изобрели наконец атомную бомбу – она уже донашивала последнюю, шестую, пару, когда мы ее сбросили. – Думаю, что на войне только одно имеет значение – остаться в живых, а все остальное отступает на задний план, – тихо проговорила Анна. – И еще до конца войны ты лишен возможности загадывать наперед, – ответил он. – Ничего не планируешь дальше завтрашнего дня. А если и позволяешь себе думать о будущем, о своих планах на жизнь, то теряешь все свое мужество. И внезапно воскрешаешь в памяти все те бессмысленные занятия, на которые ты так бесцельно растрачивал свое время… ушедшие минуты, которых уже не вернуть. И тогда понимаешь, что время – самая драгоценная вещь на свете. Потому что время – это жизнь. Единственное, что никогда больше не вернется к тебе. Ты можешь потерять девушку и добиться, чтобы она вернулась к тебе, или же найти другую. Но секунда, вот эта самая секунда, она проходит, и проходит безвозвратно, – он говорил вполголоса, уйдя в воспоминания, и она заметила тонкие морщинки, лучами расходящиеся от уголков его глаз. – У нас был один капрал… Раз мы заночевали вдвоем в каком-то амбаре, вернее, в том, что от него осталось. Обоим не спалось. Капрал постоянно разминал в руке землю. Говорил то и дело: «Земля тут прекрасная». Кажется, у него была ферма в Пенсильвании. Он рассказывал мне о своих заботах, о хлопотах с персиковыми деревьями и о планах расширить ферму, когда вернется домой. Хотел, чтобы она понравилась его детям, когда те вырастут. Вот только земля его беспокоила. Недостаточно плодородная. Только об этом и говорил. И вскоре я поймал себя на том, что тоже тревожусь за его бедную истощенную землю – даже советовал ему что-то. Помнится, когда я наконец уснул, то снились мне удобрения и бесконечные акры персиковых деревьев. На следующий день нам пришлось туго. Нарвались на минное поле… на снайперов… да и погода была отвратительная. Вечером я составлял донесения о погибших. Проверял личные знаки. Один из них принадлежал тому капралу. Я сидел, тупо глядя на его личный знак. Еще вчера это был живой человек, который всю свою последнюю ночь напролет провел в тревожных мыслях о земле и удобрениях. И вот теперь своей собственной кровью он удобряет чужую землю. – Лайон посмотрел на нее. и внезапно улыбнулся. – А я вот сижу здесь и отнимаю у тебя время своей болтовней об этом. – Нет, продолжай, пожалуйста. Он странно посмотрел на нее. – Сегодня я наговорил много всего такого… такого, что следовало бы держать при себе. – Он подал знак, чтобы принесли счет. – Однако хватит, я и так уже отнял у тебя достаточно времени. Оставшуюся часть дня займись собой. Купи новое платье, сделай укладку… или еще что-нибудь приятное из того, что должна делать красивая девушка. – Эта конкретная девушка пойдет на работу. – Ничего подобного. Это я тебе приказываю. Генри вообще думал, что у тебя уйдет на это несколько дней. Отдыхать – вот самое малое из того, что ты заслужила. Плюс премию в размере двухнедельного жалованья. Я позабочусь об этом. – Но я даже не думала… – Ерунда. Я рассчитывал, что посреднику из бюро по найму квартир мне придется дать сверху не меньше месячной платы. Пусть это будет моим первым распоряжением в фирме «Бэллами и Бэллоуз». Итак, ты получаешь премию в размере двухнедельного жалованья и полдня свободны.* * *
Эти полдня она взяла, но не стала делать ничего из того, что он предлагал ей. Прошлась по Пятой авеню [10]. Посмотрела, что начинают носить и что входит в моду на зимний сезон. Посидела в сквере на Плазе. И все это время из головы у нее не выходил Лайон Берк. Он затмевал собою всех, кого она когда-либо знала. Сначала она была потрясена улыбчивым, загадочно-непостижимым Лайоном, однако тот Лайон, который рассказывал ей о войне, показался ей доступным, способным к сопереживанию. Как он сочувствовал тому капралу! Что же собой представляет Лайон Берк на самом деле? Выйдя из сквера, она пошла назад по Пятой авеню. Становилось поздно. Ей нужно зайти домой переодеться. Вечером за ней должен заехать Аллен. Аллен! Она не может выйти замуж за Аллена! Это противоречило бы всему, что она говорила только что. Вот когда бы она действительно сдалась! Ей еще слишком рано идти на компромиссы, расставаясь даже с частью своей мечты. Она все скажет ему за ужином. Но подать это нужно будет мягко, тактично. Нельзя же заявить с ходу: «Привет, Аллен. Я не пойду за тебя». За ужином она подготовит почву и объявит ему об этом непринужденно, но твердо. Вот так, и ничего тут сложного. Однако все оказалось сложным. На этот раз никакого тихого французского ресторанчика не было. Аллену больше не требовалось скрывать, кто он такой. Они отправились в ресторан «21». Ему кланялись официанты, и все называли его по имени. И сам он, казалось, знал всех сидящих в зале. – Кстати, Анна, тебе нравится жить за городом? – спросил он. – У нас есть дом в Гринвидже… Это было началом. – Нет, этого мне хватало и в Лоренсвилле. По правде говоря, Аллен, мне нужно тебе что-то сказать, нечто такое, что ты должен понять… Посмотрев на часы, он подал знак, чтобы принесли счет. – Аллен! – Продолжай, я слушаю. – Он выписывал чек. – Это касается того, о чем ты говорил вчера вечером. И вот сейчас, о жизни за городом. Аллен, ты мне очень нравишься, но… – Да, хорошо, что напомнила. Я переслал договор о найме квартиры Лайону Берку. Говорил с ним днем. Хороший парень. Англичанин, да? – Вырос в Англии. Аллен, послушай меня. Он встал. – Скажешь в такси. – Пожалуйста, сядь. Скажу лучше здесь. Улыбнувшись, он подал ей пальто. – В такси темно – больше романтики. Кроме того, мы опаздываем. Она беспомощно встала. – Куда мы едем? – В «Марокко» [11]. – Он вышел из зала, постоянно обмениваясь рукопожатиями, незаметно раздавая при этом чаевые. В такси он откинулся на спинку сиденья и улыбнулся. – В «Марокко» сейчас сидит мой отец. Я сказал ему, что мы заедем. Ну, а теперь, что ты хотела мне сообщить? – Аллен, я очень тронута твоим отношением ко мне. И очень благодарна тебе за квартиру для Лайона Берка. Это избавило меня от множества хлопот и от бесконечной ходьбы по всему городу. Я считаю тебя одним из лучших людей, которых я когда-либо знала, но… – Она увидела огненно-яркую неоновую надпись «МАРОККО» и торопливо зачастила: —…но насчет замужества… о чем ты говорил мне вчера вечером…. Извини, Аллен, я… – Добрый вечер, мистер Купер! – пропел свое приветствие швейцар, открывая дверцу машины. – Ваш отец здесь. – Спасибо, Пит. И вновь еще одна бумажка перекочевала из руки Аллена в руку швейцара. Аллен провел Анну в клуб. Ей так и не удалось подчеркнуть всю важность того, что она пыталась объяснить ему, а может быть, это Аллен специально подчеркивал, что не желает понимать ее? Джино Купер с группой из нескольких человек восседал за круглым столиком неподалеку от стойки бара. Он помахал рукой Аллену, приглашая его за свой столик. Официант провел Аллена. Было пол-одиннадцатого: время для «Марокко» еще раннее. Хотя Анна оказалась в этом известном ночном клубе впервые, раньше ей доводилось видеть в газетах и журналах фотографии разных знаменитостей на фоне известных всей стране полосок «под зебру». Она осмотрелась. Полосок «под зебру» здесь было много, но во всем остальном это был просто большой зал с очень хорошим оркестром, играющим современные мелодии. Джино сразу же пересел поближе к ним. Не дожидаясь, пока Аллен представит его даме, он схватил Анну за руку и яростно затряс ее. – Значит, это она, да? – он тихо присвистнул. – Сынок, ты был прав. Тут стоило и подождать. Высший класс. Могу определить это, прежде чем она скажет хоть слово. – Он щелкнул пальцами. И тут же, словно материализовавшись из воздуха, у их столика возник управляющий. – Подайте шампанского, – приказал ему Джино, не сводя глаз с Анны. – Анна не пьет… – начал было Аллен. – Сегодня выпьет, – добродушно возразил Джино. – Сегодня у нас такое событие! Анна улыбнулась. Теплота и радушие Джино распространились на всех окружающих. Это был крепко сбитый смуглый человек, довольно привлекательный. В черных волосах пробивалась седина, но жизнерадостность и энтузиазм, бьющие через край, придавали ему мальчишеский вид. Когда шампанское было разлито по бокалам, он произнес тост за нее. – За новую леди в нашей семье. – Хватив залпом полбокала, он вытер губы тыльной стороной ладони и спросил: – Вы католичка? – Нет, я… – начала было Анна. – Ладно, тебе нужно будет перейти в католичество, когда выйдешь за Аллена. Я договорюсь с отцом Келли, и он провернет все в своей церкви в частном порядке и без лишних формальностей. – Мистер Купер… – она говорила, совершая почти физическое усилие. Аллен моментально прервал ее. – Вопрос о религии мы еще не обсуждали, отец. И у Анны нет никаких причин переходить в нашу веру. Джино обдумал его слова. – Ну… нет, не надо, раз она ни в какую не желает. Если согласится венчаться в церкви и обещает воспитывать детей в католической вере… – Мистер Купер, я не собираюсь выходить замуж за Аллена! – Ну, все. Вот и сказала. Громко и внятно. Его глаза сузились. – Почему? Вы до такой степени настроены против католиков? – Ни против кого я не настроена. – Так за чем же дело стало? – Я не испытываю чувства к Аллену. Сначала взгляд Джино был недоумевающим. Потом он озадаченно обратился к Аллену: – Что она, черт возьми, говорит? – Говорит, что не испытывает любви ко мне, – ответил Аллен. – Послушай, это что, розыгрыш? Ты, кажется, сказал, что хочешь жениться на ней. – Сказал. И женюсь. Но сначала мне придется заставить ее полюбить себя. – Вы что, с ума оба сошли? – строго спросил Джино. Аллен вежливо улыбнулся. – Я же говорил тебе, отец, что до вчерашнего дня Анна принимала меня за мелкого страхового агента, который тщится завоевать свое место под солнцем. И вот теперь ей нужно привыкнуть к мысли о том, кто я на самом деле. – Чего тут привыкать? – спросил Джино. – С каких это пор деньги стали помехой? – Мы никогда не говорили с Анной о любви, отец. Думаю, что она просто не принимала меня всерьез. У нее ушло слишком много времени на беспокойство о том, как бы я не лишился своего места. Джино с любопытством посмотрел на Анну. – Вы действительно встречались с ним все это время и ужинали в забегаловках, как он мне говорил? Анна слабо улыбнулась. Она чувствовала, что на них начинают обращать внимание. Голос у Джино был громкий, и Анна была уверена, что добрая половина зала с удовольствием слушает их беседу. Джино хлопнул себя по ляжке и громко расхохотался. – Вот это здорово. – Он налил себе еще шампанского. К нему подскочил официант, пытаясь перехватить бутылку. Джино отмахнулся от него. – Раньше я открывал такие зубами. А сейчас лакеи кучей лезут ко мне, чтобы налить бокал. Он обратился к Анне: – Ты мне понравилась! Добро пожаловать в нашу семью. – Но я не собираюсь замуж за Аллена. Он отмахнулся от ее слов. – Послушай, раз уж ты сумела выдержать, встречаясь с ним целых полтора месяца и мотаясь по дешевым забегаловкам, принимая его за слабака, то теперь-то ты его точно полюбишь. Пей шампанское. Начинай вырабатывать у себя богатый вкус, ты можешь себе это позволить. Привет, Ронни. Словно из-под земли у их столика возник худощавый молодой человек и застыл словно статуя. – Это Ронни Вульф, – сказал ей Джино. – Присаживайся, Ронни. – Джино щелкнул пальцами и бросил в никуда, ни на кого не глядя: – Мистеру Вульфу как всегда. Так же ниоткуда появившийся официант поставил перед незнакомцем кофейник. – Только не рассказывай мне, будто ни разу не слышала о Ронни – его репортажи читает весь город, – гордо заявил Джино. – Анна в Нью-Йорке недавно, – быстро пояснил Аллен. – Она читает только «Тайме». – Хорошая газета, – уверенно одобрил Ронни. Он достал из кармана черную записную книжку в потертом кожаном переплете. Темные глаза метнулись от Аллена к Джино. – Хорошо, давайте ее имя… и кто застолбил участок? Отец или сын? – На этот раз мы оба, – ответил Джино. – Эта девушка скоро станет моей родственницей. Анна Уэллс. Не переври фамилию, Ронни. Она выходит замуж за Аллена. Ронни присвистнул. Он посмотрел на Анну со смешанным выражением любопытства и уважения. – Прекрасно, большой репортаж. Новая манекенщица, получившая первый приз? Или актриса? Стойте, ничего не говорите – попытаюсь сам отгадать. Из Техаса? – Я из Массачусетса и работаю в конторе, – холодно ответила Анна. Ронни моргнул обоими глазами. – Вы еще скажите, что умеете печатать на машинке. – Думаю, это вряд ли будет новостью для вашей газеты. Я также думаю, вам следует знать, что Аллен и я… – Ладно, Анна, – быстро проговорил Джино. – Ронни наш друг. – Нет, нет, пусть продолжает, – Ронни смотрел на нее взглядом, в котором читалось нечто похожее на уважение. – Ну-ка, выпей еще шампанского, – сказал Джино, наполняя ее бокал. Анна отпила немного, пытаясь подавить в себе гнев. Ей хотелось заявить, что она не собирается выходить за Аллена, но она поняла, что Джино намеренно прервал ее и, вероятно, опять поступит так же. Ему было бы неловко оттого, что кто-то осмеливается возражать ему в присутствии других. Как только Ронни Вульф уйдет, она сразу же предупредит Джино, чтобы он не делал никаких заявлений для прессы. Она уже сказала им обоим, отцу и сыну, что не собирается выходить за Аллена. Неужели деньги лишают богачей зрения и слуха? – У кого вы работаете? – спросил ее Ронни. – У Генри Бэллами, – ответил за нее Аллен. – Но это временно. – Аллен! – сердито воскликнула она, но Ронни оборвал ее: – Послушайте, мисс Уэллс, задавать вопросы – моя работа. – Он озарил ее искренней дружеской улыбкой. – Вы мне нравитесь. Это что-то необычайное – встретить девушку, которая приехала в Нью-Йорк не для того, чтобы стать актрисой или манекенщицей. – Он пристально посмотрел на нее. – Какое своеобразное лицо. Вы могли бы заработать целое состояние, если бы захотели. Если бы вас только увидели в фирме Пауэрса или Лонгуорта, вы могли бы стать даже богаче, чем ваш друг. – Он подмигнул Джино. – Если бы она захотела работать, мы купили бы ей дом моделей, – проревел Джино. – Но она останется дома и будет воспитывать детей. – Мистер Купер… – лицо у Анны горело. Вмешался Аллен: – Отец, давай обо всем по порядку. Ронни засмеялся. – А вот и твоя подруга, Джино. Ей известна эта новость? Они подняли глаза на высокую девушку с божественно идеальной фигурой. Не вставая, Джино подвинулся и похлопал по сиденью кресла. – Знакомься, это Адель Мартин. Садись, крошка, и познакомься с Анной Уэллс, невестой моего сына. Нарисованные брови Адели взметнулись вверх, образовав две дуги. Все еще не признавая Анну, она переводила взгляд с Аллена на Ронни, желая получить подтверждение услышанному. Ронни кивнул, его глаза оживленно засветились при виде оцепеневшей Адели. Но та быстро овладела собой. Прижавшись к Джино, она слабо улыбнулась Анне. – Как это тебе удалось, дорогая? А я вот уже битых семь месяцев пытаюсь окольцевать эту обезьяну. Назови мне твое волшебное слово, и дружно обвенчаемся все вчетвером. – Она с обожанием посмотрела на Джино. – Ну, ты же у нас профессиональная актриса, Адель, – поддел ее Ронни, подмигнув при этом Джино. Адель посмотрела на него так, словно хотела испепелить его взглядом. – Послушай-ка, Ронни, даже для того, чтобы быть хористкой, нужен какой-никакой талант. Так что придержи-ка свои подколы при себе. Ронни улыбнулся и сунул записную книжку в карман. – Я считаю, что ты лучшая хористка в городе, Адель. – Вот и не забывай об этом, – сказала она, несколько смягчившись. – Я отклонила два предложения сниматься в кино, только чтобы остаться здесь, со своим крошкой. – И, изогнувшись, она поцеловала Джино в щеку. Ронни встал и наклонил голову в знак прощания. Анна увидела, что, едва он подсел за другой столик, к нему быстро подскочил другой официант и поставил перед ним новый кофейник. Ронни стал медленно потягивать кофе, вынув свою черную записную книжку и постоянно бросая пристальные взгляды на входную дверь, фиксируя всех входящих. Аллен проследил за ее взглядом. – Ронни славный малый. Наемных репортеров у него нет; всю информацию для своих статей он собирает сам. Адель презрительно усмехнулась. – Сплетник и проныра. – Тебя бесит то, что он написал в газете, будто бы о нас ходит молва, что мы помолвлены, – возразил ей Джино. – Конечно, та его заметка была чертовски обидной. Выставил меня форменной дурой. – Адель улыбнулась. – Так как же, крошка? Не допустишь же ты, чтобы твой сынок обскакал тебя на пути к алтарю. – У алтаря я уже бывал, – ответил ей Джино. – Со смертью Розанны наступил конец и моей супружеской жизни. Жена у мужчины может быть только одна. Увлечения? Сколько угодно. Но жена – одна. – И кто же установил такое правило? – спросила Адель. Джино налил девушке шампанского. – Адель, забудь об этом, – холодно проговорил он. – Даже если бы я и женился во второй раз, то не на тебе. Ты же разведена. – Видя, что Адель надулась, он сказал: – Да, кстати, я велел Ирвингу отнести тебе домой два манто. Выберешь сама. Выражение лица у Адель моментально изменилось. – Оба норковые? – Какие же еще? Может, ондатровые? – О Джино… – она тесно прижалась к нему. – Иногда ты доводишь меня до бешенства, но приходится прощать тебя. Я так тебя люблю. Джино посмотрел на шелковое пальто Анны, лежащее на кресле. – Эй, Аллен, не возражаешь, если я пошлю одно из них Анне как подарок к помолвке? – И, не дожидаясь ответа, повернулся к Анне. – Какой цвет ты любишь? – Цвет? – Анна всегда считала, что норка коричневая. – Джино имеет в виду: диких или выращенных на ферме, – пояснила Адель. – Думаю, что дикая норка отлично пойдет к твоим волосам. – Боюсь, что я не смогу принять его, – тихо сказала Анна. – Почему не сможешь? – резко спросил Джино. – Может быть, Анна хочет получить манто от меня, после того как мы поженимся, – быстро вставил Аллен. Джино рассмеялся. – Хочешь сказать, что, когда дарят норковое манто, отношения должны быть узаконены? – А что тут противозаконного – принять в подарок норковое манто? – удивилась Адель. – Противозаконно, по-моему, отказаться от него. Анне было не по себе. От выпитого шампанского ее бросило в жар. Клуб был заполнен до отказа. Места для танцев становилось все меньше. Официанты сбились с ног, едва успевая подставлять новые небольшие столики для вновь прибывающих важных посетителей. Люди сидели, уже почти касаясь толстого бархатного шнура, а в той половине зала, где расположилась их компания, яблоку негде было упасть. Однако, как ни странно, в другой половине стояло несколько пустых столиков. Аллен пояснил, что это «Сибирь»; если сядешь в той половине, тебя перестанут уважать. Там сидят одни мещане и иногородние приезжие. Они не понимают разницы. Но завсегдатай клуба умер бы от стыда, если бы ему пришлось там сидеть. Люди менялись, как в калейдоскопе, ей постоянно кого-то представляли. В какой-то момент к ним ненадолго подсел еще один известный газетчик, а кто-то даже сфотографировал их. Джино заказал еще шампанского. Какие-то девицы, все как одна похожие на Адель, то и дело останавливались у их столика и поздравляли Аллена, бросая сочувственные взгляды на Адель. Некоторые из них довольно фамильярно приветствовали Аллена, обнимая и целуя его, одновременно бурно заверяя его в своей вечной преданности, бросая при этом завистливые и любопытствующие взгляды на Анну, в которых читался вопрос: «Понимаешь ли ты, малышка, как тебе повезло?». Она сидела спокойно, скрывая за маской хладнокровия охватывающую ее панику. По пути домой ей придется поговорить с Алленом и внести во все полную ясность. Тогда он позвонит Ронни Вульфу и тому, другому журналисту. Нужно заставить его понять. Она осторожно тронула его за рукав. – Уже час ночи, Аллен. Мне нужно домой. – «Домой»? – поразился Джино. – Гадкое слово. Вечер только начинается. – Завтра мне нужно быть на работе, мистер Купер. Джино расплылся в улыбке. – Маленькая леди, теперь тебе никогда ничего не нужно будет делать, только хорошо относиться к моему мальчику. – Но у меня есть работа… – Так брось ее, – ответил Джино, разливая всем шампанское. – Бросить свою работу? – А почему бы и нет? – На сей раз этот вопрос прозвучал из уст Адели. – Если бы Джино предложил мне пойти за него, я бы в ту же минуту распрощалась со своей работой. – С какой работой? – рассмеялся Джино. – Стоять столбом и подвывать по два часа каждый вечер? – Он повернулся к Анне. – Эта наша «Мисс Америка» должна показывать свой товар лицом, чтобы удержаться на своем месте. Состоит в каком-то профсоюзе актеров. Но у тебя-то контракта нет. – Мне моя работа нравится, и я не хотела бы подводить людей внезапным уходом, – ответила Анна. Джино пожал плечами. – О’кей, с этим я согласен. В тебе есть настоящий класс. Действительно, всегда нужно предупреждать заранее. Скажи своему шефу завтра, дай ему возможность подыскать кого-нибудь на твое место. – Он подал знак, чтобы принесли счет. – Думаю, что для разнообразия нам всем не помешает закруглиться сегодня пораньше. Анна надела поданное ей пальто. Она внесет во все полную ясность, когда останется наедине с Алленом в такси на пути домой… Однако никакого такси не было. Их ждал огромный черный лимузин с шофером. Джино пригласил их сесть. – Подвезем сначала нашу трудолюбивую пчелку. Когда они подъехали к ее дому, Джино и Ад ель остались в машине, а Аллен вышел проводить ее до двери. – Аллен, – прошептала она, – мне нужно поговорить с тобой. Он наклонился и легко поцеловал ее. – Анна, я понимаю, вечер сегодня был сумасшедший. Я должен был познакомить тебя с Джино. Теперь с этим покончено. Завтра мы пойдем куда-нибудь одни. – Джино мне понравился. Но, Аллен, ты должен сказать ему! – Сказать что? – Аллен, я не выхожу за тебя замуж! Я никогда не обещала тебе этого. Он провел рукой по ее волосам. – Я не виню тебя за то, что ты паникуешь. Сегодняшний вечер кого угодно перепугал бы. Но завтра все будет по-другому. – Он сжал ладонями ее лицо. – И хочешь верь, хочешь нет, но ты выйдешь за меня. – Нет, Аллен. – Скажи, Анна, ты любишь кого-то другого? – Нет, но… – Этого для меня уже достаточно. Дай мне только шанс. – Эй! – крикнул, высунувшись из машины, Джино. – Кончай треп, поцелуй ее и пожелай спокойной ночи! Наклонившись, Аллен легко поцеловал ее. – Заеду за тобой завтра вечером, в половине восьмого. – Он повернулся и сбежал вниз по ступенькам. Она стояла, вся дрожа от холода, провожая машину взглядом. Если Ронни Вульф напечатает о них в газете, ему придется давать потом опровержение. Она взбежала по лестнице к своей комнате. К двери был прикреплен белый конверт. Детским почерком печатными буквами было написано: «Разбуди меня в какое угодно время. Дело срочное! Нили». Анна посмотрела на часы. Уже два часа ночи. Но слова «Дело срочное!» были подчеркнуты. Медленно спустившись по лестнице, она осторожно постучала, не особенно надеясь, что Нили услышит ее. До ее слуха донесся скрип кровати, и тут же под дверью появилась полоска света. Открыв ей дверь, Нили спросонок терла глаза. – Слушай, сколько сейчас времени? – Много, но ты написала «срочно». – Да, да. Входи. – А до завтра нельзя подождать? Я тоже страшно устала, Нили. – Я уже совсем проснулась. И я замерзаю! – Нили переступала с ноги на ногу на холодном полу. Анна прошла за нею в комнату, и Нили бросилась в постель, закутавшись в одеяло. Подтянув колени к подбородку, она улыбнулась. – Ну, угадай, что у меня! – Нили, либо говори, либо я ухожу спать. – Нас включили в это шоу! – Прекрасно! А сейчас, Нили, если не возражаешь, мне нужно… – Вот это да! «Прекрасно»? И спокойной ночи? И это сейчас, когда у меня произошло самое главное в жизни? Мы прорвались в «Небесный Хит», а ты отмахиваешься от такой новости? – Я в восторге от нее. – Анна пыталась говорить с энтузиазмом. – Просто дело в том, что сегодня у меня был ужасный вечер. На лице Нили отразился неподдельный интерес. – А что случилось? Аллен захотел слинять или что? – Нет, он попросил моей руки. – Что же тут ужасного? – Я не хочу выходить за него. – Так скажи ему об этом. – Сказала, но он и слушать меня не хочет. Нили пожала плечами. – Скажи еще раз завтра. – Но завтра об этом будет написано в газетах. Нили непонимающе посмотрела на нее. – Анна, ты опять ведешь себя как-то чудно. Чего ради в газетах станут писать, что ты выходишь замуж за какого-то суетливого мелкого страхового агента? – Потому что этот суетливый мелкий страховой агент – миллионер. Когда до Нили наконец дошло, она пришла в исступление. – Анна! – выскочив из постели, она закружилась по комнате в бешеном танце. – Анна! Значит, ты добилась! – Но, Нили… Я не люблю Аллена! – С такими деньгами полюбить его будет нетрудно. – Но я не хочу ни выходить замуж, ни бросать свою работу. Впервые в жизни я стою на своих собственных ногах и не собираюсь отказываться от этого. Всего два месяца, как обрела свободу… – «Свободу»! И ты называешь это свободой? – взвизгнула Нили. – Жить в спальне-прихожей, вскакивать в семь утра и мчаться в контору, обедать в аптеке, ну, может, еще изредка заваливаться в «21» с Бэллами и его клиентом и мерзнуть в этом черном шелковом пальто? Хочешь сохранить свою свободу ради всего этого великолепия? Завтра уже первое ноября. Подожди-ка до января – февраля. Ну-у, в феврале в Нью-Йорке великолепно! Сплошная грязь и слякоть. Тогда эта маленькая противная батарея покажется тебе угольком. Так от чего же ты отказываешься? Ну, скажи, скажи мне! – От своей индивидуальности, может быть, от своего будущего, от всей своей жизни. Отказываюсь, еще не начав толком жить. Нили, в нашей семье никогда ни с кем ничего не происходило. Они выходили замуж, заводили детей, и на этом – все. А я хочу, чтобы со мной что-то произошло. Хочу пережить и прочувствовать это, хочу… – Так ведь уже произошло! – воскликнула Нили. – Только тебе сразу же выпал самый крупный выигрыш. Ты недовольна тем, что тебе не придется годами ишачить и гнуть горб, носить туфли за шесть долларов и одежду, какая подешевле? Анна, если ты упустишь этот шанс сейчас, второго такого уже не будет. Ты что, думаешь, когда тебе осточертеет играть роль секретарши, на сцене вдруг появится другой миллионер и скажет: «О’кей, Анна, тебе пора замуж»? Ха-ха! – Я не ищу богатых женихов. Это не существенно. Нили усмехнулась. – Ты просто никогда не была бедной. – Нили… послушай меня, попробую тебе объяснить. Вот сейчас ты в восторге от того, что тебя включили в «Небесный Хит». Допустим, проходит несколько недель репетиций, и неожиданно в твоей судьбе появляется некто наподобие Аллена, просит твоей руки и настаивает, чтобы ты и думать забыла о своей программе, которая еще и не начиналась. Ты согласилась бы? – Согласилась бы я? Да с такой скоростью, что у тебя голова бы кругом пошла. Слушай, предположим, у меня настоящий талант. И, предположим, в один прекрасный день мне выпадет шанс доказать это. Если я буду упираться несколько лет, чего я этим добьюсь? Денег, положения в обществе и уважения к себе. И ничего больше. И на это у меня уйдут долгие годы каторжного труда. А Аллен преподносит тебе все это на серебряном блюде. Анна не верила своим ушам. Нили, без всякой косметики на лице выглядящая моложе своих семнадцати лет, судит обо всем с таким цинизмом. Она направилась к двери. Она слишком устала, чтобы спорить. – Спокойной ночи, Нили. Поговорим об этом завтра. – Не о чем тут говорить. Ты выходишь за него, и все тут! Может быть, и я стану жить так же, как ты, если «Небесный Хит» прогремит. (обратно)ноябрь 1945
Когда будильник наконец отзвенел, Анна проснулась с привычным ощущением, что все у нее обстоит как нельзя лучше. Она потянулась и, пробудившись окончательно, почувствовала, как ее словно кольнуло. Что-то явно было не так… Аллен! Вчерашний вечер! Ронни Вульф! Тревога ее сменилась на гнев. Ведь она сделала все, что от нее зависело. Сколько же существует способов говорить «нет»? Она быстро оделась. Сразу же, как только придет на работу, она позвонит Аллену. Покончит с этим раз и навсегда. Когда она пришла, в холле их конторы стояло несколько человек. Они расступились, пропуская ее. Внезапно один из них воскликнул: – Эй, да это же она! Ослепительно засверкали фотовспышки, посыпались вопросы. В этой сумятице она расслышала фамилию Аллена. Анна с трудом протиснулась, но они последовали за нею в контору, обращаясь к ней по имени. Все это напомнило ей один из детских кошмаров, когда за ней гнались, а помочь было некому. Секретарь по приему посетителей улыбалась! Младшая секретарша и мисс Стейнберг – тоже! Наконец она подошла к своему столу и встала за ним, вся в окружении людей, но совершенно одинокая и покинутая. – Когда вы познакомились с Алленом Купером, мисс Уэллс? – Фотокамеры вспыхивали, ослепляя ее. – Эй, Анни, посмотри-ка, пожалуйста, сюда… вот молодчина… улыбочку, Анни. – Вспышка… другая… – Венчание состоится в церкви, мисс Уэллс? – Эй, Анни! Как ты чувствуешь себя в роли Золушки? Она едва не закричала. Обогнув толпящихся репортеров, она вбежала в кабинет к Генри. Запнувшись за порог, она упала бы, если бы ее не поддержал Лайон. Анна уже начала было говорить, как дверь вдруг распахнулась настежь. Они ворвались вслед за нею! Но Генри улыбается… приветствует их. И Лайон тоже улыбается. Генри отечески обнял ее. – Теперь, Анна, придется к этому привыкать. Помолвка с миллионером случается не каждый день. – Почувствовав, что ее всю трясет, он ослабил объятия. – Ну-ну, возьми себя в руки, успокойся и скажи им что-нибудь. В конце концов ребяткам тоже надо зарабатывать себе на жизнь. Она повернулась лицом к репортерам. – Что вам нужно? – Им нужна исчерпывающая информация вот об этом, – Генри взял со стола утреннюю иллюстрированную газету и развернул ее. Анна уставилась на крупную фотографию на первой полосе. Вот она сама, улыбается… и Аллен… и стены в полоску «под зебру». И огромная шапка,набранная жирным шрифтом:«НОВАЯ БРОДВЕЙСКАЯ ЗОЛУШКА – АЛЛЕН КУПЕР ЖЕНИТСЯ НА СЕКРЕТАРШЕ».Генри опять обнял ее. – Ну, ладно, ребята. Щелкните еще раз. Подпись можете дать такую: «Генри Бэллами поздравляет свою новую секретаршу-миллионершу». И опять вспышки камер. Кто-то велит ей улыбаться… кто-то просит позволить сделать еще один снимок… кто-то забрался на стул и фотографирует ее оттуда… чьи-то голоса, доносящиеся издалека, просят ее посмотреть в том направлении. Словно морской прибой ревел у нее в ушах, и сквозь этот рев она видела Лайона Берка, который наблюдал за нею с легкой улыбкой на губах. Потом Генри стал выпроваживать репортеров из кабинета, пожимая им руки и разыгрывая из себя радушного хозяина. Когда дверь закрылась, Анна услышала его голос: «Да, познакомились они здесь, в приемной…» Она тупо уставилась на закрытую дверь. Внезапно воцарившаяся тишина казалась еще более нереальной, чем шум и суматоха. К ней подошел Лайон, протягивая зажженную сигарету. Она глубоко затянулась и закашлялась. – Успокойся, – приятным голосом сказал он. Она рухнула в кресло и посмотрела на него снизу вверх, – Что мне делать? – Все делаешь правильно. К этому ты привыкнешь. Со временем будет даже нравиться. – Я не собираюсь выходить за Аллена. – Пусть все это тебя не пугает. Каждый поначалу испытывает панический страх перед огромными газетными шапками. В кабинет вбежал Генри. – Ну! – Он смотрел на нее с нескрываемой гордостью. – Почему ты поставила меня вчера в такое дурацкое положение? Знай я, что у парня самые серьезные намерения, я не сказал бы ничего подобного. – У Анны редкий талант, – сказал Лайон. – Она заставляет говорить окружающих, всех, кто находится рядом с ней. Анна почувствовала, как к горлу подступил комок. («Настоящая леди не плачет при всех».) Это какое-то безумие. Лайон со своей холодной улыбкой… Генри со своими манерами папочки, гордящегося своей дочкой. – Сейчас же звоню в бюро по найму, – объявил Генри. – У тебя, должно быть, очень плотный график, Анна. О делах в конторе не беспокойся. Справимся. Я кого-нибудь найду. Она ощутила легкость в голове. Удивительная слабость, начинающаяся где-то в животе, казалось, отделяет голову от остального тела. Теперь все покидают ее. Генри уже перелистывает телефонный справочник в поисках бюро по найму! – Вы хотите, чтобы я ушла с работы? – от напряжения голос ее звенел как струна. Тепло улыбаясь, Генри взял ее за плечи. – Милая моя, думаю, ты еще не до конца поняла, что же происходит. Подожди, вот начнешь составлять список дел перед свадьбой – приглашения, примерки, интервью… Да тебе самой теперь понадобится секретарша. – Генри, мне нужно поговорить с тобой. – Ухожу, – сказал Лайон. – С Генри необходимо попрощаться наедине. – Он кивнул Анне и подмигнул ей. – Удачи тебе. Ты достойна всего самого лучшего. Она проследила, как он закрывает за собой дверь, и повернулась к Генри. – Не могу поверить. Похоже, я вам всем совершенно безразлична. Генри смутился. – Безразлична? Ну конечно же, нет. Мы очень рады за тебя. – Но ведь получается именно так: ты хочешь, чтобы я уволилась, и не желаешь меня больше видеть… тебе до меня уже и дела нет. Просто берешь на мое место другую девушку, и жизнь продолжается. – Нет, есть дело, – спокойно возразил ей Генри. – Есть, и еще какое. Неужели ты думаешь, что хоть одна может сравниться с тобой? Неужели ты думаешь, что я только и думаю, кем бы тебя заменить? Но что за друг я был бы, если бы стал удерживать тебя? А вот что ты за друг? Хочешь уволиться и никогда больше не видеться со мной? Ну уж нет! Так легко от меня не отделаешься. Жду приглашения на свадебное торжество… надеюсь быть крестным отцом твоего первенца: Черт возьми, да я буду крестным отцом их всех. Я даже полюблю Аллена. Да фактически я ничего против него и не имею. Просто он настолько чертовски богат, что я боялся, как бы он не обидел тебя. Но сейчас все иначе, теперь я люблю его деньги! Она опять почувствовала комок в горле. – И Лайону тоже безразлично? – Лайону? – озадаченно переспросил Генри. – А с чего бы Лайону это должно быть небезразлично? Его почтой занимается мисс Стейнберг и… – Он вдруг осекся. Выражение его лица изменилось. – Нет… – почти простонал он. – Только не ты, Анна. Всего один раз, черт подери, пообедали вместе, и ты уже у него на крючке? Она отвела глаза. – Дело не в этом… но мы беседовали… я думала, мы с ним друзья… Генри тяжело опустился на кожаную кушетку. – Иди сюда. – Она села рядом, и он взял ее руки в свои. – Послушай, Анна, если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он точь-в-точь походил на Лайона. Но если бы была дочь, я наказал бы ей держаться от него за милю! – Я что-то не очень понимаю. – Дорогая моя… я ни на что не намекаю, но есть мужчины, от которых женщинам одно горе. Аллен всегда был таким, но ты изъяла его из обращения. – В каком смысле «одно горе»? Он пожал плечами. – Им все легко достается. Аллену – потому что у него есть деньги. Лайону – потому что он так дьявольски красив. И в известной степени, я их понимаю. Зачем этим парням довольствоваться одной девушкой, когда они могут иметь их всех, только руку протяни? Но ты, Анна, заполучила Аллена – во всем городе не найти человека, который отважился бы побиться об заклад, что такое может произойти. И вместо того, чтобы торжествовать и бить в литавры, ты сидишь тут и хнычешь. – Генри, я не люблю Аллена. Встречалась с ним месяца полтора, и ничего больше. Не знала даже толком, кто он такой. То есть думала, что простой страховой агент. И вдруг позавчера вечером началось все это. Глаза Генри превратились в узкие щелочки. – Значит, для тебя он сейчас словно бы незнакомый человек, так? – Именно так. – Ас Лайоном обедаешь всего один раз, и вы уже задушевные друзья? – Не правда! Сейчас я говорю об Аллене. Я не люблю его. А Лайон тут совершенно ни при чем. – Лжешь. – Генри, клянусь тебе. Аллен никогда для меня ничего не значил. – Тогда почему же ты встречалась с ним все эти полтора месяца? Он был для тебя хорош, пока не появился Лайон? – Не правда. Я встречалась с ним потому, что никого больше не знала. Мне было его жалко. Казалось, он мухи не обидит. У нас и речи-то о любви никогда не было. Он даже ни разу не попытался поцеловать меня, когда мы с ним прощались. И вот позавчера вечером… – она замолчала, стараясь справиться с охватившим ее волнением. Когда она заговорила вновь, голос ее стал тише. – Генри, я сказала Аллену, что не люблю его. То же самое я сказала и его отцу. – Ты сказала им это? – недоверчиво переспросил он. – Да, обоим. – И какова же была их реакция? – Вот это-то и есть самое невероятное. Никогда не встречала таких людей: они словно пропускают мимо ушей все, чего не желают слышать. Аллен постоянно твердит, что любит меня… и что я тоже со временем его полюблю. – Такое действительно может произойти, – тихо сказал Генри. – Иногда это – лучшая разновидность любви. Быть любимой. – Нет! Я хочу большего. – Ну, разумеется. К примеру, остаться работать здесь! – раздраженно съязвил Генри. – Нарисовать тебе картину твоего будущего? Ты отказываешь Аллену. Конечно, а почему бы и нет? Ведь миллионеров, делающих предложение, хоть пруд пруди. Спустя некоторое время все это заглохнет. Аллен начнет ухаживать за другой. Но ты-то считаешь, что будешь встречаться с Лайоном. Ты ведь хочешь этого, не так ли? О, это будет восхитительно… вначале. Ну, может быть, с месяц. Потом, в один прекрасный день, я приду на работу и увижу, что глаза у тебя все мокрые и красные. Ты сочинишь мне что-нибудь насчет головной боли, но глаза-то у тебя все равно каждый день будут красными, и мне придется говорить с Лайоном. Он пожмет плечами и скажет в ответ: «Генри, я, разумеется, встречался с этой девушкой. Она мне очень нравится. Но я не ее собственность. Пожалуйста, поговори с ней. Помоги от нее отделаться». – Звучит так, словно у тебя уже есть такой опыт, – горько проговорила она. – Ты всегда держишь такую речь перед своими секретаршами? – Нет, перед секретаршами – нет. Но у нас еще и не было ни одной с такой внешностью, как у тебя. А вообще-то, да, я уже произносил такие речи раньше десятки раз. К сожалению, произносить их мне приходилось уже после того, как непоправимое уже совершалось, когда они испытывали к нему всепоглощающую неразделенную любовь. Но они, по крайней мере, не разбрасывались миллионерами. – Послушать тебя, так он отъявленный негодяй. – Почему негодяй? Обыкновенный мужчина, свободный и неженатый. И любая девушка, которая ему нравится, вполне подходит ему. На данный момент. А моментов таких чертовски много. И подходящих девушек в этом городе тоже чертовски много. – Не могу поверить, что так ведет себя каждый мужчина. – Лайон Берк – это не «каждый мужчина». Точно так же, как и Нью-Йорк – это не «каждый город». Конечно, возможно, и наступит такое время, когда Лайон утихомирится и остановится на какой-либо одной девушке. Но до этого еще надо дожить… и даже тогда в действительности он никогда не остановится только на ней. Зазвонил телефон. Анна машинально встала, чтобы снять трубку. Генри взмахнул рукой. – Сиди, наследница. Запомни, ты здесь уже не работаешь. – Он подошел к столу сам. – Алло… конечно, соедините. Привет, Дженифер. Да, все улажено… Что? Да, как насчет этого? Само собой, сидит прямо здесь. Конечно, вне себя от восторга. Видела бы ты ее сейчас – протирает мой ковер, пляшет на нем от радости. – Он повернулся к Анне. – Дженифер Норт передает тебе свои поздравления. – Он отвернулся. – Да, еще как повезло… Слушай, крошка, контракты должны быть готовы сегодня. Как только ознакомлюсь с ними и одобрю, сразу же передаю тебе на подпись… Прекрасно, дорогая… сверим все около пяти часов. – Он положил трубку. – Славная девочка эта Дженифер Норт. – Кто это? – О-о, перестань, – простонал Генри. – Ты что, газет не читаешь? Она только что бросила принца. Несколько дней не сходила с первых полос. Влетела в город ниоткуда, как циклон, – вообще-то она из Калифорнии, примерно твоих лет, и – бац! – появляется этот принц. Самый настоящий, и тоже набит деньгами. Ухаживает за нею, ну, и все как полагается: норковое манто, перстень с бриллиантом… АП, ЮП [12] и вся пресса – взахлеб. Какой-то мэр из штата Нью-Джерси совершает обряд бракосочетания. Все знаменитости Нью-Йорка являются на торжественный прием. Проходит четыре дня – и опять шапки на всех первых полосах: «Она требует расторжения брака». – Но ты же адвокат не по бракоразводным делам. – Нет. У нее уже есть хороший адвокат, он сейчас занимается этим, но он рекомендовал ей меня как менеджера по деловым вопросам. Ей такой явно нужен. Для такой смышленой девицы она совершила один глупый поступок. Похоже, она подписала небольшую бумажку, нечто вроде предварительного брачного соглашения. И если она захочет уйти от него, то не получит ни цента. А уйти она хочет. Почему именно – сказать отказывается, просто хочет отделаться от него и все. Так что придется ей работать. – Она талантлива? – Талант ей ни к чему. Стоит ей только захотеть, и она сразу же будет сниматься в кино. Ты еще не видела такие правильные и тонкие черты. А фигура… Я бы сказал, что Дженифер Норт едва ли не самая красивая девушка в мире. – Он помолчал. – Хотя теперь это не так. Ты красивее, Анна. Чем дольше мужчина смотрит на тебя, тем красивее ты для него становишься. Но Дженифер… ее красота бросается в глаза. Стоит мужчине взглянуть на нее, как между ним и ею возникает дуга напряжением в тысячу вольт. Она умеет это делать. Как только мы добьемся расторжения брака и она впервые появится в «Небесном Хите», я наверняка устрою ей крупный контракт с киностудией. – Она поет? – спросила Анна. – Я же тебе сказал: она не делает ничего. – Но если она в «Небесном Хите»… – Я поставил ее на небольшую роль, что-то вроде ведущей хористки, но с крупным портретом в афишах. Элен одобрила. Этому я еще давно Элен научил: пусть ты талантлива, и ведешь все шоу сама, но все равно окружай себя красивыми декорациями и красивыми статистками. Но зачем я говорю об Элен и Дженифер? Меня беспокоишь ты. А с ними мне еще предстоит иметь дело. – Генри, я хочу остаться работать у тебя. – Другими словами, хочу рискнуть и попытать счастья с Лайоном Берком, – съязвил он. – Даже не взгляну на него, если тебя это волнует. Генри покачал головой. – Ты просишь разбить себе сердце, а я не собираюсь принимать в этом участия. А теперь убирайся отсюда, ты уволена! Ступай, выходи замуж за Аллена Купера и будь счастлива. Она встала. – Что ж, я уйду. Но замуж за Аллена Купера я не выйду. Найду себе другую работу. – Она направилась к двери. – Давай, давай. Если уж гробишь себе жизнь, то мне, по крайней мере, не придется сидеть и созерцать это. – Ты не настоящий друг, Генри. – Я лучший друг, какой у тебя когда-либо будет. – Тогда, пожалуйста, позволь мне остаться, – взмолилась она. – Генри, ты не понимаешь. Я не хочу выходить замуж за Аллена. Но если я уйду отсюда и найду другую работу, она может мне не понравиться. И Аллен будет давить на меня, и вся эта шумиха в газетах, если я сменю работу… и отец Аллена со своими вопросами. Ты не знаешь, что происходит, когда Джино и Аллен принимаются за дело. Меня словно несет куда-то против моей воли. Генри, помоги мне. Я не хочу выходить замуж за Аллена Купера! – Анна, у него миллионы, возможно, миллиарды. – Я сбежала от Вилли Хендерсона из Лоренсвилла, Генри. Возможно, у него не столько миллионов, сколько у Аллена, но деньги у него есть. И я знаю Вилли и всю его семью с детства. Неужели ты не видишь, что для меня это ничего не значит? К деньгам я равнодушна. Он немного помолчал. – О’кей, – сказал он наконец. – Можешь оставаться… при одном условии. Ты будешь помолвлена с Алленом. – Генри! Ты с ума сошел? Ты что, оглох? Я не хочу выходить замуж за Аллена. – А я и не говорю «выходить замуж». Я сказал «будешь помолвлена»! Таким образом, ты будешь в безопасности. – «В безопасности»? – Да. По крайней мере, я не буду беспокоиться за то, что у тебя что-то возникнет с Лайоном. У него есть одна особенность – он не отбивает девушек у других. Она слабо улыбнулась. – По крайней мере, ты признаешь за ним хоть какой-то кодекс чести. – Какой там еще «кодекс чести»? Просто ему ни к чему неприятности на свою голову. В нем заложено слишком сильное стремление к свободе. – А как же я? Если я буду помолвлена, то что мне делать с Алленом? – Потяни с ним. Ты это можешь. Сумела привязать его к себе, сумеешь и потянуть немного. – Но это же нечестно! Я хоть и не хочу выходить за Аллена, но он все-таки нравится мне как человек. Это было бы непорядочно. – В конечном счете, такое твое поведение окажется более порядочным со всех сторон. Прежде всего, оно будет порядочно по отношению ко мне: у меня и без тебя предостаточно хлопот с постановкой этого шоу. И порядочным по отношению к Аллену… да-да, к Аллену. Потому что у него, по крайней мере, появится возможность хорошенько разобраться в своих чувствах. Но прежде всего ты поступишь справедливо по отношению к себе самой, потому что сейчас ты не видишь вокруг себя ничего и никого, кроме Лайона Берка. – Он поднял руку, не желая слушать возражений. – Что бы ты себе ни думала, но ты в него втрескалась. Повремени, осмотрись, почитай в газетах хронику бродвейской жизни, и ты узнаешь, как часто он меняет девиц. Сияющий ореол, все еще излучаемый им после вашего замечательного обеда, быстренько померкнет. А ты сохранишь свою девственность и избавишь себя от глубоких сердечных переживаний. – Он улыбнулся, увидев, что она зарделась. – Послушай, Анна, ты действительно редкая девушка, и мы обязаны заботиться о тебе. Подумав немного, Анна отрицательно покачала головой. – Я не смогу. Генри. Это означало бы жить во лжи. – Анна… – мягко заговорил он. – Со временем ты поймешь, что вокруг тебя не только черный и белый цвета. Ты можешь остаться честной по отношению к Аллену. Скажи ему, что в Нью-Йорке для тебя еще все ново, что хочешь немного пожить самостоятельно, для себя, а не бросаться очертя голову замуж. Когда тебе исполняется двадцать один год? [13] – В мае. – Прекрасно. Вот и скажи ему, что хочешь подождать до этого времени. – А что потом? – До мая могут сбросить еще одну атомную бомбу. Аллен может познакомиться с другой. Лайон Берк может заделаться «голубым». Да кто знает, случиться может всякое. Ты даже можешь влюбиться в Аллена. Но можешь и передумать до мая. Запомни, ты ничем не связана до тех пор, пока не предстанешь перед алтарем. И даже тогда у тебя есть путь к отступлению, пока не произнесены заключительные слова. – Послушать тебя, все оказывается так легко и просто. – Когда совершаешь восхождение на Эверест, нет ничего ни легкого, ни простого. Ты лишь постепенно делаешь шаг за шагом, избегаешь смотреть вниз и не сводишь глаз с вершины.
* * *
Приехав к себе, Анна обнаружила все тех же репортеров и фотокорреспондентов перед домом. Низко опустив голову, она вбежала в подъезд и рванула по лестнице вверх, пытаясь спрятаться. Нили уже стояла, поджидая ее. – Анна, о господи, я чуть в обморок не упала, когда сестра позвонила мне сегодня утром. Вот. – Она с гордостью протянула ей что-то плоское, завернутое в бумагу. – Мой подарок к твоей помолвке. Это оказалась общая тетрадь, в которой были наклеены вырезанные из газет статьи и репортажи об Анне с ее фотографиями. – Целый день головы не поднимала, – гордо заявила Нили. – Заполнила шесть страниц, и это еще только начало. Подожди до свадьбы и… Господи, ну и прославишься же ты! Вечером Аллен заехал за ней на лимузине. – Поужинаем вдвоем, – сказал он, – но, когда подадут кофе, приедет Джино. Знаю, я обещал, что мы будем одни, но он настаивает, чтобы мы поехали с ним на первое выступление Тони Полара в «Ла-Ронд». – Тони Полара? Аллен улыбнулся. – Анна, только не пытайся меня уверить, будто не принадлежишь к числу его поклонниц. – Да я никогда даже не слышала о нем. Аллен рассмеялся. – После Синатры он – крупнейшая сенсация эстрады. – Подавшись вперед, он приказал водителю: – Леон, поехали через парк, я скажу, где остановиться. – Он нажал кнопку и поднял прозрачную перегородку, отделяющую пассажиров от водителя. – Возможно, ты умираешь с голоду, но у меня есть особые основания сперва проехаться. Он взял ее за руку. Она отдернула ее. – Аллен, мне нужно поговорить с тобой. – Не сейчас. Закрой-ка глаза. – Он со щелчком открыл выложенную бархатом коробочку. – Теперь смотри. Надеюсь, будет в самый раз. Даже в полутьме автомобиля, лишь время от времени рассеиваемой уличными фонарями, было видно, какой в перстне огромный бриллиант. Анна отстранилась и съежилась. – Я не могу его взять. – Он тебе не нравится? – «Не нравится»? Да это. самое потрясающее из всего, что я когда-либо видела. – Десять каратов, – просто сказал он. – Но благодаря прямоугольной огранке он вовсе не такой уж претенциозный. – Ну, разумеется, – нервно рассмеялась Анна. – У каждой секретарши есть такой. – Да, к слову, ты уже уведомила Генри Бэллами о своем уходе? – Нет, и не собираюсь. Аллен, ты просто обязан меня выслушать. Мы не помолвлены… Он надел перстень ей на палец. – В самый раз. Она пристально посмотрела ему в глаза. – Аллен… ты не способен понять то, что я пытаюсь тебе объяснить? – Способен. Ты не любишь меня. – Тогда зачем же ты продолжаешь в том же духе? – Потому что ничего недостижимого на свете нет, если только ты достаточно сильно хочешь этого. А я никогда ничего не хотел по-настоящему… пока не встретил тебя. Я окончательно решил обладать тобой, Анна. Дай мне только шанс. Это все, чего я прошу. Последние несколько недель ты видела меня в обличье какого-то забитого ничтожества. Пробудешь один месяц со мной настоящим и тогда либо полюбишь, либо возненавидишь меня. Я воспользуюсь этим шансом. Он опустил перегородку. – О’кей, Леон. А теперь – в «Аист-клуб». Анна молчала. Неужели он и в самом деле думает, что все изменится? Богат он или беден, но сущность-то та же самая. Аллен останется Алленом и в дешевом французском ресторанчике, и в «Марокко». Она почувствовала себя так, словно весь мир навалился на нее. Легко было Генри, сидя за своим столом, оперировать чистыми фактами и выдвигать ультиматумы. Он не имел дела с живыми людьми. Не видел выражения глаз Аллена. Всю дорогу она сидела подавленная и не знала, что сказать, когда сквозь строй управляющих всех рангов они входили в Уютный зал «Аист-клуба» («Это единственный такой зал») и им преподносили подарок в коробочке, обернутой в красивую бумагу («Это духи. Шерман посылает их всем своим любимцам»), и бутылку шампанского («Нам лучше выпить его, а то оскорбим Шермана в его лучших чувствах»). Джино приехал в десять, приветствуя друзей, сидящих за разными столиками, своим громким раскатистым голосом, от чего Аллен слегка нахмурился. Наконец Джино сел за их столик и стал открывать бутылку шампанского. – Отец, здесь не принято скакать от одного столика к другому, – тихо заметил Аллен. – Ты ведь знаешь, они этого не любят. – А мне-то что? – громко ответил Джино. – Слушай, малыш, это ты здесь постоянно сшиваешься, вот и соблюдай все эти штучки. А у меня все эти снобы вот где сидят. Когда кто-то хочет получить от меня мои деньги, то я желаю вести себя так, как мне удобно, а не выполнять всякие дурацкие правила. А что делаешь ты – это уж твое дело. На лице Аллена было написано облегчение, когда они вышли из «Аист-клуба» и поехали в «Ла-Ронд». Судя по навязчивым и подобострастным приветствиям управляющего, «Ла-Ронд» был одним из любимых клубов Джино. Некоторых официантов он обнимал, называя их «paisan», когда они почтительно сопровождали его к одному из лучших столиков у самой сцены. Было одиннадцать часов, и зал был уже полон. Джино заказал бутылку шампанского и бутылку шотландского виски. – Адель любит шотландское виски, – пояснил он. – Она подъедет после выступления. Говорит, что с шампанского полнеют. Анна наблюдала за людьми, толпящимися у столиков, спорящими друг с другом из-за лучшего места и незаметно сующими купюры в руку мэтру. Фотографы, нанятые клубом специально для прессы, подошли ближе, сфотографировали Анну и Аллена и опять отошли к входной двери в ожидании других знаменитостей. Адель приехала в половине двенадцатого, еще в сценическом гриме. – Почему на тебе эта гадость? – рассердился Джино. – Знаешь ведь, что я ее терпеть не могу. – Не дуйся, миленький. Я только немного припудрилась и сняла искусственные ресницы. Я не хотела ничего пропустить, а на то, чтобы все это снять и накраситься заново, ушла бы уйма времени. – Говоря это, она осматривала весь зал. – Боже, сегодня самая крупная премьера. Все здесь. – Она оживленно помахала рукой какому-то репортеру. – Года два назад это был Синатра, – сказал Аллен, – а сейчас женщины готовы умереть из-за Тони Полара. Отказываюсь понимать. – Не бери в голову, – усмехнулся Джино, – оба они наши paisan’ы. – Эй, гляди-ка, – показала пальцем Адель. – Там, в дверях, Элен Лоусон. Посмотри-ка на ее норку, почти совсем красная стала. Готова спорить, что ей уже лет десять. Это с ее-то деньгами. Я слышала, она такая скупердяйка… Э-э, а это, должно быть, Дженифер Норт. – Черт меня побери! – Джино грохнул кулаком по столу. – Вот это, называется, фигурка! Эй, Адель, рядом с ней ты похожа на мальчишку. Внимание Анны тоже было приковано к Дженифер Норт, которую сейчас окружали фотографы. Девушка была, вне всякого сомнения, истинной красавицей. Высокой, с потрясающей фигурой. Расшитое мерцающим хрустальным бисером белое платье с глубоким декольте во всей красе демонстрировало восхитительно высокий бюст и умопомрачительную ложбинку, делящую его надвое. Длинные волосы были почти совершенно белокурыми. Анна, однако, не могла оторвать взор от ее лица – лица, настолько прекрасного своей естественной красотой, что оно являло собой разительный контраст с театральной красотой ее волос и фигуры. Это было идеальное лицо с прелестной линией рта, точеным подбородком, высокими скулами и умным выражением. Глаза смотрели мягко и дружелюбно, а маленький прямой носик, казалось, принадлежит красивому ребенку, так же как ровные белые зубы и ямочки на щеках. Это было невинное лицо – лицо, которое взирает на происходящее вокруг с нескрываемым волнением и вместе с тем доверчиво-восторженно, будто не отдавая себе отчета в том, какое потрясение у окружающих вызывает фигура. Лицо, излучающее живой неподдельный интерес к любому, кто бы ни обратился к его обладательнице, и светящееся приветливой улыбкой, посылаемой как дар. Совершая волнообразные колышащиеся движения, подчеркиваемые переливающимся платьем, фигура со всеми своими прелестями продолжала позировать перед пожирающей ее глазами толпой и вспыхивающими фотокамерами, однако лицо никак не реагировало на всю эту суету и приветствовало всех окружающих с таким теплым и радушным выражением, словно девушку представляли нескольким незнакомым людям на дружеской вечеринке. Каким-то образом управляющему все же удалось провести ее к столику у самой стены, расположенному как раз напротив их столика. Анна увидела Генри Бэллами, только когда все расселись. – Слушай, а твой босс умеет подбирать себе девиц, – заметил Аллен. – Элен Лоусон и Дженифер Норт. Комплект – закачаешься. – Нет, там еще один мужчина, – сказала Адель. – Смотри, он как раз садится. Это, наверное, он с Дженифер. Э-э, да он красавчик! – Это Лайон Берк, – тихо сказала Анна. – А-а, так вот, значит, какой этот Берк, – сказал Аллен. Анна кивнула, наблюдая за тем, как Лайон помогает Дженифер повесить меховую накидку на спинку стула. За эту любезность Дженифер наградила его ослепительной улыбкой. Аллен присвистнул. – Интересно, будет ли эта златокудрая Венера резвиться с ним сегодня ночью на моей старой кровати? – Она – клиент мистера Бэллами, – холодно произнесла Анна. – По-моему, Лайон Берк просто сопровождает ее. – Ну конечно. И заставляет Генри платить ему сверхурочные за столь малоприятное задание. – Что ж. Генри напал на золотую жилу с Элен Лоусон, – сказал Джино. – Эта старая перечница приносит больше доходов, чем компания Эй-Ти-энд-Ти. Она уже, конечно, не молоденькая кобылка, и жизнь ее порядком потрепала, но я не пожалею пятидесяти долларов своему брокеру за пару билетов на ее шоу. Голос у нее что надо. Аллен показывал на непрекращающийся поток знаменитостей, излагая во всех подробностях личную жизнь каждой из них. Анна делала вид, что с интересом слушает, однако все ее внимание было приковано к столику Генри, куда она постоянно бросала взгляды. Что уж такого забавного может говорить девушка, подобная Дженифер? И что говорит ей Лайон? Очевидно, что он рассказывает не о том разбомбленном амбаре и погибшем капрале. Ей было видно, как он хохочет, откидывая назад голову. Он не смеялся так, когда обедал с нею. Нет, для него она была всего-навсего скучной секретаршей с работы, настаивавшей на том, чтобы он писал книгу, и вызывавшей у него настолько неприятные ассоциации, что он вспоминал жуткие сцены из своего прошлого. Она отвернулась, когда он прикурил сигарету и протянул ее Дженифер. Внезапно в зале воцарился полумрак. Официанты еще быстрее забегали между столиками, принимая последние заказы. Постепенно все стихло, публика замерла в ожидании, в зале стало совсем темно, воцарилась полная тишина, и оркестр заиграл мелодию, ассоциирующуюся с Тони Поларом. Луч прожектора выхватил из темноты часть подиума, на нем появился Тони, встреченный бурной овацией. Он поклонился и принял аплодисменты с приятной скромной улыбкой на лице. Он был высокого роста и хорош собой, а мальчишеское выражение придавало ему беззащитный и вместе с тем привлекательный вид. Девушка доверилась бы ему. Женщина испытала бы потребность опекать его. Хотя внешне он казался застенчивым, пел он хорошо, легко и уверенно владея вниманием публики. Исполнив несколько песен, он ослабил узел галстука, показывая, что и в самом деле тяжело трудится, и, взяв микрофон в руку, стал ходить по залу, останавливаясь у столиков, за которыми сидели знаменитости, исполняя специально для них отдельные куплеты, дурачась с репортерами, выбирая несколько почтенных женщин и выказывая им свое особое расположение, исполняя для них места о любви, улыбаясь при виде того, как они, не скрывая своего восторга, пожирают его глазами, забыв о сидящих рядом мужьях. Когда он проходил мимо Дженифер, их взгляды встретились. Он пропустил куплет и быстро пошел к другому столику. Затем, словно не веря собственным глазам, вернулся и допел песню до конца, не сводя с Дженифер пристального взгляда. Публика, моментально превратившись в единого соглядатая, с повышенным интересом наблюдала за ними. Допев песню до конца, Тони поклонился красавице, вернулся в центр зала и всю оставшуюся часть концерта ни разу даже не посмотрел в ее сторону. Публика ни в какую не хотела отпускать его. Он кланялся, не переставая. Зажегся свет, но аплодисменты не смолкали. Люди топали ногами, вызывая его на бис, раздавались крики «Браво! Еще!». Оркестр неуверенно взял несколько тактов его темы, словно ожидая какого-то точного указания. Аплодисменты уже переходили в овацию. Тони Полар стоял на одном месте, улыбаясь своей благодарной мальчишеской улыбкой. Он показал себе на горло, давая понять, что устал. Овация стала еще оглушительнее. Тогда, добродушно пожав плечами, он быстро посоветовался с аккомпаниатором и вернулся в центр подиума. Когда заиграла музыка, он повернулся и запел, уже явно обращаясь к Дженифер. Это была банальная любовная песенка, и, как во многих популярных шлягерах, слова в ней легко приобретали личностный оттенок. Казалось, она была написана специально для того, чтобы Тони Полар мог признаться Дженифер и еще восьмистам присутствующим в зале, что он только что встретил свою любовь. Допев до конца, он поклонился публике, повернулся и вновь пристальным взглядом неприлично долго стал смотреть на Дженифер. Наконец он сошел с подиума. Опять раздались настойчивые аплодисменты, но освещение зажглось полностью, и оркестр заиграл громкую танцевальную музыку. Аллен пригласил Анну на танец. Вставая, она увидела Лайона, ведущего Дженифер под руку к площадке. Увидев Анну, он помахал ей рукой. – Анна! А это наверняка Аллен, бывший владелец моей теперешней квартиры. – Обаятельная улыбка скользнула по его лицу. Они представили своих спутников и поплыли в такт музыке. Несколько раз Анну задевали, толкая, другие пары, вплотную приближавшиеся к ним, чтобы вблизи посмотреть на Дженифер. Та приветливо улыбнулась Анне. – Просто невыносимо. При каждом движении у меня с платья слетает штук сто бисеринок. Не зная, что на это ответить, Анна сумела лишь выдавить холодную улыбку. Танцуя, они разошлись в разные стороны, и Аллен увлек ее в другой конец небольшой площадки. Толпа начала таять, посетители стали быстро расходиться. Осталось лишь несколько человек, допивавших то, что стояло у них на столиках. Анна заметила, что столик, за которым сидела Дженифер, опустел одним из первых. «Интересно, куда они направились? – подумала она. – Наверное, куда-нибудь, где танцевальная площадка побольше». Голова у нее раскалывалась, и ей страшно хотелось домой, но Джино не проявлял желания завершить вечер. – Поехали в «Марокко», и на этом закончим, – сказал он. В душе Анна горячо благодарила Адель, которая заявила, что уже слишком поздно. Завтра у нее дневное представление.* * *
Несколько дней спустя имя Анны опять появилось в газетах. Ронни Вульф писал о перстне, подаренном ей к помолвке. Она пришла на работу, где ее уже ждали, дрожа и сгорая от нетерпения, мисс Стейнберг и девушки. – Давай посмотрим! – потребовала секретарь по приему посетителей. – Когда он подарил тебе его? – В нем действительно больше десяти каратов? – спросила мисс Стейнберг. Анна неохотно выставила руку, и они стали вздыхать, любуясь бриллиантом. До этого она носила перстень камнем внутрь, и никто не замечал его. Перстень был слишком ценным, чтобы оставлять его дома, в меблированной комнате, и она дала себе слово, что вернет его Аллену как можно скорее. И вот теперь о перстне написали в газете. Она разбирала почту, когда вошел Лайон Берк. Подойдя к столу, он взял ее за руку и, подержав на весу, отпустил. – Ого, тяжеловато, не так ли? – и добавил: – По-моему, он хороший парень, Анна. – Он очень мил, – запинаясь ответила она. – И Дженифер Норт тоже, по-моему, очень мила. На его лице отразилось любопытство. – Дженифер Норт одна из самых красивых девушек, которых я когда-либо встречал, – спокойно сказал он. – Она действительно красива. – С этими словами он удалился в свой кабинет. Она осталась сидеть за столом, чувствуя себя несчастной. Неужели ее слова прозвучали неискренне? Да, Дженифер действительно красива. Именно это она и имела в виду. Возможно, неверное, впечатление создалось у него оттого, что она говорила взволнованно. В перерыв она на скорую руку пообедала с девушками и целый час гуляла по Пятой авеню. Глядя отсутствующим взглядом на выставленные в витрине новинки косметики, она думала о Нили. Вчера она купила ей на счастье талисман – кроличью лапку: сегодня утром начинались репетиции «Небесного Хита». Анна завидовала этой девушке, такой жизнерадостной и простой. С такими, как Нили, никогда ничего плохого не случится. Вернувшись на работу, она обнаружила на своем столе газету. Вероятно, одна из девушек положила ее туда. Наверное, еще одна заметка о перстне. Анна уже намеревалась бросить ее в корзину для бумаг, как вдруг увидела листок из фирменной бумаги, прикрепленный скрепкой к верхнему углу газеты. На нем было напечатано: «Справка от Лайона Берка» и приписано его почерком: «Может представлять интерес для Анны Уэллс. Репортаж на стр. 2». Там оказалась великолепная фотография Дженифер и Тони Полара! И жирный броский заголовок «Новая любовь на Бродвее». Статья была написана лицемерным языком и словно в шутку. Тони якобы сказал: «Едва завидев ее, я застыл, как пораженный молнией». Дженифер приписывались менее экспрессивные выражения, но и она застенчиво признавала, что их симпатия является взаимной. Познакомил их после выступления их общий друг Лайон Берк. «Лайон просто привел и вручил ее мне, – продолжал Тони. – Он сказал мне: „Тони, я же говорил, что у меня есть подарок для тебя к твоей премьере“. Сложив газету, Анна откинулась на спинку стула, внезапно ощутив во всем теле слабость от неизъяснимого счастья, захлестнувшего все ее существо. «Лайон вручил ее мне…». Эта строчка не выходила у нее из головы. – Анна… Она очнулась от своих грез. Рядом стояла Нили. – Анна, я понимаю, это ужасно, что я пришла прямо сюда. Но я не могла идти домой. Мне необходимо было тебя увидеть. – Нили была вся в слезах. – А почему ты не на репетиции? – спросила Анна. Нили вдруг расплакалась навзрыд. Анна метнула встревоженный взгляд на закрытую дверь кабинета Генри. – Сядь, Нили. – Она усадила Нили на свое место. – Посиди успокойся… возьми себя в руки. Сейчас я надену пальто, и мы пойдем домой. – Не хочу я домой, – упрямо проговорила Нили. – Не могу видеть свою комнату. Я была такая счастливая, когда уходила оттуда сегодня утром. Даже написала помадой на зеркале: «Гаучерос» покоряют Бродвей». Не могу видеть теперь эту надпись. – Но, Нили, нельзя же вот так сидеть здесь и… так распускаться. – Кто сказал нельзя? Я колледжей не кончала. Раз у меня не вышло совладать с собой, то пусть это произойдет там, где случилось. А сейчас это случилось со мной здесь. – Слезы ручьем хлынули из ее глаз по щекам и прямо на платье. – О-о-о-о, – она зарыдала еще сильнее. – Посмотри… мое новое платье, а теперь оно все мокрое от слез. Оно пропало, верно? – Застегни пальто. Все высохнет и будет незаметно. – Анна наблюдала, как Нили послушно застегивает пуговицы. В душе ей вовсе не было жаль этого платья. (Когда Нили принесла его домой, Анна сказала ей: «Нили, в платьях из красной тафты на работу не ходят». – «Вот ты и не ходи, – ответила ей тогда Нили, – а мне хочется выделяться на репетициях».) Анна села. – Хорошо, Нили, раз ты стоишь на своем, так и быть, оставайся здесь. Успокойся и все расскажи. Почему ты не на репетиции? – Анна, меня не включили в это шоу. – Ты хочешь сказать, не включили весь номер «Гаучерос»? – Ах, Анна, все было ужасно! И да… и нет. – Ну-ну, давай с самого начала и по порядку. Что случилось? – Я приехала туда сегодня утром на целых пять минут раньше. Вся тряслась от волнения, а в сумочке у меня лежал твой талисман, кроличья лапка. Тут появился какой-то костлявый гомик со стрижкой ершиком и принес тетрадку со сценарием. Потом подъехали Дик с Чарли… – Нили, давай ближе к делу. – Да к какому там еще делу? Я рассказываю, как все было. Потом появились хористки. Я почувствовала себя настоящей замарашкой.. Даже в этом новом платье. Ты бы видела, как они разодеты. Шесть – в натуральных норковых шубах, а остальные – в бобровых или из чернобурой лисицы. В простом пальто – ни одной. И все знакомы друг с дружкой, кроме нас. А уж когда приехала Дженифер Норт, можно было подумать, что явилась сама Рита Хэйуорт. Помощник режиссера бросился к ней и ну ворковать, как она осчастливила их своим согласием и все такое. Она опоздала аж на десять минут, а он все равно рассыпается в любезностях: до чего, мол, рад, что она нашла время приехать. Я чувствовала себя так паршиво, словно нам дали от ворот поворот. Со стороны мы выглядели как дешевый эстрадный номер. Чарли был какой-то прилизанный. Дик смахивал на гомика сильнее, чем обычно, а мое платье из тафты смотрелось как дешевка за десять долларов с распродажи. Минут пятнадцать все друг с другом здоровались и трепались о последнем шоу, в котором они все вместе участвовали. Даже ребята из кордебалета знают друг друга. Потом сам главный режиссер пожаловал. По-моему, тоже гомик… – Нили… – Анна пыталась скрыть свое раздражение. – Пожалуйста, говори мне только то, что произошло. – А я что делаю? Ничегошеньки не упускаю. Потом вошла сама Элен Лоусон, будто королева английская. Главный представил ее всем со словами: «Внимание всем! Звезда нашей труппы мисс Лоусон». У меня было такое чувство, что мы все должны вскочить и запеть государственный гимн, не иначе. Главный обошел с ней всех и представил ей тех, кого она не знала. Потом познакомил ее с нами… – Нили осеклась. Глаза ее опять наполнились слезами. – И что же потом? – требовательно спросила Анна. – Дику и Чарли она кивнула, а на меня посмотрела, как на пустое место. Она была холодна как лед, Анна. И говорит Дику, да так строго: «Ах, да. Вы – те самые „Гаучерос“. Будем танцевать вместе. Вы, ребятки, ешьте-ка побольше шпината, потому что вам придется подбрасывать меня». Вот именно. Ее. Я встала и сказала: «Э-э, мисс Лоусон. Вы же знаете, нас, „Гаучерос“ – трое. И я – одна из них. Я – Нили…». А она даже не взглянула на меня, отвернулась и говорит главному: «Я думала, что все уже улажено». Потом повернулась и ушла. Несколько минут спустя главный режиссер отвел Чарли в сторону, и они побеседовали недолго. Со стороны это выглядело так, словно он давал Чарли от ворот поворот, а Чарли пытался ему что-то объяснить. Потом Чарли подходит ко мне и говорит: «Послушай, Нили, они включают нас в программу, но не совсем с нашим танцем. Нас включили потому, что хотят, чтобы мы сделали им комедийный номер – пародию на свой танец. Действие будет происходить как бы во сне, и нам нужно будет подбрасывать Элен Лоусон в воздух». – А как же ты? – спросила Анна. – У тебя же есть контракт. Нили покачала головой. – Наши контракты всегда подписывает Чарли. В этом же указаны только «Гаучерос». Он на пятьсот долларов в неделю. Чарли и Дик должны были получать по двести, а я – сто. А теперь Чарли говорит, что свою сотню я получаю в любом случае, даже если и не буду выступать. Но я ему не доверяю. Раз он с такой легкостью выкинул меня, как я могу ему верить, что он мне заплатит? Да и потом, что я теперь должна делать? Я никого здесь не знаю, вся моя жизнь – в этом номере. – Да, это действительно ужасно, – согласилась Анна. – Но я понимаю, перед какой дилеммой оказался Чарли. Если на него это предложение свалилось совершенно неожиданно, то ведь он не мог просто взять и хлопнуть дверью и отказаться от таких денег. Может быть, чтобы заняться хоть чем-то, тебе надо подыскать другую работу? – А что я буду делать? – Ну-у… пойдем домой и поговорим об этом. Что-нибудь придумаем. Могу направить тебя в то самое бюро по найму, куда сама обращалась и… – Печатать я не умею. Колледжей не кончала. Я же ничего не умею делать… и потом, я хочу участвовать в этом шоу! – Нили опять забилась в рыданиях. – Ну пожалуйста, Нили, – взмолилась Анна. Она чувствовала на себе взгляды мисс Стейнберг и девушек, но самые худшие ее опасения материализовались тогда, когда Лайон Берк распахнул дверь своего кабинета. Она робко улыбнулась ему, когда он подошел и посмотрел на рыдающую Нили. – Это – Нили. Она немного расстроена. – Я назвал бы это явным преуменьшением. Нили подняла голову и посмотрела на него. – Ой, извините. Когда я плачу, у меня всегда получается громко. – Она широко раскрыла глаза. – Вы ведь не Генри Бэллами, а? – Нет, я – Лайон Берк. Нили улыбнулась сквозь слезы. – Да, вот теперь мне понятно, что Анна имеет в виду. – У Нили сегодня крупная неприятность, – быстро сказала Анна. – «Неприятность»! Да я умереть готова! – Ив подтверждение этого Нили опять затряслась в судорожных рыданиях. – Ну уж, умирать здесь, сидя на стуле с жесткой спинкой, было бы не очень-то удобно, – возразил Лайон. – Почему бы нам не перенести это печальное событие ко мне в кабинет? Удобно расположившись в кожаном кресле Лайона, Нили пересказала всю свою историю, вновь перемежая ее рыданиями. Когда она закончила, Анна посмотрела на Лайона и сказала: – Случилосьдействительно нечто ужасное. Это шоу значило для нее так много. – Но я просто не могу поверить, что Элен могла так поступить. – Да она по трупам шагает! – вскричала Нили. Лайон покачал головой. – Да нет, я ее не защищаю. Она может быть грубой… просто это не похоже на Элен. Если ей хочется кого-то уволить, она предпочитает, чтобы за нее это сделал кто-то другой… если только она сама не застигнута врасплох. – Все было так, как я говорю. Я ничего не придумала, – стояла на своем Нили. Лайон закурил и на минуту задумался. Потом сказал: – А ты бы согласилась участвовать в шоу вне состава «Гаучерос»? – Чтобы я еще с этими подонками?! Да после того, как они выпихнули меня, я пошла бы на что угодно, лишь бы в жизни больше с ними не работать. Но что я могла бы делать в этом шоу? – Мюзикл – понятие весьма растяжимое, – пояснил Лайон. – От нас зависит, вставим мы в него что-нибудь или нет. – Он снял трубку и набрал номер. Обе девушки слушали, как он просил соединить его с Гилбертом Кейсом, продюсером шоу. По-дружески непринужденно Лайон обменялся с ним приветствиями, обсудил календарь футбольных матчей на предстоящий сезон. Затем, как будто только что вспомнив, добавил: «Да, кстати, Гил, ты подписывал к исполнению номер под названием „Гаучерос“?.. Да, знаю, что Элен хочет изобразить с ними какой-то танец. Но ведь ты же знал, что „Гаучерос“ было трое… да… конечно, тебя это не касается… – Он прикрыл ладонью трубку, пока Гил Кейс что-то говорил ему на том конце провода, и прошептал Нили: – Муж твоей сестры порядочная сволочь: он выкинул тебя из состава трио до того, как подписал контракт. Нили вскочила с кресла. – Вы хотите сказать, что этот жлоб вызвал меня на репетицию и выставил меня круглой дурой специально? Да я ему… Лайон жестом велел ей говорить тише. Но Нили продолжала яростно сверкать глазами. – Я прямо сейчас поеду туда и убью его, – пробормотала она. – Слушай, Гил, – сказал Лайон, – я знаю, что вообще-то это тебя не касается. Формально ты тут ни при чем. Если ребята обещали, что о своей партнерше они позаботятся сами, то вполне естественно, что ты поверил им. Анна увидела, как Лайон пристально смотрит на Нили. Она понимала, что он тянет время. Опять зажав трубку ладонью, он шепотом спросил: – Нили, сколько тебе лет? – Девятнадцать… – Ей семнадцать, – прошептала Анна. – Приходилось говорить, что мне девятнадцать, чтобы разрешали работать в некоторых штатах, – пояснила Нили. Торжествующая улыбка озарила лицо Лайона. – Послушай, Гил, – радостно сказал он. – Мы, разумеется, не хотим никаких неприятностей. В этом шоу у нас заняты Элен Лоусон плюс хореограф и Дженифер Норт. В наших же интересах, чтобы все прошло гладко. Не хватало нам еще судебного разбирательства. Да, я сказал, «судебного». Гил, этой маленькой партнерше, которую «Гаучерос» выкинули, всего семнадцать лет. А эти ребята какое-то время возили ее с собой по всей стране и набавляли ей возраст. И вот теперь, если она вздумает подать на них в суд, они не отмоются. Наверное, контракт составлен только на «Гаучерос»… в нем ничего не говорится о согласии вносить какие-то дополнения и изменения в их номер. Гил, я знаю, они заверили тебя, что все будет в порядке, но дело-то как раз в том и состоит, что не все в порядке. Почему я знаю, что она подаст в суд? Потому что она сидит сейчас прямо передо мной. – Он подмигнул Нили и, откинувшись в кресле, закурил еще одну сигарету. – Ну, конечно же, Гил, я понимаю, сейчас тяжело приниматься за поиски новой танцевальной группы. Но думаю, мы сможем все уладить прямо сейчас, по телефону. Ведь у «Гаучерос» самый обыкновенный контракт «Эквити» [14] на пятьсот долларов, так? Ты имеешь право выкинуть их в любое время в течение первых пяти дней, не заплатив им ни цента, так? Тогда приведи им кое-какие факты из жизни и составь с ними новый контракт на четыреста долларов, а потом еще один контракт с их маленькой партнершей на сто долларов. Включи ее в состав кордебалета, поставь дублершей или на эпизодические роли… что угодно, на то время, что она включена в общий состав труппы. Тебе это не будет стоить ни гроша, и все останутся довольны. Да, я скажу ей, чтобы завтра явилась на репетицию… Прекрасно… В «Копе»? Когда? Сегодня вечером? Охотно пойду с тобой. Хорошо, увидимся прямо там. Повесив трубку, он широко улыбнулся Нили. – Юная леди, вы в составе труппы. Подбежав к нему, она обвила его руками в искреннем порыве благодарности. – О мистер Берк… господи… вы – бесподобный! Затем она метнулась к Анне и обняла ее. – О Анна, я люблю тебя! Никогда этого не забуду! Ты моя единственная подруга. Даже муж сестры, и тот предал меня. А сестричка, сволочь, наверняка знала об этом! Чарли не отважился бы на такую пакость без ее ведома. О Анна, если я когда-нибудь чего-то добьюсь… или куда-то попаду… или если тебе когда-нибудь что-то понадобится, я отплачу тебе за все, клянусь, я… Анна осторожно высвободилась из ее судорожных объятий. – Я рада за тебя, Нили. Искренне рада. Зазвонил телефон. Лайон снял трубку. – Опять Гид Кейс, – прошептал он, зажав микрофон рукой. Анна испытывала необъяснимую тревогу до тех пор, пока Лайон не рассмеялся. – Не знаю, Гил. – Он повернулся к Нили. – Кстати, а как тебя зовут? Детские глаза широко раскрылись. – Нили. – Нили, – повторил Лайон в трубку. – Да, Нили. – Он опять вопросительно посмотрел на нее. Она рассеянно кивнула. Тогда он уточнил: – Нили. А фамилия как? Она уставилась на него. – О черт… Не знаю. То есть я вообще никогда о фамилии не задумывалась, потому что была одной из «Гаучерос». Не могу же я пользоваться именем Этель Агнес О’Нил. Лайон зажал трубку ладонью. – Мне сказать ему, чтобы подождал до завтра, пока ты что-нибудь себе придумаешь? – И чтобы он взял да передумал? Ни за что в жизни. Анна, какую фамилию мне взять? Можно твою, а? Нили Уэллс? Анна улыбнулась. – Можешь придумать что-нибудь более захватывающее. Нили метнула лихорадочный взгляд на Лайона. – Мистер Берк? Тот покачал головой. – «Нили Берк» лишено магического звучания. С минуту Нили стояла в растерянности. Внезапно глаза ее блеснули. – Нили О’Хара! – Как? – одновременно воскликнули Лайон и Анна. – Нили О’Хара. Великолепно. Я ирландка, а Скарлетт – моя любимая героиня… – Нили только что прочла «Унесенные ветром», – пояснила Анна. – Нили, мы наверняка могли бы подобрать что-нибудь более благозвучное, – предложил Лайон. – Более… что? – Да, Гил, я слушаю тебя. Просто у нас тут небольшое совещание относительно фамилии. – Хочу быть Нили О’Хара, – упрямо стояла на своем Нили. – Нили О’Хара, – усмехнулся в трубку Лайон. – Да, О’Хара. Правильно. И принеси контракт завтра же на репетицию… Она у нас девушка нервная. Да, Гил, ее амплуа в контракте не указывай, просто стандартный бланк «Эквити» и никакого кордебалета. Дадим девушке шанс с самого начала. – Он повесил трубку. – А теперь, мисс Нили О’Хара, этими же ногами отправляйся в профсоюз актеров «Эквити» и немедленно вступай в него. Туда нужно внести довольно крупный вступительный взнос, возможно, намного более ста долларов. Если тебе нужен аванс… – У меня отложено семьсот долларов, – гордо заявила Нили. – Прекрасно. И если ты действительно хочешь оставить себе эту фамилию, я буду рад оформить необходимые документы, чтобы все было законно. – Имеете в виду, чтобы никто не смог украсть или присвоить ее? Он улыбнулся. – Ну-у… скажем, что это многое упростит. Твой текущий счет в банке, социальное страхование… – «Текущий счет»? Ого, интересно, когда это он мне понадобится. Телефон опять зазвонил. – Ух ты! – вполголоса воскликнула Нили. – Вот увидишь, он передумал. Лайон снял трубку. – Алло. А-а, привет. – Голос у него изменился. – Да, я видел эту статью в газете. Я ведь тебе уже говорил, что просто играл роль пылкого поклонника… Да ладно тебе… – Он рассмеялся. – С тобой я чувствую себя великаном двухметрового роста. Слушай, Диана, ангел мой, у меня в кабинете сидят люди, и я заставляю их ждать. Поговорим об этом вечером. Хотела бы ты пойти на шоу в «Копе»? Гил Кейс нас пригласил… Отлично. Заеду за тобой около восьми. Ты у меня умница. Пока. Он повернулся к Нили и Анне, и на губах у него заиграла легкая улыбка, словно он извинялся за то, что их прервали. Анна встала. – Мы уже и так отняли у тебя слишком много времени. Спасибо тебе большое, Лайон. – Не за что. Я был перед тобой в неоплатном долгу… фактически я обязан тебе даже за кровать, на которой сплю. По крайней мере, хоть отчасти сравнял счет. Когда они вышли в приемную, Нили сделала пируэт и судорожно стиснула Анну в объятиях. – Анна, я так счастлива, что готова кричать во все горло! – Я очень рада за тебя, Нили. Нили недоуменно уставилась на нее. – Эй, в чем дело? Ты чем-то расстроена? Сердишься, что я вот так взяла и вломилась сюда? Тогда извини. Но Лайон ведь не рассердился, а мистер Бэллами даже не знает, что я была здесь. Видишь, все вышло просто здорово. Анна, ну, пожалуйста, скажи, что не сердишься, а то весь этот день у меня будет испорчен. – Да не сержусь, просто устала немного. Честное слово, Нили. – Анна села за свой стол. На лице Нили появилось озадаченное выражение. – Ну, точно. Мы обе изрядно переволновались. – Она наклонилась и вновь обняла Анну. – Ах, Анна, когда-нибудь наступит день, и я отблагодарю тебя за все… сама пока не знаю как. Клянусь! Анна посмотрела вслед Нили, рванувшейся на улицу. Бессознательно вставила в машинку чистый лист бумаги. Копировка запачкала перстень. Тщательно вытерев его, она начала печатать.* * *
Анна обнаружила, что шоу под названием «Небесный Хит» властно вторглось в ее жизнь и что она фактически живет им. Поначалу это ограничивалось лишь тем, что Нили во всех мельчайших подробностях описывала ей ежедневные репетиции. Нили была включена в кордебалет, и целых три дня она демонстрировала Анне каждое па. Затем последовало ошеломляющее известие: Нили получила «роль» – три строчки текста в массовой сцене. И в довершение всего ее поставили дублершей. – Ты представляешь? – воскликнула Нили. – Мне доверяют дублировать саму Тэрри Кинг! Тэрри – исполнительница второй главной роли в этом шоу. Обычно в паре с Элен всегда ставят самую бездарную инженю, какую только могут сыскать. Но Тэрри Кинг сексуальная и красивая. Можешь себе представить, как я буду стараться выглядеть сексуальной и красивой! – Тогда почему же они выбрали тебя? – Наверное, выбора у них не было: из всего кордебалета я одна умею петь. И потом, они ставят настоящих дублеров, только когда шоу уже запущено и идет на сцене. А меня будут просто подставлять как дублершу на гастролях. – А поешь ты хорошо, Нили? – Пою? Ну… так же, как и танцую. Хотя надо сказать, что все эти па получаются у меня куда быстрее, чем у большинства девиц из кордебалета. – Высоко подпрыгнув, она выбросила вперед ногу, едва не задев настольную лампу. – Теперь все, что мне нужно, это завести парня, и я буду в порядке. – В вашем шоу есть симпатичные? – Ты что, смеешься? Всякий мюзикл – это как сексуальная пустыня, если только ты не гомик. Дикки трахается со всеми ребятами из кордебалета – это как шведский стол, уставленный разными закусками. Исполнитель главной роли, правда, нормальный (и симпатичный тоже), но у него есть жена, которая по виду в матери ему годится; она постоянно торчит в зале, глаз с него не спускает. Мужик, что выступает в паре с Тэрри Кинг, совсем лысый и носит парик. Единственный нормальный мужчина – старый развратник, который играет роль отца Элен. Ему шестьдесят пять, но он всегда лезет тебя лапать. Правда, у одной девицы из кордебалета есть парень, а у того – друг по имени Мэл Хэррис. Он – составитель рекламных объявлений, и она хочет ради меня устроить нам встречу вчетвером. Надеюсь, из этого хоть что-то да выгорит… Ужасно, если у меня не будет своего парня на моей собственной премьере. А ты, значит, пойдешь на премьеру нашего шоу в Нью-Йорке с Джорджем Бэллоузом? – Нет, конечно. Я ведь… ну… я же помолвлена с Алленом. – Тогда давай я куплю тебе два билета на премьеру. Это будет подарок от меня. – А разве тебе не дадут контрамарки бесплатно? – Смеешься? Никому не дают, даже Элен Лоусон. Но она закупает по четыре билета на каждый вечер, и мне кто-то сказал, что когда шоу станет хитом, она загонит их билетным спекулянтам и загребет кучу денег. – Но, Нили, я не могу позволить, чтобы ты покупала мне билеты… Аллен сам купит. И знаешь, если с Мэлом ничего не получится, после премьеры мы возьмем тебя куда-нибудь с собой. Знакомство Нили с Мэлом Хэррисом произошло на следующей неделе. «Он был великолепен», – утверждала она. Пригласил ее в «Тутс Шор» [15] и все рассказал о себе. Двадцать шесть лет, окончил Нью-йоркский университет, составляет рекламные объявления, но надеется, что когда-нибудь станет продюсером. Живет в небольшой гостинице неподалеку от центра, а вечером по пятницам ездит в Бруклин [16] ужинать со своей семьей. – Понимаешь, евреи очень дорожат своими семейными отношениями, – пояснила Нили. – Он тебе действительно нравится? – спросила Анна. – Я люблю его. – Нили, ты встречалась с ним всего один раз. Как же ты можешь любить его? – Глядите-ка, кто это говорит. А сама-то с Лайоном Берком тоже пообедала всего один раз. – Нили! Между мной и Лайоном Берком ничего нет. Я о нем даже не думаю. К тому же мне начинает нравится Аллен. – Ну а я точно знаю, что люблю Мэла. Он красивый. Не такой красивый, как Лайон, но все равно великолепный. – Так как же все-таки он выглядит? Нили пожала плечами. – Пожалуй, похож немного на Джорджи Джессела, но для меня он бесподобен. И руки не распускает. Даже когда я соврала, что мне двадцать лет. Боялась, его отпугнет, если узнает, что мне семнадцать. Нили вытянула шею в сторону открытой двери. Они сидели в комнате Анны, а телефон висел этажом ниже, перед комнатой Нили. Это было одновременно и удобно и нет. Ей приходилось постоянно снимать трубку, отвечая на звонки другим жильцам, и передавать им то, что просили звонившие. – На этот раз звонят мне! – вскрикнула она, услышав звонок. Спустя пять минут она влетела назад, задыхаясь от распирающего ее счастья. – Это был он! Пригласил меня сегодня в «Мартинику». Мэл рекламирует там какого-то певца. – Наверное, он очень хорошо зарабатывает, – сказала Анна. – Нет, всего сотню в неделю. Он работает на Ирвинга Стейнера, а у того примерно двадцать крупных рекламодателей. Но он вскоре хочет открывать свое дело, хотя и пытается выйти на радио. Знаешь, евреи – превосходные мужья. – Я тоже слышала. Но как они относятся к ирландкам? Нили сдвинула брови. – Слушай, я всегда могу сказать ему, что я наполовину еврейка. Что фамилию О’Хара взяла как сценический псевдоним. – Нили, это не удастся скрыть. – Если будет нужно, удастся. Я выйду за него замуж. Вот увидишь. – Обняв себя за плечи, она закружилась в танце по комнате, тихо напевая. – Красивая песенка. Что это? – Из нашего шоу. Слушай-ка, Анна, а почему бы тебе не взять то норковое манто, которое тебе предложил отец Аллена и не продать мне свое черное пальто? Мне как раз нужно черное пальто. – Нили, спой эту песню еще раз. – Зачем? – Ну просто так. – Это номер Тэрри Кинг. Но, по-моему, его хочет перехватить Элен Лоусон. Она уже забрала у Тэрри одну песню. У бедняжки Тэрри осталось всего две – эта и еще одна. Одна по-настоящему грустная. Элен не может забрать у нее такую песню. По своему характеру она не может исполнять этот номер. Это противоречило бы сценарию. – Спой песню, Нили, ту, что ты пела сейчас. – А если спою, продашь мне свое черное пальто, когда получишь норку? – Я тебе его так отдам… если я вообще возьму норку. Спой. Нили вздохнула и, словно ребенок, которого заставляют рассказывать наизусть стихотворение, встала посреди комнаты и пропела всю песню от начала и до конца. Анна с трудом верила своим ушам. Голос у Нили был необыкновенный, кристально чистый. На низких нотах он звучал сильно и мелодично, а на высоких энергично и красиво. – Нили! Ты замечательно поешь! – Да ну, так-то петь всякий сможет, – рассмеялась Нили. – Сможет, но не так. Я не смогла бы правильно протянуть ноту, даже под угрозой смерти. – Если бы ты выросла среди артистов эстрады и варьете, то смогла бы. Я умею танцевать, жонглировать и даже кое-какие фокусы показывать. Потолкаешься за кулисами – всему научишься. – Но, Нили, ты поешь хорошо. Просто хорошо. Нили пожала плечами. – На это плюс пять центов я смогу купить себе чашку кофе. А к концу второй недели репетиций Анна занялась «Небесным Хитом» лично. Однажды вечером, когда она ухе собиралась уходить домой, в контору явился Генри. – Анна, слава богу, что еще не ушла. Послушай, дорогая, ты можешь спасти мне жизнь. Я должен быть на Эн-Би-Си [17]. Шоу Эда Холсона выходит в эфир сегодня в девять вечера, а заключительные двадцать минут нужно переписать заново. Эд вечно всех подводит, сценаристы уже собрались от него уходить, продюсера он сам выкинул. Я же уйти от него не могу. А меня сегодня ждет Элен Лоусон, я должен принести ей целый портфель ее новых акций. Он у меня на столе. – Мне передать его ей с посыльным? – Нет, лучше отнеси сама. Но не говори, что я на Эн-Би-Си. Скажи, что я безнадежно застрял на совещании совета директоров по тому самому вопросу о сделке с недвижимостью, в котором она заинтересована, и что никак не смог вырваться. Если она будет думать, что я зарабатываю деньги для нее же, она не станет возражать. Портфель отдашь ей лично в руки и, ради бога, говори все это как можно правдоподобнее. – Сделаю все, что в моих силах, – пообещала ему Анна. – Отнесешь его прямо в театр, войдешь со служебного входа. Репетиция у них вот-вот закончится. Скажи, что завтра я все обговорю с ней в деталях. Анна пожалела, что Генри застал ее, надо было ей уйти чуть раньше. В подобных делах она не искушена. Встретиться лицом к лицу с самой Элен Лоусон! В ее сознании никак не вмещалось, что это действительно может быть всего-навсего повседневным и заурядным деловым свиданием. Она страшно волновалась, подходя к зданию театра и робко открывая черную и проржавевшую дверь служебного входа. Даже старый привратник, сидевший у батареи и читавший в газете раздел о скачках, выглядел внушительно и грозно. Он посмотрел на нее. – Ну, чего надо? Интересно, подумалось ей, что во всех фильмах весело щебечущие девушки из кордебалета называют годящихся им в отцы привратников «папочками». Этот же смотрел на нее так, словно ему предстояло опознать ее в полицейском участке как подозреваемую среди других лиц. Она объяснила ему, что ей нужно, показывая в подтверждение своих слов на портфель как на доказательство. Он кивнул, буркнув: «Вон там», и опять уткнулся в газету. «Вон там» она столкнулась с опрометью несущимся куда-то человечком со сценарием в руке. – А вы какого черта тут делаете? – сердито прошептал он. Она опять все подробно объяснила, в душе проклиная Генри. – Но у них еще репетиция, – проворчал он. – Здесь, за кулисами, находиться нельзя. Пройдите в ту дверь и сидите в зале, пока мы не закончим. Она ощупью двигалась по темному пустому зрительному залу. Когда глаза ее привыкли к полумраку, она разглядела в третьем ряду у прохода Гила Кейса, который сидел, низко надвинув шляпу, чтобы в глаза не бил яркий свет со сцены. Группа девушек из кордебалета устало сидела у задней стенки опустевшей сцены. Одни тихо переговаривались, другие массировали себе икры, одна вязала. Нили сидела прямо, не сводя глаз с Элен Лоусон. Та стояла посреди сцены, исполняя с высоким красивым мужчиной песню о любви. Она полным голосом пела лирическую часть песни в своем знаменитом особенном стиле. Она задорно и ослепительно улыбалась, привнося даже в любовную песенку характерную для себя бурную и зажигательную манеру исполнения. Ее глаза засверкали юмором, когда лирическая часть перешла в комедийную, однако лицо стало серьезным, когда концовка окрасилась традиционным налетом любовной меланхолии и грусти. Первые признаки возраста уже проявились в ее фигуре – начинающая полнеть талия, несколько раздавшиеся бедра. Вспоминая внешность Элен в прошлом, Анна испытала ощущение, словно она смотрит на обломки величественного монумента, низвергнутого с пьедестала. Возраст в большей степени щадит обыкновенных, ничем не примечательных людей, но для знаменитостей – и особенно для женщин, звезд эстрады – возраст становится топором, варварски сокрушающим произведение искусства. Самым большим достоинством Элен всегда была ее фигура, а фирменным знаком – грубоватая бурлескная манера исполнения номеров комедийного жанра, и всегда – в безукоризненно модных костюмах. Ее лицо, хотя и не отличалось классически правильными красивыми чертами, было привлекательным и оживлялось длинными пышными черными волосами. Премьер на Бродвее у Элен не было уже лет пять. Ее последнее шоу исполнялось целых два года подряд, не сходя со сцены, и еще год на гастролях. На этих гастролях она и познакомилась со своим последним мужем. Пресса во всех подробностях сообщала сначала о пылком и страстном романе, завязавшемся между ними в Омахе, штат Небраска, затем – о пышном бракосочетании; цитировались слова Элен о ее намерении по окончании гастролей поселиться у него на ранчо, где она исполнила бы свою самую главную, свою окончательную роль – роль жены. Высокий и крупный муж, Рэд Ингрем, улыбаясь, заверял репортеров, что место Элен только на его ранчо. «Ни разу не видел эту девчонку на сцене, – заявлял он, – а то вполне мог бы оборвать ее карьеру уже давно. Она создана для меня». Элен поселилась у него на ранчо. Через два года ее имя вновь ярко вспыхнуло в сообщениях АП и ЮП, когда она сделала заявление, что «на ранчо дьявольская скучища» и что ее настоящим домом является Бродвей. Генри быстро провернул в Рино [18] все формальности, связанные с разводом, композиторы и либреттисты устремились к Элен с новыми заманчивыми предложениями, и вот сейчас Элен вновь на сцене, которой она всецело принадлежит, репетируя «Небесный Хит». Анна решила про себя, что полюбить Элен уже невозможно, особенно с такой вот складочкой под подбородком – фактически он у нее уже двойной. И тем не менее она поет песню о любви, глаза ее весело сверкают, былые живость и энергия по-прежнему бьют в ней ключом, длинная грива вьющихся черных волос все так же ниспадает ей на плечи… Из слов песни Анна поняла, что Элен играет роль вдовы, ищущей и жаждущей новой любви. Что ж, возможно, для публики это и пройдет… вот только почему бы ей не сбросить фунтов [19] пятнадцать, прежде чем браться за эту роль? Или она не осознает, как сильно изменилась за эти годы? Наверное, это происходит так постепенно, что ничего не замечаешь. «Я не видела ее уже восемь лет, – думала Анна, – вот почему для меня это так неожиданно, так бросается в глаза. Может быть, в своем собственном представлении Элен такая же, как и прежде». Такие мысли проносились у нее в голове, когда она сидела и смотрела, как Элен исполняет свой вокальный номер, и в то же самое время Анна отдавала себе отчет, что обаяние и магнетизм Элен исходят не только от ее лица и фигуры. В ней было нечто такое, что заставляло смотреть на нее неотрывно, и вскоре зрители забывали и о расплывшейся талии, и о дряблом подбородке, воспринимая лишь излучаемое ею тепло и грубоватый сочный юмор. Когда она закончила номер, Гилберт Кейс воскликнул: – Замечательно, Элен! Просто великолепно! Подойдя к рампе, она посмотрела на него сверху вниз и отрезала: – Это кусок дерьма! Он ответил ей все с тем же восторженным выражением: – Тебе это со временем понравится, дорогая, к песням типа «он и она» ты всегда поначалу так относишься. – Смеешься что ли? Мне очень нравилась та песня, которую я делала с Хью Миллером в «Милой леди». Я полюбила ее, как только услышала. А у Хью нет слуха, и мне из-за этого козла пришлось все вытаскивать на себе. Боб, по крайней мере, держит мелодию. – И в знак одобрения она тряхнула головой в сторону красивого мужчины, деревянно застывшего сбоку. – Поэтому не говори, что песня мне еще понравится. От нее за целую милю несет дерьмом! Она ни о чем не говорит. И я терпеть не могу сочетать комедию с унылым завыванием. Мелодия нормальная, но ты скажи Лу, чтобы слова написал получше. Она повернулась и ушла со сцены. Помощник режиссера громко объявил, что завтра репетиция начнется в одиннадцать часов и что фамилии тех, кому нужно на примерку костюмов, вывешены на доске, и чтобы они ни в коем случае не опаздывали в ателье Брукса. Повсюду царила суматоха, и мнение Элен о песне было всем безразлично, в том числе и самому Гилберту Кейсу. Он медленно поднялся из кресла, закурил сигарету и направился за кулисы. Когда сцена освободилась, Анна быстро прошла за кулисы. Молодой человек со сценарием в руке показал ей на дверь гримерной Элен. Анна постучала, в ответ раздался знаменитый резкий голос: «Войдите!» Элен с удивлением смотрела на нее. – Ты кто, черт возьми? – Я Анна Уэллс, и я… – Слушай, я устала и занята. Что тебе нужно? – Я принесла вот этот портфель. – Анна поставила его на гримировочный столик. – Это от мистера Бэллами. – А-а. Ну а где же сам Генри, черт его возьми? – Сидит на каком-то совещании по недвижимости. Но сказал, что поговорит с вами завтра и объяснит все, что непонятно. – О’кей, о’кей. – Элен отвернулась к зеркалу и махнула Анне рукой, показывая, что та может идти. Анна пошла было к двери, но Элен вдруг крикнула ей вслед: – Эй, минутку. Ты не та самая, о которой я читала? Ну, которая подцепила Аллена Купера, перстень и все такое? – Я Анна Уэллс. Элен широко улыбнулась. – А-а, ну что ж, рада с тобой познакомиться. Присаживайся. Я не хотела быть с тобой такой противной, но знала бы ты, что за личности проскакивают сюда мимо привратника, чтобы посмотреть на меня. И все предлагают что-то купить у них. Э-э, дай-ка взгляну на перстень! – Она схватила Анну за руку и одобрительно присвистнула. – Да-а, красотища! У меня в два раза крупнее, но тот я сама себе покупала. – Она встала и скользнула в норковое манто. – И вот это тоже сама. Ни один мужчина никогда ничего мне не дарил. – Она говорила это, словно жалуясь. Затем пожала плечами. – Ладно, еще не вечер. Может, я еще и встречу настоящего мужика, который завалит меня подарками и вытащит меня из этой сумасшедшей гонки. Элен усмехнулась, заметив удивление на лице Анны. – Да, да, я называю это именно так. Думаешь, весело выдерживать все эти вонючие репетиции целый месяц, а потом терпеть кромешный ад пробных представлений в других городах? Даже если твоя роль и станет хитом, что тогда? Ну, сможешь заключить крупную сделку с «Ньюс», или «Миррор» после шоу. – Она направилась к двери. – Тебе куда? У меня машина, я могу подвезти тебя. – Нет, нет, я дойду пешком, – зачастила Анна. – Я живу совсем неподалеку. – Я тоже, но в моем контракте оговорено: продюсер оплачивает машину с водителем, чтобы привозить и отвозить меня во время репетиций и представлений в Нью-Йорке. Если, конечно, мне не повезет и я не подцеплю себе кого-нибудь, – добавила она, усмехнувшись. Когда они вышли из служебного входа, на улице моросило, и Анна приняла предложение Элен. – Завези сначала меня, – сказала Элен водителю, – а потом отвезешь мисс Уэллс, куда ей нужно. Когда машина остановилась перед домом Элен, та порывисто взяла Анну за руку и пригласила: – Пойдем, выпьешь со мной, Анна. Терпеть не могу пить одна. Еще только шесть часов; позвонишь своему парню от меня. Он может заехать за тобой ко мне. Анне хотелось домой – день сегодня получился длинным, – но в голосе Элен прозвучала такая тоска, когда та говорила про свое одиночество. И она решила зайти к ней. Войдя в квартиру, Элен с гордостью осмотрелась, настроение у нее разом изменилось. – Нравится тебе у меня, Анна? Кучу денег выложила тому педику, который мне ее отделывал. Вон там подлинник Фламенко, а это – Ренуар. В квартире было тепло и красиво. С затаенным восхищением взирала Анна на мглистый заснеженный пейзаж Фламенко. Элен раскрывалась перед ней с такой стороны, которой она и вообразить себе не могла… – В искусстве я ни в зуб ногой, – продолжала Элен. – Ни уха ни рыла не смыслю. Но мне нравится окружать себя всем самым лучшим. На нынешнем этапе своей жизни я могу себе это позволить. Потому я и велела Генри отобрать мне несколько лучших картин, которые удачно впишутся в мой интерьер и будут хорошим помещением капитала. Ренуар неплох, но этот снегопад – бр-р-р! Но Генри уверяет, что вскоре цены на полотна Фламенко возрастут втрое. Проходи в кабинет, эта моя любимая комната… там у меня и бар. Стены кабинета являли собой живую и яркую иллюстрацию артистической биографии Элен. Красочные фотографии были окантованы аккуратными рамками и располагались на стенах в идеальном порядке. На снимках Элен была в коротеньких юбочках и в кудряшках по моде двадцатых годов. Надписывала автограф на бейсбольной бите Малышу Руту. Улыбающаяся Элен с мэром Нью-Йорка… Элен с прославленным сенатором… Элен с известным композитором-песенником… Элен, получающая приз «Первая звезда Бродвея»… Элен, отплывающая на океанском лайнере в Европу со своим вторым мужем… Элен в эффектных позах с другими эстрадными знаменитостями… Кроме этого на стенах висели металлические таблички, застекленные дипломы и награды, воспевающие величие Элен Лоусон. В кабинете стоял и книжный шкаф, набитый фолиантами в кожаных переплетах – Диккенс, Шекспир, Бальзак, Мопассан, Теккерей, Пруст, Ницше. У Анны возникло подозрение, что наполнить шкафы книгами тоже было поручено Генри. Элен обратила внимание на то, что Анна рассматривает книги. – Вся самая классическая макулатура, верно? Генри знает все, доложу я тебе. Только я ни за что не поверю, будто кто-то действительно читает это дерьмо. Как-то раз я попыталась одолеть несколько страничек… Бог ты мой! – Некоторые из них и правда, читаются с трудом, – согласилась с нею Анна. – Особенно Ницше. Элен посмотрела на нее широко раскрытыми глазами. – Ты читала эти книги? Что-то знаешь? А я в жизни ни одной книжки не прочла. – Вы просто смеетесь надо мной, – не поверила ей Анна. – Ничуть. Когда у меня выступление, я работаю с полной отдачей, выкладываюсь до конца. После выступления, если повезет, встречаюсь с мужчиной где-нибудь. Если же нет, еду одна домой прямо с представления. А к тому времени, когда уже приму ванну и прочитаю все газеты, я совсем готова вырубиться. До двенадцати сплю, потом читаю утренние газеты, просматриваю почту, звоню друзьям… а там и обедать пора. Когда у меня выступление, я никуда обедать не хожу и никогда не пью перед выступлением, только после. Но уж после выступления я люблю встряхнуться. Ах, да… Когда последний раз была замужем, почти дочитала одну книжку. Это когда я уже поняла, что этот брак мне осточертел. Как тебе шампанское налить? Со льдом? – Я выпью кока-колу, если не возражаете, – ответила Анна. – Да, брось-ка ты, выпей моей шипучки. Это единственное, что я пью, и, если ты мне не поможешь, я раздавлю сегодня всю бутылку одна. А шампанское здорово полнит, скажу я тебе. – Она провела ладонью по своей талии. – Я все еще никак не сброшу лишний вес, который набрала на ранчо. – Она протянула Анне бокал. – Бог ты мой! А ты хила когда-нибудь на ранчо? – Нет, я из Новой Англии. – А я уже стала было думать, что собираюсь жить на этом ранчо всю жизнь. Пошли… – она увлекла Анну в спальню. – Видишь эту кровать? Семь футов [20] в ширину. Мне ее сделали на заказ, когда я вышла замуж за Фрэнка. Он был единственным мужчиной, которого я любила. Мне перевезли эту чертову колымагу в Омаху, когда я вышла за Рэда, а потом обратно сюда. Могу спорить, что перевозка туда-сюда встала мне куда дороже, чем сама кровать. Вот он, Фрэнк. – Она показала на фотографию, стоящую в рамке на ночном столике. – Очень красивый, – проговорила Анна. – Он умер. – В глазах Элен появились слезы. – Погиб в автомобильной катастрофе два года спустя после нашего развода. И все из-за той стервы, на которой потом женился. – Элен порывисто вздохнула всей грудью. Анна посмотрела на часы на ночном столике. Была половина седьмого. – Вы не возражаете, если я позвоню от вас? – Иди в кабинет и звони оттуда. Там тебе будет удобнее. Пока Анна звонила Аллену, Элен налила еще шампанского. – Ты где сейчас? – спросил он. – Звонил тебе три раза и всякий раз попадал на Нили. Я ей уже порядком надоел, особенно если учесть, что она торопится на свидание к своему горячо любимому. Да, кстати, Джино сейчас рядом со мной. Хочет знать, не возражаешь ли ты, если он нарушит наше уединение и поужинает сегодня вместе с нами. – Мне бы очень этого хотелось, Аллен. Ты же знаешь. – Отлично. Заедем за тобой через полчаса. – О’кей, только я не дома. Я у Элен Лоусон. – Расскажешь мне об этом за ужином, – сказал Аллей, чуть помолчав. – Мне заехать за тобой туда? Он записывал адрес. Анна слышала, как он говорит Джино: «Она у Элен Лоусон… Что? Ты смеешься!» Эти слова тоже предназначались Джино. Затем он обратился к ней: – Анна, хочешь верь, хочешь нет, но Джино предлагает взять с нами Элен Лоусон. – Но… разве они знакомы? – спросила Анна. – Нет, а какая разница? – Аллен, я не могу… – Спроси у нее самой! Анна колебалась. Нельзя же предлагать женщине масштаба Элен ехать ужинать с незнакомым мужчиной. Да еще с таким, как Джино! Аллен обратил внимание на возникшую паузу. – Анна, ты меня слышишь? Она повернулась к Элен. – Аллен интересуется, не хотели бы вы провести вечер с нами. Его отец тоже будет. – Так я, значит, буду с его отцом? – Ну-у… нас будет только четверо. – Конечно! – воскликнула Элен. – Я видела его в. «Марокко». Смотрится вполне сексуально. – Да, она очень хотела бы, – хладнокровно ответила Анна в трубку и положила ее. – Они заедут за нами через полчаса. – Через полчаса? Как же ты успеешь за это время добраться до дома и переодеться? – Домой мне не нужно. Я поеду прямо так. – Но ты же в простом пальто. И в твидовом костюме. – Я уже была с Алленом в нем. Он ничего не имеет против. От замешательства лицо Элен приняло надутый вид, и она стала похожа на пухленького ребенка. – Ну-у, Анни, а я хотела разодеться в пух и прах. Но теперь нельзя. А то рядом с тобой в этой твоей одежде я буду, как разряженная рождественская елка. Мне ведь хочется произвести хорошее впечатление на Джино. Он такой живчик. Невероятно! Анна не верила своим ушам. Элен Лоусон волнуется, как девчонка, перед встречей с Джино. Этот внезапный приступ застенчивости и робости никак не соответствовал сложившемуся у нее образу Элен, для которого прежде всего была характерна изрядная доля небрежно-циничной самоуверенности и чувство собственного достоинства. Анна вдруг поймала себя на том, что ей захотелось поверить, что это надутое детское выражение редко проявляется у Элен. – Позвони им еще раз и скажи, чтобы заехали попозже, – предложила Элен. – Чтобы тебе успеть съездить домой и переодеться. Анна покачала головой. – Я слишком устала. Весь день работала. – Черт возьми, а я что же, по-твоему, делала? – Элен говорила тоном ребенка, которого его сверстники выгнали из игры. – Встала сегодня в девять утра. Три часа репетировала танец с этими жлобами «Гаучерос». Раз шесть, не меньше, приземлялась на задницу. Эту мерзкую песню пришлось петь раз сто. И вот все равно намылилась ехать. А я ведь постарше тебя буду. Мне… тридцать четыре. – У меня не столько энергии, – ответила Анна, едва сумев скрыть свое удивление. «Тридцать четыре»! Джордж Бэллоуз был прав. – Сколько тебе лет, Анна? – Двадцать. – Ладно, брось мне заливать! Это я и в газетах читала. Сколько на самом деле? – Она растянула губы в невинной детской улыбке. – Э-э, да ты, похоже, из тех девиц, что падают в обморок от некоторых словечек. Моя старушенция из себя выходит, когда я их употребляю. Постараюсь следить за собой. Если сегодня вечером хоть раз выражусь, просто посмотри на меня вот таким же ледяным взглядом. Анна улыбнулась. В быстрых перепадах настроения Элен было что-то привлекательное. Она была откровенна до бесхитростности и вместе с тем так уязвима, несмотря на свою недосягаемую славу. – Так тебе правда только двадцать, Анна? – И быстро добавила: – Это фантастика, что ты так моментально сумела подцепить самого Аллена Купера. Я надену черное платье и немного драгоценностей. – Она направилась переодеваться в спальню, треща без умолку. – Эй, пошли со мной. Может у меня и самый сильный голос на всем Бродвее, но из этой комнаты ты меня все равно не услышишь. Одеваясь, Элен продолжала говорить не останавливаясь. Большей частью о своих мужьях и о том, как плохо они с нею обращались. – Единственное, чего мне было нужно в жизни, это – любви, – скорбно повторяла она то и дело. – Фрэнк любил меня, он был художником. Боже, видел бы он, что у меня есть подлинник Ренуара. Не то чтобы Фрэнк рисовал так же. Он был оформителем, но для себя он писал то, что называл серьезными вещами. Мечтал о том, что настанет день, когда он сможет позволить себе оставить оформительство и писать то, что ему хочется. – А-а, значит, вы тогда были еще только начинающей артисткой? – Да нет же, черт возьми! Я выступала уже в своем третьем шоу, когда мы поженились. Получала три тысячи в неделю, а он всего только сотню, так что, как видишь, я выходила за него по любви. – Тогда почему же он не мог писать так, как хотел? – Значит, я должна была содержать его? Ты что, смеешься? Если бы я пошла на это, то как бы я узнала, женился он на мне по любви или из-за моего состояния? Я ему так и заявила без обиняков. У меня тогда была огромная квартира, и вообще» я люблю жить на широкую ногу. Я сказала: «Фрэнки, можешь переезжать ко мне. За квартиру буду платить я. Все равно ведь я за нее уже заплатила вперед. Буду платить служанке, за твою одежду, за питание и напитки. Но когда мы пойдем в ресторан, клуб или еще куда, счета будешь оплачивать ты. Он все жаловался, что за два таких вечера со мной, просаживает свой недельный заработок. И это при том, что он не платил за квартиру и за все остальное. Боже, как я его любила! Хотела даже родить от него ребенка, а ведь это значило бы, что целый сезон – псу под хвост. Так что сама видишь, как сильно я его любила. Вот только забеременеть так и не смогла. Застегни-ка мне молнию, вот здесь. Ну, как я выгляжу? Выглядела Элен хорошо. Анне показалось, что драгоценностей на ней чуть больше, чем следует, но ведь в конце концов это сама Элен Лоусон, и ей простительно. В дверь позвонили. Элен схватила ярко-красное шелковое манто, отделанное блестками. Посмотрела на Анну. – Слишком яркое? – А почему ты не наденешь норковое, в котором была днем? – А не будет слишком старомодно? Черное платье и коричневое манто. Знаешь, я считаю так: если у тебя есть вещь, то ее надо носить. Я не из тех чопорных баб высшего света. Раздался еще один звонок. – Сейчас, сейчас, – крикнула Элен. Немного поколебавшись, она взяла норковое манто и улыбнулась. – Будь по-твоему, ангелочек. Похоже, у тебя есть вкус. Знакомство Элен с Джино походило на сказочный фейерверк. Решили ехать в «Марокко», клуб, который оба они обожали. Они заказали себе одинаковые блюда, покатывались со смеху над шутками и анекдотами, которые рассказывали друг другу, и в неимоверных количествах поглощали шампанское. Репортеры подходили к столику, чтобы засвидетельствовать свое почтение Элен, оркестр вновь и вновь играл мелодии из ее прошлых хитов. Эта атмосфера бурного веселья быстро захватила Анну, и она даже поймала себя на том, что смеется над некоторыми не вполне пристойными анекдотами «Элен. Та просто не могла не нравиться. Джино оглушительно хохотал. – Я люблю эту девчонку! – кричал он, хлопая ее по спине. – Она говорит то, что думает. В ней нет ни капли фальши. Вот что я скажу тебе, Элен. Закатим-ка мы пир горой в честь твоей премьеры. И тут Элен словно подменили. Улыбка ее стала застенчивой, и тонким робким девическим голоском она произнесла: – Ах, Джино, это было бы замечательно! Я бы очень хотела быть с тобой на своей премьере. Джино был застигнут врасплох. Анна знала, он имел в виду, что с ним там будет Адель. Естественно, он полагал, что и Элен будет не одна, а с кем-то из своих поклонников. – Какого это числа? – медленно уточнил Джино. – Шестнадцатого января. Через две недели мы уезжаем в Нью-Хейвен. Потом три недели выступаем в Филадельфии. – Мы приедем в Нью-Хейвен, – быстро сказал Джино, – Анна, Аллен и я… – Не-ет! – воскликнула Элен. – В Нью-Хейвене будет сущий бардак. Мы даем там всего три представления, только чтобы подготовиться к настоящим выступлениям в Филадельфии. – Ничего, мы сделаем скидку на это, – легко уступил Джино. – Да не в этом дело, – надулась Элен; и лицо ее опять стало припухлым, точь-в-точь, как у ребенка. – Но самое первое представление у нас в пятницу вечером, а на следующий день – уже дневное, а будут еще часто репетиции по утрам, – чтобы вставлять новые куски. Если ты приедешь, мне бы хотелось посидеть где-нибудь допоздна и гульнуть хорошенько. А перед дневным представлением я никак не смогу. – До января еще слишком далеко, поэтому ничего планировать на него я не могу, – твердо заявил Джино. – Бизнес у меня такой, что в то время я могу оказаться и за границей. Вот в Нью-Хейвен поехать смогу, если ты, конечно, не против. Элен придвинулась вплотную к Джино, взяла его под руку и кокетливо подмигнула. – Ну, нет. Я не отпущу тебя с крючка. Согласна и на Нью-Хейвен. А если будешь в Нью-Йорке, то придешь еще и на премьеру здесь. – Хочешь сказать, мне придется смотреть это шоу дважды? – Слушай, ты, сукин сын, люди ходят на мои выступления и по пять раз, – добродушно упрекнула его Элен. – Вставай, Анна. Сходим-ка в нашу дамскую комнатку, приведем себя немного в порядок. Служительница в дамской туалетной комнате обвила Эленруками. – Моя самая первая костюмерша, – пояснила Элен Анне. – Видели бы вы ее в то время, – проговорила женщина с обожанием в голосе. – Ноги росли прямо от плеч, а ух до чего ласковая была, ну прямо как щеночек. – Ноги у меня и сейчас что надо, – сказала Элен. – Мне только нужно сбросить несколько лишних фунтов. Ладно, займусь этим на гастролях. – Элен села перед зеркалом и напудрила лицо. Когда женщина отошла, чтобы помочь вновь вошедшей посетительнице, Элен обратилась к Анне: – Знаешь, мне понравился Джино. Она произнесла это тихим ровным голосом, и само отсутствие какого-либо выражения у нее на лице, казалось, подчеркивало то значение, которое она придавала сказанному. Элен поправила прическу и внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале. – Я имею в виду, по-настоящему понравился, Анна. А я ему, как ты думаешь? – Я уверена, что понравилась, – ответила Анна, стараясь говорить как можно более непринужденно. Повернувшись к ней лицом, Элен проговорила с нажимом: – Мне нужен мужчина. Честно, Анна, все, что мне нужно, – это кого-то любить. Анна смотрела на это лицо со следами бурной жизни и с застывшим на нем трагическим выражением, на глаза, молящие о моральной поддержке, и вся душа ее прониклась сочувствием к Элен. Она вспомнила все скандальные истории, которые ей доводилось слышать про Элен, истории, распространяемые, вне всякого сомнения, мелкими людишками, чье имя – легион, которые завидуют ее успеху или ужасаются ее вульгарным манерам. Было, однако, трудно понять, как можно не испытывать искренней симпатии к этой женщине, чье вызывающее, даже непристойное на первый взгляд поведение – лишь маска; за которой скрывается тонкая, чуткая натура и безоглядно-отчаянное желание любить и быть любимой. – А ты мне нравишься, Анна. Мы станем с тобой подругами. И будем часто ходить с тобой везде, вот так, вчетвером. Так уж получилось, что подруг у меня не густо. Эй, Амелия, – громко обратилась Элен к служительнице. – Дай-ка мне карандаш и листок. Женщина подала ей блокнот. – Мисс Лоусон… раз уж вы пишите, дайте, пожалуйста, автограф для моей племянницы. – Я давала тебе целых три на прошлой неделе, – проворчала Элен, расписываясь. – Ты что, торгуешь ими, что ли? – Она протянула женщине несколько листков, после чего записала номер и дала его Анне. – Это номер моего телефона. Не потеряй, в справочнике его нет. И ради бога, никому не давай… кроме Джино. Вот ему, если сможешь, наколи в виде татуировки. На, запиши мне твой номер. – Ты всегда можешь позвонить мне в контору Генри Бэллами. – Знаю, знаю, но на тот случай, если ты мне понадобишься, когда будешь дома. Анна написала ей номер телефона, что висел в общем коридоре ее дома на Пятьдесят второй стрит. – Но с девяти тридцати до пяти я на работе, – повторила она. – А по вечерам обычно где-нибудь с Алленом. – О’кей, – Элен сунула листок себе в сумочку. – Нам пора назад. А то подумают, будто с нами что-то стряслось. Было ухе около трех ночи, когда черный лимузин подкатил к дому, в котором Анна снимала комнату. Сначала они отвезли домой Элен. Джино уже клевал носом, Аллен тоже выглядел утомленным, но Анна чувствовала себя бодрой и энергичной после такого восхитительного вечера. Из-под двери в комнату Нили пробивалась полоска света, и Анна осторожно постучалась. – Я ждала тебя, – сказала Нили. – Ну и вечерок был у меня сегодня! Сказала Мэлу, что мне только семнадцать. А ему все равно. Говорит, что жизнь я знаю лучше, чем иная двадцатилетняя. И сказала, что у меня еще ни разу не было мужчины. – Затем Нили поинтересовалась: – А ты что так поздно? Анна рассказала о своем вечере в обществе Элен Лоусон, начиная с их знакомства на репетиции. Когда она закончила, Нили недоверчиво покачала головой. – Ты говоришь так, словно чертовски здорово провела время. Сейчас еще заявишь чего доброго, что Элен Лоусон тебе понравилась. – Понравилась. И даже очень, Нили. Все эти истории о ней… их распускают люди, которые даже не знают ее. Стоит только узнать ее, узнать по-настоящему, и она не сможет не понравиться. Ну, признайся: теперь, когда ты уже примирилась с тем, что она в первый же день убрала тебя из шоу, и когда ты уже поработала с нею, разве она тебе не нравится по-настоящему? – Ну, конечно, она восхитительна. – Я серьезно так считаю. – Да ты больная, что ли? – Нили пощупала ее лоб. – Это ужасная баба. Ее никто не любит. – Не правда. Те, кто говорят о ней плохо, просто не знают ее по-настоящему. – Послушай. Единственно, кто ее обожает, это зрители, и то только потому, что они отделены от нее оркестровой ямой и рампой. И любят они не ее, а роли, которые она исполняет. Послушай, чего люди не замечают, так это того, что Элен не только крупная звезда музыкально-комедийного жанра, но еще и потрясная актриса. Потому что играет этих кротких девчонок с золотыми сердцами и заставляет всех верить в них. Но на самом деле – когда она не играет на сцене – Элен холодна как лед. Ходячий робот. – Нили, ты же не знаешь, какая она в действительности. – Ах, боже ты мой! С тобой помереть можно, Анна! Встречаешься с Алленом битый месяц и не знаешь о нем ничего. И вдруг – на тебе! Один вечер с Элен Лоусон, и ты уже знаешь ее как облупленную. Уже готова спорить со всеми, кто поработал с нею, знает ее, ненавидит и презирает ее. Она вульгарная, грубая, бесчувственная, жестокая и насквозь гнилая. Может быть, сегодня в компании она и вела себя по отношению к тебе хорошо или, может, ей от тебя что-то нужно. Но только я тебе скажу, если встанешь ей поперек пути, она раздавит тебя, как червяка. – Это ты ее себе такой представляешь. Эту легенду о ней ты слушала так долго, что даже не желаешь попытаться увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. Я не сомневаюсь в том, что, когда она работает, она может быть и жестокой, и грубоватой. Это ее работа. Ей приходится бороться за то, чего она хочет добиться. Но разведи ее самое и ее работу в разные стороны, и ты увидишь перед собой чувствующую одинокую женщину, которая страстно хочет обрести настоящую подругу. И любимого человека. – «Любимого»! – взвизгнула Нили. – Анна, настоящая Элен Лоусон – это то самое чудовище, которое я постоянно вижу на репетициях. А к тому, что она звезда, это не имеет никакого отношения. Такой она уродилась. Такими не становятся. Да если бы только я когда-нибудь стала звездой, я была бы так чертовски благодарна публике за любовь ко мне… что люди платили уже за одно то, чтобы увидеть меня… что писатели писали бы для меня. О-о! Ходила бы и целовала каждого встречного. Слушай, даже Мэл, который видел ее один лишь раз на бенефисе, называет ее Джек Потрошитель. – Не буду больше с тобой спорить, – устало сказала Анна. – Но я не хочу, чтобы ты плохо отзывалась об Элен при мне, Нили. Мне она нравится. – Ух ты-ы-ы… За дверью зазвенел телефон. – Что это за псих трезвонит в такое время? – удивилась Нили. – Наверное, ошиблись номером. – Я сниму, – Анна пошла к аппарату. – Привет, девушка… – раздался в трубке счастливый голос Элен. – Элен! Что-то случилось? – Элен! – воскликнула Нили в открытую дверь. – Боже мой, ты не шутишь? Надо же, как ты быстро сходишься! – Вот захотелось просто позвонить и пожелать спокойной ночи, – приветливо продолжала Элен. – Я разделась, постирала чулки и трусики, намазалась кремом, уложила волосы и вот лежу в постели. Анна представила себе Элен, блаженствующую на своей широченной кровати, и непроизвольно вздрогнула, стоя в неотапливаемом общем коридоре. Но несмотря на то, что рядом вертелась Нили, стоя над душой, любопытство одержало в ней верх. – Элен, ты сказала, что сама стираешь себе чулки и трусы? – Э-э, да ты шутишь, – прошипела Нили, – Конечно, сама, – ответила Элен. – Честно. Еще моя старушенция приучила меня, и, хотя у меня есть служанка, я делаю это каждый вечер, прежде чем лечь спать. Наверное, это во мне ирландское, от О’Лири. – Это твоя настоящая фамилия? Нили не выдержала. – Сейчас вернусь. Накину махровый халат, если мы собираемся болтать. Здесь холод собачий. – Она убежала в комнату. – Нет, настоящая – Локлин, – ответила Элен. – Шотландская Кровь во мне течет шотландская, французская и ирландская. Но я сменила Локлин на Лоусон. Мне казалось, это будет лучше смотреться на афишах. – Ты говоришь так, словно всегда знала, что твое имя появится на афишах. – А ты что, мне не веришь? Я уже с десяти лет пела на благотворительных концертах. В шестнадцать начала брать уроки пения. А два года спустя меня уже начали прослушивать на пробах. Получила маленькую роль и песенку в одном бродвейском шоу. Отзывы в прессе были сплошь восторженные. Поражены были все, но только не я. Если бы я не верила, что пою дьявольски хорошо, то не стала бы и пробоваться на ту роль. – Значит, у тебя никогда не было неприятностей и никогда не приходилось искать работу? – Она добилась всего сразу, – Нили уже вернулась, закутанная в теплый махровый халат, грызя хрустящее печенье. – Вот почему она так по-сволочному и относится к таким, как я: не знает, что это такое – пробивать себе дорогу в жизни. – Нет, я добилась этого легко, – продолжала Элен. – Допускаю, что так легко получается не у всех. Но ух если в человеке что-то заложено, он своего добьется. И точка! У кого-то времени уйдет чуть больше, но, если в ком действительно что-то заложено от бога, он не потеряется в этой схватке. Терпеть не могу всякий дерьмовский треп о тернистом пути на вершину, который то и дело слышу… обо всех этих талантах, что не могут пробиться. Чтобы пробиться, требуется больше, чем просто хороший сильный голос. Черт подери, петь-то могут многие девушки. Сама слышала певичек в оркестрах, которые зарабатывали всего семьдесят пять долларов в неделю, а голос у них был получше моего. Но им не хватало этого самого… Анна переступила с ноги на ногу, и ее заколотило от холода. Свое пальто она оставила в комнате у Нили. – Элен, мне нужно лечь. Тепло отключили, и а мерзну. – Я подожду. – Но я не могу… Я имею в виду… телефон… – Что, провод короткий? – Телефон Висит в общем коридоре. – Что-о-о? – В коридоре. Я же снимаю меблированную комнату. Своего телефона у меня нет. – Да ты шутишь! Хочешь сказать, что носишь на пальце камешек за полета кусков, а телефона у тебя нет? Где же ты живешь, черт подери? – На Пятьдесят второй стрит, как раз у магазина «Леон и Эдди». – Но это же грязный район! – воскликнула Элен. Тут ее голос изменился. – Ах, да какого черта, ты же скоро замуж выходишь. Но как ты можешь жить без своего телефона в комнате? – Да он мне и не особенно нужен. – Ну и бога ради! – До Анны донесся зевок и шуршание разворачиваемой газеты. – О-о, я вижу, обо мне тут две колонки, – проговорила Элен сонным голосом. – Ладно, ангел мой, иди ложись спать. Заходи завтра на репетицию после работы. – Вообще-то я кончаю работать довольно поздно. И сразу мчусь домой переодеться для свидания с Алленом. – Да, это бы лучше. Имею в виду – переодеться. Ты действительно очень привлекательна, Анна, но это твое пальто со стоячим воротником и официальный твидовый костюм надевать не надо. Запомни, самое главное на свете – это чтобы у тебя был человек, который любит тебя. Одевайся для него. Я позвоню тебе завтра на работу, – В трубке щелкнуло, и послышались частые гудки. Анна вернулась в комнату к Нили. Взяла свое пальто и сумочку. Нили проводила ее до двери. – Я чего-то не понимаю, Анна. Если бы не слышала собственными ушами, ни за что бы не поверила бы. – Выражение ее лица изменилось. – Но я все равно стою на своем; от нее всего можно ожидать. – Ничего подобного. Сегодня вечером она веселилась… Она и впрямь такая одинокая. И ей понравился Джино. – Вот, значит, в чем тут дело! – воскликнула Нили. – Она просто использует тебя, чтобы заполучить Джино. – Не правда. Она была со мной приветлива и дружелюбна еще до того, как я договорилась о встрече с ними. Пригласила меня к себе домой… Нили усмехнулась. – А может, старую боевую лошадь потянуло на шалости на старости-то лет? – Нили! – А что, такое случается. Знаешь, некоторые из этих крупных звезд – особенно бабехи вроде Элен, которые любят заниматься сексом – ну вот, они сильно переживают, что мужики перестают их замечать, и переключаются на женщин, чтобы получить удовольствие. В одном ночном клубе с нами выступала одна угасшая кинозвезда, так она… – Нили, Элен абсолютно нормальная! Нили зевнула. – О’кей. Тут я с тобой спорить не буду. Все слишком хорошо знают, как она за мужиками гоняется. Всегда этим отличалась. Потому от нее первый муж и ушел. Является домой, а она занимается этим с одним гангстером, с которым еще раньше путалась. – Нили, это не правда. Она любила первого мужа. – Анна, я там сижу и треплюсь с девчонками днями напролет. Все знают, что во времена сухого закона она пела в притоне Тони Лагетте, где тайком подавали спиртное. Втюрилась в него, как бешеная. А он – итальянец, да католик, да жена, да семеро детей. Трахать-то он ее, конечно, трахал, но не больше. Когда к ней пришел успех в ее первом шоу, появился Генри Бэллами и заставил ее расстаться с Тони. Она становилась слишком знаменитой, и, если бы жена подала в суд, это могло бы подпортить имидж Элен. У нее начался долгий роман с Генри, но тайком она все равно спала с Тони. Это было всем известно, кроме Генри. А он продолжал вести ее дела, делать ее звездой и миллионершей. Потом Тони завел себе другую, и Элен пришла в такую ярость, что вышла замуж за первого попавшегося, за того самого художника. Притонов со спиртным к тому времени уже не стало, а Тони открыл какое-то дорогое заведение – ресторан итальянской кухни, а Элен повадилась привозить туда этого художника и обниматься с ним у всех на глазах, чтобы Тони ревновал ее. И видно, это сработало, потому что в один прекрасный день художник заявляется домой не вовремя и обнаруживает там такую трогательную сценку примирения двух старых друзей – Элен и Тони… Он оставил ее, но прежним так и не стал. Женился еще раз, но спился. – И откуда только ты выкопала все эти басни? – Историю с Тони я знала давным-давно. Да ты что, стоит кому-нибудь упомянуть имя Элен, как тут же говорят: «А-а, та самая баба, что с Тони путалась». Ну а про Генри Бэллами и про мужа узнала от ребят из шоу. Каждый знает… – Каждый, – сердито перебила ее Анна, – знает это так же, как и ты – понаслышке. И подобно этому каждому ты тоже передаешь одну и ту же историю каждому встречному и поперечному. И так, как снежный ком. А ты сама там была? И вообще сама видела Элен с Тони вместе? Я говорила с Элен. Я знаю, как она относилась к своему первому мужу. Понимаешь, Нили, конечно, временами Элен несколько вульгарна. Я думаю, что поскольку она так быстро достигла успеха, ей просто не хватало времени, чтобы ее манеры стали вровень с талантом. Он вознес ее на вершину славы, но в душе она так и осталась девчонкой из Нью-Рошеля. И она лишь напускает на себя жестокость и грубость, чтобы окружающие не причиняли ей боль. – Ну ладно, сдаюсь, – сказала Нили. – Она восхитительна, мила, и раз уж дело, похоже, идет к тому, что вы станете неразлучными подружками и ты единственный человек, который ее понимает, то почему бы тебе не сказать ей, как талантлива твоя вторая после нее лучшая подруга. Глядишь, возьмет и подкинет мне пару-тройку номеров в этом шоу. Анна улыбнулась. – Нили, лучше тебя самой это никто не сделает. – Ну, ясное дело. Прекрасно понимаю. Соберемся теплой компашкой втроем и поболтаем между нами, девочками. – А почему бы и нет? Нили, подойди завтра на репетиции к Элен. Скажи ей, что ты моя близкая подруга. – Ну конечно! – А почему нет? – Да потому, что никто просто так не подходит к Элен, чтобы поболтать с ней. – А ты возьми да подойди, и, возможно, будешь приятно удивлена. – Ну, ясное дело. Может, проконсультироваться у нее, как чулочки стирать? Каким порошком, «Люксом» или «Айвори»? А если она испытывает от этого удовольствие, я с радостью дам ей несколько своих трусиков, которые не мешало бы простирнуть. – Спокойной ночи, Нили. – Спокойной ночи, Анна, я серьезно. Если ваша великолепная дружба и в самом деле продлится и если представится возможность, замолви за меня словечко. Попробуй… ну, пожалуйста.* * *
– Да, такую компанию из четырех персон заурядной я бы не назвал, – изрек Джордж Бэллоуз, кладя Анне на стол утреннюю газету. Анна с интересом стала разглядывать фотографию, сделанную предыдущим вечером в «Марокко», Элен выглядит гротескное Джино улыбается во весь рот; лицо Аллена вошло в кадр не полностью. Сама же Анна получилась белее чем просто миловидной. Она натянуто улыбнулась. – Кто этот Ник Лонгуорт? – спросила она, читая оставленные ей на столе записки. – Владелец одного из первоклассных домов моделей в Нью-Йорке. А что, разве Лонгуорт предлагает тебе работу? – Не знаю. Я только что вошла и обнаружила у себя на столе эти записки с просьбой позвонить ему. – Так звони прямо сейчас, не откладывая. Ты же прирожденная манекенщица. Да ты, наверное, все равно стала бы ею. От судьбы не уйдешь. – Он посмотрел на ее перстень с бриллиантом. Телефон на ее столе зазвонил. Джордж помахал ей рукой» пошел к себе в кабинет. Звонил Аллен. – Ну как? Отошла после вчерашнего? – В самом деле было здорово, правда? – радостно сказала она. В трубке молчали. – Аллен? – С трудом верю, что не ослышался. – Мне Элен Лоусон понравилась, – настороженно уточнила она. – И что же тебе в ней понравилось? Ее тонкий юмор? Ее поведение настоящей леди? Знаешь, Джино тоже невыносим в больших количествах, но я примирился с этим и терплю его. Он мой отец. Но Элен… – Мне нравится твой отец. – Анна, тебе вовсе нет необходимости из вежливости кривить душой. Я всегда считал, что родственников человек себе не выбирает, но вот друзей выбирать обязан. – Аллен, то, что ты говоришь, ужасно. – Почему? Я просто говорю честно. Если бы я познакомился с Джино и он не был бы моим родственником, я счел бы его крикливым и неприятным в общении. Я могу восхищаться его деловыми качествами, точно так же, как я восхищаюсь талантом Элен на эстраде. Но в плане общения – я вполне могу обойтись без них обоих. Когда мы с тобой поженимся, у нас будет совершенно иной круг общения, круг стоящих людей. Сегодня вечером я объясню это тебе получше. В голове у нее молоточками застучала пульсирующая боль. – Аллен, я совершенно не выспалась. Давай перенесем сегодняшнюю встречу. После работы хочу пойти домой и сразу лечь. – И это тоже нам нужно обсудить. Сколько времени ты еще будешь цепляться за эту работу? До самой нашей свадьбы? – Но я хочу работать, Аллен, и я не хочу выходить замуж. Я же сказала тебе об этом. Он выдавил из себя короткий смешок. – Ты и впрямь устала. Ладно, на один вечер я тебя отпускаю. Но, Анна… я понимаю, что сам обещал не подгонять тебя, однако ты все-таки начинай думать о женитьбе. Только думать… это все, чего я прошу. День тянулся страшно медленно. Опять позвонили из дома моделей Лонгуорта. Анна ответила, что перспектива стать одной из их манекенщиц ее не прельщает. Да, она позвонит им, если когда-нибудь передумает. После обеда появился Генри. Она принесла почту ему в кабинет, но он сдвинул все в сторону. – Садись. – Он закурил сигарету. – Ну что ж, отзывы о шоу Эда Холсона мы получили хорошие, но с этим сукиным сыном хоть караул кричи. – С его участием в шоу или с ним самим? – Анна откинулась на спинку кожаного кресла, прислонилась к подголовнику и помассировала себе виски. – С самим Холсоном. Что прикажешь делать, если твой клиент – алкаш? Гений, черт бы его побрал, но алкаш! – Он сокрушенно покачал головой. – Напился в стельку сразу после представления, прямо на глазах у спонсора. Мне, естественно, пришлось делать вид, что ничего подобного с ним ни разу не бывало. Двадцать тысяч в неделю, а он надирается прямо перед спонсором. И мне еще повезло, что он держался в рамках приличия. Стоит ему напиться до неприличия, он начинает обзывать всех окружающих жидовскими ублюдками. – Зачем же было иметь с ним дело? – А ты подсчитай, сколько составляет двадцать пять процентов от двадцати тысяч долларов в неделю, и получишь ответ на свои вопросы. К тому же он действительно настоящий талант. Друга я выбираю по принципу, нравится мне человек или нет, клиента же – по принципу, талантлив он или нет. Боль разлилась по всей голове. Пульсирующие молоточки стучали где-то позади глазных яблок. – Наверное, трудно быть цельным во всем, – устало проговорила Анна. – Это не имеет ничего общего с цельностью личности. Здесь нужна цельность бизнесмена, деловая хватка. Отбираешь самое лучшее, а твои чувства уже не в счет. Стоит только начать слушаться голоса сердца, а не рассудка, и ты погиб. Зазвонил его личный телефон на письменном столе. – Алло. О! Привет, дорогая, как у тебя дела? Да, конечно, видел. Ты выглядела прекрасно, крошка. Конечно, сидит прямо здесь. – Он протянул трубку Анне. Та вопросительно посмотрела на него, – Это Элен, – пояснил он. – Привет! – раздался в трубке радостный голос Элен. – Как себя чувствует наша трудолюбивая девочка? – Немного устала. – Я тоже. В десять надо было уже быть на репетиции. Просто взяла перерыв на пять минут. Знаешь что: сегодня вечером в «Копе» премьера какого-то нового шоу. Я позвонила Джино, предложила поехать туда вчетвером, и он охотно согласился. Попадем на второе представление. Тогда и ты, и я успеем немного вздремнуть после обеда. – А Аллен в курсе? – Откуда я знаю. – Элен помолчала, затем в трубке опять раздался ее голосок совсем молоденькой девушки. – Ты разве не хочешь в «Копу», Анна? – Э-э… да, наверное, это будет здорово. Особенно если я сначала немного отдохну. – Конечно. И оденься понаряднее, там все будут разодеты. – Ты имеешь в виду длинное платье? – Нет, просто короткое нарядное. И пожалуйста, меховую накидку. Ту, из верблюжьей шерсти – ни в коем случае! – У меня есть черное пальто… – Анна вдруг подняла глаза. В кабинет входил Лайон Берк. – Прекрасно. Да, а когда приедешь домой, обнаружишь маленький подарочек от меня. – Подарок? Но зачем? – На счастье. Ну все, мне пора. Бегу зашибать денежку. – В трубке послышались частые гудки. – Анна – новая подружка Элен Лоусон, – пояснил Генри Лайону. Тот сел в кресло, вытянув ноги. – Анна у нас самой что ни на есть добротной новоанглийской породы. Она устоит. Анна утомленно улыбнулась. – Я уже устала всем повторять, но так вышло, что Элен Лоусон мне действительно понравилась. – И прекрасно, – бодро произнес Генри. – Элен нуждается в настоящей подруге. По-моему, в глубине души она очень одинока. Лайон рассмеялся. – У Элен что ни сезон, то новая подруга. – А настоящей не было ни разу, – стоял на своем Генри, – Большинство женщин стремятся использовать Элен в своих целях, а тайком, за глаза – выставить ее в смешном свете. На вершину славы она взлетела слишком быстро и просто не успела изучить все эти мелкие уловки. Добрая половина девиц в этом городе начинает свою артистическую карьеру, не обладая ни вкусом, ни хорошими манерами. Но они усваивают и перенимают их – в раздевалках кордебалета, от других девушек – узнают, какие книги надо читать или говорить, что прочитала, как одеваться. И к тому времени, когда они добиваются успеха, все острые углы у них уже выровнены, сглажены. А Элен целых два года потратила на то, что пела в притоне. Она не научилась ничему такому. И после первого же своего шоу взлетела ввысь со скоростью ракеты. А любого, кто возглавляет список хитов, люди всегда принимают таким, каков он есть. В одночасье Элен стала слишком знаменитой и яркой фигурой, чтобы кто-нибудь отважился давать ей советы, как одеваться и как разговаривать. Все добродушно посмеивались над ее вульгарной речью, давая ей понять, что она у нее мол, очень колоритна. Не бросай ее, Анна, ей необходим такой человек, как ты. На столе у Генри зазвонил служебный телефон. Секретарь сказала ему в трубку, кто будет говорить. Генри кивнул и передал трубку Анне. – Аллен. – Я поговорю из приемной, – поспешно сказала она. Генри махнул рукой. – Брось, здесь все твои друзья. Она взяла трубку, чувствуя на себе пристальный взгляд Лайона. – Для того чтобы спокойно поужинать со мной, ты слишком устала! – звучал в трубке сквозь потрескивания голос Аллена. – А сейчас мне говорят, что мы все собираемся в «Копу». – Это Элен с Джино договорились, – робко пояснила она. – Понимаю. Мне легко отказать, а вот Элен сказать «нет» ты не можешь. Пришла в восторг от того, что со знаменитостью познакомилась, так что ли? – Аллен, я сейчас в кабинете мистера Бэллами. Если ты не хочешь, никуда не пойдем сегодня. – Нет… обожди минутку. Я не собираюсь с тобой ссориться. Мы идем. Зазвонил личный телефон Генри. – Аллен, давай договорим позже. – Извини, Анна. Понимаю, ты работаешь у Генри, а Элен – его клиент. Но после сегодняшнего вечера давай избавимся от нее. Если тебе нужно встречаться с нею, ходите по магазинам, обедайте вместе, но из моей жизни ее убери. Генри держал свою трубку на отлете. Наверное, звонила Элен. – Аллен, увидимся вечером. – Она положила трубку. Генри протянул ей другую. – Похоже, нам придется нанять для нее личного секретаря, – подмигнул он Лайону. – Эй, какой у тебя адрес? – пропела на том конце провода Элен, – Мне он нужен, чтобы тебе доставили мой подарочек на счастье. Анна назвала адрес. – Черт, нет карандаша. Подожди-ка… – Элен, – торопливо сказала Анна. – Спроси у Нили О’Хара. – У кого? – У Нили О’Хара. Она в вашем шоу. Мы с нею живем в одном доме. Она даст тебе адрес. – А где она у нас занята? В кордебалете? – Да. Первоначально она должна была выступать с «Гаучерос». Последовала небольшая пауза. – Ах, эта. – Она моя очень близкая подруга, Элен. Ей всего семнадцать лет. В шоу она только танцует, но умеет и петь. Она в самом деле очень талантлива. – О’кей, – бодро ответила Элен. – Возьму адрес у нее. Говоришь, она поет, да? Может, я что-нибудь и устрою для нее. Она попала в неприятную переделку. Но я к этому никакого отношения не имела, честно. Ну ладно… может, сумею что-то сделать сейчас. Мне тут пришла в голову одна мысль. Анна вернулась за свой стол и вся погрузилась в работу. Когда рабочий день наконец-то подошел к концу, голова у нее по-прежнему раскалывалась надвое. Приехав домой, она быстро поднялась по лестнице, мечтая лишь о том, чтобы сразу же забраться под одеяло и уснуть. Дверь в комнату Нили была распахнута настежь. Она вылетела на площадку и устремилась вслед за Анной вверх по лестнице. – Я очень устала, Нили. Поговорим потом. – Да я ненадолго. Хочу только посмотреть на выражение твоего лица, когда ты увидишь подарок от Элен. Он у тебя в комнате. Я прямо с репетиции позвонила сюда хозяину, чтобы он отпер твою комнату. Войдя к себе, Анна осмотрелась. Она нигде не увидела ни пакета, ни ящика, ни вообще чего-либо нового. – Вот! – Нили торжествующе показала пальцем на расшатанный ночной столик. Анна тупо уставилась на блестящий черный телефонный аппарат. – Она оплатила установку и внесла абонентскую плату за два месяца вперед. Сказала, что через два месяца ты, скорее всего, уже выйдешь за Аллена. – Но я не могу позволить делать мне такие подарки. – Послушай, она уже все сделала. Не знаю, Анна… ты, наверное, чем-то околдовала ее. До чего она была мила со мной сегодня, когда я сказала, что я твоя подруга. – Однако, увидев улыбку на лице Анны, Нили категорически отрезала: – Но это ничего не меняет. Все равно я считаю ее стервой! …Вечер, проведенный ими в «Копе», был почти точным повторением предыдущего. Внимание всех было приковано к Элен. К ее резкому пронзительному смеху, к ее шумным крикливым приветствиям, которые она отпускала всем, кого знала, к Джино, который во всем поддакивал ей, постоянно подливая в ее бокал шампанское. Взволнованная и согретая личным вниманием Элен к себе, захмелевшая от двух бокалов шампанского, Анна чувствовала себя вполне полноправным членом компании старых добрых друзей. Аллен же все время держался отстранение и замкнуто. – Сначала завезем Анну, – объявила Элен, когда они наконец уселись в лимузин. – Да, я живу ближе, – торопливо согласилась Анна, избегая встречаться глазами с настойчивым взглядом Аллена. Когда лимузин остановился у ее дома, она выскочила из него, не дожидаясь, пока шофер выйдет и откроет ей дверцу. – Не выходи, оставайся в машине, – сказала она Аллену. – Морозно. – И, помахав рукой, она быстро взбежала по лестнице, чувствуя на расстоянии, как Аллен недовольно стискивает зубы. Его недовольство было очевидно даже в вечерней полутьме. Двадцать минут спустя зазвонил ее новый телефон, словно новорожденный, возвещающий о своем появлении на свет. – Первой пришлось встать мне, – услышала она приветливый голос Элен. – Не разбудила? – Нет… но я уже легла. – Она явно наслаждалась таким комфортом. Даже в Лоренсвилле иметь телефон у кровати считалось неслыханной роскошью. – Ну что, здорово сегодня повеселилась? – Просто прекрасно. Один из самых лучших вечеров в моей жизни – Да… – Элен помолчала. Затем сказала изменившимся голосом: – Анни, с Джино у меня ничего не получится. – Ему было очень хорошо, – искренне возразила ей Анна. – Но он даже не попытался поцеловать меня на прощание, – плаксивым голосом пожаловалась Элен. – После тебя мы отвезли домой сынулю. Я была уверена, что Джино попросит разрешения зайти ко мне выпить. Я прижалась к нему и сказала, что у меня в морозилке есть бутылочка «Дом Периньон». Но когда подъехали ко мне, он только похлопал меня по спине и сказал: «Спокойной ночи, милашка». – Ну-у… – Анна никак не могла подыскать нужные слова. – Это говорит о том, что он испытывает к тебе уважение. – Кому нужно уважение? Мне нужно, чтобы меня трахнули. Хотя Анна не смогла подавить вырвавшегося у нее возгласа изумления, Элен продолжала свое: – Послушай, ангелочек, когда поживешь и повидаешь с мое, тогда узнаешь, что единственное, чем любой мужик проявляет свой интерес, это когда он лезет на тебя. – Не может быть, что ты это серьезно, Элен. Все как раз напротив. – Вот именно, напротив моей задницы! Как же еще он его проявляет? – Ну, ходит с тобой везде, проводит с тобой время, тебе с ним бывает интересно. – Смеешься что ли? Я считаю так: раз мужик бьет под тебя клинья, то ему не терпится забраться с тобой в постель. Даже этот подонок Рэд Ингрем, мой последний муж, – что ты думаешь? – залез на меня в первый же вечер, как мы познакомились. После свадьбы пыл у него немного поугас, ну там, три-четыре раза в неделю. Потом – раз в месяц, а потом вообще ничего. Вот тогда я наняла частных детективов и узнала, что он изменяет мне. – Но, Элен, я встречалась с Алленом миллион раз, и он никогда… не позволял себе ничего такого. – Да уж мне-то можешь не заливать! Возникшая пауза стала почти физически осязаемой. Потом Элен нарушила ее своим девическим голоском. – Ну ладно, не выходи из себя, Анни, крошечка. Верю тебе. Но, боже мой, неужели тебе не хочется? Я имею в виду, как же ты узнаешь до свадьбы, хорошо тебе с этим мужиком или нет? Он может оказаться никудышным в постели. Ты ведь собираешься сначала попробовать с ним, разве нет? – Разумеется, нет. На этот раз долго молчала Элен. Затем непререкаемым тоном, в котором сквозили нотки восхищения, она сказала: – Тогда тебя интересуют только его деньги. – Я встречалась с Алленом полтора месяца и все это время думала, что он бедный мелкий страховой агент. Опять молчание в трубке. – Тогда, черт возьми, значит, ты одна из этих фригидных баб? – Думаю, что нет. – Что еще за «думаю»?! Может, будешь уверять меня, что ты девственница? Алло, Анна, ты меня слышишь? Боже мой, бьюсь об заклад, что и впрямь девственница. – Ты говоришь так, словно это какая-то болезнь. – Да нет, конечно, но в двадцать лет большинство девушек уже не… Черт, я хочу сказать, раз ты позволяешь мужику подбивать под себя клинья, ты сама же хочешь, чтобы он тебя трахнул. И не можешь ждать. – Значит, к Джино ты испытываешь такие же чувства? – Ну, ясное дело. Я даже не влюблена в него пока. Но могу и влюбиться. – Подожди, пусть пройдет время, – устало сказала Анна. – Попробую завтра вечером. В «Мартинике» будет премьера. – У тебя с ним назначено свидание? – Нет еще. Позвоню ему завтра в контору и назначу. – Элен, ну почему не подождать? – Чего? – Предоставь ему возможность позвонить самому. – А что если я буду ждать, а он так и не позвонит? – Но ты же не стала бы встречаться с ним, зная, что инициатива исходит только от тебя, правда? Ей было слышно в трубку, как Элен зевает. – Почему бы и нет? Иногда приходится приучать мужика, чтобы он привык к тебе, неважно, хотел он тебя с самого начала или нет. Анна понимала, что Джино не может не встречаться с Адель три вечера подряд. Но больше всего ей не хотелось, чтобы Элен унижалась. – Элен, сделай мне одолжение. Не звони завтра Джино. Дай ему возможность позвонить тебе самому. – А если не. позвонит? – Может и не позвонить. Он может не звонить несколько дней… или даже неделю. – «Неделю»! Ну нет, так долго я ждать не могу. – Да, может, тебе и не придется. Но попробуй… не звонить хотя бы завтра. Возможно, Джино просто не может встречаться три дня подряд. – Ну ладно, – вздохнула Элен. – Только все равно я считаю, что мой вариант лучше. Дам ему один день, чтобы позвонил мне сам. Вот только мне хотелось пойти на эту премьеру в «Мартинике». – Разве тебе больше не с кем пойти? – О-о, у меня всегда кто-нибудь да сыщется. Мой модельер пойдет или Бобби Иве, мой аккомпаниатор. Но они оба голубые. Вот в чем незадача: настоящих мужчин совсем не осталось. Гомиков – полно, а мужиков – нет. Терпеть не могу идти на премьеру с голубым. Все равно, что нацепить на себя плакат «Это все, что я сумела найти». – А я всегда думала, что уж ты-то можешь выбрать себе любого, кого только пожелаешь. – Так каждая думает, когда впервые попадает в Нью-Йорк. Да так оно и было в старые добрые времена, когда был сухой закон. Наверное, правильно сделали, что его отменили и спиртное разрешили продавать открыто, но те времена были восхитительны. Были шикарные места, такие как «Клуб Парк-авеню», «Ха-ха». Сейчас ночная жизнь уже не та. Эх, и любила же я те денечки. Вся разоденешься, в «Парк-казино» играл сам Эдди Дучин, все столики у эстрады были заняты гуляками из самого высшего света, завтракать ездили в Гарлем… В то время Тони ничего не стоило давать по пятьдесят долларов на чай. А сейчас, если мужик сунет тебе четвертак, чтобы ты сбегала в туалет и дала там на чай, он уже считает себя крупным транжирой. Боже, до чего я любила этого Тони! Вот кто был настоящий мужик! – Я думала, что единственным, кого ты любила, был Фрэнки, как ты говорила. – Так оно и есть. Тони был восхитителен: шикарный мужик в постели, но в душе сволочь. Фрэнки был хорошим и добрым и… – Элен вдруг разрыдалась. – Ах, – Анни, я действительно любила Фрэнки… честное слово… он был единственный, кого я любила. И вот он уже умер. – Но, Элен, по крайней мере, один раз в жизни у тебя было настоящее чувство, – растерянно пробормотала Анна. – Думаю, что да, – в голосе Элен послышалась удовлетворенность. – Думаю, мне повезло в жизни, что у меня был один мужчина, которого я любила по-настоящему. Есть женщины, которые проживут жизнь и ни разу не испытают ничего подобного. – А Генри ты разве не любила? – Что ты имеешь в виду? – Ну-у, ты была влюблена в Генри Бэллами, ведь так? – Анна почему-то почувствовала, что сболтнула лишнее. – Это он тебе сказал? – холодно спросила Элен. Анна была поражена тем, как невероятно резко изменилась интонация Элен. В мгновение ока их дружеская теплая доверительность улетучилась, словно ее и не бывало. – Нет, я просто догадалась по тому, с какой теплотой он говорит о тебе, – ровно ответила Анна. Голова у нее раскалывалась от замешательства, путаницы в мыслях и усталости. – Эй, подожди-ка минутку! Господи, да ты обидчивая. Конечно, я знала Генри давным-давно. Но почему люди не могут забыть об этом? Мы с ним спали, но это ничего не значило. Во всяком случае, для меня. Я никогда не цеплялась за него в этом смысле. Просто была молодая, а Генри был нужен мне для карьеры, и не было никого другого, с кем мне можно бы выйти, и… да ну, к черту, это давняя история. Я вообще иногда забываю, что у нас с ним что-то было. Но он по-прежнему ведет мои дела, поэтому, бога ради, не вздумай сказать ему об этом. – Что ты, Элен. Зачем я стану ему говорить? Генри мне нравится. Я ни за что не сделаю ему больно. Слышно было, как Элен зевнула. – Интересно, как-то, примерно год назад, мы с ним куда-то пошли вместе. Настроение у меня было паршивое, и, когда мы вернулись. Генри зашел ко мне. Ну и решили попробовать, вспомнить старое. Ничего не вышло! Я не смогла притвориться, а у Генри не получилось. Что ж, в конце концов, Генри не молодеет… ему уже за пятьдесят. Думаю, ему нужно здорово постараться, чтобы у него встал. Анна едва сумела приглушить вырвавшийся у нее смущенный возглас. – Но ведь Джино тоже за пятьдесят… – сказала она. – Он итальянец, а у этих макаронников внутри настоящая кочегарка. В постели с итальяшками никто не сравнится. Ух, этот Джино! Не могу я ждать! Слушай, позвоню-ка я ему прямо сейчас и пожелаю спокойной ночи… пусть увидит меня во сне. – Элен! Ни в коем случае! Сейчас четыре часа ночи. Ты разбудишь его. – А вот и нет, потому что прямо сейчас совершенно неожиданно я подумала о нем. Знаешь, что это значит? Это значит, он тоже думает сейчас обо мне. Когда вот так неожиданно вдруг вспоминаешь о ком-то, это означает, что человек думает о тебе в эту минуту. – Это не было неожиданно, – твердо сказала Анна. Задушевный голос Элен вновь убедил ее в прочности их дружбы. – Вот уже почти битый час мы с тобой о чем только не говорим, в том числе и о Джино. Ты просто не должна ему сейчас звонить, Элен. – Ну ладно, – пообещала ей Элен. – Послушаюсь тебя. Буду ждать, пока он не позвонит мне сам. – Вот это правильно. – О’кей, ангелочек, – голос у Элен был уже сонный. – Поболтаем завтра. Приятных тебе снов…* * *
Прошло три дня, а Джино так и не позвонил. Элен с нажимом сообщала об этом Анне по несколько раз на дню. Звонила ей на работу, звонила, когда Анна переодевалась, идя на свидание с Алленом, звонила и в два часа ночи. Нили тоже донимала ее, просила советов. Она собиралась ехать в Бруклин – ужинать в семье у Мэла. Она извлекла из шкафа весь свой гардероб, и Анне пришлось помогать ей в выборе одежды для такого случая. Нили, разумеется, считала, что для такого случая платье из ярко-красной тафты подходит как нельзя лучше. Ей просто хотелось лишний раз удостовериться. Она стала бурно спорить с Анной, когда та принялась настаивать на шерстяном коричневом платье. – Да ты что, ему ведь уже два года. Их спору, казалось, не будет конца. Все же Нили сдалась и ушла в коричневом платье, так и оставшись, однако, при своем мнении. В конторе только и занимались что делами, связанными с постановкой шоу Эда Холсона на радио. Но Анну вдохновляла и приятно возбуждала вся эта суматошная деятельность вокруг нее. Она была поглощена своей работой; она была нужна Генри; она была нужна Элен и Нили; она совершала сейчас восхождение на свой Эверест, и свежий воздух был восхитителен, вселял в нее энергию и бодрость. Ничего, что в любое мгновение можно сорваться в бездонную пропасть, зато это была настоящая жизнь, а не просто прозябание, когда лишь наблюдаешь со стороны. На четвертый день молчания Джино Элен заявила, что настала пора предпринимать какие-то действия. – Послушай, мне плевать на то, как он занят, – кричала она в трубку. – Если мужик клеит тебя, то может он, по крайней мере, позвонить и сказать «Привет». – Ну-у… возможно, я ошибалась. Я имею в виду… может быть, он к тебе безразличен, – осторожно начала Анна. У Аллена уже были билеты в театр. Было поздно, и ей хотелось успеть домой переодеться. – Он клеил меня, я же чувствую, – упрямо твердила Элен. – Я ему сейчас позвоню. – Элен, пожалуйста, не… – Знаешь что! Прибереги свои советы для другой дурочки. Я послушалась тебя и осталась ни с чем. – Но ведь ты же сама говорила, что, если ты ему небезразлична, он позвонит… – терпеливо увещевала ее Анна. – Я все слишком затянула. Если бы позвонила ему раньше, то сейчас он уже привык бы ко мне. Бог ты мой! Всю жизнь со мной так. Всегда получаю пинки в задницу… – Она зарыдала, – Честное слово, Анна. Стоит мне с мужиком по-хорошему, как он тут же бросает меня. Я переживаю это сильнее любой женщины на свете. У меня ничего нет. Одна только работа, работа, работа – делаю всем деньги, а сама так одинока. Я думала, что нравлюсь Джино. Ты тоже так сказала в тот вечер в «Марокко». Ну почему он не позвонил мне, Анни? Всем своим сердцем Анна потянулась к этой женщине. Она чувствовала себя ответственной: ведь это же она познакомила их. Джино поступает нехорошо, ни разу не позвонив. Ничего с ним не случилось бы, встреться он с нею хоть иногда. Он должен считать это за честь. – Элен, подожди еще денечек… пожалуйста. В тот вечер после театра Анна предложила Аллену пойти в «Марокко». Джино, как обычно, восседал за своим столиком. Завидев их, он с присущей ему экспансивностью замахал обеими руками и настоял на том, чтобы они сели к нему. Адель вся сияла от счастья в своей новой норке, по-хозяйски держа Джино под руку. Анна вдруг сама поразилась тому, что она намеревается осуществить. Ведь она же совсем забыла, насколько красива Адель. К ним подсел Ронни Вульф. Адель заговорила о новом ночном клубе, открывающемся на следующий день. Джино с бурным энтузиазмом сразу же решил провести там вечер, пригласив Анну и Аллена. Идти сегодня в «Марокко» было ошибкой. Ну зачем, спрашивается, она пришла сюда? Неужели надеялась на то» что увидевее, Джино вспомнит об Элен? Глядя, как его рука ласкает плечо Адели, Анна подумала об Элен, ее располневшем лице и погрузневшей фигуре. Ей стало до боли жалко стареющую звезду. – Пойдем, Анна, потанцуем с тобой. – Джино встал, возвышаясь над столом всем своим крупным телом. – Ни разу еще не танцевал с невестой своего сына. – Он подмигнул Ронни Вульфу. – Нельзя упускать такую возможность. Сделав круг по всей площадке и кивком поздоровавшись со всеми знакомыми, он тихо произнес: – Слушай, Анна, ты должна оказать мне услугу. Помоги мне отделаться от этой дамочки Лоусон. – Не понимаю… – Анна старалась, чтобы голос ее звучал как можно естественнее. – Она звонила мне сегодня вечером. Хочет знать, когда мы с нею опять пойдем куда-нибудь. Представляешь, имела наглость спросить, не заболел ли я, раз не звоню ей. – Но почему ты не позвонил ей? Я думала, она тебе нравится. – Конечно, она хороший человек. Свой в доску парень. Мне нравилось быть с нею на людях. Умеет посмеяться, и сама с юмором. Я бы опять не прочь пойти с ней куда-нибудь, если бы это было все, чего она добивается. – По-моему, говоря это, ты подразумеваешь нечто такое, чего на самом деле не существует, – невозмутимо проговорила Анна. – Анна… – он понизил голос. – Не хотел говорить тебе этого, но ты должна знать, иначе просто не поймешь. После того, как в тот вечер мы отвезли домой сначала тебя, а потом Аллена, эта старая развратница… потрогала меня… за половые органы… и стала приглашать зайти к ней выпить. Я прикинулся, что ничего не понял. Черт, еле унес от нее ноги! – При этом воспоминании его всего передернуло. – А по-моему, она… привлекательна, – неубедительно проговорила Анна. – Ты так говоришь потому, что по возрасту она тебе в матери годится, а ты уважаешь старших «и уважаешь ее талант. Но послушай, Анна, для мужчины она не привлекательна. Конечно, когда она поет на сцене, про нее ничего плохого не скажешь… Но когда речь идет об увлечении… – он метнул взгляд на сидящую за столиком Адель. – —…тогда меня интересует только тело, которое я сжимаю в своих объятиях. Дыхание у Анны участилось. Сама мысль о том, что Элен подвергается такому унижению, что ее целиком, полностью и бесповоротно отвергают, была невыносима. Пройдет немного времени, труппа уедет с этим шоу на гастроли с предварительными выступлениями, и Элен, возможно, забудет его. Но в данный момент на карту поставлена гордость Элен. – Удивляюсь я тебе, Джино, – тихо сказала она. – Такой человек, как ты… человек, который создал целую финансовую империю… и .хочешь сказать, что можешь влюбиться в девушку только за ее миловидное личико? А ведь Элен Лоусон – живая легенда. Она такая личность, такая знаменитость, что ты должен гордиться, когда тебя видят с ней. Она – человек действительно крупного масштаба. – Послушай, дорогая, ты все поняла не правильно. Кто и что говорит о любви? Думаешь, я влюблен вон в ту расфуфыренную девицу! Влюблен я был только раз – в мать Аллена. Это была настоящая леди. Но когда о любви начинает думать мужчина в моем возрасте, он просто ищет неприятностей на свою голову. Кому сейчас нужна любовь? Мне просто нужна девушка с хорошеньким личиком и классной фигуркой. И вовсе ни к чему, чтобы она была сообразительной или живой легендой. Нужно, чтобы она просто хорошо смотрелась и удовлетворяла меня. А то, что причитается с меня, я оплачу несколькими меховыми манто и побрякушками – пусть почувствует себя счастливой, – Он пожал плечами. – А чего мне нужно от Элен Лоусон? Она как разъяренный бык. Так что, Анна, окажи мне услугу, помоги избавиться от нее, иначе я буду вынужден оскорбить ее. – Но ты поедешь в Нью-Хейвен на ее премьеру? – В Нью-Хейвен? – Джино… ты ведь сам предложил. Даже обещал. – Нью-Хейвен. Черт, это ведь несколько часов поездом. Я, должно быть, здорово тогда накачался. Слушай, а ведь она не очень-то и хотела, чтобы мы туда ехали. Скажи ей, что я приеду в Филадельфию. – Правда, приедешь? – Нет, но ведь до этого еще очень долго. К тому времени я что-нибудь придумаю. – Нет, Джино. Она моя подруга, и я не стану ее обманывать. – Ладно, тогда сам ей скажу. Скажу, что она старая корова, и пусть оставит меня в покое. – Если сделаешь это, я никогда тебе не прощу, – голос у Анны был тихий, но глаза потемнели от гнева. – Анна, Анна. Чего ты от меня хочешь? Делать ей больно я не хочу, но и разыгрывать из себя влюбленного в нее мальчика-поклонника тоже не могу. – Ты можешь поехать в Филадельфию на премьеру. – А потом что? Это же только подбодрит ее. – Я бы не стала относиться к этому серьезно. Ты очень привлекательный мужчина, но, по-моему вряд ли Элен станет рвать на себе волосы от того, что ты пренебрег ею. Дело просто в том, что познакомила вас я. И еще я считаю, когда даешь обещания, их нужно выполнять. Когда ее шоу пойдет на Бродвее, тебе придется выстоять длиннющую очередь к служебному входу, чтобы увидеть ее. – О’кей, о’кей. Боже упаси, чтобы я обострял отношения с будущим членом моей семьи. Условимся с тобой так: я еду в Филадельфию – есть один ночной поезд, на котором можно будет вернуться в Нью-Йорк к утру, – но только если ты обещаешь до тех пор избавить меня от нее. Договорились? – Хорошо, Джино, договорились. С Элен пришлось гораздо труднее. Анна сочинила историю о том, что Джино сейчас слишком занят какой-то новой финансовой сделкой и не может встретиться с нею, но обязательно приедет на премьеру в Филадельфию. – Что ты мне толкуешь, будто у него по горло дел с какой-то там финансовой сделкой, – вскричала Элен. – А я, по-твоему, чем занимаюсь, картошку, что ли, чищу? – Но ведь ты же сама хотела, чтобы он поехал с тобой в Филадельфию, а не в Нью-Хейвен. – Да, но только все это трепотня, насчет сделки. Знаешь, какой бы занятой я ни была, но, если мне кто нравится, я выберу время встретиться с ним. – Ну, тогда забудь о Джино, – устало ответила Анна. – Не стоит он всех этих переживаний. – Но мне же нужен мужчина… а у меня никого нет, Анни. – Она понизила голос. – Поэтому мне просто необходимо заполучить Джино. – Элен, а может быть, Джино не нужна постоянная женщина?.. – Нет, точно нужна. Я раскопала о нем всю подноготную. Он сейчас с одной хористкой, здоровая такая девица, Адель, кажется. – Ты знаешь об этом? – Ясное дело, читаю в газетах. Но, слушай, он же встречался два раза со мной, а сам был еще с ней, ведь так? Поэтому ясно: к ней он особо не пылает. Я слыхала, он с нею уже почти полгода, но ты же видишь, он не предлагает ей оставить выступления, чтобы все время быть только с ним. Так что, я считаю, он уже вполне созрел, чтобы сменить партнершу. И ею стану я! Нам с ним обоим было так здорово те два вечера, что мы провели вместе. Я точно видела – он ко мне неравнодушен. Думаю, что он, может, немного боится того, что я такая знаменитость, что мое имя стало легендой, и всякой там дерьмовской ерунды. Позвоню-ка я ему прямо сейчас. – Элен! – Что еще, бога ради? Ну ответит «нет», и я не увижу его сегодня вечером. Ведь от того, что буду так сидеть сложа руки, он ко мне быстрее не приедет. – Элен, он приедет в Филадельфию. – А откуда я знаю, что это точно? – Потому что мы с Адлером тоже едем. Обещаю тебе, он там будет. – О’кей, – голос у Элен опять оживился. – Может, это и к лучшему. Ближайшие десять дней будут у меня адом кромешным. А после премьеры в Филадельфии закатят пышный банкет. Мы с Джино только отметим там по-быстрому, а потом сразу смоемся ко мне в люкс и трахнемся там. Ой, Анни, дай мне только затащить его в постель…* * *
Вся неделя перед Днем старта, как Нили окрестила день премьеры в Нью-Хейвене, была сплошным и беспрерывным сумасшествием. В конторе шли бесчисленные истерические заседания по поводу постановки шоу Эда Холсона, то и дело приходили сценаристы. Элен звонила по несколько раз на дню, иногда просто поболтать, но чаще всего – пожаловаться на Джино. Он торчал в «Марокко» с Аделью три вечера подряд – их там видел модельер Элен. Как же тогда его финансовая сделка? – Но, Элен… он же мог встретиться с нею только после одиннадцати. Возможно, они просто вместе выпили, и все. – Чтобы быстренько выпить, я бы и сама с ним встретилась. – Уверена, что он слишком высокого мнения о тебе, чтобы осмелиться предлагать тебе встречу вот так, наспех… И вот посреди всей этой кутерьмы в полный рост встала фигура Аллена. Поскольку Элен временно перестала маячить между ними, в их отношениях восстановилась прежняя легкая непринужденность. Они сидели в «Аист-клубе», Анна небрежно помешивала деревянной палочкой у себя в шампанском, делая вид, что пригубливает его. Внезапно Аллен спросил: – Анна, сколько еще мы будем тянуть? – Что ты имеешь в виду? – Когда мы поженимся? – Поженимся? – она повторила это слово совершенно бесцветным голосом. – Ну, ведь это же было основной идеей. – Но, Аллен… я думала, ты понимаешь. Я хочу сказать… – Я сказал, что подожду. И я ждал. Целый месяц. – Аллен, я не хочу выходить замуж. В его глазах появилось странное выражение. – Мне хотелось бы кое-что выяснить, – продолжал он. – Просто чтобы уяснить себе. Тебе неприятно замужество или… я сам? – Ты же знаешь, что не неприятен мне. Я считаю тебя очень хорошим. – О боже… – простонал он. – Ну не могу же я сказать, что люблю тебя, если это не так, – жалобно сказала она. – Скажи мне вот что. Любила ты вообще кого-нибудь? – Нет, но… – Ты считаешь, что способна вообще полюбить? – Конечно! – Но не меня? Она опять помешала шампанское палочкой и, не в силах выдержать его взгляда, стала изучающе смотреть на поднимающиеся пузырьки. – Анна, по-моему, ты боишься секса. На этот раз она посмотрела ему в глаза. – Наверное, сейчас ты начнешь говорить, будто во мне что-то не проснулось… что ты все это изменишь. – Именно так. Она отпила шампанского, чтобы отвести глаза от его пытливого взгляда. – Тебе, вероятно, уже говорили это раньше, – сказал он. – Нет, я слышала такое в очень плохих фильмах. – Диалоги часто кажутся банальными потому, что они реалистичны. Проще всего насмехаться над правдой. – «Правдой»? – Да, правдой, которая заключается в том, что ты боишься жизни… и боишься просто жить. – Ты и впрямь так думаешь? Только потому, что я не рвусь за тебя замуж? – На ее лице мелькнуло подобие улыбки. – А ты считаешь это нормальным: – дожить до двадцати лет и все еще быть девственной? – Девственность – не уродство. – Ну, в Лоренсвилле, может быть, и нет. Но ведь ты же всегда уверяла меня, что не хочешь быть такой, как его обитатели. Поэтому, позволь-ка, приведу тебе некоторые факты. В двадцать лет большинство девушек уже не девственницы. К тому же большинство из них ложились в постель с парнями, по которым они отнюдь не сходили с ума. Их толкнуло на это элементарное любопытство и естественное половое влечение. Думаю, у тебя не было даже парня, с которым бы вы постоянно встречались и целовались вовсю. Откуда же ты знаешь, хорошо это или плохо, если ни разу не испытала этого. Разве ты никогда не испытывала никаких желаний, никаких чувств? Существует ли на свете хоть кто-то, с кем ты когда-нибудь была раскованной? Заключала ли кого-нибудь в свои объятия? Мужчину, женщину, ребенка? Анна, я должен достучаться до тебя. Я люблю тебя и не могу допустить, чтобы ты превратилась в очередную типичную новоанглийскую старую деву. – Он взял ее руки в свои. – Слушай… забудь на минуту обо мне. Разве нет никого, кто был бы тебе небезразличен? Иногда хочется встряхнуть тебя и посмотреть, можно ли пробудить в твоем сердце хоть какое-то чувство. Вот на этом самом лице с идеально правильными чертами. Разве минувший четверг был для тебя пустым, звуком? – Четверг? – Она начала лихорадочно рыться в памяти. – Это был День Благодарения [21], Анна. Мы отмечали его в «21». Господи, да можно ли тебя хоть чем-то пронять? Я надеялся, ты пригласишь меня домой в Лоренсвилл на День Благодарения. Хотел познакомиться с твоей матерью и тетей. – Кому-то нужно было остаться в конторе в пятницу, а мисс Стейнберг уехала в Питтсбург навестить своих. – А как же ты? Ведь ты – единственный ребенок в семье. Разве ты не близка со своей матерью? Что она думает о нас? Ты хоть отдаешь себе отчет, что ни разу не рассказывала мне о ней? Анна опять поиграла палочкой. Вначале она писала раз в неделю. Но ответы, приходившие от матери, были вымученными и писались, скорее, по обязанности, поэтому Анна вскоре прекратила писать. Матери были решительно не интересны Нью-Йорк, Нили и Генри Бэллами. – Я позвонила матери после того, как газеты растрезвонили о нашей помолвке. – И что она сказала? («Ну что ж, Анна, очевидно, ты знаешь, что делаешь. В Лоренсвилле все знают об этом из бостонских газет. Я считаю, что в Нью-Йорке все мужчины стоят друг друга. Никому ничего не известно об их семьях и родственниках. Думаю, что он не родня тем Куперам из Плимута».) Анна слегка улыбнулась. – Сказала, что я, наверное, знаю, что делаю. И как всегда, она была не права. – Когда я познакомлюсь с ней? – Не знаю, Аллен. – Ты намерена работать у Генри Бэллами всю свою жизнь? Это предел твоих мечтаний? – Нет… – Чего же ты все-таки хочешь, Анна? – Не знаю. Знаю только, чего я не хочу! Не хочу возвращаться в Лоренсвилл. Уж лучше умереть. – Ее всю передернуло. – Не хочу выходить замуж… пока не полюблю. А я очень хочу полюбить, Аллен, страстно хочу. И детей хочу. Девочку. Хочу любить ее… быть близкой к ней… Он широко улыбнулся. – Славная моя девчонка, никогда еще ты не раскрывалась передо мной до такой степени за все то время, что я тебя знаю. У нас будет дочурка – теперь никаких возражений. – Он осторожно поднес палец к ее губам, когда она попыталась было что-то сказать. – И эта дочурка будет учиться в лучших школах и вращаться в высшем свете. Да с твоей-то внешностью и с твоим воспитанием я соберу вокруг нас таких людей, которые будут достойны нас. Найму специального секретаря по связям с прессой, и мы чудесно обыграем твое происхождение и воспитание. Вот увидишь, у нас с тобой все будет по-другому. Ньюпорт, Палм-Бич [22] – и к черту Майами, к черту «Копу». – Но я не люблю тебя, Аллен… – Ты никого не любишь. Но я заметил искру в твоих глазах, когда ты говорила о том, что хочешь полюбить… хочешь иметь ребенка. Это – сокровенное, оно скрыто там, в самой глубине, оно только и ждет, чтобы выйти наружу. Ты принадлежишь к тому типу женщин, которые делаются неистовыми в постели, стоит им только отведать этого и войти во вкус. – Аллен! Он улыбнулся. – Ладно, не отвергай того, чего ни разу не пробовала. Не люблю хвастаться, но опыт у меня есть. Я сумею разжечь тебя. В моих объятиях ты будешь просить еще и еще… – И я еще должна выслушивать такое?! – Хорошо. Ни слова больше. Не буду нажимать на тебя с женитьбой… до Рождества. Тогда и назначим число. – Нет, Аллен… – Я всегда добиваюсь чего хочу, Анна, а хочу я тебя. Хочу, чтобы ты любила меня, и ты полюбишь! А теперь – ни слова об этом до Рождества. Все это было во вторник. В среду весь состав «Небесного Хита» выехал в Нью-Хейвен готовиться к премьере, что была назначена на пятницу. В четверг Генри Бэллами сказал: – Да, кстати, Анна, завтра часовым поездом мы едем в Нью-Хейвен. Я забронировал тебе номер в отеле «Тафт». – Мне? – Разве тыле хочешь поехать? Мы с Лайоном должны организовывать премьеру, и я счел само собой разумеющимся, что тебе захочется там быть. В конце концов, Элен – твоя подруга, и ты в приятельских отношениях с крошкой О’Хара, которая тоже занята в шоу. – С радостью поеду! Я ни разу не была на премьере. – Ну, тогда пристегни привязной ремень, потому что премьера в Нью-Хейвене – это что-то исключительное. (обратно)декабрь 1945
Они встретились на Большом Центральном Вокзале. День был бодряще-холодным. Генри выглядел усталым и обрюзгшим, несмотря на то, что был свежевыбрит. Лайон Берк приветствовал его своей беглой теплой улыбкой. Они сели в салон-вагон. Мужчины открыли свои «дипломаты» и с головой ушли в контракты и прочие документы. Поездка была для них лишь продолжением обычного рабочего дня. Анна попыталась сосредоточиться на иллюстрированном журнале. Яркое солнце, бьющее в окно, заливало своим светом зимний загородный пейзаж. Это навело ее на мысли о Лоренсвилле. В Нью-Йорке забываешь, насколько холодной и унылой может бить зима. Неоновые огни, толпы людей, вечно куда-то спешащие, многочисленные такси на улицах превращают снег в слякоть, а слякоть – в грязную воду, которая быстро исчезает, и ты забываешь о голом, заброшенном ландшафте остального мира. Это зимнее одиночество. Долгие вечера, которые она проводила в большой чистой кухне с матерью и тетей Эми, Иногда – выходы в кино, в кегельбан или на партию в бридж. «Боже милостивый, – молилась она в душе, – благодарю тебя за то, что ты дал мне силы уехать. Никогда не понуждай меня вернуться, никогда!» Поезд остановился у темного вокзала в Нью-Хейвене, оба «дипломата» со щелчком захлопнулись, и мужчины встали, разминая затекшие ноги. Лицо Генри заранее выражало усталость и всепрощение. – Ну что ж, смело вперед, в самое пекле, – произнес он. Лайон взял Анну под руку. – Пошли, моя девочка, ты непременно получишь удовольствие от первой в своей жизни премьеры в Нью-Хейвене. Мы не позволим Генри испортить тебе настроение. – В Нью-Хейвене я бывал уже раз пятьдесят, – скорбно проговорил Генри, – и всегда вспоминаю, как я его ненавижу, только когда приезжаю сюда. Нью-Хейвен – это город вечных неприятностей, за исключением тех дней, когда здесь идет шоу с Элен Лоусон, – тогда это полная катастрофа! Отель «Тафт» выглядел мрачным и неприступным. – Освежись, приведи себя с дороги в порядок и спускайся к нам в бар, – сказал ей Генри. – И еще – на твоем месте я бы не звонил Элен. В Нью-Хейвене она страшный человек. Наверное, она еще в театре. Я зайду за ней, и мы зарегистрируемся в отеле вместе. Анна быстро распаковала свою сумку. Номер был небольшим и наводил тоску, но ничто не могло погасить ее восторга. Она ощущала себя маленькой девочкой, впервые в жизни отправившейся в путешествие, и всю ее переполняло радостное ожидание, словно вот-вот, с минуты на минуту, произойдет нечто невыразимо прекрасное. Подойдя к маленькому окошку, она посмотрела вниз, на улицу. На город опускались ранние зимние сумерки, и в этой полутьме проявлялся свет уличных фонарей. Через дорогу прямо против отеля неуверенно мигала неоновая вывеска небольшого ресторанчика. Анна резко обернулась на раскатистый телефонный звонок. Это оказалась Нили. – Я только что с репетиции. Мистер Бэллами приезжал в театр к Элен. Сказал мне, что ты здесь! Я в диком восторге! – Я тоже. Как у тебя дела? – Ужасно! – выпалила Нили с обычной своей экзальтацией. – Вчера вечером у нас была генеральная репетиция. Шла до четырех утра. Элен хочет выкинуть еще один номер из выступления Тэрри Кинг. Тэрри вылетела из театра в истерике, а сегодня днем ее агент приезжал к Гилу Кейсу, чтобы все окончательно утрясти. Тэрри говорит, что Элен не имеет права выкидывать эту песню. А ее танец с «Гаучерос» – просто ужас. Могу спорить, что песню выкинут, а Чарли и Дику дадут от ворот поворот, – радостно добавила Нили. – Все это ужасно. А Элен уже вернулась? – Нет, она еще в театре, заперлась в своей гримерной с Генри Бэллами. Не могу понять, как они все это уладят. – Хочешь сказать, премьера сегодня не состоится?! – Да нет, занавес-то они так или иначе поднимут, – ответила Нили счастливым голосом. – Но путаница будет еще та. Анна, знаешь, Мэл здесь. – Наверное, он приехал тем же поездом, что и мы. – Нет, он приехал вчера вечером. – Немного помолчав, Нили сказала: – Анна… я… у нас все было. – Что «было»? – Сама понимаешь. – Нили… ты хочешь сказать?.. – Угу. Было очень больно, и особого удовольствия я не получила. Но потом Мэл все равно сделал так, что я кончила, только по-другому. – О чем ты говоришь? – Он спустился немного пониже, поцеловал меня прямо туда и сделал все языком. – Нили! – Да ладно, Анна, не будь ханжой. Если ты равнодушна к Аллену, то это вовсе не значит, что я – шлюха. Так вышло, что я люблю Мэла. – Значит, ты считаешь, что поступила правильно? – Ты чертовски права – я поступила абсолютно правильно. Мы оба хотим друг друга. Сейчас не обязательно жениться, чтобы заниматься этим. И сегодня Мэл уважает и любит меня ничуть не меньше, чем вчера. Даже больше, потому что теперь он по-настоящему меня любит. А я люблю его. И потом, мы пока еще не можем пожениться, он помогает своим деньгами. Но если шоу станет хитом и я смогу рассчитывать на сотню в неделю, то мы поженимся… – Но, Нили… то, что ты сделала… – Анна поперхнулась от замешательства. – Имеешь в виду, что разрешила ему целовать себя там? Послушай, Мэл говорит, что если двое влюблены, то все, что бы они ни делали друг с другом в постели, совершенно нормально. И потом, это ощущение не сравнимо ни с чем. Ух ты! Знаешь, я жду не дождусь сегодняшней ночи. И еще, Анна… когда он касается моей груди, я это чувствую у себя там. Готова спорить, что если кончать другим способом, то и половину всего не испытаешь… – Нили, ради бога! – А вот подожди, когда все это произойдет с тобой. Тогда сама поймешь. Увидимся после представления. Следи за моим выступлением. Я три раза выхожу во втором отделении.* * *
Лайон ждал ее за столиком в баре. – Генри все еще в театре, – он изобразил на лице сочувствие. – Я заказал тебе джинджер эль [23]. Правильно? Она с улыбкой посмотрела на бокал. – Может, мне следует научиться потягивать виски? Я чувствую, что даже официанты смотрят на меня косо. – А ты смотри на них точно так же. Никогда и никому не позволяй заставлять себя делать то, чего ты сама не желаешь. Сохраняй свою индивидуальность. – Думаю, у меня еще нет своей индивидуальности. – Индивидуальность есть у каждого. Одна – подлинная, своя, а другая – напоказ, пыль в глаза. Я склонен считать, что ты испытываешь удовольствие от того, что в пятницу напоказ будешь играть роль пассивной девушки, пытаясь тем временем найти свое подлинное «я». – Помнится, ты говорил, что по натуре я – борец. – Думаю, что да, но только борец за других. Она отпила свой джинджер эль. Он предложил ей сигарету. – Я не ошибся? – Нет, по-моему, попал в самую точку, – она весело посмотрела ему в глаза. – Но я действительно боролась. Это когда… – Да, ты приехала в Нью-Йорк. Но ответь мне, Анна, неужели это останется единственным славным достижением в твоей жизни? – А в твоей? – глаза у нее вдруг яростно сверкнули. – Война окончена, но жизнь продолжается. Намерен ли ты снова бороться? – Я борюсь уже сейчас, – тихо сказал он. – По-моему, когда я с тобой, то никогда не говорю ни о чем пустом и легкомысленном, – криво усмехнулась она. – Но сейчас начала не я. И думаю, мне лучше выпить виски. Знаком он подозвал официанта и заказал два виски. Подняв рюмку, она произнесла тост: – Возможно, если я выпью это, то сумею сказать что-нибудь такое, что рассмешит тебя. – Охотно посмеюсь. Но пить виски тебе вовсе не обязательно. Она залпом выпила полрюмки и сказала слабым голосом: – Вкус ужасный, и я все равно не могу придумать ничего смешного. Он взял рюмку из ее руки. – Почему для тебя так важно, чтобы я смеялся? – Я видела тебя в тот вечер в «Ла-Ронд»… с Дженифер Норт. Ты очень много смеялся. Я думала об этом… – Анна опять взяла свою рюмку. – Что она тебе такое говорила? – Она сделала еще глоток. – Давай допивай все. К тому же это была хорошая мысль. По крайней мере, сейчас ты борешься за саму себя. – А за что борешься ты, Лайон? – За тебя. Их глаза встретились. – За меня тебе нет нужды бороться, – тихо сказала она. Он быстро сжал ее ладонь. Перстень Аллена больно врезался ей в кожу, словно мстя за эту ласку. Но она ничем не показала, что в палец ей впивается острый ободок. Глаза Лайона были так близки… – Ну что ж, смотрю, вы оба уже выпили, – раздался голос Генри Бэллами. Он бодро приблизился к ним, подозвал официанта и заказал себе выпить. Анна торопливо отдернула руку. Перстень поцарапал кожу. Генри со вздохом сел. – Да валяйте, держитесь себе за руки, – небрежно позволил он. – Не обращайте на меня внимания. Вы же оба молоды, черт возьми, вот и радуйтесь этому. Нет, я серьезно: когда ты молод, то думаешь, что останешься таким навсегда. И вот однажды просыпаешься, а тебе уже за пятьдесят. И фамилии в некрологах – не каких-то незнакомых стариков, а твоих же сверстников и друзей. Официант принес ему рюмку, и он залпом осушил ее. – Продолжай, Генри, – рассмеялся Лайон, – хуже, конечно, ничего быть не может. – Протянув под столом руку, он вновь нежно сжал ладонь Анны. – Может, – возразил Генри. – И на этот раз намного хуже. Либо Элен становится все несноснее, либо я старею. – Элен всегда ведет себя как барракуда, пока шоу не пройдет в Нью-Йорке, – непринужденно ответил Лайон. Генри достал из кармана, записную книжку, раскрыл ее и посмотрел на столбик какого-то перечня. – Желаете послушать ее претензии? И это касается только организаторов. Плохое освещение в ритмическом номере; во втором отделении от вечернего платья за милю несет потом; при исполнении песни оркестр играет слишком громко; песня Тэрри Кинг тормозит все действие, и та поет, как на похоронах; исполнение кордебалетом фантастических эпизодов сновидения затянуто; в конце каждой песни Элен свет на сцене выключается – это мы хотим, чтобы в ответ на аплодисменты она раскланивалась только один раз; дуэт нужно переделать в сольный номер – у партнера нет слуха; Тэрри Кинг играет свою роль неестественно, нарушает равновесие всего шоу. – Он сокрушенно покачал головой и подал знак, чтобы ему принесли еще рюмку. – Боже, до чего же я ненавижу этот бар, – проговорил он, оглядываясь по сторонам и приветствуя взмахами руки агентов и продюсеров, прибывших на премьеру. – Ненавижу всех сукиных детей, что приехали сюда в надежде на провал. – Он улыбнулся какому-то человеку, проходящему по залу. – И все караулят Гила Кейса. Очень уж им нравится, когда провал терпит продюсер-джентльмен. Он у них в печенках сидит со своим гарвардским дипломом… – Генри опять тяжело вздохнул. – Это самый мерзкий бар на свете, и я провел здесь несколько самых мерзких вечеров в своей жизни. Анна и Лайон заговорщически улыбнулись друг другу. Они-то знали, что здесь самое прекрасное место в мире. «Если бы только я могла остановить это мгновение, – говорила она себе. – Что бы потом ни случилось со мной в жизни, эта минута останется для меня самой счастливой из всех». Они быстро поужинали в старомодном ресторане отеля. Генри и Лайон знали здесь почти всех. Из артистов здесь никого не было – в эту минуту они торопливо дожевывали бутерброды у себя в номерах и заново укладывали растрепавшиеся прически. Не обращая внимания на разговор и будоражащую атмосферу, Анна не сводила глаз с Лайона. Время от времени их взгляды встречались, и тогда они оба пристально смотрели друг на друга. Ей с трудом верилось, что это происходит с нею… происходит именно так, как она и надеялась… чувствовала… как ей и мечталось. Генри подал знак, чтобы принесли счет. – Анна, я вижу, ты вся на нервах перед премьерой: даже не притронулась к ужину. Ладно, поешь попозже. Гил Кейс закатывает после представления большую пирушку. Все билеты были распроданы. Учитывая такое нашествие людей, так или иначе связанных с эстрадой, публика взвинтилась – точь-в-точь как на премьере в Нью-Йорке. Анна сидела между Лайоном и Генри в третьем ряду. Погас свет, и оркестр заиграл увертюру. Лайон нашел ее руку. Она ответила на его пожатие, от счастья голова у нее пошла кругом. Шоу началось с яркого музыкального номера. Костюмы были чистыми, новыми и яркими. Девушки кордебалета, всего несколько часов назад растрепанные и непривлекательные, теперь в свежем персиковом гриме выглядели красавицами. Всего за несколько минут атмосфера в зале наэлектризовалась – неуловимые токи пробежали между зрителями и артистами. Когда на сцене возникла Дженифер Норт, выхваченная ярким пучком света из остального кордебалета, по залу пронесся вздох изумления и восхищения. Она двигалась медленно, покачиваясь в такт музыке, в расшитом золотом платье, облегающем каждый изгиб, каждую линию ее невероятно красивой фигуры. – Боже мой! – прошептал Генри. Он перегнулся через Анну. – Лайон, ее нельзя упускать. Здесь сидят Вейсс из «Твенти» и Мейерс из «Парамаунта» [24]. Контракт с нею заключат лет на пять, не меньше, это как пить дать. – Но тогда он должен быть на весьма приличную сумму, – ответил Лайон. – Она сейчас вцепилась в Тони Полара и оставит его лишь в том случае, если предложенная ей сделка окажется настолько выгодной, что упустить ее будет невозможно. – Тони никогда на ней не женится. Предоставь это мне. – А вот и твоя подружка, – быстро сказал Лайон. Анна успела лишь увидеть, как Нили исчезла в глубине сцены в сопровождении двоих юношей из кордебалета. Когда на сцене появилась Элен, все действие застыло, ибо прием публики оказался настолько бурным, что граничил с истерией. Элен спокойно стояла посреди сцены, принимая горячую овацию с едва заметной улыбкой. Каждый был тут благодаря ей; зал был заполнен до отказа благодаря ей; каждый музыкант в оркестровой яме находился там благодаря ей; либретто было написано только для нее. Отделенная от зрителей рампой, Элен принимала их всеобщую любовь. Если бы здесь был Джино, и он бы аплодировал и буйствовал, как и все прочие. После представления он просил бы Анну «избавить его от Элен», но сейчас, в эту минуту, она была предметом поклонения всего зала. Это шоу принадлежало Элен от начала и до конца. Каждая ее песня вызывала новый, еще более неистовый шквал аплодисментов. В зале были уже не зрители, а идолопоклонники, воедино сплоченные в обожествлении Элен Лоусон. Тот же самый резкий отрывистый смех, который заставлял Анну вздрагивать за столиком в ночном клубе, там, за рампой, казался естественным и звонким. Нили с блеском сыграла свою крошечную роль. Дженифер Норт вновь появилась уже в другом, сильно открытом платье, и публика наградила ее громом аплодисментов. Тэрри Кинг тоже аплодировали за две песни, голос у нее был нежнее и приятнее, чем у Элен. Однако Элен все равно оставалась непревзойденной. Само ее имя было олицетворением искусства. – По-моему, Тэрри выступает хорошо, – прошептала Анна Лайону. – Но до Элен ей далеко. Заурядная исполнительница средней руки. – К сожалению, внешность у нее выше средней, – ответил Лайон. В антракте все столпились в тесном фойе. Гилберт Кейс поманил Генри, и они пошли за ним в бар по соседству. – Гид, это лучшее шоу Элен, – сказал Генри, когда они выпили виски за стойкой. – И я точно такого же мнения, дорогой мой, – широко улыбнулся Гил. – Подсократим немножко здесь, немножко там, и все будет как надо. Бостон мне не понадобится: сумеем все провернуть за месяц и в Филадельфии. – Вполне возможно. Если только сокращать в нужных местах. Они молча посмотрели друг другу в глаза. Кейс натянуто улыбнулся. – Послушай, Генри, ты же знаешь – у меня связаны руки. Я не могу уволить Тэрри Кинг: у нее контракт на все представления этого шоу. – Как ей это удалось? – спросил Лайон. Кейс пожал плечами. – Отличный вопрос. Как ты думаешь, хоть одна мало-мальски приличная инженю согласится подписать контракт на иных условиях? Да ты посмотри, что вокруг творится. Бетти Мобайл – уволена в Бостоне: слишком хороши отзывы в прессе. Шерри Хэйнс – роль исключена из сценария. в Филадельфии: слишком хороши отзывы в прессе. Мне продолжать? Ты не подыщешь ни одной инженю для шоу Элен Лоусон, если не заключишь с нею контракт на все выступления. Если, конечно, тебя не устроит какая-нибудь корова. – Элен не даст ей выступать на премьере в Нью-Йорке, можешь мне поверить, – спокойно сказал Генри. – Генри, умоляю тебя, поговори с ней, – взмолился Гил. – Если я уволю Тэрри, как я объясню это спонсорам? В этом сезоне, у меня идут еще два шоу, одно за другим. Эти спонсоры мне нужны. Если я уволю Тэрри, мне придется выплачивать ей по четыре сотни в неделю до первого июля да еще платить той, кто ее заменит. Учитывая гонорар Элен плюс ее проценты… понимаешь, я просто не могу пойти на это. – Тебе обойдется куда дороже, если ты оставишь Тэрри. Да еще возникает масса осложнений. Если Тэрри Кинг останется, Элен начнет жаловаться на последовательность номеров или на оркестровку. Тебе придется просидеть недели три в Бостоне. Прикинь, во что обойдутся переезды и перевозка реквизита, – и ты увидишь, что потеряешь не меньше восьми тысяч в неделю. Потом Элен вдруг начнет критиковать все костюмы. Захочет, чтобы ты подыскал ей на стороне авторов слов к песням. А это, считай, еще минус двадцать пять тысяч, никак не меньше. Но стоит тебе только избавиться от Тэрри, и Элен все начнет нравиться в этом шоу, включая и тебя самого. И в Нью-Йорке ты сможешь запускать его сразу после Филадельфии. Видишь, как все просто. Гила передернуло. – Но ведь всегда можно найти какой-то компромисс… Генри молча кивнул. Гил вздохнул. – Попытаюсь. Только я, пожалуй, староват для таких расправ. Генри оставил несколько бумажек на стойке бара, и они вернулись в зрительный зал. Второе отделение еще больше подогрело возбуждение публики. Элен спела две песни подряд, и ее трижды вызывали на бис. Шоу оказалось зажигательным .хитом. Публика ни в какую не желала отпускать ее со сцены, аплодисменты еще долго гремели после того, как занавес опустился окончательно. Программка Генри оказалась вся в пометках относительно того, что надо выбросить, а что – заменить. Стоя в переполненном фойе, он напряженно морщил лоб. – Судя по твоему лицу, можно подумать, что сегодня был полный провал, – шутливо заметила Анна. – Нет, дорогая моя, просто я знаю, какие сражения еще предстоят. – Он улыбнулся. – Это ее самый крупный хит на сегодняшний день. Она превзошла самое себя. – Он вытряхнул сигарету из пачки. – Что ж, попробуем протиснуться за кулисы. Вход в гримерную Элен походил на массовку. Весь холл был набит поклонниками, терпеливо ждущими своей очереди, чтобы торопливо, на ходу поцеловать звезду или поздравить ее с блестящим выступлением. Элен стояла в дверях. Толстый слой косметики, заметный вблизи, придавал ее лицу гротескный вид. Ослепительно улыбаясь направо и налево, она с показной сердечностью принимала восторженные возгласы. Заметив Генри, Анну и Лайона, пытающихся пробиться сквозь толпу, Элен весело крикнула им: – Привет! Заходите ко мне! – и кивнула на дверь своей гримерной. Когда Анна поравнялись с Элен, та прошептала ей: – Вот только избавлюсь от этого сброда, и сразу поедем на банкет к Гилу, – она повернулась к очередному поклоннику, ждущему своей очереди, и наградила его ослепительной улыбкой. Когда они приехали, банкет был в полном разгаре, но при появлении Элен все стихли и повернули головы к дверям. На какую-то долю секунды воцарилась тишина, которая тут же взорвалась бешеной овацией. Элен приняла ее, улыбаясь, и по-свойски показала жестом, чтобы присутствующие продолжали веселиться. К ней тотчас подскочил секретарь шоу по связям с прессой, чтобы подвести ее к репортерам местных газет и к некоторым из наиболее крупных спонсоров. Отведя Анну в укромный уголок, Лайон принес ей джинджер эль и тарелку подсохших бутербродов с куриным мясом. – Горячее подают в том конце зала, – пояснил он, садясь рядом. – Я принесу тебе, когда немного рассеется. – Я почти не хочу есть, – ответила Анна, отщипывая от одного из безвкусных бутербродов и бегло осматривая зал. – Я не вижу здесь Нили. – К сожалению, на этот банкет приглашены лишь избранные. Кордебалет и хористки устроили вечеринку с танцами сами по себе. – Но ведь это же ужасно! – Вовсе нет. Сбросились, накупили куда более вкусных бутербродов, завалились к кому-нибудь в номер и прекрасно проводят время, перемывая косточки начальству и звездам. Внезапно в зале опять стало тихо. Анна механически глянула на дверь. Оказалось – вошел ведущий постоянной колонки местной газеты Джим Тэйлор об руку с Дженифер Норт. Всякий раз, когда она видела Дженифер, та неизменно поражала ее своей не правдоподобной красотой. Анна наблюдала, как толпятся спонсоры в ожидании, когда их представят ей, и вновь ее удивила, с одной стороны – сердечность и приветливость Дженифер, а с другой – искренняя заинтересованность, которую та давала почувствовать каждому, кого ей представляли. Семенящей походкой к их столику подошла Элен и придвинула себе стул. – А вы ребята не промах, уединились тут в уголке и знай себе воркуете. Боже, до чего я ненавижу эти банкеты! Но так уж Гилберт рассчитывается со спонсорами – дает им возможность пообщаться один вечерок со светилами шоу-бизнеса. – Последние слова она выделила особо, усмехнувшись при этом. К ним подошел Гил Кейс. – Там отличные цыплята «по-королевски». Есть кое-что из китайской кухни. – Гил, почему на твоих банкетах всегда подают такое дерьмо? – спросила Элен. – Это хорошая еда, мне ее рекомендовали в отеле… – Они наверняка рекомендовали еще и ростбифы, но ведь это же такая дороговизна! – Ну ладно, Элен, – ласково сказал Гил. – Сегодняшний вечер твой. Наслаждайся… – И он исчез в водовороте толпы. – Эй, Гил! – воскликнула Элен. – Нам надо кое о чем поговорить с тобой. – Она вскочила со стула и бросилась за ним. – У него нет ни единого шанса, – улыбнулся Лайон. – Думаешь, она опять будет о своем – я имею в виду, насчет Тэрри Кинг? – спросила Анна. – От своего она ни на дюйм не отступится. – Может, мне следует поговорить с Элен, – задумчиво сказала Анна. – Ведь Тэрри Кинг выступает очень хорошо. Ей нужно дать шанс, она заслуживает этого. А с Элен ей все равно не сравниться. Я наверняка сумею убедить ее… – Анна, и не пытайся. Иначе не сносить тебе головы. – Нет, Лайон, мы же с нею подруги. Ведь в чем вся беда? В том, что Элен никто не воспринимает просто как человека. С нею легко говорить. Я знаю, она послушает меня. Лайон взял ее руку и посмотрел прямо в глаза. – Я верю, что ты говоришь серьезно. Анна… прекрасная Анна… каким же образом такая восхитительная девушка, как ты, попала в эту жестокую бешеную гонку? В эту круговерть? Тебе ведь только кажется, что ты знаешь Элен. Под театральным гримом у нее скрывается непреклонная и несгибаемая стальная воля. – Ты не прав, Лайон. Я действительно знаю Элен. Мы беседовали с нею по ночам, поздно, целыми часами, тогда маска была снята, и она говорила от чистого сердца. Она замечательный человек. Вся ее грубость и жестокость – это наносное. Никто не удосуживается взять и копнуть чуть глубже. Он покачал головой. – Могу согласиться, что такая светлая сторона существует, но это не главное в Элен. Возможно, лишь какая-то неуловимая грань, которой она поворачивается к окружающим крайне редко и которая, сверкнув, тут же гаснет. Но вот грубость и жестокость всегда при ней. – Ах, Лайон… Внезапно все повалили к дверям. В зал только что вошел посыльный из отеля, держа на согнутых руках кипы утренних газет, пахнущих свежей типографской краской. Схватив несколько штук, Элен быстро пробежала отзывы. Гил Кейс прочел их вслух. Авторы в один голос называли шоу хитом. Критики расхваливали музыку, восторженно отзывались о либретто и награждали Элен самыми лестными эпитетами. О ней писали, что езда и живая легенда, и величайшая из звезд современной эстрады, и актриса, олицетворяющая собой само совершенство… и так далее, и тому подобное. Тэрри Кинг тоже удостоилась нескольких хвалебных отзывов; а о внешних данных Дженифер Норт писали исключительно в превосходной степени. Все стали поздравлять друг друга. Спонсоры ходили туда-сюда, глуповато улыбаясь, пожимали друг другу руки. Некоторые обступили Элен, осыпая ее дождем комплиментов. – Сейчас самый подходящий момент, чтобы удрать отсюда, – предложил Лайон. Они уже подошли к двери, когда путь им преградил Генри. – Куда направляемся? – небрежно спросил он. – Да вот, думаем пройти к обеденному столу, взять чего-нибудь повкуснее, – ответил Лайон. – Ну уж нет, парень, одного меня на это дело не оставляй. – На какое? – недоуменно спросил Лайон. – Ведь успех полный. – Это конечно. Да только вот Элен настаивает на немедленном разговоре с Гилбертом. – Когда? – Через десять минут, у него в люксе. И ты нужен мне, хотя бы для моральной поддержки. Анна улыбнулась, пряча свое разочарование. – Иди, Лайон. Уже поздно. – Я не голодна. – Ни за что на свете. – Он взял ее под руку. – Ты же знаешь настоящую Элен. Возможно, тебе удастся смягчить ее сегодня ради нас. Нам нужна любая возможная помощь. Атмосфера, царившая в люксе Гила Кейса, являла собой резкий контраст с праздничной обстановкой банкета. Элен сидела на кушетке, прихлебывая из бокала шампанское и недовольно дуясь, отчего лицо ее приняло по-детски обиженное выражение. Сценический грим поблек и начинал уже размазываться, резко обозначив морщинки и придавая ее лицу непривлекательный и какой-то потрескавшийся вид. – Но это же полнейшее безумие! – Гил Кейс в отчаянии воздел руки к потолку. – Только полюбуйтесь: сидим здесь, словно у смертного одра, а ведь у нас .в руках крупнейший хит предстоящего сезона. – Можешь поклясться своей задницей, что это хит! – зарычала на него Элен, – Любое шоу, которое я делаю, всегда становится хитом. Оно сделает тебя, Гил, богатым человеком. Заключишь крупные контракты с кинокомпаниями, и я еще буду сидеть в зрительном зале и смотреть, как мою роль исполняют на экране Бетти Грэйбл или Рита Хэйуорт. О’кей, договорились. Но я не намерена сидеть сложа руки и спокойно смотреть, как благодаря моим усилиям пропуск в Голливуд получает какая-нибудь потаскушка вроде Тэрри Кинг. – Элен, газеты оней едва упоминают. – Да, как бы не так! В одной статье вон уже пишут, что перед нею открывается прямая дорога в кино. И что у нее лучшая песня во всем шоу. – Элен, мы ведь уже обсудили это, – вступил в разговор Генри. – Нет никакой возможности переписать эту песню для твоей роли. Парни корпели две ночи напролет, пытаясь переделать ее, но это песня для инженю. – И про Дженифер Норт тоже пишут, что перед нею прямая дорога на экран, – добавил Гил. – Дженифер Норт не поет! – Элен, но ведь Тэрри Кинг не в состоянии повредить тебе, – взмолился Генри. – Можешь поклясться своей задницей, что не в состоянии! Ей просто не отколется такая возможность. Это шоу – мое, я не добренький рождественский Санта Клаус. Единственной звездой в шоу Лоусон может быть только сама Лоусон. – Но эта девушка здесь очень хороша, – стоял на своем Гил. – Две песни, которые она поет, на руку всему шоу в целом. А что хорошо для шоу, хорошо и для тебя. Ты ведь сама сказала, что это твое шоу. – Ну что ж, раз она настолько хороша, валяй, делай ее звездой своего следующего шоу. Интересно, сколько отстегнули бы твои спонсоры, если бы в главной роли была она? Генри встал. – Элен, ты слишком крупная величина для этого. Девушка никак не может повредить тебе, и она заслуживает того, чтобы дать ей шанс. Тебе ведь тоже когда-то приходилось начинать. Помнишь свое первое представление? Предположим, Нэнси Шоу настояла бы тогда, чтобы тебя выкинули вон в Нью-Хейвене. Где бы ты была сегодня? – А где, черт возьми, сегодня Нэнси Шоу?! – рявкнула Элен. – Послушай, Генри, ей было уже под сорок, когда появилась я. Будь она чуть похитрей, она бы избавилась от меня. Но она же всегда задирала нос; она была красавицей, а все эти великие красавицы вечно задирают нос. Считала, что по внешним данным я ей не ровня. Может, так оно и было. И все равно то представление стало моим триумфом. А уж с Тэрри Кинг такого просто не может произойти. Она – не Элен Лоусон. И если уж на то пошло, Нэнси Шоу тоже была не Элен Лоусон. Но я научилась на ее ошибках, и никто не воспользуется ни мной, ни моим шоу для того, чтобы выстелить мягкими перышками свое гнездышко. Гил пожал плечами. – У нее же контракт на все выступления в этом шоу. Лицо Элен исказила злобная усмешка. – Знаю я эти контракты на все выступления. – Но, Элен, отзывы о ней очень положительные. Не могу же я вот так пойти к спонсорам и заявить, что я выставляю ее вон, потому что она плохо поет. – Согласна, – дружелюбно ответила она ему. – И твоя репутация в шоу-бизнесе тоже не улучшится, если станет известно, почему ее сняли. – Верно, – согласилась Элен. – Нам обоим это меньше всего нужно. По крайней мере, хоть в этом мы заодно. – Ее глаза хищно сузились. – Вот и принимайся за дело. Избавляйся от нее любым приемлемым способом. Это ты умеешь, небось, не впервой. Казалось, Гил Кейс стал меньше ростом дюйма на три. Тяжело вздохнув, он сказал: – Ладно. Но лучше подождать, пока не пройдет премьера в Филадельфии. – Ну уж нет! – взвыла Элен. – Чтобы о ней опять понаписали в газетах? Хочу, чтобы ее не было – и на этой же неделе! Гил начал терять терпение. – Милая моя девочка, и что же тогда? Кто заменит ее в понедельник, на премьере в Филадельфии? – Вызови Пэнни Максвелл. Она пробовалась на эту роль, и она быстро схватывает. Кроме того, я хотела ее с самого начала. – У нее сейчас репетиции в новом шоу Макса Саллера. – Ты смеешься? Боже мой! Она же берет слишком высокие ноты, и она – корова. – Тогда решено, – сказал Гил. – На премьере в Филадельфии поет Тэрри. Даже если я сяду на телефон завтра утром и обзвоню всех агентов в Нью-Йорке, не отыщется никого, кто сумел бы за такой срок войти в эту роль. – Я знаю, кто сумел бы, – вдруг сказала Анна. Все повернулись в ее сторону. – Понимаю, что это не мое дело, но… – взволнованно добавила она. – И кого же ты знаешь, мой ангел? – добродушно спросила Элен. – Нили О’Хара. Она дублировала Тэрри, знает каждую песню и поет действительно хорошо. – И речи быть не может, – надменно отрезал Гил. – На дублирование я поставил ее, просто чтобы подстраховаться на гастролях. Для выступления в Нью-Йорке я подыщу настоящую дублершу. Эта чересчур невзрачна, напоминает мне бедную сиротку. Элен прищурилась. – А как должна выглядеть инженю? Соблазнительной рыжей красоткой со здоровенными титьками? – Элен, это важная роль. Я не могу рисковать и ставить на премьеру в Филадельфии никому не известную девчонку. – Она всю свою жизнь на эстраде, с самых пеленок, – вмешалась Анна. – Привыкла выступать перед публикой. Правда, мистер Кейс, у Нили может получиться. – Ну-у… – Гил заколебался. – Можно ее попробовать, я думаю. У меня будет три. недели в Филадельфии, чтобы подыскать другую, если у нее ничего не выйдет. Элен встала. – Тогда все решено и нам всем можно идти спать. – Сном праведников, – сердито сказал Гил. – Кроме меня, которому придется обрабатывать Тэрри Кинг. – Могу поспорить, тебе не раз доводилось делать это до того, как ты подписал контракт с нею, – отрезала Элен. Она направилась к двери. – Завтра назначай репетицию на одиннадцать для всех, кроме меня. Прямо там в начнешь с нею. Мне нужно отоспаться; у нас еще дневное представление. – Она обратилась к Анне: – Я рада, что ты пришла сегодня, Анна-пышечка. Когда лягу, позвоню тебе. Гил закрыл дверь за Элен. – Вы мне нисколечко не помогли, парни, – обвинил он присутствующих. – Я пытался, – пожал плечами Генри. – Но я знал, что это бесполезно. – Он посмотрел на Лайона и Анну. – Ладно, идите поешьте. Я останусь с Гилом и разработаю сценарий экзекуции. Когда они стояли в ожидании лифта, Лайон предложил: – Зайдем в тот ресторанчик напротив? – Я не хочу есть. – Устала? – Нисколько, – глаза ее сияли. – Я бы подышал немного. А ты как, не отважишься бросить вызов нью-хейвенской зиме? Они пошли по пустынной улице. – Как они поступят с Тэрри Кинг? – спросила Анна. – Поднажмут и вынудят уйти, – изо рта Лайона шел парок. – Но как? – Приходи завтра на репетицию, если ты не слишком впечатлительна. Она поежилась. – Ну, по крайней мере, у Нили появится шанс. – Ты была замечательна. Хотел бы я иметь такого друга, как ты. Она вдруг пристально посмотрела на него. – Лайон, а кто же я по-твоему? Думаешь, я гуляю с тобой в эту холодную декабрьскую ночь просто потому, что мне нравится мерзнуть? – Я гуляю потому, что я в самом деле твой друг, Анна. И еще – я смотрю на вещи реалистически. Нью-Хейвен подойдет к концу, а некий огромный бриллиант на твоем пальце останется, и один славный парень к нему в придачу. Ты слишком хороша для скоротечной любовной интрижки в командировке. – Значит, больше ничего не будет? – А разве между нами могло быть что-то большее? – Может быть все, что ты захочешь, Лайон. Не говоря ни слова в ответ, он повернулся и повел ее обратно в отель. Они не разговаривали, пока не пришли к нему. Номер у Лайона был точно такой же блеклый и старомодный, как и у нее. Лайон помог ей снять пальто. С минуту он нежно смотрел на нее, потом протянул руки. Она бросилась навстречу ему, навстречу его губам, холодным от ночного мороза, но ставшими упругими и требовательно-жадными, когда они встретились с ее губами. Ее руки обвились и сомкнулись вокруг него. Анна сама поразилась настойчивой страстности, с которой она ответила на его поцелуй: словно всю жизнь ждала, чтобы ее поцеловали именно так. Она прильнула к нему, мысленно все больше и больше растворяясь в волшебной прелести этого поцелуя. Когда она оторвалась от него, в глазах у нее стояли слезы. – Ах, Лайон, спасибо тебе за то, что дал мне поверить… – Поверить? – Я… я не могу объяснить… просто обними меня. – Она вновь заключила его в объятия. Он опять поцеловал ее, и она молила бога, чтобы этот поцелуй длился вечно. Все ее тело трепетало от одной только радостной мысли, что к ней прикасается он. Внезапно Лайон резко отстранился от нее. Он держал ее на расстоянии вытянутой руки. Голос у него от волнения сел, но говорил он с нежностью. – Анна, я очень сильно хочу тебя, но ты должна сама решать. – Он посмотрел на ее перстень. – Пусть это означает для тебя то, что ты сама пожелаешь. Но если все это действительно окажется только временно, для Нью-Хейвена, я пойму тебя. – Лайон, я не хочу, чтобы у нас была всего лишь любовная интрижка в командировке. – Сядь, Анна. – Он бережно подвел ее к краю кровати. – Если бы я думал, что ты хочешь только этого, я бы вообще ничего не начал. И если бы мне была нужна девочка только на выходные, то здесь нашлось бы из кого выбрать. И мне не пришлось бы долго добиваться той, на ком бы я остановил выбор. Вокруг этой премьеры в Нью-Хейвене царит какая-то странная надрывно-истерическая атмосфера. Сегодняшняя ночь пройдет, наступит понедельник… В понедельник ты вернешься в Нью-Йорк. Там будет совершенно иной мир, и эти два выходных будут казаться сном. Я хочу, чтобы ты знала, если это произойдет… я пойму тебя. – А ты сам? – спросила она. – Для тебя здесь тоже могла бы быть эта надрывно-истерическая атмосфера? Он рассмеялся. – Боже мой, Анна, да знаешь ли ты, сколько у меня уже было этих Нью-Хейвенов, Филадельфии и Бостонов? Сегодня всего-навсего еще одна точно такая же ночь. За одним чудесным исключением: рядом со мною – ты. Протянув руку, она коснулась кончиками пальцев его лица. – Я люблю тебя, Лайон. – И об этих словах я тоже не буду тебе напоминать. – Ты не веришь мне? – Наверное, сейчас ты действительно так думаешь. По-моему, такая девушка, как ты, не ляжет в постель с мужчиной, если не убеждена, что любит его. – Я никому в жизни не говорила таких слов, Лайон. Я действительно люблю тебя. Он отошел и закурил сигарету. Когда он обернулся, на его лице застыло решительное выражение. – Сейчас я провожу тебя в твой номер. – Подойдя к стулу, он взял ее пальто. Она опустилась на краешек кровати. – Лайон… я не понимаю.. – Не будем спешить с этим. Посмотрим, как ты отнесешься к этому в понедельник… в Нью-Йорке. – Отнесусь точно так же. – Я не могу воспользоваться такой возможностью. Она медленно поднялась. – Ты в самом деле хочешь, чтобы я ушла? – Она все видела перед собой, словно в тумане. – Боже мой, Анна, как раз этого я хочу меньше всего. Но ради тебя… я… – Лайон… я хочу остаться, – робко проговорила она. Он с любопытством посмотрел на нее, словно оценивая значение ее слов. Вдруг лицо осветилось одной из его неуловимых улыбок, и он сорвал с себя пиджак. Приблизившись, он протянул к ней руки. – Иди же сюда, прекрасная, славная моя девчонка. Я пытался вести себя благородно, но моя крепость пала, ты не оставила от нее камня на камне. Анна чувствовала, как ее губы растягиваются в попытке улыбнуться. Он нежно обнял ее и отпустил. Что же теперь? Вот он развязывает галстук. А что же полагается делать ей? Она действительно хочет лечь с ним в постель, но ведь, наверное, существуют какие-то нормы поведения в такой ситуации. Не может же она просто начать стаскивать с себя одежду, как девица из стриптиза. О боже, но почему она не надела свою новую комбинацию и не спросила у кого-нибудь, как полагается вести себя в подобных случаях? Он уже снимает рубашку. Ей нужно что-то делать, не стоять же вот так… Он расстегнул ремень на брюках и небрежно показал на дверь в ванную. – Хочешь раздеться там? Она молча кивнула и бросилась в ванную. Закрыв за собой дверь, оставшись одна, она разделась. Что же теперь? Не может же она вот так голая выйти в комнату. Сколько она грезила именно о такой минуте, когда она отдаст себя мужчине, которого полюбит. Но ведь не так же, не в маленьком номере отеля в Нью-Хейвене! В своих мечтаниях она представляла себе роскошную двуспальную кровать, ее воображение рисовало, как в тончайшей прозрачной ночной рубашке она неслышно проплывет по воздуху в объятия своего мужа. Вокруг будет царить полумрак, и она эфирным созданием скользнет под покрывало навстречу нежным объятиям своего возлюбленного. Дальше этого в своих грезах она никогда не заходила и не рисовала себе настоящий половой акт; она мечтала лишь о своих чувствах и романтически-возвышенной обстановке, сам же возлюбленный виделся ей смутно, с размытыми чертами. И вот теперь у него есть лицо… а у нее и в помине нет прозрачной ночной рубашки. Она стоит голая, дрожа и щурясь от резкого света, не зная, что же ей делать. – Эй, там! Мне здесь ужасно одиноко, – раздался голос Лайона. Лихорадочно осмотревшись, она схватила большое купальное полотенце и, завернувшись в него, робко открыла дверь. Лайон лежал в постели, накрывшись до пояса покрывалом. Загасив в пепельнице сигарету, он протянул руки ей навстречу. Она повернулась, чтобы выключить свет в ванной. – Пусть горит, – сказал он. – Хочу видеть тебя… поверить, что в моих объятиях действительно ты. Она подошла к кровати, и он взял ее за руки. Полотенце упало к ее ногам. – Моя прекрасная Анна, – с нежностью сказал он. От его восхищения и от той естественной, непринужденной простоты, с какой он восторгался красотой ее тела, ее неловкость и стеснительность исчезли. Откинув покрывало, Лайон привлек ее к себе и заключил в объятия. Волнение, которое она ощутила от той силы, с какой его тело вжималось в ее податливую плоть, вдруг показалось ей самым естественным чувством на свете. И невыносимо прекрасное, пьянящее, неведомое ощущение от его губ, целующих ее горячечно и испытующе. Она чувствовала, что отвечает на его объятия с таким жаром, какого никогда не подозревала в себе, ее губы требовали все больше и больше. У нее никак не получалось поцеловать его достаточно крепко. Его руки ласкали ее тело – нежно, потом интимно. И все же эмоциональное, потрясение подавило в ней все физические ощущения. Держать его в своих объятиях… быть рядом… знать, что он хочет ее, что она нужна ему… А потом случилось это. Господи, то самое мгновение! Она хотела доставить ему удовольствие, но боль застигла ее врасплох, и она вскрикнула. Он сразу же отстранился, привстал и отпустил ее. – Анна… – она увидела удивление в его глазах. – Ну, давай же, Лайон… – молила она. – Все будет хорошо. Он опять лег, простонав: – Пресвятой боже! Не может быть… – Но, Лайон, все хорошо. Я люблю тебя. Он склонился над нею и нежно поцеловал. После этого снова лег на спину, закинув руки за голову, глядя в полутьму перед собой. Она лежала не шевелясь. Он достал себе сигарету, предложил и ей. Она отказалась и жалко посмотрела на него. Глубоко затянувшись, он сказал: – Анна, ты должна мне поверить. Я бы никогда не дотронулся до тебя, если бы думал, что ты… Соскочив с кровати, она бросилась в ванную и захлопнула за собой дверь. Уткнувшись лицом в полотенце, она пыталась заглушить рвущиеся из груди рыдания. Лайон рванулся за нею и распахнул дверь. – Не плачь, моя дорогая. Все осталось нетронутым: ты по-прежнему девушка. – Я плачу не поэтому! – В чем же тогда дело? – В тебе! Ты не хочешь меня! – О-о, дорогая моя… – он обнял ее. – Да конечно же, я хочу тебя. Страшно хочу. Но я не могу. Понимаешь, я даже мечтать не смел… В ее заплаканных глазах сверкнуло нечто похожее на ярость. – А чего ты ожидал? Я не шлюха! – Нет, конечно же. Просто я думал, что у тебя уже когда-то было это… ну, в колледже… и уж наверняка с Алленом… – Аллен ни разу не прикоснулся ко мне! – Теперь вижу. – Неужели для тебя такая большая разница, девственна я или нет. – Самая большущая разница на свете. – Ну, извини. – Она слышала себя словно со стороны, не веря собственным ушам. Дурацкое положение: вот они стоят обнаженные в ванной под отвратительной яркой лампочкой без плафона, обсуждая то, что должно быть святым и сокровенным. Схватив полотенце, она прикрылась. – Пожалуйста, выйди и дай мне одеться. Вот уж не думала, что придется извиняться за то, что я… неопытна. Думала, мужчину, которого я полюблю, это… обрадует… – Голос у нее прерывался, и она отвернулась, чтобы скрыть слезы унижения. Быстрым движением он подхватил ее на руки и понес в комнату. – Он и обрадован! – шептал Лайон. – Просто поражен… и отнесся к этому, как полный идиот. Бережно опустив ее на кровать, он лег рядом. – Я постараюсь осторожнее, – ласково сказал он. – А если почувствуешь, что не хочешь больше, сразу скажи мне. – Я хочу… – она уткнулась лицом ему в шею. Голос ее звучал приглушенно. – Я люблю тебя, Лайон. И хочу, чтобы тебе было хорошо. – Но ведь нужно, чтобы хорошо было нам обоим, а у тебя может ничего не наступить. В первый раз редко наступает, насколько я слышал. – А разве ты не знаешь? Я хочу сказать, разве у тебя никогда… ничего не было с девственницами? – Никогда, – улыбнувшись, подтвердил он. – Так что, сама видишь, я сейчас взволнован точно так же, как и ты. – Просто люби меня, Лайон, и будь моим. Это все, чего я прошу. Она прильнула к нему. Ей было безразлично, будет ли ей больно или неудобно, – просто принадлежать этому замечательному человеку уже само по себе было величайшим счастьем в ее жизни. Когда пришла боль, она стиснула зубы и не издала ни звука. А когда она почувствовала, как судорожно напряглось все его тело, она только удивилась, что он порывисто отстранился от нее. Он ведь только что стонал от наслаждения… И вдруг она все поняла и почувствовала себя вдвойне счастливой. На самом пике своей страсти он подумал о том, чтобы уберечь ее. Анна потянулась к нему и крепко обняла. Его спина была влажной от пота. И тут ее озарило: самое высшее удовлетворение – доставить наслаждение человеку, которого любишь. В это мгновение она ощутила себя самой значимой и всемогущей женщиной на свете. Ее захлестнуло еще неизведанное чувство гордости за принадлежность к своему полу. Потом он сжимал ее в объятиях уже с иной, особой нежностью. – Сегодня ты не получила особой радости, – сказал он. – Но потом будет лучше, обещаю тебе. – Обещай только быть со мной. О Лайон, я так тебя люблю. – И я обожаю тебя. Я мог бы до утра говорить тебе, как ты прекрасна. – Он погладил ее волосы. – Как ты красива… Но нам лучше хоть немного поспать. Завтра в одиннадцать репетиция. – Репетиция? – Ну да, так это называется. А как ты это называешь, скажи-ка мне. Он натянул покрывало на них обоих, потом нежно обнял ее и закрыл глаза. – Лайон… я не могу здесь спать. – Почему? – он говорил уже сквозь сон. – Не знаю… Что, если утром мне позвонит Элен… или Нили? – Не думай о них. Хочу держать тебя в своих объятиях, когда проснусь. Анна покрыла поцелуями его лицо, лоб, глаза. Затем выскользнула из его рук. – У нас еще будет это, Лайон. Много-много раз. Но не сегодня. – Она прошла в ванную и быстро оделась. Дело было не в Элен и не в Нили – просто для первого раза было слишком много всего. Лежа рядом с ним, она не сомкнула бы глаз. А утром… К тому, что у них сейчас было, нужно привыкать постепенно. У мужчин с этим гораздо проще. Но самое главное произошло: она познала чувство любви и поняла теперь, что стоит жить ради одного этого. Анна вышла из ванной и подошла к кровати. Она начала было говорить, но увидела, что он уже спит. Улыбнувшись, она подошла к письменному столу, придвинула к себе стопку бумаги с эмблемой отеля и написала: «Спокойной ночи, спящий красавец. До завтра. Я люблю тебя». Положив листок у телефона, она тихо выскользнула из номера. В своей кровати Анна долго лежала с открытыми глазами, слишком потрясенная, чтобы сразу уснуть. Она заново рисовала в своем воображении весь прошедший вечер, вспоминала каждое его слово, каждое выражение на его лице. «Будет лучше, обещаю тебе». Но будет ли? Сумеет ли она вот так же затрепетать, дрожа всем телом, и судорожно застыть в экстазе, который только что испытал он? Не имеет никакого значения. Значение имеет только Лайон; держать его в своих объятиях, дарить ему наслаждение – знать, что ты способна любить, что этот прекрасный мужчина хочет, чтобы твое тело прижималось к его… Она медленно погружалась в темный, мягкий, обволакивающий сон.* * *
Анна встала в девять. День был ясный и ветреный. Выглянув в окно, она увидела мужчину, идущего против ветра, придерживая шляпу на голове, и девушку, ждущую автобус на остановке. Ей стало жалко их. Стало жалко всех на свете за то, что они не чувствуют того же, что она. «Бедные вы бедные! Думаете, что наступил просто очередной холодный день. Посмотрите же на меня, я хочу поведать вам, как я счастлива! Весь мир принадлежит мне. Вот в этом здании находится человек – самый замечательный человек на свете, – и он тоже принадлежит мне!» Размытая неоновая вывеска на ресторанчике, казалось, подмигивала ей. Она подмигнула в ответ. Прекрасный ресторан! Прекрасный город! Она приняла горячую ванну, и, когда вода проникла ей внутрь и попала на свежую ранку, она явственно-осязаемо вспомнила о нем. Ликование переполняло ее. Анна потратила много усилий, чтобы причесаться, дважды перекрашивала губы, бросала нетерпеливые взгляды то на часы, то на телефон. В десять пятнадцать ей стало не по себе. Может быть, он. имел в виду, что встретится с нею в театре? Но он же сказал: «Мы пойдем вместе». Или он сказал: «Приходи туда»? Когда раздался телефонный звонок, она бросилась к аппарату через всю комнату. Это оказалась Нили. – Могла бы, по крайней мере, подойти и поздороваться со мною после представления. – Я думала, ты будешь на банкете. – Я? Я числюсь в кордебалете. А. сейчас у меня репетиция. Ну скажи, разве можно так – устраивать репетицию перед дневным представлением? Бедняга Мэл совсем заждался меня. – Где он? – Внизу, в кафетерии. Мы с ним там сейчас встретимся. – Увидимся на репетиции. – Тебе-то зачем приходить? Скучища будет. – Нили… никому не говори, ни слова… но есть вероятность, что ты заменишь Тэрри Кинг. Ты ведь знаешь ее номера, правда? – Знаю ли я их? – взвыла Нили. – До единого слова! И все песни Элен – тоже. Анна, ты смеешься надо мной? – Нет, есть один план. Я была на совещании вчера вечером. Но только никому пока ни слова, сиди тихо. – Боже мой! Не могу поверить. Господи, подожди, я расскажу Мэлу! Пока. Увидимся в театре! Десять сорок пять. Лайон так и не позвонил. Три раза она снимала трубку, чтобы позвонить самой, но всякий раз передумывала. Закурив сигарету, она встала у столика, глядя на лучи зимнего солнца, льющиеся из окна. Часы протикали еще десять минут… Где-то зазвонил церковный колокол. Ну и что же дальше? Так и стоять здесь, в номере, весь день? Или идти в театр одной? Нет, это будет выглядеть нехорошо. Если он уже там и не позвонил ей, то это будет выглядеть, будто она бегает за ним. Смешно! Это не Лоренсвилл, а Лайон – не просто парень, с которым ты встречаешься. Все эти глупые правила здесь ни к чему. Она решительно подошла к телефону и попросила соединить с его номером. Сначала его голос звучал глухо. Затем он развил бурную деятельность. – Боже мой, дорогая! Правда без пяти одиннадцать? А я-то думал, что велел разбудить себя по телефону в десять часов! – Непонятно, когда ты мог это сделать, разве что специально просыпался среди ночи. Он глуповато рассмеялся. – Я как раз читаю твою записку. Ну и ну, нечего сказать, галантный я кавалер! Спускайся ко мне и побудь здесь, пока я бреюсь. – Она явственно слышала в трубку, как он с хрустом потягивается. – Я закажу в номер кофе для нас. Дверь в номер Лайона была приоткрыта, и на ее легкий стук он прокричал: «Заходи!» Лайон стоял в ванной перед зеркалом в одних трусах. Он притянул ее к себе и осторожно поцеловал, стараясь не запачкать ее мыльной пеной, и вернулся к бритью. Сама его простая манера держаться, казалось, привносила некую особую близость в их отношения, словно для нее нет и не было ничего естественнее на свете, чем вот так смотреть, как он стоит в одних трусах и бреется. Она села прямо на смятую кровать, чувствуя себя счастливее, чем когда-либо в жизни. Лайон смыл с лица пену и вошел в комнату. На этот раз он наклонился и поцеловал ее нежно и долго. Потом надел рубашку, насвистывая, повязал галстук. От охватившего ее счастья она ощущала слабость во всем теле. Никогда еще она не испытывала ничего подобного. «Интересно, а есть ли у Лайона такое ощущение близости между нами, – подумалось ей. – Вряд ли. Столько девушек наверняка уже видели, как он бреется перед ними в одних трусах…» Она быстро отогнала от себя эту мысль. Ни одна из них не чувствовала к нему того, что чувствует она, и в этом вся разница. Ничто не омрачит самый радостный день в ее жизни! Постучал официант и вкатил десертный столик с завтраком. Лайон написал на чеке свою фамилию. Показав ей знаком на стул, он, стоя, залпом выпил стакан апельсинового сока. Затем, поставив у телефона чашечку кофе, он попросил телефонистку соединить его с номером Генри Бэллами. Тот тоже опаздывал. Лайон рассмеялся. – Ну, ладно, трус, давай сверим часы. На моих одиннадцать тридцать. Условимся, что оба войдем туда в одиннадцать сорок. – Положив трубку, он улыбнулся Анне. – Считаешь, что можешь созерцать экзекуцию? – Не хотелось бы упустить такую возможность. А что будет? – Ничего особенного. Просто несколько сильных мужчин навалятся на девчонку и вынудят ее уйти. – Ты говоришь так, словно уже проходил через такое. – Проходил. Могут быть слезы и истерика. То и дело натыкаешься на какую-нибудь тэрри кинг, которая оказывается потенциальной Элен Лоусон. Всаживаешь ей в спину нож, а крови нет. Вот тут ты и проигрываешь. В лифте они встретили Генри. Если он и удивился, увидев Анну с Лайоном, то виду не подал. В театре была вся труппа, за исключением Элен. Девушки из кордебалета сидели или толпились, прижавшись друг к другу, кутаясь в свои меховые шубки. На них были темные очки, скрывавшие отсутствие теней и туши. Они прихлебывали кофе из бумажных стаканчиков, и все казались чем-то недовольными. Нили сидела на самом краешке стула напрягшись, готовая в любую минуту вскочить с места. Анна села в четвертом ряду с Генри и Лайоном. Торопливо вбежала Дженифер Норт, извиняясь перед всеми за то, что проспала. Режиссер отвернулся от кучки людей и добродушно кивнул ей. – У тебя, принцесса, никаких изменений не будет. Так что, если хочешь, можешь идти и досыпать. Дженифер улыбнулась и пошла в полутемный зрительный зал. Генри знаком предложил ей место рядом с собой. Она узнала Анну и тепло улыбнулась ей. – Замечательно, правда? – восторженно произнесла она. – У нас настоящий хит! Я не имею права говорить «у нас», ведь я ничего не делаю. Но шоу такое замечательное, и я в таком восторге оттого, что тоже участвую в нем. – Ты в нем очень здорово выглядишь, – искренне сказала Анна. – Спасибо, но думаю, что, увидев мое имя в афишах, публика вряд ли повалит в театральные кассы. – Знай себе цену, – ответил ей Генри. – Как только это шоу станет хитом в Нью-Йорке, о тебе заговорят все газеты. Гарантирую, что минимум через полтора месяца со дня премьеры контракт на съемки в кино будет у тебя в кармане. Дженифер широко улыбнулась, у нее на щеках заиграли ямочки. – Ах, Генри… честное слово, я бы так хотела этого. – На лицо ее набежала тень. – Но только если это будет крупный контракт, а не из тех, что заключают с начинающими актрисами. – Начинающие актрисы часто становятся настоящими кинозвездами, – осторожно заметил Генри. Тень стала глубже, Дженифер нахмурилась. – Талантливые начинающие. А у меня таланта нет, Генри. Вот почему мне нужен выгодный контракт. Если мне достаточно заплатят, им придется использовать меня на все сто процентов. Придется меня учить… готовить меня… – Предоставь решающее слово мне. Если речь пойдет о небольшой сумме на хорошей студии и я посоветую тебе соглашаться, соглашайся. В воздухе уже носится телевидение, оно вот-вот появится, и крупными контрактами сейчас никто так легко не бросается. – Тогда я, пожалуй, больше заработаю в Нью-Йорке. У меня есть предложения от Пауэрса и Лонгуорта, и я могла бы параллельно с этим шоу неплохо зарабатывать манекенщицей. Генри резко повернулся к ней. – Давай со мной начистоту, Дженифер. Тебе нужен контракт с кинокомпанией? Или карьера? Я не желаю расшибаться в лепешку, если тебе решительно все равно. И что с Тони Поларом? Насколько у вас серьезно? Дженифер улыбнулась. – Газеты все раздули. Я обожаю Тони, но, по-моему, ни он, ни я не спешим к алтарю. И потом, по закону я все еще остаюсь женой принца Миралло. – Почти все газеты утверждают, что ты получишь развод. Ты только вспомни статьи, где описывали, как вы стоите перед судьей: ты – порядочная девушка-католичка, желающая иметь детей, и этот ублюдок, который не хочет ни одного. – Ты католичка? – спросил Лайон. Дженифер пожала плечами. – Мать была католичкой, а отец – нет. Они разошлись. Я даже не крещеная. Но ведь это никто не станет проверять, правда, Генри? – Ты только делай, как я говорю. Ты – католичка. Ты хотела, чтобы вас обвенчали в церкви, а принц предпочел гражданский брак. На одном этом ты уже наполовину выиграешь. Потом скажешь о детях. Анна будет твоей свидетельницей. – Я… кем? – вклинилась в их разговор Анна. – Нам нужен свидетель. Я все собирался сказать тебе. Не волнуйся, суд будет закрытый. Тебе нужно только сказать, что ты подруга Дженифер и что она всем делилась с тобой, прежде чем выйти за принца, что она так пылко стремилась замуж за этого подонка, что согласна была даже уехать жить в Италию и завести кучу детей. Только ни в коем случае не забудь сказать про детей. – Но я же нарушу клятву на Библии, если скажу все это, – возразила Анна. – Скрестишь два пальца, когда будешь присягать, – ответил ей Генри. Затем, переключив внимание на сцену, прошептал: – Ну, держитесь… сейчас начнется! Посреди сцены стояла Тэрри Кинг, недоумевающе тараща глаза на режиссера. – Выбросить песню? – воскликнула она. – Ты с ума сошел? Да ты отзывы читал? – Постановка слишком затянута, дорогая, а песен у нас предостаточно. – Режиссер говорил об этом спокойным тоном, словно о чем-то вполне обычном, само собой разумеющемся. – Ну и что? Сними другую песню. Тебе же прекрасно известно, что моя – лучшая во всем шоу! – Здесь все решаю я, – деланно усталым тоном возразил он. – Где Гил Кейс? – Его здесь нет. Занят с либреттистами. Билл! Эй, Билл Тоули! – Появился худощавый юноша. – Билл, любовная сцена с тобой и Тэрри снимается. Вместо нее мы сейчас работаем над новым сольным танцем для тебя одного. Это к выступлению в Филадельфии. Вместо того чтобы признаваться в пылкой любви к Тэрри, исполнишь танец. Это ускорит темп спектакля и подстегнет ритмику. Билл согласно кивнул, не скрывая распирающей его радости, и исчез. – А мне что делать, пока он танцует? Сидеть у себя в гримерной?! – вскричала Тэрри. – Ты хоть отдаешь себе отчет, что если убрать любовную сцену и песню, то у меня останется всего две реплики в первом отделении да ритмический номер во втором – и все? – Ритмический номер остается, – ответил режиссер. – Но мы ставим за тобой кордебалет. Они будут исполнять танец до выхода второго состава.. кордебалета. – А мне что делать? – Вместо того чтобы петь со вторым составом, ты сместишься в левую часть сцены. Постоишь там… потом освещение с тебя уберут, и ты незаметно уйдешь со сцены, а действие будет продолжать один кордебалет. – Это ты так думаешь! – с этими словами Тэрри схватила свою шубку и метнулась прочь со сцены. Режиссер продолжал говорить о сокращениях и о слиянии номеров, будто ничего не произошло. Спустя десять минут Тэрри появилась снова, прикрываясь, словно щитом, каким-то маленьким человечком, похожим на енота. Семеня ножками, «енот» пробежал по проходу между кресел. – Ну, что еще тут случилось? – спросил он строгим тоном. Стоящий на сцене режиссер обернулся и посмотрел на него сверх вниз. – Где случилось? – невинно спросил он. – Послушай, Лерой! – взвыл «енот». – Не думай, что сможешь одурачить меня своим невинным девичьим личиком. Уж кому-кому, а мне эти фокусы известны. Элен боится Тэрри. Да только на этот раз Тэрри кое в чем немножко повезло. У нее самая длинная песня в спектакле. Ты не убедишь меня, что эти ребята-либреттисты дадут Элен выбрасывать из спектакля свои лучшие песни. – Позвони им, – предложил ему Лерой. – Уже звонил. У них совещание с Гидом Кейсом. И потом, ты что, хочешь сказать, будто Кейс готов платить Тэрри четыре сотни в неделю всего за две реплики и половину ритмического номера? – Если она захочет остаться и исполнять это, то думаю, ему придется платить. – А-а, так вот оно в чем дело. Уловка, чтобы избежать санкций профсоюза «Эквити». Вам хотелось бы, чтобы она добровольно, сама ушла из спектакля. Тогда вы поставили бы на ее место кого-то другого за гроши. А вот если вы уволите Тэрри, тогда вам придется платить ей до июня будущего года плюс гонорар той, кто ее заменит. – Никто не собирается увольнять Тэрри Кинг. – Вам это не по карману. Вот вы и пытаетесь выжить ее. Режиссер сел на край сцены и подчеркнуто терпеливым, наставническим тоном пояснил: – Никто не пытается вынудить Тэрри уйти. Мы сейчас думаем не о конкретных личностях. Мы рассматриваем спектакль в целом. Ты же, как ее поверенный, думаешь об интересах своего клиента. Я не виню тебя, Эл, это твоя работа. А моя работа – думать о постановке. Спектакль слишком затянут. Я сокращаю его в тех местах, где считает нужным Гил Кейс, либреттисты и все мы, невзирая на то, кого это затрагивает лично. «Енот» швырнул сигарету прямо на толстый ковер. – Не втирай-ка мне очки! Ты выполняешь приказы, полученные Кейсом от Элен Лоусон. У него нет выбора, он вынужден защищать интересы этой Железнобокой Старушки [25]. Ведь ей с ее скрипучим металлическим голосом и впрямь требуется защита от хорошей певицы. – Не будем сейчас переходить на личности, – отрубил Лерой. – А почему? И ты, и я, мы оба прекрасно знаем, что она устарела и выглядит старомодно. Если бы эта старая перечница начинала сейчас, ей бы ни за что не пройти даже первого прослушивания… – По-моему, нам пора прекратить все это! – раздался из темноты зычный голос Генри. Поверенный Тэрри быстро обернулся. – Я не видел вас, мистер Бэллами. Привет. Послушайте, лично против вас я ничего не имею. Я только отстаиваю интересы своего клиента, точно так же, как и вы, вероятно, делали это для мисс Лоусон двадцать лет назад. – Я не отстаивал ее интересов, пороча при этом крупнейшую звезду в ее отсутствие, когда она не может сама постоять за себя, – гремел голос Генри. – Кто вы такой, черт вас возьми? Пронырливый адвокатишка из конторы на Сорок шестой стрит. Да как вы смеете являться сюда и оскорблять одну из ярчайших звезд современной эстрады? Человечек втянул голову в плечи. – Мистер Бэллами… а что бы вы предприняли на моем месте? – Это зависело бы от того, кто мой клиент. Если бы это оказалась Элен Лоусон, то мы бы с нею подали заявление и ушли из труппы, сохранив лицо. Потому что для Элен Лоусон – даже для начинающей Элен Лоусон – всегда нашлось бы другое шоу и еще лучшая роль. Но с вашим клиентом я бы подбирал и те крохи, что ей перепадают. Я бы остался даже ради одних этих реплик и номера с половиной состава кордебалета и умолял бы продюсера выплачивать ей какое-никакое жалованье. А что, если на бродвейской премьере над нею станут смеяться и тыкать в нее пальцем все остальные продюсеры? Впрочем, это будет концом ее карьеры, а не вашей. Ну а вы разыщете себе кого-нибудь еще, после того как угробите ее. Но вы наверняка заставите ее остаться в этом спектакле, чтобы заполучить свои несчастные вонючие десять процентов, потому что всем очевидно: вы испугались. Возможно, это единственное представление в ее жизни и больше ей вообще ничего не предложат – вот вы и не желаете упустить свою легкую поживу. Внезапно пришла в себя Тэрри Кинг. – Послушайте, в исполнении песен я дам Элен Лоусон сто очков вперед где угодно! И ни Эл, ни я не боимся. Это поганое шоу не единственное, и я стану звездой покрупнее, чем Элен Лоусон. Вот увидите, я уйду сама! И не потеряю своего лица! Сию же минуту! – она почти срывалась на крик. – Дорогая, постой… – взмолился Эл. – Именно этого они и добиваются. – А чего от меня хочешь ты?! – огрызнулась она. – Выступить на премьере в Филадельфии, а в Нью-Йорке выглядеть побирушкой на мелких ролях? И все для того, чтобы ты получил свои поганые десять процентов?! – Это здесь совершенно ни при чем. И ты это знаешь. Мы можем получать вдвое больше денег, выступая в клубах. Но мы же с тобой согласились в том, что шоу на Бродвее даст нам возможность получить выгодное соглашение с кинокомпанией. – «Соглашение с кинокомпанией»! – это уже воскликнул Генри. – Боже, да эти ваши представления давным-давно устарели вместе с сентиментальными мелодраматическими кинолентами Руби Килера. Поверенный, который считает, что достаточно всего-навсего выступить на Бродвее и соглашение с кинокомпанией у тебя в кармане, сильно отстал от жизни. Бродвей, разумеется, помогает, но ведь на Бродвее-то нужно уметь что-то делать. Если только твоему клиенту не нужен контракт, приносящий проценты с исходной суммы, то я мог бы помочь ей заключить такой и без этого шоу. Но настоящее соглашение с кинокомпанией – нет. Такое соглашение заключают только со звездами. А поверенный, представляющий актрису и ее интересы, делает из нее звезду еще и тем, что позволяет ей появляться где бы то ни было только в том случае, если она выглядит как звезда и на Бродвее, и в ресторанном зале. Но, как я уже сказал, вы, очевидно, считаете, что ваш клиент на звезду явно не тянет, раз готовы позволить ей выйти на сцену в эпизодической роли. Тэрри схватила Эла за руку. – Пошли, Эл. Пошли отсюда. – Подожди минутку. Наш контракт все еще действителен, и тебе нужно выступать в дневном спектакле, – напомнил ей Эл. – Я не выйду на сцену для этих негодяев. – Боюсь, что выйти тебе придется, – вмешался Генри. – Заявление об уходе ты должна подавать за две недели. Так что в Филадельфии играть должна ты. – На такое унижение я не пойду, – стояла на своем Тэрри. – Не желаю выступать в эпизодической роли перед критиками Филадельфии. – Что за шум? – раздался голос Гила Кейса. – – Кто тут не желает выступать? – Мистер Кейс! – чуть не плача бросилась к нему Тэрри. – Вы сняли меня со спектакля. Я не могу выступать в эпизодической роли. – А я ей сказал, что она обязана, – размеренно проговорил Генри. – Даже если она подаст заявление прямо сейчас. – Минутку, одну минутку, – примирительно произнес Гил. – Никто здесь никого не собирается травмировать больше, чем, к сожалению, приходится. – Он с сочувствием посмотрел на Тэрри. – Милое мое дитя, я не отдавал себе отчета, насколько мала станет твоя роль после этих сокращений. Она и в самом деле лишь чуть больше эпизодической… – На его лице появилось озабоченное выражение. – Я не могу играть ее, – настойчиво твердила Тэрри. Гил вдруг улыбнулся. – Тебе и не нужно. – А как же дневное представление? – спросил Генри. Гил отмахнулся от его слов. – Забудь о нем. Можем поставить дублершу. Роль настолько мала, что это уже не имеет никакого значения. – Он обнял Тэрри. – Пойдем-ка в мой люкс, и ты тоже, Эл. Тэрри может написать официальное заявление, и я выплачу ей жалованье за два месяца вперед в виде премии. – Он помолчал, как бы раздумывая, – Вот что мы сделаем. Я позвоню своему секретарю по связям с прессой, чтобы он дал соответствующее сообщение в нью-йоркские газеты. Тебе все это принесет небывалую рекламу и известность. Милая моя девочка… да уж через неделю все продюсеры Нью-Йорка станут гоняться за тобой. То, что ты покинула шоу Элен Лоусон, придаст тебе огромный вес. Он повел ее по проходу между рядами, и они вышли из театра в сопровождении «енота», едва волочащего ноги. Едва они исчезли. Генри поднялся на сцену и быстро переговорил о чем-то с режиссером. Тот понимающе кивнул и сразу же развил бурную деятельность. – Нили O’Xapa! – громко выкрикнул он. Нили моментально подлетела к нему. – Сможешь выучить одно кордебалетное сопровождение ритмического номера к половине третьего? – Я уже знаю оба сопровождения. Он устало улыбнулся. – О’кей, делаем одно сопровождение и вставляем танец. Давайте, ребята, за работу. Нили, иди в костюмерную и посмотри, как на тебе сидят костюмы Тэрри. Кордебалет, начинаем все с середины! Генри встал. – Пошли отсюда. По-моему, нам всем просто необходимо глотнуть свежего воздуха. Оказавшись на улице, они стояли и неловко молчали. – Пойду прилягу, – сказала Дженифер и направилась в сторону отеля. Генри стоял неподвижно, уставясь в пространство. Лайон сжал Анне руку. – По-моему, это отвратительно, – сказала она и, изобразив на лице подобие улыбки, добавила: – Но, вероятно, это и есть шоу-бизнес. – То, что здесь сейчас было, это не шоу-бизнес, – рявкнул Генри. – От всего этого смердит за милю. В какую бы оболочку это ни было заключено, все равно смердит. Меня всего выворачивает. Я чувствовал себя, как Джо Луис [26] на ринге с двумя искалеченными лилипутами. Боже мой!.. Ну ладно, позвоню Элен, сообщу ей приятное известие. – Он медленно зашагал в сторону отеля. Лайон пригласил Анну в дешевый ресторанчик напротив и заказал для обоих яичницу. – Генри не прав, – твердо сказал он. – А ее поверенный просто заурядный адвокат, далеко не Генри Бэллами. Мы царапнули кошечку, а она не царапнула нас в ответ. Генри – мастер своего дела и двадцать лет назад тоже был мастером. А двадцать лет назад, если бы ты царапнула Элен Лоусон, то обломала бы себе когти. Генри вовсе не подонок, просто они не сумели постоять за себя. – Но ведь у них выбросили песню и половину ритмического номера. Как же Тэрри было бороться? То, что говорил Генри, звучало благоразумно. Подали яичницу, и Лайон набросился на нее. – Ты в самом деле веришь, что песню выбросят? Да не успеют просохнуть чернила на заявлении Тэрри, а ее поезд еще не прибудет в Нью-Йорк, как все переиграют и сделают по-старому. Если бы Тэрри уперлась и осталась, им пришлосьбы выкинуть эти номера до конца премьерных выступлений в Нью-Хейвене и Филадельфии. Элен, конечно, отравляла бы всем жизнь, но на премьере в Нью-Йорке все сделали бы по-старому, и Тэрри, в конце концов, одержала бы победу. Это как в покере. У Тэрри карта была сильнее, но Генри умело блефовал и сорвал банк. Спустя пятнадцать минут к ним подсел Генри. Он заказал себе сандвич с холодной курицей, пожаловавшись на обострение язвы. В половине второго в ресторанчик пришли несколько девушек из кордебалета перехватить сандвич-другой. Они расселись группками, сплетничая о новостях. Сенсацией дня была Нили. Анна решила не ходить к Нили за кулисы перед дневным представлением. Хорошо зная Нили, она вполне представляла себе, какая там сейчас царит суматоха. Во время представления они с Лайоном стояли в самом конце переполненного зала. Свою роль Нили сыграла с профессиональной легкостью. Насколько Анна понимала, Нили не могла ни испортить спектакля, ни помочь ему. Роль обкорнали до такой степени, что теперь она мало что значила. – Анна, я знаю, ты имеешь к этому какое-то отношение, – задыхаясь от волнения проговорила Нили, когда Анна пришла за кулисы поздравить ее. – Элен мне об этом сегодня сказала. Ах, Анна, я так тебя люблю. Ты мне прямо как сестра. Ах… а вот и Мэл. Анна повернулась к молодому человеку, тот стоял в углу совершенно незаметно. Он метнулся к ней, пожал протянутую руку и снова отступил к стене. Он был высокий и очень худой, а его темные живые глаза неотрывно смотрели на Нили с нескрываемым обожанием. Такой любовный пыл сразу же покорил Анну, и она искренне порадовалась за Нили. – Ее дебют произвел фурор, верно? – с гордостью спросил Мэл. – Просто великолепно! – горячо подтвердила Анна. – А на следующей неделе в Филадельфии мне дадут песню и любовную сцену, – пробормотала Нили. – А Элен Лоусон обещала позаботиться о том, чтобы для выступления в Нью-Йорке мне сшили новые костюмы. Говорит, что костюмы Тэрри для меня слишком вычурны. Элен отозвалась о Нили с энтузиазмом: – Твоя подружка просто великолепна! – прокричала она, когда Анна остановилась в дверях гримерной. Анна удивилась. Нили вполне подходила на эту роль, но энтузиазм Элен был явно чрезмерным. – На ее фоне та шлюха бледновато смотрится, – продолжала Элен. – А Нили как раз то, что нужно для этой роли, – милая невинная девчушка. Посмотришь, как она споет эту сентиментальную песенку в понедельник. В ее исполнении она будет самое то. Девчушка с невинным взглядом – это здорово всем понравится. Анна направилась было к двери. – Эй, ты куда помчалась, черт возьми? – спросила Элен. – Лайон Берк ждет меня внизу. Элен с любопытством посмотрела на нее. – Послушай-ка, вчера на банкете я видела, как вы держались за руки. Если хочешь поразвлечься в Нью-Хейвене – твое дело. Только не забывай, что эта ледышка на твоем пальце – штука настоящая. – Я верну ее. – Что-о-о! – вскричала Элен. – Слушай, Анна, ради бога, не вздумай принимать всерьез одну-единственную ночь. Пойми, ангелочек… ты молода. Я знаю, как это бывает, и Лайон – мужик что надо. Гуди на всю катушку, ведь живем только раз, но не оставляй Аллена из-за какого-то скороспелого увлечения. Слегка улыбнувшись, Анна пошла к двери. – Ты сейчас едешь в Нью-Йорк? – спросила Элен. – Думаю, да. – А мы завтра утром едем в Филадельфию и будем там репетировать. Опять вставим ту песню, доведем до ума некоторые номера. К понедельнику у нас наверняка будет по-настоящему великолепное шоу. А твоя подружка получит хорошую роль. Я уже сказала Гилу Кейсу, чтобы он никого не искал для выступления в Нью-Йорке: Нили меня вполне устраивает. – Счастливо тебе выступить в понедельник, – запинаясь, пожелала Анна. – Ну пока. Увидимся, когда ты приедешь с Джино и Алленом. Не забудь, встречаемся все вчетвером после представления. Аллен! Премьера! Джино! – Ну пока, – весело попрощалась Элен. Лайон ждал на улице. – Все официальные визиты нанесены? Анна кивнула. Он взял ее под руку. – Анна, я достал нам бесплатные билеты, – сказал он. – Можем ехать обратно ближайшим поездом. Боялся, что мы проторчим здесь невесть сколько, но Генри отпустил нас. Он приедет прямо в Филадельфию, и мы встретимся там в понедельник. Ее вдруг охватил приступ безудержной, рвущейся из груди радости от того, что Лайон с такой легкостью считает само собой разумеющимся, что отныне она с ним. Сердце опять заныло при мысли о необходимости объясняться с Алленом. Впервые в жизни она оценила значение прощальных писем. Как было бы все просто, если бы можно было послать ему записку: «Дорогой Аллен! Ты очень хороший и приятный человек, но я полюбила другого. Это произошло за то долгое время, что мы не виделись с тобой – за сорок восемь часов. Перстень с бриллиантом в десять каратов прилагаю. Анна». Они поужинали в поезде и, не говоря ни слова, поехали к Лайону. Квартира показалась ей почти своей. – Фактически эта квартира – твоя, – сказал Лайон, словно читая ее мысли. – Я всегда воспринимаю ее именно так. – Ты хочешь сказать, что действительно думал обо мне… раньше?.. Он привлек ее к себе. – Анна, ты думаешь, что я увидел тебя впервые в Нью-Хейвене? – Не знаю… мне никогда не приходило в голову, что ты вообще замечаешь меня. – Ну-у, я тоже не припомню, чтобы ты когда-нибудь смотрела на меня во все глаза. – Мне кажется, я любила тебя с самого начала, – ответила она. – Только не признавалась в этом, даже самой себе. – Подумать только, сколько времени потеряно зря. – Это ты виноват. В конце концов, как должна поступать девушка? Не может же она сама подойти к мужчине и заявить ему в лоб: «Кстати, хотя мы встретились только что, вы, по-моему, тот самый человек, которого я ждала всю свою жизнь». – А что, прекрасная мысль. Можешь мне поверить, что первая, кто так поступит, определенно, произведет впечатление. Особенно с такой внешностью, как у тебя. А сейчас располагайся на диване, а я принесу что-нибудь выпить. Хочу дать тебе разбавленного шотландского виски. Это поможет тебе расслабиться. – А тебе кажется, что я вся дрожу от волнения? Лайон протянул ей бокал. – Ничуть. Но тебе, наверное, немного не по себе. Все настолько непривычно… я непривычен… секс непривычен… – он сел рядом и нежно погладил ее волосы. Анна приникла к нему. – Я чувствую, что ты мне ближе всех на свете. В своей жизни я ни к кому не испытывала ничего похожего. Я хочу знать о тебе все… Хочу, чтобы у нас не было Друг от друга никаких тайн. Мы – одно целое, Лайон, две неразделимые части. Я принадлежу тебе. Он отодвинулся и задумчиво отпил из своего бокала. – Я думаю, сумею ли я быть достойным такой любви, Анна. Я не хочу причинять тебе боль. – Ты не смог бы причинить мне боль, Лайон. Ты уже так много дал мне. Даже если бы после сегодняшнего дня у нас все прекратилось, я бы все равно осталась благодарна тебе за эти два дня, самые прекрасные в моей жизни. Он слегка улыбнулся. Взял ее руку в свою, погладил палец с огромным перстнем. – А мы ни о чем не забыли? – Это в прошлом. Я верну перстень. – Анна… то, как я отношусь к тебе… это настоящее. Ты должна знать об этом. Но я уже дал тебе все, что мог дать. Я… – И этого вполне достаточно! Все, чего я хочу, – это твоей любви. Я не люблю Аллена, никогда не любила и никогда не собиралась выходить за него замуж. Просто все произошло так быстро, что меня понесло, словно по волнам. Но даже если бы ты и не появился в моей жизни, это не могло бы продолжаться долго. – Я хотел бы тебе верить, Анна, на совести было бы спокойнее. – На совести? Лайон, разве ты не любишь меня? Некоторое время он смотрел перед собой, словно подыскивая ответ. Он увидел слезы в ее глазах. – Анна! – он схватил ее за плечи. – Да, да, я люблю тебя. Люблю и хочу тебя. Но твоя любовь страшит меня, и я спрашиваю себя, будет ли моей любви достаточно для тебя. Она облегченно зажмурила глаза. – О-о, Лайон, как ты меня напугал! Конечно же, ты не сможешь любить меня так, как я люблю тебя. Я этого и не жду. Так сильно ни один человек любить не в состоянии. – Она пристально посмотрела ему в глаза. – Просто люби меня, это все, о чем я прошу. Люби меня так сильно, как только сможешь. И дай мне любить тебя. На другой день Анна проснулась в его объятиях. Она тихо лежала, глядя на мужественный профиль. Он был прекрасен во сне. Во время близости ей опять было больно, но она испытала удовлетворение от того, что подарила ему наслаждение. Она впервые ощутила, что принадлежит другому человеку. Все то, о чем она никогда не говорила даже . с девушками, то, что казалось чересчур личным, чтобы об. этом можно было говорить даже с Нили, она открыто и свободно обсуждала с Лайоном. Периодичность своих месячных… способы предохранения… Осторожно высвободившись из его объятий, она прошла на кухню. Поставила кофе, разбила на сковородку яйца и только тут посмотрела на стенные часы. Шел первый час пополудни. Лайон проснулся, когда она поставила сковородку на стол. Он похвалил ее кулинарные способности: глазунья – великолепная, кофе – произведение искусства. После завтрака он развернул «Нью-Йорк Тайме», а она пошла под душ. Лайон удивленно посмотрел на нее, когда она предстала перед ним полностью одетая, держа пальто на руке. – Бросаешь меня? – Он притянул ее к себе на диван. – С тобой у меня самый скоропалительный роман в жизни. – Он поцеловал ее в шею, и она почувствовала, что теряет силы. Ей стоило немалых усилий отстраниться от него. – Лайон, я не могу идти завтра на работу в этой же одежде. Надо сменить чулки… белье… Мне нужно домой. Он посмотрел на свои часы. – Все верно. Заеду за тобой в семь, и поужинаем вместе. И возьми все необходимое, чтобы пойти на работу прямо от меня. Она благодарно поцеловала его. На какое-то мгновение она испугалась, что он больше не попросит ее прийти к нему. Она позволила себе роскошь поехать на такси: было уже три часа, а до семи предстояло переделать много дел. Едва она вошла к себе в комнату, весь мир словно обрушился на нее. На письменном столе стояла большая ваза с цветами. В букете была визитная карточка Аллена с запиской на обороте: «Надеюсь, ты скучала обо мне так же, как я о тебе. Когда приедешь, сразу же позвони. Люблю тебя. Аллен». До пятницы здесь жил совсем другой человек. Сейчас она чувствовала себя в этой комнате словно чужая. Она распрощается с этими стенами точно так же, как уже распрощалась с Лоренсвиллом. Анна посмотрела на розы. Нет, нельзя просто взять и все бросить. Завтра она едет с Лайоном в Филадельфию, и Аллен тоже должен ехать, и Джино! Анна начала набирать номер Аллена, но положила трубку, остановившись на середине. Может, отправить ему телеграмму? Но ей нужно вернуть перстень. Тяжелый и массивный, он безжизненно блистал у нее на пальце повернутым вбок бриллиантом. Она заново набрала номер. Аллен снял трубку на втором гудке. – Ну как Нью-Хейвен и твоя подруга, Железнобокая Старушка? – Шоу стало хитом. – Знаю. Джино встретил вчера в «Марокко» кое-кого из тех, кто был в Нью-Хейвене. – Как было в «Марокко»? – Я там не был. Ты что, забыла? Я же помолвлен. Оба вечера просидел дома с хорошей книгой, ждал, когда вернется моя девочка. – Аллен… Аллен, мне нужно тебе что-то сказать. – Она зачастила, зная, что все нужно выпалить залпом, за один присест, иначе ей не хватит смелости. – Аллен, я не твоя девочка и не помолвлена с тобой, я хочу вернуть перстень. В трубке долго молчали. Затем он сказал: – Анна, я еду к тебе. – Нет, Аллен, встретимся в другом месте… Я отдам тебе перстень. – Перстень мне не нужен. Мне нужно поговорить с тобой. – Но говорить не о чем. – Не о чем? Боже мой, Анна, три месяца я влюблен в тебя, а теперь ты хочешь все кончить одним телефонным звонком. Что случилось? Кто-нибудь в Нью-Хейвене наговорил тебе обо мне? Послушай, я в прошлом совершил кучу глупостей. Иногда вел себя не очень порядочно… но все это до того, как встретился с тобой. Нельзя же сейчас оборачивать против меня то, что я совершил когда-то. Все это для меня ровным счетом ничего не значило, пока в моей жизни не появилась ты. Коль скоро кто-то напугал тебя мною, я встречусь с тобой и выясню, в чем дело. Просто так я не сдамся; я имею право постоять за себя. – Аллен, никто мне ничего на тебя не наговаривал. И от нашего разговора ничего не изменится. – Я сейчас приеду. – Аллен, не приезжай! – Она ухе кричала в трубку. – Я полюбила одного человека! На этот раз молчание длилось еще дольше. Наконец она робко переспросила: – Аллен. Ты меня понимаешь? – Кто он? – Лайон Берк. Он неприязненно рассмеялся. – Это тот самый бездомный кокни [27], что живет в моей старой квартире? Что ж… я рад, что раздобыл вам приличное жилье для медового месяца. – Аллен, просто так получилось. – Ну конечно, «просто так». Просто получилось, что ты меня разлюбила. – Я никогда не говорила, что люблю тебя, не забывай об этом. Это ты настоял на помолвке. – О’кей, Анна. Всего доброго. – Как мне вернуть тебе перстень? – Меня это не волнует. Почему же должно волновать тебя? – Но я хочу, чтобы ты взял его обратно. – Хочешь сказать, Лайон Берк оскорбится, увидев его на твоем пальце? Или он уже снял его? Судя по тому, что я слышал о нем, единственное кольцо, которое ты от него получишь, будет продето тебе в нос. – Аллен, давай не будем вот так расставаться. – А как бы ты хотела? Может, мне послать тебе поздравительную телеграмму? Да уж, вот это сюрприз! Впервые в жизни обращался с девушкой как с порядочной и вот что получил в результате! Но я еще увижу тебя. С Лайоном Берком твой путь к алтарю окажется длинным-предлинным. – Пожалуйста, Аллен… можно встретиться с тобой завтра в обед и вернуть перстень? – Нет, мой маленький айсберг, оставь его себе. – Что? – Оставь себе! Ты – сука… а перстень мне не нужен. Я могу накупить таких целую кучу, а вот тебе он вскоре пригодится: его можно заложить за кругленькую сумму. А еще лучше – носи его. Пусть он врезается тебе в палец всякий раз, когда мужики тебя будут бросать, точно так же, как ты бросила меня. Сдается мне, Лайон Берк будет первым из них. – Он яростно швырнул трубку. Она сразу же перезвонила ему. – Аллен, я понимаю, ты в бешенстве, и то, что ты сказал мне, сказано в гневе. Я хочу, чтобы мы остались друзьями. – Предпочитаю дружить с мужчинами. – Хорошо, но я не могу оставить у себя перстень. – Если это все, что тебя заботит, плюнь на него! – Аллен, постой! – Она поняла, что он сейчас бросит трубку. – Хочу напомнить тебе о Джино. Он обещал поехать завтра в Филадельфию. – Ты хочешь сказать, что наш уговор остается в силе? – в его голосе затеплилась надежда. – Нет. Не наш. Я не могу теперь ехать с тобой. Но вот у Джино нет никаких оснований отказываться. Элен ждет его. – Нет! Ты наверняка шутишь! – его смех походил на стон. – Почему? Элен заказала ему номер. Он же не зависит от тебя. Не вижу оснований, почему из-за нас нужно огорчать Элен. – Не видишь? Ну что ж, послушай теперь меня. Ты думаешь, Джино так уж хотел ехать? Думаешь, он в восторге от перспективы потискаться с Железнобокой Старушкой? – Прекрати так называть Элен! Она очень привлекательна, и твой отец должен радоваться тому, что она хочет быть с ним. Она – яркая звезда, и… – И яркая крикливая зануда! Мой отец может заполучить любую девицу в этом городе, стоит ему только захотеть. Этот мир принадлежит мужчинам, а женщины владеют им, только если они очень молоды. Тебе еще предстоит это узнать в один прекрасный день. Твоя Элен Лоусон может быть ярчайшей звездой на Бродвее, но она все равно остается расплывшейся крикливой бабой, едва сходит со сцены. Да, конечно, он собирался ехать завтра… только не думай, что он не пытался отделаться от этой поездки. Но я настоял. Ну разве это не смешно? Я заставил его ради тебя и все выходные ломал себе голову, как задержать его там на ночь. Он согласился поехать, но поклялся, что уедет обратно сразу же после представления. В конце концов, я сказал ему, что он сделает мне свадебный подарок, если уступит Элен и проведет с ней эту ночь. Можешь себе представить? Парень уговаривает родного отца на такое, чтобы угодить своей девушке! Все эти выходные я обрабатывал Джино. И все эти выходные ты… – Он осекся, словно лишившись дара речи. – Что ж, по крайней мере, хоть какая-то польза: Джино спасен. А теперь передаю подачу тебе и Лайону Берку. Пусть его отец залезет на твою подружку! – В трубке щелкнуло, и раздались частые гудки.* * *
Премьера «Небесного Хита» в Филадельфии была более обкатанным и ярким вариантом представления в Нью-Хейвене. Анна была поражена тем, сколько было изменено за такой короткий срок. Она сидела рядом с Лайоном, глядя на сцену скорее глазами исполнителя, нежели зрителя. Он держал ее руку в своей, и она спрашивала себя, заметил ли он отсутствие огромного бриллианта. Сейчас перстень лежал в банковской ячейке-сейфе, завернутый в грубую бумагу. Ей тогда показалось жестоким оставлять солитер [28] в полном одиночестве в холодной жестянке. Казалось, он излучал негодующее сияние, словно протестуя, что его совершенно незаслуженно отвергли. Шепот Лайона опять приковал ее внимание к сцене. Это был звездный час Нили. Песню ввели вновь. Анна замерла на краешке своего кресла, когда Нили запела. Это была совершенно иная интерпретация. Тэрри Кинг в своем облегающем красном атласном платье казалась лишенной поэтического очарования знойной красавицей. Нили же в голубом платье с круглым отложным воротничком была покинутой, одинокой, вызывала сострадание. Голос ее дрожал от сдерживаемых рыданий. Теперь это действительно была сентиментальная песня о несчастной любви, совершенно другая, жалобная. Нили устроили настоящую овацию. Несколько раз во время представления Анна бросала нервные взгляды на три незанятых места в четвертом ряду. Эти места заказала Элен. И Анна должна была сидеть там, между Алленом и Джино. Она не рассказала о происшедшем Элен, чувствуя, что это может отразиться на ее выступлении. Занавес опустили в одиннадцать пятнадцать. Вне всякого сомнения представление имело успех. Даже с лица Генри Бэллами исчезло вечное тревожное выражение. – Банкет будет в «Уорике», – сказал он Анне и Лайону, когда те направились за кулисы. Лайон взглянул на свои часы. – Ты ведь не очень стремишься туда, правда? Анна не успела еще подумать об этом. Она считала, что Генри уже заказал им номера в отеле. В театр они пришли прямо с поезда. Она вдруг заметила, что Лайон пришел без своего обычного «дипломата». – Если мы быстро сбегаем за кулисы поздравить Элен и Нили, то успеем на обратный до Нью-Йорка в двенадцать двадцать пять. – Как скажешь, Лайон. – Лучше уж выпью с тобой в вагоне-баре. Нам обоим нужно хорошенько выспаться ночью, а этот банкет наверняка затянется до утра. Они с трудом протолкались к гримерным. Анна пошла прямо к Нили. Та стояла у двери, окруженная репортерами и артистами труппы; все поздравляли ее. Мэл молча стоял рядом, сияя от гордости. Анна обняла ее. – Нили, ты была восхитительна! – Правда? Честное слово? Будет еще лучше, когда я вживусь в этот образ. Да и костюмы сшиты на скорую руку. Для Нью-Йорка мне сошьют новые. Лайон тоже поздравил ее. – А где Аллен? – удивленно спросила Нили, – Потом объясню, – тихо ответила Анна. – Ведь все в порядке, да? – настойчиво допытывалась Нили. – Господи, Элен волновалась как школьница из-за того, что Джино приезжает. А ты ведь должна быть с Алленом. Анна почувствовала, что краснеет. Звонкий голос Нили был слышен едва ли не во всем холле. – Аллена здесь нет, – проговорила Анна сквозь зубы. – Ну, ясное дело, – сказала Нили. – Эй, а перстень! – Она схватила руку Анны. – Где перстень? – Нили, поговорим об этом в другой раз. Мне нужно пойти поздравить Элен. – Если Джино здесь нет, то поскорей уезжай отсюда. Они с трудом, протолкались сквозь толпу в гримерную Элен. Вырвавшись из кольца поклонников, та с распростертыми объятиями двинулась навстречу Анне. – Привет! – весело воскликнула она. Она выжидательно посмотрела вокруг и, увидев Лайона, вопросительно взглянула на Анну. – А где все? – Они не приехали. – Что-о-о? – Это долгая история, Элен. – Сукин-то он сын! Что случилось? – Потом расскажу. – Давай уж прямо сейчас. Проходи ко мне и расскажи, пока я переодеваюсь. – Элен… мы, Лайон и я… у нас обратный поезд в Нью-Йорк в двенадцать двадцать пять. – Ты шутишь! Анна молча покачала головой. – Хочешь сказать, что не придешь на банкет? – Элен, я завтра должна быть на работе. – Вздор! Раз я сказала, что ты нужна мне здесь, то все решено. Это самая малость из того, что Генри может для меня сделать. Он уже уехал, так что ты остаешься. – И, обращаясь ко всем присутствующим в гримерной, она прокричала: – Эй, народ, банкет в «Уорике»! Убирайтесь, мне нужно переодеться! Раздались прощальные возгласы вперемешку с новыми поздравлениями. Когда они остались одни, Элен попросила: – Лайон, подожди в холле. Анна посидит здесь, пока я переодеваюсь. Он посмотрел на свои часы. – Нам уже пора идти, Анна, а то не успеем на последний приличный поезд. – О черт! Генри даже не оставляет вас вместо себя? А сейчас мне скажут, что он подослал мне этого Джорджа Бэллоуза с совиной рожей. Я с ним еще поговорю! Кто же, черт побери, будет сопровождать меня на банкет? – А почему Генри не остался? – спросила Анна. – Потому что я сказала ему, что приезжает Джино, – рявкнула Элен. —Хочу услышать, наконец, в чем же дело. Что произошло, черт возьми? Лайон опять глянул на часы. – Я поймаю нам такси, Анна, – коротко улыбнувшись Элен, он вышел из гримерной. – Совсем не дают побыть одной. – Элен села за туалетный столик и начала припудривать лицо. – Элен, сегодняшнее представление было просто великолепно, – сказала Анна. – Очень жаль, что мне нужно ехать, но Лайон хочет успеть на этот поезд… – Ну и пусть себе едет, ради бога. Тебе-то что? Анна лихорадочно искала хоть какой-нибудь предлог. – У меня не заказан номер в отеле. – Ну и что? У меня двухместный люкс. Можешь пожить у меня. – Но я приехала с Лайоном, – она тоскливо посмотрела на дверь. У Элен расширились глаза. – А-а, понятно, значит все еще флиртуешь с Лайоном. Боже, и ты, как все. Единственная девушка «на уровне», которую я приняла близко к сердцу, моя близкая подруга, и та бросает меня. Черт, вот так всегда у меня в жизни. Отдаешь себя всю… Всегда веришь людям… – По ее лицу заструились слезы. – Я верила в тебя, Анни… в свою единственную подругу. Но ты, как и все остальные, пинаешь меня в задницу, бросаешь меня в тот момент, когда я больше всего в тебе нуждаюсь. И вот я совсем одна на собственной премьере – без мужчины; единственная подруга – и та смывается… – Элен, я действительно твоя подруга. Может быть, есть более поздний поезд. Дай мне поговорить с Лайоном… – Нет, после двенадцати двадцати пяти только ночная пригородная электричка. – Элен начала промокать потекшую по щекам тушь. – Так хотелось верить, что хоть ты не такая, как все. – Подожди, дай поговорить с Лайоном. – Она выбежала из гримерной. Лайон уже остановил такси и ждал ее. Она бросилась к нему. – Лайон, мы не можем оставить ее одну. Она так страдает. Он удивленно посмотрел на нее. – Анна, Элен попросту не способна страдать. – Ты не понимаешь ее. Она плакала. Она чувствует себя такой одинокой на своей премьере. – Слезы у нее наворачиваются легко и быстро высыхают. Послушай, Анна, все эти элен лоусон современной эстрады сами же себе и создают свое собственное одиночество. – Но мы не можем так поступить с нею. – Единственное, что мы должны Элен Лоусон, это лояльные деловые отношения. Совсем простенькие штучки, вроде избиения Тэрри Кинг. Она понимает это и требует своего. Но в моем контракте нет ни слова о том, что я к тому же обязан сопровождать ее на банкеты. – Но, Лайон, она же моя подруга. – И ты хочешь остаться? – Я чувствую, мы должны… Он улыбнулся. – О’кей. До свидания, дружок, – легко попрощался он и прыгнул в такси. Анна поначалу даже не смогла поверить в происшедшее. Но такси уехало. Она не знала, что ей делать, рассердиться или испугаться. Кто кого покинул? Она Лайона или он ее? Если бы она уехала с ним, то наверняка покинула бы в беде Элен. Видит бог, это она покинула Лайона. Она вдруг почувствовала слезы на глазах. Казалось, все вокруг нее рушится. Она причиняет боль всем… и прежде всего себе самой.* * *
Банкет в «Уорике» был точной копией банкета в Нью-Хейвене, за одним исключением – в качестве полноправной исполнительницы одной из ведущих ролей здесь появилась Нили. Из Нью-Йорка понаехало еще больше народу, было много репортеров… а Элен, которая много пила, по-прежнему оставалась все той же сердечной, доброжелательной звездой. Когда, расставшись с Лайоном, Анна вернулась в гримерную, там толпились люди, и она не могла объяснить Элен про Джино. Поэтому ей пришлось просидеть на банкете от начала и до конца; она глядела на окружающих, но мысленно была далеко отсюда, переживая из-за Лайона и цепенея от страха. В два часа ночи, увидев, как тайком уходят Нили и Мэл, она ощутила укол зависти. Лайон в эти минуты как раз подъезжает к Нью-Йорку. Интересно, сердится он на нее или у него тоже на душе кошки скребут? Они вошли в люкс Элен в три часа, та достала полбутылки шампанского и налила себе большой бокал. – О’кей, а теперь расскажи мне, что же произошло с Джино. Анна подыскивала нужные слова. – Это я, наверное, во всем виновата, – осторожно начала она. – Видишь ли, я порвала с Алленом. – Почему? – Видишь ли… Лайон и я… мы были близки… – Ну и? – спросила Элен. – Я знала, что ты переспала с Лайоном в Нью-Хейвене, но какое отношение это имеет к Аллену? – Я не могла бы больше встречаться с Алленом, раз полюбила Лайона. Элен прищурилась. – Ты шутишь? Ты ведь не думаешь, что если он трахнул тебя, то непременно женится? – Конечно, женится… – Он говорил тебе о женитьбе? – Элен, это произошло всего три дня назад. – Ну, и где же сейчас этот твой Ромео? Я смотрю, не очень-то он за тебя держится. Анна ничего не ответила. Элен, не переводя духа, продолжала добивать ее, изъясняясь с предельной ясностью: – Слушай, если мужик любит тебя, он за тебя держится. Вот Аллен – тот держался, и сейчас он, наверное, чувствует себя погано. Могу спорить, Джино именно поэтому не приехал. Должно быть, думает, что я такая же дешевка, как и ты. – Элен! – А ты считаешь, что выглядишь «на уровне», если ведешь себя вот так? Носишь перстень одного мужика, а сама прыгаешь в постель с этим англичанишкой! И срываешь мне все с Джино. Конечно, он считает, что и я такая же. Боится теперь встречаться со мной… боится, что я причиню ему боль, как ты его сыну. – То, как я поступила с Алленом, не имеет никакого отношения к тебе и Джино. – Тогда почему же его здесь нет? Он, скажу я тебе, здорово ко мне клеился, нам с ним было весело. Если бы ты не вешалась на Лайона Берка, он был бы сейчас здесь, со мной. Я потеряла мужчину, которого люблю, из-за того, что ты – потаскушка. Анна бросилась через всю большую комнату, схватила пальто. – И куда же ты сейчас пойдешь? – ехидно осведомилась Элен, снова наполняя бокал. – Куда угодно, лишь бы подальше от тебя! – Ха-ха, – усмехнулась Элен. – Идти тебе сейчас некуда, дорогуша, только вниз, в вестибюль. Думаешь, ты кому-то нужна? Ты и твое ханжеское пуританское личико? Я, по крайней мере, честно и прямо называю вещи своими именами. Но ты разыгрываешь из себя важную леди. Да, конечно, пока ты носила тот бриллиант, ты еще была кем-то, и я Считала тебя ровней себе. Думала, в тебе должно что-то быть, раз тебя добивается Аллен Купер. Это был твой единственный путь к славе. А сейчас ты – ничто, всего-навсего очередная девица, которую трахнул Лайон Берк. Анна смотрела на Элен широко открытыми глазами. – А я-то считала тебя своей подругой… – «Подругой»? Да что у тебя есть за душой, чтобы я была твоей подругой! Кто ты такая, черт тебя возьми? Отвратная секретарша и страшная зануда? А я из-за тебя потеряла мужика, который ко мне клеился! – Элен встала, пошатываясь. – Я ложусь спать… укладывайся на диване, если хочешь. Странно, гнев как-то успокоил Анну. – Элен, ты только что потеряла единственную подругу, которая у тебя была. Элен поморщилась. – Плохи были бы мои дела, если бы мне приходилось полагаться на таких вот подруг. Анна пошла к двери. – Прощай, Элен. И… удачи тебе. – Нет уж, сестричка. Это тебе понадобится удача. Все, что тебе осталось, это еще, может быть, парочку раз потрахаться с Лайоном Берком, пока ты ему не надоешь. А девицы ему надоедают быстро. Уж я-то знаю: сама спала с ним шесть лет назад. – Она улыбнулась в ответ на недоверчивый взгляд Анны. – Да, да, именно так – я спала с Лайоном. Я делала новое шоу, а он только-только начал работать у Генри Бэллами. Он был на высоте – ухаживал за мной так, словно у нас была большая любовь. Ему нравилось, что его видели со мной. Но я-то, по крайней мере, не была идиоткой, вроде тебя. Принимала все так, как и следовало: наслаждалась с ним в постели, а когда все прошло, поставила точку. И можешь мне поверить, уж я-то могла дать ему больше, чем какая-то мелкая секретарша вроде тебя. Распахнув дверь, Анна бросилась вон, испытывая почти физическую боль от гнева и отвращения. Добежав до лифта, она вдруг остановилась. Тревога росла по мере того, как она лихорадочно рылась в сумочке. У нее же нет денег! Она так торопилась встретиться с Лайоном, что не удосужилась снять наличные со счета. Порывшись еще немного, она обнаружила восемьдесят пять центов. Шел уже пятый час, и она не могла позвонить Нили. Но идти в Нью-Йорк пешком тоже нельзя. Она присела в холле, неподалеку от лифта. Если спуститься в вестибюль на первый этаж и устроиться там в кресле часов до девяти, то потом можно позвонить Нили. Господи, она же все погубила. Чувство невосполнимой утраты захлестнуло ее. Элен ей больше не подруга. Но тогда получается, что Элен никогда и не была ее подругой… А ведь все предупреждали ее. И насчет Лайона тоже предупреждали. Лайон был с Элен! Нет… это невозможно! Но Элен не могла бы сочинить такую вопиющую ложь. О господи! Ну зачем Элен сказала это? Она расплакалась, закрыв лицо руками, чтобы заглушить рыдания. Услышав, как остановился лифт и открылась дверь, она промокнула глаза платком и низко опустила голову. Из лифта вышла девушка и прошла бы мимо нее, но потом остановилась и вернулась к ней. – Ведь вы – Анна, правда? Анна опять стала лихорадочно промокать глаза платком. Перед нею стояла Дженифер Норт. – Что-нибудь случилось? – спросила Дженифер. Анна посмотрела на сияющее лицо девушки. – Да, к сожалению. Дженифер сочувственно улыбнулась. – В моей жизни тоже выпадали такие дни. Пойдем, мой номер рядом. – Она крепко взяла Анну за руку и решительно повела ее за собой. Сидя на кровати и непрерывно куря сигарету за сигаретой, Анна неожиданно для себя самой рассказала Дженифер обо всем. Когда ее сбивчивое повествование подошло к концу, Дженифер усмехнулась. – Ну и денечки у тебя выдались! – Извини, что тебе пришлось выслушивать все это, – сказала Анна. – Да еще в такой час. – Ничего, раньше я и не ложусь, – улыбнулась Дженифер. – Но это моя проблема. А вот одна из твоих проблем решена. Ты остаешься ночевать у меня. – Нет… я действительно хочу вернуться в Нью-Йорк. Если ты одолжишь мне денег, я завтра же вышлю тебе чек. Дженифер полезла в сумочку и достала бумажник. – Бери, сколько хочешь, но, по-моему, ты сошла с ума. У меня здесь две кровати. Ночью хорошенько выспишься, а завтра поедешь в нормальном поезде. – Я хочу уехать сейчас. – Анна извлекла из толстой пачки десятидолларовую купюру. – Я вышлю тебе чек. Дженифер покачала головой. – Нет, лучше подожди, пока я не приеду в Нью-Йорк, тогда пригласишь меня пообедать. Хочу знать, чем все кончится. – Все уже кончилось. Дженифер улыбнулась. – С Элен – точно… и, вероятно, с Алленом. Но не с Лайоном. Во всяком случае, если судить по твоему виду, когда ты говоришь о нем. – Но как я могу вернуться к нему теперь, после того, что мне рассказала Элен? Дженифер недоверчиво посмотрела на нее. – Хочешь сказать, что тебя это сильно волнует? Ты что же, думала, что и он окажется девственником? – Нет, но Элен… Мне казалось, что она вовсе не нравится ему как женщина. – Ну, возможно, шесть лет назад он был о ней более высокого мнения. Вероятно, она произвела на него сильное впечатление. Понимаешь, он только начал работать у Генри Бэллами, стремился достичь успеха. Я не виню его за то, что у него было с Элен, – вероятно, ему просто пришлось это сделать, а вот ее – виню. За то, что оказалась такой свиньей и швырнула это тебе в лицо, зная о твоем отношении к Лайону. – Но она утверждает, что он быстро бросает… – Анна, я уверена, что все мужчины быстро бросают Элен. Из чувства гордости она предпочитает считать, что бросивший ее мужчина точно так поступает с каждой. Она даже на самообман пошла, внушив себе, что Джино от нее без ума. Анна, я уверена, что у Лайона с тобой серьезно. Может быть, пока это еще и не любовь, но… серьезно. – Но я же теперь все погубила. Он бросил меня. – А он, возможно, считает, что это ты его бросила. В какой-то степени так оно и есть: ведь ты предпочла ему Элен. – Не предпочла. Мне стало жаль ее. Она была мне подругой. – Тоже мне, подруга! – поморщилась Дженифер. – Послушай, завтра, когда увидишь Лайона, будь паинькой. Пусть в глазах стоят слезы. Скажи ему, что поняла, как глупо поступила, приняв свои отношения с Элен за дружбу. Подай себя любящей – любящей и страдающей. И бога ради, не вздумай заикнуться, что Элен рассказала тебе про него и себя! – Она пошла с Анной к двери. – Запомни, есть только один способ владеть мужчиной – заставить его хотеть тебя. И не на словах. Заруби это себе на носу. Вообще-то мне следовало бы связать тебя и не отпускать никуда несколько дней, чтобы ты не напортачила чего. – Нет, я хочу вернуться. – Анна… Ты мне нравишься. Мы станем хорошими подругами. Мне тоже нужна настоящая подруга. Поверь мне и делай, как я сказала, если хочешь Лайона. Анна слабо улыбнулась. – Попытаюсь, Дженифер, попытаюсь… Дороге в Нью-Йорк, казалось, не будет конца. Когда электричка подошла, наконец, к перрону, было уже утро, и солнце светило вовсю… Из вагонов повалили пассажиры, севшие в Лонг-Айленде [29]. Времени едва хватало, чтобы принять ванну и позавтракать. Пока она ехала в такси, глаза у нее слипались, а когда она поднималась к себе по лестнице, ноги налились свинцовой тяжестью. Под дверью белел уголок телеграммы. Лайон! Только бы от него! Она вскрыла конверт.«Вчера вечером во сне тихо скончалась тетя Эми. Похороны среду. Было бы хорошо, если бы ты смогла приехать. С любовью Мама».Невидящими глазами она смотрела на телеграмму. Как это похоже на мать! Не «приезжай, пожалуйста», не «ты нужна мне», а «было бы хорошо…». Так вот, она не поедет. Матери это почти безразлично, просто это «будет хорошо» в глазах Лоренсвилла. Но она уже принадлежит другому городу… она принадлежит Лайону. Повинуясь безотчетному порыву, она набрала его номер. На пятом гудке он снял трубку. Голос его был сонным. Ее охватила ярость. Она протряслась всю ночь в холодной пригородной электричке, а он преспокойно спал себе… – Алло, – он уже окончательно проснулся, но говорил с раздражением. До ее сознания вдруг дошло, что она держит трубку и ничего не говорит. – Алло… вы слышите? – прерывисто спрашивал голос Лайона на другом конце провода. Она испугалась – он, похоже, сердился. – Это ты, Элизабет? Элизабет? Она тупо уставилась на аппарат. – Ну хватит. Это уже детские штучки, – холодно проговорил Лайон. – Элизабет, если хочешь говорить, скажи что-нибудь или я кладу трубку. Подождав секунду, он со щелчком положил трубку. Элизабет? Кто такая Элизабет? Ей стало больно от внезапного осознания того, что у Лайона есть своя полнокровная жизнь, о которой она ничего не знает. И в самом деле, ведь она знает его только четыре дня. Боже, неужели прошло всего-навсего четыре дня?! Конечно, у него есть эта Элизабет… и, вероятно, много таких элизабет. Анна дала по телефону телеграмму матери, что выезжает немедленно. Затем узнала расписание поездов – ближайший на Бостон отходил в девять тридцать. Побросала в сумку кое-что из вещей. Сейчас восемь тридцать, она успеет еще заехать в банк снять деньги со счета. Но их контора еще закрыта. Нужно сообщить Генри, что ее сегодня не будет. Она опять набрала номер телеграфа.
«Дорогой Генри. Вынуждена уехать личным обстоятельствам. Вернусь пятницу все объясню. Анна».Она уехала поездом на Бостон, так и не узнав, что ее вторая телеграмма будет истолкована совершенно превратно. Генри Бэллами яростно скомкал телеграмму. «Черт возьми! Наверняка сбежала с Алленом Купером». Свои подозрения он держал при себе, однако вдруг поймал себя на том, что необычно резок с мисс Стейнберг и с остальным персоналом. В пятницу, войдя в контору и увидев Анну за письменным столом, он воззрился на нее в восторженном изумлении. – Ты вернулась! – воскликнул он. – Я же телеграфировала, что вернусь в пятницу. – Я был уверен, что ты выходишь замуж, – сказал он. – «Замуж»? – повторила она. – За кого? – Просто я думал… – на лице Генри появилось глуповато-растерянное выражение. – Я боялся, что ты сбежала с Алленом. – Сбежала? У меня умерла тетя, и мне пришлось срочно ехать в Бостон. Контора еще не открылась, и я дала телеграмму. Кто сказал, что я сбежала? Вместо ответа Генри обнял ее. – Ладно, хватит об этом. Ты вернулась, и я очень рад. Именно в эту минуту вошел Лайон. Увидев ее, он резко остановился. Генри отпустил ее и облегченно, с мальчишеской радостью повернулся в его сторону. – Она вернулась, Лайон… – Да, вижу, – голос Лайона звучал ровно, без эмоций. Анна опустила глаза. – Извините, если вы меня не правильно поняли. – У нее тетка умерла, – восторженно заявил Генри. И тут же, придав своему лицу подобающе скорбное выражение, добавил: – Соболезную тебе, Анна. – Он обратился к Лайону: – В Бостон она ездила только на похороны. Лайон улыбнулся и прошел к себе в кабинет. – Зайди ко мне, – пригласил ее Генри. – Хочешь кофе? Прибавку к жалованью? Все, что угодно, только скажи – так я счастлив. Загудел зуммер селектора у него на столе. Он щелкнул переключателем, и Анна услышала голос Лайона: «Генри, ты не мог бы послать ко мне Анну с контрактом Нили О’Хары?» Подмигнув Анне, Генри выключил селектор. Он открыл картотечный шкаф, порылся в бумагах. – Берем под опеку твою маленькую подружку. У нее нет своего поверенного. В будущем ей ничего особо не светит, разве что на сцене, но мы берем ее из-за тебя. – Он протянул бумаги Анне и показал на дверь в кабинет Лайона. Лайон встал, когда она вошла к нему. – Надеюсь, Генри сказал тебе, что мы берем Нили под свое крыло. Она настаивает, говорит, что это даст ей почувствовать себя звездой. – Да, Генри сказал мне, – ответила Анна, не поднимая глаз от бумаг. Он подошел к ней и взял документы. – А он не сказал тебе еще, что последние четыре дня я ходил совершенно потерянный? Она подняла взгляд, и он заключил ее в объятия. – Ах, Лайон, Лайон… – она прильнула к нему. – Прими мои соболезнования насчет тети. Никто из нас не знал, почему ты уехала… Генри вел себя так, словно ты вообще уже не вернешься. А я никак не мог поверить в это. Отказывался верить, что ты ушла из моей жизни. Я понимаю, Анна, что поступил отвратительно. Я должен был подождать тебя в ту ночь. Элен – твоя подруга, и… – Нет, это я была не права. Никогда и ни в чем я не буду больше отодвигать тебя на второй план. Элен не стоила этого, и никто не стоит этого. Ах, Лайон, я так люблю тебя. – И я люблю тебя, Анна. – Любишь! О Лайон, правда любишь? – Она еще сильнее прижалась к нему. Он поцеловал ее в темя. – Правда-правда, – скороговоркой проговорил он. Но, посмотрев на него, она поняла, что он говорит то, что думает. И снова она сказала себе, что никогда в жизни не будет счастливее.
* * *
Оба выходных дня Анна провела в квартире у Лайона. Она страстно и исступленно отвечала на все его ласки в постели. Во вторую ночь сладкая судорога внезапно пробежала по ее телу. Чуть приподнявшись, она изогнулась и через несколько мгновений обессиленно откинулась на спину. Нежно обнимая ее, Лайон поглаживал ее волосы. – Ах, Лайон, у меня наступило. – Она еще немного вздрагивала. – В первый раз, – сказал он. – А то я уже начала беспокоиться, все ли у меня нормально. – И совершенно напрасно: в самом начале девушка очень редко испытывает что-то по-настоящему или достигает оргазма. Она покрыла его лицо страстными поцелуями. – Я нормальная, Лайон… Я – женщина! В ту ночь Анна вела себя в постели агрессивно. Она никогда даже не мечтала о том, что ее физическая страсть по своей интенсивности может сравняться с ее чувствами, поэтому и обрадовалась; и испугалась одновременно. Она не только любила Лайона за то, что он – Лайон, она жаждала его физически. Любовь ее стала ненасытной. И лишь одна неотступная мысль отравляла ей эти два восхитительных дня: в понедельник ей нужно было явиться в суд и свидетельствовать на бракоразводном процессе Дженифер. – Анна, я знаю, что тебе крайне неприятно это делать, – говорил ей Генри. – Но ты – единственная, кому я полностью доверяю. У Дженифер в Нью-Йорке никого нет. Она не знает здесь ни одной девушки. Все будет хорошо и закончится так быстро, что ты и понять ничего не успеешь. Не переживай из-за этого, просто будь на работе в девять тридцать. В суде нам нужно быть в десять тридцать. Дженифер приезжает из Филадельфии на весь день. А перед тем как поехать в суд, мы все отрепетируем в конторе. В выходные онанесколько раз заговаривала об этом. Даже в объятиях Лайона она нет-нет да вспоминала о том, что ей предстоит. – Послушай, ты вовсе не обязана это делать, если тебе действительно так неприятно, – сказал Лайон. – Понимаю, что это глупо, Лайон, но я боюсь. Ведь это же самое настоящее лжесвидетельство, разве нет? – Строго говоря, да, но такое совершается изо дня в день. Я хочу сказать, что всем это безразлично, даже самому судье. Но если это идет вразрез с твоими принципами, возьми и объясни все Генри. Если понадобится, он договорится с мисс Стейнберг. – Почему же он тогда сразу ее не попросил? – Он думал об этом. Естественно, прежде всего нам в голову пришла мысль о ней. Но много ли нам это давало, даже если судья будет на нашей стороне? Разве Дженифер Норт похожа на такую девушку, которая подружилась бы с мисс Стейнберг и стала бы поверять ей все самое сокровенное? – Он потянулся к телефону. – Не беспокойся об этом. Я сейчас позвоню Генри. Ты решительно ничем не обязана ни Генри, ни Дженифер Норт, почему же ты, черт возьми, должна… – О боже! – она села в кровати. – Лайон, не звони Генри. – Почему? – Я очень обязана Дженифер. Среди всего прочего и за ее десять долларов. Совсем забыла: она одолжила мне денег на обратный билет из Филадельфии. – Анна уже рассказывала ему об инциденте с Элен Лоусон, тщательно избегая упоминания о том, что Элен говорила о нем. Но она совсем забыла рассказать, с каким сочувствием отнеслась к ней Дженифер, как выручила ее. – Я хотела отослать ей деньги. Но когда я приехала в Нью-Йорк, пришла телеграмма, и я сразу же уехала в Лоренсвилл. – Ну, можешь не беспокоиться. Уверен, что десять долларов Дженифер не волнуют. Я ей отдам их завтра. – И все равно, она очень хорошо отнеслась ко мне в ту ночь. Думаю, что выступить на суде в ее пользу – это самое малое, что я могу для нее сделать. – Очень хорошо, раз ты считаешь, что это сравняет счет. Анна посмотрела на него. – Какое-то отсекающее выражение, Лайон. Оно словно ставит точку на твоих отношениях с человеком, как оплаченный счет. Помню, как ты употребил его в разговоре со мной. Будто захлопнул дверь перед самым моим носом. – С тобой? Когда? – Когда я благодарила тебя за Нили, за то, что ты помог получить ей работу. Ты сказал тогда, что это сравнивает счет за то, что я достала тебе эту квартиру. – Теперь это н а ш а квартира, – сказал он. Она посмотрела на него, и взор ее затуманился. – «Наша квартира»? – А почему бы и нет? Если, конечно, ты не слишком привязана к своей комнате на Пятьдесят второй стрит. Места здесь, по-моему, достаточно, а я вполне уживчивый парень. Она обвила его руками. – Ах, Лайон! Мы знаем друг друга совсем недолго, но я считаю, что знала это давно. Знала с того самого момента, как мы встретились, что ты единственный мужчина, за которого мне захочется выйти замуж. Он осторожно высвободился из ее объятий. – Я прошу тебя переехать ко мне, Анна. Это все, о чем я сейчас могу тебя попросить. Она отвернулась от него, скорее озадаченная, чем обиженная. Взяв ее за плечи, он нежно повернул ее к себе лицом. – Анна, я действительно люблю тебя. Она попыталась проморгаться, чтобы убрать с глаз непрошеные слезы, но они прорвались в ее голосе. – Когда люди любят друг друга, они женятся. – Возможно, в Лоренсвилле, где все решается с самого рождения и с будущим все ясно заранее. – У тебя с будущим все ясно. Генри верит в тебя… – Я сам не знаю наверняка, хочу ли я оставаться с Генри. Я вдруг понял, что вообще ничего не знаю наверняка, но я наверняка не хочу жить жизнью Генри. – Лайон задумался. – Видишь ли, после войны я решил, что не вернусь к Генри и к старому образу жизни. Однако же вернулся, и энтузиазм Генри передался мне. Я почти вписался в свою старую модель. А потом мы пообедали с тобой в «Барберри Рум». В тот день ты дала мне хорошую встряску – заставила задуматься. Потом – выходные дни в Нью-Хейвене и история с Тэрри Кинг. – Он покачал головой. – Потом оглушительный удар, когда ты исчезла. Я начал тщательно разбираться во всем, давая свою оценку происходящему, и принял, наконец, решение. Я хочу попробовать написать эту книгу. – Замечательно, Лайон. Но как этому может помешать женитьба? – Ну, скажем, у меня все еще старомодные понятия на этот счет. Я убежден, что муж обязан содержать свою жену. Если бы я женился на тебе, то с головой бы ушел в работу у Генри – это стопроцентно. Зарабатывал бы много денег, но ничего хорошего из нашего брака не получилось бы. – Ты собираешься уйти от Генри? – К сожалению, не могу. У меня отложена сумма, достаточная для того, чтобы прожить, не работая, несколько месяцев; но риск слишком велик. Я останусь у Генри и буду писать книгу в свободное время. Несколько часов оторву от сна… в выходные… Это не идеальный вариант, но, к сожалению, в данный момент – единственный: у меня нет загородного дома для уединения. И я вполне отдаю себе отчет, что впереди слишком много неопределенного. Даже если книгу примут, аванс неизвестному писателю выплатят небольшой. На выпуск книги уходит от полугода до восьми месяцев, и бывает, что даже хорошая книга приносит автору очень мало денег. Книги, с ходу становящиеся бестселлерами, – редчайшие исключения. Так что передо мной альтернатива: остаться у Генри и работать над книгой в свободное время или же найти богатую старуху, чтобы она субсидировала меня. – Я не старая и не богатая, но немного денег у меня есть, и я могла бы работать. Он запустил руку в ее волосы, наблюдая, как их тяжелый шелк ниспадает ей на плечи, струясь между пальцами. – На то громадное жалованье, что тебе платит Генри, и на мои сбережения мы все равно не сможем снимать эту квартиру. – Но я же сказала тебе: у меня есть деньги – пять тысяч, которые мне оставил отец, и я только что унаследовала семь тысяч от тети. Это двенадцать тысяч, Лайон – более чем достаточно. Он присвистнул. – Боже правый, я подцепил богатую наследницу. – Он нежно поцеловал ее. – Анна, я по-настоящему тронут. Но это не поможет. Сейчас я еще не знаю наверняка, сумею ли я писать. Не уверен, что книга вообще получится хорошей. Сейчас, вот в этот самый момент, никак не меньше полумиллиона бывших джи-ай [30] сидят за пишущими машинками и выстукивают свои собственные версии боевых действий в Нормандии, на Окинаве, описывают битву за Англию [31]. И каждому из нас в самом деле есть что сказать. Вопрос лишь в том, кто скажет первым и кто скажет лучше всего. – Я уверена, что ты сможешь писать, – убежденно сказала она. – Я просто знаю это. – Тогда ты знаешь больше, чем я сам. И это восхитительно, ты безоглядно веришь в меня… и я люблю тебя за это. – Лайон… после того как ты закончишь книгу, ты женишься на мне? – Буду счастлив предложить тебе руку и сердце… если книга окажется хорошей. Она немного помолчала. – Но ты же сам сказал… даже хорошая книга не всегда приносит деньги. – Я не говорил, что деньги – главное. Если книга получится, я продолжу писать, даже если она не принесет мне ни цента. Я бы работал еще упорнее, потому что знал бы, что это не пустая розовая мечта, и мы как-нибудь выкарабкались бы. Но если ее не примут ни в одном издательстве, тогда я с удвоенной энергией примусь за работу у Генри. Стану прежним Лайоном Берком и наверстаю зря потраченные годы… вот только не уверен, понравлюсь ли я тебе таким. – А что собой представлял прежний Лайон Берк? Он на мгновение задумался. – Ни единой минуты, потраченной попусту. Да, наверное, именно это и было главным. Я никогда и ничего не предпринимал, не обдумав заранее. Даже этого… – Его рука погладила ее левую грудь. В ушах у нее зазвенел пронзительный голос Элен. Так значит, это правда – тот прежний Лайон вполне мог иметь роман с Элен. Лайон обнял ее. – Но прежний Лайон погиб на фронте или, может быть, умер в ту самую ночь, когда боевой товарищ рассказывал ему о персиковых деревьях. Если так, то… возможно, тот потратил свою последнюю ночь не зря. Анна обвила его руками. – Назад тебе пути нет. Особенно раз ты так говоришь. Если эта книга не получится, будешь работать над следующей, потом над другой. Ты – то, что представляешь собой сейчас, и ничто не в состоянии изменить тебя, сделать прежним. Если ты хочешь работать у Генри и писать, я буду ждать. И буду ждать всегда, пусть на это уйдет хоть дюжина книг. Только оставайся самим собой. – Не знаю, так ли уж это здорово – быть таким, каков я есть. Но это лучше, чем быть Генри Бэллами, А именно к этому я и шел. Более того, я бы даже превзошел Генри, потому что не был бы таким хорошим человеком, как он. Генри колеблется, тратит время на жалость и сострадание. Я же прямолинеен. Я стал бы увеличенной копией Генри – крупный успех в карьере и поражение в личной жизни. – Вот, значит, как ты думаешь о Генри? – Тридцать лет Генри боролся, чтобы достичь того положения, которое занимает сейчас. Ты, наверное, называешь это вершиной. Но слово это затертое от чрезмерного употребления. Сам он называет его Эверестом. Вот где он находится и в материальном, и в профессиональном смысле, А как же его личная жизнь? Если бы в справочнике «Кто есть кто» поместили статью о Генри, то его достижениям в театральной сфере и сфере бизнеса было бы посвящено несколько абзацев. Что же касается личной жизни – всего одна строчка: «Холост, родственников нет». Короче говоря, никакой жизни, кроме бизнеса. Один на вершине Эвереста. – Но ты лишь подтверждаешь мою точку зрения, Лайон: Генри слишком затянул с женитьбой, и ты делаешь то же самое. – Нет. Потому что на Эвересте брак лишается всякого смысла. Существуют мужчины, подобные Генри, которые женятся, имеют семью и детей, но личная жизнь у них в точности такая же. В конце концов, предположим, что Генри в свое время женился на хорошей девушке, не связанной с бизнесом. Сейчас его дети были бы уже женаты или замужем, воспитывали бы собственных детей. Жена проводила бы каждую зиму во Флориде. Поначалу она постоянно пилила бы Генри за его нервную, суматошную работу, но к этому времени уже примирилась бы с тем, что живет с ним фактически врозь, как это и было у них всю жизнь. Успокаивала бы себя тем приятным, что приносит в семью его работа и профессионализм: огромная квартира или дом в городе, меха, весь образ жизни. Вокруг полным-полно таких генри, которые, хоть и женились в свое время, но так и остались одинокими на своей вершине. Им приходилось быть одинокими, потому что на своем пути наверх они отдаляли от себя всех. В этой бешеной гонке приходится лгать, мошенничать, торговать собой и прибегать ко всяческим нечистоплотным приемчикам, на какие ты только способен, чтобы забраться туда, где сейчас находится Генри. Этого требует наш бизнес. Именно против этого и направлен мой монолог. Не против Генри лично, а против того, во что превращается всякий, кто занимается этим бизнесом достаточно долго. Они немного помолчали. Первым заговорил Лайон. – Извини, что я так раскричался. – Нет, я рада. Я стала лучше понимать тебя. Меня беспокоит только одно… Он с нежностью посмотрел на нее. – И что же? – Когда ты все-таки женишься на мне? Он громко рассмеялся. «Интересно, – подумалось ей, – осознает ли он сам, до чего красив, когда смеется вот так?» Она не знала никого, кто смеялся бы именно так – от души, откидывая голову назад. Смех был этакой прекрасной оправой всей его внешности. – Вот что я тебе скажу: ты будешь первой, кто прочтет мою законченную рукопись, и тогда ты сама скажешь мне это. Она крепко прижалась к нему. – Посплю-ка я, – прошептала она. – Завтра у меня много дел. – Да, да, завтра надо идти в суд. – М-м-м… Лайон… у тебя есть запасной ключ от этой квартиры? Он стиснул ее в своих объятиях. – Я закажу. Значит, ты все-таки переезжаешь? – Нет, но завтра утром я привезу тебе пишущую машинку и несколько пачек бумаги. Новенькую сверкающую машинку. Это будет моим свадебным подарком. – Я приму его… при одном условии – ты переезжаешь ко мне. – Нет. Я буду приходить и оставаться у тебя, как сейчас, когда ты захочешь. Буду проводить с тобой выходные и печатать твою рукопись. Но жить с тобой не буду. Я буду жить для тебя и… ждать. Он поцеловал ее в лоб. – Как адвокат я должен предупредить тебя, что ты извлекаешь из нашего договора минимум выгоды. Но как твой любовник обещаю, что постараюсь сделать все, чтобы не разочаровать тебя.* * *
Судебное заседание оказалось совсем коротким. Все опасения Анны тут же улетучились, едва она увидела всю эту накатанную процедуру. Генри передал судье какие-то бумаги. Судья сделал вид, что читает их, обе стороны обменялись вопросами, Дженифер выступила с заготовленной речью, Анна произнесла свой текст. Менее чем через десять минут Дженифер получила развод. Генри пригласил девушек пообедать. Сам он ел торопливо. – Меня ждут дела, но вы обе посидите и все обговорите. Анна, на работу сегодня можешь не приходить. Едва Генри ушел, Дженифер с любопытством спросила: – Ну, рассказывай, как у вас обернулось с Лайоном. Дженифер внимательно слушала Анну, и та поведала ей обо всем, что произошло. Анна сама удивлялась, с какой легкостью и быстротой она полностью доверилась Дженифер. В той было нечто такое, что вызывало на откровенность и располагало к доверию. Дженифер покачала головой. – Не слишком-то он управляемый. Так ты не сможешь держать его в руках. – Но я и не собираюсь ни держать его в руках, ни управлять им. – Я имею в виду не совсем это. Мужчина должен чувствовать, что всем руководит он, но, если ты управляешь собой, тем самым ты управляешь и им. Сделай так, чтобы он надел тебе кольцо на палец, и вот уж тогда становись, если пожелаешь, его рабыней. Анна посмотрела на свою руку без перстня. – Это не существенно. Самый большущий перстень из тех, что ты когда-либо видела за свою жизнь, лежит у меня в банковском сейфе. Дженифер как-то по-новому, с уважением посмотрела на нее. – Хочешь сказать, что тебе удалось отделаться от Аллена и оставить себе перстень? – Он не захотел принять его обратно. Дженифер покачала головой. – Ты, должно быть, вытворяешь в постели что-то необыкновенное. А уж я-то о себе думала, что умею все. – Я ни разу не была в постели с Алленом. На мгновение Дженифер лишилась дара речи. – Вот это и есть самое необыкновенное. Для Аллена ты оказалась твердым орешком. – Ну-у, боюсь, что для Лайона я никакой не орешек. – И тем не менее, я скрещу за тебя пальцы [32]. По крайней мере, одно ты сделала правильно – отказалась переехать к нему жить. Я делаю то же самое с Тони Поларом. Он хочет, чтобы я оставила шоу и повсюду ездила с ним. И тоже о женитьбе ни слова. Но кочевая жизнь не по мне. Кстати, у тебя большая квартира? – Одна комната. Я живу в доме с меблированными комнатами, там же, где и Нили. – Когда шоу пойдет в Нью-Йорке, мне совершенно негде будет жить, – сказала Дженифер. – Вот было бы здорово, если бы мы могли снять квартирку на двоих. – Было бы замечательно, но боюсь, мне будет не по карману платить за квартиру даже половину суммы. – Слушай! – глаза у Дженифер сверкнули. – Меня осенила грандиозная мысль. Ты говоришь, у Нили есть комната. А что если мы снимем квартиру на троих? Тогда нам это было бы по средствам. – Я бы очень этого хотела, – ответила Анна. – Через три недели мы возвращаемся в Нью-Йорк. Может, к тому времени ты подыщешь что-нибудь? – Поищу, но это трудновато. Для Лайона я сразу же нашла квартиру, но мне помог Аллен. Голубые глаза Дженифер превратились в две узкие щелочки. – Анна, что ты намерена делать с перстнем? Анна пожала плечами. – Наверное, оставлю пока в сейфе. У меня нет никакого желания носить его. – Просто оставишь его лежать? Когда он мог бы приносить тебе доход? – Как это? – Продай его, а деньги вложи во что-нибудь. – Но ведь он принадлежит не мне. – Ты предложила вернуть перстень, а он не взял его. Теперь эта вещь твоя. И ты заработала ее. Всякий раз, когда ты делишь компанию с мужчиной, которого не выносишь, ты должна что-то иметь за это. Продай его. Анна подумала о Лайоне. Возможно, Дженифер и права. В конце года, если книга не получится, а у нее будут реальные наличные деньги… – Может быть, ты и права. Я могла бы продать перстень, положить деньги в банк, и пусть набегают проценты. – Не вздумай, – заявила Дженифер. – Продай перстень и попроси Генри Бэллами вложить деньги во что-нибудь на рыночных условиях. Через несколько лет эта сумма удвоится. После войны курс на рынке всегда повышается. – А это не рискованно? – Сейчас – нет. И если это сделает для тебя Генри – тоже нет. Он говорил мне, что на рынке скоро возникнет бум. Жаль, что у меня совсем нет денег. Ни гроша – только то, что на мне, и что я зарабатываю, участвуя в шоу. Но попади мне в руки крупная сумма, уж будь уверена – я сразу же поручу Генри вложить ее во что-нибудь повыгоднее. (обратно) (обратно)Дженифер
декабрь 1945
 Осталось дать еще три представления «Небесного Хита» в Филадельфии. Предсказания Генри сбылись: им удалось миновать Бостон и привезти шоу в Нью-Йорк раньше, чем планировалось. Труппе не терпелось выступить с премьерой в Нью-Йорке – все были уверены, что шоу и здесь станет хитом, но напряжение было велико: нью-йоркские критики непредсказуемы, и ничего нельзя сказать заранее.
Дженифер уже забыла истеричную атмосферу, царившую перед премьерой. Филадельфия оказалась самым что ни на есть выгодным местом для выступления. Она стояла в холле своего отеля, излучая одну из своих ослепительных улыбок настойчивому местному адвокату, умолявшему ее выпить с ним на прощание.
– Уже три часа ночи, – отговаривалась она усталым голосом. – Мне нужно хоть немного поспать.
– Завтра ты можешь спать весь день напролет. Пошли, я знаю один замечательный ночной клуб – он недалеко, на этой же улице.
– Холодно. И я хочу немного поспать, Робби, честное слово. И потом; спиртного я не пью, а если закажу хотя бы еще одну бутылочку кока-колы, то просто лопну.
– Как тебе может быть холодно в такой шубе? – Он многозначительно посмотрел на ее новую бобровую шубу. Дженифер любовно провела по меху рукой.
– То, что ты ее мне подарил, очень мило с твоей стороны. В ней действительно теплее, чем в моей норке. Но я должна хоть немного поспать.
– Позволь, тогда я пойду с тобой, – взмолился он.
– Ты уже был со мной вчера ночью, Робби.
– А что, есть какое-то правило насчет второй ночи?
– Когда я работаю – да. Позвони мне завтра. – Она многообещающе улыбнулась.
– В какое время?
– Около шести. Мы поужинаем перед представлением.
– А потом?..
– И потом… – кивнула она. Послав ему воздушный поцелуй, Дженифер шагнула в лифт.
Под дверью ее номера на полу валялись письма. Одно было от известного критика. В двух телефонограммах ее просили соединиться с Кливлендом, с междугородной 24. Ну, сейчас звонить матери уже поздно. Она посмотрела на время отправления последней телефонограммы из Кливленда – час тридцать. Даже у ее матери не хватит терпения так долго ждать звонка. Было еще письмо от Анны: та уже подписала договор о найме квартиры, и все обстояло прекрасно. Дженифер завидовала ее любви к Лайону. Как прекрасно, должно быть, испытывать такое чувство. Но, с другой стороны, если на этом свет сойдется клином, не сможешь заниматься кое-чем еще. Она погладила мех своей новой бобровой шубы – всего одна ночь с Робби. Вот для чего тебе дано роскошное тело – чтобы получать все, что тебе захочется. Интересно, а как бывает, когда относишься к мужчине по-серьезному, когда любишь такого, как Лайон Берк? Лайона было бы легко любить… она уже думала об этом, когда они впервые встретились.
– Мы успеем сегодня на премьеру Тони Полара, – сказал ей тогда Генри. – Ты должна чаще бывать на людях, нарабатывать себе известность. Я уже договорился с Лайоном Берком, чтобы он сопровождал тебя. А я буду с Элен.
К такому мужчине, как Лайон, Дженифер оказалась неподготовленной. Ее захлестнула волна возбуждения от знакомства с мужчиной, которого – она это ясно сознавала – ей хотелось для собственного удовольствия. Она уже настроилась провести ту ночь с ним, но тут возник Тони Полар. Это был напряженный момент: решать надо было быстро. Тони – в центре всеобщего внимания; Тони поет для нее; все в зале смотрят на них; застывшая улыбка на ее лице; она испытывает на себе магнетизм Лайона Берна и вместе с тем физически ощущает объятия, которые на глазах у всех раскрывает перед нею Тони Полар. Как мужчина Тони не выдерживал сравнения с Лайоном. «Они – ровесники, обоим около тридцати, – думала она. – Но один так навсегда и останется мальчишкой, тогда как другой давно уже стал мужчиной. Однако Лайон Берк – всего-навсего адвокат, а Тони – звезда». Это и определило ее выбор…
Она разделась, небрежно бросила одежду на кресло. Может, она и позволит Робби остаться завтра на ночь. Ей хватило бы и нового вечернего платья. Она поморщилась. До чего же он непривлекателен и как натужно пыхтит. Но ей нужно кое-что из одежды, а мужчины с такой внешностью, как у Робби, всегда бывают щедры. Им приходится быть щедрыми. И вот теперь Лайон Берк… Но он роскошь, которую она не может себе позволить. Казалось, какой-то неведомый механизм щелкнул у нее в мозгу, автоматически исключая такой непрактичный поступок с точностью вычислительной машины компании Ай-Би-Эм, словно поставив незримую преграду ее чувствам, которые могли бы осложнить принятие решения.
У нее бывало так отнюдь не всегда. Поначалу чувства одерживали над нею верх. Но это было давным-давно; сейчас же решения принимались ею автоматически. И опять она подумала о Лайоне Берке. Как плохо, что в ту ночь все наложилось одно на другое. В ту ночь это должен был быть либо Лайон, либо Тони, и выбирать между ними не приходилось.
Лайон, казалось, все понял. Ее вдруг поразила новая мысль: «Мы с ним похожи!» Ну конечно же, в этом и заключается ответ: это она сама – роскошь, которую он не может себе позволить. Внезапно ее осенила еще одна новая и совершенно неожиданная мысль: «А что если я просто-напросто не понравилась Лайону?» Но это уже было бы совсем смешно. Она нравится всем мужчинам без исключения. Сбросив бюстгальтер и трусики прямо на пол, Дженифер встала перед зеркалом в полный рост. Придирчиво, словно врач, она обследовала свое тело – оно было, как всегда, идеальным. Повернувшись боком, она внимательно посмотрела на груди в профиль – они стояли прямо, как всегда. Сложив ладони вместе, она методично, двадцать пять раз, проделала упражнение для укрепления мышц груди. Достала из аптечки большую банку кокосового масла и почти с хирургической точностью начала втирать его в каждую грудь мягкими, но вместе с тем сильными движениями снизу вверх. Затем столь же тщательно сняла всю косметику с лица. Завершив эту процедуру, она открыла другую баночку и нанесла немного крема под глаза. Достав из ящичка треугольный пластырь, она приклеила его между глазами к переносице. Затем еще двадцать пять раз Проделала упражнение для мышц груди и облачилась в просторную ночную рубашку.
Дженифер посмотрела на часы. Боже мой, уже почти четыре, а ей все еще не хочется спать. Становилось холодно. Когда в этом отеле включают тепло [33]? Она забралась под одеяло и просмотрела утренние газеты. Публиковались две ее фотографии; одна была передана по телеграфу, на ней она была с Тони. Тони! Он бы уже давно предложил ей выйти за него замуж, если бы не его сестра. При мысли о Мириам Дженифер нахмурилась. От движения мышц лица пластырь тут же напомнил о себе, натянув кожу, и она сразу же расслабилась. Что же ей делать с Мириам? Как от нее избавиться? Если бы в тот раз Тони не стремился так пылко затащить ее в постель, ей бы вообще никогда не удалось остаться с ним наедине. Подумать только – всего один единственный раз, когда им удалось отделаться от Мириам.
Робко зазвонил телефон, словно боясь потревожить человека в такое время. Она с надеждой сняла трубку. Иногда Тони тоже до самого рассвета не ложится спать. Но это звонили из Кливленда. Со вздохом она согласилась на разговор с оплатой по номеру вызова.
– Джен… – раздался плаксивый голос ее матери. – Я всю ночь пытаюсь дозвониться до тебя.
– Я только что вошла, мама. Подумала, что слишком поздно звонить тебе.
– Ну разве я могу уснуть? Я так расстроена. В кливлендских газетах о тебе много писали. Говорят, что ты не получила от своего принца ни цента.
– Да, это верно.
– Джен, ты с ума сошла! Ты же знаешь, в будущем году Джон уходит на пенсию. А на одну его пенсий мы не проживем. И сейчас-то еле сводим концы с концами.
– Мама, я на прошлой неделе посылала вам пятьдесят долларов. И пришлю еще пятьдесят на этой неделе, как только получу деньги.
– Понимаю, но бабушка заболела, пришлось срочно вести ее к врачу, а еще у нас сильно протекает мазутная печь и…
– Я посмотрю, смогу ли выслать больше, мама, – Она опять подумала о Робби. – Но за участие в шоу я получаю всего сто двадцать пять долларов минус страховка и подоходный налог.
– Джен, я не стала бы перебиваться с хлеба на воду и ограничивать себя решительно во всем, посылая тебя учиться в Швейцарию, если бы знала, что ты станешь заурядной хористкой с таким вот заработком.
– Ты никогда и не перебивалась, мама: ведь эти деньги мне оставил отец. А в Швейцарию ты отправила меня лишь для того, чтобы разлучить с Гарри.
– Потому что я была убеждена, что ты не должна быть бедной малышкой Джаннет Джонсон, женой механика из гаража.
– Гарри был не простым механиком. Он учился на инженера, и я по-настоящему любила его.
– Так вот, он до сих пор механик с вечной грязью под ногтями и тремя вечно чумазыми детишками. Гарриет Айронс была у нас когда-то одной из самых красивых девушек – она же твоя ровесница, – а сейчас, после того как вышла за него, выглядит на все сорок.
– Мама, ну как девушка в двадцать пять лет может выглядеть на сорок?
– Когда у девушки нет за душой ни гроша и она выходит замуж по любви, она очень скоро старится. Любовь быстро проходит. Мужчинам нужно только одно. Вспомни-ка своего отца!
– Мама, это же междугородный разговор, – устало сказала Дженифер. – Ты ведь звонишь мне не для того, чтобы жаловаться на папу. И потом, у тебя такой хороший муж. Я не помню папу, но он наверняка не был таким же милым, как Джон.
– Он был подлецом, твой отец, богатым и красивым подлецом. Но я любила его. У нас в семье никогда не было денег, но зато было имя. Не забывай, бабушка носит фамилию Тремонтов из Вирджинии. И я по-настоящему считаю, что для сценического псевдонима тебе нужно было веять фамилию Тремонт, вместо этого смешного Норт.
– Но разве мы не договорились, что я возьму чужую фамилию, чтобы никто не смог выяснить, кто я на самом деле. Раз уж я должна выдавать себя за девятнадцатилетнюю, то мне приходится быть Дженифер Норт. Если бы я взяла фамилию Тремонт, кто-нибудь в Вирджинии непременно установил бы, кто я такая. А если – Джонсон, то в Кливленде меня бы всякий вспомнил.
– С твоей известностью они тебя и так все помнят. После того как ты сбежала, весь город только о тебе и говорил. Одна газета прошлась насчет того, что ты выдаешь себя за девятнадцатилетнюю, но все были под таким впечатлением от твоего принца, что это не имело значения. И я тоже считала, что это не имеет значения, потому что ты сумела удачно и без осложнений выйти замуж. И вот теперь ты разводишься и все бросаешь, не получая при этом ни гроша.
– Мама, а почему ты думаешь, я ушла от него? Перед самым отъездом в Италию я выяснила, что у него нет денег.
– Что ты имеешь в виду? Я же видела фотографии в газетах! Бриллиантовое ожерелье, норковое манто…
– Ожерелье – фамильное, принадлежит их семье. Норку он мне, правда, подарил, но, по-моему, получил ее бесплатно за ту рекламу, которую мы сделали торговцу мехами. Он занимал целый этаж в «Уолдорфе», но счет оплачивала какая-то винодельческая фирма. Для них он был вроде посланца доброй воли. Титул-то у него законный, королевский, но за душой – ни гроша. Они все потеряли, когда к власти пришел Муссолини. У них есть какой-то ужасный огромный замок под Неаполем. Я стала бы жить там, терлась бы с разными иностранцами, носила бы фамильные драгоценности… и жила бы в нищете, только благопристойной с виду. Мне еще повезло, что я вовремя все выяснила. Он врал мне, будто богат, потому что думал, будто жена-американка будет представлять там какую-то ценность. После того как мы поженились, я узнала кое-что похуже. Он начал рассказывать мне о каком-то богатом итальянском виноторговце, к которому я должна была найти подход… ну, в общем, позволить все, если бы тот захотел меня. Мама, это же настоящий подонок, только из высших слоев. Мне еще повезло, что я сумела оставить себе норковое манто.
– Tак, а что собой представляет Тони Полар? – спросила мать.
– Классный мужик.
– Джен!
– Мама, но он и впрямь классный… и он мне нравится. К тому же у него много денег. И потом, мой адвокат считает, что я могу заключить контракт на киносъемки.
– О кино забудь!
– Почему? Я бы справилась.
– Слишком поздно. Ведь тебе не девятнадцать лет. Слушай, тебе повезло: у тебя изумительной красоты лицо и тело, которое сводит мужчин с ума… хотя твой тип фигуры сохраняется недолго. Что ты рассказала Тони Полару о своей семье? , – Историю, которую не проверишь, но основанную на некоторых реальных фактах. Якобы мой отец был богат и погиб в Англии во время бомбардировки, что он все оставил своей второй жене…
– Это правда, что еще?
– Что мне он оставил небольшую сумму, достаточную, чтобы я поступила в лингвистическую школу в Швейцарии, правда, я ему не сказала, что прожила в Европе целых пять лет – ведь мне девятнадцать.
– А что ты сказала ему обо мне?
– Сказала, что ты умерла.
– Что-о-о?
– Мама, а что я должна была говорить? Что у меня есть мать с отчимом и бабушка, которые живут в Кливленде и ждут не дождутся, .чтобы переехать жить к нам?
– Но если ты выйдешь за него, как же ты объяснишь ему про меня?
– Скажу, что ты моя тетя, любимая сестра моей мамы, которой я помогаю материально.
– Хорошо. Ты следишь за своим весом?
– Я очень худая, мама.
– Знаю, но только не полней и не сгоняй все потом. Это самое что ни на есть вредное для твоей груди. Высокая грудь, как у тебя, очень быстро обвисает, и тогда на нее становится неприятно смотреть. Пока она у тебя есть, пусть приносит доход. Все мужчины – животные, от высокой груди они впадают в транс. Может, я не потеряла бы твоего отца, не будь я плоскогрудой. Тогда у меня была бы приличная, обеспеченная жизнь… – она разрыдалась в трубку. – Ах, Джек, я больше так не могу. Хочу бросить все и быть с тобой, моя детка.
– Но, мама, ты же не можешь бросить Джона и бабушку.
– Почему не могу? Пусть Джон остается с бабушкой. И он, и эта его дрянная работенка. На что он еще годен? Не смог даже заработать денег, чтобы купить дом.
– Мама! – Дженифер стиснула зубы и призвала на помощь все свое терпение.
– Мама, ради бога! Дай мне сначала выйти за Тони, а уж потом я позабочусь о тебе.
– Он заводил речь о женитьбе?
– Еще нет…
– Чего же ты ждешь? Джен, через пять лет тебе стукнет тридцать. Мне было двадцать девять, когда я надоела твоему отцу. Джен, у тебя совсем немного времени.
– Все не так просто, мама. У него есть сестра, она опекает его, проверяет каждый его чек. Их мать умерла в родах, когда Тони появился на свет. Сестра сама его вырастила; она очень его любит, а меня ненавидит.
– Джен, ты должна быть потверже. Избавься от нее, займи ее место, не позволяй ей жить с вами, когда выйдешь за него. Это разрушит всю вашу жизнь… и она никогда не позволит, мне приехать. Детка, думай головой. Будь умницей. Если у женщины есть деньги, ее ничто никогда не заденет. Желаю тебе всего самого доброго, детка…
Осталось дать еще три представления «Небесного Хита» в Филадельфии. Предсказания Генри сбылись: им удалось миновать Бостон и привезти шоу в Нью-Йорк раньше, чем планировалось. Труппе не терпелось выступить с премьерой в Нью-Йорке – все были уверены, что шоу и здесь станет хитом, но напряжение было велико: нью-йоркские критики непредсказуемы, и ничего нельзя сказать заранее.
Дженифер уже забыла истеричную атмосферу, царившую перед премьерой. Филадельфия оказалась самым что ни на есть выгодным местом для выступления. Она стояла в холле своего отеля, излучая одну из своих ослепительных улыбок настойчивому местному адвокату, умолявшему ее выпить с ним на прощание.
– Уже три часа ночи, – отговаривалась она усталым голосом. – Мне нужно хоть немного поспать.
– Завтра ты можешь спать весь день напролет. Пошли, я знаю один замечательный ночной клуб – он недалеко, на этой же улице.
– Холодно. И я хочу немного поспать, Робби, честное слово. И потом; спиртного я не пью, а если закажу хотя бы еще одну бутылочку кока-колы, то просто лопну.
– Как тебе может быть холодно в такой шубе? – Он многозначительно посмотрел на ее новую бобровую шубу. Дженифер любовно провела по меху рукой.
– То, что ты ее мне подарил, очень мило с твоей стороны. В ней действительно теплее, чем в моей норке. Но я должна хоть немного поспать.
– Позволь, тогда я пойду с тобой, – взмолился он.
– Ты уже был со мной вчера ночью, Робби.
– А что, есть какое-то правило насчет второй ночи?
– Когда я работаю – да. Позвони мне завтра. – Она многообещающе улыбнулась.
– В какое время?
– Около шести. Мы поужинаем перед представлением.
– А потом?..
– И потом… – кивнула она. Послав ему воздушный поцелуй, Дженифер шагнула в лифт.
Под дверью ее номера на полу валялись письма. Одно было от известного критика. В двух телефонограммах ее просили соединиться с Кливлендом, с междугородной 24. Ну, сейчас звонить матери уже поздно. Она посмотрела на время отправления последней телефонограммы из Кливленда – час тридцать. Даже у ее матери не хватит терпения так долго ждать звонка. Было еще письмо от Анны: та уже подписала договор о найме квартиры, и все обстояло прекрасно. Дженифер завидовала ее любви к Лайону. Как прекрасно, должно быть, испытывать такое чувство. Но, с другой стороны, если на этом свет сойдется клином, не сможешь заниматься кое-чем еще. Она погладила мех своей новой бобровой шубы – всего одна ночь с Робби. Вот для чего тебе дано роскошное тело – чтобы получать все, что тебе захочется. Интересно, а как бывает, когда относишься к мужчине по-серьезному, когда любишь такого, как Лайон Берк? Лайона было бы легко любить… она уже думала об этом, когда они впервые встретились.
– Мы успеем сегодня на премьеру Тони Полара, – сказал ей тогда Генри. – Ты должна чаще бывать на людях, нарабатывать себе известность. Я уже договорился с Лайоном Берком, чтобы он сопровождал тебя. А я буду с Элен.
К такому мужчине, как Лайон, Дженифер оказалась неподготовленной. Ее захлестнула волна возбуждения от знакомства с мужчиной, которого – она это ясно сознавала – ей хотелось для собственного удовольствия. Она уже настроилась провести ту ночь с ним, но тут возник Тони Полар. Это был напряженный момент: решать надо было быстро. Тони – в центре всеобщего внимания; Тони поет для нее; все в зале смотрят на них; застывшая улыбка на ее лице; она испытывает на себе магнетизм Лайона Берна и вместе с тем физически ощущает объятия, которые на глазах у всех раскрывает перед нею Тони Полар. Как мужчина Тони не выдерживал сравнения с Лайоном. «Они – ровесники, обоим около тридцати, – думала она. – Но один так навсегда и останется мальчишкой, тогда как другой давно уже стал мужчиной. Однако Лайон Берк – всего-навсего адвокат, а Тони – звезда». Это и определило ее выбор…
Она разделась, небрежно бросила одежду на кресло. Может, она и позволит Робби остаться завтра на ночь. Ей хватило бы и нового вечернего платья. Она поморщилась. До чего же он непривлекателен и как натужно пыхтит. Но ей нужно кое-что из одежды, а мужчины с такой внешностью, как у Робби, всегда бывают щедры. Им приходится быть щедрыми. И вот теперь Лайон Берк… Но он роскошь, которую она не может себе позволить. Казалось, какой-то неведомый механизм щелкнул у нее в мозгу, автоматически исключая такой непрактичный поступок с точностью вычислительной машины компании Ай-Би-Эм, словно поставив незримую преграду ее чувствам, которые могли бы осложнить принятие решения.
У нее бывало так отнюдь не всегда. Поначалу чувства одерживали над нею верх. Но это было давным-давно; сейчас же решения принимались ею автоматически. И опять она подумала о Лайоне Берке. Как плохо, что в ту ночь все наложилось одно на другое. В ту ночь это должен был быть либо Лайон, либо Тони, и выбирать между ними не приходилось.
Лайон, казалось, все понял. Ее вдруг поразила новая мысль: «Мы с ним похожи!» Ну конечно же, в этом и заключается ответ: это она сама – роскошь, которую он не может себе позволить. Внезапно ее осенила еще одна новая и совершенно неожиданная мысль: «А что если я просто-напросто не понравилась Лайону?» Но это уже было бы совсем смешно. Она нравится всем мужчинам без исключения. Сбросив бюстгальтер и трусики прямо на пол, Дженифер встала перед зеркалом в полный рост. Придирчиво, словно врач, она обследовала свое тело – оно было, как всегда, идеальным. Повернувшись боком, она внимательно посмотрела на груди в профиль – они стояли прямо, как всегда. Сложив ладони вместе, она методично, двадцать пять раз, проделала упражнение для укрепления мышц груди. Достала из аптечки большую банку кокосового масла и почти с хирургической точностью начала втирать его в каждую грудь мягкими, но вместе с тем сильными движениями снизу вверх. Затем столь же тщательно сняла всю косметику с лица. Завершив эту процедуру, она открыла другую баночку и нанесла немного крема под глаза. Достав из ящичка треугольный пластырь, она приклеила его между глазами к переносице. Затем еще двадцать пять раз Проделала упражнение для мышц груди и облачилась в просторную ночную рубашку.
Дженифер посмотрела на часы. Боже мой, уже почти четыре, а ей все еще не хочется спать. Становилось холодно. Когда в этом отеле включают тепло [33]? Она забралась под одеяло и просмотрела утренние газеты. Публиковались две ее фотографии; одна была передана по телеграфу, на ней она была с Тони. Тони! Он бы уже давно предложил ей выйти за него замуж, если бы не его сестра. При мысли о Мириам Дженифер нахмурилась. От движения мышц лица пластырь тут же напомнил о себе, натянув кожу, и она сразу же расслабилась. Что же ей делать с Мириам? Как от нее избавиться? Если бы в тот раз Тони не стремился так пылко затащить ее в постель, ей бы вообще никогда не удалось остаться с ним наедине. Подумать только – всего один единственный раз, когда им удалось отделаться от Мириам.
Робко зазвонил телефон, словно боясь потревожить человека в такое время. Она с надеждой сняла трубку. Иногда Тони тоже до самого рассвета не ложится спать. Но это звонили из Кливленда. Со вздохом она согласилась на разговор с оплатой по номеру вызова.
– Джен… – раздался плаксивый голос ее матери. – Я всю ночь пытаюсь дозвониться до тебя.
– Я только что вошла, мама. Подумала, что слишком поздно звонить тебе.
– Ну разве я могу уснуть? Я так расстроена. В кливлендских газетах о тебе много писали. Говорят, что ты не получила от своего принца ни цента.
– Да, это верно.
– Джен, ты с ума сошла! Ты же знаешь, в будущем году Джон уходит на пенсию. А на одну его пенсий мы не проживем. И сейчас-то еле сводим концы с концами.
– Мама, я на прошлой неделе посылала вам пятьдесят долларов. И пришлю еще пятьдесят на этой неделе, как только получу деньги.
– Понимаю, но бабушка заболела, пришлось срочно вести ее к врачу, а еще у нас сильно протекает мазутная печь и…
– Я посмотрю, смогу ли выслать больше, мама, – Она опять подумала о Робби. – Но за участие в шоу я получаю всего сто двадцать пять долларов минус страховка и подоходный налог.
– Джен, я не стала бы перебиваться с хлеба на воду и ограничивать себя решительно во всем, посылая тебя учиться в Швейцарию, если бы знала, что ты станешь заурядной хористкой с таким вот заработком.
– Ты никогда и не перебивалась, мама: ведь эти деньги мне оставил отец. А в Швейцарию ты отправила меня лишь для того, чтобы разлучить с Гарри.
– Потому что я была убеждена, что ты не должна быть бедной малышкой Джаннет Джонсон, женой механика из гаража.
– Гарри был не простым механиком. Он учился на инженера, и я по-настоящему любила его.
– Так вот, он до сих пор механик с вечной грязью под ногтями и тремя вечно чумазыми детишками. Гарриет Айронс была у нас когда-то одной из самых красивых девушек – она же твоя ровесница, – а сейчас, после того как вышла за него, выглядит на все сорок.
– Мама, ну как девушка в двадцать пять лет может выглядеть на сорок?
– Когда у девушки нет за душой ни гроша и она выходит замуж по любви, она очень скоро старится. Любовь быстро проходит. Мужчинам нужно только одно. Вспомни-ка своего отца!
– Мама, это же междугородный разговор, – устало сказала Дженифер. – Ты ведь звонишь мне не для того, чтобы жаловаться на папу. И потом, у тебя такой хороший муж. Я не помню папу, но он наверняка не был таким же милым, как Джон.
– Он был подлецом, твой отец, богатым и красивым подлецом. Но я любила его. У нас в семье никогда не было денег, но зато было имя. Не забывай, бабушка носит фамилию Тремонтов из Вирджинии. И я по-настоящему считаю, что для сценического псевдонима тебе нужно было веять фамилию Тремонт, вместо этого смешного Норт.
– Но разве мы не договорились, что я возьму чужую фамилию, чтобы никто не смог выяснить, кто я на самом деле. Раз уж я должна выдавать себя за девятнадцатилетнюю, то мне приходится быть Дженифер Норт. Если бы я взяла фамилию Тремонт, кто-нибудь в Вирджинии непременно установил бы, кто я такая. А если – Джонсон, то в Кливленде меня бы всякий вспомнил.
– С твоей известностью они тебя и так все помнят. После того как ты сбежала, весь город только о тебе и говорил. Одна газета прошлась насчет того, что ты выдаешь себя за девятнадцатилетнюю, но все были под таким впечатлением от твоего принца, что это не имело значения. И я тоже считала, что это не имеет значения, потому что ты сумела удачно и без осложнений выйти замуж. И вот теперь ты разводишься и все бросаешь, не получая при этом ни гроша.
– Мама, а почему ты думаешь, я ушла от него? Перед самым отъездом в Италию я выяснила, что у него нет денег.
– Что ты имеешь в виду? Я же видела фотографии в газетах! Бриллиантовое ожерелье, норковое манто…
– Ожерелье – фамильное, принадлежит их семье. Норку он мне, правда, подарил, но, по-моему, получил ее бесплатно за ту рекламу, которую мы сделали торговцу мехами. Он занимал целый этаж в «Уолдорфе», но счет оплачивала какая-то винодельческая фирма. Для них он был вроде посланца доброй воли. Титул-то у него законный, королевский, но за душой – ни гроша. Они все потеряли, когда к власти пришел Муссолини. У них есть какой-то ужасный огромный замок под Неаполем. Я стала бы жить там, терлась бы с разными иностранцами, носила бы фамильные драгоценности… и жила бы в нищете, только благопристойной с виду. Мне еще повезло, что я вовремя все выяснила. Он врал мне, будто богат, потому что думал, будто жена-американка будет представлять там какую-то ценность. После того как мы поженились, я узнала кое-что похуже. Он начал рассказывать мне о каком-то богатом итальянском виноторговце, к которому я должна была найти подход… ну, в общем, позволить все, если бы тот захотел меня. Мама, это же настоящий подонок, только из высших слоев. Мне еще повезло, что я сумела оставить себе норковое манто.
– Tак, а что собой представляет Тони Полар? – спросила мать.
– Классный мужик.
– Джен!
– Мама, но он и впрямь классный… и он мне нравится. К тому же у него много денег. И потом, мой адвокат считает, что я могу заключить контракт на киносъемки.
– О кино забудь!
– Почему? Я бы справилась.
– Слишком поздно. Ведь тебе не девятнадцать лет. Слушай, тебе повезло: у тебя изумительной красоты лицо и тело, которое сводит мужчин с ума… хотя твой тип фигуры сохраняется недолго. Что ты рассказала Тони Полару о своей семье? , – Историю, которую не проверишь, но основанную на некоторых реальных фактах. Якобы мой отец был богат и погиб в Англии во время бомбардировки, что он все оставил своей второй жене…
– Это правда, что еще?
– Что мне он оставил небольшую сумму, достаточную, чтобы я поступила в лингвистическую школу в Швейцарии, правда, я ему не сказала, что прожила в Европе целых пять лет – ведь мне девятнадцать.
– А что ты сказала ему обо мне?
– Сказала, что ты умерла.
– Что-о-о?
– Мама, а что я должна была говорить? Что у меня есть мать с отчимом и бабушка, которые живут в Кливленде и ждут не дождутся, .чтобы переехать жить к нам?
– Но если ты выйдешь за него, как же ты объяснишь ему про меня?
– Скажу, что ты моя тетя, любимая сестра моей мамы, которой я помогаю материально.
– Хорошо. Ты следишь за своим весом?
– Я очень худая, мама.
– Знаю, но только не полней и не сгоняй все потом. Это самое что ни на есть вредное для твоей груди. Высокая грудь, как у тебя, очень быстро обвисает, и тогда на нее становится неприятно смотреть. Пока она у тебя есть, пусть приносит доход. Все мужчины – животные, от высокой груди они впадают в транс. Может, я не потеряла бы твоего отца, не будь я плоскогрудой. Тогда у меня была бы приличная, обеспеченная жизнь… – она разрыдалась в трубку. – Ах, Джек, я больше так не могу. Хочу бросить все и быть с тобой, моя детка.
– Но, мама, ты же не можешь бросить Джона и бабушку.
– Почему не могу? Пусть Джон остается с бабушкой. И он, и эта его дрянная работенка. На что он еще годен? Не смог даже заработать денег, чтобы купить дом.
– Мама! – Дженифер стиснула зубы и призвала на помощь все свое терпение.
– Мама, ради бога! Дай мне сначала выйти за Тони, а уж потом я позабочусь о тебе.
– Он заводил речь о женитьбе?
– Еще нет…
– Чего же ты ждешь? Джен, через пять лет тебе стукнет тридцать. Мне было двадцать девять, когда я надоела твоему отцу. Джен, у тебя совсем немного времени.
– Все не так просто, мама. У него есть сестра, она опекает его, проверяет каждый его чек. Их мать умерла в родах, когда Тони появился на свет. Сестра сама его вырастила; она очень его любит, а меня ненавидит.
– Джен, ты должна быть потверже. Избавься от нее, займи ее место, не позволяй ей жить с вами, когда выйдешь за него. Это разрушит всю вашу жизнь… и она никогда не позволит, мне приехать. Детка, думай головой. Будь умницей. Если у женщины есть деньги, ее ничто никогда не заденет. Желаю тебе всего самого доброго, детка…
* * *
В батареях зажурчала вода, через шторы пробивались первые солнечные лучи. В эту ночь Дженифер так и не уснула. Разговор с матерью не особенно ее взволновал, она привыкла к этому. Но ее обеспокоило то, что она не может уснуть. Единственный способ сохранить свою внешность – побольше отдыхать. Даже если не спишь, а просто лежишь в постели и отдыхаешь – польза, почти такая же. Где-то она читала об этом. Она закурила еще сигарету. Но какой это отдых, когда ходишь взад-вперед и выкуриваешь за Ночь целую пачку? Пройдя в ванную, она наложила немного крема под глаза. Морщин пока нет, но надолго ли это? В среднем она спит не более трех часов каждую ночь после тех последних недель в Испании. Она вздохнула. Раньше она всегда спала нормально. И даже более чем нормально – сон для нее всегда был спасительным убежищем. Когда трудности становились непреодолимыми, она не могла дождаться ночи. До тех самых последних недель в Испании, с Марией… Мария… Она была самой красивой девушкой в их школе, и Дженифер, как все остальные первокурсницы, изучавшие языки, боготворила ее надменно-холодную, типично испанскую красоту. Мария была старшей и ни с кем не разговаривала. Даже если она и отдавала себе отчет в том, что, является предметом всеобщего преклонения и обожания, внушая эти чувства другим студенткам, ее это нимало не трогало. Она ни с кем не дружила. Такое высокомерие лишь усиливало ее романтический ореол в глазах более младших девушек, хотя и порождало сплетни вокруг ее имени среди сверстниц. Всем казалось, что после окончания школы Мария уедет из Швейцарии, так и не позволив никому пересечь барьер, ограждающий ее царственный пьедестал. До того дня в читальном зале… Вся в слезах Дженифер читала письмо от матери. Деньги подходили к концу, и по завершении семестра ей надо было возвращаться домой. Удалось ли ей завязать полезные знакомства? В Кливленде по-прежнему царил экономический спад, хотя в Европе из-за войны открывались новые заводы. Гарри женился на Гарриет Айронс и по-прежнему работал на автозаправочной станции. Именно это место в письме заставило ее расплакаться… – Ну успокойся, ведь не все так плохо. Дженифер подняла глаза. Рядом стояла Мария. Величественная неприступная Мария разговаривала с нею! Мария села, Мария сочувственно смотрела на нее. Она внимательно выслушала рассказ Дженифер. – Не знаю, чего ожидала моя мать, – устало закончила Дженифер. – Может, она думала, что учитель английского языка – это лорд с крупным поместьем… Мария рассмеялась. – Родители… – Ее английский был несколько высокопарным по стилю, но совершенно безукоризненным. – Мне двадцать два года. От меня ожидают, что я вступлю в брак с мужчиной, которого мне выберет отец. Выбор будет мотивирован тем, что его земли примыкают к нашим, или какими-нибудь другими семейными интересами. После гражданской войны наша страна опустошена, и долг немногих сохранившихся знатных семейств – объединиться. Я согласна с этим, но, к сожалению, вынуждена буду спать с этой свиньей… – Я была влюблена в Гарри, – печально проговорила Дженифер. – Но он не устраивал мою мать. – Сколько тебе лет, Джаннет? – В то время Дженифер еще звалась Джаннет. – Девятнадцать. – У тебя уже был мужчина? Дженифер вспыхнула и уставилась в пол. – Нет, но Гарри и я… мы с ним заходили довольно далеко. Я хочу сказать… я разрешала ему трогать меня там… а один раз сама взяла его за… – А вот я ложилась с мужчиной в постель, – заявила Мария. – И у вас все было? – Ну конечно. Тем летом. Я проводила каникулы с тетей в Швеции и познакомилась с красивым мужчиной. Он когда-то участвовал в Олимпийских играх, а потом работал инструктором по плаванию. Я знала, какого мужчину подберет мне в мужья отец. Это будет толстый немец, сбежавший из Германии со всеми своими художественными ценностями, или кто-то из семьи Карильо. В роду Карильо у всех мужчин отсутствует подбородок. Поэтому я решила хоть в первый раз попробовать это с красивым мужчиной. – Жалко, что у нас не было этого с Гарри. Сейчас он женился на другой. – Вот и радуйся, что не было! Это было ужасно! Мужчина… он слюнявит тебе грудь… прорывается в тебя. Тебе становится больно. К тому же он потеет и тяжело дышит – ни дать ни взять животное. У меня пошла кровь… и а забеременела… Дженифер не верила своим ушам: Мария, неприступная богиня, исповедуется ей! – Орен! – выпалила Мария его имя. – Он позаботился обо всем. Врач… опять боль… и прощай, беременность. Потом сильный жар и долгая болезнь. Меня привезли в больницу, прооперировали… и теперь у меня никогда не будет детей. – О Мария, я так тебе сочувствую. Мария лукаво улыбнулась. – Не стоит, это же хорошо! Если отец найдет мне жениха, я сама расскажу все этому мужчине. Ни один не захочет взять в жены женщину, которая не может иметь детей. Мне никогда не придется выходить замуж! – торжествующе произнесла ока, – Но что скажет твой отец? – О-о, тетя уже позаботилась о том, как ему объяснить. Ей-то пришлось сказать правду. Но она несла за меня ответственность и поэтому должна выгородить меня. Скажет, что заболела, что у меня была опухоль в матке, и пришлось ее удалить. – К самом деле удалили? Мария кивнула. – Да, начинался перитонит, и матку удалили. Но это же прекрасно. Теперь мне хоть не досаждают месячные. Дженифер хотела сказать, что сочувствует ей, но не посмела выражать сочувствие девушке, которая считает все это чудесной удачей. – Что ж, ты, по крайней мере, все для себя решила, – только и сказала она. – А вот мне так и придется возвращаться в Кливленд. – Тебе не нужно возвращаться, – с нажимом произнесла Мария. – Ты слишком красива, чтобы попусту растрачивать свою жизнь, ожидая той минуты, когда станешь жертвой грубого и неумелого обращения со стороны первого попавшегося мужчины. – Но что же мне делать? – Через две недели семестр заканчивается. Ты поедешь со мной в Испанию на лето, а потом мы что-нибудь придумаем. – Мария! – Это было чересчур заманчиво. – Но у меня всех денег только на обратный билет домой. – Будешь моей гостьей. Денег у меня больше, чем я могу потратить. Последние две недели в школе были сплошным триумфом Дженифер. Всю школу облетела новость: малышка Джаннет Джонсон удостоилась чести стать подругой Марии. Девушки бросали на нее завистливые взгляды. Мария продолжала держаться на царственно недосягаемом расстоянии со всеми, даже с Дженифер, лишь изредка перебрасываясь с нею парой слов, когда они встречались в вестибюле. Но стоило кончиться семестру, как Мария стала относиться к ней тепло и дружески. Началось это, когда они взяли такси в Лозанну. – Мы не можем поехать в Испанию прямо сейчас. Телеграмма от отца… – Он протянула бланк Дженифер. Отец советовал Марии провести лето в Швейцарии: в Испании все еще сильно ощущалась послевоенная разруха. Поскольку миллион человек погибли, а несколько сот тысяч были ранены, в настоящее время не представлялось возможным укомплектовать штат прислуги в их доме, поэтому его закрыли и жили пока в отеле. Но вскоре все должно было вернуться в нормальное русло, а до тех пор она могла наслаждаться жизнью за границей. В телеграмме отец сообщил номер счета в швейцарском банке. – У нас куча денег, – сказала ей Мария. – Достаточно, чтобы совершить кругосветное путешествие. Но в Европе идет война, так что Франция исключается. Германия и Англия – тоже. – Давай поедем в Америку, – предложила Дженифер. – Мы могли бы побывать в Нью-Йорке. Ни разу не была в Нью-Йорке. – А как? У меня нет американского гражданства. Ехать невозможно, раз в Европе война. Вот ты могла бы сесть на пароход Красного Креста – у тебя есть преимущество как у гражданки Соединенных Штатов, но ведь остается опасность нарваться на мину или немецкую подводную лодку. Я, во всяком случае, не испытываю ни малейшего желания ехать в Нью-Йорк. Останемся на лето здесь. Гитлер со дня на день одержит победу, и все закончится. Им суждено было прожить в Швейцарии три года. В первую же ночь они стали любовницами. Хотя предложение это ошеломило Дженифер, она не испытывала отвращения, более того, ей было даже немного любопытно. В ее глазах Мария все еще оставалась школьной богиней, стоящей на высоком пьедестале. К тому же логическое объяснение, данное Марией, исключало всякое подозрение насчет противоестественности таких отношений. – Мы нравимся друг другу, – сказала она. – Я хочу, чтобы перед тобой открылся мир секса, чтобы ты испытала восхитительное чувство оргазма, пронизывающее все твое существо, чтобы ты узнала это не тогда, когда тобой неумело и грубо овладеет какой-нибудь неотесанный мужлан. Мы не совершаем ничего предосудительного. Мы не лесбиянки, как эти ужасные ненормальные существа, что коротко стригутся и носят мужскую одежду. Мы – две женщины, которые обожают друг друга и умеют быть нежными и любящими. В ту ночь Мария разделась и гордо предстала перед Дженифер. Тело у нее было великолепно, но Дженифер испытала тайное удовольствие от того, что ее собственное тело значительно красивее и эффектнее. Она застенчиво сбросила одежду на пол и едва обнажила грудь, как услышала изумленный возглас Марии: – Ты еще восхитительнее, чем я мечтала, – с нежностью произнесла она. Легкими ласкающими движениями она любовно погладила груди Дженифер и, подавшись вперед, прижалась к ним лицом, – Понимаешь, я люблю твою красоту и ценю ее. Мужчина сейчас разрывал бы ее. Нежными пальцами она пробежала по всему телу Дженифер. К своему удивлению, та начала испытывать возбуждение… по ее телу прошла легкая дрожь… – Пойдем. – Мария взяла ее за руку. – Давай ляжем и выкурим по сигарете. – Нет, Мария. Трогай меня еще, – взмолилась Дженифер. – Потом. Я буду и трогать, и обнимать тебя, чтобы ты испытала наслаждение. Но я хочу, чтобы ты чувствовала себя со мной умиротворенной. Я буду нежна… Мария и вправду была нежна и очень терпелива: ночь от ночи ее ласки становились все более изысканными и интимными; постепенно она приучила Дженифер, преодолевая стыдливость, отвечать на них. – Нельзя быть только любимой, нужно любить в ответ, – внушала ей Мария. – Доведи меня до экстаза так же, как я тебя. С каждой ночью Мария требовала от нее все более утонченных и бурных ласк, пока Дженифер,наконец, не обнаружила, что сама отвечает Марии так же пылко и страстно, достигая таких вершин чувственного наслаждения, о существовании которых раньше не смела и мечтать. Ей доставляла удовольствие двойственность их отношений с Марией. Ночью она страстно желала Марию, ненасытную и пылкую. Однако днем она относилась к ней просто как к подруге. Никаких других личных привязанностей у нее не было. Когда они ходили по магазинам или осматривали достопримечательности в незнакомых маленьких городках, Мария была для нее просто девушкой, и никакого влечения к ней она не испытывала. Часто им встречались привлекательные мужчины – инструкторы по лыжам, студенты, – и Дженифер обнаружила, что такие встречи даются ей не без труда. Мария оставалась глухой к предложениям молодых людей, однако Дженифер находила некоторых из них весьма привлекательными. Много раз во время танца она ощущала, как радостно трепещет все ее тело от тесного соприкосновения с сильным мужским торсом. Когда юноша шептал ей любовные признания, она испытывала неудержимое желание ответить ему взаимностью. Однажды ей удалось ускользнуть на короткую прогулку с одним особенно красивым парнем из Панамы. Он был студентом-медиком и намеревался после войны ехать в Нью-Йорк продолжать учиться. Он хотел ее, они целовались, и она почувствовала, что, отвечая на его поцелуи, прижимается к нему с такой же страстью. Как прекрасно было сжимать сильные мужские плечи, чувствовать выпуклую мужскую грудь, прижимающуюся к твоей… ощущать силу требовательных мужских рук после нежных и податливых рук Марии… упругость мужских губ. Она отчаянно хотела этого парня, но все-таки сумела оторваться от него и вернулась в кафе. От Марии не ускользнуло ее отсутствие, и ночью, когда они остались одни, между ними произошла небольшая сцена. Дженифер клялась, что у нее просто разболелась голова и ей захотелось подышать свежим воздухом. Только в постели Мария смягчилась и отошла. Но в основном все было замечательно. Мария оказалась безумно щедрой и расточительной. Она покупала подруге красивую одежду. Дженифер научилась кататься на лыжах, стала говорить по-французски свободно и бегло. Когда им надоедала Лозанна, они переезжали в Женеву. После трех лет пребывания Марии в Швейцарии, ее отец захотел, чтобы она вернулась домой, но она отказалась. Тогда в 1944 году он приостановил выплаты по ее счету в банке, и выбора у Марии не осталось: – Ты поедешь со мной, – сказала она Дженифер. – Но нам придется сдать твой обратный билет в Америку, иначе у меня не хватит денег. Дженифер понимала, что, сдавая билет, она отрезает себе путь к свободе. За минувший год она стала все больше уставать от посягательств Марии на свое тело, однако Кливленд и мать влекли ее куда меньше. Но Испания! Быть может, она найдет себе какого-нибудь красивого испанца из хорошей семьи. Ей двадцать три года, и с точки зрения физиологии она – девственница… почему бы и нет? В Испании Дженифер пробыла больше года. Она знакомилась со многими мужчинами, потенциальными женихами. Некоторые оказались бы вполне подходящими, но Мария, словно коршун, зорко следила за каждым ее шагом. Их повсюду сопровождала одна из тетушек Марии. Сама же Мария отвергала все ухаживания, следя за тем, чтобы и у Дженифер ничего не получалось. Та была в отчаянии. То, что Мария обладала как бы правом собственности на нее, становилось невыносимым. Впервые в жизни ей стал понятен страх матери перед бедностью. За деньги можно купить свободу, без них же свободной не будешь никогда. В Испании она могла роскошно жить и красиво одеваться, но принадлежала Марии. Если бы она вернулась в Кливленд, то там столкнулась бы с другой разновидностью неволи – брак с каким-нибудь заурядным мужчиной, который тоже станет посягать на ее тело. С какой стороны ни посмотреть, так или иначе выходило, что без денег все равно становишься чьей-то пленницей. Но ведь должен же быть какой-то выход! Теперь Дженифер никак не могла уснуть ночью. Она уже страдала от бурных любовных ласк Марии, отвечая на них со страстью, которой в действительности не испытывала, и притворялась спящей до тех пор, пока дыхание Марии не становилось ровным, показывая ей, что опасности больше нет. Тогда она выскальзывала из постели и садилась у окна, непрерывно куря сигарету за сигаретой, глядя на звезды, думая… Деньги! Ей нужны деньги. Выход – ее тело, оно будет работать на нее. Оно уже привело ее вот к этому. Она поедет в Нью-Йорк, возьмет другое имя, наврет про возраст… может быть, сумеет стать манекенщицей. Так или иначе она заработает деньги. В ловушку она больше не попадет. Когда сбросили атомную бомбу, все в Мадриде лихорадочно ждали последних новостей. Даже Мария сидела затаив дыхание у приемника, жадно вслушиваясь в сводки. Дженифер воспользовалась этим, чтобы тайком отправить письмо матери, научив ее написать ей в Испанию и вызвать домой под предлогом какой-нибудь сильной своей болезни. Мать все сделала как нужно, и у Марии не осталось выбора. Они расставались, заверяя друг друга в любви до гроба. Дженифер клятвенно пообещала вернуться, как только мать выздоровеет, и испытала жгучее чувство вины, когда Мария вложила ей в руку книжку дорожных чеков. – Здесь почти три тысячи долларов в пересчете на американские деньги. Постарайся экономить, чтобы хватило на обратный билет сюда, но если понадобится еще – телеграфируй. Буду жить ожиданием того дня, когда ты вернешься. Чтобы усыпить малейшие подозрения, Дженифер оставила в Испании большую часть своего гардероба как свидетельство непременного возвращения. Она прибыла прямо в Нью-Йорк, остановилась в недорогом отеле, отправила матери пятьсот долларов, попросив ее пересылать ей всю корреспонденцию из Испании, но ни при каких обстоятельствах никому не сообщать ни о ее местонахождении, ни о новом имени. Вначале Мария писала каждый день. Ни на одно письмо Дженифер не ответила. По странному счастливому стечению обстоятельств в первый же свой день в Нью-Йорке она встретилась с тем самым панамским студентом-медиком. К счастью, он помнил только то, что они когда-то были знакомы и что он хотел ее тогда. Никаких вопросов относительно ее нового имени у него не возникло. На протяжении трех недель каждую ночь она ложилась с ним в постель, а потом он познакомил ее с принцем Миралло… Было уже семь утра. Дженифер загасила последнюю сигарету. Она должна спать. Ей хотелось показать Робби все, на что она способна. Тогда ей, возможно, удастся получить от него вечернее платье и деньги для матери. (обратно) (обратно)Нили
январь 1946
 Нью-йоркские критики были единодушны в том, что шоу «Небесный Хит» заслуживает самых лестных эпитетов. Всплеск обожания Элен Лоусон достиг небывалой высоты. О Нили в газетах тоже появилось несколько весьма благожелательных отзывов. Ни один из них не был, правда, настолько блестящим, чтобы вызвать враждебное отношение к ней со стороны Элен, однако они были достаточно яркими, чтобы превзойти самые смелые ожидания Нили.
Сама Нили была поражена больше всех. Один критик даже назвал ее самым оригинальным новым талантом, взошедшим над эстрадным горизонтом за последние несколько лет. Благодаря таким дифирамбам в сочетании с новой квартирой она сама почти поверила в то, что представляет собой нечто незаурядное.
Она никак не могла привыкнуть к роскоши новой квартиры. Анна – просто волшебница! Ей постоянно сопутствует удача. И всегда это так или иначе связано с Алленом. Только на этот раз с отцом. Джино бросил свою подружку-Адель, которая так переживала из-за этого, что устроилась танцовщицей в варьете ресторана. Перед самым ее отъездом Анна случайно наткнулась на нее и перехватила великолепную квартиру. Нили с неизменным замиранием сердца прикасалась ко всему: постельным покрывалам, лампам… Ей и не снилось, что у нее когда-нибудь будет гостиная, устланная белым ковром.
Конечно, квартиру они сняли только на время: Ад ель планировала вернуться к первому июня. Но к тому времени Дженифер, по всей вероятности, выйдет замуж за Тони; Анна, возможно, выйдет за Лайона, а сама она выйдет за Мэла. Особенно если у него выгорит с новой работой. Это был совершенно нежданный-негаданный подарок к Рождеству: Джонни Мэллон принял Мэла сценаристом радиошоу с двухнедельным испытательным сроком! Если он хорошо зарекомендует себя, они могли, бы разбогатеть. «Сценаристы на радио зарабатывают до пяти сотен в неделю, – сказал ей Мэл. – И даже больше». Для начала Мэлу положили двести плюс ее двести, да еще со своим шоу они начали выступать в Нью-Йорке на три недели раньше намеченного, потому что отпала нужда в Бостоне. Ух ты! Дела идут лучше некуда! И еще она собиралась пошикарней одеться: в этом платье из красной тафты она уже всем глаза намозолила. Ух ты! Дженифер-то приехала из Филадельфии и привезла столько нарядов, что в шкаф едва втиснула. Неудивительно, что она вечно сидит без денег. Говорит, что Тони Полар скупердяй, но как же можно так его называть, если на Рождество он подарил ей шикарный перстень с огромным голубоватым камнем? Дженифер говорит, что это всего-навсего аквамарин. Ух ты! Да она бы рада-радешенька была, если бы ей подарили аквамарин. Ладно, для начала она купит себе новое зимнее пальто, сейчас как раз крупная распродажа в магазине готовой одежды Орбаха.
На новогодний вечер их с Мэлом пригласили к Мэллону. Но старый год они проводили в гримерной Элен.
– Вы ни за что не уйдете из театра раньше полуночи, – настаивала Элен, разливая шампанское.
Вечер у Джонни был бесподобен. Никогда еще Нили не была на вечере, где собрались одни знаменитости. И все они знали ее? Вот что было совершенно поразительно: каждый знал, кто она такая! Она никак не могла привыкнуть к этому. А потом Джонни Мэллон сказал Mэлу, что тот «может считать себя постоянным членом их команды». Ух ты! Вот здорово! Надо бы ей кончать вею дорогу твердить это «Ух ты!». Кое-кто уже смеялся, когда она говорила так. Нет, нет, смеялись по-хорошему… думали, что она просто шутит. Но может, если она подольше потолкается с этими оборванными приятелями Мэла, она научится каким-нибудь приличным выражениям. За кулисами она сроду не слышала ничего, кроме тех слов, которые ей даже не хотелось вспоминать. А у Мэла такой хороший язык… он ведь окончил колледж. Ух ты! Парень, окончивший колледж, такой, как Мэл… и влюбился в нее!
Ей никогда не забыть этот Новый год. Мэл сказал, что ему – тоже. В ту ночь, когда они пришли к нему в гостиницу, она обняла его.
– Я так счастлива, Мэл… мне даже страшно.
– Вот уж действительно, 1946 год начинается у нас с крупного везения, – сказал Мэл, когда они приготовились ложиться спать. – Но, знаешь, сегодня вечером мне стало немножко жаль Элен Лоусон. Она выглядела такой одинокой, когда мы уходили из ее гримерной.
Нили наморщила носик.
– Послушай-ка, у Элен никогда никого нет. Сегодня ей еще повезло, что она пошла на какой-то там вечер с этим гомиком-модельером. Ух ты! Мэл, гостиница у тебя и впрямь паршивая: уже почти утро, а тепла все не дают. А у нас батареи горячие почти всю ночь. – Она забралась в постель, вся дрожа от холода в его объятиях.
– Хорошо, назови день, и я перееду отсюда. Можем пожениться в любое время, когда пожелаешь. Я подыщу для нас хорошую квартиру.
Нили теснее прижалась к нему, обвивая его ногами, чтобы согреться.
– Ну, так как, Нили? Ты же слышала, что говорил сегодня Джонни. Со мной все решено – я получаю две сотни в неделю.
– И я столько же.
– Вот и давай поженимся.
– О’кей. Первого июня.
– Почему нам нужно столько ждать?
– Потому что до этого срока мы с девушками снимаем квартиру. Мне придется выкладывать причитающуюся с меня треть платы, даже если я съеду раньше. Мы с ними так договорились, потому что все собрались замуж.
– Мы с тобой это осилим. Заплатим им.
– Смеешься, что ли? Стану я платить за две квартиры!
– Но Нили, я хочу тебя. Она хихикнула.
– Я твоя. Ну, давай же, возьми меня… прямо сейчас.
– Но, Нили…
– Первого июня поженимся. Давай, Мэл, люби меня. Нет, не так… у меня не вставлен колпачок. Давай по-другому… пожалуйста. Как тогда. Ну, пожалуйста, Мэл…
(обратно)
Нью-йоркские критики были единодушны в том, что шоу «Небесный Хит» заслуживает самых лестных эпитетов. Всплеск обожания Элен Лоусон достиг небывалой высоты. О Нили в газетах тоже появилось несколько весьма благожелательных отзывов. Ни один из них не был, правда, настолько блестящим, чтобы вызвать враждебное отношение к ней со стороны Элен, однако они были достаточно яркими, чтобы превзойти самые смелые ожидания Нили.
Сама Нили была поражена больше всех. Один критик даже назвал ее самым оригинальным новым талантом, взошедшим над эстрадным горизонтом за последние несколько лет. Благодаря таким дифирамбам в сочетании с новой квартирой она сама почти поверила в то, что представляет собой нечто незаурядное.
Она никак не могла привыкнуть к роскоши новой квартиры. Анна – просто волшебница! Ей постоянно сопутствует удача. И всегда это так или иначе связано с Алленом. Только на этот раз с отцом. Джино бросил свою подружку-Адель, которая так переживала из-за этого, что устроилась танцовщицей в варьете ресторана. Перед самым ее отъездом Анна случайно наткнулась на нее и перехватила великолепную квартиру. Нили с неизменным замиранием сердца прикасалась ко всему: постельным покрывалам, лампам… Ей и не снилось, что у нее когда-нибудь будет гостиная, устланная белым ковром.
Конечно, квартиру они сняли только на время: Ад ель планировала вернуться к первому июня. Но к тому времени Дженифер, по всей вероятности, выйдет замуж за Тони; Анна, возможно, выйдет за Лайона, а сама она выйдет за Мэла. Особенно если у него выгорит с новой работой. Это был совершенно нежданный-негаданный подарок к Рождеству: Джонни Мэллон принял Мэла сценаристом радиошоу с двухнедельным испытательным сроком! Если он хорошо зарекомендует себя, они могли, бы разбогатеть. «Сценаристы на радио зарабатывают до пяти сотен в неделю, – сказал ей Мэл. – И даже больше». Для начала Мэлу положили двести плюс ее двести, да еще со своим шоу они начали выступать в Нью-Йорке на три недели раньше намеченного, потому что отпала нужда в Бостоне. Ух ты! Дела идут лучше некуда! И еще она собиралась пошикарней одеться: в этом платье из красной тафты она уже всем глаза намозолила. Ух ты! Дженифер-то приехала из Филадельфии и привезла столько нарядов, что в шкаф едва втиснула. Неудивительно, что она вечно сидит без денег. Говорит, что Тони Полар скупердяй, но как же можно так его называть, если на Рождество он подарил ей шикарный перстень с огромным голубоватым камнем? Дженифер говорит, что это всего-навсего аквамарин. Ух ты! Да она бы рада-радешенька была, если бы ей подарили аквамарин. Ладно, для начала она купит себе новое зимнее пальто, сейчас как раз крупная распродажа в магазине готовой одежды Орбаха.
На новогодний вечер их с Мэлом пригласили к Мэллону. Но старый год они проводили в гримерной Элен.
– Вы ни за что не уйдете из театра раньше полуночи, – настаивала Элен, разливая шампанское.
Вечер у Джонни был бесподобен. Никогда еще Нили не была на вечере, где собрались одни знаменитости. И все они знали ее? Вот что было совершенно поразительно: каждый знал, кто она такая! Она никак не могла привыкнуть к этому. А потом Джонни Мэллон сказал Mэлу, что тот «может считать себя постоянным членом их команды». Ух ты! Вот здорово! Надо бы ей кончать вею дорогу твердить это «Ух ты!». Кое-кто уже смеялся, когда она говорила так. Нет, нет, смеялись по-хорошему… думали, что она просто шутит. Но может, если она подольше потолкается с этими оборванными приятелями Мэла, она научится каким-нибудь приличным выражениям. За кулисами она сроду не слышала ничего, кроме тех слов, которые ей даже не хотелось вспоминать. А у Мэла такой хороший язык… он ведь окончил колледж. Ух ты! Парень, окончивший колледж, такой, как Мэл… и влюбился в нее!
Ей никогда не забыть этот Новый год. Мэл сказал, что ему – тоже. В ту ночь, когда они пришли к нему в гостиницу, она обняла его.
– Я так счастлива, Мэл… мне даже страшно.
– Вот уж действительно, 1946 год начинается у нас с крупного везения, – сказал Мэл, когда они приготовились ложиться спать. – Но, знаешь, сегодня вечером мне стало немножко жаль Элен Лоусон. Она выглядела такой одинокой, когда мы уходили из ее гримерной.
Нили наморщила носик.
– Послушай-ка, у Элен никогда никого нет. Сегодня ей еще повезло, что она пошла на какой-то там вечер с этим гомиком-модельером. Ух ты! Мэл, гостиница у тебя и впрямь паршивая: уже почти утро, а тепла все не дают. А у нас батареи горячие почти всю ночь. – Она забралась в постель, вся дрожа от холода в его объятиях.
– Хорошо, назови день, и я перееду отсюда. Можем пожениться в любое время, когда пожелаешь. Я подыщу для нас хорошую квартиру.
Нили теснее прижалась к нему, обвивая его ногами, чтобы согреться.
– Ну, так как, Нили? Ты же слышала, что говорил сегодня Джонни. Со мной все решено – я получаю две сотни в неделю.
– И я столько же.
– Вот и давай поженимся.
– О’кей. Первого июня.
– Почему нам нужно столько ждать?
– Потому что до этого срока мы с девушками снимаем квартиру. Мне придется выкладывать причитающуюся с меня треть платы, даже если я съеду раньше. Мы с ними так договорились, потому что все собрались замуж.
– Мы с тобой это осилим. Заплатим им.
– Смеешься, что ли? Стану я платить за две квартиры!
– Но Нили, я хочу тебя. Она хихикнула.
– Я твоя. Ну, давай же, возьми меня… прямо сейчас.
– Но, Нили…
– Первого июня поженимся. Давай, Мэл, люби меня. Нет, не так… у меня не вставлен колпачок. Давай по-другому… пожалуйста. Как тогда. Ну, пожалуйста, Мэл…
(обратно)
февраль 1946
Не веря своим глазам, лишившись от изумления дара речи, Анна и Дженифер смотрели, как Нили небрежно показывает грузчикам, куда поставить огромное пианино. – Я только что подписала договор на юридическое обслуживание с фирмой Джонсона-Гарриса, – объявила Нили. – А что произошло с Генри? – спросила Анна. – Ну, в общем, у нас с ним вчера был длинный разговор. Я сказала ему, что на меня вышла фирма Джонсона-Гарриса. Он сразу же пошел мне навстречу и разрешил расторгнуть наш с ним договор. Я еще недостаточно крупная фигура, чтобы иметь своего собственного менеджера. Мне нужно, чтобы за мной стояла солидная фирма. Генри согласился. И вот, смотрите, что получилось… – Они подарили тебе пианино? – спросила Дженифер. – Нет, но оплачивают его прокат. И устроили меня в «Ла-Руж», там через три недели мое первое выступление. – Но ты же в «Небесном Хите», – сказала Анна. – Я буду и там, и там. В «Ла-Руж» я дам только одно полуночное шоу. И за это буду получать три сотни в неделю! Вот кошмар, а! Да, и знаете что? Фирма Джонсона-Гарриса дает мне Зика Уайта – платить ему будут они сами, – он займется всеми приготовлениями и будет ставить мое шоу. Зик работает только с самыми крупными звездами. Когда он услышал, как я пою, то сказал, что если мне немного поработать, я стану великой певицей. Говорит, будто я нечто среднее между Джуди Гарленд и Мэри Мартин. – Хорошо, но только не позволяй, чтобы сюда вкралась еще какая-нибудь Элен Лоусон, а не то мы вышвырнем отсюда всю троицу, – сказала Дженифер, подмигивая Анне. – Правда ведь, великолепное пианино? – спросила Нили, любовно проводя рукой по исцарапанной крышке «Стейнвея». – Зик настоял именно на этом пианино. Оно как-то преображает комнату, разве нет? Дженифер кивнула. – Ну конечно. Придает ей вид настоящего зала для репетиций. Детское личико Нили печально вытянулось. – Ну-у, вам не нравится, что оно здесь? Дженифер улыбнулась. – Да нет. Просто мне интересно, где ты намереваешься поставить балетный станок. Ведь в следующий раз втащат и его, так или нет? Анна рассмеялась. – Пусть хоть она будет честолюбивой, Джен. Это же так здорово – иметь звезду в своей семье. Нили скривилась. – Я иду на это только ради денег. В июне мы с Мэлом поженимся, и я хочу накопить денег, чтобы обставить нашу квартиру так же уютно, как эту. – Когда же ему представится возможность писать сценарии для Джонни Мэллона? – спросила Дженифер. – Похоже, весь рабочий день он только тем и занимается, что вкалывает на тебя в качестве секретаря по связям с прессой. Я еще не видела никого, кому бы создавали такую шикарную рекламу. – Почему бы ему и не повкалывать? – возразила Нили. – В конце концов, все, что я зарабатываю, – это для нашего же с ним будущего. – Ты и впрямь равнодушна к тому, чтобы пробиться на вершину и стать звездой? – спросила Дженифер. – А для чего? Чтобы в результате в новогоднюю ночь сидеть вдвоем с каким-нибудь гомиком? Нет, я, конечно, буду работать после замужества, но на первом месте у меня всегда будет стоять семья. И уж кто мне это говорит! Разве ты не отказалась от контракта с «Твенти» из-за Тони? Дженифер пожала плечами. – Тот контракт немного стоил – всего сто пятьдесят долларов в неделю. – Но Генри считал, что тебе следовало согласиться, – стояла на своем Нили. – Если бы сумма была чуть больше, ты подписала бы? – Может быть… да, наверное. Но у меня нет таланта, Нили, а у тебя он есть. – Да, но одного таланта тут мало. Ой, давайте-ка приберемся. Зик явится сюда с минуты на минуту. – Да здесь же все сверкает, – возразила Анна. Нили заметалась по комнате, вытряхивая окурки из многочисленных пепельниц. – Джен, ты гасишь сигареты во всех пепельницах, что есть в квартире. Зик говорит, он рад, что я не курю. Даже если просто дышать дымом, у певца портится голос. Брови у Дженифер резко взметнулись вверх. – Значит, на твоем первом выступлении в ночном клубе курить будет запрещено? – Нет, но к чему мне травиться у себя дома? Все последующие три недели Зик Уайт не вылезал из их квартиры. Он репетировал с Нили, совершенно не щадя ее. Когда бы Анна и Дженифер ни являлись домой, они неизменно обнаруживали его. Зик был женственно красив, вполне осознавал свою значимость, строго требовал выполнения всех заданий и был отличным музыкантом. Нили он гонял безжалостно. – Ну чего он хочет от меня? – вопрошала она, вбегая в спальню вся в слезах. – Сроду не брала уроков музыки, и ничего, всегда прекрасно справлялась. А он вдруг вознамерился сделать из меня Лили Понс – это за три-то недели! Анна, пойди и скажи ему, чтобы отвязался от меня! Тут в дверях появлялся Зик. – О’кей, Нили… довольно истерик. Время приниматься за работу. – Не могу, – рыдала она. – Ты слишком многого от меня хочешь. – Разумеется, многого. Чего ради тебе быть просто хорошей артисткой, если ты можешь стать великой? Нили всегда покорно шла обратно… разучивание гамм продолжалось… затем очередная истерика… опять гаммы… казалось, этому не будет конца. – Но самая крупная размолвка произошла на исходе второй недели. Нили ворвалась в контору «Бэллами и Бэллоуз». – Где он? – требовательно обратилась она к Анне. – Кто? – Генри! Хочу, чтобы он опять стал моим менеджером. Он нужен мне. Он должен избавить меня от Зика. – Генри на Эн-Би-Си. Чем Зик не угодил тебе на этот раз? – Требует, чтобы я сожгла всю свою одежду! – Что? – Что слышала! Чтобы я все сожгла! Говорит, что даже не позволит мне раздать ее бедным, настолько она ужасна. В том числе и это новое пальто. – Она любовно погладила рыжий лисий воротник. – На распродаже у Орбаха я выложила за него семьдесят долларов. Анна с трудом сдержала улыбку. – Ну-у, для тебя это пальто несколько претенциозно. – Послушай, всю жизнь я донашивала вещи после сестры. И теперь имею право сама выбирать себе одежду. – А что Зик хочет, чтобы ты носила? – Кто его знает! Мы должны встретиться с ним сегодня у какого-то модельера. Вот почему мне и нужен Генри пусть скажет, что я тоже имею какие-то права. – Послушай, Нили, для этого тебе не нужен Генри. Это ты можешь сказать Зику и сама. – Нет, я не хочу сама бороться с ним. Пускай уматывает. Ух ты! Слушай, Анна, он так здорово сделал что-то с моим голосом. Мне иногда даже не верится, что я – это я. И всего за какие-то две недели. Знаешь, впервые в жизни я почувствовала, что, может, и впрямь сумею стать великой. Я могу брать ноты, о которых и не подозревала, и держать их долго и сильно. Он просто гений, настоящий гений. – Тогда, может быть, он прав и насчет одежды? Нили вздохнула. – Ну ладно, пускай выберет мне костюм к дебюту в ночном клубе. Он должен быть скроен по особой модели. Зик хочет, чтобы я станцевала и немного подвигалась в нескольких номерах. Но от этого пальто я не откажусь ни за что… На следующей неделе она отправила пальто своей сестре вместе с платьем из ярко-красной тафты и шестью новыми платьями, которые она купила сразу же после премьеры «Небесного Хита». Зик заставил ее купить вечернее платье для дебюта, два шерстяных платья на каждый день и сшить на заказ темно-синее пальто. Нили с отвращением смотрела на свой скудный гардероб. Она по очереди носила эти два платья, боясь есть в них: одно-единственное пятно, и, считай, половина гардероба вышла из строя. – Представь себе, я выложила за него сто двадцать пять монет, – говорила она Мэлу, аккуратно расстилая салфетку у себя на коленях, обтянутых голубой шерстяной тканью. Они сидели в «Сарди» [34], здесь для Нили теперь оставляли самый лучший столик, чему она не переставала поражаться. – Выглядит оно элегантно, – отметил Мэл. – Но уж, конечно, не на такую сумму. – Зик говорит, что я должна создать свой имидж и всегда соответствовать ему на людях. – И какой же имидж должно создавать это платье? Она пожала плечами. – А я почем знаю? Вот тебе оно о чем говорит? Ты же колледж окончил. Откусив сандвич, Мэл задумчиво и критично осмотрел ее новое платье. – Ну-у, восходящей юной звездой Бродвея ты в нем не выглядишь, это уж точно. Скорее, старшеклассницей. Да-да, именно так – будто ты прямиком из какого-то привилегированного колледжа. – Это хорошо? – Не знаю» дорогая. Я люблю тебя в любой одежде… даже в том ужасном ярко-красном произведении портновского искусства. – Мэл! Ты ни разу не говорил мне, что мое платье из тафты тебе не нравится. – Ты была в нем, когда мы впервые встретились с тобой, и я не хотел оскорблять твои чувства. – А мое черное пальто с воротником из рыжей лисицы? – Ну-у, оно и в самом деле выглядело совершенно заурядным… и немного старило тебя. – А это простое синее пальто, оно что – незаурядное какое-нибудь? – Не знаю, дорогая, но, по-моему, оно как раз для тебя. Уж что-что, а вкус у гомиков отменный. – О-о, ну ладно. – Она вздохнула и осторожно откусила сандвич. (обратно)март 1946
Никто даже отдаленно не предполагал, что первое сольное выступление Нили произведет такую сенсацию. Анна пришла с Лайоном и Генри. Дженифер сидела за большим столом в другом конце зала с Тони Поларом, его сестрой, сценаристами и несколькими спонсорами. Элен Лоусон явилась с помощником режиссера. Она помахала рукой Генри, Анну же демонстративно проигнорировала. Выступление началось как типичная премьера в ночном клубе. Газетчики пришли потому, что получили задание. Знаменитости явились для того, чтобы их заметили газетчики. Чего-то необычного никто не ожидал. Подобное не раз происходило и раньше: никому не известная девчонка, пользуясь тем обстоятельством, что шоу с ее участием стало хитом, стремится еще немного подзаработать в дополнение к своему скудному гонорару. Пришли они единственно из уважения к ее одержимости и честолюбию, ушли же, став ее восторженными поклонниками. Анна не могла поверить своим глазам. Во время выступления она переглянулась с Дженифер, и встретила взгляд, полный восторженного изумления. Генри Бэллами, затаив дыхание, сдвинулся на самый краешек стула. Нили была бесподобна. Умело подобранное освещение делало ее детское личико почти красивым, а ее сценический костюм – простая белая атласная блузка с длинными рукавами и короткая темно-синяя атласная юбочка – во всей красе демонстрировал ее великолепные ноги. Анна была просто поражена, она никогда не замечала раньше ни их, ни ее идеальной фигурки с тонкой талией и подростковой грудью. – Это звезда, и она ушла от нас, – прошептал Генри. – Боже мой, Лайон, да как же это мы допустили, что она выскользнула у нас прямо из рук? Лайон сокрушенно покачал головой. – Да, уж если мы совершаем ошибку, то вселенского масштаба! – Нили в самом деле великолепна, правда? – прошептала Анна. – Великолепна – не то слово. Она не правдоподобна. Никто даже отдаленно не может сравниться с нею.* * *
Из-за ажиотажа, возникшего вокруг Нили, жизнь в их квартире превратилась в кромешный ад. Телефон трезвонил непрерывно, в гостиной брали интервью, проводили фотосъемки, репетировали. Нили выступила во всех ведущих радиошоу, подписала контракт с крупнейшей фирмой грамзаписи. Ее добивалась «Метро» [35]. Ее добивалась «Твенти». А Элен Лоусон перестала с ней разговаривать. Нили чувствовала себя ужасно. – Представляешь, она больше со мной не здоровается, – пожаловалась она Анне. Дженифер усмехнулась. – Это означает, что ты – звезда. Со мной она по-прежнему сама любезность. – Я собиралась остаться в этом шоу на следующий сезон, – объяснила Нили. – Но теперь – ни за что. Гилберт Кейс предложил мне заключить с первого июня новый контракт с широкой рекламой и прибавкой – сто долларов в неделю. Но я не могу работать, когда Элен так ко мне относится. – Да полно, Нили, – рассмеялась Анна, – у вас же нет с ней совместных номеров. Ты просто успокаиваешь свою совесть, потому что с первого июня решила оставить шоу. – А почему, спрашивается, я должна считать себя чем-то обязанной Кейсу? Я никогда бы не получила эту роль, если бы не ты, Анна… и если бы Элен не испугалась Тэрри Кинг. Наконец она остановилась на том, что подписала контракт с «Сенчури продакшнс». – Эта киностудия не такая крупная, как другие, – пояснила она, – но фирма Джонсона Гарриса считает, что для меня это самое лучшее. Две их картины в прошлом году получили награды Академии. Они берут всех начинающих звезд, и я пройду школу становления настоящей звезды. Мэл отнесся к контракту с киностудией без особенного энтузиазма. – Но это же прекрасно, – убеждала она его. – Я остаюсь в шоу до конца мая. Адель прислала письмо, пишет, что приезжает в середине июня и хочет свою квартиру назад, так что… – А как же Дженифер и Анна? – спросил Мэл. – Ну, «Небесный Хит» будет идти еще год. Дженифер останется в труппе, пока не выйдет замуж за Тони, хотя этим, похоже, пока не пахнет. Они только встречаются, а о женитьбе никаких разговоров. – Но где они будут жить? – А-а, сейчас с этим легче. Могут временно перебраться в отель «Орвин». За вполне умеренную плату там можно снять приличный люкс. – А как же мы? – Поженимся первого июня, как и запланировали. – Здорово, а я уж думал, что ты забыла. Нили сжала ему руку. – И укатим на медовый месяц в Калифорнию. Шеф достает мне там дом. – Шеф? – Ой, я совсем забыла рассказать тебе о нем, – затараторила Нили. – Он приезжал сюда на прошлой неделе. Это Сирил Бин, но его никто не зовет ни Сирил, ни мистер Бин. Все зовут только Шефом. Милый старикашка лет под пятьдесят, загорелый, с беленькими волосиками. Такой добренький, как папашка. Снимает сейчас для меня большой дом в Голливуде. Три сотни в месяц, зато с бассейном. Только он сказал, чтобы я не вылезала на солнце, а то выступят веснушки. И еще сказал, что если у меня все пойдет в гору и я пробьюсь наверх, то могу заиметь свой собственный дом в Беверли-Хиллз [36]. – А какая разница? – Почем я знаю? Может этот – на плохой стороне улицы. Он даже вроде как извинялся за то, что дом в Голливуде. Я прикинулась, что понимаю, о чем он. Ты только представь себе, Мэл: дом с бассейном! – Нили, – Мэл протянул руку и сжал ее ладонь. – Ты знаешь, я люблю тебя… – Да, Мэл, и с самого начала я буду получать тысячу в неделю! Только подумай, сколько у нас будет денег. – Нили… но ведь шоу Джонни Мэллона поставлено в Нью-Йорке. – Завязывай с ним. – Как, прямо сейчас? – Мэл, ты с ума сошел? Ты же получаешь у него всего две сотни в неделю. – С начала следующего года буду получать три. – Но мне-то будут платить тысячу! И это, не считая денег за пластинки. В фирме Джонсона-Гарриса мне сказали, что только на пластинках я заработаю в будущем году двадцать пять тысяч. Представляешь! – А я там что стану делать, сидеть в бассейне днями напролет? – Мэл, ты же со мной. Мы – единое целое. Ты нужен мне. Мне нужна вся реклама, какую только можно создать. Сейчас – больше, чем когда-либо. – В киностудии к тебе приставят кого-нибудь. – Приставят, конечно. Но это уже будет не то, что ты. У их секретаря по связям с прессой будут кроме меня и все остальные звезды. А я хочу, чтобы ты работал на одну меня. И еще, Мэл, тебе придется вести все денежные дела. Я в жизни ни единого чека не выписала. Даже за нашу с девочками квартиру: они говорили, сколько с меня, и я отдавала им наличными. Да, и еще. Ух ты! Я ведь не знаю, как разговаривать и вести себя ни с горничной, ни с поварихой, ни даже как их нанимать. Дома-то своего у меня сроду не было. Вот ты всем этим и займешься. Мэл, ты должен поехать, без тебя я буду там ничто. – Нет, Нили. Не получится. – Почему? Во всем этом ты ведь вон как мне помог. Без тебя-то как бы я сразу получила «Ла-Руж»? – Тебе его организовала фирма Джонсона Гарриса, а вовсе не я. – Но, Мэл, ведь эта фирма заинтересовалась мной только благодаря рекламе, которую мне создал ты. Они же не бросились подписывать со мной договор после моего дебюта в «Небесном Хите». Может, я вообще не стала бы певицей. Конечно, это сделал Зик, но заметили-то меня с твоей подачи. Он взял ее за руки. – Не Зик вложил в тебя твой голос, и не я сделал тебя. Все это было у тебя всегда. Мы просто помогли обратить на это внимание, вот и все. – Вот и продолжай помогать мне, Мэл. Ты нужен мне… Я люблю тебя. – Но, Нили, я не знаю, как с этим все получится. Я никогда не был в Голливуде, но слышал, как там делаются подобные дела. Я стану «мистером О’Хара». Меня попросту не будут уважать, я сделаюсь пустым местом. – Ты ведь не думаешь, что я стану бегать по всем этим шикарным голливудским званым приемам или якшаться со знаменитостями, а? Все будет так же, как здесь. Меня заваливают приглашениями на премьеры, и мы иногда ходим на них. Тебя же не называют за это «мистер О’Хара». – Здесь все по-другому, Нили. – Но мы-то те же самые. Послушай, Мэл, я хочу здорово поработать, заколотить денег, и, может, лет через пяток завязать со всем этим. Все будут знать, что командуешь у нас ты. Ну же, Мэл. Я не поеду туда без тебя. – Но, Нили… – Мэл… ну пожалуйста… Он опять крепко сжал ее ладонь. – Ну хорошо. Всегда мечтал иметь голливудский загар. Ну и обалдеют же все мои в Бруклине… (обратно) (обратно)Дженифер
декабрь 1946
 Стоя на стуле, Дженифер заталкивала шляпную картонку на антресоль платяного шкафа и едва успела увернуться, когда сверху свалились два чемодана.
Она простонала:
– С этими шкафами просто невозможно… Анна помогла поднять чемоданы и поставить их опять на антресоль.
– Я бы уступила тебе место в своем, но он битком набит твоими же поношенными вещами.
– Они что, думают, что человек может жить у них в отеле, имея всего два паршивых крохотных шкафчика? Ну почему Адель не нашла себе какого-нибудь крупного английского лорда и не осталась в Лондоне? Боже, как мне не хватает той квартиры.
– Да нет, Джен, эти шкафы достаточно вместительны. Просто никто не рассчитывал, что у одного человека может быть столько одежды.
– А я уже терпеть ее не могу.
– Джен! Не вздумай покупать еще одно платье! У меня уже сейчас самый лучший гардероб в городе, потому что едва ты надеваешь платье, как оно тебе сразу же надоедает. У Лайона глаза на лоб лезут при виде того, как я то и дело меняю туалеты, один шикарнее другого.
– Если Тони подарит мне на Рождество новую норку, ты заберешь мою старую.
– Старую? Она же у тебя только с прошлого года!
– Я ее терпеть не могу: она напоминает мне о принце. И потом, это дикая норка. Она великолепно подойдет к твоим волосам. А я хочу по-настоящему темную.
– Тогда я куплю ее у тебя.
– Не говори глупостей!
– У меня же есть деньги, Джен. Генри выгодно поместил сумму, вырученную за перстень, плюс мои двенадцать тысяч.
– И как же обстоят твои финансовые дела?
– Понимаешь, за перстень мы выручили всего двадцать тысяч. Он стоит дороже, но сейчас, говорят, спрос на рынке упал. И Генри все их вложил в акции компании Эй-Ти-энд-Ти. Пока еще эта сумма не слишком выросла, но дивиденды я получаю уже вполне приличные.
– Все равно, к своему основному капиталу не прикасайся.
– Можно подумать, ты у нас вся из себя такая уж правильная. В этом месяце твои фотографии публиковались в «Вог» и «Харперс» [37], а ты не отложила ни цента. Честное слово, Джен, ты должна бы уже заработать целое состояние после того, как подписала контракт с домом моделей Лонгуорта. А ты все деньги тратишь на наряды. Ладно еще, если бы ты бережно к ним относилась.
– Как же я могу откладывать, когда и одеваюсь, и матери еще посылаю? Как манекенщица я получаю триста – четыреста в неделю, но ведь это не деньги. Нет, главную ставку я делаю на Тони. Анна, мне двадцать шесть, и у меня уже нет ни времени, ни шансов в будущем. Но как я одеваюсь, производит на Тони сильнейшее впечатление, а в газетах меня называют «само очарование». Я расцениваю это как выгодное помещение капитала. Ставлю все деньги на кон и кручу рулетку, чтобы сорвать банк, то есть Тони. Если на мой номер выпадает замужество, я обеспечена на всю жизнь.
– И все равно нет никаких оснований дарить мне норковое манто.
– Меня в нем видят уже целый год. А если я выйду за Тони, у меня их будет дюжина, А тебе ах как долго придется ждать норку, разве что книга Лайона вдруг ни с того ни с сего станет бестселлером.
– Ну… я сейчас мысленно молюсь за него. На прошлой неделе он закончил ее.
– Замечательно! Теперь вы поженитесь! Анна рассмеялась.
– Все не так просто. Сначала ее должны принять в издательство. Он дал почитать рукопись Бэсс Уилсон, она очень авторитетный литературный критик. Если книга ей понравится и она согласится заняться ею, то он почти у цели. В любом издательстве автоматически заинтересуются рукописью, если получат ее с рекомендацией Бэсс Уилсон.
– И когда она сообщит ему результат?
– Он ждет со дня на день. Надеется получить ответ до Рождества. Эй, Нили у нас застряла. – Анна подбежала к проигрывателю и подвинула звукозапись вперед.
– Ты уже заиграла эту пластинку.
– Исполнение великолепное. Я так горжусь Нили. Жду не дождусь, когда на экраны выйдет ее картина. Дженифер со стуком захлопнула дверцу шкафа.
– Не возражаешь, если я выключу ее. Хочу почитать. Анна сама выключила проигрыватель.
– Джен, уже два часа. Нам обеим пора ложиться спать.
– Мой ночник не будет тебя беспокоить?
– Он – нет. Но меня беспокоит, что ты так мало спишь. Иногда я просыпаюсь среди ночи, а твоя кровать пуста.
– Я ухожу покурить в переднюю, чтобы тебя не тревожить.
– В чем дело, Джен? Тони? Дженифер пожала плечами.
– В какой-то степени – да… но я не сплю толком уже больше года. Хотя я действительно из-за Тони волнуюсь. В феврале он едет в Калифорнию записывать на радио новое шоу.
– Может быть, он попросит твоей руки перед отъездом?
– До тех пор пока рядом с ним Мириам – нет. Когда мы с ним вдвоем, я могу заставить его сделать что угодно. Но вдвоем мы остаемся лишь в постели. А спрятавшись под одеялом, как-то очень трудно вести борьбу за справедливое дело мира.
– А что, если вам сбежать?
– Я уже думала об этом – всегда можно съездить в Мэриленд. Но не так-то это просто: в постели он обещает что угодно, но едва вылезет из нее, во всем слушается Мириам. – Дженифер направилась в ванную. – А теперь ложись спать. Что толку томиться обеим? Что-нибудь да придумаю.
– Попытайся уснуть для разнообразия, – предложила ей Анна, взбивая себе подушку.
– Сейчас лягу. Но сначала мне нужно проделать упражнения и намазать свои сокровища.
Закрыв за собой дверь в ванную, Дженифер устало взяла с полочки банку с кокосовым маслом. Освещенная ярким светом плафона, она пристально вгляделась в свое отражение. Под глазами появляются тоненькие морщинки. Через четыре года ей уже стукнет тридцать! «Небесный Хит» будет идти до июня, но она выступает в нем уже год, и ничего ей не светит. Конечно, всегда можно согласиться на контракт с «Твенти». Но, если она подпишет контракт и поедет за Тони за Западное побережье, она никогда не выйдет за него. А если он уедет без нее, будет ли ему не хватать ее до такой степени, что он ее позовет? Ни малейшего шанса! Уж Мириам позаботится, чтобы красивые девицы роем вились вокруг него. Красивые молодые девицы!
Да, конечно. Тони думает, что ей двадцать. Но стоит ему увидеть девчонку, которой действительно девятнадцать-двадцать лет, и на фоне той ее образ, пожалуй, немного потускнеет. Последнее время Мириам и так пялит на нее глаза, задает коварные вопросы, пытается подловить на датах, связанных с лингвистической школой. Еще слава богу, что Тони не особенно сильно соображает. Ход ее мыслей вдруг прервался. Что верно, то верно – соображает Тони туговато. А может, все дело в том, что Мириам подавила его и у него просто не было возможности проявить себя? Вот в исполнении песен он соображает что надо. Стоит хоть чуть-чуть сыграть не в такт, тут же замечает. Нет, дело просто в том, что Мириам никогда не давала ему возможности пораскинуть мозгами. Мириам! Она нанесла под глаза еще один слой крема. Ей необходимо спать. Она вернулась в спальню. Анна уже засыпала. Дженифер забралась под одеяло и выключила свет.
Прошел час, а она так и не сомкнула глаз. Похоже, ей предстоит очередная бессонная ночь. Быстро встав с кровати, Дженифер прошла в гостиную. Она бы смогла спать, если бы имела крепкие нервы и не теряла самообладания. Взяв свою сумочку, она достала оттуда пузырек и пристально посмотрела на крохотные красные обтекаемые капсулы, напоминающие пульки. Вчера вечером ей дала их Ирма.
(«Просто прими одну и проспишь несколько часов».) Секонал. Ирма дала ей четыре штуки.
(«Для меня они на вес золота. Больше дать не могу».) Ирма была дублершей Нили в шоу. Она уверяла, что эти маленькие красные «куколки» спасли ей жизнь.
(«Я бы дала тебе еще, Дженифер, но нужен рецепт врача. Я могу купить только десять штук в неделю».) Может, и ей попробовать одну? Ее пугало, что такая крошечная красная капсулка может принести спасительный сон. Она налила стакан воды и с минуту держала пилюлю в руках, слушая, как сильно колотится сердце. Ведь это наркотик… да нет же, просто смешно! Ирма принимает по одной каждую ночь и прекрасно себя чувствует. Когда та впервые вышла на сцену, она ужасно нервничала, и вот сейчас, когда прошло семь месяцев, она все еще нервничает.
(«Я чувствую, что, когда пою, меня все сравнивают с Нили. Теперь, когда выходят ее пластинки, каждое слово из ее репертуара постоянно сравнивают».) Ладно, от одной пилюли ничего не будет. Дженифер проглотила ее, запила, сунула пузырек в сумочку и юркнула в постель.
Сколько понадобится времени? Спать по-прежнему нисколько не хотелось. Ей было слышно даже дыхание Анны, тиканье будильника на столике, звуки автомобилей с улицы – казалось, что все стало восприниматься острее и четче…
И тут она почувствовала Это! О боже! Замечательно! Все тело будто стало невесомым… голова сделалась тяжелой и вместе с тем легкой, как воздух. Она вот-вот уснет… уснет… о миленькая красная «куколка»…
На следующий день Дженифер пошла к врачу Генри. Он принял ее холодно. Состояние у нее прекрасное. Что еще за чушь! Нет, он не станет прописывать ей секонал. «Перестаньте поглощать кофе в безмерных количествах, меньше надо курить, и хорошо будете спать. А если не спите, значит, вашему организму сон не требуется».
– Эти дела так не делают, – объяснила ей Ирма несколько дней спустя. – Нельзя идти к хорошему врачу и с порога спрашивать это лекарство. Лучше всего найти какого-нибудь докторишку из тех, кого этические вопросы не очень волнуют.
– Но где? Ирма, с этими благословенными красными «куколками» я спала четыре ночи подряд, и это было божественно. А без них вот уже две ночи не сплю.
– Поищи кого-нибудь в третьеразрядных гостинчиках Вест-Сайда. Увидишь знак, обозначающий медицинскую службу, на грязном оконном стекле, – разъяснила Ирма. – Но не просто входи и проси эти пилюли. Тут нужно уметь сыграть. Зайди и скажи, что ты не здешняя, а из Калифорнии, это всегда действует. Не надевай на прием норку, а то он такой гонорар заломит, что будь здоров. Объясни, что никак не можешь заснуть. Он начнет прослушивать тебя, а ты тверди свое: все, что тебе нужно, это две ночи поспать. Тогда он сдерет с тебя десятку и выпишет рецепт, которого тебе хватит на неделю, зная, что ты опять к нему придешь. И он знает, что за десять долларов выручает тебя на целую неделю. Но поверь мне – дело того стоит. Может получиться, что ты обойдешь несколько врачей, прежде чем нападешь на подходящего – меня двое не приняли, – но ты его все же найдешь. Не ходи в гостиницу Мак-Клея – там сидит мой. Еще заподозрит что-нибудь…
Врача себе Дженифер нашла в Вест-Сайде на Сорок восьмой стрит. Она поняла, что это именно тот, кто ей нужен, когда он с деланным безразличием извлек покрытый пылью стетоскоп и кое-как прослушал ее. Разумеется, он сразу же достал рецептурный бланк.
– Нембутал или секонал? – спросил он.
– Красного цвета, – пробормотала Дженифер.
– Вот вам секонал на неделю. – Он протянул ей рецепт. – Если не поможет, приходите еще.
Анна очень обрадовалась перемене, происшедшей с Дженифер. Она ничего не знала о капсулах, но ей было приятно видеть, как Дженифер спит всю ночь напролет. «Наверное, Тони обронил что-нибудь обнадеживающее», – подумала она.
За несколько дней до Рождества, когда Анна, как обычно в конце недели, укладывала вещи в сумку, чтобы идти на выходные к Лайону, Дженифер объявила о принятом ею крупном решении.
– Значит, вот так! – произнесла она. – Сегодня вечером я либо заставлю Тони ехать со мной в Элктон, либо расстаюсь с ним навсегда. Вчера вечером я все рассчитала. Если не сработает, у меня в запасе останется полтора месяца. Полтора месяца, пока он еще будет в Нью-Йорке, и я смогу появляться в разных местах, разодетая в пух и прах, с кем-нибудь другим, чтобы свести его с ума. Свести настолько, что он женится на мне.
– Где же сегодня вечером Мириам?
– Там, где и всегда. С нами! В «Ла Бомбре» премьера нового шоу. Я сказала Тони, что заеду из театра домой переодеться и чтобы он тоже заехал за мной сюда. Мы будем с ним одни, и я застигну его врасплох. И если я разыграю все, как по нотам…
Стоя на стуле, Дженифер заталкивала шляпную картонку на антресоль платяного шкафа и едва успела увернуться, когда сверху свалились два чемодана.
Она простонала:
– С этими шкафами просто невозможно… Анна помогла поднять чемоданы и поставить их опять на антресоль.
– Я бы уступила тебе место в своем, но он битком набит твоими же поношенными вещами.
– Они что, думают, что человек может жить у них в отеле, имея всего два паршивых крохотных шкафчика? Ну почему Адель не нашла себе какого-нибудь крупного английского лорда и не осталась в Лондоне? Боже, как мне не хватает той квартиры.
– Да нет, Джен, эти шкафы достаточно вместительны. Просто никто не рассчитывал, что у одного человека может быть столько одежды.
– А я уже терпеть ее не могу.
– Джен! Не вздумай покупать еще одно платье! У меня уже сейчас самый лучший гардероб в городе, потому что едва ты надеваешь платье, как оно тебе сразу же надоедает. У Лайона глаза на лоб лезут при виде того, как я то и дело меняю туалеты, один шикарнее другого.
– Если Тони подарит мне на Рождество новую норку, ты заберешь мою старую.
– Старую? Она же у тебя только с прошлого года!
– Я ее терпеть не могу: она напоминает мне о принце. И потом, это дикая норка. Она великолепно подойдет к твоим волосам. А я хочу по-настоящему темную.
– Тогда я куплю ее у тебя.
– Не говори глупостей!
– У меня же есть деньги, Джен. Генри выгодно поместил сумму, вырученную за перстень, плюс мои двенадцать тысяч.
– И как же обстоят твои финансовые дела?
– Понимаешь, за перстень мы выручили всего двадцать тысяч. Он стоит дороже, но сейчас, говорят, спрос на рынке упал. И Генри все их вложил в акции компании Эй-Ти-энд-Ти. Пока еще эта сумма не слишком выросла, но дивиденды я получаю уже вполне приличные.
– Все равно, к своему основному капиталу не прикасайся.
– Можно подумать, ты у нас вся из себя такая уж правильная. В этом месяце твои фотографии публиковались в «Вог» и «Харперс» [37], а ты не отложила ни цента. Честное слово, Джен, ты должна бы уже заработать целое состояние после того, как подписала контракт с домом моделей Лонгуорта. А ты все деньги тратишь на наряды. Ладно еще, если бы ты бережно к ним относилась.
– Как же я могу откладывать, когда и одеваюсь, и матери еще посылаю? Как манекенщица я получаю триста – четыреста в неделю, но ведь это не деньги. Нет, главную ставку я делаю на Тони. Анна, мне двадцать шесть, и у меня уже нет ни времени, ни шансов в будущем. Но как я одеваюсь, производит на Тони сильнейшее впечатление, а в газетах меня называют «само очарование». Я расцениваю это как выгодное помещение капитала. Ставлю все деньги на кон и кручу рулетку, чтобы сорвать банк, то есть Тони. Если на мой номер выпадает замужество, я обеспечена на всю жизнь.
– И все равно нет никаких оснований дарить мне норковое манто.
– Меня в нем видят уже целый год. А если я выйду за Тони, у меня их будет дюжина, А тебе ах как долго придется ждать норку, разве что книга Лайона вдруг ни с того ни с сего станет бестселлером.
– Ну… я сейчас мысленно молюсь за него. На прошлой неделе он закончил ее.
– Замечательно! Теперь вы поженитесь! Анна рассмеялась.
– Все не так просто. Сначала ее должны принять в издательство. Он дал почитать рукопись Бэсс Уилсон, она очень авторитетный литературный критик. Если книга ей понравится и она согласится заняться ею, то он почти у цели. В любом издательстве автоматически заинтересуются рукописью, если получат ее с рекомендацией Бэсс Уилсон.
– И когда она сообщит ему результат?
– Он ждет со дня на день. Надеется получить ответ до Рождества. Эй, Нили у нас застряла. – Анна подбежала к проигрывателю и подвинула звукозапись вперед.
– Ты уже заиграла эту пластинку.
– Исполнение великолепное. Я так горжусь Нили. Жду не дождусь, когда на экраны выйдет ее картина. Дженифер со стуком захлопнула дверцу шкафа.
– Не возражаешь, если я выключу ее. Хочу почитать. Анна сама выключила проигрыватель.
– Джен, уже два часа. Нам обеим пора ложиться спать.
– Мой ночник не будет тебя беспокоить?
– Он – нет. Но меня беспокоит, что ты так мало спишь. Иногда я просыпаюсь среди ночи, а твоя кровать пуста.
– Я ухожу покурить в переднюю, чтобы тебя не тревожить.
– В чем дело, Джен? Тони? Дженифер пожала плечами.
– В какой-то степени – да… но я не сплю толком уже больше года. Хотя я действительно из-за Тони волнуюсь. В феврале он едет в Калифорнию записывать на радио новое шоу.
– Может быть, он попросит твоей руки перед отъездом?
– До тех пор пока рядом с ним Мириам – нет. Когда мы с ним вдвоем, я могу заставить его сделать что угодно. Но вдвоем мы остаемся лишь в постели. А спрятавшись под одеялом, как-то очень трудно вести борьбу за справедливое дело мира.
– А что, если вам сбежать?
– Я уже думала об этом – всегда можно съездить в Мэриленд. Но не так-то это просто: в постели он обещает что угодно, но едва вылезет из нее, во всем слушается Мириам. – Дженифер направилась в ванную. – А теперь ложись спать. Что толку томиться обеим? Что-нибудь да придумаю.
– Попытайся уснуть для разнообразия, – предложила ей Анна, взбивая себе подушку.
– Сейчас лягу. Но сначала мне нужно проделать упражнения и намазать свои сокровища.
Закрыв за собой дверь в ванную, Дженифер устало взяла с полочки банку с кокосовым маслом. Освещенная ярким светом плафона, она пристально вгляделась в свое отражение. Под глазами появляются тоненькие морщинки. Через четыре года ей уже стукнет тридцать! «Небесный Хит» будет идти до июня, но она выступает в нем уже год, и ничего ей не светит. Конечно, всегда можно согласиться на контракт с «Твенти». Но, если она подпишет контракт и поедет за Тони за Западное побережье, она никогда не выйдет за него. А если он уедет без нее, будет ли ему не хватать ее до такой степени, что он ее позовет? Ни малейшего шанса! Уж Мириам позаботится, чтобы красивые девицы роем вились вокруг него. Красивые молодые девицы!
Да, конечно. Тони думает, что ей двадцать. Но стоит ему увидеть девчонку, которой действительно девятнадцать-двадцать лет, и на фоне той ее образ, пожалуй, немного потускнеет. Последнее время Мириам и так пялит на нее глаза, задает коварные вопросы, пытается подловить на датах, связанных с лингвистической школой. Еще слава богу, что Тони не особенно сильно соображает. Ход ее мыслей вдруг прервался. Что верно, то верно – соображает Тони туговато. А может, все дело в том, что Мириам подавила его и у него просто не было возможности проявить себя? Вот в исполнении песен он соображает что надо. Стоит хоть чуть-чуть сыграть не в такт, тут же замечает. Нет, дело просто в том, что Мириам никогда не давала ему возможности пораскинуть мозгами. Мириам! Она нанесла под глаза еще один слой крема. Ей необходимо спать. Она вернулась в спальню. Анна уже засыпала. Дженифер забралась под одеяло и выключила свет.
Прошел час, а она так и не сомкнула глаз. Похоже, ей предстоит очередная бессонная ночь. Быстро встав с кровати, Дженифер прошла в гостиную. Она бы смогла спать, если бы имела крепкие нервы и не теряла самообладания. Взяв свою сумочку, она достала оттуда пузырек и пристально посмотрела на крохотные красные обтекаемые капсулы, напоминающие пульки. Вчера вечером ей дала их Ирма.
(«Просто прими одну и проспишь несколько часов».) Секонал. Ирма дала ей четыре штуки.
(«Для меня они на вес золота. Больше дать не могу».) Ирма была дублершей Нили в шоу. Она уверяла, что эти маленькие красные «куколки» спасли ей жизнь.
(«Я бы дала тебе еще, Дженифер, но нужен рецепт врача. Я могу купить только десять штук в неделю».) Может, и ей попробовать одну? Ее пугало, что такая крошечная красная капсулка может принести спасительный сон. Она налила стакан воды и с минуту держала пилюлю в руках, слушая, как сильно колотится сердце. Ведь это наркотик… да нет же, просто смешно! Ирма принимает по одной каждую ночь и прекрасно себя чувствует. Когда та впервые вышла на сцену, она ужасно нервничала, и вот сейчас, когда прошло семь месяцев, она все еще нервничает.
(«Я чувствую, что, когда пою, меня все сравнивают с Нили. Теперь, когда выходят ее пластинки, каждое слово из ее репертуара постоянно сравнивают».) Ладно, от одной пилюли ничего не будет. Дженифер проглотила ее, запила, сунула пузырек в сумочку и юркнула в постель.
Сколько понадобится времени? Спать по-прежнему нисколько не хотелось. Ей было слышно даже дыхание Анны, тиканье будильника на столике, звуки автомобилей с улицы – казалось, что все стало восприниматься острее и четче…
И тут она почувствовала Это! О боже! Замечательно! Все тело будто стало невесомым… голова сделалась тяжелой и вместе с тем легкой, как воздух. Она вот-вот уснет… уснет… о миленькая красная «куколка»…
На следующий день Дженифер пошла к врачу Генри. Он принял ее холодно. Состояние у нее прекрасное. Что еще за чушь! Нет, он не станет прописывать ей секонал. «Перестаньте поглощать кофе в безмерных количествах, меньше надо курить, и хорошо будете спать. А если не спите, значит, вашему организму сон не требуется».
– Эти дела так не делают, – объяснила ей Ирма несколько дней спустя. – Нельзя идти к хорошему врачу и с порога спрашивать это лекарство. Лучше всего найти какого-нибудь докторишку из тех, кого этические вопросы не очень волнуют.
– Но где? Ирма, с этими благословенными красными «куколками» я спала четыре ночи подряд, и это было божественно. А без них вот уже две ночи не сплю.
– Поищи кого-нибудь в третьеразрядных гостинчиках Вест-Сайда. Увидишь знак, обозначающий медицинскую службу, на грязном оконном стекле, – разъяснила Ирма. – Но не просто входи и проси эти пилюли. Тут нужно уметь сыграть. Зайди и скажи, что ты не здешняя, а из Калифорнии, это всегда действует. Не надевай на прием норку, а то он такой гонорар заломит, что будь здоров. Объясни, что никак не можешь заснуть. Он начнет прослушивать тебя, а ты тверди свое: все, что тебе нужно, это две ночи поспать. Тогда он сдерет с тебя десятку и выпишет рецепт, которого тебе хватит на неделю, зная, что ты опять к нему придешь. И он знает, что за десять долларов выручает тебя на целую неделю. Но поверь мне – дело того стоит. Может получиться, что ты обойдешь несколько врачей, прежде чем нападешь на подходящего – меня двое не приняли, – но ты его все же найдешь. Не ходи в гостиницу Мак-Клея – там сидит мой. Еще заподозрит что-нибудь…
Врача себе Дженифер нашла в Вест-Сайде на Сорок восьмой стрит. Она поняла, что это именно тот, кто ей нужен, когда он с деланным безразличием извлек покрытый пылью стетоскоп и кое-как прослушал ее. Разумеется, он сразу же достал рецептурный бланк.
– Нембутал или секонал? – спросил он.
– Красного цвета, – пробормотала Дженифер.
– Вот вам секонал на неделю. – Он протянул ей рецепт. – Если не поможет, приходите еще.
Анна очень обрадовалась перемене, происшедшей с Дженифер. Она ничего не знала о капсулах, но ей было приятно видеть, как Дженифер спит всю ночь напролет. «Наверное, Тони обронил что-нибудь обнадеживающее», – подумала она.
За несколько дней до Рождества, когда Анна, как обычно в конце недели, укладывала вещи в сумку, чтобы идти на выходные к Лайону, Дженифер объявила о принятом ею крупном решении.
– Значит, вот так! – произнесла она. – Сегодня вечером я либо заставлю Тони ехать со мной в Элктон, либо расстаюсь с ним навсегда. Вчера вечером я все рассчитала. Если не сработает, у меня в запасе останется полтора месяца. Полтора месяца, пока он еще будет в Нью-Йорке, и я смогу появляться в разных местах, разодетая в пух и прах, с кем-нибудь другим, чтобы свести его с ума. Свести настолько, что он женится на мне.
– Где же сегодня вечером Мириам?
– Там, где и всегда. С нами! В «Ла Бомбре» премьера нового шоу. Я сказала Тони, что заеду из театра домой переодеться и чтобы он тоже заехал за мной сюда. Мы будем с ним одни, и я застигну его врасплох. И если я разыграю все, как по нотам…
* * *
Дженифер была в одном халате, когда за нею заехал Тони. – Эй… поторапливайся и одевайся. Шоу продлится до половины первого. Она подошла к нему. – Сначала обними меня, – нежно попросила она. Разомкнув объятия, он перевел дух. – Крошка, дай мне отдышаться. Господи! Когда я рядом с тобой, мне нужно делать кровопускание. – Его руки гладили ее грудь. Дрожащие пальцы никак не могли расстегнуть пуговицыее шелкового халата. – Черт… ну почему у тебя все халаты на пуговицах? – Стянув наконец халат. Тони обнажил ее по пояс. Он отступил от нее на шаг, дыхание у него участилось. – Джен, ни у кого больше нет таких титек! Она улыбнулась. – Они твои. Тони. Он уткнулся в них лицом, опустился на колени. – О боже! Не могу в это поверить. Каждый раз, когда касаюсь их, не могу в это поверить. – Словно изголодавшись, он с жадностью впился в ее грудь. – Она мягко отстранила его голову. – Не хочу даже шевелиться, – пробормотал он. – Тони, давай поженимся. – Конечно, детка, конечно… – Он лихорадочно расстегивал остальные пуговицы халата, пока тот не упал на пол. Она отступила назад. На коленях он двинулся следом за нею. Она отступила еще. – Тони, все это, – она огладила свое тело, – не твое, а мое! Он приблизился к ней. Дженифер опять отступила. Она погладила свои бедра, коснувшись себя пальцами между ног. – И это тоже мое, – мягко сказала она. – Но мы хотим тебя, Тони, – вдруг севшим голосом прошептала она. – Сними с себя все. Он рванул на себе рубашку. Посыпались пуговицы, застучали по полу. Он стоял перед нею совершенно обнаженный. – У тебя красивое тело, – медленно улыбнулась она. Затем опять отступила. – Но у меня красивее. – Рассчитанным нарочито затянутым жестом она погладила обе свои груди, словно ей доставляло удовольствие касаться их. Тони замер, глядя на нее и прерывисто дыша. Он бросился к ней, но она увильнула. – Смотреть можешь, – нежно пропела она. – А прикасаться – нет. До тех пор, пока оно не станет твоим… – Но оно – мое… ты – моя! – Он почти рычал. – Только временно, – она сладко улыбнулась. – И я запираю все назад до тех пор, пока ты действительно не захочешь. – Она опять погладила свои груди. – Захочешь насовсем. Весь дрожа от нетерпения, он двинулся за нею. – Я хочу. Ну, иди же ко мне… сейчас! – Сейчас – нет. Только когда женишься на мне. – Ну конечно, – прохрипел он. – Я женюсь на тебе. – Он по-прежнему двигался за нею, но она уходила от него, не переставая улыбаться и оглаживать свое тело. Ее руки то поигрывали грудями, то опускались на бедра, касаясь тела везде. Она не сводила с него глаз. – Когда ты женишься на мне. Тони? – Поговорим об этом позже… сразу после… – Он следовал за нею, загипнотизированный этой новой игрой. Дженифер подпустила его к себе… он схватил ее груди… начал с жадностью сосать их… его руки скользнули ей между ног. Она резко отстранилась. – Джен, – судорожно выдохнул он. – Прекрати. Что ты хочешь сделать… убить меня? – Женись на мне, или ты касался меня сейчас последний раз – последний! – Женюсь, женюсь… – Прямо сейчас. Сегодня же. – Но как мы сможем пожениться сегодня? Нам ведь нужно сдать кровь на анализ… получить разрешение. Начнем всю эту кутерьму завтра же с утра. Обещаю. – Нет. К тому времени Мириам успеет отговорить тебя. Упомянув Мириам, она сделала неверный ход: это моментально вернуло Тони к реальности, и его страсть начала затухать. Быстрыми шагами она двинулась к нему через всю комнату, раскачиваясь всем телом, лаская свои груди. – Нам будет не хватать тебя, Тони, – прошептала она. Он быстро пересек комнату и сгреб ее в объятия. – Женись на нас сегодня, Тони. Мы очень хотим принадлежать тебе… – Она прижалась к нему всем телом и стала тереться о него. – Но как я сумею? – прохныкал он. – Бери свою машину. Можно поехать в Элктон, штат Мэриленд. Он уставился на нее. – Ты хочешь сказать, нас там поженят… вот так возьмут и поженят? – «Вот так возьмут и поженят»! – Она щелкнула пальцами. – Но Мириам… – Я сообщу Мириам, – сказала она. – Мы позвоним ей сразу же после бракосочетания. Я сама скажу ей, пускай орет на меня. Ты будешь в моих руках. Я вся целиком буду принадлежать тебе… навсегда. – Она опять потерлась о него. – Потрогай же меня здесь. Тони, – все это будет принадлежать тебе. Ты сможешь делать со мной все, что пожелаешь, Тони. Все… даже то, чего я тебе никогда не позволяла. – Она отстранилась и стояла, ритмично покачивая бедрами. – И буду делать все, о чем ты меня просил… после того как мы поженимся. – Сейчас, – взмолился он. – Пожалуйста, сейчас… а потом поедем в Элктон. – Нет. После Элктона. – Я не выдержу, не смогу столько ждать! Она подошла ближе. – Прекрасно сможешь. Потому что сегодня же, после того как мы поженимся, – пальцами она ласкала его тело, покусывая его за ухо, – мы классно потрахаемся. Он провел языком по пересохшим губам. – Ладно, ты победила. Только, ради бога, поедем туда прямо сейчас. Она обвила его руками. – Ты не пожалеешь об этом… я доведу тебя до безумия. В дверь резко постучали. Дженифер вырвалась из его объятий. – Я никого не жду. Тони, говорил ты кому-нибудь, что будешь здесь? Он затряс головой. Она надела халат. Перед ней стоял посыльный отеля с телеграммой в руке. – Это Анне. Ей надо позвонить Лайону. Вдруг дело важное. Дженифер села на кровать и набрала номер. Тони последовал за ней в спальню. О черт, как глупо все обернулось! Дженифер встала, запахивая халат. Где же Анна? Почему они не отвечают? – Алло, – ответил голос Лайона. Да, Анна у него. Тони возился с ее халатом. Она оттолкнула его: – Алло, Анна? Тебе сейчас пришла телеграмма. Конечно, одну минуту. – Она разорвала конверт. Тони мягко, но настойчиво толкнул ее на кровать. Держа в руках телеграмму и трубку, Дженифер молча пыталась отпихнуть его. Она зажала трубку рукой. – Нет, Тони! Не сейчас. Нет! – Он уже забрался на нее. Она посмотрела на провод. Тони нашел ртом ее грудь. О боже… – Анна… да, я здесь… Анна… Господи! Твоя мать умерла! – Она ощутила, как Тони грубо входит в нее и, словно насильник, яростно овладевает ею. Стиснув зубы, она старалась говорить ровным голосом. – Да, Анна. Больше в телеграмме ничего. Приношу тебе свои соболезнования. – Она положила трубку. Он уже обессиленно привалился к ней, тяжело дыша от полученного наконец удовлетворения. – Тони, это нечестно. Ты воспользовался моей временной слабостью. Он лениво улыбнулся. – Детка, эти слабости у тебя от рождения – целых две. – Он чмокнул ее в левую грудь. – Давай лучше быстрее одеваться. Сюда едет Анна. Он надел рубашку. – Черт, до чего же мне захотелось тебя, а? На этой рубашке не осталось ни одной пуговицы. Сбегаю быстро к себе в отель за новой. – Упакуй вещи, Тони. – Для чего? – Мы же едем в Мэриленд, забыл? – Не сейчас, детка. Если мы пошевелимся, то еще успеем застать шоу в «Ла Бомбре». Ну-ка одевайся, я заскочу за тобой минут через двадцать. – Тони, если мы не поедем туда сегодня, я больше не буду с тобой встречаться. Подойдя к ней, он игриво потрепал ее за подбородок. – Будешь, детка. Я – самый великий. Кто может сравниться со мной? – он направился к двери. – Надень что-нибудь потрясное – там будут газетчики. Она посмотрела, как за ним закрывается дверь. Проклятье! Проклятье! Как все пошло. Будь проклята мать Анны! Будь прокляты все матери на свете! Даже с того света они протягивают свои руки и все портят. Она вдруг вспомнила, что на этой неделе не отправила своей матери чек. А ведь близится Рождество. Мать подыскала себе каракулевую шубу, которую непременно хочет купить. Хочет успеть поносить хотя бы единственную натуральную шубу, пока еще жива. Она бросилась к столу, выписала чек на пятьсот долларов, вложила его в конверт и приписала: «Счастливого Рождества. Поздравляю с каракулевой шубой. Джанет». Что ж, по крайней мере, хоть у матери Рождество будет счастливым. Проклятье, когда же оно будет у нее самой? Она начала быстро одеваться. Ей не хотелось, чтобы Тони застал ее здесь. Ей все-таки придется принудить его. Времени остается так мало. Она поедет в Лоренсвилл с Анной! Ну конечно! Обязательно – ведь Анна ее подруга. Она позвонила Генри Бэллами. Его сонный голос сразу же оживился, когда она сообщила о случившемся. Конечно, она должна ехать с Анной. Пусть не беспокоится, с Гилом Кейсом он все уладит. Пусть возьмет машину напрокат, расходы за его счет. Легче ехать в Лоренсвилл на машине, чем связываться с пересадками на поездах. Бедная Анна: и тетка и мать в один год. Когда Анна и Лайон приехали, все уже было готово и обговорено. Дженифер даже упаковала сумку Анны. – Я положила два черных платья и серый костюм. – Можно уехать первым утренним поездом, – сказала Анна. – Нет. Сейчас только половина первого, а я все равно по ночам не сплю. Я поведу, а ты поспишь прямо в машине. К утру будем на месте. Я уже заказала машину, она подъедет с минуты на минуту. – Я приеду на похороны, – сказал Лайон. Анна повернулась к нему. – Нет, Лайон. Ты не знал мою мать. Все будет нормально. Займись лучше своей книгой. – Позвони мне сразу же, как приедете. Дженифер стремглав увлекла Анну вниз по лестнице. Сверкающая черная машина уже ждала их у входа. Представитель фирмы передал Дженифер ключи от зажигания вместе с документами на прокат машины, и пять минут спустя они уже были в пути. Лайон смотрел, как красные огни исчезали в потоке других машин. Все произошло так быстро. Он был поражен, как молниеносно Дженифер все устроила. Он ошибался в ней: не такая уж она и пустышка, в конце концов. Лайон сошел вниз и едва не столкнулся с Тони Поларом – тот садился в такси с самодовольным выражением на лице.* * *
Похороны были в понедельник. Как только они приехали в Лоренсвилл, всем стала заниматься Анна и хладнокровно проделала все, что необходимо в такой ситуации. Выяснилось, что произошел бессмысленный несчастный случай по вине самой матери. У нее уже давно начала образовываться катаракта. Машину всегда водила тетя Эми, но после ее смерти мать настояла на том, чтобы водить самой. Была ночь, шел дождь, она ехала домой после затянувшейся игры в бридж и не заметила грузовика с прицепом. Удар пришелся прямо в голову, смерть наступила мгновенно. Похороны были торжественными и пышными. Лайон и Генри прислали огромные корзины живых цветов. От мисс Стейнберг и девушек тоже пришел венок. В тот же вечер Анна была вынуждена устраивать нечто вроде официального приема. Казалось, все население городка явилось выразить свое соболезнование и поглазеть на Дженифер. Во вторник утром Дженифер заговорила о возвращении в Нью-Йорк. Они сидели в залитой солнцем столовой. Лоренсвилл очень понравился Дженифер. Ее забавляло, что весь городок с восхищением таращит на нее глаза. Но самое большое впечатление на нее произвел дом, оставшийся теперь Анне. – Мне нужно возвращаться, чтобы участвовать в представлении. Но ты-то, я думаю, останешься здесь хоть ненадолго. – Это еще для чего? – удивилась Анна. – Ну-у, этот дом. Ты же не можешь вот так взять и уехать из него. – Я уже говорила со своим адвокатом. Сказала, чтобы дал объявление о продаже. С мебелью и со всем прочим. – Но это же замечательный дом, Анна. Может, оставишь его себе… сдашь внаем. – Я ненавижу его и ненавижу этот город; хочу оборвать все, что меня связывает с ним. Если я оставлю себе этот дом, то у меня всегда отыщется причина приехать сюда. Если же продам, то буду знать, что мне не придется возвращаться сюда никогда, никогда. – У тебя было настолько ужасное детство? – Не ужасное. Просто не было никакого. – Я так понимаю, что ты не любила свою мать. – Да, не любила, но и не испытывала к ней неприязни. Она никогда не давала мне оснований ни для того, ни для другого. Это не ее вина. Это – Лоренсвилл. Ах, Дженифер, я бы лучше всю жизнь прожила в той ужасной комнатке, что я снимала на Пятьдесят второй стрит, чем осталась здесь. Лоренсвилл душит меня. Я физически чувствую это – нависает, гнетет и давит к земле. – Ее передернуло. – Вообрази, за всю свою жизнь здесь я была знакома, по меньшей мере, с тридцатью девочками, и ни одна из них не стала моей близкой подругой. В Нью-Йорке я чуть больше года, а у меня есть уже и ты, и Нили, и Лайон. – Положим, только Лайон и я. От нашей кинозвезды вот уже несколько месяцев ни слуху ни духу. – Ее картина выходит на экраны в марте. Только представь: премьера ее первой картины в мюзик-холле. – Да, наверное, она сыграла хорошо. Я читала, что сейчас она снимается уже во втором фильме. Интересно, когда у них пойдут дети? А Мэл – как ты думаешь, он здорово поправился? Обе девушки рассмеялись, и Дженифер налила еще кофе. – Ну ладно, днем мне нужно ехать, тогда приеду еще затемно. И успею на завтрашнее дневное представление. – Она наморщила лоб. – Боже, Тони, наверное, думает, что меня похитили. Я же не успела оставить для него записку в отеле. Вот уж Мириам, должно быть, торжествует. Всю утомительную дорогу до Нью-Йорка она размышляла о Тони. Даже если все получится – если они поженятся, – с ними всегда будет Мириам. Это крупный недостаток Тони. «Она воспитала меня, посвятила мне всю свою жизнь! – с криком бросал он в лицо Дженифер, когда та начинала возмущаться постоянным вмешательством Мириам в их отношения. – Из всех женщин она – единственная, кто стоит за меня на все сто процентов!» Но Мириам не может ложиться с ним в постель. Дженифер решительно нахмурилась. Она хочет не только его денег и прочного положения. Она хочет быть еще и хорошей женой. Хочет ребенка. От этой сделки Тони приобретет больше, чем даст ей сам. Она не станет изменять ему. Для чего? Все мужчины похожи друг на друга. Тони вполне удовлетворяет ее, как и большинство других мужчин. Мария научила ее обращаться со своим телом, и она теперь знает, как возбуждаться самой. Это легко… Ее почтовый ящик в отеле был забит письмами и телефонограммами. Несколько было от дома моделей Лонгуорта – о боже, она же забыла сообщить им, – но все остальные были от Тони. Телефонистка коммутатора сказала ей, что мистер Полар звонил только что, уже десятый раз сегодня. Дженифер довольно усмехнулась. Было уже два часа ночи. Она прошла к себе в люкс и разделась. Однако секонал пока не принимала. Забравшись под одеяло, она стала ждать. Спустя двадцать минут зазвонил телефон. Когда она ответила, в голосе Тони послышалось явственное облегчение. Но он тут же прорычал: – Где ты была, черт тебя возьми? – Далеко. – Хватит шутить! – Затем совершенно другим тоном, внезапно проникнувшись искренним чувством, он спросил: – Послушай, детка, я чуть с ума не сошел. Где ты была? Ее ответ не удовлетворил его, пожалуй, он не поверил. – С каких это пор ты мчишься из города, чтобы присутствовать на похоронах? – Анна моя лучшая подруга. – Хорошо, но ведь тебя не было черт знает сколько времени. Что там стряслось? Кто-то из могильщиков оказался неотразим? – Все как один, – сладким голосом ответила она. – Говоря откровенно, в жизни не видела сразу столько красивых мужчин в одном городе. – На самом деле она даже не разговаривала ни с одним мужчиной моложе пятидесяти. – Джен, – мягко попросил он. – Могу я сейчас приехать? – Тони, уже три часа. – Я мог бы быть у тебя через пять минут. Она притворилась, что зевает. – Прости, но я приняла снотворное. – Тогда завтра? Днем? В три у меня запись, но в четыре я буду свободен. – У меня дневное представление. Завтра же среда, забыл? – Хорошо, приеду к тебе сразу же после выступления. – Нет. Ты же знаешь, я не снимаю грим между дневным и вечерним представлениями. И от моей прически ничего не останется. Он простонал: – Ну хорошо, хорошо! Я заеду за тобой и поужинаем вместе. – Там видно будет… – Она положила трубку. После дневного представления Дженифер не поехала домой. Все время до вечернего представления она заставила себя просидеть в кино. Перед самым представлением она велела швейцару сказать Тони, если тот заедет за ней, что она уже ушла. Она сидела в гримерной до тех пор, пока швейцар не пришел опирать помещения. «Да, мистер Полар действительно приезжал, и я передал ему именно то, что вы просили». Дженифер дала ему пять долларов и ушла домой. Когда она вошла в свой номер, телефон заливался длинными трелями. Она не стала снимать трубку. Аппарат трезвонил каждые двадцать минут. Всякий раз она связывалась с коммутатором – звонил мистер Полар. В пять часов утра она сняла наконец трубку. Тони был в ярости. – Ты где была? – Ходила в кино между представлениями. – Она нарочно говорила так, чтобы это звучало не правдоподобно. – Ну конечно! А вечером? Что-то ты быстро оттуда слиняла. – Я была в театре. Швейцар, должно быть, ошибся. – И разумеется, провела весь вечер дома? – Э-э… – Так вот, к твоему сведению – я звонил каждые двадцать минут, начиная с половины двенадцатого. Ты пришла только сейчас! – Голос у него был торжествующий. – Я, должно быть, спала и не слышала звонков. – Ну, еще бы! Вероятно, с одним из бостонских хлыщей, с которым на похоронах познакомилась. Дженифер повесила трубку первой и откинулась на подушку, удовлетворенно улыбаясь своей очаровательнейшей улыбкой. Срабатывало! Она прошла в ванную и взяла с полочки пузырек, до краев наполненный красными капсулами. Вот уж повезло, так повезло! В Лоренсвилле она с невинным выражением на лице поведала старенькому доктору Роджеру о своих трудностях со сном. Он был ослеплен ее лучезарной улыбкой и отнесся к ней с пониманием и сочувствием. От похорон у многих появляется бессонница. На другой день он сам явился с пузырьком, набитым двадцатью пятью капсулами секонала! Опять настойчиво зазвонил телефон. Тони теперь не отстанет. Она позвонила на коммутатор отеля и велела ни с кем больше не соединять, сказав, что сегодня ночью она не отвечает ни на какие звонки. Для большего спокойствия она заперла дверь на задвижку. Затем открыла пузырек с пилюлями. Достала две. Одна помогала – но две! Это было самое восхитительное ощущение на свете. Она мягко опустила голову на подушку. Томное оцепенение начало распространяться по всему ее телу. О боже! И как только она жила без этих великолепных красных «куколок»! Еще два дня играла она с Тони в кошки-мышки. Каждую ночь она с обожанием смотрела на пузырек с секоналом. Без этих «куколок» у нее не получилось бы ничего. Она бы целыми ночами не спала, курила, металась… и самообладание покинуло бы ее. В пятницу вечером, когда она приехала в театр, у входа ее поджидал Тони. Он грубо схватил ее за руку. – О’кей. Твоя взяла, – рявкнул он. – Я на машине. Мы едем в Элктон сегодня же… сейчас. – Но у меня выступление, а завтра еще дневное представление. – Я сейчас пойду и скажу режиссеру, что ты заболела. – Но они же прочитают о нас в газетах, если мы сбежим туда. С меня взыщут неустойку, возможно, даже через профсоюз «Эквити». – Ну и что? Ты будешь миссис Тони Полар. Ты ведь не собираешься продолжать выступать в этом шоу, а? (Ну конечно нет! Что она, с ума сошла? И потом, Генри все уладит. Вот именно!) Она схватила его за руку. – Иди и скажи, что я больна, Тони. По правде говоря, я и впрямь начинаю ощущать какую-то слабость…* * *
Дженифер была счастлива, Тони – ошеломлен. Они поженились! Сообщение попало в газеты Элктона. Улыбаясь, они позировали перед местными фоторепортерами и делали заявления для АП и ЮП. Наконец они уехали оттуда и остановились в небольшой гостинице на окраине Нью-Йорка. Сейчас, когда Тони сидел на кровати, глядя, как Дженифер распаковывает вещи, ошеломление, вызванное общим возбуждением, начало проходить. Он вдруг испугался. – Мириам убьет меня, – медленно проговорил он. Подойдя к нему, Дженифер обвила его руками. – Ты не ребенок, Тони. Ты – мой муж. – Ты должна заступиться за меня, когда мы будем ей говорить, – бормотал он. – Я твоя жена, милый, я всегда буду за тебя заступаться. – Но она просто сойдет с ума от ярости, Джен. – У него в глазах появились слезы. Он вдруг зарылся головой в подушку и разрыдался. – Боюсь… как же я боюсь… На мгновение Дженифер застыла на месте. Волна отвращения захлестнула ее, вызвав даже приступ тошноты. Она ощутила в себе безумный импульс повернуться и бежать отсюда… но куда? И к чему именно? Никто не поймет. Подумают, у нее что-то не в порядке с мозгами. Ей нужно постараться, чтобы все выглядело пристойно. Тони – звезда, а у талантливых людей часто бывает идиосинкразия. Может, в этом-то все и дело: просто он повышенно эмоционален по сравнению с другими мужчинами. Сев на кровать, она взяла его голову в ладони. – Все будет в порядке, Тони, – успокаивающе сказала она. – Но Мириам сойдет с ума. Станет кричать. – Он посмотрел на нее. В глазах у него стояли слезы. – Это ты виновата. Ты заставила меня сделать это. – Я же сказала, что заступлюсь за тебя перед Мириам. – Честно? Правда, заступишься? – Да, – она погладила его по голове. – Тебе просто нужно помнить, что я – твоя жена. Тони протянул руку и коснулся ее груди. Медленно вытерев слезы, он заулыбался и посмотрел на нее с хитроватым выражением на лице. – И теперь я могу делать с тобой все, что захочу? Она выдавила из себя слабую улыбку. – Да, Тони… Он грубо сорвал с нее халат. – Перевернись на живот, – прорычал он. Джен заскрежетала зубами от боли, когда, с трудом прорвавшись, он проник в нее. Почувствовала, как его ногти впиваются ей в тело, царапая кожу. «Улыбайся, Джен, – сказала она себе. – Ты добилась своего: ты – миссис Тони Полар…»* * *
Держа в руках скомканную телеграмму, Мириам невидящим взором смотрела перед собой. Элктон! Что ж, значит, так! А она-то лезла из кожи – платила две сотни в неделю этому Орнсби! Она со злостью сорвала трубку и жирным пальцем стала набирать номер. – Извините, что потревожила ваш сон, мистер Орнсби, – проревела она. – Только получается, что вы спите в мое время и за мой счет! Сон мгновенно слетел с детектива. – Я шел за ним до самых дверей театра. В восемь часов он ждал ее. Она пришла в восемь ноль одну, они стояли и разговаривали. Оставалось почти полчаса, и я знал, что ей нужно войти в театр, поэтому отошел перекурить. Я знал, что у меня в запасе три часа: ведь у нее же выступление. К одиннадцати я опять подошел туда. Он не появлялся. Когда он подвозит ее, то подъезжает к одиннадцати пятнадцати, самое позднее. Я ждал до одиннадцати тридцати, потом перенес наблюдение в его отель. Я ушел оттуда несколько часов назад. Он там так и не появился. Поэтому я думаю, что у нее, возможно, сегодня встреча с кем-то другим, и он тоже попал в лапы какой-то другой цыпочке. Она вот уже несколько дней, как водит его за нос: после каждого представления уезжает домой одна. – Так вот, сегодня она вообще не выступала ни в каком представлении, – отчеканила Мириам. – Они сбежали. На том конце провода замолчали. – Я платила вам целых две сотни в неделю только за то, чтобы вы предотвратили это. Какой же вы тогда детектив? – Один из самых лучших, – резко ответил он. – Но эта парочка – те еще фрукты. Я всю задницу себе отморозил, стоя у его отеля каждую ночь, пока они там забавлялись в теплой мягкой постели. Но, черт возьми, леди, я ведь вам не ФБР. Я должен пойти поесть, а иногда и отлить. Думал, что единственное время, когда опасности уж наверняка не существует, это когда она на сцене. Кто же мог подумать, что она смоется с представления? Мириам с грохотом швырнула трубку. Он прав: Дженифер оказалась чересчур хитрой. Она вздрогнула. Всегда быть такой осторожной, и на тебе – все впустую. До сих пор удавалось дурачить и публику и всех остальных. Они воспринимали детские ответы и реплики Тони как часть его имиджа. Некоторые даже считали это умной позой. Лишь одна Мириам знала правду и скрывала ее от всех, даже от самого Тони. Оставаясь наедине с женщиной, он функционировал как мужчина – физиологически. У него были способности к пению. На сцене он все делал правильно – механически. Однако в своем умственном и эмоциональном развитии Тони остановился на уровне десятилетнего ребенка. И что же теперь? Пока она присутствовала на каждом интервью, она могла прикрывать его. Но сейчас появилась Дженифер. О чем она уже догадалась? Вообще говоря, ничего против этой девушки она не имеет. Вероятно, та действительно по-настоящему привязана к Тони. Почему бы и нет? Он красив, талантлив, неплохой жеребец. А может, Дженифер и не заметила ничего? В конце концов вдвоем они никогда не оставались – только в постели. Мириам позаботилась о том, чтобы всегда быть с ними, да еще чтобы их сопровождали не менее одного-двух авторов песен. Так она приучила Тони. «Звезда всегда должна иметь вокруг себя окружение», – постоянно твердила она ему, и он согласился с тем, что ходить повсюду в сопровождении кого-либо – обычная для него процедура. Благодаря этому приему ни у кого не было возможности поговорить с ним сколько-нибудь длительное время. До появления Дженифер все было просто. Мириам понимала, что ему требуется удовлетворять свои физические потребности, и поощряла это, организуя все так, чтобы его связи носили временный характер. Какая-нибудь танцовщица ночного клуба, в котором они выступали, счастливая уже от того, что была близка с ним, купалась в лучах его славы, вполне довольная тем, что при расставании Тони дарил ей духи и обещал вечно помнить ее. Так все и шло, пока ему не встретилась Дженифер. Мириам предприняла все для того, чтобы поломать их связь. Всякий раз, как только он уезжал за пределы Нью-Йорка, она подсовывала ему красивейших девиц на свете. Да, он брал их, но всегда возвращался к Дженифер. Мириам надеялась, что уж после гастролей по Калифорнии с ней будет покончено. Оставалось каких-то две недели – и вот, это все-таки произошло! Мириам вздохнула. Большинство людей считает, что она таскается за Тони, чтобы купаться в лучах его славы. Хороша слава! Да она бы все на свете отдала, чтобы пожить своей личной жизнью. Но она не может покинуть Тони. Вот так она и живет, сорокачетырехлетняя старая дева, ведущая Тони за руку к ослепительной славе. Ну почему все должно было сложиться именно так? «Грехи отца», – подумала она, горько скривив губы. Что ж, они-то, конечно, отразились на Тони, только он не знал об этом. Основную тяжесть несет она. Да и если уж говорить откровенно, грехи-то были не отца, а их сволочной шлюхи-матери! Сколько тайн она скрыла от Тони и от всех прочих! Сочинила трогательную историю о красавце-отце, погибшем в железнодорожной катастрофе до рождения Тони. И об очаровательной хрупкой матери, настолько ослабленной таким потрясением, что, родив младенца Тони, она тихо улыбнулась и отошла в объятия ангелов, оставив его на попечение четырнадцатилетней Мириам. Пресса поверила. И Тони поверил. Он так и не узнал, что его настоящий отец, так же как и настоящий отец Мириам, не известны даже их матери. Они были зачаты от разных отцов – случайных партнеров, из тех, что каждую ночь проходили через постель их матери. И уж тот, от кого родился Тони, должно быть, был красавцем! Но и после этого ее мать встречалась со множеством разных мужчин. Официантка-певичка с Кони-Айленда [38] не особенно интересовалась социальным положением своей клиентуры. Мать клялась Мириам, что ее отцом был приличный человек из Питтсбурга. Может быть. Но отец Тони – кем бы он ни был, подонок, – наверняка был хорош собой. От обоих родителей Тони взял самое лучшее. От матери ему достались бездонные карие глаза с невероятно длинными ресницами. Нос был короткий и прямой, рот – чувственный. И роста он был высокого. Мириам же, напротив, унаследовала чью-то другую внешность. Она криво усмехнулась. Тот мужчина из Питтсбурга, может, и был приличным человеком, но явно не Робертом Тэйлором. И вообще, если она когда-нибудь натолкнется в Питтсбурге на маленького приземистого голубоглазого толстяка с носом-картошкой, она непременно воскликнет: «Папочка!». Фамилию Полар она выбрала, поддавшись чувству. Самым добрым и постоянным любовником из всех, что когда-либо имела ее мать, был человек по фамилии Поларски. Он искренне любил низенькую толстую девчушку и никогда не забывал прихватить для нее подарок или ласково потрепать ее за подбородок. Она все время помнила о нем. Несколько лет спустя в знак молчаливой признательности она взяла его фамилию для себя и для Тони, лишь немного укоротив ее. Скрыть от Тони и от прессы его настоящее происхождение особого труда не составило. Их мать постоянно меняла места жительства. В каждом городе есть женщины, подобные Бэлле – девице не первой свежести, играющей на расстроенном рояле и поющей гортанным голосом в коктейль-баре. Бэлла начинала петь у Тони Пэстора, но то был единственный звездный период ее карьеры. После этого она опустилась и стала выступать на подмостках пивных и коктейль-баров в разных городах, переходя от одного мужчины к другому. Мириам появилась на свет в Филадельфии, в родильном доме для малоимущих, содержавшемся на пожертвования. Бэлла сдала ее в приют, где та и воспитывалась до восьмилетнего возраста. Затем Бэлла нашла более или менее постоянную работу на Кони-Айленде и забрала девочку. Несколько лет Мириам росла в роскошной атмосфере двухкомнатной квартиры и искренней привязанности к себе мистера Поларски, но, когда тот ушел своей дорогой, последовала новая череда мужчин. Бэлла старела. Они обе опешили, когда Бэлла обнаружила, что опять забеременела. Боже! Вот уже несколько месяцев, как все у нее относительно нормализовалось – этого только ей и не хватало, ребенка, который изменит всю ее жизнь. Она еще работала шесть месяцев, но потом уже не смогла скрывать своего положения, и ее уволили. Вместе с Мириам она переехала в дешевую комнату. Той уже исполнилось четырнадцать лет, она бросила школу и встала за прилавок. Ни друзей, ни соседей у них не было. И вот как-то поздней ночью мать увезли в дребезжащей машине «скорой помощи», а рядом с нею ехала трясущаяся от страха Мириам. Бэлла умерла через пять минут после того, как истошно орущий Тони появился на свет. Мириам взяла ребенка домой. Безразличного заведующего отделением оказалось совсем нетрудно убедить в том, что дома их ждет не дождется бабушка. И вот она, совершенно одинокая четырнадцатилетняя девочка, стала растить Тони. Сейчас, когда она оглядывалась назад, все это представлялось ей невозможным кошмаром: ужасные первые недели, когда она училась правильно готовить молочные смеси, стирала пеленки, пыталась как можно дольше растянуть накопленные на пару с Бэллой две сотни долларов, выкраивая центы на молоко и питаясь одним консервированным супом. Тони исполнился месяц, когда у него появились первые судороги. И опять была дребезжащая «скорая», опять больница. Сделали анализы, солидные доктора уточняли диагноз Тони и изучали его состояние. В больнице его продержали год. От волнения Мириам вся извелась, но зато она нашла место с полным рабочим днем и отложила немного денег. Потом ей вернули Тони. На вид он был здоровеньким. Затем – опять судороги и опять больница. Так продолжалось, пока ему не исполнилось пять лет. Судороги прекратились. Он пошел в детский сад, с трудом окончил младшую группу. Но из средней его отчислили. Предложили специальную школу, но она оставила его дома. Ее Тони ни за что не будет учиться с этими придурками. Запасясь терпением, она стала учить его всему тому, что он был способен усвоить. Да, начало было совершенно неописуемым. Но в пятнадцать лет можно биться за жизнь против любых обстоятельств. В двадцать один год можно покорить весь мир. И вот сейчас обстоятельства опять повернулись против нее, а Мириам устала. Несколько раз ее подмывало пойти к Дженифер и поведать ей всю правду о Тони, пусть она поймет, что самая мысль о таком замужестве абсурдна. Но риск был слишком велик. А что если эта девица плюнет на них обоих и разнесет их историю по всем городу? Это будет крахом сценической карьеры Тони, крахом самого Тони. Ей нельзя сдаваться сейчас: слишком долго сражалась она за него. Боже, подумать только, ведь она сражалась даже с армией Соединенных Штатов. Получив повестку с призывного пункта, Тони пришел в неописуемый восторг – для него это была игра в солдатики. Его жизнь на сцене только-только начиналась, и он так и не узнал ни о ее тайных поездках в Вашингтон, ни о бесконечной бюрократической волоките, ни о бесчувственности твердолобых военных. У нее уже опускались руки, как вдруг ей попался майор Бэкман. У него был брат, такой же, как Тони. Он прочитал медицинские свидетельства Тони из больницы Кони-Айленда, хранившиеся в потрепанном конверте из оберточной бумаги, и показал Тони главному армейскому невропатологу. В результате Мириам получила еще целую груду справок и свидетельств, которые вложила все в тот же конверт из оберточной бумаги, и Тони получил освобождение от призыва без лишнего шума, но окончательно и бесповоротно. Для прессы майор Бэкман сделал заявление, что Тони Полар освобожден от прохождения военной службы из-за повреждения барабанной перепонки. Нет, ей нельзя сейчас сдаваться. Она победила всех – армию, прессу, весь этот чертов мир вокруг нее, и вот теперь позволить какой-то фигуристой блондиночке разрушить все! Она не отойдет от них ни на шаг. Через несколько недель они едут на Западное побережье, и она станет жить вместе с ними. Кто знает – может, что-то и получится. Она надела платье на свое бесформенное тело и стала методично приводить мысли в порядок. Нужно сделать заявление для прессы ведущим обозревателям – кому же сообщить первому? Нет. Никаких любимчиков. Телеграфные агентства, должно быть, уже передали обо всем прямо из Элктона. Когда они вернутся, она созовет пресс-конференцию, организует интервью с Дженифер и Тони… (обратно) (обратно)Анна
декабрь 1946
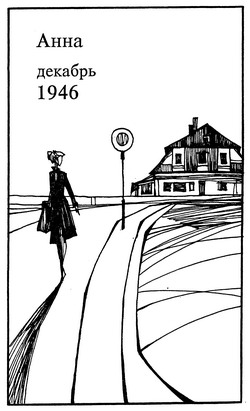 В тот вечер Анна вернулась в Нью-Йорк. В их номере все было перевернуто вверх дном. На ночном столике торчком стоял листок, покрытый торопливым почерком Дженифер:
«Борьба была нелегкой, но я одержала победу. Когда ты будешь читать это, я уже буду мисс Тони Полар. Пожелай мне счастья. С любовью – Джен».
Анна была рада за подругу, но победа Дженифер, казалось, еще сильнее подчеркивала безрадостность и безнадежность ее собственной судьбы.
Лайон позвонил ей в Лоренсвилл и сообщил потрясающее известие. Бэсс Уилсон книга понравилась, она сочла ее многообещающей, но полагала, что ее нужно переписать, прежде чем она сможет показать ее какому-либо издателю. Лайон весь горел энтузиазмом. Правда, это означало еще полгода печатания на машинке, но ведь книга понравилась самой Бэсс Уилсон, а на Бэсс угодить нелегко.
Она пыталась скрыть свое разочарование: значит, придется стучать на машинке еще целых шесть месяцев. И вот ушла Дженифер. Номер люкс казался совсем нежилым.
Она может позволить себе снимать его и одна. У нее много денег, точнее – будет много, как только все придет в порядок. К сожалению, оборвать все связи с Лоренсвиллом, просто передав мистеру Уокеру ключи, оказалось невозможным. Оставалось еще бесчисленное количество юридических процедур, требующих ее присутствия. Завещание должно быть подтверждено судом по наследственным делам. А мебель… нельзя же было просто выставить ее на улицу. Мистер Уокер сказал, что каждый предмет имеет определенную стоимость. К мебели нужно прикрепить бирки и отправить ее в Нью-Йорк или Бостон на аукцион. Это принесет Анне приличную сумму. Мать оставила ей пятьдесят тысяч долларов облигациями, акциями и наличными. Деньги тети Эми тоже переходили к ней – это еще двадцать пять тысяч. По словам мистера Уокера, за один только дом он сумеет выручить сорок тысяч, поскольку тот расположен на полутора акрах отличной земли. Да, денег у нее будет много, намного больше ста тысяч, не считая суммы, что будет выручена за мебель, а тем временем над нею дамокловым мечом нависала необходимость опять ехать в Лоренсвилл, по. крайней мере, на неделю, а то и больше. Она поежилась. Уже одно только пребывание в этом доме беспричинно угнетало ее.
Быстро приняв душ, Анна переоделась и поехала на такси к Лайону. Когда она вошла, он сидел за машинкой.
– Заходи в мою темницу, – пригласил он, обнимая ее. Он принялся подбирать скомканные листы бумаги, разбросанные по полу. – Не обращай внимания на этот хлев: я работал все вечера подряд. Все идет превосходно.
Она натянуто улыбнулась.
– Я рада, Лайон. Я знаю, что книга получится хорошей. – Она взяла пачку чистой бумаги и посмотрела на нее. – Сейчас для меня совсем не время сидеть в этом Лоренсвилле, как в ловушке, но я могу взять с собой бумагу и печатать новый вариант там.
– Что я буду делать без тебя? Я же делаю столько опечаток, и страницы выходят неаккуратные. – – Он вдруг нахмурился. – Это и впрямь несправедливо по отношению к тебе – ты была так терпелива все это время. И вот опять задержка – эта перепечатка, будь она неладна.
Она улыбнулась.
– Я же сказала, что готова ждать всю жизнь, если потребуется. Не обращай внимания ни на меня, ни на мое настроение – это все Лоренсвилл.
Потом, когда она лежала в его объятиях, ей казалось, что Лоренсвилл находится за тысячи миль от них. Словно его и не существовало никогда. Лишь много позже она вспомнила, что еще не сообщила Лайону про Дженифер.
– Рад за нее, – сказал он. – Но разве это не поставило тебя в несколько затруднительное положение? Ведь теперь тебе не с кем снимать номер.
– У меня есть деньги, Лайон. Мать оставила мне приличную сумму.
– Никому не говори об этом. А то какой-нибудь охотник за деньгами быстренько окрутит тебя.
– Лайон, ну почему мы не можем пожениться? Денег у меня хватит, чтобы нам обоим жить на них в течение… э-э, довольно долгого времени.
– А ты каждое утро будешь вставать и бежать на работу…
– Только чтобы не мешать тебе. Здесь слишком тесно для двоих, если мы будем целыми днями шарахаться из угла в угол. Но как только ты все закончишь… тогда я стану работать на тебя. Буду печатать твои рукописи, вести переписку с твоими почитателями…
– Все обстоит не так, Анна. Ты же знаешь, что сказала Бэсс Уилсон. Даже если книга окажется хорошей, она не принесет мне ничего, кроме некоторой писательской репутации. И значит, предстоит работать еще год абсолютно без каких-либо денежных поступлений. И не думай, что я не хочу посвящать писательскому труду все свое время. В эти последние дни я вдруг кое-что понял – вырабатывается определенная ритмичность, когда несколько часов подряд, не отвлекаясь, занимаешься одним и тем же.
– Стало быть, я права. – Она села в кровати.
– И да, и нет. У меня есть деньги, Анна. Но к тому времени, когда я приступлю ко второй книге, они кончатся. Мне придется просить у тебя на сигареты. Для меня это будет слишком унизительно, и писать в таком состоянии я не смогу. Нет, дорогая, ничего не получится.
– Но что же тогда остается делать мне? Сидеть и ждать, пока ты получишь Пулитцеровскую премию?
– Нет. Просто подождать и посмотреть, как примут эту книгу. Если вообще примут. А пока я вовсе не уверен, что ее опубликуют.
– Опубликуют. Я знаю это. И я буду ждать. – Она задумалась. – Интересно, а сколько времени уходит на публикацию книги?
Он рассмеялся и заключил ее в объятия.
В тот вечер Анна вернулась в Нью-Йорк. В их номере все было перевернуто вверх дном. На ночном столике торчком стоял листок, покрытый торопливым почерком Дженифер:
«Борьба была нелегкой, но я одержала победу. Когда ты будешь читать это, я уже буду мисс Тони Полар. Пожелай мне счастья. С любовью – Джен».
Анна была рада за подругу, но победа Дженифер, казалось, еще сильнее подчеркивала безрадостность и безнадежность ее собственной судьбы.
Лайон позвонил ей в Лоренсвилл и сообщил потрясающее известие. Бэсс Уилсон книга понравилась, она сочла ее многообещающей, но полагала, что ее нужно переписать, прежде чем она сможет показать ее какому-либо издателю. Лайон весь горел энтузиазмом. Правда, это означало еще полгода печатания на машинке, но ведь книга понравилась самой Бэсс Уилсон, а на Бэсс угодить нелегко.
Она пыталась скрыть свое разочарование: значит, придется стучать на машинке еще целых шесть месяцев. И вот ушла Дженифер. Номер люкс казался совсем нежилым.
Она может позволить себе снимать его и одна. У нее много денег, точнее – будет много, как только все придет в порядок. К сожалению, оборвать все связи с Лоренсвиллом, просто передав мистеру Уокеру ключи, оказалось невозможным. Оставалось еще бесчисленное количество юридических процедур, требующих ее присутствия. Завещание должно быть подтверждено судом по наследственным делам. А мебель… нельзя же было просто выставить ее на улицу. Мистер Уокер сказал, что каждый предмет имеет определенную стоимость. К мебели нужно прикрепить бирки и отправить ее в Нью-Йорк или Бостон на аукцион. Это принесет Анне приличную сумму. Мать оставила ей пятьдесят тысяч долларов облигациями, акциями и наличными. Деньги тети Эми тоже переходили к ней – это еще двадцать пять тысяч. По словам мистера Уокера, за один только дом он сумеет выручить сорок тысяч, поскольку тот расположен на полутора акрах отличной земли. Да, денег у нее будет много, намного больше ста тысяч, не считая суммы, что будет выручена за мебель, а тем временем над нею дамокловым мечом нависала необходимость опять ехать в Лоренсвилл, по. крайней мере, на неделю, а то и больше. Она поежилась. Уже одно только пребывание в этом доме беспричинно угнетало ее.
Быстро приняв душ, Анна переоделась и поехала на такси к Лайону. Когда она вошла, он сидел за машинкой.
– Заходи в мою темницу, – пригласил он, обнимая ее. Он принялся подбирать скомканные листы бумаги, разбросанные по полу. – Не обращай внимания на этот хлев: я работал все вечера подряд. Все идет превосходно.
Она натянуто улыбнулась.
– Я рада, Лайон. Я знаю, что книга получится хорошей. – Она взяла пачку чистой бумаги и посмотрела на нее. – Сейчас для меня совсем не время сидеть в этом Лоренсвилле, как в ловушке, но я могу взять с собой бумагу и печатать новый вариант там.
– Что я буду делать без тебя? Я же делаю столько опечаток, и страницы выходят неаккуратные. – – Он вдруг нахмурился. – Это и впрямь несправедливо по отношению к тебе – ты была так терпелива все это время. И вот опять задержка – эта перепечатка, будь она неладна.
Она улыбнулась.
– Я же сказала, что готова ждать всю жизнь, если потребуется. Не обращай внимания ни на меня, ни на мое настроение – это все Лоренсвилл.
Потом, когда она лежала в его объятиях, ей казалось, что Лоренсвилл находится за тысячи миль от них. Словно его и не существовало никогда. Лишь много позже она вспомнила, что еще не сообщила Лайону про Дженифер.
– Рад за нее, – сказал он. – Но разве это не поставило тебя в несколько затруднительное положение? Ведь теперь тебе не с кем снимать номер.
– У меня есть деньги, Лайон. Мать оставила мне приличную сумму.
– Никому не говори об этом. А то какой-нибудь охотник за деньгами быстренько окрутит тебя.
– Лайон, ну почему мы не можем пожениться? Денег у меня хватит, чтобы нам обоим жить на них в течение… э-э, довольно долгого времени.
– А ты каждое утро будешь вставать и бежать на работу…
– Только чтобы не мешать тебе. Здесь слишком тесно для двоих, если мы будем целыми днями шарахаться из угла в угол. Но как только ты все закончишь… тогда я стану работать на тебя. Буду печатать твои рукописи, вести переписку с твоими почитателями…
– Все обстоит не так, Анна. Ты же знаешь, что сказала Бэсс Уилсон. Даже если книга окажется хорошей, она не принесет мне ничего, кроме некоторой писательской репутации. И значит, предстоит работать еще год абсолютно без каких-либо денежных поступлений. И не думай, что я не хочу посвящать писательскому труду все свое время. В эти последние дни я вдруг кое-что понял – вырабатывается определенная ритмичность, когда несколько часов подряд, не отвлекаясь, занимаешься одним и тем же.
– Стало быть, я права. – Она села в кровати.
– И да, и нет. У меня есть деньги, Анна. Но к тому времени, когда я приступлю ко второй книге, они кончатся. Мне придется просить у тебя на сигареты. Для меня это будет слишком унизительно, и писать в таком состоянии я не смогу. Нет, дорогая, ничего не получится.
– Но что же тогда остается делать мне? Сидеть и ждать, пока ты получишь Пулитцеровскую премию?
– Нет. Просто подождать и посмотреть, как примут эту книгу. Если вообще примут. А пока я вовсе не уверен, что ее опубликуют.
– Опубликуют. Я знаю это. И я буду ждать. – Она задумалась. – Интересно, а сколько времени уходит на публикацию книги?
Он рассмеялся и заключил ее в объятия.
* * *
Анна ходила взад и вперед по деревянному дощатому полу вокзала в Лоренсвилле. Электричка, как обычно, опаздывала. Бедный Лайон. Пять часов в бостонском поезде сами по себе невыносимы, а трястись еще целый час в неотапливаемой электричке со всеми остановками… Последние три дня были для нее просто ужасными. Она была так благодарна Вилли Хендерсону, который повсюду возил ее на своем новеньком «шевроле». Каждая мелочь требовала бюрократической волокиты! Иногда ей начинало казаться, что она еще ничего не сделала. Придется задержаться здесь до середины следующей недели, потому что из Бостона приезжает представитель посреднического агентства, чтобы обсудить с нею вопрос о мебели. Все, решительно все приходилось обсуждать – какой бы шаг она ни предпринимала, он неизменно тормозился, а то и срывался из-за юридических проволочек. В Лоренсвилле она попала в ловушку. Но на выходные приезжает Лайон. Они проведут вместе два замечательных дня, благодаря которым можно будет вынести даже Лоренсвилл. Кровать матери, огромная, на четырех массивных ножках и с пологом, впервые станет ложем для двух человек, которым хорошо друг с другом. Застилая ее, Анна подумала, сколько же страшных ночей провел здесь ее отец, сколько отказов получил от ее эмоционально девственной матери. «Ну, что ж, сегодня ночью тебя ожидает не один сюрприз», – обратилась она к кровати, в последний раз переворачивая толстый стеганый матрац. Та ответила ей легким поскрипыванием, будто возмущенно протестуя. Но сейчас, нервно прохаживаясь взад-вперед по залу ожидания, Анна подумала, благоразумно ли она поступает. В Лоренсвилле все узнают, что Лайон приезжал и останавливался в ее доме. Ну и что! Продав дом, она никогда больше сюда не вернется. Будь проклят этот городишко! Наплевать, что подумают! Послышался скрежет тормозов подошедшей электрички. Анна первой увидела Лайона. Мелкий снег падал на его черные волосы, пока он шел по перрону. Сердце словно сжалось у нее в груди; всякий раз при виде Лайона она испытывала это странное чувство. Наступит ли такое время, когда она будет воспринимать его как нечто само собой разумеющееся и жить спокойно и счастливо от одного только сознания, что он принадлежит ей? Сейчас же, увидев скользнувшую по его лицу улыбку, она опять ощутила, как ее захлестнула волна изумления оттого, что этот великолепный человек действительно принадлежит ей. Проделать такой путь до Лоренсвилла, только чтобы побыть с нею! – Мне не верилось, что я сюда вообще доеду, – сказал он, слегка обняв ее. – Сколько городков проехали. Боже, бьюсь об заклад, никто даже не подозревает, что в штате Массачусетс есть Рим. – Или Лоренсвилл, – в тон ему подхватила она. – О Лоренсвилле знает каждый: его прославила ты. На чем отправимся в обитель предков, на санях? Она подвела его к такси. Он смотрел на открывающиеся за стеклом виды, а она уютно прижалась к нему. – Разве не нужно сказать водителю, куда ехать? – прошептал Лайон. – Мистер Хилл знает всех в этом городе. Если бы ты был сейчас один, он автоматически повез бы тебя в единственную здешнюю гостиницу. Лайон улыбнулся. – А что, мне это нравится. Не то чтонью-йоркские таксисты. Слушай, а ведь места здесь красивые. – Это снег придает им такой вид. – В голосе Анны не прозвучало никакого энтузиазма. – Когда он пошел? В Нью-Йорке стояла ясная погода. Анна пожала плечами. – Вероятно, еще в августе. Он здесь никогда не прекращается. – По-прежнему стоишь на своем, а? Если уж что-либо ненавидишь, то становишься безжалостной. – Я отдала Лоренсвиллу двадцать лет. Для любого маленького городишки этого более чем достаточно. Лайон наклонился вперед. – А вам нравится Лоренсвилл, мистер Хилл? Водитель кивнул. – Ага. Почему бы и нет? Я родился здесь. Правильный, хороший городок. У мисс Анны это возрастное, скоро пройдет. Вот поживет здесь подольше и тогда… – Я же говорила вам, мистер Хилл, что уезжаю отсюда насовсем. – А я считаю, что, когда действительно подойдет время продавать старый дом, ты передумаешь. Я помню, как в этом самом доме родилась твоя мать. Бьюсь об заклад, и твои малыши тоже в нем родятся. А что? Конечно, сейчас у нас большая новая больница прямо в Вестоне, всего в восьми милях по главному шоссе. Получше, чем многие больницы в вашем Нью-Йорке. Да что вы хотите: даже из Бостона к нам присылали за аппаратурой во время эпидемии полиомиелита. Такси прохрустело по засыпанной снегом подъездной дорожке и остановилось перед домом. Выйдя из машины, Лайон молча воззрился на здание. – Это твой? – Он повернулся к ней, глаза его восхищенно сияли. – Анна… он такой красивый! – Живописный, оттого что снег идет. – В голосе ее сквозила нескрываемая неприязнь. Лайон расплатился с мистером Хиллом, поздравил его с наступающим Рождеством и прошел за Анной в дом. Она была вынуждена признать, что огонь, потрескивающий в камине, делает огромную гостиную теплой и уютной. Анна провела Лайона по всему дому и прочла в его сияющих глазах, что все ему здесь очень нравится. Она поняла, что это не просто дань вежливости, дом и в самом деле пришелся ему по вкусу. В большой кухне они нажарили бифштексов и поужинали в гостиной у пылающего камина. Лайон настоял на том, чтобы затопить камин и в спальне. Она удивилась тому, как умело он обращался с каминным инструментом. – Не забывай, что большую часть жизни я прожил в Лондоне, где не очень-то полагаются на центральное отопление, – пояснил он и добавил: – Дом просто замечательный. Ты слишком привыкла к нему, чтобы достойно его оценить. Знаешь, он подходит тебе. Ты выглядишь так, словно навсегда пустила здесь корни. – Не смей так говорить даже в шутку, – пригрозила она. – Комплиментом я это не считаю. В воскресенье снег перестал, и они долго гуляли. Из церкви выходили люди, и их с Лайоном видела едва ли не половина городка. Анна здоровалась, но не останавливалась, спиной ощущая любопытствующие взгляды. Когда они вернулись домой, Лайон начал растапливать камин, а Анна принесла ему хереса. – Единственное, что смогла найти, – извиняющимся тоном сказала она. – Ни капли виски. – Ты – падшая женщина, – он отпил вина. – Я видел, как на нас косились твои соседи. Они спросят в гостинице и узнают, что я там не останавливался. Похоже, мне придется поскорее жениться на тебе, чтобы восстановить твою честь и репутацию в этом городке. – Мне безразлично, что в этом городке обо мне думают. Он сел рядом с нею. – Ну хватит, моя маленькая упрямица из Новой Англии. Ты должна сдаться и признать, что этот дом действительно великолепен. Какая замечательная комната! Вот тот портрет над камином – ведь он принадлежит кисти Сарджента? – Думаю, что да. На нем мой дедушка. Я передаю его в одну картинную галерею в Нью-Йорке. Они предлагают хорошую цену. – Оставь его у себя. Цена со временем возрастет. – Он немного помолчал. – Анна, серьезно… никогда еще не видел тебя такой красивой, как сейчас, когда ты сидишь здесь. Ты так прекрасно вписываешься в этот интерьер и совсем не производишь впечатление, что угнетена им. Лоренсвилл, похоже, идет тебе на пользу. – Только потому, что здесь ты, Лайон. – Хочешь сказать, дом у человека там, где осталось его сердце… – Он притянул ее к себе, и оба стали смотреть на языки пламени. Некоторое время спустя, по-прежнему мечтательно глядя на горящие поленья, он произнес: – И к тому же все могло бы получиться… – Что «получиться»? – У нас с тобой. Она еще теснее прижалась к нему. – Я всегда говорила, что получится. И ты точно так же мог бы прекратить сопротивление. Это неизбежно. – У меня около шести тысяч долларов. Анна, какой здесь ежегодный налог за жилье? – Здесь? – Вряд ли очень высокий. Не забывай, я сказал, что не смогу жениться на тебе, если нам придется жить на твои деньги. Но я мог бы воспользоваться гостеприимством этого прекрасного дома. Моих шести тысяч нам вполне хватило бы на год. А если бы я получил приличный аванс за книгу, то мог бы приступить к следующей. Анна, может же все получиться! – Он встал и, потирая ладони, окинул комнату взглядом. – Боже мой, а ведь действительно все было бы великолепно. Я мог бы писать здесь. – Здесь? – Это слово едва не застряло у нее в горле. – Анна! – Он встал перед ней на колени. – В наших отношениях не все было достойно. Но здесь, в этом прекрасном доме, я в самой достойной манере коленопреклоненно прошу тебя удостоить положительным ответом мое предложение. Согласна ли ты стать моей женой? – Конечно. Ты хочешь сказать, чтобы я не продавала дом, для того чтобы ты приезжал сюда и писал здесь? Я буду рада сделать это, но ведь уйдет столько времени, чтобы добираться сюда каждые выходные. – Мы стали бы жить здесь! Анна, этот дом – твой, но я стал бы платить за него налог, платить за питание. Мы стали бы жить на мои деньги. А в один прекрасный день я заработаю кругленькую сумму, и мы придумаем что-нибудь другое. Так поступал и твой отец. Мистер Хилл сказал, что здесь родилась твоя мать. Здесь будут наши семейные корни, Анна. А дорогу я себе пробью, стану чертовски хорошим писателем. Вот увидишь. – Жить здесь? – Она ошалело смотрела на него. – Я возвращаюсь в Нью-Йорк и извещаю Генри, что мы оба уходим от него. Если хочешь, пожениться можем в Нью-Йорке. Там осталась Дженифер… – Там осталось все! – Ничего такого, без чего мы не смогли бы жить. – Но, Лайон, мне все здесь ненавистно! Ненавистен этот город, этот дом… Только сейчас он осознал, в каком она состоянии. – Даже когда я здесь? – осторожно спросил он. Она начала мерить шагами комнату, отчаянно пытаясь собраться с мыслями. Нужно заставить его понять… – Лайон… ты говоришь, что смог бы писать здесь. Вероятно, смог бы. Возможно, даже по восемь часов в день. Но что бы стала делать я? Записалась бы в женские клубы? Раз в неделю играла бы в бинго [39]? Возобновила бы так называемую «дружбу» со скучнейшими девицами, с которыми я здесь выросла? А вот тебя они бы так быстро не приняли, Лайон. Ты не их круга. Ты чужак. Нужно быть гражданином Лоренсвилла в третьем поколении, для того чтобы хоть что-то значить в этом городе, насквозь пропитанном снобизмом… На его лице появилось умиротворенное выражение. – Так вот что тебя волнует. Что меня подвергнут остракизму. Ну, за меня не беспокойся, я толстокожий. Станем ходить в церковь, нас все будут видеть. Когда поймут, что мы намерены остаться здесь, они смягчатся. – Нет, нет! Ни за что! Я не буду жить здесь! – Почему, Анна? – Он говорил тихим голосом. – Лайон, ну как ты не понимаешь? Точно так же, как у тебя есть свои определенные принципы, – ты ведь не можешь допустить, чтобы мы жили на мои деньги в Нью-Йорке, – так и у меня есть свои уязвимые места. Их немного – всего одно. Лоренсвилл! Я ненавижу его! Я люблю Нью-Йорк. До приезда в Нью-Йорк я жила здесь, в этом склепе. Я была ничем, была трупом. Когда я приехала в Нью-Йорк, передо мной словно занавес поднялся. Впервые за всю свою жизнь я почувствовала, что живу, дышу. – Но ведь сейчас у нас с тобой появились ты и я. – Он смотрел на нее испытующе, в упор. – Но не зде-есь, – простонала Анна. – Не здесь. Неужели ты не понимаешь? Во мне тогда что-то умрет. – Значит, насколько я понял, ты можешь любить меня только в Нью-Йорке. Нечто вроде единого пакета неразрывных соглашений? – Я люблю тебя, Лайон. – Слезы ручьем текли по ее щекам. – Я буду любить тебя где угодно. Поеду за тобой в любое место, куда потребуется для твоей работы. Куда угодно, только не сюда… – Ты даже не хочешь попробовать реализовать такую возможность… год, от силы два?.. – Лайон, я продам дом… Отдам тебе все деньги… Стану ютиться с тобой в одной комнате. Но не здесь! Он отвернулся и пошевелил в камине кочергой. – Ну что ж, пусть будет так. – Затем добавил: – Подложу-ка еще одно полено перед отъездом. А то уже гаснет. Она посмотрела на свои часы. – Еще рано. – Поеду на четырехчасовом. Завтра предстоит тяжелый день, а в среду еще Рождество… – Я провожу тебя на вокзал. – Анна подошла к телефону и позвонила мистеру Хиллу. Когда она вернулась, огонь почти погас. Без Лайона комнаты снова показались ей мрачными. О боже, понял ли ее Лайон? Он был так молчалив по пути на вокзал. «Во вторник я вернусь, – пообещала она ему. – Ничто не удержит меня здесь. В Рождество я буду с тобой». Но, сев в поезд, он даже не обернулся, чтобы помахать ей на прощание рукой. Она чувствовала, что вот-вот свалится с ног. Проклятый Лоренсвилл! Словно спрут, он тянет свои щупальца, пытаясь затянуть ее назад. На следующий день позвонила Дженифер. Они с Тони жили в отеле «Эссекс-Хаус» в отличных апартаментах. Мириам снимала номер на этом же этаже. И Мириам очень хорошо восприняла все. Вскоре, второго января, они уезжают на Западное побережье. А когда Анна возвращается? Завтра они устраивают рождественский банкет. – Я приеду, – пообещала Анна. – Всех дел здесь, похоже, не переделаешь. Несколько дней назад говорила с Генри. Он – прелесть. Разрешил оставаться столько, сколько нужно. Но на Рождество я приезжаю. Когда Лайон будет звонить мне сегодня вечером, я скажу ему о банкете. Там и увидимся. В тот вечер Лайон не позвонил, вероятно, дулся на нее. Это их первая размолвка, если не считать того, что они не поняли друг друга тогда, в Филадельфии. Нет, она ни за что не уступит. Но завтра она позвонит ему на работу и скажет, что выезжает днем на двенадцатичасовом. Анна заказала разговор на десять утра. Генри на работе не было, Лайона – тоже. Она поговорила с Джорджем Бэллоузом. – Понятия не имею, где Лайон, – ответил ей он. – У нас никто не знает. Он приходил вчера и ушел в двенадцать. Генри улетел на Западное побережье в пятницу, что-то срочное с шоу Джимми Гранта. Может быть, вызвал туда и Лайона… Я же говорю, у нас никто ничего не знает. Она распаковала уложенную было сумку. Ехать в Нью-Йорк нет никакого смысла. Ею овладело разочарование, смешанное с облегчением. Вероятно, Лайон улетел в Калифорнию – вот почему он не позвонил. Хорошо хоть, что не сердится. Наверное, позвонит вечером и все объяснит. Рождество она провела в одиночестве. Лайон так и не позвонил. В три часа ночи она попыталась дозвониться ему домой. Может, он не улетал в Калифорнию? Может, все-таки дуется? Никто не снял трубку. Это было самое тоскливое Рождество на ее памяти. И обвиняла она в этом только Лоренсвилл. Дров для камина больше не осталось, и она включила газовое отопление. В доме стало теплее, но он все равно был холоден и мертв. Она попила чаю, поела печенья. По радио передавали нескончаемый колокольный звон, но рождественские песнопения повергли ее в еще большее уныние. В такой день полагается веселиться. А она – одна. Дженифер сейчас с Тони, Нили – в Калифорнии с Малом. А она – совершенно одна в Лоренсвилле. Следующие несколько дней прошли у нее в хлопотах с мистером Уокером. К каждой вещи была прикреплена бирка, и все дела постепенно упорядочились. В конце недели она уже могла бы уехать. Но где же Лайон? Прошло целых пять дней. В своем отчаянии она дошла до того, что сумела даже выяснить, что Генри остановился в отеле «Беверли-Хиллз» [40] в Калифорнии. – Генри, где Лайон? – Я и сам хотел бы это знать. – На таком расстоянии его голос сопровождался потрескиванием. – Разве он не с тобой? – Нет, я думал, он с тобой. – Я не видела его с воскресенья и не получала от него никаких вестей. – Ты серьезно? – В голосе Генри послышалась тревога. – Я звонил на работу вчера днем. Джордж сказал, что его не было с понедельника. Я, естественно, предположил, что он взял свободные дни, чтобы встретить Рождество с тобой. – Генри, мы должны разыскать его! – Да зачем? Разве что-то случилось? Я имею в виду, что вообще могло случиться? Человек же не исчезает просто так, ни с того, ни с сего. Вот уже три вечера подряд я пытаюсь дозвониться к нему на квартиру, но его там нет. – Я буду в Нью-Йорке завтра. Генри, найди его! Найди его! – Ей вдруг стало страшно. – Ну-ну, успокойся. Вы что, поссорились с ним? – Не то чтобы поссорились. Скорее, не поняли друг друга… но я не думала, что это настолько серьезно. – Я тоже возвращаюсь завтра, – сказал Генри, – если только погода не испортится. Вылетаю сегодня днем четырехчасовым рейсом. А теперь успокойся. Просто так Лайон не возьмет и не бросит нас. Вероятно, в понедельник он явится и все толком объяснит. Почему бы тебе не отдохнуть там у себя в выходные? – Отдохнуть! Да я дождаться не могу, когда можно будет убраться отсюда! …В Нью-Йорке она обнаружила, что в отеле ее ждало письмо от Лайона. «Дорогая Анна! Спасибо, что подтолкнула меня хоть на минутное размышление. Точнее, на пятичасовое размышление: поезд шел довольно долго, и времени на то, чтобы обдумать все, у меня было предостаточно. Если я хочу писать, мне остается делать лишь одно – писать. До сегодняшнего дня я только и делал, что выискивал себе отговорки. Вынужден был работать у Генри, и вот – твой дом, идеальная обстановка и условия. Похоже, что я хочу связать все в один аккуратный клубок – приспособить все вокруг себя к тому, чтобы у меня была возможность писать. А кто я такой, черт возьми? Не слишком ли большая наглость с моей стороны требовать, чтобы ты ходила вокруг меня на цыпочках, сдувая с меня пылинки, словно женушка писателя, приносящая себя в жертву. Насколько я себе представляю, в настоящий момент я пребываю в состоянии полнейшей неопределенности. Я уже не тот энергичный Лайон Берк, которого когда-то знал Генри, но я и не профессиональный писатель. И впереди тоже сплошная половинчатость: наполовину писатель, наполовину менеджер, откладывающий свой разрыв с Генри до тех пор, пока не добьется материального успеха как писатель, и откладывающий женитьбу, потому что не может посвятить себя целиком семье, и откладывающий написание книги, потому что обязан продолжать работать у Генри. До сегодняшнего дня я отдавал только часть себя тебе, Генри и литературе. Совершенно очевидно, что я не смогу отдавать себя всем трем сразу. А раз так, то я просто обязан хотя бы просто вычеркнуть себя из жизни двух человек, наиболее небезразличных мне. Почти то же самое я написал и Генри. Вот Джордж Бэллоуз – хороший малый, он как раз тот самый человек, который нужен Генри. И где-нибудь в твоем прекрасном Нью-Йорке, моя дорогая, есть тот самый человек, который нужен тебе и который ждет, чтобы ты нашла его. Я говорил тебе, что у меня есть немного денег. К тому же я могу пользоваться большим неотапливаемым домом на севере Англии. Он принадлежит родственникам, но в нем никто не живет. Я отопру несколько комнат. На небольшую сумму я смогу прожить там несколько лет и буду писать до тех пор, пока пальцы не онемеют. Зимой дневной свет там бывает лишь несколько часов в сутки. По сравнению с тем местом Лоренсвилл – настоящие тропики. Но там мне никто не будет мешать. Дорогая Анна, к этому письму я прилагаю ключи от своей квартиры. Это единственное, что я практически в состоянии сделать для тебя. После того как Дженифер вышла замуж, ты стала жить в отеле одна, а квартиру найти по-прежнему трудно. Мне же она со всей мебелью досталась благодаря твоей щедрости. Думаю, будет справедливо, если она перейдет к тебе. Это немного. Я беру с собой твой замечательный подарок – машинку. Но если квартира тебе нравится, переоформи договор об аренде на свое имя. И не вздумай делать большую глупость и ждать меня. Предупреждаю, что женюсь на первой же попавшейся толстухе-англичанке, которая согласится готовить мне и ухаживать за мной. А через несколько лет, если я действительно напишу более или менее приличную книгу, мы оба скажем: «Вот, по крайней мере, одно, что он сделал с полной самоотдачей». Я любил тебя, Анна. Но ты слишком прекрасна для того, чтобы получить столь малую часть маленького человека, который разбрасывается в разные стороны, пытаясь найти и реализовать себя. Поэтому я сконцентрирую свои усилия на писательском ремесле: этим, по крайней мере, я не причиню боли никому, кроме самого себя. Спасибо тебе за самый прекрасный год в моей жизни. Лайон». (обратно) (обратно)Дженифер
май 1947
 Дженифер сидела в тени у бассейна. Она перечитала письмо Анны. Казалось, та вполне счастлива – первое письмо, в котором ни словом не упоминается о Лайоне. Может, она уже пережила это. Но как она может жить в его квартире? Неужели все еще надеется, что в один прекрасный день он явится к ней? Спустя пять месяцев? Представить только – ни единой весточки от него! Взял и доказал, что никогда невозможно угадать, чего ждать от мужчины.
Вот хотя бы эти ее фотографии с Тони. Уж такие они на них счастливые – ну прямо идеальная пара из Голливуда!
Лучи солнца прокрались под навесную ширму. Вытянув руку, Дженифер чуть наклонила раму, чтобы защитить себя от палящего зноя.
Да уж – если от пребывания на солнце у тебя появляется крапивница, только Калифорнии тебе и не хватало.
Она метнула негодующий взгляд на сверкающий оранжевый диск. Вечно он здесь висит. На что другое, а уж на него в Калифорнии всегда можно положиться. Редко-редко выдастся легкий утренний туман, но неизменно появляется лимонно-желтый диск, сначала робко, затем, словно самовозгораясь, становится все ярче, поглощает и туман, и редкие облачка, и наконец остается в гордом торжествующем одиночестве посреди яркой голубизны неба.
Она вздохнула. Со времени приезда каждый день здесь походил на разгар июля. И как только растут эти проклятые апельсины, если не выпадает ни капли дождя? А в Нью-Йорке сейчас май. На востоке всегда наслаждаешься хорошей погодой, когда она наконец наступает.
Мысленно она перенеслась в Нью-Йорк. Воздух там сейчас насыщен пьянящим свежим ароматом. Тяжелые зимние шубы и манто убраны подальше, и люди сидят за столиками кафетерия в Центральном парке [41]. И ведь в Нью-Йорке можно пройтись! Никогда не оценишь возможности вот так взять и пройтись, пока не поживешь в Калифорнии. Гулять в Нью-Йорке можно даже по ночам. Если нечего делать, можно пройтись по Пятой авеню, посмотреть на витрины магазинов, или пойти в кино на последний сеанс, или пройтись по Бродвею и купить «хот дог»
– жареную сосиску, запеченную в тесте. Здесь же, если и вздумаешь пройтись по Беверли-Драйв ночью, то непременно подъедет патрульная полицейская машина, и тебя предложат подвезти.
Что ж, по крайней мере, хоть Анна имеет в своем распоряжении Нью-Йорк. Судя по ее письмам, она часто везде бывает, но она ни разу не упомянула ни о чем особенном. Вероятно, все еще ждет Лайона. Ну что ж, ей, по крайней мере, есть кого ждать.
А вот чего ждет она сама? Чтобы прошел очередной день? На сегодня назначена вечеринка. Она от этого не в восторге, но это все же лучше, чем играть в джин с Тони. И даже на этом он не может сосредоточиться, потому что Мириам не отходит от него ни на минуту, подсказывая, какую класть карту. Хотя бы раз дала ему подумать самому. Она отхлебнула кока-колы. Лед растаял. Почему у теплой кока-колы вкус, как у слабительного? Ей было лень встать и сходить в дом за охлажденной бутылкой. Ей было лень вообще что-либо делать. И вечеринка… не будет ничего интересного. Тони дают главную роль в новом фильме Дика Микера, поэтому она должна быть приятной и обходительной. «Приятной и обходительной, – постоянно твердит ей Мириам. – Не старайся быть здесь крупной фигурой. Здесь ты – ничто. Здесь все крупные шишки, так что будь просто приятной и обходительной».
Она делала все, что могла. На банкетах фланировала, как улыбающееся привидение. Друзей не заводила. Мириам оказалась права: в Голливуде красота
– товар дешевый. Тут наберется целый миллион ничего собой не представляющих красоток. Девицы, сшивающиеся у отеля «Шваб», – красотки, официантки в придорожных ресторанчиках – красотки, и в то же время большинство кинозвезд вовсе не отличаются ослепительной красотой. Джейн Уаймен просто держится развязно. Барбара Стэнвик – элегантная, изысканная. И Розалинда Рассел точно такая же. Джоанна Кроуфорд – яркая. Черт возьми, вот это положеньице. А она-то все эти годы думала, будто в ней есть что-то особенное, только потому, что у нее красивые зубы, прямой нос и большие титьки. Большие титьки сейчас просто не в моде. И Эдриан, и Тэд Касабланка, и все остальные ведущие модельеры создали образ широкоплечей женщины. А большие титьки в такой образ решительно не вписываются, только мешают.
Предстоит еще один никчемный вечер. Она здесь никто. Просто миссис Полар, жена многообещающего новенького. «Да, но ведь он же выступал по радио», – может сказать кто-то. Однако здесь это не имеет ровным счетом никакого значения. Ты должен сниматься в фильмах, а жена абсолютно ничего не значит. Фактически, здесь у жены тот же социальный статус, что и у сценариста – он необходим, но имя его почти никому не известно. Даже начинающие звезды, и те привлекают к себе на банкетах куда больше внимания. Начинающие звезды – те всегда под рукой, готовые на все. Они знакомы с продюсерами и всегда имеют в запасе пикантные истории – о выдающемся актере, который в момент оргазма всегда кричит «Мама!», о кинокритике, который заставляет свою жену смотреть, как он… Конечно, начинающие звезды привлекают к себе внимание на банкетах и вечеринках. Но жена – жена живет, словно в заточении. Слишком уважаемая, чтобы за ней ухаживать, и слишком незначительная, чтобы вызывать к себе настоящее уважение. На большинстве таких банкетов она чаще всего сидела у стойки бара с нанятыми на этот вечер барменами – все они оказывались родом из Нью-Йорка – ностальгически вспоминая «Линди». Для нее это было легче, чем вести светскую беседу с другими женами, которых вечно интересует либо теннис, либо то, каких нанять слуг.
Она не может даже вволю походить по магазинам, как любила делать до замужества. За те пять месяцев, что она здесь, ей было позволено купить лишь одно-единственное вечернее платье. «Одежды у тебя больше, чем в любом универмаге», – сердито отрезала Мириам. Возможно, и больше, однако она ей вся надоела. Неужели Мириам не понимает, как важно время от времени надевать что-либо новое? Но у Мириам у самой-то всего три платья, и все похожи одно на другое. На банкеты и званые вечера та ходит в одном и том же кружевном платье пятилетней давности и в белых ортопедических туфлях!
Мириам выдает ей по пятьдесят долларов в месяц. Она отсылает их своей матери, а та постоянно пишет, что этого недостаточно. Она хотела поговорить о деньгах с Тони, но ведь она его почти не видит. У него то запись, то разучивание новых песен, то репетиция на радио. А за ужином с ними вечно Мириам. По ночам, когда они остаются одни на огромной кровати, он все тот же прежний Тони, страстно желающий ее. Но после того, как все кончается, до него невозможно достучаться. Она пыталась было объяснить ему, что если бы она смогла стать частью его жизни и профессии, то перестала бы томиться и скучать, но он, похоже, так и не понял, о чем шла речь. «Всем этим занимается Мириам, говори с ней».
Когда она заводила речь о деньгах, результат был тот же самый: «Поговори с Мириам, она даст тебе все, что нужно». А у Мириам лишь один ответ: «Чего это тебе деньги понадобились? Я же плачу и за еду, и за выпивку. Бензин в машину можешь заливать бесплатно. А на булавки тебе за глаза хватит пятидесяти монет».
Так дальше продолжаться не может. Сколько же еще ей сидеть у бассейна? На этой неделе она уже прочла целых три книжки, а еще только пятница. Лучи солнца опять заглянули под навес. Она вскочила с места. Нужно что-то делать, куда-то идти. Может быть, Нили окажется дома. Та только что закончила сниматься в своей второй картине, и на студии ей пообещали предоставить месячный отпуск. Она прошла в дом и надела брюки. Как она рада за Нили! Отзывы о первой картине были восторженные, и Дженифер уже была на закрытом просмотре ее второго фильма – великолепно. Но с Нили она встречается нечасто. Время от времени они говорят по телефону, но Нили только что опять сменила себе номер, а этого нового, не числящегося в справочнике, у Дженифер нет.
Восемь кварталов она проехала на машине: ходить пешком в Калифорнии не принято. А если Нили нет дома, она поедет в «Шваб». Возможно, там окажется Сидни Сколски, они посидят с ним, поболтают. Сидни любит Голливуд, но он отлично понимает, каково ей здесь.
Дверь открыл Мэл. На нем были одни плавки. Он располнел, загар придавал ему вполне цветущий вид. Мэл проводил Дженифер к бассейну.
– Обедать хочешь? Я как раз ем сандвич.
Дженифер покачала головой и села в тень. Бассейн у них точь-в-точь как у нее – в форме человеческой почки; такая же кабинка для переодевания, такой же теннисный корт и такой же бар со стойкой. Она посмотрела на окружающие дом красноватые холмы. Неужели и Мэл точно так же сидит здесь целыми днями?
– Нили на студии, – пояснил он. – Примерка костюмов.
– А я думала, ей дали свободный месяц.
– Точно, месяц перед съемками. Что означает месяц примерок, проб у гримеров и фотографирования для афиш. Но она должна приехать с минуты на минуту. Да, ты слышала? Костюмы ей моделирует сам Тэд Касабланка.
– Да, высоко она взлетела, – сказала Дженифер. – Тэд моделирует одежду только суперзвездам.
Мэл ссутулился, его угловатые плечи поникли.
– Такое может быть только в Голливуде – женщина падает в обморок из-за того, что какой-то гомик, видите ли, снисходит до того, что соглашается одевать ее. В любом другом городе, раз ты платишь, то приобретаешь вещь. Разве в Нью-Йорке Сакса волнует, воздаст покупатель должное его творению или нет? Здесь же все символизирует собой определенный статус. Нили сейчас сидит на диете – ну разве не смехота?
– Почему на диете? Она что, поправилась?
– Да нет. Весит сто восемнадцать фунтов [43]. И всегда столько весила. Для ее роста – пять футов пять дюймов [44] – вес прекрасный. Но этот Касабланка – он хочет, чтобы она сбросила еще пятнадцать фунтов [45]. Говорит, что лицо у нее станет интереснее и одежда будет смотреться лучше. Она принимает маленькие зеленые пилюли… маковой росинки в рот не берет.
Неожиданно приехала Нили, как всегда, еле переводя дыхание. При виде Дженифер она пришла в восторг.
– Ты слышала, – воскликнула она. – Меня одевает Тэд Касабланка! О Дженифер, он божественен! Я хочу стать красивой – для разнообразия. Он моделирует для меня действительно очаровательную одежду – по-настоящему выдержанную в одном стиле. Ух ты! Стоит мне только вспомнить то ужасное красное платье из тафты!.. Тэд говорит, что я должна выглядеть по-мальчишески, как озорная девчонка. Но – шикарно. В конце концов, мне сейчас восемнадцать – уже пора.
– Я слышала, ты сидишь на диете.
– Ага. Мэл достает мне снятое молоко. Хочешь чего-нибудь, Джен?
– Кока-колу.
– У нас только газировка. Не держу дома ничего, что полнит. Мэл, сделай Джен лимонада. – Проводив его взглядом, Нили опять повернулась к Дженифер, в ее широко раскрытых детских глазах появилась серьезная озабоченность.
– Ах, Джен, прямо не знаю, что и делать. Он так переменился – просто не вписывается во всю эту жизнь. За что ни возьмется, все испортит.
– Ну, я бы не сказала. Он создал тебе такую рекламу. Его статья в «Мире кино» просто великолепна. Нили покачала головой.
– Все это сделали на студии. А ему просто велели опубликовать ее под своим именем. Он постоянно мешается под ногами. Они вообще не хотят, чтобы он тут сшивался – говорят, что я стесняюсь в его присутствии. А Тэд Касабланка говорит, что он – посмешище всего города.
– Я не стала бы относиться серьезно к его словам. Ты ведь знаешь, какие стервозы эти голубые.
– «Голубые»! – сверкнула глазами Нили. – Не смей его так называть! Он… он великолепен, и точка! Ему всего тридцать лет, а он уже сделал себе три миллиона долларов. И он не голубой!
– Правда?
– Правда. Что, ты думаешь, я делала сегодня? Примеряла костюмы? Это я Мэлу так сказала. Мы, Тэд и я, занимались этим самым… в разных позах. Прямо в его великолепной студии с кондиционированным воздухом. И уж можешь мне поверить, никакой он не… – Она вдруг осеклась на полуслове. Мэл принес им поднос с наполненными стаканами.
– Я уже сбросила пять фунтов, – похвалилась Нили, взяв из рук Мэла стакан с молоком. Она достала пузырек, вытряхнула из него зеленоватую в крапинках капсулу. – Вот это изобретение что надо, – сказала она. – Они совершенно бесподобны, Джен. Начисто отбивают аппетит. Единственное, что неприятно: на меня они действуют возбуждающе, и я совсем не могу заснуть.
– Попробуй принимать секонал, – предложила ей Дженифер.
– А он правда помогает?
– Великолепно помогает. Он в таких симпатичных красных капсулах-«куколках», которые уносят все твои заботы и тревоги и дарят тебе целых девять часов блаженного сна каждую ночь.
– Серьезно? Я попробую. Мэл, позвони доктору Холту прямо сейчас. Вели ему прислать мне сто штук.
– «Сто»? – поперхнулась Дженифер. – Нили, это же не аспирин. Принимать надо только по одной на ночь. Ни один врач не выпишет тебе больше двадцати пяти.
– Что-о? Не выпишет? Хочешь на спор? Доктор Холт – врач нашей студии. Он выпишет мне все, что я спрошу. Мэл, звони ему прямо сейчас. – Мэл неуклюже направился звонить. – Значит, только по одной на ночь, да?
Дженифер кивнула. Она не сочла нужным сообщать Нили, что сама принимает иногда и по три. Нили поможет и одна. Кроме того, она намерена вообще прекратить принимать секонал, как только у нее все наладится с Тони.
Мэл ушел звонить. Нили смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Потом придвинула кресло ближе.
– Мне нужно подобрать другой противозачаточный колпачок. В прошлом месяце Мэл два раза не успел вынуть вовремя. Сукин сын – так и хочет, чтобы я залетела.
– А я думала, ты хочешь ребенка.
– Только не от него. Я уже решила от него избавиться.
– Нили!
– Послушай, он – тряпка. Честно, Дженифер, он изменился до неузнаваемости. У него ни к чему нет стимула. Я уже говорила на эту тему с Шефом, и тот согласился со мной. Мэл то и дело мешает мне во всем. Уперся, что мне не нужно сбрасывать вес, постоянно орет, что я и без этого красивая. Но ведь сейчас, когда я сгоняю вес, у меня создается образ настоящей звезды с присущим именно мне очарованием. Понимаешь, Мэл мыслит по-старому, плетется в хвосте и уже не сможет измениться и вырваться вперед. Но мне нужно быть настороже. Понимаешь, вся эта собственность у нас общая. Половину Мэл может свободно оттяпать себе.
– И что ты собираешься делать?
– Все уже делается. – Она понизила голос, перейдя почти на шепот. – Шеф сейчас устраивает Мэлу крупное предложение на востоке страны от одного из крупнейших рекламных агентств. Я уговорю его поехать. Шеф собирается подстроить все так, чтобы его застукали… ну, понимаешь, с девицей в постели. Тогда я легко получаю развод.
– Нили, но ведь так же нельзя поступать!
– Да ладно, а как можно поступать? На прошлой неделе я намекнула на развод, и знаешь, что он сделал? Расплакался как ребенок. Сказал, что не сможет без меня жить. Ну разве не тряпка? Мне нужен человек, который говорил бы мне, что я должна делать. Такой мужчина, на которого могу опереться я, а не такой, кто сам на меня опирается. А если я останусь с ним, то единственное, что меня ждет – это залететь от него, и тогда уж он никогда не уедет, даже в Нью-Йорк.
– А откуда ты знаешь, что он согласится на эту работу?
– Я его заставлю. Скажу, что если он добьется успеха – если эта работа у него выгорит, – то я приезжаю, получаю шоу на Бродвее, рожаю ребенка и остаюсь жить в Нью-Йорке.
– В самом деле? Нили с удивлением посмотрела на нее.
– Бросить Калифорнию? Все это? Ты с ума сошла? Здесь я добилась всего. После следующей картины я стану самой что ни на есть настоящей звездой!
– Но ты могла бы стать звездой и в Нью-Йорке, на Бродвее.
– «Звездой на Бродвее»! Велика важность! Курам на смех. Вот если ты – кинозвезда, тогда ты становишься и мировой звездой. Тебе известно, что фильм со мной в главной роли идет в Лондоне? Только представь себе! В Лондоне знают, кто я такая! Одна картина – и я в десять раз известнее, чем когда-либо в своей жизни будет Элен Лоусон. А когда ты звезда кино, то к тебе все и относятся, как к звезде. Для тебя делается все. Помню, что Элен должна была ехать в Нью-Хейвен, как и мы все, в поезде и переодеваться в гримерной на сквозняках. А у нас в студии туалеты – ух ты! – пошикарнее, чем гримерная в театре у бродвейской звезды. Моя гримерная – целое бунгало размером с квартиру Элен на Парк-авеню. Когда на тебя высокий спрос – как на меня сейчас – для тебя что угодно сделают, стоит мне только заикнуться перед Шефом – это мы мистера Бина так называем. Такой замечательный человек… милый, с ним можно говорить, как с родным отцом. Своего-то отца я так и не знала никогда. Ну вот, я и говорю, мне только заикнуться перед ним стоило, что хочу, мол, немного вес сбросить. Ух ты! Знаешь, что он сделал? Заставил пристроить к моему бунгало парилку и специально нанял мне отдельную массажистку. И все сам платит. Если мне требуется куда-то пойти – на премьеру какую-нибудь – сразу присылает мне машину с шофером, дает надеть любые меха и платья. А если мой третий фильм получится так же здорово, как и первые два, то Шеф говорит, что заключит со мной новый контракт и гонорар резко повысится – может быть, до двух тысяч в неделю.
– Это и впрямь большие деньги, Нили.
– Ну уж! В фирме Джонсона-Гарриса мне сказали, что я стою куда дороже. Короче говоря, они могут вмешаться и начать переговоры о новой ставке гонорара, может, до двух с половиной тысяч в неделю. В общем, мне нужно просто щелкнуть пальцами, и у меня будет все, что я пожелаю. Шеф говорит, что, может, еще через годик я перестану арендовать этот дом и куплю себе другой – в Беверли-Хиллз. Так шикарнее.
– Почему бы тебе не отнестись к этому спокойнее и не поберечь деньги?
– А зачем? Я больше ничего не боюсь. И знаешь почему? Потому что у меня есть талант, Джен. Там, на Востоке я этого просто не понимала. Все думала, что петь и танцевать умеет любой. Но на съемках второй картины я открыла для себя, что могу еще и играть. Ты видела эпизод, где я плачу? Никакого глицерина не было. Режиссер просто поговорил со мной об этой роли, о положении, в котором оказалась девушка, и я все прочувствовала. И тогда по-настоящему заплакала.
Дженифер кивнула.
– И меня тоже заставила. Я была на просмотре неделю назад.
Нили порывисто раскинула руки.
– До чего же мне здесь нравится. Этот город прямо создан для меня. Вернулся Мэл.
– Лекарство доставят с минуты на минуту. Доктор Холт сказал мне, что мысль очень хорошая. – Он сел. – Хочешь пойти сегодня в кино, Нили?
– Не могу. Завтра мне вставать в шесть – пробы на Цветной пленке.
Он с грустью посмотрел на воду в бассейне.
– А мне можно спать сколько угодно. Я сойду с ума от бесконечного безделья…
Ведя машину домой, Дженифер не переставала думать о Мэле. Интересно, а за кого Тони принимает ее? Тоже за тряпку? Если Тони не получит роль в фильме, она будет настаивать, чтобы они вернулись в Нью-Йорк. Делать радиошоу он мог бы и там. Но роль ему дадут, она знает, что дадут, и она окажется привязанной к этому месту. Скоро Тони начнет относиться к ней точно так же, как Нили – к Мэлу. Если уже не начал. В фильмах с ним будут играть звезды, а молоденькие начинающие начнут с ним флиртовать. Сколько ей еще сидеть вот так? Ей ведь почти двадцать семь, и скрывать свой возраст скоро станет трудновато…
Она проезжала под светофором, как вдруг ее словно осенило. Почему эта мысль не приходила ей в голову раньше? Ребенок! У нее будет ребенок! Он приблизит к ней Тони, и у нее будет существо, которому она отдаст всю себя без остатка. Существо, которое она будет любить. О боже, как она будет любить его… они будут с ним так близки. Это будет девочка, непременно девочка! А из нее самой выйдет замечательная мать. Когда она входила домой, голова у нее кружилась от счастья. Это станет ее тайной.
Дженифер очень тщательно выбирала платье для банкета. За исполнение своего плана она решила приняться этой же ночью.
(обратно)
Дженифер сидела в тени у бассейна. Она перечитала письмо Анны. Казалось, та вполне счастлива – первое письмо, в котором ни словом не упоминается о Лайоне. Может, она уже пережила это. Но как она может жить в его квартире? Неужели все еще надеется, что в один прекрасный день он явится к ней? Спустя пять месяцев? Представить только – ни единой весточки от него! Взял и доказал, что никогда невозможно угадать, чего ждать от мужчины.
Вот хотя бы эти ее фотографии с Тони. Уж такие они на них счастливые – ну прямо идеальная пара из Голливуда!
Лучи солнца прокрались под навесную ширму. Вытянув руку, Дженифер чуть наклонила раму, чтобы защитить себя от палящего зноя.
Да уж – если от пребывания на солнце у тебя появляется крапивница, только Калифорнии тебе и не хватало.
Она метнула негодующий взгляд на сверкающий оранжевый диск. Вечно он здесь висит. На что другое, а уж на него в Калифорнии всегда можно положиться. Редко-редко выдастся легкий утренний туман, но неизменно появляется лимонно-желтый диск, сначала робко, затем, словно самовозгораясь, становится все ярче, поглощает и туман, и редкие облачка, и наконец остается в гордом торжествующем одиночестве посреди яркой голубизны неба.
Она вздохнула. Со времени приезда каждый день здесь походил на разгар июля. И как только растут эти проклятые апельсины, если не выпадает ни капли дождя? А в Нью-Йорке сейчас май. На востоке всегда наслаждаешься хорошей погодой, когда она наконец наступает.
Мысленно она перенеслась в Нью-Йорк. Воздух там сейчас насыщен пьянящим свежим ароматом. Тяжелые зимние шубы и манто убраны подальше, и люди сидят за столиками кафетерия в Центральном парке [41]. И ведь в Нью-Йорке можно пройтись! Никогда не оценишь возможности вот так взять и пройтись, пока не поживешь в Калифорнии. Гулять в Нью-Йорке можно даже по ночам. Если нечего делать, можно пройтись по Пятой авеню, посмотреть на витрины магазинов, или пойти в кино на последний сеанс, или пройтись по Бродвею и купить «хот дог»
– жареную сосиску, запеченную в тесте. Здесь же, если и вздумаешь пройтись по Беверли-Драйв ночью, то непременно подъедет патрульная полицейская машина, и тебя предложат подвезти.
Что ж, по крайней мере, хоть Анна имеет в своем распоряжении Нью-Йорк. Судя по ее письмам, она часто везде бывает, но она ни разу не упомянула ни о чем особенном. Вероятно, все еще ждет Лайона. Ну что ж, ей, по крайней мере, есть кого ждать.
А вот чего ждет она сама? Чтобы прошел очередной день? На сегодня назначена вечеринка. Она от этого не в восторге, но это все же лучше, чем играть в джин с Тони. И даже на этом он не может сосредоточиться, потому что Мириам не отходит от него ни на минуту, подсказывая, какую класть карту. Хотя бы раз дала ему подумать самому. Она отхлебнула кока-колы. Лед растаял. Почему у теплой кока-колы вкус, как у слабительного? Ей было лень встать и сходить в дом за охлажденной бутылкой. Ей было лень вообще что-либо делать. И вечеринка… не будет ничего интересного. Тони дают главную роль в новом фильме Дика Микера, поэтому она должна быть приятной и обходительной. «Приятной и обходительной, – постоянно твердит ей Мириам. – Не старайся быть здесь крупной фигурой. Здесь ты – ничто. Здесь все крупные шишки, так что будь просто приятной и обходительной».
Она делала все, что могла. На банкетах фланировала, как улыбающееся привидение. Друзей не заводила. Мириам оказалась права: в Голливуде красота
– товар дешевый. Тут наберется целый миллион ничего собой не представляющих красоток. Девицы, сшивающиеся у отеля «Шваб», – красотки, официантки в придорожных ресторанчиках – красотки, и в то же время большинство кинозвезд вовсе не отличаются ослепительной красотой. Джейн Уаймен просто держится развязно. Барбара Стэнвик – элегантная, изысканная. И Розалинда Рассел точно такая же. Джоанна Кроуфорд – яркая. Черт возьми, вот это положеньице. А она-то все эти годы думала, будто в ней есть что-то особенное, только потому, что у нее красивые зубы, прямой нос и большие титьки. Большие титьки сейчас просто не в моде. И Эдриан, и Тэд Касабланка, и все остальные ведущие модельеры создали образ широкоплечей женщины. А большие титьки в такой образ решительно не вписываются, только мешают.
Предстоит еще один никчемный вечер. Она здесь никто. Просто миссис Полар, жена многообещающего новенького. «Да, но ведь он же выступал по радио», – может сказать кто-то. Однако здесь это не имеет ровным счетом никакого значения. Ты должен сниматься в фильмах, а жена абсолютно ничего не значит. Фактически, здесь у жены тот же социальный статус, что и у сценариста – он необходим, но имя его почти никому не известно. Даже начинающие звезды, и те привлекают к себе на банкетах куда больше внимания. Начинающие звезды – те всегда под рукой, готовые на все. Они знакомы с продюсерами и всегда имеют в запасе пикантные истории – о выдающемся актере, который в момент оргазма всегда кричит «Мама!», о кинокритике, который заставляет свою жену смотреть, как он… Конечно, начинающие звезды привлекают к себе внимание на банкетах и вечеринках. Но жена – жена живет, словно в заточении. Слишком уважаемая, чтобы за ней ухаживать, и слишком незначительная, чтобы вызывать к себе настоящее уважение. На большинстве таких банкетов она чаще всего сидела у стойки бара с нанятыми на этот вечер барменами – все они оказывались родом из Нью-Йорка – ностальгически вспоминая «Линди». Для нее это было легче, чем вести светскую беседу с другими женами, которых вечно интересует либо теннис, либо то, каких нанять слуг.
Она не может даже вволю походить по магазинам, как любила делать до замужества. За те пять месяцев, что она здесь, ей было позволено купить лишь одно-единственное вечернее платье. «Одежды у тебя больше, чем в любом универмаге», – сердито отрезала Мириам. Возможно, и больше, однако она ей вся надоела. Неужели Мириам не понимает, как важно время от времени надевать что-либо новое? Но у Мириам у самой-то всего три платья, и все похожи одно на другое. На банкеты и званые вечера та ходит в одном и том же кружевном платье пятилетней давности и в белых ортопедических туфлях!
Мириам выдает ей по пятьдесят долларов в месяц. Она отсылает их своей матери, а та постоянно пишет, что этого недостаточно. Она хотела поговорить о деньгах с Тони, но ведь она его почти не видит. У него то запись, то разучивание новых песен, то репетиция на радио. А за ужином с ними вечно Мириам. По ночам, когда они остаются одни на огромной кровати, он все тот же прежний Тони, страстно желающий ее. Но после того, как все кончается, до него невозможно достучаться. Она пыталась было объяснить ему, что если бы она смогла стать частью его жизни и профессии, то перестала бы томиться и скучать, но он, похоже, так и не понял, о чем шла речь. «Всем этим занимается Мириам, говори с ней».
Когда она заводила речь о деньгах, результат был тот же самый: «Поговори с Мириам, она даст тебе все, что нужно». А у Мириам лишь один ответ: «Чего это тебе деньги понадобились? Я же плачу и за еду, и за выпивку. Бензин в машину можешь заливать бесплатно. А на булавки тебе за глаза хватит пятидесяти монет».
Так дальше продолжаться не может. Сколько же еще ей сидеть у бассейна? На этой неделе она уже прочла целых три книжки, а еще только пятница. Лучи солнца опять заглянули под навес. Она вскочила с места. Нужно что-то делать, куда-то идти. Может быть, Нили окажется дома. Та только что закончила сниматься в своей второй картине, и на студии ей пообещали предоставить месячный отпуск. Она прошла в дом и надела брюки. Как она рада за Нили! Отзывы о первой картине были восторженные, и Дженифер уже была на закрытом просмотре ее второго фильма – великолепно. Но с Нили она встречается нечасто. Время от времени они говорят по телефону, но Нили только что опять сменила себе номер, а этого нового, не числящегося в справочнике, у Дженифер нет.
Восемь кварталов она проехала на машине: ходить пешком в Калифорнии не принято. А если Нили нет дома, она поедет в «Шваб». Возможно, там окажется Сидни Сколски, они посидят с ним, поболтают. Сидни любит Голливуд, но он отлично понимает, каково ей здесь.
Дверь открыл Мэл. На нем были одни плавки. Он располнел, загар придавал ему вполне цветущий вид. Мэл проводил Дженифер к бассейну.
– Обедать хочешь? Я как раз ем сандвич.
Дженифер покачала головой и села в тень. Бассейн у них точь-в-точь как у нее – в форме человеческой почки; такая же кабинка для переодевания, такой же теннисный корт и такой же бар со стойкой. Она посмотрела на окружающие дом красноватые холмы. Неужели и Мэл точно так же сидит здесь целыми днями?
– Нили на студии, – пояснил он. – Примерка костюмов.
– А я думала, ей дали свободный месяц.
– Точно, месяц перед съемками. Что означает месяц примерок, проб у гримеров и фотографирования для афиш. Но она должна приехать с минуты на минуту. Да, ты слышала? Костюмы ей моделирует сам Тэд Касабланка.
– Да, высоко она взлетела, – сказала Дженифер. – Тэд моделирует одежду только суперзвездам.
Мэл ссутулился, его угловатые плечи поникли.
– Такое может быть только в Голливуде – женщина падает в обморок из-за того, что какой-то гомик, видите ли, снисходит до того, что соглашается одевать ее. В любом другом городе, раз ты платишь, то приобретаешь вещь. Разве в Нью-Йорке Сакса волнует, воздаст покупатель должное его творению или нет? Здесь же все символизирует собой определенный статус. Нили сейчас сидит на диете – ну разве не смехота?
– Почему на диете? Она что, поправилась?
– Да нет. Весит сто восемнадцать фунтов [43]. И всегда столько весила. Для ее роста – пять футов пять дюймов [44] – вес прекрасный. Но этот Касабланка – он хочет, чтобы она сбросила еще пятнадцать фунтов [45]. Говорит, что лицо у нее станет интереснее и одежда будет смотреться лучше. Она принимает маленькие зеленые пилюли… маковой росинки в рот не берет.
Неожиданно приехала Нили, как всегда, еле переводя дыхание. При виде Дженифер она пришла в восторг.
– Ты слышала, – воскликнула она. – Меня одевает Тэд Касабланка! О Дженифер, он божественен! Я хочу стать красивой – для разнообразия. Он моделирует для меня действительно очаровательную одежду – по-настоящему выдержанную в одном стиле. Ух ты! Стоит мне только вспомнить то ужасное красное платье из тафты!.. Тэд говорит, что я должна выглядеть по-мальчишески, как озорная девчонка. Но – шикарно. В конце концов, мне сейчас восемнадцать – уже пора.
– Я слышала, ты сидишь на диете.
– Ага. Мэл достает мне снятое молоко. Хочешь чего-нибудь, Джен?
– Кока-колу.
– У нас только газировка. Не держу дома ничего, что полнит. Мэл, сделай Джен лимонада. – Проводив его взглядом, Нили опять повернулась к Дженифер, в ее широко раскрытых детских глазах появилась серьезная озабоченность.
– Ах, Джен, прямо не знаю, что и делать. Он так переменился – просто не вписывается во всю эту жизнь. За что ни возьмется, все испортит.
– Ну, я бы не сказала. Он создал тебе такую рекламу. Его статья в «Мире кино» просто великолепна. Нили покачала головой.
– Все это сделали на студии. А ему просто велели опубликовать ее под своим именем. Он постоянно мешается под ногами. Они вообще не хотят, чтобы он тут сшивался – говорят, что я стесняюсь в его присутствии. А Тэд Касабланка говорит, что он – посмешище всего города.
– Я не стала бы относиться серьезно к его словам. Ты ведь знаешь, какие стервозы эти голубые.
– «Голубые»! – сверкнула глазами Нили. – Не смей его так называть! Он… он великолепен, и точка! Ему всего тридцать лет, а он уже сделал себе три миллиона долларов. И он не голубой!
– Правда?
– Правда. Что, ты думаешь, я делала сегодня? Примеряла костюмы? Это я Мэлу так сказала. Мы, Тэд и я, занимались этим самым… в разных позах. Прямо в его великолепной студии с кондиционированным воздухом. И уж можешь мне поверить, никакой он не… – Она вдруг осеклась на полуслове. Мэл принес им поднос с наполненными стаканами.
– Я уже сбросила пять фунтов, – похвалилась Нили, взяв из рук Мэла стакан с молоком. Она достала пузырек, вытряхнула из него зеленоватую в крапинках капсулу. – Вот это изобретение что надо, – сказала она. – Они совершенно бесподобны, Джен. Начисто отбивают аппетит. Единственное, что неприятно: на меня они действуют возбуждающе, и я совсем не могу заснуть.
– Попробуй принимать секонал, – предложила ей Дженифер.
– А он правда помогает?
– Великолепно помогает. Он в таких симпатичных красных капсулах-«куколках», которые уносят все твои заботы и тревоги и дарят тебе целых девять часов блаженного сна каждую ночь.
– Серьезно? Я попробую. Мэл, позвони доктору Холту прямо сейчас. Вели ему прислать мне сто штук.
– «Сто»? – поперхнулась Дженифер. – Нили, это же не аспирин. Принимать надо только по одной на ночь. Ни один врач не выпишет тебе больше двадцати пяти.
– Что-о? Не выпишет? Хочешь на спор? Доктор Холт – врач нашей студии. Он выпишет мне все, что я спрошу. Мэл, звони ему прямо сейчас. – Мэл неуклюже направился звонить. – Значит, только по одной на ночь, да?
Дженифер кивнула. Она не сочла нужным сообщать Нили, что сама принимает иногда и по три. Нили поможет и одна. Кроме того, она намерена вообще прекратить принимать секонал, как только у нее все наладится с Тони.
Мэл ушел звонить. Нили смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Потом придвинула кресло ближе.
– Мне нужно подобрать другой противозачаточный колпачок. В прошлом месяце Мэл два раза не успел вынуть вовремя. Сукин сын – так и хочет, чтобы я залетела.
– А я думала, ты хочешь ребенка.
– Только не от него. Я уже решила от него избавиться.
– Нили!
– Послушай, он – тряпка. Честно, Дженифер, он изменился до неузнаваемости. У него ни к чему нет стимула. Я уже говорила на эту тему с Шефом, и тот согласился со мной. Мэл то и дело мешает мне во всем. Уперся, что мне не нужно сбрасывать вес, постоянно орет, что я и без этого красивая. Но ведь сейчас, когда я сгоняю вес, у меня создается образ настоящей звезды с присущим именно мне очарованием. Понимаешь, Мэл мыслит по-старому, плетется в хвосте и уже не сможет измениться и вырваться вперед. Но мне нужно быть настороже. Понимаешь, вся эта собственность у нас общая. Половину Мэл может свободно оттяпать себе.
– И что ты собираешься делать?
– Все уже делается. – Она понизила голос, перейдя почти на шепот. – Шеф сейчас устраивает Мэлу крупное предложение на востоке страны от одного из крупнейших рекламных агентств. Я уговорю его поехать. Шеф собирается подстроить все так, чтобы его застукали… ну, понимаешь, с девицей в постели. Тогда я легко получаю развод.
– Нили, но ведь так же нельзя поступать!
– Да ладно, а как можно поступать? На прошлой неделе я намекнула на развод, и знаешь, что он сделал? Расплакался как ребенок. Сказал, что не сможет без меня жить. Ну разве не тряпка? Мне нужен человек, который говорил бы мне, что я должна делать. Такой мужчина, на которого могу опереться я, а не такой, кто сам на меня опирается. А если я останусь с ним, то единственное, что меня ждет – это залететь от него, и тогда уж он никогда не уедет, даже в Нью-Йорк.
– А откуда ты знаешь, что он согласится на эту работу?
– Я его заставлю. Скажу, что если он добьется успеха – если эта работа у него выгорит, – то я приезжаю, получаю шоу на Бродвее, рожаю ребенка и остаюсь жить в Нью-Йорке.
– В самом деле? Нили с удивлением посмотрела на нее.
– Бросить Калифорнию? Все это? Ты с ума сошла? Здесь я добилась всего. После следующей картины я стану самой что ни на есть настоящей звездой!
– Но ты могла бы стать звездой и в Нью-Йорке, на Бродвее.
– «Звездой на Бродвее»! Велика важность! Курам на смех. Вот если ты – кинозвезда, тогда ты становишься и мировой звездой. Тебе известно, что фильм со мной в главной роли идет в Лондоне? Только представь себе! В Лондоне знают, кто я такая! Одна картина – и я в десять раз известнее, чем когда-либо в своей жизни будет Элен Лоусон. А когда ты звезда кино, то к тебе все и относятся, как к звезде. Для тебя делается все. Помню, что Элен должна была ехать в Нью-Хейвен, как и мы все, в поезде и переодеваться в гримерной на сквозняках. А у нас в студии туалеты – ух ты! – пошикарнее, чем гримерная в театре у бродвейской звезды. Моя гримерная – целое бунгало размером с квартиру Элен на Парк-авеню. Когда на тебя высокий спрос – как на меня сейчас – для тебя что угодно сделают, стоит мне только заикнуться перед Шефом – это мы мистера Бина так называем. Такой замечательный человек… милый, с ним можно говорить, как с родным отцом. Своего-то отца я так и не знала никогда. Ну вот, я и говорю, мне только заикнуться перед ним стоило, что хочу, мол, немного вес сбросить. Ух ты! Знаешь, что он сделал? Заставил пристроить к моему бунгало парилку и специально нанял мне отдельную массажистку. И все сам платит. Если мне требуется куда-то пойти – на премьеру какую-нибудь – сразу присылает мне машину с шофером, дает надеть любые меха и платья. А если мой третий фильм получится так же здорово, как и первые два, то Шеф говорит, что заключит со мной новый контракт и гонорар резко повысится – может быть, до двух тысяч в неделю.
– Это и впрямь большие деньги, Нили.
– Ну уж! В фирме Джонсона-Гарриса мне сказали, что я стою куда дороже. Короче говоря, они могут вмешаться и начать переговоры о новой ставке гонорара, может, до двух с половиной тысяч в неделю. В общем, мне нужно просто щелкнуть пальцами, и у меня будет все, что я пожелаю. Шеф говорит, что, может, еще через годик я перестану арендовать этот дом и куплю себе другой – в Беверли-Хиллз. Так шикарнее.
– Почему бы тебе не отнестись к этому спокойнее и не поберечь деньги?
– А зачем? Я больше ничего не боюсь. И знаешь почему? Потому что у меня есть талант, Джен. Там, на Востоке я этого просто не понимала. Все думала, что петь и танцевать умеет любой. Но на съемках второй картины я открыла для себя, что могу еще и играть. Ты видела эпизод, где я плачу? Никакого глицерина не было. Режиссер просто поговорил со мной об этой роли, о положении, в котором оказалась девушка, и я все прочувствовала. И тогда по-настоящему заплакала.
Дженифер кивнула.
– И меня тоже заставила. Я была на просмотре неделю назад.
Нили порывисто раскинула руки.
– До чего же мне здесь нравится. Этот город прямо создан для меня. Вернулся Мэл.
– Лекарство доставят с минуты на минуту. Доктор Холт сказал мне, что мысль очень хорошая. – Он сел. – Хочешь пойти сегодня в кино, Нили?
– Не могу. Завтра мне вставать в шесть – пробы на Цветной пленке.
Он с грустью посмотрел на воду в бассейне.
– А мне можно спать сколько угодно. Я сойду с ума от бесконечного безделья…
Ведя машину домой, Дженифер не переставала думать о Мэле. Интересно, а за кого Тони принимает ее? Тоже за тряпку? Если Тони не получит роль в фильме, она будет настаивать, чтобы они вернулись в Нью-Йорк. Делать радиошоу он мог бы и там. Но роль ему дадут, она знает, что дадут, и она окажется привязанной к этому месту. Скоро Тони начнет относиться к ней точно так же, как Нили – к Мэлу. Если уже не начал. В фильмах с ним будут играть звезды, а молоденькие начинающие начнут с ним флиртовать. Сколько ей еще сидеть вот так? Ей ведь почти двадцать семь, и скрывать свой возраст скоро станет трудновато…
Она проезжала под светофором, как вдруг ее словно осенило. Почему эта мысль не приходила ей в голову раньше? Ребенок! У нее будет ребенок! Он приблизит к ней Тони, и у нее будет существо, которому она отдаст всю себя без остатка. Существо, которое она будет любить. О боже, как она будет любить его… они будут с ним так близки. Это будет девочка, непременно девочка! А из нее самой выйдет замечательная мать. Когда она входила домой, голова у нее кружилась от счастья. Это станет ее тайной.
Дженифер очень тщательно выбирала платье для банкета. За исполнение своего плана она решила приняться этой же ночью.
(обратно)
сентябрь 1947
Первый раз месячные у нее не пришли в августе. Сначала она была слишком взволнована, чтобы сделать какой-либо определенный вывод, но, когда они опять не пришли в сентябре, она все поняла. Объем талии увеличился у нее на два дюйма. Дженифер обратилась к врачу, который подтвердил ее надежды и поздравил ее. У Тони шла запись в закрытом помещении, и его нельзя было отвлекать. Но ей просто необходимо было поделиться с кем-то. Хотелось прокричать об этом полицейскому-регулировщику на перекрестке, хотелось побежать в «Шваб» и кричать там об этом каждому посетителю. Нет, так нельзя. Ведь Тони захочет дать крупное сообщение в прессу. Нили! Она должна рассказать Нили! Сейчас почти пять часов, и съемки у нее должны закончиться. Она приехала в студию. Привратник спросил ее имя и проводил прямо к бунгало внушительных размеров. Нили принимала сеанс массажа. – Привет, заходи, – воскликнула она. – Ты ужасно вовремя. Я как раз собиралась звонить тебе вечером. Угадай, что у меня. Дело сделано! Завтра Мэл летит в Нью-Йорк! – Это по-прежнему Тэд? – Разумеется! За кого ты меня принимаешь? За какую-то дрянь! Я могу любить только одного. Мы с Тэдом… – Она осеклась и закричала на массажистку: – О’кей, все, хватит. Убирайся! Хочу поболтать с подружкой наедине. Когда женщина ушла, Нили сбросила с себя полотенце. – Ну и как новая точеная фигурка у Нили? Сейчас у меня талия двадцать дюймов [46], а вешу я девяносто восемь фунтов [47]. – Тэду ты нравишься такая худая? – Нравлюсь ли я! – Она запахнулась в халат. – Ему даже мои маленькие титяшки нравятся. Они у меня немного поубавились, но он говорит, что когда видит большие, ему приходит на ум корова. И они противно смотрятся с подчеркнутой линией плеч. Мы поженимся сразу же, как только все утрясется с этим делом Мэла. И знаешь что? Перед женитьбой мы заключим экономическое соглашение. Это идея самого Шефа. Таким образом, мы оба будем знать, что женимся по любви, а не ради денег. Дженифер натянуто улыбнулась. – Нили, я беременна на втором месяце. – Ух ты! – сочувственно воскликнула Нили. – Но ничего, есть один человек в Пасадене. Говорят, очень хороший спец. Каждую, кто залетает. Шеф направляет к нему. Сначала он пробует уколами, а если уж они не помогают… Аборт – это ничего сложного. Он делает с наркозом. – Нили, ты не понимаешь. Я хочу этого ребенка. Я запланировала его. Я счастлива, что он родится. – О-о! Так слушай, это же великолепно. Знаешь, теперь, когда ты сказала, я и сама замечаю. У тебя исчезла твоя чудесная талия. – Какая мне разница, если теперь у меня будет чудесный ребенок. – Дженифер передразнила аффектированную манеру, с которой Нили произносила это слово. Та добродушно рассмеялась. – Когда все будет позади, я одолжу тебе несколько своих зеленых «куколок», чтобы они помогли тебе восстановить фигуру. – Да, тебе-то они здорово помогли. – Ага, но беда в том, что их нужно принимать постоянно. Стоит мне прерваться, и я начинаю есть все подряд, как маньячка. Но ощущение потрясающее: в тебя вселяется огонь, словно ты можешь танцевать часами. И я каждую ночь благодарю тебя за красные «куколки». Они спасли мне жизнь. Ах да. А ты пробовала хоть раз желтые? Называются – нембутал. Если принимаешь по одной – красную и желтую – ух! Вот когда ты действительно спишь. Я узнала это на собственном опыте. От красной – быстро засыпаешь, но ее действия хватает только на шесть часов. Желтая срабатывает медленнее, но зато действует дольше. Вот я и подумала, а почему бы не попробовать принять обе сразу. Я делаю это только по выходным. Иногда сплю по двенадцать часов кряду. – Теперь, когда я беременна, ничего не буду принимать. Не хочу, чтобы это повредило ребенку. – Да, но ведь если не спать, ты станешь плохо выглядеть, разве нет? – Впервые в жизни меня совершенно не волнует, как я выгляжу. Я хочу родить здорового ребенка. Мне будет все равно, даже если я всю ночь напролет не сомкну глаз. Нили улыбнулась. – Ты выражаешься старомодно, но и я, пожалуй, буду вести себя точно так же. Когда выйду замуж за Тэда и заключу новый контракт, сразу же забеременею. Ну а пока – слава богу, что на свете существуют эти красные, желтые и зеленые «куколки». Дженифер надеялась, что на этот вечер у Тони ничего не запланировано. Она хотела пойти с ним в тот ресторанчик в Долине – без Мириам – и сообщить ему новость там. На подъездной дорожке она увидела еще одну машину. Она принадлежала Делии, их приходящей служанке. О проклятье! Это означает, что на сегодняшний вечер что-то намечено. Мириам ждала ее. – Сегодня Тони подписал контракт! – Ее некрасивое лицо сияло. – Они только что просмотрели пленки его цветных проб. Он заключил договор на пять лет с «Метро» и начинает сниматься в картине через две недели. Оденься сегодня как настоящая леди: на ужин приезжает сам режиссер с женой. А дирижер оркестра и другие подъедут позднее. Дженифер тщательно оделась. Хорошо же, она объявит об этом прямо за ужином. При всех! С трудом застегивая молнию на платье, она вдруг поняла, что не может больше откладывать. Все равно Тони скоро заметит. Перед ужином она выпила мартини. Мириам смотрела на нее с изумлением. Дженифер сегодня блистала – беседовалас женой режиссера, передавала канапе, словом, вела себя, как идеальная жена голливудского актера. Дождавшись, когда подадут вино, Дженифер медленно поднялась, держа бокал в руке. Тщательно избегая неприязненно-враждебного взгляда Мириам, она произнесла: – Хочу предложить тост за… себя. – Она прыснула. – То есть, я имею в виду, за то, что находится во мне. У нас с Тони будет ребенок. Раздались восторженные возгласы и звон бокалов. Тони вскочил со стула и обнял ее. Но от Дженифер не укрылось то, как громко ахнула Мириам, а на лице ее появилось потерянное выражение. Когда всеобщее оживление немного улеглось, она встретилась с Мириам взглядом. Сейчас ее мясистое лицо расплылось в приятной улыбке. Когда ушел последний гость, Мириам повернулась к Дженифер. Она все еще улыбалась ей. – Беги-ка наверх, молодая мамаша, – съязвила она. – Тебе же теперь надо как можно больше отдыхать. Мне нужно обсудить с Тони кое-какие детали по картине, а потом отправлю к тебе и новоиспеченного папашу. Едва Дженифер скрылась из виду, Мириам напустилась на Тони. – Я, кажется, велела тебе пользоваться кое-чем? – Да мы пользовались, – глуповато улыбнулся он. – Наверное, нечаянно получилось. – Что значит «нечаянно»? – зашипела Мириам. – Эти презервативы очень прочные. Я покупаю тебе самые лучшие, они не рвутся. – Ax да. Мы ведь уже несколько месяцев обходимся без них. Джен сказала, в этом нет нужды. Объяснила, что ей вставили какой-то там колпачок. – Я же приказывала тебе: никогда ни одной девице не позволяй склонить тебя к такому. Можешь подхватить болезнь… – От Джен? – Он рассмеялся. – И потом, без них гораздо приятнее. – Ребенок свяжет тебя по рукам и ногам. – Ну да! У нас ведь есть деньги, скажешь, нет? Да еще съемки в этой картине, и все такое. И потом, я хочу ребенка. Будет так забавно. Боковым зрением Мириам увидела, что по лестнице к ним спускается Дженифер, и сказала Тони: – Если у вас будет ребенок, тебе придется больше времени проводить дома. Дженифер замерла, прислушиваясь. Тони стоял спиной к двери и не видел ее. – Ну и что, значит, буду больше времени дома, – пожал он плечами. – И расстанешься с той рыжей певичкой? На его лице отразился испуг. – Кто тебе сказал? – Послушай, от меня ничего не скроешь. Но не беспокойся, я не скажу Дженифер. – О чем это ты не скажешь Дженифер? – та спустилась в комнату. Мириам изобразила на своем лице удивление. Тони не на шутку перепугался. – Да так, ни о чем, Джен, – проговорил он. – Это все Мириам и ее бредовые идеи. Просто из-за того, что я дурачусь с Бетси. Знаешь, такая рыжая в хоровой группе моего радиошоу. Просто дурачимся с ней, и все… – Ничего себе, «дурачатся они», – резко оборвала его Мириам. – Трахает ее три раза на неделе у себя в гримерной на радиостудии. Возможно, он не пользуется презервативами с тобой, Дженифер, но я покупаю ему по целой упаковке каждую неделю, и они у него постоянно кончаются! – Ну вот, видишь, что ты наделала! – захныкал Тони, когда Дженифер метнулась вон из комнаты. – Ты вот что: заставь ее избавиться от этого ребенка. Послушайся меня. Тони. Это плохо для твоей карьеры. Здесь полно врачей, которые сумеют все это сделать. – Я хочу ребенка, – упрямо твердил он. – Тони… – вкрадчиво заговорила она. – Подумай о своем имидже на экране. Молодой, красивый исполнитель главной роли, студия объявит, что тебе всего двадцать четыре года. Ребенок повредит твоему имиджу. – Ерунда! У Синатры есть дети. И у Кросби. Тебе не удастся отнять его у нас! – Он взбежал по лестнице вслед за Дженифер. Та лежала поперек кровати, вся сотрясаясь от рыданий. – Дорогая, – он сел рядом и стал гладить ее по шее, – не обращай внимания на то, что наговорила Мириам. У нас будет наш ребенок. – «Не обращать внимания»! – Она села на кровати, по щекам ее стекала тушь. – «Не обращать внимания»! Позволять ей и дальше рушить жизнь нам обоим и даже… покупать тебе презервативы. Значит, все время, пока я сижу в этом доме, подыхаю со скуки и старею с каждым месяцем, ты трахаешь какую-то там певичку! А я здесь сижу и смотрю, как Мириам толстеет с каждым днем, вечно распоряжается и сует свой нос во все дыры! – А что я сделаю? – простонал он. – Вели ей убираться отсюда. С сегодняшнего дня домом буду заниматься я. – Я не могу так поступить с Мириам. Куда же она пойдет? – Да куда угодно! Лишь бы не жила с нами. Я даже не возражаю, если ты отдашь ей половину всего, что зарабатываешь, но только дай нам пожить своей собственной жизнью. Давай, наконец, побудем мужем и женой, а не двумя детьми под крылышком Мириам. – Но кто же станет всем заниматься? Кто будет выписывать мои чеки, прочитывать мои контракты? – Ах, Тони, у других же есть свои менеджеры – вот и у тебя будет. – Но зачем мне какой-то чужак, который меня же и надует? Моя собственная сестра все сделает лучше любого из них. – Но я не могу с ней жить! Он вдруг весь подобрался. – Ты хочешь, чтобы я вышвырнул вон свою собственную сестру. – То – они! – взмолилась Дженифер. – Ну что за жизнь мы ведем? Развлекаемся, только если это нужно для дела, потому что просто так устраивать вечера Мириам считает пустой тратой денег. А сейчас она говорит о покупке этого ужасного дома. Даже не спросила, нравится ли он мне. Хотя одному только богу известно, для чего нам вообще этот дом. Мы вполне могли бы жить в двухкомнатной квартире, как и живем. У нас нет никакой жизни. – Я должен репетировать три дня в неделю, – вскричал Тони. – Должен делать шоу. Должен прослушивать новые песни и разучивать их… выступать на бенефисах… сниматься в рекламных роликах. А ты чего от меня ждешь? Чтобы я сидел и развлекал тебя? Ты знала, какая у меня жизнь, когда выходила замуж. Мириам вообще нигде не появляется. Она не ходит даже в половину тех мест, где бываем мы. В прошлом месяце мы ходили на три бенефиса без нее, а она хоть раз пожаловалась? – Нет, но я слышала, как она часами висела на телефоне, пытаясь раздобыть себе билетик. Мы ходили без нее только потому, что со студии присылали всего два билета. Удивляюсь, как она еще не спит с нами. – До того, как появилась ты, она уже посвятила мне всю свою жизнь и вырастила меня. Она никогда ни на что не жалуется, совершенно не думает о себе… добрая… хорошая… а ты хочешь, чтобы я ее вышвырнул! – Тони, либо я, либо Мириам. С минуту они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Потом он расплылся в мальчишеской улыбке. – Ты ведь это несерьезно, дорогая. У тебя будет ребенок – послушай, я же не уступил ей в этом, а? А теперь давай-ка спать. – Он начал раздеваться. В полутьме он молча потянулся к ней в постели, чтобы обнять ее. – Мы так ничего и не решили, – мрачно сказала она. – Насчет чего? – Насчет Мириам. – Мириам остается. И ты – тоже. – Он задрал на ней ночную рубашку, жадно ища ртом ее груди. Она попыталась оттолкнуть его от себя. – Нет, я хочу их. Скоро в них появится молочко. Мммм… ты тогда дашь их мне пососать? Она затряслась в беззвучных рыданиях. Тони поднял на нее глаза. – Ну хватит, хватит, давай иди ко мне. Чего ты плачешь? Она разрыдалась еще сильнее. – Только не говори мне, будто ты расстроена из-за того, что я иногда потягивал Бетси. Она соскочила с кровати. Боже! Что же это за человек! Он сел в кровати и включил свет, растерянно глядя на нее. – Я же не люблю Бетси… Дженифер опустилась в кресло, обхватив плечи, пряча свою наготу и вся дрожа. – Зачем же тогда ты делал это? – прорыдала она. Он пожал плечами. – Должно быть потому, что она была рядом. – Но я ведь тоже всегда рядом. – Не мог же я мчаться с репетиции на перерыв к тебе. А она всегда была под рукой… Но, слушай, это ровным счетом ничего не значит. Обещаю тебе, что больше у меня этого с Бетси не будет. Черт возьми, скажу Мириам, чтобы уволила ее завтра же – ну как? Ладно, хватит, ложись в постель. – Дело не только в Бетси. Тони, дело в тебе… я не понимаю тебя. О чем ты вообще думаешь, чем живешь, что чувствуешь? – Хочу тебя прямо сейчас – вот что я чувствую. Ну давай, дорогая… Не зная, что еще ей остается делать, она легла в постель и даже позволила ему овладеть собой. Утолив свою страсть, он повернулся на бок и мгновенно погрузился в глубокий сон. Дженифер встала и приняла три красных капсулы. Но заснуть ей удалось, лишь когда начало светать. На следующее утро, после того как Мириам и Тони уехали на репетицию, Дженифер заказала телефонный разговор с Генри и рассказала ему все. – Похоже, тебе надо бежать оттуда, – сказал Генри, выслушав ее сбивчивый рассказ. – Она так или иначе заставит тебя избавиться от ребенка. Хотя бы даже тем, что создаст невыносимую обстановку. – Что же мне делать? – Тут надо пораскинуть мозгами. Как ты относишься к этому субчику? – Теперь уж и не знаю. Иногда мне жаль его, потому что Мириам совсем запудрила ему мозги. Иногда же, как вчера ночью, испытываю одно отвращение. Но в Тони есть что-то привлекательное. Человек он неплохой, в том-то л дело. В нем нет ничего дурного, просто он так и не стал взрослым. Это вина Мириам. Она внушила ему, что все вокруг создано только для него, что он может делать все, что ему вздумается, пока продолжает петь. Думаю, жизнь у нас с ним могла бы получиться, если бы я заставила его порвать с нею, но я никак не могу до него достучаться. – Ты еще молода, Дженифер. Мой тебе совет: уезжай оттуда, пока не стало хуже. – Не так уж и молода, как ты думаешь, Генри. Я… я солгала тебе про свой возраст. – Ну и что? Все равно у тебя вся жизнь впереди. А вот там у тебя жизни не будет, насколько я себе представляю. Если застрянешь там, то пусть даже тебе и удастся родить ребенка, Мириам и его приберет к рукам. – НЕТ! – Тогда возвращайся в Нью-Йорк. Посмотрим, насколько Тони окажется мужчиной – сможет ли поехать за тобой. Я даже согласен попытаться убедить его, что смогу вести его дела ничуть не хуже Мириам. Спровадим старушку на пенсию, и тогда ты сможешь вылепить из него настоящего мужчину. Если же он на это не пойдет, ты ничего не теряешь. – Ты прав. Генри. Я поняла, что больше так жить не могу. – Я забронирую тебе люкс в отеле «Пьер». Оставь записку, что тебя вызвали в Нью-Йорк на прослушивание для участия в шоу. Да смотри, из одежды возьми только самое необходимое, а то Мириам заявит, что ты сбежала. – Но Тони и Мириам поймут, что я не могу участвовать в шоу, раз беременна. – Конечно, поймут. Но это просто уловка. И точно то же самое напиши кому-нибудь еще, например, Анне, чтобы у тебя было доказательство, если понадобится. И дай мне телеграмму, что, мол, принимаешь мое предложение лететь сюда. Дженифер последовала совету Генри до мельчайших деталей, и к ее неописуемой радости Тони сел на самолет и прилетел за нею в Нью-Йорк. Он ходил взад-вперед по гостиной ее люкса, рыдал, умолял, клялся, что любит ее, что исполнит все, чего она пожелает. Все, что угодно, только не расстанется с Мириам. – Но это единственное, чего я прошу, – стояла она на своем. Тони был непреклонен. – Она ведет мои денежные дела и направляет мою карьеру. Я не доверяю никому, кроме Мириам. – А как же я? Разве мне ты не доверяешь? – Не надо, Джен. В постели у меня никого не было лучше тебя, но… – «В постели»? И только для этого я тебе нужна? – А кем же еще ты хочешь быть? Боже! Мириам права. Ты хочешь целиком завладеть мною, высосать меня! Я всего себя отдаю пению. – А что ты отдаешь мне? – Свой!.. И этого с тебя хватит. Тони вернулся в Калифорнию. Генри составил соглашение о временном разрыве брачных уз. Дженифер будет получать пятьсот долларов в неделю до рождения ребенка, а после рождения – тысячу в неделю плюс на оплату расходов по содержанию ребенка. То, что она ждет ребенка, следовало скрывать до тех пор, пока беременность не станет очевидной. После родов она разведется с Тони. О ее уходе от Тони газеты писали на первых полосах. Первую неделю она скрывалась ото всех в отеле и, благодаря красным пилюлям, большую часть времени просто спала. Анну это наконец встревожило, и она настояла на том, чтобы Дженифер переехала к ней. Она буквально вытаскивала ее в театры и почти ежедневно обедала с нею вместе, но Дженифер оставалась подавленной и безучастной ко всему. Облегчение наступало для нее лишь ночью – его приносили красные «куколки». (обратно)октябрь 1947
Дженифер была уже на третьем месяце, когда прилетела Мириам. Она позвонила прямо из аэропорта. Ей необходимо было срочно видеть Дженифер. Настроение у той сразу резко поднялось. Теперь Мириам ей не страшна. Может быть, Мириам теперь сама боится ее. Когда она звонила, в голосе ее слышалось отчаяние. Возможно, Тони находится в подавленном состоянии – может, даже стал хуже петь, – вот она и прилетела для мирных переговоров. Что ж, условия будет диктовать не Мириам, ей придется оставить их семью в покое. А Тони должен будет сам приехать к ней и попросить прощения. Она все еще не простила его, но по-прежнему не оставляла надежды на то, что вдали от Мириам Тони станет самостоятельной личностью. И малышка – она должна внести перемену во все. Ей хотелось, чтобы у ее дочурки был отец, чтобы она не росла, как сама Дженифер, в доме, где одни женщины. Тони станет зрелым мужчиной… он ведь еще молод. Открывая дверь и приглашая Мириам войти, она отдавала себе отчет в том, что выглядит сейчас как нельзя лучше и что в квартире у нее чисто и уютно. Хозяйкой положения была она. Ей даже удалось заставить себя улыбнуться. Женщина тяжело опустилась в кресло и напряженно застыла с прямой спиной. Ее глаза скользнули по животу Дженифер. – Никаких кофе. Давай кончать с этими дерьмовскими правилами приличия и перейдем сразу к делу. Улыбка не сходила с лица Дженифер. – Что же это за «дело»? Глаза у Мириам сузились. – Это действительно ребенок Тони? – Подожди, пока сама не убедишься, – резко ответила Дженифер. – Уверена, что ребенок будет вылитый Тони. Мириам встала и нервно зашагала по комнате. Затем повернулась к Дженифер. – Сколько ты хочешь за то, чтобы избавиться от него? Дженифер смерила ее ледяным взглядом. – Послушай, если ты хочешь денег, я дам их тебе, – сказала Мириам. – Выдам сразу крупную сумму, под расписку. И ты будешь получать свою тысячу долларов даже без ребенка. Только избавься от него. Дженифер смутилась. – А Тони знает об этом? Он хочет именно этого? – Нет, Тони не знает, что я здесь. Я сказала ему, что лечу в Чикаго вести переговоры с его спонсором на радио о заключении более выгодного соглашения. Я прилетела сюда по собственной инициативе, чтобы умолять тебя прервать беременность, пока не пошел четвертый месяц и не стало слишком поздно. Дженифер заговорила низким, звенящим от напряжения голосом. – Знаешь, Мириам, до этой минуты я никогда не испытывала к тебе глубокой ненависти. Да, я всегда считала тебя эгоистичной, но то, по крайней мере, было ради Тони. Но теперь я все понимаю. Ты – отвратительный, злой человек. – Ну, а ты у нас прямо образец добродетельной мамаши для всей страны! – рявкнула Мириам, вскочив. – Тебе что, просто не терпится поскорее начать гулять по парку, толкая перед собой детскую коляску, да? – Я хочу этого ребенка, – серьезно проговорила Дженифер. – Мириам… всю мою жизнь у меня не было человека, которому я действительно была бы небезразлична. Для матери с бабушкой я постоянно была обузой. Только и слышала от них, как много ем, сколько денег уходит мне на туфли, как быстро я изо всего вырастаю. Доходило до того, что я пугалась, когда туфли начинали мне жать. Знала, что обязательно будет скандал. Потом, когда я выросла, речь стала идти только О том, сколько денег приношу в дом я – дай, дай, дай. Поэтому я и вышла замуж за принца. Да, браком по страстной любви это, пожалуй, нельзя было назвать, но я рассчитывала, что смогу тогда обеспечить мать и бабушку, и пыталась стать хорошей женой. Но я ему была безразлична, он тоже использовал меня в своих целях. Я полюбила Тони. Единственное, о чем я просила – это предоставить мне возможность быть ему женой, но ты и ее мне не давала никогда. Ты встала у меня на пути, подавила и растоптала меня. Но теперь у меня родится девочка. Она будет любить меня и принадлежать только мне, а я буду работать для нее. Упорно работать. Сейчас я экономлю деньги, даже одежду себе не покупаю. Когда она родится, я снова стану манекенщицей… буду экономить… у нее будет все. С минуту Мириам стояла молча, изучая свои толстые пальцы. Затем проговорила: – Дженифер, возможно, я ошибалась в тебе. Если это так, прости меня. – Она тяжело вздохнула. – Ладно, возвращайся к Тони. Я разрешу тебе вести дом самой, мы попробуем поладить. Я сделаю все, что смогу… но ты должна избавиться от этого ребенка! – Мириам, пожалуйста, уйди. Я не хочу оскорблять тебя. Ребенок у меня будет. И Тони я себе тоже верну. Когда он узнает, что ребенок родился, он захочет увидеть его. Захочет вернуть нас обоих – и меня, и ребенка, вот увидишь. – Дженифер, – в голосе Мириам зазвучали почти ласковые нотки. – Выслушай меня и выслушай внимательно. Ты оставила Тони и была его единственной любовью в жизни. Правильно? Вот он и сделал одну детскую попытку вернуть тебя. И все. С тех пор у него каждую ночь новая девица. Всего за какие-то три недели он начисто забыл о тебе. – Пожалуйста, уйди, Мириам, – со слезами в голосе взмолилась Дженифер. – Ты и так уже сделала мне достаточно больно. Зачем же еще продолжать? – Теперь я пытаюсь помочь тебе, – умоляющим голосом ответила Мириам. – Если бы я ровным счетом ничего к тебе не испытывала, я опустила бы руки, и поступай, как знаешь. Чего нам с Тони терять? В материальном отношении все уже решено, алименты ты получаешь. Поэтому сейчас я говорю ради тебя. Я всячески пыталась убедить тебя избавиться от ребенка и все-таки обойти Тони стороной. Но ты оказалась упрямой. – Она опять принялась мерить шагами комнату. – Послушай, почему, по-твоему, я рассказала тебе про Тони и про этих девиц? Чтобы причинить тебе боль? Нет, чтобы уберечь от другой боли, куда сильней этой. Потому что научиться по-настоящему глубоко чувствовать можно лишь тогда, когда сама подержишь ребенка на руках. Он становится частью тебя, это такое чувство, какое ты и представить себе не можешь, а до того ты и не подозреваешь, что способна на такую любовь. А если с ребенком случается что-то неладное, это причиняет тебе такую боль, какую ни один мужчина причинить просто не в состоянии. Дженифер, тебе никогда не приходило в голову, что Тони… э-э-э… ведет себя по-детски? Дженифер как-то странно посмотрела на нее. В голосе Мириам зазвучали нотки, каких она никогда раньше не слышала. – Возможно, Тони и ведет себя по-детски, – согласилась она, – но виновата в этом, скорее всего, ты сама, Мириам… – Дженифер, Тони – дитя, умственно и эмоционально. – Только потому, что ты чрезмерно опекаешь его, ходишь за ним по пятам. – Как раз наоборот: именно поэтому я его и опекаю. И именно поэтому не хочу, чтобы у тебя был этот ребенок. Ради тебя же, да и ради него самого. – Я не понимаю… Мириам села рядом. – Дженифер, выслушай меня. Когда он был ребенком, у него были судороги. У него с рождения какое-то отклонение в мозгу. Врачи в больнице объясняли мне, но я была слишком молода и ничего тогда не поняла. Не могла поверить, будто что-нибудь может оказаться не так, как надо. Они предупреждали меня, что нормальным он никогда не станет, но ему был всего годик, он был таким прелестным ребенком, и я отказывалась что-либо понимать. Но когда ему исполнилось семь лет, а он все никак не мог одолеть программу первого класса, я начала понимать. Я уже была постарше и проверяла его на всяких тестах. На этот раз передо мной раскрылась вся картина. Разве ты не замечала, Джен? Ведь Тони читает одни комиксы, да и то с огромным трудом. Он не умеет складывать числа больше пятидесяти. Но он не догадывается о своей умственной отсталости. Я сумела скрыть и это от него, ведя его дела и внушив ему, будто он не знает этого только потому, что всем занимаюсь я. Вот почему я постоянно твержу ему: единственное, что он обязан делать в жизни, это – петь. – Но ты сказала, что судороги у него были в младенчестве. Возможно, все прошло, и нет никаких оснований опасаться, что наш ребенок родится с такими же отклонениями, – возразила Дженифер. – Его болезнь постоянно прогрессирует. Причину врачи и сами не знают, но существует очень высокая вероятность, что к пятидесяти годам Тони полностью лишится рассудка. И ребенок от него родится точно с таким же заболеванием. Если ему повезет, он достигнет уровня развития двенадцатилетнего, но этот уровень может оказаться и ниже. – Она помолчала, припоминая что-то. – Дженифер, ты не представляешь себе, что это такое. Когда я узнала про Тони, я ударилась в религию. Стала подолгу молиться. Ходила в церковь – в любые церкви – и таскала за собой Тони. Договорилась, чтобы его взяли в церковный хор. Тогда-то и узнала, что у него есть голос. Вот когда я поняла, что это его единственный шанс в жизни. Каждый заработанный мною цент я отдавала за уроки… – Мириам вздохнула. – Но это было давно, и вот что в конце концов получилось. Этот твой ребенок, возможно, не унаследует голоса Тони, зато наверняка унаследует его болезнь. – А как же ты? – спросила Дженифер. – Ты тоже лишишься рассудка? Мириам покачала головой. – Мы с ним от разных отцов. Этого Тони тоже не знает. Пожалуйста, Дженифер, ради себя самой, ради всего святого, избавься от ребенка. – А как я узнаю, правду ты говоришь или нет? – Я привезла с собой медицинские свидетельства. – Порывшись в сумке, она извлекла оттуда толстый конверт из оберточной бумаги. – Я и не рассчитывала, что ты поверишь мне на слово. Да и почему, собственно, ты должна мне верить? – Она протянула конверт. – Сходи с ними к любому невропатологу. Только сделай мне одно одолжение – не разноси это по всему городу, Дженифер. Иначе на карьере Тони можно сразу ставить крест. Да и на самом Тони – тоже. Я понимаю, ему, видно, все равно суждено закончить свои дни в каком-нибудь заведении для умственно отсталых, но если это станет известно сейчас, то он попадет туда немедленно. Вот почему я всегда экономлю. Ты, наверное, считала меня скрягой, а я просто откладываю деньги на его пожизненную ренту. Вношу на это каждый цент, который мне удается сэкономить. Не хочу, чтобы после моей смерти он оказался в каком-нибудь ужасном приюте, который содержится на пожертвования. А пока, может, он еще поживет хорошенько лет пятнадцать… я, во всяком случае, надеюсь на это… Дженифер вернула ей конверт. – Я верю тебе, Мириам. Придумать такую страшную историю невозможно. В глазах у Мириам появились слезы. – Дженифер… я действительно желаю тебе добра. Ты можешь вернуться к Тони, как только пожелаешь, но ты достойна лучшей участи. И пожалуйста, храни это в тайне… ради него. Ты еще найдешь себе кого-нибудь. Пожалуйста, будь милосердна к Тони. Избавься от его ребенка, а о нем самом забудь. После ухода Мириам Дженифер просидела неподвижно несколько часов, тупо уставившись в одну точку, а потом приняла три красные пилюли и легла спать.* * *
Она так и не дала ни Анне, ни Генри никакого логического объяснения своему внезапному решению. Сама нашла врача в Нью-Джерси, приятного человека со стерильной внешностью. Все произошло на чистом операционном столе с помощью опытной медсестры и обошлось в тысячу долларов. Сестра сделала ей укол в руку – пентотал натрия, и ощущение от него было еще восхитительнее, чем от секонала. Когда она проснулась, все было кончено. Две недели спустя она чувствовала себя так, словно ничего этого с нею не было. Талия стала как раньше, и она полетела в Мексику оформлять официальный развод. Когда она вернулась, ее захватил и понес бурный водоворот новых осенних премьер, бесчисленных покупок новой одежды: в моду входили удлиненные платья, и все завороженно смотрели на восьмидюймовые экранчики, именуемые телевизорами. Хотя смотреть по ним было особенно нечего, кроме состязаний по борьбе, баскетбольных матчей и скачек, все в один голос утверждали, что эти аппараты покончат с радио. Дженифер опять устроилась в дом моделей Лонгуорта и начала демонстрировать модели нового сезона. Очень скоро стенные шкафы Анны вновь стали ломиться от туалетов Дженифер, от которых та отказывалась, надев их один-два раза. Телефон звонил непрерывно, и Дженифер уверенно входила в свою новую роль в обществе, увлекая за собой и Анну. Дженифер встречалась с мужчинами, но предпочтение отдала Клоду Шардо. Он был кинопродюсером из Франции – чисто галльский тип лица – обаятельный, влюбчивый. Анне он не понравился, но Дженифер с головой отдалась своему пылкому увлечению. Завтраки в лучших ресторанах длились по три часа с поцелуями пальчиков и танцами. Он плохо говорил по-английски, и Анну поразила беглая французская речь Дженифер. В канун Рождества Дженифер и Анна нарядили небольшую елочку. Должен был прийти Клод со своими друзьями. – Через десять дней он уезжает, – задумчиво сказала Дженифер. – Он действительно небезразличен тебе? Я подчеркиваю: действительно? – спросила Анна. Дженифер наморщила нос. – Видишь ли… он какой-то другой. А что ты о нем думаешь? Только честно. – Трудно сказать. Я не понимаю доброй половины из того, что он говорит, а другую половину вы тараторите по-французски, пока я пытаюсь разобрать его ломаный английский. Но из слов его дружка Франсуа я все же сумела понять, что у твоего Клода во Франции есть жена. – Естественно. И вероятно, еще любовница, – с легкостью согласилась Дженифер. – Стоит мне привязаться к мужчине, как можешь быть уверена, что это тот еще тип. Он хочет, чтобы я поехала в Париж. – Но у тебя, конечно же, и в мыслях нет ехать туда! Дженифер пожала плечами. – Он хочет дать мне главные роли в своих фильмах. Говорит, я произведу у них фурор своей американской внешностью и беглым французским языком. – Но ты же всегда утверждала, что не можешь играть. – Он хочет, чтобы я снималась в эротических фильмах. Ну, в художественных, но полуобнаженной. – Что? – Там это принято, Анна. В таких фильмах снимаются многие крупные звезды. Это там ничего не значит. Да нет, я вовсе не имею в виду грязные порнографические ленты. Я хочу сказать, это будут фильмы с настоящим сюжетом. Только когда по ходу действия ты принимаешь ванну, тебя снимают. – Но зачем тебе это делать? – А почему бы и нет? Что я имею от того, что здесь за мной все бегают? Я была сенсацией прошлого сезона. Скоро мне исполняется двадцать восемь, а за спиной у меня два неудачных замужества. Настоящего мужчину я здесь уже не встречу. За мной закрепилась определенная репутация. Была замужем за принцем, потом за кинозвездой – мужчины считают, что я слишком богата и им не по средствам. Может быть, Париж – лучший выход для меня. Я знаю, что Клод насквозь фальшивый. Пускал мне пыль в глаза своим ухаживанием, только чтобы я подписала с ним контракт. Хочет сделать на мне деньги. Ну и что? Что я теряю? От меня же не убудет. – Но ты же еще так мало была в Нью-Йорке – почему не испытать шанс? – Я слишком хорошо известна. Ничего нового в моей жизни не предвидится. Ну ладно, возьмут еще в одно шоу, но хорошей роли опять не дадут. А потом что? Как манекенщица я тоже не бог весть что. Денег, которые я получаю в виде алиментов, мне хватает, но меня уже тошнит и от «Марокко», и от «Аист-клуба», и от одних и тех же приевшихся физиономий. А тебя разве нет? Или тебя все еще несет на крыльях вечной любви и преданности Нью-Йорку? Анна отрицательно покачала головой. – Нет, я стала как-то равнодушнее к этому городу после того, как уехал Лайон. Я прочла в «Тайме», что его книга выходит через месяц. Вероятно, сейчас он работает над второй. – Ты была с кем-нибудь близка за это время? – Нет, я не могу. Понимаю, это звучит глупо, но я все еще люблю Лайона. (обратно) (обратно)Анна
январь 1948
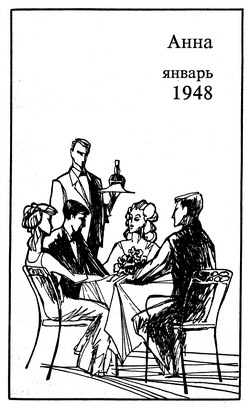 В день своего отъезда Клод закатил трехчасовой завтрак в «21». Когда приехала Анна, все было в самом разгаре: на столе возвышалась большая банка иранской паюсной икры и неизбежное в таких случаях шампанское в ведерке со льдом. Сияющая Дженифер выступала в роли радушной хозяйки стола перед Клодом, его приятелем Франсуа и еще одним человеком, которого Анна раньше не встречала.
– Меня зовут Кевин Гилмор, – представился незнакомец.
Дженифер улыбнулась.
– Ты, Анна, наверняка слышала о Кевине Гилморе. Он – владелец фирмы «Гиллиан Косметикс».
– Конечно. У вас отличная продукция. – Она положила себе еще икры.
– Вы тоже собираетесь в Париж? – спросил он.
– Нет, это Дженифер не терпится стать новой сенсацией Франции.
– Она возьмет Париж штурмом, – сказал Клод с сильным акцентом. – Но пожалуйста, Анна… я целиком полагаюсь на тебя в том, чтобы она села на пароход. Она должна быть там к концу месяца.
Весело расхохотавшись, Дженифер крепко прижалась к Клоду.
– Я буду там сразу же после того, как получу паспорт и кое-что улажу.
– Ну разве это не замечательно? – обратилась Анна к Кевину, стараясь скрыть, что она не испытывает никакого энтузиазма по этому поводу.
– Да, вероятно. У вас свои зубы?
– Что-о?
– Свои? Или вставные?
Анна улыбнулась. Его прямота обезоруживала.
– Зубы у меня свои, а что?
– А волосы?
Она почувствовала, что краснеет.
– Естественные, – тихо ответила она.
– Это я знаю. Я достаточно разбираюсь в оттенках волос, чтобы понять это. Но неужели все они – ваши? – Он незаметно для остальных подергал ее длинные волосы. – Я имею в виду, вы не носите парик?
– Что-что?
– Парик. Чужие волосы, более густые.
– А зачем мне это?
Он неожиданно улыбнулся. Эта улыбка совершенно не вязалась с его дерзкими вопросами. Робкая, застенчивая улыбка.
– Затем, что большинству девушек он просто необходим, чтобы выглядеть вот так. – Он печально покачал головой. – Это самая большая трудность, когда ищешь подходящую девушку, – то у них хорошие волосы, но отвратительные зубы, то хорошие волосы и зубы, но никуда не годный нос. А у вас, по-моему, все идеально. Хочу поинтересоваться, не согласились бы вы работать у нас, но только исключительно у нас, так сказать, на эксклюзивной основе?
– В качестве кого? – Анна посмотрела на Дженифер, пытаясь найти себе поддержку, но та была полностью поглощена Клодом, что-то нежно шептала ему по-французски.
– Видите ли, сейчас, когда на сцену выходит телевидение, с радио, по-моему, будет покончено через год или два. По крайней мере, в том, что касается крупных шоу. Мне нужна «Девушка Гиллиана». Хочу, чтобы она фигурировала во всех моих рекламах: париков, лака для ногтей, губной помады, косметики. Я уже говорил с несколькими девушками, которые мне нравятся… – Он назвал имена пяти манекенщиц экстра-класса. – Но они требуют слишком большие гонорары за то, что будут работать исключительно на меня. А я не хочу, чтобы «Девушка Гиллиана» рекламировала модели Тэда Касабланки в «Воге» или духи «Шанель» в «Харперсе». Хочу, чтобы она ассоциировалась исключительно с продукцией фирмы «Гиллиан». А вначале я смогу платить всего триста долларов в неделю.
Анна отхлебнула шампанского. Она не знала, что ответить.
Гилмор принял ее молчание за отказ.
– Я предлагаю вам контракт сроком на один год с оплатой во втором полугодии по пятьсот долларов в неделю. Плюс дополнительные суммы, если мы используем вас, когда выйдем на телевидение.
Дженифер внезапно очнулась.
– Что я слышу? «Суммы»? – переспросила она.
– Я говорю вашей подруге, что хотел бы сделать, ее «Девушкой Гиллиана».
Глаза у Дженифер округлились.
– Ну конечно же! Анна идеально подойдет.
– Наверняка подойдет. Она красива, но не чересчур сексуальна. Типичная американская девушка, – сказал Кевин.
Клод всплеснул руками.
– Опять это слово! Какие же вы, американцы! Не знаете, что делать с красивой девушкой. Постоянно пытаетесь всех уподобить девчонке-соседке. Да если бы публика хотела именно этого, никто не стал бы ходить в кино. Взять, к примеру, Дженифер – она сразу станет крупной звездой именно потому, что не похожа на соседскую девчонку. Она – та самая девушка, обладать которой мечтает каждый мужчина.
– Согласен. Но в рекламном деле это не срабатывает, тут нужен совсем другой подход, – стоял на своем Кевин. – Сексуальную привлекательность мы тоже используем, но более тонко. Анна красива, но это тот тип красоты, с которым себя может отождествить любая женщина. Студентка колледжа или молодая замужняя женщина станет думать, что и она вполне сможет выглядеть как Анна, если будет пользоваться нашими изделиями. Но она никогда не станет думать, что сможет походить на Дженифер. Вы в своих фильмах делаете упор на эскапизм, уход от действительности – я же торгую реальными изделиями. Анна идеально подходит для моей продукции. Люди не догадаются, что все дело в чертах ее лица, в том, как у нее посажены глаза или насколько густы у нее ресницы. Они станут думать, что если они будут пользоваться той же продукцией, то станут выглядеть точно так же. Этот тип красоты не напугает их. А вот тип Дженифер – да.
– Что ж, тогда я увожу свой пугающий тип красоты в Париж, – сказала Дженифер. – Но, Анна, думаю, что тебе следует принять предложение Кевина. Тебе нужно сменить обстановку. Нам всем это нужно.
Анна нахмурилась.
– Я не манекенщица, и меня вполне устраивает работа у…
Дженифер незаметно ткнула ее локтем в бок и встала.
– По-моему, нам нужно выйти и немного подправить косметику. Пошли, Анна.
Выходя следом за Анной, она обернулась и ободряюще подмигнула Кевину. Тот кивнул и показал ей скрещенные пальцы.
В дамской туалетной комнате они сели перед большим зеркалом. Служительница прибиралась неподалеку с выражением безразличия и скуки на лице.
– Итак, – с ходу бросилась в атаку Дженифер, – почему ты отказываешься?
– Я ничего не смыслю ни в рекламе, ни в работе манекенщицы…
– А я ничего не смыслю в работе киноактрисы, но меня это не останавливает. К тому же еще в Париже!
– Ты будешь замечательной…
– Не переводи разговор. Сколько ты получаешь у Генри?
– Сейчас – сто пятьдесят в неделю. Но это не существенно. Я только что продала свой дом и получила за него очень приличную сумму. Генри выгодно поместил эти деньги, так что мне набегают большие проценты. В деньгах я нуждаюсь меньше всего.
– Но это же будет так замечательно.
– Я не могу оставить Генри…
– «Генри»? – Дженифер осуждающе посмотрела на нее. – Анна, и ты говоришь это мне, своей Джен? Скажи уж лучше, что не можешь оставить эту работу потому, что она хоть как-то связывает тебя с Лайоном Берком. Но он к тебе не вернется. Выброси из головы, что в один прекрасный день он явится и возьмет тебя с собой. Все это в прошлом! Кончено!
– Откуда ты знаешь? Я имею в виду, что на следующей неделе выходит его книга… ну и… он должен будет приехать сюда. Ведь так поступает большинство писателей, разве нет?
Дженифер опустила глаза, внимательно изучая свою сумочку. Небрежно поиграла ремешком.
– Анна… я не хотела говорить тебе, но сейчас думаю, что ты должна знать. Он… опять уехал в Англию.
– «Опять»? – у нее пересохло во рту. Она испугалась, не заболевает ли. – Хочешь сказать, что он был здесь?
Дженифер утвердительно кивнула с серьезным выражением на лице.
– Целую неделю встречался с издателем. Все полностью переписал заново – выбросил почти все, что написал вначале здесь, вернулся туда и начал писать с самого начала. Вот почему ушло так много времени. Но книга получилась хорошей. Генри говорил мне. Он виделся с Лайоном.
– Генри его видел?
– Они вместе обедали. Лайон уже приступил к следующей книге. Получил от своего издателя очень крупный аванс и уехал обратно в Лондон. Снимает там квартиру.
– Он был здесь… виделся с Генри… – слова застыли у нее в горле. По лицу потекли слезы. Дженифер обняла ее.
– Анна, не принимай это так близко к сердцу. Генри говорит, что Лайон думает только о своих книгах. Сейчас это единственное, что имеет для него значение.
– Но ведь Генри знает, каково мне. Почему же он не сказал мне, что Лайон приезжал?
– Потому что он мужчина, а мужчины всегда стоят друг за друга. Анна, ты ничем не обязана Генри. И тебе необходимо сменить обстановку. Это сама судьба. Ведь Клод не приглашал сегодня Кевина. Тот просто шел куда-то один, мы его случайно встретили, и он пошел с нами сюда. Я считаю, это просто предопределено свыше.
– Может быть, ты и права, – медленно проговорила Анна. – Я .должна уйти с этой работы. Оставаться там – все равно, что хоронить себя заживо.
– Вот теперь ты говоришь правильно. И квартиру эту тоже брось! А сейчас приведи в порядок лицо и не вздумай терять работу, которую ты еще не получила.
В день своего отъезда Клод закатил трехчасовой завтрак в «21». Когда приехала Анна, все было в самом разгаре: на столе возвышалась большая банка иранской паюсной икры и неизбежное в таких случаях шампанское в ведерке со льдом. Сияющая Дженифер выступала в роли радушной хозяйки стола перед Клодом, его приятелем Франсуа и еще одним человеком, которого Анна раньше не встречала.
– Меня зовут Кевин Гилмор, – представился незнакомец.
Дженифер улыбнулась.
– Ты, Анна, наверняка слышала о Кевине Гилморе. Он – владелец фирмы «Гиллиан Косметикс».
– Конечно. У вас отличная продукция. – Она положила себе еще икры.
– Вы тоже собираетесь в Париж? – спросил он.
– Нет, это Дженифер не терпится стать новой сенсацией Франции.
– Она возьмет Париж штурмом, – сказал Клод с сильным акцентом. – Но пожалуйста, Анна… я целиком полагаюсь на тебя в том, чтобы она села на пароход. Она должна быть там к концу месяца.
Весело расхохотавшись, Дженифер крепко прижалась к Клоду.
– Я буду там сразу же после того, как получу паспорт и кое-что улажу.
– Ну разве это не замечательно? – обратилась Анна к Кевину, стараясь скрыть, что она не испытывает никакого энтузиазма по этому поводу.
– Да, вероятно. У вас свои зубы?
– Что-о?
– Свои? Или вставные?
Анна улыбнулась. Его прямота обезоруживала.
– Зубы у меня свои, а что?
– А волосы?
Она почувствовала, что краснеет.
– Естественные, – тихо ответила она.
– Это я знаю. Я достаточно разбираюсь в оттенках волос, чтобы понять это. Но неужели все они – ваши? – Он незаметно для остальных подергал ее длинные волосы. – Я имею в виду, вы не носите парик?
– Что-что?
– Парик. Чужие волосы, более густые.
– А зачем мне это?
Он неожиданно улыбнулся. Эта улыбка совершенно не вязалась с его дерзкими вопросами. Робкая, застенчивая улыбка.
– Затем, что большинству девушек он просто необходим, чтобы выглядеть вот так. – Он печально покачал головой. – Это самая большая трудность, когда ищешь подходящую девушку, – то у них хорошие волосы, но отвратительные зубы, то хорошие волосы и зубы, но никуда не годный нос. А у вас, по-моему, все идеально. Хочу поинтересоваться, не согласились бы вы работать у нас, но только исключительно у нас, так сказать, на эксклюзивной основе?
– В качестве кого? – Анна посмотрела на Дженифер, пытаясь найти себе поддержку, но та была полностью поглощена Клодом, что-то нежно шептала ему по-французски.
– Видите ли, сейчас, когда на сцену выходит телевидение, с радио, по-моему, будет покончено через год или два. По крайней мере, в том, что касается крупных шоу. Мне нужна «Девушка Гиллиана». Хочу, чтобы она фигурировала во всех моих рекламах: париков, лака для ногтей, губной помады, косметики. Я уже говорил с несколькими девушками, которые мне нравятся… – Он назвал имена пяти манекенщиц экстра-класса. – Но они требуют слишком большие гонорары за то, что будут работать исключительно на меня. А я не хочу, чтобы «Девушка Гиллиана» рекламировала модели Тэда Касабланки в «Воге» или духи «Шанель» в «Харперсе». Хочу, чтобы она ассоциировалась исключительно с продукцией фирмы «Гиллиан». А вначале я смогу платить всего триста долларов в неделю.
Анна отхлебнула шампанского. Она не знала, что ответить.
Гилмор принял ее молчание за отказ.
– Я предлагаю вам контракт сроком на один год с оплатой во втором полугодии по пятьсот долларов в неделю. Плюс дополнительные суммы, если мы используем вас, когда выйдем на телевидение.
Дженифер внезапно очнулась.
– Что я слышу? «Суммы»? – переспросила она.
– Я говорю вашей подруге, что хотел бы сделать, ее «Девушкой Гиллиана».
Глаза у Дженифер округлились.
– Ну конечно же! Анна идеально подойдет.
– Наверняка подойдет. Она красива, но не чересчур сексуальна. Типичная американская девушка, – сказал Кевин.
Клод всплеснул руками.
– Опять это слово! Какие же вы, американцы! Не знаете, что делать с красивой девушкой. Постоянно пытаетесь всех уподобить девчонке-соседке. Да если бы публика хотела именно этого, никто не стал бы ходить в кино. Взять, к примеру, Дженифер – она сразу станет крупной звездой именно потому, что не похожа на соседскую девчонку. Она – та самая девушка, обладать которой мечтает каждый мужчина.
– Согласен. Но в рекламном деле это не срабатывает, тут нужен совсем другой подход, – стоял на своем Кевин. – Сексуальную привлекательность мы тоже используем, но более тонко. Анна красива, но это тот тип красоты, с которым себя может отождествить любая женщина. Студентка колледжа или молодая замужняя женщина станет думать, что и она вполне сможет выглядеть как Анна, если будет пользоваться нашими изделиями. Но она никогда не станет думать, что сможет походить на Дженифер. Вы в своих фильмах делаете упор на эскапизм, уход от действительности – я же торгую реальными изделиями. Анна идеально подходит для моей продукции. Люди не догадаются, что все дело в чертах ее лица, в том, как у нее посажены глаза или насколько густы у нее ресницы. Они станут думать, что если они будут пользоваться той же продукцией, то станут выглядеть точно так же. Этот тип красоты не напугает их. А вот тип Дженифер – да.
– Что ж, тогда я увожу свой пугающий тип красоты в Париж, – сказала Дженифер. – Но, Анна, думаю, что тебе следует принять предложение Кевина. Тебе нужно сменить обстановку. Нам всем это нужно.
Анна нахмурилась.
– Я не манекенщица, и меня вполне устраивает работа у…
Дженифер незаметно ткнула ее локтем в бок и встала.
– По-моему, нам нужно выйти и немного подправить косметику. Пошли, Анна.
Выходя следом за Анной, она обернулась и ободряюще подмигнула Кевину. Тот кивнул и показал ей скрещенные пальцы.
В дамской туалетной комнате они сели перед большим зеркалом. Служительница прибиралась неподалеку с выражением безразличия и скуки на лице.
– Итак, – с ходу бросилась в атаку Дженифер, – почему ты отказываешься?
– Я ничего не смыслю ни в рекламе, ни в работе манекенщицы…
– А я ничего не смыслю в работе киноактрисы, но меня это не останавливает. К тому же еще в Париже!
– Ты будешь замечательной…
– Не переводи разговор. Сколько ты получаешь у Генри?
– Сейчас – сто пятьдесят в неделю. Но это не существенно. Я только что продала свой дом и получила за него очень приличную сумму. Генри выгодно поместил эти деньги, так что мне набегают большие проценты. В деньгах я нуждаюсь меньше всего.
– Но это же будет так замечательно.
– Я не могу оставить Генри…
– «Генри»? – Дженифер осуждающе посмотрела на нее. – Анна, и ты говоришь это мне, своей Джен? Скажи уж лучше, что не можешь оставить эту работу потому, что она хоть как-то связывает тебя с Лайоном Берком. Но он к тебе не вернется. Выброси из головы, что в один прекрасный день он явится и возьмет тебя с собой. Все это в прошлом! Кончено!
– Откуда ты знаешь? Я имею в виду, что на следующей неделе выходит его книга… ну и… он должен будет приехать сюда. Ведь так поступает большинство писателей, разве нет?
Дженифер опустила глаза, внимательно изучая свою сумочку. Небрежно поиграла ремешком.
– Анна… я не хотела говорить тебе, но сейчас думаю, что ты должна знать. Он… опять уехал в Англию.
– «Опять»? – у нее пересохло во рту. Она испугалась, не заболевает ли. – Хочешь сказать, что он был здесь?
Дженифер утвердительно кивнула с серьезным выражением на лице.
– Целую неделю встречался с издателем. Все полностью переписал заново – выбросил почти все, что написал вначале здесь, вернулся туда и начал писать с самого начала. Вот почему ушло так много времени. Но книга получилась хорошей. Генри говорил мне. Он виделся с Лайоном.
– Генри его видел?
– Они вместе обедали. Лайон уже приступил к следующей книге. Получил от своего издателя очень крупный аванс и уехал обратно в Лондон. Снимает там квартиру.
– Он был здесь… виделся с Генри… – слова застыли у нее в горле. По лицу потекли слезы. Дженифер обняла ее.
– Анна, не принимай это так близко к сердцу. Генри говорит, что Лайон думает только о своих книгах. Сейчас это единственное, что имеет для него значение.
– Но ведь Генри знает, каково мне. Почему же он не сказал мне, что Лайон приезжал?
– Потому что он мужчина, а мужчины всегда стоят друг за друга. Анна, ты ничем не обязана Генри. И тебе необходимо сменить обстановку. Это сама судьба. Ведь Клод не приглашал сегодня Кевина. Тот просто шел куда-то один, мы его случайно встретили, и он пошел с нами сюда. Я считаю, это просто предопределено свыше.
– Может быть, ты и права, – медленно проговорила Анна. – Я .должна уйти с этой работы. Оставаться там – все равно, что хоронить себя заживо.
– Вот теперь ты говоришь правильно. И квартиру эту тоже брось! А сейчас приведи в порядок лицо и не вздумай терять работу, которую ты еще не получила.
* * *
Сначала Генри огорчился. Однако он с неохотой признал, что предложение фирмы «Гиллиан» – замечательное. – Это все твоих рук дело, – сказал он Дженифер. Та пришла вместе с Анной объявить ему новость. – Ты сам прекрасно знаешь, что о лучшем ей нечего и мечтать, – весело ответила Дженифер. – Ну же, успокойся, Генри. Сколько ты еще намеревался держать Анну здесь на привязи? Ты же понимаешь, что она не мисс Стейнберг. – О’кей. Но прежде, чем ты подпишешь контракт, принеси его мне, – проворчал он. – Посмотрим, можно ли будет внести в него пункты об особых выплатах. Телевидение решительно заявляет о себе, и я не хочу, чтобы какие-то пункты пришлось обговаривать задним числом. Раз он хочет, чтобы ты рекламировала его продукцию сейчас, он должен дать гарантию, что будет использовать тебя и в телевизионных рекламных передачах. – Но, Генри, – возразила Анна, – я же в обморок упаду перед телекамерой. – Она ничем не будет отличаться от простой фотокамеры, а у тебя к тому времени уже накопится опыт. Да, кстати… – он написал какое-то имя на отрывном блокноте, – договорись о встрече с Лил Коул. Бери у нее частные уроки не менее двух раз в неделю. Они стоят дорого, но ты вполне можешь себе это позволить. – Кто эта Лил Коул? – Она ставит правильную речь и дикцию. Лучший специалист в Нью-Йорке. – Для чего она мне? – Видишь ли, у меня есть предчувствие, что телевизионная реклама не сведется к простой демонстрации изделий. Тебе нужно избавляться от своего бостонского выговора. – Генри, я же собираюсь всего-навсего рекламировать косметику, а вовсе не становиться актрисой. – Послушай, Анна, – заговорил он строгим голосом. – Если ты намерена что-либо делать, отдавайся этому делу на сто процентов. Не существует такой работы, которую можно выполнить, затратив лишь половину своих усилий. Секретарем ты была великолепным, теперь же, раз ты намерена стать «Девушкой Гиллиана», стань лучшей из всех возможных кандидатур. И потом, чем тебе еще заниматься? Сейчас тебе больше, чем когда-либо надо чем-нибудь занять себя. Внезапно на его лице появилось выражение смертельной усталости, словно он совершенно лишился сил. Повинуясь безотчетному порыву, Анна обняла его. – Генри, я люблю тебя. Он сердито посмотрел на нее, скрывая свои чувства. – Как вам это понравится? – обратился он к Дженифер. – Последние два года прошли у меня под знаком безумной влюбленности в нее, и вот сейчас, бросая меня, она признается мне в любви. – Да, люблю, Генри. И всегда буду любить. Пожалуйста… оставайся моим другом. – Только попробуй потерять меня. Таких, как ты, Анна, одна на миллион. Другой такой уже не будет. А теперь – убирайся. Мне нужно обзванивать бюро по найму. Кто знает может, и отыщется вторая Анна Уэллс. – А не хочешь, чтобы я еще поработала, пока ты не найдешь кого-нибудь? Я могла бы ввести ее в курс дела. – Нет, сматывайся. Дженифер тоже скоро уезжает. Живите на полную катушку, девочки. Кстати, Дженифер, за вычетом налогов твои алименты, составляют семьсот долларов в неделю. Зная тебя, я буду высчитывать налоги сразу же. Это твое соглашение о киносъемках во Франции все осложнит. Хочешь, чтобы я пересылал тебе чеки туда? – Нет, оставляй мои деньги здесь. Вложи их во что-нибудь. Сделай меня такой же богатой, как Анну. Генри рассмеялся. – Передо мной сидят прямо-таки две рокфеллерши. И кто только сказал, что этот мир принадлежит муж чинам. – Я пробиваю в нем свою дорогу с огромным трудом, – посуровела Дженифер. – Ну ясное дело. Целых пять месяцев пришлось, не жалея сил, вкалывать в бассейне. Лицо Дженифер озарила одна из ее ослепительных улыбок. – Да, в Калифорнии у меня были одни игры и развлечения. – Знаете, кем я хотел бы стать в своей следующей жизни? Красивой бабенкой, – стоял на своем Генри. – А сейчас перед тобой Париж. Ты станешь французской Ланой Тэрнер. Но, сделай одолжение, не транжирь все свои деньги. Ты должна мне две тысячи. Вычту из твоих алиментов. И бога ради, не проси меня пересылать их тебе во Францию. Дай мне возможность отложить их для тебя же самой. Клиенты, вроде вас обеих, мне вот как нужны! – Да, кстати, – ангельским голоском пропела Дженифер. – Одолжи мне еще тысячу. Генри… – Опомнись, Дженифер… – Мне нужно приодеться. В конце концов, в Париж я должна явиться во всеоружии и произвести там фурор. (обратно)февраль 1948
Анна влетела в «21» и подбежала к Генри, сидящему за своим обычным столиком в самом начале зала. – Извини, что опоздала, но Лил Коул выжимает из меня все соки. – Она села. От Генри не укрылось, что все мужчины в зале оборачиваются ей вслед. В результате трехнедельных усилий ведущих косметологов Кевина Гилмора внешность Анны изменилась, хоть и неуловимо, но все же так, что приковывала к себе всеобщее внимание. Они не изменили красоту Анны, дарованную ей природой, но каким-то непостижимым образом так оттенили и подчеркнули ее, что она еще более бросалась в глаза. Раньше эта красота открывалась окружающим постепенно. Теперь же ее замечали моментально. Глаза были подведены, на веки наложены тени, а волосы взбиты и напоминали львиную гриву. Вовсем ее облике по-прежнему читалось благородство знатной леди, однако сейчас она буквально притягивала к себе внимание мужчин. – Сегодня утром я получила длинное письмо от Дженифер, – сказала она, не замечая всеобщего внимания. – А я – короткое, с просьбой выслать денег. Анна, как она сумела так быстро все потратить? Анна рассмеялась и заказала себе салат. – Сколько бы денег у нее ни было, она всегда будет в долгах. Дженифер – транжирка. Не знаю почему, но ей, похоже, не нравится ничего из того, что она покупает. Большинство купленных вещей она тут же раздает. Генри покачал головой. – Надеюсь, что она найдет себе там человека, хорошего человека. Как актриса она не бог весть что, но лицо и фигура у нее чертовски хороши. Надеюсь, она заставляет их работать на себя. Потому что внешние данные – это все, чем она обладает, и, когда она лишится этого – придет конец и самой Дженифер. – Генри! Я была о тебе лучшего мнения. Неужели ты, как и все, ценишь Дженифер за ее внешность и только? Она замечательный человек, вот только ни один мужчина не берет на себя труд разглядеть в ней это. Я думала, что ты не такой. Дженифер в самом деле хороший человек… настоящая подруга… и очень милая. Одна из самых милых девушек, которых я знала в жизни. – «Милая?» Ну что ж, с этим я, пожалуй, соглашусь. Милая с виду, на поверхности. Эта ее улыбка, словно навсегда приклеенная. Но расскажи мне немного о ней, Анна. Способна ли она на сколько-нибудь глубокое чувство? – Трудно сказать: Дженифер никогда до конца не раскрывается. Тебе что-нибудь известно? Я никогда не слышала, чтобы она о ком-то отзывалась плохо. Она и в самом деле мила со всеми. Понимаю, что смешно характеризовать Дженифер этим словом, но для нее оно подходит как нельзя лучше. Я ведь жила с нею и знаю. Вот ты, наверное, думаешь, что уж если кто мила, так это Нили. Она – умная и яркая, но милой ее назвать нельзя, в отличие от Дженифер. Ты знаешь, она никогда не говорила ничего плохого о принце! Только то, что у них не сложилось. Никакой злобной мстительности ни к нему, ни к Тони, ни даже к Мириам. Говорит просто, что не могла вынести скуку в Калифорнии. Нет, за фасадом этого очарования скрывается страшно одинокая душа, которая ждет мужчину, способного полюбить ее за духовные качества. Потому что на самом деле Дженифер хочет лишь одного: чтобы у нее был один мужчина, нормальная семейная жизнь, дети… – Тогда как же вышло, что она прервала беременность? Вот когда я разочаровался в ней. Звонила мне из Калифорнии чуть ли не на грани истерики, потому что ее, видите ли, заставляют делать аборт – по крайней мере, сестра мужа заставляет. А сама она якобы хочет сохранить ребенка. А потом, когда я в лепешку расшибся, чтобы обеспечить ей хорошие алименты, она избавляется от него. И ты еще станешь уверять меня, что девица, которая хочет иметь ребенка, не может прожить на тысячу долларов в неделю? – Она никогда не рассказывала об этом и не называла никаких причин, – задумчиво проговорила Анна. – Но вероятно, в какой-то момент она испугалась того, что ей придется одной воспитывать ребенка. Я уверена, что, если бы нашелся подходящий человек, у них получилась бы нормальная семья. Генри пытливо посмотрел на нее. – А ты как? – О, мои дела идут прекрасно. Мы уже закончили пробные фотосъемки. Со следующей недели я начинаю рекламировать продукцию фирмы «Гиллиан». Первая весенняя демонстрация. – Я не об этом, Анна. Я имел в виду твое будущее. Видишь ли, то, что ты станешь «Девушкой Гиллиана», многое изменит в твоей жизни. Когда твое лицо не будет сходить со страниц иллюстрированных журналов и рекламных объявлений, на твоем пути возникнет немало всяческих соблазнов. – Я уже прошла через это, – напомнила она. – Помнишь? Всего два года назад мое имя не сходило с первых полос газет, постоянно упоминалось в статьях и репортажах: «Золушка Аллена Купера». Но я осталась прежней, не изменилась. – Нет, изменилась, – тихо сказал Генри. – Ведь ты же не пошла замуж за Лайона Берка, а? Некоторое время она молча изучала свою тарелку. – Я хотела выйти за него, Генри… больше всего на свете. И сейчас хочу. – Так почему же не вышла, когда у тебя была такая возможность? – Он хотел, чтобы я жила в Лоренсвилле. – Именно об этом я и говорю, – медленно произнес он. – Та девушка, которая появилась в моей конторе в тот самый первый день, пошла бы за любимым человеком на край света. Вот почему я и принял тебя. Я посчитал, что ты слишком разборчива и не станешь вешаться на шею первому попавшемуся. Я не рассчитывал, что Лайон вернется. В ту самую минуту, как он вошел, я сказал себе: «Прощай, Анна, – вот оно». К несчастью, Лайон никогда не был способен на глубокое чувство ни к кому – к мужчине ли, к женщине ли. Мы с тобой похожи друг на друга: когда нам кто-то нравится, мы сотворяем из него божество, кумира. – Лайон любил меня… я знаю, – упрямо сказала она. – Но не так сильно, как себя. Человек, который разом обрывает все концы, как это сделал Лайон, не способен на подлинное чувство. В известном смысле Лайон похож на Дженифер. Они влюбляются, эти лайоны и дженифер, но всегда выходят сухими из воды, потому что свое, личное у них всегда на первом месте. Помни, Анна, ты молода. Будь осторожна. Как только встретишь мужчину с серьезными намерениями, хватайся за него и ни за что не отпускай. На одно очарование и обаяние не очень-то рассчитывай. – Думаю, вряд ли у меня с кем-нибудь будет что-то серьезное, – ответила она. – Вот-с Лайоном это было именно так. – Лайон для тебя умер, – категорически отрезал Генри. – С ним уже все… покончено! – Понимаю, но я-то из-за этого не изменилась. Нельзя же вешаться на первого более или менее подходящего, который встретится на моем пути. Да, я хочу когда-нибудь выйти замуж и иметь детей. Но я должна любить этого человека. – Она вздохнула. – А я никогда никого не смогу полюбить так, как я любила Лайона. – Послушай, – сказал Генри. – Не становись «ишаком», как я. У меня ведь тоже была любовь, одна-единственная в жизни – Элен Лоусон! И я чертовски хорошо видел с самого начала, что она меня не любит, что она вообще не способна любить. Я научил ее всему. И хотя я был вовсе недурен собой, любил только ее. Может быть, я просто сам исключил для себя всякую возможность найти себе другую девушку. Ну и к чему я в результате пришел? Остался один как перст. – А может, вы с Элен могли бы еще… – Смеешься? – Но ты же сказал, что любил ее. – Любил. Я любил ее такую, какой она себя изображала, какой я хотел ее видеть. А сейчас я вижу ее такой, какая она есть на самом деле. Я слишком стар, чтобы искать себе кого-то другого. Хотя и с нею сейчас происходит то же самое: начинает выпирать ее сущность Железнобокой Старушки! Я убил бы любого, кто назвал бы ее так при мне, но тебе-то я могу сказать. Любовь к Элен у меня уже прошла, но я ничего не могу поделать со своей привычкой. Вот и тебя подстерегает то же самое, Анна, – привычка. И после того, как все чувства проходят и на первое место выступает логика, привычка все равно остается. До конца жизни. Вот поэтому и не вздумай в свои двадцать два года заводить привычки. Лайон – тот не тратит ни единой секунды своего времени на раздумья и воспоминания о тебе, уж можешь мне поверить. Поэтому и ты перестань думать о нем. Анна чуть заметно улыбнулась. – Постараюсь. Это единственное, что я могу, – постараться… (обратно) (обратно)Нили
1950
 Нили устало закрыла сценарий. Бесполезно перечитывать – она и так знает его как свои пять пальцев. Раскинувшись на роскошной кровати, – они отпила еще глоток шотландского виски. Уже половина двенадцатого, а сна – ни в одном глазу. Может принять еще одну «куколку»? Две она уже приняла… может, еще одну, красненькую? В шесть ей нужно быть на студии. Она прошла в ванную комнату и положила в рот красную пилюлю. «Давай, „кукленочек“, делай свое дело».
Спотыкаясь, она добрела до кровати. Заметила, что ее записная книжка-ежедневник открыта. Что это ей нужно помнить? Нили внимательно вгляделась. Слова поплыли у нее перед глазами, однако она узнала почерк Тэда. «Приходи сегодня пораньше. Баду и Джаду исполняется ровно год!»
Боже! Ух ты! Это ведь было сегодня. Утром она даже не заглянула в свою книжку. Она так накачалась пилюлями, что едва смогла встать с постели. Ей понадобились две «декси», чтобы окончательно проснуться. И вот – она пропустила день рождения! Черт бы побрал эти повторные съемки! Она слезла с кровати и на цыпочках прошла в детскую. Чувство гордости волной захлестнуло все ее существо, когда она увидела две светловолосые головки. «Бад и Джад, – прошептала она в темноте, – мамочка не пришла на ваш день рождения, но она любит вас. О боже, до чего же она любит вас! Мамочка не заглянула в свою записную книжку, а то бы она пришла, честное слово».
Так же, на цыпочках, она вышла из детской и вернулась, пошатываясь, в спальню. Тэд сейчас, наверное, где-нибудь с ума сходит, дуется на нее. Ну ладно, черт возьми, она не виновата. Просто не заметила эту чертову книжку. Потому он и оставил ее раскрытой на ночном столике. Кто же, черт побери, может что-нибудь разглядеть в пять утра? Она снова откинулась на подушки. Им, должно быть, испекли торт. С одной свечечкой. А мисс Шерман и Тэд, наверное, спели им песенку «С днем рождения». Крупная слеза скатилась по щеке, покрытой толстым слоем крема. Но ведь они еще маленькие. Они не знают, что у них день рождения. Они не обиделись.
Зато Тэд теперь затаит на нее обиду. Где он, черт бы его побрал? Таскается, наверное, по кабакам, сукин сын, цепляет то девочек, то мальчиков. Она вспомнила, как застукала его в первый раз, с тем самым актером из Англии – в обнимку, и языки друг дружке чуть не в горло запустили. В ту ночь она приняла целый пузырек пилюль, и пришлось промывать желудок. Ее передернуло при этом воспоминании. Больше она никогда не сделает такой глупости.
Но зато после этого Тэд был сама нежность. В первую же ночь он крепко обнял ее и объяснил, что имел дело с мужчиной только потому, что испытывал чувство неуверенности в себе. То, что ее два года подряд выдвигают на «Оскара» – пусть она так и не получила эту награду, – вселило в него чувство неверия в свои мужеские силы. Именно в ту ночь она и забеременела от него. И вот – у нее близнецы. Эти два очаровательных светловолосых мальчика в детской – ее дети. Они вышли на свет из нее! Она почувствовала горячую волну нежности. Всего двадцать два года – самая крупная и яркая звезда студии «Сенчури»… собственный дом в Беверли-Хиллз.
Пилюли не действуют… Интересно, а Дженифер принимала когда-нибудь по три сразу? Наверняка принимала. Чтобы сниматься в таких картинах, Дженифер просто необходимо что-то принимать. Ух ты! Последний фильм произвел настоящий фурор, за билетами выстраивались многочасовые очереди. В главной роли Дженифер со своими голыми титьками, и тараторит на французском, как на своем родном. Может, в Париже это и считается нормальным, но титры под голой задницей еще не делают фильм произведением искусства. А та большая статья то ли в «Луке», то ли в «Лайфе», – где Джен сфотографирована в своей шикарной парижской квартире, – там чуть ли не открытым текстом говорилось, что она живет с этим французским продюсером Клодом Шардо.
Интересно, что обо всем этом думает Анна? Ух ты! Она так и не ответила на ее письмо. Нужно поблагодарить ее за новую книжку Лайона, несмотря на все эти сволочные отзывы. Все книготорговцы в один голос заявляли, что книга прибыльная – точнее, должна была оказаться прибыльной, – но ничего не вышло. Черт возьми, может быть, ему нужны были деньги, и он думал, что его макулатура хорошо пойдет? Так или иначе, первая его книжка получила восторженные отзывы, но не принесла ему ни цента. Интересно, по-прежнему ли Анна неравнодушна к Лайону? Наверное, до сих пор питает к нему что-то, раз хочет, чтобы ее подруги обязательно прочли эти книги. Но ведь все газеты намекают, что сейчас она с Кевином Гилмором. Ух ты! Подумать только: Анна – «Девушка Гиллиана». Стоит открыть любой журнал – непременно наткнешься на ее фото. Ах да… в воскресенье вечером. Она привстала и нацарапала несколько слов в книжке-ежедневнике. Надо будет не забыть посмотреть. Анна будет рекламировать продукцию «Гиллиан» в передаче «Час комедии». Анна – на экране телевизора!
Телевидение… Ух ты, как они в Калифорнии забегали из-за этого вонючего ящика. Будто он когда-нибудь сможет представить хоть какую-то угрозу кинопромышленности. Но сейчас все паникуют. Стали отказываться от услуг актеров, снимающихся по контрактам, причем это приняло массовый характер. Перестали заключать длительные соглашения – только на съемки в одной-двух картинах. Ей еще повезло, что она пользуется такой популярностью. О-о, как они были рады подписать с ней долговременное соглашение! На целых пять лет вперед… еще целых пять лет, по пятьдесят две недели в каждом, ей будут выплачивать деньги…
Хорошо, если бы Тэд приехал сегодня домой. Ей нужно, чтобы он вступился за нее завтра. Эти эпизоды с танцами чересчур трудны. Станцевать-то она сумеет, но это же просто смешно. Пусть Тэд скажет, что в его костюмах она не может танцевать, и пусть ей сделают танцы полегче, а то сегодня она еле-еле отдышалась. Эти зеленые пилюли великолепны: с них не тянет в сон, делаешься худощавой и подтянутой. Вот только сердце с них колотится так, что невозможно выдержать двухчасовую танцевальную тренировку. А может, Тэд у себя в студии? Может, он и не сердится вовсе, просто заработался допоздна? Она потянулась к телефону. Нет, если он не в студии, лучше ей ничего не знать об этом. Да и какого черта – если он и на работе, то что это доказывает? Он и у себя в студии может развлекаться с каким-нибудь парнем. Боже, и почему она его так любит? Он и мужик-то никудышный. Да, но ведь и Мэл тоже был слабоват. И почему она привязывается к таким вот мужикам? Сначала они кажутся такими сильными: помогают ей, говорят, как надо поступать – по-настоящему сильными. И куда потом все девается?
Нили посмотрела на стенные часы – двенадцать. Пилюли не действуют. Нужно добавить еще виски, чтобы подействовали. Черт возьми – виски у них внизу. Здорово, что она обнаружила, как выпивка помогает действию этих пилюль. Интересно, а Дженифер знает? Без выпивки «куколки» – ничто. Ладно, сейчас она спустится вниз и нальет себе еще.
Она босиком сбежала по мраморным ступенькам. Слуги спят, свет в гостиной выключен. Нащупывая выключатель, она услышала всплеск в бассейне. Нили подошла к дверям, ведущим в патио. Что за черт, кто еще там в бассейне? В кабинке для переодевания горел свет, отражаясь на поверхности воды. Да это же Тэд! Она облегченно рассмеялась. Ух ты, совсем с ума спятил – купаться голым в такой час. Она стала расстегивать пижаму. Сейчас бросится в воду и напугает его. Нет, тогда сон окончательно пройдет, а ей завтра рано вставать. Она уже собиралась окликнуть его, как вдруг увидела, что из кабинки неуверенно и даже застенчиво вышла какая-то девушка, прикрывая полотенцем свою наготу.
– Да ладно тебе, брось полотенце. Вода теплая, – крикнул ей Тэд.
Девушка посмотрела на огромный темный дом.
– А что, если она проснется?
– Смеешься? Да она так накачалась, что ее теперь и землетрясение не поднимет. Ну давай же, Кармен, а то я сам тебя затащу.
Девушка с деланной застенчивостью уронила полотенце. Даже в полутьме Нили разглядела, что фигура у нее великолепная. Прищурив глаза, она присмотрелась внимательнее. Эту девицу она уже где-то видела… Ну конечно! Кармен Карвер. Заняла первое место на каком-то конкурсе красоты, и на студии сейчас делают ее пробные съемки.
Тэд поплыл навстречу девушке. Нили услышала, как та вскрикнула:
– Ах, Тэд! Только не в воде… Не надо!
– Почему? Ведь на суше у нас уже было и так, и эдак. Нили почувствовала, как к желудку подкатывает тошнота. О боже! Нет, только не это! С мальчиками время от времени – еще куда ни шло. У Тэда это болезнь, так ей психиатр сказал. Ничего общего с супружеской неверностью. Но это!
Она схватила бутылку виски и, спотыкаясь, стала подниматься по лестнице. Налила себе изрядную порцию, приняла еще одну пилюлю и забралась в постель. К черту Тэда с его шлюхой! Ух ты, ну и похмелье же будет у нее наутро. А ведь ей вставать в пять утра.
Нили вдруг рывком села в кровати. А что случится, если она не придет? За свою жизнь она ни разу, даже на пять минут не опоздала на репетицию, примерку или интервью. Ну и что это дало? Да, конечно, сейчас она зарабатывает пять тысяч в неделю, но как ей приходится выкладываться за это! За дом еще не выплачено – деньги ей ссудило правление киностудии. Доктор Митчел говорит, что дом очень нужен для того, чтобы приобрести уверенность в себе, что это избавляет ее от детской неустойчивости и нестабильности. Ничего себе, советики… обходятся ей по двадцать пять долларов за визит. Она увидит его завтра, пусть-ка он объяснит ей это! И вот сейчас, перебирая все в памяти, она вдруг задалась вопросом: а за что, собственно, платит Тэд, черт бы его побрал? За прислугу, машину, свою студию, питание и выпивку. Может быть, экономическое соглашение перед женитьбой было ошибкой? Его бизнес растет, как на дрожжах, и процветает. «Вог» постоянно посвящает ему многостраничные обзоры. А что имеет она? Студия вычитает с нее тысячу в неделю в счет погашения ссуды за дом, а еще оплата поверенного, личной служанки, секретаря, подоходный налог… Боже! Она не может отложить ни цента. Ну что ж, через три года она рассчитается за дом. Она отхлебнула виски прямо из бутылки. Ее начинала охватывать блаженная эйфория. Когда за все будет выплачено, все будет хорошо…
Хорошо?! Пресвятой боже! А Тэд в эту минуту «употребляет» какую-то девицу в ее бассейне! Словно пружиной, Нили сбросило с кровати. Она захмелела, голова у нее налилась тяжестью, но она просто обязана была взять и вышвырнуть эту девку вон из своего бассейна. Цепляясь за перила, она, пошатываясь, спустилась по лестнице. Нащупав в темноте выключатель, она торжествующе повернула его, и весь бассейн залило ярким светом.
Тэд и девушка торопливо вылезали из воды, когда она, еле держась на ногах, выступила вперед с бутылкой виски в руке.
– Ну что, ребятки, развлекаетесь? – пронзительно крикнула она. – Трахаетесь в моем бассейне? Не забудьте спустить после этого воду. Не забудь, Тэд, это твои дети плещутся в нем каждое утро.
Девушка, дрожа от ужаса, спряталась за спину Тэда. Перевернув бутылку вниз горлышком, Нили, не спеша, вылила виски в воду, стряхнув даже капли.
– Может, это хоть немного продезинфицирует воду, – ухмыляясь, съязвила она. Затем смерила Тэда презрительным взглядом. – Теперь, значит, подыскал себе потаскушку женского пола… вместо мальчика. Митчел опять, поди, станет втолковывать мне, что тебе необходимо и это тоже!
Тэд стоял прямо и молчал, отведя руки назад и закрывая ими трясущуюся от страха девушку. Этот защищающий жест окончательно взбесил Нили.
– Кого ты загораживаешь?! Шлюху, которая испоганила мой бассейн? Заруби себе на носу, дорогуша, ты для него ровным счетом ничего не значишь. Обычно для подобных развлечений он предпочитает мальчиков. А может, в этом-то все и дело… может, у тебя титяшек нет… или, может, ты у нас лесбияночка?!
Девушка оторвалась от Тэда и бросилась в кабинку для переодевания. Тэд стоял, исполненный спокойствия. Несмотря на наготу, во всем его облике было какое-то отчаянное горделивое достоинство. На мгновение ей захотелось броситься к нему, попросить у него прощения, сказать, что она любит его. Он стоял такой высокий и загорелый… Но нельзя же допустить, чтобы он так легко отделался.
– Ну что, гомик, давай оправдывайся!
– Тебе, по-моему, нужны очки. – Он чуть улыбнулся. – Я бы не сказал, что у нее мальчишеская фигура. Нили скривилась.
– По мне, уж лучше бы то…
– Еще бы не лучше, – размеренно проговорил он. – Ведь ты сама тогда толкнула меня к этому.
– Что-о? Значит, это я толкнула тебя?
– Ты почти внушила мне, что я действительно ненормальный. Да, конечно, у меня было это с некоторыми парнями. Непонятно почему, но я считал, что таким образом не изменяю тебе. А ты внушила мне, что я не представляю собой никакого интереса для женщин и не способен вызвать у них желание. Когда ты последний раз хотела быть со мной, Нили?
– Да ты же мне муж! Что это еще за «хотела быть с тобой»? Я всегда хочу быть с тобой.
– Ты хочешь, чтобы я всегда был у тебя под рукой! Отстаивал бы твои интересы в киностудии, делал модели твоей одежды, сопровождал тебя на премьеры. Но как мужчину… Ты вечно слишком усталая для секса. Ну, ты когда думала об этом в последний раз?
– Ты с ума сошел! – завопила она. – Послушай, не заминай разговор. Я застала тебя на месте преступления; стоишь тут передо мной, выставив на ветерок свои причиндалы, да еще с голой девкой в моей кабинке, и смеешь еще читать мне нотации! Да кто, черт побери, платит и за этот бассейн, и за этот дом?
– А кому он нужен? – небрежным жестом Тэд протянул руку за полотенцем и обернул его вокруг бедер.
– Мы не могли жить в твоей квартире.
– Почему это? В ней было восемь комнат. Но, как же, тебе ведь нужны и массажная, и кинозал, и все эти апартаменты!
– У меня никогда в жизни не было своего дома. – Она разрыдалась, – Мне так хотелось наконец заиметь его. И мне нисколько не жалко денег, которые я за него плачу.
– Чего же ты тогда тычешь мне в глаза этим домом по десять раз на дню? И кто из нас сейчас заминает разговор?
– Ну… – Веки слипались, и только огромным усилием воли она держала глаза открытыми. Его голос доносился откуда-то издалека. Черт бы побрал эти пилюли. Вот когда они начали действовать. Она смотрела, как он небрежно развалился в шезлонге.
– Тэд… я прихожу со студии в шесть часов. А сегодня пришла только в восемь. Я выдыхаюсь. Мне нужно выучивать роль на каждый день. Мне должны делать массаж. Ну до секса ли мне?
– Зачем ты подписала новый контракт? – спокойно спросил он.
– Это было полгода назад. Ты все еще упрекаешь меня за него?
– Нили, ты теперь известная актриса. И у меня дела идут прекрасно. Я хотел порвать наше экономическое соглашение. Ты могла бы заключить договор на два фильма в год с любой студией и жить нормальной жизнью. Я зарабатываю достаточно для нас обоих, даже если бы ты вообще нигде не работала. Но ты, не говоря мне ни слова, идешь и подписываешь новый контракт на пять лет.
– Я должна киностудии крупную сумму за дом. И знаешь, Тэд, когда все паниковали из-за этого телевидения, я считала, что мне повезло, когда заключила долгосрочный контракт. Когда у тебя такой контракт с киностудией, ты принадлежишь… за тобой стоит вся студия.
– Ну что ж, теперь у тебя есть и дом, и контракт. А я теперь опять здоров. Живя с тобой, я был словно бы и не мужчиной. Ты будто выдавила его из меня, Нили. Но это все в прошлом. Теперь я выправился.
– С помощью этой потаскушки?
– Она дает мне уверенность в своих силах.
– Тэд, ты нужен мне.
– Ив какой же ипостаси? Только не как мужчина.
– Секс! Секс! СЕКС! Неужели это все, что тебя волнует? Я тоже люблю секс, но в меру.
– Правда? Раз в месяц, в дождливое воскресенье? А в Калифорнии никогда не бывает дождей.
– Слушай, прекрати все это. Там эта девка. Выведи ее вон!
– Сейчас. – Он взял сигарету и направился к кабинке.
– И сразу же поднимайся наверх. У меня есть к тебе разговор! – Нили вбежала в дом. Открыв новую бутылку, она налила себе виски и забралась в постель. Может, ей следовало притвориться, что она ничего не заметила? Может, надо вести себя более сексуально? Боже, ведь она любит его. Обожает. Но когда целый день пропадаешь на съемках или в студии, как можно к тому же быть сексуальной по ночам? Она посмотрела на свою простую пижаму. Может, стоит надевать какие-нибудь особые ночные рубашки с оборками? Но, черт, ведь у нее на лице слой крема толщиной в палец, и волосы торчат в разные стороны, словно пакля. На студии ей каждое утро моют голову, поэтому на ночь волосы приходится смазывать ланолином. Они у нее густые и пышные, но если спать с лаком, который ей наносят перед съемками, и с золотистой пудрой, которая переливается в свете юпитеров, то быстро облысеешь. Поэтому на ночь их приходится расчесывать и смазывать.
Нили подумала о той голой девице в бассейне. Она встала, пошатываясь, и посмотрела на свое отражение в зеркале. «О господи, – подумала она, – я выгляжу, как привидение в судный день». Но, черт, почему бы той девке и не выглядеть хорошо? Она ведь не зарабатывает по пять тысяч в неделю. А в титрах перед фильмами ее имя не пишется огромными буквами. Она всего-навсего одна из тех девиц, которым еще предстоит пробиться. Была бы она звездой, ложилась бы спать в девять часов, точно так же – с кремом и ланолином! Слезы ручьем потекли по ее щекам. Боже мой, всю свою жизнь она мечтала о чем-то подобном. О большом собственном доме, о любимом мужчине, о детях. И вот все это у нее есть… нет только времени насладиться этим.
Нили прошла в ванную и смыла крем. Если бы только ее не клонило так сильно в сон! Она порылась в шкафу. Где эти красивые ночные рубашки? О’кей, вот эта желтая подойдет. Она надела ее. Ух ты, ну и волосы. Она нашла желтую косынку и повязала голову. Вот сейчас неплохо, совсем неплохо. Она забралась в постель. Тэд должен прийти с минуты на минуту. До нее донеслось шуршание автомобильных покрышек по гравию. Так значит, эта шлюха отправилась к себе, и он сейчас явится, как побитый пес. Пусть сначала немного попросит, а потом она сделает ему сюрприз. Обнимет, прижмет к себе, и у них начнется… Вот тут она покажет ему, на что она способна. Не будет просто лежать как бревно. У них все было так великолепно, когда они только познакомились, но ведь тогда она не уставала до такой степени… Ее клонит в сон… Господи, да где же он?! Она соскочила с кровати и сбежала вниз по лестнице.
– Тэд! – Свет в бассейне был выключен. Нили распахнула входную дверь, побежала к гаражу, гравий впивался в босые ноги. Машины не было! Может, он должен был отвезти ее домой? Ведь она приехала сюда вместе с ним. Может, у нее нет машины. Но он мог бы вызвать ей такси! Ну и устроит она ему, когда он явится обратно. Нили разрыдалась. А если он не явится? О боже! Что она наделала!
(обратно)
Нили устало закрыла сценарий. Бесполезно перечитывать – она и так знает его как свои пять пальцев. Раскинувшись на роскошной кровати, – они отпила еще глоток шотландского виски. Уже половина двенадцатого, а сна – ни в одном глазу. Может принять еще одну «куколку»? Две она уже приняла… может, еще одну, красненькую? В шесть ей нужно быть на студии. Она прошла в ванную комнату и положила в рот красную пилюлю. «Давай, „кукленочек“, делай свое дело».
Спотыкаясь, она добрела до кровати. Заметила, что ее записная книжка-ежедневник открыта. Что это ей нужно помнить? Нили внимательно вгляделась. Слова поплыли у нее перед глазами, однако она узнала почерк Тэда. «Приходи сегодня пораньше. Баду и Джаду исполняется ровно год!»
Боже! Ух ты! Это ведь было сегодня. Утром она даже не заглянула в свою книжку. Она так накачалась пилюлями, что едва смогла встать с постели. Ей понадобились две «декси», чтобы окончательно проснуться. И вот – она пропустила день рождения! Черт бы побрал эти повторные съемки! Она слезла с кровати и на цыпочках прошла в детскую. Чувство гордости волной захлестнуло все ее существо, когда она увидела две светловолосые головки. «Бад и Джад, – прошептала она в темноте, – мамочка не пришла на ваш день рождения, но она любит вас. О боже, до чего же она любит вас! Мамочка не заглянула в свою записную книжку, а то бы она пришла, честное слово».
Так же, на цыпочках, она вышла из детской и вернулась, пошатываясь, в спальню. Тэд сейчас, наверное, где-нибудь с ума сходит, дуется на нее. Ну ладно, черт возьми, она не виновата. Просто не заметила эту чертову книжку. Потому он и оставил ее раскрытой на ночном столике. Кто же, черт побери, может что-нибудь разглядеть в пять утра? Она снова откинулась на подушки. Им, должно быть, испекли торт. С одной свечечкой. А мисс Шерман и Тэд, наверное, спели им песенку «С днем рождения». Крупная слеза скатилась по щеке, покрытой толстым слоем крема. Но ведь они еще маленькие. Они не знают, что у них день рождения. Они не обиделись.
Зато Тэд теперь затаит на нее обиду. Где он, черт бы его побрал? Таскается, наверное, по кабакам, сукин сын, цепляет то девочек, то мальчиков. Она вспомнила, как застукала его в первый раз, с тем самым актером из Англии – в обнимку, и языки друг дружке чуть не в горло запустили. В ту ночь она приняла целый пузырек пилюль, и пришлось промывать желудок. Ее передернуло при этом воспоминании. Больше она никогда не сделает такой глупости.
Но зато после этого Тэд был сама нежность. В первую же ночь он крепко обнял ее и объяснил, что имел дело с мужчиной только потому, что испытывал чувство неуверенности в себе. То, что ее два года подряд выдвигают на «Оскара» – пусть она так и не получила эту награду, – вселило в него чувство неверия в свои мужеские силы. Именно в ту ночь она и забеременела от него. И вот – у нее близнецы. Эти два очаровательных светловолосых мальчика в детской – ее дети. Они вышли на свет из нее! Она почувствовала горячую волну нежности. Всего двадцать два года – самая крупная и яркая звезда студии «Сенчури»… собственный дом в Беверли-Хиллз.
Пилюли не действуют… Интересно, а Дженифер принимала когда-нибудь по три сразу? Наверняка принимала. Чтобы сниматься в таких картинах, Дженифер просто необходимо что-то принимать. Ух ты! Последний фильм произвел настоящий фурор, за билетами выстраивались многочасовые очереди. В главной роли Дженифер со своими голыми титьками, и тараторит на французском, как на своем родном. Может, в Париже это и считается нормальным, но титры под голой задницей еще не делают фильм произведением искусства. А та большая статья то ли в «Луке», то ли в «Лайфе», – где Джен сфотографирована в своей шикарной парижской квартире, – там чуть ли не открытым текстом говорилось, что она живет с этим французским продюсером Клодом Шардо.
Интересно, что обо всем этом думает Анна? Ух ты! Она так и не ответила на ее письмо. Нужно поблагодарить ее за новую книжку Лайона, несмотря на все эти сволочные отзывы. Все книготорговцы в один голос заявляли, что книга прибыльная – точнее, должна была оказаться прибыльной, – но ничего не вышло. Черт возьми, может быть, ему нужны были деньги, и он думал, что его макулатура хорошо пойдет? Так или иначе, первая его книжка получила восторженные отзывы, но не принесла ему ни цента. Интересно, по-прежнему ли Анна неравнодушна к Лайону? Наверное, до сих пор питает к нему что-то, раз хочет, чтобы ее подруги обязательно прочли эти книги. Но ведь все газеты намекают, что сейчас она с Кевином Гилмором. Ух ты! Подумать только: Анна – «Девушка Гиллиана». Стоит открыть любой журнал – непременно наткнешься на ее фото. Ах да… в воскресенье вечером. Она привстала и нацарапала несколько слов в книжке-ежедневнике. Надо будет не забыть посмотреть. Анна будет рекламировать продукцию «Гиллиан» в передаче «Час комедии». Анна – на экране телевизора!
Телевидение… Ух ты, как они в Калифорнии забегали из-за этого вонючего ящика. Будто он когда-нибудь сможет представить хоть какую-то угрозу кинопромышленности. Но сейчас все паникуют. Стали отказываться от услуг актеров, снимающихся по контрактам, причем это приняло массовый характер. Перестали заключать длительные соглашения – только на съемки в одной-двух картинах. Ей еще повезло, что она пользуется такой популярностью. О-о, как они были рады подписать с ней долговременное соглашение! На целых пять лет вперед… еще целых пять лет, по пятьдесят две недели в каждом, ей будут выплачивать деньги…
Хорошо, если бы Тэд приехал сегодня домой. Ей нужно, чтобы он вступился за нее завтра. Эти эпизоды с танцами чересчур трудны. Станцевать-то она сумеет, но это же просто смешно. Пусть Тэд скажет, что в его костюмах она не может танцевать, и пусть ей сделают танцы полегче, а то сегодня она еле-еле отдышалась. Эти зеленые пилюли великолепны: с них не тянет в сон, делаешься худощавой и подтянутой. Вот только сердце с них колотится так, что невозможно выдержать двухчасовую танцевальную тренировку. А может, Тэд у себя в студии? Может, он и не сердится вовсе, просто заработался допоздна? Она потянулась к телефону. Нет, если он не в студии, лучше ей ничего не знать об этом. Да и какого черта – если он и на работе, то что это доказывает? Он и у себя в студии может развлекаться с каким-нибудь парнем. Боже, и почему она его так любит? Он и мужик-то никудышный. Да, но ведь и Мэл тоже был слабоват. И почему она привязывается к таким вот мужикам? Сначала они кажутся такими сильными: помогают ей, говорят, как надо поступать – по-настоящему сильными. И куда потом все девается?
Нили посмотрела на стенные часы – двенадцать. Пилюли не действуют. Нужно добавить еще виски, чтобы подействовали. Черт возьми – виски у них внизу. Здорово, что она обнаружила, как выпивка помогает действию этих пилюль. Интересно, а Дженифер знает? Без выпивки «куколки» – ничто. Ладно, сейчас она спустится вниз и нальет себе еще.
Она босиком сбежала по мраморным ступенькам. Слуги спят, свет в гостиной выключен. Нащупывая выключатель, она услышала всплеск в бассейне. Нили подошла к дверям, ведущим в патио. Что за черт, кто еще там в бассейне? В кабинке для переодевания горел свет, отражаясь на поверхности воды. Да это же Тэд! Она облегченно рассмеялась. Ух ты, совсем с ума спятил – купаться голым в такой час. Она стала расстегивать пижаму. Сейчас бросится в воду и напугает его. Нет, тогда сон окончательно пройдет, а ей завтра рано вставать. Она уже собиралась окликнуть его, как вдруг увидела, что из кабинки неуверенно и даже застенчиво вышла какая-то девушка, прикрывая полотенцем свою наготу.
– Да ладно тебе, брось полотенце. Вода теплая, – крикнул ей Тэд.
Девушка посмотрела на огромный темный дом.
– А что, если она проснется?
– Смеешься? Да она так накачалась, что ее теперь и землетрясение не поднимет. Ну давай же, Кармен, а то я сам тебя затащу.
Девушка с деланной застенчивостью уронила полотенце. Даже в полутьме Нили разглядела, что фигура у нее великолепная. Прищурив глаза, она присмотрелась внимательнее. Эту девицу она уже где-то видела… Ну конечно! Кармен Карвер. Заняла первое место на каком-то конкурсе красоты, и на студии сейчас делают ее пробные съемки.
Тэд поплыл навстречу девушке. Нили услышала, как та вскрикнула:
– Ах, Тэд! Только не в воде… Не надо!
– Почему? Ведь на суше у нас уже было и так, и эдак. Нили почувствовала, как к желудку подкатывает тошнота. О боже! Нет, только не это! С мальчиками время от времени – еще куда ни шло. У Тэда это болезнь, так ей психиатр сказал. Ничего общего с супружеской неверностью. Но это!
Она схватила бутылку виски и, спотыкаясь, стала подниматься по лестнице. Налила себе изрядную порцию, приняла еще одну пилюлю и забралась в постель. К черту Тэда с его шлюхой! Ух ты, ну и похмелье же будет у нее наутро. А ведь ей вставать в пять утра.
Нили вдруг рывком села в кровати. А что случится, если она не придет? За свою жизнь она ни разу, даже на пять минут не опоздала на репетицию, примерку или интервью. Ну и что это дало? Да, конечно, сейчас она зарабатывает пять тысяч в неделю, но как ей приходится выкладываться за это! За дом еще не выплачено – деньги ей ссудило правление киностудии. Доктор Митчел говорит, что дом очень нужен для того, чтобы приобрести уверенность в себе, что это избавляет ее от детской неустойчивости и нестабильности. Ничего себе, советики… обходятся ей по двадцать пять долларов за визит. Она увидит его завтра, пусть-ка он объяснит ей это! И вот сейчас, перебирая все в памяти, она вдруг задалась вопросом: а за что, собственно, платит Тэд, черт бы его побрал? За прислугу, машину, свою студию, питание и выпивку. Может быть, экономическое соглашение перед женитьбой было ошибкой? Его бизнес растет, как на дрожжах, и процветает. «Вог» постоянно посвящает ему многостраничные обзоры. А что имеет она? Студия вычитает с нее тысячу в неделю в счет погашения ссуды за дом, а еще оплата поверенного, личной служанки, секретаря, подоходный налог… Боже! Она не может отложить ни цента. Ну что ж, через три года она рассчитается за дом. Она отхлебнула виски прямо из бутылки. Ее начинала охватывать блаженная эйфория. Когда за все будет выплачено, все будет хорошо…
Хорошо?! Пресвятой боже! А Тэд в эту минуту «употребляет» какую-то девицу в ее бассейне! Словно пружиной, Нили сбросило с кровати. Она захмелела, голова у нее налилась тяжестью, но она просто обязана была взять и вышвырнуть эту девку вон из своего бассейна. Цепляясь за перила, она, пошатываясь, спустилась по лестнице. Нащупав в темноте выключатель, она торжествующе повернула его, и весь бассейн залило ярким светом.
Тэд и девушка торопливо вылезали из воды, когда она, еле держась на ногах, выступила вперед с бутылкой виски в руке.
– Ну что, ребятки, развлекаетесь? – пронзительно крикнула она. – Трахаетесь в моем бассейне? Не забудьте спустить после этого воду. Не забудь, Тэд, это твои дети плещутся в нем каждое утро.
Девушка, дрожа от ужаса, спряталась за спину Тэда. Перевернув бутылку вниз горлышком, Нили, не спеша, вылила виски в воду, стряхнув даже капли.
– Может, это хоть немного продезинфицирует воду, – ухмыляясь, съязвила она. Затем смерила Тэда презрительным взглядом. – Теперь, значит, подыскал себе потаскушку женского пола… вместо мальчика. Митчел опять, поди, станет втолковывать мне, что тебе необходимо и это тоже!
Тэд стоял прямо и молчал, отведя руки назад и закрывая ими трясущуюся от страха девушку. Этот защищающий жест окончательно взбесил Нили.
– Кого ты загораживаешь?! Шлюху, которая испоганила мой бассейн? Заруби себе на носу, дорогуша, ты для него ровным счетом ничего не значишь. Обычно для подобных развлечений он предпочитает мальчиков. А может, в этом-то все и дело… может, у тебя титяшек нет… или, может, ты у нас лесбияночка?!
Девушка оторвалась от Тэда и бросилась в кабинку для переодевания. Тэд стоял, исполненный спокойствия. Несмотря на наготу, во всем его облике было какое-то отчаянное горделивое достоинство. На мгновение ей захотелось броситься к нему, попросить у него прощения, сказать, что она любит его. Он стоял такой высокий и загорелый… Но нельзя же допустить, чтобы он так легко отделался.
– Ну что, гомик, давай оправдывайся!
– Тебе, по-моему, нужны очки. – Он чуть улыбнулся. – Я бы не сказал, что у нее мальчишеская фигура. Нили скривилась.
– По мне, уж лучше бы то…
– Еще бы не лучше, – размеренно проговорил он. – Ведь ты сама тогда толкнула меня к этому.
– Что-о? Значит, это я толкнула тебя?
– Ты почти внушила мне, что я действительно ненормальный. Да, конечно, у меня было это с некоторыми парнями. Непонятно почему, но я считал, что таким образом не изменяю тебе. А ты внушила мне, что я не представляю собой никакого интереса для женщин и не способен вызвать у них желание. Когда ты последний раз хотела быть со мной, Нили?
– Да ты же мне муж! Что это еще за «хотела быть с тобой»? Я всегда хочу быть с тобой.
– Ты хочешь, чтобы я всегда был у тебя под рукой! Отстаивал бы твои интересы в киностудии, делал модели твоей одежды, сопровождал тебя на премьеры. Но как мужчину… Ты вечно слишком усталая для секса. Ну, ты когда думала об этом в последний раз?
– Ты с ума сошел! – завопила она. – Послушай, не заминай разговор. Я застала тебя на месте преступления; стоишь тут передо мной, выставив на ветерок свои причиндалы, да еще с голой девкой в моей кабинке, и смеешь еще читать мне нотации! Да кто, черт побери, платит и за этот бассейн, и за этот дом?
– А кому он нужен? – небрежным жестом Тэд протянул руку за полотенцем и обернул его вокруг бедер.
– Мы не могли жить в твоей квартире.
– Почему это? В ней было восемь комнат. Но, как же, тебе ведь нужны и массажная, и кинозал, и все эти апартаменты!
– У меня никогда в жизни не было своего дома. – Она разрыдалась, – Мне так хотелось наконец заиметь его. И мне нисколько не жалко денег, которые я за него плачу.
– Чего же ты тогда тычешь мне в глаза этим домом по десять раз на дню? И кто из нас сейчас заминает разговор?
– Ну… – Веки слипались, и только огромным усилием воли она держала глаза открытыми. Его голос доносился откуда-то издалека. Черт бы побрал эти пилюли. Вот когда они начали действовать. Она смотрела, как он небрежно развалился в шезлонге.
– Тэд… я прихожу со студии в шесть часов. А сегодня пришла только в восемь. Я выдыхаюсь. Мне нужно выучивать роль на каждый день. Мне должны делать массаж. Ну до секса ли мне?
– Зачем ты подписала новый контракт? – спокойно спросил он.
– Это было полгода назад. Ты все еще упрекаешь меня за него?
– Нили, ты теперь известная актриса. И у меня дела идут прекрасно. Я хотел порвать наше экономическое соглашение. Ты могла бы заключить договор на два фильма в год с любой студией и жить нормальной жизнью. Я зарабатываю достаточно для нас обоих, даже если бы ты вообще нигде не работала. Но ты, не говоря мне ни слова, идешь и подписываешь новый контракт на пять лет.
– Я должна киностудии крупную сумму за дом. И знаешь, Тэд, когда все паниковали из-за этого телевидения, я считала, что мне повезло, когда заключила долгосрочный контракт. Когда у тебя такой контракт с киностудией, ты принадлежишь… за тобой стоит вся студия.
– Ну что ж, теперь у тебя есть и дом, и контракт. А я теперь опять здоров. Живя с тобой, я был словно бы и не мужчиной. Ты будто выдавила его из меня, Нили. Но это все в прошлом. Теперь я выправился.
– С помощью этой потаскушки?
– Она дает мне уверенность в своих силах.
– Тэд, ты нужен мне.
– Ив какой же ипостаси? Только не как мужчина.
– Секс! Секс! СЕКС! Неужели это все, что тебя волнует? Я тоже люблю секс, но в меру.
– Правда? Раз в месяц, в дождливое воскресенье? А в Калифорнии никогда не бывает дождей.
– Слушай, прекрати все это. Там эта девка. Выведи ее вон!
– Сейчас. – Он взял сигарету и направился к кабинке.
– И сразу же поднимайся наверх. У меня есть к тебе разговор! – Нили вбежала в дом. Открыв новую бутылку, она налила себе виски и забралась в постель. Может, ей следовало притвориться, что она ничего не заметила? Может, надо вести себя более сексуально? Боже, ведь она любит его. Обожает. Но когда целый день пропадаешь на съемках или в студии, как можно к тому же быть сексуальной по ночам? Она посмотрела на свою простую пижаму. Может, стоит надевать какие-нибудь особые ночные рубашки с оборками? Но, черт, ведь у нее на лице слой крема толщиной в палец, и волосы торчат в разные стороны, словно пакля. На студии ей каждое утро моют голову, поэтому на ночь волосы приходится смазывать ланолином. Они у нее густые и пышные, но если спать с лаком, который ей наносят перед съемками, и с золотистой пудрой, которая переливается в свете юпитеров, то быстро облысеешь. Поэтому на ночь их приходится расчесывать и смазывать.
Нили подумала о той голой девице в бассейне. Она встала, пошатываясь, и посмотрела на свое отражение в зеркале. «О господи, – подумала она, – я выгляжу, как привидение в судный день». Но, черт, почему бы той девке и не выглядеть хорошо? Она ведь не зарабатывает по пять тысяч в неделю. А в титрах перед фильмами ее имя не пишется огромными буквами. Она всего-навсего одна из тех девиц, которым еще предстоит пробиться. Была бы она звездой, ложилась бы спать в девять часов, точно так же – с кремом и ланолином! Слезы ручьем потекли по ее щекам. Боже мой, всю свою жизнь она мечтала о чем-то подобном. О большом собственном доме, о любимом мужчине, о детях. И вот все это у нее есть… нет только времени насладиться этим.
Нили прошла в ванную и смыла крем. Если бы только ее не клонило так сильно в сон! Она порылась в шкафу. Где эти красивые ночные рубашки? О’кей, вот эта желтая подойдет. Она надела ее. Ух ты, ну и волосы. Она нашла желтую косынку и повязала голову. Вот сейчас неплохо, совсем неплохо. Она забралась в постель. Тэд должен прийти с минуты на минуту. До нее донеслось шуршание автомобильных покрышек по гравию. Так значит, эта шлюха отправилась к себе, и он сейчас явится, как побитый пес. Пусть сначала немного попросит, а потом она сделает ему сюрприз. Обнимет, прижмет к себе, и у них начнется… Вот тут она покажет ему, на что она способна. Не будет просто лежать как бревно. У них все было так великолепно, когда они только познакомились, но ведь тогда она не уставала до такой степени… Ее клонит в сон… Господи, да где же он?! Она соскочила с кровати и сбежала вниз по лестнице.
– Тэд! – Свет в бассейне был выключен. Нили распахнула входную дверь, побежала к гаражу, гравий впивался в босые ноги. Машины не было! Может, он должен был отвезти ее домой? Ведь она приехала сюда вместе с ним. Может, у нее нет машины. Но он мог бы вызвать ей такси! Ну и устроит она ему, когда он явится обратно. Нили разрыдалась. А если он не явится? О боже! Что она наделала!
(обратно)
1953
Она не давала ему развода три года. После инцидента в бассейне он перевез из ее дома всю свою одежду. Целую неделю она не появлялась на съемках. На студии были вне себя от ярости. «А, пошли они все к черту, – думала она, глотая барбитурат и впадая в наркотическое забытье. – И Тэда к черту!» Сначала она твердо решила разводиться; нельзя позволять ему так обращаться с собой! Но Шеф был категорически против. Это повредит ее имиджу в глазах почитателей ее таланта. Для них она должна оставаться простой девчонкой, живущей с ними по соседству… Любимицей всей Америки с детишками-близнецами. О ее домашней жизни писались целые статьи, иллюстрированные журналы посвящали многостраничные обзоры ей, Тэду и близнецам, теплой простой домашней обстановке… идеальный брак. Нет. Никаких разводов! Шефу безразлично, как они относятся друг к другу, лишь бы все выглядело благопристойно в глазах публики. Она должна постараться, чтобы все это казалось правдоподобным. Шеф говорил и с Тэдом. У того был подписан контракт с «Сенчури», поэтому он тоже должен был создавать определенную видимость: сопровождать Нили на премьеры, позировать с нею перед фотокамерами для иллюстрированных журналов – словом, делать все, чтобы сохранить сложившийся семейный имидж. Эти три года были сплошным нескончаемым кошмаром. Один фильм снимался за другим… диета… «куколки»… сознание того, что Тэд проводит где-то время с этой девицей. А он должен был содержать ее, ведь та нигде не работала. Чтобы хоть как-то успокоить Нили, девицу выгнали с волчьим билетом. О ней пустили грязную сплетню, чтобы ни одна студия не отважилась предложить ей контракт. Награда Академии Киноискусства принесла ей триумфальный успех! Это был ее звездный час! Даже в самых смелых мечтах она не надеялась удостоиться «Оскара». Когда назвали ее имя, она, ахнув, повернулась к Тэду. Он так тепло улыбнулся ей – он был искренне рад за нее. Она бросилась по проходу на сцену. Потом – фото– и кинокамеры, и рядом – Тэд, держащий ее под руку. Все теперь должно быть хорошо – она получила «Оскара», рядом с нею, улыбаясь, стоит Тэд. Он оставался с нею до конца, пока не щелкнула последняя камера и не прозвучало последнее поздравление. Затем он отвез ее домой, у самой двери пожелал спокойной ночи и… уехал от нее – от звезды, получившей награду Академии, – в объятия той потаскухи! Это стало последней каплей! На следующее же утро она позвонила Шефу и потребовала, чтобы тот приехал к ней. Теперь распоряжения отдавала она. И Шеф приехал как миленький! На этот раз условия диктовала она. Она настаивала на немедленном разводе, требовала, чтобы студия разорвала контракт с Тэдом Касабланкой. Шеф покорно согласился на все ее требования. Боже, вот какая сила у «Оскара»! Благодаря этой награде она поняла, что вовсе не обязана являться на студию каждый день. Она – крупнейшая звезда Голливуда, и «Оскар» – свидетельство тому. Раз она плохо спала, то пошли они все к чертовой матери! Она – Нили О’Хара! И если она поправится на несколько фунтов от черной икры – пошли они туда же! Неделя уйдет на то, чтобы сбросить этот вес – ну и что?! Картины с ее участием приносят целые состояния… Нили сидела в бунгало киностудии и вся дрожала. За последние пять недель она уже третий раз не выдерживает темпа съемок. Будь проклят этот Джонс Стайкс. Он может быть величайшим режиссером в мире, но в этой картине он просто мучает ее. Она сорвала накладные ресницы и резкими движениями стала наносить на лицо крем. – Миссис О’Хара, не надо! Ведь чтобы наложить грим заново, уйдет целый час, – взмолилась гримерша. – На сегодня хватит, – мрачно ответила она, удаляя румяна. – Но мы же выбиваемся из графика… – «Мы»? – повернулась к ней Нили. – Откуда ты-то взяла это «мы»? Боже! Теперь, похоже, все на свете считают, что занимаются шоу-бизнесом! В дверь постучали. Вошел Джон Стайкс. Его грубоватое обветренное лицо было по-своему красиво. – Давай, Нили, пошли. – Она заметила его отчаяние при виде ее разгримированного лица. – Нет, приятель, на сегодня хватит! – злорадно усмехнулась она. Он сел. – Ладно. Уже три часа. Закончим сегодня пораньше. – Только учти, с последним дублем я не согласна, – рявкнула она. – А что там такого? – Сам прекрасно знаешь, черт возьми. Крупным планом давались одни только наши ноги. – Нили, но ведь студия платит Чаку Мартину пятьдесят тысяч за один этот танец с тобой. Он великий танцор. Что же нам давать крупным планом? Его уши? – Нет, черт побери, – меня! Мою фигуру, потому что моим ногам не угнаться за ним. Я танцую не настолько хорошо. – Не верю ушам своим, – сказал он с иронией. – Хочешь сказать, ты действительно можешь отважиться и признать, что на свете существует кто-то более талантливый, чем ты? – Послушай, Чак Мартин танцует в бродвейских шоу уже тридцать лет. Но это все, что он умеет – танцевать. Он в отцы мне годится. Мне же всего двадцать пять лет, но я могу и петь, и танцевать, и играть роли. Но лучше всего – петь и играть. Если взять пение, никто со мной не сравнится. Никто! А в танце – да, я не Джинджер Роджерс и не Элеонора Пауэлл. Но единственное, что умеет делать Чак Мартин – это танцевать. Здесь он почти равен самому Астору. Но разве это основание для того, чтобы я рядом с ним выглядела плохо? – Раз уж ты признаешь, что он настолько хорош, то почему бы нам не дать его ноги крупным планом? – Потому что эта картина – моя. Это то, чему я научилась в своем первом бродвейском шоу, причем у профессионала. Никто не имеет права вить себе гнездышко на дереве моего таланта. Да и потом, послушай, кому вообще нужен этот Чак Мартин? Во всех моих картинах со мной танцевали просто парни из кордебалета. – Чака выбрал сам Шеф. – Джон Стайкс закурил, Нили тоже взяла сигарету. – С каких это пор ты стала курить? – С того самого дня, когда получила развод. Обнаружила, что когда куришь, меньше хочется есть. – Это вредно для голоса, Нили. – Я курю всего десять сигарет в день. – Она глубоко затянулась. – Ну что, значит, договорились? Режиссер посмотрел на гримершу. – Нили, могли бы мы поговорить с глазу на глаз? – Конечно. – Она знаком показала гримерше, что та может идти. – На сегодня ты свободна, Ширли. Приедешь завтра в семь. Когда они остались наедине, Джон улыбнулся. – Рад, что ты не намерена бить баклуши. – Ас какой это стати? Вот и ты, посиди-ка сегодня вечерком подольше и подумай, как отснять эту сцену так, чтобы в ней выделялась я, а не ноги Чака Мартина. – Нили, тебе никогда не приходило в голову, почему Шеф не поставил в пару с тобой какого-нибудь мальчика из кордебалета? – Ясное дело. Телевидение! Сейчас все в панике. Но меня это не волнует. Если Шеф считает, что участие Чака Мартина и лишние пятьдесят тысяч гонорара помогут нам обставить телевидение, это его дело. Только не за счет моего экранного времени. – Нили, но два твоих последних фильма оказались убыточными. – Да полно! Я же читала в «Варьете», видела итоговые суммы. Страшные деньги! Моя последняя картина принесла четыре миллиона, а ведь она еще не шла в Европе. – Но на ее производство ушло шесть миллионов. – Ну и что? В «Варьете» писали, что моя картина займет в этом году первое место по кассовым сборам. – Конечно. И студия заработала бы на ней кучу денег, если бы на ее производство ушло два с половиной миллиона, как было запланировано. Просто студия держит истинную сумму в секрете… пока. Никто еще и слыхом не слыхивал, что картина вообще может стоить таких денег. Шеф боится, что об этом пронюхают газеты. Держатели его акций сразу же созовут срочное совещание, и тогда ему придется держать ответ за эту картину. Та, первая, убытки принесла небольшие, но уж эта последняя… знаешь, дорогая, еще ни одна картина не обходилась в шесть миллионов. – У меня был грипп. Ничего не поделаешь, болезнь. – Нили, ты не являлась на съемки целых десять дней из-за этих снотворных пилюль. – А потом у меня был грипп. – Не я ставил ту картину, но факты мне известны. Ты пьянствовала и не соблюдала диету… Ну хорошо, ты выбилась из колеи и заболела. Но ведь когда ты выздоровела, потребовалось три недели, чтобы согнать с тебя лишний вес. И все равно в тебе было на десять фунтов больше, так что все костюмы пришлось переделывать. – Ладно! Я была не в себе. В ту неделю нас наконец развели. И слег Сэм Берне, мой любимый оператор. А я ни за что не буду работать без Сэма. И никаких лишних десяти фунтов во мне не было. Я весила всего девяносто восемь [48]. Но костюмы были сшиты так отвратительно, что я смотрелась в них толстой и неуклюжей… – Она осеклась и напустилась на него. – Да, кстати. Пусть мне дадут другого модельера. Костюмы гадкие. Тэд никогда бы не позволил мне надевать такое дерьмо. – Но Элен Смолл получила девять наград Академии. – Вот и пусть шьет одежду для своих «Оскаров», а не для меня. – Нили, ты мне нравишься. Потому я и говорю с тобой, а не с Шефом. Я никому не скажу, что сегодня ты прервала съемки и ушла. Да он, конечно, узнает, что я отпустил всех так рано, но я скажу ему, что мы отсняли этот эпизод раньше, чем рассчитывали, и что приступать к следующему было уже поздно. Но как долго, по-твоему, он будет мириться с этим? – С чем именно? – С твоими уходами когда вздумается, с твоими причудами… – Я так упорно работала и стала звездой не затем, чтобы потом беспокоиться о вывеске. Раз ты звезда, пусть о тебе другие побеспокоятся, ты этого стоишь. Я научилась этому у Элен Лоусон. – Элен Лоусон – профессионал, – отрезал он. – Она то, чем ты не являешься. – Ну и где она сейчас со своим профессионализмом? – Она может выступить в главной роли в любом шоу на Бродвее, когда только пожелает… – А что такое Бродвей? Это все, что ей могут дать! – Верно. И она это знает. Но Элен Лоусон за всю свою жизнь ни на минуту не опоздала на репетицию. У нее есть только одно достоинство – прекрасный голос. И она это знает. Она может быть невнимательна ко всему остальному, но по отношению к своему голосу, она – настоящий бизнесмен. Она совершенно иной тип монстра, чем ты, Нили… – «Монстра»! Да как ты… ты… Он рассмеялся и схватил ее за нос. – Ну конечно, ты – монстр, – добродушно повторил он. – Как и всякая звезда. Но Элен – механическая звезда, у нее есть лишь голос. А у тебя… понимаешь, дорогая, иногда мне кажется, что ты почти гений. Временами ты чувствуешь роль очень глубоко. – Он перегнулся через столик и взял ее руки в свои. – Нили, таких, как ты, больше нет. Ты – уникальное явление. Но ведь здесь все выражается не в терминах искусствоведения, а в долларах и центах. Акционеров интересует не гений, а кассовая выручка. Послушай, детка, мы выбились из графика на десять дней, но, если ты поднапряжешься и поможешь нам, мы все наверстаем. Мы могли бы отснять сцену в ночном клубе не за три дня, а за один. У меня на завтра все для нее готово, вызвал всю массовку. Я знаю, как все устроить: поработаю несколько вечеров… а в массовых сценах поставим твою дублершу. Можем снимать со спины. Нили, мы сумеем все повернуть и уложимся в срок. Она поколебалась в нерешительности, затем просияла холодной металлической улыбкой. – Ты почти разжалобил меня, Джонни-бой. Был такой персонаж в детских сказочках. Но, как ты сказал, я – монстр, а монстрам все известно до мельчайших подробностей. Если бы кто-нибудь поговорил со мной в такой манере лет семь назад, я бы поминутно вскакивала и отвечала: «Слушаюсь, сэр», «Разумеется, сэр», «Да, сэр». Я выкладывалась до того, что у меня ноги отваливались, работала до изнеможения, загоняла себя до полусмерти… и принесла студии кучу денег. – И стала звездой. – Ну и что мне это дало? – спросила она. Она прошла в другой угол гримерной и налила себе полбокала виски. – Выпьешь? – Пива, если есть. Подойдя к бару, она открыла маленький холодильник. – У меня есть вот какое, – протянула она ему бутылку. – Самое лучшее пиво в городе, да только мне. его пить нельзя. Я от него полнею. У меня есть бассейн, но я не могу им пользоваться, потому что мне не разрешается загорать – плохо для цветной пленки. У меня два шкафа ломятся от одежды, но мне некуда и некогда надевать ее, потому что каждый вечер приходится сидеть дома и учить текст роли на следующий день. Джон… – Она опустилась на колени и села у его ног. – Как это вышло? Он погладил ее по голове. – Просто ты чересчур быстро добилась всего. – Нет, это не ответ. Всю свою жизнь я танцевала на эстраде. Я не какая-то там королева красоты, которую нужно учить, как говорить, как ходить, как играть. Со мной заключили контракт потому, что у меня есть талант. Да, конечно, кое-чему меня научили. Я стала лучше танцевать. Многое прочла – те книги, которые, по мнению Шефа, мне следовало прочесть. Понимаешь, для самообразования. Сейчас, когда мне приходится давать интервью, я уже не выгляжу круглой идиоткой. Но добилась всего я только благодаря своему таланту. Мне двадцать пять, а чувствую я себя на девятнадцать. Лишилась двух мужей. Единственное, что мне осталось в жизни, это учить тексты, песни, танцы, голодать, спать с лекарством, бодрствовать тоже с лекарством… А ведь в жизни должно быть еще что-то. – А когда ты выступала в эстрадных номерах, тебе жилось лучше? – Нет, и я терпеть не могу тех, кто уверяет, будто лучше всего им было, когда они перебивались с хлеба на воду. Противно все было. Приезжаешь с гастролями на один вечер, холодные поезда, тупая, недалекая публика… но было в этом нечто такое, что подстегивало тебя и поддерживало тонус – это надежда. Все было настолько отвратительно, что ты понимала: должно обязательно стать лучше; ты мечтала о своем звездном часе, о большой известности, славе, и думала, как будет прекрасно, если ты ухватишь хоть кусочек того и другого. И этой надеждой ты жила, поэтому все казалось не так уж и плохо. Иногда сидишь здесь и думаешь: «Ух ты, вот и добилась… вот оно… а все противно». Что теперь делать? – У тебя есть дети, Нили. Сейчас ты вся в работе, съедающей массу времени, в работе, которая заключается в том, что ты – звезда. Но ты еще встретишь хорошего парня, и тогда у тебя будет возможность сделать выбор между любовью публики и личной жизнью. Нелегко пожертвовать любовью зрителей и посвятить всю себя одному человеку. Особенно после того, что было у тебя. Придется все взвесить и спросить себя, достаточной ли компенсацией будет для тебя любовь, которой ты окружена благодаря своему таланту. – Нет, не достаточной. Я ничего от нее не получаю. Я хочу спросить: а что этот богом дарованный талант дал мне самой? Все, что я могу, это поделиться им с окружающими. Разве в этом была цель? У меня есть талант, но мне приходится отдавать его, а сама я остаюсь ни с чем. Боже, ну разве это не идиотизм? Подожди-ка, я скажу об этом доктору Митчелу. – Твоему психиатру? Она кивнула. – Вообще-то, психиатр мне ни к чему. Очередная придурь. Он был психиатром Тэда. Вообрази! Я – самая что ни на есть нормальная девушка на свете – дошла до того, что обращаюсь к врачу, который пользует психов. Я ходила к нему консультироваться, когда с Тэдом случалось что-то, а потом, как ты знаешь, стала бегать к нему всякий раз, как только что-нибудь происходило. Поначалу это всегда было связано с Тэдом… но потом он начал копаться и в моем прошлом, словно это я виновата во всех неприятностях Тэда. Но я решила не прерывать консультации… и узнала о себе очень многое. Знаешь, Джон, я никогда не осознавала, что это такое – испытывать любовь к своей матери. Он сказал, почему для меня столь важно быть звездой – мне необходима любовь публики к себе. – Что за дерьмовская чушь! – рассердился Джон. – Послушай, есть множество звезд, которые дорожат любовью публики к себе и вместе с тем имеют родителей, которые души в них не чают. Звезда ты потому, что у тебя талант, а не потому, что выросла без материнской любви. Вот где у меня сидят все эти заумные докторишки, которые все на свете валят на бедных матерей. Значит, твоя старуха слишком рано сыграла в ящик. Что же, она нарочно это сделала, чтобыпоквитаться с тобой? Послушай, Нили, тебе станет куда спокойнее, если ты забудешь про этого коновала. Ты достигла всего только благодаря себе самой. – Но я действительно стала нервнобольной, Джон, обнаружила у себя самые разные неврозы. – Правда? Может, это от того, что ты – звезда, и если он излечит тебя от них, то ты, может быть, перестанешь быть самой собой. У меня тоже есть свои странности, но я не собираюсь выкладывать по двадцать пять долларов за визит только для того, чтобы выслушивать неизвестно от кого, что мой отец не правильно обращался со мной, или что я в детстве недополучил материнской любви. И что мне прикажешь делать, если я узнаю, что это действительно так? Ехать в Миннесоту и дать моему старику в нос? А ему восемьдесят лет. Или вызвать себе по телефону проститутку в седом парике, чтобы она нежно гладила меня по головке и поила из бутылочки, как мамаша? Послушай, все, что уже произошло, – это как вчерашняя газета. Только настоящее и будущее действительно имеют значение! Она вздохнула. – Тебя послушать, так все получается просто. Но когда ты проводишь в одиночестве всю долгую ночь напролет – боже, как ужасны эти ночи – и понимаешь, что тебе некому излить свою душу… Видишь ли, Джон, психиатр – он весь такой обтекаемый, мягкий. Весь распахнут тебе… стремится помочь. Он единственный, кому я могу довериться. Джон встал. – Ладно, сходи к нему сегодня вечером. Но послушай, Нили, сделай одолжение сама себе. Забудь об этих костюмах. Сыграй завтра эпизод в ночном клубе. Выучи текст, и давай сдадим картину в срок. Она прищурила глаза. – А-а, так вот для чего была вся эта душещипательная беседа. Захотел размягчить меня, прежде чем нанести смертельный удар. Он пристукнул стаканом об стол. – Может быть, ты и права – тебе необходим психиатр. Неужели это шоу-бизнес довел тебя до такого: заставил подозревать всех и каждого? Слушай, я говорил с тобой как отец, потому что не хочу стоять в стороне и смотреть, как ты со своим талантом катишься по наклонной. – Почему же это я «качусь по наклонной»? Только потому, что не желаю надевать какой-то паршивый костюм? – Нет. Потому что делаешь фильмы убыточными, и пока это будет так, никакой талант на свете не поможет тебе удержаться в шоу-бизнесе. – Я приношу крупнейшие кассовые сборы. В этом году я во всех опросах иду на первом месте. – Нили, когда акционеры складывают цифры, их решительно не интересует, какую строчку твое имя занимает в опросах или как часто о тебе говорят по радио. Что им пользы от того, что картина с твоим участием стала хитом, если она не приносит дохода? – Не верю, что они терпят убытки, – упрямо стояла она на своем. – Просто они настолько напутаны телевидением, что хотят получить от моих картин такие суммы, на которых бы выезжала вся студия. Ну да, конечно… я должна работать, как бешеная, чтобы Шеф имел возможность восседать в своем дворце или в пляжном коттедже и трахать там всех новеньких подряд. И кто оплачивает все это? Я – своим талантом. – Нили, в прошлом году три дешевые картины без единой звезды принесли доходов больше, чем две твои последние. Одна обошлась в восемьсот тысяч, а принесла четыре миллиона. Если не веришь, что твоя картина оказалась убыточной, спроси у своих поверенных. – Да разве им можно доверять? Они же заодно с киностудией. Им нужно заниматься другими звездами, поэтому они всегда все делают по указке того, кто их нанимает. – Тогда доверяй мне. Хотя бы попытайся… – О’кей, тебе я доверяю. И это означает, что я должна явиться завтра на съемку в платье, которое торчит на мне колом? – Нили, ты великолепно выглядишь в этом платье. – Отвратительно я выгляжу. – Она налила себе еще виски. – Нет. Просто тебе нужна одежда от Тэда Касабланки, и ничьих других моделей ты не хочешь. Но это невозможно. – Не правда. – Она шмыгнула носом и вытерла глаза. – Сейчас ты говоришь прямо как доктор Митчел. – В самом деле? Ну вот, ему ты доверяешь, а ведь он говорит тебе то же самое. Она улыбнулась. – О’кей, может, ты и прав. – Умница. Приедешь завтра? Она кивнула. Он поцеловал ее в щеку и вышел из бунгало. Оставшись сидеть за столиком, Нили налила себе еще виски. Было уже около шести часов. Когда она прервала съемку, она позвонила доктору Митчелу и договорилась, что приедет в девять. Девять… визит продлится до десяти, домой она доберется не раньше одиннадцати, а ляжет не раньше двенадцати. Если она собирается учить слова к песенке для сцены в ночном клубе… Она позвонила доктору, отменила визит и отправилась домой.* * *
Нили сидела в кровати, ужин стоял перед нею на подносе. Она пыталась запомнить слова. И зачем ей надо было пить виски днем? Да, именно так. Лечь в девять и сказать, чтобы разбудили в пять. С пяти до семи она легко выучит слова, а проспав восемь часов, она будет чувствовать себя превосходно. Нили велела унести поднос, так и не притронувшись к еде. Заодно и ужин пропустит. Сегодня утром она весила сто три фунта [49]. И потом, «куколки» быстрее действуют на голодный желудок. Она приняла две красных и одну желтую. Налила полбокала виски. Ее начала охватывать восхитительная расслабляющая дремота. Она отпила виски и стала ждать реакции – ощущения, как от наркоза, которое распространяется по всему телу и уносит в волшебную страну сна. Однако оно не наступало – только дремота. Этого недостаточно. Мысли еще проносились у нее в голове, а когда она в состоянии думать, то неизменно думает о своем одиночестве. А потом – о Тэде с его девицей. А у нее самой никого нет. Она одинока – точно так же, как тогда, когда еще танцевала с «Гаучерос», с Чарли и Диком, жила одна в незнакомых номерах гостиниц, где никому не было до нее дела. Шея у нее взмокла, холодный пот заструился по спине, она почувствовала, что вся стала липкой. Она с трудом слезла с кровати и сменила пижаму. Доктор Митчел прав: ее организм начал привыкать к лекарствам. Может, еще одну желтенькую… нет, тогда утром у нее будет кружиться и трещать голова, а ведь ей еще нужно учить эти слова. Боже! Сегодня ей понадобились целых три зеленых «куколки», чтобы выдержать утренние съемки. Она налила полный бокал виски. Может, еще одну красненькую… да, они действуют быстрее. Нили проглотила лекарство. И не будет она допивать все это виски, только прихлебывать, пока капсулы не начнут действовать. Может, почитать, от этого ее всегда клонит ко сну. Анна прислала ей еще одну книгу Лайона, тоже из высокохудожественных. Она пролистала ее. Отзывы были хорошие, но что толку от отзывов? Книга не раскупается. Нили вдруг захотелось, чтобы Анна оказалась рядом. Анна всегда знает, что делать. Жаль, что она так прославилась на телевидении. Не будь этого, Нили вызвала бы ее сюда и за две сотни в неделю сделала бы своим личным секретарем. Ух ты! Вот бы было здорово! Но Анна, должно быть, гребет деньги лопатой. Стоит только включить телевизор, обязательно увидишь, как Анна рекламирует то лак для ногтей, то губную помаду. А почему бы ей и не добиться успеха, особенно если верны все эти слухи о ней и об этом Гилморе. Но все равно, в Анне чувствуется порода и класс. Не то, что у Дженифер. Подумать только – говорят, что ее приглашают в Голливуд, а она отказывается. Дженифер отказывается от приглашения в Голливуд! Девушка зарабатывает бешеные деньги, заголяя задницу с титьками во французских фильмах. Кумир всех зрителей. Тоже мне искусство! Если бы Голливуд делал подобные фильмы, это была бы просто грязная порнография. В последнее время Голливуд стал таким чертовски высоконравственным: никаких тебе платьев с глубоким вырезом, ни поцелуев взасос – в каждом контракте специальные оговорки о нравственности. И вот этот самый Голливуд приглашает Дженифер на главные роли. Конечно, титьки и задницу ей прикроют. Но ее сделают звездой, станут платить ей точно такие же деньги, как и всем настоящим звездам, только за то, что она пройдется и приоткроет свои титьки! Нили сделала еще один большой глоток. Сон так и не идет. Она просто пьянеет. И ей хочется есть. Боже, да она просто умирает с голоду! Она пожалела, что велела унести поднос. В холодильнике стоит икра. Нет… ей нельзя. Черт бы побрал Тэда, это он приучил ее к икре! Но костюмы ей и так почти в обтяжку. А все из-за выпивки. Ух ты! Она никогда ничего толком не ест, и если сейчас вдобавок ко всей этой выпивке она еще и наестся… Нет, это будет нечестно по отношению к Джону. Сегодня он был так мил. Интересно… а ведь раньше она и не замечала, как его голубые глаза идут к загорелому лицу. Ему, должно быть, под пятьдесят, но он красив. Джон… здесь… рядом с нею. Ух ты! Вот бы было здорово. В его объятиях она чувствовала бы себя защищенной. Нили взглянула на часы. Половина одиннадцатого. А вдруг Джон сможет приехать? Скажет жене, что им нужно обсудить какую-нибудь сцену. Сидит сейчас, наверное, волнуется за нее и думает, позвонит она или нет. Нили улыбнулась. Нет, сегодня она не станет его приглашать. Она уже намазала волосы ланолином. Но завтра она будет вкалывать на съемках, как лошадь, а вечером пригласит его к себе поужинать и поработать. И они не просто переспят на скорую руку – она заставит его остаться и держать ее в своих объятиях до тех пор, пока она не уснет. Может, он сумеет выбираться почаще. Она поможет ему, и они закончат картину в срок. Она потребует, чтобы он ставил все ее картины. Дети у него уже взрослые, и он, возможно, сможет проводить с ней много времени. Сейчас она позвонит ему и скажет, что учит текст. Для начала и это будет хорошо: он уснет с мыслью о ней. Она позвонила на киностудию и узнала его номер – в справочнике его не было, а потом позвонила ему домой. Ответил женский голос. Нили спросила самым невинным тоном: – Это миссис Стайкс? – Нет, это Шарлотта, служанка. – О-о. А мистер Стайкс дома? – Нет, мадам. Они уехали вдвоем на весь вечер. Что-нибудь передать? – Нет. Ничего. – Нили бросила трубку. Уехал с женой! Сидит сейчас, наверное, в шикарном ресторане и рассказывает ей, как обвел вокруг пальца Нили О’Хара. Она словно слышала, как он говорит жене: «Она мне в рот смотрит. С нею нетрудно – она хоть и звезда, но внутри – противная пустышка, которая до смерти всего боится. К ней нужно просто найти подход». Так вот, никому не дано найти подход к Нили О’Хара! Может, она и родилась пустышкой, но теперь она – звезда! И вольна делать все, что ее душе угодно! Она выбралась из постели и на цыпочках спустилась вниз. И вдруг остановилась. «Какого черта я крадусь на цыпочках? Ведь это же мой дом!» На кухне никого не было. Открыв холодильник, она достала большую банку икры. – Сейчас мы поедим, Нили, – сказала она вслух, взяла ложку и стала есть икру прямо из банки. Доела всю. – А теперь что? Давай, Нили, можешь есть все, что пожелаешь. Потому что ты – звезда… у тебя большой талант… рыскать по холодильникам… да уж… со своим талантом ты здорово рыскаешь по большим холодильникам. И ты можешь есть все, что угодно. – Она оперлась на холодильник. – Ну-ка, посмотрим. Еще икры? А почему бы и нет? Ты же на свои деньги купила ее. – Она открыла вторую банку. – Ха-ха. И еще возьмем с собой наверх паштета, на случай, если, опять захочется пожевать. Ешь все самое вкусное, Нили. Она достала из бара новую бутылку виски и, спотыкаясь, стала подниматься вверх по лестнице. Налила себе еще, прошла в ванную и открыла аптечку. «Ну, Нили, какую „куколку“ хочешь – красную, желтую или синенькую? Все, что пожелаешь, детка». Она проглотила две красные пилюли. Затем, шатаясь, добрела до кровати, сняла трубку и позвонила. Ответил дворецкий. – По-ослушай, Чарли, завтра меня рано не буди. Позвонишь утром на студию, скажешь, что у мисс О’Хара этот, как его… ларин… ларингит. И ни с кем меня не соединяй. Я буду спать… и есть… спать… и есть… может, всю неделю подряд. Когда завтра проснусь, хочу оладьев с маслом и с сиропом. Буду пировать вовсю! (обратно)1956
Нили оделась очень тщательно. Белые брюки, свободная блузка, скрывающая чуть «поползшую» талию. Ух ты! И почему в этот раз ей так трудно сбрасывать эти злосчастные десять фунтов? Через несколько дней начнутся примерки комплекта костюмов для новой картины. И вот сейчас, ни с того ни с сего Шеф вдруг изъявляет желание встретиться с ней. Интересно, что же такое случилось? Эта мысль не покидала ее все время, пока она ехала на киностудию. Ей позвонили вчера уже под вечер. Сообщение передал один из подлипал Шефа, Эдди Фрэнк. Уважительным тоном, как о чем-то само собой разумеющемся, непринужденно: – Алло, мисс О’Хара! Шеф хотел бы пригласить вас пообедать с ним завтра, если вам удобно. «Если вам удобно!» Ха-ха! Будто у кого-нибудь может быть что-то более «удобное», если вызывает сам Шеф. Надо же, какая у них память короткая. Три года назад, когда она получила «Оскара», он сам приехал к ней. Ну что ж, новая картина все расставит по своим местам. Ух ты, ну и роль! А песни… Ее уж точно выдвинут на «Оскара», и может, она опять его получит. Она сидела, отдаленная от Шефа огромным пространством письменного стола, сделанного в раннеамериканском стиле, стараясь выглядеть порывистой и юной. Такой она нравилась ему. Ей вдруг подумалось, что Шеф, должно быть, так и родился старым. Он никогда не меняется – все тот же неизменный белый пушок на голове, не сходящий круглый год загар вперемешку со светлыми пятнами от нездоровой печени. Глаза его весело поблескивали, а маленькие изящные ручки поигрывали лежащими на столе сводками новостей кинобизнеса. – Знаешь, милочка, почему я вызвал тебя? – Нет, сэр, но мне всегда приятно видеть вас. (О, она прекрасно знает, что полагается говорить в подобных случаях «по протоколу».) – Ты видела вчерашние сводки? (О боже, этот титул! Этот мерзкий титул!). – «Мисс Полный Крах-56 – Нили О’Хара». Не очень-то приятно, а? – доброжелательно спросил он. – Ах, да вы же знаете, чего стоят эти «титулы». – Она заговорила голоском невинной девочки. – Конечно, мне было неприятно читать об этом. Но мне многие говорили, что это ровным счетом ничего не значит. Просто собираются раз в год писаки и отыскивают козла отпущения. В прошлом году они присудили этот титул Стюарту Лэйну, а ведь он – крупнейшая звезда «Твенти». – Уже нет. – Голос его оставался доброжелательным. – Он так и не вошел в форму после войны. Все его картины оказывались убыточными. Но соглашение у них истекает только через два года, вот они и не поднимают шума. – Да, но мои-то картины пользуются успехом. – У зрителей – да. У нас – нет. Нили смущенно поежилась. Ну вот, опять все то же: просроченные съемки, сорванные репетиции… обычная накачка. – Новая картина очень дорогая, – заявил Шеф. – Цены резко подскочили. Мы конкурируем с телевидением – люди сейчас не станут выходить из дома просто ради того, чтобы посмотреть какой-никакой фильм. Особенно когда у них есть возможность бесплатно посмотреть развлекательную программу дома. Теперь это уже не крохотный ящичек – у него большой экран, и он становится все больше. Она хрустнула пальцами. Какого черта – она, что ли, изобрела эту проклятую штуковину? Пусть орет не на нее, а на создателей чертова ящика. – Денег в «Давай жить сегодня» мы вкладываем столько, сколько никогда до этого не вкладывали ни в одну картину. Малейшая задержка – и мы пропали. Сэм Джексон работает по строгому графику. – Сэм – один из моих любимых продюсеров, – сказала она. – Я заключил с ним соглашение: за каждый рабочий день, если он уложился в график съемок, Сэм получает премию в тысячу долларов. «Да, это будет самая что ни на есть жестокая гонка». – А стоит ему хотя бы на один день выбиться из графика, и он отстраняется от съемок вообще. – Вы хотите сказать, что отстраните от картины самого Сэма Джексона? – Я отстраню любого, кто не отвечает моим требованиям. Голливуд уже не тот, милочка. Мы распустили всех исполнителей, с кем у нас были контракты. До истечения твоего текущего контракта остается еще год, и когда… если мы пересмотрим его, он уже будет не таким, как прежде. «Ты чертовски прав: не таким, это уж точно, – подумала она. – Я создам свою корпорацию и тоже войду в долю. Кое-что будет принадлежать и мне». Эксперты по налогам уже объяснили ей это. – Нет, милочка. – Он вздохнул. – Все меняется. Теперь я уже не могу отмахнуться от акционеров и сказать им, чтобы они занимались своим делом. Я вынужден отвечать на их вопросы, а единственный ответ, который им нужен – это прибыль. Нили кивнула в ответ. Интересно, когда закончится их беседа? Это же всего-навсего самая обычная накачка! И из-за этого он осмелился вызвать ее сюда! Ей так хочется есть – мог бы распорядиться, чтобы подали обед. Сегодня она не завтракала, только приняла одну «декси». – Вот почему я отстраняю тебя от съемок в этой картине, – наконец объявил он. Нили ошеломленно воззрилась на него. Она была потрясена. – Милочка, я не могу так рисковать. Если не потянет Сэм Джексон, его можно будет заменить. Но если сниматься в картине будешь ты, то заменить тебя я уже не смогу. Мне придется начинать все заново… снимать все с самого начала. – Но вы не можете отстранить меня, когда я еще не начинала, – пробормотала она. – Почему не могу? Ты только посмотри на себя: опять растолстела. По графику примерки намечены на следующую неделю, а ты будешь не готова. Нет, риск слишком велик. Я ставлю на эту роль Джейни Лорд. – Джейни Лорд! Да ведь она только начинает. – Не может быть! Он просто берет ее на испуг. – Она уже снялась в трех недорогих картинах, и все они принесли прибыль. В этом месяце все иллюстрированные журналы, так или иначе связанные с кино, опубликовали о ней статьи. Эта картина сделает из нее звезду, причем крупную. А чтобы подстраховаться, я поставлю ей в партнеры Брика Нельсона. Нили уже задавалась вопросом, для чего в картине нужен Брик Нельсон. Этому актеру приходилось платить большие деньги, а в картины с ее участием, как правило, не включали других ярких звезд. Звездой же была она, и весь фильм должен был как бы представлять ее одну. Она стала лихорадочно перебирать в памяти статьи контракта. Шеф не шутит. Неужели он вот так возьмет и отстранит ее, после того как повсюду было объявлено, что эту роль будет играть она. Безо всяких причин? – Тебе ничего не удастся сделать: с юридической стороны тут все чисто, – сказал он, словно прочитав ее мысли. – Мы переписали роль заново, так что на нее теперь требуется актриса помоложе. – Помоложе?! Но мне же всего двадцать восемь! Для такой роли это не возраст. – А выглядишь на все сорок, – небрежно бросил он. – Сейчас на мне нет косметики, – попыталась она возразить. – Под глазами у тебя круги… и второй подбородок намечается. Ты уже поплыла. Слезы ручьем хлынули по ее веснушчатым щекам. Всего одна неделя – хорошенько отоспаться, сесть на диету, – и она опять будет в форме. Он же знает это. Почему он так ведет себя? Вошла секретарша и сообщила, что на проводе Париж. Шеф взял трубку, на лице его появилась широкая улыбка. – Алло! – Он почти кричал в трубку, как часто делают люди, говоря по телефону через огромные расстояния. – Да, – сказал он чуть тише. – Я прекрасно вас слышу. Великолепно, не правда ли? Да, мистер Шардо… да, ваше письмо пришло сегодня утром. Поэтому я и заказал разговор. Ваши условия… видите ли… – Он принужденно хохотнул. – «Немыслимые» – это еще мягко сказано. Естественно, я хочу сделать фильм с мисс Норт в главной роли. Не возражаю, чтобы продюсером были вы. Но заключать с вами соглашение на одну картину с предоставлением вам пятидесяти процентов прав на ее демонстрацию за границей – нет, это невыполнимо. Ведь, в конце концов, эту вашу звезду… мы же ее оденем, все ее прелести прикроем полностью. Откуда нам знать, что она будет столь же привлекательна? —Да, понимаю, что в последних трех фильмах она снималась полностью одетой. Но давайте начистоту, мистер Шардо, актриса она никакая. Что? Ну что ж, может, она и получила все эти награды… может, дело все в том, что я не понимаю по-французски. Но ведь в нашем фильме она будет говорить по-английски… как мы можем быть уверены? А вы не даете мне шанса на вторую картину – разве это справедливо? Я выброшу кучу денег на рекламу мисс Норт, а потом ее перехватит другая студия и снимет ее во второй картине. Мне нужно соглашение о постановке трех фильмов, тогда я приму ваши условия. Хорошо, отдельные мизансцены пусть она ставит сама. Деньги будут переведены в швейцарский банк… Сколько?.. Ну-у, дорогой мой, и где вы только берете такие цифры? На подобные условия никто не согласится, мистер Шардо. Он немного помолчал в трубку, на его лице явственно отразилась досада. – Мистер Шардо, некто Луи Эстервальд свяжется с вами сегодня днем… Что? Ах, у вас сейчас восемь вечера. Никак не могу представить себе эту огромную разницу во времени. Хорошо, завтра утром. Он обговорит все детали. Говорит по-вашему, по-французски, совершенно свободно. Можно ли надеяться, что вы приедете сюда в сентябре?.. Послушайте, мистер Шардо, если мы с вами протянем до февраля, это будет уже пятьдесят седьмой год. А я хочу сообщить моим акционерам, что картина с участием Дженифер Норт поставлена в производство на пятьдесят шестой… Отлично, я тоже буду ждать этого с нетерпением. Вы уже начали снимать ее в новом фильме? Успеете до ноября снять целых два… Боже, вам можно позавидовать. А я вот буду рад, если до ноября успею закончить хотя бы один. Ну да, у вас нет проблем с профсоюзами и этого проклятого телевидения. Подождите, вот увидите, через несколько лет вы тоже с ним столкнетесь. Это телевидение… оно, как раковая опухоль: повсюду пускает метастазы. Положив трубку, он тут же снял ее и заказал еще один трансатлантический разговор. Нили терпеливо ждала, пока он поигрывал карандашиком. Затем он с раздражением швырнул трубку. – Двадцать минут ждать! Он сделал вид, что вдруг вспомнил о ее присутствии. – Ладно, можешь идти, – он махнул рукой. – Я думала, мы с вами пообедаем, – сказала она. – Обед можешь пропустить. С таким брюхом это пойдет тебе только на пользу. Если бы я не видел тебя такой столь часто, то подумал бы, что ты на четвертом месяце. Мне нужно ждать, пока не соединят с Луи Эстервальдом. – Он вздохнул. – Только представь себе, сколько соглашений мне придется заключить, сколько контактов завязать, прежде чем я добьюсь, чтобы эта голая шлюха прилетела сюда делать со мной фильм. Да десять лет назад ее попросту вышвырнули бы из кинопромышленности. А сейчас все студии дерутся за нее. Что-то неладное творится у нас в стране, скатываемся в болото безнравственности. И телевидение способствует этому. Я всегда был за чистые американские фильмы, а теперь вот, чтобы выиграть битву с телевидением, приходится брать на вооружение все: титьки, задницы французских шлюх. – Она не французская шлюха, – сказала Нили. – Это американская девушка, очень милая. Когда-то я снимала с ней квартиру. – Ты снимала квартиру с Дженифер Норт?! – Одиннадцать лет назад. Мы с нею играли в «Небесном хите». Тогда она была просто хористка, а потом вышла замуж за Тони Полара. Одно время она жила здесь. – Ну конечно же! Он ведь был женат на какой-то Дженифер… – Шеф покачал головой. – Нет, не может быть, чтобы на той самой – этой девушке всего двадцать три года. Нили с горечью рассмеялась. – Во французских фильмах им всем по двадцать три. Это та самая Дженифер Норт, с которой я снимала квартиру. Дженифер сейчас… ух ты! – не знаю… мне тогда было семнадцать, а про нее говорили, что ей двадцать один год… – Значит, выходит, что сейчас ей тридцать два, – поразился он. – Правильно, – сказала Нили. – А вы еще сокрушаетесь, что я старая в свои двадцать восемь. – Та девушка наверняка следит за собой. И на нее можно положиться. Две картины к ноябрю! – Он покачал головой. – Ей присудили какой-то приз на одном из зарубежных кинофестивалей, вот она теперь и считает себя актрисой. Нечего сказать, мне всегда так «везет»: французы заполучили ее просто голой… а мне приходится покупать ее как актрису. – Он вздохнул так резко, что по его телу пробежала дрожь. – А мне пока что делать? Сидеть и ждать? – спросила Нили. – Сидеть и сгонять вес. Каждая неделя тебе оплачивается. – А когда моя следующая картина? – Там видно будет… – Да кто вы такой, что позволяете себе так обращаться со мной? – Ее глаза сверкнули. – Я – глава этой студии. А вот ты – возомнившая о себе соплячка, из которой я сделал звезду. Только вот вложенных в тебя денег ты последнее время не оправдываешь. Так что сиди и жди. Тебе это послужит хорошим уроком. Понаблюдай, как будут восходить новые звезды, вроде Джейни Лорд. Может быть, хоть так удастся что-то вдолбить в твою пустую башку. А теперь убирайся, у меня есть дела поважнее. – Я могу уйти и уже никогда не вернуться. – Она встала. Он улыбнулся. – Попробуй только. Тогда ты нигде не найдешь себе работы. Нили безутешно рыдала все время, пока на бешеной скорости вела свою машину домой. Дорога шла через каньоны, вилась между гор, но ей было все равно, она ничего не боялась. Что же теперь делать? Возвращаться к себе и сидеть в этом огромном доме? Даже близнецам она нисколечко не нужна. Они любят свою нянечку и к тому же учатся в школе. Когда разойдется весть о том, что ее сняли с этой картины – да еще после присуждения ей титула «Мисс Полный Крах-56» – вот тогда она действительно останется одна. Неудачникам никто не звонит. Ух ты, и как только люди могут быть такими подлыми? Она так работала, так сильно старалась – и вот сейчас всем не терпится швырнуть в нее камень. Войдя в дом, Нили достала из бара бутылку шотландского виски. Потом прошла в спальню, опустила шторы, отгородившись от дневного света, отключила телефон и проглотила пять красных капсул. Пять красных ей теперь почти не помогали. Вчера ночью она спала всего три часа с пяти красных да еще двух желтых. Раздевшись, она скользнула под одеяло. Было, вероятно, двенадцать ночи, когда Нили проснулась. Она подняла шторы. Ночь… и абсолютно нечего делать. Она побрела в ванную и автоматически встала на весы. Похудела на два фунта. Э-э, а ведь это мысль: если только спать, принимать пилюли и ничего не есть, эти десять фунтов можно будет сбросить очень быстро. Она приняла одно витаминное драже – это поможет ей оставаться здоровой – и проглотила еще несколько красных пилюль, запив их изрядной порцией виски. Проснувшись, Нили увидела, как через опущенные шторы пробиваются лучи солнца. Ее пошатывало, когда она шла в ванную. Голова шла кругом, но спать не хотелось. Нет, взвешиваться она не станет. Лучше подождет и потом сделает себе сюрприз. Она ощущала себя выжатой и опустошенной. Лучше принять два витаминных драже… Да, в них содержится все необходимое. Нили нанесла на лицо крем и смазала волосы ланолином. Вот так теперь она будет заботиться о своей внешности, и когда проснется окончательно, станет походить на живую изящную куколку. На этот раз она примет пять желтых капсул, а за ними сразу две красных, так они быстрее начнут действовать. Виски осталось еще достаточно, чтобы как следует выпить… Когда Нили открыла глаза, все вокруг выглядело как-то чересчур чисто и ярко. Какого черта к ее руке примотали эту иглу? А что это за бутылочка, подвешенная вниз горлышком? Господи! Да ведь она в больничной палате! Нили попыталась было привстать, но к ней бросилась сестра. – Лежите спокойно, мисс О’Хара. – Почему я здесь? Что произошло? Сестра протянула ей газету. Боже! На первой странице – ее фотография. Свежее улыбающееся лицо – один из ее первых снимков на этой киностудии. Но вот рядом крупным планом другое фото: двое мужчин несут какую-то женщину, голова ее запрокинута, видны босые ноги… Боже мой, да ведь это же она сама! Нили прочла броский заголовок: «Звезда принимает повышенную дозу лекарств», и ниже, чуть помельче: «Несчастный случай – утверждает глава студии». Прочитав о том, как Шеф пришел ей на помощь, она впервые улыбнулась. Ясное дело, он перепугался, что она сыграет в ящик, и не осмелился признать, что отстранил ее от съемок в картине. Она стала быстро читать дальше. «…Мисс О’Хара и я беседовали пять дней назад… – ух ты, неужели прошло столько времени? – …и я высказал предположение, что она, возможно, слишком утомлена, чтобы приступать к съемкам очередной картины. Однако она заверила меня в обратном, сказав, что она в прекрасной форме и что ей нужно лишь отдохнуть несколько дней. По всей видимости, именно это она и пыталась сделать – обрести форму перед новой картиной. Если она выживет… – При этих словах у Шефа запершило в горле, и он осекся, вытирая набежавшие слезы…» Слезы! В нужный момент этот мерзавец умеет и прослезиться и остановить слезы почище любой звезды. Наверняка испугался, что она оставила дома предсмертную записку. Она продолжила чтение: «…если она выживет, она будет играть главную роль в нашей крупнейшей картине. Не правда, что мы заменяем ее на Джейни Лорд. Заменить Нили О’Хара не может никто. Мы рассматривали возможность изменения сценария на тот случай, если мисс О’Хара сама не пожелает играть эту роль. Тогда, возможно, ее могла бы сыграть Джейни Лорд. Но единственное, чего мы хотим, – чтобы Нили осталась в картине». Самочувствие у нее сразу улучшилось. В газете помещались хвалебные отзывы о ней от всех звезд, с кем она когда-либо играла, и даже от звезд, которых она почти совсем не знала. Даже в профессиональных киносводках ей отводилось несколько восторженных колонок. Она словно умерла и воспарила в небеса, наблюдая за людьми, пришедшими на ее похороны. Ей понравилась эта сенсация, произведенная ею же самой. «Ух ты! Должно быть, подумали, что я умру. Шеф, точно, здорово перетрусил, раз пошел на такое». Теперь ему придется поставить ее на главную роль. – Я была очень больна? – спросила Нили медсестру. – «Больны»! Да нам только несколько часов назад стало ясно, что вы останетесь в живых. Целых двадцать четыре часа вас держали в кислородной маске. – Но я же приняла всего несколько пилюль. Я хотела спать. – Вам повезло, что ваш дворецкий вызвал врача. Он забеспокоился, что вы три дня ничего не едите. Когда он вошел к вам, то увидел, что вы еле дышите. Нили улыбнулась. – Зато сейчас я наверняка подтянутая и худенькая. Сестра резко отпрянула от нее – в палату вошел врач. – Я – доктор Киган. Нили вспомнила это имя – личный врач Шефа. – Ну вот, все страшное позади, – отрывисто проговорил он. «Позади – это уж точно», – подумала она. Но зная, что все будет доложено Шефу, она только чуть раздвинула в улыбке губы. – Это глупо. Чего вы добивались своим поступком? «Получила назад свою роль, приятель». Однако вслух она ничего не сказала, лишь продолжала слабо улыбаться, выдавив для вящей убедительности несколько слез. И только после этого чуть слышно прошептала: – Я… я не хотела жить без этой картины. – Ах, да… да… картина. Мы еще посмотрим. Трудно сказать, будете ли вы в состоянии играть в ней. – Я уже в состоянии. – Вам пришлось очень нелегко. Посмотрим. Если я сочту, что вы не готовы, то сообщу на студию. Так вот в чем дело! Вот он где раскрылся! Его собственный личный врач заявит, что она еще недостаточно окрепла. Она сладко улыбнулась. – Что ж, будем надеяться, что вы сочтете меня готовой. Это была мысль Шефа, чтобы я сбросила вес, и чем быстрее, тем лучше. Что же касается того, что я не совсем в форме, то именно Шеф впервые дал мне те зелененькие драже, отбивающие аппетит, когда мне было восемнадцать. И сколько раз я неделями работала вообще без еды, подчиняясь его приказам. Так что, я думаю, вы сочтете меня достаточно крепкой. Давайте-ка прикинем… примерка костюмов должна начаться через несколько дней. Я здорово похудела, так что примерки пройдут хорошо. А потом у меня еще целая неделя отдыха до начала съемок. На следующий день она вызвала прямо в палату своих поверенных и адвоката. Все точно. Теперь ее никак нельзя снять с картины, особенно после заявлений Шефа в печати. Это вернее любого контракта. И симпатии публики тоже переходят на ее сторону. Но поверенный предостерег ее: – Не то что день… стоит опоздать даже на час, и ты вылетишь. Он сейчас рвет и мечет и пойдет на все, даже в ущерб картине. Ты обвела его вокруг пальца, а он не из тех, кто любит проигрывать.* * *
Первый съемочный день она провела на нервах. Увидела Сэма Джексона и всю съемочную группу. Он тоже заметно нервничал. Похоже, нервничали все. Но роль она выучила назубок. – Проведем одну репетицию, а потом попробуем на камеру, – предложил Сэм. – Начнем с диалога, где ты обращаешься к посетителям ночного клуба. Ты призываешь их к тишине, а потом поешь. – Он крикнул: – Мотор! Массовка, занять места! Сцену сыграли, и Нили сделала все, что от нее требовалось. Но почему они все так нервничают? И почему Сэм отводит глаза, стараясь не встречаться с ней взглядом? Это так не похоже на него. Возможно, он волнуется из-за того, что проходит испытательный срок и в любой момент может быть снят с картины? Всем известно, что Шеф – подонок. Нужно будет поговорить с Сэмом. Она смотрела, как разворачивают операторский кран и устанавливают камеры. Неужели Сэм в таком истерическом состоянии из-за ежедневной премии в тысячу долларов? Ни один оператор не в силах снять целую сцену с первого дубля. Господи! Да если они сумеют сделать ее за день – и то хорошо. Съемочную площадку залило ослепительным светом юпитеров, перед ее лицом щелкнули дощечкой… Боже! Она никогда не играла целый эпизод набело всего после одной-единственной репетиции. И никто не играл. Все прошло вполне сносно. Она пропустили несколько реплик, но для первого дубля… Ух ты! Он даже мог бы вставить часть отснятого сейчас материала прямо в картину. Когда все закончилось, она с улыбкой повернулась к Сэму. – Ты забыла слова. – Две строчки. – Нили пожала плечами. – Фонограмма уже записана. Просто разнобой в движениях… в следующий раз… – Ладно. Но я хочу, чтобы это был последний дубль. Боже, да в своем ли он уме? Он никогда не закончит картину, если будет так вот трястись. Но, в конце концов, это его дело. Она вернулась на площадку. На этот раз у нее подвернулась нога, и ее немного качнуло на провод микрофона. – Камера, стоп! – закричал Сэм. Он подошел к ней. – Ты хорошо себя чувствуешь, Нили? – Прекрасно. Да успокойся ты, Сэм. Не рассчитывал же ты сделать окончательный дубль со второй попытки. – Я рассчитывал – с первой. – Ты с ума сошел, Сэм. Я знаю, что на тебя давят, но ты не паникуй. Ведешь себя так, словно халтуру гонишь. Даже Шеф поднял бы тебя на смех, узнай он, что ты хочешь отснять целый эпизод с первого дубля. Пропустив ее слова мимо ушей, он демонстративно отвернулся и обратился к съемочной группе: – Приготовиться! Третий дубль! Нили уже пошла было прочь со съемочной площадки, но вдруг остановилась. Боже мой, ведь это же будет то самое, чего добивается Шеф. Она вернулась. Ее всю трясло. Подумать только: она, Нили О’Хара, должна выслушивать этот бред от наделавшего в штаны режиссера! Он прекрасно понимает, что на них сейчас смотрит вся съемочная группа. Никто никогда не позволял себе обращаться с нею вот так. Уходила всегда она! Нили заставила себя снова занять свое место на площадке. Стоя в свете юпитеров, она вся дрожала, пока гримерша приводила в порядок ее лицо. Щелчок дощечки – третий дубль. Она сбилась в самом начале. Камеры остановились. Четвертый дубль. Опять оговорка. Пятый дубль. Шестой дубль… Пятнадцатый дубль снимали, когда день уже клонился к вечеру. Это становилось смешным. В жизни она не делала больше восьми дублей. И все Сэм: срывает на ней свою злость. Теперь она не может вспомнить ни строчки, хоть убей. – Перерыв на ужин. Всем быть на месте ровно в семь, – громко объявил он. «Перерыв на ужин»! По вечерам она не работала даже в самом начале. Она подошла к режиссеру. – Надеюсь, ты обойдешься без меня. Он и не подумал оторваться от видоискателя. – Я намереваюсь снимать весь эпизод до тех пор, пока ты не дашь мне возможности сделать качественный дубль. – Только не я, приятель. На сегодня я свое отработала. Пришла вовремя, ухожу вовремя и не намерена гнуть спину и кое-что пониже только ради того, чтоб ты получил свою ежедневную премию в тысячу зеленых. – С этими словами она направилась к выходу. – Если уйдешь, я подам официальную жалобу. – Как угодно, – бросила она. – У меня тоже есть свои права! Артисты и съемочная группа, вернулись на площадку к семи часам. Они ждали до десяти. Позвонили ей домой. В ответ им сказали, что она уже легла. Сэм Джексон встал и распустил группу. – Завтра ей не звонить. И вообще не звонить. Сев в свою машину, он помчался на пляж. Подъехал к небольшому коттеджу и посигналил. Дверь открылась Красивая девушка с длинными черными волосами в махровом купальном халате встала в проеме. Она поманила его пальцем, и он вошел. – Порядок, Джейни, роль твоя. Она слегка улыбнулась, обнажив ряд ровных зубов. – О Сэм, тебе удалось! Я так рада! – Затем повернулась к человеку с хохолком пушистых белых волос, что сидел в кресле и молча курил. – Ты слышал? Сэм все провернул. Человечек улыбнулся. – Хорошо. – Он встал и потянул за пояс ее купального халата. Тот распахнулся, обнажив идеальное тело. Человечек, едва доходящий юной богине до плеча, слегка коснулся ее высоких грудей. – Посмотри хорошенько, Сэм. Но руками не трогать – это мое. – Слушаюсь, сэр. – Просто хочу, чтобы ты знал. Мужчина ты молодой… тебе всякое может в голову взбрести. Девушка повернулась и обняла человечка. – Но ведь я люблю тебя, ты же знаешь. Он кивнул. – Хорошо, Сэм, молодец. А сейчас убирайся. Соберешь всех послезавтра. Сообщение в прессу я дам сам. И отправь телеграмму Нили, чтобы ко мне с жалобами не совалась. Подпиши моим именем. Сэм кивнул и вышел. Человечек повернулся к красавице. – О’кей, теперь ты станешь звездой, Джейни Лорд. Отныне ты будешь мисс Лорд, до тех пор, пока будешь. помнить… что твой хозяин и лорд – это я! – Слушаюсь, сэр. – Она опустилась на колени и начала утонченно ласкать его. (обратно) (обратно)Анна
1957
 Анна задумчиво положила трубку. Кевин Гилмор потянулся к ней и взял ее за руку.
– Опять Нили?
Она кивнула. Он похлопал по своей постели.
– Ложись ко мне, все обговорим. Анна легла на свою кровать.
– Все не так просто, Кевин.
– Я слышал, как ты подбирала слова, когда говорила по телефону. Насколько я понял, она хочет приехать к тебе жить.
Ответом Анны было молчание, и Кевин рассмеялся.
– По-прежнему остаешься типичной новоанглийской девицей строгих нравов, а? Почему не взять и не сказать: «Да, Нили, у меня есть две кровати, которые стоят рядом, но мой мужчина часто остается у меня на ночь».
Анна взяла с тумбочки сценарий передачи.
– Потому что говорить это не было необходимости. Кевин, я очень беспокоюсь за Нили. Ей сейчас очень плохо.
– Почему? Потому что ей предпочли другую? Целых семь месяцев она отсиживает себе задницу, а ей идут огромные деньги. В наши дни не иметь долгосрочного контракта вовсе не зазорно. Ни одна студия их больше не заключает.
– Но у нее странный голос… он полон отчаяния. Говорит, что вынуждена уехать.
– У нее будет масса предложений. Стоит ей появиться в Нью-Йорке, как за ней начнут толпами бегать все бродвейские продюсеры. Она может пойти на телевидение – куда только пожелает.
– Но до меня доходили странные слухи… – Анна потянулась за сигаретой.
Кевин перехватил ее руку, не давая ей щелкнуть зажигалкой.
– Иди сюда, ко мне, чтобы нам не кричать друг другу.
– Кевин, я действительно закричу, если окажусь завтра перед телекамерой с невыученным текстом.
– Воспользуйся телешпаргалками.
– Лучше без них. Я не возражаю, чтобы их ставили на всякий случай, но лучше самой знать, что собираешься говорить.
– Я действительно дорог тебе, Анна? – спросил он.
– Ты мне очень дорог, Кевин. – Она отложила сценарий и стала терпеливо ждать. Это всегда начиналось у них именно так.
– Но безумной любви ко мне ты не испытываешь. Она улыбнулась.
– Такая любовь бывает лишь в юности, когда она первая в жизни.
– Все еще страдаешь по тому писаке?
– Я не видела Лайона много лет. Последний раз я слышала, будто он пишет какие-то киносценарии в Лондоне.
– Почему же ты тогда не полюбишь меня? Она взяла его за руку.
– Мне очень хорошо с тобой, Кевин. Хорошо в постели, хорошо работать вместе. Вероятно, это и есть любовь.
– Если бы я предложил тебе выйти за меня замуж, ты стала бы любить меня сильнее?
Она ответила, тщательно подбирая слова:
– В самом начале это имело огромное значение. Мне не нравилось, что для всех окружающих я чья-то девушка. Но сейчас ущерб уже нанесен… – Она говорила, не испытывая никаких чувств – столько раз они уже совершали эту словесную процедуру.
– Какой «ущерб»? Ты – знаменитость. Повсюду известна как «Девушка Гиллиана».
– И кроме того, как «Девушка Гилмора». Но сейчас это не имеет значения. Я хотела ребенка… и сейчас хочу…
– Анна. – Он встал с кровати и начал ходить по комнате взад-вперед. – Тебе тридцать один год. Это поздно для ребенка.
– Я знаю женщин, у которых первый ребенок появлялся в сорок.
– Но мне-то ведь пятьдесят семь. У меня взрослый сын и замужняя дочь… и еще двухлетний внук. Как это будет выглядеть со стороны, если я женюсь на тебе, а мой сын будет младше внука?
– Многие мужчины женятся поздно или заводят новую семью.
– Я двадцать пять лет был женат на Эвелин – да почиет она в мире – и хлебнул всего этого: летние лагеря, няньки, скобы для исправления зубов, корь. Мне не хватит ни терпения, ни сил, чтобы опять пройти через все это. Сейчас, когда у меня появилось свободы и денег хоть немного больше, чем я когда-либо смогу потратить, мне нужна легкая, ничем не обремененная жизнь и женщина, которая всегда может поехать со мной куда угодно, чтобы хорошенько развлечься. В моем браке никаких развлечений не было. Я только начинал свой бизнес, а Эвелин растила детей. Мы никуда не ездили, разве, что изредка на выходные вАтлантик-Сити [50], да и там она места себе не находила из-за того, что на служанку нельзя положиться или что кто-то из детей может заболеть. А потом, когда я добился финансового успеха, а дети выросли, стало уже слишком поздно – она заболела. Для меня это длилось пять лет – пять долгих лет я вынужден был смотреть на то, как она умирала. Потом встретил тебя – ровно через год после ее смерти – и сразу понял, что ты создана для меня.
Анна через силу улыбнулась.
– Я рада, что соответствую твоим жизненным планам. Но девушка планирует не просто быть чьей-то девушкой – она надеется стать женой и матерью.
– Я думал об этом, Анна… но моим детям это не понравится. – Кевин сел на край ее кровати и спокойно сказал:
– И кроме того, так я больше уверен в тебе. Стоит нам пожениться, и ты станешь принимать меня как нечто само собой разумеющееся. – Он лег на свою кровать и взял газету. Через минуту он с головой ушел в финансовый раздел «Нью-Йорк Тайме».
Анна вновь раскрыла сценарий. Через несколько месяцев Кевин опять возобновит этот разговор, и опять он закончится точно так же. Кевин чувствует себя виноватым из-за того, что не женится на ней, но для нее замужество больше не имеет значения. Может быть, это потому, что ей уже слишком поздно думать о детях. А брачное свидетельство само по себе не гарантирует ни супружеской верности, ни счастливой жизни – взять, к примеру, хотя бы Дженифер. Или бедную Нили.
Верно, все знают, что она девушка Кевина. Но она также и «Девушка Гиллиана»… и эту возможность предоставил ей он. Работа ей очень нравится, весьма хорошо оплачивается и требует приложения всех ее сил. И Кевин ей тоже нравится… нет, больше, чем просто нравится; вероятно, это действительно любовь. Не такая любовь, которую она узнала с Лайоном: на седьмом небе с Кевином она не была. Их физическая близость оставляла ее совершенно равнодушной, и Анна часто спрашивала себя, за что же она так привязалась к Кевину. При воспоминании о том, с каким самозабвением и страстью она отдавалась Лайону, об их долгих горячечных поцелуях и пылких объятиях, которых они не размыкали ночи напролет, – по сравнению со всем этим их отношения с Кевином казались ей абсолютно стерильными.
Вначале отношения между ними были сугубо деловыми, касались исключительно сферы бизнеса. Потом их постепенно стало по-человечески тянуть друг к другу. Ей нравилось быть в его компании, и она обнаружила, что проще встречаться с одним мужчиной, нежели постоянно отклонять предложения о таких встречах со стороны многих. Она украшала собой его компанию, придавая ей блеск, а он с редким терпением относился к ее неумению держаться перед объективом телекамеры. Именно это его терпение и дало ей возможность добиться успеха. Он постоянно крутился на каждой репетиции, проверял каждый юпитер, работал с Анной перед выступлениями, помогая выбрать подходящее платье. Она привыкла во всем полагаться на него, спрашивать его мнения и совета. Анна не могла не видеть, как хорошенькие манекенщицы откровенно предлагали ему себя, богатые разведенные женщины и выступающие у них время от времени начинающие звезды открыто добивались его расположения. Знала она и о страстных призывах одной в прошлом знаменитой пятидесятилетней кинозвезды. Да, Кевину Гилмору было из чего выбирать. Но он хотел ее. Целый год Анна держала его на расстоянии, но она так и не встретила своего рыцаря, который сумел бы покорить ее романтическим образом, и поэтому в конце концов отдалась Кевину.
Она вспомнила их первую близость. Тогда она сумела лишь уступить ему. Позволила ему взять себя и утолить его страсть, – но не более того. А большего он никогда и не просил. Иногда она заставляла себя отвечать ему, хотя и довольно сдержанно, а Кевин, похоже, принимал это за страсть. Вскоре она поняла, что несмотря на всю свою приземленность и полное отсутствие духовных интересов, он был совершенно не искушен в самом акте любви. Вероятно, до женитьбы он был девственником, а жена наверняка была в равной степени непорочна и лишена воображения и фантазии. По всей видимости, отношения между ними ограничивались лишь одним-двумя вялыми поцелуями и механическим совокуплением. После смерти жены у него, должно быть, были женщины, и некоторые из них наверняка умели вести себя в постели и были искушены в любовных играх – но он, вероятно, считал, что заниматься таким сексом могут только абсолютно безнравственные особы. Анна же – настоящая леди, каковой была и его жена. Поэтому ее фригидность он принимал за врожденное качество леди и, сам будучи джентльменом, ничего большего не ждал.
Да, с Кевином у нее не было ни бурных подъемов, ни резких спадов, но, вероятно, именно такой и должна быть зрелая любовь. Иногда она внушала себе, что счастлива. Многие женщины вообще никогда в жизни не испытывают такой любви, какая была у нее с Лайоном Берком, и лишь некоторым удается добиться такой основательной прочности отношений, как у них с Кевином. Даже его нежелание жениться не стало для нее каким-то камнем преткновения. Она никогда не акцентировала на этом внимания, хотя прекрасно знала, что стоит ей захотеть, и Кевин женится на ней – для этого нужно лишь пригрозить, что она оставит его. Нет, ее вполне устраивали их отношения; она знала, что Кевин всегда будет рядом с ней.
Нили прилетела на следующей неделе. Анна сумела скрыть, как она потрясена тем, насколько изменилась Нили. Она располнела, лицо стало одутловатым, и, несмотря на дорогой костюм, выглядела она бедной и потрепанной. Лак на ногтях облез, на чулке спустилась петля, и вся она казалась какой-то помятой. В ее облике что-то умерло, и это больше всего бросалось в глаза. В ней не было прежней живости и блеска. Когда Нили говорила, глаза ее постоянно бегали, не в состоянии ни на чем задержаться. Анна внимательно слушала горестное повествование о дьявольских интригах Шефа, о разбившемся браке, о порочности голливудских нравов…
О себе самой Анна поведала ей совсем немного. Рассказала о своей работе и близкой дружбе с Кевином, а когда Нили невинным девичьим голоском поинтересовалась, занимаются ли они с ним «этим самым», Анна лишь улыбнулась и кивнула. Ей показалось, что Нили это было приятно.
Кевин сыграл роль радушного и галантного хозяина. Если своим приездом Нили и помешала ровному течению его личной жизни, то он хорошо скрывал свое раздражение. Сопровождал их обеих на представления и в ночные клубы. Где бы ни появлялась Нили, она повсюду производила сенсацию, приковывая к себе всеобщее внимание. От этого она буквально расцвела. Не было больше ни потерянных дней, ни бесконечных запоев – все осталось в прошлом. Она накупила себе новой одежды, за две недели сбросила десять фунтов, а на ночь принимала не более трех пилюль. Она вновь ожила и заблистала, превратившись в ту самую энергичную и живую девчонку, которую Анна знала раньше.
Однажды жарким сентябрьским вечером, когда они выходили из театра, большая толпа рванулась от дверей к Нили, отрезав их от такси. Восторженные почитатели буквально затолкали бы Нили, которая смеялась, приветственно махала рукой и надписывала книги, если бы Кевин с помощью полицейского не проложил им путь до машины.
В такси Кевин отер с лица испарину и удивленно покачал головой.
– Фантастика! Если они сходят с ума только от того, что просто видят тебя, то что же с ними станет, если ты начнешь петь?
– Отлетят на небеса в полном экстазе, – рассмеялась Нили. – Но мои зрители всегда оказывали мне восторженный прием, – добавила она, и ее лицо вдруг приобрело серьезное выражение. – В Радио-сити [51] записали мои роли во всех картинах. Это стоило чертовски больших денег. Но ни одной картины, которая бы бесславно умерла, у меня не было никогда. Я всегда делала большой бизнес…
Кевин посмотрел на нее так, словно ее слова только что дошли до него. От волнения голос его задрожал.
– Ты права. Твои картины всегда шли с аншлагом. Твои зрители по-прежнему с тобой, они хотят видеть тебя. Нили, давай сделаем яркое телевизионное шоу! Я сам представлю его – куплю час самого лучшего времени у одной из телекомпаний. Бог ты мой – это будет сенсация!
– Ты смеешься? Мне выступать на телевидении? Целый час в прямом эфире – без повторных дублей? Ух ты! Умереть можно.
– Если ты просто споешь все песни, которые ты сама же первая исполняла, то никаких повторов тебе не понадобится, – настаивал Кевин. – Никаких штучек, никаких других номеров – просто будешь стоять и петь.
– И думать забудь, – ответила Нили. – Я наслышана, что делают с человеком эти телевизионные камеры – увеличивают твой вес фунтов на десять и старят лет на двадцать. Да и потом, к чему мне это? Уже сейчас фирма Джонсона-Гарриса пробует заключить для меня соглашение с «Метро» на три картины.
Но каждое появление Нили на публике по-прежнему производило фурор, и эта идея превратилась у Кевина в навязчивую.
– Уговори ее, – умолял он Анну. – Я бы дал ей месяц на репетиции. Мы сделаем нечто совершенно новое. Такая реклама принесла бы фирме «Гиллиан» миллионы.
– Я не могу ее заставить, раз она боится, – возражала Анна. – Если что-то получится не так, я буду чувствовать себя виноватой.
– Да что тут может получиться не так? Она же не бездарное тепличное растение, выращенное и созданное голливудскими кинокамерами. Нили выросла на эстрадных подмостках, играла на Бродвее, она опытная эстрадная артистка. На телевидении полным-полно бездарных исполнителей; ежедневно кто-нибудь, о ком ты и слыхом не слыхивал, неведомо как попадает на телевидение и становится звездой. И все потому, что настоящие таланты, вроде Нили, стоят в стороне. Я же не прошу ее делать еженедельную программу. Всего один раз – яркое, впечатляющее выступление. И ведь ей самой это тоже пойдет на пользу, да еще как.
Кевин часто заводил этот разговор, но Нили всякий раз добродушно отказывала ему. Она наслаждалась своим первым настоящим отпуском, первыми встречами с обожающими ее поклонниками – давно просроченной платой за годы затворничества в Голливуде.
Кевин использовал любую возможность, чтобы показать Нили выступления эстрадных артистов и оживить в ее сознании былые успехи. Он купил билеты на премьеру нового мюзикла Элен Лоусон, надеясь, что, увидев Элен на сцене, Нили ощутит честолюбивые амбиции, что ее вновь охватит страстное желание выступать перед живой аудиторией.
Премьера Элен была крупнейшим событием сезона. Некоторое время назад она сошла с бродвейской сцены, предприняв еще одну безуспешную попытку выйти замуж, на этот раз за владельца огромного поместья на Ямайке. Оставляя сценическую жизнь, она давала исключительно восторженные интервью. Наконец-то она встретила «единственную настоящую любовь всей своей жизни». Все газеты публиковали снимки яркой и пышной Элен, которая держала под руку седоватого мужчину с заурядной внешностью. Она продавала свою нью-йоркскую квартиру и отправлялась на Ямайку вести восхитительную жизнь простой домохозяйки. Эта «восхитительная жизнь» длилась шесть лет, после чего Элен вернулась, и первые полосы газет вновь взорвались ее сенсационными интервью. Оказалось, что Ямайка – это не что иное, как «захолустный тропический островок, кишащий лентяями-толстосумами и психами». Заняться там совершенно нечем, остается только пить да сплетничать. «Замечательный человек» оказался «сволочью и мерзавцем, который чересчур много пил и заводил связи с другими женщинами». Она быстро оформила развод в Мексике и сразу же согласилась на ведущую роль в новом мюзикле.
Это была типичная премьера шоу с Элен Лоусон. Зрительный зал ломился от поклонников, едва дождавшихся минуты, когда они смогли наконец приветствовать Королеву, вернувшуюся к своим вассалам. Ее выход встретили оглушительной овацией, но уже минут через десять спустя воздух в зале, казалось, сгустился от носящегося в нем предчувствия полного провала. У Кевина шевельнулась какая-то надежда, когда Нили сдвинулась на самый краешек кресла, мысленно сопровождая каждый поклон Элен. Однако все его надежды оказались разбитыми вдребезги, когда Нили прошептала:
– А я-то думала, что она старая, когда впервые увидела ее. Ух ты! Да ведь тогда, если сравнить, она была девчонкой.
Кевин вынужден был признать, что Нили права. Элен больше не приближалась к пожилому возрасту – она уже стала пожилой. Она сильно располнела, но ноги у нее оставались все такими же стройными и все так же развевалась грива ее роскошных черных волос.
– Надо же, как она волосы выкрасила, – прошептала Нили. – Черный цвет мне нравится, но тут она явно перебрала.
– Ей надо бы пользоваться фирменным красящим шампунем «Гиллиан», – заметил Кевин. – Он придает совершенно естественный оттенок.
– Ей уже ничего не поможет, – продолжала шептать Нили. – Сейчас у Элен нет даже подходящего сценария. Зачем она вообще взялась за это шоу? У нее же денег – вагон.
– А чем еще ей заниматься? – осторожно заметил Кевин. – Ведь для актрисы нет жизни вне сцены.
– А-а, – отмахнулась Нили, – избитый штамп.
– Да ведь представление только началось, – прошептала Анна. – Может, все еще выправится.
– Нет, это провал. Я уже сейчас чувствую, – ответила ей Пили.
Нили оказалась права. Анна внимательно смотрела, как самоотверженно борется Элен. Она сочувствовала этой раскрашенной грубоватой пожилой женщине, изо всех сил пытающейся создать на сцене трогательный романтический образ. Голос ее был, как и прежде, живым и полным энергии, лишь с легким вибрато, но то ли текст был подобран неудачно, то ли мелодия… По ходу представления Элен становилась все энергичнее, словно пыталась вложить всю свою неуемную натуру в вялое действие, готовое с минуты на минуту испустить последний вздох.
После того, как опустился занавес, ее все-таки несколько раз вызывали на сцену: зрители отдавали дань уважения своей Королеве. Но мнения, которыми они обменивались, выходя из театра, были куда более искренними и нелицеприятными: «Первый провал Элен…», «Это не ее вина, просто плохой сценарий…», «…постановка никудышная…», «Да, но прежняя Элен сумела бы все вытащить на себе. Помнишь „Солнечную Леди“? Ни сценарий, ни музыка там ничего не значили – одна Элен, и этого уже было достаточно…», «Но послушай, у любого артиста бывает хотя бы единственный провал…», «Да, но в ее возрасте, пожалуй, уже поздновато возвращаться на сцену. Почему бы ей вообще не уйти на покой?..», «К скаковым лошадям отношение и то лучше: чемпионов используют хотя бы как производителей…», «Но кому для таких дел нужна эта старая вешалка?..», «Ну-у, у нее еще великолепные ноги и прекрасные волосы…», «Так ведь хоть что-то должно было остаться…», «Знаешь, дорогой, я изучала вокал в колледже. У нее было вибрато…».
– Не могу идти за кулисы, – сказала Нили. – Ей наверняка сообщили, что я в зале, но что я могу сказать ей о сегодняшнем спектакле? Разве, что декорации были отменные?
– Хотите, поедем в «Сарди»? – спросил Кевин. – Она приедет туда принимать поздравления.
– Может, поспорим? – предложила ему Нили. – Послушай, Элен лучше всех понимает, что это полный провал. Не захочет же она сидеть в «Сарди» с вытянутой физиономией, ведь первые вечерние выпуски «Тайме» и «Трибюн» выходят рано. Да и потом, сегодня премьера Франко Салла в «Персидском зале». В «Чиро» он произвел сенсацию. Я ходила на каждое его выступление и ни за что не пропущу его премьеру в Нью-Йорке.
Кевин с неохотой позвонил в ночной клуб «Персидский зал» и заказал столик. Там было полно народу – те же самые газетчики и многие зрители, что были на премьере Элен. Едва завидев Нили, метрдотель поставил для них столик у самого подиума, заслонив обзор одной компании, которая еще раньше дала щедрые чаевые, чтобы занять самые лучшие места. При появлении Нили по залу прошел вздох восхищения.
Кевин заказал шампанского, но Нили лишь пригубила его. Разглядывая собравшихся, Анна думала о новой рекламной программе, с которой ей предстояло выступать на следующий день. Было уже поздно, и она ясно видела, что в намеченное время выступление не начнется. Значит, завтра ей придется пользоваться «карточками для дураков» – телешпаргалками. Она наблюдала за людьми, толпящимися в дверях. Ничего не изменилось на этих премьерах – посетители все так же нетерпеливо ждут, когда их проведут к заказанным столикам, протягивая официантам свернутые в трубочку купюры в надежде получить лучшие места; те же самые вечно покрытые испариной помощники официантов, расставляющие по окружности сцены-подиума дополнительные столики и делающие вид, что не замечают протестующих возгласов тех, чьи столики оказались загороженными. Те, кто сначала сидел ближе всех, теперь оказывались в третьем ряду. Танцевальную площадку наполовину заставили столиками. И вот, когда в зале уже, казалось, яблоку негде было упасть, Анна увидела, как по ту сторону подиума помощник официанта поставил еще один крохотный столик. Прямо напротив них.
Появилась Элен в сопровождении стройного юноши. Это был танцор на вторых ролях в ее шоу, женственно красивый и по-провинциальному гордый тем, что тоже находится в центре всеобщего внимания. Элен наверняка знала все о его «соседе по комнате», но свою роль галантного кавалера он играл с безукоризненным изяществом: брал ее за руку, подчеркнуто внимательно слушал все, что она говорит, смеялся на каждую ее шутку и млел от удовольствия, когда Элен, поворачиваясь направо и налево, представляла его своим друзьям. В ответ на ее громогласные призывы, к Элен подошел метрдотель с выражением терпеливой покорности на лице. Через весь зал Анна слышала, как та кричала:
– Знаю я ваш дурацкий клуб – у вас тут не подают выпивку во время представления. Быстренько сюда пару-другую шампанского, пока не началось.
Наконец в зале воцарился полумрак. Представили Франко Салла. Это был певец с сильным голосом, особенно хорошо ему удавались итальянские песни. Присутствующие уже читали отзывы о его выступлениях в других городах страны и страстно хотели сделать из него звезду. Несколько раз ему пришлось спеть на бис. Затем, произнеся очаровательную, несмотря на акцент, благодарственную речь, он с совершенно серьезным видом повернулся к другому концу сцены и торжественно, благоговейным голосом объявил присутствующим, что «среди них находится крупнейшая актриса музыкальной комедии, их Королева, известнейшая леди, звезда, вот уже несколько десятилетий ярко горящая на музыкальном небосводе… Элен Лоусон!»
Лицо Элен озарила заученная улыбка. Она встала и добродушно помахала рукой всем присутствующим. Ее наградили громкими аплодисментами в знак признания ее заслуг.
После этого Франко обернулся к Нили. Все в зале повернули головы в том же направлении. Голос его стал мягким, а во взгляде появилось выражение восхищения и обожания.
– А вот звезда из тех, что загораются раз в столетие… девушка, которую любят все… певица, которую обожают все исполнители… – Он замолчал, подыскивая эпитеты, словно не находя достаточно яркого для характеристики Нили. Затем улыбнулся и сказал просто:
– Мисс Нили О’Хара.
Овация была оглушительной. Несколько человек встали и аплодировали стоя. Внезапно, в едином порыве встали все, как один, громко выкрикивая приветствия, хлопая, требуя исполнить песню. Кевин тоже встал. Анна не знала, что делать. Весь зал был на ногах, кроме Элен и ее юного танцора. Та сидела с холодной, застывшей на лице улыбкой и бесшумно хлопала в ладоши. Юноша, не говоря ни слова, смотрел на нее, послушно ожидая распоряжений.
Наконец Нили встала и направилась к микрофону. Любезно поблагодарив всех, она попыталась было вернуться на свое место, однако овация стала громоподобной, а требования спеть – еще настойчивее. Тогда, беспомощно пожав плечами, Нили повернулась к оркестру. Быстро обговорив тональность сопровождения и аккорды, она встала посреди сцены и запела.
Она была восхитительна. Ее звонкий голос взмывал и парил в вышине. Публика реагировала с бешеным восторгом почитателей, встретившихся со своим кумиром после долгой разлуки. Нили пришлось спеть шесть песен, прежде чем ее отпустили со сцены. За столик она вернулась восторженная, от волнения у нее в глазах стояли слезы. Ведущие журналисты подходили к ней с поздравлениями, женщины, разодетые в дорогие платья, просили дать автограф «для дочки». Нили благожелательно ставила свою подпись на меню, на визитных карточках, просто на клочках бумаги. Когда эта лавина наконец сошла, она хватила залпом бокал шампанского.
– А знаешь, мне это может понравиться.
– Что, петь в ночном клубе? – с надеждой спросил Кевин.
– Нет, пить шампанское. Приятное. – Она налила себе еще бокал. – Лучше уж приохотиться к виски или к водке, но сегодняшний вечер – исключение. Мне лучше не привыкать к нему: быстро полнит. Посмотри-ка вон туда, на Железнобокую Старушенцию – весь этот жир у нее от виноградных вин.
– Нили, сегодня ты была просто потрясающей, – начал Кевин.
– Конечно. Легко быть потрясающей со старым репертуаром. Теперь уже таких песен не пишут.
– Вот именно их ты и могла бы исполнить в моем представлении.
Она улыбнулась.
– Опять за свое, да?
– Нили, публика обожает тебя…
– Конечно. И картины мои она тоже обожает. Разве я виновата, что съемки так подорожали? Даже в Голливуде невозможно теперь работать. К тому же, профсоюзы…
– Говорят, что дело не только в дороговизне съемок и профсоюзах, Нили.
Она сузила глаза. Настроение у нее явно начало портиться.
– И что же вам «говорят», мистер Радостное Известие?
– Говорят, что это из-за тебя съемки обходятся дорого… что на тебя нельзя положиться… что ты потеряла голос…
Анна нервно заерзала на стуле, пытаясь перехватить взгляд Кевина и хоть как-то предупредить его, но он не обратил на нее внимания.
Та принужденно улыбнулась.
– Но ты только что слышал, как я пою. Так что не надо верить всему, что пишут в газетах.
– Я и не верю, потому что слышал тебя сегодня. И никто из сидящих в этом зале не верит. Но здесь лишь горстка людей. Остальная публика верит тому, что читает, Нили. И многие кинопродюсеры – тоже.
Улыбка сошла с ее лица.
– Послушайте, мистер Брюзга. У меня сейчас прекрасное настроение. Я вышла на сцену и спела для своих поклонников. Что вам, собственно, от меня нужно?
– Телешоу. Она вздохнула.
– Опять ты за старое, приятель.
– Нили, я серьезно. Сегодня здесь ты убедила каждого, что по-прежнему умеешь петь, как ангел. Почему же не убедить в этом всех? Да знаешь ли ты, сколько народу увидит тебя только в одной крупной телевизионной программе? Я разрекламирую твое выступление по всей стране за несколько недель до выхода передачи в эфир. Вся страна будет прикована к экранам…
– Забудь и думать об этом. – Нили потянулась за бутылкой. – Э-э, шампанское кончилось. Пусть-ка принесут.
Кевин показал знаком, чтобы подали еще бутылку. Анна посмотрела на часы, Нили перехватила ее взгляд и добродушно тронула ее за руку.
– Ну хватит, чего приуныла? Выше нос. Сегодня мой день.
– Но уже половина второго, а у меня завтра передача и репетиция рано утром.
– Ну и что? – рассмеялась Нили. – Анна, это ведь всего-навсего рекламная передача, а не главная роль в киноэпопее Де Милля. И потом, я знакома с твоим боссом и замолвлю за тебя словечко. – Она подмигнула Кевину. – Мы сейчас раздавим и эту бутылку… можно? Но сначала пойдем-ка приведем себя немного в порядок.
Анна вздохнула и поплелась за ней в дамскую туалетную комнату. Служительница бросилась к Нили и захлопотала над нею, а женщины, подправляющие себе косметику, обрушили на нее несметное количество банальнейших комплиментов. Нили отвечала любезно и вместе с тем скромно. Анна терпеливо стояла и ждала, пока комната не опустела. Наконец Нили уселась перед зеркалом и начала расчесывать волосы.
– Послушай, Анна, сделай так, чтобы Кевин от меня отвязался. Он очень мил и все такое, но твердит одно и то же, прямо как заезженная пластинка. Скажи ему раз и навсегда, что телевизионного шоу я делать не буду!
– Нельзя винить его за это, – ответила Анна.
– Хорошо, но хватит уже. И кроме того… Дверь распахнулась, и в туалетную комнату величественно вошла Элен Лоусон. Какую-то долю секунды она холодно смотрела на Анну, но, видимо, внезапно передумав, кивнула ей.
– Рада видеть тебя, Анна. Я слышала, ты стала крупной телевизионной звездой?
Заставив себя улыбнуться, Анна стала соображать, что же ответить, однако Элен избавила ее от этой необходимости. Она подсела к Нили и сердечно похлопала ее по спине.
– Сегодня ты была просто великолепна, девочка. Жаль, что в моей сегодняшней ерунде, которая с треском провалилась, не было вещей, наподобие песен Кола Портера или Ирвинга Берлина. Мне сказали, что ты была на премьере, – что же не зашла поздороваться?
– Э-э… мы… это… торопились попасть сюда. Ты же знаешь, как трудно здесь заказать столик, – пробормотала Нили.
– Кончай… Мне-то мозги не пудри, – сказала Элен. – Вообще, что за черт, никто и никогда не приходит к тебе за кулисы после провала. И зачем только я дала уговорить себя выступать в этом дерьме?.. Вот так у меня всегда. Хотела дать шанс двум молодым композиторам. Нили дружелюбно улыбнулась.
– Кто-то ведь должен был дать им шанс. И уж если даже у тебя не получилось, то не получилось бы ни у кого.
– Я всегда рискую – так вот и появляются на свет подобные тебе. Рискнула и выставила тогда вон подержанную певичку, пришедшую из ночного клуба, чтобы дать шанс молоденькой девчонке. А благодарности никогда не дождешься, в том числе и от тебя, дорогуша.
Улыбка сошла с лица Нили.
– В Голливуд меня привело вовсе не то твое шоу, Элен, а мое выступление в ночном клубе.
– А как ты его получила? Использовала меня как трамплин.
– Будь по-твоему – спасибо, Элен. Помнится, тогда я благодарила тебя каждый вечер. Но все равно – спасибо. Я благодарна тебе. Пошли, Анна.
– Только не надо говорить со мной вот так, свысока. Я ведь газеты-то читаю. Ты ведь у нас теперь девушка без контракта. Да, конечно, для какой-то подзаборной девчонки, которой я дала шанс, ты достигла многого, но…
Вскочив со стула, Нили негодующе сверкнула глазами на Элен. Служительница подошла поближе, замерев от восторга в предвкушении скандала, что вот-вот нарушит монотонность ее скучной работы.
– Пойдем, Нили, – быстро проговорила Анна. – Кевин ждет нас.
Нили сбросила руку Анны и разгневанно переспросила Элен:
– Повтори, как ты назвала меня.
Элен встала и посмотрела на нее в упор.
– Подзаборной девчонкой. А кем же еще ты тогда была? Третьеразрядной эстрадной потаскушкой, которая и в школе-то ни дня не проучилась. Я удивлялась, как ты слова к песням умудряешься прочесть. Я и шанс-то тебе дала лишь потому, что мы с Анной были подружки.
– «Подружки»! Да тебе от нее только одно и нужно было – чтобы она с мужиком тебя свела, – выпалила Нили.
– Заткни свою вонючую пасть! Мы с Анной были по-настоящему хорошими подругами. Да, у нас вышла размолвка, но я всегда была для нее только подругой, старалась уберечь ее от одного негодяя англичанишки и делала это для ее же пользы. – Она обратилась к Анне:
– Он ведь и впрямь оказался негодяем, а? Я была права, ведь так, Анна? Я всегда считала тебя одной из своих настоящих подруг.
– Пойдем, Анна, – сказала Нили. – Эти душещипательные излияния у меня уже вот где сидят. – Она провела ребром ладони по горлу.
Элен не обратила внимания на слова Нили, озарив Анну тем, что еще оставалось от ее былой ослепительной улыбки.
– Я серьезно, Анна. У меня никогда не было настоящей подруги. Все только использовали меня в своих целях, а потом бросали. Ты всегда нравилась мне, душечка, и я бесконечно рада твоему успеху. Сейчас, когда я вновь в Нью-Йорке, давай будем опять встречаться и веселиться, как в добрые старые деньки.
– Анна, пошли! – резко позвала Нили.
– К чему такая спешка? – невинным голоском поинтересовалась Элен. – Куда тебе-то надо идти? Насколько мне известно, свободного времени у тебя теперь хоть отбавляй.
– Когда в газетах появятся отзывы, у тебя его тоже будет достаточно.
Элен пожала плечами.
– Отзывы о моем шоу могут быть отвратительными, но не далее как завтра к двенадцати дня у меня появится еще шесть предложений. А что в запасе у тебя? Бесплатные концерты вроде нынешнего?
– С твоим вибрато тебя скоро и бесплатно-то спеть не пригласят, – парировала Нили. – И я что-то не слышала, чтобы вот здесь, сейчас, тебя вызывали на сцену.
Шея у Элен начала багроветь, голос стал визгливым.
– Интересно, что может знать о вибрато жалкая неудачница, вроде тебя, которая когда-то пыжилась на сцене? Я стою на вершине вот уже тридцать лет и останусь на ней сколько пожелаю. А ты уж лучше так и пой за бесплатно, потому что это все, что тебе осталось. Ну, аплодировать, понятное дело, тебе будут – публика всегда хлопает за что-то сверх программы, да если к тому же и не платить. Но ты уже списана со счетов, неудачница. А теперь, прочь с дороги, списанная. Тебе, может, и некуда теперь идти, а меня в зале ждет мужчина.
– «Мужчина»! – саркастически рассмеялась Нили. – Это у тебя называется «мужчиной»? А вообще-то беги-ка быстрей, не заставляй его ждать, потому что теперь только гомика тебе и удастся подцепить – и то, разумеется, если ты сама оплатишь счет.
– Ну, конечно, в этих делах ты у нас спец! Как же – ведь была замужем за самым что ни на есть настоящим педерастом, – съязвила Элен. – Боже мой, педика, и того не сумела удержать. Даже имея возможность поторговаться с ним из-за близнецов. А что, они у тебя тоже педики? – Она двинулась к выходу, но на пути встала Нили.
– Что ты сказала про моих детей? – голос у Нили дрожал.
– А разве плохо иметь двух маленьких педиков? Я слышала, они очень хорошо относятся к матерям. А теперь прочь с дороги… – Она обошла Нили, направляясь к двери.
– Нет, ты так не уйдешь, старая вешалка! – выкрикнула Нили. Она прыжком догнала Элен и вцепилась ей в волосы. Та рванулась прочь, но Нили держала крепко.
Внезапно возглас изумления вырвался из груди Нили, и она застыла, глядя на то, что осталось у нее в руке. Одновременно с этим Элен с ужасом схватила себя обеими руками за голову.
– Парик! – воскликнула Нили, показывая Анне густую массу длинных черных волос. – Ей-богу, и волосы у нее такие же фальшивые, как она сама!
Элен рванулась за париком, но Нили отскочила назад.
– Отдай мой парик, стерва, – крикнула Элен. – Я выложила за него триста монет.
Нили надела парик на себя и закружилась по туалетной.
– Эй, подцепите меня как брюнеточку! Элен бросилась за ней.
– Отдай сейчас же, сволочь!
– Ты в нем ужасно смотришься, Элен. По-моему, ты куда интереснее вот так
– с ежиком.
Элен провела рукой по своим коротким клочковатым волосам.
– Я их отращиваю, – угрюмо проговорила она. – Эти чертовы парикмахеры на Ямайке не умеют пользоваться красителями, и когда мне сделали здесь химию, все волосы оказались испорченными. Ну ладно, Нили, отдай же парик!
Внезапно рванувшись с места, Нили бросилась к кабинкам. Элен метнулась было за ней, но Нили оказалась куда проворнее. Заскочив в кабину, она заперла за собой дверку. В ту же секунду они услышали шум спускаемой из бачка воды.
– Эй, какого черта ты там делаешь?! – вскрикнула Элен. Она повернулась к Анне. – Господи, она спускает его в унитаз. Я убью эту стерву!
Элен продолжала выкрикивать проклятья, в то время как Анна и служительница пытались урезонить Нили. В ответ до них доносился лишь постоянный шум вновь и вновь сливаемой воды. Элен заколотила в дверку кулаками, но Нили только расхохоталась в ответ и опять спустила воду.
На этот раз послышалось какое-то странное бульканье, затем всплеск и шум льющейся по полу воды. Она хлынула из-под дверки и стала растекаться по полу.
Дверь распахнулась, и из кабинки на цыпочках, осторожно ступая, вышла Нили, истерически хохоча.
– О-о-о… черт возьми… – заходилась она. – Эта дрянь даже в очко не проходит.
Служительница осторожно извлекла намокшую бесформенную массу и приподняла ее – парик походил на утонувшее животное.
– Он пропал! – завопила Элен. – Что мне теперь делать? – Она повернулась к Анне, лицо ее было залито слезами. – Как я теперь выйду отсюда?
Анна, лишившись дара речи, смотрела на нее во все глаза, а вода тем временем растекалась по всему полу.
– Мисс О’Хара, вы поступили нехорошо. Вы, должно быть, засорили канализацию. Нили рассмеялась.
– Пришлите мне счет. За такое и заплатить не жалко. – Достав из сумочки кошелек, она порылась в нем и извлекла пятидолларовую бумажку. – А это вам,
– сказала она, – у вас самая лучшая уборная в Нью-Йорке. – Она повернулась к Анне. – Пошли отсюда, не будем мешать лысенькой старушке оплакивать свое горе. Надеюсь, твой гомик не замерзнет там в одиночестве, – сладким голоском сказала она Элен.
Анна вышла за нею следом. Закрыв за собой дверь, она сказала:
– Нили, ты поступила нечестно.
– «Нечестно»? Да ее убить мало.
– Но так же нельзя. Ведь она теперь не сможет выйти оттуда, пока все не уйдут из клуба.
– О’кей, вот пусть и посидит всю ночь. А завтра купит себе новый парик. Но ведь я-то и завтра не забуду то, что она наговорила про моих детей… и про меня. Стало быть, я – неудачница, списанная со счетов? Могу петь только бесплатно, да? Ах, какая жалость…. – Она подошла к столику. – Кевин, ты еще не передумал насчет телевизионного шоу?
Лицо Кевина расплылось в широкой улыбке.
– Прекрасно. Считай, что договорились, – сказала Нили. Она рухнула на стул, словно у нее подкосились ноги, и налила себе шампанского. – Составляй контракты, пусть мои поверенные и адвокат ознакомятся с ними и подсунут мне на подпись.
– Займусь этим завтра же с утра, – радостно проговорил Кевин.
Они сидели, разговаривая о предстоящем шоу, а зал тем временем начинал пустеть. Нили и Анна наблюдали за беспокойно ерзающим молодым человеком, что сидел за столиком Элен, не сводя глаз с входной двери.
– Интересно, что случилось с Элен Лоусон, – сказал Кевин, платя по счету.
– Вероятно, разговорилась с почитателями своего таланта.
– Ага, и возможно, один из них снял с нее скальп, – невинно заметила Нили.
Когда они проходили мимо туалетной комнаты, Анна бросила взгляд через весь зал на столик Элен. Молодой танцор лихорадочно рылся в карманах, пытаясь наскрести сумму, чтобы оплатить поданный ему счет.
Кевин радостно сжал руку Анны выше локтя.
– А ты не передумаешь насчет телешоу, Нили? Та игриво взяла его под руку.
– Ни за что. Вложу в него всю душу ради тебя, но ты мне заплатишь за это кругленькую сумму.
– С удовольствием, – ответил Кевин. Он с благодарностью посмотрел на Анну. Да, непостижимые существа эти женщины – их можно до потери сознания уговаривать, так ничего и не добиться, а потом отпустить их одних на десять минут в туалетную, – и происходит невероятное…
Анна задумчиво положила трубку. Кевин Гилмор потянулся к ней и взял ее за руку.
– Опять Нили?
Она кивнула. Он похлопал по своей постели.
– Ложись ко мне, все обговорим. Анна легла на свою кровать.
– Все не так просто, Кевин.
– Я слышал, как ты подбирала слова, когда говорила по телефону. Насколько я понял, она хочет приехать к тебе жить.
Ответом Анны было молчание, и Кевин рассмеялся.
– По-прежнему остаешься типичной новоанглийской девицей строгих нравов, а? Почему не взять и не сказать: «Да, Нили, у меня есть две кровати, которые стоят рядом, но мой мужчина часто остается у меня на ночь».
Анна взяла с тумбочки сценарий передачи.
– Потому что говорить это не было необходимости. Кевин, я очень беспокоюсь за Нили. Ей сейчас очень плохо.
– Почему? Потому что ей предпочли другую? Целых семь месяцев она отсиживает себе задницу, а ей идут огромные деньги. В наши дни не иметь долгосрочного контракта вовсе не зазорно. Ни одна студия их больше не заключает.
– Но у нее странный голос… он полон отчаяния. Говорит, что вынуждена уехать.
– У нее будет масса предложений. Стоит ей появиться в Нью-Йорке, как за ней начнут толпами бегать все бродвейские продюсеры. Она может пойти на телевидение – куда только пожелает.
– Но до меня доходили странные слухи… – Анна потянулась за сигаретой.
Кевин перехватил ее руку, не давая ей щелкнуть зажигалкой.
– Иди сюда, ко мне, чтобы нам не кричать друг другу.
– Кевин, я действительно закричу, если окажусь завтра перед телекамерой с невыученным текстом.
– Воспользуйся телешпаргалками.
– Лучше без них. Я не возражаю, чтобы их ставили на всякий случай, но лучше самой знать, что собираешься говорить.
– Я действительно дорог тебе, Анна? – спросил он.
– Ты мне очень дорог, Кевин. – Она отложила сценарий и стала терпеливо ждать. Это всегда начиналось у них именно так.
– Но безумной любви ко мне ты не испытываешь. Она улыбнулась.
– Такая любовь бывает лишь в юности, когда она первая в жизни.
– Все еще страдаешь по тому писаке?
– Я не видела Лайона много лет. Последний раз я слышала, будто он пишет какие-то киносценарии в Лондоне.
– Почему же ты тогда не полюбишь меня? Она взяла его за руку.
– Мне очень хорошо с тобой, Кевин. Хорошо в постели, хорошо работать вместе. Вероятно, это и есть любовь.
– Если бы я предложил тебе выйти за меня замуж, ты стала бы любить меня сильнее?
Она ответила, тщательно подбирая слова:
– В самом начале это имело огромное значение. Мне не нравилось, что для всех окружающих я чья-то девушка. Но сейчас ущерб уже нанесен… – Она говорила, не испытывая никаких чувств – столько раз они уже совершали эту словесную процедуру.
– Какой «ущерб»? Ты – знаменитость. Повсюду известна как «Девушка Гиллиана».
– И кроме того, как «Девушка Гилмора». Но сейчас это не имеет значения. Я хотела ребенка… и сейчас хочу…
– Анна. – Он встал с кровати и начал ходить по комнате взад-вперед. – Тебе тридцать один год. Это поздно для ребенка.
– Я знаю женщин, у которых первый ребенок появлялся в сорок.
– Но мне-то ведь пятьдесят семь. У меня взрослый сын и замужняя дочь… и еще двухлетний внук. Как это будет выглядеть со стороны, если я женюсь на тебе, а мой сын будет младше внука?
– Многие мужчины женятся поздно или заводят новую семью.
– Я двадцать пять лет был женат на Эвелин – да почиет она в мире – и хлебнул всего этого: летние лагеря, няньки, скобы для исправления зубов, корь. Мне не хватит ни терпения, ни сил, чтобы опять пройти через все это. Сейчас, когда у меня появилось свободы и денег хоть немного больше, чем я когда-либо смогу потратить, мне нужна легкая, ничем не обремененная жизнь и женщина, которая всегда может поехать со мной куда угодно, чтобы хорошенько развлечься. В моем браке никаких развлечений не было. Я только начинал свой бизнес, а Эвелин растила детей. Мы никуда не ездили, разве, что изредка на выходные вАтлантик-Сити [50], да и там она места себе не находила из-за того, что на служанку нельзя положиться или что кто-то из детей может заболеть. А потом, когда я добился финансового успеха, а дети выросли, стало уже слишком поздно – она заболела. Для меня это длилось пять лет – пять долгих лет я вынужден был смотреть на то, как она умирала. Потом встретил тебя – ровно через год после ее смерти – и сразу понял, что ты создана для меня.
Анна через силу улыбнулась.
– Я рада, что соответствую твоим жизненным планам. Но девушка планирует не просто быть чьей-то девушкой – она надеется стать женой и матерью.
– Я думал об этом, Анна… но моим детям это не понравится. – Кевин сел на край ее кровати и спокойно сказал:
– И кроме того, так я больше уверен в тебе. Стоит нам пожениться, и ты станешь принимать меня как нечто само собой разумеющееся. – Он лег на свою кровать и взял газету. Через минуту он с головой ушел в финансовый раздел «Нью-Йорк Тайме».
Анна вновь раскрыла сценарий. Через несколько месяцев Кевин опять возобновит этот разговор, и опять он закончится точно так же. Кевин чувствует себя виноватым из-за того, что не женится на ней, но для нее замужество больше не имеет значения. Может быть, это потому, что ей уже слишком поздно думать о детях. А брачное свидетельство само по себе не гарантирует ни супружеской верности, ни счастливой жизни – взять, к примеру, хотя бы Дженифер. Или бедную Нили.
Верно, все знают, что она девушка Кевина. Но она также и «Девушка Гиллиана»… и эту возможность предоставил ей он. Работа ей очень нравится, весьма хорошо оплачивается и требует приложения всех ее сил. И Кевин ей тоже нравится… нет, больше, чем просто нравится; вероятно, это действительно любовь. Не такая любовь, которую она узнала с Лайоном: на седьмом небе с Кевином она не была. Их физическая близость оставляла ее совершенно равнодушной, и Анна часто спрашивала себя, за что же она так привязалась к Кевину. При воспоминании о том, с каким самозабвением и страстью она отдавалась Лайону, об их долгих горячечных поцелуях и пылких объятиях, которых они не размыкали ночи напролет, – по сравнению со всем этим их отношения с Кевином казались ей абсолютно стерильными.
Вначале отношения между ними были сугубо деловыми, касались исключительно сферы бизнеса. Потом их постепенно стало по-человечески тянуть друг к другу. Ей нравилось быть в его компании, и она обнаружила, что проще встречаться с одним мужчиной, нежели постоянно отклонять предложения о таких встречах со стороны многих. Она украшала собой его компанию, придавая ей блеск, а он с редким терпением относился к ее неумению держаться перед объективом телекамеры. Именно это его терпение и дало ей возможность добиться успеха. Он постоянно крутился на каждой репетиции, проверял каждый юпитер, работал с Анной перед выступлениями, помогая выбрать подходящее платье. Она привыкла во всем полагаться на него, спрашивать его мнения и совета. Анна не могла не видеть, как хорошенькие манекенщицы откровенно предлагали ему себя, богатые разведенные женщины и выступающие у них время от времени начинающие звезды открыто добивались его расположения. Знала она и о страстных призывах одной в прошлом знаменитой пятидесятилетней кинозвезды. Да, Кевину Гилмору было из чего выбирать. Но он хотел ее. Целый год Анна держала его на расстоянии, но она так и не встретила своего рыцаря, который сумел бы покорить ее романтическим образом, и поэтому в конце концов отдалась Кевину.
Она вспомнила их первую близость. Тогда она сумела лишь уступить ему. Позволила ему взять себя и утолить его страсть, – но не более того. А большего он никогда и не просил. Иногда она заставляла себя отвечать ему, хотя и довольно сдержанно, а Кевин, похоже, принимал это за страсть. Вскоре она поняла, что несмотря на всю свою приземленность и полное отсутствие духовных интересов, он был совершенно не искушен в самом акте любви. Вероятно, до женитьбы он был девственником, а жена наверняка была в равной степени непорочна и лишена воображения и фантазии. По всей видимости, отношения между ними ограничивались лишь одним-двумя вялыми поцелуями и механическим совокуплением. После смерти жены у него, должно быть, были женщины, и некоторые из них наверняка умели вести себя в постели и были искушены в любовных играх – но он, вероятно, считал, что заниматься таким сексом могут только абсолютно безнравственные особы. Анна же – настоящая леди, каковой была и его жена. Поэтому ее фригидность он принимал за врожденное качество леди и, сам будучи джентльменом, ничего большего не ждал.
Да, с Кевином у нее не было ни бурных подъемов, ни резких спадов, но, вероятно, именно такой и должна быть зрелая любовь. Иногда она внушала себе, что счастлива. Многие женщины вообще никогда в жизни не испытывают такой любви, какая была у нее с Лайоном Берком, и лишь некоторым удается добиться такой основательной прочности отношений, как у них с Кевином. Даже его нежелание жениться не стало для нее каким-то камнем преткновения. Она никогда не акцентировала на этом внимания, хотя прекрасно знала, что стоит ей захотеть, и Кевин женится на ней – для этого нужно лишь пригрозить, что она оставит его. Нет, ее вполне устраивали их отношения; она знала, что Кевин всегда будет рядом с ней.
Нили прилетела на следующей неделе. Анна сумела скрыть, как она потрясена тем, насколько изменилась Нили. Она располнела, лицо стало одутловатым, и, несмотря на дорогой костюм, выглядела она бедной и потрепанной. Лак на ногтях облез, на чулке спустилась петля, и вся она казалась какой-то помятой. В ее облике что-то умерло, и это больше всего бросалось в глаза. В ней не было прежней живости и блеска. Когда Нили говорила, глаза ее постоянно бегали, не в состоянии ни на чем задержаться. Анна внимательно слушала горестное повествование о дьявольских интригах Шефа, о разбившемся браке, о порочности голливудских нравов…
О себе самой Анна поведала ей совсем немного. Рассказала о своей работе и близкой дружбе с Кевином, а когда Нили невинным девичьим голоском поинтересовалась, занимаются ли они с ним «этим самым», Анна лишь улыбнулась и кивнула. Ей показалось, что Нили это было приятно.
Кевин сыграл роль радушного и галантного хозяина. Если своим приездом Нили и помешала ровному течению его личной жизни, то он хорошо скрывал свое раздражение. Сопровождал их обеих на представления и в ночные клубы. Где бы ни появлялась Нили, она повсюду производила сенсацию, приковывая к себе всеобщее внимание. От этого она буквально расцвела. Не было больше ни потерянных дней, ни бесконечных запоев – все осталось в прошлом. Она накупила себе новой одежды, за две недели сбросила десять фунтов, а на ночь принимала не более трех пилюль. Она вновь ожила и заблистала, превратившись в ту самую энергичную и живую девчонку, которую Анна знала раньше.
Однажды жарким сентябрьским вечером, когда они выходили из театра, большая толпа рванулась от дверей к Нили, отрезав их от такси. Восторженные почитатели буквально затолкали бы Нили, которая смеялась, приветственно махала рукой и надписывала книги, если бы Кевин с помощью полицейского не проложил им путь до машины.
В такси Кевин отер с лица испарину и удивленно покачал головой.
– Фантастика! Если они сходят с ума только от того, что просто видят тебя, то что же с ними станет, если ты начнешь петь?
– Отлетят на небеса в полном экстазе, – рассмеялась Нили. – Но мои зрители всегда оказывали мне восторженный прием, – добавила она, и ее лицо вдруг приобрело серьезное выражение. – В Радио-сити [51] записали мои роли во всех картинах. Это стоило чертовски больших денег. Но ни одной картины, которая бы бесславно умерла, у меня не было никогда. Я всегда делала большой бизнес…
Кевин посмотрел на нее так, словно ее слова только что дошли до него. От волнения голос его задрожал.
– Ты права. Твои картины всегда шли с аншлагом. Твои зрители по-прежнему с тобой, они хотят видеть тебя. Нили, давай сделаем яркое телевизионное шоу! Я сам представлю его – куплю час самого лучшего времени у одной из телекомпаний. Бог ты мой – это будет сенсация!
– Ты смеешься? Мне выступать на телевидении? Целый час в прямом эфире – без повторных дублей? Ух ты! Умереть можно.
– Если ты просто споешь все песни, которые ты сама же первая исполняла, то никаких повторов тебе не понадобится, – настаивал Кевин. – Никаких штучек, никаких других номеров – просто будешь стоять и петь.
– И думать забудь, – ответила Нили. – Я наслышана, что делают с человеком эти телевизионные камеры – увеличивают твой вес фунтов на десять и старят лет на двадцать. Да и потом, к чему мне это? Уже сейчас фирма Джонсона-Гарриса пробует заключить для меня соглашение с «Метро» на три картины.
Но каждое появление Нили на публике по-прежнему производило фурор, и эта идея превратилась у Кевина в навязчивую.
– Уговори ее, – умолял он Анну. – Я бы дал ей месяц на репетиции. Мы сделаем нечто совершенно новое. Такая реклама принесла бы фирме «Гиллиан» миллионы.
– Я не могу ее заставить, раз она боится, – возражала Анна. – Если что-то получится не так, я буду чувствовать себя виноватой.
– Да что тут может получиться не так? Она же не бездарное тепличное растение, выращенное и созданное голливудскими кинокамерами. Нили выросла на эстрадных подмостках, играла на Бродвее, она опытная эстрадная артистка. На телевидении полным-полно бездарных исполнителей; ежедневно кто-нибудь, о ком ты и слыхом не слыхивал, неведомо как попадает на телевидение и становится звездой. И все потому, что настоящие таланты, вроде Нили, стоят в стороне. Я же не прошу ее делать еженедельную программу. Всего один раз – яркое, впечатляющее выступление. И ведь ей самой это тоже пойдет на пользу, да еще как.
Кевин часто заводил этот разговор, но Нили всякий раз добродушно отказывала ему. Она наслаждалась своим первым настоящим отпуском, первыми встречами с обожающими ее поклонниками – давно просроченной платой за годы затворничества в Голливуде.
Кевин использовал любую возможность, чтобы показать Нили выступления эстрадных артистов и оживить в ее сознании былые успехи. Он купил билеты на премьеру нового мюзикла Элен Лоусон, надеясь, что, увидев Элен на сцене, Нили ощутит честолюбивые амбиции, что ее вновь охватит страстное желание выступать перед живой аудиторией.
Премьера Элен была крупнейшим событием сезона. Некоторое время назад она сошла с бродвейской сцены, предприняв еще одну безуспешную попытку выйти замуж, на этот раз за владельца огромного поместья на Ямайке. Оставляя сценическую жизнь, она давала исключительно восторженные интервью. Наконец-то она встретила «единственную настоящую любовь всей своей жизни». Все газеты публиковали снимки яркой и пышной Элен, которая держала под руку седоватого мужчину с заурядной внешностью. Она продавала свою нью-йоркскую квартиру и отправлялась на Ямайку вести восхитительную жизнь простой домохозяйки. Эта «восхитительная жизнь» длилась шесть лет, после чего Элен вернулась, и первые полосы газет вновь взорвались ее сенсационными интервью. Оказалось, что Ямайка – это не что иное, как «захолустный тропический островок, кишащий лентяями-толстосумами и психами». Заняться там совершенно нечем, остается только пить да сплетничать. «Замечательный человек» оказался «сволочью и мерзавцем, который чересчур много пил и заводил связи с другими женщинами». Она быстро оформила развод в Мексике и сразу же согласилась на ведущую роль в новом мюзикле.
Это была типичная премьера шоу с Элен Лоусон. Зрительный зал ломился от поклонников, едва дождавшихся минуты, когда они смогли наконец приветствовать Королеву, вернувшуюся к своим вассалам. Ее выход встретили оглушительной овацией, но уже минут через десять спустя воздух в зале, казалось, сгустился от носящегося в нем предчувствия полного провала. У Кевина шевельнулась какая-то надежда, когда Нили сдвинулась на самый краешек кресла, мысленно сопровождая каждый поклон Элен. Однако все его надежды оказались разбитыми вдребезги, когда Нили прошептала:
– А я-то думала, что она старая, когда впервые увидела ее. Ух ты! Да ведь тогда, если сравнить, она была девчонкой.
Кевин вынужден был признать, что Нили права. Элен больше не приближалась к пожилому возрасту – она уже стала пожилой. Она сильно располнела, но ноги у нее оставались все такими же стройными и все так же развевалась грива ее роскошных черных волос.
– Надо же, как она волосы выкрасила, – прошептала Нили. – Черный цвет мне нравится, но тут она явно перебрала.
– Ей надо бы пользоваться фирменным красящим шампунем «Гиллиан», – заметил Кевин. – Он придает совершенно естественный оттенок.
– Ей уже ничего не поможет, – продолжала шептать Нили. – Сейчас у Элен нет даже подходящего сценария. Зачем она вообще взялась за это шоу? У нее же денег – вагон.
– А чем еще ей заниматься? – осторожно заметил Кевин. – Ведь для актрисы нет жизни вне сцены.
– А-а, – отмахнулась Нили, – избитый штамп.
– Да ведь представление только началось, – прошептала Анна. – Может, все еще выправится.
– Нет, это провал. Я уже сейчас чувствую, – ответила ей Пили.
Нили оказалась права. Анна внимательно смотрела, как самоотверженно борется Элен. Она сочувствовала этой раскрашенной грубоватой пожилой женщине, изо всех сил пытающейся создать на сцене трогательный романтический образ. Голос ее был, как и прежде, живым и полным энергии, лишь с легким вибрато, но то ли текст был подобран неудачно, то ли мелодия… По ходу представления Элен становилась все энергичнее, словно пыталась вложить всю свою неуемную натуру в вялое действие, готовое с минуты на минуту испустить последний вздох.
После того, как опустился занавес, ее все-таки несколько раз вызывали на сцену: зрители отдавали дань уважения своей Королеве. Но мнения, которыми они обменивались, выходя из театра, были куда более искренними и нелицеприятными: «Первый провал Элен…», «Это не ее вина, просто плохой сценарий…», «…постановка никудышная…», «Да, но прежняя Элен сумела бы все вытащить на себе. Помнишь „Солнечную Леди“? Ни сценарий, ни музыка там ничего не значили – одна Элен, и этого уже было достаточно…», «Но послушай, у любого артиста бывает хотя бы единственный провал…», «Да, но в ее возрасте, пожалуй, уже поздновато возвращаться на сцену. Почему бы ей вообще не уйти на покой?..», «К скаковым лошадям отношение и то лучше: чемпионов используют хотя бы как производителей…», «Но кому для таких дел нужна эта старая вешалка?..», «Ну-у, у нее еще великолепные ноги и прекрасные волосы…», «Так ведь хоть что-то должно было остаться…», «Знаешь, дорогой, я изучала вокал в колледже. У нее было вибрато…».
– Не могу идти за кулисы, – сказала Нили. – Ей наверняка сообщили, что я в зале, но что я могу сказать ей о сегодняшнем спектакле? Разве, что декорации были отменные?
– Хотите, поедем в «Сарди»? – спросил Кевин. – Она приедет туда принимать поздравления.
– Может, поспорим? – предложила ему Нили. – Послушай, Элен лучше всех понимает, что это полный провал. Не захочет же она сидеть в «Сарди» с вытянутой физиономией, ведь первые вечерние выпуски «Тайме» и «Трибюн» выходят рано. Да и потом, сегодня премьера Франко Салла в «Персидском зале». В «Чиро» он произвел сенсацию. Я ходила на каждое его выступление и ни за что не пропущу его премьеру в Нью-Йорке.
Кевин с неохотой позвонил в ночной клуб «Персидский зал» и заказал столик. Там было полно народу – те же самые газетчики и многие зрители, что были на премьере Элен. Едва завидев Нили, метрдотель поставил для них столик у самого подиума, заслонив обзор одной компании, которая еще раньше дала щедрые чаевые, чтобы занять самые лучшие места. При появлении Нили по залу прошел вздох восхищения.
Кевин заказал шампанского, но Нили лишь пригубила его. Разглядывая собравшихся, Анна думала о новой рекламной программе, с которой ей предстояло выступать на следующий день. Было уже поздно, и она ясно видела, что в намеченное время выступление не начнется. Значит, завтра ей придется пользоваться «карточками для дураков» – телешпаргалками. Она наблюдала за людьми, толпящимися в дверях. Ничего не изменилось на этих премьерах – посетители все так же нетерпеливо ждут, когда их проведут к заказанным столикам, протягивая официантам свернутые в трубочку купюры в надежде получить лучшие места; те же самые вечно покрытые испариной помощники официантов, расставляющие по окружности сцены-подиума дополнительные столики и делающие вид, что не замечают протестующих возгласов тех, чьи столики оказались загороженными. Те, кто сначала сидел ближе всех, теперь оказывались в третьем ряду. Танцевальную площадку наполовину заставили столиками. И вот, когда в зале уже, казалось, яблоку негде было упасть, Анна увидела, как по ту сторону подиума помощник официанта поставил еще один крохотный столик. Прямо напротив них.
Появилась Элен в сопровождении стройного юноши. Это был танцор на вторых ролях в ее шоу, женственно красивый и по-провинциальному гордый тем, что тоже находится в центре всеобщего внимания. Элен наверняка знала все о его «соседе по комнате», но свою роль галантного кавалера он играл с безукоризненным изяществом: брал ее за руку, подчеркнуто внимательно слушал все, что она говорит, смеялся на каждую ее шутку и млел от удовольствия, когда Элен, поворачиваясь направо и налево, представляла его своим друзьям. В ответ на ее громогласные призывы, к Элен подошел метрдотель с выражением терпеливой покорности на лице. Через весь зал Анна слышала, как та кричала:
– Знаю я ваш дурацкий клуб – у вас тут не подают выпивку во время представления. Быстренько сюда пару-другую шампанского, пока не началось.
Наконец в зале воцарился полумрак. Представили Франко Салла. Это был певец с сильным голосом, особенно хорошо ему удавались итальянские песни. Присутствующие уже читали отзывы о его выступлениях в других городах страны и страстно хотели сделать из него звезду. Несколько раз ему пришлось спеть на бис. Затем, произнеся очаровательную, несмотря на акцент, благодарственную речь, он с совершенно серьезным видом повернулся к другому концу сцены и торжественно, благоговейным голосом объявил присутствующим, что «среди них находится крупнейшая актриса музыкальной комедии, их Королева, известнейшая леди, звезда, вот уже несколько десятилетий ярко горящая на музыкальном небосводе… Элен Лоусон!»
Лицо Элен озарила заученная улыбка. Она встала и добродушно помахала рукой всем присутствующим. Ее наградили громкими аплодисментами в знак признания ее заслуг.
После этого Франко обернулся к Нили. Все в зале повернули головы в том же направлении. Голос его стал мягким, а во взгляде появилось выражение восхищения и обожания.
– А вот звезда из тех, что загораются раз в столетие… девушка, которую любят все… певица, которую обожают все исполнители… – Он замолчал, подыскивая эпитеты, словно не находя достаточно яркого для характеристики Нили. Затем улыбнулся и сказал просто:
– Мисс Нили О’Хара.
Овация была оглушительной. Несколько человек встали и аплодировали стоя. Внезапно, в едином порыве встали все, как один, громко выкрикивая приветствия, хлопая, требуя исполнить песню. Кевин тоже встал. Анна не знала, что делать. Весь зал был на ногах, кроме Элен и ее юного танцора. Та сидела с холодной, застывшей на лице улыбкой и бесшумно хлопала в ладоши. Юноша, не говоря ни слова, смотрел на нее, послушно ожидая распоряжений.
Наконец Нили встала и направилась к микрофону. Любезно поблагодарив всех, она попыталась было вернуться на свое место, однако овация стала громоподобной, а требования спеть – еще настойчивее. Тогда, беспомощно пожав плечами, Нили повернулась к оркестру. Быстро обговорив тональность сопровождения и аккорды, она встала посреди сцены и запела.
Она была восхитительна. Ее звонкий голос взмывал и парил в вышине. Публика реагировала с бешеным восторгом почитателей, встретившихся со своим кумиром после долгой разлуки. Нили пришлось спеть шесть песен, прежде чем ее отпустили со сцены. За столик она вернулась восторженная, от волнения у нее в глазах стояли слезы. Ведущие журналисты подходили к ней с поздравлениями, женщины, разодетые в дорогие платья, просили дать автограф «для дочки». Нили благожелательно ставила свою подпись на меню, на визитных карточках, просто на клочках бумаги. Когда эта лавина наконец сошла, она хватила залпом бокал шампанского.
– А знаешь, мне это может понравиться.
– Что, петь в ночном клубе? – с надеждой спросил Кевин.
– Нет, пить шампанское. Приятное. – Она налила себе еще бокал. – Лучше уж приохотиться к виски или к водке, но сегодняшний вечер – исключение. Мне лучше не привыкать к нему: быстро полнит. Посмотри-ка вон туда, на Железнобокую Старушенцию – весь этот жир у нее от виноградных вин.
– Нили, сегодня ты была просто потрясающей, – начал Кевин.
– Конечно. Легко быть потрясающей со старым репертуаром. Теперь уже таких песен не пишут.
– Вот именно их ты и могла бы исполнить в моем представлении.
Она улыбнулась.
– Опять за свое, да?
– Нили, публика обожает тебя…
– Конечно. И картины мои она тоже обожает. Разве я виновата, что съемки так подорожали? Даже в Голливуде невозможно теперь работать. К тому же, профсоюзы…
– Говорят, что дело не только в дороговизне съемок и профсоюзах, Нили.
Она сузила глаза. Настроение у нее явно начало портиться.
– И что же вам «говорят», мистер Радостное Известие?
– Говорят, что это из-за тебя съемки обходятся дорого… что на тебя нельзя положиться… что ты потеряла голос…
Анна нервно заерзала на стуле, пытаясь перехватить взгляд Кевина и хоть как-то предупредить его, но он не обратил на нее внимания.
Та принужденно улыбнулась.
– Но ты только что слышал, как я пою. Так что не надо верить всему, что пишут в газетах.
– Я и не верю, потому что слышал тебя сегодня. И никто из сидящих в этом зале не верит. Но здесь лишь горстка людей. Остальная публика верит тому, что читает, Нили. И многие кинопродюсеры – тоже.
Улыбка сошла с ее лица.
– Послушайте, мистер Брюзга. У меня сейчас прекрасное настроение. Я вышла на сцену и спела для своих поклонников. Что вам, собственно, от меня нужно?
– Телешоу. Она вздохнула.
– Опять ты за старое, приятель.
– Нили, я серьезно. Сегодня здесь ты убедила каждого, что по-прежнему умеешь петь, как ангел. Почему же не убедить в этом всех? Да знаешь ли ты, сколько народу увидит тебя только в одной крупной телевизионной программе? Я разрекламирую твое выступление по всей стране за несколько недель до выхода передачи в эфир. Вся страна будет прикована к экранам…
– Забудь и думать об этом. – Нили потянулась за бутылкой. – Э-э, шампанское кончилось. Пусть-ка принесут.
Кевин показал знаком, чтобы подали еще бутылку. Анна посмотрела на часы, Нили перехватила ее взгляд и добродушно тронула ее за руку.
– Ну хватит, чего приуныла? Выше нос. Сегодня мой день.
– Но уже половина второго, а у меня завтра передача и репетиция рано утром.
– Ну и что? – рассмеялась Нили. – Анна, это ведь всего-навсего рекламная передача, а не главная роль в киноэпопее Де Милля. И потом, я знакома с твоим боссом и замолвлю за тебя словечко. – Она подмигнула Кевину. – Мы сейчас раздавим и эту бутылку… можно? Но сначала пойдем-ка приведем себя немного в порядок.
Анна вздохнула и поплелась за ней в дамскую туалетную комнату. Служительница бросилась к Нили и захлопотала над нею, а женщины, подправляющие себе косметику, обрушили на нее несметное количество банальнейших комплиментов. Нили отвечала любезно и вместе с тем скромно. Анна терпеливо стояла и ждала, пока комната не опустела. Наконец Нили уселась перед зеркалом и начала расчесывать волосы.
– Послушай, Анна, сделай так, чтобы Кевин от меня отвязался. Он очень мил и все такое, но твердит одно и то же, прямо как заезженная пластинка. Скажи ему раз и навсегда, что телевизионного шоу я делать не буду!
– Нельзя винить его за это, – ответила Анна.
– Хорошо, но хватит уже. И кроме того… Дверь распахнулась, и в туалетную комнату величественно вошла Элен Лоусон. Какую-то долю секунды она холодно смотрела на Анну, но, видимо, внезапно передумав, кивнула ей.
– Рада видеть тебя, Анна. Я слышала, ты стала крупной телевизионной звездой?
Заставив себя улыбнуться, Анна стала соображать, что же ответить, однако Элен избавила ее от этой необходимости. Она подсела к Нили и сердечно похлопала ее по спине.
– Сегодня ты была просто великолепна, девочка. Жаль, что в моей сегодняшней ерунде, которая с треском провалилась, не было вещей, наподобие песен Кола Портера или Ирвинга Берлина. Мне сказали, что ты была на премьере, – что же не зашла поздороваться?
– Э-э… мы… это… торопились попасть сюда. Ты же знаешь, как трудно здесь заказать столик, – пробормотала Нили.
– Кончай… Мне-то мозги не пудри, – сказала Элен. – Вообще, что за черт, никто и никогда не приходит к тебе за кулисы после провала. И зачем только я дала уговорить себя выступать в этом дерьме?.. Вот так у меня всегда. Хотела дать шанс двум молодым композиторам. Нили дружелюбно улыбнулась.
– Кто-то ведь должен был дать им шанс. И уж если даже у тебя не получилось, то не получилось бы ни у кого.
– Я всегда рискую – так вот и появляются на свет подобные тебе. Рискнула и выставила тогда вон подержанную певичку, пришедшую из ночного клуба, чтобы дать шанс молоденькой девчонке. А благодарности никогда не дождешься, в том числе и от тебя, дорогуша.
Улыбка сошла с лица Нили.
– В Голливуд меня привело вовсе не то твое шоу, Элен, а мое выступление в ночном клубе.
– А как ты его получила? Использовала меня как трамплин.
– Будь по-твоему – спасибо, Элен. Помнится, тогда я благодарила тебя каждый вечер. Но все равно – спасибо. Я благодарна тебе. Пошли, Анна.
– Только не надо говорить со мной вот так, свысока. Я ведь газеты-то читаю. Ты ведь у нас теперь девушка без контракта. Да, конечно, для какой-то подзаборной девчонки, которой я дала шанс, ты достигла многого, но…
Вскочив со стула, Нили негодующе сверкнула глазами на Элен. Служительница подошла поближе, замерев от восторга в предвкушении скандала, что вот-вот нарушит монотонность ее скучной работы.
– Пойдем, Нили, – быстро проговорила Анна. – Кевин ждет нас.
Нили сбросила руку Анны и разгневанно переспросила Элен:
– Повтори, как ты назвала меня.
Элен встала и посмотрела на нее в упор.
– Подзаборной девчонкой. А кем же еще ты тогда была? Третьеразрядной эстрадной потаскушкой, которая и в школе-то ни дня не проучилась. Я удивлялась, как ты слова к песням умудряешься прочесть. Я и шанс-то тебе дала лишь потому, что мы с Анной были подружки.
– «Подружки»! Да тебе от нее только одно и нужно было – чтобы она с мужиком тебя свела, – выпалила Нили.
– Заткни свою вонючую пасть! Мы с Анной были по-настоящему хорошими подругами. Да, у нас вышла размолвка, но я всегда была для нее только подругой, старалась уберечь ее от одного негодяя англичанишки и делала это для ее же пользы. – Она обратилась к Анне:
– Он ведь и впрямь оказался негодяем, а? Я была права, ведь так, Анна? Я всегда считала тебя одной из своих настоящих подруг.
– Пойдем, Анна, – сказала Нили. – Эти душещипательные излияния у меня уже вот где сидят. – Она провела ребром ладони по горлу.
Элен не обратила внимания на слова Нили, озарив Анну тем, что еще оставалось от ее былой ослепительной улыбки.
– Я серьезно, Анна. У меня никогда не было настоящей подруги. Все только использовали меня в своих целях, а потом бросали. Ты всегда нравилась мне, душечка, и я бесконечно рада твоему успеху. Сейчас, когда я вновь в Нью-Йорке, давай будем опять встречаться и веселиться, как в добрые старые деньки.
– Анна, пошли! – резко позвала Нили.
– К чему такая спешка? – невинным голоском поинтересовалась Элен. – Куда тебе-то надо идти? Насколько мне известно, свободного времени у тебя теперь хоть отбавляй.
– Когда в газетах появятся отзывы, у тебя его тоже будет достаточно.
Элен пожала плечами.
– Отзывы о моем шоу могут быть отвратительными, но не далее как завтра к двенадцати дня у меня появится еще шесть предложений. А что в запасе у тебя? Бесплатные концерты вроде нынешнего?
– С твоим вибрато тебя скоро и бесплатно-то спеть не пригласят, – парировала Нили. – И я что-то не слышала, чтобы вот здесь, сейчас, тебя вызывали на сцену.
Шея у Элен начала багроветь, голос стал визгливым.
– Интересно, что может знать о вибрато жалкая неудачница, вроде тебя, которая когда-то пыжилась на сцене? Я стою на вершине вот уже тридцать лет и останусь на ней сколько пожелаю. А ты уж лучше так и пой за бесплатно, потому что это все, что тебе осталось. Ну, аплодировать, понятное дело, тебе будут – публика всегда хлопает за что-то сверх программы, да если к тому же и не платить. Но ты уже списана со счетов, неудачница. А теперь, прочь с дороги, списанная. Тебе, может, и некуда теперь идти, а меня в зале ждет мужчина.
– «Мужчина»! – саркастически рассмеялась Нили. – Это у тебя называется «мужчиной»? А вообще-то беги-ка быстрей, не заставляй его ждать, потому что теперь только гомика тебе и удастся подцепить – и то, разумеется, если ты сама оплатишь счет.
– Ну, конечно, в этих делах ты у нас спец! Как же – ведь была замужем за самым что ни на есть настоящим педерастом, – съязвила Элен. – Боже мой, педика, и того не сумела удержать. Даже имея возможность поторговаться с ним из-за близнецов. А что, они у тебя тоже педики? – Она двинулась к выходу, но на пути встала Нили.
– Что ты сказала про моих детей? – голос у Нили дрожал.
– А разве плохо иметь двух маленьких педиков? Я слышала, они очень хорошо относятся к матерям. А теперь прочь с дороги… – Она обошла Нили, направляясь к двери.
– Нет, ты так не уйдешь, старая вешалка! – выкрикнула Нили. Она прыжком догнала Элен и вцепилась ей в волосы. Та рванулась прочь, но Нили держала крепко.
Внезапно возглас изумления вырвался из груди Нили, и она застыла, глядя на то, что осталось у нее в руке. Одновременно с этим Элен с ужасом схватила себя обеими руками за голову.
– Парик! – воскликнула Нили, показывая Анне густую массу длинных черных волос. – Ей-богу, и волосы у нее такие же фальшивые, как она сама!
Элен рванулась за париком, но Нили отскочила назад.
– Отдай мой парик, стерва, – крикнула Элен. – Я выложила за него триста монет.
Нили надела парик на себя и закружилась по туалетной.
– Эй, подцепите меня как брюнеточку! Элен бросилась за ней.
– Отдай сейчас же, сволочь!
– Ты в нем ужасно смотришься, Элен. По-моему, ты куда интереснее вот так
– с ежиком.
Элен провела рукой по своим коротким клочковатым волосам.
– Я их отращиваю, – угрюмо проговорила она. – Эти чертовы парикмахеры на Ямайке не умеют пользоваться красителями, и когда мне сделали здесь химию, все волосы оказались испорченными. Ну ладно, Нили, отдай же парик!
Внезапно рванувшись с места, Нили бросилась к кабинкам. Элен метнулась было за ней, но Нили оказалась куда проворнее. Заскочив в кабину, она заперла за собой дверку. В ту же секунду они услышали шум спускаемой из бачка воды.
– Эй, какого черта ты там делаешь?! – вскрикнула Элен. Она повернулась к Анне. – Господи, она спускает его в унитаз. Я убью эту стерву!
Элен продолжала выкрикивать проклятья, в то время как Анна и служительница пытались урезонить Нили. В ответ до них доносился лишь постоянный шум вновь и вновь сливаемой воды. Элен заколотила в дверку кулаками, но Нили только расхохоталась в ответ и опять спустила воду.
На этот раз послышалось какое-то странное бульканье, затем всплеск и шум льющейся по полу воды. Она хлынула из-под дверки и стала растекаться по полу.
Дверь распахнулась, и из кабинки на цыпочках, осторожно ступая, вышла Нили, истерически хохоча.
– О-о-о… черт возьми… – заходилась она. – Эта дрянь даже в очко не проходит.
Служительница осторожно извлекла намокшую бесформенную массу и приподняла ее – парик походил на утонувшее животное.
– Он пропал! – завопила Элен. – Что мне теперь делать? – Она повернулась к Анне, лицо ее было залито слезами. – Как я теперь выйду отсюда?
Анна, лишившись дара речи, смотрела на нее во все глаза, а вода тем временем растекалась по всему полу.
– Мисс О’Хара, вы поступили нехорошо. Вы, должно быть, засорили канализацию. Нили рассмеялась.
– Пришлите мне счет. За такое и заплатить не жалко. – Достав из сумочки кошелек, она порылась в нем и извлекла пятидолларовую бумажку. – А это вам,
– сказала она, – у вас самая лучшая уборная в Нью-Йорке. – Она повернулась к Анне. – Пошли отсюда, не будем мешать лысенькой старушке оплакивать свое горе. Надеюсь, твой гомик не замерзнет там в одиночестве, – сладким голоском сказала она Элен.
Анна вышла за нею следом. Закрыв за собой дверь, она сказала:
– Нили, ты поступила нечестно.
– «Нечестно»? Да ее убить мало.
– Но так же нельзя. Ведь она теперь не сможет выйти оттуда, пока все не уйдут из клуба.
– О’кей, вот пусть и посидит всю ночь. А завтра купит себе новый парик. Но ведь я-то и завтра не забуду то, что она наговорила про моих детей… и про меня. Стало быть, я – неудачница, списанная со счетов? Могу петь только бесплатно, да? Ах, какая жалость…. – Она подошла к столику. – Кевин, ты еще не передумал насчет телевизионного шоу?
Лицо Кевина расплылось в широкой улыбке.
– Прекрасно. Считай, что договорились, – сказала Нили. Она рухнула на стул, словно у нее подкосились ноги, и налила себе шампанского. – Составляй контракты, пусть мои поверенные и адвокат ознакомятся с ними и подсунут мне на подпись.
– Займусь этим завтра же с утра, – радостно проговорил Кевин.
Они сидели, разговаривая о предстоящем шоу, а зал тем временем начинал пустеть. Нили и Анна наблюдали за беспокойно ерзающим молодым человеком, что сидел за столиком Элен, не сводя глаз с входной двери.
– Интересно, что случилось с Элен Лоусон, – сказал Кевин, платя по счету.
– Вероятно, разговорилась с почитателями своего таланта.
– Ага, и возможно, один из них снял с нее скальп, – невинно заметила Нили.
Когда они проходили мимо туалетной комнаты, Анна бросила взгляд через весь зал на столик Элен. Молодой танцор лихорадочно рылся в карманах, пытаясь наскрести сумму, чтобы оплатить поданный ему счет.
Кевин радостно сжал руку Анны выше локтя.
– А ты не передумаешь насчет телешоу, Нили? Та игриво взяла его под руку.
– Ни за что. Вложу в него всю душу ради тебя, но ты мне заплатишь за это кругленькую сумму.
– С удовольствием, – ответил Кевин. Он с благодарностью посмотрел на Анну. Да, непостижимые существа эти женщины – их можно до потери сознания уговаривать, так ничего и не добиться, а потом отпустить их одних на десять минут в туалетную, – и происходит невероятное…
* * *
Кевин наводнил все газеты сообщениями о предстоящем телешоу. У Нили взяли интервью несколько ведущих иллюстрированных журналов, а телевизионные обозреватели возвестили об этом как о главнейшем из предстоящих событий на малом экране. Телевидение как средство массовой информации окончательно и прочно становилось на ноги, утверждаясь в своих правах. Наконец-то телезрители увидят на экранах по-настоящему талантливую певицу. Кевин подключил лучшего хореографа, лучшего режиссера и продюсера, ускорил производство новых косметических изделий фирмы «Гиллиан», чтобы разрекламировать их в этом шоу. Начали создаваться специальные декорации, чтобы Анна эффектно продемонстрировала новинки фирмы во всей красе. Шоу должно было выйти в эфир в начале ноября. Предполагалось, что оно явится самой яркой телевизионной передачей сезона. Нили переехала жить в отель, поставила себе в люкс пианино и весь октябрь целиком провела в отеле и в студии, репетируя, соблюдая диету и отдаваясь работе с присущей ей ранее дисциплиной. Она решила как следует показать тем в Голливуде и заставить Элен Лоусон взять свои слова обратно. Списанная со счетов неудачница, да? Ненадежная, способная петь только бесплатно? Вот бы увидеть рожу этой Элен с газетой в руках. Все газеты писали, что ей выплачивается крупнейший разовый гонорар за все время существования телевидения. В адрес Нили сыпались также дифирамбы за то, что она не побоялась связаться с такой новинкой как телевидение. Никакого страха Нили не испытывала. Правда, при трансляции в прямой эфир нельзя делать дублей. Ну и пусть, тем лучше. Она покажет и Голливуду, и всем им. Давая интервью, она изображала из себя импульсивную, порывистую молоденькую Нили. «Разумеется, она боится…», «Разумеется, она переоценивает себя, берясь за такое непосильное дело». Но в душе она считала, что справится с этим, как пить дать… что дело это проще простого. Да и как тут можно не справиться: двенадцать обычных номеров, из них шесть песен, которые в свое время она сама же и исполнила впервые. Никакого нового материала, даже ни одной сцены не надо заучивать, только знай себе считывай реплики с телешпаргалок. Ух ты! Да если бы эти голливудские тупицы знали, что все так просто, они бы в очередь выстроились к телекамерам. Но мысли эти она держала при себе. Перед великим днем Нили приняла на ночь три капсулы секонала. Генеральная репетиция была назначена на десять часов утра, и она приехала вовремя, хорошо отдохнувшая и горящая желанием немедленно приступить к работе. Весь первый час ушел на гримирование, затем в одиннадцать тридцать началась собственно репетиция. Гладко, с энтузиазмом молоденькой девушки, Нили провела вступительный диалог с ведущим, начала исполнять первую песню. Она пропела лишь три такта, как вдруг режиссер крикнул: «Стоп!» Он вышел из-за пульта и направился по проходу между рядами к сцене. – Нили, ты пела не на ту камеру. – Я не понимаю вас, – мило улыбнулась она. Ее дело только петь, все остальное – забота оператора. – Первая камера снимала тебя во время диалога. Но при исполнении песни тебе нужно повернуться ко второй камере. – А какая из них вторая? – Вон та, с красным огоньком. Ты поешь первую половину, затем переходишь на третью камеру с танцевальным номером, а последние восемь тактов заканчиваешь опять перед второй камерой. – Ух ты! Да мне надо университет окончить, чтобы тут разобраться. Для чего нам вообще все эти камеры? – Дорогая, здесь все гораздо сложнее, чем может показаться. Просто запомни: если загорелся красный огонек – значит, съемку ведет эта камера. Путать их нельзя. Она начала все заново, внимательно следя за камерами. Все шло хорошо, но она потеряла нужное место на телешпаргалке. В следующий раз она сосредоточила все внимание на ней и не учла, что позировать надо было перед третьей камерой. – Да не беспокойся ты насчет шпаргалок, – взмолился режиссер. – Их будут носить за тобой. Следи только за камерами. – Но я привыкла, чтобы камера следовала за мной, – чуть не расплакалась она. Режиссер терпеливо успокаивал ее. – Ничего, привыкнешь и к этому. Давай-ка попробуем еще раз. Провели еще две репетиции. На измученном лице режиссера появилось выражение полного отчаяния. – Нили, ты дважды зашла за отметки мелом и оказалась не в кадре. – Но когда я пою, я должна двигаться. – Прекрасно, детка. Но давай ограничим и отметим нужное пространство, чтобы я мог соотнести его с радиусом охвата всеми камерами. – Не могу! Я двигаюсь так, как я это чувствую, а всякий раз я чувствую по-разному. Так час за часом длились эти изнурительные репетиции «бред объективами нескольких камер. Грим у Нили почти потек, прическа потеряла форму. К пяти часам ни один номер не был еще готов. Режиссер объявил перерыв на обед. Он подошел к Нили и непринужденно обнял одной рукой за плечи. – В шесть часов прогоним все по новой с самого начала. Продолжай петь и танцевать, даже если допустишь ошибку. Мне нужно прохронометрировать все выступление. Потом я назову тебе все ошибки, изменения, сокращения, и у тебя еще останется время освежить грим и передохнуть перед эфиром. Заключительная генеральная репетиция была для Нили сущим кошмаром. Красные глазки камер то загорались, то потухали, а слова текста на шпаргалках совершенно сливались в ослепительном свете юпитеров. И опять Нили вся отдавалась песне, глубоко вживаясь в нее, и все шло как раз так, как нужно… И опять глаза ее закрывались, но ресницы тут же испуганно взлетали вверх. Здесь не было прекрасной голливудской кинокамеры, сопровождающей ее по всей съемочной площадке, чтобы запечатлеть на пленку каждое движение. Не было никого, кто потом разрежет пленку и смонтирует самые лучшие куски. Никого и ничего – одни красноглазые чудовища, к которым она должна подстраиваться, да еще эти мелькающие карточки-шпаргалки со словами. Она потеряла их – не надо было закрывать глаза. Где же они? Она запнулась. Режиссер велел все равно продолжать… Господи, да где же карточки? А какая камера? Слева – да, горит красный глазок. Слава богу, песня кончилась. Боже мой, а теперь что? Что там написано на карточке? Ах да, представить Анну и изделие. О-о, слава богу, Анна уже что-то говорит – значит, у нее самой сейчас передышка. Боже праведный! Ей же надо было мчаться за кулисы! Ведь вон эта ошалевшая помощница вовсю машет ей руками – надо еще успеть переодеться за три минуты. Всего три минуты, а Анна уже проговорила половину своей вставки… – Не могу-у! – прокричала она. – Не могу я так! Не могу петь, когда нужно думать об отметках мелом, разных камерах и быстрых переодеваниях. Если я хочу закрыть глаза, значит, я должна их закрывать. Я так чувствую. Не могу я так, не могу! Кевин сидел за пультом. Вместе с режиссером он рванулся по проходу на сцену. Вдвоем они попытались успокоить ее. – Ни за что не буду продолжать. Я стану посмешищем! – Нили уже не могла говорить. – Нили, ты же профессионал, – взмолился режиссер. – Когда зал будет полон зрителей и раздадутся аплодисменты, у тебя все появится. – Нет, – она забилась в рыданиях. – Мне нужно было бы репетировать так целую неделю. Я не могу выполнять десять заданий за раз и быть на уровне. Не могу стоять на помеченных мелом местах, да еще следить за камерами и карточками. Не могу и все. Это будет полный и окончательный провал! – Нили, –обняла ее Анна. – Помнишь, как тогда, в Филадельфии, ты вошла в роль в «Небесном Хите» – сразу же, без подготовки? – Мне тогда было нечего терять! – воскликнула Нили. – Я была простой девчонкой, и на карте не стояла вся моя репутация. А сейчас я звезда, и если я выступлю плохо или провалюсь, то мне конец. – Ты выступишь отлично, – упорно твердил ей режиссер. – Нет! Нет! В этом шоу я участвовать не буду! – Нили, ты обязана, – настаивала Анна. – За телевизионное время заплачено… трансляция идет в эфир через час. – Я не могу, – рыдала Нили. – Тогда ты вообще никогда не получишь работу, – вдруг отрезал режиссер. – Да разве я хочу ее? Если я в жизни на пушечный выстрел не подойду к телевидению, то сейчас для меня самое время отказаться! – Я имею в виду – нигде не получишь, – холодно уточнил режиссер. – Кто сказал? – «Эфтра». Если ты срываешь шоу такого уровня, то это – серьезное нарушение контракта. Все профсоюзы связаны между собой договоренностью соблюдать правила – «Эфтра», «САГ» и «Эквити». – А что было бы, если бы я вдруг упала замертво? Он холодно улыбнулся. – К сожалению, это, по-моему, маловероятно. – Ну не могли бы вы просто объявить, что у меня острый ларингит, – взмолилась она. Режиссер вздохнул. – Нили, врач телекомпании потребует, чтобы ему позволили осмотреть тебя. Телекомпания сотрудничала с нашей фирмой в рекламе – они угрохали кучу денег. А теперь послушай: у тебя еще целый час – не смей даже думать о шоу. Иди в свою раздевалку и расслабься. Нили ушла. Оставшись одна, она быстро набрала номер и соединилась с посыльным своего отеля. Он приехал десять минут спустя. Протянул ей пузырек, а она ему – двадцатидолларовую бумажку. Нили внимательно посмотрела на пузырек. – Мои красные «куколки», – нежно проговорила она. – А теперь сделайте свое дело. На вас вся надежда. Я даже спиртным не могу вам помочь – скажут, была пьяная. – Она быстро проглотила шесть капсул. – Ну, давайте, детки, – сказала она, ложась на кушетку. – Давайте… Я ничего сегодня не ела. Ведь вы, «куколки», быстрее действуете на пустой желудок. Через десять минут Нили почувствовала знакомое ощущение легкости в голове. Дождалась, пока оно распространится по всему телу. Этого было мало – они поставят ее на ноги крепким кофе. Шатаясь, она добрела до умывальника и приняла еще две. – Ну же, «куколки», сделайте Нили мутную головку, чтобы она заболела. – До нее доносились приглушенные звуки – зал наполнялся публикой, музыканты настраивали инструменты. Она проглотила еще две. Смутно ей слышалось, как кто-то звал ее по имени, но ее уносило все дальше, дальше…* * *
Телекомпания была вынуждена поставить пленку с развлекательной программой. Было объявлено, что по техническим причинам шоу с Нили О’Хара в эфир выйти не может. Кевин не стал предъявлять претензий к Нили и раздувать дело, однако все это сделала телекомпания. Они заявили, что к Нили должны быть применены санкции. В предстоящем сезоне для участия в телепрограммах было заявлено слишком много крупных имен, и если бы Нили все сошло с рук, впоследствии могли произойти аналогичные скандальные срывы. Она была дисквалифицирована сроком на год и не могла получить работу ни в кино, ни в театрах, ни в ночных клубах, ни на телевидении. Поначалу ей было на все наплевать. Она вернулась в Калифорнию и уединилась в своем роскошном доме с бассейном. Газеты и журналы безжалостно клеймили ее. Писали, что у нее необузданный нрав, намекали, что она тогда напилась пьяной, и в один голос заявляли, что как актриса она кончилась. Были периоды, когда она целыми днями валялась в постели, пока домоправительница не заставляла ее пойти и искупаться в бассейне. Иногда в полночь она вскакивала с кровати, садилась в машину, мчалась в какой-нибудь бар и подолгу стояла там в платочке на голове, безо всякой косметики, не узнаваемая никем, но еще не привыкшая к такой анонимности; прихлебывала пиво, счастливая уже оттого, что вокруг нее люди. Ей было решительно на все наплевать. Денег у нее предостаточно – этот год она вполне может переждать. Шумиха уляжется, она опять обретет форму и, может быть, сделает шоу на Бродвее. Вот это будет номер! Она им еще покажет! А пока она может есть, что только пожелает… и пить. И эти замечательные красные и желтые «куколки» всегда при ней – а теперь еще появились какие-то новые, в голубую полоску!* * *
Анна была потрясена поведением Нили. Первым движением ее души было поехать за Нили на Западное побережье. В таком состоянии ее нельзя было оставлять одну. Но приходилось выполнять свои собственные обязанности на телевидении… да и с Кевином нельзя было так непорядочно поступать. Она винила себя за этот срыв. Он обошелся Кевину очень дорого: пришлось оплатить телевизионное время, рекламные издержки, оркестр, а также просроченное время, в ходе которого передавалось шоу совсем другого уровня. Но время шло, недели мелькали как в калейдоскопе, и волнения по поводу Нили отошли на второй план перед лицом постоянного кризиса, который ежедневно угрожал телевидению прямого эфира. Проводились новые цветные испытания и иногда жара от раскаленных юпитеров становилась совершенно невыносимой. И все же ей и в голову не приходило бросить эту работу – ничем другим ей просто не хотелось заниматься. Иногда материалы о Нили, вымышленные или реальные, появлялись в прессе. Все были убеждены, что она намеренно и целенаправленно губит себя, но Анна в своем воображении никак не могла поставить рядом образ издерганной, измученной Нили и девочку-дитя с сияющими глазенками, которая когда-то жила в одном доме с ней на Пятьдесят второй стрит. Вот та была настоящая Нили. Этот же призрак, созданный Голливудом, со временем исчезнет, и появится настоящая Нили. Представлялось немыслимым, что место, где ты живешь, может настолько изменить тебя. Прошло более десяти лет, и все же она чувствовала, что в некоторых отношениях совершенно не изменилась по сравнению с той девушкой, какой она впервые попала в Нью-Йорк. Она понимала, что если сесть и трезво подумать над этим, то сейчас она уже не воспринимает Нью-Йорк как восхитительную сказочную страну. Бродвей – это всего-навсего Кони-Айленд, только со множеством магазинов, а Сорок вторая стрит – заурядное злачное место с разнообразными развлечениями. Пятая авеню тоже больше не приводила ее в восторг. Даже огромная елка в Рокфеллеровском центре [52] на Рождество не казалась больше ярким зрелищем. На премьере любого шоу, в ночных клубах – постоянно одни и те же приевшиеся физиономии. И все же этот мир был намного лучше того, что она оставила в Лоренсвилле, где люди живут, словно в спячке, а жизнь проходит мимо них. Здесь же она, по крайней мере, находится на просцениуме, здесь идет хоть какое-то, но действие. И все-таки чего-то ей недоставало. Иногда, пристально глядя в зеркало, она пыталась посмотреть на себя объективно, как бы со стороны. Изменилась ли она? Теперь она по-настоящему пользуется косметикой… Неужели в то далекое время она появлялась в «Марокко», всего лишь пройдясь по лицу пуховкой и слегка подкрасив губы? Сейчас она чувствует себя раздетой, если не нанесет румяна на щеки, тени на веки и тушь на ресницы. А одежда! Она по-прежнему придерживалась мнения, что вещи должны быть простыми и выдержанными в одной цветовой гамме, хотя ведущие модельеры создавали костюмы специально для нее, и она давно уже носит не норковое манто Дженифер, а свое собственное, от лучшего нью-йоркского меховщика. И вот однажды, на какое-то неуловимое мгновение, время как бы остановило свой ход благодаря выражению, промелькнувшему в глазах Аллена Купера, когда они случайно встретились в «Колони». Анна была с Кевином. Аллен представил им свою жену, красивую девушку, у нее на руке Анна увидела перстень с крупным бриллиантом, точь-в-точь такой же Аллен когда-то подарил ей. У нее мелькнула сумасшедшая мысль: а что, если у Аллена их полный ящик в письменном столе – всех размеров и на разные случаи жизни. Анна часто задавалась вопросом, как она поведет себя и что почувствует, когда столкнется с Алленом лицом к лицу. И подобно большинству таких встреч через долгие годы, внешне она обошлась без каких-либо ярких, драматичных проявлений чувств. Волосы у Аллена поредели, но он по-прежнему носил яркие галстуки и повсюду появлялся с Джино. На Джино возраст сказался гораздо сильнее: во всем его облике сквозила беспомощная слабость, характерная для большинства пожилых» людей. Казалось, он увядает прямо на глазах. Анна понимала, что Аллену хотелось бы казаться безразличным и суховатым, но он не сумел погасить в своем взгляде прежнее восхищение: – Анна… ты великолепно выглядишь. – Ты тоже хорошо выглядишь, Аллен. – Мы постоянно видим тебя в телевизоре, правда, Джино? – Да, точно, – ответил Джино. Последовала долгая пауза. Боже, неужели спустя десять лет им нечего сказать друг другу? – Элли всегда восхищается тобой, когда ты ведешь эти рекламные передачи. – Имелась в виду жена Аллена. – Приятно слышать. Когда я появляюсь на экране, большинство телезрителей бежит к холодильникам за пивом. – Нет, а я всегда смотрю, хотя сама и не пользуюсь косметикой «Гиллиан». Мой косметолог говорит… – Она вдруг осеклась, почувствовав, как Аллен сжал ей руку. Кевин поспешил на выручку. – Ручаюсь, что таким юным красивым девушкам, как вы, наша косметика особенно и не нужна. Вспыхнув от радости, девушка хихикнула. – Так как насчет нашего столика? – капризным тоном спросил Джино. – Если бы мы поехали в «Марокко», а не в эту дыру, мы бы не стояли до сих пор вот так. Метрдотель знаком показал Кевину, что их столик накрыт. Они торопливо попрощались. Анна и Кевин ушли, а Джино разразился еще одной тирадой относительно гадкого обслуживания здесь, горько сожалея, что они не поехали в «Марокко». Анну охватила грусть. Люди расстаются, годы проходят. Вот они с Алленом встретились вновь, и встреча эта оказалась безрадостной, не всколыхнула в душе никаких теплых воспоминаний, а только горькое сознание того, что время утекло, и все вокруг далеко не столь ярко и привлекательно, как было когда-то. Она была рада, что Лайон сейчас в Англии: ей никак не хотелось бы встретиться с ним вот так, увидеть, что и у него волосы поредели, а его девушка слишком молода, слишком скучна и неинтересна. Лучше уж жить старыми воспоминаниями. Часто вспоминала она и о Дженифер. Неужели Дженифер боится возвращаться? В самый последний момент она отвергла предложение «Сенчури» и осталась в Европе. Испугалась Голливуда? Интересно, как она сейчас? Теперь она самая яркая кинозвезда Европы, ее картины пользуются точно таким же успехом и в Америке. На экране она выглядит потрясающе. Анна прекрасно понимала, какие чудеса способно творить правильно подобранное освещение и выгодный ракурс. Но ведь Дженифер уже тридцать семь, хотя, если верить всем публикациям и рекламным сообщениям о ней, она на десять лет моложе. И в Америке у нее точно такой же имидж. Может, для нее и лучше, что она осталась в Европе. Если судить по Нили, Голливуд – это нечто страшное. (обратно) (обратно)Дженифер
1957
 Дженифер боялась Голливуда, боялась смертельно. Половина пузырька секонала и последующее промывание желудка год назад заставили Клода пойти на попятный и отказаться от подписания соглашения с «Сенчури». Но за последний год поступило еще одно, совершенно фантастическое предложение, настолько выгодное, что отклонить его было никак невозможно. Соглашение на три фильма и миллион долларов чистыми, перечисляемый в швейцарский банк! Клода, естественно, придется взять в долю, но все равно выйдет полмиллиона чистыми! Отказаться от такого она не могла. И в тридцать семь внешность у нее по-прежнему безукоризненна – при правильно подобранном освещении эти все крохотные морщинки становятся незаметными. Этим пусть занимается Клод – и мягким освещением, и всем остальным.
Приходится, конечно, как-то бороться с фотографами. В нью-йоркском аэропорту наверняка будут репортеры, а в самом Голливуде прием ей устроят еще более пышный. Фотоаппарат со вспышкой не обманешь, но Клод что-нибудь придумает. Может, стоит повторить возвращение Греты Гарбо – вообще без фотоснимков.
Однажды утром, спустя неделю после подписания соглашения, к ней на квартиру явился Клод.
– Я только что получил телеграмму: деньги переведены.
– Отдельно? – спросила Дженифер.
– Да. Вот номер твоего счета, положи в сейф. У меня – свой.
Она радостно потянулась в постели.
– Просто замечательно! Перед отъездом я могу устроить себе трехмесячный отпуск. Может быть, поеду на Кипр, а потом в Нью-Йорк. Надену черный парик. Посмотрю все программы Анны и отлично проведу время. Боже, как будет здорово опять говорить по-английски.
Откинув одеяло, Клод схватил ее за руку и стащил на пол. Затем распахнул окна, и спальню залило дневным светом.
– Ты что, с ума сошел? – спросила она.
– Встань, прямо так, как есть, к окну. Дженифер поежилась. Был сентябрь, но холодное солнце грело плохо, с трудом пробиваясь сквозь мглистое небо Парижа. Он вздохнул.
– Да, придется делать.
– Что придется делать?
– Пластическую операцию.
– Ты и впрямь с ума сошел! – Она вырвала свою руку и надела халат.
Он подтащил ее к зеркалу.
– Вот, посмотри-ка на себя при дневном свете. Нет! Не задирай подбородок и не улыбайся – смотри, какая ты в обычном, расслабленном состоянии.
– Клод… но на мне всегда будет косметика. И я знаю оптимальные ракурсы. Ну кому представится возможность разглядывать меня в таком виде?
– Голливуду! Гримершам, студийным парикмахерам… слух разойдется быстро.
– Но ведь я же еще не старуха. Для своих тридцати семи я выгляжу отлично.
– Но не на двадцать семь!
Она внимательно вгляделась в зеркало. Да, действительно под подбородком – небольшая складка. Почти незаметная… а если чуть откинуть голову и улыбнуться, она вообще исчезает. Но в обычном состоянии ее не видно. Двойной подбородок, как выражается Клод. Да, понятно, что он имеет в виду: та самая еле уловимая вялость кожи, указывающая на разницу между возрастом в двадцать с чем-то и тридцать чем-то лет. Это еще не настоящие морщины, но девичьей упругости кожи уже нет. Никто не заметит их в кафе или при правильно подобранном освещении… но все же они существуют. Может быть, он и прав. Но боже мой – удалять морщины в тридцать семь лет! Думая о пластических операциях, Дженифер всегда представляла себе шестидесятилетних старух со сморщенными, как печеные яблоки, лицами. Она вспомнила, что часто видела в Нью-Йорке этих чудовищ с белыми, словно заляпанными штукатуркой физиономиями и густо подведенными глазами, про которых вечно шептали: «Этой шестьдесят пять. Ей подтянули кожу на лице, но все бесполезно». Нет, это слишком рискованно.
– Клод, да не бойся ты Голливуда. Я была там. Все не так серьезно, как тебе кажется. Там все боятся друг друга. Я проскочу.
– А я не желаю, чтобы ты «проскакивала»! – прогремел он. – Ты – секс-богиня Европы. Весь Голливуд с нетерпением ждет, выдержишь ли ты сравнение с их секс-символами – Мерилин Монро, Элизабет Тейлор, а ведь они – девицы молодые.
– Но я не Лиз Тейлор и не Мерилин Монро. Я – Дженифер Норт. Я – это я!
– И что это такое – ты? Мордашка да пара титек! Вот и все, что ты есть… все, чем ты была всегда!
– В последних семи фильмах я снималась одетой!
– Да, потому что имидж уже создан. Теперь ты хоть мешок на себя надень, всем и так известно, что под ним. Они наизусть знают каждый сантиметр твоего тела и видят его, какая бы одежда на тебе ни была. И выбрось из головы, будто можешь предложить им что-то другое.
– Тогда, значит, этот имидж создан и в Америке. Там же шли все мои фильмы.
– Дженифер, разве ты не доверяешь моему мнению? – Клод решил изменить тактику и изобразил на лице обаятельную улыбку. – Ты действительно можешь предложить им кое-что другое. Голых звезд в Европе пруд пруди, но все они не идут ни в какое сравнение с тобой, потому что у тебя есть еще кое-что. Свежесть, свежесть юности, какой нет ни у одной француженки. Они могут быть соблазнительны, шаловливы, наивны – но ты обладаешь чисто американским очарованием свежести. Но эта свежесть сохраняется только вместе с молодостью, с молодым лицом. Несмотря на золотистые волосы и сексуальную грудь, в твоей внешности есть нечто такое, что создает впечатление невинности, девичества… почти девственности. Вот с фигурой у тебя никаких проблем, она по-прежнему великолепна… только надо сбросить фунтов десять [53].
– Ах, нет. Только не это! Именно это случилось с Нили. Я и так каждую ночь принимаю по три-четыре пилюли снотворного, чтобы убрать круги под глазами. Ты же не собираешься посадить меня на эти пилюли для похудания. Я вешу сто восемнадцать фунтов [54], при росте пять футов и шесть дюймов [55] – так что я достаточно худая.
– Для сцен, где ты снимаешься обнаженной – да. Но не для тех супермоделей, на которые тебя планируют. Однако эти пилюли ты принимать не будешь. Поедешь в Швейцарию – пройдешь курс лечения сном.
– «Лечение сном»? Но ведь это же при нервных срывах, разве нет?
– И для похудания тоже. Я сообщил им, что ты хочешь согнать десять фунтов. Тебя на восемь дней погрузят в сон. Уснешь… а проснешься худенькой, отдохнувшей и красивой. После этого кожа на лице, вероятно, обвиснет еще больше. Тогда-то тебе ее и подтянут.
Дженифер боялась Голливуда, боялась смертельно. Половина пузырька секонала и последующее промывание желудка год назад заставили Клода пойти на попятный и отказаться от подписания соглашения с «Сенчури». Но за последний год поступило еще одно, совершенно фантастическое предложение, настолько выгодное, что отклонить его было никак невозможно. Соглашение на три фильма и миллион долларов чистыми, перечисляемый в швейцарский банк! Клода, естественно, придется взять в долю, но все равно выйдет полмиллиона чистыми! Отказаться от такого она не могла. И в тридцать семь внешность у нее по-прежнему безукоризненна – при правильно подобранном освещении эти все крохотные морщинки становятся незаметными. Этим пусть занимается Клод – и мягким освещением, и всем остальным.
Приходится, конечно, как-то бороться с фотографами. В нью-йоркском аэропорту наверняка будут репортеры, а в самом Голливуде прием ей устроят еще более пышный. Фотоаппарат со вспышкой не обманешь, но Клод что-нибудь придумает. Может, стоит повторить возвращение Греты Гарбо – вообще без фотоснимков.
Однажды утром, спустя неделю после подписания соглашения, к ней на квартиру явился Клод.
– Я только что получил телеграмму: деньги переведены.
– Отдельно? – спросила Дженифер.
– Да. Вот номер твоего счета, положи в сейф. У меня – свой.
Она радостно потянулась в постели.
– Просто замечательно! Перед отъездом я могу устроить себе трехмесячный отпуск. Может быть, поеду на Кипр, а потом в Нью-Йорк. Надену черный парик. Посмотрю все программы Анны и отлично проведу время. Боже, как будет здорово опять говорить по-английски.
Откинув одеяло, Клод схватил ее за руку и стащил на пол. Затем распахнул окна, и спальню залило дневным светом.
– Ты что, с ума сошел? – спросила она.
– Встань, прямо так, как есть, к окну. Дженифер поежилась. Был сентябрь, но холодное солнце грело плохо, с трудом пробиваясь сквозь мглистое небо Парижа. Он вздохнул.
– Да, придется делать.
– Что придется делать?
– Пластическую операцию.
– Ты и впрямь с ума сошел! – Она вырвала свою руку и надела халат.
Он подтащил ее к зеркалу.
– Вот, посмотри-ка на себя при дневном свете. Нет! Не задирай подбородок и не улыбайся – смотри, какая ты в обычном, расслабленном состоянии.
– Клод… но на мне всегда будет косметика. И я знаю оптимальные ракурсы. Ну кому представится возможность разглядывать меня в таком виде?
– Голливуду! Гримершам, студийным парикмахерам… слух разойдется быстро.
– Но ведь я же еще не старуха. Для своих тридцати семи я выгляжу отлично.
– Но не на двадцать семь!
Она внимательно вгляделась в зеркало. Да, действительно под подбородком – небольшая складка. Почти незаметная… а если чуть откинуть голову и улыбнуться, она вообще исчезает. Но в обычном состоянии ее не видно. Двойной подбородок, как выражается Клод. Да, понятно, что он имеет в виду: та самая еле уловимая вялость кожи, указывающая на разницу между возрастом в двадцать с чем-то и тридцать чем-то лет. Это еще не настоящие морщины, но девичьей упругости кожи уже нет. Никто не заметит их в кафе или при правильно подобранном освещении… но все же они существуют. Может быть, он и прав. Но боже мой – удалять морщины в тридцать семь лет! Думая о пластических операциях, Дженифер всегда представляла себе шестидесятилетних старух со сморщенными, как печеные яблоки, лицами. Она вспомнила, что часто видела в Нью-Йорке этих чудовищ с белыми, словно заляпанными штукатуркой физиономиями и густо подведенными глазами, про которых вечно шептали: «Этой шестьдесят пять. Ей подтянули кожу на лице, но все бесполезно». Нет, это слишком рискованно.
– Клод, да не бойся ты Голливуда. Я была там. Все не так серьезно, как тебе кажется. Там все боятся друг друга. Я проскочу.
– А я не желаю, чтобы ты «проскакивала»! – прогремел он. – Ты – секс-богиня Европы. Весь Голливуд с нетерпением ждет, выдержишь ли ты сравнение с их секс-символами – Мерилин Монро, Элизабет Тейлор, а ведь они – девицы молодые.
– Но я не Лиз Тейлор и не Мерилин Монро. Я – Дженифер Норт. Я – это я!
– И что это такое – ты? Мордашка да пара титек! Вот и все, что ты есть… все, чем ты была всегда!
– В последних семи фильмах я снималась одетой!
– Да, потому что имидж уже создан. Теперь ты хоть мешок на себя надень, всем и так известно, что под ним. Они наизусть знают каждый сантиметр твоего тела и видят его, какая бы одежда на тебе ни была. И выбрось из головы, будто можешь предложить им что-то другое.
– Тогда, значит, этот имидж создан и в Америке. Там же шли все мои фильмы.
– Дженифер, разве ты не доверяешь моему мнению? – Клод решил изменить тактику и изобразил на лице обаятельную улыбку. – Ты действительно можешь предложить им кое-что другое. Голых звезд в Европе пруд пруди, но все они не идут ни в какое сравнение с тобой, потому что у тебя есть еще кое-что. Свежесть, свежесть юности, какой нет ни у одной француженки. Они могут быть соблазнительны, шаловливы, наивны – но ты обладаешь чисто американским очарованием свежести. Но эта свежесть сохраняется только вместе с молодостью, с молодым лицом. Несмотря на золотистые волосы и сексуальную грудь, в твоей внешности есть нечто такое, что создает впечатление невинности, девичества… почти девственности. Вот с фигурой у тебя никаких проблем, она по-прежнему великолепна… только надо сбросить фунтов десять [53].
– Ах, нет. Только не это! Именно это случилось с Нили. Я и так каждую ночь принимаю по три-четыре пилюли снотворного, чтобы убрать круги под глазами. Ты же не собираешься посадить меня на эти пилюли для похудания. Я вешу сто восемнадцать фунтов [54], при росте пять футов и шесть дюймов [55] – так что я достаточно худая.
– Для сцен, где ты снимаешься обнаженной – да. Но не для тех супермоделей, на которые тебя планируют. Однако эти пилюли ты принимать не будешь. Поедешь в Швейцарию – пройдешь курс лечения сном.
– «Лечение сном»? Но ведь это же при нервных срывах, разве нет?
– И для похудания тоже. Я сообщил им, что ты хочешь согнать десять фунтов. Тебя на восемь дней погрузят в сон. Уснешь… а проснешься худенькой, отдохнувшей и красивой. После этого кожа на лице, вероятно, обвиснет еще больше. Тогда-то тебе ее и подтянут.
* * *
Подъезжая к Лозанне, Дженифер думала о Марии. Интересно, как она сейчас? До чего же давно это было, будто целая жизнь прошла, а она помнит все до мельчайших подробностей. Клиника была прекрасная. Дженифер поступила сюда под вымышленным именем, лишь некоторым доверенным людям было известно, кто она на самом деле. – Вам не надо ни о чем беспокоиться, – сказал главный врач. – Вы просто будете спать. Но для приема пищи мы будем вас будить, около вас неотлучно будет находиться дежурная сестра. Вы будете есть, не сознавая этого, вас будут водить по палате и в ванную, но и этого вы не будете сознавать. Однако такие незначительные упражнения необходимы, чтобы не было застоя в легких. Во время сна сестра каждый час будет поворачивать вас. Когда же проснетесь, потеряете десять фунтов. Дженифер улыбнулась. – Но я потеряю еще и неделю своей жизни. Кроме того, я всегда считала, что лечение сном показано только при эмоциональных потрясениях. – Верно. Разумеется, оно не излечивает от глубоких потрясений, которые формировались годами. Для этого требуется психотерапия, иногда даже электрошок. Но это лечение прекрасно помогает при ситуативной депрессии. Позвольте привести пример. Сейчас на излечении у нас находится замужняя женщина из Голливуда. Ее муж – крупный кинорежиссер. Ее маленький сын забрался в бассейн и утонул. Она безутешна, не представляет себе, как будет жить дальше. Муж и друзья всячески ободряют ее, да и сама она понимает, что со временем эта рана зарубцуется, но сейчас она просто не может дальше жить… Она чувствует, что не в состоянии вынести долгие месяцы или годы, которые приглушат боль воспоминаний. Вот тут-то и поможет лечение сном. Видите ли, у нас в мозгу есть этакие ниши. Каждая ниша – мысль или воспоминание. Если мы постоянно будем думать об одном и том же, ниша будет становиться глубже, и мысль укоренится в мозгу. Точно так актер заучивает свой текст. Но стоит затормозить мысленный процесс, и ниша начинает зарубцовываться, как порез. И через какое-то время она сглаживается и стирается. Страшная трагедия и любовь к ребенку глубоко врезались в сознание этой женщины. Трехнедельное лечение сном поможет залечить даже такую глубокую рану. Когда женщина проснется, она будет, конечно, сознавать, что потеряла ребенка, но безутешной боли уже не будет. Облегчение, которое могло бы наступить только через пять лет, наступит через три недели, и пациентка будет избавлена от многолетних душевных мук. Дженифер улыбнулась. – Что ж, если когда-нибудь я стану толстой и несчастной, я соглашусь на такие три недели. Пока же мне надо сбросить всего десять фунтов. – Восьми дней вполне достаточно, – кивнул главный врач. Все оказалось очень просто. Сестра с улыбкой подала ей бокал шампанского «для хорошего сна и приятных мыслей». Дженифер медленно выпила его. Появился молодой врач, проверил пульс и давление, после чего осторожно сделал укол в вену. Она поставила бокал на столик. Такого ощущения она еще ни разу не испытывала. Оно началось от кончиков пальцев ног, прошло по ногам, устремилось по бедрам… потом она поплыла неведомо куда, уже не чувствуя ничего. Дженифер думала, что проспала, должно быть, целую ночь. Когда она открыла глаза, сияло солнце. Сестра принесла на подносе завтрак. – Мне говорили, что во время еды я буду спать, а я полностью проснулась, – улыбнулась Дженифер. – Но вы действительно спали. – На губах у сестры тоже играла улыбка. – Сколько? – Восемь дней. Дженифер села в кровати. – Вы хотите сказать… Сестра кивнула. – Мадемуазель весит на двенадцать фунтов меньше – сто шесть [56]. – О-о, как изумительно, – воскликнула Дженифер. – Бог мой, вот это изобретение! Когда она вернулась в Париж, Клод был восхищен. – Я уже договорился насчет пластической операции, – сказал он. На этот раз она не возражала: от резкой потери веса она выглядела изможденной. – Разденься, – вдруг велел он. Она удивленно уставилась на него. – Клод… но ведь у нас с тобой ничего не было вот уже несколько лет. – Я и не собираюсь заниматься с тобой сексом, – раздраженно пояснил он. – Хочу посмотреть, сказалась ли потеря веса на твоей фигуре. Дженифер сбросила одежду. – Ничего не случилось. Да и потом, какая разница? В Америке я не буду сниматься обнаженной. Тщательно, словно врач, он осмотрел ее груди. – Я договорился, что ты пройдешь цикл гормональных инъекций для поддержания упругости груди. Тебе их будут делать во время восстановительного периода после операции. – И где же будет происходить это великое чудо? – Устроить это стоило больших трудов, но теперь все обговорено и решено. Завтра ты ложишься в клинику пластической хирургии. Конечно, под вымышленным именем.* * *
Клод был прав, это оказалось нелегким делом. И сама-то операция была малоприятной, но все силы из нее высосал именно восстановительный период. Полтора месяца полной изоляции, ежедневное созерцание своего распухшего, покрытого пятнами лица, налитых кровью глаз, безобразных черных швов за ушами. Сомнения, обретет ли она когда-либо нормальный вид. Ужас при мысли, что она совершила ошибку. Однако швы были сняты, яркие пурпурно-красные рубцы приобрели светло-розовый оттенок. Теперь она знала, что шрамы станут совсем незаметны. Отек на лице сошел, и настроение Дженифер взмыло резко вверх. Клод оказался кругом прав – успех был абсолютный. Вряд ли она выглядела так хорошо даже в двадцать лет. Разумеется, двадцать лет дать ей было нельзя, но все же выглядела она потрясающе: на лице – ни единой морщинки, упругая кожа… Теперь ей не страшны придирчивые взгляды голливудской публики. …Солнечным декабрьским днем самолет приземлился в нью-йоркском международном аэропорту. Когда Дженифер шла сквозь толпу репортеров, под вспышками фотокамер, ее вдруг захлестнула волна благодарности и признательности Клоду. От нее не укрылось, что некоторые репортеры-женщины изучающе разглядывают ее. Она выговорила себе неделю в Нью-Йорке и наконец-то после столь длительного перерыва встретилась с Анной. Целыми часами они обсуждали все жизненные перипетии Дженифер, ее мимолетные увлечения и романы. Наконец Анна рассказала ей о своих отношениях с Кевином. Дженифер вздохнула. – Не знаю, может, он и в самом деле хороший человек, как ты о нем говоришь, но он – сволочь, раз не женится на тебе. – Это не имеет значения, – стояла на своем Анна. – Если уж начистоту, то и я не люблю его по-настоящему. Пусть лучше все остается как есть. – По-прежнему ждешь божественной неземной любви? – спросила Дженифер. – Знаешь, Анна, по-моему, женщина может или любить сама, или быть любимой. – Почему? – Не знаю. Не получается – и все. Да ты и сама должна это знать. Аллен любил тебя, даже хотел жениться. И Кевин тебя любит. И тем не менее, ты можешь спокойно взять и уйти от них, ничего при этом не испытав. А вот Лайона ты любила сама… и он преспокойно ушел от тебя. – Нет, просто это я тогда вела себя глупо. Знала бы ты, сколько бессонных ночей я… Даже сейчас я часто лежу, не сплю и заново переживаю то время. Как мне следовало вести себя тогда? И что бы из этого могло выйти? – Если бы ты вернулась в Лоренсвилл? – Да. Это ведь было бы не навсегда. Он все равно стал бы профессиональным писателем. Его первая книга точно так же получила бы прекрасные отзывы, но не принесла бы ему ни цента. После этого он написал бы ту ужасную книгу, только ради денег – как демонстративный вызов всем – потом еще несколько и, наконец, взялся бы за сценарии к кинофильмам. То, чем он занимается сейчас в Лондоне, он вполне мог бы делать и здесь. Только жил бы в Голливуде или в Нью-Йорке и писал бы для телевидения. В любом случае мы были бы вместе. Я просто запаниковала. Если бы я могла подумать, что… – Но раз мужчина смог вот так взять и уйти… Анна, он же не любил тебя по-настоящему. – Он любил меня, я знаю, – упрямо возразила Анна. – Ну конечно. Точно так же, как Аллен считал, что ты любишь его. И как Кевин считает, что ты любишь его. Он настолько уверен в тебе, что даже не чувствует себя обязанным жениться. Анна, если ты действительно чувствуешь, что Кевин любит тебя, заставь его жениться. Это так редко бывает, когда тебя кто-то любит. Со мной такого ни разу не было. – Да полно тебе, Джен. Вся Европа любит тебя… а теперь и Америка будет у твоих ног. – Они любят мое лицо и тело. А не меня! Это огромная разница, Анна. – Она передернула плечами. – Может, я просто не из тех, кого можно полюбить? – Я люблю тебя Джен, по-настоящему. – Знаю, что любишь. Жаль, что мы с тобой не лесбиянки – прекрасная бы получилась парочка. Анна рассмеялась. – Если бы мы были лесбиянками, то у нас с тобой, скорее всего, ничего не получилось бы. Ты же сама говоришь: один любит, а другой только позволяет себя любить. Или у лесбиянок все иначе? Дженифер смотрела куда-то вдаль. – Нет… даже в гомосексуальных отношениях одна партнерша любит, а другая лишь позволяет себя любить. – Она внимательно изучала себя в зеркале. – Ну что же, у тебя есть Кевин, а у меня – Голливуд. – Но ведь ты получаешь удовольствие от своего успеха, правда? – спросила Анна. Дженифер пожала плечами. – Временами – да. Но я ненавижу эту работу. Профессионалом я так и не стала, я же актриса не по призванию. И еще, я всегда только разделяла чью-то известность – сначала принца, потом Тони. А все это сводится к одному: сама я не заслуживала ее – ни с принцем, ни с Тони, ни со своей работой. На меня всегда работали мое лицо и тело. О господи! Полжизни бы отдала за человека, который полюбил бы меня саму… – Если это то, чего ты действительно хочешь, Джен, ты его найдешь. Я уверена, что найдешь. Дженифер дотянулась до Анны и взяла ее за руку. – Молись за это, Анна. Я хочу выйти из этой сумасшедшей гонки. Хочу, чтобы рядом был человек, который любит меня… Хочу ребенка. Мне ведь еще не поздно. Молись за то, чтобы я встретила настоящего мужчину и послала бы Клода и всех прочих к чертовой матери! (обратно) (обратно)Анна
1960
 Весной 1960 года Кевин Гилмор перенес тяжелейший инфаркт. Посеревший, почти без признаков жизни, он две недели пролежал с кислородной маской. Едва оказавшись в состоянии говорить, он взял Анну за руку.
– Анна, я, похоже, выкарабкаюсь? – Казалось, он поверил ей, когда она сжала его пальцы и кивнула.
– Обещай мне только одно, – прошептал он. – Если я и впрямь выкарабкаюсь, ты выйдешь за меня замуж. Она заставила себя улыбнуться.
– Ничего не говори, Кевин. Тебе нужен полный покой.
– Ради бога, Анна. – Слезы выступили у него на глазах. – Я боюсь. Я не смогу один выдержать это. Пожалуйста… Я встану на ноги, если буду знать, что ты выйдешь за меня… что ты всегда будешь рядом.
– Кевин, тебе необходим покой. Ты поправишься.
– Для детей, которых ты хотела, Анна, уже слишком поздно, но все остальное я тебе дам. Продам свою фирму… будем путешествовать. Скажи только, что выйдешь за меня и никогда не покинешь.
Она улыбнулась.
– Хорошо, Кевин. Обещаю.
Целых полтора месяца она не отходила от его кровати. Выздоравливая, он беспрестанно говорил о женитьбе, о том, что они будут делать и как он все устроит в соответствии с ее желаниями. Она все больше смирялась с этой мыслью. А действительно, почему бы ей не выйти за Кевина? Чего она ждет? Ей тридцать пять – боже милостивый, уже тридцать пять! И как только это могло случиться? Ощущаешь себя все той же, и вот тебе уже тридцать пять, и время продолжает неудержимо мчаться. Пролетают год за годом. Произошло так много и вместе с тем так мало. Она упустила свой шанс на большую любовь и на детей, но это компенсировано другим: она материально независима, даже богата. Ее вклады возросли более чем вдвое, Генри провел для нее несколько успешных финансовых операций, а Кевин ежегодно выдавал ей по несколько сотен акций своей фирмы, их цена тоже могла удвоиться в любой момент. Нет, деньги для нее никогда не будут проблемой. Даже если она вообще прекратит работать, а Кевин – помогать ей, она и без того уже богата.
Но ведь, с другой стороны, с деньгами у нее никогда не было проблем. Даже в самом начале ее жизненного пути в банке у нее лежало пять тысяч. Она никогда не испытывала того, что довелось пережить Дженифер… Джен, которой приходилось посылать деньги своей матери, которой пришлось пробивать себе путь наверх и добиваться всего самой. Анна очень гордилась головокружительным успехом Дженифер в Голливуде. Та снялась в пяти кинофильмах – красивых цветных картинах, где за нее пели другие. Другая артистка танцевала за нее на заднем плане, но крупным планом всегда показывали Дженифер.
Она была ослепительно красива, ее имя постоянно упоминалось то в связи с режиссером, то с исполнителем главной роли, а в последнее время к ее ногам пал какой-то продюсер. Однако из писем и телефонных разговоров Анна знала, что Дженифер все еще ищет свой идеал.
Перед выходом из больницы Кевин начал планировать их медовый месяц.
– Ты точно не желаешь оставить свою работу? – с тревогой в голосе спрашивал он.
– Мою работу? – рассмеялась она. – Кевин, да не ты ли сам преподнес ее мне на серебряном блюде?
– Нет, Анна. Я начал работать с тобой как с манекенщицей, а всего остального ты добилась сама. Ты великолепна, ты – золотой фонд компании.
– Ну что ж, этот золотой фонд ты можешь отделить от нее в любое для тебя время. Думаю, не пострадает ни одна сторона.
Он сжал ей ладонь.
– Я люблю тебя, Анна. Я продам компанию. Она кивнула.
– А теперь отдохни немного. Займись планированием нашего медового месяца, пока меня не будет. Он не отпускал ее руку.
– Тебе нужно идти?
– Пока еще я работаю у тебя, а сегодня передача.
– Анна… ты знаешь… между нами долго не будет интимной близости… очень долго, может быть, даже совсем никогда. Что ты на это скажешь?
– Пусть это не беспокоит тебя, Кевин. Он разрыдался.
– Я потеряю тебя. Я знаю это!
Вдруг она почувствовала отвращение. Какую же страшную власть имеет над человеком болезнь, если лишает его элементарного чувства собственного достоинства. Она ласково погладила его по голове.
– Я буду с тобой Кевин. Обещаю.
Весной 1960 года Кевин Гилмор перенес тяжелейший инфаркт. Посеревший, почти без признаков жизни, он две недели пролежал с кислородной маской. Едва оказавшись в состоянии говорить, он взял Анну за руку.
– Анна, я, похоже, выкарабкаюсь? – Казалось, он поверил ей, когда она сжала его пальцы и кивнула.
– Обещай мне только одно, – прошептал он. – Если я и впрямь выкарабкаюсь, ты выйдешь за меня замуж. Она заставила себя улыбнуться.
– Ничего не говори, Кевин. Тебе нужен полный покой.
– Ради бога, Анна. – Слезы выступили у него на глазах. – Я боюсь. Я не смогу один выдержать это. Пожалуйста… Я встану на ноги, если буду знать, что ты выйдешь за меня… что ты всегда будешь рядом.
– Кевин, тебе необходим покой. Ты поправишься.
– Для детей, которых ты хотела, Анна, уже слишком поздно, но все остальное я тебе дам. Продам свою фирму… будем путешествовать. Скажи только, что выйдешь за меня и никогда не покинешь.
Она улыбнулась.
– Хорошо, Кевин. Обещаю.
Целых полтора месяца она не отходила от его кровати. Выздоравливая, он беспрестанно говорил о женитьбе, о том, что они будут делать и как он все устроит в соответствии с ее желаниями. Она все больше смирялась с этой мыслью. А действительно, почему бы ей не выйти за Кевина? Чего она ждет? Ей тридцать пять – боже милостивый, уже тридцать пять! И как только это могло случиться? Ощущаешь себя все той же, и вот тебе уже тридцать пять, и время продолжает неудержимо мчаться. Пролетают год за годом. Произошло так много и вместе с тем так мало. Она упустила свой шанс на большую любовь и на детей, но это компенсировано другим: она материально независима, даже богата. Ее вклады возросли более чем вдвое, Генри провел для нее несколько успешных финансовых операций, а Кевин ежегодно выдавал ей по несколько сотен акций своей фирмы, их цена тоже могла удвоиться в любой момент. Нет, деньги для нее никогда не будут проблемой. Даже если она вообще прекратит работать, а Кевин – помогать ей, она и без того уже богата.
Но ведь, с другой стороны, с деньгами у нее никогда не было проблем. Даже в самом начале ее жизненного пути в банке у нее лежало пять тысяч. Она никогда не испытывала того, что довелось пережить Дженифер… Джен, которой приходилось посылать деньги своей матери, которой пришлось пробивать себе путь наверх и добиваться всего самой. Анна очень гордилась головокружительным успехом Дженифер в Голливуде. Та снялась в пяти кинофильмах – красивых цветных картинах, где за нее пели другие. Другая артистка танцевала за нее на заднем плане, но крупным планом всегда показывали Дженифер.
Она была ослепительно красива, ее имя постоянно упоминалось то в связи с режиссером, то с исполнителем главной роли, а в последнее время к ее ногам пал какой-то продюсер. Однако из писем и телефонных разговоров Анна знала, что Дженифер все еще ищет свой идеал.
Перед выходом из больницы Кевин начал планировать их медовый месяц.
– Ты точно не желаешь оставить свою работу? – с тревогой в голосе спрашивал он.
– Мою работу? – рассмеялась она. – Кевин, да не ты ли сам преподнес ее мне на серебряном блюде?
– Нет, Анна. Я начал работать с тобой как с манекенщицей, а всего остального ты добилась сама. Ты великолепна, ты – золотой фонд компании.
– Ну что ж, этот золотой фонд ты можешь отделить от нее в любое для тебя время. Думаю, не пострадает ни одна сторона.
Он сжал ей ладонь.
– Я люблю тебя, Анна. Я продам компанию. Она кивнула.
– А теперь отдохни немного. Займись планированием нашего медового месяца, пока меня не будет. Он не отпускал ее руку.
– Тебе нужно идти?
– Пока еще я работаю у тебя, а сегодня передача.
– Анна… ты знаешь… между нами долго не будет интимной близости… очень долго, может быть, даже совсем никогда. Что ты на это скажешь?
– Пусть это не беспокоит тебя, Кевин. Он разрыдался.
– Я потеряю тебя. Я знаю это!
Вдруг она почувствовала отвращение. Какую же страшную власть имеет над человеком болезнь, если лишает его элементарного чувства собственного достоинства. Она ласково погладила его по голове.
– Я буду с тобой Кевин. Обещаю.
* * *
В августе Кевин вновь восседал за своим письменным столом – крепкий, энергичный, с видом человека, привыкшего брать на себя ответственность за все. От дней, пронизанных страхом, проведенных в кислородной маске, остались лишь смутные воспоминания. Правда, у него действительно оказался коронарный тромбоз, но Кевин выкарабкался. Сейчас он чувствовал себя лучше, чем когда-либо: покой и отдых явно пошли ему на пользу. И он собирается жениться на Анне. Разумеется, временами его охватывал страх от грозящего ему одиночества. Если сегодня ночью у них что-то будет… – Хочу заключить с компанией как можно более выгодное соглашение, – объявил он Анне. – Я выхожу из дела, получая двенадцать миллионов и пост почетного председателя правления. Пока компания носит мое имя, я хочу быть уверенным, что она поддерживает свой класс. Думаю, что смогу все закончить к январю. Самое позднее – в начале февраля. Это тебя устроит? Но, если хочешь, можем пожениться прямо сейчас… Анна улыбнулась. – Раз уж мы столько ждали, сделаем это по всем правилам. Сразу же после свадьбы я хочу уехать куда-нибудь на медовый месяц. – Тогда пусть будет февраль! Это предел, который я себе установил. А потом – свадьба и долгое свадебное путешествие. Мы объедем весь земной шар. – Правда, кругосветное? То есть не просто Лондон, Париж и Рим? Но и Восток, Индия, Греция, Испания? – Так я и думал. – Он пристально посмотрел на нее. – Я заметил, что ты помешалась на Испании. О’кей, обшарим всю Испанию сверху донизу, вдоль и поперек. Мы отыщем твою Нили – обещаю тебе. Мысль о Нили постоянно угнетала ее. После скандала на телевидении и дисквалификации Нили весь год тихо просидела у себя в Калифорнии. Затем, под оглушительные раскаты рекламных фанфар она заключила контракт с крупнейшей студией страны на главную роль в цветном двухсерийном фильме. Худенькая, стройная, полная энергии, сверкающая белозубой улыбкой, она была в центре всеобщего внимания. Возвращение Нили О’Хара стало крупнейшим событием сезона. Однако спустя несколько недель после начала съемок в печать стали просачиваться привычные, хотя поначалу и робкие слухи: съемки задерживаются из-за Нили… у Нили боли в спине… у Нили ларингит… Затем разорвалась бомба: все отснятое смыли, убытки оценивались в полмиллиона! Вновь на Нили повесили ярлык ненадежной и не умеющей работать актрисы. Ходили даже слухи, что у нее пропал голос. Спустя несколько дней, безо всякого предупреждения, она явилась к Анне на квартиру. Денег у нее не было, но ее адвокаты вели переговоры о продаже дома, тогда денег у нее будет куча. Анна согласилась, чтобы Нили переехала к ней, хотя и весьма опасалась, что это нарушит ее привычный ритм. Работа на телевидении приучила ее к строго упорядоченному, организованному образу жизни. Определенные часы отводились на заучивание сценариев, другие – на примерки, грим и на полный отдых, прежде чем предстать перед телекамерами. Переезд Нили больше всего напоминал разрушительный тайфун: непрестанно звонил телефон, непрерывной чередой валили газетчики, требующие интервью, вокруг дома кишели толпы поклонников. Но Анна понимала, что она нужна Нили и что все это продлится считанные недели. Недели, однако, растянулись в месяцы. В квартире царил беспорядок. Три служанки уволились одна за другой. Бродя по квартире в полубессознательном состоянии, Нили разбила лампу и сломала приставной столик. Анна то и дело спускала в унитаз содержимое пузырьков – «куколок», но у Нили, похоже, был поистине неиссякаемый запас и самые разнообразные тайники. Когда Нили выходила из наркотического забытья, она, зажав бутылку виски в руке, бродила по квартире с помутневшим взором, выкрикивая бессвязные проклятия в адрес Голливуда. На ее переезде от Анны настоял Кевин. Он снял для нее люкс в отеле, там она могла жить сколько угодно в качестве его гостьи. Когда поступили деньги за проданный дом, Нили таинственно исчезла из отеля. Несколько недель спустя обнаружилось, что она находится в полицейском участке в Гринич-Виллидж по обвинению в нарушении общественного порядка. Основанием явились жалобы на ее шумные вечеринки. На газетных фотографиях ее было почти невозможно узнать – растолстевшая, прыщавая, глаза красные, волосы спутанные. Анна бросилась к ней. Нили устроилась в респектабельном здании на Пятой авеню, но вскоре квартира стала выглядеть как дешевая меблирашка: повсюду валялись пустые бутылки из-под виски, почти вся мебель была поломана и покрыта пятнами от погашенных сигарет. Мятое постельное белье, похоже, никогда не менялось. Пахло какой-то кислятиной. – Анна, ну можно я опять с тобой буду жить, а? – заплетающимся языком умоляла она. – У меня куча денег. Ну не могу, не могу я одна. Потому и закатываю то и дело эти вечеринки. И вот полюбуйся, что эти жлобы натворили – а ведь когда я сняла ее, квартира была в превосходном состоянии. – Она горестно огляделась вокруг. – Хозяйка, у которой я ее снимаю, подает на меня в суд за нанесение ущерба, так что мне надо поскорее смываться отсюда… куда угодно. – Нили, ты должна взять себя в руки. Я говорила с твоими поверенными. У тебя по-прежнему громкое имя – ты могла бы сделать шоу на Бродвее. – Нет, на меня нельзя положиться, я ненадежная. Меня все боятся. – Не будут, если ты выправишься, если сделаешь шоу и докажешь, что на тебя можно положиться. – Я больше не могу петь, Анна. У меня все пропало. Главное, пропал голос. – Никто не смог бы петь, ведя такой образ жизни. И потом, тебе не следует курить, Нили. Ты куришь больше, чем я. Послушай, почему бы тебе не лечь в больницу на несколько дней… подлечиться немного. – Нет! Именно это предлагал доктор Гоулд, мой новый психиатр. Хочет, чтоб я уехала в Коннектикут в какую-то психушку. Стоит тысячу в месяц. Но я не психопатка, а просто несчастная женщина. – Конечно. Я имела в виду самую обычную больницу. Пусть отучат тебя от пилюль, упорядочат твою жизнь… Нет. Можно, я буду жить с тобой? Я буду хорошая. Никаких пилюль. Клянусь! Подобные клятвы Анна слышала и раньше, однако она пообещала Нили подумать. Выйдя от Нили, она позвонила ее врачу. Тот был глубоко озабочен. Он согласился, что несколько недель в больнице принесли бы пользу, однако это не снимало проблему – Нили требовалась радикальная психотерапия. В ту же ночь Нили исчезла. Возможно, она испугалась, что ее силой поместят в больницу. Никто ничего не знал. У нее было более ста тысяч долларов, но, судя по тому, как она транжирила деньги, даже этой суммы ей хватило бы ненадолго. Она оказалась в Лондоне, и английская пресса приветствовала ее появление на Британских островах огромными шапками на первых полосах. Прием был самый восторженный: Нили посещала званые вечера и банкеты, купалась в лучах славы. Она должна была выступить в «Палладиуме», но в последнюю минуту отказалась. Затем в газетах вдруг появились сообщения о ее успехе в Испании. Похоже было, она обосновалась именно там. Начала сниматься в фильме – предварительные отзывы были прекрасными, но на экраны он так и не вышел, и спустя некоторое время сообщения о ней постепенно сошли с газетных страниц. Письма Анны возвращались назад со штампом «Адресат выбыл». Казалось, Нили исчезла навсегда. (обратно) (обратно)Дженифер
1960
 Дженифер прилетела в Нью-Йорк в конце ноября без какой-либо помпы, и ее звонок оказался для Анны полной неожиданностью.
– Мне нужно тебя видеть, – живо проговорила Дженифер. – Я остановилась в «Шерри».
– Сейчас приеду. Случилось что-нибудь?
– Нет, все отлично, изумительно! Анна, я читала, что Кевин продает фирму. Когда будет свадьба?
– Мы ориентируемся на пятнадцатое февраля.
– Отлично. Возможно, у нас будет двойное торжество.
– О-о, разумеется, мы… Что?! Джен, что ты сказала?
– Приезжай. Я же говорю через коммутатор отеля, понимаешь?
Дженифер прилетела в Нью-Йорк в конце ноября без какой-либо помпы, и ее звонок оказался для Анны полной неожиданностью.
– Мне нужно тебя видеть, – живо проговорила Дженифер. – Я остановилась в «Шерри».
– Сейчас приеду. Случилось что-нибудь?
– Нет, все отлично, изумительно! Анна, я читала, что Кевин продает фирму. Когда будет свадьба?
– Мы ориентируемся на пятнадцатое февраля.
– Отлично. Возможно, у нас будет двойное торжество.
– О-о, разумеется, мы… Что?! Джен, что ты сказала?
– Приезжай. Я же говорю через коммутатор отеля, понимаешь?
* * *
Дженифер ожидала Анну с нетерпением. – У меня припасены сандвичи и кока-кола. Посидим, как в былые времена, поболтаем. Время у тебя есть? – Целый вечер. Кто он, Джен? Говори, не томи! Глаза Дженифер сияли. – Ах, Анна, я такая счастливая! Меня даже не волнует, что в пятницу на следующей неделе мне исполнится сорок. Цикл у меня по-прежнему в норме, так что детей иметь я еще смогу, да и потом… ну, в общем, то, что мне сорок, значения теперь не имеет. «Сорок»! Это слово прозвучало для Анны как неожиданное потрясение. Дженифер уже сорок! Анна вспомнила, что она считала Элен старой в ее сорок лет, а ее собственная мать в сорок два года вся высохла. А у Дженифер по-прежнему бесподобная фигура и упругая кожа. На вид ей лет двадцать пять. – Помнишь, как я присутствовала на крупном собрании республиканской партии в Вашингтоне, прямо перед съездом? – спросила Дженифер. Анна рассмеялась. – Помню ли я? Кевин уверяет, будто это ты виновата, что к власти пришли демократы. Дженифер широко улыбнулась. – Ну, это все делалось для рекламы киностудии. Мне хотелось чем-то отблагодарить их за то, что они помогли мне избавиться от контракта с Клодом. Это влетело им в кругленькую сумму, но они пошли на это, чтобы сделать меня счастливой. – Ее всю передернуло. – Ну и досталось же мне от этого деспота. Я была для него просто куском мяса, который можно выгодно продать. На студии ко мне, конечно, такое же отношение, но они, по крайней мере, более тактичны и обставляют все гораздо деликатнее. Даже делают вид, будто у меня есть талант, – расхохоталась она. – Полно, Джен. В последней картине ты сыграла великолепно. – Мне тоже показалось, что неплохо. Это моя первая серьезная роль. Но эта картина не окупается. – Это ровным счетом ничего не значит. Даже с самыми крупными звездами фильмы сплошь и рядом постоянно оказываются убыточными. По данным опроса за прошлый месяц твои фильмы занимают третье место по кассовым сборам. Дженифер пожала плечами. – Послушай, если бы я не встретила его, я была бы сейчас в шоковом состоянии. На студии все в трансе из-за того, что картина не окупилась, и сейчас лихорадочно ищут лучших сценаристов для моей следующей картины… лучшего режиссера… – Она пожала плечами. – Но сейчас все это мне абсолютно безразлично. Сегодня утром яобнаружила под глазами две морщинки, но даже это меня ни чуточки не волнует. – Так кто же он? – спросила Анна. Дженифер отодвинула сандвич, так и не притронувшись к нему. – Ты помнишь ту вечеринку с танцами в Вашингтоне? Он был там. Мы встречались с ним на всех приемах. Был всегда мил, но отнюдь не падал к моим ногам, как все остальные. Держался на расстоянии, был вежлив, но… Анна начала выходить из себя. – Джен, не томи, КТО он? Дженифер прищурилась. – Уинстон Адамс. – Она ждала ответной реакции. Анна едва удержалась от громкого возгласа. – Ты имеешь в виду с е н а т о р а? Дженифер кивнула. – Ты и… Уинстон Адамс! Дженифер вскочила со стула, подпрыгнула и закружилась по комнате. – Да! Уинстон Адамс, сенатор. Его имя – в Светском календаре [57], миллионер из семьи потомственных миллионеров. Но, Анна, даже не имей он ни цента, мне это было бы все равно. Я люблю его. Анна откинулась в кресле. Уинстон Адамс! Лет под пятьдесят, привлекательный, умен и невероятно популярен. – Но, Джен, я слышала, что республиканцы возлагают на него большие надежды, и собираются предложить ему крупный политический пост… Дженифер кивнула. – Собираются. А он хочет от всего этого отказаться ради меня. – Как у вас все произошло? Взгляд Дженифер затуманился. – Ну, я уже говорила – мы познакомились. Я знакома с десятками сенаторов, со всеми ними фотографировалась – ты бы поразилась, какие они хитрые. Играют почище любого актера. Кроме Уинстона Адамса – он отказался сфотографироваться со мной. – Молодец! – заметила Анна. – Это был хороший способ привлечь твое внимание. Дженифер отрицательно помотала головой. – Он не рисовался. В день моего отъезда, когда закончилась вся эта пропагандистская шумиха, он позвонил мне. Сказал, что хочет поговорить со мной и пригласил поужинать. В тот вечер я пришла к нему домой. Думала, что будет большой званый ужин, но мы оказались одни. – В душе он, должно быть, демократ, – улыбнулась Анна. – У нас ничего не было. Я имею в виду секс – он даже не пытался. В квартире все время был слуга – глаза он нам, правда, не мозолил, но его присутствие постоянно ощущалось. Уинстон объяснил мне, что, отказавшись сфотографироваться со мной, он вовсе не хотел показаться невежливым, а просто не любит ничего подобного. Потом мы долго беседовали. Задал мне массу вопросов; и вышло так, что говорила все время я, а он только слушал. В молодости он учился в Сорбонне и поинтересовался, сильно ли изменился Париж после войны. – Почему ты держала все это в такой тайне? – спросила Анна. – Ведь он не женат. Дженифер счастливо улыбнулась. – Больше это не тайна. На прошлой неделе исполнилось два года со дня смерти его жены. Он считал, что объявлять обо всем раньше этого срока не вполне прилично. – Да, верно. Они были очень преданы друг другу. – Только внешне. Это был один из тех браков для приличия, когда сохраняется только видимость супружеских отношений. Такой же, как был бы у тебя, если бы ты всю жизнь прожила в Лоренсвилле. Они оба были из богатых чванливых семей. Тогда он думал, что любит ее. Но она относилась к фригидному типу женщин и ненавидела секс. Хотя для меня это в нем не главное, – быстро добавила она. – Он встречался со мной два месяца и даже ни разу не попытался. Мы уезжали и встречались с ним в городах подальше отсюда – в Канзас-Сити, в Чикаго… Я была в черном парике. Потом он приехал на неделю в Калифорнию, и там у нас было все! Анна, он изумительный. Такой нежный. Он любит меня, но именно меня саму! Он был поражен, когда увидел мою обнаженную грудь – оказывается, он все это время считал, что я ношу лифчик с армированием: он ведь не видел ни одного моего французского фильма. Анна, это первый мужчина в моей жизни, который полюбил именно меня, а не мое тело. И он был так робок: сначала даже боялся прикоснуться к моей груди. Но я научила его, и теперь – ой, здорово! – Он открыл для себя мир секса, – улыбнулась Анна. – «Открыл»? Он ведет себя так, словно сам изобрел его. Но, понимаешь, я не возражаю против этого, потому что с самого начала его влекло ко мне без всякого секса. И, Анна, он хочет детей. Его жена была плоскогрудой любительницей верховой езды из Мэриленда, детей у нее так и не было. – Но, Джен, ведь он уже немолод… и почему ты настолько уверена, что сможешь забеременеть? – Понимаешь, у меня было семь абортов. Мой организм постоянно готов к беременности, требует ее. А когда я сказала Уину, что хочу оставить кино и нарожать детей, он даже заплакал от счастья, по-настоящему заплакал, Анна. Он понял, что жизнь обделила его тем, что он больше всего хотел, – лишила его детей и женщины, которую он смог бы полюбить. Вот почему он с головой ушел в свою политическую деятельность. Ему ровным счетом наплевать на политическую карьеру. Он говорит, что республиканцы все равно не добьются победы на президентских выборах – по крайней мере, в ближайшие восемь лет, – и что его отзовут из Сената уже за одно то, что он женится на кинозвезде. Просто он хочет того же, что и я, – свой дом и детей. – Уинстон знает, сколько тебе лет на самом деле? Дженифер счастливо кивнула. – Это привело его в неописуемый восторг. Разумеется, я не сказала ему о маленьких рубчиках у меня за ушами, чтобы не пугать его. Он склонен думать, что я родом из Шангри-Ла [58]. Но он обрадовался, что мне не двадцать с чем-то. Думал, я сочту его слишком старым. А однажды, когда я гостила у него на ферме и постоянно ходила там с простыми косичками и без всякой косметики, он сказал, что я выгляжу потрясающе. Ах, Анна, все так замечательно. На следующей неделе я лечу в Калифорнию и произвожу там эффект разорвавшейся бомбы: следующую картину, так и быть, закончу – уже сделаны натурные съемки, сшиты костюмы, но после этого – все! Пусть хоть удавятся. Я подо всем подвожу черту. – Когда вы поженитесь? – С сегодняшнего вечера мы будем открыто появляться вместе. Сначала идем в театр, потом на званый ужин в «21» с сенатором Белсоном и его женой. Вероятно, попадем во все завтрашние газеты, и Уин скромно признается, что мы помолвлены. Анна улыбнулась. – Я, наверное, увижу вас сегодня. Мы тоже идем в «21». Это будет поздний обед, так что мы, вероятно, будем еще там, когда вы приедете. У нас ничего интересного не будет – так, один из этих скучных обедов с некоторыми из покупателей компании Кевина. Дженифер порывисто сжала руку Анны. – Ах, подружка, ну разве это не замечательно! Мы обе прорвались на самый верх, у каждой из нас есть все – успех, уверенность в будущем, человек, которого любишь и уважаешь. Анна улыбалась, однако чувствовала, как на нее наваливается становящаяся уже привычной тяжесть. В тот вечер она видела их в «21». Дженифер вся сияла от счастья, и Анне пришлось признать, что сенатор Адамс – действительно импозантный мужчина. Высокий, с коротко постриженными волосами седовато-стального цвета, с плоским животом, что говорило о ежедневных тренировках в спортивном зале. Дженифер подошла к их столику. Они представили своих спутников, после чего сенатор всячески старался сделать Анне как можно больше приятного. – У меня такое ощущение, что я давно вас знаю, – сказал он ей. – Так часто вижу вас по телевидению, да и Дженифер постоянно о вас говорит. Весь вечер Анна внимательно наблюдала за Дженифер. Та не сводила глаз с сенатора. Они у нее лучились нежностью, это были глаза влюбленной женщины. Анна даже позавидовала Дженифер. Она посмотрела на Кевина. Слава богу, что он выздоровел. Такой хороший и добрый. Боже, ну почему, почему она не испытывает к нему ни малейшего чувства? Если бы оно у нее было, она давным-давно вышла бы за него. Вспомнить только, как она обхаживала Лайона, даже предлагала ему жить на ее деньги. Но к Лайону ее привязывало нечто большее, чем просто секс, ей хотелось быть рядом с ним каждую минуту, жить его мыслями… «Боже мой, ну что я делаю, зачем извожу себя, – думала она. – Никакого Лайона больше нет. Как говорит Генри, я влюблена в созданный мною же образ…» На следующий день все газеты сообщили о Дженифер на первых полосах. А сенатор Уинстон Адамс признал, что они поженятся в начале 1961 года. Подхваченная водоворотом исступленной радости и волнения, пронизывающих все ее существо, в сопровождении несущихся за нею вдогонку крупных газетных заголовков, она вернулась на Западное побережье сниматься в своей последней картине. (обратно)1961
Дженифер вернулась в Нью-Йорк в начале января. Сенатор Адамс на несколько дней задерживался в Вашингтоне, и Анна ходила с Дженифер по магазинам, где та придирчиво выбирала себе приданое. – Все должно быть особенное, – утверждала она. – Яркое, броское, но, понимаешь, вместе с тем и приглушенное. Ты должна помочь мне, Анна. Они были в примерочной «Бергдорфа», когда Дженифер вдруг неожиданно привалилась к стене. – Анна, у тебя есть с собой анальгин? Лицо ее стало мертвенно-бледным, зрачки расширились. Продавщица бросилась за анальгином. Дженифер опустилась на стул. – Ну что ты так испугалась, Анна? – Она вымученно улыбнулась. – Это всего лишь месячные. Пришли раньше срока; от всех этих волнений, наверное. Анна успокоилась. – Ты меня до смерти перепугала. Дженифер закурила сигарету. – Сейчас отпустило. Но боль такая, словно все кости ломают. Вероятно, нечто подобное испытываешь при родах. Если это так, то надо будет подыскать хорошего анестезиолога, когда настанет время рожать. Вернулась продавщица с анальгином, следом вбежала обеспокоенная заведующая секцией. – И у меня все время так, – сказала она. – Прямо хоть на стенку лезь. Слава богу, что это случается только раз в месяц. – Вам везет, – ответила ей Дженифер. – А у меня в последнее время они приходят каждые две-три недели. Женщина покачала головой. – У моей подруги меняется цикл. Месяцами ничего нет, и она до того переживает, что даже слегла на этой почве. Дженифер выбрала себе три платья. Заведующая поблагодарила ее, попросила автограф для племянницы и пожелала ей всего доброго. Некоторое время спустя, когда они сидели в кафе и пили кока-колу, Анна как бы мимоходом спросила: – Кстати, Джен, когда ты проверялась последний раз? Дженифер задумалась. – Так, подожди, последний аборт у меня был в Швеции – там они разрешены – значит, четыре года назад. Доктор сказал, что здоровье у меня отменное. – Знаешь, тебе не мешает сходить провериться. У меня замечательный врач. Дженифер кивнула. – Может быть, и схожу.* * *
Заполняя карту, доктор Галенс держался спокойно и непринужденно. Осмотр закончился, Дженифер уже оделась и теперь сидела у его письменного стола. – Давно это у вас? – спросил он. – Несколько месяцев. Я бы и не думала об этом, но Анна меня то и дело тормошит. Кроме того, менструация длится по десять дней. На следующей неделе я выхожу замуж и просто хотела быть уверенной, что у меня все в порядке. Ведь я намерена сразу же забеременеть и родить. Он кивнул. – Сенатор сейчас в Нью-Йорке? – Нет, в Вашингтоне и приедет сюда на следующей неделе. – Тогда, возможно, вы ляжете в больницу сегодня? – Сегодня? – Дженифер раздавила в пепельнице свою сигарету. – У меня что-то серьезное? – Вовсе нет. Если бы на следующей неделе вы не планировали выходить замуж, я бы предложил вам подождать наступления следующей менструации и понаблюдать ее прохождение. У вас полипы в матке, это встречается довольно часто. Вы ляжете к нам сегодня, завтра мы сделаем чистку, а послезавтра вас выпишут. Несколько дней будут идти выделения, но если вы ляжете к нам сейчас, то ко дню свадьбы будете в полном порядке. Встревоженная Анна связалась с доктором Галенсом. Тот ничего не утаил от Дженифер. Самое заурядное заболевание. Она помогла Дженифер собрать сумку и проводила ее в больницу. Анна сидела в пустом приемном покое, Дженифер уже увели наверх. Она была рада, что у Дженифер ничего серьезного, – ведь ей так хочется ребенка. И она заслужила его. Интересно… несмотря на всю их близость, Джен так и не рассказала, почему она избавилась от ребенка Тони. Доктор Галенс спустился к ней через час. Анна сразу почувствовала что-то неладное. – Сейчас она спит под наркозом, – сказал он. – Что у нее? – спросила Анна. – Я чувствую, тут что-то не так. У нее не просто полипы? – У нее оказались именно полипы, как я и думал. С точки зрения гинекологии, у нее все нормально, – сказал он. – Но, проверяя сердечную деятельность, анестезиолог обнаружил у нее в одной груди уплотнение размером с грецкий орех. Она, должно быть, знала об этом. Анна ощутила во всем теле внезапную слабость. – Но ведь очень часто уплотнение ничего не значит. Я имею в виду, что это может быть просто киста и ничего больше, правда? – Я удалил это уплотнение – надрез крохотный, шрам будет совсем незаметен – и сразу же отправил ткань на биопсию. Анна, это образование оказалось злокачественным. Завтра же ее нужно класть на операцию и удалять грудь. Анна похолодела от ужаса. О боже! Ну почему именно Дженифер? И почему именно сейчас? Она почувствовала, как по щекам ручьем потекли слезы. – Скажите ей сами, – прорыдала она. – Я не смогу.* * *
Дженифер медленно открыла глаза, пытаясь отогнать сон. Все позади. Она улыбнулась медсестре, которая неясным белым пятном маячила рядом. – Все в порядке? – Вот доктор Галенс, – приветливо сказала сестра. Он осторожно пощупал ей лоб. – Пришли в себя? – Ммммм… скажите, доктор, у меня действительно были полипы, как вы и думали, да? – Да, по этой линии у вас теперь все в порядке, Дженифер, но почему вы не сказали мне, что у вас в груди было уплотнение? Она инстинктивно коснулась груди – пальцы наткнулись на повязку. – Я удалил его. Давно оно у вас? – Не-е зна-аю… – У нее опять закружилась голова… – Может, с год… может, больше. – Спите. Поговорим об этом потом. Несмотря на сонную одурь от наркоза, ее пронзило острое чувство страха. Протянув руку, она схватила его за рукав. – О чем «поговорим потом»? – Боюсь, завтра мне придется опять привезти вас сюда… и удалить кое-что еще. – «Удалить»? Что именно? – Нам придется произвести мастэктомию. Ее выполнит доктор Ричарде, один из наших лучших грудных хирургов. – «Маст…», как вы сказали? – Мы вынуждены удалить вам грудь, Дженифер. Это уплотнение оказалось злокачественным. Она попыталась сесть в кровати. – Нет! Ни за что! О боже мой, нет! – Голова у нее закружилась, она упала на подушки. Что-то кольнуло ее в руку, и она забылась в беспокойном, тревожном сне. Спустя некоторое время она проснулась и умоляюще схватила за руку медсестру. – Это был сон, правда? Мне это просто приснилось от лекарств, да? Что он говорил про мою грудь? Скажите мне… – Ну-ну… успокойтесь, – мягко проговорила сестра. Она увидела сочувственное выражение на лице женщины. Значит, это был не сон. Боже, значит, это правда!* * *
Анна ворвалась в кабинет к Кевину и, рыдая, рассказала ему все. Спокойно выслушав ее, он спросил: – Сказал ли доктор Галенс, что прогноз обнадеживающий? Анна непонимающе посмотрела на него. – «Обнадеживающий»? Ты что, не понял ни слова из того, что я тебе говорила? – Все понял, ей придется лишиться груди. Это ужасно, но это еще не конец света. Анна, ты знаешь, сколько женщин живут долго и счастливо после успешного удаления груди? Главное – вовремя обнаружить опухоль. Она благодарно посмотрела на него. В этом весь Кевин: всегда владеет ситуацией, во всем находит положительную сторону. Он позвонил доктору Галенсу. Тот ответил, что есть все основания полагать, что прогноз будет благоприятный. Доктор Ричарде того же мнения. Опухоль небольшая, а процент благоприятных исходов при удалении груди весьма высок. Если отсутствуют метастазы, то прогноз будет вообще превосходным, но определить это можно будет лишь после удаления груди и обследования лимфатических узлов. Успокоенная деловой реакцией Кевина, Анна вернулась в больницу. Дженифер уже полностью проснулась, но была замкнутой и апатичной. Вынув из-под одеяла руку она схватила Анну, сильно сжав ей пальцы. – Доктор Галенс вызвал Уина, – прошептала она. – Он немедленно вылетает сюда. – Он сообщил ему? – спросила Анна. Дженифер покачала головой. – Я не велела говорить ему ни слова. Я чувствую, что должна сделать это сама. – Она слабо улыбнулась сестре. – Мне хорошо. Оставьте нас, пожалуйста, наедине с подругой. – Не давайте ей ничего пить в течение, по крайней мере, двух часов, – сказала та. – Желаете, чтобы сегодня вечером около вас дежурила сестра? – Нет, ведь операция еще завтра, а доктор Галенс распорядился, что круглосуточное дежурство будет только после. Сейчас мне хорошо – оставьте нас, пожалуйста, вдвоем. Она проследила, как сестра выходит из палаты, и едва за той закрылась дверь, спрыгнула с кровати. – Что ты делаешь? – встревожилась Анна. – Убегаю отсюда. Прямо сейчас! Анна схватила ее за руку. – Дженифер, ты с ума сошла. – Послушай, им не удастся обезобразить мою фигуру. Ну разве захочет Уин тогда подойти ко мне? – Ты же сама говорила, что он полюбил тебя, а не твою грудь. Перестань, это просто смешно. Но Дженифер уже стояла у шкафа, доставая свою одежду. – Я убегаю отсюда. Дам себе шанс. Он удалил мне опухоль, но отнимать грудь я ему не дам! – Дженифер, только таким путем можно удостовериться наверняка. Опухоль могла перекинуться на другую грудь. – Мне все равно. Плохо уже то, что я не смогу родить Уину детей, но я ни за что не предстану перед ним с изуродованной фигурой. – Если ты уйдешь, это будет настоящее самоубийство. Подумай, разве это честно по отношению к Уину? Выйти за него замуж, а через год заставить его снова переживать такое: ведь его первая жена была тяжело больна. И какое отношение это заболевание имеет к рождению ребенка? Ты все равно сможешь иметь детей. – Но мне нельзя беременеть, так сказал доктор Галенс. Беременность может спровоцировать развитие злокачественной опухоли в яичниках. Существует какая-то связь между молочной железой и яичниками. И вообще он сказал, что после операции лучше подвергнуть мои яичники рентгеновскому облучению, чтобы полностью их стерилизовать! Что я тогда смогу предложить Уину? Ни детей… одно только обезображенное тело… – Ты отдаешь ему себя! Это все, чего он действительно хочет. Послушай, ты же говорила, что тебе надоело жить только ради своего тела и фигуры. Вот и докажи это. А если хочешь детей, можешь кого-нибудь усыновить. Дженифер медленно легла на кровать. Анна зачастила: – Никто ничего не будет знать – только ты и Уин. Он будет любить тебя и не станет упрекать за отсутствие детей. Я просто уверена в этом. А если вы усыновите ребенка, он будет для вас все равно что ваш собственный. Операция же не представит собой ничего серьезного. Честно, Джен, ведь сейчас придумали столько всяких обезболивающих средств. А сколько замечательных бюстгальтеров, можно использовать накладной бюст. Джен, это не конец света. – Знаешь, это смешно. Всю мою жизнь слово «рак» означало смерть, что-то настолько ужасное, что я вся сжималась от страха. И вот сейчас он у меня самой. А смешное заключается в том, что я нисколечко не боюсь рака самого по себе, даже если мне будет вынесен смертный приговор. Дело лишь в том, что он может повредить моей с Уином совместной жизни – я не смогу подарить ему детей. К тому же – изуродованная фигура… – Это будет незаметно, Джен. Люди попадают в автомобильные катастрофы, становятся калеками. Некоторые женщины плоскогруды от природы, и ничего – обходятся. Ведь ты же сама постоянно твердила, что не желаешь жить ради своего тела. Соберись с силами, наберись мужества, поверь в себя и начни доказывать это. И начни верить в Уина. Дженифер слабо улыбнулась. – О’кей, тогда я лучше сниму эту больничную рубашку, а ты принеси мне всю мою косметику. Хочу выглядеть как можно лучше, когда приедет Уин. – Она села в кровати и принялась расчесывать волосы. Облачившись в прозрачную ночную рубашку, она внимательно посмотрела на слегка забинтованную грудь. – Прощай, малышка, – сказала она. – Ты еще не знаешь этого, но больше тебя со мной не будет.* * *
Кевин поехал в больницу вместе с Анной, в семь часов туда приехал Уинстон Адамс. Анна заранее установила освещение. Во всех мельчайших деталях Дженифер выглядела, как настоящая кинозвезда, она была почти радостной. Поздоровавшись с сенатором, Кевин и Анна удалились. Как только они ушли, Уинстон бросился к кровати и обнял Дженифер. – Бог мой, я чуть не умер от страха. Врач так странно говорил по телефону… сказал, что тебе необходима операция, намекал, что свадьбу, наверное, придется отложить. И вот, ты передо мной… такая красивая… Что эта за операция, дорогая? Дженифер пристально посмотрела на него. – Очень серьезная, Уин. Останутся шрамы, и я не смогу иметь детей… и еще я буду… – Молчи… ни слова больше. – Он с обожанием смотрел на нее. – Можно, я тебе что-то скажу? Я носился с этим только ради тебя. С детьми, имею в виду. В моем возрасте это уже не имеет особого значения. Мне казалось, что тебе этого сильно хотелось, и я делал вид, будто для меня это тоже существенно. Мне нужна только ты, неужели тебе непонятно?.. Она еще крепче прижалась к нему. – Ах, Уин! – Слезы облегчения заструились по ее щекам. Он погладил ее по голове. – Ведь ты же не боялась, что потеряешь меня? О моя красавица, ты никогда меня не потеряешь. Неужели ты не понимаешь, что я только и начал жить благодаря тебе? – Он поцеловал ее груди сквозь прозрачную ткань. – Ты – это все, чего я хочу… не детей, а тебя… ты – единственная женщина, которая что-то разбудила во мне. Бог мои, Дженифер, до того, как я узнал тебя, я думал, во мне чего-то не хватает. Винил во всем Элеонору. Бедная Элеонора, она была тут совершенно ни при чем. Она ничего не вызывала во мне, а я, вероятно, тоже оставлял ее холодной. Но с тобой… Вначале, когда мы познакомились, я отворачивался от тебя, помнишь? Она кивнула и погладила его голову, покоящуюся у нее на груди. Он поцеловал ее в шею. – Но ты изменила меня, заставила понять, что я не тебя избегал, а просто боялся и бежал от себя самого. И едва ты вошла в мою квартиру, я уже знал, что у нас с тобой все будет по-другому. Дженифер, ты научила меня любить. Я никогда не смог бы теперь отказаться от этого. – Он начал ласкать ее груди. – Вот мои дети, – с нежностью произнес он. – Единственные дети, которых я хочу. Прижиматься лицом к этому совершенству каждую ночь… – Он осекся, задев пальцем за бинт. – Что такое? Что они сделали с одной из моих крошек? Улыбка на ее лице застыла, словно приклеенная. – Так, ничего… Была небольшая киста… – Но ведь шрама не останется! – Он пришел в неописуемый ужас. – Нет, Уинстон, мне ее извлекли с помощью иглы. Никакого шрама не будет. – Это самое главное. Пусть удаляют даже яичники – мне совершенно безразлично. Это не ты – я ведь никогда не видел их. Лишь бы не трогали моих крошек… – Он опять начал ласкать ее груди. – И почему этот доктор говорил по телефону таким мрачным голосом? Не стал мне ничего объяснять, велел только быстрее приезжать. – Он… он знал, что я хочу детей… и… – Почему же он просто не сказал, что тебе необходимо удалить матку? – Он покачал головой. – Эти доктора, вечно они перестраховываются и сгущают краски. Но я рад, что приехал. Уеду и буду представлять, как держу тебя в своих объятиях. – Он прижал ее к себе. – Хочу сохранить это воспоминание. Я не смогу вернуться раньше пятницы. – Он написал номер телефона. – Скажи Анне, чтобы позвонила мне сразу же после операции. Если меня не будет на месте, мне передадут. Он остановился в дверях и посмотрел на нее так пристально, словно видел впервые. – Я люблю тебя, Дженифер… только тебя – ты ведь веришь мне, правда? Она улыбнулась. – Да, Уин, я знаю… И долго еще после его ухода эта застывшая улыбка не сходила с ее лица.* * *
В полночь к ней зашел доктор Галенс. – Мы начнем в восемь утра, – ободряюще сказал он. – И, Дженифер… все будет в порядке. Она улыбнулась. – Конечно, все будет в порядке. В три часа ночи Дженифер соскользнула с кровати и тихо приоткрыла дверь. Больничный коридор был едва освещен, но она разглядела медсестру около лифта. Она прикрыла дверь и быстро оделась. Слава богу, что она пришла сюда в брюках и теплом пальто, чтобы сбить с толку фоторепортеров. Она взяла косынку и повязала голову. Затем на цыпочках вышла в коридор, прокралась по стене и спряталась в нише, где стоял титан. Дежурная сестра сидела за столом и что-то записывала в тетрадь. Пройти к лифту, минуя ее, было невозможно. Оставалось стоять в нише и надеяться, что рано или поздно сестра покинет свой пост. Приходилось только молиться, чтобы никто не обнаружил, где она прячется. Большие часы на стене громко тикали, а сестра все писала и писала что-то в свою тетрадь. По шее Дженифер заструился пот. Она ощутила, как ее овевают потоки тепла, словно она стоит у печки. Черт-это батарея отопления. Внезапно раздался звонок. О, слава богу, звонит какой-то пациент! Но сестра продолжала писать. Оглохла она, что ли? Звонок опять зазвенел, на этот раз, более настойчиво. «Ну иди же, иди!» – безмолвно кричала Дженифер. Словно в ответ на ее молчаливую мольбу звонок звенел опять и теперь звенел не умолкая. Сестра поднялась, словно в летаргическом сне, посмотрела на номер палаты, обозначенный загоревшимся глазком, и пошла по коридору. Проследив, как та зашла в палату, Дженифер быстро побежала к лифту. «Нет, пройдет слишком много времени, пока он подойдет, да и шуметь будет. Лестница…» Она сбежала вниз на восемь пролетов. Добежав до вестибюля, она еле отдышалась. Осторожно огляделась по сторонам – никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Лифтер курил, разговаривая с регистратором. Выбежав на улицу, она прошла несколько кварталов пешком, прежде чем остановила такси. К себе в отель она добралась в четыре часа утра.* * *
Обнаружив на следующее утро, что палата пуста, сестра немедленно сообщила об этом доктору Галенсу, и тот сразу же позвонил Дженифер в отель. Ее номер не отвечал, и он настоял, чтобы помощник управляющего распорядился взломать дверь. Она лежала на кровати в самом красивом своем платье и в полном сценическом гриме, зажав в руке пустой пузырек из-под снотворного. На столе лежали две записки. В той, что была адресована Анне, говорилось:«Анна! Ни один бальзамировщик не смог бы наложить мне грим так, как это умею я сама. Слава богу, что у меня есть „куколки“. Извини, что не смогу быть на твоей свадьбе. Я люблю тебя. Джен».В записке Уинстону Адамсу было написано:
«Дорогой Уин! Я была вынуждена уйти, чтобы спасти твоих крошек. Спасибо тебе за то, что все почти сбылось. Дженифер».Сенатор Адамс никак не объяснил содержание записки. Когда его обступили репортеры, он скупо произнес: – Никаких комментариев. Анна тоже не раскрыла рта. Доктор Галенс наотрез отказался обсуждать заболевание Дженифер. За день до смерти она перенесла незначительную операцию, ничего больше он добавить не может. Похороны были сплошным кошмаром. Обезумевшие толпы запрудили площадь перед церковью, движение на Пятой авеню было заблокировано. Для наведения порядка и восстановления движения вызвали конную полицию. В газетах публиковалась биография Дженифер, на первых полосах помещалась фотография Анны. В довершение всей этой лихорадочной сумятицы приехала мать Дженифер; она рассказывала каждому мало-мальски заинтересованному репортеру историю о Золушке, принималась рыдать по всякому поводу и требовала составить опись всей одежды, мехов и драгоценностей Дженифер. Анна могла бы заняться матерью Дженифер, но появление Клода Шардо вызвало новые осложнения. Он предъявил ее завещание и, пока Генри Бэллами лихорадочно искал более позднее завещание, успел объявить себя законным наследником. Наконец, как кульминация всего этого кошмара, явилась Нили О’Хара. Она была вне себя от отчаяния, что не успела на похороны. Перед этим она находилась в Испании. Она стала жить у Анны, сразу же переключив все внимание прессы на себя. Газеты оставили Дженифер и перешли на Нили, которая сделалась болезненно худой и очаровательной. Она горела желанием приступить к работе, но, разумеется, лишь после того, как придет в себя от этого ужасного события с Дженифер. Каким-то непостижимым образом все это время Анне удавалось не сходить с телеэкрана. Теперь она записывала рекламные программы, и новые владельцы компании умоляли ее продолжать участвовать в передачах, суля небывалые гонорары. То, что она оказалась замешана в трагической истории Дженифер, способствовало росту ее собственной популярности. Свадьбу они с Кевином перенесли на апрель. Прошло три недели, прежде чем ажиотаж в прессе понемногу утих. Затем, после двух дней молчания, двух дней, в течение которых имя Дженифер не упоминалось в прессе, газеты взорвались новыми шапками. Сенатор Уинстон Адамс ушел с политического небосклона. Он перенес сильное нервное потрясение и намеревался целый год посвятить путешествиям. Самоубийство Дженифер стало обрастать новыми досужими домыслами. Доктор Галенс был встревожен. Да, он в конце концов раскрыл сенатору характер заболевания Дженифер: как жених покойной тот имел право знать правду. Но она предназначалась для сенатора, а не для прессы. Записав несколько рекламных передач, Анна сбежала с Кевином в Палм-Бич. Для нее это была одна из самых прекрасных недель за несколько последних лет. К тому же это Дало ей возможность избежать истерии, связанной с первым появлением Нили на телеэкране. Новый поверенный Нили заключил для нее, как для зарубежной звезды, контракт на участие в эстрадном шоу с ведущими американскими исполнителями за умопомрачительный гонорар. Передача шла не в прямом эфире, а в записи, так Нили чувствовала себя уверенней. Анна смотрела это шоу по телевизору в Палм-Бич. Нили была неподражаема. Великолепно было все – голос звучал идеально, вся она излучала какое-то сияние, глаза горели словно уголья. Нили была уже не ребенок, но озорная шаловливость по-прежнему сохранялась в ее манере исполнения. Дрожащие губы, нервический смех, девчоночье желание угодить – все это было видно невооруженным глазом. Это казалось невероятным, но она выглядела лучше, чем когда-либо. Опять раздавались громогласные характеристики: «гениальная актриса», «живая легенда». Это было яркое, ошеломляющее возвращение на Олимп. Она подписала контракт на картину в Голливуде. Нили вновь была на вершине славы. (обратно) (обратно)
Нили
1961
 Нили небрежно бросала вещи в сумку.
– Куплю там новую одежду, – сказала она Анне. – Ну ее! Я вообще почти все свое барахло оставила в Испании, так могу же я хоть что-то оставить у тебя?
– Я, вероятно, выйду замуж до твоего возвращения, Нили, а потом отправлюсь в кругосветное путешествие. Квартиру на это время, видимо, сдам кому-нибудь.
– Ладно, тогда я все это забираю. Я как цыганка, ничего при себе, все разбросано по разным местам. Ну хорошо, раз так. А то бы я совсем без гроша осталась. Да, а что стало с деньгами Дженифер?
– Они все перешли к ее матери. То парижское завещание оказалось поддельным – Генри обнаружил в нем какие-то несоответствия. Клод будет получать пятьдесят процентов за повторный показ всех фильмов, снятых в то время, когда у нее был с ним контракт. Но все остальное переходит к ее матери. В основном, это драгоценности и меха. И на экран снова выпускаются ее фильмы. Но по-настоящему больших денег у Дженифер не оказалось.
Нили пожала плечами.
– Знаешь, для актрисы, совершенно лишенной таланта, она жила очень хорошо. Почему, ты думаешь, она сделала это? Я имею в виду самоубийство.
– Я уже говорила тебе, Нили, что не знаю.
– Так вот, я все вычислила. По-моему, ничего серьезного у нее не было. Слухи, конечно, ходят разные: одни думают, что у нее был туберкулез, и до меня даже дошло совершенно невероятное предположение, что у нее был неизлечимый рак. А я считаю, что она потому отравилась лекарством, что начала терять свою привлекательность.
– Но это же смешно! Дженифер была красивее, чем когда-либо.
– Но ведь ее последняя картина провалилась. Ну да, конечно, новая картина теперь принесет доход, раз такая реклама, но я слышала, и она тоже не бог весть что. Нет, она сходила со сцены, это точно.
– Нили, она вообще хотела уйти из кино, собиралась выйти замуж.
– Ну да, читала я в Испании всю эту чепуху, как она вдруг нашла настоящую любовь и все такое. Но, послушай, ведь этот сенатор вовсе не Рок Хадсон. Помню, в свое время Джен порядком надоело сиднем сидеть дома, хоть она и считалась женой Тони, а ведь тот был молодой и шикарный. Нет-нет, по-моему, она просто не могла свыкнуться с этой мыслью. Становилась старше, внешность ее вот-вот должна была поблекнуть, и она не смогла смириться с тем, что он всего-навсего сенатор. Вот и выпила пузырек снотворного. Ну а мне волноваться нечего. У меня есть талант, а толстая я или худая – значения не имеет. Возьми Элен Лоусон. На меня, она, разумеется, не похожа, на сцене держалась заученно, а сейчас, когда голос у нее пропал, отправляется в Калифорнию играть какую-то характерную роль в телесериале. Но и с таким голосом она все равно возьмет свое, потому что у нее есть талант.
– Элен возьмет свое потому, что не способна испытывать подлинно глубоких чувств, – медленно проговорила Анна. – Любое ее несчастье по своим размерам равняется несчастью ребенка. Стоит появиться новой игрушке – и оно проходит. Но любой голос – даже твой, Нили, надо беречь.
– Нет, мой голос идет у меня изнутри, от того, как я чувствую исполняемую вещь. И я поняла кое-что в жизни: мужчина тебя оставит, лицо твое постареет, твои дети вырастут и станут взрослыми, а все, что ты считала грандиозным и величественным, окажется мелким, ничего не значащим, ненужным и никчемным. Единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на саму себя и свой талант.
Нили небрежно бросала вещи в сумку.
– Куплю там новую одежду, – сказала она Анне. – Ну ее! Я вообще почти все свое барахло оставила в Испании, так могу же я хоть что-то оставить у тебя?
– Я, вероятно, выйду замуж до твоего возвращения, Нили, а потом отправлюсь в кругосветное путешествие. Квартиру на это время, видимо, сдам кому-нибудь.
– Ладно, тогда я все это забираю. Я как цыганка, ничего при себе, все разбросано по разным местам. Ну хорошо, раз так. А то бы я совсем без гроша осталась. Да, а что стало с деньгами Дженифер?
– Они все перешли к ее матери. То парижское завещание оказалось поддельным – Генри обнаружил в нем какие-то несоответствия. Клод будет получать пятьдесят процентов за повторный показ всех фильмов, снятых в то время, когда у нее был с ним контракт. Но все остальное переходит к ее матери. В основном, это драгоценности и меха. И на экран снова выпускаются ее фильмы. Но по-настоящему больших денег у Дженифер не оказалось.
Нили пожала плечами.
– Знаешь, для актрисы, совершенно лишенной таланта, она жила очень хорошо. Почему, ты думаешь, она сделала это? Я имею в виду самоубийство.
– Я уже говорила тебе, Нили, что не знаю.
– Так вот, я все вычислила. По-моему, ничего серьезного у нее не было. Слухи, конечно, ходят разные: одни думают, что у нее был туберкулез, и до меня даже дошло совершенно невероятное предположение, что у нее был неизлечимый рак. А я считаю, что она потому отравилась лекарством, что начала терять свою привлекательность.
– Но это же смешно! Дженифер была красивее, чем когда-либо.
– Но ведь ее последняя картина провалилась. Ну да, конечно, новая картина теперь принесет доход, раз такая реклама, но я слышала, и она тоже не бог весть что. Нет, она сходила со сцены, это точно.
– Нили, она вообще хотела уйти из кино, собиралась выйти замуж.
– Ну да, читала я в Испании всю эту чепуху, как она вдруг нашла настоящую любовь и все такое. Но, послушай, ведь этот сенатор вовсе не Рок Хадсон. Помню, в свое время Джен порядком надоело сиднем сидеть дома, хоть она и считалась женой Тони, а ведь тот был молодой и шикарный. Нет-нет, по-моему, она просто не могла свыкнуться с этой мыслью. Становилась старше, внешность ее вот-вот должна была поблекнуть, и она не смогла смириться с тем, что он всего-навсего сенатор. Вот и выпила пузырек снотворного. Ну а мне волноваться нечего. У меня есть талант, а толстая я или худая – значения не имеет. Возьми Элен Лоусон. На меня, она, разумеется, не похожа, на сцене держалась заученно, а сейчас, когда голос у нее пропал, отправляется в Калифорнию играть какую-то характерную роль в телесериале. Но и с таким голосом она все равно возьмет свое, потому что у нее есть талант.
– Элен возьмет свое потому, что не способна испытывать подлинно глубоких чувств, – медленно проговорила Анна. – Любое ее несчастье по своим размерам равняется несчастью ребенка. Стоит появиться новой игрушке – и оно проходит. Но любой голос – даже твой, Нили, надо беречь.
– Нет, мой голос идет у меня изнутри, от того, как я чувствую исполняемую вещь. И я поняла кое-что в жизни: мужчина тебя оставит, лицо твое постареет, твои дети вырастут и станут взрослыми, а все, что ты считала грандиозным и величественным, окажется мелким, ничего не значащим, ненужным и никчемным. Единственное, на что ты можешь рассчитывать, это на саму себя и свой талант.
* * *
Три недели спустя Нили вернулась. Она была на грани срыва. – Анна, на третий день записи у меня пропал голос. Я не могу петь! Анна пыталась успокоить ее. – Есть прекрасные специалисты по заболеваниям горла… Такое часто бывает с певцами. – Нет, мне конец, – завывала Нили. – Меня уже осматривали всякие доктора. У меня нет даже узелкового утолщения. Говорят, что это нервы, но дело не в том. Это меня бог наказал за то, что я так говорила о Дженифер. А отснятую пленку пришлось смыть. Ну и хорошо, что мне конец, – здесь они меня не найдут. – Бог так не поступает, – утешила ее Анна. – Если тебя кто и наказывает, так это ты сама. – Ну да, конечно, именно так мне и сказал мой последний психиатр: будто бы у меня склонность к саморазрушению и самоубийству, будто я всегда сама наказываю себя за некую вымышленную вину. Дерьмо все это! Я всегда и все делала правильно. Нили нашла себе нового психиатра. Отзывы о докторе Мэссинджере были самые великолепные. Анна настояла, чтобы Нили жила у нее. Она была уверена, что интенсивный курс лечения и ее дружеская поддержка помогут Нили преодолеть душевный кризис. Подобные срывы бывали у нее и раньше. И Нили тоже старалась. Старалась быть аккуратной и не создавала в квартире беспорядка. Но спать она не могла. Она уходила куда-то с музыкантами, поздно возвращалась домой и до рассвета сидела в гостиной, в огромных количествах глотая секонал и слушая свои старые пластинки. Однажды утром Анна проснулась и обнаружила в гостиной Нили, свернувшуюся калачиком, по лицу ее ручьем текли слезы. – Мне пришел конец, Анна. Я пыталась петь под свои пластинки, и у меня ничего не выходит. – Но ведь доктор Мэссинджер говорит, что это от нервов. Голос к тебе вернется, Нили. – Он сказал, что нервы – это от Голливуда. Вот почему я попыталась сегодня спеть одна, без кинокамер и Голливуда. Анна, у меня свело горло, я не могу петь. – Но ведь прошло всего несколько недель, Нили. Для этого нужно время. Нили встала. – Может быть. – Она побрела в ванную комнату и проглотила несколько капсул. – У тебя есть виски, Анна? Это лекарство без него не действует. Анна протянула ей бутылку. Был один из тех дней, когда Нили отключалась с помощью лекарств. Было воскресенье, которое Анна намеревалась провести дома. Она уже пригласила Кевина к обеду и хотела приготовить свое фирменное блюдо – мясо крабов, запеченное в горшочках. И вот теперь Нили проспит здесь весь день. Она позвонила Кевину и договорилась, что день они проведут у него, а обедать отправятся в «Лютцов» [59]. Нили услышала, как за Анной закрылась дверь. Она не спала, ей всегда было легче прикинуться спящей. Анна так нервничает, когда пьет и принимает пилюли – все боится, что она подожжет сама себя или натворит еще что-нибудь. Нили села в кровати и налила себе изрядную порцию неразбавленного виски. Закурила сигарету. Боже, эта у нее последняя. И уж наверняка все остальные Анна припрятала, просто от греха подальше. Ну да ладно, она скоро уснет. Она опять налила виски в бокал, но вдруг поняла, что пьет слишком быстро. Лучше пить понемногу и принять еще несколько капсул. Она запустила руку под подушку – там у нее были припрятаны три красные «куколки». Проглотив их, она медленно допила виски. Наконец-то пилюли начали действовать – она почувствовала, что впала в какое-то летаргическое состояние. Но сон не шел. Она налила себе еще. Черт, бутылка почти пустая. И сигареты кончились. Что ж, может быть, еще несколько «куколок»? Но она уже столько приняла – это может быть опасно. Доктор Мэссинджер предупреждал, что в один прекрасный день устойчивость ее организма к этому лекарству может внезапно резко упасть. Ну и пусть! Если ее талант умер, то почему бы и нет? Чего тогда цепляться за жизнь? У нее осталось всего десять тысяч долларов. Ух ты, черт – нет, десять тысяч было, когда она улетала из Калифорнии, но она посылала чек в школу, где учатся близнецы, это тысяча двести, да еще психиатру по двадцать пять долларов в день за три недели и билет на самолет до Нью-Йорка – еще несколько сотен. Да, она выписывала чеки направо и налево! Осталось, наверное, тысяч пять. На сколько их хватит? И потом, нельзя ведь жить у Анны все время – через месяц она выходит замуж. Ух ты, черт, где же раздобыть денег? Дом уже продан, страховки нет… а может, взять да и проглотить все, что осталось в пузырьке? Тэду придется позаботиться о детях, а она сама им не особенно и нужна: когда она приезжала к ним в Калифорнию, они только и просили «дай, привези, купи». Всем абсолютно безразлично, останется она жить или умрет. Всем на нее наплевать. Может, только богу не все равно, если он, конечно, существует. Все, что я хотела, – это квартиру и мужчину, который любил бы меня. Я старалась, но почему ты всегда все разрушал? Какого черта ты дал мне голос, если не хотел, чтобы я была великой артисткой? Почему ты отнял его у меня? – Она вылила в бокал остатки виски и бросила бутылку на пол. – Эй, Джен, ты тоже там, на небе? Я знаю, что ты не летаешь там на крылышках, все это чепуха, но если там существует другая жизнь, и ты где-то есть, то может быть, слышишь меня? С тобой тоже бывало такое? Ух ты, до чего же я хотела бы оказаться с тобой… там наверняка лучше, чем здесь. Что меня тут ждет? Еще один день, еще одна ночь, которые нужно прожить – поехать к Джилли с ребятами, которые попросту ничтожества, просто хотят, чтобы их видели со мной, когда я подписываю счета. – Она осушила бокал. – Ух ты, мне уже тридцать два… я уже не молодая. Должен же существовать какой-никакой дурацкий рай… не эта ерунда с ангелами и арфами, но, может быть, земля обетованная, где нет никаких проблем? В конце концов, взять всех умных людей, которые верят, – например, президент и Клэр Бут Льюс. Может, мне принять католичество или еще что? Наверное, я с рождения католичка, только вот в церковь ни разу не выбралась. Но должно же быть царство небесное, Джен, подумать только обо всех тех детишках, убитых Гитлером. А подумать о тех, кто с рождения не видит и не слышит, как Элен Келлер [60]. Если бы после смерти ничего не было, это было бы просто нечестно. Почему такая достойная леди, как Элен Келлер, не должна ничего ни видеть, ни слышать, а кто-то, как вот ты, к примеру, – иметь все, если потом это никак не выравнивается? Конечно же, царство небесное есть. Взять хотя бы мою сестру, что живет с этим идиотом Чарли. Почему я должна быть на вершине славы, а сестра – прозябать в нищете и безвестности, если потом мы обе не попадем на небеса? Ясное дело. Эй, Джен, а больно бывает перед смертью? Тебе было страшно? Будь со мной, Джен… я сейчас приму еще несколько «куколок» и приду к тебе. Нили побежала в ванную комнату, она припрятала там пузырек за пачками с морской солью. Только шесть осталось! Она быстро проглотила их. Но ведь шести не хватит. Может, еще анальгина? Может, целую упаковку анальгина после капсул? Черт! Анальгина осталось всего пять таблеток. Она проглотила их. Шотландского виски больше нет, но есть кукурузное, которое Анна держит в баре для Кевина. Добавить его к шотландскому… Она бросилась было из ванной, но ее мотнуло в сторону, и бокал, который она сжимала в руке, вылетел и разбился о кафельный пол. Ух ты, Анна бесится, когда она бьет посуду. Она наклонилась, чтобы подобрать осколки. Обычный бокал, но ведь это же Анна, значит, наверняка хрустальный или в этом роде. Она подняла длинный осколок. Ух ты, вот ведь как можно – полоснуть разок по запястью, и у нее будут похороны, как у Дженифер. Будет ли у ее гроба такое же столпотворение? Станет ли Тэд Касабланка требовать, чтобы ее похоронили в Голливуде? А может, ее недоделанная сестра очухается и потребует, чтобы тело отдали ей? Подумать только, навеки улечься на каком-то вонючем кладбище в предместье. Анна, конечно, будет сражаться за ее честь и достоинство, но ведь ей-то хочется самых пышных похорон… пышнее даже, чем уДженифер. Нет, пышнее не бывает. О’кей, пусть такие же пышные, как у Дженифер. А что если нет ни царства небесного, ни бога? Тогда она умрет и ничего приятного от этого не получит. Но вот если она почти умрет – суматоха будет такая же. Как раньше, в Голливуде… может, станут даже умолять ее вернуться, и все будут выражать сочувствие. А потом, если нервная система у нее успокоится, она, возможно, сумеет петь, и все опять станет великолепно… – Ну, давай сначала выпьем виски, – сказала она себе, неверной походкой подходя к бару. Она нашла новую бутылку, новый бокал и налила себе виски не разбавляя. С осколком в руке она вернулась в спальню. Забралась под одеяло, сделала большой глоток и стала внимательно рассматривать запястье. Если порезать сбоку, не большую вену, потому что тогда можно действительно умереть, а маленькую синюю жилку сбоку… просто, чтобы пошла кровь… Глубоко вонзив осколок, она сделала надрез длиною в дюйм, но не по главной вене – хорошо, кровь пошла… Она откинулась на подушку и смотрела, как струится кровь. Ух ты, а кровь-то течет сильно, да как быстро. Э-э, может, она перерезав у себя что-то важное?! Ух ты, и не останавливается! Она сорвала телефонную трубку. Где же Анна, черт возьми? Кровь шла все быстрее, а тут и проклятые лекарства начали действовать. Это виски ускорило. Нили набрала номер справочной. Ей ответил сухой официальный голос. – Я – Нили О’Хара, – пробормотала она. – Я умираю… – Какой у вас номер? – спросила телефонистка. Номер?.. – Она посмотрела на аппарат. Все плыло у нее перед глазами. – Не знаю… в справочнике нет… не могу вспомнить. Помогите, пожалуйста. Я порезала запястье… кровь. – Ваш адрес? – Вест-Сайд, Шестьдесят вторая улица, у парка. Квартира принадлежит Анне Уэллс… – Телезвезде? – Голос телефонистки утратил официальную сухость. – Конечно… конечно… – трубка выпала у нее из руки, а глаза сами собой закрылись. Усилием воли она подняла веки. Боже, она испортила простыни Анны. Ее рука безжизненно свисала с кровати, и кровь стекала прямо на золотистый ковер. Ух ты! Анна теперь ни за что не позволит ей жить у себя. «Пожалуйста, справочная, побыстрее…» Столько крови… все течет и течет… но она не хочет умирать. Нельзя же умереть, если мысли такие отчетливые… хочется спать… не умирать… просто спать хочется… проклятые «куколки»… ни раньше, ни позже – именно сейчас они начали действовать.* * *
Нили открыла глаза и тут же зажмурилась. Пахло больницей. Значит, она жива! Она начала вспоминать. Звонки, машина «скорой помощи»… Она опять открыла глаза. В другом конце палаты сидели Анна и Кевин. Анна вскочила со стула. – Ах, Нили, ты очнулась! Слава богу! Нили слабо улыбнулась. – Прости меня за квартиру. – Не думай об этом. – Где я? – В больнице «Парк Норт». Нили поморщилась. – А почему не в «Докторе»? Я слышала, там восхитительно. Кевин встал и подошел к ней. – Послушай, юная леди, тебе чертовски повезло, что ты находишься здесь. Знаешь, куда тебя собирались увозить, когда мы вернулись домой? В «Бельвю». Нили с трудом села в кровати. – Ух ты! Только этого мне и не хватало. – Это просто счастливый случай, что мы решили вернуться домой. Анна захотела проверить, как ты. Вызвали «скорую помощь» и полицию. Они собирались отвезти тебя в «Бельвю». Такой закон: всех, покушающихся на самоубийство, положено доставлять в «Бельвю» и выдерживать там под наблюдением определенный период. – Ух ты! – Положение спас Кевин, – пояснила Анна. – Показал им разбитый бокал и убедил всех, что произошел несчастный случай. Кевин нахмурился. – Мне пришлось раздать немало двадцатидолларовых бумажек, чтобы «убедить» их в этом. И у нас не было времени выбирать больницу – ты потеряла слишком много крови, а эта была ближе всех. – Это было не совсем самоубийство, – сказала Нили. – Ладно, будем пока придерживаться нашей версии, а потом объяснишь, – сказала Анна. – В газетах обо мне писали? – На всех первых полосах, – Анна придвинула стул поближе к кровати. – Нили, нам нужно что-то делать, надо думать, как тебе жить дальше. Слезы выступили у Нили на глазах. – Что же можно сделать? Я больше не могу петь. – Все дело вот в чем, – Кевин постучал себя по голове. – А с горлом у тебя все в порядке. – Вот и объясни это моему горлу. Я-то хочу петь, да ноты не получаются. – Хорошо. Через несколько дней тебя выпишут отсюда. А дальше что? – требовательно спросил Кевин. Глаза Нили наполнились слезами. – Я уйду от Анны, не беспокойтесь. Буду жить в отеле. – Так не может продолжаться, Нили… все эти лекарства и выпивка. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Нили потянулась в постели. – Если бы я только могла спать, по-настоящему спать – хотя бы с неделю – тогда бы я живо выздоровела. А этим способом больше нескольких часов не получается. – Лечение сном! – вдруг сказала Анна. Она объяснила им, как Дженифер сгоняла вес в Швейцарии с помощью такого лечения, показанного прежде всего при нарушениях в эмоциональной сфере. Нили загорелась энтузиазмом. – Неделя сна! О боже, тогда я наверняка буду петь. Но лететь в Швейцарию… ведь для этого нужна уйма денег. – Если такое лечение разрешено законом, его наверняка используют и у нас в стране, – заявил Кевин. Доктор Мэссинджер был против. Да, он знает о лечении сном. Но у болезни Нили слишком глубокие корни. Он считает, что ей необходим, по крайней мере, год санаторного лечения. – Это не ситуативная депрессия, – утверждал он. – У этой женщины глубокое потрясение. Из ее истории болезни явствует, что суицидальные тенденции, то есть попытки самоубийства, наблюдались у нее еще десять лет назад. Я порекомендовал ей санаторное лечение сразу же, как только она обратилась ко мне, но она отказалась ехать и с тех пор живет на одних нервах и успокоительных лекарствах. Но сейчас у нее нет выбора, ей нужно ехать. Он порекомендовал несколько санаториев, но Нили не желала ехать ни в один из них. – Чтобы я поехала жить там со всякими психами? Нет уж, увольте. Мне нужно шикарное обслуживание, как было у Дженифер. Шампанское для начала, понимающую, чуткую сестру, тоненькую иголочку… и сон, успокоительный сон. После лихорадочных телефонных переговоров, Кевин наконец остановился на крупном частном санатории на границе штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Да, они знают о лечении сном, почтут за честь принять мисс О’Хара и подвергнуть ее такому лечению. Да, будет соблюдена полнейшая секретность – в газеты не просочится ни единого слова. Благоухающим мартовским воскресеньем Кевин и Анна отвезли Нили в Хейвен-Мейнор. Огромная территория клиники и тщательно ухоженные лужайки вселили в Анну уверенность. Нили подкрепилась, приняв для храбрости несколько «куколок». Они вошли в большой, увитый плющом особняк, выстроенный в стиле эпохи Тюдоров, их провели в гостиную, увешанную портретами покойных благотворителей, основателей клиники. Их встретил сам главный врач, доктор Холл. Он пожал руку Нили. – Я ваш большой поклонник, мисс О’Хара. Нили ответила слабой улыбкой. – А сейчас, если вы будете настолько любезны, заполните, пожалуйста, эти бланки… Нили написала свое имя на документах и подписала их не читая. – О’кей, давайте приступайте к лечению сном, – жизнерадостно сказала она. Доктор Холл нажал кнопку. Появилась крупная полная женщина в белом халате. – Это доктор Арчер, мой заместитель. Проводите, пожалуйста, мисс О’Хара в ее палату. Нили взяла Анну за руку. – Я никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты сделала для меня. Приедешь за мной через неделю? Анна кивнула. Нили обратилась к Кевину. – Я знаю, что за все заплатил ты. Огромное спасибо. Тот отрицательно покачал головой. – Я предлагал, но Анна все сделала сама. Она настояла на этом. Нили смущенно посмотрела на Анну, улыбаясь, как бы в полусне. – Анни… всегда рядом со мной, да? Спасибо. – Ты только поправляйся, Нили, – сказала Анна. – Я хочу лишь спать… долго-долго, – с этими словами она вышла из гостиной, опираясь на руку доктора Арчер. Анна поднялась, чтобы идти. – Мисс Уэллс… и мистер Гилмор. Не могли бы мы с вами поговорить? – сказал вдруг доктор Холл. – О чем? – Анна опять села. – Об этом так называемом лечении сном. Я говорил по телефону с доктором Мэссинджером, и у меня есть история болезни мисс О’Хара. Он переслал ее мне. Понимаете, лечение сном – это не выход. – Но вы же говорили… – Анна была в полном замешательстве. – Я говорил, что мы могли бы это сделать. Но в то время я еще не читал ее историю болезни и не говорил с ее лечащим врачом. Мы и сейчас можем провести такой курс, но я не стал бы его рекомендовать. Да, конечно, после него она стала бы чувствовать себя гораздо лучше. Несколько недель, а то и месяц она могла бы заниматься нормальной деятельностью, но потом старые дурные привычки опять взяли бы над нею верх. В конечном счете, она покончила бы с собой. Понимаете, у нее склонность к этому. Она – великий талант, и мы просто обязаны вылечить ее. – Но как? – спросила Анна. – Только не сном и не лекарствами. У этой женщины выработалось пагубное пристрастие к снотворному. Такое пристрастие может быть столь же серьезным, как и любое другое, а излечению оно поддается даже труднее, поскольку больной легко может достать такое лекарство на стороне, тогда как кокаин, героин или морфий достать гораздо сложнее. Вам известно, что в день, когда она пыталась покончить с собой, она приняла пятьдесят капсул? Я проверил у аптекаря. А доктор Мэссинджер ни разу ей их не прописывал, на каждом рецепте новая фамилия врача. Так вот, этот пузырек – а в нем пятьдесят капсул – был пуст, когда ее нашли,. А в сочетании с алкоголем – опаснейшая комбинация. И тем не менее, ей все равно понадобилось резать себе вены, чтобы довести процедуру до самого конца. Такая устойчивость организма к лекарству – не что иное, как толерантность наркомана. – И что бы вы порекомендовали? – спросил Кевин. – Я бы хотел попробовать глубокую психотерапию. Не шоковую… Пока, во всяком случае. Надеюсь, она ей и не потребуется. Однако я думаю, что если мы приложим настойчивые усилия, то сможем вернуть публике талантливую женщину, полную живости и энергии. – Сколько времени уйдет на это? – спросила Анна. – Не менее года. – Нили ни за что не согласится. Она немедленно уедет отсюда, если ее не станут лечить сном. Усталая улыбка показалась на лице доктора Холла. – Она подписала вот это. – Он постучал пальцем по лежащей перед ним бумаге. – Она приняла на себя добровольное обязательство. Разумеется, она думала, что подписывает обычный документ о поступлении сюда на лечение. Но в нем говорится, что она обязуется пробыть здесь не менее тридцати дней. – Тридцать дней, – задумчиво проговорила Анна. – Но я же знаю Нили. Вам нипочем не уговорить ее остаться здесь больше, чем на эти тридцать дней. – Если мы не сможем, то такое обязательство за нее можете дать вы. – Я? – Анна пришла в ужас. – Никогда! Доктор Холл улыбнулся. – Тогда мы соберем комиссию и удостоверим ее состояние официально. – Как это? – Если наши психиатры придут к единому мнению, что пациент нуждается в дальнейшем лечении, мы представим дело в суд. Приглашаются три психиатра со стороны. Если их диагноз совпадает с нашим, суд продляет обязательное пребывание пациента здесь на три месяца, и каждые три месяца оно автоматически продлевается. Мы часто так поступаем, – спокойно сказал он. – Это освобождает родственников и друзей от чувства вины. – Но для нее это будет хуже удара обухом по голове, – запротестовала Анна. – Она ведь думает, что ей предстоит лечение сном всего одну неделю. Мы пообещали ей, что… – Мисс Уэллс, я восхищаюсь мисс О’Хара. Это великий талант. Пребывание в нашей клинике стоит полторы тысячи долларов в месяц, но к нам записываются в очередь со всей страны. Мы приняли мисс О’Хара без очереди, потому что она действительно настоящая актриса, и ее обязательно нужно вылечить. Я прошу предоставить ей этот шанс. И прошу именно вас. – Но Нили была так против санатория… – Мисс О’Хара не в состоянии принимать какие-либо решения относительно своего будущего. Более того, если ее предоставить самой себе, у нее вообще не будет никакого будущего. Неожиданно Кевин встал на его сторону. – Думаю, что доктору Холлу виднее. Нужно, по крайней мере, попытаться. Анна покорно кивнула. – Когда мы можем увидеться с нею? – Не раньше, чем через две недели. Но вы можете ежедневно звонить мне, и я буду сообщать вам, как продвигаются ее дела. Даю гарантию, что ее состояние значительно улучшится, когда вы навестите ее в следующий раз. Анна молчала, когда они возвращались на машине в Нью-Йорк. – Платить целый год по полторы тысячи в месяц? – сказал Кевин. – Анна, позволь, это буду делать я. – Нет, это мой долг. Кевин, я думала… если бы я подписала контракт с «Гиллиан»… они предлагают мне две тысячи в неделю… – А как же наша свадьба? И путешествие? – Мы уже так долго ждали. Ну что могут изменить еще несколько месяцев? И кроме того, я не могу уехать в длительное путешествие, оставив Нили в Хейвен-Мейноре. Нужно будет навещать ее. – Ты не хочешь выходить за меня замуж – так, Анна? – Хочу, но… – Нет, не хочешь. Вот почему ты и оплачиваешь лечение Нили. Не хочешь чувствовать себя обязанной мне. – Кевин, ты заставил меня ждать долгие годы, прежде чем решил наконец, что готов на мне жениться. Думаю, что хотя бы несколько месяцев мы просто обязаны посвятить Нили. – Значит, мы никуда не едем на наш медовый месяц – о’кей, с этим я примирюсь. Но почему мы не можем пожениться? И зачем тебе работать? – Раз я хочу оплачивать ее лечение, мне придется работать. Я говорила на днях с Генри Бэллами. Он сказал мне, что я стою почти миллион долларов. Разумеется, значительная часть этой суммы представляет собой лишь потенциальную прибыль [61], но эти ценные бумаги абсолютно надежны. Однако я не смогла бы платить за Нили, не касаясь своего основного капитала, то есть не продав некоторого количества акций. Генри не хочет, чтобы я это делала: он считает, что курс акций компании Эй-Ти-энд-Ти будет продолжать расти и что произойдет дробление акций [62]. Но если я заключу контракт с «Гиллиан» еще на полгода, я смогу оплачивать лечение Нили. Это продлится до октября, а к тому времени Нили уже начнет выздоравливать. Тогда мы поженимся и уедем. Обещаю тебе. Невидящими глазами Кевин смотрел вдаль. Ему оставалось только согласиться. – Будь проклята эта чертова девка – когда бы она ни приехала в Нью-Йорк, от нее одни неприятности. Анна вздохнула. – Бедная Нили. Сейчас ей уже, наверное, все рассказали. Интересно, как она это приняла?* * *
Поначалу Нили была терпелива. Она сидела в кабинете доктора Арчер, монотонно отвечая на вопросы и куря сигарету за сигаретой в ожидании той минуты, когда благословенная игла перенесет ее в восхитительное царство сна. Наконец зазвонил телефон на столе. Нили подумала, что это звонит доктор Холл, чтобы отдать распоряжения. Доктор Арчер отвечала скупо: – Да, доктор… Конечно, доктор… Хорошо… Полностью согласна с вами. Нили зевнула. Прекрасно. Они договорились. Здорово. Теперь давайте, принимайтесь за дело. Доктор Арчер нажала кнопку. Нили внимательно разглядывала ее ортопедические туфли. А почему бы их не сделать в виде красивых белых туфель? Почему они должны быть толстыми, гнусными на вид калошами? Ух ты, она, поди, с рождения такая – еще ребенком носила ортопедические ботиночки. Эта мысль позабавила ее, и она рассмеялась вслух. Доктор Арчер удивленно посмотрела на нее. Затем в кабинет вошла женщина, тоже в белых туфлях, белом халате и стоячей накрахмаленной косынке. – Это мисс О’Хара, – сказала доктор Арчер. – Отведите ее в четвертый корпус. – Там лечат сном? – добродушно спросила Нили, следуя за медсестрой. Та только улыбнулась в ответ и продолжала идти вперед по бесконечным подземным коридорам. Входя в очередной из них, она извлекала из кармана большую связку ключей и отпирала дверь, после чего сразу же запирала ее, и они шли дальше. – Эй, да где же этот корпус? В Нью-Джерси? Мы уже целую милю прошли. – Хейвен-Мейнор состоит из двадцати корпусов, не считая спортзала и корпуса трудотерапии. И хотя это отдельные здания, все они соединены друг с другом подземными переходами. Мы прошли из административного корпуса через второй и третий, а сейчас подходим к четвертому корпусу. – В ее голосе звучали нотки профессиональной гордости. Внешне четвертый корпус походил на частный коттедж. Нили заметила, что в большой комнате смотрят телевизор женщины разного возраста. Она подумала, что все они выглядят совершенно нормально. Сестра провела ее по длинному коридору мимо множества крохотных комнатушек. Ух ты, должно быть, какие-то дерьмовские спальни. Ее спальня на Пятьдесят второй стрит была раза в три больше. Но, наверное, она поведет ее наверх в палату люкс или куда-нибудь в этом роде. Здесь-то ведь явно не лечат сном. Сестра остановилась у крохотной комнатенки в конце коридора. – Это ваша палата. Нили хотела было запротестовать, но потом подумала, что не стоит, все равно она будет спать. Какая разница, что из этой конуры не открывается никакого вида. Она устало опустилась на кровать. – О’кей, несите шприц. Сестра вышла из палаты. Минуты шли одна за другой. Она посмотрела на свои часы. Где же они все, черт побери? – Эй… что тут происходит?! – крикнула она. Моментально появились две медсестры. – Вы что-то хотите, мисс О’Хара? – Ну конечно, хочу! Меня должны уложить спать. Обе сестры с любопытством посмотрели в глаза друг другу. – Я здесь для того, чтобы пройти курс лечения сном, – повторила Нили. – Вы находитесь в четвертом корпусе. Этот корпус – подготовительный. – Подготовительный к чему? – Все новые пациенты поступают сюда на несколько дней, пока мы изучаем их истории болезней. После этого они переводятся в тот корпус, который больше всего соответствует назначенному им курсу лечения. Нили подошла к столику, открыла сумочку, достала сигареты. – Позовите доктора Холла. Тут какая-то ошибка. Одна из медсестер, быстро шагнув вперед, выхватила у Нили спички. – Эй, что вы делаете? – воскликнула та. – Здесь не разрешается пользоваться спичками. – А как же мне прикуривать? Сестра взяла ее сумочку. – Курить нельзя. Существуют определенные часы, в течение которых вам разрешается курить – под наблюдением. Нили попыталась было вырвать сумку, но сестер было две против нее одной. – Позовите доктора Холла! – потребовала она. – Но так распорядился сам доктор Холл, – сказала одна из сестер. – Успокойтесь же, мисс О’Хара. В пять часов вы получите две сигареты. Давайте выйдем и познакомимся с другими пациентами. – Что? Чтобы я завязывала знакомства в дурдоме? Я – Нили О’Хара, и друзей себе выбираю сама. Свяжитесь по телефону с Анной Уэллс или Кевином Гилмором. Это просто смешно. Я уезжаю отсюда! – Она направилась к двери. Одна из сестер задержала ее. – Она все еще носит часы, – сказала другая и силой сняла их с ее руки. – Эй, эти часы стоят тысячу зеленых! – Их положат в сейф, и вы получите их вместе со всеми остальными личными вещами, когда вас выпишут. Паника охватила Нили. Никогда прежде не испытывала она такого страха перед своей беспомощностью. – Ну послушайте, позвоните Анне Уэллс, – взмолилась она. – Анна все уладит. Прошли еще полчаса. Нили то впадала в неукротимую ярость, то ее вдруг охватывал страх. Хотелось курить. Действие двух капсул секонала прекратилось, сонливое состояние напрочь прошло, она была в ужасе. Нили нажала кнопку звонка. Появилась сестра. Она разговаривала с Нили вежливо, но уклончиво. Мисс О’Хара может выкурить сигарету прямо сейчас, если выйдет в вестибюль. Однако лучше поторопиться. Если она пропустит время, отведенное для курения, то до девяти часов курить будет нельзя. – Да кто вы такая, черт возьми, чтобы указывать мне, когда я могу курить, а когда – нет? – крикнула она. – Это же не бесплатная больница для нуждающихся. Это место стоит денег, и я требую, чтобы ко мне относились с уважением. – Мы уважаем вас, мисс О’Хара. Но и вы, в свою очередь, должны уважать правила Хейвен-Мейнора. – Я не подчиняюсь никаким правилам! Я сама устанавливаю их! Я – Нили О’Хара! – Мы знаем это и все восхищаемся вашими фильмами. – Тогда делайте, как я сказала! потребовала Нили. – Мы выполняем приказы доктора Холла и докторам Арчер. – Так позовите же доктора Холла! – Она повернулась к сестре спиной. Гнетущее чувство страха охватило ее. Может быть этот доктор Холл лицемерит, ведет двойную игру? Нет, она просто испугалась, вот и все. Наверное произошла какая-то путаница. Доктор Холл не посмеет.. Да если бы это дошло до Анны и Кевина, они бы ему такое устроили! Десять минут спустя опять появилась сестра. – Мисс О’Хара, если вы хотите покурить перед обедом, то, пожалуйста, идите. Осталось всего десять минут. – Вместе с этими психами? Не хочу и не буду! Сестра ушла. Нили начала нервно ходить взад-вперед по комнатке. Ну до чего же ей необходимо это лечение сном! Ей нужно несколько «куколок» – у нее появилась дрожь в руках. Ух ты, в последнее время она дошла до того, что только для поддержания равновесия и спокойствия ей требуется каждый час по две «куколки». Но лечение сном избавит ее от этой привычки. Доктор Мэссинджер считает, что в ее организме выработалась толерантность к этому препарату. Ух ты, ведь после Испании, что для нее было двадцать или тридцать «куколок» в день? Хорошо, что она улетела оттуда, а то бы действительно серьезно заболела. Черт бы побрал этого доктора Мадейру – это он сделал ей первую инъекцию демерола… Боже мой! Какое было восхитительное ощущение! Все заботы и проблемы исчезли. После первой инъекции она пролежала в постели шесть часов, испытывая такое невыразимое блаженство и умиротворенность, о каких она даже не подозревала. Она почувствовала, что может петь лучше, чем когда-либо раньше, брать такие ноты, которых даже нет в партитуре, оставаться поджарой без зеленых куколок, исполнять роли лучше, чем прежде. Конечно, когда действие препарата кончилось, она почувствовала себя погано: со страхом думала о предстоящем дне, предстоящем любовнике, предстоящей вечеринке. Но доктор Мадейра всегда был рядом, чтобы избавить ее от «болей в области спины». Она научилась этому на съемочных площадках Голливуда – ссылаться на «боли в области спины». Обнаружить их рентгеном невозможно, а врачи киностудии хоть и осматривают тебя, но не могут поставить твои жалобы под сомнение. Очень часто по этой причине ей на несколько дней давали освобождение. С доктором Мадейрой это тоже срабатывало, вот только в качестве лекарства он назначил демерол. Такого ей в Голливуде не давали. И назначал его доктор Мадейра щедро, не скупясь. Весь тот замечательный год он назначал ей по три укола в день. Спустя некоторое время она уже не лежала в постели после инъекции. Могла вполне нормально жить и под демеролом. Вставала, посещала ночные клубы, и пела – в жизни она не пела лучше. А фильм, который она сделала в Испании! Ух ты! Если бы только его пустили в американском прокате! Она достигла в нем небывалых вершин. Худенькая, энергия через край – когда вводят демерол, аппетит совершенно пропадает – глаза, как два горящих угля. Да, это, конечно, оттого, что зрачки делаются большими и черными – расширенными от демерола. Но голос… чистый и звонкий. Потом начались проблемы с деньгами, пришла телеграмма из Калифорнии: Тэд намеревался подавать в суд, чтобы забрать себе близнецов, если она не вернется и не станет о них заботиться. Как будто она могла допустить, чтобы ее сыновья жили в одном доме со шлюхой, на которой он женился! А потом, в довершение всего, самоубийство Дженифер. Пришлось расстаться с Испанией… и с демеролом. «Куколки» помогали, но теперь их требовалось так много – не меньше тридцати в день. Тридцать капсул секонала… Боже мой, сегодня она приняла всего шесть, а последнюю – два часа назад. Где же, черт возьми, доктор Холл? Когда начнется лечение? Явилась сестра и сообщила ей, что подают обед. Не будет ли она так добра пройти в столовую? Нет, не будет! – Я хочу сигарету и несколько капсул секонала – не менее шести, – чтобы хватило до тех пор, пока доктор Холл не приступит к лечению сном. Она в изнеможении плюхнулась на кровать. У нее пересохло в горле. Выпить бы чего-нибудь, что угодно… Эта клетка два на четыре начинает физически давить на нее. Если они ничего не начнут делать в ближайшее же время, она просто уйдет отсюда. Они не посмеют задержать ее – ведь она же не в тюрьме. Послышались шаги. Она села в кровати. Наверное, зашевелились и сейчас приступят. Вошла сестра с обеденным подносом в руках. – Мисс О’Хара, если вы желаете обедать в своей комнате… Закончить фразу сестра так и не смогла. Терпение у, Нили иссякло. Она выхватила из ее рук поднос и швырнула его через всю комнату. Сестра пригнулась. Вбежала еще одна. Нили гневно прокричала: – Не желаю есть, не желаю ни с кем общаться. Хочу только спать. Немедленно принесите мои сигареты и, не откладывая, начинайте лечить меня сном, иначе я уезжаю отсюда. С меня хватит! Сестра, которая казалась старше остальных по должности, выступила вперед: – Мисс О’Хара, никакого лечения сном не будет. – Что вы имеете в виду? – Я уточнила у доктора Холла. Никакого лечения сном, никаких барбитуратов. Вас вылечат с помощью психотерапии. – Я уезжаю! – Нили направилась было к двери, но четыре расставленные руки преградили ей путь. – Уберите прочь свои грязные руки! – вскричала она. – Оставьте меня в покое. – Она бросилась на сестер с кулаками. – Поместить ее в «Репейник», – распорядилась старшая медсестра. – Я уезжаю домой! – закричала Нили. Появились еще медсестры, и до ее сознания вдруг дошло, что ее волокут по коридору. Такого не может быть! Ее, Нили О’Хара, волоком тащат четыре сестры. И эти нечеловеческие вопли испускает она! Но ведь у нее не припадок, просто она пришла в бешенство от такого обращения. Она отчаянно сопротивлялась на протяжении всего пути в другой корпус, по многочисленным коридорам, где двери отпирались и запирались, и в вестибюле этого корпуса. На помощь пришли еще две медсестры. Ее протащили по другому коридору в другую комнатку два на четыре. Несмотря на свою неистовую ярость, она заметила разницу: в этой не было ни ковра, ни штор, ни письменного стола. Только койка – как в тюремной камере! Ее положили на эту койку. Брюки у нее порвались. Слава богу, что она уложила в сумку еще одни. Подошла молодая сестра и села рядом. – А сейчас успокойтесь, мисс О’Хара, и давайте обедать. – Я хочу уехать домой! – закричала Нили. – Давайте пообедаем. Идемте, познакомитесь с другими пациентами. – Я хочу спать! – Нили разрыдалась. Она была в западне. Никогда в жизни она не оказывалась в такой ловушке. Она посмотрела на окно. Решеток нет… но там что-то есть вместо них. Просто защитный экран, но ведь такие экраны можно разрезать – вот только чем? Она бросилась вон из комнаты и выбежала в большую гостиную. Там и тут сидели пациенты и спокойно смотрели телевизор. Она затравленно огляделась по сторонам. Чем бы прорезать этот чертов экран. Она метнула взгляд на книжный шкаф. Он был битком набит книгами, настольными играми… раскрытыми шахматными досками с фигурами! Она схватила пешку. У нее маленькая шишечка… и если нажать посильнее, ею можно прорвать экран. Она побежала назад в свою комнату, зажав фигурку в руке. Сестра сидела на койке, спокойно наблюдая за ней. «И пусть себе наблюдает, – подумала Нили. – Я сильнее ее, пускай только попробует остановить меня». Она открыла окно. Сестра не шелохнулась. Она принялась с силой нажимать шахматной фигуркой на защитный экран, яростно тыча в него, колотя по нему руками, пытаясь продавить в нем отверстие, и не переставая содрогаться от рыданий, душивших ее и рвавшихся наружу. Должно же быть какое-то слабое место, где его можно проткнуть и разорвать. Обязательно должно быть. – Экран стальной, – спокойно пояснила сестра. – Но даже если вы вырветесь отсюда, вы все равно окажетесь на нашей территории. Наш санаторий занимает двадцать пять акров [63]. А главные ворота – на запоре. Нили выронила фигурку. Она села на койку и разрыдалась в голос. Сестра попыталась было успокоить ее, но рыдания становились все безудержнее. Она думала об Анне и Кевине. Они вернулись в Нью-Йорк и, наверное, думают, что ее уже погрузили в блаженный сон. Она подумала о квартире Анны. Ну почему она не осталась там? Можно где угодно ходить, курить, когда захочется, принимать столько «куколок», сколько пожелаешь, наливать себе выпить… Она подумала о Голливуде… Шеф… кому он сейчас диктует свою волю? А Тэд… В Калифорнии сейчас только три часа – тепло, и вовсю светит солнце. Тэд, наверное, в бассейне со своей женой. А она, прославленная Нили О’Хара, сидит взаперти в этой психушке для придурков! Она зарыдала еще сильнее. Рыдания длились, должно быть, не меньше часа, потому что, когда она подняла глаза, за окном стемнело. Вошла старшая сестра. К ее накрахмаленному халату была пришпилена карточка с именем «Мисс Шмидт». Мужеподобная, похожая на здоровенного бугая в юбке, решила про себя Нили. – Мисс О’Хара, либо возьмите себя в руки, либо нам придется что-то сделать, чтобы вы успокоились. О’кей, ну наконец-то. Сейчас ей все-таки дадут несколько куколок или сделают укольчик. Она им покажет! Значит, они не дают барбитуратов? Ну ничего, Нили О’Хара поменяет все здешние порядки, поломает это вонючее правило! Она начала душераздирающе кричать. И опять все вокруг забегали. Вновь вошла здоровенная сестра. – Хватит, мисс О’Хара. Это нужно прекратить. Вы беспокоите других пациентов. – А мне на них на… – взвизгнула Нили. Она стала издавать еще более истошные вопли. Мисс Шмидт быстро кивнула двум сестрам. Те схватили Нили за руки и снова потащили по коридору. Она отчаянно сопротивлялась, лягалась, бессвязно выкрикивала что-то, но численное превосходство и физическая сила были на их стороне. Она очутилась в большой ванной комнате. Мисс Шмидт и две сестры велели ей раздеваться. – Что? И тем самым доставить вам, коровам, лесбиянкам чертовым, огромное удовольствие?! – прокричала она. Мисс Шмидт опять кивнула, и две сестры силой раздели Нили. Голую, вопящую, ее силой затолкали в ванну. Поверх натянули парусиновое покрытие, оставив место только для головы, под голову подсунули подушечку. Рядом, за столиком, раскрыв блокнот и приготовив карандаш, расположилась сестра. Нили продолжала истошно кричать. Неожиданно она почувствовала, что в ванной ей очень хорошо. Она всегда любила принимать ванну, любила лежать в ней до тех пор, пока вся ее кожа не размягчалась от воды. А эта ванна была какая-то особенная: вода то наливалась, то спускалась, пузырясь по ее телу. Ее охватило ощущение блаженной расслабленности. Пока все эти мысли проносились у нее в голове, она продолжала кричать, не переставая. Вернулась мисс Шмидт и опустилась на колени рядом с ванной. Глаза ее излучали доброту. – Мисс О’Хара, почему бы вам не попробовать расслабиться, а ванна сама сделает свое дело. – Выпустите меня отсюда! – крикнула Нили. – Вы останетесь в этой ванне до тех пор, пока не прекратите кричать или пока не уснете. – Ха-ха! Во всем этом проклятом штате не хватит воды, чтобы заставить меня заснуть! – Нили набрала полную грудь воздуха и опять закричала прямо в лицо мисс Шмидт. – Мы выдерживаем пациентов в ванне по пятнадцать часов, – пояснила ей мисс Шмидт. Она поднялась на ноги. – Я зайду через час. Возможно, к тому времени вы немного успокоитесь. «Через час»! Нили почувствовала, что голос у нее сел. Горло болело. Ей захотелось откинуться и расслабиться, но ведь именно этого они и добиваются, этого хотят. Ей хочется есть… хочется выкурить сигарету и принять несколько «куколок»! Она опять начала кричать, проклиная доктора Холла, медсестер, больницу… Когда запас ругательств иссяк, она разрыдалась. Но Нили заметила, что маленькая сестра за столиком прекратила писать, когда она начала рыдать. Так вот в чем дело: они записывают каждое слово, произносимое пациентом, чтобы великий доктор Холл мог все прочитать. Расслабиться прямо сейчас, а? Нет не будет никакого расслабления ни для кого, пока здесь находится она, Нили О’Хара! Она опять принялась кричать, извергала из себя самую непристойную площадную брань и заметила, как маленькая медсестра залилась пунцовой краской, записывая все эти словеса. В каком-то уголке ее сознания шевельнулась жалость к сестре. Совсем молоденькая девушка, лет девятнадцати, и это не ее вина… не она же устанавливает здешние правила. Но Нили все же продолжала выкрикивать все известные ей ругательства. Тем временем она уперлась в парусину коленями и стала давить, хотя грубая ткань больно царапала ей кожу. Внезапно она обнаружила, что в отверстие для шеи можно просунуть и голову. Она погрузилась в воду с головой. Маленькая сестра вскочила со стула, вытащила ее голову из воды, отскочила назад и позвонила в колокольчик. Пришли другие сестры и сделали отверстие для шеи совсем узким. Нили закричала еще громче… сестра застрочила карандашом еще быстрее… Когда Нили нырнула под воду, она заметила в парусине около крана небольшую дырку. Она с силой просунула в нее большой палец ноги. При этом она продолжала яростно выкрикивать ругательства, чтобы сестра записывала, не отрываясь. Затем нечеловеческим усилием она расширила отверстие, сунув в него ступню, и резко подтянула колено к груди. Раздался громкий треск раздираемой ткани, и парусина разорвалась надвое. Нили выскочила из ванны. Сестра подняла тревогу. Ворвалась целая группа медсестер во главе с мисс Шмидт. На ванну была натянута новая парусина, но Нили не без удовольствия расслышала шепот одной из сестер: – Еще никому никогда не удавалось разорвать эту парусину!* * *
Она кричала, должно быть, целую вечность. Медсестру сменила другая. Эта тоже была молоденькая, но непристойности Нили она выслушивала, не моргнув глазом Нили охрипла… лишилась сил… спина у нее ныла… колени саднили… большой палец болел, будто сломанный, после того как она прорвала им парусину, – но она продолжала кричать. Дверь распахнулась. Вошел врач. Он пододвинул табурет и сел у края ванны. – Добрый вечер. Меня зовут доктор Клементс. Сегодня обход делаю я. Она разглядела какое время показывали стрелки на его больших наручных часах. Девять часов. Стало быть, она находилась в этой ванне почти три часа. – Чем я могу вам помочь? «Это не я сошла с ума, а они, – подумала Нили. – Вот он сидит передо мной, словно мы приятно проводим время… – передо мной, у которой башка торчит из этой проклятой ванны, а он как ни в чем не бывало спрашивает, может ли он мне помочь». – Могу я что-нибудь для вас сделать? Она повернулась к нему, слезы потекли по ее лицу. – Какой же из вас психиатр? – воскликнула она. – Можете ли вы помочь мне? Господи, ведь каждому здесь известно, для чего я здесь. Вы же все знаете, что меня обманули. Мне обещали лечение сном, а за то, что я отстаиваю свои права, меня засунули в это корыто! – Лечение сном? – Его удивление было неподдельным. – Да, почему я и приехала сюда. На восемь дней. Спать. Этот ваш мерзкий доктор Холл обещал мне, а едва только мои друзья уехали – бац! – все изменилось. Он посмотрел на медсестру – та пожала плечами. – Я только что заступил на дежурство. О вашей болезни ничего не знаю, лишь делаю обход. Завтра же я подам докладную и уверен, что все уладится. – Ах вот как. – Нили больше не кричала. Она почувствовала искреннюю озабоченность и заинтересованность во взгляде молодого врача. Может, ей удастся достучаться до него? – Вы должны помочь мне, – взмолилась она. – Разве не для этого вас учили? Неужели в этом состоит ваша помощь? Сделать запись обо мне, потом отправиться домой и лечь в свою постель, а меня оставить лежать здесь по шею в воде. Если бы вы были по-настоящему чутким человеком, вы бы дали мне сигарету… что-нибудь поесть… несколько капсул секонала… а не просто сделали бы отметку в своей тетрадке и отправились восвояси. Он вышел из ванной комнаты. Она опять собралась с силами и начала кричать. Горло у нее саднило, и она была почти без сил. Если бы только она могла прекратить… Вода продолжала пузыриться все при одной и той же температуре. Может быть, так она сумеет уснуть, но тогда они победят! Всех держат в ванной, пока не заснут. Но только не Нили О’Хара! Если она проиграет первое сражение, то проиграет и все остальные. Она закричала громче… Час спустя молодой врач вернулся. Его сопровождала мисс Шмидт. Открыв свой саквояж, он что-то налил в стакан и протянул его мисс Шмидт. – Я позвонил доктору Холлу домой. Он согласен, что главное сейчас, – чтобы она спала. Во всяком случае, сегодня. Мисс Шмидт поднесла стакан ко рту Нили. – Выпейте. – Не стану ничего делать, пока не вылезу отсюда. – Выпейте, – мягко повторила мисс Шмидт. – Вы сразу же заснете, и мы вынесем вас из ванны. Обещаю вам. Нили поняла. Раньше они говорили ей, что она не выйдет из ванны, пока не уснет, а вот сейчас ей что-то дают, чтобы она заснула. Это ее победа. Никаких барбитуратов, да? А что же это тогда, черт возьми, за мутноватая водица? Кока-кола, что ли? Она позволила мисс Шмидт влить себе в рот эту жидкость. Боже мой! Вот это лекарство что надо! Действие она ощутила сразу же. Великолепно! Она перестала кричать. Совершенно непередаваемое ощущение блаженства охватило ее. Снимали парусиновое покрытие… кто-то растирал ей тело мохнатым полотенцем… помогли надеть ночную рубашку. – В «Репейнике» мест нет, – сказала мисс Шмидт. – Вы в состоянии понять меня, мисс О’Хара? Здесь больше нет свободных отдельных палат. Нам придется поместить вас в общую палату. Нили махнула рукой. Койка… спать… вот все, чего она хочет, а где – абсолютно наплевать. Когда она проснулась, было темно. Где она находится, черт возьми? Длинная комната со множеством коек. Ух ты, она же в психушке! Сколько сейчас времени? Она встала с кровати. Медсестра, сидевшая у двери снаружи, вскочила с места. – Да, мисс О’Хара? – Сколько времени? – Четыре часа ночи. – Я хочу есть. И сразу же на красивом подносе ей подали молоко и печенье. Ей разрешили присесть на скамейку в коридоре. Упаси господь, если она разбудит других психов. Она допила молоко, можно ли теперь выкурить сигарету? С ней разговаривали вежливо, но курить не разрешили. Так, ну и что они собираются делать теперь? Спать ей не хочется. Да и потом, в палате кто-то громко храпит. Мисс Шмидт извинилась. Отдельная палата освободится через несколько дней. Нили опять легла на свою койку. «Несколько дней»! Как только рассветет, ноги ее здесь не будет. Они обязаны разрешить ей поговорить по телефону с Анной. Она, должно быть, заснула, потому что, когда она открыла глаза, вокруг нее кипела бурная деятельность. Все уже встали. Вошла сестра, новая. – Доброе утро, мисс О’Хара. Вставайте и уберите свою постель. Ванная комната в конце коридора. – «Уберите свою постель»! – рявкнула Нили. – За такие-то деньги, сестричка? Вот уже пятнадцать лет как я не убираю за собой постель и не намерена заново привыкать к этому сейчас. – Я сделаю это за вас, – миловидная девушка с рыжеватыми волосами бросилась к ней из другого конца палаты. – Меня зовут Кэрол. – Почему ты должна убирать за мной постель? – спросила Нили, глядя, как девушка аккуратно расправляет простыни. Кэрол улыбнулась. – Вам поставят черную метку, если увидят, что кровать не убрана. Сегодня ваш первый день здесь. А эта метка – так и останется. – Да что мне до этой черной метки? – Ну как же, вы ведь не хотите оставаться в павильоне «Репейник» навсегда, верно? Вам же хочется перейти сначала в «Пихту», затем в «Вяз», затем в «Ясень», затем в амбулаторное отделение. – Прямо как в школе. – В некотором смысле – да. Это самая неуютная и шумная палата. Я уже должна была переводиться в «Вяз», но… сорвалась. И вот на целых два месяца застряла в «Репейнике». Но вскоре рассчитываю перевестись в «Пихту». Нили пошла с Кэрол в большую умывальную. Около Двадцати женщин чистили там зубы и разговаривали. Тут были представлены все возрасты. Кое-кому было за сорок, одной женщине приятной наружности – под семьдесят, Кэрол – лет двадцать пять. Шесть или семь были ровесницами Нили, а несколько женщин – даже моложе ее. Они трещали, как старшеклассницы в школьном коридоре. Нили выдали зубную щетку. Вошла санитарка с большой коробкой. – Отлично, девочки. А вот и ваша помада. Нили не верила своим глазам. В коробке лежало двадцать тюбиков губной помады, к которым были приклеены ярлычки с фамилиями. Она увидела и свой тюбик. Его взяли у нее из сумки и аккуратно наклеили ярлычок. Накрасив губы, она вернула помаду санитарке, и встала в очередь за одеждой. Санитарка выдала ей бюстгальтер, трусики, мягкие кожаные туфли без каблуков, юбку и блузку. К удивлению Нили, все эти вещи были ее собственными, на каждой из них стояла ее фамилия. Она не укладывала их в свою сумку, когда собиралась ехать сюда. Должно быть, ночью их с посыльным переслала Анна.ЗНАЧИТ, АННА ЗНАЛА, ЧТО ЕЕ НЕ БУДУТ ЛЕЧИТЬ СНОМ!
Нили оцепенела от страха. Медленно одеваясь, она пыталась хоть как-то упорядочить лихорадочные, ужасные мысли. Она последовала за Кэрол в большую комнату отдыха. Несмотря на закрытые окна, ее заливали солнечные лучи, придавая ей фальшиво приветливый вид. Она взглянула на стенные часы. Боже, всего семь тридцать! Как же она проживет весь этот долгий день? Вместо мисс Шмидт дежурила дневная медсестра, мисс Уэстон. Она была точно такого же сложения, как и мисс Шмидт, а пять или шесть молоденьких сестер точно так же послушно и быстро выполняли все ее распоряжения. Нили села завтракать вместе со всеми. Столовая была светлая и приятная, за каждым столиком сидели по четыре женщины. Официантки проворнообслуживали их, разнося блюда. Нили решила было ничего не есть, но едва до нее донесся запах яичницы с ветчиной, как она ощутила чувство голода. Она плотно позавтракала, съела несколько блюд и устало поплелась вместе со всеми назад, в комнату отдыха. Вероятно, это хорошо воспитанные психи, решила Нили. Она понимала, что все они узнали ее, но лишь тепло и вежливо улыбались ей, и она не испытывала никакого чувства смущения или застенчивости. Выглядит она ужасно. К юбке нужен ремень, он в ней и был, но его вынули. Волосы висят сосульками, колени исцарапаны – напоминание о ночи, проведенной в ванне. Ей хотелось разделить царящую здесь теплую, доброжелательную атмосферу и хорошее настроение остальных женщин. Они вели себя так, как будто им нравилось здесь! Кэрол познакомила ее с остальными. Ух ты, каждая из них кажется вполне нормальной и здоровой. Она села, спрашивая себя, что же будет дальше. Вошла медсестра, которую все обступили. В руках она держала коробку. Через минуту она начала выкрикивать фамилии всех присутствующих, даже «мисс О’Хара». Нили подошла. Ух ты! Вот это организация: даже на ее пачке сигарет ярлычок с фамилией. Сестра выдавала каждой женщине по две сигареты, а другая сестра, стоящая рядом, зажигала для них спички. Откинувшись на спинку кресла, Нили с благодарностью затянулась своей первой за последние двенадцать часов сигаретой. От первой затяжки у нее закружилась голова, после второй она почувствовала себя лучше, а третья окончательно вернула ей способность логически мыслить. Подумать только, ни единой сигареты со вчерашнего дня. И это у нее, которая выкуривала по две пачки в день. Медленно поднявшись, – сигарета придала ей спокойствие и уверенность в себе, – она подошла к письменному столу, за которым сидела мисс Уэстон. – Мне хотелось бы позвонить по телефону, – сказала Нили. – Куда нужно пройти? – Звонить по телефону не разрешается, – любезным тоном ответила мисс Уэстон. – Но как же мне связаться с моими друзьями? – Вам разрешается писать письма. – Могу я получить бумагу и ручку? Сестра посмотрела на свои часы. – Думаю, вам лучше подождать. Через пять минут вас будет осматривать врач. – Доктор Холл? – Нет, доктор Фельдман. Просто обычный обход. Это оказался терапевт, а не психиатр. Он взял у нее кровь из пальца и прослушал сердце. Нили попросила медсестру зажечь ей спичку, чтобы прикурить вторую сигарету. К ней подошла привлекательная темноволосая женщина. – Не расстраивайтесь из-за этих анализов. Просто им нужно удостовериться, что вы здоровы. Как бы они чувствовали себя, если бы вы вдруг умерли от рака или еще от чего-то, в то время как лечат вас от психического заболевания? Нили внимательно вгляделась в женщину. Ее можно было бы назвать красивой, если правильно наложить косметику. Скулы расположены как нельзя лучше, а черные глаза так и сверкают. Должно быть, когда-то у нее была отличная фигура, но сейчас она сильно располнела. По оценке Нили, ей было лет тридцать. Женщина села. В руках она держала квадратную коробку. – Меня зовут Мэри Джейн. Позволь нарушить твое уединение. Когда пойдешь в спортзал, купи себе почтовой бумаги. Она стоит один доллар. – Но у меня нет денег. Мэри Джейн улыбнулась. – Платить не нужно, это входит в стоимость твоего лечения. Но ты можешь пользоваться бумагой как записной книжкой. – Она открыла свою коробку. В ней была бумага и пачка сигарет. – А где ты достала… Женщина сделала знак, чтобы Нили замолчала. – В дни посещений разрешается сидеть с посетителями и курить одну сигарету за другой. Пусть тот, кто навещает тебя, принесет сразу блок. Ты его спрячешь, и в то время, когда разрешается курить, ты сможешь выкуривать штук по десять за раз. – Но ведь спички-то зажигают они и заметят, если ты выкуришь больше, чем две. – Медсестры тоже сочувствуют нам. Ты всегда можешь прикурить от чьей-нибудь сигареты. Это разрешается. Нам, душевнобольным, только спички нельзя держать. Но сестрам совершенно безразлично, по сколько штук мы выкуриваем. Они считают, что и мы должны получать какое-то удовольствие от жизни. Нили улыбнулась. – Но ты-то ведь не сумасшедшая, а? – Нет, я поступила сюда, чтобы свести счеты с мужем, только все это обернулось против меня же самой. Он – подонок, денег у нею куры не клюют, у него теперь другая женщина. Он требовал развода, поэтому я притворилась, что безумно влюблена в него… понимаешь… и что у меня якобы нервный срыв. И это была моя самая огромная ошибка в жизни. – Почему? – Единственное, что я сделала – это приняла несколько таблеток – три штуки – и оставила якобы предсмертную записку. Потом, помню, я оказалась в «Бельвю». Вот где точно можно свихнуться. Вокруг одни психи – орут, бесятся. С испуга я и сама, наверное, спятила. Тоже начала вопить, и на меня надели смирительную рубашку. Ну, и поскольку моему мужу это по карману, меня отправили сюда. Я сама подписала бумагу, что согласна. А потом, когда захотела отсюда выйти, он сделал так, что меня уже не выпустили – на законном основании держат здесь против моей воли. Я тут уже целых пять месяцев. Согласно этой бумаге, я находилась в павильоне «Вяз», и там было очень прилично: разрешается курить, носить платья с ремешками, даже косметикой можно пользоваться сколько хочешь. Но когда я узнала, что он официально упек меня сюда, со мной случилась истерика, и я психанула по-настоящему. И вот за это оказалась в «Репейнике». Так что предупреждаю: води их за нос, прикидывайся. Я этого не делала, закатывала истерики каждый день, отказывалась принимать пищу и подчиняться их правилам. Целых три недели пролежала в этой проклятой ванне. А ты должна уметь играть. Есть только один способ: делать все так, как они велят. Сейчас я веду себя как ангел, и вскоре меня переведут в «Пихту». Побуду немного там, потом в «Вяз», потом в «Ясень», потом в амбулаторное отделение… а потом на свободу. От страха Нили прошиб холодный пот. – Но ведь это же несколько месяцев. – Да, примерно год, – радостно подтвердила Мэри Джейн. – И ты смирилась с этим? Женщина пожала плечами. – Конечно, смирилась. Уж я постаралась – целую неделю вопила и орала. Но с ними бесполезно бороться. Они покажут историю болезни твоему адвокату или мужу, или тому, кто тебя опекает и поместил тебя сюда. На бумаге это выглядит плохо: «Пациент впадает в состояние истерии», «Пациент нуждается в ограничении активности. Двенадцать часов в ванне». Потом адвокату говорят: «А теперь дайте свое согласие на то, что она должна остаться здесь еще на три месяца. Разве вы не хотите, чтобы и вы, и общество получили назад здоровую и энергичную женщину?» Ясное дело, имея с нас по полторы тысячи в месяц, они могут и не торопиться. Так что я решила не бороться с ними. Пережду здесь. И потом, ну что я теряю? Идти мне некуда. Хэнк, мой муж, сейчас с Другой. Но он, по крайней мере, не может жениться на ней. А мое лечение влетает ему в полторы тысячи каждый месяц. – Но ведь я поступила сюда всего на восемь дней для лечения сном. – Для чего? – странно посмотрела на нее Мэри Джейн. Нили пояснила ей, что такое лечение сном. Мэри Джейн улыбнулась. – Здесь его вообще не проводят. Тебе тут даже анальгина не дадут. – Мне что-то дали выпить вчера ночью, – с гордостью сказала Нили. Мэри Джейн рассмеялась. – Да уж, мы тебе отдали должное. Ты в самом деле прорвала парусину? Об этом все слышали. – Да, и кроме того, я скоро выберусь отсюда. Мэри Джейн улыбнулась. – О’кей, я обеими руками за это. Покажи мне, как это сделать. Посмотри на Пегги – вон как они ей мозги промыли. Подошла Пегги, двадцатипятилетняя привлекательная блондинка. – Рассказываешь ей мрачные истории наших болезней? – спросила Пегги. – А ты почему здесь? – поинтересовалась Нили. – Потому что я была психически ненормальная, – охотно ответила Пегги. – Ничего подобного, – возразила Мэри Джейн. – Потеряла двух детей подряд – мертворожденные. От такого у любой будет депрессия. Пегги выдавила из себя улыбку. – Помню только, что я начинала плакать, стоило мне увидеть куклу в витрине магазина. Когда поступила сюда, все обострилось. Сорок раз ко мне применяли шоковую терапию. Только сейчас начинаю чувствовать себя человеком. От ужаса у Нили комок подступил к горлу. Шоковая терапия! Мэри Джейн словно прочла ее мысли. – Не бойся. Даже если они сочтут, что это необходимо тебе, им нужно получить разрешение на ее применение. От ближайших родственников или от тех, кто несет за тебя ответственность. Нили успокоилась. – Анна никогда не даст разрешения. Мэри Джейн усмехнулась. – Если только врачи не запудрят ей мозги, как мужу Пегги. Когда за родственников или поручителей принимаются доктор Холл и доктор Арчер, то знай: те соглашаются на все. Муж Пегги приехал в первый же день свиданий. Она прекрасно себя чувствовала, хотела только выйти отсюда. Он был просто в восторге. Сказал, что прямо сейчас идет в административный корпус и забирает ее отсюда. Ха-ха! В этом-то все и дело! Он исчез на две недели, и со следующего же дня Пегги начали лечить шоковой терапией. – Но почему? Пегги вздохнула. – Я не виню Джима. Сначала винила, а теперь вполне понимаю его. Ему показали мою карту. У меня было подавленное состояние, я не могла спать, много плакала – все признаки маниакальной депрессии. А кто бы не плакал, потеряв двоих детей одного за другим и оказавшись запертой здесь? Но они убедили Джима, что если я вернусь, то у меня опять будет психический срыв и, может, уже надолго. Джиму, разумеется, нужна нормальная счастливая жена, поэтому он подписал все бумаги и оставил меня здесь до полного выздоровления. Нили внимательно слушала их. У каждой похожая история. Ни одна из них не сумасшедшая, на вид все они даже более нормальные, чем те, кого она знала там, на свободе. Она уже слушала чью-то седьмую жизненную историю, когда медсестра объявила: – Идемте, леди! – А сейчас что? – спросила Нили. – Спортивный зал, – пояснила Мэри Джейн. Колонной по двое они пошли за медсестрой. Проходили по коридорам – двери отпирались и сразу же запирались – и наконец попали в большой спортивный зал. Тут был корт для бадминтона, столы для настольного тенниса и даже бильярд. Когда они вошли, предыдущая группа выходила из зала. Мэри Джейн помахала знакомым женщинам. – Эта группа из «Пихты». Они занимаются в спортзале с восьми до восьми тридцати. Вот те женщины, которым я помахала, – их только на прошлой неделе перевели из «Репейника» в «Пихту». Нили сидела на боковой скамейке, в то время как другие женщины играли в бадминтон и в настольный теннис. Она купила пачку бумаги для писем, но отказалась примерять спортивную обувь. Сказала им, что долго здесь не задержится. А бумага? Ну-у, ей нужно написать Анне. Она не должна паниковать. Мэри Джейн сказала: если заметят, что она испытывает страх, это обернется против нее же самой. Они покинули спортзал в девять тридцать, когда стала заходить другая группа. Их повели в корпус трудотерапии. Все женщины принялись за свою работу, а ей преподавательница объяснила, что она может либо выкладывать мозаику, либо вязать, либо делать, что пожелает. Но она вообще не желала ничего делать! Села в уголке. Ах господи, как же случилось такое? Нили посмотрела в окно. Начинала зеленеть трава. Она увидела, как по лужайке пробежал маленький кролик. Он-то, по крайней мере, может сам выбирать, куда ему бежать. Он – свободен. Чувство заточения в четырех стенах – это больше, чем она в состоянии выдержать. Нили посмотрела на преподавательницу, которая терпеливо помогала женщинам. Ясное дело – в пять часов та может идти на все четыре стороны и делать все, что пожелает, А вот ей хочется сигарету. ЕЙ ХОЧЕТСЯ «КУКОЛКУ»! Ах, господи, что угодно за одну «куколку». Она почувствовала, что у нее вспотел затылок. Волосы стали влажными от пота, а спина заныла, на этот раз всерьез. Сейчас у нее потемнеет в глазах, и она вырубится! Нили тихо простонала. Преподавательница метнулась к ней. – Спина, – пожаловалась Нили. – Вы ушибли ее в спортзале? – Преподавательница была само внимание. – Нет, у меня и в истории болезни говорится о болях в области спины. Сейчас они начались снова. Услышав это, преподавательница сразу же потеряла к ней всякий интерес. – В два часа дня у вас беседа с вашим психиатром. Можете сказать ему об этом. День тянулся медленно. В два часа, когда Нили увидела наконец врача, она готова была кричать. Доктор Сил оказался худым краснолицым человеком. Когда она говорила, он все записывал. Она выплеснула весь свой гнев – на несправедливость того, что ее тут обманывают, на невыполненное обещание лечить ее на манеру обращения, когда человека тащат волоком. На время собеседования с психиатром пациентам выдавали неограниченное количество сигарет, и она курила их одну за другой. – У меня действительно болит спина, – взмолилась она. – Пожалуйста, дайте мне несколько капсул секонала. Он продолжал писать. Потом сказал: – Как давно вы принимаете секонал? Ее терпение лопнуло. – О-о, да полно вам! Не раздувайте из этого историю вселенских масштабов. Если все, кто его принимает, должны быть в психушке, то у вас здесь была бы половина Голливуда, вся Мэдисон-авеню [64] и весь Бродвей. – Вы считаете нормальным принимать снотворное днем для того, чтобы облегчить боль? – Нет, я бы предпочла инъекцию демерола, – ответила Нили. И с удовлетворением отметила, как резко взметнулись вверх его брови. – Да, демерола. – Она улыбнулась. – В Испании мне его вводили постоянно. Два-три раза в день. И все у меня работало отлично. Я даже сыграла главную роль в фильме. Так что вы понимаете: какие-то две паршивые капсулы секонала мне нужны просто так, для затравки. Дайте мне несколько штук. Если я буду принимать по две каждый час, то вполне свыкнусь с тем бардаком, что у вас творится. – Расскажите мне о вашей матери, мисс О’Хара. – О черт! Только давайте не будем снова приниматься за всю эту фрейдистскую чепуху. Послушайте, я уже прошла через все это там, в Калифорнии. Потратила пять лет и двадцать тысяч долларов на то, чтобы втолковать ему, что я не помню свою мать. Если мы будем начинать с того же самого, я стану старухой, прежде чем выйду отсюда. – Я сделаю запрос о ваших данных в Калифорнию, – пообещал он. – Так долго я здесь не пробуду. Сегодня же напишу письмо подруге. – Но вы должны пробыть здесь не менее тридцати дней. – Тридцать дней?! Он пояснил ей содержание документа, который она подписала. Нили покачала головой. – Ну и рэкет у вас здесь. Все продумано. Когда поступаешь сюда, разве можешь представить себе, что требуется целое детективное агентство для проверки того, что там напечатано мелким шрифтом! Он встал. – Увидимся завтра в это же время. Она пожала плечами. – О’кей, значит, мне предстоит тридцатидневная пауза. Что ж, постараюсь извлечь из нее максимум удовольствия. – Словно спохватившись, она спросила: – Но через тридцать дней я смогу уехать, да? – Посмотрим, – неопределенно ответил он. – Что значит «посмотрим»? – В конце этого срока мы произведем оценку полученных результатов. Если мы сочтем, что вы поправились… – «Мы»? Что еще за «мы»? Здесь нахожусь я, и я решаю, остаться мне или уезжать. Как кто-то может меня задержать? И зачем? – Мисс О’Хара, если вы настаиваете на выписке, а мы не считаем, что вы выздоровели, то мы будем говорить с людьми, несущими за вас ответственность, в данном случае – с мисс Уэллс. Мы попросим, чтобы она дала согласие задержать вас здесь еще на три месяца, если вы не согласитесь на это сами. Я думаю, она согласится. – А если Анна откажется? – Тогда мы могли бы принять свои меры, чтобы оставить вас здесь. Представили бы ваш случай на рассмотрение беспристрастной комиссии… Она застыла от страха. – Хорошенький рэкет вы тут у себя устроили. – Это не рэкет, мисс О’Хара. Мы стремимся излечивать людей полностью. Если бы мы выписали женщину, прежде чем излечили ее, а несколько месяцев спустя она бы покончила жизнь самоубийством или причинила вред кому-то… это не способствовало бы укреплению нашей репутации. Если бы, например, вам сделали операцию в хирургическом отделении, а вы бы захотели покинуть его, прежде чем шов зарубцуется, врач имел бы право задержать вас. В Хейвен-Мейноре если уж мы выписываем пациента, то он вполне может занять достойное место в обществе. – Ну, ясное дело – в доме для престарелых. Доктор Сил улыбнулся. – Уверен, что впереди у вас долгая, насыщенная творческая жизнь. Год или два, проведенные здесь, не будут потрачены напрасно. – «Год или два»! – Ее начало трясти. – Нет! Послушайте… тридцать дней – О’кей – раз уж я залетела сюда. Но ни минуты больше! Он опять улыбнулся. – А сейчас выполните тест Роршаха [65]. Это скажет нам о многом. Нили схватила его за рукав. – Послушайте, док, в этих тестах я ничего не смыслю – возможно, эти чернильные кляксы покажут, что я какая-то ненормальная, – но ведь я не похожа на всех остальных, потому я и звезда. Достичь того, чего достигла я, можно только, если быть не такой, как все. Да ведь если бы накинуть мелкую сеть на всех завсегдатаев «Сарди» и «Чейсенс» и дать им выполнить тесты Роршаха, вы бы их вовеки отсюда не выпустили. Неужели вам не понятно, что именно наши маленькие чудачества делают из нас тех, кто мы есть? – Согласен. И эти чудачества хороши, если они работают на вас. Но когда они оборачиваются своей дурной стороной и начинают работать против вас, на саморазрушение вашей личности, тогда мы вынуждены вмешаться и повернуть этот процесс. – Нет никакого саморазрушения моей личности. Просто у меня все пошло кувырком. Знаете, когда на студии в течение многих лет с тобой обращаются так, словно ты – сам господь бог, заботясь буквально обо всем, то эта студия принимает в твоем представлении некий огромный материнский образ. Они делают абсолютно все: заказывают билеты на самолет, пишут тексты твоих выступлений, занимаются прессой… даже билеты на общественный транспорт за тебя покупают. И постепенно ты впадаешь в полную зависимость от них. Чувствуешь, что принадлежишь студии, что она защищает тебя. А потом, когда остаешься сама с собой, ощущаешь себя выброшенной вон, и становится страшно. Я почувствовала, что опять стала просто Нили. – Как это «просто Нили»? – Этель Агнесс О’Нил, которой приходилось делать всю грязную работу, стирать за собой белье и добиваться всего самой. А за Нили О’Хара все делали другие. Она внушала к себе уважение. Так и должно быть, если ты настоящий талант, чтобы ты могла всецело сосредоточиться только на своей работе. Вот почему я и потеряла голос: не могла совмещать и то, и другое. – Но ведь Этель Агнесс О’Нил, очевидно, совмещала и то, и другое, – сказал он. – Конечно. В семнадцать лет ты можешь делать все – тебе нечего терять. Начинаешь с нуля, поэтому можешь браться за что угодно. Сейчас мне тридцать два. Последнее время я не работала, но я нечто вроде живой легенды. Я не могу рисковать своей репутацией. Вот почему я действительно не смогла сниматься в этой голливудской картине. Контракт был заключен только на одну картину – за моей спиной не стояла никакая студия, которая заботилась бы о моем будущем и опекала бы меня. Они хотели просто использовать меня, быстро заработать деньги на моем имени. Я понимала, что картина паршивая, и они тоже это понимали, но рассчитывали, что она принесет доход. Поэтому я и потеряла голос – по-настоящему потеряла. Мне это доктор Мэссинджер объяснил. Но на студии объявили, что на меня нельзя положиться и что со мной невозможно работать. – Но ведь вы, по-моему, сказали, что студия символизировала для вас образ большой заботливой матери? Она вздохнула. – Все это в прошлом. Телевидение все изменило. Даже Шеф сейчас – всего лишь перепуганный старичок, которому приходится отчитываться перед акционерами за каждый свой шаг. Я слышала, они пытаются избавиться от него. Все изменилось. – Тогда и вам тоже нужно измениться, вырасти. – Может быть, – согласилась Нили. – Но это не значит, что я должна дрожать за свою шкуру. Я – звезда. И должна вести себя как звезда, что бы ни случилось. Он проводил ее до двери. – Продолжим завтра. – Когда я смогу увидеться с Анной? – Через две недели. Две недели! Нили вернулась в комнату отдыха. Она спрятала шесть сигарет в коробку с бумагой для писем, а пачку вернула медсестре. Правда, спичек нет, но она что-нибудь придумает. Было время отдыха. Женщины писали письма, играли в карты. Затем наступило время для курения, и каждая из них, казалось, курила непрерывно, одну сигарету за другой. Нили написала Анне длинное, полное отчаяния письмо, в котором описала все происшедшее с нею, а в конце настоятельно потребовала немедленно вызволить ее отсюда. Сложив листки, она засунула их в конверт и начала было заклеивать его. К ней подошла медсестра с карточкой «Мисс Уэстон» на груди. – Не запечатывайте, – предупредила она. – Просто напишите фамилию вашего врача в углу, где должна быть марка. Он прочтет письмо и, если одобрит содержание, то отправит его. У Нили отвисла челюсть. – Вы хотите сказать, что доктор Сил будет читать все, что я напишу? – Такое у нас правило. – Но так же нельзя. Должно же у человека быть хоть что-то личное. – Это делается в интересах пациента, – мягко пояснила мисс Уэстон. – «В интересах пациента»! Точнее, в интересах этой паршивой психушки! – Нет, мисс О’Хара. Очень часто пациентка находится в состоянии депрессии и переносит свое враждебное отношение на того, кого она любит. Ну, скажем женщину поместил сюда ее муж. Она всегда была ему преданной и верной женой, но, находясь здесь, она испытывает галлюцинации и пишет мужу, что ненавидит его, что была ему неверна, и даже называет его друзей, которые, якобы, были ее любовниками. Все это не правда, но мужу-то откуда знать? Вот почему врач прочитывает письмо, прежде чем оно будет отправлено. Мисс Уэстон улыбнулась, увидев, как Нили зажала письмо в руке. – Послушайте, если вы написали, что вам здесь все ненавистно или даже обидные слова в адрес доктора Сила, не волнуйтесь. Он все поймет, и письмо будет отправлено. Единственное, чего он хочет, – защитить ваши же интересы. Вот для этого и установлено такое правило. Нили протянула ей письмо. Значит, доктор Сил прочтет, что он, по ее мнению, похож на баклажан. Ну и поделом ему со всеми его правилами! Она обхватила голову. Господи, ей необходимо вырваться отсюда! Мэри Джейн тронула ее за плечо и посоветовала: – Не сиди так. А то напишут, что ты впадаешь в депрессию. Нили горько расхохоталась. – И не смейся так, – предупредила ее Мэри Джейн. – Это похоже на истерику. Если смеешься, смейся нормально. И не уходи в себя. А то напишут, что ты нелюдимая и замкнутая, ни с кем не общаешься… – Да полно тебе! – воскликнула Нили. – Видит бог, это ух чересчур. – Но это правда. Почему, думаешь, они держат по шесть медсестер всего на двадцать пациентов? Мы всегда находимся под постоянным наблюдением. Два раза в неделю старшие сестры идут к врачам и все о тебе докладывают. Здесь все докладывают – и преподаватель трудотерапии и спортивный тренер… У тебя уже есть две плохие пометки: дулась в спортзале и отказалась что-либо делать в отделении трудотерапии, не хотела лепить маленькие керамические пепельницы. Ты должна всегда помнить: «Старший Брат присутствует повсюду, он постоянно следит за тобой» [66]. Понимаешь? Когда днем они опять пришли в отделение трудотерапии, Нили принялась мастерить коробочку для сигарет. «Буду всем показывать ее и говорить, что она обошлась мне в полторы тысячи долларов», – решила про себя Нили. Она яростно полировала деревянные поверхности шкатулки в надежде, что преподавательница наблюдает за ней. В пять часов всех повели в массажную – массах, обычный душ, душ Шарко. Все это могло бы быть приятно, однако она ненавидела каждую минуту, вынужденно проведенную здесь. Она завидовала женщинам, которые вели себя так, словно находились в летнем лагере отдыха, испытывая удовольствие от всего этого. Возможно, для некоторых из них это и было спасительным прибежищем от скучной и монотонной жизни, но для нее это был отнюдь не праздник. Страшно болит спина, трясутся руки. Если она в ближайшее время не примет «куколку», она снова закричит. К горлу подкатывала тошнота. Болеть и показывать, что у тебя рвота, нельзя – за это будет плохая пометка. Она стиснула зубы, потом, не выдержав, бросилась в туалет, ее вырвало. Вернувшись, она встала под душ Шарко. О’кей, она будет прикидываться… пока не приедет Анна. А потом убедит Анну, что чувствует себя прекрасно. Ей обязательно нужно выйти отсюда через тридцать дней. Боже да ведь за целый год в этой шараге с бадминтоном и всеми этими ремеслами она действительно спятит! В шесть часов они вернулись в павильон «Репейник». Все расселись. Было полно всяческих книжек, и каждая пациентка предлагала ей конфету. Не удивительно, что все они полнеют. Мэри Джейн поделилась с нею, что за пять недель поправилась на двадцать фунтов. Внезапно Кэрол, та самая девушка, которая убрала за Нили кровать утром, вскочила и вскрикнула: – Ты оскорбила меня! Сидящая рядом девушка удивленно посмотрела на нее. – Кэрол, я же читала и не произнесла ни слова. – Ты сказала, что я скрытая лесбиянка, – стояла на своем Кэрол. – Я убью тебя! – Она бросилась на девушку. Две медсестры моментально разняли их. Кэрол кричала, лягала сестер и дралась с ними, брызжа слюной, сыпала ругательствами. Наконец ее вытащили из комнаты. – Два дня в ванной, и она снова успокоится, – прокомментировала Мэри Джейн. – Та девушка действительно что-то сказала? – спросила Нили. Мэри Джейн отрицательно покачала головой. – Кэрол – параноик. Очень милая девушка. Целыми неделями может вести себя изумительно, потом ни с того ни с сего ей что-то взбредает в голову. Думаю, вряд ли она выздоровеет окончательно. Она здесь уже два года. Два года! За это время и впрямь с ума сойдешь. Нили охватил неподдельный ужас. Спину скручивало от боли… в горле першило… но она должна держаться. Должна, и все! Неужели это действительно происходит с нею? Боже, другие звезды тоже совершали безрассудные поступки, и она читала, что они лечились в санаториях. Со стороны все это выглядело так мило, так просто: захотели – полечились, захотели – выписались. Неужели они тоже попадали в такую же западню, проходили через весь этот кошмар? Или она единственная, кого вот так засадили в сумасшедший дом? «Послушай, Нили, – убеждала она себя. – Ты справишься. Ты начинала с нуля и достигла вершины. Ты выберешься отсюда. Только продержись, девочка». Обед подали в шесть тридцать. Затем они приняли душ, после чего расселись по разным местам в пижамах и халатах. Некоторые смотрели телевизор. Нехотя, вполглаза она тоже смотрела фильм, вспоминая, что с этой звездой, исполнителем главной роли, у нее когда-то был скоротечный роман. Боже, какие они все счастливые там, за этой оградой. Если она когда-нибудь все-таки выберется отсюда, то уж будет вести себя прекрасно. Никаких вывертов и припадков, никаких скандалов – только по две «куколки» на ночь. До чего хочется сигарету – она ухе выкурила те, что припрятала. Мэри Джейн дала ей еще несколько штук. Некоторые женщины рассказывали ей о своей жизни, и она делала вид, что ей интересно. Ни одна, конечно, не была сумасшедшей, всех засадили сюда по ошибке. В десять часов прозвучал отбой. Она лежала в общей палате, и вскоре до ее слуха донеслось ровное дыхание уснувших женщин. Кто же, черт возьми, может спать в такой час? Каждые тридцать минут медсестра с фонариком подходила ко всем койкам. Она закрывала глаза, притворяясь спящей, чтобы не сказали, будто у нее какие-то нарушения, раз она не спит. Ей было слышно, как часы пробили двенадцать, потом час. Она думала о тех приятных маленьких радостях, которые все воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Какое удовольствие, например, включить бра над кроватью и читать или выкурить сигарету. Она даже не стала бы возражать против того, что ей не дают ни «куколок», ни выпивки, – но вот просто лежать так, это же смешно. Ух ты! Если она продержится всю эту ночь, значит, она действительно сильная. Ее ничто и никогда не убьет. Два часа. Ей нужно пойти в ванную комнату. Неужели это запишут как проявление невроза? Боже, но ведь сходить отлить – это же вполне нормально. Она встала и пошла по коридору. К ней моментально подскочили две медсестры. – Что-нибудь не так, мисс О’Хара? Нет, она просто хочет в туалет. Она часто встает в туалет по ночам. Она пошла в общую ванную комнату, а сестра осталась ждать у самой двери. О господи, даже отлить и то не дадут наедине с собой… (обратно) (обратно)Анна
1961
 Анна сидела у окна и курила. Это была ужасная встреча: Нили заходилась в рыданиях, умоляя забрать ее оттуда. Доктор Холл и доктор Арчер, и доктор Сил на основании наблюдений за поведением Нили утверждали, что у нее явные нарушения психики, что у нее «нервный срыв, долго переносившийся на ногах» с суицидальными тенденциями, что забрать Нили сейчас – значит вынести ей смертный приговор, обречь на самоубийство. Правда, перед беседой с врачами она пообещала Нили, что сразу же увезет ее домой, однако данные наблюдений были убедительнее, чем слезы Нили.
И как только она смогла смотреть в эти затравленные глаза, убеждая ее, что необходимо остаться там, по крайней мере, еще на три месяца! Она подписала документ. Кевин настоял на этом. Господи, правильно ли она поступила? Врачи уверяли, что Нили давно следовало поместить на лечение, что ничего позорного в этом нет, что Нили, когда выздоровеет, сможет исполнять лучшие и более значительные роли. Да, Нили придется нелегко, но в конечном счете это все оправдается. И к тому же, она ведь находится не в каком-то ужасном сумасшедшем доме – клиника великолепная. За полторы тысячи в месяц она должна быть великолепной. Но этот молящий взгляд стоял в памяти, как безмолвный укор ее совести. Как ужасно, должно быть, оказаться в заточении, какой бы роскошной ни была твоя камера. Через две недели она опять навестит Нили. Может быть, к тому времени Нили немного пообвыкнет.
В следующее посещение Анна обнаружила, что у Нили хорошее настроение. Ее перевели в павильон «Пихта».
– Меня повысили! – воскликнула она, увидев Анну. – Теперь мне можно пользоваться карандашом для бровей, и У меня есть свой письменный стол, мне выдают по пачке сигарет на два дня. Ты привезла блок? Хорошо, я его спрячу. Спичек нам по-прежнему не дают – только у сестер, но ночная дежурная сестра в «Пихте» – моя поклонница. Вчера поздно вечером она провела меня из моей комнаты в свою дежурку и дала посмотреть мой старый фильм. Мы обе курили, как сумасшедшие.
Нили немного располнела, но выглядела хорошо. Спина у нее по-прежнему болела, а по ночам она так и не могла уснуть. Но за три месяца все должно было пройти. Она поняла: врачи убедили Анну, запудрили ей мозги. Они со всеми так делают. Больницу она ненавидела, но женщины были очень милыми. Вот только она узнала, что не такие уж они нормальные, какими кажутся на первый взгляд. Мэри Джейн – алкоголичка, а Пэт Туми, та самая светская дама, что утверждала, будто ее держат здесь единственно потому, что муж пытается забрать детей себе, – вообще не имеет детей! В этом и аналогичных лечебных заведениях она уже с шестнадцати лет. Об этом ей поведала ночная медсестра.
– Я-то нормальная, как огурчик, по сравнению с этими психопатками, – воскликнула Нили. – А с виду все они вполне здоровы.
Но в мае у Нили произошел рецидив. Воспользовавшись приятельскими отношениями с ночной сестрой, которую после этого случая уволили, она выкрала нембутал. Наполовину пустой пузырек обнаружили у нее под матрацем, а когда его стали отнимать, она оказала яростное сопротивление: выкрикивала ругательства и пришла в такую ярость, что ее пришлось на десять часов поместить в ванну. Она опять была переведена в «Репейник». Когда Анна навестила ее, та была замкнутой и необщительной.
Анна ездила в санаторий каждую неделю. Она подписала новый контракт с «Гиллиан» на очередной сезон. Кевин уже продал компанию, но постоянно крутился в студии, и его молчаливое присутствие было хуже, чем самые отчаянные громогласные протесты.
В душе Кевин во всем обвинял Нили. Он себя уверял, что Анна принадлежит ему, независимо от того, женаты они или нет. Ведь она так долго оставалась с ним, когда он еще не собирался жениться. Он понимал, что ведет себя не правильно, постоянно ошиваясь в помещении компании – новые владельцы уже взяли все в свои руки, дела шли хорошо, но ему нечем было заполнить свое время. Иногда он заходил к своим брокерам, ежедневно тщательно брился, обедал со своим адвокатом…. но всем этим он никак не мог заполнить целый день. Поэтому ноги сами несли его на студию, где он наблюдал, как Анна записывает рекламные ролики. Каждый день, приходя туда, он обещал себе, что это в последний раз.
И вот сейчас он говорил себе то же самое. День был необычный для июня – холодный и дождливый.
Он сидел в холле, в то время как Анна репетировала в студии. Ну что ж, еще через три недели все программы на летний сезон будут отсняты. Анна пообещала, что в отпуск она поедет вместе с ним, но, вероятно, куда-нибудь недалеко, чтобы можно было раз в неделю навещать Нили.
Режиссер Джерри Ричардсон привел какого-то мужчину.
– Кевин, мне хотелось бы познакомить тебя с моим старинным приятелем. Мы вместе воевали. Знакомься – это Кевин Гилмор. А это – Лайон Берк.
Кевин застыл, услышав это имя. Наверняка тот самый, имя не столь уж распространенное. С виду скорее артист, чем писатель. И хорошо сложен, а загар… Кевин вдруг почувствовал себя старым и больным. И сразу как бы со стороны увидел свои редеющие волосы. У Берка же они черны, как смоль, и лишь слегка серебрятся на висках. А какая широкая улыбка у этого мерзавца. Нервно улыбнувшись, Кевин обменялся с Лайоном рукопожатием.
– Принимаете участие в работе компании? – спросил он.
– Нет. Просто приехал в Нью-Йорк несколько дней назад. Обедали с Джерри, и он сказал мне, что здесь работает мой старый друг – Анна Уэллс. Вот и зашел повидаться.
– Сейчас посмотрю, освободилась ли она, – быстро проговорил Кевин. – Это я ее открыл… сделал «Девушкой Гиллиана». Пойдемте, она в студии. – Он взял Берка под руку. Он должен быть там, с ними, видеть реакцию Анны.
У нее еще не кончилась генеральная репетиция, поэтому Кевин и Лайон сели в зрительном зале. Он знал, что она не видит их из-за яркого света юпитеров, » незаметно, искоса следил за Лайоном. Лайон смотрел репетицию с явным интересом.
– Да, у нее это и в самом деле великолепно получается, – сказал он Кевину, словно только что узнал это.
– Она была великолепна с самого начала, – осторожно заметил Кевин.
– Я впервые вижу ее на сцене. Все это время я хил в Европе.
– У них сейчас будет перерыв. Хотите подойти поздороваться? – Кевин старался говорить как можно непринужденнее.
– Непременно! – Лайон легко встал с кресла и пошел вслед за Кевином.
Когда они подошли, Анна обсуждала с продюсером какие-то изменения. Увидев Кевина, она тепло улыбнулась и подмигнула ему, как бы говоря: «Через минуту все кончится». Сначала ее взгляд невидяще скользнул по лицу Лайона, затем, вздрогнув, словно не веря своим глазам, она вновь посмотрела на него.
– Да, это я, – сказал он, лучезарно улыбаясь. Он выступил вперед и взял ее руки в свои.
Анна слабо улыбнулась, чувствуя, как у нее дрожат губы. Лайон… еще красивее, чем когда-либо… Каким-то образом она все же обрела дар речи и сказала, что рада видеть его.
– Можем мы где-нибудь присесть? – спросил он. – Здесь дьявольски жарко от этих юпитеров. Или ты еще не закончила?
– Нет, у меня пока все закончилось, теперь остались только съемки.
– Мне нужно кое-чем заняться в правлении, – сказал Кевин. – Почему бы вам не побыть вдвоем – вам наверняка есть что вспомнить. – Он ушел, кивнув на прощание. Анна поняла, что для него это был труднейший поступок в жизни. Лишь по его окаменелой спине было видно, каких душевных усилий ему стоило держаться с таким достоинством. Всем сердцем она потянулась к нему. Он был напуган, но боролся с собой, пытаясь казаться смелым. Она тоже боролась с собой, ведя Лайона в свою гримерную. «Он вернулся – вот как все просто, – думала она. – А я? Неужели я должна забыть эти пятнадцать лет молчания и раскрыть ему свои объятия? И тем не менее, именно это я и хочу сделать. Не могу спокойно смотреть на него, чтобы не протянуть руку и не коснуться. Но ведь сейчас есть Кевин… Где я была бы, если бы не Кевин? И где был Лайон все эти годы?»
В гримерной они сели. Прикурив сигарету от протянутой им зажигалки, она глубоко затянулась, намеренно ожидая, с чего он начнет.
– Что ж, похоже, ты была права, – сказал он.
– Насчет чего?
– Насчет Нью-Йорка… твоей подлинной любви. – Он развел руки, как бы охватывая все пространство вокруг. – Тебе здесь нравилось, и ты добилась своего, Анна. Я очень горжусь тобой.
– Ты тоже добился своего, Лайон.
– Но не в долларах и центах, и не в настоящей литературе. Но в целом, можно сказать, что своего я добился, ибо делаю сейчас то, чего по-настоящему хотел. И верю в то, что ты – та самая девушка, которая когда-то сказала мне, что каждый человек обязан дать себе этот шанс.
– Что ты делаешь в Нью-Йорке?
– Мы совершенно восхищены вашим коммерческим телевидением и быстрым становлением ваших актеров. Одна из наших газет поручила мне написать цикл статей обо всех аспектах вашего телевидения – о девушках, зарабатывающих миллионы всего-навсего одной пластинкой-хитом, о звездах-ковбоях, превращающихся во владельцев предприятий, и о девушках, которые становятся финансовыми магнатами и волшебницами, рекламируя лак для ногтей.
Она рассмеялась.
– А у вас там такого нет?
– Пока нет. Вскоре это придет и к нам – мы отстаем от вас лет на десять,
– но я, по крайней мере, могу подготовить Британские острова к грядущему нашествию. – Он улыбнулся. – Конечно, это не имеет ничего общего с литературой, которой я себя посвятил. Просто неожиданное выгодное предложение: хорошо оплачивается и к тому же дало мне возможность приехать в Штаты.
– Сколько ты здесь пробудешь?
– Думаю, месяца полтора.
– Уже виделся с Генри?
– Вчера обедали вместе. Генри устал, хочет продавать свой бизнес. Джордж Бэллоуз пытается сам набрать нужную сумму, но если не сумеет, фирма Джонсона-Гарриса приобретет его. – Он закурил сигарету. – И Джорджа я видел. Выглядит вполне процветающим, но я не завидую ему – все та же бешеная гонка.
– Легко ничего не дается, Лайон.
– Да, верно. Даже вот эта журналистская работа, за которую я взялся. Приходится проводить целое исследование и иметь дело с массой цифр, которые нужно проверять и перепроверять. Не могу же я все брать из головы. Но мне это нравится. – Он перегнулся через столик и взял ее за руки. – А как ты? Не замужем, детей нет… Генри говорит, ты все еще одна.
Она отвернулась чуть в сторону, надеясь, что под густо наложенным сценическим гримом не видна краска смущения.
Он все так же крепко держал ее за руки.
– У меня в этом плане тоже одни нули, – сказал он. – Единственное, о чем я сожалею. Такой, как ты, Анна, больше нет – да и не могло быть никогда. – Он помолчал. – Мне бы очень хотелось еще раз встретиться с тобой, пока я здесь. Я сумею понять, если ты не сможешь… Генри говорит, что ты и этот Кевин Гилмор…
– Мы можем с тобой встретиться, Лайон, – ровным колосом проговорила она.
– Чудесно! Когда это будет?
– Завтра вечером, если хочешь.
– Прекрасно. Где я тебя найду?
– Давай, я сама тебе позвоню, – быстро сказала она. – Днем меня не будет дома – несколько деловых свидании.
Лайон записал название отеля и номер телефона. Анна отметила, что он остановился всего в трех кварталах от ее дома. Улыбнувшись, она пообещала позвонить ему в шесть часов.
– Поужинаем где-нибудь, – просто сказал он и встал. – А сейчас пойду: тебе наверняка нужно подправить грим, перед тем как все это будет сниматься на камеру. Я очень горжусь тобой. Значит, до завтра…
Еще долго после его ухода она сидела неподвижно, словно застыв на месте. Лайон вернулся. Ничего не изменилось. Нет, изменилось – ей уже не двадцать, и эти годы принесли с собой перемены. Есть Кевин, который дал ей свою любовь, свое доверие… и ее профессию.
Я нужна Кевину, – думала она, – но вот появляется Лайон, просто так, наездом, и я веду себя как идиотка, готовая потерять голову и забыть все эти годы, когда от него не было не единой весточки. Завтра позвоню и скажу, что занята. А может и вообще не позвоню. Пусть ждет, как я его ждала столько лет».
Но она знала, что встретится с ним.
Кевин ни словом не обмолвился об этом до самого конца ужина. Затем спросил небрежным тоном, что Лайон делает в Нью-Йорке. Анна объяснила, в чем заключается его задание. Кевин напряженно слушал ее, уставившись в рюмку с коньяком. Потом сказал:
– Что ж, теперь, когда я увидел его, мне многое стало понятно. Двадцатилетнюю девушку обязательно потянет к такому мужчине, как Лайон. Разумеется, все в нем чересчур напоказ – и внешность, и этот деланный английский. шарм, – но, думаю, что молоденькая, впечатлительная девушка нашла бы его привлекательным.
– Да, – она отпила из своего бокала. – Но часть этого шарма заключается как раз в том, что Лайон не осознает красоты своей внешности…
– Ха-ха! Не обманывайся на этот счет! – слегка раздраженно воскликнул Кевин. – Этот молодчик прекрасно; знает, в чем его сила. Именно на свою внешность он и делает ставку. Каждое его движение, каждый жест продуманы. И ему известно также, как нравиться мужчинам. И мне бы он понравился, не буди он твоим Лайоном Берком.
Она улыбнулась и протянула руку за сигаретой.
– Анна, – тон его сделался требовательным. – Скажи мне что-нибудь. Я стараюсь разыгрывать спокойствие, как в кинофильмах, но бога ради, помоги мне, дай за что-нибудь ухватиться, скажи, чтоон оставил тебя равнодушной.
– Нет, Кевин. Сказав так, я бы солгала тебе.
– Ты не будешь опять встречаться с ним?
– Если ты скажешь, чтобы не встречалась, то не буду.
– Но сама ты хочешь этого? – Его взгляд молил, чтобы она ответила отрицательно. Она отвела глаза.
– Возможно было бы мудрее, сели бы я сделала это. Мудрее для нас обоих. Быть может, – я сочту, что все, казавшееся мне в нем привлекательным раньше, теперь можно списать на мою молодость. Как ты говоришь, его внешность поражает окружающих и довольно сильно – но я не знаю, что Лайон Берк представляет собой сейчас. Может быть, я никогда не знала этого… – может быть, создала его образ в своих мечтах. Генри предупреждал меня об этом. Но если мы оба, ты и я, хотим дать нашему счастью хоть какой-то шанс, тогда я должна выяснить это.
– Хочешь сказать, я мог бы остаться с носом только потому, что этот сукин сын получил задание от какой-то газетенки? А если бы не получил, ты бы так никогда и не увидела его? Ты понимаешь это?
– Конечно, понимаю. Кевин… я привязана к тебе… и сильно. Нас связывают прожитые годы, которые нельзя просто взять и забыть. Но Лайон – это нечто такое, что оборвалось в моей судьбе, как струна, на высокой звенящей ноте. Может быть, я увижу, что сейчас она оборвется на самой низкой, но я сама должна это увидеть.
– Не нужно, Анна. Не встречайся с ним! – голос у него стал резким и хриплым.
– Кевин… пожалуйста… – Она неловко оглянулась вокруг, окинув взглядом зал ресторана.
– Анна, – он схватил ее за руку, едва не опрокинув бокал с водой. – Анна, ты – вся моя жизнь. Я не могу жить без тебя!
– Тебе и не придется, Кевин.
– Ты клянешься?
Она увидела слезы в его глазах.
– Клянусь, – несчастным голосом ответила она.
Анна сидела у окна и курила. Это была ужасная встреча: Нили заходилась в рыданиях, умоляя забрать ее оттуда. Доктор Холл и доктор Арчер, и доктор Сил на основании наблюдений за поведением Нили утверждали, что у нее явные нарушения психики, что у нее «нервный срыв, долго переносившийся на ногах» с суицидальными тенденциями, что забрать Нили сейчас – значит вынести ей смертный приговор, обречь на самоубийство. Правда, перед беседой с врачами она пообещала Нили, что сразу же увезет ее домой, однако данные наблюдений были убедительнее, чем слезы Нили.
И как только она смогла смотреть в эти затравленные глаза, убеждая ее, что необходимо остаться там, по крайней мере, еще на три месяца! Она подписала документ. Кевин настоял на этом. Господи, правильно ли она поступила? Врачи уверяли, что Нили давно следовало поместить на лечение, что ничего позорного в этом нет, что Нили, когда выздоровеет, сможет исполнять лучшие и более значительные роли. Да, Нили придется нелегко, но в конечном счете это все оправдается. И к тому же, она ведь находится не в каком-то ужасном сумасшедшем доме – клиника великолепная. За полторы тысячи в месяц она должна быть великолепной. Но этот молящий взгляд стоял в памяти, как безмолвный укор ее совести. Как ужасно, должно быть, оказаться в заточении, какой бы роскошной ни была твоя камера. Через две недели она опять навестит Нили. Может быть, к тому времени Нили немного пообвыкнет.
В следующее посещение Анна обнаружила, что у Нили хорошее настроение. Ее перевели в павильон «Пихта».
– Меня повысили! – воскликнула она, увидев Анну. – Теперь мне можно пользоваться карандашом для бровей, и У меня есть свой письменный стол, мне выдают по пачке сигарет на два дня. Ты привезла блок? Хорошо, я его спрячу. Спичек нам по-прежнему не дают – только у сестер, но ночная дежурная сестра в «Пихте» – моя поклонница. Вчера поздно вечером она провела меня из моей комнаты в свою дежурку и дала посмотреть мой старый фильм. Мы обе курили, как сумасшедшие.
Нили немного располнела, но выглядела хорошо. Спина у нее по-прежнему болела, а по ночам она так и не могла уснуть. Но за три месяца все должно было пройти. Она поняла: врачи убедили Анну, запудрили ей мозги. Они со всеми так делают. Больницу она ненавидела, но женщины были очень милыми. Вот только она узнала, что не такие уж они нормальные, какими кажутся на первый взгляд. Мэри Джейн – алкоголичка, а Пэт Туми, та самая светская дама, что утверждала, будто ее держат здесь единственно потому, что муж пытается забрать детей себе, – вообще не имеет детей! В этом и аналогичных лечебных заведениях она уже с шестнадцати лет. Об этом ей поведала ночная медсестра.
– Я-то нормальная, как огурчик, по сравнению с этими психопатками, – воскликнула Нили. – А с виду все они вполне здоровы.
Но в мае у Нили произошел рецидив. Воспользовавшись приятельскими отношениями с ночной сестрой, которую после этого случая уволили, она выкрала нембутал. Наполовину пустой пузырек обнаружили у нее под матрацем, а когда его стали отнимать, она оказала яростное сопротивление: выкрикивала ругательства и пришла в такую ярость, что ее пришлось на десять часов поместить в ванну. Она опять была переведена в «Репейник». Когда Анна навестила ее, та была замкнутой и необщительной.
Анна ездила в санаторий каждую неделю. Она подписала новый контракт с «Гиллиан» на очередной сезон. Кевин уже продал компанию, но постоянно крутился в студии, и его молчаливое присутствие было хуже, чем самые отчаянные громогласные протесты.
В душе Кевин во всем обвинял Нили. Он себя уверял, что Анна принадлежит ему, независимо от того, женаты они или нет. Ведь она так долго оставалась с ним, когда он еще не собирался жениться. Он понимал, что ведет себя не правильно, постоянно ошиваясь в помещении компании – новые владельцы уже взяли все в свои руки, дела шли хорошо, но ему нечем было заполнить свое время. Иногда он заходил к своим брокерам, ежедневно тщательно брился, обедал со своим адвокатом…. но всем этим он никак не мог заполнить целый день. Поэтому ноги сами несли его на студию, где он наблюдал, как Анна записывает рекламные ролики. Каждый день, приходя туда, он обещал себе, что это в последний раз.
И вот сейчас он говорил себе то же самое. День был необычный для июня – холодный и дождливый.
Он сидел в холле, в то время как Анна репетировала в студии. Ну что ж, еще через три недели все программы на летний сезон будут отсняты. Анна пообещала, что в отпуск она поедет вместе с ним, но, вероятно, куда-нибудь недалеко, чтобы можно было раз в неделю навещать Нили.
Режиссер Джерри Ричардсон привел какого-то мужчину.
– Кевин, мне хотелось бы познакомить тебя с моим старинным приятелем. Мы вместе воевали. Знакомься – это Кевин Гилмор. А это – Лайон Берк.
Кевин застыл, услышав это имя. Наверняка тот самый, имя не столь уж распространенное. С виду скорее артист, чем писатель. И хорошо сложен, а загар… Кевин вдруг почувствовал себя старым и больным. И сразу как бы со стороны увидел свои редеющие волосы. У Берка же они черны, как смоль, и лишь слегка серебрятся на висках. А какая широкая улыбка у этого мерзавца. Нервно улыбнувшись, Кевин обменялся с Лайоном рукопожатием.
– Принимаете участие в работе компании? – спросил он.
– Нет. Просто приехал в Нью-Йорк несколько дней назад. Обедали с Джерри, и он сказал мне, что здесь работает мой старый друг – Анна Уэллс. Вот и зашел повидаться.
– Сейчас посмотрю, освободилась ли она, – быстро проговорил Кевин. – Это я ее открыл… сделал «Девушкой Гиллиана». Пойдемте, она в студии. – Он взял Берка под руку. Он должен быть там, с ними, видеть реакцию Анны.
У нее еще не кончилась генеральная репетиция, поэтому Кевин и Лайон сели в зрительном зале. Он знал, что она не видит их из-за яркого света юпитеров, » незаметно, искоса следил за Лайоном. Лайон смотрел репетицию с явным интересом.
– Да, у нее это и в самом деле великолепно получается, – сказал он Кевину, словно только что узнал это.
– Она была великолепна с самого начала, – осторожно заметил Кевин.
– Я впервые вижу ее на сцене. Все это время я хил в Европе.
– У них сейчас будет перерыв. Хотите подойти поздороваться? – Кевин старался говорить как можно непринужденнее.
– Непременно! – Лайон легко встал с кресла и пошел вслед за Кевином.
Когда они подошли, Анна обсуждала с продюсером какие-то изменения. Увидев Кевина, она тепло улыбнулась и подмигнула ему, как бы говоря: «Через минуту все кончится». Сначала ее взгляд невидяще скользнул по лицу Лайона, затем, вздрогнув, словно не веря своим глазам, она вновь посмотрела на него.
– Да, это я, – сказал он, лучезарно улыбаясь. Он выступил вперед и взял ее руки в свои.
Анна слабо улыбнулась, чувствуя, как у нее дрожат губы. Лайон… еще красивее, чем когда-либо… Каким-то образом она все же обрела дар речи и сказала, что рада видеть его.
– Можем мы где-нибудь присесть? – спросил он. – Здесь дьявольски жарко от этих юпитеров. Или ты еще не закончила?
– Нет, у меня пока все закончилось, теперь остались только съемки.
– Мне нужно кое-чем заняться в правлении, – сказал Кевин. – Почему бы вам не побыть вдвоем – вам наверняка есть что вспомнить. – Он ушел, кивнув на прощание. Анна поняла, что для него это был труднейший поступок в жизни. Лишь по его окаменелой спине было видно, каких душевных усилий ему стоило держаться с таким достоинством. Всем сердцем она потянулась к нему. Он был напуган, но боролся с собой, пытаясь казаться смелым. Она тоже боролась с собой, ведя Лайона в свою гримерную. «Он вернулся – вот как все просто, – думала она. – А я? Неужели я должна забыть эти пятнадцать лет молчания и раскрыть ему свои объятия? И тем не менее, именно это я и хочу сделать. Не могу спокойно смотреть на него, чтобы не протянуть руку и не коснуться. Но ведь сейчас есть Кевин… Где я была бы, если бы не Кевин? И где был Лайон все эти годы?»
В гримерной они сели. Прикурив сигарету от протянутой им зажигалки, она глубоко затянулась, намеренно ожидая, с чего он начнет.
– Что ж, похоже, ты была права, – сказал он.
– Насчет чего?
– Насчет Нью-Йорка… твоей подлинной любви. – Он развел руки, как бы охватывая все пространство вокруг. – Тебе здесь нравилось, и ты добилась своего, Анна. Я очень горжусь тобой.
– Ты тоже добился своего, Лайон.
– Но не в долларах и центах, и не в настоящей литературе. Но в целом, можно сказать, что своего я добился, ибо делаю сейчас то, чего по-настоящему хотел. И верю в то, что ты – та самая девушка, которая когда-то сказала мне, что каждый человек обязан дать себе этот шанс.
– Что ты делаешь в Нью-Йорке?
– Мы совершенно восхищены вашим коммерческим телевидением и быстрым становлением ваших актеров. Одна из наших газет поручила мне написать цикл статей обо всех аспектах вашего телевидения – о девушках, зарабатывающих миллионы всего-навсего одной пластинкой-хитом, о звездах-ковбоях, превращающихся во владельцев предприятий, и о девушках, которые становятся финансовыми магнатами и волшебницами, рекламируя лак для ногтей.
Она рассмеялась.
– А у вас там такого нет?
– Пока нет. Вскоре это придет и к нам – мы отстаем от вас лет на десять,
– но я, по крайней мере, могу подготовить Британские острова к грядущему нашествию. – Он улыбнулся. – Конечно, это не имеет ничего общего с литературой, которой я себя посвятил. Просто неожиданное выгодное предложение: хорошо оплачивается и к тому же дало мне возможность приехать в Штаты.
– Сколько ты здесь пробудешь?
– Думаю, месяца полтора.
– Уже виделся с Генри?
– Вчера обедали вместе. Генри устал, хочет продавать свой бизнес. Джордж Бэллоуз пытается сам набрать нужную сумму, но если не сумеет, фирма Джонсона-Гарриса приобретет его. – Он закурил сигарету. – И Джорджа я видел. Выглядит вполне процветающим, но я не завидую ему – все та же бешеная гонка.
– Легко ничего не дается, Лайон.
– Да, верно. Даже вот эта журналистская работа, за которую я взялся. Приходится проводить целое исследование и иметь дело с массой цифр, которые нужно проверять и перепроверять. Не могу же я все брать из головы. Но мне это нравится. – Он перегнулся через столик и взял ее за руки. – А как ты? Не замужем, детей нет… Генри говорит, ты все еще одна.
Она отвернулась чуть в сторону, надеясь, что под густо наложенным сценическим гримом не видна краска смущения.
Он все так же крепко держал ее за руки.
– У меня в этом плане тоже одни нули, – сказал он. – Единственное, о чем я сожалею. Такой, как ты, Анна, больше нет – да и не могло быть никогда. – Он помолчал. – Мне бы очень хотелось еще раз встретиться с тобой, пока я здесь. Я сумею понять, если ты не сможешь… Генри говорит, что ты и этот Кевин Гилмор…
– Мы можем с тобой встретиться, Лайон, – ровным колосом проговорила она.
– Чудесно! Когда это будет?
– Завтра вечером, если хочешь.
– Прекрасно. Где я тебя найду?
– Давай, я сама тебе позвоню, – быстро сказала она. – Днем меня не будет дома – несколько деловых свидании.
Лайон записал название отеля и номер телефона. Анна отметила, что он остановился всего в трех кварталах от ее дома. Улыбнувшись, она пообещала позвонить ему в шесть часов.
– Поужинаем где-нибудь, – просто сказал он и встал. – А сейчас пойду: тебе наверняка нужно подправить грим, перед тем как все это будет сниматься на камеру. Я очень горжусь тобой. Значит, до завтра…
Еще долго после его ухода она сидела неподвижно, словно застыв на месте. Лайон вернулся. Ничего не изменилось. Нет, изменилось – ей уже не двадцать, и эти годы принесли с собой перемены. Есть Кевин, который дал ей свою любовь, свое доверие… и ее профессию.
Я нужна Кевину, – думала она, – но вот появляется Лайон, просто так, наездом, и я веду себя как идиотка, готовая потерять голову и забыть все эти годы, когда от него не было не единой весточки. Завтра позвоню и скажу, что занята. А может и вообще не позвоню. Пусть ждет, как я его ждала столько лет».
Но она знала, что встретится с ним.
Кевин ни словом не обмолвился об этом до самого конца ужина. Затем спросил небрежным тоном, что Лайон делает в Нью-Йорке. Анна объяснила, в чем заключается его задание. Кевин напряженно слушал ее, уставившись в рюмку с коньяком. Потом сказал:
– Что ж, теперь, когда я увидел его, мне многое стало понятно. Двадцатилетнюю девушку обязательно потянет к такому мужчине, как Лайон. Разумеется, все в нем чересчур напоказ – и внешность, и этот деланный английский. шарм, – но, думаю, что молоденькая, впечатлительная девушка нашла бы его привлекательным.
– Да, – она отпила из своего бокала. – Но часть этого шарма заключается как раз в том, что Лайон не осознает красоты своей внешности…
– Ха-ха! Не обманывайся на этот счет! – слегка раздраженно воскликнул Кевин. – Этот молодчик прекрасно; знает, в чем его сила. Именно на свою внешность он и делает ставку. Каждое его движение, каждый жест продуманы. И ему известно также, как нравиться мужчинам. И мне бы он понравился, не буди он твоим Лайоном Берком.
Она улыбнулась и протянула руку за сигаретой.
– Анна, – тон его сделался требовательным. – Скажи мне что-нибудь. Я стараюсь разыгрывать спокойствие, как в кинофильмах, но бога ради, помоги мне, дай за что-нибудь ухватиться, скажи, чтоон оставил тебя равнодушной.
– Нет, Кевин. Сказав так, я бы солгала тебе.
– Ты не будешь опять встречаться с ним?
– Если ты скажешь, чтобы не встречалась, то не буду.
– Но сама ты хочешь этого? – Его взгляд молил, чтобы она ответила отрицательно. Она отвела глаза.
– Возможно было бы мудрее, сели бы я сделала это. Мудрее для нас обоих. Быть может, – я сочту, что все, казавшееся мне в нем привлекательным раньше, теперь можно списать на мою молодость. Как ты говоришь, его внешность поражает окружающих и довольно сильно – но я не знаю, что Лайон Берк представляет собой сейчас. Может быть, я никогда не знала этого… – может быть, создала его образ в своих мечтах. Генри предупреждал меня об этом. Но если мы оба, ты и я, хотим дать нашему счастью хоть какой-то шанс, тогда я должна выяснить это.
– Хочешь сказать, я мог бы остаться с носом только потому, что этот сукин сын получил задание от какой-то газетенки? А если бы не получил, ты бы так никогда и не увидела его? Ты понимаешь это?
– Конечно, понимаю. Кевин… я привязана к тебе… и сильно. Нас связывают прожитые годы, которые нельзя просто взять и забыть. Но Лайон – это нечто такое, что оборвалось в моей судьбе, как струна, на высокой звенящей ноте. Может быть, я увижу, что сейчас она оборвется на самой низкой, но я сама должна это увидеть.
– Не нужно, Анна. Не встречайся с ним! – голос у него стал резким и хриплым.
– Кевин… пожалуйста… – Она неловко оглянулась вокруг, окинув взглядом зал ресторана.
– Анна, – он схватил ее за руку, едва не опрокинув бокал с водой. – Анна, ты – вся моя жизнь. Я не могу жить без тебя!
– Тебе и не придется, Кевин.
– Ты клянешься?
Она увидела слезы в его глазах.
– Клянусь, – несчастным голосом ответила она.
* * *
Весь следующий день Анна никак не могла поладить со своей совестью. Раз десять она подходила к телефону, чтобы позвонить Лайону и отменить свидание, но так ни разу и не набирала номер до конца. А может, все окажется плохо. Может, она легко расстанется с ним и уйдет, даже не оглянувшись. Эта встреча решила бы все. Она пообещала Кевину, что не оставит его, но не давала обещания не встречаться с Лайоном. Она должна увидеться с ним. Они встретились в Малом клубе в семь часов. Когда Анна вошла, Лайон сидел за стойкой бара. Легко соскочив с высокого сиденья, он провел ее к столику. – Ты не тот тип женщины, чтобы сидеть у стойки, – пояснил он. После того, как они заказали выпить, он пристально посмотрел на нее. – Анна, ты выглядишь великолепно. Ничуть не изменилась. Нет, не правда – ты стала еще красивее. – Ты тоже хорошо сохранился, – натянуто улыбнулась она. – Я часто думал о тебе, – сказал он. – Иногда, когда я особенно страстно желал тебя, я утешал себя бредовыми фантазиями: убеждал себя, что ты растолстела, что тебе за подол цепляются шестеро или семеро сопливых сорванцов – твоих детей. По крайней мере, после этого я мог спокойно садиться за пишущую машинку. Она рассмеялась. – Ах, Лайон, а я постоянно представляла себе, что ты облысел. После этого все стало легко. Она рассказала ему о Дженифер, тщательно обходя подлинную причину ее смерти. Каким-то непостижимым образом она чувствовала, что легенду Дженифер надо поддерживать, что красота ее тела и после смерти не может быть осквернена раковой опухолью. Разговор перешел на Нили. Генри уже рассказывал Лайону о ней, но тому никак не верилось, что такое могло случиться с энергичной быстроглазой Нили, которую он знал когда-то. – У нее огромный талант, – сказал Лайон. – Она ужасно популярна в Англии. Для продукции Голливуда ее картины замечательны. Несмотря на всю сентиментальную мишуру и слезливую патоку, которой они облепили ее, все равно видно, что она настоящая актриса. Ведь эта болезнь у нее пройдет, правда? Глаза у Анны затуманились. – Говорят, что у нее склонность к самоубийству, что такое заболевание полностью не излечивается. Его ход можно приостановить, и, если вовремя оказать помощь, у нее все может стабилизироваться, и она опять станет нормальным человеком. Но стремление к самоубийству останется навсегда. Так, во всяком случае, утверждают врачи. Лайон вздохнул. – Возможно, именно поэтому я так и не достиг больших высот. Иногда я думаю, что великие артисты все немного ненормальные. Я же куда как нормален: засыпаю моментально, едва коснусь подушки, никогда не перепиваю и даже не принимаю анальгин. Анна засмеялась. – По-моему, я тоже самая что ни на есть заурядная. Возможно, чересчур много курю, но по-прежнему почти не пью и, хотя никогда не признаюсь в этом, иногда могу на позднем сеансе заснуть прямо посреди фильма. В ответ он тоже рассмеялся. – Нет, Анна, ты не заурядная. Такой, как ты, больше нет. Пойми, это сущая правда. Все женщины, которые у меня были, мгновенно стирались из памяти. Они просто не дотягивали до твоего уровня. Весь ужин они говорили о Нью-Йорке и о переменах, которые он заметил. Он показал ей, что такое кофе по-ирландски, и она сразу же стала страстной любительницей этого напитка. Она все еще восторгалась кофе, когда он вдруг сказал: – Все осталось по-прежнему, Анна. Я хочу обнять тебя прямо сейчас. У меня такое чувство, словно мы вообще не расставались. – И я хочу, чтобы ты обнял меня, Лайон. Он улыбнулся. – Значит, решено. Но будет, наверное, лучше, если я сначала оплачу счет, и мы оба смоемся отсюда куда-нибудь подальше. Это было невероятно. Лежать рядом с ним, смотреть на дым его сигареты, клубящийся в свете лампы… Не было никаких колебаний, не нужно было наводить никаких мостов – любовь и страсть снова соединили их. И единение это было полным, всеобъемлющим. Сжимая его в своих объятиях, она вдруг поняла, как это важно – любить; гораздо важнее, чем быть любимой. И она поняла, что именно такое решение она должна была принять. Лайон любит ее, пусть и по-своему. Достаточно ли этого? А может, ей будет не хватать нежной самозабвенной преданности Кевина, той односторонней жизни, которой он живет только ради нее? С Лайоном же ей самой придется каждую минуту быть деятельной и активной. Способна ли она дарить такую любовь и брать ее? Протянув руку, он погладил ее по обнаженной спине. – Мне было замечательно, Анна. Как всегда, когда я с тобой. – Мне тоже, Лайон, только с тобой. – Однако же существует Кевин Гилмор, Анна, – тихо сказал он. Почувствовав, как она вся напряглась, он погладил ее по голове. – Это всем известно, дорогая. И все знают, что он хочет жениться на тебе. – Лайон помолчал. – Ты, конечно, понимаешь, что вчера я появился на студии не случайно, правда? Просто подыскал предлог – встречу с Джерри Ричардсоном. Хотел познакомиться с Кевином Гилмором и увидеть тебя. Она отстранилась от него и села в кровати. – А что мне оставалось делать? Сидеть все эти годы, сложа руки, и молиться о твоем возвращении? Лайон… ведь ни письма, ни строчки… ничего! – Тс-с, – он приложил палец к ее губам. – Конечно, я понимаю. Я хотел написать тебе – о боже, сколько их было, этих писем, которые я писал и не отправлял, но эта моя проклятая гордость… «Вот напишу следующую книгу, – говорил я себе, – вернусь в лучах славы и отобью свою девчонку у любого парня, с которым она сейчас». Но, увы, я отнюдь не «в лучах славы», а Кевин Гилмор отнюдь не «любой парень». Он хороший человек, Анна, и, насколько я знаю, по уши влюблен в тебя. Она молчала. – Если бы у меня была сила воли, я не должен был встречаться с тобой после сегодняшнего, – сказал он. – Лайон! – В голосе ее прозвучал страх. Он громко рассмеялся. – Я сказал: «Если бы была сила воли». Боюсь, что у меня ее никогда и не было. А уж когда увидел тебя, даже то незначительное, что было, развеялось как дым. – Он добавил очень серьезно: – Я буду здесь, Анна, в любое время, когда ты захочешь встретиться. Но это все, что может быть у нас с тобой. – Как тебя понимать? – Выполнив свое задание, я возвращусь в Лондон. Я работаю над новой книгой, и первоначальный вариант уже написан. – А здесь ты не мог бы писать? – Вероятно, мог бы. Но не мог бы жить. По крайней мере, так же хорошо, как там. У меня отличная квартира, и я подрабатываю статьями. Это другая жизнь, Анна, но мне она по душе. И зарабатываю я ровно столько, чтобы иметь возможность проводить долгие унылые часы за машинкой, когда я пишу именно то, что хочу писать. Это одинокое существование, но всегда есть надежда, что, может быть, именно вот эта книга принесет мне успех. Я верю в свою способность писать и в то, что пытаюсь делать, а благодарить за это я должен тебя. Да, я потерял тебя из-за этого, но ведь в ином случае, скорее всего, ничего и не получилось бы… – Почему же не получилось бы? – упрямо возразила она. – Если бы я не открыла тогда по глупости свой рот в «Барберри Рум», если бы не настаивала на том, что ты должен стать писателем, ты мог бы стать крупнейшим театральным менеджером в Нью-Йорке, и у нас были бы дети, и мы бы… – …Ненавидели сейчас друг друга. Нет, Анна, у брака нет никаких шансов, когда ты карабкаешься к успеху. И вероятно, ничего не получилось бы даже в том случае, если бы ты покорно уступила мне, согласившись жить в Лоренсвилле. Наверное, мне просто на роду написано быть одиноким. Но я так рад снова быть с тобой. С благоговением буду хранить в памяти каждую минуту, подаренную тобой, я растяну эти воспоминания на все те долгие дождливые лондонские вечера, когда вновь окажусь дома. – Он привлек ее к себе, и сердце растворилось у нее в груди от невыразимой любви. Уже светало, когда она пришла к себе. Вставляя ключ в замок, она заметила под дверью полоску света. – И как только ты сумела оторваться от него так быстро? Еще утро не наступило. – В гостиной сидел Кевин и курил. – Ты же не куришь после сердечного приступа. Что ты пытаешься этим доказать? Он ухмыльнулся. – К чему столь трогательная забота о моем здоровье? Сдается мне, что после сегодняшней ночи будущего мне отпущено не так уж много. – Кевин, зачем ты пришел сюда? – Я знал, что ты будешь с ним. Давай, опиши мне все. Он отделал тебя на полную катушку? Наверное, полностью раскрепостился с тобой? Перепробовали, поди, во всех позах, разве что не на люстре? – Прекрати! Такое поведение тебе не к лицу. Успокойся… а если хочешь остаться здесь – иди ложись. – А ты бы легла сейчас со мной? – Он увидел, как она вся застыла. – Если бы легла, то была бы просто подстилкой. Самое подходящее название для таких, как ты. Ну, так как же? – Кевин… у нас с тобой ничего не было после сердечного приступа. Дело не в том, я была против… но твое здоровье и… – …И мой возраст. Ну, продолжай, говори. – Что бы ни произошло между Лайоном и мною сегодня, это не имеет никакого отношения к тому, как я отношусь к тебе. – И я должен смириться с этим? Значит, Лайон будет жеребцом, а я – стареньким преданным воздыхателем? – Ты мой друг, часть моей жизни… человек, которого я глубоко люблю. А Лайон – это… другое. – Так вот, не собираюсь играть эту роль. Тебе придется сделать выбор. – Хорошо, Кевин, – устало сказала она. – Если ты вынуждаешь меня… Он схватил ее за плечи. – Нет, нет! Анна, не бросай меня! – Он затрясся в рыданиях. Она хотела отстраниться, но вместо этого стала гладить его по голове. Было так ужасно видеть, как человек распадается на твоих глазах. Она ли повинна в этом, или его здоровье и возраст? – Кевин, я не оставлю тебя. – Но будешь продолжать встречаться с ним. Думаешь, я смогу вот так? Зная, что ты приходишь ко мне из его объятий? – Кевин… – Она с трудом подыскивала нужные слова. – Мы оба знаем, что я была с Лайоном. Но он возвращается в Англию. И знает о тебе. Сказал даже, что ты хороший человек. – Вот-вот, это и есть в нем типично английское. А ты разве не знаешь? Все англичане глубоко испорчены. Он, наверное, удовольствие получает от того, что делит тебя с другим. Она терпеливо вздохнула. Это говорил не Кевин, его устами говорил истерический страх. – Кевин, я остаюсь с тобой. – Почему? Разве он больше не хочет тебя? Она повернулась, прошла в спальню и начала раздеваться. Невероятно. История повторяется. Кевин неожиданно стал походить на Аллена Купера. То же самое коровье выражение на лице и тот же самый детский гнев. И опять именно Лайон находится на заднем плане, ничего не требуя и ничего не обещая, а она разрывается надвое. Скольким же она на самом деле обязана Кевину? Ее отношения с ним никогда не приводили ее в восторг. Однако все это время она ни разу не дала ему оснований ни для ревности, ни для опасений. Возможностей у нее была масса – множество мужчин моложе и привлекательнее Кевина, – но она отклоняла все предложения. Она дала ему четырнадцать лет счастья, разве это не уравновешивает любое обязательство по отношению к нему? И все же она нужна Кевину. Он просидел здесь всю ночь, курил. Она знает, что это такое – сидеть и ждать человека. Внезапно ее захлестнул порыв нежности и жалости к Кевину. О боже, он выглядит таким старым, таким уязвимым. Она не может причинить ему боль. Анна вернулась в гостиную. Кевин все сидел, уставясь в одну точку перед собой, раздавленный, разбитый. Она протянула к нему руки. – Кевин, я люблю тебя. Раздевайся, уже поздно. Поспи немного. Я здесь, я всегда буду здесь, пока буду нужна тебе. Неверной походкой он двинулся к ней. – Ты не будешь с ним больше встречаться? Не будешь? – Нет, Кевин. Больше я с ним встречаться не буду.* * *
Две недели Анна преодолевала в себе желание позвонить Лайону, старалась стереть из памяти всякое воспоминание о нем. Хотя Лайон ни разу не позвонил ей, она знала, что он где-то рядом и ждет ее. Однако она призвала на помощь всю выдержку и самодисциплину, на которую только была способна, и ей удалось устоять. Были ночи, когда она оставалась одна. Тогда ее обуревало неодолимое желание позвонить ему и вихрем промчаться эти три квартала до его отеля. В такие минуты она выходила на террасу, глубоко вдыхала ароматный ночной воздух и смотрела на звезды. Такая ночь создана для любви – нужно быть с Лайоном, а не стоять здесь одной вот так. И неизменно раздавался телефонный звонок: зачем-нибудь звонил Кевин, явно проверял ее. Он никогда не делал так раньше, но сейчас стал звонить в самое неурочное время. Часто он язвительно говорил, уходя от нее: «Ну, девочка моя, я пошел в свою холостяцкую берлогу. Сегодня твой старичок примет теплую ванну и ляжет спать». А спустя три часа снова приходил к ней. «Никак не могу уснуть, – говорил он. – Можно, я проведу ночь у тебя?» С улыбкой сожаления она отмечала облегчение, которое отражалось у него на лице при виде того, что она дома и одна. Анна сидела в «21» с Кевином и одним из новых владельцев «Гиллиана», когда в зал вошел Лайон. Был один из тех душных, жарких вечеров конца июня, которые наступают совершенно неожиданно, безо всякого предупреждения. Температура была за девяносто. Весь день она записывала рекламные ролики и очень устала. Все ей осточертело. Она подняла глаза и увидела, как в зал входят Лайон. Он был с одной из тех девиц, которых Кевин называл «лакомыми кусочками», но Анну он не заметил – метрдотель провел их в другую половину зала. Со своего места она прекрасно видела его, оставаясь сама незамеченной. Девице было лет девятнадцать, ее иссиня-черные волосы ниспадали на плечи. Она была сильно загорелой, видно было, что она загорает систематически в весьма тщательно. У нее было милое личико, а платье из тонкой ткани на узких бретелях вызывающе обтягивало юное тело, щедро демонстрируя все его прелести. Ее пальцы с необычайно длинными ногтями, покрытыми серебристым лаком, ни на минуту не размыкались с пальцами Лайона. Она ловила каждое его слово. Откидывала назад волосы, от чего они переливались волнами. Вот она что-то сказала, и Лайон, откинув голову, рассмеялся. Затем он перегнулся к ней и легко поцеловал ее в нос. Анна ощутила укол почти физической боли. Сколько ночей он провел с подобными девицами! И все эти ночи она лежала, не смыкая глаз, желая его, думая о нем, представляя, что и он один и что ей нужно лишь позвонить ему… Для нее это был самый худший вечер за последние годы. Глубина страдания испугала ее саму. Так глубоко она ничего не переживала с тех давнишних дней, проведенных вместе с Лайоном, однако сейчас все было так, словно все ее чувства снова ожили – все приливы эмоций, которые, как она думала, остались в юности – нет, нет, они не умерли, а просто были погружены в летаргический сон, ожидая пробуждения. Она не сводила глаз с Лайона и его девицы, благодарная Кевину за то, что он целиком ушел в разговор об акциях. Наконец этот нескончаемый вечер завершился. Выходя из зала, она бросила последний взгляд на Лайона. Тот внимательно слушал девицу, а та что-то рассказывала ему. Анна сослалась на несуществующую головную боль, однако Кевин настоял на том, чтобы подняться в ее квартиру. Едва они вошли, он заявил: – Я тоже их видел. – Кого? – Твоего любовника с его красоткой. Ведь ты места себе не находила, так? – Голос у него был неприятный. – Может, теперь ты поймешь, каково мне! – Кевин, я устала. – Она тебе в дочери годится, Анна. – Ну что ты говоришь, Кевин, мне ведь всего тридцать шесть. – Многие рожают в восемнадцать лет. Так что она вполне могла быть твоей дочерью. В общем, твой Лайон, моя дорогая, по-прежнему гуляет напропалую. Выбор у него богатейший. Тебе хоть приходило в голову, что он переспал с тобой просто из жалости, по старой памяти? Из жалости, точно так же, как ты жалеешь меня. Так что выше голову: мы с тобой «два сапога – пара», двое отвергнутых и брошенных. И в какой-то степени я начинаю жалеть тебя. Ты, вероятно, все еще грезишь о той восхитительной ночи любви. Так вот, ту ночь он подал тебе как милостыню, в знак своего сочувствия и в искупление вины перед тобой. – Он все больше распалялся, видя, как ее глаза темнеют от боли. – Конечно, именно так все и было! Разве он умолял тебя бросить меня и выйти за него? Наверняка нет! Если уж он и женится, то на «лакомом кусочке». Каковым ты, моя дорогая леди, уже не являешься. Женщина ты, разумеется, красивая – для своего возраста под сорок лет. Но ему ты нравилась, пока тебе было двадцать, и даже тогда он бросил тебя. И не кто иной, как старый Кевин подобрал то, что от тебя оставалось. Кевин, который сделал тебя богатой и знаменитой. – Он направился было к двери, но остановился. – Да знаешь ли ты, что и я мог бы найти себе девицу двадцати лет, если бы захотел. Нет-нет, не волнуйся, я останусь с тобой, но теперь мы поменяемся ролями: отныне распоряжения буду отдавать я. Завтра же ты подашь заявление об увольнении. Я не намерен сидеть здесь весь следующий сезон, пока ты работаешь. И мы совершим-таки свое кругосветное путешествие. Вот только не уверен, есть ли мне смысл сначала жениться на тебе. Надо будет еще хорошенько подумать об этом. Все время, пока Кевин говорил, она смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Когда он закончил, она сказала: – Кевин, не может быть, что ты на самом деле так думаешь. Это говорил не ты. – Нет, мадам, именно я. Наконец-то у меня появилась возможность отыграться. Я постоянно рассыпался перед тобой в благодарностях за твою благосклонность, пока, наконец, не разглядел твое истинное лицо сегодня вечером. Бог мой, и что только может ревность сотворить с человеком! Ты теряла свой облик прямо у меня на глазах. На фоне того «лакомого кусочка» ты вдруг полиняла и поблекла. От озабоченности на лице появились морщины… в одно мгновение моя богиня рухнула со своего пьедестала. Передо мной сидела увядшая блондинка, с нескрываемой завистью пожирающая глазами жеребца, которого у нее увела молоденькая кобылка. – Кевин, уйди, пожалуйста. Я не верю, что ты можешь так думать. – Да хватит передо мной-то разыгрывать светскую даму! Все кончено. Теперь ты просто брошенная бабенка! Хочешь, докажу? Сейчас он должен быть у себя: он же не может утерпеть, чтобы не затащить такой «лакомый кусочек» в свою постель. Решишься позвонить ему прямо сейчас? Позвони и скажи, что хочешь увидеться с ним. Я засеку время вашего разговора. Во всем этом городе ни одну не отошьют так быстро, как тебя. Анна направилась в спальню. Он догнал ее, схватил за руку и рывком повернул к себе. – Нет, я еще не закончил говорить с тобой. Теперь у тебя не выйдет меня бросить. Все слышала, что я сказал? Роль светской дамы исчерпала себя. – Кевин, ты меня в самом деле ненавидишь, правда? – Нет, жалею. Как ты меня раньше. – Если ты действительно так думаешь, пожалуйста, уходи, Кевин. Навсегда. – Ну нет. – Он самодовольно усмехнулся. – Не раньше, чем увижу, как ты окончательно упадешь в моих глазах. – Он сорвал трубку. – Звони ему. Ты наверняка затвердила его номер наизусть. Если ты не позвонишь, позвоню я. Скажу ему, что за ужином ты ничего не ела, что заболела от ревности. Я, разумеется, тоже запомнил его номер. Ведь мы оба с тобой неотрывно думали о нем все эти две недели, разве не так? – Он начал набирать номер. Она отодвинула от него телефон. Оттолкнув ее, он рванул аппарат к себе. – Кевин! – Он уже набрал номер коммутатора отеля и просил телефонистку соединить его с Лайоном Берком. – Так и быть. – Он протянул ей трубку. – Говори с ним сама. Начинай, или это сделаю я. Она взяла трубку. Звонки уже шли в номер к Лайону. Она молила бога, чтобы его там не оказалось. Не может быть, чтобы все это происходило наяву. Какой-то кошмар. В трубке щелкнуло… – Алло. – Это был Лайон. – Лайон? – запинаясь спросила она. Молчание. – Анна? – Говори, – прошипел Кевин. – Скажи, что хочешь прийти к нему. Она умоляюще посмотрела на него, прося пощадить ее, но он подался к ней, показывая, что возьмет тогда трубку сам. Она отстранилась. – Лайон… я… мне… хотелось бы прийти к тебе. – Когда? – Сейчас. Последовала короткая пауза. Затем раздался его радостный голос: – Мне нужно минут десять, чтобы уладить тут кое-что, а потом сразу приходи. – Спасибо, Лайон. Приду. Повесив трубку, она посмотрела на Кевина. Лицо его сразу осунулось и постарело. – Ясное дело! – вскричал он. – И как это я сразу не сообразил! У вас там будет секс втроем – ты, Лайон и та девка. Я же говорил тебе, что эти англичане донельзя развращены… и ты пойдешь, потому что у тебя нет выбора! – Ах, Кевин, – простонала она. – Что мы наделали друг с другом? – Что до меня, то я сейчас выяснил, что потратил много лет своей жизни на дрянь, выдававшую себя за леди. – Он вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. С минуту Анна стояла неподвижно, пока ее гнев не сменился смешанным чувством горечи и облегчения. Кевин принял решение. Боже, какое это ужасное чувство – ревность, раз даже такого сильного человека, как Кевин, оно смогло превратить в эмоционального калеку. Однако она не испытывает к нему вражды. Волна облегчения вдруг затопила ее, словно огромная тяжесть вдруг свалилась с плеч. Как бы ни получилось у нее с Лайоном, ей не придется теперь выходить замуж за Кевина. С этим покончено… она свободна! Подправив косметику на лице, она быстрым шагом прошла три квартала до отеля Лайона.* * *
Дверь распахнулась. – А я уж было потерял всякую надежду, – сказал Лайон. Внимательным взглядом она окинула номер. – Она ушла, – спокойно сказал он. Анна сделала вид, что не понимает, о чем речь. – Я видел тебя, когда ты выходила из клуба. Моя прославленная девочка воскликнула: «Да ведь это сама Анна Уэллс!» Она обожает тебя и твои телепередачи. – Да, я видела тебя, Лайон. – Вот и прекрасно. Во всяком случае, это привело тебя ко мне! – Он подошел к карточному столику, служившему баром, и приготовил два коктейля. – Знаешь, теперь это новый вид шоу-бизнеса, – сказал он. – Признаюсь, что не понимаю его. Однако не мне судить. Последние две пластинки Конни Мастере разошлись миллионными тиражами, а в Англии ее просто обожают. Так что я вынужден писать и о ее захватывающей жизни. – Кто такая Конни Мастере? – Та самая обольстительница, с которой я был сегодня. Только не уверяй меня, будто ничего о ней не слышала. – Увидев, как Анна качает головой, он улыбнулся. – Мы – уходящее поколение, ты и я. Когда кто-нибудь заговорит о певицах, у нас обоих возникают ассоциации с Дайаной, Эллой и Нили. Но Конни Мастере – сенсация сегодняшнего дня. Ей девятнадцать, все киностудии грезят о том, чтобы заполучить ее, а я вот не могу прослушать до конца ни одной ее пластинки, если не выпью как следует. Она улыбнулась. – Понимаю. Я каждый день узнаю имена, о которых никогда раньше не слышала. Наверное, подростки и молодежь их на руках носят, создавая им неслыханную популярность. – Ну вот и я выполнил свой долг перед английской прессой и любителями поп-музыки во всем мире. А твой звонок оторвал меня от совсем не профессиональных обязанностей. – Хочешь сказать, ты лег бы с нею в постель? – А почему бы и нет? Знаешь, чувствуешь себя очень одиноко, когда сидишь и ждешь твоего звонка, а его все нет и нет. Я, конечно, понимаю тебя… правда, понимаю. Но она была вот Здесь, в этом самом кресле, в котором сейчас сидишь ты, свернулась калачиком и ворковала, что просто обожает мужчин старше себя. Что я должен был делать? Выставить ее отсюда прочь, в это раскаленное пекло на улице? Анна рассмеялась. – Ну-ну, Лайон, не такой уж ты беспомощный. – Нет, но эти представительницы современного поколения, эти молодые барракуды, они застигают человека врасплох. – Он подошел к ней, приподнял, поставил на ноги. – А вот ты, – прекрасна, очаровательна и опасна, но я все-таки чувствую себя с тобой в полной безопасности. – Он поцеловал ее и привлек к себе. Телефонный звонок заставил их разомкнуть объятия. Анна улыбнулась: – Барракуда. Лайон снял трубку. Она увидела, как у него сузились глаза. Холодным тоном он произнес: – Предлагаю вам поговорить с ней Самой. – Повернувшись к Анне, он протянул ей трубку. В ответ на ее невысказанный вопрос, он отчетливо произнес: – Кевин Гилмор. – Я не хочу говорить с ним. – Она попятилась назад. – Советую поговорить, – возразил он, и до ее сознания вдруг дошло, что во время обмена этими репликами он не прикрыл трубку рукой. Кевин все слышал. Она взяла трубку с опаской, словно это было живое существо. – Кевин? – Анна! Анна, прости меня! Я сказал сейчас Лайону Берку, что на меня сегодня что-то нашло. Я сошел с ума. Анна, сегодня между нами ничего не было. Все, что я наговорил – неверно. Анна, ты слушаешь? – Кевин, не надо. Все кончено. – Анна, пожалуйста… возвращайся домой. Я совсем не то имел в виду, когда бросал тебе в лицо те оскорбления. Можешь продолжать работать… Можешь делать все, что пожелаешь… – Голос его срывался. – Я женюсь на тебе завтра же или когда сама захочешь. Просто буду рядом с тобой, можешь приказывать мне, отдавать любые распоряжения. Все выполню. Ради бога! Я увидел, что ты такая несчастная из-за того, что он был с той девушкой – ты такой никогда не была – и сошел с ума. Хотел причинить тебе боль, как ты причинила мне. – Он уже рыдал в трубку. – Пожалуйста, Анна… понимаю, я стар. Если хочешь встречаться с Лайоном Берком на стороне, я даже на это согласен, только мне не говори. Можешь делать все, что угодно, только прости меня и не уходи из моей жизни. – Он начал задыхаться. – Кевин, с тобой что-то случилось? – Нет. Наверное, шел слишком быстро. Я звоню от тебя. Всю дорогу бежал. Анна, пожалуйста… Для Лайона ты всего-навсего одна из многих, но для меня… ты – вся моя жизнь! – Кевин, мы поговорим завтра. – Анна, я не усну. Особенно в эту ночь, когда ты у него и я знаю, чем ты занимаешься… – Она услышала, как он опять глубоко вдохнул воздух, – Анна… ради бога. Сегодня… вернись домой сегодня. Позволь мне спать на другой кровати, просто так, чтобы я знал, что ты вернулась. И с этого момента я не буду следить за тобой. Только не уходи от меня. Ну, пожалуйста, Анна… я не могу с ним соперничать: у меня нет ни его молодости, ни его здоровья. Пожалуйста, ну, пожалуйста! – Хорошо, Кевин. – Трубка в ее руке словно налилась свинцом. – Так ты возвращаешься? – Надежда, прозвучавшая в его голосе, рвала ей душу еще больше, чем его рыдания. – Да… прямо сейчас. – Положив трубку, она повернулась к Лайону. – Опять колеблешься? – Он стоял к ней спиной, наливая себе второй бокал. – Лайон, что мне делать? Он пожал плечами. – Я бы сказал, что это зависит от того, кому ты стремишься угодить: себе самой или же своей совести. К чему ты стремишься? К счастью или к душевному покою? – А разве это не одно и то же? – Нет. Душевный покой часто бывает совершенно несовместим с любовью. Уверен, что с Кевином у тебя всегда был бы душевный покой и чистая совесть. А со мной тебе пришлось бы перебарывать эту самую совесть. Но ведь любовь – это всегда борьба, разве нет? – Ты говоришь, что любишь меня? – спросила она. – Боже мой, ну неужели эти слова нужно писать неоновыми буквами, чтобы они дошли до тебя? Конечно, я люблю тебя! – Но откуда же мне это знать? За две недели ты ни разу не позвонил, не пытался признаться мне в этом. – Я говорю о любви, – горячо воскликнул он. – А не о выпрашивают! Любовь не должна делать из человека попрошайку. Я не хотел бы любви, которую мне пришлось бы вымаливать, обещая вместо нее что-то взамен, или клясться в ней до гробовой доски. И я презирал бы женщину, которая стала бы выпрашивать у меня любовь. Любовь – это нечто такое, что нужно отдавать, ее нельзя купить словами или жалостью. Я никогда не стану просить тебя, Анна. Я люблю тебя. Ты должна это знать. И всегда буду любить… – Лайон, ты знаешь, что я люблю тебя. Всегда любила… Всегда буду любить… – Так почему же мы стоим здесь и пустословим на эту тему? Ты – здесь, и я хочу тебя. – Он улыбался, но так и не подходил к ней. – Но ты возвращаешься в Англию… – А Кевин остается в Америке. – Он улыбнулся. – Я говорил о любви, ты же говоришь о географии. Все Это сильно смахивает на что-то. – Но любить… означает строить совместные планы… быть вместе. – Любовь – это чувство, а для тебя – это контракт с приложенными к нему детальными правилами и всяческими оговорками, заключаемый между двоими несгибаемыми идеальными людьми. – Он взял ее за руки. – Анна, сейчас для этого уже слишком поздно. Да, я вернусь в Лондон, я выработал там свой образ жизни. Здесь у тебя все, что ты имеешь. Наверное, ты должна идти к Кевину, он вписывается в твой образ жизни. Максимум, что я могу предложить тебе, это еще несколько недель. – А может быть, мне понравился бы Лондон, Лайон. Тебе это не приходило в голову? – Анна, я писатель. Может быть, не самый лучший, но стремлюсь к тому, чтобы стать таким. А ты уже не порывистая двадцатилетняя девчонка, которая когда-то печатала мои рукописи. Тебе там быстро надоест, и ты возненавидишь все это. Резко повернувшись, она бросилась вон из номера, бегом пронеслась по коридору и нажала кнопку лифта. А может, он бежит за нею? Если да, то… Дверцы лифта раздвинулись. Она обернулась, увидела закрытую дверь его номера и вошла в кабину. Домой Анна шла медленно, а дойдя, она прошла мимо входной двери: ей нужно было все обдумать. Лайон любит ее, но не предлагает никакого будущего. Кевину она нужна, и он предлагает ей свою преданность на всю жизнь. Кевин все облекает в форму контрактов, с любыми оговорками, какие она только пожелает. Но что можно ждать от контракта, выражающегося в преданности, которая абсолютно ей не нужна? А Лайона она всегда сама подстегивала, удерживала его. Ну ,и что из того, что он не просит ее ехать в Лондон? Она сама в любое время может доехать туда за ним. Ведь Лондон не край света. Но это означало бы «выпрашивать» – Лайон возненавидел бы ее. Любовь нужно отдавать – не навязывать. Она опять подошла к своему дому. Кевин там, наверху, и он нуждается в ней. Ну как она может нанести ему такой удар ради всего нескольких недель счастья? Но внезапно в ее сознании всплыли все впустую потраченные годы, прожитые с ним, – и все годы, которые ей еще предстоит с ним прожить, после того как уедет Лайон. …Но сейчас-то Лайон здесь, и она может быть с ним. Да, вот в чем решение: не удерживать Лайона – взять те несколько недель, которые он может ей дать, и пусть да этом все закончится. А потом, если Кевин захочет быть с нею – ладно: они останутся, как он выразился, двумя отвергнутыми и брошенными. Но пока-то Лайон здесь! Д она хочет быть с ним – каждую минуту, каждую секунду столько, сколько сможет. Анна повернулась и быстро пошла, потом побежала. Она бежала до самого отеля Лайона. Лифт поднимался мучительно медленно. Он открыл дверь, обнял ее и крепко прижал к себе. Она прильнула к нему. – Лайон, пока ты здесь, я тоже здесь. Никаких вопросов, никаких «завтра» – значение имеет лишь каждое мгновение, которое мы можем быть вместе. Я люблю тебя. Взяв ее лицо в ладони, он посмотрел ей в глаза и тихо сказал: – Каждый миг мы превратим в вечность. Я люблю тебя, Анна.* * *
С Кевином она встретилась на следующий день. Он выглядел совершенно изможденным. Она пыталась объяснить ему свое состояние, объяснить, почему должна видеться с Лайоном. Когда он уедет, если Кевин захочет быть с нею… Кевин молча смотрел на нее. Потом лицо его пошло пятнами. Он зашагал взад-вперед по ее гостиной. – Да ведь ты такая же развращенная, как этот твой английский жеребец! – казалось, ярость придает, ему силы… Он хлопнул дверью и выбежал из квартиры, прокричав, что еще заставит ее заплатить за свое унижение. На сей раз Кевин не стал звонить ей со слезными мольбами. В последующие дни он предпринимал до смешного детские усилия, стараясь показываться где только возможно с разнообразными красотками. Кевин, ненавидевший ночные клубы, теперь выбирал столики на самом видном месте у эстрады и нарочито медленно шествовал по залу с самой яркой девицей, какую ему удавалось подыскать. Стоило какой-нибудь начинающей звезде приехать в Нью-Йорк, как ее имя неизменно начинали упоминать в связи с Кевином. Был даже пущен анекдот, будто Кевин регулярно читает рубрику «светская хроника» и мчится в аэропорт встречать самолет, чтобы сразу назначить свидание только что прилетевшей знаменитости. Последним и самым отчаянным поступком Кевина явилась попытка расторгнуть контракт Анны с «Гиллианом». Поскольку Кевин входил в совет директоров, он стал настаивать, что имеет, мол, право охранять имидж компании, которую он когда-то создал. Он утверждал, что Анна уже «перевалила за свою вершину», что «Девушка Гиллиана» должна сменить лицо, стать молохе, свежее. На основании его протестов было созвано заседание совета директоров. Этот шаг оказался неудачным для Кевина. Он остался в меньшинстве, и с Анной заключили новый контракт на два года, причем гонорар ее повысился на десять тысяч долларов. К тому же контракт был эксклюзивный – исключительно с телевидением – еще одна победа Анны, которой постоянно приходилось выдерживать напряженный график, позируя для газет и журналов. Анна знала о кознях, предпринимаемых Кевином, однако у нее не было ненависти к нему. Она испытывала лишь жалость и гнетущую тоску от того, что между ними все кончилось таким вот образом. В последующие недели душевный подъем от ее любви с Лайоном превзошел все чувства, которые она испытывала когда-либо в жизни. Лайон получал удовольствие от ее широкой известности, от того, что поклонники сразу же узнавали ее, но она давала понять, что ей это безразлично, и сосредоточивала все внимание на его работе. Как продвигается его цикл статей? Она выслушивала его впечатления и то, как он планировал подать их. Ему не хотелось расхваливать и детально освещать американское телевидение, он хотел писать, оставляя многое за кадром, даже с долей язвительной иронии. Она прочитывала материал и часто вносила ценные предложения и дополнения. Хотя они жили по-прежнему порознь, каждую ночь Лайон проводил у нее. Как-то вечером он сказал: «Зайду за тобой в семь, но сначала мне нужно сходить в шкаф переодеться». С тех пор они в шутку стали называть его номер в отеле «шкафом». Но недели текли одна за другой, и она понимала, что его время подходит к концу. Сам он ничего не говорил об отъезде, но она знала, что время, отпущенное им судьбой, постепенно кончается. Она чувствовала, как ее постепенно охватывает отчаяние, давящее и гнетущее. И вот однажды, жарким июльским вечером, вдруг забрезжил лучик надежды. Они ужинали в ресторанчике на открытом воздухе в Гринич-Виллидж. – Это была великолепная идея – прийти сюда, – сказал Лайон. Он посмотрел на чистое небо и улыбнулся. – Вот то типично нью-йоркское, чего мне не хватает в Лондоне, – чудесной погоды. Там у нас никогда не знаешь, будет такой вот вечер или пойдет дождь. – Это первое, что ты сказал хорошего о Нью-Йорке. – Она старалась говорить непринужденно. – Я настолько люблю тебя, что начинаю видеть в этом городе некоторые преимущества, – ответил он. – А как ты относишься к дождливой погоде? Понимаешь ли, она у нас в Лондоне всегда такая. Наконец-то! Он не хочет расставаться с нею. Тут нужно быть осторожной, ни в коем случае ничего не форсировать. Эта мысль должна исходить как бы от него самого. Она сосредоточила взгляд на кончике своей сигареты. – Я ни разу не была в Лондоне. – Подумай об этом. – Это было все, что он сказал. Только об этом Анна и была в состоянии думать. Она обсудила все с Генри. – Ничего не выйдет, – стоял тот на своем. – Ну, видел я квартиру Лайона. Был у него в прошлом году. Он считает ее дворцом, но, Анна, там нет даже центрального отопления и всего четыре комнатушки – в общем, сущая халупа. – Но у меня же уйма денег. Мы могли бы снять квартиру получше… – Ты что, так ничему и не научилась? – строго спросил ее Генри. – Никому не дано права платить за Лайона Берка. Ты должна жить на то, что зарабатывает он. – Значит, так я и буду жить, – с решимостью сказала она. – Буду жить там, где он захочет: я не могу без него, Генри. Я была бы счастлива с ним где угодно, даже в Лоренсвилле. – А твой контракт с «Гиллианом»? Если ты разорвешь его, то никогда больше не сможешь работать на телевидении. – Генри, сколько я сейчас стою? – Больше миллиона. – Тогда зачем мне вообще работать? – А что ты будешь делать в Лондоне? – Просто буду с Лайоном. – Послушай, Анна, ты ведь не ребенок, чтобы бросаться, очертя голову, в новую жизнь. Так же, как и Лайон. Там он живет в своем замкнутом мирке. У тебя не будет друзей – он целыми днями стучит на машинке. Что ты станешь там делать? – Не знаю. Знаю только, что не могу жить без него. Генри задумался на минуту, после чего сказал: – Есть только одно решение. Ты должна удержать его в Нью-Йорке. – Но как? Свое задание он выполнил, срок подходит к концу, и ему нравится Лондон. – Тяни время. С каждым проведенным здесь днем, он все больше привыкает к Нью-Йорку. Дай мне подумать. Позвоню нескольким хорошим знакомым из «Бартер пабликейшенс», возможно, нам удастся подсунуть ему несколько заказов из их журналов. Только внешне это должно будет выглядеть как совершенно случайные предложения. – Ну и что это даст? – На какое-то время он задержится здесь, а время теперь работает на тебя.* * *
Случилось так, что предложение это поступило от Нили. Анна, как обычно, приехала навестить ее в больницу. Они сидели на ухоженной лужайке и разговаривали. Было очень жарко, но Нили захотела выйти из помещения. Она хоть и потолстела, но было видно, что дело явно идет на поправку. Ее уже перевели в «Ясень», а следующим этапом было амбулаторное отделение. – Когда меня переведут туда, – счастливым голосом говорила она, – я смогу приезжать в Нью-Йорк на субботу и воскресенье. – Нили, ты думаешь, это благоразумно? – Конечно. Именно так все и должно получиться. Нельзя же целых шесть месяцев просидеть здесь вот так взаперти, а потом вдруг неожиданно взять и выйти на свободу. Все должно делаться постепенно. Сначала тебя переводят в амбулаторное отделение. Пробудешь там месяц, и тебя станут выпускать в здешний городок на вечер – сходить в кино или в салон красоты. После этого, если все идет хорошо, тебе разрешается съездить один раз на субботу и воскресенье в Нью-Йорк. В понедельник ты возвращаешься сюда, и они проверяют, нет ли у тебя каких-либо нарушений. Немного погодя тебя отпускают домой на неделю и только потом выписывают насовсем, но ты все равно должна ежедневно показываться психиатру, которого тебе назначат. К напряжению, которое наваливается на тебя на свободе, надо еще привыкнуть. – Ты имеешь в виду работу? – спросила Анна. – Нет, имею в виду именно напряжение. Здесь-то ничего подобного не происходит. Если я сплю, то сплю. Если не сплю, то что из того? Ну не сделаю какую-нибудь сногсшибательную мозаичную пепельницу в отделении трудотерапии или не сыграю партию в бадминтон. И ем, что хочу. Ух ты, сейчас я вешу сто шестьдесят фунтов, но какая мне разница. И, знаешь, Анна, я пою. Господи, пою, как заливистая канарейка. – О-о, Нили! Я так рада. Я знала, что ты вновь станешь петь. – Произошло что-то совершенно невероятное. Раз в месяц здесь устраиваются танцы. Все по-настоящему. Психи-мужчины наводят марафет, мы тоже мажемся и встречаемся в спортивном зале – под присмотром, естественно. Я хожу потому, что у меня нет выбора. Если откажусь, получу плохую пометку. Ну, у них тут есть оркестрик из трех человек, и как-то раз я вышла на сцену – решила немного поразвлечься. Получилось неважно, потому что пианист – сельский школьный учитель, и мелодию он подыгрывает кое-как. Но я спела, и вдруг какой-то действительно психический больной – весь седой и выглядит, как псих – прошлепал ко мне на сцену. Это хроник, раньше я его не видела: хроники приходят туда редко. Они все неизлечимы, и их здесь держат пожизненно, как бы под охраной. Знаешь, для этого надо быть очень богатым психом, но у нас тут есть и такие. Коттедж «Ева» – для женщин: а коттедж «Адам» – для мужчин. Ну, конечно, они отделены от нас двенадцатью акрами земли, и мы вообще никогда не видим пациентов-мужчин, кроме как на танцах. В общем, так или иначе, но этот совершенно конченный с виду псих пришлепал ко мне. К нему было бросилась дежурная сестра, чтобы задержать, но там был доктор Холл, и он подал ей знак, чтобы не вмешивалась. Тот за два года ни с кем словом не обмолвился, и докторхотел посмотреть, как он станет себя вести. Значит, ковыляет он прямо ко мне – я пою одну из старых песенок Элен Лоусон – и стоит рядом. Продолжаю петь – начинаю одну из своих старых песен, – и вдруг он начинает петь вместе со мной, причем в тон и до того здорово в такт, что я не припомню, получалось ли у меня так с кем когда-нибудь. До того замечательно было, что мне прямо захотелось умереть на месте. Анна, у меня мурашки пошли по спине – этот тип действительно умеет петь. И мне в нем почудилось что-то знакомое. Пели с ним дуэтом целый час, все хлопали, как сумасшедшие, даже доктор Холл и доктор Арчер. А когда все кончилось, этот самый псих трогает меня за щеку и говорит: «Нили, у тебя всегда был талант – он был у нас обоих». И поплелся со сцены. А я так и стою совсем огорошенная. Тогда ко мне подходит док Холл и говорит: «Он здесь уже два года, и состояние его постепенно ухудшается. Мы все держали в секрете, но я вижу, вы узнали друг друга. Мы зовем его здесь мистер Джоунз». Я-то все равно без понятия, кто это такой, но в этой шараге я стала себе на уме и сейчас самому доку Холлу могу дать сто очков вперед по этой части. Ну и я все провернула. Спрашиваю: «А как мне его называть? Ведь он-то называет меня просто Нили». И док Холл отвечает: «О-о, можете называть его Тони, только не забудьте, что фамилия у него теперь Джоунз». – «Тони»? – не поняла Анна. – Тони Полар! – воскликнула Нили. – У него какое-то врожденное заболевание головного мозга. Хорошо еще, что у них с Джен так и не было ребенка – тот наверняка тоже стал бы сумасшедшим. Аборт! Дженифер все знала! Но так и не раскрыла никому эту тайну. Слезы выступили на глазах у Анны. – Нили, – сказала она. – Джен никогда ничего никому не говорила, хотя наверняка все знала. Пожалуйста, ты тоже не говори никому ни слова. – Почему? Он ведь уже не женат на Джен. Она же умерла, ты что, забыла? – Но она умерла, никому не сказав об этом. Она хотела, чтобы это осталось тайной. Ради нее и ради него… пожалуйста. – О’кей, да и кому какая разница сейчас? – Когда ты выйдешь отсюда, из этого может разрастись сенсация. Но не делай этого. Тони просто незаметно сошел со сцены. Ходили слухи, что он живет где-то в Европе, но никто не знал, где именно, а сейчас уже всем все равно. Так что, давай сохраним это в тайне. – Хорошо, – легко согласилась Нили. – Но что касается меня, это наверняка никакая не тайна. Я получила от одного журнала предложение дать им материал для статьи из двух частей. Они заплатят мне за это двадцать тысяч. Джордж Бэллоуз собирается нанять какого-то журналиста, чтобы тот написал ее с моих слов. – Джордж Бэллоуз? Как ему удалось выйти на тебя? – Ну, ты же читала в газетах. То намекали, что я растолстела и не могу больше петь, то – что я худая и не могу петь. Вот я взяла и написала, что они правы лишь наполовину: я действительно толстая, но никогда еще не пела так хорошо, как сейчас. Потом договорилась с доком Холлом, чтобы он разрешил мне записаться на магнитофон, а я послала бы запись Генри Бэллами и попросила бы его проиграть ее представителям прессы. Он, должно быть, перепоручил это Джорджу, потому что тот вскоре навестил меня здесь. И сделал мне это предложение. Он хочет вести мои дела, когда я выйду отсюда. Пытается собрать достаточную сумму, чтобы выкупить долю Генри, ты же знаешь. – Лайон говорит, что фирма Джонсона-Гарриса намерена поглотить компанию Генри. Нили пожала плечами. – Если Джордж через несколько недель сумеет собрать сумму, предлагаемую фирмой Джонсона-Гарриса, то компанию купит он. У него это может выгореть, если он сумеет облапошить свою алкоголичку-жену и убедить ее расстаться с частью ее состояния. У нее миллионы. У Анны закружилась голова. – Какая еще алкоголичка-жена? Джордж ведь не женат. – Джордж тот еще тип. Он с самого начала был женат, когда мы с ним только познакомились. На этой дамочке он женат уже двенадцать лет. Но он сказал, что сделал это только ради бизнеса. Думал, что она окочурится через несколько лет. А она, хоть печень у нее ни к черту, вовсе не думает отдавать концы и сама распоряжается всеми своими деньгами. Уж не знаю, где он раздобудет деньги – разве что намекнет ей, чтобы она отошла от дел и все передала ему. А насколько я знаю Джорджа, такое за ним не заржавеет. Я всегда ненавидела этого подонка. – Но он, по крайней мере, сделал тебе это предложение. – Так ведь он получит комиссионные. Я сказала ему, что найду на что потратить эти двадцать кусков. Ты платишь за мое лечение здесь, и я должна вернуть тебе долг. Да и когда я выйду отсюда, денежки мне понадобятся. Но я все же надеюсь, что Джордж не приберет к рукам компанию Генри. У меня от этой мысли мурашки по коже. После того, как Анна попрощалась с Нили, новая идея начала обретать зримые очертания. Ведя машину домой, Анна сформулировала ее окончательно. Генри сказал, что ей необходимо время, и это как раз поможет. Поставив машину в гараж, она позвонила Генри, и они условились встретиться в ресторанчике на Пятьдесят третьей стрит. – А почему бы и нет? – ответил Генри, когда она рассказала ему обо всем. – То, что о Нили будет писать именно Лайон, вполне естественно. Он знал ее, когда она только начинала. А тебе это даст еще месяц, не меньше. – Но эту мысль Джорджу должен подать ты, а тот сделает предложение Лайону так, чтобы я тут была совершенно ни при чем. Предложение Джорджа Лайон принял с восторгом, но навестить Нили отказался. Ему хотелось сохранить ее в своей памяти такой, какой она была тогда – девчонкой со свежим личиком. Он настаивал на том, что просто обязан писать о ней именно под таким углом зрения. Поговорив с ней по телефону, он прислал ей на одобрение первоначальный вариант, и Нили пришла в восторг от того, как у него получилось. Материал писался хорошо, и Лайон был готов представить окончательный вариант к концу сентября. В начале октября Анна позвонила Генри и торопливо договорилась встретиться с ним в «21». Когда она выдвигала свою новую идею, глаза у нее сверкали. Внимательно выслушав ее, Генри воздел руки. – Ты просто танк, ты целая танковая дивизия, но с этим ничего не выйдет. – Почему? – Он не хочет быть владельцем компании. Я знаю это. Лайону нравится писать. – Но, Генри, ты можешь попытаться. Скажи ему, что не хочешь, чтобы фирма Джонсона-Гарриса поглотила бизнес, в который ты вложил всю свою жизнь. Ради бога, попытайся. – Но, Анна, даже если я и скажу, что эту ссуду даю ему я, он все равно рано или поздно узнает правду. – Когда это произойдет, я что-нибудь придумаю. Генри, сейчас нельзя терять ни минуты.* * *
Лайон задумчиво отхлебнул кофе. – Я польщен, Генри… но ведь я совсем не тот человек. Официант налил Генри еще чашечку кофе. Тот подождал, пока он отойдет, и только после этого ответил: – Послушай, Лайон, я вложил в это дело всю свою жизнь. Фирма Джонсона-Гарриса просто не заслуживает чести работать со всей этой плеядой звезд, созданных мною. И Джордж Бэллоуз тоже не заслуживает, чтобы его вот так взять и вышвырнуть вон. Они-то, конечно, оставят его, сделают вице-президентом, но на этом верху ему предоставят так мало полномочий, что он сам вынужден будет уйти. Говорю же тебе, что не сплю ночами. Вот почему я и предлагаю тебе деньги, чтобы ты на пару с Джорджем выкупил мое агентство. – Но почему я? Почему не дать эти деньги одному Джорджу? – А почему, думаешь, он не смог собрать нужную сумму? – Вероятно, она слишком велика. – Нет. Все знают, что в одиночку Джордж не потянет. Он хороший бизнесмен, но не умеет ладить с людьми. Половина звезд разбежится. Но если я предложу твою кандидатуру, если мы проделаем все правильно, с хорошей рекламой… сначала напечатаем маленькую заметку, будто бы это слухи… будто бы тебя вызвал сюда я… затем они будут расти, как снежный ком… Слушай, ведь многие все еще помнят, как здорово у тебя получалось. Лайон отрицательно покачал головой. – Я высоко ценю твое предложение и весьма польщен, но вынужден отклонить его. Я счастлив в Лондоне. Не хочу, чтобы твое агентство висело надо мной. Ненавижу эту бешеную гонку. Мне нравится писать. – А как же Анна? Лайон задумчиво посмотрел на свою сигарету. – Это единственный весомый довод. Ей известно о твоем предложении? – Нет. – Генри постарался, чтобы его слова звучали как можно убедительнее. – Мне кажется, Анне хотелось бы, чтобы мое предложение ты принял без всякого нажима с ее стороны. – Но ведь это же умопомрачительная сумма. Генри. – Деньги мне не нужны. Единственное, чего я хочу, это отойти от дел. Моя последняя кардиограмма окончательно убедила меня в этом. Но мне бы хотелось, чтобы моя компания продолжала жить дальше. Можешь ежегодно возвращать мне понемногу свой долг. Меня это не волнует. – Тебе было бы очень плохо, если бы я отказался? – Да, Лайон, очень. Однажды ты уже бросил меня, когда был мне нужен. Ты нужен мне и сейчас. Я хочу, чтобы ты вместе с Джорджем возглавил мое агентство. (обратно)1962
Со второго января 1962 года агентство «Бэллами и Бэллоуз» стало официально именоваться «Бэллами, Бэллоуз и Берк». Джордж стал президентом компании, Лайон – вице-президентом, а Генри полностью сложил с себя полномочия. Лайон, однако, был совершенно непреклонен в том, чтобы в названии компании была сохранена фамилия Генри. Для представителей прессы и клиентов был устроен банкет с шампанским, который превратился в двойное торжество, когда Лайон объявил, что на следующий день состоится их с Анной свадьба. Банкет был в самом разгаре, когда Генри отвел Анну в сторону. Их маленькое совещание осталось никем не замеченным. – Через год он обязательно узнает правду, – прошептал ей Генри. – Зачем ему вообще ее знать? – Анна, через год тебе придется подавать налоговую декларацию. Тогда-то он и узнает, что именно ты ссудила ему деньги для покупки моего бизнеса. В конечном счете, ссудные проценты выплачивает он, и тебе придется включить их в декларацию о своих доходах. – Но почему тогда ты не можешь одолжить ему деньги. А я бы дала их тебе и… – …И в результате у всех нас были бы крупные неприятности с налоговым управлением. Анна, в отличие от тебя, я не располагаю такими суммами свободных денег и никогда не зарабатывал по две тысячи в неделю чистыми и не получал крупных пакетов акций от «Гиллиана». И у меня нет приятеля по имени Генри Бэллами, который давным-давно вложил мои сто тысяч долларов в компанию Эй-Ти-энд-Ти, чтобы на сегодняшний день они удвоились. И если я имею доходы от прироста капитала, то не могу вкладывать свои же собственные деньги… да какого черта, все равно тебе не понять. В общем, мне нельзя потратить мои собственные деньги на приобретение моего же собственного бизнеса. Кстати, я распродал все твои акции «Гиллиана». И это лучшее, что можно было сделать: сначала они подскочили в три раза вместе со стоимостью компании, а теперь их курс наверняка резко упадет. Мне также пришлось избавиться от половины твоих акций Эй-Ти-энд-Ти. С голоду не умрешь, но потратилась ты на это дело изрядно. Так что это не игрушки. Лайону и Джорджу придется постараться: в него вбухано три четверти всех твоих сбережений. – Когда Лайон все узнает, как, по-твоему, он отнесется к этому? – спросила она. – Трудно сказать. Если он будет счастлив, если бизнес пойдет хорошо и он будет чувствовать себя в своей тарелке, то просто посмеется надо всем этим. В конце-концов, разве может мужчина сердиться на то, что женщина, которую он любит, подтолкнула его к женитьбе на себе, тайком ссудив ему деньги? – Правда, меня волнует, что он относится с такой благодарностью к тебе, – сказала она. – Постоянно говорит, что не может отказать тебе в просьбе и что ты сильно веришь в него, раз сделал ему такое предложение. Говорит, что не хотел возглавлять целую компанию, но что твоя вера в него лишила его возможности отклонить это предложение. – Ерунда. Я смотрю, он не тратил слишком много времени, уговаривая тебя пойти за него. Уверен, что именно это стало для него решающим фактором. – Может быть. Во всяком случае, в моем распоряжении почти год до того, как могут возникнуть неприятности. К тому же, ты говоришь, что их может и не быть. Но мне все равно, пусть даже и будут. Я не могу без него жить, Генри. Пыталась целых пятнадцать лет, но это была не жизнь. Я готова давать взятки, лгать, мошенничать – все что угодно, лишь бы Лайон был со мной. Это единственное, что имеет значение. Молись за меня, когда эта великая тайна выйдет на свет. – Послушай, насколько я тебя знаю, к тому времени ты уже забеременеешь, бизнес будет цвести пышным цветом, а Лайон в душе будет вне себя от радости, что ты нажала на какие-то тайные пружины для того, чтобы его мечты стали явью.* * *
Бракосочетание состоялось в квартире Генри на следующий день. Судья Хелман, близкий друг Генри, совершал торжественный обряд, а Джордж и его жена были свидетелями. Анна и Лайон сразу улетели в четырехдневное свадебное путешествие в Палм-Бич. Они решили, что поселятся в квартире Анны. Лайон и Джордж условились, что каждому будет выплачиваться по семьсот долларов в неделю плюс суммы на текущие расходы. Прибыль же будет оставаться в компании с распределением дополнительных выплат в конце финансового года. Вскоре Лайон заключил договоры с несколькими самыми яркими английскими звездами. Им удалось также переманить к себе нескольких исполнителей из других агентств. Был увеличен штат, Лайон хотел открыть филиал в Калифорнии, но Джордж был осторожен на этот счет. – Давай все тщательно взвесим, – сказал он. – Я согласен, что клиентов у нас под завязку. Но по-настоящему большие деньги можно заработать, только заключая совместные с телевидением соглашения. Нам нужно заполучить несколько звезд первой величины, предложить их телевидению и заключить совместное соглашение. Нам нужна своя Кэрол Бэрнет, свой Дэнни Томас, своя Джуди Гарленд… – Согласен, – быстро ответил Лайон. – Но мы не сможем заполучить их. У всех у них отличные менеджеры. Кроме того, это самый легкий путь. Считаю, что нам нужно создавать собственных звезд первой величины, – в этом-то и заключается настоящий менеджмент. Именно это сделал Генри с Элен Лоусон. И сейчас, если мы создадим такую звезду, все остальные звезды захотят иметь дело с нами. Джордж просмотрел список. – У нас нет ни одной кандидатуры с таким потенциалом. Лайон задумался. – Если картина с Питером Шэйем в «Метро» получится столь же хорошей, насколько можно предполагать по постановочному сценарию, то мы непременно заключим после этого соглашение на три фильма. Возможно, нам удастся сделать из него… Джордж покачал головой. – Он характерный комедийный актер. Нам нужен мужчина с романтической внешностью или большой комик, или женщина. Кроме того, Питер будет метаться между Штатами и Англией – ты ведь знаешь этих англичан. Не обижайся, – быстро добавил Джордж, – но как бы они не преуспевали здесь, все они сбегают на свой мокрый островок с нашими деньгами. Лайон улыбнулся. – Этот «мокрый островок» – великолепное место. И человек там вполне может быть счастлив. – Конечно. Родной дом там, где осталось твое сердце. Но нам это не поможет. Знаешь, у меня мелькнула мысль. Есть человек, которого мы сможем заполучить, и если мы создадим из нее звезду, то действительно сможем строить крупные планы на будущее. Нили О’Хара. Лайон поморщился. – Не стоит с нею связываться. Кроме того, она все еще в Хейвен-Мейноре. И давай смотреть правде в глаза: на ее карьере давно поставлен крест. – На таких, как Нили, крест не ставят никогда. Публика идентифицирует себя с неудачницей. Они чувствуют себя так, словно сами прошли с нею через горнило всех ее жизненных трагедий. Она погубила себя в зените своего таланта. О ней говорят, словно о мертвой. Считают, она уже никогда не станет прежней. Все это нам на пользу. Потому что, если мы вернем ее назад и продвинем на самую вершину, это будет означать, что успеха добились именно мы, ибо совершили невозможное. И тогда ты увидишь, как звезды одна за другой уйдут от Джи-Эй-Си, Си-Эм-Эй, Уильяма Морриса и Джонсона-Гарриса. Ход их рассуждений будет таков: если уж мы сумели сделать такое для Нили О’Хара, то что же тогда мы сумеем сделать для них. Звезды – забавный народ: таланта у них хоть отбавляй, а благодарности ни на грош. Его аргументация не убедила Лайона. – Но ведь в случае с Нили мы имеем дело не просто с бывшей звездой, мы имеем дело с душевнобольной женщиной, которая может в любой момент сорваться. Анна говорит, что она растолстела сверх всякой меры, и ей ведь уже не восемнадцать. – Ей тридцать три года. И я согласен со всем, что ты говоришь. Однако она еще и чертовски талантлива. У меня есть несколько магнитофонных лент, которые она записала там, у себя. Сейчас уже лечат амбулаторно, а прошлые субботу и воскресенье она провела со мной и моей женой. Она толстая, как свинья, но как она поет! Лайон пожал плечами. Но ведь пройдет целый год, прежде чем она похудеет, а от такого напряжения она может сорваться. Такое Уже бывало. – Она не будет худеть, в этом-то все и дело. Пусть остается жирной. Она поет – вот что главное. – И что мы будем делать с толстой певицей? – Будем организовывать ей концерты. Знаешь, сколько денег можно заработать, гастролируя с однодневными концертами по всей стране? Лина Хорн, Гарланд, Либерейс – они все гребут бешеные деньги. Да публика валом повалит, хотя бы из одного любопытства, только чтобы посмотреть на Нили. За год только на одних ее концертах мы заработаем достаточно, чтобы выплатить наши долги за компанию. Другие наши клиенты тоже будут приносить прибыль. И если мы обеспечим ее деятельность в течение одного года, звезды повалят к нам с протянутой рукой. – Раз хочешь все это закрутить, валяй, – ответил Лайон. – Но это – твое дело. А я займусь делами компании, пока ты будешь запускать на орбиту нового идола американской публики. – Тут все обстоит сложнее, – медленно проговорил Джордж. – Она от меня не в восторге. И моя жена влияет на Нили не лучшим образом. – Он промолчал. – Моя жена пьет, вот в чем загвоздка. Зато Нили нравишься ты, и она очень многим обязана Анне… – Минутку, – перебил Лайон. – Анна здорово вкалывает. Нам в нашей жизни меньше всего нужна сейчас Нили О’Хара. – Единственное, о чем я прошу тебя, это уговорить ее подписать с нами контракт. Всю грязную работу я беру на себя, обеспечу и рекламу, и продажу билетов, буду ездить с нею на гастроли. От тебя требуется лишь сделать ей самое первое предложение. Сейчас она готова убраться из психушки в любой момент. Мы снимем ей номер в отеле. Денег у нее нет, поэтому оплачивать его будет компания. Да и вообще, мы будем платить за все, включая организованные дела и репетиции. Приставим к ней служанку – у меня уже есть на примете одна, массажистка из Дании, здоровенная, как бык, – и будем вести учет всех затрат, даже самых мелких. А когда она приступит к работе, будем вычитать их у нее из гонораров, пока не вернем все до последнего цента. Если станет возмущаться – что ж, это вполне законные удержания из заработка. – Это огромный риск. – Мы мало что теряем, а те несколько тысяч, что потратим на рекламу, стоят того. И потом, если ее выступления будут иметь большой успех, она сможет отдать долг Анне. Ты ведь знаешь, что твоя жена оплачивала ее лечение. Нили должна ей почти двадцать тысяч долларов. Лайон покачал головой. – Не нравится мне все это. Но если ты все-таки хочешь провернуть это дело, я согласен. При том непременном условии, что всем будешь заправлять ты. Я делаю первоначальное предложение, и сразу же после этого ты все берешь в свои руки. Джордж кивнул. – Вот увидишь. Я запущу наш маленький спутник на орбиту ошеломительного успеха, а вместе с ним туда взлетим и мы.* * *
Анна вошла в квартиру и включила кондиционер. Она пожалела, что у служанки сегодня выходной. На улице стояла знойная влажная духота, жара достигла рекордной отметки. Почувствовав себя плохо, она бросилась в ванную комнату, обмотала лоб холодным полотенцем. Криво улыбнувшись, она подумала: «У всех тошнота подступает по утрам, а вот у меня почему-то по вечерам». Она считала, что забеременела. Задержка длилась уже десять дней. Конечно, наверняка она не знала. В феврале задержка была на две недели, они с Лайоном даже отпраздновали это, а наутро она проснулась от знакомых болей в низу живота. На этот раз она ничего не сказала Лайону. И вот вчера, в половине шестого, у нее началась эта тошнота. «О господи, ну, пожалуйста, пусть это будет правдой, – молила она. – Все так замечательно – и к тому же еще ребенок! Это будет девочка – девочка, как две капли воды похожая на Лайона». Она чувствовала себя такой счастливой, что даже испугалась. Человек не имеет права быть настолько счастливым. Единственное, что немного беспокоило ее, – это мысль о налоговой декларации, из которой Лайон узнает правду о совершенной ею сделке. Но бизнес идет успешно, а к тому времени у нее уже родится ребенок. Генри уверен, что Лайон простит ей этот обман. Однако, когда имеешь дело с Лайоном, ничего нельзя сказать заранее. Они вместе ездили навещать Нили, и загадочная улыбка Лайона с трудом скрывала его шоковое состояние, когда им навстречу, переваливаясь, вышла Нили. Избыточный вес сделал ее неузнаваемой: глаза совершенно скрылись за толстыми щеками, шея исчезла, но вся она лучилась оптимизмом прежней Нили. Становилось не по себе при виде детской порывистости, сквозящей в этой слоновьей массе жира. Нили немедленно подписала договор с их компанией. Она наморщила нос, когда Лайон отказался признать какие-либо свои заслуги, заявив, что всю операцию гениально осуществил Джордж. Ей не нравился Джордж, но поскольку Лайон был полноправным партнером, а Анна – ее лучшей подругой, она подписала договор с превеликим удовольствием. На следующей неделе ее поселили в небольшом отеле для постоянных жильцов неподалеку от центра города вместе с датчанкой Кристиной – служанкой и охранницей одновременно. Кристина была не жирной, а просто громадной: выглядела она так, словно вполне могла переплыть Ла-Манш. И она дала обещание, что приведет Нили в превосходную форму. – Нили не нужно худеть, – сказала ей Анна. – Единственное, что она должна делать, – это сосредоточиться на пении. Кристину предупредили также, чтобы она была начеку относительно лекарств и спиртного, и за двести долларов в неделю та клятвенно заверила их, что будет следить и ухаживать за своей подопечной круглосуточно. Анна вышла из ванной. Включив свет в гостиной, она налила себе рюмку коньяку, надеясь, что он укрепит ее желудок. Нили работала упорно, самозабвенно, репетируя по четыре часа в день, и Джордж уже запустил машину рекламы на полные обороты. Первый концерт было намечено провести в Торонто, достаточно далеко от здешних критиков, с тем, чтобы плохие отзывы не дошли до Нью-Йорка. Решили, что у Нили должен быть шанс приостановить свои выступления. Анна тоскливо осмотрелась. Квартира-то красивая, но если она беременна, им придется переехать, и ее освободят от договорных обязательств с «Гиллианом» по пункту «причины естественного характера». Она будет рада освободиться. У нее появится время подыскать и обставить новую квартиру. Как все устроить в детской? От нахлынувшего возбуждения у нее закружилась голова. О господи, пусть же все это сбудется! Спустя две недели ее надежды подтвердились. Поначалу Лайон воспринял новость со смешанным чувством: он был в восторге, однако это должно было внести в их образ жизни весьма радикальные изменения. Анне придется оставить работу в конце июня – ребенок должен был родиться в середине января, и ее талия уже увеличилась на дюйм. Но когда она убедила его, что ее уход пройдет совершенно безболезненно, все его сомнения улетучились, и он вместе с нею отдался радостному ожиданию. В середине июня они полетели в Торонто на концерт Нили. Анна сидела в полутемном зале, замерев от страха. От этого выступления зависело столь многое. Джордж и Лайон думали о своих деньгах, но она понимала, какой тяжелый удар получит Нили, если концерт провалится. За кулисами Нили казалась отдохнувшей и спокойной. Она смеялась, говорила, что ничего не поставлено на карту, что терять ей нечего и что она в любой момент может вернуться в свою родную психушку делать пепельницы. Джордж от волнения похрустывал пальцами, а глаза Лайона сузились от напряжения. Свет погас, и оркестр в полном составе грянул мелодию, ассоциирующуюся у всех с Нили, – песню из ее фильма, которая когда-то была хитом. Тяжелый занавес раскрылся, и на сцене появилась Нили. Она была в простом черном платье до колен. Ноги у нее были по-прежнему стройными, а черный цвет скрадывал чрезмерную полноту. Однако было слышно, как в зале кто-то издал громкий возглас изумления, очевидно бессознательно воскресив в памяти имидж, созданный ею в первых кинокартинах. Нили услышала и широко улыбнулась. – Я и впрямь толстая, – добродушно сказала она в микрофон. – Но некоторые оперные певицы еще толще. Только от меня вы не дождетесь никаких оперных арий. Я здесь для того, чтобы вместе с песнями отдать вам свое сердце, а оно у меня тоже большое и толстое, так что, если вы не возражаете, я буду сегодня много петь. От бешеных аплодисментов заложило уши. Нили достигла своей цели еще до того, как начала петь. Голос ее был чистым и неподдельно искренним, он западал в самую душу. Зрители словно попали под воздействие массового гипноза. Яростными отчаянными аплодисментами они как бы приглашали Нили вновь занять подобающее место в своих сердцах. Такой оглушительной овации Анне еще не приходилось слышать. То же самое повторилось в Монреале. Нили побила все рекорды кассовых сборов в закрытых помещениях. В Детройте объявления об аншлаге висели уже за несколько недель до ее приезда. К этому времени нью-йоркские газеты наперебой сообщали о ее триумфальном возвращении, но Джордж намеренно затягивал гастроли. Он ездил с ней до сентября, а Лайон тем временем руководил компанией в Нью-Йорке. Анна уже официально расторгла соглашение с «Гиллианом» и все свободное время посвящала теперь тому, чтобы обставить их новую большую квартиру, которую она недавно подыскала. Беременность стала заметной, но движение зарождающейся в ней новой жизни сделало ее лишь еще более счастливой. Фирма «Гиллиан» хотела предоставить ей временный отпуск, однако Анна настояла на полном расчете. И хотя всеми своими мыслями она была в будущем, она испытала некоторое удовлетворение, когда фирма пришла к решению, использовать каждую неделю новую девушку. Заменить Анну кем-либо просто было невозможно. Наконец Джордж счел, что Нили вполне созрела для Нью-Йорка. Первое выступление было назначено на ноябрь. Они сняли здание крупного театра на два представления в день: типичный концерт солиста на Бродвее. За неделю до первого концерта билеты были распроданы на три недели вперед. Если судить по накалу чувств и страстей, концерты Нили в Нью-Йорке можно было назвать триумфом. Со слезами на глазах зрители вскакивали с мест, приветствуя свое капризное блудное дитя, вернувшееся назад. Анна заметила, что лицо у Нили вновь стало обретать прежние черты. Она была еще толстой, но уже не безобразной: своими усилиями Кристина согнала с нею тридцать фунтов [67]. Стала заметна шея, хотя двойной подбородок все же остался. Однако после первой же песни, благодаря волшебному очарованию ее голоса, публика забывала обо всем. Неприятности начались на второй неделе выступлений в Нью-Йорке. Джордж и Лайон старались отобрать самые выгодные предложения. Были приглашения на разовые выступления по телевидению, предложения участвовать в нескольких бродвейских шоу, но Лайон твердо стоял за то, чтобы продолжать гастрольные концерты. – Еще хотя бы год, – убеждал он Джорджа. – Возможно, нам удастся согнать еще фунтов двадцать [68]. Стройную русалочку нам из нее больше не сделать, – мы не можем рисковать, сажая ее на диету, – однако сами по себе жесткие требования сценической деятельности – плюс Кристина – могут творить чудеса. А уж после этого будем думать о киносъемках и телевидении. – Мы должны заключить контракт на картину или на бродвейское шоу, – стоял на своем Джордж. – Она уже отказывается гастролировать. – Но ведь я только что договорился о концертах в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и в лондонском «Палладиуме», – сказал Лайон. Джордж пожал плечами. – Вчера вечером мы с ней крупно поссорились. Сейчас она на коне, так что давай смотреть фактам в лицо – из нее вновь полезло дерьмо. Начинает проявляться все та же застарелая звездная болезнь: никакой тебе благодарности, один голый деспотизм. Заявила мне, что хочет остаться на одном месте. Подозреваю, что на самом деле это означает только, что наша девица хочет потрахаться. – Боже милостивый, да кому она нужна! – воскликнул Лайон. Джордж рассмеялся. – Послушай, все эти месяцы это была моя проблема. Мы позабыли, что наш орбитальный спутник все-таки живое существо. Может быть, в психушке ей просто давали селитру, но сейчас ей этого явно не хватает. Некоторое время у нас играл саксофонист, так ему, должно быть, нравились толстухи. И она была с ним счастлива, пока он не ушел из оркестра. А по-моему, просто сбежал, спасая свою жизнь. Несколько раз она находила кого-то себе на ночь, а вот теперь больше уже так не хочет. Заявила мне, что ей нужна квартира и постоянный мужчина, который был бы рядом, когда он ей понадобится. Чует мое сердце, что за этим стоит фирма Джонсона-Гарриса. Наверняка подослали к ней одного из своих красавчиков в черном костюме и брюках в обтяжку, чтобы он поцеловал ей ручку и отпустил пару-другую комплиментов. По-моему, она уже подыскивает предлог, чтобы отделаться от нас. Лайон улыбнулся. – Пусть уходит. Если фирма Джонсона-Гарриса хочет выкупить у нас контракт с нею, то давай продадим. За полмиллиона. – Я думал об этом, – сказал Джордж, – но не можем же мы снять и выбросить наживку, когда пошел самый клев. Завтра я обедаю с Полом Эпсомом. Лайон присвистнул. – Ну, тогда дело закрутится. Джордж кивнул. – Две его последние картины превзошли все. Если мы переманим его, к нам перейдет половина звезд Голливуда. Сейчас, когда Эм-Си-Эй демонстрирует такое убогое обращение с талантами, открывается просто необозримое поле деятельности. Все их звезды позаключали краткосрочные соглашения, где только могли. Я уже прозондировал почву, но наша наживка – это Нили. Удержать ее нам нужно во что бы то ни стало. – Что ж, тогда ступай к ней и принимайся за обработку. – Уже принимался. Послушай, Лайон, давай смотреть фактам в лицо – я ей никогда не нравился. Это сходило только в начале – тогда у нее не было выбора. А теперь она пользуется ошеломляющим успехом и может себе позволить не любить меня. Вчера вечером она назвала меня жирным боровом. Представь себе: эта корова называет меня свиньей. Нет, Лайон, теперь твой черед.* * *
Лайон сидел в гримерной Нили. Дневное представление подходило к концу. Он посмотрел на телеграммы, которыми было облеплено зеркало: каждая крупная звезда шоу-бизнеса прислала поздравления с пожеланиями всего доброго. Раздались оглушительные аплодисменты, оркестр сыграл под занавес заключительную мелодию, и Лайон весь подобрался, приготовившись к сражению. Обнаружив его в гримерной, Нили была приятно удивлена. – Слава богу, этот жирный боров, твой компаньон, сегодня не явился. Вчера вечером мы с ним здорово поцапались. – Взяв из рук Кристины большой бокал пива, она залпом осушила его. – Уф-ф! До чего же приятно. Хочешь Лайон? – Нет, спасибо. Как насчет того, чтобы пообедать вместе? – Прекрасно. Анна будет с нами? – Нет, только мы вдвоем. Нили весело рассмеялась. – Джордж вводит в бой свои главные силы, да? Ну так вот, разъезжать по гастролям я больше не намерена. Но с тобой я пообедаю. Где подают приличных улиток? – Поедем к «Луизе». У «Луизы» могут приготовить все, что пожелаешь. – Прекрасно. Можно, я наемся до отвала? Хочу, чтоб было вволю масляного чесночного соуса, хочу поджаренного ржаного хлеба и хочу макать его туда. Вот в чем преимущество сольных выступлений на сцене – рядом нет ведущего, который бы кривился от чесночного запаха. – И она печально добавила: – И вообще у меня нет мужчины, о котором я могла бы позаботиться после выступления. – Скоро появится, – сказал Лайон. – Весь Нью-Йорк у твоих ног. – Вот именно, что «у ног». А в руки взять некого. Мне нужен мужчина. И уж теперь я буду тщательно выбирать. У меня, конечно, не сорок шестой размер, но я и не страшилище. И не просто переспать – мне нужен человек, который заботился бы обо мне… которого бы я уважала… которого бы любила. – Давай обговорим это за улитками, – предложил он. Нили заказала себе две дюжины улиток. Лайон – всего шесть и, нехотя ковыряя их вилочкой, выслушивал ее жалобы. Он вынужден был признать, что претензии ее вполне обоснованны: никакой личной жизни, кроме выступлений на сцене, у нее действительно не было. – Нили, – он перегнулся через столик и взял ее руки в свои. – Я понимаю тебя. Выступи только в Голливуде, во Фриско и в Лондоне. После этого мы поселим тебя здесь и, возможно, устроим тебе съемки в фильме или шоу на Бродвее. Я сам займусь этим. Если найдем нужные подходы, то можно было бы начать уже осенью. Мюзикл на Бродвее был бы оптимальным вариантом. – А кто поедет со мной в Калифорнию и в Лондон? – спросила она. – Джордж, естественно. – Тогда забудь и думать об этом, – решительно отрезала она. – Послушай, у вас с Джорджем произошла размолвка, но ведь он же неплохой парень, и своим успехом ты обязана ему. – Не было бы никакого успеха, не будь у меня таланта, – мрачно сказала она. – Естественно, но Джордж сумел разглядеть его и поверить в тебя. – А ты не сумел? – Если честно, то нет. Я сомневался. – Думал, что у меня больше ничего не осталось? – Я думал не о таланте, а о трудностях этой профессии. Для меня твое возвращение представлялось в виде строгой диеты, напряжения всех сил и нервов. Именно Джордж уверил меня, что публика примет тебя такой, какая ты есть. И оказался прав. Нили выронила кусок хлеба, который она уже собралась было макнуть в соус. Она отодвинула тарелку. – Ты говоришь обо мне так, словно я какое-то страшилище. – Ну что ты, Нили. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Я считаю, что ты великолепна – талант и восхитительный человек. – И толстая распустеха, да? – Нет, но и не худенькая, как тростинка. Не такая, какой ты была в своих фильмах. – Наверное, ни один мужчина не мог бы по-настоящему увлечься мною в таком виде, – сказала она. – Я знаю, что мои близнецы вовсю пялили на меня глаза, когда приехали в Детройт. Боже, до чего красивые ребята. Я рада, что они живут с Тэдом. Я чуть не умерла, когда ему разрешили опекунство, когда меня поместили в психушку, но он, по-моему, быстро выправился. Я до сих пор подозреваю, что время от времени он переключается на мальчиков, но дети ничего об этом не знают. Никогда не забуду выражения на их лицах, когда они увидели меня. Бад – он повыше – сказал: «Вот это да, мам, мы недавно смотрели один из твоих фильмов в повторном показе, но сейчас ты совсем не такая». – Тебе не нужно делаться худой, – стоял на своем Лайон. – Я могла бы стать худой, если бы у меня был для этого стимул, – грустно сказала она. – Я не могу взять и похудеть под давлением со стороны студии, а вот ради любви – могу. Когда на студии орали, что я обязана оставаться худой, я стала тайком наедаться. А когда познакомилась с Тэдом и влюбилась в него, и он сказал, что я должна сбросить пятнадцать фунтов, я сделала это. Вот так-то. Потому что я хотела этого, хотела сделать ему приятное. Вот почему я хочу осесть здесь, Лайон. Хочу найти хорошего человека, влюбиться. Мне ненавистно то, что я вижу в зеркале. – Нили, ты – это твой голос и твоя личность, а не твоя талия, – настаивал Лайон. Она отрицательно покачала головой. – Я люблю красиво одеваться. Не хочу постоянно появляться на сцене в простом черном платье. Но мне приходится это делать – оно хоть немного скрадывает полноту. Но у меня нет побудительного мотива, чтобы похудеть. Я должна найти себе мужчину – вот тогда я похудею и стану сама себе нравиться. – Выступи в Голливуде, Сан-Франциско и Лондоне, – настойчиво повторил он. – Все остальное придет к тебе само. Она задумалась на мгновение. Потом сказала: – О’кей… если вместо Джорджа поедешь ты. – Нили, как же я могу? – Послушай, я не переношу Джорджа. Если мне придется постоянно созерцать эту его круглую, как луна, физиономию, день здесь – день там, меня просто вырвет. Он даже в карты, в джин, играть не умеет. А ты играешь в джин? – Еле-еле. Но, Нили, я не могу лететь. У Анны уже большой срок. Через полтора месяца она должна родить. – Ах, да… я и забыла. – Внезапно ее лицо просветлело. – Перенеси мои выступления. Назначь их после того, как родится ребенок. Я, по крайней мере, хоть немного отдохну. – Я не смогу тогда оставить Анну с новорожденным. – Анна могла бы поехать с нами. Послушай, у меня самой была двойня. Уж я-то знаю. В первые несколько месяцев все, что им нужно, это хорошая няня. До трех месяцев они даже не видят толком. – Дай мне обдумать это, – сказал он.* * *
Перенести срок гастролей в Лондоне оказалось просто. Лайон договорился на середину февраля. Однако изменить сроки выступлений в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско оказалось невозможно. Нили должна была дать там концерты на Рождество и в Новый год. Лайон отчаянно пытался скрыть эту неразрешимую проблему от Анны, однако Нили все рассказала ей. Она зашла посмотреть новую квартиру. Все наконец было расставлено по местам. Анна, из-за беременности выглядевшая неуклюжей, с гордостью показала Нили все комнаты и особенно – детскую. Они расположились в рабочем кабинете. Анна мелкими глотками прихлебывала херес, а Нили пила пиво. За окнами пошел снег, и Анна затопила камин. – Это первый огонь в нашем камине, – сказала она. – Загадай желание, Нили: Почему? – Когда делают что-нибудь в первый раз, всегда загадывают желание. – Тогда я желаю, чтобы ребенок у тебя родился сегодня. – Почему? Мне остается еще не меньше месяца. – Знаю. Но я полечу в Лос-Анджелес, только если со мной полетит Лайон, а он полетит, только когда родится ребенок, и с нами сможешь полететь ты. Анна знала, что между Нили и Джорджем что-то произошло, но о переносе гастролей узнала впервые. Выслушав объяснение Нили, она сказала: – Но я не смогу поехать в Лондон даже в феврале. Не могу же я оставить своего ребенка. – Вполне можешь, – возразила Нили, – в таком возрасте это еще не человек. – Для меня он уже сейчас человек, – резко ответила Анна. – Всякий раз, как он шевелится во мне, я мысленно целую его. – В первые несколько месяцев они просто бессмысленные живые комочки, Анна. Честно. Весь этот треп, будто они улыбаются, завидев тебя, сущая чепуха. Мне врач говорил. Они различают только свет и неясные очертания. Совсем не узнают тебя, а зрение у них становится сфокусированным только к трем месяцам. Хорошая нянька справится с новорожденным куда лучше, чем ты. – Я слишком долго ждала этого ребенка, Нили. И это ожидание стоило того – хотя бы затем, чтобы чувствовать в себе частичку Лайона, плод нашей любви. Я никогда не оставлю нашего ребенка одного. – А если Лайону придется уехать? В конце концов, не может же он навсегда привязать себя к Нью-Йорку. – Тогда мы поедем вместе, втроем. – Ну, а я не поеду в Калифорнию без него. – Нили, ради бога… Я не могу остаться на Рождество без Лайона. А отправляться с ним для меня слишком рискованно. – А как же я? – спросила Нили. – Неужели все должно быть только для тебя? У тебя есть все. У тебя всегда было все. Ты добилась в жизни всего: денег, любимого человека и вот теперь ребенка. А у меня нет ничего, одна только работа. Я опять достигла успеха, но это все, что у меня есть. И я работаю, чтобы вернуть тебе долг. – Нили, я никогда не напоминала тебе об этих деньгах, – запротестовала Анна. – Знаю, но я сказала Джорджу и Лайону, что хочу вернуть тебе долг. После гастролей в Калифорнии я расплачусь с тобой полностью. Я зарабатываю деньги для компании твоего мужа, и ты тоже получаешь от этого доход. – Она осмотрелась вокруг. – Я живу в паршивом гостиничном люксе с этой коровищей Кристиной, которая ведет себя со мной, словно надзирательница. Я одинока, и единственное, чего прошу, это чтобы Лайон поехал со мной в Лос-Анджелес на десяток паршивых дней. Я не могу явиться в Голливуд совершенно одна. Это будет мое первое возвращение туда. Или ты думаешь, что легко выйти там на сцену, зная, как все пялят на тебя глаза и шепчутся: «Смотри-ка, до чего растолстела»? А потом улыбаться во весь рот и покорять их сердца. Конечно, мой талант их покорит, но ведь мне предстоит та самая первая минута, когда они ахнут от удивления. Мне нужно, чтобы кто-то вселял в меня уверенность перед каждым выступлением. Мне это необходимо, Анна. Если со мной рядом не будет приятного, доброжелательного человека, то я наглотаюсь успокоительного или… напьюсь. По-настоящему, не пивом. Так оно и будет. А в психушке мне сказали: стоит только мне опять начать принимать капсулы или спиртное – пиши пропало, подружка! – Если Лайон захочет, пусть едет, – сказала Анна. – Ты говоришь так, прекрасно зная, что он не поедет, – резко ответила Нили. – Нет, Нили, я серьезно. Пусть едет. – Тут нужно не просто «пусть едет», в этом случае он не поедет. Ты должна заставить его поехать. Иначе я не буду выступать. Я всегда могу сослаться на ларингит.* * *
Лайон наотрез отказался оставить Анну одну и с негодованием отверг тактику шантажа, к которой прибегала Нили. – Ни одной жирной свинюшке не удастся указывать и диктовать, как нам жить, – разгневанно заявил он. – Может быть, она и важна для нашей компании, но уж, конечно, не до такой степени. – Но к вам же вот-вот перейдут несколько крупных звезд, – возразила Анна. – Джордж сказал мне, что дела резко идут в гору. Но все провалится, если Нили уйдет от вас, а она вполне может это сделать. Можетрасторгнуть контракт и заявить, что ты отказался лично представить ее публике в то время, когда она больше всего нуждалась в этом. – В таком случае, пусть убирается на все четыре стороны. Если мы с Джорджем будем ставить все наше будущее в зависимость от этого бурдюка с жиром, значит, у нас нет настоящей веры в себя. Не знаю, как Джордж, а я уже устал постоянно выслушивать, насколько нам необходима Нили, чтобы заполучить остальных. Может быть, он не верит в то, что у него есть что предложить клиентам, но Генри Бэллами верил в меня настолько, что предложил мне ссуду. Генри Бэллами никогда не позволил бы какой-то Нили О’Хара вмешиваться в его жизнь и диктовать условия. – Именно так поступала Элен Лоусон, – напомнила Анна. – Он любил Элен, в этом вся разница. Мы сумели возродить Нили. Для нашей профессии этого должно быть достаточно.* * *
На следующий день Лайон пришел домой раньше, чем обычно. Холодная ярость сверкала в его глазах. Сняв пальто, он как-то по особенному посмотрел на Анну. Та с трудом поднялась с кресла и стала смешивать для него коктейль. Интуиция подсказала ей, что случилось непоправимое… вероятно, в делах компании что-то прошло не так. Он молча взял бокал из ее рук. – Какие-нибудь сложности с Джорджем? – спросила она. Он сел и сделал большой глоток. – Скажи, Анна, мне, по-твоему, следует лететь в Калифорнию с Нили? Она колебалась. Ей вдруг показалось, что за этим вопросом, что-то кроется. Ей не понравилось, как он смотрит на нее. – Ребенок родится не раньше середины января. Я, разумеется, не хочу оставаться на Рождество без тебя, но я стараюсь быть объективной… – Скажи, как мне поступить, Анна? – спросил он все тем же странным тоном. – Решай сам, – ответила она. – Каким бы ни было твое решение, я пойму тебя. – Нет, решай ты. Все остальное ты уже решила. Скажи мне, сколько будет весить наш ребенок? Я знаю, что родится девочка, потому что так решила ты. И вообще, существует ли что-нибудь неподвластное тебе? – Лайон о чем ты? – О тебе! И о компании «Бэллами, Бэллоуз. и Берк». Боже, да я, должно быть, стал посмешищем для всего города. Меня купила Анна Уэллс. Наверное, это известно всем, кроме меня. Я узнал только что – Нили мне рассказала. – Нили? Откуда она узнала? – Анна испугалась. Никогда еще она не видела на лице Лайона такого выражения. – Понимаю, это должно было оставаться в тайне. Генри объяснил. Но вскоре это все равно выяснилось бы. Все чеки, которые я отправлял Генри раз в неделю, визировались им и посылались тебе. При подаче налоговой декларации все это выплыло бы наружу. – Но как узнала Нили? – Ей сказал Генри. Вероятно, она явилась к нему и рассказала, как обстоят дела, надеясь, что он убедит тебя разрешить мне лететь с ней. Вот тут-то Генри и проговорился. Сказал ей, будто уверен, что ты предпочтешь интересы бизнеса, потому что речь идет о твоих деньгах. Нили теми же ногами бросилась ко мне и все рассказала. Джордж, разумеется, вел себя как положено, разыграл удивление. Но каждый все знал, с самого начала, ведь так? – Лайон, никто этого не знал. Генри не должен был говорить Нили. Я сама собиралась все тебе рассказать в свое время. Я сделала это только потому, что люблю тебя, чтобы ты не уезжал в Англию. – И ты добилась своего. Ты можешь купить все, что пожелаешь! Именно этому ты научилась у Кевина Гилмора? Все имеет свою цену, нужно лишь выяснить какую. – Но мои деньги – это твои деньги. – Она старалась побороть панику. – Я сделала это лишь потому, что люблю тебя, хотела выйти за тебя замуж и родить от тебя ребенка. Можешь ты это понять? – Нет. Я понимаю только то, что Джордж ухмыльнулся и сказал мне: «Выше нос, Лайон, мы с тобой в одной лодке – нашим бизнесом заправляют жены». Но я не Джордж Бэллоуз. И, клянусь богом, отныне на первом месте для меня будет бизнес. На кон поставлены твои деньги, и я верну их тебе все до последнего цента. Но сейчас на кон поставлено кое-что посущественнее – моя гордость и уважение к себе. Есть лишь один способ вернуть две эти вещи – удвоить твои проклятые инвестиции. – Лайон! – Она крепко обняла его, но он остался холоден и неподвижен. – Я сделала это из-за любви. Понимаешь? – Я понимаю только одно: компания «Бэллами, Бэллоуз и Берк» станет крупнейшим в этом городе… и в мире! Ты купила ее для меня, моя девочка, и ты получишь за свои деньги все, что они могут дать. Вот увидишь. И первое, что я сделаю, – это закажу билеты, чтобы лететь с нашей жирной свиньей, именуемой звездой, в Лос-Анджелес. К черту Рождество – полный вперед! (обратно)1963
Дженифер Берк родилась первого января. Она появилась на свет за две недели до срока, устроив перед этим Анне и доктору совершенно сумасшедшую новогоднюю ночь. Чтобы выйти в этот мир, ей потребовалось целых пятнадцать часов, но когда она наконец оказалась в нем, красная и орущая, Анна увидела не сморщенное личико обычной новорожденной, она увидела лишь чудо и красоту существа, которому она дала жизнь, и от восхищения почувствовала, как силы вновь возвращаются к ней. Ей было одиноко без Лайона в эти долгие декабрьские дни. Хотя он и звонил ей из Калифорнии каждый день, трещина в их отношениях все равно чувствовалась. Она ощущала ее в той небрежности, с которой Лайон произносил ласковые ободряющие слова. Эта трещина разделяла их, как глубокий каньон. Но когда родился ребенок, все было забыто. Когда Анна уже очнулась от наркоза, он позвонил, и она сказала ему, словно извиняясь: – Это все-таки девочка… – Я в восторге! Я слишком стар, чтобы учиться играть в футбол на пару с сыном. Мне доставит куда больше радости учить свою дочь-подростка танцевать. Все время, пока она лежала в больнице, он звонил ей по два-три раза в день. Триумф Нили в Лос-Анджелесе побил все рекорды, и теперь она готова ехать в Сан-Франциско. Не будет ли Анна возражать? Это отдалит его возвращение еще на три недели. – Разумеется, нет, – быстро ответила она. Ей не хотелось, чтобы опять возник какой-нибудь спор о делах компании или о работе Нили. Особенно сейчас, когда все вновь было замечательно. – Дженифер Берк станет к тому времени совсем старой леди, но я постараюсь, чтобы она запечатлелась в твоей памяти, – поддразнила она его. – Джордж обещал сфотографировать ее «Полироидом», – сказал Лайон. – Пришли мне карточки сразу же, как только просохнут. – Я уже отправила одну – сняли прямо в больнице. Там она похожа на старого гномика. Но она будет красавицей, Лайон. У нее будут темные волосы, насколько можно судить. Лайон прилетел в конце месяца. Маленькая Дженифер весила девять фунтов [69], лицо уже разгладилось, морщинки ушли. Вся она была светло-розовой, и отец пришел от нее в неописуемый восторг. Внимательно изучая крошечное личико, он улыбнулся. – Страшно боюсь, что она будет похожа на меня, – сказал он, нахмурясь. – Анна, тебе следовало постараться получше. Я хотел точную твою копию, один к одному. – Я действительно постаралась, и все получилось. Я хотела, чтобы она была твоей копией. Он примчался домой прямо из аэропорта, чтобы повидать ее и ребенка, но ему нужно было спешить по делам. – Отметим появление наследницы сегодня за ужином, – пообещал он. Вечером няня, мисс Казэнс, помогла ей втиснуться в грацию. Это было неудобно, но сейчас, после того как она столько месяцев проходила располневшая в халате, ей хотелось, чтобы Лайон опять увидел ее стройной, подтянутой и элегантной. «Неплохо», – подумала она, придирчиво рассматривая в зеркале свою фигуру. Вес у нее стал, как прежде; только талия несколько ослабла, утратив былую форму, но грация сделала свое дело. В конце концов, прошел всего один месяц. Но, слава богу, сегодня ночью она все-таки сможет лечь в постель с Лайоном. У них так Давно ничего не было – с седьмого месяца. Бедный Лайон. Врач предупредил ее, что сначала может быть немного больно, но это уже не имело значения. Вновь сжимать Лайона в своих объятиях, ощущать его всем телом – вот что главное. Его секретарша позвонила в шесть вечера. Лайон на просмотре, не может ли она встретиться с ним в семь часов в ресторане «Дэнни». Несколько разочарованная, Анна положила трубку. Она-то думала, что они вдвоем выпьют дома коктейль, а потом спокойно поужинают где-нибудь подальше от привычных мест, где им не будут постоянно встречаться знакомые лица. В «Дэнни» ей нравилось, но это означало, что у их столика будут останавливаться все кому не лень и говорить о бизнесе. Обычно она не возражала против деловых разговоров, но ведь сегодня у них – особенный день. Анна села за столик около бара и стала ждать. Было уже четверть восьмого, и она пила вторую рюмку виски, когда наконец увидела Лайона. С ним были два его помощника и Билл Мэк, режиссер телевидения. Лайон бросился к ней и легко поцеловал ее. – Пожалуйста, прости меня. Мы просматривали запись на Эн-Би-Си, проклятая пленка оборвалась, и все пришлось прокручивать заново. Да, дорогая, ты, конечно, помнишь Джима Хэндли и Бада Хоффа, – сказал он, подводя к столику двоих молодых людей. – И, разумеется, знакома с Биллом. Они сели за большой столик и завели разговор о записи, которую только что просматривали, – вариант новой многосерийной постановки. Из их беседы Анна поняла, что запись является собственностью Билла Мэка и что он хочет подписать соглашение с «Тремя Б», поскольку компания «Бэллами, Бэллоуз и Берк» начала приобретать известность. Он хотел, чтобы они продали ему комплексное соглашение. Энергия в Лайоне била ключом. Он был уверен, что сможет заинтересовать этим Си-Би-Эс или Эй-Би-Си, а, возможно, и переделать все, поставив на главную роль Джоя Клинга. Джой только что заключил соглашение с их компанией. Это был лучший комедийный актер года. – Он будет выступать в лондонском «Палладиуме» с Нили, – пояснил Лайон. – По правде говоря, он должен с минуты на минуту быть здесь. Я сказал ему, чтобы он заехал за мной сюда. – Заехал за тобой? – удивилась Анна. – Ангел мой, – с неподдельным огорчением сказал он. – Все это произошло три часа назад. Джой едет со своим выступлением в Вашингтон. – Но ведь тебе-то не нужно ехать, правда? – Если бы нет! Нили думает, что она выступает там завтра с сольным концертом. Я должен объяснить ей, как важно для Джоя выступить в одной программе с ней. – Я тебе не завидую, – сказал Бад Хофф. – Нили знает, что в «Палладиуме» в ее программе будут и другие номера, но она еще никого не включала в свои выступления здесь, в Штатах. До сих пор все ее концерты были сольными. Но когда я объясню ей, что мы только что подписали соглашение с Джоем… Нили ведет себя нормально, если ей все правильно объяснить. «Он уезжает сегодня вечером! – Эта мысль пронзила все ее существо. – Он уезжает сегодня вечером!» – Когда ты вернешься? – спросила она. – Через две недели. Утром я тебе сразу же позвоню. Может быть, ты прилетишь на субботу и воскресенье. Могла бы малышка Джен отпустить тебя? – Тебе обязательно нужно ехать сегодня вечером, Лайон? – Обязательно. Я хотел ехать завтра, но я должен обеспечить Джою рекламу, и лучше всего приняться за это завтра же с утра. Он планировал пробыть в Нью-Йорке только одну ночь! В дверях вдруг показалась голова Джоя Клинга. Лайон помахал ему рукой. – Меня ждет машина, – крикнул Джой. – Стоит во втором ряду. Лайон вскочил со стула. – Расплатишься чеком за счет компании, Бад. До свидания, мой ангел, завтра позвоню тебе. Бад, отвези, пожалуйста, Анну домой, а? Она не поехала в Вашингтон на субботу и воскресенье. Мисс Казэнс сказала, что все будет в порядке и ей, разумеется, можно ехать. Но Лайон так больше и не позвал ее туда. А в пятницу он сказал только: «Позвоню завтра в это же время».* * *
– Почему бы тебе не взять и не спросить его в лоб, что происходит? – сказал Генри. Анна уставилась в чашку, словно пытаясь в кофейной гуще найти какой-то чудодейственный ответ. – Да потому, что в действительности ничего вроде бы и не происходит, – ответила она. – Всего лишь вот эта самая неуловимая разница. Генри Бэллами вздохнул. Анна выглядела бледной и исхудавшей. Когда она позвонила ему и настоятельно попросила поужинать с ней, в голосе ее звучало отчаяние. К тому же, он боялся вопросов, которые она непременно задаст ему. – Генри, малышке уже три месяца, а Лайон провел с нею всего четыре дня. Один – между Калифорнией и Вашингтоном и три между Вашингтоном и Лондоном. В Лондоне он уже месяц. Нили произвела там фурор. Я понимаю, что ее там удерживает, но ему-то оставаться нет никаких оснований. – А Джордж что говорит? Анна улыбнулась. – Все та же старая линия поведения. Что Нили, мол, не останется там одна. Что Лайон для нее царь и бог – единственный, кого она слушает. Что она, якобы, приносит компании большие деньги. Генри печально улыбнулся. – Вот что значит быть удачливым менеджером. Всегда страдает жена. – Но ведь к ним уже перешли несколько крупных звезд. Компания процветает. Сколько они еще должны нянчиться с Нили? Сейчас с ней, кажется, все в порядке. По-моему, она вполне может сама стоять на ногах. – Они – новые люди в бизнесе, Анна. Сейчас на них все смотрят. Джордж никогда не отличался особой энергией. Да, разумеется, он хороший бизнесмен, но Лайон умеет находить подход к людям. А в нашем деле всегда появляется своя Нили или еще какая-нибудь звезда, с которой приходится нянчиться. Видимо, тебе нужно смириться с этим. – Хочешь сказать, мне всю жизнь придется жить вот так? – Со временем ты к этому привыкнешь, – ответил он. – Я – никогда! С минуту он помолчал, потом сказал: – Анна, ты не сможешь иметь все. Я видел твою квартиру. Она стоит больших денег. А Лайон из тех, кто за все платит сам… – Но, Генри, почему он не попросил меня поехать с ним в Лондон? Генри изучающе посмотрел на подагрические утолщения своих пальцев. – Ты никогда не была за границей, Анна. Возможно, он считает, что обязан показать тебе достопримечательности и прочее. А он все время привязан к театру. Тебе было бы не очень-то приятно сшиваться там повсюду одной. – Если бы он все так объяснил, я бы поняла и поехала бы, несмотря ни на что. Я могла бы сама осматривать достопримечательности… ходить во все театры. И видеться с ним, хотя бы изредка. – Оставь пока все как есть. Он должен вернуться со дня на день. – Он вернется через неделю. А что потом? Кто знает, куда к тому времени Нили поедет на гастроли? И он опять уедет? – Рассматривай проблемы по мере их возникновения, – посоветовал Генри.* * *
Лайон вернулся через десять дней. Но побыть дома он смог лишь неделю. Нили собиралась в Европу сниматься в новой картине. Снимать ее должны были во Франции и Италии с ведущими артистами европейского кинематографа. – Состояния на этом она не сделает, – пояснил Лайон, – зато покажет и Голливуду, и телевидению, что на нее можно положиться, поскольку я намерен сделать все, чтобы съемки завершились с опережением графика. – Лайон, возьми меня с собой, – внезапно попросила она. – Ничего не выйдет. – Почему? – Понимаешь, Нили временами становится монстром. В Лондоне у нее был ошеломляющий успех. Ты не представляешь, как все это выглядит, когда добиваешься успеха там. Невероятно, но публика все еще хранит ей верность. Выкрикивают ее имя, когда она идет по улице, часами толпятся у отеля, чтобы только увидеть ее одним глазом. Из фирмы Джонсона-Гарриса туда прилетели двое с крупным предложением от телевидения. Все стремятся заполучить ее себе. И все это доходит до нее. – Но она должна остаться верной тебе и Джорджу: ведь это вы вытащили ее. – Она уже заплатила все, что была должна, до последнего цента – и тебе, и компании. Она делает деньги и делает их для нас. Мы поменялись ролями. Она считает, что это мы должны быть ей благодарны. – Но какое это имеет отношение к тому, что я хочу ехать с тобой? – Это будет помехой. Нили обидится. – «Нили обидится»?! Да ведь я – твоя жена. И ее лучшая подруга. Как же она может обидеться? – Она опять вошла в силу и хорошо знает это. Не забывай: она согласилась, чтобы Джой Клинг выступил с ней в одной программе, и благодаря этому, мы заключили для Джоя крупный контракт с телевидением на предстоящий сезон. Стоимость комплексной сделки составляет сто пятьдесят тысяч долларов в неделю, и мы курируем эту сделку. Это дает нам пятнадцать тысяч в неделю на тридцать девять недель. И все благодаря Нили. В будущем году мы заключаем для Нили особые соглашения – по одному на каждый месяц, по двести тысяч каждое. Так что сейчас все крутится вокруг Нили. Если там будешь ты, я, естественно, буду разрываться и какое-то время уделять тебе. Мне захочется показать тебе Париж, Рим, захочется быть с тобой. Я совсем заброшу Нили. Пожалуйста, дорогая, отпусти меня. Через год я смогу выплатить тебе твою ссуду. Но на сегодняшний день становым хребтом «Трех Б» все еще является Нили, и обращаться с ней нужно бережно. – Но я уверена, что мое присутствие не обидит Нили. Она же сама предлагала мне, чтобы я оставила ребенка и ехала вместе с тобой. – Видишь ли… Нили несколько изменилась. Единственное, о чем она думает и с чем считается – это с самой Нили. Ты должна понять ее, Анна. Ты ни разу не была рядом с нею в те периоды, когда дела у нее шли хорошо. Она обращалась к тебе, только когда ей было плохо. Тогда она вела себя по-человечески – сейчас же она невыносима. Мне приходится ни на минуту не спускать с нее глаз, чтобы она не вспылила и не поссорилась с окружающими, чтобы удостовериться, что она везде является вовремя. Она вновь обрела власть над людьми. Опять начались вспышки раздражения. К счастью, я могу управлять ими, и будем надеяться, что так оно будет и впредь. Но я вынужден посвящать ей все свое время.* * *
Следующие три месяца были для Анны невыносимы. Она так много времени проводила с малышкой Дженифер, что няня не находила, чем заняться, и жаловалась на это. Постоянно поступали сообщения об ошеломляющем успехе Нили за границей. Время от времени Лайон писал, а раз в неделю звонил. Фильм обещал быть великолепным, хотя пришлось заново снимать начало, поскольку Нили очень много потеряла в весе. Дома он хотел быть в конце июня. Затем прошла целая неделя без единой весточки от него. Анна заказала трансатлантический телефонный разговор на четвертое июля [70]. Телефонистка коммутатора отеля «Георг V» ответила, что господин Берк выехал от них ровно неделю назад. Нет, адреса места выбытия не оставил. Она полагает, что он вернулся в Соединенные Штаты. Да, мисс О’Хара выехала из отеля одновременно с ним. Анна была потрясена. Неужели он поплыл на пароходе? Но почему, если он так сильно хотел увидеться с ней и дочуркой? Она позвонила Джорджу. Тот отвечал уклончиво. Да, Лайон и Нили должны были вернуться, но он вот уже пять дней не имеет от них никаких известий. В ту ночь она лежала на кровати, пытаясь заставить себя смотреть телевизор. Ни одна программа так и не заинтересовала ее. В конце концов она выключила телевизор и развернула утренние газеты. Внезапно в одной из колонок, словно неоновая вывеска, вспыхнула коротенькая заметка: «…легендарная звезда эстрады, которая вновь совершила феноменальное восхождение на Олимп славы, объясняет это, равно как и заново обретенную стройную фигуру, своей новой любовью. Но у любовной истории нашей звезды не может быть счастливого конца. Ведь предметом этой любви является ее менеджер, который женат на красавице телеэкрана». Внутри у Анны что-то оборвалось. Не может быть! Но Лайон действительно говорил, что Нили согнала лишний вес. Она почувствовала, что ей вот-вот станет дурно и она упадет в обморок. «Постой, – сказала она себе. – Ладно, допустим, Нили влюбилась в Лайона. Это немудрено. Но из этого вовсе не следует, что и Лайон неравнодушен к Нили. Лайон, наверное, соблюдает дистанцию и держится от нее на расстоянии вытянутой руки. Возможно, он с самого начала понял, что это произойдет. Тогда именно этим и объясняется то, что он не хотел брать меня с собой в Европу. Вероятно, таким образом он хотел оградить меня. Лайону, наверное, пришлось там нелегко… Но где же он сейчас?» Схватив трубку, она заказала телефонный разговор с отелем «Беверли-Хиллз» в Калифорнии. Она молила бога, чтобы ее подозрения оказались ошибочными. Трубку сняла телефонистка коммутатора. Да, мистер Лайон Берк поселился у них три дня назад. Нет, в номере его нет. Да, мисс О’Хара тоже зарегистрирована. Ее номер тоже не отвечает. В Калифорнии сейчас только девять часов – не желаете ли повторить вызов позже? Анна сняла заказ и без сил откинулась на подушки. Быть в Калифорнии целых три дня и не позвонить! Надев первые попавшиеся под руку брюки, она выбежала в ночь.* * *
Генри понадобилась целая вечность, чтобы открыть дверь. – Господи, что еще стряслось? – сонным голосом спросил он. На ходу завязывая пояс халата, он провел ее в гостиную, включил свет и показал на кресло. – Садись. В чем дело? Анна была на грани истерики. – Ты видел это? – Она ткнула пальцем в утренние газеты, разбросанные по полу. – Генри, не отмалчивайся передо мной. Я только что узнала, что Лайон вот уже несколько дней как вернулся. Он в Калифорнии, с Нили, и даже не позвонил мне. – Давай-ка выпьем, – предложил Генри. – Генри, помоги мне! – Она рухнула в кресло, как подрубленная, содрогаясь всем телом от рвущихся из груди рыданий. Спокойно разбавив шотландское виски, он подал ей стакан. – Давай покончим с истерикой и обратимся к фактам. Ты ведь хочешь спасти ваш брак, правда? – Значит, ты тоже этому веришь? – Конечно. Я знал об этом раньше. Дар речи покинул ее. Она смотрела на него во все глаза так, словно последний верный друг предал ее. – Приди в себя, – сказал он. – Такое случается сплошь и рядом. Перед тобой есть несколько путей. Первый: ты уходишь от него, не уронив своей гордости. Второй: если он так сильно тебе нужен и у тебя достаточно мужества и силы воли, то ты сможешь все выдержать и вернуть его. – Я не могу жить без Лайона, – прорыдала она. – Тогда начинай брать себя в руки. Только начни закатывать ему сцены – и ты прямиком пошлешь его в объятия Нили. – Но она же толстая, как свинья. Не может она ему понравиться. – Уже не толстая. – Голос у него был усталый. – Я только вчера вечером вернулся с Западного побережья. Встретил Нили и Лайона в «Чейсенсе». Она выглядит великолепно. Вряд ли она весит сейчас больше ста фунтов [71]. – Нили? – Думаю, это все из-за любви. Фунтов десять она сбросила в Лос-Анджелесе во время первых гастролей, еще фунтов десять во Фриско и в Вашингтоне, а все остальное – за три месяца в Европе. Она ничего не ест. Я наблюдал за нею. Выглядит так, будто в любую минуту может раствориться в воздухе. Но она просто помешалась на Лайоне: глаз с него не сводит, поминутно виснет на нем… Анна закрыла лицо руками. – Генри, прекрати! Чего ты хочешь? Добить меня? – Нет, хочу раскрыть перед тобой всю правду. Зная факты, ты, возможно, придумаешь, как бороться. А от неожиданности ты могла бы потерпеть поражение. Так что лучше полностью быть в курсе событий. А теперь – стисни зубы и держись. Такое и впрямь может огорошить: Лайон отнюдь не отталкивает ее от себя. – Нет… нет… – Анна издала протяжный жалобный стон. – Прекрати истерику, и давай составим план действий. Она посмотрела на него, отказываясь верить своим ушам. – Генри, ты с ума сошел! Все кончено… насовсем. Тот пожал плечами. – Прекрасно. Я займусь для тебя оформлением развода. Лайону придется выплатить тебе и ребенку солидные алименты. Уверен, что он будет согласен на все. Анна зарыдала еще отчаяннее. – Нет… нет… я не отдам его. – Тогда возьми себя в руки. Выпей виски, и давай все просчитаем. Ты не первая и не последняя, у кого уводят мужа. Тебе нужно просто решить, что для тебя важнее – Лайон или собственная гордость. Но того, что было, уже не вернуть. – Верно. Ореол вокруг него изрядно померкнет в твоих глазах. Но ты удержишь его около себя. Насколько я тебя знаю, если, конечно, не ошибаюсь, часть Лайона – это лучше, чем вообще никакого Лайона. – Генри, да разве он будет уважать меня, зная, что я смирилась с этим? – В этом-то все и дело, – нетерпеливо пояснил он. – Он нипочем не должен знать, что тебе все известно. Если он об этом узнает, то тебе придется требовать развода. Именно на это и бьет Нили. Послушай… Лайон оказался замешанным в этом вопреки своей воле. Ты должна понять. Но когда ты становишься для кого-то Творцом Всемогущим, это может изрядно вскружить тебе голову, да и время выдалось как нельзя более подходящее. Лайону для самолюбия как раз требовалось что-то в этом роде. Он – творческая личность, Анна, он считает, что ты купила его со всеми потрохами, завлекла его обманным путем и направила на новую стезю. На самом же деле все это чушь собачья – раз уж у него и впрямь есть такие способности, то никто и ничто не могло бы, в конечном счете, помешать их реализации. Но сейчас он опять занят творческим созиданием. Из бесформенного куска жира он вылепил стройную, полную энергии звезду, которая, как ему кажется, обязана ему всем, даже самим воздухом, которым она дышит. В своих глазах он сейчас не просто менеджер, он – творец. Осознание этого для него важнее самой жизни. Великое всепоглощающее чувство власти. Устоять перед ним не в состоянии ни один мужчина. А Нили подыгрывает ему, прикидываясь беспомощной и беззащитной. Она так же беспомощна, как кобра, только он-то этого не видит. А вот ты, в представлении Лайона, сильная личность, повелитель, его Творец Всемогущий. На самом же деле, Анна, ты и вполовину не столь сильна, как Нили – в этом мире Нили и ей подобные несокрушимы, – но из-за твоего самообладания и уверенности Лайон в меньшей степени ощущает себя мужчиной с тобой, чем с Нили. Вероятно, он полагает, что ты выхолостила в нем мужскую сущность, причем дважды. Первый раз, когда отказалась оставить ради него Нью-Йорк, а второй – когда купила ему мое агентство, поставив его во главе компании. – Если бы ты только не рассказал Нили… – простонала она. – Это случилось в конце декабря. Вы с Лайоном были счастливы, а Нили была твоей лучшей подругой – так я, по крайней мере, думал. Она пришла ко мне, зная, что ты послушаешь меня. Хотела, чтобы я убедил тебя поехать с ними, после того как родится ребенок. Рыдала, клялась, что не поедет без Лайона, бесилась… Говорила, что ты не прислушаешься к голосу разума, потому что ты – миллионерша и плевать хотела на компанию, что ты, мол, вообще хочешь, чтобы Лайон отошел от дел. Ну и я объяснил, что ей все представляется в неверном свете, что на кон поставлены твои деньги. В конце концов, мне ведь так или иначе пришлось бы вскоре раскрыть все Лайону. Откуда мне было знать, что Нили обернет это против тебя? Боже мой, да знаешь ли ты, сколько раз она говорила мне, что обязана тебе всей своей жизнью? Ты вернула ее в «Небесный Хит», убедив Лайона замолвить за нее словечко. Ты говорила с Гилом Кейсом о том, чтобы она заменила Тэрри Кинг. Ты оплачивала ее лечение в Хейвен-Мейноре. Я и подумать не мог, что Нили будет действовать против тебя, не говоря уж о том, что она станет твоей соперницей и начнет отбивать у тебя Лайона. Здесь я здорово ошибся, хотя, видит бог, намерения у меня были самые благие. Сейчас же главное для тебя – смотреть фактам в лицо. С тобой Лайон не ощущал себя значительной личностью, но вот появляется Нили и возносит его на высоченный пьедестал. Тебе нужно просто выждать, пока этот постамент не станет вровень с землей. – Но как? – взмолилась она. – Твердо держись своей линии. Перестань разыгрывать из себя всевышнего и побудь немного просто женщиной. Дай кобре, сидящей в Нили, выползти наружу. Лайон не дурак. – Генри помолчал. – Знаешь, вся эта история между тобой и Лайоном – она с самого начала не заладилась. Но ты хотела его, и ты его получила. И зашла слишком далеко, чтобы идти на попятный. Сейчас твоя роль – вести себя так, словно ничего не случилось. Это будет нелегко – более того, временами просто невыносимо, потому что их с Нили отношения еще достигнут апогея, прежде чем пойти на спад. Но если ты сумеешь продержаться, процесс пойдет вспять. В результате Лайон непременно возненавидит ее. Нили взаправду выхолостит в нем все мужское – так она поступает со всеми мужчинами. Тебе наверняка известно, что Тэд Касабланка во всеуслышание жаловался на нее. В начале она – сама патока, елей и нежность, но под этим, как и у всех звезд, у нее скрывается непробиваемая стальная броня. Со временем, если сумеешь держаться своей линии, ты окажешься для него мягкой, податливой женщиной, которую он не сумел разглядеть, и он захочет защищать и оберегать тебя, почувствует себя виноватым. Ваш брачный союз несколько потускнеет; возможно даже к тому времени Лайон будет тебе не нужен, но если сумеешь все выдержать, он останется твоим. Это будет война нервов, но ты сможешь выдержать и выиграть ее. – Попытаюсь, – устало сказала она. – Генри… весь мой мир только что рухнул. По-моему, сегодня я имею право принять свою первую «куколку». – Первую что? – Капсулу секонала. – Она слабо улыбнулась. – Дженифер и Нили называли их «куколками». Я их в жизни ни разу не принимала, но сегодня, пожалуй, заслужила одну. Интересно, где бы мне их достать? Он вышел в ванную, порылся в аптечке и вернулся с пузырьком. – Вот… здесь на два месяца. Я сам только что принял одну. – Слабая улыбка заиграла на ее губах. – И ты тоже? – Уже двадцать лет. Неизбежная принадлежность нашего бизнеса. Прими одну и ложись в постель. Не кури. Если ты раньше его не принимала, подействует быстро. Она взяла пузырек, попрощалась и ушла. Ноги налились свинцовой тяжестью, а пока она ехала в такси до своего дома, в голове у нее, будто вспышки, чередой проносились неприятные видения Нили и Лайона. Дома Анна долго стояла в ванной, разглядывая пузырек. Он был доверху заполнен глянцевитыми красными капсулами. Опрокинув пузырек и вытряхнув все пилюли, она сосчитала их. Шестьдесят пять. Генри, безусловно, доверяет ей. Что ж, почему бы и нет? Идти на попятный она не собирается. У нее есть ребенок, которому она нужна, и муж, которого она должна вернуть. Единственное, что ей сейчас нужно – забыться на несколько часов, отрешиться от этого нежданного-негаданного кошмара. Она проглотила одну капсулу. «Отлично, „куколка“. Давай посмотрим, из-за чего вокруг вас поднимают весь этот шум-гам». Она легла в постель, взяла с пола разбросанные газеты и попыталась читать. Через десять минут строчки стали сливаться у нее в глазах. Это было невероятно… голова стала легкой… глаза сами закрылись… Это настоящая «куколка»… и она сейчас уснет. Завтра она все обдумает. Лайон приехал неделю спустя. Он сказал, что они летели через Северный полюс и остановились в Калифорнии. Она сделала вид, что удивилась. Он странно посмотрел на нее. – Разве ты не знала, что я был в Лос-Анджелесе? – Откуда же мне знать? – сказала она. – Я считала, что ты задержался в Европе. Он отвернулся, однако недостаточно быстро, и она успела заметить удивление, мелькнувшее в его глазах. Он вернулся, ожидая неприятностей, приготовив объяснения, а ничего не потребовалось. Они поужинали в «Колони», после чего провели свой первый вечер наедине. Анна была нежна и самозабвенно отдалась ему. Это было нелегко. Ей хотелось исцарапать его всего ногтями, чтобы оставить свидетельство того, что он принадлежит ей. Она мучила себя, наяву представляя его и Нили в постели, но совершенно непостижимым образом ей удалось отбросить эти мысли, и она страстно отвечала на его объятия. Они провели вдвоем пять замечательных дней. Она уже почти начала верить, что у них снова все хорошо, а то, что было, осталось в прошлом. Потом прилетела Нили. У нее был контракт на десять ежемесячных сольных программ, в августе должны были начаться съемки, поскольку первое шоу выходило на экраны в сентябре. Но оставалась еще половина июля, не занятая ничем, поэтому Нили прилетела в Нью-Йорк, стремясь что-то предпринять. Был четверг. Анна ничего не знала о возвращении Нили. У них с Лайоном были билеты в театр, а после этого встреча в «Копе» с поверенным нового певца. Похоже, все поверенные в городе стремились к тому, чтобы их клиенты снялись со своими номерами в телевизионном шоу Нили. В пять часов позвонила секретарша Лайона и сообщила, что мистера Берка вызвали на совещание спонсоров и что в театр он пойти сегодня не сможет, что сопровождать ее он посылает вместо себя Бада Хоффа и что сам он приедет к ним в «Копу» позднее. Анне и в голову не пришло, будто здесь что-то неладно. Она поиграла с ребенком, с удовольствием полежала в роскошной ванне и оделась. Приехал Бад, и они отправились сначала в театр, а потом в «Копу», где их уже ждал поверенный, заняв столик на балконе. Анна объяснила ему, что Лайон задерживается и придет чуть позже. Поверенный кивнул. А я боялся, что сегодня он будет занят до ночи в связи с приездом Нили. Анна почувствовала, как лицо ее обдало жаром, но все же сумела безмятежно улыбнуться. – Ах да… верно. В котором часу она прилетела, Бад? – спросила она, стараясь создать впечатление, что это известие не было для нее сюрпризом. Было видно, что Баду немного не по себе. – Кажется, часов в двенадцать. Во всяком случае, первый ее звонок был в это время. Анна заказала выпить. – Бедный Лайон. А он-то надеялся, что она остановится в Аризоне и побудет там с детьми. – Обменялись поверенный и Бад взглядами или ей это только показалось? Сколько человек знают правду? Она заставила себя смотреть представление и даже похвалила певицу. Ей казалось, что пустой стул Лайона смеется над нею. Улыбка, словно приклеенная, не сходила с ее лица, когда она объясняла причину отсутствия своего мужа. Она видела, как разочарован поверенный, но его переживания не шли в сравнение с ее собственными. – Вероятно, нужно что-то уладить насчет шоу Нили – она во всем полагается на Лайона. Наверное, ему ужасно неприятно, что он пропустил это представление, но Бад даст ему исчерпывающий отчет, не так ли, Бад? Разумеется, даст. И вновь ей показалось, что поверенный и Бад обменялись многозначительными взглядами. Было уже три часа ночи, когда Бад привез ее домой. Она знала, что Лайона не будет. На цыпочках подойдя к кроватке, она поцеловала дочку и укрыла ее одеяльцем. Милая, милая малышка Дженифер, черноволосая и голубоглазая – вся в отца. И до чего же красивая. Анна почувствовала, как к горлу у нее подступил комок, а на глаза навернулись слезы. Нет, когда Лайон вернется, она должна быть спокойна. Никаких слез. Ей нужно будет принять любое оправдание, какое бы он ни придумал. В пять часов она на цыпочках прошла в гостиную. Возможно, он уже пришел и не захотел беспокоить ее. А может, он спит у себя в кабинете? Но ни в гостиной, ни в кабинете его не было. «О господи, Лайон, ну почему? А ты, Нили, как же ты могла так поступить со мной?» Она прошла в ванную и приняла красную пилюлю. Она уже принимала по одной каждую ночь, пока Лайон не приехал. Ей казалось, только «куколки» помогли ей сохранить рассудок. После его приезда она не приняла ни одной. «И вот, опять начинается, – подумала она. – Слава богу, что существуют эти чудесные красные „куколки“. Благодаря им ночи проходят так быстро». Днем было легче – она занималась ребенком, обедала, как правило, с Генри или со знакомыми. Она знала многих женщин, обедавших в «21» или в Малом Клубе, которые, как и она, мучились, не зная, чем заполнить свой день, – жен помощников режиссеров или клиентов Лайона. Но после Нили и Дженифер она так и не смогла ни с кем близко сойтись. Близкая дружба у женщин возникает лишь в молодости. После тридцати заводить новых подруг становится труднее: меньше общих надежд, ожиданий, мечтаний. И тем не менее, всегда находится кто-то, с кем можно провести день, пообедать или походить по магазинам. Но ночью! После того, как малышка Джен и мисс Казэнс засыпали, она долго не могла сомкнуть глаз, думая о Лайоне, видя перед собой его лицо, его улыбку… и представляла его с Нили. Когда становилось совершенно невыносимо, она вскакивала с кровати и обретала спасение в виде верной красной «куколки». И очень скоро Нили и Лайон уходили в небытие, а она погружалась в глубокое забытье сновидений. Так прошла вся неделя. И вот, это начинается вновь. Она лежит в кровати, спрашивая себя, сколько времени Нили собирается пробыть здесь. Быть может, это продлится всего несколько дней? Очертания спальни стали размываться. Слава богу, лекарство действовало быстро. Анна не знала, сколько проспала, но она смутно почувствовала присутствие Лайона, его тихие шаги. Она с трудом разлепила веки. Было уже совсем светло. Он был в ванной. – Лайон? – Она села в кровати, посмотрела на стенные часы: уже восемь! Он вернулся только что? Неужели? Она увидела его пиджак, брошенный в кресло. Он вышел из ванны, улыбаясь, в одних трусах. – Извини, что разбудил. – Который час? – Восемь. Я уже одеваюсь. – Он подошел к своей несмятой кровати и быстро сел на нее, пытаясь скрыть от ее глаз, что простыни идеально заправлены. Он пытался сделать вид, что уже давно дома! – Когда ты легла? – непринужденно спросил он, надевая туфли. – Часа в три, – солгала она. Чертово лекарство, от него так кружится голова. Я пришел около четырех, – не моргнув глазом сказал он. – Ты спала без задних ног. Она опять прилегла. – Нили в Нью-Йорке, – сказал он, надевая чистую рубашку. – Да, Бад говорил. Анна знала, что он наблюдает ее реакцию, и не открывала глаз. – Она пришла на нашу встречу со спонсорами: хотела внести некоторые изменения в программу, и нужно было кое-что уладить. Ей хочется, чтобы в оркестре было больше струнных инструментов и чтобы платили за это они. К тому же, она настаивает, чтобы телевизионная сеть взяла на себя половину всех расходов. Несколько часов ушло, чтобы все утрясти. «До восьми утра?» Она так и не открыла глаз. – Потом, совсем уже поздно, мы пошли ужинать со спонсорами. Мне пришлось успокаивать их, а этот Тэд Келли… ты же знаешь, как он любит выпить. Ах, да, ты ведь не знакома с ним. Работает у нас. Просидел с ним в «Пи Джей» до половины четвертого, успокаивая его. Хотел заехать за тобой в «Копу», но он стал бы настаивать, чтобы остаться с нами, а набрался он уже изрядно, так что я сидел с ним, как нянька, все время до самого конца. Слава богу, что «Пи Джей» закрывается в четыре часа. Я поехал прямо домой. «О боже, я не вынесу этого, – подумала Анна, – сейчас закричу». Однако она прикусила губу и не произнесла ни слова. – Ты уже совсем проснулась, дорогая? – Увидев, как она еле кивнула, он улыбнулся. – Тебе, должно быть, пришлось нелегко… Кстати, сегодня вечером постарайся заняться с какой-нибудь из своих подруг. Мне придется поехать с Нили и кое с кем из сотрудников в Гринич-Виллидж, разыграть несколько номеров. Она окончательно проснулась. – Можно, я тоже поеду? – Тебе там не понравится, – быстро ответил он. – И потом, это – бизнес. Все ребята будут там без жен. Если ты поедешь, это придаст нашей встрече характер вечеринки, они тогда тоже приедут с женами, и у нас получится обыкновенное сборище. Ведь в таком окружении нельзя будет метаться с места на место… – Но Нили же будет там, – возразила она. На его лице появилось наигранное удивление. – А как же? Это ведь ее шоу, и она должна одобрить каждый номер, который туда войдет. – Он улыбнулся и сказал: – Слышу, Дженифер голосок подает. Готов поклясться, она говорит что-то вроде «Па-па». Думаю, что смогу сегодня позавтракать с нашей красавицей. А ты досыпай. Она не видела Лайона пять ночей подряд, хотя слышала, как он приходил рано утром переодеться. Иногда она просыпалась и делала вид, будто уверена, что он тоже только что встал. Он никогда не забывал, когда приходил, смять постель, и у него всегда было наготове какое-нибудь убедительное объяснение: нужно было просмотреть несколько номеров, было совещание с сотрудниками, была запись у Нили, прослушивали песни для нового альбома Нили… И каждую ночь Анна принимала красную капсулу, погружаясь в спасительное забытье. На шестой день ей пришлось столкнуться еще с одним кризисом. Лайон только что ушел. Сказал, что вчера опять был с Тэдом Келли. Только с ним. Анна сделала вид, что поверила и снова легла, но никак не могла уснуть. Она прошла в ванную комнату и приняла вторую красную «куколку». Когда она проснулась, был уже час пополудни. Она позвонила служанке, сказала, что неважно себя чувствует и что выпьет кофе с тостами прямо в постели. Та принесла поднос и свежие газеты. Нехотя она развернула одну, стала проглядывать иллюстрации… и вдруг в глаза ей бросился большой снимок Нили и Лайона. Подпись гласила: «Мисс Нили О’Хара танцует в „Марокко“ со своим личным менеджером Лайоном Берком». Выглядела Нили отлично. Внезапно Анна вспомнила, что не видела ее уже… сколько же? Последний раз они встретились еще до рождения ребенка, месяцев восемь-девять назад. Нили даже не пыталась скрывать свою связь с Лайоном. Особенно это было видно по выражению ее лица: вся сияющая, глаз с него не сводит. И Лайон тоже выглядел счастливым. О боже, что же теперь будет? Он ведь уличен во лжи. Хоть бы не говорил ей, что был с Тэдом Келли. Анна набрала номер Генри. – Газету выбрось, – приказал он ей. – Не тычь ему ею в глаза. Ты вполне могла и не видеть ее. – Генри, я не могу так больше, – прорыдала она в трубку. – Приезжай, Анна, – пригласил он. – Обговорим все. Генри ходил взад-вперед по комнате. – Согласен, это тяжело, – говорил он. – Я не думал, что она обнаглеет настолько. Считал, что это будет у них только на гастролях. Я предполагал, что тебе будет не по себе, но уж никак не мог предположить, что тебе все это вот так сунут под нос. – Что же мне делать? Я наверняка уже посмешище для всего города. Даже обедать ни с кем не смогу. Только вчера я сказала, будто Лайон хочет, чтобы Нили вернулась в Калифорнию, что он терпеть не может нянчиться с нею. Сказала это трем женщинам, с которыми обедала вместе, зная, что в душе они смеются надо мной. И вот теперь я просто не смогу избежать позора. – Она взяла газету. – Может, мне позвонить Лайону? – спросил Генри. – Побеседовать с ним по-дружески, не говоря, что тыздесь… посмотрим, что из этого выйдет? Она отрицательно покачала головой. – Лайон догадается. Он знает, что ты – единственный человек, которому я безгранично доверяю. Генри вдруг схватил трубку. – Что ты хочешь делать? – спросила она. – Позвоню Нили, – ответил он. – Сделаю вид, что даю ей совет, в котором она нуждается. А ты иди в спальню и слушай по параллельному. Анна внимательно смотрела на него, несколько минут он рассыпал комплименты Нили по поводу ее вновь обретенной фигуры и многочисленных успехов. Наконец он взял быка за рога. – Нили, я только что видел газету. Что у тебя, черт возьми, с Лайоном Берком? Выражение его лица не понравилось Анне. Пройдя в спальню, она осторожно сняла трубку параллельного аппарата. Говорила Нили: – Послушай, Генри, я очень люблю тебя, но в это лучше не суйся. – Нили, – спокойно сказал Генри, – мне дела нет до твоих чувств, но даже если ты считаешь, что ничем не обязана Анне, тебе все равно нужно заботиться о своем имидже в глазах публики. Всем известно, что Лайон женат на Анне. До сих пор в газетах появлялись лишь завуалированные намеки, но такое… В конце концов, твои спонсоры побоятся скандала – ведь Лайон продолжает жить с Анной. – Черта с два «продолжает», – рявкнула Нили. – Приходит домой только под утро, переодеться. Ждет не дождется, когда она поймает его. Но она всегда спит. – Нили, а может, тебе только кажется, будто он хочет, чтобы его поймали? – Чушь! Он оставался со мной все эти ночи. Когда вчера вечером нас щелкнули в «Марокко», он даже сказал: «Может, это и к лучшему – если снимок опубликуют, все выйдет наружу». Это его собственные слова. Он просто боится сам сказать Анне, боится, что это выбьет ее из колеи. И еще… – Нили помедлила. – Ну, в общем… он действительно любит этого их ребенка. – Нили, все это обернется против тебя же самой, – сказал Генри. – Нельзя просто протягивать руки и брать то, что тебе вздумается, ни в грош не ставя чувства других людей. Каждому воздается по его делам. – Я тебе не каждая! – пронзительно взвизгнула Нили. – Настало время, чтобы я брала то, чего пожелаю. И знаешь почему? Потому что всю свою жизнь я только и делала, что отдавала. Даже девчонкой… эти бездари «Гаучерос» не умели танцевать, и именно на мне держался весь номер. Муж моей сестры сейчас контролеришка в «Мейси» [72]. После моего ухода они так ни разу и не выступили вместе. Я делала деньги для киностудии, а меня выставили пинком под зад. Но меня ничто не могло сломить. Тебе прекрасно известно, черт возьми, что равной мне нет. И я не обязана жить по этим паршивым правилам, по которым живут обыкновенные люди, потому что я не обыкновенная. Меня ничто не может сломить, точно тебе говорю. Демерол, капсулы, психушка, лишний вес – чепуха. А Лайоном я только и живу. Когда я с Лайоном, мне даже есть ничего не нужно. Теперь я могу пить, принимать пилюли для похудения, даже снотворное – и все будет нормально. Черт возьми. Генри, мой талант несет счастье людям во всем мире. А Лайон несет счастье мне. Неужели я не имею права быть счастливой? Лайон нужен мне, а кто такая Анна, черт побери? – Всего-навсего самая лучшая подруга в твоей жизни! – Ну, конечно. Послушай, а ведь ей здорово повезло, что я общалась с нею. Почему бы ей не получать удовольствие оттого, что я всегда была под рукой? Я – яркая личность. Я – звезда. А кто она такая, если приглядеться? Даже когда я была совсем еще девчонкой, у меня за душой было куда больше. Конечно, у нее были благородные манеры и все такое, но и только. А кто она сейчас? Ничтожная скряга, которая рекламировала по телевизору лак для ногтей да спала столько лет с каким-то старым ублюдком. Купила себе Лайона за свои деньги, а теперь ставит из себя чистюлю. Тоже мне, Дева Мария с младенцем! Так вот, я ни от кого не получала денег за правильные черты лица, я зарабатывала их своим талантом. А она всю жизнь как сыр в масле каталась благодаря своей проклятой «классной» внешности. Сейчас ей тридцать восемь, а мне тридцать четыре, но моя внешность значения не имеет. Если ты друг Анны, то посоветуй ей отпустить Лайона. А она пусть намажет себе физиономию, может, Кевин Гилмор или какой другой жлоб подберет ее. У нее это всегда ловко получалось – цеплять миллионеров! И Нили, презрительно хохотнув, бросила трубку. Анна осторожно положила трубку на рычаги, подошла к зеркалу. Мелкая сеть морщинок под глазами сегодня пролегла глубже, чем обычно, а в углах рта появились небольшие складки. Смешно, однако она никогда не думала всерьез о своей внешности в связи с Лайоном, и вот… – Отойди от зеркала! – Оказывается, Генри уже зашел в спальню. – У этого маленького чудовища темные круги под глазами на полфизиономии. И я с радостью услышал, что она думает, будто ей можно пить: печень-то у нее ни к черту. Анну начало трясти. Генри неловко обхватил ее и прижал к себе. – Ну… перестань… она говорила так, чтобы произвести эффект. Знает, что я все передам тебе. – Возможно, она и права, Генри. Возможно, Лайон хочет уйти. – Лайон еще не сказал ни слова. Послушай, Анна, ты говорила, что он специально сминает постель. Он хотя бы по-прежнему продолжает лгать тебе, по-прежнему выдумывает оправдания. – И что же мне – благодарить его за эти мелкие одолжения? – прорыдала она. – Держись, Анна. Нили сказала, что ничто не может погубить ее талант. – Да, ничто – кроме самой Нили. Она погубит себя, вот увидишь. Анна замотала головой. – Это конец всему. Я не смогу этого вынести. – Нет, сможешь! И вынесешь. У тебя есть «класс», и ты можешь быть такой же сильной и жесткой, как эта подлючка. В ту ночь Лайон даже не позвонил, даже не оправдался. Просто не пришел, и все. В полночь Анна уже собиралась принять лекарство, как вдруг услышала плач ребенка. Джен была спокойной девочкой – обычно она спала всю ночь напролет. Должно быть, что-то случилось. О боже, и у мисс Казэнс как раз выходной! Анна бросилась в детскую. Лицо у девочки было красное, она надрывалась от крика. Анна осторожно вынула ее из кроватки, поискала раскрывшуюся английскую булавку. Джен была мокренькая, но никакая булавка ее не колола. Перепеленав девочку, Анна дала ей бутылочку с водой, но та не стала пить и совсем зашлась в крике. Она вся пылала. У нее начали резаться зубки, вот, наверное, в чем дело. Анна втерла ей в десны камфорную настойку опиума – мисс Казэнс очень рекомендовала это средство. Но ребенка по-прежнему что-то беспокоило, плач не прекращался. Тогда, чтобы успокоить себя, Анна смерила Джен температуру. Сто три! [73] С ребенком на руках она бросилась по коридору и постучала в дверь служанки. Сонная женщина быстро надела халат и взяла надрывающегося от крика ребенка на руки, пока Анна пыталась дозвониться до врача. Была пятница, и его автоответчик сообщил, что на субботу и воскресенье он уехал из города, и дал номер дежурного врача. Там ей ответили, что он еще не заступил, но, вероятно, с ним можно будет соединиться через час. «Боже мой, – заметалась Анна, – что же делать? Где Лайон?» Она набрала номер Генри, но по длинным безответным гудкам поняла, что его тоже нет. Ну, конечно, у него же есть домик где-то в Уэстпорте. Со всей решительностью она набрала номер отеля, где остановилась Нили, и назвала телефонистке свое имя. После некоторой паузы Нили сняла трубку. – Алло, Нили, – Анна говорила спокойным бесстрастным голосом. – Лайон у тебя? – Нет. – Мне нужно найти его. Срочно. – А-а, – Нили зевала. – Если он позвонит мне, я передам. – Нили, наш ребенок заболел. – Позвони врачу. – Звонила, но он уехал на выходные. Она кричит, и температура у нее – сто три. – Не паникуй. У детей часто бывает сильный жар, и чаще всего ни с чего. Дай ей полтаблетки аспирина. – Но если Лайон позвонит тебе, ради бога, передай ему… – Ладно, ладно. А сейчас – спокойной ночи. Завтра у меня запись, и я должна выспаться. У моих часто бывал сильный жар – ничего страшного. – В трубке раздались частые гудки. Анна поверила Нили. В конце концов, даже у Нили есть сердце. Господи, где же Лайон?* * *
Нили подняла трубку и велела телефонистке больше не беспокоить ее. Черт возьми, где же Лайон? Ах да, он в отеле «Виктория» – пишет вместе со сценаристами новые слова для ее темы. Сказал, что пробудет там до двух, а потом приедет к ней. Позвонить ему и сказать про ребенка? А-а, ничего страшного. У детей часто бывает высокая температура. Это все Анна – придумала средство, чтобы удержать его. До чего же отчаянными могут стать бабы! Ну да она-то на это не поддастся. Когда Лайон придет, она уже будет спать и ничего не сможет ему передать. Да, она оставит ему записку, что приняла лекарство в двенадцать. Ну-ка, сколько сейчас? Пятнадцать минут второго. Раз она накачалась пилюлями, то будет вполне естественно, что к его приходу она забыла о звонке Анны. Наверное, он сразу же уснет. Или, может быть, раз она будет спать, отправится к своей паршивой жене с ребенком. А-а, черт. Она проглотила три капсулы, запив их бокалом виски. О’кей, пусть сходит домой на одну ночь, зато все остальные проведет вместе с нею. Сквозь подступающую дремоту она с надеждой подумала, что новая тема будет удачной. Автором поставят ее саму – эту штуку придумал Лайон. Каждый композитор-песенник хочет, чтобы она записала его песню на пластинку или исполнила по телевидению. Так вот – теперь пусть ей платят и как автору слов. Вскоре у нее будет неплохой рейтинг среди звезд, преуспевающих в финансовом отношении. При мысли об этом она самодовольно улыбнулась. Но тут начало действовать лекарство, и она наконец заснула. …Ребенка срочно доставили в больницу в два часа ночи. Врач наконец-то заступил на дежурство, оповестив об этом службу информации. Вначале опасались, что это полиомиелит, но окончательный диагноз гласил – воспаление легких. Обнаружив, что Нили спит, Лайон побрел домой. К его удивлению, повсюду горел свет, но Анны нигде не было. Заплаканная служанка, запинаясь, сообщила ему, что случилось. Выбежав из квартиры, он бросился в больницу. Анна, бледная и перепуганная, сидела в приемном покое. Сначала она даже не узнала его. – Что с ней? – спросил он. – Ей дали кислородную подушку. С нею две медсестры. Меня в палату не пускают. – Я работал с композиторами и сценаристами над новой темой для Нили. Засиделись допоздна, а когда я пришел домой и увидел, что тебя нет… – Я звонила Нили несколько часов назад, – безучастно сказала она. – Я у нее не был, – ответил он с явным вызовом. – К чему было звонить ей? – Я думала, она знает, где ты. Ты ведь не был дома целую неделю – занимался ее делами, как я понимаю. Он внимательно посмотрел на нее. – Подготовка любого телевизионного шоу сопряжена с огромной работой. Мы решили, что у нее должна быть новая песенная тема, новый имидж. – Лайон, если не возражаешь, я бы предпочла не говорить о шоу Нили в такую минуту. Я умираю от страха за Джен. Он сжал ее руку. Этот вполне естественный бессознательный жест застиг ее врасплох. Да были ли они с ним когда-нибудь по-настоящему близки? Неужели этот красивый чужой человек когда-то принадлежал ей? Сейчас между ними ничего общего – он связан с нею законными узами, но принадлежит кому-то другому. И все-таки она любит его. Это неожиданное открытие ошеломило ее. Ей хотелось бы возненавидеть его. Но вместо этого она лишь еще больше – если это вообще возможно – желает его. У нее не осталось никакой гордости… она никогда не отпустит его, если только он сам не попросит ее об этом. Господи, не допусти такого! Как же все-таки ужасно, что понадобилось свершиться трагедии, чтобы он оказался сейчас рядом с нею. Казалось, минула целая вечность, прежде чем появился врач. Они затаили дыхание. Тот улыбнулся! Все будет хорошо. Да, температура стала снижаться. Слава богу, что существует пенициллин… и слава богу, что у маленьких детей невероятный запас жизненных сил. Лайон приходил в больницу каждый день в семь часов. Анна заняла палату, смежную с той, где лежала дочка, и теперь дневала и ночевала в больнице. Лайон неотрывно смотрел на маленького человечка в кроватке и с любовью издавал нежные звуки. Он настоял, чтобы они с Анной каждый вечер спускались ужинать в ресторан при больнице. Проводил с нею не меньше двух часов. «Это, по крайней мере, избавляет меня от необходимости проводить вечера с Нили», – мрачно думал он. Через десять дней они привезли маленькую Дженифер домой. Лайон уставил всю квартиру цветами, они поужинали дома, и он долго играл с ребенком. В ту ночь, впервые за несколько недель, он был близок с нею, и они уснули в объятиях друг друга.* * *
В четыре часа утра зазвонил телефон. Анна проснулась первой. В темноте она нащупала трубку. Звонила Нили. По ее запинающемуся бормотанию Анна поняла, что та снова накачалась пилюлями. – Позови-ка этого сукина сына к телефону, – рявкнула Нили. – Он спит, Нили. – Разбуди. – Не буду. – Слышишь, что я говорю. Разбуди, а то приеду и подниму его сама. Лайон открыл глаза. Анна одними губами произнесла: «Нили». Он взял трубку. – В чем дело, Нили? – Чтобы дотянуться до телефона, ему пришлось перегнуться и лечь поперек Анны. Ей был слышен пронзительный визгливый голос в трубке. – Я ждала тебя всю ночь, – истошно кричала она. – Вчера вечером ребенка привезли из больницы. – Ну и что? Ее ведь укладывают в семь, так? – Это был ее первый вечер дома. Анна с силой зажмурила глаза. Он еще извиняется за то, что выкроил вечер для собственной жены! – Ладно… приезжай прямо сейчас. – Нили, сейчас четыре часа утра. – Советую приехать. Я уже приняла семь капсул. Приму еще десяток. – Нили! Завтра у тебя интервью журналу «Лайф»! – На… них на всех! И не подумаю ехать, если ты не оторвешь свою задницу и не явишься немедленно ко мне. – Хорошо, Нили. Сейчас буду. Анна наблюдала, как он встает с кровати. «Я должна держаться, – думала она. – Он совсем не хочет ехать к ней, она заставляет его. Если я смогу продержаться, это будет моя первая победа». Она лежала, не открывая глаз. Лайон подошел к ней, уже полностью одетый. – Анна… ты понимаешь? – Понимаю, тебе нужно идти, – ответила она. – Анна… все это для тебя так отвратительно. Наверное, нам нужно что-то делать. Ее победа мгновенно улетучилась. Сможет ли он предпочесть Нили ей и ребенку? – Лайон, все решится само собой, – быстро проговорила она. – Не стоит принимать решения среди ночи. – Но мы не можем так жить – ни ты, ни она, ни я, – сказал он. – Я могу, потому что знаю: долго так продолжаться не может. Лайон, ты должен все решить сам. – Нили нуждается во мне. Она – великий талант, Анна, но без малейшей самодисциплины. Ей нужна твердая рука. А ты – сильная. Слезы подступили к ее глазам. – Нет, Лайон, я не сильная. Единственное, что во мне сильного, это моя любовь к тебе. Он повернулся и быстро вышел из спальни.* * *
С началом нового телевизионного сезона Анна возобновила работу. Генри познакомил ее с постановщиком новой телевикторины. Быть ведущей показалось ей несложным, и она с ходу включилась в работу. Передача была ежедневной, и Анна была постоянно занята, отдавая ей все свое время. К тому же, это позволяло ей не замечать, что Лайон все больше времени стал проводить с Нили. В конце сентября Лайон и Нили улетели на Западное побережье снимать ее первое шоу. Шоу Нили произвело сенсацию. Согласно опросам, она вошла в первую десятку исполнителей, а Лайону приписывались разработка и руководство всей кропотливой подготовительной работой. Анне оставалось поражаться магическому влиянию Нили: несколько крупных звезд немедленно заключили договоры с Лайоном и Джорджем. «Варьете» публиковал цикл статей о «Трех Б» – самом процветающем агентстве Нью-Йорка. И все это благодаря очарованию Нили О’Хара. Иногда Лайону удавалось на краткое время вырываться в Нью-Йорк. Во время этих наездов были случаи, когда Анна чувствовала, что у нее появляется шанс. Ночью, когда он крепко прижимал ее к себе, она почти забывала, что точно так же он обнимает Нили. Но из Калифорнии, от Нили, постоянно раздавались беспокойные звонки – звезда напоминала, что на первом месте все-таки она. Лайон прилетел в Нью-Йорк спустя несколько дней после Рождества, весь нагруженный игрушками для Дженифер и с дорогим украшением для Анны. Она сознавала, что ему опять пришлось разрываться: Рождество с Нили и сразу же – в Нью-Йорк, чтобы успеть отметить праздник с нею и крошкой Джен. Через три дня позвонила Нили и потребовала, чтобы он приехал как можно скорее. Анна сидела в рабочем кабинете, незаметно слушая их разговор по параллельному телефону. – Я скоро вернусь, – говорил Лайон с оттенком раздражения. – Сегодня же! – вскрикнула Нили. – Ты знаешь, какой завтра день? Новый год! – А первого января первый день рождения моей дочери, – твердо сказал он. – Какого черта! Отметь его сегодня – ребенок же не понимает разницы. – Зато я понимаю. Ну ладно, будь умницей. Ты приглашена на множество банкетов, а один из наших парней будет тебя повсюду сопровождать. Я приеду не позднее пятого. Мне необходимо остаться здесь, чтобы застать премьеру «Милой Красавицы». Нили презрительно фыркнула. – Эта Марджи Паркс с треском провалится. – В прошлом году я видел ее в «Голубом Ангеле», – возразил Лайон. – Она замечательно играла. – Ей придется петь с микрофоном, – стояла на своем Нили. – Поет она прекрасно, слушай, я всегда первая же скажу, если у кого-то получается хорошо. Она пользуется своим голосом, словно инструментом. Но до меня дошла сплетня. Ей уже почти не давали петь в городе, но вдруг решили попробовать ее с микрофоном. Она поет прямо горлом, так ее надолго не хватит. Наверняка сгорит за несколько лет. Я бы тоже сгорела, если бы Зик Уайт не направил меня с самого начала. – Ну, а наша компания все же хочет подписать с нею соглашение, – настаивал Лайон. – Я должен пойти на эту премьеру. – Хочешь сказать, что будешь тратить время на ее обслуживание? – В голосе Нили послышались угрожающие нотки. – Нет, конечно. И Джордж не будет. Ей всего девятнадцать. Ею займется Бад Хофф. Женщинам он нравится, вот пусть и опекает ее. – Бад Хофф слишком много мнит о себе, – сказала Нили. – Восседает с таким видом, словно думает, что для женщин он дар божий. Он и эти его черные костюмы с черными галстуками. Ух ты, все мужики в твоей конторе выглядят так, будто форму носят. Что ж, наверное, вам нужны такие… – слышно было, как Нили зевает. – Эти чертовы пилюли начинают действовать. Когда ты будешь здесь? – Самое позднее – пятого, – пообещал он. – Любишь меня? – Ты знаешь, что да, – быстро ответил он. – Сильно? – Ужасно. – Больше, чем Анну и ребенка? – Видимо, да. Послушай, Нили. Я должен заканчивать. Анна дома. Она могла снять трубку в другой комнате. – Надеюсь, что уже сняла. – Тебе что, доставляет удовольствие причинять людям боль? – Нет, но если бы она знала, то отстала бы от тебя. – Возможно, она уже знает, – сказал Лайон. – Ты сказал ей? – Нет, но ведь она же не бесчувственная и не дура. А слухи по городу распространяются очень быстро. – Почему же тогда она не отпускает тебя? Лайон молчал. – Так вот, черт возьми, я сама позвоню и скажу ей. Тогда она вынуждена будет отпустить тебя. Гордость ее заставит. – Не делай этого, – сказал Лайон. – Я позвоню… – Не надо. В любом случае это не поможет. Я уже… понимаешь, мы уже все выяснили. – Когда? Ты не говорил мне. – Только вчера ночью. Анна поразилась, что возглас изумления не вырвался у нее прямо в трубку. Ближе друг другу, чем прошлой ночью, они еще никогда не были. – Что произошло? – спросила Нили. – Ничего. Просто она сказала, что ей все известно, но она закрывала на это глаза. Сказала, что никогда не даст мне развод. – Так давай заставим ее. Закатим публичный скандал. – Ты уже пыталась сделать это, Нили. Газетчики любят тебя, стараются защитить и не печатают всего, что видят. – А я позвоню им сама и дам интервью. Скажу, что ты хочешь жениться на мне, и что я хочу за тебя, но что у тебя жена, которая не хочет ничего менять. – А знаешь, что тогда произойдет с твоим шоу? В контракте есть пункт – «моральные нормы». Хотя твой спонсор и торгует мясными консервами, он мгновенно расторгнет контракт… – Ну и наплевать! Мы могли бы поехать в Европу и снять там еще одну картину. – Нили, у меня есть партнер. Это нанесет ущерб компании. Я не могу думать только о себе. – Ох уж мне эта твоя компания. Ладно, когда у меня будет миллион, я выкуплю тебя, и мы пошлем их всех к чертовой матери. Хочу, чтобы ты был со мной днем и ночью, каждую секунду. – Увидимся пятого, Нили. – Эй, не вешай так быстро трубку. Позвони мне завтра в полдень. – Позвоню. – Любишь меня? – Обожаю тебя. Оба повесили трубки. (обратно)1964
«Милая Красавица» имела феноменальный успех и стала сенсацией сезона. Анна видела, как маленькая худенькая девчонка завораживает аудиторию. Ей было девятнадцать, она была неопытна, однако от нее исходило то самое волнующее очарование, которое характерно только для звезды. – Нам повезло, – прошептал ей Джордж. – Вчера Лайон настоял на том, чтобы подписать с ней соглашение. А после сегодняшнего вечера все посреднические агентства и компании Нью-Йорка захотят заполучить ее. – Об этом уж пусть у тебя голова болит, – прошептал Лайон, перегнувшись к нему через Анну. Джордж улыбнулся. – Ты шутишь? Да она будет счастлива, если ею займется Бад Хофф или Кен Митчел, или любой другой наш парень. Анна мысленно перенеслась в такой же зрительный зал в тот далекий вечер так много лет назад, когда она сидела с Лайоном на бродвейской премьере Нили. Та тоже была девчонкой, и совсем не истеричной. Девятнадцать лет прошло… Тогда она любила Лайона и сейчас его любит. Прослушивая разговоры между Нили и Лайоном по телефону, она понимала, что победила, и все же победа эта была безрадостной. Лайон лжет Нили, говоря, будто потребовал развода. На самом же деле он не хочет расставаться с нею. Он не желает быть с Нили сейчас, когда в той стала проглядывать кобра. Завтра уже пятое, но Лайон До сих пор еще ничего не говорит об отъезде. Более того, он ведет речь еще об одной премьере, на которую он хочет попасть восьмого. Но действительно ли она одержала победу или же загнала себя в тупик, из которого нет выхода? Нили все равно осталась и, возможно, останется навсегда. Нравилось ли ему тело Нили? Было ли ему с Нили так же хорошо, как с нею? Этого она не узнает никогда. Даже давка за кулисами была точно такая же. Марджи Паркс, выглядящая такой молодой, такой беззащитной, испытывала благоговейный трепет перед своими блестящими менеджерами и лишалась дара речи перед знаменитостями, пришедшими поздравить ее. Потом Анна сидела между Лайоном и Джорджем на банкете по случаю премьеры. В какой-то момент, когда Лайон отошел к другому столику поговорить о делах, Марджи подошла и села на его стул. – Хочу, чтобы вы знали, мисс Уэллс, я всегда была вашей горячей поклонницей. Анна улыбнулась. – Телевикторина? Боже, ведь это так, пустяки. – Нет, вы мне очень нравитесь в этой передаче, – стояла на своем Марджи. – Но уж когда вы были «Девушкой Гиллиана», я впадала просто в дикий восторг. Помню, когда мне было десять лет, я стащила у матери из сумочки доллар, чтобы купить помаду фирмы «Гиллиан». Хотела в точности походить на вас. Анна улыбнулась. Внезапно она поняла, что должна была испытывать Элен Лоусон. Так восхитительно быть молодой и думать, что навсегда останешься такой. И тем не менее она знала, что в глазах Марджи Паркс она – олицетворение успеха. Стройная, подтянутая, замужем за важным человеком, плюс свой собственный, пусть небольшой, но успех. Сама Марджи была некрасива, на ней сейчас зеленое платье, совершенно не подчеркивающее никаких достоинств ее фигуры, а черное шелковое пальто почти в точности походило на ее собственное в те далекие дни, когда она увидела его в магазине «Блуминдейл». От нее не укрылось, с каким благоговением смотрела Марджи на ее норковое манто. Но знает ли Марджи, что ее роскошные густые волосы приходится теперь подкрашивать? Или что морщинки под глазами приходится тщательно скрывать с помощью правильно подобранной косметики? При мягком освещении она еще выглядит весьма эффектно – она заметила, как многие повернули головы в ее сторону, когда она входила в зал. Она прекрасно смотрится на телеэкране и может продержаться еще лет пятнадцать при правильно подобранной косметике и освещении. Но она уже не пытается казаться моложе, чем на самом деле. Кого ей обманывать? Ее возраст всем известен. Марджи трещала без умолку. Лайону это явно наскучило, и через час они оставили ее на попечение Джорджа. В тот вечер Лайон выглядел уставшим. Когда они пришли домой, оказалось, что несколько раз звонила Нили и просила перезвонить ей. Лайон нехотя позвонил. Он не пытался скрыть их разговор от Анны, но говорил кратко и бесстрастно. Да, шоу оказалось хитом. Да, они подписали соглашение с Марджи Паркс. Конечно, она не бог весть как талантлива. Да, он вылетает через несколько дней. Однако успех Марджи разрастался. Альбом с песнями из ее шоу вышел огромным тиражом и был необычайно быстро распродан, а ее синглы вошли в десятку лучших хитов. В апреле Джордж заключил для нее контракт с телевидением на огромную сумму, согласно которому со следующего сезона она должна была выступать в еженедельном цикле передач. Весь контракт курировала компания «Три Б». Лайон продолжал совершать челночные рейсы в Калифорнию и обратно. Все шоу Нили пользовались неизменным успехом, и с нею было подписано соглашение на следующий сезон. «Три Б» открывали филиал в Калифорнии, и несколько дельных сотрудников фирмы Джонсона Гарриса перешли к ним. Нили теперь стояла на самой верхней ступеньке социальной лестницы Голливуда. Она снимала огромный дом с прислугой, а на ее пышные званые вечера собиралась элита. Она записывала свое последнее в этом сезоне шоу, когда Джордж вызвал Лайона в Нью-Йорк. Телекомпания хотела завершить монтаж эпизодов, которые Марджи Паркс будет использовать в предстоящем сезоне. – Ты у нас личность творческая, – сказал ему Джордж. – Я заключил контракт, а ты теперь склеивай все шоу. Из Калифорнии Лайон улетел тайком, оставив Нили записку с обещанием вернуться через сорок восемь часов. Таким образом он надеялся избежать сцены и теперь чувствовал себя в полной безопасности. Шоу уже было отснято на две трети. Лайон встретился с представителями телекомпании и со спонсорами. Все шло как нельзя лучше. Режиссер позвонил ему из Калифорнии. Нили в ярости, но работать пока не отказывается. Успокоившись, Лайон решил не мчаться назад, как взмыленный. Сходил с Анной в театр… покатал маленькую Дженифер, впервые в ее жизни, на пони в Центральном парке. Поздним вечером они лежали и смотрели по телевизору «Ночное шоу», как вдруг передача была прервана срочным сообщением: «Нили О’Хара при смерти доставлена в больницу». Через несколько секунд позвонил Джордж. Он уже звонил в Калифорнию раньше, и ему сказали, что Нили вполне может совершить подобное. Она проглотила полпузырька лекарства. Пока Анна упаковывала в дорогу сумки для Лайона, он быстро оделся. На Западное побережье был рейс в час тридцать ночи, и он едва успевал на него. Шоу Нили было отснято не полностью, но Джой Клинг тоже полетит и займется этим. За время полета они составят новый вариант шоу. Когда Лайон вошел в палату, Нили лежала ослабевшая, с ввалившимися глазами. Она выкарабкалась, она будет жить. Она протянула руку ему навстречу. – О боже, Лайон, когда я узнала… это был конец. Я хотела умереть! – Что узнала? – Он нежно обнял ее и погладил по голове. – Прочла бюллетень, когда была на съемках. Там говорилось, что тебя отозвали делать звезду из Марджи Паркс. – И из-за этого ты пыталась… – Он осекся от изумления. – Послушай, Лайон, я не буду возражать, если время от времени ты переспишь со своей женой, я даже могла бы простить, если бы ты увлекся другой, но я ни за что не допущу, чтобы ты в ущерб мне создавал другую звезду. – Но, Нили, ведь наша компания не для тебя одной. – Я сделала вашу паршивую компанию, и я же могу ее уничтожить. Не забывай об этом! Если я уйду, половина ваших клиентов последует за мной. Я нужна тебе, братец ты мой, поэтому отныне, стоит мне щелкнуть пальцами, ты должен быть здесь! Лайон встал и вышел из палаты. – Лайон! Вернись! – крикнула Нили. Даже не обернувшись, он быстро пошел по коридору. Следующим же рейсом Лайон вылетел в Нью-Йорк. Сразу же позвонив Джорджу, он сказал, что им необходимо встретиться. – Один вопрос, – сказал он. – Ты уже выплатил долг жене? – Нет, и не собираюсь, – улыбнулся Джордж. – Я только что выписал последний чек на имя Анны. Теперь я ничего ей не должен. Отныне, как бы я ни рисковал, я буду рисковать собственными деньгами. Прочее значения не имеет… – Кроме моей доли, – опять улыбнулся Джордж. – Разумеется. Но все равно, я пришел к выводу, что нам нужно избавляться от Нили. Не стоит она того, чтобы из-за нее мучиться. – А ты не думаешь, что ее уход отрицательно скажется на наших делах? Лайон покачал головой. – Ни в коей мере. Шоу с Марджи принесет нам в два раза больше дохода – оно ведь еженедельное, не забывай – и у нас есть Джой Клинг, который такие дела здорово проворачивает. В конечном счете, Нили все равно сойдет со сцены – если не в будущем году, так через год, но сойдет – и быть при этом нам никакого резона нет. Мы ее возродили и получили за это свое. Давай избавимся от нее, пока у нас все на мази. – А какие у тебя основания считать, что Нили не поднимется еще выше? В психушке ее твердо поставили на ноги. – Сколько может протянуть человек, которому колют демерол два раза в день? – рассмеялся Лайон. – Она говорила, что это витамины, – сказал Джордж. – Хорошенькие витамины! Послушай, мы в своей компании готовим сейчас ребят высокого класса. Мы с тобой – отличная команда, Джордж. Ты можешь подать товар лицом, в этом тебе нет равных, у меня же неплохо получается творческая работа с талантами и сотрудниками компании. Я не могу транжирить свои силы, летая туда-сюда через всю страну в качестве дорогой няньки и любовника этого спрута. Господи, Джордж, она ведь пожирает людей заживо! Одному только богу известно, как Анна сумела все это пережить. Но для нас с тобой с этим покончено. Я знаю, что Эйб Кингмен из фирмы Джонсона-Гарриса уже вылетел к Нили для переговоров – вот и давай избавимся от нее. – О’кей, но телеграмму посылай лично от себя. Думаю, что ты заслужил эту передышку, – широко улыбнулся Джордж. Нили заключила соглашение с фирмой Джонсона-Гарриса, сделав язвительные заявления для прессы относительно неэффективности своих прежних менеджеров. Никакого ущерба «Трем Б» это не нанесло, и в сентябре шоу с Марджи Паркс было показано с огромным успехом. Нили начала новый сезон с высоким рейтингом. Три сотрудника фирмы Джонсона-Гарриса обслуживали ее круглосуточно. – Ты думаешь, с ней все будет в порядке? – спросила Анна. Лайон кивнул. – Какое-то время – да. Но она уже вступила в полосу саморазрушения. Взвалила на себя ношу не по силам: огромный дом, прислуга, бесплатная выпивка рекой. Она снова звезда, а именно это едва не убило ее раньше. – Если она сорвется… – Анна невольно испытала чувство тревоги за нее. Саморазрушение Нили всегда происходило так болезненно, трагически. – Когда-нибудь сорвется, – сказал Лайон. – Непременно. – И что тогда? – Опять вернется на сцену – потом опять и опять, до тех пор, пока ее организм однажды не сдаст. Это как гражданская война: собственные страсти и привычки против собственных же таланта и здоровья. Какая-то сторона должна потерпеть поражение. (обратно)1965
Анна пожалела, что дала уговорить себя устроить этот новогодний вечер. Она смотрела на нескончаемый поток гостей – они приходили и уходили, толпой заходили в лифт, тесно обступали бар. Ее втравили в это Джордж и Лайон, но устраивать званый вечер вовсе не так же просто, как присутствовать на нем. С чужого вечера можно взять и уйти, а на своем приходится торчать до конца. Начали прибывать бродвейские знаменитости. Был уже второй час ночи, а она еще не видела Лайона после того, как они поцеловались с ним ровно в полночь. Уже первое января. Джен исполнилось два годика. Анна ускользнула от гостей и пошла в детскую. – С Новым годом, мой ангел, – прошептала Анна. – Я люблю тебя… о боже, до чего же я люблю тебя! – Она наклонилась, поцеловала чистый лобик и тихо вышла из детской. В гостиной стоял шум. В кабинете тоже было полно народу, и бар был переполнен. Она прошла в спальню, прикрыв за собой дверь. Нет, так нельзя: хозяйка не должна исчезать. Кроме того, если дверь будет закрыта, кто-нибудь непременно постучится. Это неприлично. Она открыла дверь и выключила свет. Так лучше. С открытой дверью и выключенным светом ее никто не заметит. Только бы никто не вошел. Голова у нее раскалывалась. Она вытянулась на кровати. Взрывы хохота, казалось, раздавались далеко-далеко, и музыка… Слышно было, как где-то разбили бокал… кто-то громко рассмеялся… Вдруг послышались шаги. О господи, кто-то идет сюда. Она скажет, что прилегла совсем недавно. В комнату вошли двое. Она замерла на кровати в надежде, что они сейчас уйдут. – Давай закроем дверь, – прошептала девушка. – Глупости. Так мы только привлечем внимание. Это говорил Лайон, но девушку она не узнала. – Я люблю тебя, Лайон. – Голос показался Анне знакомым. – Да полно тебе, ты ведь еще дитя. – Мне все равно. Я люблю тебя. На прошлой неделе мое шоу было лучше, чем когда-либо, потому что ты руководил всем. Он заглушил ее слова поцелуем. – Лайон… ты будешь там каждую неделю? – Постараюсь. – Не «старайся», а будь там! – В голосе ее звучала настойчивость. – Лайон, я – одна из жемчужин вашей компании… – Марджи, ты пытаешься шантажировать меня? – шутливо поинтересовался он. – Именно так действовала Нили О’Хара? – Между Нили и мною никогда ничего не было. – Ха-ха. Что же, тогда между нами будет много чего. – А теперь будь умницей. Пойдем к гостям, пока нас не хватились. Он опять поцеловал ее. Анна продолжала лежать, не шелохнувшись, пока они не ушли. Затем встала и оправила платье. Она прошла в ванную и приняла красную «куколку». Как ни странно, никакой паники она не испытывала. Значит, теперь это Марджи Паркс… Она подумала, что на этот раз ей не так больно. Она по-прежнему любит Лайона, но любит уже меньше. После того, как Нили ушла из его жизни, он стал к ней внимательнее, чем когда-либо. Однако ощущения триумфа она не испытывала. Что-то или какая-то часть ее самой ушла вместе с Нили. А теперь она знает, что всегда найдется какая-нибудь нили или какая-нибудь марджи… но всякий раз это будет все менее болезненно, и после этого она станет любить Лайона еще меньше, до тех пор, пока не останется ничего – ни боли, ни любви. Она причесалась и подправила косметику на лице. Выглядит она превосходно. У нее есть Лайон, отличная квартира, красивый ребенок, прекрасная работа, Нью-Йорк – все, чего она хотела в жизни. И отныне никому не удастся причинить ей сильную боль. Днем она всегда найдет, чем занять себя, а по ночам компанию ей всегда составят красивые «куколки». Сегодня она примет две. А почему бы и нет? Ведь в конце концов сегодня – Новый год! (обратно) (обратно) (обратно)Рози Томас Скверные девчонки Книга первая
Звуки зажигательной громкой музыки переполняли старинный особняк Леди-Хилл. В большом зале, где музыканты были окружены танцующими, эти звуки казались еще сильней. Они словно проникали сквозь каменные стены и дубовые полы, заставляя содрогаться весь дом. Джулия стояла на неосвещенной лестнице, ведущей в длинную галерею. А внизу было море праздничных огней, много музыки, гул, смех и возгласы гостей. Она покачивалась в такт мелодии, о чем-то мечтая, и плавно двигала бедрами под легким шелковым платьем. Джулия была весела и счастлива. Она обожала принимать гостей, и ее приемы всегда были самыми лучшими. Особенно ей нравилось в разгар вечера найти укромное местечко и оттуда любоваться всем происходящим. Где-то позади нее, в полумраке галереи, открылась дверь. Узкая полоска света пробилась сквозь тьму. Джулия услышала голос мужчины и грубый женский смех. Затем дверь закрылась. Мужчина быстрым, уверенным шагом прошел по галерее и остановился за спиной Джулии. Она обернулась и увидела своего старого друга Джонни Фловера. Видимо, он приехал несколько часов назад и она не заметила его. Джулия улыбнулась и обратила внимание на очаровательную улыбку, которую он подарил ей в ответ на приветствие. — Тебе нравится здесь? — прошептала она. Он поцеловал ее и слегка обнял за талию. — Спрашиваешь! Славный вечерок. Жаль, что все хорошее быстро заканчивается. — Да. Но не огорчайся, у тебя еще достаточно времени. Рука Джонни прошлась по ее бедру, когда он проходил мимо. И ей вдруг вспомнились былые времена. Места, где они вместе проводили свободное время, долгий путь до этого большого дома, окруженного садами. Ее мысли прервал шорох за спиной. Она оглянулась. — Кто здесь? — Тсс… Снова появилась белоснежная улыбка. — …Тихо. Забыл сказать. Меня здесь не было. — Договорились. Джулия видела, как он скрылся в блеске огней. Дружный и веселый смех гостей доносился со всех сторон. Яркие цвета экзотических платьев отражались на декоративной отделке стен, выполненной из дерева. Кто-то заметил Джулию и окликнул. Мгновенно все лица были обращены к ней. Она стояла на самой верхней ступеньке, наблюдая за этой сценой, радостно улыбаясь. Затем, едва касаясь пальцами перил, она плавно спустилась к гостям. Около дверей кто-то крикнул: «Танцуем бибо!» В то время как в зале гости веселились и кружились вокруг огромной рождественской елки, ведущий гитарист вытер пот со лба и взял первый аккорд танца. Группа танцующих объединилась в живую цепь, которая закружила ее, и Джулия почувствовала чье-то дыхание, когда незнакомые руки обхватили ее, вовлекая в этот безумный водоворот танца. Цепочка, как змея, извивалась вокруг холла и возвращалась назад. После нескольких попыток Джулии удалось вырваться из этого взбудораженного круга людей. В этот момент она заметила Джонни. Он быстро поднимался по лестнице, держа за золотое горлышко бутылку шампанского. Джулия бросила взгляд в зал и подумала: «Я хотела этого, не так ли? Я хотела устроить вечеринку для своих друзей в огромном доме, чтобы все восхищались мной, наслаждались весельем и гостеприимством». Она пожелала сама себе счастливого Нового года, хотя это не уменьшило чувства одиночества, которое она ощущала среди всех этих людей. Хозяйка особняка не долго предавалась своим ностальгическим воспоминаниям, так как танцующие вновь бесцеремонно увлекли ее в душную гостиную, где вдоль стен лежали скрученные ковры и горел огонь в камине, наполняя комнату излишним теплом. От громкой музыки у Джулии шумело в голове. Передвигаясь в танце вместе с гостями мимо окна, она ухитрилась отпить виски из бутылки, стоящей на подоконнике. В голове немного прояснилось, и Джулия устремилась в хоровод вокруг высокой праздничной елки, макушка которой, украшенная серебряной звездой, касалась потолка. Каждая веточка была украшена горящими свечами — это была прихоть хозяйки, ибо их яркий огонь будил ее воображение. Желто-красное пламя свечей и огонь в камине освещали зал, наполненный людьми. Подруга Джулии Мэтти лежала на диване, подперев рукой голову, жеманно куря сигару в серебряном мундштуке. Курение не было вредной привычкой для Мэтти, а скорее притворством, кокетством перед мужчинами, которых она привлекала к себе своей красотой. — Ты не видела Блисса? — подойдя к ней, спросила Джулия. Мэтти указала рукой в сторону. Муж Джулии, Александр Блисс, сидел за столом, склонившись над радиоприемником, переключая каналы. Несмотря на то, что он сидел спиной, Джулия могла представить выражение его лица. Наверняка оно было хмурое и озабоченное. Александр был высоким худощавым мужчиной, на десять лет старше жены. Для этого вечера он выбрал смокинг, в котором выглядел особенно элегантно. Большинство соседей тоже надели смокинги, а лондонские гости предпочитали строгие итальянские костюмы и вечерние платья, которые вряд ли можно было назвать вечерними. Такое различие совершенно не трогало молодого человека. Он довольно часто видел это и прежде. Если бы его спросили, что он думает об этом, то, пожав плечами, Александр любезно бы ответил: «Сейчас такие времена!» Джулия вырвалась из крепко сжимавших ее рук незнакомца. Она видела его впервые, и ей показалось, что он приехал с Джонни. Сегодня было много новых лиц. Джулии это даже нравилось, так как это означало, что может произойти что-нибудь таинственное. Она все еще верила, что ради этого и устраивают вечера. Воспоминания о прошлом преследовали Джулию, причиняя ей боль, вызывая тоску и печаль: вечеринки в маленьких комнатах, служивших спальней и гостиной одновременно, в плохо освещенных подвальчиках, где всегда были толпы людей, играла зажигательная музыка. Частенько это был джаз, теплая выпивка, которую разливали в кружки с отбитыми краями, и бесконечное число лиц. На одной из таких вечеринок Джулия познакомилась с летчиком. Мэтти дала ему прозвище «твой летчик». «Где он может быть сейчас?» — думала она. «Мне только 21 год, а я оглядываюсь назад, словно старая женщина, у которой за плечами полжизни». Джулия сделала еще глоток виски. С Новым годом! — Потанцуем? — предложил друг Джонни (она его так называла про себя, не зная, был ли он действительно его другом). Девушка обратила внимание на красивые черты его лица. — Немного позже, — улыбнувшись, ответила она. Джулия направилась к Александру, который пытался поймать нужную волну. Он оторвался от своего занятиятолько тогда, когда она дотронулась до его плеча. Улыбка засияла на его лице, а в уголках глаз засверкали маленькие морщинки. — Уже около двенадцати, слушай. Он приложил ухо к громкоговорителю, постепенно увеличивая звук. — Полночь! Музыканты сыграли последний оглушительный аккорд, и барабанная дробь завершила выступление оркестра. В наступившей тишине были слышны удары Биг Бена. В этот момент Джулии казалось, что звон от этих ударов проходил сквозь стены и, дойдя до деревьев, эхом возвращался назад. На двенадцатом ударе комната как будто взорвалась от громких и счастливых криков, пламенных и звонких поцелуев, бурных и радостных аплодисментов. Наступил 1960 год. Александр повернул к себе лицо Джулии, их губы сблизились и слились в страстном поцелуе. — Новый год… Счастливого Нового года, дорогая! Она посмотрела на Александра ласковым взглядом, но в глазах промелькнула заметная грусть. — Уходящий год принес мне много радости и счастья. Он нежно дотронулся до лица Джулии, убрав непослушную прядь, упавшую на ее лоб. — Ты будешь счастлива и в этом году. Он взял ее за руку и повел в круг весело пляшущих и поющих людей. Джулия пела вместе со всеми, а когда шум и гам прекратился, снова полились звуки музыки. — Может быть, потанцуешь с мужем? — игриво спросил Александр. Он был великолепным танцором. На его умение прекрасно танцевать Джулия обратила внимание еще несколько лет назад. Она была приятно удивлена, что такой молодой человек, как Александр Блисс, занимающий заметное положение в обществе, любит рок-н-ролл. — С удовольствием. Когда танец закончился, он тихим, спокойным голосом спросил, счастлива ли она. Глядя прямо ему в глаза, Джулия ответила: — Да, милый! — Тогда наслаждайся своим вечером! Мэтти тоже захотелось потанцевать. Ее длинные бриллиантовые сережки во время танцев подпрыгивали вместе с ней и сверкали радужными огоньками. Дом полон друзей. Все просто замечательно. «Мой вечер, — подумала Джулия. — Александр не сказал наш вечер». Джулия занималась приглашением гостей и организацией всего вечера. Блисс никогда не ограничивал жену ни в чем, всегда позволял ей делать то, что она хотела. Джулия вспомнила о друге Джонни и, отыскав его глазами среди гостей, направилась к нему. По дороге она выпила полный стакан какого-то прохладительного напитка. Незнакомец терпеливо ждал. От нее не ускользнул его восхищенный взгляд. Джулия была высокой брюнеткой с бледной, но изумительной кожей и необычайно густыми темными волосами. Облегающее платье с глубоким вырезом на спине подчеркивало ее стройную фигуру. Она разгладила ткань на бедрах, гордясь своим плоским животом. — Вы обещали мне танец. — Поэтому я здесь. На ее губах заиграла загадочная и чарующая улыбка. Он обнял ее, прижал к себе так, что она ощутила его теплое и волнующее дыхание. Джулия закрыла глаза, и они закружились в танце.Дом был большой и удобный. Будущая хозяйка Леди-Хилла бывала здесь еще до помолвки. Джулия не могла вспомнить, когда она стала воспринимать ухаживания Александра всерьез. Для нее и Мэтти встречи с богатым баронетом были забавой, игрой. После того как Джулия рассталась с летчиком, ей было все равно, что она делала и с кем встречалась. Она даже толком не знала, в какой момент Александр стал частью ее жизни. В Лондоне Блисс жил на площади Маркхэм. Но однажды он привез Джулию в поместье Леди-Хилл. Джулия, для которой дома, выстроенные в один ряд на городских улицах, были всего лишь местом, где можно было переночевать, смогла оценить всю красоту и великолепие Леди-Хилла. Они свернули с дороги и оказались прямо перед большим особняком. Все строение как бы утопало в высоких тисовых деревьях, которые его окружали. Стройные колонны и аркообразный вход украшали причудливый фасад здания. Был теплый весенний день. Джулия наблюдала за молочно-белыми облаками, которые медленно ползли по бледной лазури неба. — Кто здесь живет? — Мой отец. — А кто он? — Сэр Перси Блисс, баронет. — Здорово! — восхищенно произнесла Джулия. Александр оставил машину в конце подъездной аллеи, и они вошли в дом. Молодой баронет показывал Джулии одну комнату за другой. В особняке было тихо, ничто не нарушало его покой. Но Джулия была поражена не роскошью и богатством убранства, не прекрасными картинами с английским пейзажем, не длинной галереей, не окнами, выходящими в цветущие сказочные сады, даже не огромной старинной кроватью с балдахином из золотой парчи, которую Александр называл «королевским ложем», а переменой, которая произошла с Александром, как только они вошли в дом. В Лондоне он выглядел нерешительным. Как-то она заметила его прогуливающимся вдоль улицы, взгляд его был растерянный и озабоченный. А сейчас, показывая Джулии Леди-Хилл, Александр казался более уверенным, как будто это место придавало ему сил и энергии. Да, ей нравился Блисс, и она завидовала его любви, привязанности к этому старому дому, потому что сама ничего подобного не испытывала ни к одному месту. И свобода, которую Джулия ценила превыше всего, казалось, заполняла весь этот дом.
— Дому нужны люди, — прокричала она. — Много, много людей. После танца с незнакомцем ее партнером был молодой человек, которого она не знала, один из поклонников Мэтти; потом немолодой мужчина и еще гости, съехавшиеся со всех сторон. И каждый танец приносил новые ощущения, новые удовольствия. И никаких разочарований. Джулия пила виски, шампанское и не заметила, как опьянела. Толпа потихоньку стала редеть, гости разъезжались. Александр стоял у входа, прощаясь с гостями. Оглянувшись на зал, он понял, что остались самые заядлые любители повеселиться и что они вовсе не собираются уезжать. Теперь музыка доносилась из радиоприемника: музыканты отложили свои инструменты и присоединились к танцующим. Один из них снял рубашку и, раздевшись до пояса, бросился в пляс. На его красивых и крепких плечах выступил пот. Мэтти не удержалась от искушения дотронуться пальцами до его мощной спины. Увидев это, Джулия от души рассмеялась. В этом зале было много друзей, но Мэтти она любила и уважала больше всех. Джулия до сих пор не может понять, как все случилось. Позже Джулия не могла даже вспомнить, кто находился в той проклятой части зала. Должно быть, кто-то споткнулся и упал, не в силах удержаться. Но она отчетливо видела, как рождественская елка закачалась, будто ожила, потом медленно наклонилась и наконец с треском упала на пол. Языки пламени быстро пробирались сквозь темные ветки, пожирая их, в воздухе появился едкий запах свежей ели. На мгновение, находясь во власти радостного настроения, Джулии показалось это прекрасным. Словно зачарованная огнем, она оставалась на месте. Вокруг полыхающего дерева валялись разноцветные осколки новогодних игрушек. С отчаянными криками танцующие пары отхлынули в другую сторону зала. Среди сумасшедшей толкотни пробивались ритмичные, мажорные звуки джаза. Огонь с ужасающей быстротой перемещался с одной вещи на другую. Заполыхали тяжелые бархатные гардины, а минуту спустя загорелись запыленные портьеры и золотые плетеные кисточки на них. Весь зал заиграл в ослепительно ярком свете. Послышался прерывистый крик. Царившее спокойствие сменилось панической схваткой человеческих тел. Подхваченная волной бегущих, Джулия каким-то чудом удержала равновесие и не упала. Клубы дыма вздымались вверх. Ею овладел непреодолимый страх. От невыносимой жары и дыма ей казалось, что ее легкие вот-вот разорвутся. Вопли не прекращались. Чей-то громкий голос, выкрикивая что-то малопонятное, безуспешно пытался навести порядок. Ничто уже не могло остановить эту панику. Треск бушующего пламени заглушал все. Густой черный дым растекся по залу, разъедая глаза и легкие. Чтобы избавиться от него, мужчины и женщины яростно пробивались к выходу. Джулия видела, как друг Джонни накинул на себя один из лежавших на полу ковриков и попытался сорвать горящие гардины, но они упали вместе с огромным деревянным карнизом, и поток пурпурно-зеленых искр разлетелся во все стороны. Все было в огне. — Блисс! Где ты? — крикнула Джулия. Она никак не могла его найти. Задыхаясь от дыма и натиска людей, Джулия пыталась добраться до двери, которая была совсем близко. Вдруг сильные руки схватили ее и резким движением толкнули вперед. Узкое платье мешало бежать, она чуть не упала, но волна людей вновь нахлынула на нее и понесла к выходу. Наконец, глотая свежий воздух, Джулия выбралась из горящего зала в гостиную. От едкого дыма текли слезы. Она вытерла их руками и осмотрелась. Неясные фигуры все еще вырывались из этого ада. Огромное черное облако поднялось вверх, за ним ничего не было видно, Джулия только слышала, как трещал огонь. Уже никто не смог бы пробраться в зал. «Вода. Нужна вода», — мелькнула мысль. Кто-то открыл главную дверь, и поток свежего ночного воздуха наполнил гостиную. Она почувствовала огромное облегчение. «Телефон. Необходимо вызвать помощь». — Выходите на улицу, — кричал кто-то. — И ради Бога, закройте двери. Гости Джулии растворились в темноте. Она встретилась с Мэтти, лицо которой было черным от дыма. — Ну давай же! Уходи отсюда! — не своим голосом завопила Мэтти. — Я должна позвонить. Она попыталась пройти мимо подруги в небольшой кабинет Блисса, который находился справа от лестницы: там был ближайший телефон. — Нет! — Мэтти преградила дорогу Джулии. Наконец показался Блисс. Он выбежал к ним из прохода под каменной аркой, который вел в заднюю часть дома. Взгляд его был ледяным. Спотыкаясь, Джулия бросилась к нему. — Пожарные? Ты их вызвал? — Они уже в пути. Рев огня заглушал все звуки. Стремительным шагом Александр в последний раз прошелся по дому, быстро оглядев все комнаты, проверяя, не осталось ли там кого-нибудь. — Все спаслись? Она утвердительно кивнула головой. Схватив Джулию за руку, Александр потащил ее на улицу. Облегающее вечернее платье сковывало движения, и она, не задумываясь, разорвала легкую ткань уже ненужного наряда. Поддерживая друг друга, Джулия и Александр окунулись в темноту. Был сильный холод, но они как будто не ощущали его. Джулия только видела, как впереди темные силуэты подстриженных тисовых деревьев отражались в отдаленном зареве пожара. Толпа людей беспорядочно слонялась, наблюдая за происходящим. Застыв от ужаса перед опасностью разорения и смерти, Джулия и Александр смотрели на свой дом. Огонь добрался до нижнего этажа. Вокруг слышался звон разбитого стекла и падающей древесины. — Никто не исчез? Все здесь? — охрипшим голосом кричал Блисс. Шокированные гости тихо переговаривались друг с другом. Казалось, все чувствовали за собой вину. Джулия стояла поодаль и смотрела. Пальцы Блисса, словно колючие шипы, глубоко впились в ее руку. Глядя вверх на окна, она думала о великолепных колоннах, державших крышу длинной галереи, представляла пол, сделанный из дубовых досок, который отделял галерею от горящих внизу спален. Джулия сильно дрожала от холода. Страх снова охватил ее. Она не могла произнести ни звука, слова застряли где-то глубоко в горле. Александр испуганно посмотрел на жену. — Что случилось? — Фловер. Фловер был наверху с девушкой. В надежде найти его они разошлись в разные стороны, спрашивая, не видел ли кто-нибудь Фловера. Джонни никто не видел. Кругом были искаженные ужасом лица. Джонни Фловера среди них не было. Джулия с ужасом вспомнила его слова, которые он произнес, когда они стояли на темной лестнице, ведущей в галерею: «Все хорошее быстро заканчивается». Она не отважилась посмотреть на пылающие окна. Теперь Джулия была почти уверена в том, чего опасалась раньше. Отчаянная попытка найти друга оказалась неудачной. По дороге она столкнулась с Александром. — Его здесь нет. Блисс оглянулся на дом, и Джулия заметила, как в его глазах мелькнуло отражение огня. — Должно быть, он остался в доме, — сказала она. Но муж уже не слышал, он бежал к дому. К нему присоединились еще два человека. — Нет, нет, не возвращайся туда! — закричала Джулия. Не медля ни секунды, она понеслась за ним, но не успела сделать и десятка шагов, как несколько мужчин догнали ее и крепко схватили за руки. Она отбивалась, пытаясь освободиться от них, и при этом грубо ругалась. В конце концов Джулия выбилась из сил и перестала сопротивляться. Блисс пробежал через арку, инстинктивно закрыв лицо руками от обезумевшего огня. — Остановите его! Не позволяйте ему идти туда! — умоляла Джулия державших ее людей. Но он уже был внутри горящего особняка. Мужчины, которые ринулись вместе с Блиссом, испугавшись жара пламени, попятились назад. Освободившись от мощной преграды, Джулия стояла как вкопанная, не в силах двинуться дальше. Злость и возмущение охватили ее. — Где же пожарная команда? Почему они не едут? Он может погибнуть там! Блисс! — опять крикнула она. Кто-то нежно обнял ее, и, оглянувшись, Джулия увидела Мэтти. Так же, как и у Блисса, в ее глазах отражалось ярко-красное пламя. Осмотревшись, Джулия заметила, что лица людей были красными от нестерпимого жара. Истерический смех вдруг вырвался из ее груди. Мэтти сильней прижала ее к себе. — Держись. Они сейчас выйдут. Будь молодцом, — успокаивала подруга. Только сейчас, сквозь рев огня, послышались гудки мчавшейся в Леди-Хилл пожарной машины. Истерика прошла, Джулия успокоилась. Наблюдая за пожарными, одной рукой она оперлась на Мэтти, а пальцами другой руки поглаживала живот. Вот уже 12 недель, как Джулия беременна. Сама не зная почему, она не рассказала мужу об этом. (обратно)
Глава первая
Джулия посмотрела на свои старый потертый чемоданчик, стоявший у ног. Его даже не стоило открывать, чтоб среди грязного поношенного шмотья найти теплую одежду. Она дрожала от холода, втянув голову в плечи. Мэтти промолчала. Они сидели на скамейке бок о бок, а вокруг собралось множество голубей в надежде получить хлебные крошки. За каменной балюстрадой, которая находилась прямо перед девушками, протекала мутная река. Подруги наблюдали за медленно продвигающейся вверх по течению баржей. — Мы можем вернуться домой… — произнесла Джулия. Даже само это предложение задевало ее гордость, но ей хотелось быть уверенной, что и решение Мэтти было таким же твердым, как и ее. Гул вечернего движения вдоль набережной, казалось, нарастал все сильнее. В первый раз кто-то из них упомянул о возвращении домой, но обе знали, что думают об этом постоянно. Прошло уже три ночи с тех пор, как они сбежали, и четвертая, как Мэтти появилась перед дверью родительского дома Джулии, — в домашней блузке, разорванной на плече, с синяками на лице.Приоткрыв дверь и увидев Мэтти в таком виде, отец Джулии пристально посмотрел на полицейскую машину, которая стояла недалеко от дома. Потом его взгляд пробежал сначала в один конец улицы, затем в другой, проверяя, не заметил ли кто из соседей появление Мэтти. Все это время Джулия наблюдала за происходящим с лестницы. — Разве ты не знаешь, который сейчас час? — грубо спросил он. — Извините, — тихо ответила Мэтти. — Думаю, будет лучше, если ты войдешь. Мэтти неуверенно вошла в прихожую. Мистер Смит выглядел как-то странно: без рубашки, которую он обычно носил, и с рядом стоящей женой, волосы которой были накручены на бигуди и болтались на ее голове словно маленькие тонкие сосиски. В доме было все по-прежнему: маленькие коврики на гладком полу, оклеенные обоями стены, кактусы в горшках и картина с портретом королевы во время коронации. Мэтти почувствовала облегчение, увидев Джулию. Беспокойство и тревога на лице подруги так тронули Мэтти, что она разрыдалась. Девушка стояла напротив родителей Джулии, стыдливо прикрывая плечо. Они не любили Мэтти, считая, что она плохо влияет на дочь. Но Мэтти было все равно: если ее выкинут на улицу, то в лучшем случае ее подберет полиция. — Ну, что произошло? — спросила миссис Смит. Джулия спустилась с лестницы, подошла к подруге и крепко обняла за плечи. «Она всегда понимала меня. Я расскажу ей, что произошло», — подумала Мэтти. — Я поссорилась с отцом. Он решил, что я пришла слишком поздно. Я только сходила в кино — и все. Джулия не захотела пойти со мной. — Джулия была дома и выполняла домашнее задание, так как всю неделю провела с тобой, вместо того чтобы заниматься делами, — заметил мистер Смит. «Ей уже шестнадцать, — подумала Мэтти. — Что эта чертова домашняя работа может для нее значить? Мне семнадцать, но я не собираюсь плакать, глядя на этих маленьких ничтожных людишек после того, что произошло». — Мы поссорились, — продолжала она. — Я вышла прогуляться, чтобы не продолжать ссоры, и натолкнулась на полицейского. Он, очевидно, решил, что я задумала что-то плохое. Она пыталась рассмеяться, но ее смех разбился об их каменное молчание. — Он предложил отвезти меня к друзьям или родственникам. Я подумала о вас и решила, что вы не откажетесь помочь мне. Только на одну ночь. «Я приехала к Джулии. Кто вам дал право судить меня, черт возьми», — размышляла про себя Мэтти. — В таком случае тебе лучше остаться, — резко сказал Вернон Смит. Он не объяснил, почему согласился. Возможно, на случай, если полицейские захотят заглянуть к ним. Бетти, мать Джулии, беспокойно металась по комнате, открывая один за другим ящики комода в поисках чистого белья. — Да не нужно этого, — сказала Мэтти. Она понимала, что женщина и так была измученной и уставшей. — Самое важное — это переспать ночь. Мне все равно, где и на чем. Джулия была шокирована внешним видом Мэтти. Это были не просто синяки и сочившаяся кровь в уголке рта. Ей показалось, что обычная уверенность в себе и сила покинули Мэтти. Они давно дружили, и за все эти годы Джулия никогда не видела подругу в таком состоянии. — Завтра, когда ты проснешься, все будет хорошо, — прошептала она, взяла ее за руку и повела наверх по узким ступенькам лестницы. — Я позвоню твоему отцу и сообщу, что ты здесь. Я не хочу, чтобы он волновался, — произнес Вернон. Он поднял большую китайскую куклу с маленького столика в прихожей. Под ней оказался телефон. — К нам не дозвониться, — заметила Мэтти. Бетти заставила Джулию вернуться в постель. В ванной, отделанной белым кафелем, Мэтти умылась душистым, ароматным мылом, затем она посмотрела на себя в зеркало: лицо выглядело старше, чем на самом деле — зеркало искажало его. Бетти постучала в дверь и протянула ей бутылочку какого-то раствора. — Приложи к губе. Это поможет, — сказала она. Маленькое внимание со стороны Бетти было приятно девушке. Мэтти вернулась в комнату, забралась под теплое пуховое одеяло и почти сразу же заснула. В шесть часов утра Джулия зашла к ней с чашечкой чая. Она раздвинула шторы и выглянула в окно. В раннем утреннем свете сады казались чистыми и нетронутыми. — Что случилось? — спросила она у Мэтти. Та отвела взгляд. Джулия села на край кровати, поправляя одеяло. — Так что же произошло? — настаивала она. Укутавшись в одеяло, Мэтти тихо, почти шепотом, чтобы Бетти и Вернон не услышали, начала рассказывать. Гнев и отвращение возрастали в душе Джулии, когда она ее слушала. Она так разволновалась, что на ее щеках появились красные пятна. — Почему ты никогда не рассказывала мне об этом раньше? — сжав ладони, спросила Джулия. — Не знаю, — разрыдавшись, прошептала Мэтти. Слезы текли по ее щекам и падали на бирюзовое одеяло, оставляя темные пятна. Она все рассказала Джулии, не упустив ни одной детали, и вдруг почувствовала, что чувство обиды потихоньку отступило. «Неужели она действительно все это время считала себя виноватой?» Джулия, конечно, ни в чем ее не упрекала. — Успокойся. Все позади, прошло, — крепко обняв, утешала подругу Джулия. — Мэтт, у тебя есть я, наша дружба. Вытирая то нос, то глаза, Мэтти приходила в себя. — Извини. Спасибо. Посмотри на меня. — Ну уж нет, спасибо. Девушки дружно рассмеялись. Джулия была довольна, что Мэтт успокоилась. Внезапно ей пришла в голову идея, полностью захватившая ее. Возмущение и злость кипели внутри, она не могла спокойно говорить. — Послушай, Мэтти, я кое-что придумала. Тебе не нужно возвращаться домой, к отцу. Мы просто сбежим. Оставим все и сбежим. Мы поедем в Лондон, найдем работу, снимем квартиру и будем жить. Подруги уже бывали в Лондоне. Они прогуливали день занятий или отправлялись туда в субботу — день, свободный от школы. Денег было достаточно, чтобы сходить на танцы в какой-нибудь клуб и хорошо повеселиться. Лондон — заманчивый, желанный мир, такой далекий и в то же время очень близкий. Они так часто мечтали об этом, гуляя в парке, по дороге из школы домой, за чашкой чая в кафе. — Если я брошу работу, то не буду жалеть об этом, — сказала Мэтти. С тех пор, как она закончила школу, она работала секретарем в одном частном агентстве, но ей не нравилось это занятие. Мэтти мечтала быть актрисой. — Но ты же учишься в школе, — продолжала Мэтти. — Чертова школа! — воскликнула Джулия. — Отец хочет, чтобы я стала секретаршей в какой-нибудь частной фирме. Мама хочет, чтобы я вышла замуж за юриста или управляющего банком. Но я не желаю выходить ни за того, ни за другого. Зачем мне надо оставаться в школе? Изучать машинопись и бухгалтерию? Нет, Мэтт. Надо убираться отсюда подальше. Мэтти и Джулия уже представляли себя далеко отсюда. — А как же твои родители? — не успокаивалась Мэтти. Джулия сжала кулаки, но потом расслабилась. Мэтти догадывалась о чувствах своей подруги, их трудно было высказать словами. Особенно сейчас, после мучительного признания самой Мэтти. Джулия знала, что этот маленький домик связывал ее по рукам и ногам, не давал вздохнуть. Она находилась под прессом родительской любви и опеки. Джулия решила, что не может оправдать их надежды, потому что Вернон и Бетти хотели вырастить точную копию самих себя. А она хотела другой жизни: бурной, отчаянной, со взлетами и падениями, не такой, как у ее матери. — Я как птица в клетке, — жаловалась она. — Родители будут в шоке, если я уйду с тобой, но, в конце концов, это даже лучше для них. Если я останусь, то с каждым днем наши отношения будут ухудшаться. Если мы с тобой решимся на этот шаг — все будет по-другому. Мы будем на равных. Им не придется ругать меня. Мэтти вдруг улыбнулась, хотя ей было нелегко это сделать из-за разбитой губы, и спросила: — Когда мы отправимся в путь? — Сегодня, — ответила Джулия.
Позднее, когда отец был на работе, а Бетти ушла в магазин, Джулия собрала свои вещи и распределила их на два чемодана. Мэтти не пошла домой даже за одеждой, поэтому Джулии надо было подумать о двоих. У них оставалось мало времени. Мать редко задерживалась дольше чем на час. В последнюю минуту Джулия решила набросать несколько строк. У нее не хватало времени, чтобы подобрать нужные слова. И она написала всего лишь: «Я ухожу». Через некоторое время она с сожалением вспоминала, с какой небрежностью сделала этот шаг. Девушки сели в поезд на знакомой местной станции. Станция на Ливерпуль-стрит выглядела мрачной и казалась больше, чем в их предыдущие приезды сюда. Мэтти взволнованно сказала: — Огромный город приветствует нас. — Не только приветствует, он принадлежит нам, — гордо произнесла Джулия. Девушки добрались до Оксфорд-стрит на метро.
Вначале все выглядело как большое веселое приключение. Девушки были довольны собой. Они быстро нашли работу. Мэтти замазала свои синяки специальным кремом и пошла наниматься на службу. Ее взяли начинающим продавцом в обувной магазин. Так как Джулия изучала машинопись в школе, то ее после нескольких удачных тестов на правописание и скорость взяли машинисткой в бухгалтерию большого магазина. — Очень хорошо, — сказала женщина, которая экзаменовала Джулию. — Думаю, вы будете полезны. Когда вы хотите начать? — Завтра, — сразу же ответила она. Слово «бухгалтерия» напомнило Джулии отца. Она часто смотрела на него, спрашивая себя, как он может изо дня в день, год за годом ходить на эту глупую, бессмысленную работу. «Я не собираюсь торчать в этой конторе постоянно. Это ненадолго, — успокаивала себя Джулия. — Всякое может случиться». После собеседования она отправилась прогуляться вдоль улицы. Она видела, как солнечные лучи отражались в витринах магазинов, словно зазывая ее туда. «У меня получится. Я смогу прокормить себя, и мне не придется просить помощи», — размышляла девушка. Джулия наслаждалась свободой. Когда вечером девушки встретились, они просто ликовали от счастья. — Сколько? — нетерпеливо спросила Мэтт. — Восемь фунтов в неделю. — А у меня семь фунтов и десять шиллингов, на десять шиллингов больше, чем на старом месте. Разбогатеем! Никто из них не зарабатывал таких денег раньше, и им казалось, что этих денег будет достаточно на первое время. Они купили бутылочку вина и праздновали свой первый удачный день. Распив вино, девушки приветливо улыбались туристам, фотографировавшим фонтаны. — Теперь нам стоит подумать о жилье, — сказала Мэтти. — Да, надо найти квартиру. Простую, но уютную, — ответила Джулия. Трудности начались уже на следующий день. Хозяева квартир, которые они обошли, требовали плату вперед или задаток, а у девушек не было даже половины суммы. Другие, которые задаток не требовали, подозрительно разглядывали беглянок, спрашивая, сколько им лет. Мэтти с уверенностью отвечала, что двадцать. Они остановились в самом дешевом отеле, который только могли отыскать, и каждое утро выбегали на улицу в поисках утренних газет, где можно было просмотреть колонку «сдается». Но ни на третий, ни на четвертый день Мэтти и Джулия не смогли найти что-нибудь подходящее. Потихоньку их энтузиазм стал улетучиваться. Каждый раз, когда они выходили из этого грязного отеля, управляющий поджидал их у входа. Он напоминал, что пора бы им уплатить по счету. Даже если бы они объединили свои жалкие гроши, им не хватило бы этого, чтобы заплатить. Джулия старалась улыбаться, хотя душу ее наполнил страх. Наступила пятница. — Как долго вы еще планируете оставаться у нас? — спросил управляющий. — О, две или три ночи. Пока мы не подберем себе какую-нибудь другую квартирку. — Понимаю… Но боюсь, что нам придется взять с вас задаток. На выходные приезжает много людей в город… Мы должны быть уверены, что… — Сколько вы хотите? — Пять фунтов. На двоих, конечно. — Нет проблем. Наступило молчание. Затем Мэтти продолжила: — Мы дадим вам знать сегодня вечером. — Не позднее чем сегодня вечером, пожалуйста, — уточнил хозяин. Всю дорогу до метро Мэтти ругалась. — Он знает, что у нас нет этих проклятых денег! Ух и противный старикан! — Он не виноват. — Джулия реально смотрела на вещи. — Нам остается один выход: попросить расчет за два дня работы. — Этого будет недостаточно. — Все равно лучше, чем ничего. Не так ли? Мэтти усмехнулась. Ее синяки заживали и больше не причиняли боли. — Не волнуйся. Все будет о’кей. Они добрались до Оксфорд-стрит и разошлись в разные стороны.
Джулия ожидала начальницу, которая вот-вот должна вернуться с обеда, чтобы поговорить о деньгах. — О нет, дорогая. Не думаю, что мы сможем заплатить. Тебе нужно отработать неделю. Деньги будут только в следующую пятницу. У тебя какие-то проблемы? Джулия колебалась, она была слишком гордой, чтобы доверить этой незнакомой женщине свои беды. — Нет, нет. Мне захотелось просто кое-что купить. — В таком случае, думаю, что твои родители будут рады помочь тебе, если это нужная вещь. Попроси маму. При поступлении на работу Джулия соврала, сказав, что живет дома с родителями, иначе ее бы не приняли. Она вернулась к машинке, которую уже ненавидела, и принялась стучать по клавишам.
— Ну, как дела? Что тебе сказали? — спросила Мэтти при встрече. — Ничего до следующей пятницы. — О черт, а мне заплатят только завтра днем. Прошел день, наступил вечер. Собрав чемоданы, подруги оставили отель. Платить было нечем. — Мы нашли великолепную квартирку, — сказала Джулия управляющему, который вышел проводить их. — Очень просторная и ужасно дешевая. Девушки разделили оставшуюся мелочь и решили, что вполне могут позволить себе выпить по чашке кофе с бутербродом. Оставшись на улице без денег и жилья, они были растеряны и голодны. Сев в первый попавшийся автобус, потому что хозяин отеля наблюдал за ними, стоя у двери, они отъехали настолько далеко, насколько им позволяла плата за проезд. Джулия и Мэтти вышли из автобуса и снова оказались на набережной. В кармане лежало три шиллинга. Они сидели на скамеечке, наблюдая за рекой. Небо постепенно блекло, сменяя нежно-голубой цвет на голубовато-серый. Наконец и небо, и вода стали темными. — Мы можем вернуться домой, — прошептала Джулия. Мэтти повернула голову и посмотрела на нее. — Нет. Мы не можем. Я не хочу. Она подняла ноги на скамейку и положила подбородок на колени, по-прежнему продолжая смотреть на реку. Джулия была уверена, что Мэтти скажет «нет», она просто хотела удостовериться в твердости ее решения. — Все уладится, — пыталась успокоить себя Джулия. После долгого молчания Мэтт сказала: — Нам нужно найти где-нибудь ночлег. — Может быть, в парке, где мы гуляли вчера? В Гайд-парке, помнишь? Мы ели рыбу и чипсы, сидя на траве. Идея провести ночь в парке, лежа на мягкой траве, под легкий шелест деревьев, казалась даже заманчивой. — Это далеко? — Да, прилично. Они двинулись в путь, оставляя за спиной черную гладь воды с отражавшимися в ней вечерними огнями. После нескольких сот метров девушки почувствовали тяжесть своих чемоданов. — Весь этот хлам, — ругалась Мэтт. — Зачем нам столько? Давай лучше выкинем его к черту. — Если бы это были твои вещи, то ты могла бы их выкинуть, — заметила Джулия. Дальше шли молча, слегка раздраженные этой стычкой, затем остановились опять. Впереди засверкало яркими огнями огромное здание. Джулия засмотрелась на большие серебристые буквы, которые были прикреплены к навесу. — Это гостиница «Савой», — шепнула она. — Ну и чудесно! Давай снимем люкс!.. Мэтти и Джулия свернули в маленький проходной дворик. Безлюдный и заброшенный, он освещался только одним старомодным фонарем. — Я больше не сделаю ни шагу, — сказала Мэтти. — Мы можем устроиться прямо здесь, на площадке около двери. Она опустилась на ступеньку и вытянула ноги, затем повернулась на бок и закрыла глаза. Она лежала словно мертвая. — Мэтти, не делай этого! Страх в глазах Джулии заставил Мэтти подняться. — Что случилось? Посмотри, здесь хватит места обеим. Иди сюда. Устраивайся за моей спиной, и я прикрою тебя. Джулия осмотрела дворик. Спящий город вдали казался угрожающим. Неохотно она переступила через Мэтти, укладывая рядом чемоданы. Вокруг было грязно. Открыв один, она вытащила несколько вещей. Часть уложила на пол, другие скрутила наподобие подушек. Потом она улеглась, подпирая спиной чемоданы, подобрала колени и свернулась калачиком. Пышные волосы Мэтти еще хранили запах шампуня. — Я так рада, что ты рядом, — тихо сказала Джулия. — А я рада, что ты помогла мне уйти. Знаешь, с нами все будет в порядке. — Я знаю. Они тихо лежали в надежде уснуть. Спустя некоторое время показалась хорошо одетая парочка. Желтый свет фонаря осветил жемчужное ожерелье на женской шее. Они с отвращением посмотрели на две странные девичьи фигуры. — Вот видишь, я сделала это, — прошептала Мэтти, когда парочка ушла. — Я тоже. Всего несколько шагов отделяло девушек от этого притягательного мира. — Я так голодна! — Мы должны сохранить деньги на завтрак. Просочившийся запах еды еще больше усиливал голод. Мэтти и Джулия обняли друг друга и наконец уснули. Мэтти представления не имела, как долго она спала. Она проснулась от ноющей боли во всем теле и от чувства, что кто-то наблюдает за ними. Девушка подняла голову, и внезапный ужас охватил ее. Какой-то мужчина склонился прямо над ней. У него были темные усы, а его грязные спутанные волосы свисали до плеч. Он так широко улыбался, что за его втянутыми губами открывались черные пеньки зубов. Но самым отвратительным был запах, исходящий от него. Мэтти отшатнулась от незнакомца, пытаясь избавиться от зловония. Она почувствовала, как за спиной зашевелилась Джулия, пальцами впиваясь в ее руки. — Какие милашки! — промямлил «призрак» и рассмеялся. — Две славные девчушки, не так ли? Это мое место! — Он нагнулся еще ниже, так, что подруги попятились назад. — Пожалуйста, уходите, — сказала Джулия. — Мы не делаем ничего плохого. — Я вижу, крошки, — хихикал он. — Ладно, оставайтесь. Считайте, что вы мои гости. Но только на эту ночь. Ах да, завтрак подают прямо за углом. Он закинул на плечо грязный мешок и потащился прочь, противно хихикая. Мэтти очень испугалась и дрожала от страха. — Обыкновенный бродяга. Мы просто заняли его место. Давай поменяемся местами, — успокаивала Джулия подругу, обнимая за плечи. — Извини, — пробормотала та. Они снова улеглись. Мэтти немного успокоилась. Не бродяга испугал ее, а этот отвратительный запах не давал покоя. Она вспомнила об отце, о том, что происходило в доме и от чего она убежала. В тот день Мэтти отправилась в кино одна, это же она сказала Вернону и Бетти Смит. Когда она вышла из кинотеатра на Хай-стрит, то в памяти ее еще жил образ Джеймса Дина, казавшийся более реальным, чем окна через улицу, более притягательный и желанный, чем два парня из технического колледжа, слоняющиеся где-то рядом. Мэтти размечталась и совсем забыла о времени. Прошло два часа, как она ушла из дома от братьев и сестер, от работы, от всего, что ее там окружало. Это был ее четвертый поход в кино. Джулия ходила с ней три раза, но на этот раз отказалась. Очарование длилось до тех пор, пока она не подошла к дому. Она шла по району, где каждая улочка и каждый поворот были похожи друг на друга. Наконец она добралась до своих ворот. Они открылись со скрипом, цепляя крапиву и щавель, которые росли вдоль тропинки. Перед дверью Мэтт остановилась. В доме было тихо. «Наверное, прошел дождь, пока я была в кино», — подумала она. День был жаркий, но сейчас воздух был чист и свеж. Она вставила ключ и открыла дверь. Тед Бэннер стоял в прихожей. — Где тебя черт носил, маленькая грязная шлюшка? — в ярости спросил он. Мэтти почувствовала запах виски. Она заранее знала, чем это все кончится. Ее охватил ужас, но она старалась не показывать виду. Спокойно, чтобы отец ее понял, начала объяснять: — Я ходила в кино, на Джеймса Дина. Фильм закончился в половине десятого, и я сразу же пошла домой. Чтобы отец поверил ей, она рассказала все в деталях, но было бесполезно. Он ей не верил. Он подошел поближе и замахнулся кулаком. — Маленькая лгунья! — завопил Бэннер и сильно ударил ее. Мэтти машинально попыталась закрыть лицо рукой. Удар был настолько силен, что она не удержалась на ногах и упала. — Была с каким-нибудь ублюдком? Шатаешься с кем попало. Такая же, как твоя сестра. — Нет, я же сказала тебе, что была в кино. — Ты опять? Правда не могла защитить Мэтти. Он снова нанес ей два удара своей тяжелой рукой. От этих ударов она прикусила губу и почувствовала, как по подбородку потекла кровь. — Пожалуйста, — прошептала она. — Отец, не надо. «Я ненавижу тебя, ненавижу», — стучало у нее в голове. Наверху со скрипом открылась дверь, и Мэтти увидела младшую сестру Мэрилин. В ее глазах был ужас. — Все в порядке, Мэрилин. Иди спать, не разбуди Сэма, — сказала Мэтт, вытирая кровь с губы. Девочка скрылась в своей комнате. Тед Бэннер тяжело дышал. Лицо его покрылось пятнами, а на лбу выступили вены, по бороде текли слюни. Вдруг он согнул плечи и затряс головой, как будто хотел освободиться от чего-то. — Извини меня, — неожиданно сказал он. — Ничего, — пробормотала Мэтти, пытаясь пройти мимо него на лестницу, рукой опираясь о стену. Но он обнял ее за талию, не давая двигаться. — Пойдем на кухню. Я приготовлю для нас отличный чай, — сказал отец спокойным голосом. — Хорошо, — согласилась Мэтт, чтобы вновь не возбудить в нем ярость и гнев. Он зажег газ, поставил чайник и снова приблизился к дочери, но она отстранилась от него. — Мэтт, не уходи от меня. Я не переношу этого. На столе стояла недопитая бутылка виски. Он снова отпил из нее, вытирая усы пальцами. Мэтти догадалась, что он задумал. Это пугало еще больше. — Подойди ко мне. Ее кожа покрылась мурашками, но она знала, что ему нельзя отказывать. Мэтт медленно подошла к отцу. — Ближе, — повторил он. Его пальцы едва коснулись ее тонких рук, потом прошлись по плечам, и вот уже Мэтти почувствовала тепло его потных рук на своей шее. Он повернул ее лицо к своему. Девушка прикусила губу, сдерживая страх и ненависть. Отец продолжал поглаживать ее шею, и постепенно его рука коснулась груди. Еще минуту он колебался, но вдруг сильно и грубо прижал к себе. — Не надо! Пожалуйста, не надо! — Тебе не нравится? Те парни делали это с тобой? Он не знал, что Мэтти не позволяла дотрагиваться до себя никому из парней. Бэннер притянул ее к себе, наклонился и начал лизать ей губы. Мэтт ощутила, как его мягкий влажный язык проскользнул ей в рот. Она понимала, насколько он был пьян. Все началось много лет назад, когда Мэтти было меньше лет, чем сейчас Мэрилин. Отец тогда ласкал ее тело. — Это всего лишь игра, — говорил он. — Наша игра. Никому не рассказывай об этом. Мэтти не нравились такие игры, они пугали ее, но, к сожалению, это было единственным средством, которое могло защитить ее от побоев. Она стояла неподвижно, позволяя лапать себя. Всю боль и горечь за эти годы Мэтти сдерживала в себе, не рассказывая об этом ни старшей сестре, ни матери, когда та была еще жива. Это был ее отец. Она мечтала при первой же возможности убежать от него. Но сейчас все было по-другому. Тед Бэннер не заметил, как потерял контроль над собой. Теперь он стал опасен. Страх словно парализовал Мэтти. Она не могла двинуться с места. Отец что-то ворчал себе под нос. Внезапно он запрыгнул на стол, снова притянул ее к себе. Ее ноги оказались зажатыми между его ног. Быстрыми движениями пальцев он пробирался ей под юбку. Юбка была слишком узкой. Пытаясь содрать ее, он несколько раз дернул и грубо выругался. — Сними эту дрянь, — приказал Бэннер. — Нет, оставь меня. Прошу, оставь меня. В бешенстве он разорвал блузку, которую Мэтти неровными стежками вышивала сама. Ткань сползла с плеча, Тед сунул руки внутрь. — Позволь мне сделать это. Всего один раз, — умолял он, губами облизывая ее лицо и шею. — Я больше никогда не попрошу тебя об этом. Мэтти, дочка, всего один раз. Мэтти собралась с силами и начала отбиваться от него руками, выкручиваться, пытаясь ударить туда, куда она могла дотянуться. Не замечая ударов, одной рукой он схватил ее кулачки, а другой шею. Остановившись на минуту, отец и дочь посмотрели друг другу в глаза. Потихоньку пальцы отца расслабились, оставляя темный след на ее коже. Ощупывая свою одежду, он искал пуговицы. Несмотря на боль, ужас и отвращение, Мэтти нашла нужные слова. — Посмотри на себя, — тихим голосом сказала она. — Просто посмотри на себя. Он увидел бледное, испуганное лицо дочери, ее разорванную одежду и разбитую им губу. Наступило долгое молчание. Наконец Бэннер произнес: — Прости меня. Я причинил тебе боль. Это дурацкая ревность, я ревную ко всем этим мальчишкам, которые крутятся вокруг тебя. Я не хотел сердиться. Ты ведь моя любимая дочь. Его глаза наполнились слезами, которые потекли по его щекам и крупными каплями падали на его одежду. Мэтти было противно, она отвернулась от него. — Ты не представляешь, что я чувствую с тех пор, как умерла твоя мать. «Ну конечно, — думала Мэтт. — Жалеешь себя. Ни маму, ни кого-то из нас, только себя. Я ненавижу тебя». Медленным шагом она отходила от отца, его руки свисали вдоль тела, а мокрые от слез глаза смотрели в никуда. Дойдя до двери, она холодным голосом сказала: — Приведи себя в порядок. Не сиди здесь в таком виде. Затем она прошла в холл к входной двери, открыла ее и закрыла уже за своей спиной. Двигалась она осторожно, как будто была сделана из хрупкого стекла. Как только оказалась за воротами, она понеслась прочь что есть силы…
В тесном пространстве, возле двери, затекшие ноги Мэтти непроизвольно дернулись, и Джулия повернулась к ней. — Все в порядке, — сказала она. — Бродяга ушел. Ты все еще боишься? Давай немного поболтаем. — Я думала о Мэрилин и остальных, — ответила Мэтт. Мэрилин — девять, а Фил — младшая, на два года моложе. Рикки и Сэму почти как Мэрилин и Мэтти. Старшая сестра Роззи вышла замуж за механика, у них уже был малыш. Она жила недалеко от родительского дома, но обходила его стороной, когда отец был дома. — Мальчики — ладно, им проще. Но мне бы не хотелось оставлять Фил и Мэрилин с отцом. Она чувствовала за собой вину. Ей казалось, что не следовало оставлять сестер с ним, несмотря на то, что произошло у нее с отцом. Мэтт никогда не замечала, чтобы отец как-то засматривался на девочек, но, тем не менее, она не была уверена в том, что он их не тронет. Роззи никогда не догадывалась о проделках отца. А Мэрилин? Неужели она когда-нибудь будет так же страдать? — Как я могу им помочь, находясь здесь? — Я знаю, что мы сделаем. Мы позвоним в полицию и расскажем, что произошло. Там есть специальный отдел, который помогает таким детям. Они присмотрят за ними, пока… пока у нас не появится возможность забрать их к себе. Мы ведь сможем жить вместе? Мэтти улыбнулась. — Где, здесь?! — Вот глупая. Когда мы встанем на ноги, у нас будет приличная работа и жилье. Ну, может, пройдет год или больше, мы вылезем из этого дерьма. — Я никому не смогу рассказать об этом. У меня едва хватило духу поделиться с тобой. — Это не твоя вина. Мэтти и Джулия не так часто проводили время вместе, но Джулия имела представление о Теде Бэннере: иногда он был очень дружелюбен, а иногда, когда вены вздувались на его лице, а глаза превращались в два маленьких красных пятнышка, он казался ужасным. — Можешь не говорить, кто ты такая. Просто позвони. Хочешь, я это сделаю? Нам будет спокойнее, если мы будем знать, что кто-то приглядывает за ними. Заработаем деньги, купим квартиру с двумя или тремя спальнями, будем слушать музыку на полную мощность и приглашать кого захотим. Твоим младшим будет хорошо с нами. Мэтти была благодарна Джулии за ее доброту и позволила себе помечтать вместе с подругой. Она тихо лежала, слушая ее болтовню, и незаметно уснула. Ее дыхание стало ровным. Джулии показалось, что Мэтт больше ничего не боится, но ее собственная храбрость постепенно угасала. Тусклый свет лампы придавал дворику мрачный и пугающий вид. Сон был беспокойным. Часто просыпаясь, она ловила себя на мысли, что все это ей скорее снится, чем происходит в действительности. Дворик был не совсем безлюдный: то там, то здесь мелькали сгорбленные фигуры. Джулия думала, что видит их во сне, но затем поняла, что это бездомные — такие же реальные, как и все вокруг. Двор превратился в настоящее пристанище для бродяг и бомжей, которые околачивались на набережной. Они шатались во тьме, громко ругаясь. Некоторые с любопытством поглядывали на спящих девушек, посвистывая им и отпуская в их адрес непристойные реплики, других же не волновало ничего, кроме собственных забот. «Это то, что ожидает нас всех, — думала Джулия. — Темнота и отчаяние, безысходность и нищета. Неужели именно этого боится Мэтти?» Ночь казалась бесконечно долгой. Джулия окончательно проснулась и села, массируя затекшие ноги. Облокотившись на стену, она наблюдала за медленным восходом солнца. Через полчаса мрак отступил. Свет проник на притихший двор. Силы вернулись к ней. С возвращением света она почувствовала, что мир принадлежит ей, что она может взять его и делать с ним все что захочет. Девушки пережили ночь. Это была маленькая победа. Джулия толкнула Мэтти в плечо, и та проснулась. — Посмотри, уже день! Разве это не прекрасно? — ликовала Джулия. Они засунули разбросанные вещи в чемоданы и направились к выходу. Никто из них не оглянулся. Не доходя до угла, они услышали скрип тяжелых дверей и металлический скрежет. Тут же послышались голоса и топот ног. За углом стояли две большие металлические бочки с отбросами (их каждое утро выкатывали из кухни отеля). Десяток старых, в потрепанных лохмотьях людей, как пчелы, крутились возле них, доставая остатки вечерней пищи. — Теперь понятно, что он имел в виду, говоря о завтраке, — сказала Мэтт. — Кто? — Бродяга, прошлой ночью. «Завтрак подают за углом». — Но только не для меня, спасибо. Они стояли, молча наблюдая за этой картиной, вспоминая ночные кошмары. Джулии было жалко этих несчастных голодных людей, копавшихся в бочках в поисках чего-нибудь съестного. — Давай поищем, где можно было бы умыться, — сказала Мэтти. Они перешли через дорогу, с каждым шагом удаляясь от ночного мира. — Не могу дождаться, когда вымоюсь. Вода и мыло — вот, что нам нужно сейчас. — Ты такая же чистюля, как твоя мать. Посмотрите на принцессу, у нее ручки грязные, — дразнила Мэтт. Общественные туалеты, находившиеся рядом с Трафальгарской площадью, открывались только в семь. Пришлось ждать. Человек, который открыл дверь, неодобрительно разглядывал их, но девушки не заметили его пристального взгляда. Они умылись холодной водой и прополоскали рот. Джулии хотелось вымыть голову, она неуклюже старалась подставить ее под струю воды, но в этот момент чей-то голос сказал: — Здесь нельзя мыть голову. Для этого ступайте в баню на Маршал-стрит. — Это был тот же неприятный тип. Накрасившись и переодевшись, Мэтт и Джулия подхватили свои чемоданы и отправились в небольшую закусочную. Кофе и булочка с ветчиной казались самой вкусной едой. На улице появились люди, спешившие добраться на работу. У них еще остались деньги, чтоб добраться до обувного магазина, где работала Мэтти. У Джулии в субботу был выходной. — Чем будешь заниматься? — спросила ее Мэтт, дожевывая булочку. — Не знаю. Погуляю в парке. Помечтаю о том, что мы будем есть вечером, когда ты получишь деньги. — Я так голодна, — простонала Мэтт. — Ну давай, садись в автобус, а то если опоздаешь, тебя уволят. Что мы будем тогда делать? Никто не упомянул, где они проведут следующую ночь. В такой ясный теплый день не хотелось думать о плохом. — Как я выгляжу? Джулия внимательно осмотрела подругу, перед тем как ответить. Мэтт приняла неестественную позу. Красавицей она не была, но ее личико с большими глазами и заостренным подбородком было очень миленьким. Джулия завидовала ее стройной фигуре и красивым пышным волосам, потому что сама была плоской и нескладной, как гладильная доска. — Ты выглядишь… как будто ночь провела на улице. — То же могу сказать и о тебе. Они рассмеялись. Мэтти на ходу прыгнула в автобус. Джулия все с теми же чемоданами без всякой цели пошла куда глаза глядят, рассматривая витрины магазинов. Было очень жарко. Она чувствовала, как солнце припекало ее спину. Остановившись передохнуть, Джулия вдруг отпрыгнула в сторону, напуганная резким сигналом сзади. Она оглянулась и увидела фургон, а затем высунувшуюся голову юноши. — Тебе далеко? — Ну, в общем-то никуда, — поставив чемоданы, ответила Джулия. — С таким-то грузом? Ладно, садись. Сейчас мне нужно кое-что доставить, а потом я угощу тебя чашечкой кофе! Джулия улыбнулась. На душе было легко. Ей хотелось быть веселой и дружелюбной со всеми. — О’кей! — согласилась она и села на свободное место. Они проехали по Трафальгарской площади, потом свернули в квартал, где улочки были узкими и маленькими. По обе стороны улиц располагались маленькие ресторанчики, в которых официанты сновали туда-сюда, готовясь принять первых посетителей, бакалейные лавки с аккуратно выложенным товаром на прилавках и множество всяких магазинчиков, в которых можно было купить все: от скрипки до сложных хирургических инструментов. Иногда, пропуская занятия в школе, Джулия и Мэтти приезжали в Лондон и бывали здесь. На следующей улице, в темных подвальчиках, находились два ночных клуба. — Я знаю, где мы проезжаем. Это — Сохо. — Да? — Парень зыркнул на нее, потом резко перевел взгляд на чемоданы. — Ты уезжаешь или, наоборот, приехала? — Я приехала, — твердо ответила Джулия. Фургон остановился напротив большого окна, завешенного тяжелыми пыльными шторами из дешевого красного плюша. Между стеклами, в качестве приманки для мужчин, красовались фотографии обнаженных девушек, чья нагота лишь отчасти была прикрыта птичьими перьями. В завершение к этой рекламе над входной дверью бросалась в глаза яркая вывеска: «Не проходите мимо девочек». Откуда-то появился смуглый мужчина в кожаном жакете и, посчитав ящики, сунул новому другу Джулии несколько банкнот. — Перекусим в «Голубых небесах». Как ты на это смотришь? — спросил юноша. В тот момент она была согласна поехать в любое место, где можно поесть. Кафе «Голубые небеса» не было чем-то примечательным и запоминающимся: длинный бар с множеством горячительных напитков, пластиковые столы и стулья, искусственные цветы на окнах, угодливый обслуживающий персонал — таких заведений в Лондоне немало. — Я согласна. Джулия оставила чемоданы в фургоне и пошла с парнем. Ранним утром в кафе было мало посетителей. Они выбрали столик и сели. Подали кофе и сладкий пирожок. Джулия сдерживала себя, чтобы не наброситься на все это. — Чего же ты смотришь? Ешь. Ей не нужно было повторять дважды. Она откусила пирожок и почувствовала, как сладкое повидло растаяло у нее во рту. — Ты еще ребенок, — смеясь, сказал парень. — Мне шестнадцать. — А я о чем! Он поднялся и подошел к музыкальному столику. Бросив монетку, он нажал на кнопку, даже не прочитав название. Это был Джонни Витт с песней «Такая ночь». Джулия радостно вздохнула и облизала пальцы. — Я люблю Джонни Витта. А ты? — Нет. Девичья музыка. Я поставил ее для тебя. — Что же тебе тогда нравится? — Джаз, конечно. — Старый? Как раз за углом находится клуб, где оркестр обычно играл старый джаз. Если бы у Джулии и Мэтт была возможность, они бы танцевали и слушали джаз всю ночь. — Современный, глупышка. Диззи Джилепс, Телониус Монг. Они болтали о музыке, все больше узнавая друг друга, пока ее новый приятель не посмотрел на часы. — О, мне нужно ехать. — А кто твой хозяин? Неужели тебе позволяют сидеть в кафе все утро? — Я работаю на себя, малышка. У меня нет хозяина. Фургон мой. Я занимаюсь перевозками и доставками разных грузов. Я — посредник. Он встал, чтобы уйти, но вдруг обернулся с озабоченным лицом и спросил: — У тебя есть деньги? — Совсем мало. Только на сегодня. Моя подруга… — забормотала Джулия. — Держи. — Я не могу взять. — Ты можешь, и возьмешь, а отдашь, когда снова встретимся. Я частенько здесь околачиваюсь. Едва он дошел до двери, Джулия окликнула его: — Я даже не знаю твоего имени. — Фловер. Джонни Фловер. Звучит по-королевски, не так ли? Даю слово, что я не принц. Увидимся, малышка. Я оставлю твои вещи у Микки. Это через дорогу. Джулия осталась сидеть за столиком, с надеждой думая, что он спросит ее имя. Она видела, как Джонни отнес ее чемоданы в то странное заведение с красными шторами на окнах. Джонни понравился ей, поэтому она не беспокоилась за сохранность своих вещей. Послышался шум мотора, фургон медленно двинулся с места и поехал по улице. Джулия все еще сидела в кафе, слушая музыку и наблюдая за людьми, проходившими мимо окон «Голубых небес». Потом, убедившись, что деньги, которые ей дал Фловер, на месте, она выпила еще чашку кофе, съела пирожок и направилась к Микки. Он уставился на нее, разглядывая с головы до ног. Было темно, и только звук пылесоса нарушал тишину этого мрачного заведения. Это был ночной клуб со стриптизом. В пыльном помещении пахло пивом и табачным дымом. — Пришла за своим барахлом? — Длинным пальцем Микки указал на чемоданы. — Я хочу вас попросить. Не разрешите ли вы оставить ненадолго здесь чемоданы? Они очень тяжелые. Он опять стал разглядывать ее. — Ты новенькая? — Да, — неопределенно ответила Джулия. — Бог мой, откуда Монти достает их? Из детского сада?.. Ладно, оставляй свое шмотье, я присмотрю за ним. — Спасибо. Она быстро шмыгнула за двери, испугавшись лишних расспросов. Джулия добралась до Оксфорд-стрит и свернула к обувному магазину, где работала Мэтти. Проходя мимо окна, она заметила Мэтти, стоящую на коленях перед покупательницей. В одной руке у нее была туфля, а другой, бурно жестикулируя, она убеждала в чем-то клиентку. Женщина внимательно слушала и мерила туфли. Минуту спустя покупательница шла к кассе, а Мэтти рядом несла выбранную пару обуви. Джулия зашла в магазин. От неожиданности Мэтти опешила. — Что ты тут делаешь? — спросила она, а потом тихим голосом добавила: — Что-нибудь желаете, мадам? — Ты как настоящая продавщица, — заметила Джулия. — Я — актриса. И вполне могу сыграть продавщицу. Джулия взяла ее руку и кое-что положила ей туда. Мэтти увидела десятишиллинговую бумажку. — Это тебе на обед, — шепотом объяснила она. — Но откуда? — Потом расскажу, тсс… Неожиданно громко Джулия добавила: — Я ничего не желаю, я просто зашла посмотреть, спасибо вам большое. Она снова оказалась на улице. Осмотревшись, девушка заметила зеленые верхушки деревьев вдалеке. Это был Гайд-парк, тот самый, до которого подруги так и не добрались прошлой ночью. Зелень снова потянула ее к себе. Она направилась к парку, часто пересекая проезжую часть дороги, проскальзывая сквозь вереницу несущихся машин. Наконец Джулия ступила на коричневую, выжженную солнцем траву, мягкость которой была намного приятнее раскаленного твердого тротуара. Она шла под тенью крон могучих деревьев, с каждым шагом углубляясь в парк. Городской шум постепенно удалялся. Впереди между деревьями засверкала вода, и перед Джулией открылся великолепный вид на городское озеро. Она еще немного прошлась по полупустому пляжу и, заплатив три фунта седеющему мужчине, взяла напрокат шезлонг. Сев в мягкое кресло и закрыв глаза, Джулия прислушалась к шелесту листьев над головой и погрузилась в раздумья. Это был первый удобный момент, когда она находилась в полном одиночестве и могла подумать обо всем, что произошло с тех пор, как они с Мэтти сбежали из дома. Джулия представляла, чем могла заниматься ее мать сейчас. Обрисовать картину домашней обстановки было довольно легко для нее. Вероятно, мать вытирала пыль, собирая с камина всякие сувениры и фарфоровые статуэтки, аккуратно возвращая их потом на то же самое место. Дом всегда содержался в чистоте, полы были натерты — все блестело и сияло, как будто его готовили к важному событию. Даже мебель — диван и стулья — торжественно стояла на своих местах, ожидая гостей, которые очень редко появлялись в доме. Когда Джулия была маленькой, мать всегда предупреждала ее, чтобы та не устраивала беспорядка во время игры. «Джулия, не разбрасывай игрушки!» — слышала она окрик матери. Бетти хотелось, чтобы она играла аккуратно, спокойно, рассаживая своих кукол в один ряд. Джулия вспоминала: однажды она вернулась домой со дня рождения с пакетиком разноцветных, ярких бумажных звездочек и решила спрятать их, не показывая матери. Как-то днем она пробралась к себе в спальню и приклеила их на обои. Это было великолепно: звездочки, как яркие искры, рассыпались на бледно-розовых обоях. Словно подозревая неладное, Бетти пришла в спальню Джулии в тот момент, когда девочка доклеивала последнюю звездочку. Мать с яростью начала срывать их. К удивлению ребенка, клей оказался очень сильным, потому что на обоях оставались белые пятна в форме звездочек. Джулия никогда не видела Бетти в таком состоянии. — Ты — маленькая хулиганка! — орала она. — Они были такие красивые… — протестовала Джулия. — Это моя спальня! — Никогда не делай этого! Зачем ты все испортила?! Зачем?! — Она зло брызгала слюной. — Это не твоя спальня. Отец и я отдали ее тебе, и будь добра соблюдать порядок и чистоту. Посмотри, что ты натворила! Она тыкала пальцем в белые пятна, нервно рыдая. Девочка подбежала к матери, пытаясь успокоить ее, но та оттолкнула ее, находясь во власти гнева. Оставшуюся часть дня они провели молча. Когда Вернон вернулся с работы и узнал обо всем случившемся, то сильно отшлепал Джулию тапком. Бетти всего боялась. Она боялась беспорядка, случайных гостей, боялась, что дочь познакомится с плохими друзьями, боялась мужа. «Я не позволю себе бояться. Я не хочу прожить всю жизнь в страхе, как моя мать. Я буду рисковать, если это потребуется». Воспоминания о доме взбудоражили ее. Она попыталась представить, что ее ожидает в будущем. Но солнце уже поднялось высоко, ослепляя ее, и все, что она могла увидеть, — это яркое желтое пятно. После истории со звездочками в душе маленькой Джулии день за днем возрастал протест укладу жизни, который навязывали ей родители. Когда она повзрослела, у нее появилось больше причин не соглашаться с ними. Теперь ей казалось, что годы, проведенные в родительском доме, были похожи на долгую упорную борьбу против запретов, осуждений, нападок со стороны матери и отца. «Дома быть в восемь. Ложиться спать в девять. Домашнее задание выполнять в назначенное время». Джулия бунтовала. Их мнения расходились во всем: в одежде, макияже, музыке, которую она слушала и играла сама, во времени, в местах, которые она посещала, в друзьях и т. д. и т. п. Бетти и Вернон гордились тем, что их дочь поступила в школу для девочек, а Мэтти и Джулия ненавидели эту школу. Несмотря на то, что девочки часто прогуливали уроки и не готовили домашние задания, Джулия всегда была одной из лучших учениц в классе. Ссоры и стычки с отцом и матерью были утомительными, но дочь всегда выходила победительницей потому, что чувствовала свою правоту, а Бетти часто уступала ей. С тех пор, как Джулия встретила Мэтти, та стала ее надежным и верным союзником. Мэтти, как и Джулия, была крепким орешком. Смит невзлюбил Мэтти с первого дня. Мэтти носила слишком короткие и узкие юбки, затягивала пояс так, чтобы выделялись ее красивая грудь и тонкая талия. Ее шикарные волосы, которые вызывающе торчали в разные стороны, не кто иной, как Джулия, предложила покрасить, а потом она же огрызалась с мальчишками, когда те свистели и хихикали им вслед. Но лидером оставалась Джулия. У нее были различные идеи и задумки, а ее решительность и внутренняя сила позволяли доводить начатое до конца. Однажды Бетти произнесла с грустью: — Ты совсем непохожа на меня! Сейчас Джулия как наяву представляла свою мать: маленькую худую женщину с косынкой на голове, предохраняющей волосы от пыли. Она медленно передвигалась по дому, проверяя, все ли стоит на своих местах. «Извини, — думала Джулия. — Я не могла больше оставаться». В тот роковой вечер, когда на пороге их дома появилась Мэтти и рассказала им обо всем случившемся, у Джулии возникла идея убежать. Эта мысль казалась такой романтичной. Другого выхода не было, ждать нечего. В одно мгновение все осталось позади: Бетти, Вернон, район, где она жила, школа, дом… Тем не менее она скучала по матери. «Я вернусь. Вернусь, когда у меня будет что-нибудь стоящее, чтобы показать тебе. Ты еще будешь гордиться своей малышкой», — думала Джулия. С Верноном все было по-другому. Джулия боялась отца, его злобы и ярости. Она думала, что и мать боится его. Она помнила, как Бетти готовила ему еду, каждую минуту поглядывая на часы, чтобы не опоздать и приготовить обед ровно к половине пятого. Обычно они ели молча, не разговаривая, даже тиканье часов казалось слишком громким. Отец читал газету, а Бетти смотрела в его тарелку. По отцу Джулия совсем не скучала. Медленно ее мысли перешли от родного дома к мыслям о подруге. Когда они встретились впервые, Мэтти сразу же пригласила ее домой на чай. Раньше Джулии не приходилось бывать в районе, где жила Мэтт. Вообще она редко выходила за пределы своего дома. Новое место пугало ее. Тут было множество похожих домиков, вытянувшихся в одну бесконечную линию. Ни зелени, ни магазинов, которые могли бы нарушить эту монотонность. Улица, где жила Мэтти, была такой же, как все, а дом выглядел намного мрачнее. Дверь была открыта. — Входи и ничему не удивляйся, — предупредила Мэтт. Джулия услышала шум и почувствовала запах жареного лука. По дому, весело смеясь, носились дети — братья и сестры Мэтт. Она подхватила младшую сестру на руки и подбросила несколько раз вверх, пока та от удовольствия не расхохоталась. Ее старшая сестра готовила на кухне. Мэтт не успела открыть рот, как Роззи, предполагая ее вопрос, ответила: — Его нет дома. Страх Мэтти мгновенно улетучился. — Чувствуй себя как дома. Джулия осмотрелась. В каждом углу комнаты валялись сломанные игрушки, грязная одежда, начатые пакетики с кукурузными хлопьями. — Где твоя мама? — спросила Джулия. Сказав это, она поняла, что поступила бестактно. Она не смогла увидеть отсутствия матери в доме. — В больнице. Она нездорова. — Все готово, — объявила Роззи, — прошу к столу. Мэтти посадила маленькую на колени и кормила ее из своей тарелки. Дети глотали пищу, успевая забрасывать Джулию вопросами. Мэтти придумывала разные глупые прозвища учителям и другим девчонкам в школе, а Джулия добавляла к ним смешные рифмовки. Всем было очень весело. Несмотря на беспорядок и различные запахи, атмосфера в этой душной полутемной комнате была радостной и приятной. Обед был вкусным. — Мне понравился твой дом и твоя семья, — сказала она потом. Мэтти удивилась, но осталась довольна ее мнением. Этот проведенный вместе день сблизил двух девочек. Год спустя умерла мать Мэтти. Первой, к кому пришла Мэтт со своим горем, была ее подруга. Джулия тоже всегда находила у нее поддержку. «Но она никогда не рассказывала о своем отце», — подумала Джулия. Если уж такое внезапное исчезновение из дома было ошибкой, то в своей спутнице Джулия не сомневалась. Она восхищалась своей подругой. Сейчас они в Лондоне. Назад пути нет. Вместе они преодолеют все. Незаметно Джулия уснула.
— Я падаю от усталости, — жаловалась Мэтт. — Ничего, сейчас отдохнешь! — Легко тебе рассуждать. Ты весь день провела в парке, греясь на солнышке. Джулия встретила Мэтт у магазина перед закрытием. — Я продала четырнадцать пар обуви. Мне даже обещали подарок — великолепные черные туфли на шпильках. Тебе понравятся. Хочешь, и тебе достану? — Не пытайся всучить их мне. Мне не нужны туфли. — Сколько у нас денег? С авансом Мэтти и тем, что осталось от денег Фловера («Почему ты упустила того парня? — укоряла ее Мэтт. — Это то, что нам сейчас нужно»), у них насчитывалось всего пять фунтов. — Надо бы поесть, — предложила Мэтт. Они зашли в магазинчик и купили рыбу с чипсами. — Это самая вкусная еда, которую я когда-либо ела. Силы вновь возвращаются ко мне. — Итак, что мы будем делать? — Ну… Мы можем поискать место, где провести ночь. — Мы пойдем в какой-нибудь клуб на танцы, и тогда уж нам вообще не придется спать. — Ты права. — Пойдем! Было еще довольно светло, и девушки, держась за руки, шли вдоль Оксфорд-стрит, а потом свернули на другую улицу. — Я вдруг подумала, где наши чемоданы? — Мы как раз идем за ними. Они дошли до двери, над которой висел плакат «Самое лучшее шоу в городе». Микки сразу узнал Джулию. — Монти ничего не знает о новенькой девочке. Джулия улыбнулась. — Извините меня. Это ошибка. Могу я забрать свои вещи? Но Микки не слышал ее, он с удивлением разглядывал Мэтти. — Ты одна из тех девчонок, в поисках которых Монти мотается по всему Лондону. Нужна работа? — Да, но только не такая. Спасибо. Джулия взяла вещи, и они вышли. — Можешь приходить в любое время, крошка. У тебя прекрасные волосы! Они завернули за угол и остановились. — Тебя нельзя оставить одну ни на минуту, — дразнила Мэтт Джулию. — Обязательно вляпаешься в какую-нибудь историю. В стриптиз-шоу, например. Эти девочки зарабатывают на хлеб, снимая с себя одежду перед грязными, вонючими мужиками. — Может, это легче, чем стучать целый день по клавишам или продавать четырнадцать пар обуви. — Слушай. Где-то совсем рядом звучала музыка. — Давай посмотрим. Они увидели дверь, на которой висела табличка «Добро пожаловать в «Рокет-клуб». Девушки отошли от двери в надежде продолжать свой путь, но клуб был так близко, а веселая музыка манила их к себе. Джулия и Мэтт не выдержали. Это было их первое посещение «Рокет-клуба». Спустившись вниз по ступенькам, они очутились в небольшом зале. Возле стен, на которых были наклеены почтовые открытки, стояли столики. В баре продавались спиртные напитки, небольшой оркестр играл старинный джаз, а в центре зала танцевали парочки. Девушки, забыв обо всем, присоединились к танцующим. В клубе было столько народу, что нечем было дышать. Энергичный ритм, веселье закружили их, унося в другой, необыкновенный мир. Они танцевали со всеми, кто бы ни приглашал, не обращая внимания на возраст, на цвет кожи партнера. Это была долгая и жаркая ночь. За одним из столиков, наблюдая за девушками, сидел Феликс Лемойн. Среди всех остальных он выделил этих двоих. Вероятно, их внешний вид, одежда, сшитая ими в домашних условиях, обращали на себя внимание. У той, что повыше, с темными волосами, было привлекательное, даже красивое треугольной формы лицо и стройное гибкое тело. Ее подруга выглядела худее, волнистые пряди волос сверкали при свете свечей, танцевала она лучше, двигаясь грациозно и плавно. Но не красота девушек заинтересовала Феликса, скорее их энергия. Они словно улетали в своем танце в другой, выдуманный мир, отстраняясь от всего, что могло помешать. Им было все равно, что происходит вокруг. И это нравилось Феликсу. Он достал блокнот, карандаш и стал рисовать. Закончив набросок, он продолжал смотреть. Ему совсем не хотелось приглашать кого-то на танец. Он просто сидел и наблюдал, чем, впрочем, занимался обычно в этом месте. (обратно)
Глава вторая
В студии было тихо и спокойно. Натурщица уже час сидела в неподвижной позе. Ее лицо было бледным и маловыразительным, а тело выглядело дряблым и вялым, как засохший цветок. Длинные волосы были заколоты, подчеркивая линии подбородка и шеи. Феликс нарисовал голову и собирался перейти к торсу и ниже, но почему-то эти части тела рисовать оказалось труднее. Он чувствовал себя как-то неловко, глядя на нескладное тело женщины. Ему хотелось отвернуться, вместо того чтобы глазеть на нее еще целый час. Он бросил взгляд на работающих рядом студентов. Все внимательно и сосредоточенно рисовали. Наблюдая за ними, наставник ходил между рядами. Когда он дошел до места, где сидел Феликс, то остановился и едва слышно проговорил: — Неплохо, Лемойн. Единственное, чего тебе не хватает, — чувств. Феликс пробормотал что-то невнятное в ответ. Наставник посмотрел на большие часы на стене и подал знак натурщице. Та с облегчением вздохнула, спустилась с помоста, накинула розовый халат, закурила сигарету и развернула газету. После пятнадцати минут отдыха она снова примет неподвижную позу. Феликс отложил карандаш, дождался, пока наставник отойдет на другую половину комнаты, и выскользнул за дверь. Двое студентов последовали за ним. — Вышел покурить? — спросил один из них, предлагая сигарету. — Нет, спасибо. Я лучше пойду домой. — Сегодня нам не повезло с натурщицей. Увидимся в понедельник. Они прошли мимо — с закинутыми на плечи пиджаками, держа руки в карманах. Феликс вышел на улицу. Накаленный воздух был сухой и горячий. После душной и жаркой студии легкий ветерок приятно ласкал лицо. Он решил пойти домой пешком. Феликсу нравились прогулки по Лондону. Он любил его безликие улочки, бесконечные вереницы человеческих лиц, проходящих мимо. Он быстро смешался с толпой. Достигнув Гайд-парка, Феликс повернул на север, медленно шагая вдоль тенистой аллеи. Он забыл о тех неудобствах, которые ощущал в студии, а немного позже и вообще перестал думать о художественном колледже. До дома еще было далеко. Его мысли уносились далеко от реального мира. Это было его обычным состоянием, когда он гулял. Как ни странно, Феликс чувствовал себя как рыба в воде на улицах города. Выйдя к Мраморной арке, он опять попал в струю уличного движения. Длинный подземный переход на Оксфорд-стрит отделял его от дома. Спустя некоторое время, выбравшись из туннеля, он оказался на маленькой площади, находившейся севернее от Оксфорд-стрит. Феликс посмотрел на окна своего дома и подумал о Джесси. Большинство домов на этой площади были заняты под офисы и различные мелкие компании и совсем мало — под жилье. Феликс подошел к довольно мрачному, стоявшему как-то отдельно от других дому и вошел в парадную дверь. Поднимаясь по лестнице, он слышал стук печатной машинки. Только это и нарушало тишину в доме. Он открыл ее и, сделав несколько шагов, зашел в комнату Джесси. Она сидела напротив окна. Потом мать Феликса повернулась и посмотрела на него. — Привет, утенок. Ты сегодня рано. Осмотрев комнату, он увидел на столе бутылку виски, и, судя по тому, что в ней осталось, стало ясно, почему она сказала, что он рано вернулся. — Почему ты так рано? Надеюсь, ты не пропустил занятия? Она разговаривала с ним как с маленьким мальчиком, хотя сама выглядела беззащитным ребенком. — Нет, — соврал он. — Я не прогулял. Мне просто жарко, и я зашел переодеться. — Ну хорошо, хорошо. Потом зайди ко мне, поболтаем. Я думаю, будет гроза. Ненавижу грозу, она напоминает мне о бомбежке. Ах да, ты же представления не имеешь, что это такое. Находясь в спальне, он слышал, как мать бормотала об ужасах войны. Феликс достал чистую одежду из шкафа, переоделся и причесал темные волосы. Джесси продолжала болтать и затихла только тогда, когда он появился в дверях. Она посмотрела на сына и произнесла довольным тоном: — Боже, да ты необыкновенно красив! Совсем как твой отец, только цвет кожи у тебя получше. — Ты что-нибудь ела сегодня? — поинтересовался он. Мать не ответила. — Я приготовлю суп. Она опять промолчала. В последнее время Джесси плохо ела. Кухня считалась владением Феликса. Здесь был идеальный порядок. Все — от маленьких шкафчиков до полок — он сделал своими руками и выкрасил в белый цвет. — Не сказала бы, что очень уютно, — фыркнула однажды Джесси. — Мне нравится. И потом, ты ведь не занимаешься стряпней! Он достал из кладовой миску и вылил содержимое в кастрюлю. Добавил туда сухой пасты и размешал. Когда суп закипел, он разлил его в голубые тарелки, которые купил в магазинчике на Бик-стрит, и поставил их на поднос. Добавив немного перца для вкуса, он поставил поднос перед Джесси, незаметно убирая со стола бутылку виски. — Тебе нужно это съесть, — мягко сказал Феликс. Несмотря на то что Джесси ела мало, тело ее с каждым днем становилось тяжелее и толще. Она с трудом передвигалась по квартире и редко выходила на улицу. Теперь в ее жизни были виски, случайные посетители и Феликс. Он ее любил и очень жалел, хотя знал, что связан по рукам и ногам. Он ухаживал за ней, как мать ухаживает за маленьким сыном или дочерью. — Чем ты занимался сегодня? — допытывалась Джесси. — Расскажи мне. Феликс стоял возле окна и смотрел на плоские деревья, растущие в небольшом сквере недалеко от дома. — Рисовали натуру. — Обнаженную женщину? — Да. — Должно быть, трудно было сосредоточиться? — Еще хлеба? — Какой ты смешной! Как у тебя дела в колледже? Как успехи в рисовании? Феликс не мог объяснить Джесси, что сам он толком не понимал, чем занимался в колледже. Его смущали не только натурщики, но и обстановка, пропитанная безразличием и навевающая тоску. Его раздражали всякие дурацкие упражнения, которые необходимо было выполнять и которые, как казалось Феликсу, не имели никакого отношения к рисованию и к тому, чем бы он действительно хотел заниматься. Ему хотелось вкладывать в работу все силы, целиком погрузиться в творчество и тем самым подчинить всю жизнь искусству. В колледже он не получал того, о чем мечтал. Феликс был тихим, незаметным учеником. Ему казалось, что после окончания школы он был намного счастливее, чем сейчас, работая весь день в итальянском магазине в районе Сохо (район французских и итальянских ресторанчиков и магазинов в Лондоне), посещая по вечерам художественную студию. По настоянию своего учителя он решил поступить в колледж искусств. Успешно сдав экзамены, Феликс стал учиться, мечтая стать хорошим художником. Он не мог поделиться своими мыслями с матерью, которая даже понятия не имела об искусстве. — Все хорошо, — ответил он. Джесси отодвинула тарелку. — Налей-ка мне чего-нибудь покрепче, сынок. Феликс наполнил стакан и протянул ей. — Так-то лучше. К счастью, у меня есть с кем поговорить. Не люблю тишину. — Почему бы тебе не послушать радио? Старый радиоприемник стоял на небольшой тумбочке в углу комнаты. — Слушать всю эту чушь? Шумную музыку? Нет. Твой отец любил слушать громкую музыку с утра до вечера. Когда-то мы танцевали под нее. Сколько лет прошло! А как сейчас помню. Воспоминания — единственное, что осталось у Джесси, и Феликс понимал это. В такие минуты он никогда не перебивал ее, хотя ему тоже было что вспомнить; они всегда жили на верхних этажах в домах, где постоянно звучала музыка, слышался смех, иногда крики и ругань. Феликс мог сидеть часами в ожидании матери, занимаясь любимым делом — рисованием. Работу Джесси заканчивала в разное время. Если она была одна, то спешила домой, хватала Феликса и тащила в какой-нибудь бар или кафе. В те дни у нее был хороший, здоровый аппетит. Обычно они съедали несколько яиц, бекон, сосиски и картофельное пюре. Иногда, когда Джесси была в хорошем настроении, они ходили в ресторан, и в то время как мать рассказывала смешные истории, Феликс познавал премудрости итальянской и китайской кухни. По вечерам они посещали клубы, которые были заполнены посетителями. В его памяти сохранились смутные воспоминания об этих прокуренных комнатах, где шторы на окнах закрывали дневной свет, где вокруг маленьких столиков сидели полупьяные мужики. Клуб под названием «У Джесси» просуществовал совсем недолго. Тогда мать хотела отправить его учиться в частную школу, но Феликс отказался. Вскоре их жизнь круто изменилась. Они остались без клуба. Джесси была вынуждена работать в ночном клубе. Мать и сын все реже проводили свободное время вместе. По вечерам Феликс оставался один. Он слушал музыку и рисовал, рисовал всегда, когда мог достать необходимые для этого материалы. Один из друзей матери, которого он знал под именем мистера Могриджа, говорил, что у него неплохо получается. Иногда он покупал Феликсу краски и бумагу. Именно мистер Могридж посоветовал поступить в художественную студию. Мальчик был благодарен ему за это, хотя в душе недолюбливал его. В свободное время, пока он не закончил школу и не начал работать в магазине, он любил гулять по Сохо, разглядывая магазины и лавки, в которых продавали всякие декоративные украшения. К Джесси ходили разные мужчины. Когда Феликс был маленьким, их было много. Число их заметно поредело, когда Джесси стукнуло тридцать и ее некогда стройная фигура потеряла былую красоту. Феликс знал, что в молодости его мать пела в ночном клубе и относилась к женщинам «легкого поведения», но она не была проституткой; Феликс знал некоторых продажных девиц в лицо, нескольких даже по именам, потому что он часто видел их на вечерних улицах Сохо и мог сравнить. У Джесси были знакомые мужчины, многие были ее друзьями, но не более того. Феликс старался не замечать их. Он отгонял мысли о том, чем они могли заниматься, когда оставались вдвоем. Оглядываясь назад, вспоминая переезды с одной квартиры на другую, постоянные ожидания матери, Феликс понимал, что он, должно быть, выглядел странным, замкнутым мальчиком, таким непохожим на Джесси. Несмотря на все трудности, которые встречались на их жизненном пути, она постаралась хорошо воспитать сына. Феликс был одинок, но никогда не чувствовал, что заброшен и забыт. У них не было много денег, но и милостыню они не просили. Об отце Феликс не вспоминал. Он знал, что Десмонд Лемойн и Джесси Джаб были женаты, что Феликс родился спустя два с половиной месяца после свадьбы. Мать всегда носила свидетельство о браке с собой, и, судя по документам, его отец был музыкантом, но каким — даже он толком не знал. Иногда она говорила, что он был великим саксофонистом, забытой звездой тридцатых годов. Потом вдруг он оказывался тромбонистом, а один или два раза — даже трубачом. — Он как ангел играл на саксофоне или тромбоне, а может, на трубе, — говорила Джесси. Затем со смехом добавляла: — Дес выглядел как ангел. Боже, до чего он был красив! Большой черный ангел! Десмонд был родом из Гренады. Феликс предполагал, что отец высокий, потому что сам вырос до шести футов. Цвет его кожи стал только легким отражением отцовской черноты. «Каким бы я мог родиться? — задумался Феликс. — Ангелом цвета холодного английского кофе?» Десмонд и Джесси встретились, когда вместе работали в клубе на Шавтсбери-авеню. Через несколько месяцев их знакомства она забеременела, а еще через несколько месяцев они поженились. Десмонд настаивал дать мальчику имя Кристиан. — Это счастливое имя, дорогая, — объяснял он. — Нам всем не хватает удачи. Джесси захотела назвать сына Феликсом. После рождения сына Десмонд исчез на целый год. — Отец путешествует с оркестром где-то на севере страны. Он никогда не вернется к нам, — говорила Джесси маленькому Феликсу. — Почему? — не мог понять мальчик. Он чувствовал, что ему не хватает отца. В шестнадцать Феликс уже мог оставить мать и жить своей собственной жизнью. Юноша мечтал о поездке в Рим или Флоренцию, где бы он мог найти какую-нибудь интересную работу, чтобы в свободное время рисовать. Но случилось так, что Джесси сильно заболела. У нее была пневмония с серьезными осложнениями. Феликс был уверен, что она умрет. Он сидел возле кровати, ожидая ее смерти, — все те же молчаливые ожидания, как в детстве, ожидания, которые разрушали его надежды и мечты. Это была неделя траура — умер король Англии. Не звучала музыка, нигде не было слышно смеха и веселья. Город словно навеки уснул вместе со своим монархом. Он не верил докторам, которые убеждали его, что мать будет жить. Она была такой слабой и немощной, что становилось больно при воспоминании о ее былой красоте. Джесси очень медленно поправлялась, как будто ее болезнь забрала все силы и надежды на выздоровление. Она вернулась в клуб, как только смогла, но работа утомляла ее. Даже посетители замечали ее слабость, хотя она старалась скрыть боль. Вскоре Джесси слегла снова. Болезнь затянулась надолго. В конце концов босс уволил ее. Феликс был в ярости, когда узнал об этом. Ему хотелось ворваться в клуб и набить этому ублюдку морду. — Не мучай себя, мальчик мой, — успокаивала его мать. — Это не стоит того. Через два месяца кризис миновал, и Джесси окончательно окрепла. — Мы можем переехать на другое место. Ты найдешь новую работу, — говорил Феликс. — Нет, в этом нет необходимости, — твердила она. Постепенно Джесси пристрастилась к выпивке. Ее тело стало похоже на разбухшую бочку. Друзья старались поддерживать Джесси, даже против ее воли. Одним из них был немолодой мужчина, который сдавал квартиры внаем. Джесси и Феликс с радостью приняли его предложение поселиться в одной из них за мизерную плату. Квартира находилась на площади Манчестер. — Это, конечно, не постоянное жилье, — сказал мистер Балл. — Но вы можете пока устроиться здесь, если это вам хоть как-то поможет. Они переехали на новую квартиру, и Феликс сразу же занялся ее переустройством. — Ты хорошо потрудился. Очень уютно, — похвалил его мистер Балл. Они уже жили в новой квартире в течение двух с половиной лет. Феликс услышал скрип кресла и тихое посапывание. Взглянув на мать, он увидел, что она крепко спит, свесив голову вниз. Он подставил под ее ноги маленькую табуретку, а под голову подложил подушку. Потом укрыл ее теплым одеялом. Убрав со стола и вымыв грязную посуду, Феликс накинул синий свитер, еще раз посмотрел на мать и вышел, тихо закрыв дверь. Гроза прошла мимо, небо было ясное. Незаметно день сменил вечер. Ни о чем не думая, Феликс гулял по улочкам города, пока не забрел в «Рокет-клуб». Задержавшись на мгновение у вывески, он все-таки решил туда заглянуть. Дома делать было нечего. Джесси наверняка спала, и он вполне может зайти выпить колы и послушать музыку. Он вошел в дверь и протянул деньги стоявшему рядом швейцару. — Вы один? — безразлично спросил тот. — Да, — ответил Феликс. Когда Феликс спускался вниз по лестнице, ему пришлось наклонить голову, чтобы не задеть низкий потолок. Он купил колу и сел за столик возле стены. Двух юных девушек молодой человек заметил сразу. Клуб пришелся ему по душе. Он не в первый раз посещал подобные заведения. Здесь можно было встретить совершенно разных людей: одних он знал, других видел впервые. Феликс не хотел надолго задерживаться, но атмосфера, царившая здесь, и те две подружки заставили его остаться. Ночь вступала в свои права. Людей становилось все меньше. Феликс пригласил на танец малознакомую девушку. Позже он присоединился к ее друзьям, которым очень понравился. Иногда молодой человек бросал взгляд на двух красоток, пока они не затерялись в толпе танцующих. Оркестр сыграл заключительную мелодию, и музыканты стали собирать инструменты. Несмотря на протест посетителей, клуб закрывался. Люди потянулись к выходу. На улице светало. Воздух был чист и свеж. Отойдя немного от клуба, Феликс остановился. Что-то заставило его повернуться. У дверей клуба он заметил двух уже знакомых ему девушек с чемоданами в руках. Они выглядели уставшими и растерянными. Не понимая почему, Феликс подошел к ним. — У вас все в порядке? — спросил он. — Не совсем, нам негде ночевать. Мы думали, что проведем эту ночь в клубе, но они закрыли его, — сказала одна из них. Толпа рассеивалась. Казалось, они были единственными людьми на сонных улицах. Мэтти посмотрела на Феликса. Высокий, худой, с темными вьющимися волосами — он чем-то напоминал иностранца. Его можно даже назвать красивым. — Вы не знаете, где можно остановиться? Только на одну ночь! У Феликса мелькнула мысль о своей квартире. Все его инстинкты предупреждали — ничего не предлагать девушкам, но воспоминания о том, как они выглядели в клубе, заставили его сдаться. — Там, где я живу, есть свободная комната. Она небольшая, но уютная. — После прошлой ночи любое место с крышей будет для нас дворцом, — сказала та, что повыше. — Куда нам идти? Он показал рукой, в какую сторону идти, взял чемоданы, и они пошли. — Эй! Да у вас здесь кирпичи, что ли? — Нет, только самое необходимое. Они добрались до площади, когда свет сменился с серого на золотой. Феликс посмотрел на окна Джесси: шторы были раскрыты. — Я живу с матерью. Та, которая называла себя Мэтти, улыбнувшись, сказала: — Мамы не очень нас жалуют. — Моя не из таких. Феликс открыл дверь, и они зашли в холл. Тут едва хватало места троим. Скрипнула дверь комнаты — показалась Джесси. Мэтти стояла за спиной Феликса, поэтому могла видеть только полную пожилую женщину, которая тяжело дышала. А Джулия, стоявшая ближе, заметила ее больные бесцветные глаза и недружелюбный взгляд. — Кто эти девушки? Феликс подошел к ней и что-то тихо объяснил. — Они не могут остаться. Мы не сдаем комнаты. За последние годы Джесси стала недоверчивой, ее больше не привлекали незнакомые люди. — Только на одну ночь, пожалуйста, — попросила одна из них. Джесси внимательно рассмотрела девушек. Они показались ей совсем детьми. — Чтобы завтра в двенадцать вас здесь не было. И никакого шума! — Конечно, мы будем очень тихо себя вести. Джесси повернула свою мощную спину и скрылась в комнате. В комнате, которую показал им Феликс, была одна кровать со старым потертымматрацем. Он принес подушки и одеяло. Девушки вежливо поблагодарили его и упали на кровать прямо в одежде…— Где вы живете? — спросила Джесси. Мэтти и Джулия спали шесть часов и проснулись около двенадцати. Они попытались пробраться в ванную, но Джесси трудно было провести. — Не болтайтесь под ногами, — крикнула она. — Зайдите ко мне в комнату, я хоть посмотрю на вас! Потом вы можете быть свободны и оставить нас с миром. Подруги стояли перед ней, как провинившиеся перед директрисой школьницы. Разглядывая комнату, Джулия обратила внимание на множество фотографий на стенах. Почти на всех была мать Феликса, окруженная друзьями. Две совершенно разные женщины смотрели на нее: одна — молодая красавица, другая — старая, огрубевшая и уставшая. — У вас должен быть свой дом, — настаивала Джесси. — Почему вы явились ко мне среди ночи? Хотя скорее нужно винить моего парня за то, что он привел вас сюда. Феликс был на кухне. Он громко стучал тарелками. Этот стук напомнил, что они ужасно голодны. — Я слушаю вас, леди. Джулия решила сказать ей правду. — Нам негде жить в данный момент, — сказала она, — прошлую ночь мы спали на набережной. Эту ночь мы хотели провести в ночном клубе, но под утро он закрылся, нам некуда было податься. — Понимаю. — Феликс пожалел нас и привел сюда. — А теперь я хочу знать, почему вы спали на набережной. Очень быстро и коротко Джулия объяснила причину их приезда в Лондон. Из рассказа следовало, что Мэтти поссорилась с отцом из-за позднего возвращения домой. Маленькие глазки Джесси с любопытством посмотрели на Мэтти. Когда Джулия закончила свой рассказ, Джесси сказала: — Теперь все ясно. Надеюсь, вы поняли, что значит слоняться по незнакомому городу без денег, без жилья, и вернетесь домой. — Нет. Мы не вернемся, — смело произнесла Мэтти. — У нас есть работа. Как только мы получим зарплату — мы снимем квартиру. Они выглядели подавленными, до конца не проснувшимися, с размазанными от косметики глазами. Их странная одежда помялась во время сна. Что-то в них было такое, что трогало. Возможно, тот небольшой опыт, который они получили, блуждая по ночному городу. В то же время в их поведении проявлялись твердость и уверенность в себе. Поведение девушек, манера держаться напомнили Джесси о многом. Она подумала о друзьях, которых она уже никогда не увидит. — Черт возьми! Вам нужно выпить и поесть перед тем, как я выкину вас отсюда! Феликс! Принеси что-нибудь выпить! Феликс вошел в комнату, улыбаясь и держа поднос с четырьмя стаканами. — Вот пиво и виски, — сказал он. Девушки вопросительно посмотрели на Джесси. — Лучше попробуйте виски. Это пиво напоминает вкус мочи. Выпьем за свободу! Ну, не стесняйтесь. Я ненавижу пить одна. Джулия и Мэтти глотками отпили из своих стаканов. — Феликс, разве ты не присоединишься к нам? Девушки почувствовали, как виски обожгло их пустые желудки. Им стало хорошо. Джулия ходила по комнате и разглядывала фотографии. — Кто они? Друзья? Как их много! Я за свою жизнь не встречала столько людей. — Были друзьями. Большинство из них уже мертвы. Некоторые, как и я, в одиночестве проживают оставшиеся деньги. Но когда-то мы хорошо проводили время. Посмотри на фотографию, рядом с той — Джекки Гордон, боксер. Я познакомилась с ними там, где работала. Чего я только не видела в своей жизни! — Расскажите нам. Джесси устроилась поудобнее в кресле. Феликс пошел на кухню. Теперь, когда мать была довольна, он спокойно мог взяться за приготовление завтрака. Он быстро сделал салат, нарезал ветчины и собирался жарить омлет, как вдруг заметил Джулию, стоявшую у двери. — Извини. Я не хотела тебе мешать. Я зашла сказать «спасибо». Из комнаты Джесси доносился какой-то странный голос, потом они догадались, что это была Мэтти. Она кого-то пародировала. — Это я должен благодарить вас за маму. Она давно не рассказывала никому свои истории. — Она у тебя славная, — заметила Джулия, — и ты молодец. Я тоже научусь когда-нибудь готовить. — Ты не умеешь? — удивился Феликс. — Мама пыталась меня научить. — Давай накрывать на стол, Джулия. В первый раз он назвал ее по имени. Они смущенно улыбнулись друг другу. Джулия взяла ножи и вилки из плетеного подноса, а Феликс достал из-под раковины темно-красную бутылку вина. — Давай попробуем это, а мама пусть пьет свое виски. Завтрак был замечательный: Феликс покрыл стол белой скатертью, Джесси сидела во главе стола, а Мэтти и Джулия по бокам. Они слушали продолжение историй. Девушки никогда раньше не пили вино, а выпив, расхрабрились и болтали всякую чепуху. — У меня есть еще один тост, — сказала Джесси. — Более важный. Феликс разлил оставшееся вино и добавил виски Джесси. Она подняла стакан и торжественно произнесла: — За дружбу! — За дружбу, — повторили все. — Я не представляю, как после этих слов я могу выкинуть вас на улицу. Девушки ждали, что она скажет дальше. — Оставайтесь с нами. Пока вы не снимете себе квартиру. И ни минутой позже! Она посмотрела на Феликса, потом на Джулию и Мэтти. — Ни минутой, — сказал Феликс. — Отлично! Все дружно расхохотались. (обратно)
Глава третья
В понедельник по дороге на работу Мэтти и Джулия отыскали телефонную будку и втиснулись в нее. — Хочешь я поговорю с ними? — спросила Джулия. — Нет, я сама. Она набрала номер местной полиции и объяснила человеку, сидевшему на проводе, что ей нужно сообщить ему что-то очень важное. Мэтти говорила медленно и тихо: назвала фамилию отца, его адрес, имена и возраст своих братьев и сестер. — Детям небезопасно оставаться в доме. Я это точно знаю. Пожалуйста, пусть за ними кто-нибудь присмотрит. Джулия слышала, как голос мужчины пытался получить от подруги побольше информации. — Извините, мне больше нечего сказать. Расстроенные девушки вышли из телефонной будки. Мэтти дрожала. — Я бросила их, предала, — произнесла она. — Перестань себя мучить. — Мне не следовало покидать детей. Фил только семь. В то же время я не могу оставаться с отцом. А вдруг он попытался бы опять… Мэтт погрузилась в свои мысли. «Моя вина, только моя вина. Но если бы я вернулась и он сделал это опять?..» Ей казалось, что там был нож, что она его видела, он лежал на столе. «Возможно, я слышала крик (мой собственный или отца?). Я видела кровь… О Боже!» Джулия взяла ее за руку. — Мэтти, все хорошо. — Ты уверена? Она вынуждена была уйти. После такой сцены, когда отец вел себя как последний негодяй, после его жестокости Мэтти вспоминала о нем то с жалостью, то с отвращением. Джулия была права: она не могла там оставаться. — Ты сделала все, что возможно. С тех пор, как умерла твоя мать, ты заботилась о семье. А сейчас пусть Роззи примет участие в воспитании братьев и сестер. Мэтти ничего не ответила, а Джулия продолжала: — Твоя жизнь не принадлежит им, она принадлежит тебе. Ты не можешь быть всем для всех. — Да, возможно, ты в самом деле права, — успокаивалась Мэтти. — Мне бы хотелось думать, что я так же реально смотрю на жизнь, как и ты. В действительности Тед оказался обыкновенным ничтожным подонком. — Мэтти впервые за эти дни произнесла имя отца. Оно словно слетело с ее губ. — Надеюсь, я сделала правильный выбор. Она выглядела бледной и растерянной. Джулия хотела добавить к своим словам что-нибудь убедительное, доказать, что она все понимает, но не могла. Она не представляла даже, каким мог быть в минуты ярости и гнева Тед Бэннер. Пропасть между тем, что произошло с Мэтти, и мелкими семейными неурядицами у Джулии была слишком очевидна. — Все будет хорошо. Я знаю, — уверенно сказала Джулия. — Пойдем лучше на работу. Ты — продавать обувь, я — печатать счета. — Увидимся вечером, дома. «Дом» — это слово так ласкало слух. Феликс, Джесси, маленькая уютная квартирка разделяли сейчас девушек и набережную. Это было хорошим началом. Джулия видела, как светлые кудряшки Мэтти мелькали среди толпы, наконец она повернулась и быстрым шагом пошла в офис. Чем бы ни занималась Джулия на работе, она не переставала вспоминать прошедшее воскресенье, которое так весело провела со своими новыми друзьями. Весь день они просидели за столом, шутя, смеясь, рассказывая забавные истории из жизни, пока, наконец, не выпили все вино. Говор Джесси незаметно перешел в какое-то невнятное бормотание, а потом она неожиданно уснула.Джесси все больше и больше нравилась девушкам. Она рассказывала им о муже: «Дес играл на саксофоне, милочки, в очень известных оркестрах. Представьте себе: он был красивее сына. — Она указала головой на стоявшего у окна Феликса. — А Феликс, глупый, не умеет пользоваться своей красотой». Джесс поведала им о других своих любовниках. Она рассказывала о них с таким необычным энтузиазмом, что Мэтт и Джулия были просто поражены. О девушках (в районах, где они жили) ходили всякие грязные слухи, хотя в действительности подобные обвинения были совершенно необоснованны и нелепы. Частенько Джулию задевал один парнишка из технического колледжа, который напоминал ей известного актера. Он отпускал всякие колкости в ее адрес, заставляя краснеть и смущаться. Каждый раз она давала себе слово ответить ему тем же, но у нее ничего не получалось: язык немел, а заготовленные дома слова улетучивались. Мэтти не удавалось вывести из себя. Ее колкий язык и достаточный запас «нехороших» слов плюс находчивость и острый ум всегда ставили обидчика на место. Но рассказы Джесси позволяли им окунуться в мир, который никогда раньше не видели. Это притягивало, соблазняло их своей таинственностью и неприличием — полутемные прокуренные комнаты, наполненные стаканы, разукрашенные до безобразия женщины, странствующие музыканты. Девушкам казалось, что это был мир, в котором ты можешь делать все что хочешь, наслаждаясь сам и удовлетворяя других. В то время как Мэтти и Джулия слушали затаив дыхание рассказы о невероятных приключениях Джесси, Феликса все эти байки из жизни матери просто раздражали. Если бы он захотел, то мог бы написать не один том захватывающего романа. — Я прожила интересную жизнь, мне нечего жаловаться. Хочу дать вам маленький совет: если вы будете уверены в себе, если ваша дружба выдержит невзгоды и испытания судьбы, то вы будете счастливы. Не поступайте так, чтобы потом вам пришлось об этом жалеть. Плоть глупа, по дороге жизни вас должен вести разум… Взгляды девушек встретились. Они молча смотрели друг на друга. Их молчание прервал громкий храп Джесси. Феликс тихо поднялся, подложил ей под голову подушку, поднял ноги на табуретку и накрыл одеялом. Джулия собрала пустые бутылки, намереваясь их выбросить. Она видела, как Феликс с особой тщательностью очищал тарелки от оставшейся еды. — Неужели она одна выпила столько спиртного? — спросила Джулия. Феликс грустно посмотрел на нее. — Это ее слабость, но я не собираюсь читать ей мораль — бесполезно. Джесси не относилась к тем людям, которым можно что-то диктовать, навязывать свою волю и мнение. Она всегда поступала так, как подсказывало ей сердце. Джулия предложила прогуляться. Глядя со стороны, можно было подумать, что эти трое — закадычные друзья. Феликс привел девушек в парк. Гуляя по саду «Королевы Марии», они вдыхали томительный и сладостный аромат чайных роз. Разговор шел ни о чем, болтали о разных вещах: что им нравится, во что верят, вспоминали детство, не замечая, как их дружба крепла с каждой минутой.
— Что вы делаете, мисс Смит? Нехотя оторвавшись от своих мыслей, Джулия увидела перед собой начальницу, которая строго смотрела на задумавшуюся девушку. — Простите, — пробормотала она, возвращаясь к своей работе. Джулия начинала ненавидеть бухгалтерские дела. Она не могла долго заниматься однообразной работой. Это ее утомляло. К концу дня она уставала настолько, что при печатании делала ошибки почти в каждом слове. Работоспособность других девушек удивляла. Казалось, они готовы не отходить от машинок ни днем, ни ночью. В этом было что-то неестественное. Каждый день Джулия с любопытством разглядывала своих соседок — они носили светлые кофточки, застегнутые на груди на все пуговицы, красили губы помадой розового цвета, накладывали на глаза голубые тени, пудрили носики, некоторые выставляли напоказ золотые обручальные кольца. Когда Джулия появилась в офисе первый раз, девушки уставились на нее как на привидение. Они с неприязнью рассматривали ее платье темно-коричневого цвета и плоские, такого же цвета туфли-лодочки. Мэтти и Джулия обычно пользовались косметикой светлых тонов, слегка подрисовывая в уголках глаз едва заметные стрелки, ресницы подкрашивали темной тушью. Не понимая почему, Джулия наградила их кривой усмешкой. Она осознавала, что выглядела среди них как белая ворона, но ее молодость и наивность не позволяли до конца оценить подобное отличие, чтобы преподнести его с гордостью и уверенностью. Несмотря на чувство одиночества, Джулия отказалась от мысли подружиться с ними. «Это ненадолго, — в сотый раз говорила она себе. — До тех пор, пока я не найду место получше». Мэтти тоже была не в восторге от своей работы. Она утешала себя тем, что работа позволяла ей наблюдать за женщинами, которые приходили в магазин каждый день. Она обращала внимание на все: как они сидели, ходили, разглядывали себя в зеркале; как они относились к ней и к другим продавцам, — при этом вынашивая в себе определенную мечту. Мэтти покупала журнал «Сцена» и внимательно просматривала маленькие объявления. «Требуется: одна ведущая актриса, два актера, два подростка. Опыт. Приступать немедленно». Для нее за этими буквами скрывалась вся прелесть закулисной жизни. «Опыт? Здесь могут появиться трудности», — размышляла она. До побега из дома Мэтти посещала любительский театр, который дважды в год ставил пьесы вроде «Питера Пэна» или «Тетушки Чарльза». Группой руководила незамужняя учительница. Она критиковала все, что делала Мэтти, считая, что у нее нет способностей. Эта «старая дева», так называла ее Мэтт, сводила до минимума ее роли, несмотря на огромное старание и энтузиазм. У нее не было сценического опыта. Читая журнал, Мэтти глотала каждое слово, мечтая, что когда-нибудь ее будут называть «ведущая актриса». Квартира на площади Манчестер стала для подруг убежищем. Она была такой маленькой, что им ничего не оставалось, как проводить вечера в комнате матери Феликса или в своей спальне. Джесси ждала появления девушек с работы и, как только слышала их голоса, звала к себе. — Идите сюда. Я полюбуюсь вами. Расскажите, что происходит в мире, и налейте мне выпить, раз уж вы здесь. Джулия и Мэтти успели узнать вкус виски. Но все это делалось под строгим надзором Джесси, и то, что оставалось в бутылке, не приносило им вреда. На свою первую зарплату они купили хозяйке две бутылки виски и пару нейлоновых чулок. — Что это вы хотите со мной сделать? — спросила та, делая вид, что рассердилась. Девушки сразу же заставили Джесси примерить чулки. У нее были на удивление симпатичные лодыжки. — Я сделаю вам прическу, если хотите, — предложила Мэтти. — Разве мои волосы не в порядке? — Увидите, какими они станут, когда я кое-что подправлю. Джесси была любопытной женщиной от природы. Ее интересовало все, что касалось девочек. В перерывах между своими историями, взяв «тайм-аут», она расспрашивала их о жизни, родителях, друзьях. При этом она проявляла искреннюю заинтересованность и понимание. Джулия описала Бетти и Вернона, рассказала о случае со звездочками, которыми оклеила свою спальню, о первом свидании в кинотеатре. Бетти запрещала ей встречаться с парнями, а тем более ходить с ними в кино. Глупо, конечно, на мать считала, что ее дочь еще мала для свиданий, хотя Джулии было уже четырнадцать. Девушке приходилось врать и пользоваться разными уловками. Если она появлялась у ворот с провожавшим ее парнем, Вернон выбегал на улицу, хватал ее за руку и загонял домой, потом возвращался и о чем-то резко разговаривал с ее спутником. Джулия оказывалась под присмотром Бетти, которая не позволяла ей вмешиваться в разговор. Когда Джулия вспоминала о своей первой любви, ей показалось, что она переживает все заново, что она ощущает неловкие, неумелые, но приятные объятия того парнишки, его первый робкий поцелуй. Ей почему-то стало стыдно, когда они спустя некоторое время случайно встретились. Джесси вздохнула. — Не переживай! У тебя в жизни будет еще не одна любовь. Я понимаю твоих родителей. Думаю, они желали тебе только добра. По-своему, конечно. — А как бы вы поступили? Джесси рассмеялась. — Отшлепала бы тебя по одному месту за вранье. Мэтти тоже рассказала о своей семье. Джесси узнала о Рикки и Сэме, Мэрилин и Фил, об их особенных талантах, семейных проделках, когда они были совсем маленькими. — Ты не расскажешь мне о своей маме? — Я же говорила, она умерла три года назад. — Скучаешь по ней? — Да… Нет… Не знаю. Она любила нас, но постоянно болела, поэтому мне и Роззи приходилось за всем следить. — А твой отец? — Он в порядке. Когда речь заходила об отце, Мэтти отводила взгляд в сторону, а иногда под каким-нибудь предлогом выходила из комнаты. Джесси не задавала больше вопросов о нем. Если Мэтти не хотела говорить — это ее личное дело. Когда она снова появлялась в комнате, Джесси с улыбкой говорила: — Вот моя малышка! Она не стеснялась показывать свои чувства, свое теплое и нежное отношение к девушкам. Для Джулии были непривычными ее объятия и поцелуи. Ни Бетти, ни Вернон никогда не проявляли особого желания обнять ее, прижать к себе. — Я обожаю «телячьи нежности», — призналась Джесси. — А вот Феликс не любит, когда я «тискаю» его, как он говорит. Он был ласковым, милым мальчиком в детстве, а сейчас стал таким жестким. С Феликсом на самом деле было трудно ужиться, особенно в первое время. В один из вечеров девушки обнаружили его в своей комнате. Он с возмущением смотрел на беспорядок, царивший там: одежда лежала разбросанной на кровати, на тумбочке валялась косметика, на полу — разорванные куски газеты вместе с обувью. — Вы всегда так живете? — спросил он. Мэтти привыкла к беспорядку, а вот Джулия создавала его искусственно, назло матери. — Всегда, — дуэтом ответили подруги. — Только не здесь, — холодно сказал Феликс, наблюдая, как они послушно собирали свои вещи и раскладывали по местам. Глядя на это, он добавил: — В ванной полно замоченных носков, чулок и других вещей. Не забудьте про них тоже. — Ты говоришь о лифчиках и панталонах? — ехидно спросила Мэтт. Ей хотелось подразнить его. — Я знаю, как они называются, спасибо. Просто не оставляйте их развешанными повсюду. Девушки пытались шутить с ним, но чаще шутки оказывались не к месту. Они решили быть помягче с Феликсом. Джулия больше привязалась к нему. Она восхищалась его умением одеваться, вести себя. Она могла подолгу наблюдать за ловкими движениями его рук, когда он готовил на кухне. — Когда-нибудь я научусь так же проворно, как и ты, справляться со всеми этими штучками. Феликс отложил нож в сторону и внимательно посмотрел на Джулию. — Почему бы не начать прямо сейчас? Он расчистил для нее место на столе. Ученица пыталась повторить за учителем все, что он делал, но ничего не получалось: мясо выскальзывало из ее рук, а разделочная доска крутилась во все стороны. — Нет, смотри, как надо. Феликс подошел сзади, крепко взял ее руку, в которой был нож, и аккуратно, тоненькими кусочками нарезал мясо. Когда Мэтти и Джулия оставались вдвоем, они обсуждали молодого хозяина. — Он не кажется тебе странным? — Нет. Парни все такие. — Но Феликс не такой, как все. Он — особенный. Однажды днем Феликс зашел к девушкам в комнату. Они лежали на кровати, в руках Мэтт был журнал «Сцена», а Джулия читала «Унесенные ветром». Молодой человек взял лист бумаги и стал рисовать их. Закончив работу, он позволил им посмотреть на нее. Наступило молчание. Они разглядывали рисунок. Набросок был сделан кривыми неряшливыми линиями. Мэтти изображена худой, нескладной, с торчащими бедрами; волосы редкими кудряшками свисали до плеч. По сравнению с ней Джулия была злее, с темным хмурым лицом. — Не очень уж ты старался изобразить нас красивыми, — сказала Джулия. — Это все, что вы хотите от жизни? Быть красивыми? И только? — Конечно. — Природа и так наградила вас красотой, только вы не умеете ею пользоваться. Любопытство моментально победило недавнее раздражение. Девушки подсели к Феликсу, Мэтти обняла его за плечи, как когда-то Рикки и Сэма. — Научи нас, если ты такой умный. — Может быть. Джулия взяла рисунок и прикрепила его к себе над небольшим камином. В тот же вечер все трое отправились в ночной клуб. Перед выходом девушки показались Феликсу, чтобы тот оценил их внешний вид. — Слишком много этой дряни на лице, — сделал он заключение. Они смыли косметику с лица и позволили ему накрасить себя. Джулия закрыла глаза, пока он работал над ее лицом. Когда все было закончено, она понеслась в ванную и уставилась на себя в зеркало. — Я ничего не вижу. Как будто мы только проснулись, — сказала Мэтти. На самом деле девушки выглядели моложе, чем казались в действительности, и не такими, какими хотели бы быть. — А что с Одеждой? Вам нужно купить по одной хорошей вещи вместо ста ненужных. — Это глупо. Если покупать много дешевых нарядов, то их можно менять каждый день, — протестовала Мэтти. Джулия поняла смысл слов Феликса. Сам он обладал небольшим количеством тряпок. У него было два вязаных жакета, синий и черный, очень хорошего качества костюм, брюки и пиджак модного покроя. Обувь для выхода он покупал в дорогом итальянском магазине и держал ее отдельно от повседневной. Феликс всегда выглядел безупречно чистым и элегантным. Джулия не могла не заметить различия между ними в манере одеваться. — Желаю вам хорошо повеселиться, — крикнула им вслед Джесси. — Господи, как бы я хотела вернуть свои годы! Они зашли в клуб, держась за руки. Подвальчик притягивал их, как родной дом. Девушки сразу же окунулись в звуки музыки, смешиваясь с толпой. Некоторое время Феликс держался в стороне. Он столько раз бывал в ночных клубах. В отличие от Джулии и Мэтт его здесь ничто не удивляло — все было знакомо. В прошлом ему очень хотелось иметь друзей, с которыми он мог бы весело проводить время в таких клубах. Сейчас ему казалось, что у него есть такие друзья, несмотря на то, нравились они ему или нет. Иногда он жалел, что познакомился с девушками. Их вторжение в его маленькую квартирку нарушало привычную тишину и покой. Но за те дни, которые они прожили у них, Джесси повеселела, у нее появилась возможность почувствовать, что ее богатый жизненный опыт может кому-то пригодиться. Феликс был благодарен им за это. — Не стой там. Иди потанцуй со мной, — позвала Мэтти. Феликс взял ее за талию и почувствовал мягкость ее тела под своими пальцами. Он был рад, что именно Мэтт пригласила его. В присутствии Джулии Феликс слегка терялся, в нем зарождались непонятные чувства. Он наблюдал за движениями ее узких бедер, когда она поднималась по ступенькам, и поймал себя на том, что хочет дотронуться до них, погладить ее гибкую спину, поцеловать тонкую шею. Феликс был трусоват, поэтому держался на расстоянии от девушки, скрывая свои желания. Неожиданно Джулия заметила Джонни Фловера. На нем был черный кожаный пиджак и светлые брюки. Он тоже увидел Джулию и подошел к ней. — Я же сказал, что всегда рядом. — Да, но у меня с собой нет денег. Подруги успели растратить все деньги. Джонни скривился. — Потанцуй со мной, и будем считать, что мы квиты.
На следующий день у Мэтти был выходной. Время тянулось медленно, но он все же наступил, и она точно знала, куда поедет в это утро. Не сказав ни слова никому, даже Джулии, Мэтт незаметно вышла из дома и направилась к железнодорожному вокзалу. В кассе она купила билет и села в поезд. Она шла по знакомым серым улицам привычным для нее маршрутом. Мэтт подошла к своему дому. Окна были закрыты, никто не подумал о том, чтобы открыть их. Она открыла дверь и почувствовала запах подгоревшего молока. Отца в помещении не было. В доме царила странная тишина. «Где дети? Что он с ними сделал?» Сделав несколько неуверенных шагов, Мэтти заколебалась: то ли ей остаться, то ли развернуться и убежать прочь. И вдруг она услышала грохот, доносившийся из комнаты Рикки. — Рикки! Рикки! Его голова показалась в дверном проеме. — Мэтти? — Да, это я. С тобой все в порядке? — Конечно. Где ты была? Рикки спустился вниз, и они обнялись. — Где он? — спросила Мэтти. — На работе. Чего ты боишься? — Ничего я не боюсь. Пойдем на кухню, выпьем по чашечке кофе. — Там небольшой беспорядок, — предупредил брат. На кухне действительно был беспорядок. В раковине лежала гора грязной посуды, на столе рассыпаны крошки хлеба, валялись остатки еды, ведро для мусора было переполнено, из него отвратительно несло. — Рикки?! — Нам это не мешает. «Похоже, что так. Ты ушла от них и не имеешь никакого права в чем-либо упрекать их», — подумала Мэтти. Она убрала со стола, налила в чайник воды и поставила на огонь, вымыла две чашки и нарезала хлеба. Свежего молока в доме не было, и им пришлось пить обыкновенный кофе. Рикки рассказал, что произошло. Однажды к ним пришла какая-то женщина из полиции. Сначала Тед не захотел с ней разговаривать и велел Сэму сказать, что его нет. Но она вскоре вернулась и осталась его ждать. Потом она побеседовала с Мэрилин и Фил. Наконец появился Тед. Детей выгнали из комнаты, но они слышали, как Тед громко кричал и ругался. Когда женщина ушла, он зашел в детскую. — У него был такой страшный вид, — глотая слова, говорил Рикки. Мэтти не нужны были подробности внешнего вида ее отца, она прекрасно его знала: достаточно было вспомнить тот вечер на кухне. Женщина объяснила ему, что Мэрилин и Фил необходимо отдать на воспитание родственникам, в более подходящие условия, а если те откажутся, то их комитет сам займется расселением детей. «Рикки и Сэм смогут заработать себе на жизнь», — думала Мэтт. — Теперь малыши живут у Роззи. Там им лучше, чем здесь. — Я знаю. — Эта женщина спрашивала о тебе. Отец сказал, что ты сбежала и он не знает куда. Мэтти быстро встала. — Я иду к Роззи. Не хочешь со мной? Роззи жила не очень близко от дома отца. Они выбрали самый короткий путь, через сады. Дом сестры был похож на рядом стоящие здания. Было заметно, что его недавно покрасили, и на окнах росли цветы в горшках. Дверь открыла Роззи. На ней был легкий шелковый халатик с едва застегивающимися на животе пуговицами. Она была на восьмом месяце беременности. — Итак, ты вернулась? — сухо спросила она. Мэтти кивнула. Девушка ожидала именно такой прием от сестры. Роззи шел девятнадцатый год, уже два с половиной года, как она замужем за механиком, своим бывшим дружком. Вскоре после свадьбы у них появились проблемы, вся прелесть их частых школьных свиданий давно прошла. Сейчас они были связаны друг с другом только детьми, ни о какой любви и нежности речь давно не шла. Да еще они вдруг узнают, что должны заботиться о младших сестрах Роззи. Мэтти все понимала, поэтому чувствовала свою вину. — Я пришла убедиться, что у вас все хорошо. И еще извиниться, — тихо добавила она. — Извиниться?! Наступило молчание. Потом Роззи кивком головы пригласила ее в дом. — Что ж, входи. Фил! Мэрилин! Мэтти здесь. Девочки выбежали из сада и бросились навстречу Мэтт. Она, схватив их в охапку, крепко обняла и поцеловала. Сестры были счастливы, а это уже кое-что значило. Мэтти долго с ними разговаривала, задавала вопросы. Потом Рикки увел девочек в их комнату. Мэтт и Роззи остались на кухне одни. — Тебе нужны деньги? Я могу присылать вам часть моей зарплаты. — Нам всегда они нужны, хотя Тед дает достаточно денег для девочек. Так что придержи свою зарплату при себе. Прошло больше часа, и Мэтти пора было возвращаться. Ей не хотелось прощаться с родными, потому что она знала, что это причинит ей боль. — Поцелуй их за меня. Скажи, что я навещу их, как только смогу. Выйдя на улицу, Мэтти быстрым шагом пошла на станцию. Старый вдовец из дома на углу косил на лужайке траву, запах которой смешивался с запахом растущих в саду цветов. Впереди она заметила знакомую мужскую фигуру, выходившую из-за угла. Это был ее отец. Он шел по направлению к ней. Мэтти хотела свернуть куда-нибудь и убежать, но было уже поздно. Отец увидел ее. Не сводя с нее глаз, Тед приближался быстрыми шагами. В руках он нес кулек с конфетами и пакет кукурузных хлопьев для детей. Он подошел настолько близко, что Мэтт ощутила его запах. — Ты собиралась удрать от меня, даже не поговорив? Я ведь еще твой отец. — Оставь меня. Мне нужно идти. — Куда? Здесь твой дом. Это ты наслала на меня ту бабу из комитета? Отвечай. Ты? — Я не могла оставить Фил и Мэрилин с тобой. — Ты что же думаешь, что я зверь? — Я знаю тебя очень хорошо. — Я хотел извиниться перед тобой, но ты не дала мне шанса. Ей стало жалко отца. За это время Тед еще больше постарел, на его лице прибавилось морщин. Но она любила его и не могла ничего с собой поделать. — Мне нужно идти, — повторила Мэтти. — Идти куда? Я подумал, что ты вернулась. Мы не справляемся без тебя. Мы… — Тебе придется справляться, — перебила его дочь. — Всем вам придется. «Я не собираюсь посвящать вам свою жизнь. Я не хочу опуститься до такого состояния, как Роззи. Не хочу и не могу. Я заслуживаю лучшего. Сейчас я свободна», — думала Мэтт. — Иногда я буду приезжать к детям. — А как же я? — А что ты? С тобой ничего. Разве ты не понял, почему я ушла? Мэтти обошла его стороной и бросилась бежать. Она бежала сколько могла, потом, обессиленная, пошла шагом до самой станции. Вынув билет из кармана, она сжала его в кулаке. Поезд не опаздывал, Мэтти вошла в вагон и заняла свое место. Всю дорогу она вспоминала встречу с сестрой и отцом. «Я добьюсь своего. Я буду счастлива и богата. Я никогда не вернусь домой, в этот жалкий мир». Эти мысли не давали покоя. Мэтт заключила сделку сама с собой. Немного успокоившись, она отклонилась на спинку сиденья, наблюдая за однообразным серым пейзажем за окном.
Устроить вечеринку было идеей Джулии, но Мэтти с радостью согласилась помочь. В последнее время с ней творилось что-то странное. Чем бы подруги ни занимались, что бы ни придумывали — Мэтт загоралась буквально сразу. — Вечеринку для Джесси? Конечно, мы просто обязаны ее сделать. Послушай, давай устроим сабантуй наподобие того, о котором в последний раз рассказывала Джесс. Пригласим несколько наших знакомых, попросим Феликса найти старых друзей Джесси. Подготовка к вечеру занимала все свободное время. К удивлению Джулии и Мэтти, даже Феликс подключился к ним. — Вечер будет проходить у нас дома. Мама не захочет никуда идти. Я сам займусь приглашением друзей, потому что я лучше знаю, кого она хотела бы видеть. Все держалось в тайне до тех пор, пока друзья могли это скрывать. Они были слишком возбуждены, и им не терпелось поделиться с Джесси. — Что за глупости! Я уже вышла из этого возраста! Но по тому, как засияли ее глаза, девушки поняли, что эта идея пришлась ей по душе. Феликс обещал позаботиться о закуске. Джулия и Мэтти не придавали этому особого значения, они думали, что могут обойтись только бутербродами. Заготовленных бутылок виски, как сказал Феликс, тоже будет недостаточно. — Скажите всем, чтобы принесли с собой по бутылке, — посоветовал он. — Что будет с музыкой? — спросила Мэтти. Старый магнитофон Феликса был ненадежным, в квартире не было пианино, поэтому мечты Джулии и Мэтти о музыканте, который мог бы сыграть, были совершенно напрасны. — Не волнуйтесь. Придет Биш, — ответил Феликс. Они много слышали о нем из рассказов Джесси. Фреди Бишоп играл на губной гармошке. В день готовящейся вечеринки Феликс рано встал и пошел в Сохо. Он вернулся с двумя огромными корзинами и закрылся на кухне. Мэтти и Джулия переставляли мебель в комнате, освобождая место для праздничного стола. Затем они принялись приводить в порядок Джесси. Хорошенько изучив ее гардероб, девушки доставали одно понравившееся им платье за другим, предлагая ей на выбор. — Вы напрасно тратите время. Ни одно из этих платьев не налезет на меня сейчас. — Почему? Посмотри на эту красную юбку, она довольно широкая. Примерь. А вот и блузка к ней. Когда ты носила такие замечательные вещи? — В молодости, утята, в молодости. Мэтти сделала Джесс прическу и слегка подкрасила своей косметикой. С кухни доносились ароматные запахи. Пока Феликс проявлял свои кулинарные способности, подружки накрывали на стол. Когда все было готово, они наконец занялись собой. Мэтти сшила себе платье из дешевой темно-зеленой тафты. На последние деньги она купила туфли на высоком каблуке. Когда она их надела, то стала такой же высокой, как Джулия. Джулия не любила шить. Она решила выбрать что-нибудь из своих старых платьев, но когда они копались в шкафу Джесси, ей приглянулось красное шелковое кимоно. Джулия обкрутила его вокруг себя, затягивая как можно сильней, пока не превратилась в тонкую яркую щепку. Там же, в шкафу, она нашла черный шелковый платок и перевязала им талию. Волосы Джулия собрала в высокий хвост. Когда девушки вошли в комнату, Джесси сидела в своем кресле, а Феликс стоял рядом, наливая в ее стакан вино. Он осмотрел их с ног до головы. Они ждали его похвалы. — Для начала неплохо, — улыбаясь сказал Феликс. «Мэтти просто прелесть, а Джулия похожа на гейшу», — подумал он. Раздался звонок. — Это гости! — радостно крикнула Мэтти и побежала открывать дверь. На удивление, вечер прошел замечательно от начала до конца. Гости заполнили все комнаты, кухню и даже ванную. Фреди, устроившись на кровати Мэтти, играл на губной гармошке, кто-то принес гитару и подыгрывал ему. Гости танцевали под их импровизацию. Большинство из присутствующих были друзьями Джесси, с которыми она работала в клубе. Кого здесь только не было: певцы, бармены, официанты, художники, даже два полицейских. Среди гостей находились друзья Феликса, темнокожие парни в фетровых шляпах и цветных рубашках, среди них Джонни Фловер, который тоже привел с собой несколько своих друзей, те весь вечер ухаживали за Джулией и Мэтти. Еды не хватало. К этому вечеру Феликс приготовил тушеную фасоль с кусочками говядины, горячие сосиски с соусом и рисовый плов, разные бутерброды и холодные закуски. Выпивки было достаточно, потому что каждый принес с собой по бутылке вина или виски вместо пригласительного билета. Джесси сидела в кресле, как королева перед своими подданными. Феликс потрудился на славу, выбирая, кого пригласить. Джулия и Мэтти танцевали, разговаривали с гостями, смеялись и пили все подряд. Даже Феликс на этот раз принимал активное участие во всем, что происходило на вечеринке. Джонни был пьян, но Джулии казалось, что она выглядела пьянее. Ее ноги заплетались под узкой юбкой кимоно. — Я первый увидел тебя, — жаловался тот, пытаясь вырвать ее из рук своего друга. — К тому же ты должна мне один фунт. — Ты же сказал, что мы квиты. Потанцуй с Мэтти. — Все в этой комнате крутятся вокруг Мэтт, к ней не подступиться. Это была правда. Мэтт находилась в кругу парней. Ее лицо полыхало от жары и вина, но она великолепно контролировала себя. — Иди сюда, сядь рядом. Джулия и Джонни сели на пол, подпирая стену и поджав к себе колени. — Вы давно дружите? — Мэтти и я? Да, всю жизнь. Мне было одиннадцать, а ей двенадцать, когда мы впервые встретились. Джонни положил свою голову на ее плечо. — Расскажи мне. — Это случилось в школе. Мой первый день, как сейчас его вижу. Она показалась в конце длинного коридора. На ней были тесно-синие джинсы с сильно затянутым на талии поясом и блузка не первой свежести с глубоким вырезом. Белые носки, которые чуть прикрывали щиколотки, не отличались по цвету и чистоте от ее блузки, а на ногах были ярко-красные туфли на высоком каблуке. Ее внешний вид совершенно не соответствовал школьным требованиям, но Мэтти это не волновало. Мне она показалась очаровательной. Помню, я извинилась и попросила показать мне выход. Мэтт осмотрела меня очень медленно и, улыбнувшись, сказала, что я не похожа на потерявшуюся, что вид у меня как у настоящей ученицы. Мне хотелось провалиться сквозь землю, снять с себя эту проклятую форму и выкинуть вон. Позже Мэтт мне призналась, что я ей понравилась. Они заметили, как Мэтти шла к ним. Ее грудь слегка подпрыгивала при ходьбе. Когда она подошла совсем близко, Джонни дотронулся до ее груди. — Прочь руки, приятель, — сказала Мэтт. — После того случая мы встретились на новогоднем вечере, — продолжала Джулия, — тогда я поняла — судьба подарила нам дружбу. Подруги рассмеялись, вспомнив тот вечер. Пятьдесят маленьких девочек в нарядных платьях и белых носках, и Мэтти — с нечесаными волосами, торчащими во все стороны, утопающая в ярко-голубом свисающем до пят платье матери, в туфлях на каблучке и в настоящих шелковых чулках. Многие школьницы подшучивали над ней. Живя в полном достатке, они просто не могли представить, что у кого-то могло не быть нарядного платья. На этом празднике проводился конкурс талантов: кто-то из участников играл на пианино, кто-то читал стихи, кто-то танцевал. К концу выступления последнего участника Мэтт прыгнула на сцену, собираясь спеть песню. Песня называлась «Мама, он смотрит на меня». Нельзя сказать, что у нее был хороший голос, но она пела с таким энтузиазмом, что сглаживало все недостатки. Последние строчки она прокричала во все горло. Наступила гробовая тишина. — Джулия, — добавила Мэтт, — первая вскочила с места и изо всех сил захлопала в ладоши. После этого мы окончательно подружились. — Отлично! — сказал Джонни, — пойдем выпьем. Да, кстати, кто же выиграл в конкурсе? — Девчонка с мышиными хвостиками, ко всему прочему — в очках. Она читала неизвестные стихи.
В комнате появилась Джесси. Ее поддерживали два музыканта из всеми любимого итальянского ресторана. Она подняла руку и сказала: — Альберт попросил меня спеть. Я не могу ему отказать. Все дружно зааплодировали. Фреди приложил гармошку к губам и заиграл. Джесси запела старые песни. Ее друзья с удовольствием подпевали. Феликс видел, как посветлело лицо матери. Он знал, что в эти минуты она душой и телом была в своем клубе. Его взгляд встретился со взглядом Джулии. — Спасибо, — прошептал он. Джесси опять подняла свою пухлую руку. — У меня есть два новых друга, вернее, подруги. Они и Феликс устроили для меня этот вечер. Подойдите ко мне и пойте со мной. — Я не умею петь. Лучше пусть Мэтти споет. Джесси, ты знаешь песню «Мама, он смотрит на меня»? — Еще бы, дорогуша! Во время исполнения песни глаза всех мужчин были устремлены на Мэтти. Всех, кроме Феликса. Он смотрел на Джулию, а ей даже в голову не приходило, что он мог ее ревновать к рядом стоящему Джонни. Она, закрыв глаза, тихо подпевала. «Мама, он поцеловал меня», — прозвучали последние слова. На этот раз тишины не было. Раздались дружные аплодисменты, свист и веселые крики. Маленький худой мужчина с редкими усиками, который стоял около Феликса, громко хлопал в ладоши. — У этой малышки нет голоса, но я уверен, что у нее куча других талантов. Надо что-нибудь придумать для нее, — сказал он Феликсу. В этот вечер произошли два важных события, хотя среди суматохи, бурных споров, обещаний, звона бокалов, тостов, комплиментов их было трудно заметить. Друг мистера Могриджа отвел Феликса в сторону, осмотрелся и сказал: — Это ведь ты привел квартиру в порядок? Томми Балл сообщил мне, что ты проделал огромную работу. Послушай, у меня к тебе предложение. Я владею несколькими квартирами и хотел бы их отремонтировать, обставить мебелью и сдавать. Не хотел бы ты взяться за эту работенку? Я буду хорошо платить. Феликсу этот человек нравился не больше, чем мистер Могридж или мистер Балл, но он решил принять предложение. — Хорошо. Я согласен. Мужчина с редкими усиками подошел к Мэтти и протянул карточку. Она прочитала его имя — Фрэнсис Виллоубай, владелец театральной компании. — На данный момент у меня три театра. Мне нужна помощница. Вся работа связана с театром, с административной точки зрения, конечно. Ну как? Тебя это заинтересовало? — Да, — ответила Мэтти. — Дай мне знать, когда надумаешь. Джонни поддерживал Джулию за талию, она неуверенно стояла на ногах. Парень стал поглаживать ей спину, потом целовать шею. В это время за его спиной Джулия увидела Феликса. Он убрал со стола пустые стаканы и ушел на кухню. — Ну давай же, любовь моя, — упрашивал ее Джонни. — Нет. Я не могу. Не сегодня. Завтра. — Хорошо. Завтра так завтра. Но не заставляй меня страдать, малышка. Мне это вредно. Он поднял ее на руки и отнес в спальню. Джонни уложил Джулию в кровать, накрыл одеялом и удалился. Она сразу же уснула. (обратно)
Глава четвертая
Этот вечер еще больше убедил Джулию в том, что она должна остаться здесь и наслаждаться всеми прелестями жизни. Ей льстило то, что она была составной частью успеха, о котором много говорили в «Рокет-клубе». Забыв об осторожности, она села писать письмо Бетти и Вернону. Все, что она смогла написать, было: «Я в Лондоне с Мэтти. Со мной все в порядке». Бетти будет беспокоиться, а Джулии не хотелось волновать мать. В верхнем углу письма она написала свой адрес. Ей казалось, что они не станут ее искать в огромном шумном городе.Бетти увидела письмо, как только его бросили под дверь вместе с газетами и счетами Вернона. Руки ее сильно тряслись, когда она открывала его. Она прочла послание дочери и медленно опустилась в кресло. Бетти вспомнила, что сделала то же самое в тот день, когда обнаружила первую записку, в которой Джулия сообщала, что уходит. — Нет! — громко сказала она. — Нет, Джулия, где ты? Ее слова эхом возвратились в комнату. Вдруг она вскочила и побежала по ступенькам наверх. В комнате Джулии все ящики ишкафчики были почти пустыми. Вязаный свитер и фартук, которые Бетти купила для нее, остались висеть в шкафу, а одежда, которую выбирала и покупала себе сама Джулия, исчезла. Бетти стояла в комнате, пытаясь понять, что произошло. Ей казалось, что ее малышка Джулия никуда не уходила и вот-вот вернется из школы. — Джулия! Бетти вылетела из комнаты и стала бегать по дому в надежде найти дочь. Она вспомнила, как первый раз взяла ее на руки, ее первые неуклюжие шаги, поездки на море, как однажды Джулия готовила первый торт и уронила миску с тестом на пол. Перед глазами промелькнула сцена, как она и Вернон отправляли ее в новую школу. Вернон тогда еще сказал: «Из нее выйдет толк. У дочери есть голова на плечах». Светлые воспоминания исчезли, и перед ней появилась другая Джулия, с ненавистью смотревшая на мать. Бетти обошла весь дом, в котором каждая вещь напоминала ей о дочери. Джулии не было. Она ушла. Бетти снова прочитала письмо и выучила наизусть адрес. Потом, впервые за двадцать пять лет, она приняла решение самостоятельно, не дожидаясь Вернона, чтобы посоветоваться. Мать Джулии накинула пальто, на ходу надела шляпу и отправилась в Лондон искать свою дочь. Найдя по адресу нужный дом, Бетти нажала на звонок парадной двери. Никто не ответил. Она снова позвонила. Дверь не открыли. Так как полнота Джесси мешала ей нормально передвигаться и ей тяжело было спускаться с лестницы, то она никогда не открывала дверь, даже если это был кто-нибудь, кого она хотела бы видеть. Феликса дома не было. У Бетти было достаточно времени, поэтому она села на скамейку и стала ждать. Случайные прохожие не обращали на нее никакого внимания. Ее заметил Феликс. Он возвращался домой, глубоко погрузившись в свои мысли. Он прошел мимо маленькой женщины, тихо сидевшей на скамейке рядом с парадной дверью. Вдруг его что-то остановило, может быть, взгляд который он почувствовал на своей спине. Феликс вернулся. — Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил он. — Я ищу мисс Джулию Смит. Вы не знаете, она здесь живет? — Да, здесь. Ее лицо изменилось. Он заметил, что она облегченно вздохнула. — Я ее мать. — Входите, — вежливо сказал он.
Как только Джулия вошла, она почувствовала что-то неладное. Поднимаясь по лестнице, она весело напевала какую-то мелодию, но, открыв дверь и не услышав привычное: «Иди скорей сюда. Расскажи мне новости и налей выпить», Джулия забыла о песне. — Джесси? Джулия открыла дверь и заглянула внутрь. Джесси, как всегда, сидела в своем кресле с бутылкой в руке. Феликс стоял у окна. А на диванчике, у стенки, сидела Бетти. Джулия не знала, что сказать. «Я должна была догадаться, что она приедет. Какая же я дура!» — это были ее первые мысли. Потом она опустилась на колени и крепко обняла мать. Та не посмотрела на нее, но ее рука начала нежно гладить ее по голове. Джулии было так стыдно, что ей хотелось убежать и спрятаться. Она понимала, что все ждали, что она скажет. — Как видишь, со мной все в порядке. Я работаю машинисткой в одной фирме. Бетти не двигалась. — Я живу в этой квартире со своими друзьями. — Друзьями? — в голосе матери прозвучала злоба. Джулия знала, что мама не любила людей, у которых кожа была другого цвета. «Грязные негры. Пьяницы и воры», — говорила она. Джулию взбесило, что ее мать могла так подумать о Джесси и Феликсе. Она отстранилась от нее. — Да. С друзьями. Хорошими друзьями, которые были добры ко мне и Мэтти. Ведь ты и отец никогда не позволяли ей Остаться. Неужели вы думаете, что лучше других? Джулия была в ярости. — Вы не лучше, а хуже. Зациклились в своем мирке, и ничто вас больше не интересует. Вы… — Джулия, довольно, — резко остановила ее Джесси. Бетти с удивлением посмотрела на эту полную женщину, которая не побоялась прервать ее дочь, да еще сказала это таким взвинченным тоном, каким она никогда с ней не разговаривала. «Джулия сильно изменилась за эти дни. Она повзрослела в этой ужасной квартире, пахнущей алкоголем и дымом, живя рядом с этой ничтожной женщиной и ее сыном», — подумала Бетти. Она ревновала дочь. — Я хочу поговорить с тобой наедине, Джулия. — Я тебя слушаю. — Поговорить с тобой, а не с этими людьми. — У меня нет никаких секретов от Джесси, Феликса и от Мэтти тоже. — Эта девушка… Бетти была уверена, что это Мэтти сбивает Джулию с толку. — Поговори с матерью, — сказала Джесси. — Пожалуйста, останьтесь. Феликс, пожалуйста, — умоляла Джулия. — Если ты считаешь, что так будет лучше, то я останусь, — сказала Джесси. Феликс продолжал напряженно смотреть в окно, и. Джулия поняла, что он собирается уходить. Она повернулась к Бетти. — Итак, о чем ты хотела со мной поговорить? — Я хочу, чтобы ты вернулась домой. Джулия не ответила. — Давай вернемся домой, — продолжала Бетти. — Мы забудем обо всем. Отец и я никогда не вспомним об этом. Ты закончишь школу, найдешь хорошую работу. Казалось, что Джулия ждала, когда мать закончит, и из вежливости не перебивала ее. Но наконец она сказала: — Я не вернусь домой. Извини меня. — Извинить? После того, что мы сделали для тебя, когда ты была еще ребенком. Маленьким грудным ребенком, которого хотели… Тут Бетти замолчала и закрыла рот рукой. Джулия ничего не видела и не слышала. В ее голове звучали только одни слова: «Маленьким грудным ребенком, которого хотели…»
Много лет спустя Джулия сама оказалась в подобной ситуации, но уже в роли матери. Она умоляла свою дочь Лили не уходить из дома, но все оказалось напрасно. — Что ты имеешь в виду? — спросила Джулия. Всю жизнь Бетти боялась, что Джулия узнает правду. Сейчас момент наступил. Она собралась с мыслями: — Ты нам не родная дочь. Мы взяли тебя, когда тебе было несколько недель. У меня был выкидыш, и врачи сказали, что я не смогу иметь детей. Тут началась война. — А моя настоящая мать? Где она? — только и спросила Джулия. — Не знаю. Я никогда не видела ее. Наверное, какая-нибудь девчонка, которая забеременела по глупости. Феликс подошел к ней и взял за плечи. Джулия спрятала лицо на его груди и тихо заплакала. В один миг вся ее прошлая жизнь разбилась вдребезги. Подняв голову, она тихо сказала: — Я так рада, что ты рассказала мне. Это объясняет некоторые вещи, не так ли? Какая-то глупая девчонка. — Вам не следовало говорить ей об этом сейчас, — вмешалась Джесси. Бетти проигнорировала ее. Она не отрывала взгляда от Джулии. — Мы старались дать тебе все, что имели. Мы любили тебя. — Любили? Теперь мне все равно, я не вернусь. Бетти сделала последнюю попытку. — Мы все еще твои родители. У нас есть права на тебя. Тебе только шестнадцать. Мы можем заставить тебя вернуться домой. Джулия рассмеялась. — Да, вы можете. А что дальше? Когда-нибудь мне будет двадцать один, и вы не вправе будете удерживать меня. Она отошла от Феликса и села на диван. — Занятно, правда? Я хотела быть свободной, и вы сделали меня свободной, открыв правду. Бетти встала. — Значит, ты не едешь? — Нет, сейчас я живу здесь. Это мой дом. Им больше не о чем было разговаривать. — Мы присмотрим за ней. Обещаю, что с ней все будет хорошо, — глядя на Бетти, заявила Джесси. — Вы? Вы и ваш сынок? Чему вы можете ее научить? Пить? Курить? Развратничать? Все молчали, даже Джулия. Бетти повернулась и ушла. Они слышали стук ее каблуков по лестнице. — Вы слышали, что я сказала? Вы — моя семья. Вы и Мэтти, — гордо сказала Джулия. Мэтти столкнулась с Бетти у двери. Девушка поймала ее взгляд и автоматически протянула ей руку, но та прошла мимо, сделав вид, что не знает ее. Мэтти наблюдала за ней, пока она не скрылась из вида. По дороге домой Бетти перебирала в памяти все слова, которые сказала дочери. Она вошла в свой дом. В прихожей висело пальто Вернона. Он был дома. Странно, но Бетти ни разу не вспомнила о нем за это время. Вернон услышал, как хлопнула дверь. Он появился в прихожей. — Бетти? Где ты была? — Я ездила в город. Искала Джулию. — Нашла? — Да. — Где? Она все ему рассказала, не упуская ни одной детали. — Она не захотела возвращаться к нам, Вернон. — Ну что ж, мы не можем ничего изменить. — Пойду поставлю чай, — сказала Бетти. Это был самый обычный вечер, только комната Джулии была пуста. Вернон слушал радио, а Бетти сидела в кресле и вязала. Ровно в десять часов она спросила его: — Тебе приготовить какао? Он кивнул, даже не взглянув на нее. Она согрела молоко в специальной кастрюле, которую обычно использовала. Вернон появился на кухне. Бетти уставилась в кастрюлю с молоком и задумалась. — Я рассказала ей правду, — тихо произнесла она. — Я рассказала ей об удочерении. — Думаю, не нужно было. Она еще слишком мала. — Вернон, Джулия повзрослела. Повзрослела в этом ужасном месте. — Что она сказала? Как восприняла? Молоко убежало, и Бетти быстро убрала его с плиты. — Она сказала… она сказала, что теперь это сделало ее совсем свободной. Свободной от нас. Бетти никогда не понимала свою дочь. Но может, Вернон ее поймет? Однако все, что он сказал после долгой паузы, да к тому же так тихо, что она едва расслышала, было: «Возможно, так будет лучше». Она отнесла чашки в комнату, и они молча пили какао, каждый думая о своем. Когда ее чашка опустела, она тихо сказала: «Я пойду спать». Обычно Вернон следовал за ней и закрывал входную дверь на ключ. Но в этот вечер он еще долго сидел в своем кресле, задумчиво наблюдая, как тихо потрескивал огонь в камине.
Джесси рассказала Мэтти о том, что случилось. Джулия слушала ее, опустив голову и перебирая в руках темную шаль. Вдруг она сказала: — Извини за то, что наговорила моя… то, что она сказала о тебе и Феликсе. В этом она вся. Бетти не воспринимает людей, которые живут не так, как она. — Тебе не нужно извиняться, утенок. Эта женщина — твоя мать. Она воспитывала тебя все эти годы. Мэтти много не говорила. Она посмотрела на Джесси и Феликса и спросила: — Вот, мы перед вами. Что вы думаете? — Я ничего не думаю. Я знаю, что вы живете здесь и можете оставаться столько, сколько хотите. Феликс? — Конечно, могут, — только и ответил он. Они дали Джулии стакан виски, который она выпила залпом, и апельсин на закуску. — Что же нам теперь делать? — Я же сказала тебе, оставайся жить с нами. — Спасибо. Но я имею в виду, чем мы будем заниматься сейчас, — рассмеявшись, сказала Джулия. — Лично я собираюсь хорошо повеселиться где-нибудь. — Она права. Нет никакого смысла лить слезы. Сходите куда-нибудь поужинать, — сказала Джесси. Она достала пятифунтовую бумажку из кармана и протянула ее Феликсу. — Одевайтесь, девочки. Только что-нибудь поприличнее. Мы пойдем в одно уютное местечко под названием «У Леони». — Счастливо, — одобрительно произнесла Джесси. Когда девушки были готовы, они пытались убедить Джесси пойти с ними. — Ты нужна нам, — говорила Мэтти, — если мы собираемся поужинать. Ни я, ни Джулия понятия не имеем, как пользоваться ножом и вилкой. — Феликс вам все объяснит. Он ас в этом деле. Ей очень хотелось пойти с ним, но она боялась длинной лестницы за дверью ее квартиры и улиц города. — Я лучше побуду здесь. Отдохну. Мэтт, наполни мой стаканчик. — Мы ведь одна семья, — не успокаивалась Джулия. — Знаю, утенок. Но мне лучше остаться. А теперь идите, да не шумите, когда вернетесь. Как только они вышли на главную улицу, Джулия как-будто потеряла контроль над собой. Она не то что шла, а просто летела как на крыльях. Феликс и Мэтти едва поспевали за ней. — Что с тобой случилось? Куда ты так спешишь? — спросил Феликс. — Никуда я не спешу. Просто меня несет вперед. — Что? — О, Феликс, я не знаю. Наверное, свобода. — Я выпью за это, — вмешалась Мэтти. — Что ты будешь делать со всей этой свободой? — Съем ее, — смеясь, ответила Джулия. Сначала ресторан показался им непривлекательным. Его внутреннее оформление было невыразительным. Каждый столик был накрыт длинной, свисающей до пола, белой скатертью. Им предложили сесть за столик, который находился в центре зала. Подняв высоко головы, Феликс, Джулия и Мэтти прошли на свои места, при этом сидящие вокруг мужчины жадно разглядывали двух красоток. Джулия и Мэтти выглядели великолепно. Ими действительно можно было любоваться. — Я закажу для вас сам, — сказал Феликс. Он изучил меню и что-то быстро сказал официанту на французском. — Ты говоришь по-французски? — удивились девушки. — Нет, я знаю только меню на французском. — Научишь нас? — попросила Джулия. — Я хочу все знать. Он улыбнулся. — Я знаю, что хочешь. Ему нравилось ее желание всему научиться, а особенно то, что она просила об этом его. Когда принесли тарелки, Джулия и Мэтти недоверчиво стали разглядывать их содержимое. — Это устрицы, — прошептала Мэтти. — Они самые, — согласился Феликс. — И вы будете их есть. Не подводите меня. Смотрите, их едят так. Он аккуратно взял ракушку маленькими серебряными щипчиками, раскрыл ее и достал устрицу. Потом он полил ее горячим острым соусом, а в оставшийся в ракушке сок он положил кусочек хлеба. — Я так голодна, — вдруг сказала Джулия. — Никогда еще не чувствовала такого голода. Повторяя все в точности за Феликсом, она достала устрицу и съела ее. — Да, очень вкусно. Ты был прав. Джулия пыталась запомнить все названия блюд, которые они заказывали. Для нее все здесь было необычно. Особенно ее удивило то, что официант принес бутылку вина, завернутую в белую салфетку. — Замечательное вино, — сказал Феликс, сделав маленький глоток. Когда принесли шоколадный пудинг, то Мэтти набросилась на него, как будто никогда в жизни не ела ничего подобного. — Боже, как я люблю хорошо поесть. И вас я люблю, — прошептала она. Они оба услышали слова Мэтти. Рука Джулии лежала на столе. Феликс нежно опустил свою на ее пальцы и слегка сжал их. «Сейчас, это должно произойти сейчас», — думал он. Но голос официанта прервал его мысли. Тот принес бутылку розового шампанского в серебряной чаше, заполненной кусочками льда. — Шампанское, сэр. — Но я не заказывал… — пробормотал Феликс. — О нет! Это тот джентльмен заказал. Он просил меня принести ее вам и вашим дамам. Они повернули головы в ту сторону, куда показывал официант. — Кто это? — спросила Джулия.
Джошуа Флад и Гарри Гильберт частенько заходили выпить или поужинать куда-нибудь каждый раз, когда Флад появлялся в Лондоне. Не так давно Гарри, который на десять лет старше Джоша, был летчиком английских военно-воздушных сил. Они встретились, когда Гарри и его команда летали по восемнадцать часов в день, доставляя грузы в Берлин, а Джош был бедным американским подростком, который рыскал по аэродрому в поисках работы, связанной с полетами. Гарри дал ему работу — загружать и разгружать самолеты. Немного позже он научил его летать. В тот день, когда Джош получил разрешение на самостоятельные вылеты, они решили это отметить. Дружба между английским летчиком высокого класса и американским подростком казалась невероятной. Но какая-то сила притягивала их друг к другу. В этот вечер они забавлялись тем, что разглядывали троицу, сидящую в центре зала. Первым, кто привлек их внимание, была Мэтти. — Ты только посмотри на ее волосы. — Да уж. Выстроила на голове черт знает что. — Гарри, ты рассуждаешь как старик. Сейчас так очень модно. — Годы ничего не значат, мой мальчик. — В любом случае, блондинка моя. А ты можешь взять брюнетку. — Ты что не видишь, что им и втроем неплохо. — С этим неженкой? — Внешность бывает обманчива. — Только не эта. Сейчас мы узнаем, что это за штучка. Давай пошлем им бутылку шампанского, — сказал Джош и позвал официанта.
Джулии казалось, что шампанское бурлит по всему телу. «Я еще здесь. Голова работает нормально. Это хорошо», — думала она. Она почувствовала, что с ней что-то происходит. Это нельзя было назвать болью, но какое-то необъяснимое чувство пронизывало ее насквозь. Сердце сжалось и вдруг сильно застучало. — Мы не можем просто так сидеть и пить. Давайте пригласим их за наш столик, — предложила она. Минуту спустя Джошуа Флад сидел между Мэтти и Джулией. — Я думал, что вы нас не пригласите. У него были зеленые глаза, а волосы, вероятно, выгорели на солнце. Он сидел между двумя девушками и поочередно смотрел то на одну, то на другую. — Спасибо за шампанское, — поблагодарила Джулия. — Мне было приятно, — ответил Джош и поцеловал ее руку. — Меня зовут Джошуа Флад, а это мой друг Гарри Гильберт. — Я закажу еще бутылочку, — сказал Гарри. Они понравились даже Феликсу. Особенно этот Джош. Он был веселый и забавный. Джулия не сводила с него глаз, она наблюдала за каждым его движением: как он пил из бокала, зажигал сигарету, пускал кольцами дым. Она ближе подвинулась к нему. Это было глупо, но Джулия не могла заставить себя не смотреть на него. Джош поймал взгляд Гарри и подмигнул ему. Блондинка выглядела сексуально, но Фладу было все равно. Не обращал на это внимания и Гарри. Он понимал, что это всего лишь приключение и больше ничего. Он снова посмотрел на Джоша. Но тот был слишком занят, чтобы отвлекаться на всякие мелочи. Гарри слышал, как брюнетка пообещала с ним встретиться. Когда девушки вышли в туалет, Джулия спросила: — Он прелесть, не правда ли? — Да, ничего. — Мэтти? — Что? — Мэтти… Он тебе тоже понравился? Я видела, что он посмотрел сначала на тебя. — Ты выпила лишнего. Мне понравился его друг. — Джулия, с тобой все в порядке? Я имею в виду твою мать и все, что случилось. «…маленькая грязная девчонка», — вспомнила Джулия. Ее мысли опять перешли на Джоша: «Я понравилась ему. Он хочет меня. Я это вижу». — Да, все хорошо, Мэтт. — Тогда пойдем к твоему летчику. Когда они вернулись, бутылка была уже пуста. Феликс, попрощавшись с Джошем и Гарри, обратился к девушкам: — Уверен, что оставляю вас в надежных руках. Девушки поцеловали его в щеку. — Спасибо за прекрасный ужин! Тебе и Джесси. Феликс ушел. После ресторана все поехали в ночной клуб. В зале витал какой-то дурманящий аромат. Каждый столик был отгорожен от другого расписной ширмой. Длинноногие девушки в коротких платьях разносили напитки. Мэтти и Джулия вели себя так, как будто посещают такие клубы каждый вечер. На небольшую сцену, которая находилась рядом с их столиком, вышел певец. Когда он запел песню, Мэтти засмеялась и шепнула: «Я могу спеть намного лучше». Потом она обратилась к Джулии: — Джулия, может, мне пойти и спеть «Мама, он смотрит на меня»? — Ну нет, пожалуйста. Не выдумывай, Мэтт. — Никуда ты не пойдешь. Останешься со мной, — приказал Гарри. Одной рукой он обнимал ее плечи. Несмотря на легкое опьянение, Мэтти владела собой. Она понимала, что находится в безопасности среди людей. К тому же у Гарри наверняка была подружка или даже жена. Он не станет приставать к ней. Джулия и Джош тихо о чем-то переговаривались. Джош то поднимал руки вверх, то волной опускал вниз. Мэтти догадалась, что он рассказывал Джулии о полетах. Потом Флад наклонился, и их лица сблизились. Джулия видела, как подергивались мышцы вокруг его рта, она ощущала запах его кожи, тепло его рук. — Почему ты такой коричневый? — спросила она. — Работа такая. Много путешествую, летаю. Когда появляются деньжата, езжу в горы отдыхать. — Я хочу танцевать. Давай? — спросила она Джоша. — Вот осел. Как же я сразу не догадался. Ее прежние танцы в клубе не шли ни в какое сравнение с этими. Обычно она успевала рассмотреть, кто во что одет и как танцует. Но на этот раз все было по-другому. Она не видела никого и ничего вокруг себя, кроме Джоша. Джулия забыла, как нужно танцевать. Мэтти танцевала с Гарри. Она украдкой поглядывала на Джулию и Джоша. Они продолжали танцевать, улыбаясь друг другу. Мэтти стало обидно. В глубине души Мэтти ревновала. Ей тоже хотелось быть в центре внимания своего партнера. Джулия и Джош не могли оторваться друг от друга. Они танцевали один танец за другим, почти не разговаривая, только чувствуя биение сердец. Наконец и Гарри зашевелился. Он прижал Мэтти к себе так близко, что ощутил ее дыхание. Тело у нее было крепкое. Он коснулся ее щеки, потом его рука медленно поползла вниз. Вдруг, опомнившись, он слегка отстранился от нее, подавляя желание. Это было соблазнительно, но невозможно. — Уже очень поздно. Мне нужно идти, — огорченно сказал он. — Мне тоже пора домой, — ответила Мэтт. Джулия и Джош последовали за ними. Выйдя на улицу, Джош спросил: — Ты хочешь домой? Еще рано. Она покачала головой. — Джош никогда не спит, — сказал Гарри. Он выбежал на дорогу и поймал такси. — Мэтт, поехали. Я отвезу тебя домой. Гарри открыл дверцу, и Мэтт, опираясь на его руку, села в машину. «Я люблю тебя, Мэтт», — думала Джулия. — Джулия, чем ты будешь заниматься? — спросил Джош. — Давай немного прогуляемся. Он взял ее за руку, и они пошли просто так, в никуда. — Я весь вечер болтал о самолетах. Удивляюсь, как ты не заснула. Я ничего не знаю о тебе, кроме того, что ты красива. Джулия рассмеялась. Ей нечего было рассказывать. Она знала, что счастлива сейчас, и больше ее ничто не волновало. — Я не умею летать. Не умею кататься на лыжах. Я вообще ничего не умею. — Я научу тебя. — О нет. Я кое-что могу рассказать тебе. Поэтому я и оказалась в этом ресторане. Сегодня моя мать сообщила мне, что я ее неродная дочь. Они удочерили меня. Я ничего не знала до сих пор. — Это жестоко, — сказал Джош. Он не попытался сказать что-нибудь еще, и за это Джулия была ему благодарна. Они остановились под фонарем. Джош нежно посмотрел на нее. Джулия тоже смотрела на него своими большими глазами, в которых отражался свет фонаря. Потом, сам не зная как, не понимая, что делает, он обнял ее и поцеловал. Губы ее были такими теплыми, мягкими, нежными. Он закрыл ей своими губами глаза и целовал ее веки — сначала одно, а потом другое. Джулия крепко обвила руками его талию и ответила на его поцелуй, и тут Джош спросил: — Сколько тебе лет? — Семнадцать, почти. — Господи. Подросток! Он повернул ее лицо, чтобы хорошенько рассмотреть. — Джош. Я намного старше, чем ты думаешь. Он вспомнил, какой она показалась ему в ресторане. Как она танцевала! Они как будто занимались любовью прямо там, одетые. Дети так не танцуют. — Неужели? Неужели старше? Джулия улыбалась. Джош снова прикоснулся к ее губам. Он чувствовал красоту ее тела под одеждой. У нее были длинные ноги, узкие бедра и маленькая упругая грудь. — Пойдем, Джулия, это все-таки улица. — Джош терял голову, но старался не показывать это Джулии. — Пойдем, а то можем влипнуть в какую-нибудь историю. Они шли по освещенной улице, держась за руки. Джулия рассказывала о своей семье, о школе, о Мэтти. Закончила она свой рассказ историей о Джесси с Феликсом. Ей хотелось, чтобы Джош знал все о ней и ее приключениях. — Теперь ты знаешь все. — Да, теперь все. Ему было приятно, что она была откровенна с ним. Он дотронулся до ее лица кончиками пальцев и снова поцеловал. — Уже очень поздно, — сказал он. — Я знаю. — Сейчас время ничего не значило для нее. Джош думал. Рядом с ним хорошенькая девушка, но вряд ли Кэрол правильно воспримет его появление с Джулией в три часа ночи. — Я провожу тебя, — мягко сказал он. — Это недалеко отсюда. Я покажу дорогу. Мне было очень хорошо. — Да, я тоже рад. Перед дверью ее дома он обнял ее и прижал к себе. — Могу я тебя увидеть снова? — спросил Джош. — Да, конечно. — Дай мне номер твоего телефона. — У меня его нет. Он посмотрел на номер дома. — Ладно, я запомню, где ты живешь. До встречи. Я скоро вернусь. Он быстро ушел. Поднимаясь по ступенькам, Джулия мечтала о Джоше. Неужели это любовь? Она представляла его лицо. «Твой летчик» — так прозвала его Мэтт. Эти слова были такими же прекрасными, как и сам Джош. — Я люблю его. Боже, помоги мне. Я люблю его, — твердила она. (обратно)
Глава пятая
Джулия ждала всю следующую неделю. Каждый вечер она выбегала на улицу в надежде увидеть идущего к ней Джоша. Каждый вечер она возвращалась ни с чем в маленькую квартирку, где, как обычно, уютно устроившись в кресле, сидела Джесси. — Я уверена, что он придет, — говорила Джулия. — Что значит ты уверена? Единственное, что я могу сказать тебе о мужчинах и в чем я абсолютно уверена, — это то, что ни одному из них нельзя доверять. — Джош не такой, — не согласилась Джулия. Она не могла поверить в то, что он может не прийти. Прошла еще неделя. Джулия больше не говорила о летчике. Но по тому, как она себя вела: ходила с опущенной головой, почти ничего не ела, прислушивалась к шуму на улице, вздрагивала, когда звонил звонок, — можно было догадаться, что она страдает. Джулия никуда не ходила по вечерам, как Мэтти ее ни уговаривала. Она сидела на кровати с раскрытой книгой, безразлично переворачивая страницы. — Как ты думаешь, он придет? — тихо спросила Мэтти у Феликса. Но тот только пожал плечами. Мэтти была полностью поглощена собственными проблемами. После вечеринки она нашла карточку Фрэнсиса Виллоубая и набрала его номер. Ей казалось, что у такого важного человека должны быть хотя бы две секретарши. Она очень удивилась, когда трубку поднял сам Фрэнсис. — Приезжай ко мне в офис, — сказал он. — Шавтсбери-авеню. Да, адрес на карточке, которую я тебе дал. Последний этаж. Во вторник в три часа, хорошо? Во вторник днем Мэтти отпросилась у начальницы домой, сославшись на головную боль. — Я не могу отпустить тебя, — сказала та. — Что будет, если мы все уйдем домой из-за легкой головной боли? — Но меня тошнит. Меня может вырвать где-нибудь у прилавка или еще хуже — на покупателя. — Тогда лучше ступай домой! Мэтти села в автобус и поехала в сторону Пикадилли. Дорога заняла у нее больше времени, чем она предполагала. Красное кирпичное здание, в котором находился офис мистера Виллоубая, располагалось в северной части города. Она зашла в лифт и нажала кнопку последнего этажа. Пройдя немного вперед по коридору, она заметила стеклянную дверь, за которой сидел Фрэнсис Виллоубай. Он был один. Подойдя поближе, Мэтти увидела небольшую табличку на дверях с его именем и названием компании. Кабинет был окрашен в зеленый цвет, мебели было немного: два стола, стулья, шкафчик и телефон. Войдя, она почувствовала запах линолеума и сигаретного дыма. — Входи, входи, моя дорогая, — сказал Фрэнсис Виллоубай. — Чувствуй себя как дома! Он посмотрел на ее разрумянившиеся щеки. Мэтти села за свободный стол. — Мне нужна очень энергичная и умелая девушка, которая хорошо бы разбиралась в тонкостях моего дела, — начал он. — Контракты. Организация встреч. Посетители. Надеюсь, ты умеешь вести телефонные разговоры? — Да, — ответила Мэтт. — Печатание, конечно… — Боюсь, что я не умею печатать. — Думаю, ты быстро освоишь это. — Я постараюсь. — В неделю ты будешь получать 6 фунтов и 10 шиллингов. «Меньше, чем в магазине», — подумала Мэтт. — Не могли бы вы платить семь фунтов? — Дорогая, большинство девушек мечтали бы получить это место! — Хорошо. Пусть будет 6 фунтов и 10 шиллингов. Мэтти начала работу в следующий понедельник. В обувной магазин она не вернулась. Пока Джулия боролась со своими чувствами и переживаниями, Мэтти изучала премудрости новой работы. В основном она заключалась в том, что Мэтти нужно было отвечать на телефонные звонки и говорить, что мистер Виллоубай занят и не может подойти к телефону. Голоса звонивших ему людей были, как правило, озлобленные и раздраженные. Мэтти быстро поняла, с чем связана их злоба. Это были кредиторы, которым мистер Виллоубай задолжал приличную сумму денег. — Скажи им, что счета уже давно оплачены, — отговаривался он. Мэтти знала, что это ложь, потому что сама оформляла все бумаги, и никаких счетов там не было, но ей приходилось врать, чтобы не потерять работу. Один звонок был особенно настойчивым. Голос говорящего был низким и солидным. Мужчина представился Джоном Дугласом, директором одного из театров Фрэнсиса, который находился на гастролях на севере Англии. — Передай этому чертову Фрэнсису, что пока мне не заплатят и пока в моих руках не будет наличных, я не возьмусь за постановку спектакля на следующей неделе. Все поняла? — Думаю, что да, — ответила Мэтти. Сделав вид, что его это задело, Фрэнсис достал чековую книжку из сейфа. — Денежки летят, моя дорогая, — сказал он, выписывая чек. Когда Мэтти села за стол и стала искать адрес этой компании в картотеке, Фрэнсис подошел к ней, провел рукой по спине, а потом по бедрам. — Шесть фунтов и десять шиллингов не включают этого, — произнесла она. Большую часть времени Мэтти тратила на увертки от его рук, она отталкивала его, когда видела, что он не реагирует на ее замечания. Иногда атмосфера в этом маленьком кабинете слишком накалялась: Фрэнсис терял контроль, и его приставания становились все более настойчивыми. В такой момент Мэтти боялась, что может вспыхнуть пожар от сигареты, которую он постоянно держал в руке. «Неужели все мужчины такие?» — думала Мэтт.В конце третьей недели появился Джош. Мэтти открыла ему дверь. Феликс увидел, как засияло лицо Джулии, когда она услышала его голос в прихожей. «Какая она красивая!» — подумал Феликс. Он продолжал резать баклажаны, которые собирался приготовить к обеду. — Ты слышишь? — спросила его Джулия. — Я же говорила, что он придет. Она выбежала в коридор. Минуту спустя они стояли на кухне, обняв друг друга за талию. — Привет, Феликс, — сказал Джош. — Как дела? Что новенького? — Привет. Ничего особенного. — Я зашел за тобой, Джулия. Хочу пригласить тебя куда-нибудь, или ты уже назначила кому-нибудь другому свидание? — Если бы назначила, то отменила бы ради тебя. Джулия быстро оделась. Она выбрала темно-зеленый свитер и узкие черные штаны. Феликс успел научить ее кое-чему за это время. Теперь она следила за своей одеждой, аккуратно развешивала ее в шкаф. Да и одеваться она стала приличней. Феликс ревновал Джулию. Он ненавидел себя за это, но ничего не мог с этим поделать. — Ну что? Готова? — спросил Джош. — Да, мы можем идти, — ответила Джулия. Феликс не вышел их проводить. Ему было неприятно на них смотреть. Он остался на кухне готовить обед. Вдруг он со злостью швырнул нож на пол, а нарезанные баклажаны выкинул в ведро. — Что случилось, Феликс? — крикнула Джесси из своей комнаты. — Я не хочу готовить сегодня, вот и все. — Не готовь. Мэтти и я не будем возражать. Думаю, что Джулия и тот молодой человек перекусят где-нибудь и не придут к обеду, — рассмеявшись, ответила Джесси. Феликс зашел в комнату. Мэтти читала свой любимый журнал, а Джесси сидела в кресле. — Ты как собака на сене, — продолжала она. — Если ты хотел ухаживать за Джулией, то тебе давно нужно было этим заниматься! «Да. Давно. Джесси как всегда права», — подумал Феликс. — А раз ты упустил ее, то пусть она наслаждается жизнью, пока может. Не стоит из этого делать трагедию, мой мальчик. Мэтти отложила журнал и неуверенно произнесла: — Может, это временно? — Именно. А ты что думала? Этот паренек, конечно, красив, но он долго не задержится. Пока он рядом с ней, пусть гуляет. Мэтти и Феликс не смотрели друг на друга. Она встала с дивана и сказала, не глядя на него: — Я приготовлю чай, если хочешь. Тебе придется только объяснить мне, что и как нужно делать, Феликс. — Ужин, — поправил он.
Джош привел Джулию в итальянский ресторан. Они не дотрагивались до еды, только пили вино и не отрывали взгляда друг от друга. Когда бутылка опустела, Джулия тихо сказала: — Я боялась, что ты не придешь. Прошло три недели. — Я летал. Гарри предложил мне заработать. Мне нужно было привезти для него ценный груз. Это было правдой, но только отчасти. Гарри занимался транспортировкой грузов по воздуху, и дела его шли довольно успешно. Джош совершил несколько перевозок через Средиземное море на остров Мальта, доставляя туда материалы для строящегося отеля. Но на самом деле причиной была Джулия. Джош стал не на шутку волноваться, когда понял, что эта черноволосая красавица, которую он случайно встретил «У Леони», не выходит у него из головы. Джошу нравились девушки, которые не были требовательны и не слишком надоедали ему. Похоже, что Джулия не относилась к этой категории. Она была голодной, нетерпеливой и ранимой. Если он свяжется с ней, то их обоих ждут неприятности, к тому же она очень молода. Джош постоянно думал о ней. Он даже решил с ней больше не встречаться, но не смог забыть ее, как ни старался. Когда Гарри спросил его о Джулии, он пожал плечами и сказал: — Не знаю. Для меня она еще ребенок. Когда мне будет нужен собственный ребенок, я сделаю его. А сейчас… Несмотря на то, что Джош уговаривал себя не делать этого, он все-таки оказался перед дверью Джулии. Это был его первый день в Лондоне с тех пор, как он вернулся из поездки. Как только он увидел Джулию, он уже не мог ни о чем думать. Ему хотелось смотреть на нее, слушать ее голос, любоваться ее улыбкой. Он взял ее руку и нежно поцеловал. — Сейчас я здесь. — Да. Больше меня ничего не волнует. Главное, что ты рядом. Джош представил, как снимает с нее зеленый свитер, гладит ее упругую грудь, потом исследует языком каждый кусочек ее сладкого, как мед, тела. Но то, что ей было шестнадцать, не давало ему покоя. После легкого обеда он пригласил ее на вечеринку к своим друзьям. Вечеринка проходила в квартире, комнаты были просторные, с высокими потолками. Казалось, что каждый присутствующий знал Джоша. — Эй, Джош! Как дела? — Джош, дорогой. Почему не появлялся? Джулия чувствовала себя неловко среди всех этих незнакомых людей, но Джош придавал ей сил и храбрости. — Кто это, твоя малышка? Или сестренка? — Я вовсе ему не сестра! Я вообще ничья не сестра, — обиженно сказала Джулия. Но мужчина только улыбнулся и сунул ей в руку стакан с выпивкой. Джулия была счастлива. Иногда толпа уводила ее от Джоша. Она болтала, смеялась, танцевала. Но чем бы она ни занималась, она искала светлую шевелюру Джоша среди людей, а тот следил за ее действиями. «Я люблю его», — снова подумала она. Джулия не имела представления, который был час, когда закончился вечер. Джош повез ее домой на такси. Перед ее домом машина остановилась, и они вышли. Джош обнял ее. — Увидимся завтра? Она кивнула. — Я заеду пораньше, будь готова. Захвати теплую одежду. Мы вернемся только в воскресенье. — Полетим?! В ответ он только поцеловал ее. — До завтра. Джулия медленно поднялась по ступенькам. В квартире было темно. Дверь Феликса была закрыта. Она зашла в свою комнату и включила свет. Мэтти сладко спала. Джулия посмотрела на нее, пытаясь представить ее сон. Потом легла в кровать, но заснуть так и не смогла. Разные чувства нахлынули на нее, она вспоминала Джоша, его нежные поцелуи. Наконец Джулия поднялась и вышла в прихожую, тихо закрыв за собой дверь. Она не знала, что ей делать: то ли пойти на кухню и выпить кофе, то ли отправиться на улицу и подышать свежим воздухом. Вдруг она услышала голос Джесси, та звала ее. Джесси сидела на кровати. Она проспала всего несколько часов и проснулась, не в силах уснуть снова. Ее мучила бессонница. — Джулия? Это ты? Зайди ко мне, пожалуйста. Она проскользнула в ее комнату. — Не можешь уснуть? — прошептала Джулия. — Хочешь чашечку чая? — Нет. Просто посиди со мной. Джулия села на край кровати. — Как все прошло? — спросила Джесси. — Великолепно. — Господи, я вижу это. Расскажи мне. Джулия рассказывала, а Джесси слушала. Ее рассказ навеял на пожилую женщину воспоминания. Все это было так давно, что ей стало страшно. Закончив, Джулия глубоко вздохнула. Она посмотрела на Джесси, та лежала с закрытыми глазами. — Тебе лучше поспать. Я пойду, Джесси. — Нет, нет. Останься. Расскажи еще что-нибудь. Она радуется, как маленькая девчонка, которой обещали сладкое угощение. Ее губы и глаза были как у женщины, а вот то, как она держала руки на своей груди, было чисто детское. Джесси вспомнила несчастную женщину в темном пальто и в шляпе, которая приехала в Лондон в поисках своей маленькой дочери, а нашла взрослую Джулию. — Ты когда-нибудь думаешь о своей матери? — спросила Джесс. — Да, иногда. Сидя в этой темной комнате, она задавала себе вопросы, на которые не знала ответов. Почему настоящая мать бросила ее? Отдала в приют? Наверное, у нее были проблемы. Может быть, ей грозила опасность и она не могла рисковать жизнью дочери? Чего ей стоило отдать своего ребенка Бетти и Вернону? Интересно, когда-нибудь она жалеет о том, что сделала? — Она, наверное, красивая. Почему она бросила меня? — Извини, но я имела в виду не ее. — Мою приемную мать? — Конечно. Она твоя мать, и никто другой. Она вырастила тебя! — Они хотели сделать из меня черт знает что. Джесси видела, что воспоминания о родителях доставляли Джулии боль. Она неумело скрывала ее. Они отвергли друг друга, мать и дочь. Никто в этом не виноват. Джесси было жалко эту несчастную, забитую женщину и ей было жалко Джулию, у которой только все начиналось. Ей стало грустно и захотелось плакать, плакать за себя и за Феликса, за этих глупых наивных девочек, которых сама случайность привела в ее дом. Слезы покатились по щекам. — Джесси, извини. Я не хотела тебя расстраивать. — Она обняла ее за плечи и стала целовать. — У меня есть ты, и больше мне никто не нужен. Не плачь. Ты слышишь? У тебя есть я, Мэтти и Феликс. Что тебе еще нужно? Джесси вытерла лицо краем одеяла. — Ничего, не слушай меня, утенок. Я старая поношенная сумка. Такая старая, что у меня появилась бессонница. А ты еще молодая. Ты не можешь уснуть, потому что безумно счастлива. Ведь это смешно, не правда ли? Они смотрели друг на друга и вдруг рассмеялись: — Посмотри на часы. Если ты собираешься завтра в «путешествие», то иди спать, а то проспишь. Иди. Делай, что говорю. Джулия поцеловала ее в щеку. — Спокойной ночи. Джесси? — Что еще? — Спасибо, что позволила Мэтти и мне остаться. — Иди, я очень рада за тебя, утенок. Джулия ушла. Джесси поудобнее устроилась и не заметила, как заснула.
Джош, как и обещал, появился рано утром. Увидев его, Джулия быстро сбежала с лестницы ему навстречу. На его плече болталась сумка, набитая вещами. Джош приехал на машине. Она запрыгнула на заднее сиденье, и они тронулись в путь по пустынной утренней дороге. Вскоре Лондон остался позади. Они выехали на безлюдное шоссе. Джош уверенно вел машину. Воротник его кожаной куртки был поднят вверх до самого подбородка. Джулия не могла оторвать от него глаз. — Я так счастлива, — сказала она. — Я тоже. Сегодня отличный день для полета. На небе ни облачка. «Интересно, он счастлив потому, что я рядом, или потому, что небо чистое?» Наконец они въехали в высокие ворота, за которыми открывался огромный аэродром. С одной стороны располагались низкие бараки, а с другой — самолеты. Несколько мужчин в комбинезонах шныряли между самолетами, а один из них, увидев подъезжающую к ним машину Джоша, махнул рукой, приветствуя его. Где-то за спиной Джулия услышала шум самолета. На земле они казались маленькими и непрочными. Джош вышел из машины и направился к летчикам. Джулия робко поплелась за ним, боясь даже взглянуть на стоящие рядом самолеты. — Это Джулия. Она впервые полетит сегодня. Не думаю, что она собирается стать летчиком, но все-таки, — сказал Джош своим товарищам. — Добро пожаловать в аэроклуб «Кент», — сказал один из мужчин. — Это любительский клуб, — объяснил Джош. — Мне нравится этот самолет, впрочем, как и те, на которых я обычно совершаю рейсы для Гарри. Я начинал приблизительно с таких. — Это не опасно? — нервничала Джулия. Она не хотела спрашивать об этом, но слова сами слетели с губ. — Тебе будет спокойнее с Джошем в небе, чем на земле. Похоже, что эта малышка на все готова ради тебя, Джош. — Ну, хватит болтать. Пошли, — сказал Джош. От страха Джулия не ощущала под собой ног. Все ее тело дрожало. Но она не хотела, чтобы ее сочли трусихой, поэтому послушно последовала за Джошем. Они подошли к белому с красными полосками самолету, на котором были нарисованы буквы G-AERO. Джош забрался на крыло и открыл дверцу кабины. — Ну что же ты, смелей! Здорово, правда? — крикнул он Джулии. — Да, но я немного волнуюсь, — ответила та. Джулии помогли залезть в самолет, и она оказалась в маленькой узкой кабине, где едва хватало места для двоих. Джош устроился рядом. Он наклонился к ней и пристегнул ремень. — Так будет надежней. — Мы полетим без парашютов? — пыталась шутить Джулия. — Парашют? Да зачем он тебе? Разве ты не слышала, что сказал Джимбо? Ты — в безопасности. Он чмокнул ее в щеку, и Джулия подумала, что если ей суждено погибнуть, то она будет рада умереть с Джошем. Джош подал знак механику, который стоял у носа самолета. Заработал двигатель и закрутились винты. — Что это за самолет? — спросила Джулия. — Спортивный. Джулия словно окаменела, больше она не вымолвила ни слова. Она ждала, что будет дальше. Когда Джош стал нажимать на какие-то рычаги, сердце Джулии бешено заколотилось. Самолет двинулся с места и, быстро набирая скорость, поднялся вверх. Джулия посмотрела вниз и увидела длинную ленту шоссе, крыши домов и верхушки деревьев. С каждой минутой земля отдалялась от них все дальше и дальше. Вдали раскинулись, казалось, бескрайние леса и золотые поля. А за ними скрывались маленькие деревеньки и большие поселки. Джош убрал руки от руля и раскрыл карту. — Скоро покажется Ла-Манш, — сказал Джош. — Отлично. Джулия подумала о Франции. Она еще никогда в своей жизни не выезжала за пределы Англии. — Смотри! Вот он! Джулия, под нами Франция. Вскоре и Ла-Манш, отделяющий Францию от Англии, и красота французского пейзажа остались за их спинами. — Возвращаемся. Тебе нравится? — Да. Все такое красивое. — Мы почти дома. Предлагаю минут пять повеселиться. Она успела заметить блеск в его глазах и хитрую улыбку перед тем, как все перевернулось… — Джош. Где мы? — Возле ближайшего к нам барака. Джулия не могла передвигаться, но кое-как она добралась до барака. Она толкнула дверь ногой. На стене висели рулон бумажного полотенца, старое зеркало и умывальник. Джулия сделала несколько шагов до умывальника, и ее вырвало. Она наклонилась над раковиной, опираясь двумя руками о стену. Вошел Джош. — О, малышка. Извини меня. Одной рукой он взял ее за талию, а другой открыл кран. Потом он вытащил носовой платок, намочил его и вытер ей рот и лоб. Джулия закрыла глаза. — Ты простишь меня? Я просто выпендривался перед тобой. Вел себя как мальчишка. Но ты держалась молодцом! Джулия рассмеялась. — Молодцом? Я бы не сказала. — Уверен, все было именно так. В первый раз все боятся. Меня тоже рвало после первого полета. — А Гарри мыл твое лицо? — Слава Богу, его не было поблизости. «Какой добрый! О, Джош», — подумала Джулия. — Тебе лучше? — Да. — Я хотел еще немного полетать. Но раз такое дело, то в другой раз. — Если хочешь, то ты можешь полететь один. — Джулия была готова на все, только бы угодить ему. — Нет, мы лучше прогуляемся. Они выехали на машине в лес подышать свежим воздухом. На этот раз Джош не говорил о самолетах и лыжных прогулках. Он рассказывал ей о маленьком городе Колорадо, в котором выросли он, отец и мать, о людях, которые работали в компании его отца, об их женах и детях. — Ты был когда-нибудь счастлив? Джош задумался. — Думаю, что да. Это была хорошая жизнь. Но я не мог долго усидеть на одном месте. — Почему? — Не знаю почему. Такой уж я, наверное, человек. Непоседливый и непонятный. Джулия догадывалась, на что он намекал. Это было не в первый раз. Она подняла голову вверх и посмотрела на небо. Оно постепенно становилось серым. Ей не нужны были его намеки, она понимала и была готова к тому, что может произойти. Твердая решимость овладела ею. Она проведет эту ночь с Джошем. Он будет ее. У нее все получится, потому что она сильно желает этого. Джош смотрел на Джулию. У нее была белая как молоко кожа и темные как смоль волосы. Он понимал, что напугал ее сегодня, поэтому ему было как-то не по себе. — Поехали домой, Джулия, — повелительным тоном сказал он. Они решили сократить путь и поехали короткой дорогой, которая привела их к воротам небольшого дома. — Птичий домик, не правда ли? — спросил Джош. — Три человека едва поместятся в нем. На веранде воздух был холодным и морозным. Джулия дрожала, но не от холода, а в предвкушении наступающей ночи. Она хотела этого и ждала. На удивление, в домике оказалось очень уютно. Мебель была довольно современная. Был даже телефон и проигрыватель. Джулия походила по дому и осталась довольна. — Это твой дом? Джош прошел на кухню. — Не совсем. Я его снимаю, пока будет нужно. — И до каких же пор? Джош молча готовил чай, игнорируя вопрос. — Давай сделаем тосты. Я их обожаю. Это чисто английское изобретение. — Неужели? Впервые об этом слышу. — Не расстраивай меня. Джош включил плиту. Вскоре все было готово. Когда он разжег камин, комната стала домашней. Джулия села на диван. Джулия твердо решила, что эта ночь будет ее. Она чувствовала в себе силу и уверенность. Да, она отдаст себя Джошу. Джош убрал ее тарелку и чашку на поднос. Потом он сел перед ней на колени, и минуту они смотрели друг на друга. Она нагнулась к нему и поцеловала в губы. — Джулия, — сказал он, — ты хорошо понимаешь, что ты делаешь? По молчанию он понял ее ответ. Джош был очень мягким и очень осмотрительным. Он расстегнул ее одежду (понимая, что спешка может все испортить) и отложил в сторону. Когда она встречалась с мальчишками, ее интересовал вопрос: «Почему, когда те дотрагивались до нее, ей было противно и неловко?» С Джошем было все по-другому. Он раздел ее так легко и нежно, что она даже не почувствовала. Только когда холодный воздух прошел по ее коже, Джулия осознала, что она обнажена. Инстинктивно она прикрыла грудь руками. — Я хочу посмотреть на тебя, — прошептал Джош. — Я могу это сделать? Джулия медленно опустила руки. Она смотрела ему прямо в глаза. Джош слышал свое дыхание в тишине комнаты. Он еще колебался. Джош любил женщин, но Джулия не относилась к тому типу, который он обычно выбирал. Ему нравились девушки с пышной грудью и крупными бедрами. У Джулии не было ничего подобного. У нее была плоская грудь и узкие бедра. Она была высокой и выглядела очень хрупкой. Отдельные части ее тела были как у мальчишки, и в то же время она казалась очень женственной. Джош взял ее руку. — Ты тоже можешь раздеть меня. Джулия немного отодвинулась и расстегнула пуговицы его рубашки. Она увидела золотой пушок на его груди. Она провела пальцами по его сильным мускулистым рукам, поражаясь их красоте. — Продолжай, — попросил он. Она расстегнула ремень. Когда Джулия полностью раздела его, он положил ее на диван. Через его плечо Джулия видела пламя огня в камине. Она подумала, что, когда наступит решающий момент, она может испугаться. Она почувствовала приятную боль внутри. — Джулия, — прошептал Джош. — Джулия… Вдруг раздался телефонный звонок. Джош накинул рубашку и поднялся с дивана, чтобы ответить. — Джош? Это Стелла. — О, привет. — Я должна кое-что тебе сказать. Это плохая новость. Я беременна. — Ты что? — переспросил он, не расслышав ее слова. — Я беременна. Вчера я ходила к врачу. Это точно. Мне очень жаль, Джош. Обычно он был осторожен. После этих слов он вспомнил вечер, проведенный со Стеллой в этом доме. Он вспомнил ее слова: «О, Джош. Давай обойдемся без этой вещицы. Я хочу чувствовать тебя в себе. Все будет нормально. Сегодня мне можно». — О Боже! Мне тоже очень жаль. Но ты не волнуйся. Мы уладим это дело. — Ты что, не понимаешь? Позвони мне. Позвони, и мы все уладим. Стелла повесила трубку. Джош снял рубашку. Он думал о ребенке. Нет, даже не о ребенке, а о том маленьком уродливом зародыше, который находился внутри Стеллы. Это он зачал его. В один из таких, как сейчас, вечеров. — Что с тобой? Что-нибудь случилось? — взволнованно спросила Джулия. — Нет. Просто плохие новости, — отговорился он. Ничего хорошего для Джулии. Ей незачем об этом знать. Он подошел к дивану и посмотрел на нее. Ее руки и ноги показались ему совсем детскими, а лицо потеряло ту соблазнительность и женственность, которые он увидел раньше. Что он делает?! Он собрал ее одежду и протянул ей. — Вот, оденься, — очень мягко произнес он. — Что случилось? Что я должна делать? — Ты ничего не должна. Послушай, ведь ты еще девственница, не так ли? — А какое это имеет значение? — Имеет. Не отдавай себя мне. Оставайся такой, какая есть. Пусть все идет своим чередом. — Я хочу тебя, Джош, я… Она обняла его. — Делай то, что я тебе говорю. Что-то в его голосе заставило подчиниться. Она отвернулась от него и оделась. — Хорошая девочка. Сейчас я отведу тебя куда-нибудь поужинать. Ты, наверное, голодна. Они приехали в небольшой бар. Джош заказал ей ужин. Джулия старалась развеселить его. Она болтала без остановки, но Джош погрузился в свои мысли и едва улавливал смысл болтовни. После ужина они вернулись в дом. Он показал ей ванную и спальню, где стояла кровать. Потом он поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. — Джош, пожалуйста… — Нет, малышка. Я глупец. Мне не нужно было привозить тебя сюда. В этом нет твоей вины. Это я виноват. Ты очень красивая. У тебя еще все будет, главное не спеши. Он быстро отвернулся и скрылся в своей спальне. Джулия легла в постель и зарыдала. Она желала его больше всего на свете. Успокоившись, она решила, что как-нибудь добьется своего. (обратно)
Глава шестая
Это был снова звонок Джона Дугласа. Его голос нравился Мэтти, и она рада была его слышать. Свободной рукой Мэтти что-то рисовала в записной книжке. — Повтори, что я сказал, — закончил Дуглас. — Как только он придет, — пообещала она. — Вот и прекрасно. До свидания. «Интересно, как может выглядеть человек с таким голосом?» — подумала Мэтти. Она села за машинку и продолжала печатать. Фрэнсис объявился минутой позже с сигарой во рту. У него было, по всей видимости, отличное настроение. — Мир жесток, любовь моя, — сказал он. — И приходится с ним ладить, а иначе он растопчет тебя. Мэтти подозрительно посмотрела на него: «Неужели ему удалось кого-то облапошить?» Постепенно девушка привыкла к Фрэнсису. Он даже начинал нравиться ей. Теперь Мэтти видела не только красоту и прелесть театра, но и его сложную, запутанную закулисную жизнь. Она положила на стол Фрэнсиса письмо директору театра в Дареме для подписи. — Так, что тут у нас? Он пробежал глазами по листку. — Посмотри, что ты напечатала! Ну и нахальство! Ладно. Были телефонные звонки? — Только один. Звонил Джон Дуглас. Он сказал, что Дженифер Эдж ушла из театра. Насколько я поняла, она влюбилась в какого-то повара из зачуханного ресторанчика. Джон просил прислать вместо нее другую девушку, которая бы не ложилась под каждого встречного ублюдка. Лучше, если ты сделаешь это немедленно. В противном случае он закрывает проклятое шоу и посылает всех к черту, в том числе и тебя. Я процитировала его слова. — Это так похоже на Дугласа! — Шлюха! — ругнулся Фрэнсис. — Я должен был предвидеть это, прежде чем посылать ее в качестве менеджера сцены. Она не пропускала мимо ни одной пары брюк. Ушла, ты сказала? — Ушла, бросила театр. Получила расчет и ушла, не оставив адреса. Так сказал Дуглас. — О черт. Давай подумаем. Нет смысла надеяться, что они справятся без нее. Кого же мы можем послать? Нужно что-то придумать, а иначе Дуглас взбесится. — Давай я поеду, — не задумываясь, сказала Мэтти. — Что? Ты?! Что ты знаешь о работе менеджера? Эдж была классным специалистом, несмотря на слабость к мужикам. Надо дать объявление в газету. Мэтти вскочила со стула и подошла к его столу. — Я смогу. У меня есть опыт. Конечно, любительский, но я знаю, что нужно делать. Позволь мне, Фрэнсис. Он молчал. — Я могу отправиться сейчас же. Завтра, если хочешь. Ты не найдешь человека на эту должность так быстро. Пожалуйста, Фрэнсис. Дай мне шанс. Фрэнсис смотрел на Мэтти и вспоминал вечеринку у Джесси, где он впервые ее встретил. Еще тогда, обратив внимание на то, что Мэтт не умеет петь, он отметил у нее кучу других талантов. «Надо дать ей шанс, она заслуживает этого. К тому же из нее вышла никудышная машинистка!» Решающим аргументом стало то, что Мэтти нравилась ему. — Езжай. Но только до тех пор, пока я не подыщу более квалифицированного человека. От радости девушка обняла Фрэнсиса и поцеловала в щеку. — Не надейся, что ты там задержишься. Где-то на шесть месяцев, не больше. Ты нужна мне здесь. — Хорошо, хорошо. Только на шесть месяцев.Через три дня Джулия и Феликс провожали Мэтт со станции Юстон. В последнюю минуту, всем на удивление, к ним присоединился Джош. Мэтти выглядывала из окна вагона. Ей ужасно не хотелось покидать Джулию и Феликса. За последние недели, прожитые вместе, они стали настоящей семьей. Феликс занес в купе последний чемодан. — Пока, — сказала она. — Я буду писать вам часто-часто. Будь счастлива, Джулия! Мэтти хотела что-нибудь сказать Феликсу, но не нашла нужных слов. — Пока! Всего хорошего! — Будь умной девочкой, Мэтти! — Надеюсь, что она к нам вернется, — грустно сказала Джулия. Джош очень хорошо вписывался в их дружную компанию. У Джесси всегда находилась свободная минутка для красивых молодых людей, а Мэтти немного нервничала: ей казалось, что он не достоин Джулии. Но тревога за подругу прошла, когда однажды Джош принес несколько американских пленок с музыкальными записями и положил их у ее ног. В тот день Мэтти и Джулия впервые услышали рок-н-ролл. С этого момента звуки музыки постоянно доносились из их комнаты. Джулия не могла налюбоваться Джошем, она смотрела на него с огромным восхищением и гордостью. По-другому чувствовал и смотрел на Джоша Феликс. Он сторонился его, не смотрел ему в глаза. Когда Джош приходил в дом, Феликс всегда пропадал на кухне или рисовал в своей комнате. Если Джесси настаивала на его присутствии, он раскладывал свою работу на столе так, чтобы все время его голова была опущена и он не мог видеть счастливое лицо Джулии.
Путь от станции Юстон до дома Феликс прошел очень быстро. Он шел, опустив голову вниз, ему не нравилось находиться в обществе Джоша, но когда он был один, то ловил себя на мысли, что постоянно думает о возрастающей симпатии Джулии к Джошу. С трудом Феликс перевел мысли от этой парочки на другое. Он шел на работу, и ему надо было на чем-то сконцентрироваться. Ремонт квартир подходил к концу, осталось оформление интерьера. Феликс мог бы стать отличным дизайнером или архитектором-декоратором, но не любил современный дизайн. Ему не нравилась мебель темных тонов с длинными тонкими ножками, обшитая синтетическим материалом. Феликс мечтал о загородных домиках, окруженных узорчатым забором, о мягких персидских коврах, золотых подсвечниках. Воплотить его мечты в реальность было практически невозможно. Не менее трудным оказалось создать в каждой квартире свою, особенную, атмосферу. Феликс не терял надежды и старался изо всех сил. Он предполагал, что в воскресенье, когда рабочие наконец покинут квартиры, он сможет походить там и поразмышлять.
Уже было совсем темно, когда Мэтти приехала в Лидс. Дул холодный ветер. Она стояла на платформе под фонарем и оглядывалась. Ее никто не встретил. Мэтти взяла чемоданы и направилась на стоянку такси. Она назвала водителю адрес театра, и они поехали. Всю дорогу водитель рассказывал ей что-то, но она не могла толком разобрать слова из-за его сильного акцента. Девушке вообще казалось, что она находится в другом мире, в незнакомой стране. Когда они подъехали к театру, Мэтти «спустилась на землю». Перед ней стояло огромное серое здание. Мэтти вошла. Людей в холле не было, кроме одной девушки, чье скучное лицо выглядывало из маленького окошка кассы. Мэтти подошла к ней. — Я бы хотела увидеть мистера Дугласа. Я — новый менеджер сцены, — сказала она. — Сейчас идет второй акт, все заняты. Вам нужно пройти за кулисы или подождать в кабинете. Это на верхнем этаже. Вон туда… — Она указала на дверь, ведущую на лестницу. — Я могу оставить здесь вещи? — Конечно. Мэтти поднималась по ступенькам в полной темноте, не зная толком, куда нужно идти. Вдруг откуда-то послышался голос. Несомненно, это был Дуглас. Она узнала его — директор, как всегда, кричал. Мэтти пошла на шум и попала в коридор. Слева находилась дверь, на которой была надпись «Офис». Дверь открылась, и оттуда вылетела женщина. — Ты монстр. Хуже монстра. Не человек, а животное! — кричала она. Женщина прошла мимо Мэтти, даже не взглянув на нее. — Да, да, — слышался голос Дугласа, — расскажи мне что-нибудь новенькое, Вера. Мэтти вошла. — Вернулась, чертова дура! — Она, может быть, и дура, но не я. Меня зовут Мэтти Бэннер. Джон оглянулся. Наступила пауза. — Это как-то ко мне относится? — Да, я ваш новый менеджер сцены. — О Господи! — рассмеялся он. — Что же тут смешного? — Только то, что Виллоубай сказал мне, что направил ко мне своего личного секретаря, и сделал это в качестве одолжения. — Я… я была его секретарем. — Да, конечно. Просто я ожидал увидеть леди определенного возраста. Мы переговорили с Фрэнсисом о тебе. Уверен, что у тебя есть талант, но сомневаюсь, чтобы один из них подошел мне для восьми шоу в неделю. Сколько тебе лет? — Двадцать два. — Ну да, конечно! Дети, калеки и сумасшедшие составляют нашу компанию! Нам надо за это поднять зарплату. Калека — это я, если тебя интересует. Обычно я говорю хорошеньким девушкам, что это военные раны, но сегодня я не настроен врать. У меня артрит. Я виню в этом мой дурацкий характер. — Наверно, есть и другие причины? — спросила Мэтт. Он удивленно взглянул на нее. Переведя разговор на другую тему, спросил: — Что вы знаете об этой работе? — Достаточно, чтобы работать. — Очень хорошо. Значит, вы займетесь отъездом, а я пойду домой спать. — Отъездом? — Просто великолепно! — Дуглас грубо засмеялся. — Фрэнсис, видимо, не объяснил тебе, что наш театр находится на гастролях. Этот прекрасный субботний вечер — последний в Лидсе! В понедельник мы начинаем спектакли в Донкастере. У нас их два: Бернарда Шоу «Человек и оружие» и «Добро пожаловать домой». Они состоят из трех актов. Как только занавес опустится, все декорации и костюмы должны быть собраны, упакованы и погружены. Мы должны освободить место для другого театра, который приедет в Лидс показывать свои «шедевры». В понедельник начнется все сначала, только теперь уже мы будем разгружать, распаковывать, разбирать. Мы называем это въезд и отъезд. В этом заключается часть твоей работы. Теперь понятно? Леонард будет помогать тебе. — Леонард? — Ассистент. Пойдем за кулисы, сейчас будет антракт, и я представлю его. Веру ты уже видела, она мой заместитель. — Что с ней произошло? — Что? Она далека от совершенства? Да, ей всегда не угодишь: на этот раз что-то не так со временем. Все женщины одинаковы, начиная с нашей ведущей актрисы Шейлы Фирс, а закончить можно тобой. Нет, это не совсем так. Предательница Дженифер Эдж была всем довольна.
Через час спектакль закончился. Так как была суббота, зрителей оказалось немного и они быстро разошлись. Актеры разбрелись кто куда: некоторые пошли развлекаться в ночные клубы и бары, некоторые по домам, остались только те, которые хотели побыстрей собрать свои вещи. Никто не обратил внимания на нового менеджера сцены. Джон ушел, а Мэтти оказалась на сцене среди различных декораций. — Раз уж вы начальница, давайте начнем, — сказал Леонард, невысокий подросток в узких брюках. За его спиной стояли двое рабочих. Мэтти хотелось заплакать или убежать. — Я здесь человек новый, а ты уже все знаешь. Поэтому делай то, что обычно, а я посмотрю. Леонард дал какие-то указания рабочим, и они сразу же занялись разборкой декораций на сцене. Мэтти облегченно вздохнула. Потом она обошла опустевшие гримерные, собирая костюмы и различные аксессуары: зонтики, трости, шляпки — все, что использовалось в спектакле. Для того чтобы полностью очистить театр, потребовалось больше двух часов. Леонард и Мэтти закрыли все двери и вышли на улицу. — У тебя есть где остановиться? — спросил Леонард. — Нет. — Администрация никогда ни о ком не заботится. Пойдем ко мне. Не могу похвастаться хорошим жильем. Но это лучше, чем ничего. Он взял ее чемоданы. Мэтти так устала, что не могла ни о чем думать. Она тихо поплелась за Леонардом. В этот вечер она нуждалась в друге, поэтому была благодарна ему за помощь. — Спасибо, Леонард. — Зови меня Ленни, если хочешь. Хозяйка квартиры накрыла на стол и пригласила их ужинать. Она подала яйца, бекон, жареный хлеб и две бутылочки яблочного сока. — Не очень интересное занятие? — спросила хозяйка у Мэтти после того, как Ленни объяснил, кто она такая. — Не очень, — ответили они оба. Всю ночь Мэтти вспоминала маленькую квартиру, вечера, которые она проводила с Джесси, когда Джулии не было дома, вкусную стряпню Феликса и свою любимую подругу.
Следующая неделя показалась самой трудной для Мэтти, но когда подошло время второго отъезда, она почувствовала себя увереннее. Ее первый экзамен прошел успешно, и сейчас Мэтти действительно вошла в роль менеджера театра. Засиживаясь допоздна и просыпаясь рано утром, когда все еще спали, Мэтти учила сценарии двух спектаклей. Она знала, когда в какой очередности актеры должны выходить на сцену. Теперь Шейла Фирс не будет злиться на нее за то, что она забывала иногда предупредить ее о выходе на сцену. Шейла Фирс исполняла главные роли. Она была темпераментной в «Человеке и оружии», болезненной в «Добро пожаловать домой». Мэтти казалось, что она не подходит ни на одну из этих ролей, но все равно восхищалась ее игрой. Что касалось отношений Шейлы и Дугласа, то их нельзя было назвать напряженными, как у других. Она старалась обходить его стороной, когда у него было отвратительное настроение. Через некоторое время из Донкастера театр переехал в Скарборо, а оттуда — в Ноттингем. Мэтти окунулась в новую для нее жизнь. В субботу вечером, после представления, все готовились к отъезду. Декорации и сундуки с костюмами были погружены на два больших грузовика. Театр опустел. Мэтти побрела домой. Ей выделили хорошую квартирку. Вера взяла ее под свое крыло. Она представила Мэтти всем хозяйкам, у которых труппа снимала квартиры на то время, пока находилась в их городе. Одни из них были бывшими актрисами, другие просто любили театр. Они посещали все спектакли, а актеры всегда выслушивали их суждения и советы. Среди всего коллектива театра внимание Мэтти привлекали двое: им было за сорок, и работали они в этом театре многие годы. Эти двое всегда останавливались у одних и тех же хозяек. В конце недели они обычно говорили друг другу что-то вроде: «У старушки Нелли еще есть силенки, а вот что у меня осталось — не знаю. Она держится молодцом, а посмотри на меня, на мою кожу. Наверное, мне следует ложиться раньше спать». У них были красивые имена — Фергас и Элан, но они называли себя Ада и Дорис. Это были первые гомосексуалисты, которых Мэтти когда-либо видела так близко. По воскресеньям театр переезжал. Имущество отправляли на грузовиках, а актеры путешествовали на поезде. Джон Дуглас всегда ездил на своей машине. В поезде актеры обычно читали вслух отзывы местных газет о спектаклях. Мэтти выбирала укромное местечко и с интересом слушала. Понедельник всегда был трудным днем. Вера и Мэтти занималась расселением, остальные разгружали вещи. В такой день все были раздражены. Актеры нервничали: у одного костюм пропал, у другого оказался грязным, третий не мог найти свою косметику для грима. Мэтти приходилось их успокаивать и, по возможности, выполнять все требования. Мэтти дала себе обещание, что будет записывать все, что делает и видит, что-то вроде дневника, и посылать потом Джулии. Джулия сама попросила ее об этом. Но к концу дня Мэтти так уставала, что не могла думать ни о чем, кроме сна. Джулия прислала ей два или три письма с короткими новостями о Джесси и Феликсе и ни слова о себе или Джоше. После понедельника все облегченно вздыхали. Даже Мэтти позволяла себе поваляться в постели, прежде чем позавтракать и идти в театр. Она проделывала огромную работу: руководила установкой декораций, следила за тем, чтобы костюмы были вовремя постираны, поглажены, сама штопала дырки на занавесах. Развивая в себе уже имеющиеся способности, Мэтти незаметно для себя приобретала опыт. Она не пропускала ни одного спектакля. Когда она слышала высокий музыкальный голос Шейлы, то думала, что у нее могло бы получиться не хуже. В театре Мэтти воспринимали как застенчивого, скромного человека. К концу первого месяца она прочно заняла свое место в труппе. Вера относилась к ней как к дочери, а Ленни был ее верным помощником во всех делах. Ей нравилось, что он больше от нее ничего не требовал. Мэтти любила общаться с Эланом и Фергасом, с ними было легко и весело, а те, конечно же, предпочитали больше ее компанию, чем мисс Эдж. Актеры практически не обращали на Мэтти никакого внимания. Они только приходили к ней жаловаться друг на друга. Шейлу девушка почему-то невзлюбила, но старалась перенять ее шикарный ораторский акцент. — Что с тобой? — как-то спросил ее Дуглас. — У тебя флюс? Почему ты так разговариваешь?.. Мэтти не выпускала из виду и Дугласа. Она наблюдала за ним и его работой. Ей казалось, что Джон великолепно справляется с обязанностями директора театра. Никогда не спрашивая актеров, он сам решал, какую пьесу ставить. Он считал, что все обязаны соглашаться с его решением. Джон как будто чувствовал, что нужно публике, поэтому почти никогда не ошибался. В театре его не любили и боялись. Вера находилась в постоянном страхе. Мэтти никогда не интересовалась, что она думает о нем. Это было видно по ее поведению. Мэтти тоже доставалось от Дугласа, особенно в первое время. Однажды она забыла подготовить поднос со стаканами, который горничная должна выносить на сцену. Актер вынужден был провозгласить тост без стакана, делая вид, что тот у него в руках. Во время антракта Дуглас набросился на нее: — Я не выношу безалаберщины! У тебя есть сценарий, в котором ясно сказано, что и когда делать. Так что будь добра, постарайся, чтобы подобные казусы не повторялись. — Хорошо, я постараюсь, — тихо ответила Мэтти. — Не говори это таким голосом, как будто делаешь мне одолжение. Запомни мои слова, и все! — крикнул он. «Как я могу забыть?» — звучало в голове у Мэтти. После этого случая Мэтти научилась ничего не слышать и не видеть, как это делала Шейла Фирс. Когда Мэтти стала справляться со своими обязанностями, Джон перестал дергать ее. В пятницу вечером перед спектаклем Дуглас и Вера сидели в кабинете и подсчитывали их заработки. Денег едва хватало, чтобы выплатить зарплату актерам. В случае, когда дела не ладились, он брался за телефон и звонил Фрэнсису Виллоубаю. Если они засиживались дольше обычного, то Мэтти должна была приготовить чай для Веры и виски для Джона. В этот вечер Мэтти пришлось готовить чай. Она стояла на кухне, которая находилась рядом с кабинетом Джона, когда услышала чьи-то шаги. Это была Шейла. Она подошла к двери кабинета и толкнула ее. Мэтти отчетливо услышала ее слова: — Я не могу выйти на сцену сегодня, — заявила Шейла. Дверь осталась открытой, и Мэтти слышала все, о чем они говорили. — Почему? — удивленно спросил Джон. — Джон, ты ведь ничего не смыслишь в любви, правда? — продолжала она. Не в силах сдержать свое любопытство, Мэтти подошла поближе. В театре все знали о романе Шейлы и ведущего актера второго театра Фрэнсиса. По всей видимости, как поняла Мэтти, он бросил Шейлу и ушел к другой, тридцатипятилетней, актрисе. — Я играла с ней в «Питере Пэне». Она полная бездарность. Мэтти с трудом сдерживала смех. Шейлу обскакала какая-то актрисуля, которая играет служанок или — еще лучше — участвует в массовках. — Я оскорблена, Джон. Меня растоптали, уничтожили. Я не могу работать в таком состоянии. Не могу! Мэтти с нетерпением ждала реакции Дугласа. — Бедняжка, — начал он. — Я понимаю тебя. Мэтти была ошеломлена этими словами. Неужели он действительно пожалел ее? Она подкралась к приоткрытой двери и заглянула в щелочку. Джон стоял возле Шейлы, взяв ее лицо руками и всматриваясь в глаза. — Я вижу, что ты страдаешь. Сейчас ты просто должна цепляться за театр. Только так ты сможешь забыть обо всем. Ты не должна из-за этого негодяя бросать искусство. Шейла уткнулась головой в его плечо. «Чертов хитрец! Ты умеешь убеждать людей», — подумала Мэтти. Она тихо вернулась на кухню. Когда чай был готов, поставила на поднос чашки, чайник и понесла его в офис. Шейла взяла чашку. Мэтти положила руку на ее плечо и слегка сжала, давая понять, что она тоже сочувствует ей. — О, Мэтти! Только в таких ситуациях и понимаешь, что значат для тебя друзья. — Я знаю, знаю. Дверь была открыта, и я все слышала. Будь уверена, что мы любим тебя и восхищаемся. Уже через десять минут Шейла направлялась в гримерную. Мэтти вернулась за подносом. Увидев ее, Джон улыбнулся. — Хорошо, — сказал он. — Ты молодец. Спасибо. — От него редко можно было услышать похвалу или слова благодарности, поэтому Мэтти не знала, что ответить. — Я хочу выпить. Не присоединишься ко мне? — Он протянул ей стакан с виски. Они чокнулись и выпили все до дна. — Что вы здесь делаете? — вдруг спросила Мэтти. — Делаю? — рассмеялся он. — Разве это не заметно? Зарабатываю на жизнь. Благодаря твоему другу Фрэнсису не могу похвастаться хорошим заработком. К тому же я помогаю своей жене. — Вы женаты? — Конечно, я женат. Мне пятьдесят пять. — Где она живет? — Ты любопытная маленькая девчонка. Елена живет в Оксфордшире. У нас там домик. Предвидя твой следующий вопрос, отвечаю, что она не имеет ничего общего с театром и предпочитает жить своей собственной жизнью, в то время как я делаю свою карьеру. Нас обоих устраивает такая вольная жизнь. Я возвращаюсь домой, к жене, когда могу. А вот что ты здесь делаешь, малютка? — Я хочу быть актрисой. — Ну конечно, актрисой. Как же я сразу-то не понял? У тебя есть в этой области какой-нибудь опыт? — Любительский. Но у меня хорошо выходит. — Скажи мне, ты наверняка подумала, что сегодня тебе выпал удачный шанс? Разбитое сердце Шейлы и все такое… Могу поклясться, что ты знаешь все слова. Мэтти пожала плечами. Она была слишком уязвлена, чтобы достойно ответить ему. Он подождал немного и сказал: — В любом случае, спасибо. Потом, посмотрев на недопитую бутылку, добавил: — Кстати, у тебя что, нет никаких дел? Она направилась к двери. — Мэтти? — Да? — Мэтти, ты отлично справляешься с работой.
За две недели до Рождества театр прибыл в Ярмут. Погода выдалась на редкость солнечной и теплой. Иногда по утрам Мэтти выходила на прогулку вдоль берега моря, чтобы подышать чистым соленым воздухом. В один из обычных вечеров, когда на сцене шла пьеса Шоу, Мэтти заметила, что Дуглас наблюдал за спектаклем более внимательно, чем обычно. В последние дни Шейла снова стала плохо себя чувствовать, вероятно, на нее нахлынули воспоминания. В конце первого акта она убежала со сцены и бросилась в объятия Джона. — Я не могу, — шептала она, но ее шепота было достаточно, чтобы его могли услышать все стоящие за кулисами. — Я не могу играть. Почему так тяжело? За какие грехи я так страдаю? — Ты не можешь? — Джон едва сдерживал себя. — Моя дорогая. Сделай это для меня, если не можешь для себя. Это очень важно. — Неужели? Если это так необходимо тебе, я постараюсь. Она снова вышла на сцену во втором акте, но лучше бы она этого не делала. Спектакль шел плохо. Шейла забывала и путала почти каждую реплику. Актеры, которые были ее партнерами на сцене, пытались исправить положение, но им, видимо, не хватало мастерства. Аплодисменты были жидкими и сухими. Джон ушел к себе, не сказав ни слова. Шейла, вся в слезах, направилась в гримерную. «Я видела спектакли похуже, — думала Мэтти. — Почему они так переживают?» Когда все разошлись, она обошла все гримерные, выключая свет, и решила заглянуть в офис Дугласа. У него горел свет. Мэтти открыла дверь. Он сидел на стуле, опустив голову, а на столе стояли бутылка виски и стакан. — Извини, если я тебе помешала, — сказала Мэтти. — Я просто проверяю, везде ли выключен свет. — Входи, входи. Нет ничего более драматичного, чем это! О черт! Слово «драматичный» не подходит для такого провала! Что ты смотришь? Выпей лучше со мной. Он взял один из пустых стаканов, стоящих на столе. — Не возражаешь против грязного? Этот ублюдок пил из него, но я не думаю, что он заразный. — Что произошло? — Сукин сын! Если бы я был уверен, что она больше не сможет выйти на сцену, я бы сделал то, о чем она просит. Нет, Шейла тут ни при чем. Хотя она и подлила масла в огонь. Он налил еще вина и выпил. — Мы оба слишком амбициозны, Мэтти. Только не подумай, что я говорю о тебе. У тебя амбиций, наверное, вообще нет. Кстати, как твоя фамилия? — Бэннер. — Мисс Бэннер, стало быть. — Точно. — Раз уж ты поинтересовалась, что случилось, я тебе расскажу. У меня есть мечта — открыть свой собственный театр. Никаких глупых и нудных спектаклей, никаких Виллоубаев. Несколько лет я откладывал на это деньги из своей зарплаты и искал какой-нибудь финансовой поддержки. Сегодня два моих закадычных друга, которые добились в жизни большего, чем я, специально приехали посмотреть спектакль. Догадываешься, что было дальше? — Вам отказали в деньгах? — Именно. Дело не только в деньгах. Они сказали, что сейчас у них нет времени этим заниматься. Вдруг им срочно понадобилось вернуться, появились какие-то дела. Зашли, выпили по рюмочке — и привет. Мэтти стало жалко его. Она только сейчас поняла, насколько он одинок. Она подошла к нему и прислонилась щекой. Он даже не шелохнулся, не оттолкнул ее, но и не прижал к себе. Мэтти обошла стол и взяла свой стакан. Джон сделал несколько глотков, а потом предложил: — Пойдем поужинаем куда-нибудь! Ты не против? — Конечно, с удовольствием. Джон тяжело поднялся со стула, опираясь на трость. Надел пальто, шляпу и накинул на шею шарф. Они спустились к выходу. Мэтти выключила везде свет, а Джон закрыл двери. На улице, осмотрев ее с ног до головы, он спросил: — А где твои вещи? — Все на мне. Погода резко изменилась. Приближалась зима. Мэтти едва хватало денег, чтобы оплатить жилье и прокормить себя. На то, что оставалось, она не могла купить себе теплые вещи. — В конце недели сходи к Вере. Пусть она выплатит тебе часть зарплаты, и ты сможешь купить себе что-нибудь из одежды. Я не хочу, чтобы ты заболела. Они пришли в маленький французский ресторанчик. Это было одно из тех мест, которые Мэтти, Вера и Ленни обходили стороной, зная, что обеды в таких ресторанах им не по карману. Старший официант провел Мэтти и Джона к столику, сервированному на троих. Третий прибор быстро убрали. — Что бы ты хотела заказать? — Бифштекс и жареный картофель, а на первое — суп. — На десерт мороженое? Давай закажем бутылочку вина. Ты любишь вино? — Люблю. Нельзя сказать, что ужин был легким. Мэтти всегда ощущала голод, поэтому не хотела упустить шанс хорошо поесть за чужой счет. — Расскажи мне о себе. Наверное, твоя история такая же обычная, как у многих в подобных ситуациях. — В каких таких подобных ситуациях? Я не понимаю, о чем вы говорите. — Ладно, ладно. Не дуйся. Просто расскажи. Мэтти начала со своего детства. Она старалась рассказывать только хорошее, обходя острые углы и не вдаваясь в подробности. Потом она поведала о своей встрече с Джулией и их школьных проделках. Не забыла Мэтти рассказать о Джесси и Феликсе. — Теперь ваша очередь. Пока я ем, вы рассказывайте. — Я был актером, — начал Джон раскатистым сочным голосом, который, казалось, гремел на весь зал. Мэтти не решилась посмотреть на реакцию окружающих людей. Он поднял трость и стукнул ею об пол. — В театре было не так уж много ролей для калек. Я не хотел играть одну и ту же роль. Я работал в Стрэдфорде, в одном из лучших театров Лондона. — Расскажите мне, пожалуйста. — О, это все чепуха. Все. Но я расскажу, если ты хочешь. Мэтти медленно пережевывала мясо, а когда доела весь гарнир, принялась за шоколадный пудинг. Дуглас рассказывал о выходах на большую сцену, о первых гастролях, об успехах и неудачах. Вино закончилось, Джон перешел на бренди. Алкоголь ударил ему в голову, и он начал вспоминать смешные случаи, шутить, рассказывать театральные анекдоты. — А вот сейчас я здесь, обедаю с маленькой девочкой, которая работает менеджером сцены. — Я не маленькая девочка. — Я знаю, извини. Я не хотел тебя обидеть. Официанты нетерпеливо ждали у двери, когда последние посетители освободят зал. — Они, наверное, хотят, чтобы мы ушли. Джон посмотрел счет, который принесли час назад, и выложил нужную сумму на блюдце. Они встали и пошли к выходу. Официант вежливо открыл им дверь. К вечеру стало еще холодней. Джон еле волочил свои больные ноги, а Мэтти поддерживала его под руку, чтобы он не упал. — О черт, — бормотал он. — Калека, ничтожный калека… Они с трудом доковыляли до ближайшего фонаря и прислонились к нему. Яркий желтый свет ослепил их. Джон всмотрелся в темноту, но кроме шума набегающих на берег волн, он ничего не услышал и не увидел. На улице было темно и безлюдно. — Пойдем со мной, Мэтти, — попросил он. — Хорошо. Мэтти нелегко было поддерживать его: он был сильно пьян и не контролировал себя. — Сюда, — указал он рукой на отель, находившийся на противоположной стороне. Дверь была заперта. Джон кулаком нажал на маленькую кнопку слева. Прошло довольно много времени, прежде чем какой-то мальчуган открыл дверь. — Где ночной швейцар? — гремучим голосом зарычал Джон. — Почему я и мой друг должны мерзнуть и ждать, пока вы откроете дверь? — Извините… — начала Мэтти, но потом поняла, что мальчишке глубоко наплевать на Джона и ее объяснения. Дуглас взял ключ и показал его Мэтти. — Тринадцатый. Нетрудно запомнить, правда? Они прошли мимо бара и по ступенькам поднялись в номер Джона. После нескольких попыток он наконец попал ключом в замок и открыл дверь. Мэтти оглянулась, убедилась, что ее никто не видит, и зашла. Вся комната была в зеленых тонах, что придавало ей определенный шарм. Дуглас снял пальто и шляпу и бросил на кресло. — Извини меня, я на минутку, — сказал он и вышел из комнаты. Через некоторое время Мэтти услышала шум воды в туалете. Вернувшись, Джон сильно хлопнул дверью, потом подошел к Мэтти и стал расстегивать блузку. Увидев обнаженные плечи, он тяжело задышал. Дуглас с нежностью дотронулся до ее тела. Внезапно резким движением он положил ее на кровать и навалился своим грузным телом. Мэтти освободила руки и обняла его за шею. Он поцеловал ее в лицо. — Ты пахнешь морем. Он стал мягко ласкать языком ее глаза, нос, уши. Мэтти было приятно. Она тоже хотела поцеловать его, но он вдруг отклонился и упал на бок. Его глаза были закрыты, а дыхание ровным. Мэтти поняла, что Дуглас уснул. Она тихо прошла в ванную, умылась, причесалась и вернулась в комнату. Джон крепко спал. Он выглядел неуклюжим ребенком. Мэтти стянула с него брюки, рубашку и накрыла одеялом. Потом она разделась сама и, юркнув под одеяло, сразу уснула. Когда Мэтти проснулась, было уже светло. Она перевернулась на другой бок и увидела, что Джона рядом не было. Не было его и в комнате. Мэтти села на кровати, поджав колени, и прислушалась. Наконец открылась дверь и вошел Джон. Он приблизился к Мэтти и посмотрел на нее. — Извини, — тихо сказал он. — Представляю, каким красавцем я был вчера. Обычно я не пью так много. Я уже не в том возрасте, чтобы напиваться. Это может привести к печальным последствиям. — Пятьдесят пять — это еще не возраст. Она вспомнила, как он выглядел прошлой ночью раздетым, и ей стало неловко за обоих, но Джон почему-то засмеялся. — Не хочешь попробовать еще раз? — спросил он. Мэтти вспомнила его нежные поцелуи, ласки, и ей захотелось ощутить их вновь. В это утро она поняла, что Джон Дуглас нравится ей. Не говоря ни слова, Мэтт протянула ему руку. Он устремился к ней, на ходу сбрасывая одежду. Джон притянул ее к себе и увлек на кровать. Оказавшись под ним, Мэтт попыталась взять инициативу на себя, но Джон был такой тяжелый, что она не могла двинуться с места. Лихорадочно дрожа, он свободной рукой потянул вверх ее белье, обнажив мягкую округлость живота и бедер. Еще один рывок, и упругие холмики грудей Мэтт с торчащими сосками предстали перед его возбужденным взглядом. Он потерял самообладание. — Боже, какое у тебя шикарное тело, — прошептал он с придыханием и принялся в исступлении целовать ее грудь. — Я нравлюсь тебе? — немного погодя спросил Джон. — Да. — Обними меня, — попросил он. Мэтт обхватила его плечи и сильно сжала. Джон вытащил из-под ее головы подушку и подложил под спину Мэтт, приподняв ее тело вверх. Затем нежно раздвинул бедра девушки и осторожно вошел в нее, с каждым толчком углубляя проникновение. Не в силах больше сдерживать себя, Джон непроизвольно сделал глубокий удар. Мэтти дико закричала и, прикусив губу от боли, закрыла глаза. — Господи, это твой первый раз? — Извини. — Ах ты, маленькая глупая девчонка. Почему ты не сказала об этом? Он снова овладел ею, делая спокойные ритмичные движения. Он ощутил, как мучительно сладостная судорога пробежала по всему телу — это была вершина блаженства. Совершенно измученный, Джон с глухим стоном отступился от нее. — Ты сделала меня очень счастливым, Мэтти Бэннер. Несмотря на боль, она улыбнулась ему. Мэтти отдыхала. Ее волосы разметались по подушке. Постепенно приходил в себя ее немолодой любовник. «Эта тишина принадлежит только нам», — думала Мэтти. Джон закурил сигарету. — Джон? — обратилась она. — Да? — Ты спал с Дженифер Эдж? — Да. Почти все с ней спали. Это было как обязанность. Разве что Дорис и Ада не занимались с ней этим. Мэтти рассмеялась. Она могла бы соперничать с женой Дугласа, но Дженифер, которую она никогда не видела, ее совершенно не интересовала. — И Ленни? — снова спросила она. — Наверное. — Ладно. Мне нужно в театр. — Заходи ко мне, не забывай. Он обнял ее и прижал к себе. — Дженифер не сравнить с тобой. Ты просто чудо, Мэтти. — Я была чудом. Мэтти спрыгнула с кровати и оделась. — Увидимся в театре, любовь моя, — сказал Джон. — Конечно. Она вышла на улицу и направилась в сторону театра. Мимо нее проходили женщины с корзинками, спешившие на базар, мальчишки на велосипедах, развозившие почту. «Они наверняка догадываются, откуда я иду и чем занималась, — думала Мэтти. — Ну и наплевать, пусть думают что хотят». Она почувствовала себя очень одиноко. Ей хотелось поделиться с Джулией своими переживаниями. Но не письмом, а воочию. Через две недели театр закроется на рождественские каникулы. Ей ничего не оставалось, как ждать.
В театре все уже всё знали. Вера отвела Мэтти в сторону, когда та появилась в зале. — Где ты была прошлой ночью? — Где была? Я ходила с Джоном в ресторан. Кто-то же должен был его поддержать! Глаза Веры заблестели, а на губах заиграла многозначительная улыбка. Вера быстро повернулась и убежала. «Пошла разносить сплетни», — подумала Мэтт. Для труппы это было нечто вроде маленькой сенсации. Актеры привыкли к подобным интрижкам в театре, но от Мэтти этого никто не ожидал. Шейла Фирс стала союзницей Мэтти. Одни только Фергас и Элан не восприняли новость о приключении менеджера сцены так бурно, аЛенни, которому очень хотелось, чтобы Мэтт стала его новым другом, тотчас же отбросил это желание. У нее был Джон Дуглас. В конце недели Вера вручила Мэтти конверт с зарплатой. В нем было семь гиней и еще несколько серебряных монет. Мэтти не поняла сразу, что это за деньги, но потом вспомнила: «Деньги на пальто!» Она в тот же день отправилась в магазин и купила пальто черного цвета с большим воротником и широким поясом. На оставшиеся деньги Мэтти купила черные замшевые перчатки. В новом пальто и перчатках она пошла в театр к Джону. Увидев ее, он нахмурил брови. — Ты похожа в нем на проститутку, но это твое дело. Оно хоть теплое? — Да, теплое. Спасибо тебе. — Вера будет высчитывать по десять шиллингов из твоей зарплаты ежемесячно. Мэтти не могла сдержать смех. Время шло. Город готовился к рождественским праздникам. По вечерам на улицах горели яркие огни, слышалась веселая музыка. Магазины были забиты подарками к Рождеству. В последние дни Мэтти и Джон часто были вместе. Дуглас много рассказывал ей о театре, книгах, которые читал. От него она узнала, что такое опера. Последняя неделя промелькнула незаметно. Театр был готов к отъезду. Вся труппа решила отпраздновать окончание гастролей в кафе, которое находилось неподалеку от здания театра. Шампанское лилось рекой. Дуглас рассказывал анекдоты. У всех было отличное настроение. К концу вечера Мэтти заскучала: ее ждал путь домой. Незадолго до отъезда она купила подарок Джону — книгу о театре. Она надеялась удивить его своим подарком и получить от него что-нибудь на память. Но, когда вечер закончился, Джон посадил ее в машину и повез на вокзал. Он, видимо, даже не думал о подарке для Мэтти, и она спрятала книгу подальше в сумку. Джон довольно холодно попрощался с ней. Мэтти знала, что теперь он принадлежал жене, а не ей, поэтому приняла это как должное. — Когда ты вернешься, мы подберем тебе какую-нибудь небольшую роль, — сказал он. Эти слова стали единственным подарком к Рождеству. Мэтти села в поезд и выглянула в окно. Машины Джона не было. Он уехал. (обратно)
Глава седьмая
Джулия стояла на перроне около книжного киоска и ждала прибытия поезда. Она разглядывала витрину, где с обложек журналов на нее смотрели счастливые улыбающиеся лица фотомоделей. Уличные музыканты играли задорные рождественские песни. Повсюду царили радость и веселье. Все на станции было в движении. Все, кроме Джулии. Она не ощущала приближения Рождества. Джош уехал куда-то на праздники, бросив пару слов на прощание, обещая встретиться. Иногда ей казалось, что она ненавидит его, но даже в такие минуты она сильно тосковала без него. Прибыл поезд Мэтти. Пассажиры один за другим выходили из вагонов. Сначала Джулия не узнала подругу, но, присмотревшись, радостно бросилась к ней. Мэтти поставила чемоданы и побежала к ней навстречу с распростертыми объятиями. — Ты изменилась, — сказала Джулия. — Может быть, из-за моего нового пальто? Оно тебе нравится? — Не знаю. Пойдем сядем в автобус, там и поговорим. Они дошли до остановки и прыгнули в автобус. Устроившись на первом сиденье, девушки зажгли по сигарете. Подруги были счастливы увидеться снова. — Рассказывай, что там у тебя приключилось? — нетерпеливо спросила Джулия. — Догадайся. — Глаза Мэтти сверкали. — Ты… — Да. — О, Мэтти. Расскажи мне, как это было? Мэтти откинулась на спинку сиденья и мечтательно произнесла: — Это было замечательно. — Замечательно? — Да, великолепно и ни чуточки не страшно. — Ну же, не тяни. Для начала начни с него. Мэтти улыбнулась. — Он совсем не похож на Джоша. Пока автобус колесил по улицам города, Мэтти поведала Джулии о своих приключениях. Она рассказала о театре, об актерах. Потом незаметно перешла на Джона Дугласа. Она объяснила Джулии, каким образом они оказались в ресторане. Воспоминания о том, как они добирались ночью в отель, снова рассмешили ее. Мэтти описала обстановку в номере Джона. Джулия внимательно слушала, кивала головой и ждала кульминационного момента в рассказе подруги, но та обошла его стороной. — Как же это было, Мэтти? — не унималась Джулия. — Что ты чувствовала? Мэтти пыталась подобрать слова. Она понимала, что хотела услышать Джулия, но ей было трудно описать свои ощущения. — Я же сказала тебе — все было замечательно. — Он… он хорош в постели? — прошептала она. — Иногда… Знаешь, что он мне обещал? Дать какую-нибудь роль. Вот это действительно то, чего бы я хотела. — О, Мэтти! Я так счастлива, что ты снова дома. — Я тоже. — Нет. Я была не права, сказав, что ты изменилась. Ты все та же — моя любимая подруга Мэтти. — Когда я вышла из отеля на улицу, мне казалось, что все люди смотрят на меня и тычут пальцами. Я тогда еще подумала: «Они все знают про меня, по крайней мере догадываются». Девушки так громко рассмеялись, что стоявшие рядом пассажиры неодобрительно посмотрели на них. — Оксфорд-стрит. Выходим. Нас ждет чудесный ужин, приготовленный, конечно, Феликсом. Они поднялись по знакомым ступенькам на последний этаж. Джулия открыла дверь и уступила дорогу Мэтти. — Входи. Вот ты и дома, — сказала Джулия. — Дома, — выдохнула та. Как будто она не уезжала отсюда. Джесси сидела в комнате. На ней было новое платье. Мэтти подбежала к ней и расцеловала в обе щеки. Только потом она заметила, что в углу стояла елка, которую Джулия и Феликс купили на ярмарке и украсили разноцветными игрушками. — Как ты, Джесси? — Как всегда, милочка. Ну, иди поцелуй меня еще. Какие у тебя новости, утенок? — Много новостей, но самая главная — я буду актрисой. — Только и всего? Появился Феликс, он словно тень вышел из своей комнаты, подошел к Мэтти и поцеловал ее. «Как она повзрослела», — подумал он. — Феликс! Принеси стаканы, утенок вернулся. Надо отметить, — сказала Джесси. Он ушел за бутылкой вина и штопором. В те дни, когда Джош улетал в рейсы, Феликс чувствовал себя легко и свободно. Как-то он неосторожно сказал Джулии «твой летчик», на что та ответила: «Он не мой летчик. Почему ты называешь его моим?» «Потому что мне он сто лет не нужен», — хотел съязвить Феликс, но промолчал. Открывая вино, он слышал громкий и веселый смех Джесси: Мэтти рассказывала какой-то смешной эпизод, который произошел на сцене во время спектакля.На следующий день, в Рождество, Мэтти собрала купленные для Сэма, Рикки, Мэрилин и Фил подарки и положила в сумку. Не забыла она о Роззи, ее муже и детях, даже отцу кое-что купила. — Я собираюсь домой, — сказала она Джулии. — Ты поедешь со мной? — Я работаю, офис закроется только в четыре. — Мы поедем после того, как ты освободишься. Джулия давно подумывала о поездке домой. Ее останавливало, может быть, то, что в их доме одно Рождество было как две капли воды похоже на другое. У Бетти и Вернона не было близких родственников или друзей, поэтому они обычно праздновали втроем. Семьей ходили в церковь, потом праздничный обед, потом — подарки. Вечером Смиты пили чай с пирогом. После праздничной церемонии Джулия поднималась к себе и читала какую-нибудь книгу. Джулия всегда мечтала о другом Рождестве. Ей хотелось, чтобы в доме было много народу, звучала музыка, хотелось танцевать, взрывать хлопушки, смеяться и петь. — Не надо, не жди меня. Поезжай одна, — сказала она. Джулия купила симпатичную блузку в подарок Бетти и кашемировый шарф Вернону. Все это она отправила посылкой по почте. Несмотря на то, что произошло между ней и матерью, она часто писала Бетти, но возвращаться и не думала. Не сейчас. И даже не на Рождество, поэтому она отказалась ехать с Мэтти. Мэтти приехала домой. Она была рада видеть мальчиков, которые, казалось, неплохо ладили с отцом. Рикки подрос. Он рассказал ей, как окончил школу, где работает и вообще чем занимается в свободное время. Мэтти также узнала, что накануне отец сильно напился и почти весь вечер пролежал на земле у ворот, пока Рикки и Сэм не затащили его в дом и не уложили в кровать. — Рикки… — начала Мэтт. Она хотела извиниться за отца, но Рикки прервал ее. — Глупец, не так ли? В этом он весь. В последнее время он стал чаще выпивать. Мы не могли оставить его на морозе. Он мог замерзнуть и умереть. Мэтти кивнула. — Вы уже большие, думаю, что мне не нужно беспокоиться за вас, Рикк. — Конечно, я больше волнуюсь за тебя, Мэтти. Как твои дела? — Ничего. Сначала было немного трудно, но теперь все вроде пошло на лад. Скоро ты увидишь мое имя на афишах. — Когда увижу, то жду от тебя подарок гитару. — Хорошо. Скоро у тебя будет гитара. После встречи с братом Мэтти отправилась к Роззи. Дети толпились вокруг Мэтти, а Роззи разглядывала новое пальто сестры. Недавно родившийся малыш лежал в детской коляске. Мэтти склонилась над ним, улыбаясь и строя смешные рожицы. — Он такой милый. Можно я его возьму? — Если хочешь. Необыкновенные чувства, да? — Мне нравятся малыши. Они так вкусно пахнут молочком. — В чем же дело? Ты можешь заиметь такого малютку. Для этого нужен всего-навсего мужчина. Мэтти осталась на чай. Мэрилин и Фил были слишком возбуждены в этот вечер, и Роззи едва уложила их в постель. — Пора спать, — строго сказала она. Девочки послушно ушли к себе в комнату, сказав всем спокойной ночи. Мэтти показалось, что она не очень-то им нужна, что они вовсе не скучали без нее. — Я тоже пойду, выпью с отцом, — сказала она. — Хорошо. Счастливо тебе, Мэтт. Мэтти нашла отца в одном из баров, которые в эту ночь работали допоздна. Тут было накурено и сильно пахло спиртным. Тед сидел за столиком рядом с пианино. Увидев дочь, он махнул ей рукой, приглашая сесть. Он не был пьян, хотя на столе стояло несколько пустых кружек из-под пива. Мэтти купила еще по кружке и села напротив отца. Тот задал ей несколько вопросов о жизни, хотя слушал без особого интереса. Мэтти больше не боялась его. Наверное, потому, что она ушла из его жизни. Немного погодя к ним присоединился какой-то мужчина. Он представился другом Теда. Этот друг принес с собой выпивку, они чокнулись и залпом осушили кружки. Мэтти надоело слушать их пьяные бредни, она встала, поцеловала отца в лоб и ушла. — Посмотри, вот они, сегодняшние дети. Ничего-то они не хотят знать, все делают по-своему, — сказал Тед своему другу. Мэтти приехала на станцию и успела сесть на последний поезд в Лондон.
В маленькой квартире было тепло и уютно. Феликс заработал приличную сумму денег и устроил настоящий пир. На столе можно было найти все: от экзотических фруктов до шикарного итальянского вина. Он накупил множество разных подарков для своих женщин и, как принято в рождественскую ночь, развесил на спинках кроватей вязаные носки и разложил в них подарки. Наутро все сразу же занялись разглядыванием содержимого носков. Джулия примеряла новые сережки. — Ты замечательный, Феликс! Как ты узнал, что они мне подойдут? — У меня есть глаза. Джулия подарила ему разных цветов шелковые носовые платки. Феликсу было приятно ее внимание. Подарок Мэтти его слегка удивил. Это оказались ярко-бирюзового цвета носки-стельки. — Ты когда-нибудь видела, чтобы я носил что-нибудь подобное? — Я просто хотела пошутить. — О, Мэтти! Твой подарок самый лучший, — сказала Джесси, примеряя перед зеркалом шляпу. — Да, это лучше, чем то, что она вручила мне, — пробурчал Феликс. После вручения подарков Феликс удалился на кухню. Джулия заглянула туда и спросила: — Могу я помочь? Феликс кивнул в ответ, и они вместе приступили к приготовлению ужина. Мэтти и Джесси вовсю распевали рождественские песни. На улице стемнело, когда счастливые друзья сели за стол. Джесси величественно устроилась во главе стола, она почти ничего не ела, только пила шампанское и виски. Наконец Феликс принес долгожданный торт. В комнате погасили свет и зажгли свечи. Ужин прошел прекрасно. Единственное, что омрачило Джулию, Мэтти и Феликса, это то, что Джесси очень много пила в этот вечер. На нее нахлынули воспоминания, ей казалось, что они намного реальней, чем все, что окружает ее в этой уютной комнате. — Я сейчас вспомнила, как первый раз была с мужчиной. Мне было столько же лет, как и вам. Что-то вроде Мэтти и ее театрала. Мне он не нравится, дорогая. Я тебе говорила об этом? — Да, говорила. — Первый мужчина должен быть молодым и красивым. Вот у Джулии парень — красавчик. Таких ребят много. Вот Феликс, например. Феликс грациозно встал, как черная пантера. — Я собираюсь прогуляться. Мне нужно подышать свежим воздухом. Джулия и Мэтти присмотрят за тобой. Счастливого Рождества! — Так на чем я остановилась, утята? Ах да! Я жила с родителями в Хьюстоне. Днем я работала на рынке, а по вечерам пела в ночных клубах. Прелестные были деньки! Я познакомилась с Томми Ластом, и вскоре мы стали встречаться. Именно он показал мне Нью-Йорк. Мы гуляли в парках и зеленых скверах. У него были черные волосы, черные глаза и маленькие усики, которые кололись, когда мы целовались. В тот день Томми пришел ко мне и принес букетик цветов. Потом мы пошли гулять. На нем была рубашка с коротким рукавом. Его руки не отрывались от моей талии ни на минуту. Незаметно он привел меня к реке. Мы прошли под мостом, поднялись по берегу и оказались на лужайке. Там было много кустов и высокая трава. Никто не мог нас заметить. Томми снял с меня блузку. Предполагая, что может произойти, я надела свой самый красивый бюстгальтер. Я представляла себя английской королевой, лежа в мягкой траве. Томми аккуратно влез на меня. Ох! Эти усы! Никогда их не забуду. Казалось, Мэтти не слушала ее рассказа. Ее взгляд блуждал по комнате. Тишину нарушила Джулия: — Как это было? Джесси расхохоталась. — Это длилось не больше двух минут. Томми Ласт был мальчишкой, хотя мне он казался мужчиной. Только потом я поняла, что это был особенный день в моей жизни. Наступило молчание. Джесси смотрела в одну точку. Джулия и Мэтти понимали, что сейчас она далеко от них. Она вернулась в прошлое: на берег реки, зеленую лужайку, мягкую траву. — Что с ним случилось? С этим Томми Ластом? — спросила Мэтти. — А что случается с ними со всеми? Они уходят. Какие были времена! Она закрыла глаза, и девушки подумали, что она заснула. Но через минуту она, глядя на Джулию, сказала: — У вас все впереди, утята. — Надеюсь, — ответила Джулия. — Все эти ваши разговоры о свободе не стоят и выеденного яйца. Джулия, ты сама создаешь себе проблемы, привязываясь к этому парню. Он практически первый, кого ты здесь встретила. Не бегай за ним. Повеселись, а потом и забудь. Умные женщины так и поступают. — Я не могу с собой справиться, Джесси. Это выше моих сил, — печально сказала Джулия. Мэтти посмотрела на подругу, взяла ее руку и крепко сжала. «Она права. Джош не стоит тебя», — подумала она. Они так и остались сидеть, держась за руки, пока Джесси не задремала. Потом девушки уложили ее в постель.
Вернон закрыл окна и входную дверь. Не обращая на него внимания, Бетти продолжала сидеть в кресле. «Я пойду наверх, — тихо сказал он. — Ты что, всю ночь будешь здесь сидеть?» Она не ответила. Бетти слышала, как заскрипели ступеньки под его ногами. Она перевела взгляд на искусственную рождественскую елку, украшенную китайскими фонариками. Джулия всегда жаловалась, что у них не было настоящей. Бетти знала, что если прищурить глаза, свет от фонариков расплывется и она будет казаться настоящей. Она вспомнила, как Джулия ползала возле елки, разрывая на мелкие кусочки бумажный кукольный домик, который ей подарили на Рождество в год окончания войны. Дочери тогда было шесть лет. Сейчас в доме царила тишина. После ужина кухня блестела чистотой (Бетти всегда следила за этим). В холодильнике осталась часть индюшки, которую она не использовала. Завтра она приготовит холодное, а послезавтра пирог с индюшиным мясом, потом котлеты и суп из костей. «Опять одно и то же, — думала Бетти. — Подай, накорми, убери… Всегда сидящий с газетой Вернон». Эти мысли вызывали в ней злость и раздражение. Она чувствовала себя зверьком, загнанным в клетку. Ее клеткой были дом и кухня. Бетти поднялась, подошла к окну и раздвинула шторы. В некоторых домах еще горел свет, в других уже спали. Ей осталось выполнить последнюю обязанность — выключить электроприборы, умыться и лечь в кровать. Последние годы Вернон редко дотрагивался до нее. Как только он ложился в постель, сразу же засыпал. Это огорчало Бетти. Если бы она ушла из дома сейчас, посреди ночи, ей бы не пришлось начинать завтрашний день с кухни, мойки, уборки. Она прислонилась к окну. Конечно, ей некуда податься. Она — Бетти Смит, жена и мать, которой почти пятьдесят. Больше ничего. Бетти с нежностью прикоснулась к воротничку новой блузки подарку Джулии. Блузка очень нравилась ей, но была маленького размера. «Дочь ушла, — подумала она. Впервые после ухода Джулии она думала обо всем спокойно. Горечь и боль ослабли. — Она ушла, потому что молодая и глупая. Наверное, ей нужно было это сделать. В конце концов, у моей малышки будет другая, не такая, как у меня, жизнь. Наверное, она правильно поступила».
У Мэтти осталось две недели каникул. Девушки решили посвятить их развлечениям. Каждый вечер они куда-нибудь ходили: в клуб, на вечеринки к друзьям, в джаз-клубы, иногда с Феликсом, но чаще вдвоем. В начале второй недели Джулия притворилась, что у нее болит живот, и не пошла на работу. Они сидели в «Голубых небесах» или прогуливались вдоль Оксфорд-стрит, разглядывая витрины магазинов, напуская на себя вид богатых дам. Однажды утром по совету Джесси девушки отправились на вещевой рынок. Они пересмотрели кучу вещей, бывших в употреблении, и вернулись домой с шелковыми блузками, обтрепанными лисьими воротниками и жакетами из твида. Примерив «новые» покупки, Мэтти и Джулия накрасились и вышли на улицу, представляя себя известными актрисами. Их внешний вид и громкий смех привлекали прохожих. Через несколько дней к их компании присоединились Джош и Джон. Мэтти много смеялась, строила разные гримасы, рассказывала анекдоты — в общем, была милой и забавной настолько, что Джулия стала опасаться, как бы подруга не увела от нее Джоша. Каникулы закончились. Нужно было возвращаться на работу. В глубине души Джулия надеялась, что Виллоубай не позволит Мэтти уехать, но тот без колебаний согласился. В Честере начинался новый сезон. Снова железнодорожный вокзал. На этот раз Джош не провожал Мэтти. Джулия пожелала ей счастливого пути и успехов на ее новом поприще. Прошло два дня, как Мэтти отважилась напомнить Дугласу о его обещании. Кроме грубого ответа «Сейчас не до тебя!», она ничего больше не услышала. Как-то она сидела в холодном партере. Почувствовав на себе чей-то внимательный взгляд, Мэтти оглянулась. Это был Дуглас. Он наклонился к ней и шепнул: — Прости, что я накричал на тебя. В этом проклятом театре такой кавардак, но это не твоя вина. Ночь они провели вместе. Мэтти догадывалась, что именно этого он от нее ждал. Джон делал все как обычно, только тепла и нежности она не чувствовала. Мэтти поймала себя на мысли, что спать с ним стало для нее обязанностью. Наконец Джон дал ей маленькую роль в «Добро пожаловать домой». Для начала это было всего-навсего десять строк. Мэтти выучила слова наизусть и работала над ролью часами. Через неделю она впервые вышла на сцену как актриса. Ее руки тряслись от волнения, а на лице выступили красные пятна. После спектакля Фергас и Элан поздравили ее и поцеловали, но ей очень хотелось услышать, что скажет обо всем Дуглас. Она сдерживала себя, чтобы не броситься искать Джона. Они случайно столкнулись в буфете. — Джон! Ты видел меня? Что скажешь? Я хорошо сыграла, да? — Хорошо, малышка. Мэтти была разочарована: не такого ответа она ждала. «Самое главное, что я вышла на сцену. Дебютировала. Если нужно, я проживу без его похвалы», — успокаивала себя Мэтт. (обратно)
Глава восьмая
Лил холодный февральский дождь. Джулия неохотно вышла на улицу вместе с группой других машинисток, закончивших рабочий день. Они направились к автобусной остановке. Асфальт был мокрый, и кое-где виднелись лужи. За считанные секунды прическа Джулии была испорчена: челка намокла и прилипла ко лбу, волосы висели как сосульки. У нее не было зонта, поэтому она быстро свернула с Оксфорд-стрит и поспешила домой. Когда она проходила мимо овощного магазина, помощник продавца уже закрывал зеленые деревянные ставни. На Джулию никто не обратил внимания. В ее туфлях была вода, и она понеслась домой, перепрыгивая через лужи. Магазин на следующем углу был открыт. Она зашла и купила бутылку молока, хлеб и сыр. Джулия хотела поскорей оказаться дома, сменить мокрую одежду, приготовить горячий чай и выпить по чашечке с Джесси. Феликс, возможно, дома. Она представила, как он готовит ужин. Выйдя из магазина с покупкой, девушка заметила, что бар, в котором продавали спиртные напитки по вечерам, только что открылся. Джулия перешла через дорогу и заглянула туда. Людей было немного. Она посмотрела на витрину, выбрала бутылку красного вина и заторопилась домой. Поднимаясь по лестнице, Джулия сняла плащ и несколько раз стряхнула его. Открыв дверь, она обнаружила, что в квартире темно и тихо. — Я дома, привет, я дома, — крикнула она. В комнате Джесси было темно. Уличный свет просачивался в окно, освещая помещение. Джулия услышала шум воды. В ванной горел свет, возможно, Джесси была там. Джулия отнесла на кухню продукты, потом прошла в комнату, переоделась, включила электрокамин и наклонилась посушить волосы. В квартире по-прежнему было тихо. Только из ванной доносился шум воды. Когда Джулия снова появилась на кухне, ее вдруг осенило: «Довольно долго льется вода. Если Джесси собиралась принять ванну, то наверняка она была бы уже полной». Она прислонила ухо к двери. — Джесси? Шум воды, казалось, становился все сильней. — Джесси, с тобой все в порядке? Ответа не последовало. — Джесси?! Джулия продолжала кричать, прильнув плечом к двери, которая держалась на четырех болтах. Дверь скрипела под ее весом, но не поддавалась. Почему Джесси закрылась на замок? Она ведь одна в квартире? Джулия нажимала на ручку, поднимая ее то вниз, то вверх. Все было бесполезно. Тогда она отошла немного и с разбега толкнула дверь, та поддалась и упала внутрь. Девушка оказалась на полу, где повсюду была вода, вытекающая через край полной ванны. Джулия увидела огромное, набухшее, с выступающими венами тело Джесси. Ее лицо, казавшееся серовато-фиолетовым, почти полностью находилось в воде. Вода лилась, как гремящий поток водопада. Девушка в ужасе попятилась назад. Она закрыла рот рукой, чтобы не закричать. На секунду ей почудилось, что Джесси спит, но нет, она была здесь, в ванной, под водой. Ее волосы плавали в воде, как морские водоросли. Потихоньку Джулия пришла в себя. Она закрыла кран, но вода все еще выливалась через верх. Она опустила руки и схватила Джесси за плечи, прикладывая неимоверные усилия, чтобы ее поднять. На полу было скользко, и Джулия еле держалась на ногах. Она слышала, как ее собственный голос спрашивал: — Ну же, Джесси, вставай! Пожалуйста, вставай! Это я, Джулия. Огромное тело слегка поднялось, и девушке удалось вытащить цепочку стопора ванны. Вода быстро убывала. Джулия поддерживала безжизненное тело. Она опять попыталась поднять ее, но мокрое тело Джесси только выскользнуло из ее рук. В панике и растерянности Джулия оставила ее в таком положении. Маленькие выпавшие волоски приклеились к лицу, рот был чуть-чуть приоткрыт, как будто она зевает. Наконец Джулия поняла, что Джесси мертва. Она опустилась на колени на мокрый пол и потрогала ее руку. Кожа была холодной. — О, Джесси. Прости меня, прости! Она прислонилась к ее руке и разрыдалась. Прошло немного времени. Джулия тяжело поднялась. «Нужно вызвать “скорую помощь”», — подумала она. Она выскочила из ванной и побежала. Сердце бешено колотилось, и казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Она проклинала свою медлительность, хотя точно знала, что Джесси не оживить, ничто и никто уже не сможет помочь ей, как бы быстро она ни бежала. На этажах, где располагались офисы, было тихо, все двери закрыты, до телефона не добраться. Джулия снова очутилась на улице под дождем. Ее намокшая одежда болталась на худеньком теле, мешая двигаться. По площади проходили люди, но девушка их не замечала. Она добежала до телефонной будки и сняла трубку. Джулия сообщила все детали происшедшего и, убедившись, что «скорая» приедет, позволила себе передохнуть, облокотясь о стеклянную дверцу. Девушка чувствовала острую боль, ноги ее, казалось, растворились под ней. Все, что она смогла сделать, ничего не изменило: Джесси мертва. Смутно осознавая, что произошло, Джулия вспомнила наконец о Феликсе. Она не хотела, чтобы он вернулся домой и обнаружил мертвую мать лежащей в ванне. Она понеслась обратно. Кроме Джесси, никого в квартире не было. Джулия собрала полотенца, скрутила их и подложила под голову Джесси. Остальными она прикрыла обнаженное тело. Слезы застилали глаза. Лицо Джесси нельзя было узнать, но девушка не стала его закрывать. Закончив, Джулия села в ожидании. Она промокла до нитки и дрожала от холода, но чувствовала, что не может оставить Джесси сейчас одну. Она вспомнила парнишку с букетиком цветов, который явился к Джесси однажды летним теплым днем. Раздался звонок. Джулия открыла дверь. Это была «скорая». Она показала мужчинам в халатах, где лежала Джесси. Санитары склонились над ней. Не в силах смотреть на это, девушка отошла в сторону. Она опять вспомнила о Феликсе, тот должен скоро вернуться домой. Джулия закрыла глаза и стиснула кулаки, думая о нем. Вдруг послышались его легкие шаги. Она вышла ему навстречу. — «Скорая»? — только спросил он. Джулия протянула ему руки, и он сжал их. — Это Джесси, — прошептала она. Феликс посмотрел через ее плечо в темную комнату матери. — Феликс, она умерла. Джулия не могла подобрать других слов, для этого не было времени и не было слов, которые могли бы что-то изменить. Она хотела его обнять, прижать к себе, но он мягко отстранил ее. Санитары стояли возле двери ванной и тихо переговаривались. Феликс прошел мимо них к матери и захлопнул за собой дверь.Джесси умерла от внезапного сердечного приступа. Ее лишний вес и виски способствовали этому. Так объяснил врач, который подписывал свидетельство о смерти. Подготовкой похорон занимался Феликс. Джесси не оставила никаких завещаний, только однажды она в шутку сказала: «Когда я умру, устрой, пожалуйста, вечеринку. Пригласи друзей, если к тому времени они будут живы». Джесси похоронили на кладбище в северной части Лондона. Небольшая группа людей, мистер Могридж и несколько старых друзей пришли на похороны. Лицо Феликса было бесстрастным. Незадолго до церемонии погребения приехала Мэтти. Джон Дуглас позволил ей уехать лишь на один день. — Как часто умирают твои друзья и родственники? — спросил Джон. — Я не прошу у тебя сочувствия, — ответила Мэтт. В этот момент она поняла, что совершила ошибку, влюбившись в Дугласа. — Я сообщаю тебе, что еду на похороны, и мне наплевать, разрешишь ты или нет. — Ты нужна нам в театре. Это все, что я имел в виду. Сейчас Мэтти стояла возле могилы, крепко сжав руку подруги. — Извини, что меня не было здесь в такой момент, — прошептала она. — Что бы это изменило? — Как Феликс? Они боялись посмотреть на него. — Не знаю. Приходской священник начал читать молитву. Люди склонили головы… После похорон все вернулись в маленькую квартирку. К присутствующим добавилось еще несколько человек, которые пришли помянуть Джесси. Феликс купил виски и кое-что приготовил, а Джулия расставила тарелки в комнате Джесси. Фотографии на стенах и памятные сувениры выглядели какими-то увядшими, словно они принадлежали к печальному давно ушедшему прошлому. Настроение было подавленное. Все тосковали по болтовне Джесси и ее веселому смеху. Кто-то вспомнил последнюю вечеринку, такую неожиданную для всех, которую устроили Мэтти и Джулия. Джесси пела старые песни, в том числе «Мама, он смотрит на меня». Было еще очень рано, когда люди стали расходиться, еще раз выражая соболезнования провожавшему их Феликсу. Мэтти тоже пора было уезжать, чтобы не опоздать на последний поезд. Она крепко обняла друзей и уехала, не сказав ни слова. Феликс и Джулия собрали пустые бокалы и вымыли грязную посуду. Они передвигались по квартире молча. Создавалось впечатление, что они не знали, что сказать, и боялись словами обидеть друг друга. Феликс взял пустую бутылку виски, прочитал название и вдруг изо всех сил бросил ее в стенку. Она разбилась, стекла разлетелись во все стороны. Джулия подошла к нему, но он уклонился. — Я не смог устроить ей прощальную вечеринку, как она просила, — в его голосе звучала горечь. — В этом нет твоей вины. Ты не можешь заставить людей веселиться. Джесси — другое дело, она была ас в этом деле. Нам всем не хватало ее сегодня. — Ты думаешь, она знает об этом? — Конечно, знает. Ему казалось, что Джесси где-то здесь, совсем рядом. Феликс наклонился убрать осколки разбитой бутылки. Возле кресла матери, на полу, стояла еще одна. — Ничего не осталось, — сказал он. — Я бы выпил сейчас. Джулия пошла на кухню и достала красное вино, которое купила в баре. Она принесла его в комнату и предложила Феликсу. — Давай разопьем это вино. Устроим нашу собственную вечеринку в память о Джесси. — Ей бы это понравилось. Джулия вспомнила, как хотела утешить Феликса, когда он вернулся домой в тот роковой вечер. Тогда ей казалось, что она может предложить ему все, весь мир, но теперь Джулия не знала, что надо делать. — Открывай, Феликс. Они не могли сидеть в комнате Джесси, поэтому перешли в спальню Феликса и расположились на кровати. Джулия редко заходила к нему и была удивлена, увидев над камином портреты: ее, Мэтти и Джоша. От голода сводило желудки. Феликс сделал несколько бутербродов с ветчиной. Когда они опустошили бутылку Джулии, он достал из кладовки вторую — старое «Бордо». — Я прятал ее для особого случая, — улыбнувшись, сказал он. — Думаю, лучшего случая не представится. Джулия улыбнулась в ответ. Он разлил темное вино в стаканы. Они пили, глядя друг другу в глаза. Феликс поправил подушки, и они легли. Их плечи касались. — Я скучаю по ней, — тихо сказал он. — Я знаю. Джулия прислонилась головой к плечу Феликса. Она осмотрела его комнату: рабочий стол с разбросанными бумагами и рисунками, полки с книгами по искусству и архитектуре. «Почему он такой замкнутый, отдаленный от всего?» — спрашивала себя Джулия. Внезапная близость, нежные чувства, которые возникли у нее к Феликсу, пугали девушку. Решив, что она пьяна, Джулия вздохнула и закрыла глаза. Она была так близко, что Феликс ощущал ее тело. Он взял прядь ее волос и приложил к губам. Они лежали не шевелясь, пока Феликс не повернул голову к Джулии. Он наклонился к ней и поцеловал в уголок рта. Она медленно подняла руку и погладила его по лицу. Тонкая кожа около его виска была почти прозрачной. Выпитое вино туманило голову. Феликс возбуждался все сильнее. Минуту спустя они вцепились друг в друга. Он сжимал ее все сильней. Его поцелуи были пылкими и горячими. Джулия закрыла глаза. Феликс перевернулся и оказался над ней. Вспыхнувшая страсть стирала в памяти горе и печаль. По тому, как Джулия обнимала его и прижималась, Феликс понял, что она так же одинока, как и он. Ему хотелось согреть ее, сделать счастливой, но каким образом — он не знал. «Джош наверняка знает, — подумал Феликс. Образ Джоша встал перед его глазами. — Нет, только не Флад, нет, не сейчас». Он стал неуклюже снимать с Джулии одежду. Слегка улыбаясь, она помогала ему, позволяя рассматривать свою белоснежную кожу. Он покрыл поцелуями ее грудь, живот, бедра, медленно подбираясь к заветному месту. Джулия теребила руками его волосы. Когда Феликс снова посмотрел на нее, то увидел спокойное, улыбающееся лицо. Ее руки коснулись его белого воротничка. Он расстегнул одну за другой пуговицы. Джулия не отрывала от него глаз. Темные волосы на его груди оттеняли кожу, создавая впечатление светлой. Плечи и руки были мускулистые и сильные. — Феликс, — шепнула она. В этот момент Джулия забыла о Джоше. Феликс знал, что ему делать. Он спустил ноги на пол, расстегнул ремень, снял брюки, носки. Джулия лежала на кровати и наблюдала за ним. Он резко развернулся и посмотрел на нее, потом лег, растягиваясь во всю длину ее тела, прижимаясь все ближе. Прикосновение к ее нежной белой коже лишило Феликса самообладания. Джулия целовала его, кончиком языка обвела контур его рта. Это было с ее стороны шалостью, озорством, но Феликс затрепетал от наслаждения. Он провел рукой по мягким линиям ее талии. — Феликс, — прошептала она. — Подожди, — пробормотал тот. Он приподнялся и выключил свет. Темнота придала им храбрости. Под ее защитой Феликс стал ласкать ее маленькую упругую грудь и теплую зовущую впадинку между бедрами. Он узнавал правильные формы ее красивого тела, без изъянов и недостатков, как на картине или скульптуре. Новые ощущения возбуждали его. Он почувствовал себя сильней. Его руки казались неловкими, он наклонил голову так низко, чтобы получше исследовать ее соблазнительные формы. Она поддалась ему, и Феликс услышал ее неровное отрывистое дыхание. Он сомневался, думая, что у нее есть какой-то опыт, но теперь убедился: Джулия была такой же неопытной, как и он сам. Феликс хотел сказать нежные слова, но стеснялся и смог выговорить только ее имя. — Все хорошо, хорошо, — повторяла Джулия, держа его за руки, — все хорошо. Феликс взял ее руку, показывая, как нужно гладить его тело. Он стонал от блаженства. Ее пальцы двигались живо, словно играя на кларнете. Джулия осмелела, все больше возбуждаясь. Она знала, что сильно желает Феликса. Она повернулась к нему, предлагая себя. Он мягко дотронулся до нее, и Джулия раздвинула ноги, забросив их ему на спину. Феликс стал медленно погружаться в горячую плоть. Джулия совершала плавные волнообразные движения. Феликс вдруг почувствовал страх. Темнота становилась угрожающей. Джулия прикусила губу, чувствуя нависшую угрозу. У нее мелькнула мысль, а вдруг она забеременеет. Феликс не принял никаких мер предосторожности. В любом случае она рискует. Джулия хотела дать ему все, потому что он дал ей почувствовать себя счастливой и желанной. Без предупреждения Феликс снова навалился на нее, подбородок впился в ее губу, но эту боль заглушила совсем иная. Он сделал несколько толчков, и Джулия опять прикусила губу. Феликс закрыл глаза. Он продолжал двигаться, пытаясь войти глубже. Джулия хотела сказать: «Остановись, пожалуйста, остановись!» Но в это время их совместные усилия попали в нужный ритм. Она почувствовала его в себе. Это был долгий, длинный путь. Через секунду она поняла, что этот шок был не чем иным, как приятной, сладостной болью. Они лежали не двигаясь. Джулия повернула голову так, что ее щека коснулась его щеки. Феликс медленно возобновил движения. Ему казалось, что все было не так: эта мягкость, чужое тепло, даже ее запах. Его бил озноб, распространяясь по всему телу. Он прижался к Джулии, заставляя сделать это ради нее. Феликс чувствовал и ее замешательство по тому, как дрожали ее руки. Было слишком поздно. Он сел на кровати, потом резко откинулся на спину и уставился в темноту. В растерянности Джулия вытянула руку и дотронулась до него. Феликс не отреагировал, тогда она отодвинулась от него. Долгое время они лежали молча. Джулия закрыла лицо руками, она не могла остановить слезы. Они текли по ее щекам и падали на подушку. Феликс не двигался, не произносил ни звука, но девушка поняла, что он тоже плачет. «Так ему и надо, — с горечью подумала Джулия. — Наверное, со мной что-то не в порядке. Почему они не хотят меня? Сначала Джош, теперь Феликс». Наконец он обнял ее. — Не надо, — приказала она. Его лицо было мокрым от слез. — Прости, я виноват, — сказал он. — Это моя вина. Ты такая красивая. Прости, прости. — Это не имеет значения. Это имело огромное значение. Джулии стало стыдно за свои слова. После сегодняшнего они могли утешить друг друга. Она посмотрела на Феликса и обняла его. Они рыдали, рыдали из-за Джесси и из-за себя. Потом, когда у них уже не было сил плакать, они лежали в темноте обнявшись. — Что будет? — по-детски спросила Джулия. — С тобой и со мной? Мы останемся друзьями. Если ты захочешь. — Конечно, хочу, — ответила она. Джулия представила, как это будет. Такие же простые и добрые, как и прежде, но с какой-то новой чертой понимания, зародившейся в эту ночь. Они будут ходить на работу и возвращаться домой. Феликс будет готовить, а Джулия учиться разным премудростям: резать лук, разделывать и тушить мясо и многое другое. Чему можно научить Феликса взамен? Если сейчас она не знает, то обязательно узнает потом. Скоро вернется Мэтти и они будут жить вместе. Никто не вернет Джесси, но на всю жизнь в сердцах останется память о ней. — Мы будем жить в этой квартире все вместе, как одна семья, — сказала Джулия. — Я не смогу остаться здесь надолго, как бы ни хотел. — Почему? — Меня призывают в армию. Я должен пройти медосмотр в течение трех недель. — Ты и военная служба? — рассмеялась Джулия. Смех звучал резко, и она быстро проглотила его. — Но… — У меня была отсрочка, пока я учился в художественном колледже. Перед Рождеством я сообщил на призывной пункт, что теперь я свободен. Ответ получил на прошлой неделе. Время шло, и его все больше и больше привлекала перспектива военной службы. Армия заберет его отсюда. Он будет в другом месте, которое не будет причинять ему такую боль. Только это может помочь, так считал Феликс. — Бедняжка Феликс, — сказала Джулия. Она не могла не подумать о себе: «Бедняжка я. Остаюсь совсем одна. О какой семье я веду речь? Джесси мертва, Мэтти уехала. И Феликс покидает меня». Как будто сообразив, о чем думает Джулия, он ответил: — Я переживу разлуку. И ты тоже. Ты лучше всех приспособлена к жизни. Посмотри в зеркало. Ты умная, умнее меня и Мэтти. И реально смотришь на мир. Конечно, тебе будет тяжело, но я уверен, ты справишься. К тому же ты красивая, а это немаловажно. — Правда? — Да, конечно. — Я могу остаться здесь? — Конечно, думаю, мистер Балл не будет возражать, хотя бы ради Джесси. Ты всегда сможешь разделить с кем-нибудь плату, если Мэтти не вернется. — Да, да, именно так я поступлю в случае необходимости. Добавить, казалось, было нечего. Она дотянулась до выключателя, яркий свет ослепил глаза. В зеркале Джулия увидела смуглое лицо Феликса и свое собственное — испуганное и уставшее. Вдруг она заметила на кровати пятно крови. Джулия хотела провести свою первую ночь с Джошем. Она планировала ее, мечтала об этом. Сейчас в квартире на Манчестер-стрит это произошло случайно, в печальную для нее и Феликса ночь. «Что сказала об этом Мэтти? — вспомнила она. — Все было замечательно». Ей понравилось. Джулия опустила ноги на пол и встала, прикрывая обнаженное тело свитером. Феликс поймал ее руку. Она повернулась и посмотрела в его черные глаза. — Останься со мной, — прошептал он. — На эту ночь! — Я вернусь, — пообещала она. Джулия направилась в ванную. Тут было сыро. Долгое время она стояла перед зеркалом, смазывая лицо кремом и причесывая спутавшиеся волосы. Потом почистила зубы и надела ночную рубашку. Выходя, она опять посмотрела на свое отражение и подумала: «Тебе придется самой устраивать свою жизнь. Ты сможешь. Вот и Феликс верит в это. Не от кого ждать помощи, многие люди сами нуждаются в ней: Мэтти, Феликс, Джош, Бетти и Вернон… Если все, чего ты хочешь, это Джош Флад, то не надейся, он не пожалует. Тебе придется идти к нему самой. Это тоже правда». Она вернулась в спальню Феликса улыбаясь. Он откинул одеяло, приглашая ее лечь. — Спасибо, — сказал он. — Я люблю тебя, Джулия. — Я тоже люблю тебя, — ответила она. Это была первая и последняя ночь, которую они провели вместе. (обратно)
Глава девятая
Прошел почти месяц. В конце концов, поддавшись внезапному порыву, Джулия вышла из квартиры, села в пригородный поезд и поехала к Джошу. Она долго не решалась сюда прийти. Стемнело. Джулия направлялась к его дому, под ногами похрустывала замерзшая трава. Напрягая все свое внимание, она старалась не сбиться с пути, ориентируясь на горящие огоньки окон впереди, и только оказавшись рядом с коттеджем, Джулия задала себе вопрос: «Что я буду делать, если Джоша не окажется дома?» Она потеплее укуталась в пальто и пробежала несколько последних ярдов. Джулия так сильно колотила в дверь, что у нее заныли косточки пальцев. Джош открыл дверь. Желтый луч осветил ее лицо. — Я здесь, — невнятно произнесла девушка. — Можно войти? Джош засмеялся. — Джулия, Джулия. Да, входи, конечно, входи. В комнате Джулия увидела лыжи, стоявшие около стены, еще какое-то снаряжение, название которого она не знала. Вдруг ее охватила злость. — Почему ты не приезжал ко мне? Ты считаешь, что мне все равно? Ты можешь появляться, потом исчезать, когда тебе это взбредет в голову? От сильного напряжения голосовых связок у нее заболело горло, щеки покрылись румянцем. — Нет, конечно, я так не думаю, — проговорил Джош. Джулия снова взглянула на лыжи и уже более мягким голосом сказала: — Мне не следовало приходить сюда. Девушки не делают подобных глупостей, не так ли? Но я очень хотела увидеть тебя. Я не была уверена, что ты придешь. Что мне оставалось делать? Ты думаешь, что я еще ребенок! Так вот, я пришла сказать, что я достаточно взрослая! Джулия не отрывала глаз от лыж. Тогда Джош положил руку на ее плечо, но она словно не заметила этого. — Дело скорее не в тебе, а во мне. Я сам не понимаю себя, — сказал Джош, обняв ее за талию. Десять минут назад для Джоша все было так просто, сейчас же, с приходом Джулии, обстановка накалилась. Исходившая от этой хрупкой девушки угроза, которую он ясно осознавал, усиливалась, но Джошу было наплевать. Джулия здесь, и ему это даженравилось. — Ты знаешь, что я люблю тебя, — сказала она. — Я тоже люблю тебя, только самую малость. — Этого достаточно. Для начала, конечно. Он притянул девушку к себе и поцеловал. От нее исходил запах свежего холодного воздуха. Ему хотелось вдыхать этот запах и наслаждаться им, но Джулия оттолкнула его. — Ты куда-то собираешься? — спросила она, указывая на лыжи. — В Инферно, — кивнул он. — Не говори загадками, я была честна с тобой, будь и ты откровенен. Джош засмеялся. Джулия не могла представить, что у него может быть другая женщина. Он восхищался ее наивностью. «Я действительно люблю ее», — подумал Джош. — Я не говорю загадками. Я отправляюсь на лыжную базу на соревнования. Они будут проходить в Швейцарии в следующее воскресенье. Швейцария, ее белые горы под голубым небом, палящее солнце, как на юге, и Джош. Джулия вспомнила улицу Манчестер, пугающую тишину, которая царила в квартире после отъезда Феликса, свою машинку, офис, кривляк-машинисток и, не колеблясь, предложила: — Возьми меня с собой. Если бы это сказал кто-нибудь другой, Джош разразился бы громким смехом, но Джулии он спокойно ответил: — Конечно, ты можешь поехать со мной. Отправляемся в среду утром. Джулия с благодарностью посмотрела на него. «Она красивая, — подумал Джош. — Я с радостью покажу ей горы». — Я буду готова вовремя, — пообещала Джулия. — А что с твоей работой? — Не беда, найду новую. Вон сколько объявлений, а такой шанс выпадает редко. Правда, у меня не очень много денег, совсем немного. Сколько потребуется? — О Господи, я, конечно, не богач, но думаю, что ты вполне можешь пожить за мой счет. — Спасибо. Джулия настояла на том, чтобы Джош отвез ее домой, хотя тот и сопротивлялся. По дороге они заехали в бар и отметили свою будущую совместную поездку. — В среду утром, — прошептала она, когда Джош привез ее к дому. …В четверг утром они были в Швейцарии. На маленькой станции Джулия пристально разглядывала массивные горы, которые вздымали свои вершины до облаков. В ходе долгого утомительного путешествия на поезде природа потеряла свои привычные очертания, превратившись в монотонный пейзаж. Все здесь было черным, серым и белым, а воздух — морозным и холодным. Она спокойно ждала его. Джош стоял по другую сторону платформы, около поезда. Он осторожно укладывал лыжи и рюкзак в багажный вагон. «Если бы он смог поместиться с ними на спальном месте прошлой ночью, — подумала Джулия, — то сделал бы это с удовольствием». Со вчерашнего утра она открыла для себя, что была настолько неопытным путешественником, насколько Джош первоклассным. От станции «Виктория» до «Батэрси Паува» они плыли на катере. Джулии показалось это очаровательным, и она с восхищением заявила Джошу: — Эта поездка самая прекрасная в моей жизни! Он усмехнулся. — Подожди, мы еще не приехали в Инферно. Вот где красота! Долгий переезд через Ла-Манш, а потом Францию испортил первое впечатление. Она ходила из одного конца коридора в другой: с волнением представляя, что ее ждет впереди, в то время как Джош спокойно дремал в каюте. — Ты лучше ляг отдохни, — сказал он, когда Джулия вернулась обратно. Сон был беспокойным, она ворочалась всю ночь и несколько раз просыпалась. Сейчас путешественники были почти у цели. Джош закидывал оставшийся багаж в вагон. — Пошли, — позвал он. Они зашли в вагон, а за ними стали набиваться другие лыжники в вязаных шапочках и теплых куртках. Вокруг звучала немецкая и французская речь. Состав дернулся, с грохотом подался вперед, постепенно набирая скорость. Джулия пробралась поближе к окну. Зачарованная, она не могла не восхищаться зимним пейзажем. Поезд поднимался все выше и выше. Когда они прибыли на конечную станцию, солнце уже поднялось. Черный и белый цвета сменились на голубой и серебристый. Джулия вышла из вагона, наступая на мягкий снег. Она подняла голову и увидела огромную статую орла. — Венген, — произнес Джош. Джулия посмотрела на маленькие деревянные домики, покрытые снегом. Деревенька показалась ей игрушечной. «Я правильно сделала, что приехала сюда с Джошем, нигде я бы не увидела такой красоты», — подумала она.Первые дни пребывания в Венгене оказались для Джулии нелегкими. Что бы она ни делала, она делала не так: ее внешний вид не соответствовал принятому в деревне стандарту, ее голос и манеры были необычными, одежда неподходящая, высказывания глупыми. Неумение кататься на лыжах выглядело смешным, но самым непростительным было то, что рядом с ней находился Джошуа Флад. Фрау Уберль, которая предоставила девушке комнату как одной из участниц английского лыжного клуба, была вдовой. Она и еще несколько суровых матрон расселяли отдыхающих по своим домам. Джулии хозяйка сразу же показала комнату, в которой стояли четыре кровати. Девушке захотелось распахнуть окно, наполнить комнату свежим воздухом и обозревать великолепный вид, но ее соседки подозрительно посмотрели на нее. Их звали Белинда и София, они были в толстых свитерах, прикрывавших бедра, и узких лыжных брюках. Белинда присела на край кровати Джулии и с удивлением наблюдала, как та распаковывает чемодан. Она достала шелковую блузку и твидовый жакет, которые купила на вещевом рынке в Лондоне, домашние платья и халат, красное кимоно Джесси и несколько побрякушек. Выбрав любимые длинные серьги, она нацепила их на себя. За ее спиной послышался смех. «Если бы Мэтти была здесь, она бы вам задала», — подумала Джулия и повернулась к ним. — Я приехала сюда не на лыжах кататься, а для того, чтобы посмотреть, как Джош выиграет соревнования. — Он не выиграет, потому что всего лишь любитель, но какой красивый! Нет, действительно красивый. Настоящий американец. Если он хорошо ездит, то может рассчитывать на одиннадцатое или двенадцатое место. Какое у него было в прошлом году, Бэлл? — Двенадцатое. Джулия продолжала выкладывать вещи. — Как давно вы знакомы? — спросила Белинда. — Давно. Подожди, сосчитаю. Первый раз он взял меня с собой… осенью… Да, да, осенью. Прошло достаточно времени. Боюсь, у нас все серьезно. — Как смешно, что ты не катаешься на лыжах, а он, наоборот, увлекается этим, — сказала София. — Неужели? — спросила Джулия, повесив последнюю блузку в гардероб. — А вы умеете? — Ты собираешься в этом платье кататься? — сменила тему София. — В этом? О, конечно, нет. Это платье для торжественного вечера. Ведь все пойдут? Больше Джулия ни о чем не спрашивала.
Джулия спустилась на кухню, где встретила фрау Уберль. — Вы бы хотели что-нибудь поесть? — Да, пожалуйста. На тарелке, которую та поставила перед Джулией, были мясные шарики, политые соусом, и картошка, запеченная в сыре. — Большое спасибо, фрау Уберль, только это слишком много для меня, я не съем столько. — Съешь, дорогуша. Посмотри на себя — худая как щепка. Нужно хорошо поесть, если собираешься кататься. «Сомневаюсь в этом», — подумала Джулия, но все-таки попыталась съесть, сколько могла, пока не пришел Джош и не выручил ее. На нем были темные лыжные брюки, светло-голубой жакет с вязаными воротником и манжетами, шапочка с вышитым флагом Америки. В одной руке он держал лыжи. «Да, София права, он действительно красавчик», — с гордостью размышляла Джулия. — Нужно взять для тебя лыжи напрокат, — сказал Джош, осмотрев ее. — Для детских горок ты одета нормально. А серьги? Уж не собираешься ли ты идти в них? — Чертовы горки, — буркнула она. — Да, я собираюсь идти в этих серьгах и даже умереть в них. — Ты не умрешь, тебе понравится. Не говори глупости. — Джош! Почему я должна жить с этими девушками? Я не переношу их. Я хочу быть с тобой. — Я уже объяснял почему. Хотя бы ради приличия. Когда я в первый раз приехал сюда, мне показалось, что англичане слишком высоко задирают нос. Целый месяц я катался один и ни с кем не заводил знакомства. А когда познакомился, то узнал, что они неплохие ребята. Следуй их правилам — и станешь им другом. Они спустились к канатной дороге. Подтверждая слова Джоша, несколько человек высунулись из окна и, размахивая руками, закричали: — Эй, Джош! Мы слышали о твоем приезде. Поехали с нами на Черную гору! — Привет, ребята! Рад вас видеть! Сегодня не могу, я собираюсь на детские горки. — Ха-ха-ха. Что за чушь? Хочешь потренироваться перед соревнованиями? — Смейтесь-смейтесь. Еще увидим кто кого! — Я мешаю тебе, Джош, порчу все планы. Мне не следовало приезжать, — с досадой сказала Джулия. Свободной рукой он обнял ее за плечи. — Я рад, что ты со мной. Мы отлично проведем время, вот посмотришь. София Блисс и другие — очень симпатичные и приятные девушки, просто они непохожи на тебя. — Может быть, — сомневаясь, произнесла Джулия. Она вспомнила Феликса. Они оберегали друг друга с тех пор, как умерла Джесси. Ее смерть и неудачная первая ночь сблизили их еще больше. Феликс критически подходил к ее нарядам, учил отличать плохую пищу от хорошей, заставил взглянуть на некоторые вещи другими глазами. «Возможно, Джош прав. Возможно, эти английские леди смогут научить меня кое-чему и в один прекрасный день это мне пригодится», — рассуждала она. В магазине Джулия выбрала пару лыж, ботинки и рукавицы, а потом все пошло вкривь и вкось. Они приехали на гору для начинающих. Джулия умоляла Джоша оставить ее. В конце концов тот согласился с условием, что передает ее в руки инструктора детской лыжной школы. Впервые Джулия почувствовала неудобство своего легкого веса: сильного порыва ветра для нее было достаточно, чтобы упасть. Казалось, будет лучше, если лечь на снег. Но Хейни, инструктор, не давал ей этого сделать. Он снова и снова поднимал девушку и заставлял учиться стоять на лыжах. — Согни чуть-чуть колени! Так, хорошо. Наклонись немного вперед. Поехала! В полдень на горе прибавилось лыжников. Съезжая вниз зигзагообразными линиями, они смеялись, подзадоривали друг друга и визжали. Среди них Джулия узнала Белинду. Она была с друзьями. Джулия опустила голову и спряталась за спиной Хейни. Джоша не было видно. Она думала, что Джош поехал знакомиться с маршрутом, но, когда она позже спросила его об этом, он покачал головой и промолчал. По вечерам Джош и Джулия выходили гулять, но не одни, а всегда в сопровождении кого-нибудь из друзей. Иногда они ужинали при свечах в ресторане или заходили в бар выпить пива. Кроме обычных посетителей, тут бывали другие участники предстоящего состязания, которые исподтишка наблюдали за Джошем, а наиболее смелые пытались заговорить с ним с целью выяснить, насколько хорошо он подготовлен. Частенько сюда заходили военные, тоже участвовавшие в соревнованиях на кубок Монтгомери. София и ее подруги находили британских и американских солдат очень милыми. Парни уделяли больше внимания Джулии, что доставляло ей несказанное удовольствие. Джош тоже все видел. Он подмигнул Джулии и пожал ее руку.
Единственный лыжник, который нравился девушке, был молодой шотландец со светлыми волосами. Его звали Алексом. Возвращаясь домой, она поделилась своими впечатлениями с Софией. — О нет. Только не он, — вскрикнула София. — Он неряшливый. Он надевает носки поверх брюк! Джулия улыбнулась. Феликсу тоже нравилось так носить. Проснувшись в воскресенье, в день соревнований, Джулия почувствовала себя разбитой и уставшей. Она приподнялась с постели и хотела встать, но вместо этого скатилась на пол, как мешок. Белинда подошла к ней и протянула руку. Джулия ухватилась за нее, и Белинда потянула ее вверх. — О Боже! Я не могу ходить! — Ничего, это пройдет. Ты вчера переусердствовала. Я видела тебя с Хейни. У тебя уже неплохо выходит. — Не смущай меня. — И София так считает. Джулии было приятно слышать такие слова. Их одобрение и доброжелательность оказались неожиданными для нее. — Спасибо вам. — Ты пойдешь на соревнования? — Я не знаю, куда нужно идти, — заметила она. Джош сказал ей придерживаться девушек, но она не решалась просить их об этом. — Пошли с нами, — предложили англичанки. — Хорошо, спасибо еще раз.
Джош отправился в горы, когда было еще темно. Он достиг вершины канатной дороги в половине девятого и с лыжами на плече начал подъем. Он шел осторожно и спокойно. Ему предстоял долгий подъем. Гонка начнется в двенадцать часов. Тридцать два спортсмена с тридцатисекундным интервалом будут спускаться вниз. Из опыта прошлых лет Джош знал, что прийти на старт лучше заранее, не спеша поднимаясь на гору. Его ноги проваливались в снег. Для начала февраля погода была не по сезону теплой и влажной, но как по заказу на прошлой неделе прошел снег. Джошу приходилось нащупывать тропу лыжной палкой. Добравшись до вершины, он обнаружил, что на горе уже собрались первые лыжники. Джулия и другие приехали по канатной дороге к самому началу соревнований. Зрители разошлись по всей трассе в ожидании гонки. У всех было бодрое, веселое настроение. София посмотрела на часы. — Ровно двенадцать. У Джоша был пятнадцатый номер. Через семь минут он окажется перед стартовой чертой. Джулия чувствовала сильное биение сердца. Джош ждал, когда подойдет его время. Он знал многих соперников, хотя сейчас их трудно было узнать в шапочках, натянутых на лоб, и защитных очках. Никто не разговаривал. Человек, стоявший у линии старта, поднял руку, выждал несколько секунд и резко опустил ее. Первый лыжник ринулся вниз. Джош услышал свист скользящих по снегу лыж, но не поднял головы, чтобы посмотреть. Его дыхание было медленным и спокойным, пальцы сжимали петлю лыжной палки. Один за другим спортсмены покидали линию старта. Джош продвигался к линии. Перед ним были два человека. Он опустил на глаза солнцезащитные очки. Через тридцать минут, даст Бог, он будет у подножия этого огромного чудовища в Лотэбрунене. Остался один — шотландец Алекс Макинтош, у него четырнадцатый номер. Поднятая рука опустилась снова, и Джош оказался у черты. Он старался никогда не нервничать перед стартом. Страх — это одно, а вот когда сдают нервы, то ослабевает внимание. В последние перед стартом секунды Джош подумал о Джулии. Ему вдруг стало интересно, какое место она выбрала для наблюдения. Джош не слышал скольжения собственных лыж, пересекая свободное пространство крутой горы. Он летел как пуля. Его глаза зорко следили за дорогой, замечая каждую кочку и яму, каждый поворот. Кровь застыла, а тело слилось в одну линию с лыжами. Стремительный спуск. Все ниже и ниже. Он почти у цели. Еще один крутой поворот — и первая контрольная точка. Внезапно раздались звуки, подобные раскатам грома. Джош поднял голову. Он точно знал, что это не гром. Это был шум и гул, доносившийся откуда-то сверху. Шум становился громче, приводя Джоша в ужас. Затем он увидел падающий с гор белый ком снега, который напомнил ему огромный монумент. Джош резко свернул. Лавина с бешеной скоростью надвигалась на него. Очки были залеплены снегом, но он заметил чью-то фигуру. Это был Алекс Макинтош. Белая стена в один миг смела его и покатила вниз, как сломанную ветку. Вскоре он скрылся из виду. В тот же миг снежная лавина обрушилась на Джоша. Он скрестил руки вокруг головы, пытаясь защититься. Лыжи разлетелись в разные стороны. Он окунулся в ледяную темноту, сил сопротивляться не было. Потом наступила тишина. С трудом, как будто на его веках был тяжелый груз, Джош открыл глаза: над головой простиралось голубое небо. Никогда не видел ничего более прекрасного! Он уставился на небо, вдыхая свежий воздух, а в голове промелькнуло: «Я жив, жив, жив». Какое-то время он не мог двигаться и смотрел в огромное прекрасное пространство над ним с детской радостью. Потом он вспомнил Макинтоша, еще раз глубоко вздохнул, заполняя свои горящие легкие холодом, и изо всех сил попытался подняться. Острая боль ударила в левый бок. Джош увидел, что по пояс находится в снегу. Тогда он стал разгребать снег, пока не почувствовал почву под ногами. Неподалеку из-под снега забавно торчали лыжи. Казалось, прошла целая вечность. Джош искал Макинтоша. Он осматривал все подозрительные бугорки и ямы. Путь впереди казался непроходимым, но Джош упорно шел, опираясь на поломанную лыжу. Джош был слаб, поэтому ноги иногда подводили его и он падал, но поднимался вновь. Вдруг он увидел железную палку, похожую на его собственную. Он бросился к сугробу и начал отчаянно разгребать снег. Где-то совсем рядом раздался гудок спасательной машины. Джош еще быстрей стал работать руками. Наконец его пальцы нащупали парусиновую ткань лыжного костюма. Джош залез в снег и ухватился за тело человека. — Все в порядке. Я вижу тебя! — кричал он. В ответ Алекс зашевелился, конвульсивно дернулся, показалось одно плечо. Макинтош лежал на боку, руки прикрывали лицо. Джош вытащил Алекса на свет. Его лицо было серым, на бровях и ресницах сверкал снег, синие от мороза губы приоткрылись. — Он жив, — завопил Джош. Его крик эхом вернулся назад. Помощь была рядом. Джош отошел в сторону. Не в силах остановить дрожь, он разглядывал лицо Макинтоша. Один из спасателей что-то кричал Джошу по-немецки, размахивая руками. Джош в недоумении смотрел на него, пока не понял, что тот предлагает ему спускаться. Он совсем забыл об Инферно. «Об Алексе позаботятся, а я могу ехать», — подумал он. Спасатели уложили Макинтоша на сани. — Он справится с этим, — сказал один из людей на ломаном английском. — Сильный мужик. Лицо Макинтоша закрыли спины спасателей, но как только они переложили Алекса, Джош снова увидел его. Он смотрел на Джоша голубыми, как небо, глазами, его губы прошептали: — Продолжай. Джош поднял голову. Состязание в скорости он уже не контролировал. Он мысленно представил весь оставшийся маршрут вниз. — Да, да, — говорили спасатели и показывали руками наверх. Они советовали, чтобы он поднимался к контрольной точке и съезжал по равнине к финишу, вместо того, чтобы продолжать гонку отсюда. Неожиданно Джош начал двигаться. Он взял новые палки, положил лыжи на плечи, взглянул на Макинтоша в последний раз и увидел улыбку на его лице. — Мне нужно закончить маршрут ради нас обоих, Алекс, — сказал он. — Ты сделаешь то же самое для меня в другой раз. Джош уже собирался отходить, как один из мужчин схватил его за руку. Он протягивал ему свои перчатки, Джош выкинул старые и натянул новые. — Спасибо, дружище! Затем Джош ушел, пробираясь наверх через развалины. На контрольной точке Тафи Броквэй похлопал Джоша по спине так, что тот чуть не упал. — Они отнимут у тебя потерянные минуты. Такое случалось и раньше. Эсму Макиннону пришлось приостановить гонку, когда на его пути оказалась похоронная процессия: снять шапку и молча постоять, пока она не прошла мимо. Ему высчитали это время. Джош плохо слушал парня. Он оперся на палки, вдыхая воздух и пытаясь успокоиться. Посмотрев вниз, он улыбнулся, глядя на лыжников, объезжавших груды снега, оставшиеся после лавины. Соревнования продолжались. Секундомер решительно щелкнул за ним. Джош крепко ухватился за ручки палок. Впереди проходил крутой спуск, подъем по горному хребту и затем — ужасная гора Инферно. Джош пытался заглушить боль в боку, выкинуть из памяти снежную лавину, Макинтоша. «Алекс жив. Я тоже хотел остаться живым. Я снова на лыжах, в гонке!» — подумал он. Секундой позже у Джоша не осталось в мыслях ничего, кроме пути к финишу, который развернулся перед ним, как коварная лента.
…Зрители с нетерпением ждали соревнующихся. София нервно поглядывала на часы. — Он уже должен быть здесь, и мужчина, который шел перед ним, — тоже. Если он еще на что-то надеется, то пора бы появиться. Девушки всматривались в даль в надежде увидеть черную точку, которая неслась бы к ним вниз все ближе и ближе. Зрители стояли толпой, не разговаривая. Руки и ноги Джулии сильно замерзли, но она не обращала на это внимания. Прошла вторая минута, третья. Никто не появлялся. Зрители стали в недоумении переговариваться. — Что-то случилось, — пробормотала София. Джулия взглянула вверх, и вдруг ей показалось, что горы враждебно смотрят на нее. Джош был где-то там, на этой огромной горе. Ей стало страшно. Не отводя глаз от спуска, Белинда обняла ее. Джулия прижалась к ней. — Смотрите! Наконец вдалеке появилось темное пятно. — Это он? — спросила Джулия. — Непохоже. Джош так не катается, — ответила София. Один за другим лыжники начали выезжать из-за поворота. Первый приближался к финишу и что-то кричал. — Ла-ви-на! — услышали девушки. Это был француз. Его речь звучала очень мягко. Он поднял палку и указал назад, на белую стену. — О чем он говорит? Что еще за лавина? — крикнула Джулия. Другие спускающиеся лыжники с испуганными лицами проносились мимо. Среди них Джоша не было. Обычно румяное лицо Софии стало серовато-белым. Джулия поняла, что лавина означала что-то ужасное. Она отпрянула назад, к стене канатной станции, спиной чувствуя шероховатость досок. Все ждали, не отводя глаз от верхушки горы. — Смотрите! Смотрите! Это точно был Джош. Он, как стрела, летел с горы. Джош ехал низко согнувшись, не отталкиваясь палками, как это делали другие. Глухой крик вырвался из толпы. Джош пронесся мимо. Джулия заметила красный шарф на его шее, натянутую улыбку. Болельщики дружно кричали и размахивали руками. По лицу Джулии потекли слезы радости и облегчения. Она схватила Белинду за руки, и они весело запрыгали. — Он еще не у финиша, — предупредила Фелиция, четвертая подруга Джулии. — Ты видела его? Такая езда! Считайте, что он уже выиграл!
Джош заметил Джулию у канатной станции, но мысль о ней исчезла в один миг. Он ехал по открытой местности и, сосредоточившись, выбирал правильный короткий путь. В Винтереге он подъехал к железнодорожной линии. Зрители ожидали около маленького кафе, где продавали горячий чай. Когда Джош оказался рядом, его закидали вопросами, звучавшими на разных языках. — Счастливая долина! Алекс Макинтош ранен, спасатели подобрали его, — крикнул он. Кто-то попытался подтолкнуть его, но Джош уклонился и ринулся вперед. За Винтерегом было полтора километра пустынной местности. Он устал, но, стиснув зубы и руки, продолжал гонку. Джош вспомнил слабую улыбку Макинтоша, и это придало ему сил. Боль снова дала о себе знать, но Джош отгонял ее. Если он собирается выиграть время, то ему нельзя расслабляться. Джош согнул колени, наклонился ниже, его фигура приобрела форму яйца. Деревья, снег, поляны мелькали по бокам, но сейчас они не представляли никакой опасности для лыжника. Забыв обо всем, что произошло, Джош стать частью природы. Ветер щекотал его лицо. Джош прислушивался к своему дыханию. Он ехал быстрее и лучше чем когда-либо раньше в своей жизни, чувствуя необыкновенную силу. Скорость опьяняла его. Линии канатной дороги стали вырисовываться не так четко. Джош спускался все ниже и ниже. Лес закончился, и впереди лежало открытое пастбище. Он уловил теплый запах навоза. Пролетел мимо. «Как долго? Сколько еще?» — пронеслось в голове. Показался Лотэбрунен, замерзшее море заснеженных крыш домов, станция, дорога и, наконец, финишная черта. Палки Джоша резко входили в снег. Он сделал последний рывок и сразу же почувствовал, что силы покидают его. Джоша встречали дружными криками и аплодисментами. Он пересек финишную черту. Хронометрист остановил секундомер. Джош остановился возле деревянного забора, навалился на него, не в силах устоять на ногах.
Кубок соревнований в Инферно 1956 года хранился в отеле «Палас» в Мюрене. Зал был заполнен спортсменами, болельщиками, организаторами. Джулия увидела Джоша. Она боялась подойти к нему, пока не объявили результаты. Джулия скрестила пальцы на удачу. Она не понимала ни одного немецкого слова и почти ни одного французского. Двенадцать лыжников участвовали в гонке. Президент соревнований произносил имена победителей, и все дружно хлопали. Первым был француз Гакон. — Двадцать семь минут тридцать семь секунд. Бешеная скорость. Но он успел проскочить лавину. Все знали о лавине. Когда девушки шли в отель, они слышали, как говорили, что какой-то лыжник остановился, чтобы вытащить другого. Объявили второе и третье места. Среди названных Джоша не оказалось. Джулия с разочарованием уставилась на Джоша. Она была уверена, что победит он, как говорили Белинда и другие. Она не видела, как поднялся Тафи Броквэй, но услышала его бас. — Судьи решили присудить четвертое место лыжнику-любителю, но высокого класса. Этот спортсмен был накрыт лавиной в Счастливой долине. Несмотря на это, он смог освободиться и спасти еще одного спортсмена, Алекса Макинтоша. Алекс сейчас в больнице в Берне. У него сломана нога, легкая контузия и другие неприятные, но, к счастью, несерьезные повреждения. Нет никакого сомнения, что в спасении Алекса участвовал настоящий профи. У Джулии забилось сердце. — Когда он удостоверился, что Макинтош жив и находится в безопасности, он продолжил состязание и уложился в установленное время, не считая потерянного. Его результат составил тридцать одну минуту и семнадцать секунд. Дамы и господа, я прошу поаплодировать силе и мужеству мистера Джошуа Флада. София, Белинда и Фелиция пожали друг другу руки. Джоша наградили памятной медалью. Тафи Броквэй сам вручил ее. Вокруг было весело. Все поздравляли победителей и утешали проигравших. Джош прошел через весь зал к Джулии. Девушки бросились его целовать, а Джулия только смотрела на него. — Хорошая работа, — сказала она. Джош протянул ей руку, и она поднялась. В эту минуту они никого не замечали, зал казался пустым. — Вы не сделаете одолжение, мэм? — спросил Джош. — Не составите компанию на торжественном вечере? — Возможно, очень возможно, — улыбаясь, ответила Джулия. Он поклонился и предложил ей руку. Они ушли вместе.
На празднике небольшой струнный оркестр играл вальсы Штрауса, польки, фокстрот. Бибоп и рок-н-ролл не звучали, но Джош знал все движения танцев, поэтому Джулия доверительно следовала за ним. Ей казалось, что она делает первые шаги в одну из своих многочисленных грез. В отеле устроили великолепный банкет. Приглашенные сидели за длинными покрытыми белыми скатертями столами, на которых стояли свечи в канделябрах. Произносили речи, которые казались смешными даже Джулии. Поднимали тост за победителей, специальный тост за Джоша. Джулия надела темно-зеленое вечернее платье Мэтти. Оно было великовато, но ее новые подруги Белинда и София заузили его с помощью булавок. Джулия не была обделена вниманием мужчин, ее приглашали танцевать, говорили комплименты. Вино вскружило ей голову. Она была счастлива. Джош, в темном костюме, белой рубашке и черном галстуке, сидел рядом. Джулия положила голову на его плечо. Она понимала, что это самый прекрасный вечер в ее жизни. Джош приподнял ее подбородок одним пальцем, чтобы рассмотреть лицо. — Ты устала? — Нет. Я хочу танцевать, танцевать всю ночь, всю жизнь. — Хм… Ну, не всю жизнь, конечно. А ты помнишь то место, где мы встретились? Джулия помнила. Она помнила не только тот ресторан, но их танцы под спокойную нескончаемую музыку в полутемном зале. — Я думаю, мы можем сейчас подняться наверх, — прошептал Джош. Джулия отвела взгляд, не в силах сказать «да». Перед тем как они скрылись из переполненного людьми зала, он поцеловал ее тонкую теплую кожу около виска. Смеясь и шутя, они поднялись по ступенькам, потом пошли по темному коридору, пока не оказались перед дверью номера Джоша. Как только он открыл дверь и они вошли в комнату, тишина и покой поглотили их смех. На звездном небе ярко светила луна, ее свет отражался на полу. Держа Джоша за руку, Джулия подошла к окну и посмотрела вниз. Она видела крыши маленьких деревянных домов, покрытые толстым слоем снега. Улицы были пусты. — Красиво, — сказала она. — Я так счастлива. Странное чувство! — В этом нет ничего странного. Джош повернул Джулию к себе лицом и поцеловал. Казалось, прошла вечность с их первой встречи в Лондоне. Он коснулся руками ее тела. — Можно? — спросил Джош, пытаясь расстегнуть платье. — Оно зашито, — смеясь ответила Джулия. Он дернул за платье и разорвал его. Джулия осталась в одних чулках. Джош не мог оторвать от нее глаз. Они забыли вдруг про дом в лесу и обо всем, что произошло тогда. Он отстегнул чулки от пояса и скатил их вниз, целуя белоснежную кожу ее бедер, живот, опускаясь ниже. — Джош… Он поднял ее и отнес на кровать. Джулия погрузилась в мягкий пуховый матрац. Она чувствовала себя птенцом в теплом гнезде. Девушка наблюдала, как Джош развязал галстук, расстегнул запонки на рукавах и сбросил рубашку, под которой Джулия увидела синяки. — У тебя синяки, — прошептала она. — На меня свалилась груда снега. — Он наклонился к ней и коснулся груди. Джулия откинулась на кровать, а Джош продолжал снимать оставшуюся на ней одежду. — Тебе больно? — Завтра я, наверное, не смогу и пальцем пошевелить. Но сегодня… Он устроился около нее. Здесь был только Джош — это все, что ей нужно! — Ты действительно этого хочешь? — спросил он. — В первый раз… — Это не первый раз. Я провела первую ночь с Феликсом. В день похорон Джесси. Он приподнялся. — Ты серьезно? Я немного удивлен. — Мы были так несчастны. У нас не все получилось. Видно, наше состояние повлияло на это. Но это сблизило нас как друзей. — Я рад, — сказал Джош. Джулия знала, что он был действительно рад за нее и за Феликса (они стали друзьями), он был рад, что не возьмет на себя ответственность за первый раз. И еще он был рад, что Она была сейчас с ним. — Так будет лучше и для тебя, и для меня, — прошептал он. Его руки обняли ее и прижали к себе, все было понятно без слов. Джулия закрыла глаза, на этот раз ничто не мешало им любить. Только отдаленные звуки музыки доносились из танцевального зала. Джулия едва знала свое тело. Влияние Бетти было достаточно сильным, чтобы убедить ее в этом. Но то, что делал Джош, казалось таким естественным, удивительным сначала и простым потом. Джулию изумило открытие: он любил ее мягко, непринужденно, без смущения, и она отвечала ему тем же. Их тела переплелись. И как только он дошел до конца, невыносимое наслаждение обрушилось на Джулию могучей волной и утопило в безудержном водовороте удовольствия. Ее тело задрожало, из груди вырвался громкий протяжный стон, и она затихла. С минуту любовники лежали не двигаясь. — Спасибо, — сказал Джош. Джулия была так счастлива, что ей хотелось смеяться. — Я не думала, что это может быть так, я не думала, что это может быть… важным. Я люблю тебя, Джош. Ее лицо светилось, а по щекам текли слезы радости. Джош не видел ее лица, он смотрел в окно. Пошел легкий снег, и ему вспомнилась гонка. Медаль была приколота к его свитеру. Джош улыбнулся в темноте. Джулия была в его постели, ее длинные ноги лежали на нем. Ему понравилось заниматься с ней любовью. — Я тоже люблю тебя. Позднее Джулия спросила его: — Я могу забыть о фрау Уберль? — Да, никакой фрау Уберль. Я думаю, что стал популярным теперь и ты можешь оставить фрау. Видишь, любимая, и лыжная гонка имеет свои преимущества.
Первой проснулась Джулия. Она лежала на кровати, смотрела в окно на голубое небо и думала: «Вот это счастье. Если бы я могла остановить мгновение…» Джош открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Джулию. — Я говорил, что сегодня не сдвинусь с места. Джулия подняла покрывало и исследовала его синяки. — Не такие уж и страшные. — Я просто счастливчик. — Не возражаешь, если я буду ходить вместо тебя? — С удовольствием. Завтрак в доме фрау Уберль давно прошел. Джулия возвращалась к себе. Разорванное платье Мэтти было кое-как надето и спрятано под пальто девушки. Единственное, что смущало Джулию, это ее вечерние туфли, которые бросались в глаза среди грубых ботинок лыжников. Она дошла до ворот дома и проскользнула через дверь наверх. В комнате все четыре кровати выглядели одинаково, было заметно, что на всех четырех спали. Служанка протирала пол под кроватью Фелиции. Джулия улыбнулась ей, собрала теплую лыжную одежду и юркнула в ванную. София пылесосила, у нее было белое лицо после вчерашнего шампанского и офицеров. Они переглянулись, и Джулия взяла ее за руку. Никто из них не был похож на Мэтти, но Джош прав: девушки оказались милыми и дружелюбными. — Спасибо, — сказала Джулия. София кивнула и пожала в ответ руку. — Мы догадались, что ты не придешь. Мы разобрали твою постель, а утром сказали фрау Уберль, что ты рано поехала кататься в горы. — Ну как? Все хорошо? — Лучше и быть не может. — К сожалению, не могу сказать этого о себе. Джулия погладила ее по спине. — Все, что тебе нужно сейчас, — это оригинальное изобретение Мэтти Бэннер после похмелья. Я принесу тебе стакан. Джулия спустилась вниз. Поднос с напитками держали в буфете, обычно ими угощали гостей и посетителей. Джулия знала, что там есть бутылка водки. Она налила водки, томатного сока и отнесла стакан на кухню. Фрау Уберль была уверена, что англичане прибегают к такому средству, когда им нужна питательная закуска после изнурительной зарядки. Джулия добавила туда яйцо и то, что получилось, отнесла Софии. — Вот. Это или убьет, или поможет. София выпила залпом. — О Боже, ну и гадость. В случае с Софией этот чудодейственный напиток помог. Пятнадцать минут спустя они уже сидели рядом в кафе. — Ты провела ночь с Джошем? Джулия кивнула. В кафе было уютно, но не хватало Мэтти, с ней она могла бы поделиться своей тайной. Ее душа пела, и, забыв об осторожности, Джулия проболталась: — Это случилось в первый раз. София уставилась на нее и, не в силах сдержать любопытство, спросила ее с видом опытной в таких делах девахи: — Ну и как? Как все прошло? Джулия вспомнила разговор с Мэтти, когда она выпытывала о ее первой ночи с Джоном Дугласом. «Это было замечательно, великолепно», — сказала Мэтти. «О, Мэтти!» — подумала Джулия. — Это было замечательно, великолепно, — с гордостью ответила она.
Как Джош и обещал, Джулии понравился Венген. Соревнования прошли, теперь Джош мог проводить время только с ней. Под его руководством она расцвела, как будто случилось что-то серьезное с ее телом. Она уже крепко стояла на лыжах, и даже однажды самостоятельно спустилась с некогда пугавшей ее детской горы. — Эй, малышка, — крикнул Джош. — Ты смогла! — Да, ты прав. — Ты можешь кататься! Конечно, до полета еще далеко, но, черт возьми, у тебя отлично получается. Джулия так гордилась собой, была такой красивой и желанной, что ему очень хотелось сорвать с нее этот смешной лыжный костюм и заняться любовью прямо на снегу. Ночей в отеле больше не было, зато были рассветы и закаты, дни, лыжные прогулки. По вечерам они сидели в баре с Белиндой и ее друзьями, слушали музыку, рассказывали анекдоты. — Сначала ты нам совсем не понравилась, — призналась София. — Мы думали, что ты была, ну, знаешь… — Неумехой? Как Сэнди Маккалоу? — уточнила Джулия. — Но с тобой весело, и ты не лишена мужества. — Мужества? Ты серьезно? А вот я считала вас глупыми зазнайками. Но вы — классные девчонки. Они подняли бокалы и выпили друг за друга.
В Швейцарии Джулия провела около двух недель. Как-то раз, стоя у окна, она мягко произнесла: — Трава, листья, голая земля, цветы. Они совсем рядом, вон там, внизу под нами, правда? Джош подошел к ней и обнял за талию. — Устала? Хочешь домой? Уже совсем скоро. — Ничего я не устала. Я бы хотела остаться здесь навсегда. Джош засмеялся. — И я бы не прочь остаться, но мне нужно возвращаться, у меня кончаются деньги. Неплохо бы подзаработать. Что ты скажешь, если мы для начала съездим на юг на несколько дней? Она посмотрела на него, зная, что поедет за ним хоть на край света. — На юг? Куда? — В Италию. Я никогда там не был. — Я говорю — да. Энергия Джоша удивляла. Все приготовления были сделаны в считанное время. Карты заготовлены, билеты куплены. Прощальный ужин устроили в баре отеля. Прошли всего лишь сутки, а у них уже все было готово. Белинда, София и Фелиция пришли в Лотэбрунен проводить их. — Пока! Увидимся в следующем году? Обещаете? Джош кивнул, а Джулия неуверенно пообещала: «Я постараюсь». Год с Джошем — невероятно, но без него — еще более невероятно. Из Берна они приехали в Турин, оттуда — в Рим и, наконец, в Неаполь. Пейзаж, мелькавший за грязными окнами итальянских вагонов, захватывал Джулию, но она не переносила долгих путешествий. Она как завороженная наблюдала за сменой красок за окном: белый цвет превращался в коричневый, а потом в богатый и сочный — зеленый. На юге Рима росли оливковые деревья, виноградники, которые и создавали впечатление зелени, на полях работали люди, вдоль железной дороги то тут, то там появлялись незнакомые полевые цветы. После гор плодородие и богатство этой земли опьянили Джулию. Поезд сбавил ход, когда выехал на пригородную дорогу, и она увидела старую женщину в черном платье. Та плелась позади своего осла, на спине которого была приделана корзина с удивительными желтыми цветами. — Смотри, — показала на нее Джулия. Джош взял ее руку. — Мне нравится путешествовать с тобой. Ты испытываешь искренние радость и восторг. — Это потому, что я не видела ничего подобного. Она хотела запомнить всякую мелочь, чтобы, когда все исчезнет, было что вспомнить. В Неаполе они остановились в небольшом отеле, Джулия уговорила Джоша купить путеводитель и повела его по крохотным многолюдным улицам, в старые церкви, вниз по аллее, ведущей к рынку. Запахи, бурлящие толпы людей в разноцветных одеждах, жизнерадостность улиц — все привлекало ее. Она была шокирована нищетой и бедностью и в то же время энергичностью живущих здесь людей. Джош оказался менее впечатлительным. Он пренебрежительно (это была его черта) относился к окружавшей его антисанитарии, к мании неаполитанцев своей откровенностью и сердечностью выудить у него побольше денег. — Чертов город, — ругался он. — Я приехал сюда не для того, чтобы разглядывать места, подобные этим. Одна старая церковь — этого вполне достаточно. Поехали отсюда, найдем место в пригороде. Они отправились в Солерно, оттуда на пригородном автобусе через незасеянные зеленые поля, на которых паслись стада, — в Монтебелле. В конце дороги блестело синее море, оно было совсем непохоже на то, которое Джулия видела на открытках. Она знала всего три слова по-итальянски, но все-таки сумела объяснить шоферу, куда им нужно. — Монтебелле, — сказал он. — Вы приехали. Он остановил автобус, чтобы пассажиры вышли. Джош и Джулия спустились вниз, неся тяжелые чемоданы. Перед ними лежала крутая дорога к Монтебелле. Им повезло. Какой-то мужчина на грузовике согласился подвезти. Они катили вверх по извилистой дороге. Вскоре перед ними открылись сельский ландшафт и мерцающее море. Джулия обратила внимание, что грубая зеленая трава на холмах была усеяна дикими цветами, которые напомнили ей английские колокольчики, только они были больше и ярче. Пахло навозом. — Италия, — пробормотала Джулия. «Если бы Феликс мог это видеть», — подумала она. Они приехали в деревню, и водитель остановился у дома с вывеской «Пансионат «Флора». — Мы остановимся здесь? — спросила Джулия. — Почему бы и нет? Из пансионата вышла женщина в белом переднике. Джош открыл разговорник, который купил в Неаполе, и начал говорить. Джулия отошла в сторону, чтобы не слышать их разговор. Она боялась, что хозяйка откажет. Наконец Джош подошел и обнял ее. — Она сказала, что у нее есть одна комната. Я не хотел врать, что мы женаты, она вполне может потребовать наши паспорта. Джулия не понимала, почему Джош улыбался, ей было не до смеха. Где они будут жить? — Но она сказала, что там две кровати. Я объяснил ей, что мы были бы рады снять одну комнату. — О, Джош! Синьора провела их наверх в комнату. Тут было две кровати, голый паркет, огромный шкаф, мраморный умывальник с кувшином и тазиком. Когда открыли голубые ставни, перед глазами предстала изумительная картина, отражающая гармонию быта в доме и во дворе: узорчатая скатерть на столе и вымытая до блеска машина на улице, старый граммофон и аккуратно сложенный стог сена. Здесь не было ничего раздражающего или вызывающего отвращение, ничего, что бы напоминало ей о том, другом, мире из которого она приехала. Все в Монтебелле выглядело так, как будто в течение долгих лет не меняло своих мест. Джулия никогда не думала, что где-то может быть так красиво! На вершине холма за каменными стенами стоял старинный замок, где сейчас располагался монастырь. Колокол звонил каждый час. Джош придерживался этого времени, оставляя свои часы на умывальнике. Влюбленные гуляли по улицам деревни, пока не изучили все повороты и тупики, поднимались на холм полюбоваться цветами, часами сидели на обрыве скалы, наблюдая за морем. Обычно хозяйка готовила на завтрак макароны с соусом, которые очень нравились молодым людям. По ночам, снова и снова, они занимались любовью, не в силах насладиться друг другом. Они старались делать это как можно тише, но Джулия все равно боялась, что хозяева могут все услышать. Утром их ждал горячий хлеб с медом и кофе с молоком. Но красота и покой Монтебелле терзали Джулию. У Монтебелле было много времени, а вот у нее всего несколько дней. Ей хотелось ясности в отношениях с Джошем. С ним весело, он добр и внимателен к ней, но не только этого она ждала. Не было никаких обещаний, даже разговоров о будущем. Джулии приходилось довольствоваться тем, что имела сейчас. Каждый раз, когда звучал колокол, ей казалось, что Джош вот-вот скажет: «Время идет, скоро в путь». Этот райский уголок начал мучить Джулию, их непрерывная близость напомнила ей, что скоро наступит конец. На четвертое утро, когда они пили кофе, сидя за столиком у окна «Флоры», Джулия начала неприятный разговор. От волнения у нее тряслись руки, она едва не выронила чашку. — Что-то не так? — спокойно спросил Джош. Впервые Джулия поняла, что Джош стал самым дорогим существом в ее жизни, хотя после стольких дней, проведенных вместе, казалось, они совсем не знают друг друга. Глаза наполнились слезами. — Мыведь скоро уедем? Он кивнул, не глядя на Джулию. Слезы медленно покатились из ее глаз. — Я не хочу уезжать, я хочу остаться с тобой. Джош, что с нами будет? Он уставился на скатерть, машинально сбрасывая на пол разбросанные крошки хлеба. Наконец он сказал: — Мы хорошо провели время, не так ли? Джулия хотела услышать: «Поехали со мной. Будь моей женщиной, моей женой». Она знала, что он не скажет этого, но тешила себя надеждой. Джулия кивнула, вытирая слезы. — Да, я еще не поблагодарила тебя за все. — Поблагодарила. Снова зазвонил колокол. Джулия встала, не глядя на Джоша. — Извини. Мне казалось, что я воспринимаю подобные вещи легче. Тебе ведь именно этого хотелось бы? — Джулия… — Не надо, Джош, не надо. Я хочу прогуляться. После того как она ушла, Джош остался сидеть, все так же сбрасывая со стола хлебные крошки. Ее слова, а возможно еще больше, ее уход, напомнили ему о прошлом. Вместо пансионата «Флора» Джош увидел свой дом, кухонный стол, за которым он сидит и пьет чай с вареньем. Грохот хлопнувшей двери на веранде — это мать ушла, оставив его и отца. Тишина. Зловещая тишина наступила после криков и ругани. Они часто ссорились, и вот результат — мать ушла. Отец опустился на стул и закрыл лицо руками. Это был последний раз, когда Джош видел свою мать. «Интересно, почему я вспомнил ее здесь, сейчас, так далеко от дома?» — думал он. Он нахмурился. «В жизни, полностью посвященной веселью и развлечениям, нет места подобным воспоминаниям, они наводят тоску». Но лицо Джулии, ее слезы не давали ему покоя, ему захотелось убраться отсюда подальше ради нее самой. Он думал о школе, о времени, проведенном в университете Колорадо, в основном посвященном катанию на лыжах, о встрече с Гарри. Все это время его популярность следовала за ним как тень. Джош был достаточно проницательным, чтобы понять, почему мужчины и женщины тянулись к нему. Не всегда из добрых побуждений, но в любом случае приятнее было нравиться, чем наоборот. Он тоже любил некоторых из них, но осторожно и до тех пор, пока ему не начинало надоедать. Джош ненавидел сцены. Они приносили злость, гнев, отчаяние, поэтому он испытывал отвращение к ним. Возможно, именно поэтому он и отец жили вместе так долго, держась подальше от женщин. Джулия была другой. Он взял ее с собой, потому что хотел ее сильнее обычного, но подобное случалось тысячи раз. У него было дурное предчувствие, но отступать было уже поздно. Сравнивая ее с Софией Блисс и другими в Венгене, он понял, какую опасность представляла для него Джулия, которая хотела все, в том числе и его. Она была неопытной, жаждущей и высокомерной, но самой сексуальной из тех, которых он встречал. Джош вышел на улицу и пошел по дороге к обрыву, где они обычно сидели. Джулия должна сюда прийти, а он точно знает, что нужно делать. Она задержалась на мгновение, засмотревшись на белое легкое, нависшее над горными вершинами облако. Джулия не захотела больше смотреть на этот пейзаж. Она быстро поднялась по холму, оставляя за спиной старый замок. Тропинка была такой крутой, что девушка часто спотыкалась. Джулия устроилась на маленькой полянке. Ей стало противно от мысли о возвращении в Лондон. Внутри у нее все кипело, но она знала, что нельзя давать выход чувствам. Она снова вскочила и, удерживая равновесие, побежала вниз к воротам монастыря. Железные причудливые узоры ворот были покрыты ржавчиной. За розовыми стенами располагался сад с темными деревьями и цветущей живой изгородью. Монахини не обрабатывали его. Пальцы Джулии вцепились в металлические прутья ограды. Она молча стояла, пытаясь перевести дыхание. Она постояла так некоторое время, глядя на неухоженный сад. Когда она вернулась на поляну, то увидела старую женщину, которая привязывала свою козу. Женщина кивнула Джулии и, устроившись неподалеку, достала из потрепанной сумки спицы и нитки и начала вязать. Джулия снова успокоилась, слезы больше не мучили ее. Ей предстояло вернуться в пансионат и выслушать все, что скажет Джош. Она спустилась с холма. Джош сидел на камне и смотрел вдаль. Джулия подошла к нему и остановилась сзади. Некоторое время они молчали. Наконец Джош сказал: — Я не могу дать то, что ты хочешь. Я не буду врать. Не хочу, чтобы ты страдала, когда это случится. — Я страдаю потому, что ты позволяешь быть с тобой. Я хочу тебя. Я люблю и нуждаюсь в тебе. Никто не сделает меня счастливой. Если тебя не будет рядом, жизнь потеряет для меня всякий смысл. Разве ты не понимаешь? — Нет. Джулия кивнула головой. Сказаны все слова. — Что же дальше? — Я отвезу тебя в Агрополи и посажу на поезд. — Куда? — В Лондон. Лондон. Что ждет ее в Лондоне? Ничего. Джулия не плакала, ее глаза были сухими. — А ты? Что будешь делать ты? — Еще не знаю. Полечу в рейс. — Я пойду упаковывать вещи. Они повернулись друг к другу. Ее лицо оказалось возле его плеча. Он обнял ее и поцеловал. — Мы еще встретимся? — Надеюсь, — ответил Джош. — Я тоже надеюсь. Надеюсь, «мой летчик». (обратно)
Глава десятая
Мэтти нервничала. Не глядя на Джулию, она открыла сумку из кожзаменителя и бросила туда атласную комбинацию, красный бюстгальтер и кружевные трусики. Джулия с отвращением посмотрела на трость — одну из деталей учительского костюма, в котором выступала Мэтти в стриптиз-клубе. — Мисс Матильда, — презрительно сказала Джулия. Мэтти застегнула сумку и наклонилась к зеркалу. Облизнув указательный палец, она пригладила брови и повернулась к подруге. — Послушай, дорогая. Если бы они умоляли меня выступить в роли Офелии в театре «Олд Вик», то это было бы другое дело. На самом же деле за предложение сказать хотя бы две фразы в детском спектакле в Вигане я бы упала перед ними на колени. Но где они все со своими предложениями? На прослушивании толстые слюнтяи обычно говорят: «Спасибо, милочка, мы дадим вам знать». В таких случаях я бросаю их сценарии прямо им в лицо. Джулия не ответила, а Мэтти горько вздохнула. — Наиболее важный факт — это то, что «мисс Матильда» зарабатывает тридцать фунтов в неделю наличными, к тому же это не самая трудная работа, легче, чем продавать обувь или работать на Джона Дугласа с утра до вечера. — Раздеваться перед множеством вонючих мужиков ты называешь работой? Мэтти рассмеялась и села на кровать перед Джулией. — Я артистка, не забывай. Я не просто снимаю с себя одежду. Я очень красиво танцую и при этом играю. Я становлюсь школьной учительницей с душой и сердцем куртизанки, попавшей в западню. Теперь уже смеялась Джулия. Они сидели на кровати, обнимая друг друга. Потом Мэтти встала. — О черт. Давай выпьем, перед тем как я уйду. Джулия вздохнула и взяла фужер, который дала Мэтти. Она осмотрела Спальню. Без Феликса девушки вернулись к прежнему образу жизни: все вещи были разбросаны где попало, в комнате царил полный беспорядок. Джулии стало противно. — Эй, — окликнула ее Мэтти. — Чего ты переживаешь? — Я переживаю за нас, Мэтти, за нас. — Не волнуйся. Я отличная актриса, у меня есть все данные для большой сцены. Скоро наступит и моя очередь. Ты сама неплохо устроилась в дизайнерской фирме Джорджа Трессидера. У тебя есть шансы получить какой-нибудь контракт, например, манекенщицы. — Ага, чтобы эти извращенцы фотографы снимали меня? Это и называют контрактом, разве ты не знаешь? — Не будь циничной! Потом пойдут любовники, обожатели, друзья! Чего еще можно желать? Джулия собралась ей ответить, открыла рот, но Мэтти нагнулась к ней и закрыла его рукой. — Знаю, знаю. Пока он где-то летает, ты можешь позабавиться. Кстати, кто этот счастливчик? — Фловер. — Ну конечно, Фловер! Мэтти ходила по комнате и собирала оставшиеся части своего костюма. — Между прочим, по твоей милости и по милости Фловера я сейчас работаю на Монти. Кое-кто вздумал однажды оставить там чемоданы. Я была одна из первых, кого этот «домик» шокировал. Помнишь? — Вот именно, шокировал, но только вначале. С того дня, как Фловер купил мне кофе и булочку в «Голубых небесах», а вечером мы встретились с Феликсом и Джесси, прошло больше трех лет. — Ты чувствуешь себя старухой? Им было двадцать и двадцать один. — Очень, очень старой. Они засмеялись, каждый по своей причине. Мэтти закинула сумку на плечо и направилась к двери. Джулия наблюдала за ней, а когда та скрылась, крикнула: — Ты упустила один момент, подруга. Мы есть друг у друга. Мэтти вернулась. Ее пышные волосы были выкрашены в белый цвет. — И так будет всегда. Послушай, я заканчиваю в двенадцать, в полночь. Встретимся в «Рокет». Джулия слышала, как Мэтт спускалась по ступенькам. Фловер и клуб. «Шоубокс» и Монти. Суббота, воскресенье и снова понедельник, а это значит — фирма Трессидера, нудная работа, бумажки, документы, счета, телефонные звонки. Джулия сжала кулаки с такой силой, что ногти впились ей в руки. Как никогда прежде, ей трудно было контролировать себя, свои чувства. Чувство собственной бесполезности, бессмысленности существования не давало покоя Джулии. Она вскочила и подошла к окну. Мэтти переходила улицу, Джулия следила за ней, пока та не скрылась из вида. Был ноябрь, последние желтые листья падали с деревьев на мокрый тротуар. Вначале ей казалось, что Джош придет. Весной он отправил ее домой из Италии. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. После Монтебелле она вернулась в Лондон. Джулия работала в разных фирмах, теперь и сама не вспомнит в каких. Однажды приехал Джош, потом снова уехал. Джулия знала, что он решил держаться от нее в стороне, но пыталась отгонять эти мысли и с благодарностью проводила с ним те редкие минуты, которые он дарил ей. Она водила пальцем по стеклу, рисуя круг. Капли, как слезы, собирались по краям и стекали вниз. В те дни, без Мэтти и Джесси, Джулия была очень одинока. Ноябрь, 1956. Это было два года назад. Она находилась в постоянном волнении: Джош спасался на самолете от русских танков через австрийско-венгерскую границу, а Феликса, как солдата действующей армии, послали в Суэц. Джулия читала газеты, слушала репортажи по радио. Она гордилась своими друзьями, хотя считала эти чувства немного эгоистичными. Она не могла отделаться от возмущения и негодовала, что именно мужчинам выпал шанс сражаться. Они могли делать выбор: дарить жизнь или отбирать. Ее свобода — женская свобода, которой она могла воспользоваться: ходить на работу, зарабатывать деньги, чтобы купить себе чулки, модную одежду, и ждать. «Я ждала», — горько подумала Джулия. Следующий, 1957, год — время, когда Джош заявил, что возвращается в Колорадо, где открывается новый лыжный клуб и где Джош увидел для себя неплохие перспективы. Расставание оказалось болезненным для обоих, но оно не тронуло Джоша настолько, чтобы он захотел остаться. Джулия терзала себя тем, что не сможет жить без него, но пережила и это, хотя ей было очень горько. Джулия отвернулась от окна и начала собирать с пола одежду, раскладывая ее на прежние места. Двенадцать месяцев прошло с тех пор, как они простились. У Мэтти тоже не клеилась жизнь, и никаких особых изменений в ее работе в театре не произошло. Джон Дуглас не давал ей серьезных ролей, только мимолетные реплики. Джулия с облегчением встретила свою подругу, когда та вернулась домой, бросив работу в театре. Они снова стали неразлучными. Мэтти вспомнила о давнем предложении и устроилась в стриптиз-клуб, где ее называли мисс Матильда. Работать приходилось по восемь часов в день, с одним выходным в неделю. Джулия перешла на работу в дизайнерскую фирму Джорджа Трессидера в качестве временного секретаря. Она решила остаться в фирме, потому что эта работа нравилась ей больше, чем те, которые она выполняла раньше, и потому что не знала, чем еще можно заняться. Острый, наметанный глаз Трессидера сразу заметил и одобрил ее внешность. Он сделал Джулию своим регистратором. Джордж, мужчина пятидесяти лет, был художником по интерьеру, обслуживающим перспективных аристократических клиентов. Джулия работала за столом в задней части маленького магазина, в котором Джордж продавал различные антикварные вещи, одновременно охраняя дверь, ведущую в дизайнерский отдел, где Джордж и другие молодые специалисты разрабатывали проекты. Однажды, когда один из работников ушел в отпуск, а два других заболели, Джулии пришлось напечатать несколько писем для Трессидера, отобрать шелковые ткани для одного из заказчиков и побеседовать с дилером, который хотел продать старинные зеркала. Она внимательно рассмотрела фотографии зеркал и пообещала, что как только мистер Трессидер вернется в офис, она сразу же поговорит об их покупке. В знак благодарности клиент пригласил ее позавтракать. В конце недели Джордж, проходя мимо ее стола, остановился, опираясь рукой о спинку ее стула. — А ты не такое уж и глупое создание, не так ли? Симпатичные девушки редко имеют такой ум, как у тебя, — заметил он. — Неужели? — пробормотала Джулия, а сама подумала: «Откуда ты знаешь, какие бывают девушки?» — Хм… Я могу добавить тебе еще два фунта в неделю, и работа будет более интересная, с гибким графиком. — Спасибо, — тихо ответила она. Джулия не имела в фирме того статуса, какой был у других молодых специалистов, но впервые за ее трудовую жизнь она без отвращения шла на работу, особенно по понедельникам. Бетти называла это настоящей работой. В прошлом году Джулия снова стала навещать родителей. Уход Джоша заставил ее задуматься о своих отношениях с отцом и матерью. Она слишком грубо обошлась с ними, и нет никакого смысла отдаляться от них сейчас. Прошло много времени с тех пор, как она ушла, и осуждения и угрозы родителей стали казаться мелочными, незначительными. Когда она снова увидела дом (несмотря на постоянную заботу матери), выглядел он убогим, ветхим, запущенным, совсем не таким, каким она представляла его в детстве. В первые два-три визита между нею и родителями чувствовалась неловкость, но постепенно их отношения пришли в норму. Джулия приезжала домой раз в месяц, по воскресеньям. В то время, как Бетти и Вернон возвращались из церкви, она оставалась на обед и чай. Однажды Джулия случайно назвала их второй завтрак ланчем. Бетти посмотрела на нее с незнакомым выражением лица, в котором просачивались уважение, смирение и робкое одобрение. После этого Бетти всегда приглашала дочь на ланч. Между ними существовало незаметное расстояние, но никто из них не подчеркивал и не обсуждал это. Тот факт, что Джулия презирает классовое различие, часто использует в разговоре слова, которые слышала от Джорджа и его клиентов, казалось, только увеличивал это расстояние. Бетти снова могла гордиться своей дочерью, а это самое главное. Джулии представилась возможность работать с одним очень приятным молодым художником в Челси. Ей часто приходилось беседовать с разными титулованными особами. Бетти всегда просила рассказывать о них, обычно это была спасительная тема разговора с дочерью, когда Вернон садился слушать воскресные новости. — Тридцать квадратных ярдов настоящего белого мрамора — в ванной одного богача, — говорила Джулия. — Трудно представить! Мраморная ванная! — восхищалась Бетти. Джулия была тронута наивностью матери, она смягчалась по отношению к Бетти благодаря собственному опыту. Эти две женщины никогда не станут подругами — это понятно, но они были вежливы и внимательны друг к другу во время коротких часов воскресных визитов Джулии. Вернон меньше значил для девушки. Она не понимала отца и сомневалась, что когда-либо поймет. Об удочерении никогда не упоминалось. Возвращаясь домой от родителей, Джулия садилась в поезд и облегченно вздыхала. В недолгие минуты в поезде она часто вспоминала Джесси. Если бы Бетти Смит обладала хотя бы некоторыми качествами Джесси, какой бы она была? Джулия не сомневалась, что Джесси одобрила бы их «бескровное» перемирие. Между противоположными полюсами, фирмой Джорджа и родительским домом, существовали квартира на улице Манчестер и Мэтти. Девушку мучил вопрос, действительно ли это настоящая жизнь; нужно ли ей продолжать жить по имеющемуся плану или все бросить и ждать. В тот год, когда Джош покинул ее, Джулия постаралась сделать все, чтобы отвлечь свои мысли от любимого и забыть его. Ее стремление и жажда жить удивляли даже Мэтти. Подруг приглашали на вечеринки, да и Джулия сама иногда приглашала гостей. На вечеринках в клубе или в тех местах, где было много людей, у нее был шанс встретить человека, который смог бы заменить Джоша. Приглашений поступало все больше и больше. Девушки установили в комнате Джесси телефон, и он не переставал звонить. Мужчины, с которыми они встречались на вечеринках, сначала обращали внимание на Мэтти, но, в конце концов именно Джулия завлекала их в свои сети. Ее желание было непреодолимо и сильно. Она могла ухватиться за последнюю возможность, словно в мире не осталось ни одного мужчины, а вскоре смотрела на него так, как будто он и не существовал. Многие из них находили подобное обращение возмутительным, но Джулия не замечала их обид. С двумя или тремя она переспала, но сделала это скорее из-за того, что Джош пробудил в ней сексуальные потребности, и уж менее всего ей хотелось найти его преемника. Физическая близость доставляла ей истинное удовольствие, хотя потом она чувствовала себя виноватой. Джулия всегда сравнивала. Но ни один из них не обладал тем, чем Джош. Он разбудил в ней страсть, «дал жизнь» ее телу. Она скучала без него, скучала каждый день, каждую ночь. Мэтти отчаянно пыталась разубедить ее. — Ни один мужчина не стоит такой безумной любви, — говорила она. — Джош стоит. — И что же теперь будет? — Не знаю. Но что-нибудь произойдет. Должно произойти. Сейчас квартира казалась пустой и неуютной. Мэтти ушла на работу. Джулия закончила раскладывать одежду и пошла в комнату Джесси. Старую кровать убрали, вместо нее поставили бывший в употреблении диван с плюшевой обивкой, все остальное осталось по-прежнему. Джулия обошла комнату, собрала пожелтевшие фотографии, вглядываясь в загадочные лица, провела пальцами по эклектическим приспособлениям Феликса, состоящим из кусков. «Пыльная коллекция», — так называла их Джесси. Сейчас они действительно были запыленные. Подаренная шаль валялась на спинке дивана, вода в вазе с засохшими цветами, которые подарил один из поклонников Джулии, пахла плесенью. Комната выглядела мрачной и грязной. Мэтти и Джулия редко засиживались здесь. «Что бы сказал Феликс, если бы увидел все это?» — подумала Джулия. Феликс вступил в ряды национальной армии. Он, казалось, стал более сдержанным в отношениях с Мэтти и даже с Джулией. У них не было времени, чтобы обсудить это. Он сразу отправился во Флоренцию. — Я всегда мечтал о поездке в Италию, еще до того, как заболела мама. Он подрабатывал, убирая в отеле, и одновременно изучал искусство. Думая о Феликсе, Джулия решила посвятить оставшуюся часть дня уборке квартиры, привести ее в такой вид, который бы он наверняка одобрил. Она собрала волосы и повязала на голову косынку, надела халат, когда-то принадлежавший Джесси, и приступила к работе. Когда она закончила, на улице уже было темно. В комнатах запахло свежестью, уже не было пыли и грязной посуды. У Джулии ломило спину, но она была довольна. Феликс одобрил бы ее старания. Она ставила чайник на плиту, когда раздался звонок в дверь. Джулия спустилась вниз к парадной двери. Перед ней стоял незнакомый мужчина. У него были редкие седые волосы и овальное лицо. Он опирался на трость. Мужчина равнодушно посмотрел на Джулию. — Я ищу мисс Мэтти Бэннер. По голосу Джулия поняла, кто это. — Э… Боюсь, что ее нет. Она сегодня работает. — В театре? — Нет… не совсем. Мужчина нахмурился. — Что? Джулия вспомнила слова подруги: «Все кончено. Больше нам нечего взять друг от друга». Джулия открыла дверь шире. — Вам лучше войти. — Спасибо. Мое имя Джон Дуглас. Джулия включила свет в комнате Джесси. Джон, тяжело дыша после подъема наверх, удивленно осмотрелся. — Хм… Не совсем то, что я ожидал увидеть. Джулия улыбнулась. — А что вы ожидали увидеть? — Не такую уютную и чистую квартиру. Я слишком хорошо знаю Мэтти. — Ах вот как. Джулия сняла косынку, халат и причесалась. Дуглас снова осмотрелся, но на этот раз Джулия не улыбалась. — Я подруга Мэтти, Джулия. — Извините, я было подумал, что вы уборщица. — Сегодня — да. Почему вы хотите увидеть Мэтт? Джон Дуглас засунул руку во внутренний карман пальто, достал большой конверт и положил на стол. — Я хочу, чтобы она кое-что сделала. Не смотрите на меня так. Не для меня, для себя. Где она? Джулия вздохнула. — Позвольте, я приготовлю чай. Потом расскажу.Мэтти прислонилась к стене в маленькой гримерной «Шоубокса», находящейся прямо за сценой. Одиннадцать тридцать. Она ожидала своего последнего выхода, пятнадцатого за этот рабочий день. Для выступавшей на сцене девушки играла музыка, которая монотонно стучала в голове Мэтти. Монти арендовал еще четыре небольших клуба на этой улице. Как и другие девушки, Мэтти проводила рабочий день, переходя то в один, то в другой клуб. Когда представление заканчивалось, она собирала костюм, бросала его в сумку, выходила на улицу и шла в следующий клуб. Как только раздавались звуки мелодии, под которую она выходила на сцену, Мэтти связывала волосы, прятала их под шапочку с плоским квадратным верхом и появлялась перед невидимой публикой. Потом все повторялось снова и снова: гримерная, улица, клуб, музыка, шапочка. Иногда расписание Монти позволяло ей забежать в бар, выпить чего-нибудь или поделиться бутербродом с другими девушками. Между ними существовал дух товарищества и взаимопомощи. Мэтти старалась преподнести каждый свой выход как небольшое театральное представление. Она вводила новые интересные нюансы в процесс раздевания и показа своего тела. Публике нравилось, как она работала. Монти тоже был доволен. — Ты как кошка. Ты просто рождена для этой роли, — говорил он. Иногда Монти платил ей на один-два фунта больше, чем остальным. Музыка прекратилась, девушка спустилась со сцены и зашла в гримерную. У нее была большая полная грудь. Ни девушка, ни Мэтти даже не оглянулись, когда парень, работавший у Монти, зашел к ним, забрал костюм и удалился. Мэтти не обманула Джулию, сказав, что стриптиз нисколько не стесняет ее. Иногда ей становится холодно, и по коже начинают бегать мурашки, но ничего больше. — Я еле держусь на ногах, — сказала Мэтт. Девушка, которую звали Ви, надевала на себя узкую юбку. Она взглянула на Мэтти, потом указала рукой на свою сумку. — У меня есть таблетка. Она достала из сумки мятый бумажный пакет и протянула таблетку. Мэтти закинула ее в рот и запила водой. — Спасибо, Ви. Ты спасла мне жизнь. За кулисами послышался какой-то шум: прибыли новые посетители. Нетерпеливая публика начала хлопать, вызывая на сцену следующую девушку. Прозвучали первые аккорды мелодии Мэтти, парень подал ей знак. Мэтти подхватила трость, посмотрела на Ви и пошла на сцену.
Джулия сидела между Фловером и Дугласом. Деревянные стулья были очень маленькие, жесткие и прямые. Так как в зале было темно, то Джулия не могла видеть происходящего вокруг, но у нее создалось впечатление, что она здесь — единственная женщина. Она положила руки на колени, осознавая, насколько смешно выглядит в подобной позе, и терпеливо ждала. У нее никогда не возникало желания посмотреть представление Мэтти, а та никогда и не предлагала. Ей было интересно, что бы сказала Мэтти сейчас? Музыка играла громко. Темная фигура появилась на сцене. На ней была учительская шапка с плоским квадратным верхом и тяжелые очки без стекол. Это была Мэтти. Сначала Джулии хотелось рассмеяться. Мэтти подошла поближе и сняла шапку. Ее великолепные пышные волосы упали на лицо и плечи. По залу прокатился общий вздох, все мужчины устремили взгляды на очаровательную девушку. Мэтти улыбалась. Она поставила перед собой трость, придерживая ее одной рукой. Другой лениво расстегивала костюм, под которым показалось красное атласное белье. Одним быстрым движением Мэтти сбросила темную ткань с плеч. Ее белоснежная кожа под лучами яркого света казалась голубой. Она сняла очки, касаясь ими рта перед тем, как выбросить. Мисс Матильда превращалась в знакомую Мэтти. Она танцевала, грациозно двигаясь. Джулия слышала дыхание Джона Дугласа. Молча наблюдая, Джонни наклонился вперед. Продолжая раздеваться, Мэтти сбросила комбинацию, потом бюстгальтер и, наконец, — под громкие заключительные аккорды — кружевные трусики. Она повернулась к залу. Выражение ее лица было вызывающим, насмешливым. Джулия потеряла дар речи, ей больше не хотелось смеяться. То, что играла Мэтти на сцене, тронуло ее. Она дрожала. Ей казалось, что это было очень эротично. Секундой позже Мэтти исчезла. Публика хлопала и кричала «браво». Джулия услышала, как сзади Джон Дуглас разговаривал сам с собой: — Святой Иосиф! Это божественно! Фловер крепко сжал руку Джулии. Все трое поднялись и скрылись в темноте. Они ожидали Мэтти у служебного выхода. Через некоторое время она появилась — прежняя Мэтти, с завязанными в хвост волосами, в блузке и модных брюках. Непривычно выглядела лишь трость, которую она держала в руке. Она уставилась на Джона. — Ты присутствовал на моем шоу? Вы все присутствовали? Джулия кивнула. Неожиданно Мэтти скривилась. — Я устала сегодня, поэтому получилось не совсем то, что я хотела. Обычно я вкладываю больше эмоций в выступление. Но сейчас я отлично себя чувствую. Мы все пойдем в «Рокет-клуб»? И ты, Джон? Кстати, ты что тут делаешь? Он обнял ее за талию и притянул к себе. — Какого черта ты здесь делаешь, позволь спросить? — Это не так уж и отличается от театра, не так ли? Этим путем или другим, какая разница? Джон не ответил. Они молча стояли и смотрели друг на друга, пока Джон снова не обратился к Мэтти: — Я хочу, чтобы ты пошла сейчас со мной, к тебе домой. Мне нужно кое-что прочитать тебе. — Прочитать? В воскресенье? Я хочу пойти в клуб. Да, Джулия? — Она оглянулась на подругу, надеясь найти в ней поддержку. Их взгляды встретились. — Иди с ним, Мэтти. Больше Мэтти не сопротивлялась. Джонни уступил ей дорогу. — Ступай, малышка, — пробормотал он. — Вы уже большие девочки. Джулия и Фловер вышли на улицу Вардо. — Я так рада, что ты сейчас со мной, Джонни, — сказала Джулия. — Я всегда рядом, когда нужен тебе.
Мэтти включила свет и огляделась. — Джулия опять занималась уборкой. Ну ладно, где оно? Где то, что ты хотел мне прочитать? Джон взял конверт со стола. Мэтти открыла его и вынула сценарий в голубой обложке. — Это? Название было написано сверху небольшими буквами. — «Еще один день», — прочитала Мэтти. — Никогда не слышала. — А почему, собственно, ты должна была слышать? Я, можно сказать, украл его. Оставил театр и приехал сюда, к тебе. Садись в кресло и внимательно прочитай. У вас в доме есть виски? Мэтти перевернула голубую обложку. — Бутылка джина на кухне. — Я не пью джин. Мэтти не ответила. Она устроилась в старом кресле Джесси, подобрав под себя ноги. Когда она закончила читать, то долго не могла произнести ни слова. Потом она все-таки спросила: — Актеры утверждены на роли? — Нет. Прослушивание в понедельник. Мэтти боялась взглянуть на Дугласа. — Ты можешь меня взять? — Ты в списке, дорогая. Я сделал это для тебя. Она поднялась и подошла к нему. — Почему? — Потому что я считаю, что ты вполне можешь сыграть. Сценарий как будто специально написан для тебя. Мэтти потерлась щекой о его волосы. «Конечно, он не скажет, потому что любит меня хоть чуть-чуть, — подумала она. — Даже если это и так, он никогда не скажет». Джон не имел привычки выставлять свои чувства напоказ, он всегда держал дистанцию. Мэтти понимала, что между ними ничего не может быть, но он приехал к ней, предложил роль. Он верит, что она сможет играть. Доверие так же приятно, как и чувство любви. — Я смогу сыграть. Я уверена. — Вот и хорошо. Теперь, если в этом доме нет ничего, кроме джина, может, приготовишь чай? Мэтти пошла на кухню и через некоторое время вернулась с подносом. Она поставила его на низкий столик перед включенным электрокамином. Красный свет от него освещал ее волосы, придавая им бронзовый оттенок. Джон вспомнил Мэтти на сцене: с распущенными волосами, ее обнаженное тело — вызывающее и в то же время невинное. Он был зол на нее, тронут и возбужден. «Если Мэтти смогла выйти на сцену в стриптиз-шоу, — думал он, — то у нее сильный характер. Если она пошла на это, значит, твердо знала, чего хочет. Возможно, наступит время, когда она пойдет дальше и добьется больших успехов». Он поднялся, отодвинув чашку с чаем, которую Мэтти протягивала ему, обнял и прижался к ней. — Ты помнишь наши ночи? — Помню. Он целовал ее, гладил тело и грудь. Мэтти стояла не двигаясь. — Может, займемся любовью? — Нет, думаю, не надо, — сказала она так мягко, как могла. Ее удивило, что у нее хватило храбрости отказать ему. — Когда мы занимались этим раньше, то это, в общем-то, ничего не стоило, а сейчас… это будет выглядеть как сделка между нами. Он посмотрел на нее и подумал о мужчинах в темном клубе, которые садились поближе, чтобы рассмотреть ее белую кожу. — Я не удивлен, — ответил он. — Ты можешь остаться. Комната Феликса свободна. — Спасибо. Он отпустил ее, и Мэтти пошла в комнату приготовить постель. Еще долго, уже после того, как Дуглас крепко спал в комнате рядом, Мэтти лежала в своей кровати с широко открытыми глазами. Она думала о прослушивании. «Рокет-клуб» давно закрылся, но Джулия не пришла домой. «Наверное, она поехала к Фловеру, чтобы не мешать мне и Дугласу», — решила Мэтти. Несколько раз Мэтти закрывала глаза, пытаясь уснуть, но мысли о предстоящем спектакле не давали ей покоя. «Это ее спектакль. Ее роль».
— Ваше имя? — Мэтти Бэннер. Мужчина, сидевший в центре зала, кивнул и подвел черту на листке бумаги с перечисленными фамилиями актеров. Рядом с ним было еще двое мужчин средних лет, женщина и молодая девушка-ассистент. Она только что принесла всем кофе, кроме Мэтти, конечно. Молодой человек с черными волосами и истощенным лицом сидел в стороне от всех. Мэтти подумала, что это драматург Джимми Проффит. Она смотрела на него и удивлялась, как такой человек, на которого она никогда бы не обратила внимания в клубе, мог написать замечательный сценарий. Молодой человек чувствовал ее взгляд и поэтому не смотрел на нее. Тогда она стала осматривать зал. Театр «Ангел» был построен в викторианском стиле и когда-то использовался как концертный зал. Он находился в пригороде и был похож на те театры, в которых побывала Мэтти, работая в труппе Джона Дугласа. Он существовал благодаря финансовой поддержке городских властей и аристократов, которые пожелали, чтобы в театре, наконец, поставили новый спектакль. Мэтти проглотила слюну и раскрыла сценарий. — Вы собираетесь прочитать нам отрывок из роли Мари? — Да, — ответила Мэтти и подумала, как сильно хочет получить эту роль. Она читала ее так много раз с тех пор, как Дуглас привез сценарий, что знала слова почти наизусть. Это была трагедия. У Мэтти болело горло, когда она выкрикивала некоторые слова. Но когда она думала о других сценах, где описывались приемы, помолвки, семейные неурядицы, Мэтти хотелось смеяться. — Пожалуйста, начните с семнадцатой страницы. Мистер Куртис прочитает слова Дэниса. Мэтти начала читать. Сначала она перенервничала настолько, что пропускала слова. Но потом, когда строчки заработали внутри нее, Мари стала намного важней Мэтти. По сценарию Мари было девятнадцать. У нее был муж моложе ее и пятимесячный сын. Они жили в одной комнате, что Мэтти было знакомо. Она представляла, какая могла быть жизнь у Мари и Дэниса. Они ругались друг с другом, пока ребенок кричал. Джимми описывает отчаяние, нищету, непонимание. Однажды, после ссоры с Мари, Дэнис забирает свой недельный заработок, уходит в бар и напивается. На улице он встречает мужчину, которому задолжал. Они дерутся, и Дэнис убивает его. Сцена делится на части. С одной стороны — Дэнис и его жизнь в тюрьме, с другой — несчастная Мари, борющаяся за свое существование. Она отдает ребенка бездетной женщине, которая заплатила за малыша пятьдесят фунтов. Мари приходит домой, сжигает деньги и поджигает дом. Когда Мэтти закончила чтение, некоторое время все присутствовавшие в зале молчали. Наконец директор оторвал взгляд от списка. — Спасибо. Вы еще что-нибудь приготовили? Любой отрывок, если хотите. — Да. Слова Розалинды из спектакля «Как вам это нравится». Мэтти не знала, почему выбрала именно этот отрывок. Она надеялась, что если прочитает Шекспира, они воспримут ее как настоящую актрису. Она едва сказала несколько фраз, как мужчина, сидящий в центре, поднял руку. — Хорошо, хорошо. Достаточно. Пока члены комиссии шептались, Мэтти ждала, нервно потирая руки. Вдруг женщина объявила: — Еще раз спасибо мисс… э… Бэннер. Мы сообщим вам о решении. Мэтти направилась к выходу. У нее помутнело перед глазами, она не смотрела по сторонам и почти дошла до двери, когда услышала: — Вы не могли бы подождать в холле? — Что? — Не могли бы вы подождать в холле? Мы постараемся не затягивать обсуждение. Она вышла в коридор. Тут сидели еще три девушки, ожидавшие своей очереди. Мэтти села так, чтобы не видеть их лица. Она ни о чем не думала. Нет никакой надежды. Но она все еще здесь, в театре. Первая девушка вышла из зала и, ничего не сказав, ушла. Две другие тоже, вероятно, ушли ни с чем. В коридоре было очень холодно, и Мэтти замерзла. Вдруг открылась дверь и показалась девушка-ассистент. — Мистер Брэнд желает послушать вас, мисс Бэннер. Опять Мэтти стояла на сцене лицом к пустому залу. — Последнюю сцену, мисс Бэннер, если не возражаете. Джимми Проффит наблюдал за ней, как и мистер Брэнд. Женщина и даже ассистентка перестали причесываться. Слова Дэниса по-прежнему читал Куртис. Когда все кончилось, они сказали ей: — Мы свяжемся с вами. Кто ваш агент, мисс Бэннер? В анкете не указано. — Мистер Фрэнсис Виллоубай, — быстро сообразила она и подумала: «Фрэнсис сделает это ради меня». Она так устала, что по дороге домой ее чуть не стошнило в автобусе. Через четыре дня ее снова пригласили на прослушивание. Монти не понравилось, что она второй раз отпрашивается, он даже пригрозил увольнением. Мэтти повезло, что другая девушка согласилась ее подменить. — Монти, еще разок, пожалуйста, — просила Мэтт. На этот раз в зале было больше людей. Мэтти не понимала, читает она хорошо или плохо. Ее попросили подождать в холле, где сидела одна девушка. Когда Мэтти пришла домой, Джулия увидела ее белое лицо и налила джина. — Сколько еще они будут тебя мучить? — Не знаю, Джулия, ничего не знаю. Сказали, что позвонят.
Прошло три дня. Наконец ей позвонили. Джулия слышала, как Мэтти сняла трубку. — Алло? Фрэнсис? Наступило долгое молчание, потом снова раздался голос Мэтти: — Что ты сказал? Несколько секунд спустя Мэтти влетела в комнату с радостным криком: — Я получила роль! — Что? Ты получила роль? Они обнимались, целовались, прыгали и танцевали. Когда они успокоились, Мэтти вытерла слезы радости и, задыхаясь, проговорила: — Я и не надеялась. Но я уверена, что смогу сыграть роль Мари лучше кого бы то ни было. Боже, как я боюсь! — Если ты будешь бояться, то не рассчитывай на успех. Я знаю, ты справишься, Мэтти Бэннер. Они засмеялись. — Когда начнешь? — Репетиция назначена через две недели. — Монти будет скучать. — Не думаю, что я буду скучать по Монти. — Эй, сколько у тебя осталось денег? У меня есть немного, но все равно надо отметить. — Только ты и я? — Да, ты и я. Никаких Фловеров, Фрэнсисов и тому подобных! — Ты и я! Согласна! Уже слегка пьяные, они отправились в Сохо. Возбужденные от успеха Мэтти, свободные и гордые своей дружбой. Из бара Мэтти позвонила Монти. Джулия слышала, как он ругался, когда Мэтт отвела трубку в сторону. Она подняла бокал и провозгласила тост: — За актрису Мэтти Бэннер! Она положила трубку и рассмеялась. Девушки решили поужинать в баре «У Леони», но по дороге заглянули еще в несколько баров. Официант подозрительно посмотрел на них, однако как только Мэтти улыбнулась ему, опасения и подозрительность исчезли. Он провел их к столику. Мэтти заказала шампанское. Потом они внимательно прочитали меню. Девушки были очень голодны. Джулия сидела спиной к залу. «Не время думать о Джоше. Это вечер Мэтти. Ее успех», — подумала девушка. Она разлила шампанское и подняла бокал. — За тебя, Мэтти! Желаю тебе сыграть все роли, о которых ты мечтала и мечтаешь. Пусть успех и удача не покинут тебя! Они выпили. — Еще один тост за Феликса, где бы он сейчас ни был, — сказала Мэтти. — Он гордился бы тобой! — Отлично, но ты, Джулия, лучше всех. Я ни на кого тебя не променяю! Тед Бэннер не был тем человеком, с которым ей хотелось бы поделиться радостью. Его вообще мало волновали проблемы членов семьи. Роззи, Мэрилин и другие были далеко. Мэтти высоко подняла голову. — Эй, мы ведь отмечаем! Нечего нос вешать. Давай лучше следующий тост. За Фрэнсиса Виллоубая! За Джона Дугласа! — И за Монти, благослови его Господь! — Нам нужно заказать еще шампанского. Они вспомнили всех друзей и знакомых и за каждого подняли тост. Кроме Джоша. Джулия повернулась спиной к его призраку, который наблюдал за ней из-за другого столика. Ей казалось, что видит его так же отчетливо, как Мэтти, официантов, швейцара у дверей. Джулия чувствовала, что вот-вот заплачет. «Нет, я не могу испортить ей праздник слезами… только улыбка должна сиять на моем лице», — убеждала себя Джулия. Мэтти вытащила бутылку из емкости со льдом и разлила оставшееся шампанское в бокалы. — Остался один тост. Самый важный. Они посмотрели друг другу в глаза. — За тебя и меня, — произнесла Мэтт. — За нас! И будь что будет! — Да, будь что будет, — повторила Джулия. Она попыталась представить это, но будущее было темным как ночь. Они допили шампанское. — Я вот что тебе скажу. — Мэтти наклонилась к подруге и сжала руку. — Я буду Вивьен Ли, Пегги Ашкрофт, Келли Грэйс, но только в одном лице. Звезда — Мэтти Бэннер! За ночь мир узнает, кто я такая. А ты будешь классной моделью. — Я знаю, ты изобретешь что-нибудь эдакое. — Скоростную молнию? Сапоги-скороходы? — Да, что-то в этом роде. Ты только выбери — что. Заработаешь миллионы долларов, а потом… — Потом выйду замуж за герцога, произведу на свет двенадцать детей. У меня будет огромный дворец с садом. — Джулия, совсем не важно, чем ты будешь заниматься. Ты самая красивая, самый лучший в мире друг, человек, и я очень тебя люблю. Джулия плакала. — Я тоже люблю тебя. Конечно, не важно. Если я захочу сделать что-нибудь стоящее, я всегда найду способ сделать. Послушай, Мэтти, я так рада, что ты получила роль. Но какого черта я рыдаю? Пошли отсюда, пока нас не выкинули. Пойдем в другое место, только не в «Рокет», а туда, где можно потанцевать. Мэтти подала знак официанту. — Счет, пожалуйста! Их настроение снова изменилось. Они хихикали, пытаясь сосчитать общую сумму. В конце концов им надоело, они выскребли из карманов все деньги и положили на поднос. Официант быстро пересчитал сумму и ушел прочь, боясь, что те могут передумать. — Какое замечательное место! — сказала Мэтти у самых дверей. — Мы обязательно заглянем сюда еще разок. Девушки еле стояли на ногах. Неожиданно Мэтти начала кашлять, она достала из сумки таблетку и проглотила ее. Холодный воздух освежил их. — Пойдем, — сказала Мэтти. — Иначе ты уснешь прямо здесь. Девушки свернули на другую улицу и стали махать проезжавшим мимо такси. Скоро они оказались в незнакомом клубе, где грохотала музыка и было множество неизвестных лиц. Люди были дружелюбны и привлекательны. Новые друзья Джулии предложили ей чего-нибудь выпить, и она не отказалась. Она танцевала, пока не заметила Мэтти, глаза которой были закрыты, а руки обнимали партнера по танцу за шею. Джулия закрыла глаза, потом снова их открыла, картина была все та же. Она извинилась перед партнером и вышла в дамскую комнату. Набрав полную раковину холодной воды, Джулия опустила туда лицо. Стало немного легче. Она вытерла лицо бумажным полотенцем и вернулась в танцевальный зал. Мужчина отвел Мэтти к стене и оставил ее там. — Вы не можете помочь мне вывести ее на улицу? — спросила Джулия. Мужчина был рад помочь. — Что еще? — бормотала Мэтти. — Кровать, — ответила Джулия. Перед ними остановилось такси, и они усадили Мэтти. Когда девушки подъехали к дому, таксист вытащил Мэтти из машины. Джулия расплатилась с водителем и пожелала спокойной ночи. — И вам спокойной ночи, — ответил тот. — Мэтти, пошли. Двигай ногами. В темном коридоре Джулия увидела письмо на полке с почтой. Она сунула его в карман. — Осторожно, ступеньки. Если ты не поднимешься, то будешь ночевать здесь. Давай. Им потребовалось много времени, чтобы добраться до кровати. Джулия уложила подругу в постель и накрыла одеялом. — Слава Богу. Я уже думала, что придется спать на лестнице, — облегченно вздохнула Джулия. Мэтти быстро уснула. Джулия пошла на кухню и поставила чайник. Ей ужасно захотелось пить. Пока вода закипала, она достала письмо. Оно было от Феликса. Он писал на тонкой голубой бумаге: «Я возвращаюсь домой, в Лондон». — Феликс возвращается домой. Кто бы мог подумать? Чайник засвистел, давая понять, что вода кипит. Джулия, улыбаясь, подняла его с плиты и приготовила себе чай. (обратно)
Глава одиннадцатая
Джулия подняла голову. Полная молодая женщина пришла к Джорджу на прием. Джулия посмотрела в журнал посетителей и поняла — это миссис Хортон. На ней был очень элегантный шерстяной костюм малинового цвета, но Джулия, глядя на нее, представила другой костюм: облегающие лыжные брюки, теплый вязаный свитер с оленями и шапочка из ангоры. Розовые щеки и слегкавыпуклые голубые глаза были те же. — Джулия? Это ты? — София! София восторженно сказала: — Ты помнишь наш дорогой старый Венген? Я не ездила туда последние два года. Можешь себе представить? Ты тоже там не появлялась после того раза? И Джош? Мы были так влюблены в него. Но как только появилась ты, мы поняли, что у нас нет ни единого шанса. Ты была красавицей. Сначала я невзлюбила тебя, даже ненавидела. Что с ним случилось? Ты же не миссис Флад, не так ли? Казалось, в те дни все переженились. — Нет. Он вернулся домой. Сейчас зарабатывает хорошие деньги в одном лыжном клубе в Колорадо. — Счастливчик Джош! А чем ты занимаешься? Должна сказать, что ты отлично выглядишь. Джулия пригладила воротник своего черного пиджака. У нее было низкое жалованье, которое уходило на покупку одежды. Мечта об элегантных вещах, о которых так часто рассказывал Феликс, — а теперь она видела их вокруг себя, — казалась несбыточной. Джулия научилась тратить деньги, покупая хорошую, практичную вещь вместо дешевых тряпок. — Я работаю здесь на Джорджа. Просто чтобы занять свободное место. Джулию раздражало, что ей приходится выкручиваться перед Софией. Вдруг открылась дверь и показался Трессидер. София подошла к нему. — Хелло, мистер Трессидер! Не правда ли, смешно? Я и Джулия — старые друзья. Джордж поднял от удивления одну бровь и скептически посмотрел на Софию. Джулия подавила в себе усмешку. — Джулия, мне нужно посмотреть и обсудить с мистером Трессидером некоторые эскизы. Это займет не много времени. Тоби купил домик, мне приходится заниматься всем. Мы можем перекусить вместе, вспомнить старые времена. — У меня только один час, — ответила Джулия. — Я собиралась позавтракать со своим братом, но уверена, он будет очень рад познакомиться с тобой. Он заплатит за нас, об этом не беспокойся. А как-нибудь в другой раз мы устроим девичник. — Хорошо. Мне нравится твое предложение, — улыбнулась Джулия. «Хоть какое-то разнообразие. Хорошо бы забыться на часок», — подумала она. Так Джулия встретилась с Александром Блиссом. Когда он поднялся из-за столика в новом итальянском ресторане, чтобы пожать ей руку, Джулия подумала, что легко сможет понравиться ему. Он не был похож на Софию. Блисс был высокий, худощавый. Слегка продолговатое лицо было подчеркнуто хорошо уложенными волосами. Он был одет в строгий серый костюм с полосатым галстуком. Джулия решила, что брат Софии банкир, потому что ее муж, Тоби Хортон, тоже банкир. Александр и Джулия просматривали меню, в то время как София говорила без умолку. «Надо отдать ему должное, в отличие от своей болтливой сестры, он более сдержан», — думала Джулия. — На самом деле мы только наполовину брат и сестра. Наш отец и мать Александра развелись, когда ему было шесть лет. По этому поводу был большой скандал, не так, как сейчас: женятся и разводятся, когда захотят. Так вот, отец женился на моей матери, и вскоре появилась я. Помнишь Тафи Броквэя? Фамилия моей мамы Броквэй. — Неужели? Кто же мать Александра, если твоя — Броквэй? — спросила Джулия. У Софии округлились глаза. — Красавица, хотя немного эксцентрична. Если бы она зашла сейчас сюда, все бы оглядывались и рассматривали ее. Правда, Алекс? Но ей на это было бы наплевать, она даже наслаждалась бы этим. — Есть люди, привлекающие внимание независимо от того, хотят они этого или нет, София. А также есть люди, которым нравится привлекать к себе взгляды других. — Александр повернулся к Джулии. — Моя мать — Чина, — объяснил он. «Во-первых, Александр восхищается матерью, но она не имеет влияния на него, во-вторых, он не такой нудный, как его сестричка, в-третьих, он немного высокомерный», — рассуждала Джулия про себя, глядя на Блисса. — Я знаю, дорогой, — сказала София. — Знаешь, Джулия, его мать никогда не волновал Леди-Хилл, в этом вся проблема. А отец обожает его, это настоящая любовь. Моя мама стоит на втором месте. — Кто это — Леди-Хилл? — растерянно спросила Джулия. — Леди-Хилл — это дом, поместье. Дом, где мы родились: я, Александр, отец. Александр перебил ее: — Это ни о чем не говорит Джулии. Леди-Хилл — дом, построенный в якобинском стиле, часть нашего владения в Дорсете. Отец занимается сельским хозяйством, а доходы тратит на расширение своих владений. «О Боже, целое поместье!» — подумала Джулия. — Ну, хватит обсуждать нашу семью. Я хочу услышать что-нибудь о тебе, Джулия. Алекс, когда я встретилась с ней в Венгене три с половиной года назад, она была с божественным американцем, беспечным молодым человеком. Он летчик, полетами зарабатывает на жизнь. Так вот, Джош катался на лыжах быстрее всех. Во время соревнований он спас одного беднягу, когда того накрыло лавиной. — Он выглядит как герой из приключенческого романа, — заметил Блисс. — Он и есть герой. Красавец! Белинда, я и другие сохли по нему. Вдруг наш американец приезжает с Джулией. Она не умела кататься, не имела подходящей одежды, как у нас всех, но она оказалась живой и энергичной. Однажды она удрала из дома фрау Уберль и провела всю ночь с Джошем в отеле… — София, — Александр снова перебил ее. Он наблюдал за подругой сестры. Ему нравилось, что Джулия ничего не говорила, а только слушала и смотрела. Он думал, что она выглядит умнее и сдержаннее, уязвимой, а эта черта очень привлекала его. Александр знал сотни женщин, похожих на Софию, но он не мог припомнить ни одной, которая бы так заинтриговала его, как Джулия Смит. Ему захотелось узнать ее поближе. Джулию же он почти не интересовал. Она опустила глаза и разглядывала скатерть. Сама не догадываясь, София разбудила в ней былые воспоминания. Мягкая пуховая перина, морозное голубое небо за окном, смеющиеся и зовущие друг друга лыжники, Джош. Она видела его и чувствовала биение его сердца. — Извини, я слишком много болтаю. Это моя слабость, никогда не научусь молчать. — Не беспокойся, все нормально. — Так чем же ты занимаешься сейчас, Джулия? — поинтересовался Александр. Джулия подняла голову. Ей вдруг захотелось сказать что-нибудь такое, чтобы и без того выпуклые глаза Софии еще больше округлились, а ее брат вышел из этого сонного, спокойного состояния. Она задыхалась от богатства и красоты ресторана, от компании Блиссов, от мысли об их зеленом поместье в Дорсете. Она слегка улыбнулась. Мэтти поняла бы ее улыбку, а вот София и Александр просто сидели и слушали. Джулия не замечала, насколько Александр заинтересовался ею. — Начиная с шестнадцати лет я совершала всякого рода поступки. — Джулия поудобнее устроилась на стуле. — Когда мы с подругой Мэтти ушли из дома (это было до того, как я встретила Джоша), то отправились в Лондон. Сначала нашли работу. Нам негде было жить, и приходилось спать на улице, на набережной. — Джулия решила рассказать им все, не утаивая никаких неприятных моментов. Она поведала им о квартире, о Феликсе и карьере Джесси, ее выступлениях в ночных клубах, о вечеринках, о клубе, о Фловере, Могридже и Виллоубае. Потом Джулия рассказала о своей подруге: как она работала в стриптиз-клубе, мечтала о карьере актрисы и наконец получила одну из главных ролей в спектакле. Джулия вспомнила вечер в баре «У Леони» и то, что происходило после. Она едва коснулась темы своей работы у Джорджа Трессидера. Джулия надеялась, что София тоже не станет заводить об этом разговор. Она сказала, что хотела бы стать фотомоделью и один фотограф обещал ей в этом помочь. — Вот и все, — закончила она. — Да, а я-то думала, что у меня сложная жизнь: муж, двое детей. Ты вон что рассказываешь! Александр сидел с озабоченным выражением лица. София посмотрела на часы. — Ой, я должна быть у парикмахера. Надо спешить! Они вышли на улицу. София поцеловала Джулию в щеку и уехала. Джулия и Александр остались вдвоем. Блисс улыбнулся, его лицо сделалось моложе. — Я горжусь своей сестренкой, — сказал он. Это прозвучало несколько неожиданно, и Джулия не нашлась что ответить. — Я тоже. Она была очень добра ко мне в Швейцарии. Мне было сначала трудно, потому что я не умела кататься на лыжах и находить общий язык с окружающими. — Уж не славный ли герой научил тебя? Джулия пыталась подобрать необидные слова, но ее губы словно примерзли. — Хм… Тебе нужно возвращаться на работу, или у тебя еще есть время? Джулии следовало быть на работе полчаса назад. Она подумала о Джордже, телефоне, послеобеденных посетителях и вздохнула. Она совсем потеряла счет времени: вкусная еда, разговоры с Александром, болтовня Софии опьянили ее. — Нет, — ответила она. — Думаю, что я уже опоздала, приду позже. Александр предложил ей руку. — Пойдем прогуляемся вдоль реки. Они гуляли молча. Он задал ей только один вопрос: — Кстати, все, что ты рассказала, правда? — Да, почти. Я не должна была говорить об этом. — Что ты, меня очень тронул твой рассказ. Проходя по мосту, они остановились и посмотрели на реку. Вода была зеленого цвета. Внизу под мостом проплывала баржа, которая напомнила Джулии их первые дни в Лондоне. Александр словно читал ее мысли. — Скажи, на этой набережной вы провели ночь много лет назад? — Не совсем на набережной. Мы спали в проходном дворике за гостиницей «Савой». Не хотела бы, чтобы это повторилось вновь. — Не повторится. Много ли ты видела знаменитых людей, спящих в проходном дворе? Джулия слегка покраснела. — Ладно. Расскажи мне о себе. Где ты работаешь? В Сити? — спросила она. — Я бы так не сказал. Александр Блисс был музыкантом. Как он сам сказал, больше всего любит играть на трубе. Зарабатывал на жизнь, сочиняя музыку. Джулия недоверчиво посмотрела на него, но Блисс поднял руку, согнул указательный и большой пальцы и сказал: — Клянусь! Для фильмов, рекламы и подобных шоу. Они пошли дальше по мосту, восхищаясь его красотой, говорили немного о его работе, обсуждали фильмы, которые смотрели. С Александром было легко общаться, но, как ни грустно, Джулии необходимо было идти. — Я должна возвращаться. Джордж наверняка в ярости. — Могу я увидеть тебя еще? Она осмотрела его одежду и вспомнила, что про себя назвала его высокомерным типом. Джулия улыбнулась. У нее была своя система тестов для мужчин, которые приглашали ее на свидания. Она попросит Блисса сводить ее в «Рокет» и посмотрит, как он будет вести себя там. — Да, это было бы неплохо. Позже он пригласил ее в «Рокет» и сдал экзамен на все пятерки. Александр надел джинсы и рубашку-водолазку. К удивлению Джулии, он танцевал лучше Фловера. Она наблюдала за ним и Мэтти, которая была возбуждена и все время подмигивала подруге.После этого Блисс стал частенько встречаться с Джулией. Они ходили в театр, кино, рестораны. Иногда Джулия готовила ужин в его неуютной квартире на площади Маркхэм. Однажды София и ее муж присоединились к ним. — У вас серьезные отношения? — спросила София. — Конечно, нет! — ответила Джулия. — Мы просто весело проводим время. Блисс стал тенью Джулии. Он обнимал ее и целовал, давая понять, что находит ее обаятельной, но большего не требовал, а Джулия не решалась сделать первый шаг. Ей и в голову не приходило, что Александр мог вести свою, более коварную игру. Она наслаждалась его обществом без опасений, не подозревая, что именно этого он и добивался. Время шло. Александр прошел все тесты Джулии, кроме одного. Последний пройти было невозможно, ему нужно было стать Джошуа Фладом. Мэтти была полностью поглощена своей театральной работой, поэтому виделись подруги все реже и реже. Премьеру назначили на конец декабря, после Рождества. Мэтти никогда в жизни не трудилась так много. Она перестала выпивать. Довольно часто, как казалось Джулии, Мэтти говорила о Джимми Проффите. Наступало Рождество. Феликс как раз вовремя возвратился домой. Он приехал вечером, без предупреждения, когда Джулия тщетно пыталась установить елку перед окном в комнате Джесси. Открыв дверь и увидев Феликса, она подпрыгнула от радости и обняла его. — Феликс! Феликс! Я так счастлива, что ты вернулся! — Наконец я дома. Как же долго меня не было! Некоторое время они смотрели друг на друга, не в силах оторваться. Феликс кивнул на ее темный пиджак и узкую юбку. — Ты хорошо выглядишь. Должно быть, пока я отсутствовал, ты кое-чему научилась. Но елка, по-моему, сейчас рухнет. Они рассмеялись. Джулия внимательно изучала Феликса. Он вытянулся, похудел, в его глазах появился незнакомый блеск. Он выглядел старше и еще красивее. Цвет кожи стал богаче и темнее от итальянского солнца. — Добро пожаловать домой, — сказала она, потянулась и поцеловала уголок его рта. От Феликса пахло лимоном. — Дай-ка я поставлю сумки. У меня есть для вас подарки. Возвращение Феликса, более свободного и общительного, заставило девушек понять, как им не хватало его. Они провели великолепную рождественскую ночь втроем, и больше — никого. Три дня после Рождества Мэтти ходила на репетиции, Джордж Трессидер закрыл фирму на неделю, Блисс уехал домой, в Леди-Хилл, объясняя это семейным праздником. Феликс был счастлив оказаться на любимой кухне. Джулия во всем ему помогала. — Во Флоренции мне негде было готовить, — объяснял он. — Только комната для сна. Я придумывал разные блюда. Пора бы подумать о работе. Чем бы заняться, Джулия? — Ты можешь заняться всем чем угодно. Наступил день генеральной репетиции. Мэтти дрожала от страха. — Я провалюсь, — твердила она. — Я больше ничего не знаю, не знаю, что должна делать. Я была уверена… Ее лицо побледнело. — Можно я выпью? Джулия принесла джин, но как только Мэтти глотнула, ее стало тошнить. — Ты больна? Может, позвонить им и сказать, что ты больна? Мэтти покачала головой. — Я не больна. Я просто боюсь. Я так напугана, что ничего не могу делать, меня парализовало. Джулия успокаивала ее: — Все будет очень хорошо. Тебя ждет большой успех. Сенсация! — Пожалуйста, нет, — просила Мэтти. — Мне поехать с тобой? Если ты будешь знать, что я рядом… — Нет. Я не хочу, чтобы ты смотрела. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь из близких присутствовал там. Билеты на премьеру лежали в ящике у Джулии. Все, кого они знали, были приглашены, даже Блисс. Она погладила Мэтти по голове. — Все хорошо. Если ты не хочешь, мы не поедем. Послушай, это же только генеральная репетиция. Тебе пора идти, иначе ты опоздаешь. Ты пройдешь через это, справишься. Что здесь страшного? Мэтти кивнула. Джулия помогла ей надеть пальто, а Феликс поймал такси и посадил ее. Друзья стояли и смотрели вслед удаляющейся машине. Джулия вздохнула. Они были похожи на обеспокоенных родителей, провожавших свое чадо на экзамен. — Она сделает это, правда? — Конечно, я уверен. Феликс и Джулия решили прогуляться. День был морозный. Шум машин возрастал в тишине. Джулия ухватилась за железную ограду, разглядывая сад. Трава в саду еще сохраняла свой цвет. Ее голые руки, казалось, примерзли к металлу. Чувство волнения за Мэтти перемешалось с чувством уверенности в силах физического мира. Рука Феликса коснулась ее плеча. — Не знал, что ты сентиментальная. «Не совсем, — хотела ответить Джулия. — Я была такой, но без Джоша…» Она снова почувствовала, что становится взрослее, почувствовала сердцем и холодными руками. Они вернулись домой. Феликс ходил по комнате матери, рассмотрел фотографии, поправил тяжелые шторы. Джулия наблюдала за ним. Она скучала по нему, и вот он здесь. Она села на диван, подобрала ноги под себя и положила подбородок на колени. Ей хотелось прижаться к нему, ощутить его тепло. Джулия понимала, что Феликс скрывал свои чувства еще тщательнее, чем раньше. — Расскажи мне о том, что ты делал, — попросила она. Феликс резко повернулся. В тишине он слышал, как падали иголки с рождественской елки. Джулия не позволила убрать ее. Феликс ждал этого вопроса и хотел на него ответить. Он никогда не говорил об этом с Джесси, и в каком-то смысле то, что он скажет Джулии, предназначалось и для матери. — Джулия, ты знала, что я гомосексуалист? Она не шевельнулась, продолжая смотреть тем же взглядом. Он любил ее, и она знала это. — Да, я предполагала, но не была уверена. — Я хотел удостовериться. То, что случилось между нами… Она кивнула. Они оба вспомнили день похорон, лепестки цветов, приклеившиеся к асфальту, вечер, который Феликс хотел устроить для Джесси после похорон, досаду, что остались одни пустые бутылки, комнату Феликса с портретами Мэтти, Джоша и ее. «Что сказала бы Джесси? — размышляла Джулия. — Это был бы положительный ответ. Джесси предоставила бы Феликсу возможность быть самим собой и предложила бы ему свое материнское понимание». Джулия улыбнулась. Феликс сел рядом, и она взяла его за руку. — Поделись со мной. Ты всегда знал об этом? — Нет. Если бы знал, то не скрывал бы, наверное. «Это ничего не меняет. Я не могу скрывать от тебя, не могу сказать, что, занимаясь с тобой любовью, думал о Джоше. Хотел его». Джулия не могла расшифровать его мысли. Она могла предложить ему только то, в чем он нуждался. — Расскажи мне, если хочешь. «Они обе изменились, и Джулия, и Мэтти. Между нами возникла какая-то невидимая стена. Они стали женщинами», — подумал Феликс. Он рассказал, что произошло. Не все, только небольшую часть, но правду. Феликсу нравилось служить в армии. Потом он понял, что ему было намного легче жить в военных условиях, чем другим солдатам в полку. Он был немного старше, сдержаннее (ему приходилось быть сдержанным), более умелый и ловкий. Феликс натирал туалеты до блеска, он был чемпионом по «горячей ложке» — это был единственный способ удаления «прыщиков» с кожаной поверхности стандартных солдатских ботинок. Он мог, изучая газету, одновременно разложить вытрясенное барахло из вещевого мешка в заданном порядке. В свободное от службы время солдаты вели разговоры о сексе, особенно много историй они рассказывали после воскресенья, побывав в увольнении. В повествовании не упускали ни единой детали. — Пошли с нами в следующее воскресенье, найдем тебе малышку, — предложил один из солдат. — А может, у тебя есть кто-нибудь? — Да, есть, — ответил Феликс. — Как ее зовут, в таком случае? — Джулия. Джулия рассмеялась. — Мне нужно было послать свое фото. — Одно фото мисс Матильды произвело бы большее впечатление. Самым позорным в армии считалось быть гомосексуалистом. Это было наиболее страшное обвинение. На солдатском жаргоне оно звучало как «вонючий гомик». Феликс слышал подобные слова. Большинство солдат предпочитали вести себя развязно и нагло только потому, чтобы их не называли женоподобными или слабаками. Среди военнослужащих был один парень, которого прозвали Мэси. Он любил острить и сумел наградить кличкой и прозвищем почти весь офицерский состав. Феликс раз или два наблюдал за ним, чтобы понять, как он выживал в этом обществе, если сам был гомосексуалистом. Он был невысокого роста, с красным одутловатым лицом и коротко подстриженными волосами. Однажды в воскресенье Феликс брился в ванной комнате. Почти все солдаты ушли в увольнение. Лагерь был пустой. Феликс обычно оставался. Уединение было редкостью в переполненном людьми бараке, поэтому он любил в такие минуты почитать и порисовать. Феликс согрел воды и принес ее в ванную. Он брился, используя холодную воду, но по воскресеньям у него появлялась возможность побаловать себя горячей. Он тщательно намылил лицо и приступил к бритью. Вдруг в зеркале показалось лицо капрала, который стоял у двери. Он медленно закрыл дверь и осмотрелся. В бараке никого не было, кроме Феликса. Он подошел и стал рядом, возле другого умывальника, разглядывая намыленное лицо Феликса. — Самое классное время недели? Феликс кивнул. Потом Мэси подошел и дотронулся рукой до его спины. Этот жест был таким естественным, что Феликс едва не ответил на него. Он отложил бритву и посмотрел в глаза Мэси. Они умоляли. Мужская рука двигалась ниже и ниже, к ягодицам Феликса. Тот посмотрел вниз. Он знал каждую трещинку на кирпичном полу. Он оттирал каждый кирпичик, когда готовил ванную к проверке. Его взгляд скользнул на стену, необъяснимая дрожь прошлась по его телу. Он вытер лицо бумажным полотенцем и подался к двери. Сзади раздался голос Мэси: — Кого ты пытаешься обмануть? Как ясный день видно твое вонючее лицо, леди! Феликс не оглянулся. Он добрался до кровати и сел, начал тереть лицо полотенцем. «Неужели действительно это так очевидно?» Пока Феликс пытался ответить на этот вопрос, он впервые до конца понял всю свою сущность. Долгое время он сидел на кровати, не двигаясь. Феликс знал, что Мэси не станет здесь его искать. Когда мысли пришли в порядок и страх исчез, Феликс остался с последним, непрошеным чувством… Позже он вернулся в зал, где несколько солдат играли в карты, и присоединился к ним, те весело его поприветствовали. Мэси больше не приставал к Феликсу, но, когда они сталкивались лицом к лицу, Феликс задавал себе вопрос: «Неужели это так очевидно?»
Ко второй половине обучения Феликс и другие солдаты достаточно хорошо справлялись с упражнениями и заданиями, поэтому строгое наблюдение со стороны сержантского состава снизилось и переключилось на новый молодой набор. У солдат появилось больше свободного времени, больше возможностей завести знакомства за пределами их барака. Феликс завязал дружбу с Дэвидом Мандером. Они вместе заходили в небольшую комнату для занятий. Огромные окна хорошо освещали помещение. По субботам и воскресеньям Феликс любил порисовать здесь, сидя за железным столом. В основном он рисовал лондонские улочки и скверы, сохранившиеся в памяти. Разглядывая рисунки, он думал, что находится совсем рядом с ними. Раньше Феликс не замечал Мандера. Он был темной фигурой, сидевшей где-то позади и строившей точные, но неинтересные модели знаменитых зданий из пластилина. При встрече парни кивали друг другу в знак приветствия. Однажды Мандер, проходя мимо, засмотрелся на рисунок Феликса. — Очень красиво, — заметил он. У него был протяжный, неискренний голос, который звучал почти шокирующе после грубых непристойностей других призывников. Феликс раздраженно посмотрел на него. У Мандера были черные волосы и красный рот. — Во всяком случае, лучше той чепухи, — добавил он и кивнул на свою работу. — Почему ты лепишь это? — спросил Феликс. Мандер скривился. Он выглядел довольным собой. — Я занимался с пластилином еще в школе. Для меня важно иметь какое-нибудь занятие, на котором можно было бы сконцентрироваться. Я остановился на моделировании зданий, и, наверное, до седых волос буду строить модельки. Боже, ну и перспектива! Он засунул руки в карманы и уставился в окно. На поле шел воскресный футбольный матч. — Посмотрите на них, — сказал Мандер. — Что они находят в этом футболе? Может, сходим выпьем по чашке чая? Феликс закрыл альбом. — Пожалуй, — без особого энтузиазма сказал он. В этот день он узнал, что Дэвид учился в привилегированной частной закрытой школе для мальчиков в Хайгейт в северной части Лондона. Его мать — врач, а отец — адвокат. Он был единственным ребенком в семье, умным и ранним. Дэвид не очень нравился Феликсу, но у него не было выбора и к тому же он нуждался в чьей-либо компании. — Сходим куда-нибудь вечером? — предложил Дэвид. — Давай, — ответил Феликс. Так у них вошло в привычку проводить выходные вместе. Они обсуждали книги, фильмы, музыку, рассказывали о своей жизни в Лондоне. Феликс обратил внимание, что они никогда не говорили о девушках, тему секса не затрагивали. Закончился май, наступил июнь — последний месяц обучения. Вечера были долгими и светлыми, свободное время намного приятнее было проводить на свежем воздухе, чем в душном бараке. Лохматая величавость вересковых пустошей Йоркшира и молочная сладость воздуха были открытием для Феликса, выросшего в городе. Родители Дэвида снимали коттедж в Сафолке. Дэвид признался, что экономил деньги на отпуск, который наступает в конце их обучения. Вместо того, чтобы ходить в бары, они садились в автобус и уезжали на природу, исследуя ближайшие окрестности по карте из военной библиотеки. Однажды вечером они спускались с большого холма к каменному мосту над рекой. Феликс снял мешок и облокотился на каменные перила. Под мостом журчала коричневая вода. На другом берегу реки стоял амбар. Солнце медленно опускалось. Впереди, над холмом, куда поднималась пыльная дорога, на полнеба разлился багряный закат. «Если бы я мог нарисовать эту красоту», — думал Феликс. Он повернулся к Дэвиду и увидел его красный рот. Мандер приоткрыл рот, словно хотел сказать что-то очень важное. Феликс почувствовал его непохожесть на других и подумал, что это самый эротичный момент в его жизни. Дэвид стоял молча. Феликс вынул руку из кармана. Потом провел ею по шее Дэвида и повернулся к нему, глядя прямо в глаза. Они поцеловались. Феликс ощутил разницу между грубостью и мягкостью, знакомую и возбуждающую, лицо Дэвида рядом, его язык, ласкающий рот. Он поднял голову и издал необъяснимый звук. — Пойдем в амбар, — предложил Дэвид. Дверь открылась свободно. Внутри было темно. Рядом со стеной валялась куча сена, на которую они легли. Феликс стонал и произносил имя Дэвида. Тот прикрывал его рот, успокаивая: вполне вероятно, что кто-нибудь может услышать. После минут любви они стряхнули солому со своих обнаженных тел, оделись и вышли из амбара. Любовники сели на камень и закурили. Дэвид нарушил молчание. — Ты занимался этим раньше? Феликс вдруг вспомнил, что Дэвид не понравился ему вначале. Не знал он, что чувствовал к нему и сейчас. — Нет. Мэси попытался однажды, но я убежал. Дэвид рассмеялся. — А ты? — В школе. Все этим занимались, я считал себя более серьезным, чем мои одноклассники, но в итоге влюбился в одного из них и стал таким, как все. Но это было совсем не так, как у нас с тобой. Совсем. «Ты не влюблен в меня», — сказал про себя Феликс и громко добавил: — Интересно, когда Мэси попытался тогда завлечь меня, неужели он прочитал мои мысли? Откуда ему знать то, чего я и сам не понимал? — Это слишком очевидно, Феликс. Для таких людей, как мы. Дэвид посмотрел на часы. — Мы рискуем опоздать. Надо спешить. Они потушили сигареты. Добравшись до главной дороги, они проголосовали фермеру на машине, который с удовольствием согласился их подвезти. Неделей позже Дэвиду сообщили, что его выбрали для представления к офицерскому званию. Окончив основной курс обучения, он и другие офицеры должны пройти специальный курс. После сдачи очередных экзаменов их определят для учебы в высшую офицерскую школу. Феликса направили в королевский танковый полк. Дэвид переселился из барака в более комфортабельное помещение, предназначенное для офицеров. — Из тебя выйдет превосходный офицер, не то что я, — сказал Феликс. — Ты видел хотя бы одного черного офицера в британской армии? — Тебя это волнует? — Честно говоря, мне наплевать. Это была правда. Феликс не имел желания быть воякой, как Дэвид. В армию он пошел с одной целью: проверить себя. — Я предполагал провести несколько дней отпуска в Шотландии. Не хочешь поехать со мной? Феликс планировал вернуться в Лондон, домой, потому что ему больше нечем было заняться. Ему хотелось домой, к Джулии и Мэтти. Но мысль о женском обществе не давала ему покоя. «Нет, не сейчас, еще рано». — Спасибо, — ответил он. Они собрали кое-какие вещи в рюкзак, достали палатку и автостопом добрались до Шотландии. Стоял июль, и погода выдалась хорошая. Феликсу нравилось, лежа в лодке, наблюдать, как Дэвид ловил рыбу. Они сидели на пустынном пляже, смотрели на море, гуляли по лугам. Питались в барах или кафе. Иногда Феликс жарил рыбу на костре. Ночи друзья проводили вместе. В конце отпуска Феликс почувствовал покой и силу, которую он приобрел за эти дни. Он был благодарен Дэвиду за такой подарок. Однако больше они не встречались. После отпуска Мандер отправился в офицерскую школу, а Феликс вернулся в полк. Дэвид был уверен, что выбрал правильный путь в жизни. Феликс же не был уверен ни в чем и ни в ком. Все это Феликс рассказал Джулии. — Что же теперь будет? — спросила Джулия. — Найду работу, начну новую, настоящую жизнь. — Он засмеялся, но Джулия продолжала смотреть на него. Ей пришла в голову замечательная идея. — Тебе нужно устроиться на работу к Джорджу. Один из его работников как раз уволился перед Рождеством по непонятным причинам. Ты знаешь иностранные языки, накопил опыт, работая у друга Могриджа, у тебя есть все шансы получить место. Джордж не станет возражать. — Посмотрим, — ответил Феликс. Сейчас он видел Джулию. Она повзрослела, стала еще красивее, но несчастнее. Джулия приняла его таким, какой он есть, поняла его. У нее было доброе сердце. Феликс обнял ее. — Я люблю тебя, — сказал он. Джулия кивнула. Она вдруг испугалась, что может расплакаться, хотя не позволяла себе раскисать. — Это Джош? — спросил он, глядя на фотографию. Она снова кивнула. — Я тоже был влюблен в него, ты не знала? Она отодвинулась и посмотрела на Феликса удивленными глазами. Секунду Джулия молчала, но потом разразилась смехом. — Я пережил это, и ты сможешь. Не неси обета верности всю жизнь. Вокруг много других людей. Блисс, например… — Я так не думаю. — Что ты собираешься делать? Джулия вздохнула. — Мэтти что-то делает сейчас, в данный момент. — Она скрестила пальцы. — Клянусь, что и я найду себе занятие. Обещаю тебе, Феликс. Джулия поднялась и зажгла фонари на елке. Она коснулась пальцем сухой ветки, и иголки с легким шумом посыпались на пол. (обратно)
Глава двенадцатая
Маленький зал театра «Ангел» был забит до отказа. Джулия взглянула на гипсовые орнаменты, украшавшие красные бархатные ложи. Казалось, множество лиц выплывало из-за позолоченных херувимов и устремлялось к сцене, пытаясь заглянуть за занавес. По дороге в театр Мэтти тряслась от страха. Джулия понимала, что чувствует подруга, ожидая выхода на сцену, под прицел зрительских глаз. Она нащупала руку Феликса и нервно сжала ее. Он указал на места впереди них. — Все критики здесь. Вот этот, в конце, — Хобсон. Обрадовавшись возможности обозревать всех, Джулия поинтересовалась, откуда Феликс знал обо всех так много. Она только слышала имена критиков от Мэтти и никогда сама не узнала бы их. Справа от Джулии сидела Чина Блисс. Ее руки без колец покоились на коленях. Она приехала в театр на четверть часа раньше в сопровождении Блисса. Мать Александра была маленького роста, закутанная в толстое темное норковое манто. Ее блондинистые с сединой волосы были уложены в изящный узел. Чина протянула Джулии и Феликсу свою холодную руку. Ее лицо было привлекательным, хорошо ухоженным, и грим был наложен безупречно, но когда она повернулась, чтобы взять бокал, который Феликс принес ей из переполненного бара, Джулия заметила, что у нее такой же крючковатый профиль, как и у ее сына. Выщипанные брови придавали ее лицу злое выражение. Внешность Чины Блисс была неординарной, но Джулия поняла, что имела в виду София. Люди часто оборачивались, чтобы посмотреть на Чину, хотя она стояла молча, потягивая свой напиток. Джулия подумала, что у матери Блисса вообще нет нервов. Она ощутила незнакомое раньше желание быть одобренной, делать и говорить все хорошо и правильно перед этой маленькой стройной женщиной. В результате она почувствовала себя неловкой и неумеренно болтливой. Надменные глаза Чины изучали ее сверху донизу. Джулию выручил звонок, и они поспешили в зал. Но она заметила и другое. Судя по тому, как Блисс смотрел на Чину, как ловил каждое ее слово, которое она изредка роняла, Джулия поняла, что Александр боготворит мать. Так она и думала. Когда она встретила его, то совершенно бездумно сделала все, чтобы привлечь его внимание. Однако он отдалился от нее, и она была обижена. Ожидая, пока поднимется занавес, Джулия старалась сидеть спокойно, насколько это было возможно, чтобы даже рукой случайно не задеть меха Чины. Она пыталась не смотреть на Блисса, сидящего по другую сторону от своей матери. Затем свет в зале погас, и воцарилась тишина. Теперь Джулия уже не могла думать ни о ком, кроме Мэтти. Красное бархатное полотно с золотой бахромой поплыло вверх, открывая нелепые декорации. Они изображали маленькую квадратную комнату, оклеенную набивными обоями. На сцене стояли старая газовая плита, раковина с ведром и покрытый клеенкой стол. Мэтти сидела за столом спиной к залу. Ее волосы были высоко заколоты, так, что открывалась ее белая, почти детская шейка. В напряженной тишине зала она запела. Это были «Зеленые листья». Голос Мэтти был высоким и чистым. Джулия вздрогнула, ее прекрасные волосы рассыпались по спине. Она подвинулась на краешек сиденья и заметила, что сидящий рядом Феликс тоже подался вперед. Больше Джулия не двигалась. Пьеса и игра Мэтти ошеломили ее. Во время единственного и короткого антракта они вчетвером сидели на своих местах. Они не разговаривали, но прислушивались к разговорам вокруг. Джулия не могла заставить себя посмотреть на критиков. Наконец погас свет, ее ногти впились в ладони. — Ну, пожалуйста, Мэтти, — прошептала она. — Продолжай! Будь такой же прекрасной. Каким-то образом Чина уловила ее слова. — Она хороша, — живо отозвалась она. Первый акт пьесы был комедийным, второй превратился в трагедию. Джулия потеряла представление о том, что на сцене Мэтти. Мэтти была другим человеком, ее смех и движения не имели ничего общего с Мэтти, а всецело принадлежали Мари, Мари с ее любовником, и их окончательному разрыву. В конце последнего действия Мари упала на колени перед газовой духовкой. Снова показалась ее беззащитная шейка. И вдруг с нарастающим и отчаянным безумием она начала петь. Все те же «Зеленые листья», только фразы звучали отрывисто и голос был уже не таким чистым. Слезы потекли по лицу Джулии. Стало темно, затем снова включили свет. Появилась Мэтти, она выходила кланяться, держась за руки с другими актерами. Гремели аплодисменты. Мэтти улыбалась и казалась немного смущенной. Овации продолжались, прерываясь криками восхищения и восторга. Немного сердито Джулия смахнула слезы и продолжала аплодировать, пока ее руки не устали. Странно, что она вспомнила «Шоу-бокс». «Мэтти была права, — подумала она. — Она достигла гораздо большего, чем на убогой сцене заведения Монти». Теперь зал кричал, требуя автора. Джимми Проффит появился из-за кулис. На нем был черный пиджак и узкие брюки. Его шея казалась слишком хрупкой, чтобы поддерживать большую голову. Он поклонился. Вид у него был такой же растерянный, как и у Мэтти. Он взял за руки Мэтти и актера, который играл ее супруга, и поднял их вверх, как у чемпионов-победителей. Спустя мгновение под шквал аплодисментов занавес плавно опустился. Золотая бахрома опустилась в последний раз, но зрители еще долго оставались под впечатлением от увиденного. Свет казался ярким и невыносимо ослепительным, а украшения эпохи королевы Виктории неуместными и вычурными. Джулия прищурилась. Она увидела лицо Феликса. Он все еще смотрел туда, где стояла Мэтти. — Как хорошо она играла, правда? — прошептала Джулия. Он кивнул. Чина встала, туго заворачиваясь в свое норковое манто. Она натягивала черные замшевые перчатки на руки, поглаживая каждый палец. Затем посмотрела на Джулию. — Спасибо, — мягко сказала она. — Это был незабываемый вечер. У вашей подруги и мистера Проффита впереди большое будущее. Я думаю, критики придерживаются того же мнения. Джулия уже забыла про них. Она посмотрела туда, где они сидели. Все места опустели. — Пошли делать свою работу. Мнение об их игре появится в утренних газетах, — заметил Феликс. Из-за головы матери Блисс улыбнулся ей. Джулию захлестнула волна радости, вызванная ее отношением к Мэтти и сегодняшним успехом. Чувство эйфории переполняло ее. Джулия протянула руку Чине. — Давайте пойдем за сцену, — настаивала она. — Мы должны пойти и увидеть ее. Мэтти сидела в гримерной. Если перед представлением пространство комнаты заполняли цветы и телеграммы, то теперь повсюду были люди. Половину этих лиц она видела впервые, хотя они налетели на нее с поцелуями и поздравлениями. Другие, напротив, были до такой степени знакомы, что казались здесь просто неуместными: Джулия и Феликс, такие счастливые, как будто только что влюбились, Фрэнсис Виллоубай, как перекормленный кот, с сигарой во рту, которая подпрыгивала всякий раз, когда он пожимал кому-то руки, Блисс с женщиной очень властного и надменного вида, в которой безошибочно можно было признать его мать, Джон Дуглас, Роззи со своим мужем, неловким и потерявшимся в этой толкотне, Рикки и Сэм, улыбающиеся и подталкивающие друг друга, Джонни Фловер в чистой белой рубашке и многие другие. Мэтти хотела бы обнять их всех, но она не могла даже пошевелиться. Ей казалось, что у нее больше не было внутренностей. Она была абсолютно пустой. Кто-то дал ей полный бокал, и она с благодарностью выпила. Это было шампанское, пузырьки заставили ее закашляться. Чья-то рука похлопала ее по спине и забрала из руки бокал. Это был Джимми Проффит. — Ты прекрасно справилась с ролью, — прошептал он. — В самом начале я пропустила несколько фраз. — Да. Я собирался сказать об этом, но только завтра. — Он улыбался. Верхняя губа приоткрыла его безукоризненные зубы. Мэтти осушила бокал, и он сразу же наполнил его снова. Потом они пошли ужинать в итальянский ресторан, находившийся неподалеку от театра. Мэтти чувствовала усталость, но не было никакой возможности ускользнуть. Ей очень хотелось оказаться в доме на площади, согреть ноги у огня и потягивать джин из бокала вместе с Джулией. Но Джулия и Феликс ушли, вероятно, на ужин в обществе Блисса и его матери. Казалось, ушли все, кого она знала, и ее окружали другие исполнители ролей в сегодняшнем спектакле, режиссер, спонсоры театра «Ангел» и незнакомые лица, которые громко шумели и кричали, рассаживаясь за столики. Мэтти удивилась, почему она не разделяет всеобщую эйфорию. «Я устала», — подумала она. — У тебя изможденный вид, — шепнул ей на ухо Джимми Проффит. Она положила голову ему на плечо. Все-таки здесь был один друг. В доказательство этого он обнял ее. — Да. — Ну потерпи еще чуть-чуть. Скоро мы уйдем. Мэтти пила бокалами — ей постоянно наливали — и отставляла тарелки с едой. Смех и голоса достигали ее слуха как бы через длинный тоннель. Она повернулась и увидела ухо Джимми — огромное, почему-то больше чем обычно. Оно было испещрено сложным узором розовых и синих прожилок и плотно прилегало к голове, что производило странное впечатление. Люди все ели и ели, и она уставилась на них в недоумении, как они могут столько поглощать. Наконец начали вставать. Раздавались взрывы смеха, она кивала, улыбалась и отвечала кому-то. Джимми поддерживал ее под руку, прижимая к себе. Когда они вышли на улицу, он приблизился к ней и прошептал: — Поехали ко мне домой. Я позабочусь о тебе, если хочешь. — Да, пожалуйста. — Мэтти ухватилась за эту идею. Она знала, насколько была утомлена, насколько смущена очевидным восторгом публики от пьесы Джимми и ее игры и насколько пьяна, что на свежем воздухе стало особенно ясно. Кто-то хочет о ней позаботиться. Именно это было нужно ей сейчас. Она улыбнулась. — Хорошо. Поехали к тебе. Он жил в полуторной квартире над рестораном возле Тоттенхем Корт-роуд. Когда Джимми включил свет, Мэтти заметила, что все в этом маленьком пространстве необыкновенно опрятно и уютно. Кровать, письменный стол с печатной машинкой, одежда, висящая за занавеской. Ей это напомнило комнату Феликса, разве что здесь не было причудливых и красивых вещичек Феликса, украшавших комнату. У Джимми на стенах висели огромные коллажи из картинок, вырезанных из журналов. Они были сложными и пугающими: уши росли из носов, глаза — из ртов, множество голов — из одного туловища. Мэтти поежилась и отвернулась. — Тебе холодно? — спросил Проффит. Он включил электрический камин. Его руки были теплыми, когда он погладил ее лицо, и теплыми были губы, когда поцеловал ее. Она почувствовала, как ее губы обхватывают его рот. В комнате было очень тихо. Мэтти хотела сказать что-нибудь, все равно что, лишь бы между ними протянулся мостик из слов, прежде чем что-нибудь произойдет. Она подняла голову. — Я никогда тебе не говорила. По-моему, пьеса просто блестящая. «Еще один день». Ты достоин всего, что произойдет. Он посмотрел на нее, изучая. — Знаю. После того как я заканчиваю пьесу, я перестаю думать о ней. Восхищение Мэтти и ее похвала были для него само собой разумеющимися. — Правда, я беспокоился за то, во что они превратят ее на сцене. Но ты хорошо сыграла. Я уже говорил. — Он поцеловал ее в шею, оттянув воротничок блузки. Дальше было уже не о чем говорить. — Спасибо тебе, — прошептала Мэтти. — Займемся любовью? — предложил Джимми. Она разделась и попыталась завернуться в покрывало, но Джимми отбросил его в сторону и стал ее рассматривать. — У тебя красивая грудь, — сказал он и погрузился в нее лицом. То, что делал Джимми Проффит, ненамного отличалось от того, что делал Джон Дуглас, а также двое или трое других мужчин, с которыми ей приходилось иметь дело. Правда, на этот раз все продолжалось дольше. Но вот он кончил, оторвался от нее, улыбаясь сам себе, как показалось Мэтти, и эта улыбка не имела к ней никакого отношения. — Тебе понравилось? — спросил он. — О да, конечно, — сказала она, хотя не понимала, почему в эту ночь успеха, когда осуществились все ее мечты и надежды, почему ей было так одиноко и она чувствовала себя отделенной от всего остального человечества, даже от Джимми, который тоже был частью триумфа и чье тело совсем недавно было частью ее. Больше всего ей хотелось плакать, просто лежать спокойно, и чтобы слезы текли из глаз. — Эй, — Джимми обнял ее плечи и подтянул поближе к себе. — А сейчас пора спать. Все в порядке. И ты настоящая актриса! Эта неожиданная нежность доконала Мэтти. Но Джимми погасил свет, и ее слез не стало видно. Она лежала рядом с ним, неловко путешествуя рукой по его телу. Он поймал ее руку и задержал. Слезы Мэтти падали на подушку,пока не иссякли. «Я могу играть на сцене, — сказала она себе. — Я знала, что могу. И я это сделала! Я доказала». С этой мыслью Мэтти заснула. Утром, когда она проснулась и сощурилась от яркого утреннего света, Джимми уже встал. Он стоял посреди комнаты и натягивал джинсы прямо на голое тело. — Ты уходишь? — сонно проговорила она. Он посмотрел на нее. — За газетами. А ты что подумала? Он отсутствовал несколько минут и вернулся обратно в комнату с толстой кипой газет. Мэтти потянулась к ним, тщательно прикрыв покрывалом верхнюю часть тела. Однако Джимми даже не удостоил ее взглядом. Он рухнул на постель и нетерпеливо раскрыл первую газету. Его губы беззвучно произносили слова, которые он прочел. — Мистер Проффит, — закричал он от восторга, — самый молодой из поколения сердитых молодых людей, написал выдающуюся пьесу. Он не идет на компромисс, его стиль поэтичен и нов, как завтрашний день. Лихорадочное возбуждение Джимми передалось Мэтти. Она схватила другую газету и с нетерпением начала ее листать. — Вот! Послушай: «Трагедия нашего времени… Мощно, потрясающе, саркастически смешно… мисс Бэннер — великое открытие!» Они были как дети на рождественской ярмарке, восклицающие от каждого нового открытия и забывающие его, как только попадалось нечто новое. Они вырывали друг у друга обозрения и рецензии, разрывая бумагу и пачкая руки и лица свежей типографской краской. Газеты уже громоздились позади них горой. — «Мне стыдно признаться, что я плакала, и я не верю, что вокруг было много сухих глаз». Боже, кто это написал? — «Прямота, которая проникает глубоко в душу». — Эй, а вот это специально для тебя: «Я готов проделать долгий путь, чтобы увидеть мисс Бэннер в одной из наших великих трагедий!» — Долгий путь — это куда? Он даже не заходил в Сандерлэнд, чтобы посмотреть мой дебют в «Добро пожаловать домой». Успех окрылил их. Они кричали, смеялись и снова перечитывали лучшие строчки. Мэтти была в восторге от вчерашнего успеха и разделила этот восторг со всеми. «Мисс Бэннер — это безупречная Мари». «Все критики посвятили большую часть статей самой пьесе, так и должно быть», — великодушно подумала Мэтти. «Еще один день» — замечательное произведение, и она гордилась тем, что поняла это с первого прочтения, когда Джон Дуглас беспокойно наблюдал за ее реакцией. Она собрала разодранные газеты, схватила их и в избытке чувств прижала к груди. Было только одно менее благожелательное обозрение в газете «Телеграф». Ноздри Джимми побелели, когда он прочитал его: «Неприятно реалистическое отражение отталкивающего мира, в котором пребывает мистер Проффит и к которому питает явное пристрастие. Замечательная игра мисс Бэннер теряется в своекорыстной мелодраме «Еще один день». Джимми взорвался: — Да что он несет, этот ничтожный старый ублюдок? Мэтти забрала у него газету и бросила на пол. — Но ведь это единственная плохая рецензия, — сказала она. — Одна против всех. И они вернулись к хорошим, перечитывая их до тех пор, пока не выучили наизусть. Мэтти откинулась на подушки, пока Джимми пошел в свою импровизированную кухню в нише и приготовил бутерброды с ветчиной и чай в большой коричневой кружке. Он принес все в постель, они вместе поели, обсуждая, что скажет режиссер, учредители театра, сколько недель продержится пьеса после таких отзывов и каким будет гонорар Джимми. Переговоры Фрэнсиса насчет Мэтти обеспечили ей лишь достаточно скромное недельное жалованье. — Я разбогатею, — объявил Джимми. Одновременно с этим Мэтти осознала, что даже если она не будет богатой, то ее успех был безоговорочным. Это потрясающе! Теперь у нее будут другие роли. Много ролей, возможно, в кино и телесериалах. Она знала, что так было с другими актрисами, а сейчас пришла ее очередь. Мэтти расцвела в ослепительной улыбке. Джимми Проффит это заметил и взял из ее рук чашку. — А сейчас ты не думаешь, что нам стоит отпраздновать наш общий успех? Он отбросил одеяло и зарылся лицом в белую пышную грудь Мэтти. Ее кулаки уже начали сжиматься, но он снова сел и достал жестяную коробочку из-под стула рядом с кроватью. Внутри коробочки была пачка табака и завернутая в пакетик травка. — Может, сначала покурим? Мэтти согласилась. Она наблюдала, как он свернул сигарету, и сделала первую затяжку. В «Рокет» было достаточно возможностей достать марихуану, но Мэтти предпочитала иные средства, употреблявшиеся девушками из «Шоубокса» перед представлением. От травы ее голова отяжелела, конечности онемели и не слушались. Но было так здорово лежать на груди Джимми и смотреть на голубые облака дыма. Ей казалось, что один глаз на коллаже, который висел над кроватью, подмигнул ей, и она тихонько засмеялась. — Так лучше, — сказал Джимми. Он положил тлеющий окурок в металлическую пепельницу и притянул Мэтти к себе. — Давай, — пробормотал он. — Не бойся, я не кусаюсь. Спустя какое-то время, достаточно долгое, пока продолжались обычные толчки и качания, Мэтти начала ощущать нечто новое. Джимми снова повалил ее на спину, и ее колени торчали по бокам его узких бедер. Он входил и выходил из нее долгими, медленными, ритмичными толчками. Мэтти заметила, что приподнимает бедра навстречу ему. Она испытывала наслаждение. Это не имело ничего общего с тем, что однажды попытался сделать Тед. Джимми показал ей разницу, и она была благодарна ему за это. Она наклонилась над ним и убрала волосы с его лба. Тяжело дыша, он открыл глаза и посмотрел в упор. «Джимми не часто смотрит так», — поняла Мэтти. Его глаза были необычного зелено-желтого цвета. — О’кей, — вполголоса сказал он, и Мэтти не поняла, к чему относятся эти слова. Некоторое время они еще лежали в объятиях друг друга. Мэтти хотелось покурить травки, но Джимми резко поднялся и выпрыгнул из постели. Он натянул рубашку и стал застегивать ее. — Пора идти, — бросил он. — Куда? — К людям! Надо отдать дань своей славе, — он улыбался ей. — Собирайся! — Да, конечно. — Она не могла думать ни о чем, даже о театре, где должна была быть к шести часам, но тоже выбралась из постели. Джимми уже оделся. Он ушел на кухню, и она слышала плеск воды и его насвистывание. Мэтти посмотрела из окна на улицу. Напротив была закусочная, и служащие из офисов набились туда, чтобы перекусить. Она оценила свое привилегированное положение: ей не надо было идти в офис. У нее была роль, замечательная роль и полный зал зрителей. Она хотела обнять Джимми и поблагодарить его, но он вышел из кухни, уже побрившись и причесавшись, и сразу же стал надевать пиджак. — Не возражаешь, если я уйду сейчас? — Нет. Конечно, нет. — Просто захлопни дверь. Там автоматический замок. До вечера! — Да. Джимми, спасибо… Но он уже ушел. Мэтти стояла посреди комнаты, вспоминая, как он посмотрел на нее, когда говорил: «Я позабочусь о тебе» и все остальное, что он делал. Его скомканные джинсы все еще валялись на полу, где он бросил их вчера. Она подняла их и аккуратно повесила на спинку стула. Потом Мэтти заправила постель, собрала мусор после завтрака и отнесла чашки на кухоньку. Перемывая посуду, она подумала: «Неужели это то самое? То, что у Джулии с ее летчиком? Интересно, мое лицо так же сияет? У Джулии оно светилось изнутри». Мэтти попыталась произнести: «Джимми, я люблю тебя», но не выдержала и расхохоталась. Она навела в комнате первозданный блеск, оделась и вышла, закрыв дверь и прислушиваясь к тому, как защелкнулся замок. Она пошла на Оксфорд-стрит, к автобусной остановке, чтобы поехать домой. Идя сквозь толпы людей, она чувствовала себя другим человеком, но не понимала, связано это с ее успехом или с влюбленностью.Джулия пришла на работу, и Джордж сразу же послал ее за образцами обоев, которые срочно понадобились. Она решила вознаградить себя за скучный ланч в доме на площади. Джулия не отдавала себе отчета в том, что беспокоится из-за отсутствия Мэтти и за то, что утром в квартире никого не было. «Может быть, она уже вернулась», — подумала Джулия, поднимаясь по лестнице. Когда она вошла, квартира была пустой, но пока она делала себе бутерброд, в кухне появилась Мэтти. Джулия взглянула на нее и заметила, что Мэтти выглядит радостной, хотя и усталой, с темными кругами под глазами. — И где же всю ночь провела наша звезда? — поинтересовалась Джулия. — Ты видела газеты? Джордж так потрясен, что мне, пожалуй, стоит попросить надбавку к недельному жалованью за то, что я знакома с тобой. — Да, впечатляюще! Эти обзоры… У Мэтти был такой неуверенный вид, что Джулия подошла к ней и обняла. Странно, она как будто ревновала Мэтти, хотя, конечно, невозможно ревновать подругу из-за ее успеха, но непонятное раздражение поднималось в ее душе каждый раз, когда она думала о газетах и когда звонил телефон три раза, пока она была на кухне, и незнакомые люди настойчиво требовали Мэтти. Джулия еще крепче обняла ее. — Где ты была, Мэтт? С тобой все в порядке? — Я была у Джимми Проффита. — У него? — Джулия вздрогнула. Ей не слишком понравился драматург. — Ты спала с ним? Ну и как? — Это было прекрасно, — сказала Мэтти. — Он очень мил. Его можно сравнить с бриллиантом, — добавила она. — С ним я узнала, что такое истинное наслаждение и любовь. — Ой, Мэтти… Они взглянули друг на друга, рассмеялись, потерлись щеками. «Это все та же Мэтти — после всех событий, — с облегчением подумала Джулия. — Как я могла усомниться в этом, прочитав несколько строк в газете?» Застыдившись своих недавних чувств, она сказала: — У меня не было возможности рассказать тебе вчера, как я горжусь тобой. У тебя замечательно получилось. Даже лучше, чем я могла представить. Ты лучшая из актрис. — Спасибо, — отозвалась Мэтти и просияла. — Ладно. Съешь мой бутерброд, я сделаю другой. Кофе еще не остыл. — Я бы лучше выпила джина. Мэтти сидела у камина в комнате Джесси. Снова обычная жизнь. Размеренная и спокойная. Мэтти была полна стремления удержать ее и продлить, убеждая себя, что пьеса и рецензии в газетах — только сахарная глазурь на будничном торте, и не будет иметь никакого значения, если вслед за первой не последует вторая порция этой глазури. — Расскажи мне, что творится в свете. Чем вы вчера занимались? — Со вчерашнего вечера? Немногим. В основном я общалась с матерью Блисса. К счастью, мне едва ли грозит стать ее невесткой. Ах да, Джордж сказал, чтобы Феликс зашел к нему. Он считает, что его ждет неплохая карьера. — Нетрудно догадаться, благодаря чему, — грубовато отметила Мэтти. Это была одна из старых шуточек, от которых обе они умирали со смеху. — Мэтти, любимая Мэтти! Ведь ты не изменишься, ничего не случится только потому, что ты стала знаменитой? — Ничто не изменит меня, — твердо сказала Мэтти. — Просто стало немного лучше. Снова зазвонил телефон. Джулия махнула рукой. — Иди сними трубку. Наверняка тебя. Мэтти вскочила, смахнула крошки от бутерброда с губ, словно звонивший мог увидеть ее. Телефон стоял в углу, рядом с кроватью Джесси. Мэтти подняла трубку.
— Давайте, милая. Сюда. Идите в ногу с пуделем, прошу вас. Было начало марта, и редкие лучи солнца, которые пробивались сквозь тяжелые тучи, слабо согревали воздух. Джулия дрожала, глядя на желтые кроны, торчащие из прошлогодней травы, и пыталась убедить себя в том, что ей тепло и что она совершенно расслабилась. — О-очень высокомерно. Хорошо. Отлично. Идемте сюда, дорогая. Она выгуливала своего обожаемого пуделя вдоль озера Серпентин в Гайд-парке. Был чудесный теплый день. Как восхитительно она выглядела в новом костюме, созданном Ив Сен-Лораном для показа осенней коллекции в доме моделей Кристиана Диора! Ей нравился ее костюм из малинового и черного твида, перетянутый в талии широким поясом из дорогой кожи и заканчивающийся юбкой, узкой внизу и открывающей колени на два дюйма. Ансамбль дополняла твидовая шляпа в форме абажура. На семенящего впереди фотографа она обращала не больше внимания, чем на муху или комара. «Если бы хоть что-то здесь было настоящим», — с тоской подумала Джулия. Ей казалось, что одежда придает ей гротескный вид, а огромные серьги слишком оттягивали мочки. Ноги замерзли, а большая собака, отвратительно лохматая и черная, что есть силы дергала свой поводок, украшенный поддельными драгоценностями. Недовольство фотографа, седовласого и изысканного, уже пробивалось из-под его очарования, а его помощник и редактор журнала мод были в отчаянии. На лицо Джулии наложили столько грима и макияжа, что она не могла представить, насколько похожа сама на себя. Правда, увидев себя в зеркале, она решила, что выглядит неплохо. — Хорошо, продолжайте идти, еще раз, величественнее! — жужжал фотограф. Джулия вторую неделю работала фотомоделью, и сейчас была ее третья съемка. Ее друг фотограф, как ни странно, сдержал свое обещание и сделал несколько фотографий, которые затем отправил в агентство. К величайшему изумлению Джулии, ее взяли на работу. — Выглядите вы потрясающе, в лице видна порода. Лишнего веса нет, — сказали ей в агентстве моделей. — Конечно, вы совсем неопытны, но со временем это пройдет. Хотите испытать судьбу? Был февраль, на редкость холодный и сырой. Мэтти была занята в «Еще одном дне» и все свое свободное время посвящала Джимми Проффиту. Неожиданно, за один вечер, они стали золотой парочкой, и если на обложке журнала не красовалось лицо Джимми, то там определенно была Мэтти. Феликс поступил на работу в «Трессидер дизайнз». Джордж взял его с черного хода в офисы дизайнеров, а Джулия так и осталась на старом месте. — Да, — сказала она в агентстве моделей. — Конечно, я хочу попробовать. Джулия поставила Джорджа в известность и начала готовиться к взлету собственной карьеры. Прошло только десять дней с тех пор, как она сидела дома, ожидая звонка из агентства, десять дней съемок, во время которых она каждую секунду мечтала вернуться назад, в квартиру, поскольку поняла, что успех был иллюзией. Она хорошо позировала первому фотографу. Но он был ее другом, и все было всего лишь игрой, шуткой. Она важно ходила и принимала различные позы, с удовольствием думая при этом: «Как только все закончится, он перестанет донимать меня». Но когда это превратилось в настоящую работу, Джулия почувствовала разницу. Она терялась под изучающими критическими взглядами, хотя и не раз говорила себе, что не нужно обращать на них внимания. Объектив камеры замораживал ее своим холодным рыбьим глазом. — Хорошее лицо, — услышала она мнение одного из фотографов. — Но она прямая, как доска. Джулии попеременно хотелось то плакать, то смеяться. Модная одежда казалась ей смешной. Джулия не испытывала счастья от прикосновения к ней и предпочитала самую обычную одежду, купленную в маленьком магазине «Базар». Увы, «Базар» не нанимал моделей, да и одежда оттуда едва ли могла быть выставлена в шикарных магазинах. Все рушилось, и Джулии хотелось плакать. Она ненавидела неудачу, а сейчас сама становилась неудачницей. — Куда вы идете? — заорал раздраженный фотограф. Джулия не собиралась никуда идти, но собака увидела вдалеке ирландского сеттера и рванулась туда, увлекая Джулию следом. Затем собака остановилась как вкопанная и была уже не в состоянии сдержать свою злость. Она растопырила лапы, хвост ее дрожал. Джулия наткнулась на нее, покачнулась и, потеряв равновесие, упала. Собака залаяла и умчалась прочь, волоча за собой сверкающую змейку поводка. Грязные комья облепили икры Джулии и пропитали юбку, которая сковывала движения. Она могла представить лица присутствующих, но только представить, потому что повернуться, к ним в этой одежде не могла. Кое-как Джулия села. Ей казалось, что прошло много времени, прежде чем кто-то поднял ее и поставил на ноги. Ее чулки были порваны в клочья, в модельных туфлях хлюпала вода. — О, дорогая, — воскликнула девица из журнала, затем обратилась к фотографу: — Вы что-нибудь здесь сняли? — Да, кое-что. Один или два кадра, — последовал мрачный ответ. — Что ж, придется использовать то, что мы успели снять. На сегодня все, Джулия. Все взволнованно изучали испорченную одежду, как будто она имела гораздо больше значения, чем Джулия. Когда ноги высохли и она надела туфли, фотограф сказал: — Вот и все. Не унывай, детка! — Я просто вне себя от радости, — сказала Джулия с достоинством. — Просто я ненавижу собак. Он нервно сморщил губы и поднял брови, напомнив ей Джорджа.
Разумеется, дома никого не было, когда она вернулась в квартирку на площади. Мэтти уже ушла в театр, а Феликс последнее время стал часто и надолго исчезать по своим таинственным делам. Джулия сделала себе горячее питье и уселась у камина, шмыгая носом и думая о том, что никому в мире нет дела до того, что она может заболеть воспалением легких. Когда зазвонил телефон, она даже не хотела отвечать на звонок, уверенная, что звонят Мэтти. Но она ошиблась. Это был Блисс. — Не хочешь ли поужинать со мной? Джулия расцвела. — Блисс, чудный Блисс. Я хочу поужинать с тобой больше, чем кто-то другой в этом мире. — Боже мой! Я собирался предложить тебе спагетти, но после такого ответа стоит изменить намерения. Джулия улыбнулась. Она с легкостью представила его ироническое выражение лица. Блисс — это именно то, что нужно для таких дней, как сегодня. Пустая квартира показалась ей невыносимо тихой. — Я заеду за тобой в восемь. Джулия тщательно подготовилась к вечеру. Она приняла горячую ванну, вылив туда изрядное количество эссенции. Невероятно, но от ее насморка и следа не осталось. Она недавно постриглась, и волосы лежали аккуратной темной шапочкой. Джулия причесала их, вздыбив сверкающими перьями вокруг лица. Она надела новый костюм из «Базара»: короткую серую тунику с джемпером горчичного цвета и брюки в обтяжку. Когда Александр пришел, то не удержался от комплимента. — Ты прекрасно выглядишь, — заметил он и поцеловал ее в щеку. Они поехали в клуб, который она особенно любила: в Кенсингтон. Маленький зал был полон людей, которые ходили среди столиков и бурно приветствовали друг друга. Джулия знала, что это место не было любимым у Блисса, и была тронута тем, что сегодня он привез ее именно сюда. В свою очередь она старалась быть живой и остроумной. Он положил руку поверх ее руки и страстно пожал. Они много смеялись, потом встретили друзей Софии и пересели за их столик пить кофе и бренди. Джулия подумала, что вечер выдался на славу, она, несомненно, счастлива и беззаботна. Но когда они снова сидели в красной машине Александра и направлялись домой, он спросил: — В чем дело, Джулия? Машина остановилась у светофора, и он повернул ее лицо к своему. Она и не думала сопротивляться. Джулия попыталась найти какую-нибудь отговорку, но взгляд Александра был слишком прямым. — Я не знаю, что делаю, — прошептала она. — Работа? — Да, но дело не только в этом. У меня нет никакой цели. Я не как Мэтти, или Феликс, или ты. Жизнь кажется мне пустой. Это как бескрайнее море. Он смотрел на нее так пристально, что она отвела глаза и опустила голову, чтобы скрыться от его взгляда. Зажегся зеленый свет, Блисс отвернулся, и машина помчалась дальше. — Рассказать тебе, что со мной сегодня случилось? — спросила она. Он кивнул. — Да, пожалуйста. Она рассказала о собаке, о костюме от Диора. Она старалась сделать рассказ забавным, слегка преувеличивал детали. Но в конце он не смеялся. — Здесь нет ничего забавного, — прокомментировал он. Джулия была поражена. Он понял, как она была унижена, несмотря на легкомысленный рассказ. Она считала, что ей удалось это скрыть. Блисс оказался тонко чувствующим человеком, что было удивительно. Джулия смотрела на него широко раскрыв глаза и поражалась, что раньше этого не замечала. — Да, пожалуй, это не смешно, — согласилась она. — Когда все летит к черту, это совсем не смешно, не так ли? Александр снова взял ее за руку. Его рука казалась большой и надежной. — Я хотел бы знать, — небрежно спросил он, — не согласишься ли ты поехать со мной на уик-энд в Леди-Хилл? Там никого не будет. Я хочу показать его тебе. — В Леди-Хилл? Хорошо, — сказала Джулия. Подумав, что это прозвучало слишком равнодушно, она торопливо добавила: — Мне очень хотелось бы его посмотреть. Я сгораю от нетерпения.
Александр привез Джулию в Леди-Хилл субботним утром. Они отправились рано, когда мир был окутан туманом и потерял четкие очертания. Но когда они выехали за город, выглянуло солнце и раскрасило местность в тона охры, опала и яркой зелени. На полях паслись маленькие ягнята, Джулия безучастно смотрела на них. Ехали долго. Остановились на ланч в деревенском баре, который напомнил ей тот, куда водил ее Джош. Это было так давно, как будто произошло в какой-то другой жизни. — Ты в порядке? — спросил Александр. Они шли по аллее, разминая ноги перед последней частью путешествия на машине. Джулия заметила, что Блисс хорошо вписывается в сельскую местность: он носил одежду цвета полей, расправлял плечи, будто здесь было больше места для его фигуры, чем в городе. Туфли Джулии скользили по мокрой траве, а ее красное пальто показалось вызывающе ярким. Ей не хотелось, чтобы Блисс волновался из-за нее. — Да, со мной все хорошо, — улыбнулась она. — Просто надо время, чтобы привыкнуть к этому месту. Не помню даже, когда я последний раз уезжала из Лондона. — Ну надо же, — сказал Александр. Они приехали в Леди-Хилл, когда солнце освещало окна дома на западной стороне. Они повернули за угол, проехали под высокими деревьями и остановились перед домом, щурясь от яркого света, отраженного окнами. От дома исходило сияние тепла и жизни. Александр поставил машину перед домом, величественным и прекрасным. Они молча прошли по дорожке к дому. Александр открыл парадную дверь под каменной аркой, и они вступили в темноту. Пахло лавандой и пылью веков, накопившейся в невидимых углах. Стоя в прихожей, освещенной светом из высокого окна, под лестницей, которая уходила вверх над их головами, Джулия подняла глаза. Резной дуб, тяжелые позолоченные рамы картин, огромный железный обруч с подставками для сотен свечей, висящий на цепи, — все это ошеломило ее. На улице пели птицы и ветер шумел в старых вязах, но в доме не раздавалось ни единого звука. Она осмелилась говорить лишь шепотом: — Как здесь прекрасно! Для Джулии дома всегда были не более, чем коробки, как на улице, где прошло ее детство, или ряды строений на улицах Лондона, разрезанные на квартиры и комнаты, где жилое пространство внезапно ограничивалось стенами. Даже квартира на площади, которую они снимали вместе, была домом только потому, что там жили Мэтти и Феликс, а не потому, что эти стены сами по себе что-то значили. И Джулия, любившая новизну и остроту ощущений, почувствовала, как сильно отличается от всего этого Леди-Хилл. Его величественная красота говорила о вечности и тайне, и она невольно восхищалась им. Она шла вслед за Александром по большой галерее. Она потрогала роскошную кровать, которая стояла в комнате за галереей. Александр называл ее королевским ложем. В одних комнатах дома жили, другие же пустовали. В спальне отца Александра на комоде стояли серебряные подсвечники и украшения, кровать матери Софии была застлана шелковым покрывалом, а в комнатах Александра и Софии был до сих пор ощутим дух детства. В конце коридора была детская с лошадкой-качалкой и старыми разорванными книгами. Они безмятежно путешествовали из одной комнаты в другую. Джулии понравилось, что он выбрал время, когда в доме никого не было. Потом она вспоминала, как изменилось ее отношение к Блиссу. Она была поражена домом — не просто поражена, а дом внушал ей благоговение, но еще больше ее изумила перемена, происшедшая в Александре. Исчезли его ирония и некоторая неопределенность. Он был таким же галантным с Джулией, как обычно, но гораздо более решительным и готовым проявить свои чувства. Когда он рассказывал о доме, обо всех связанных с ним историях, ясно проступала его любовь к этому месту. Она видела это отчетливо и теперь лучше начала понимать его. Леди-Хилл определял Александра, он принадлежал дому. В Лондоне он был другим, потому что не мог быть там вполне самим собой. Они спустились на первый этаж по другой лестнице и прошли через несколько подсобных помещений. И хотя дом не был особенно большим, лабиринт комнат завораживал ее. Она потеряла ориентировку и вскрикнула от удивления, когда они вошли в гостиную через другую дверь. Александр закрыл ее, и она исчезла в стене. — Потайная дверь! — воскликнула Джулия. — Только наполовину. Дверь, предназначенная для слуг, неожиданно появлявшихся и исчезавших. Или для хозяйки, если ей надо было ускользнуть от гостей. Джулия подумала обо всех людях, которые бывали в этой гостиной, и призрачный карнавал разных лиц и костюмов разных эпох окружил ее. Джулия прошлась по комнате. Там был огромный каменный камин, и запах дыма пропитал тяжелые бархатные шторы. На стенах висели семейные фотографии в серебряных рамках, но главным украшением гостиной были английские пейзажи. На столиках лежали книги и журналы, а на полочке за голубым креслом — трубка. Джулия вспомнила, что говорила София о Леди-Хилле: «Мы оттуда родом: я, Александр и отец. Это лучшее место в мире». Тогда Джулия подумала, что София преувеличивает, но сейчас она поняла, что это правда. Несмотря на размер и великолепие, это была жилая комната, и дух семьи витал в ней. Но ведь Чина Блисс покинула дом. Почему? Надо спросить Александра. Когда-нибудь потом, не сейчас. В высокой нише в конце комнаты стоял рояль, на котором кипами лежали ноты. Александр подошел к нему и просмотрел их. Он достал наугад какую-то пьесу, открыл рояль и начал играть. Раньше Джулия часто слышала, как он играет, но никогда он не играл так, как сегодня. Она знала, что это была за пьеса. Звуки лились, словно лепестки, опадавшие с пунцовых тюльпанов. Александр играл долго, склонив голову над клавишами. День уже начал клониться к закату. Джулии очень нравился Блисс, он много значил для нее. Эта истина, одна-единственная, сейчас была очевидной, и на ее фоне померкли все прочие истины, которые управляли ее жизнью. А еще она завидовала. Завидовала его происхождению, его корням, которые уходили сюда, и уверенности, безопасности, которую давали ему эти стены. Уверенность в самом себе — вот что появилось в нем сегодня. Из-за этого она начала чувствовать шаткость своего положения в мире и мелочность жизни, которую создали себе Бетти и Вернон. Она поняла их страх и отчаяние и сравнила это с вековым величием Леди-Хилла. Она снова посмотрела на Александра и улыбнулась. Музыка сближала их. Стало слишком темно, и он больше не видел нот. Тогда он поднял голову. — Я приготовлю чай, — сказал он. Они зажгли огонь в камине и сели с большим серебряным чайным подносом между ними. Поленья потрескивали, а в углах комнаты сгущалась тьма. Джулия сказала: — Как тихо. Этому дому нужны люди. Много, много людей. И сумасшедшие вечеринки. — Может быть, — сказал Александр. Он придвинулся к ней, и они внимательно изучали друг друга. В Лондоне Джулия непременно сказала бы что-нибудь легкомысленное, чтобы уйти от этого момента. Но здесь, при свете огня, она провела рукой по его лицу. От огня камина его волосы, светлые на висках, казались красными. Она рассмотрела каждую черточку его лица. Они были хорошо знакомыми и не слишком интересными, но сейчас она заново открыла этого человека для себя. Это уже не тот Блисс, с которым они общались вместе с Мэтти. Джулия немного удивилась собственному невежеству. Этот Александр был незнакомцем, внушавшим трепет. Заглянув в его глаза, Джулия поняла, что он любит ее. Как она могла раньше этого не замечать? Это вселяло уверенность в себе, и она готова была принять его чувство. Его рот был настойчивым, и она сдалась. Тогда Александр отвел пряди волос с ее лица и поцеловал. Ее голова откинулась на спинку кресла, пока его язык странствовал по ее рту. — Джулия, — сказал он, и тембр голоса напомнил ей о Джоше. Она снова подняла голову и посмотрела на поленья в камине. Очаг подернулся серым пеплом, но когда она пошевелила поленья кочергой, сноп искр устремился вверх. Джулия вздрогнула, встала и пошла закрывать бархатные шторы, чтобы оградиться от тьмы снаружи. Освободившись от своих пут, шторы свободно упали пышными складками. «Это понравилось бы Джорджу и Феликсу», — подумала она. Джордж посвятил жизнь созданию для своих клиентов этого великолепия, которое Леди-Хилл излучал из каждого угла. Джордж Трессидер умер бы за этот дом. Но сейчас здесь была она сама. Ирония судьбы позабавила ее, и она просияла от этих веселых мыслей. — Пожалуйста, сыграй еще что-нибудь! На этот раз глупое и шумное. Давай проверим, понравится ли это дому, — попросила она Александра. Он сел за рояль и ударил по клавишам. Регтайм Скотта Джоплина. Джулия выразила свое одобрение, закружившись на середине турецкого ковра и лихо отплясывая чарльстон. Александр продолжал играть, быстрее и быстрее, пока она не упала рядом с роялем, задыхаясь и смеясь. — Мерси. Я Могу танцевать чарльстон так, как Мэтти. Блисс посмотрел в потолок. Казалось, музыка все еще вибрировала в воздухе. — По-моему, ты права, — мечтательно произнес он. — В старом доме слишком тихо. Тебе нравится, когда в доме много людей? Ты любишь вечеринки и праздники? — Мне всегда нравились вечеринки, — пробормотала она. — Хмм… — Александр закрыл крышку рояля. — Пойдем-ка поищем себе что-нибудь на ужин. В холодильнике оказался холодный цыпленок и овощи в огромной морозильной камере. — Не думаю, что отец и Фэй будут иметь что-то против, — сказал Александр. — А где они? — с любопытством спросила Джулия. — В Лондоне. У домработницы сегодня выходной. А больше здесь никто не живет. Разве что женщины из деревни приходят делать уборку. Вот так. И больше ничего и никого. — Выражение его лица не изменилось, когда он опять обратился к ней: — Мне хорошо с тобой. — Мне тоже, — сказала Джулия. — Где будем ужинать? — В столовой, как и положено. Там было холодно, но Блисс включил электрический камин, и Джулия накрыла на стол. Четырнадцать стульев с высокими спинками окружали стол из черного дуба, и она решила, что они будут сидеть в разных концах, напротив друг друга. На ручках столового серебра была выгравирована буква «Б». Джулия сервировала стол множеством тщательно отобранных вилок и ножей. Александр принес бутылку рейнвейна, она достала высокие бокалы на витых ножках. В тишине и таинственности этой удивительной комнаты ей понравилось играть во владелицу замка. Они сели, глядя друг на друга, так далеко, что приходилось кричать. Это показалось им невыносимо смешным, и они смеялись так долго, что остыл вареный картофель. После ужина они вернулись в гостиную, к огню камина, и сидели держась за руки. — Ты когда-нибудь будешь жить здесь? — спросила Джулия. — Когда-нибудь, — ответил он. — Когда умрет отец. Таково условие. Теперь его обособленность, неприкаянность в Лондоне стали ей понятны. Здесь его настоящая жизнь. Может быть, даже его музыка не была настоящей до такой степени. Его жизнь — Леди-Хилл. Зависть снова кольнула Джулию. А что была ее свобода, что она значила, кроме того, что Джулия была выброшена на произвол судьбы? Они поднялись на второй этаж. Александр провел ее в комнату для гостей. Он не пожелал ей спокойной ночи. Джулия разделась, почистила зубы и причесалась. Она сняла свой корсет и легла между холодными простынями. Александр постучал и вошел, дверь закрылась тихим щелчком. Когда он лег в постель рядом с ней, то показался каким-то незнакомым. Его тепло согрело Джулию, она перестала дрожать и повернулась к нему. Блисс был нежным и осторожным с ней, возможно, даже больше, чем требовалось, и она была благодарна ему за это. С ним было хорошо заниматься любовью, и это открытие не слишком ее удивило. Так и должно было быть. Позже, в темноте, Джулия в недоумении спрашивала себя: «Почему он выбрал меня для своей любви? Почему не Мэтти или другую девушку из «Рокет» или «Голубых небес»? Она размышляла о своей заурядности и ограниченности по сравнению с Александром. И вдруг Джулия поняла: «Здесь ты не выбираешь. Я не выбирала Джоша. Это настигает тебя, и ты уже не в состоянии избавиться от чувства». Александр лежал рядом, глубоко дыша и согревая дыханием ее щеку. Он обнимал ее. — Я люблю тебя, — сказал он, словно подслушав ее мысли. — И я люблю тебя, — ответила она, надеясь, что так и есть, что надежда может заставить ее полюбить. Александр заснул. Джулия лежала неподвижно, голова покоилась на его плече, ей было хорошо и спокойно. Она обрела нечто устойчивое и постоянное. Ветер скрипел и стонал в вязах под окнами, она представила себе темный сад, окружавший дом. Неоткрытая ей, неведомая территория. Земля Александра. Она протянула руку и нежно провела пальцами по его бедру. — Я люблю тебя, дорогой, — тихо повторила она. Он безмятежно спал.
Утром они вышли в сад. На Джулии были резиновые сапоги леди Блисс. Дул сильный ветер, и разорванные облака быстро бежали по холодному синему небу. Джулия и Александр были в восторге и кричали, как дети. Они бегали по газонам, по лугам до тех пор, пока румянец не заиграл на щеках Джулии. Она медленно шла за Александром мимо роскошных цветочных клумб и слушала, как он перечислял названия всех растений, как будто служил молебен. — Махония, магнолия, анемоны, форсиция… Для Джулии они все были одинаковые, и она с удивлением смотрела на него. — Ты еще и садовод? Он рассмеялся. — Если бы я им был, это больше устраивало бы отца. Нет, Чина — наш семейный садовод. Она возродила старый сад и создала большую часть этих клумб. — Хоста, черемица, саликс, самбукус. В березовой рощице, далеко от дома, они обнаружили «золотую» поляну. Желтые нарциссы дрожали и качались, расточая золото в мартовском холоде. — Какая красота, — прошептала Джулия, глядя на них не отрываясь. Блисс наблюдал за ней, пока она не обернулась, почти опьяненная цветением нарциссов и их тонким сладким ароматом. Они посмотрели на дом. Небо с бегущими облаками отражалось в его окнах, и казалось, что дом сам движется и плывет, как воздушный корабль. Александр взял руку Джулии и крепко сжал. Ей показалось, что он ждал этого момента, долго ждал, терпеливо, с расчетом, которого она не замечала, и сейчас, в Леди-Хилле, решил, что время пришло. Она внимательно посмотрела на него, не замечая в это мгновение ни дома, ни сада. Она видела только его одного. — Я хочу попросить тебя выйти за меня замуж. Ветер подхватил его слова и разнес по всей земле. Дом казался еще величественнее и таинственнее. Джулия не потеряла рассудка, прохлада по-прежнему овевала ее лицо, а земля под ногами была твердой. Она подумала: «Не меня. Ты должен был найти кого-то лучше меня. Такую же, как ты сам». Она хотела сказать: «Я не могу выйти за тебя», но проглотила эти опрометчивые слова, как только они готовы были вырваться на волю. Джулия вдруг поняла, что Блисс любит ее, и начала сознавать важность этого. Любовь такого человека, как Александр, вернет ей жизнь. Она станет сильной, пустота исчезнет, и она не будет больше чувствовать себя заброшенным ребенком или плохой девочкой. Ей захотелось ответить взаимностью на его чувство. Она любила его, отчетливо сознавая, что это не имеет ничего общего с ее безумной страстью к Джошу. Сейчас было просто, ясно, удобно и хорошо. Она чувствовала огромное облегчение, почти счастье. Джулия боялась, что если она пошевелится, все разобьется. Но она подошла к нему. Тревога в его глазах сменилась удовлетворением. Он обнял ее. Ощущение счастья не покидало девушку. — Да, — сказала Джулия. — Да, если ты действительно этого хочешь. — Я хочу быть с тобой, — убедил ее Александр. — Я хотел этого с той самой минуты, когда впервые тебя увидел. Джулия тихо произнесла, глядя ему в глаза: — Я здесь. Я хочу навсегда остаться здесь рядом с тобой, дорогой. (обратно)
Глава тринадцатая
Джулия и Александр обвенчались в маленькой церкви в деревне Леди-Хилл. После церемонии леди Блисс, или Фэй, как она попросила Джулию называть себя, дала прием в галерее Леди-Хилла. Пришли члены семьи, жители деревни и арендаторы. София припомнила, что на ее свадьбе было пять сотен гостей и праздник был под тентом в саду. «Хотя бы мне удалось этого избежать», — подумала Джулия. Она хотела просто зарегистрировать брак в Лондоне и затем организовать свою вечеринку в клубе. Но Александр и слышать этого не хотел. Он хотел, чтобы они поженились по всем правилам, как заведено в Леди-Хилле, а всю суету вокруг свадьбы свести к минимуму. Джулия согласилась из любви к нему и желания угодить. На ней было пышное платье из белого шелка, и две маленькие кузины из семьи Броквэй были на свадьбе ее подружками. — Мы можем устроить большой праздник для друзей позже, в Лондоне, правда? — спросила она Александра. — Конечно, можем, — обещал он. — Но давай сначала поженимся. Приготовления к свадьбе были скучны, но они были счастливы и влюблены и с удовольствием участвовали во всех ритуалах. Однажды все это закончилось, и Джулия очень плохо запомнила день своей свадьбы. Бетти казалась робкой и испуганной в своем новом костюме-двойке, который был слишком большим и ярким для нее. Вернон почти повис на руке Джулии, когда они проходили между рядов в церкви. На семейной скамье Джулия заметила прямую спину сэра Перси и рядом с ним туманно улыбающуюся Фэй в шляпе. Была там и Чина. Она сидела на полупустой стороне невесты. Ее самообладание таило в себе угрозу, но Джулия отметила, как она довольна, потому что Александр счастлив. Джулия не сомневалась, что она не в полной мере соответствует идеалу невестки, который создали сэр Перси и вторая леди Блисс. Если бы Александр предоставил им выбор, они не выбрали бы ее. «Разумно предположить, что они постараются превратить меня в нечто более подходящее, — подумала Джулия. — Очевидно, они почувствовали облегчение, когда Александр решил жениться». Степенно стоя рядом со своим мужем, она слушала скучные речи и страстно желала избавиться от украшенного цветами головного убора, который колол виски. «Могло быть и хуже, — подумала Джулия. — Например, Александр женился бы на Мэтти». Джулия кусала себе губу, чтобы перестать думать об этом. Мэтти выпила уже изрядное количество шампанского и производила фурор среди родственников, собравшихся в конце галереи. После свадьбы мистер и миссис Блисс улетели в Париж на медовый месяц. Вернувшись, они остановились в квартире Александра на площади Маркхэм. Джулия распаковала свадебные подарки и убрала, насколько могла, холостяцкое жилище. Однажды утром, когда Александр ушел на деловую встречу, она написала письмо Джошуа Фладу: «Я вышла замуж. Разве это не странно? Я все еще думаю о тебе, хотя и очень люблю Александра. Это ненормально, как ты думаешь?» Когда она закончила письмо, то перечитала и порвала. «Все закончилось, — сказала она себе. — Закончилось, как Блик-роуд, квартира на старой площади и безрадостные дни работы в фирме Трессидера. Печаль и чувство потери, незавершенного дела — это часть взросления. Пора научиться жить как все». Следующее, что она предприняла, это устроилась на работу в отдел редакции престижного журнала, сообщив об опыте работы у Трессидера. Удивительно, но работу она получила. Александр был доволен и горд, и поэтому она сама стала гордиться собой. Постепенно их жизнь начала превращаться в богемную рутину. Александр сочинял музыку и исполнял ее на трубе или рояле. По вечерам они устраивали шумные и продолжительные вечеринки, приглашая своих старых и новых друзей, или посещали джаз-клубы, или сидели, взявшись за руки, в маленьких бистро, а потом торопились домой. Это было счастливое, беззаботное, полное удовольствий время. — Мне нравится быть замужем, — сказала Джулия Мэтти. — Кто бы мог подумать? — Ну хотя бы я, — подсказала Мэтти. — Хотела бы я найти кого-нибудь, пусть даже наполовину такого порядочного и милого, как Блисс. — Ты найдешь, — пообещала Джулия. — Только подожди какое-то время. Ни одна из них не упомянула о Джимми Проффите. Примерно через три месяца после свадьбы у отца Александра случился удар. Сначала казалось, что он поправится, но через неделю он умер. Джулия не поняла, что означает смерть этого старого человека. Ей не пришло в голову, что после похорон, после всех формальностей, связанных с завещанием и разделом наследства, они уже не вернутся в квартиру на площади Маркхэм и прежняя веселая жизнь останется позади. Александр был нежным, но абсолютно непреклонным на этот счет. — Мы задержимся здесь ненадолго. Отец умер, и мне надо управлять имением и хозяйством. Джулия спросила: — Некоторое время — это сколько? Александр обнял ее. — Леди-Хилл — это мой дом. — Он поймал себя на слове и поправился: — Наш дом. Я не могу быть отсутствующим хозяином. Она уже поняла, в чем дело, но хотела, чтобы он прямо сказал об этом. — Что это значит? — Я хочу, чтобы мы жили в Леди-Хилле. — А как же моя работа, Алекс? Мне нравится то, что я делаю. И я думала, тебе тоже нравится. — Сейчас ей казалось невозможным упустить свой шанс, единственную работу, к которой у нее были призвание и талант. Александр не ушел от ответа. — Я считаю, что Леди-Хилл — тоже работа. Для нас обоих. — Он смотрел прямо ей в глаза, с убеждением, что она сделает так, как он просит. Мужчины вроде Александра Блисса — сэра Александра (а ведь она стала леди Блисс), напомнила она себе, — воспитаны так, чтобы на все получать согласие у своих жен. Фэй, определенно, всегда была согласна. Чина, вероятно, нет. Александр был умным, чувствительным, отзывчивым, были у него и другие достоинства, за которые Джулия полюбила его, но в нем был жив также его отец. Она выпрямилась, готовая бороться с ним. А потом она вспомнила их первый приезд в Леди-Хилл, когда она увидела Александра, воодушевленного этим тихим мрачным местом, и влюбилась в него. Он сказал ей, что когда-нибудь будет жить здесь. «Когда отец умрет, — сказал он тогда. — Таково условие». И она одобрила этот договор, приняв его условия. Она даже завидовала происхождению Александра, его корням,раскинувшимся по землям Леди-Хилла. Не было оснований возражать и роптать. Джулии было свойственно схватывать все на лету, и ей понадобилось несколько секунд, чтобы принять решение. — Да, — согласилась она. — Работа приходит и уходит. Если мы собираемся жить здесь, Александр, нам следует привести это место в порядок. Довольный и счастливый, он просиял, и Джулия почувствовала удовлетворение от своей тайной жертвы. Александр обнял ее крепче. — Разумеется, мы оживим этот дом. Ты говорила, что ему нужны толпы людей. Соберутся все, ты же знаешь. Можно быть совершенно уверенными в этом. — Мы должны устроить праздник. Отметить новоселье. — Джулия выскользнула из его рук и в возбуждении закружилась по комнате. — У нас будет чудесное новоселье. На Новый год. Лучшая вечеринка всех времен! Ты согласен? Александр с любовью следил за ней. — Непременно, — ответил он. — Что еще ты хочешь предложить?Итак, Джулия уволилась из журнала, и они закрыли квартиру на площади Маркхэм. — Только не продавай ее и не сдавай никому, — попросила Джулия. — Ведь остаются уик-энды и праздники… Александр мог позволить себе снисходительность. — Конечно. Мы оставим ее для тебя, и ты сможешь пользоваться ею, когда захочешь. Они вместе уехали в Леди-Хилл. К некоторому удивлению Джулии, Фэй уже переехала в маленький домик в имении. — Вы же не хотите, чтобы вам мешали старики? — настаивала она. Мачеха начинала нравиться Джулии своей мягкостью. Еще она подумала, что, несмотря на траур и скорбь по мужу, Фэй с облегчением сняла с себя ответственность за имение, возложив ее на Александра, и собралась отдохнуть в своем простом домике с маленьким садом. Нравилось это ей или нет, но Фэй играла роль леди Блисс намного лучше, чем получалось у Джулии. — Я не леди Блисс, — жаловалась она Александру. — Она должна быть старше. Это твоя мать. Или мачеха. К титулу Александр относился безразлично. — Это всего лишь имя, — пожал он плечами. — С его помощью крышу не починишь, а хотелось бы. Но Джулия не могла привыкнуть к своему званию и к тем обязанностям, которые оно возложило на нее. — Это не я. — Нет, это ты, — мягко уговаривал Александр. — Потому что ты — моя жена. В Леди-Хилле, в деревне и на соседних фермах все называли ее леди Блисс. — Я Джулия, — настаивала она, не уставая повторять это. Соседи с недоверием смотрели на нее. — Разве ты не видишь? — спрашивал Александр. — Они хотят, чтобы ты стала тем, кем являешься. Им не нужна новомодная лондонская куколка. Джулия, помолчав, спросила: — А тебе? Он поцеловал ее. — Мне нужно то, что у меня есть, и ничего больше мне не нужно. Я люблю тебя. Так продолжалось несколько недель, которые они провели вместе до праздника Джулии. Ее раздражали условности деревенской жизни и роль матроны, которую ей нужно играть, но внутри, в стенах Леди-Хилла, она была вполне счастлива. Ей нравилось принимать вызов судьбы, и она увлеченно искала и находила в себе силы быть владелицей такой огромной усадьбы. У нее созрело множество планов, относящихся к Леди-Хиллу. Она бродила по комнатам, передвигая мебель и портьеры, даже проникла в зимний сад и поковырялась в цветочных клумбах под присмотром старого садовника. — Мы вдохнем жизнь в Леди-Хилл, — обещала она Александру. — Ты уже это сделала, — сказал он. Они прильнули друг к другу и долго смеялись, пока их не охватило желание. Александр увлек ее на пол, и там, перед большим каменным камином, они занимались любовью. За две недели до Рождества доктор Джулии уверенно сообщил ей, что она беременна. Почему-то она скрывала это даже от себя самой. Она собиралась открыть Александру свою маленькую тайну в канун Нового года, во время праздника, но случился пожар. А после него казалось, что языки пламени уничтожили все. Не только дом, но и все их надежды, все нежные ростки их счастья и саму любовь. Джулия знала, что она виновата во всем. В том, что произошло в канун Нового года, во всех тех ужасах и их последствиях. Чувство вины поселилось в ней тогда, когда угли еще дымились, а Александр и девушка Фловера лежали в больнице. Пламя было быстрым и опустошающим, а вина росла незаметно и еще больше ужасала своей невидимостью. Прошло много времени, прежде чем Джулия поняла, что у них с Александром были очень слабые шансы устоять против пожара и чувства вины. И еще больше времени понадобилось, чтобы она простила себе случившееся. А до того, как вспыхнуло пламя, она, должно быть, верила, что оба они неуязвимы. Джулия наслаждалась каждой минутой приготовлений к празднику. Она пригласила из Лондона всех старых друзей, местных друзей Александра и соседей. Только Феликс не мог приехать, он был в Нью-Йорке с Джорджем. Джулия убедила рок-группу из «Рокет» поиграть на празднике в Леди-Хилле, она заказала шампанское и до мелочей продумала, как украсить дом. В центре дома должна была находиться огромная рождественская елка. Когда ее внесли, Джулия от восторга захлопала в ладоши. Верхушка дерева касалась потолка гостиной, а темные пахучие ветки расходились красивым зеленым веером. Идея украсить елку настоящими свечами принадлежала Джулии. Она хотела воссоздать настоящее викторианское Рождество, о чем еще девочкой мечтала на Фэрмайл-роуд. Александр высказался в пользу обычных елочных огней, но не стал спорить и уступил. Он всегда уступал ей в мелочах. Итак, дом был украшен, кушанья приготовлены и расставлены на столе в серебряной посуде. Музыканты настроили инструменты, свечи были зажжены. Гости разбрелись по дому, наполнив его музыкой и смехом. Джулия переходила из комнаты в комнату, наблюдая за своей вечеринкой, как за своим детищем. Если она не чувствовала себя частью общего веселья, то, наверное, потому, что сама устроила этот праздник, и грустно ей было потому, что заканчивалось десятилетие. А потом, в лучший момент этого вечера, когда гости прониклись духом праздника и собрались в гостиной, елка, сиявшая огнями во всей своей красе, вдруг покачнулась и упала, объятая пламенем. Огонь вспыхнул в голове Джулии. Потом, после пожара, куда бы она ни смотрела, везде видела пляшущие языки пламени. Чаще они являлись в ночных кошмарах, заставляя ее содрогаться от ужаса, но иногда возникали перед глазами и днем. Снова и снова она видела черный контур Леди-Хилла в огне. Окна его уподобились алым ртам, из которых вырывались языки огня и облизывали стены дома. Еще был шум. Веселое и голодное потрескивание огня, хруст и стон старого дерева и кирпича, становившихся добычей огня. Сначала казалось, что единственной жертвой стал дом. Прошло несколько мгновений паники, когда огонь перекинулся на старые бархатные портьеры и деревянные панели. Потом ошарашенные гости, спотыкаясь и налетая друг на друга, вырвались во двор. Они сбились в гудящую толпу и, дрожа от холода, наблюдали, как пламя рвануло ввысь. Именно Джулия вспомнила о Джонни Фловере и его девушке. Она и Александр тщетно пытались найти их в толпе спасшихся гостей. «Жаль, что все хорошее быстро заканчивается», — сказал Джонни, когда приехал. Здесь ни его, ни девушки не было. Александр повернулся к дому, и Джулия заметила отблеск огня в его глазах. «Должно быть, они еще там», — выкрикнул он и побежал к дому. Казалось, жара и огонь бросились ему навстречу. Джулия закричала: «Остановите его! Не пускайте его туда!» За ним устремились люди. Некоторые пытались оттащить его, другие встали на его пути, но не выдержали напора огня и отступили. Александр вступил в пламя, и оно лишь громче загудело. — Он погибнет! — услышала Джулия собственный вопль. Молчание и неподвижность толпы людей поражали еще больше в сравнении с безудержной энергией огня. Мэтти была среди них. Джулия и Мэтти повернулись друг к другу. Снова — только они две, как это было всегда. Наконец они услышали гудки пожарных машин. Джулия побежала к большим красным машинам. Разорванная шелковая юбка путалась в ногах и обвивала их. — Мой муж там. Спасите его! О Боже, спасите его! — крик разрывал ей горло. — Там Джонни и его девушка. Спасите их! Оставив Джулию, пожарники побежали к дому. Их шлемы опрокинулись, когда они смотрели на крышу. Уже показался ее черный остов, когда пламя вырвалось на свободу. Его языки извивались, как змеи, и кружили, качались, достигнув верха. Джулия заметила, как пожарники побежали под каменную арку, туда, где недавно скрылся Александр. Мэтти стояла с одной стороны, а с другой стороны находился мужчина с баками, друг Фловера. При свете свечей Джулия танцевала с ним, и казалось, с тех пор прошла целая вечность. Остальные гости стояли молчаливой толпой, потеряв дар речи от пережитого шока. Струя воды дугой поднялась из шланга и упала на черную крышу. Вода шипела, превращаясь в пар, и казалась лишь жалкой струйкой против всесильной мощи огня. Джулия не отводила глаз от дверей под каменной аркой, откуда периодически вылетали клубы дыма. Она не замечала слез, катившихся из глаз. Шипение, треск и жуткий красный свет сковали волю людей. Ужас — единственное, что она чувствовала, продолжая кричать: «Блисс! Блисс!» Неожиданно в проеме дверей возникло движение. Вырвался сноп искр, и яркий свет отразился от защитного костюма. Из-под покрова дыма выступил пожарник, и Джулия заметила, что на плече его висело тело девушки. Мэтти стиснула руку Джулии, но она вырвалась и побежала туда. Прибыла «скорая помощь», и люди в черных униформах и с холщовым полотнищем пробежали мимо нее. Они расстелили его на земле под одним из буков. Пожарник остановился и бережно положил на полотнище свою ношу. То, что Джулия увидела, осталось в ее памяти на всю жизнь. Девушка была жива, она повернула голову. Но чувство облегчения мгновенно сменилось спазмом ужаса. Джулия смотрела на ее лицо, не понимая, кто это. Девушку Фловера невозможно было узнать. Ее лицо больше не было лицом. Это был сырой материал, красный расплавленный воск с двумя черными рваными отверстиями. Потом широкие спины заслонили девушку, опустились на колени и закрыли ее лицо. Джулия больше его не видела. Она зажала себе рот рукой и впилась зубами в костяшки пальцев. Она почти не почувствовала боли. Стон застрял у Джулии в горле. Носилки подняли и унесли в машину «скорой помощи». Кто-то громко кричал. Джулия повернула голову и снова смотрела на вход под аркой. Она увидела еще одну яркую вспышку и пожарных с другой ношей. Их было двое, между ними беспомощно висел Блисс. Его головы Джулия не видела. Он потерял одну туфлю, и нога его болталась в черном носке. Из-под рваных штанин показалась почерневшая от дыма кожа. — Джулия… Это снова была Мэтти. Она обняла подругу за талию, поддерживая ее. — Я хочу подойти к нему, — твердо сказала Джулия. Она устремилась вперед, спотыкаясь, и опустилась, когда Блисса положили на вторые носилки. Джулия посмотрела на его лицо. Оно почернело, кровь текла из глубокой царапины на левой щеке, глаза были закрыты, но все-таки это было лицо Блисса. Он открыл рот и судорожно глотнул воздух. Он был жив. Джулия вздохнула с облегчением. Ее мягко оттеснили, и санитары стали оказывать ему помощь. И вот тогда она увидела его руки. Они были красными и расплавленными, как лицо бедной девушки, и казались клешнями. Рукава его пиджака и рубашки обуглились, и ткань прилипла к обгоревшей коже. Джулия снова вырвалась из рук, которые пытались ее удержать. — Позвольте мне поехать вместе с ним, — умоляла она, но двери машины закрылись за двумя носилками. — Полиция отвезет вас в больницу. Пусть лучше машина «скорой помощи» окажется там побыстрее, — ответили ей. Один из пожарных отвел ее в сторону. Синий свет, мигавший на крыше машины, пробегал по лицам стоящих рядом. Высокий белый автомобиль уехал, и вопль сирены разорвал тьму. Этот звук неожиданно оказался громче шума огня. — Фловер, — произнесла Джулия. Она снова не сводила глаз с двери и пожарных и с надеждой смотрела, как струи воды побеждают пламя. Там, где вырывались новые языки, вода уничтожала их, дым стал гуще и чернее, вместо торжествующего треска огня теперь раздавалось шипение пара. Она наблюдала, как клубы дыма скатывались с остова крыши. Падали небольшие тлеющие куски балок, легкий ветерок разносил сажу. Запах пожара словно застрял у нее во рту. Она закричала: — Фловер! Фловер еще там! Помогите ему! Мэтти, друг Фловера и другие гости окружили ее, наблюдая и молясь про себя. — Они пытаются сейчас достать его, — пробормотал кто-то. Джулия безумным взглядом обвела круг почерневших испуганных лиц. Женщины дрожали от холода в своих легких платьях, и только сейчас она заметила, что сама тоже дрожит. Джулия обернулась к дому. — Я не могу. Я должна дождаться, пока они вынесут Фловера. Лицо пожарника под шлемом было натянутым. Она поняла: они думают, что он мертв. Мэтти взяла Джулию за руку и отвела прочь. — Пойдем, — повторяла она. — Надо ехать в больницу. Джулия безмолвно позволила увести себя к машине. Она села на заднее сиденье рядом с Мэтти. Кто-то принес красное одеяло и накрыл их, и Джулия ощутила голую руку Мэтти рядом со своей. Они посмотрели друг на друга, Мэтти плакала. — Он не мог умереть, — сказала Джулия высоким и резким голосом. — Только не Фловер! Они спасут его. Я знаю, они спасут. Последний взгляд на Леди-Хилл этой ночью остался в ее памяти навсегда. Огромная с трудом узнаваемая груда объятая огнем, внутри которой были заключены ужас и смерть. Клубы дыма злорадно потянулись за уезжавшей машиной. Мэтти и Джулия сидели, прижавшись друг к другу, пока они ехали за машиной «скорой помощи».
Джонни Фловер погиб. Пожарники нашли его тело, которое с трудом можно было опознать, на пороге дверей спальни. Вскрытие показало, что он задохнулся от дыма, прежде чем его настигли языки огня. Кисти рук и предплечья Александра серьезно обгорели. Джулия ждала в больнице до середины того страшного дня, потом поехала с ним в машине «скорой помощи» в другую больницу, которая находилась в тридцати милях отсюда, где было специальное ожоговое отделение. В машине, еще не оправившись до конца от шока, с искаженным от боли лицом, Александр прошептал: — Мы восстановим Леди-Хилл. Каждый кирпич, каждую перекладинку. Пожар не может так просто убить Леди-Хилл. — Он пошевелился на узкой кровати, словно хотел поднять руки и сразу начать работать. — Конечно, мы построим дом заново, — успокоила его Джулия. Она вздрогнула. Языки пламени, лицо девушки, последний взгляд на дымящийся дом — все это так ясно стояло перед ее глазами. Эти образы останутся с ней и будут преследовать днем и ночью. И тяжесть вины, которую Джулия уже ощутила, камнем легла на душу. Она наклонилась над Александром и поцеловала его в лоб. Он поморщился даже от такого легкого прикосновения, и медсестра, которая ехала вместе с ними, мягко отстранила Джулию. — Прости меня, — безнадежно сказала она. — Это я виновата во всем. Александр закрыл глаза. — Нет. Почему ты так говоришь? Они приехали в больницу, и его увезли на обследование. Позже вышел врач и сказал Джулии, что потребуется пересадка кожи и недели особого ухода, прежде чем его обгоревшие руки вернутся к жизни. — Он музыкант, — сказала Джулия. — Он играет на трубе и рояле. — Да? — удивился доктор. — Но сейчас еще слишком рано. Мы не можем сказать ничего определенного. — Понимаю, — сказала Джулия утомленно. — Спасибо. Приехала Мэтти, и ее увезли в поместье Леди-Хилл. Джулия легла в постель, но не могла спать, потому что видела перед собой руки Александра, лицо девушки и бесформенное тело Джонни Фловера. Обгоревшую девушку врачам удалось спасти с большим трудом. Еще много дней после пожара она была слишком слаба, но затем и она попала в ожоговое отделение. Джулия пошла навестить ее. Девушка лежала под белыми простынями. Сейчас Джулия уже знала, что ее звали Сэнди. Они однажды, очень давно, встречались в клубе. Сэнди была замужем, но сбежала с Джонни Фловером встретить Новый год в Леди-Хилле. Джулия вспомнила, как лукаво и заговорщицки улыбался Джонни, поднимаясь по лестнице. «Шипи… Меня здесь не было», — сказал тогда Фловер. Джулия вспоминала это снова и снова. Слова и безумные образы то и дело возникали в ее сознании. Фловер и Сэнди сполна заплатили за свои ночные приключения. Джулия скованно присела у кровати. Она смотрела на бинты, скрывавшие изуродованные черты молодого лица. Сэнди потребуются месяцы для пересадок кожи, годы — для пластических операций. Непроизвольным движением Джулия дотронулась кончиками пальцев до своих скул и гладкой кожи. Сэнди прошептала: — Передайте вашему мужу… мою благодарность. Александр спас ей жизнь. Он схватил в кухне полотенце, обмотал им голову и сквозь завесу дыма поднялся по горящей лестнице наверх. Сэнди лежала без чувств у стены в коридоре. Жара обжигала кожу Александра. Кашляя и задыхаясь, он подполз к ней. Волосы и одежда Сэнди были в огне. Александр сбил пламя руками и как-то умудрился стащить ее вниз по лестнице. Ступени обрушивались под ногами. Александр падал сам и увлекал Сэнди за собой. Пожарники нашли их, лежащими у подножия лестницы. Джулия сама восстановила ход событий, сложив воедино все фрагменты рассказа. Их было мало — лишь отрывочные воспоминания Александра. — Я нигде не видел Джонни Фловера, — твердил он. — Я нигде не видел его. Но если бы я нашел его, я мог бы попытаться… — Ты сделал все, что мог, — утешала его Джулия. Смелость Александра успокаивала ее, однако сама она таким качеством не обладала, и это только увеличивало расстояние, существующее между ними. Она ближе наклонилась к Сэнди и тихо сказала: — Я скажу ему. Я обязательно передам. Маска кивнула едва заметным, полным боли движением, и Джулия представила под бинтами красную расплавленную плоть. В тот день, когда Джулия навестила Сэнди впервые, она наконец сообщила Александру о беременности. Трудно было поверить, что ребенок все еще внутри, что он продолжает тихо расти, не зная о горе и страданиях, но доктор убедил ее в этом. Удовольствие, полученное Александром от этого известия, проявилось так бурно, что почти испугало ее. Он поднял большие забинтованные лапы в жесте бессильного восхищения. — Ребенок! Это же возрождение, понимаешь? Все будет в порядке. Мы восстанем из пепла, как Феникс, все втроем. Джулии было стыдно за себя, но она не могла даже мечтать о возрождении. Огонь выжег ее изнутри, и вина ходила за ней по пятам. Это она захотела пригласить в Леди-Хилл людей, это она купила красивые свечи для елки и сама их закрепила на ветках. И вот любимый дом Александра разрушен, а его изящные, чувствительные руки музыканта превратились в завернутые в вату обрубки. Жизнелюб Фловер мертв, а Сэнди лежит чуть дальше, если пройти по коридору, и узнать ее уже нельзя. Джулия вздрогнула при мысли о Леди-Хилле и его призраках. Она жила с Фэй в ее домике и каждый день приходила в больницу к Александру, но ни разу не отважилась подойти к дому и взглянуть на то, что от него осталось. Александр выздоравливал так быстро, что это поражало врачей. Пересадка кожи прошла успешно, руки заживали, и пребывание в больнице уже начало его тяготить. — Я хочу домой, — заявил он. — У меня есть жена, мы ждем ребенка. Я хочу восстановить мой дом для всех нас. Джулия была уверена, что стремление начать возрождение Леди-Хилла ускорило процесс выздоровления. Наконец его выписали из больницы, на несколько недель раньше, чем предполагали сначала. Врачи сказали, что со временем функции его рук, даже пальцев, полностью восстановятся, но гибкость их уже не вернуть. Он не сможет больше выступать как исполнитель. — Я могу писать музыку, — заявил он Джулии. — Все равно я не много стоил как трубач. Давай поедем домой. Они оставили Сэнди в больнице. Она поправлялась, но должна была еще много времени провести в клинике. Когда Джулия и Александр зашли к ней, чтобы проститься, у нее был муж, и она жестом показала, что хотела бы остаться только с ним. Джулия очень хорошо понимала, что ей не нужны свидетели новогодней вечеринки. Джулия и Александр вернулись домой. Сначала они пошли в домик Фэй, но едва Александр вступил в аккуратную гостиную мачехи, как объявил, что хочет прогуляться к своему дому. Он обратился к Джулии: — Пойдем со мной. Джулия знала, что он этого потребует. Их глаза встретились. — Я… — Пойдем, — повторил Александр. Джулия опустила голову. — Хорошо, я иду, — прошептала она. — Фэй, пойдешь с нами? Фэй растерянно промямлила что-то о том, что ей надо готовить ланч. Джулия и Александр отправились вдвоем, прошли по парку, где цвели крокусы, и по аллее, ведущей к дому. Когда они завернули за угол, Джулия взглянула на мужа. На его лице застыло выражение свирепой сосредоточенности. Казалось, он совершенно забыл о ней. Дом был прямо перед ними. Джулия увидела выгоревшее крыло, почерневшие от дыма кирпичи и камни, разрушенную крышу, окутанную брезентом, как саваном. Она снова уловила запах дыма и увидела злобную игру языков пламени. Она повернула голову, будто прислушиваясь к гудкам пожарных машин. Александр, стоя рядом с ней, вздохнул. — Это еще не так плохо. Я думал, будет намного хуже. Он пошел вперед, ускоряя шаг, и Джулия последовала за ним. Она сжимала кулаки в карманах пальто, чтобы унять дрожь. Когда они приблизились к черным стенам и пустым окнам, огонь показался настолько реальным и так близко, что она испугалась, что обожжется. От чада и дыма из ее глаз потекли слезы. Окна на разрушенной стороне дома уставились на нее, обвиняя. Александр быстро прошел к дальнему концу двора. — Ты не зайдешь в дом вместе со мной? — позвал он. — Я… я лучше подожду тебя здесь, — ответила она. — Я боюсь идти дальше. Александр не слышал ее последних слов. Он уже скрылся за углом дома, направляясь к боковым дверям. Джулия долго ждала его во дворе. Грачи, гнездившиеся в вязах с другой стороны дома, неустанно кружили над головой, но Джулия не видела ничего, кроме жадного, всепоглощающего огня. В конце концов Александр вышел. Он улыбался, но в уголках его рта проявились суровые вертикальные линии. Выражение злобной сосредоточенности усилилось. — Внутри полный беспорядок, но с этим мы справимся. Лестница, панельная обшивка — все сгорело. Но все вернется на свои места. Это лишь вопрос времени и денег. — Как было бы чудесно, если бы это удалось нам, — поддержала Джулия. Но у нее не было ни малейшей уверенности, что это возможно. Он повернулся. — Никаких «если». Это будет. Это должно быть. Послушай, я знаю, что мы можем сделать. Другая часть дома, где кабинет отца и комната домработницы, почти не повреждена. Мы можем поселиться в этих комнатах, пока будет продолжаться реставрация. И мы сможем следить за ее ходом, за всеми работами. Джулия сжалась. — Александр? Это так необходимо — жить сейчас там, внутри? После… Джулия указала рукой на то место, где пожарники положили Сэнди на носилки. Они вынесли Александра, а судьба Джонни Фловера была тогда еще неизвестна. Эти образы казались ей более живыми, чем реальный солнечный мартовский день. — Мы должны жить там, — сказал Александр. Когда он подошел к ней, ей захотелось убежать, отвернуться, но он положил руку ей на живот. — Мы сделаем это не только ради нас, но и для него. — Для него? — эхом отозвалась Джулия. — С деньгами у нас будет неважно, — добавил Александр, словно не слыша ее последних слов. — Похоже, дом не был застрахован. — Я не беспокоюсь о деньгах, — с отчаянием сказала Джулия. Через несколько дней они обосновались в уцелевшем крыле. Не теряя ни минуты, Александр начал разрабатывать план перестройки дома и думать, где взять на это деньги. Его решимость стала почти фанатичной. Он был постоянно занят, а Джулия в одиночестве, отрезанная от него его делами, все сильнее чувствовала свою вину и свой страх перед домом, который обожал ее муж. Они отдалились друг от друга и скоро пришли к тому, что Джулия уже не могла поверить в счастье, которое они испытывали до пожара. Она забилась в свой неуютный угол разрушенного дома, преследуемая своими кошмарами. Временное облегчение наступило незадолго до рождения ребенка. Джулия настояла на том, чтобы рожать в Лондонской клинике для матерей. Фэй и Чина единодушно поддержали ее. Александр позволил им всем распоряжаться, поскольку сам лишь сейчас стал задумываться обо всем, что имело отношение к ребенку. Скоро они вдвоем переехали в квартиру на Маркхэм-сквер и стали ждать рождения ребенка. И все сразу же вернулось на круги своя. Александр работал над сценарием нового фильма, и Джулия с удовольствием готовила ему или слонялась без дела по безопасным знакомым комнатам. Вдали от Леди-Хилла, казалось ей, Александр был так же внимателен и нежен с ней, как раньше. — Я люблю тебя, — твердил он. — Если я пренебрегал тобой, то только потому, что мне хотелось поскорее восстановить дом — для нас троих. — Знаю, — мягко говорила Джулия. Она чувствовала себя такой тяжелой и уже готовой к родам, что могла передвигаться с трудом. Огромным облегчением было для нее жить в Лондоне, рядом с Феликсом, Мэтти и старыми знакомыми местами. Она встречалась с Софией, Мэтти или другими друзьями во время ланчей и покупала необходимые вещи для младенца. Она ходила по детским отделам магазинов, трогая игрушечных ягнят и вертя в руках крошечные одежки, удивляясь, что она тут делает, и неужели у нее действительно скоро будет ребенок. В последние дни беременности она даже подумала, что их жизнь будет такой бесконечно. Однажды рано утром, когда они вместе лежали в постели, у Джулии начались схватки. — Я чувствую, — сказала она Александру. — Это ребенок. Он наклонился над ней и прижал ухо к голому холму ее живота, как будто прислушиваясь к музыке внутри него. — Наш ребенок! Ребенок для Леди-Хилла, — торжествующе заявил он. Он помог ей одеться, спуститься вниз по лестнице, усадил в свой красный мини-автомобиль и отвез в клинику для матерей. (обратно)
Глава четырнадцатая
Июнь. 1960 год. — Просыпайтесь, дорогая! У вас прекрасный ребенок. Очаровательная маленькая девочка. Разве вы не хотите взглянуть на нее? Леди Блисс, вы все еще спите? «Все в порядке, — подумала Джулия. — Они обращаются к кому-то другому. Я Джулия Смит, а ребенок — нет, это чей-то ребенок, но только не мой». Она не хотела просыпаться, потому что тогда снова началась бы боль. Цепляясь за спасительный сон, она могла не подпускать это боль близко к себе. Однако голос настаивал: — Просыпайтесь, дорогая. Сквозь сомкнутые веки она могла видеть пугающе яркий свет. А еще казалось, что живот перетянут чем-то жгучим и тугим. Она поняла, что наконец проснулась, и открыла глаза. Рядом с ее кроватью стояла медсестра в полосатом платье и белой шапочке. Свет резал Джулии глаза, и от этого все тело болело еще сильнее. Но вот туман от анестезии рассеялся, и она поняла, почему она здесь. Вчера — неужели только вчера? — часы мучений, продолжительных схваток, боли, которая то отступала, то возвращалась снова и терзала ее, пока она не закричала. Акушерки держали ее за руки и вытирали губкой лицо. Потом все столпились вокруг нее, и доктор сказал, что таз слишком узкий и придется делать кесарево сечение. Александра куда-то оттеснили, лица в зеленых масках склонились над ней, и — боль, бесконечная боль… А потом ее, полубесчувственную, слабую и изможденную, уложили в постель. И вот наступило яркое утро, и ей улыбалась аккуратная темноволосая медсестра. — Не беспокойтесь, он придет чуть позже. Ведь молодым отцам тоже надо немного поспать. Каким-то образом медсестра подхватила Джулию под руки и усадила ее. Она поправила подушки, и Джулия заметила, что если закрыть глаза и не шевелиться, то боль слегка отступает. — Вас беспокоит рана? — спросила медсестра. — Да, — сказала Джулия. — Доктор обязательно даст вам обезболивающее. Что-нибудь легкое, чтобы не причинить вреда ребенку. А вот и она. Настоящая красавица! Не хотите ли подержать ее? Джулия посмотрела в сторону. Там стояла белая детская кроватка, и медсестра достала оттуда белый сверток. Она отвернула угол одеяла и проворковала: — Вот наша девочка! Ну, иди к мамочке, она ждет тебя. Руки Джулии были непослушными и тяжелыми, но она подняла их и взяла сверток. Он оказался очень легким, удивительно теплым и мягким. Она посмотрела прямо в лицо малышки. Оно было пунцовым, к тому же его прикрывало прозрачное одеяльце, и почти ничего не было видно. Джулия разглядела только маленькие черные реснички, густые черные волосы и крошечный подбородок, казавшийся твердым и упрямым. Итак, после всего — ребенок. Как трудно было соотнести всю пережитую боль с этим маленьким теплым свертком. — С ней все в порядке? — спросила Джулия. — Конечно! Она просто совершенство! Джулия начала рассматривать ребенка. Она ожидала, что почувствует что-нибудь, не осознавая еще до конца, что произошло. Создание было крошечным, но оно определенно существовало. — Благодарю вас, — вежливо сказала Джулия. Медсестра улыбнулась. — Вам еще предстоит познакомиться друг с другом. Я ненадолго отлучусь и приготовлю вам чашку хорошего чая. Джулия встревожилась, когда дверь за медсестрой закрылась, но ребенок крепко спал и даже не шевелился. Девочка. «Моя дочка», — подумала Джулия. Почему-то она была уверена, что Александр хотел мальчика, хотя никогда и не говорил об этом. Она откинулась на подушки, прижимая к себе ребенка. Она очень хотела, чтобы сейчас пришел Александр. Первым посетителем оказалась Мэтти. Она ворвалась в тихую комнату, в руках у нее были цветы и пакеты. Она присела на край кровати и нежно обвила руками Джулию и ее белый сверток. — Я пришла, как только поговорила с Блиссом. Дай-ка взглянуть на нее. Джулия протянула ей ребенка. Мэтти ловко подхватила сверток. — Боже, она такая хорошенькая! Привет, моя прелесть! — прошептала она. Мэтти держала сверток, и в ее глазах блестели слезы радости. «Конечно, — подумала Джулия, — Мэтти умеет обращаться с детьми. Она вырастила своих младших сестер и братьев». Мэтти заметила, что Джулия наблюдает за ней, и рассмеялась сама над собой: — В самом деле, что это я плачу? Моя дорогая, ты такая умница! Страшно было? Джулия притворилась безразличной. — Но ведь все позади. — Блисс сказал, что ты звала меня. И Джесси. Джулия вспомнила со стыдом, что вчера звала всех, кого знала, чтобы они пришли и вырвали ее из объятий боли. — Кажется, я и Бетти звала. Я тогда плохо соображала. Было много крови и все болело. — Блисс сказал, что это их вина. Они позволяли тебе тужиться до тех пор, пока Блисс не заорал, что убьет всех. — Я знала, что она не хотела рождаться. Поэтому все было так плохо. — Но они в конце концов вытащили ее на свет божий, и она чудо! — успокоила Мэтти. Джулия прижалась головой к ее плечу и внезапно почувствовала, что все хорошо, нет, просто великолепно, наполнено покоем, счастьем, а ее страдания закончились. — Посмотри, Мэтти, она открыла глаза. Вдвоем они склонились над малышкой и встретились с ее непроницаемым взглядом. После долгой паузы Мэтти повторила: — Ты умница! И ты такая счастливая! Потом, что было больше на нее похоже, объявила: — Я принесла шампанское. У меня есть тост. Мэтти разыскала стаканы и со звучным хлопком достала пробку из бутылки. Она разлила серебристую пену и подняла свой стакан, глядя на подругу. — За вас! За маму и дочку. «Неужели это я?» — удивилась Джулия. Она выпила шампанское. Сколько же времени прошло с тех пор, как она последний раз вспоминала свою настоящую мать! Интересно, что почувствовала бы эта женщина, если бы узнала, что у нее родилась внучка? Вошла суетливая медсестра с чашкой чая. При виде шампанского она заворчала, поставила чай на столик у постели и, прежде чем выйти, неприязненно взглянула на Мэтти. Несколько мгновений спустя появился Блисс. Джулия сначала даже не поняла, что это он, потому что его закрывала целая пирамида цветов. Все они были белыми: и орхидеи, и розы, и лилии. Он положил их рядом с Джулией, рассыпал по всей постели, а потом наклонился и поцеловал ее. — Спасибо тебе, — прошептал он, — за моего ребенка! Джулия собрала с покрывала несколько цветков и поднесла их к лицу, вдыхая пряный медовый аромат. — Я думала, ты хотел мальчика. — Я хотел именно того, кого ты подарила мне, — сказал Александр. Он наклонился над кроваткой, чтобы посмотреть на дочку. Джулия никогда не видела его таким мягким, таким нежным и беззащитным, даже ночью, в постели, в самом начале их романа. Когда Александр повернулся, чтобы поправить белые покрывала на детской кроватке, натянулась кожа и на тыльной стороне рук выступили шрамы. Тяжело дыша, Джулия смотрела на него не отрываясь. — Знаешь, ночью я сидел здесь и держал ее, — говорил Александр. — Когда тебя уложили в постель. Ты была в безопасности, и она была живая. Дышала. Это были лучшие минуты моей жизни. Мэтти резко встала. Скрипнули ножки стула, на котором она сидела. — Мне пора идти. Надо сегодня еще дочитать новую пьесу. Джулия и Александр кивнули, едва расслышав ее слова, но Мэтти должна была что-то сказать перед уходом. Собирая вещи, она сосредоточилась на сегодняшней работе. Все-таки у нее была работа. Целый год она играла в спектакле «Еще один день» в театре «Ангел», а потом и в других театрах. Последние три месяца она отдыхала, готовясь исполнить роль Мари в киноверсии. Сегодня ей надо было прочитать очередную часть нового произведения Джимми. Режиссерам, продюсерам и другим актерам они представлялись таким же нерушимым союзом, как хлеб и масло в бутерброде. — Как Джимми? — спросил Александр. — А, все отлично. Она больше не спала с Джимми. Он равнодушно оставил Мэтти, переключив внимание на какой-то другой объект. Сначала Мэтти переживала, чувствуя себя отвергнутой и никому не нужной, потом разозлилась. Она снова была одна, но у нее не было времени, чтобы задумываться над этим. Она наклонилась над кроватью и прикоснулась губами к щеке Джулии. Поразительно, что Джулия казалась такой красивой даже сейчас, после мучений, которые продолжались восемнадцать часов и завершились кесаревым сечением. А Блисс был похож на ребенка, которому только что преподнесли такой подарок, о котором он и не мечтал. «У этих двоих все будет хорошо, несмотря ни на что», — подумала Мэтти. Она молилась за них без слов. Еще раз она подошла к кроватке и вдохнула странный теплый запах новорожденного. Она помнила его от детей Роззи. Он проник в ее легкие и наполнил грудь. Мэтти отвернулась и осушила бокал с шампанским. — Мне действительно пора идти. Пока, голубки! Но не успела она подойти к двери, как оттуда донесся шорох и какая-то возня, после чего вошла медсестра Джулии в сопровождении двух других. Они шушукались и подталкивали друг друга. — Можно вас попросить? Ведь вы Мэтти Бэннер? — Да. Для таких случаев у Мэтти была припасена особая отрепетированная улыбка. — Не могли бы вы подписать это для нас? Они протянули ей листочки бумаги. — Моему брату, пожалуйста! Его зовут Тони. Он без ума от вас! Мэтти старательно выводила свое имя, зажав зубами кончик языка, как делала это когда-то в специальной школе для девочек на Блик-роуд, сидя за соседней с Джулией партой. Джулия наблюдала за этой сценой, лежа в море цветов. Ее рука была в руке Александра. Медсестры бурно поблагодарили Мэтти и исчезли так же суетливо, как и появились. Взгляды подруг встретились. На секунду они оценивающе посмотрели друг на друга, как незнакомки. — Я приду завтра, — сказала Мэтти, — если можно. — Как хочешь, — ответила Джулия. Они обменялись воздушным поцелуем. Потом дверь качнулась и закрылась с тихим звуком. Джулия и Александр остались одни. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Так себе. Но могло быть хуже. Его пальцы нежно разгладили складки покрывала над ее животом. — Ты очень храбрая девочка. Джулия поморщилась, а потом рассмеялась. Но смех прервался, и лицо ее снова исказилось гримасой страдания. — Как мне больно! Я сама себя чувствовала беспомощным ребенком. Александр помрачнел. — Я так боялся, что ты умрешь. Он подумал о том, другом пламени, из которого они вытащили ее, а он ничего не мог сделать, лишь сидеть в темной маленькой комнатке и ждать. Он слышал, как бушевал огонь, и ощущал горький запах дыма. Снова смерть. Он не мог отдать ей Джулию. Он сам должен был пойти туда, в эту алчную пасть, если это могло ее спасти… Потом вошла медсестра. — У вас родилась прекрасная девочка. С вашей женой все в порядке. Младенец в кроватке открыл глаза и тоненько заплакал. — Наверное, она хочет есть. — Что мне делать? Александр убрал с постели Джулии цветы и поднял малышку. Неловкими дрожащими пальцами Джулия расстегнула сорочку. Александр приложил девочку к груди матери, но та завертела головой, и пальцы Джулии никак не могли направить сосок в крошечный рот. Джулия казалась себе неловкой и боялась, что одна только тяжесть ее рук может повредить хрупкую головку. Малышка сморщилась, показав десны, шире открыла рот и заплакала. — Я не знаю, что делать, — растерялась Джулия. Медсестра снова проскользнула в комнату. — Дорогая, успокойтесь! Малышке хочется кушать? Смотрите, как это делается. Она приподняла грудь Джулии и направила сосок точно в жадный ротик ребенка. Десны немедленно сомкнулись и младенец стал энергично сосать. — Она знает, что ей нужно, — удовлетворенно отметила медсестра. Джулия смотрела на дочку. Выражение ее лица моментально изменилось от ярости к удовлетворению. Она уже знала, чего хочет, а сколько было ей от роду часов и минут? Сосок заболел от настойчивых десен, и Джулии показалось, что ребенок высасывает ее изнутри. Ее охватила легкая дрожь. — Какая картина! — сказала медсестра. Александр вытащил из-под груды цветов фотоаппарат и попросил ее: — Не снимете ли нас на память? — Пожалуйста, улыбнитесь! Джулия смотрела в объектив, покорно улыбаясь. Щелкнул затвор. — Счастливое семейство, — сказала медсестра и вышла, оставив их. — Как мы ее назовем? — спросил Александр и дотронулся до темноволосой головки. Джулия смотрела на цветы. Белые лепестки лилий причудливо завивались, золотые тычинки густо покрывала пыльца. Лилии казались одновременно и хладнокровными, и полными скрытой энергии. Они были совершенны. — Давай назовем ее Лили, — предложила Джулия. — Лили? Мне нравится. Лили Блисс! Младенец перестал сосать и заснул, наклонив головку. Джулия и Александр посмотрели на него и улыбнулись друг другу. — Я хотел бы забрать вас обеих домой прямо сейчас, — произнес он. — Я хочу, чтобы моя семья собралась в своем доме, в Леди-Хилле. — В Леди-Хилле, — повторила Джулия. Она снова повернула голову и посмотрела на его руки. Неужели она могла быть такой дурочкой и в последние дни беременности надеяться, что все останется по-прежнему? — Я не хочу туда возвращаться. Ее голос звучал резко, и Джулии стоило некоторого усилия заставить его звучать ласковее и тише. — Разве мы не можем пожить еще немного на этой квартире? Александр пожал ее руку. — Мы должны поехать домой, — сказал он. — Леди-Хилл — это наш дом. Джулия опустила взгляд. Их руки были соединены, и сейчас их еще крепче объединяло это маленькое существо, этот кусочек жизни, в котором было по половине каждого из них. Однако она ощущала и расстояние между ними, как будто они сидели в разных концах комнаты. Александр мягко продолжал: — Дома много работы. Она ждет нас. Джулия молча кивнула. Она прошла через таинство рождения новой жизни, обряд, который даже не могла до этого представить, но вдруг она отчетливо поняла, что ничего не изменилось. — Тебе больно? — спросил Александр. Понимание и сострадание светились в его глазах. — Немного. Он погладил ее по щеке. Джулия хотела броситься в его объятия, хотела, чтобы он поднял ее с постели и взял на руки, но ни она, ни он не двинулись с места. — Постарайся сейчас уснуть, — пробормотал он. Затем потянулся вперед и поцеловал ее в уголок рта. — Я еще приду вечером. А теперь — отдыхай. Он надолго задержался взглядом на детской кроватке и вышел. Он ушел. Джулия лежала, свободно вытянув руки. Все закончилось. Пора отдохнуть. Но бледно-голубые стены комнаты, увешанные безобидными картинами, не давали покоя ее воображению, хотя она и стремилась к этому после родов. Перед ней снова предстал силуэт дома, охваченного пламенем. В центре его выгорела черная дыра, и Джулия даже услышала рев пламени, хотя вокруг была жуткая тишина, нарушаемая лишь возней грачей на вязах за окном. Она широко раскрыла глаза, разглядывая голубые стены и картины. Она ненавидела себя за слабость, но слезы покатились сами собой. Александр хочет забрать ее и ребенка в Леди-Хилл, где кошмары и чувство вины будут преследовать ее по пятам. Она поежилась под одеялом и услышала, как Лили сопит и шевелится в своей кроватке. Снова скрипнула дверь, и вошла медсестра. — Слезы? Ну, это лишнее, дорогая. Все молодые мамы думают, что они не справятся. А вам еще так тяжело пришлось, столько всего пережили, бедняжка… От этих слов сострадания Джулия еще острее почувствовала свою беспомощность и растерянность, слезы покатились по щекам на подушку. Медсестра протянула ей носовой платок, убирая тем временем шампанское и бокалы. Тяжело дыша, Джулия вытирала лицо платком. — Ничего страшного. Через несколько дней вы поправитесь и будете как новенькая, и пойдете домой с мужем и ребенком… Джулия с тревогой обвела комнату взглядом. — Но мне здесь хорошо, — невнятно произнесла она. — Я не хочу выходить отсюда. Медсестра сочувствующе посмотрела на нее. — Я всегда считала, — сказала она, — что мамам лучше быть вместе, в общей палате. Там они общаются и ободряют друг друга. Думаю, вы здесь, потому что занимаете в обществе определенное положение. «Я? Кто я? Я больше не Джулия Смит, но я и не леди Блисс. Я жена Александра. Мать ребенка. Кто я?» — с отчаянием подумала Джулия. — Сейчас придет доктор, чтобы осмотреть вас, — сказала медсестра. Вошла женщина в белом халате с пепельно-седыми волосами. Джулия утомленно откинулась на подушки и покорно позволила себя обследовать.Джулия оставалась в клинике для матерей две недели. Дольше, чем было необходимо, но Джулия убедила доктора, что еще недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы выписаться через десять дней. Толпы посетителей приходили к ней, чтобы выразить свое восхищение Лили. Младенец уже не был ужасного красного цвета, как в первый день, и, пожалуй, действительно девочка была такой красивой, как все говорили. В числе посетителей была Бетти. Она принесла малышке платьице, украшенное розовыми лентами, и коробку шоколадных конфет Джулии. Джулия неловко обняла мать и поцеловала в щеку. — Спасибо, — сказала она. — Я понимаю, что этого слишком мало, но я просто не знала, что принести, что тебе нужно… Бетти сопровождала свои слова нервными жестами. Комната была полна цветов. — Спасибо, что пришла. Бетти присела на краешек стула. С тех пор как Джулия вышла замуж и умер отец Блисса, их отношения изменились. Как будто Бетти теперь была дочкой, а Джулия — матерью. Бетти внимала рассуждениям Джулии, умаляя себя и осуждая собственную жизнь. Никто другой не придавал социальному статусу столько значения, никто так четко не определял все его степени, как Бетти, и совершенно очевидно, что Джулия высоко вознеслась по сравнению с ее собственной орбитой. Джулия раньше гордилась своей независимостью, сейчас ее душевное равновесие было подорвано. Она была бы более счастлива, если бы продолжила работать у Трессидера, и Бетти одобрила бы ее работу. По крайней мере, это было ее собственным делом. Сейчас она стала всего лишь женой Александра и, постоянно задумываясь над этим, осознавала, что превращается в то, за что сама презирала Бетти. Джулия удивлялась, что все случилось так быстро. Она хотела поговорить с Бетти, спросить, что она чувствовала, принося в жертву свои амбиции, но их отношения были слишком натянутыми, чтобы вести откровенные разговоры. Бетти отдалилась от нее, и нынешние отношения, отношения не более чем знакомства, не предполагали сближения. Они держались почти официально и говорили только о ребенке. — Ты гордишься ею? — спросила Бетти. Джулия пока ощущала больше замешательства, чем гордости, когда представляла, что должна принять на себя всю полноту ответственности за другого человека. Но она утвердительно кивнула, и Бетти вполне устроил такой ответ. — Она похожа на тебя, когда ты была младенцем. Но ты была тогда больше. Мы даже не видели тебя, пока тебе не исполнилось шесть недель. Впервые после того давно прошедшего дня и разговора на площади она упомянула об удочерении Джулии. Тщательно подбирая слова, Джулия произнесла: — Это так странно. Как будто получаешь посылку по почте. Тут лицо Бетти прояснилось. Ее глаза встретились с глазами Джулии, и вся холодность и скованность исчезли. — Разве это странно? Это чудесно! Джулия промолчала. Может быть, это и было чудесным, но слишком невыносимой была печаль, сопровождавшая беременность, и слишком тяжелыми были страдания. Она смотрела, как сияло лицо Бетти, когда та склонилась над кроваткой. Она не хотела бы отвлекать Бетти от воспоминаний о младенчестве Джулии, но момент откровенности казался слишком ценным, чтобы его упустить, и она спросила: — Знаешь ли ты что-нибудь о моей настоящей матери? Джулия больше стала думать о ней, когда у нее самой появилась дочь. Вспоминает ли она обо мне? В мой день рождения? На Новый год? Что она почувствовала бы, если бы вдруг узнала, что у нее есть внучка? Она посмотрела на спящую Лили. Может быть, девочка вырастет похожей на нее? Бетти медленно отошла от кроватки, и сияние на ее лице померкло. — Нет. Совсем ничего. Комиссия по усыновлению была очень строгая. Единственное, что мы знали, это что ты… — Незаконнорожденная, — продолжила за нее Джулия. — Да. Джулии стало любопытно, какими еще словами пользовались Бетти и Вернон, когда между собой говорили о ней. Однажды, в тот самый день на площади, одно вырвалось у Бетти: «маленькая грязная девчонка». — Почему ты об этом спрашиваешь? — сердито сказала Бетти. — Я твоя мать. «Ну нет. Очень жаль, но такова истина. И больше это не имеет значения», — подумала Джулия. — Мне просто интересно, — голос Джулии прозвучал ровно и бесстрастно. Через несколько минут Бетти взяла шляпу, перчатки, свою плоскую сумочку и заявила, что ей пора идти, иначе она опоздает на поезд. Они едва соприкоснулись щеками, и Джулия еще раз пробормотала: — Спасибо, что пришла.
Феликс стоял у окна комнаты на Итон-сквер. Солнечный свет отражался от капотов автомобилей, мчавшихся в западном направлении по Кинг-роуд. Вид из окна, деревья в городском скверике напоминали ему о старой квартире и навевали приятную ностальгию. Старая комната Джесси с поблекшими фотографиями на стенах и его собственной драгоценной коллекцией всякого старья… Феликс отвернулся от окна и прошелся по гостиной. Три широких окна были занавешены ситцем в ландыши, произведенным на одной из фабрик «Трессидер дизайнз», отделанным бледно-золотым шелком. Французские зеркала в позолоченных рамах висели между окнами, а напротив стоял столик с коллекцией опаловых кубков. Современные диваны, мягкие и удобные, были завалены обтянутыми шелком подушками, а в альковах по обе стороны камина расположилась пара туалетных столиков с инкрустированными крышками. Это искусное смешение стилей и эпох должно было воссоздать подлинную обстановку английского загородного дома. Комната давала полное представление о вкусах, пристрастиях и способности Джорджа Трессидера устроить свой быт. «Единственное, чего здесь недостает, — подумал Феликс, — так это чувства юмора». Совершенство обстановки производило впечатление безжизненности и выхолощенной стерильности. Вдруг Феликс поймал свое отражение в одном из позолоченных зеркал. На нем была одежда, в которой он работал в офисе: серый костюм, отлично скроенный и плотно облегающий фигуру, и белая рубашка с чопорно накрахмаленным воротничком. По сравнению с таким деловым костюмом его лицо казалось слишком темным, а широкие скулы и полные губы накладывали на его внешность оттенок некой порочной экзотики. Феликс подумал, что производит впечатление человека, требующего определенной эксцентричности вокруг себя. Он улыбнулся и пошел в спальню. Джордж сидел на кровати и разговаривал с кем-то по телефону. — Да. Да. Естественно. Шелк должен сочетаться со всем остальным. Если будет нужно, мы все начнем сначала и пришлем вам новые образцы. Он заметил Феликса. — Мистер Линдсей, этот шелк подойдет. Поверьте мне. Непременно. Как только подрядчики освободятся. Феликс слышал из трубки высокий тявкающий голос клиента, находившегося на другом конце телефонной линии. Он наклонился к Джорджу и слегка помассировал его шею. Разговор по телефону принял привычный оборот, и смягчившийся мистер Линдсей наконец повесил трубку. Джордж посмотрел вверх, вытянул руки и поймал запястье Феликса. — Не стой над душой. Феликс сел рядом с ним. Красное китайское покрывало, которым была застелена кровать, притягивало и возбуждало. Он впервые спал с Джорджем здесь, в этой спальне и на этой кровати. Это случилось после необыкновенно нудного ланча в обществе овдовевшей герцогини. Они раздевались очень медленно и аккуратно складывали свою одежду. А потом они с жадностью и страстью отдались взаимным ласкам. Феликс не встречал столь яростного и ненасытного партнера со времен Дэвида Мендера. С тех пор серые стены спальни стали свидетелями многочисленных экзотических интерлюдий. Джордж Трессидер, человек с богатым и развитым воображением, был изощрен в любовной игре, и Феликс довольно быстро научился потакать всем его вкусам. Они были любовниками больше года и последние шесть месяцев жили вместе, но желание не иссякало, их неодолимо влекло друг к другу. — Джордж? — В чем дело? Домашний Джордж уже превратился в Джорджа-профессионала, который тщательно складывал дизайнерские разработки и наброски в изящный портфель. Джордж никогда не ходил со стандартным кейсом. «Кому охота быть похожим на клерка-счетовода?» — заметил он однажды Феликсу. — Пожалуй, я на полчаса зайду к Джулии, прежде чем поеду в Болтонз. Я все правильно делаю? — Разумеется. Передай Джулии привет от меня. Приблизительно такой реакции Феликс и ожидал. Он уже потерял надежду, что Джулия с Джорджем когда-нибудь снова полюбят друг друга. Джордж ушел на назначенную встречу, а Феликс тем временем вымыл посуду, оставшуюся после ланча. Им не так часто удавалось днем встретиться дома, хотя работали они вместе. Когда такое происходило, Феликс всегда старался накрыть стол. Прибрав на кухне, Феликс поставил в холодильник бутылку, приготовленную к вечеру, и тоже вышел из дому. Он думал о Джордже по пути в клинику, к Джулии. Он даже и не предполагал, что полюбит Джорджа Трессидера, когда Джулия представила их друг другу. Джордж предложил работу, он сразу же согласился, хотя и назвал про себя дизайнера старым педерастом-грабителем. Работая в «Нэшинэл сэрвис», Феликс достаточно насмотрелся на таких типов. Однако через несколько недель Феликс обнаружил, что Джордж вовсе не был хищником-грабителем. Он был хорошим профессионалом, и ему везло в финансовых делах, и хотя он вращался в круговороте вечеринок и знакомых, более или менее близких ему, он был удивительно беззащитным и уязвимым человеком. Джордж был по-прежнему изящен и подтянут, двигался с кошачьей грацией, но ему было уже пятьдесят два. И слишком многие его любовники последних лет любили не самого Джорджа, а его деньги и то, что можно было на них купить. Да и сам он не строит на будущее никаких радужных планов. Он неоднократно говорил Феликсу: — С твоей внешностью и талантами ты можешь получить любого, кого захочешь. А ты водишься со старым ничтожеством вроде меня. Почему? — Я хочу тебя. Я хочу быть с тобой, — отвечал Феликс. Это была правда. Все в Джордже, их обоюдная верность устраивали Феликса гораздо больше, чем череда случайных знакомств и связей с мальчиками, болтавшимися по антикварным лавкам Кинг-роуд. Кроме того, существовала корпорация «Джордж Трессидер дизайнз», и Феликс учился у Джорджа вести бизнес. Он учился постоянно и учился всему. Это переполняло его энергией. Он не хотел ничего менять. Пусть все будет так как есть, и все будет хорошо. Со временем, может быть, он внесет в дело какие-нибудь маленькие изменения, штрихи, черточки, детали, которые пойдут на пользу «Трессидер дизайнз». Джордж сам не решится на эти преобразования. Они будут работать вдвоем и станут лучшей командой в своем деле. В этом Феликс был уверен.
Джулия сидела в кресле в своей палате, листая «Вог». — Феликс, милый! Ты выглядишь довольным и счастливым. Он поцеловал ее в лоб. — А ты, похоже, совсем поправилась. — Да. Завтра меня забирают домой. — В Леди-Хилл? — В Леди-Хилл. Феликс взглянул на нее, потом отвернулся. На столике была ваза с гвоздиками и лавандой, Феликс стал выбирать увядшие цветы. — Я бы хотела остаться в Лондоне, — сказала Джулия. Феликс оставил цветы и сел напротив Джулии. — Ты знаешь, что я люблю тебя? Джулия вздрогнула. Она была немного испугана, но все-таки ответила: — Да. Я знаю. Очень тихо Феликс произнес: — Хорошо. Тогда выслушай меня. Поезжай домой с Александром и Лили. Нельзя отрывать Александра от Леди-Хилла. Постарайся помочь ему. Если он захочет отреставрировать дом… — Дом не был застрахован, — расплакалась Джулия. — У нас нет денег на то, чтобы восстановить дом, как этого хочет Блисс. — Но тебе нужно сейчас поддержать его. Думаю, ты справишься. Все образуется. Ты должна поехать с ним, это лучшее, что ты можешь сделать. Возьми Лили домой. Радуйся, что все вы живы, хотя и нет больше бедного Фловера. Зато Сэнди спаслась. Вы будете снова счастливы. Разве этого недостаточно? Джулия, не надо ничего ломать. Феликс редко говорил так долго. Джулия покачала головой, глядя на него. — Не знаю… Я не могу забыть пожар. Он придвинулся ближе. — Ты должна. Ты можешь. Постарайся — ради Александра. — По-твоему, я эгоистка? Что ж, очень может быть. Но что я могу поделать? Я смотрю на черные стены и слышу рев пламени. Я смотрю на небо — и не вижу его из-за клубов дыма. Ты не пережил такого, Феликс! Ты не представляешь, что это такое. Это моя вина, и я каждый день должна жить с этим. Я виновата в смерти Фловера, и в том, что у Сэнди больше нет лица — оно расплавилось, и в том, что любимый дом Александра превратился в руины, пальцы у него обожжены и он не может больше играть на трубе. Вот с чем я должна жить! Вот что для меня Леди-Хилл. Мы будем счастливы, ты говоришь? Там? Вспоминая об этом? Она закрыла руками лицо, но Феликс мягко отвел их и задержал в своих ладонях. — Разве ты виновата в том, что Фловер и Сэнди поступили так, как поступили? Что дом был старый, сухой и вспыхнул, как щепка? Что Александр был достаточно смелым для своего поступка? — Нет, — прошептала Джулия. — Нет. Но если ты не вернешься туда — это будет твоя вина. Попытайся понять, что в пожаре нет ничьей вины. Речь не только о кирпичах или цементном растворе. Он заметил, что в уголках рта Джулии появились вертикальные черточки. Раньше он их не замечал. Эта перемена огорчила его. Он вспомнил, какими невинными и наивными девочками были они с Мэтти, когда он познакомился с ними. Неожиданно он спросил: — А до пожара ты была счастлива с Александром? В Леди-Хилле. — Да, я была счастлива. Он ждал, что она скажет еще что-нибудь, но она молчала. Наконец изменившимся голосом Джулия тихо проговорила: — Ты прав, конечно. Мы вернемся туда, и я постараюсь, чтобы все было хорошо. Обещаю тебе. — Молодец. Сделай так, — сказал Феликс. Похоже, разговор исчерпал себя. Джулия высвободила свои руки из рук Феликса, поднялась и прошлась по комнате. Она потрогала увядшие цветы и бесцельно перебирала на столе книги и журналы. Стоя вполоборота к Феликсу, она сказала: — Когда-то у нас с Мэтти был идеал. В то время мы уехали из дома. Мы хотели быть свободными, чтобы ничто и никто не сдерживал нас. Она говорила так быстро, что слова не успевали одно за другим. — Никаких условностей, никаких стереотипов. Мы хотели устанавливать свои правила. Новый Завет свободы, созданный Мэтти Бэннер и Джулией Смит! Она рассмеялась, как будто это было очень забавным. — Да, Мэтти свободна, не так ли? Она актриса, она всегда этого хотела. Она — знаменитость! Даже медсестры в этой клинике просят ее автограф. А я? Я — жена Александра. Она замолчала и пересекла комнату. Шесть шагов — и она стояла у детской кроватки. Лили проснулась, и Феликс услышал, как она захныкала. — Вот еще и ребенок. Мое дитя, Феликс! Я не видела, как она родилась, но шрам — тому доказательство. Она снова засмеялась с нотками сарказма. — Не понимаю только, почему все случилось так быстро. Феликс кивнул. — И теперь вы с Мэтти больше не общаетесь? — О чем ты говоришь? Конечно, мы встречаемся, разговариваем. — Я уверен, Мэтти с удовольствием поменялась бы с тобой местами. Джулия нахмурилась, не желая прислушиваться к его словам. — Смешно! То, что ты говоришь, смешно. — Ладно. Сейчас речь идет не о Мэтти. Но ты сделала выбор. Есть куда более худшие способы потерять свободу, чем у тебя. Александр тебя любит. Это любому ясно, достаточно лишь посмотреть на него. Она попыталась изобразить жестом, что отстраняется, не хочет слушать его, но ее лицо исказилось. — Знаю. Поэтому я вернусь в Леди-Хилл. Я сказала тебе. Я люблю его и собираюсь стать Лили хорошей матерью. Мы восстановим дом, и я больше не буду зажигать свечей на рождественской елке. К черту! И я больше не заплачу как дура. Феликс стоял позади нее, держа за руку и касаясь подбородком ее макушки. — Рад за тебя. Ты правильно решила. А огонь уйдет, погаснет со временем, ты знаешь. Джулия? — Да? — Если я тебе понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. Она кивнула. Ее волосы были гладкими и теплыми. — Спасибо. Я запомню это. Лили громко заплакала в своей кроватке. Джулия поднесла руку к воротнику блузки. — Я буду кормить ее. Грудью, как настоящая мать. Хочешь остаться и посмотреть? Феликс усмехнулся. — Я хотел бы нарисовать тебя, если позволишь. Но не сегодня. Мне надо идти делать замеры в доме клиента. Джулия подняла Лили, придерживая одной рукой круглую головку с темными волосами. — Я приеду навестить тебя в Леди-Хилле. Знаешь, Александр попросил нас с Джорджем помочь вам по интерьерам, когда придет время. Джулия снова села на стул. Она расстегнула блузку, и Феликс увидел бледно-голубые прожилки вен на увеличившейся груди и разбухший сосок. Крики Лили стихли, последовало довольное чмоканье. Джулия подняла голову, глаза ее были ясными. — Хорошо. Приезжай, когда захочешь. Там очень тихо и спокойно. Феликс послал ей воздушный поцелуй, и она вновь склонилась над младенцем. На улице сияло солнце, но Феликс не замечал его. Перед ним был образ Джулии, кормящей ребенка. Неожиданно он понял, какая перемена произошла с ней, какое чудесное перевоплощение совершилось. Не было больше прежней Джулии, Джулии из Сохо и квартирки на площади, она ушла навсегда и больше не вернется, как бы страстно ни хотела этого сама Джулия. Феликс шел по направлению к новому дому в Болтонз, но радость и очарование летнего дня покинули его.
Красный автомобиль стремительно проскочил в каменные ворота. Джулия прищурилась, когда они выехали из тени в сияние дня. Александр притормозил, Все было как в первый раз, когда он привез Джулию в Леди-Хилл. Они выбрались из машины и побежали к дому. — Посмотри на розы, — сказала Джулия. Сад обрамляла стена из красного кирпича. Каскады гвоздик медного цвета спускались вниз. Бледно-золотые и серо-зеленые стрелы вербены вздымались вокруг клумб с розами. У ограды возвышалось раскидистое буковое дерево. Его листья потеряли свежесть раннего лета, их глянцевая зелень напоминала о том, что лето скоро уже пройдет. — Какой чудесный сад, — прошептала Джулия. Где-то очень близко пел черный дрозд. Джулия медленно повернулась и посмотрела на дом. Он был окружен лесами, которые почти полностью скрывали фасад, но не могли заслонить обуглившийся остов крыши. Кирпичные стены потемнели от копоти. Джулия мысленно приказала себе не чувствовать запах дыма. Было тихо, только пение птиц нарушало тишину. Присмотревшись внимательнее, Джулия заметила, что в доме идут работы. Две или три массивные балки были заменены. Новое ярко-желтое дерево выделялось на фоне черных, обгоревших стен. Александр удовлетворенно заметил: — Неплохо. Они стараются. К будущей зиме у нас будет новая крыша. Он вернулся к машине. Лили спала там на заднем сиденье. Александр вынул ее, завернутую в белое одеяло, поднял высоко и произнес: — Смотри, Лили! Мы дома. Это твой дом. Так и стояли они втроем перед разрушенным домом. Александр взял Джулию за руку, и они вошли в дом. Нет огня. Пламя погасло. Нет этих страшных искаженных лиц. Джонни тоже нет, но Александр рядом. Джулия стала дышать ровнее. Она вспомнила слова Феликса: огонь погаснет, все пройдет. Она взглянула на Лили и отметила, как бережно Александр держит ребенка. Глаза Джулии были широко открыты. Зал остался таким же, как был, когда они уехали отсюда. Дом казался еще более заброшенным после прихода строителей. На полу валялись куски брезента, горы инструментов, в углу зала стояло ведро с цементным раствором. Кто-то наверху насвистывал песенку. С лесов спустился человек, Александр обменялся с ним рукопожатием и представил жене. Это был мастер, заведующий работами. Он сказал: — Добро пожаловать домой, сэр. Мое почтение, леди Блисс. — Джулия, — автоматически отозвалась она. Александр был спокоен. Деловито и обстоятельно он беседовал с мастером. Джулия смутно улавливала из разговора отдельные фразы: смета… слабо фиксированная структура… новые стропила. Как будто они говорили на иностранном языке. Джулия взяла Лили из рук Александра, прижалась щекой к головке ребенка и подумала: «Ты на моей стороне. Я знаю, ты за меня. Что будет для тебя главным в жизни? Люди — это главное, Лили. Всегда помни об этом». Джулия была удивлена внезапным приливом чувств. «Этот… дом… Этот дом — надгробный памятник мне и Александру и бедняге Джонни. Или мне одной. Во всяком случае, сейчас». Она отвернулась. Очень хотелось бежать отсюда. Александр заметил это и взял ее руку. — Я зайду к вам позже, мистер Миннз. Крыло дома, в котором обосновались Александр с Джулией, почти не пострадало от пожара. Маленькая комнатка на первом этаже, служившая сэру Перси кабинетом, превратилась в их гостиную. Они перенесли туда два старых дивана и пару кресел, бюро и столик с резными ножками, турецкий ковер, который был такой огромный, что не помещался в этой комнатке. Дальше по коридору, в бывшей оружейной, они устроили кухню, а наверху у них были две спальни и нечто вроде ванной комнаты.
— Здесь не слишком просторно, — сказал Александр после того, как они переехали сюда из домика мачехи Александра. — И все-таки здесь больше места, чем там, где мы жили с Мэтти, Феликсом и Джесси, — грустно сказала Джулия. Александр принял это за проявление стоицизма и решимости и нежно поцеловал ее. — Молодец, девочка моя. Нам вдвоем будет тут относительно уютно. И ребенку тоже, когда он родится, — сказал он тогда.
Джулия прислонила Лили к плечу и обвела взглядом комнату. Она была заново покрашена в желтый цвет, картины и украшения старательно подобраны. В вазах стояли огромные букеты из цветов, которые росли в саду. Здесь стало намного уютнее по сравнению с тем, что было до их отъезда, но на Джулию это почти не произвело впечатления. — Как жаль. Извини, — сказал Александр. Джулия удивленно посмотрела на него. Он пожал плечами. Он не сердился и не иронизировал. Выражение лица у него было как у провинившегося мальчишки. — Я не должен был вести тебя туда и оставлять, пока разговаривал с Миннзом. Но для меня так важно было посмотреть на работы, я хотел увидеть все, что они сделали. Кажется, что несколько месяцев прошло с тех пор, как мы уехали отсюда… Он колебался и надеялся, что она поймет и поддержит его. Он подошел к окну и прижал ладони к стеклу. — Я хочу снова видеть его. Я хочу, чтобы он возродился и жил — для нас троих. Александр подошел к Джулии, положил руки ей на плечи, а она еще крепче прижала к себе ребенка, словно пыталась защитить его. А может, она сама искала защиты у младенца. — Ты понимаешь? — спросил Александр. — Стараюсь. Я очень хочу понять, — ответила она. «Нет, — настойчиво заявил внутренний голос, — да и могу ли я?» Александр поцеловал ее. — Я приготовлю чай. Тебе нравится, как покрасили стены? — Очень! Краска такая яркая. Александр ушел на кухню. Она слышала, как лилась вода, и как потом закипал чайник. Джулия положила Лили на диван и подошла к окну. Газоны не мешало бы подстричь, зелень была в расцвете своего летнего великолепия. Джулия вернулась к столику и потрогала лепестки роз. Язвительное выражение совершенно исчезло с ее лица, когда она подошла к бюро, где лежала почта — письма, адресованные им обоим, и примерно дюжина — только ей. Она перебрала их. Джулия сразу же заметила тонкий голубой конверт с маркой США. Ей не надо было долго разбирать почерк: даже два года спустя она безошибочно узнала его. Она знала его так же хорошо, как свой собственный. Она вынула конверт из пачки, ощущая, как похрустывает под пальцами тонкая бумага. Вошел Александр с подносом и чайником. — Есть что-нибудь интересное в почте? — Нет, не думаю, — солгала Джулия. Они пили чай вдвоем, обсуждая реконструкцию дома и то, успешно ли справляется мистер Миннз со сложными работами. Александр решил посвятить Джулию в свои планы. — У нас возникли некоторые проблемы с налоговыми инспекторами. Факты есть факты, мы не в состоянии их изменить. Если страховая компания заплатит, денег хватит только на оплату основных работ: внешние стены и новую крышу. Это минимум. Я заложил землю, чтобы достать денег. Иначе у нас ничего не останется на внутренние работы, мебель, картины. Упущение отца и мое — мы не делали переоценку дома. Со временем мы вынуждены будем продать участок земли. Нам нужны деньги. Джулия кивнула. Она думала о голубом конверте, спрятанном в кармане. Она старалась понять, о чем говорит Александр. — Какая земля? Что мы должны продавать? — Возможно, четыре акра внизу. Это было бы удобно для деревни. Там подходящая земля для застройки. Джулия еще раз кивнула, с трудом представляя себе, как земля между их домом и деревней будет застроена какими-то хижинами. А деньги, вырученные от этой сделки, будут заплачены Джорджу Трессидеру за обои и интерьеры. Джулия рассмеялась и прикрыла рот рукой. — Прости, Блисс. Я вдруг подумала о Джордже. Он улыбнулся. — Смейся на здоровье. Мне это нравится. Как давно мы уже не смеялись. — Надо кормить Лили. От моего смеха у нее может начаться икота. Александр встал. — В таком случае я пойду с Миннзом и оставлю вас одних. Когда дверь закрылась, Джулия нетерпеливо разорвала конверт. На тонком листке бумаги она прочитала: «Милая Джулия! Гарри Гильберт прочитал объявление в колонке «Таймс» о том, что у тебя родился ребенок. Не могу представить тебя замужней дамой, но ведь ты замужем по крайней мере за сэром. И все-таки я могу представить тебя с ребенком, особенно с девочкой. У нее такие же черные волосы и глаза, как у тебя? Как бы мне хотелось увидеть ее! И, конечно, маму, если позволишь. Сколько времени прошло, правда? А кажется, как будто все было вчера. Знаешь, я часто думаю о тебе». Письмо было от Джоша. Дальше он описывал Вэйл и свою работу. Он продолжал заниматься тем, чем занимался в Бразилии. Джулия жадно проглатывала слова. Джош не слишком хорошо умел писать письма, но за этими фразами она могла уловить его голос, интонацию. Казалось, что его энергия переливается в нее, целый поток чистой энергии. Она дочитала до последнего абзаца. «Я полагаю, что сэр Александр — брат Софии. Давным-давно я говорил тебе, что ты должна стать девушкой из общества. И ты ею стала. Что ты на это скажешь? Надеюсь, ты счастлива. Я уверен, что это так. Если позволишь, я хотел бы приехать и убедиться в этом, посмотреть на твоего ребенка и твое английское поместье. А помнишь домик на краю леса? Джулия, Джулия! Надеюсь, что между вечеринками в саду и игрой в гольф ты иногда вспоминаешь твоего летчика». Джулия прочитала все до конца. Нет, между ней и окном никого не было, никакого силуэта, призрака. В комнате была только Лили. Она сказала вслух: «Джош». Ответом была тишина. Джулия разрыдалась, но горькие слезы отчаяния не облегчили ей душу. (обратно)
Глава пятнадцатая
Лили сидела на пледе в тени бука. Ярко светило солнце, пронизывая лучами крону дерева. Дул легкий ветерок. Девочка поднялась, сделала два неуверенных шажка и упала. Потом она поползла по постоянно меняющемуся узору солнечных пятен, обрывая по пути травинки, которые застревали в ее новых белых туфельках. Туфельки и белое с розовым платьице подарила Фэй. Возле пледа Лили валялось множество разорванных оберток и лент, которыми были перевязаны подарки. Честно говоря, Лили больше нравилось мять и рвать яркие обертки, чем играть с желтой деревянной уткой или мягким слоненком, но взрослые, собравшиеся вокруг, все равно одобрительно наблюдали за ней. Она пересекла границу тени и света и села, глядя на клумбу с яркими цветами. Это был ее первый день рождения. София, Тоби и два их сына приехали в Леди-Хилл на уик-энд, чтобы отпраздновать это событие вместе с родственниками. Мальчики быстро соскучились в обществе Лили и детских игрушек и убежали играть куда-то в сад. Время от времени оттуда доносились смех и крики. Александр и Тоби отодвинули стулья от стола и разговаривали, по мнению Джулии, о деньгах. За столом остались четыре женщины: Джулия, Фэй, София и Чина. Чина держалась прямо, ее лицо полностью скрывали поля большой соломенной шляпы. Фэй и София обсуждали последние сплетни, их высокие голоса вплетались в монотонную беседу мужчин. «Какая идиллия, — подумала Джулия. — Чай на газоне в английском поместье. Белые платья и тонко нарезанные сэндвичи». Часы на церкви в деревне пробили пять, она мысленно сосчитала удары и томительно растянутые секунды между ними. Ей стало душно. Лицо раскраснелось, сердце забилось сильнее. Скука, безделие, пустота ясного летнего дня становились все более очевидными. Надо было что-то сказать. Джулии показалось, что Чина внимательно изучает ее из-под полей своей соломенной шляпы. — Сегодня очень жарко, — сказала Фэй. Джулия постаралась ничем не выдать скуки и отвращения, которые она испытывала от этой пустоты. Она преуспела в искусстве притворства, но атаки гостей становились все настойчивее. — Очень жарко, — повторила Фэй громче. — Я беспокоюсь о Лили. Дорогая, по-моему надо прикрыть ей головку шляпой от солнца. Джулия встала. Стол покачнулся, все смотрели теперь на нее. Даже Александр и Тоби прервали на минуту свой содержательный разговор. — Хорошо, я поищу шляпу, если вы так беспокоитесь, — сказала она. Потом взяла поднос и продолжила: — Я заварю чай. Вы не откажетесь от еще одной чашечки? Если бы Джулия и дальше продолжила неподвижно сидеть за столом, словно приклеенная к своему стулу, она могла бы закричать или бросить на пол бело-розовый торт, превратить его в фонтан кремовых брызг. Неся перед собой поднос, она почти бегом пересекла газон, пронеслась мимо Лили, которая с довольным видом засовывала в рот землю с травой, по гравийной дорожке под тисами, пробежала под портиком и достигла наконец двери. Дверь была новая. Прочный добротный дуб. Последние деньги, оставшиеся от страховки за дом, пошли на эту дверь. Работы по реставрации прекратились, мистер Миннз и рабочие покинули дом. Может быть, Александру удастся где-то еще раздобыть денег. Джулия вошла в то крыло, где они жили, и поставила на кухне чайник. Остатки сэндвичей были разбросаны по столу. Ожидая, пока вода закипит, Джулия подошла к окну, уперлась руками в подоконник и выглянула наружу. Эта сторона дома выходила не на сады и деревню, а на открытое пространство сельского пейзажа. Природа дремала под июньским солнцем. Нигде не было видно ни души. Голос Софии, внезапно раздавшийся за спиной, заставил ее обернуться. — Дорогая, ты кажешься немного утомленной. Джулия пошла в комнату. Слова Софии почти заставили ее расхохотаться, но ей в общем нравилась свояченица, и она не хотела бы оскорбить ее. — Да, мне нездоровится. Наверное, я просто устала. — О, дорогая! Материнство отнимает так много сил, правда? «Не похоже, — подумала Джулия, — что сама София об этом много знает. У Софии была няня, а когда та уходила на выходные, за детьми присматривала девушка-помощница». — Нет, Фэй слишком суетится. Шляпа от солнца в июне! В Англии! Когда мы ездили с Джимом и Рупертом на Корфу, они резвились под палящим солнцем целый день, а мы с Тоби… В другой комнате зазвонил телефон. — Извини, — пробормотала Джулия. — Я заварю чай, хорошо? — весело спросила София. Не закрывая двери, Джулия подошла к телефону и сняла трубку. — Джулия, это Джош. Джулия широко раскрыла глаза. Дыхание перехватило. В комнате стало темнее, шум, который производила София в кухне, едва доносился до Джулии. Это его голос. Этот голос невозможно было перепутать с каким-то другим. Все, связанное с ним, нельзя было перепутать со всем остальным. Джулия прикрыла рот рукой и, глядя с опаской на открытую дверь, прошептала в трубку: — Джош? Она услышала его смех. — А ты, кажется, удивлена? — Почему бы нет? Самообладание вернулось к ней. Она ответила на письмо Джоша, написав ему в Колорадо, но ответа от него не последовало. Она ждала — месяц за месяцем, пока тянулась холодная бесконечная зима в Леди-Хилле, ждала, когда наступила весна. Она уже перестала надеяться. — Сегодня ее день рождения. Я не ошибаюсь? — спросил он. — Да. Откуда ты знаешь? От удивления и радости Джулия чувствовала себя очень глупой. — Гарри Гильберт прислал мне ту вырезку из «Таймс». Я храню ее у себя в бумажнике. Ты не подозревала о такой сентиментальности? Поздравь ее с днем рождения от меня. Джулия представила себе кусочек пожелтевшей газетной бумаги среди адресов, визитных карточек и счетов. — Где ты? Так хорошо слышно. Наверное, ты недалеко отсюда. — Я в Лондоне. И я собираюсь заехать к вам. Я хочу купить Лили подарок. Могу ли я увидеться с тобой, Джулия? После года молчания. После всех лет, прошедших с тех пор, как они расстались. Когда он был нужен ей, он отталкивал ее. Он считал, что делал это для ее же блага. Сейчас она была достаточно взрослой, чтобы самой понять это. И еще она поняла, что любит его по-прежнему. Не колеблясь, она ответила: — Да. — Когда? Джулия слышала, как на кухне София звенит посудой. Она вдруг испугалась, что свояченица войдет и услышит их разговор. Джошуа Флад? Боже, как замечательно! — Сейчас не самое подходящее время, — настойчиво прошептала она. — Оставь свой номер телефона, я перезвоню. Он продиктовал цифры. — Спасибо за звонок. Надеюсь, скоро увидимся. До свидания! Она повесила трубку. Листок, где был записан номер, сложила несколько раз, пока тот не превратился в маленький квадратик бумаги, и спрятала его далеко в карман платья. На кухне София убирала со стола, мурлыкая какой-то мотивчик. «Она слишком хорошо воспитана, чтобы подслушивать чужие разговоры, или ей просто все равно, о чем другие говорят по телефону», — с облегчением отметила Джулия. Но когда София увидела выражение лица Джулии, она с тревогой спросила: — Что-то случилось? — Ну… — Джулия побледнела. — А, это звонили насчет цветов для церкви. Не понимаю, почему они обратились ко мне. Раньше они всегда отказывались, когда я предлагала им помощь. София рассмеялась. — Милая моя, ничего не меняется в Леди-Хилле! Когда я окончила колледж и голова у меня была забита всякой ерундой, мы постоянно спорили, что лучше подойдет церкви. Они хотели поставить охапки пурпурных астр в зеленые эмалированные ведра, как делали всегда… София продолжала болтать, пока они не вышли из дома на улицу. Солнце стояло уже не так высоко. Стены, газоны и листва деревьев были залиты ровным светом. Скука Джулии исчезла без следа, и мрачная депрессия, которая терзала ее последние несколько месяцев, отступила. Пара мотыльков, играя, пронеслась над травой и цветами, и Джулия заметила облачко пыльцы, задержавшееся в теплом безветренном воздухе. «Прекрасный день, — подумала она. — Разгар лета. Джош…» — повторила она про себя, дотронувшись кончиками пальцев до укромно спрятанного квадратика бумаги. Они присоединились к сидящим за столом. Александр улыбнулся. Джулия поняла, что он заметил сияние на ее лице. Он усадил Лили к себе на колени, и его одежда была испачкана землей с клумбы. — Где же она? — спросила Фэй. — Что? — не поняла Джулия. — Вот чай. — Шляпа от солнца! Все за столом рассмеялись, и Джулия — вместе с ними. Ей было легко и радостно. — Я забыла! — Ладно, — снисходительно покачала головой Фэй. — Не имеет большого значения. Тем более, что уже стало прохладнее. Приняв как можно более равнодушный вид, Джулия спросила: — Не желает ли кто-нибудь чаю?Вечером после того как Лили и мальчиков уложили спать, был дан семейный ужин. Джулия готовила, проворно снуя по кухне и лихо импровизируя с приправами, как делал это Феликс. Тоби сидел в комнате с газетой и стаканом виски с содовой. София расстелила скатерть и пошла на кухню помогать Джулии, точнее, вовремя и не вовремя восхищаться откуда-то из-за спины. — Кто научил тебя так превосходно готовить? — Но ведь ты еще не пробовала! Мой друг Феликс. — Этот черный парень? Художник? — Да, он. Холодность Джулии, как обычно, не подействовала на болтливую Софию. — Элизабет Сингер говорила, что он чудесно оформил ее комнату. В серых и розовых тонах, как будто сидишь внутри облака. Ты правильно сделала, познакомив его с Джорджем… Джулия посмотрела в окно. Наступал вечер. Небо стало серым, и лишь на западе горел красный закат. Пышная листва деревьев представала в сумерках тяжелой серой массой. Александр и Чина медленно шли по траве к дому и о чем-то оживленно беседовали. «Они ходили, — предположила Джулия, — собрать зелени на грядке в дальнем конце сада». Весной Джулия засеяла ее, и к ее немалому удивлению, там выросли петрушка и кервель. Чина сняла шляпу, и Джулия могла разглядеть черты ее лица и тугой шиньон, закрепленный на затылке. «Интересно, о чем они разговаривают?» — подумала Джулия. Она все еще ревновала мужа к Чине. Александр и его мать составляли союз, в который никому не было доступа. Проще было бы, рассуждала Джулия, если бы ей не нравилась свекровь. Но она не могла даже возмущаться привязанностью Александра к матери, потому что сама хотела бы обладать присущими Чине аристократизмом и изяществом. Она держалась спокойно и непринужденно даже здесь, в Леди-Хилле, в обществе Фэй и Софии. Джулия продолжала нарезать овощи для салата. Александр и Чина повернули за угол дома и совершенно исчезли из виду. «Что нас ждет? — подумала Джулия. — Я ревную Александра к матери. И к его дому. К этим стенам». Толстые, непробиваемые стены с амбразурами окон восставали против нее всей своей несокрушимой мощью. Она подумала о других стенах, окруженных лесами и сложенных из новых и старых, почерневших камней. «И все здесь, каждый уголок этого дома обвиняет меня в пожаре». Однако настроение Джулии от этих мыслей не ухудшилось. Она впервые подумала обо всем спокойно, равнодушно, она справилась со страхом, и вина ее представилась больше не вселенским кошмаром, а перечнем фактов на листке бумаги. Жуткие мысли и образы исчезли. «У меня есть нечто такое, что невозможно отнять, мое личное, моя маленькая тайна, — подумала она. — Джош. Не только в воспоминаниях, но сейчас, сегодня». Пережитое нахлынуло на нее, и она, не в силах сдержать радости, начала тихонько напевать. — Тебе так нравится готовить. Ты просто счастлива, — заметила София. Александр и Чина зашли в кухню. Чина протянула ей зелень. — Этого хватит? Или слишком много? Я не хотела совсем опустошать твой огород, но эти приправы такие красивые и так хорошо пахнут! Джулия взяла травы и улыбнулась. — Здесь все замечательно растет! Стоит отвернуться, и за твоей спиной зелень вырастает сразу на фут. Я нигде такого больше не видела. Это похоже на чудо. Александр обнял ее жестом собственника. — Как здесь пахнет! Спасибо тебе за дивный ужин. — Надо добавить эти приправы, — сказала Джулия, — все почти готово. Шампанское будет? — Конечно, у нас будет шампанское. — Александр достал две зеленые бутылки с золотой фольгой. Джулия отогнала прочь воспоминания о Джонни Фловере. — Поднимем тост за мою жену и дочь. За счастье и день рождения. Вечер удался. Они ели, пили и говорили о всякой чепухе. Фэй и София, улыбаясь, спорили друг с другом, сидя по обе стороны от Александра. София становилась все более похожей на мать. Чина и Тоби изредка вставляли умные замечания. Джулия была хозяйкой положения, шутила, смеялась и подбадривала их. Играя бокалом с шампанским, она поворачивала его так, что пузырьки искрились на свету. Александр любовался женой, лицо его сияло. Поздно вечером Фэй, София и Тоби, завернув своих спящих мальчиков в одеяла, отправились по темному саду к домику Фэй. Александр пошел провожать их, освещая дорогу фонариком, а Джулия и Чина вдвоем начали мыть посуду. — Сегодня ты выглядишь счастливой, — сказала Чина. Джулия уставилась на потоки грязной воды, чтобы взглядом случайно не встретиться с Чиной. Она испугалась, что та поймет, что происходит. Джулия была уверена, что Чина все замечает и все знает, хотя и говорит мало. — Разве я обычно не кажусь счастливой? — мягко спросила Джулия. Помолчав секунду, Чина сказала: — Нет, не всегда. Надо было что-то ответить, и Джулия начала оправдываться: — Правда? Пожалуй, мне не так просто было привыкнуть к такой… к совершенно другому образу жизни. Нужно растить Лили. Мне кажется, здесь так одиноко. Александр занят. Работы по дому и музыка отнимают у него слишком много времени. По крайней мере это было правдой. Пока рабочие занимались восстановлением Леди-Хилла, перестройка дома полностью захватила его. Он не ограничился наблюдением. Он карабкался по лесам, подавал кирпичи, мешал цементный раствор и брался за любую черную работу, страстно желая ускорить реставрацию дома. Иногда Джулия наблюдала за выражением его лица. Оно пылало от рвения, а ей оставалось лишь отворачиваться и возвращаться в замкнутый круг ревности и вины. Когда закончились деньги, полученные от страховой компании, и был израсходован их небольшой капитал, Александр пустился на заработки. Он принимался за любую работу, которую ему предлагали, часами просиживал за роялем и над своими записными книжками. Потом он решил, что возможностей заработать гораздо больше в Америке, и совершил два длительных путешествия — в Нью-Йорк и на Западное побережье — в поисках работы в кинематографе. Джулия хотела поехать вместе с ним и Лили, но Александр не взял их с собой, посчитав, что им неудобно будет путешествовать в дешевом классе. Джулия спросила, не может ли она поискать работу, чтобы внести свой вклад в восстановление дома, но Александр решительно отверг ее предложение. — Твоя забота — это Лили, — произнес он, улыбаясь им обеим. — Более чем достаточно, по-моему. Джулия поджала губы и переменила тему разговора. Она тщательно терла тряпкой посуду и напряженно соображала, что еще сказать. Чина явно ожидала продолжения. Она молчала, прислушиваясь к тишине. — И внешне это проявляется именно так? Конечно, Чина умела выражаться коротко и ясно. Внешне. Это хорошоподходило для определения простых вещей, но не для таких запутанных, как чувства и взаимоотношения Джулии и Александра. — Думаю, да, — солгала Джулия. Платиновая головка Чины кивнула, и она еще раз протерла тарелку, хотя та была совершенно сухой. Джулии очень хотелось сказать ей правду. Пусть не о Джошуа, но о том, что сегодняшний телефонный звонок заставил кровоточить старые раны. О том, что Александр, Лили и Леди-Хилл — все вместе заключили ее в тесные рамки, вырваться из которых неимоверно трудно. О ревности — даже к тебе, Чина, о чем ты даже и не догадываешься. О своем превращении в жену Александра и мать Лили, которое лишило Джулию права быть самой собой, о своей вине, о запахе дыма, ночных страхах и жутких привидениях этого дома, о том, что все это объединилось, чтобы уничтожить любовь. Раньше она любила Александра, но это прошло, — она ощущает только пустоту и скованность. Она перестала понимать его. Он был по-прежнему нежен с ней и столь же бескомпромиссным и прямым по отношению к тому, во что верил. Они были женаты, только и всего. Джулия хотела, чтобы он был рядом, но сегодняшний день показал, что хотела она не только этого. Она жаждала и другого — с отчаянием человека, пристрастившегося к наркотикам. Она подняла голову и посмотрела прямо в глаза Чине. — А вы были счастливы, когда жили здесь? Возможно, Чина даст ей ключ к разгадке ее собственной жизни. Мать Александра очень осторожно поставила тарелку на пирамидку из тех пяти, которые она уже вытерла раньше. — Мой муж был человеком с очень тяжелым характером. С ним невозможно было жить, — сказала она. — Не думаю, что Александр такой. Джулия поняла, что это предупреждение. Чина приняла ее в качестве жены Александра. Это удивляло Джулию, когда она размышляла об этом. «Многое во мне было для нее неприемлемым», — думала Джулия. Но раз она вышла замуж, то приличия будут соблюдены. Она — законная супруга Александра, и этого достаточно. Разумеется, Чина всегда будет на стороне Александра, и она не позволит невестке доверять ей свои сомнения и страхи. Джулии это тоже казалось вполне естественным. Этого и следовало ожидать. — Конечно, нет, — пробормотала она. Она вылила воду из тазика, в котором мыла посуду, и насухо вытерла его. Она услышала, как Александр вернулся и запирает двери на засов. Мгновение спустя он появился на кухне. Увидев их вместе, Джулия была как никогда поражена их сходством. Сходство заключалось не столько в чертах лица, сколько в характерности этих черт. — Я пойду наверх, — сказала Чина. Александр поцеловал ее в лоб. Джулия чуть не закричала: «Но ведь я здесь! Любишь ли ты меня, как раньше? Больше, чем ее?» Неожиданный приступ ревности охватил ее. И, найдя противоядие, она вспомнила о Джоше. — Надеюсь, вам будет удобно в комнате Лили, — вежливо сказала она Чине. — Не сомневаюсь. Спокойной ночи вам обоим! Сегодня был очень хороший день. Чина ушла. Джулия и Александр остались наедине. Выражение его лица оставалось таким же, как во время ужина, когда он смотрел на нее. В уголках глаз появились морщинки. Александр обычно прятал свою нежность под маской иронии, но проявление его истинных чувств глубоко трогало Джулию. Сейчас он был именно таким. Джулия протянула руки, чтобы обнять его, но воздержалась, вспомнив обо всем остальном, что произошло сегодня. — Сегодня ты снова была такой, как раньше, — сказал Александр. — Как раньше? — Да. Веселой и жизнерадостной. Беззаботной, как будто не имело значения, кто что думает и говорит. Я очень люблю тебя такой. — Но если бы ты хотел, чтобы я осталась такой, не надо было жениться на мне. И у нас не было бы ребенка. Произнеся эти резкие слова, она тут же пожалела, что не может взять их обратно. Александр предложил: — Давай-ка лучше присядем и выпьем по стаканчику перед сном. Они вернулись в маленькую гостиную. Там еще стоял запах сигар Тоби. Джулия широко открыла окно и жадно вдохнула свежий ночной воздух. Внезапно ей захотелось закрыть глаза и провалиться в глубокий сон. Александр налил виски, и они присели на диван. — Почему же мне не надо было жениться на тебе? — спросил он. Джулия с горечью воскликнула: — Если бы ты не женился, с твоим домом ничего бы не случилось! Александр редко злился, и гнев его обычно утихал так же быстро, как разгорался, взрывая привычное равновесие. Он схватил ее и больно дернул за руку. — Если бы мы не поженились, ты сейчас не сидела бы рядом со мной. Не было бы Лили. А дом можно отремонтировать. И этот дом будет восстановлен. Джулия отметила до боли знакомое выражение его лица. Решительность, почти одержимость. Она не могла только понять, кому эта одержимость адресована — им двоим или Леди-Хиллу. — Да, — сказала она. — Так и будет. Но сколько это будет стоить? — Я думал, ты не беспокоишься о деньгах, — отрезал он. — Неважно. Сколько бы это ни стоило! «Он делает вид, что не понимает, о чем речь, — подумала Джулия. — Он намеренно избегает разговора на эту тему, потому что не хочет сталкиваться лицом к лицу с некоторыми нашими проблемами». — Почему ты не хочешь быть счастливой? — спросил он резко. — Разве сегодня ты не была счастлива? И это согрело всех нас. Даже Тоби. Но почему только сегодня? — Я была счастлива сегодня, потому что… Надо было сказать правду, но Джулия знала, что она трусиха. «Александр храбрый», — думала она. Уклонившись от ответа и глядя в сторону, она сказала: — Я спросила Чину, была ли она счастлива, когда жила здесь. Она заявила, что ее муж был человеком с очень тяжелым характером. А мой — не такой. Ее ожесточение развеялось, и она слабо улыбнулась. — Еще она сказала, что я должна радоваться тому, что у меня есть. Александр провел по лицу рукой, линии в уголках рта обозначились резче. — Не нужно сравнивать моих мать и отца с нами. Тридцать лет, война и революция разделяют наши поколения. Жаль, что Чина не понимает. Не стоило ей этого говорить. Джулия допила последний глоток виски и встала, глядя на него сверху вниз. — Все в порядке. Она на твоей стороне. Разве это плохо? Я бы хотела, чтобы у меня была такая мать! «Странно, но ведь это правда», — с удивлением осознала Джулия. — Если бы рядом со мной был кто-то, кто поддерживал бы меня, как тебя — Чина! Но такого человека у меня никогда не было. Александр тоже поднялся. Он обнял ее, прижал к себе, прислонив голову Джулии к своему плечу. — Джулия! Я знаю, тебе в жизни пришлось нелегко. Не так, как мне, если сравнивать. Но теперь у тебя есть я, и ты — мать. Тебе двадцать два. Ты уже большая девочка. Ты должна быть взрослой — ради Лили. «Нет, — подумала Джулия. — Я так и не стала взрослой. Я не знаю, какой я должна стать, но пока еще не стала. Может быть, тогда я стану счастливой?» Она прижалась к Александру, спрятав лицо и погрузив пальцы в его свитер грубой вязки, а он успокаивающе погладил ее по голове. Она остро почувствовала собственный эгоизм и тупость, стремление к разрушению, которое было у нее внутри, но вместе с тем она знала, что пойдет к Джошу, сделает все, о чем бы он ни попросил, и покорится своей судьбе. Вернуться назад, в этот удушающий день с чаепитием и пустыми разговорами под деревьями, было невозможно. — Пора спать, — сказал Александр. Чтобы освободить комнату для Чины, они перенесли колыбель Лили в свою спальню. Они наклонились над кроваткой и, затаив дыхание, смотрели на ребенка. Лили спала на спине, широко раскинув руки и ноги, шелковая кромка одеяла касалась ее вспотевшего и раскрасневшегося личика. Мокрые черные волосы прилипли ко лбу. Джулия нагнулась ниже и вдохнула ее запах, прислушиваясь к тихому посапыванию. Любовь неудержимо нахлынула на ее, ей захотелось вытащить из колыбельки этот влажный сопящий комочек. — Лили, — прошептала она, желая прижать ребенка к груди, прильнув лицом к складочкам на маленькой белой шейке. — С днем рождения! Подумай, сколько лет у тебя впереди. Сколько всего впереди! К запаху детской присыпки, чистой кожи и теплой фланели примешался острый запах мокрых пеленок. Ребенок захныкал, Джулия приподняла ее головку, баюкая. — Ты разбудишь Лили, — сказал Александр. — Надо ей сменить пеленки. Джулия положила ее на кровать и расстегнула ее ночные одежки. Пока она вынимала мокрую подкладку и подкладывала сухую, Лили открыла глаза и уставилась на нее осмысленным немигающим взглядом. Странно, но иногда ребенок казался для Джулии немым укором неожиданно свалившейся на нее ответственности, а иногда, в такие моменты, как сейчас, она готова была умереть или убить кого-то за ребенка. Она снова приподняла Лили, поцеловала в уголок рта и отнесла назад в кроватку. Девочка засунула палец в рот и начала шумно сосать его. Наблюдая за ней, Джулия дала молчаливый обет: «Я постараюсь делать все как можно лучше. Даже если не все получится, я постараюсь». Подошел Александр и обнял ее за плечи. — Теперь моя очередь, — сказал он. Он снял с нее легкое платье, в кармане которого был глубоко спрятан заветный бумажный квадратик. Его руки скользнули по бедрам Джулии, задержались на тонкой талии и медленно двинулись вверх, пока наконец не достигли груди. Джулия гордилась своим новым, чувственно округлившимся телом, когда кормила Лили. Но сейчас она снова похудела, груди ее казались еще меньше, чем до рождения ребенка, и она стыдливо прикрыла их рукой. Однако Александр оттолкнул ее руку и начал целовать ее соски, медленно описывая языком круги вокруг них. — Джулия… — Его губы впивались в ее кожу. Руки Александра согрели ее застывшее тело. Она перестала думать об обиде. Сейчас ею овладело куда более мощное чувство. Ее голова запрокинулась, и она сделала глубокий вдох… Она яростно отогнала все прежние мысли, счеты. Сейчас был только этот голод, и оба они чувствовали его. Они знали, чего хотят. Аппетит требовал удовлетворения, и средство было здесь, рядом. — Я хочу тебя, — шепнула Джулия. Она высвободилась из его объятий, отвернулась, стесняясь своего хрупкого тела и взгляда Александра. Потом быстро легла на постель, открываясь ему навстречу. Он устремился за ней, и ее тело выгнулось под его руками. Они жадно целовались. Она расслабилась, на какое-то время отдаваясь наслаждению, затем прошептала: — Подожди. Джулия села, расстегнула его рубашку, вытащила запонки и расстегнула пряжку пояса. Она не видела его лица, пока раздевала его. А Александр между тем внимательно следил за ней. Такой он еще никогда не видел ее. В прошлом он не замечал эту настойчивую, повелевающую Джулию. Сегодня она все взяла на себя. Теперь это была зрелая, более загадочная женщина, чем та девушка, на которой он женился. Она казалась Александру невероятно соблазнительной и сексуальной. Он снова застонал, извиваясь на простыне и почти теряя контроль. Он готов был взорваться, но хотел доказать свое превосходство, войти в нее, почувствовать ее ноги вокруг своих бедер. Александр поймал ее за руку и попытался подмять под себя, но она оказалась более ловкой и проворной, чем он ожидал. Немного поборовшись с ним, она уложила его окончательно. Когда он сдался, она улыбнулась, вытянула над ним длинную белую ногу, подняла все тело, паря над ним и не теряя равновесия, затем опустилась, и они соединились. Но это было еще не все. Александр, скованный в движениях, смотрел на нее снизу вверх. Ее темные глаза были непроницаемы, но ему казалось, что она видит его насквозь. — Подожди, — снова прошептала она. Она начала двигаться, сначала очень медленно, поднимая бедра и снова опуская их, но вскоре ее движения стали резче и порывистее. Она сидела прямо, уверенно, потом ее спина выгнулась, пальцы сжались и она набросилась на него, как кошка. Он почувствовал ее теплое дыхание на своем лице и то, как ее язык ищет его. Их взгляды встретились, властное выражение глаз Джулии немного смягчилось. Она овладела им для своего собственного удовольствия, повелевая им и заставляя его удовлетворять ее требования. Вместе с тем Александр ощущал, что она отдает всю себя, щедро и обильно, как никогда раньше. Они были равны. Внезапно исчезло преобладание одного, и не нужно было бороться дальше. Александр вскрикнул, его тело взметнулось вверх. Руки Джулии расслабленно опустились, голова запрокинулась назад. В это мгновение она забыла и о Лили в ее колыбельке, и о Чине, спящей на узкой кровати в соседней комнате. Ее глаза заволокло туманом, она закричала, и этот триумфальный крик разорвал тишину дома. Они лежали, обнявшись, и голова Джулии покоилась на плече Александра. «Так и должно быть», — подумала она. Но ощущение правильности поступков и того, «как должно быть», снова покинуло ее. Если она и смогла представить их равенство и осуществить его через слияние тел, то отсутствие этого равенства во всем продолжало оставаться реальностью, а реальность всегда вторгается в иллюзии. Возвращалось сознание, а вместе с ним — смущение и неустроенность. Александр пошевелился. Теперь ее голова лежала на изгибе его руки. Она не могла видеть его лица, но вполне могла догадаться о его выражении. Покой и уверенность в себе — то, чего ей самой так недоставало. — Александр? — Да. — О чем вы говорили сегодня вечером с Чиной, когда возвращались из сада? Я видела вас из окна. Вы были очень увлечены разговором. Он тихонько рассмеялся. — Даже не помню. Может быть, о Лили. О доме или саде. Об обыкновенных делах, о которых мы всегда разговариваем. В его голосе звучала сонливость. Джулия кивнула, коснувшись щекой его щеки. — Хорошо, — пробормотала она. Она смотрела на белые занавески, колыхавшиеся на фоне черного открытого окна, слышала, как шевелится во сне Лили. Дыхание Александра стало глубоким и редким. Мгновение спустя она сама погрузилась в сон.
«О черт!» — Мэтти подумала, что это будильник, но, проснувшись, поняла, что звонит телефон. Она не могла ответить. Она не могла даже открыть глаза, но телефон продолжал настойчиво звонить. — Убирайтесь к черту! Оставьте меня в покое. Морщась от боли, Мэтти протянула руку. Кроме скомканной простыни, там ничего не было. Рядом не было никакой ворчливой плоти. Так или иначе, она была в постели одна. Убедившись в своем открытии, она открыла один глаз. Комната была залита ярким светом, хотя занавески были неравномерно опущены. На полу и постели была разбросана одежда; содержимое ее сумочки было вывалено на туалетном столике рядом с полуопорожненной бутылкой виски. Это она помнила. Она хотела выкурить последнюю сигарету и пропустить стаканчик, но никак не могла найти спички. При мысли о виски желудок Мэтти взбунтовался, а во рту появился горький привкус. А телефон все звонил и звонил. Мэтти глубоко вздохнула и села. Стараясь как можно меньше вертеть головой, она перегнулась на другую сторону и среди вороха одежды нащупала путь к телефону. Она с трудом подняла трубку. — Это ты, Мэтти? — А кто же еще это может быть? — Не знаю, у тебя голос какой-то странный. Я подумала, ты вышла. — Точно. Отключилась. Я отвратительно себя чувствую. Сколько времени? — Мэтти, — сказала Джулия. — Уже почти одиннадцать. — Ну так и что? Ты сама не такая уж ранняя птичка. Разве нет? — Лили проснулась в полседьмого. Она каждое утро просыпается в это время. — А, да. Извини. Как она? Прости, я не поздравила с днем рождения. Работа. Ты знаешь, что это такое. — Знаю, — бодро сказала Джулия. — Что с тобой? Мэтти застонала. Поддерживая свободной рукой голову, она после некоторых усилий оперлась на подушки и приподнялась. Комната качнулась и снова встала на место. «Похмелье. Черт бы его побрал». — Если бы я была рядом… Что ты делала вчера? — Кто его знает. Если бы я могла вспомнить. Нет, не получается. Может, так оно и лучше. По вечерам у меня нет выступлений, и в этом вся проблема. Репетиции ужасны, остается столько свободного времени, что занять его можно только выпивкой. Джулия посмотрела туда, где Лили счастливо играла с деревянными кубиками, водружая их один на другой, а затем разрушая с ликующим возгласом. Александр прошел через сад к летнему, полузаросшему травой домику. Там он раскладывал свои записи и ноты по всему столу и мог работать часами. — Не расстраивайся, Мэтти, все пройдет, — Джулия была тронута. Мэтти пожала плечами. Сюда бы чашку чая. Две пинты крепкого чая. Но рядом не было никого, кто мог бы его приготовить. — Джулия, в чем дело? Если ты позвонила только чтобы поболтать, то… — Нет. Это было сказано так резко, что Мэтти на минуту позабыла о головной боли. — Мне надо поговорить с тобой. Джошуа приехал. Он хочет встретиться со мной. Мэтти напряглась, чтобы найти подходящее определение для того, что она думает по этому поводу. Даже в таком состоянии это не заняло много времени. — Надеюсь, ты послала его к такой-то матери? Последовала короткая пауза. Джулия тихо сказала: — Нет, я этого не сделала. Я тоже хочу увидеться с ним. — Так почему ты спрашиваешь моего совета? Ты замужем, Блисс хороший парень. У тебя есть Лили, ты довольна жизнью. — Не надо, — сказала Джулия. — Я осталась такой, как была. Мы с тобой подруги. Можно приехать к тебе на несколько дней, если будет надо? Вот и все. — Солгать за тебя что-нибудь. Ты об этом? — Ты на такое способна? Мэтти рассмеялась, хотя голова от этого заболела еще сильнее. — Ну конечно! Это будет уже не в первый раз. Воспоминания вернули их в те дни, когда они прогуливали занятия на Блик-роуд. Узы дружбы остались нерушимыми, хотя сейчас их многое разделяло. Они всегда могут прийти друг другу на помощь, какие бы внешние обстоятельства ни разводили их в разные стороны. — Спасибо, Мэтти. — А еще я надеюсь, что ты на самом деле не такая дурочка, какой мне сейчас кажешься. Когда ты приедешь? — Завтра. Я собираюсь поужинать с ним. Мэтти уловила в ее голосе возбуждение, настороженность и нескрываемую радость. Отношение Джулии к ее летчику не менялось с тех пор, как она впервые увидела его «У Леони». У Мэтти возникло горькое предчувствие страдания, которое неизбежно последует, и еще она почувствовала сильный укол зависти. Ей хотелось сказать, чтобы Джулия не делала этого, хотелось оградить Джулию от боли, а заодно и ей стало бы легче. Она могла примириться с замужеством лучшей подруги, с ее материнством, с тем, что она — владелица Леди-Хилла, пусть и поврежденного огнем, но ей невыносимо было быть свидетельницей страсти и экстаза чужой любви, хотя бы и недолговечной. «Ну и сука же я, — утомленно подумала Мэтти. — Джулия права. Не надо вообще ничего говорить». — Ну, значит, до завтра. Если хочешь, можешь сразу же пойти ко мне. Я вернусь с репетиции к шести. Ты возьмешь Лили с собой? — Не беспокойся. Фэй присмотрит за ней. Конечно, ей не нравится заниматься этим, поскольку мешает варить джем, или петь в хоре, или отрывает от какого-нибудь другого вида той кипучей деятельности, которой они все здесь поглощены. Но я сказала ей, что собираюсь сходить к своему гинекологу, и этот довод подействовал на все сто. Врачи — это святое, а кроме того, здесь не принято говорить вслух о столь низменных вещах. Мэтти ухмыльнулась. — Ну ты даешь! Увидимся завтра, маленькая авантюристка. Чао! Мэтти повесила трубку и вытянулась на постели, стараясь собраться с силами. Она полностью проснулась, и не было никакого смысла валяться и дальше — она знала это по опыту. Лучше было бы встать и притвориться, что все в полном порядке, а потом, через часок-другой, все на самом деле придет в норму и она сможет делать все, что собиралась. Бывали, впрочем, и такие дни, когда лучше не становилось, но они случались так редко, что не стоило обращать на них внимания. Репетиция в два часа, и у нее достаточно времени, чтобы определить, какой день ее ждет. Очень осторожно Мэтти села и опустила ноги на пол. Голова и желудок сопротивлялись, но явно недостаточно, чтобы помешать ей встать. Волоча ноги, она подошла к окну и отодвинула занавеску. Щурясь от яркого света, она прижалась лицом к холодному стеклу и посмотрела на улицу. Озабоченные и занятые люди, как обычно, торопились куда-то вдоль магазинов на противоположной стороне. Продавец книг опустил голубой выцветший занавес над книгами, прикрывая их от солнечных лучей; ювелир, лавочка которого была по соседству, стоял в дверях и наблюдал за прохожими. Под квартирой Мэтти находилась молочная, и, подавшись вперед, из окна ее спальни можно было увидеть пустые ящики из-под молочных упаковок. А вдали, в конце улицы, можно было разглядеть ограду и фронтон Британского музея. Мэтти нравилось жить в Блумсбери. Это был немодный и нетеатральный район, с множеством маленьких книжных лавок, небольших издательств. На пересечениях улиц ютились магазинчики и невзрачные кафе. Она научилась быть как дома на шумных, беспокойных улицах, находить на них безопасное убежище. Знакомый вид из окна был приятен и успокаивал. Она сразу почувствовала себя лучше. Мэтти одернула ночную сорочку и пошла на кухню. Ее кулинарные способности ограничивались приготовлением концентратов, которые стояли на узкой полке рядом с электрическим чайником. Вообще-то Мэтти очень редко готовила. Обычно она пила чай с пирожными, а когда очень хотелось есть, она спускалась в кафе и заказывала вареное яйцо или бутерброд с ветчиной. В отличие от Джулии, Мэтти не приобщилась к экзотической кухне и не научилась у Феликса готовить. Когда она съедала свою порцию в кафе, то продолжала сидеть там, курить и прислушиваться в разговорам посетителей. Такой была ее личная жизнь в Блумсбери. Были в жизни Мэтти еще и рестораны — до или после вечеринок, куда ее водили те, кто хотел потом с ней переспать. Там она обычно выбирала причудливые кушанья и с видом знатока рассуждала, какое вино подойдет к ним. Чаще она с достоинством отвергала последующие предложения, если ей только не было все равно или если она не была слишком пьяна. Вчера она определенно напилась, но каким-то чудом ей удалось убежать от поклонника. Мэтти вскипятила чайник и заварила чай. Она села за стол с чашкой и почувствовала себя почти здоровой. Если до этого ей было жаль себя, потому что не было никого, кто принес бы ей чай и любовь, то сейчас она снова была собой. «Если бы рядом оказался мужчина, — рассуждала она, — то, возможно, он бы ожидал, что она принесет ему чашку чая. И любви ему хотелось бы еще больше, чем ей, потому что ему, несомненно, было бы еще хуже». Мэтти улыбнулась и залпом выпила чай. Она потянулась за сигаретами, но, вспомнив, что нет спичек, стала перебирать события прошедшей ночи. Началось все, как обычно, с театрального кафе и общения с тремя актерами. День выдался тяжелый, и они по очереди проставляли друг другу выпивку, стремясь поднять настроение. До премьеры оставалось две недели, но казалось невероятным, что к этому сроку все погрешности будут исправлены и дыры залатаны. Они ставили переделанную на современный манер версию «Ромео и Джульетты». Спектакль играли в помещении склада современной одежды. Сцена была черного цвета. Режиссер заявил, что Шекспира надо играть в стиле поколения, воспитанного на «Вестсайдской истории». Мэтти ничего не имела против Джульетты в черной кожаной куртке и с прической, которая напоминала огромный улей, увенчанный черной ленточкой. Такой видел ее режиссер, и Мэтти прилагала все усилия, чтобы сыграть Джульетту именно так. Сложности возникли со стихотворным текстом. У нее не было соответствующих навыков. Ритм сбивался, когда она произносила текст, и слова то слишком растягивались, то сбегались в бессмысленную скороговорку. Режиссер был так поглощен переделкой Шекспира и поиском спецэффектов, что Мэтти приходилось самой барахтаться в своей роли. Она знала, что режиссер с самого начала возненавидел ее игру и взял ее на роль Джульетты только потому, что делал авангардную пьесу и был полон профессиональной зависти к успеху Джимми Проффита. Безысходность положения усугублял актер, исполнявший роль Ромео, — выпускник Королевской академии драматического искусства и гомосексуалист, обладавший жеманными манерами Дорис и Ады, но лишенный при этом их остроумия и пластичности. — Я так отвратительно играю, что готова умереть, — жаловалась Мэтти Тибальту и Меркуцио. — Ты тут ни при чем, — успокоил Тибальт. — Ты играешь не лучше, но и не хуже, чем мы все. Просто вся постановка — полное дерьмо. Они мрачно переглянулись. Ничего не оставалось, кроме как заказать очередную порцию вина. Чуть позже к их унылой компании присоединились музыканты из поп-группы, которые подрабатывали выступлениями в зале неподалеку отсюда, но сегодня концерт отменили. Один из актеров был знаком с гитаристом, поэтому последовала еще выпивка. Разговор, крутившийся вокруг злополучной постановки, переключился на Чабби Чекера. Мэтти воспрянула духом. В музыкальный автомат посыпались шестипенсовики, и они в паре с солистом группы показали остальным посетителям бара отличный твист. После этого кто-то предложил поехать в китайский ресторан. Все втиснулись в фургончик музыкантов между усилителями и инструментами и поехали на Джерард-стрит. Мэтти не слишком нравилась китайская кухня, но после распития нескольких бутылок вина все происходящее в тот вечер подернулось в ее воспоминаниях туманом нереальности. Из китайского ресторана они отправились на какую-то вечеринку, но по пути, проезжая через Сохо, заехали в клуб «Марки» за другой музыкальной группой. Там Мэтти снова танцевала, а потом, качаясь из стороны в сторону, сидела у кого-то на коленях. Это был певец, правда, Мэтти уже не помнила, из какой он группы. Он запустил руки ей под блузку и мял ее груди. Она убирала его руки, пытаясь встать и уйти, но ей нравилась шумная компания, потому что здесь не надо было думать об этой Джульетте, да и вообще не надо было ни о чем думать, поэтому она оставалась там, пила дальше, вместо того чтобы поехать домой и лечь спать. Потом они снова пытались разыскать свой фургон, чтобы ехать на вечеринку. Вокруг было много людей, и вряд ли это были те люди, с которыми она начинала пить сегодня вечером, и в какой-то момент Мэтти заметила, что они оказались прямо перед «Шоубоксом». Монти маячил в дверях, высматривая посетителей. Кто-то заплатил за вход, или Монти просто впустил ее с друзьями, и они отправились смотреть шоу. Шаткие стулья, потрепанный занавес и музыка — все было до отвращения знакомым, как ночной кошмар. Мэтти оглянулась в поисках выхода, но певец обнимал ее за плечи и удерживал на месте, пока его вторая рука настойчиво скользила по ней, как змея. Он что-то бормотал о сигарете, она протянула ему одну из своей пачки и коробок спичек, чтобы хоть на несколько секунд его руки были заняты. Девушки выходили на сцену и делали свою привычную рутинную работу. Глядя на их помятые тела, Мэтти почувствовала жалость к ним и к себе самой. Горькие слезы покатились по ее лицу. «Бедные женщины, — подумала она. — Почему мужчины заставляют их это делать? Почему мы позволяем им?» В пьяном угаре она наклонилась вниз, с силой ударила певца и сжала его так, что он чуть не свалился со стула. Потом она выскочила вперед, к сцене «Шоубокса», и закричала: «Вам это не так понравится, как сиськи девочек, но послушайте, черт бы вас подрал…» Мэтти закрыла лицо руками, вспоминая, что она сделала потом. Она продекламировала предсмертную речь Джульетты: …Я поцелую эти уста. Может быть, на них еще осталась капля яда, и я умру… — Ей-богу, — пробормотала Мэтти, — лучше бы я и в самом деле умерла! Монти спас ее. Он оттащил ее от сцены, затолкал в такси, и каким-то чудом ей удалось выбраться потом оттуда и оказаться дома в постели. Мэтти медленно подняла голову и обвела взглядом комнату. Здесь хотя бы не было свидетелей ее позора. Потом уголки ее губ дрогнули, и она расхохоталась. Она смеялась, пока у нее не захватило дыхание. Она решила, что декламировать Шекспира в стрип-шоу — невыносимо смешно. Она перестала смеяться, вытерла глаза и налила себе еще чаю. — В одном я совершенно убеждена, — сказала она громко. — Больше я капли спиртного в рот не возьму! Никогда в жизни. Решение оставалось непреклонным в течение всего утра, пока она не отправилась на репетицию. Потом, когда она просто проходила мимо паба напротив Британского музея, вспомнила, что не мешало бы перекусить. Она вошла, взяла бутерброд с сыром и один стаканчик вина. «Один — это совсем немного», — подумала Мэтти. И, преисполнившись добродетели, она села в автобус и поехала на репетицию. День прошел в обычной суете, в мелких стычках, и они отрепетировали только две сцены за все время. Как только Мэтти вернулась в свое убежище в Блумсбери, приехала Джулия. Мэтти взглянула на подругу и поразилась: Джулия выглядела точно так же, как в тот день, когда они покинули родительский дом. Голодная и вызывающая, горящая предчувствием будущего. «Готовая к тому, чтобы ее зажгли, — мрачно подумала Мэтти. — На что это похоже?!» Две или три секунды они молча изучали друг друга. Потом бросились друг другу на шею, обнимались и восклицали: — Я скучаю по тебе, Мэтти! — Я тоже! Взявшись за руки, они немного отступили назад. Джулия смущенно пожала плечами. — Спасибо, — сказала она. — Я знаю, что теперь все не так, как в добрые старые дни. Я не просила бы тебя прикрыть меня, если бы это не было так важно. Но видишь ли… Она разрыдалась и отвернулась. Не похоже было на Джулию обрывать свою речь на полуслове. — Это очень важно? — спросила Мэтти. — Это он? Джулия обернулась и посмотрела ей в глаза. Мэтти показалось, что в ее взгляде светится счастье. Очень медленно Джулия произнесла: — Да. Я очень давно не виделась с ним. Но я совершенно точно могу представить, какой он сейчас. Так, словно он только что вышел из этой комнаты. Потому что он был всегда со мной, даже когда я старалась притвориться, что забыла его. Я помню очертания его тела и звук его голоса, запах его кожи, и я люблю каждую его частичку. Это не иллюзия, Мэтти. Я знаю, что ему плохо и почему так, и я знаю все, что с ним происходит. Она высоко подняла голову и развела руками. — Кода я думаю о том, что есть Джош, свет становится ярче. Это как разница между жизнью, с ее волнениями и радостями, горем и страстями, и автоматическим существованием. И я увижу его сегодня. Через час. Словно подводя итог всему сказанному, она тихо добавила: — Ведь ты знаешь, что такое любить. — Нет, — безучастно произнесла Мэтти. — Не знаю. Джулия удивленно взглянула на нее. — А как же Джимми Проффит? — Я не любила Джимми Проффита. Я хотела полюбить его, пыталась себя заставить. Но его не слишком приятно любить. Вот вас с Блиссом я люблю, и Лили, и Феликса, и Роззи, и всех остальных. Не мужчин. Мужчины приходят и уходят, только и всего. Заметив выражение лица Джулии, она попыталась шуткой сгладить впечатление от горьких, но искренних слов. — Успокойся, милая, я не лесбиянка. Разве я посягаю на тебя? Но когда-нибудь ты должна рассказать мне, что такое любовь, что значит любить кого-нибудь. — Мэтти! Однако Мэтти заметила, что Джулия беспокойно смотрит на часы на каминной полке. — Не сейчас, у тебя нет времени. Хочешь выпить, прежде чем уйдешь? Но Джулия уже схватила сумку с вещами и направилась в ванную, чтобы переодеться. — Нет, спасибо! Не волнуйся, я справлюсь со всем сама. Мэтти открыла полупустую бутылку виски, которую утром отставила прочь. Затем, не прислушиваясь к тому, как переодевается Джулия, она снова закрыла бутылку, отложила ее и подошла к окну. Продавец книг уже свернул навес над своей лавочкой, и на стеклянных дверях болталась табличка «Закрыто». Вид улицы успокаивал своим однообразием. Мэтти заметила нескольких голубей, выклевывающих что-то из мусорного бака. Не прошло и пяти минут, как Джулия вышла из ванной. Она надела простое летнее платье в горошек. Лицо ее было сияющим. Она была готова к новым впечатлениям. — Я пыталась сделать макияж, но он смотрелся так, будто я перестаралась, и все пришлось смыть. — А тебе он сегодня и не нужен, — честно сказала Мэтти. — Ну ладно. Джулия стояла у дверей, но ей не хотелось просто убегать и оставлять Мэтти одну. — Иди, — сказала Мэтти. — Желаю приятно провести время. Ты вернешься переночевать? Джулия почти испугалась. — Не знаю! Я ничего не знаю кроме того, что иду сейчас к нему, и я сделаю все, что он ни попросит. — Если позвонит Блисс, я придумаю, как объяснить твое отсутствие. — Да. Спасибо! Когда она уже ступила на порог, Мэтти вдруг спросила: — А как же Блисс? Глаза Джулии были широко раскрыты, но она ничего не видела перед собой. А Мэтти вспомнила о пожаре. — Не знаю, — невнятно сказала Джулия. — Я говорила тебе или нет? Я просто не знаю. Она отвернулась и вышла. Мэтти села за стол. «Нет, ты знаешь, — подумала она. — Ты прекрасно понимаешь, как больно ему будет, если он узнает». Она испугалась. Что-то произошло сегодня между ней и Джулией. От этого чувства повеяло холодом и одиночеством. Но Джулия — ее подруга, а Блисс, летчик, Джимми Проффит и все остальные — просто люди, которые приходят и уходят. Мэтти резким движением открыла бутылку виски и налила себе хорошую порцию.
Джошуа ждал уже целый час. Он знал, что явился чересчур рано, но он не мог удержаться и, сидя на самом видном месте, смотрел на двери, когда они начинали вращаться. Ровно в семь он увидел Джулию. Она вошла в прохладный и просторный зал, быстро взглянула вверх и по сторонам, едва ли интересуясь чем-то, кроме своих воспоминаний о Джошуа. Несколько лет назад, когда они приехали в Венген, Джулия тоже смотрела куда-то вверх. Он не мог сказать определенно, почему выбрал для встречи именно этот ресторан. Может быть, потому, что они уже не дети и не нужно импровизировать и что-то придумывать. Джошуа изменился: раньше он был небесным бродягой, теперь — «антрепренером» неба. «А Джулия, — подумал он, — уже леди Блисс, жена и мать, и кто еще?» Но какими нелепыми показались все его расчеты, когда он увидел ее в противоположном конце зала! Она казалась семнадцатилетней, такой же, как была, когда они встретились. Невозможно было представить, что у нее уже есть ребенок. Она заметила его и устремилась туда. По залу сновали официанты, на пути попадались женщины в вечерних платьях и разные препятствия. Джош поднялся так резко, что высокий столик покачнулся. Он протянул руки навстречу, когда она наконец добралась до него. Они ничего не говорили. Они стояли и смотрели друг на друга, держась за руки. Гул разговоров, звон бокалов, журчание фонтана и помпезный интерьер в стиле рококо — все в эту минуту исчезло для них. Джош медленно наклонился и поцеловал ее в чувствительную ямочку на подбородке. Это было более интимно, чем поцелуй в губы. «И все-таки она изменилась», — заметил про себя Джошуа. Годы резче выделили черты ее лица. Под тонкой кожей обозначились кости, впадины стали заметнее, четче обозначились тени под глазами и у скул. Она стала грациозной, уверенной в себе и красивой, а не своенравно хорошенькой. — Рад тебя видеть, — сказал наконец Джошуа. Джулия быстро села, не отпуская его руки. — Пока я не увидела тебя за столиком, не верила до конца, что ты действительно будешь здесь. Я ехала на такси, смотрела по дороге на деревья в парке и думала: если его здесь нет, я закажу бутылку шампанского. Я сяду, буду пить и вспоминать каждый день, который мы провели вместе. Он с неохотой оторвал взгляд от ее лица, заметив, что кто-то стоит рядом с их столиком. Потребовалась секунда или две, чтобы понять, что это официант. — Что будете заказывать? — Бутылку шампанского? — сказал Джош. Официант принес шампанское, и они подняли бокалы друг за друга. — За тебя, Джулия! — сказал Джошуа. Но она покачала головой, улыбаясь. — Я не достойна, чтобы в мою честь произносили тосты. Давай лучше выпьем за понимание. — За понимание, — отозвался он, уловив, как серьезно она это сказала. Они выпили. Трудно было начать разговор. Окруженные роскошью и людьми, они были немного смущены. Помогло шампанское. Оно развязало Джулии язык, и постепенно они разговорились, осторожно обходя «острые углы». Люди начали расходиться, и соседние столики опустели. В ведерке с шампанским таял лед, но Джулия и Джошуа ничего не замечали. Джулия рассказала ему о Леди-Хилле, о пожаре, о Джонни Фловере и его девушке. — Очень жаль, — просто сказал он. Теперь он понимал, откуда тени на ее лице. Он держал ее за руку, и они оба смотрели на четыре бриллианта в золотой оправе и тонкое обручальное кольцо, подаренное Александром. Когда Джулия стала расспрашивать его о жизни, он рассказал о новых путях, которые проложил, о лыжных базах, на которые истратил уйму денег, о том, где катались его лыжники. — Ты счастлив? — спросила Джулия. Она подумала, что это и не требует ответа. Джош был полон жизни, энергии и присущего ему упорства в достижении цели. Она с болью думала об их близости, о том, как его пальцы гладили нежную кожу ее рук. Джошуа сам для себя был источником счастья, и она ощущала тепло, отражавшееся от него и возвращавшееся к ней, чтобы растопить лед. — Мне нравится то, что я делаю, — ответил Джошуа. — Это хорошая жизнь. Но он думал: «Сейчас я озабочен, чтобы сохранить все как есть. А мне следовало бы больше заботиться о том, чтобы сохранить тебя, Джулия. И когда я вижу тебя…» Он не спрашивал об Александре, а лишь повторил ее вопрос: — А ты счастлива? Она наклонила голову и, улыбнувшись, ответила: «Наверное». Она вдруг отчетливо поняла все. Бесконечные умственные построения, запутанные объяснения и причины не имели больше значения, и простота всего происходящего потрясла ее. Она с Джошуа, здесь, сейчас, остальное не имеет значения. Она улыбнулась и повторила: — Я счастлива этими мгновениями. Этого было достаточно. Они разлили по бокалам остатки шампанского. — Не хочешь ли сходить куда-нибудь поужинать? — полуофициально спросил он. Джулия прямо взглянула в его глаза, ее сердце сильно забилось. — Не думаю, что могу сейчас что-нибудь съесть, — сказала она. Он встал, отодвинул стул, помогая ей встать, и взял ее за руку. — Тогда поехали ко мне, — сказал он. Небо над площадью Пикадилли было темно-синим. Джош свистом подозвал такси, и они сели на широкое сиденье, не глядя друг на друга. Однако они понимали, что происходит между ними. Джулия рассеянно следила из окна за мельканием витрин магазинов с манекенами и думала о жизни своей и Джоша, о том, как расходились и снова сходились их пути. Наконец такси остановилось. Джошуа открыл дверь, она вошла вслед за ним. Дом был почти пустым. Его только начали обставлять мебелью. Пахло новым ковром и клеем для обоев. Все было белым, еще не распакованный диван одиноко стоял в углу. Джулия прошла по маленьким комнаткам, прикоснулась к новой отделке из белого пластика на кухне и вопросительно посмотрела на Джошуа. Это все было слишком постоянным, чтобы принадлежать его миру. — Это дом моих друзей. Сейчас у них медовый месяц, а дом в моем распоряжении, пока они не вернутся и не окунутся в семейное блаженство. Его лицо изменилось. — Прости… Он хотел сказать: «Ты ведь тоже замужем». Джулия прошла в гостиную. Она вспомнила домик на краю леса, как Джош поселился там, переставил мебель и снова уехал. Его друзья. Так много друзей! Все любили Джошуа. Она уже не чувствовала себя особенно счастливой, но пыталась удержать это чувство. На низком прямоугольном столике лежала большая коробка, обернутая яркой бумагой. Джошуа поднял ее и преподнес Джулии. — Это подарок для Лили, как я и обещал. Джулия взяла коробку и посмотрела Джошу в глаза. Он улыбнулся, не понимая, почему она медлит и не распечатывает подарка. — Ну же! Открой. — Джош, ты был уверен, что я приеду сюда с тобой? Это было очень важно. Случилось ли так само собой, или он все рассчитал. Выражение его лица сразу обезоружило ее. Он ответил совершенно честно — она это поняла: — Я надеялся, что ты придешь. Я не отваживаюсь быть уверенным ни в чем, что касается тебя. Он неловко попытался обнять ее, но она уклонилась. — Давай сначала посмотрим подарок. Им оказалась кукла, почти такая же большая по размеру, как Лили. Она открывала и закрывала глаза, плакала и говорила, пила воду и ходила в туалет, как гласила инструкция. — Правда, здорово? — просиял Джошуа. — Она все умеет! Джулия быстро проговорила сквозь зубы: — Нет, она отвратительна — и великолепна! Посмотри на ее лицо! Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Смех был очищающим и простым, он напомнил о старых временах, когда они были вместе, и вычеркивал из памяти все неприятные моменты. Они перестали смеяться и застыли друг против друга. Джошуа сделал шаг вперед и взял ее за локоть, наклонился, поцеловал ее веки, щеки, уголки рта, а когда она повернула голову — шею под тяжелой и теплой массой волос. Пальцы Джулии стиснули его руку. — Я знала, что приду сюда с тобой. Он поднес ее руку к губам и поцеловал кончики пальцев. Они пошли по лестнице, поддерживая друг друга. В спальне стояла низкая белая кровать. Выкрашенные в белый цвет дверцы буфета были заперты от посторонних на ключ. Здесь жили друзья Джошуа. На полу лежала сумка, а на спинке стула висели джинсы — вот и все следы присутствия Джошуа в этом доме. Джулия ожидала увидеть здесь его лыжи, книги, пластинки, одежду, которые окружали бы его и придавали ему вес. А эта неприкрытая ясность, белизна комнаты испугали ее. Она всегда стремилась удержать его, привязать к чему-нибудь определенному, как это было в пансионате «Флора», из окон которого открывался чудесный вид. Сейчас, в этом чужом и странном доме, ее стремление преобразилось в физическое влечение. Волны желания захлестнули ее. Она прижалась к нему, ища ртом его рот, а широко открытые глаза жадно вглядывались в медные, выгоревшие на солнце волосы, поры его кожи, веснушки в уголках рта. Люби меня! Джулия не помнила, произнесла ли она вслух эти слова. Джош стащил с нее платье, обрывая пуговицы. Ее пальцы переплелись с его пальцами. Их одежда упала в кучу. Она услышала его прерывистый вздох. Он распластал ее на постели и взгромоздился сверху. Их губы встретились, но они были слишком безрассудны и полны страсти для длительных прикосновений и игры. Джулия приподнялась, сгорая от желания. Джошуабыл почти груб, овладевая ею. Волны страсти яростно захлестнули ее, выбросили на гребень и потом разлились по всему телу. Джулия закричала рвущимся откуда-то изнутри криком, какого она никогда не издавала раньше. Крик Джошуа слился с ее собственным, и они оба закачались, ослепшие и охваченные экстазом. Когда все закончилось, влюбленные упали в изнеможении, их тела были переплетены. Они тяжело дышали, а их тела были покрыты потом и слезами. Наконец, когда сотрясавшая Джулию дрожь прекратилась и сердце забилось в обычном ритме, она открыла глаза. Щеки Джулии были залиты слезами, и темные глаза Джошуа смотрели прямо в ее душу. — Что мне делать? — прошептала она. В ответ он нежно вытер ее слезы кончиками пальцев. — Сколько у нас времени? Сколько ты пробудешь здесь? — Два или три дня. Я украла их. А что будет потом? Затрепетала безумная, опьяняющая надежда. Она останется с Джошуа. Сейчас она не могла думать о Лили и Александре. — Мэтти соврет что-нибудь за меня. Джошуа отвернулся и смотрел в потолок. Он лежал неподвижно. — Никогда не лги ради меня, — сказал он. — Не лги ради кого-то, кроме себя и Лили. Холод поднялся к сердцу Джулии. «А если все, что я хочу получить от своей лжи, — это ты?» — подумала Джулия. (обратно)
Глава шестнадцатая
Белый домик был дружеским приютом, но в то же время и жестокой насмешкой. Они провели в нем вместе четыре дня, выходя лишь для того, чтобы поесть или прогуляться по Голландскому парку, а затем возвращались обратно к тишине и ничему не обязывающей близости. Джулия лежала рядом с Джошем на белой кровати и оглядывала пустую комнату, пытаясь представить супружескую жизнь среди этих стен, вплетая в воображаемую картину одежду Джоша и свою, висевшую рядом за белой дверью. Однако, как только ее мысли устремлялись в этом направлении, видение тут же начинало тускнеть. Джош был самым безукоризненным и потрясающим любовником из всех, кого она знала. Казалось, он обладал почти осязаемым обаянием. Он говорил с ней о всевозможных вещах так, как будто не существовало разделявшего их времени. Он терпеливо выслушивал ее наивный лепет. Его рассказы вызывали у нее веселый смех, и Джулия чувствовала, что счастье, которое они испытали здесь, могло бы сделать этот маленький домик уютным очагом для них обоих. Но так не случилось, и от этого надежда казалась хрупкой, как осенняя паутина. Джулия напряженно ловила хоть какой-нибудь намек на их совместное будущее, слова Джоша путались у нее в голове, теряя смысл и становясь почти неразборчивыми. В них не было ничего похожего на то, чего она ждала. Ей хотелось закричать: «Это восхитительные мгновения! Но я хочу быть с тобой и завтра, и весь следующий год. Жить такой же обычной жизнью, Джош, какой живут в этом доме твои друзья». Она вслушивалась в то, что он говорит, и смотрела на него, пока у нее не застучало в висках. Внешне он ничем не выдал себя, разве что в его поведении была заметна некоторая настороженность, пугавшая ее. Она ничего не сказала, вспомнив чувство отчаяния, которое испытала в Монтебелле. Оно усиливалось от сознания предстоящей ей теперь потери и от того, что не понимала, чего она пыталась добиться. На третий день, когда оставалось уже так мало времени, что можно было позволить себе не задумываться о последствиях, она позвонила Мэтти. — Блисс звонил? — Разумеется, — спокойно ответила Мэтти. — Вчера, дважды. Утром я сказала ему, что ты отправилась делать покупки. А вечером, что ты встретила старую подругу и вернешься к обеду. Если бы я знала, где ты в действительности, я бы могла позвонить и передать поручения твоего мужа. Полагаю, ты все еще с этим летчиком? — Да, — ответила Джулия. Они обедали в тихих ресторанчиках, держась за руки и глядя на отражение свечей. Они наполняли белую ванну мыльной пеной и вместе погружались в нее. Они засыпали, просыпались, и их руки искали друг друга. И все же они не были вместе. Пальцы Джулии крепче сжали белую телефонную трубку. Она повторила: — Да. Я с этим летчиком. — Не хочешь ли ты дать мне совет, что отвечать Блиссу, когда он позвонит в следующий раз? Знаешь, мне бы не хотелось придумывать очередную ложь. Тем паче, что он этому не верит. — Я сейчас же позвоню ему, — сказала Джулия. — Извини, Мэтти. — Пустяки, — ответила Мэтти. — Надеюсь, игра стоит свеч. Призрачное счастье висело на волоске, но отдельные его моменты были так прекрасны! Джулия опять сняла телефонную трубку, собираясь набрать номер Леди-Хилла. Она представила Лили в кроватке, ее приподнимающуюся круглую мордашку и растопыренные пальчики, тянущиеся, чтобы схватить руки матери. Плечи Джулии поникли от охватившего ее острого желания увидеть дочь. Ей захотелось взять ее на руки, поддерживая рукой влажную, тяжелую головку ребенка, защитить ее, зарыться лицом в складочки нежного тельца. Она представила, как Лили, захлебываясь от смеха, запускает ручонки в ее волосы. И Джулию охватила такая тоска по дочери, что желание увидеть ее стало почти нестерпимым. Эти три дня стены маленького белого домика как бы отгораживали ее от действительности. Даже от Лили, которая значила для нее больше, чем все остальное в этом мире. Мэтти сказала: «Надеюсь, игра стоит свеч». А Джош говорил: «Не лги никому, особенно себе и Лили». И теперь Джулия должна узнать правду. Она должна задать этот вопрос, каким бы ни был ответ. Тихонько положив телефонную трубку, она прошла на кухню. Джош читал газету. Джулия тихо спросила: — Что же мы будем делать дальше? Он опустил газету и взглянул на нее. — Может, сходим в Тэт и посмотрим картины? Стоял прекрасный летний день. Солнце спокойно освещало красные лондонские автобусы с японскими туристами и палисадник у магазина Джорджа Трессидера на Кинг-роуд. Но его лучи не проникали в домик чаек. Это было заточение без света и тени, и Джулия внезапно ощутила страстное желание вырваться из него. Теперь она ясно видела Джоша. Он предусмотрительно опустил веки, и его настороженность стала особенно заметной. — Я не имела в виду то, что происходит сейчас. Сегодня мы будем делать то же, что и вчера, и позавчера. Прятаться и притворяться. Но я хочу знать, что будет с нами через неделю, через год. Она ощутила, как ее захлестнула волна беспокойства. Теперь, когда она задала этот вопрос вслух, ее охватило странное чувство, похожее на ликование. Она вдруг поняла, насколько ее угнетало состояние ожидания и надежды. Джулия хотела давать и брать в равной степени, а не принимать смиренно те крохи, что ей предлагали. Таково было ее убеждение. Она чуть не рассмеялась вслух. Какая может быть надежда, даже сейчас? Но, по крайней мере, она могла спрашивать, о чем хотела, и делала это без притворства. Она прямо посмотрела в лицо Джошу. — Я оставила Александра и Лили, чтобы поехать к тебе в Лондон. Я не хотела выходить замуж за Александра и не должна была заводить от него ребенка, но я сделала это, и ничего теперь не изменишь. Однако я бы хотела избавиться от необходимости лгать им, по крайней мере, из-за тебя. Я должна была сказать им, что еду сюда, понимаешь, но я не сделала этого, потому что слишком боялась. Знаю, я трусиха, но сейчас стараюсь не быть такой. Я приехала сюда, потому что люблю тебя и всегда любила, с самого начала, ты ведь знаешь. И поэтому я спрашиваю тебя, могу ли я остаться с тобой? Джулия подняла руку и провела по глазам, как бы отбрасывая сомнения. — Я спрашиваю тебя, можем ли мы остаться с тобой, Лили и я? Я не могу ее бросить. Я не могу так скверно поступить с ней, понимаешь? Если иначе нельзя, мы поедем в Штаты. Мы можем не вступать в брак, если ты в него не веришь. Просто жить вместе. Обыкновенной жизнью, — Джулия обвела рукой кухонные полки с посудой, новую белую плиту, — как живут эти люди. Потому что знаю, мы можем быть счастливы. Я уверена в этом. После столь длинной речи она с трудом перевела дыхание. Последние слова прозвучали еле слышно. Джош сложил газету сначала пополам, потом еще раз и отложил в сторону. Его взгляд задержался на газете, он медлил, ему нелегко было взглянуть на Джулию. — А как же Александр? — спросил он. — Не спрашивай меня об Александре! — Взволнованный голос Джулии прозвучал резко. Перед ее глазами пронеслись картины. Пожар. Их свадьба. Перевязанные руки Александра. Потом он с Лили на руках. Его работа, разложенная на столе в беседке. Лицо Сэнди. Джулия понимала, что обязана хранить все, что произошло, в себе. Ее страдания никого не касаются. Если она хотя бы раз позволит им выйти наружу, это скажется и на их отношениях с Джошем с той же вероятностью, с какой были отравлены все последние годы. Она не должна позволить ему даже догадываться об этом. — Я беспокоюсь об Александре, — прошептала она. Джош нервно зашагал по кухне. Она следила за ним взглядом, машинально отмечая про себя золотистый загар его кожи, маленький красный ярлычок на заднем кармане его джинсов, манеру сжимать пальцы, тень, отбрасываемую рубашкой с открытым воротом. Она ощутила сильную безраздельную тягу ко всему его существу. — Ты помнишь Монтебелле? — спросил Джош. — Я думала о нем все время с тех пор, как мы здесь. Джош кивнул. — Да. Сейчас ты такая же, как тогда, не правда ли? Там ты была такой неистовой. Даже страшно становилось. Ты хотела получить все, чего не имела раньше. Любовь, опыт и многое другое. — Сейчас у меня уже есть опыт, — печально заметила Джулия. Джош улыбнулся ей, и в этой улыбке было столько тепла, что она сразу поняла, почему он вызывал в ней такое же ответное чувство. — Ничего не закончилось, — сказал он. — Жизнь очень мудрая штука. Она вновь и вновь совершает свой круговорот. И это весьма утешительно. Не думай только, что ты уже все повидала в твои-то двадцать три года. Джулия вздохнула. Она вдруг почувствовала себя смертельно уставшей. — О чем ты толкуешь, Джош? Все это пустые слова. — В Монтебелле я говорил тебе, что не могу дать того, что ты хочешь. Я не хочу жениться или обещать вечную любовь. Я не смогу обеспечить тебе стабильное существование. Пока не смогу. Я не смогу взять тебя с собой обратно, потому что там у меня ничего нет. Это просто место, где я живу, моя работа, положение. А ты хочешь иметь свой дом, пристанище. Ведь так? Все то, что мы делим с тобой здесь. — Он развел руками, обводя пространство. Хотелось рассмеяться над этим странным объяснением, в то время как правда была такой неприкрытой. — Я думал, Джулия, ты это поняла. Она тупо смотрела на него, не в силах ответить. Он продолжил уже менее уверенным тоном: — Я думал, ты приехала сюда развлечься… то есть мы хотели развлечься. Как друзья и любовники. Провести вместе время, потому что мы что-то значим друг для друга. А затем каждый пойдет своим путем, как только это станет удобным, разумеется. Джош прав, жизнь продолжается. Только это было слабым утешением. Джулия презирала себя за тот взрыв отчаяния, который прозвучал в ее мольбе: — Я могу создать уют для нас с тобой. Ты не знаешь, что это такое, потому что тебя оставила мать и ты никогда не имел своего дома. Мы будем счастливы. Я уверена в этом. Обещаю тебе это, Джош. Он шагнул к ней и, взяв за руку, притянул к себе. Она склонила голову к нему на грудь, отдаваясь нежной ласке руки, поглаживавшей ее волосы. Когда он опять заговорил, она почувствовала легкую дрожь в его голосе. — Неужели ты не понимаешь, что я ничего не могу тебе обещать? Я не хочу оставаться на одном месте, с одним и тем же человеком. У меня совсем иной уклад жизни. Я не смогу сделать тебя счастливой. И мне меньше всего хотелось бы причинить тебе боль или видеть, как ты страдаешь. То же самое я говорил тебе и в Монтебелле. Джулия закрыла глаза. Разочарование было таким сильным, что потребовалось время, чтобы прийти в себя и понять услышанное. У нее нет будущего. Неудивительно, что приходилось заставлять себя вникнуть во все. Несколько проведенных в пустом домике часов — вот все, что у нее было. Она смогла только выдавить из себя: — Зачем же ты тогда вернулся? Он приподнял пальцами ее подбородок, и их лица оказались поразительно близко друг от друга. — Потому что люблю тебя. Потому что хотел тебя видеть. — И после минутного колебания добавил: — Если бы мне нужно было выбрать кого-то постоянного, так это была бы ты. Внутри Джулии шевельнулось гневное чувство, на какой-то момент притупившее боль. «Если бы… но, конечно же, его личные соображения стоят на первом плане». С самого начала ей приходила в голову мысль, стоит ли Джош той любви, какую она дарила ему. Она никогда не спрашивала себя, сможет ли отказаться от него, потому что знала, что не сможет. Но короткая вспышка гнева помогла ей совладать с собой и даже изобразить на лице улыбку. — Бедняга Джош! Должно быть, это раздражает, когда женщины без конца просят тебя жениться на них, в то время как все, что тебе от них нужно, — это поразвлечься. Она почувствовала горькое унижение от того, что служила Джошу одним из временных прибежищ, разбросанных на пути его странствий, и удивилась, как это сравнение никогда не приходило ей в голову раньше. — Обычно они не просят об этом, — сказал Джош. — Только самые безрассудные или очень глупые? — Перестань, Джулия. Ты делаешь нам обоим больно. Но ее гнев и горечь уже испарились. Она опять уронила голову ему на плечо, и он крепко обнял ее, слегка покачивая. Она прильнула к нему, сознавая, что все равно это Джош и ничто не изменилось с начала их разговора, только наступило крушение надежд, и Джоша нельзя винить в этом. По крайней мере, он был честен. Джулия горько усмехнулась, и, почувствовав это, Джош поцеловал ее в макушку. — Я хочу позвонить Александру, — сказала она. Он отпустил ее, и она прошла в другую комнату, плотно прикрыв за собой дверь. Голос Александра прозвучал довольно сурово. Он не спросил, где она находится и что делает. — Я приеду домой завтра в полдень, — сказала Джулия. А про себя подумала: «Выкрою себе еще один денек, как это сделал бы Джош». — Каким поездом? — Встречать не надо. Я возьму на вокзале такси. — Лили очень скучает по тебе, — сухо сказал Александр. Плечи Джулии поникли от внезапной боли, которую причинили ей эти слова. — Я тоже соскучилась по ней. После того как он положил трубку, она какое-то время слушала гудки. Потом вернулась на кухню и сказала Джошу: — Давай пойдем в Тэт. Я бы хотела сегодня посмотреть картины. — Она говорила, как будто ничего не случилось, потому что ничего не могло случиться. С заметным чувством облегчения Джош последовал за ней. В картинной галерее они осмотрели коллекцию художников-прерафаэлитов — большеглазых дев с пухлыми губами и замысловатыми прическами. Они удивительно напоминали Мэтти, когда та старалась принять важный вид. Тут Джулия вспомнила молчаливое неодобрение Мэтти. Джулия упрямо тряхнула головой и сделала вид, будто рассматривает Офелию в ванне, полной цветов. Нужно жить сегодняшним днем; Джош пока еще рядом с ней. Еще будет достаточно времени для сомнений. Она взяла его под руку, с трудом сдерживая желание изо всех сил вцепиться в нее ногтями. — Давай позавтракаем в ресторане галереи, — предложил Джош. Они сели друг против друга, беседуя о картинах и других увиденных вещах, как любая обычная пара. Какое-то мгновение Джулия почувствовала себя подобно бусам на нитке, скользящим между пальцами. Джош заказал бутылку отличного вина, а когда официантка налила его в бокалы, поднял свой, глядя на Джулию. Возникла неловкая пауза, так как ни один не знал, какой тост предложить. Всего три дня назад, подумала Джулия, в «Ритце», они пили за взаимопонимание. А теперь между ними была пропасть, а Джулии так хотелось перескочить через нее и обвить руками его шею. Но вместо этого она подняла свой бокал, выпила половину содержимого и тотчас почувствовала, как кожа на лице стала тугой и набрякшей от невыплаканных слез. В послеобеденную жару они гуляли вдоль набережной в надежде освежиться легким речным бризом. Медленно текущие воды навевали воспоминания о ночи, проведенной возле гостиницы «Савой», и о прогулке с Александром после их первой встречи. Нахлынувшие воспоминания представляли собой сумбурное нагромождение каких-то отдельных событий. «Я хотела быть свободной, — думала она. — Я обманывала себя. Я хотела принадлежать Джошу. Неужели для меня все-таки так много значат условности?» Осознание того, как мало она знала себя, в сочетании с безрассудным стремлением к Джошу угнетало ее больше, чем изнуряющий зной. Ноги, казалось, приклеивались к расплавленному тротуару. Ни малейшего дуновения ветерка с реки. — Слишком жарко, — сказал Джош. — Давай вернемся домой. Домой. На один день. За домиком чаек находился маленький сад с выложенными кирпичом дорожками, увитый пыльным плющом и украшенный длинноногой алой геранью в глиняных горшках. Джош вынес два белых стула, приготовил охлажденный чай и принес на подносе два стакана. Джулия отпила из своего, а затем присела около Джоша на нагретые кирпичи и в изнеможении опустила голову ему на колени. Он отодвинул длинные пряди волос с ее лица. Вид пустых стаканов, опавших алых лепестков, ноги Джоша, закинутые одна за другую, казалось, таили в себе что-то сокровенно близкое. Прикосновения его пальцев, поглаживающих ее по лицу, были очень ласковы. «Мы так нежны друг с другом, — грустно подумала Джулия, — как будто один из нас собирается умереть». Они сидели молча, слушая монотонный гул отдаленного уличного движения и сознавая, что их удерживает друг возле друга только безрассудство. Джулии хотелось снова спросить его: «Ну почему ты так упорствуешь? Мы могли бы сделать друг друга счастливыми, стоит только тебе изменить свое решение…» Но она уже один раз спрашивала его, а возвращаться к этому опять ей не позволяла гордость. Наконец, когда кусок неба над головой утратил свой раскаленно-медный цвет, подернувшись белой дымкой, Джош проворковал: — Давай сегодня не будем выходить. Останемся здесь. Я приготовлю что-нибудь поесть. — Хорошо, — тихо согласилась Джулия. — Спрячемся в этом игрушечном домике на последние несколько часов. Джош ненадолго отлучился и вернулся с кульком из магазина. Он распаковал содержимое, среди которого оказались бифштексы и все необходимое для салата. — Ты не догадывалась о том, что я умею готовить, верно? Она наблюдала за его стряпней. — Я ничего не знаю о тебе, Джош. Мне лишь казалось, что знаю. Он внимательно посмотрел на нее. Это был прямой, открытый взгляд, и сердце ее отчаянно забилось. Невозможность любить его была подобна непреодолимому препятствию, преграждавшему путь всюду, куда бы она ни повернулась. — Ты знаешь абсолютно все, что нужно, — просто сказал он. — Ничего другого нет. Ты относишься к числу тех людей, которые хотят и воображают себе больше того, что есть. Ты сложная натура. Джулия не нашлась что ответить. Они съели приготовленное, затем сложили тарелки и чашки, тщательно убрали на кухне, чтобы не осталось никаких следов их пребывания. «Как будто нас никогда здесь и не было», — подумала Джулия. В чистом белом пространстве, в котором они все еще находились, Джош взял ее за руку. Он развел ее пальцы и поцеловал тонкую кожу между ними. Джулия была не в силах противиться ему. Она знала, что не смогла бы сделать это, даже если бы и захотела. Когда он привлек ее ближе и поцеловал, она почувствовала минутную нерешительность. Но не смогла не ответить на его призыв. Это развеяло его сомнения. Они вместе поднялись по лестнице в белую спальню. Джош мог заставить ее забыть, как, впрочем, умел это делать всегда, даже о завтрашнем дне. Через некоторое время Джулия заметила, что он уснул. Она немного полежала, прислушиваясь к его дыханию, а затем осторожно выскользнула из его объятий. Казалось, их кожа расплавилась от жары и сейчас отделилась со слабым звуком, похожим на прощальный поцелуй. Джулия подошла и остановилась у окна, слегка раздвинув занавески, чтобы взглянуть на чаек. С удивлением она обнаружила, что идет дождь. Он падал темной сплошной пеленой, и крупные капли подпрыгивали и отскакивали прочь, серебрясь в свете уличных фонарей. Дождь барабанил и булькал, и дождевая завеса прикрывала Джулию, как бы отгораживая от внешнего мира. Она содрогнулась, но кожа все еще сохраняла тепло, и она поняла, что эту дрожь вызвало чувство одиночества. Оно разрасталось по мере того, как шло время, а она неподвижно стояла там, пока ей не стало казаться, что она одна во вселенной, обреченная смотреть на стремительные потоки, омывающие булыжники двора. Джош слегка пошевелился во сне. Джулия отпустила занавески, и они упали, закрыв от нее дождь. Она подумала о том, что преднамеренно вызвала в себе острое чувство одиночества, хотя у нее ведь были муж, ребенок, любовник и такой друг, как Мэтти. На ее губах застыла усмешка, когда она пересекла комнату, направляясь к кровати. Джош крепко спал, вытянув одну руку в ту сторону, где лежала она, пальцы его были слегка сжаты. Джулия тихонько нагнулась и подняла рубашку, сброшенную им в спешке. Надев ее и обернув вокруг себя, она спустилась вниз по лестнице на кухню и приготовила чай. Потом долго сидела, уставившись в белый угол потолка и слушая монотонный шум дождя. Утром они по-прежнему были нежны друг с другом. Даже двигались по маленькой кухне с особой осторожностью, как бы боясь толкнуть и обеспокоить друг друга. После завтрака Джулия поднялась наверх, достала платье в красный и белый горошек, которое было на ней в «Ритц», как ей теперь казалось, много лет назад. Она запихнула его в чемодан вместе с несколькими другими вещами, брошенными сверху. Джулия уже собиралась щелкнуть застежками, когда почувствовала, что Джош стоит у нее за спиной. Он облокотился о дверной косяк, и ее поразило его полураскаянное, полунастороженное выражение лица. Он был похож на маленького мальчика, который знает, что его сейчас выгонят за дурное поведение. Джош казался грустным, искренне грустным, но в то же время заметно было, что он испытывал чувство облегчения. Он протянул Джулии большую куклу. Она издала слабое протестующее «мама». — Не забудь это. Джулия положила куклу вместе с другими вещами в чемодан и решительно захлопнула его. Джош отвез ее на вокзал на такси. Когда они шли по платформе к поезду, Джулия подумала о том, что в ее жизни было уже слишком много встреч и слишком много печальных расставаний. Она знала, как это бывает и какую боль они оставляют в душе, и от этого чувствовала себя старой, усталой и больной. Джош нашел для нее свободное место в купе и бросил чемодан в багажную сетку. Они стояли на платформе лицом к лицу, наблюдая за спешно проходившими мимо пассажирами. Джош сделал движение, чтобы заслонить от нее перрон, и взял в ладони ее лицо, заставляя взглянуть на него. Она заметила, что в его выражении уже не было чувства облегчения, оно сменилось озабоченностью, сожалением и — она была уверена в этом — любовью. «Черт возьми, — подумала Джулия, — я даже не могу в качестве утешения вызвать в себе неприязнь к нему. Неужели я буду всю жизнь любить его?» — Я не хочу прощаться с тобой, — прошептал Джош. Их всех слов, которые она могла бы сказать ему, Джулия нашла лишь эти: — Мы могли бы и не прощаться. — Может, будем иногда видеться? Не знаю, как отпустить тебя. Казалось, его взгляд погружается глубоко в душу. Глаза Джулии потеплели. — Джош, ты знаешь, чего я хочу. Если это, как ты считаешь, невозможно, то я не знаю, что было бы менее болезненным: иметь частичку тебя или совсем от тебя отказаться. — Легким толчком она отстранилась от него. На ее щеках остались красные продольные полоски — следы его пальцев. — Но я не в силах отказаться от тебя, вот мой ответ. Ты знаешь, где я живу, в любом случае ты найдешь меня, если постараешься. И когда это будет тебе удобно. Все начать снова и вновь расстаться, даже если это будет больно. Она повернулась к нему спиной и поднялась по крутым ступенькам в вагон. Когда она опять обернулась, Джош по-прежнему неподвижно глядел на нее. — Уходи, Джош. Пожалуйста. Он неуклюже повернулся и пошел по платформе прочь. Прошло еще несколько томительных минут, прежде чем поезд тронулся. Джош стоял под навесом, провожая ее взглядом. Но хотя он смотрел и ждал этого, Джулия не спустилась со ступенек и не побежала назад к нему. Джош почувствовал, как у него запылали губы и обожгло глаза. Видя перед собой бледное непроницаемое лицо Джулии, он ближе чем когда-либо в жизни подошел к той черте, когда мог бы сказать: «Останься со мной. Я постараюсь стать тем, кто тебе нужен». Он знал, что любит ее, но боялся, что недостаточно сильно. Вдоль всего состава поезда закрылись двери. Торопливо пробежал кондуктор, подавая свисток, и длинная вереница вагонов медленно заскользила вдаль. Джош стоял на прежнем месте, глядя невидящим взором вслед покачивающемуся хвосту поезда, пока последний вагон не исчез за поворотом. Тогда он качнулся и пошел быстрыми шагами, почти наталкиваясь на людей. Он возвращался обратно в чистый белый домик, который ненавидел, не зная за что: то ли за то, что тот продолжает стоять на прежнем месте, или за то, что он был теперь пуст. Джош собрал свои пожитки и отправился снова в путь.Казалось, Лондон быстро остался далеко позади. Поезд неуклонно набирал скорость и уже мчался среди сельской местности. Джулии, пристально смотревшей сквозь грязное окно вагона, казалось, что сочные луга и раскинувшиеся зеленые кроны деревьев были до отказа наполнены влагой и обмякли от прошедшего прошлой ночью дождя. Даже домашний скот, пасущийся на лугах, пребывал в каком-то вялом, дремотном состоянии. Наконец Джулия сошла на небольшой станции, оказавшись единственным пассажиром, покинувшим поезд. С чемоданом в руке она прошла через невзрачный железнодорожный холл с афишами Борнемута и Пула и нашла на стоянке шофера единственного такси. Она сказала: — Поместье Леди-Хилл, пожалуйста. Он вынужден был попросить ее повторить адрес, так как она произнесла его очень тихо. Под яркими лучами солнца сельская местность, казалось, умылась и сверкала чистотой, избавленная от всего наносного. Джулия остановила такси, немного не доезжая До каменных столбов у поместья Леди-Хилл. Она расплатилась с шофером и пошла по подъездной дорожке под сенью деревьев. Чередующиеся блики света и тени скользили по ее лицу, создавая иллюзию быстрой смены контрастов и нарушаемой тишины. Перед поворотом, из-за которого должен был показаться дом, она снова остановилась, чувствуя, как ручка чемодана больно врезалась в ладонь. Она ощутила острые, характерные для села запахи травы и навоза. Странно, подумала она ни с того ни с сего, почему это я никогда не обращала внимания на городские запахи. Они были для нее обычными и естественными, как прочная мостовая под ногами. Джулия глубоко вздохнула, и ее мысли переключились на другое. Она понимала, что намеренно оттягивает момент поворота за угол. Она боялась увидеть Александра. В прошлом ее прирожденная дерзость могла бы помочь ей выйти из затруднительного положения, но в данный момент, когда она так презирала себя, трудно было принять независимый вид. Она переложила чемодан в другую руку и устало потащилась дальше. Прямо за поворотом тисовой аллеи стоял дом. Новая крыша навязчиво сверкала, но пустые окна под ней были подобны слепым глазам, которые не могли ее увидеть. Она взглянула влево, по направлению цветочного бордюра. Клумбы синего дельфиниума и яркие белые шапки колокольчиков заставили ее замереть от восхищения. Но она пересилила себя и направилась прямо к хмурому дому. Она прошла через новую парадную дверь, отмечая в который раз грязные черные следы, оставленные на кирпичной кладке жадным дымом. В обитаемом крыле дома комнаты были опрятно убраны, игрушки и кубики Лили разложены по коробкам рядом с ее столиком. Джулия знала, где должны были находиться муж и дочь. Она опять вышла из дому, свернула во внутренний двор, глядя на неподстриженную траву под яблонями, и направилась к беседке. Александр был там; он склонился над Лили, сидевшей на своем коврике у его ног. Джулия пошла к ним, машинально неся сумку, которая напоминала ей о ее бегстве. Лили первая увидела ее. Она подняла голову и радостно закричала. Джулия подбежала к ней, опустилась на колени и, схватив один пухлый кулачок, стала целовать его и розовые щечки ребенка, бормоча: — Лили… О, Лили, я люблю тебя. Лучезарно улыбаясь, Лили закричала: — Па! — единственное слово, которое для девочки значило очень многое. Оцепенев, Джулия медленно выпустила мягкую детскую ручонку и поднялась на ноги. Александр не сделал ни одного движения; их глаза встретились. Она сразу же поняла, насколько он был зол. Она тщетно пыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. — Где ты была? — спросил Александр. Не было никакого смысла лгать или просто уклоняться от ответа. Единственно возможной была только правда. — С Джошуа Фладом, — просто сказала Джулия. Кулаки Александра сжались, и какое-то мгновение ей казалось, что он хочет ударить ее. Но вместо этого, пристально глядя на нее, он сказал: — Но мы с тобой женаты. Ты моя жена, Джулия. Внутри нее нарастал гнев. Она холодно ответила: — Кроме того, что я твоя жена, я еще и многое другое. Но тебе на это наплевать, не так ли? Они смотрели друг другу в глаза; была минута, когда можно было сказать нужное слово, но ни один из них не произнес ничего. Наступило мрачное молчание. Его нарушила Лили, радостно приковылявшая к ногам Джулии и беспрестанно кричавшая: — Па! Растерявшись от смешанного чувства вины и негодования, Джулия опять склонилась к ней. Она хотела как-то загладить свою вину перед ребенком, но от волнения делала это очень неловко. Открыв сумку, она достала из нее огромную куклу Джоша. Протягивая ее Лили, Джулия сознавала неуместность этого жеста. — Смотри, Лили, вот тебе бэби, будешь с ней играть. Соломенного цвета косы куклы перекинулись вперед, а широко открытые голубые глаза закатились. Лили бросила на куклу полный ужаса взгляд, и ее нижняя губка скривилась и оттопырилась, личико сморщилось, и она издала протяжный вопль, опрокидываясь назад, ища защиты у ног отца и пытаясь спрятать лицо. Он прижал ее к своему плечу и стал успокаивать, а Джулия застыла с куклой, нелепо повисшей у нее в руке. Она бросила куклу обратно в сумку, и та издала тонкий жалобный писк «ма-ма». Лили спрятала лицо на плече отца, разметав черные локоны, кое-где зацепившиеся за грубую шерсть отцовского свитера. Отчаянный крик перешел в приглушенные рыдания. Джулии хотелось подойти и поправить локоны дочери, а затем спрятать там и свое лицо. Но вместо этого она еще какое-то время продолжала тупо стоять на месте, а затем повернулась и пошла к дому, оставив мужа и дочь под яблоневыми деревьями. Это было начало конца. На укрепление их брака ушло полтора года, но после нынешнего дня едва ли оставался реальный шанс для возвращения к прежнему. В течение последовавших печальных месяцев Александр, казалось, нашел в себе неистощимые запасы энергии. Он почти полностью направил силы на восстановление Леди-Хилла, причем первое служило обоснованием для второго, а вместе — для создания хоть какого-то удобства в доме. Он отправлялся куда только мог, чтобы получить заказы на работу, и наконец стали поступать комиссионные. Фильм, который он поставил через год после их свадьбы, располагая очень незначительным бюджетом, неожиданно имея поразительный успех. Тематическая музыка Александра за последние две недели заняла прочное место в хит-параде. Так как его имя становилось известным, а авторские гонорары неуклонно росли, Александр обнаружил, что объем работы у него стал больше, чем тот, с которым он мог справиться. Но он упорно брал еще и еще и усердно трудился. Стимулом для его энергии была Лили, а деньги поглощал Леди-Хилл. Вернулись Миннз и его люди, а вслед за ними приехали Джордж и Феликс. Декораторы прошествовали через пустые, оскверненные пожаром комнаты, хмурясь и ворча о ценах на загородные дома, где можно было прилично заработать. Джулия следовала за ними, слушая вполуха. Джордж и Феликс, как она заметила, уже составляли одну бригаду. Сначала, благодаря общему энтузиазму, у них рождались идеи, которые затем они пасовали друг другу, подобно теннисным мячам при быстром обмене ударами. Если один из них начинал предложение, другой, не задумываясь, мог его закончить. Они даже стали похожи друг на друга, напоминая пару лоснящихся породистых котов, в этих серых костюмах и шелковых фуляровых галстуках. — Прекрасный, прекрасный дом, — слышала она рокочущий голос Джорджа. — Знаете, этот ваш пожар мог оказаться благословением для него. Джулия хотела возразить, мол, это не я устроила пожар, но она знала точно, что он был и всегда будет «ее пожаром». — Я говорю просто с точки зрения дома. Конечно, это трагедия… — опомнился Джордж и сдержанно кашлянул. — Эти старинные фамилии халатно относятся к своим родовым поместьям, — добавил он более бодрым тоном. — Теперь, когда появилась возможность отреставрировать дом и восстановить детали, мы сможем увидеть его таким, как прежде. Во всем его былом великолепии. — Если мой муж будет в состоянии позволить себе осуществить великолепные планы вашей компании, — сухо заметила Джулия. Джордж резко взглянул на нее, высоко подняв брови, но решил, что благоразумнее будет промолчать. Краешком глаза она заметила приближающегося Феликса. Она знала, что он смотрит на нее, и отвернулась. Он тщательно подбирал обуглившиеся остатки панельной обшивки, и поднявшийся от этого запах горелого ударил ей в нос. Она хотела убежать от этого тошнотворного запаха и от выставляемой напоказ близости между Джорджем и Феликсом. Она с горечью подумала, что в данной обстановке выказываемое ими удовольствие выглядит почти неприличным и что это обычное явление, когда несчастье одних приносит удачу другим. — Извините меня, — пробормотала она и пошла прочь. Феликс с мрачным выражением лица посмотрел ей вслед. Джордж покусывал губы. — Бог ты мой, что заставило такого человека, как Александр, жениться на ней? Для чего-то другого она бы сгодилась, но жениться… — Почему он на ней женился, я понимаю, — тихо заметил Феликс. — Но что меня удивляет гораздо больше, так это почему она вышла за него? За те два-три визита в Леди-Хилл он понял достаточно, чтобы вся его симпатия перешла на сторону Джулии. Он увидел ее образ жизни во время частых отлучек Александра, ее одиночество под обветшалой оболочкой уцелевшего дома, скрашиваемое разве что присутствием ребенка. Джулия была одинока, а она не переносила одиночества. А когда Александр приезжал домой, он был вежлив, но слишком замкнут. Феликс догадывался, что его отчужденность была средством самозащиты и что Джулия нанесла ему какую-то глубокую рану, но он знал также и о попытках Джулии к примирению, и он догадывался, что что-то большее, чем супружеская измена, стоит между ними. Наблюдая за этими двумя, он начал понимать другую сторону жизни Александра и подозревал, что если он сам не заметил этого раньше, то и Джулия могла это проглядеть. Александр был истинным англичанином и аристократом до мозга костей. Феликс усмехнулся. Летом 1962 года сама мысль о делении на классы казалась нелепой, и вдруг в образе Александра перед ним реально предстала эта проблема во всей своей незыблемости. Александр был воспитан в традициях бережного отношения к чувству собственного достоинства и следования догмам англиканской церкви. В юности он допускал кое-какие отклонения, но когда пришло время, он сделал то, чего от него ожидали, и ждал того же от своей жены. Только его требования были отмечены определенной твердостью. Он сделал Джулию леди Блисс и теперь хотел, чтобы она стала матерью его детей, которая могла бы председательствовать на заседаниях совета жен церкви. Казалось, он не допускал того факта, что Джулия пришла к нему, когда он был еще музыкантом из Челси. Феликс часто видел понурую голову Джулии, когда она проходила по двору мимо окон. Он хотел бы сделать что-нибудь, чтобы утешить ее, но знал, что это выше его сил. — Надеюсь, проблемы наших клиентов не повлияют на реставрационные работы, — язвительно заметил Джордж. — А это очень интересная работа. — Он смотрел в окно, пока Джулия не скрылась из виду. — Уверен, что здесь у них был изъеденный молью бархат. Мы могли бы использовать розовый ситец с малиновыми разводами и закорючками. — Энтузиазм, проявляемый к этой работе, полностью принадлежит Александру, — сказал Феликс. — Отнюдь не Джулии. Но никто не стал бы винить ее в том случае, если бы она возненавидела даже сам вид этого места. — Он чувствовал, что она действительно ненавидит его, и боялся, что никакими акрами малинового ситца нельзя изменить этого факта. — Не рано ли думать о занавесках? Одни только работы по штукатурке и обшивке панелями, возможно, займут годы. Феликс заметил, что его интерес склоняется к архитектуре и внутренней структуре их проектов, в то время как Джорджа приводило в восторг богатство драпировок и ковров. Это был один из положительных моментов их делового сотрудничества. Джордж улыбнулся приятелю. — Понимаешь, я люблю планировать наперед. Они вернулись к своей работе. Джулия медленно брела, ощущая солнечное тепло на лице, слегка хмурясь, как будто свет докучал ей. Ребенка уложили спать, и в данный момент она не знала, уехал Александр или находится дома. Но в следующую же секунду она вспомнила. Конечно же, он работает. В беседке, как он это всегда делал в теплую погоду. Подбодренная солнцем и тем, что вышла из мрачной обстановки дома, она подумала, что могла бы заглянуть к нему и предложить чашку кофе. Александр тщательно старался углубиться в работу. В его голове все время вертелась одна музыкальная фраза, но точная модуляция, которой он хотел добиться, ускользала от него, подобно рыбе, скользящей прочь под толстым слоем речной воды. У него было маленькое пианино, установленное в беседке, и он неподвижно сидел, склонившись над клавишами, бессильно уронив руки. Когда тень Джулии косо упала на его руки, он с удивлением поднял отрешенный взгляд. — Это я, — сказала Джулия. Он уловил нотки горечи в ее голосе: она проникла во все с однообразной последовательностью. Чтобы привести его в чувства, она добавила: — Я здесь живу, припоминаешь? Пришла спросить, не хочешь ли кофе? Вот и все. Она могла бы сказать что-нибудь другое. Это могло быть: «Можно мне войти и посидеть с тобой? После того как побудешь в доме, здесь кажется так светло и солнечно, а присутствие Джорджа и Феликса лишь обострило несчастье». А Александр мог бы ответить: «Я бы выпил кофе. Останься здесь и выпей со мной чашечку». Но, бережно лелея в памяти интонацию голоса Джулии и ее скрытое тенью укоряющее лицо, смотревшее на него сверху вниз, он резко ответил: — Выпью позже. Я хочу закончить эту часть. Джулия повернулась и медленно пошла по высокой траве. Сами по себе это были лишь маленькие стычки, но из них складывались дни и недели, и каждая из них вколачивала клин в их отношения. Когда Джулия, глядя перед собой невидящим взглядом, направлялась к дому, она думала о том, что уже слишком поздно что-нибудь изменить. Ни один из них уже не знал, как повернуть назад и наложить невидимые искусные стежки, которыми можно было бы залатать образовавшийся разрыв. Между ними не происходило никаких бурных сцен. А лучше если бы они были, так как темпераментные люди обычно легче идут на примирение. Но вместо этого было медленное изнурение от взаимной холодности до непонимания. Джулия подошла к тому месту, где стена дома отбрасывала длинную тень. Она могла закрыть ее лицо словно вуаль. Сдерживаемые слезы жгли глаза, но она щурилась и упрямо смотрела вперед. В конце концов, не из-за чего было плакать. Александр уже не мог продолжать работу. Он смотрел вслед жене. Какая-то частичка его все еще восхищалась ее стройной фигурой и величественными движениями. Другую же часть его сознания терзали все те же навязчивые вопросы: что случилось с девушкой, на которой он женился, и почему эта, другая Джулия, которая выглядела все еще мучительно близкой, не могла быть счастлива здесь и сейчас? Если бы Джулия могла быть счастлива, думал он, тогда и он мог бы быть счастливым тоже. Александр считал, что понимает ее страх жить здесь после пожара, но он также был уверен, что в этом не было ничьей вины. Что случилось, то случилось, и все, что требовалось сейчас, — это работать, чтобы восстановить причиненный ущерб. Самым же непостижимым был тот факт, что он привел Джулию в Леди-Хилл еще до пожара, задолго до него. Она, несомненно, должна была понять, что ей придется взять на себя определенные обязательства, когда она соглашалась выйти за него замуж. Тем более сейчас, когда недоразумение, раздражительность и скука, казалось, боролись в ней за право господства, Александр должен был держать себя более твердо, защищая уклад дома, который он любил, как и тех, кто принадлежал этому дому. А как легко они, все трое, могли бы найти здесь счастье и уют! У них мог бы родиться еще и сын, ведь это так нужно для Леди-Хилла. Александр не стыдился этого заветного желания. Или еще одна девочка, похожая на Лили. Тени северной стены дома поглотили Джулию, а также и мечты Александра о возможности иметь сына или дочь, потому что они с Джулией больше не спят вместе, хотя по-прежнему делят одну постель. Она спала с Джошем Фладом, типичным героем книжных комиксов. Гнев Александра по этому поводу уже угас, но его сменило другое, холодное, менее определенное чувство обиды. Подняв карандаш, Александр стал вертеть его меж пальцев. Конечно, он не мог заставить Джулию хотеть того же, чего хотел сам. Он все более убеждался в том, что никто не мог принудить ее к чему бы то ни было. В этом она была похожа на Чину. А Чина давно покинула Леди-Хилл. Тягостное чувство неизбежности охватило Александра. Как бы пытаясь отогнать его, он стал внимательно разглядывать дом. Языки пламени уничтожили древние пятна желтого лишая на крыше. Когда он был ребенком, ему казалось, что они похожи на человеческий профиль. Новая крыша была яркой и голой, ее окраску не смягчила даже непогода. Но то, что она есть, уже было маленькой победой. Она защищала дом. И стены уцелели. В детстве он любилвзбираться на яблони и рассматривать узоры, начертанные временем на старых кирпичах. Эти узоры все еще сохранились, как и глубокая трещина в одной из каменных перемычек окна, и бурая ржавчина, въевшаяся в железную скобу, болты которой были впаяны в металл. Так что большая часть дома устояла в огне, и скоро он увидит, как будет восстановлено остальное. «Однако сколько еще нужно сделать!» Эта мысль послужила как бы стимулом к работе. Александр опять склонился над клавишами. Он опустил указательный палец на среднее си, держа ноту так, что она отдавалась тихим гудением, а затем постепенно замерла. Входя в дом, Джулия услышала плач Лили. Девочка часто просыпалась раздраженной после дневного сна. Джулия поднялась наверх и нашла ее стоящей в кроватке, вцепившейся кулачками в загородку, с покрасневшим личиком, мокрую и требовательную. Увидев мать, Лили на минутку перестала плакать, а затем заревела с удвоенной силой. Джулия подошла и взяла ее на руки. Ручки и ножки Лили напряглись, и она продолжала сохранять эту позу, когда Джулия поднесла ее к окну, пытаясь успокоить. — Тсс… видишь птичек? Ты их разбудила. Тсс… ну, моя маленькая… посмотри-ка, видишь Феликса? Феликс и Джордж бродили от одного крыла дома к другому. На Джордже была шляпа, в руке трость с серебряным набалдашником. «Какая чертовская показуха», — подумала Джулия. Лили заорала еще громче. Неожиданно, стоя вот так у окна, Джулия почувствовала, как будто она держит на руках какой-то мертвый груз. Мощеный двор внизу сверкал на солнце и между плитами пробивалась трава. Пусто, пустота кругом, разве что Феликс и Джордж на переднем плане, двигавшиеся туда-сюда как заводные куклы. Джулию охватило отчаяние. Плач Лили был невыносим. Она поспешно опустила ребенка обратно в кроватку и выбежала из комнаты. Вон из этой комнаты, вниз по лестнице, из этого дома, без малейшей мысли о том, куда она бежит, сознавая лишь одно — она должна бежать. Но это только усилило состояние клаустрофобии, когда она наконец остановилась, задыхаясь и сознавая, что у нее нет никакого представления о том, куда бежать.
Джордж и Феликс возвратились в Лондон, в свою чистенькую контору «Трессидер дизайнз». Александр поехал в Лондон, а затем в Штаты, а Джулия осталась в Леди-Хилле с Лили. Наступила осень, и цветочные бордюры покрылись желтовато-коричневым пестрым ковром из опавших листьев. Джулия лениво сгребала их проволочными граблями, а Лили в высоких сапожках ковыляла туда-сюда, хватая пригоршнями листву и подбрасывая вверх. Листья, кружась, падали вокруг нее, подобно огромным коричневым мотылькам. Становилось все холоднее, и первые морозы ударили довольно рано. И сразу же ландшафт приобрел неприступный, замкнутый вид. Глядя в окно, Джулия сказала вслух: — Ненавижу это место. Она подумала о Джоше, всегда с радостью ожидавшего, пока выпадет первый снег, точно так, как его ждет мальчишка с новыми санками. Он исчез так же эффектно, как умел это делать всегда, и все-таки все еще был с ней. Она ощущала его повсюду, куда бы ни смотрела, он незримо присутствовал в ее воображении. Приехал Александр, но его присутствие почти ничего не изменило. Теперь они были словно два незнакомых человека. В середине декабря Джулия отправилась купить рождественские подарки. Она оставила Лили на попечение Фэй и поехала в красной малолитражке Александра в большой город, находившийся в сорока милях от поместья. Она объехала магазины, накупив игрушек для Лили, франтоватый шелковый домашний халат сливового цвета для Александра и викторианскую жардиньерку для Фэй. Ее не покидало чувство отрешенности от праздничной суеты и сверкающих витрин магазинов. Она почувствовала себя чужой в этой толпе и смотрела на собственные приготовления к празднику недоверчиво, как на какое-то фиглярство. Возле одного из универмагов играл оркестр Армии Спасения, но рождественская музыка, казалось, шла откуда-то издалека, словно проходя через отдаляющие ее от всех наслоения, заглушавшие звук. Джулия тряхнула головой, но тоска не рассеивалась. Она вернулась к автомобилю, свалила пакеты с покупками вокруг жардиньерки и поехала назад в Леди-Хилл. Когда голые ветви деревьев, росших вдоль дороги, низко нависали над головой, как бы желая схватить ее, Джулия содрогалась всем телом. За поворотом дороги, где начиналось имение, она увидела, как низкое зимнее солнце, оставшееся у нее за спиной, сверкнуло, отражаясь в окнах дома, и на какую-то долю секунды ей показалось, что они опять охвачены пламенем. Джулия даже услышала прожорливый треск огня и в горле запершило от привкуса едкого дыма. Она резко затормозила и выпрыгнула из машины. И лишь на бегу поняла, что в окнах отражалось всего лишь заходящее солнце. Александр играл с Лили. Они оба подняли головы, когда она, шатаясь, вошла в комнату. Их лица были так похожи, спокойное выражение одного являлось как бы зеркальным отражением другого. — Ты сделала свои покупки? — безразлично спросил Александр. Джулия тяжело дышала от бега и у нее бешено колотилось сердце, но она спокойно ответила: — Да, спасибо. Кажется, купила все, что хотела. Было не очень людно. — Это хорошо. Вежливость была тоже своего рода оружием, к которому прибегал Александр в подобных случаях. Они пускали в ход друг против друга все виды оружия теперь, когда стали врагами, подумала Джулия, все, кроме страсти. Потому что в страсти слишком много тепла. Она понесла покупки наверх, но когда собиралась разобрать их, почувствовала невыносимую тоску и, опустившись на широкую постель, взяла с туалетного столика телефонный аппарат. Набрала номер Мэтти и долго слушала вызывающие гудки, представляя маленькие комнатки и вид из окна на Блумсбери-стрит. Телефон Мэтти не отвечал. Джулия положила трубку. Ее сердце было переполнено слезами, но она не могла плакать. Она опять спустилась вниз. Спросив у Лили, что та хочет к чаю, и получив решительный ответ: «Яйцо», Джулия улыбнулась девочке. В эту ночь ей приснился кошмарный сон. Ей снился пожар, языки пламени поглотили Лили, Александра, Фловера и всех, кто был ей дорог. Когда она сама бросилась спасаться бегством, Александр последовал за ней, окликая ее по имени, причем слова вытекали из его рта, как расплавленная лава. Джулия даже не вскрикнула. Она открыла глаза и молча уставилась в темноту. Когда внутренняя дрожь унялась, она села на постели. Она была вся в поту, и холодный воздух обжег ее словно льдом. Александр спал, отвернувшись от нее и сгорбив плечи. Джулия слышала его ровное дыхание. Она знала, что даже если бы разбудила его, он сказал бы ей только: «Пожар уже в прошлом. Ты должна забыть о нем». Глядя на него сверху, Джулия вспомнила ночь в белом домике, когда она вот так же смотрела на спящего Джоша. Теперь она часто размышляла над тем, не чувствовала ли она себя менее одинокой, если бы действительно была одна. Когда исчез холодный пот страха, вызванный кошмаром, и снова вернулось ощущение тепла во всем теле, она подумала о том, что ничто не ранит больнее, чем такая пародия на близость, которую они с Александром разыгрывают, вынужденные к этому совместной жизнью в Леди-Хилле. Осторожно, стараясь не разбудить мужа, Джулия улеглась опять, но уже не могла уснуть, пока Лили не издала первых утренних позывных из своей кроватки, стоявшей в соседней комнате. Приближалось Рождество. За день до сочельника Александр принес в дом елку. Джулия и Лили встретили его в широком холле. Сбросив дерево с плеч, Александр поставил его прямо перед собой, призывая полюбоваться. — Но не слишком ли она велика? — спросила изумленная Джулия. Огромная ель заняла бы половину их гостиной. — Я думаю, — заявил Александр, — что следует поставить елку в этом году в задней гостиной. Подняв дерево и не глядя на нее, он шумно прошествовал туда. Джулия последовала за ним вместе с цепляющейся за ее руку Лили, кричавшей: «Да, папочка, да, папочка!» Заново оштукатуренная пустая комната казалась гигантской раковиной. Здесь еще не было мебели и на новом голом Настиле пола валялось несколько завитков древесных стружек. Александр пересек комнату и установил елку на старое место, перед окном, где когда-то старинные бархатные портьеры переливались в пламени свечей. Джулия прошептала: — Нет. Только не здесь. Почему не поставить ее в маленькой комнате? Свежий, праздничный аромат еловых игл грозил вызвать у нее удушье, она почувствовала также запах оттаявшей смолы и снова представила веселые огоньки, сверкавшие меж мохнатых зеленых ветвей. Александр почти с силой отшвырнул дерево. Он пересек комнату, и Джулия, схватив маленький кулачок Лили, крепко прижала его к себе. Как будто дочь или мать могли защитить друг друга от Александра. Вероятно, она так сильно схватила ручку Лили, что сделала ей больно, и та жалобно захныкала. Александр, конечно же, не тронет их. Он подошел так близко, что Джулия могла заметить тоненькую пульсирующую жилку в уголке его глаза. Она подумала, что это не столько гнев, сколько разочарование, но так как она сама поддалась злому чувству и боялась выплеснуть его, то проигнорировала состояние Александра. — Я считаю, что мы должны поставить рождественскую елку в той комнате, где ее ставили всегда, — твердо повторил он. Теперь они стояли лицом к лицу. И тут Джулия с мучительной непоколебимостью поняла, что момент наступил. Она оглядела комнату и вдруг с удивлением заметила, что хотя пожар начался именно здесь, от него не осталось какого-нибудь заметного следа. Сгоревшие оконные переплеты и разбитые стекла были заменены, а новые дубовые доски на полу соединены впритык так аккуратно, что не осталось ни сколов, ни щелей, столь характерных для облика прежней комнаты. Старинные дубовые панели и замысловатая штукатурка потолка были полностью уничтожены огнем, и даже Джордж и Феликс не предлагали попытаться воссоздать их заново. Вместо них была положена гладкая, без всякого рисунка штукатурка. Дымчатые розы Тюдоров, вырезанные из камня и украшавшие камин, были вычищены, и камин нуждался лишь в новом топливе. Комната выглядела как прежде: большое, чистое, свободное пространство, ожидавшее лишь, чтобы в нем ожила жизнь. Но Джулия уже не верила, что эта гостиная ждала ее. Это собственность Александра. Она даже представила, как он пробегает на цыпочках по гладкой поверхности пола, как будто это живая плоть, которой он мог причинить боль. Это был дом Александра, и в нем заключалась его жизнь. Она же всякий раз с горечью убеждалась, что не принадлежит к ней. Она даже не могла бы сейчас сказать, за что ненавидит Леди-Хилл: за то ли, что они с Александром не смогли создать здесь семью, или за то роковое событие и последовавшее за ним обновление Леди-Хилла, которые вынудили их сегодня вечером прийти к окончательному решению. Ясно было одно: между ними не осталось ни одной точки соприкосновения, кроме Лили. На удивление спокойная Лили все еще держалась за материнскую руку. И это Рождество здесь стало немыслимым и невозможным. Она не может больше здесь оставаться. Джулия опустила голову, глядя на темные локоны Лили, с болью сознавая невинное участие ребенка, на которого невольно падал груз раздора между ними. Она подумала о том, что это будет значить для Лили, и почувствовала, как у нее сжалось сердце. — Я не могу, — сказала Джулия. Александр сухо оборвал ее. Его голос был резок: — Джулия, пожар был три года назад. Мы достаточно горевали по этому поводу и обо всем, что случилось. Пришла пора дать новую жизнь Леди-Хиллу. Джулия вспомнила, как в этой же самой комнате она сказала: «Здесь мы будем устраивать множество вечеринок. Принимать толпы людей». Это было вначале, когда она заставила себя поверить в то, что любит Александра Блисса. Она упрямо покачала головой. — Говорю тебе, не могу. Или ты не понимаешь слов? — Даже теперь она видела, что он не понимает. Все, о чем он думал, это — Леди-Хилл и как оживить дом снова. Джулия отвернулась. Сжимая ручонку дочери она, присела к ней, а затем взяла девочку на руки. Крепко прижимая к себе ребенка, Джулия выбежала из комнаты и стала быстро подниматься по голым деревянным ступенькам. Находясь в комнате Лили, Джулия выбросила ее вещи из покрашенных белой краской ящиков комода. Она затолкала в чемодан крошечные шерстяные свитера и шотландские юбочки. Девочка сидела на краю кроватки, наблюдая за матерью широко открытыми глазами. Остановившись и растерянно оглядевшись кругом, Джулия рассматривала атрибуты жизни дочери, наполнявшие комнату. Она сгребла в охапку игрушки с полки и бросила их в чемодан, затем подняла с подушки любимую игрушечную собачку Лили. — Собачку не трогай, — твердо сказала Лили. Тут до Джулии дошло, что Лили восприняла эти сборы относящимися только к матери, которая собирается куда-то ехать без нее. Девочка чувствовала себя уже как бы неотделимой от Леди-Хилла. Дитя своего отца! — Все в порядке, дорогая. Ты поедешь со своей собачкой и со мной. Мы прекрасно проведем время. Глупые слова, пустые обещания. Джулия пошла в соседнюю комнату и, свалив в кучу собственную одежду, затолкала ее в другой портплед. На дне платяного шкафа она увидела подарки, которые купила, чтобы положить в чулок Лили на Рождество. Похолодевшими руками она собрала их и положила сверху на одежду. Затем застегнула сумки и взяла на руки Лили. Когда она опять спускалась с лестницы, держа в одной руке два тяжелых чемодана, их края ударяли ее по ногам и цеплялись за перила лестницы. Александр, должно быть, услышал шум. С отверткой в руке он вышел в пустой гулкий холл. Он купил волшебные фонарики для рождественской елки и как раз прикреплял их. Джулия едва не упала на последних ступеньках. — Что ты задумала? Джулия считала, что уже видела Александра в состоянии гнева. Но теперь он был, как говорится, раскален до предела. Нельзя было поверить, что он вообще может быть спокойным, ироничным Блиссом, за которого она вышла замуж. Его лицо пылало и кривилось от гнева. — Я не могу больше здесь оставаться, — выдавила из себя Джулия. — Мы слишком несчастливы друг с другом. — Несчастливы? — Ее поразило невероятное презрение, прозвучавшее в его голосе. — Как ты вообще понимаешь наше счастье? Ты подумала о Лили? Или обо всем том, что мы пытались здесь сделать? Оба чемодана выскользнули из руки Джулии и шлепнулись на пол, но она смогла все же удержать Лили. Она еще крепче обхватила девочку руками. — Лили будет со мной в безопасности. А что касается этого дома, то мне наплевать на него. Я ненавижу Леди-Хилл. Ненавижу все, связанное с ним. Больше всего я ненавижу его за то, что он ничего не значит для меня, а для тебя значит все. Это ведь неодушевленный предмет, не так ли? Всего-навсего дом. — Слова наконец-то хлынули из нее неудержимым потоком. — Ты любишь его больше, чем меня, — добавила она едва слышно. — Куда ты поедешь? — спросил Александр. — Не знаю. Это не имеет значения. Наверно, в Лондон. Он подошел ближе. Одной рукой сжал ее локоть, затем так крутанул его, что она едва не вскрикнула от боли. — Ты беспросветная дура, маленькая самовлюбленная сука. Из всего, что они наговорили друг другу, как ни странно, именно это оказалось самым шокирующим и неприятным. Александр никогда не употреблял бранных слов. Неожиданно девочка закричала от ужаса. — Все хорошо, малышка, — пыталась успокоить ее Джулия. Те же пустые слова. Дрожа, она наклонилась, чтобы поднять чемоданы, и в тот же момент Александр вырвал у нее дочь. — Я не могу удержать тебя. Но ты не возьмешь с собой Лили. Лили оглянулась на мать. Она взглянула на Александра, потом опять посмотрела на Джулию. Разыгравшаяся у нее на глазах сцена, вероятно, пугала ее. Личико девочки исказилось от страха, и она заплакала. — Мамочка! Хочу к мамочке! Она извивалась и рвалась из цепких рук Александра, протягивая ручки к Джулии. Истинная дочь своей матери. Лицо Александра стало непроницаемым. В этот момент он казался намного старше своих лет, почти стариком. Какое-то мгновение он удерживал Лили, пока ее плач не заставил его содрогнуться, а затем с болью, от которой сразу образовались глубокие морщины, он протянул ребенка Джулии. Лили спрятала лицо на материнской груди. И хотя Джулия крепко сжимала ее в своих объятиях, Александр наклонился и, закрыв глаза, прижался щекой к затылку девочки, а затем снова выпрямился. — Знай, я привезу ее сюда обратно, — глухо сказал он. — Ее дом здесь, в Леди-Хилле. Но для тебя, если уйдешь, пути назад не будет. Это не было угрозой. Скорее это была констатация факта, они оба это понимали. Что касается Александра, то его слова прозвучали не грубо, а обычно, буднично. — Я не собираюсь возвращаться. — Джулия опять подняла свой багаж и, с трудом передвигаясь, пошла к двери. На улице было очень холодно. Небо над головой отливало перламутром, а на западе солнце, подобно гневному красному глазу, будто плыло в розовых морских волнах. Автомобиль Александра был припаркован на гравийной дорожке между темными тисовыми деревьями. Поспешно, боясь, как бы он не пошел следом и не остановил ее, Джулия привязала Лили на заднем сиденье. Она приперла ее чемоданами, а затем села за руль. Александр всегда оставлял ключи в зажигании. Когда машина набрала скорость, Джулия стала панически осознавать, что даже не знает дороги на Лондон. Она лишь несколько месяцев назад научилась водить машину и ездила только в близлежащие городки за покупками. Когда они с Александром еще были мужем и женой, он всегда сам водил машину. Она еще сильнее задрожала при мысли, что всегда была зависимой от него. «Мне нужно заново научиться быть самостоятельной». — Знаешь, что я скажу тебе, Лили? — бодро сказала она. — Мы поедем на станцию и сядем в лондонский поезд. Вот будет здорово, верно? — О, поезд! — просияла Лили. На повороте дороги Джулия вспомнила о том, как солнце отсвечивало в окнах дома и что теперь оно опять пылает в них красным огнем. Но она не оглянулась, чтобы посмотреть на это зрелище сейчас. Александр прислушивался к звуку мотора своей малолитражки, пока тот не замер вдали. И тогда неожиданно произнес: — Я люблю тебя. Конечно, это были запоздалые слова. Александр знал, что потерпел поражение, откладывая на потом самое главное, пока не стало слишком поздно. Он отшвырнул в сторону отвертку, и она откатилась, крутясь. Возвратясь в гостиную, он вспомнил, почему сказанные слова показались ему чем-то знакомыми. Его отец сказал в точности то же самое Чине во время их последней схватки. «Если ты уйдешь, назад дороги уже не будет». Ему, вероятно, было лет восемь или около того, потому что он только что приехал из подготовительной школы на летние каникулы. Он слушал, застыв на месте, стоя за дверью. Любопытная штука: он не мог вспомнить теперь, возвращалась ли Чина когда-нибудь в Леди-Хилл. По крайней мере, все, что он мог вспомнить, так это удовольствие от пребывания в ее городской квартире и его фантазии о том, как отцовский дом скучает по ней. Александр окинул взглядом гостиную. В дальнем углу, под установленной в опору елкой, подмигивала ему сверкающая змейка волшебных фонариков.
Джулия припарковала машину у дворика возле станции. Она отдала ключи станционному смотрителю, сказав, что Александр скоро их заберет, и повела Лили к билетной кассе. Уже после она осознала, что в спешке забыла дома свою чековую книжку. Но у нее было достаточно денег на билет до Лондона и на такси до квартиры Мэтти. Как только она доберется, можно будет обо всем подумать. Поезд шел очень медленно, в нем было полно путешествующих в рождественские дни. Из их сумок торчали пакеты с подарками, а мужчина, сидевший в углу купе, принес миниатюрное сосновое деревце и уложил его в багажную сетку. Лили сидела у Джулии на коленях. Сначала она была бодрой и довольной, но по мере приближения поезда к Лондону становилась все более раздражительной, тем более что она проголодалась. Джулия не захватила с собой еды, а в поезде не было буфета. Сидевшая напротив пожилая дама предложила ей яблоко, и Лили с жадностью набросилась на него. На станции в Ридинге Джулия выскочила из вагона и купила на платформе немного молока. Был уже девятый час вечера, когда они, усталые, окоченевшие и голодные, достигли Пэддингтона. Лили повисла на руках у матери, обхватив ее за шею. Они долго стояли в очереди на такси. — Теперь уже скоро мы будем у Мэтти, — приговаривала Джулия. — Ты сможешь выпить чего-нибудь горяченького и крепко заснешь. Наконец они оказались во главе очереди, и такси медленно поплыло в вечерней сутолоке уличного движения, минуя целые кварталы сверкающих огнями магазинов. Джулия смотрела на людей и огни и вздыхала от радостного чувства возвращения домой. Когда они достигли улицы, где жила Мэтти, она выпрыгнула из такси и, стоя на черно-белой плитке перед молочной, нажала пальцем на звонок квартиры Мэтти. Она довольно долго ждала, затем позвонила опять, и только после этого в душу стал закрадываться страх. Она отступила назад и посмотрела вверх, на окна. Нигде не было света. Мэтти не было дома. Джулия знала, что она не занята в спектакле и, разумеется, куда-то отлучилась. Ведь было Рождество. Как только Джулия поняла очевидное, она удивилась собственной глупости. Все ее внимание настолько было сконцентрировано на скорейшем приезде к Мэтти, что даже не было времени позвонить ей. Джулия почувствовала, что рухнула последняя надежда. У нее в кошельке еще было достаточно денег, чтобы расплатиться по счетчику за такси, круглое бледное личико Лили таращилось на нее с заднего сиденья. Они оказались предоставлены самим себе, одни в огромном Лондоне. Наступило Рождество, а у них не было денег. Внезапно Джулия осознала, что здесь у них нет дома. В ее памяти опять встала негостеприимная дорога в «Савой». В ночной темноте носились какие-то силуэты. — Боюсь, моей подруги сейчас нет дома, — сказала она шоферу. — Куда же тогда, мисс? — спросил тот вполне дружелюбно. Джулия сделала глубокий вдох и выпалила адрес на Итон-сквер. Туда она также не будет звонить. Если и Феликса не окажется дома, ну что ж, только тогда она начнет нервничать. Подъехав к площади, она стала взволнованно считать номера, по мере того как они проезжали мимо домов. И тут она увидела, что высокие окна гостиной дома справа, выходящие на элегантный балкон первого этажа, ярко освещены. — Слава Богу, — пробормотала она, когда такси притормозило. — Вы можете немного подождать? — Она взяла на руки Лили и бегом помчалась в дом вверх по широкой лестнице. Дверь Джорджа Трессидера открыл мужчина, похожий на дворецкого. Джулия смутилась. — Я ищу Феликса. Он дома? Человек сохранял невозмутимое выражение лица. — Разумеется, мисс. Пройдите. Лили заплакала. В конце длинного, покрытого толстым ковром коридора Джулия услышала музыку и гул голосов. Они последовали за дворецким. У двойной двери он на минуту задержался, а затем распахнул ее. Джулия увидела толпу людей. Дамы были одеты в вечерние туалеты, обильно декорированные драгоценностями, а мужчины в темных костюмах или фраках. Овальные серебряные блюда с горками поджаренного хлеба с икрой, белая с серебром рождественская ель, а справа перед ней сам Джордж во френче бутылочного цвета и соответствующем галстуке-бабочке. Джордж и Феликс задавали рождественскую вечеринку. — Джулия! Вот так сюрприз! — сказал Джордж. В теплой благоухающей комнате Джулия поняла, что она неопрятна и помята после поезда, что у нее побледневшее лицо и непричесанные волосы и что плачущий у нее на руках ребенок утомлен и напуган. Казалось, все в комнате глазеют на них, удивляясь их столь несвоевременному появлению. — Да, это своего рода сюрприз, — ответила Джулия. Несмотря на дрожь в голосе, она старалась говорить бодро. И тут она увидела Феликса. Он вышел из толпы и поцеловал ее в обе щеки с таким видом, как будто весь вечер только ее и ждал. — Полагаю, Лили сначала хотела бы чего-нибудь поесть? — тихо спросил он и повел их на кухню. Там никого не было, кроме горничной в черном платье. Когда та вышла с очередным подносом с закусками, Феликс ласково спросил: — Что случилось? Глядя ему прямо в глаза поверх макушки Лили, Джулия ответила: — Я совершенно запуталась. Я все делала неправильно и знаю, что в том, что случилось, моя вина. Я не хочу больше ошибок, вот и все. Я ушла от Александра, потому что, что бы мы ни делали, все причиняет нам боль. — Ее лицо сморщилось. — Внизу ждет такси, и у меня даже не хватает денег заплатить шоферу. А у тебя вечеринка. Извини, Феликс. К ее удивлению, Феликс засмеялся. — По крайней мере, таксисту я смогу заплатить за тебя. — В дверях он оглянулся. — Ты помнишь, что я сказал, когда родилась Лили? Она медленно кивнула. — Я сказал, что если буду тебе нужен, ты знаешь, где меня найти. — Да. — Ну вот, — он улыбнулся, — я рад, что ты меня нашла. А вечеринка не имеет к этому никакого отношения. — Спасибо тебе, Феликс. Когда он вышел, Джулия опустила Лили на высокий алый стул. Затем она прошлась по чистой кухне между бутылками шампанского в поисках кастрюльки для молока, а также чистого полотенца. Она вытерла полотенцем пыль и слезы с Лица Лили и поцеловала ее. — Ну, — сказала она, — теперь все будет хорошо. Потому что у нас есть друзья, понимаешь? Нам повезло. Очень, очень повезло. Когда Феликс и горничная вернулись, они нашли Джулию пьющей горячее молоко из кружки, а Лили крепко спящей на плече у матери. — Она так устала, — мягко сказала Джулия, — что даже не смогла дождаться своего молока. (обратно)
Глава семнадцатая
В квартире было даже темнее, чем внизу, у самого основания наружной лестницы. Все трое без конца налетали на детскую сидячую коляску Лили, пытаясь разглядеть что-нибудь впереди, в темноте. — Где-то здесь должен быть выключатель, — пробормотал Феликс. Через секунду он нашел его, и под потолком загорелась лампочка. — Электричество есть, значит, все в порядке, — сказал Феликс. Они стояли в маленькой неправильной формы прихожей с выходящими в нее четырьмя закрытыми дверями. Стены были выкрашены блестящей темно-зеленой краской. Джулия прошла вперед и распахнула одну за другой все двери. Их взору открылась среднего размера комната и еще одна поменьше, обе с покрытыми толстым слоем грязи окнами, выходящими во внутренний двор здания. Там было пусто, лишь на полу валялось несколько скомканных газет. С другой стороны находилась комната с колонкой для подогрева воды и глубокой старинной формы ванной с зеленоватыми пятнами около стоков, находящихся под медными кранами. Сразу же за ванной находилась удивительно большая почти квадратная комната с двумя окнами на уровне цокольного этажа. Сквозь их верхнюю часть видна была уличная ограда, за которой мелькали ноги прохожих. Эта комната была пуста, как и другие, но зато в ней находился искусственный камин в стиле тридцатых годов, выложенный изразцами и украшенный шлифованным металлом. Через другую дверь, с противоположной стороны комнаты, Джулия увидела кухонный буфет. Стоя в дверях кухни, она обернулась и улыбнулась Феликсу и Мэтти, вертевшимся по другую сторону огромного камина. — Здесь великолепно, — сказала она. — Разумеется, мы берем ее. Что скажешь, Лили? Лили выбралась из своей коляски и провела ручонками по каминной плитке. Затем отдернула их и спрятала за спину. — Грязно, — серьезно заявила она. — Неважно, — сказала ей Джулия. — Я скоро все вычищу. Я должна немедленно начать делать что-нибудь самостоятельно. Если мы с Лили хотим выжить, то я должна что-то делать, не так ли? А это как раз подходящее место для начинания. Именно здесь и сейчас. — Она жестом обвела комнату и прихожую, а также и все другие комнаты, покрытые толстым слоем грязи. Необходимость справиться во всем одной, без Александра, даже без Мэтти и Феликса, стала навязчивой идеей Джулии. Она привезла сюда Лили после нескольких беспорядочных дней, прожитых на Итон-сквер, а потом в квартире Мэтти в Блумсбери, и приняла решение начать самостоятельную жизнь, чего бы это ей ни стоило. Она посмотрела на Лили. Девочка катала взад-вперед свою коляску, посадив в нее куклу. В глубине души Джулия не сомневалась, что они справятся и выживут. Но ей хотелось чего-то большего, чем это примитивное стремление. Ей хотелось достичь успеха, благодаря которому она сделала бы Лили такой же счастливой и беспечной, какой девочка могла бы стать, останься она с отцом в Леди-Хилле. И важно было, чтобы Александр обязательно узнал об этом. Джулия хотела добиться успеха в будущем для себя и Лили еще с большим пылом, чем прежде домогалась свободы. Она так страстно желала этого, что по телу у нее прошла дрожь и застучали зубы. — Ладно, давайте поедем сейчас домой. Мы можем вернуться сюда в конце недели с вещами, необходимыми для уборки. — Мэтти, ты не должна тратить свое время на подобные дела. Мы ведь можем поселиться сперва в одной комнате, а постепенно я вычищу все. Мэтти обернулась, щурясь на Джулию сквозь сигаретный дым. — Не будь такой дурочкой, — сказала она. Это был приказ, не допускавший возражений. Подгоняемая ветром, смешанным с городской пылью, Джулия усадила Лили в коляску, и они двинулись пешком. Она успокоила себя тем, что эта новая квартира, дом, является лишь фундаментом того кирпичного особняка, который она построит в северной части Оксфорд-стрит. Он располагался как раз посредине пути между старой квартирой на площади и пристанищем Мэтти в Блумсбери. Географическая симметрия как бы укрепляла в мечтах Джулии чувство надежности, Блумсбери находился на расстоянии пешей прогулки, если идти довольно быстрым шагом. Но Мэтти, не раздумывая, взяла такси. Пока Джулия высаживала Лили и складывала коляску, она невольно задавалась вопросом, заметила ли Мэтти, что способ осуществления их самостоятельных решений указывает на большую разницу между ними. Возможно, Мэтти, которая встала на ноги за последнее время и пользовалась автомобилем и водителем, доставлявшим ее в студию на работу, брала такси, не задумываясь над этим. Что же касается ее самой, то такси являлось одним из предметов роскоши, которые она не могла себе позволить. Джулия уселась рядом с Мэтти и взяла на колени Лили. «Все это пустяки», — сказала она себе. Пока она не встанет на ноги, она будет избегать того, чего не может себе позволить. Прогулка пешком никому еще не повредила. Дождь стучал в окошко автомашины. Покрепче обхватив Лили, Джулия откинулась на спинку сиденья и с облегчением вздохнула. Теперь у них есть дом. Достигнута вторая важная цель. Первая заключалась в том, чтобы найти работу, и Джордж помог ей в этом, правда, под нажимом Феликса. Адвокаты Джулии предупредили ее, что до тех пор, пока она не найдет постоянного источника дохода и каких-либо гарантий, которые обеспечат средства существования для них двоих, оставалась вероятность того, что Александр получит право опекунства над Лили. Со своей стороны, адвокаты Александра советовали ему оставить за Джулией право материнства, так как суды предпочитают передавать детей разведенных родителей матерям. Если, конечно, не случится так, что она останется бездомной, беспомощной или по каким-либо другим причинам условия ее жизни не будут соответствовать требованиям закона. Джулия поговорила с Александром по телефону. Ей, в тот период ютившейся сначала на одной постели с Мэтти, а затем, по великодушному разрешению Джорджа, в его квартире среди позолоченных зеркал, эти беседы причиняли непереносимую боль. — Я не возвращусь в Леди-Хилл, — сказала она. — А я и не прошу тебя об этом, — жестко ответил он. — Я уже сказал тебе все перед тем, как ты ушла. Я хотел бы вернуть Лили. Я собираюсь подать заявление на опекунство, и тебя вызовут по этому поводу в суд. — Александр, не делай этого, — прошептала Джулия. — Это будет стоить тебе кучи денег, тем более что ты проиграешь процесс. Я уверена, что проиграешь. Лучше употреби эти деньги на восстановление своего любимого Леди-Хилла. Не трать их попусту. Говоря это, она отчетливо представляла Александра, сидящего у маленького бюро в Леди-Хилле. Она добавила: — Я не хочу отнимать у тебя Лили. Мы можем прийти к соглашению. Она будет приезжать к тебе гостить в Леди-Хилл, когда ты захочешь. Ведь ты ее отец. Но жить она будет со мной. И это не подлежит никакому обсуждению. «Я не могу отдать ее даже тебе. Моя мать оставила меня. Как же я могу сделать подобное с Лили?» В конце концов, хотя и неохотно, Александр согласился на это предложение. — Хорошо. Но я хочу, чтобы это было юридически заверенное соглашение, в котором оговаривалось бы время, которое она будет проводить со мной в Леди-Хилле. Скажем, хотя бы треть года или больше, если она сама этого захочет. Я не хочу зависеть от твоих капризов. Я не доверяю тебе, Джулия. «С чего бы тебе доверять? — подумала Джулия, — это я могла бы доверять тебе, но не доверяла». Александр продолжал говорить, пересыпая свою речь юридическими терминами. — Если ты согласишься на мои притязания, я буду выплачивать тебе содержание в течение остальной части года. — Мне не нужны твои деньги. — Я не имел в виду тебя. Деньги для Лили. Голос Александра был холоден, но Джулия знала, как ему больно. — Хорошо, — тихо сказала она. — Хорошо. Ради Лили. Соглашение еще не было заключено. Но Джулия понимала, что должна поступиться своей гордостью. Ей пригодилась бы любая помощь, предложенная Александром, для того, чтобы кормить и одевать Лили. Тем более что Джордж платил ей не слишком щедро. Пока такси, потряхивая, мчалось по улицам, Джулия, держа липкие пальчики Лили, перемазанные фруктовым джемом, думала о своей матери. За последние месяцы ее представление о матери очень изменилось. Она перестала думать об ее аристократических предках и бесконечных размолвках на почве романтических приключений, которые могли заставить мать расстаться с ней. Теперь Джулия думала иначе; ее мать, должно быть, была очень молода, ранима и одинока. Джулия теснее прижала Лили, так что девочка стала вырываться и отворачиваться, чтобы освободиться. Джулия вдруг ощутила узы, тянущиеся откуда-то из глубины и притягивающие ее к этой незнакомой женщине. Как всегда, думая о ней, Джулия пыталась узнать, где ее мать, вспоминает ли она когда-нибудь об оставленной ею дочери. Мэтти потихоньку наблюдала за ней. — Послушай-ка, а почему бы нам не выйти вечерком поужинать? Как в былые времена. — Как в былые времена не получится. Ведь у меня Лили. Возражение Джулии прозвучало резче, чем следовало. Но за ту неделю, что она прожила с Мэтти, она почувствовала огромную разницу между ними. Мэтти играла центральную роль в фильме под названием «Девушка у окна». Для нее это была большая работа, обещавшая реальную известность. Театр значил для нее больше, но он представлял все же очень ограниченный мирок — таковы были доводы Мэтти. А кино вводило ее в блестящий, шумный мир, хотя Мэтти притворялась, что относится к нему пренебрежительно. Но на самом деле она была предана своей работе еще с тех времен, когда была с Джоном Дугласом, и прилагала немалые усилия, чтобы превратиться в большеглазую куклу, каковой была героиня фильма. Она много часов проводила на работе, а когда приезжала домой, чувствовала себя выжатой как лимон, но все еще взволнованной дневными киносъемками. Иногда она оставалась дома и тогда отправлялась в самые модные клубы, веселилась, много пила и, шатаясь, возвращалась домой, когда Джулия уже давно спала. Вечером, когда Лили засыпала в своей импровизированной кроватке, Джулия набрасывалась на книги по истории и поэзии, а также на беллетристику, наслаждаясь свободой и стимулом, который она давала для работы над собой. Случайное упоминание Мэтти о прежних временах вызвало у нее неожиданную острую боль сожаления. — Я не забыла о Лили, — сказала Мэтти. — В соседней комнате живет девочка, над булочником. Ей, должно быть, лет пятнадцать. Мы можем предложить ей десять шиллингов за то, чтобы она пришла и посидела с ребенком, а мы с тобой могли бы съездить и съесть кебаб в «Голубом дельфине». «Это не “Ночная фиалка” и даже не Маркхэм-сквер, — подумала Джулия, — но все же довольно соблазнительно». — Хорошо, — согласилась она. — В пятницу мы получаем в свое владение новую квартиру. В понедельник я опять начну работать полный день в «Трессидер дизайнз». Вот и давай отпразднуем это. — Идет! Соседская девочка-подросток согласилась прийти и посидеть с ребенком. Джулия положила Лили в кроватку, а Мэтти прочла ей сказку, забавно изображая действующих лиц, что очень понравилось Лили. Она заливалась смехом и хлопала в ладоши, требуя «еще!». — Завтра, — твердо сказала Мэтти. Маленькие комнатки казались переполненными, когда они собирались там втроем. Мэтти и Джулия юркнули в ванную комнату навести марафет, в то время как Лили погрузилась в сон. Мэтти приклеила два слоя накладных ресниц, действуя очень ловко натренированной рукой, а затем похлопала ими перед Джулией. Они подвели ей глаза, сделав их огромными под густой челкой волос. Внезапно Джулия поняла, что Мэтти делала ставку на что-то большее, чем обыденная жизнь. Как будто действительно существует такой товар, как достоинство кинозвезд. — Ты выглядишь просто фантастически, — пробормотала она. — И ты не хуже. — Я-то? Я ведь мать и бывшая жена. И мне двадцать четыре года. Чувствую себя старой как мир. — Ну знаешь ли, а мне двадцать пять. Ради Бога, пойдем и немного выпьем, прежде чем нас усадят в кресла на колесах. Но, несмотря на установку сохранять приподнятое настроение, вечер не удался. Сначала они отправились в кабачок. В пошлой обстановке, пропитанной винными парами, Джулия пыталась определить, как давно она в последний раз сидела на стуле за стойкой бара с Мэтти, и пришла в замешательство от того, что даже не может вспомнить. На Мэтти были новые до колен сапоги из блестящей темно-коричневой кожи. Она закинула ногу за ногу, обнажив ляжки в плотно облегающих колготках, и зажгла французскую сигарету. Она тут же начала рассказывать какую-то историю о своем напарнике по фильму «Девушка у окна», тоже кинозвезде. Он невероятно привлекателен, бывший рабочий с кирпичного завода в южной части Лондона, чей первый фильм, где он сыграл поразительно симпатичного бродягу-фотографа из западного Лондона, уже успел сделать его знаменитым. — Требовалась кандидатура в один из киношных журналов. Очевидно, людям лучше известно имя Дрейка, чем Гарольда Микмиллана, — Мэтти завращала глазами. — Что он собой представляет? — Макмиллан? Ах, Дрейк! Тупой, как это. — И она постучала по стойке бара. — Как бы то ни было, ему была предоставлена возможность взять этот барьер. Джулия еще раньше заметила двух мужчин, а может быть, парней. На них были расширяющиеся книзу джинсы и замшевые куртки, и видно было, что они наблюдают за девушками, или, по крайней мере, за Мэтти, с того момента, как она вошла. Мужчины всегда заглядывались на Мэтти. Джулия знала это вот уже почти четырнадцать лет. И теперь краешком глаза она видела, как они проталкивались через толпу к стойке бара. — Почему бы нам не угостить этих двух цыпочек глотком спиртного? — спросил один из них. Джулия заметила, что у них вполне приличный вид. В какое-то мгновение она почувствовала себя почти польщенной — уже давно забытое ощущение, короткое воспоминание о тех днях, когда они с Мэтти, еще до появления Александра и этого ужасного Леди-Хилла, безрассудно кутили, бегая по вечеринкам и джаз-клубам. А затем сквозь дымку своих розовых мечтаний она услышала холодный голос Мэтти: — А почему бы вам, двум… не пойти пописать? Этот каламбур был так далек от остроумия, что Джулия вздрогнула. Парни отступили, натянуто смеясь, причем один из них пробормотал: — Ну зачем же так… Мэтти осушила свой стакан с джином и погасила окурок сигареты. — Пойдем отсюда, — сказала она. Джулии ничего не оставалось, как быстро последовать за ней. Один из парней бросил вслед Мэтти: — Слушай, ты, я тебя знаю. Заносчивая сука. Выйдя на улицу, Мэтти быстро пошла в западную сторону, по направлению к Гудж-стрит и Греческому ресторану. Ее щеки пылали красными пятнами. — Почему ты это сделала? — спросила Джулия, пытаясь сдержаться. — Ведь можно было сказать «нет», не прибегая к грубости. Мэтти остановилась и повернулась к ней лицом. — Я не люблю, чтобы меня цепляли. Не люблю, когда на меня глазеют и обращаются со мной как с вещью. — Джулия уже хотела было сказать: «Но если ты хочешь, чтобы на тебя глазели, стало быть, ты занимаешься не тем делом», но вовремя прикусила язык. — Каждый мужчина, каждая сволочь только и норовит схватить за грудь и стянуть с меня трусы. Я занимаюсь этим весь день напролет, но бывают дни, когда можно позволить себе не допустить этого, вот и все. О, проклятые дьяволы! Думаю, что по большей части я получаю работу только благодаря моим грудям. Как тогда, в «Шоубоксе». — Мэтти содрогнулась. — Все мужчины — самцы. Начиная с моего отца и кончая Тони Дрейком, — все до единого. Во всяком случае, большинство. Тебе повезло, что ты вышла замуж за одного из тех немногих, которых я сюда не отношу, но по какой-то необъяснимой причине ты возненавидела и бросила его. Ладно. Это меня не касается. Пойдем заглянем еще куда-нибудь. Мне нужно немного выпить. Мэтти была права, подумала Джулия, это ее не касается. Но слова попали в цель. Не подумав хорошенько, она сказала: — Не кажется ли тебе, что ты слишком много пьешь? Мэтти открыла рот, обнажив зубы и язык. — А тебе не кажется, что ты слишком много времени нянчишься со своим страданием? Они стояли на краю тротуара, глядя друг на друга, и молчали, потрясенные сказанным. Первой заговорила Джулия. Она тихо сказала: — Да, пожалуй. Постараюсь поскорее избавиться от этого чувства. Мэтти потерла руками глаза, забыв про наклеенные ресницы. — Заткнись. Ладно, я виновата. Это потому, что у тебя есть Лили, а я мечтаю о ребенке. И у тебя есть Блисс и Леди-Хилл, а тебе все мало, потому что ты заводишь себе еще и летчика. — Не смей ничего говорить о нем, — приказала Джулия. — Послушай, Мэтти. Ты пользуешься успехом, стала знаменитой и занимаешься тем, о чем всегда мечтала, и все хотят тебя. — Да. — Ты тоже не можешь жаловаться. Этовсе, что я хотела тебе сказать. — Я не жалуюсь. Я просто предложила парням пойти помочиться. Они продолжали так стоять, меряя друг друга взглядом, как будто собирались подраться. Джулия неуклюже протянула руку, а затем обняла Мэтти за плечи. — Я не знала, что ты так относишься к мужчинам. Я думала, ты воспринимаешь все как шутку, как мы всегда делали это раньше. Или как что-то докучливое, но полезное, из чего можно извлечь выгоду, как в «Шоубоксе». И я думала, что ты все еще ищешь себе партнера, которого смогла бы полюбить. Мэтти плакала. Слезы струились по щекам, оставляя грязные следы от косметики. — Да, ищу. — Рыдания перехватили ей горло, и она едва могла выговаривать слова. — Но мне кажется, я никогда не найду такого человека. Джулия встряхнула ее и погладила по волосам, успокаивая, как она это делала с Лили. — Ты найдешь. Обязательно найдешь. У тебя впереди пропасть времени. Еще много, много лет. — Она дала Мэтти еще немного поплакать, а затем стала приводить ее в чувства. — Сейчас мы пойдем и где-нибудь перекусим. Возьмем много всякой всячины. И я куплю тебе пять бутылок вина, если ты так этого хочешь. Мэтти подняла голову и фыркнула. — Достаточно будет и двух. Взявшись за руки, они медленно направились к Гудж-стрит. В ресторане они сели друг против друга за столик, покрытый голубой скатертью. Неожиданный взрыв отчаяния Мэтти потряс их обеих. Джулия заметила, что руки у Мэтти дрожали, когда она зажигала сигарету. — Я не видела тебя такой плачущей уже много лет, — сказала она. Да, много лет. С того случая на Фэрмайл-роуд, когда Мэтти возвратилась домой в разорванной одежде и с окровавленным ртом. — Прости. — Не отстраняйся от меня, Мэтт. Я не знала, что ты несчастлива. Расскажи мне все. Мэтти смотрела в сторону, сквозь сетчатые занавески, висевшие на окнах, на улицу. — Извини меня, — повторила она. — Я не чувствую себя несчастной. Все прекрасно. Просто я раздражена тем, что случилось сегодня. И поэтому решила, что стремиться к такой избитой, старомодной штуке, как истинная любовь, просто нерационально… — Она не старомодна, — сказала Джулия. Но ироническая улыбка Мэтти говорила о неубедительности ее слов. — Ты романтическая натура. И твоя связь с летчиком полна романтики. А если бы ты была хоть чуточку практична, ты бы осталась с Блиссом. — Благодарю покорно. — Извини. Я опять за свое. Тебе, вероятно, неприятно это слушать — Мэтти сделала глубокую затяжку, а потом выпустила дым, голубым облачком поднявшийся над ее головой. Уже другим, низким голосом она добавила: — Пока ты жила эту неделю у меня с Лили, я ревновала. К ее зависимости от тебя. Ты центр ее вселенной. Никто не испытывает подобных чувств ко мне. Они какое-то время молча смотрели друг на друга, как бы оценивая, много или мало они знали друг о друге. Наконец Джулия сказала: — Давай не будем ревновать друг друга. — Давай попробуем, — поправила ее Мэтти. Она на миг прикоснулась пальцами к Джулии, а затем с залихвацким видом взяла меню. — Как называется вино, обладающее очищающими свойствами? — «Ретзина». — Тогда возьмем его. — Тут же у столика появился официант. — Для начала большой графин с королевским красным. — И Мэтти улыбнулась ему сквозь размазанный макияж. Официант явно растаял. — Сию минуту, мисс. Когда он почти бегом отправился выполнять заказ Мэтти, Джулия рассмеялась. — Ты полна парадоксов, Мэтти. Они всячески старались поддерживать оживленное настроение. Предавались воспоминаниям, касавшимся самых безобидных вещей, хотя таких оказалось не так уж много. Посплетничали о друзьях, особенно о Феликсе и Джордже. — Расскажи мне опять о том, как тебе жилось на Итон-сквер, — попросила Мэтти. — Это было ужасно. Все они очень старались быть добрыми, а мы с Лили все делали не так. Все, к чему она прикасалась, выходило из строя или разбивалось. Там был дорогой китайский фарфор, и салфетки, и льняные скатерти, каждый раз свежие, и я всегда старалась помочь, но доставляла еще больше хлопот. Короче, все невпопад, настоящее бедствие. Я могла дать Лили овсянку в личной чашке Джорджа, из которой он привык пить свой кофе. Джордж морщился, но притворялся, что не обращает на это внимания, и пил кофе из других закусочных чашек зеленого с золотом сервиза, который привез из Парижа. Я так обрадовалась, когда ты вернулась домой. — И я тоже. Возможность проникнуть глубже в последнюю неудачную любовную связь Мэтти так и не представилась, хотя Джулия старалась изо всех сил выведать все. Мэтти стала гораздо скрытнее, чем была прежде. — Не стоит даже говорить об этом, — сказала она. Все, что Джулия узнала, это то, что он был певцом, имевшим свою группу, и что был родом из тех же мест, недалеко от Блик-роуд. Пример Джулии показал, что хотя Бетти очень гордилась этим, ее собственное замужество развивалось в совершенно неправильном направлении. Каждому было ясно, что нынешний герой — представитель рабочего класса; по крайней мере, каждому, кто разбирался в беспокойном пестром мире лондонской жизни, частью которого была Мэтти и по которому, как казалось Джулии, она сама очень тосковала. Мэтти, оставила недоеденным свой кебаб и наклонилась вперед, держа в руке бокал. — Ты хочешь опять устроиться в «Трессидер дизайнз»? — По правде говоря, не очень. Но на данном этапе сойдет и это. — А потом? — У меня появилась блестящая идея. Не спрашивай какая, я еще не все обдумала. — Поделись, когда дозреешь. Джулия старалась пить наравне с Мэтти, но скоро та оставила ее далеко позади. Мэтти осушила один графин и заказала второй, но вино никак не способствовало восстановлению их былого веселья. По мере того, как шло время, Джулию все больше охватывало нараставшее чувство отчаяния, и ей казалось, что и с Мэтти происходит то же самое. После первых минут бодрости это чувство становилось все тягостнее. У Мэтти опьянение наступило неожиданно, но Джулия была к этому готова. Как только голова Мэтти опустилась на стол и она успокоенно зевнула, как это делают маленькие девочки перед отходом ко сну, Джулия знаками подозвала с удивлением смотревшего на них официанта. — Моя подруга очень устала. Дайте счет и закажите, пожалуйста, такси. Джулия оплатила заказ, но на такси пришлось достать деньги из кошелька Мэтти. Что касается меня, подумала Джулия, то я вполне могла бы добраться и пешком. Приехав домой, Джулия уложила сопротивляющуюся Мэтти в кровать и отпустила девочку-сиделку. Но утром Мэтти встала как ни в чем не бывало еще до того, как проснулась Лили, и была готова идти на работу. Лицо у нее было опухшим и бледным, но тем не менее она задорно подмигнула Джулии. — Что бы делала вся эта косметическая братия, если бы их продукция не годилась на то, чтобы творить чудеса? Пока, дорогая. В субботу мы поедем чистить твою новую квартиру. Но когда наступил уик-энд, Мэтти вызвали на какие-то дополнительные съемки, и в итоге Джулия взяла Лили, ведра и щетки и отправилась на Гордон Мэншинс одна. Она отгородила для Лили наименее грязный угол, дала ей игрушки и книжки, а сама принялась за уборку. Она захватила с собой маленький красный транзистор и, моя полы, напевала про себя «С моей любовью к тебе». Но Лили могла играть в одиночестве не более пяти минут. Обследовав комнаты и оставляя за собой следы разбросанного повсюду имущества, она возвратилась к исходной позиции и настоятельно предложила свою помощь. Прежде чем Джулия успела остановить ее, Лили засунула руки в ведро с водой, после чего громко закричала, так как вода оказалась горячей. Однако она не перестала плакать до тех пор, пока ей не разрешили намочить в воде тряпку, после чего стала возить ею по полу и по стенам, замочив себя и испачкав тряпки. — Лили, это не помощь. Прекрати! — прикрикнула на нее Джулия. Она схватила мокрую ручонку Лили и завела ее обратно в отведенный ей угол. — Сиди здесь. Но через пять минут все началось сначала. Джулия вспотела, и волосы, прилипшие к влажному лицу, вызывали непреодолимое желание почесаться. Все жилье так заросло грязью, что едва она успевала заменить воду и тряпки, как они тотчас опять становились черными. Лили опрокинула пакет с моющим средством и оставила на рассыпавшемся порошке голубые липкие следы. — Прекрати! — заорала на нее Джулия. Она поняла, что совершенно невозможно браться за какую-нибудь серьезную работу, если рядом с тобой ребенок. Такое открытие она не смогла бы сделать в Леди-Хилле, потому что там не предполагалось, чтобы она делала что-нибудь более важное, чем присмотр за Лили. Когда Джулия в десятый раз оттащила девочку от ведра с водой, Лили расплакалась. Едва матери удалось наконец ее успокоить, как она нежным голоском попросила: «Пойдем покачаемся на качелях?» — Нельзя, не сегодня. Нам нужно привести в порядок наш новый дом. А завтра пойдем. Когда Джулия навела относительную чистоту в кухне и ванной комнате, она разложила походный завтрак, который привезла с собой. Мать и дочь уселись на полу и перекусили хлебом с сыром и бананами. — Наш первый завтрак в новом доме. — Джулия улыбнулась Лили. — Хорошо, правда? — Хорошо, — послушно повторила малышка. Джулия решила помыть все жилые комнаты, прежде чем вернется в Блумсбери. Комнаты оказались небольшими, но как только она начинала их подметать, обе, мать и дочь, кашляли и чихали от столбов пыли, и скоро они поняли, что объем работ слишком велик, чтобы закончить в один день. Но она продолжала упорно скоблить и мыть, вытирать насухо, время от времени выпрямляясь, чтобы разогнуть спину и отбросить с лица волосы. Квартира казалась пустой и изолированной от мира, как будто кроме них двоих вокруг не было никого. Лили устала и начала капризничать. Она тянула Джулию за руку, крича: — Лили хочет на качели! Джулия опять попыталась объяснить ей, стараясь быть по возможности терпеливой: — Не сегодня. Завтра, обещаю тебе, мы пойдем туда завтра. Было уже поздно, на улице сгущалась тьма, когда Лили опрокинула ведро с водой. Грязная вода растеклась по чистому сухому полу. Терпение Джулии истощилось. Внутри нарастал неудержимый гнев. Схватив девочку за руку, она надавала ей шлепков по толстеньким голым ножкам. — Гадкая девчонка! Гадкая! Посмотри, что ты наделала! Личико Лили выражало скорее удивление, чем обиду. Она открыла рот, зажмурила глаза и закатила рев. Вся дрожа, Джулия с силой усадила малышку на пол и стояла, крепко сцепив руки на груди, стараясь удержаться от яростного желания задать ей еще трепку. Она едва смогла выдавить из себя: «Извини», но в ту же секунду Лили открыла глаза и закричала: — Я хочу к папочке! Тогда Джулия опустилась на колени и посмотрела дочери в лицо. Она взяла ее за плечи и слегка встряхнула. Голова ребенка качнулась из стороны в сторону. Теперь в ее лице не было ни потрясения, ни обиды. Там был страх. Джулия почувствовала, как у нее перехватило дыхание. — Папочки здесь нет. И он сюда не приедет. Вот почему мы все это и делаем. Ты понимаешь? Находясь в состоянии гнева и растерянности, Джулия твердила себе, что Лили всего лишь два с половиной года. Она еще не может ничего понимать, кроме одного, что здесь нет Александра, и того, что мать причинила ей боль. — О Лили, — Джулия заплакала от стыда и собственной несдержанности. Ведь если она делает все это ради блага Лили, то почему в то же время так обижает ее? Лили склонила головку набок, наблюдая за матерью. — Мамочка плачет. — Ее личико опять сморщилось, на этот раз из сострадания, и она протянула к Джулии ручки. — Я возьму тебя на ручки, — примирительно сказала она. Джулия схватила ее, поднялась на ноги, держа рукой детскую головку у своей щеки. — Возьми меня на ручки, — прошептала она. — Ты ведь хотела сказать это? Конечно, я возьму. Конечно, если ты этого хочешь. После того как они вместе вытерли с пола воду, Джулия повезла Лили в коляске в Блумсбери. Добравшись до квартиры Мэтти, она приготовила себе чашку чая и выкупала ребенка, после чего они уселись на диван, выпили по стакану горячего молока, и Джулия прочла Лили ее любимые сказки. Она знала, что должна как-то восполнить недостаток терпения и материнской чуткости. Казалось, Лили все забыла, но Джулия почувствовала первые уколы сомнений. Сомнений в том, что они могут выжить. «Мы справимся, — твердила она. — Я знаю, что мы справимся». Позже пришла Мэтти, возбужденная дневной работой, и откупорила бутылку вина. На предложение выпить с ней стаканчик Джулия отрицательно покачала головой. Мэтти тотчас опомнилась. — Я устраиваю кое с кем встречу с выпивкой и закуской. Почему бы и тебе не пойти? Мы можем опять попросить ту девочку посидеть с малышкой. Секунду Джулия раздумывала, испытывая некоторое желание принять участие в вечеринке, но тут же вспомнила прошлый поход и отказалась. — Я устала. Хочу пораньше лечь в постель. Мэтти взглянула на мать и дочь, сидящих рядышком на диване. Лили была в ночной рубашечке, розовая и светящаяся после купания, а Джулия запахнулась в старый банный халат. Мэтти поразило их сходство. Их лица имели одинаковую форму и даже одинаково вились их темные волосы. Настоящие мать и дочь. — Ладно. Я схожу с тобой завтра в «Мэншинс», и мы обмоем твое новое жилье. — Спасибо, Мэтти. После ее ухода Джулия уложила Лили в постель и сидела возле нее, пока девочка не уснула. Это произошло, как обычно, внезапно; только что малышка резвилась, болтала и пела, а в следующую минуту уже спала, и засунутый в рот пальчик безвольно выпал из полуоткрытых губ. Джулия забралась с ногами на диван, положив подбородок на колени, и задумалась. Было очень тихо, и в этой застывшей тишине она почувствовала себя одинокой и беззащитной. Ответственность, которую она взвалила на себя, показалась вдруг непосильной. Она вскочила на ноги. Нет, надо поскорее лечь в постель и заснуть, чтобы не дать сомнениям сломить ее дух. Она еще раз склонилась над Лили, без всякой нужды поправляя края одеяла, а затем легла на кровать. Совершенно неосознанно она приняла ту же позу, что и Лили. Джулии приснилось, что она встретилась со своей матерью. Они были в большом, похожем на пещеру магазине и, стоя плечом к плечу, нагружали корзины бакалейными продуктами. В тот момент, когда они повернулись и заметили друг друга, Джулия увидела, что магазин горит. Языки пламени за их спиной развевались подобно занавескам. Она повернулась и побежала, сознавая, что, спасая себя, она теряет мать и никогда больше ее не увидит…Конец первой книги (обратно) Рози ТОМАС СКВЕРНЫЕ ДЕВЧОНКИ Правдивый и откровенный роман «Скверные девчонки» — это повесть об утрате невинности, о радостях, разочарованиях и открытиях в процессе самопознания. Каждая из подруг делает свой собственный выбор в жизни, их дружба — несмотря на чувство вины и предательство — выдерживает все испытания. Появившись на книжных прилавках, книга мгновенно стала бестселлером. Daily Telegraph

(обратно) Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам. (обратно) (обратно)
Рози Томас Скверные девчонки Книга вторая
Глава восемнадцатая
В понедельник утром Джулия опять приступила к работе в фирме «Трессидер дизайнз». С помощью объявления в местной газете она нашла для Лили женщину для присмотра за ребенком. Это была некто миссис Форган, проживавшая в небольшом домике с террасой неподалеку от Вердл-Энд. У нее было двое своих детей, уже школьников, а кроме того, она присматривала еще за одним маленьким ребенком, мать которого тоже работала. Джулия заметила, что в доме чисто и много игрушек. Позади дома был даже маленький садик, в котором дети могли играть в летнее время. Джулия решила, что нехватка теплоты у миссис Форган всего лишь своего рода профессиональные издержки. Она обладала умеренным чувством симпатии к детям, и Лили благополучно поступила к ней на попечение. Что касается Александра, то в разговоре с ним Джулия слегка приукрасила достоинства воспитательницы. — У нее большой опыт по уходу за маленькими детьми. Она сама мать и занимается этим уже много лет. — Мне неприятно даже слышать об этом, — ответил Александр. Джулия старалась, чтобы ее голос звучал бордо и убедительно. — Все это делают, Александр. В наше время большинство матерей работают. И к тому же я сразу же заберу ее, если увижу, что Лили там плохо. Но оставить Лили в это первое утро было самым тяжелым делом, которое предстояло Джулии. — Я приду повидать тебя во время ланча, — пообещала она и пошла к парадной калитке. Она старалась закрыть уши, чтобы не слышать протестующих воплей Лили, но они на протяжении всего утра отдавались у нее в ушах. В «Трессидере» она заняла свое прежнее рабочее место за столом, стоявшим перед дверью, ведущей в святая святых — дизайнерское бюро. Джулия вдруг подумала о том, что никогда не пыталась устроиться по другую сторону. Работа оказалась почти такой же, как и четыре года назад, разве что клиенты теперь были более знатными и более богатыми — причем обе эти категории никогда не совмещались. Представители старинной аристократии буквально толпились у Джорджа, но у них было гораздо меньше денег, которые они могли бы потратить, чем планов и объема предполагаемых работ. А новая элита модных дизайнеров и популярных звезд и фотографов стала прокладывать дорожку к Феликсу. Оба были буквально одержимы навязчивой идеей следить за своим внешним видом и обстановкой. Для создания необходимого эффекта у них было гораздо больше денег, чем когда-либо в казне Джорджа в прошлом. Сопоставляя все это с собственным невзрачным жильем на Гордон Мэншинс, Джулия не переставала восхищаться, а иногда даже испытывать самую настоящую жгучую зависть. В первый же перерыв на завтрак Джулия помчалась в Верлдс-Энд. Лили в это время ела жареные бобы с ломтиком хлеба, сидя среди кучи игрушек. Сначала она уцепилась за Джулию, но потом довольно спокойно отпустила ее, когда той пришло время возвращаться на работу. В конце первой недели миссис Форган предложила Джулии отказаться от обязательных ежедневных посещений в середине дня. — Вы понимаете, ее, а также и другого ребенка выбивают из колеи эти ваши ежедневные приходы в обеденное время. Лучше предоставьте ее мне на весь день. — Хорошо, — неохотно согласилась Джулия. Она вспомнила о подобных обеденных перерывах, о Бетти и жизни на Фэрмайл-роуд. Своей удивительной опрятностью и чистотой домик миссис Форган начал напоминать ей дом на Фэрмайл-роуд. Итак, Гордон Мэншинз, миссис Форган и «Трессидер дизайнз» явились начальной вехой долгого, однообразного периода жизни Джулии. По утрам они с Лили садились в метро, а потом на автобус, идущий на Верлдс-Энд, а затем Джулия стрелой неслась обратно на Кинг-роуд, чтобы вовремя успеть на работу. В ее обязанности входило открывать магазин для первых алчных искателей новинок художественного оформления. Вечером, приблизительно часов в шесть, она забирала Лили, и они проделывали весь обратный путь в самый час пик. Скоро Джулия поняла, что ей следовало бы поискать няню поближе к дому или, в крайнем случае, к ее работе. Может быть, им пришлось бы больше времени проводить врозь, но зато не надо было бы так много таскать Лили в транспорте. Но теперь, когда Джулия так хорошо устроилась с миссис Форган, она не хотела порывать с ней. Когда они вечером добирались до дому, нужно было кормить Лили ужином и купать ее перед сном. В это время они обе обычно чувствовали усталость и бывали раздражительны. Джулия понимала, что очень мало видит Лили в течение недели, и все-таки в конце дня даже этот короткий час с ребенком казался ей слишком утомительным. Она кричала на Лили, когда та проливала сок или размазывала еду, и невольно сокращала время, отведенное на сказки, потому что вскоре начинала клевать носом над страницами книги. Однажды девочка подхватила простуду. Миссис Форган объяснила, что другой ребенок, Уоррен, оказался болезненным и, по ее словам, заражал всех, кто находился рядом с ним. Когда Лили наконец уснула, Джулия задержалась у кроватки, прислушиваясь к ее затрудненному дыханию и приложив тыльную сторону ладони к пылающим щечкам ребенка. Сознание вины и беспокойство были столь остры, что она сжалась от боли. Она наклонилась, чтобы поцеловать дочь, рискуя разбудить ее, как бы прося у нее прощения. У Джулии было достаточно друзей в Лондоне еще с ранних времен совместной жизни в одном квартале и в период знакомства с Александром, но никто из них, как оказалось, не вел такой жизни, как Джулия. Большинство не были женаты, ни у кого не было детей. Все они хорошо относились к Джулии, и она получала массу приглашений, но наемные няньки стоили довольно дорого, и она не всегда могла себе это позволить и поэтому гораздо чаще отказывалась от приглашений, чем принимала их. Скоро все друзья отошли от нее и она все больше и больше вечеров проводила дома в одиночестве, погружаясь в чтение, уносящее ее в совершенно иной мир. Во время уик-эндов Джулия старалась искупить свою вину перед Лили, посвящая ей все свое свободное время. Они отправлялись на прогулки в Коралз Филдс или в зоопарк в Регентс-парке, который малышке очень нравился. Иногда они проводили полдня, сидя на скамейке в обезьяньем домике, наблюдая за грустной гориллой. Ходили также в местные бани, и Джулия терпеливо учила Лили плавать. Когда установилась более теплая погода, они стали ездить на пикники в Хэмпстедскую Пустошь, потом стали посещать Бетти и Вернона. Лили считала недолгие поездки на поезде самым интересным приключением, а опрятный, красиво декорированный и украшенный орнаментом интерьер Фэрмайл-роуд казался ей восхитительным и сказочно прекрасным. «Как бабуся Смит» — стало одной из излюбленных фраз Лили, выражавших высшее одобрение. Бетти разрешала ей открывать все дверцы буфета и копаться в ее шкатулке с украшениями, чего Джулии никогда не позволялось делать. Лили могла завешивать обеденный стол скатертью так, чтобы получалась палатка, в которую она стаскивала подушки и одеяла, на что Джулия смотрела с неодобрением. — Она ведь ребенок, — с нежностью говорила Бетти. — Бедное наивное дитя. Пусть поиграет. Слова «бедное наивное дитя», как понимала Джулия, подразумевали то, что Лили живет без постоянного присутствия отца, который ходил бы на службу и возвращался домой точно в полшестого вечера, как это делал Вернон. Джулия могла бы сказать: «Лили счастлива. По крайней мере, гораздо более счастлива, чем была я в детстве», но сдержалась. — Что же все-таки случилось? — шепотом спросила Бетти с любопытством и едва заметной радостью, которую не могло скрыть даже чувство разочарования, так как подтвердилась ее правота, что люди, принадлежащие к разным классам, не должны сходиться. — Мы с Александром последнее время не были счастливы вместе, — просто сказала Джулия. — Мы разошлись и, я думаю, со временем оформим развод. Но обязанности относительно Лили мы, разумеется, выполним оба. Вернон, сидя в кресле в ленивой воскресной позе, в шлепанцах из шерстяной шотландки, сказал, что развод — это грех. Вынеся свой вердикт, он развернул газету и погрузился в чтение. Бетти согласно кивнула, выражая свое обычное, отработанное до автоматизма согласие с «правотой отца», но все же она смотрела на Джулию с тревожным сочувствием. Джулия не пыталась спорить или добиваться их понимания. Создавать подобные проблемы не имело никакого смысла. Она была благодарна родителям за возможность воскресного отдыха, который мог ей предоставить Фэрмайл-роуд. Обстановка дома подавляла ее, но она мирилась с этим. Зато Лили была в восторге. И Джулия уговаривала себя, что это самое главное. — Ты только посмотри на нее, — умиленно приговаривала Бетти, когда Лили тащила по полу очередные подушки, сминая по пути ковровые дорожки, отчего тряслись и дребезжали на буфете фарфоровые собачки, грозя свалиться на пол. — Да благословит Бог ее живую душу. В поезде, по дороге домой, Лили сказала: — Я люблю бабусю Смит. Джулия улыбнулась в ответ. — Очень хорошо. Бабуся Смит тоже любит тебя. Слишком поздно было спрашивать у Бетти: «А как насчет моей живой души, когда я была в ее возрасте?» Да и вряд ли она получила бы ответ. Джулия вспомнила критическое отношение к Мэтти и опять улыбнулась. Ей не всегда все удается, но, по крайней мере, она старается. В первые два-три месяца Александр регулярно приезжал повидаться с Лили. Перед первым его визитом Джулия изо всех сил старалась украсить и обставить, превратить свое жилище в то, что соответствовало бы представлению Александра о приличном доме. Когда он приехал, она и жаждала его одобрения, и злилась на себя за это желание. Александр окинул взглядом прочную, но подержанную мебель и свежевыкрашенные стены. В спальне Лили, где к стенам были приколоты последние рисунки девочки, он долго стоял, глядя на цветные кружки и линии. — Она изменилась, — сказал он наконец. — Даже за это короткое время. — Да. Они старались не смотреть друг на друга. Лили увернулась от руки Александра. Она была смущена и взволнована, игриво поглядывая на него из-под ресниц. — У тебя очень уютно, — заметил Александр. — Тебе ничего не нужно? — Нам вполне хватает содержания, которое ты выплачиваешь, — ответила Джулия. — Больше этого не требуется. — Теперь ей трудно было поверить, что они были когда-то близки, а сейчас стояли такие надменные и чужие. Но поскольку она понимала, что сделала это собственными руками, то чувствовала себя виноватой и беспомощной. — Послушай, Лили, пойдем повидаем бабушку. — Они собирались повидать Чину. Александр застегнул на Лили пальтишко, причем прикасался пальцами к каждой пуговице как к драгоценному камню. Джулия помахала им, стоя в дверях. Она неподвижно стояла, глядя, как они вместе уходят. Ей хотелось побежать за Александром и заставить его обнять ее. «Это зависимость, — упрекнула она себя. — Зависимость. Ты должна найти возможность жить самостоятельно». Она подумала о том, что, возможно, ее желание быть с Джошем, так же как и тяга к Александру, были всего лишь ее собственной несамостоятельности. «Я должна выжить», — повторила она про себя. Войдя в опустевшую квартиру, Джулия решительно захлопнула за собой дверь. Она взялась за рабочие бумаги, принесенные из «Трессидера», потом слушала пьесу по радио, так как чувствовала себя не в состоянии читать, и лишь ждала возвращения Лили. После этого первого визита посещения Александра стали довольно частыми, но состояли всегда в том, что он куда-нибудь уводил, а потом приводил назад Лили. Он брал ее на прогулки или возил к Чине в огромный жилой квартал, выходящий на мост Альберта, так как дом на Маркхэм-сквер сдавался внаем. Иногда он увозил Лили на весь уик-энд в Леди-Хилл. Когда девочка возвращалась домой, Джулия пристально наблюдала за ней, как будто боялась, что Леди-Хилл отнимет у Лили ее любовь к матери. Но Лили казалась такой же, как всегда, — живой, любознательной и наивно расточительной в своей любви. Наконец наступила весна, а вместе с ней и время, когда Джулия, по договору с Александром, должна была отпустить Лили в Леди-Хилл на целый месяц. Она уведомила об этом миссис Форган, которая в ответ недовольно поджала губы; перестирала и выгладила одежду Лили и упаковала ее вместе с любимыми игрушками и книжками девочки в большую дорожную сумку. В канун приезда Александра за дочерью, вечером, Джулия долго сидела у кроватки уснувшей Лили. Она осторожно взяла один из ее черных локонов и намотала себе на палец, словно пытаясь распутать в своей душе клубок противоречивых чувств. Приехал Александр, и Лили бросилась в его объятия. — Будем смотреть коров? — спросила она, и Джулия с болью поняла, что девочка помнит Леди-Хилл и уже понимает, что это удовольствие она будет делить с отцом, а не с матерью. — Да, будем смотреть коров. И у них уже есть детки — телята. Бабушка Фэй кормит одного из бутылочки, потому что он потерял свою маму. Ты уже к этому готова? — Готова, — лучезарно улыбнулась Лили. — И я хочу увидеть бабусю Фэй. — Лили приняла как что-то вполне естественное наличие у нее трех бабушек. Джулия крепко обняла ее, и они уехали. Когда она обходила опустевшие комнаты, казалось еще хранившие следы детского присутствия, Джулия убеждала себя, что может воспользоваться предоставленным ей месяцем свободы. Раньше она строила планы и перспективы. Но теперь села на кроватку Лили, держа в руке вывернутый белый носок, и заплакала от одиночества и уныния. Наплакавшись вволю, Джулия поняла, что необходимо сделать некоторое усилие, чтобы вспомнить основные заповеди свободной жизни. «Расслабься, — учила Мэтти. — Нельзя сделать все сразу за один вечер. Оставь что-нибудь и на завтра». Джулия сходила в ресторан, потом на какую-то вечеринку с танцами, потом, возвратясь и беспокойно пометавшись по комнатам, решила пойти еще куда-нибудь, в другое место. Казалось, ее подстегивает изнутри какое-то безудержное желание, граничащее с отчаянием. Мэтти отметила про себя, что Джулия выглядит измученной и лихорадочно возбужденной. — Я не в состоянии поспевать за тобой, — пожаловалась она. Джулия удивленно посмотрела на нее. — Но ведь ты привыкла к этому. Это твой обычный образ жизни, не так ли? — Не совсем так. Мужчины окружили Джулию, подобно мотылькам, слетевшимся на свет, привлеченные ее живой энергией. Она уже несколько месяцев не спала с мужчиной, считая, что материнство уничтожило в ней всякое желание заниматься сексом. Теперь, за короткий срок, она успела сменить несколько любовников. Ей было приятно сознавать, что она могла бы иметь все, чего пожелает, выбирая партнера с нарочитой придирчивостью или, наоборот, с безоглядной поспешностью из публики, прогуливающейся по Кинг-роуд. Казалось, что весенней порой все только этим и заняты. Джулия была потрясена глубиной сексуальной потребности, неустанно терзавшей ее. Просыпаясь по утрам, она сразу же опять с жадностью тянулась к тому, кто лежал рядом с ней, требуя поцелуев, объятий и теплого незнакомого тела. На протяжении всего длинного рабочего дня в «Трессидере» она испытывала беспрестанный электрический сексуальный разряд. Глядя через высокие плоские стеклянные окна магазинов, она рассматривала проходящих мимо мужчин, оценивая длину их ног и упругость мускулов под плотно облегающими джинсами. Джордж Трессидер с неодобрением поднимал брови. Но Феликс, вспоминая время, проведенное во Флоренции, и то, что случилось с ним там, стал вдруг отчаянно ревнив. А потом, когда наступал вечер и Джулия уходила с работы либо в бар с Феликсом, либо куда-нибудь на встречу с Мэтти, наступало время выбора очередного партнера. И она выбирала по ямочке на подбородке, или по косичке волос, или по сверкнувшей из-под открытого ворота рубашки полоске загорелого тела и с наслаждением отдавалась случайному избраннику. Эта сексуальная ненасытность продолжалась почти весь месяц, пока отсутствовала Лили. Но однажды утром, утолив очередной взрыв страсти, она обнаружила, что совершенно не находит, что сказать лежавшему с ней рядом белокурому парню. Она и прежде не задумывалась о таких вещах, как беседы с любовниками, но в то утро ей вдруг захотелось какой-то доверительности, когда возлюбленные о чем-то говорят и смеются общим шуткам. Но парень с тем же тупым выражением лица недовольно спросил: — Что-нибудь не так? — О нет, все прекрасно, — солгала Джулия. И ей захотелось поскорей избавиться от него. «Ты все еще не свободна, — сказала она себе. — Толпа мужчин, ничем не отличающихся друг от друга, разве это то, что нужно?» Она отправилась в Сохо в магазин, где сквозь пыльную витрину видны были выставленные напоказ хирургические пояса и бутылочки патентованных лекарств с выгоревшими этикетками. В углу окна стоял указатель: «средства в помощь супругам». Ирония, заключавшаяся в этой надписи, была поистине удивительной. Она купила вибратор и стала пользоваться им, беспощадно вызывая в воображении безликие образы. Возбуждение наступало очень быстро, но без всякого накала, а затем тут же все пропадало. — Пойдем со мной на репетицию, — предложила Мэтти. — Вряд ли они позволят посторонним околачиваться рядом во время репетиции. — Это другое, — сказала Мэтти. Она уже закончила работу над фильмом «Девушка у окна», с явным облегчением распрощалась с собственной скучной ролью и с радостью подумала, что не придется каждый день изображать страсть к Тони Дрейку. После этого фильма Мэтти была без работы несколько недель. Она нарочно отказывалась от ролей, которые ей предлагал ее агент. Была какая-то роль в пошлой музыкальной комедии в Вест-Энде, которую начали ставить специально для известной звезды, и возможность сыграть студентку-медичку в «Палате скорой помощи». — Хлеб с маслом, — пробормотал, покачивая головой, преемник Фрэнсиса Виллоубая. — Ты не можешь позволить себе упустить кусок хлеба с маслом. — Я бы предпочла джин с эклерами, — отпарировала Мэтти. И она продолжала сидеть дома в Блумсбери, перелистывая журналы или глядя свой новый телевизор, выходя лишь поесть в излюбленные ею кафе в то время, когда там беспорядочно теснились люди. В целях экономии, так как она была без работы, она вместо джина или виски пила испанское бургундское. Вино клонило ее в сон, и она часто засыпала прямо в кресле перед светящимся экраном телевизора. И вдруг, без всякого предупреждения и предварительных договоров, ей позвонила какая-то женщина. — Мэтти Бэннер? — Я вас слушаю. — Меня зовут Крис Фредерикс, из «Женской сценической группы». Мы видели вашу работу. Вы не хотели бы прийти почитать нам? Ставится новая пьеса, написанная молодым драматургом-женщиной. Вся постановка чисто женская. — Ее низкий, слегка хрипловатый голос понравился Мэтти. Мэтти минуту раздумывала. Она никогда не слыхала о такой группе. Окинув взглядом комнату, пачку журналов на столике для телевизора и рядом три пустые бутылки из-под вина, она сказала: — Да. Возможно, меня это заинтересует. Крис Фредерикс дала ей адрес, какое-то место, по звучанию напоминавшее пакгауз, где-то к югу от реки, назначила день и час. И повесила трубку. Мэтти подняла брови с иронической ухмылкой. — Кажется, я собираюсь стать знаменитой актрисой, — резюмировала она. — Но почему бы им не сказать: «Пожалуйста, придите и почитайте нам?» Она почувствовала, что гораздо больше горит желанием почитать, чем получила гарантий. В назначенный день она отправилась по указанному адресу в Ламбет. Это был, как она и предполагала, какой-то склад. Побарабанив в огромную металлическую двустворчатую дверь и покричав во все горло несколько минут, Мэтти пришла к выводу, что перепутала день. Но тут она услышала грохот по ту сторону двери и одна ее половина раздвинулась, образовав узкую щель. Оттуда высунулась голова. Это была девушка с темными курчавыми волосами. — О, привет, — улыбаясь сказала она. — Извините. Мы разговариваем. Не слышали стука. Входите. Мэтти последовала за ней. Они миновали темное складское помещение, заваленное, как заметила Мэтти, деталями какого-то оборудования, а затем прошли через дверь в загородке в самом дальнем углу склада. За загородкой находилась маленькая комнатка с высоким потолком, в которой стоял один стол и несколько упаковочных ящиков. На всем, включая чайник на подносе, лежал слой пыли. Кофейные чашки, рукописи пьес, немного менее запыленная бутылка молока и открытая коробка шоколадных бисквитов были в беспорядке разбросаны по столу. Приблизительно около дюжины женщин сидели рядком на ящиках, разговаривая все разом. Две или три из них взглянули на Мэтти и улыбнулись, причем одна встала и протянула ей руку. У нее было моложавое лицо, но черные волосы уже основательно посеребрила седина. На ней были надеты джинсы и мужская рубашка. — Вы, должно быть, Мэтти Бэннер? А я Крис Фредерикс. Мэтти привыкла представляться и знакомиться, по крайней мере в профессиональном кругу, точно так, как привыкла пользоваться услугами студийной автомашины и шофера. Но члены «Женской сценической группы» не устроили ей никакой церемонии знакомства, выказав лишь простое дружеское расположение, оказываемое случайным людям. Мэтти подавила чувство оскорбленного самолюбия и решила, что этим они ей и нравятся. Она тепло пожала руку Крис. — Как я уже вам говорила, у нас чисто женская группа. Кроме того, полная демократия. Все решения, административные и относительно ролей, мы принимаем сообща. Я исполняю функции директора только формально. У меня авторитета ничуть не больше, чем у любого члена группы. — Крис подтолкнула экземпляр рукописи через стол к Мэтти. — Вот, возьмите. «Одиссея обыкновенной женщины». Ну, начнем чтение? Все готовы? Мэтти прервала ее: — Два вопроса, прежде чем мы начнем. Почему вы пригласили меня? — Элисон прочла ваше интервью. Там вы сказали, что женщины более интересные существа, чем мужчины. А кроме того, приняв вас в свой состав, мы можем быть уверены, что вы уделите работе должное внимание. Это было самое странное чтение, в котором Мэтти когда-либо принимала участие. Не было никаких режиссерских указаний или контроля. В итоге каждый вмешивался, когда хотел, высказывая свои чувства и мысли относительно текста. Если возникали серьезные расхождения, вопрос ставился на голосование. На прочтение одной небольшой части ушло пять с половиной часов. Мэтти нашла, что пьеса пикантна и забавна. Она считала также, что она слишком длинна и многословна. Все это ей удалось откровенно высказать. В пьесе было собрано несколько коротких сценок из мифов и истории, имевших целью показать разницу между мужчинами и женщинами. Наконец с трудом они добрались до финала. На какое-то время воцарилась тишина, но чувствовалось, как в пыльном воздухе еще эхом отдаются только что прочитанные слова. Затем послышался робкий вопрос: — Что вы об этом думаете? В этот момент Мэтти поняла, что, несмотря на всю демократичность, они все-таки интересовались ее мнением. — Я считаю, что пьеса нуждается в доработке. Она очень сырая, и хотелось бы сделать ее острее. Не исключая демократичности, разумеется. Опять наступило молчание. — Итак, вы беретесь за роль? — Да, берусь, — сказала Мэтти. Все вскочили и столпились вокруг Мэтти, наперебой пожимая ей руку. — Добро пожаловать в «Группу»! — сказала Крис Фредерикс. — Как вы думаете, не пойти ли нам в кабачок отпраздновать это дело? В кабачке они разместились за двумя столиками, болтая, перебрасываясь шуточками и остротами. В центре этой большой раскрепощенной группы женщин Мэтти почувствовала себя уютно и защищенно. Глядя на Джослин и Крис, сидевших рядышком за другим столиком, на кучки мужчин, лениво развалившихся на стульях бара, Мэтти испытывала какое-то новое ощущение.За день до того, как Александр привез подросшую, посвежевшую Лили обратно в Гордон Мэншинз, какой-то молодой человек с большой дорожной сумкой вошел в магазин Джорджа Трессидера. У него было живое лицо, длинные волосы и куртка поверх полосатой тенниски. Он так разительно отличался от респектабельных посетителей «Трессидера», что Джулия неодобрительно нахмурилась. Подойдя прямо к ее конторке, он заявил: — У меня есть для вас новая продукция. Я хочу заключить с вами договор на ее реализацию, с учетом исключительности прав. — Если речь идет об исключительности, то вы попали как раз в нужное место. Он светился энтузиазмом, а это всегда заразительно. — Дайте мне лучше взглянуть на эту вашу прекрасную продукцию, — предложила Джулия. Широким жестом, присущим магам и волшебникам, он стал вытаскивать из сумки полосу ярко-розового пластика. Пока Джулия смотрела во все глаза, он вставил в насадку ножной насос и стал надувать пластик. Прямо у нее на глазах бесформенный кусок пластика стал приобретать форму. Он все увеличивался в размере, пока не превратился в кресло с подлокотниками и спинкой, и даже с аккуратной пластиковой салфеточкой. Джулия захлопала в ладоши и уселась в кресло. Оно поскрипывало, но зато было очень удобным. — Надувная мебель, — пояснил он. — Это дешево и забавно. — Думаю, вы правы: именно забавно. Кресло было яркое, как детский надувной шарик, и представляло грубый контраст с бросавшимися в глаза предметами солидной обстановки, сделанными из старинного дуба и украшенными позолотой, расставленными вдоль стен магазина Джорджа Трессидера. Дверь во внутренний офис открылась, и явился Джордж собственной персоной. Его взгляд быстро скользнул по посетителю и его тенниске, по дорожной сумке и сверкающему розовому креслу, на котором сидела Джулия. — Посмотри, Джордж, — с воодушевлением начала объяснять она, — надувная мебель. Джордж молча оглядел Джулию, продавца и кресло. — Что вы на это скажете? — спросил незнакомец. — Скажу, что это самая ненадежная штука, которую я когда-либо видел, — ответил Джордж. Он прошел мимо них, мимо сверкающей позолоты и мебели красного дерева и вышел на улицу с таким видом, как будто только на Кинг-роуд мог вдохнуть свежего воздуха, который не заражен, по крайней мере, розовыми надувными креслами. Оставшиеся в магазине Джулия и продавец уныло посмотрели друг на друга, а затем расхохотались. — Ничего, это был короткий выстрел на длинную дистанцию, — фыркнула Джулия, — эта вещь войдет в моду. — Я думал, что здесь декораторы настроены на богачей нового класса: звезд, фотографов и парикмахеров. Я читал о вас в «Королеве». — Это всеФеликс, — сказала Джулия. Она протянула руку, и незнакомец пожал ее. — Меня зовут Джулия Смит. — Томас Три. Вам действительно нравится кресло? — Да. — При этом в голове Джулии уже вертелись новые мысли. — Если вы можете их изготавливать, я найду для вас точку сбыта в розничной торговле. И тут у нее родилась блестящая идея. Этот разговор стал случайно брошенным в землю зернышком, из которого выросла фирма «Чеснок и сапфиры». (обратно)
Глава девятнадцатая
Все началось с малого. Используя свои связи, Джулия нашла двух продавцов розничной торговли, которые изъявили желание попытать счастья с надувными креслами Томаса Три. И Томас был весьма удивлен, когда первые образцы были проданы сразу же, хотя Джулия уверяла его, что сама нисколько этому не удивилась. — Нужно действовать быстро, — поучала она его. — Нельзя делать перерыв в шесть месяцев, иначе все об этой новинке забудут. — Она посмотрела на Томаса и заплаты на коленках его джинсов взглядом знатока. — Хотите, я подскажу, что нужно делать? Хотя, конечно, у вас нет никакой надобности принимать чьи-то советы. — Я очень вам благодарен, — сказал Томас. — Похоже, у нас получилась неплохая артель. — У вас есть деньги на материалы? — Я найду их. У Джулии не было денег, чтобы предложить ему. По его настоянию она взяла лишь небольшие комиссионные за проданный товар. Магазины продали кресла по очень высокой цене, но она знала, что Томасу едва ли перепало что-нибудь существенное. Спустя три недели он явился с тремя дюжинами кресел из розового, зеленого, оранжевого и алого пластика. Когда он распаковывал их на квартире Джулии, они горели и переливались на солнце, и Лили весело подпрыгивала на оранжевом кресле, которое Томас надул для нее. Под глазами у Томаса были большие темные круги, и он заметно похудел по сравнению с тем, как выглядел, впервые появившись в магазине Джорджа. — Посмотрим сначала, как пойдет сбыт этой первой партии, — предусмотрительно сказала Джулия. — Еще у меня есть вот что, — заявил Томас. Он извлек из своей огромной сумки разноцветную катушку пластика. Прикрепив к нему ножной насос, он надул пластиковое деревце пальмы девятифутовой высоты, с кокосовыми орехами и попугаем. Личико Лили от восторга и изумления превратилось в сплошное «О-о!» — Единственный экземпляр, — с гордостью сказал Томас. — Но если здесь поставить полдюжины таких деревьев, ваша парадная гостиная мгновенно превратилась бы в необитаемый остров. Джулия несколько секунд смотрела на пальму, испытывая чувство, подобное тому, которое испытал бы Джордж Трессидер, представив полную комнату качающихся пластиковых листьев. — Почему бы и нет? У вас еще какие-нибудь идеи? — Сотни. Но на то, чтобы воплотить их в жизнь, не хватает денег. — Продайте эти кресла, а затем сделайте заем в банке. Я попробую убедить Феликса дать на него гарантии. — Надеюсь, это будет выгодно вам обоим, — сказал Томас. Джулия проводила его до наружной лестницы. — Я постараюсь заключить с продавцами более выгодную для вас сделку, — пообещала она. — Но вы не должны выплачивать мне комиссионных. И тогда кресла сами окупят себя. Томас протянул руку, и после короткого колебания она пожала ее. Она заметила, что он смотрит на нее с восхищением, и отступила подальше от него, так как были еще слишком свежи воспоминания о месяце свободной жизни. — До свидания, — сказал Томас. — Я скоро вернусь. Кресла были быстро распроданы. Джулия заставила розничных торговцев выплатить за них больше, чем за первую партию, и сразу же переслала деньги Томасу Три. Все это значительно повысило последние расценки, но надувная мебель по-прежнему раскупалась сразу же, как только поступала в магазины. — Вот и рынок сбыта, — подумала Джулия. Но у нее даже зачесался затылок, когда она обдумывала потенциальные размеры этого рынка и, в соответствии с этим, строила дальнейшие планы. Молодые люди, фланировавшие каждую субботу по Кинг-роуд, имели деньги, которые могли легко тратить. Джулия рассудила, что если они так много тратят на одежду, то могли бы выделить какую-то часть и на убранство своих комнат. Если, конечно, им предложить товар дешевый, красивый и новый. Самое главное — новый. В течение этой весны и лета она тщательно выискивала товары, которые удовлетворяли бы ее собственный вкус. И как только она стала искать, тут же увидела массу возможностей. У Питера Джоунса она почти наткнулась на несколько складных столиков и табуреток. Они были свалены за садовой мебелью: картонное покрытие было слишком тонким, а раскраска отвратительной, но зато сама идея была хороша. В дизайнерском магазине, на столе у Феликса она подобрала детали кресла квадратной формы, обтянутые алым винилом, и решила, что это тоже сгодится. Только слишком дорого стоит. Нельзя ли сделать его подешевле? В магазине светильников она увидела японские бумажные фонарики, которые можно было использовать в качестве абажуров, затем огромные белые стеклянные абажуры, дающие мягкий спокойный свет. На рынке кустарных изделий она облюбовала покрашенные вручную свечи в виде яблок, мороженого и бутылок от кока-колы, и там же, месяц спустя, она встретила девушку, продававшую атласные диванные подушки в форме губ, ушей и ладоней. Ей нравилось, когда она натыкалась на что-то необычное, что заставляло искать еще усерднее. Особенно ей нравились вещи забавные, вызывающие или остроумные, которые заставили бы Джорджа высоко поднять брови и слегка содрогнуться. Джулия знала, что все, что она уже где-то видела, было бы не ново. Ни в коем случае нельзя было копировать: весь фокус заключался в оригинальности. Она должна была буквально выследить свой товар у самого источника и была уверена, что если бы у нее было время посвятить себя этому занятию и хоть какая-то поддержка, она бы добилась успеха. Весь фокус заключался в том, чтобы выставить всю эту ошеломляющую коллекцию в одном месте. В магазине. Скажем, в магазине, который был бы местом встреч, где можно было бы посидеть и поболтать и где сдавались бы помещения, как, например, это делается в «Мэри Квонтс Базар», где продается одежда. И назывался бы он «Взрыв» или «Выстрел». Или просто «Композиция». Томас Три настоял на том, чтобы пообедать вместе, чтобы отпраздновать начало дела. Банк согласился на выплату значительного кредита без всяких гарантий. — Если я открою магазин, — спросила Джулия, — смогу ли я найти достаточно такого необычного товара, как ваши кресла? Томас посмотрел на нее. Она помешивала свой кофе. Ее глаза ярко блестели. — Десятки, — ответил он. — Люди, с которыми я учился в колледже, изобретают необычные вещи. Основная проблема — найти рынок сбыта. Люди весьма консервативны. Как моя мать. Ей нравится полированное темное дерево и цветная обивка. Джулия улыбнулась. — Как и Джорджу Трессидеру, за исключением его любимых ситцев и инкрустированного орехового дерева. — Она решительно посмотрела на Томаса и сказала — Томас, если я открою магазин, могу я получить исключительное право на продажу вашей мебели? — Разумеется. На всю, какая будет. — В таком случае вы будете моим партнером? — Да. Они обменялись рукопожатием. На этот раз Джулия не выдернула свою руку. В ее первоначальный план входило убедить Джорджа и Феликса позволить ей организовать свое дело под крышей Трессидера. Если они помогут ей найти и купить свой магазинчик, хотя бы просто ссудив деньгами, они могли бы получать прибыль наравне с ней и Томасом. С самого начала у Джулии не было никаких сомнений, что прибыль потечет рекой. И она очень хорошо знала, что «Трессидер дизайнз» мог бы сделать свой вклад. В этом году впервые за все время своего существования компания имела невероятный успех. Поразмыслив, Джулия решила сначала поделиться идеей с Феликсом. — Давай вместе пообедаем, — предложила она ему. — Мне нужно с тобой поговорить. Они медленно пошли по улице, подставляя лицо теплым лучам солнца. По дороге Джулия оглядывала толпу и витрины магазинов. Вдыхая свежий летний воздух, она подумала, что могла бы вот так же ощущать вкус и запах новизны, а также волнующего подъема и энергии. Это был первый летний сезон «Битлз»; девушки запрудили магазины и офисы, стремясь купить пластинки, а также предметы одежды с их изображениями. Казалось, все, проходившие мимо них, сливались в одну сплошную покачивающуюся сумку с этой последней новинкой. — У тебя такой счастливый вид, — сказал Феликс. — Я просто взволнована, — ответила Джулия. — У меня есть идея. Она почти не прикоснулась к еде и вину, а без умолку говорила, размахивая руками, стараясь разжечь энтузиазм Феликса с помощью своего собственного. Он же сидел, смотрел на нее и думал, как приятно видеть прежнюю, оживленную Джулию. Он помнил, какое влияние оказала на него Джулия в те беспорядочные дни, когда впервые пришла с Мэтти, и, потягивая вино, сидя перед остывшей едой, он вспомнил вечер похорон Джесси. Он помнил с удивительной ясностью ощущение хрупкости Джулии, когда держал ее в своих объятиях. Он думал, что печаль и чувство вины состарили ее, но теперь казалось, как будто не было этих лет и ей опять можно было дать пятнадцать. Она наклонилась через столик и коснулась его руки. Не отдавая себе отчета, он схватил ее руки и крепко сжал их. Любовь — дорогой товар, но он знал, что любит Джулию. — Не правда ли, прекрасная идея? Ее страстность заставила его вздрогнуть. — Какая идея? — Да та, о которой я тебе твержу битый час. Феликс призадумался. Он вынужден будет ее разочаровать, но постарается сделать это как можно мягче. — Идея в самом деле блестящая. И он был действительно уверен в этом. Магазина, подобного тому, который описала Джулия, еще не было, и он знал по собственной клиентуре, что все оригинальное может с успехом распродаваться. У Джулии был свой стиль — и он восхищался им еще с того момента, когда впервые мельком увидел ее в «Ночной фиалке», — и если она сможет найти это, она наверняка это продаст. Вполне вероятно, что ее магазин начнет работать. — Но я не думаю, что Джордж захочет поддержать тебя. Истина заключалась в том, что Джордж не доверял Джулии. Феликс знал, что его нелюбовь к ней была основана на ревности. Джордж был достаточно чувственным и достаточно умным человеком, чтобы заподозрить некоторую близость между своим любовником и Джулией. Он терпел Джулию в «Трессидер дизайнз» единственно потому, что Феликс хотел дать ей работу, чтобы поддержать ее и Лили, и потому, что Джордж ни в чем не мог отказать Феликсу. И не без основания, мысленно поправил себя Феликс. Снабдив Джулию деньгами «Трессидера» для магазина, который будет торговать мебелью и пластиковыми изделиями, он не считал, что это было сделано бескорыстно. Феликс постарался объяснить это Джулии, не предав Джорджа. Ведь Феликс любил также и Джорджа и должен был защищать его от любого, но он стал тяготиться этой слишком настойчивой и продолжительной связью. Говоря ей все это, он отводил глаза, стараясь смотреть в окна ресторана. Он видел прохожих, и ему казалось, что каждый поворот головы или движение руки наполнены эротикой. Подобно Джулии, он ощущал в это лето особый накал чувственной энергии, которой был заряжен даже пыльный городской воздух. — Но ведь это принесло бы Джорджу основательную коммерческую выгоду, — убеждала Джулия. — А его имя никоим образом не будет связано с магазином, уверяю тебя. — Но Джордж не нуждается в дополнительных деньгах, — мягко сказал Феликс. — Направь свои усилия, чтобы получить поддержку, на кого-нибудь другого. Если в этом, конечно, будет какой-нибудь толк, — добавил он. — Я могу предложить тебе мои собственные две или три тысячи. Ее лицо тотчас озарилось сияющей улыбкой благодарности. Она потянулась через столик и поцеловала его. — Ты ангел! — Но это не все, — предупредил он. — Найди какое-нибудь достаточное для этого помещение под аренду, высчитай проценты, распредели суммы в соответствии со стоимостями. Ты могла бы занять необходимую сумму в своем банке. — Именно это я и посоветовала Томасу, — просияв, сказала Джулия. — И Томас сделал это. — Гм… Могла бы ты привлечь еще кого-нибудь? Скажем, Мэтти? — Думаю, Мэтти следует поберечь сейчас свои деньги. Про черный день и всякое такое. Не думаю, чтобы она могла на многое рассчитывать в «Женской сценической группе». Я имею в виду финансовую сторону. Феликс и Джулия посмотрели друг на друга и тут же переключились на другую тему. — А как насчет Александра? Лицо Джулии сразу потускнело. — Это исключено. Она только накануне виделась с ним. Он приезжал, чтобы взять Лили опять в Леди-Хилл. Джулия решила извлечь из этого пользу для себя. И Лили полезно было побыть на свежем воздухе в середине лета. Квартирка на Гордон Мэншинз была темной, а на улице невозможно было продохнуть от пыли. В Леди-Хилле девочка могла играть в саду и кататься на трехколесном велосипеде по тенистому двору. Джулия отчетливо представила себе эту картину: стремительные рывки, которые делает малышка, темноволосую головку, вытянутую вперед и склонившуюся к рулю. Пребывание с отцом пойдет ей на пользу. Александр будет уделять ей гораздо больше времени, чем смогла бы это делать Джулия. Зато она использует предоставленную ей свободу на свои дела. Например, на поиски помещения и капитала, раз у нее возникла проблема с деньгами. Когда исчезнет необходимость заботиться о Лили, не будет такой спешки, так как нужно было то увидеться с новым конструктором, то мчаться с Томасом взглянуть на какую-нибудь новинку; и она стала ждать этой свободы с отчаянным нетерпением. И все же, когда подошло время обратиться за помощью к Александру, она едва смогла заставить себя сделать это. Но она должна. Это касалось ее дела, и она не могла теперь отступать. Лили уехала счастливая и довольная. Она переводила взгляд с отца на мать с каким-то особым значением, с тем пониманием, которое может быть у трехлетнего ребенка, сознающего силу своей власти над взрослыми. Затем она вложила свою ручку в руку Александра. — Пойдем в машину. — Она любила ездить в автомобиле, а у Джулии своего не было. — Слушайся папочку и бабусю Фэй. Счастливого отдыха. — А про себя подумала: «Я не буду плакать. Они не должны видеть моих слез». Джулия и Александр даже не взглянули друг на друга. Они вежливо и холодно перекинулись парой слов; Александру очень понравилось оранжевое пластиковое кресло, оставленное Томасом для Лили. — Его сделал один мой знакомый. Я помогаю ему продавать его изделия. — Это хорошо. Даже после их отъезда Джулия все еще слышала, как в ее голове звучали совсем иные слова. Но они не могли быть произнесены между этими двумя надменными, безразличными людьми, какими они стали друг для друга. Оставшись одна, она ощутила почти физическую боль от желания услышать детский голосок или прикоснуться к Лили. «Нужно погрузиться в работу, — подумала Джулия. — Работа притупит боль. Необходимо призрачную мечту претворить в ощутимую реальность». — Я не могу просить у Александра, — повторила она Феликсу. — Ладно, найдем кого-нибудь другого. Не думаю, что это будет таким уж трудным делом. Джулия улыбнулась ему. Она вдыхала запах его дорогого лимонного одеколона, смешавшегося с ароматом кофе, французских сигарет и чеснока. — Ты настоящий друг. Надеюсь, твоя вера в мое коммерческое предприятие будет оправдана. — Я тоже на это надеюсь. Они допили вино, съели по бутерброду и вышли опять на улицу под теплые лучи августовского солнца.Банковский управляющий пристально уставился на нее, оторвавшись от огромного сверкающего полированного стола, на котором не было ничего, кроме принесенных Джулией аккуратно отпечатанных бумаг и цифровых расчетов. Хмурое выражение лица управляющего менялось на глазах. Джулия сделала все в точности так, как посоветовал Феликс. После недели интенсивных поисков она нашла маленький магазинчик, прямо на Кинг-роуд, который сдавался внаем. «Если упущу этот, — подумала она, — то смогу найти без особых хлопот другой аналогичный». Она высчитала стоимость ренты и проценты за год, прибавила эти цифры к минимальным затратам на сборочную мастерскую и основные издержки на капитал. Ей придется брать себе небольшой оклад, не более прожиточного минимума. Она подсчитала, что если откроет магазин к Рождеству, то есть надежда выкрутиться уже через несколько месяцев. И вот она пришла, чтобы положить все свои расчеты перед управляющим банком. Когда Джулия тщательно подготовила все вычисления, они показались ей совершенно нереальными, но Феликс и Томас уверили ее, что все выглядит вполне по-деловому. Управляющий все вертел и вертел между пальцами свой «паркер». — Как будет называться ваш… э-э… магазин, леди Блисс? Предлагаемое вами дело, кажется, не имеет названия. Джулия едва сдержала ухмылку. Да, имя играет немаловажную роль. Возможно, то, что она назвалась леди Блисс, произвело на управляющего гораздо большее впечатление, чем это сделала бы некая Джулия Смит. — Я хочу назвать его «Чеснок и сапфиры». Управляющий заморгал глазами. — Но, как я понимаю, вы не собираетесь продавать ни овощи, ни драгоценные камни? Джулия поняла, что может не получить заем. — Это слова из стихотворения. Очень известного стихотворения, правда. — Она принесла томик стихов из Холнборнской библиотеки и читала его, живя в квартире Мэтти, в Блумсбери. — Такое название магазина будет звучать необычно и интригующе. — Понимаю. Ясно было, что он ничего не понял. Джулия догадывалась, что последнее стихотворение, запомнившееся ему, было «Нарциссы», которое проходили в четвертом классе. А что-нибудь необычное и интригующее не имело ничего общего с целями бизнеса. Он сложил ее бумаги перед собой в стопку и похлопал по ней, уравнивая края. Затем объяснил, почему не намерен давать ей заем, несмотря даже на наличие ее собственного капитала в две с половиной тысячи фунтов. Она заранее решила не упоминать, что деньги принадлежат Феликсу. — У меня есть печальный опыт, — заключил он, принимая напыщенный вид умудренного жизнью человека. — Возможно, если бы ваш муж… — Мой муж не имеет к этому делу никакого отношения, — холодно сказала Джулия. Она встала и хотела забрать свои бумаги. — А если бы на моем месте оказался мужчина, вы отнеслись бы к предложению иначе? — спросила она. Этот тип не уловил даже истинный смысл вопроса. — Возможно, — ответил он. Сделав для себя пометку, он надел на ручку колпачок. Разговор был окончен. Джулия стремительным шагом прошла мимо столов его подчиненных, находившихся в соседнем помещении. Это напомнило ей собственное рабочее место за дверью кабинета Джорджа Трессидера, и она дала себе слово, что больше ни одного дня не останется в этом подчиненном положении. Она вышла из банка и направилась к реке. Легкий бриз с характерными речными испарениями освежил ее разгоряченное лицо. Когда гнев немного утих, она остановилась и, облокотившись о парапет, стала смотреть на воду. Внизу отражался свет от зеленых олив, как это было в тот день, когда она встретила Александра… Джулия поникла. Она вспомнила данное себе обещание, но на этот раз нужно было не только выжить, но и добиться блестящего стремительного успеха. В какой-то момент она стала понимать Мэтти, ее первоначальное желание стать актрисой, завоевать имя, стать знаменитостью. Мэтти добилась этого совершенно самостоятельно. Завоеванное ее призвание притягивало, заставляло Джулию искать общества подруги. И если Мэтти смогла сделать это, то и Джулия сможет. И не вопреки тому, что она женщина, а именно благодаря этому. Она найдет необходимые ресурсы и без мужа или любовника, без опоры и щита. И это будет что-то такое, что она сможет потом передать Лили, даже если сюда не будут входить луга, большой сад или надежная защита родовых стен. Но пока что ничего этого нет. Решение добыть достаточно денег, чтобы объединить их с теми, что дал Феликс, стало для нее навязчивой идеей. Джулия отправлялась ко всем, кто, по ее мнению, мог дать ей в долг, просила, подольщалась и обхаживала. И когда муж Софии, Тоби, не смог устоять против такой атаки, он представил ее своему приятелю-банкиру, у которого были кое-какие наличные для вклада. Тот внимательно прочел предложение Джулии, задал ей несколько вопросов, а затем, к ее несказанной радости, согласился оформить заем. Она набралась храбрости, написала Джорджу заявление об уходе, а затем пошла и заверила лицензию на владение магазином. — Я добилась этого, — сказала она Томасу Три. — Мы открываем дело. — Я добилась этого, — повторила она Мэтти. — Теперь ты имеешь дело с владелицей «Чеснока и сапфиров». Мэтти вскрикнула от радости. — Ну, теперь дело пойдет. Надеюсь, оно оправдает надежды. Она пришла посмотреть магазин вместе с Крис Фредерикс. Мэтти выглядела гораздо счастливее, чем была все последние месяцы. Ее лицо округлилось, а волосы были круто завиты. Она отказалась от своих обтягивающих бедра юбок и сапог до колен, заменив их на джинсы и рубашку — обычную одежду всех членов «Группы». Но что больше всего бросалось в глаза, так это ее непривычная мягкость. В прошлом Мэтти была очень остра на язык и часто бывала агрессивна, защищая себя. А теперь, хоть она и была остроумной и смеялась, в основном над собой, стала более раскрепощенной и понимала шутки. Увидев ее с новой подругой, Джулия сдержала чувство ревности. Она подумала: «Мэтти наконец-то счастлива. Это самое главное». После того как были высказаны все восторги по поводу магазина, подруги пригласили Джулию в ресторанчик. Они немного подтрунивали над ее джином и тоником, так как сами пили пиво, и Джулия улыбалась, слушая Мэтти, которая, сколько она ее помнила, никогда не раскрывала газеты, разве что пробегала глазами свой гороскоп, а теперь обсуждала проблемы женской эмансипации, свободы рабочих и теорию Карла Маркса.
Феликс спросил у Джулии: — Может, позволишь мне помочь с дизайном твоего магазина, несмотря на то, что ты отвергла мое предложение обставить твою квартиру? Она бросилась ему на шею. — Вряд ли я осмелилась бы попросить тебя об этом. И ты знаешь, что я не могла позволить тебе этого с квартирой! Это было восхитительное время, когда они занимались этой работой. — Я бы хотела белое с серебром, — сказала Джулия. — Под старинное серебро. Моды шестидесятых. Они покрасили внутренние стены магазина белым, а Феликс купил у одного итальянского дизайнера дюжину анодированных серебром прожекторов дня подсветки. Когда их доставили, Джулия скептически осмотрела их, но когда подключили электричество и Феликс включил все, она ахнула от восхищения. Яркий чистый белый свет заиграл на полу и стенах. — Твой товар будет сверкать, как сапфиры, — сказал Феликс. Через год все новейшие магазины и рестораны имели освещение с подсветкой. Феликс сделал низкие деревянные плинтусы и пирамиды, на которые нанес методом напыления серебряное покрытие, а Томас купил лист алюминия, разгладил и отполировал, чтобы сделать из него полки вдоль стен. — Кажется, будет восхитительно, — взволнованно говорила Джулия. — Надеюсь, я найду достойный всего этого товар. В самые занятые дни она брала напрокат подержанный автомобиль и объезжала колледж по изобразительному искусству, выставки, компании по импорту и оптовые распродажи. Большинство вещей она отвергала, но стоило ей увидеть что-нибудь стоящее, как она тут же заключала сделку и не отступала, пока не договаривалась о точной дате поставки. Она обнаружила в себе таланты, которые ей и не снились. Она могла сбить цену на импортное стекло, не заключая договора на приобретение бокалов для вина, что входило в условие фирмы. Она могла дать обещание дизайнеру, с неохотой идущему на соглашение, пойти на кое-какие уступки, приводя в качестве гарантии предложение посетить ее великолепный магазин. Большую часть товаров ей приходилось оплачивать вперед, потому что она была человеком новым и неизвестным в этих кругах, и она всякий раз пугалась, подписывая чеки в книжке своей новой компании. Но все это еще и развлекало ее. Ей нравилось волнение, которое она испытывала, когда находила что-нибудь по своему вкусу, и желание продать было ни с чем не сравнимым чувством. Когда, наконец, мало-помалу были закончены работы со сборочной мастерской, стала поступать продукция. Все трое, Феликс, Джулия и Томас, были похожи на детей на рождественском празднике. Они оставались в магазине до глубокой ночи, распаковывая ящики, вынимая новейшие сокровища и бережно перенося их с серебряных плинтусов на серебряные полки, выискивая ракурс, с которого они бы смотрелись лучше всего. Однажды поздним вечером, после того как Феликс и Томас ушли домой спать, Джулия стояла, созерцая свое бело-серебряное творение с яркими пятнами цветного товара, сверкавшего подобно драгоценным камням. Пальма Томаса стояла у окна, на ее пластиковые листья падала тень темноты с улицы. На этот раз она не думала о деньгах, которых все это стоило, и не подсчитывала возможный доход, благодаря которому она сможет компенсировать затраты. Она с энтузиазмом говорила себе: «Это правильный путь». В какой-то момент она уже свыклась с мыслью о полном крушении всех надежд и скуке, тянувшейся все последние годы. Они были почти осязаемы. Теперь же она постоянно находилась в состоянии беспокойства и усталости, но зато она как бы проснулась после долгого сна. Она была по-прежнему одинока, но это одиночество подстегивало ее и служило горючим. Теперь она многое поняла, думая об Александре и о том, как мало счастья смогла дать ему. Она думала также и о Джоше, но с некоторым холодком. Я буду учиться стойкости, решила она. Она в последний раз прошлась по магазину, прикасаясь к полоскам серебра и поправляя стеклянные изделия так, чтобы на них падал свет. Затем подошла к панели с выключателями. Она гасила один белый кружок света за другим, и магазин постепенно погружался в темноту. Наконец она заперла дверь и поехала домой в автомобиле, взятом напрокат. В самый ответственный момент окончания работ по обустройству магазина Александр привез домой Лили. Ему необходимо было ехать за границу по какому-то выгодному делу, огорченно сообщил он. Лили сбежала вниз по лестнице и попала прямо в объятия матери. Она подросла и стала тяжелее. На ней было надето незнакомое Джулии розовое платье с круглым воротничком, купленное, по всей вероятности, Фэй. Джулия взяла девочку на руки и притворилась, что зашаталась под тяжестью ее веса. Она сгребла вьющиеся волосы Лили и поцеловала ее, в то время как малышка щипала ее за щеки и за нос, громко пересказывая новости. У Джулии не было даже времени соскучиться по дочери, и она знала, что будет слишком занята работой, чтобы уделять ей теперь достаточно внимания. Знакомое чувство вины и беспокойства смешалось с чувством любви и радости от встречи. — А там есть пони, и я ездила на нем! — Неужели? А я не умею ездить на пони. — Почему же ты не приехала и не посмотрела, как я это делаю? Вскинув глаза, Джулия встретилась взглядом с глазами Александра. — Сейчас я занята подготовкой нашего нового магазина. Вот подожди, я покажу его тебе, он такой красивый. Александр вошел за ними в квартиру. Лили бегала туда-сюда, отыскивая полузабытые сокровища и раскладывая их на кроватях и стульях. Заметив, что Джулия наливает ему выпить, Александр, не подумав, выпалил: — Ты выглядишь счастливой, Джулия. Она протянула ему стакан и уклончиво ответила: — Я очень занята. Некогда думать о том, как ты выглядишь. — Она боялась, что он зондирует почву, и добавила, чтобы отвлечь его мысли — Как Леди-Хилл? Он понял этот маневр и сменил тему разговора, переведя его на распродажу английской мебели, которая состоится в следующем месяце. — Там есть обтянутая парусиной панельная обивка и несколько прекрасных стульев. Мне они очень нужны. Феликс собирается туда съездить выполнить мой заказ. Он тебе не говорил об этом? — Нет, не говорил. Феликс был большим тактиком. Он никогда не упоминал о работах, выполняемых в Леди-Хилле, если Джулия не спрашивала об этом, а она редко интересовалась этим. — Ну что ж, надеюсь, ты приобретешь то, что тебе нужно. — «Одержимость, — подумала она. — У Александра — Леди-Хилл, а у меня теперь — “Чеснок и сапфиры”. Оба мы вкладываем свою любовь и энергию в безжизненные вещи». Впервые ее поразило такое сходство между ними. Лили вбежала в комнату, таща в охапке кучу игрушек. Но ведь мы оба любим Лили. Что случилось бы, будь она постарше? Тревога опять сжала сердце. Дети также не могут чувствовать себя в полной безопасности, находясь с родителями, как мужчины и женщины. Джулия на собственном опыте убедилась в этом. Она содрогнулась и крепче сжала стакан, чтобы не расплескать вино, и украдкой облизала край, надеясь, что Александр не заметит этого. — Похоже, Лили научилась играть самостоятельно. Александр улыбнулся. — Надеюсь, что да. Лето, проведенное в Леди-Хилле, очень сблизило их. Казалось, Лили заметно повзрослела, превратившись из непредсказуемого ребенка, которого он брал на загородные прогулки во время уик-эндов или первого длительного визита в усадьбу, во вполне самостоятельную личность. Теперь она была образцом благоразумия и спокойствия. Чина и Фэй в этом отношении сыграли свою положительную роль. На этот раз эти двое стали друзьями. Александр откладывал всю свою работу в вечернее время, когда Лили укладывали спать. В течение ряда долгих жарких дней они обследовали сад и окрестные луга. Устраивали пикники и переходили вброд реку, а Лили демонстрировала свое умение плавать в глубоком пруду, под сенью ольховых деревьев, в котором Александр в детстве учился плавать. Он наблюдал, как она разводила ручки и ножки, двигаясь почти по поверхности воды, и испытывал смешанное чувство гордости и восхищения. Он соорудил ей домик под низкими ветвями дуба и учил взбираться по приставной лестнице к маленькой дверце. Лили притащила туда из кухни тарелки и чашки и торжественно приглашала отца в свой домик на банкеты, состоящие из нарезанных листьев и чая из лепестков роз. Он обнаружил, что почти с таким же удовольствием играет в эти игры, как и сама Лили, и удивлялся, почему не помнит игр, в которые сам играл в детстве. — Я слишком долго рос и поэтому такой длинный, — говорил он ей, и она сочувственно кивала. — Не расстраивайся. Возьми лучше чашку чая. Девочка любила Леди-Хилл, и Александр видел это. Это доставляло ему одно из самых больших удовольствий, которые могло дать ее общество. Она следовала за ним по всему дому, не испытывая никакой боязни к темным, отдаленным закоулкам, все еще ожидавшим ремонта, не трепеща от благоговейного страха перед анфиладой пустых, разносящих эхо огромных комнат и мрачных коридоров. Ее голосок тоже эхом отдавался в пустоте, когда она окликала его. Этот дом и сад были местом ее игр, и она приняла владение ими без всяких колебаний. Александр был в восторге. — Она вполне может занять себя, — сказал он Джулии. Джулия перевела взгляд с одного на другую, но она помнила этот дом с почерневшими стенами и торчащими, подобно костлявым пальцам, стропилами. Теперь, конечно, стены вычищены и крыша полностью перекрыта заново. И думать, что эти костлявые пальцы протянулись, чтобы схватить Лили, было всего лишь игрой больного воображения. Стакан с вином опять задрожал в руке Джулии. — Свежий воздух пошел ей на пользу, — сказала она, стараясь казаться оживленной. Александр собрался уходить. — Через пару недель я открываю магазин, — сказала ему Джулия. — По этому поводу будет вечеринка. Он вежливо кивнул. — Желаю удачи. Извини, я не смогу быть. Но эта работа окупит себя. — Конечно. — Она хотела, чтобы он пришел посмотреть, но не желала, чтобы он знал о ее деле слишком много. Даже теперь мелочность поступков приводила ее в уныние. Когда Александр ушел, Лили сказала: — Теперь давай играть. Джулия огляделась кругом, и квартира показалась ей такой убогой, с этими маленькими комнатками и окнами, выходящими на унылую улицу. В последние несколько недель она приходила сюда только спать. А теперь эта квартира опять должна была стать домом для них обеих. Она попыталась приветливо улыбнуться. У нее лежала целая кипа деловых бумаг, которые необходимо было просмотреть, и еще нужно было сделать полдюжины телефонных звонков. — Послушай-ка, почему бы тебе не порисовать? И вот они устроились за столом: Лили, со своими красками и баночкой с водой, по одну сторону, Джулия, со своими бумагами, по другую. Раздражение, которое нарастало от необходимости постоянно отвлекаться от работы, чтобы принимать участие в занятиях дочери, в конце концов выбило ее из колеи. Она могла делать свои расчеты, если нужно, всю ночь напролет, но поставщики не обрадуются, если она станет звонить им за полночь. — Лили, я занята. — А папочка никогда не бывает занят. Джулия тряхнула головой. Глядя в детские невинные глаза, Джулия прочла вдруг в них признаки чего-то нового — сильной воли и неповиновения. Этим она была так похожа на своего отца. — Но папы ведь здесь нет, не правда ли? — от волнения ее голос прозвучал резко. Ей показалось, что она ощутила такую же детскую беспомощность, как и Лили. Пристальный взгляд Лили оставался непоколебим. — Я хочу играть. Я не хочу рисовать. Терпение Джулии иссякло. Она взорвалась. — Мы не всегда можем делать то, что нам хочется. Как бы вы там не считали со своим папочкой. — «Так. Теперь я поставила их двоих по одну сторону, а сама выступаю противоборствующей стороной. И все это произошло в течение какого-то часа». Джулия со стуком положила ручку и обошла стол. Подняв Лили со стула, она обняла ее. — Я люблю тебя, — прошептала она. Этот неистовый порыв вызвал у Лили еще большее удивление, и Джулия поняла, что этим привела ее в замешательство. Неизвестно откуда в голову пришла мысль: «Если бы у меня была настоящая мать, разве я сама не стала бы лучшей матерью?» Загадка казалась неразрешимой. Джулия пыталась сосредоточиться на действительной ситуации. — Завтра ты можешь поехать к Форгум — «Форгум» было имя, данное Лили своей воспитательнице. — И играть с Уорреном и игрушками. — Не хочу! — завопила Лили. — Она мерзкая! — Она сознавала свое преимущество и сейчас пустила его в ход. Как настоящий, взрослый противник. Если бы Джулия не оказалась захваченной врасплох, она могла бы рассмеяться. — Нет, она не такая. Она твой друг, как и Уоррен. Ладно, пойдем сейчас в парк, если тебе так хочется играть. Из-под мокрых еще ресниц девочки заискрилась радостная улыбка. Утром у миссис Форган она плакала и цеплялась за юбку Джулии. Воспитательница поджала губы. — Она совершенно выбита из колеи, миссис Блисс. После нескольких недель отсутствия это неудивительно. Джулия чувствовала, как трусливо сдает позиции. — Извините. У меня не было другого выхода. — Она высвободила свою руку из ручонок Лили и побежала прочь, стараясь не слушать доносящихся из-за двери воплей. Она поспешила в магазин и принялась за работу со всем энтузиазмом, на который только была способна, пока не настало время снова ехать к миссис Форган забирать Лили. Последние две недели подготовки перед открытием магазина «Чеснок и сапфиры» были очень изматывающими. Лили быстро поняла, что магазин был ее соперником, претендовавшим на внимание матери, и она пустила в ход все имевшиеся у нее средства, чтобы отвлекать от него Джулию. Здесь было все, начиная от приторно-сладкого очарования и кончая безудержными вспышками раздражения, а затем слабостью и вполне убедительным недомоганием. Джулия твердила себе, что девочке всего три года, она нужна ей, и малышке нужно дать понять, что так она ничего не выиграет. Она гнала от себя образ Бетти, неотвязно преследовавший ее, и старалась изо всех сил быть терпеливой и ласковой. Она давала Лили успокаивающие средства, терпеливо ждала, пока вспышки раздражения не перейдут в плач, и жила теперь с постоянным чувством вины, что в дочери не осталось прежней мягкости и тепла. Эти усилия дорого стоили Джулии. Иногда она чувствовала, что ненавидит собственного ребенка, и ощущала этот груз, как камень на шее. Казалось, что чувства любви и вины стали неразлучными чудовищными партнерами. И вот однажды в полдень Джулия пришла домой, переполненная заботами о своем бизнесе до головной боли, имея в перспективе на вечер длинную вереницу подсчетов. Неохотно волоча обутые в сандалии ноги, Лили вдруг ухватилась рукой за железные перекладины лестницы и отказалась идти дальше. — Пойдем, Лили, я устала, — попросила ее Джулия. — Я застряла, — заявила Лили с довольным видом. Внезапно вспыхнувший гнев, словно молния, пронзил Джулию. В этот момент она почувствовала такую безудержную силу, что могла бы оторвать перила от каменных ступеней. Но вместо этого она схватила Лили за руку и дернула ее. Ручонка девочки с силой вывернулась, а затем освободилась. Не оборачиваясь, Джулия потянула Лили. Она вся кипела от гнева. Ей хотелось ударить девочку. Ее охватило безумное, яростное чувство. Но тут каблук Джулии застрял в щели последней ступеньки, она споткнулась, и обе с размаху упали у дверей собственного дома. Джулия лежала, тяжело дыша, словно пойманный зверь, и накопившаяся злая энергия постепенно выходила из легких. Она открыла глаза и, пытаясь встать, взглянула на дочь, и тут увидела, что ребенок пятится от нее. У Лили было каменное лицо: от потрясения и страха она не могла даже плакать. Глаза Джулии скользнули по ее руке. Нежная кожа покраснела вокруг того места, где проходила длинная белая полоска свежей царапины. На ней выступили три капельки крови. — О Боже, Лили! Что я наделала! Прости меня. Прости мамочку. Ее начал трясти нервный озноб, так что застучали зубы. Дрожащей рукой она пыталась найти в сумке ключ от двери. Кое-как открыв дверь, она сгребла в охапку Лили и, словно преступник, украдкой окинула взглядом лестницу. Никого. Никто не видел этой ужасной сцены. Джулия забросила в дверь рассыпавшиеся у входа вещи и, шатаясь, прошла через прихожую вместе с Лили на руках. Дома к Лили вернулась способность издавать звуки. Она открыла рот, глубоко вздохнула и залилась слезами. Джулия опустилась на пол и начала ее покачивать, пытаясь успокоить дочь и изо всех сил сдерживая рыдания. Как только к ней вернулась способность соображать, Джулия, не спуская девочку с рук, подошла к телефону. Прижимаясь друг к другу мокрыми от слез щеками, они сели на кровать, и Джулия набрала номер Мэтти. Это было поистине чудо, что Мэтти оказалась дома. — Пожалуйста, приезжай немедленно, — сказала Джулия. — Мне нужна твоя помощь.
Мэтти сидела, держа на коленях Лили. В последнее время она носила прическу в виде собранных в узел волос, перетянутых шнурком от ботинок, но Лили удалось развязать этот узел, и теперь она играла с блестящими золотистыми шнурками. Мэтти осмотрела ранку на ее руке, которая стала к этому времени ярко-красного цвета. — Перелома нет, — ободряюще сказала она. Но она не предложила Джулии выпить спиртного — свое обычное средство от всех бед, а приготовила чашку чая с сахаром. Джулия выпила его, не ощущая вкуса. — Я хотела причинить ей боль, — шепотом призналась она, испытывая необходимость исповедаться. Она чувствовала что-то отвратительное, что жгло ее сильнее, чем этот горячий чай. Мэтти не сводила с нее глаз. — Это то, чего ты не должна делать, — сказала она, — от этого возникают большие проблемы. Все допускают это или бывают близки к этому. Ты не чудовище и не исключение. Я видела, как поступала Роззи со своими детьми, моя мать с нами, когда мы были маленькими, пока совсем нас не покинула. Да и сама я с Фил или Мэрилин, да и со всеми остальными. Иногда это заводит слишком далеко. — Я могла нанести ей большую травму. И даже хуже… — Сомневаюсь, — перебила ее Мэтти. — Но это не значит, что тебе не нужна помощь. — О, Мэтти… — Как насчет того, чтобы нанять приходящую няню или как они там называются? Джулия обвела рукой три маленькие комнатки. — Сюда? И к тому же я только недавно договорилась с Форган. Мэтти протянула руку и похлопала ее по плечу. — Не беспокойся, — сказала она. — Мы что-нибудь придумаем. Неожиданно скоро наступил день открытия магазина. Джулия ощущала себя каким-то ходячим ворохом списков. У нее был список товаров, список людей, обещавших прийти на открытие, список необходимых дел и даже что-то вроде списка списков. Она находилась в состоянии такого напряженного ожидания, как будто открывала универсам, а не магазинчик где-то на задворках Кинг-роуд. С Лили у них установилось что-то вроде перемирия. Она позволяла отводить себя к миссис Форган, но вела себя там так отвратительно, что ограниченный запас терпения воспитательницы был явно на пределе. С каждым днем она все плотнее поджимала губы, и Уоррен, цеплявшийся за ее юбки, выглядел все более запуганным. — У нас сейчас довольно трудный период, — успокаивала ее Джулия. — После того как я открою магазин, мы обе будем вести себя лучше. — Я очень на это надеюсь, — ехидно ответила миссис Форган. Вечером предполагался банкет. Феликс сказал, что соберется довольно много людей. Джулия провела целый день, наводя чистоту в магазине и нервно поглядывая на ряды сверкающих стаканов, стоявших в ожидании гостей. Она пораньше забрала домой Лили и напоила ее чаем, и как раз застегивала молнию на своем красном шелковом платье-тунике, готовая умчаться сразу же, как только явится няня, когда та позвонила по телефону. Она сообщила, что больна и не может прийти. Джулия поняла, что правда скорее в том, что ей назначили свидание, но тут уж ничего нельзя было поделать. Лили с ангельским личиком пила банановый сок. — Лили, мамочка собирается взять тебя с собой на торжественный вечер. Ты будешь хорошо себя вести? — Могу я надеть свое вечернее платье? Джулия достала платьице и застегнула на ней пуговицы. И они поехали вместе в магазин. Томас был уже там, мурлыча и откупоривая бутылки с вином. Джулия была так рада видеть его, что кинулась на шею. Она уже почти забыла, что имела пайщика, пусть не слишкомактивно принимавшего участие в ее делах. Уже ходили шуточки относительно их близости не как пайщиков, а как «спальщиков», хотя и не с той простотой и естественностью, на которую могла надеяться Джулия. — Я вынуждена была привести Лили. Эта чертова нянька подвела меня. Томас с улыбкой оглядел Лили и ее наряд. — Чем нас больше, тем веселее. Но ты здесь единственная малышка, и поэтому тебе требуется специальное место, с которого ты будешь всех видеть. Что ты скажешь на это? Он поднял девочку на прозрачный надувной стул. В памяти Джулии сразу всплыл тот вечер, когда Лили сидела перед ней, покачиваясь, как бы плывя в белом с серебром гнездышке, вытянув прямо перед собой ножки, глядя широко открытыми глазенками и засунув в рот пальчик. Приехали Феликс с Джорджем. Оглядевшись, Джордж заявил, что магазин выглядит очаровательно. Затем явилась Мэтти с Крис Фредерикс, но она захватила с собой также и Тони Дрейка с какой-то молоденькой девушкой, с которой он встречался в последнее время. Мэтти подмигнула. — Случайно налетели друг на друга. Не так ли, Тони? — И добавила свистящим шепотом: — Я решила, что он немного скрасит обстановку. Только ни о чем у него не спрашивай. Звезда кино и девушка-модель слонялись среди пальмовых деревьев Томаса, создавая красивый фон, и через несколько минут магазин наполнился людьми. Пришли какие-то фотографы с аппаратами со вспышкой и служители тех колонок прессы, где помещаются всякого рода сплетни, а также журналисты из торговых отделов и модные комментаторы, которых пригласили Феликс и Джулия. Известие о чем-то новом и волнующем распространилось быстрее, чем лесной пожар. Челси все еще считался деревней, и этот вечер приема в «Чесноке и сапфирах» стал центром внимания всего района. — Все собрались, дорогая, — торжественно произнес Феликс. Джулия стояла в тесном кругу гостей, которые пожимали ей руки, целовали и высказывали свое одобрение. — Мне нравится. Мы зарисуем это. — Можно привести несколько девочек сделать пару снимков на фоне мебели? — Тони уже видел это? — Я хочу дюжину таких стульев. Неожиданно все стали покупать. Джулия отошла к кассе и стала принимать деньги, настоящие деньги. Руки у нее дрожали. Тони Дрейк маячил у нее перед глазами с папкой глянцевых фотографий. Снятая на них мебель была слишком дорогой, чтобы Джулия могла купить ее, а потому она приобрела эту папку, надавав обещаний поставщикам, — вот все, что она могла себе позволить. Но мясистые загорелые пальцы Тони упрямо тыкали в одну страницу из папки. — Я хочу купить вот этот стол. Это был восьмиугольный обеденный стол, вырезанный из какого-то синтетического материала, опиравшийся на одну толстую ножку. — Он стоит триста фунтов. — Хорошо. — На изготовление уйдет десять недель. — Хорошо. Вы согласны продать или нет? Джулия засмеялась. Тони Дрейк прав. Если она собирается продавать, то должна взяться за это интенсивно. — Да, сэр. И если это для вас, я постараюсь, чтобы его сделали дней за десять. Распродано было все. Лучше всего пошли мелкие вещи — оригинальной формы свечи, диванные подушки и фарфор; прибыль оказалась небольшой, но с довольно большим объемом оборота… «Ну вот, у меня есть свой бизнес». Радостная, Джулия подняла голову и в центре толпы увидела еще одно знакомое лицо. Это был Рикки Бэннер, младший брат Мэтти. Хотя это название ему уже не подходило: шестифутового роста молодой человек с прической а ля «Битлз». Рикки был бас-гитарой в группе, называвшейся «Одуванчики», которая играла в кабачках и клубах. Первую гитару Мэтти купила ему на деньги, полученные за роль в «Еще одном дне». Подобно всем Бэннерам, Рикки притягивал всех детей так же неумолимо, как коробка с леденцами. Лили взобралась ему на плечи, ее голова почти упиралась в потолок. — Давненько не видались, Джулия, — сказал Рикки. — Очень давно. — Она вспомнила кухню Мэтти в «четвертом сословии», когда пришла туда в первый раз; Роззи жарила лук, и повсюду шныряли дети. — Мэтт сказала, что ты не будешь возражать. — Конечно, нет. И если ты присмотришь за Лили, то будешь более желанным, чем Дрейк и издатель «Санди таймс» вместе взятые. Возле брата неизвестно откуда появилась Мэтти. Гордая и довольная, она обняла брата за талию. — У нас с Рикки есть идея. Внезапно осенило. И называется она именем девушки — «Мэрилин». — Так в чем дело? — Шум отражался от белых стен, и еще одна вспышка фотоаппарата усилила и без того серебристо-белое сияние. Вечеринка была в полном разгаре. — Речь идет о нашей маленькой сестричке. Сейчас ей семнадцать. Она хочет найти работу в Лондоне; любит детишек и не претендует на роскошное жилище. Что скажешь? Как давно это было, когда Мэтти и Джулия стояли, съежившись, у двери «Савоя»? Чтобы успокоить волнение Мэтти относительно Мэрилин и остальных, Джулия пообещала ей, что «все они могут приехать и жить с ними, когда мы добьемся успеха». Теперь, когда вокруг нее со всех сторон говорили о «Чесноке и сапфирах», она считала, что еще не добилась его, просто получила шанс. А на Гордон Мэншинз не хватало места для всех Бэннеров, но как-нибудь потеснившись, она должна найти место для Мэрилин. И медленная, довольная улыбка расплылась по лицу Джулии. — О чем я думаю? Я думаю, что вы могли бы спасти наши жизни. — И она взглянула на Лили. Личико девочки пылало от перевозбуждения, а под глазами появились темные круги, но игривое выражение не поддавалось описанию. Она, не мигая, смотрела на мать. Царапина на ее руке уже давно зажила, и не было заметно никаких других отметин. Подобных инцидентов больше не было, но Джулия знала, что ей необходима помощь. Она протянула руку и похлопала по голой коленке Лили. — Все в порядке, — тихонько сказала она. — Может быть, я вела себя не очень хорошо, но я старалась изо всех сил. Надеюсь, у нас все будет хорошо, у нас обеих. Кто-то потянул ее за рукав. — Джулия, Джулия! Пришел человек, с которым тебе следует познакомиться. Она быстро обняла Мэтти и Рикки. — Скажите Мэрилин, пусть приезжает, когда захочет. Наконец толпа стала редеть. Знаменитости, прихлебатели и любопытные медленно потекли на улицу, большинство несли покупки, завернутые в специальную фирменную бумагу цвета голубого сапфира. Джордж ушел значительно раньше, Феликс последовал за ним. Рикки ушел с другим парнем из своей группы, Мэтти и Крис тоже исчезли, возможно, с Тони Дрейком. Наконец Джулия и Томас остались одни. Лили уснула, и ее уложили на постель, составленную из двух кресел. Джулия издала глубокий вздох и оглядела «развалины». Девушки, нанятые для приготовления закусок и разливания вина, также ушли. Она была очень удивлена, когда увидела, что еще остался какой-то запас продукции, так как уже с середины вечера боялась, что чего-нибудь не хватит. Но осталось еще достаточно, даже на серебряных полках и плинтусах для завтрашней распродажи. Первый торговый день для обычных посетителей начнется в десять часов. — Ну, стоило ли все это труда? — спросил Томас. — Стоит ли продолжать? Она нагнулась, чтобы поднять стакан, валявшийся у ее ног, и выпрямилась опять. — Да, — улыбнулась она ему. — Это стоило труда. И стоит. Ее глаза остановились на Лили, укрытой двумя их пальто. — Давай-ка, — сказал Томас, — уберем половину всего сейчас, а завтра придем пораньше утром и сделаем остальное, еще до открытия магазина. — Спасибо тебе, — с благодарностью сказала Джулия. Они сделали все возможное, насколько у них хватило сил, а затем неожиданно Джулия оказалась в одном из углов магазина, а Томас стоял перед ней. Она попыталась проскользнуть мимо, но он преградил ей путь. Вероятно, она впервые заметила, насколько он высок ростом. Он протянул руку и коснулся ее пальцев. — Можно мне пойти сегодня с тобой? «О нет, Томас». Фраза сложилась сама собой, но она не произнесла ее. Старенький автомобиль Томаса, должно быть, был припаркован поблизости, если бы не он, Джулии пришлось бы отправиться с Лили на руках в поисках такси. И вдруг ей непреодолимо захотелось опереться на чье-то плечо. Почувствовать простую помощь и поддержку. Нагрузки последних недель ощутимо сказывались, как подъем на непреодолимую высоту. Если она поедет домой с Томасом, он обнимет ее сильными руками и успокоит, после того как Лили будет благополучно уложена в постель. Томас разделит с ней эту ночь. Ей не хотелось возвращаться с этого вечера домой в одиночестве. Джулия понимала, что неловко сказать ему «да» только ради удобства, но она устала, чувствовала себя одиноко и знала, что Томас добрый человек. Она видела его крепкие руки, выступавшие из манжет его лучшей рубашки, а также голодный взгляд, которым он смотрел на нее. Она наклонила голову и без особого желания прошептала: «Да», подумав при этом: «Спальщики». — Но Лили ничего не должна знать. Она должна думать, что ты лег спать в гостиной. Томас прикоснулся пальцем к нижней части ее лица. — Тебе не следует позволять Лили брать на себя роль закона и управлять тобой. У тебя должна быть своя личная жизнь. — Я решу этот вопрос с Лили сама и без твоей помощи, — резко ответила Джулия. А затем добавила: — Извини. Я не хотела тебя обидеть. Он поцеловал ее неуклюже, как неопытный мальчик. Джулия стояла неподвижно. Что-то заставило ее подумать об Александре. Одиночество опять захлестнуло ее. Томас пошел взять Лили из гнездышка, устроенного для нее из пальто. — Поедем домой, — ласково сказал он.
Шел 1969 год. По воскресным утрам дом наполнялся перезвоном церковных колоколов, как если бы он стоял на зеленой деревенской лужайке, а не в ряду домов на лондонской улице. В хорошую погоду солнце отражалось в воде канала, отбрасывая отсветы на высокие потолки. Джулия стояла у продолговатого окна на лестничной площадке, глядя вниз, в маленький садик. Нарциссы в кадках уже увяли, но мускатный виноград все еще облеплял стены сплошной пеленой бледно-голубого цвета. В тени изгороди возвышались группы темно-фиолетовых чемериц, самых любимых цветов Джулии. Вокруг невыразительных чемериц за ночь уже проросли молодые побеги зеленой поросли. В конце сада находился канал Ридженс-парка, и на ивах, росших вдоль бечевника, показались первые бледно-зеленые листья. Если не считать звона колоколов, в доме было тихо. Джулия стояла, глядя на воду и легкое трепетание листьев, но когда звук колоколов, замирая один за другим, слился в последний завершающий раскат, перешедший в гулкую тишину, она отвернулась от окна и стала медленно спускаться по лестнице. Как всегда, благоухающее настойчивое пробуждение весны вызывало в ней неосознанное беспокойство. Нижний этаж, по предложению Феликса, был оформлен в виде огромного открытого углообразного помещения, представлявшего собой одновременно кухню, гостиную и столовую. Там, под высокими окнами, выходящими в сад, стоял длинный мягкий диван и старинный сосновый стол, над которым висела лампа под плетеным абажуром. Сквозь окна, выходившие на тихую улицу, светило солнце, образуя яркие желтые квадраты на полу из полированных досок, тепло которых Джулия ощущала своими босыми ногами. Лили, в тенниске, в которой обычно спала вместо пижамы, сидела у стола и читала. Когда вошла Джулия, она подняла голову. Теперь волосы у нее были коротко острижены, что особенно подчеркивало овал лица. Лили было около девяти лет, и сквозь детскую округлость уже начинали проступать черты подростка. Цвет лица и волос она унаследовала от матери, а черты, в особенности форму носа, — от Александра. Но она была похожа на него не только внешне. В ее характере преобладала та же беспристрастность, но лишь до того предела, когда она могла взорваться от внезапного гнева. Александр и его дочь были очень близки. Джулия развелась с Александром четыре года назад, но, живя с Лили, постоянно ощущала его незримое присутствие. — Я уже позавтракала, — сказала Лили. — Прекрасно, — ответила Джулия, делая вид, что не понимает упрека, заключенного в словах дочери относительно ее позднего появления. Иногда какое-нибудь брошенное замечание могло явиться поводом для настоящей схватки. Только не сегодня, подумала Джулия, не в такой день, когда так ласково светит весеннее солнце. В благоприятные дни общество Лили доставляло Джулии больше удовольствия, чем чье бы то ни было. Джулия подошла к камину, чтобы подогреть себе кофе. Лили уже принесла воскресную почту, и она аккуратной стопкой уже лежала на столе. Джулия подошла с чашкой кофе и стала свободной рукой перелистывать газеты. Внезапно она остановилась. С обложки журнала «Санди таймс» на нее глядело лицо Мэтти. Это фото было сделано, должно быть, в прошлом году в пору наивысшего ее взлета, как представительницы хиппи-класса. Волосы были убраны цветами и разноцветными лоскутками, а одета она была во что-то типа разлетающегося языческого балахона. Джулия внимательно вгляделась в снимок, а затем протянула его Лили. — Взгляни-ка! Лицо Лили осветилось улыбкой. Она любила Мэтти. — Вот здорово! Как ты думаешь, Мэрилин видела это? Можно я отнесу его вниз и покажу ей? В полуподвальном этаже дома находились собственные владения Мэрилин. Джулия поспешно сказала: — Подожди, пока я прочту статью. В любом случае, еще слишком рано для Мэрилин, по воскресеньям она долго спит. Джулия не была уверена, что Мэрилин сейчас одна, и предпочитала, чтобы Лили не знала о таких вещах. Но многое из того, что происходило вокруг Лили, едва ли ускользало от ее внимания. — Что там пишут? — спросила Лили. Они уселись рядышком на длинный диван и прочли статью. Это было обычное интервью, приложенное к рекламе нового фильма, в котором снялась Мэтти. В нем слегка коснулись репутации Мэтти как феминистки и политической активистки, а о ее личной жизни не упоминалось вообще. Джулия догадывалась, что об этом позаботился ее личный агент. Корреспондент, бравший у нее интервью, пересказал историю получения ею «Оскара» за последнюю роль героини-пьяницы по Томасу Гарди. — Не очень интересно, — сказала Лили. — И совсем непохоже, чтобы это говорила Мэтти. — В таких интервью никогда не узнаешь человека, — ответила Джулия. — Даже те из нас, кто хорошо ее знает. Она опять закрыла журнал и вгляделась в лицо Мэтти. Ей вспомнился ее первый всплеск славы после довольно удачного спектакля «Еще один день». Как давно это было и каким странно устаревшим казался он в ретроспективе шестидесятых годов. Джулия вспомнила, каким сомнительным казался ей успех Мэтти и какой виноватой она чувствовала себя в том, что не способна была искренне радоваться этому. В то время она только что вышла замуж за Александра и была беременна Лили. Все это было до пожара. Когда Леди-Хилл казался таким прочным, и еще жив был Фловер. Джулия пыталась понять, почему в ее памяти так цепко держались лишь события, связанные с какими-то несчастьями. «Я могла бы быть счастливой. Не было никаких причин, чтобы помешать этому, разве что Джош». Когда она думала о нем теперь, к этим мыслям примешивались раздражение и скептицизм, но все-таки в них преобладало чувство грусти и утраты. А также своего рода благоговение перед тем, что было когда-то ценным, что и сейчас все еще слишком дорого, чтобы его можно было отшвырнуть, как вышедшее из моды платье. Она не видела Джоша с тех самых пор, с того свидания в маленьком белом домике, которое положило решительный конец ее замужеству с Блиссом. Джулия поморщилась от болезненных воспоминаний. Какое-то время они переписывались, но больше никогда не встречались. Странно, но Джулия была приглашена на вечеринку в тот маленький белый домик. Она вступила в него с болезненно сжавшимся сердцем. Друзья Джоша, кто бы они ни были, должно быть, давным-давно продали этот дом и уехали. Белые стены были перекрашены в какой-то сумасшедший цвет, а белую мебель заменили на афганские ковры и расшитые бисером подушки. Эти подушки были приобретены в магазине Джулии. Новые владельцы домика были постоянными ее покупателями. Загадочная жизненная круговерть. Джулия почувствовала себя постаревшей, когда наклонилась и положила журналы на пол; с обложки одного из них смотрела Мэтти из-под шапки волос и лент. Наконец Джулия поняла, что теперь испытывает лишь чувство гордости за успехи Мэтти. Возможно, эта успокоенность была одним из признаков зрелости. С точки зрения молодого поколения, перешагнуть за тридцать казалось почти оскорбительным. Джулия тоже добилась успеха. И если она не была столь же богатой и знаменитой, как Мэтти, то, по крайней мере, создала себе устойчивую репутацию. Она открыла второй магазин «Чеснок и сапфиры» на Хай-стрит в Кенсингтоне, а затем в Брайтоне и Оксфорде. Проницательная Джулия мгновенно уловила модное веяние восточного мистицизма, появившегося после Махариши. Она съездила в Индию, потом в Афганистан, закупив там необходимое количество бисера и бахромы, зеркальные изделия и всевозможные колокольчики. И теперь преобладающим запахом «Чеснока и сапфиров» был аромат курящихся сандаловых палочек. Даже в самом названии магазина, показавшемся таким смешным ее первому банковскому управляющему, появилось что-то созвучное модному течению хиппи. Джулия без устали путешествовала, выискивая новые товары, оставляя магазин на попечение Мэрилин или Александра, в зависимости от того, учебное это было время или каникулы. Мэрилин приехала в Гордон Мэншинз и осталась там навсегда. Она не была ни няней, ни компаньоном, ни домоправительницей, но хорошо управлялась с Лили и на свой собственный лад смогла устроить новый дом, который Джулия купила благодаря доходам от бизнеса. Обычно Джулия и Мэрилин занимались хозяйством вместе на дружеских началах. Джулия заглаживала все домашние недоделки, сама отправлялась за покупками, если Мэрилин забывала сделать это, и скоблила пол в ванной, когда не могла больше выносить въевшуюся всюду грязь. — Я рада, что ты не моя жена, Мэрилин, — шутила она, хотя прекрасно сознавала, что присутствие в доме младшей сестры Мэтти, которая едва была похожа на нее, пусть даже при всей ее неряшливости и безалаберности по отношению к домашнему хозяйству, она принимала с радостью ради одного только напоминания о Мэтти. Особенно это нужно было Джулии, когда Мэтти уезжала далеко, что случалось очень часто. Между Джулией и Мэрилин возникали разногласия лишь по поводу Лили. Однажды, еще в самом начале, Джулии пришлось задержаться на работе допоздна, несмотря на то, что Лили схватила простуду и была больна. Возвратясь домой, она обнаружила, что квартира на Гордон Мэншинз пуста. Невольно ей пришла в голову мысль, что Лили стало хуже и Мэрилин помчалась с ней к доктору. Она уже набрала телефон приемной, как вдруг обе явились. Они ходили на матч по боксу. Очередным возлюбленным Мэрилин тогда был боксер-любитель, и они отправились в спортивный зал в Филсбери посмотреть, как он будет драться. Лили сидела на коленях Мэрилин в первом ряду, где ее баловали и дразнили менеджеры и их дамы. Она вернулась с широко открытыми глазенками от волнения и переживания в связи с разыгрываемой перед ней драмой. — Ей очень понравилось, — сказала Мэрилин. — Это заставило ее забыть о простуде. Дэйв победил в один присест. Джулия буквально рассвирепела и тут же выместила это на Мэрилин. — Ты не годишься, чтобы смотреть за ребенком, — бушевала она. — Ты легкомысленное, самовлюбленное и беззаботное существо! Но Мэрилин отплатила ей тем же. Она выпрямилась, став сразу еще больше похожей на Мэтти, и заорала ей в ответ: — Я-то больше гожусь, чем ты! А ты, между прочим, ее мать. Ты когда-нибудь бываешь дома, а? У тебя на первом месте твой магазин и личная жизнь, разве не так? Не думай, что выставишь меня только потому, что я взяла ее посмотреть матч. Ты бы сама взяла ее кое-куда, только боишься, что она будет тебе помехой. Они уставились друг на друга в наступившей тишине. «Она права, — подумала Джулия. — Наполовину она права». Столь знакомое осознание вины, самоосуждение и острое чувство любви болезненно сжало сердце. Но ведь дело не в том, что она не хочет, чтобы Лили была с ней. Истина заключалась в том, что она старалась держать ее подальше от Томаса Три. Томас был ее любовником, но Джулия считала, что пустующее место отца для Лили могло быть занято только Александром. Она не хотела, чтобы Томас делал даже попытки захватить его, даже если бы Лили и позволила ему это. Сама она была предана и Лили, и Томасу, но по отдельности, что вызывало необходимость затрачивать дополнительные усилия и выполнять двойные обязанности. Даже когда Томас жил с ними уже в доме, выходящем на канал, она ухитрялась сохранять расстояние между ними. И Джулия знала, что это было одной из причин, по которой Томас выехал из дома почти два года тому назад. — Мы просто поссорились, — говорила она своим друзьям и всем, кто спрашивал, даже Мэтти. — Мы разошлись во мнениях. Просто, наверное, пришла пора переменить место, понимаешь? Итак, с самого начала Джулия приняла критику Мэрилин. Больше они об этом не вспоминали, но такое не забывается. Со своей стороны Мэрилин изо всех сил старалась следовать традиционным представлениям Джулии о воспитании ребенка. Все это они выплеснули перед Лили, которая молча наблюдала за ними. Уже тогда она, казалось, обладала врожденной способностью наблюдать, сравнивать и судить. У Лили было всегда собственное мнение, и Джулия иногда пугалась горячности высказываемых ею суждений, но чаще спокойное упрямство девочки приводило ее в ярость. И в этом она была также похожа на Александра. — О чем ты задумалась, мама? — Лили вытянула ноги. Она уже сейчас была не по возрасту высокой: у нее были длинные ноги и стройная фигурка. Ворсянку и маленького толстого пони, которых держали для нее в Леди-Хилле, чтобы она могла кататься верхом, уже давно заменили на небольшую верховую лошадку, которую Лили обожала. У них была фотография, изображавшая скачущую легким галопом Лили в шляпе с жесткими полями и жакетке для верховой езды с серебряной обшивкой. Джулия подшучивала над этим костюмом и называла его фамильным бархатом, но все-таки она гордилась этой фотографией. — О чем я думаю? Так, ни о чем. Время идет. Я старею, и это грустно. Лили критически оглядела ее. — Ты не старая. Особенно по сравнению с другими мамами. Ты все еще идешь в ногу с модой. — Спасибо, дорогая. Лили вскочила и закружилась по комнате, собирая и вновь разбрасывая вещи. — Что мы будем делать сегодня? Джулия вздохнула. Такие воскресенья, как это, следовало бы посвящать покою и полной свободе от всяких обязанностей. Но Лили необходимо было чем-то занять. Джулия знала, откуда у дочери такая непоседливость. — Мы можем позвонить кому-нибудь; пригласить друзей на ланч. Как ты на это смотришь? У них было множество друзей. Джулия была совершенно уверена, что в их гостеприимный дом люди приходят с удовольствием. Хотя, несмотря на прожитый в достатке ряд лет, немногие из них принадлежали к добропорядочным, прочным семействам. Даже София и Тоби разошлись. Почти сразу же после того, как сыновья Софии окончили пансион, она познакомилась с художником и переехала к нему. Лили никогда не чувствовала себя ущемленно от того, что ее отец и мать живут каждый своей жизнью. Но она никогда не оставалась с Джулией в пустом доме. У Джулии сохранились слишком яркие воспоминания о том, как одиноко было на Фэрмайл-роуд и как Бетти поддерживала безукоризненный порядок в маленьких комнатках, прибранных для праздника, который так и не наступил. — А мне можно будет что-нибудь приготовить? — спросила Лили. — Было бы неплохо. Я не смогу сделать все сама. Ну, так кого же мы позовем? Но прежде чем они решили вопрос, зазвонил телефон. — Джулия? Это Мэтт. — Наступило напряженное молчание, прежде чем последовали слова. — Мэтти? Это невероятно, ты откуда? — Из Нью-Йорка, разумеется. — Это, наверное, телепатия. Мы как раз говорили о тебе. Рассматривали твою фотографию на обложке иллюстрированного журнала. — Этой недели? То самое фото, на котором я похожа на расфуфыренную цыганку? — Кажется, да. — Отвратительно. Как раз когда я пытаюсь выглядеть так, чтобы мне можно было предложить какую-нибудь роль из Шекспира или еще что-нибудь приличное. — Мэтти говорила слишком быстро и без конца смеялась. Похоже, что она была навеселе или в ударе. Джулия взглянула на кухонные часы. Солнечный луч падал на циферблат. — Мэтти, который у вас час? — Мм… Десять минут седьмого. Утра, милочка. — Ты так рано поднялась? Мэтти засмеялась громче. — Интересно, сколько долларов в минуту будет стоить эта трепотня о моих постельных делах? Я не ложилась сегодня, честное слово. Только что вернулась с вечеринки и чувствую, что не смогу уснуть в этом дурацком отеле. Поэтому смотрела старый фильм по телевизору — у них здесь всю ночь напролет показывают старые фильмы, здорово, правда? — а затем решила позвонить старым друзьям. — Внезапно прорезался настоящий голос Мэтти. — Мне нужно было с кем-то поговорить. По правде говоря, мне немного одиноко. И вот пришлось выбирать между этим звонком и еще одной порцией шотландского виски. Какая погода сегодня утром в Лондоне? Улыбаясь, Джулия ответила ей. Она рассказала новости об общих знакомых и обрывки сплетен, которые Мэтти так любила. А также о роли Лили в школьном спектакле. — Умница моя! Она еще заткнет всех за пояс, — ликовала Мэтти. Она никогда не боялась показать свою гордость, как это делала Джулия. Мэтти была уверена, что Лили не будет делать ошибок, и постоянно повторяла это. — Расскажи что-нибудь еще, — попросила Мэтти. — Что новенького еще? И Джулия поведала ей о последних приобретениях для магазина, о доме, который Феликс оформляет для Билла Вимана, и о многом другом, что, по ее мнению, могло помочь Мэтти почувствовать себя ближе к дому. Все эти годы процветания, вынуждавшие их чаще быть в разлуке, нежели вместе, они поддерживали связь с помощью телефона. Даже когда Мэтти была неотделима от Крис Фредерикс и Джулия чувствовала себя неловко с ними обеими, они разговаривали по телефону так, как не могли это делать с глазу на глаз. Под конец Мэтти вздохнула. — Ну вот, мне уже лучше. Уже не буду сходить с ума. Да, я кое-что тебе не сказала. Я возвращаюсь домой, в мой добрый старый Блумсбери. Я больше не могу выносить этот город. И сквозь гул трансатлантической связи, так, как будто эта мысль давно сформировалась, а не только что пришла ей в голову среди тревожных воспоминаний весны и очарования солнечного света, Джулия сказала: — Ну что ж, очень жаль. Потому что я собираюсь в Штаты. — Она увидела, как в другом конце комнаты, сквозь легкую завесу накопившейся за зиму пыли, трепетавшей в ярких лучах солнца, Лили резким движением подняла голову. В какую-то долю секунды по ее детскому личику пробежала тень возмущения и беспокойства. — Ведь я никогда не была там раньше, — сказала Джулия в трубку. — Я бы хотела поискать что-нибудь новенькое, каких-то идей, завязать кое-какие контакты. Намечаю на следующую декаду, как это следует делать владелице небольшого магазина. — И повидать своего летчика. Лили опять склонила голову над книгой. Джулия с облегчением перевела дух, ибо почувствовала, как горячая волна краски залила ее щеки. Веду себя как глупый подросток, со злостью подумала она. Глядя на темную, причесанную головку дочери, она решила, что странное выражение, промелькнувшее на ее лице, должно быть, всего лишь игра света. — Говорю тебе честно, я даже не думала об этом. Это давно забытая история, Мэтт. На другом конце провода послышалось хихиканье Мэтти. — Знаешь ли ты, как часто все еще говоришь о нем? И сидишь там все эти годы, подобно этой проклятой статуе Терпения, в ожидании его возвращения. Так-то ты обрела свободу, а? — Это дела твоего ведомства, а не моего, — резко оборвала ее Джулия, но Мэтти лишь рассмеялась в ответ. — Подумай над этим. А знаешь, кажется, я смогу сейчас заснуть. Благодарение Богу! Но сперва можно мне сказать пару слов Лили? — Отоспись хорошенько, дорогуша. Я подумаю над тем, что ты сказала, хотя лучше бы ты никогда не упоминала об этом. — Она протянула трубку Лили. — На. Поговори с этой дикой женщиной. Джулия вышла из комнаты, а когда вернулась, Лили уже закончила разговор. Она спокойно сидела на диване, скрестив ноги, и ждала. Джулия открыла принесенную сверху адресную книгу. — Кого же мы хотели бы сегодня видеть? — Мне все равно, — сдержанно ответила Лили. — Если хочешь, выбери сама.
К ланчу пришли две женщины, мужчина и трое детей. Джулия приготовила одно из традиционных блюд, и все сели вокруг соснового стола поболтать, а взрослые выпить вина, после того как дети убежали наверх в комнату Лили. В полдень все отправились в Риджент-парк погулять на солнышке. День был светлый, праздничный, подобный многим другим, которые проводили Джулия и Лили. Джулия любила приглашать гостей, угощать их и делать так, чтобы они чувствовали себя в доме уютно. Вечеринки теперь были уже совсем другие, отметила про себя Джулия, но все же это были вечеринки. Лили была тише чем обычно, но если даже кто-то, кроме Джулии, и заметил это, то все равно ничего не сказал. Опускались сумерки, когда Джулия вышла из дому, чтобы проводить последнюю пару гостей к их машине. Когда они отъехали, она несколько минут стояла под платаном, росшим около дома, глядя на освещенные окна противоположного дома и фигуры соседей, двигавшихся взад-вперед по комнатам с незанавешенными стеклами окон. Эта маленькая живая картина, казалось, оживляла улицу. Джулия удовлетворенно вдохнула полной грудью влажный свежий воздух, напоенный запахом листвы, а затем поднялась по парадному крыльцу и вошла в дом. В большой гостиной было сумрачно после яркого уличного света. Джулия щурилась, приглядываясь, пока не заметила Лили, сидевшую на ковре возле дивана. Она подтянула коленки к подбородку и прижалась к ним щекой. Плечики были сгорблены, как будто она что-то хотела спрятать или защитить. Угол ковра был загнут, и она подвернула его под себя. Джулия очень любила этот ковер в духе старинных турецких ковров, в мягких, приглушенных темно-красных и кобальтово-серых тонах. По краям шла длинная, ручной работы, бахрома, и эксперт сказал ей, что рисунок изображает дерево жизни. Джулия гордилась этим ковром. Она купила его на рынке в маленьком горном городке во время одной из первых поездок, когда еще побаивалась ездить одна. Она приценивалась и долго торговалась со стариком продавцом, а затем пошла прочь, так как его цена была слишком высока для нее. Но потом она вернулась, потому что ей ужасно хотелось заполучить этот ковер. Это обезоружило старика, и он согласился на предложенную цену, свернул его и сунул ей в руки, как будто заранее знал, что отдает его в хороший дом. Не могло быть и речи о том, чтобы поместить его в магазин. Он идеально укладывался в пространство на полу перед диваном. Джулия подошла к Лили и положила руку ей на плечо, намереваясь сказать что-нибудь насчет ужина и завтрашних занятий. И тут она увидела, что Лили методично, одну за другой срезает кисти бахромы кухонными ножницами. Кучка уже обрезанных концов лежала на полу возле нее. Джулия вырвала у девочки ножницы. Они упали и скользнули под диван. Она сильно ударила Лили по руке. Девочка не вздрогнула, но пристально посмотрела на мать, и на ее лице застыла маска непокорности и печали. Джулия видела эту печать, но ее гнев был гораздо сильнее. Спустя минуту она пожалела об этом, но было поздно. Она взяла Лили за руку и встряхнула ее. — Ты, глупая девчонка! Почему ты это сделала? Ведь это такой прекрасный ковер! А ты изуродовала его! Ты глупый безрассудный варвар! Сидишь тут и обрезаешь бахрому. Тебе наплевать, что эта вещь кому-то дорога! Ведь это не твой, а мой ковер… Я… Холодным тоном Лили оборвала ее: — Все твое. Твой дом, твой магазин, твои друзья. Но я — не твоя. Я папина! Я хочу, чтобы он был здесь. Я тебя ненавижу! Девочка рывком сбросила ее руки и вскочила на ноги. Она наклонилась, сгребла обрезанную бахрому и расшвыряла ее по комнате. — Это всего лишь половик! — закричала она. — Это не человек! — Ее сдержанность испарилась, теперь она кричала, ее личико сморщилось, и она стала похожа на ту маленькую Лили, какой была прежде. Джулия беспомощно протянула к ней руку, но Лили оттолкнула ее и выбежала из комнаты. «Я папина!» — с грустью вспомнила Джулия. Были, конечно, и другие времена, другие споры, когда Джулия что-то прощала, что-то нет, пытаясь утвердить хоть какую-то дисциплину, а Лили хотела жить с отцом. Связующее звено между ними всегда было крепким, и оно становилось еще крепче по мере взросления девочки и ее привязанности к Леди-Хиллу, саду и ко всему, что окружало поместье. Гордость Лили в связи с возрождением былого великолепия Леди-Хилла, искусно восстановленного в старинных традициях с помощью Джорджа и Феликса, была не менее неистовой, чем у Александра. После каждого визита в Леди-Хилл она подробно рассказывала об очередной отремонтированной комнате или семейных портретах девятнадцатого столетия, которые теперь Александр смог выкупить обратно. Джулия внимательно выслушивала все это. Она даже поощряла Лили говорить об отце и считать Леди-Хилл своим домом, ее вторым домом. Но впервые Лили сказала: «Я папина». «Ненавижу тебя!» Джулия успокаивала себя тем, что это обычное явление. Все дочери говорят матерям такое иногда. Но не так же: «Я не твоя, я папина»! А потом началось то, чего Джулия боялась. Сравнение одного из них с другим, единожды начавшись, подвергалось суду, а затем делался выбор. Она не хотела задумываться над тем, что бы это могло означать. Отбросив всякие мысли, Джулия оцепенело двигалась по комнате, собирая разбросанные куски бахромы. «Она моя, — думала Джулия. — Я родила ее, хотя и не помню этого. Пусть плохая, но все же я ее мать». Она посмотрела на обрезки шерстяных и шелковых ниток, которые держала в руках. Они пахли пылью, и среди них попадался запутавшийся среди волокон пух. «Это всего лишь половик. Лили права». Она бросила обрезки в корзину для мусора и быстро вышла. Затем достала из-под дивана ножницы и положила их на место. Внезапно в памяти ожила картина. Восхитительный фейерверк из разноцветных звездочек, в беспорядке наклеенных по каким-то цветным обоям. Эти клейкие звездочки она принесла как-то домой еще маленькой девочкой с чьего-то дня рождения. А затем налепила их по всем стенам спальни. Джулия вспомнила гневную реакцию Бетти и ее оскорбительный выкрик: «Это наш дом, а не твой!» До нынешнего момента Джулия верила в то, что в детстве считала эти звездочки очень милыми и наивно хотела украсить ими бесцветные обои. Но теперь она как будто взглянула на себя со стороны и поняла, что преднамеренно мечтала нарушить порядок дома Бетти. Она вспомнила, как, лизнув клейкую бумажку, наклеивала звездочки, заранее зная, как разозлится Бетти. Она хотела отстоять свои права, проявить самостоятельность, испытывая Бетти и бунтуя против нее. «Бедная Бетти, — подумала сейчас Джулия. — Я перед всеми хотела выставить ее злодейкой в этой истории. Когда я рассказывала это Джесси, я представилась невинной маленькой овечкой, которая не видела в этом ничего плохого. Интересно, насколько Лили понимает, что она наделала, и что она хотела этим показать? Неужели то же самое? Она тоже испытывала меня и бунтовала». Джулия нахмурилась, пытаясь добраться до сути. У Лили не было необходимости бунтовать против мелкой домашней тирании. Джулия не была рабой уюта. Ее очень рассердил случай с ковром, но кто бы на ее месте отнесся к этому иначе? Она любила и ценила красивые вещи и хорошо помнила те времена, когда не могла позволить себе их иметь. Но теперь все изменилось. И дело было, конечно же, не в этом злосчастном половике. По крайней мере, она может поговорить с Лили. А Бетти никогда с ней не разговаривала. Джулия медленно побрела наверх. Лили лежала на своей кровати, неподвижно вытянувшись, и казалась очень маленькой. Видно было, что она плакала, но теперь ее глаза были уже сухими. Джулия присела на край постели, глядя на дочь. — Что случилось? — мягко спросила она. — Может, ты скажешь мне, почему ты так поступила? Лили отвернула голову и уставилась в стену. Джулия подождала, пока молчание не стало неловким. Она уже по опыту знала, какой упрямой молчальницей может быть Лили, когда в ней бушует гнев или она на кого-нибудь дуется. Вполне возможно, что она не проронит ни слова до завтрашнего утра, но Джулия не хотела, чтобы это молчание так затянулось, по крайней мере на этот раз. Поэтому она заговорила сама: — А ты знаешь, что случилось со мной, когда я была чуть младше тебя? Что я учинила бабусе Смит? Я пошла на какой-то день рождения, и там мне дали целый пакет цветных звездочек. Я их наклеила на обои, и бабуся Смит здорово меня отругала. — Она знала, что Лили слушает, хотя та не повернула головы. — И ты знаешь, до сегодняшнего дня я всегда считала, что бабуся Смит не права. Но сейчас я поняла, что не сознавала, что делаю. Я хотела за что-то проучить ее, хотя и не знала за что. По крайней мере, не знала точно. Джулия опять замолчала и немного выждала. Лили была достаточно сообразительной и понятливой девочкой, чтобы сделать какие-то выводы. Вдруг тоненьким невыразительным голоском она сказала: — Ты не говорила раньше, что собираешься ехать в Америку. Это заявление было столь неожиданным, что у Джулии перехватило дыхание. — Я… — Ты не сказала мне! Ты проговорилась Мэтти по телефону! Как будто не имеет никакого значения, есть ты здесь или нет! И только тут перед Джулией впервые открылась вся пропасть непонимания между ними. Лили все еще хмурилась, отворотясь к стене; одна рука ее лежала свободно откинутой на покрывале. Джулия взяла эту хрупкую ручку и крепко сжала. — Но я и раньше уезжала, — сказала она. — В Турцию, Индию, Таиланд и многие другие места. Я не думала, что ты не хочешь, чтобы я уезжала. — Джулия старалась вспомнить, как это было. Лили всегда отпускала ее вполне спокойно. Или это было кажущимся весельем? Иногда она говорила: «Я не хочу, чтобы ты ехала, мамочка». Но только и всего. Казалось, ей хорошо с Мэрилин и Александром. Когда Джулия возвращалась, она находила дочь отдохнувшей и приветливой. Она даже радовалась этому. — Я не знала, — сказала она с грустью. — Прости. — Она подумала об изуродованном ковре, этом яростном молчаливом протесте дочери. — Я ненавижу, когда ты уезжаешь, — выпалила Лили. — Ты не должна уезжать! — Но, Лили, я должна зарабатывать средства на жизнь, для нас обеих. — Это было лишь частью правды, и она сознавала это. Лили не обратила внимания на ее слова. — Ты моя мать. Ты должна быть здесь. Это эгоистичное чувство болью отозвалось в душе Джулии. В голове перемешались требования Лили и ее собственные. Ее и Бетти. Вечная борьба противоречий. «Бедные матери, — подумала она. — Никогда не могут угодить своим детям. И бедные дочери! Вечно они чего-то хотят друг от друга, а когда мы хотим им дать что-то, то делаем это так неловко, что причиняем друг другу боль». Джулия бережно пригладила волосы Лили. Она все чаще и чаще задавалась вопросом, где ее собственная настоящая мать? Что бы она сказала в этом случае? — Я не поеду в Америку, — пообещала Джулия. Она ощутила, как напряглись шея и плечи Лили, и поняла, что девочка старалась сдержаться, чтобы не одернуть голову от прикосновений материнской руки. — Нет, отчего же, поезжай, — сказала Лили, чтобы отделаться от нее. — Но сообщай мне обо всем, когда нужно. Я не хочу узнавать об этом из твоей случайной болтовни с Мэтти. — Извини, — смиренно повторила Джулия. — Но эта мысль пришла мне в голову именно в тот момент и показалась неплохой, поэтому я и сказала тогда. «И я нахожусь во власти противоречивого эгоизма». Лили подняла книгу и стала рассматривать картинку на суперобложке. Джулия поняла, что разговор окончен. Она встала, сказала что-то насчет ужина и пошла к двери. И вдруг услышала, как Лили пробормотала: — Прости меня за ковер. Это удивило и обрадовало Джулию. — Ты была права, это всего лишь вещь, а не живой человек. Как бы то ни было, это наш общий ковер. — Он не мой. Я не интересуюсь таким хламом. Джулия слегка хмыкнула. — Ты бы относилась к нему иначе, если бы он принадлежал Леди-Хиллу. Ответ последовал немедленно: — Леди-Хилл — совсем другое дело. Джулия согласно кивнула. Она помедлила минуту-другую, но больше говорить было не о чем. Прикрыв дверь, Джулия спустилась вниз, еле передвигая ноги. Уже сгустились сумерки, и огромная комната показалась холодной и мрачной. Обхватив себя руками, Джулия подошла к окну и стала смотреть на улицу, ничего не видя. Она хотела бы поговорить с Александром. Вот набрать бы номер его телефона и сказать: «То, чего мы опасались, случилось. Что теперь делать?» Она уже больше не удивлялась тому значению, которое приобрел в их жизни Александр. Она говорила себе, что он все еще ее друг, даже после всего, что случилось, а главное, он отец Лили. Но лишь недавно Джулия поняла, что ей необходима уверенность, что, если понадобится, он сможет оказать влияние, пусть издалека, не только на жизнь Лили, но и ее собственную. Александр стал чем-то вроде мерила, символом постоянства и Стабильности. Эта связующая нить между ними успокаивала, и ее следовало укрепить ради блага Лили. Она считала, что по прошествии стольких лет эти действия выглядели бы безобидно. Они редко виделись в Лондоне. Джулия никогда больше не бывала в Леди-Хилле. Она избегала этого в силу какого-то суеверия, хотя бывали моменты, когда она могла бы поехать туда, посмотреть, как Лили соревнуется на спортивной площадке, или на празднование шестидесятилетия Фэй. Но она так и не поехала, и они встречались, только когда Лили нужно было отвезти в Леди-Хилл или привезти обратно или когда Александру случалось бывать в городе по работе. Джулия очень ценила эту свободную, неоговоренную, но продолжавшуюся годы дружескую связь. Она бы не удивилась, если бы Александр чувствовал то же самое. Он встречал у нее Томаса Три, но никогда не спрашивал о нем и, должно быть, заметил впоследствии его исчезновение, но и по этому поводу тоже не сказал ни слова. Ничего подобного не было бы с Томасом, устало подумала Джулия. А теперь, когда она хотела поделиться тревогами вчерашнего вечера с Александром, этооказалось невозможным. Потому что Джулия была уверена, что истина не имела никакого отношения к турецкому ковру, абсолютно никакого, даже к Америке или ее частым отлучкам из дому. Истина же была вот в чем: «Я не твоя. Я папина». Все другое, даже если бы Лили и отрицала это, потому что она сама еще всего не понимает, было просто симптомом. Лили начала сравнивать и судить лишь потому, что достаточно повзрослела. Ее родители жили отдельно, не поддерживая никаких отношений, и отсюда вытекала возможность делать выбор. И если такая возможность подворачивалась сама собой, она по-детски, инстинктивно, хваталась за нее. Вспоминая себя и свое поведение с Бетти, Джулия поняла, что дети не могут говорить двусмысленно или притворяться. Мысль о том, что Лили, с ее сильными детскими привязанностями, выбирает между нею и Александром, причиняла невыносимую душевную боль. Но она была неизбежна, равно как и непереносима. Озябнув, Джулия отошла от окна и стала прохаживаться по длинной холодной комнате. Она считала, что все — и этот красивый дом, и его внутренний комфорт, «Чеснок и сапфиры», четыре магазина с их витринами, управляющими и штатом, склад, забитый товарами, а также офис и шкафы для хранения документов, даже «Триумф Витесс» — было сделано для блага Лили. А теперь, думала она, после того, как приложила столько усилий, чтобы быть хорошей матерью, я оказалась плохой. Если бы не было Лили, ничего этого не было бы тоже. Но все это ничего не значило. Она не могла ни привязать к себе Лили, ни заставить ее любить и быть преданной матери, ни прекратить их совместное времяпрепровождение. Она не могла также доверить Александру все тревоги, потому что в этом он был ее врагом. Осознание одиночества делало ее беспомощной. Она разжала руки, и они бессильно повисли вдоль тела. Раз в комнате холодно, нужно включить обогреватель. Лили пора дать ужин и напомнить, чтобы она собрала свою спортивную сумку к завтрашним занятиям в школе. Джулия включила свет и задернула шторы на окнах, а затем постаралась сосредоточить все свое внимание на мелких домашних делах, которые заполнят все ее вечернее время. Она сварила яйца и приготовила тосты и позвала Лили ужинать. Девочка прибежала, перепрыгивая через ступеньки, села на свое место у стола, забравшись с ногами на стул, и, жуя тосты, одновременно смотрела телевизор. Глядя на нее, Джулия подумала, что девочка так же легко все забывает, как это было с ней самой в детские годы, когда она наклеивала звездочки на обои Бетти. И она не смогла разгадать той маленькой истины, лежавшей под этими поступками, пока ей не исполнился тридцать один год. Так почему Лили должна быть исключением? Джулия протянула руку, чтобы собрать грязные тарелки. «На то, чтобы повзрослеть, уходит много времени, — сказала она себе. — Чертовски много, а между тем раны так болезненны».
— Я пришлю тебе открытку оттуда. — И «Статую Свободы». И еще я хочу несколько настоящих американских теннисок, чтобы каждый сразу видел, что они куплены не здесь. — Маленькая снобиха! — поддразнила ее Джулия. — А почему бы и нет? Что плохого в том, чтобы хотеть иметь одежду, которой нет у других? Лили стояла перед ней с широко открытыми глазами и совершенно серьезным выражением лица. Вспоминая поездки много лет назад на брик-лэйнский рынок, и как она рылась в старых нарядах Джесси, и какие нелепые шила себе платья, Джулия невольно улыбнулась. — Ничего плохого в этом нет. Я была в точности такая же. — Правда, мама? Даже в то время? Александр сидел на диване, вытянув вперед длинные худые ноги. Его гардероб, казалось, почти не изменился с 1959 года. Он по-прежнему носил вельветовые штаны, свитера и клетчатые рубашки, а зимой твидовое пальто, которое принадлежало еще его отцу. Джулия обратилась к нему: — Ведь правда, Александр? Время ничего не меняет. Он поднял голову и взглянул на нее. — Совершенно верно. Когда я впервые увидел твою мать, Лили, она была похожа на какую-то экзотическую бабочку. На ней всегда была необычная одежда. Замысловатая и в то же время очень простая, но всегда непохожая на ту, которую носили другие девушки. В сто раз более эффектная. И у нее были очень красивые ноги, как, впрочем, и сейчас. — У мамы? — Конечно. Джулия отвернулась, чтобы спрятать лицо от настойчивого взгляда Александра. На полу были свалены в кучу сумки и прочие вещи дочери, которые они приготовили для ее поездки в Леди-Хилл, и теперь Джулия была рада возможности порыться в них, притворяясь, будто что-то ищет. — Благодарю за комплимент, Александр. Но ведь это было сто лет назад. Александр все еще смотрел на нее. Она чувствовала себя смущенной и бесконечно далекой от той экзотической бабочки, которую помнил Александр. Она продолжала наводить порядок среди вещей Лили, бессмысленно суетясь, ожидая, пока их нужно будет отнести и уложить в автомобиль Александра. Но потом, когда это было сделано и велосипед Лили был надежно прикреплен к багажнику сверху, они вернулись в дом перед тем, как попрощаться. Лили побежала в цокольный этаж повидаться с Мэрилин, а Джулия и Александр стояли у окна. Сад благоухал розами, лавандой и жимолостью, а с канала доносился плеск и скрип весел прогулочных лодок. — Твой сад выглядит прелестно, — сказал Александр. — Спасибо. Смешно, но я его полюбила. Кто бы мог подумать, что из меня выйдет садовод? — Она засмеялась. — Наверное, это возраст. — Ты слишком много говоришь о своем возрасте. Ты ведь еще молода, Джулия. У тебя все впереди! Она с особой остротой прислушивалась к словам, думая: «Что может быть у меня впереди?» Она чувствовала его рядом, ее рука касалась его руки. «Не будь дурочкой, — предупреждала она себя. — Ты становишься расслабленной и сентиментальной». Александр вздохнул. — А в Леди-Хилле цветочный бордюр приходит в полный упадок. — В самом деле? — равнодушно спросила Джулия. — Тебе следует взять хорошего садовника. «Так-то лучше, — подумала она. — Спасительный сад!» — Да. Пожалуй, следовало бы. — Он положил руку ей на плечо. Ей пришлось повернуться к нему с улыбкой. — Не переутомляйся в Штатах. — Его лицо было так близко. — Нет, я не буду слишком усердствовать. — У тебя есть там друзья? Ну кто-нибудь, кто позаботился бы о тебе, если тебе потребуется помощь? — О, множество. Да еще деловые связи. Я буду, как всегда, среди людей. Она не могла сказать ему: «Я надеюсь встретить там Джоша Флада». Как она могла быть честной с Александром, если по-настоящему не была честна с собой? Джулия отвернулась, делая вид, будто внимательно рассматривает что-то за окном. — Ну что ж, это хорошо, — неопределенно пробормотал Александр. Лили влетела в комнату в сопровождении Мэрилин. На Мэрилин были джинсы и тенниска от «Марбин Гэй», волосы были закручены сзади в узел. Она как бы являлась более молодой и упрощенной копией Мэтти, и Джулия заметила, что Александр смотрит на нее. — Пойдем, папочка! — закричала Лили. — Пора ехать. — Не надейся, что избавишься от нас, ясно? — пошутила Мэрилин. — Ну-ка, обними нас хорошенько. И как я выдержу без тебя восемь недель? Мэрилин предстояло вести домашнее хозяйство в отсутствии Джулии и Лили. В десятый раз Лили повторила Мэрилин всевозможные инструкции по уходу за хомяками, которые жили в клетке в ее комнате. — Ты видела Мэтти? — неожиданно спросил Александр. — У нас был ланч со спиртным на прошлой неделе, — сказала Джулия. — Ей предложили пьесу, в которой она очень хотела играть. В сентябре будет проба в Честере, а затем, возможно, в Вест-Энде. — Передай ей мой привет, — сказал Александр. — Ты скорее увидишь ее, чем я. Разве ты забыл, что я пробуду в Штатах полтора месяца? — Ах да. Они вышли все вместе на солнечную улицу. Лили подпрыгивала то на одной ноге, то на другой, и Джулия наклонилась, чтобы обнять ее за плечи. — Желаю тебе веселых каникул. Слушай папу! Как ни пристально Джулия вглядывалась в лицо своей дочери, она не могла заметить в нем ничего, кроме счастливого ожидания. И как это бывало всегда, момент расставания оказался для Джулии гораздо тяжелее, чем она думала. — А ты бы поехала в Нью-Йорк вместе со мной? — Не было необходимости говорить это, но она уже не могла остановиться. Они могли бы поехать вместе. Лили была теперь достаточно взрослой. Они могли бы получить удовольствие от этой поездки, и одновременно Джулия занималась бы делами. Но Лили категорически отказалась. — Я не могу не поехать в Леди-Хилл, — сказала она. — По крайней мере сейчас. Джулия не спеша выпрямилась и открыла дверцу машины. Лили забралась внутрь. Джулия невольно нервно вздрогнула от упавшей на нее тени. Это подошел Александр. Из-за ослепительного света она не могла видеть его лица. Он поцеловал ее в обе щеки. Обычно он никогда не целовал ее ни при встречах, ни при расставаниях. Она смущенно улыбнулась, заслоняясь рукой от солнца. Затем Александр сел в машину рядом с Лили, а Джулия и Мэрилин остались стоять рядом на тротуаре. Автомобиль поехал, и они махали вслед рукой, крича «до свидания», пока он не скрылся за углом. — Ей повезло, — сказала Мэрилин, — иметь такого отца, как Александр. Джулия вспомнила Теда Бэннера. Он умер от перепоя четыре года назад. Мэтти и Мэрилин ездили на его кремацию и возвратились в дом Джулии с опечаленными лицами. А Вернон? Чем был лучше Вернон Смит, с вечной газетой на отутюженных складках брюк, с этими неизменно тикающими за спиной часами? Вернон только что ушел на пенсию из своей бухгалтерской конторы, и Джулия недоумевала, как они с Бетти толкутся с утра до вечера в этой тесной квартирке на Фэрмайл-роуд. — Да, Лили повезло, — ответила Джулия. Мэрилин взглянула на нее, и ее улыбка исчезла, уступив место замешательству. Джулия взяла ее руку и сжала в своей. — Пойду-ка я лучше упакую свои вещи. — Тебе не нужно что-нибудь погладить? Они возвратились в дом. Там было пусто и тихо, как это обычно бывало, когда уезжала Лили.
Лили пристально смотрела на дорогу, так как знала, что сидеть на переднем сиденье небезопасно. В пути попадались знакомые знаки, с которыми она мысленно здоровалась, когда они проносились мимо. Такая поездка была составной и неотъемлемой частью каждых каникул, того периода времени, когда лондонская Лили перевоплощалась в Лили из Леди-Хилла. И путь этот, от Лондона до Дорсета, всегда казался очень долгим, но, несмотря на свою ужасную непоседливость во время других поездок, в этой поездке Лили всегда сидела тихо. Она повернула голову и взглянула на Александра. Его лицо было красным от свежего загара, это означало, что он работал на открытом воздухе. Лили нравилось играть в летней беседке в саду, потому что в это время она могла видеть его. На нем была надета одна из его обычных рубашек с обтрепанными краями на манжетах, без галстука, а его негустые светлые волосы были гладко зачесаны. Ее отец никогда не носил длинных волос, как это делали отцы других девочек. Даже Феликс раньше отпускал шевелюру, в тот период, когда носил цветные восточные халаты наподобие женского платья, но потом он опять коротко остригся и стал носить такие же серые костюмы, как у Александра. Александр никогда не менялся. И это была одна из его самых характерных черт, и поведение его всегда оставалось одинаковым. Он бывал очень требовательным, но его строгость и требовательность всегда были обоснованны и понятны. Было нетрудно угадать, чем можно его рассмешить или что доставило бы ему удовольствие. Обычно все это совпадало с тем, что нравилось и ей, как, например, Леди-Хилл. Все это отличало его от Джулии. Лили машинально засунула в рот прядь волос, думая о матери. Конечно, она любила свою мать, как и каждый человек. К тому же Джулия была красивее и интереснее большинства матерей. Она отличалась от других даже своим внешним видом, когда приходила в школу, но в ней было что-то такое, что, по определению Лили, делало ее опасной. Она поняла это значительно позже, возможно когда повзрослела и ей исполнилось девять лет. Однако она всегда это сознавала, сколько себя помнила. Джулия так быстро менялась. Только что она смеялась и играла с ней, а в следующий момент могла взорваться от гнева. Лили боялась этих перепадов в настроении матери. Джулия могла быть нежной и покладистой, но могла повернуться и надавать ей шлепков, которые жгли, как крапива, и вызывали у нее горькие слезы, или, что еще хуже, она могла ударить словами, которые унижали ее. А после этого почти всегда мать выглядела несчастной. Даже иногда потихоньку плакала. Это как-то смущало и вызывало у Лили тоску по простым ровным отношениям, пусть даже в ущерб ее привлекательности. Александр вел себя совсем иначе. Он не заискивал перед ней, но и не вскипал гневом, вымещая на ней свой темперамент. Он был всегда уравновешен, спокоен, как и само поместье Леди-Хилл. Любовь к отцу и к этому дому переплелись и были неотделимы друг от друга. Лили вздохнула в предвкушении скорого блаженства и удобнее устроилась на сиденье. Когда они подъехали в Леди-Хиллу, уже вечерело. Каменные столбы у ворот отбрасывали длинные тени, как и деревья, ветви которых нависали над подъездной дорогой; мошкара тучками толклась в лучах заходящего солнца. В загоне, под деревьями, в густой траве стоял пони Лили, лениво обмахиваясь хвостом. — Вот я и дома! — радостно закричала Лили. Пока Александр переносил в комнаты ее пожитки, Лили обежала весь дом. Он слышал ее звонкие шаги у себя над головой и хлопанье дверей, выходящих на галерею, наполнявших шумом тихие своды. Было такое впечатление, как будто в дом ворвалась толпа людей, а не один ребенок. «Толпы людей. Веселые вечера…» Александр резко опустил на пол чемоданы. В доме была уже другая домоправительница, жившая в тех комнатах, которые занимали в первые годы после пожара Александр и Джулия. Она вошла через внутреннюю дверь, высматривая Лили, и Александр поскорее стряхнул с себя воспоминания о «толпах людей и вечеринках». Он сказал миссис Тови, что Лили будет ужинать приблизительно через час, когда немного уляжется возбуждение, и прошел в гостиную, чтобы налить себе рюмку вина. Панельная обшивка, купленная на распродажах и предназначенная для большего дома, была искусно пригнана Феликсом. Создавалось впечатление, что она всегда была здесь, в этой комнате, а потолочную штукатурку заменили так, что сделанные заново лепные украшения прекрасно гармонировали с панелями. Это обошлось в тысячи фунтов. Кое-как Александр оплатил расходы, в основном за счет продажи земель. Держа в руке высокий стакан виски с содовой, он долго оглядывал комнату. Он думал о том, как по кусочкам, с огромной тщательностью восстанавливал этот дом, чтобы привести его в прежний вид. Он отдал ему все свое внимание и теперь, когда работы в гостиной были закончены, испытывал чувство удовлетворения. Мебель также была собрана постепенно, предмет за предметом, с распродаж и аукционов. Да, он испытывал чувство удовлетворения, но оно было каким-то неполным, холодным и бесстрастным. Выпивая по вечером свою порцию виски, Александр все чаще задумывался над тем, было ли стремление восстановить родовое гнездо действительно стоящим делом или это был для него просто «островок безопасности». Появление Лили прервало грустный поток его мыслей. Она стояла в дверях, тяжело дыша, а раскрасневшееся личико цвело улыбкой. Пробежав через комнату, она прижалась к нему и потерлась щекой о его щеку, расплескав виски. — Я так тебя люблю! И она опять выбежала вон, а он удивился, почему не обнял ее и не сказал в ответ то же самое. Джулия так бы и поступила. Эту нерасположенность к сантиментам он унаследовал от отца и Чины. Джулия никогда не боялась показать свою любовь. Открытое выражение чувств было естественным для нее — она не скрывала и своей любви к Джошу Фладу, что глубоко ранило его сердце много лет назад. Он увидел очередное проявление этого сегодня, когда они стояли на тротуаре возле ее дома. Она просто излучала любовь, которая вся была направлена на Лили. С течением лет Джулия не утратила своей прямоты и живой реакции на людей, которые пользовались ее вниманием. Ее увлечения, страхи, требования, как всегда, не знали границ, в отличие от его собственных, создавая как бы еще более надежный щит для его неуязвимости. Джулию любили за ее непосредственность; это так нравилось ему еще с того дня, когда София привела ее, чтобы их познакомить: живое воспоминание вызвало у него сегодня желание поцеловать ее. Ему бы хотелось большего, но испуганное выражение ее лица остановило его, и он понял, что следует отступить, засунуть руки в карманы, сосредоточить свое внимание на Лили и их поездке в Леди-Хилл. А теперь он опять был дома, как всегда в своей надежной непогрешимости. Александр встал и подошел к окну. Брусчатка внутреннего двора все еще светилась под теплыми лучами заходящего солнца. Поодаль стояли ивы, вдоль которых проходила посыпанная гравием дорожка, а дальше скошенная трава, скрытая тенью деревьев. Леди-Хилл был прекрасен, но он знал, что поместью нужна Лили и кто-нибудь еще, одним словом, люди, которые оживили бы его. Как сказала много лет назад Джулия. Без них дом был пуст, как дерево без сока. Как и я сам, подумал Александр. Ему было уже за сорок. Похоже, что его планы может осуществить только Лили, но не он. Он чувствовал, что стал чопорным и неуклюжим из-за длительной изоляции в этом доме, и скучным оттого, что много работал, не позволяя себе никаких отклонений. Конечно, у него были женщины после того, как ушла Джулия. Две или три из них были связаны с его музыкальным бизнесом, но они жили в Лондоне или в Нью-Йорке, и в конце концов расстояние, которое приходилось всякий раз преодолевать для встреч, оказалось обременительнее получаемого удовольствия, и эти связи истощили себя. Потом у него завязались отношения с местной девушкой, дочерью школьной учительницы и врача, их тайные встречи продолжались больше года. Но в конце концов ее деятельное участие в работах по восстановлению дома, а особенно собственнические поползновения относительно Леди-Хилла стали напоминать ему мачеху. Александр освободился от своей возлюбленной с присущей ему деликатностью, и с тех пор на протяжении последних семи месяцев у него никого не было. Он был одинок, но в этом он винил только себя самого. Если бы он действительно стремился к общению с людьми, ему не трудно было бы их найти. Он повернулся и отошел от окна. Созерцание тишины летнего вечера в Леди-Хилле не приносило радости. Александр вернулся к своему креслу с подушками, покрытыми вышивкой гарусом по канве, которые добыл ему Феликс в лавке какого-то старьевщика в Солсбери, и аккуратно развернул газету. По крайней мере, теперь здесь будет Лили целых два летних месяца. Она согреет своим теплом безжизненный дом. Он слышал, как она возвратилась в дом задолго до положенного часа. Улыбаясь, он опустил на пол газету, но когда девочка ворвалась в комнату, заметил, что ее лицо пылает гневом, а на щеках видны следы размазанных слез. — Там бунгало! — завопила она. Восемнадцать месяцев назад Александр продал шесть акров земли на краю поместья с деревней Леди-Хилл. Этот участок был куплен застройщиком, который в положенное время добился разрешения на строительство небольшого поместья из восемнадцати бунгало. Местный консул дал разрешение, и сразу же после последнего посещения Лили Леди-Хилла там развернулись строительные работы. Теперь эти бунгало были почти закончены. У них были покатые крыши, фигурные окна и аккуратные крошечные палисадники вокруг маленьких коробкообразных домиков. Некоторые из них были уже куплены молодыми парами и пенсионерами из деревни, но большинство должны были занять приезжие. Если бы у Александра была возможность выбора, он предпочел бы обойтись без этих построек. Он оттягивал продажу земли сколько мог, но наступил момент, когда он понял, что не может брать на себя слишком много работы, а без наличных денег просто не обойтись. Застройщик заплатил хорошие деньги. В деревне приняли это как веяние нового времени, и Александр постепенно привык к зрелищу растущих построек на пустовавшей прежде земле. Возмущение Лили сначала удивило его. — На нашей земле стоят какие-то дома! И обнесены изгородью. — Я знаю. Извини, мне следовало сказать тебе об этом раньше. Она уставилась на него, не понимая. — Но почему?! Что они там делают? Александр придвинул стул и заставил сесть рядом с собой. Она уселась на самый краешек стула, пристально глядя на отца, как будто от этого нежеланные домики могут исчезнуть. — Ты знаешь, что много лет назад, еще до твоего рождения, в Леди-Хилле был пожар? Лили нетерпеливо кивнула. О пожаре редко упоминали. Почти все, что она слышала краешком уха в детстве, касалось ремонта и восстановительных работ. У нее в памяти сохранился один фрагмент, когда она забрела в темные, осыпающиеся закоулки дома и с испугом почувствовала удушливый комок в горле. Потом откуда-то появилась Джулия, взяла ее на руки и унесла. — Дом сильно пострадал от пожара. Сгорели стропила, поддерживавшие крышу, и расплавились перекрытия на окнах и сточные желоба. Все покрылось копотью и дымом, а вода и пожарники сделали свое дело, испортив мебель, картины и ковры. Конечно, те, которые не успели сгореть. Лили слушала отца, на какое-то время позабыв про бунгало. Описывая такие ужасные вещи, он говорил ровным, спокойным голосом. В его словах не было ни гнева, ни печали. И все же впервые Лили представила, как это все было. Огонь, жадно пожирающий дрова в камине, только в тысячу раз больше. Он стремительно уничтожает их дом. Она непроизвольно посмотрела вверх, как будто ожидала увидеть оранжевые языки пламени, лизавшие потолок у нее над головой. — Пожар, разумеется, был погашен, — успокоил ее Александр. Лили опустила глаза, и взгляд ее упал на загадочные шрамы, ярко-розовые и сероватые пятна на коже на тыльной стороне отцовских рук. Ей сразу же стало понятно их происхождение, как будто у нее открылись глаза. — У тебя тогда обгорели руки? — Да. Но мне повезло. Их вылечили. — А что случилось потом? Под взглядом подростка, казалось, все выглядит яснее, но в более резких, холодных тонах. — Потом нужно было отремонтировать дом. Я хотел восстановить его в прежнем виде. На это потребовалось очень много времени и очень много денег. Последние деньги, так как мне неоткуда больше было их достать, я получил от продажи деревенских лугов. И человек, купивший эту землю, поставил на ней дома для людей, которые могли бы их купить в качестве жилья. Ведь людям надо же где-то жить, Лили. Но она не могла принять эту подслащенную пилюлю. Ее личико снова залила краска, и она почти закричала: — Но они ужасны! Они… они похожи на куриные клетки. Их видно отовсюду, как только выйдешь из сада. А это значит, что и они могут видеть нас. Я привыкла ездить на Марко Поло по этим лугам. Я не хочу, чтобы там были эти дома! — Лили, — твердо сказал Александр. — Эти дома нужны, а нам нужны деньги, которые мы, сдавая их, получаем. Я понимаю твой гнев и виноват в том, что не предупредил тебя об этой затее. Но ты тоже порядочная эгоистка. У тебя ведь много места, где ты можешь кататься на своей лошадке. В этом мы счастливее других. Не забывай этого, ладно? Лили подняла свое расстроенное личико. — Я не это имела в виду, — прошептала она. — Из-за них все изменилось. Куда ни повернешься, натыкаешься глазами на них, потому что они такие новые. И… голые. Я хочу, чтобы все оставалось неизменным. А теперь этого нет. — Слезы градом покатились у нее по щекам. Это была уже не девятилетняя девочка, а упрямый ребенок. — О, Лили, — Александр обнял ее и прижал к себе. — Послушай. Я потратил годы, почти все свое время, с тех пор как ты родилась, стараясь сделать Леди-Хилл таким, каков он теперь, чтобы он оставался всегда таким, каким я его помню со времен своего детства, для тебя и твоих детей. И я только сейчас стал понимать, что тебе не следует пытаться сохранять все в прежнем виде. Это… это своего рода слабость. Если ты окажешься храброй, храбрее меня, ты не будешь бояться изменений, а будешь извлекать из этого пользу для себя. Феликс прекрасно отделал Длинную галерею благодаря деньгам, вырученным от продажи земли, часть из них пошла на ценные вещи. Можешь ты порадоваться этому и попытаться принять эти бунгало? Уверяю тебя, через месяц-другой ты забудешь даже об их существовании, как будто они всегда были там. — Я постараюсь, — насупленно сказала Лили, вытирая слезы. — Ладно, я попробую. Она больше не протестовала. Может быть, подумал Александр, это потому, что она получила полезный урок, когда рядом не было смягчающего влияния Джулии. Лили волновал еще один вопрос: — Ведь это Феликс помогал тебе ремонтировать Леди-Хилл? А почему не Джулия? Он немного помолчал, обдумывая свой ответ. Затем сказал: — Джулия считала, что я слишком много уделяю этому внимания. И так как я не мог сделать ее счастливой, как не мог сделать счастливым и этот дом, она решила уехать и жить в другом месте. Это было ее право, понимаешь? И мы договорились, чтобы ты жила у нас по очереди. Лили кивнула. А затем неожиданно спросила: — Ты сказал, что не был храбрым. А что бы ты сделал, если бы был храбрым? — Думаю, я тогда уехал бы с Джулией. Александра удивила легкость, с которой он признался Лили в том, в чем не смел признаться даже самому себе. А она тотчас сказала: — Я рада, что ты этого не сделал. — Почему? — Потому что тогда мы бы не могли жить здесь, верно? Он улыбнулся. — Разве это так важно? — Еще бы! Во всем мире нет места прекраснее, чем Леди-Хилл. Он посмотрел на ее оживленное личико. Разве не этого он добивался всю жизнь? Но чувство удовлетворения, казалось, было не таким полным, как он ожидал. — Ступай, — ласково сказал Александр. — Иди наверх и вымой лицо. А потом, думаю, тебе следует позвонить миссис Тови. Вероятно, твой ужин уже на столе. Он позвонил Джулии, чтобы сообщить, что Лили благополучно добралась до Леди-Хилла. Разговор был коротким. — Счастливой поездки, — сказал он под конец. — Спасибо. — Пауза, затем — Александр! — Да? Опять пауза. — Ничего. Это не имеет значения. Желаю вам обоим счастливого отдыха. Отдых Лили вошел в обычную колею. По утрам Александр работал, а Лили отправлялась навестить своих подружек Элизабет или Фэй или помогала миссис Тови. В полдень они завтракали на открытом воздухе, гуляли или плавали в речном пруду. Лили больше не вспоминала о бунгало, но решительно отказывалась ездить на своем Марко Поло в нижние луга. В конце первой недели приехал Феликс. Его визиты теперь, когда дом почти полностью был восстановлен, стали редкими, но все же он приезжал на несколько дней, обычно весной, а потом еще летом. Он всегда привозил что-нибудь: картины, ковры или изделия из фарфора, собранные за период его отсутствия, и представлял Александру на предмет одобрения. Обычно эти вещи были очень дорогими, но всегда выбирались с учетом точного места их размещения и чаще всего так удачно вписывались в интерьер, что Александр не в силах был устоять и покупал их, ворчливо попротестовав для виду. То, что Леди-Хилл блистал теперь утонченным великолепием, когда-либо украшавшим его с ушедших во мрак дней сэра Перси Блисса, было отчасти заслугой Феликса. И если его деловые визиты в Леди-Хилл уже не были столь необходимыми, Александр понимал, что они служат для него подходящим предлогом, чтобы на несколько дней вырваться от Джорджа. У Джорджа Трессидера развилась какая-то мышечная болезнь, причинявшая ему сильные боли и ограничивавшая передвижение. Болезнь сделала его очень раздражительным. Феликс взял на себя ведение их дел и ухаживал за Джорджем, добродушно подшучивая над ним, но они уже не были больше любовниками. Феликс неуклонно, но втайне от Джорджа продолжал свои любовные похождения. Легальность таких отношений и благоприятные возможности сопутствовали ему, а обилие выбора напоминало Флоренцию много лет назад. Однако он приезжал в Леди-Хилл не для того, чтобы искать себе мальчиков. Этого добра было достаточно и в Лондоне. Он приезжал туда исключительно ради того, чтобы наслаждаться цветущей красотой истинно английской местности, и еще потому, что, несмотря на все их несходство с Александром, они стали теперь друзьями. Александр уже ожидал его, и, когда услышал звуки белой «альфы» Феликса, он быстрыми шагами направился во двор, чтобы приветствовать приятеля. К своему удивлению, он увидел, что машина, вместо того, чтобы быть нагруженной какими-нибудь драгоценными изделиями старины, утопающими в мягких древесных стружках, доставила еще одного пассажира. Он удивился еще больше, когда им оказалась Мэтти. В ту же минуту прибежала Лили. — Мэтти! Мэтти, Мэтти! — радостно закричала она, повиснув на ней. Феликс смотрел на Александра поверх их голов, улыбаясь и пожимая плечами. Освободившись от Лили, Мэтти взяла Александра за руки и поцеловала в обе щеки. Расставшись с Крис Фредерикс, Мэтти распрощалась также и с джинсами и рабочими рубашками и возвратилась к платьям в стиле Мэтти. Сейчас на ней было очень короткое ярко-розовое платье-рубашка и розовые кожаные сандалии «а ля гладиатор». На руках поблескивали тяжелые индийские серебряные браслеты и такая же цепочка на шее, круглые очки от солнца были подняты на макушку. — Блисс, надеюсь, ты не испугался? Я обедала с Феликсом, и он сказал, что едет сюда, вот я и решила прокатиться. Здесь, в деревне, должна быть какая-то таверна. Я смогла бы остановиться там на пару суток? Она повернулась к нему, и он дружески чмокнул ее. Ее губы слегка приоткрылись, и их мягкое прикосновение вызвало в нем невольную дрожь волнения. — В этом доме найдется по меньшей мере дюжина спален, с нетерпением ожидающих, когда их займут. Оставайся здесь, сколько хочешь. Мы очень рады видеть тебя, не правда ли, Лили? Чувствовалось, как будто что-то осталось недосказанным. Глядя на Мэтти, он заметил, что ее молочно-белая кожа, слишком бледная, покрылась едва заметными веснушками. Длинные ухоженные волосы были бледнозолотистого цвета. Он заставил себя отвести от нее взгляд и обменялся рукопожатием с Феликсом. — Который час? Не перекусить ли нам на траве? Вы, должно быть, выехали очень рано. «Какие глупости я говорю, — подумал Александр. — Наверно, я сейчас скорее смахиваю на четырнадцатилетнего мальчика, а не на сорокалетнего мужчину». — Еще до рассвета, дорогой, — в голосе Мэтти послышался ее обычный горловой смешок. — Мне нравится идея позавтракать на траве. Они уселись на лужайке, находившейся перед домом. Мэтти запрокинула голову, чтобы оглядеть его, и Александр залюбовался мягкой линией ее шеи. — Как я давно здесь не была, — тихо сказала Мэтти. — Ты знаешь, этот дом слишком красив для нашей действительности. Кажется, что как только переступишь порог, он окажется всего лишь макетом. — Нет, он-то настоящий, — засмеялся Феликс. — Каждый проклятый кирпич и каждая балка. Он унес почти десять лет нашей жизни. Разве не так, Александр? «В конце года будет десять лет. С тех пор как его разрушил пожар…» На траву упала тень, как будто солнце закрыла туча. Но Александр разогнал ее, подняв свой стакан. — Выпьем за завершение великолепного предприятия. Он наклонился вперед, чтобы чокнуться с Феликсом, но тот поспешно поправил его: — Хотя, конечно, такие вещи на самом деле не имеют конца… Мэтти и Александр расхохотались, а спустя мгновение к ним присоединился и Феликс. Мэтти подумала: «Во всем мире есть только двое мужчин, достойных любви. И два из них сидят сейчас здесь, рядом». Мэтти и Феликс пробыли в усадьбе пять дней. Ярко светило солнце, и, греясь под его ласковыми лучами, они прогуливались пешком, катались на автомобиле, играли с Лили, дремали в шезлонгах на лужайке и плавали в реке. Они съездили к морю и собрали для Лили прекрасную коллекцию гальки, а также объехали все маленькие городки, где Феликс обошел все антикварные лавки, брюзжа и жалуясь, что редкие вещи здесь дороже, чем в Лондоне. По вечерам, после того, как Лили отправлялась спать, взрослые ели, пили и болтали, а иногда Мэтти пела под аккомпанемент Александра. — Если бы здесь была Джулия, — вздыхала Мэтти, — все было бы так, как в былые времена. На пятый вечер их пребывания Александр спросил: — Вы не могли бы остаться еще на пару дней? — Мне необходимо к Джорджу, — сказал Феликс. В этот вечер Александр откупорил две бутылки шампанского, и они распили их на свежем воздухе, вдыхая аромат табака, стелющийся над травой и бататом, затянутым сумеречной пеленой под медно-красным буковым деревом. Глядя на лица своих собеседников, Феликс впервые почувствовал, что он лишний. После обеда Александр играл Шопена. Подвыпившая Мэтти мечтательно покачивалась в такт музыке. — Ты хочешь уехать? — тихо спросил Александр. Мэтти замерла. Причудливые складки шифоновой юбки плавно колыхались вокруг нее. — Нет, я не хочу уезжать. Если ты хочешь, я останусь. Сидя в некотором отдалении от них, темный и неподвижный, как бы вырезанный из отполированного дерева, Феликс хотел шепнуть: «Берегись», но слова так и не сорвались с его губ, ибо в ту же минуту он понял, что предупреждение уже запоздало. Утром Лили, Александр и Мэтти стояли во дворе, махая руками белой «альфе», пока она не скрылась в тенистом тоннеле. И в этот вечер, когда Александр подошел, чтобы поднять крышку рояля, Мэтти взяла его за руки, сплетая его пальцы со своими. — Не надо сегодня играть. — Чем же мы, в таком случае, займемся? Но он тут же сам нашел ответ на свой вопрос. Обняв девушку за плечи, он провел ладонями по ее обнаженным рукам. Ее кожа показалась ему такой мягкой, что готова была растаять от его прикосновения. Он поцеловал ее, настойчиво лаская языком ее губы, пока голова ее не запрокинулась, а рот приоткрылся навстречу. Всю эту неделю он страстно желал ее. Он расстегнул спереди ее платье и освободил груди. Они лежали в его руках, налитые и тяжелые, призрачно бледные в свете луны, проникавшем в погруженную в темноту комнату. Он прижался к ним губами, вызывая в ней невыразимо сладостное чувство. Александр удивился, почему за все эти годы он никогда не замечал сексуальности Мэтти. Он так сильно желал ее, что повалил на пол и стал срывать одежду, стремительно вонзаясь в нее и вскрикивая: «О, Мэтти!» — Пойдем в постель, Мэтти, — умолял он. Она улыбнулась ему загадочной и печальной улыбкой. — Блисс, я не гожусь для секса. Для чего угодно другого, но не для секса. С усилием сдерживая себя, Александр прошептал: — Ты годишься, дорогая. Только посмотри, — он провел ладонью по ее нежной шелковистой коже. — Ты так прекрасна! — Я бы не хотела все испортить, — прошептала Мэтти. — Мне было так хорошо с тобой все эти дни. — Ничего и не будет испорчено, — пробормотал он. — Ничего. Обещаю тебе. — Он поцеловал ее гибкую шею, думая о том, что если бы он мог откусить кусочек этой плоти, то ощутил бы вкус спелой золотистой дыни. — Блисс… Он сжал ладонями ее лицо. — Ответь мне только на один вопрос. Это правда, что ты предпочитаешь девушек? Взгляд ее глаз смягчился. — Правда в том, что я не знаю, чего я хочу. Он улыбнулся. — Я не столь самонадеян, чтобы сказать: «Я покажу тебе, что». Но пойдем в постель, Мэтти. Она почти неслышно ответила: — Хорошо. Если ты хочешь. Для Александра нагое великолепие Мэтти в его постели казалось чудом. Мэтти никогда не была стройной, и сейчас ее мягкое, пышное тело, казалось, обволакивало его, проникая внутрь и вызывая все возрастающие чувственные волны желания. Она заполнила собой его руки и его рот, ему хотелось с жадностью поглощать ее, пока он не почувствовал, что больше не может. Александр изо всех сил пытался сохранить над собой контроль. Он сцепил зубы и мрачно считал до тысячи, как научился делать это с первой женщиной, чтобы доставить ей удовольствие. Он гладил ее и ублажал, и прижимался губами к мягким соскам, заставляя их стать твердыми и выпуклыми под своим горячим дыханием. Мэтти вздыхала и слабо улыбалась из-под опущенных ресниц, но он не смог возбудить ее больше. Он досчитал до тысячи. Больше у него не было сил. Он приложил губы к ее уху: — Мэтти, я хочу тебя. Она едва заметно покачала головой. — Я не могу. Но ты можешь сам взять меня. Ее мягкая рука с силой сжала его член, и он громко застонал. Затем она направила его, подняв бедра, чтобы ему легче было овладеть ею. Он долго лежал с закрытыми глазами, крепко обхватив ее руками, как будто боясь, что она убежит. Мэтти тихо лежала в его объятиях. «Александр, ты полон любви и великодушия, как я и думала. Я рада, что узнала это. Я рада, что это случилось спустя столько лет. И ты мне очень нравишься. Почему же я не сказала тебе этого?» — Мэтти, — шепотом спросил он, — почему ты не можешь? Ты доставила мне самое большое удовольствие, какое я когда-либо испытывал в жизни. — Гм… Парадокс, не правда ли? Он переместил вес своего тела, чтобы взглянуть ей в глаза. — Парадокс? Интересно, многие ли кинозвезды говорят о парадоксах в постели? Мэтти весело ответила: — Ни одна из тех, с которыми я спала. Они рассмеялись, сначала тихо, потом громче и громче, захлебываясь от смеха и крепко держа друг друга в объятиях. (обратно)
Глава двадцатая
Джулия оглядела мастерскую. Все стены были увешаны подлинниками и копиями работ трех молодых художников, деливших эту «голубятню», но вокруг не было никаких других предметов, обычно сопутствующих этому виду деятельности. Зато стояли чертежные доски, распылители красок и ящики для бумаг, а за терминалом компьютера сидел парень в очень опрятных рабочих брюках из грубой бумажной ткани. Это чистое помещение скорее напоминало отдел искусств какого-нибудь крупного журнала, подумала Джулия. — Мне нравится этот материал, — сказала Джулия. — Мне уже надоели цветы и бисер. Парень поднял голову. — Да. Все это быстро выгорает. Она еще раз медленно обошла комнату, осматривая рисунки. Те, которые ее особенно заинтересовали, бросались в глаза своей необычностью; там были изображены проигрыватели-автоматы, автомобили с радиаторами в виде зубов акулы, девушки с утрированными грудями в облегающих платьях, особенно подчеркивающих выпуклость бедер. Они были как настоящие, лоснящиеся и бесстыдные. В них не было ничего мягкого, манящего и красивого. Джулия удовлетворенно улыбнулась; она уже ясно представляла, насколько это может оказаться ходким товаром. Среди сюрреалистических рисунков космического века попадалась компьютерная графика, в которой кружки и точки поэтапно превращались в прыгающего леопарда, а затем опять распадались на кружки. Таким же образом бутылка кока-колы превращалась в космический корабль «Аполлон», который как раз в эти дни с Армстронгом и Олдрином находился на Луне. Это была восхитительная неделя, проведенная в Америке. — А эти, — сказала Джулия, — эти изумительны! Есть что-нибудь такое, чего вы не можете делать на компьютере? — Такого нет, — парень откинулся на спинку стула. — По крайней мере, немного. Джулия достала записную книжку, открутила авторучку с золотым пером и наполнила ее чернилами. Мэтти подарила ее Джулии на Рождество. — Шариковые ручки не подходят к шелковой блузке и кожаным сумочкам, — пояснила тогда Мэтти. Вспомнив это, Джулия улыбнулась. — Я бы, конечно, хотела купить кое-что из ваших работ, — размышляла она, — но для моего рынка не годится штучный товар. У меня в Англии несколько магазинов, а не картинная галерея. — Торговля? — Именно. Парень зевнул. — Ну что ж, не думаю, чтобы этот вопрос нельзя было решить, если сойдемся в цене. Вам следует обсудить это с моим агентом. Джулия решительно насадила на ручку колпачок. Она любила вести дела с агентами и наслаждалась самим характером условий соглашений. С ними всегда есть возможность заключить сделку, а она умела добиваться того, чего хотела. Она знала, что все эти «понтиаки» 50-х годов и бутылки в виде космических кораблей будут хорошо смотреться на стенах «Чеснока и сапфиров» и могут быть сразу же проданы. — Спасибо за то, что показали мне вашу работу. Я позвоню агенту в полдень. Можно мне пригласить вас куда-нибудь на ланч? Художник взглянул на нее из-под длинных ресниц. — Разумеется, — пробормотал он. — Давайте пойдем прямо сейчас. Они вышли на улицу, и Джулия почувствовала, как горячее солнце стало печь ей голову. В студии работал кондиционер, и там было довольно прохладно, а шум городского транспорта, казалось, с удвоенной силой обрушился на них после тишины мастерской. Постоянные контрасты города будоражили ее кровь. Она вынуждена была делать большие усилия, чтобы не бросаться во все стороны, восхищаясь и восклицая как маленькая девочка. — Куда пойдем? — спросила она. Жара от асфальта проникала через туфли-лодочки, раскаляя ступни ног. — Я знаю одно место. Они поехали в бар-ресторан под названием «Олс». Внутри было прохладно и сумрачно, и Джулия невольно заморгала от очередного контраста. Когда ее глаза адаптировались к свету, она с любопытством огляделась. Интерьер представлял собой пещеру в стиле тридцатых годов, и сразу невозможно было определить, действительно ли это старина или только искусная подделка. Стены были покрашены в персиковый цвет и освещены лампами в виде вентиляторов, диванчики и стулья у стойки обтянуты желтой и кремовой кожей, и картину довершало белое пианино с пианистом-негром, наигрывавшим мелодии Коля Портера. Вся обстановка была одновременно и строгой, и помпезной, и в то же время такой современной, что Джулия громко рассмеялась. — О, палочки-амулеты, пакеты с бобами, где вы теперь? Мне следовало бы надеть кремовое крепдешиновое платье для чая с множеством складок и сделать горячую завивку. Мой вид никак не вяжется с интерьером. — Она похлопала по рукавам своего желтого костюма. Ее компаньон смеялся вместе с ней, засунув большие пальцы за подтяжки рабочих брюк. — И мне не помешал бы белый смокинг. Но кто подаст меню? Давайте-ка пока что-нибудь выпьем. Пока они шли к бару, он поздоровался с десятком людей. Наконец они уселись на высокие желтые стулья у стойки бара. Им предложили меню коктейлей с затейливым тиснением и силуэтомпричудливо изогнувшейся танцующей пары. Джулия задумалась, что бы ей выбрать. — Не попробовать ли «Манхэттен»? Бармен смешал им коктейли в серебряном шейкере и разлил по бокалам на черных ножках, с покрытыми как бы инеем краями. Джулия сказала: — Мне кажется, я бы все здесь взяла: и шейкер, и эти стаканы, и лампы, и пепельницы, и эти высокие стулья — и немедленно отправила в «Чеснок и сапфиры». Чтобы порвать со стариной и перейти к новому. Художник, преисполненный восхищения, поднял свой бокал, чтобы сказать тост. — Англичане считаются холодными людьми. Но когда вы чего-то хотите, вы идете и добиваетесь своего. За ваш энтузиазм! — А я в восторге от вашей графики. — Джулия подняла свой бокал с ответным тостом. Покрытые инеем края при прикосновении издавали слабый писк. Художник посмотрел на нее из-под длинных ресниц. — А я в восторге от вас. «О, Нью-Йорк, — подумала Джулия, — ты мне подходишь». Здесь она почувствовала себя опять молодой и изголодавшейся, чего давно с ней не было. Они выпили еще по коктейлю, съели по гамбургеру, болтая о «Вархоле» и космонавтах. Пока они ели, к ним присоединились два или три приятеля художника, и один из них сказал, что в этот вечер будет вечеринка и, мол, почему бы им обоим не пойти туда? Художник вопросительно приподнял густую черную бровь в сторону Джулии, и она сказала «да», что прозвучало очень забавно. Вечером она надела платье от «Осси Кларк» из цветного крепа с лентами, складками и широкими рукавами и взяла такси, чтобы ехать в другую голубятню. Там, расхаживая между огромными блестящими металлическими скульптурами, она познакомилась с другими художниками, а также мастерами гончарного дела, поэтами и друзьями этих людей от искусства, являвшимися директорами телевизионных передач, помощниками редакторов и издателями газет. Это были приветливые, интересные люди; она рассказывала им о своих магазинах, и в ее сумочке собралась небольшая кучка визиток и адресов. Тут были и новые дизайнеры, и художники, и люди, с которыми ей рекомендовали познакомиться и поговорить, так как их продукция была весьма своеобразной. Джулия пила белое вино, выкурила одну или две сигареты с марихуаной, и в конце вечера ее приятель-художник не слишком удивился, когда она сказала, что будет лучше, если она просто тихонько вернется в свой отель и ляжет спать. — Ну что ж, до встречи, детка, — сказал он. В своей комнате в «Алгонкине» Джулия сняла платье и аккуратно повесила в шкаф. Она чувствовала усталость, опьянение и полное удовлетворение от поездки. Несколько имен, которые она отобрала с помощью своих друзей в Лондоне, оказались подобны камешкам, брошенным в воду: они, словно расходящиеся по поверхности круги, еще больше расширили круг ее знакомств. Она увидела множество предметов, которые хотела бы купить, но не могла даже надеяться отправить их домой, зато поняла, какое направление следует взять «Чесноку и сапфирам» в семидесятых годах. Да, эта поездка была очень удачной. Джулия слетала в Торонто и вернулась обратно на Побережье. Но по сравнению с Нью-Йорком Канада показалась ей очень провинциальной, а Сан-Франциско все еще был охвачен движением хиппи. Она возвратилась на Восточное Побережье с чувством облегчения и новым приливом энергии, горя желанием заключить напоследок две-три сделки до отъезда домой. Она уже хотела увидеть Лили, а увидеть Лили — значит встретиться с Александром. Но она знала, что еще не готова ехать, не совсем готова. У нее было мало времени и достаточно денег, и она была в той же стране, где… Лежа на спине в своей постели и уставясь невидящим взглядом на платье, висящее в открытом шкафу, Джулия позвонила и заказала Информационную телефонную службу, через минуту записала нужный номер в блокнот, лежавший рядом с телефоном. Она не стала сразу набирать этот номер. Встала и подошла к окну. Минуту смотрела вниз на улицу. Казалось, наэлектризованность города передавалась и ей. Она сделала быстрый вдох и выпрямилась, как будто шнурки от белья туго сдавили ей тело. Затем она вернулась к постели, взяла телефон и набрала номер. Какое-то время она прислушивалась к гудкам и уже подумала: «Его нет дома», как вдруг он ответил: — Джош Флад слушает. — Джош, это Джулия. Пауза, а потом раздался смех. Тот же ленивый, мягкий смех, который она помнила с прежних времен. — Как ты узнала?! Когда мы можем увидеться? И это было так похоже на Джоша! Никаких: «как поживаешь?» или «где ты сейчас?». Никакого упоминания о том, сколько лет прошло или как сильно он скучал по ней. Просто «Привет, вот и ты». Только этот, настоящий момент имел для него какое-то значение, только этот момент. Но теперь, имея такие тылы, как успех и свобода, Джулия наконец-то почувствовала, что может играть с ним на равных. Она улыбнулась. — Завтра, если я смогу взять билет на самолет. — Из Лондона? — Из Нью-Йорка. — В таком случае, я тебя жду. Не представляешь, как я рад услышать твой голос, со мной давно уже такого не бывало. — О, Джош! — Джулия Блисс! — Джулия Смит. Мы с Александром разошлись. Он не дал ей договорить. — Ничего не говори больше. Прибереги до завтра, когда я смогу слушать, глядя на тебя. — Буду ждать этого с нетерпением. — Я тоже. Джулия, я рад, что ты позвонила.На следующий день Джулия полетела в Денвер. Джош встретил ее в аэропорту. Он стоял у барьера, ожидая, пока она подойдет, и хотя сразу увидел ее в толпе, вынужден был взглянуть еще раз, чтобы убедиться, что это действительно Джулия. И вот она, улыбающаяся, стояла перед ним, выжидательно склонив голову набок. Джош протянул руки, и она шагнула в его объятия. Они долго стояли обнявшись, он немного отстранился, чтобы снова поглядеть на нее. Джулия уже рассталась со своими мини-юбками, хотя лишь год назад клялась, что никогда от них не откажется. Теперь на ней был песочного цвета костюм с элегантной прямой юбкой ниже колена, простая белая блузка и жемчужные серьги в ушах. Ее короткая стрижка давным-давно отросла, и теперь волосы густыми волнами обрамляли лицо, как и в те времена, когда Джош впервые увидел ее «У Леони». Лицо немного похудело, но казалось, оно светилось каким-то новым светом. Видно было, что она стала старше. Она была все так же красива, как и прежде, и все-таки немного другая, и это новое заставило его опять взглянуть на нее, чтобы убедиться, что он не ошибся. Если бы ему пришлось выбирать какой-нибудь комплимент для Джулии, подумал Джош, задача была бы не из легких. Они стояли держась за руки, пока вокруг них не поредела толпа прибывших пассажиров. Итак, я решилась на это, думала Джулия. Я опять вторглась в жизнь Джоша, вместо того, чтобы заниматься своей. Я по-прежнему проявляю инициативу. А Джош тот же, разве что чуть-чуть потускнел блеск его прекрасных волос да прибавилось несколько почти невидимых глазу морщинок на загорелой коже в уголках глаз, а в общем — та же стройная, мускулистая и подвижная фигура, как и прежде. Даже одежда такая же: джинсы на толстом кожаном ремне и хлопчатобумажная рабочая рубашка. Он казался крепким и симпатичным, так же перемежал свою речь легким добродушным юмором. Она пригнула рукой его голову, чтобы поцеловать уголки его губ. Он полузакрыл глаза, и она увидела выгоревшие края его ресниц. Ток, который прежде пробегал по их телам, никуда не исчез, он пронзил их с той же силой. — Пойдем, — сказал Джош. — Там ждет машина. Дай мне твои сумки. Он поднял ее изящный небольшой багаж, и Джулия последовала за ним. У самого входа стоял небрежно припаркованный белый «мерседес». Джулия даже свистнула при виде его, а Джош самодовольно ухмыльнулся. — Изящная машина, не правда ли? Она села на обтянутое кожей сиденье и вздохнула. — Какие мы стали важные! Автомашины, собственные дома, собственный бизнес. Джош негодующе взглянул на нее. — Не ставь мою машину в один ряд со всеми этими штуками. Это все равно что реактивный самолет. Вот увидишь. Они выбрались из сутолоки уличного движения в районе аэропорта. Длинный белый нос автомобиля вырвался на автостраду, и Джош прибавил скорости. Они обогнали грузовик, затем другой и с ревом промчались мимо целой шеренги «седанов». Джулия почувствовала, как ее прижало к спинке сиденья. Ветер, проникавший через щель приспущенного окна, бил по лицу словно иголками, сгоняя улыбку и выдавливая слезы. Волосы падали на лицо, и она подняла руку, чтобы отбросить их назад, закрутив в узел. Джош тоже улыбался. Ветер развевал его волосы, а глаза прищурились, пристально следя за дорогой. Джулия вспомнила, что вот так же он выглядел, когда на лыжах летел с гор. Отрешенный и ликующий. Они поехали еще быстрей. Рев мотора заглушал все остальные звуки вселенной, а виды за окном сливались в сплошное расплывчатое пятно. Внезапно Джулия подумала: «Он как мальчишка, хвастающий своей машиной перед девчонкой. Если бы мы оказались в самолете, он стал бы выписывать мертвые петли. Разве уже один раз он не делал этого?» Это воспоминание тронуло ее до глубины души, и ей захотелось смеяться, но все это настораживало. Она загнала свои чувства внутрь, чтобы потом, на досуге, обо всем подумать. Наконец тронула его за руку. — Джош! Извини! — закричала она. — Прости меня за то, что сравнивала твою машину с прочим хламом средневековья. Она мчится быстрее реактивного самолета, и в ней страшнее, чем на горных лыжах. А теперь ты, может быть, сбросишь эту дьявольскую скорость? Она взглянула на спидометр. Стрелка стояла на одном уровне, где-то за отметкой 100. Джош снял ногу с педали, и красный указатель послушно пополз в обратную сторону. — Ты очутилась в средневековье, моя бедная Джулия? — Похоже на то, — сухо сказала она. — В таком случае, я прощаю тебе все. Когда скорость упала до шестидесяти миль в час, Джулия смогла оглядеться. Они находились за городом, где был необыкновенно чистый, сверкающий, прозрачный воздух. В промежутках между рекламными щитами, расположенными в ряд над автострадой, замелькали горы. Даже сейчас, в середине лета, казалось, что их вершины покрыты снегом. — Это Скалистые горы? — спросила она. Насвистывая, Джош кивнул, лениво скрестив руки на рулевом колесе. — Куда мы едем? В Вэйл? Все эти годы, и летом и зимой, она почему-то представляла его на лыжне в сверкающем снегу какого-нибудь огромного горного ущелья. — Нет. Я стараюсь держаться подальше от него, хотя бы часть лета. У меня здесь неподалеку есть одно местечко, хотя я нечасто им пользуюсь. Как ты узнала мой номер телефона? — Я его не знала. Этот номер мне дали в отделе информации, только и всего. Он опять взглянул на нее, на этот раз открытым задумчивым взглядом. — В таком случае, это, должно быть, судьба, — тихо сказал он. И Джулия почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось. Этот летчик неизменно вызывал у нее желание. Не прилагая никаких усилий, он обезоруживал ее, и она была бессильна бороться с этим. «Но я приехала сюда не защищаться от него, — подумала Джулия. — Я приехала, чтобы удовлетворить свой каприз, потому что хотела Джоша. Потому что я достаточно взрослая, чтобы понимать, что если чего-то хочешь, нужно определить, насколько сильно ты этого хочешь, а затем устремиться к своей цели. Разумеется, мы оба знаем, почему я здесь. После столь долгой разлуки нам незачем притворяться». Она чувствовала, как вспыхнуло и запылало краской ее лицо, и стала пристально смотреть на зеленые, голубые и серые горные ущелья. Они свернули с автострады и поехали по более узкой дороге, минуя разбросанные тут и там мотели и вагончики-рестораны, соединенные черными линиями телеграфных проводов, что напоминало фартуки с тесемками. Они медленно поднимались вверх. Миновали маленький городок и заправочную станцию, возле которой стояли два грузовика. Повыше вдоль дороги стояло несколько построек. Они миновали фургоны фермеров и грузовики с лесоматериалами, и водитель одного из них поднял руку и помахал Джошу. — Почти приехали, — сказал Джош. Они опять свернули с дороги на изрезанный проселочный путь. По бокам его росли деревья, тяжелым зеленым пологом сходившиеся над головой. Джош сбавил скорость, и теперь они продвигались очень медленно, время от времени ударяясь о травянистые склоны горы. Позади них отражалось эхо двигателя, и еще Джулия слышала пение птиц и плеск воды. Джош крутнул руль, и автомобиль почти врезался носом в грубо сколоченные деревянные ворота. Он проехал еще немного, а затем остановился. Прямо перед собой Джулия увидела стену бревенчатой хижины. Джош обошел машину, открыл дверцу и помог ей выйти. Она стояла среди зеленого уединения, потягиваясь и потряхивая затекшими после длительной езды ногами. Джош взял ее руки в свои. — Вот мы и приехали, — нежно сказал он. Обнявшись, они пошли по крутой тропинке. Низкая темная стена хижины казалась мрачной на фоне яркой зелени. Каблук Джулии попал в ямку, и она споткнулась. — Туфли для города, — пояснила она. — И девушка для города, — поддразнивая ее, сказал Джош. Они подошли к стене хижины и обогнули ее; Джош пошел впереди, указывая дорогу. Джулия тяжело дышала после крутого подъема. По пути Джош отводил в сторону ветки, чтобы они не зацепились за одежду Джулии. Затем они завернули за угол. Джулия посмотрела вверх, и у нее перехватило дыхание. Летний домик Джоша был построен на маленьком плато у самой горы. С двух его сторон, сзади и над ним, росли деревья. Но перед хижиной была расчищенная площадка, с которой открывались великолепные виды прямо у них под ногами. Джулия подошла к краю расчищенной площадки и посмотрела вниз на сплошной шатер из крон деревьев, падавших серебряных нитей водопада, на желто-зеленые пятна лужаек, убегающих за отдаленный пригорок маленького городка. Краски были другими, а воздух свежее и резче, но чувства, разбуженные воспоминаниями, были все те же. Все это напоминало Монтебелле, и она уже повернулась к Джошу, чтобы сказать об этом, как вдруг ощутила его теплое дыхание на своей шее. — Я знаю, — сказал он, словно читая ее мысли. — Мне это напоминает то же самое. — Не хватает только той старухи в черном платье и привязанного козла, — задумчиво сказала Джулия. — А также надтреснутых колоколов, отзванивающих каждый час. Джош тронул ее за руку. — Входи, — сказал он. Джулия последовала за ним. Под покатой, покрытой кровельной дранкой крышей было крыльцо, открытое на три стороны. На нем стояло плетеное кресло. Джош вынужден был нагнуться, чтобы пройти под низкой притолокой двери. Внутренняя часть хижины была разделена на две комнаты. В большей по размеру комнате стояли стол и пара прямых стульев, два кресла, несколько полок и печка, отапливаемая дровами. Через открытую дверь сбоку Джулия увидела кровать с откинутым одеялом и кое-что из одежды Джоша, аккуратно сложенной на стуле. В углу стояли две рыболовные удочки и охотничье ружье. На полках было множество книг в бумажных обложках, радиоприемник и телефон, довольно нелепый даже здесь, тяжелый, черный и старомодный. Больше почти ничего не было. Никакого намека на ценные приобретения — ни картин, ни фотографий или сувениров, ничего такого, что украшало бы стены. Джулия вспомнила свой маленький дом на канале. Он был полон предметов, связанных с какими-то дорогими воспоминаниями, или приобретений, служащих целям удовольствия, что все вместе создавало атмосферу столь необходимой стабильности. Но у Джоша ничего этого не было. Его хижина, прилепившаяся к склону горы, была такой же, как тот коттедж в уголке Кентских лесов, обезличенное место, где можно просто переспать, а затем уйти, не оглядываясь. — Это все, что здесь есть? — спросила она и тут же смутилась. — То есть, я не имела в виду конкретно… Он широко улыбнулся. — В задней части дома есть кухня и очень удобная ванная, если ты не слишком привередлива. Вода из колодца, а он пересыхает только во время засухи. Есть и электричество, газовый баллон для приготовления пищи и, как тебе уже известно, телефон. Что еще нужно человеку? — Чем же ты здесь занимаешься, Джош? — Ловлю рыбу, немного охочусь, выслеживаю дичь, пью пиво. Вот, пожалуй, и все. Джулия тщетно пыталась представить себя в подобной самоизоляции. — И ты не чувствуешь себя одиноким? Он рассмеялся. — Ты всегда любила находиться среди людей. «Чтобы уходить от себя самой», — подумала Джулия. — Нет, я не одинок. Мой ближайший сосед живет всего в четверти мили вверх по дороге. А в этих местах полно отдыхающих, жаждущих избавиться друг от друга и найти уединение. Если у меня возникает необходимость в обществе, я могу поехать на Медовый ручей, посидеть в баре и поболтать о бейсболе. Медовым ручьем назывался, вероятно, тот маленький городок с грузовиками и открытыми навесами. Представляя все это и Джоша, сидящего в баре с фермерами и лесорубами, Джулия прошла через комнату. Она погрузила носок своей городской туфли в пепел, скопившийся у походной печки. — А как выглядит твой постоянный дом? — спросила она. — В Вэйле? — О, это вполне современная квартира. Если ты имеешь в виду, есть ли там картины на стенах и украшения на обшивке, то нет, там этого нет. Она опять подошла к нему и прикоснулась пальцами. — Неужели тебе никогда не хотелось осесть, пустить где-нибудь свои корни? Джош внимательно посмотрел на нее. Она подумала, что впервые видит его лицо, не прикрытое добродушным юмором или непроизвольным желанием очаровывать. Ей пришла в голову мысль, что она никогда не знала настоящего Джоша. — Я так долго уклонялся от всего этого, — сказал он, — что теперь вряд ли имею представление, с чего начать. — Ты совсем один? — повторила она свой вопрос. На этот раз он подумал, прежде чем ответить, а затем спокойно сказал: — Не всегда. И даже не большую часть времени. — Он, помолчав, добавил: — Я обрадовался, когда ты позвонила. — Прикоснувшись указательным пальцем к кончику ее носа, он опять стал прежним, подтрунивающим Джошем. — Но я что-то плохо тебя принимаю. Моя хижина не столь примитивна, как ты думаешь. Правда, здесь нет английского чая или тостов с анчоусами… — Не думаешь ли ты, что я провожу всю свою жизнь, сидя на холмистых лужайках, потягивая высокосортные чаи и грызя тосты? — Здесь есть холодное пиво и кофе. Чему отдашь предпочтение? Он уклонился от взятого ею тона, и она не стала продолжать. Для Джоша и такая доза откровенности была необычна. — Я бы предпочла пиво. — Давай устроимся на крыльце. Он принес из кухни две банки охлажденного пива и усадил Джулию в кресло. Себе он притащил один из стульев с прямой спинкой и сел, задрав ноги на перила. Солнечный свет угасал, переходя из голубого в сизо-серый, и шум водопада где-то внизу, казалось, стал громче отдаваться в неподвижной вечерней тишине. Джулия смотрела, как сгущаются сумерки, и вздыхала от удовольствия. — Кажется, что находишься далеко от Нью-Йорка. Джош не сводил глаз с ее лица. — Расскажи мне об этом. Расскажи обо всем, чем ты занимаешься. И о крошке Лили. И о Мэтти. Я видел один из ее фильмов. Девушка, с которой я был тогда, не поверила, когда я сказал, что знаком с ней. Джулия сделала большой глоток. — За это время произошло много всего, — сказала она. — Хотя, с другой стороны, вряд ли что-нибудь изменилось вообще. И вот в этих сумерках, когда казалось, будто темнота выползает из-под густых ветвей деревьев, она рассказала ему о Лили и Александре, о Леди-Хилле, о Мэтти и Крис, о «Чесноке и сапфирах» и Томасе Три, а также о доме у Регентс-канала. Джош слушал и кивал, а когда они допили пиво, он принес с кухни еще две банки. Небо над ними утратило последний розовато-серый отсвет, и Джош зажег лампу, стоявшую на окне хижины. Свет от нее падал на старые доски у них под ногами, и большие бледные мотыльки налетели откуда-то из темноты и стали биться о стекло. — Сколько прошло времени, — сказала под конец Джулия. Джош встал. Он перешел к перилам за ее спиной, при этом старые доски заскрипели у него под ногами. Склонившись над ней, он поцеловал Джулию в макушку. — А что теперь? — спросил он. — Не знаю, — тихо ответила она, но про себя подумала: «Теперь-то я знаю». Ей хотелось уехать домой, к Лили и Александру. Мысль о них, находящихся вместе в Леди-Хилле, пронзила ее острой болью. И даже мысль о самом Александре приобрела теперь особое значение. Казалось, она вызревала в ее сознании, требуя все большего внимания, хотя из чувства суеверия она старалась не задерживаться на ней. Эта мысль засела у нее в голове еще в Нью-Йорке, и незримое присутствие Александра ощущалось все больше теперь, когда рядом с ней на перилах крыльца сидел Джош. Она мечтала приехать сюда, опять увидеть Джоша, но с особо обостренным чувством размышляла над тем, сможет ли избавиться от необходимости связывать свободные концы. Выстроить свою линию, освободить себя. Так, чтобы она смогла опять встретиться с Александром. Она не надеялась, что он скажет или сделает что-нибудь такое, что отличалось бы от его обычных поступков. Она уже достаточно хорошо знала его мягкую, сухую, истинно английскую манеру поведения. Но неожиданно поняла, что наконец-то готова поехать в Леди-Хилл, не испытывая чувства страха и застарелого ужаса. Ей хотелось бы навестить их, увидеть вместе. Лили и Александра, счастливых, в этом старинном доме. Но она не сумела признаться Джошу в том, что теперь уже не смогла бы сказать Александру, что ездила искать своего книжного героя. «Все это отговорки, — внезапно подумала Джулия. — Я устала от них. Я хочу, чтобы все было просто». Она повернулась, чтобы взглянуть в лицо Джошу в желтом свете лампы. Джош был здесь, с ней. Это был все тот же летчик, и она чувствовала силу былого влечения. Оно так долго преследовало ее словно тень, но сейчас она обладала властью, могла устранить эту тень, засунуть ее в ящик стола вместе с заплесневелыми реликвиями далекого прошлого, чтобы потом вытаскивать их оттуда и пересматривать на досуге ради удовольствия. Осознание этой силы пробудило в ней эротическое возбуждение. Она потянулась к нему и прижалась ртом к его губам. На какое-то мгновение она замерла, а затем опять откинулась назад. Для каждого из них это было дополнительным удовольствием, как будто забавляться моментом, прежде чем желание полностью захватит их. Теперь они были достаточно зрелыми, чтобы откладывать подобные вещи и усиливать удовольствие. А когда-то они упали в объятия друг друга, неспособные сдерживать страсть. — Ты помнишь «Лебединый отель»? — весело спросила Джулия. — И пансионат «Флора». И эту синьору в соседней комнате, которая, должно быть, все слышала. — Он прикоснулся пальцами к ее щеке. — Давай я приготовлю тебе обед. Откладывание, игра воображения, воспоминания — все это тонкие ухищрения зрелости. — Да, пожалуйста, — сказала Джулия. В пустой кухне Джош приготовил еду, а Джулия смотрела на него, облокотясь о косяк двери и потягивая из стакана красное вино, которое он ей налил. Он умело, без суеты и лишних движений, двигался в этом ограниченном пространстве, и Джулии нравилось смотреть на движения его рук и повороты загорелой шеи. Они сели за маленький столик друг против друга, беседуя, откинувшись на спинки поскрипывающих стульев. Снаружи, из темноты налетела мошкара и теперь билась о стекла окон. Пообедав, они отнесли тарелки на кухню. Джулия мыла посуду, а Джош ее вытирал и аккуратно ставил на место. Она вспомнила, как эта домовитость больно ранила ее в пустом белом домике в Лондоне, и теперь она с удивлением обнаружила, что эта боль исчезла. Она поняла, что сети страсти и желаний, которыми она себя опутала, упали и она стала свободна. Джулия была рада встрече с Джошем. Она испытывала и то волнение, какое испытывает молоденькая девушка, и удовольствие зрелой женщины от их близости, но большего она не ждала и не хотела. Больше этого быть не могло. Она чувствовала то же, что, должно быть, и Джош в Венгене, Монтебелле и впоследствии. И все это время она боролась против его равнодушия к будущему так же безнадежно, как и эти большие бледные мотыльки бьются об оконное стекло. Теперь, думала Джулия, не то чтобы она сама стала равнодушной к будущему, но просто поняла, что ждет от него чего-то другого. Наконец она прозрела в своей слепоте, и простота этого прозрения на какое-то мгновение ослепила ее. И чувство радости, последовавшее за этим, сделало ее удовольствие еще полнее от осознания своей свободы и силы. Джош неотрывно смотрел на нее. Он взял ее за руку, переплетая свои пальцы с ее, и поцеловал нежную кожу запястья. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я тоже люблю тебя, — ответила она и впервые подумала, что начинает понимать, что любовь бывает разной: и тонкой, и безграничной, и изменчивой. Они вышли на крыльцо, и мошкара тотчас закружилась у них над головой, стремясь к желтым пятнам света. Темнота была такой плотной, что Джулии казалось, будто ее можно потрогать рукой; она обволакивала ее прохладной, поднимающейся от земли пеленой, растревожив какие-то невообразимые существа, зашевелившиеся под невидимыми деревьями. Прислушиваясь к этим звукам, она вздрогнула от вечерней прохлады. Джош резко обернулся и обнял ее за плечи. Сквозь ткань одежды они ощущали тепло своих тел. Спальня в хижине была так мала, что там едва хватало места для кровати, одного стула, на который Джош складывал свою одежду, и шаткого комодика с выдвижными ящиками. В нетерпеливом пылу вспыхнувшего желания Джош то и дело натыкался на комод и нечаянно толкнул стоявшую на нем лампу. Свет погас, оставив их в совершенной темноте. Джош выругался, но Джулия прижала ладонь в его губам. — Оставь. Мне нравится эта темнота. Он протянул к ней руки и нежно прикоснулся пальцами к шее; поглаживая шелковистую кожу, они скользнули вниз к вырезу блузки. Он расстегнул и снял ее. Белая ткань, тускло сверкнув, упала к их ногам. От нетерпения движения его были неловкими. Он шептал ее имя, и она помогала ему освободиться от своей одежды; едва ощутимые комочки нижнего белья из шелка и кружева падали на пол один за другим. Они опрокинулись на постель, не разнимая тел и возбуждаясь от прикосновений невидимой плоти. Джулия помнила запах и форму тела Джоша так явственно, как будто они были вместе только вчера, а не несколько лет назад, в том грустном маленьком белом домике. Но прежний Джош был властелином над ней, он вынуждал ее идти за ним покорно, не задавая вопросов, и она радостно отдавала ему всю себя. Это было как бы частью их интимного соглашения, которое воспламеняло еще больше. Нынешний Джош был совсем другим, более опытным. С необычной нежностью его руки прикасались к ее бедрам, а кончики пальцев гладили тонкую кожу. Было такое чувство, будто он боялся, что она может не ответить на его ласку. А прежде не было и намека на какое-то сомнение. Не отрывая своего рта от его губ, она прошептала: — Джош, я здесь. Его руки крепче обняли ее. Слово, которое он прошептал в ответ, было только одно: «Останься». Джулия улыбнулась. Она приподнялась, держа его за руку. Едва ощутимыми прикосновениями она целовала его щеки и уголки рта, вьющиеся волосы на груди. Она вытянулась, и их ступни соприкоснулись, губы слились в новом безрассудном желании. Джулия села и одним движением овладела им. Их обоих охватило неописуемое блаженство. На какое-то мгновение она припала к нему и замерла, наслаждаясь обладанием. Она вспомнила другое время — в «Лебедином отеле», под крики и смех на снегу у них под окном, потом в пансионате «Флора», когда она жаждала овладеть им, не понимая, что уже сделала это. Вспоминала Лондон и свою тоску там, и все последующие годы. Руки Джоша схватили ее за талию и торжествующе приподняли, держа на весу, прежде чем он вновь оказался сверху и овладел ею. И тотчас исчезла всякая опытность. Джулия уступила ему, как она делала всегда. Наконец, когда по ней пробежала острая волна наслаждения, а глаза открылись, ничего не видя в темноте, в ее сознании остался только Джош. Она называла его по имени и слышала его ответ, их шепот сменялся криками — интимный голос любви, который она уже забыла. Все закончилось очень быстро. «Нет оснований печалиться», — сказала она себе. Потом они лежали, расслабленные, прижавшись головами, глядя на темный квадрат окна в конце крошечной комнатки. Неизвестные животные на деревьях, казалось, возились громче и ближе. Послышался крик какой-то птицы, возможно, совы, а затем высокий жуткий звук, не похожий ни на лай, ни на визг. — Кто это? — спросила Джулия. Она почувствовала на своей щеке улыбку Джоша. — Олень. А может быть, койот. — А не волки? — Нет, любовь моя. Не волки. — А ты не боишься? — Диких зверей? — Я хотела сказать, тебе не бывает страшно? Он помолчал, раздумывая. — Иногда. Но я уже привык. А чего ты боишься, Джулия? — Я думаю, что боюсь наделать ошибок. — Ей казалось, что она наделала их слишком много. Она удивлялась, почему, получив горький урок, она не избавилась от последующих ошибок. Если бы у нее осталась хоть какая-нибудь возможность, она бы поставила все на свои места. «Александр, — думала она. — Лили. Если бы только я смогла приехать домой. Просто чтобы повидать вас там, в Леди-Хилле». Джош положил ее голову поудобнее и натянул ей на плечи одеяло. — Ты в безопасности в моей хижине в лесу, — сказал он. — В большей безопасности, чем в Лондоне или Нью-Йорке. — Я знаю, — ответила Джулия, радостно закрывая глаза. — Я не боюсь волков. Ожидая, пока сон смежит ей глаза, она прислушивалась к шуму деревьев за бревенчатыми стенами. Между этими местами не было никакого сходства и их разделяли тысячи миль, но завывание ветра и царапанье веток, неожиданные таинственные крики зверей напоминали ей Леди-Хилл. Да, она боялась жить в Леди-Хилле. Даже до того, как случился пожар. Она вновь представила себя хозяйкой поместья, занимающейся перестановкой мебели и убранством дома к тому фантастическому Рождеству, но в действительности этот дом одолел ее. Она была слишком молода, слишком глупа и слишком нетерпелива для такой роли. — Теперь я не боюсь, — повторила она.
Джулия пробыла с Джошем в его лесной хижине три дня. В универсальном магазине Медового ручья она купила джинсы «Левис» и пару ботинок, чтобы удобнее было прогуливаться в горах. — Для того, чтобы карабкаться по склонам, — сказала Джулия, следуя за Джошем вверх по крутым лесным тропинкам и с трудом переводя дыхание, — я уже слишком стара. Джош протянул ей руку. — Я бы этого не сказал. Невзирая на свои чисто городские привычки, Джулия наслаждалась уединением и абсолютным бездельем. Она никогда не проводила так много времени на открытом воздухе. Ее лицо и руки покрылись легким золотистым загаром. Она связывала волосы сзади лентой в пучок и носила джинсы и потертые рубашки Джоша. — Ты выглядишь на неполных семнадцать, — сказал он. — Надеюсь, что нет, — спокойно возразила Джулия. По вечерам, когда солнце клонилось к закату, Джош уходил на рыбалку. Ручьи и водопады, низвергавшиеся с гор, сливались в широкое озеро с зеркальной поверхностью. Джулия сидела на берегу рядом с Джошем, наблюдая за водной рябью, которая медленно расходилась кругами вокруг поплавка. Ее удивляла способность Джоша погружаться в свои мысли и подолгу сидеть в полной неподвижности. В ее представлении тот Джош, которого она знала на протяжении ряда лет, был всегда непоседой. Она помнила его во время гонок в Инферно, когда, проносясь мимо, он резко поворачивался лицом к зрителям, и того Джоша, который сидел за рычагами управления в «Остер Аутокрет», летящем над аккуратно нарезанными зелеными и коричневыми лоскутами английских полей. Но она не помнила, чтобы он когда-нибудь был таким, как сейчас. Он всегда был подобен сжатой пружине; и она влюбилась в него именно благодаря этой неиссякаемой энергии. Ей по-прежнему нравилась эта его черта, но сейчас у нее было такое чувство, как будто чистота горного воздуха дала ей возможность увидеть то, что она в нем раньше проглядела. Сидя у мерцающей поверхности воды, положив подбородок на подтянутые колени, Джулия пыталась распутать этот клубок противоречий. Но он был запутан так давно, что распутать его казалось нелегкой задачей, однако она заставляла себя делать это, методично вытягивая нить за нитью. Разумеется, она любила Джоша. Любила его всегда, с самого начала, с первой ночи. Она влюбилась под действием его натиска и невероятной силы, но она хотела этого. В тот день Бетти приехала в квартиру на площади. Джулия и сейчас как будто видела ее руки, нервно теребящие ручки старой дамской сумочки, и коричневую фетровую шляпку, плотно натянутую на бесцветные волосы. «Маленькая потаскушка», — были ее первые слова. Джулия вздернула подбородок и сделала вид, что не обратила на это внимания. Притворилась даже, что ей все нипочем. И в тот же вечер она убежала, захватив пять фунтов Джесси, чтобы пообедать со своими дружками. И там был Джош. Она перенесла всю свою любовь на светловолосого американского летчика. Он купил ей бутылку розового шампанского, сводил в ночной клуб и был очень добр с ней. Он всегда был добр с ней, в его собственном понимании доброты. Она повернула голову, чтобы взглянуть на Джоша. Он неподвижно следил за поплавком, время от времени бросая быстрый взгляд на темнеющую линию горизонта. Его лицо было наполовину скрыто козырьком кепки, но она все равно знала каждую черточку. За пятнадцать лет они немного заострились, но только и всего. Джулия вздохнула, вспоминая себя в шестнадцать лет. Она влюбилась в него в течение часа и заставила его нести бремя своей любви все эти годы, так как чувство оказалось слишком большим и пустило слишком глубокие корни, чтобы его можно было вырвать из сердца. Она опять отвернулась и уставилась на воду. Она чувствовала себя виноватой из-за ответственности, которую навязала ему. Джош не мог нести ответственности. Он без конца говорил ей об этом, но она как будто не слышала. Джулия вспомнила то, несколько неприятное, чувство узнавания, которое испытала, мчась с ним на «мерседесе» по направлению к Медовому ручью. Джош был все тот же мальчишка, хвастающий перед своей девчонкой новым автомобилем. Он всегда и во всем был таким. Невзрослеющим юнцом. Как сказал о нем Александр: «Герой твоего романа из серии комиксов». Джош был классическим героем для шестнадцатилетних девочек. Неудивительно, что она полюбила его тогда; беда была в том, что она превратила свою любовь в некий фетиш. Но теперь ей уже был тридцать один год, в таком возрасте не ищут героев. Джулия распутывала свой клубок, из которого вырисовывался, к сожалению, далеко не симпатичный ее собственный образ. Она цеплялась за романтический идеал свой любви к Джошу с пылом школьницы и верила, что это чувство будет длиться вечно, чего бы ей это ни стоило. Она позволила ему сделать себя несчастной, упиваясь собственной страстью. И теперь она поняла, что это стоило ей замужества. И не из-за этого ли она потеряла Лили? Джулия крепче обхватила колени, стараясь сдержаться. Она не могла вскочить и побежать в Леди-Хилл, все еще не могла. Запутанный клубок еще не был окончательно распутан так, чтобы он не запутался вновь. Разница была в том, что Александр всегда был взрослым. И он не был никаким героем, просто был самим собой, за исключением тех случаев, когда необходимо было проявить героизм. Во время пожара он бросился назад в дом, в огонь и дым. При этом воспоминании она закрыла глаза. Когда она их опять открыла, уже померк последний луч света. Зеркальная поверхность озера стала похожа на лист холодного черного стекла. Неужели ей потребовалось столько времени, чтобы повзрослеть? Эта мысль вызывала чувство стыда, но в то же время и ободряла ее. Ей необходима была борьба ради собственной независимости и успеха «Чеснока и сапфиров». Прежняя неугомонность прошла. Только вот от всего этого пострадала Лили. Думая о ней, Джулия улыбнулась. Лили была почти такой же жизнерадостной, как и Джош. Возможно, даже вспышка сексуального влечения, которое овладело ею в Нью-Йорке, была необходима. Она думала, что таким образом избавится от своих мечтаний о Джоше и от напрасных ожиданий — как говаривала умная, острая на язычок Мэтти, — а вместо этого приехала искать его. И случилось так, что именно здесь, в этой хижине под деревьями, она смогла понять, какой дорогой ей следует идти. Если она сможет пойти по ней, проделать весь путь обратно в Леди-Хилл и найти там Александра и Лили, этого будет достаточно. Она не знала, может ли надеяться на что-то большее. Джулия медленно разжала руки. Встала, чувствуя, что у нее одеревенели ноги от долгого сидения, и тронула Джоша за плечо. — Уже темно, — сказала она. Джош, должно быть, погрузился в собственные размышления. Он вздрогнул, а затем сжал ее холодные пальцы. — Пора сматываться. — Он начал быстро скручивать удочку, издававшую при этом громкий тикающий звук. Джош казался сейчас еще более похожим на мальчишку, чем обычно, когда вот так сосредоточенно хмурился над своей работой. «Незачем чувствовать себя виноватой», — предупредила она себя. Механизмы самозащиты Джоша теперь, должно быть, достаточно сильны. Она наклонилась, чтобы помочь ему собрать в сумку разбросанные предметы рыбной ловли. Джош поднял сумку и протянул Джулии руку. Она взяла ее, и они пошли рядом по накатанной дороге туда, где в вечерней дымке белел нос «мерседеса». Даже поздним вечером они предпочитали сидеть на крыльце. Джош положил в сторонку рыболовные снасти и вынес два стакана с джином. Джулия взяла стакан, продолжая смотреть в сгущающуюся под деревьями темноту. Звуки, так напугавшие ее в первую ночь, были теперь ей знакомы. Ей казалось, что она уже давно здесь и стоит на распутье. Путь, который высветился ей у озера, стал еще яснее и манил ее. — Джош, я собираюсь скоро возвратиться домой. Он ответил не сразу. Встал и, опершись о перила крыльца, стал пристально вглядываться в темноту, как будто мог увидеть что-то такое, чего Джулия не могла. Когда он опять повернулся к ней, ей было видно лицо в луче света, падавшем из хижины. — А ты не могла бы остаться еще на какое-то время? — тихо попросил он. Не те ли самые слова сказал он ей в первую ночь по приезде, когда они лежали в объятиях друг друга? — Я имею в виду не здесь, — сказал Джош, указывая рукой на хижину и горы позади нее. — Может, ты поедешь со мной в Вэйл? Ведь тебе нужны менеджеры для твоих магазинов, верно? И Лили могла бы приехать туда. Мы бы научили ее кататься на лыжах, пока она не стала еще слишком старой для чемпио… — Джош, — перебила его Джулия. — О чем ты меня просишь? — Ну… — Еще один неопределенный жест рукой. На сей раз он как бы охватил и хижину, этот голый кров, под которым была пустота. Джулия поняла, что такой же жест он сделал бы и в своей квартире, где, по его словам, нет ни картин на стенах, ни украшений на панелях. — Я говорил тебе, — сказал он, — что если когда-нибудь мне потребуется одна женщина, то ею будешь ты. Джулия чуть не расхохоталась. Ирония была такой очевидной и такой неожиданной. Но на смену ей тут же пришла горечь, и легкий смешок застрял в горле. Она не хотела нарушать уединение Джоша, во всяком случае не теперь, так как знала, что не сможет рассеять его. Интересно, на что он рассчитывал, задавая этот вопрос? Уравновешенный Джош, который предстал перед ее глазами здесь, в горах, не принадлежал ей, не был «ее летчиком». Она поспешила уклониться от вопросов. Пусть это эгоистично. Она почувствовала горечь во рту. — Джош, — повторила она, — я собираюсь вернуться домой. Она встала и, положив руки ему на плечи, заглянула в лицо. — В Лондон? — В Леди-Хилл. Он нехотя кивнул. Джулия ощутила пощипывание в глазах и прищурилась, злясь на себя. — Лили это понравится, — сказал он. — А ты… а ты уже знаешь, что будешь делать, когда вернешься туда? — Нет. Я ничего не знаю. Он поднял руки и ладонями сжал ее лицо. — Спасибо за то, что приехала. — Спасибо, что пригласил. Я рада, что увидела тебя. Он поцеловал уголки ее рта, поцеловал очень нежно, и она положила голову ему на плечо. Она чувствовала неизменную силу привязанности и невозможность что-либо изменить. «Как много потребовалось времени, чтобы все понять», — подумала она. Джош опять поцеловал ее. Она понимала, как и всегда, что страстно желает его. — Пойдем спать, — скомандовал Джош. — Завтра я отвезу тебя в Денвер. — И это снова был прежний Джош. — Я возвращаюсь, — сказала Джулия.
Утром Джулия сняла с крюков на двери спальни свою одежду и уложила в дорожную сумку. Это еще больше подчеркнуло пустоту маленьких комнаток, когда она оглядывала их в последний раз. Джош стоял, наблюдая за ней, с нелепо повисшими руками. Джулия опустилась на колени, чтобы закрыть замки, затем поднялась. Теперь, когда пришло время, она чувствовала себя как бы на распутье, и та ясность, которую она, казалось, обрела, опять покинула ее. «Ничего не понимаю, — подумала она. — Почему я не могу разобраться в своих чувствах через столько лет?» Ей любопытно было бы узнать, не испытывал ли и Джош подобного чувства при их расставании в прошлом, когда она цеплялась за него. Нет, решила она. Наверно, нет. У него был слишком развит инстинкт самосохранения. Она не была так уверена в этом сейчас и опять ощутила иронию круговорота жизни. Она могла бы сделать шаг и взять одну из его безвольно повисших рук, но не сделала этого. Вместо этого ухватилась за ручку чемодана, примеряясь к его весу. Даже это легкое прикосновение будет слишком болезненным, подумала она. Не только для меня и Джоша, но для всех нас. В какой-то момент ее охватила такая грусть, что реальный груз в ее руке показался перышком по сравнению с этим моральным грузом. Джош взглянул на ручные часы. И неожиданно для себя самого сказал: — Если мы хотим успеть на самолет, нужно отправляться немедленно. В прошлом Джош никогда не беспокоился об ее отъездах. Джулия знала, что он заполняет паузу обычными словами, но все же она заметила в нем перемену, которая ей не понравилась. — Я готова, — спокойно сказала она. Он взял у нее из рук сумку и понес в машину. «Мерседес» медленно заскользил по дорожке, и хижина скрылась за деревьями. Джулия даже не оглянулась.Она не хотела думать об этом опустевшем доме. Сосредоточив все внимание на дороге, поворотах и спусках, она смотрела на Медовый ручей, опять показавшийся внизу, пока они не выехали на автостраду. Она думала о расстоянии до Денвера, а потом до Нью-Йорка, и о деревне в низкой зеленой английской местности. И лишь когда они приехали в аэропорт и узнали, что уже идет посадка на нью-йоркский самолет, Джош сказал: — Я рад, что ты приехала. Я уже говорил тебе это. — И неожиданно добавил: — Я не буду просить тебя остаться. Или надеяться, что ты могла бы сделать это. Ведь это не входило в часть нашего контракта, не так ли? — Нет, думаю, что нет, — ответила Джулия. — Надеюсь, я выполнил условия контракта, — Джош улыбнулся, вызвав у нее желание броситься к нему на шею. — Да, — сказала она. — Мы выполнили их, более или менее. «А как насчет других контрактов? — подумала она. — С Александром и Лили? И даже Бетти и Верноном? Эти будет труднее выполнить. Потому что они реальны. То, что я воображала с Джошем, никогда не было реальным. Сплошная иллюзия. И за этим я гналась всю жизнь!» Осознание этого вызвало на ее лице слабую болезненную улыбку. — Пора идти. — Джош взял ее руки и поцеловал загорелые локти, а затем повернул ее к выходу на взлетную полосу. — Приезжай повидаться в Лондон, — сказала Джулия. — Обязательно приеду. Они поцеловались по-приятельски в щеку. — «Контракт дружбы, — подумала Джулия. — Такой же, как у нас с Мэтти. Только такие и оправдывают себя. Возможно, сейчас мы с Джошем пришли к этому. Возможно…» Она пошла от него, роясь в своей сумочке в поисках билета, слыша деловой стук своих высоких каблуков и глядя на сверкающую, уходящую вдаль полосу. Когда она оглянулась, прежде чем завернуть за угол, она увидела плывущую над всеми голову Джоша. Он выглядел так же, как тогда, «У Леони», когда шел через комнату, а она была маленькой полупьяной дрянной девчонкой шестнадцати лет. Джош поднял руку и помахал ей. Джулия завернула за угол, сопровождаемая стуком своих каблуков.
Она прилетела обратно в Нью-Йорк и взяла билет на ближайший рейс в Лондон. Едва оказавшись на борту самолета, она почувствовала, как ее охватило нетерпение. Она наклонялась всем корпусом вперед, как будто это могло заставить самолет лететь быстрее. В Лондон Джулия прилетела серым утром на рассвете. К тому времени, когда она поднялась на пять ступенек собственного дома, солнце уже освещало всю улицу. Лондон приветливо встретил ее; кроны деревьев были такие густые и было так много уютных уголков. Но Джулия едва ли замечала все это. Комнаты в доме выглядели очень привлекательно и были непривычно чистыми и опрятными, но она не остановилась даже полюбоваться этим. Отнесла содержимое чемоданов в свою спальню на втором этаже, намереваясь все аккуратно разложить, но, не успев начать, почувствовала такое нетерпение, что свалила все пакеты в угол. Спустившись вниз и бегло просмотрев почту, которую Мэрилин стопкой сложила на сосновом столе, и не найдя ничего интересного, она опять поднялась наверх и наполнила ванну водой с ароматической пеной. Лежа в воде и глядя сквозь легкий пар на коралловые ветки и раковины, расставленные на полочках у нее над головой, Джулия подумала: «Я не смогу сейчас спать, даже если бы и хотела. Я сейчас же отправлюсь в Леди-Хилл». Она резко села, расплескав на пол воду. Часом позже, с еще мокрыми прядями волос, Джулия выруливала на своем алом «витессе» в поток уличного движения. Она не позвонила. «Это будет сюрприз, — подумала она. — Как обрадуется Лили!» Она давно не ездила в Дорсет, но дорогу вспомнила без всякого труда. Она сознавала, что утомлена, но дорога, казалось, сама разворачивалась перед ней, завораживая своей неизменностью. Когда Лондон остался позади и перед ней по обе стороны раскинулись, сверкая золотом, поля с кое-где торчащими купами деревьев и разбросанными небольшими группами домов, похожих на кукольные после небоскребов Америки, Джулия засмеялась, крепче сжимая рулевое колесо. Чтобы не задремать, она запела отрывки из песенки, которую напевала Лили в подобных поездках: «Лютик Джо». Она сама удивлялась, откуда девочка могла знать подобные песенки? Разве Бетти или Вернон когда-нибудь пели ей? «Я свеж, как маргаритка, которая растет в лугах, и зовут меня лютиком». Помнит ли еще Лили эти слова? Они могут спеть эту песенку Александру. Это рассмешит его. Она уже приближалась к месту назначения. — Мы уже почти дома, — обычно говорил Александр всегда на одном и том же отрезке дороги. Джулия вспомнила, как это выражение удовольствия тогда раздражало ее. «Почему я была такой ревнивой?» — удивилась она, потирая глаза от усталости, и зевнула. Оглядываясь вокруг, она, казалось, понимала теперь ту радость, которую испытывал Александр, приближаясь к дому. Этот уголок Англии был необычайно красив. Небольшие холмы и открытые луга, лесистые равнины, где в каждой долине был свой ручеек. Деревни с низенькими коттеджами сонно грелись на солнышке. Как могли головокружительные просторы горных склонов Джоша напоминать ей это? Джулия знала, что до Леди-Хилла оставалось всего две мили. Она только что миновала указатель, который находился возле самой деревни. Впереди появился трактор, и она сбавила скорость. Насколько она помнила, эта дорога была прямой и открытой, упиравшейся прямо в каменные столбы ворот особняка. Джулия нажала на передачу, и автомобиль рванул вперед, чтобы объехать трактор. Дорога была гладкой, она хорошо это помнила. Рев мотора врывался через открытое окошко, и она уловила запах сена, нагруженного на трактор. И в тот же момент перед ней возникла опасность, так не вязавшаяся с мирной сельской картиной и этим запахом сена. Это был большой серый автомобиль, выскочивший из-за откоса дороги, про который она совершенно забыла. Он стремительно летел на нее, словно серебряная пуля. Она знала, что не сможет достаточно резко затормозить, чтобы остаться позади трактора, огромные колеса которого были у нее уже почти над головой. Джулия с силой нажала на зажигание. Машина взвыла, как бы протестуя, но прыгнула вперед. Казалось, трактор приклеился к ней. Она крутанула руль, и автомобиль затрясся под ней, вывернувшись на свою сторону дороги. Серый лимузин промчался мимо в ослепительном блеске фар, оглушительно сигналя. Джулия успела заметить красное разгневанное и испуганное лицо водителя. Он проехал мимо; они разминулись на расстоянии менее ярда. Джулия поехала дальше, вцепившись в руль влажными дрожащими руками; пот струйками стекал по спине. Она старалась расслабиться, но ноги были ватными, а голова такой тяжелой, что она едва держала ее на плечах. Она устала и поэтому ехала беспечно, но ей повезло. Прямо перед ней были каменные ворота Леди-Хилла. Неожиданно она воспрянула духом и поняла ценность жизни, которая чудом сохранилась. Она должна беречь, дорожить ею прямо сейчас, начиная с этого момента. Тень от деревьев, нависавших над аллеей, падала ей на лицо. Она сбавила скорость и выпрямилась, стараясь успокоиться. Повернув за угол, она увидела перед собой дом. В ее голове хранилось множество различных представлений о Леди-Хилле, но ни одно не соответствовало действительности. Казалось, будто она знала, но никогда раньше не осознавала, как он прекрасен. Джулия отвела машину на стоянку и пошла к дому, не сводя с него глаз. Серый камень золотился под лучами солнца, а кирпичи были теплого кораллового оттенка. Теперь она увидела и то крыло, где начался пожар. Черные пятна на нем были вычищены, окна заново освинцованы и мелкие переплеты стекол ярко сверкали на солнце. Никаких следов опустошения не было заметно. Покрывало дыма и страха исчезло. Шаги Джулии гулко отдавались по гравию. Она подошла к мощеному дворику, образованному двумя выступами дома. По серым стенам вились побеги лаванды. Парадная дверь под козырьком в центре Е-образного строения была приветливо открыта. Джулия пыталась угадать, где могли находиться Лили и Александр. На пороге она заколебалась. Она не была здесь с тех пор, как убежала с Лили на руках. Права ли она сейчас, проходя мимо жужжащих в цветах лаванды пчел в загадочную тишину дома? Джулия огляделась. Прямо над ее головой, над дверью находилась каменная плита с высеченным на ней девизом, состоявшим из единственного слова «Бессмертие». Она неуверенно протянула руку, как будто нащупывая путь в темноте. Тяжелая, нагревшаяся на солнце дверь легко повернулась. Джулия вошла в устланный каменными плитами холл. С удивлением огляделась. Стены были побелены под слоновую кость, что делало помещение средоточием света в доме. Солнечные лучи проникали сквозь новые стекла высокого окна лестничной клетки, падая косоугольниками на чистые каменные плиты и дубовые ступени. На стенах было несколько новых картин, пейзажей. Два прекрасных готических кресла стояли друг против друга с противоположной от входной двери стороны. «Значит, Александр сделал это, — подумала она. — Он отделал заново Леди-Хилл, который стал еще красивее, еще совершеннее, чем когда-либо прежде». Джулия сделала несколько шагов вперед, наступая на квадраты света на полу. Всю эту картину совершенства нарушала одна неуместная деталь, один маленький пустяк. У подножия лестницы Джулия наклонилась и подняла его. Это была золотистая сандалета на высоком каблуке. Не из чистого золота, правда. Подделка. Довольно безвкусная работа, подумала Джулия. Но откуда здесь эта вещь? Она тут же нашла ответ. Должно быть, это сандалета Лили, ее маскарадные туфли. На школьных распродажах Лили всегда покупала поношенные комнатные туфли, а затем, шатаясь, бродила по дому, нацепив на себя шифоновые шарфы, широкополую шляпу и бусы. Подняв сандалету за ремешок, Джулия пошла по дому. Скорее всего, Лили и Александр где-нибудь вне дома, греются на солнышке. Сидят в саду, возле белой летней беседки. Задняя дверь была перемещена. В ней теперь было шесть стекол, сквозь которые проникали лучи солнца, освещая когда-то темное помещение садовника с огромной каменной раковиной и висящими на стене садовыми халатами и соломенными шляпами. Джулия увидела их через стеклянный переплет двери. Александр сидел в кресле и читал, а Лили лежала на животе неподалеку от него, делая зарисовки в блокноте. Она старательно выводила что-то, высунув кончик языка. И тут Джулия вспомнила, что Лили перестала играть в переодевания уже несколько лет назад. Возле кресла Александра на траве сидела Мэтти. Вторая золотистая сандалета, так же небрежно сброшенная с ноги, валялась рядом. И пока Джулия смотрела на них, Александр оторвался от книги и положил руку на плечо Мэтти. Его пальцы коснулись скрученного в узел тяжелого пучка волос. В этот момент Джулия все поняла. Она стояла словно скованная льдом, по-прежнему держась за щеколду двери. В следующее мгновение ее растерянный, полный ужаса взгляд привлек их внимание, и уютно устроившееся на траве трио увидело ее. Джулия повернулась и побежала прочь. Не соображая, куда бежит, она стремительно поднималась по лестнице, шаги гулко отдавались под высокими сводами. Она побежала по галерее к большой спальне, которую делила с Александром, когда они только поженились. Александр говорил, что, когда был мальчиком, эта комната служила спальней его родителям. Сейчас она выглядела иначе. Первым, что Джулия увидела, был новый туалетный столик овальной формы, с резным бордюром, обтянутый необыкновенно красивым ситцем. «Это работа Феликса», — машинально подумала она. Верхняя поверхность столика была покрыта толстым стеклом, на котором виднелась рассыпанная пудра. Джулия провела по поверхности рукой и посмотрела на розово-белый налет по краям ладони. Эта рассыпанная пудра подсказала ей то, что она уже поняла и так. Здесь были и другие вещи: еще одна пара сандалет на высоком каблуке, отделанная кружевами комбинация, вывернутая наизнанку и брошенная на стул вместе с одной из хорошо знакомых Джулии рубашек Александра. Но достаточно было одной этой пудры. Джулия обернулась и увидела Мэтти, которая прибежала вслед за ней. Ее щеки покрывал неестественный румянец, а волосы растрепались. Стоя в дверях и видя побледневшее лицо Джулии и ее горящие гневом глаза, Мэтти сказала: — Почему ты не сообщила, что приедешь? Джулию бил озноб. Она чувствовала дрожь, оторопь и слабость от обиды и гнева. — А почему ты ничего не сказала мне? Я считала тебя своим другом, Мэтти. То есть ты была им. — Я и сейчас твой друг. Рука Джулии непроизвольно поднялась, но в следующее мгновение она с удивлением посмотрела на нее, не понимая своего жеста, как будто рука не принадлежала ей. — Нет. Ты мне не друг. Как ты можешь им быть после всего? И тут они обе услышали, что Лили и Александр тоже идут сюда. Мэтти стала поспешно объяснять: — Джулия, я хочу… Но Джулия резко повернулась к ней. — Наплевать, что ты хочешь! Как ты могла это сделать, Мэтт? Здесь. С Александром. После… после всего… — Но это ничего не значит, — слабо возразила Мэтти. — Это чисто по-дружески. — Отразившийся на лице Джулии гнев испугал ее. — Не смей говорить, что это ничего не значит! — взорвалась Джулия. Она услышала голосок Лили: — Мамочка, мамочка, где ты? Куда вы убежали? — Я здесь, — отозвалась Джулия, не отводя пылающего взора от лица Мэтти. — Я здесь, Лили. В следующее мгновение из-за спины Мэтти показалась Лили. Она подросла. Загорелые ноги, отмеченные кое-где царапинами, казались длиннее и тоньше, чем раньше. Джулия почувствовала чудовищный наплыв ревности и разверзшуюся пропасть между ними. Ей захотелось броситься в эту пропасть головой вперед. — Мама, почему ты здесь? У тебя все в порядке? — спрашивала с удивлением Лили. Она ничуть не была встревожена. Джулия сказала: — Кажется, я вас всех удивила, не так ли? Она почувствовала ужасную усталость. Сказалось нервное потрясение во время дороги и унижение здесь, в доме. Она еле передвигала ноги. Лили подбежала и обняла ее. Но Джулии показалось, что это было небрежное, поверхностное приветствие — только чтобы отделаться. — Потрясающий сюрприз! Не правда ли, Мэтти? — Да, дорогая, — сказала Мэтти. Джулия избегала ее взгляда. Они слышали, как по галерее к ним приближается Александр. (обратно)
Глава двадцать первая
В присутствии Лили все старались поддерживать известную степень притворства. Александр протянул Джулии большие теплые руки, в которых полностью спрятались ее маленькие холодные ладони. Она заметила на его лице беспокойство, а также какую-то неуклюжесть и расстройство из-за положения, в котором она его застала. Она никогда раньше не видела Александра таким неловким и знала, что, когда ее гнев и потрясение пройдут, она пожалеет о том, что вызвала в нем это состояние. Она выдернула свои руки и быстро засунула их в карманы. — Удачно ли ты съездила? Вопрос был слишком официальным, и какое-то мгновение она смотрела на него, не понимая смысла. — О да. Очень, очень удачно. Познакомилась со многими людьми, увидела массу интереснейших вещей для магазинов. Они разговаривали как вежливые посторонние люди, с горечью подумала Джулия, только что представленные друг другу на каком-нибудь коктейле. Эта действительность в сравнении с розовыми романтическими мечтами, которые рисовались ей по дороге сюда, когда она мчалась среди залитых солнцем лугов, вызвала у нее желание нырнуть куда-нибудь головой вниз, чтобы спрятать свой стыд и замешательство. Она резко вскинула голову и увидела, что Мэтти собирает в узел и закалывает волосы, выбившиеся из прически; она выпрямилась, не пряча лица, и это после интимной сцены, которую Джулия подсмотрела в саду. «Не прячет лица передо мной». Эта мысль резанула ее словно острым ножом. И Мэтти в качестве гостеприимной хозяйки дома, милостиво принимающей ее в Леди-Хилле! Джулия почувствовала какую-то ребяческую жгучую ненависть к подруге, зная, что для этой ненависти нет оснований, разве что ее разрушенные иллюзии. Она повернулась к Лили, нетерпеливо подпрыгивавшей возле нее. — Мамочка, пойдем в загон, посмотрим Марко Поло. Ты ведь еще его не видела. — Она дергала и трясла мать за руку. — Александр поставил несколько барьеров. Я так рада, что ты наконец все это увидишь! Джулия взглянула на округлое личико, в котором так явственно переплетались черты отца и матери. Лили искренне радовалась. Джулия попыталась улыбнуться, но получилась жалкая гримаса. — Пойдем, пойдем. Я очень хочу увидеть Марко Поло. — Это был повод выйти поскорее из спальни, где находились все эти жалкие свидетельства предательства подруги. Она удивлялась, как Лили не заметила их? Догадывается ли девочка? Может, ей удастся свободнее вздохнуть за пределами этих стен и она сможет распутать клубок ревнивых подозрений, не восстанавливая себя против Мэтти, когда между ними не будет этой позолоченной улики — валявшейся на полу сандалеты. — Пойдем, Лили. Покажи мне своего знаменитого Марко Поло. Они вместе спустились по лестнице и вышли во двор. Лили шла впереди, подпрыгивая и болтая, переполненная впечатлениями лета. «Мы ездили в Веймут… устраивали пикник…» — Джулия слушала вполуха, не рискуя задавать вопросы, которые висели на кончике языка. Когда они подошли к загону, Лили подняла перекладину, подбежала к пони и обняла его за шею. Он фыркнул ей в руку, вынюхивая сахар. Джулия слышала, как Лили сказала ему: — Моя мама приехала. Джулия смотрела, как девочка взобралась на спину лошадки и заставила ее пуститься рысью. Здесь был устроен круг с маленькими барьерами, сделанными из хвороста, и небольшими канавками с загородками, и Марко Поло с Лили на спине методично перескакивал через них. Джулия положила руки на верхнюю перекладину калитки. Лили выглядела такой счастливой! Ее лицо и розовая юбочка выделялись ярким пятном, двигающимся на ровном зеленом фоне. «Какую я сделала глупость, приехав сюда», — подумала Джулия. Она правильно поступала, что не приезжала сюда раньше, все эти годы. Даже ради того, чтобы увидеть, как счастлива Лили. Потому что здесь она испытала жгучую ревность. Она ощущала ее тяжесть внутри себя, распаляемая тем, что увидела сегодня в полдень. И она говорила себе, что единственный выход для нее — уехать как можно скорее. И забрать с собой Лили. Ей нужна была Лили. Она хотела видеть ее счастливой дома, в доме на канале, такой же, как она была здесь, когда скакала рысью в загоне Леди-Хилла. И она не хочет, чтобы Мэтти и Александр были возле девочки. «Она моя, — твердила себе Джулия. — Моя дочь». Лили на своем пони проскакала весь круг и возвратилась к калитке. Она разрумянилась от гордости и удовольствия. Пони фыркал и встряхивал головой, и девочка склонилась к его шее, похлопывая по ней и хваля своего любимца. — Что скажешь, мама? — Скажу, что ты умница. Я не знала, что ты можешь так хорошо брать барьеры. — Я тренировалась. Элизабет и я делали прыжки, каждая делала по три круга, а Александр засекал время… Она соскользнула на землю, перепрыгнула через изгородь, взяла мать под руку, все время болтая и задыхаясь от волнения. «Она все еще дитя, даже сейчас, — подумала Джулия. — Как долго она сможет оставаться такой?» Повернув от дома, она крепче сжала руку Лили. — Давай погуляем. Расскажи мне обо всем. Они пошли по траве. Теперь Джулия слушала внимательно. В излияниях Лили не было никакого намека на то, что Мэтти стала чем-то отличаться от обычной Мэтти. Просто друг, часть семьи. «Мой друг», — Джулия вспомнила, как долго она была другом Джоша. Ладно. Это была ошибка. По крайней мере, они смогли скрыть свои любовные отношения от Лили. Но Мэтти беззаботно оставляла свое белье и пудру в спальне Александра. — Что случилось? — спросила Лили. Джулия посмотрела в ее ясные глаза. — Ничего не случилось. Я целую ночь просидела в самолете и очень устала. Необходимая ложь. Они дошли уже до стены сада, откуда земля полого спускалась к деревне. Джулия остановилась, глядя перед собой. — Что это? Но она и сама могла увидеть, что это такое. Перед ней шла вереница черепичных крыш и отштукатуренных стен. Это были те самые бунгало, с живописными окошками, глядящими на аккуратные садовые заборы, с детскими качелями на одном из огороженных квадратов. Прежде здесь были поля. Смутно Джулия помнила, что Александр называл их «нижними четырьмя акрами». Лили поморщилась. — Ужасные дома, да еще на наших лугах. Я не могу на них смотреть. Папа сказал, что людям нужно где-то жить, а ему и Феликсу нужны были деньги для Леди-Хилла. После пожара, ты знаешь. — Да, знаю. Джулия отвернулась. Итак, Александр продал землю, чтобы оплатить реставрационные работы. Конечно, его вынудили к этому обстоятельства. Образы мрачного прошлого опять завладели ее воображением, нежеланные и неизбежные: Фловер и Сэнди. И бегущий от нее в огонь и дым Александр. — Они портят весь вид, — пожаловалась Лили. — А я бы хотела, чтобы Леди-Хилл никогда не менялся, никогда. «Все мы хотим, чтобы все оставалось прежним, — подумала Джулия с грустью. — И как много требуется времени на то, чтобы понять, что это невозможно. Александр, я все делала неправильно. Я так виновата перед тобой». — Это действительно прелестные домики, — механически сказала Джулия. — И людям надо где-то жить. Если папе потребовались деньги для Леди-Хилла, ему просто повезло, что у него было что-то такое, что можно было продать, верно? — Ты говоришь в точности как он, — фыркнула Лили. Они повернули обратно и пошли к дому. Им уже видны были верхушки высоких труб, выступающих из-за густых крон деревьев. — Почему ты приехала? — неожиданно спросила Лили. — Ведь ты никогда раньше не приезжала? — Я хотела повидать тебя и папу. Здесь, в Леди-Хилле. Вот я и повидала. «Часть взрослой правды», — подумала Джулия, лишь только часть ее можно сказать. — Наверно, лучше было не приезжать, по крайней мере, не в этот раз. Похоже, что я не принадлежу к Леди-Хиллу, как ты. И от этого мне кажется… что лучше уехать. Они помолчали. — А Мэтти чувствует себя здесь нормально, — сказала Лили после минутного раздумья. Джулия ответила: — Мэтти всего лишь гостья. Она не является членом семьи. Лили кивнула. — Как и Феликс, когда приезжает? — Думаю, что да. — Джулия глубоко вздохнула. — Лили, утром я возвращаюсь в Лондон. Я бы хотела взять тебя с собой. Последовал длительный протестующий вопль. — Но ведь остается еще целая неделя! Я не могу сейчас ехать. Я хочу взять Марко на представление в Миддлхэм… Всю обратную дорогу к дому Джулия в мрачном молчании слушала протесты и увещевания Лили. Когда они проходили через сад, Джулия увидела на некотором расстоянии Мэтти, очевидно поглощенную рассматриванием цветочного бордюра. Она подивилась тому, как быстро они с Александром нашли общий язык. Подойдя к парадной двери, Джулия сказала: — Все равно, Лили, я хочу, чтобы ты была готова завтра ехать. Важно было поскорее убраться отсюда. Александр сидел в столовой, положив руки на подлокотники кресла. Он выглядел расстроенным. Джулия хотела подойти и тронуть его за плечо, но не находила в себе сил сдвинуться с места. Лили пробежала мимо нее. — Мама говорит, что я должна ехать с ней утром. Но ведь это не обязательно, правда? Я сказала ей, что не хочу. — Если мама говорит, что нужно ехать, значит, нужно ехать, — сказал Александр. Лили никогда не спорила с ним. Она повернулась и стремглав выбежала из комнаты. Они прислушивались к ее громким шагам на лестнице, и их глаза встретились. Когда дверь наверху с грохотом захлопнулась, Александр встал, подошел к столику, где стоял поднос с напитками, и взял бутылку с виски, вопросительно взглянув на Джулию. Она слабо кивнула. — Спасибо. Они сели лицом друг к другу, держа в руках по стакану, машинально заняв те места, на которых всегда сидели раньше. Джулия выпила полстакана, а потом откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза. — Мне не следовало приезжать без предупреждения. Извини меня, Александр. — Нет никаких оснований говорить об этом. Если тебе захотелось приехать, то можешь об этом не сообщать. Просто было бы легче, если бы нам всем не надо было притворяться, что ничего не случилось. Между прочим, ничего и не случилось, что касается Лили. — Я это поняла. Спасибо тебе. — Джулия! Ничего не было спланировано заранее, понимаешь? Мэтти приехала погостить с Феликсом… Джулия перебила его: — Я не хочу слышать об этом. Не надо мне ничего рассказывать. Она скорее почувствовала, чем услышала движение, которое он сделал, наклоняясь вперед, чтобы лучше видеть ее. Было так удобно сидеть с закрытыми глазами, как бы прикрывшись темной вуалью. — Мэтти скажет тебе то же самое. — Тем более я ничего не хотела слышать от Мэтти. Она слышала, как он вздохнул. — Ты сама себя терзаешь. Неужели ты не научилась быть добрее к себе? — Я не знаю, как это делается, — холодно сказала Джулия. А затем, помолчав, добавила: — Ты любишь ее? Казалось, чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось время. — Не так, как ты думаешь. — А она любит тебя? Он ответил гораздо быстрее, чем в первый раз: — Нет. Я уверен, что нет. Джулия открыла глаза. Комната вся золотилась от закатного солнца, которое вливалось в нее сквозь окна, как сироп. Она отличалась от прежней, после того как здесь похозяйничал Феликс, но все же это была та комната, где в нимбе свечей сияла ее рождественская елка. — Так это была случайная связь? Александр холодно ответил: — Ты знаешь, что это не так. «Да, она знала, но ей было стыдно и она не хотела, чтобы он видел это. Ей вдруг показалось, что следует скрыть сам факт того, что ей больно. Только бы сохранить чувство достоинства, — подумала она, — хотя бы до тех пор, пока не вырвусь отсюда. А потом, когда они не смогут видеть меня, я дам волю своим чувствам». Она допила виски. — Я ничего не знаю, — сказала она, и ее поразило то, что это была правда. — Могу я здесь переночевать, Александр? Я только сегодня утром прилетела из Нью-Йорка. Я не в состоянии буду ехать назад сегодня. Мы с Лили уедем завтра на заре. — Разумеется. Как тебе будет угодно. Но разве Лили не могла бы остаться до конца каникул? — Да, — сказала тихо Джулия. Она осторожно поставила стакан и встала, с раздражением ощутив боль усталости в руках и ногах. — Наверно, я пойду и… — Что бы такое сделать, чтобы заполнить время и тем умерить боль?.. — приму ванну, чтобы снять усталость. У меня был длинный-длинный день… — Здесь три ванные комнаты, — сказал Александр. — И в каждой есть своя особенность, заслуга Феликса. Они улыбнулись друг другу, на миг забыв неприятности. — Как и весь дом. Он очень красив, — сказала Джулия. — Должно быть, ты гордишься им. — Меньше, чем я думал. — Он сказал это так спокойно, что она удивилась и подумала, уж не ослышалась ли. Джулия подошла к двери, а затем опять вернулась назад. Ее толкал какой-то импульс, вынуждая сказать Александру правду, чтобы она, по крайней мере, могла взять хоть этот маленький реванш. — Когда я была в Америке, я виделась с Джошем Фладом. Он кивнул. — Я так и предполагал. В голосе Александра не было насмешки. Он никогда не сказал бы «просто случайная связь». Он знал ее гораздо лучше, чем она думала. — Обычно мы обедаем приблизительно в полдевятого, — сказал Александр. Вот и все. — Я спущусь вниз вовремя. «Мы» и «обычно», — подумала Джулия, поднимаясь по лестнице. — Значит ли это «Мэтти и я»?» Даже если это и так, напомнила она себе, у нее нет претензий к Александру. Но Мэтти должна была знать, насколько глупо с ее стороны позволить себе на что-то надеяться. Мэтти должна была это понимать благодаря их долгой дружбе. И все же Мэтти либо не поняла этого, либо ей было на все наплевать. И это было предательством. Джулия приготовила ванну, которой совсем не хотела. Она лежала в воде, глядя на голубых нарисованных рыб. Позднее, в полдевятого вечера, когда Лили в очень плохом настроении ушла наверх в свою спальню, трое взрослых остались вместе. Они чинно сидели в столовой, по одну сторону длинного полированного стола. Эта трапеза была жалким продолжением более счастливых дней, которые они провели здесь. Говорила в основном Мэтти. Накануне она подзаправилась изрядной порцией джина и в течение обеда быстро опорожняла один стакан вина за другим. Александр едва успевал его наполнять. Она говорила что попало: и о деревне, и о новой пьесе, которую она разучивает для Чичестера, и об изъеденном молью второсортном магазине в Веймуте, где она нашла почти роскошное манто из персидской ламы и всего за десять фунтов. Александр давал изредка короткие советы, но Джулия ничего не говорила, так как не могла ни о чем думать. Она наблюдала за лицом Мэтти и видела, что оно выглядит тоже жалким, и почти восхищалась ее способностью заполнять паузу на протяжении всего обеда. Но в конце, когда Мэтти выпила слишком много, чтобы продолжать притворяться и поддерживать светскую беседу, она громко стукнула ложкой. — О Господи, неужели мы не можем поговорить начистоту и покончить с этим? — Мэтти… — начал было Александр, но она не обратила на него внимания. — Ну что, Джулия, тебе не понравилось, что, явившись сюда, ты застала нас с Александром вместе? Верно, никому бы такое не понравилось. Это похоже на то, как мы попадались на Блик-роуд, да? Но так уж случилось. Я приехала с Феликсом просто так, прокатиться, и осталась. Мы провели здесь несколько счастливых недель, это факт. Наслаждались зелеными лугами, сверкающими под солнцем, и все такое. — Она отпила еще вина, пролив немного на сверкающую поверхность стола. — И мы с Александром спали вместе. Это было прелестно, если ты об этом хотела спросить. Мне очень нравится Александр. Он один из ничтожного числа порядочных мужчин на всю вселенную. — Я это знаю, — почти неслышно сказала Джулия. — Но ты, черт возьми, не хотела его, разве не так? — Успокойся, Мэтти, — сказал Александр. Мэтти обернулась к нему. Она выбросила руку широким, развязным жестом. Ее запястье было увешано браслетами из поддельного золота, и они предостерегающе звякнули. — Прости, дорогой, что я говорю все это при тебе. Это не по-великосветски и не тянет даже на средний класс, да? Но мы с Джулией не претендуем на это. «Выскочки», вот мы кто. Обтесать нас, так сразу увидишь. Александр потянулся через стол, чтобы взять Мэтти за руку, но она уклонилась. — Итак, Джулия, ты нас «накрыла». Это не слишком приятно, я согласна, но и не так уж и страшно. Как давно вы развелись с Александром, если уточнить? И как давно, предположительно, мы с тобой дружим? Она уставилась на Джулию, как будто ожидала от нее точных ответов на свои вопросы. Джулия с застывшим лицом отрицательно качнула головой, и Мэтти передернула плечами. Она взяла стакан с вином и осушила его, но ее губы скривились, как будто ей стало противно. И вдруг она расхохоталась. — Забавно, эта любовь и дружеский долг, а? Все это такая ерунда! Я была одинока, когда приехала сюда. И ожидала застать Александра тоже в одиночестве, хотя он никогда не говорил об этом определенно. «Мы все одиноки», — подумала Джулия, вспомнив Джоша. Воспоминание и страх одиночества охватили ее, остудив гнев. Мысленно она представила Бетти и Вернона, их одиночество вдвоем в крошечных комнатках на Фэрмайл-роуд. Непрошеное видение как бы предостерегало ее, что, как бы там ни было, всех их — Мэтти, Александра и ее — впереди ждет то же самое: старость. Пыл, как и любовь, будет остывать, пока не исчезнет совсем. Все они будут все больше отдаляться друг от друга. И под конец состарятся. Такая перспектива показалась поистине ужасной. У нее возникло страстное влечение к Александру и ко всему, чем она когда-то владела и от чего по глупости отказалась. Она повернула голову, чтобы еще раз взглянуть на Мэтти, и увидела, что та склонила голову к столу в полном опьянении. Ее экстравагантные серьги и позолоченные браслеты уныло повисли. — А между тем, — продолжала Мэтти, — ты была в Америке. С Джошем Фладом, наверное. Лопнуло терпение? О Боже, такой пустячок, а все тянется и тянется, не так ли? Не хочешь ли ты рассказать нам о последнем приключении? Нет? Ладно, подождем. У нас масса времени. Я уверена, что все это было очень волнующе. Но дело все-таки в том, что ты не можешь вернуться сюда, а устроила весь этот спектакль, потому что твоя лучшая подруга и бывший муж немножко согрели друг другу старые кости. Или ты, может быть, прости, не хочешь выглядеть самовлюбленной сукой? Вот так-то, моя милочка. — Мэтти прислушалась к эху собственных слов, а затем рассмеялась. — Ну, Джулия! Тебе нечего возразить? «То, что сказала Мэтти, было правдой, — размышляла Джулия, — но это не заставит ее сохранить к ней прежнюю симпатию». Важно было не показать им, что это ее задело, и сохранить остатки собственного достоинства до того, как она покинет Леди-Хилл. — Что же ты хочешь услышать, Мэтти? Ты ведь уже все сказала. Джулия встала и оперлась руками на изогнутую спинку стула. — И ты, разумеется, во всем права. Эгоизм хуже предательства, я согласна. — Она резко повернулась к Александру. — Извини, Александр, мы с Лили уедем завтра утром. Он кивнул. Было ясно, что ему была отвратительна эта сцена и то, что он был ее молчаливым свидетелем. Мэтти и в этом была права. Александр принадлежал к среднему классу. Чина никогда бы не допустила подобного скандала. Джулия аккуратно придвинула к столу свой стул, чтобы не нарушить общей гармонии. — Я пойду лягу. Спокойной ночи, Мэтти. А тебе, Александр, спасибо за приют. Когда она дошла до двери, Мэтти протянула руку, чтобы наполнить опять свой стакан. Александр не сделал этого, и она сама взяла бутылку и налила себе, однако, не рассчитав расстояния, опрокинула стакан, и вино разлилось по столу и стало стекать на пол. Александр неподвижно наблюдал за ней. — Черт! — сказала Мэтти. — О черт! Почему я так глупа? Джулия направилась в спальню, которая находилась в дальнем конце галереи, оставив тех двоих внизу. Она разделась и долгое время лежала, глядя в темноту. Позже она слышала, как Александр и Мэтти поднялись наверх, каждый по отдельности. Ее комната была слишком далеко, чтобы можно было определить, куда пошла Мэтти: в спальню Александра или в свою комнату… Утром Джулия вяло собрала вещи Лили и уложила в машину. Лили, вся в слезах, побежала в загон попрощаться со своим пони, и к девяти часам они были готовы к отъезду. Александр вышел попрощаться. Лили спрятала лицо у него на груди, и он обнял ее, уверяя, что будут еще каникулы и что Леди-Хилл сохранится в прежнем виде. — Таких веселых каникул, как эти, у меня больше не будет, — рыдала девочка. — Будут точно такие же, — говорил он, подбадривая ее. Джулия восхищалась линией поведения Александра с Лили. Как подчеркивала сообразительная Мэрилин, Лили, по крайней мере, очень повезло с отцом. Уже сидя с Лили в машине на заднем сиденье, Джулия в последний раз сказала ему: — Извини меня. — Перестань извиняться, — ответил Александр. — Ведь я же не извинился перед тобой, как, впрочем, и Мэтти. Почему же ты это делаешь? Они не прикоснулись друг к другу. Джулия хотела спросить: «Что будет дальше?», но была слишком горда, чтобы задавать вопросы. Машина тронулась с места. Мэтти не появилась вообще. Две или три мили они проехали молча. Лили, нахохлившись, тихо сидела и вдруг неожиданно спросила: — Вы что, поссорились с Мэтти? — Нет, — малодушно солгала Джулия. — Конечно же, нет. Все путешествие в обратную сторону они проделали в мрачном молчании.Мэтти задержалась в Леди-Хилле еще только на один день. Как бы подтверждая, что прекрасные каникулы подошли к концу, внезапно изменилась погода. Огромные плотные тучи обложили небо. Резкий холодный ветер низко пригибал к земле траву, а потом пошел дождь, принесенный откуда-то с востока. Мэтти сняла с вешалки свои легкие платья и уложила в чемодан. Она вернулась в спальню, где провела первые пять дней. Казалось, что это было очень давно. — Не уезжай, — мягко сказал Александр, — если тебе не хочется. Мэтти помолчала, раздумывая. — Мы не можем всегда делать то, что нам хочется, — сказала она. Оставшись одна, она, вздыхая, упаковывала вещи и поглядывала на дождь. Александр отвез ее на станцию. Она не позволила ему выйти на платформу вместе с ней, чтобы дождаться поезда. Они попрощались на парковке, под завывание ветра. — Прости, если я спутала карты вам с Джулией, — сказала она. Александр посмотрел на нее с высоты своего роста, потрогал блестящие завитки ее волос, которые она тщательно заколола и убрала за уши. В теперешней Мэтти уже не было никакой фривольности. — Ты здесь ни при чем. Это случилось давным-давно. — Так ли это? — И добавила: — Что мы все натворили! — Что ты собираешься теперь делать? — Возьмусь за работу, — ответила Мэтти. Перспектива была невоодушевляющей, но она не хотела, чтобы Александр догадался об этом. Он обнял ее и прижал к себе. — Мне было так хорошо все это время, — сказал он, и Мэтти отметила, что ей нравится простота его слов. Нравилось также и то, что он не подавал ей надежды. Не говорил никаких дежурных фраз: «если бы все сложилось иначе…» или «мы еще встретимся…» «Во всем мире найдутся лишь двое или трое мужчин, достойных любви», — вспомнила она. — Мне нужно идти. А то поезд придет раньше, чем я куплю билет. Он еще какое-то мгновение прижимал ее к себе. Они поцеловались, но как-то вяло, без всякого чувства. Затем Мэтти взяла свой чемодан и пошла к билетной кассе. В поезде, затиснутая между отдыхающими, Мэтти долго смотрела в окно на бьющий по стеклу дождь. Она твердила себе: «Я не знала, что Джулия хотела вернуться к нему. Почему я должна была догадываться об этом?» Она также думала: «Джулия всегда была дурой». И устало добавляла: «И почему она сваляла дурака именно в этом, самом важном деле?» В купе ехали трое маленьких детей с родителями. Мэтти смотрела, как самый маленький карабкался к отцу на колени, раздумывая, не улыбнуться ли им и не подружиться ли на время путешествия? Но тут же решила, что для этого у нее слишком мрачно на душе, и ее мысли приняли другое направление: нет ли в поезде бара, а если есть, то когда он начнет работать.
Джулия вернулась к своей работе. В магазине скопилась масса дел, которые ожидали ее вмешательства. Она просматривала бумаги, распаковывала и проверяла все поступившие по контрактам образцы, объехала три остальных магазина, вселив надежду на поступление новых товаров и подняв настроение у служащих. Все было как всегда, но только скучнее. Бизнес шел вяло, как это обычно бывало во время летних отпусков, а осенний наплыв покупателей, высматривающих что-нибудь новенькое в надежде оживить свои спальни или прихожие, еще не начался. Джулия позвонила Феликсу в «Трессидер дизайнз». — Приходи на ланч. — Джордж в больнице. — Я не знала. Что-нибудь серьезное? — Пока нет. Но ему не становится лучше. И я думаю, вряд ли будет улучшение. — Извини, Феликс. Я ничем не могу помочь? — Закажи мне что-нибудь на обед. И подбодри меня. — Я сделаю все, что в моих силах, — пообещала Джулия, но в словах ее было мало обнадеживающего.
Джордж Трессидер был привередливым пациентом. Он лежал в отдельной палате, но брюзжал и жаловался, что это самое отвратительное помещение, какое он когда-либо видел. Стены были покрашены в бирюзовый цвет, а на окнах висели современные голубые с красным занавески из набивного ситца и жалюзи. — Не принести ли мне сюда немного ситца фирмы «Трессидер» и повесить вместо этих? — полушутя спросил Феликс. — Если завязать глаза, сойдут и эти, — ответил Джордж, словно жалкое эхо своего былого остроумия. Феликс улыбнулся. Джордж держался храбро, несмотря на скверное настроение. Мышечный паралич прогрессировал и был уже в такой стадии, что Джордж не мог двигаться без посторонней помощи. Когда ему бывало получше, он сидел в кресле на колесах, прикрыв ноги пледом. Он казался стариком. Осознавая это, он протянул к Феликсу руки. Тот подошел, нагнулся и сжал его пальцы. Цветущее лицо Феликса еще больше подчеркивало серый оттенок кожи Джорджа. — Не нравится мне все это, — сказал Джордж. — Знаю. Феликс взял его голову и прижал к своему плечу. Он смотрел на седую голову Джорджа и заметил плешь, проглядывающую между поредевших прядей волос. Именно после этого визита к Джорджу Феликс и Джулия встретились за ланчем. — Ну как он? — спросила Джулия. — Сказали, что скоро могут отпустить его домой. — Значит, ему лучше? Феликс не смог ответить на этот вопрос. — Я лучше буду присматривать за ним дома. Он не переносит больничной обстановки. Джулия печально посмотрела на него. Она поняла, что случилось. Ей никогда особенно не нравился Джордж Трессидер, но перспектива надвигающейся смерти казалась ужасной, страшной несправедливостью. Она попыталась представить, что это будет значить для Феликса. Он сидел по другую сторону столика, отрешенно глядя в меню, и был таким же привлекательным, как всегда, но в уголках его губ появились тревожные складки, а в черных волосах — первые серебряные нити. — Можно мне навестить его? — спросила Джулия. — Конечно. — Он дал ей подробный адрес, и Джулия записала его в записной книжке, которая теперь всегда присутствовала в ее дамской сумочке. — Это его состарило, — неожиданно сказал Феликс. Он как бы подготавливал ее к тому, что она увидит. — Ведь ему всего лишь шестьдесят два года. А выглядит на десять лет старше. — Бедный Джордж, — сказала Джулия, смущенная тем, что не может сострадать ему всей душой. — Мы были женаты одиннадцать лет. Довольно большой срок. — Я не был верной женой, — улыбнулся Феликс, видя, что они поняли друг друга. — Но вообще-то мы были счастливы. Мы прекрасные партнеры. «Партнерство, — подумала Джулия. — Да, именно так назывался этот странный союз. После нескольких лет, прожитых вместе, после страстного влечения». Она знала, как бывает, когда этого нет, и большая печаль за Феликса охватила ее. — Эй, — Феликс тронул ее заруку. — Ты забыла, что собиралась подбодрить меня? — Он раскрыл меню, чтобы выбрать вино. — Давай закажем вина, — предложил он. — Изрядную порцию вина. — Ты заговорил языком Мэтти. Он бросил на нее пристальный взгляд. — Не хочешь ли поговорить о Мэтти? — А ты уже знаешь об этом? Феликс вспомнил игру Александра на рояле и танец Мэтти. — Догадываюсь. Он ведь хотел тогда предупредить: но было уже поздно. — Нет, — твердо сказала Джулия. — Мы не будем говорить ни о Мэтти, ни об Александре. Не сегодня. — Несмотря на всю боль, эта беда казалась слишком ничтожной по сравнению с той, которая случилась с Феликсом и Джорджем. И они заговорили о «Трессидер дизайнз» и о «Чесноке и сапфирах», об американском рынке живописи и о последних сплетнях в среде декораторов. Выпили две бутылки вина, и на них накатил смех, а когда пришло время уходить, опять стали серьезными. Джулия настаивала на том, чтобы оплатить счет. — Я независимая женщина, — сказала она, размашистым жестом вынимая свою кредитную карточку. — Я достаточно боролась за это, положив массу сил, разве не так, Феликс? — Жаль только, что это дорого тебе обошлось. Джулия не смотрела на него; наклонив голову, она доставала кошелек. — Вероятно, да, — прошептала она. — Возможно, если бы я осталась дома, я бы имела детей и готовила джемы. — Не думаю, чтобы это тебя устроило, — искренне сказал Феликс. — Но ты выглядишь усталой, Джулия. Почему бы тебе не взять отпуск? — Я только что уже имела один. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Торонто, Колорадо. — Я думал, ты ездила по работе. Так оно в основном и было, за исключением встречи с Джошем. А если бы она и задумала взять отпуск, то куда ей ехать и с кем? — Это идея, — сказала она, уклоняясь от ответа. На улице они попрощались. Феликс поцеловал ее, и она на минутку прижалась к нему. — Ты хороший друг, Феликс. — Как и ты. Она посмотрела ему вслед. «Но я не настоящий друг», — подумала она и взглянула на часы. Полчетвертого. Ей давно уже следовало быть на работе. В течение следующих недель она несколько раз мысленно возвращалась к предложению Феликса. Наметанный глаз Джулии никогда не подводил, и с течением времени, управляя магазинами, она стала также и прекрасным администратором. Дела в «Чесноке и сапфирах» шли гладко, времена неуверенности и волнений миновали. Джулия знала, какой товар разойдется быстро, знала, как определять цену на него и как представить в наилучшем виде. Сидя за своим столом, она вспоминала волнение и нервную дрожь первых дней, когда вынуждена была все делать сама, поспешное перекусывание сандвичами во время обеденного перерыва в маленьком чуланчике позади ее первого магазина. Теперь она уже не часто испытывала то волнение, которое охватило ее в Нью-Йорке. Ей пришло в голову, что в каком-то смысле Феликс прав. Возможно, ей не так нужен отпуск сам по себе, сколько перемена обстановки и те перспективы, которые могут случайно открыться перед ней. Она уже давно не занималась управлением магазинами сама. Лили никуда не хотела ехать на каникулы, кроме Леди-Хилла, и Джулия воспользовалась ее отсутствием, чтобы посвятить работе все свое время. «Для чего все это?» — подумала она теперь с внезапной горечью. Она решила, что ей нужно уехать. Взять себе настоящий отпуск. Окончательным стимулом к этому послужит визит к Джорджу Трессидеру. Джулия навестила его в больнице. Принесла охапку роскошных кремовых лилий и большую белую цилиндрическую вазу из своего магазина, чтобы поставить в нее цветы. Джордж был очень тронут и благодарен ей за посещение. Особенно ему понравилась ваза. Джулия поправила букет и поставила вазу на тумбочку возле кровати больного. Он лежал на спине, глядя на цветы. — Ты не представляешь, — сказал он (даже его голос стал тоньше, в нем как бы высохли все живые интонации), — люди приносят великолепные цветы, а няньки засовывают их в зеленые бутылки или в круглые красные горшки. Лучше уж совсем обойтись без цветов, чем видеть их такими. Ты доставила мне огромное удовольствие тем, что принесла подходящий сосуд для цветов. Ведь все упирается в равновесие и пропорцию, не правда ли? Как в большом, так и в малом. Именно поиск необходимого равновесия и делал мою работу столь приятной. В следующий раз, когда она навестила его, он казался гораздо счастливее. Феликс привез его домой, в их старую квартиру на Итон-сквер. Она почувствовала облегчение, видя его уютно устроенным среди любимых ваз и мебели времен регентства, французских мраморных плинтусов и вздымающихся ситцевых воланов. Повсюду были цветы, со вкусом составленные в букеты, чаши с ароматическими эссенциями для освежения воздуха. Джордж сидел в кресле. На нем был один из его безукоризненных приталенных зеленовато-серых костюмов и бледно-розовая рубашка с высоким воротничком. Волосы были пострижены и зачесаны назад, и он выглядел почти как прежде. Он поправляется, подумала Джулия, пока его рука не коснулась ее руки. Она отметила сухую вялость и прозрачность кожи, как бы отставшей от костей. — Дорогая. Вот мы опять собрались вместе, — сказал Джордж. — Это поистине милосердие Божье. Они пили чай втроем. Феликс принес полностью сервированный поднос: серебряный чайник Джорджа, сахарницу и кувшинчик со сливками (хотя все они пили чай с лимоном), серебряные щипчики и маленькую спиртовку для подогревания воды, почти прозрачный фарфор, белый с золотом, и батистовые, отделанные кружевом изящные салфетки. — Прелестно, — пробормотала Джулия, принимая крошечный треугольник сандвича с огурцом. Джордж и Феликс ухаживали друг за другом с какой-то трогательной нежностью. Джулию это тронуло, но она почувствовала себя незваным гостем. Опустив глаза в крошечную тарелку, стоявшую у нее на коленях, она старалась сдержать слезы. Джордж выпил чай, но ничего не ел. После чая Джулия помогла Феликсу отнести посуду обратно на кухню. — Он любит красивые вещи, — сказал Феликс. — Собирал все это в течение многих лет. И было бы жаль не использовать их сейчас, правда? — Конечно, — успокоила его Джулия. Джорджу хотелось поговорить. Она слушала, как он описывал первые дни существования «Трессидер дизайнз», сразу после войны, когда не было денег и очень трудно было с материалами. — Приходилось доставать старье и ремонтировать. Лучший опыт — это делать что-то из ничего. — Он оглядел свою сверкающую красотой комнату с явным удовлетворением. — Но кроме этого, важно еще не упустить возможность. Люди старятся, как ты знаешь, от сожалений об упущенных возможностях. Он не говорил о своей болезни, упомянул лишь о возрасте. Джулия не знала, сожалеет ли он, что ему недолго осталось жить. Его глаза остановились на Феликсе. — Я не много упустил таких возможностей, — тихо сказал он. Феликс улыбнулся ему в ответ. Джулия видела, что они счастливы, и поняла, что важно не оставшееся время, а лишь его наполненность. И она отчетливо увидела, что наполненность ее собственного времени, хотя его еще много оставалось, была почти так же драгоценна, как белое стекло больничной вазы. В то же время упущенные возможности и ненаверстанные ускользнули от нее. — Кажется, мне следует воспользоваться возможностью уехать, — неожиданно сказала она. — Теперь, когда бизнес идет на автостопе, я могу позволить себе длительный отпуск. — Счастливица, — тотчас подхватил Джордж. — Ты можешь съездить в Рим, самый пленительный, самый эротический город в мире. Таким образом, планы Джулии определились. Перво-наперво она посоветовалась с Лили. — Думаю, тебе следует поехать, почему бы и нет? — сказала Лили, удивив Джулию таким ответом. — У тебя никогда не было отпуска. Мы с Мэрилин прекрасно обойдемся. Джулия предупредила об этом управляющих магазинами и своего помощника. Все они, как эхо, повторили слова Лили. Это поколебало убеждение Джулии в необходимости ее присутствия. Она почувствовала подъем душевных сил. Это открывало путь для новых возможностей, и она могла воспользоваться ими. С большим удовольствием она спланировала отпуск для путешествия в одиночку, заказала билет на самолет и номер в элегантном дорогом отеле, порекомендованном Джорджем. Она провела полдня в книжном магазине, отбирая карты и путеводители, а следующий день потратила на покупку нарядов, в которых совершенно не нуждалась. Она наслаждалась тщательной подготовкой, не веря до конца в реальность своего путешествия. И вот в середине октября она оказалась на борту самолета «Алиталия». Лондон и Англия остались где-то внизу, далеко позади. Лили и Мэрилин помахали ей на прощание рукой; своим служащим она сказала, что не знает точно, когда вернется, но это наверняка будет до Рождества. В самолете Джулия отстегнула предохранительный ремень и взглянула на сомнительную еду, поставленную перед ней. Эти индивидуальные порции в пластиковой посуде вызвали у нее столь сильное чувство тоски, что она испугалась, как бы оно совсем не завладело ею. У нее не было никакого представления, куда она поедет и что будет делать, когда достигнет пункта назначения. Она даже не определила для себя точную дату возвращения. Это был один из самых мрачных, самых неопределенных периодов в ее жизни. В римском аэропорту она призвала себя к порядку, убедив себя, что является путешественницей, только и всего. Она независима, деятельна и свободна, почти как Джош. Взяв такси, она поехала в роскошный отель, распаковала новые наряды и тщательно развесила их по шкафам. Помывшись в огромной, отделанной мрамором ванной, съела изысканный обед. Пища была качественной, а метрдотель и официантки очень внимательны. Потом она вернулась в свой номер и просмотрела путеводители. Завтра перед ней откроются чудесные виды. Она не спеша разделась и улеглась в огромную широкую постель.
Джулия сделала все от нее зависящее, чтобы выглядеть добросовестной туристкой. Она посетила Капитолий, Форум и Палатинский холм. Бродила по Колизею, собору святого Петра и музеям Ватикана. В промежутках ела и пила каппучино, который ей не нравился. Она понимала, что Рим восхитителен, но не чувствовала себя активной участницей всего этого. Она как бы машинально исполняла какую-то обязанность, отмечая необходимые посещения в своей записной книжке. Ей также бросилась в глаза эротичность этого города. На улицах и в ресторанах мужчины пожирали ее глазами, но она отметала их, не желая, чтобы кто-то врывался в обособленный мир ее одиночества. Спустя четыре дня она поняла, что больше этого не вынесет. Однажды утром она увидела автобус дальнего следования, переполненный итальянскими семьями. Впереди было указано место назначения: «Неаполь». Она тут же вспомнила о тех днях, которые провела там с Джошем. Многолюдные, необычные улицы Неаполя очаровывали ее. В воспоминаниях он представлялся ей желанным в силу своей контрастности с космополитической элегантностью Рима. «Поеду в Неаполь, — подумала Джулия. — Почему бы и нет?» Она вернулась к себе в отель, сложила вещи и расплатилась по счету. В Неаполе все еще стояла летняя жара, отражавшаяся от раскаленных осыпающихся стен, но небо было затянуто тонким слоем облаков. От прошлого посещения Неаполя с Джошем в памяти Джулии сохранилась картина сверкающей водной глади под лучами весеннего солнца, и теперь влажная серая дымка несколько омрачила ее настроение, которое заметно поднялось, когда она покинула Рим. Джулия выбрала отель неподалеку от пьяццо де Мартини, стараясь, чтобы он по возможности отличался от ночлежки, в которой они останавливались с Джошем. Несмотря на собственные впечатления, она улыбнулась при воспоминании о том, как Джош ненавидел неаполитанскую грязь и жадную охоту его обитателей за деньгами туристов. В новом номере, не слишком отличавшемся от ее номера в Риме, Джулия частично распаковала свои вещи, а затем, заставив себя, позвонила в Лондон Лили. У Лили была масса новостей из школьной жизни и последних подвигов ее лучшей подружки. Джулия слушала, улыбаясь. Мелкие пустяковые подробности, а еще больше сам голос Лили действовали успокаивающе. — Ты скучаешь по мне? — спросила Джулия с некоторой надеждой в голосе. — Немножко. Но у меня все в порядке. Александр в Лондоне. Он водил меня на «Лебединое озеро», это восхитительно. — А Мэтти там? — Мэтти? Нет. Она ведь где-то работает, верно? Почему ты спрашиваешь? — Просто интересуюсь, — сказала Джулия. — Ты только представь, я в Неаполе! — Ты хорошо проводишь время? — Да, очень. Но все время думаю о тебе, о нашем доме, о Лондоне. — Знаешь что? Мама Кэти купила ей новый стерео. Просто чудо! Может, и ты мне подаришь такой ко дню рождения? Мой магнитофон уже такой древний. Джулия засмеялась. С Лили все в порядке. Она почти всегда была уверена, что с Лили все будет в порядке. — Поговорим об этом, когда я вернусь домой. До твоего дня рождения еще очень далеко. После разговора с Лили Джулия вышла из отеля и вооружилась еще пачкой карт и путеводителей и села за столик в кафе в самом центре площади, чтобы их просмотреть. Эти столики были подобны островкам среди шумного уличного движения. Вокруг нее слышался громкий итальянский говор, смешанный неаполитанский диалект, пение и грохот машин. Джулия выпила кофе и просмотрела путеводитель. Здесь, среди этой неразберихи, она чувствовала себя комфортно. В последующие дни, пренебрегая советами посетить зеленый Михелин, она совершила единственную экскурсию в Помпеи. Побродила среди руин, рассматривая осколки колонн и треснувших стен зданий, останавливаясь, чтобы вглядеться в очертания фигур, которые когда-то были живыми людьми, а потом оказались залиты потоками лавы. Среди них попадались скелеты собак, которых так легко было представить живыми, бегущими за своими хозяевами в том же направлении. Джулия рассматривала высеченные на камне латинские надписи, морщась в тщетной попытке их разобрать. Внезапность этих смертей под Везувием казалась не менее потрясающей, чем тех, которые происходили на ее памяти. Восприятие времени и человеческой жизни стало в этот момент как бы эластичным, вплетая в общую цепь безвестные останки и Фловера, и Джесси, и Джорджа. Осознание незначительности отдельной личности было каким-то странно успокаивающим. Она шла среди засыпанных лавой фигур, как будто это были ее друзья, а затем возвратилась в шумный мир Неаполя. После этой встречи с прошлым уже привычное давление одиночества несколько ослабло. Она обнаружила, что уже может обмениваться несколькими фразами с другими гостями отеля, и даже присоединилась к приятному трио американцев на ланче в столовой. В каком-то кафе она познакомилась со студентом-лингвистом — темнолицым парнем, слегка похожим на Феликса, и его прекрасная английская речь доставила ей огромное удовольствие. Когда, наконец, она встала, чтобы уйти, он поцеловал ей руку. Остальное время она проводила в бесцельных прогулках по узеньким улочкам, которые иногда так сужались, что казались непроходимыми. Она медленно брела под веревками с бельем, хлопавшим у нее над головой, и древние, одетые во все черное старухи неодобрительно глядели на нее. Джулия вдыхала характерные запахи и наблюдала бесконечно меняющуюся живую картину уличной жизни. Она была по-прежнему незащищенной, но все ее чувства внезапно обострились и она как бы ожила. Так, медленно бродя по улицам, она вдруг поняла, что ее блуждания отнюдь не бесцельны. Она как бы играла сама с собой в игру ожидания, устремленного в будущее. Она так и не распаковала до конца свои вещи в отеле близ площади Мартини. Вытащила из чемодана лишь верхний слой и, не раздумывая, подчинилась требованию двигаться дальше. Сев в поезд, она поехала на юг, в Салерно, а потом в Агрополи. Ей были знакомы виды, открывавшиеся из окна вагона. Из Агрополи, отбросив сомнения, Джулия взяла такси на Монтебелле. Оглядываясь назад, по мере того как «фиат» взбирался все выше к короне из домиков на вершине конусообразного холма, она отметила, что эти виды остались неизменными. Вдали от Неаполя небо опять стало голубым, отражая зеркальную гладь моря. Она следила взглядом за тонкой золотой нитью, окаймлявшей горизонт, за лентой незначительно уплотнившегося ряда белых домиков вдоль побережья и лимонно-желтыми, серебристо-серыми, серовато-зелеными и темно-коричневыми участками земли. С трудом перекрикивая рев двигателя, Джулия подсказывала водителю путь в закоулках. В конце каждого из них неожиданно открывалось небо, и перед глазами представали дивные виды. Она думала, что уже забыла эти места, но оказалось, что нет. Они подъехали к пансионату «Флора», не сделав ни одного ошибочного поворота. Джулия расплатилась с таксистом и смотрела, как машина давала задний ход. Затем Джулия повернулась к двери. Но когда она подняла голову, то увидела, что нарисованный от руки указатель, подтверждавший, что это пансионат «Флора», исчез. После минутного колебания Джулия постучала в дверь. Ее открыла, кажется, сама хозяйка. Она приносила Джулии и Джошу завтраки, теплый хлеб и мед, а также восхитительный кофе почти пятнадцать лет тому назад. Но сейчас она равнодушно оглядела Джулию. — Что вам угодно? Хозяйка не очень-то изменилась, но зато изменилась сама Джулия. Да и как она могла ожидать, чтобы эта синьора запомнила какую-то случайную пару, пробывшую у нее всего несколько дней среди бесконечного числа летних сезонов? Попытка объяснить, вызвать воспоминание была бесмысленна. Джулия смущенно спросила: — Это пансионат «Флора»? — И объяснила, что ищет комнату всего на несколько ночей. Женщина отрицательно покачала головой, покусывая губы. Из всего стремительного потока итальянских слов Джулия уловила слово «финито». Синьора больше не держит отель. Может, наступили тяжелые или, наоборот, более счастливые времена? Джулия пришла в замешательство. Как ни странно, вероятность того, что она может не иметь возможности получить комнату с двумя железными кроватями и мраморным умывальником, никогда не приходила ей в голову. В растерянности она спросила, где еще она могла бы остановиться. Есть ли в Монтебелле гостиница? Синьора кивнула, а затем еще энергичнее замотала головой. Опять на Джулию обрушился поток слов, и она различила «чинсо» и «стаквионе». Отель-то есть, но он закрыт по случаю окончания сезона. Несмотря на теплое солнце и мягкий воздух, все-таки уже почти конец октября. — Неужели негде остановиться? — спросила Джулия безнадежным голосом. Женщина минуту подумала. Она посмотрела на Джулию пристальным взглядом, как будто припоминая, затем указала вверх по улице. Джулия обернулась в указанную сторону, но ничего не увидела, кроме покато уложенного булыжника и углов вымытых добела стен. Она изо всех сил старалась понять указания хозяйки, но безуспешно. Они беспомощно посмотрели друг на друга. — Пожалуйста, еще раз, помедленнее, — умоляла Джулия. Опять посыпались слова, но смысл их был совершенно непонятен. Синьора пожала плечами, готовая прекратить дальнейшие попытки, но тут она увидела какого-то мужчину, идущего по теневой стороне улицы по направлению к ним. Она окликнула его: — Синьор Галли! Джулия смотрела, как он перешел улицу. Это был высокий мужчина в белой рубашке и брюках цвета хаки, лицо которого закрывали широкие поля соломенной шляпы. Он шел легко и свободно, как юноша. Но когда снял шляпу, Джулия была поражена, увидев, что это старик. Волосы у него были совершенно седые, а темная радужная оболочка глаз обведена молочно-белым ободком. Ему могло быть лет шестьдесят пять, подумала Джулия, хотя, судя по походке, нельзя было дать больше сорока. Синьор Галли и женщина немного посовещались между собой. Потом он повернулся к Джулии, приподнял шляпу: — Я немножко говорю по-английски. Джулия приветливо улыбнулась ему. — Вы можете оказаться нам очень полезны. — Эта синьора говорит, что вы можете спросить у сестер насчет ночлега. — У сестер? Синьор Галли указал на вершину холма. Джулия вспомнила высокую каменную стену, огораживавшую заброшенные земли замка, и звон надтреснутых колоколов. — Я помню, что там, в замке, были монахини. — Вы бывали здесь раньше? — Много лет назад. Он кивнул, оглядывая Джулию и ее багаж. — Сестры Монтебелле принадлежат к открытому ордену. Делают много добрых дел. Теперь у них там «госпитале». — Госпиталь? — Скорее лазарет. Для стариков, больных, детей, у которых нет подходящих условий. Вы же знаете, у нас в Италии большие семьи. Мы заботимся о наших стариках и больных, и нет никакой необходимости куда-то их отсылать. Но здешние сестры выполняют иную работу. Они берут на несколько дней или на пару недель тяжелобольных. Так, чтобы, скажем, мать больного ребенка могла отдохнуть, или дочь могла заняться собственными детьми, пристроив на время старика. — Понимаю, — сказала Джулия. — Но я не старая и не больная. Старик засмеялся, и в этом чувствовалось теплое участие. Хозяйка «Флоры» с доброй улыбкой смотрела на него. — Я и сам это вижу. Но сейчас в Монтебелле много туристов. Они приезжают на автомобилях и автобусах к морю и поднимаются сюда на экскурсию. В конце дня они опять уезжают в свои отели. Но путешественников здесь очень мало, а мне кажется, вы путешественница. Джулия даже слегка выпрямилась, преисполненная гордости. — Одну-две койки сестры держат для путешественников. Я думаю, по традиции. Стоит это какие-то пустяки или взамен они попросят сделать какую-нибудь легкую работу. Роскоши там нет. Если вы ищете приличные условия, то вам лучше спуститься к морю или вернуться в Агрополи. Джулия отрицательно покачала головой. — В таком случае я провожу вас к сестрам. Я с ними в добрых отношениях. Оставив свой багаж на попечение синьоры, Джулия последовала за стариком вверх по улице между белых стен. — Вы давно здесь живете? — задала она обычный вопрос, однако не без интереса. — Я здесь родился. А потом уходил, опять возвращался и опять уходил. Ну а сейчас, думаю, останусь здесь. А вы? — Я просто путешествую. — Это или бегство, или открытие. «Чего?» — подумала Джулия. Они преодолели последний отрезок пути вдоль высокой стены, окружавшей владения замка, и вышли на площадку на вершине холма. Там росли платаны, листья которых были густо покрыты пылью, под одним из них вокруг ствола была построена скамейка. Кое-где торчали пучки травы, но старухи с козлом уже не было. Они подошли к высоким воротам. Проводник Джулии ухватился за одну из ржавых железных причудливых завитушек и толкнул створку ворот. Ворота распахнулись, и они вошли. Живая изгородь вдоль дорожки была не подстрижена и не ухожена. Вокруг все густо заросло сорняками. Однако Джулия не обратила внимания на эти упущения. Она смотрела вперед, на прочные квадратные стены. Местами розовато-коричневая штукатурка, казавшаяся расплавившейся под солнцем, обнажала огромные каменные глыбы, из которых был построен замок. В стенах кое-где были проделаны небольшие оконца, а в ближайшем углу находился высокий арочный вход, к которому примыкали круглые башенки. Тонкие стебли неухоженных растений, переплетаясь, карабкались вверх по стенам башен, а небесно-голубые и пурпурные цветы, качаясь, свисали со свода арки. — Он был построен семейством Беллат в качестве крепости еще в шестнадцатом веке, — пояснил проводник Джулии. — У него не очень счастливая судьба. Ходит много разных легенд. Много споров. Во время последней войны он был даже оккупирован обеими сторонами. — Старик пожал плечами, как бы красноречиво отгораживаясь от обеих. — Думаю, сейчас он нашел себе более достойное применение. Они прошли под аркой в квадратную привратницкую с куполообразной крышей и выщербленным полом. Отсюда в лицо Джулии сразу же пахнуло прохладой, и ослепительный свет за аркой показался необыкновенно ярким. Она прищурилась от солнца и увидела площадь замка, окруженную внутренним двором. Монахиня в сером с белым облачении пересекла двор, толкая перед собой кресло на колесах. В кресле сидела девочка почти такого же возраста, как и Лили. У нее были скрюченные ноги и безвольно свесившаяся набок голова. Руки конвульсивно теребили складки одежды. Кроме этой девочки и монахини, Джулия увидела еще кресло, стоявшее в тени стен. Там было что-то съежившееся и маленькое, невозможно было разобрать под слоем покрывал, мужчина это или женщина. Джулия никогда не сталкивалась с людьми с тяжелыми физическими недугами, если не считать Джорджа или стариков. И ее первым позорным импульсом было повернуться и убежать. Эти кресла и их владельцы, казалось, выпадали из общей картины яркого солнечного дня. — Это лазарет, — пробормотал рядом с ней синьор Галли. Она услышала громкие шаги на каменной лестнице. Из низкой двери одной из башен вышла другая монахиня. Она была точно в таком же облачении, но у нее был дополнительный накрахмаленный и отглаженный чепец. На груди висело простое деревянное распятие. Синьор Галли и монахиня уже успели поздороваться, и Джулии поздно было отступать. Минутой позже ее тоже втянули в разговор. Монахиня протянула Джулии руку, и они обменялись рукопожатием. — Это сестра Мария от Ангелов, — представил ее синьор Галли. У сестры Марии от Ангелов было бледное гладкое лицо и темные глаза. Чепец с его жесткими складками шел ей, она была похожа на Мадонну. Джулия решила, что монахиня не намного старше нее. — Меня зовут Джулия Смит. Монахиня сделала легкий, учтивый поклон. — У нас есть комната. К сожалению, не очень удобная. — Я вам очень признательна, — сдержанно сказала Джулия. Синьор Галли ушел, пообещав послать мальчишек за ее вещами. Джулия последовала за своей новой провожатой вверх по ступенькам башни, а затем по огромному коридору. Осыпающиеся белые стены были кое-где украшены картинами религиозного содержания, а в дальнем конце ниши перед нарисованным на штукатурке Святым Семейством горела красная лампа. Они завернули за угол в южной стороне площадки и подошли к двери. Сестра Мария открыла ее и сделала Джулии знак войти. Это была высокая квадратная комната с железной койкой, подобной тем, которые были в пансионате «Флора», и с распятием в изголовье. Покрывало на постели было гладким и белым, аккуратно заштопанным. Рядом стоял стул и рукомойник с кувшином. На внутренней стороне двери был целый ряд крючков. Джулия подошла к окну, подняла деревянные жалюзи и выглянула в окно. Внизу она увидела голубое море с белыми и золотистыми гребешками и еле видимые неровности земли, уходящие за линию голубовато-серого горизонта. Обернувшись к сестре Марии, она поблагодарила ее. — Добро пожаловать. Сначала Джулия не могла понять, что сказала после этих слов монахиня. Под конец, благодаря их общим усилиям, где итальянская речь перемешивалась с английской, она поняла, что община и ее гости, которые достаточно здоровы, чтобы выйти к общему столу, обедают все вместе в шесть часов в трапезной. Они были бы рады, если бы она присоединилась к ним. — Спасибо, — опять сказала Джулия. Сестра Мария поспешно удалилась. Джулия подошла к двери. Напротив нее в коридорной стене было другое окно. Оно выходило во внутренний двор, где Джулия разглядела в самом центре зеленоватую металлическую круглую форму, украшенную дельфиньими головами. Вероятно, когда-то это был фонтан. Вокруг стояли терракотовые горшки, в которых беспорядочно росла герань. По диагонали вприпрыжку двигался какой-то человек. Тело его тряслось, а голова подергивалась, он кричал и смеялся. Джулия не могла разобрать ни слова. У противоположной стены двора она увидела еще несколько кресел. В них сидели больные разного возраста, одни казались очень оживленными, другие сидели как неподвижные кули. С западной и восточной стороны вместо стен были арки, образующие открытые галереи. Там, в глубокой тени, виднелись белые постели. Монахини сновали туда-сюда или сидели около кресел. Две из них, низко опустив голову под белыми, спускавшимися до колен одеждами, штопали или вышивали. Глядя из окна, Джулия удивилась, почему ей хотелось убежать при первом взгляде на обитателей замка. Теперь же она смотрела на них как на равных, людей, так же наслаждающихся солнечным теплом, как и она сама. Лица и зрячих, и слепых были повернуты к солнцу. До Джулии доносилось какое-то приглушенное жужжание. Это был смешанный гул голосов, где можно было различить пение и разговор. Откуда-то доносился громкий смех. Прямо перед собой Джулия увидела ту самую девочку, ровесницу Лили, сидящую в своем кресле на колесах. Она била в детский барабан, качая в такт головой. Джулия долго смотрела в окно, прежде чем вернуться в белую комнату. Ритм барабана был жутко однообразен. Она села на кровать, сложив руки на коленях. Здесь ее неожиданно покинуло чувство одиночества и жалости к себе. Это случилось! С ее души словно свалился груз. Джулия увидела вещи совсем в ином свете. Она приехала в Монтебелле и поняла, что может здесь остаться. Если они ей позволят. Где-то совсем близко, так близко, что казалось, будто он находится прямо у нее над головой, зазвонил монастырский колокол. Слушая его и считая протяжные медленные удары, Джулия поняла, что он вовсе не надтреснутый. Густой теплый воздух как будто впитывал звуки, приглушая их и унося вдаль над черепичными крышами уже в несколько искаженном виде. Это было приятное открытие. Оно дало ей веру в то, что после всех ее ошибок есть все же надежда на лучшее. Джулия сидела на кровати, а над ее головой эхо разносило звуки колоколов. Перед шестью часами два паренька принесли ее вещи. Казалось, они хорошо знали замок и чувствовали себя здесь как дома, хотя от смущения долго хмыкали и хихикали за дверью. Джулия поблагодарила их и дала немного мелких денег, чему они очень удивились. Сменив платье и положив туалетные принадлежности на рукомойник, она отправилась на обед. Трапезная представляла собой просторное отделанное деревом помещение с арочными сводами. Община сидела за длинными столами на скамьях, поставленных по одну сторону, а те, кто сидел в креслах на колесах, помещались по другую его сторону. Сестра Мария показала Джулии свободное место. Гостью встретили улыбками и приветливыми взглядами. Прозвенел ручной колокольчик, и те, кто мог встать, встали на молитву, которую скромно возглавила одна молодая монахиня. Затем монахини заняли места среди своих подопечных, после чего была подана еда, простая, но полезная: суп из овощей на оливковом масле с томатным соусом, потом фиги и розовый виноград. Джулия навсегда запомнила свой первый обед в замке. Она оказалась между маленькой старушкой с пальцами, похожими на птичьи лапки, и молодым мужчиной, что-то бессознательно бормотавшим и закидывавшим назад руки. Потихоньку Джулия посматривала на монахинь. Они кормили подопечных с ложки, придерживали их дергающиеся конечности, пока те ели, беседовали с ними, выслушивали и улыбались. Джулии казалось, что сидевшая рядом с ней старушка была слишком немощной, даже чтобы поднять ложку. Она крошила для нее хлеб и была награждена за это благодарным взглядом ясных глаз, глядевших из складок темной морщинистой кожи. Но ложка оказалась не слишком тяжелой. Старушка обмакивала хлеб в суп, чтобы он был мягче. Гораздо больше в помощи нуждался сосед Джулии слева. Его руки все время находились в бесконтрольном движении. Наконец, после того, как ее собственная порция оказалась у нее на коленях, Джулия догадалась, как успокоить эти руки, зажав их между колен и придерживая одной рукой, в то время как другой она кормила его с ложки. Она так и не смогла понять, к кому относилось его бормотание, но заговорила по-английски, рассказывая о своем путешествии из Рима в Неаполь, а затем в Монтебелле. Недостаток знания итальянского языка не играл здесь никакой роли. Глядя вокруг, она отметила, что все за этими длинными столами, за исключением невозмутимых монахинь, изъясняются нечленораздельно. Но гул общей беседы нарастал и наполнял помещение. Джулия испытывала сильное чувство голода. Она поспешно ела все подряд в перерывах между оказываемой ею помощью соседям по столу. Она заметила, что к концу трапезы сестра Мария перестала наблюдать за ней с другого конца стола. И это тоже было очень приятно.
Джулия провела с сестрами Святого Семейства месяц. С течением времени она познакомилась со всеми и успела восхититься всеми этими Мариями, Мартами и Терезами Непорочными. Не многие из них могли связать пару слов по-английски; сестра Мария от Ангелов и мать-настоятельница составляли редкое исключение. Но все они привыкли к необходимости преодолевать препятствия при общении с больными. Их приветливость, интерес и теплое участие не нуждались в словах. Джулия ощущала эту атмосферу вокруг себя в той же мере, что и самый беспомощный гость этой обители, доставленный сюда в машинах «скорой помощи», на автобусах или пыльных «фиатах». Иногда эти люди оставались здесь всего на несколько дней, иногда — значительно дольше. Их привозили в основном из бедных деревушек, разбросанных между Неаполем и Калабрией, из тех семей, которые не имели никаких средств, чтобы обратиться за другой помощью. Несмотря на страдания больных, Джулия ясно видела, насколько им становилось лучше от пребывания в монастыре. Община оказывала удивительно благотворное влияние. Доброта монахинь способствовала как бы очищению и обретению покоя в душе Джулии. Она оказывала посильную помощь сестрам и поначалу очень расстраивалась из-за того, что делала слишком мало. У нее не было никаких навыков ухода за больными, и в домашнем хозяйстве она также не слишком хорошо разбиралась. Наконец она нашла себе применение, взяв на себя заботу о небольшой группе маленьких детей, занимавших верхний этаж в одном крыле замка. Большинство из них страдали неизлечимыми недугами; к счастью, среди них было два или три выздоравливающих и один очень непоседливый, вполне здоровый маленький мальчик, родители которого не в состоянии были присматривать за ним. Вскоре Джулия обнаружила, что ее примитивные знания итальянского языка вполне достаточны для общения с детьми. Они прекрасно понимали друг друга. Опустившись на колени на пол палаты или на каменные плиты внутреннего двора, Джулия рисовала картинки, помогала составлять картинки-загадки или пела с детьми песенки. И все это она делала с большим терпением и с большим желанием, чем когда-либо с Лили. Дети, даже те, которые едва что-нибудь понимали, все больше привязывались к ней. Более крепкие малыши вечно висели у нее на руках, что-то лопоча и обнимая за шею. Здоровый мальчик Раймундо стал ее помощником во время игр. Когда Джулия не была занята с детьми, она чувствовала себя слишком усталой, чтобы делать что-нибудь еще. Она гуляла в запущенном парке замка, разбитом в виде террас, которые, если смотреть из ее окна, полого спускались в южную сторону холма. Она пыталась представить себе былое великолепие парка и поражалась экзотическим растениям, разросшимся здесь. Одна из монахинь неплохо знала историю этого парка. Она рассказала, что в начале века замок и окружающие его земли были куплены одной богатой семьей промышленников с севера. Хозяйка дома разбила парк в стиле великих итальянских традиций. Но времена изменились. Возможно, семья потеряла свое состояние. Во всяком случае, они уехали, и замок оставался заброшенным на протяжении многих лет. А когда началась война, здесь размещался военный гарнизон. А затем замком завладел конвент. — Это лучше, — сказала Джулия, кивая и улыбаясь. Но зрелище заброшенного парка угнетало ее. Иногда по вечерам, после раннего ужина в трапезной, она выходила через железные ворота в темноту побродить по крутым улочкам. Однажды во время одной из таких прогулок кто-то окликнул ее с балкона. Она взглянула вверх и увидела синьора Галли. Он пригласил ее зайти в дом, и Джулия очутилась в комнате среди высоких полок с книгами, где отведала крепкого кофе из голубой с золотом чашки. Ее новый друг, как оказалось, был архитектором, работавшим в Париже и Лондоне, Риме и Милане. Он был вдовцом, имел взрослых детей, которых судьба разбросала по всей Италии. Было так уютно и приятно сидеть и беседовать в теплом свете ламп под красными абажурами. После этого первого визита Джулия только на следующий вечер вернулась в замок. Николо Галли оказался очень занятным собеседником. — Ах, Монтебелле! Я вернулся в то место, где родился, чтобы здесь умереть, — однажды весело сказал он. — Не похоже, чтобы вы собирались скоро умереть. — Это верно. Но я останусь здесь до конца своих дней. Как приятно сознавать, что не надо больше думать о том, куда идти дальше. — Да, — тихо сказала Джулия. Ей передалась некоторая доля его твердости. На этот раз она была счастлива здесь. Если бы она не приехала сейчас в Монтебелле, то провела бы эти недели, разъезжая по Европе с единственной целью убить время, прежде чем сочла бы приличным направиться домой. — Мне тоже хотелось бы остаться здесь. Но скоро нужно возвращаться. Шла уже вторая половина ноября. По утрам и вечерам становилось холодно и тонкая пелена тумана обволакивала каменные стены замка, хотя в полдень солнце излучало еще достаточно тепла. Джулия часто думала о Мэтти. Здесь, в тихой деревушке на горной вершине, воспоминания о связи Мэтти и Александра в Леди-Хилле уже теряли свою остроту. Джулии хотелось бы показать Мэтти замок и парк. Однажды утром в маленькой табачной лавочке она купила почтовую открытку, царапнула на ней несколько слов и подписала: «Твой старый друг». Отправив ее, она почувствовала связующие их нити. Николо посмотрел на нее. — К кому вы спешите домой? — К дочери. И моему бизнесу. — Ах да. Конечно. Пошел дождь, принесенный ветром с севера, а затем неумолимо подуло с моря. Джулия поняла, что пора уезжать в Лондон, где витрины магазинов уже завалены подарочными коробками и украшены мишурой и искусственным снегом. Она сообщила сестре Марии и другим монахиням, что уезжает. Те сказали, что расстаются с ней с сожалением, но Джулия знала, что вряд ли они действительно будут скучать по ней. Слишком много у них было обязанностей и хлопот в общине, слишком защищены они были своей верой, чтобы скучать по какому-то случайному путнику. Джулия повидалась с матушкой-настоятельницей, поблагодарила за оказанное гостеприимство и вручила ей, как могла более тактично, приличную денежную сумму. Монахиня с благодарностью приняла подарок. Джулия знала, что власти выделяют очень незначительное содержание на деятельность монастыря. Лазарет сестер Святого Семейства существовал за счет церкви и благотворительных организаций. Самым трудным делом было попрощаться с детьми. Раймундо обхватил руками ее за талию и зарыдал. Остальные сгрудились за его спиной. Джулия осторожно разжала руки мальчика, еле сдерживая слезы. — Я еще вернусь, — пообещала она. — Однажды я приеду и навещу всех вас. Ты уже будешь к тому времени большим мальчиком, Раймундо. И уже не будешь плакать. Она быстро сбежала вниз по каменным ступенькам. Ее чемоданы, полные ненужной сейчас легкой одежды, были упакованы и стояли на террасе между двумя башнями. Такси, ожидавшее внизу, должно отвезти ее в Агрополи. Ее окружили сестры. Они поцеловали ее и поручили заботам Господа Бога. Николо Галли тоже пришел попрощаться. Он взял Джулию за руки и поцеловал в обе щеки. Она отвернулась и забралась в «фиат». Когда автомобиль покатил прочь, Джулия оглянулась и увидела Николо. С приходом зимы он заменил свою соломенную шляпу на черную мягкую фетровую, которой размахивал сейчас на прощание. (обратно)
Глава двадцать вторая
Мэтти спустилась в гавань. Было холодно, и ветер дул прямо в лицо. Серая грязная морская вода вспенивалась у причала, и она ощущала на губах ее соленые брызги. Мэтти медленно прохаживалась, засунув руки в карманы, стараясь не думать ни о пьесе, ни о своей роли, и вообще ни о чем. Холодная погода отвлекала ее от этих мыслей. Большинство матросских шлюпок, которыми летом пестрит вся гавань, были уже подняты на зиму, но некоторые все еще покачивались, пришвартованные к берегу. Она смотрела, как они то погружались, то всплывали на небольших мутных волнах, а затем опять отводила взгляд, так как даже это успокаивающее движение не могло снять ее напряжения. Мэтти прошла еще немного, а затем, наблюдая за чайками, прислонилась к швартовной тумбе. Ей нравилась атмосфера пустоты, которая обычно охватывала английские города после окончания летнего сезона. Киоски с закрытыми ставнями и мокрая скользкая пристань напомнили ей дни ее турне с актерской труппой Фрэнсиса Виллоубая. Она похлопала себя руками, чтобы согреться. Ей вспомнились Ярмут и Джон Дуглас, затащивший ее в постель в отеле для коммерческих путешественников. Джон Дуглас в конце концов ушел на пенсию, унеся горечь расставания с театром, и вернулся обратно к своей жене в Бурфорд и, насколько было известно Мэтти, находился там и поныне. Она думала о нем как-то отрешенно и без всякого любопытства. Казалось, все это было очень давно. Сидеть было слишком холодно. Она встала и прошлась до конца гавани. Прилив уже закончился, и ей нравилось смотреть на переливающуюся тину, которая скопилась в соляных каналах вместе с плотным слоем болотной травы. Во всяком случае, лучше находиться на воздухе, чем в отеле или ждать в артистической уборной в театре. Мэтти содрогнулась. Она все еще нервничала. Каждый раз, перед каждым представлением желудок сжимался от страха и стыла в жилах кровь. Она была уверена, что не вспомнит слов, не сможет произнести ни звука. И казалось, что если произнесет, будет еще хуже. Прошло уже более двух лет с тех пор, как Мэтти не появлялась перед театральной аудиторией. Работа в кино — совсем другое дело. Там, конечно же, тоже есть страх, но он более контролируемый. Мэтти сосредоточилась на своей хорошо отработанной программе по преодолению страха. Она сделала несколько глубоких вдохов, ощущая, как поднимается и опускается диафрагма. Она говорила себе, что пьеса хорошая и что она будет делать только то, что делала на репетиции. Затем она заставила себя выбросить из головы мысли о спектакле. Мышцы лица расслабились и углы рта опустились. Она обратила внимание, что за ней наблюдает мужчина, стоявший недалеко от нее. Онабыстро отвела взгляд и заметила, как по камням ударили первые капли дождя. — Кажется, мы здесь вдвоем, — сказал мужчина. Мэтти автоматически отметила, что его произношение с легким атлантическим акцентом выдает в нем жителя северных районов. Голос был приятным, дружелюбным. — Летние моряки все отправились по домам, — ответила она, медленно проходя мимо него. Этого достаточно: они приметили существование друг друга на фоне этого пустого ландшафта и теперь можно разойтись. К ее неудовольствию он повернул в том же направлении и начал прохаживаться рядом с ней. «Черт возьми, — подумала она, — он, должно быть, узнал меня». Сейчас попросит автограф (разумеется, для жены или дочери, но ни в коем случае не для себя самого), пойдут рукопожатия, вопросы. Здесь, в гавани, она не желала никакого вторжения в свое одиночество. — Я не имел в виду место, — сказал радостно мужчина. — Я люблю смотреть на птиц и эту тину. Рисунки, которые они создают, похожи на маленькие звезды. Мэтти взглянула. Отпечатки лапок птиц были похожи на те звездочки, что рисуют дети, нагромождая их на сером прибрежном песке. — Никогда не замечала этого, — удивилась она. — А я заметил еще в детстве. У меня не много было того, на что смотреть. — Он засмеялся, довольный воспоминанием. — Я вырос в Уитби. Северный Йоркшир. Вам знакомы эти места? Мэтти играла там когда-то с Джоном Дугласом, Шейлой Фирс и другими. Это был совсем другой город, с запахом рыбы, жареного картофеля и бутылочного пива. — Я бывала там. — Величественное место. Она искоса посмотрела на него. Это был плотно скроенный, среднего роста мужчина в короткой зеленоватой куртке с капюшоном, застегнутой на молнию. Если бы добавить сюда планшет с картой и рюкзак, то его можно было принять за путешественника, а если еще повесить сбоку бинокль, то и за исследователя птиц. Разве что исследователь говорил бы о чайках, а не об отпечатках птичьих лапок в иле. У него уже проглядывала лысина, так что, скорее всего, ему было лет за пятьдесят. Он носил очки, которые сейчас помутнели от дождевых капель. Сняв их, он протер стекла чистым белым носовым платком. — Что вы здесь делаете? — спросила Мэтти с явной неохотой. — Провожу отпуск. — Его северный акцент звучал как-то странно. Дождь усиливался. Ветер резко бил в лицо. — Однако становится неуютно, — резюмировал незнакомец. — Не пойти ли нам выпить чаю? Я знаю здесь неподалеку маленькую чайную. Она, наверно, открыта. Мэтти взглянула на свои часы, собираясь отклонить неожиданное приглашение. Было четыре часа. Три с половиной часа до поднятия занавеса. Слишком поздно идти в отель и слишком рано идти в театр. — Благодарю, — сказала она. — Выпить чаю — это хорошая мысль. Мужчина протянул руку. — Митчел Говорт. Или просто Митч. — Они обменялись рукопожатием. У него была крепкая, сильная рука. — Имя похоже на американское. Вы из Штатов? — Нет. Жил здесь долгое время. Но моя мать была Митчел, а отец Говорт. Оба из Уитби. Ну что ж, теперь моя очередь, подумала Мэтти. — А я Мэтти Бэннер. Лицо Митча ничуть не изменилось. — Очень приятно, Мэтти. «Он меня не знает», — решила она. Просто женщина, встретившаяся под дождем. Это понравилось ей. Порядком промерзнув по дороге, они подошли к чайной. Это было одно из тех заведений, которые Мэтти любила посещать с Ленни и Верой в такие же вот дождливые дни. Такая же пластиковая дощечка с надписью «Открыто» висела на цепочке между стеклянной дверью и гофрированной нейлоновой занавеской, собранной в виде двойного «Y». На столиках, покрытых бумажными скатертями в красную клетку, стояли пластиковые судки для уксуса и масла. Между ними со скучающим видом ходила официантка в заляпанном соусом фартуке. Мэтти недовольно потянула носом: при ее обостренном обонянии запах яичницы, которую подают к ланчу, вызывал у нее дурноту. Мэтти сняла с головы косынку, завязанную под подбородок. Митч посмотрел на ее волосы, а потом на лицо. Искреннее восхищение, отразившееся на его лице, было ей приятно. На сей раз Мэтти улыбнулась ему. Они стояли в узком проходе очень близко друг к другу. Митч отступил назад, чтобы помочь ей снять пальто. Они сели за столик у окна, отрезанные от дождя и улицы сетчатыми занавесками. Они были единственными посетителями. Весело подозвав официантку, Митч заказал на двоих чай и поджаренные булочки. Очевидно, он хорошо разбирался в том, что подают к чаю. Очень скоро им принесли булочки. Они были щедро смазаны маслом, растаявшим и отекшим по краям. Запах яичницы, казалось, сгустился вокруг Мэтти, и у нее начались спазмы желудка. Она резко встала. — Извините, — пробормотала она. Она кое-как дотянулась до задней двери чайной, и в крошечном женском туалете ее основательно вырвало. Потом она вымыла лицо и причесала мокрые волосы, мельком поглядывая на себя в зеркало. Когда она вернулась к столику, Митч тотчас встал. К великому своему облегчению, она заметила, что булочки убраны. Он подвинул ей стул, усадил и слегка тронул ее за плечо. — Выпейте немного чаю, — скомандовал он. — Слабого и без молока. — Спасибо, — Мэтти взяла чашку, думая при этом, что в действительности ей бы сейчас следовало выпить виски, крепкого виски без тоника. Но она все-таки маленькими глотками цедила чай, и он оказал свое согревающее действие. — Вам нездоровится? — просто спросил Митч. Ей нравилось, что он не флиртует с ней. — Нет. Это просто страх. Но теперь все уже в порядке. Он взглянул на нее поверх очков с насмешливо-лукавым выражением лица, от которого ей захотелось смеяться. — А чего же это может бояться такая особа, как вы? И к своему удивлению, Мэтти рассказала ему. Она рассказала ему о хорошо поставленной трагедии нравов, репетиции которой проводились в Вест-Энде. О собственной ведущей роли и о своем агенте, об издателе и директоре, о руководстве театра, критиках, которые в этот самый момент съезжаются сюда, и о писателе, который считает, что ее слишком испортил Голливуд, чтобы она могла играть в его несравненной пьесе. Она рассказала ему о телеграммах и цветах, о маленьких хитроумных презентах, которые будут ожидать ее в артистической уборной звезды, и о болезненных тисках страха перед сценой. Закончив исповедь, она облегченно вздохнула. — Ну вот, теперь вы будете считать меня самовлюбленной истеричной актрисой. Митч Говорт налил ей еще чашку чая. — А разве то, что я думаю, имеет какое-то значение? Мэтти вспыхнула словно школьница, краска смущения залила все ее лицо. — Никакого, — ответила она. — Но все-таки я скажу. Я ничего не смыслю в пьесах или кинофильмах. Но, глядя на вас и слушая вас, я не верю, что вы могли бы что-то делать спустя рукава. Вот вам мое мнение. Вы боитесь напрасно, Мэтти. «Нет, не напрасно, — чуть не выпалила она ему в ответ. — Разве это пустяки — выйти перед толпой незнакомых людей?» И тут их глаза встретились. Его мягкий спокойный взгляд разоружил ее. Конечно, это не пустяки, она это знала, однако отнюдь и не конец света. Мэтти вдруг расхохоталась. — Ну, раз вы в этом уверены… — Она заметила, что за очками, за бесстрастным выражением округлого, ничем не примечательного лица Митча Говорта проглядывает сочувствие и недюжинный ум. Откинувшись на спинку стула, Мэтти зажгла сигарету. — Ну, хватит об этом. А теперь скажите мне, кто вы такой? — решительно приказала она. — Ничего особенного, но зато впечатляет. Митч поведал ей, что покинул Уитби после увольнения из Королевских военно-морских сил. Работал инженером в торговом флоте, разрабатывал маршруты на Дальний Восток и в Центральную и Северную Америку. — Дрифтером, отнюдь не движущей силой, — сказал он. А потом, в Балтиморе, он познакомился с одним молодым американцем, тоже инженером. — Мы очень подружились. В 1950 году. Мне нравились Штаты гораздо больше, чем Англия. Там, в Балтиморе, мы стали компаньонами. Мэтти с интересом слушала его. — А что вы делали? — Производили металлические покрышки. — А-а… — Мэтти понимала, что не обладает достаточными знаниями, чтобы поддерживать разговор о металлических покрышках. — Я остался, — продолжал Митч, — получил гражданство и был янки на протяжении семнадцати лет. — Ваше производство процветало? — спросила она потому, что не знала, о чем еще спросить его. Митч ухмыльнулся, пожал плечами, и уголки его глаз и губ приподнялись. Из солидного мужчины среднего возраста он вдруг превратился в проказливого школьника. И это очень ему шло. — Пожалуй. Вот оно, подумала Мэтти. В нем было что-то такое, что она не могла сразу обнаружить, а теперь поняла. Мистер Говорт из Уитби и Балтимора был преуспевающим человеком. Она перевела взгляд на его часы. Это были «Ролекс», золотые часы, но без всякой броской показухи. Он был богат и привык иметь дело с людьми, которые ему подчинялись. Конечно же, не из числа официанток из кафе. Вероятно, у него было несколько заводов по изготовлению металлических покрышек, или фабрик, или мастерских, неважно, что это было, но оно занимало часть Северной Америки. Мэтти решила, что теперь имеет полное представление об этом человеке. Ее новый знакомый приехал в отпуск попутешествовать по маленькой Англии, посмеиваясь и предаваясь воспоминаниям, выискивая представителей угасающего рода Митчелов и Говортов в их уединенных квартирах и под церковными надгробиями. Его жена, уставшая от слез, в этот момент возвращается в «Холидэй Инн», чтобы поправить прическу. Где же, подумала Мэтти, находится ближайшая гостиница от Чичестера? Но тут Митч здорово удивил ее. — У меня было достаточно средств. Я рано ушел от дел и передал состояние детям-сиротам, открыв банковский счет на их имена. У меня нет контроля, хотя я все еще акционер. Мой партнер умер пару лет назад. — Он суеверно, но искренне похлопал по своей зеленой куртке. — И теперь я свободен. Возвратился домой. Остановился в Уитби, а затем отправился путешествовать по побережью, прямо сюда. Я люблю прибрежные города. — И я тоже, — сказала Мэтти. Она отвернулась и стала смотреть сквозь сетчатые занавески. — А как насчет жены? Она тоже любит это? Последовала короткая пауза. Мэтти продолжала смотреть на дождь за окном. — Я разведен. Эви была движущей силой и поэтому двинулась дальше. — А дети? — Нет. И не было. А как с этим обстоит дело у вас? — Тоже нет. Я уже рассказала вам все, что стоит знать обо мне. Ведь я актриса. «К чему это я? — удивилась Мэтти. — Зачем я говорю это изготовителю металлических покрышек, да еще в чайной?» В ней опять заговорило запоздалое чувство самозащиты. Она услыхала за спиной нарочитый грохот официантки и щелканье замка конторки. Счет на блюдечке уже давно лежал перед Митчем. Они очень долго просидели за столиком у окна. — Мне нужно идти, — сказала Мэтти. — Там уже подумают, не сбежала ли я. Митч встал и отодвинул стул. — Можно мне прийти на спектакль? — Его слегка официальные манеры напоминали ей Александра. Мэтти поскорее отогнала эту мысль. — О нет, ради Бога, нет. Они засмеялись, а официантка нахмурилась, глядя на них. Выйдя на улицу, Мэтти, чтобы предупредить дальнейшие авансы, протянула руку, и они обменялись дружеским рукопожатием. — Спасибо за чай. Вы помогли мне отвлечься от мыслей о сегодняшнем вечере, и я вам очень благодарна за это. Желаю хорошо провести оставшийся отпуск. Митч окинул ее своим мягким взглядом. — Очень сильный дождь. Не хотите ли… — О нет, благодарю. Это недалеко. До свидания. Мэтти повернулась и почти побежала. Холодная вода заливала ей туфли и брызгала сзади на ноги. Она была рада, когда добралась до театра, хотя и была в таком ужасном виде. Ее костюмерша уже ждала ее и предложила чашку чая, хотя Мэтти хотелось виски. Мэтти старалась не пить перед спектаклем. Ей уже принесли записочки и цветы, и она пыталась сосредоточиться на добрых пожеланиях. Обычно поздравления Джулии с премьерой всегда бывали самыми лучшими, но на сей раз их не было. Ведь Джулия, конечно же, за границей. В дверь постучали, и заглянул директор. Вслед за ним, минуту спустя, вошел напыщенный актер, всегда игравший в пьесах Шекспира, а теперь — партнер Мэтти. Она покорно прошла через всю ритуальную процедуру, так как уже привыкла к этому. Внутри у нее нарастал страх, и она подумала о Митче, вероятно сидящем сейчас за баранкой взятого напрокат «форда» и мчащемся куда глаза глядят. Мэтти села перед зеркалом и загримировалась. Костюмерша принесла костюм. Последние минуты перед выходом Мэтти провела в тишине, оживляя в памяти текст. Но вот наступило время выхода. — Мисс Бэннер! Будьте готовы через пять минут. Ее вызвали так, как она сама вызывала Шейлу Фирс много лет назад. Мэтти полетела вниз, словно на крыльях, и остановилась в ожидании перед занавесом, прислушиваясь к глухому гулу голосов зрительного зала, раздававшемуся у нее в ушах подобно ударам грома. Премьера спектакля прошла не хуже, чем все закрытые предварительные просмотры, даже, может быть, немного лучше. Каждый говорил, что волновался. По окончании были поцелуи и поздравления и прочие формальности, не менее знакомые ей, несмотря на двухлетний перерыв. Мэтти не пошла на устроенный в честь спектакля вечер. Она извинилась, сославшись на головную боль, и, приняв снотворное, легла в постель. Отзывы были вполне положительными. Один критик назвал игру Мэтти сдержанной, другой, важничая, заявил, что излишняя эмоциональность перед объективом камеры огрубила технику ее игры. — Трепачи, — сказала Мэтти об одном из таких отзывов и разорвала газету пополам. — Вы правы, дорогая, — согласилась костюмерша. Компания включила пьесу в репертуар, и после этого страх Мэтти испарился. Она упорно работала, с головой уходя в роль, и этот процесс, как всегда, полностью захватывал ее. Аншлаг был полный, и уже начали с надеждой поговаривать о переезде в Вест-Энд. Прошла неделя. Мэтти размышляла, что случилось с Митчем Говортом. В конце концов, он мог бы прийти посмотреть пьесу, невзирая на ее запрет. Она уже не скрывала от себя, что хотела бы его увидеть, и с некоторым внутренним раздражением признавала, что в его исчезновении была ее вина. К этому времени он, должно быть, перебрался в Госпорт, Лилингтон или Вейтмут, где они с Лили и Александром летом устраивали пикник. Он, вероятно, уже забыл эту раздражительную, нервную женщину-актрису. Спустя две недели после презентации спектакля ей в гримерную принесли охапку роз. Они были мохнатыми, чудесного золотисто-желтого цвета и невероятно ароматные, подобные тем, которые выращивала Джулия в своем саду, выходящем на канал. Где нашли такие розы в октябре? На приложенной к букету карточке было: «С наилучшими пожеланиями, Митчел Говорт». Мэтти повернулась на стуле, держа перед собой карточку. Прежде чем отправиться на сцену, она погрузила лицо в золотистые лепестки. После того как опустился занавес, она возвратилась в свою уборную, наполненную насыщенным устойчивым ароматом роз. Она уже знала, что он придет, еще до того, как послышался стук. Он вошел и показался ей каким-то большим в этом маленьком помещении. Ей хотелось прикоснуться к его руке, чтобы убедиться, что это не мираж. — Я же говорил вам, что вы не можете делать что-нибудь плохо, — сказал он. — Митч, где вы достали такие розы? — спросила она. Он пристально смотрел на нее, пытаясь соединить образ этой Мэтти, закутанной в японское кимоно, с распущенными волосами, с тем сценическим образом, который все еще держался в его памяти. — Чудом, — ответил он. И в ту же минуту, вспомнив незнакомца в дождевом плаще и чувствуя, как ее тело пылает под японским шелком, Мэтти поверила в чудо. — Могу я пригласить вас на обед? — спросил Митч. Лицо Мэтти озарила сияющая улыбка. — Я бы очень обиделась, если бы вы меня сейчас не пригласили. Он казался удивленным и польщенным, как будто подготовил себя к отказу и не смел надеяться на иное. Она переоделась и заколола волосы, с удивлением вглядываясь в свое изменившееся отражение в зеркале. Автомобиль, припаркованный у театрального подъезда, не был взятым напрокат «фордом», как она себе воображала. Это был светло-серый «бентли», весьма элегантной формы с кожаными сиденьями. Мэтти поняла, что пора прекратить представлять его в «Холидэй Инн». Митч Говорт оказался весьма непредсказуемым человеком. Или, скорее, ее собственная реакция на него была непредсказуемой. Не спрашивая, он повез ее в загородный ресторан. Мэтти понравилось, что всю организацию вечера он взял на себя. Проведя ряд лет с Крис, когда ежеминутно нужно было советоваться и взвешивать, всякая необходимость выбора утомляла Мэтти. Она так долго была одна, что могла позволить себе удовольствие насладиться подобной роскошью. Ресторан не намного отличался от того, в который ее когда-то привез Джон Дуглас. Официанты были французами с соответствующей этой нации учтивостью. Мэтти вспомнила, как она была тогда голодна и какое впечатление произвело на нее все это великолепие. Теперь она встретилась взглядом с Митчем, и они улыбнулись друг другу. — Чайная в это время уже закрыта, — сказал он. Перед тем как им принесли еду, Мэтти сжала пальцами стакан с вином, которое он ей заказал, но не подняла его. Странно было сознавать, что ей больше хотелось говорить с Митчем, чем выпить. «Смотри мне», — предупредила она себя. Мэтти была теперь осторожна. А со времени встреч с Александром даже еще более осторожна. Но все-таки она спросила: — С тех пор, как мы вместе пили чай, прошло две недели. Почему вы не пришли повидаться раньше? Я думала, вы уехали куда-нибудь в Свонадж или Вейтмут. Митч отрицательно покачал головой. — Нет. Я каждый день ходил в театр. Смотрел на вас на афишах. Понял, как вы знамениты. Я чувствовал себя дураком из-за того, что сразу не узнал вас. И к тому же я думал, что вы очень заняты. Чего ради вы должны уделять время какому-то пожилому отставному производителю металлических покрышек? Пусть даже после того, как позволили ему приставать к вам в гавани. — Митч, — мягко сказала Мэтти, — не будьте идиотом. Я знаю, что вы не такой. Я ждала вас. Если бы я знала, где вас искать, я бы бросилась на поиски. Я не могу перенести того, что вы были каждый вечер возле театра, а я этого не знала. «Мне было одиноко, — думала она, — а ведь этого могло не быть». Она ощущала теперь невероятное чувство душевного равновесия. Он взял ее руку. Они оба знали, что пропускают какие-то необходимые этапы, но им было все равно. Он отставил ее нетронутый стакан и сжал руки Мэтти в своих ладонях. — Я три раза смотрел твой спектакль, — сказал он. Мэтти уставилась на него. — Сегодня был третий. Я не мог насмотреться на тебя. Твоя игра заставила меня плакать. Ты была женой того типа, и я верил всему, что ты говорила и делала. И все-таки ты оставалась также и собой. Той девушкой в чайной. Я знал, что ты будешь великолепна. — Это моя работа, — неубедительно сказала Мэтти, тронутая и потрясенная искренностью его похвал, — быть другой. Притворяться. Вернее, не притворяться, это не то, а перевоплощаться. Я думаю, что все это — фальшь, но она настолько правдива, насколько я могу это сделать. — А сейчас ты притворяешься? Или уже перевоплощаешься? В лице Митча не было строгих линий, рот был слегка искривлен, с двух его сторон образовались скобкообразные складки, а глаза смягчали морщинки, расходившиеся вниз в уголках глаз. Ей хотелось протянуть руку и провести пальцами по этим складкам. Мэтти отрицательно покачала головой. — Нет. Я такая, какой ты меня видишь. Его руки крепче сжали ее. — Поговори со мной, — потребовал он. Странно, но казалось, что сказать хочется многое. Им подали еду, и они ели и пили, не замечая вкуса. Вокруг них сначала было шумно, а затем постепенно помещение опустело и стало тихо. Они оказались последними посетителями, и официанты зевали и ворчали по углам. Мэтти и Митч огляделись, моргая глазами. Но они ни на чем не могли сосредоточиться, пристально глядя в лицо друг другу, замечая тончайшие движения мышц и проблески чувств, и совсем забыли, что они не одни в этом мире. Митч засмеялся. — Мы, кажется, опять злоупотребляем гостеприимством. — Он оплатил счет, и они вышли в ночь. Пахло морем, тем смешанным запахом, когда оно встречается с землей, — одновременно солью и дождем. Они откинулись на кожаные спинки сидений «бентли», не глядя друг на друга. Пальцы Митча сжали ключи зажигания. — Отвезти тебя домой? — спросил он. — Тебе придется указывать мне путь к отелю. Мэтти опять подумала о притворстве, перевоплощении и фальши. «Не притворяйся сейчас», — сказала она себе. Она желала бы, чтобы Митч тоже пришел к такому решению, но ей хотелось также пойти в этом ему навстречу. — Я не хочу ехать домой, — сказала она. — Ведь это не дом. Это всего лишь номер в гостинице. Пустой квадрат с серым телевизионным глазом в углу. — Тогда поехали ко мне, — предложил Митч Говорт. «Бентли» помчался вперед, Мэтти откинула голову на кожаную подушку. Она даже не пыталась замечать, куда они мчатся, видела лишь вспышки проносящихся мимо огней и тени, падавшие на лицо Митча. Она чувствовала себя счастливой и расслабленной в пышном коконе машины. Она могла ехать так всю ночь, куда бы он ни выбрал путь. Но они свернули и поднялись вверх по крутому склону, обогнули его по кругу и въехали на стоянку. Когда Мэтти вышла из машины, у нее создалось впечатление, что она очутилась в парке, расположенном на горе, посреди которого стоит высокий дом с освещенным крыльцом. Митч взял ее за руку и повел за собой. В доме она огляделась, с трудом привыкая к свету. Она увидела полированные полы и персидские ковры, портреты, строгую мебель и фарфор. Мэтти засмеялась от восторга. — Что тут смешного? — спросил Митч, слегка обидевшись. — А я-то представляла «Холидэй Инн». — Что? Это английский загородный дом. Похожий на те, о которых я читал в детстве. Ну да, он несколько маловат. Но зато настоящий. «Вот оно, — подумала Мэтти. — Что-то вроде Леди-Хилла». Она чувствовала радость и безопасность в обществе Митча Говорта, а его веселая ирония лишь дополняла удовольствие. — Это твой дом? Он был слишком добродушен, чтобы продолжать обижаться на нее. — Нет. Конечно же, нет. Я арендовал его несколько дней назад. Раньше я останавливался в какой-нибудь норе, что доставляло мне мало удовольствия. И слава Богу, не то я бы не смог привезти такую особу, как ты, в подобное место. — Постой… — задумчиво сказала Мэтти. — Ты сказал… Ты сказал, что боялся, не окажусь ли я слишком занята и слишком хороша, чтобы найти время увидеться с тобой опять. Отчего же ты с такой уверенностью снял этот домик? Митч пересек то небольшое пространство начищенного до блеска пола, которое разделяло их. Он взял ладонями ее лицо и повернул к себе. Мэтти ответила ему открытым твердым взглядом. Его глаза были удивительно ясными и на таком близком расстоянии казались глазами гораздо более молодого человека. Он спокойно сказал: — Все, что можно сделать, нужно делать. Я никогда, даже в мелочах, не полагаюсь на случай. Но я также никогда не смешиваю то, что должно случиться, с тем, на что я могу лишь надеяться. Это очень важный принцип как в бизнесе, так и в сердечных делах. «Он снял весь этот дом, — подумала Мэтти, — в надежде, что может однажды привезти меня сюда. И если он собирался куда-то привезти меня, он хотел, чтобы это место напоминало то, о котором он мечтал с детства. Своего рода Леди-Хилл, владения его фантазии, куда можно привезти какого-нибудь фантазера». Сам порыв, как и щедрость жеста, глубоко потрясли ее. Даже в глазах защипало от сдерживаемых слез. Она знала, что не следует спрашивать об этом, но слова сами сорвались с языка. — А это сердечные дела? — Да, Мэтти. И если хочешь, они касаются души и тела. Если только хочешь. — Хочу. Он поцеловал ее, и это был очень важный поцелуй. Она как-то неловко обвила руками его шею. Митч поднял голову, чтобы взглянуть на нее, и сказал: — Владельцы дома уехали на юг Франции. На всю зиму. Ну, не благоразумно ли это с их стороны? — Более чем благоразумно. Он опять поцеловал ее, а затем потащил опять наружу. — Но машина моя. Я не хотел бы совсем разочаровывать тебя. — Он явно смеялся над ней. Мэтти издала легкий стон. — Мне наплевать и на дома, и на автомобили. Мне все равно, даже если бы ты пошел к торговцу в розницу предметами мужского туалета и взял напрокат костюм, этот неброский галстук и чистую белую рубашку. Мне было бы наплевать, даже если бы твои очки принадлежали театральному реквизиту. По крайней мере, пока за ними находишься ты. Ведь ты настоящий Митч, не правда ли? Ты не испаришься, как дымок от сигареты? Он уже не смеялся. Притянул ее к себе, почти грубо, и скомандовал: — Пойдем в постель. После этого Мэтти уже не видела ни отделанных панелями стен, ни укоряющих лиц на портретах. Они, спеша и спотыкаясь, поднялись по лестнице в сумрак комнаты, где стояла кровать с четырьмя колонками, завешенная темно-красным пологом. Митч раздел ее, а затем сбросил свою одежду. Он ничуть не стеснялся, был нежен, пытлив и не делал торопливых движений. Когда он прижал ее к себе, она почувствовала, что его солидность создавалась не за счет полноты, а за счет тугих мускулов. Она провела руками по его плечам и бедрам и прижалась губами к жестким вьющимся седым волосам, покрывавшим грудь. Естественность Митча вызывала в ней ответную естественность. С ним не было никакой необходимости изнемогать от страсти, он не торопился овладеть ею, пока она не была к этому готова. И Мэтти не надо было сожалеть о том, что она не слишком стройна или что у нее незагорелое тело, или пытаться втянуть свой округлившийся живот. Митч наклонился и поцеловал его, а затем мягко развел руками ее бедра. Казалось, он ожидал, что и она будет вести себя подобным образом. Но Мэтти никогда не делала этого, с того самого времени, с Тедом Бэннером, когда она замкнулась в себе и даже забыла, что можно испытывать удовольствие и смотреть с восторгом на человека, который возбуждает ее. Даже с Александром она закрывала глаза или отворачивалась. Но с Митчем, хотя это было необъяснимо, все было иначе. Она, в свою очередь, опустилась на колени и прикоснулась к его естеству. Оттянув назад кожицу, она обнажила розовую округлость, которая поднялась ей навстречу. Все казалось так просто и так естественно, как чувствовать его руки, его рот, прижавшийся к ее губам. Митч поднял ее вверх и положил на кровать. Очень медленно, но непрерывно он начал гладить пальцы ее ног, целуя их, сгибая в суставах и гладя языком изгиб каждой ступни. Он нежно охватывал губами лодыжки, слегка втягивая ртом кожу, а затем сжимал их ладонями, как бы связывая воедино. Поднимаясь выше, к голени и икрам, он словно исследовал эту белую кожу, зарываясь затем лицом в теплые углубления под ее коленками. — Митч, — умоляла она. — Перестань. Я не могу этого вынести. — Она чувствовала неловкость из-за его безмерного терпения, убежденная в том, что ни одна частица ее тела не стоит такого безраздельного внимания. — Не мешай мне, — укоризненно прошептал он. Она лежала на спине и скользила взглядом по складкам и петлям занавесок. Пальцы Митча, удивительно светлые, едва ощутимо похлопывали ее по бедрам и тазу. Он встал на колени и опять поцеловал ее живот, а затем крепко сжал руками талию. — У тебя восхитительная кожа, — сказал он. — Она такая мягкая, что кажется, вот-вот растает. — Для этого я достаточно упитанная, — улыбнулась она, смыкая руки вокруг его шеи и привлекая его ближе, чтобы дотянуться до его рта. Митч снял очки и аккуратно положил их на туалетный столик у кровати. Без них его глаза казались беззащитными и растерянными. — Подожди, — приказал он. — Я еще не готов. Мэтти опять опустилась на спину. Нет, Митч не был беззащитным, по крайней мере в этом. Он хорошо знал, чего хотел. Он переключил свое внимание на ее груди. Охватывал их руками, гладил пальцами соски и смотрел, как они выступают, твердея. Он нежно их посасывал, затем прижался лицом к белой роскошной плоти. — Они слишком большие, — прошептала Мэтти, прикрывая грудь рукой. — О нет, — невнятно возразил Митч. — Если в них и есть хоть маленький изъян, так это то, что они недостаточно большие. — Он убрал ее руку и опять начал ласкать груди губами и языком. Мэтти закрыла глаза. Она слабо стонала от удовольствия и чувствовала, как его рот расплывается в удовлетворенной улыбке. Он поднял ее руки и поцеловал каждый палец, а затем зарылся лицом ей в подмышки. Поглаживая плечи и шею, он целовал тонкую кожу под подбородком. А затем продолжил свое путешествие, начиная от шейного позвонка вниз по всей длине спины. Мэтти чувствовала вялость и истому, в то же время каждый дюйм ее тела трепетал и горел огнем, и она ощутила легкое натяжение мышц и прилив крови в кончиках пальцев, а также в сокровенных тайниках своего естества. Не спеша, Митч опять повернул ее. Он развел ей ноги и стал на колени между ними, глядя на нее сверху вниз. Их глаза блуждали по лицам друг друга. А затем, по собственной инициативе, поскольку она хотела его, Мэтти метнулась ему навстречу. Она приподняла бедра, направляя и предлагая ему себя. Впервые в жизни она не боялась мужчины. Впервые в жизни она не закрывала глаза, содрогаясь от страха или сомнений, что все будет хорошо и быстро окончится. Она не отрываясь смотрела на Митча. Ее губы искали его губы и наконец слились в поцелуе. Как только он овладел ею, Мэтти поняла, что она сможет получить удовольствие. И как только поняла это, все ее чувства выплеснулись навстречу этому желанию. Оно не было похоже на поспешные, хаотичные движения, которые ей случалось испытывать раньше. Это было непреклонное, всеохватывающее блаженство, зарождающееся где-то внутри нее, но медленно, очень медленно, в такт их общим движениям. Она шептала его имя, а потом кричала его вслух. Ее пальцы вонзились в него, а затем разжались и бессильно упали. Восхитительные волны пронзили Мэтти до кончиков пальцев, которые перед тем ласкал Митч, рассыпавшись на сотни ослепительных струй. Она закричала голосом, которого сама не узнавала, вырвавшимся из глубины, и крик замер, перейдя в сотрясающие рыдания. И только тогда Митч позволил себе ответить на ее восторг. Мэтти потянулась к нему, баюкая его в своих руках и наслаждаясь его блаженством, потому что это было частью ее триумфа. Быть освобожденной от необходимости притворяться, или отшучиваться, или подольщаться было поистине откровением. Они тихо лежали, наполовину скрытые пунцовыми занавесками, прильнув друг к другу. Мэтти испытывала такое чувство счастья, что на глаза ей навернулись слезы и потекли по щекам. — Я никогда не испытывала ничего подобного, — прошептала она. Митч, глядя на нее с ленивым удовлетворением, приподнял одну бровь. Он вытер слезы большим пальцем руки, а затем попробовал их на вкус. — Но почему? — мягко спросил он. Мэтти вздохнула и положила голову ему на плечо. Волосы на его груди щекотали ей щеку. Весь остальной мир казался где-то далеко. Она чувствовала себя в блаженной безопасности и радовалась этому. — Я уж лучше скажу тебе, — сказала она нехотя, — если ты не собираешься еще раз исчезнуть. — Не говори глупостей. Но в любом случае тебе лучше рассказать. Она начала с самого начала. И поведала ему то, чего никогда никому не говорила, кроме Джулии, о Теде Бэннере и его мерзких, гнусных поползновениях, и о собственной вине, и каким образом она все это отбросила от себя. Лицо Митча потемнело. — Господи Иисусе! Моя бедная девочка! — Все в порядке, — сказала она. — Я была скверным подростком. — Легче было смотреть на все под этим углом, наслаждаясь глубоким сочувствием Митча. Более уверенно она рассказала ему о Джоне Дугласе и Джимми Проффите и всех тех мужчинах, которые были после них. Митч слушал не перебивая. — Мне никогда не нравилось это, — прошептала Мэтти. — Может быть, я сама не хотела позволить себе получать от этого удовольствие. — Я не психолог, — сказал Митч, — но это вполне возможно. Мэтти рассказала ему о своей длительной связи с Крис Фредерикс. Он терпеливо кивал. И наконец она дошла до Александра. И только в этот момент, когда она говорила об Александре, Леди-Хилле, Лили и Джулии, Митч выказал некоторую ревность. — А где сейчас Александр? — Наверно, в Леди-Хилле. — Ты собираешься опять повидать его? Мэтти внимательно посмотрела ему в лицо, а затем отрицательно покачала головой. — Нет. Во всяком случае, не с этой целью. Да и как я могу? Александр мой друг. Я решила, что лучше будет для нас обоих остаться только друзьями. Митч удовлетворенно кивнул, а затем, обняв ее и держа перед собой, спросил: — И это все? Внезапно Мэтти расхохоталась. — Да. Так немного, правда? К ней опять вернулось чувство легкости. Ей хотелось раскидаться по огромной кровати, если бы руки Митча не держали ее. Его губы коснулись ее уха. — Достаточно, чтобы продолжить. — Он тоже смеялся, она поняла это по его тону. Митч протянул руку и выключил свет. Прижавшись телом к ее спине, он охватил коленями ее ноги. — Все хорошо, — сказал он ей. — Все будет хорошо. Ты сейчас в безопасности. Спи, любовь моя. Мэтти так долго ждала, чтобы кто-нибудь сказал ей эти слова. И теперь все оказалось так просто и так естественно: Митч Говорт наконец сделал это. Мэтти покорно закрыла глаза и погрузилась в сон. Утром, при свете тусклого осеннего солнца, осветившего комнату, она опять повернулась к нему. Она проснулась с чувством прежнего циничного недоверия, омрачавшего ее счастье, но теперь она потянулась с этим к Митчу. От прикосновения к его животу, округлым мышцам груди и рук к ней вернулось чувство узнавания. Он сонно улыбнулся ей, а затем поднял и положил на себя. Мэтти распласталась на нем как лягушка, а ее волосы накрыли их обоих словно покрывалом. Он заставил ее испытать это еще раз. Легкость, с которой все это произошло, и непередаваемая глубина удовольствия лишили Мэтти способности выразить свои чувства вслух. Потом она лежала, свернувшись калачиком в теплом гнездышке из одеял, наслаждаясь своим счастьем. Митч прикоснулся к ее щеке, затем встал и надел халат. Он подошел к окну и стоял спиной к ней, засунув руки в карманы и глядя в сад. Он так долго стоял не двигаясь, что Мэтти испугалась. Она уже вообразила, что сейчас он обернется и скажет ей что-то ужасное, например, что ему необходимо уехать, что во всем этом нет ничего хорошего и что у нее нет никакой защиты. Она выбралась из постели и подошла к нему, жадно обхватив его руками, зная, что если он скажет что-нибудь подобное, она не сможет это перенести. Внизу в саду она увидела желтые и красновато-коричневые листья, блестящие после ночного дождя, и торчащие между ними голые ветви деревьев. И тут Митч спросил: — Ты выйдешь за меня замуж, Мэтти? Она услышала эти слова, но не сразу поняла их смысл. А в следующий момент почувствовала такое облегчение, такую радость и уверенность в себе, что все это показалось гораздо сильнее того физического наслаждения, которое он ей дал. — Да, — ответила Мэтти. Митч подхватил ее на руки и отнес обратно в нелепую кровать под балдахином.Мэтти и Митч поженились в начале декабря, спустя месяц после их первой встречи. Они зарегистрировались в брачной конторе при святом Панкратии, находившейся прямо за углом квартиры Мэтти в Блумсбери. Был понедельник, единственный день, когда у Мэтти не было вечернего спектакля. — Мы хотим сделать это без всякого шума, — твердо сказала Мэтти. Но она заметила разочарование на лице Лили и согласилась взять ее подружкой невесты. Лили нарядилась в розовое платье до лодыжек с пышными рукавами и в белую меховую пелерину, наброшенную на плечи, от которой она была в восторге. На невесте было черное макси-пальто, отороченное черным мехом по воротнику и манжетам. Оно немногим отличалось от того, которое купил ей Джон Дуглас, чтобы она не мерзла во время своего первого зимнего турне. Из-под золотистой круглой шапочки виднелись завитки ее восхитительных волос. Она была похожа на Офелию, но без цветов в руках. Только у Лили был маленький букетик из маргариток и гвоздик розоватых оттенков, в тон ее платью. Митч Говорт, сияя гордостью, был облачен в двубортный темно-синий костюм с розой в петлице. Джулия изо всех сил старалась подавить изумление, когда Мэтти представила его ей. Он казался таким непримечательным: невысокий лысеющий мужчина с небольшим брюшком и добродушной улыбкой. Но не было никакого сомнения, что Мэтти влюблена в него, а он в нее. В день свадьбы, казалось, они не замечали никого вокруг. Их глаза без конца устремлялись друг к другу с жадным нетерпением, как будто они не могли дождаться того момента, когда останутся наедине. Джулии их неприкрытая страсть была так очевидна, что казалась даже неприличной. Она слегка пожала плечами, удивляясь этому. На короткой церемонии венчания присутствовало мало гостей. Приехали братья и сестры Мэтти и Феликс, выглядевший очень мрачно и не к месту в своем утреннем туалете. Со стороны Митча был только его младший брат, рыбак из Уитби, самый близкий ему человек. Но после окончания церемонии, когда все медленно вышли на улицу, следуя за Мэтти и Митчем, державшимися за руки, их окружила толпа фоторепортеров. Несмотря на все старания Мэтти не предавать это событие гласности, новость все-таки просочилась, и сейчас со всех сторон замелькали вспышки фотоаппаратов, на фоне которых свет декабрьского утра казался еще мрачнее. Мэтти старалась спрятаться за Митча. Она почувствовала огромное облегчение, когда выяснилось, что фотографы собрались не столько ради нее, сколько ради Рикки. В последние годы Рикки добился некоторой славы как ведущий гитарист группы «Одуванчики». Он явился на свадьбу Мэтти в белых брюках и гофрированной впереди рубашке, с разрисованным цветами лицом. Он отмахивался от фотографов и бодро парировал вопросы репортеров. — Нет-нет, я всего лишь выдаю замуж сестру, ведь я имею на это право? Это ее день. А ее фотографии у вас есть, разве не так? Так что уходите. Митч и смеющаяся Мэтти сели в его необыкновенно элегантный автомобиль, а остальные гости — в свои машины, цепочкой выстроившиеся следом. Вся «кавалькада» отправилась обедать в близлежащий итальянский ресторан, который очень нравился Мэтти. Джулия хотела устроить вечеринку в своем доме. Обе подруги опять помирились и дружили почти как прежде. Они никогда не говорили о Леди-Хилле или об Александре. Джулия старалась радоваться счастью Мэтти, загнав вглубь свои воспоминания. — Ну, пожалуйста, позволь мне устроить это, — просила она Мэтти. — Я так люблю такие вечеринки. — У тебя будет слишком много забот, — сказала Мэтти. Джулия пристально посмотрела на нее. — Но какие же это заботы? Ведь это твоя свадьба. Мягко, но убедительно Мэтти сказала: — Я предпочитаю просто сходить в ресторан, без всякого шума. Понимаешь, важно то, что я выхожу замуж за Митча, а не вся эта свадебная мишура. Это обидело Джулию, но она поняла, что повторять предложение не имеет смысла. К торжественному завтраку было приглашено еще несколько гостей. Это были в основном театральные друзья Мэтти, но Джулия была рада увидеть среди них несколько знакомых лиц из того мира, где они с Мэтти когда-то обитали вместе. Александр также был приглашен, но позвонил и извинился, так как ему необходимо было лететь в Нью-Йорк. Джулия расценила это как трусость, но она не могла говорить об этом с Мэтти. Во время коротких бесед перед свадьбой они ни разу не коснулись больной темы. Свадебный завтрак был нарядно сервирован на втором этаже ресторана. Джулия сидела в конце длинного стола с Феликсом, Роззи и еще несколькими знакомыми ей людьми. Было выпито много шампанского, и за столом не утихала веселая болтовня. Лили тоже выпила два бокала, невероятно развеселилась, но вскоре ее охватила сонливость. Брат Митча сказал прекрасную шутливую речь и подарил зевающей Лили, как главной подружке невесты, золотой медальон на цепочке. Ответный тост Митча был очень кратким. — Я никогда не думал, что мне выпадет такое счастье. Знаю, что я не заслуживаю этого. И хочу поблагодарить Мэтти за то, что она подарила мне его, а также и всех вас за то, что пришли разделить с нами этот праздник. Джулия залпом выпила свой бокал, стараясь сдержать слезы и улыбаясь сквозь них Мэтти, которая не видела никого, кроме Митча. Наконец завтрак закончился. Вокруг раздавался смех и дружеское похлопывание, когда Джулия вместе со всеми спустилась вниз по лестнице проводить жениха и невесту. Вид у молодоженов был ошеломленный и выдавал их безудержное желание убежать, чтобы обрести уединение. У обочины тротуара их ждала машина Митча. Рикки прикрепил к бамперу белые ленты и оловянные кружки. Мэтти и Митч собирались провести ночь в «Савое», а на следующий день вернуться в Чичестер. — Рождество мы проведем за границей, — объяснила Мэтти. Здесь же, на тротуаре, среди небольшой толпы людей, Джулия и Мэтти поцеловали друг друга, вытирая со щек помаду. Джулия была уверена, что Мэтти не выделяет ее из общей толпы гостей. — Счастливого пути, — прошептала она. — Желаю вам обоим большого счастья. Лицо Мэтти и так излучало его. — Я буду счастлива до тех пор, пока Митч будет со мной. Джулия бросилась ей на шею. От Мэтти исходил тот же знакомый аромат. И хотя теперь ее духи были более высокого качества, чем прежние «Коти», все же они носили тот же характерный для Мэтти запах, несколько сладковатый и с легкой примесью сигаретного дыма. Джулия почувствовала, что теряет ее. — До свидания. — Они напоследок пожали друг другу руки. Мэтти сделала забавную гримасу и на какой-то момент стала прежней Мэтти. Затем она села в автомобиль рядом с Митчем и на прощание махала рукой, пока машина не скрылась из вида, унося с собой трепещущие на ветру свадебные ленты. — Ну, с меня довольно, — пробормотала рядом с ней Мэрилин. — Я отвезу Лили домой, если ты хочешь отправиться с компанией куда-нибудь еще. — Спасибо, — сказала Джулия, не имея ни малейшего желания возвращаться в опустевший дом. Феликс поехал домой, к Джорджу. Джулия присоединилась к Рикки, актерам и своимстарым знакомым. О том, как они провели остальную часть дня, она почти не помнила. Как бы то ни было, похождения закончились в каком-то клубе, где она танцевала с каким-то артистом, руки которого ей все время приходилось вытаскивать из-за лифа своего платья. Оказавшись наконец одна в такси по дороге домой, она глупо рыдала, не в силах противиться тоске, вызванной многочисленными возлияниями в честь празднования свадьбы Мэтти.
После обычного ежегодного «смерча», пронесшегося и опустошившего магазины фирмы «Чеснок и сапфиры», наступило Рождество. Магазины получили значительную выручку, и склады почти полностью опустели. — Благодарение Богу, нам еще с лихвой хватит и на следующий год, — резюмировала Джулия под новогодней елкой, как она это делала всегда. Но в глубине души ее не очень занимали барыши и товар. Джулия и Лили проводили Рождество в доме на канале. Утром они вместе распаковывали подарки на постели Лили, а в десять часов позвонил Александр и пожелал им счастливого Рождества. Джулия знала, что в десять тридцать, следуя твердо установленной традиции, он пойдет в церковь, чтобы послушать одну из проповедей утренней службы. Она мысленно видела маленькую каменную церквушку, битком набитую людьми и благоухающую сосновыми ветками и камфарными шариками, и слышала хор, распевающий «Слушайте Вестника Ангелов». «Прошло уже десять лет», — подумала она. Лили схватила телефонную трубку, не дав Джулии закончить ответные поздравления и поблагодарить Александра за добрые пожелания, и затараторила о своем. Закончив разговор, она положила трубку, не спросив Джулию, не хочет ли она сказать еще что-нибудь. Потом Джулия приготовила традиционный обед, и к ним пришли друзья, в числе которых были и Феликс с Джорджем. Джордж сидел у камина, прикрыв колени пледом, складки которого умело скрывали кресло на колесах. Он слегка пригубил стакан с вином и съел крошечный кусочек индюшачьей грудинки. Он подарил Джулии прелестную инкрустированную деревом шкатулку. Джулия восхищалась ею, когда та стояла на письменном столе в святая святых фирмы «Трессидер дизайнз». — Джордж, ты не должен отдавать ее мне, — запротестовала Джулия, но он прикрыл ее руки своими. — Ты будешь хранить там свои драгоценности. Они сидели несколько в стороне от других, здесь Джордж чувствовал себя спокойнее. Джулия мельком взглянула на него. — Вся беда в том, что настоящие драгоценности нельзя положить в шкатулку. — И взгляд Джорджа остановился на Феликсе. — Вот в чем истина. К счастью, мы оба поняли это, верно? Разве мы не счастливые люди? «Да, — подумала Джулия, оглядывая свою нарядную комнату, согретую дружеским теплом и волшебным духом Рождества. — Да, счастливы». Она сжала руку Джорджа, удивляясь, почему она вечно отделывалась от него как от насмешливого сердцееда. После обеда все играли в шарады. Несмотря ни на что, Джулия все еще цеплялась за свои прежние представления о настоящем Рождестве. Феликс и Лили играли в демонов. Уже за полночь разошлись последние гости. Джулия поднялась наверх пожелать Лили спокойной ночи. Она легла поверх одеяла и взяла руки дочери в свои. — Спасибо за подарки. Это был прекрасный день. Я тебя люблю, мамочка. «Нельзя положить в шкатулку настоящую драгоценность». А Лили была ее самой большой драгоценностью. — Я тоже люблю тебя.
Лили должна была ехать в Леди-Хилл на новогодние каникулы. Обычно она не ездила туда в рождественские дни, но девочка спросила, нельзя ли ей поехать на сей раз, так как летние каникулы получились на неделю короче, и Джулия не видела причин отказать ей в этом. Александр с радостью принял это предложение, и Джулия подумала, что, возможно, это потому, что он не хочет встречать Новый год один в пустом доме. Она удивлялась тому, как часто он вспоминал о новогоднем празднике десятилетней давности и какие живые воспоминания он сохранил до сих пор, несмотря на старания Феликса и его подручных стереть все следы былой трагедии со стен Леди-Хилла. Когда Александр приехал за Лили, а это было за два дня до конца старого года, они с Джулией сдержанно поздоровались. Это была их первая встреча после того ее визита в поместье, когда она увезла с собой Лили. Они не знали, как посмотреть в глаза друг другу, и прикрылись холодной вежливостью. — Ты возражаешь против того, чтобы она погостила у меня несколько дней? — Да, — ответила Джулия. — Но она хочет ехать, а я никогда не удерживала ее, разве не так? — Спасибо. А что ты будешь делать на Новый год? Для Джулии это была ночь, которую надо было поскорее забыть, чем праздновать. Если бы она даже догадалась о беспокойстве за нее Александра, она бы не придала этому значения, чтобы не обольщаться напрасно. Она пожала плечами. — У меня есть два или три варианта. Выберу что-нибудь из них, или вообще ничего. Это неважно. — Ты всегда можешь приехать к нам в Леди-Хилл, — сказал Александр. В какой-то момент Джулия почти обрадовалась предложению. Но тотчас ей опять представилась дымовая завеса, которая жгла ей горло и слепила глаза и сквозь которую она видела прежние образы тех, в гибели которых чувствовала и свою вину. — Я не могу, — поспешно сказала она. — В следующий раз. Александр кивнул, стараясь скрыть разочарование. — Если Лили готова, думаю, нам пора ехать. Джулия вышла на улицу, чтобы помахать им на прощание. Затем села в свой «витесс» и поехала на работу, где провела весь день, прерываемый послерождественскими телефонными звонками некоторых ее поставщиков. В итоге (и это было невероятно) Джулия встретила Новый год с Бетти и Верноном. Бетти пригласила ее по телефону, причем так неопределенно, что трудно было принять это за приглашение, но Джулия приняла его. Она точно знала, как пройдет этот вечер, и уверенность в том, что будет невыносимо скучно, лишний раз убедила ее, что противоречивые стремления к веселым вечеринкам и одиночеству обычные ее альтернативы. На Фэрмайл-роуд, разумеется, больше никого не было. Бетти и Вернон не устраивали званых вечеров. Джулия не могла представить, чем они занимаются теперь, когда Вернон вышел на пенсию. Когда Джулия приехала, она увидела, что газета на кофейном столике лежит развернутой на странице с телевизионной программой и Вернон уже отметил выбранные им на праздничный вечер передачи. Вероятно, он так вот и сидел у телевизора в своем кресле, пока Бетти занималась хозяйством. Казалось, старики были рады видеть ее. Они усадили ее в лучшее кресло, и Бетти первую чашку чая подала ей. Джулия заметила, что сейчас командует в доме Бетти. Теперь она решала, когда ставить чайник и когда отключать лишнюю трубу обогрева. Вернон распоряжался лишь кнопками телевизора, а все остальное он предоставил жене. Он называл ее «мамочка», а она слегка ворчала на него. Это напомнило Джулии те времена, когда Бетти удочерила ее, а она была маленькой и послушной девочкой, до того как превратилась в дерзкую мятежницу. Джулия видела, что Бетти очень внимательна к своему не слишком требовательному супругу. Она казалась счастливее, чем когда-либо прежде, и уже ничуть не боялась Вернона. За четверть часа до полуночи Бетти спросила: — Не хочешь ли стакан вина, Джулия? Чтобы сказать тост в честь нового десятилетия? Джулия заморгала глазами. Насколько она помнила, в доме никогда не бывало никаких спиртных напитков. — Да, пожалуйста. Это было бы… замечательно. Она собрала чайные чашки, поставила на цветной поднос и последовала за матерью на кухню. Бетти протянула ей бутылку с желтоватой жидкостью, и Джулия прочла написанную от руки этикетку. Это было вино домашнего изготовления из цветов бузины, а бутылка была куплена или скорее всего выиграна на церковных распродажах и с тех пор сохранялась как реликвия. Бетти совершала своего рода жертвоприношение, открывая для нее эту бутылку. — Спасибо, что приехала, — сказала Бетти. — Это очень важно для твоего отца, ты же знаешь. — Правда? — Джулия хотела бы, чтобы Бетти сказала, что это важно для нее самой, но говорить откровенно никогда не было свойственно для Бетти. А сейчас этого уже не изменишь. — Как Лили? — У нее все хорошо. Она написала открытку, где благодарит тебя и отца за свитер… — Пустяки. Она уехала в Леди-Хилл, да? Бетти, конечно же, уже знала об этом. — Да. — Она чудесная девочка. — Я знаю. После небольшой паузы Бетти сказала что-то такое, что удивило Джулию. Она спросила: — Ты когда-нибудь думаешь о ней? О своей настоящей матери? В такие праздники, как Рождество и Новый год? — Всегда, — тихо ответила Джулия. — Бетти, ты знаешь что-нибудь о ней? Кто она была или откуда приехала? Однажды она задавала уже этот вопрос, сразу же после рождения Лили. Тогда Бетти ответила: «Я твоя мать. Зачем тебе знать это?» А потом добавила: «Я ничего о ней не знаю». Теперь, после минутного молчания, Бетти сказала: — Я уже говорила тебе. Ты приехала к нам из приюта. Там были очень осторожные люди. Они не хотели никаких неприятностей, понимаешь? Джулия отрицательно покачала головой. Она взяла руку Бетти, но в это время из соседней комнаты раздался нетерпеливый голос Вернона: — Идите скорее, вы пропустите бой часов Биг Бена. Бетти высвободила руку, собрала поднос с бокалами и торопливо вышла из кухни. Когда замер последний удар Биг Бена и грянула знакомая мелодия, записанная заранее, вероятно, несколько месяцев назад, Джулия и ее родители поцеловали друг друга и подняли стаканы с вином из бузины. — Счастливого Нового года! — сказала Бетти. — Счастливого Нового года! — откликнулись Джулия и Вернон. Наступил 1970 год. На Фэрмайл-роуд было темно и тихо. Не было видно никаких признаков празднества. Предусмотрительность Джулии, которую она проявила, оказавшись в таком окружении, избавила ее от обычных страхов. Здесь не было камина с дровами, не было красивых свеч, музыки и танцев. Она вспомнила Леди-Хилл с его тихим парком и знала, что Лили скоро уснет в своей кровати, потому что Александр был очень строг относительно дисциплины. Она мысленно пожелала счастливого Нового года Мэтти с Митчем, Феликсу с Джорджем, Мэрилин, а также Николо Галли и всем остальным. Спустя двадцать минут Вернон задремал в своем кресле. Джулия посидела еще немного с Бетти, а затем собралась домой. Ее больше не пугала перспектива возвращаться в пустой дом. Бетти стояла в освещенном проеме двери, пока Джулия не отъехала. Улицы были почти пустынны и блестели от дождя. Джулия внимательно смотрела на дорогу, радуясь, что ночь уже почти прошла. Ей встретилось всего несколько автомобилей и пришлось затормозить из-за случайных подвыпивших весельчаков, выскакивавших на поворотах улиц. Вскоре она въехала в Лондон.
Александр оглядел длинный стол. Он был приглашен на обед в дом соседа и, оставив Лили на попечение миссис Тови, поехал на вечеринку, так как не хотел оставаться один в Леди-Хилле. Он надеялся, что приедет Джулия, но теперь стало ясно, что ожидания напрасны и пора было избавляться от призрачных надежд. Между ними встал другой, новый призрак, им оказалась Мэтти. Но теперь Мэтти вышла замуж, и он не имел никакого представления, где была в эту ночь Джулия и что она делала. Александр был реалистом и дорожил воспоминаниями о тех счастливых днях, которые делила с ним Мэтти. Когда она уехала, он тосковал по ней, как, впрочем, и сейчас. Но ему хотелось, чтобы что-то изменилось, чтобы они, все трое, могли быть более счастливыми. Джулия отвела взгляд, когда он попросил ее ехать с ним домой, спустя десять долгих лет. «Я не могу», — сказала она. От этих слов на Александра повеяло холодом, и он почувствовал, что годы ожидания в конце концов пришли к своему логическому концу. И вот он очутился среди веселой компании, как будто для того, чтобы отпраздновать наконец свое примирение с этой нелегкой истиной. Александр понимал, что уже достаточно долго был одинок. Он устал от этого чувства, а впереди было следующее десятилетие и перспектива постепенного увядания. Девушка, сидевшая напротив, наклонилась к нему через стол. Он прикинул, что ей было за тридцать. У нее были прекрасные волосы и серые глаза. Кажется, ему представили ее как Клэр. — О чем задумались? — смело спросила она. — Что-нибудь стоящее? Александр улыбнулся. — Не стоит и половины медного гроша. Девушка засмеялась, как будто он выдал остроумную эпиграмму. Когда она смеялась, ее верхняя губа так очаровательно приподнималась, обнажая десны. — В таком случае, это в два раза дороже того, о чем думаю я, — сказала она. — Кажется, — заметил Александр, — нам обоим лучше перестать задумываться. В полночь, когда все присутствующие взялись за руки, он заметил, что Клэр протискивается через круг, чтобы стать рядом с ним. (обратно)
Глава двадцать третья
Лето, 1971 год. В офисе царила неразбериха из-за сваленных коробок, рассыпанных повсюду древесных стружек и смятой оберточной бумаги, среди которой шныряла энергичная молодая особа. Наконец она нашла то, что искала, развернула упаковку и протянула вещь Джулии. — Взгляните-ка. Джулия внимательно ее осмотрела. Это был чайник, сделанный в форме котенка с клетчатым бантом на шее. Одна поднятая лапка служила носиком, а загнутый кверху хвост — ручкой. Вид этого создания был совершенно очарователен. Девушка протерла чайник рукавом, чтобы он заблестел еще ярче. — Великолепный китч, — убедительно сказала она. — Не вижу в нем ничего от китча. Джулия перевела взгляд на девушку. На ней были очень короткие шорты с нагрудником впереди и бледно-голубая тенниска с надписью «Спеши поцеловать». Длинные загорелые ноги были обуты в носки до щиколоток и башмаки на платформах. Видно было, что ей едва исполнилось двадцать лет, возможно даже, что она только что окончила колледж. Она принадлежала к числу новых расторопных служащих Джулии. — Но он забавный, — настаивала девушка. — Люди любят потешные вещи. Джулия вздохнула. — Не думаю, чтобы мне понравились чайники в виде котят, подносы в виде туалета или грубо намалеванные полотна, которые я вряд ли повешу на стене у себя дома, даже если все домашние и друзья будут покатываться от этого со смеху. — Но… — девушка заколебалась. Она действительно была слишком расторопной, чтобы намекать на то, что ее наниматель недостаточно молода для самостоятельного решения относительно вкусов молодежи. Но Джулия и так прочла ее мысли. Неожиданно для себя она рассмеялась. — Ну хорошо. Возьмите для начала две дюжины. Попытайте счастья в Оксфорде. Уж там-то они будут пользоваться успехом? Посмотрим, как они пойдут там, прежде чем пустить их в другие магазины. — А как насчет подносов? — Пока никак. — А эстампы? — Можно тоже пару дюжин. Под вашу личную ответственность. — Сьюки оказалась права в прошлый раз. Джулия это помнила. — Прекрасно. Фантастика. А теперь, подождите, я что-то вам покажу… Джулия взглянула на часы. — Что бы это ни было, мне пришлось бы ждать до завтра. Стойка для зонтиков в виде шкуры леопарда? С вытесненным на коже стихотворением «Матери»? Сегодня на это у меня нет больше времени. — О’кей, как скажете. — После минутного колебания Сьюки добавила: — Мне кажется, люди устают от беспрерывного следования хорошему тону. Всех этих буфетов из натуральной сосны, стеклянных и бронированных столиков и прочего в этом же духе. Им хочется чего-то немножко неправильного и декадентского. — Сьюки любила свою работу, в этом не было сомнения. Ее хорошенькое личико излучало свет, и она мало походила на представительницу декадентства, за которое так ратовала. — Может, вы и правы, — сказала Джулия. Она смотрела, как Сьюки отошла от нее на своих высоких платформах и склонилась над коробками. Девушка очень напоминала Лили. Лили, конечно, понравился бы чайник в виде котенка. Только у Лили еще не выработался вкус. Пока нет. Но девочке пошел уже одиннадцатый год. Не успеешь оглянуться, как он у нее появится. Джулия повернулась в своем вращающемся кресле, чтобы посмотреть в окно. Мысли о Лили всегда вызывали у нее беспокойство. Джулия надеялась, что по мере взросления Лили отношения между ними будут постепенно смягчаться и переходить в более дружеские, сестринские. Она уже представляла ту духовную близость, которой у них с Бетти никогда не было. Джулия была уверена, что готова к доверительности и сможет держать себя так, как хотела, чтобы держалась с ней Бетти, пока не стало слишком поздно. Но этого не случилось. Если Лили хотела кому-то довериться, она обращалась к Александру. Или, возможно, к Клэр. Джулия смотрела в окно. Окна напротив были так плотно покрыты пылью, что она с трудом могла видеть офисы, погруженные в межсезонное затишье. Она перевела взгляд вниз, на уличное движение. Деловая улица нагоняла тоску. Даже сейчас Джулии невыносимо было думать о Клэр. Эта картина не отвлекала от грустных мыслей. Лили взрослела вдали от нее. Джулия боялась, что была для Лили всего лишь матерью, человеком, который следит за тем, чтобы она вовремя отправилась в постель, вводит неприятные строгости в одежде и выполнении домашних обязанностей, а также при выборе друзей. Именно то, что делала Бетти. Джулия горько усмехнулась. По крайней мере, она хоть понимает заключающуюся в этом иронию судьбы. Но от этого беспокойство не становилось менее острым. «Если бы только я могла оставаться дома, — подумала она. — Как Бетти. Может, тогда у нас с Лили все было бы иначе? Может, тогда она была бы моей, а не папиной?» Но Джулия последнее время слишком часто задавала себе одни и те же вопросы, на которые не находила ответов. Единственное, что было ясно, это все возрастающая строптивость Лили. Она прислушивалась только к голосу Александра. И иногда — к Клэр, потому что Клэр нравилась Лили. Джулия резко повернулась к столу. У нее собралась уже гора бумаг, в офисе ждала секретарша, готовая печатать под диктовку. Джулия нажала на кнопку селектора и попросила девушку войти. Составив письма, Джулия подтянула к себе пачку бумаг и в течение часа усердно работала над ними. Потом, заметив, что в других офисах стало как-то тихо, она посмотрела на часы. Полседьмого, все уже ушли домой. Ей тоже пора, тем более что в семь у нее встреча с Феликсом. Они договорились пообедать вместе. Джулия прошла в ванную комнату, составлявшую часть ее офиса, слегка усмехнувшись, как всегда, при воспоминании о темном универсальном помещении позади ее первого магазина. Несколько минут она стояла под душем, наслаждаясь бодрящими струями теплой воды, затем быстро вытерлась полотенцем. Автоматически, боковым зрением, она отметила в зеркале, что у нее по-прежнему плоский живот и упругая кожа на руках и бедрах. Затем подкрасилась, причесалась и надела легкое шелковое платье с широким, расшитым бисером стоячим воротником. Платье было дорогое, и это было видно, но ей казалось, что ему не хватает определенности стиля, которого Сьюки сумела достичь даже в своих вельветовых шортах. «Кажется, я теряю тонкость восприятия, — подумала Джулия. — Как с этими дурацкими чайниками. Что я теперь знаю?» «Или хочу знать», — поправила она себя. Она прошла обратно в офис, взяла один из чайников и положила себе в сумку. Она спросит Феликса, что он думает по этому поводу. Джулия надеялась, что один вид Феликса вселит в нее бодрость. Он ждал Джулию за угловым столиком в зеркальном баре, сразу же поднялся ей навстречу и расцеловал в обе щеки. А затем, держа за руки, немного отстранился, чтобы получше разглядеть. — На тебе великолепное платье. Если это говорит Феликс, значит, так оно и есть. Он все еще считался строгим ценителем, сам оставаясь вне всякой критики. В этот вечер на нем был кремовый шелковый жакет стиля Неру. Бледные тона одежды оттеняли смуглую кожу и подчеркивали худобу лица. Джордж Трессидер умер год назад. Он долго болел и прожил гораздо дольше, чем предсказывали доктора, но несмотря на это, потеря партнера глубоко потрясла Феликса. Какое-то время ему тяжело было даже ходить на работу в «Трессидер дизайнз». Он сильно похудел и ни с кем не встречался, кроме Джулии. Потом исчез. Джулия не имела понятия, куда он уехал, и лишь смутно догадывалась. Когда он вновь объявился, у него были пустые, мертвые глаза. Реорганизовал некоторые системы в «Трессидер дизайнз» и вскоре опять набрал вес. Феликс по-своему переживал свое горе, и Джулия восхищалась его стойкостью. Теперь, когда Мэтти то была в отъезде, усердно работая, то занята Митчем, даже когда приезжала в Лондон, Феликс невольно стал ближайшим другом Джулии. Они часто виделись, и она по-прежнему с тревогой смотрела на него. Но она знала, что с Феликсом все в порядке. Сейчас они сели за столик в углу, обмениваясь своими незначительными новостями. «Как женатые люди», — думала иногда Джулия. Феликс спросил ее о «Чесноке и сапфирах». Она открыла сумку и вытащила сверток. Развернув его, достала чайник и поставила на стол перед Феликсом. — Что ты об этом думаешь? Он равнодушно посмотрел на вещь. Затем поднял одну бровь. — Тебе непременно нужно знать мое мнение? — Конечно. Это забавная, современная вещь, китч, то, что нравится публике. — Ну что ж, Бог в помощь. Еще вина? Потягивая вино, Джулия рассказала ему о Сьюки и новой партии товаров. — Ты помнишь, каким был мой первый магазин? Помнишь кресла Томаса? Я дала себе слово, что никогда не буду продавать ничего такого, что не хотела бы иметь в собственном доме. Казалось, это все вышло так оригинально, так остроумно, так дерзко. Казалось таким… — она замялась и посмотрела ему в глаза… — непохожим на то, что делали вы с Джорджем, но не менее достойным внимания покупателя. А теперь у меня такое чувство, как будто я продаю хлам, который ненавижу, но который пользуется высоким спросом. И выходит, я создала целую сеть магазинов с подделками, да? Это совсем не то, к чему я стремилась. Черный котенок стоял между ними на столе, поблескивая сердечкообразным носом нежно-розового цвета, с выражением явного удовольствия. Джулия сделала ему гримасу. — Ты преувеличиваешь, — сухо сказал Феликс. — Раз ты нанимаешь людей, ты должна считаться с их предложениями. Что касается чайника, то я уверен, что он будет пользоваться спросом. Вещи, которые тебе так не нравятся, сейчас вошли в моду. Но эта мода со временем пройдет. — И на смену придет другая, — заметила Джулия. — Феликс, скажи, я кажусь слишком старой? — А ты чувствуешь себя старой? «В чем-то слишком», — подумала Джулия. — У тебя есть три варианта. — Феликс вытянул пальцы руки. — Либо пустить «Чеснок и сапфиры» плыть по течению, как оно есть. Пока дело не станет достаточно крупным и не станет приносить постоянный доход. Возможно, ты от этого разбогатеешь. Либо ты повернешь его на прежние рельсы, как это было вначале. И тогда тебе не придется продавать вещи, которые не нравятся тебе самой. Можно еще свернуть свой бизнес и вернуться в «Трессидер», чтобы работать со мной. Джулия была удивлена. Сначала она подумала, что он шутит. Потом испугалась, что он говорит серьезно. От этих слов у нее потеплело на душе, она чувствовала себя польщенной, но в то же время поняла, что не может принять предложение. Это будет все равно что возвратиться к прошлому. Топтание вокруг Джорджа и прочих подобных воспоминаний, а также, возможно, неправильный выбор. — «Трессидер, Лемойн и Смит», — задумчиво смаковал Феликс. — Что скажешь на этот счет? Джулия прикрыла ладонями его руки. — Звучит как рекламное агентство. — Ты можешь сама выбрать название. — Спасибо за предложение, Феликс. Но я не приму его. Не знаю, что я буду делать дальше, но я не принадлежу к фирме «Трессидер», и Джордж знал это. Лицо Феликса как-то изменилось, погрустнело, и он не сразу смог посмотреть ей прямо в глаза. — Ты в этом уверена? — Совершенно уверена. — «По крайней мере в этом», — подумала она. Феликс кивнул. — О’кей. Давай пойдем сейчас и пообедаем, ладно?Они наслаждались едой и обществом друг друга, как обычно. Под конец Джулия спросила: — Как ты думаешь, Джесси гордилась бы нами? Феликс минуту раздумывал. — Джесси нравился материальный достаток, но она больше ценила чувство удовлетворения от этого. Джулия улыбнулась. — По этому пути далеко не уйдешь. — Да, пожалуй. На прощание Феликс поцеловал ее и посадил в такси. Его прикосновение было легким и холодным. Как брат и сестра. Уже давно Джулия ни в ком не искала иного отношения. По дороге домой, сидя в машине и глядя на мелькающие огни, она думала о Джесси, Феликсе и о Мэтти. Но не о Лили. Но когда они подъехали к ее дому, Джулия нахмурилась. В нижнем этаже все еще горел свет, а ведь было уже одиннадцать часов, завтра учебный день. Лили следовало уже быть в постели. Разве что Мэрилин сидит там, хотя она обычно смотрит телевизор в своих апартаментах. Джулия расплатилась с таксистом и взбежала по ступенькам. Лили, подобрав под себя ноги, сидела в кресле у телевизора, но экран был пуст. — Лили, что происходит? Знаешь ли ты, который час? Лили медленно выпростала ноги и встала, глядя матери в лицо. — Привет, ма. Как поживает Феликс? — Отлично. Шлет тебе привет. Но ты слышала, что я сказала, Лили? Где Мэрилин? — Внизу. Она отослала меня спать, но я опять встала. — Почему? Лили подняла плечи. Ее полосатая тенниска была уже очень старой и местами разлезлась. Сквозь прорехи виднелось загорелое после лета тело. Маленькие смуглые ступни выступали из-под расклешенных джинсов. Ногти на ногах были покрашены серебряным лаком, взятым со столика Джулии. — Я хочу поговорить с тобой. Джулия растерялась. — Хорошо. Но сейчас слишком поздно, Лили, ты не должна была сидеть и ждать меня столько времени. — Но я хочу поговорить с тобой сейчас, — повторила девочка. Джулия опять посмотрела на нее. Лили сунула руки в карманы, высоко подняв плечи, так что впереди образовалась глубокая впадина. Но эти защитные средства не могли скрыть ее учащенного дыхания. Уже начавшая развиваться грудь так не вязалась с ее костлявыми плечами и тощими ногами. «Она уже больше не ребенок, — с грустью подумала Джулия. — Но еще и не женщина». — Так в чем же дело? — спросила она. Может, какие-то нелады в школе, с кем-нибудь из подружек. Ничего другого, вероятно. Лили посмотрела матери прямо в глаза. — Я хочу уехать и жить в Леди-Хилле. От потрясения Джулия не могла собраться с мыслями. — Что? — Сейчас как раз подходящее время, — четко сказала Лили. — Мне не придется переходить в другую школу. Наоборот, это будет правильно понято. Элизабет тоже переходит. Джулия тяжело опустилась на диван у края стола. Лили все уже обдумала. Видно было, что это решение не импульсивное, что это сказано не для того, чтобы досадить Джулии. — Но ты живешь здесь, Лили. Лили склонила голову набок, как бы приглядываясь к матери. Джулия поняла, что девочка приняла решение, но было в этой позе что-то еще. Жалость? Сочувствие? Интересно, смотрела ли она сама когда-нибудь так на Бетти? Лили сознавала свою силу, и от этого Джулия вся похолодела, чувствуя беспомощность и весь ужас своего положения. Она вспомнила, как пришло осознание собственной силы в подобной ситуации. Конечно же, этим она сокрушила Бетти. — Ты не можешь поехать в Леди-Хилл. Ты живешь здесь, со мной. — Но я хочу. Я знаю, что раньше не могла, когда Александр был там один с миссис Тови. Но теперь там живет Клэр. Она провела там все прошлое лето. Она… Джулия протянула руки, пытаясь отстранить от себя этот образ. — Они не женаты, Лили. — Но они могут пожениться. Джулия вскочила на ноги. Наверно, у нее на бедре будет синяк, так сильно она прижималась к углу стола, когда сидела. У нее болело все тело: грудь, горло, живот и даже глаза. Она словно видела комнату Джесси. Суконное покрывало на софе и апельсины в голубой вазе. Бетти, поднявшаяся навстречу ей, когда она была уже побеждена. — Ты говорила уже об этом с Александром? — Он сказал, что мне следует поговорить с тобой. Папа справедливый человек. Джулия почувствовала, как внутри у нее закипает гнев, направленный против Александра. «Справедливый», с этой новой, уютно устроившейся там любовницей, которая будет рада присматривать за Лили, ездить с ней на спортивные праздники и аплодировать ей в школьных спектаклях, потому что это еще крепче привяжет к ней Александра. «Справедливый отнимает у меня дочь». Джулия в душе ненавидела свою чисто ребяческую несдержанность и ревность, но осознание собственного бессилия лишь подлило масла в огонь и вызвало у нее еще более неистовое желание бороться. — Я не позволю тебе уехать, — тихо сказала она. Лили протянула руку. Не к Джулии, а делая общий жест, обводящий комнату. Они обе посмотрели на пустой экран телевизора и пустое кресло, длинный диван с пухлыми подушками и небрежно брошенные дневные газеты. — Тебя здесь нет. Ты никогда здесь не бываешь. Тебе проще. Джулия неверными шагами подошла к девочке и обхватила ее за угловатые плечи. Тело Лили напряглось, готовое оказать сопротивление. — С этого дня я буду здесь, Лили, если ты именно этого хочешь. Я продам магазины… — Слова сорвались с языка. Теперь она просила, умоляла, но знала, что слишком поздно. Лили отступила назад, глядя на нее спокойным взглядом, столь характерным для Александра. — Я хочу уехать. Я хочу уехать с папой и Клэр. Чистый высокий голосок девочки ударил Джулию больнее, чем лезвие ножа, и был холоднее стали. — Ты должна жить со мной. — Что это будет за жизнь, если ты меня принудишь к этому? Ужасная, безжалостная прямота юности и силы. Той силы, которой когда-то обладала и она сама. Жизненный опыт отнял эти силы и дал взамен лишь способность переносить боль. Лили была не по годам взрослой, но все, что ей суждено будет перенести, еще впереди. И Джулии было так жаль ее, себя и Бетти, что даже перехватило дыхание. Из глаз медленно побежали слезы. — Лили… Прости меня. За все, что я сделала для тебя и что не смогла сделать. Я не хотела тебе зла, я думала, что все будет иначе. Мне следовало бы знать, что нужно делать. — Прости и ты меня, Джулия. Но так будет лучше, я уверена. — И Лили удалилась к себе. Джулия знала, что девочка отчасти играет. Она даже делала те же движения, что и на репетиции. У нее было даже это преимущество, в то время как Джулия пребывала в состоянии шока. Джулия хотела сначала побежать за ней, схватить и сжать в своих объятиях, но она была уже слишком большой, чтобы можно было взять ее на руки. Джулия хотела показать ей, что может любить иначе, но поздно было что-либо изменить. Дверь закрылась, и Джулия осталась одна, оглядывая комнату невидящим взглядом, бессильная перед лицом неизбежности. Она налила себе виски, хотя ей совсем не хотелось пить, и выпила, глядя вниз, на темный сад, затем поднялась по лестнице наверх. У Лили свет уже был выключен, а дверь заперта, и, постояв немного под дверью, Джулия ничего не услышала. Она легла в постель, но спать не могла. Все сделанные ею ошибки по отношению к Лили сейчас, в тишине ночи, навалились на нее с удвоенной силой. Ее нетерпение обернулось жестокостью, а чрезмерная озабоченность пренебрежением. В хаосе собственной вины Джулия цеплялась за единственное утешение — очевидность того, что с Лили все в порядке. Девочка была упрямой и решительной и знала, чего хочет. Она добьется своего, как это сделала в свое время Джулия. И лишь значительно позже, когда эти мысли стали расплываться и тускнеть, Джулия пришла к выводу, что жизнь сложна и в ней трудно что-нибудь изменить. Утром стало ясно, что Лили способна быстро все забывать. Как обычно, она наскоро проглотила завтрак, собрала школьные вещи и на ходу чмокнула Джулию. Как только она ушла, дом, казалось, стал каким-то неуютным и ветхим. Джулия распахнула окна, но тяжелая атмосфера по-прежнему наполняла комнаты. Она пошла позвонить Александру. Весь ее гнев и горечь были направлены против него. Это он вдохновил Лили на подобное решение. — Ничего подобного, — сказал Александр. — Это была ее личная инициатива. — Но вы, вероятно, обработали ее. Ты и Клэр. — Клэр не позволила бы себе ничего подобного. «Нет, разумеется, нет. Она слишком хороша, слишком добропорядочна. Но я знаю, чего она добивается. Она хочет заполучить тебя, а Лили — это часть тебя. Она не так глупа, как кажется, эта Клэр». — Я не позволю ей уехать, Александр. Последовала пауза. Затем Александр сказал: — Но ведь это было частью нашего соглашения, разве не так? Когда Лили станет достаточно взрослой, она сама сделает выбор. «О да. Но я никогда не думала, что она выберет не меня. Даже зная ее строптивость, я считала, что она принадлежит мне как нечто само собой разумеющееся». Гнев Джулии прошел, а с ним и необходимость оправдываться. — Я люблю ее. — Мы оба ее любим. Они прислушивались к тому волнению, которое звучало в их голосах и улавливалось даже на расстоянии, а затем Александр сказал: — Я приеду, и мы поговорим. Жди меня к обеду. Клэр была на кухне. Уловив аромат кофе и гренок, он пошел туда. — Это Джулия. Клэр резко подняла голову. На ней была желтая блузка, яркость которой подчеркивала светлый цвет ее глаз и волос. Она посмотрела на Александра, но ничего не сказала. — Она очень расстроена. Лили сообщила ей, что хочет переехать жить сюда. — Бедная Джулия! Александр подошел к ней и привлек к себе. Он уже привык к Клэр, они прожили вместе полтора года. Она не подстегивала его и не требовала вознаграждения. Имела добродушный характер, а ее предупредительность была залогом спокойной жизни. Он гладил волосы Клэр, глядя в окно. Перед ним расстилалась длинная панорама парка и виден был угол загона, где стоял Марко Поло. — Я собираюсь сегодня навестить ее. Нужно, чтобы все было сделано должным образом. Ради Лили, да и всех нас. — Он перевел взгляд на лицо Клэр. — Ты ведь не возражаешь, чтобы сюда переехала Лили, если она, конечно, действительно этого хочет? — Разумеется, нет. Ты это и так знаешь. Я ей не мать, но могу позаботиться о ней. Александр наклонился и поцеловал ее. Клэр улыбнулась и подошла к кофеварке, чтобы налить ему еще чашку кофе. Когда Александр собрался ехать, она вышла вместе с ним во двор и проводила его до автомобиля. Он еще раз поцеловал ее и отъехал, не оглядываясь и махая в окошко рукой. Клэр неподвижно стояла на месте, глядя ему вслед. Солнце так слепило ей глаза, что на них выступили слезы. Клэр хотела выйти замуж за Александра, но он не делал ей предложения. Ей хотелось бы думать, что это еще может случиться, но она не верила, что, взвалив на себя ответственность за свою дочь, он сможет принять какое-то решение. Сама она тоже не могла ему этого предложить. Это было несвойственно Клэр. По дороге Александр с раздражением думал о том, почему он должен ехать за двести миль, чтобы повидать Джулию, когда мог бы остаться в Леди-Хилле и постараться утрясти все вопросы по телефону. Джулия ждала его. Когда она открыла ему дверь, его поразили ее бледность и темные круги под глазами. Чувство сострадания захлестнуло его. Джулия могла быть жестоким судьей, но себя она судила еще строже. Он с грустью подумал о том, как хорошо они знают друг друга и как мало от этого толку. Встреча была натянутой. Джулия была убеждена, что Лили и Александр тайно сговорились против нее. Александр делал скидку на ее состояние, зная, что не может смягчить ее боль, и старался быть великодушным. Но он не мог заставить ее поверить в то, что Лили сама, независимо ни от кого, приняла решение. Скоро она не будет нуждаться ни в ком из них. — Послушай, — пытался он убедить Джулию. — Давай считать, что она поедет всего на несколько месяцев. А потом, если передумает, пусть возвращается домой. Школа там хорошая. И, возможно, там ей будет безопаснее взрослеть, чем в Лондоне. Джулия подняла на него свои опухшие глаза. — Мы уже выбрали для нее хорошую школу здесь, ты помнишь? И я думаю, смогла бы вырастить ее здесь в полной безопасности. Я хочу этого. Я надеюсь увидеть ее счастливой. Она не будет плакать, по крайней мере перед ним. Но Джулия знала, что потерпела поражение. Они смотрели друг на друга через стол, но никогда еще они не были так далеки. К тому времени, как Лили возвратилась из школы, Джулия приняла решение, что дочь поедет в Леди-Хилл на летние каникулы, как это было всегда, и останется там. Лили стояла в конце стола в своем форменном платье со смиренным и кротким видом, ведь она добилась того, чего хотела. Джулии казалось, что Лили и Александр могли бы быть мягче и снисходительней к ней после ее поражения. Это еще больше углубило чувство ее отчужденности, и она ушла на кухню, сказав, что приготовит ужин, прежде чем Александр уедет в деревню. Лили примостилась на подлокотнике дивана, завернув ногу за ногу, и рассказывала о своей роли в школьной пьесе. Джулия не могла поверить, как может все быть таким обыденным в этот момент, когда она теряет все. Она машинально переставляла ножи и тарелки. Приготовив ужин, почти не сознавая, что она делала, Джулия поставила его на стол. Они уселись вокруг, как обычная семья, ежедневно собиравшаяся за обедом в конце дня. Для Джулии этот момент был самым горьким. На сей раз Лили позволила Александру уехать без обычных ее капризов. Проводив его, она вернулась в комнату и села рядом с Джулией на диван. Руки Джулии бессильно лежали на коленях, голова опущена. Лили никогда не видела мать в таком состоянии. Именно этим она отличалась от других матерей: Джулия была такой сильной. И вдруг она начала сознавать, что, возможно, эта сила и опустошила ее. Лили наклонилась и прижалась щекой к щеке матери, пытаясь найти нужные слова. — Ведь ничего не изменится, мама. Ничего существенного. Это всего лишь перемена места. Я буду приезжать к тебе на каникулы. Если смогу. И если ты захочешь этого. Джулия взглянула на нее. — Я хочу видеть тебя, Лили, так часто, как только будет возможно. И когда ты захочешь. Я также хочу, чтобы ты знала, что я очень люблю тебя. Бабуся Смит никогда не говорила мне, что любит, и я никогда не знала, что это так, пока не выросла. А потом было уже слишком поздно. Лили поняла, что сейчас мать говорит с ней как со взрослым человеком, а не с маленькой девочкой или дочерью. Эта перемена отметила важный этап в ее жизни. Она кивнула с опечаленным лицом. — Я понимаю. Я тоже люблю тебя, только здесь все как-то сложно. А в Леди-Хилле все просто, и именно это мне и нравится. — Кажется, я понимаю, — в свою очередь тихо сказала Джулия. Она встала и стала прохаживаться взад-вперед по комнате, а Лили следила за ней глазами. Наконец она глубоко вздохнула с каким-то безнадежным чувством. — Лили, ты не будешь возражать, если я продам этот дом? Мне кажется, я не смогу здесь жить одна без тебя. Лили возражала, так как дом на канале также был ее домом, как и Леди-Хилл. Но она отрицательно покачала головой, понимая, что при изменившихся обстоятельствах это могло быть важно для матери. — Ты должна делать то, что тебе нравится. Ведь это всего лишь дом, не правда ли? Джулия хотела повернуться и схватить Лили, прижать к себе, но она сдержалась и продолжала медленно ходить по турецкому ковру, с которого Лили когда-то обрезала бахрому. После этого разговора дни побежали очень быстро. Джулия сходила на школьный спектакль и посмотрела игру Лили в пьесе «Капитан Кук» сквозь застилавшую глаза пелену слез. — Вы должны гордиться ею, леди Блисс, — сказала ей классная дама во время последовавшей затем шумной вечеринки. — Поверьте, мы все гордимся Лили. — Да, — сказала Джулия. Дома она помогла Лили очистить комнату. Они снесли вниз сохранившиеся вещи, затем открыли шкафы и перебрали кучу книжек с картинками и меховых зверюшек и кукол. Среди кукол оказался тот златокудрый монстр, которого много лет назад купил для Лили Джош. Лили никогда не любила эту куклу, но она хорошо сохранилась, поэтому Джулия сунула ее в сумку для школьных распродаж, не желая, чтобы она еще раз попадалась ей на глаза. Лили с грустью расставалась с товарищами своего детства, а для Джулии это прощание оказалось более болезненным. Она поймала себя на том, что украдкой прячет «Сказку про котенка Тома» и изорванную куклу, а также китайского поросенка в куче собственных вещей. Ночью, подтянув к себе колени и зарывшись в подушку, она горько плакала, как малое дитя. Александр приехал забрать Лили. Джулия так боялась этого момента, но когда он наступил, то оказалось, что гораздо труднее перенести чуткость Александра. Она почувствовала его сопереживание так же остро, как и собственную боль, и ее гнев к нему бесследно исчез. Когда Лили вышла из комнаты, он подошел к Джулии, взял ее за руки и заглянул в глаза. — Лили сама сделала выбор, — шепнул он. — Я не могу отказать ей в этом. Но я сделал бы что угодно, лишь бы не причинять тебе такой боли. Джулии хотелось зарыдать, броситься к нему на грудь и сломать все барьеры, воздвигнутые между ними. Она чувствовала его близость; ей уже не казалось, что он проявляет великодушие, потому что отвоевал у нее Лили. В конце концов, Лили не вещь. Александр был так же великодушен, как честен и добр. Теперь она наконец смотрела на него объективно, после стольких-то лет непонимания. Но Джулия сдержала слезы. Она решительно посмотрела в глаза Александру и улыбнулась. Ей подумалось, что если она сможет сейчас подавить свой эгоизм, то действительно чего-то добьется в жизни. — Я знаю, — сказала она. — Все правильно. Только хорошенько присматривай за ней, ладно? — Ты знаешь, что я это сделаю. Хотел бы я сделать то же и для тебя. Джулия засмеялась. — Я слишком стара для этого. Слишком стара и слишком эгоистична. Александр прикоснулся к ее щеке. — Ты считаешь себя эгоисткой, но это не так. Не будь слишком сурова к себе. Тут возвратилась Лили, и вскоре нужно было отправляться в путь. После их отъезда у Джулии было такое чувство, как будто от нее отрезали часть ее тела. Нечто подобное она испытала после пробуждения в клинике, когда родилась Лили. Медленно поднявшись по лестнице, она заглянула в спальню Лили. Комната всегда казалась пустой после отъездов девочки: а теперь она была словно мертвая. В местах, где были наклейки и фотографии, остались пустыечетырехугольники, словно насмехающиеся тени на выгоревших стенах. Джулия встала на стул и сняла с окна желтые занавески. И сразу комната обрела нежилой вид. Отступив назад, она заметила паутину, свисающую с карниза, и густой слой пыли на подоконнике. Собрав занавески, Джулия тщательно сложила их ровным симметричным квадратом, а затем — еще раз и оставила посреди голых матрацев. Агент по оценке недвижимости уже побывал здесь раньше и осмотрел дом. Цена, которую он предложил, была так высока, что удивила Джулию.
Мэтти пошарила в сумке в поисках ключа, затем отперла парадную дверь, над которой висели ромбообразные фонари. В холле пахло плесенью. Следом вошел Митч с одним из чемоданов, и она слышала, как водитель мини-кэба принес остальные. — Добро пожаловать домой, — сказала она Митчу. — Ты чувствуешь здесь себя как дома? — Конечно. — Мэтти провела месяц в Ницце. Съемки длились всего четыре недели, и Митч был с ней, но все равно казалось, что они отсутствовали слишком долго. Этот дом ждал их, и ей хотелось поскорее вернуться. Дом купил Митч. Мэтти заявляла, что для нее это не имеет значения. С самого начала их супружеской жизни Мэтти неохотно оставляла свое гнездышко в Блумсбери, но затем вынуждена была согласиться, что оно слишком тесно. На первых порах они обосновались в Лондоне и снимали в течение года квартиру в каком-то близком особняке, а когда закончился контракт на пьесу Чичестера в Вест-Энде, последовали несколько месяцев работы в Голливуде, а затем съемки во Франции. Митч настаивал на том, чтобы купить собственный дом недалеко от Лондона, но в то же время в таком месте, где можно было иметь настоящий сад, расположенный в сельской местности. После основательных поисков он нашел дом в Суррее. Это был типичный образец поздней английской готики с черной и белой опалубкой, высокими трубами и обширным садом, за которым на протяжении семнадцати лет ухаживал по два дня в неделю опытный садовник. В доме были деревянные панели, старинные камины и большие роскошные ванные комнаты, оборудованные уже последними владельцами. Эта усадьба называлась Коппинз. Митч был в восторге от дома. — Я бы купил тебе помещичий дом, Мэтти, но тогда тебе пришлось бы посвятить ему всю свою жизнь. Мэтти вспомнила Александра и Джулию и внушительный особняк Леди-Хилла. — Нет, такого я не хочу, — быстро сказала она. — Я не хочу ничего такого, что было бы более важным для тебя, чем я. — Нам нужен добротный, прочный дом, простой, но удобный и не требующий особых забот. Коппинз отвечает как раз всем этим требованиям. А кроме того, он подходит нам и по цене. Митч ко всему подходил по-деловому. — В таком случае я хочу его посмотреть, и немедленно. Когда Мэтти впервые увидела дом, она расхохоталась. Коппинз, утопающий в зелени окружавшего его парка, был похож на картинку в детской книжке про старые времена. Уж скорее ему подошло бы название «Вильям» или «Францисканец». Сюда так и просилась горничная в кружевной наколке, которая открывала бы парадную дверь. Казалось совершенно невероятным, чтобы Мэтти захотела быть хозяйкой подобного владения. Но когда они осмотрели дом снизу доверху, окликая друг друга из разных концов, она иначе восприняла его облик. Он был большой, но в то же время имел особенности кукольного домика. Ей сразу же захотелось поселиться здесь и играть в домашнее хозяйство, заведя китайский сервиз для чая и миниатюрную мебель. Добравшись до кухни с каменными полками и обширной кладовой, Мэтти опять окликнула Митча: — Мы покупаем его! Митч оказался также превосходным коммерсантом: через три недели Коппинз был куплен за несколько более низкую цену. Пока они находились в Ницце, декораторы сделали свое дело, а затем была куплена самая необходимая мебель. И вот сейчас они вернулись домой. Митч вошел, поставил на пол багаж и протянул жене руки. Мэтти тотчас бросилась к нему. Они поднялись по лестнице в огромную спальню, выходившую окнами в сад. Позднее Мэтти сказала: — Это был бы прекрасный дом для семьи с детьми. Мэтти мечтала иметь ребенка. Митч приподнялся на локте и посмотрел на нее. — У тебя будет много детей. Так и будут носиться вверх и вниз по лестницам и кувыркаться в саду. Уж лучше сразу начать с близнецов. Она улыбнулась, обняв его одной рукой за шею. — Только как нам это сделать? Было несложно играть в хозяйство в Коппинзе, как это представляла Мэтти. Но у нее с этим получалось не лучше, чем в прежние времена, так что Митч быстро нашел одну местную женщину, которая согласилась приходить ежедневно, чтобы готовить еду и убирать. Мэтти вдруг обнаружила, что очень любит делать покупки, а затем складывать и перекладывать их на полках. В дом постоянно что-то привозили: то кресла, то столики для кофе, то занавески, то кухонную утварь. Мэтти прочесала все местные антикварные лавочки и с победоносным видом тащила домой всевозможные редкие вещи. — У меня никогда не было настоящего дома, — сказала она. — Разве не чувствуешь себя в большей безопасности под удивительными одеялами и картинами с изображением заливных лугов? — Ты в безопасности, — ответил Митч. — Я уже говорил тебе об этом. — Я люблю тебя. Мне ничего не нужно, кроме тебя, но я также люблю и свой дом. Посмотри, Митч, не правда ли, этот маленький стул так прелестно смотрится в том углу? Митч склонил голову набок, как бы приглядываясь к стулу, но на самом деле смотрел на светящееся радостью лицо Мэтти. Затем он кивнул. — Кажется, да. Его место именно здесь. — Он обнял ее сзади за талию, а она откинула голову ему на плечо. Они были счастливы. Сначала Мэтти боялась двигаться, чтобы не разрушить это счастье, боялась, что оно исчезнет так же быстро, как и появилось. Даже повседневный быт, который другие принимают как должное, казался чудом. Потом, благодаря убеждениям и твердости Митча, она начала привыкать к случившемуся. Мэтти вдруг обнаружила, что полюбила «рутинные» занятия, и в Коппинзе время неслышно скользило мимо них. Если бы еще полгода назад ей сказали, что она будет вести такой образ жизни, она отвергла бы такие предположения как нечто невероятное. По утрам Митч работал. Он отводил себе это время, чтобы заниматься своими капиталовложениями, делать необходимые звонки и читать финансовую прессу. Пока он был занят, Мэтти ездила по магазинам или читала сценарии. Но отбрасывала все в сторону, чтобы позавтракать со своим агентом, хотя вынуждена была потом сломя голову мчаться на распродажу к «Филлипсу». В полдень Митч играл иногда в гольф, или они вдвоем отправлялись на легкую прогулку, или занимались вместе чем-нибудь в саду. Мэтти часто хохотала над тем, что не может отличить сорняков от культурных растений, росших в расщелинах запущенной террасы. По вечерам они по-семейному обедали дома. Иногда ездили в местный кинотеатр, реже — в театр в Вест-Энде. Они почти ни с кем не виделись, так как совершенно не нуждались ни в каком обществе, кроме общества друг друга. Покой и довольство казались Мэтти почти нереальными. Одним из немногих, с которыми они встречались, был Феликс. Он приехал по приглашению Мэтти, чтобы дать кое-какие советы относительно дома. Она показала ему все сверху донизу, и Феликс вежливо выслушал ее планы. Но когда они опять уселись в кресла в гостиной, она посмотрела на его лицо и рассмеялась. — Бедный Феликс! Тебе он противен, не правда ли? — Конечно же нет. Дом превосходный. — Но не в твоем вкусе. — Ты сделала его… чем-то очень похожим на пьесу. Но этот стиль соответствует дому. Тебе совершенно не нужна моя помощь. Мэтти продолжала смеяться. — Надеюсь, что нет. Просто оказалось, что я люблю большие, громоздкие кресла, абажуры с бахромой и картины, которые можно увидеть издали. Думаю, у меня есть некоторое представление о том, каким должен быть хороший, добротный дом, еще с детских лет. Полная противоположность тому, каким был дом моих родителей. Мне нужно только твое полное одобрение, Феликс. Я, должно быть, хотела услышать его лишь потому, что очень ценю твое мнение. Феликс подошел к креслу Мэтти и присел, чтобы лучше видеть ее лицо. — Я одобряю. И дом, и все остальное. Я никогда не видел тебя такой красивой. Тебе идет быть счастливой. Она улыбнулась ему в ответ. — Правда? Ну-ка, спрячь свою записную книжку. Давай пойдем поищем Митча и чего-нибудь выпьем. Феликс заметил, что когда эти двое оказывались порознь дольше нескольких минут, Мэтти начинала беспокойно оглядываться в поисках мужа. Он заметил также, что, налив себе вина, она забывала его выпить. Это хорошо, подумал он. Для всех, в том числе и для Коппинза. Другим из немногих посетителей дома была Джулия. Однажды в воскресенье в начале сентября она приехала на ланч, подкатив к дому в своем красном автомобиле. Мэтти возилась на террасе возле грядки с розами в форме полумесяца, где она садовыми ножницами обрезала увядшие головки цветов. Ее лицо и руки были слегка усыпаны веснушками, выступившими под действием солнца, а волосы собраны и закручены в тяжелый узел на затылке. Она узнала автомобиль Джулии и быстро сбежала по ступенькам, чтобы встретить ее. Они обнялись, и через плечо Мэтти Джулия увидела Митча, выходящего из дома. На нем был легкий серый пуловер и брюки в клетку. Он помахал ей рукой. После замужества Мэтти подруги часто встречались. Но между ними было как бы негласное табу: они никогда не говорили об Александре, и теперь это было еще неприятнее, чем прежде, так как в конце каждой беседы повисали предательские паузы. В этот день Мэтти схватила Джулию за руку и повела показывать свой дом, а затем с гордостью председательствовала за обеденным столом, но это была уже другая Мэтти, почти незнакомка. Они болтали, и Митч тоже присоединился к ним, но прежнее взаимопонимание между подругами, когда не нужны были слова, казалось утраченным навсегда. Создавалось впечатление, как будто Мэтти с возрастом стала туговата на ухо, и Джулия опасалась, не случилось ли чего-то подобного и с ней. Трудно было осознать, что ее старинная подруга куда-то съездила и там ею увлекся Митч Говорт. От прежней Мэтти остался лишь отблеск. Еда была очень хороша, за курицей с лимоном последовала яблочная шарлотка. — Ты сама приготовила ее? — спросила Джулия. Мэтти неопределенно пожала плечами. — Это очень просто. — На какую-то секунду ее лицо застыло, затем опять оттаяло. — Нет, конечно же нет. Ее приготовила миссис Гоппер. Я знала, что ты мне не поверишь, даже если я притворюсь. — Я могла бы и поверить, — тихо сказала Джулия. — Но, благодарение Богу, ты этого не сделала. После обеда Митч заявил, что он на часок поднимется наверх почитать газеты. — Конечно иди, дорогой. — Мэтти протянула руку и прикоснулась к нему, когда он проходил мимо. Она подмигнула Джулии. — Он имел в виду: «вздремнуть». Джулии показалось, что Мэтти жаждет пойти с ним. Подруги вышли в сад и разлеглись на солнышке в шезлонгах. Кожа Мэтти прямо-таки светилась, а вся фигура была налитой и цветущей. Она со вздохом откинула назад голову, подставляя тело солнцу. Джулии была известна сладость физического удовлетворения. Она была рада за Мэтти, но благополучие подруги заставляло ее еще острее чувствовать свое одиночество. Мэтти опять открыла глаза. — Расскажи что-нибудь, какие-нибудь новости. Лили в Леди-Хилле? Джулия осторожно ответила: — Да, и она не вернется. Она сделала свой выбор и будет жить с Александром и Клэр. Мэтти широко открыла глаза и воскликнула: — Какой ужас, Джулия! Извини, я не знала. Невозможно было говорить об этом, не касаясь Александра. Мэтти, конечно же, знала о Клэр, но лишь в самых общих чертах. И сейчас она спросила прямо: — Что она собой представляет? Джулия могла бы излить ей душу, сказать, что чувствует себя одинокой и что теперь у нее нет никакой цели в жизни. Но Мэтти казалась такой счастливой, что не хотелось раскрывать перед ней свое отчаяние. Впоследствии она пожалела об этой слабости. — Она моего возраста или чуть-чуть моложе. По-своему хорошенькая, хотя и бесцветная, подходящая кандидатура для опекунства. Чуткая и надежная, не очень умная. — Простофиля, — заметила Мэтти. — Думаю, она сможет следить за школьной формой Лили. А Александр говорит, что для Лили лучше будет расти в Леди-Хилле. Ведь в ледихилльской деревне нет ни наркотиков, ни заменителей. — Все равно жаль, — раздумчиво сказала Мэтти. — Тсс… Не надо, чтобы Митч слышал это. Что же ты будешь делать, Джулия? — Думаю продать дом. Он слишком велик для меня, а за него дают хорошую цену. О Мэрилин не беспокойся. Я подыскала ей другую квартиру, а она такая прекрасная няня, что сможет быстро найти себе работу. — Я не беспокоюсь о Мэрилин. Как не беспокоюсь ни о Рикки, ни о Сэме, ни о Фил. Ты помнишь ту ночь на дороге, когда мы с тобой, обнявшись, стояли в темноте и тревожились за их будущее? Нам следовало бы поберечь свои нервы для себя. И ты поступай так, Джулия. Джулия улыбнулась, но почему-то в саду Коппинза воспоминание об их первых днях в Лондоне не сблизило как прежде. — Как твой бизнес? Джулия рассказала ей о Сьюки. Мэтти опять откинула голову на спинку шезлонга и засмеялась. — А я люблю эти смешные чайники и пепельницы в виде унитаза. Я купила несколько штук тех и других. — Мне кажется, я близка к тому, чтобы прекратить этим заниматься, — резко сказала Джулия. Мэтти сделала круглые глаза. — И что же ты будешь делать? — Не знаю. Недавно Феликс спросил меня, не чувствую ли я себя слишком старой для «Чеснока и сапфиров». Я чувствую усталость. И больше всего я устала от себя. — Это на тебя не похоже. Они посмотрели друг на друга. — Нет, — спокойно сказала Джулия. — Кажется, наступило время, когда я больше не могу быть сама собой. Мэтти опять села, обхватив руками колени. — Мы все еще друзья? — спросила она. — Разумеется, — ответила Джулия. Появился Митч и подтащил к ним свой рабочий стул. Они не могли уже говорить как прежде. Джулия поняла это. Ее подавляло чувство собственной незначительности. Мэтти и Митч настаивали на том, чтобы она осталась на обед или, по крайней мере, выпила чаю перед отъездом, но Джулия отказалась. Перед тем как сесть в машину, она поцеловалась с четой Говортов, а затем они помахали ей руками, стоя рядышком на гравийной дорожке, пока она не скрылась из вида. У Джулии не было причин спешить домой, но, оставшись одна, она испытала чувство облегчения. «Наверно, я научилась быть независимой, — подумала она. — Проклятая свобода требует больших затрат. Или приходит тогда, когда понимаешь, что уже не хочешь ее». Ирония этого парадокса слишком болезненно действовала на душу, чтобы продолжать об этом думать. На следующее утро Джулия занялась делами, связанными с продажей дома на канале. Через четыре дня у нее уже был покупатель, который предложил более высокую цену, чем назначил агент. Быстрота всех этих событий привела ее в замешательство, но инерция движения уже захватила ее. Очень быстро, едва удосужившись все осмотреть, Джулия сняла квартиру в Кэмден-Таун. Там было две спальни, на случай, если Лили захочет ее навестить. Джулия описала дочери ее спальню по телефону. — Звучит заманчиво, — сказала Лили. — У тебя все в порядке? — Да, мама. Прекрасно. А как у тебя? — Очень занята, вот и все. Утрясти дела с бизнесом оказалось совсем не трудно. Джулия пригласила одну из самых опытных управляющих магазинами на обед и предложила ей попробовать взять на себя управление делом на какое-то время. — Я возьмусь с удовольствием, — быстро согласилась эта дама. — Я уверена, что смогу справиться. Джулия кивнула. Она уже полагалась на эту служащую и раньше, и всегда дела шли успешно. Управляющая с любопытством посмотрела на Джулию. — Но почему вы хотите передать это мне? — Просто устала, — сказала Джулия. В тот период, когда Джулия работала бок о бок со своей помощницей, передавая ей «Чеснок и сапфиры», ей пришлось окунуться в рутинные коммерческие дела, и она чувствовала себя так, как будто наблюдала за собой со стороны. Она сравнивала себя с заводной куклой. Но в некоторые дни она выходила из состояния отрешенности. Это случилось, когда должна была приехать из Леди-Хилла Лили. И еще один раз, когда ей случилось побывать в новой школе, куда перешла ее дочь. Улица перед школой была запружена девочками в школьной форме зеленого цвета. Джулия сидела в машине, глядя, как они проходят мимо. Ей казалось, что дважды мелькнула среди них Лили. Потом она долго протирала глаза, чтобы убрать непрошеные слезы. Покинуть дом на канале оказалось гораздо проще. Оставив себе большую часть мебели, чтобы обставить новую квартиру, остальную она распродала. Она даже собиралась продать свой турецкий ковер, но в последний момент свернула его и увезла с собой. Джулия закрыла дверь пустого дома в последний раз и ушла, не оглядываясь. Ей казалось, что так будет легче. Белые стены в новой квартире были оставлены пустыми. Почему-то приятнее было смотреть на чистое свободное пространство. К середине декабря, в преддверии рождественских праздников, Джулия уже знала, что магазины больше в ней не нуждаются и что она может заняться исключительно своим переездом. Однажды в конце дня она очистила свой рабочий стол и быстро со всеми попрощалась. Выйдя из офиса на морозный воздух, Джулия услышала звуки оркестра Армии Спасения, игравшего в конце улицы рождественский гимн. Она остановилась послушать, а затем высыпала содержимое своего кошелька в сумку сборов и направилась домой, в Кэмден-Таун, со все возрастающим чувством легкости. Глядя на себя со стороны, она подумала, какой она кажется маленькой в этой шумной толпе покупателей. Она провела Рождество с Феликсом на Итон-сквер. Он украсил свою высокую гостиную темным плющом и ветками голубой ели, напыленными серебром, как это обычно делал Джордж. Даже дерево, обвешанное серебряной мишурой и сверкавшее белым великолепием, было то же. Видя это, Джулия поняла, как сильно Феликс тоскует о своем партнере. Они старались быть веселыми. Обменялись маленькими, тщательно выбранными подарками и выпили шампанского. Съели восхитительный рождественский обед, приготовленный Феликсом и поданный на китайском фарфоре. Вино наливали в хрустальные бокалы Джорджа. Уже давно Джулия не пила так много. Она сбросила туфли и уютно устроилась среди мягких диванных подушек, протянув стакан, чтобы Феликс наполнил ее бренди. — Может, нам следовало бы пожениться, Феликс? Тебе не кажется, что мы могли бы быть счастливы вместе? — И хотя Джулия смеялась, говорила она вполне серьезно. Он пересел поближе к ней и взял ее за руку. Джулия склонила голову ему на плечо, но от этого движения она расплескала бренди и вскрикнула. — Ты считаешь, что мы могли бы сделать друг друга счастливыми? — повторил Феликс. — Не думаю. Во всяком случае, не так, как полагается. Она засмеялась, а он поднял руку и погладил ее волосы, и эта неожиданная нежность глубоко тронула ее и смех неожиданно перешел в слезы. — О, Феликс, дорогой, извини. Я плачу не от того, что ты не хочешь жениться на мне. — Я знаю. Он протянул ей носовой платок, слишком прекрасный, чтобы им можно было вытереть нос. Джулия фыркнула. — Я собираюсь опять в Италию, — сказала она. — Ради общего блага, надеюсь. Я действительно не хочу здесь больше жить. Да и мне незачем это делать без Лили. — Я буду очень скучать по тебе, — сказал Феликс. Они прильнули друг к другу. Через несколько минут Джулия уснула. Спустя какое-то время она открыла глаза и заметила, что Феликс укрыл ее одеялом. Он привык ухаживать за ней, точно так же, как много лет назад, когда они с Мэтти потерпели крах после своих вылазок в Сохо. — Я уже не могу пить так, как прежде, — простонала она, прикладывая руку ко лбу. — Я рад слышать это, — отозвался Феликс, напуская на себя строгий вид.
Наконец приехала Лили на двухнедельные рождественские каникулы. Казалось, она была в восторге от компактной квартирки в Кэмден-Таун. — Она похожа на магазин, — заявила девочка. — А моя комната на каюту парохода. Джулия очень нервничала перед ее приездом. Ей уже не надо было ходить на работу, и она не представляла, чем они буду вместе с Лили заполнять свое время. Она беспокоилась, что им не о чем будет говорить, что Лили еще больше отдалилась от нее, а возможно, даже стала похожей на Клэр. Но Лили была все та же. Она распаковала свои вещи и разбросала их по всей квартире, включила магнитофон и обзвонила друзей. Джулии нравилась эта ее черта — принимать легко новые обстоятельства. — Ты все еще моя дочь, — сказала Джулия. Лили улыбнулась ей. — А чего ты ожидала, мама? Они проводили время вместе. Мысленно оглядываясь потом назад, Джулия считала, что это были самые счастливые дни, которые они когда-либо проводили вдвоем. Она брала Лили с собой за покупками, в театр и к Феликсу. Они навестили также Мэрилин на ее новой квартире и восхищались младенцем, за которым она присматривала. — Ты была в точности такая, — сказала Джулия дочери. — Только теперь ты гораздо красивее. Лили казалась удивленной и польщенной. — В самом деле я стала лучше? Джулия пригласила к себе друзей и приготовила праздничный обед. Она боялась, что уже утратила свои кулинарные навыки. И если Лили и удивилась, что друзья Джулии ни разу не были в Кэмден-Тауне, то благоразумно промолчала. Но самым лучшим временем были дни, когда они оставались вдвоем. Казалось, что в эти моменты они лучше видят и понимают друг друга. Прежние сомнения оставили Джулию. В конце концов, она была матерью Лили. В самом этом факте заключалась великая истина. Возможно, она сможет воспользоваться ею, создавая фундамент новых отношений. Лили стала терпеливой слушательницей. Джулия объяснила, почему она на время оставила «Чеснок и сапфиры» и продала их дом. — Сейчас я не слишком забочусь о бизнесе. — При этом Лили кивнула с очень серьезным видом. — Он помог мне многое понять. Но я уделяла этому слишком много времени. Помнишь, ты как-то сказала мне об этом. — Потому что я злилась. А вообще-то я гордилась этим, когда была маленькой. На тебя работало так много людей, а в магазинах продавались восхитительные вещи. Другие мамы просто пекут дома пироги. Джулия подумала: «Наши перспективы все время меняются. В чем же истина? Не сбросить ли мне прямо сейчас груз своей вины, а тебе — твое чувство обиды?» Но вслух она сказала: — А я никогда не умела хорошо печь. И теперь рада, что немного освободила руки от магазинных дел. — Она глубоко вздохнула. — Лили, я хочу кое о чем спросить тебя. Ты счастлива в Леди-Хилле с папой и Клэр? Лили спокойно посмотрела на мать. Джулия сразу вспомнила ее прежний настороженный взгляд. — Да, мама. — Тогда почему ты возражаешь против того, чтобы я поехала жить в Италию? — Туда, где ты была прежде? — Да. В Монтебелле. — Это очень далеко. Я буду скучать без тебя. Джулия взяла ее руку, она была маленькая и теплая, с грязными ногтями. Ей так хотелось прижать ее к себе, но она сдержалась и выпустила руку дочери. — Ты сможешь приезжать ко мне, когда только захочешь. Или я буду приезжать время от времени, когда буду нужна тебе. Я смогу добраться домой за один день. Но сейчас я хочу уехать. — Ты была счастлива там? — Да. — Тогда поезжай, — сказала Лили. — Обо мне не беспокойся, все будет хорошо. — Я знаю. Таким образом они решили между собой этот вопрос. Джулия дала волю воображению и думала о замке с его железными койками, стоящими в тени крытой галереи, и старом заброшенном парке, спускающемся с горы вниз, к морю. Когда каникулы Лили подошли к концу, Джулия, собрав все свое мужество, отвезла дочь обратно в Леди-Хилл. Дом казался застывшим в своем зимнем убранстве. Джулия почувствовала горячее учащенное дыхание Лили, девочка потянулась вперед, радостно улыбаясь при виде родного дома. Александр и Клэр уже ждали их. Все трое были очень вежливы друг с другом. Они выпили по стаканчику шерри, а потом вместе сидели за ланчем как дальние родственники, собравшиеся по случаю какого-нибудь семейного праздника и чувствующие себя не в своей тарелке. Внезапно Джулию все это стало раздражать. Ей захотелось немедленно уехать отсюда. На Клэр был надет костюм для верховой езды, а волосы собраны сзади в хвост. Джулии она показались похожей на хомяка. Ей ужасно хотелось увидеть Мэтти, но она тут же вспомнила, что Мэтти в Коппинзе с Митчем. После ланча Клэр сказала, что ей нужно уйти. Джулия представила ее в цилиндре, рысью скачущей на лошади. Клэр пожала руку Джулии, не глядя на нее. «Женщины, как спортсмены на скачках, — подумала Джулия с легким сарказмом. — Даже Мэтти и я. Разве что я больше не соревнуюсь. Я выбыла из соревнований». К ней опять вернулось приятное ощущение легкости. Она была свободна и готова к дальнему плаванию. Случайно она поймала взгляд Александра, наблюдавшего за ней. Когда Клэр и Лили ушли, они взяли по чашке кофе и прошли в гостиную. На столике у окна стоял оловянный кувшин с ветками зимнего жасмина. Джулия представила, как Клэр идет в сад, чтобы нарезать цветов. — Я собираюсь опять в Италию, — сказала она Александру. Он ничего не ответил. Поставив чашку на стол, он стоял у окна, глядя в сад поверх золотистых шипов жасмина. Затем повернулся и подошел к Джулии. Он так близко стоял от нее, что она видела морщинки в уголках его глаз, особенно на скулах и возле ушей, и кое-где сверкнувшие в его светлых волосах серебряные нити. Края воротничка расстегнутой на груди рубашки обтрепались. Джулия кивнула в ответ на свои мысли. Ее враждебность улетучилась. Александр положил руки ей на плечи, глядя в лицо. Их взгляды встретились, и она почувствовала легкость, которая распирала ее изнутри и обостряла зрение. Она вдруг увидела другого Александра и поняла, что все еще любит его. Гнев и горечь были ее дымовой завесой. Она надеялась, что достаточно прозрела, чтобы не позволить этим чувствам и дальше застилать ей глаза. По крайней мере, она разобралась в себе, и это уже было достижением. Сначала она покинула Александра из-за Леди-Хилла, потом из-за Клэр — не из-за Мэтти, потому что Мэтти никогда по-настоящему не предавала ее, хотя гнев и ревность терзали ее и тогда. И Джулия наконец смогла смириться с тем, что утратила, только бы Александр был счастлив. — Мы остались друзьями? — спросил он ее. Вопрос был полуиронический, так как Александр всегда уснащал правду легкой иронией. «Не менее чем друзья, — подумала она, — но и не более того. По крайней мере сейчас». — Конечно. Он обнял ее. Гладя волосы Джулии, он прижал ее голову к своему плечу, и она не сопротивлялась. Это было совсем другое объятие, чем с Феликсом. Стоя так, неподвижно, с закрытыми глазами, она давала указания, как найти ее в Монтебелле, если Лили захочет навестить ее. А затем, так как у нее не было больше оснований задерживаться, она отстранилась от него. — С Лили все будет в порядке, не беспокойся, — заверил ее Александр. — Да. Спасибо тебе. Ей будет полезно приехать ко мне в Италию, — добавила она. — Она сможет выучить язык. — Они улыбнулись друг другу, разделяя общую гордость дочерью. «Я ее мать, а Александр ее отец. Эта истина так проста». А потом опять, в который раз, наступило время уезжать. Александр стоял, обняв Лили за плечи, но она рванулась и подбежала к матери. Джулия обняла ее и отпустила. Щемящая тоска болью отозвалась в ее груди. Она вспомнила собственную мать, и смутное намерение в этот момент вылилось в твердое решение. — Когда ты уезжаешь? — спросил Александр. — Почти сразу же. Заеду только к Бетти по одному делу. И вот она опять в пути, уносится прочь от квадратного фасада Леди-Хилла. — Будьте все счастливы, — пожелала она им на прощание. — Я скоро приеду к тебе! — крикнула ей вслед Лили, затем по-итальянски добавила: — Счастливого пути! Джулия улыбалась, заворачивая за угол под оголенными ветвями тисовых деревьев. «Счастливого пути». Должно быть, девочка вычитала это в какой-нибудь книге. Александр и Лили стояли, глядя вслед уносящемуся автомобилю, пока он не скрылся из вида. А затем вернулись в дом через каменную арку. — Ты будешь скучать по ней? — неожиданно спросила Лили. — Я и прежде скучал по ней, — ответил Александр. — И кажется, буду скучать всегда. Я не встречал человека, похожего на твою мать, Лили. Второй такой нет.
Вернон сидел в своей обычной позе в кресле перед экраном телевизора. Он улыбнулся Джулии и тут же переключил внимание на любимую передачу. Ей показалось, что он даже не сообразил, кто она. Единственным местом для беседы с Бетти была кухня. Джулия присела к столу, на который Бетти поставила для нее чашку чая. Бетти вытирала кухонную доску. Уже порядком стершаяся поверхность ярко блестела. — И охота тебе жить с этими иностранцами? — спросила Бетти. — Это я буду иностранкой, — поправила ее Джулия. — Мне будет тоскливо без Лили. Джулия почувствовала себя виноватой. За время каникул Лили они только один раз навестили Бетти и то мимоходом. Но в голосе Бетти не было обиды. Она продолжала методично вытирать доску, время от времени поглядывая поверх короткой оконной занавески на дома через дорогу. — Я попрошу Александра привозить ее к тебе почаще. — Но это смешно, чтобы мужчина воспитывал молоденькую девушку. — Клэр будет помогать ему. Но Бетти покачала головой с таким видом, как будто и не надеялась, что кто-нибудь может понять подобную странность. — Я хочу кое о чем спросить тебя, — начала Джулия. — И уже давно собиралась сделать это. Я хочу попытаться найти мою мать. Бетти даже не повернула головы. Джулия не была уверена, что она расслышала ее слова, так как продолжала в том же темпе тереть доску. — Всякий раз, когда я расстаюсь с Лили, я думаю о ней, — продолжала Джулия, зная, что ей следует делать теперь, когда она уже начала говорить. — Я хотела бы знать, что чувствовала моя мать, когда бросила меня. Пытаюсь представить, что она чувствует сейчас. Я тебе уже говорила это, помнишь? Просто хочу знать. Особенно мне нужно знать это теперь… когда Лили уехала жить к своему отцу. Это не значит, что я не считаю тебя своей матерью. Ты моя мать и всегда ею останешься. Она не упомянула о своих юношеских мечтах, которые одолевали ее, о случившейся трагедии, о праздновании Рождества в аристократическом семействе в атмосфере Викторианской эпохи, которое четко запечатлелось в памяти брошенной маленькой девочки. Все это прошло, но сильное инстинктивное притяжение, которое она чувствовала к незнакомой женщине, осталось. И с каждым днем становилась все сильнее. Бетти не шевельнулась. Джулия поднялась, подошла к ней и обняла за талию. — Ну пожалуйста, — тихо попросила она. — Ведь ты же должна что-нибудь знать. Бетти резко повернулась и вышла из комнаты. Джулия в растерянности ждала. Из соседней комнаты неслись какофонические звуки программы Вернона. И тут она услышала шаги Бетти. — Слишком громко, папочка, — сказала она. Звук слегка уменьшился. Бетти вернулась на кухню с плоской коробкой типа старомодных ящиков для бумаг. Джулия никогда не видела ее раньше. Вероятно, она много лет пролежала среди прочих семейных реликвий в буфете. Бетти отперла этот ящик и протянула Джулии тщательно сложенный лист бумаги. — Вот все, что у меня есть. Тебя привезли к нам из агентства приемных детей, когда тебе было шесть недель. Я тебе говорила об этом. Мы никогда не знали твоей настоящей матери. Да и не хотели знать. Ты была нашей дочерью с того дня, как попала в наш дом. Джулия развернула бумагу. Это было свидетельство о рождении. Свидетельство о ее рождении. Дата рождения и имя — Джулия Смит, приемная дочь Элизабет и Вернона Смит. Свидетельство было выдано на ребенка, родившегося в тот же день, что и она. Ее имя было Валери Холл, а имя ее матери — Маргарет Энн Холл. В графе сведений об отце был прочерк, бумага заверена в регистрационной конторе в Эссексе. — Мы назвали тебя Джулией, — сказала Бетти. — Мы решили, что Валери несколько… ну, ты понимаешь, о чем я. Руки Джулии дрожали, и пожелтевший лист бумаги слегка шелестел. Валери Холл была никто, но перед ней было имя ее матери. Маргарет Энн Холл, Колчестер. Эссекс. Из Колчестера, тридцать три года назад. Бетти прервала ее мысли. — Маловероятно, чтобы она все еще была там. Она могла даже не вернуться туда. Девушки, попадавшие в беду в те времена, обычно уезжали из дома, чтобы родить ребенка. Чаще всего подальше от тех мест, где они жили. Чтобы избежать людских пересудов. «Бедное покинутое дитя». Думала ли об этом Маргарет? — Это распространенное имя, — сказала Джулия. И сколько Холлов в стране? Сколько женщин с именем Маргарет Энн, которые произвели на свет незаконнорожденных дочерей в домах Колчестера? Джулия тщательно сложила бумагу. — Можно мне оставить ее у себя? — спросила она. Бетти кивнула. Джулия понимала, что ее шансы найти Маргарет Энн Холл были невероятно малы. Но у нее было имя. Это все же ниточка. Она спрятала свидетельство во внутренний карман сумки. Подошла к Бетти и поцеловала ее. — Спасибо. Уже это много, по крайней мере можно составить какое-то представление. Какой же была ее мать? Была ли Маргарет Холл высокой и темноволосой? Худощавой или полной? На эти вопросы не было ответа. Джулия осталась на чашку чая с сандвичем, которую выпила, сидя у телевизора. Прежде чем уйти, она пыталась убедить Бетти: — Если я подыщу поблизости подходящий дом, вы с Верноном приедете погостить? — Вряд ли, — ответила Бетти без раздумий. — Не думаю, чтобы твоему отцу это понравилось.
Через некоторое время Джулия вернулась в замок Монтебелле. Уже другое ветхое такси марки «фиат» доставило ее к воротам монастыря, и она прошла через них во внутренний двор. Было холодно, и под навесом на террасе не было ни кресел, ни кроватей, но все остальное сохранилось в прежнем виде. Джулия еще раньше написала матери-настоятельнице, и сестра Мария от Ангелов и все остальные тепло приветствовали ее, но не выразили никакого удивления. Джулия подумала, что они не удивились бы, даже если бы она приехала без предупреждения. Их спокойствие ничем нельзя было поколебать, а для притворства они были слишком заняты. Она сказала матери-настоятельнице, что постарается найти себе жилище в Монтебелле. Но они уверили ее, что рады отдать в ее распоряжение прежнюю белую комнату на любой срок. Джулия поднялась по выщербленным каменным ступеням, а затем пошла вдоль по длинному коридору, минуя Святое Семейство в освещенной нише. Уже другие дети, но с такими же широко открытыми глазами робко приблизились к ней, а затем поспешно убежали. В маленькой комнатке на кровати было то же заштопанное покрывало, а за окном с опущенными жалюзи — только мрачные краски зимы. Джулия распаковала вещи и развесила на крючки. В Лондоне, готовясь к этой поездке, она избавилась почти от всех своих нарядов, а также цепочек и браслетов — от груды украшений, переполнявших ее туалетные столики и шкатулки, скопившиеся за годы ее взрослой жизни. Единственную вещь, которую она оставила, была шкатулка Джорджа Трессидера, в которой лежали два кольца — обручальное и подаренное при помолвке, прикрытые свидетельством о рождении Валери Холл. Избавившись от своих сокровищ, Джулия рассмеялась. Это кружило голову больше, чем шампанское, а чувство легкости, возникшее при этом, было ни с чем не сравнимо. После первого обеда в трапезной, где она опять сидела между креслами на колесах, Джулия вышла в сад. Было темно, и она шла на ощупь, пока глаза не привыкли к темноте. Воздух был непривычно промозглый и сырой, но спокойный, и откуда-то снизу доносился однообразный шум моря, терпеливо перекатывавшего свою невидимую в темноте серебристо-желтую бахрому. Прошлогодние листья, застрявшие среди оголенных веток запущенного кустарника, цеплялись за ноги Джулии и шуршали над головой. Джулия медленно спускалась вниз по покатым каменным ступеням. Здесь когда-то была живая изгородь из самшита, но теперь она беспорядочно разрослась, повсюду пробивались и расползались сорняки. Джулия протянула руку, чтобы отвести преградившую путь упругую ветку, но тут же отпрянула назад, вскрикнув от боли. В кожу вонзились колючки; она держала перед собой руку, глядя, как на ней выступили капли крови, тонкими струйками побежавшие по белой коже. Превозмогая физическую боль, Джулия вдруг ощутила, как в ней поднимается и нарастает необъяснимое чувство. Вмиг исчезли все обиды. Она уже не стояла в стороне, обреченная на пассивное созерцание собственных заученных движений заводной куклы. Она вновь обрела свою душу и осязала теплоту живого тела. Поднеся руку к губам, она слизала солоноватую кровь. — Я жива, — сказала она себе. — Я снова здесь. Ее охватило ощущение счастья, которое постепенно росло, заполняя бурно разросшийся парк и этот неприступный замок, прильнувший к горе. Джулия повернула голову, и сухая ветка царапнула ее по щеке. Она потянулась, схватила ее и притянула к губам, чтобы попробовать чистые капли дождя на озябшей коре. (обратно)
Глава двадцать четвертая
На этот раз Джулия взяла на себя заботу о монастырском парке. Окончив дневные занятия с детьми, сначала она просто прогуливалась по террасе, садилась на ступеньки или балюстраду и смотрела на парк. Потом она обследовала все четыре участка территории, внимательно изучая запущенную часть парка. Любимым местом ее прогулок стал небольшой участок, обнесенный стеной со сводчатыми окнами, но открытый сверху, напротив западной стены замка. Там были беседки с каменными сиденьями, увитые уже осыпавшимися розовыми лозами и ветками глициний. Даже в холодные дни это место было надежно защищено от ветра, и когда сюда проникали лучи тусклого зимнего солнца, становилось тепло от нагревшихся стен и земли. Сестра Агнес объяснила Джулии, что когда-то это был своего рода зимний сад, весьма древний и, по мнению монахини, гораздо старше всего парка, возможно даже возведенный одновременно с замком. Вероятно, когда-то это было помещение, где на открытом воздухе обычно сидели со своей работой или совершали моцион дамы, прохаживаясь между замысловатыми цветочными клумбами. У Джулии вошло в привычку садиться на каменную скамейку и представлять картины прошлого. Иногда она так глубоко погружалась в эти воспоминания, что ей начинал слышаться приглушенный гул и шелест шелковых одежд по гравию. С приходом весны Джулия начала ухаживать за зелеными побегами и кустами роз, глянцевые жесткие листья которых теперь быстро разворачивались под теплыми лучами солнца. Она взялась также за прополку сорняков на гравийных дорожках. В каждом углу сада находилось по огромному каменному сосуду, украшенному вырезанными из камня гирляндами цветов и фруктов. Джулия никогда не присматривалась к искривленным и бесформенным деревцам, росшим в этих сосудах. Но вот набухшие на них почки однажды раскрылись шапкой бело-красных цветов. Они издавали тонкий, благоухающий аромат, и Джулия догадалась, что это лимонные деревья. Зимний сад стал раскрывать перед ней свои тайны, и Джулия позабыла о воображаемых таинственных дамах. Она переключила свое внимание на клумбы и грядки, составляющие центр сада. Они были разбиты в виде замысловатых геометрических фигур: ромбов, кругов и многоугольников, окаймленных низкими изгородями из самшита и узкими пересекающимися тропинками. Джулия вспомнила, что такая система грядок называлась «партнером». Его контуры стали уже почти неразличимы. Линии, которые должны быть ровными и прямыми, превратились в бесформенные насыпи, а растения на грядках и клумбах расползлись во все стороны, нарушив стройный рисунок первоначальной композиции и забив собою тропинки. Джулия помнила, как после первого визита угнетал ее запущенный вид парка. Но тогда она была всего лишь его случайным посетителем в осенний сезон, между октябрем и ноябрем. Теперь же она увидела, как из земли сквозь спутанную массу плюща пробиваются острые ростки нарциссов, а на заросшем крапивой участке алеет единственный тюльпан. Когда-то здесь сияла полумесяцем целая клумба из этих цветов. Однажды вечером Джулия зашла к сестре Марии и спросила, нет ли у них в чуланах каких-нибудь садовых инструментов, чтобы ухаживать за парком. — Этот парк всегда рос сам по себе, — сказала сестра Мария. — Дети любят ухаживать за растениями во дворе, а больше просто нет времени. — У меня сейчас много свободного времени, — заметила Джулия. Монахиня строго посмотрела на нее. — Но ведь у вас и так хватает занятий. Джулия улыбнулась. — Ну и что. Не так их и много. Я бы хотела делать больше. Если бы я могла быть сиделкой или учительницей… — Мы дорожим любой лишней парой рук, — перебила ее сестра Мария. — Пойдемте со мной, и я посмотрю, чем можно вам помочь. В помещении без окон, наполненном всяким строительным хламом, они отыскали несколько уже заржавевших инструментов. Это были мотыга, грабли и огромная тяжелая лопата. Джулия потащила все это в зимний сад. На одной из дорожек она немного разровняла гравий, убрала остатки сухих веток и комья земли, выполола сорняки. По мере того как прочищалась извилистая дорожка, настроение у нее приподнималось, кровь быстрее бежала по жилам, и она запела от удовольствия. Но оставались еще дюжины заросших тропинок. Спустя какое-то время Джулия взялась за лопату. Она налегала на нее со всей силой, но не могла и на дюйм пробить затвердевшую как камень и заросшую дикими травами землю. Отбросив лопату, Джулия опустилась на колени возле одной из беспорядочных зарослей самшита. Захватив рукой пучок колючей травы, она выдернула ее с корнем. И тотчас почувствовала знакомый горячий насыщенный запах. Она наклонилась вперед, разгребая траву, и нашла его источник: маленькую кочку чабреца. Покрытые белым пушком зеленые листочки издавали чарующий аромат, когда она терла их пальцами. Ей стало ясно, что на некоторых грядках выращивались лекарственные травы. Их высаживали здесь для лечебных целей, а также, вперемежку с другими растениями, ради их ароматических свойств и для красоты. Она еще немного порылась в траве, внимательно присматриваясь к растениям, но смогланайти только пиретрум и лаванду. Ее приятный запах напомнил ей ящики комода Бетти, где среди белья, переложенного мешочками с лавандой из старомодной аптеки на Хай-стрит, лежала та заветная бумага. Сидя на корточках, Джулия вертела в руке веточку лаванды. Ей было удивительно приятно, что невидимая нить, между этим зимним садом и Фэрмайл-роуд, протянулась далеко в прошлое… А запах чабреца напомнил ей стряпню Феликса, когда она наблюдала за ним, испытывая благоговейный страх, там, в кухне на площади. Позабытые лекарственные травы приобрели вдруг особый смысл, напомнив ей здесь, в этом обнесенном стеной саду, о доме. Она опять склонилась над грядкой и занялась сорняками. Ей пришла в голову мысль, что она могла бы возобновить практику выращивания этих растений. Ведь если они были полезны раньше, то могут сослужить свою службу и сейчас. Джулия продолжала работать, пока не заболела спина, она взглянула на свои руки — под ногти набился слой красноватой почвы. Все это напомнило ей, как она выращивала лекарственные растения в дальнем углу ледихилльского парка. Воспоминания на какой-то миг захлестнули ее, но она тут же вернулась к своим занятиям. Хорошо было бы взяться за этот сад всерьез. Спустя некоторое время Джулия выпрямилась, потирая руками бока и спину, и окинула проделанную работу критическим взглядом. Это была всего лишь частичка одной из геометрических разбивок, но даже и тут она не была уверена, что выдернула сорняки, а не полезные растения. Ей необходима была помощь Николо. Джулия и Николо Галли возобновили дружеские отношения, как будто и не было двухгодичного перерыва. Когда она впервые встретила его после своего возвращения, то отметила, что он нисколько не изменился. Такой же стройный, та же легкая поступь. Он сжал ее руку своей худой загорелой рукой и улыбнулся. — Значит, вы все-таки вернулись? — Да. И собираюсь остаться и работать в замке, если, конечно, позволят сестры. — Рад видеть вас, Джулия. Он расспросил ее о Лили, и она все ему рассказала. Николо понимающе кивнул. — С вашей стороны было разумно позволить ей поступить по собственному желанию. Так будет лучше для вас обеих в будущем. — Надеюсь, вы правы. Джулия возобновила свои вечерние визиты в дом Николо. По мере того как становилось теплее, они все чаще сидели во дворике за домом, где вилась виноградная лоза, карабкаясь вверх по шпалерам, свешивалась прямо у них над головой. Там Николо выращивал в небольших глиняных горшках некоторые виды зелени, используемой в качестве приправ. При очередном посещении синьора Галли Джулия попросила его научить, как лучше разбить грядки для выращивания культурных растений на территории замка. — Это полностью отличается от того, что я видела в Англии, — сказала она. Сильная жара и летняя засуха составляли полную противоположность тому, что она наблюдала в поместье Леди-Хилл. Николо засмеялся. — Но я специалист по строительству, а не по разведению садов. В этом я ничего не смыслю. — По крайней мере, взгляните на этот сад, — попросила она. Николо взял свою соломенную шляпу, и они отправились на гору, к замку. Когда они проходили через двор, монахини останавливались, чтобы поздороваться с ним, а больные в креслах на колесах провожали его взглядом. В общине все любили Николо. В зимнем саду он долго бродил среди запущенных гряд, а затем присел под пурпурными листьями глициний. — Давненько я здесь не бывал, — сказал он. — Даже забыл, как здесь чудесно. Джулия тут же подхватила: — Ведь я могла бы очистить цветники. А если бы знала, что сажать, то выращивала бы овощи для кухни. Сад ожил бы и опять стал приносить пользу. — Если вы интересуетесь этим с точки зрения прошлого, то вряд ли здесь выращивали овощи. Уж скорее лекарственные травы или, вероятнее всего, цветы, которыми любовались дамы. — Не думаю, чтобы семьи, которые когда-то владели замком, стали бы возражать против того, чтобы здесь находились монахини. Я уверена, что они одобрили бы их миссию. Надеюсь даже, они не возражали бы, если бы я переделала немного их сад? — Возможно. Они вышли из зимнего сада и, обогнув стены, прошли к центральной части парка. На них повеяло пряным запахом кедров, буйно разросшихся на нижней террасе. Джулия вздохнула. — Хотела бы я увидеть все это до того, как последние владельцы покинули этот парк. — Эта часть парка не такая древняя, — заметил Николо. — Может, такого же возраста, как и я, хотя я не помню, как тогда все выглядело. Он был сделан по образцу великих парков итальянского Ренессанса. Если вас это интересует, у меня есть книга. Правда, она на итальянском языке. — Я, наверно, не пойму, — сказала Джулия. — А может, этому парку повезло, что он сохранился в таком виде, — продолжал Николо. — Как раз в то время, когда его создавали, многие старинные парки разрушались. Ради новой моды — английского стиля. Джулия подумала о сыром, мягком климате Англии, ее равнинных просторах, перенесенных под жгучее итальянское солнце, и покачала головой. — Джулия, если вы хотите научиться выращивать полезные растения, я познакомлю вас с Вито. — Кто он такой? — Вито — садовник, но он не любитель цветов. Николо повел ее вниз, на самую окраину Монтебелле, где на отвесных склонах лепились последние домики горной деревушки. Вито оказался древним старцем с лицом, похожим на кожу грецкого ореха. Несколько уцелевших во рту зубов были темны, как и его кожа, а рука, которую пожала Джулия, на ощупь напоминала когтистую лапу. Он выглядел так, как будто и сам вышел из земли. Когда он повел их на задний дворик, бормоча что-то по-итальянски, причем Джулия едва ли могла разобрать пару слов из десяти, у нее перехватило дух от восхищения. Сад Вито представлял собой ряд небольших выступов, выбитых на склоне горы. И получалось, что и над домом, и под ним в этих удивительных бороздах росли овощи. Там были и ранние помидоры, созревавшие возле бобов, и тонкие стебли салата-латука, и холмики кабачков, обложенные соломой, и крошечные огурцы, и кустики земляники. Кругом сверкали глянцем листья и побеги растений, о которых Джулия не имела никакого представления. Она увидела карликовые персиковые деревья, а на крошечном плато — фиговое дерево и грецкий орех, под которыми копошились куры; плетни из тростника, навесы из хлопающей на ветру полиэтиленовой пленки и свернутый кольцом шланг для полива. Все было сделано без каких-либо претензий на красоту, но это был один из самых чудесных садов, который когда-либо видела Джулия. Она протянула руку и захватила горсть земли с одной из грядок: темная, плодородная земля с примесью соломы рассыпалась под ее пальцами. Ее нельзя было сравнить с затвердевшей, как кора, землей ее цветников. Несмотря на свой скудный итальянский, Джулия пыталась объяснить, чего она хочет. Вито выслушал, а затем сказал что-то Николо. Его речь напоминала какие-то всхлипы и свист. — Что он говорит? Николо едва сдерживался от смеха. — Ну, в общем, что не может научить вас. Единственный способ научиться — это наблюдать, как он это делает. Больше толку. Джулия посмотрела на них обоих. — Большое спасибо, — серьезно сказала она. И с этого момента Джулия стала делить свое время между зимним садом и вертикальной «страной чудес» старика Вито. Она сидела на перевернутом ведре под фиговым деревом и наблюдала, как он копает, подрезает и поливает. Сначала изредка, а потом все чаще он стал поглядывать через плечо в ее сторону. Она выучила по-итальянски все названия овощей и начинала уже понимать то, что он ей говорил. Он дал ей попробовать первые плоды томатов и мелкие сладкие ягоды земляники, горячие от яркого южного солнца. Однажды она с Николо отправилась на рынок в Агрополи. Из кучи сельскохозяйственных инструментов она выбрала и купила две новенькие блестящие лопаты, пару садовых ножниц, несколько совков, ручные вилы и большой поливочный шланг. Нагрузившись «добычей», она поспешила домой. Вечером, когда стало прохладнее, Джулия решила подстричь живую изгородь из самшита на одном из участков партера. До чего приятно было видеть, как вырисовывается прямая линия изгороди! Джулия так хорошо изучила замысловатый рисунок грядок, как будто сама составляла план разбивки. Она упорно продолжала работать, поставив перед собой цель. Ей захотелось продвинуться дальше, чтобы поскорее увидеть результаты. Когда она закончила работу, стало совсем темно, но ровные линии растений оформленной грядки отчетливо выделялись на фоне серого гравия. Наутро она с трудом разогнула спину, а на ладонях образовались водянистые волдыри. Из-за этих неприятностей пришлось отложить дело на неопределенный срок. Зато у нее появилось время, чтобы хорошенько изучить книгу по истории парков, которую дал ей Николо. Джулия была очарована иллюстрациями итальянских художников. Былое великолепие из камня, скульптуры и разнообразные виды растений, расположенные в соответствии с архитектурными решениями, невозможно было сравнить ни с чем. Может быть, что-то подобное кроется в диких зарослях монтебелльского парка? Она углубилась в описания, но так как ей постоянно приходилось заглядывать в словарь, то на каждый параграф уходило немало времени. И тут она поняла, что, если хочет добиться успеха, ей необходимо приобрести английский учебник. Интересно, как далеко ей придется заехать, чтобы найти такой: в Неаполь или в Рим? Наверно, проще было бы заказать книгу из Англии. И тут Джулия вспомнила Чину. Чина продала свою квартиру в Чейн Уолк, заявив, что она слишком стара для Лондона, и купила коттедж в Уилшире. Джулия почти не виделась с ней последние несколько лет, так как Лили к бабусе Блисс возил обычно Александр. Он как-то сказал Джулии, что Чина проводит время в своем цветнике, и Джулия представила ее невысокую прямую фигуру, двигающуюся среди голубого дельфиниума. Однако именно Чина в свое время привела в порядок ледихилльский парк, и, в течение короткого пребывания там Джулии, старик, который приходил работать в саду, имел обыкновение с необычайным оживлением говорить о познаниях и садовом опыте Чины. И вот однажды вечером Джулия присела к столу в своей маленькой комнатке и написала Чине длинное письмо, в котором описала зимний сад и запущенный парк. К своему удивлению, скоро, чуть ли не со следующей почтой, она получила ответ, вслед за которым пришла посылка с книгами, содержащими так много информации, что Джулия вряд ли смогла бы ее осилить. Она с жадностью набросилась на книги и опять написала Чине, засыпая ее вопросами, которые не могла задать Вито. Чина опять ответила, и, таким образом, у них завязалась постоянная переписка. Они писали только о садоводстве и о тех проблемах, с которыми Джулия столкнулась в запущенном парке Монтебелле. Лишь в одном письме Чина вскользь спрашивала Джулию, помнит ли она хоть какой-нибудь уголок ледихилльского парка. И этот вопрос несколько разбередил уже затянувшуюся рану в душе Джулии. Перед ее глазами предстала четкая, как фотография, картина: Александр с малюткой Лили на руках сидит в том самом уголке парка, поправляя поля детской панамки, чтобы заслонить от солнца личико ребенка. Это выражение затаенной гордости всегда вызывало у Джулии чувство ревности. «Я всегда ревновала к нему, — подумала она. — Но теперь этого уже нет. Хотелось бы мне, чтобы и они это знали». И, вспомнив о муже и дочери, она опять почувствовала себя одинокой. Сложив письмо так, чтобы не видеть бередящих душу слов, она попыталась сосредоточиться на инструкциях Чины по подготовке грядок для посадки. Очень медленно, но работа продвигалась. Джулия заручилась помощью двух уже давно проживающих здесь постояльцев. Один из них — Гвидо — был умственно неполноценным, но зато физически очень крепким парнем. Джулия показала ему, как нужно копать, и он схватил лопату и принялся за работу, выхватывая огромные комья земли, перемешанные с сорняками, и скоро позади него вырос огромный земляной вал. Широкая радостная улыбка, не сходившая с его лица, говорила о том, что он доволен своей работой. Другой помощник, Томазо, проявлял больше интереса к самому проекту, но, взявшись за это, выказал невероятный энтузиазм. Мальчику было четырнадцать лет, и он был в семье самым старшим среди детей. Это был здоровый как в умственном, так и в физическом отношении парнишка, но подобно прежнему помощнику Джулии, Раймундо, у него не было своего дома. Сестра Мария рассказала Джулии, что он прибыл из Неаполя, где жил с больной бабушкой. Был замешан в какой-то истории с полицией, и бабушка уже не могла справляться с ним. Городские власти взяли Томазо под свою опеку, и в итоге он попал в Монтебелле под наблюдение монахинь. Это был трудный подросток. В замке он никому не хотел подчиняться, а в школе выводил всех из себя. Но неожиданно привязался к Джулии и направил свою неуемную энергию на восстановление сада. Вначале он равнодушно смотрел на ее усилия, но вскоре уже не мог скрыть своего восхищения. Джулию удивляла его природная тяга к растениям. Казалось, что чисто интуитивно он знал гораздо больше, чем она, упорно изучающая книги Чины. Когда Джулия сказала Томазо, что у него зеленые пальцы, переведя выражение дословно, он растерянно уставился на свои пальцы, а потом на нее, отчего Джулия невольно рассмеялась. На какой-то миг лицо мальчика исказила гримаса, но в следующую минуту он уже смеялся. Если бы Джулия позволила ему, он бы работал в саду и по ночам. Особенно он был полезен в общении со старательным неуклюжим Гвидо, чтобы направить его необузданную энергию в нужное русло. Джулии удалось приобрести различные семена, а также рассаду, которую приготовил для нее Вито. Вскоре напротив стены замка начали созревать помидоры. Момент, когда Джулия и Томазо принесли на кухню первый небольшой урожай помидоров и земляники со свежими листьями базилика, был поистине триумфальным. Монахини и женщины-поденщицы приняли этот скромный дар с большой благодарностью. Джулия внимательно ухаживала за розами, следуя книжным инструкциям, и вот на фоне старых стен расцвели разные сорта розовых и белых роз. По сравнению с этим уголком земля партера, несмотря на заботливый уход, казалась пустошью. Джулии удалось сохранить весьма немного от прежней растительности из-за невероятного энтузиазма Гвидо, и поэтому полезные овощи занимали лишь небольшую часть геометрической структуры, а свежеподстриженная живая изгородь из вечнозеленого самшита и расчищенные дорожки лишь подчеркивали общую картину опустошения. Джулия начала мечтать о цветниках с оригинальной планировкой. В книгах были показаны разноцветные «ковры» из герани, ноготков и петуньи. Николо поделился отростками герани из собственных горшков, но они совершенно потерялись в обширном пространстве зимнего сада. Однако Джулия решила, что на следующий год посадит уже собственные семена. У нее будет рассада, которую она размножит, чтобы со временем полностью засадить весь цветник. Но что можно сделать сейчас? Чина предупреждала ее, что каждый новоявленный садовник ожидает немедленных результатов, и теперь Джулия улыбнулась, сознавая свое нетерпение. Ежедневный кропотливый труд приближал ее к намеченной цели. Преодолевая робость и ошибки в итальянском языке, Джулия ходила по деревне, прося выделить ей немного семян тех или иных растений для монастырского парка. Эта необходимость просить и убеждать напомнила ей начало другой истории — создание «Чеснока и сапфиров». Но удовлетворение от самых незначительных достижений в Монтебелле было несравненно большим. Поначалу ее встречали недоуменным пожатием плеч и удивленными взглядами, но Джулия не упускала случая объяснить, что это нужно для монастырского сада, а здешняя община сестер пользовалась в деревне большим уважением. Кроме того, местным жителям было любопытно, что делает за стенами замка эта эксцентричная англичанка. Со временем они и сами стали заходить на территорию замка со своими приношениями. Постепенно они прониклись доверием к Джулии. Встречаясь там со своими соседями, они, энергично жестикулируя, обменивались впечатлениями, выражая свой восторг розами и цветником. За ними начали приходить и обитатели замка, и неожиданно зимний сад стал центром социальной жизни общины. Монахини одобрительно кивали и улыбались, а Джулия, Томазо и Гвидо приветливо встречали гостей, приносящих свои скромные дары в виде разнообразных растений. Джулия принимала все, что приносили, и тут же высаживала на грядки. Благодаря ее заботам и своевременному поливу, которым ведал Томазо, пустовавшие круги и ромбы вскоре превратились в сплошной разноцветный благоухающий ковер. Через год или два можно будет сделать одну грядку белой, вторую — бледно-голубой, а круг посередине (центр рисунка) — ярко-алым. Джулия понимала, что для осуществления ее планов потребуется длительный период времени. Но она спокойно глядела в будущее. Если ее жизнь в Монтебелле и была лишена личного счастья, то все же она приносила ей удовлетворение совсем иного рода и своеобразную наполненность, которой она не знала раньше. К наступлению лета она уже чувствовала, что ее жизнь переплелась с жизнью замка. Несмотря на то, что все ее мысли поглощал сад, большую часть времени она уделяла детям. Наиболее здоровые ходили за ней по пятам. По утрам они сидели в зимнем саду, прячась в прохладной тени, и Джулия разучивала с ними песенки или затевала какие-нибудь игры. Пришла очередная бандероль от Чины. В ней оказалось несколько коробок домино, шашек и прочие настольные игры. «Для твоих итальянских детишек», — написала она. Внимание Чины растрогало Джулию, и она впервые задумалась над тем, почему никогда раньше не делала попыток сблизиться с этой женщиной. В замке сдружиться было так просто. Она тотчас отправила Чине теплое письмо, в котором описывала свое времяпрепровождение с детьми, и даже послала ей в знак благодарности несколько детских рисунков. Присланные игры пользовались огромным успехом, и Томазо оказался таким специалистом по шашкам, что даже Николо не мог обыграть его. Николо, в свою очередь, научил мальчика играть в шахматы, и по вечерам они задумчиво сидели в беседке над шахматной доской, пока Джулия пропалывала и поливала свои грядки. Те дети, которые могли самостоятельно ходить и наслаждаться разными играми, были счастливы. Но были и другие, прикованные к креслам на колесах, чьи беспомощно болтающиеся головки не в состоянии были подняться, чтобы взглянуть на цветы. Джулия подвозила их вплотную к цветнику, надеясь, что густой приятный аромат окажет свое действие на этих несчастных. Были еще и хронически больные дети, которых Джулия почти не видела, — за ними присматривали монахини. Но иногда она заходила в две маленькие палаты, чтобы почитать больным детишкам сказки, помочь их искупать, переменить им постельное белье или поводить по полу, поддерживая почти невесомое тельце. Джулия приучала себя к зрелищу страданий, которые наблюдала в том крыле замка, где находились взрослые больные. Однажды, когда умерла одна старушка, сидя в своем кресле во внутреннем дворе, она видела лица монахинь, которые поднимали из кресла мертвое тело. Они были спокойны. В них не было боли. Джулия не могла разделить их веру. Она старалась найти в себе хоть часть их безмятежности. Но вид несчастных людей наполнял ее душу жалостью и негодованием за несправедливость судьбы. Купая очень худенькую маленькую девочку, Джулия вспоминала Лили, ее округлые крепкие руки и ноги. И это сравнение вызывало у нее смешанное чувство ужаса и желания помочь и окружить любовью эту малышку. Пие было семь или восемь лет. Все ее тельце было покрыто сочащимися струпьями и болячками, которые она до крови раздирала пальцами. Джулия постоянно чистила и мыла ей ногти и время от времени брызгала прохладной водой на воспаленную кожу, чтобы смягчить зуд. Пия все время просила читать ей одну и ту же сказку. Это был вариант сказки про Рапунцель. Девочка восхищалась золотыми косами Рапунцели и просила снова и снова перечитывать эту сказку. Она дергала руками свои волосы, жесткие, черные и непокорные, стараясь показать покрытый прыщами череп, как будто хотела вырвать эти волосы, чтобы вместо них смогли вырасти другие, красивые. Джулия пыталась заинтересовать ее «Золушкой», но она хотела слушать только про Рапунцель — девушку с золотыми косами. Пия страдала еще и астмой. Однажды вечером, когда Джулия вошла в палату, чтобы пожелать детям спокойной ночи, она заметила, что с одной стороны кровати девочки отдернут полог. У Пии был астматический приступ. Джулия постояла минуту, прислушиваясь к беспомощной борьбе ребенка за каждый глоток воздуха, затем тихо вышла из палаты. Там была сестра Мария, Джулия слышала ее голос. В руке Джулии была книжка про Рапунцель. Она долго смотрела на вылинявшую обложку, затем опустила книгу. Дойдя до лестницы, она спустилась по каменным ступенькам в вечерние сумерки, когда услышала за своей спиной поспешные шаги. Это была сестра Мария в своем белом накрахмаленном головном уборе. Впервые Джулия видела бегущую монахиню. Сестра Мария добежала до двери помещения, где жил монастырский доктор. В следующий момент обе женщины уже бежали обратно. Джулия тяжело опустилась на скамью под одной из арок. Она машинально следила за тенями, промелькнувшими по каменным плитам, и прислушивалась к звукам, доносившимся из открытых окон у нее над головой. Когда она опять подняла голову, то увидела священника, пересекавшего двор со своей большой сумкой. Это был молодой человек в очках, с бледным серьезным лицом, друг Николо Галли. Джулия застыла в ожидании. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем сестра Мария опять появилась в проеме двери, ведущей к детским палатам. Она не видела Джулию. Постояв минуту с опущенной головой, она подняла лицо к свету. Небо над головой становилось из темно-синего светлым. Джулия чувствовала себя в этот момент лишней, но не могла больше сидеть неподвижно. Перейдя двор, она тронула сестру за руку. — Пия умерла, — сказала та. Мать Пии жила в деревне за двенадцать километров от Монтебелле. Дочь умерла прежде, чем мать смогла добраться к ней. Джулия покачала головой, не веря своим ушам. Она не находила слов, хотя знала, что такое могло случиться. — Но почему? — тупо спросила она. — Вчера она чувствовала себя хорошо. Я еще читала ей про Рапунцель. Сестра Мария перевела взгляд на Джулию. Продолговатое лицо монахини было спокойным, а глаза ясными. — На то воля Божья, — сказала она. С глазами, полными слез, ничего не видя перед собой, Джулия побрела в зимний сад. Гвидо сметал с дорожек опавшие лепестки цветов. Увидев ее, он расплылся в наивной, радостной улыбке. Томазо нигде не было видно. Должно быть, играет в доме у Николо в шахматы, подумала Джулия. Ей так не хватало сейчас его общества. Она повернула обратно, вышла через каменный проем и направилась в центральный парк. Она шла все быстрее и быстрее и наконец побежала, несясь вниз по ступенькам террас, цепляясь ногами за колючие ветви ежевики. Колючки царапали ей голые лодыжки. Перед глазами все время стояла Пия, капли крови, которые выступали, когда она раздирала руками зудящую кожу, ее судорожные попытки вздохнуть, которые теперь прекратились. Острое чувство жалости к этой короткой жизни, к ребенку, жизнь которого оказалась так коротка, опять охватило Джулию, вызвав в ее душе взрыв гнева и возмущения. Мир снова представился ей зловещим и враждебным. Добежав до последней террасы, повисшей над спокойной гладью моря, она дала волю рвавшимся из груди рыданиям. Ей хотелось схватиться врукопашную с несправедливостью, как будто она могла победить ее. Она яростно набросилась на разросшиеся повсюду бесформенные заросли дикого вьюнка и чертополоха. Вдруг она ощутила под ними что-то твердое и гладкое и продолжала рвать и отбрасывать сорняки, пока между ними не сверкнул кусок позеленевшего мрамора. Приступ гнева и энергичные движения высушили слезы на ее щеках. И вот перед ней предстала всеми позабытая статуя мальчика с пухлыми руками и ногами и озорным, лукавым выражением лица. Джулия провела руками по холодному мрамору, размышляя, кто бы это мог быть: Меркурий или Купидон? Он стоял как пытливый страж, охраняющий парк со стороны моря. Джулия посмотрела вверх, на потрескавшиеся камни, и потрогала пальцами пробивающиеся из расщелин молодые побеги. «Божья воля…» Она не разделяла веры сестры Марии и должна была сама искать ответ, можно ли оправдать чудовищную смерть ребенка. И пока она стояла так, бессильно опустив руки, на нее снизошло какое-то умиротворение. Она слушала монотонный шум моря и, протянув ладони, прильнула к каменной стене. Земля под ногами была теплой, и Джулия слышала слабый шорох разросшейся листвы. Ей стало казаться, что если она будет старательно вслушиваться, то ощутит движение корней и плавное покачивание несущейся в пространстве Земли. В этом было какое-то утешение. Смена времен года была прекрасна. Этот цикл возобновлялся независимо от участия человека. И смерть Пии не могла повлиять на это. Как и жизнь Джулии. Джулия выпрямилась. Глядя ввысь, она начала понимать, что недостаточно заниматься этими играми в саду, обнесенном стеной, с простачком Гвидо в качестве помощника. Нужно сделать большее — возродить весь парк. Заставить его ожить снова. Она бросила себе этот дерзкий вызов. Джулия оставалась в парке до темноты. Затем медленно поднялась по разрушенным ступеням террас к темнеющему на фоне полуночного неба силуэту замка. Она тихо вошла в часовню. Свечи у иконы Святого Семейства отбрасывали слабый свет. Джулия опустилась на колени и помолилась, как могла, за маленькую Пию. Прежде чем лечь в постель в своей пустой комнате, она спрятала книжку про Рапунцель в шкатулку Джорджа Трессидера. Больше она никому не будет читать эту сказку.И вот Джулия пришла к матери-настоятельнице поговорить о заброшенном парке. — Предстоит огромный объем работ, — ответила мать-настоятельница. — Потребуются мужские руки, специалисты и рабочие. А также немалые деньги. — Я, конечно, не специалист, — тихо проговорила Джулия. — Но специалистов и рабочих можно пригласить. Были бы только деньги. — И быстро продолжила, так как идея уже вырисовывалась у нее в голове. Она уже решила, что сделает. — Если я смогу найти достаточную сумму, чтобы заплатить за все, разумно ли будет потратить эти деньги на восстановление парка? Или лучше отдать их на нужды госпиталя? Монахиня подумала, потом улыбнулась удивительно кроткой улыбкой. — Полагаю, наш госпиталь будет продолжать работать в любом случае. И очень может быть, что если кто-нибудь пожелает дать нам деньги для больных, то мы упустим те небольшие субсидии, которые выделяют нам власти. Тот, кто облагодетельствует парк, думаю, не повредит общему делу. — Нет, конечно же нет, — сказала Джулия. — А у вас есть эти деньги, Джулия? Вы не похожи на богатую женщину. — В этих словах не было ни удивления, ни любопытства. Лишь спокойствие, которое так нравилось Джулии. — У меня в Англии есть свое дело. Несколько магазинов. Я отдала им много лет, слишком много. Теперь мне кажется, пришло время их продать. Если я их продам, мать-настоятельница, я бы хотела использовать эти деньги на восстановление парка. «Вероятно, — подумала Джулия, — это доставило бы мне больше радости, чем все, о чем я могу мечтать». Вслух же она сказала: — Возможно, на все это уйдет год. Мы могли бы нанять местных жителей на работу, а синьор Галли мог бы посоветовать, куда обратиться в поисках специалистов. А после восстановления, мне кажется, за парком могли бы присматривать два-три садовника. Могли бы также помогать и кто-нибудь из здешних обитателей, скажем, Гвидо и Томазо. Да и я тоже. Этот план мгновенно созрел в ее мозгу так, как будто она заранее тщательно продумала каждую мельчайшую деталь. Мать-настоятельница взглянула на Джулию. — Не собираетесь ли вы сделать работы в нашем парке делом всей своей жизни? Джулия подумала о простоте жизни в замке, друзьях, которых она начала приобретать в его стенах и в домиках, лепящихся вокруг горы, и о террасах, выходящих на море. Она вспомнила свою пустую квартиру в Кэмден-Тауне и однообразные, полные деловой суеты улицы. Нет, она не хотела бы жить нигде, кроме Монтебелле. Разве что в Леди-Хилле, но это было невозможно. — Если вы позволите мне, — ответила она. Монахиня опять ласково улыбнулась. Они договорились, что Джулия и Николо начнут составлять планы по восстановлению парка.
Продажа «Чеснока и сапфиров» оказалась не таким уж легким делом. Бизнес процветал как никогда. Что касается Джулии, то в своем уединении в Монтебелле она, спокойно перечитывая отчеты и балансовые бумаги, которые пересылали ей, поняла, что там в ней больше не нуждаются. Это облегчило ее полный отход от дел. Но Джулии нужно было найти подходящего покупателя. Этот бизнес поглотил изрядное количество лет ее личной жизни, лишил ее материнского счастья, чтобы теперь так легко пренебречь им. Поиски покупателя заняли недели, так как из столь отдаленных мест было нелегко дозвониться. Потом начались оценочные операции, затем пошли переговоры, пока, наконец, все не было передано в руки агентов. Джулия сделала два коротких визита в Лондон, но никого из близких за это время не успела повидать. Каждый раз у нее было такое чувство, будто она приехала в чужой город. Наконец в начале лета сделка состоялась. Магазины Джулии перешли во владение одного молодого бизнесмена и его живой и темпераментной жены-художницы. Джулия подумала, что вместе у них пойдет дело хорошо. По крайней мере, ее творение не будет проглочено и задавлено более крупными магазинами. Контракт был подписан, и весьма крупная денежная сумма переведена на счет Джулии в итальянский банк. Деньги, которые она получила от продажи дома на канале, уже были вложены в парк. Джулия полетела обратно в Италию с таким чувством, будто она возвращается навсегда.
Был июль, время летних каникул Лили. Джулии казалось, что она очень давно не видела дочь, и тем не менее эти месяцы так быстро пролетели, что у нее не нашлось времени подыскать в деревне домик, чтобы снять его для себя и Лили. И Джулия опять отправилась к матери-настоятельнице. — Я могла бы попросить синьора Галли приютить у себя Лили… — Но ведь вам хочется, чтобы дочь была здесь, возле вас. У нас есть и другие комнаты для гостей. Для друзей всегда найдется место, Джулия. — Благодарю вас, — сказала Джулия. Она попросила у Николо машину, чтобы съездить в Неаполь встретить Лили. Лили сошла с самолета в густой толпе пассажиров, но Джулия сразу увидела ее. Они бросились навстречу друг другу, и, обняв девочку, Джулия заметила, как она выросла и округлилась. — Ты выросла, — сказала она. — А ты похудела, мама. И так загорела. — Мне много приходится работать на открытом воздухе. Посмотри на мои руки. — Джулия показала ей ладони: пальцы загрубели от постоянной работы с землей, а ногти были поломаны. Лили смотрела на них, пораженная. Оказавшись около расхлябанного «фиата» Николо, она спросила: — Это твой автомобиль? Джулия рассмеялась. — Я одолжила его ради такого исключительного случая. У меня нет своей машины. Как нет и дома. Ты остановишься в замке. Джулия описывала дочери все в своих письмах. Кроме того, она говорила с Лили по телефону и рассказала о продаже «Чеснока и сапфиров». К ее удивлению, Лили приняла новость так, как будто ожидала этого. — Ведь ты не дорожишь этими магазинами, как прежде? — сказала она. — Во всяком случае, не так, как это было, когда я была маленькой. Мне тогда казалось, что ты любишь их больше, чем меня. — Это не так. Ведь я делала это ради тебя. — Теперь-то я понимаю, — Лили засмеялась. И вот сейчас Лили сидела рядом с ней в автомобиле. Они находились в густой сутолоке неаполитанского уличного движения. — Так мы остановимся в замке? Со всеми этими забавными людьми? — Они не забавные, Лили. Это больные, увечные или старики. А в остальном они точно такие же, как и ты. — Голос Джулии прозвучал несколько резко. Начало было малообещающим. — Впрочем, неважно, — поспешно добавила она. — Ты не рассказала мне о себе. Чем ты занималась все это время? Лили в основном уже писала ей об этом. Джулия с удовольствием отметила, что Марко Поло отодвинулся на второй план и гораздо большее внимание ее дочь уделяла своей подружке Элизабет и их общим занятиям. Это напоминало Джулии ее собственную дружбу с Мэтти, когда они учились в школе на Блик-роуд. — Ты виделась с Мэтти? — Да, она приезжала с Митчем. Красивая. Теперь у нее белый «ягуар». — У Мэтти?! Разве она водит машину? Лили расхохоталась. — Кое-как. Джулия написала Мэтти, но та не была любителем вести переписку. Ответные письма были какие-то поверхностные, а иногда их и совсем трудно было разобрать. Вставшая когда-то между ними преграда ощущалась еще и сейчас. Всю дорогу Лили весело болтала. Когда они выехали на побережье, девочка вся подалась вперед. — Посмотри-ка! Море совсем голубое! Джулия указала ей на возвышающуюся перед ними гору с острой вершиной, которую венчало Монтебелле. Машина начала взбираться вверх, словно по спирали. В открытые окна ветер доносил запах дикого чабреца и пряных трав. Лили примолкла. Она напряженно смотрела на уходящую вверх ленту дороги. Затем неожиданно спросила: — Мамочка, ты в порядке? Джулия похлопала ее по руке. — В полном порядке. Но первые дни пребывания Лили в замке оставляли желать лучшего. Лили стояла в дверях комнаты Джулии и удивленно смотрела на узкую постель и одинокий стул, придвинутый к столу, заваленному книгами по садоводству и огородничеству. — И это все, что у тебя есть? — Да, потому что в большем я не нуждаюсь. Не все ведь и в Лондоне живут в роскошных домах, и не все в Дорсете имеют поместья. — Это я знаю, — капризно сказала Лили. — Неужели? В трапезной за ужином девочка сидела молча и едва прикоснулась к еде. У Джулии была работа, и она спокойно продолжала заниматься ею. В те дни, когда Лили огорчала ее, Джулия старалась уединиться в саду. Она понимала, что Лили дуется, чувствовала недовольство, но потом смягчалась: в конце концов, ведь у девочки каникулы. — Сегодня мы спустимся с тобой к побережью, — предложила как-то она. — И возьмем кое-кого из детишек. — Я не хочу никуда идти с этими детьми. На нас будут таращиться люди. Ведь ты моя мать. — А ты — моя дочь! Но ведь мы не принадлежим друг другу, как вещи, верно? Ты это уже доказала. Лили пыталась выдержать ее взгляд. — Мне здесь не нравится. Все эти старики, больные дети, монахини. От этого мурашки бегают по коже. Кусок не лезет в горло, когда вокруг тебя пускают слюни и мычат. Я думала, что приеду в твой дом. В нормальный дом, к которому я привыкла. Выражение лица Джулии оставалось совершенно неподвижным. — Извини, Лили. Я не могу убрать отсюда этих людей. Они живут здесь, а мы нет. К тому же тебе двенадцать лет. Ты уже можешь взглянуть на жизнь без прикрас. — Только не со всей этой чепухой: священниками и увечными детками, — мрачно пробормотала Лили. Положение спас Томазо. Джулия заметила, что он наблюдает за Лили. Он пялился на ее светлую кожу и нарядные платья, но когда кто-нибудь перехватывал его взгляд, отворачивался, ворча. Лили делала вид, что вообще не замечает его. Девочка пробыла в замке уже десять дней, когда Джулия, доведенная до крайности ее недовольством, послала дочь в зимний сад, поручив сделать кое-какую работу. Она дала ей ножницы и попросила подстричь живую изгородь. Это была кропотливая, но несложная работа на час-другой. Спустя какое-то время Джулия, окончив свою работу, отправилась искать девочку. В зимнем саду ее не оказалось, а ножницы валялись посреди партера. Часть самшитовой изгороди была подрезана, и, как ни удивительно, очень аккуратно. Поднявшись на верхнюю террасу парка, Джулия огляделась. Море в это время ранних сумерек отливало матовым опалом, небо быстро бледнело. Лили и Томазо, перегнувшись через стену в нижней части парка, что-то рассматривали. Джулия не стала окликать детей. Позже она сказала Лили: — Я рада, что ты подружилась с Томазо. — Он сделал за меня работу, только и всего. — Лили старалась казаться равнодушной, но потребность поболтать пересилила. Если бы здесь была Элизабет, подумала Джулия, пряча улыбку, я бы никогда ничего не узнала. Как бы между прочим девочка сказала: — У него нормальный вид, правда? Для итальянца. У Томазо были черные вьющиеся волосы и влажные темные глаза. Выбитый зуб во рту делал его улыбку какой-то залихватской. — Ах, для итальянца, ну разумеется, — согласилась Джулия. После этого настроение Лили резко изменилось. Она предложила более сильным детям игру в прятки и возглавила их прогулки вверх и вниз по террасам парка. А однажды за ужином в трапезной она заняла место рядом с Гвидо и беседовала с ним, в то время как бедняга с жадностью поглощал пищу. Они с Томазо притворялись, что все время случайно наталкиваются друг на друга, и краснели, быстро отводя взгляд. — А как вы общаетесь? — спросила как-то Джулия. Лили не знала итальянского языка, а Томазо ни слова не понимал по-английски. Лили казалась удивленной. — Мы прекрасно понимаем друг друга. Немного подумав, Джулия разрешила Томазо свозить Лили к морю на старом синем автобусе, который отправлялся дважды в день с площади Монтебелле. А потом эти экскурсии повторялись постоянно. — А Александр позволяет тебе ездить с мальчиками? — спросила Джулия. — Будь благоразумной, ладно? Лили спокойно посмотрела на мать. — Я знаю, что ты имеешь в виду. Но я же не дурочка. «Совсем не такая дурочка, какой была я когда-то», — подумала Джулия. Она написала письмо Джошу. Ей не нужно было описывать Монтебелле или вид, открывавшийся из окна. Спустя несколько месяцев Джош прислал ответное письмо. Он сообщил ей, что работал в Аргентине, а затем, по дороге домой, совершил длительное путешествие через Перу и Колумбию. Джош по-прежнему не был связан узами брака. И вот однажды вечером произошло неизбежное. Лили пришла домой с красным опухшим ртом и сияющими, как звезды, глазами. Джулия сидела с Николо над планами и чертежами, присланными специалистами из Рима. Она рассказала старику о Лили и Томазо. — Разве вы не можете понять их чувств? — спросил он. Джулия провела руками по лицу, протирая глаза. — Я уже стара, — ответила она. — Мне тридцать три года. Николо положил руку ей на плечо. Его прикосновение было сухим и легким, подобно опавшему листу. — Что же тогда говорить мне после таких слов? Джулия сжала его руку в своих ладонях. — Вы никогда не будете старым. — Я не просто старый, а уже древний старик, — весело сказал Николо. — Как ни грустно, слишком старый для всего, кроме дружбы. — Это главное, что есть в жизни. Николо вздохнул. — Попробуйте объяснить это Лили и ее Томазо. Лили провела в замке шесть недель. К концу этого срока она стала такой же загорелой, как Джулия, и вытянулась еще больше. Джулии же казалось, что она вот-вот из девочки превратится в женщину. В день отъезда Лили все, кто был в состоянии, вышли во двор, чтобы попрощаться с ней. Томазо прятался позади толпы до самого последнего момента. Но когда Лили, ища его глазами, стала озираться вокруг, он выступил вперед, поцеловал ее, чисто по-дружески, в обе щеки, а затем опять ретировался на задний план. Лили какое-то мгновение колебалась, потом кивнула. Застенчивая улыбка тронула ее губы. Она подняла голову и быстро пошла за Джулией. В машине, по дороге вниз, она немного всплакнула, потом вытерла глаза и стала смотреть на море. — Не могу дождаться, когда увижу Элизабет, — сказала она наконец. В аэропорту, перед тем как попрощаться с матерью, Лили вдруг спросила: — Можно мне еще приехать сюда? — Конечно. Когда захочешь. В следующий раз я сниму для нас дом. Я не предполагала, что заставлю тебя провести каникулы среди больных. Лили сверкнула глазами. — А я рада, что все так случилось. Когда она уехала, Джулия подумала о том, что между ними наконец установились дружеские отношения.
Все лето и осень продолжались консультации со специалистами по планировке парка. Николо нашел в Риме историка, занимавшегося вопросами парков и садов, и тот приехал и провел неделю, копаясь в бумагах дворца в поисках первоначального плана посадок. По его мнению, парк Монтебелле был спланирован по образцу классических садов северной Италии. Затем приехали дизайнеры и садоводы, привезя с собой каменных и мраморных дел мастеров, которые осмотрели треснувшие и разбитые колонны и урны, а также приступили к реставрации классических статуй, предварительно очистив их от сорняков и прочей растительности. Когда летний сезон подошел к концу, прибыли рабочие, взявшиеся расчистить и привести в порядок землю. Племянник Вито — Фредо, который обычно в середине октября закрывал на зиму свою пиццерию на берегу моря, приехал, чтобы возглавить группу наемных рабочих. Грузовики с пахотным слоем почвы, удобрениями и гравием вереницей тянулись вверх по дороге в деревню. Джулия, Николо и монахини с детской непосредственностью наблюдали, как обнажается величественный остов парка. По мере продвижения работ по очистке территории подготавливались планы посадок. Поздно вечером, сидя под красивыми абажурами ламп в доме Николо, Джулия и старый архитектор сосредоточенно изучали семена и луковицы различных растений. Джулия оплачивала огромные счета и подписывала чеки с чувством ни с чем не сравнимой радости. В конце осени из питомников привезли первые партии саженцев. Наряду с луковицами они должны были высаживаться в еще теплую почву. Остальные сорта следовало посадить в конце зимы. Рано утром Джулия выходила в парк, еще окутанный легкой туманной дымкой, и смотрела на молочную белизну моря, неподвижного, словно гладкий огромный лист железа, переливающийся под серым бесцветным небом. Фредо и дядя Вито, стоя на коленях, развязывали обернутые в рогожу и облепленные землей корни саженцев и бережно опускали их в заранее подготовленные лунки. Джулия стала им помогать, утаптывая влажную землю вокруг ствола каждого деревца и слегка прикасаясь к их кронам, словно давая благословение. Фредо,улыбаясь, смотрел на нее, когда она, присев на корточки, отерла лоб выпачканными в земле руками. В первое лето, после того как были произведены посадки, парк имел вид молодого сада, где среди редких деревцев на фоне зеленеющего ковра как-то нелепо торчали статуи. Джулия с особым удовольствием следила за каждым новым побегом. Она без конца сновала вверх и вниз по террасам, глядя, как молодая листва постепенно смягчает жесткие линии длинных стен и широких ступеней, а прекрасные изваяния из серого и белого камня и мрамора блекнут от соседства с сияющим цветением живого мира. Под лучами горячего солнца Джулия вдруг ощутила, как в ней самой пробуждается живительная сила. Она почувствовала в себе эротический заряд, заставивший ее поднять голову и выпрямить спину, и ощутила, как ее тело буквально рвется из тесного льняного платья. По вечерам из своего прибрежного бара-пиццерии приходил Фредо, чтобы помочь вынести из замка лохани с грязной водой и полить ею грядки. Он все время с интересом наблюдал за Джулией, и все чаще на его лице сияла улыбка. Однажды вечером, когда уже наступила темнота, он застал ее одну на нижней террасе, куда доносился шум морского прибоя. Она работала недалеко от того места, где увидела впервые вместе Лили и Томазо. Услышав его шаги, Джулия поднялась, но он уже был рядом, и они почти столкнулись. — Уже поздно, — невнятно пробормотал Фредо. Джулия отвернулась, но тут же опять взглянула на него, ощутив, как к щекам приливает кровь. Фредо был мускулист, широкоплеч, из-за ворота его рубахи были видны темные вьющиеся волосы, среди которых поблескивала цепочка с крестиком. Она часто видела этот болтающийся крестик, который в процессе работы наклонялся вниз. У него на подбородке был полукруглый шрам, выделявшийся на темной, загорелой коже. Раньше она никогда не замечала его. Но теперь он стоял так близко, что Джулия могла бы различить пульсирующую под кожей кровь. Она ощутила запах его пота, блестевшего в ямочке между ключицами. Чувствуя головокружение, она подумала: «Вот бы прижаться губами к этому месту и попробовать соленый вкус его пота». В голову лезли и другие, более сокровенные мысли. Бешено заколотилось сердце, и перед глазами все поплыло. Как это просто — уронить голову ему на грудь, не нужно даже делать никаких движений, так близко он стоял. Раскаленные тела вот-вот бы вспыхнули. Фредо сделал всего полшага, и их тела соприкоснулись. Он положил ей руку на поясницу — рука была тяжелой и горячей — и прижал ее бедра к своим. Другой рукой он схватил ее грудь. С губ Джулии едва не сорвался крик истомы. Ослепительно белые зубы Фредо сверкнули в темноте. Там, внизу, на побережье, у Фредо была жена и несколько ребятишек. Джулия сжала и отвела его руку в сторону. Отступив назад, в прохладу и безопасность, она искоса взглянула на Фредо, без гнева или недовольства. Это был нейтральный, но решительный взгляд. Затем повернулась и быстро пошла вверх по каменным ступеням. Так она добралась до замка, вбежала в свою комнату и закрыла дверь. В двери не было замка, поэтому она приперла ее спиной, схватившись рукой за косяк. Она задыхалась и тяжело дышала. Подождав какое-то время, на цыпочках подошла к своей постели и легла на спину, разметав руки и уставясь в потолок. Она была признательна Фредо. Уже давно (она даже не могла вспомнить, с какого времени) Джулия не ощущала властного, физического зова своего естества. Это чувство словно омолодило ее. Она перестала считать себя старой. Она возрождалась, подобно ее итальянскому парку. После этого случая Джулия старалась не оставаться одна около Фредо. Не потому, что она боялась его, а потому, что боялась за себя. Незадолго до летних каникул Лили Николо подыскал Джулии домик недалеко от его собственного; небольшое белое строение, состоявшее из каких-то нелепых углов, зажатых между двух довольно высоких стен. Дом принадлежал одной старой женщине, переехавшей вглубь материка к своей дочери. Николо помог Джулии оформить бумаги, необходимые при покупке, и Джулия тут же продала квартиру в Кэмден-Тауне, чтобы заплатить за этот дом. Став его владелицей, Джулия перекрасила стены свежей белой краской и поставила в двух маленьких спальнях по узкой железной койке. Простенькую примитивную кухню она оставила в прежнем виде, а голые стены не стала ничем украшать, так как уже потеряла навык в подборе декоративных вещей. Зато входную дверь покрасила в бирюзовый цвет, как это было когда-то в пансионате «Флора». Она написала Джошу еще одно письмо, и спустя длительное время он прислал ответ. Александру Джулия писем не писала. Он иногда присылал ей коротенькие полуофициальные отчеты о занятиях Лили, вкладывая порой в конверт часть ее школьного сочинения или другого какого-нибудь свидетельства успехов дочери. Джулия внимательно перечитывала его письма, но за голыми фразами не чувствовалось никакого скрытого смысла. Джулии казалось, будто оба они остались по разные стороны воздвигнутого ими самими крепостного вала, она — отгородившись дальностью расстояния, Александр — засев в своей старинной цитадели, Леди-Хилле. Он никогда не упоминал о Клэр, но Джулия представляла ее чем-то вроде его новой, дополнительной «фортификации». Иногда писала и Клэр. По всей вероятности, она считала своим долгом информировать Джулию об уроках дикции Лили, о дате начала месячных и первом бальном платье. Почерк Клэр был таким же несформировавшимся, как и у Лили, а правописание и того хуже. Лили опять приехала на каникулы в Монтебелле, и здесь опять возобновилась ее дружба с Томазо. Он обычно спускался вниз, из замка, чтобы проведать их в маленьком домике. В парке этим летом тонкие побеги уже разрослись и превратились в деревца с крепкими ветвями, а цветы вдоль террас горели ярким, многоцветным огнем. Джулия бродила среди цветов, утопая по пояс в густом, пышном многоцветье пионов, маргариток и гвоздик. У одной из стен замка была пристроена теплица. Джулия и Томазо научились подготавливать опилки и размножать семена. У Томазо получалось даже лучше, чем у Джулии, она была очень увлечена разведением семян в лотках с плодородной землей. Джулия была счастлива, хотя это было пассивное счастье, в котором ее тело не принимало участия. Прошел еще год. Иногда Джулия теряла счет дням и даже неделям. Вехами в ее календаре стали времена года, связанные с потребностями сада и парка. Теперь этот парк обрел свою изначальную, давно забытую красоту. Он стал привлекать посетителей, и установленная входная плата шла на нужды лазарета. Джулия и Томазо по-прежнему отдавали все свое время работам на террасах и в партерах. Теперь уже Томазо получал зарплату от Джулии. Что же касалось ее самой, то она жила очень скромно. Питалась в общей трапезной, а в зимнее время обогревала свой небольшой дом, топила дровами печь. Томазо перебрался из замка в деревню, где снимал комнату возле площади. Он приобрел мопед. В это лето Лили исполнилось пятнадцать лет. Сначала Джулия запрещала дочери ездить с Томазо на мопеде. А потом, видя, как другие девушки ездят со своими парнями, она уступила. Молодежь обыкновенно собиралась по вечерам на площади, против ворот замка. Они толпились в тени платанового дерева, где Джулия когда-то видела старуху с привязанным козлом, болтали, смеялись и слушали поп-музыку, доносившуюся из транзистора. По площади все время с ревом носились мопеды. Джулия видела, как Лили влилась в эту толпу. Она гордилась дочерью, восхищалась той легкостью, с которой девочка нашла общий язык с итальянскими юношами и девушками, ее добрым нравом и красотой. Ей приятно было видеть Лили с Томазо и другими молодыми людьми, наслаждающимися теплотой вечера и щедрыми красками лета. Помахав молодежи рукой, Джулия спускалась вниз, к своему домику. Иногда к ней на обед заходил Николо. Теперь он заметно постарел и его суставы утратили былую гибкость, но был так же аккуратен и подтянут, как и прежде. Джулия любила общаться с ним. Без него, несмотря на теплые дружеские отношения с монахинями, больными и жителями деревни, она чувствовала бы себя совсем одиноко. В то лето на имя Джулии пришло письмо. Штемпель был итальянский, а на обратной стороне стояла печать «Отель “Гарибальди”, Рим», поэтому она сначала не узнала почерка на конверте. Приглядевшись внимательнее, она поняла, что письмо от Чины. Чина извещала ее о том, что, став уже очень старой, она решила предпринять последнюю поездку на континент. Она намеревалась путешествовать одна и посетить Париж, Флоренцию и Сиену, навестить старых друзей, а также Лувр и Уффици, в последний раз полюбоваться на собор Брунелески. Сейчас она в Риме, и если Джулия горит желанием показать ей знаменитый парк в Монтебелле, она заедет туда на пару дней. Остановится она, конечно же, в отеле. Заодно она смогла бы повидать Лили. Если, разумеется, она не причинит этим визитом какого-нибудь беспокойства. Джулия сразу же позвонила в отель из дома Николо, так как в ее домике еще не было телефона. Она сказала Чине, что та должна остановиться в ее доме и что показать ей парк Джулия считает для себя особой честью. Спустя два дня Джулия и Лили отправились в Неаполь встречать Чину. Чине было уже семьдесят лет, но она держалась по-прежнему прямо и ходила с высоко поднятой головой. Ее жизненное кредо также оставалось прежним. Несмотря на проделанный путь, она выглядела безукоризненно. Светло-пепельные волосы серебрились сединой, но были уложены в аккуратную прическу. На ней был кремовый костюм из немнущейся ткани и туфли из крокодиловой кожи. Тонкие щиколотки облегали изящные светлые чулки. Глядя на нее, Джулия почувствовала себя старомодной и неухоженной. Хотя, целуя ее, Чина тихонько шепнула: — Ты выглядишь прелестно, Джулия. Спальня Лили в деревенском домике была немногим более стенного шкафа, поэтому Джулия уступила Чине свою комнату, а сама решила спать внизу. Чина попыталась возражать, но была явно тронута гостеприимством хозяйки. Джулия улыбнулась в ответ на возражения Чины. — В Монтебелле нет подходящих отелей, — сказала она. — Благодарение небесам, — вставила Лили. — В противном случае здесь было бы полным-полно туристов. Все рассмеялись и сели к столу отведать приготовленные Джулией блюда. Потом, когда Лили убежала с Томазо и другими подростками, Чина и Джулия не спеша отправились в гору, к замку. Они медленно обошли парк. Джулия с гордостью показывала все Чине, которая являлась весьма компетентным наблюдателям. Она знала названия растений, историю их происхождения и структуру разбивки итальянских парков. Мост, налаженный между ними благодаря переписке и поддерживаемый гордостью Джулии своими достижениями и восхищением Чины, стал еще прочнее. После обследования всей территории парка она остановились на верхней террасе, глядя на раскинувшуюся перед ними картину. Наконец Чина сказала: — Неужели, когда ты приехала, здесь действительно было полное запустение? — Основной костяк сохранился, только был покрыт дикой травой и засыпан землей. Я лишь расчистила его. Причем благодаря помощи многих людей. И твоей тоже, Чина. Чина понимающе наклонила голову. «Мне нравится ее прямолинейность, — подумала Джулия. — Раньше я считала это холодностью, но это не так. Она просто бескомпромиссный человек, только и всего. Когда я впервые ее увидела, я даже не смогла понять ее независимый характер». — Сколько времени ты здесь прожила? — спросила Чина. — Четыре с половиной года. Чина минуту подумала и слегка наклонила голову. — Прими мои поздравления. Парк великолепен. Его облик необычайно благороден. Джулия знала, что Чина говорит искренне, и почувствовала, как ее щеки вспыхнули от гордости. — Спасибо. Они прошли под арками, ведущими в зимний сад, и навстречу им пахнуло насыщенным ароматом цветов. Выйдя во внутренний двор, Джулия повела Чину, чтобы познакомить с детьми, за которыми она присматривала и которые до сих пор пользовались присланными Чиной подарками. Николо Галли успешно развлекал их за обедом. На следующий день обедали в монастырской трапезной, где Чину посадили рядом с матерью-настоятельницей. Но Джулия и Лили не смогли уговорить ее остаться в Монтебелле дольше чем на три дня. — Я выкурила тебя из твоей постели, — твердо заявила Чина. — Да и пора уже возвращаться к своему собственному саду. Джулии было понятно такое стремление. На третий день вечером, после ужина в трапезной, Джулия и Чина уселись на одном из каменных сидений в зимнем саду. Последние цветы лета на розовых кустах свисали у них над головой. За спиной раздался звон церковного колокола. Как обычно, теплый воздух несколько приглушал его звук. Лили и Томазо ушли на побережье смотреть фильм в открытом кинотеатре. — Ты счастлива здесь? — спросила Чина. — Настолько, насколько мне это необходимо. В словах Джулии звучал скрытый смысл, и Чина пристально посмотрела на нее. — Это секрет? Джулия засмеялась. — Я не хотела говорить загадками. Просто потребность в личном счастье, как мне кажется, здесь ослабла. Наблюдая изо дня в день за монахинями и тем делом, которое они делают, за жизнью больных в лазарете и ухаживая за этим парком, я, возможно, стала менее эгоистичной, но лишь очень немного. — Она опять засмеялась, чтобы ее слова не прозвучали слишком серьезно. — Когда же ты вернешься домой? — Домой? Но у меня нет дома. — А если бы был? Джулия минуту помолчала. — Не представляю даже, где бы он мог быть? — Ну, скажем, с Александром. Эти слова были сказаны легко, но Джулию внезапно осенила мысль, что весь визит Чины сводился именно к этому. Неужели она приехала из Рима, или даже из Парижа, чтобы предложить ей это? Ради чего проделала весь этот путь из своего прекрасного сада? Сердце Джулии тревожно забилось и в ушах застучала кровь. — Мы с Александром развелись много лет назад. — Я знаю. Но известно ли тебе, Джулия, что основной реалией старости является понимание того, что взгляды меняются? Проблемы других начинают казаться смешными только потому, что их у тебя уже нет. Начинаешь понимать, что их можно было решить. Все это пустая самонадеянность. Слушая ее, Джулия пыталась вспомнить, что такое сказала Чина много лет назад в Леди-Хилле? В первый день рождения Лили. «Мой муж был тяжелым человеком. А твой — нет». Александр тоже не был подарком. «Непросто развязать ни один из тех узлов, которые мы с ним завязали», — с грустью подумала Джулия. Она ждала, что Чина скажет дальше, но та не добавила ни слова. Чина, конечно же, не была самонадеянной. И не стала бы вмешиваться в чужие дела. Она не передала от Александра никакого сообщения. Он сам передал бы его, если бы захотел. Они переключились на другие темы, а потом еще раз медленно обошли зимний сад. В арочном проеме Чина, оглянувшись, сказала: — Мне кажется, прежде ты ревновала ко мне. Но теперь мы могли бы быть друзьями? Я получила искреннее удовольствие от встречи с тобой и Лили. Джулия взяла и сжала ее руку. — И я тоже. Я ревновала к тебе и к Александру. Ревновала ко всем и ко всему. Но теперь этого нет. Думаю, что я не ревную уже даже к Клэр. Профиль Чины был неподвижен. Она сказала: — Не думаю, чтобы тебе стоило ревновать к Клэр. Когда они вернулись к маленькому домику Джулии, Чина призналась, что очень устала, и сразу легла в постель. Джулия же села с книгой в руках и стала ждать Лили. Веские слова Чины, на мгновение взволновавшие ее, отошли на задний план. Ей незачем было возвращаться домой. Ее дом здесь. Так просидела она довольно долго и начала уже беспокоиться, когда услышала звук мопеда Томазо, затарахтевшего по булыжнику мостовой.
Лили следовала за Томазо, ступая по его следам, отпечатавшимся в песке, хотя знала дорогу не хуже его. Прямо у них за спиной простиралось море и луна серебряной полосой разделяла водную гладь. Они направлялись к своему заветному местечку. Песок под ногами был мягок, и подростки скользили, взбираясь на гребень песчаной дюны, где росла колючая трава, цеплявшаяся за их голые лодыжки. Шатер из крон сосен сомкнулся у них над головой, и Лили вдохнула знакомый запах смолы. Впереди, в нескольких ярдах, была лощина, окруженная соснами. Томазо легко спрыгнул вниз и протянул руки Лили. Они огляделись: здесь они были одни. Их обуял радостный смех. Потом они медленно опустились на колени лицом друг к другу. — Я люблю тебя, — сказал Томазо по-английски. Лили ответила ему по-итальянски. Томазо снял свой пиджак и постелил на песке. Лили легла, перебирая пальцами песок. Вечерний воздух уже охладил землю, но здесь еще держалось тепло. Дальше, внизу, было прохладно и сыро. Она слегка повернула голову. Они приходили сюда часто и раньше. Целовались на песке, слизывая со щек друг у друга соль, скопившуюся за время дневного купания. Но в этот вечер все было иначе. Они так решили. Томазо захватил с собой пакет с кое-какими принадлежностями, лежавшими в кармане джинсов. Лили не спрашивала у него, где он их взял. — Ты уверена, что хочешь этого? — спросил он. — Со мной? — Его лицо расплылось в недоверчивую восхищенную улыбку, которую так любила Лили. — Да, — серьезно ответила она. И это была правда. Лили любила Томазо, но она знала, что их встречи здесь не могут продолжаться вечно. Отчасти причина этого лежала в ней самой, в хрупкости ее первого чувства, непостоянстве характера, и поэтому ей хотелось закрепить эту связь между ними. Чтобы навсегда сохранить в памяти первую любовь. Они пришли сюда по их общему молчаливому согласию. Романтическая натура Лили требовала, чтобы обстановка отвечала ее настроению, и в этом смысле лучшего места нельзя было найти: темные ветви сосен смыкались у них над головой, а шум моря как бы отрезал их от Монтебелле и всего остального мира. Встреча ее матери с матерью отца пробудила в Лили острое осознание времени. Она вдруг поняла, что понятия «всегда» не существует. Даже в Леди-Хилле. И особенно в Леди-Хилле. За последние несколько месяцев произошли кое-какие перемены. Уходила, потом, через какое-то время, опять возвращалась Клэр. Лили стала понимать, что Клэр и ее отец не были счастливы вместе. Это понимание пришло вместе со зрелостью. Она никогда никому об этом не говорила. Здесь, в Монтебелле, деля скромное жилище с самыми близкими ей женщинами, Лили поняла, что отличает и что связывает ее с ними, почувствовала властную потребность приобрести свой собственный опыт и иметь свои воспоминания. Она чувствовала жажду, ликование и легкую грусть. Бабушка Блисс выглядела такой хрупкой, а Джулия, наоборот, стала олицетворением терпения, что очень опечалило Лили. И в то же время она ощущала новую безудержную силу и горячий пыл. Она горячо прошептала: — Томазо, я люблю тебя. Это длилось всего минуту. Томазо был еще неопытен и, когда овладел ею, вскрикнул от внезапного острого чувства, запрокинув назад голову. Лили крепко обхватила его, удерживая на себе и чувствуя, как из нее выскальзывает упругая плоть. После первого настойчивого вторжения и короткого взрыва боли она почти ничего не чувствовала. Но ей было все равно. Она гладила пальцами спину Томазо. У него вдоль позвоночника выступил пот, скопившийся в углублениях между упругими мышцами. Она вдруг вспомнила Томазо за работой в парке, его обнаженный торс, перекаты мускулов, когда он низко наклонялся и выпрямлялся. Джулия тоже была там, поля летней шляпы отбрасывали тень на ее лицо. Вспомнила, как они оторвались от работы и смотрели ей вслед, когда она спускалась вниз по каменным ступеням. Это почему-то особенно запомнилось ей. Закрыв глаза, Лили вновь и вновь вызывала в памяти эти образы, как бы предчувствуя, что именно это воспоминание будет одним из тех немногих, которые со временем возвращаются, в отличие от тех, которые были связаны с Томазо. Она будет вспоминать это, когда достигнет возраста Джулии, а потом — и возраста Чины. Лили показалось, что она может легко представить, как пройдут эти годы. Она утратила беззаботную детскую веру в вечность. «Я стала взрослой», — важно подумала она и слегка усмехнулась. Открыв глаза, она увидела высоко в небе между ветвями елей мерцание бледных огоньков звезд. Ее охватил прилив радости. Хорошо, что это был Томазо. Хорошо, что все случилось именно так, как она представляла. Лили была романтической натурой, но в то же время она была дитя своего поколения. Она бы не стала тянуть время и вздыхать под звуки скрипок. Они с Томазо вместе пошли на это, скрепив свой союз навсегда. И только это имело значение. Придут другие времена, другие чувства. И другие мужчины — Лили была уверена в этом. Но важен только этот первый шаг. Томазо пошевелился, приподнимаясь. Очень медленно и бережно, глядя друг на друга, они разъединились. Томазо завязал «резинку» узлом и зарыл в песке. — Нужно положить здесь камень, чтобы отметить место. — Мы будем помнить это и так, — сказала Лили. Томазо взял ее руку так бережно, как будто они только что познакомились и она была принцессой. Он подумал о том, что она похожа на «синьору». Томазо, думая о Джулии, всегда называл ее «синьорой». — Спасибо тебе, Лили, — сказал он. — Спасибо тебе, Томазо, — эхом откликнулась она. И тут их серьезность лопнула как мыльный пузырь. Они начали безудержно хохотать, глядя на свои нагие тела с налипшим песком. Томазо смахнул его со щек и живота Лили. — Ай, ой! — вскрикивала она. Перестав смеяться, Томазо схватил ее за талию и поставил на ноги. — Поплаваем? — спросил он. — Наперегонки, — ответила Лили. Они вскарабкались на гребень лощины и побежали к берегу, увязая в песке. На темном покрове воды серебрилось кружево пены. Они бросились в воду, издавая ра-дост-ные крики; холодная вода перехватывала дыхание. Лили поплыла, делая быстрые, сильные гребки, затем перевернулась на спину, и мягкая соленая волна скользнула по ней. Она нырнула, быстрая как угорь, и достала рукой зыбкий песок. Вынырнув рядом с Томазо, она почувствовала себя бодрой, чистой и радостной. Искупавшись, они вытерли друг друга тенниской Томазо. Затем медленно побрели к мопеду. Укрывшись за голой теплой спиной своего друга, Лили вдыхала горячие земные запахи южного края, когда они мчались в Монтебелле, где, как знала Лили, ее ждала Джулия. — Ну, интересный был фильм? — спросила Джулия, откладывая в сторону книгу и подавляя зевок. — Да, очень, — спокойно солгала Лили. — А где Томазо? — Поехал прямо домой. — Лили подошла к матери и обняла ее за шею. — Я люблю тебя, мама. Джулия улыбнулась, заметив, как Лили робко опустила глаза. — Это хорошо. Это очень важно. И я тоже люблю тебя. Ты славная девочка, Лили. Лили смотрела поверх ее головы в темноту незавешенного окна. (обратно)
Глава двадцать пятая
Год 1977. Эти две женщины уже давно сидели за угловым столиком. Официанты многозначительно поглядывали на них. Когда вошла блондинка, один из них резким жестом указал на нее своим коллегам. Она направилась к угловому столику, за которым сидела, ожидая ее, темноволосая дама. Они обнялись, а затем, слегка отстранившись, долго смотрели друг на друга, смеясь и плача одновременно. Когда блондинка подняла на лоб темные очки, один из официантов стал утверждать, что это кинозвезда, хотя и не мог вспомнить ее имени. Другие лишь пожимали плечами. Это был лучший ресторан в Неаполе. Нечасто встретишь кинозвезду так близко… Эти две женщины представляли странную пару. Блондинка вошла, кутаясь в длинный меховой жакет, так как было уже по-январски холодно. Сняв жакет, она оказалась в облегающем темном платье с низким вырезом, открывавшим ее пышные белые груди с голубоватой ложбинкой. Когда официанты подносили им блюда, то наклонялись пониже, притягиваемые, как магнитом, этим соблазнительным зрелищем. Темноволосая же была совсем другого типа: высокая, худощавая, почти изможденная. Одежда на ней была аккуратная, хотя и слегка поношенная, как будто основным ее требованием было лишь соблюдение приличий. Не очень искусно, коротко стриженные волосы обрамляли ее загорелое, удивительно привлекательное лицо с высокими скулами и крупным подвижным ртом. Она сделала заказ на местном итальянском наречии, уверенно жестикулируя смуглыми руками. Пальцы носили следы въевшейся грязи, как это бывает у рабочих, что составляло резкий контраст с блестящим малиновым маникюром ее приятельницы. Между собой женщины говорили на прекрасном английском. Они заказали также и выпивку. Блондинка выпивала все, а темноволосая лишь слегка пригубила из своего бокала в самом начале. Но когда приятное тепло согрело ее, она стала пить наравне со своей приятельницей. За первой бутылкой вина последовала вторая, а потом и третья. Они смеялись все громче, привлекая косые взгляды посетителей, сидевших за соседними столиками, но вскоре неаполитанский ланч-тайм закончился и ресторан постепенно опустел. — О, Мэтт, — вздохнула Джулия, откидываясь на спинку стула и держа в руке полный стакан. — Сколько прошло времени! Глядя через стол на Мэтти, с ее неопределенно манящей, загадочной улыбкой, и на ее волосы, которые светились пышным ореолом, Джулия решила, что Мэтти почти не изменилась с тех пор, как они впервые познакомились. В самом начале их «взрослой» жизни. Их жизни странно переплелись, и в этом сплетении все еще были нераспутанные узлы. Пропасть между ними сгладилась. Все это, казалось, было слишком давно и довольно примитивно, чтобы об этом вспоминать. Важно то, что сейчас они опять вместе. — Пять лет, — ответила Мэтти. — Уйма времени! Но ведь мы переписывались? — Это я писала тебе! — Но если ты решила похоронить себя здесь и никогда не возвращаться домой… — Дом, Мэтт, там, где мы находимся, — сентиментально произнесла Джулия. Мэтти подняла стакан. — Ну давай за дом, который дорог сердцу. Они весело выпили. Им уже казалось, что не было никаких пяти лет разлуки. Элегантное помещение ресторана опустело, когда официант положил перед ними кругленький счет. — Плачу я, — твердо сказала Мэтти. Она развернула листок, пожала плечами и бросила сверху свою кредитную карточку. — Я плохо разбираюсь в счетах и прочей подобной чепухе. Обычно этим занимается Митч, или студия, или еще кто-нибудь. — Я рада видеть тебя счастливой, — искренне призналась Джулия. Она сжала своими шершавыми руками гладкие и нежные ладони Мэтти. — Поедем домой, — попросила Джулия. — Я думала, ты дома. На улице, вдохнув свежий воздух короткой южной зимы, Джулия, шатаясь, прислонилась к Мэтти. — Знаешь, милочка, я не привыкла пить. — Мэтти и сама нетвердо держалась на ногах. — Я хорошо сделала, что не приехала сюда на автомобиле. — Вот как? — с удивлением спросила Мэтти. — У меня нет машины. Я привыкла иногда пользоваться автомобилем Николо, но он вышел из строя и вряд ли его можно будет починить. Но мы оба решили уже никогда не покидать Монтебелле. Они помогли друг другу сесть в такси, сказали, на какой вокзал ехать, и развалились на сиденьях в дымном салоне машины. — Джулия, как ты поступишь с деньгами? Джулия улыбнулась. — У меня их нет. Были, как ты знаешь, я получила их от продажи дома и своего дела. Но большая часть пошла на реконструкцию парка. Ты знаешь, сколько стоит здесь плодородная почва? — Не имею ни малейшего представления, — сухо ответила Мэтти. — Так вот, огромные деньги. А каменотесы, подрядчики и десятки сотен луковиц прекрасных цветов? Зато теперь парк выглядит восхитительно. Люди приезжают полюбоваться на него. За это платят деньги, что дает возможность содержать одного садовника. А кроме того, там работаю я и еще несколько мужчин из лазарета. Так что все в порядке. Парк теперь будет содержаться как надо, что бы ни случилось. Очевидно, Джулия приложила немало усилий, если так беспокоится о нем. Мэтти опять посмотрела на нее. Ей вдруг показалось, что эти худоба и странная одежда — не результат утонченной эксцентричности, а недостаток средств. — Господе Иисусе! Сколько тебе нужно, Джулия? Джулия рассмеялась, смутив Мэтти своим искренним весельем. — Мне ничего не нужно, — сказала она. — Совсем ничего. И это так облегчает жизнь. Я перевоспиталась, Мэтти. — Она держала себя так же победоносно и независимо, как и Мэтти, хотя и на свой лад. Взявшись за руки, они смотрели друг на друга. На вокзале они отыскали свой поезд и заняли места рядышком. Шумный, кишащий людьми Неаполь остался позади, когда подруги, склонившись друг к другу на плечо, погрузились в сон. В Агрополи Джулия проснулась и растолкала Мэтти. Они зевали и протирали глаза, ошеломленные и сонные. — Ведем себя как две старушки, — пожаловалась Джулия. — Что ж тут удивительного, мне скоро стукнет сорок, — мрачно заметила Мэтти. — Ты уже чувствуешь возраст? Они стояли на платформе, в окружении багажа Мэтти. — Ну как тебе сказать, — на лице Мэтти появилась ее обычная улыбка. — В основном я чувствую себя так же, как на первой вечеринке в те далекие годы. — И вслед за тем, продвигаясь к выходу, они разом запели «Мама, он строит мне глазки». В такси, по дороге в Монтебелле, Мэтти с любопытством смотрела сначала вверх, потом вниз, на залив, открывавшийся взору позади них. Море было окутано белым зимним туманом, сквозь который, как сквозь прекрасную вуаль, неясно виднелась земля. — Он похож на какую-то сказочную крепость, — сказала Мэтти. — Это моя крепость, — ответила Джулия. Теперь, когда Мэтти была здесь, она уже и сама не знала, проявление это силы или слабости. В маленьком домике Мэтти оторопело смотрела на голые стены и два простых стула по обе стороны холодной печки. Она слегка дрожала даже в своем меховом жакете, должно быть, потому, что через голубые жалюзи в комнату с равнины вползал туман. — Да, ты права, ты действительно перевоспиталась. — Извини, — просто сказала Джулия. — Этот дом выглядит гораздо лучше летом. Ведь это летний дом. А комфорт больше меня не интересует. Подожди, я растоплю печь. Она согреется через какую-нибудь минуту. Ты голодна? Может, выпьешь стакан вина? Здесь есть немного вина местного изготовления, оно очень неплохое. Они сели на стулья лицом друг к другу. Печка раскалилась докрасна, и скоро в комнате стало тепло. Мэтти сняла жакет и положила ноги на деревянную скамеечку. Беседуя, подруги распили бутылку вина. Казалось, они не могли наговориться. Вновь они оказались на дороге воспоминаний. — Когда я была в Леди-Хилле с Александром, — сказала Мэтти, — я не пыталась сделать его своим, или оттолкнуть тебя, или выгадать что-нибудь за твой счет. — Я знаю, Мэтти. Мэтти сидела, уставясь в огонь. — Мы с Александром всегда симпатизировали друг другу. И в том прекрасном уголке мы просто были вместе. Нам было хорошо, только и всего. — Она быстро подняла глаза на Джулию. — Я уже говорила тебе, что мы оба были так одиноки. Я не собиралась продолжать эти отношения, хотя мне было грустно, когда все закончилось. Главное, мы не хотели причинить этим кому-нибудь боль. — Я понимаю, — сказала Джулия. Мэтти продолжала, решив сейчас сказать все то, чего они всегда боялись касаться прежде. — Я не знала, пойми. И мне бы не пришло в голову, если бы я не увидела тебя, когда ты наблюдала за нами из-за стеклянной двери, что ты все еще любишь Александра. Хотя мне казалось, что я хорошо тебя знаю. Джулия попыталась урезонить ее: — Все это уже давно прошло, Мэтти. Но Мэтти не унималась: — Скажи, ты и сейчас еще любишь его? Джулия сделала широкий жест, указывая на свое жилище и скудные предметы своего быта, которыми она научилась теперь обходиться. — Но мой дом теперь здесь. — Ты не обязана здесь оставаться. Джулия улыбнулась. — Прожив в этих условиях пять лет, я уже не уверена, что смогла бы делать что-нибудь другое. — Она встала со своего скрипучего стула и перешла на ту сторону от печки, где сидела Мэтти. Обняв подругу за плечи, она прижалась щекой к ее непокорным душистым волосам. Их запах был так ей знаком. — Как я рада, что ты здесь. Я так по тебе скучала. Мы друзья, как и прежде. — Это было утверждение, отнюдь не вопрос. — Да. — Больше Мэтти не прибавила ни слова. Теперь им не надо было заполнять словами образовавшуюся между ними пропасть. Через какое-то время Джулия небрежно сказала: — Лили говорила мне, что Клэр уже больше не живет в Леди-Хилле. И что она собирается выйти за кого-то замуж. Мэтти подняла брови. Она уставилась на Джулию проницательным взглядом, насколько это, конечно, возможно было после выпитой бутылки вина. — И что же дальше? — спросила она. Но лицо Джулии оставалось невозмутимо спокойным. — А то, что мы с Александром живем теперь в своих отдельных цитаделях. Я — в Монтебелле, а он, я полагаю, в Леди-Хилле. Так безопаснее, Мэтти. — Она взмахнула своим стаканом, указывая на толстые стены. — Мой образ жизни является идеальной защитой. — Ну что ж, — разочарованно заметила Мэтти, — если это та защита, которая тебе нужна. Пожалуй, я пойду наверх и лягу в постель. Джулия проводила ее наверх по узкой лестнице в свою спальню. Сама же она собиралась, ради Мэтти, ютиться в каморке Лили. Она показала подруге примитивную ванную, и Мэтти оглядела ее далеко без восторга. Джулия вспомнила сверкающие краны в виде дельфиньих голов и матовые резервуары в Коппинзе. — Гм… неужели Феликс это одобряет? — нахмурилась Мэтти. — Он принял это как должное. Феликс время от времени посещал Монтебелле. Если не считать Лили, Феликс стал самым надежным связующим звеном с тем внешним миром, к которому когда-то относилась и Джулия. — Да. В последнее время он стал минималистом. — Но ты этим не страдаешь. Никто не смог бы обвинить тебя в минимализме, Мэтт. Эта перепалка показалась им невероятно смешной, и они так расхохотались, стоя на площадке лестницы, что вынуждены были хвататься друг за друга, чтобы не упасть от смеха. Засыпая, Джулия все еще улыбалась, глядя на покоробившуюся фотографию Томазо, которую Лили приколола кнопками к стене у изголовья.За короткое время пребывания Мэтти в Монтебелле, казалось, возвратились прежние времена их дружбы, и это ощущение было почти осязаемым и более реальным, чем замок, террасы и партеры. Джулия повела подругу в парк. Стоя на верхней террасе, они смотрели вниз на обнаженную землю и оголенные ветви, на молодые побеги, только начинавшие появляться между холодными мраморными статуями. Мэтти с восхищением покачала головой. — Я просто не в состоянии поверить, что все это дело твоих рук. — Это что, ты не видела парк в лучшую его пору! — сказала Джулия. — Зато могу представить эту красоту. Но ведь это труд всей жизни, Джулия. — Расскажи мне теперь о своей работе, — попросила Джулия. Мэтти почти не о чем было спрашивать у нее, вся жизнь Джулии лежала перед ней как на ладони. — Последнее время я не слишком много занята в спектаклях, — вздохнула Мэтти. — Митчу не нравится, когда я постоянно не бываю вечерами дома. Я тоже не люблю быть вдали от него. Месяц или два напряженной работы в кино и то лучше, так как в этом случае он может ездить со мной. Но приходится читать кучу сценариев. Я снималась с Джеймсом Бондом пару лет назад, это была крупная работа. У вас здесь не шел этот фильм? Услышав название фильма, Джулия нахмурилась. — Я уверена, что Лили и Томазо смотрели его. Но они почему-то не говорили, что ты там играешь. — Может, они не узнали меня. Ты не представляешь, во что меня одели. Хуже проститутки. — Смеясь, они встали и еще раз обошли парк, а затем пересекли двор монастыря и спустились вниз по булыжной мостовой узкой улочки к дому Джулии. И лишь незадолго до отъезда Мэтти, подбодрив себя вином, Джулия спросила ее о Митче. Она знала, что именно из-за Митча Мэтти так спешит покинуть Монтебелле, и у нее осталось какое-то неприятное чувство его незримого присутствия между ними. Джулии же не хотелось, чтобы их с Мэтти что-нибудь разделяло. Ни теперь, ни потом. В свою очередь, Мэтти сочувствовала полному уединению Джулии. И ей не хотелось распространяться о собственном счастье. И она сказала только: — Он очень хороший человек. Я не нахожу в нем никаких недостатков. Мне все в нем нравится. Не так уж много вокруг нас людей, о которых можно так сказать, верно? — Почти нет, — тихо заметила Джулия. — Он делает все, чтобы я была счастливой. Что бы ни случилось, он всегда такой уверенный и прочный, как скала. Она засмеялась. — Конечно, сейчас не так, как вначале, когда мы практически не вылезали из постели днями. — Я помню. Мэтти слегка смутилась. — В этом плане кое-что изменилось. Но это даже к лучшему. Коппинз — подходящее место для нас. Если захочется, мы уезжаем, а потом возвращаемся обратно, чтобы побыть наедине. Митч занят домашними делами, вечно что-нибудь чинит. Это создает уютную обстановку. Когда все вокруг усложняется, эти вещи облегчают жизнь. Ты всегда, Джулия, знала, чего хочешь. А я, даже когда работала, вечно металась из стороны в сторону. Мужчины. Женщины. Политика. Пьянство. — Я помню, — опять повторила Джулия. — А с Митчем я чувствую себя стабильно. Он создает такую обстановку, когда хочется заниматься глупостями. Глядя на Мэтти, на гладкую округлость ее икр и кольца на пальцах, которые подарил ей Митч, на завитые и убранные за уши роскошные волосы и блеск глаз, Джулия увидела во всем этом многочисленные подтверждения счастливой любви. И теперь она подошла к той точке равновесия, когда не испытывала ни зависти, ни горечи. Неприятная тень, пробежавшая между ними, исчезла. — Я рада за тебя, Мэтт, — сказала Джулия. Они опять молча обнялись, как это сделали при встрече на глазах официантов в неапольском ресторане. — Я бы не хотела, чтобы ты уезжала, — прошептала Джулия. Мэтти схватила ее за руки. — Поехали со мной! Почему бы тебе не вернуться домой? Джулия помолчала, потом тихо покачала головой. — Нет, Мэтти. Я останусь здесь. «По крайне мере, я знаю, где я. Знаю, потому что больше некуда ехать». В этот последний вечер они выпили очень много вина и, прежде чем разойтись по спальням, вышли на улицу подышать свежим воздухом. В окнах Николо горел свет, а этажом ниже слышались голоса и музыка, передаваемая по телевизору. — Это место действительно кажется очень оживленным, — пробормотала Мэтти. — Блеск. Красота! Они тихонько засмеялись, прислонясь к стене и прижав, как в детстве, пальцы к губам. Вдруг послышались направляющиеся в их сторону шаги. Джулия различила тихое звяканье четок еще до того, как смогла разглядеть серую с белым одежду монахини. Это была сестра Мария от Ангелов. — А я хочу забрать у вас Джулию, сестра, — весело окликнула ее Мэтти. — Уговорите ее вернуться домой. — Я уже сказала ей, что не поеду, — смущенно пробормотала Джулия. — Я собираюсь остаться здесь навсегда. — Она знала, что монахиня слышала их смех, и видела, что они нетвердо стоят на ногах, поддерживая друг друга. Спокойное лицо сестры Марии белело в темноте. «Ничто не может возмутить спокойствие сестер Святого Семейства, — подумала Джулия. — Ничто из того, что задевает ее и Мэтти». — Навсегда? Только в одном-единственном случае можно быть уверенным, что это навсегда, — спокойно заметила сестра Мария.
Утром подруги поехали в Неаполь. Затем Джулия напряженно следила, как взлетает самолет, и не сводила с него глаз, пока он не скрылся в облаках. Мэтти улетела, а Джулия осталась. Она пыталась сосредоточить мысли на ожидавшем ее парке и спокойных надежных пейзажах Монтебелле.
Мэтти открыла глаза и увидела Митча. Он стоял возле кровати, держа в руках чашку чая. — Привет, любовь моя, — улыбнулся он. — Твой чай. Мэтти села в постели и взяла чашку чая. Митч подавал ей чай по утрам. Они сидели, попивая чай, и обсуждали дела на день. И сейчас Митч присел на край кровати. Он все еще был в пижаме и клетчатом халате, а его поредевшие волосы после сна торчали, как перья взъерошенной птицы. Мэтти пригладила их рукой. — Ночью была ужасная буря, — сообщил Митч. — Ветром сорвало с крыши черепицу. — Какая досада! — ответила Мэтти. Они с такой заботой относились к дому, как будто это было живое существо. Коппинз составлял неотъемлемую часть их счастливой жизни. — Я потом поднимусь на крышу и взгляну, что повреждено. — Только будь осторожен, — предупредила Мэтти. Он наклонился и поцеловал ее. Она пила чай, глядя, как Митч прошел через комнату в ванную принять душ. Отставив пустую чашку, Мэтти опять откинулась на подушки и вскоре задремала. Проснувшись, она не могла сообразить, как долго спала, и лежала на боку, подложив руки под голову, оглядывая комнату. Голубой шелковый пеньюар, подаренный Митчем, свешивался со спинки стула в том виде, в каком она оставила его вчера, отходя ко сну. Халат Митча висел теперь за дверью, ведущей в ванную комнату. Вероятно, пока она спала, Митч оделся и ушел. Комнату заливал яркий утренний свет. Он отсвечивал на многочисленных флаконах с позолоченными крышками, стоявших на ее туалетном столике, то исчезая, то вспыхивая вновь. Вероятно, на улице было ветрено, и мартовские облака время от времени заслоняли бледное весеннее солнце. Мэтти не любила ветреную погоду. Она вызывала у нее беспокойство и раздражительность. Отбросив одеяла, Мэтти встала, набросила пеньюар и завязала пояс, наслаждаясь мягким прикосновением шелка к горячей коже. Затем подошла к окну. Голые ветви деревьев метались на ветру. Он налетал шквалами и, подхватив бурые прошлогодние листья, швырял их под кусты лавра. Мэтти заметила, что сломаны несколько первых побегов бледно-желтых нарциссов. Она нахмурилась и отвернулась от окна. Впоследствии она вспомнила странную тишину и неподвижность комнаты на фоне этих раскачивающихся за окном ветвей. Неподвижность вещей, шеренгу флаконов и расчесок на туалетном столике, которые отражались в его стеклянной поверхности, и пиджаки Митча, аккуратно развешанные в ряд на плечиках, видневшихся через открытую дверь гардеробной. Она уже направилась в ванную комнату, предвкушая удовольствие от ароматической эссенции, взбитой в пышную пену, когда услышала какой-то шум. И в тот же миг она поняла, что этот шум связан с чем-то ужасным. Раздался скребущий звук, а затем глухой удар. Как будто что-то тяжелое катилось и падало. Наступила тишина, которую прорезал короткий крик, а затемраздался еще один удар. Стало тихо, и в этот миг словно что-то взорвалось у нее в голове. Это был крик Митча. — Митч! — Она бросилась к окну. Руки не слушались ее, защелка не поддавалась, и она никак не могла ее открыть. Прижавшись лицом к стеклу, она пыталась что-нибудь разглядеть, но видела только полоску гравийной дорожки и полукруг розовых кустов. Они были подрезаны, и короткие стебли торчали вверх, словно короткие толстые пальцы. «Митч! О Боже, Митч». Она дико огляделась. В комнате было тихо. Митча не было ни на смятой постели, ни в ванной, ни в гардеробной. Она бросилась бежать босиком по ступенькам, через холл, где он обычно поднимал с половика утренние газеты и аккуратно складывал на столик у двери. Тяжелая парадная дверь плавно распахнулась, когда она всем телом налегла на нее. В лицо ей ударил ветер, и несколько сухих бурых листьев взметнулись с крыльца и влетели в холл. Она побежала по гравию, не ощущая шершавых и острых камешков, больно врезавшихся в голые ступни. Впереди, из-за угла дома, торчал конец лежавшей на земле лестницы. Мэтти непроизвольно зажала рукой рот. Преодолевая последние ярды, она молилась: «Боже, прошу тебя! Прошу тебя…» Она завернула за угол. Митч лежал на земле с ногами, застрявшими между перекладинами приставной лестницы. Она почти упала рядом с ним. Сжав ладонями его лицо, она повернула его голову, чтобы он мог ее увидеть. Очки с разбитыми стеклами висели под каким-то нелепым углом. Лицо Митча было в крови, в свежие раны набился гравий. «О, Митч!» Мэтти подсунула руки под плечи мужа, пытаясь его приподнять. Это было его большое, теплое и знакомое ей тело, которое сейчас она не могла сдвинуть с места. Все ее усилия привели лишь к тому, что она освободила и отбросила в сторону приставную лестницу. Голова Митча со стуком упала назад. Рыдая и хватаясь за все руками, она кое-как поднялась на ноги. — Митч, не бойся, я позову на помощь. Но куда бежать? Сегодня у Гоппер выходной. К соседям? Нет, на дорогу! Спотыкаясь, Мэтти бежала вперед, и складки ее голубого пеньюара мешали ей бежать. Она толкнула резную калитку с надписью «Коппинз» и выбежала на шоссе. — Помогите, помогите! Первым на нее натолкнулся продавец молока. Он как раз заворачивал на своей телеге за угол, когда увидел женщину, стоявшую посреди дороги. На груди ее светлого халата темнело большое продолговатое влажное пятно. Мэтти подбежала к телеге. Продавец молока был очень молодым человеком с бледным веснушчатым лицом и вьющимися волосами, торчащими из-под кепи. Мэтти взглянула на него и протянула руки. Она могла сейчас думать только о том, что ей необходимо очистить лицо Митча от грязи и гравия, помыть и очистить раны. — Пожалуйста, пойдемте, — быстро сказала она, — мой муж ранен. Они побежали назад вместе. На груди продавца на ремешке висела кожаная сумка, а на бедре подпрыгивал и звенел во время бега кошелек. Они опустились на колени около Митча. Когда молодой человек опять поднял лицо, оно показалось Мэтти еще бледнее. — Где здесь телефон? — В доме, на столике в холле. — Голос Мэтти был по-прежнему четок. — Позовите соседей, — попросил парень. — Из тех, кто поближе живет. — Он вскочил и побежал в дом, на ходу снимая сумку. Мэтти секунду колебалась, не зная, в какую сторону бежать. Дома находились на довольно большом расстоянии друг от друга за высокими изгородями. Она не могла думать ни о чем другом, кроме лица Митча и необходимости смыть с него грязь. И тут она увидела мужчину в рабочем комбинезоне, идущего от калитки, а за ним женщину. Она жила в большом недостроенном доме через дорогу. Они с Митчем иногда встречали ее в супермаркете. Как у соседки, так и у рабочего были одинаково любопытные лица посторонних наблюдателей. Они уставились на Митча. «С ним все будет в порядке, — хотела сказать Мэтти. — С ним все будет в порядке». Но ее стало так трясти, что зуб на зуб не попадал. Она не могла членораздельно произнести ни одного слова. Мужчина опустился на колени возле Митча, а женщина подошла к Мэтти и обняла ее за плечи. — Пойдемте, дорогая, — сказала она первое, что пришло ей в голову. — Пойдемте отсюда. Из дома выбежал продавец молока. — Они уже едут, — сообщил он. Он снял свою кожаную сумку и белый плащ и теперь стоял, держа плащ так, как будто хотел накрыть им Митча. Мэтти заметила, как парень покачал головой. Его большие руки были испачканы дегтем. Казалось, прошло очень много времени, прежде чем она услышала этот шум. В ее голове он смешался с шумом катящегося тела и глухого удара о землю. Она понимала, что прошло всего пару минут. Две минуты назад она стояла в спальне у окна, прислушиваясь к ветру. Мэтти взглянула на Митча. Он не двигался, лежал с открытыми, устремленными на нее глазами и окровавленным лицом. И тут ее захлестнула волна внезапного страха, она поняла, что с ним случилось самое ужасное. Она упала на колени и склонилась над ним, но он по-прежнему не подавал признаков жизни. Она пыталась прилечь рядом, положив голову ему на грудь, чтобы согреть и успокоить его, но чьи-то незнакомые руки подняли ее и отвели в сторону. Мэтти подняла голову. Мартовский ветер трепал ее волосы, закрывая лицо. — Кажется, они приближаются, — сказал продавец молока. — Я пойду к воротам. Она не понимала, о чем он говорит, но тут раздался вой сирены «скорой помощи». Ну конечно, они были частью этой живой картины, как и лица незнакомых людей, ожидавших вокруг. И лишь Митч и она сама не имели к ней никакого отношения. Трагедия не была связана ни с ними, ни с их надежным Коппинзом. Мэтти оглядывалась в поисках Митча, который подтвердил бы ей эту уверенность, но тут же вспомнила, что он лежит на земле у ее ног. «Скорая помощь» свернула в сторону и осторожно подъехала по гравийной дорожке, лишь синие огни яростно вспыхивали на крыше машины. Из нее выскочили двое мужчин. Продавец молока, женщина из соседнего дома и рабочий отступили назад, освобождая место медикам. Мэтти, с бессильно повисшими вдоль тела руками, стояла не двигаясь. Медики присели возле Митча. Мэтти смотрела на их быстро мелькавшие руки и сосредоточенные лица. Она, как ребенок, почувствовала облегчение, надежду, что теперь врачи спасут ее Митча. Но спустя минуту один из них поднял голову, а затем встал, оказавшись почти рядом с Мэтти. Он положил руку ей на плечо. — Он мертв. Смерть наступила почти мгновенно. Мэтти в ужасе попятилась, стряхнув с плеча руку медика. Ясным, так странно прозвучавшим голосом она сказала: — О нет, не может быть! Митч не мертв! Но тут к ней опять подошла соседка, обняла ее и попыталась увести. — Пойдемте, голубушка, — сказала она. — Пойдемте со мной в дом. Мэтти смотрела на нее, не понимая. Потом опять огляделась, пробегая взглядом по лицам в поисках Митча, который объяснил бы ей, как этот бессмысленный кошмар мог случиться в такой обычный день. Но Митча не было. Ведь кто-то же сказал эти ужасные слова: «Он мертв». И на нее обрушился жестокий удар постижения истины. — О нет, пожалуйста, нет! Это был не протест. Это была мольба. Вокруг нее сомкнулись лица, и изо рта Мэтти вырвался непроизвольный звук, не похожий ни на крик, ни на стон. Люди с двух сторон взяли ее под руки и повели прочь. Она оглядывалась через плечо туда, где все еще лежал на земле Митч. Тупая боль все сильнее сжимала грудь. «Он не сможет больше двигаться, потому что мертв». Большой дом был пуст. Почему они ведут ее туда? Там, внутри, так тихо после бешеных порывов ветра. Они шли, наступая на сухие мертвые листья, залетевшие в холл, мимо сложенных стопкой газет на боковом столике. Там была и почта. После завтрака Митч принес бы наверх и письма, чтобы прочесть их на досуге. Но не сегодня. Сегодня он не придет, потому что мертв. Чьи-то руки, чужие руки привели ее в ярко освещенную солнцем кухню. Здесь были кастрюли, аккуратно развешанные на стене, начиная с самой маленькой до самой большой, и украшенный цветным узором роллер, сверкавший зубчатыми краями. Здесь был бы сейчас Митч, как всегда шумно двигавшийся вперед и назад по кухне. Они усадили Мэтти возле стола. Она посмотрела на свои дрожащие руки. Ей хотелось, чтобы Митч сжал их в своих руках и унял эту дрожь. Все ее мысли были о Митче. Куда бы она ни смотрела, всюду видела Митча. Он не мог умереть, не мог просто так перестать существовать, в то время как медные кастрюли продолжают висеть на стене и все прочие свидетельства их жизни также находятся на своих местах. Она повернула голову, чтобы взглянуть в окно на голубое небо, по которому так же неслись клочья облаков. Лицо Мэтти исказилось, и она сжалась от нараставшей внутренней боли. Прошел всего лишь небольшой отрезок времени, вероятно, какие-то минуты, с тех пор как она услышала звук падения. Так вот что это было. Это Митч упал. Если бы только она могла удержать дрожь в руках, она бы вцепилась в эту субстанцию — время — и повернула его вспять. Она поднялась бы обратно в спальню и услышала, как Митч, посвистывая, прошел под окном, возвращаясь в дом. Мэтти закрыла глаза. Она как будто даже слышала свои шаги к двери ванной и отдаленный успокаивающий шум гравия под ногами Митча, пересекающего дорожку. Но, открыв глаза, она поняла, что сидит в холодной светлой кухне, рядом с ней находится женщина из соседнего дома, а Митч умер. Теперь она поняла, что он мертв. Он не лежал бы там с окровавленным лицом и песком на щеках, с неестественно повернутой набок головой, если бы не был мертв. Она пожалела, что не сняла с него очки, а оставила висеть в этом неестественном виде, от чего создавалось впечатление, как будто Митч лишь разыгрывал ее, притворившись мертвым. Соседка и рабочий в комбинезоне двигались по кухне; он наполнил под краном чайник, а женщина хлопала дверцами буфета. Они хотели приготовить ей чай. В подобных случаях люди почему-то делают именно это, подумала Мэтти. Ее охватила волна негодования за их вторжение в ее дом. Они смотрели на Митча, на его разбитые очки. Ему уже нельзя было помочь назойливо-любопытными взглядами. Кроме этой мелочи, они ничего больше не могли увидеть. Остальное знали они только вдвоем. — Чай в голубой чайнице слева, — сказала Мэтти. — А чашки в углу буфета. Они приготовили ей чашку чая, очень крепкого и очень сладкого, и она выпила его, не замечая, что ошпарила язык. — Может, нужно вызвать врача? Или полицию? — Мэтти старалась, чтобы ее голос звучал твердо, и где-то в глубине сознания удивлялась тому, что может сидеть здесь, с чашкой чая в руке, в то время как умер Митч. — Я знаю, что это несчастный случай, но ведь полиция должна взглянуть на место происшествия? — Полиция уже в пути, — успокоила ее женщина. — Ваш доктор Тим Райт? Мэтти кивнула. Митч иногда играл с ним в гольф. Рабочий выпил чай, поставил чашку в раковину, и Мэтти заметила, что на ее фарфоровой поверхности остались следы мазута от его пальцев. Она видела и отмечала все эти мелочи со странной, болезненной ясностью. Подъехала машина. Она опять услышала шуршание колес по гравию, и соседка выглянула в окно. — Полиция, — тихо сказала она. В ее голосе чувствовалось облегчение от того, что она могла переложить на кого-нибудь часть взятой на себя ответственности. Через несколько минут вошли полицейские и, сняв фуражки, положили их на стол. Мэтти вопросительно заглядывала им в лица, но они избегали ее взгляда. Они просто спокойно делали свою работу, а случившаяся трагедия касалась только ее одной. И Мэтти покорно держала ее в себе. Она обхватила себя руками, чтобы сдержать невыносимую душевную боль. Полицейские задали всего несколько вопросов. И Мэтти рассказала, что Митч, должно быть, залез на крышу, чтобы укрепить черепицу, которую прошлой ночью сорвало ветром. Он поскользнулся или лестница соскользнула, и он упал с высокой крыши. Удар был смертельным, и смерть наступила почти мгновенно. Так сказали ей врачи «скорой помощи». Абсурдность, бессмысленность смерти Митча вдруг предстала перед ней во всей своей страшной неотвратимости. Из горла рвались рыдания, но она усилием воли сдерживала их. Старший из полицейских закрыл блокнот. — Доктор Райт приехал, — сказал кто-то. Мэтти посмотрела мимо полицейских и увидела круглое красноватое лицо Тима Райта. Такое лицо было бы уместно в каком-нибудь клубе, но не здесь, на кухне в Коппинзе. Мэтти крепче сцепила руки, оберегая свою тайну. Доктор поднял ее на ноги и повел в гостиную. Закрыв за собой дверь, он осмотрелся. Здесь были большие диванные подушки, фотографии в рамках и тикающие часы. Все как и прежде, но только Митч был мертв. Комната тоже казалась мертвой, а время как будто существовало само по себе, растягиваясь и сжимаясь. Мэтти пыталась убедить себя в том, что все это бред, но уже сознавала, что случилось непоправимое, и каждая частичка тела дрожала от обрушившегося на нее удара. Она уже не представляла, сколько времени прошло с тех пор, как умер Митч: несколько минут или несколько часов. Она опять почувствовала подступившие к горлу рыдания, они накатывались как рвота, и она вновь и вновь сглатывала их, загоняя внутрь. — Можно мне что-нибудь выпить? — спросила она. — Конечно. Тим Райт подошел к серебряному графину — свадебный подарок брата Митча — и налил в стакан виски, добавив из сифона немного содовой. Этот знакомый, такой обыденный процесс показался сейчас кощунственным и неуместным, но она взяла предложенный ей стакан и выпила залпом. Она слышала, что доктор говорит о каком-то шоке и необходимых распоряжениях, и почти грубо перебила его: — Что они сделали с Митчем? Я хочу быть около него. — Его забрала «скорая». Необходимо получить заключение следователя. Это всего лишь формальность. — Он старался говорить мягко, избегая слова «морг». Мэтти смотрела на него и думала о том, что никто не хочет быть участником этой трагедии. — Вы сняли с него очки? — Простите? — Впрочем, неважно. — Она подошла к подносу с напитками и налила себе изрядную порцию. Виски не согревало ее, но она все равно пила. — Вы не должны сейчас оставаться одна. Скажите мне, кого бы вы хотели позвать, и я позвоню от вашего имени. — Доктор подождал минуту, сохраняя любезное выражение лица. — Близкой подруге? Или кому-нибудь из родственников? Мэтти села, сжимая пальцами пустой стакан. Она пыталась кого-нибудь вспомнить, и вдруг неожиданно, словно прорвалась плотина, на нее лавиной обрушилась истина случившегося: Митч мертв. Он ушел, и она теперь предоставлена самой себе. Кроме него, ей никто не был нужен. Она никого не хочет видеть здесь, в Коппинзе, где раньше был Митч. Ни на неделю, ни даже на один день. Голова Мэтти склонилась. Она чувствовала, что вся болезненная переполняющая ее потребность в Митче, гнев на его бессмысленную смерть и страх одиночества были заключены в сочащейся слезами, хрупкой оболочке ее тела. Если она шевельнется, все это выплеснется из нее. Но этого не должно случиться перед Тимом Райтом с его вкрадчивыми профессиональными манерами. И даже перед Джулией, если бы она специально прилетела из Италии. Это личное, очень личное. Касается только ее одной и Митча. — У нас есть домоправительница, — наконец выдавила она, — миссис Гоппер. Но сегодня у нее выходной. Кажется, она поехала к сестре в Кроули. Ее номер в телефонной книжке на столе. Этого будет достаточно. — Вы уверены, что нужно связаться именно с ней? — спросил доктор. — Абсолютно, — еле процедила Мэтти. Он сделал то, о чем она попросила, и, вернувшись, дал ей успокоительное, которое она покорно приняла. Доктор взглянул на часы, а затем быстро закрыл свою сумку. Они договорились, что соседка Мэтти побудет в доме, пока не приедет миссис Гоппер. Мэтти хотела, чтобы все ушли и оставили ее, наконец, в покое. После того, как уехал доктор, она поднялась по лестнице наверх, подальше от сочувствующих взглядов соседки. Она зашла в гардеробную и, издав приглушенный звериный вой, зарылась лицом в одежду Митча, висящую на вешалках. Спустя продолжительное время, чувствуя боль во всем теле от неудобного положения, Мэтти тихонько прокралась обратно в спальню и повалилась поперек постели. Незаметно она погрузилась в сон. Она проснулась без всяких воспоминаний. Лежа в кровати в необычном положении, полусонная еще под действием снотворного, она оглядывала комнату, не понимая, что так тяжко давит ей грудь. Но забвение длилось лишь одну секунду. Как только она вспомнила о случившемся, свинцовые кольца еще сильнее сдавили ее. Мэтти инстинктивно подтянула к груди колени и сжалась в комок. Вокруг нее стояла ужасающая тишина. — Митч умер. Митч ушел и никогда больше не вернется ко мне. В ее груди нарастал страх. Она почувствовала удушье и широко открыла глаза. Пытаясь подняться, Мэтти встала на колени на смятом атласном покрывале. — Митч! — позвала она. — Митч, я не знаю, как мне жить и что мне делать!
Наконец она вспомнила об Александре. Каждый час того памятного дня представал перед ней как бесконечная цепь бессмысленных препятствий, которые нужно было преодолевать одно за другим лишь для того, чтобы, выбившись из сил, натолкнуться на следующее, а затем остаться с глазу на глаз с ночью. Когда стемнело, Мэтти отослала миссис Гоппер в ее комнаты, а сама обошла притихший дом, зажигая повсюду свет, так что скоро весь большой дом ярко светился огнями. Но темнота все равно давила на нее. Ее преследовал образ Митча, лежащего в холодном стальном ящике, его бледное необмытое лицо и висящие сбоку погнутые очки. Она вошла в ярко освещенную гостиную и допила оставшееся виски. Ее совсем развезло, и она так дрожала, что стучали зубы. И в полночь, охваченная страхом, что ночь никогда не закончится, она позвонила Александру. — Сегодня утром умер Митч. — Она удивилась тому, что смогла произнести эти слова. Александр тотчас же сел в машину и помчался к ней. Мэтти ждала его, сидя у стола, на котором стояла очередная бутылка спиртного, и крепко сжимала пальцами стакан. Она представляла, как побежит ему навстречу, когда он приедет, и он успокоит ее. Услышав звуки подъезжающей машины, доносившиеся в этот ночной час, она вскочила и побежала открывать парадную дверь. Александр в спешке натянул джемпер и вельветовые штаны прямо на пижаму. Волосы торчком стояли у него на затылке, и его худощавое ироничное лицо побледнело от волнения. Но как только Мэтти увидела его, она поняла, что сделала ошибку. Он был теплым, крепким, осязаемым. Но он был просто другом, и его приезд не мог утешить Мэтти. Это был Александр, а Митч ушел навсегда. Александр обнял ее. Она ощутила на своем лице прикосновение колючей шерсти его свитера и в следующую секунду осторожно высвободилась из его объятий. Неожиданное горе отдалило ее от Александра, как и от всех остальных. Она вдруг поняла, что ее беда непоправима. — Входи, Александр, — сказала Мэтти. — Я потихоньку выпиваю в гостиной. Александр пошел за ней. Всю дорогу из Леди-Хилла он подготавливал себя к случившемуся, и тем не менее вид Мэтти поразил его. Ее запавшие и отекшие глаза казались пустыми, и она смотрела на него как будто не узнавая. В ярко освещенной гостиной стоял густой запах виски. Он обнял ее за плечи и усадил на диван. Было ясно, что Мэтти уже довольно пьяна и почти бесчувственна. Александр окинул комнату гневным взглядом, как будто шелковые обои стен могли ему объяснить, как Мэтти могла оказаться в такой момент совсем одна. Носок ее туфли утопал в густом ворсе коврика, пропитанного пролитым виски. — Налей мне еще немного, — попросила она. И растерянно добавила: — Я не знаю, что мне делать. Александр наполнил стакан, подождал, пока она выпьет, и взял ее за руки. — Тебе необходимо сейчас уснуть. — Я не могу. Он заметил в ее лице страх. — Я останусь с тобой. Я буду здесь, рядом. Он проводил ее наверх. В розовой мраморной ванной он сполоснул ей лицо и раздел, как малого ребенка. Его смутила совершенная красота ее тела, которого не коснулось время и которое было таким же, как шесть лет назад, в Леди-Хилле. Отыскав ночную рубашку, он надел на нее, затем расправил смятую постель и отвернул покрывало. Мэтти, двигаясь машинально, как робот, легла. Александр прикрыл дверь гардеробной, чтобы она не видела одежды Митча. Затем сел в кресло и смотрел, как постепенно мышцы ее лица разгладились, черты смягчились и она уснула. Утром Александр сделал все необходимые звонки, связанные с трагедией. Поговорил с братом Митча в Уитби, с родственниками Мэтти и ее агентом. Он отгонял репортеров и фотографов, которые, прослышав о случившемся, собрались на подъездной дорожке возле дома, а также взял на себя труд уладить все формальности с полицией и адвокатами. Он сообщил новость Феликсу, позвонив ему в офис «Трессидер и Лемойн», и отвечал на все учащавшиеся телефонные звонки. — Спасибо тебе, — сказала ему Мэтти. — Я бы не смогла это делать сама. Я никогда не могла делать подобных вещей. Вот почему мне было хорошо с Митчем. — Она покачала головой, отводя потускневшие глаза от сочувствующего взгляда Александра. Казалось, она наблюдает за печальными приготовлениями, как будто они касались не ее, а кого-то другого, и Александру уже хотелось, чтобы она заплакала, чтобы он мог успокоить ее. Возвратился врач, игравший когда-то в гольф с Митчем, и доверительно сказал Александру: — Горе проявляется по-разному. Мы можем только предоставить ему следовать своим путем. Он оставил рецепт на транквилизаторы и снотворное и тут же укатил по своим делам. Александра возмутило такое равнодушие. Вечером он сидел рядом с Мэтти на мягком диване в гостиной. Опять были включены все лампы, а домоправительница убрала залитый виски коврик. — Позволь мне позвонить Джулии, — попросил он. — Она захочет приехать и побыть с тобой. Она нужна тебе сейчас, Мэтти. Мэтти даже не взглянула на него. Она вертела на пальце обручальное кольцо. — Ну что может сделать Джулия? — И добавила почти обычным тоном: — Лучше оставить ее в покое. Знаешь, какой у нее там прекрасный парк. Но когда Мэтти, приняв снотворное, легла в свою пустую широкую постель, Александр перенес телефон на рабочий стол Митча. Новость должна была появиться в газетах на следующий день, и он не хотел, чтобы Джулия узнала об этом из газет. Пока он ждал, когда его соединят с Монтебелле, глаза его блуждали по аккуратно сложенным документам, лежавшим перед ним на столе. Копии завещания Митча, страховые полисы и все прочие необходимые бумаги, которые могли понадобиться в самое ближайшее время. Мэтти была права, подумал он. Ей было спокойно с надежным Митчем. Его охватила одновременно тоска и возмущение из-за бессмысленности этой смерти. Он стирал с лица следы непрошеных слез, когда наконец раздался долгожданный звонок. Александру пришлось объяснять какому-то, судя по голосу, пожилому итальянцу, что ему необходимо немедленно поговорить с Джулией Блисс. — Может, с Джулией Смит? — переспросил Николо Галли. — Надеюсь, ничего не случилось? — Передайте ей, что звонит Александр. Скажите, что с Лили все в порядке. — Слава Богу, — ответил Николо. — Пойду поищу Джулию. Ждать пришлось довольно долго. Александр пытался представить маленький горный городок и домик Джулии, но его воображение не рисовало никаких определенных картин и он видел перед собой только рабочий стол Митча со стоящей на нем фотографией Митча и Мэтти в день их свадьбы. На этой фотографии была и Джулия, но половина ее лица попала в тень. Александр не мог даже точно вспомнить, как давно он не разговаривал с ней. Он устало потер глаза. — Александр? Голос Джулии донесся откуда-то издалека, но он сразу уловил в нем нотки беспокойства и быстро, по возможности спокойно, сообщил ей о случившемся. Последовала пауза. — Бедняжка Мэтти… О Боже, Александр, какой ужас! Бедняжка Мэтти. Они обменялись еще несколькими фразами, и Александра поразило то, что Джулия говорила очень мягко, без обычных ее командных ноток. Между ними не было и тени колебаний относительно их любви к Мэтти, связывающей их много лет. — Я постараюсь приехать как можно быстрее, — пообещала Джулия. — Возможно, завтра. — Она убита горем, — предупредил ее Александр, перед тем как закончить разговор. Лицо Джулии сильно побледнело. Она встретилась глазами с озабоченным взглядом Николо. — Я должна ехать домой. Я должна ехать немедленно. Умер муж Мэтти. На улицах Монтебелле было тихо. Джулия вспомнила, как они с Мэтти подпирали одну из этих стен и заливались смехом. Эта ночь принесла первое весеннее тепло, и завтра опять будет так же. Постепенно начнет становиться все теплее. Но теперь Джулию непреодолимо потянуло в Англию. И чувство это было таким острым, что она ощутила запах мартовского ветра и струйки дождя на своем лице. Она побежала по улице к своему дому, как будто это могло ускорить ее приезд к Мэтти. Александр медленно бродил по нарядным комнатам Коппинза. Он думал о том времени, когда Мэтти и Митч приобретали все эти вещи, и о своем собственном страстном желании собрать былое великолепие Леди-Хилла. Перед лицом нелепой трагедии он еще острее почувствовал тщетность потраченных усилий. Он опять подумал о Джулии, незнакомых мягких модуляциях ее голоса. И все же, несмотря на длительную разлуку, он знал ее лучше, чем кого-либо другого в мире. Одну за другой он выключил все лампы. Казалось, темнота наступала быстрее, чем он двигался по комнатам. Александр привык к пустым домам, но так и не научился быть счастливым в этой пустоте. И сейчас, выключая последнюю лампу здесь, в Коппинзе, он непроизвольно содрогнулся.
Митча похоронили на кладбище возле церкви, где его когда-то крестили. Мэтти стояла на мысе, выступающем в море, и, когда опускали гроб, лицо ее стало напряженным, а волосы безжалостно трепал соленый прибрежный ветер. Это напомнило ей чичестерскую гавань и дождь, который хлестал тогда по лицу, и чайную, где они с Митчем нашли приют. Но теперь ее лицо и глаза были сухими. Она видела, как выдернули веревки из-под гроба и носильщики отошли в сторону, низко опустив головы. Ветер взметнул стихарь викария, когда тот слегка подвинул Мэтти вперед. Она бросила в яму охапку роз и опять отступила назад. Джулия протянула руку, чтобы поддержать ее под локоть, но она не нуждалась в опоре. По обе стороны от нее стояли Феликс и Александр, но она чувствовала себя отгороженной от всех непреодолимой стеной. Она не думала ни о них, ни о Митче. Запах моря напомнил ей ужины с рыбными блюдами в северных городах во время их турне в компании Фрэнсиса Виллоубая. Но все это было в другой жизни, давным-давно. Мэтти казалось, что все для нее уже закончилось. Поминальный чай был устроен в доме ее деверя, стоявшем на одной из маленьких улочек, неподалеку от того места, где вырос Митч. Румяные представители Митчелов и Говортов толпились в парадной комнате с чашками в руках, украдкой поглядывая на Мэтти, которая была бледна, но прекрасно владела собой. Она грустно кивала в ответ на соболезнования, и весь ее вид говорил о том, что она в состоянии поговорить с каждым, кто пришел помянуть Митча. Пару раз она взглянула на Феликса и Александра, сидевших на прямых стульях у окна и тихо беседовавших о чем-то. Джулия была на кухне, энергично намазывая маслом ломти хлеба и помогая жене брата Митча наполнять чайники. У Мэтти было такое чувство, как будто она играет молодую вдову в хорошо поставленной пьесе и с нетерпением ждет конца этого спектакля. Только бы он закончился, Митч вошел бы в ее гардеробную, подождал, пока она снимет грим, похвалил ее игру, а потом отвез бы домой… Игра Мэтти скрывала весь ужас и горе, которые разъедали ее изнутри. Но уже возникли те невидимые стены, которые всегда отделяют жертвы трагедий от окружающего мира. Она отгородилась даже от Джулии. «Еще один час, — подумала Мэтти, — и этот чай закончится. Что мне делать потом?» Митч лежал в гробу, под охапкой роз и пластом соленой земли. Кто-то обмыл ему лицо и убрал разбитые очки. — Благодарю, — тихо сказала она кузену со стороны Говортов. — Спасибо, что пришли. Наконец положенный ритуал поминального чая подошел к концу. Когда все ушли, Мэтти вдруг сказала, что хочет вернуться назад в Коппинз. Джулия и Александр пытались уговорить ее остаться еще на одну ночь с родными Митча, но она настояла на своем. — Я отвезу тебя, — предложил Феликс. В парадной комнате Говортов Феликс выглядел неуместно экзотичным. — Мне тоже необходимо вернуться домой. Феликс был влюблен. За несколько дней до смерти Митча он впервые познакомился с Вильямом Паджетом. Вильям был ровесником Феликса и младшим сыном большого семейства, для которого Феликс выполнял некоторые работы в их загородном доме. Когда Феликс бывал там, он никогда не видел Вильяма. Вильям был художником. Как-то совершенно случайно они встретились в Лондоне, на выставке, где были представлены работы другого художника. Он повернулся спиной к галерее, битком набитой людьми, и вытянул руку, преграждая Феликсу путь. — Я не представлял, как вы выглядите, — сказал Вильям. — Но теперь вижу. Феликс был слегка пьян. — Ну и как же я выгляжу? — спросил он. Вильям склонил голову набок, раздумывая. — Чрезвычайно волнующе. Они ушли из галереи вместе и сразу же поехали на Итон-сквер. Вильям с легким сарказмом поговорил о серьезной живописи, а затем за ними захлопнулась дверь спальни Феликса. И вот уже более недели они были неразлучны. Стоя на кладбище под пронизывающим ветром Северного Йоркшира, Феликс сначала подумал о Вильяме, а потом о Митче, у которого уже не будет шанса начать все сначала. Он не представлял, как теперь Мэтти, стоявшая неподвижно рядом с ним, сможет жить одна. Он почувствовал ту необъяснимую дистанцию, которая разделила Джулию и Александра. Взбодренный свежестью соленого воздуха, Феликс не в силах был совладать со страстным желанием возвратиться в Лондон к Вильяму, чтобы не упускать собственных шансов, пока это в его власти. — Мне необходимо домой, — повторил он, выйдя на улицу из дома Говортов. Мэтти вышла вслед за ним. — Со мной все будет в порядке, — сказала она. — Я собираюсь вернуться к своей работе через пару дней. Все говорят, что это пойдет мне на пользу. Я уверена, что и Митч был бы того же мнения. Ее отпустили. Джулия и Александр стояли, глядя, как новая «альфа» Феликса уносится вдаль. — С ней все будет в порядке? — спросила Джулия, не рассчитывая на ответ. Александр не ответил. Они остро чувствовали свою неспособность помочь Мэтти. Окна домов, выходящие на улицу, вдруг стали казаться похожими на любопытные глаза. — Давай прогуляемся, — предложил Александр. Они сели в машину и поехали по побережью в южную сторону. Там они пошли вдоль берега, любуясь низкой волной, набегавшей на берег и вновь откатывавшейся назад и оставлявшей на песке клочья пены. Впервые они были вместе наедине с тех пор, как Джулия вернулась в Англию, но говорили очень мало, так как в этом не было никакой необходимости. «Закон времени, — подумал Александр. — Это то, что есть у нас с Джулией. Время отшлифовало нас, сгладило некоторые шероховатости, подобно тому, как море шлифует камни». Очередная волна накатила на ноги Джулии. Она негромко засмеялась и сняла туфли, вытряхивая из них воду. Затем сняла черные чулки и пошла босиком по песку, а Александр положил ее туфли к себе в карман. Он смотрел на нее сбоку, когда она шла на полшага впереди, повернув голову в сторону моря. Он часто смотрел на нее с тех пор, как она вернулась в Англию, но, казалось, только сейчас отчетливо увидел ее на фоне закатной прибрежной полосы. Джулия стала старше, и взгляд у нее стал таким, как будто она привыкла к жгучему солнцу и неустанному труду в своем итальянском парке. Но если эта работа изнурила ее, то в то же время она сделала ее и мягче. Знакомые, отражавшиеся когда-то на лице черты горечи исчезли. Спокойствие и те усилия, которых оно ей стоило, придавали прежней Джулии очаровательную мягкость. Пока они шли, Александр думал о том, как сильно она ему нравится. Он знал ее давно, и она импонировала ему больше, чем прежде. Если в самом начале он по-настоящему любил ее, то теперь его любовь была слишком требовательной. Александр понимал теперь, что тщетно пытался заменить ее другими женщинами. Сейчас, у кромки седого моря, когда Джулия была рядом, он чувствовал легкое сожаление. Он мог бы отбросить его прочь, взять ее руку или даже, невзирая на неуместность этого в данной ситуации, попытаться ее поцеловать. Но как только он об этом подумал, Джулия повернулась и направилась обратно, оставляя на сыром песке глубокие, тут же исчезающие следы. — Мне нужно возвращаться в Лондон, — сказала она. Ее взгляд лишь на миг встретился с его взглядом, а затем ускользнул далеко, она снова смотрела на море. Александр отвез ее в Лондон. По дороге они говорили о Лили, о парке в Монтебелле и о последней успешной работе Александра. В длинных паузах Джулия смотрела в окно на английский пейзаж. Она с интересом вглядывалась в милые знакомые пейзажи: живописные деревни и внезапно возникающие очертания городов. И ей казалось, что она ощущает под собой прочную основу родной земли, твердой и неприветливой, такой холодной по сравнению с Италией. Но Джулия чувствовала, с каким наслаждением она прильнула бы к ней, как дитя к груди матери. Александр тоже был частью этого пейзажа. Она украдкой поглядывала на него, пока он вел машину. В нем была чисто английская твердость, под неброской внешностью скрывалась настоящая сила. Теперь она достаточно знала жизнь, чтобы оценить это. Джулия подозревала, что боролась против этой силы с самых первых дней, как боролась и сама с собой. Если бы она выиграла битву с собой, с грустью подумала она, то проиграла бы в борьбе с ним. Она любила его, но почти с такой же силой боялась того, во что могла бы вылиться эта любовь. Она не имела никакого представления о том, что чувствует Александр. Вспомнив историю потворствования собственному эгоизму, она содрогнулась и плотнее запахнула пальто. «Но в Италии я в безопасности», — шептала сама себе Джулия. Александр мельком взглянул на нее, и ему показалось, что она задремала.
Феликс снял для Джулии квартиру в Кенсингтоне, которую его фирма выставила на повторную продажу. Он не хотел, чтобы она останавливалась на Итон-сквер и была свидетельницей его счастья с Вильямом, и был несколько смущен искренней благодарностью Джулии. Она взяла у него ключи с явным облегчением. — Я не знаю, где еще в Лондоне я могла бы остановиться. Я пренебрегала своими друзьями. Не думаю, чтобы Мэтти захотела видеть меня в своем доме, хотя я и хочу, чтобы она позволила мне поухаживать за ней. А для отелей у меня действительно нет денег. — Эта квартира твоя на любой срок, — быстро сказал Феликс. Была уже полночь, когда Александр подъехал к ее квартире. Джулия полезла в сумочку за ключами. Они оба поймали себя на том, что смотрят на брелок с названием фирмы «Трессидер и Лемойн» при тусклом свете салонной лампочки, как будто это имело какое-то значение. Александр подумал о бледном строгом лице Мэтти, и опять его охватило сильное желание поцеловать Джулию. Она открыла дверцу машины, и в салон сразу ворвался холодный воздух. Джулия выскользнула из автомобиля. Наклонившись к окошку, она бросила: — Спокойной ночи. Спасибо тебе. — И опять в ее интонации появились хрипловатые итальянские нотки. — Не стоит благодарности, — ответил Александр. Джулия быстро, словно соглашаясь, повернулась и побежала к двери. Закрыв за собой дверь, она вздохнула со смешанным чувством облегчения и сожаления. Затем пошла мимо лестниц и банок с красками, которыми был заставлен весь коридор. Она слышала, как отъехал Александр, и подумала о том, что даже не знает, куда он направился. (обратно)
Глава двадцать шестая
Лили воскликнула: — Закон изменился! Разве ты этого не знаешь? — Какой закон? Я долго отсутствовала. Должно быть, произошло многое, чего я еще не знаю. Джулия и Лили сидели на противоположных концах импровизированного обеденного стола в квартире на Кенсингтон-стрит. Они пили кофе и беседовали. Между ними стояла открытая инкрустированная шкатулка Джорджа Трессидера. Лили только что просмотрела свидетельство о рождении Валери Холл. — Закон об усыновлении. Если тебя удочерили, то ты имеешь право найти свою настоящую мать. И тебе должны оказать в этом всяческое содействие. Джулия покачала головой. — Не знаю, — сказала она тихо. — Понимаешь, с тех пор, как ты родилась, я хотела отыскать ее без чьей-либо помощи. Лили встала, обошла стол и протянула Джулии свидетельство. Та сложила его и опустила обратно в шкатулку, поверх конверта, в котором лежали два ее кольца и книжка Пии о Рапунцели. Несмотря на всю спешку, с которой Джулия собиралась в дорогу, когда получила известие о случившемся у Мэтти горе, она все-таки не забыла захватить с собой эту шкатулку. Она, вместе с ее содержимым, стала для Джулии талисманом. — Я поеду с тобой на поиски, если хочешь, — предложила Лили. Джулия с благодарностью взглянула на дочь. С тех пор как она возвратилась в Лондон, а Лили приехала из Леди-Хилла на пару дней повидаться с ней, Джулия обнаружила перемену в их отношениях. Она заметила также, что изменился и сам Лондон, став еще больше похожим на иностранный город. Он показался ей большим, более грязным и нес в себе что-то угрожающее. Лили заметила неуверенность Джулии, у нее появилось какое-то странное желание защитить свою мать. Казалось, разница в возрасте между ними сгладилась. Теперь они были почти на равных. И за последние проведенные вместе несколько часов Джулия смотрела на свою дочь со смешанным чувством добродушной иронии, восхищения и гордости. В свои неполные семнадцать лет Лили, казалось, превратилась во взрослую женщину. У нее была своя личная жизнь, свои установившиеся взгляды и потрясающее чувство стиля. Для поездки в Лондон, чтобы повидаться с матерью, она выбрала одежду в стиле панков: плотно облегающие черные эластичные брюки, порванную фуфайку и гирлянду цепей. Джулия окинула взглядом этот ансамбль, который не могла бы одобрить, но он напомнил ей их с Мэтти юность, когда они тоже с этого начинали. В сущности, подумала Джулия, Лили с ее бледным лицом и подведенными глазами выглядела не более странно, чем она сама двадцать лет назад. В какой-то момент она почувствовала острую, сладкую ностальгию по «Ночной фиалке» и своей юности. — А что говорит Александр по поводу твоей одежды? — спросила она. В ответ Лили молча сделала разъяренное лицо, и они обе расхохотались. — Ты молодчина, мама, — отметила Лили. — Большинство матерей более скупы на похвалу. — Я помню, — пробормотала Джулия и протянула руку, чтобы коснуться дочери. Цепочки на ее шее зазвенели. — Я буду рада, если ты мне поможешь. Мы отправимся на поиски твоей бабушки. Лили стояла склонив голову на плечо и вертела покрашенный в красный цвет кончик волос. — Джулия, только не делай этого для меня. Только для себя. — Она улыбнулась неожиданной прелестной улыбкой, так не вязавшейся с ее вызывающим видом. — К тому же, у меня и так есть бабушки. Джулия положила руку на теплую, гладкую поверхность шкатулки Джорджа и вздохнула. — С чего же мы начнем? Колчестер, Эссекс — весьма общие данные. — Бабуся Смит должна знать, где находится агентство по усыновлению. Если оно все еще существует, у них должно сохраниться досье на тебя. Такая рассудительность поразила Джулию. — Откуда ты все знаешь? Но Лили только плечами пожала. — Я много чего знаю. «Я уверена в этом, — подумала Джулия. — Только не говори мне всего. Пожалуй, я еще не готова к этому. Я доверяю тебе, Лили. Разве этого недостаточно?»Итак, получив благословение Лили, Джулия пустилась на поиски Маргарет Энн Холл. Прежде всего она посетила Бетти на Фэрмайл-роуд и, сидя на кухне, выпила чашку чая под громкую телевизионную передачу, доносящуюся из соседней комнаты. Джулия старалась убедить Бетти, что если даже поиски увенчаются успехом, это никак не повлияет на ее дочерние чувства к ней. Поджав губы, Бетти взглянула на Лили. Девушка, на сей раз одетая более сдержанно, так как поддалась уговорам Джулии сделать это ради бабуси Смит, слегка кивнула головой. И сразу беспокойное выражение лица Бетти немного смягчилось и глаза ее перестали нервно перебегать с предмета на предмет. Видя эту реакцию, Джулия вспомнила, что всегда удивлялась взаимной нежности Бетти и Лили. Удивлялась и в глубине души слегка обижалась. Но сейчас это показалось ей таким естественным и приятным. Став старше, она научилась лучше понимать некоторые вещи. Бетти нашла клочок бумаги и что-то написала на нем. Это был адрес частного агентства детского приемника в Саутуорке. Джулия отметила про себя, что Бетти прекрасно помнит адрес. Стало быть, все эти годы он постоянно был у нее в голове. Но по указанному адресу этого агентства в Саутуорке уже не было. Помещение переделали под новый супермаркет. Это ввело обеих женщин в глубокое уныние, пока Джулию наконец не осенила идея связаться с местным управлением социальной службы. Она засела за телефон, и ее отсылали от одного департамента к другому, пока она наконец не напала на нужного служащего по социальным вопросам. Агентство, которое указала Бетти, объединилось с другим, более крупным. Все бумажные дела переданы в отделение, находящееся в Гилдфорде. Джулия записала его адрес. Она долго звонила, и на сей раз ее труды увенчались успехом. Она отыскала все, что было нужно, и там действительно оказались записи об ее удочерении. Ей посоветовали обратиться к адвокату, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Когда она положила телефонную трубку, у нее дрожали руки. Ей казалось, что уже близка встреча с матерью. — Ура! — закричала Лили, и ее глаза загорелись азартным огнем охоты. — Я знала, что мы добьемся своего. Охота заняла немного времени, но след, на который они напали, вел в никуда. Джулия отправилась повидать чиновника по социальным делам. Им оказалась женщина. Перед ней на столе лежала выгоревшая синяя папка. Джулия не могла отвести от нее взгляд. Там лежала история ее матери. Прежние романтические мечты и фантазии, казалось, исчезли без следа. Теперь она могла думать лишь о том, как ей найти свою мать, реально существующую женщину, незнакомку, которая, тем не менее,была так же близка ей, как она — Лили. Джулия заставляла себя слушать и отвечать на вопросы советницы. Наконец служащая кивнула и сказала, что ей необходимо четко выяснить причины, побудившие Джулию к поискам своей матери. Джулию это несколько удивило. Она не знала никаких более убедительных причин, кроме интереса к прошлому, который с годами становился все сильнее и который казался ей вполне обоснованным. Советница положила руку на досье, открыла его и вздохнула. — Боюсь, у нас не так уж много для вас сведений. Джулия стала читать фрагменты из своей жизни. Первый документ представлял собой оригинал того свидетельства о рождении, которое Бетти долгие годы прятала в ящике комода среди белья. Джулия прочла, что Валери Холл родилась в приюте святого Бенита для незамужних матерей в Колчестере. Да, ее звали Валери, в этом не было ошибки. Дата рождения совпадала с ее собственной. А ее мать звали Маргарет Энн Холл, а адрес — Патингтон-стрит 2, Гилдфорд, Эссекс. Джулия оторопела. Ее настоящая мать жила всего в нескольких милях от Фэрмайл-роуд, а дата ее рождения была 17 января 1923 года. Значит, ей было шестнадцать лет, когда она родила дочь в приюте святого Бенита. Сейчас ей, наверно, всего пятьдесят четыре. Почти на двадцать лет моложе Бетти Смит. Джулия подняла глаза от бумаги. Советница следила за ней понимающим взглядом, но это выражение человеческого сочувствия казалось в этот момент вторжением в сокровенные дела. — Она была очень молода, — мягко сказала Джулия. В графе сведений об отце было написано: «Отец неизвестен». Кто бы он ни был, но он кинул Маргарет Энн Холл одну на борьбу с выпавшими суровыми испытаниями. Джулия отложила свидетельство в сторону. Под ним лежало письмо Бетти, адресованное агентству, о том, что они с Верноном желали бы быть приемными родителями ребенка. Сверху стояла резолюция: «Просьба принята». Далее шла копия сертификата об удочерении, в котором было указано, что девочке было дано имя Джулия Смит. И из последнего документа в папке Джулия узнала, что она была взята на воспитание в возрасте шести недель от роду четой из Колчестера. Из приюта в дом на Фэрмайл-роуд ее сопровождал служащий данного агентства. Джулия почувствовала, что сейчас разрыдается. Ей не было жаль этой шестинедельной крошки, которую передали Бетти и Вернону, и тем самым обеспечили спокойную жизнь под надежным кровом. Ей было больно за шестнадцатилетнюю Маргарет, вынужденную в благотворительном приюте дать жизнь своему ребенку. «Она, должно быть, хотела оставить меня при себе, — подумала Джулия, — но у нее не было для этого возможности». Ей самой было шестнадцать, когда они с Мэтти попали в руки Джесси и Феликса. В этом возрасте они едва могли позаботиться о себе, не то что о ребенке. Так чем отличалась Маргарет Энн Холл от других таких же подростков? Джулия тяжело вздохнула и провела ладонью по лицу. В папке остался еще один сложенный лист. Она развернула его, чувствуя, как что-то сдавило ей грудь. Советница сказала: — Это немного, но, надеюсь, оно поможет вам в поисках. Ведь приют святого Бенита давно закрыт. Джулия прочла письмо. Оно было написано уже с другого адреса и датировано августом 1942 года. Маргарет Энн Холл стала уже Маргарет Реннишоу; она написала в агентство, прося дать ей сведения о Валери. Видно было, что письмо писалось в спешке, фразы были короткие, местами пропущены буквы или даже слова, но сквозь все это проглядывала настоятельность просьбы, читать которую нельзя было без боли. «Теперь у меня и Дерека есть свой небольшой земельный надел, но я все время думаю о том, что стало с моей Валери…» Это бывало в день моего рождения, подумала Джулия. На Рождество, Новый год и во все другие дни. «Я знаю, что поступила гадко, но хочу лишь знать, что с ней теперь все в порядке. Дерек служит в военно-морском флоте. Он ничего не знает о Валери. Если бы я могла хоть разок ее увидеть, я была бы счастлива». В папке не было никакой копии ответа на письмо Маргарет. Джулия опять подняла глаза от бумаг. Ее мать хотела повидать ее. У нее была мать и сводный брат, и когда она подрастала на Фэрмайл-роуд, они находились так близко от нее. — Почему же так случилось? — с болью в голосе спросила она у советницы. Женщина поджала губы. — В те времена, боюсь, старались умалчивать о подобном. Я сталкивалась с такими случаями. Думаю, что копия ответа на письмо вашей матери не сохранилась в папке. Вероятно, ей сказали, чтобы она не надеялась когда-нибудь увидеть или услышать о своей дочери. В комнате наступила тишина. — Но сейчас она увидит ее, — буркнула Джулия. — Если вы уверены, что так лучше для вас и для нее. — Советница говорила дружелюбно, но она всего лишь выполняла свою работу. Джулия вдруг почему-то вспомнила Монтебелле и бесстрастное лицо сестры Марии. Она улыбнулась. — Лишь в одном в жизни можно быть уверенным. Но я должна найти ее! Я знаю, что это нужно сделать. Советница протянула ей руку. — В таком случае желаю удачи. Если я понадоблюсь, вы всегда найдете меня здесь. Джулия указала на письмо. — Можно мне взять его? — Разумеется. Оно ваше. Лили ждала ее в кафе через улицу. Чтобы скоротать время, она немного побродила по магазинам. Еще один сверток с одеждой с дырками и в молниях торчал из сумки, стоявшей на полу. — Ну, как дела? — бодро спросила она. Джулия устало опустилась на стул и вытащила сероватый листок бумаги. Лили быстро пробежала его глазами. Когда они взглянули друг на друга, их лица помрачнели. — Зато это реально, — выдохнула Лили. — До сего момента я думала о ней как о награде за хорошую охоту. Ведь твоей матерью всегда была бабуся Смит. А теперь, когда эта мисс Реннишоу оказалась реально существующим человеком, на это смотришь совсем иначе. Ты была ее Валери. — Ей было всего шестнадцать лет! На несколько месяцев моложе тебя. — Это печально. — Лили потянулась через столик к Джулии. Она взяла ее руку в свои ладони. Под искусным гримом ее лицо сморщилось в гримасу обиженного ребенка. — Джулия, а ты не собираешься уехать и бросить меня? Ты останешься здесь навсегда? Джулия опять улыбнулась. Она все еще была матерью, не только дочерью. Лили все еще была ее ребенком и уже — подругой. — Мне тридцать восемь, а тебе почти семнадцать. Мы разъехались, потому, что нам обеим так хотелось, а теперь опять вместе. Мы здесь потому что любим друг друга, а не потому, что являемся принадлежностью друг друга. Я буду здесь всегда. Лили кивнула. — Я рада, что ты приняла такое решение. — И я тоже, — сказала Джулия. — Тогда чего мы ждем? — скомандовала Лили. — Едем, — она взглянула на письмо, — Эссекс, Форрестер-террас, 76. Теперь уже Джулии хотелось повременить, несмотря на то, что они еще ближе подошли к цели. Ей хотелось дать себе какое-то время, но она боялась, что у нее не так-то его много. Она чувствовала себя виноватой в том, что не спешит обратно в свой монтебелльский парк, чтобы работать с Томазо, подготавливая все к летнему сезону. В Лондоне она уже не находила себе достойного применения и лишь выполняла кое-какую работу в квартире Феликса. Был конец пасхальных каникул, и Лили нужно было возвращаться обратно в Леди-Хилл, к школьным занятиям. Прошли годы с тех пор, как Джулия поменяла свой образ жизни, отгородилась от всего расстоянием. Ее опять охватило беспокойство и желание убедиться, что в Монтебелле все в порядке. Но кроме всего прочего Джулия находилась в Лондоне еще и ради Мэтти. Она знала, что должна сделать все возможное и оставаться до тех пор, пока ее подруга не будет больше в ней нуждаться. Однако нелегко было догадаться, что нужно сейчас Мэтти. Она возвратилась в Коппинз и вежливо отклоняла все предложения навестить ее. Она настояла на том, чтобы миссис Гоппер продолжала присматривать за домом, и уверяла, что скоро вернется к своей работе. Спустя две недели после похорон Митча она согласилась принять участие в коммерческой телевизионной программе. — Это что-то для рекламы дамских панталон, или деодоранта, или какой-нибудь подобной ерунды, — сказала она Джулии по телефону. — А ты не знаешь, для какой именно? — А разве это имеет какое-нибудь значение? — в голосе Мэтти прозвучала некоторая неуверенность. Она призналась, что плохо спит. — Ты в порядке? — на всякий случай спросила Джулия. — Нельзя ли мне приехать и составить тебе компанию? После короткой паузы Мэтти ответила: — Нет, я не в порядке. Но я стараюсь справиться с этим самостоятельно. И пока мне лучше, когда я одна. Митч любил этот дом. Джулия продолжала наседать на нее. — Не запишешь ли ты мой номер телефона? Обещай, что позвонишь, если тебе что-нибудь понадобится. В любое время дня и ночи. — Что? Ах да. — В голосе Мэтти была рассеянность, как будто она забыла, что еще не положила телефонную трубку, и успела уже погрузиться в сумрак Коппинза и свои воспоминания. — Прошу тебя, Мэтти. — О, Джулия, — прошептала Мэтти, — если бы только он не умер… Если бы все еще был здесь… В этом ты мне ничем не можешь помочь. Даже ты. Ведь не можешь же ты вернуть его мне? Вот поэтому Джулия оставалась в великолепной квартире Феликса, а Лили составляла ей компанию. И вот однажды в полдень они отправились в Эссекс. Сначала они обнаружили, что кое-что с тем же успехом могут сделать и не выходя из квартиры на Кенсингтон. Та сторона Форрестер-террас, по которой шли четные номера домов, пострадала от прямого попадания бомбы во время войны, и то, что от нее осталось, разровняли в послевоенные годы. В начале пятидесятых на этом месте построили дома муниципального совета, напротив тех домов, которые уцелели и шли под нечетными номерами. Муниципальные дома выделялись ярко покрашенными парадными дверями и растениями в кадках у ступенек крыльца. Эти дома были в основном заселены молодыми парами. Джулия не надеялась, что кто-нибудь из живущих там теперь мог помнить Маргарет и Дерека Реннишоу и их маленького сына. — А что если она попала под бомбежку? — спросила Лили. — Если она там и оказалась, она не погибла, — ответила Джулия. — Я почему-то в этом уверена. Они прошли уже полторы мили по Патингтон-стрит до того места, где должен был находиться дом семейства Маргарет. «Мои дедушка и бабушка», — подумала Лили, но все ее мысли и устремления были сосредоточены только на Маргарет. Оказалось, что Патингтон-стрит не коснулась война, но выглядела она менее процветающей, чем добрая половина Форрестер-террас. На одном ее конце находилось агентство новостей, а на другом — скучный бар с пустыми хрустящими пакетами, трепетавшими на ветру у входа над тротуаром. Одиннадцатый номер был четвертым по счету начиная от бара. Джулия и Лили переглянулись, набрали побольше воздуха в легкие и зашагали по узенькой дорожке к дому. У входа не было колокольчика. На стук спустя некоторое время вышла восточного вида женщина в сари. Она держала на руках ребенка с блестящими карими глазенками. Она плохо говорила по-английски, но достаточно было нескольких слов, чтобы Джулии и Лили стало ясно, что нынешние жильцы одиннадцатого номера никогда не слышали о мистере и миссис Холл или Маргарет и Дереке Реннишоу. — Давай попытаем счастья в следующем доме, — настаивала Лили. Но там никого не было дома. В доме номер 13 дверь открыл ярко раскрашенный оболтус. У него была татуировка в виде свастики на предплечьях, а на шее — собачий ошейник, утыканный железными кнопками. Он не обратил никакого внимания на Джулию, но Лили окинул весьма одобрительным взглядом. — Теперь на этой улице живут только проклятые пакистанцы, — сообщил он ей. — А вы от социального совета или откуда? — Просто ищем друзей, — поспешно ответила Лили, и они ретировались. — Если что, — раздалось вслед, — ты, крошка, можешь вернуться сюда в любое время. И, увидишь, ты не будешь разочарована. Джулия и Лили были так огорчены неудачей, что не могли даже смотреть друг на друга. Они завернули за угол бара и неожиданно увидели еще одну аналогичную улицу с номерами. Джулия удивилась, неужели здесь всегда было так отвратительно, а если так, то почему она раньше никогда этого не замечала. — Что дальше? — спросила Лили. — Не знаю, — грустно ответила она. — Не знаю даже, куда отсюда идти. Здесь может оказаться тысяча людей по фамилии Холл. Но Реннишоу ведь необычная фамилия, верно? — Нет ли где-нибудь чего-то вроде списка тех, кто живет в этом районе? Джулия резко подняла голову. — Ну конечно! Список избирателей. Мне бы следовало раньше подумать об этом. — Они направились в Таун Холл и попросили показать им копию такого списка. И тут же нашли нужную фамилию. В списке было три Реннишоу, и третья была Маргарет. Маргарет Энн была жива и все еще жила здесь! Теперь, когда поиски подошли к концу, Джулия поняла, как мизерны были их шансы и какой огромной удачей оказалось то, что след, на который они напали, так быстро привел к цели. Она мгновенно почувствовала, что силы покинули ее, ноги у нее подкосились, и она неожиданно опустилась на скамейку в людном коридоре. Некоторые из сновавших взад-вперед людей с любопытством посмотрели на нее. Лили пританцовывала от радости и победного чувства. — Мы можем пойти и прямо сейчас увидеть ее. — Нельзя, Лили. Подумай, каким это может быть для нее ударом. — Ладно, тогда давай посмотрим, какой у нее номер телефона, и позвоним. Лили увидела ряд телефонных будок в фойе Таун Холла и побежала туда. Возвратясь через минуту, она протянула Джулии конверт с номером. Джулия смотрела на номер и думала: «Через минуту я могу поговорить с ней». Но она сложила конверт пополам и положила его вместе с письмом Маргарет и ее настоящим адресом. У Лили удивленно вытянулось лицо. — Мне нужно подготовиться. И попытаться подготовить ее… — Джулия не могла называть ее ни Маргарет, ни матерью. По правде говоря, она надеялась только на то, чтобы просто найти ее. Уже другие страхи стали одолевать ее. Лили кивнула, стараясь скрыть свое разочарование. — Все в порядке, мама. Я тебя понимаю. — Я возьму тебя с собой повидать ее… как только смогу, — пообещала Джулия, сознавая, что это всего лишь увертка. Она чувствовала свою вину перед великодушием Лили, но ей хотелось сделать этот последний шаг без свидетелей. Она хотела встретиться с Маргарет с глазу на глаз, по крайней мере в первый раз. Джулию одолевало нетерпение. Она решила подождать и все обдумать, а потом, может быть, написать письмо. Но уже через два дня она опять поехала в Эссекс. Она одолжила у Феликса автомобиль, надеясь спрятаться в машине, чтобы не торчать на улице у всех на виду. Когда она свернула на Динбэнк, ей пришло в голову, что совершенно новая белая «альфа» может скорее привлечь к себе внимание, чем явиться маскировкой. Улица была длинной и прямой. Двойной ряд муниципальных домов выглядел просто и опрятно. В окнах некоторых из них виднелись нейлоновые занавески, белые или ярко-розовые, но большинство было без занавесок и с порядочным слоем грязи на стеклах. Кое-где возле домов стояли автомобили, припаркованные наполовину на тротуарах, но такой машины, как у Феликса, конечно же, не было и в помине. Палисадники перед домами вклинивались в дорогу и были отгорожены друг от друга проволочной изгородью, за которой кое-где виднелись кусты роз и лужайки с зеленой травкой, но в большинстве случаев эти участки земли поросли сорняками. Джулия медленно ехала на «альфе», привлекая внимание детишек, и считала номера. Сорок, сорок два. Она остановила машину, не доезжая до номера 60. Это был один из тех домиков, на которых не было занавесок, а в палисаднике полно мусора. Томительное чувство чего-то знакомого охватило Джулию, когда она взглянула на этот дом. Он был очень похож на тот, из которого убежала когда-то Мэтти… Джулия закрыла, потом опять открыла глаза. Ничто не изменилось. Дети подбирались поближе, но как только замечали, что она смотрит на них, убегали прочь. «О, Мэтти, — подумала Джулия. — Это какой-то замкнутый круг. Если бы ты была здесь». Она хотела бы видеть рядом Мэтти, но знала, что в такой момент не имела права обижаться на нее, замкнувшуюся в своем горе. «Нельзя оставлять ее одну, — решила она. — Я не должна допустить этого, как бы ты ни старалась отгонять меня. Я нужна тебе, а ты нужна мне». Любовь и сострадание к подруге окатили ее приятной волной, и ей стало теплее на этой холодной улице. Она долго сидела в машине, собираясь выйти, но не могла двинуться, боясь потревожить охватившее ее чувство. В половине шестого мимо нее прошел мужчина. На нем была куртка из кожи, а через плечо висела сумка. Это был крупный седеющий мужчина с широким лицом. Он пошел по дорожке к дому номер 60 и вошел в него. Джулия подвинулась подальше от окна машины, боясь, что он может заметить ее. Она запустила двигатель, развернулась и поехала вниз по Динбэнк. От долгого неподвижного сидения занемела спина. Навстречу ей по тротуару шла женщина, темноволосая и очень полная, с шарфом на голове и в наброшенном на плечи пальто. Лицо было приветливым, единственное светлое лицо, которое она увидела на Динбэнк. Джулия опять остановила машину и опустила стекло. — Извините, номер 60,— она кивнула головой назад, в сторону дома, — это тот, где живет миссис Реннишоу? Женщина переложила тяжелую корзину в другую руку и посмотрела вдоль дороги. — Постойте-ка. Шестидесятый? Нет, милочка, это дом Дэвисов. — О, — Джулия сильнее нажала на тормоз. — Стало быть, миссис Реннишоу переехала? Я была уверена, что это ее дом. Женщина отрицательно покачала головой. — Я вообще не знаю никаких Реннишоу. Этих зовут Дэвисы. Живут с тех пор, что и я, когда был построен квартал. В следующем месяце, спаси Господи, будет тринадцать лет. Джулия была ошеломлена. Она даже не смогла заставить себя улыбнуться в ответ. — Благодарю вас, — тихо сказала она. — Должно быть, я ошиблась. Она медленно поехала дальше, свернула на шумные верхние улицы, минуя ослепительные витрины магазинов и не соображая, куда едет. В ней трепетала дикая, глупая надежда, что она найдет свою мать в хорошеньком коттедже в сельской местности, стоящем среди прелестного сада. Старая романтическая мечта переплелась с чувством страха, что она опять ее потеряла, что нет больше ключей к разгадке тайны. И в то же время она чувствовала, что Маргарет Реннишоу живет в доме номер 60 на Динбэнк, но по какой-то непонятной причине она не могла объяснить приветливой соседке, что та ошиблась. В конце концов Джулия поехала домой и рассказала Лили всю историю. — Должно быть, это ошибка, — с грустью заметила Лили. — Ведь в списках тоже бывают ошибки, верно? — Не думаю. Здесь что-то такое, чего мы не понимаем. — А что это за место? Джулия заколебалась. — Оно напоминает наш с Мэтти старый дом. Где она жила со своим отцом, Мэрилин, Рикки и другими, в самом начале. — Джулия как сейчас видела эти два дома, совершенно похожие друг на друга. Сходство было поразительным. — Послушай, Лили, ты сможешь побыть одна, если я съезжу в Коппинз повидать Мэтти? Я должна увидеть ее, что бы она там ни говорила. — Говоря это, Джулия почувствовала вдруг острое, непонятное беспокойство. — Мама, — спокойно отозвалась Лили, — ты же знаешь, со мной все будет в порядке.
Джулия опять попросила у Феликса автомобиль, чтобы съездить в Коппинз. Она не знала и не могла объяснить даже себе, что ее так тревожило. Но она вытягивала шею вперед, чтобы лучше видеть дом, когда заворачивала и въезжала в ворота. Дом выглядел как прежде, и как всегда лишь на некоторых окнах были задернуты шторы. Под лучами апрельского солнца уже начала подрастать трава, а газоны нуждались в стрижке. Мэтти сама открыла дверь. Она была одета, но было видно, что выбор одежды теперь не занимал ее. — Привет, Мэтт, — сказала Джулия. — Джулия? Мы, кажется, не договаривались о встрече? — Мэтти выглядела слегка растерянной. Незадолго до этого одна в пустой кухне она пыталась заставить себя съесть что-нибудь из приготовленного миссис Гоппер. И вдруг перед ней явилась Джулия, энергичная и настойчивая, так не соответствующая этой обстановке и притихшему саду. — Взяла вот и приехала. Захотела тебя увидеть. Джулия взяла подругу за руку, и Мэтти провела ее по коридору на кухню, так как теперь она не любила ходить через холл. Ей казалось, что опять под ногами зашуршат те мертвые листья и она увидит почту, аккуратно сложенную Митчем на столике. Войдя в кухню, она сделала неопределенный жест рукой, желая выглядеть гостеприимной хозяйкой. — Я как раз собиралась что-нибудь поесть. Ты не хочешь? Пахнет аппетитно, — добавила она, чтобы подбодрить себя. Ей хотелось выпить. Это была всего лишь вторая или третья порция за это утро. На стойке стояла бутылка с виски. Миссис Гоппер все время убирала ее, но Мэтти всякий раз доставала снова. Она налила полный стакан себе и еще один — для Джулии. Осторожно, чтобы не расплескать, подала его подруге. — На вот, держи. Легче будет управиться с завтраком. Джулия взяла стакан и, даже не пригубив, отставила в сторону. Она подошла и обняла подругу. Какое-то мгновение Мэтти оставалась напряженной, а затем уронила голову Джулии на плечо. Джулия гладила ее по волосам, и ее голос звучал приглушенно из-за копны Мэттиных волос. — О Мэтт, ты по-прежнему много пьешь? — Нет. Впрочем, да. Это помогает. — И через минуту добавила: — Вообще-то от этого мало толку, но я не знаю, что мне еще делать. Я так тоскую по нему, что даже начинаю его ненавидеть. Джулия продолжала гладить ее волосы. — Бедняжка Мэтт. Несчастная Мэтти и несчастная любовь. Вдруг Мэтти икнула, и изо рта ее пахнуло перегаром. — Дай мне выпить, — попросила она. — Будь так добра. Она выпила и распрямила плечи. Джулия подвела ее к кухонному столу и усадила на стул. Налила две тарелки супа из кастрюли, стоявшей на плите, и тоже села к столу. — Ну-ка, поешь немного, — приказала она и, чтобы подать подруге пример, начала есть суп. Но Мэтти не притронулась к еде. Вместо этого она закурила сигарету, и легкий дымок медленно поднимался над ее густыми волосами. Джулия посмотрела на нее. — Мэтти, я не хочу, чтобы ты продолжала здесь жить одна и вести подобный образ жизни. — Мне лучше быть одной, — в голосе Мэтти послышались резкие нотки. Для нее это действительно было так, и она защищала свои позиции. — Но Митчу бы это не понравилось. — Какого черта ты можешь знать, что понравилось бы Митчу? Джулия слегка покраснела, но не отвела взгляд. Мэтти неловко наклонилась к ней. — Прости, я не хотела тебя обидеть. Не обращай внимания, я не имела в виду ничего оскорбительного. Теперь ты видишь, что мне лучше остаться одной? Она заметила, что Джулия уже придумывает аргументы, желая сделать еще одну попытку. — Что бы ты ни говорила, Мэтти, выслушай и меня тоже. А не продать ли тебе этот дом? Если хочешь жить самостоятельно, купи другой, но только в городе. Хотя я предпочла бы, чтобы ты поехала со мной в Монтебелле. Хотя бы ненадолго. Что скажешь? Как будто не слыша слов Джулии, Мэтти повторила: — Митч любил этот дом. Сама она уже не любила его. В нем не было ничего надежного, и куда бы она ни взглянула, всюду видела мужа, и ей некуда было спрятаться от болезненного ощущения его отсутствия. Но продать дом она не могла, как не могла и покинуть его. Продать дом было равносильно предательству. И она чувствовала, как этот дом засасывает ее. Джулия наклонила голову, пряча лицо. Она съела суп, не заметив даже, из чего он сварен. Мэтти же не притронулась к еде, а только пила виски. Джулия приготовила кофе. Она принесла в гостиную поднос с чашками, а Мэтти — бутылку с виски. Хотя тяжелые бархатные шторы были задернуты, комната имела прежний опрятный вид. Так же лежали на диване подушки и на столиках стояли фотографии в серебряных рамках. Но теперь здесь царила атмосфера безысходности, и Джулия содрогнулась. Подойдя к окнам, она отдернула шторы. Мэтти покосилась на ворвавшиеся лучи солнечного света, но ничего не сказала. Когда она села, Джулия подтащила поближе к ней стул и ласково спросила: — Чем же ты здесь занимаешься, когда совсем одна? Рядом с тобой должны быть друзья, которые тебя любят. Мы хотим помочь тебе. Глядя вниз, на свои руки, Мэтти нахмурилась. — Чем я занимаюсь? С трудом засыпаю. Потом просыпаюсь. И еще смотрю телевизор. Она умышленно приняла вопрос в буквальном смысле, прекрасно понимая, о чем спрашивала Джулия: «Почему ты не приедешь и не погорюешь с нами?» Но на этот вопрос Мэтти не хотела отвечать. Суть заключалась в том, что дружба требовала больше, чем она могла дать. С утратой Митча Мэтти чувствовала себя банкротом по части эмоций, которые могла бы предложить взамен на дружеское участие. Хуже того, несмотря на острое осознание горя — осознание, которое оставалось болезненно острым, как бы усердно она ни пыталась заглушить его с помощью виски, — она все же улавливала под внешней добротой Джулии негласное предъявление старого счета. Что-то вроде того: «Посмотри, я твой друг. Не отстраняйся, потому что у меня есть потребность помочь тебе. Я сделаю так, что тебе станет легче, и тогда мне самой станет легче. Вот как это делается, поняла?» Пребывая в состоянии полного опустошения, Мэтти не могла довериться кому бы то ни было, но она не хотела, чтобы Джулия знала ход ее мыслей. Ведь это причинит ей боль. Мэтти пыталась собраться с мыслями и пожалела, что выпила слишком много. Она сделала жалкую попытку засмеяться. — Я ничего не могу тебе дать, Джулия. — Что? — ошеломленно взглянула на нее Джулия. — Что это я говорю? — Смех прозвучал слишком неестественно, но, возможно, Джулия отнесет это за счет опьянения. «Мне лучше остаться одной. Я всегда это знала». — Извини. У меня путаются мысли. Джулия встала со стула и присела на корточки перед Мэтти. Она была так близко и смотрела так пристально. — На это потребуется много времени, Мэтти, поверь, я знаю это. Постарайся быть к себе добрее. — Со своей стороны Джулия понимала нелепость своих попыток сочувствия. В смятении она чувствовала, что нужные слова, в которых так нуждалась Мэтти, были где-то близко. Но каждое срывавшееся с языка слово подчеркивало ее несостоятельность в данной ситуации. — Тебе станет лучше, — шептала она. — Я уверена в этом. Мэтти смотрела поверх ее головы тусклым взглядом. Эта отстраненность самой близкой подруги обостряла боль. Мэтти страстно захотелось снова остаться одной. Но для этого она должна убедить Джулию, что с ней все в порядке. Нужно создать видимость. — Знаешь, я ведь не только пью и смотрю телевизор, я еще занимаюсь и другими делами. Мне нужно уже приступать к съемкам в коммерческой телепрограмме. Джулии это понравилось, и выражение удовольствия на ее лице тронуло Мэтти. — Ну и как, получается? На этот раз Мэтти не смогла удержаться от смеха. — Не все блестяще. Я там прилично напилась. Но они были очень внимательны ко мне. Джулии не было смешно. — У тебя сейчас нет подходящей работы, верно? — Отчего же, в настоящее время я читаю сценарий. Вполне приличный. — «Но если я не работаю на самом деле, то что мне остается?» — Она резко встала. — Эта комната действует мне на нервы. Как только я пытаюсь все перевернуть, является миссис Гоппер и тут же наводит порядок. Пойдем пройдемся по саду. Они вышли из дома. Апрельское солнце грело еще слабо, но было ослепительно ярким. Подруги медленно побрели по неподстриженной траве мимо розовых кустов, покрывшихся набухшими красными бутонами. Мэтти усиленно отворачивала голову от того угла дома, где виднелась посыпанная серым гравием дорожка. — Расскажи мне о чем-нибудь, — вяло попросила она. Джулия стала рассказывать ей о Маргарет Реннишоу. Она подробно описала агентство по приему детей и первые две улицы в Эссексе. Мэтти шла рядом, низко опустив голову и глубоко засунув руки в карманы вязаного жакета. Джулия подошла уже к тому месту, когда — а это было всего лишь день тому назад — она сидела в автомобиле Феликса на Динбэнк. Мэтти слушала, стараясь представить себе, как Джулия сидит у дома незнакомки, которая в то же время — ее мать. Она поймала себя на том, что все те ощущения, которые касались ее самой, были ужасно ясными, а те, которые касались других людей, очень туманными или вообще нереальными. Она пыталась переключиться на их проблемы, но не могла, и от этого чувство ее отрешенности становилось еще глубже. «Митч, почему ты должен был умереть? Так глупо. Так жестоко». Джулия как раз говорила об улице, на которой живет ее настоящая мать, о том, что она напомнила ей прежний дом Мэтти, и Мэтти не могла понять, почему это казалось ее подруге таким важным. — Какой-то замкнутый круг, — возмущенно говорила Джулия. — Такое впечатление, что мы старались изо всех сил выбраться из него, из этого района и Фэрмайл-роуд, и всякий раз он опять оказывался перед нами. Такое чувство, как будто из него уже не выскочишь. Вероятно, именно это нам и суждено было узнать. Вероятно, действительно нельзя вырваться из замкнутого круга жизни, пока ее не постигнешь. А тогда и обретешь свободу. — Свободу… — эхом отозвалась Мэтти. Она не имела никакого представления о круговороте жизни. Ей показалось, что узнать подобную истину было бы так утешительно. Для нее теперь и район третьего сословия, и Тед Бэннер, и все остальное вырисовывалось как в туманной дали, постепенно теряя всякое значение. Жизнь казалась подобной очень тонкой нити, грозящей оборваться в любую минуту. Она не видела существенной разницы в том, кто сейчас является настоящей матерью Джулии — Бетти Смит или миссис Реннишоу. Даже спустя сорок лет. И еще меньшее значение имел внешний вид улицы в Эссексе и то, на какую другую улицу она была похожа. После всех долгих поисков прийти к этому? И что же это такое? Практически ничего. — Так что, ты поедешь встретиться с миссис Реннишоу? — Да. Хотя и боюсь этого, но должна. Мэтти кивнула. — Конечно. Да, конечно. — Они сделали еще один круг по лужайке, и Мэтти зябко повела плечами. — Как здесь холодно! Пойдем обратно в дом. В сверкающей чистотой гостиной она сразу же потянулась за бутылкой с виски. — Не хмурься, Джулия. Это согреет меня. И подбодрит. Оставшуюся часть дня Мэтти не помнила. В ее сознании смутно вырисовывались Джулия и миссис Гоппер, суетящиеся на кухне, и как они сидели за столом и Джулия что-то ела. Возможно, она сама тоже что-то съела, так как хотела, чтобы Джулия думала, что с ней все в порядке. Потом, вероятно, день закончился, потому что Джулия помогла ей подняться по лестнице. Оказавшись вдруг лежащей в постели, она тут же села. На миг в голове просветлело. Что-то предательское. Она не любила эти моменты просветления и не любила пробуждения, когда боль становилась невыносимой. — Не надо меня укладывать в постель, как Лили. — Лили уже не нуждается в том, чтобы ее укладывали. — О Боже. Неужели это рок? Джулия подошла и села рядом с ней на кровать. — Ты сможешь сейчас уснуть? — Разумеется. — Она посмотрела скептическим взглядом. — У тебя есть какое-нибудь снотворное? — В коричневом флаконе в ванной. Принимать по полтаблетки. Джулия принесла полтаблетки и стакан воды. — Прими, Мэтти, — попросила она. — Скажи, ты хочешь, чтобы я осталась? — Лили меньше нуждается в ней, чем Мэтти, в этом она была уверена. Мэтти проглотила таблетку и запила водой. Их глаза встретились, и Мэтти улыбнулась прежней знакомой Джулии улыбкой. — Обещаю тебе, все будет в порядке. Просто я должна справиться с этим сама. Джулия колебалась. — Ладно, Мэт. Если ты так хочешь. Она вытащила из прикроватной тумбочки блокнот, записала свой номер телефона и положила рядом с телефонным аппаратом. — Я буду звонить тебе утром и вечером. А ты звони в любое время. — Хорошо, — пробормотала Мэтти. — Миссис Гоппер знает, где я живу. Я ей сказала. — Хорошо. Их руки встретились, рука Джулии дрожала. — Спи, дорогая. Мэтти опустилась на подушку. Они улыбнулись друг другу, и Мэтти покорно закрыла глаза. Джулия на цыпочках вышла из комнаты и притворила дверь. Как только она вышла, глаза Мэтти широко открылись. Сон теперь не приходил к ней быстро, как бы она ни призывала его. А когда она наконец уснула, ее мучили сны, а потом было пробуждение.
Утром Джулия сразу же позвонила Мэтти, и та сказала ей, что еще лежит в постели и просматривает газеты. — Отлично. Я позвоню вечером. Она положила телефонную трубку, тотчас подняла ее опять и набрала номер справочной конторы. Номер, который ей там дали, был тот же, что записала Лили. Маргарет Реннишоу действительно жила на Динбэнк, 60. Больше в этом не было сомнений. Джулия набрала номер. Она не могла ждать или еще раз обдумывать это — боялась, что мужество оставит ее. — Алло? Она знала, что это ее голос. Он был низкий, слегка сипловатый. — Могу я поговорить с миссис Реннишоу? — Я вас слушаю. — Джулия почувствовала в ее голосе ярко выраженный лондонский акцент, а в интонации некоторую подозрительность. — Миссис Реннишоу, я бы хотела поговорить с вами об одном очень личном деле. Очень личном. Последовала долгая пауза. Джулия не знала даже, слушает ли она ее. И вдруг раздался вопрос: — Вы — Валери, не правда ли? — Да, — прошептала Джулия. — Да, я — Валери. — И неожиданно она расплакалась… Слезы текли по щекам, а она кулаком смахивала их. — Я знала, что это вы. Я сразу поняла это, когда соседка сказала мне, что вы обо мне спрашивали. Женщина в роскошном белом автомобиле, наводившая справки о миссис Реннишоу. Здесь в округе все знают меня как миссис Дэвис. — Вы ничего не имеете против того, что я вас нашла? Опять последовало короткое молчание. — Нет, любовь моя. Если и ты не против. — Джулии показалось, что она не собирается больше ничего добавить. И она уже готова была говорить что попало, лишь бы заполнить паузу, когда Маргарет раздумчиво добавила: — Я так и думала, что однажды ты придешь. После того, как изменили тот закон. Я не бросила тебя, пойми. У меня и мыслей таких не было. Я думала о тебе. Представляла, какая ты и чем занимаешься… И всякое такое. — Знаю. Знаю, что так это и было. Я тоже думала о тебе, и по прошествии долгих лет все больше. Мне так хотелось найти тебя. И сейчас я даже не могу в это поверить. Даже теперь, когда мы с тобой разговариваем. «Как это странно, — подумала Джулия, — говорить вот так с женщиной, которую я никогда не знала. И даже никогда не видела». — Как ты жила все это время? — спросила Маргарет. Чувствовалась некоторая неловкость — она была смущена слезами Джулии. Но столь же неожиданно Джулия начала смеяться. — Прекрасно. Я считаю, что мне повезло. — Сказав это, Джулия спохватилась, но было уже поздно. — Я не имела в виду «повезло», потому что ты меня оставила. Я имела в виду последующую жизнь. Только я не понимала этого. (За это она должна быть признательна Бетти. Этим она обязана ей.) — Я понимаю, что ты имеешь в виду. — Ее хрипловатый голос прозвучал несколько уныло. Джулия подумала о том, что, вероятно, ее голос такой же, как у всех, живущих на Динбэнк. — Можно мне навестить тебя? — спросила она. — По телефону так трудно разговаривать. — Ты ведь знаешь, где я живу, — ответила Маргарет таким тоном, что невозможно было понять, хочет она этого или нет. — А ты бы хотела, чтобы я приехала? — настойчиво спросила Джулия. Опять последовало молчание, а затем Маргарет отрывисто сказала: — Да. Хотела бы. Только не на этой неделе. Эдди работает в вечернюю смену и весь день дома. Эдди — мужчина, с которым я живу. Он работает водителем автобуса. — Кажется, я видела его. — Да. Так что приезжай на следующей неделе. Скажем, в понедельник, если тебе это подходит. Часам к двенадцати, к этому времени он уже уйдет. Он… не знает о тебе, Валери. — Я приеду, — сказала Джулия. — Сейчас меня зовут Джулия. — Сама она еще никак не назвала свою мать. — Джулия? — У нее вырвался хриплый смешок. — Оно больше подходило тебе, чем Валери, да? Ладно, Джулия, тогда до понедельника. После разговора с матерью Джулия долго сидела у окна. Бездумно глядя на тихую улицу, она машинально отмечала каждое ее будничное движение. Прошла женщина, толкая перед собой детскую коляску, фургон строителей остановился для разгрузки ящиков с красками. Две девушки в возрасте Лили прошли, держась за руки, и строители засвистели им вслед. Джулии нравилась обыденность. Жизнь, в конце концов, состоит из обыденных вещей. То, что она нашла Маргарет, подтверждает это. Она все еще смотрела в окно, когда заметила, как подъехал автомобиль Александра и из него вышли отец и дочь. Она знала, что он работает в Лондоне, но не видела его со дня похорон Митча. Он собирался отвезти Лили обратно в Леди-Хилл, поскольку начинался новый школьный семестр. Приближался май. Скоро наступит лето. Джулия подумала о Монтебелле и сказала себе, что пора возвращаться. Это место притягивало ее, но не так сильно, как прежде. — Я говорила с ней. Набрала номер и поговорила с ней, — сказала Джулия, когда они вошли. Лили уже рассказала Александру об их поисках, и теперь они смотрели на нее в ожидании. Лили фыркнула от нетерпения. — Что она сказала? Она удивилась? — Не совсем. Похоже, она… примирилась. Любопытствовала только, как я выгляжу. Лили бросилась к ней. Через плечо дочери Джулия взглянула на Александра. Она поняла, что они беспокоились, и от сознания этого на душе стало тепло и спокойно. Жизнь обычна, как будничное движение улицы, но она также и бесценна. — Так что все в порядке. Я хотела найти ее и нашла. Мы договорились встретиться в понедельник. Я рада, что сделала это, — убеждала их Джулия. — Полагаю, нам следует поехать куда-нибудь перекусить, — предложил Александр. Это был своего рода праздник, но только никто не пытался объяснить, что именно они празднуют. Они отправились в итальянский ресторан, так как Лили нравились итальянские блюда. — Конечно, здесь они не такие вкусные, как итальянская еда, — заметила Джулия, и Лили издала протяжный стон. — Ма, ты вечно это говоришь. Они по-семейному сидели за столом. Для каждого человека достаточно и семьи. «Это больше, чем она заслужила», — сказала себе Джулия. Что бы она там ни увидела на Динбэнк и во что бы это ни вылилось. Ее глаза встретились с глазами Александра, и она поняла, что ей действительно повезло в жизни. Это как раз то, что она пыталась объяснить Маргарет, и ее окатила волна счастья. Александр поднял бокал, и они выпили без всяких пожеланий. — Хотела бы я, чтобы с нами сейчас была Мэтти, — сказала Джулия. Как-то тяжело думать о счастье, зная, как несчастлива она. — Она в порядке? Джулия покачала головой. — Она старалась убедить меня в этом. Но из всего я поняла только то, что она хочет побыть одна. Не знаю, что еще можно сделать, кроме того, чтобы дать ей понять, что мы здесь, поблизости, и готовы ей помочь. Подняв глаза, она перехватила взгляд Александра. В его глазах таились нежность и любовь. И Джулия поняла, что Александр находится здесь ради нее. Это открытие как-то сразу придало всему новую окраску. Оно заполнило шумный, переполненный людьми ресторан каким-то особым светом. Лица Лили и Александра показались ей прекрасными, как лица богов на Олимпе. Джулия покраснела и отвела взгляд. — Гм, — хмыкнула Лили, поняв все и как бы стараясь держаться подальше от греха. — Нельзя ли мне заказать пудинг? Возражения есть? — Никаких, — ответил Александр. — Сегодня можешь заказать хоть двадцать штук. Позднее, когда Лили уже сидела в машине, готовая к отъезду в Леди-Хилл, Александр и Джулия повернулись друг к другу. Был уже конец рабочего дня, и служащие офисов стали покидать свои рабочие места и запруживали улицы, спеша к станции метрополитена. — Сколько было подобных дней и у меня, — сказала Джулия. — Невозможно сосчитать. И это всегда навевало на меня грусть. — Но в этом нет необходимости. Не надо грустить. Она открыто, улыбаясь посмотрела на него. — Знаю. И не буду. Александр наклонился и слегка прикоснулся губами к уголку ее рта. Затем сел в машину, и они с Лили уехали. На этот раз Джулия знала, куда он направляется, и была уверена, что он вернется. Они возмужали, узнали друг друга, и уже не было необходимости спешить или бояться.
Джулия продолжала жить в квартире Феликса. Она написала письмо матери-настоятельнице, в котором объяснила, что останется в Англии на более длительный срок, на какой, она и сама не знает. В письмо она вложила длиннющий список указаний для Томазо. А в конце — приписала: «На самом деле у меня нет никакой необходимости давать тебе какие-либо указания. Мы научились этому вместе, и теперь ты вполне можешь делать все са-мосто-ятельно. Желаю удачи, Томазо». Затем она позвонила Николо Галли. Его голос был тихим, но она слышала, что он посмеивается. — Я скучаю по тебе, Джулия. Но ты поступаешь правильно. Я очень этому рад. — Надеюсь, что я права. Я счастлива, что вернулась. Николо? — Слушаю. — Я тоже скучаю по тебе.
Джулия ездила в Коппинз еще три или четыре раза. Каждый раз Мэтти старалась избавиться от нее, встречая молчанием или раздражительными вспышками, а затем, приняв виски, бросалась в другую крайность. Джулия практически ничего не могла сделать для нее кроме того, чтобы посидеть с ней или убедить ее поесть, но Мэтти противилась даже этому. Она доказывала, что Джулия находится с ней только из чувства долга и что она не нуждается в ее присутствии. — Мне хорошо одной. Неужели ты не понимаешь, что мне необходимо побыть одной? Я не могу никого принимать! — кричала Мэтти. Ее лицо отекло и покрылось пятнами. — Но ты многое значишь для меня, — сказала ей Джулия. — Ты не веришь, что от этого тебе будет лучше, Мэтти, но я-то знаю, что это так. Я останусь с тобой, пока тебе не станет легче. Позволь мне пожить немного здесь, чтобы поухаживать за тобой. — Нет, — прошептала Мэтти. — Пожалуйста, Джулия, не настаивай. У Джулии все время болела душа за подругу, ей хотелось бы взять на себя часть ее страданий, и за горячностью отказов Мэтти она пыталась увидеть сестринское желание успокоить ее. Однажды Мэтти даже не открыла ей дверь. Домоправительницы либо не было дома, либо Мэтти предупредила ее, что не хочет видеть Джулию.Джулия долго ждала на подъездной дорожке, представляя Мэтти, терзаемую болью утраты, внутри дома. Затем, отступив несколько шагов назад, она начала звать Мэтти, глядя на окна. — Мэтт, если я нужна тебе, я здесь. Если нет, то я хочу, чтобы ты знала, что я в городе. Завтра я вернусь. И если ты не впустишь меня, я все равно буду приезжать и ждать, пока ты не откроешь. На следующий день Мэтти открыла дверь сразу. Джулия могла лишь догадываться, сколько она выпила спиртного. — Извини, — пробормотала Мэтти. — Я так страдаю, что уже не осознаю, что делаю. Джулия обняла ее. — Я знаю, дорогая. Дай мне помочь тебе. Мэтти слабо покачала головой. — Это не в твоей власти. Но в этот день она позволила Джулии приготовить еду, и они вместе поели на кухне, поговорили немного о Феликсе и Вильяме, и перед Джулией мелькнула слабая тень прежней Мэтти. В тот вечер она спокойно оставила ее. Чтобы чем-то заполнить время в те дни, когда она не ездила к подруге, Джулия занималась покупками. Она уже забыла, как это делается, даже если бы у нее были деньги, но зато ей нравилось смотреть на витрины магазинов. Все казалось каким-то новым, ярким и сверкающим. Иногда она обедала с Феликсом и Вильямом; она восхищалась картинами Вильяма, развешанными по стенам вместо старых пейзажей и мрачных портретов. Ей нравился Вильям, и было заметно, что он очень подходил Феликсу. Кроме того, она встречалась со старыми друзьями и бродила по Лондону, как и в былые времена. Ее страхи перед этим городом исчезли, и она опять почувствовала себя здесь как дома. Она звонила Мэтти утром и вечером, независимо от того, виделись они в этот день или нет. — Со мной все в порядке, — лгала Мэтти. — Я должна сама выбраться из этого. — Позвони, если я понадоблюсь, — сказала Джулия, — в понедельник утром. — Она не сказала, что собирается встретиться с Маргарет Реннишоу, а также не упомянула об Александре. Есть вещи, которые нельзя было говорить Мэтти. До тех пор, пока ей не станет легче. Джулия уже приготовилась ехать на вокзал. На этот раз она собиралась ехать в Эссекс на поезде. Ей не хотелось опять появляться на Динбэнк в автомобиле Феликса. Еще до того, как она увидела тень на рифленом стекле двери, до того, как зазвенел колокольчик, Джулия уже догадалась, что это Александр. Она открыла ему дверь. На нем были вельветовые брюки и свитер, немного перекосившийся на плечах, как будто он только что пришел из ледихилльского парка. Он был таким узнаваемым и таким желанным, что она только стояла и улыбалась, глядя на него. — Я подумал, если ты собираешься встретиться с матерью, то захочешь, чтобы я тебя сопровождал. — Мне бы этого хотелось, — ответила она. — Очень бы хотелось. По дороге она рассказала ему о коротких, таких неромантических поисках Маргарет Холл, которые Лили назвала «охотой». Она подробно описала Динбэнк, чтобы это место не слишком шокировало его. — Ты сожалеешь о сделанном? — спросил Александр, глядя вперед на уличное движение и витрины магазинов шумных городских улиц. Джулия минуту подумала. — Мне будет жаль ее, если окажется, что она несчастлива. Что же касается меня, то как я могу жалеть об этом? Он положил свою руку на ее руки, сложенные на коленях, не отрывая взгляда от дороги. Джулия опустила глаза и увидела старые зарубцевавшиеся шрамы на его руке. Вдруг ее охватило страстное желание сделать его счастливым, чтобы загладить все горести, которые она причинила ему за прошедшие годы. Они доехали до конца Динбэнк, и Александр остановил машину немного в стороне, на соседней улице. Он взял какой-то старый, забрызганный грязью автомобиль, и Джулия оценила его такт. — Я подожду тебя здесь, — сказал он. Джулия вышла из машины и медленно пошла обратно на Динбэнк. Оказавшись на той улице, где жила ее мать, она старалась пройти незамеченной, как пыталась сделать это и раньше. Двое или трое прохожих равнодушно взглянули на нее. До дома 60, казалось, лежал долгий путь. Наконец она подошла к нему, прошла по дорожке, минуя поломанную металлическую ограду, и постучала в дверь. Почти тотчас же дверь открылась. Должно быть, Маргарет Реннишоу ожидала ее в прихожей. Они взглянули друг на друга одновременно жадным и настороженным, нетерпеливым и оценивающим взглядом. Никто, увидевший их вместе, не догадался бы об их родстве, но обе тотчас поняли, что ошибки здесь нет. Джулия так же похожа была на Маргарет, как Лили — на нее. — Тебе лучше войти, — сказала Маргарет своим хрипловатым голосом, — если мы не хотим, чтобы вся улица была в курсе наших дел. Джулия последовала за ней, и дверь закрылась. За прихожей следовала парадная комната, в которой стояли гарнитур из трех предметов из искусственной кожи с красной отделкой и большой телевизор. На низком кофейном столике стояли три чашки и шоколадные бисквиты на желтом блюде в виде веера. В довольно тесном помещении обе женщины могли хорошо разглядеть друг друга. У Маргарет, как и у Джулии, были темные волосы, слегка тронутые сединой, и темные, слегка поблекшие глаза. Строгое лицо от носа к губам прорезали глубокие морщины. Фигуру же трудно было разглядеть под бесформенным свитером и юбкой. Она представляла, что их родство подтвердится сходством, по которому люди узнают друг друга. И растерялась, обнаружив, что в этом нет необходимости. У них были разные черты лица, но сходство было очевидным. Мать Джулии представляла собой как бы пожилой расслабленный вариант ее самой, или какой она могла бы быть, сложись ее жизнь менее удачно. До самого последнего момента, с легкой грустью подумала Джулия, она цеплялась за свои романтические мечты. И только сейчас эти розовые замки рухнули. — Дай мне взглянуть на тебя, — сказала Маргарет. И, помолчав, добавила: — Ты выглядишь прекрасно! — Ты тоже, — ответила Джулия. — Присаживайся, — пригласила Маргарет. — Я приготовила тебе чашку кофе. — Она держалась так официально, как будто Джулия пришла из какого-нибудь муниципального бюро проверить условия их жизни с мистером Дэвисом. Она вышла на кухню, и не успела Джулия оглядеться, как Маргарет вернулась обратно с кофе. Джулия сидела, держа на дрожащих коленях чашку с блюдцем. Шоколадное пирожное, которое ей совершенно не хотелось есть, застряло у нее в горле. — Извини, что принимаю тебя в таком месте, — начала Маргарет. Джулия окинула взглядом комнату, впервые заметив, что обои с выпуклым рисунком покрылись грязными пятнами и кое-где отстали от стен. Оранжевый с коричневым ковер местами был сильно вытерт, и было видно, что его притащили из другой, большей комнаты. — У Эдди в последние годы были кое-какие денежные проблемы. И мы все еще не вышли из затруднений. Джулия ощутила, как тоскливая безнадежность улицы вползла в эту комнату. — Эта комната очень уютная, — солгала она. Маргарет не стала тратить усилия на возражения, зажгла сигарету, затянулась и стряхнула воображаемый пепел на блюдце. Она смотрела на Джулию сквозь облачко дыма из-под полуопущенных век. Ее губы тронула улыбка, которая, казалось, смягчила лицо и сделала его как будто знакомым — в ней Джулия узнавала себя. И это было как раз то, за чем она пришла. Подтверждение ее происхождения. Она снова подумала о круговороте жизни. — Забавно, не правда ли? — медленно произнесла Маргарет. — Мы не знаем друг друга. Ничего не знаем. С чего начать, если не с просьбы о прощении? Джулия подвинулась к ней поближе. Влажными ладонями она оперлась о черную дермантиновую софу. — Не надо просить прощения. Давай с этой минуты перестанем извиняться друг перед другом. Маргарет кивнула. — Но все-таки я виновата перед тобой. Разве ты так не думаешь? Но я не хотела бросать тебя. Тогда я плакала больше, чем когда-либо в своей жизни. После твоего рождения мне позволили побыть с тобой лишь один день. Я держала тебя на руках и смотрела на тебя. А потом они пришли и забрали тебя. Я могла бы остановить их, разве не так? Я часто потом думала об этом. — Нет, — твердо сказала Джулия, — ты была слишком молода. Маргарет выглядела теперь старше своих лет. Джулии стало грустно от мысли, что она никогда не видела ее молодой и полной надежд. Наступило короткое молчание. — Расскажи о себе, — попросила Маргарет. — Ну же, расскажи все, что с тобой было. Джулия постаралась выполнить ее просьбу. Но, рассказывая, она понимала, что делает это не так. Разведенная женщина, имеющая дочь, которая живет за городом со своим отцом, — был совсем не тот образ, который хотела видеть Маргарет. Непонятно было ей также повествование о работе в далекой Италии, с больными людьми и монахинями и каким-то невообразимым парком. Маргарет слушала, курила сигарету и молчала. Джулия заметила украдкой брошенный взгляд на ее огрубевшие от работы руки и скромную, не очень современную одежду. Казалось, она не слишком интересовалась Лили или теперешней жизнью Джулии. Вот если бы она все еще владела «Чесноком и сапфирами», подумала Джулия, было бы совсем другое дело. — У меня был свой бизнес, несколько магазинов. Но я их продала. После этого я почувствовала себя гораздо счастливее. — Гм. А я думала, что это главное. Откуда же у тебя такой шикарный автомобиль? — У меня нет автомобиля. Ту машину я одолжила у одного приятеля. Если бы у нее все еще был ее алый «витесс», это могло бы спасти положение. Она пыталась рассказать еще о Монтебелле и успехе своего парка. — Ну что ж, — сказала наконец Маргарет, — по крайней мере, у тебя были неплохие возможности, не так ли? «Были ли? — подумала Джулия. — И не упустила ли я их?» Ее мать казалась разочарованной. Джулия уже хотела сказать ей, что однажды она была леди Блисс, хозяйкой Леди-Хилла. Маргарет могла бы гордиться этим, как и Бетти, хотя это и длилось недолго. На нее также произвел бы впечатление рассказ о Мэтти. Но Джулия не хотела впутывать сюда подругу, вводить ее в свой рассказ. — А теперь твоя очередь, — сказала она. — Расскажи мне о себе. Уголки рта Маргарет опустились, она неопределенным жестом обвела комнату. — Сама видишь. Мне не очень повезло в жизни. Внезапно Джулия почувствовала раздражение. — Но почему? Расскажи, что тебя здесь держит? Расскажи о моем отце. И других твоих детях. Нетерпеливый, раздраженный голос Джулии, как ни странно, несколько оживил Маргарет. Она с легким кокетством потрясла головой и зажгла очередную сигарету. — Ну что сказать о твоем отце? Он был умен. Учился в колледже. Стал учителем. Был сильно мною увлечен, это точно. — При воспоминании она тихонько засмеялась. — Паскудник. Должно быть, когда-то Маргарет была привлекательной. Джулия это видела. Красивой — вряд ли, как и сама Джулия, но притягательной и даже очаровательной. Как догадывалась Джулия, Маргарет даже не была хорошо знакома с мужчиной, с которым встречалась. — Почему он не помог тебе? Маргарет посмотрела на Джулию. — Как ты думаешь, почему? Он был женат! И она охотно, даже с некоторым чувством облегчения рассказала всю историю. Он был учителем средней школы, где училась Маргарет и которую оставила, когда ей было пятнадцать лет. Он жил на той же улице со своей женой. «Патингтон-стрит», — вспомнила Джулия. Перед ее глазами предстала женщина восточного типа и бритый парень, окликавший Лили. Эта улица изменилась потом, в последний год перед войной. Однажды, рассказывала Маргарет, по дороге домой из магазина, где она работала, она встретила учителя. Они были знакомы и пошли домой вместе. На следующий день они опять встретились, совершенно случайно, а потом — уже по договоренности. Вскоре их свидания не имели уже ничего общего со случайными встречами на улице. Маргарет смотрела куда-то в окно. — На задворках нашей улицы пустовал дом. В зимнее время он был подходящим местом для нас. Там мы спали вместе. Никто не знал об этом. Он называл меня своей маленькой греховодницей. Но если я и была греховодницей, так именно он научил меня этому. — Маргарет засмеялась гортанным внутренним смехом, вызванным интимными воспоминаниями. «Испорченная девчонка, — подумала Джулия. — Почти неискушенная, но готовая рискнуть. Как в свое время Мэтти и я». Вот он, круговорот жизни. — Что случилось потом? Маргарет вздрогнула. — Если бы я имела об этом какое-то представление, я бы знала, что случится. Он перешел на другую работу и уехал еще до того, как я узнала, что беременна. Он сказал, что напишет и вызовет меня, как только признается жене, что мы любим друг друга. Но, конечно же, не сделал этого. А я не выдала его. Мой отец просто с ума сходил, но я никогда никому не рассказала правду. Маргарет гордилась своей верностью. Она прошла через выпавшие ей испытания в одиночку. Джулия почувствовала, что больше не пожелает узнать что-нибудь о симпатичном обманщике-учителе, который был ее отцом. Она поняла, что уже имеет о нем достаточное представление, и презирала его. — Никогда никому не призналась, — повторила Маргарет, — пока не родилась ты. Их взгляды встретились. И впервые между ними протянулась тоненькая, еле ощутимая связующая нить. — Продолжай, — мягко сказала Джулия. По мере того как Маргарет все глубже погружалась в воспоминания, она, казалось, смягчалась. И поведала свою историю без малейшей жалости к себе, которую Джулия заметила в начале разговора. Спустя три года после рождения незаконнорожденной дочери Маргарет вышла замуж за Дерека Реннишоу, и у них родился ребенок — сын. Они арендовали дом, который оплачивала военно-морская служба Дерека. Когда муж уехал и Маргарет осталась одна, она написала письмо в агентство по усыновлению детей. — Они ничего мне не сообщили, — сказала она. — Я знаю. Джулия вытащила из сумки сложенное письмо и протянула матери. Маргарет прочла его, сохраняя бесстрастное выражение лица, и вернула Джулии. — Вот видишь? Я старалась. Я не хотела потерять тебя из виду. — Я знаю. И опять она почувствовала ту же связующую нить. После того как Дерек вышел в отставку в конце войны, у них родилось еще двое детей, обе девочки. У Дерека была очень хорошая работа — шофер грузовика дальних перевозок. А потом он погиб при столкновении с автобусом. Маргарет устроилась работать барменшей, эта работа ей нравилась, но семья еле сводила концы с концами. Пожив в столь стесненных обстоятельствах несколько лет, она познакомилась с Эдди Дэвисом. Он был строителем и имел собственное небольшое дело. Он тоже был женат, и жена так и не дала ему развод. Чтобы избежать толков. Маргарет перебралась сюда и жила здесь под именем миссис Дэвис. Одно время они жили хорошо, но вскоре бизнес Эдди потерпел крах. — Он обанкротился. Полностью, — спокойно сказала Маргарет. — Вот так-то. Джулия узнала, что мистер Дэвис все еще состоял в списке должников. Дом и все средства коммуникации, а также купленный в кредит мебельный гарнитур были записаны на имя Маргарет Реннишоу. Джулия понимающе кивнула. Маргарет поджала губы. — Так легче заканчивать жизнь, без ничего, верно? Но с Эдди у нас все хорошо. Мы вместе уже много лет. — У тебя больше не было детей? — спросила Джулия, чтобы поставить точку в этой истории. Маргарет отрицательно покачала головой. — Я думаю, для любой женщины четверо детей — более чем достаточно. Джулия отметила про себя, что она включила в это число и ее. Она спросила о своих сводных брате и сестрах. Обе девушки были уже замужем и уехали со своими мужьями, одна — на север, другая — в Плимут. Марк тоже женат, но живет по-прежнему в Эссексе. Джулия вспомнила, что его фамилия значилась в списке избирателей. — Марк хороший сын, — сказала Маргарет. — Он сейчас работает слесарем. Было ясно, что Марк был любимым ребенком. Джулия приняла и это, так как знала, что должна принять все об этой семье, которая и не была ее семьей. У Маргарет уже семь внуков. Неудивительно, что она не выказала никакого интереса к восьмой, незнакомой ей внучке — Лили. Джулия вспомнила слова дочери: «У меня уже есть бабушки», и ее охватила волна любви к Лили. — Ну вот и все, — закончила Маргарет. В ее голосе уже не было мягкости. — Извини, что во мне нет ничего такого, чем ты могла бы гордиться. Ты, конечно, ожидала лучшего. И опять у Джулии появилось такое чувство, как будто она пришла с неприятным для Маргарет визитом от муниципального управления. — Я ничего не ожидала. Я ведь тоже не оправдала твоих надежд, верно? Ее прямота, казалось, понравилась Маргарет. — Я не имела права возлагать на тебя какие-нибудь надежды. — Она опустила голову. Их кофе давно остыл — они беседовали уже почти два часа. Еле слышно Маргарет добавила: — Я рада, что ты приехала. И благодарна тебе за это. Должно быть, тебе это было нелегко. Джулия окинула взглядом голую неприветливую комнату. Ей хотелось поскорей выбраться отсюда. Эти шоколадные пирожные на безвкусном желтом блюде выглядели невыносимо сиротливо. Джулия резко поднялась, подошла к матери и положила ей руку на плечо. Маргарет подняла глаза. И тогда Джулия неуклюже склонилась и обняла ее. Их щеки соприкоснулись. — Я рада, что нашла тебя, — шепнула она. — Мы не должны больше терять друг друга. Но в этот самый момент Джулия поняла, что связь между ними никогда не будет прочной. Она не будет жизненно важной, как ее связь с Лили. Их знакомство, эти жалкие бисквиты и холодный кофе, это неуклюжее объятие, вся эта история… Больше не будет грез, ничего — ни удовольствия, ни сладкой боли воображения, потому что правда была здесь. Джулия знала, что через какое-то время она встретится с Эдди Дэвисом и будет представлена Марку и его сестрам. Объявление о ее существовании вызовет у них потрясение, но скоро они привыкнут. Последуют визиты на Динбэнк, как это делалось на Фэрмайл-роуд, возможно, вместе с Лили. Начнется обмен подарками на Рождество и в дни рождений, телефонные звонки по праздникам, как того требуют семейные обычаи. Во все те дни года, когда она мечтала о встрече со своей настоящей матерью и когда верила, что та страстно стремится к тому же. Все сравнялось, как это бывает в конце любой истории. То, что Джулия спокойно приняла это, указывало на ее возмужалость. Нельзя сказать, что она испытывала сожаление об ушедшей юности, когда опустилась на колени возле черного кресла из искусственной кожи, в котором сидела ее мать. Маргарет потрепала ее по плечу. Это было робкое прикосновение, как будто проявление любви давалось ей нелегко. Джулия кивнула и встала. — Пожалуй, мне нужно идти, — спокойно сказала она. Маргарет подняла на нее глаза, но не сделала никакого движения. — Спасибо, что пришла. — Она казалась утомленной. Внезапно Джулия тоже почувствовала усталость. У нее заныли кости. — Можно мне приехать как-нибудь еще? — Конечно, любовь моя. Она назвала ее так еще по телефону, Джулия это помнила. Это было обычным обращением барменши, не имевшим, конечно же, никакого личностного значения. Джесси употребляла то же выражение нежности, но звучало оно совсем иначе. «Если бы моей матерью была Джесси», — подумала Джулия с мимолетным сильным и горьким чувством, которое постаралась тут же подавить. Она сказала Маргарет, чтобы та не утруждала себя проводами. Обернувшись в дверях, она улыбнулась и тихо вышла из дому. Джулия шла обратно вдоль Динбэнк быстрым шагом, чтобы не вызвать кривотолков соседей и осуждения Маргарет. Пока она шла, чувство усталости прошло. Она выпрямилась, подняла голову, расправила плечи и почувствовала себя легко и свободно. Прохожие смотрели на нее, и она знала, что это потому, что она улыбалась. Пришло чувство облегчения. Теперь она знала правду, и это прибавляло что-то новое к ощущению свободы. Эта правда не была сопряжена ни с трагедией, ни с чудом, она была обыкновенной, как сама жизнь. И такой же драгоценной, как жизнь. Джулия завернула за угол и оглянулась на дом матери. Теперь она отчетливо представляла его, уже без таинственного покрова, вызывающего страх. Очертания его были необыкновенно четкими — как будто летняя гроза промыла пыльный воздух. Джулия еще раз оглянулась и почти побежала к тому месту, где ее ждал Александр. Он сидел в машине и читал, но как только увидел Джулию, сразу отложил книгу в сторону. Джулия скользнула на сиденье рядом с ним. Взглянув на его лицо, она снова почувствовала прилив нежности. Ее лицо было открыто как сама истина, и она робко подставила ему губы. Она знала также, что если он оттолкнет ее сейчас, то все будет кончено. Александр наклонился и прижался ртом к ее губам. И сразу все стало ясно. Некоторое время спустя они заметили проезжающие мимо автомобили, закрепили ремни, и Александр включил зажигание. Солнечные лучи плясали на металлических ободках машины и отражались в их сиявших счастьем глазах. Глядя друг на друга, они вдруг увидели все так же ясно, как Джулия внезапно увидела Динбэнк — без налета глупой романтики, но со всем накопившимся наростом горечи и разочарований. У них вновь появился шанс, и они обладали уже достаточным опытом и мудростью, чтобы не упустить его. — Расскажи, что там произошло, — попросил Александр. Пока они ехали без всякой цели, Джулия рассказала про свою мать, дом на Динбэнк и всю историю своего рождения. — И что ты чувствуешь? — спросил он. Джулию радовало такое теплое участие. — Я почувствовала себя свободной, — ответила она. Она рассказала ему о замкнутом круге, который, казалось, привел ее обратно к тому месту, откуда она начинала с Мэтти, и о том, что приняла неприглядную правду как должное, потому что понимает, что не может ее изменить. — Я свободна, — сказала Джулия. — Но на это ушло много времени, не так ли? Александр остановил машину. Он осторожно поставил ее у края дороги. Джулия терпеливо ждала, когда он повернется к ней. — Я хочу, чтобы ты вернулась ко мне, — сказал Александр. Джулия не стала колебаться. Ее лицо расцвело в улыбке, которой Александр никогда раньше не видел. — Я могу вернуться, если ты меня примешь, — сказала она. — Ведь я могу себе это позволить, я же свободна? Он обнял ее и поцеловал; проходившие мимо школьницы заглянули в окошко и, тихонько постучав, засмеялись при виде такой страсти у уже немолодых людей. Джулия вдруг увидела, что они припарковались возле большого парка, благоухающего весенней зеленью. — Давай прогуляемся под деревьями. Выйдя из машины, они прошли через высокие резные чугунные ворота. Они брели по земляным дорожкам между платановых деревьев, пересекли широкие, покрытые травой лужайки и вышли к озеру, окаймленному плакучими ивами. Александр взял руку Джулии и вместе со своей опустил в карман пальто. Они сели на скамейку, тихонько беседуя и глядя на неподвижных рыболовов и уток, оставлявших за собой волнистую рябь. Они понимали, что за прошедшие годы в их отношениях возникла пустота, которую нужно заполнить. Сейчас они говорили лишь о мелочах, оставляя главное на потом. Когда холодный ветер согнал их с места, Александр обнял Джулию за плечи, и они пошли, шагая в ногу и соприкасаясь бедрами. Когда они проходили мимо клумбы с алыми тюльпанами, Джулия вспомнила о насыщенных ароматах монтебелльского парка. Она все еще любила его, но уже не смогла бы поменять на самое прекрасное место в мире — на однообразие лондонского парка. С восхищением глядя на тюльпаны, она улыбнулась. Казалось, их яркий цвет полыхал в воздухе. Он был такой же жаркий и жгучий, как и ее собственная кровь. Физическое влечение охватило Джулию, внезапное и острое. Александр видел это и испытывал то же самое. Они вышли из парка и поехали. Квартира в Кенсингтоне приветливо встретила их как надежное убежище. Джулия и Александр заперли за собой парадную дверь, смеясь и трепеща от того, что случилось. Эта квартира не была связана с воспоминаниями. Они понимали, что заключили соглашение и пришли сюда, чтобы провести время вместе. Александр видел, как пылали щеки Джулии и яркий свет отражался в ее раскосых глазах, обращенных к нему. Смех утих, уступив место безудержной жажде, он привлек ее к себе. Она была гибкой как тростник, тоньше и легче, чем та Джулия, которую он помнил. Ее тело было горячим и вызывало у него желание. Однако Джулия отпрянула, удерживая его на вытянутых руках. Александр знал, что после всего будет очередное препятствие. — Нет, — сказал он. — Не сейчас. — Послушай. Я хотела сказать тебе, что всегда ошибалась. Я была эгоисткой и всегда ставила свое «я» на первое место, вместо того, чтобы больше узнать о тебе и Лили. Я никогда ничего не сделала для тебя, правда? Ничего. И стыжусь этого, Александр. Я виновата в том пожаре и в том, чем занималась с Джошем Фладом, а также в том, что пыталась увезти Лили из Леди-Хилла. Если я смогу исправить это, я это сделаю. — А я ожидал, что ты будешь любить мой дом так же сильно, как и меня. Я знаю, что ты любила меня, Джулия. — Я и сейчас люблю. Джулия казалась сейчас очень нежной. Он любил эту нежность, она была в ней всегда. Раньше он упивался своим правом требовать этого. — Я тоже ошибался. Джулия убрала руки. — Нет, — эхом отозвалась она. — Не сейчас. Они пошли в спальню и легли вместе. Джулия боялась, что ее тело забыло ласки. Она привыкла пользоваться им, а не получать и давать наслаждение. Но все забытое вернулось к ней с большей живостью. Ответ Александра лишь удваивал эти силы, и для них музыка прежнего узнавания звучала еще более восхитительно, чем познание новизны. Потом они лежали в тихой комнате вместе, глядя друг на друга и отмечая следы прожитых лет. Им не нужны были слова. На улице стемнело, быстрые и загадочные весенние сумерки медленно переходили в ночь. Джулия посмотрела на свои ручные часы. Было почти девять часов. — Я должна позвонить Мэтти, — сказала она. Александр с наслаждением зевнул. — А я приготовлю что-нибудь выпить, — предложил он. И, пошатываясь, направился в кухню. Джулия набрала телефон Коппинза. Мэтти сидела на постели. Она не знала, как долго сидит, но руки и ноги были негнущимися и тяжелыми. Должно быть, прошло много времени. Она, хмурясь, посмотрела вниз и увидела пустую бутылку, валявшуюся среди складок смятого покрывала. Когда зазвонил телефон, Мэтти вспомнила, что стояла у окна, глядя, как ветер раскачивает деревья. Она ненавидела ветер. Она задернула шторы, чтобы не видеть непогоды, но все же слышала, как ветер стучит по крыше. — Мэтти? — Да. — Мэтти? — Я слушаю. — Ее голос звучал невнятно. Даже в ее собственных ушах он прозвучал хрипло, как будто она давно не разговаривала вслух. — С тобой все в порядке? Порыв ветра был такой сильный, что она едва могла расслышать, что говорит Джулия. Интересно, когда она звонила в последний раз? Неужели это было этим утром? С тех пор прошла уйма времени, но она не имела представления, чем занималась до сих пор. — Который час? — Девять, — ответила Джулия своим ясным голосом. — Мэтти, ты опять чуточку выпила? Тебя плохо слышно. У тебя есть какая-нибудь еда? — Это в девять-то часов вечера? — Конечно. Послушай, миссис Гоппер с тобой? Можно мне с ней поговорить? — Я плохо тебя слышу. У вас тоже ветер? — Да. — Ветер гнул ветви ив и качал тюльпаны в саду. — Здесь такой сильный ветер, — тихо сказала Мэтти. Но она была рада, что это действительно так. Она уже стала побаиваться, что ветер шумит только у нее в голове. Теперь, казалось, он готов был ворваться к ней в спальню, от него качались тяжелые шторы на окнах. Мэтти отвернулась от окна, сгорбившись. — Миссис Гоппер пошла в деревню поиграть в вист. Я в порядке. Собираюсь сейчас пообедать. С подносом, у телевизора. Там идет какая-то пьеса, которую я хочу посмотреть. — Они любили так обедать, когда был Митч. Мэтти сочинила кое-какие мелочи специально для Джулии, как будто эти подробности могли успокоить ее. — Ну что ж, звучит обнадеживающе. В какое время будет пьеса? Я хочу приехать, чтобы посмотреть с тобой. Мэтти огляделась вокруг. Она не знала, что идет по телевизору, так как не смотрела программу уже много дней. Опустив глаза, она опять увидела следы пролитого виски на своей одежде. Вторжение Джулии пугало ее. Даже Джулия была здесь чужой, она была по ту сторону занавесей, которые не могли скрыть от нее ветра. Джулия увидит эти следы виски, хотя и так уже тяжело переносить подозрительные взгляды миссис Гоппер. Мэтти лукаво усмехнулась. — Нет, не беспокойся напрасно. Пьеса успеет окончиться до того, как ты приедешь. Разговаривая, она уловила, что беспокойство Джулии стало ослабевать. Мэтти почувствовала что-то вроде раскаяния, как будто она упускает жизненно важный шанс. Но она не хотела видеть здесь Джулию. Она постарается держать их всех на расстоянии, потому что тогда боль не так ужасна. Сидя на постели и прислушиваясь к возне Александра на кухне, Джулия сделала последнюю попытку. — Мэтт, здесь Александр. Не прислать ли его к тебе? — Что? О, не беспокойся. Я пропущу из-за тебя начало спектакля. Передай ему мой привет, ладно? — Хорошо. Конечно, передам. А он шлет тебе свой. Невидящим взглядом Мэтти смотрела на смятое атласное покрывало, и внезапно бурный поток слез поднялся внутри нее и застлал глаза. — Спокойной ночи, Мэтт. Я позвоню утром. — Спокойной ночи. Спасибо, что позвонила. — Спи спокойно. Мэтти разжала пальцы и положила трубку, затем сбросила аппарат на пол. Он упал на ковер, издав приглушенное бормотанье, а порыв ветра заглушил остальные звуки. По лицу Мэтти текли слезы. Она качала головой из стороны в сторону, не в силах даже смахнуть их с подбородка. Ветер насмехался над ней, и она ничего больше не хотела, только уснуть. Она почти не спала прошлой ночью, а в те моменты, когда погружалась в короткую дрему, ей снился Митч, лежащий в холодном стальном ящике, а потом он виделся ей под землей, на кладбище, где завывал ветер. Мэтти с трудом поднялась на ноги. Нужно выпить чего-нибудь. В свою роскошную спальню она принесла еще одну бутылку, которая лежала под полотенцами в комоде для белья, и отвинтила пробку. Затем взяла коричневый флакон со снотворным и проглотила одну таблетку, сделав один большой глоток виски, потом другой. «Если бы я только могла уснуть, — думала она. — Если бы только я могла уснуть и не видеть больше никаких снов…» Спустя какое-то время Мэтти спустилась вниз. Она знала, что нужно что-нибудь поесть. Неловко двигаясь по кухне, задевая и роняя на пол предметы, она нашла хлеб, отломила несколько толстых кусков, положила на поднос и понесла в комнату, где стоял телевизор. Усевшись перед пустым экраном, она стала медленно жевать сухой хлеб, с трудом проглатывая его. Она не думала об ужинах, которые были у них с Митчем, когда каждый держал поднос на коленях и они так уютно и дружески покачивались. Ее внимание было сосредоточено на проглатывании хлеба, кусок за куском. Покончив с хлебом, она встала. Поднос и тарелки соскользнули на пол. Ноги начали подкашиваться, но она, медленно и осторожно ступая, поднялась по лестнице в спальню. Там она легла поперек кровати и закрыла глаза. Наконец-то ветер затих… (обратно)
Глава двадцать седьмая
Стояли первые сентябрьские дни, но было жарко, как в середине лета. Казалось, будто от земли и от камней пышет жаром, как от раскаленной печи. Но световая гамма сильно изменилась, и рассеянные короткие тени напоминали об осени, за которой последует недолгая итальянская зима. Джулия стояла на нижней террасе парка, облокотившись спиной о каменную балюстраду, отгораживающую пешеходную дорожку от крутого спуска к морю. Внизу плескались неугомонные волны, отороченные белой и золотистой бахромой пены, а прямо перед ней величественные террасы поднимались к самым стенам замка. Джулия бездумно обводила взглядом их строгие контуры. Ей было знакомо каждое лимонное деревце в глиняных сосудах, каждая статуя и каждая ступенька. Она знала каждую беседку, увитую виноградной лозой и жасмином, и различала монотонное журчание фонтанов. Она знала и любила все это и гордилась, как своим детищем, но собиралась покинуть это место навсегда. Вчера Николо Галли сказал ей, что она должна ехать домой, пока еще не поздно. И она вышла в парк в последний раз подышать его насыщенными ароматами и поразмышлять, но оказалось, что в этом не было никакой необходимости. Джулия уже знала, что ей делать. Она чувствовала, что после месяца горестных раздумий может снова думать о будущем. Мэтти умерла. Она умерла в одиночестве в ту самую ночь, когда Александр и Джулия прекрасно провели время в кенсингтонской квартире. Нашла ее домоправительница и своим звонком разбудила Джулию, спавшую в объятиях Александра. Они тотчас помчались в Коппинз, но уже ничего не могли сделать, кроме организации похорон на кладбище в Уитби. Теперь над ней все время проносились ветры с Северного моря. Им пришлось вскрыть могилу Митча, чтобы положить Мэтти рядом с ним. Небольшая тесная кучка друзей сгрудилась вокруг могилы: Джулия с Александром и Лили, Феликс и братья и сестры Мэтти. Лили рыдала взахлеб, как малое дитя. Джулия молча смотрела прямо перед собой широко открытыми и потемневшими от горя глазами. Потом они медленно побрели прочь, не в состоянии поверить, что навсегда оставили яркую красоту Мэтти на этом уединенном пятачке земли. Джулия съехала с квартиры в Кенсингтоне и, вернув ключи фирме «Трессидер и Лемойн», возвратилась в Коппинз. Она оставалась в этом большом безлюдном доме, бродя как некий дух по мрачным, печальным комнатам, пока все имущество Мэтти не было уложено и вывезено. Мебель и репродукции известных произведений живописи, а также лампы под абажурами с бахромой были частично проданы, частично розданы, после чего и сам дом был выставлен на продажу. Пока не закончились печальные ритуалы, в душе Джулии не было места для Александра, несмотря на возникшие надежды на их совместную счастливую жизнь. Когда все это осталось позади, Джулия улетела обратно, в незатейливые будни Монтебелле. Монахини приветливо встретили ее, но Томазо выразил удивление, а Николо просто оторопел. И впервые Монтебелле не оказало на Джулию своего целительного действия. Она бродила туда-сюда по своему удивительному парку и вверх-вниз по булыжным мостовым крутых улочек, не в силах избавиться от мыслей о Мэтти. Она видела ее во сне, разговаривала с ней и плакала, не находя ответов на свои вопросы. Она не смогла разгадать тайну смерти Мэтти. Никто так и не узнал, сознательно ли она ушла из жизни или это была роковая случайность. Все лето Джулия прожила в Монтебелле, предаваясь воспоминаниям об их дружбе и как бы отдавая этим дань ушедшей подруге…Она возвратилась домой спустя годы, чтобы связать порвавшуюся между ними нить, которая тянулась обратно, к ненавистной Блик-роуд. Она пыталась вспомнить, по возможности честно, каждый миг того страшного времени, потому что не хотела, чтобы тень вины тяжким бременем лежала у нее на душе. Бывали такие моменты, когда они пренебрегали друг другом, и такие, когда они бывали более чем щедры в своих чувствах. Джулия мысленно обозревала все это. Даже в самые тяжелые моменты ее жизни она не покинула Мэтти. Она сделала все возможное, но этого оказалось недостаточно, и Мэтти ушла… После всего, что они пережили вместе, оставалась дружба, проверенная временем. Это была крепкая дружба, из которой они черпали жизненные силы. Они были друг для друга и матерью, и дочерью, и подругой. От этой утраты Джулия чувствовала себя более осиротевшей, чем при мыслях о потере Маргарет Холл или Бетти. В первые после случившегося месяцы, когда прогулки по парку или в тени замка, казалось, были наполнены Мэтти, Джулия поняла, что их дружба остается. Мэтти все еще была с ней и навсегда с ней останется, пусть даже самой подруги уже нет. Джулия почувствовала, как силы возвращаются к ней. Еще до того, как Николо предостерег ее, она поняла, что настало время покинуть этот приют и возвратиться в мир. У Николо обнаружилась болезнь легких, которая не поддавалась лечению. Сестры-монахини сделали со своей стороны все возможное по уходу за ним, но в итоге его пришлось отвезти в большой госпиталь в Салерно. Всего несколько месяцев назад каждая клетка его организма оказывала сопротивление болезни, но он был уже стариком. — Не смей хоронить себя здесь, — предостерег он Джулию. — Сейчас же поезжай домой, к Александру и Лили, иначе будет поздно. Джулия присела у его постели. — Я знаю, — сказала она. — И я уеду, мой старый добрый друг. Ей нужно было возвращаться, чтобы заняться памятником для Мэтти. Это важно было сделать. И теперь, стоя в парке под припекающим солнцем, Джулия поняла, что больше нечего обдумывать. Она достаточно занималась этим во время своего добровольного изгнания. Она не осталась в долгу перед Мэтти. Мэтти и Митч умерли, но ее собственные возможности еще не были исчерпаны. Долги были связаны только с живыми, и в основном с Александром. Если она до этого ничего не сделала лично для него, решила Джулия, то должна сделать это сейчас. Она оставит свой чудный парк монахиням и их пациентам на попечение Томазо. Она покинет место, где чувствовала себя защищенной и жила простой примитивной жизнью, ограничивая свои потребности и довольствуясь малым. А сейчас она стала достаточно сильной, чтобы вернуться к Александру в Леди-Хилл. Если он все еще любит ее, она будет там жить ради него. Джулия обошла всех и попрощалась. Это заняло совсем немного времени. Николо сжал ей руку своей худой высохшей рукой. — Ты поступаешь правильно, — сказал он ей. — Наконец-то, — улыбаясь добавила Джулия. Она поцеловала его в лоб и вышла из палаты не оглядываясь. В последний вечер она побродила с Томазо по зимнему саду, а затем они вышли на верхнюю террасу. Воздух был так тих, что можно было услышать шепот моря, а аромат цветов еще больше сгущался в неподвижном воздухе. Джулия старалась вобрать в себя всю красоту и величие того, что она покидала. — Мне кажется, вы будете скучать по своему парку, — заметил Томазо. — Он не мой, — ответила Джулия. — И ты здесь для того, чтобы ухаживать за ним. Я всегда буду знать, что ты здесь. «Как и память о Мэтти. Как и наша дружба с ней». Ведь они не перестанут существовать, как и парк, только потому, что здесь не будет Джулии. Джулия и Томазо спустились по ступенькам и облокотились о нагретый каменный парапет, чтобы посмотреть на море, а затем опять поднялись к замку. Монахини собрались у ворот проводить ее. С ними прибежали дети и небольшая группа постояльцев. Мать-настоятельница поцеловала ее в обе щеки. — Да пребудет с вами Господь! — Спасибо, мать-настоятельница. Уже сидя в такси и глядя в задние стекла, когда машина неслась с горы вниз, Джулия видела, как белые накрахмаленные чепцы монахинь мелькают по парку, словно большие бабочки.
Александр и Лили встречали Джулию в аэропорту. Она видела только их, как будто в зале ожидания, кроме них, никого не было. Лили радостно закричала: — Мамочка! Мамочка! Добро пожаловать домой! Мы уже думали, что ты никогда не приедешь. Александр стоял у нее за спиной. Он не изменился. Джулии даже показалось, что он выглядел точно так же, как в те времена, когда они впервые встретились. Даже старая, поношенная одежда, возможно, была еще из тех времен. Он сделал несколько шагов вперед и взял ее рукой за подбородок, чтобы лучше видеть лицо. Их глаза встретились, и они улыбнулись друг другу. Сидя в машине Александра, в знакомой обстановке пыльных улиц, Джулия спросила: — Куда мы едем? — Мы с Лили сняли квартиру в Фулеме, — ответил Александр. — Вполне приличную. Мы останавливаемся в ней, когда бываем в Лондоне. — На нейтральной территории, — тихо сказала Джулия. — Именно, — согласился он. Оба они все еще считали, что Леди-Хилл не является такой территорией. Они достигли Чизвикской эстакады. Джулия смотрела на нагромождение зданий и поток машин, залитых солнечным светом. Монтебелле уже казалось где-то далеко позади, но она не сожалела об этом. Повернув голову, она взглянула на Александра, и сразу все ее существо наполнилось любовью к нему. — Знаешь, о чем я думала в самолете? — О чем же? — Я думала о том, что мы должны устроить вечер в память Мэтти. Не мрачную церемонию типа поминальной службы, а как в прежние времена — шумное веселое сборище. К ее удивлению, Александр с готовностью подхватил эту идею. — Да. И я знаю даже, где это должно быть. Единственно возможное место — клуб «Ночная фиалка». Сейчас он переделан в бар, но там внизу есть маленький танцевальный зал. Лили всунула голову между ними, обхватив руками спинки их сидений. — Вечеринка, — нараспев сказала она. — Восхитительная вечеринка. Позже они сидели в квартире втроем и Александр обнимал Джулию за плечи, ее голова покоилась у него на плече. — Я не могла раньше прилететь домой, — говорила Джулия, — сразу после смерти Мэтти. Я не представляла, как мы могли начать свою жизнь, пока между нами были тени прошлого. — Я знаю, — ответил Александр. — Я понял, почему ты уехала. Это было частью того, что тебя сдерживало. Мы не смогли бы быть счастливы после смерти Мэтти. Ведь ты так считала? Наконец-то он понял это. Он понял внутреннее состояние Джулии. — Ты ведь тоже потерял ее. — Да, я тоже потерял ее. Я тоже любил ее. С чувством облегчения Джулия поняла, что между ними не осталось никакого горького осадка из-за прежних привязанностей. — Джулия, ты приехала, чтобы остаться? — Если ты меня примешь. В ответ он лишь крепче прижал ее к себе.
Феликс, в утреннем халате, стоял у одной высокой стены, выходящей на Итон-сквер. Уже несколько недель шли дожди, но сейчас появились приметы бабьего лета. Часть неба уже очистилась от туч, и лучи солнца просвечивали сквозь набрякшие листья деревьев, отбрасывавших длинные тени, столь характерные для осени. Феликс вспоминал былые дни, проведенные с Джулией и Мэтти, и другую квартиру с видом из окна на лондонские платаны. Сначала тайна девушек отдаляла их от него, но все же они трое тянулись друг к другу, пока он не полюбил их обеих. Все эти годы он хранил рисованные с них наброски. Но в апреле, после телефонного звонка Джулии, когда она сообщила ему эту невероятную новость, он подошел к столу и вытащил папку. На первом рисунке подруги были изображены развалившимися на постели Мэтти. Мэтти читала журнал, а Джулия —толстенный роман. Первая лежала в свободной позе с оголенными бедрами, а рядом с ней — Джулия, темноволосая и с сердитым взглядом, с острыми выступающими из-под тонкой кожи костями. Глядя теперь на свою работу. Феликс понял, что неосознанно, по-мужски тянулся к ней. И он видел, что они были всего лишь детьми, старавшимися изображать испорченных девчонок. Этот рисунок был сделал двадцать два года назад, но оказалось, что он все еще помнит их реакцию на него. — Не очень-то красивыми ты нас изобразил, — обиделась тогда Джулия. А он сказал им, что у них есть нечто большее, чем красота, — стиль. И этот стиль они сохранили обе, каждая свой собственный, независимо от тех перипетий, которые им преподнесла судьба. Он вытащил второй рисунок и стал внимательно его рассматривать. На нем они были втроем: Мэтти, Джулия и Джош. Они слушали «Рок вокруг часов». Это было так давно, что даже эта мелодия уже казалась невинной чепухой. Феликсу нравился этот рисунок. Одно время он висел у него над каминной полкой. С того мрачного апрельского дня он часто открывал папку и доставал эти рисунки. Но в это утро, в желтоватом свете начинающейся осени, он подошел к своему рабочему столу и лишь прикоснулся к папке, а затем вышел из комнаты. Он даже не повернул головы, чтобы взглянуть на хрусталь Джорджа или на современные картины и прочие стоявшие повсюду старые и новые вещи. После прихода Вильяма исчезла старомодная опрятность, и в квартире теперь царил беспорядок. Он оставлял открытыми книги и журналы на мраморных консолях, а сам валялся, задрав ноги, на диванах, обтянутых бледным шелком. Он выгружал из своих карманов содержимое и запихивал его в драгоценные вазы, оставлял кофейные чашки, эскизы и сброшенные туфли где только мог. Придя на кухню, Феликс приготовил чай, сервировал поднос и направился с ним в спальню. Вильям приоткрыл глаза и зевнул. Опустив поднос возле постели, Феликс отдернул занавеси, чтобы впустить солнечный свет. Приподнявшийся было Вильям опять откинулся на подушки. Он всегда был соней, и по утрам ему требовалось длительное время на пробуждение. Обычно Феликс подавал чай в постель, и Вильям был благодарен ему за это. Выражение благодарности — одна из самых привлекательных черт характера Вильяма, он благодарил даже за самые пустячные мелочи, которые делались для него. В этом было его особое очарование. Они жили вместе уже полгода, и Феликс открывал в нем для себя все новые достоинства. Налив чашку чая, Феликс подал ее Вильяму. Тот жадно выпил чай. Он лежал, закинув руки за голову. Густые темные волосы вились у него под мышками и на груди. Феликс положил ладонь на его теплую грудь, ощущая под пальцами упругие холмики мышц. Они дружески улыбались друг другу. — В какое время нам нужно там быть? — спросил Вильям. Лицо Феликса стало грустным. — В одиннадцать часов. Я пойду приму душ. Потом он вернулся, неся в руках темно-серый костюм на плечиках. — Но ведь это торжество, — мягко напомнил ему Вильям, — а не похороны. — Я знаю, что не похороны, — ответил Феликс. В этот день служили поминальную мессу по Мэтти. А вечером в клубе «Ночная фиалка» устраивался вечер, посвященный ей. Потрясение и отчаяние, которые друзья пережили на похоронах, уже притупились, так что можно было устроить этот праздник. Феликс опять повесил темный костюм на вешалку и достал кремовый. Засунув голубой шелковый носовой платок в нагрудный карман, он надел голубую рубашку в тон. Рядом с ним Вильям, встряхивая плечами, надевал голубой с белым летний полосатый жакет. Затем они вышли и, перейдя площадь в своих светлых, ярких одеждах, сели в белый автомобиль Феликса, припаркованный под деревьями напротив, и помчались по лондонским улицам. Актерская церковь в Конвент Гарден была уже почти заполнена людьми. Феликс и Вильям на какой-то момент задержались при входе, привыкая к сумраку после яркого света улицы и вдыхая типичные церковные запахи. Затем они прошли к своим местам в переднем ряду. Минуту спустя на место рядом с Феликсом легко скользнула Джулия. На ней была маленькая шляпка с вуалью, что напомнило ему почему-то, хотя и не к месту, Джесси. Они поцеловались, и Джулия протянула руку Вильяму. Ее пальцы и тонкая кисть руки были коричневыми от итальянского загара. Рядом с Джулией была Лили. За ней подошел Александр, улыбаясь Феликсу поверх голов женщин. Все наклонили головы, чувствуя неловкость от непривычки стоять в строгом, чинном ряду со сложенными руками, так как не были постоянными посетителями церкви, за исключением Александра, который привык к подобным церемониям в ледихилльском пасторате. Джулия представила, как посмеивалась бы Мэтти и как бы перешептывалась с ней, прикрывшись молитвенником, а Джулия чувствовала бы привычный запах ее духов «Коти» с легкой примесью сигаретного дыма. Она закрыла глаза, удерживая в себе это воспоминание. Служба проходила в форме чтений из тех книг, которые Мэтти больше всего любила. Рикки Бэннер, Крис Фредерикс и Тони Дрейк читали по очереди, а продюсер одного из фильмов, бывший на протяжении долгого времени неизменным поклонником Мэтти, сделал короткое обращение. Затем пропели двадцать третий псалом, а потом гимн «Тот, кто будет достоин». Гимн выбрала сама Джулия. Они с Мэтти пели его когда-то вместе на Блик-роуд, две маленькие девочки, которые, прикрывшись листками с текстом, исподтишка толкали друг друга. Потом, когда пели «Пилигрима», Джулия словно вновь увидела окружавших ее людей: Джона Дугласа и мерзкого старого Фрэнсиса Виллоубая, Джимми Проффита и другие лица, знакомые по фильмам и театру. Она вспомнила некоторых женщин из театральной студии Мэтти и среди прочих, с которыми она не была знакома. — Дорис и Аду и двух женщин среднего возраста, которые когда-то вместе с Мэтти работали в клубе Монти. Все они пришли сюда, чтобы помянуть Мэтти, хотя в таких чинных ритуалах не было настоящих, живых воспоминаний о ней. Джулия не могла вспомнить, чтобы Мэтти высказывала восхищение шекспировским сонетом, который так трогательно читала Крис Фредерикс. Все это было сделано лишь для того, чтобы собравшиеся здесь друзья Мэтти чувствовали, что они сделали для нее то, что было нужно, только ни один из них не мог сделать этого в нужный момент. Все они любили Мэтти. Она обладала особым даром внушать любовь, но этого оказалось недостаточно для ее собственного спасения. С болью в сердце Джулия отвернулась, стараясь сбросить с себя тяжелые воспоминания. За прошедшее лето она поняла, что это чувство было бесполезным и разрушительным, но все же она не могла избавиться от мысли, что Мэтти любила ее больше всех этих людей, а она не смогла оказаться рядом с ней в критическую минуту. Если бы только она поехала в Коппинз той ночью, вместо того, чтобы спать в объятиях Александра! Если бы… Но в этом слове не было ни утешения, ни смысла. Стоя в переполненной церкви и слушая гимн их школьных лет, Джулия заново переживала утрату. Мэтти ушла, и какие бы почести ей ни воздавались, она ни единым звуком не откликнется на них. Запели последний стих. Присутствовавшие уже подумывали о чашечке кофе, глотке спиртного и ланче и об оживленной суете за дверями церкви. Голоса зазвучали бодрее. Среди других голосов Джулия различала хорошо поставленный тенор Александра и сопрано Лили. По другую сторону от нее, низко опустив голову, стоял Феликс, а Вильям распевал, задрав вверх подбородок, с гордостью демонстрируя свою прекрасную память. И вдруг, взглянув в противоположном направлении, куда через одно церковное окно падал свет, Джулия увидела белокурую голову Джоша. Он пел, стоя среди группы людей из агентства, в которое приглашали Мэтти, чтобы рекламировать дезодоранты. Джулия слегка покачала головой и перевела взгляд на листок с гимнами. Но она опять взглянула в том же направлении. Он все еще был там. Удивившись, Джулия приняла неизбежность их встречи. Джош всегда появлялся и исчезал с почти театральной неожиданностью. Когда-то это причиняло ей острую боль. Джош тоже по-своему любил Мэтти. Он появился здесь, чтобы почтить ее, ставшую воспоминанием. В этом не было ничего удивительного, но Джулия почувствовала, как ее сердце забилось в груди. Проследив за взглядом матери, Лили тоже посмотрела в ту сторону. В этот момент поминальная служба закончилась. Все опустились на колени, шурша юбками, чтобы принять благословение священника. Под заключительные звуки органа все поднялись на ноги и столпились у выхода. Начались приветствия, рукопожатия, а на улице, освещенной солнечным светом, слышались звуки поцелуев и даже звонкий смех. Толпа была похожа на прихожан, которые собрались на мрачное венчание, но затем оживились, предвкушая возможность выпить шампанского и посплетничать. Каждый ощущал восхитительное чувство своего бытия и расправлял плечи, наслаждаясь ярким солнечным днем. Но Джулия даже после лета, проведенного в Монтебелле наедине со своими воспоминаниями, все еще оплакивала Мэтти. Она поняла, что боль утраты останется с ней навсегда. Но сейчас, выйдя из церкви тесной толпой, приятели и коллеги, подруги, Джулия — все почувствовали облегчение. Да, Мэтти и Митч умерли, но жизнь продолжается, а ее собственные возможности еще не реализованы. По лицу Джулии блуждала неопределенная улыбка, а глаза загадочно блестели из-под вуалетки. Вдруг кто-то преградил ей путь, отрезав от толпы. Она подняла глаза и увидела Джоша. Слегка приподняв вуалетку, она подставила ему лицо, и он поцеловал уголки ее губ коротким дружеским поцелуем. — Джош, что ты здесь делаешь? Он был таким же, как прежде, только в его волосах уже появились серебряные нити. Она вспомнила, что именно она любила в нем, и безнадежно. — Я был в Англии. И конечно же, узнал о смерти Мэтти. Прими мои соболезнования. — Он весьма официально выразил свое сочувствие, и Джулия кивнула. — Я увидел в газете заметку о поминовении и захотел прийти. Гарри Гильберт, если ты его помнишь, тоже хотел прийти, но он сейчас в госпитале. С ним худо. Он смотрел все фильмы с участием Мэтти, хотя не думаю, чтобы он когда-нибудь признался мне, почему. Он даже приезжал раз или два посмотреть на нее в Вест-Энд. Джулия опять кивнула, вспомнив об идее Гарри Гильберта писать с Мэтти икону. Но сегодня это не казалось странным или нелепым. — Я не знал, где тебя найти, — сказал Джош, — но подумал, что сегодня утром ты будешь здесь. Она подняла на него глаза. — Неужели ты все еще хотел найти меня, после всего? — Хотел. Она вспомнила дух одиночества в его горной хижине, промелькнули фрагменты их встреч. Но ничего не изменилось за двадцать лет. Джош был все такой же притягательный. Джулия прикоснулась рукой к его локтю. — Посмотри, — сказала она, — это Лили. Ты бы догадался, что это моя дочь? Лили была восхитительна своей способностью перевоплощаться. В этот день ее волосы были собраны в массивный узел. Кайма бледно-малинового льняного платья прикрывала колени, и она впервые надела жемчужные серьги матери. — Я бы не догадался, — ответил Джош. — Но теперь вижу сходство. — По-дружески разглядывая Лили, он протянул ей руку. Она подала свою, и они обменялись рукопожатием. — Вы — летчик, — сказала она, глядя на него широко открытыми глазами. — Ваша мать и Мэтти называли меня так много лет тому назад. А Александр называл его «герой твоих бульварных романов». — Джош, а вот и Феликс. А это его лучший друг, Вильям Паджет. Последовали рукопожатия, сопровождаемые добродушными приветствиями друзей, молча сознающих свое счастье присутствия здесь и переживающих горькое сожаление о тех, кого уже нет. Джулия заслонилась рукой от солнца, которое било ей прямо в глаза. — А это Александр Блисс. Александр, это Джош Флад. Александр посмотрел на стройного загорелого мужчину с открытым, добродушно-насмешливым лицом. Он казался симпатичным, но Александр никогда бы не выделил его из толпы как героя. «Все совсем не так, — подумал он, — когда легенда обретает реальные формы». И все же Джулия оставила его ради этого мужчины… Упорное стремление и цепкость ее любви к нему вызывали чувство неловкости. Когда-то Александру так хотелось избить его. Но теперь у него к этому человеку не осталось ничего, кроме любопытства. Джулия наблюдала за ними. Он почувствовал ее беспокойство, и это было трогательно. Он любил ее и был теперь почти уверен в ответном чувстве. Появление Джоша лишь убедило его в том, что сейчас наконец он может ей верить. Он протянул руку Джошу. — Привет, Джош. Джош взял ее обеими руками и тепло потряс. — Рад познакомиться с вами, Александр. Так они стояли молча у церкви, а у их ног топтались и ворковали голуби. Они поговорили немного о церемонии, но ни звуком не обмолвились о Мэтти. Мало-помалу тема беседы иссякла, и все в нерешительности оглядывались, не зная, что делать дальше. Первым нашелся Феликс. — Не отправиться ли нам на ланч на Итон-сквер? Это будет маленькая вечеринка в тесном кругу друзей перед тем, как отправиться на общий вечер. Джулия улыбнулась ему. — Мэтти с удовольствием присоединилась бы к нам. — Да, я знаю, — тихо сказал Феликс. Джулия видела, что они оба вспомнили о том, что Мэтти любила прокуренные комнаты, наполненные стаканы, дружеский смех и маленькие тайны дружбы. Пальцы Александра коснулись Джулии. Они расселись по машинам и поехали в квартиру Феликса. Там, в уютной гостиной, Вильям налил вино в бокалы, и Джулия первой подняла свой. — За Мэтти, — решительно сказала она. — За Мэтти, — эхом отозвались остальные. Они пили вино и беседовали как старые друзья. Джош и Александр говорили о лыжных трассах и Конкорде. Джулия и Вильям — о живописи, а Феликс описывал Лили Париж — Лили осенью собиралась ехать в Париж, поработать там год и изучить французский язык. По ее настоянию Александр позволил ей бросить школу. Среди утонченного изящества гостиной Лили сияла юностью и красотой. Она смеялась, заражая своим смехом всех. Джулия видела, как в глазах Джоша разгорался огонек восхищения. Заметила она и спокойную гордость Александра своей дочерью. Солнце стало клониться к закату. Его длинные сверкающие лучи становились все уже и короче и вскоре исчезли во тьме совсем. Пора уже было отправляться в «Ночную фиалку». Феликс встал и подошел к рабочему столу. Развязав тесемки синей папки, он раскрыл ее и, взяв в каждую руку по рисунку, протянул один, где были нарисованы Джулия и Мэтти, Джулии, а другой — Джошу. Они приняли подарки, и Феликс сказал: — Я хранил их долгие годы, а теперь хочу передать вам. Как память. Джош протянул Лили свой рисунок, чтобы она посмотрела. Взглянув на него, она посмотрела на мать. — Как давно это было… — пробормотал Джош и улыбнулся Феликсу. — Мне очень нравится. Я помню, мы слушали тогда Билла Хейли. Джулия представила эту картинку приколотой к голой стене горной хижины или в казенной квартире в Вэйле. Она посмотрела на свой рисунок. Случись это несколько месяцев назад, она сложила бы этот лист и любовно упрятала в инкрустированную шкатулку Джорджа. Но теперь она старалась жить без помощи своего талисмана. Жизнь дана для того, чтобы жить, используя все ее возможности, а не покорно смиряться со случившимся, как это пыталась делать она. Она выбросила свидетельство о рождении Валери Холл, потому что оно уже было ни к чему, а книжку о Рапунцели поставила на полку в библиотеке замка. В шкатулке остались лишь два ее кольца. Если она права, если ей повезет, то она достанет их и наденет на пальцы. А потом — она опять начала покупать украшения — она будет хранить в этой шкатулке свои новые ожерелья и серьги. Она протянула рисунок Лили. — Возьми, Лили, — сказала она. — Когда Феликс делал этот рисунок, нам с Мэтти было столько же лет, сколько тебе сейчас. Мы тогда считали себя такими умными, скверные девчонки. — Зато вы стали достойными женщинами, — заметил Александр. — Обе.
Все вместе они отправились в винный погреб на вечер в честь Мэтти. Джулия отыскала своих и, проталкиваясь в толпе веселящихся людей, опять почувствовала себя в Лондоне как дома. Рикки привел с собой новый состав «Одуванчиков», за ними следовала небольшая группа почитателей. Все они по возрасту были ближе к Лили, чем к Мэтти и Джулии. Среди них были дети Роззи. А группу Бэннеров возглавляла сама Роззи с Мэрилин и Сэмом. Фил уже была замужем и уехала жить в Канаду. Мэтти не оставила никакого завещания, но большая часть денег Митча и ее собственное значительное состояние были поделены между пятью ее братьями и сестрами. Мэрилин бросилась на шею Джулии. Копна ее светлых волос так напоминала волосы Мэтти. — Я бы все на свете отдала, чтобы вернуть ее, — сказала она сквозь рыдания. — Знаю, — утешала ее Джулия, — как и каждый из нас. Она оглядела набитый людьми бар. Вокруг раздавался шум голосов и смех, мелькали наполненные бокалы. Было уютно находиться здесь с друзьями Мэтти, которые развлекались так, как когда-то сама Мэтти. «Они также и мои друзья», — подумала Джулия, ощущая невидимые связующие их нити. Она видела Рикки, беседовавшего с группой мужчин, когда-то игравших традиционный джаз в этом же самом баре, где Мэтти пыталась танцевать под их музыку всю ночь напролет. Был здесь и Томас Три с женой, сидевший в уголке вместе с Мэрилин и ее мужем, а также двое парней, теперь уже ставших мужьями и отцами семейств, которые однажды привезли Джонни Фловера в Леди-Хилл в тот трагический вечер празднования нового десятилетия. У одного из них, Джулия помнила это, были тогда длинные баки, она еще танцевала с ним конгу. Здесь был и Джимми Проффит, подпиравший стену и яростно споривший с Крис Фредерикс. Джимми недавно опубликовал свою автобиографию, где также описывалась история постановки пьесы «Еще один день» и блестящий успех в ней Мэтти. Джулия натолкнулась на эту книгу в каком-то книжном магазине и полистала ее, рассматривая фотографии. Там было фото Мэтти в последней сцене спектакля. Она смотрела со страницы книги как будто из вечности. Джулия положила книгу обратно в стопку глянцевых томиков и медленно побрела прочь. Джулия заметила пробиравшегося сквозь толпу Феликса. В свитере, при сумрачном освещении он выглядел немногим старше, чем когда она увидела его в первый раз. Он сжал ее руку. — Чудесная вечеринка, — сказал он. — Тебе не кажется, что Мэтти была бы счастлива? — Не сомневаюсь в этом. Феликс, ты помнишь вечеринку, которую мы устроили после похорон Джесси? Печальный день, но по какому-то чудесному стечению обстоятельств он оказался совсем не печальным. — Да, помню, — ответил он. Глядя на наклон его головы, ослепительно белые зубы и игру света и теней на его лице, Джулия поделилась с ним своими воспоминаниями. Он поднес к губам ее руку и поцеловал, а затем отправился на поиски Вильяма. Феликс сам украшал ресторан для вечеринки. Всюду были поставлены свечи, а по стенам расклеены рекламы путешествий. Он привел «Ночную фиалку» в прежний вид. Теперь все расселись за столики, покрытые клетчатыми скатертями, чтобы поесть чили с французским хлебом — блюдо, похожее на то, которое обычно готовил Феликс в квартире, выходящей окнами на площадь. В обшей толчее Джулия увидела веселую Лили, сидевшую рядом с Джошем, а в самом отдаленном углу — Александра. Она взяла с собой Александра в бар, чтобы испытать его. И он успешно прошел испытание, как проходил и многие другие, за исключением одного — не смог перевоплотиться в Джоша Флада. При воспоминании об этом Джулия покраснела и почувствовала прилив нежности к мужу. Почувствовав на себе ее взгляд, он поднял глаза. Губы его дрогнули в легкой саркастической улыбке, в которой было для нее столько знакомого и сокровенного. Это был прежний ироничный Александр, скрывающий под внешней иронией свою глубокую нежность. «Да, — подумала Джулия. — Теперь я скажу «да». Он все время просидел вдали от нее, и она видела его голову, слегка склоненную к Роззи Бэннер, которая что-то оживленно ему рассказывала. Джулия вдруг очутилась за столиком нескольких друзей Лили и трубача или, может быть, саксофониста из джаза. Воспоминания об историях Джесси вызвали улыбку, и внезапно она почувствовала, как ее заливает горячая волна счастья. У нее часто забилось сердце и перехватило дыхание. Подняв бокал и чокнувшись с сидевшими за столиками молодыми людьми, она отпила вино, которое обожгло ей язык, а вкус его вызвал очередные воспоминания. Ей хотелось пить, смеяться и танцевать, празднуя годы, которые свели их вместе. Именно празднуя, потому что сегодняшняя ночь не была ночью скорби. После того как все поели, столики были сдвинуты в сторону, чтобы освободить место для танцев. Джулия пила вино и танцевала и от всего этого чувствовала себя словно в чаду. Она была счастлива, что ее жизнь была заполнена до краев. Джулия отрешенно глядела на всех, как на представление кукольного театра теней, ей казалось, что они молоды, что ей опять семнадцать, как сейчас Лили. Джулия танцевала с саксофонистом. Она уже очень давно не танцевала и даже не пыталась вспомнить танцевальные ритмы двадцатилетней давности. Но ее партнер был хорошим танцором, хотя и не таким прекрасным, как Александр. Он ловко вертел ее в танце, обходя танцующих, и вдруг она увидела Лили. В этот вечер Лили снова была принцессой панков, но даже эта вычурная одежда не смогла испортить ее красоту. Девушка стояла у противоположной стены, отвернувшись от танцующих, так что Джулии был виден лишь ее профиль. Она внимательно смотрела на Джоша, а тот, улыбаясь, слушал ее. Легкомысленный роковой Джош, подумала Джулия. Движение и музыка как будто замерли вокруг Джулии. Казалось, время остановилось и утратило свой обычный ритм. Она не сводила с них глаз, словно хотела запечатлеть эту картину в своей памяти навсегда. Лили потянулась и одной рукой обняла Джоша за шею. Джулия видела его минутное колебание. Лили рассмеялась. Она потянулась лицом к нему, в то же время притягивая к себе его голову, пока их губы не соприкоснулись. Затем ее обнаженная рука соскользнула с его плеча и она отступила назад. Это был очень короткий поцелуй. Он свидетельствовал о том, какой опытной уже была ее дочь, и шутливое доверительное прикосновение их губ вызвало у Джулии ревнивый протест, острый, как родовая схватка. Она уронила руку партнера и застыла на месте, не сводя глаз с этой пары. Джош прижал ладонь к щеке Лили и осторожно повернул ее голову, стараясь заглянуть в глаза. Лили опять засмеялась, поддразнивая и чувствуя себя хозяйкой положения. И в этот момент Джулия поняла, что Лили сама провоцирует его, а Джош колеблется, беспомощный перед ее чарами. И вдруг на картину опустилась завеса, все вновь ожило и задвигалось с какой-то удвоенной силой. Толпа поплыла между ними, заслонив Лили и Джоша. Чья-то рука обняла Джулию за плечи, и она непроизвольно напряглась, сопротивляясь этому прикосновению. Она думала, что это ее партнер по танцу, и, вздрогнув, обернулась. Это был Александр. — Надеюсь, следующий танец мой? — Впервые за этот вечер он заговорил с ней. Джулия беспомощно оглянулась, всматриваясь в стену, где качались те две тени. Лили и Джош уже ушли, затерявшись в толпе. Александр привлек Джулию ближе, настоятельно заставляя повернуться к нему лицом. Его испытующий взгляд проник в душу, он был таким острым, что мог отделить ее плоть от костей. Партнер Джулии тихонько скользнул прочь, предоставив их друг другу. — Но мы можем и не танцевать, — сказал Александр. — Нам с тобой ведь не нужно начинать все сначала. Пойдем отсюда. Пойдем со мной. Джулия еще раз оглянулась. — Лили… — прошептала она. — Я только что видела, как Лили… — Забудь сейчас о Лили, — сказал Александр. — Она сама позаботится о себе. Теперь он держал ее за локоть крепкой жесткой рукой. Ей стало больно, и она сделала попытку вырваться, она уже хотела сказать: «Я не могу позволить, чтобы Лили…», но слова замерли у нее на губах. Александр понял, о чем она хотела сказать. — Нет, ты можешь, — сказал он. — Ты должна. Джулия в изумлении уставилась на него, и он рассмеялся. — Джулия, сколько лет прошло, а ты ничему не научилась. Она вспомнила Бетти и Вернона, Маргарет Холл, Чину и Джесси. Родителей и детей. — Но только не с Джошем, — умоляюще прошептала она. Александр не дал ей ни оглянуться, ни отвернуться от него. — Ты боишься? — спросил он. — Или ты ревнуешь? Шум вечеринки, казалось, отдалился, хотя на самом деле толпа по-прежнему галдела вокруг них. Джулия ощутила важность именно этого момента, как будто пришло время отчитаться за все прошедшие годы. Это было и страшно и в то же время придавало ей мужества. — Я не ревную. Я уже давно поняла, что не хочу никого, кроме тебя. — В таком случае, ты боишься? За Лили? Но Лили никогда не повторит ошибок матери. Понимая это и восхищаясь дочерью, Джулия все же понимала, что не должна упустить Лили, как это сделала Бетти. Она глубоко вздохнула, ощущая позабытый и такой знакомый запах переполненного людьми большого помещения. — Нет, я не боюсь. Во всяком случае, не за Лили. И даже не за Лили с Джошем. Потому что из них двоих Лили была сильнее. Она должна сама позаботиться о себе. — Тогда оставь ее в покое. Джулия посмотрела вокруг себя. Люди танцевали, их тени причудливо скользили по белым стенам. Но нигде не было видно ни ее дочери, ни Джоша. Была вечеринка, подобная тем, которые так любила Мэтти, и Лили, должно быть, где-нибудь затерялась в толпе. Она улыбнулась. — Пойдем со мной, — повторил Александр. Уже не оглядываясь, Джулия последовала за ним вверх по узкой полуподвальной лестнице. На улице было холодно. Джулия споткнулась, и Александр поддержал ее. В отдалении шумело и тонуло во мраке уличное движение. — Я, наверное, немного опьянела. — Давай пройдемся. И вот, держась за руки и наклоняясь друг к другу, как будто сопротивляясь сильному порыву ветра, Джулия и Александр медленно шли по улицам Сохо. За двадцать лет бакалейные лавочки, так часто посещаемые Феликсом, мастерские по пошиву перчаток и магазины музыкальных инструментов в основном уже исчезли или были заменены другими, но Джулии казалось, что здесь все по-прежнему. «Шоубокс» был еще открыт, приглашая девочек, девочек, побольше девочек. Трудно было поверить, что они, зайдя внутрь, не увидят там мисс Матильду, опирающуюся на свою трость. Они крепче прижались друг к другу и пошли дальше, оставив Сохо далеко позади. Двигаясь без всякой цели, они вышли наконец на Стрэнд. Северный вход в «Савой» вспыхивал бегущими огнями и отполированным металлом. Джулия с Александром свернули в сторону и скрылись на темной, круто спускающейся к реке аллее. Свет одинокого старинного уличного фонаря был тусклым от поднимавшегося от реки тумана, а их шаги гулко отдавались в неподвижной тишине. Напротив узкого входа в приют Джулия остановилась. Пол был устлан картоном и в углу лежал свернутый пакет. Внутри никого не было, но ясно, что он был занят и скоро какой-нибудь старик, ковыляющий через мостки вдоль набережной, приплетется сюда на ночлег. Стоял смрад от испортившейся пищи. Джулия закрыла глаза, пытаясь представить себя и Мэтти прижавшимися друг к другу. Почти с гордостью Джулия сознавала, что более или менее сдержала данные себе обещания. А что обещала себе Мэтти? Но Мэтти уже растаяла, растворилась в бесконечности. И на этот вопрос уже не получишь ответа. — Мы так безрассудно пользовались своей свободой, — сказала Джулия. — И были так напуганы тем, что пришлось спать в подобном месте. — Ты рассказывала мне, — ответил Александр, — когда мы впервые встретились. Ты помнишь это? — Я все преувеличивала. Они спустились к реке и постояли, опершись о парапет набережной и глядя на зеленоватую воду. Джулия еще раз бросила взгляд на широкий проем в нише и задумалась. Ее шансы на счастье остались при ней, уцелевшими, какими они были в ту ночь, когда они с Мэтти нашли здесь приют. Ей повезло. А от Мэтти удача ускользала. — Я так тоскую по ней. Как бы я хотела, чтобы она вернулась! — сказала Джулия. — Мэтти умерла. Она не вернется. Ты думаешь, я по ней не скучаю? Джулия резко повернулась к Александру. — Я знаю. Извини, я такая эгоистка. С моей стороны было ужасным эгоизмом запереться в Коппинзе после ее смерти, а потом убежать обратно в Италию. И сейчас я здесь, если еще не поздно. Если ты хочешь меня. Я боюсь спрашивать у тебя, Александр, но я должна спросить. В туманном свете фонаря Джулия пыталась прочесть ответ на его лице. Но он взял ее руку и повел дальше. — Я не хочу говорить об этом здесь. Они пошли по аллее, поднялись по нескольким каменным ступенькам на площадку, с которой открывался вид на реку. От нее поднимался характерный запах гнилой травы. Они остановились рядышком на набережной и облокотились о холодный гладкий каменный парапет, глядя на Темзу. Вода внизу казалась очень черной, но на середине и на противоположной стороне реки ее поверхность рябила бесконечной цепью отраженных огней. — Я тоже ошибался в те годы, — сказал Александр. (Пора было выяснить ее отношение к нему.) К этому подтолкнул его Джош Флад. — Я пытался и раньше рассказать тебе, ты помнишь? В ту ночь, когда мы были вместе, когда умерла Мэтти? — В этом не было необходимости, — тихо сказала Джулия. — В конце концов, хватит копаться в прошлом. — Я был виноват перед тобой тогда, в Леди-Хилле, еще до пожара, и после. Мне не следовало ожидать, что ты сразу примешь мой образ жизни. Джулия поняла, что необходимо объясниться. Если они не выяснят свои отношения сейчас, у этой темной реки, тогда она и Александр не смогут остаться вместе. — Глупо было разочаровываться в тебе только потому, что ты не хотела так жить. Мой гнев еще можно было оправдать, но ничего удивительного в том, что ты оставила меня ради Джоша Флада не было. Даже Феликс лучше понимал тебя, чем я. Джулия кивнула, удивляясь его проницательности. — Феликс понимал, а вот Мэтти — нет. По крайней мере тогда. — Мэтти хотела иметь именно то, что ты отвергала. Я не имел в виду меня, хотя мы с ней в каком-то смысле любили друг друга. Она хотела иметь дом и семью. Место, которое бы ей принадлежало. Александр и Мэтти, сидящие с Лили под яблонями в ледихилльском саду. Золотистая сандалета Мэтти и ее нижнее белье, брошенное на стул в его спальне. С Митчем в Коппинзе Мэтти нашла то, что искала, а затем в один миг потеряла все разом. Это было жестоко, но нельзя винить тех, кто ушел навсегда. Джулия подняла голову. — Подожди, — сказал Александр, — есть еще кое-что. Я должен был понимать, что ты выходишь замуж не за мой дом. Или что ты будешь жить моей страстью к его восстановлению. После твоего ухода я потратил годы, пытаясь делить любовь с черепицами, дубовыми панелями и лепными украшениями. Затем пытался найти замену тебе. Я очень старался в этом смысле, Лили знает это. Но не смог заменить тебя никем. И менее всего Леди-Хиллом. Александр обнял Джулию. Он смотрел на каждую черточку ее лица, как будто хотел их запомнить. Его великодушное признание вызвало у Джулии невольный трепет. И она, задыхаясь, спешила объясниться тоже. — В этой истории с Джошем я оказалась беспомощной. Я не должна была этого делать, но отчасти мне хотелось этого. Я убедила себя, что последую за ним куда угодно, если только он позволит. Я была влюблена в саму идею безрассудной страсти. И лишь значительно позже я смогла увидеть его в истинном свете. Как только я это поняла, я бросилась обратно в Леди-Хилл. И тогда-то я застала у тебя Мэтти. — Да. Теперь настала очередь Лили во всем разобраться, разве не так? — Прежняя ироническая улыбка тронула губы Александра. Он, конечно же, тоже видел тот поцелуй в «Ночной фиалке». — Если я и боюсь за кого-то, то скорее за Джоша. Не думаю, чтобы сердце Лили от этого разбилось. — Да, пожалуй. Они засмеялись, но тут губы Александра приблизились к ее губам, однако она удерживала его сколько могла. — Выслушай. Я все делала неправильно. Это так. И с тобой, и с Лили. Я ревновала к Леди-Хиллу, к Лили и даже к Чине. А потом, после пожара, я все разрушила и убежала, упиваясь своей виной. — Джулия пыталась прочесть ответную реакцию на его лице, но безуспешно. Неожиданно она засмеялась. Она не знала, заслуживает ли своего счастья, но не могла спрятать радость. — Виной и ревностью, — тихо добавила она. — Два чувства, с которыми я жила. Его губы наконец прильнули к ее губам. Джулия и Александр понимали, что их исповедь всего лишь общие слова, что не все так легко можно объяснить. В их отношениях наслоились непонимание и упрямство. Во всем этом им еще предстоит разобраться. Но они знали, что на это у них теперь будет время. Какое чудо, что у них еще остается время! Александр взял в ладони ее лицо так, чтобы глаза смотрели в глаза. — Ты вернешься в Леди-Хилл? Он вспомнил Джоша в актерской церкви. Казалось, это было давно, а не этим утром. Он поспешно сказал: — Поедем со мной сейчас же. Мы приедем как раз к восходу солнца. Джулия уже собиралась возразить: — Но Лили… Лили все еще была в «Ночной фиалке» с Джошем. Александр сказал тогда: «Она справится с этим сама». И она с ним согласилась. — Да, я поеду с тобой. Я бы хотела увидеть Леди-Хилл на рассвете. Патрульная лодка проплыла мимо них по реке, луч ее фонаря скользнул перед ними по черной ряби воды. По другую сторону от них, поднимаясь на мост, в потоке уличного движения неслись машины. Джулия и Александр, не оглядываясь, быстро шли к машине.
Солнце еще не взошло, но небо уже озарилось. Джулия смотрела, как темнота на востоке постепенно сменяется водянисто-серой дымкой. Тени стремительно убегали назад по мере того, как они быстро мчались на запад. Полоса света выравнивалась и постепенно оживляла разноцветную картину полей и лугов. Деревья стояли в пестром золотисто-коричневом убранстве, с торчащими там-сям голыми ветвями, а ветер перекатывал по траве упавшие бурые листья. За живыми изгородями лежали вспаханные на зиму голые поля. Джулия опустила стекло. Воздух был морозным. Она смотрела по сторонам, думая о том, что сейчас, когда обнажается земля, время года еще замечательнее, чем пышное лето. Они подъехали к старому указателю «Леди-Хилл, 3». Солнце поднималось позади них, и верхушки живой изгороди неожиданно вспыхнули ярким багрянцем. Александр положил ладонь на руку Джулии. Они въехали в ворота и покатили по извилистой подъездной дороге. Деревья вдоль аллеи уже осыпали листья, и туннель под их ветвями уже не казался таким устрашающим. Когда они повернули за угол, перед Джулией предстал дом. Он казался тихим и невыразительным, в мягких розоватых тонах на фоне серо-зеленой лужайки. Джулия вглядывалась в него, пока они подъезжали ближе, но больше так ничего и не увидела. Это был типичный английский особняк из кирпича и камня, без особых претензий, но удивительно пропорциональный, надежно защищенный и удобно окруженный обширным парком, в котором не было ничего угрожающего или требовательного. За окнами не было видно ни полыхающего пламени, ни признаков дыма. Огонь был давно погашен, и Джулия знала, что вина и страх, которые так долго преследовали ее, теперь исчезли. Джонни Фловер умер, Сэнди развелась, потом опять вышла замуж, и у нее уже подрастали дети от второго брака. Мэтти и Митч умерли. Но Джулия, а также Александр, Феликс и Джош были живы. Выросла Лили. Леди-Хилл был всего лишь домом, красивым домом, и мог стать жилищем для их семьи, если они этого захотят. Александр остановил машину, они вышли из нее, разминая ноги после долгого сидения и щурясь от яркого света. Джулия посмотрела на ивы, окружавшие двор, и на каменный портик с надписью на нем: «Бессмертие». Они не пошли в дом, а побрели по мокрой траве в сад. В самом его центре они подошли к солнечным часам и остановились, глядя на длинную тень, отбрасываемую поднятым вверх металлическим пальцем. Джулия подняла голову. — Я рада, что мы приехали сегодня, — тихо сказала она. — Рада, что я опять здесь. Здесь стало прекраснее, чем когда-либо. — Джулия, — резко сказал он, — мы не обязаны здесь оставаться. Если ты не хочешь жить в Леди-Хилле, я продам его и мы переедем в любое другое место. Куда ты захочешь. Она приняла этот жест великодушия как щит для будущего. — Я хочу остаться в Леди-Хилле. Если ты примешь меня. Александр привлек ее к себе, прижимаясь всем телом. — Я старею. Мне скоро пятьдесят… — Джулия закрыла ему рот рукой непроизвольным жестом. Он отвел ее руку и продолжил — …и если ты не останешься со мной сейчас, я не знаю, что мне делать. Джулия медленно опустила голову ему на плечо. — Ты боишься? — опять спросил он. Она боялась Леди-Хилла еще до того, как случился пожар. Но теперь страх прошел. Джулия понимала, что он спрашивает ее не только об этом, но и о гораздо более важном сейчас — не боится ли она попытаться начать снова, после всего, что было между ними. — Нет, — ответила Джулия. Она почувствовала последнее холодное прикосновение страха, а также необходимость избавиться от него. — А ты, Александр, не боишься? Он улыбнулся. — Я люблю тебя. — Я тоже люблю тебя. Ее голова все еще покоилась у него на плече. Это было самое величайшее наслаждение, которое она когда-либо испытывала. Но теперь, когда она подняла голову, груз надежд показался ей непомерно тяжелым, чтобы его выдержать. В прошлом связующие их нити казались слишком тонкими, чтобы не порваться, и слишком слабыми, чтобы притянуть их обратно друг к другу. Они опять вместе. Александр погладил Джулию по волосам. Тень от солнечных часов значительно удлинилась. Мертвые руки летних растений были оплетены вьюнком, а между сухими ветками, которые были когда-то цветами, протянулась паутина. Джулия заметила, что в саду полно работы, и удовольствие от сознания необходимости этого процесса в соответствии со сменой времен года наполнило ее сердце радостью. Александр все еще обнимал ее. — Я никогда не видел твоего итальянского парка, — сказал он. — Он совсем не похож на этот. И теперь он принадлежит Томазо. — Джулия говорила об этом добродушно, без тени сожаления. — Мы можем как-нибудь съездить туда и посмотреть. — Как-нибудь, — согласился Александр. — А ты знаешь, что бы я теперь хотел? Думая, что он скажет о завтраке, о чашке горячего кофе, она улыбнулась и сказала: — Чего же ты хотел бы? — Я бы хотел сына. Для Леди-Хилла. Джулия замерла на месте. Рука Александра прикоснулась к ее животу так нежно, как будто там уже был ребенок. Она подумала: «Мне еще нет сорока. Можно рискнуть». Она была убеждена, что суха и бесплодна, как старые осенние листья, но сейчас вдруг она поняла, что если захочет этого сама, то сможет быть плодоносной, как сама земля. — Ребенок. Ты действительно этого хочешь? — Да. Джулия засмеялась, стараясь скрыть смущение. — Сэр Феликс Блисс, — шутя прошептала она. Александр поправил ее: — Сэр Джошуа Блисс. Хотя нет, возможно, что и нет. И боюсь, что в конце концов будут звать Перси. — Сэр Перси Александр Блисс, — эхом отозвалась Джулия. — А что, если будет девочка? — Ты же знаешь, что Лили самая большая радость в моей жизни. Я не могу представить, что мог бы любить какого-нибудь другого ребенка больше, чем я люблю Лили, но знаю, что с другими отцами это случается. Джулия заглянула ему в лицо. Оно уже было тронуто морщинками и уголки его век слегка опустились вниз, что лишь подчеркивало его насмешливый взгляд. Волосы поседели на висках и стали тоньше, но он еще не был пожилым человеком. Она чувствовала, что он все еще молод, как и она, и что она беззаветно любит его. Джулия хотела дать ему счастье, чтобы печаль прошлых лет ушла из их жизни навсегда. Это в ее власти. Это всегда было в ее власти, если бы только она это понимала раньше. Угрюмый английский парк опять зазеленеет, а красивый притихший дом снова оживет. Если Александр очень хочет, чтобы по комнатам и в саду под деревьями бегал их сын, то и она всем сердцем хочет того же. Джулия посмотрела через его плечо на изгиб сада, на высокие трубы на крыше и готические карнизы дома. Леди-Хилл. Это ее дом. — Ну что ж, — сказала она, пряча свой восторг. — Ну что ж, посмотрим, что мы можем сделать. Идет? (обратно) Рози ТОМАС СКВЕРНЫЕ ДЕВЧОНКИ Подруги так хотели установить собственные нормы жизни… МЭТТИ, в погоне за славой актрисы, не страшится изнурительной работы в стриптиз-клубе. Но, обретя славу, осознает, что одного положения звезды ей недостаточно. ДЖУЛИЯ выбирает замужество, старинный дом в Дорсете и прекрасное поместье. Но после происшедшей там трагедии понимает, что должна пожертвовать своим счастьем… The Washington Post
 (обратно)
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
(обратно)
(обратно)
Филипп Эриа Ярмарка любовников
I
– Ну-ка, пусть сюда позовут мальчиков! Мальчиков сюда! Когда звучал этот властный женский голос, в голову никому не приходило протестовать. Ни для кого не было секретом, что она никогда не бросала слов на ветер, хотя их смысл не сразу был понятен окружающим. Фраза «Мальчиков сюда!», произнесенная с привычной самоуверенностью, доносилась откуда-то из темноты зала. Ее просьба, несмотря на категорический тон, каким она была произнесена, застала артистов врасплох. Даже старшая группы девушек, одетая в строгий вечерний костюм, делавший ее похожей на ведущую модель знаменитого кутюрье и, казалось, подчеркивавший ее высокое служебное положение, даже онаподошла по освещенной сцене к рампе. Прикрыв глаза ладонью, она спросила: – Простите, мадам Леона? – Мальчиков, мисс! Мальчиков! Вы что, не понимаете? – Простите, мадам Леона: одних мальчиков? – Да, одних мальчиков! Без девиц… И чтобы закрыть вопрос, добавила: – Дорогая, вам не на что жаловаться. У ваших малюток уже было достаточно времени, чтобы покрасоваться на сцене в первом акте. Нахмурив брови, старшая группы девушек повернулась в сторону кулис. Неприятности подопечных находили в ее душе не больший отклик, чем у мадам Леоны, удобно устроившейся в темноте зала. – Мириам, ты здесь? – Да, мадам Леона. – Присядь рядом со мной. Из полумрака ложи, где она только что курила в компании одного из юных первых танцоров ревю, вышла странного вида, чем-то похожая на змею женщина, с усталым от ночных репетиций лицом, одетая в простой свитер и державшая в руках папку для эскизов и карандаши. У юного артиста, с которым она только что рассталась, были крепкие зубы и чувственные губы, а по-юношески чистую, без единой морщинки кожу не мог скрыть толстый слой недавно наложенного золотистого грима. В это время к мадам Леоне подошел другой молодой человек, еще не утративший, как и первый, юношеской свежести. Это был девятнадцатилетний «капитан» мальчиков, поднявшийся с места, как только услышал, что женский батальон, которому он не хотел отдавать пальму первенства, попал в немилость. За его спиной сгрудились пятнадцать молодых людей, встревоженных известием о том, что им придется исполнять лишний номер. Они были в одинаковых длинных репетиционных брюках и разноцветных рубашках, спортивных майках и свитерах. – Сирил, – произнесла мадам Леона, – пусть твои мальчики исполнят нечто похожее одновременно на румбу и на танец краснокожих. Словом, что-нибудь захватывающее, и пусть не стесняются гибко извиваться и двигать бедрами. – Без женщин? – спросил ее секретарь, сидевший через несколько кресел от мадам. – Конечно! – Как мне их одеть? – спросила Мириам, открыв свой блокнот, готовая начать делать эскизы костюмов. – Пусть танцуют голыми! – произнесла мадам Леона. В зале воцарилась тишина. – Боже мой! – воскликнула маленькая диктаторша, ударив себя по колену.– Что с вами? Я говорю на французском языке, да или нет? Мне надо заполнить паузу, пока готовится сцена для следующего номера. Скетч нельзя исполнять после «Неблагодарного возраста», к тому же в мои намерения не входит в который раз заставлять зрителей смотреть канкан или присутствовать на параде голых баб, словно мы живем в 1920 году или же находимся в провинциальном мюзик-холле… Да ладно вам! Пусть выходят! И голяком! – А как мы назовем этот дополнительный номер? – спросил секретарь.– Это для того, чтобы напечатать в программе. – Давайте подумаем, – ответила мадам Леона. И откинула назад вьющуюся прядь волос, спадавшую ей на лоб. Именно за этот жест на ней и женился в свое время директор Армандель. Теперь она безраздельно управляла своим маленьким королевством, так и оставшись бывшей модисткой, портнихой, простой работницей, поднявшейся до костюмерши и директора ателье. Пососав указательный палец с наманикюренным, но обрамленным траурной каемкой ногтем, она стала повторять, считая по пальцам: – Прикинем… Номера под общим названием «Возраст». Вначале идет «Счастливый возраст» с девицами, исполняющими танец маленьких девочек. Его я уже видела. Передайте руководительнице труппы, чтобы она сократила номер: он слишком затянут. Затем идет «Неблагодарный возраст», скетч с Филиппом, потом – «Металлический возраст»; этот танец мне не нравится, но на зрителей он произведет впечатление. Скажут, что он современен. У нас будут хорошие отзывы в прессе. Но как противно смотреть на все эти шары, винты, турникеты! Что поделаешь! Надо так надо! А потом, пока будут освобождать сцену после «Металлического возраста», пойдет «Каменный возраст» с тремя Жимми. Кстати, Густав! – Она повысила голос, чтобы позвать старшего механика сцены, который не замедлил появиться из-за кулис.– Густав, сколько тебе надо времени, чтобы подготовить сцену для «Золотого возраста»? – Две минуты, мадам Леона, – сказал Густав, – две минуты, помимо времени, занятого номером Жимми. Мне надо подготовить три гейзера и два водопада, не считая емкостей с желтой жидкостью, которые должен смонтировать Эрнест. – Однако, мой мальчик, – произнесла мадам Леона, неожиданно сменив гнев на милость, – раз ты просишь две минуты, ты их получишь. Вот, Сирил, две минуты на твой танец! А пока я говорила, мне в голову пришла мысль завершить представление золотым дождем. Добавьте его в список реквизита. Мы еще к нему вернемся. Дождь должен политься в тот момент, когда Оникс начнет спускаться по лестнице. И ты отметь в своей программе: «Золотой дождь», будто речь идет еще об одной сцене. Это станет гвоздем программы перед «Черным золотом» с Жозефиной Баркер, исполняющей танец рядом с нефтяной скважиной… Итак, номер на две минуты, в котором заняты только мальчики; как бы мне его назвать? Наконец я придумала! Назовем его «Возраст любви». Это неплохо звучит… Мириам, постарайся, чтобы у них был минимум одежды, особенно со спины. Надень на них плавки телесного цвета, только очень узкие, чтобы сзади хорошо обрисовывались ягодицы, а спереди придумай что хочешь. Прикрой им по своему усмотрению голову, а также ноги, дай что-нибудь в руки… Вы здесь, Сэм? Пока я работаю над сценой, приготовьте мне еще одну декорацию. Специально для этого номера. Нарисуйте обнаженных мужчин, непропорционально сложенных гигантов с выдающейся мускулатурой, атлетов, каких изображали на античных вазах, но, безусловно, в современном варианте. Эскизы декораций мне нужны к завтрашнему утру… Сирил, а твои мальчики могут раздеться догола? – Да, – ответил Сирил с невозмутимостью выпускника Оксфордского университета, – они разденутся догола. – Естественно, у них не остается выбора, раз я приказала! Я хочу взглянуть, как они выглядят. Ты мне их ни разу не показывал без одежды, и только четверых или пятерых из них я видела с обнаженным торсом. А могут ли они вообще выйти на сцену совершенно голыми, чтобы люди, увидев их, не повскакивали с испугу со своих мест и не поспешили бы к выходу из зрительного зала? Ты же понимаешь, что с таким названием, как «Возраст любви», подобный смотр просто необходим. Этот вопрос из разряда тех, которые обсуждению не подлежат. Сирил подумал о тех обделенных природой танцорах с недостатками фигуры, хорошо различимыми в зеркале мужской гримерной, которых он избавлял от необходимости выходить к краю сцены. Представив, скольким из них мадам Леона вынесет безжалостный приговор, он уже мысленно прикидывал, во что этот смотр ему обойдется. – Эй! – позвала мадам Леона с нетерпением в голосе и в то же время с удовлетворением, как всякий раз, когда она чувствовала, что обойтись без нее невозможно.– Подумать только, мне все приходится делать самой! Ну, не переживай! Если мне кто-то не подойдет, то это вовсе не значит, что он будет получать меньше: в конце концов, я нанимала их не для того, чтобы они раздевались на сцене. Ты возьмешь недостающих танцоров в немецком балете. Однако мне и сейчас ясно, что выбирать придется самой. Позови их сюда! Пусть выйдут голяком на сцену! И ты… Эй, вы там, Понтер! Пусть твои тоже выйдут. И поскорее, раз они здесь. Не стоит дожидаться конца репетиции. Зал пуст, посторонних нет. И без тренировочных брюк! Те, кто в плавках, может их не снимать. И больше на теле ничего. Я хочу видеть, на что я могу рассчитывать. Послышался голос Сирила, крикнувшего находившимся в проходах танцорам: «Audisheunn nioue!» He сходя с места, немцы поспешно разделись. Однако англичане направились переодеваться в гримерную. Четверо или пятеро французов, не входивших в состав основной труппы, в зависимости от чувства стыдливости прикрылись лишь носовыми платками вместо фигового листка или же остались в плавках. Секретарь обратился к соседу по креслу, так чтобы его могла услышать мадам Леона: – Наша хозяйка – настоящий гений мюзик-холла. Ей достаточно всего пяти минут, чтобы придумать всю сцену от начала до конца. Ты когда-нибудь видел раньше такое? Теперь мадам Леона могла позволить себе передохнуть. Однако недолго. – Ну как?! – воскликнула она.– Не каждый день мне приходится видеть моих мальчиков нагими!***
Заканчивая подготовку к выходу на сцену, Сирил вынужден был сослаться на британскую стыдливость. – Слишком уж они жеманные! – воскликнула мадам Леона.– Тем хуже для них! Я не могу терять времени, а пока посмотрим что-нибудь другое… Игорь и Капри, вы здесь? Хорошо. Вы переоделись? Ладно, покажите мне ваш танец. Я хочу взглянуть, как он смотрится на фоне декораций. Пока вы одни. Начинайте… Густав, готовь декорации к «Золотому возрасту». Но только не надо фонтанов. Не стоит зря поливать Капри водой. – О! – воскликнул громко подхалим.– Как же она бывает заботлива! Ты слышал? – Тише! – одернула его мадам Леона, не терпевшая лести. Она была вся в работе. Оркестр заиграл первые такты. На голове у обнаженного по пояс танцора была огромная мексиканская шляпа. В боковых разрезах брюк, имитировавших лохмотья, виднелись голые ноги. Склонившись над пересохшим водоемом с крутыми берегами, он воспроизводил движения старателя с деревянным лотком в руках. Декорации были выполнены в желтых и оранжевых тонах. И только гигантские кактусы, обтянутые бархатом с нанизанными металлическими колючками, сияли золотом с зеленым отливом. На занавесе, уже поднятом для финала, был изображен горный пейзаж. Световых эффектов было более чем достаточно. Полуобнаженный мужчина встрепенулся, затем, по-прежнему орудуя своим лотком, склонился над ручьем и снова выпрямился. Прятавшаяся до сих пор за скалой из бурого камня танцовщица выпорхнула из-за своего укрытия. Молодой человек, изображая ликование, эффектно поднял женщину над головой, словно на щите. Затем последовало энергичное движение его рук. Насколько легко был одет Игорь, настолько сложным оказался костюм Капри. На ней был настоящий панцирь, который затруднял движения девушки. Золотоискатель начал срывать с нее, словно чешую, одну за другой части костюма, напоминавшего темным цветом пустую породу. Наконец ему удалось освободить ее от столь громоздкого наряда, но девушка еще не предстала перед зрителями полностью обнаженной. На ней оставался купальник, облегавший ее, словно выпуклые, сверкающие золотом доспехи, имитирующие желтый металл. Так средствами мюзик-холла изображался найденный золотоискателем самородок. Послышался голос мадам Леоны: – Мириам, мне нравится костюм самородка. Танцовщик закрутил свою партнершу в пируэте, затем подбросил на руках, и она приземлилась слева от него, склонив голову на грудь, согнув колени и обхватив их сложенными в кольцо руками. Положив руку на хрупкое колено танцовщицы и сделав упор на одну ногу, Игорь рывком поднял и подбросил ее, придавая телу вращение. И вдруг неприметная ошибка одного из них – и голова танцовщицы коснулась пола со звуком: «Дзинь!» Мужчина подхватил на руки внезапно обмякшее тело и, попытавшись поставить женщину на ноги, понес ее за кулисы. Атлет, только что манипулировавший телом танцовщицы с легкостью жонглера, вдруг пошел неуверенным шагом обыкновенного мужчины, согнувшегося под тяжестью потерявшей сознание женщины. Звуки музыки замолкли. Присутствовавшие на репетиции зрители повскакивали со своих мест. Но никто из них не осмеливался подойти к сцене. – Она ушиблась? – крикнула мадам Леона. В проеме декораций показался Густав. Опустевшая сцена по-прежнему сверкала огнями. – Нет, нет, – ответил Густав.– Но она потеряла сознание. – Пойди взгляни, что с ней, – приказала мадам Леона Мириам. И снова приняла суровый вид. Ее нисколько не взволновал обморок, часто случавшийся с танцовщицами, изнуренными последними репетициями. Повысив голос, она произнесла: – Продолжаем! Следующий номер! Не осмеливаясь спросить, сколько им еще ждать, и надеясь, что на них все же обратят внимание, на сцену робко вышли два или три раздетых молодых мужчины. – А! Вот и они! – воскликнула мадам Леона.– Надо закончить смотр. На сцену, голая команда! Однако на сцене появился один Игорь и направился к суфлерской будке. – Мадам Леона, – позвал он. – Ну что там еще? Ей что-нибудь нужно? Вызови врача. – Нет, мадам Леона…– Его грубый и хриплый из-за постоянных ангин голос совсем не вязался ни с его божественным телосложением, ни с благородной отточенностью движений во время танца. – Мадам Леона, Капри просит начать все сначала. Она говорит, что, если ей придется ждать до завтра, на репетиции у нее снова может закружиться голова, ее охватит страх и она опять провалит репетицию. Она не хочет откладывать номер. Он придуман нами, и мало кто может его повторить. Надо, чтобы она его отрепетировала до конца или же отказалась от него. Третьего не дано. Ей надо побороть страх. Мадам Леона ответила не сразу. – Ладно, давайте сначала, – наконец произнесла она таким голосом, словно у нее слегка перехватило горло. Капри, опустив голову, заняла свое место у водоема. – С самого начала? – спросил дирижер оркестра. – С самого начала, – ответила Капри, – но я не стану надевать мой костюм. Они снова повторили фигуры танца. Сидевшие в зале немногочисленные зрители хранили молчание. Даже сквозь звуки оркестра чувствовалось, какая в зале стоит тишина. Приближался опасный момент. Все увидели, как женщина в костюме самородка выскользнула из рук старателя и присела на корточки рядом с деревьями. Танцовщик взял ее за коленку. Номер мог опять сорваться… Он легко подбросил вверх свою партнершу, и женщина, перевернувшись, выпрямилась во весь рост, а мужчина крепко ухватил ее за лодыжки вытянутыми руками. Раздались аплодисменты. Мадам Леона нервным жестом отбросила назад прядь волос, глаза ее блестели, и она непроизвольно вскрикнула: – Ой! А на сцене, гордо выпрямившись и расправив плечи, улыбалась танцовщица. Затем она отработала весь танец до конца. Когда номер был закончен, мадам Леона только и смогла произнести: – Капри, ты была прекрасна. – Как вам это нравится, Шассо? Вы чувствуете, какая атмосфера царит в зале? – спросил Лулу Пекер. Он задал свой вопрос вполголоса, чтобы не привлекать внимания к дальней ложе, где находился со своим приятелем. Попасть на подобную ночную репетицию было особой привилегией. Еще не все костюмы были сшиты, не хватало многих декораций. Мадам Леона перед этим сказала: «Можешь привести сегодня вечером своего товарища, но устройтесь так, чтобы никто вас не видел и не слышал». – Мне это очень интересно, – ответил Реми.– Но я буду доволен лишь в тот день, когда увижу на сцене артистов в моих костюмах! Вы считаете, что сможете представить меня сегодня Арманделю? Наверное, он очень занятой человек! А кстати, где же он? Пекер еще больше понизил голос. Но говорил как всегда, растягивая слова. – Я не вижу особой необходимости представлять вас Арманделю. Это бесполезное дело! Разве вы не видите, что тут всем заправляет его жена? И если вместо нее я вас представлю кому-то другому, она просто-напросто разозлится. – А я-то думал, – сказал Реми, – что вы больше знакомы с Арманделем. – Вы правы. Три года назад я выступал на этой сцене в скетче. В то время Леона еще не до конца окрутила его и не была за ним замужем. Правда, и тогда он уже ничего не мог без нее решить, но последнее слово все же оставалось за ним. А теперь… теперь вместо давнего знакомства с Арманделем лучше быть немного знакомым с Леоной. – Так вы с ней немного знакомы? – Да, – ответил с улыбкой Пекер.– Я с ней немного знаком, но зато знаю ее хорошо… – Как так? – Да вот так… А вы ей понравитесь. Вы в ее вкусе. – Что значит «в ее вкусе»? Разве она из тех женщин, которые… Реми, слегка смутившись, не закончил фразу. – Из тех, кто любит мальчиков? – закончил фразу Пекер. На этот раз он откровенно расхохотался.– Ну уж нет. Ее не интересует постель. Вам нечего опасаться. Однако тут же на его губах появилась дерзкая, почти насмешливая улыбка, и он добавил: – А точнее… ее не очень интересует постель. И она редко спит с теми, с кем связана по работе. У нее просто нет для этого времени. Она лишь питает слабость к красивым мальчикам. И любит их ни за что, просто так, лишь бы они ей чаще попадались на глаза.– И совсем другим тоном тут же уточнил: – Она их любит именно потому, что с ними не спит, вы можете это понять? Если бы она спала с ними, то вскоре бы пресытилась либо стала бы еще более привередливой, и этих красавцев было бы поменьше вокруг нее.– И после короткой паузы добавил: – А может быть, у нее изменятся вкусы… Вы вполне в ее вкусе. Молодой, почти что блондин, но отнюдь не с женоподобной внешностью, юноша из приличной семьи и похожий на девственника. По его лицу молодого волка, уже отмеченного печатью закулисной жизни, известной каждому, кто не понаслышке знаком с ее излишествами, промелькнула тень грусти, словно перед его взором явилось давнее воспоминание. И по обыкновению, перескакивая с одной мысли на другую, он добавил изменившимся голосом: – Совсем как я… три года назад. На сцене, залитой ярким светом после показа «Золотого возраста», позировали шестнадцать обнаженных французов из ее труппы и дюжина немцев. Они поворачивались спиной, анфас и в профиль. Мадам Леона бесцеремонно отправляла со сцены одного танцовщика за другим, начав с самых обделенных природой. Изгнанные делали вид, что довольны: номером меньше в их ревю. Один за другим они исчезали. Вот осталось восемнадцать избранников, вот пятнадцать, наконец, всего двенадцать. Отобранные мадам Леоной красавцы, ободренные успехом просмотра, который в их глазах был залогом дальнейшей сценической карьеры, уже не спешили покидать освещенные подмостки. Они переговаривались между собой, забыв о том, что на них с завистью поглядывали из-за кулис товарищи по труппе. Трое немцев, заметив, что у них соскользнули импровизированные набедренные повязки, отбросили всякий стыд. Небрежно, но сознательно они демонстрировали свое мужское достоинство, как бы лишний раз подчеркивая превосходство над несчастными хилыми существами, забракованными мадам Леоной. (обратно)II
Когда Лулу Пекер представил Реми мадам Леоне, она вначале не обратила на молодого человека ни малейшего внимания. Схватив кипу эскизов, которые он ей протянул, она торопливо перелистала несколько из них, прежде чем взглянуть на их автора. Оглядев молодого человека с ног до головы, она пристально посмотрела ему в лицо. Затем мадам Леона вновь обратилась к рисункам. Поначалу она удостоила Реми своим взглядом лишь потому, что ее удивило качество эскизов. И так как Реми ей понравился, она стала внимательно рассматривать рисунки. – Да, – произнесла она, – В них что-то есть. Оставьте их мне и зайдите после окончания ревю недели через две… Посмотрим, что мы сможем вместе сделать. – Спасибо, мадам, – произнес Реми. Тут ему на помощь пришел Пекер. – Реми Шассо не может оставить у вас свои эскизы, – и он незаметно толкнул молодого человека ногой.– На этой неделе он должен их показать в другом месте. Вы же видите, что это серьезная работа. Пока вы будете раздумывать две недели, его перехватят другие. – Ты слишком недоверчив, Лулу, – произнесла мадам Леона.– Уж не думаешь ли ты, что я способна украсть чужие идеи? – Вы сами, возможно, нет, – сказал Пекер, – но, например, Мириам наверняка не будет испытывать угрызений совести. Тем более что за год вы выжали из нее все, что у нее было в голове. – Вот как? – подняв от удивления брови, произнесла мадам Леона.– Ты находишь? Ты со временем не изменился, и это мне нравится. К тому же умеешь постоять за себя. – А как же иначе! – заметил Пекер. – Кстати, как поживает Меме? – спросила мадам Леона. – Неплохо. Я с ней увижусь вечером. – Передай ей от меня привет. Реми знал, о ком говорила мадам Леона. Он даже почувствовал в ее голосе оттенок дружеской фамильярности, когда она произнесла столь известное всему артистическому миру имя Меме. В прошлом та была опереточной примадонной. К сорока пяти годам, когда у нее ослабел голос, она перешла в драматический театр. И с тех пор ее имя не сходило с афиш парижских театров, где давались музыкальные представления или ставились комедии. Все звали ее Меме: театральные журналисты, богачи, зрители, заполняющие самые дешевые места в театре, товарищи по сцене и, наконец, Лулу Пекер, ставший полтора года назад ее любовником. Мадам Леона жестом подозвала Арманделя. И Реми подумал, что она решила представить его самому директору. Но ее мысли были уже заняты совсем другим. Речь пошла об использовании в мюзик-холле мужской части труппы. Эта властная женщина, известная на всю Францию своим непререкаемым авторитетом в области мюзик-холла, нисколько не сомневалась ни в своем опыте, ни в творческом чутье. Научившись скрывать пробелы в своем образовании, она удивляла всех тем, что обращалась к каждому за советом всякий раз, когда твердо решала поступать, как ей подсказывает интуиция. – Подойди ко мне, Армандель! – позвала она.– Поговори с Пекером и его другом, у которого отличный вкус; пусть они тебе подтвердят, что я права. Безусловно, она стремилась получить одобрение поочередно у всех окружавших ее людей, чтобы лишний раз убедиться в полноте своей власти. Она не любила, когда ей противоречили. Однако, с другой стороны, она терпеть не могла явной и неумеренной лести и, возможно, искала весомых аргументов, подтверждавших правильность ее суждений, основанных на профессиональном чутье, а не на образовании. И она пустилась в пространные рассуждения о том, что теперь никого не удивишь оргиями голых женщин, появлением на сцене девиц с обнаженными пупками и грудями, колышущимися при ходьбе на высоких каблуках. Все это, говорила она, вчерашний день и вышло из моды. Все это годилось в те времена, когда женщины не посещали представления мюзик-холла. Какая публика определяет в настоящее время успех ревю? Женская. Именно женская публика вынуждает режиссеров жертвовать лучшим актером в пользу бездарного и безликого дебютанта, но наделенного в глазах женщин особыми качествами, которые мужчины не могут разглядеть. Именно женская публика заставляет ставить на сцене спектакли, затрагивающие особые душевные струны, или же побуждает автора романа разрабатывать определенные сюжеты. Посещают ли мюзик-холл современные женщины, лишенные нравственных предрассудков? Разве не ходят они сами на представления со своими мужчинами и не советуют посмотреть ревю подругам? Так нужно ли, чтобы они судачили о других женщинах? Чтобы зрительницы со своих мест разбирали их по косточкам либо завидовали? Ясно, что нет. Остается одно: надо им показывать мужчин. И не лишь бы каких, а наиболее красивых и приятных во всех отношениях и, что самое главное, сексуально привлекательных. Еще лет двадцать назад никто бы не осмелился и заикнуться о мужской сексапильности артиста. Лет тридцать назад красавца мужчину назвали бы мужчиной приятной наружности или же приятным молодым человеком, но никогда бы не посмели назвать красавцем. С тех пор нравы изменились. Ну да, благодаря Валентино, Шарлю Пелисье и Гарри Куперу. И всем пришлось подчиниться новым веяниям. Теперь настала мода на мальчиков. Нам нужны мальчики! И если Армандель проникнется этой идеей – а он всегда держит нос по ветру, – то обеспечит для ревю необходимую рекламу. Впрочем, об этом разговор еще впереди. – Ну, – произнесла мадам Леона, – а теперь за дело. Армандель, передай, что в полночь для всех будет подано кофе с молоком и сандвичи. А с вами, – обратилась она к Реми, – до встречи через две недели. До свидания. До свидания, Лулу. – Шассо, вы можете остаться, если хотите, – сказал Пекер, – а у меня свидание. Уйдете, когда вам надоест. В два часа я буду в ресторане «Рош», в пивной Рошешуар, что находится на бульваре справа от площади Бланш. Мы там сможем пропустить по кружечке пива. И не волнуйтесь: на днях вы обязательно получите от Леоны какой-нибудь заказ. Она мне никогда еще не отказывала.***
Оставшись один в ложе бенуара, Реми стал ожидать конца репетиции. Но, к своему удивлению, он не чувствовал большой радости от первого успеха. В самом деле, он был теперь вхож в этот дом, о чем раньше мог только мечтать. И этим он был обязан только самому себе. Только себе, ибо его отец, несмотря на солидные связи и состояние, сколоченное в результате успешной деятельности фирмы под названием «Яйца, масло и сыры Шассо», отказал ему в помощи. Вот уже целых три месяца прошло со дня восемнадцатилетия, а сколько скандалов, ругани и «игр в молчание» пришлось снести Реми за то, что он не захотел последовать по стопам отца и отказался принять участие в деятельности его фирмы! – Папа, я бы мог понять тебя, если бы мы были бедняками. – Именно потому, что у меня огромный оборот, – заявил папаша Шассо, – и тысяча триста гектаров земли в Босе, я и запрещаю тебе заниматься ремеслом бездельников! И не рассчитывай на мою помощь. У меня прекрасные отношения с руководством Концерна культурно-развлекательных заведений, так как я основной поставщик их буфетов, но тебе я не дам ни одной рекомендации. Выкручивайся сам, как можешь. Реми последовал совету отца. И вот перед ним открылась первая дверь. Однако разве ему никто в этом не помог? Именно это обстоятельство и мешало ему по-настоящему радоваться. В самом деле, ведь этим он был обязан Пекеру. О! Он с симпатией относился к этому блестящему актеру, обезоруживавшему своим искренним цинизмом, хорошему товарищу, чье дружеское расположение льстило его самолюбию. Однако мадам Леона никогда бы не приняла его, Реми Шассо, если бы Пекер не был в свое время любовником этой женщины. Вот что мучило и унижало Реми в собственных глазах. Ведь он воспользовался любовными связями своего друга. Он смутно чувствовал, что в этом есть что-то не совсем порядочное, не совсем чистое. У него было такое ощущение, как будто он извлек выгоду из собственных любовных похождений. Ибо ему еще была неизвестна любовь, а о наслаждении он имел весьма туманное представление. Для него все, что связано с наслаждением и любовью, было окутано тайной, непредсказуемо и казалось помехой в жизни. Он еще ни разу не занимался любовью. Ни на секунду не сомневаясь в том, что каждый любовник страстно влюблен, он не мог себе представить, как может влюбленный мужчина хотя бы в мыслях допустить малейший расчет или извлечь из своей любовной связи какую-то, пусть даже самую малую выгоду. Он всегда говорил себе: «Когда у меня будет любовница, я никогда не сяду за ее стол, даже если она не содержанка или замужняя женщина». (обратно)III
– Ты давно меня ждешь? – спросил Пекер. – Нет, всего полчаса, – ответил Реми. Приятель, которого привел с собой Пекер, присел рядом с Реми. Они, как оказалось, давно знакомы – оба были завсегдатаями бассейна Отей, где с ними и познакомился Пекер. Реми не удивился, что Пекер обратился к нему на «ты». В бассейне их отношения ограничивались лишь тем, что они перебрасывались несколькими словами по поводу температуры воды или обменивались впечатлениями об удачном прыжке с вышки. Однако их встреча в другой обстановке, ночью, в замкнутом пространстве, где собирались по вечерам люди, пренебрегавшие законами общества, и представители свободных профессий, где завязывались легкие связи, сразу сблизила их. Чувствуя себя непринужденно везде, где он только ни появлялся, Пекер ничем не отличался от отпрысков богатых семейств, кто по окончании занятий в Жансона-де-Сейи проводил все свободное время в бассейне. И теперь, встретившись на Монмартре с Реми в особой товарищеской атмосфере, свойственной театральной среде и принятой у тех, кто не привык рано ложиться спать, Пекер естественно перешел с ним на «ты». Кроме того, он казался необычно возбужденным. Отвечая на его приветствие, Реми спросил: – Наверно, там, где ты был, пили шампанское? – Скажешь еще! – ответил Пекер.– Там пили виски. Пекер не спешил садиться за столик. Сквозь табачный дым, заполнявший огромный зал ресторана «Рош», он вглядывался в ту его часть, где в этот поздний час за столиками, уставленными тарелками с устрицами, сидели посетители в смокингах и дамы в вечерних платьях. Возможно, врожденное преклонение человека из самых низов общества и ставшего известным актером перед роскошью и выставляемым напоказ богатством, а может быть, скорее профессиональная привычка продажного жиголо, как о нем злословили театральные сплетники, заставляла Пекера всегда и везде при любых обстоятельствах заглядываться на женщин в самых дорогих украшениях и выходящих из самых шикарных машин. – Сегодня никого нет, – произнес он.– Эй! Как дела? Слева от них, в тихом уголке, ужинала компания. Их свободные манеры, простота обращения с официантом указывали на то, что каждый платил за себя. После ночной репетиции здесь собрались за ужином танцоры и танцовщицы ревю, модели, мелкие служащие из располагавшегося рядом мюзик-холла. – Хорошо, – ответила Пьеретта Оникс.– Да, у меня все хорошо… То есть я чувствую себя, словно выжатый лимон. Ох уж эта Леона! Клянусь тебе, она не жалеет чужих ног! Одиннадцать раз – я вела счет – она заставила меня спускаться с лестницы в «Золотом веке»! Спускаться и снова подниматься, вот так! И все лишь только для того, чтобы отрегулировать прожекторы. – Правда? – довольно равнодушным голосом спросил Пекер.– Ничего страшного, ты уже восстанавливаешь потерянные силы. И что же ты с таким завидным аппетитом уплетаешь? – Фирменное блюдо, – ответила Пьеретта Оникс.– Я его люблю. Очень вкусное. Цветная капуста под яблочным соусом… Не хочешь ли попробовать? Пекер сдвинул вместе столы. По соседству с ним разместились Реми, один общий приятель по имени Жоржи Патен, Пьеретта Оникс и две жившие в Париже танцовщицы из немецкого балета, с которыми она пришла поужинать. Как все артисты, обрадовавшийся случаю поговорить о театре, где он раньше работал, Пекер внимательно слушал театральные новости, наперебой выдаваемые тремя женщинами. Жоржи Патену приглянулась одна из танцовщиц, и он попытался, впрочем без всякого успеха, завести с ней беседу. Реми не сводил глаз с Пьеретты Оникс. Это была высокая, стройная, длинноногая девушка. По осанке чувствовалась привычка держаться под лучами прожекторов. Реми только что видел, как она репетировала на лестнице свой номер, и теперь не переставал удивляться тому, насколько она не похожа на ту женщину, которая находилась на сцене. Ее глаза были намного меньше, чем ему показалось вначале, а в уголках губ под кое-как нанесенной пудрой виднелась покрасневшая кожа. Реми вслушивался в ее разговор с Пекером. Пьеретта Оникс вызвала у него такое же восхищенное изумление, какое он испытал, очутившись за кулисами мюзик-холла. Когда речь заходила о мюзик-холле, они называли его «лавочкой», словно ученики, высказывавшиеся о своем лицее или служащие о торговом доме. Все едкие прозвища и обывательские проклятия, которых не жалел папаша Шассо, говоря о театрах, подготовили Реми к знакомству с этим волнующим воображение ярким миром. Теперь он тоже входил в одну из подобных «лавочек», мастерскую, фабрику или завод, где каждый знал свое место и боролся за него. Любовь? Довольствие? Всего хватало здесь вдоволь. Что же касалось личных отношений, сложившихся после первых репетиций, они оставались почти неизменными до самого последнего дня представления. Образовывались пары, похожие на брачные союзы. Они складывались в основном по необходимости. Ведущая певица заводила роман с дирижером, эстрадная куплетистка – с первым комиком, молодой премьер с золотистыми волосами жил с Мириам, Игорь – с Капри, мадам Леона – с Арманделем. Обреченные на вынужденную холостяцкую жизнь, по крайней мере в стенах театра, руководительница труппы девиц и Сирил улаживали свои сердечные дела где-то на стороне. Улучив момент, когда Пьеретта Оникс вышла с одной из танцовщиц в туалет, а третья девица задремала после бутерброда с яичницей, Пекер поподробнее рассказал друзьям о закулисной жизни. Жоржи Патен решил расспросить Пекера о приглянувшейся ему танцовщице. – Как ты думаешь, смогу ли я отвезти ее сегодня к себе? Я живу около Зоологического сада в гостинице Жюсье. И завтра пропущу занятия, если пересплю с ней. – Нет, – ответил Пекер, – ты слишком спешишь. Эти девицы не заставляют себя долго упрашивать, но они и не настолько доступны, чтобы согласиться в первый же вечер. И тут же оживился, как всякий раз, когда речь заходила о женщинах. – Понимаешь, недотрогами их назвать нельзя. Они такие же, как и все другие женщины. Только они вкалывают по-черному и по характеру замкнуты. Нужно время, чтобы пробудить в них женщину. Например, они позволяют, чтобы их проводили, при условии, если к ним не станут сразу приставать и если это не нарушит их распорядок дня и привычки. Попробуй проводить ее на такси, и, если тебе повезет и она далеко живет, у тебя будет достаточно времени, по крайней мере на то, что можно будет сделать в такси. Но не надейся, что она пригласит тебя к себе. И сразу же, без перехода, обратился к Реми: – Тебе понравилась Оникс? – О! Ты знаешь…– начал Реми. – Классная девочка, – сказал Пекер.– Я хорошо с ней знаком. Не из породы стерв или шлюх. В «лавочке» она на хорошем счету. Ей платят, наверное, не меньше двух тысяч. – Две тысячи в месяц? – спросил Реми.– И это за то, что она делает на сцене? – А что тебя удивляет? Она из тех актрис, кто получает больше всех. А как ты думал? Мюзик-холл не театр. Конечно, Игорь и Капри зарабатывают значительно больше. А о Жозефине и говорить нечего: она непосредственно распоряжается выручкой от спектакля. Так ответь, Оникс тебе понравилась? – О! Ну как тебе сказать… По правде говоря, Реми больше всего боялся прослыть новичком. И потому не хотел показаться ни слишком заинтересованным, ни слишком равнодушным. Кроме того, он боялся, что Оникс могла неправильно истолковать его хорошее к ней отношение и подумать, что он имеет на нее определенные виды. Впрочем, он не мог сказать, что женщина ему не понравилась. А раз Пекер задал ему прямой вопрос, он решил честно признаться самому себе. И не мог дать точного ответа. Ничто не подсказывало ему, как быть. Тогда он подумал: «Наверное, так и бывает, когда женщина нравится и когда хочешь провести с ней ночь». (обратно)IV
Когда Реми подошел к Пуэнт Сент-Эсташ, сиреневые тона ночи под желтым светом горевших фонарей уже приобретали янтарный оттенок. Только что прошел дождь. Асфальт еще не высох, а от гор наваленных на тележках овощей исходил густой запах. На тротуаре уже собрались работники торгового предприятия «Яйца, масло и сыры Шассо» в ожидании, когда поднимется металлическая решетка центрального склада. Подойдя к ним, Реми подумал: «Чтобы пробраться к входной двери в дом, мне придется пройти мимо… Какая неудача! Прийти как раз тогда, когда все в сборе! И уже поздно повернуть назад. Меня заметили. Придется по крайней мере сделать вид, что для меня привычное дело возвращаться на рассвете. И надо, пройдя мимо, не забыть произнести какое-нибудь словечко, доказывающее, что я нисколько не смущен и чувствую себя вполне в своей тарелке». Он поравнялся со служащими. – Добрый вечер! – коротко поприветствовал он. Одни служащие насмешливой улыбкой проводили хозяйского сыночка, с которым можно было не церемониться, поскольку весь персонал был в курсе того, что Реми отказывался брать в свои руки бразды правления торговым домом, другие же, приложив палец к головному убору, ответили на приветствие молодого человека. И, только войдя в свою комнату, Реми понял, как не к месту прозвучали его слова «Добрый вечер» в четыре часа утра. Он лег спать, нисколько не сомневаясь в том, что какой-нибудь доброжелатель не замедлит оповестить отца о его позднем возвращении домой. «Посмотрим», – подумал он. И несмотря на то что любил читать перед сном, погасил свет. Ему захотелось вновь пережить в подробностях впечатления, которые он получил в течение прошедшего вечера. Однако не Оникс возникла перед его мысленным взором. И тем более не Капри. Он вспомнил выражение лица мадам Леоны, когда она рассматривала его эскизы. Он погрузился в воспоминания. Снизу и сквозь щели жалюзи на потолок проецировались полосы света от фонарей, освещавших по ночам Центральный рынок. Под маской пассивности и кажущегося безволия папаши Шассо скрывались кипучая энергия и редкая твердость характера. Так, владея в Париже шестью или восемью доходными домами, оставив пустовать старый отцовский дом и сад, расположенный в самом отдаленном уголке Пикпюса, и дом в Сен-Морисе, находившийся на самой опушке леса, лишь для того, «чтобы можно было поехать туда в любое время, когда только появится желание», папаша Шассо предпочитал жить вместе с женой, дочерью и сыном в доме на Центральном рынке. По мере того как расширялась фирма Шассо, дом надстраивался. Он был зажат между соседними, хозяева которых также занимались поставками продовольствия и ревностно оберегали каждый квадратный сантиметр своей площади, а возведение дополнительных этажей в квартале, где по высоте зданий судили об успехе торгового дома, свидетельствовало о процветании фирмы «Яйца, масло и сыры Шассо». Торговый дом рос в высоту. Жилые помещения находились на самом верху. В комнату Реми свет проникал снизу, просачиваясь сквозь жалюзи, которые не поднимались даже на ночь, так как на Центральном рынке и ночью было светло, как днем. За плотно закрытыми ставнями своей комнаты, где проходила его юность, Реми чувствовал себя отгороженным от всего внешнего мира.***
Реми остерегся опаздывать к завтраку. Однако его уже кое-кто поджидал, в гостиной. Это была Агата. Все в семье звали ее Агатушкой. После смерти бабушки Шассо, у которой она была приживалкой, Агатушку оставили в доме «по священному обязательству». Раз и навсегда было решено считать ее членом семьи, и мадам Шассо из года в год повторяла одну и ту же фразу, которая первой приходила ей на ум, когда речь заходила об Агате: «Мы так любим нашу бедную Агатушку». По правде говоря, никто не обращал на нее внимания, кроме Реми, которого она просто обожала. Однако тихая и робкая, скромная во всем, даже в выборе одежды, Агатушка никогда не осмеливалась показывать свою привязанность к Реми, храня любовь к нему в глубокой тайне. – Мое положение таково, – говорила она, – что я должна знать свое место. Так, она почти никогда не раскрывала рот. Прислуга в доме говорила, что она обедала «с хозяевами». Можно было усомниться в этом: когда хозяева сидели рядом с ней за столом, она вела себя тише воды ниже травы. Но чаще всего она обедала, оставшись в одиночестве посреди пустой столовой. Папаша Шассо никогда не выходил к завтраку. С той поры, когда ему перевалило за сорок, он отдыхал с девяти утра до двух часов дня. Ему в самом деле приходилось все ночи напролет проводить на ногах в подготовке к открытию торгового дома. Два раза в неделю по вечерам у него проводились за ужином деловые встречи. В свою очередь мадам Шассо завтракала и обедала в городе; с годами она только укрепилась в своих привычках. После войны, когда ей было лет двадцать – двадцать пять, ее папаша также быстро разбогател на продаже продовольственных товаров. Выросшая во внутреннем помещении лавки, долгое время работавшая наравне со служащими своего отца, она и к тридцати восьми годам не смогла привыкнуть к праздности, богатству и благополучию. Чтобы окончательно заставить себя в это поверить, она непрестанно искала тому доказательства: покупала дорогие меха и вешала в шкафы, чтобы оттуда их больше не вынимать; вызывала машину, чтобы отправиться в большой универсальный магазин за какой-нибудь мелочью для шитья; посещала все званые чаепития. И обожала обедать в городе. В своем доме на Центральном рынке, который был для нее лучшим доказательством успеха, она никогда не устраивала приемов. Мадам Шассо приглашала гостей пообедать на стороне. Разве в свое время ее отец, желая отметить выгодную сделку или отпраздновать хорошее известие, не приводил ее в ресторан? Теперь она могла посещать каждый день рестораны и водить туда своих друзей. Там протекала вся ее светская жизнь. Ее дочь, Алиса, пошла еще дальше. Ей уже исполнилось девятнадцать лет, и все свое время она проводила в обществе «подружек», которых ни ее родители, ни ее брат и в глаза не видели. С самых ранних лет она вела себя в торговом доме Шассо как маленькая королева. Долгое время она досаждала служащим, мешала грузчикам, раздражала этот улей, где постепенно ее выходки избалованного ребенка стали вызывать зависть и ненависть, несмотря на то что повсюду ее встречали с улыбкой, ибо каждому была известна слабость папаши Шассо и чрезмерная любовь хозяйки к своей дочери. Между тем родившаяся в богатстве и воспитанная в роскоши, черствая душой Алиса считала своих родителей самыми заурядными людьми и говорила им это прямо в лицо. Всю свою неуемную энергию она тратила на слепое и почти бессознательное противодействие тому, что исходило от родителей. Мать не умела одеваться, отец не умел вести себя в обществе. И дела он вел совсем не так, как было надо. Даже если он и собирался что-нибудь изменить, Алиса могла заранее поклясться, что все его начинания обречены на провал. Следуя примеру вечно отсутствующей троицы (даже мадам Шассо иногда признавалась: «Ну да! У нас семья шиворот-навыворот!»), Реми в свою очередь редко обедал дома. Во время учебы в лицее он чаще всего завтракал в Латинском квартале, а обедал с приятелями, привыкшими к студенческим столовым. И теперь он появлялся к обеду только в тех случаях, когда кончались щедрые, но нерегулярные субсидии, которые выдавались ему родителями. Накануне он опустошил весь свой кошелек в ресторане «Рош»: у Пекера не оказалось денег, чтобы расплатиться по счету; кроме того, он взял у Реми в долг пять луидоров. Вошла мадам Шассо. – Позвоните, Агатушка, – сказалаона.– Алиса обедает в городе, господин отдыхает, однако это не причина, чтобы мы отказались от аперитива. Она осталась раз и навсегда верна своим вкусам и привычкам. Конечно, в ресторанах она не пила ничего, кроме порто и хереса, но дома ей не надо было лукавить перед собой, и она заказывала именно то, что ей хотелось выпить. Когда с ней был муж, он поступал точно так же. Что тоже, по ее мнению, было признаком благополучия. Легкость, с какой можно было удовлетворить свои потребности, выглядела в ее глазах роскошью. Лакей, словно официант в ресторане, записывал заказ. Ибо выбор хозяев был непостоянен и день на день не приходился настолько, что не находилось такого подноса или столика на колесах, который был способен вместить число заказанных ими бутылок. В те дни, когда мать чувствовала, что Алиса менее раздражена, чем обычно, она начинала ее упрекать за пристрастие к коктейлям. – Что это за варварский напиток, – говорила она, – только рот обжигаешь, к тому же все коктейли на один вкус. После ее слов папаша Шассо просил принести шамбери-фрезет, а его жена – сюз-касси. Вошел вызванный Агатушкой лакей. Мадам Шассо заказала себе мандарин-кюрасао, но Реми не последовал ее примеру. Он уже предвидел, что за кофе его ожидает скандал, который закатит, едва пробудившись, отец. В самом деле, папаша не упустил такого случая. И набросился на сына со свойственной ему энергией. – Ты, значит, хочешь, – произнес он, медленно растягивая слова, – чтобы весь Центральный рынок знал, что ты шляешься по ночам? Уже ни для кого не секрет, что ты считаешь ниже своего достоинства стать моим преемником, теперь тебе понадобилось, чтобы все узнали о том, что ты не ночуешь дома? – Я ночевал дома, так как пришел в четыре утра, – ответил Реми.– Если бы я знал… Прежде всего вам бы следовало разрешить мне жить отдельно. Тогда я бы мог делать то, что мне нравится, так, чтобы вам не приходилось краснеть за меня перед своими служащими. В конце концов мне уже восемнадцать лет! Реми всегда разговаривал с родителями резким и вызывающим тоном. Из чего можно было сделать вывод, что они друг с другом не ладили. Реми был уверен в том, что родители его ненавидят. На этот счет он ошибался, поскольку ни мать по своему легкомыслию, ни отец по своей неповоротливости ума не могли дойти до ненависти. Мать всего-навсего не любила своего сына. И отец, занимавшийся домашними делами от случая к случаю, целиком полагался на свою жену и тоже не любил Реми. Сын в свою очередь также не был подарком для родителей. Слишком привыкший к богатству, чтобы мечтать об его приумножении, он меньше всего думал о том, наследовать или нет фирму отца, сохранить или потерять моральное право на значительное состояние, которым владела его семья. Внешне беспечный, он, как ему казалось, презирал деньги, цену которым не знал, потому что никогда не испытывал в них нужды. Он никогда не задавал себе вопроса, как бы он выглядел с пустыми карманами. Гордый от сознания того, что может грубить родителям, он считал, что именно таким способом утверждается в своем бескорыстии. Между тем ему так не хватало их душевного тепла, что в своем поведении он находил горькое удовлетворение. – Ты же отвечаешь своим родителям, – твердила ему Агатушка.– Как это нехорошо! – Это происходит помимо моей воли, – говорил он, – я ничего не могу с собой поделать. Возможно, он вел себя так помимо своей воли, но нельзя сказать, что он не отдавал себе в этом отчета. Словно какая-то сила толкала его идти напролом, закрывая все пути к отступлению и углубляя конфликт с родителями. Однако эта сила была осознанной и одновременно жестокой и утешительной. – А Алиса? – говорил он своему отцу.– Когда она возвращается в семь часов утра, разве можно сказать, что она ночует дома? А она меня старше всего на год. И к тому же она – девушка. – Что же ты выдумываешь о своей сестре?! – воскликнула мать. – Но я вовсе ничего не выдумываю. Я только констатирую, что она не ночует дома, а я ночью бываю дома. А было бы лучше, если бы все происходило наоборот. Ведь это не я – девушка на выданье! Я вам уже не раз говорил, что мне безразлична моя репутация на Центральном рынке. Вы хотите женить меня на дочери Трето, чтобы объединить два торговых дома; я знаю, вы только об этом и мечтаете. А я вот и не женюсь! Почему бы вам не обратиться с таким предложением к Алисе? Трето имеет еще двух сыновей, так что у нее есть выбор. Она может взять себе в мужья любого из них, раз вам так уж хочется породниться с этими людьми. Мать визгливым голосом стала выкрикивать какие-то бессвязные доводы. Реми взглянул на отца, который с отсутствующим видом следил за перебранкой, время от времени одобрительно покачивая головой. Без всякого сомнения, в делах, в отношениях с заказчиками или со своими служащими этот человек был авторитетом и умел пользоваться своим жизненным опытом, проявлял деловую хватку и, наконец, шевелил мозгами. Однако в домашней обстановке Реми видел его вечно дремавшим и мало соображавшим, что происходит вокруг. Перебранка перешла в спор. Агатушка, не привыкшая к подобным сценам, не поднимала глаз от своей тарелки и дрожала от страха. После она скажет Реми: «Мое сердце, оказывается, еще может биться». – В любом случае, – с победоносным видом заявил Реми, – я плевать хотел на все: мне обещали работу. Я буду делать декорации для мюзик-холла. – Что? – спросила мать. – Отлично! Вы всегда меня считали ни на что не способным. Если бы вы дали мне сказать… И он рассказал, не без самолюбования, о встрече с мадам Леоной. Удивленные и охваченные любопытством перед совершенно неведомым им миром, доступ в который открылся перед их отпрыском, мать и отец выслушали его молча. Затем, как люди, считавшие, что им втирают очки, они сделали несколько скептических замечаний. – Я снова туда вернусь, – сказал Реми.– Я должен подготовить им новые эскизы. У меня назначена встреча. Через две недели, когда закончится очередное представление. – О! – воскликнула мать.– Ты мне достанешь билеты? А отец: – Ты как подпишешь свои эскизы? Шассо? Реми взглянул на отца, который, задавая этот вопрос, принял напыщенный вид. Сын не постеснялся засмеяться ему в лицо. – Ну как тебе сказать, – не сразу ответил он, – я еще об этом не думал. Такая мелочь. Я даже не знаю, на что решиться. (обратно)V
– Но у меня в квартире, – сказала Пьеретта Оникс, – есть свободная комната, а я живу одна. Я ее вам охотно уступлю. Вы можете жить в ней, пока ваш отец не сменит гнев на милость. Пьеретта Оникс принадлежала к числу тех женщин, у которых нет своего собственного словарного запаса и которые в разговоре используют слова, сказанные их собеседником. С Пекером она говорила на жаргоне, принятом в мюзик-холле. Однако, видя перед собой открытое лицо юноши, глядя в его чистые глаза, отдавая должное его скромности, несомненно, чувствуя влечение к нему с первого дня их встречи, Оникс более тщательно следила за своей речью. Такое подражание речи своего собеседника, которое встречается реже, чем можно предположить, в театральном мире, где актеры, отыграв свои роли в спектакле, пытаются утвердиться как личности, позволяло Оникс равно нравиться директорам и авторам, костюмершам и импрессарио. Именно за это она считалась умной женщиной. Однако Оникс не настаивала, полагая, что сказала все, что можно сказать в данном случае. Она знала о неприятностях Реми, которые он и не думал скрывать от нее. Надувший щеки, похожий на сосуд, до краев наполненный густой жидкостью, папаша Шассо вышел из состояния привычной апатии под влиянием жены, которую в свою очередь подстрекала Алиса, давно мечтавшая избавиться от Реми, и дал сыну на устройство три месяца. Если никчемный оболтус не устроится за это время на работу или не найдет себе надежного и постоянного дела, вместо того чтобы предаваться россказням об эскизах, продающихся якобы по пятьдесят франков направо и налево, тем хуже для него! Ему будет указано на дверь! И никаких субсидий! Когда отпущенные ему три месяца подошли к концу, Реми ушел из дому. Несмотря на то что номера в гостинице Жюсье были недорогими, оставшихся у него в кармане двух тысяч франков ему хватило лишь на две недели – ведь Реми никогда не умел распределять свои расходы. Вскоре Реми стал завсегдатаем ресторана «Рош». Благодаря Пекеру и Оникс он стал здесь постоянным клиентом. Обычно сразу же после генеральных репетиций и представлений, в которых она принимала участие, Оникс возвращалась домой. Теперь она изменила своим привычкам и каждый вечер заглядывала на бульвар Рошешуар. Призвав себе на помощь терпение и используя свое умение внимательно выслушивать собеседника, она постепенно и ненавязчиво сумела приручить восемнадцатилетнего Реми. Однако она была единственной из всего его окружения, кто до сих пор не перешел с ним на «ты».***
Реми не боялся женщин. И он не опасался разочарований в первую ночь любви. Он уже кое-что знал о сладострастии. Так, несколько знакомых ему девушек из числа партнерш по теннису в лесу Туке, подружка, с которой он плавал в бассейне и которая пригласила его однажды к себе домой, предоставили ему возможность приподнять завесу, прикрывавшую до сих пор тайну. Однако симпатизировавшие ему девушки старались воспользоваться его любезностью и не принимали юношу всерьез. По каким-то своим и, несомненно, веским соображениям они не пожелали, по крайней мере с ним, перейти определенную черту. Что же касалось Реми, то он охотно бы пошел дальше. Он вовсе не походил ни на нервного подростка, озабоченного ранним половым созреванием, ни на молодого человека, заглушавшего свою чувственность перегрузками в спорте. Его глаза не горели беспокойным огнем, под ними не было темных кругов, какие бывают у юношей в период становления. Однако и ему ночью являлись видения. И он порой просыпался утром, чувствуя себя совершенно разбитым. Испытывая волнение от близости некоторых женщин, но отнюдь не от каждой проходящей юбки, он не чувствовал в себе робости и был вполне готов перейти к активным действиям, сгорая от любопытства поскорее вкусить запретный плод. Ему уже была известна прелюдия к тому, что он считал любовью. Он был почти уверен в том, что любовь и наслаждение идут в одной упряжке и если мужчина, скинув одежду, ложится в постель с обнаженной, как и он, женщиной и занимается с ней любовью, то чувство любви должно неизбежно возникнуть при соединении их тел, и утром мир увидит новую чету влюбленных. Итак, ему не терпелось поскорее познать все радости бытия. Но это стремление не сопровождалось у него юношеской нервозностью. Он еще не знал о том, что любовное томление есть состояние души. Благодаря материальному благополучию, которым он был с детства окружен, а также некоторой неторопливости ума, унаследованной от предков-крестьян, живших на земле и кормившихся за ее счет, которая передалась его отцу, а от отца к нему, наконец, благодаря природной лени, которая только получила свое развитие, его натуре были чужды сомнения и душевные переживания, свойственные подросткам в период становления их характера. Кроме того, он был лишен свойственных юности романтических иллюзий. Все, кто его окружал, начиная от Лулу Пекера и кончая собственной сестрой, в том числе школьные приятели и девушки, с которыми он знакомился во время каникул, – никто из них не верил в любовь и, кроме того, не мог похвалиться своим богатым внутренним миром. Реми не принадлежал к числу восторженных юношей. Да, он верил в любовь. Но имел о ней представление, как любой другой молодой человек из буржуазного общества, ожидавший от любви больше удовольствий, чем взрывы бурных чувств. Таким образом, ничто не сдерживало Реми как можно раньше испытать удовольствие, если не брать в расчет легкой неуверенности в себе. Если бы ее не было, Реми не испытывал бы беспокойства, присущего всем неопытным юношам и определяющего их судьбу в течение нескольких последующих лет. Больше всего он опасался в первую ночь любви оказаться несостоятельным любовником. Короче говоря, он боялся не понравиться своей партнерше. От первой ночи любви он не ждал особо острых ощущений, но все же надеялся, что будет на высоте. И боялся проснуться поутру с любовью в сердце и разочарованной женщиной в постели. Почувствовав, что все идет к тому, что Пьеретта Оникс станет его любовницей, он сказал себе: «Случай сам идет в руки. Именно эта женщина делает первый шаг; кроме того, я не уверен, что она мне не нравится. Отлично. Я не заставлю себя долго упрашивать. Правда, у меня не было до нее женщин. И надо вести себя так, чтобы она ничего не заметила. Нельзя расслабляться. Иначе в решающий момент я могу себя выдать каким-нибудь неосторожным движением». Как только он оказался в постели с Оникс, он спрашивал себя только об одном: «С чего начать?» Это стало для него навязчивой идеей. Он лежал, вытянувшись во весь рост на спине, рядом с обнаженной, как и он, женщиной. Чтобы собраться с духом, он не шевелился и даже не пытался дать ей понять, что плоть его уже начала восставать. Просунув руку под голову женщины, он положил голову на ее плечо. Отозвавшись на первый, еще целомудренный порыв молодого человека, Оникс благосклонно приняла его ласку. Впрочем, начиная с какого-то времени Реми приводил ее в замешательство. Она думала, что ей будет нелегко увлечь Реми. Он представлялся ей, как она однажды сказала Пекеру, девственником. Ей было тридцать лет, и она не забыла, какие юноши были в ее время – более сноровистые либо более настойчивые. Еще немного, и она могла бы сказать: «Как сильно изменилась молодежь». С первой их встречи в ресторане «Рош» он подкупил ее своей мягкостью, особенно заметной на фоне Пекера, который их и познакомил, и она подумала тогда, что перед ней молодой человек, которого нелегко будет завоевать. И вот стоило ей только заикнуться, как он тут же согласился переехать к ней и, как ей показалось, нисколько не смутился двусмысленности ее предложения. В первую же ночь он вышел из комнаты для друзей и, постучав, вошел в спальню хозяйки квартиры. Подойдя к диван-кровати, он, не торопясь, снял пижаму («Прелестное тело», – заметила про себя женщина) и, ни слова не говоря, улегся рядом. «Столь непринужденное поведение, – подумала она, – что это? Цинизм или отсутствие опыта? Да, конечно, молодежь уже не та, что была в двадцатые годы». Ибо больше всего ее смущало, что он не торопился с ласками и, похоже, чего-то ждал от нее. Ждал, но чего? Наконец она решилась и обняла его первой. Реми слегка отодвинулся. Оникс отдернула руку. Теперь она и вовсе не знала, что подумать. Инициатива партнерши вывела Реми из оцепенения. Обдумав план действий, он принял решение и должен был претворить его в жизнь. Его замысел был прост. Он знал, что в большинстве случаев неопытные молодые люди проявляют излишнюю торопливость, стремясь поскорее достичь конечной цели, и идут к ней напролом, ничего не замечая вокруг и не давая возможности не поспевающим за ними партнершам пройти свой путь. Он часто слышал откровения женщин, утверждавших, что молодые люди – посредственные любовники. «Да, они – эгоисты, – говорили те, – ведут себя, как молоденькие петушки». Реми знал, что женщины предпочитают тридцатилетних за сдержанность, умение владеть собой и не забывать о партнерше, то есть заботиться не только о собственном удовольствии. Этому умозаключению он был обязан своим несостоявшимся любовницам. Уже сформировавшиеся как личности, стремившиеся урвать все для себя и отнюдь не спешившие доставить удовольствие ему, посвященные в тайны любовных игр, они в некотором роде подготовили его так, как натаскивают пса, выхватывая из-под носа приманку.***
Он не двигался. Но лицом прижался к затылку женщины. Прикоснувшись губами к шее, он поцеловал ее за ухом, затем в уголок пониже виска. «А мои руки? – подумал он.– Что мне с ними делать?» Решив перейти к конкретным ласкам, он запустил пальцы в волосы Оникс, однако не уверенный в том, может ли понравиться женщине, что ей треплют волосы в постели, он постарался не слишком портить ее прическу. Слегка прикоснувшись к мочке уха женщины, его губы скользнули по щеке и только потом прижались к ее рту. На этом и заканчивался весь его предыдущий опыт. Ему уже приходилось не раз целоваться, но теперь ему хотелось показать, на что он способен. Сделав над собой усилие, он раскрыл свои губы лишь после того, как почувствовал ответное желание Оникс: рассудком он понимал, что нельзя торопить события, а инстинкт подсказывал, что надо поскорее браться за дело. Он ощущал себя как бы зрителем на спектакле, который он специально давал для Оникс, желая удивить и ублажить молодую женщину. Не теряя над собой контроль, он в то же время непрерывно следил за ответной реакцией своей партнерши, боясь упустить малейшее ее движение. И вскоре его внимание полностью переключилось на женщину; его разум не терял ясности и как бы отделился от тела, словно ему стали безразличны собственные ощущения и его чувственность притупилась. На какое-то мгновение он даже испугался, не подведет ли его собственная плоть. Сбитая с толку, Оникс пассивно плыла по течению, не проявляя инициативы, что ей казалось вполне уместным в данных обстоятельствах, если учесть возраст этого странного юноши и чувства, которые она к нему питала. Ей оставалось лишь покориться и ждать. Поцелуи его становились все настойчивее. Оставив волосы Оникс в покое, он провел левой рукой вдоль ее плеча и остановился на округлости груди. Подложив правую руку под спину женщины, он коснулся ее правой груди. Таким образом ее грудь оказалась в кольце его рук. Затем на смену рук пришли губы. Реми уже больше не сомневался в своей мужской силе: он убедился, что может управлять своим желанием и что его мужественность подчиняется воле. Реми приподнялся и прижался ногами, животом, грудью к дрожащему телу женщины. От него исходило тепло. Взяв женщину за талию, он слегка сжал руки. Затем одной рукой он потянулся к ее бедру, а от бедра ниже, к лону. Ее бедра раскрылись, готовые его принять. Он не отвел руку, она как бы существовала сама по себе и сделала остановку лишь для того, чтобы продолжить свой путь для дальнейших ласк. Еще не набравшийся опыта в общении с женщинами, Реми считал, что весьма успешно справляется с поставленной задачей, вызывая у женщины приливы и отливы желания, оттенки которого ему уже были известны: как только он чувствовал ответную реакцию, он тут же убирал руку. «Чем меньше я буду спешить, – размышлял он, пристроив голову на груди Оникс и неустанно работая руками, – тем меньше вероятность, что она догадается о моей невинности. Если я буду заниматься только ею и забуду на время о своем интересе, она подумает, что я – опытный мужчина. И будет стремиться получить удовольствие». Прошло еще несколько минут. Оторвав губы от ее набухших сосков, которые он целовал в течение нескольких секунд, Реми, немного подтянувшись, устроился так, чтобы иметь под ногами опору. Его губы ощущали нежность кожи ее груди, упругость ее живота. «Это потому, – подумал он, – что она постоянно тренируется». Голова Реми скользнула вдоль ее живота и, остановившись внизу, замерла. Он не изменил своей тактики и языком продолжал делать то, что начал руками. В тот момент, когда он почувствовал, что женщина находится на грани, за которой начинается сладострастие, он откинул голову и замер на несколько секунд. Затем продолжал ее ласкать. И так несколько раз подряд. «Ну вот, – размышлял он, – теперь-то я в ее глазах не выгляжу несмышленышем. Или надо еще что-то сделать?..» Время работало на него. Ибо в конце концов его партнерша достигла такой степени возбуждения, что он услышал ее прерывистое дыхание и почувствовал, как жар исходит из ее лона. Наконец он решился. Но теперь это был уже не его порыв, а лишь уступка женщине: он уступал ее нетерпению, поддавшись ее странной, непонятной ему тревоге, звеневшей в ней, словно готовая лопнуть струна. Одним рывком он приподнялся, а затем упал на нее всем телом, подмял под себя, дав ей возможность ощутить на себе всю тяжесть его тела, и вошел в нее. С криком к ней пришло освобождение. По-прежнему напряженный, он оставался в ней. Женщина пылала огнем; принимая его, она обожгла его своим пламенем. Словно опущенный в кипящий котел, он не испытывал ничего, кроме почти болезненного ощущения, и, чтобы не потерять над собой контроль, ему пришлось удвоить усилия, стремясь не забыться… И если он достиг цели, так только потому, что, проявив терпение, загнал в угол свою чувственность, надолго задержав ее исход. Однако женщине не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Реми увидел, что она снова готова к ласкам. Он захотел довести ее до вершины блаженства, предприняв новый штурм. Разбудив ее чувственность, он неожиданно понял, что не способен сдерживаться… Вот где ошибка, которую он больше всего боялся совершить!.. Какая непростительная ошибка! На этот раз он оттолкнет от себя женщину… Но нет! Ибо она тоже поняла, что наконец-то он теряет свое удивительное самообладание и со стоном приближается к мощному всплеску жизненной энергии. Она уже почти сомлела в его объятиях. И именно в этот момент, когда она едва не потеряла сознание, Реми наконец подошел к заветной черте и позволил себе расслабиться. Он бы наверняка тут же уснул как убитый, если бы она, вернувшись из ванной, не легла рядом с ним. Растормошив задремавшего юношу, она приподнялась на локте и пристально посмотрела на него, не скрывая своего удивления. – Ну, знаешь ли, – произнесла она, – ты можешь поставить себе в заслугу, что водил всех нас за нос! Я совсем не ожидала подобного звездопада. Скажи, как тебе это удалось? Услышав подобную оценку, Реми не смог сдержать улыбки. Однако улыбка только скользнула по губам юноши – ее слова возвратили его на несколько минут назад, и он с особой ясностью ощутил, что испытывает легкое разочарование. Подлинная и полная радость обладания, которая зовется любовью, казалась ему ранее совершенно другим и более сильным чувством, нежели то ощущение, которое он только что испытал. Он предполагал, что наступит такой момент, когда их разум одновременно затуманится и они полностью потеряют над собой контроль. На самом же деле ничего из ряда вон выходящего не произошло. Однако лежавшая рядом с ним женщина не предавалась подобным размышлениям; она думала совсем о другом. Покачав головой и глядя на распростертое перед ней, не прикрытое простыней обнаженное тело юноши, она без всякого стеснения смерила его взглядом с ног до головы, словно это тело, сохранившее местами хрупкость подростка, эти руки и торс, узкие бедра и мужские достоинства скрывали секрет столь удивительного любовника, и произнесла: – Подумать только! И Пекер мне говорил, что ты не знал раньше женщины!***
Вернувшись из ванной комнаты, он спросил: – Ты не против? И подошел к окну. – Я не люблю, когда ночью закрыты ставни и опущены шторы. Мне нравится, засыпая, видеть ночные огни. Ты позволишь? Оникс поспешила его заверить, что разделяет его вкусы. Из-за этой малости она не хотела противоречить своему новому и такому умелому любовнику. Деревянные кольца штор, за которые он с силой потянул, со стуком ударились друг о друга; рамы окна скрипнули. В тишине ночи раздался шум раскрывающихся ставней, и этот звук, долетев до стоявшего напротив дома, эхом вернулся назад. Оникс жила на узкой улице. Реми так и не удалось заснуть. Поутру Оникс прижалась к нему. В сером свете зарождавшегося дня, который уже заполнил комнату, он овладел ею еще раз. И снова сон пришел к женщине и бежал от юноши. Время шло. Часы на улице пробили девять утра. Комнату по диагонали осветил солнечный луч. Реми нравилось смотреть в окно, свободное от решеток и штор. Он видел часть стены соседнего дома, над которой высоко в небе медленно плыли облака. Спавшая рядом с Реми женщина шевельнулась. Он тут же повернулся к ней лицом. Она приоткрыла глаза. Узнав молодого человека, она улыбнулась. Он же, напротив, увидел, что ночь явно не пошла ей на пользу и яркий утренний свет это безжалостно подчеркивал. Неужели таким должно быть лицо любимой?.. – Ты…– начала она. «Мне надо ей что-то сказать», – подумал Реми. В конце концов, этой ночью он одержал первую победу. Надо было закрепить успех какой-либо удачной фразой. Склонившись к лежавшей женщине, он произнес: – Еще ни разу в жизни я не встречал подобного рассвета. (обратно)VI
Итак, он сам заставил себя в это поверить. У него не оставалось сомнений, что жизнь его коренным образом изменилась. Теперь он стал мужчиной. Мало того, что у него была любовница, с которой он вместе жил, что само по себе было немало и свидетельствовало о его мужской независимости, он преступил последний порог, отдалявший его от семьи. Вступив в эту любовную связь, он одновременно освободился от родительской опеки. С этого дня все вокруг предстало перед Реми совершенно в другом свете. Уже не могло быть и речи, чтобы он вел себя так, как раньше. На всех окружавших его людей Реми теперь смотрел совсем другими глазами и с удивлением обнаружил то, на что раньше не обращал внимания. В нем изменилось все: и походка, и осанка. Если бы ему позволяли средства, он бы охотно сменил свой гардероб. Он, естественно, предположил, что его лицо, весь облик говорили о происшедшей с ним, как он верил, перемене. Эта беспокойная и радостная мысль будоражила его. «Разве по темным кругам под глазами, по резко очерченной линии рта, по изменившейся манере держаться это не бросается каждому в глаза?» – думал он. Этот вопрос вертелся у него в голове, когда он направлялся на Центральный рынок впервые после ночи любви. Если же и впрямь «это» так заметно со стороны, то в родном доме на Центральном рынке его ожидают самые едкие замечания. Ни тугодум-отец, ни легкомысленная мать, ни злая и острая на язык сестра не промолчат и отпустят колкость в его адрес. Ибо Реми еще не окончательно порвал со своей семьей. Отпустив его из-под родительского крыла, папаша Шассо считал, что после испытания жизнью сын с покаянием вернется в лоно семьи. Относившийся скептически к способности Реми заработать себе на хлеб, рачительный и терпеливый папаша Шассо спокойно выслушивал россказни сына о будущих заказах, заявляя при этом, что сделает окончательные выводы, когда будут конкретные результаты. В глубине души он был даже доволен занимаемой им позицией. И вот теперь Реми собирался оповестить домашних о своих успехах. Ему не терпелось похвастаться перед отцом. Папаша Шассо не сможет оставаться равнодушным, узнав о тройном заказе – на изготовление декораций, роспись занавеса и подготовку костюмов, – который он только что получил. Разумеется, он не скажет ни слова о том, что его участие в этой работе ограничится вторыми ролями. Его эскизы доработает и подпишет своим именем Сэм, официальный художник мадам Леоны. Реми не заикнется и о том, как он сумел получить этот заказ, который стал первым признанием его таланта, ибо заказом он был обязан даже не своему приятелю. Легкомысленный болтун Пекер десять раз клятвенно обещал Реми напомнить мадам Леоне и каждый раз забывал. В конце концов на следующий день после переезда Реми, ничего ему не сказав, Оникс по собственной инициативе обратилась к своей хозяйке. Сыграла ли тут роль женская солидарность или авторитет одной из самых трудолюбивых танцовщиц, так или иначе, но ей удалось за пять минут получить заказ для своего юного любовника.***
Реми нашел отца на складе. Он вошел внутрь, чтобы пожать отцу руку, и тут же похвалился своим успехом. – Поздравляю! – произнес папаша Шассо доброжелательным тоном, принимая на веру слова сына, но сохраняя при этом невозмутимый вид.– Несмотря на то что ты ушел от меня, мне все же приятно слышать, что ты нашел работу; если тебе нужны деньги, обратись к кассиру. Я уже дал соответствующее распоряжение. Но предупреждаю, что тебе не следует рассчитывать на крупный счет в банке. – Спасибо, папа, – ответил Реми, – мне пока ничего не надо. И замолчал, не сводя глаз с отца, давая возможность тому как следует его разглядеть. Однако отец воздержался от каких бы то ни было высказываний. Реми поднялся наверх. Живительно, но его мать и сестра оказались в этот день дома. Они только что возвратились с какой-то пышной свадьбы. Алиса потащила за собой мадам Шассо, любительницу светских развлечений, просившую дочь выводить ее в свет. Алиса не пропускала ни одного случая, заранее уверенная в том, что каждый подобный выход будет сопровождаться солидным чеком, который выдаст мать, не ожидая просьбы дочери. – Как тебе нравятся наши платья? – спросила мадам Шассо.– Черный цвет всегда в моде. А что ты скажешь про новый покрой? Правда, он делает меня стройнее и выше ростом? Как хорошо, что твоя сестра отвела меня к Фабье. Я больше не буду шить у Люси Рено. Ее переполняло чувство признательности к дочери. Обожая пускать пыль в глаза, но в то же время не желая попусту транжирить деньги, мать поставила в вазочку с водой букетик орхидей, украшавший ее меха по случаю столь изысканного приема. За маленьким столиком Алиса обгладывала крылышко цыпленка. – Там совсем было нечего есть, – заявила она. – Как ты привередлива, моя дорогая крошка! – сказала мать.– Лично я не могу с этим согласиться… О! Реми, если бы ты видел, какие там были туалеты!.. Ни одна из женщин даже не взглянула на него. Он обрадовался, что, занятые собой, они не удостоили его вниманием. После всех волнений у него отлегло от сердца, хотя он все же почувствовал легкую грусть. В привычной домашней обстановке он ощутил себя чужим. Как хорошо, что он покинул этот дом! Эта мысль, в истинности которой он убедился еще раз, настраивала его одновременно на радостный и горестный лад. В бельевой комнате он отыскал у окна Агатушку, сидевшую, как всегда, за шитьем. По ее словам, именно здесь было лучшее освещение для ее слабых глаз. На самом деле Агатушка только в этой комнате чувствовала себя как дома. Увидев Реми, она произнесла: – Присядь рядом со мной, мой дорогой малыш, я так давно тебя не видела! Он сел. Подслеповатыми от старости глазами Агатушка посмотрела на него сквозь очки. Реми вспомнил, что год назад ей удалили катаракту. Агатушка тут же снова опустила глаза к рукоделию. Это был старинный коврик, найденный однажды в шкафу. Агатушка задумала привести его в порядок и уже не один месяц молча корпела над ним. Реми не спешил уходить. Бельевая была наполнена запахами свежевыглаженного белья, шерсти, сушившейся в мотках, и просто пыли. Они напомнили Реми запахи его детства. Выходя утром из квартиры Оникс, где вместо любви, о которой мечтал, он обрел лишь плотские радости, житейские удобства и холостяцкую обстановку, больше всего на свете ему захотелось окунуться в атмосферу не столь отдаленного детства, тоже не баловавшего его теплом домашнего очага. – Что с тобой? – спросила Агатушка. – Ничего. – Нет, мой дорогой малыш, – возразила старушка, не поднимая головы от своего шитья.– Скажи, ты крепко спишь по ночам? Он не ответил. Мужество его оставило. Так, значит, только она одна «это» заметила… Только она, скромная и неприметная, с седыми, отдающими желтизной волосами, с бледным восковым лицом цвета старой слоновой кости, молчаливая и вздрагивавшая от неожиданности при каждом обращенном к ней вопросе, ни разу не улыбнувшаяся на вольные шутки, которые любила отпускать Алиса, только она, эта бедная старая дева, разглядела своими слабыми глазами… Они не обменялись больше ни словом. Он не ответил на ее вопрос, и она его не повторила. Склонившись над работой, где под пяльцами выделялся рисунок и была видна ветхость ткани, она чуткими пальцами опытной швеи нащупывала иголкой места с гнилыми нитками, чтобы ловко прихватить новой ниткой, и хранила молчание. Еще в детстве, когда маленькому Реми удавалось ускользнуть от злых придирок Алисы, от бестолковой ругани матери, он прибегал к Агатушке, чтобы найти утешение у этой вечной труженицы. – Замолчи, – коротко говорила она в ответ на его жалобное нытье, – ты не должен осуждать свою мать: ведь она прежде всего твоя мать. И свою сестру: она – твоя сестра. Да! Да! Именно так! Есть вещи, о которых детям не дано судить. Садись рядом со мной и вытри слезы. Подожди немного. Пройдет несколько минут, и ты забудешь о своей обиде. И детские слезы вскоре высыхали так же, как иссякают воды родника, когда ему перекрывают источник питания. Молодой человек успокоился. Реми смотрел на Агатушку, которая, склонившись над своим рукоделием, была похожа на старую крестьянку, работавшую на своем огороде. Казалось, что быстротекущее время стало ее союзником, товарищем, другом. В этом лишенном душевного тепла доме она находила успокоение лишь в стремительном беге времени. Оно помогало скрасить одиночество старой женщины. Как будто они заключили договор о взаимных услугах. Именно время помогло ей понять, что она, находясь «на особом положении» в доме, не должна сидеть сложа руки и в то же время не суетиться. Казалось, прежде чем заговорить, она что-то выжидает – может быть, когда наступит именно тот момент, который лишь она одна способна распознать. Неожиданно она произнесла: – Будь осторожен. – А! – только и произнес в ответ Реми, который сидел до сих пор молча, не шевелясь, словно своим ответом не хотел нарушить тишину. – Да, будь осторожен, мой любимый малыш, остерегайся плохих женщин, – произнесла Агатушка. На этот раз Реми улыбнулся. Однако она продолжала: – Я знаю, что говорю! Не такая уж я несведущая, как кажусь на первый взгляд. Жизнь научила меня многому, о чем другие даже и не догадываются. Если бы я могла рассказать о том, что мне известно!.. А пока слушай: я расскажу тебе историю, происшедшую в моей семье, которую я не рассказывала никому со времени окончания войны в Тонкине. Ты, наверное, помнишь, что моя дорогая сестра постриглась в монахини после того, как убили ее жениха под Тонкином в восемьдесят втором году? Хорошо! И вот с той трагической даты прошло более пятидесяти лет… Да, как быстро течет время!.. И вот с того дня я никому на свете не рассказывала нашу семейную историю. Я должна тебе сказать, что, когда я была маленькой, никто бы никогда не мог предположить, что я буду доживать свои дни приживалкой в чужом доме. Нет, нет! Семья Палларуэль де Кордес была богатой. Но Бог распорядился так, что в один злочастный день мы полностью разорилась и мне пришлось скитаться по чужим углам. Я ничего не могу сказать про твою бабушку Шассо, которую ты не знал. Она была сама доброта. Но не надо думать, что, если я храню молчание, мою душу не ранят унижения. Ах, нет! Мне грешно жаловаться. А потом я всегда могла бы отправиться умирать в родные края, где до сих пор стоит наш дом, в котором никто не живет и куда я езжу раз в год. Значит, мне не так уж и плохо здесь. Оторвавшись наконец от работы, она подняла голову и посмотрела на Реми. Ее руки могли несколько минут отдохнуть. Она улыбнулась. Серые глаза Агатушки под толстыми стеклами очков всматривались в Реми с таким напряжением, что, казалось, готовы были вылезти из орбит. Но это продолжалось недолго. Она снова склонила голову над работой. Ибо она никогда не была щедрой в проявлении своих чувств. – Короче говоря, мы были богаты. Нас с сестрой поместили в лучший монастырь в Альби, славившийся своей безупречной репутацией в воспитании девушек. Затем семья переехала в Париж. Папа рассчитывал заняться финансовыми операциями, и мама позволила себя убедить в том, что он прав. Семидесятипятилетняя женщина, вспоминая своих родителей, называла их «папа» и «мама», словно маленькая девочка. И в самом деле казалось, что ее жизнь остановилась во времена войны в Тонкине и с той поры Агатушка лишь доживала свой век, превращаясь из молодой женщины в старушку, оставшись навсегда Агатой Палларуэль, последней представительницей богатой в прошлом семьи. – И тут начались наши беды. В Париже папа завел многочисленные знакомства. О! Я тогда была еще совсем несмышленышем и узнала обо всем, что произошло, позднее от мамы. Кроме того, мы с сестрой учились в прекрасном пансионе на левом берегу. У папы появлялись все новые и новые друзья. Он пользовался большим успехом. Да, он умел нравиться. Ах, если бы ты его видел!.. Почти все вечера он проводил в клубе. Он был принят как свой в среде артистов и любителей цирка. Увы, у мамы часто были заплаканные глаза! Помню, когда меня и мою дорогую сестру привозили из пансиона к семи часам вечера, мы не раз заставали маму в будуаре в полном одиночестве. В ее руках не было ни рукоделия, ни даже журнала. Порой она сидела в темноте: ей было недосуг попросить прислугу принести к ней в комнату лампу. Наконец спустя несколько месяцев мама однажды объявила, что нам придется изменить наши привычки, отказаться от прислуги, уйти из пансиона и самим зарабатывать себе на жизнь. Папа полностью разорился. К счастью, друзья нашли ему работу в колонии. Он уехал. Моя дорогая сестра давала уроки рисования до самой помолвки. У меня не было таких способностей, как у сестры, и меня приютила бабушка Шассо. Вскоре от горя скончалась моя бедная матушка. Говорят, что такие жизненные ситуации встречаются лишь в книгах. Агатушка оторвалась от рукоделия, словно вглядываясь в прошлое, в тот утраченный навсегда мир, с которым была связана вся ее жизнь. Реми не шевелился. Она продолжала: – Ты, наверное, думаешь, зачем я тебе об этом рассказываю? Хорошо, ты сейчас поймешь… Как тебе сказать… Словом, папа нас разорил из-за одной женщины. Вот, ты видишь… я даже могу тебе сказать, чем занималась эта женщина. Но это останется между нами, не так ли? – Ну конечно. О чем вы говорите! – Она была наездницей. И, как бы делая вывод из всего сказанного, добавила: – Я рассказываю тебе о прошлом. (обратно)VII
Однажды в пятницу, когда Реми работал утром над эскизами в квартире Пьеретты Оникс, он с удивлением заметил, что она так и вертится около него, что было совсем несвойственно этой женщине, сдержанной, ненавязчивой, старавшейся ни при каких обстоятельствах не связывать молодого человека. В своей просторной однокомнатной квартире, состоявшей из спальни и ванной комнаты, она позволила Реми устроить мастерскую. Она придвинула к окну длинный дешевый стол в современном стиле, за которым раньше обедала. С того дня, как у нее поселился Реми, она перестала устраивать дома холостяцкие пирушки и товарищеские вечеринки; по утрам же они завтракали вместе за столом для игры в бридж, который теперь использовался не по назначению. Реми нравилось работать в доме Пьеретты Оникс. Ей были известны все секреты мюзик-холла, что позволяло порой подсказывать юному любовнику удачные решения. Ее замечания были не только конкретны, они помогали Реми избежать карандашных правок мадам Леоны. Оникс никогда не навязывала своего мнения, а всегда терпеливо ожидала, когда он спросит ее совета, если работа над эскизом подходила к концу. И ему показалось странным, что она склонилась над еще незавершенным эскизом. – Если это предназначается Капри, – сказала она, – необходимо предусмотреть нижний костюм. Капри не станет танцевать в таком длинном платье до конца номера. – Но это же вальс, – возразил Реми.– В сцене, посвященной Вене, она исполняет вальс. – Ну и что? Не сомневайся, вальс будет с элементами акробатики. Капри в танце всегда использует элементы акробатики. Оставь юбку для выхода, но придумай облегающий тело нижний костюм, чтобы она смогла сбросить платье. Реми зажег сигарету. Стоявшая рядом Оникс была в пижаме. Поплиновая ткань плотно облегала ее упругие груди. Мужской покрой одежды подчеркивал узкую линию ее бедер. И только еще не подправленное косметикой лицо при ярком дневном освещении не выглядело свежим. Лишь со сцены глаза Оникс казались большими, а в жизни они были совсем иными. Маникюрной пилочкой она приводила в порядок ногти. – Хорошая погода, – произнесла она, не отрываясь от своего занятия.– На этой неделе ты поедешь куда-нибудь отдохнуть? На выходные дни приятели из гостиницы Жюсье часто прихватывали с собой Реми за город на автомобиле. Занятая в программе Оникс никогда не возражала, чтобы он немного проветрился. – Нет, – ответил Реми, – ничего такого не намечается. Я остаюсь в городе. А что? – О, ничего… Только если тебя пригласили, ты напрасно из-за меня отказался. Честно говоря, у меня на эти выходные назначена одна встреча. – Ничего, я поработаю дома. Немного помолчав, Оникс спросила: – Мики, скажи, а Пекер? Он нигде ведь сейчас не играет? Может быть, он завтра поедет куда-нибудь за город на машине? Попроси его взять тебя с собой. – Пекер? Но ты же знаешь, что он терпеть не может загородных прогулок. Тем более что с некоторых пор он стал просто невыносим. Он напивается каждый вечер. Когда он в таком состоянии, лучше с ним не встречаться. – Ну тогда попроси у него машину. Ты закончишь работать над эскизами в Шабли, там очень хорошо кормят. Отправляйтесь туда компанией, втроем или вчетвером. Неожиданно Реми, который до сих пор продолжал рассеянно водить карандашом по бумаге, повернулся на стуле лицом к Оникс и посмотрел на нее. Она по-прежнему как ни в чем не бывало подпиливала ногти. Но все же почувствовала на себе взгляд Реми. Однако головы не подняла. С вежливой улыбкой он произнес: – Возможно, в воскресенье я тебе буду мешать? К тебе должен кто-то прийти? Почему ты прямо не сказала? Тебе нужно кого-то принять здесь? – Да. – Но это же совсем просто! Я поужинаю с друзьями, вот и все. А после представления в полночь зайду за тобой в твою ложу. Оникс молчала. – Может быть, ты хочешь, чтобы я переночевал в гостинице? К тебе приезжает родственница? Кто-то из провинции? – Да, да, именно так! – произнесла Оникс с оттенком нетерпения в голосе. Когда после этих слов, упавших тяжелой гирей, наступила полная тишина, она подняла голову. Реми стоял перед ней. Не шевелясь, он, как ребенок, стоял с раскрытым ртом и не сводил с нее глаз. Она поняла, что только сейчас он догадался, какого рода визит она ждет. Боже, какой же он еще ребенок! Ему даже в голову не приходило, что это означает! Могла ли она предположить подобную наивность? Если бы ей это было заранее известно, онабы придумала какой-нибудь другой, более подходящий предлог. Но что же он думает? На какие средства она живет? На мизерную зарплату, которую получает в мюзик-холле? Благодаря экономии на обедах, за которые он платит, когда они вместе иногда ходят в ресторан, или же благодаря нескольким погашенным им счетам, которые он обнаруживает, когда случайно вскрывает ее почту? – Ну ладно, Мики, будет!..– произнесла она. И, раскрыв ладони, развела руками, как бы говоря: «Ну что ты! Все просто, разве ты не понял? И ничего от этого не изменится». Но он, словно оцепенев, по-прежнему стоял перед ней. Неожиданно он, словно школьник или юная девушка, залился краской. Она шагнула ему навстречу. И только тогда он вышел из оцепенения. Повернувшись к ней спиной, не зная, что делать, он вошел в ванную и запер за собой дверь. Женщина громко крикнула: – Мики! И тут же поняла, что потеряла его навсегда. С того времени, как Реми шесть месяцев назад переселился в гостиницу Жюсье, он не заводил долгих любовных связей. Его устраивали лишь мимолетные встречи. Поселившись в гостинице, он перенял все холостяцкие привычки ее постоянных обитателей, вплоть до манеры говорить и чувствовать. Благодаря тому, что он близко познакомился с артистической средой, когда жил с Пьереттой Оникс, ему казалось, будто все мужское население Жюсье с первого дня приняло его с распростертыми объятиями. Можно было подумать, что за годы, проведенные в доме на Центральном рынке, он утратил способность сопротивляться влиянию окружающей среды. Он сдался. Он больше не стремился к свободе и не желал чем-то отличаться от других. Его уже не влекла независимость; скорее он хотел, чтобы его оставили в покое. После долгих лет бунтарства, когда Реми действовал наперекор окружающим, то есть зависел от воли других, стоило ему только распрощаться с семьей, настроенной к нему враждебно, как на следующий же день он стал конформистом. Как и квартира Оникс, гостиница Жюсье стала его прибежищем. Но он ошибался, считая, что в богемную среду его приняли на равных: на самом деле он безвольно примкнул к ней. В Жюсье у него был десяток приятелей, но не было ни одного друга. Он пережил десяток любовных приключений, но так и не завел ни одной любовницы. Молодые люди жили сегодняшним днем. Транжиры, не умевшие жить по средствам, легкомысленно относившиеся к своим занятиям, они не отличались прилежностью, когда постигали науки кто в Сорбонне, кто в Специальной архитектурной школе, кто в Сельскохозяйственном институте, кто в Школе декоративного искусства или медицины. Они жили впроголодь, когда у них кончались деньги, и заказывали в номер черную икру, как только у них что-то появлялось в карманах. Более умеренные в расходах, более практичные и прилежные в науках девушки, напротив, вели более упорядоченный образ жизни. Посланные учиться родителями из провинции или из-за границы, студентки после долгих размышлений выделяли на жизнь определенную сумму денег, которой распоряжались, чтобы свести концы с концами. Девушки составляли наиболее стабильную часть обитателей Жюсье. Именно на их помощь в трудную минуту могли рассчитывать молодые люди. Девушки поочередно приглашали на обед того студента, у которого в конце месяца было пусто в кармане. Студентки одалживали деньги своим приятелям. Когда хозяин гостиницы выгонял из номера за неуплату какого-либо незадачливого постояльца, а жертвой такой несправедливости всегда оказывался молодой человек, то всякий раз находилась добрая душа из числа студенток, которая предоставляла ему свою комнату, а сама отправлялась ночевать к подруге. Однако хитрости молодых людей не всегда удавались, так как хозяин гостиницы хорошо знал уловки студентов, и им приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы провести его. Девушка просто-напросто разделяла свою комнату с бездомным студентом, что не возбранялось правилами проживания в гостинице. Постелив матрац гостю на пол, она укладывалась на сетку кровати. Из всех девушек, предоставлявших временное пристанище бездомным студентам, особенным уважением пользовалась немка по имени Лизель по той простой причине, что только в ее номере была отдельная ванная комната. Ей надо было лишь перетащить свой матрац в ванную комнату, и ночевавший у нее студент, прикрыв за собой дверь, чувствовал себя как дома. Если постоялец задерживался на две или три ночи, парень с девушкой приходили к решению, что спать на одной кровати намного удобнее. И случалось, что жар молодых тел, узкая кровать или приснившийся сон делали свое дело. Молодые люди занимались любовью или чем-то похожим на это. Но без всяких последствий. Любовь была для них отдыхом, чем-то вроде физического упражнения, коктейля, выпитого вдвоем. Им не надо было переходить на «ты», так как здесь царило всеобщее братство и обращаться друг к другу на «вы» не было принято. Редко, когда такого рода отношения продолжались долго. Конечно, здесь тоже были свои симпатии, кому-то оказывалось большее предпочтение по сравнению с другими, люди привыкали друг к другу, но ревности и в помине не было. В Жюсье сложилась лишь одна устойчивая пара. И товарищи парня и девушки заметили их связь только спустя два месяца. А самим участникам столь неординарного события за все это время, возможно, и в голову не пришло, что их поведение оказалось из ряда вон выходящим. Что же касалось Реми, то ему не приходилось жаловаться на законы, по которым жила крошечная республика. Он не любил Пьеретту Оникс, поэтому разрыв с ней не нанес ему глубокой душевной раны. Ему казалось, что теперь к нему не скоро придет настоящая любовь. Ударившись в крайность, он стал сторонником тех, кто видел в занятии любовью лишь спортивный интерес. Согласно этой теории он переходил не задерживаясь из одной девичьей комнаты в другую. Никто из обитательниц Жюсье и их подруг не относился к нему с неприязнью. Его нельзя было назвать уродом, дураком, занудой или сплетником. Если юноша не входил в их число, о нем в Жюсье складывалось благоприятное мнение. Кроме того, прошел слух, что он хорошо занимается любовью, что окончательно укрепило его авторитет. С девушками он придерживался того же метода, который использовал с Оникс в первую ночь. Ибо это была превосходная тактика, замечательное руководство к действию, которое его ни разу не подводило. Сначала одно, потом другое и только затем главное: такой сценарий имел успех, ему не надо было напрягать свое воображение, чтобы полностью удовлетворить партнершу, о чем она, как правило, ему с благодарностью говорила. Если Реми еще не стал любовником всех девушек, проживавших в Жюсье, то можно было смело предположить, что наступит день, когда обстоятельства сложатся таким образом, что он переступит порог комнат оставшихся девиц, в постели которых он еще не побывал. И только с одной из них – он это знал заранее – ничего подобного произойти не могло. Между тем она была молода, красива и умна. Ее звали Женевьева. Девушка была старше его. Окончив факультет права, она не хотела возвращаться в свой маленький провинциальный городок, откуда родители послали ее учиться в Париж. Раз в год во время каникул она проводила месяц в родных краях и, раздраженная, возвращалась задолго до начала занятий, в который раз отказав выгодному жениху и получив очередное серьезное предупреждение от отца, что он будет меньше посылать ей денег, если она не одумается. В Жюсье ее не считали девственницей, и, вероятно, оно так и было на самом деле. О личной жизни Женевьевы было известно очень мало. И Реми, не сумев добиться большего, чем дружеское расположение этой девушки, выделял ее среди других студенток. Ему казалось, что она лишена чудовищного сочетания развращенности и детской незрелости мышления, свойственного большинству проживавших в гостинице покладистых мессалин. Во время товарищеских вечеринок, когда собравшиеся в просторном номере у Лизель парни, сидя на полу в клубах сигаретного дыма, попивая виски и слушая музыку проигрывателя, начинали обнимать своих соседок, Реми, словно заключив с Женевьевой молчаливый договор, не следовал их примеру. По крайней мере, это касалось только их двоих. Женевьева не проявляла такую сдержанность по отношению к другим юношам, красивым или не очень. И Реми в свою очередь не обделял своим вниманием ни одну, даже самую невзрачную из юных палестинок. И он и она не сговариваясь отступали от своей обычной линии поведения. Казалось, что, если между ними возникнут любовные отношения, они обретут какой-то иной смысл. Однажды неожиданно для себя он увидел Женевьеву в чужом незнакомом доме, куда с неохотой пошел на вечеринку. Она стояла у книжного шкафа, приоткрыв застекленную створку, и перелистывала старые книги. – Надо же! Это ты? – удивилась она. – Посмотри какая книга. Ты не находишь, что этот маленький Гулливер просто прелестен? Он остановился около нее. До этого момента ему на вечеринке было скучно. – И мне так кажется, – призналась она. Они были в гостях у подруги Жоржи Патена, принадлежавшей к сливкам общества, родители которой перед отъездом оставили в ее полном распоряжения дом и прислугу. И она устроила дружескую вечеринку. Однако ей не следовало приглашать одновременно молодых людей из высшего общества и банду космополитов из Жюсье. Молодые люди из высшего света поначалу сделали вид, что им симпатичны парни в одежде, модной на Монпарнасе, и девушки со всех концов света в свитерах и в обуви на низком каблуке. Но обитатели Жюсье держались особняком, танцуя только в своем узком кругу. Уязвленные светские молодые люди поскучнели. Они ожидали подходящего момента, чтобы с достоинством удалиться. А студенты только и мечтали поскорее от них избавиться. – Когда часы пробьют двенадцать ночи, будет веселее, – сказал Реми.– Вивиана пригласила этих снобов только из-за прислуги. Но она хочет, чтобы мы остались. Чужие уйдут, и мы сможем поужинать в тесной компании. – Принеси что-нибудь выпить, – попросила Женевьева, – и прихвати стаканы. – Закрой дверь, – произнесла она, когда он вернулся.– Садись, здесь нам никто не помешает. В комнате стояли удобные, обтянутые кожей мягкие глубокие кресла с высокими спинками. Ровные ряды книг закрывали стены, обитые гобеленом. Светильники в форме больших китайских ваз под шелковыми расписными абажурами распространяли нижний свет. Все вокруг дышало благополучием, стабильностью, как бы отгораживая от внешнего мира, и свидетельствовало о размеренной жизни хозяев, знаменуя вершину успеха. На столе в рамках эпохи Людовика XVI стояли две фотографии, на которых застыли на белом фоне бородатый мужчина в мантии и в судейском колпаке на голове и дама с высокой прической и с едва прикрытой прозрачной тканью грудью. – Я как раз хотела, – произнесла Женевьева, – с тобой поговорить. – Да? – Да… Я хочу попрощаться с тобой. Я уезжаю. – К родителям? – Нет, совсем наоборот. Родители отказались высылать мне деньги. Вот уже три месяца, как я ничего от них не получаю. – Почему же ты ничего мне не сказала? Я начал зарабатывать. Да и отец немного смягчился. Я бы тебе одолжил. Сколько тебе надо? От удивления Женевьева улыбнулась. Казалось, она подумала, что он совсем не похож на остальных обитателей Жюсье. – Нет, – ответила она, – спасибо. Я уже нашла другой выход. На этот раз с семьей покончено. В августе, когда я была у них, мне пришлось отказать четвертому жениху. Отец пришел в ярость и наговорил много неприятных слов. Я уехала. И что же теперь?.. Работать? Но сейчас не так-то легко найти место. К тому же я ленивая, и это мне хорошо известно. Я люблю праздность, комфорт, материальное благополучие, автомобильные путешествия, дорогие гостиницы. Люблю также деньги, чтобы иметь возможность покупать красивые вещи, книги. А работа и трудная жизнь… Возможно… Но только не в одиночестве. Я знаю: у меня есть способности. Ведь мне не составило особого труда сдать экзамены. Я бы вполне могла стать адвокатом или писательницей. Но, повторяю, только не в одиночестве. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом со мной. Взглянув на Реми, она сделала глубокую затяжку и, запрокинув назад голову, пустила дым в потолок. Затем добавила: – Кто-то, кого бы я могла любить. Реми не прерывал ее. Он подумал, что она говорит не так, как принято в их кругу. От него не ускользнуло также, что ее слова звучат по-особому, словно она вкладывает в них некий потаенный смысл. «Она говорит о конкретном человеке, – подумал Реми.– Кто бы это мог быть? Уж не я ли?» – Итак, – продолжала Женевьева, – вот что я решила. Один человек уже давно предлагает мне свою дружбу и покровительство. Но должна сразу сказать: до сих пор между нами ничего не было. Он богат, свободен и, кажется, не на шутку влюблен. Я согласилась уехать с ним. Он берет меня с собой. Мы отправимся в путешествие. – Ты мне позволишь нескромный вопрос: он молод? – Не так чтобы очень. Ему под сорок-сорок пять. Но ты же знаешь, каковы эти молодые… – Да… Так ты выходишь за него замуж? – Да нет. Его свобода весьма относительна: он вдовец. Однако если мы поженимся, то попадем в двусмысленное положение. Он – отец моей подруги. – Что? – Да, – с невозмутимым видом произнесла Женевьева.– Моей подруги по факультету права. Он часто увозил нас по вечерам. Мы вместе ужинали, танцевали. Месяц назад дочь ему рассказала о моих неприятностях. Он спросил, согласна ли я принять его помощь. Я его поняла и согласилась. – Согласилась на что? – Ну… На то, чтобы он меня содержал. – Тогда скажи, – произнес Реми, – он тебе нравится? Потому что тебе придется… Он не закончил фразу, охваченный странной стыдливостью. Она улыбнулась. – Видишь ли, – ответила она, – женщина может принимать любовь мужчины, которого не любит! Принимать… или терпеть. Конечно, в том случае, если мужчина ей не противен физически. А он даже весьма приятный человек. Он следит за своей внешностью. И прекрасно выглядит. Я могу тебе сказать одно: если бы обстоятельства приняли другой оборот, если бы этот человек просто за мной ухаживал, и не больше того, иначе говоря, если бы я не оказалась в столь затруднительном положении, я не уверена, что приняла бы его предложение. Нет, конечно, я никогда не думала… В этот момент вошла Вивиана и сообщила, что стеснявшие их гости удалились и она отпустила домой прислугу. – Мы сами накроем стол, – заявила она, – пошли! Эрик с сестрой переодеваются. Они бывают такими потешными. Я отвела их в гардеробную моей матери. Реми и Женевьева некоторое время еще сидели вдвоем. Они молчали. Пролегающая между двух кресел связующая их нить продолжала вибрировать еще некоторое время. Реми почувствовал, как болезненно напряглись его мышцы. Ему было нехорошо. Он чувствовал, что его сердце едва билось. Женевьева не спускала с него глаз. Наконец она поднялась. Он увидел перед собой ее тонкую хрупкую фигурку в светлом платье. Она не носила украшений. У нее был выпуклый лоб и небольшая голова. И он не мог удержаться от мысли, что не пройдет и нескольких дней, как грузный и с годами утративший гибкость стареющий мужчина будет обнимать это беззащитное тело, целовать это юное лицо, как только у него появится такое желание. Но он не произнес ни слова. – Пойдем! – позвала Женевьева. Они подошли к двери. В гостиной все гости уже разбились на пары и танцевали, тесно прижавшись друг к другу. На старинной турецкой софе устроились парочки. – Какой же у тебя жесткий диван! – послышался женский голос. Сестра Эрика кривлялась в старомодном платье светской дамы. Совершенно голый, но в старой испанской шляпе на голове, со снятыми со стены копьем и щитом в руках, Эрик изображал воина, имитируя движения гавайского танца. На пороге Женевьева коснулась плеча Реми, поглощенного своими мыслями и не поднимавшего глаз от пола. – Не надо меня жалеть! – сказала она.– Жить спокойно с человеком, который не противен, это еще лучший выход… И заниматься любовью без любви. Сестра Эрика разделась в свою очередь, после того как Вивиана раззадорила ее высказыванием о том, что груди такой формы были в моде еще до войны. Все веселились от души. Стоял невообразимый шум. И сквозь всеобщий гвалт Реми не расслышал, как Женевьева добавила: – Лучший выход… по крайней мере, для женщины. (обратно)VIII
В рабочем кабинете Арманделя или, скорее, мадам Леоны он познакомился с Элен Фару, у которой был собственный, хотя и не самый престижный в городе дом моделей. Элен Фару, не отличаясь особой оригинальностью стиля и следуя более свободной манере, чем самые известные кутюрье, специализировалась в изготовлении костюмов для театра и кино. Именно она шила костюмы для большинства ревю Арманделя. Реми ей понравился. И она дала ему это понять. Мадам Леона по-дружески ей сообщила между прочим, что в данный момент он живет одна. Элен Фару пригласила его в свой кабинет. В то время она как раз вела переговоры с одной франко-американской студией об изготовлении костюмов к художественному фильму на историческую тему. Она передала Реми заказ на старинные костюмы. Элен Фару было не более тридцати пяти лет. Внешне привлекательная, она прежде всего отличалась умением говорить и непринужденно держаться; властность и напористость выдавали в ней деловую женщину и директора фирмы, что вызывало к ней в обстановке, далекой от торговых залов, интерес мужчин. Реми стал ее любовником. А вот расстался с ней он только потому, что она слишком старалась ему угодить. Дирекция мюзик-холла из Англии попросила ее изготовить костюмы для ревю. Подготовка эскизов оригинальных костюмов в соответствии с контрактом поручалась Реми. Однако оплата за работу ее юного любовника была такой высокой, что даже ему самому показалась чрезмерной. Он был неприятно удивлен, как будто его ударили по лицу. Она не поняла его угрызений совести и попыталась образумить молодого человека. Слово за слово, удивление сменилось иронией, и тут же ему открылось, что он получил выгодный заказ только благодаря ее посредничеству. Реми порвал с ней.***
Он стал любовником мадам Вейль-Видаль, которая ввела его в новый для него мир, отдалив от театральной среды, в которой он вращался в силу своей профессии и где возникали его предыдущие любовные связи. Мадам Вейль-Видаль была еще довольно молодой женщиной, которая после развода с весьма богатым мужем получила большое состояние. Однако – и Реми это вскоре понял – общество, к которому принадлежала его новая любовница, хотя и подчинялось своим законам и соблюдало определенные нормы, было обществом отверженных. Мадам Вейль-Видаль имела открытый дом и вела светский образ жизни. Женщины из высшего общества, с которыми она встречалась, были все до единой либо разведенными, либо незамужними и вели свободный образ жизни. Они водили знакомство с парижскими актрисами, которые пользовались репутацией самых добропорядочных, то есть говоривших «мой муж», когда шла речь о любовнике. И наконец, в окружении мадам Вейль-Видаль были деловые женщины, которые не имели конкретной профессии, но зарабатывали большие деньги. К ним относились хозяйки трикотажных мастерских, оптовые перекупщицы марочного шампанского, торговки недвижимостью и драгоценностями. Они редко показывались в обществе в сопровождении мужчин, что еще больше приближало их к женщинам, живущим на содержании. Здесь много играли в бридж или покер, естественно, только одни женщины. В этом, без сомнения, отвергнутом, но приятном обществе Реми принимали с благосклонной небрежностью. Он чувствовал, что на него смотрят как на второстепенный персонаж, который в этом кругу надолго не задержится, и терпят лишь потому, что мадам Вейль-Видаль вздумалось завязать с ним любовную связь. Он почувствовал всю унизительность своего положения после того, как она, предварительно с ним не поговорив, подсунула ему на подпись бумаги, которые он подмахнул почти не глядя, что положило начало ее хлопотам по освобождению его от военной службы. Безусловно, Реми не хотелось идти в армию. Мадам Вейль-Видаль тем более не желала, чтобы ее молодого любовника, дарившего ей столько незабываемых минут, заслали в какой-нибудь Богом забытый гарнизон. Она бы тотчас почувствовала его отсутствие, а он в разлуке вряд ли сохранил бы ей верность. Если он и вернется к ней после службы в армии, то неизвестно еще на какое время. Однако Реми не думал о полном освобождении от воинской службы. В нем еще были сильны предрассудки, связанные с представлениями о физической непригодности, и, несмотря на все свое свободолюбие и артистическую натуру, он усматривал в освобождении от службы в армии нечто похожее на признание своей неполноценности. Кроме того, мадам Вейль-Видаль в своем рвении освободить его от прохождения военной службы не придумала ничего лучшего, как сослаться на то, что он болел эпилепсией. Рассердившись, Реми заявил своей покровительнице, что он не ребенок, а она ему не мать. У него появилось желание освободиться от зависимости. И он порвал с мадам Вейль-Видаль.***
Затем у него появилась новая любовница. Уставшая от деловых и светских приглашений, предводительница снобов, победительница конкурса элегантности, встречаемая вспышками магния повсюду, где бы она только ни появлялась, принимавшая участие в организации праздников, в открытии новых клубов, в крещении яхт, Кароль де Вилькомта снискала репутацию человека, дающего «раскрутку» любому делу или таланту. Не один ночной клуб был обязан ей своим процветанием; с ее легкой руки стал модным новый пляж, она разрекламировала совсем было захиревшую зимнюю лыжную станцию. Еще не став любовницей Реми, она уже начала способствовать его финансовому успеху, потому что «юноша входил в моду», а его еще не было в списке ее протеже. Решив, что наибольший доход принесет ему слава оформителя, она всего за неделю достала ему словно из-под земли шесть заказов: выполнить фрески, отреставрировать загородные дома, обустроить две квартиры и даже, возможно, взяться за внутреннее убранство театра. Кароль исполнилось двадцать шесть лет. Она жила в особняке, принадлежавшем ее семье. Но у нее была еще отдельная квартира, куда она однажды вечером пригласила Реми. – Мики, заходите ко мне выпить рюмку вина, – сказала она.– Нет, нет, не к родителям. В мою холостяцкую квартиру. Она произнесла эти слова совсем по-мужски. У Реми так не получалось, когда он говорил о своей крохотной квартирке, где у него была мастерская. Услышав, как эта молодая женщина, с низким лбом под слипшимися от геля волосами, с тщедушным телом, отдававшая в одежде предпочтение исключительно белому цвету, на вид такая хрупкая, произнесла «холостяцкая квартира», он был настолько удивлен, словно увидел даму, плюющую на пол. Холостяцкая квартира Кароль состояла из одной просторной комнаты с лоджией, крохотной кухни и ванной. Так и не сомкнув глаза в первую ночь, Реми смотрел, как проникал свет зарождавшегося утра в это жилище, похожее на тысячи других так называемых современных однокомнатных квартир-студий, разбросанных по всему городу. Уже можно было различить окружавшие предметы, которым ночные тени ранее придавали причудливые очертания. Дневной свет возвращал им безликость. Над дверьми облупился тонкий слой покрытой охрой штукатурки. На обычном для таких квартир ковре проступали пятна. Реми невольно подумал, сколько же здесь было пролито вина и коктейлей. Он закрыл глаза. Так он рассчитывал отодвинуть пробуждение, чтобы не встречать рассвет в этом нагретом радиаторами пространстве, насыщенном запахом тел спавших людей. Ему показалось, что рассвет принес холод небытия. Как бы он хотел перенестись куда-нибудь далеко от этого лишенного индивидуальности жилища, от этого тошнотворного утра. И как бы он хотел бежать от женщины, лежавшей вытянувшись рядом с ним. В конце концов сон сморил его. Сознание уже расплывалось, но мозг еще работал. Он потерял чувство пространства и времени. Ему было трудно вспомнить имя той, чье тело лежало рядом с ним. Кто она? Которая из них? Элен Фару, мадам Вейль-Видаль, Пьеретта Оникс? В конце концов, не важно. Всего-навсего еще одна женщина в веренице многих других, еще одна женщина, которая не принесла ему любовь. Неужели ему так никогда и не удастся заснуть рядом с женщиной? Если сон не приходил к нему сразу же вслед за удовлетворением, когда он еще находился в полузабытьи и его нервы и мышцы требовали тишины и покоя, это означало, что Реми был обречен на бессонную ночь. Волею судьбы ему чаще всего попадались женщины, желавшие, чтобы он остался с ними в постели после любви, и, когда, выйдя из ванной комнаты, видели, что он дремлет, они, как правило, не оставляли его в покое и, прижавшись к нему, завязывали разговор. Сколько же ночей он не спал? Скольких женщин он довел до экстаза, не получив в ответ ничего, кроме разочарования и бессонной ночи! И всякий раз долгими ночными часами, когда он не мог уснуть, ему грезились прежние любовницы, а вместе с воспоминаниями приходили и сожаления. Так, ему казалось, что Пьеретта Оникс склонилась над постелью Элен Фару, а Элен в свою очередь появлялась, чтобы лечь между ним и мадам Вейль-Видаль. Вот и теперь ему показалось, что недалеко от него в уголке холостяцкой квартиры примостилась мадам Вейль-Видаль. Понимая, что новая любовница, чьи объятия он только что покинул, не принесла ему любви, Реми невольно вспомнил ее предшественницу, которая также ничего ему не дала. Перед мысленным взором прошли все его подруги. Обращение к прошлому напоминало путешествие, когда каждый новый пейзаж навевает тоску по предыдущему, который также не сумел остановить путешественника на его пути к новым далям. На каком же этапе затянувшихся странствий Реми удастся достичь наконец берега, откуда ему уже не захочется убегать, оглядываясь назад? Ибо Кароль не удалось дать ему то, о чем он мечтал. Это он почувствовал, когда холодный рассвет осветил холостяцкую студию. Он вспомнил мадам Вейль-Видаль. Он уже забыл о ее недостатках. Теперь они казались ему достоинствами. Теперь он видел в них только ее добрые намерения. Несмотря ни на что, она была хорошей любовницей. Реми охотно и с грустью отдавал ей должное, и, как ему казалось, он не обманывал себя. Лежа рядом с новой любовницей, он предавался воспоминаниям о предыдущей. Безусловно, мадам Вейль-Видаль любила его. Она не скрывала от общества их связь и даже скомпрометировала себя. Реми не раз говорили: никогда еще ни для одного мужчины она не делала ничего подобного. Столь преждевременные сравнения, которые неизбежно должны были прийти ему на ум, заставили Реми обратить свой взгляд на спавшую рядом Кароль, которая тесно прижалась к нему всем телом. Реми боялся, вдруг она проснется, и тогда ему придется с ней говорить, отвечать на вопросы и находить для нее ласковые слова. Ибо день уже наступил. Неужели потому, что Реми на нее посмотрел, Кароль открыла глаза и улыбнулась. – О, Мики! – воскликнула она.– Ты не спишь? Ты уже проснулся? Ты хорошо выспался? Он приподнялся на локте. Он склонился над женщиной. Он ей сказал: – Еще ни разу в жизни я не встречал подобного рассвета.***
Наконец Реми решил избавиться от утренних мучений, бессонных ночей и грустных пробуждений. Он решил больше не оставаться у женщин до утра. Если ему не суждено соединить плотские удовольствия и сон и если он не может отказаться ни от того, ни от другого, ему лучше просыпаться утром у себя дома. Он спал один. И все чужие постели, куда его завлекали женщины и где он чувствовал себя странником, устроившимся на короткий ночлег, который не приносил ему ничего, кроме еще большей усталости по утрам, привели его к тому, что он больше не оставался до утра в чужой квартире. К себе же, в мастерскую, он старался не приглашать женщин. Если какая-либо из них все же оставалась у него ночевать, то после любви он уходил спать в соседнюю комнату, в которую никого не пускал. Когда же обстоятельства вынуждали его остаться на ночь у женщины, то всякий раз он находил предлог, чтобы, не дожидаясь рассвета, одеться и уйти домой. Он предпочитал водить своих очередных любовниц в гостиницу, как поступают со случайными подругами. Он снимал заранее номер в отеле, расположенном поблизости от площади Этуаль, а летом даже в районе Сен-Жермен или Сен-Клу. Ему никогда не приходило в голову объяснять подругам причину своего поведения. Некоторые из них даже возмущались, когда он бесцеремонно расталкивал их. В свое время его удивляли приятели пренебрежительным, хамским отношением к женщинам, что, как казалось ему, противоречило натуре молодых людей, неспособных обойтись без женской ласки. Он замечал такое противоречие в особенности у тех приятелей, которые привыкли к легким победам. Отныне он ничем от них не отличался, переняв их манеру поведения. Изредка, когда он был один в своей постели и хотел убить время, он пытался вспомнить лица всех своих любовниц. И Кароль несколько дней спустя после того, как он ее оставил, заняла свое место в его воспоминаниях: таким образом, и ей была уготована участь ее предшественниц. Однако воспоминание о ней пришло к нему не тогда, когда рядом с ним лежала другая женщина. Нет, Реми лежал в постели один, и, когда он проснулся посреди ночи, воспоминания о Кароль не принесли ему горечи сожаления. Впрочем, Реми расстался с Кароль Вилькомта точно так же, как и с Пьереттой Оникс, с Элен Фару, с мадам Бейль-Видаль, то есть без всяких ссор. Но и последняя по времени любовница разочаровала и оттолкнула его тем, что совершила ту же ошибку, что и все ее предшественницы. Она попыталась его облагодетельствовать. Она также хотела, чтобы он извлек выгоду из их связи. С помощью Кароль он заработал кучу денег. Ее рвение надоело Реми. И он сказал ей об этом, как и всем ее предшественницам. – Но, Мики, – воскликнула она, – ведь я стараюсь только ради тебя! И вдруг, разволновавшись, она произнесла роковые для себя слова, словно прибегая к последнему доводу: – Ну, Мики, ведь я хотела тебе помочь. Он вздрогнул. Ему не раз приходилось слышать эти слова на улице, за столом в пивной, в баре дансинга, ставшие профессиональным жаргоном у проституток и означавшие куплю-продажу. Помогать… Казалось, что для женщин любовь означала оказание услуг. Или же инстинкт им подсказывал, что любовника можно привязать к себе теми же методами, какими обычно пользуются мужчины, чтобы добиться расположения женщины. (обратно)IX
– Скажи-ка, ведь совсем неплохо! – произнес Бебе Десоль. Он стоял лицом к мольберту Реми с незаконченным эскизом афиши. Часто, хотя и нерегулярно шестеро молодых людей собирались поочередно то у одного из них, то у другого, чтобы опрокинуть рюмку-другую в компании приятелей без женщин и суеты. Бебе Десоль появился в квартире у Реми вторым. Первым же пришел, как всегда, Жорж Манери. Понимая, что компания может прекрасно без него обойтись, он стремился не упускать ни минуты совместного досуга. Он во что бы то ни стало хотел не отставать от своих друзей, угнаться за которыми ему становилось все труднее и труднее. Пунктуальный и неспособный на неожиданные поступки, он мечтал походить на них и сожалел, что это ему не удавалось. Жорж Манери восхищался каждым из своих добившихся успеха приятелей. А они, напротив, вспоминали о нем лишь тогда, когда им нужно было одолжить у него деньги. В самом деле, об осторожности Манери свидетельствовала его способность осмотрительно вести свои финансовые дела: не будучи расточительным, он не только никогда не оставался на мели, но и всегда имел возможность оказать услугу или дать взаймы. Когда друзья обращались к нему с просьбой одолжить денег, то делали это всегда в грубой форме, спрашивая напрямик: «Скажи, ты, конечно, дашь мне взаймы пятьдесят луидоров?» И, положив в карман деньги, спокойно уходили, оставляя его одного. Он подошел к мольберту и хотел было рассыпаться в похвалах, но Бебе Десоль тут же прервал его на полуслове, обратившись к Реми: – Это для тех, кто занимается зимним спортом? А где будут развешаны афиши? – По вокзалам, в бюро путешествий и на рекламных щитах. Фирма, прибравшая к рукам гостиницы этого спортивного комплекса, намерена повести активную рекламную кампанию. Именно поэтому она заказала нечто похожее на афишу мюзик-холла. Я долго размышлял над тем, с чего начать. И, вспомнив, что теперь во всех видах зимнего спорта начинают носить облегающие костюмы, я нарисовал эту обнаженную модель цвета охры на фоне яркого синего неба и голубоватого снега. Тебя впечатляет? – Здорово, – ответил Манери, к которому Реми вовсе и не думал обращаться.– Замечательно! Бебе Десоль, напротив, хранил молчание. Казалось, что он о чем-то размышлял. – Ты так и нарисуешь этого малого, – поинтересовался он, – в профиль? – Наверное. А что? – Есть одно предложение, – сказал Бебе Десоль, неожиданно перейдя на серьезный тон. Появился Нино Монтеверди, за ним Пекер, пришедший на этот раз вовремя, вопреки привычке опаздывать. Однако Бебе Десоль, не обращая на них внимания, продолжал: – Послушай, Мики. Чтобы закончить эскиз, тебе понадобится натурщик. Согласись, ты ведь пригласишь кого-то позировать? Правда? Предлагаю себя в качестве модели, ради тебя я готов пойти на это. – Знаешь, – ответил Реми, – тебя утомит такое занятие. У меня собрано достаточно фотографий из немецких журналов. ИЛИ же я попрошу Альберта позировать. – Да ну! – воскликнул Бебе Десоль.– Надеюсь, ты не станешь сравнивать меня с Альбертом? Не подумай, что меня оскорбляет такое сравнение только потому, что он – твой лакей. Однако тебе хорошо известно, как я сложен: ты не раз видел меня обнаженным. Меня узнают, когда ты изобразишь меня в профиль. Это станет сенсацией и повеселит людей. – Какой же ты потаскун! – произнес Нино с пьемонтским акцентом. Однако в разговор вступил Пекер: – Да хватит вам! О чем спор? Из-за трех телок, что узнают твою задницу на парижских стенах!.. Нет, у меня есть другое предложение: если у Мики появится желание нарисовать какую-нибудь известную личность, то пусть уж рисует меня!.. А что? Пусть тело он пишет с Альберта, так как у меня нет времени позировать для всей композиции, но голова пусть будет моя. – Нет времени позировать! – возмутился Бебе Десоль.– Не смеши нас! Чтобы позировать обнаженным, ты прежде всего должен позаниматься с Бруно. И серьезно поработать, не пропуская тренировки, как ты это делаешь в последнее время. – Хватит, я вам сказал! – упрямо воскликнул Пекер.– Вопрос в другом. Мне нет нужды себя рекламировать. Я всего лишь хочу помочь Реми нарисовать удачную афишу. Твоя мания всюду и везде демонстрировать себя в обнаженном виде нам уже надоела. Теперь тебе вдруг понадобились парижские стены! – Ну и что? – произнес Бебе Десоль, теряя терпение.– Что, разве женщины, увидев меня голым, опускают глаза или отворачиваются? А? Не у меня ли на юге, когда на мне одни лишь плавки, самый богатый улов девиц? – Уверенный, что ему услужливо поддакнут, он добавил: – Спросите у Жожо. – Да, это правда, – начал Манери.– Когда мы были на побережье… – О! Только тебя здесь не хватало! – воскликнул Пекер.– Можно подумать, что ты что-то понимаешь в женщинах. Ты всегда подбираешь то, что никому уже не нужно. Впрочем, Бебе также не разбирается в женщинах. Но нет! Он думает, что девицы клюют на бицепсы. – Послушай, – произнес Бебе, – но во всяком случае не на телефонные звонки или чтение романов вдвоем! Вот уже восемь лет, как ежедневно я нахожу подтверждение своей теории. С моей первой любовницей я познакомился, когда мне было семнадцать лет, в Туке после победы в соревнованиях по прыжкам с вышки. Вот что надо женщинам. Это, это и это! И ладонью похлопал себя по бицепсам, звонко шлепнул по груди, провел по бедрам и ягодицам. – И это тоже, – завершил он с определенным жестом.– Вот именно, прежде всего бабам нужны только мускулы. – А! – воскликнул Пекер, рассмеявшись и покачав головой.– Как же ты еще молод! – Ну уж не моложе тебя! – Совсем как шлюхи! – повторил нараспев Нино. – Не думай, – продолжал Пекер, – что сила дает тебе какое-то преимущество перед молодостью. Согласен, Бебе, не спорю, у тебя были шикарные женщины. Но и у меня не хуже. Они буквально вешаются мне на шею… Да что говорить, вы сами хорошо знаете. Спорю на выпивку, хотя у меня нет ни су в кармане, что Меме будет мне названивать сюда весь вечер. Но с какой бы женщиной я ни жил, мне не надо истязать себя физическими упражнениями в спортивном зале. Возможно, я хуже вас всех сложен физически, да и в постели ничего особенного из себя не представляю. А когда я не в форме или у меня нет настроения, то ни за какие бабки не стану заниматься любовью. А ты, Бебе, ты нам прожужжал все уши объемом своей груди, талии, бедер и размерами твоих прочих мужских достоинств. Подумать только! Ты хвастаешь своими сантиметрами перед каждым встречным. И так бахвалишься, словно в том, чем тебя наградила природа, есть твоя заслуга. Удивительная мания величия! А вот у меня нет ничего такого, чем можно было бы гордиться. Все самое заурядное. И между тем… – И что же ты такое с ними делаешь? – спросил умоляющим голосом Манери. – Что я с ними делаю? Глупец, я с ними разговариваю! Наступила тишина. – Что? – переспросил Бебе Десоль. – Я с ними разговариваю, Боже мой, неужели не понятно? Я с ними веду беседу, а затем в нужный момент замолкаю. Я их слушаю не перебивая. Как актеришка, я подкупаю их лестью. И это мне помогает в постели. – Не вешай нам лапшу на уши! – произнес Бебе Десоль.– Уж не своими ли разговорами ты доводишь их до экстаза? Раз они тебе вешаются на шею, значит, ты их здорово ублажаешь. И если они тебя не бросают, значит, хотят снова получить свое. Я ничего другого не вижу. – Да? – сказал Пекер.– И ты считаешь свой довод единственно верным? А чем ты объяснишь тот факт, что чаще любят мужчин, которые лишены темперамента? В том-то и весь фокус. Когда мужчина не на высоте, женщина остается неудовлетворенной. Ну и что! Вывод один: для женщины важнее всего то, что у мужчины в голове. – У всех свои причуды! – воскликнул Бебе Десоль.– Мне встречались девицы, казалось бы, и не смотревшие в мою сторону, но устраивавшие всякий раз скандал, стоило мне только проехаться на водных лыжах голяком. – О! – вмешался Борис, минут пять как присоединившийся к компании.– О, дорогой, извини, что я тебя перебиваю. Борис на русский манер произносил «р», но это ему даже шло. И его ошибки в произношении приобретали особое музыкальное звучание. – Доррогой, это совсем другое дело. Не забывай, что женщины обожают знаменитостей. Вот я пользуюсь у них успехом. А почему? Потому что женщинам известно мое происхождение. Знаешь, если бы мой отец не был светлейшим князем Власовым и его бы не расстреляли большевики, а мать не была бы в прошлом прославленной балериной, кого бы я смог заманить в постель, кроме простой модистки? Мики, у тебя есть для меня водка? – Ты уже пьян, – сказал Реми, наливая.– По крайней мере, не забывай закусывать. Откуда ты пришел? – От Магды Шомберг. Она давала большой коктейль. На двести человек. И на нем были только самые элегантные женщины. У Магды всегда очень хорошо. – Не слушайте его! – воскликнул Пекер.– Несчастный! Ты, самый последний из снобов, вбил себе в голову, что женщины предпочитают спать со знаменитостями. Это потому, что ты сам обращаешь внимание только на таких женщин. Вот и ты, Бебе, его копия, но в другом плане. Ведь тебя прежде всего интересует, какой у женщины счет в банке. И по непонятной причине, ибо ты у них не берешь ни сантима. Однако, если у женщины не будет туго набитого кошелька, ты пройдешь мимо, даже не посмотрев в ее сторону. Почему? Это покрыто мраком, но явно в себе что-то таит. – Говори поскорее, я слушаю, – сказал Бебе.– Ты… – Вот я, например, весь на виду. Я не скрываю ни связей, ни имени портного, ни марки машины. Вы пятеро мне просто осточертели. Банда дешевых альфонсов. Только и думаете о бабах, как их окрутить, как сделать так, чтобы они за вами бегали. Вообще, вы уделяете женщинам слишком много внимания… И каков результат? Они когда-нибудь оплатили ваши счета? Спор разгорался. Нино Монтеверди, Жорж Манери и даже сам Реми, которые вначале прислушивались к разговору трех главных спорщиков с таким видом, будто перед ними были прославленные мэтры, в свою очередь включились в дискуссию. Каждый спешил вставить слово, поделиться воспоминаниями и опытом. Итальянец уверял, что женщинам нравятся лишь порочные молодые люди, откуда и идет слава французов. Манери рискнул заметить, что всегда необходимо хорошо одеваться и следить за собой. Пекер, не делавший ни того, ни другого, рассмеялся ему в лицо. Бебе Десоль стоял на том, что важно иметь хорошие физические данные, однако согласился, что и лицо тоже имеет значение. Научившийся скрывать свои чувства, и удивление в том числе, Реми посетовал на то, что быть всегда начеку: подстраивать ловушки, постоянно менять тактику, чередуя атаку с отступлением – короче, вести себя с женщинами как с противником, – весьма утомительное занятие. – Это веление времени, – сказал Пекер.– В прежние времена у женщин было меньше любовников. Светские замужние дамы редко вступали во внебрачные связи, а девушки – практически никогда. По крайней мере, это тщательно скрывалось. А теперь все выставляется напоказ: идет непрерывный конкурс, открытая ярмарка… Самое время об этом сказать. Существует конкуренция, настоящие аукционные торги. Надо уметь себя подать… Раньше в нашем ремесле не было никакого риска. – Откуда тебе все это известно? – опросил Реми.– Ведь до войны ты был совсем маленьким. – Об этом мне рассказал любовник моей матери, – ответил Пекер. – О! – произнес Манери.– Любовник твоей матери? Вы вместе живете? – Конечно! А куда он денется? Я даю ему советы. Ведь свою мать я знаю лучше, чем он. Когда я оказываюсь без денег, то умело выманиваю их. – Вспомните Галатца, – сказал Реми, чтобы сменить тему.– До войны и даже когда шла война он прославился своими блестящими победами. – И притом не прилагая усилий, – добавил Бебе Десоль.– Он не стал бы мучиться вопросом, за что его ценят женщины. В его время было немного свободных от предрассудков женщин. Да и они были не такие распущенные, как сейчас. – Кто этоГалатц? Я его не знаю, – сказал Манери. – Сейчас он придет, – ответил Реми.– Я часто с ним встречался у Кароль. Я его пригласил. – Что это тебе вдруг пришло в голову? – произнес Пекер.– Он навевает тоску, как сама добродетель. – Знаешь, – ответил Реми, – мне кажется, что он совсем на мели. Его почти никто не приглашает. – Еще бы! – воскликнул Пекер.– Он совсем вышел в тираж! Кроме того, он носит парик. И понятно, почему женщины находят, что с ним уже неприятно спать. Даже если бы он совсем облысел, лучше было бы для него не скрывать, как он выглядит на самом деле. К тому же он без конца говорит о мужчинах, которые носят парик. Ты считаешь, что это может кому-то понравиться? – Во всяком случае, – сказал Реми, – встретив его вчера в баре, мне стало его жаль. – О! Ну что же ты хочешь? – произнес Бебе Десоль.– Тем хуже для него: он теперь старик! – Старик? – переспросил Манери.– А сколько ему лет? – Тридцать девять. Конченый человек. – О! – произнес Реми.– Конченый… – Ну да, – пояснил Бебе, – чтобы быть у женщин на полном содержании, тридцать пять лет – это предел. – А? – переспросил Манери, сгорая от любопытства.– А? Потому что он… – Послушай, – сказал Бебе, – ну и что? Он свое взял. Сколько денег прошло через его руки! – Разве у него не осталось сбережений? – спросил Манери. – Что ты хочешь? Каждый раз, меняя любовницу, он уходил к более богатой женщине. Однако в промежутках, чтобы не ронять своего достоинства, ему случалось спускать все до нитки. Вот уже четыре года, как он расстался с последней любовницей. – Да, – вступил в беседу Борис, – он вовремя ушел от принцессы Бамбергефульд, золовки кайзера. Вы знаете, Саша всегда оставался джентльменом. У него еще сохранились драгоценности. – Саша? – переспросил Манери.– Так его зовут Саша Галатц? – Конечно нет, – ответил Пекер.– Ты всегда попадаешь впросак! Саша де Галатц. – Это его настоящее имя? – Не думаю. В его время себе присваивали любое имя, лишь бы оно было благозвучным. Теперь этот обычай в прошлом. В наши дни стало модным оставлять свое настоящее имя. Однако женщины называют нас уменьшительными именами.– Он провел рукой вокруг себя.– Погляди: Мики, Бебе, Нино, да и тебя прозвали Жожо… – О! Послушай, Жожо, это просто смешно! – произнес Манери.– И потом, это имя мне кажется таким пошлым!.. Если бы вы только захотели, то помогли бы мне от него избавиться. Я ведь тебе говорил, что мое имя – Жорж, у меня прабабушка родом из Швеции… Да, Жорж звучит намного лучше! По крайней мере, это имя не так избито. – Ты ничего не понимаешь! – сказал Пекер.– Имя Жорж было в моде еще во времена немого кино. Нет, Жожо звучит намного лучше. И потом тебе идет.– Немного помолчав, Пекер, как бы продолжая свою мысль, добавил: – И для полного букета я, Аулу! Лулу – именно так зовут шлюх!***
Когда семеро приятелей – так как вскоре к ним присоединился Саша де Галатц, – уселись за стол, они представляли собой довольно любопытное зрелище. Среди них не было женщин, и это обстоятельство придавало встрече вид неудавшегося званого обеда, ибо они совсем не походили на мужчин, собравшихся на холостяцкий ужин. Первое, что бросалось в глаза, так это то, что все собравшиеся здесь молодые люди тщательно следили за своей внешностью. Даже отличавшийся небрежностью Пекер по крайней мере волосы, лицо и руки содержал в образцовом порядке. Все молодые люди, казалось, блестели от чистоты и особенной ухоженности. По их виду можно было сделать вывод, что эти мальчики помимо ежедневной утренней ванны принимают еще и душ в семь часов вечера и в два часа ночи. Их безукоризненные стрижки свидетельствовали о том, что они каждый день пользуются услугами парикмахера за счет денег, предназначенных для питания. Казалось, что под гладкой кожей свежевыбритых подбородков у них никогда не росли волосы. Ногти на руках сияли чистотой и были тщательно подпилены и отполированы. Эта странная компания мужчин распространяла вокруг себя здоровые запахи молодых тел, но не без примеси химии: все благоухали запахами свежей зубной пасты, крема после бритья, туалетной воды и табака. Однако они вовсе не напоминали сборище гомосексуалистов; напротив, они резко от них отличались, в особенности своими манерами. Но в любом случае по некоторым характерным признакам их можно было бы отнести к особой промежуточной расе. Своим холеным видом и модной одеждой они словно бросали вызов мужской половине человечества. Даже похожий на статиста в фильме Альберт, юный лакей в ладно пригнанном белом форменном кителе, хорошо сидевшем на его мощных плечах, и тот ничем не отличался от молодых людей, кому он подавал ужин. Что же касается Саши де Галатц, то он, с ревматическими узлами на пальцах, на которых поблескивали два тяжелых перстня, с немного одутловатым лицом, вставными зубами, мешками под глазами, накладкой, прикрывавшей лысину, но еще сохранивший тонкие и благородные черты, был похож на их живую и немного зловещую карикатуру. И даже в своих разговорах молодые люди, собравшиеся тесной мужской компанией, неизбежно возвращались к женщинам. Сильно подвыпивший Пекер принялся делиться опытом, как покрепче привязать к себе женщину: – Ни в коем случае нельзя позволять им успокаиваться и взять над тобой власть… Ты понимаешь, что я хочу этим сказать? Будь уверен, как только они убедятся, что ты в их руках, не пройдет и двух дней, как тебя бросят. Как я уже говорил, нет ничего опаснее слишком часто заниматься с ними любовью. Надо, чтобы к тебе непрерывно испытывали влечение. Если ты хочешь заниматься любовью, пожалуйста, занимайся, но соблюдай чувство меры. Делай это не чаще, чем тебя просят, а лучше реже. Все внимательно его слушали. – И еще одно. Не надо выглядеть упрямцем в их глазах. Плясать под их дудку? Нет. Но в то же время не надо их раздражать. Можно тем из них, кто испытывает от этого особое удовольствие, немного потрепать нервы. Но в быту надо быть всегда покладистым. И вот доказательство: почему самые удачливые шлюхи, из тех, кто выше всех оплачивается, купаются в золоте? В большинстве случаев вовсе не потому, что они моложе, красивее или лучше сложены, чем другие. Ты думаешь, что у каждой из них есть свой секрет, свой никому не известный прием? Ты ошибаешься! Как будто еще существуют неизвестные приемы! Нет. Я знаю их тайну: их всех объединяет покладистый и уступчивый характер. Они не осложняют никому жизнь, вот и все. Ну а мы, любовники, живущие за счет женщин, должны брать с них пример. Вот мой совет: с того момента, когда ты становишься любовником женщины, которую ты не собираешься содержать, не думай ни о чем – в конце концов, за все будет платить она. Хочешь ты или нет – это уже нюанс, не влияющий на суть дела. Ты должен придерживаться определенной тактики. Ты начинаешь с того, что делаешь ей подарки, расплачиваешься за нее, когда вы вместе выходите в свет – словом, немного тратишься. А затем, так как она богата, а ты с ней спишь, от тебя самого зависит сделать так, чтобы роли переменились. Если бы я не был таким дураком, если бы я не распускал слюни!.. Не будем говорить про Меме, она – особый случай. Но со всеми другими надо было держать ухо востро. А! Ты говоришь! Наше ремесло не из легких! Например, ты, конечно, делаешь то, что они хотят, но не показывай при этом виду. Если они заметят, что ты уступил, тебе конец. И никогда ничего у них не выпрашивай и не клянчи. Намекни, предложи, посоветуй отправиться в путешествие или купить тебе какой-то подарок, но так, чтобы они считали, что придумали это сами, хотя первым об этом подумал ты. Клянусь тебе, это не синекура. И даже когда ты чувствуешь, что дело идет к концу, надо проявлять особую осторожность и не совершать ошибок. Потому что именно в этот момент на карту поставлена вся твоя дальнейшая карьера. Если ты заботишься о своей репутации, тебе остается только одно – ни в коем случае не допускать, чтобы тебя бросили. Ты должен уйти первым. Не дожидаясь, когда бросят тебя. Потому что об этом тут же будет известно другим женщинам. И если они узнают, что ты расстался с любовницей по своей инициативе, они захотят тебя. И с новой женщиной не забудь с самого начала дать понять, что именно из-за нее ты оставил предыдущую. Кстати, вы даже не догадываетесь, что среди вас есть тот, кто может дать нам всем фору. И тот, кто всегда на коне, – это Мики. – Ну, будет тебе! – воскликнул Реми. – Да, точно! – сказал Пекер.– Что? Разве вы не знаете его трюк? – Мой трюк? Ну вот, теперь у меня уже есть трюк. – Вроде того. Мне об этом рассказала Кароль. А до нее Оникс. Я не тупой и все понял. Ты каждой из них говоришь одни и те же слова. – Лулу, хватит! – Слушайте все! Когда Мики спит впервые с женщиной, знаете, что он говорит ей утром? Он говорит: «Еще ни разу в жизни я не встречал подобного рассвета». Это же находка! Снимаю шляпу! – Лулу, ты ведешь себя как идиот, – сказал Реми. – А что? – продолжал Пекер.– Клянусь тебе, мне кажется, что ты это ловко придумал. Они все клюют на лесть. Ну, не сердись, тут все свои. Мы никому не расскажем, и ты будешь и дальше продолжать в том же духе. Реми заставил себя улыбнуться. Пекер по-дружески хлопнул его по плечу, выпив залпом бокал шампанского, и заплетающимся языком добавил: – Не нам тебя судить. Потому что…– Выпив еще бокал, он закончил свою мысль: – Теперь ты член нашей семьи… (обратно)X
После третьего телефонного звонка Эме Лаваль потерявший терпение Пекер заявил, что отправляется пить в другое место. – Я знаю, куда он пойдет, – как бы невзначай заметил Борис, – к Магде. – Наверняка, – произнес Бебе.– Он навострил лыжи к ней. И не случайно. Он хочет остаться у нее. У Магды денег куры не клюют – ведь она получает процент после всех постановок опер Шомберга. Лулу не упустит такой Клондайк. Желаю ему получить удовольствие! Я ведь знаю эту Шомберг. Нельзя сказать, что она страдает отсутствием аппетита, да и фигура у нее жуткая. Она похожа на морскую корову. Каждый постарался дать свою интерпретацию поведения Пекера, взвесить шансы Эме Лаваль и Магды Шомберг, спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Молодые люди, как никто другой, знали, о чем идет речь, так как все, за исключением Реми, были в свое время любовниками той или другой женщины, а то и двух сразу. Даже Жожо и тот на пару часов был пригрет Магдой. Снедаемая ненасытной жадностью, она не пропускала ни одного молодого человека, попавшегося ей под руку. – Дорогая, – откровенничала она с Эме, – любовника можно оценить только тогда, когда он оказывается в твоей постели. Репутации? Спасибо! Я не раз попадалась. И знаю теперь, как они создаются. Женщинами, которые долго не могли найти себе любовника; и если им наконец удалось заманить кого-то в свою постель, то они готовы тут же разнести по всему свету весть о том, что они встретили настоящего чемпиона. А когда поближе с ним познакомишься… Что же касается внешности, то она еще более обманчива. Только в постели узнаешь, чего стоит любовник! Под одеялом! Что же касается меня, то я должна подвергнуть испытанию тридцать кандидатур, прежде чем остановить свой выбор на одном. Она была уже не первой молодости. Но никто не знал, сколько ей лет: сорок или пятьдесят. Высокая, коренастая, немного мужеподобная, резкая, полная энергии и жизненной силы, она отнюдь не была дурой. У нее часто собирались гости. Ее приемы всегда отличались изысканностью. Она называла себя внучкой Шомберга, автора знаменитых опер, умершего лет пятнадцать назад. Возможно, что так в действительности и было; в любом случае она состояла с ним в более или менее близком родстве и была его наследницей. Поощряя новые веяния в искусстве, она поочередно поддерживала то русский балет, то сюрреализм. Одно время она было увлеклась популизмом, а затем психоанализом. Ее подопечные, посмеиваясь над ней, жили за ее счет, а некоторые из них, проникнувшись мыслью о самопожертвовании, подобно новым Ифигениям, переступали порог спальни лежащей там Артемиды, могучей и ненасытной. В конце концов любвеобильность отдалила ее от всех движений общественной мысли, если она не видела в них революционного начала. Впрочем, что касалось музыки, она была полной невеждой. Она презирала и считала никуда не годными все музыкальные произведения Шомберга, который считал себя учеником Вагнера. Они не сходили с театральных подмостков всего мира, что и было для его наследницы неиссякаемым источником обогащения. Поток денег, постоянно подпитываемый исполнением музыки знаменитого композитора, скончавшегося во время работы над своей шестнадцатой оперой в самом расцвете славы, вскоре иссяк, так как деньги текли у нее сквозь пальцы и тут же оседали в карманах ее молодых любовников. За последние пятнадцать лет парижане привыкли к подобной близости искусства и разврата и уже ничему не удивлялись. Всем было известно, что Магда любила красивых мальчиков и не отказывалась от их услуг. А после того как этот факт стал общеизвестным, никто больше не высказывал удивления. И связь с ней не портила репутацию ее юных любовников. Часто в их роли выступали либо богачи, либо молодые люди, которые не преследовали корыстные цели. Приманка в виде дорогого подарка не могла объяснить безнравственности их поведения. Однако никто не находил, что они совершают противоестественный поступок. Всем было известно, что ни один юноша не мог избежать подобной участи, и сами они это знали. Устоять перед Шомберг для красивого молодого человека было своеобразной доблестью. И вот ради такой женщины Пекер собирался уйти от Эме. И все гости Реми, знавшие Магду и хорошо изучившие повадки Пекера, поняли, что молодой актер стремился к вполне определенной цели. Даже то, что он не провел, как все, хотя бы одну ночь с Шомберг, красноречиво говорило об его намерениях. Друзья могли только строить предположения. Однако, приняв участие в общем разговоре, они не сказали ни слова упрека в адрес Пекера. Сами они в выборе своих партнерш отнюдь не руководствовались любовными порывами. Полезность, престижность или просто удобство любовной связи было тем главным, что определяло их линию поведения в отношениях с любовницами. Однако Пекер пошел дальше всех. Это было совершенно очевидно. Но молодые люди не осуждали своего друга не только в силу принятой в их среде распущенности нравов; их сдерживало нечто большее, похожее на солидарность. Их связывало некое родство душ. Они чувствовали, что сами сделаны из того же теста и мало чем отличаются от Пекера, только что признавшего, что все дело в нюансе. Во всяком случае, рассуждая об Эме, Магде и Лулу, каждый из них разоблачал себя. По высказываниям молодых людей можно было сделать заключение об их происхождении, воспитании и образовании, темпераменте и тайных мечтах. Борис считал Магду слишком «засветившейся». Связь с такой женщиной не портила репутации, но и не была выгодной для Пекера, в то время как Эме многое сделала для молодого человека. Да, да, благодаря своим связям в театральном мире, хорошим отношениям с артистами и зарубежными режиссерами. Конечно, повсюду ходили сплетни об ее пристрастии к очень молодым людям. Надо признать, что, отличаясь от Магды более сдержанным поведением, она была больше, чем Магда, на виду у публики. Ее боготворили. И если Лулу хотел испортить себе карьеру, то он своей цели достиг. У него не было причины бросать Эме. Так почему же он не остался с ней, пока она могла еще быть ему полезной? – К тому же, – добавил Борис, – не забудьте, что Меме научила Лулу держаться в обществе, привила ему светские манеры. Если бы не она, то Лулу никогда бы не смог играть на сцене людей из общества. И Лулу не должен этого забывать. Вспыльчивый, непостоянный, подверженный капризам, любитель выпить, Борис рассуждал неожиданно трезво, и его умозаключения казались особенно взвешенными, когда речь заходила о светской жизни. Он умел обуздывать свой нрав, если ему хотелось получить приглашение к известным титулованным особам в роскошные особняки за богатый стол. Его матери так и не удалось выйти замуж за светлейшего князя, богатого царского придворного. Состарившись, она доживала свой век в Монте-Карло, в доме для престарелой местной знати, разорившейся в игорных домах. Борис проматывал в Париже остатки капитала, полученного два года назад в наследство от родственников отца после того, как они предложили ему за миллион отказаться оспаривать свои реальные или мнимые права на наследство в суде. Он часто заявлял, что, как только его карманы опустеют, он тут же потребует свои права обратно; тем более никогда не поздно пустить себе пулю в лоб. Его мотовство, гулянки под песни цыган и пьянство были следствием неуравновешенного характера. Лишившись с раннего детства возможности жить в той же роскоши, в которой купался его отец, вывезенный в начале революции матерью за границу, где он сопровождал ее во всех балетных турне или же оставался на попечении нянек, он был отдан в какое-то сомнительное учебное заведение, откуда через полгода его забрали; так он и вырос, переезжая с место на место под надзором костюмерш и надзирателей интернатов. Теперь, посещая банкеты, Борис, казалось, стремился наверстать то, что ему, незаконнорожденному, недодала судьба. Нино Монтеверди вел примерно такой же образ жизни, но не на столь широкую ногу, как Борис… Его отец, богатый пьемонтский землевладелец, обладал обширными и плодородными землями. Он считал, что принял удачное решение, когда решил направить сына на учебу в Париж в Сельскохозяйственный институт. И теперь в своей глубинке он силился понять, почему его мальчик каждое лето откладывает свой приезд в родные края, о чем мечтает вся семья. Еще меньше он понимал, на какие средства его сын живет в Париже. Пойдя на хитрость, он уменьшил средства, которые выделял на содержание сына. Однако его уловка ни к чему не привела, а только заставила Нино еще больше окунуться в вихрь светских удовольствий. Ибо молодой человек так же, как Борис, Бебе и Жожо, не будучи ни у кого на содержании, мог выжить только благодаря светскому образу жизни. Вдали от отчего дома именно светская жизнь совращала и одновременно помогала выжить. В столице его постоянно куда-нибудь приглашали: то на завтрак, то на обед, то на ужин. За ночь он бывал на нескольких банкетах. В зависимости от времени года получал приглашения посетить Средиземноморское побережье, Довиль или Биарриц или отправиться в круиз. И ему не надо было тратиться. Портом его приписки была тесная комнатка на седьмом этаже гостиницы на улице Гамбон в самом центре города, что было весьма удобно и сокращало расходы на транспорт. Живой и веселый, приятной наружности, прекрасный танцор, обаятельный человек, умевший завоевывать симпатии и чувствовать себя непринужденно в любом обществе, он ни с кем не портил отношений. Однако он никогда не делал ответных приглашений. Обладая услужливым характером и умея приспосабливаться к любым обстоятельствам, он считал своим долгом в знак благодарности заниматься со знанием дела любовью с хозяйками домов, в которых его гостеприимно принимали. Он в свою очередь не скрывал удивления, что Пекер, решивший попытать счастья у Шомберг, не оставил себе путь к отступлению. – Ведь неизвестно, чем все это обернется, – сказал Нино, – ссориться глупо. Я говорил Лулу: ты должен так устроить свои дела, чтобы не ссориться ни с той, ни с другой. Бебе Десоль был другого мнения. Если Пекер станет любовником Шомберг, то совершит не просто непростительную ошибку: он даже не подозревает, какая каторжная жизнь его ждет. – В конце концов, вы обратили внимание? У него никогда не было женщины, с которой только спят? А между тем их полным-полно, и он мог бы премило устроиться. У Бебе Десоля водились деньги. И даже очень большие. Из всей компании он был самым богатым. Вот уже десять лет, как его отец стриг купоны, руководя одним хитрым рекламным делом, которое крутилось само по себе. Отцу помогала дочь. Что касалось Бебе, то он полностью отстранился от дел. Однако отец заставлял его появляться в офисе, куда Десоль заглядывал лишь два раза в месяц, словно известный спортсмен, которого фирма держит ради престижа. Сестра была старше; тощая незамужняя девица, получившая диплом с отличием по окончании престижного института, настоящий синий чулок, она боготворила брата. Мать тоже постоянно подсовывала ему тысячные денежные купюры. Вся семья, открыв от восторга рот, млела над обложками спортивных журналов, где красовался их полуголый кумир. Он был семейной гордостью. Наделенный от природы удивительно привлекательной внешностью, отличным телосложением, способный ко всем видам спорта, он постоянно занимался физическими упражнениями. Его единственной целью было как можно чаще попадать на обложки журналов в костюме для тенниса, в футбольной форме, в трусах или плавках. Но чаще всего в плавках. Он отказался от игры в гольф только из-за костюма, скрывавшего его физические данные. Однако, словно оберегая свое природное достояние, он не разменивался направо и налево. И не связывался с кем попало. И если он выбирал, то выбирал за богатство. У своих любовниц он не клянчил денег, не принимал от них подарков, но подспудно ему хотелось иметь уверенность в том, что они в состоянии с ним расплатиться. Наконец, Жорж Манери – во время спора он вставлял невпопад нелепые замечания. Его приятели были единодушны в одном: он ни в чем не разбирался. Он давно мечтал стать знаменитостью. И потратил на это немало денег. Постановка авангардистских спектаклей, небольшая роль в фильме, который он сам финансировал, книжка примитивных и бессвязных стихов, вышедшая за счет автора, приемы, коктейли, подарки, деньги, раздаваемые в долг, – все было заранее обречено на провал. Даже правильное написание имени не принесло ему успеха, и все его усилия пропали даром из-за презрительной клички Жожо. Ибо все знали, что у Жоржа Манери нет темперамента. А в том кругу, где он столь упрямо добивался успеха, ничто другое не могло так сильно навредить карьере начинающего. Он был красивым парнем, довольно неглупым, не таким уж большим занудой. Ему нравилось делать всем приятное. Однако женщина, с которой он поначалу по неопытности имел несчастье завести роман, затем другая, третья породили и распространили слух, что Жожо плохо занимался любовью, что его трудно расшевелить, и было признано – как приговор, – что его обделила природа. С тех пор женщины не обращали на него внимания. Он находил утешение у одной несчастной девушки из небогатой семьи, по непонятной причине влюбившейся в него после его единственного появления на экране; и теперь, чтобы быть рядом со своим кумиром, она стала его секретаршей. Вот на ней-то он и отыгрывался. На голову бедняжки сыпались все шишки: он придирался к ней, выставлял ее на посмешище публике, а порой и поколачивал. И отказывал ей в главном: не спал с ней… Саша де Галатц не принимал участия в общей беседе. Он хранил молчание. Он и в самом деле наводил тоску на окружавших. Молодые люди надеялись, что он скоро уйдет. Но закончился обед, ушел Лулу, опустели рюмки, отзвучали все пластинки, а Галатц не двигался с места, молча напиваясь в кругу шумной компании. Наконец все разошлись, и он остался с глазу на глаз с Реми. Вот тут-то он и заговорил. Он подошел к радиоле, на которой Реми, чтобы избежать гнетущей тишины, менял пластинки. Неожиданно наступили покой и тишина. Шум проезжавшего внизу автобуса, казалось, доносился откуда-то издалека. Галатц говорил небрежной скороговоркой, проглатывая слова. Он много выпил. Временами его голос становился хриплым, его охватывал нервный тик, и у него подергивалась рука, что свидетельствовало о нервном расстройстве и выдавало скрытую внутреннюю тревогу. – Дорогой мой, – обратился он к Реми, – представьте себе, что мне очень хочется работать. Не верите? Ну да! Праздность стала мне невмоготу. А если я скажу, что часто вам завидую, несмотря на всю вашу занятость? А что вы хотите? В наше время доходы уже не могут называться доходами. Мне надо немного подумать о будущем. Я вас очень уважаю и хотел бы с вами об этом поговорить. Пристройте меня куда-нибудь. За прошедшие два года, в течение которых ему пришлось самостоятельно пробиваться в люди, Реми хорошо узнал жизнь. Он не представлял себе, на какую оплачиваемую работу мог рассчитывать его гость. Не любивший лукавить и одновременно не особенно заботившийся о том, чтобы кого-то впустую обнадеживать, он выложил Саше все, что знал о трудностях, которые того подстерегали, и о невозможности быстро найти приличное место. – Знаете, – сказал он Саше, – не стройте больших иллюзий. Это не так-то просто. Впрочем, вы сами почувствовали бы себя неважно, если завтра вам пришлось бы просидеть за служебным столом четыре часа до обеда и четыре после. – О нет, – ответил Саша, – речь не о том, я сейчас вам поясню, мой друг. Это верно, что в офисе от меня не будет большого проку. Мне нужна особая сфера деятельности, связанная с литературой или театром. Я представляю ее так: совершать поездки по заказам музеев, быть помощником у известного писателя, заниматься поиском неизвестных талантов, новых художников. Если бы работа была связана с обработкой каких-то документов или ведением переписки, то, конечно, мне бы хотелось заниматься ею дома. У меня такая уютная квартира! Вы знаете, я могу устраивать приемы. У меня есть опыт. Реми слушал его с удивлением. Ему было трудно представить этого человека за каким бы то ни было занятием, даже в той роли, в какой он хотел себя попробовать. Однако, когда он вспомнил историю жизни Саши де Галатца, ему многое стало понятным. Карьера Галатца началась в Динарде незадолго до перемирия одиннадцатого ноября: на пляже, где он загорал во время отпуска, его заметила баронесса Мелон, бывшая проститутка, вышедшая замуж за болеющего подагрой старика. С ее помощью он демобилизовался; она приблизила его к себе и представила своему кругу. Восемь лет спустя, набравшись опыта, присвоив себе титул маркиза, он женился на молодой американке еврейского происхождения, отец которой владел крупными магазинами. И отправился за ней в Штаты. Там он приглянулся одной голливудской актрисе, развелся с женой, женился на актрисе и оставался в браке до тех пор, пока неудачливая женщина за четыре года упорной работы не растратила весь свой небольшой талант и не оказалась без средств к существованию, без контракта, без будущего и без мужа. После еще некоторых превратностей судьбы, отказавшись от сомнительного титула, Галатц встретил принцессу Бамбергефульд. Решив взять ее приступом, он преследовал принцессу повсюду. Наконец она сдалась, но из-за связи с ним была отвергнута своей императорской семьей. Его видели с ней в Индии, в Кейптауне, в Шотландии, на Гавайях. Со временем он ей надоел. Галатц считал ее женщиной слишком вольного поведения, без предрассудков и комплексов, рабой своих желаний. Вскоре она перестала довольствоваться только одним любовником. Однако он не захотел мириться с присутствием соперников, находившихся так же, как и он, на содержании принцессы. Ему казалось, что он должен бороться за свое место под солнцем; в результате из Каира его выдворили вон, как простого лакея. В благодарность за службу его выпустили с подаренными раньше драгоценностями, чеком на пятьсот тысяч и обратным билетом до Парижа. Реми, не любивший скрывать своих мыслей, произнес: – Понимаете, с учетом того образа жизни, который вы до сих пор вели… Но едва он произнес эти слова, как увидел, что его собеседник изменился в лице. И тут же, по мере того как с лица Галатца сходила маска самовлюбленного самца, он на глазах постарел лет на двадцать. Снова наступила тишина. Реми подошел к радиоле. Прослушав семь, восемь, девять пластинок, Галатц попросил налить ему виски. После четырех рюмок, выпитых вслед за множеством бокалов вина и ликеров, он захмелел. – Да! – запальчиво воскликнул он.– Вы думаете, что это легко! В былые времена мужчины нравились по крайней мере до пятидесяти лет. А теперь возраст не уважают. Сорок лет – и все! А порой и намного раньше. Вас выбрасывают, словно использованную вещь. Они считают, что вы ни на что не годитесь, потому что не можете заниматься с ними любовью так часто, как они этого хотят. В конце концов, ведь жизнь состоит не только из этого! В его голосе звучали фальшивые нотки. И, произнося вульгарные слова, он, казалось, не верил в то, что говорил. Он ломал комедию перед собой и Реми. Возможно, ему становилось от этого легче. Он произнес длинную речь, сумбурную и жалкую, где высказанные банальности чередовались с притворством. Однако под гримасой фальши проступали искренние претензии к жизни и глубокие сожаления. В хаосе его рассуждений можно было различить тревогу старого прожигателя жизни. В своей страстной обвинительной речи он поносил женщин, единственных виновниц его теперешнего шаткого положения. Он обрушил на них свой гнев за то, что они не признавали истинных наслаждений, которые дает дружба, приятная беседа, чтение, а только думали о том, как бы заняться любовью, а после тут же снова готовились к ней. Они не оценили его незаурядных личных качеств, чувствительности, высокого интеллекта. Ведь, положа руку на сердце, он может признаться, что был способен на многое в жизни. А эти распутницы полагают, что им все дозволено в этой жизни благодаря деньгам, которые они имеют и которыми распоряжаются по собственной прихоти. Реми слушал, не перебивая ни словом, ни жестом. Между собой и Галатцем, постаревшим любителем женщин, жившим за их счет, который накачался алкоголем и захлебывался от обиды, ему вдруг померещилось восковое лицо Агатушки. Заканчивая свой рассказ о завсегдатае модных клубов, разорившемся из-за наездницы, она сказала: «Я говорю тебе о прошлом». Наглядным примером тому мог служить Галатц, чьи деньги перекочевали в карманы женщин; возможно, здесь возымел действие закон круговорота воды в природе, потому что у предыдущих поколений бытовал миф о том, что мужчины разорялись из-за женщин, и вот теперь богатство скопилось в руках женщин. И все, что раньше считалось привилегией мужчин: собственность, творческая мысль, работа, финансы, власть – все, что мужчины раньше бросали к ногам женщин, перешло к ним, и, как сказал Пекер, женщины в свою очередь спускали все на любовников. Реми, слушая Галатца, мог как следует его рассмотреть. Перед ним сидел человек с помятым лицом, накладкой из волос на голове, с нервно подергивающимися руками, но все же сохранивший «былые черты». Он походил на старую куртизанку, жаловавшуюся на охлаждение к ней былых клиентов, распаленную гневом и напившуюся от злости. Наконец поток его красноречия иссяк. Но он еще не торопился уходить. Протрезвев от своих речей, он произнес: – Мики, мне надо вам кое-что сказать. Задать вам один вопрос. – А? – сказал Реми. Он прислушался. Тон его гостя показался ему странным. – Да, – сказал Галатц. – Так что? – Я не ушел вместе со всеми вовсе не потому, что хотел остаться с вами наедине.– Он помолчал.– А потому… мне очень неудобно… это такой личный вопрос… И если вы мне откажете… Во всяком случае, вы не будете смеяться, нет? – Ну конечно! – И вы никому не расскажете? Если люди, зная меня, это услышат, то очень удивятся. У нас в Париже так много дураков… Вы согласны? Все останется между нами? Обещаете? Реми дал слово, но без всякого энтузиазма. Он не понимал. И тут Галатц встал. Уже несколько минут, как у него сдвинулись брови, плотно сомкнулись губы; и всем своим видом он не внушал Реми никакого доверия. – Верхний свет слишком резок, – произнес Галатц, – вы позволите? Люстра погасла. Остался гореть лишь глобус, который разрисовал сам Реми. Он распространял приглушенный свет, создавая благоприятную атмосферу для душевных излияний. Реми специально выбрал эту лампу для мастерской, чтобы она мягким светом освещала комнату в те редкие минуты, когда в ней появлялась женщина. Молчание затянулось. На улице, по всей видимости, уже не ходили автобусы. Во всяком случае, их не было слышно. Галатц оставил в пепельнице горящую сигарету, и дым от нее поднимался высоко к потолку, затем его кольца расплывались в темноте. Как режиссер, удовлетворенный убранством сцены, он наконец произнес: – Вот… Есть такие вещи, о которых лучше спрашивать в полумраке. Даже у своих друзей. Ведь мы с вами добрые друзья, не так ли? Реми промолчал. – Хорошо, – сказал его гость. Он встал за спинкой стула, на котором сидел Реми, и положил ему руки на плечи. Реми почувствовал, как горячи его жесткие ладони. Он сделал движение, словно хотел отстраниться. – Не шевелитесь, – сказал Галатц.– Я встал позади вас потому, что так мне будет легче с вами говорить. А вам будет проще мне честно ответить. Реми стало не по себе. Что же хочет от него этот покрытый морщинами, потертый и развращенный человек, который только что дергался перед ним, словно марионетка? Почему его голос стал таким нежным? Под действием винных паров он уже наболтал много лишнего, а теперь эти откровения, симпатия… Реми многое бы дал, чтобы оказаться где-нибудь в другом месте. Почему этот, всегда уверенный в себе человек стал вдруг таким нерешительным? Все это казалось Реми странным и не внушало доверия. В конце концов, он совсем недавно познакомился с Галатцем и не все о нем знал, а люди иногда нам готовят такие сюрпризы… Реми уже ломал голову над тем, как ему, захваченному врасплох в собственном доме, выкрутиться из столь затруднительного положения. Но Галатц все еще медлил. – Знаете, Мики, – сказал он, – не бойтесь меня расстроить вашим ответом, даже если причините мне боль. Реми не верил своим ушам: столько волнения он услышал в его голосе. – Возможно, мне будет неприятно в какой-то момент, – произнес за его спиной все тот же взволнованный голос, – но по крайней мере я успокоюсь. Вот… Ответьте мне прямо, да или нет. Могу ли я…– Тут он замолк и затем глухим, дрогнувшим голосом произнес: – Могу ли я еще нравиться женщинам? (обратно)XI
– Алло, это господин Реми Шассо? С вами говорит Эме Лаваль. – А! Прекрасно…– ответил Реми.– Мое почтение, мадам. – Мне бы очень хотелось с вами встретиться и переговорить. Прошло три месяца, как Пекер ушел от Эме к Магде Шомберг. И уже две недели, как уехал в Берлин на съемки фильма. Реми смутила просьба Эме, с которой он не был лично знаком. – Прошу прощенья, мадам, но я в ближайшие дни буду очень занят. У меня срочная работа и… Его слова были прерваны звонким и немного наигранным смехом, прозвучавшим на другом конце провода. – Дорогой мой, успокойтесь и ничего не бойтесь. Я вовсе не собираюсь выведывать у вас что-то о Лулу и просить вашего содействия, чтобы нас примирить. Я ведь знаю, что вы очень хороший товарищ. И вот я рассчитываю именно на вашу порядочность. Мне нужно узнать одну подробность, которая известна только вам и касается лично меня. Не сомневайтесь, вас это не коснется. Послушайте, вы будете дома после обеда? Скажем, часов в пять?.. Вот и замечательно. Я к вам зайду в пять часов. Реми впервые общался по телефону с Эме Лаваль. Не один раз Пекер, говоря, что скучает в ее обществе, просил друга присоединиться к их компании. Реми всегда находил предлог, чтобы увильнуть от приглашения. Со слов Пекера он составил о женщине такое мнение, что у него навсегда отпала охота с ней встречаться. По воле случая ему уже пришлось познакомиться с Шомберг. И один только вид этого жандарма в юбке, снедаемого ненасытным огнем неудовлетворенной женской страсти, заставил всколыхнуться все, что еще оставалось чистого в его душе. Да, уже два года он жил в окружении всех этих пекеров, бебе десолей, монтеверди. И любительницы острых ощущений уже давно внесли его в список мальчиков, пользовавшихся определенной репутацией, чьи любовные качества рекомендовались той или иной женщине в зависимости от ее вкусов и склонностей. Однако Реми еще не успел до мозга костей пропитаться атмосферой вседозволенности и разврата. Он вел такой же образ жизни, как и его товарищи, но не разделял их мыслей и чувств. Он проявлял терпимость к безнравственным поступкам, но сам их не совершал, иначе говоря, он «допускал все», но только у других. В обществе, в котором вращался Реми, он пользовался репутацией замкнутого и необщительного человека, хотя на самом деле это было не так. Он мог держаться в стороне от компаний или отдельных лиц, если ему что-то не нравилось. Старая буржуазная закваска не позволяла ему следовать за товарищами, когда они направлялись, например, к Жесси Ровлинсон, известной своей экстравагантностью, к Магде Шомберг или же к мадам Тоннель, которой через своего супруга, директора крупной ежедневной газеты и близкого друга высокопоставленного чиновника в полиции, удалось прибрать к рукам всю парижскую агентуру. Реми считал, что Эме принадлежит к этому же кругу. Ее многочисленные любовные связи, постоянно увеличивавшаяся с годами разница в возрасте с ее любовниками, ибо Эме по-прежнему продолжала подбирать для любовных игр молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, то, что Пекер о ней рассказывал, и в частности о странной нежности, которую она проявляла к этому юноше, – все это в глазах Реми ставило ее в один ряд с Шомберг и другими сластолюбивыми старыми и опасными каргами. В прихожей раздался звонок. Он услышал, как Альберт прошел к выходу. Затем отворилась дверь мастерской. Это была она. Эме улыбалась. На ней было пестрое светлое платье, так как уже наступила весна. В руках она держала большой букет гвоздик. Она казалась оживленной, полной энергии, как будто вернувшейся с верховой прогулки; но самым удивительным была ее улыбка. Улыбаясь, она показывала ровный ряд мелких и нетронутых временем зубов; ее глаза блестели. Улыбка оживляла ее увядающее лицо, возвращая ему молодость. – Вам нравятся цветы? – спросила Эме, порывистым жестом протягивая букет.– Я знаю, что кому-то может показаться странным, когда женщина преподносит молодому человеку цветы. Но представьте, мы попали в пробку и мой шофер остановился на улице как раз напротив торговки цветами. Ах! Если бы вы ощутили их запах на забитой автомобилями дороге! Словно повеяло ароматом цветущих деревьев! Я опустила стекло и протянула руку. И купила всю охапку целиком. Поскорее поставьте их в вазу. У вас есть лимоны? Я умираю от жажды! Будьте добры, дайте мне стакан холодной воды прямо из-под крана с выжатым лимоном. И без сахара! Как у вас уютно. Не в самых строгих тонах, но в то же время не похоже на бивуак. Теперь я понимаю, почему Лулу так любил бывать у вас. Реми ждал момента, когда ей надоест играть перед ним комедию, используя привычные артистические приемы, к которым она прибегает на сцене. Он ожидал, когда иссякнет поток ее красноречия и погаснет улыбка. Однако, присев на стул и отпив мелкими глотками из стакана, она снова заговорила, но уже не спеша и почти серьезным тоном, хотя по-прежнему улыбалась. – Господин Шассо, – произнесла она, – не смотрите на меня с такой неприязнью и, чтобы лучше меня понять, представьте, что мы давно знакомы. Мне хорошо известно, что вы не хотели, чтобы мне вас представили. Да, да… Было много возможностей, но вы ни одной не воспользовались. Безусловно, у вас были на то основания. И, вероятно, весьма веские. Не зная меня, вы меня невзлюбили, и мне было очень неприятно это сознавать. Потому что Лулу мне много о вас рассказывал. И я прекрасно знаю… Я знаю, что вы отличаетесь от ваших друзей. Мне известно, какое хорошее влияние вы на него оказывали. Так вот, господин Шассо, скажу вам прямо, что мое сердце давно открыто для дружбы с вами. Реми был настороже. Несмотря на то что женщина говорила теперь более естественным тоном, ему все же казалось, что ее слова доносятся до него со сцены. Легкость, с какой лилась ее речь, выдавала в ней опытную комедиантку, привыкшую «по ситуации» ловко подбирать нужные слова. И даже в ее обращении «господин Шассо», которого Реми давно не слышал, угадывалось намерение расположить его к себе. Он понимал, что ее визит был не случайным: нет, Эме Лаваль прекрасно знала, о чем с ним говорить, она тщательно подбирала слова и, следовательно, пыталась скрыть свои намерения. Что же до ее улыбки, то она выдавала ее с головой. С лица Эме Лаваль во время спектакля не сходила застывшая, стандартная улыбка даже в самых драматических сценах. Пытаясь оправдать этот артистический и в то же время женский прием, она ссылалась на высокие авторитеты. «Мадам Сара, – говорила она, – с улыбкой играла Гермиону. Она не часто выступала в этой роли на сцене, но мне удалось ее увидеть. Там, где другие актрисы заходились в крике, мадам Сара произносила текст тихим голосом и с улыбкой. Например, слова: „Жестокий, я ли тебя не любила…“ – она произносила так, что у вас текли слезы, вы чувствовали ее страдания и муки, а она улыбалась. В тот день, когда я увидела это незабываемое зрелище, я поняла многое из того, о чем раньше даже и не подозревала в нашей профессии и в сердечных делах». И она говорила правду. Знаменитая на весь Париж улыбка не покидала ее ни на минуту, исполняла ли она арии комических опер, романсы, опереточные куплеты, а затем, когда голос Эме ослаб и она перешла на драматическую сцену, именно своей улыбкой бывшая певица покоряла и очаровывала публику. Именно улыбка делала актрису привлекательной женщиной, несмотря на то что ее лицо и фигура уже были отмечены временем. Улыбка позволила по-новому раскрыться ее таланту, который от одного театрального сезона к другому проявлялся все больше и больше. Благодаря улыбке и женскому обаянию, которое она не утратила с возрастом, актриса осталась навсегда похожей на состарившуюся девочку. Но именно эта улыбка, так мало вязавшаяся с тем представлением, которое Реми составил об Эме Лаваль, меньше всего внушала ему доверие. Он видел перед собой только актрису, не снимавшую своей сценической маски даже за кулисами. К тому же ему было известно, что Эме вовсе не была свойственна такая сдержанность. Она прославилась своей эксцентричностью, взбалмошностью, необдуманными поступками. Из-за ошибок, допускаемых в речи, она стала притчей во языцех. Благодаря репертуару, ибо ей приходилось играть и классику, она усвоила правильные обороты речи. Однако временами Эме демонстрировала чудовищную невежественность, к радости журналистов, наживавшихся на статьях о ней. Например,она говорила: «Боже мой! Уже два часа ночи! Дорогие друзья, я вас покидаю: я возвращаюсь к моим пернатым». Или говорила об одной из своих приятельниц: «У этой Вейскирш, однако, сохранилась хорошая фигура. Это легко можно объяснить, ведь она родом из Страсбурга, у нее эльзасская кариатида». Или еще: «Когда я чувствую себя особенно уставшей, для меня нет лучшего отдыха, чем отправиться в открытой машине на прогулку в лес Фонтенбло и вернуться в вице-Версаль». Надо признать, что ей присущи были две крайности. Если ее интеллект был не развит, то в области чувств она отличалась повышенной эмоциональностью. Как только Эме начинала говорить о любви, дружбе, восхищении, душевных волнениях – словом, о любых проявлениях чувств, которые она испытывала или которые существовали только в ее воображении, она будто перерождалась и на нее снисходила Божья благодать, которая вкладывала в ее уста удивительные слова. На репетициях она потрясала авторов пьес и своих более просвещенных партнеров по сцене почти непогрешимой искренностью, с которой она, повинуясь инстинкту, произносила слова своей роли. Но стоило ей перейти к рассуждениям, как она тут же запиналась. Порой она даже проваливала роли, которые требовали хоть немного интеллекта. Так, еще недавно в ревю она с подкупающей непринужденностью исполняла куплеты, не понимая их политического подтекста. Она была похожа на необразованную девушку из народа, которая, влюбившись, произносит вдохновенные прекрасные слова. Как только Эме Лаваль, играя свою роль, доходила до сцены, где потоком лились слова нежности, любви, упреков или отчаяния, она легко поднималась до высот классических героинь древности. И тогда зрители забывали ее возраст и видели перед собой уже не отяжелевшую с годами фигуру, а только выразительные глаза и улыбку. И неожиданно сквозь реплику или жест, вопреки часто невыразительному тексту, несмотря на современную одежду актрисы и ее репутацию, перед зрителями представала вместо бульварной комедиантки живая Маргарита, Жюльетта, Сильвия или Береника во плоти. – Так вот, – произнесла она с улыбкой.– Вы, наверно, ломаете голову над тем, что меня привело к вам. Я заглянула к вам не для того, чтобы с вашей помощью найти средство вернуть Лулу. Он и так ко мне вернется, когда уйдет от Магды. Не раньше и не позже. Когда он почувствует, что время его прошло. Как говорят, ему на роду написано расстаться с Шомберг. Конечно, я не претендую на то, что могу предсказывать чью-то судьбу, но есть вещи, которые я чувствую. И мне известно, за какого рода удовольствиями охотится Магда. И, зная возможности Лулу, могу сказать, что долго он не протянет. Вы же знаете, что Лулу имеет свою гордость… вы, конечно, понимаете, о чем я говорю? И когда он осознает, что больше всего в нем ценит Магда, он надуется, как гусак, и уйдет. Я признаю, что Лулу не любит, возможно, женщин, как таковых, но ему хочется, чтобы его больше любили за ум, умение поддержать разговор, актерский талант, чем за физические данные. Мне это хорошо известно, я его достаточно изучила… Улыбка по-прежнему не сходила с ее лица. Она отвернулась к окну. На мгновение ее взгляд приобрел отсутствующее выражение. Затем она заговорила вновь: – Скоро он станет сравнивать Магду со мной, вернее, нашу манеру любить. Возможно, он уже это делает. Главное, чтобы у него, когда ему опротивеет Магда, было время пожалеть о том, что он со мной расстался. Именно поэтому я не хочу, чтобы он поскорее поссорился с Магдой. Для меня лучше, если такое решение постепенно созреет в его глупой голове. И тогда, если какое-то время спустя мне повезет и Лулу однажды снова ко мне вернется, я должна знать, как не упустить шанс и привязать его к себе. Вот что, господин Шассо, привело меня к вам. Хочу еще вам сказать, что я стремлюсь вернуть Лулу не только потому, что испытываю в нем нужду; будет вернее, если я скажу… что это нужно прежде всего ему. Потому что… В этот момент ее голос дрогнул. Эме глубоко вздохнула, разгладила носовой платок, который всегда носила с собой, затем скомкала его и зажала в кулаке. Склонив голову, она снова взглянула на Реми. Улыбка по-прежнему освещала ее лицо. – Потому что, – начала она снова, – быть со мной… я хочу сказать, быть нам вместе для него тоже счастье. Никто не будет его любить так, как делаю это я. На сей счет у меня сомнений нет, да и он, глупыш, прекрасно знает… Зачем ему еще что-то искать? Ведь я на все закрывала глаза… О! Я знаю, он меня высмеивает, рассказывает обо мне небылицы своим друзьям и уж, конечно, не раз выставлял меня в смешном свете перед вами, да, да… Между тем я уверена, что в глубине души он знает, что нигде и ни с кем… в общем, что говорить, он все же продолжает дорожить своей Меме… Несмотря на улыбку, ее глаза как-то по-особенному заблестели. И Реми заметил, что на них навернулись слезы. Несколько минут она сидела с таким выражением лица, будто была на грани нервного срыва. Затем ее брови поднялись, она закусила нижнюю губу, и слезы потекли по ее щекам. Отвернувшись, она высморкалась. – Господин Шассо, я не досаждаю вам своими разговорами? Нет? Вы видите, мы сразу сделались друзьями. Я же вас предупреждала, что не покажусь вам вздорной бабой. А вы обо мне Бог весть что думали! О! Я вас ни в чем не упрекаю! К этому принуждает наша парижская жизнь. В прошлом году, в сентябре, если бы вы приняли мое приглашение поехать с нами отдыхать… я хочу сказать, если бы вы могли освободиться… я знаю, знаю… Лулу мне говорил, что вам не удалось вырваться… Да, если бы вы с нами поехали, у вас было бы другое мнение обо мне. У меня в Ламалуке прекрасный домик, он стоит один среди леса в четырех километрах от Руффина. У меня свой отдельный пляж. Вообще-то у меня есть сосед, старый пенсионер, который когда-то работал в колонии, но он там никогда не показывается. Это небольшая заброшенная бухта, какие встречаются на побережье. К ней можно добраться только морем или же через мое владение. Тропинка ведет через поле, засеянное аронником. Мне кажется, что вам бы там очень понравилось. Не прошло и двух дней, как Лулу стал совсем другим. Вы бы его там не узнали. Он весь день проводил в купальных трусах. По утрам я отдыхала в шезлонге, а он карабкался на прибрежные скалы. Он охотился на морских ежей. Я смотрела, как он нырял, исчезал за скалами и снова появлялся. Я смотрела, как он наклонялся, поднимал камни. Время от времени он оборачивался ко мне. Показывая мне морского ежа, которого держал в руках, он кричал: «Меме, посмотри, еще один мастодонт!» Я отвечала, что это замечательно, и просила быть осторожным на скользких камнях. А он смеялся мне в ответ. Нарочно, чтобы меня напугать, он прыгал со скалы на скалу под ослепительным солнцем между небом и водой. Знаете, в эти минуты он был мне намного ближе, чем во время любви. Боже мой! Как я была счастлива! За три дня на пляже он обгорел, и мне пришлось лечить его солнечные ожоги, чтобы не лупилась кожа. Он спал по десять часов, не считая двухчасовой послеобеденной сиесты. Он здоровел на глазах. А я не уставала себе повторять, что все это благодаря мне. Я думала, что моя любовь оказывает на него благотворное воздействие. И не могу даже сказать, насколько я чувствовала себя счастливой!.. Такой счастливой, что за все время нашего пребывания там мы ни разу не занимались любовью. Она плакала. Ее улыбка стала походить на гримасу. Однако Реми больше не удивлялся. В ее улыбке он уже не видел маску. Он почувствовал, что даже в страдании улыбка не покидала этой женщины. – По вечерам, – продолжала она, высморкавшись, – по вечерам мы ужинали на террасе, не зажигая свет, чтобы не заели комары. Затем… вы будете смеяться, потому что это вам покажется уж совсем глупым, мы спускались на пляж и катались в лодке по лунной дорожке. Лулу не хотел, чтобы я подходила к невысокому причалу в конце пляжа; он подгонял лодку к тому месту, где я стояла. Взяв меня на руки, он входил в воду. Перенося меня в лодку, он спрашивал: «Меме, дай слово, что завтра на завтрак у нас будет черная икра! Поклянись, или я тебя брошу в воду!» Ах! Как он был нежен со мной! Как я была счастлива в эти минуты! Он брался за весла. Когда мы отплывали далеко от берега, он опускал их, и лодка плыла по воле волн. Он вытягивался в лодке, положив голову мне на колени. И говорил: «Спой мне, Меме, спой что-нибудь из своего старого репертуара». И я ему пела, хотя уже давно не пою. Не правда ли, это немного смешно? Я пела Масне, Мессажера, медленные вальсы. Больше всего ему нравились романс «Я понял твою печаль» и ария из «Мирен», с которой я когда-то дебютировала. Однажды ночью он заснул под мое пение. Я боялась пошевелиться. Попутный ветер увлек нас далеко в открытое море. Нас так далеко отнесло течением, что в первом часу ночи мне пришлось разбудить Лулу. Мне кажется, я подумала, что мы не вернемся. И она снова заплакала. Глядя на ее слезы, Реми подумал о неизвестных ему до сих пор муках любви, которые ему впервые выпало увидеть. Как давно ему хотелось испытать такое же душевное волнение, пролить слезы, почувствовать, как дрожит голос и как рыдания готовы вырваться из груди, и чтобы такие же трепетные руки, казавшиеся ему символом страсти, обвили бы его шею. И женщина, которая, как ему казалось, ничем не отличалась от Шомберг и Гоннель, старая актриса по прозвищу Меме предстала перед ним совсем в ином свете. Реми и сам был готов заплакать. Стоило только этой влюбленной женщине с ним познакомиться, как тут же после нескольких пролитых перед ним слезинок она покорила его сердце и завоевала его дружеское расположение. Поднявшись с места, он подошел к креслу, на котором сидела Эме. Она все еще плакала, держа в руках свой платочек. Реми встал перед ней на колени. Он пытался разжать ее пальцы. Она подняла голову и удивленно улыбнулась. И отдала ему свои руки, остававшиеся в перчатках. Реми прикоснулся губами к ее обнаженным запястьям и с удивлением обнаружил, какая у нее нежная, упругая, молодая кожа. – Я прошу у вас прощения, – сказал он. Он не назвал ее «мадам», ибо уже чувствовал, как ему близка Эме. – Прощения?! – воскликнула она.– Вы шутите? Прощения за что? – За то, что не стал вашим другом раньше. Я настоящий дурак. Прошу у вас прощения, и скажите: чем я могу быть вам полезен? О чем бы вы хотели меня попросить? – Ах да…– сказала Эме.– Дело в том… Я хотела, чтобы вы мне сказали… О! Не выдавая секретов Лулу, лишь скажите мне, что, по вашему мнению… Скажите мне…– Она запнулась и через секунду продолжила говорить уже более серьезным тоном: – Почему я ему разонравилась? Постойте!.. Я сейчас вам все объясню: если мне снова улыбнется удача и Лулу вернется ко мне, я должна буду повести себя так, чтобы он продолжал меня любить. Я должна избегать малейшей оплошности, не раздражать его. Он ушел от меня потому, что я сделала что-то такое, что ему не понравилось, конечно, совсем неумышленно. Но что же такое я совершила, что не пришлось ему по нраву? Я должна это знать. Именно теперь, чтобы не повторить своей ошибки. Реми растерянно молчал. – Послушайте, – продолжала Эме, – наверное, вы что-то знаете? Не может быть, чтобы Лулу не делился с вами своими мыслями, не делал каких-либо замечаний на мой счет? Я уверена, что между нами было нечто такое, что испортило наши отношения. Скажите мне правду: это нужно прежде всего ему, это для его блага. Я даже не знаю… Возможно, он хотел жить отдельно? А может быть, он считал, что мы проводим вместе слишком много времени? Или же ему была нужна дополнительная свобода? Нет? Хватало ли ему денег? Или же… хочу с вами поделиться, мне в голову пришла мысль, а вдруг я перестала ему нравиться как женщина? Это может случиться с кем угодно и еще ни о чем не говорит. Например, может быть, он считал, что я слишком растолстела? Или… наконец… или же он находил, что я недостаточно молода для него? Реми решил возразить. – Ну что вы, – сказал он, – вы напрасно себя изводите. Все совсем не так, как вы думаете. Мне даже кажется… Если и было между вами что-то такое, что отдалило его от вас, то скорее ваше чрезмерное внимание к нему. – Как? Зрелая и опытная актриса взглянула с удивлением на молодого человека, отвечавшего на ее вопросы. – Да, да, – продолжал он, – по крайней мере, мне так кажется. Я думаю, что Лулу хотелось больше свободы, но не в том смысле, в каком вы ее понимаете: ему было нужно больше свободы… моральной. На будущее вам не следует облегчать ему жизнь, пусть он сам выкручивается, и не надо потакать его капризам. – Но я делала это исключительно для того, чтобы избежать последствий! – воскликнула Эме.– Вам же известно, что если бы не мое вмешательство, то он бы перессорился со всеми и не получил бы ни одного ангажемента! – Конечно, но тем хуже для него, пусть бы он сам и находил выход. Раз вы не хотите снова его потерять, то подумайте прежде всего о том, что для этого надо предпринять. Честно говоря, ваша постоянная опека была ему немного в тягость. Вам следует сделать так, чтобы он ее не замечал. – А? – с недоумением и немного разочарованно произнесла Эме. Она, безусловно, надеялась на более романтическое объяснение и, конечно, никак не связанное с ней.– А? Да мне бы хотелось верить, но на самом деле… – Уверяю вас. Мне кажется, я не ошибаюсь. Но, заметьте, Лулу мне ничего не рассказывал. Пока вы мне о нем говорили, я невольно пришел к такому выводу. Мне показалось, что внезапно я понял причину вашей размолвки. Вы должны уяснить, что ваши неустанные заботы, терпение и доброта, которыми вы его окружили, подчеркивали то, что вас разделяет: разницу в ваших характерах. Кто знает, возможно, это его и унижало? Кто может сказать, страдал ли он в глубине души или нет? Во всяком случае, на будущее вам следует скрывать от Аулу, что вы хотите оказать на него благотворное влияние. – Боже мой! – воскликнула Эме. Она подняла руки и тут же бессильно уронила их на колени.– Я так старалась не задевать его самолюбия! Если у меня не все так хорошо получалось, что вы хотите? Все потому, что мои добрые намерения всегда поневоле выходят наружу. – Так вот, если Лулу к вам вернется, постарайтесь на время забыть о добрых намерениях. Постарайтееь… не все время думать о том, как ему угодить. – О! – воскликнула Эме.– Как мне придется нелегко! (обратно)XII
Реми нажал на клаксон. Минуту спустя появился привратник с чемоданами в руках. Но Лулу не спешил выходить из дома. Между съемками двух фильмов у него выдалась свободная неделя, чтобы съездить в Париж. По возвращении из Берлина он удосужился позвонить Реми лишь посредине своего краткого пребывания в столице, сославшись на многочисленные дела. Он три раза подряд назначал встречу и так на нее и не явился. И вот утром он позвонил, чтобы сказать: – Мики, я сегодня уезжаю. Но мне бы хотелось с тобой немного поболтать. К несчастью, я буду весь день занят. У тебя машина на ходу? Тогда заезжай за мной пятнадцать минут шестого. Мы поговорим по дороге на вокзал. Зная, что его друг может опять опоздать, Реми снова нажал на клаксон. Пекер вышел, когда Реми уже отчаялся его увидеть. В ответ на замечание Реми он воскликнул: – Не говори мне ничего! Со дня приезда в Париж я не пропустил ни одной пирушки. Я наверстываю упущенное: в Берлине жуткая еда! Знаешь, когда я вернусь туда, у меня будут большие неприятности с представителями компании «Сигма». Представляешь, мне придется играть роль начинающего и вечно голодного музыканта. Некоторое время они ехали молча. Улицы были запружены машинами, и еще было светло. Стоял июнь, и парижские деревья радовали глаз своей густой листвой. Реми вспомнилось, как к нему впервые пришла Эме, держа в руках в знак дружеского расположения букет гвоздик. Без определенной цели, словно для очистки совести, он спросил: – Ты встречался с Меме? – Нет, – ответил Пекер. Реми так и думал. Он не раз звонил Эме и вместе с ней выходил в свет, но за последнюю неделю она ни словом не обмолвилась о Аулу. Видимо, она Даже не подозревала о его пребывании в Париже. Пекер продолжал: – Прежде чем с ней встретиться, я хотел поговорить с тобой. – Ты же уезжаешь, когда же ты с ней мог бы увидеться? – Я знаю. В следующий приезд. У меня в Париже так много дел! Реми больше не настаивал. По неизвестной ему причине он был скорее рад, что Лулу уезжает, так и не повидавшись с Эме. И что хорошего сулило бы такое, прежде всего маловероятное и в любом случае короткое примирение, за которым бы последовала новая разлука? Нет, безусловно, ничего, по крайней мере, для Меме. Реми прежде всего подумал о Меме: Лулу был уже достаточно взрослым человеком, чтобы постоять за себя. – Почему же ты не летишь самолетом? – спросил Реми, когда они подъезжали к вокзалу.– Неужели тебе хочется в такую погоду целый день трястись в душном купе? – Подумаешь! – ответил Пекер.– Я обожаю спальные вагоны. Вот где я полностью раскрепощаюсь. А подцепить кого-то я могу в вагоне-ресторане. И ночью в купе вагона я чувствую себя лучше, чем у себя дома! Особенно в «Северном экспрессе» – он этим и знаменит. Там вышколенный персонал. Даже проводники не брезгуют торговать собой. Мне об этом говорила Шомберг: она не раз прибегала к их услугам. – Кстати, – спросил Реми, – как она поживает? – Кто? Шомберг? Понятия не имею. – Как это? Разве ты с ней не виделся в Париже? – Нет, уже месяц, как между нами все кончено. А ты не знал? Вот доказательство, что ей нечем похвалиться. Представь, она явилась за мной в Берлин. В то время я весь был в работе, а ей это не понравилось. Ты знаешь ее запросы! Если ей приспичит, то вынь да положь во что бы то ни стало! И не лишь бы как, спустя рукава! Мадам упрекнула меня в малодушии. И тогда я вежливо с ней распрощался. Сказав, что уезжаю на натурные съемки, я переехал в другую гостиницу рядом со студией. Все прошло без сучка и задоринки. Зачем устраивать скандал? Я всегда остаюсь в хороших отношениях с женщинами, с которыми порываю. Правда, я оставляю им надежду на примирение. Время от времени я напоминаю им о себе. Я продолжаю поддерживать в них надежду…. Таков мой стиль. Но я никому об этом не рассказываю. Не надо, чтобы женщины знали, что таков мой принцип. Напротив, каждая думает, что я продолжаю встречаться только с ней одной, и очень этим гордится. И когда я снова возобновляю отношения с той или другой бывшей возлюбленной, она пребывает в полной уверенности, что наставляет рога моей новой подруге. А! Ты говоришь о системе! Я могу с тобой поделиться опытом. Тем более что ты с самым невинным видом поступаешь примерно так же, как и я. Ну да, разве не так? Разве ты не остался в хороших отношениях с Кароль? Оникс? С мамашей Вейль-Видаль? Ну? Вот видишь! Я тебе говорю, что тебе тоже есть чем похвастаться! Они прошлись по перрону вдоль состава. – Я возобновил контракт с «Сигма», – молвил Лулу.– Знаешь, мне грех жаловаться: они мне платят восемнадцать тысяч в неделю. Скажу тебе, что сплю с крошкой Рошлинг, женой одного из продюсеров. Впрочем, она очень мила. Реми слушал его краешком уха. Он повторял про себя, что ему не стоит затевать разговор об Эме. Несмотря на то что Пекер и объявил о своем разрыве с Шомберг, он уже связался с немкой. И, вопреки прогнозам Эме, это означало, что Лулу не собирался к ней возвращаться. Вопрос был закрыт, и, несомненно, так было лучше для самой Эме. Между тем, возможно, он ошибался. Быть может, Лулу только и ждал какого-то знака или каких-то слов. Реми был обязан ему сказать. Время шло. Появились фотографы и репортеры и окружили Пекера. Реми отвел его в сторонку. – Ты ничего не хочешь передать Меме? – спросил он. – Нет…– ответил Пекер. Ни своим тоном, казавшимся искренним, ни выражением лица, будто он раздумывал, как ему подобрать нужные слова, он не был похож на человека, который пытался скрыть правду. Однако Реми настаивал: – Думаю, что тебя не удивит, если ты узнаешь, что она еще продолжает надеяться. У нее сейчас много работы, и это ее несколько отвлекает, но она заговаривает о тебе при всяком удобном случае. – Да, да…– ответил Пекер, наблюдая за выражением лица Реми.– Мне известно, что вы часто вместе появляетесь на людях. Это очень мило с твоей стороны. Ты правильно делаешь, и это в твоем стиле. Неожиданно он замолчал, словно вдруг о чем-то подумал. Затем улыбнулся какой-то грустной улыбкой, настолько не вязавшейся с его обликом, что она была похожа на гримасу боли. – Бедняжка Меме! В глубине души я ее люблю. Я ее очень люблю. Но чтобы с ней жить… Она слишком мила, ты меня понимаешь? Это быстро начинает утомлять… По крайней мере, людей, похожих на меня. И все несчастье в том – наше с ней общее несчастье, – что она влюбилась в такого типа, как я.– И Пекер с живостью обернулся к Реми.– Скажи, разве вы?.. Вы не вместе? Реми воскликнул: – Ты с ума сошел? Конечно нет, что за идея! – А почему бы и нет? – вполне искренне спросил Пекер.– Мне кажется, что так было бы лучше. Честное слово! В любом случае если ты подумал обо мне, то ошибся. Конечно, я продолжаю по-дружески относиться к Меме. И я не против, если время от времени она хотела бы… Но жить вместе с ней избави Бог!.. Если бы я узнал, что она нашла утешение с приятным молодым человеком, который не похож на меня… – Но я об этом совсем даже не думаю! – с раздражением произнес Реми.– Да, я ей звоню, навещаю, выхожу с ней в свет, и все. Что ты хочешь, ведь она совсем одна! К тому же не в ее характере вешаться на шею первому встречному. Тебе это хорошо известно. Да, я ей составляю компанию. Мы дружим, вот и все. – О! Ладно, ладно… Я ведь забочусь о ней. Ты бы сделал ее счастливой.– Помолчав, он добавил: – Хотя…– И снова замолк. – Что? – спросил Реми.– Что ты хочешь сказать? – О! Ничего…***
Вытянувшись в постели и тесно прижавшись к Эме, Реми наслаждался полным покоем после того, как только что занимался с ней любовью. Почему он неожиданно почувствовал себя в безопасности? Куда девалось привычное разочарование? Почему у него так легко на душе? Неужели потому, что, предполагая у Эме дряблое и старое тело, он с удивлением обнаружил, что ему приятно прикосновение ее поразительно нежной прохладной кожи, ее крутых бедер, отяжелевшей, но еще упругой груди? И только живот ее утратил былую твердость, но Реми утешился мыслью о том, что фигура Меме просто вышла из моды, так как до войны считалось, что хорошо сложенная женщина должна быть непременно в теле. Однако дело было не только в том, что он был приятно удивлен. Чувство, которое испытывал Реми, было совсем другого порядка. Неожиданно для себя какими-то таинственными путями он пришел в состояние полного душевного равновесия, чего с ним раньше никогда не случалось. Реми искал причину непривычного для него ощущения радости бытия и почти ее угадал. Что же это было на самом деле? Показалась ли ему Зме более опытной любовницей, чем другие? Нет, совсем наоборот. Она скорее была пассивной… Ах, вот в чем дело! Вот что по-настоящему удивило Реми! Конечно, он уже давно отказался от сложившегося у него мнения об Эме в те времена, когда они еще не были друг с другом знакомы. Однако Реми никогда не удавалось забыть возраст этой женщины. И возраст, и чрезмерная слабость к молодым людям, и отнюдь не бескорыстные отношения, которыми она пыталась их окружить, давали Реми основание предполагать, что в постели она окажется разъяренной фурией. Не имея других преимуществ, Эме должна была показывать в постели особое рвение. На самом же деле оказалось, что ее физические данные совсем не такие уж незаурядные и, сверх того, она вовсе не считала нужным прибегать к полному набору любовных ласк. И это спасало ее в его глазах. Она не использовала унизительных для нее приемов, не шла ни на какие уловки, к которым прибегают в постели женщины, превращаясь в прилежных учениц, демонстрирующих все, на что они только способны. Сколько раз Реми тешил свою чувственность, испытывая душевную неудовлетворенность от такой сомнительной активности! Сколько раз ему приходилось выслушивать восклицания, междометия и эпитеты, которыми, как считают некоторые женщины, они добавляют удовольствие своему партнеру! Ничего подобного он не услышал от Эме. Кроме того, она не демонстрировала превосходство в любовной практике, необоснованное бахвальство и самомнение, чем грешили многие женщины, с которыми имел дело Реми. Он вдоволь насмотрелся на всегда уверенных в себе любовниц, считавших, что никто не может лучше их заниматься любовью, глядевших свысока на распростертого рядом, притихшего после любви партнера. Они были в полной уверенности, что довели его до пароксизма страсти, показали ему высший пилотаж и выжали как лимон, в то время как на самом деле он уже думал о чем-то другом. Однажды одна из таких самоуверенных особ, после того как едва разомкнулись их объятия, произнесла: «Ну, что ты об этом скажешь? Когда Шунетта отдается, это тебе не что-нибудь!» В действительности самонадеянная Шунетта очень плохо занималась любовью. Рядом с Эме все было по-другому. Удовольствие пришло само по себе, совершенно естественным путем, без всякого напряжения, не позже и не раньше времени. Эме не считала нужным казаться активной или бесчувственной. Она попусту не суетилась, даже ни разу его не укусила или оцарапала. Но самое главное, она молчала. Она просто-напросто отдавалась. И казалось, делала это с удовольствием. Во всяком случае, с ее лица от начала и до конца не сходила улыбка. В конечном счете ей нравилось быть женщиной. И Реми был близок к мысли спросить себя: уж не первая ли она у него женщина? Он заметил, что почти полулежал на ней. Его лицо так касалось прохладной кожи Эме между плечом и мягкой грудью, что, целуя, он вдыхал ее аромат. От Эме исходил приятный запах. Безусловно, перед ним была самая ухоженная женщина, которую он когда-либо знал. Он догадывался о том, какое внимание, граничившее с навязчивой идеей, она придает своему туалету, сколько труда тратит на содержание в чистоте своего тела. И если возраст заставлял ее соблюдать столь безупречную гигиену, он подумал, что и к самому возрасту надо подходить с пониманием. Да, от Эме исходил приятный запах; она сохраняла свежесть; ее простыни были из тонкого полотна, а постель в меру мягкой… Мысли Реми путались и расплывались; всем телом он ощущал неведомое блаженство. Увы! Он подозревал, что снова, как и с другими, его охватывает не сон, а привычная дремота, мимолетная и недолгая, которую сразу развеет женщина, когда поднимется с постели. Однако Эме продолжала лежать. Она не шевелилась. Возможно, она заснула. Во сне она улыбалась. И Реми, словно пес, заскулив от блаженства, прижался теснее к ней. Он вытянулся вдоль тела Эме. Какие же у нее прохладные бедра! Он положил руку на ее атласную грудь, его пальцы скользнули к нежному соску. Он замер, лежа на груди у женщины, улыбавшейся во сне. И так заснул в объятиях Эме. (обратно)XIII
Реми почти каждую ночь оставался ночевать у Эме. Вскоре он к ней переехал. И не забыл взять с собой Альберта, чтобы тот заботился о нем. Не привыкшая к подобной деликатности, Эме вначале только рассмеялась, но в глубине души была растрогана. В Монсо у нее был небольшой дом, довольно простой снаружи, который выходил в сад. Вот уже неделя, как Реми не поднимался раньше одиннадцати часов. Ему приходилось присутствовать на последних репетициях нового ревю, к которому он готовил декорации и костюмы. Он часто задерживался до поздней ночи и, возвращаясь, старался не разбудить Эме. Они, как правило, встречались лишь за завтраком. – Мадам у себя? – спросил он однажды в полдень у Альберта, пришедшего на его звонок. – Нет, господин, – ответил Альберт.– Сегодня утром в половине восьмого мадам отправилась на машине в Жуенвиль, чтобы присутствовать на монтаже своего фильма. Она оставила вам записку.«Мой маленький Мики, – прочитал он в письме, датированном вчерашним днем, – опять тебя задержали до позднего часа. А завтра мне придется целый день провести в Жуенвиле. Приходи со мной поздороваться следующей ночью. Ничего страшного, если ты меня разбудишь. Мы совсем не видимся, и мне не хватает твоего присутствия. Я должна тебе сказать, что сегодня после обеда тебя спрашивал какой-то человек. Он тебя разыскивает уже три дня. Твоя консьержка не хотела ему говорить, что ты живешь у меня. К счастью, он узнал мой адрес в отеле Жюсье от одного твоего старого приятеля, который слышал о нас. Этот человек сказал, что он служит у твоих родителей. Я не решилась его принять, а он не оставил записки. Кажется, речь идет о чем-то конфиденциальном. Я сказала, чтобы ему передали, что он тебя может найти завтра после обеда на репетиции в театре. Я подумала, что ты, если захочешь, сможешь избежать этой встречи. До завтрашнего вечера. Не переутомляйся. Целую нежно. Меме. P. S. Ты можешь разрешить консьержке давать мой адрес. Я не усматриваю в этом ни малейшего неудобства».
Реми не представлял, что понадобилось от него слуге из отцовского дома. Но его взволновало совсем другое. В письме его больше всего поразила трогательная щепетильность Эме, ее желание не задеть его самолюбие. Она решила лично сообщить ему о приходе слуги, чтобы он не подумал, что ей неприятен его визит. Постскриптум это подтверждал. Несмотря на показную сдержанность, проявляемую во время своего очередного увлечения, и на тайную надежду снова сойтись с Лулу, которую она, возможно, еще лелеяла, Эме по-особому относилась к Реми. Он не был для нее обычным более или менее удачным мимолетным увлечением, а стал ее другом. И она хотела, чтобы он в этом не сомневался. Окружающие очень скоро заметили ее особое отношение к новому любовнику, которое установилось с первого же дня их связи. Прекрасный товарищ, всегда готовая дать добрый совет, до сих пор влюбленная в свою профессию, добросовестная и пунктуальная, старая актриса пользовалась большим уважением в театральном мире и в том узком кругу, где она вращалась. Конечно, всем были известны ее слабости, и всякий бы удивился, если б она вдруг решила жить в одиночестве или же увлеклась сорокалетним мужчиной. И ее жалели, когда она снова и снова попадала в сети очередного любовника, чьи побудительные мотивы и верность не оставляли ни у кого сомнений. Пекер пользовался самой плохой репутацией. Сплетни о его похождениях распространялись прежде всего молодыми артистами, его первыми завистниками, затем они подхватывались театралами, которых много в Париже, снобами или выходцами из буржуазной среды, которых забавляют сплетни из закулисной жизни. Общественное мнение склонялось к тому, что самой блестящей и одиозной фигурой из всех молодых любовников Эме был Пекер. Ее жалели еще больше потому, что она никогда не жаловалась, что пригрела на своей груди такого подонка, который над ней открыто смеялся. И теперь все радовались, узнав, что она наконец увлеклась приличным молодым человеком. А так как он был не из актерской среды, то о его личной жизни известно было мало. Впрочем, он много работал и хорошо зарабатывал, что снимало с него подозрения в материальной заинтересованности. Вскоре прошел слух, что Эме больше дорожит его любовью, чем он. И никто не осуждал его за то, что он позволяет себя любить. Чтобы сделать приятное актрисе и без лишних слов поздравить с ее новым увлечением, Реми окружили таким же вниманием, которым раньше пользовался Пекер. Его повсюду приглашали. Когда Эме появлялась на людях без него, у нее любезно справлялись о его делах. Если бы Реми пришло в голову повнимательнее присмотреться к подобным знакам внимания, он бы понял, что в его связи есть какая-то аномалия. Безусловно, он что-то интуитивно ощущал. Но не в его характере было копаться в своих чувствах и искать подтверждение тем подозрениям, которые рождались в душе. Напротив, он находил в этом какое-то очарование и радовался тому, что жизнь Эме благодаря ему изменилась в лучшую сторону. Прочитанная только что записка, и в особенности ее постскриптум, растрогали Реми. Эме часто получала счета Лулу; ей не раз приходилось встречаться с его кредиторами. Однажды она приняла одного ростовщика, которого Пекер направил к ней, не предупредив ее заранее. Теперь ей было известно, что ничего подобного не может произойти с Реми. Он никогда не заставит ее краснеть. И именно ей надлежит воздать ему по заслугам.
***
– В чем дело? – спросил Реми у лакея, когда он вышел к нему в фойе.– Что произошло в доме? – Мадемуазель Агата совсем плоха, – ответил слуга.– У нее было воспаление легких, ее лечили три недели, а вчера с ней случился удар. И доктор сказал, что надо предупредить родственников. – Подождите, я сейчас вернусь. Немного погодя, уже в машине, по пути к Центральному рынку, он спросил: – А вы предупредили родственников мадемуазель Агаты? – Этого не понадобилось, господин Реми. Горничная расспросила мадемуазель. Оказалось, что у нее из всех родственников осталась только престарелая сестра, доживающая свой век в монастыре в Ландах. Кажется, ее нельзя беспокоить даже в случае чьей-либо смерти. – Но по крайней мере, – поинтересовался Реми, – мои отец и мать находятся около постели мадемуазель? – В том-то и дело, что нет. Господин уехал еще в понедельник проверить, как идут дела на фермах. Я написал ему, но он пока ничего не ответил. Возможно, он не получил моего письма. Мадам? Она в Ницце. Я звонил ей позавчера. Но она ответила, что не может приехать, так как ожидает гостей. Она приказала мне нанять сиделку. Что же касается мадемуазель Алисы, то она отправилась на неделю в Испанию обкатать с друзьями свою новую машину. Я с трудом нашел вас, господин Реми. – А вы не могли послать телеграмму на мой адрес, раз консьержка не хотела вам говорить, что я живу у мадам Лаваль? Мне бы ее тут же переслали. Несчастная мадемуазель совсем одна! И Реми непроизвольно нажал на акселератор. – Но я был уверен, что найду вас, господин Реми, – ответил лакей. Они приближались к Центральному рынку. Было четыре часа дня. В это время суток в компании «Яйца, масло и сыры Шассо» было затишье. Реми сразу поднялся в комнату Агатушки. Уже много лет, как он не заходил на эту половину дома. Обычно он заставал старую деву в гостиной или в бельевой комнате. И теперь с удивлением рассматривал комнату Агатушки. Ее стены были обиты красной однотонной тканью; гардины на окнах и полог кровати были из такой же ткани, но с дамасским узором. Агатушка оплатила работы по оформлению интерьера комнаты из собственных скудных сбережений. Здесь в доме на Центральном рынке, в своей комнате, она стремилась воссоздать обстановку, которая окружала ее в те далекие времена, когда ее семья еще ни в чем не нуждалась. И эта комнатка была лишь точной копией детской в городском доме семейства Палларюэль в Кордесе. Казалось, что быстротекущее время – верный друг Агатушки – помогало ей, несмотря на прошедшие годы и дальнее расстояние, как бы отождествлять жилище на Центральном рынке с домом в старой части города Тарн. И ее парижское пристанище со временем приобрело такой же провинциальный и потертый вид, как и ее старый заброшенный дом. Дом Шассо выходил окнами на солнечную сторону. И однотонный кумач, которым были обтянуты стены, оказался менее устойчив к солнечным лучам, чем дамасские портьеры. Местами он выгорел, и теперь комната пестрела всеми оттенками красного цвета – от алого до бледно-розового. Однако фиолетово-черный цвет мебели из палисандрового дерева сглаживал неряшливый вид стен. Он придавал жилищу характер стабильности и постоянства на фоне выгоревших светлых пятен на стенах, свидетельствовавших о том, что здесь давно кто-то безвыездно жил. Кровать Агатушки стояла у окна. Она узнала Реми только тогда, когда он подошел совсем близко к ее изголовью. Она пошевелила руками цвета слоновой кости, лежавшими поверх простыни, открыла рот и застыла, словно парализованная, в тот момент, когда хотела жестом показать радость и удивление при виде молодого человека. На голове у нее был вышитый фестонами чепчик, а высохшая шея и руки выглядывали из-под ночной сорочки, также по старой моде вышитой фестонами. Казалось, что рубашка прикрывала не человека, а его тень. Реми склонился над старой женщиной. – Ну, что случилось? – спросил он участливым и в то же время бодрым тоном, с которым обычно обращаются к больным. – О? – всхлипнула Агата.– О, мой любимый малыш… Она шевелила губами, с трудом выговаривая слова; речь ее была неясной и путаной. Вдруг голос снова ей изменил. Она смотрела на Реми снизу вверх сквозь очки, без которых она уже ничего не видела и которые ей разрешили не снимать. Она закрыла рот. И только теперь Реми увидел, насколько изменила болезнь ее лицо. С тех пор как Агатушка слегла, она не надевала протез, беззубый рот провалился, а сжатые челюсти приблизили подбородок к носу. Ее лицо, словно лишившись опоры, сморщилось. Черты настолько исказились, что утратили былые пропорции. В чепце, прикрывавшем волосы, и в очках на носу Агатушка, которая на протяжении всей своей жизни сохраняла хоть и старомодный, но достойный вид горожанки, походила теперь на старую крестьянку. – Вот так сюрприз! – медленно произнесла она.– Надо же! Если бы нас кто-нибудь предупредил о твоем приходе, мадемуазель Жермен переодела бы меня в хорошую рубашку, а то в этой я похожа на нищенку. – О! – воскликнул с улыбкой Реми.– Ты со мной кокетничаешь! – Ведь ты не останешься со мной, мой малыш? – продолжала она говорить слегка заплетающимся языком.– Комната, где лежит больной, вредна для здоровья, в особенности если в этой комнате находится больная старуха. Я уверена, что здесь воняет. Если бы только мадемуазель Жермен разрешила нам открыть окно. Ах, ведь ты не знаком с мадемуазель Жермен, а она за мной ухаживает, как за родной. Вот я тебя представлю. Мадемуазель Жермен, это мой любимый малыш, о котором я вам все уши прожужжала. Это маленький Реми, которого я приняла на руки, когда он родился. Да, когда он появился на свет, он весил так мало! – Ну будет, будет, мадемуазель, – сказала сиделка.– Успокойтесь, господин побудет с вами, если только вы не будете волноваться. Реми взял руку больной. А в это время Агатушка второй рукой схватила сиделку за руку. Какое-то время она держала их руки, сжимая изо всех сил своими сухими пальцами. – Да, да, – произнесла она, – я буду хорошо себя вести. Знаешь, мадемуазель Жермен, когда надо, бывает очень строгой. А я не всегда хорошо себя веду. И, к удивлению Реми, она залилась веселым смехом… В таких вот ребячьих шутках, совсем не свойственных Агатушке, более всего проявлялось разрушительное действие болезни. Всякий раз, когда она смолкала, у нее поднимался подбородок, рот снова проваливался, и все морщины на лице собирались и застывали, придавая ему скорбное выражение. Она не отрывала глаз от Реми. Мадемуазель Жермен удалось высвободить свою руку, и она подвинула молодому человеку стул. Больная не выпускала его руку из своей. Он присел у ее изголовья. Сиделка распахнула окно, и комната наполнилась сначала самыми разнообразными звуками, а затем крепкими запахами, доносившимися с Центрального рынка, не прекращавшего своей деятельности ни днем, ни ночью. В них слились воедино запахи только что разделанного мяса, свежих овощей, сыров, деревянных ящиков и мешковины. Сиделка хотела было прикрыть Агатушку от сквозняка одеялом. Но старушка отказалась наотрез выпустить руку Реми. – Нет, – упрямо повторяла она, – нет, раз он пришел ко мне, я его не отпущу. Мадемуазель Жермен, прошу вас, пожалуйста! Пришлось уступить ее капризу. – По крайней мере, – сказала сиделка, – обещайте мне, что не будете разговаривать. Вам нужно отдохнуть. Таково мое условие. Агатушка кивнула. Ее закутали в одеяло до самого подбородка. Локоть и руку, которой она удерживала Реми, обернули белой шерстяной ажурной шалью, связанной, возможно, лет тридцать назад крючком. Эта шаль входила в скромное приданое Агатушки. Наконец, утомленная пережитыми волнениями и собственными словами, она прикрыла глаза. И больше не шевелилась. Ее лицо постепенно разглаживалось, словно на него снисходил покой. Но рука, которую сжимали пальцы Реми, еще была теплой. Взволнованный внезапной переменой в поведении больной, Реми повернулся к сиделке и вопросительно взглянул на нее. Мадемуазель Жермен встала со стула, подошла к кровати и, взяв Агатушку за запястье, прощупала пульс. Несколько секунд спустя она с улыбкой произнесла: – За последние двое суток бедняжка не сомкнула глаз. Реми переехал в дом на Центральном рынке. Он снова спал в своей комнате. Эме часто ему звонила, но не всегда заставала его дома, так как ему приходилось по вызову уходить в театр. Она подробно расспрашивала о здоровье Агатушки, хотя и не была с ней знакома. На шестой день в пять часов вечера Реми сказал сиделке, что может побыть с Агатушкой до середины следующего дня. И почему бы мадемуазель Жермен не воспользоваться возможностью отдохнуть у себя дома? Та с радостью согласилась. С утра Агатушка была в забытьи. Болезнь незаметно брала свое, и доктор предупредил, что ее часы сочтены. Реми подвинул стул к кровати и сел. Он смотрел на лицо больной. В этот момент она открыла глаза. И заговорила более четко и ясно, чем в предыдущие дни. – Мадемуазель Жермен ушла? – спросила она. После того как она находилась в прострации в течение долгих часов, такая ясность сознания удивила и одновременно напугала Реми. Он сделал вид, что направляется к двери: – Тебе она нужна? – Нет, нет, – ответила Агатушка. И тихо засмеялась.– Напротив, я ждала, когда она уйдет. – Ты не спала? – Нет, я притворялась. Я слышала все, о чем вы говорили. Я часто делаю так с тех пор, как заболела: это очень забавно… Послушай, мой дорогой малыш, мне надо тебе что-то сказать. Я хочу отдать тебе одну вещь, чтобы ты ее навсегда сохранил. Ах! Если бы я могла встать… Там в комоде у меня лежит одна вещь, которая не должна попасть в чужие руки; пожалуйста, принеси ее. В верхнем ящике, с правой стороны, на самом дне, под моей старой кашемировой шалью. Ты нашел? Ларчик. Он принадлежал твоей бабушке Шассо. Реми вернулся со шкатулкой, инкрустированной в стиле 1860 года, отделанной металлической вязью и завитушками. На крышке была вылита из бронзы дама, которая полулежа ласкала пуделя. – А теперь, – сказала Агатушка, – поищи на крышке настенных часов, там должен быть позолоченный горшочек. Открой его. Внутри находится ключ от шкатулки. Он поставил шкатулку перед ней на одеяло. – Подожди, – произнесла она.–Сразу не открывай, я тебе вначале все объясню. Внутри ты увидишь сувениры твоей бабушки Шассо. Нельзя, чтобы они попали в руки твоего отца, потому что твоя матушка сразу их у него отберет, а именно этого и необходимо избежать. Видит Бог, как добр твой папа! Ты теперь совсем взрослый, чтобы об этом можно было говорить: твоя мать вертит им, как хочет. А там…– Она резко стукнула по крышке шкатулки.– Там не только сувениры, там хранится один секрет… Ах! Но… Она закрыла рот, и ее подбородок пополз вверх, придавая ей виноватый вид. Глаза Агатушки, увеличенные стеклами очков, казалось, оживились, в них появился неожиданный блеск, когда она посмотрела на Реми. Молодой человек понял, что она наконец высказывает свои самые сокровенные мысли, чувства, накопившиеся в ней и, возможно, перегоревшие из-за того, что она была вынуждена скрывать их на протяжении тридцати, сорока, пятидесяти лет. Она повторила: – Да, один секрет…– И она заговорила, доверительным, немного театральным тоном.– Выслушай внимательно все, что я тебе сейчас скажу. В твои годы ты уже начинаешь понимать жизнь. Знай: Алиса не является дочерью твоего отца. Склонившийся над кроватью, чтобы лучше слышать, Реми выпрямился и, сбитый с толку, поглядел по сторонам. – Что ты мне такое говоришь? – Да, да…– проговорила больная с улыбочкой.– Да… Ты, наверное, думаешь: она бредит, она не знает, что говорит. Но у меня есть доказательства! Вот они здесь, внутри! И ты их увидишь. Ты слышишь, надо было, чтобы ты узнал правду. Когда я уйду, об этом будешь знать только ты. Кроме твоей матери. И вряд ли когданибудь она обмолвится об этом какой-либо живой душе. Она чувствует свою полную безнаказанность. Потому что, представь себе… Агатушка смолкла, подумав о чем-то своем, что ее рассмешило. Втянув голову в плечи, она затрясла рукой, словно хотела этим жестом сказать: «Обожди! Это еще не самое смешное!» – Твоя мать…– закончила она, – не догадывается о том, что мне все известно о ней! Казалось, она радуется невинному розыгрышу. Между тем иногда в ее словах, в интонации, с которой она произносила «твоя мать», в то время как об отце говорила «твой папа», невольно проскальзывало нечто, похожее на давнюю скрытую ненависть. Впрочем, она тут же перешла на серьезный тон, чтобы последовательно изложить события, свидетелем которых стала. – Да, твоя мать была уже помолвлена с твоим папой, когда она согрешила с другим мужчиной. Она решила, что об этом никто не узнает, свадьба состоится и все будет шито-крыто. Но, оказавшись в положении, она не знала, что делать. Тогда она выложила все своему отцу. Я хорошо знала его. Это был весьма порядочный человек. Он отправился к твоей бабушке Шассо, чтобы вернуть слово, данное во время помолвки, и объяснить причину. Должна сказать, что твоя бабушка приняла эту новость совсем по-другому. Надо тебе объяснить, что для процветания торгового дома Шассо этот брак был просто необходим. И кто же уговорил его молчать? Твоя бабушка собственной персоной. Легко сказать! Я первая могу подтвердить, что она была сама доброта и справедлива ко всем, без исключения. Но прежде всего она была властной женщиной. Все в доме подчинялись ее воле. Если она что-то решала, то ее решение должно было быть выполнено во что бы то ни стало. Честное слово, так и было! После смерти твоего дедушки она управляла домом. И она не отменила решения, а, напротив, ускорила свадьбу. Свадьба была пышной, и шесть с половиной месяцев спустя на свет появилась твоя сестра. Твоего папу убедили в том, что роды оказались преждевременными, и он принял все за чистую монету. Подобные истории случались и раньше в порядочных семьях. Агатушка на мгновение смолкла. Она была в сознании. Казалось, она над чем-то размышляла. Постепенно ее разоблачительный пафос сменился грустью. Она продолжала: – О! Должна тебе сказать, что мне ничего не было известно до самой кончины твоей бабушки. И только когда ей осталось жить ровно неделю, она вызвала меня и с глазу на глаз поведала эту историю точно так же, как я это делаю сегодня. Надо хранить подобные секреты в тайне, но не стоит, чтобы они терялись. О, нет! Это было бы несправедливо. К тому же, если бы мне не была известна вся подноготная этого дома, то я бы смотрела другими глазами на все, что происходит вокруг. Боже милостивый! Мне было всегда непонятно, почему твоя мать любит Алису больше, чем тебя, и каждый день приносил новые доказательства. Когда ты жаловался, я тебе всегда говорила: «Ты не должен судить свою мать: прежде Есего она твоя мать». Но в душе я не верила своим словам. А когда я узнала и поняла, в чем дело… Господи! Да, Алиса для твоей матери – дитя любви, родившееся от ее возлюбленного. Но в этой истории не все было мне ясно, я тщетно искала ключ к разгадке продолжавшей меня будоражить и возмущать тайны, почему твой папочка тоже отдавал предпочтение твоей сестре… О! Не надо, знаешь ли, на него обижаться. Уверяю тебя, он ничего не знал, его обвели вокруг пальца. Твой папа в душе большой добряк! В первые годы после женитьбы он был таким веселым, таким милым! А как в молодости он был любезен со мной! У него всегда был наготове веселый анекдот или ласковое слово. Ты удивлен? Я могу тебе признаться, что он был большим сердцеедом! Все женщины были от него в восторге. Но вот одно «но»: он был без ума от твоей матери и попустительствовал ей во всем. Это она сделала его таким, каким он теперь стал. Несмотря на то что ей выпало такое счастье, несмотря на то что Провидение дало ей все, что только может пожелать человек на земле, она сделала из него, да простит мне Господь это слово, круглого дурака! О! Твоя мать! Твоя мать!.. Она сжала кулачки, лежавшие на простыне. С помощью Реми она перебрала содержимое шкатулки: ленточки, высохшие цветы, фотографии первого причастия, игольник из атласа, украшенный перламутром, бумажник в роговой оправе с позолотой, бальная записная книжка с крошечными карандашами на шелковом шнуре; затем очередь дошла до пачки писем, связанных вместе, и листочка бумаги, испещренного датами и записями, подтверждающими секрет, о котором только что поведала Агатушка. На самом дне лежали личные сувениры Агатушки. Их было совсем немного. Она перебрала их, объясняя Реми значение каждого. Последними она показала пару перчаток, сложенных вместе, как было принято в старину. Она бережно их расправила. Перчатки были старыми и загрубевшими от времени. Но было видно, что в прошлом белые парадные перчатки принадлежали мужчине. Она прошептала: – Свадебные перчатки твоего папы. Она не сказала «твоих родителей». Ее подбородок задрожал. Совсем тихо она добавила: – Двенадцатого октября тысяча девятьсот десятого года… Агатушка прижала перчатки к груди. Она прижала еще раз к своей высохшей груди жалкий предмет, задубевшее воплощение другого секрета, такого же скорбного и грустного, но принадлежавшего только ей одной, который она свято хранила. Ее взгляд, обращенный вдаль, казалось, искал что-то в одиноком прошлом. Она вздохнула, но не глубоко. И без всякого перехода, словно в заключение, произнесла: – Я обещала твоей бабушке хранить секрет, не так ли? И вот всю жизнь я хранила его… Подумать только, я никогда даже словом не обмолвилась!..– Она слегка качнула головой и закончила: – Ты тоже никому не скажешь. Она скончалась в ту же ночь. С ней была только сиделка. В какой-то момент, почувствовав близкий конец, она позвала Реми. – Я схожу за ним, – ответила мадемуазель Жермена, – он спит в соседней комнате. – О!.. Тогда не надо…– сказала Агатушка.– Я не хочу, чтобы его беспокоили. Раз он спит… Ее слова оказались последними… Она скончалась, удовлетворенная тем, что Реми не побеспокоили из-за нее. (обратно)XIV
Было уже десять часов вечера, когда после Вендрака показался Кордес. Несколько неподвижных огней, словно разрывая темноту, медленно двигались навстречу Реми, ехавшему в машине. Агатушка когда-то показывала ему открытки, которые получала из Кордеса, и рассказывала об этом старинном городке. «Если ты, мой дорогой малыш, представишь себе что-то похожее на гору Сен-Мишель на земле, то это и будет Кордес». Он сразу его узнал. Приближался высокий и темный Кордес, вырисовывавшийся на фоне освещенного луной неба и гор. По мере приближения к городку он как бы отделялся от пространства, уходил в высоту; постепенно одна за другой показывались отдельные детали города, а затем уже и сам он, похожий на корабль, предстал взору Реми. Уже можно было различить его «борта», осевшие глубоко в землю. Затем показались расположенные на разных уровнях стены, дома и крыши, теснившиеся одна над другой. Архитектуру этого города, похожего на призрачный, плывущий в небесах корабль, дополняла стоявшая почти на самом носу геометрическая башня, в которой располагалась церковь с колокольней, будто вознося город еще выше к небу. Однако Реми пришлось отвернуться от окна. Даже опустив голову, он уже не смог бы увидеть Кордес, теперь вплотную подошедший к дороге, которая почти отвесно нависала над ним. Машина направлялась к восточной окраине предместья, куда вела единственная автомобильная дорога. В эту минуту под впечатлением первой встречи со столь фантастическим пейзажем Реми невольно подумал об Агатушке, уроженке этих мест, которая согласно последней воле возвращалась в родные края. Она приближалась к городу одновременно с ним, так как катафалк с ее телом следовал за машиной Реми. Компания по организации похорон, куда он обратился за помощью, предоставила в его распоряжение фургон и легковой автомобиль, ибо его машина была слишком яркой окраски и совсем не подходила для траурной процессии. – Послушайте, вы легко можете ехать со средней скоростью шестьдесят – шестьдесят пять километров в час, – сказал ему служащий, – При такой езде вы доедете до места к обеду. Катафалк не сможет ехать со скоростью, превышающей пятьдесят километров в час, и прибудет лишь часам к десяти вечера. – Мне быстрее и не нужно, – ответил Реми.– Я не хочу отрываться от катафалка. Вы передайте шоферу, который будет вести машину, чтобы он не спешил. Он согласился ехать впереди только из-за пыли на дороге. Итак, друг за другом Реми и Агатушка пересекли всю Францию. Доехав до перекрестка, обе машины свернули между домами. На стене, освещенной фонарем, Реми прочитал: «Кордес. Центр». Надпись была сделана белой краской и подчеркнута стрелкой, указывающей направление. Машины стали медленно подниматься по южному склону и проехали целый километр. Затем, после довольно крутого поворота, дома стали теснее лепиться вдоль улицы. Наконец машины притормозили на площади у входа в дом с единственной вывеской: «Центральная гостиница». Служащий похоронной конторы посоветовал Реми поужинать в гостинице, пока он будет оформлять все необходимые бумаги. Работники мэрии были заранее предупреждены и стояли неподалеку в окружении зевак, невзирая на столь поздний час для местных жителей, привыкших рано ложиться спать. Из толпы вышли мужчины и сообщили, что соседка, хранившая ключи, открыла дом Палларюэль. Они предложили проводить туда служащего похоронной конторы, который снова повторил Реми, что берет все хлопоты на себя. Реми согласился и вошел в гостиницу. После ужина какой-то мальчик провел его к дому Палларюэль, находившемуся совсем неподалеку. Однако, подняв голову и увидев на высокой каменной стене дома водосточные желоба и над ними каменные статуи, Реми остановился в нерешительности под стрельчатой аркой над входом. – Это здесь? – спросил он. – Ну да, – ответил мальчик с сильным тарнским акцентом.– Это и есть дом Палларюэль, разве вы не знаете? Его называют еще домом Великого Эшансона. Он считается историческим памятником. К нему даже прибита доска. В нашем городе несколько таких домов. Завтра утром, когда рассветет, вы увидите. В большом зале на втором этаже должно было происходить отпевание усопшей. Сквозь полутьму можно было разглядеть балки потолка, выбеленные известью, стены, вдоль которых стояла старая темная мебель. Пол был выложен плиткой и прогибался посреди комнаты, где стоял гроб, прикрытый тканью. Казалось, что деревянное перекрытие этого старинного жилища, стоявшее незыблемо на протяжении шести веков, прогнулось под тяжестью невесомого тела Агатушки. Горевшие свечи создавали вокруг усопшей настоящий пылающий ореол, но, оставаясь неподвижным, он не освещал дальних углов комнаты. Разная длина свеч говорила о том, что они были принесены в дар людьми с разными доходами. Несколько женщин, стоявших на коленях прямо на плитках пола, читали негромкую молитву. Рядом с гробом сидела старуха. Перед ней на табурете, покрытом кружевной скатертью, в фаянсовом сосуде лежала веточка самшита. Когда вошел Реми, никто не посмотрел в его сторону, все продолжали читать молитву, и только старуха протянула ему веточку, окунув ее в сосуд со святой водой. Он окропил гроб, отдал веточку и, так как никто не обращал на него внимания, остался стоять на том же месте. Он получил светское воспитание и не I знал молитвы. Как водится в такие моменты, внимание человека фиксируется на незначительных деталях. Вот и Реми, посмотрев на старую женщину, заметил, что она шевелит губами с отсутствующим видом. «Эта старуха – профессиональная плакальщица, – подумал он, – она отпевает всех умерших в Кордесе». Рассмотрев повнимательнее сосуд со святой водой, он увидел, что он похож на небольшую урну кремового фаянса с рельефом, украшенную серебром. «Подумать только, это же купель. Маленькая красивая купель. Как странно видеть купель в этом зале». Он стал размышлять над обстоятельствами, при которых этот сосуд попал сюда из другой провинции и был приспособлен под ритуальный обряд. Он подумал, как давно это было, подсчитав про себя, скольким поколениям усопших послужил этот хрупкий предмет. Однако Реми не знал, что ему делать среди молившихся на коленях женщин. Он не мог так простоять до утра. В углу комнаты он увидел множество стульев, собранных со всего дома. Подойдя поближе, он выбрал один из них и, не приближаясь к гробу, присел на него. Никто не смотрел в его сторону. Он видел, как женщины, закончив молитву, поочередно поднимались, открывали дверь прихожей и уходили прочь. Остались только старуха отпевальщица и еще одна старая женщина. После полуночи они стали клевать носом. Одна из них – он не знал точно кто – временами похрапывала. К часу ночи похолодало. Реми замерз. Но он не встал со стула. Наконец скрипнула входная дверь, затем открылась дверь в зал, на пороге появилась заспанная служанка. Она принесла Реми чем укрыться. – От господина Саленгарда, – сказала она. И тут же исчезла. Она принесла ему пальто, которое он оставил в гостинице. Он накинул его на плечи и снова сел на стул. С того момента, как он вошел, он чувствовал себя незваным гостем, которого никто не ждал. Его едва замечали, и никто не обращал на него внимания. Все вокруг было ему в новинку: и обряды, и жесты, которые он не смог бы повторить, и даже незнакомые имена, что произносились в его присутствии, как будто он должен был их знать. Здесь исполняли неизвестный ритуальный обряд, и ему казалось, что он не в силах принять в нем участие. В этих провинциалах он видел посвященных в таинство, к которому ему самому хотелось бы приобщиться. Но все, что он ни делал, стремясь расположить их к себе, не приносило желаемого результата. Не успел он довезти тело усопшей до ее родного города, как тут же город в лице нескольких старых женщин отнял у него Агатушку. Во время своего долгого пути из Парижа он думал, что, ступив на землю, где родилась и найдет последнее пристанище бедная старая дева, он сможет полюбить этот город и его жителей так же, как любила его Агатушка. Но тщетно: старый городок за время долгого отсутствия последней из рода Палларюэль продолжал неторопливо жить по обычаю своих предков и по возвращении своей блудной дочери принял ее в свои объятия, но отказывался принять чужака.***
Однако утром Реми уже не чувствовал себя обособленно. На похороны Агатушки собрался почти весь город. Многие даже не были с ней знакомы. Возможно, совершенно незнакомые люди пришли проводить старую деву в последний путь, следуя давней местной традиции. До самого кладбища гроб несли на руках, как в любом маленьком городке, где улицы имеют крутые спуски и подъемы. Носильщики медленно шагали по мощеной мостовой. За ними продвигалась траурная процессия. Реми шел в толпе местных жителей. Рядом с ним шагали мэр и нотариус, с которыми он познакомился у дома усопшей. Позади двигались остальные участники процессии. А впереди всех, сразу за гробом, шла, перебирая четки, отпевальщица усопших. Реми уже не чувствовал себя таким одиноким, как накануне, словно город и его обитатели перестали на время остерегаться его и смотреть на него свысока. Когда процессия добралась до кладбища, располагавшегося за чертой города на ближних отрогах горного хребта, ветер начал вовсю трепать верхушки кипарисов, запели птицы. После погребения, выйдя за кладбищенские ворота, толпа рассеялась. Одни пошли по домам, другие, приехавшие издалека, спустились к дороге, где их ожидали автобусы. Однако большинство поднялось обратно к крепостным стенам Кордеса – это были горожане или же приезжие, желавшие пообедать в городе. – Господин Шассо, – обратился к Реми шедший с ним рядом нотариус, – не окажете ли вы мне честь пройти в мою контору? Мне надо зачитать вам завещание мадемуазель Палларюэль. – Что? – удивился Реми, далекий от подобных мыслей. – Ну да. У покойницы нет родственников, кроме весьма престарелой сестры, живущей вдали от мирской суеты в монастыре кармелиток в Эр-сюр-Ладуре. Я сразу могу вам сказать, что завещание составлено в вашу пользу. Вы единственный наследник. – Как? – удивился Реми. И он остановился. – Мадемуазель Палларюэль, очевидно, не посвятила вас в свои планы? – Нет… Я вовсе не ожидал… И Реми, со вчерашнего дня сдерживавший свои чувства в присутствии чужих людей, вдруг ощутил, что на глаза навертываются слезы. – О!..– воскликнул он, доставая носовой платок.– Святая душа… – Не стану вас обманывать, – осторожно начал нотариус, – речь идет о довольно скромном наследстве. В него входит дом Палларюэль, занесенный в книгу достопримечательностей под названием дома Великого Эшансона. Здание является историческим памятником, что ограничивает права наследования. Кроме того, существуют ценные бумаги на предъявителя на сумму, не превышающую после уплаты налогового сбора и пятнадцати тысяч франков. – А? – рассеянно произнес Реми, чьи мысли вернулись к тем временам, когда Агатушка проживала в доме на Центральном рынке. Она всегда была такой неприметной, робкой и сдержанной даже в проявлении своих нежных чувств к нему. – Господин Шассо, вы, безусловно, можете отказаться от наследства. – Как? Что вы!.. Напротив, я его принимаю… И они пошли в сторону центра. В лучах утреннего солнца город своими этажами поднимался к небу. На фоне домов рыжего цвета, местами переходящего в фиолетовый, хаотично, словно разбросанные кубики, теснившихся по склону горы, зелеными пятнами выделялась буйная растительность узких садов. (обратно)XV
К концу дня Реми так разволновался, что решил позвонить Эме. – Это ты? – спросила она.– Как дела? С тобой все в порядке? Я не уезжала, ожидая твоего звонка. Я собираюсь ехать в Ламалук. Стоит прекрасная погода, и театр опустел. Вчера мы играли в этом сезоне в последний раз. Спектакли возобновятся только в сентябре. Выезжай поскорее на побережье. Я сложу твои вещи и возьму с собой. Он опустил трубку. После того как он обошел ставший отныне его собственностью дом Палларюэль, Реми решил прогуляться по городу. Ему посоветовали осмотреть старинные дома на улице Друат, ворота и лестницу Патер-Ностер на пересечении улиц Шод и Обскюр. Город, выглядевший весьма внушительно со стороны долины, оказался совсем небольшим, и прогулка Реми не заняла много времени. Вернувшись в гостиницу, он попросил принести карту окрестностей города и карту дорог Лазурного берега. Неожиданно для себя он снова заказал телефонный разговор с Парижем. И теперь с огромным нетерпением ожидал, когда освободится линия. – Меме? – произнес он в трубку.– О! Какое счастье! Меме, если бы ты знала, как я боялся, что ты уже уехала! Послушай: мне надо тебя кое о чем попросить. Мне бы очень хотелось… Вот что: я так устал, а потом… мне так тяжело. Ты знаешь, я ведь любил бедную старушку. Представь себе, она мне завещала свой дом. Да, восхитительный, украшенный скульптурами старинный дом XIV века. Я пережил столько волнений в последние дни, что мне совсем не хочется в одиночестве добираться до Лазурного берега. А это такая тоска ехать поездом… Меме, будь хорошей девочкой, заезжай за мной на машине – я все рассчитал, тебе не придется делать большой крюк. Прошу тебя, выезжай сегодня: ты ведь не любишь быструю езду. Ты заночуешь в Орлеане или в Бурже, а уже завтра мы пообедаем вместе и поедем через Монпелье, где и заночуем, а если у нас появится желание поскорее добраться до места, то мы сможем поторопиться и приехать в Ламалук прямо к завтраку. Видишь, как хорошо я придумал. – О чем ты говоришь? – спросила Эме.– Я отпустила в отпуск Жюля и не могу взять свою машину. – Поезжай на моей! – Большое спасибо! Когда мне приходится ехать в спортивной машине, мне кажется, будто мой зад волочится по земле. Ты не подумал: трое суток трястись в машине вместо двенадцати часов в поезде! – Послушай, Меме! Я придумал: бери свою машину, а за руль посади Альберта. Прошу тебя, Меме! Скажи скорее «да», ведь ты знаешь, что не сможешь мне отказать! Она приехала. Реми показал ей свое новое владение. Все четыре этажа дома Палларюэль. Но не только аркады и резные окна, не только башенки, колоннады и завитушки, украшавшие фасад, произвели впечатление на Эме. В этом доме больше всего ей понравились старинные и скромные домашние безделушки, картины, шнуры звонков, напоминавшие о былом. В комнате Агатушки она присела на старинное низкое кресло, обтянутое таким же красным материалом, что и стены. Как всегда соблюдая во всем такт, Эме приехала в скромном костюме. В этих мрачных стенах ее мягкая улыбка не выглядела неуместной. Из широко распахнутого окна, выходившего в сторону видневшейся вдали деревушки, не доносилось ни единого звука. Дом Палларюэль возвышался над городом, и Эме со своего кресла могла видеть только небо. Солнце клонилось к закату. – В какую даль мы забрались!..– нарушила тишину Меме. И, еще немного помолчав, добавила: – Как далеко ото всех… Пусть это банально звучит, но я тебе все-таки скажу: подумай только, в Париже со всеми нашими театрами и представлениями о жизни мы себя принимаем за центр вселенной и даже не подозреваем о том, что где-то вдали от нас живут люди… И такой размеренной, тихой жизнью, без наших тревог и волнений, без наших вечных вопросов…– Она слегка задумалась, по-прежнему улыбаясь. Затем, вставая, с живостью добавила: – Ну, хватит! Нельзя расслабляться. В путь! Они пообедали, закрыли дом и отдали ключи на хранение соседке. Ночь их застала в машине, когда они неторопливо спускались по южному склону горы. Въехав в долину, машина прибавила скорость. Не сговариваясь, они часто оглядывались, чтобы насладиться еще раз панорамой удалявшегося Кордеса. Реми молчал. Его ничуть не волновало, что они могут сбиться с пути. Он передал Альберту дорожные карты, на которых накануне пометил синим карандашом маршрут. Впрочем, Альберт не досаждал вопросами, так как предпочитал полагаться на собственный водительский опыт, тем более что ему представился случай продемонстрировать свои водительские навыки. Эме также не была склонна к разговорам. Она сидела на правом сиденье и по привычке держалась за мягкий поручень, находившийся перед дверцей. Она сама выключила свет в машине и всматривалась в темный пейзаж, мелькавший за окном. На ней было белое шерстяное пальто, а голову покрывала легкая соломенная шляпка. Всегда заботившаяся о своих удобствах, что было у нее своего рода навязчивой идеей, она выбрала для путешествия самые эластичные и мягкие перчатки на полномера больше, чем носила обычно. Время от времени она подносила к носу платочек, который держала в левой руке вместе с душистым пакетиком ириса. Ее мягкая улыбка в темной кабине машины, преодолевавшей пространство, одно лишь ее присутствие создавало атмосферу умиротворенности. Сидя рядом с ней и прикасаясь к такому знакомому для него бедру, Реми полностью ушел в свои мысли, устремив взгляд туда, где свет фар вырывал из темноты то ровные ряды деревьев, то кусок стены. Он предавался тем особым раздумьям, которые навевает дорога, внося разнообразие в нашу жизнь. Какое-то время Эме не нарушала свободного течения его мыслей. Но у нее появилось чувство, что не следует слишком долго оставлять молодого человека наедине с самим собой. Она ведь так хорошо его изучила! Ей не понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к странностям Реми, к его неожиданным приступам застенчивости, к удивительному сочетанию в его характере ребячества и мужественности… Конечно, она не смогла бы точно сформулировать словами то, что бессознательно ощущала в характере Реми, так же, как ей не удалось полностью разобраться в себе. Однако она хорошо изучила людей! Когда она о ком-нибудь говорила: «Нет, этот человек на подобное не способен» или же: «Если она это сказала, значит, преследовала определенные цели», то всегда добавляла: «Не знаю почему, но я в этом уверена». И почти никогда не ошибалась. Ей были недоступны для понимания лишь люди противоположного характера. Например, она никогда не могла до конца понять Пекера. Без сомнения, эта задача оказалась непосильной для ее интуиции, и именно стремление постичь тайну его души заставило Эме так долго терпеть выходки Лулу. И даже теперь, когда она думала о нем – что происходило с ней довольно часто, – она словно наталкивалась на стену. Загадка его личности задевала ее самолюбие и одновременно возрождала ее чувство к нему. Реми по натуре был ей близок. Ей не составило большого труда разгадать характер молодого человека, она его раскусила раз и навсегда. И теперь ее не заставали врасплох ни его слова, ни его жесты, ни желания. При любых обстоятельствах она могла заранее предсказать, что сделает или скажет Реми. И даже здесь, в машине, не зная точно, какие мысли его одолевают, она почувствовала, что настало время вывести его из задумчивости. Эме взяла его за руку. Реми не вздрогнул от неожиданности. Между ними было полное взаимопонимание. Он прислонился к ней, немного вытянулся на сиденье, чтобы не возвышаться над Эме, и, положив ей голову на плечо, вздохнул от переполнявших его сердце грусти и покоя. – Меме, дорогая…– прошептал он.– Меме… Она поняла, что кроется за его едва слышными словами. Она почувствовала, что ему хочется поделиться тем, что лежало на душе. Она стала задавать вопросы, давая ему возможность высказаться. И он поведал ей историю Агатушки, историю, в которой Эме далеко не все было известно. Он рассказал о тайне, вернее, тайнах старой девы: той, что она по своей воле открыла ему перед кончиной, и той, что нечаянно вырвалась у нее. – Меме, – произнес Реми, – веришь ли ты, что именно такими были в прошлом люди? – Да…– ответила Эме. И замолчала. Она сердилась на себя за легкомыслие, за порой поспешные ответы, уже не раз сыгравшие с ней злую шутку. Последнее время она взяла в привычку начинать фразы, в которых выражала свое мнение, словами: «Если я правильно поняла» или «Возможно, вы не разделяете моего мнения». Подобные уловки были неуместны с таким человеком, как Реми, который тонко воспринимал окружающий мир, и она, столь часто прибегавшая в своей речи к этим оборотам, избегала их в его присутствии. Она только сказала: – Ты подумаешь, что я, как старая баба, несу всякую чепуху. Но, Мики, мне кажется, что таких людей, как Агатушка, в наши дни уже больше не встретишь. Они канули в прошлое вместе со своей эпохой. Крах этой семьи, окончательное ее разорение из-за одной женщины, самоотречение старой девы, ее преданность и обет молчания на всю оставшуюся жизнь. И тайная любовь к твоему отцу… С присущим ей тактом она не упомянула в разговоре Алису и как бы не обратила внимание на предпочтение, которое ей оказывали родители в ущерб Реми. Она продолжала: – Ты только посмотри, как распорядилась судьба. Если бы отец этой несчастной не разорил свою семью, ей бы не пришлось идти в приживалки в богатый дом, тогда бы она никогда не встретилась с твоим отцом. – Она бы не мучилась целых полвека, не говоря никому ни слова, – добавил Реми. – Да, – ответила Эме, – но тогда бы она не знала, что такое любовь. Она повернулась лицом к Реми. Не убирая голову с ее гостеприимного плеча, он поднял глаза на свою подругу. В последних отблесках уходящего дня он увидел на ее губах вечную улыбку. Она перестала на секунду улыбаться только затем, чтобы поцеловать Реми в лоб. Потом ее рот привычно сложился в улыбку, приоткрывая белевшие в темноте зубы. Он почувствовал свежесть ее дыхания, которое он смог бы с закрытыми глазами отличить от дыхания сотен молодых женщин. Они замолчали. Настала ночь, но луна еще не появилась на небе. Реми различал в темноте по обе стороны дороги деревья, холмы, известковые проплешины, возникавшие и тут же, по мере продвижения машины, убегавшие назад. Дорога была прямой, а машина – на хорошем ходу. Она двигалась, унося вперед в своем теплом и мягком салоне пассажиров. Благодаря присутствию доброй феи, с которой Реми посчастливилось заключить союз, небольшой лимузин чудесным образом превратился для него в настоящий рай на колесах, в алтарь, дававший ему утешение и сердечное тепло. Реми прикрыл глаза. Ему уже грезилось, как они приедут в Монпелье, как займут комфортабельный номер в гостинице, которую там, несомненно, найдут. Несмотря на недавно пережитые волнения, несмотря на печальное событие, ставшее причиной его поездки в Кордес, он не мог отказаться от мысли, что ему хочется поскорее лечь с Меме в постель, чтобы вдохнуть приятный запах ее тела, ощутить свежесть кожи на руках и груди и в особенности свежесть ее рта. Он часто повторял: «Меме, когда ты меня целуешь, мне кажется, что у тебя мед на кончике языка». Он также любил ей говорить после любви, когда лежал вытянувшись рядом на спине: «Меме…» «Хм?» – улыбаясь произносила она.– «Меме, меня беспокоит…» Как было приятно без всякого лукавства признаваться в самых интимных вещах женщине, зная наперед, что не допускаешь тактической ошибки! Реми предвкушал заранее эти радости, ставшие уже привычными. Он попросит Эме возобновить их при первой же остановке. Она, несомненно, поймет его. – Меме, дорогая…– снова прошептал он. Полчаса они ехали, боясь пошевелиться. Затем Реми поднял голову. Его движение не застало Эме врасплох, она подождала еще несколько минут. Машина плавно мчалась по дороге. Реми повернулся и прижался к ней другим боком. Однако Эме не шевельнулась. – Мики! – позвала она. Ее голос утратил присущую ему звонкость, словно какая-то скрытая мысль приглушила его звучание и сконцентрировалась в этом коротком обращении, возвещавшем о чем-то не совсем обычном. – Что, Меме? – Мики, мы только что с тобой в разговоре об Агатушке упомянули о том, что порой достаточно какого-нибудь одного события, чтобы перевернуть всю нашу жизнь. – Да, Меме, и что? – Вот и мне хочется поделиться с тобой одним секретом, которого никто не знает. Правда, я его не доверяла никому. А те, кто о нем знал!.. С той поры прошло так много времени, что одни люди уже умерли, а другте позабыли. А всем остальным я никогда не рассказывала… Это мой личный секрет… Она секунду помолчала. Однако вовсе не для того, чтобы собраться с духом. Ибо она продолжала тихим, но твердым голосом: – Мики, пусть это станет доказательством моего доверия и уважения к тебе. Потому что в моей жизни тебе принадлежит особое место. Теперь было слишком темно, чтобы Реми мог разглядеть черты и выражение лица Эме, но он скорее почувствовал, чем увидел, что она подняла руку: несомненно, она вдыхала запах своего платочка. – Послушай… – совсем тихо произнесла она. – Когда-то… когда-то у меня был… сын. Реми не произнес ни слова. И ее не удивило его молчание: она знала, с каким настроением он слушал ее слова. – Ты только не подумай, – продолжала она с той же интонацией, – если я никогда не говорю о нем, то вовсе не из-за глупого кокетства. Конечно нет, просто… мне неудобно говорить о нем своим знакомым. Из уважения к его памяти. А потом, мне кажется, что так он мне еще ближе.– Она немного помолчала.– Когда мы с тобой говорили о том, что иногда все наше существование зависит от одного какого-то события, ты теперь понимаешь, почему я подумала о нем. Ты понимаешь, что, если бы мой бедный мальчик остался в живых, я вела бы себя по-другому. Я бы отказалась от привычного образа жизни прежде всего из-за того, что мне надо было бы заняться его воспитанием. А потом мне бы и не хотелось. Я была бы матерью, мамой, как множество других женщин. У меня не было бы желания искать что-то на стороне, если бы все было со мной… Наконец… ты понимаешь, о чем я говорю. Машина мчалась сквозь ночь. – Сейчас ему было бы уже двадцать семь лет, – продолжала Эме.– Да, я правильно подсчитала: двадцать семь. Он умер в девять с половиной лет. У него было такое слабое здоровье! А какой он был умный! Впрочем, он скончался от минингита, вот видишь!.. И такой способный!.. Особенно в музыке. Когда я разучивала партии арии или упражнялась в пении, сидя у пианино, он не сводил с меня своих огромных черных глаз. Я чувствую и теперь, спустя долгие годы, его взгляд на себе. Доктор мне советовал не перегружать мальчика музыкой. Но он сам забирался на табурет и одним пальчиком наигрывал мои арии. Ах, какой бы из него вырос музыкант! Как бы я им гордилась! Как бы мы были вместе счастливы! Мы никогда с ним не расставались. – А ты бы разрешила ему заниматься театром? – спросил Реми. – Ему?..– воскликнула с возмущением Эме. Ее голос тотчас же изменился, и она чуть было не замолчала.– Ему?..– повторила она.– Театром?.. О!.. И это «о», казалось, вместило в себя кулисы, бары, рестораны, ночные заведения, холостяцкие квартиры – все злачные места, где проходила жизнь Эме, тот круг, в котором она вращалась, став его неотъемлемой частью. В этот момент она, возможно, подумала о всех бебе десолях, борисах, монтеверди и прочих всегда готовых к услугам мальчиках, чьи любовные достоинства ей были так хорошо известны; перед ее мысленным взором возник весь этот аукцион, в торгах которого она принимала участие. Одна только мысль, что ее сын, останься он жив, продавался бы на этой ярмарке, вызвало в ней бурный протест. – О! Нет… Тем более, ты знаешь, я тебе не сказала… Он был таким прелестным мальчиком, что из него мог вырасти красивый молодой человек.– Еще немного помолчав, еле слышно долбавила: – Мой бедный ангелочек… Мой бедный маленький Оливье… Реми почувствовал, что в наполненной тенями машине, двигавшейся сквозь тьму, они связаны с этой минуты какими-то особыми. узами, более прочными, чем отношения любовников. Между ними появилось нечто похожее на сердечный союз совсем молодого человека и зрелой женщины, союз, более прочный и не такой редкий, как считают, среди людей, вращающихся в обществе с легкомысленными нравами. Этот союз становится незыблемым, когда в его основе лежит двойная тоска: материнская и сыновья. Реми почувствовал, что отныне Эме близка ему, как никогда. Между ними точно упала какая-то преграда. Теперь ему открылось истинное лицо его подруги. Он сожалел, что темнота не позволяла по-настоящему разглядеть черты ее лица. Ему показалось, что она наконец перестала улыбаться. Как в первый день их встречи, когда она сквозь слезы говорила с ним о Лулу, так и потом, в течение их совместной жизни, он ни разу не видел ее лица без улыбки. Она всегда улыбалась, даже во сне, лежа рядом с Реми, словно инстинкт самосохранения заставлял спящую находиться во всеоружии. Он был уверен, что сейчас она не улыбалась. В Монпелье они остановились в двух просторных смежных номерах, в каждом из которых была ванная. Комнаты выходили окнами на Театральную площадь. Оставив дверь открытой, они, переговариваясь, вынимали из чемоданов туалетные принадлежности. Затем каждый отправился принять ванну. Однако, когда Реми в пижаме вернулся в комнату, он увидел, что дверь, ведущая в ее комнату, закрыта. Подойдя к ней, он постучал. – Я слышу! – произнесла Эме. Она не сказала ему: «Войди». Открыв дверь, встала на пороге. Она уже приготовилась ко сну. Глядя на Реми, Эме не двинулась с места. – Устала? – спросил, подняв брови, Реми, делая вид, что недоволен. Эме по-прежнему молча смотрела на него. Ее улыбка теперь была грустной. Резкий свет, падавший с потолка в той и другой комнате, лишал их молчаливый диалог недомолвок, которые могли бы возникнуть. Вглядываясь в лицо, они читали мысли друг друга. Теперь каждый из них, всего какой-то час назад открывший другому свою душу, видел перед собой совсем иного человека. Это заставило их несколько изменить поведение и по-новому взглянуть на свои отношения. С той же уверенностью, как и в машине, но уже в другом смысле Реми понял, что между ними теперь не осталось никаких тайн, вместе с которыми ушла навсегда и прелесть любовного очарования. Они не произнесли ни слова. И все же оба не скрывали своей грусти, понимая, что без лишних слов пришли к одному решению. Реми опустил глаза. Тут Эме оторвалась от косяка двери, на который опиралась, и протянула Реми руку. Она погладила его по лбу, уху, затылку. Несколько мгновений она прикасалась к нему кончиками пальцев. И хотя до сих пор называла его «Мики», впервые произнесла: – Маленький Реми… Вместо того чтобы самой двинуться к нему, она необычным движением притянула его к себе и поцеловала в обе щеки. И закрыла за собой дверь. Реми остался стоять на месте. Через секунду он услышал плач Эме. (обратно)XVI
Прошло больше недели, как они приехали в Ламалук. Эме с большим удовольствием занималась домом и садом. Она вызвала рабочих из Сен-Руффина, чтобы отремонтировать крышу, пострадавшую от весенних ураганных ветров. Ливни размыли аллеи, террасы и виноградник. В легком платье, в широкополой садовой шляпе, с секатором в затянутых в перчатки руках, Эме перепрыгивала с грядки на грядку, жалуясь, что при таком жарком солнце большинство цветов не доживет до августа. Реми, в одних шортах, работал целые дни напролет. Один торговый дом заказал ему подготовить эскизы обивочных тканей и обоев, но он не укладывался в сроки, указанные в контракте. Сидя по-турецки на траве, слушая голос Эме, предпочитавшей отдыхать под широким тентом, когда она не была занята садом, молодой человек без устали делал на больших ватманах наброски, зарисовки, пробы красок. Солнце грело ему голую спину, и он время от времени взъерошивал волосы, чтобы предохранить голову от солнечного удара. Вокруг него жужжали комары, стрекотали кузнечики, в воздухе смешивались запахи свежих листьев и моря. А краски окружавшей его природы представали перед ним в своей первозданной гармонии. Он не охладел к Эме после ночного разговора в Монпелье. На следующее утро он и не думал отказываться от пребывания в Ламалуке и даже не собирался его сокращать: он знал, что Эме расстроится, если он примет такое решение, хотя любая другая женщина на ее месте сочла бы его поведение вполне естественным. Реми восхищало ровное отношение Эме, нисколько не убавившей своей заботы о нем. Ему на память приходили прежние любовницы, не ссорившиеся с ним, но резко менявшие свое поведение, как только прекращались их близкие отношения. На следующий же день они начинали обращаться с ним по-приятельски небрежно, как принято между холостыми друзьями. Ничего подобного не произошло с Эме. Несмотря на то что Реми уже не был ее любовником, в ее глазах он попрежнему заслуживал всяческого уважения. Она не стала относиться к нему как к любовнику, который получил отставку. Она все так же высоко ценила достоинства Реми, отличавшие его от других молодых людей, чем он и покорил ее сердце в первый же день их встречи, когда она еще только ему симпатизировала. Она продолжала дорожить его дружбой. И он не изменился к ней. И она это чувствовала и давала понять ему, что чувствует. Ничего в том, как она вела себя и говорила с ним, как произносила его имя в разговоре с прислугой, нечаянно подслушанном Реми, ничего не давало ему повод считать, что он занял менее почетное место в ее сердце. Не изменились даже ее манеры, ибо если в глазах недалеких людей Эме и выглядела женщиной, ведущей легкомысленный образ жизни, то в своих речах и манере держаться она не допускала ни малейшей вульгарности. Когда раньше, еще до знакомства с Эме, Реми расспрашивал о ней Пекера, тот ответил со свойственным ему прямодушием: «О! Она удивительна. Иногда мы не ладим, бывает, что я не знаю, куда от нее деться, но я должен тебе признаться, что как женщина она просто восхитительна». И Реми долгое время считал, что его друг ошибся, употребив не тот оборот речи: женщина такой профессии, пользующаяся известностью, в таком возрасте и в особенности столь вольного поведения – словом, женщина доступная не могла быть восхитительной. Однако теперь он должен был признаться себе: «Да, когда говоришь об Эме… другие слова неуместны». В самом деле, Эме была восхитительной. И самым убедительным тому доказательством была ее дружба, которая, что редко случается у женщин, оказалась долговечнее любви. Да, у восхитительной Эме, с ее легким, уживчивым характером, ненавязчивой снисходительностью, тактом, то есть всеми необходимыми качествами, с помощью которых стареющие женщины пытаются компенсировать недостающую молодость и удержать молодых любовников, добродетели расцвели пышным цветом сами по себе. Для любой другой женщины такое совершенство явилось бы плодом упорного труда над собой и давало бы о себе знать лишь тогда, когда в этом возникала необходимость; у нее же оно было результатом длительного естественного накопления опыта. Однажды после обеда они отправились в лодке вдоль берега сначала на юг, а затем повернули на запад. Молодой человек долго греб. Время от времени Эме делалаему знак остановиться, чтобы показать огромную рыбу, видневшуюся сквозь прозрачную толщу воды, или какой-либо особенный, поражавший воображение подводный пейзаж, над которым проплывала лодка. Когда они приближались к Лаванду, Реми сказал: – Меме, в следующий раз мы возьмем с собой Альберта. Он поведет лодку обратно, а мы вернемся пешком. Ты согласна? – Да, – ответила Эме. За три дня, проведенных в Ламалуке, она уже не боялась дальних прогулок пешком. И добавила с той готовностью к незапланированным удовольствиям, которая свойственна лишь молодым людям: – А почему не сегодня? – А как же лодка? – спросил Реми. – Разве я не знакома со всеми, кто живет в Лаванду? Лодка? Да мне ее доставит в Ламалук любой мальчик, который рыбачит у берега. – Нет, – сказал Реми, – к сожалению, я не могу показаться на людях в таком виде. Правда, отдыхающие не стесняются последнее время появляться обнаженными в Сен-Руффине, однако… На нем были лишь очень короткие, похожие на плавки купальные трусы. Эме лишь улыбнулась в ответ. И вытащила из-под сиденья большую пеструю пляжную сумку, которую она, выходя из дому, всегда брала с собой. Пекер в свое время назвал ее мешком для навязчивых идей. Меме держала здесь всегда наготове обрывки ленточек, чтобы связать в букет собранные цветы, нож, бинт и йод, ментоловые пастилки. Она достала кусок ткани из трикотажного хлопка синего цвета, вылинявшего на солнце, и с гордостью показала Реми. – А это что? – с радостью в голосе воскликнула она.– Вот прелестная майка за сотню су, которую Меме прихватила на всякий случай специально для тебя. Ну что теперь скажешь? Выйдя на дорогу, они тут же перешли на бодрый шаг. Чтобы их прогулке не мешали автомобили, они пошли не по шоссе, а выбрали проселочную дорогу. В стороне от берега дорога шла через зеленую дубраву, порой становясь совсем узкой, поднималась и опускалась через перевалы, что делало ее похожей на горную тропу. Автомобили здесь бы не проехали. Эме была одета в костюм для пешей прогулки. В Ламалуке она никогда не носила летних брюк. Смеясь, она говорила: «Я еще не такая дурочка, чтобы надевать брюки! Потому что я не похожа на тощую селедку! У меня есть зад! До войны его называли даже крупом». Она любила широкие легкие пестрые платья, под которыми не было ничего, кроме купальника, поддерживавшего ее формы, но не стеснявшего движений. Она была обута в легкие сандалии без каблуков, и Реми казался еще выше рядом с ней. Прошагав так с полчаса, Эме взяла Реми под руку, но не потому, что устала. Она хотела внимательно рассмотреть его. – Как выгорели твои волосы! – произнесла она.– Это из-за морской воды? Или же они так выглядят на фоне цвета твоей кожи? – Нет, это из-за морской воды, – ответил Реми, – и солнца после купанья. Когда я был маленьким, меня возили в Бретань на летние каникулы; там за два месяца я превращался в альбиноса. – Но твоя кожа тоже очень хорошо загорела. Впрочем, я знала молодых людей, которые загорали еще быстрее… – Все зависит от темперамента, – ответил Реми.– Говорят, что загар пристает быстрее к флегматикам. – Да…– согласилась Эме. Она произнесла это скорее для себя, чем для Реми, как бывает, когда вопросы собеседника созвучны каким-то твоим тайным мыслям. Эме задумалась. Ее глаза смотрели на дорогу, но не видели ничего дальше двух шагов впереди. И только теперь Реми понял, о ком она подумала. Он и раньше смутно догадывался, но впервые совершенно ясно почувствовал: Эме все еще любила Лулу. Она сняла шляпку и положила ее в сумку, сшитую из такой же ткани. Тряхнув головой, приподняла пальцами волосы. – Солнце уже слишком припекает, – сказала она. Провела рукой по его бицепсам. И смерила их ладонью. Притянув к себе, поцеловала его в плечо. Однако этот поцелуй был лишен всякой чувственности. Она лишь слегка прикоснулась к молодому человеку, как делают женщины, когда хотят сохранить помаду на губах. Эме шла рядом с молодым человеком. Она прижалась щекой к его предплечью. Для Реми эта ласка была не чем иным, как проявлением ее печали и усталости. Он понимал, что ее доверчивый жест был полон целомудрия. Какое-то время они так и шли по дороге, тесно прижавшись друг к другу. – Эй, влюбленные!.. Из остановившихся рядом трех нагнавших их сзади роскошных спортивных автомобилей раздался десяток крикливых голосов, старавшихся перекричать друг друга. – Подумать только! – воскликнула Магда Шомберг, растягивая слова.– Как они милы! – Трогательная парочка! – произнесла мадам Тоннель таким голосом, точно у нее был вечный насморк.– Да, ты права, они вдвоем очень хорошо смотрятся! Оправившись от удивления быстрее Реми, Эме тут же взяла инициативу в свои руки. Она улыбнулась. И подошла к машинам. Она не виделась с Магдой с тех пор, как Пекер стал ее любовником, но Эме было известно, что он ее бросил. Впрочем, не в характере Магды было демонстрировать холодность или иронию. – Меме, – произнесла она, – хоть и жарко, но я все же тебя поцелую. Я хочу тебя поцеловать, потому что… – Ну конечно же! – прервала ее Эме. Она опасалась циничных высказываний Магды и в то же время не хотела, чтобы ее считали дурочкой. И, еще приветливее улыбнувшись, добавила: – Дорогая, я как раз собиралась тебя расцеловать. Как я рада тебя видеть! Она поцеловала Магду. Она поцеловала мадам Тоннель. А вышедшие из машин Бебе Десоль, Борис и Жожо Манери уже поздравляли Реми с хорошей спортивной формой и красивым загаром. – А мне, – сказал Жожо, – так не везет. Посмотри, я совсем не загорел. – Мы все обосновались в Сен-Руффине, – сказала Магда.– У меня в доме гостят двенадцать человек. Меме, ты знакома с Жесси? Жесси Ровлинсон помахала рукой из-за руля «мерседеса». Рядом с ней с невозмутимым видом сидели на коленях один у другого два восхитительно красивых мальчика. Один был блондин, другой – брюнет. – Как они тебе нравятся? – шепнула Магда, обращаясь к Эме.– Она повсюду их возит за собой. Она привезла их из Египта. Тот, кто выше ростом, датчанин, а пониже – чилиец. Брюнет более красив лицом, но датчанин куда лучше сложен! У Ровлинсон на них собачий нюх. Конечно, с такими-то деньжищами!.. Все знали, что Ровлинсон была не богаче Шомберг, к тому же она не отличалась большей щедростью; взглянув на Жесси, можно было тут же понять, что ей еще не исполнилось и тридцати пяти; кроме того, она отличалась от Шомберг фигурой богини Дианы и лицом, походившим на лик святой девы. В ней не было ничего от любительницы молодых людей. – Вы возвращаетесь в Ламалук? – спросил Бебе Десоль.– Мы вас подвезем. Меме, садитесь ко мне. Мики устроится между Магдой и Борисом. Когда автомашины остановились у дороги, ведущей в Ламалук, Магда снова поцеловала Эме. – Завтра в половине второго приходи ко мне вместе с Мики на завтрак. У меня соберется вся компания. Машины рванули с места. Не успели Эме и Реми пройти по рощице и десяти шагов, как шум моторов смолк. Но у них еще долго шумело в голове от криков, громкого смеха и разговоров, которые только что обрушились на них. – О! – сказал Реми.– Я оглох от их болтовни. Когда мы ехали в машине, Магда просто визжала. Пока он молча шел к дому, где они жили, в ушах все еще звучал голос этой женщины: «Мики, ты знаешь новость?.. Ты знаком с последней любовью Жожо?.. Догадайся, с кем спит Борис!.. Как же мы смеялись прошлой ночью!.. Если бы ты видел заведение, только что открывшееся в порту!.. Подумай, мамаша Шварц снова сняла дом рядом с местным притоном, как в прошлом году. Ты знаешь, чем она занимается? Из своего окна на первом этаже она выглядывает проходящих мимо ее дома рыбаков. И говорит им: „Зайдите ко мне. Вас здесь обслужат лучше, чем рядом, и вы еще получите в придачу двадцать франков“. Один наш приятель решил над ней подшутить: он напялил рыбацкую робу и надвинул шапку на глаза. Она его остановила, и он вошел к ней. Но после она не захотела его отпускать. Ему пришлось у нее задержаться». Подойдя к дому, Эме спросила Реми: – Ты хочешь, чтобы мы пошли к ней завтра? Хорошо бы пойти. Если после истории с Лулу я не приму приглашение Магды на завтрак, что подумают обо мне? Но что самое досадное, так это то, что мне придется сделать ответное приглашение. Теперь мы от них никогда не отвяжемся. Реми ничего не ответил. – Самое умное, что мы могли бы теперь сделать после того, как нас нашли, – добавила Эме, – так это поскорее отсюда убраться.***
Они остались. Однако Эме удавалось в первые дни уклоняться от выяснения отношений с Магдой. После их встречи на следующий день на вилле в Сен-Руффине Магда сказала ей во время завтрака: – Меме, у нас принято после завтрака отдыхать. Это позволяет нам поздно ложиться и все же вставать раньше двенадцати. После завтрака ты поднимешься в мою комнату? Ты отдохнешь со мной? У меня очень широкая постель.– И она рассмеялась игривым смехом.– По крайней мере, пока я не положу в нее кого-нибудь! Эме отказалась. Прежде всего потому, что она избегала отдыхать днем из боязни растолстеть, но еще из-за Магды, с которой не хотела оставаться наедине: к чему? – Нет, – ответила она, – я лучше пройдусь по городу. – Я пойду с тобой, – сказал Реми, когда она уже приготовилась уйти. – Спасибо, не надо, – ответила Эме. И тихо добавила, чтобы только он один мог ее слышать: – Я пойду в церковь. Мне очень нравится местная старинная церковь. Там в прохладном помещении я прекрасно отдохну. Он не настаивал, понимая ее желание бежать от «банды», укрыться где-то, чтобы иметь возможность побыть наедине со своими мыслями. За время их совместной жизни Реми многое перенял от своей деликатной подруги, которой никогда не изменяла интуиция. Ему прежде недоставало заботы, внимания и доброго примера для подражания; с первого дня он инстинктивно поддался благотворному влиянию Эме. Она же рядом с Реми стала более уравновешенной, расширила свой кругозор. С ним она больше узнала, стала читать и иногда даже посещала художественные выставки. Эме была настолько страстной натурой, что всякий раз, когда она влюблялась в кого-либо или же ей казалось, что влюблялась, ее охватывало желание постичь замыслы своего возлюбленного и приобщиться к его работе, независимо от того, каковы были эти замыслы и работа. С Реми она вела себя так же, как и с другими, а он более всех других ценил ее культуру общения, ум, душевную чистоту. Она чувствовала это. Именно поэтому их союз не распался. Теперь они понимали друг друга, как никогда раньше. Их сердца бились в унисон лучше, чем в то время, когда соединялись их тела, они чувствовали настроение друг друга намного тоньше, чем когда были любовниками. Перед обедом, на который их пригласила Магда, приятели Реми вызвались показать ему Сен-Руффин. Он еще не видел города – утром, когда он ехал с Эме на машине к вилле Магды, они не заезжали в него. Реми хотелось поскорее осмотреть Сен-Руффин. Его приятели, знакомые с местными достопримечательностями, уже на протяжении четырех или пяти лет, с той самой поры, когда это место стараниями художников вошло в моду, говорили о нем как о небольшом живописном рыбацком городке, имевшем свое неповторимое лицо. Однако стоило Реми ступить ногой на портовую набережную, как он тут же понял, что его кошмар только продолжается. Он бежал от ярмарки в Париже – она его настигла в Сен-Руффине. Это старая гавань сарацинов? Нет, современный Луна-парк. Бары и увеселительные ночные заведения здесь теснились один на другом. Их первые этажи с фресками в стиле Монпарнаса, которые можно было рассмотреть через широкие двери, выходившие прямо на набережную, как комнаты для любви в известных кварталах, со стилизованным убранством – канатами, иллюминаторами, корабельными фонарями, – позорили благородные дома морского порта. Чтобы выпить, приятели зашли в самое шикарное заведение, а как только день стал клониться к закату, набережная засветилась неоном вывесок, соперничавших своими красными огнями с ярко-фиолетовыми и ядовито-зелеными цветами, раскрасившими названия баров: «Гангстер», «У Мадо», «Черный воронок», «Важная шишка». И тут же набережную и прилегающие к порту улочки заполнили проститутки мужского пола. В этом районе тщетными оказались бы все усилия встретить проститутку-женщину. Здесь прохаживались, предлагая себя, разные, как правило, крикливо одетые сомнительные личности в возрасте от четырнадцати до сорока лет – на любой вкус: подозрительные на вид матросы, похожие на корабельных кочегаров или, скорее, на юнг, и рыбаки, которых можно было сразу узнать по загару и босым ногам. Здесь был даже голый по пояс, возвышавшийся над всеми огромный негр, чья зернистая кожа, похожая на песчаник цвета опиума, переливалась в свете рекламных огней. По двое или по трое с насмешливым и в то же время покорным и ищущим взглядом мужчины прогуливались гибкой поступью, вызывающе вихляя бедрами, держа руки в карманах облегающих брюк, рассекая толпу, состоящую из молодящихся дам, напоминавших своим видом боевых охотниц – гаучо или благопристойных домашних хозяек, а то и маленьких морских юнг. В Сен-Руффине не было пляжа. В порту отваживались купаться лишь дети. А приезжие в поисках бухточки или спуска к морю должны были отправляться на машине за два километра. Зато в самом городе процветала мода на пляжные костюмы. С последними лучами солнца в порту, на набережных, в дансингах появлялись отдыхающие в самых экстравагантных костюмах. Здесь нельзя было встретить мужчин в рубашках с длинными рукавами. А большинство из них вообще не прикрывало голый торс. Бебе Десоль, естественно, не носил ничего, кроме плавок. Что же касалось женщин, то самая закрытая одежда была у тех, кто выходил на вечернюю прогулку в пляжных брючках и цветных, едва прикрывших груди платках, которые назывались почему-то деревенскими. Многие женщины были в шортах, а некоторые из них только в купальных трусах и лифчиках. Встречались среди них и красивые женщины. Однако чувствовалось, что все без исключения женщины, безобразные и симпатичные, старые и молодые, толстые и худые, выставляли на всеобщее обозрение свои обнаженные ноги, груди, ягодицы вовсе не для того, чтобы привлекать мужчин, а чтобы им не отказывали. В зависимости от степени сохранившейся у них свежести и красоты изменялась и цена на избранника. Из них, возможно, только две или три женщины могли надеяться, что любовное приключение им ничего не будет стоить. Но тут вступал в силу еще один фактор: истинная цена партнера, которая зависела от его возраста, телосложения, физических данных, привлекательности лица и тела и в особенности от репутации. Магда, мадам Гоннель и Ровлинсон решили просветить Эме и Реми, живших отшельниками в своем Ламалуке. Они перемывали косточки всем проходившим мимо, называли цены, специализацию, достоинства того или другого представителя древнейшей профессии. Время от времени одна из них кричала «Добрый вечер» кому-то из мужчин – громко, покровительственным тоном, в котором чувствовалось соучастие давних греховодников. – Темнеет, – неожиданно обратилась Эме к Реми.– Ты не хочешь пройтись со мной до конца мола, чтобы полюбоваться закатом? Она предпочла скорее дать повод для насмешек, чем смотреть, как ее друг мрачнеет все больше и больше, не поднимая глаз от своего коктейля. Дойдя до конца мола, они повернулись лицом к городу. С этого места им не была видна большая часть сверкавших вывесок, заслоненных мачтами причаленных к пристани шхун, и над раскинувшимся полукругом портом можно было разглядеть верхний квартал городка. Сен-Руффин предстал перед ними во всей своей первозданной красе, открыв свое настоящее древнее лицо. Реми не произнес ни слова. При всей широте взглядов и терпимости к нравам современного общества он был удручен только что увиденным рынком мужчин. В конце концов их было слишком много. И ему, привыкшему не стеснять себя лишней одеждой во время поездок за город или к морю, был отвратителен своим однообразием и целевой направленностью такой перебор наготы, хотя ему, благодаря роду занятий, чаще, чем другим, выпадало удовольствие наслаждаться зрелищем прекрасных обнаженных тел. Но он никому ничего не сказал. Он даже Эме не проронил ни слова. Опершись на руку молодого человека, она кивком головы указала на порт и тихо произнесла: – Вот что наша Магда зовет своим раем… Ты скажешь, что я выражаюсь, как автор ревю, но ты должен со мной согласиться, что это фальшивый рай. Фальшивка для фальсификаторов. (обратно)XVII
У компании вошло в привычку заезжать в Ламалук хотя бы на утреннее купание. Это место нравилось всем, и Альберт едва успевал готовить коктейли. И что самое главное, Эме разрешила молодым людям купаться и загорать совершенно голыми. Она поставила им только два условия: – Не подходите в таком виде к ограде моего соседа, привыкшего к колониальным порядкам. И обещайте, что на ваши сеансы нудизма вы не будете никого приглашать. Если вам непременно хочется продемонстрировать публике ваши прекрасные формы, вы можете это сделать в Сен-Руффине. – Вы слышите? – добавила Магда.– Пожалуйста, пять ваших прекрасных задниц, но ни одного нового лица! И почти что ежедневно после полуденного душа Реми и Эме отправлялись вместе с ними завтракать на виллу Шомберг. Так кончилась для них спокойная жизнь в Ламалуке. Реми не показывал вида, что огорчен. И не только потому, что ему не всегда удавалось найти укромное место, чтобы поработать в одиночестве или почитать книгу, но ему не хотелось лишать подругу общества, к которому она привыкла. С некоторых пор ее настроение ухудшилось, хотя она это и скрывала. Реми считал, что ей необходимо развлечься. Он понимал, что после первой встречи с парижскими знакомыми Эме снова будет вовлечена в круг людей, с которыми она раньше общалась. На самом же деле в обществе Магды, мадам Тоннель, Ровлинсон и их приятелей она не находила лекарства от своей тоски. Напротив, все их разговоры вернули ее к прошлому, которое она стремилась забыть. Она уже решила, что распрощалась с ним навсегда, когда оно снова встало перед ней, как навязчивый бродячий попрошайка. Сплетни и разговоры обо всех любовных приключениях, даже самых недостойных и мимолетных, разбередили ее душу. Да и все молодые люди в их компании были приятелями Лулу. Они, случалось, упоминали о нем в разговоре, произносили нечаянно в ее присутствии его имя. Она старалась не показывать вида и не спрашивать о нем. Что же касалось Магды, то она однажды все-таки настояла на своем, чтобы наконец объясниться с Эме. И проявила столько прямоты и такта, что поразила Эме. Когда Шомберг не находила нужным поддерживать перед мальчиками свой престиж женщины, которая удивляет и с которой весело, невольно создавалось впечатление, что она бережно относится к чувствам других женщин. Возможно, она понимала, что ее соперницы обладали способностью любить дольше ее, на что она в силу своей исключительной распущенности была не способна. Ей ничего не оставалось, как смеяться над ними, но на самом деле она им завидовала. Чтобы ничто не заслоняло вид на море, Меме распорядилась вырубить несколько дубов, росших в узкой ложбине, пролегавшей от берега к ее дому. Перед домом она устроила три клумбы с цветами, а ниже, на участке величиной с акр, развела виноградник. С двух сторон к участку спускалась сосновая роща, которая скрывала слева дом старого колониального служаки. В особом восторге Реми был от виноградника. Он простирался до самого прибрежного песка, и темная густая зелень, переливаясь всеми оттенками, заполнила ложбину и выходила дугой на безбрежное морское и воздушное пространство, создавая как бы опору небесному куполу. И их подвижную, менявшуюся каждый час синюю глубину оттенял виноградник, служа для нее как бы основой фундамента, исчезавшего с наступлением осенних дней. – Меме, – часто говорил Реми, – твой виноградник – настоящее произведение искусства, гениальная находка. Ты можешь мне поверить – он твое лучшее творение. Когда ты предстанешь перед небесными вратами, я тебе не советую говорить святому Петру: «Я очень талантливая актриса» или же «Я всегда была доброй женщиной», что и в самом деле чистая правда, тебе достаточно будет сказать: «Я развела виноградник в Ламалуке». Когда солнце стояло в зените, Реми любил отдыхать в винограднике. Он выбирал себе место между двумя рядами виноградных лоз и почти без одежды ложился наискосок прямо на рыхлую красноватую землю, покрытую тысячами чешуек слюды. Не скрывая тело от прямых лучей полуденного солнца, он прятал голову под густой листвой. Он приходил сюда всякий раз, когда бежал от общества приятелей и ему не хотелось запираться в своей комнате. Порой он лежал здесь часами, держа голову в холодке и грея тело на солнце. До него доносились крики звавших его приятелей. Зная, что здесь его никто не найдет, он не шевелился. А потом он говорил им, что спал. Здесь однажды он нечаянно подслушал разговор Эме с Магдой. Он лежал вытянувшись почти на краю участка, за два или три ряда виноградных лоз от сосновой рощи. Он слышал, как неподалеку плещутся в воде его товарищи. Его кто-то окликнул. Он не подумал ответить. – Меме! – послышался голос Бебе Десоля.– Вы знаете, где он? – Нет! – ответила она. Ее голос раздался внезапно шагах в двух от него, выдав присутствие женщины, как неожиданно вспорхнувшая птица. Оказалось, что Эме находилась совсем рядом, в сосновой роще. Она добавила, повернувшись в сторону берега: – Может быть, он работает! Не мешайте ему! – Но мы хотим поиграть в водное поло, а Жесси устала. Впятером у нас не получится игры! – Позовите Альберта! – ответила Эме.– Он плавает не хуже рыбы. И будет у вас шестым. Реми услышал, что Магда присоединилась к подруге. – Сядь рядом со мной, – сказала ей Эме.– Я оставила это старое срубленное дерево, чтобы было на что присесть. Мне кажется, здесь самое подходящее для этого место. – Да, – ответила Магда.– Как можно так долго жариться на солнце!.. Если бы ты видела Жесси и мамашу Гоннель, то сравнила бы их с плитками расплавленного шоколада. По правде говоря, долговязая, отяжелевшая, давно утратившая талию Шомберг совсем не стремилась средь бела дня показываться на людях обнаженной и осуждала других женщин за то, что те с охотой делали это. – Дорогая, – сказала Магда, – мне бы хотелось с тобой немного поболтать. – Если по поводу Лулу?..– прервала ее Эме. – Знаю, знаю…– сказала Магда.– Ты станешь утверждать, что тебе до него дела нет, что все кончено, забыто и ты любишь одного Мики?.. Хорошо, дорогая, что касается Мики, то это дело твое, правда это или нет. Только я не хочу, чтобы между нами оставалось недоразумение. У тебя, конечно, идеальный характер, и ты никогда ни с кем не ссоришься, но тем не менее я хочу тебе сказать одно: я ничего не сделала, ты слышишь? Ничего, чтобы увести от тебя Лулу. Он ушел от тебя сам. Надеюсь, ты мне веришь. Ты же понимаешь, что, если мы станем уводить друг у друга наших мальчиков, дело зайдет далеко. Лулу приходил ко мне десяток раз, прежде чем я его оставила ночевать. Он мне ничего не говорил. Прежде всего он не в моем вкусе, и ты это знаешь лучше, чем кто-нибудь другой. Я вовсе не хочу критиковать твой вкус. Но он, на мой взгляд, слишком тщедушный, ему недостает мужественности и силы… Мне было заранее известно об этом: я о нем уже слышала от других. Мне бы в голову никогда не пришла мысль его увести. Это не моя инициатива. И это правда, что я тебе говорю. Почему я откровенничаю с тобой? Ты вроде бы не хотела выяснения отношений и, кажется, даже на меня не обижалась. Следовательно… Нет, дорогая, ты мне можешь верить. Да, еще вот что! Лулу мне поклялся, что ушел от тебя. Я узнавала у Бебе, и он мне подтвердил его слова. Ну что ты хочешь? Я не могу строить из себя недотрогу: потом ведь придется жалеть об упущенных возможностях. Но ты же знаешь, что наша связь продолжалась недолго! Какие-то недели две, не больше! И всего-то раза четыре или пять. Все уже кончилось, а люди продолжали считать, что мы вместе. – Ладно, все прекрасно, – сказала Эме, которая явно старалась сдерживаться на протяжении всей оправдательной речи подруги.– Впрочем, я никогда не сомневалась в твоей дружбе. Не будем больше об этом говорить. После некоторого молчания внезапно раздался голос Магды: – О! Взгляни на Альберта в плавках! Как он потрясающе выглядит! Как он хорошо сложен! А ты мне ничего не говорила… – Уверяю тебя… – Он мне нравится, – заявила Шомберг решительным тоном, как делают обычно бизнесмены, когда перед ними открываются перспективы новой выгодной сделки. И повторила: – Да, он мне нравится! И очень! Как это я раньше его не замечала! Очевидно, потому, что, когда он выступал в роли бармена или шофера, я не замечала в нем ничего особенного. Да, моя дорогая. Одежда обманчива. Я знаю много подобных случаев. Но взгляни на него! Ноги слегка тяжеловаты, но в остальном все в порядке! Скажи мне, как ты думаешь, можно? – Я не знаю, – ответила смеясь Эме.– Спроси у Мики. – Само собой, – произнесла, нисколько не смутившись, Шомберг, – конечно, я об этом его спрошу. Лежа на боку головой в тени и лицом к морю, Реми не шевелился. Через виноградные лозы он видел, как резвятся в воде его приятели, подплывавшие время от времени совсем близко к месту, где он прятался. Отсюда он различал их не только по стилю плавания. Когда мяч отлетал в сторону и качался на прибрежных волнах – а надо сказать, что в Ламалуке было глубоко почти у самого берега, – тот или иной молодой человек в поисках мяча на секунду показывался из воды. И только один Альберт отличался от всех тем, что был в плавках. – Как он прекрасен, – воскликнула Шомберг.– Ты только взгляни на Бебе, дорогая! Вот он встал на скалу. Посмотри, как он выглядит! У него классическая фигура: широкие плечи и узкие бедра! Нет даже малейшего намека на бедра! Он, впрочем, этим гордится и постоянно тренируется. Разве ты раньше не знала? Он мне напоминает того петуха, что мы видели в «Шантеклере». Не помню, как это? Ах, да… «У него нет задницы, это венец его карьеры». Или что-то в этом духе. Следует сказать, что Бебе создан, чтобы притягивать к себе взгляды. Лично мне это быстро надоело. О! Нет, мне не на что жаловаться. Я им вполне довольна. Как мужчина он располагает всем, чтобы сделать счастливой самую привередливую женщину. Но у него есть один досадный недостаток: в постели он занимается любовью, словно спортсмен на тренировке. Правда, он часто меняет позы, контролирует свои движения до такой степени, что если не похвалить его за гибкость тела, крепость мускулов и отличную реакцию, то будешь выглядеть в его глазах невежей… По шлепкам босых ног по прибрежному мелководью Реми догадался, что кто-то из купающихся игроков снова поспешил за мячом, вылетевшим на песок. – Смотри! – сказала Магда.– Кто же там вышел из воды? Ах, да! Это Борис. Тебе не кажется, дорогая, что у Бориса совсем не современное телосложение? Знаешь, он мне напоминает персонаж с полотен художниковромантиков, изображавших обнаженных мужчин с плоскими широкими животами. У меня есть небольшая картина Жерико, доставшаяся мне по наследству; на ней нарисованы почти голые конюхи, въезжающие в воду верхом на лошадях. Ну, я тебе должна сказать, это… Довольно забавное зрелище! Но самое интересное в том, что один из конюхов – вылитый сын князя! Если бы он меня слышал!.. Наступила тишина. Эме, по всей видимости, не собиралась вести с Магдой разговор, да еще на такую скользкую тему. – А что ты скажешь про двух любовников Жесси? – продолжила Шомберг. Что касается меня, дорогая, то с датчанином я хоть завтра!.. Знаешь, что уморительно: он никогда не расстается со своим приятелем, крошкой чилийцем. Они так прекрасно ладят! Но совсем не в том смысле, как ты могла подумать. И, кажется, еще ни разу не участвовали в групповухе. Говорят, что они от нее отказываются. Нет, они по очереди как бы передают друг другу эстафету. Чтобы удовлетворить Жесси, им надо действовать сообща. Должна тебе сказать: это ловкий прием. Ну да, если… Реми уже некоторое время почти не слушал, что говорила Магда; тем более что ее откровения были ему совсем не интересны. Накануне он долго купался с приятелями и теперь с удовольствием подставлял свои бока под палящие лучи солнца. Когда же слишком припекало, он переворачивался. Но нескольких секунд было достаточно, чтобы живот и грудь начинали гореть огнем. Его голова лежала в прохладной тени виноградника, что позволяло остальным частям тела выдерживать яростную атаку солнечных лучей. Реми перевернулся на живот. У него было ощущение, что земля, как заботливая мать, мгновенно осушила своим прикосновением пот на его груди и руках. Он медленно потянулся всем телом. Положив руки под голову, он задремал. Его разбудило громкое восклицание. – О, нет! Вовсе нет! Это был голос Эме. В нем прозвучала непривычная для нее горячность. Он прислушался. – О, нет! – повторила она.– Тут нет ничего общего! Как бы ты ни старалась приклеивать нам общие ярлыки. Я надеюсь, что ты ни станешь… О! Позволь мне высказаться – сейчас моя очередь! Я же тебя слушала не перебивая… В моем случае нет даже намека на порок! Ты одержима навязчивой идеей не упустить так называемой великой страсти, которая, по твоим словам, крайне редко встречается в жизни женщины и не имеет ничего общего с повседневными плотскими радостями… Ничего подобного со мной быть не может! Если мне нравятся мальчики, то совсем не так, как тебе, когда ты влюбляешься в молодых мужчин крепкого телосложения. Все дело в их силе! Пойми меня: половину времени я вижу этих крошек такими капризными, такими нерешительными, такими счастливыми, когда они выслушивают мои советы при условии, если я даю их самым тонким и ненавязчивым образом… вот даже Лулу! Возможно, ты мне не поверишь, но бывали моменты, когда он вел себя совсем как малое дитя. И вот послушай, эти крошки в душе почти что дети… Когда я прижимаю одного из них к своей груди, держу его в объятиях, лежа с ним на моей мягкой постели, в полумраке моей спальни, он, окруженный теплом и лаской, постепенно оттаивает; я его не тороплю, потому что чувствую, как он меняется… И когда неожиданно в нем пробуждается мужчина и заявляет о себе со всей неистовой страстью, его поцелуи становятся совсем другими, меняется даже взгляд его глаз, устремленных на меня, он нервничает, становится властным и требовательным и наконец овладевает мною, я чувствую себя такой молодой!.. Если бы ты только знала!.. Вот в чем для меня радость, награда, мо… как бы лучше выразиться? Мой реванш…– добавила она низким голосом.– И главное, уверяю тебя, это до такой степени… это настолько далеко от того, чего ищешь ты… До такой степени, что очень часто я притворяюсь! Да, я притворяюсь, что получила удовольствие, чтобы лучше прочувствовать и осознать происходящее, чтобы ничего не упустить… Затем наступила тишина. Реми приподнялся на локте, не замечая палящего солнца, начинавшего жарить его голову. – Видишь ли, моя дорогая, – продолжала более спокойным тоном Эме, – возможно, в определенной области ты знаешь не меньше, чем я; возможно, ты порой бываешь на вершине блаженства; я допускаю, что ты любила и была любима, но хочу тебе сказать одно: ты только подошла к пониманию истины, но не успела познать ее. Потому что ты еще не женщина, не совсем женщина. – А? То есть как? – спросила Магда.– Кто же я, по-твоему? Медведь из берлоги? – Не смейся. Это вовсе не смешно. Я тебе объясню, почему ты не женщина. Я не буду излагать тебе целую теорию, так как она для меня слишком сложна и я боюсь запутаться. Но все говорит за то, что я на правильном пути. Чтобы быть настоящей женщиной в полном смысле этого слова, мало быть просто женщиной, наконец, любовницей, возлюбленной, надо быть еще и немного… Инстинктивно Реми прикрыл ладонями уши, ибо это слово прозвучало в его сердце еще раньше, чем его произнесла Эме. (обратно)XVIII
Реми захотелось узнать, не собирается ли Пекер вернуться к той, которая со всей очевидностью продолжала его любить. Но ему было неизвестно, что сталось с Лулу. Наверняка его приятели знали о нем больше, чем он. И Реми решил расспросить Манери. Если Жожо и не отличался особыми достоинствами, то, во всяком случае, стремился компенсировать свои недостатки и оправдать свое присутствие в их компании простодушием и готовностью услужить. Обрадовавшись, что и он может быть полезен, Манери выложил все, что знал о Лулу, собрал для Реми все слухи, которые ходили о Пекере среди приятелей. Выходило так, что Аулу уже распрощался со своей немкой. Имея в своем распоряжении три недели до начала очередного контракта и не зная, куда податься, он отправился на Балеарские острова к Нино Монтеверди, которого пригласила к себе на месяц погостить мадам Маркез. Бебе Десоль, Борис и даже Манери получили от него несколько открыток. Похоже, что ему там все надоело, и он спрашивал, какие у них новости: много ли народу понаехало в Сен-Руффин? И в Ламалук? Последняя строчка открыла Реми глаза. Самолюбивый и хвастливый упрямец, каким все его знали, Лулу все это время жалел, что ушел от Эме, но первого шага сделать не мог. И ее удерживали остатки самоуважения, хотя легко можно было догадаться, о чем она думает и на что надеется. Если Пекер и выглядел как законченный негодяй, циник, развращенный, пресыщенный человек, то в душе он оставался по-детски самолюбивым и простодушным, как сиротка. Именно эта двойственность и противоречивость его характера очаровывали Эме. Хотя Реми и презирал такого рода посредничество, он написал Пекеру и прежде всего поспешил развеять все сомнения по поводу его связи с Эме. «Все давным-давно кончено, – писал он, – да и длилось совсем недолго». Затем от своего имени предложил Лулу присоединиться к их компании. Он заверил Пекера, что ни Эме и никто другой не знает о его приглашении; Реми все предусмотрел и прежде всего постарался не задеть самолюбие своего обидчивого друга. Он даже уточнил, как Пекеру лучше ему ответить, телеграммой или телефонным звонком, чтобы Эме не открыла их маленький заговор. А спустя три дня, когда на вилле Шомберг приятели выходили из-за стола и каждый из них направлялся отдохнуть – кто полежать на газоне, кто в своей комнате, – Реми позвали к телефону. Это был Лулу. Он звонил с Балеарских островов. – Мики, спасибо за письмо, – сказал он.– В другое время я, может быть, и не согласился бы к вам приехать. Но Нино постоянно скандалит с мамашей Маркез, у которой мы гостим. Мне это все осточертело, и я чувствую, что пора смываться. А местные гостиницы все переполнены. Ты, правда, хочешь, чтобы я приехал в Ламалук? Послушай, я приеду, но при одном условии: ты все возьмешь на себя. Разумеется, идея принадлежит тебе. Придумай, как это преподнести другим. Например, скажи им, что я в Тулоне проездом на съемки фильма. Я постараюсь приехать в пятницу и остановлюсь в «Гранд Отеле». Ты заедешь за мной на машине. Я рассчитываю на тебя, ладно? Я совсем не хочу, чтобы подумали, что я приехал извиняться… Договорились? Бай, бай… Голос Пекера, несмотря на расстояние, звучал совсем рядом, и Реми понял, что он на все согласен. Казалось, что Лулу уже приехал в Ламалук, и вечером, когда Эме вернется домой, он будет ее поджидать. – Вы не знаете, где мадам Лаваль? – спросил Реми у прислуги. Ему хотелось, не откладывая, подготовить ее к возвращению Лулу. Он заранее знал, насколько ее обрадует его сообщение и как она постарается скрыть от него свою радость. – Господин Шассо, мадам Лаваль, как всегда в это время дня, отправилась в город. «Ах, да! – вспомнил Реми, – в это время, если верить ее словам, она ходит в церковь, чтобы собраться с мыслями». На сей счет у него были большие сомнения. Ему казались неправдоподобными внезапные проявления набожности, которые он в силу своей деликатности принимал на веру. Его бы убедили больше, если бы сказали, что Эме под столь благовидным предлогом проводит время у парикмахера или у массажистки. Ибо всякий раз после посещения церкви она возвращалась посвежевшей и отдохнувшей. Реми в своих предположениях дальше не шел. Выйдя из дома, он направился вверх по дороге к притихшему после обеда городу, который раскинулся под палящими лучами солнца над набережной со всеми ее барами, подальше от роскошных вилл, вздымаясь к небу башней церкви цвета обожженной глины. Однако в церкви было пусто. Ни одного молящегося, ни одного нищего, укрывшегося от полуденного зноя. Реми дважды ее обошел. «Так я и предполагал, – подумал он.– Разве Меме пришла бы когда-нибудь сюда?» И он собрался уже было повернуть назад. В этот момент его взгляд упал на необычный орнамент на полукруглой выступающей части церкви, показавшийся ему вначале обманом зрения. Подойдя, он зашел за хоры. Очень высоко, там, где обычно располагается витраж, в стене была выдолблена овальная ниша, какие устраивают для фигурок святых. Изнутри она светилась каким-то почти небесным светом. Однако стоявшая в ней фигурка Пречистой Девы сама по себе не представляла собой ничего оригинального: круглолицая, с пышными формами, державшая пухлого младенца Иисуса на руках, она была выполнена местным умельцем из цветного камня. Стоя во весь рост, она словно парила над белоснежными облаками. По всей видимости, эта скульптура лет сто назад считалась у местных жителей чудотворной, и к ней на поклонение стекались верующие со всей округи. Об этом свидетельствовала игрушечная, кустарно сработанная лодка с архаичным оснащением, занимавшая в ногах Марии выступающую часть ниши, в которой находился святой Руффин в старинном костюме. Между тем что-то здесь вызывало удивление и навевало мысль о неземном: воображение поражал струившийся из невидимого, казалось, небесного источника и освещавший всю скульптурную группу рассеянный, но в то же время яркий, скорее голубоватый, чем прозрачный, не то чтобы дневной, но и совсем не похожий на освещение, которое дают зажженные свечи, удивительный свет. Он заставлял человека мысленно обращаться к небесам, откуда Божественный свет проливался на землю. Переступив порог, Реми вошел в небольшую тесную часовню, наполненную таким же удивительным светом, и только тогда он наконец понял его происхождение. Пробитый в толще стены узкий проем выходил на крышу, откуда поступал солнечный свет. Однако поток солнечных лучей преломлялся о камни, и до Пречистой Девы с младенцем на руках доходил лишь его отсвет цвета морской волны, сравнимый по прозрачности разве что с водой в аквариуме. Реми улыбнулся, подумав об изобретательности священнослужителей. И в тот момент, когда он развернулся, чтобы выйти из часовни, он увидел Эме. Она спала в низком кресле, устроившись за колонной, которая скрывала ее от посторонних глаз за мраморными плитами, установленными в знак благодарности в честь чудесного выздоровления или исполнения желания во славу девы Марии, Спасителя и даже святого Руффина. Вместо соломенной широкополой шляпы на Меме был повязанный по-крестьянски платок. Прислонившись головой к мраморной плите, она крепко спала. Реми наклонился над ней и уже протянул было руку, чтобы разбудить. Но от неожиданности отпрянул. Это была Эме и в то же время не Эме. Перед ним было совершенно незнакомое лицо, и в нем было нечто, испугавшее его. На лицо словно была надета маска, с опущенными щеками, с глубокими морщинами, – маска старости. Неужели достаточно закрыть глаза, уснуть, не двигаться, чтобы лишить лицо всякой жизни и состарить его сразу на двадцать лет? Да нет, ведь Реми так часто видел спящую Эме, однако… И тут он внезапно понял: с лица Эме сошла улыбка. Все время он был лишь свидетелем, как почти нечеловеческим усилием воли она не переставала улыбаться даже во сне. Никогда еще он не видел ее без улыбки, и теперь, когда она не улыбалась, лицо ее сделалось неузнаваемым. Реми понял, что она скрывается здесь, чтобы поспать, не боясь того, что кто-то может ее застать врасплох и увидеть во сне. Только здесь она позволяла себе расслабиться и немного отдохнуть. Стараясь не шуметь, он на цыпочках вышел. (обратно)XIX
События следовали одно за другим. Ярмарка разворачивалась все больше и больше, что привело к нескольким громким скандалам. Сначала произошла неприятность с мамашей Шварц. Ее возненавидела и поклялась отомстить жившая по соседству хозяйка дома терпимости. Впрочем, она на дух не выносила всех понаехавших сюда женщин и горела желанием расправиться с ними, ибо эти бесстыдницы сбивали цены, составляя самую бесчестную конкуренцию ее девицам. Нельзя сказать, что мамаша Шварц отбивала у них клиентов, оказывая платные услуги. Однако в силу профессиональных взглядов на любовь девицы не переставая возмущались ее любительским рвением, считая его просто отвратительным. Все разговоры в заведении только и крутились вокруг этой темы и даже грозили вывести из равновесия флегматичных сутенеров. Хозяйка, естественно поддерживая самые лучшие отношения с жандармерией, начала плести интриги. Мамаше Шварц стали досаждать, и наконец она сдалась, заявив, что отправляется на Капри; где местные жители придерживаются более широких взглядов. За первой победой местных жителей вскоре последовал новый скандал, вызванный злоключениями мадам Гоннель. Получилось так, что каждую неделю происходило событие, выходившее за рамки привычной хроники, выплескиваясь из той галантной ванны, в которой тихо нежился залитый солнцем Сен-Руффин. Восемь месяцев в году мадам Гоннель не могла отлучиться из Парижа, занимаясь делами своего мужа. Издавая одну из самых популярных во Франции ежедневных газет, он завоевал доверие определенной части видных политических деятелей тем, что писал об известных людях, основываясь только на самых надежных источниках информации. Выражаясь фигурально, он был повязан круговой порукой с высшими чинами полиции. От своей жены он требовал лишь соблюдения светских приличий. И, не связанная, как ее муж, со своими высокопоставленными друзьями общими секретами, она поддерживала дружеские и близкие отношения с наиболее привлекательными сержантами парижской полиции. Они часто оказывали ей услуги, ибо она могла помочь им в продвижении по службе. Впрочем, нельзя сказать, что они пользовались ее протекцией незаслуженно, ибо все без исключения отличались бравой выправкой. Она нередко позволяла себе короткие интрижки с молодыми полицейскими. Внося в комедию, которую перед ними разыгрывала,привкус филантропии, она три дня спустя делала вид, что отказывается от своей любви только потому, что приносит себя в жертву ради будущей карьеры нового избранника. И как результат такого героического подвижничества, очередной Титус с белым жезлом получал продвижение по службе. Однако за зимний сезон столь интенсивная благотворительная деятельность слишком утомляла мадам Гоннель. И летом на отдыхе она позволяла себе более длительные связи. В Сен-Руффине ей приглянулся один рыбак, и вот уже три недели, как он был ее любовником. Паренек встречался с ней в верхней части города, где у него был небольшой уединенный домик, полученный в наследство от матери и стоявший до сей поры пустым. Чтобы не привлекать внимание соседей, они устраивали романтические любовные свидания в комнате за закрытыми ставнями после полудня, на старой скрипучей деревенской кровати, среди запахов затхлого помещения, пыли и морского прибоя. А обливание ледяной водой из жестяного ведра привносило во встречи любовников еще больше экзотики. Но несмотря на меры предосторожности, принятые рыбаком и даже мадам Гоннель, которую возбуждали романтика тайных встреч и их сельский колорит, старуха соседка прознала про их свидания и рассказала своим знакомым. Рыбак был женат, и до жены дошли слухи о его приключении. Однажды после полудня она проникла через сад в дом и застукала задремавшую парочку на месте преступления. Подняв страшный шум, она выбросила одежду мадам Гоннель из окна, а ее саму спустила с лестницы в чем мать родила. Вытолкнув бедную женщину средь бела дня на улицу, она захлопнула перед ее носом дверь и повернула ключ, затем поднялась в комнату, чтобы задать трепку своему незадачливому муженьку. Платье мадам Гоннель, брошенное рассерженной женщиной, перелетело в сад дома напротив. Оказавшись под палящими лучами солнца на пороге чужого дома с голым задом и обнаженным передом, колышущимися на воле грудями, несчастная женщина стала изо всех сил барабанить в закрытую дверь. В этот момент она была согласна на все, даже принять смерть, лишь бы ее не застали в таком виде. На поднятый шум на улицу выглянули лишь две девочки и старуха, виновница ее беды, которая, распахнув ставни, высунула нос из окна. – Пеньюар!..– умоляющим голосом прошептала мадам Гоннель.– Бросьте мне платье, пеньюар… что-нибудь… одеяло… я дам вам тысячу франков… пять тысяч франков… Наконец она нашла убежище в грузовичке бакалейщика, который и довез ее до Магды. Ей не хватило духу вернуться в гостиницу, где она жила до сих пор. Несколько дней она пробыла на вилле Шомберг; отныне, чтобы добраться до Ламалука в своей машине, ей приходилось делать крюк, дабы объехать город, где еще долго не утихали о ней пересуды. Следует признаться, что волна возмущения прокатилась по Сен-Руффину. В особенности негодовали горожанки. Рассказ об очередном конфузе приезжих дам только еще больше распалял страсти. После относительно спокойных десяти дней настал черед Шомберг. Особой доблести в ее глазах заслуживало совращение самых неподкупных из местных красавцев. Стоило ей только от кого-то услышать, что объявился «один, с кем нельзя договориться», чем менее он был, как она выражалась, «съедобным», тем активнее она старалась лишить его ореола неприступности. Так, ей удалось с помощью казначейских билетов сломить сопротивление одного морячка, слывшего до сей поры неподкупным. Молодой человек проходил морскую службу в Тулоне и часто появлялся во время увольнения в Сен-Руффине, где жила его невеста. Когда Магда поняла, что он уже готов ей сдаться, она сочла, что ей не помешает ввиду последних событий проявить некоторую осторожность и встретиться с ним ночью на пляже, расположенном за несколько километров от города. Она без шофера отправилась на свидание в своей машине, а он приехал на велосипеде. Не успели они прилечь на песок, как из прибрежного леса послышался подозрительный шорох. Встревоженная парочка вскочила на ноги и стала поспешно натягивать одежды. Матрос поспешил навстречу опасности, а Магда побежала к дороге, где оставила свой автомобиль. Все четыре колеса были спущены, а приборная доска разбита камнем. Пока Магда разбиралась в темноте с причиненным ущербом, она потеряла драгоценное время. Со стороны пляжа послышались женские голоса и крики. Шум нарастал и приближался. Шомберг перешла на бег. Вскоре она поняла, что ей не скрыться. Позади себя она услышала топот нагонявших ее быстрых ног, обутых в сандалии. Свернув с дороги, она побежала в сторону каких-то сараев и навесов, располагавшихся по соседству с небольшой эстакадой. Однако ее преследовательницы оказались хитрее: они угадали ее маневр и отрезали путь к бегству. Наконец они ее нагнали. Она увидела перед собой шесть или семь местных девушек и молодых женщин. Пока невеста матроса выясняла отношения со своим женихом, ее подружки набросились на Шомберг и без обиняков заявили, что давно хотели с ней расправиться. Они не стеснялись в выражениях: оскорбления так и сыпались на голову несчастной. Магда хотела было вступить с ними в переговоры. Но тщетно. Как ни старалась Магда, ей не удалось ни запугать, ни уговорить, ни подкупить поборниц справедливости. В конце концов бойкие бабенки, подняв ее на эстакаду, подтолкнули вниз. Шомберг стала звать на помощь. Но они ее успокоили, заявив, что она может не бояться утонуть: здесь совсем неглубоко. И Шомберг шлепнулась в воду под их напутствие: – Вымой свою задницу! (обратно)XX
Как раз к этому времени Реми уже вернулся в Париж. В Ламалуке остались, по всей видимости, примирившиеся Пекер и Эме в компании с переехавшими к ним Борисом и Манери. Не успев распаковать чемоданы, Лулу заявил, что ему необходимо их общество, а им сказал, что в Сен-Руффине «в последнее время стало сильно вонять». Мадам Гоннель и Шомберг наконец уехали. Что же касалось Бебе Десоля, то он в сопровождении Жесси Роулинсон и парочки чилийско-датского происхождения отправился заканчивать летний сезон в Италию.Бебе Десоль жил на Марсовом поле в квартире, расположенной на двух этажах и занимавшей целый особняк. Небольшой бассейн, физкультурный зал, оснащенный различными тренажерами, вместе с садовым участком представляли собой настоящий спортивный клуб на дому. Иногда втроем, а чаще всей компанией молодые люди собирались к десяти часам утра потренироваться под руководством Бруно, личного тренера Бебе. Самыми дисциплинированными из них были хозяин дома, Жожо Манери и Реми. Если первые два молодых человека приходили потому, что в течение дня им просто нечем было заняться, то Реми забегал по утрам потому, что работал во второй половине дня и вечером. Борис и Пекер нередко пропускали занятия. И Бруно им выговаривал: – Господин Борис, к тридцати годам вы непременно обзаведетесь брюшком, тем более что к этому вы предрасположены природой. И тогда у ваших дам вы не сможете вызывать ничего, кроме отвращения. Что же касается вас, господин Лулу, вам никогда не удастся нарастить мускулы, и как вы будете выглядеть, если вас попросят раздеться на съемках фильма? После возвращения Бебе в Париж Пекер, признавая справедливость слов Бруно, стал более серьезно относиться к тренировкам. Долгое время он вел безрезультатные переговоры с одной американской кинокомпанией, как вдруг на горизонте замаячил настоящий контракт: наконец речь зашла о больших заработках и скором его отъезде. Лулу заверил руководство французского филиала компании, что может одинаково хорошо исполнять роли интеллектуалов и боксеров. И, подобно школьнику, грызущему в ночь накануне экзамена учебники, в которые до этого ни разу не заглядывал, он, прибежав в панике к Бруно, попросил: – Дружище, мне теперь не до смеха: пора тебе тряхнуть стариной! Остался всего один месяц! Сделай мне такое тело, чтобы они там все в Голливуде усохли от зависти! Конечно, я не собираюсь переплюнуть Вейсмюллера. Однако мне надо быть хотя бы на уровне Кларка Гейбла или Гарри Купера. Не забывай, что в Америке, как только появляется новая звезда, она обязательно демонстрирует зрителям с экрана свои телеса. Что же до Нино, то от него не было вестей с самой весны. Только Пекер виделся с ним на Балеарских островах. Он рассказал остальным приятелям, что несколько месяцев тому назад папаша Монтеверди предъявил сыну ультиматум и потребовал его приезда домой на зимний сезон. Вероятно, после неожиданной размолвки с мадам Маркез Нино, оказавшийся без су в кармане и не имея ни единого приглашения, был вынужден отправиться в Пьемонт, к родным пенатам. В середине октября они получили от него письмо: вечером в понедельник он приезжает на несколько дней в Париж. И на следующее утро хочет навестить друзей у Бебе. Наконец все приятели собрались. По мере того как прибывали Реми, Жожо, Аулу и Борис, они тотчас же переодевались и входили в тренажерный зал. Бебе Десоль, первым приступивший к тренировке, дал себе короткую передышку, рассматривая себя с ног до головы в огромном зеркале. – Мики, – обратился он к Реми, уже успевшему изрядно потрудиться над своей фигурой, – подойди-ка и оцени взглядом художника мышцы моего живота. Мне кажется, они стали рельефнее.– Затем, спустив на бедра трусы, добавил: – Струны моей лиры, как всегда, натянуты! – Правда, – подтвердил Реми, – ты в прекрасной форме. – Хорошо, но я могу тебе признаться, что мне это дается ценой огромного труда! После этого они снова подошли к своим тренажерам. Бруно был с ними строг. – Господин Борис, у вас одышка! Это результат вашего увлечения шампанским и коктейлями. Вы заметно сдали по сравнению с весной. Я имею в виду ваше дыхание. Все потому, что вы набрали лишний вес. Господин Лулу, втяните живот, перевернетесь. Нет… нет… не останавливайтесь, вы можете сделать двенадцать переворотов. Продолжаем: девять!.. десять!.. одиннадцать!.. Господин Мики, совсем неплохо, но взгляните на ноги господина Бебе. Вот это работа. Господин Лулу, вы отстаете от всех. – Кажется, меня свела судорога, – ответил Лулу. – Вам плохо? Если бы у вас была судорога, вы бы не сомневались, а кричали от боли. Какое же, право, несчастье быть таким хитрецом! Я напишу вашему Кларку Гейблу, что он может спать спокойно. Всем лечь на живот, ладонями на ковер, руки на ширине плеч! Начали: р-раз!.. Господин Лулу, разве я говорю на иностранном языке, когда прошу вас не сгибаться? Вдох! Ч-четыре… Когда на пороге появился Монтеверди, Бруно разрешил своим подопечным немного передохнуть. Они обступили приятеля. – Ну, – воскликнул Бебе Десоль, – рассказывай, что с тобой приключилось. – Я был у отца, – ответил Нино. – Ты как-то странно выглядишь, – сказал Пекер.– Ты не хочешь переодеться? – Нет, я очень спешу. В моем распоряжении всего минуть десять. А еще столько надо сделать! – И добавил: – Еще со столькими друзьями распрощаться. – Что?.. О чем это ты говоришь?.. Ты снова уезжаешь?! – воскликнули все в один голос. – Да, я снова уезжаю, – ответил Нино.– Завтра вечером я возвращаюсь в мой Пьемонт и остаюсь там навсегда. И ему пришлось им рассказать: про ультиматум отца, про обеспеченное существование, обещанное ему, если он не покинет родные края, и, наконец, про то, что он согласился. – Ты принимаешь нас за дураков? – сказал Лулу.– Под этим что-то кроется. Ты что, подхватил известную болезнь? – Нет, Лулу, дело в том, что, после того как прошел месяц с момента моего приезда домой, я с удивлением обнаружил, что мне там совсем нескучно. – А чем же ты там занимался? – Ну, там было чем заняться. А сколько раз мне приходилось брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения! – Дорогой Муссолини!..– воскликнул Пекер.– Нет, вы только его послушайте! И на что же похожа твоя деревня, на ферму? – На ферму! Лулу, какой же ты смешной! На ферму!.. У нас шесть, восемь, десять подворий! Ты представляешь, что это за хозяйство? Разве ты не знаешь, что мы владеем участком земли в триста гектаров? – Мы владеем, – передразнил его Лулу, – у нас. Это не твоя собственность, а твоего старика… – Это принадлежит семье. Но отцу и сестрам нужна моя помощь. В горных долинах леса растут сами по себе и не требуют, чтобы ими занимались. Но на равнине, засеянной пшеницей и кукурузой, совсем другое. А сколько труда отнимают виноградники! – Виноградники? – спросил Бебе Десоль.– А какое вино вы там делаете? Кьянти? – Не говори так! В наших солнечных краях занимаются изготовлением барбера и в особенности сладкого и изысканного барроло. А какие у нас мускаты, совсем не хуже, чем в Асти! – Ах да, «асти спуманте», – подсказал Манери. Теперь уже все внимательно слушали Нино. Никто больше не подтрунивал над приятелем, и даже Бруно поднял голову, прислушиваясь. – Да, – воскликнул Монтеверди, – я совсем забыл о шелковице! – О шелковице? – переспросил его Борис. – О шелковице, используемой для изготовления шелка? – спросил Реми. – Естественно, – ответил Нино. – Так, значит, – сказал Манери, – вы еще выращиваете червей-шелкопрядов… И Пекер мечтательно добавил: – О! Подумать только!.. Наступила тишина. – Каждый день, – продолжал Нино, – надо выполнять определенную работу, потому что, если что-то не сделаешь, не сможешь пережить зиму. У нас очень суровая зима. Снежная. – Идет снег? – спросил Реми. – В Италии? – не поверил Борис. – Да-да, у нас очень холодно зимой, зато летом очень жарко. Ведь от моря нас отгораживают горы. – А природа там красивая? – спросил Реми. – Восхитительная, дорогой Мики! Грандиозная! Если бы ты только мог видеть! Равнины и горы, долину Стура… И взгляд его полуприкрытых глаз устремился куда-то вдаль. – Если бы я знал, – сказал Бебе Десоль, – ведь я не раз был в Италии с Ровлинсон, – обязательно посетил бы ваши края… Нино вдруг спохватился, что ему еще надо обежать много мест, и заторопился. Друзья ему пообещали, что завтра вечером приедут на вокзал с ним проститься. Он ушел. Мальчики, задумавшись, не двигались со своих мест. Полуголые, стоя с опущенными руками, все пятеро не отрывали взгляда от двери, за которой скрылся Нино. Бебе Десоль даже не проводил его до порога. Манери громко вздохнул, чем вывел друзей из оцепенения. Слегка смущенные, они взглянули друг на друга. Реми отвернулся. Ему было трудно сдержать улыбку. – Когда я был маленьким, – произнес Бебе Десоль, – родители отвозили меня каждый год на четыре месяца в Берри, где у них был небольшой замок. – А я, – сказал Борис, – до сих пор вспоминаю огромные владения моей матери в Крыму. – А меня, – вторил им Манери, – возили на Сену и Марну. – Хватит! – воскликнул Бруно.– За работу! А так как его подопечные вовсе не торопились исполнять его команду, он повторил: – Ладно, работа закончена, перейдем к массажу. Начнем с вас, господин Борис… Господин Борис? – Что?.. Ах! Да…– произнес Борис. Он не спеша снял трусы и вытянулся на кушетке. – Господин Аулу, – сказал Бруно, приступая к массажу среди всеобщей тишины, – наденьте боксерские перчатки: господин Бебе отработает с вами удар. Пекер и Десоль заняли боксерскую стойку. – А вы, господин Жожо, возьмите скакалку в руки. Господин Реми, садитесь за тренажер. Проведя детство в Париже, Пекеру было не с чем сравнивать городскую жизнь, у него не было деревни его детства, о которой он бы мог вспоминать. – Что меня больше всего поражает, – неожиданно произнес он, отражая удар, – это история с шелкопрядом. – Эй вы там, – воскликнул Бруно, следивший сразу за всеми приятелями со своего возвышения, – с каких это пор в боксе стали разговаривать? Если вы будете продолжать, у вас появится возможность полюбоваться фонарем, который вам поставит господин Бебе! Господин Аулу, думайте лучше о своих руках. Это для вас важнее, чем вопрос о шелкопряде. Не считая того, что вам не мешало бы укрепить также мышцы ног. Господин Борис, перевернитесь. Да, с вами не соскучишься! Вы хотите потрясать воображение дам своей фигурой? Так вот, для этого, как и во всем другом, надо как следует потрудиться. Вскоре мальчики забыли обо всем, кроме тренировки. Они боксировали, бегали, работали на тренажерах. И тон всему задавал Бруно, с силой шлепая по слегка разжиревшему телу Бориса. (обратно)

Последние комментарии
6 часов 59 минут назад
11 часов 19 минут назад
13 часов 6 минут назад
14 часов 19 минут назад
15 часов 25 минут назад
16 часов 34 минут назад